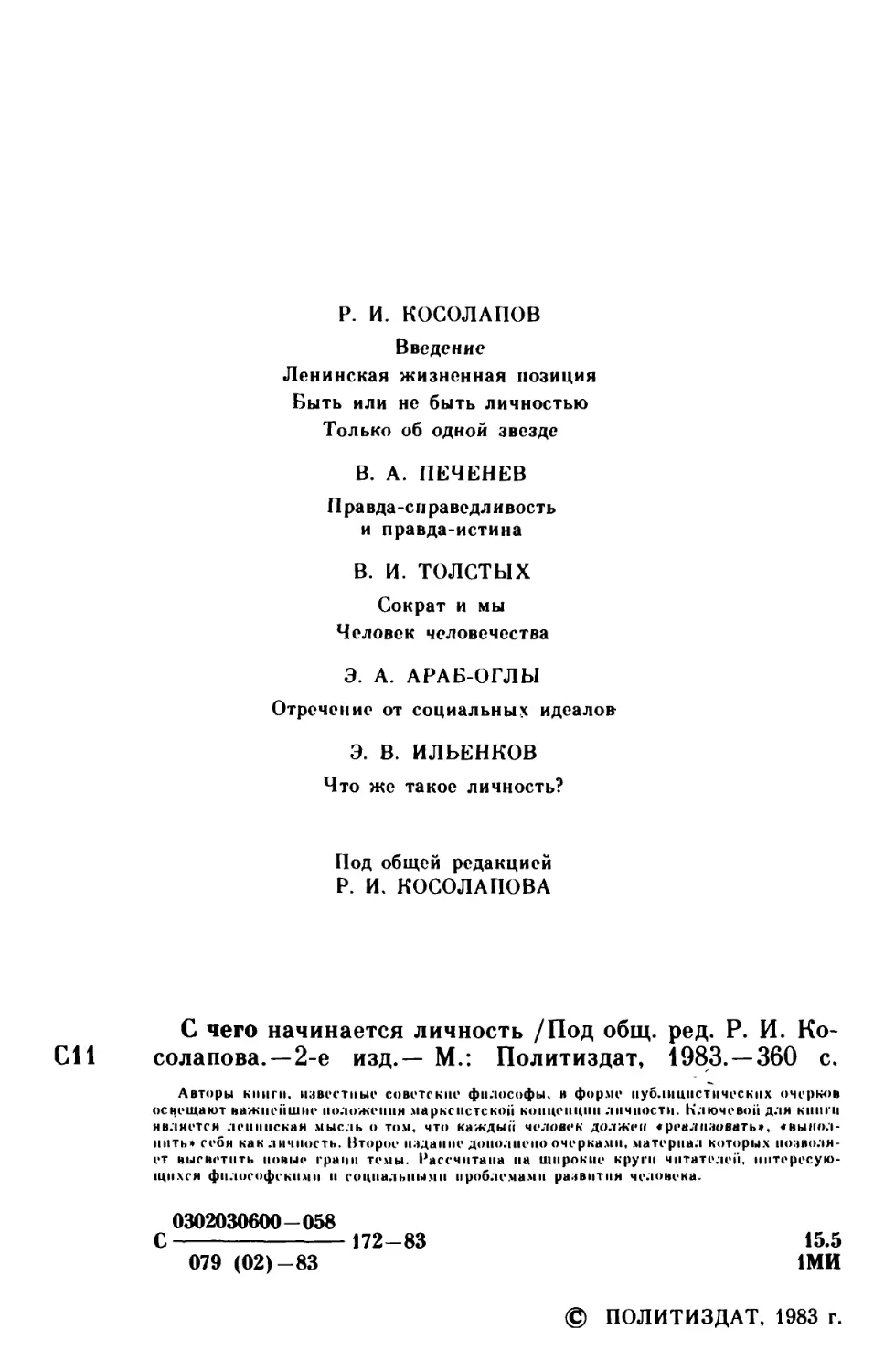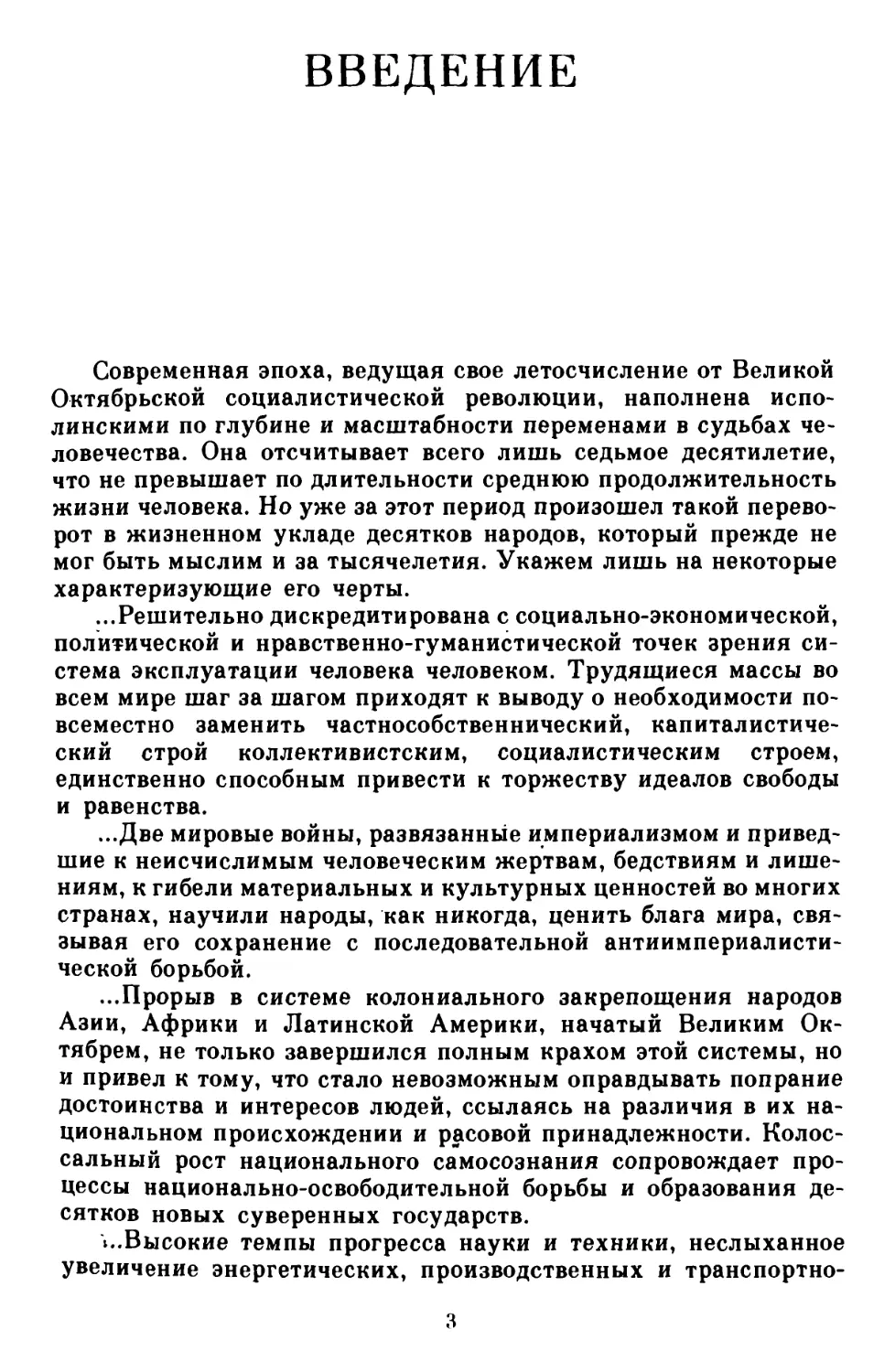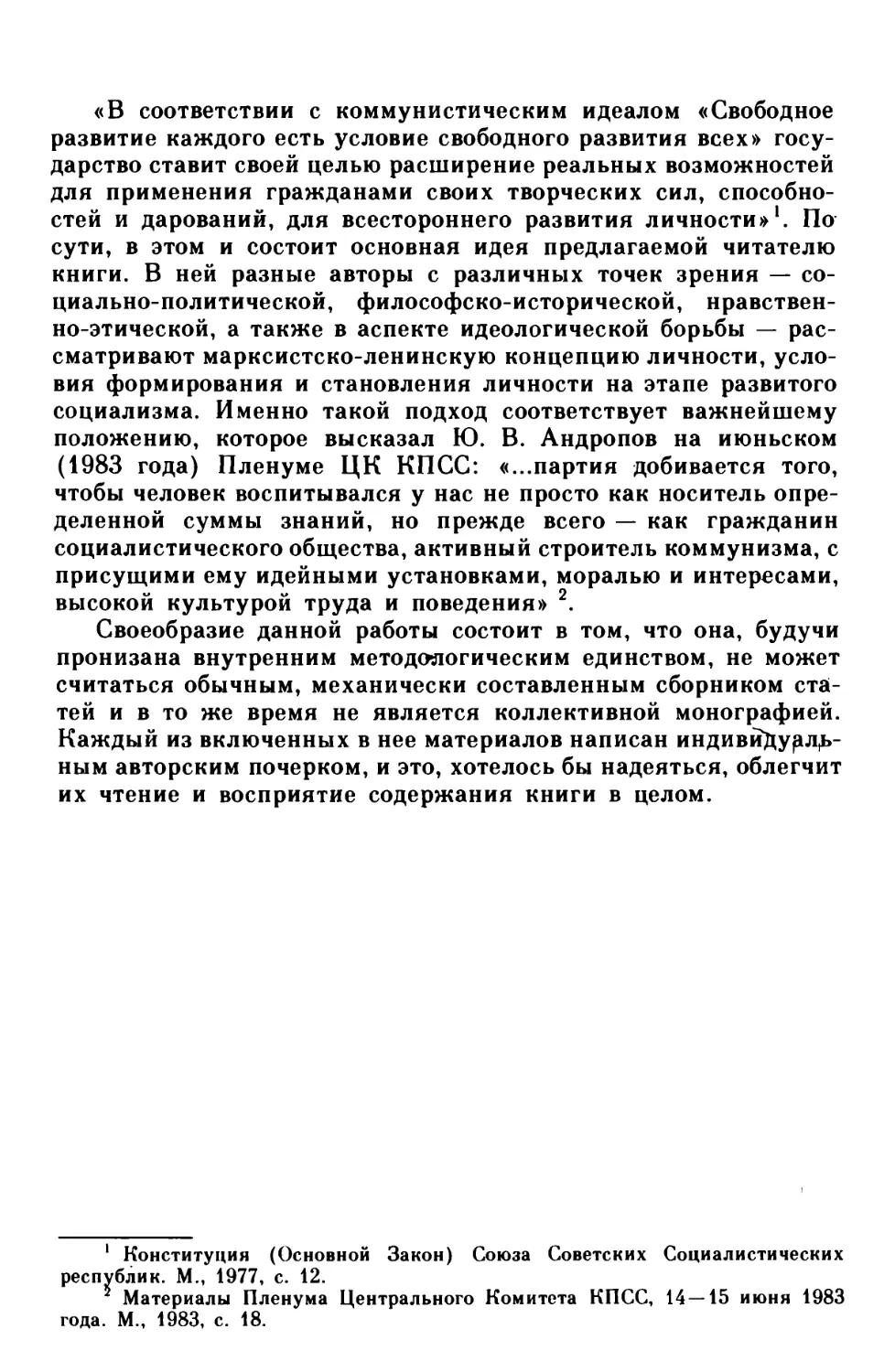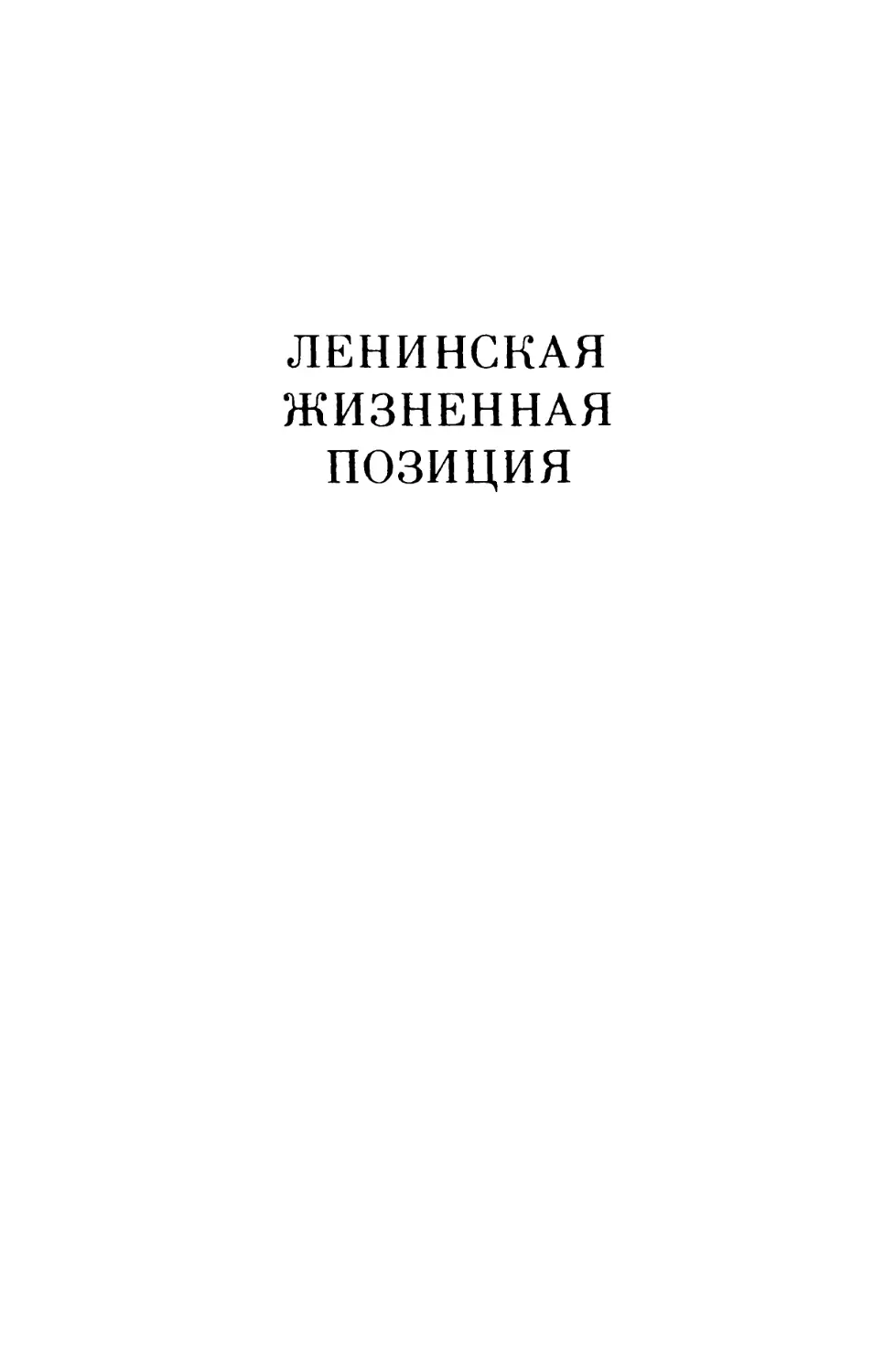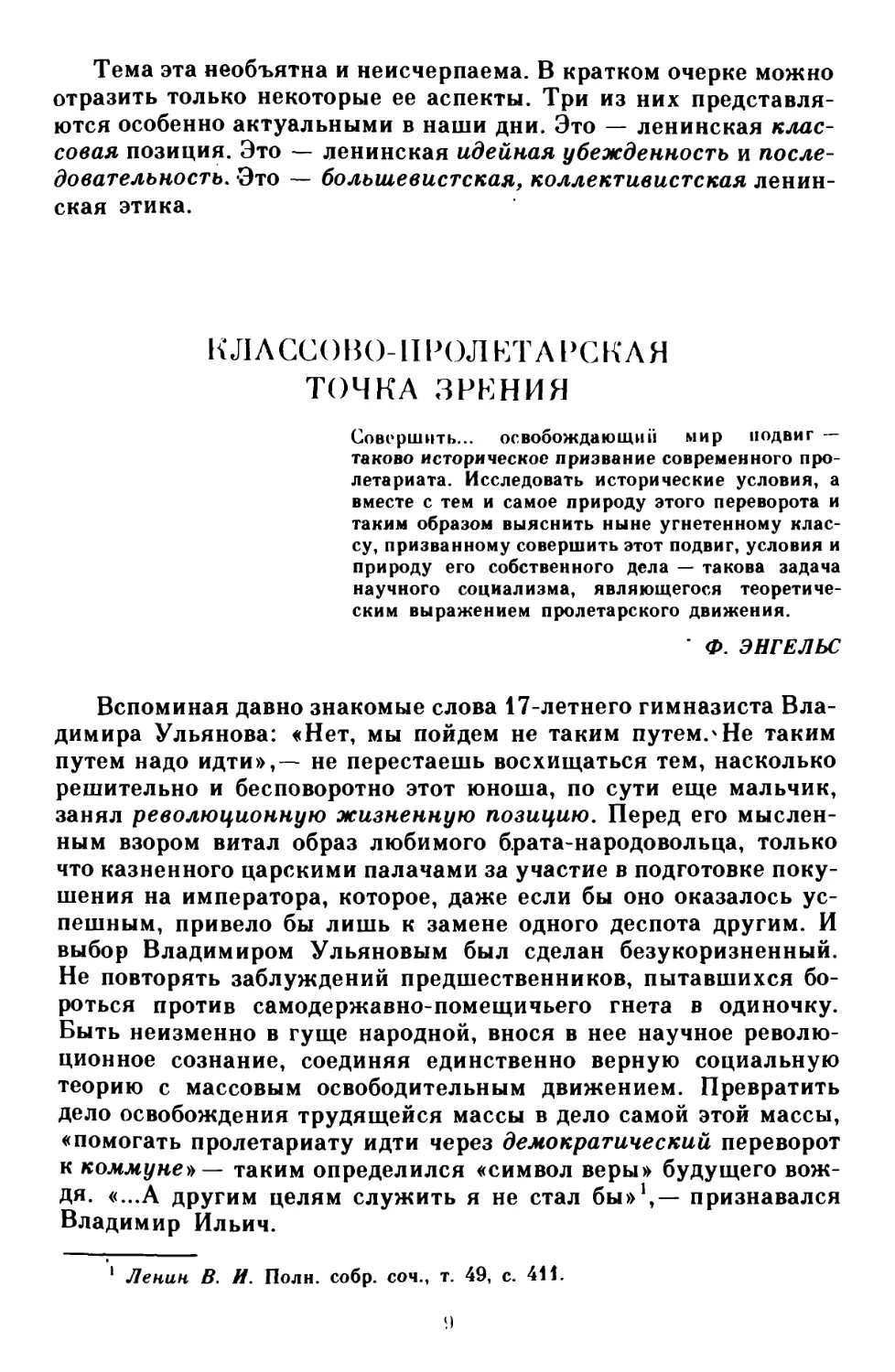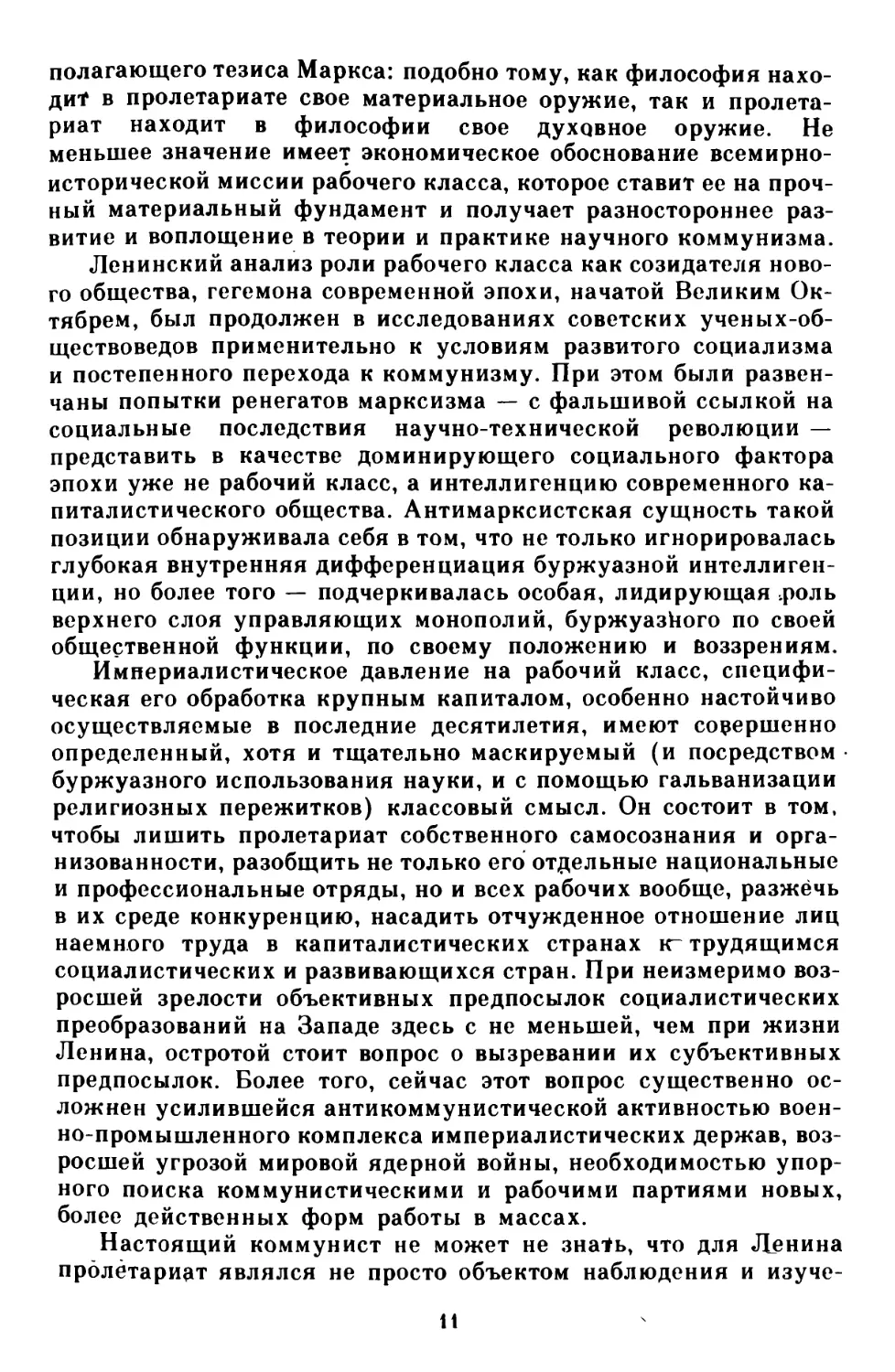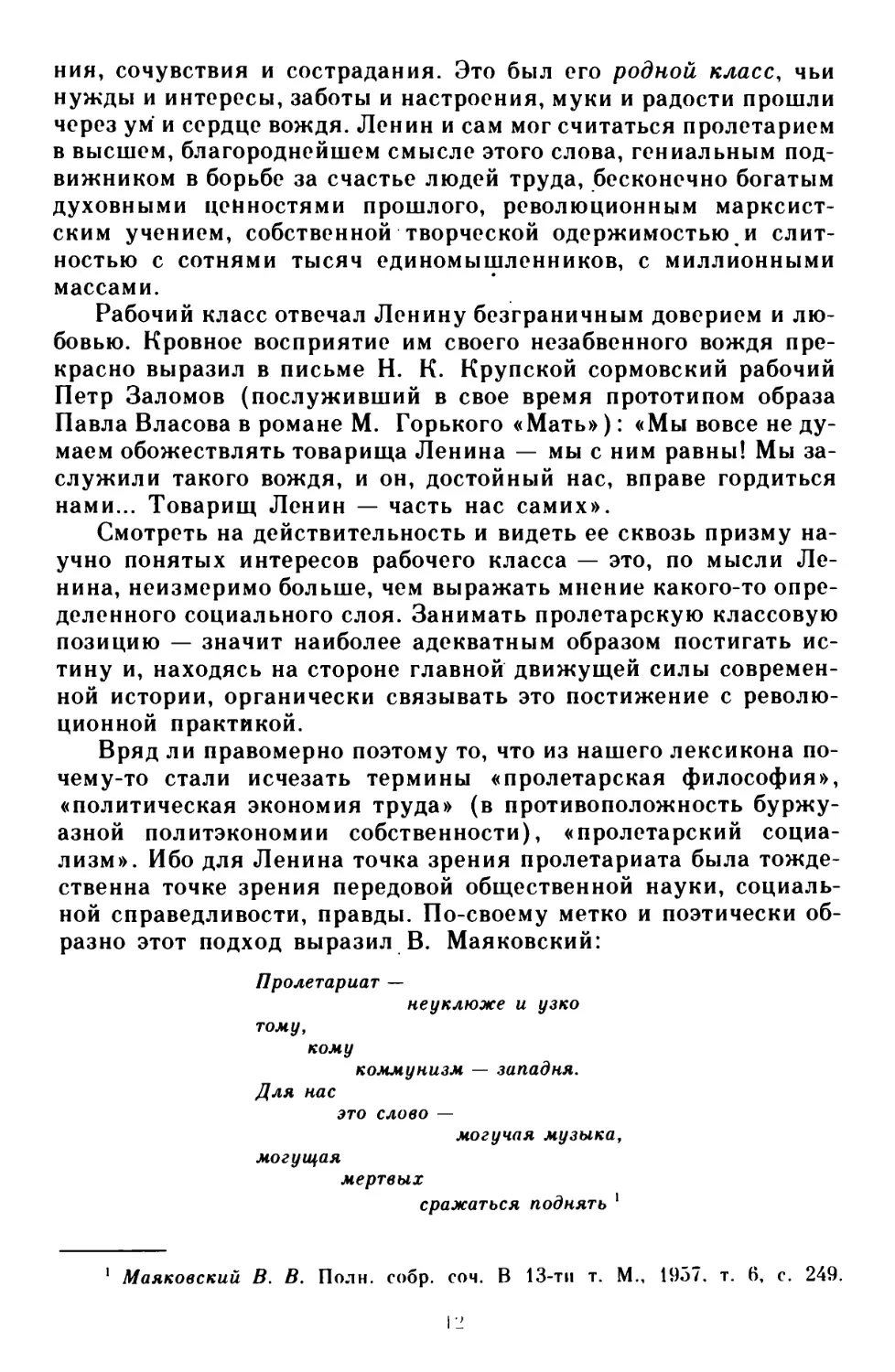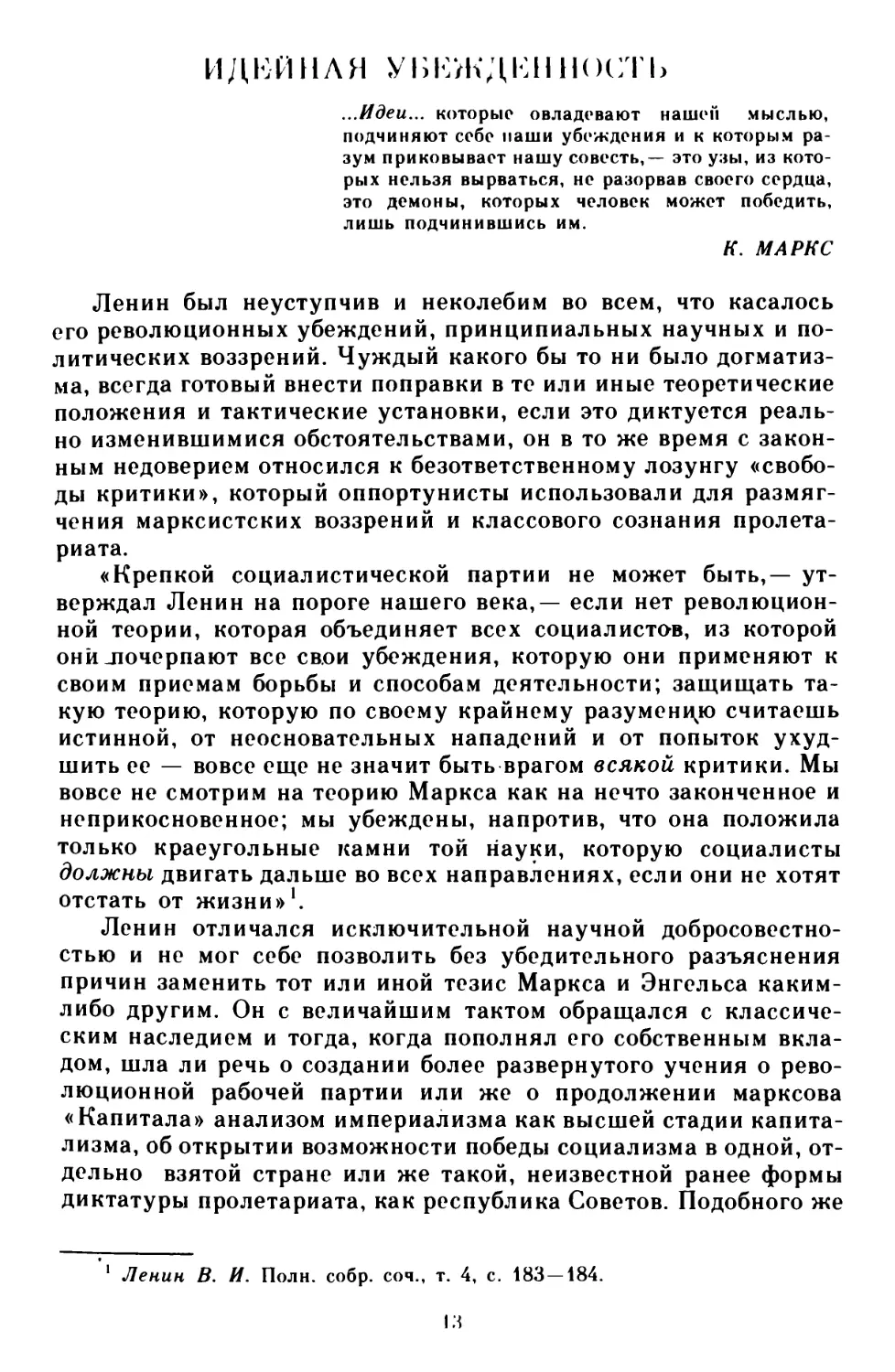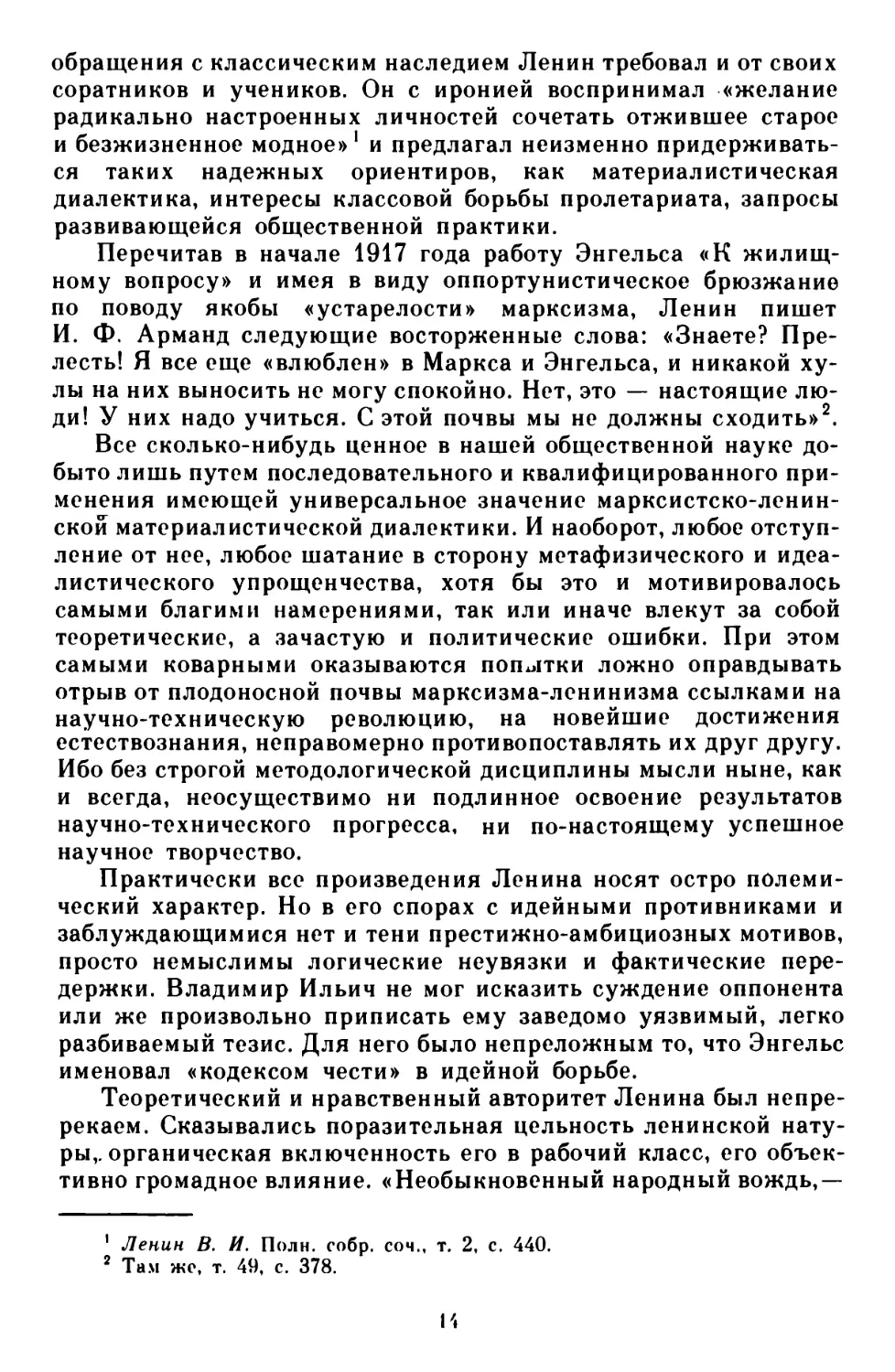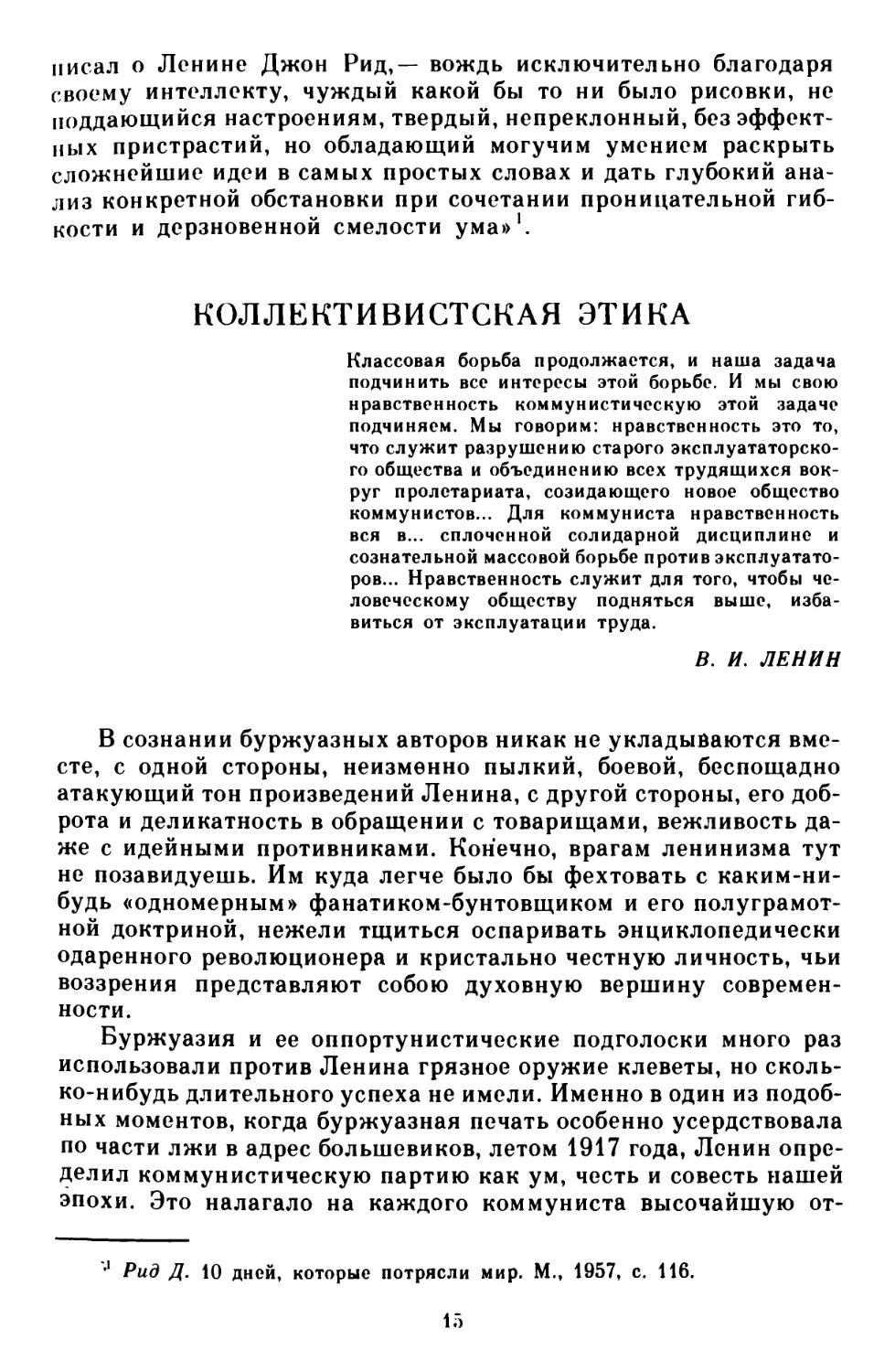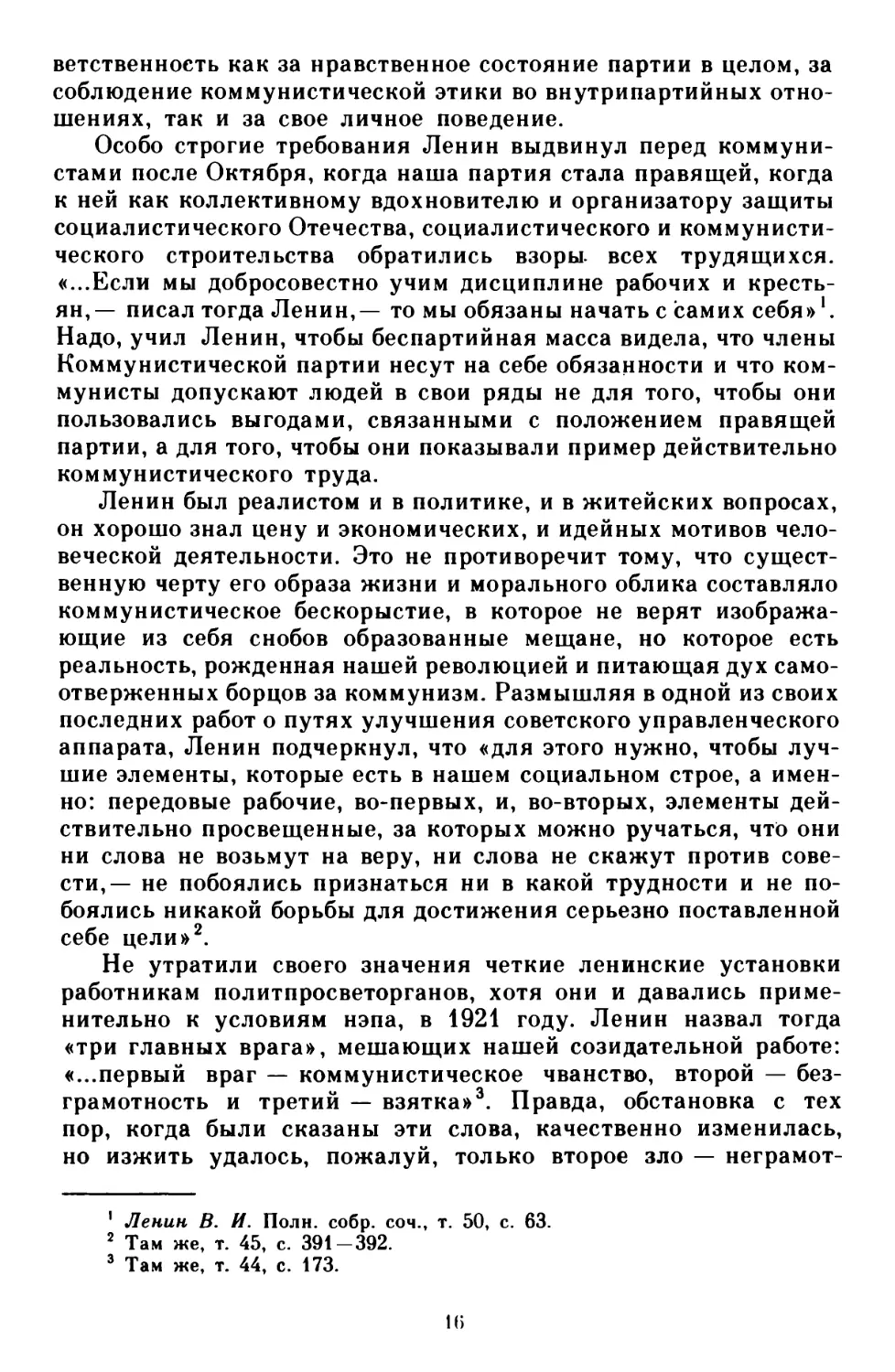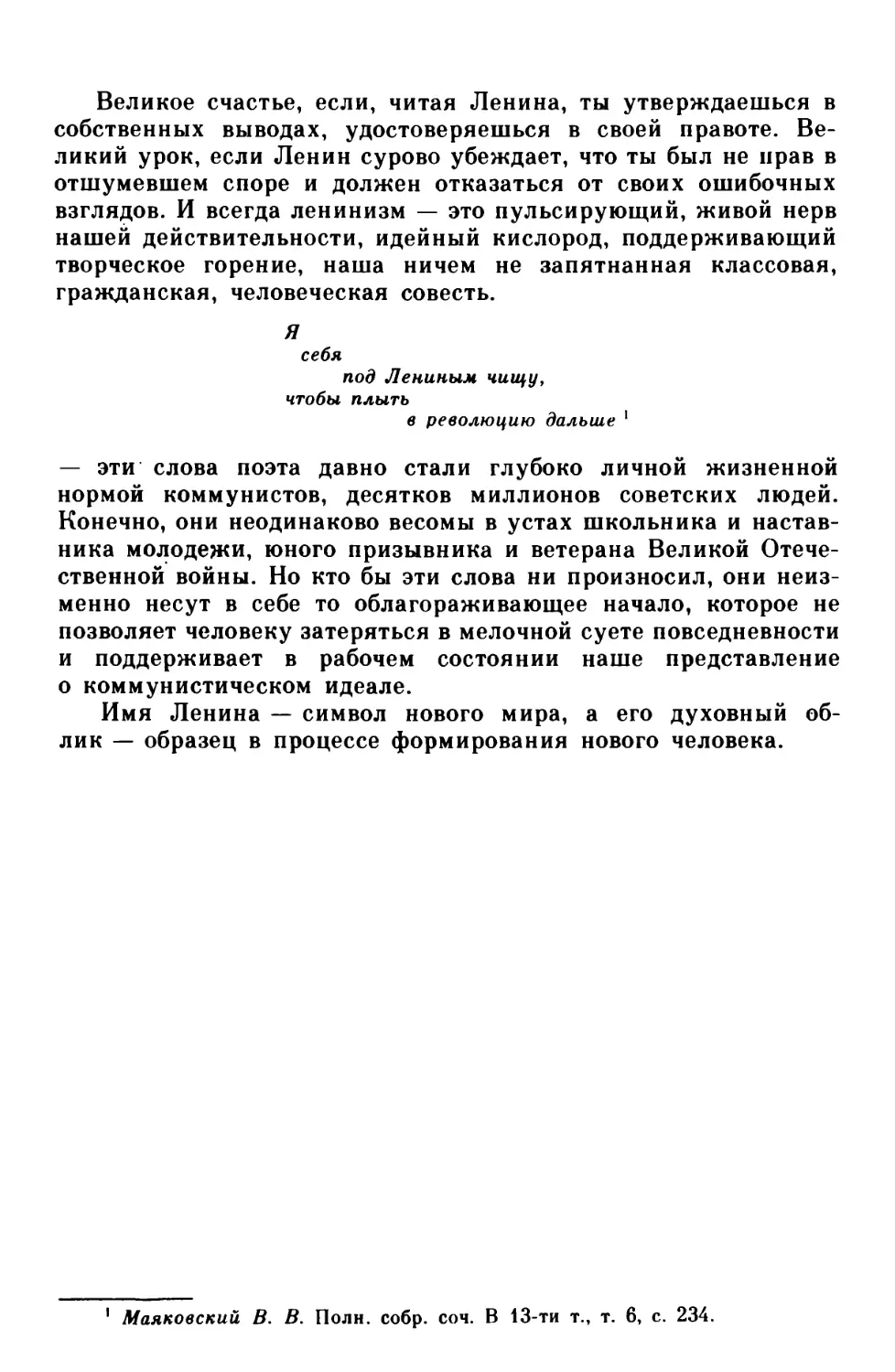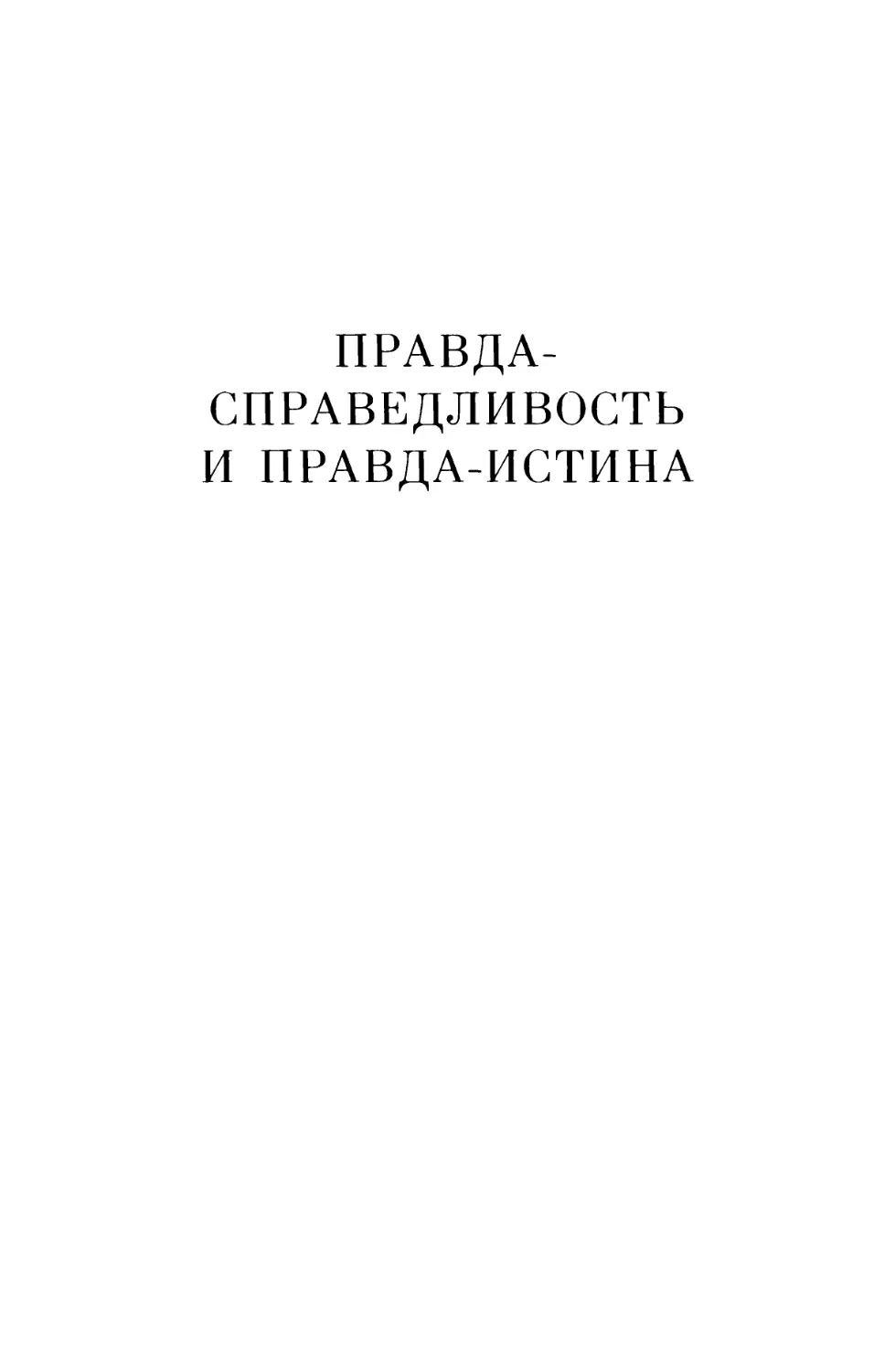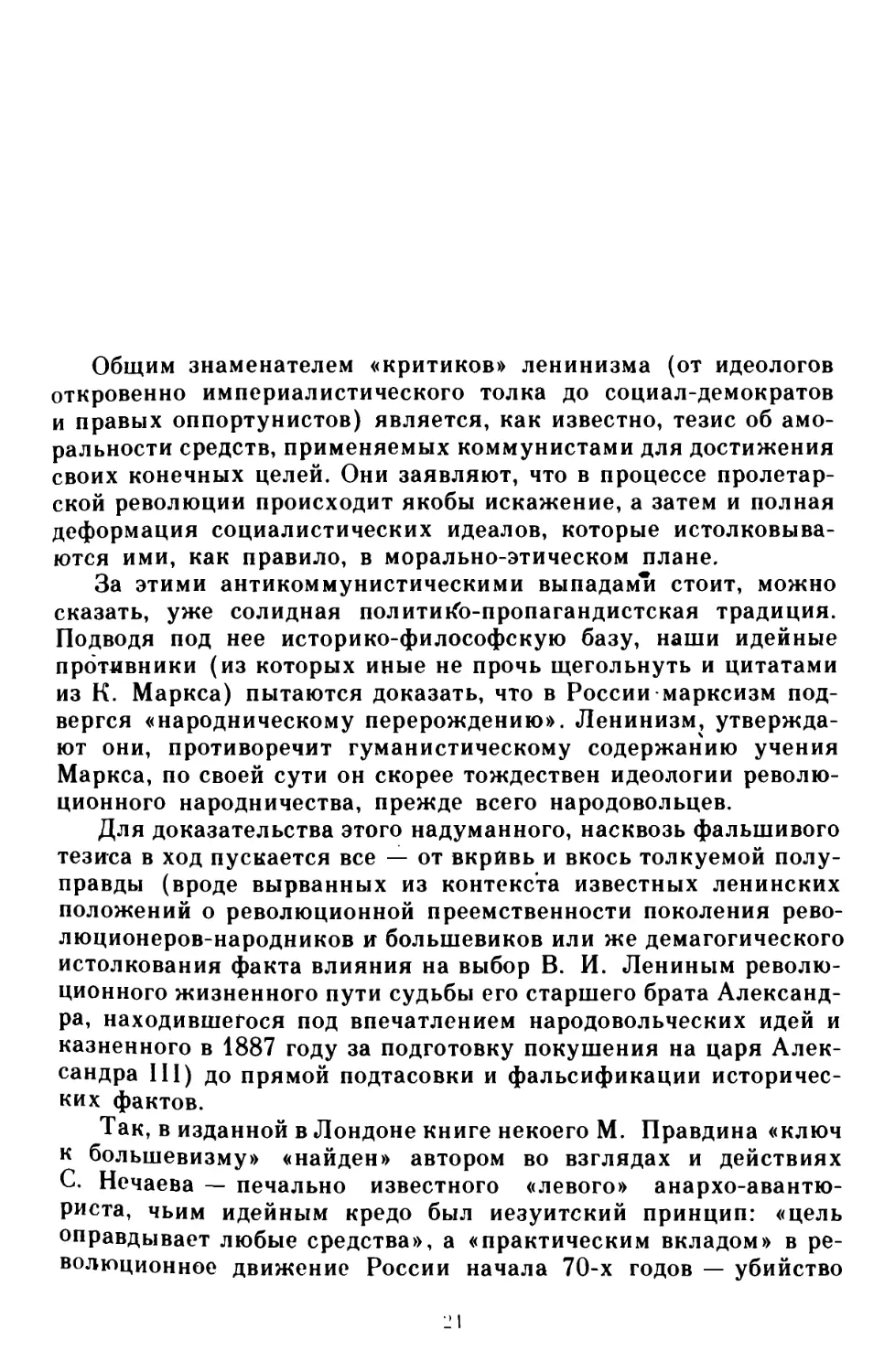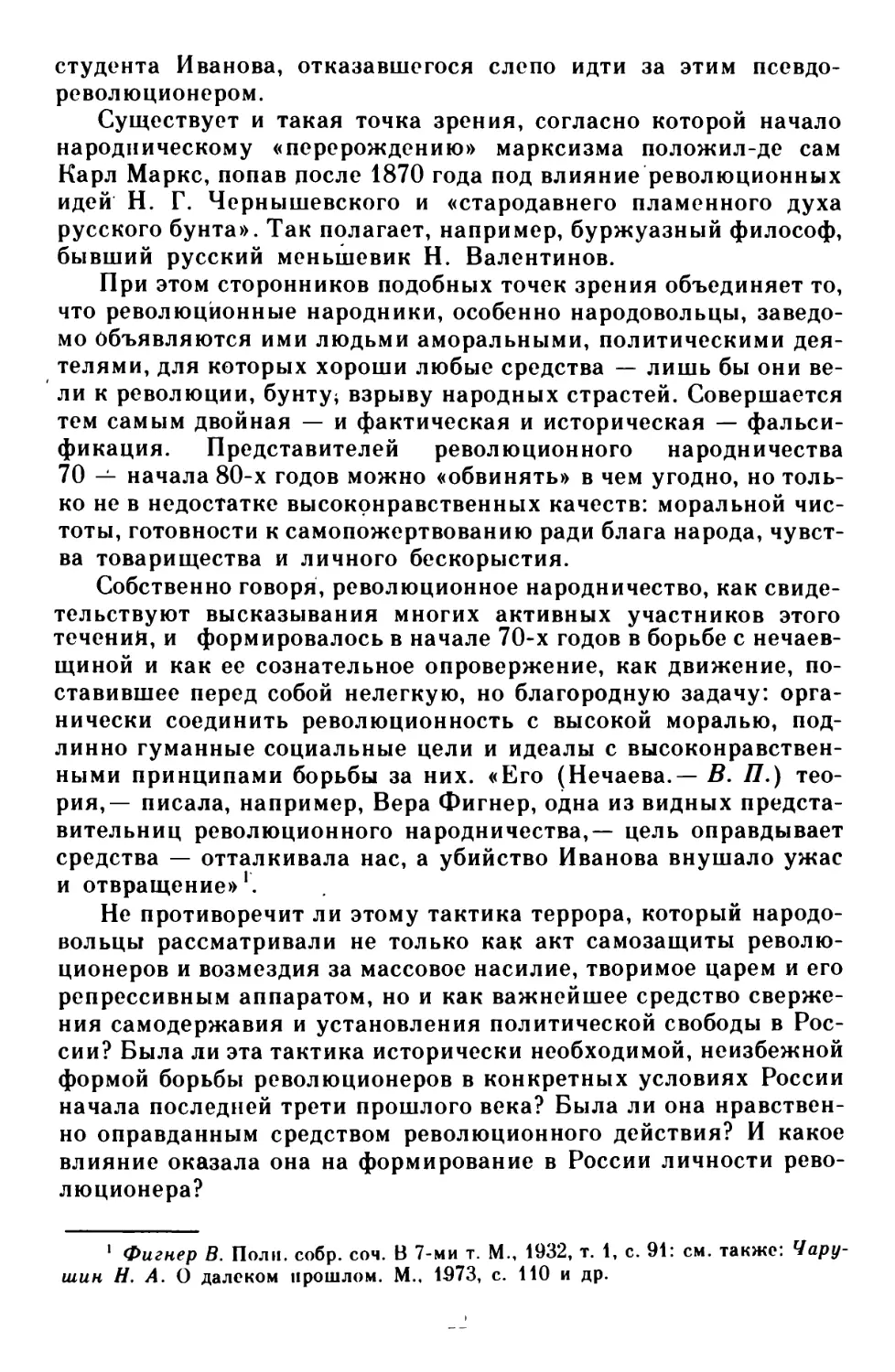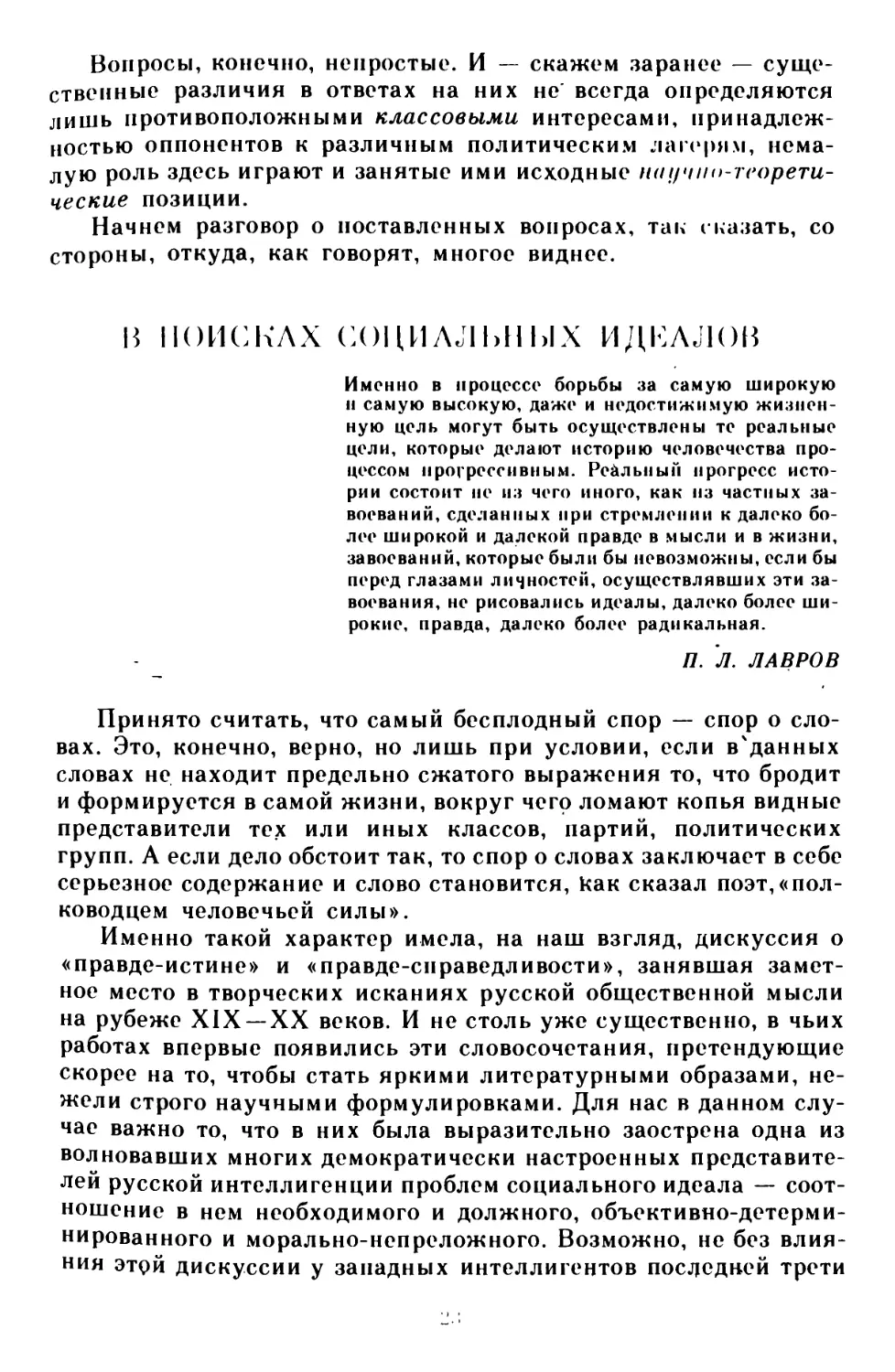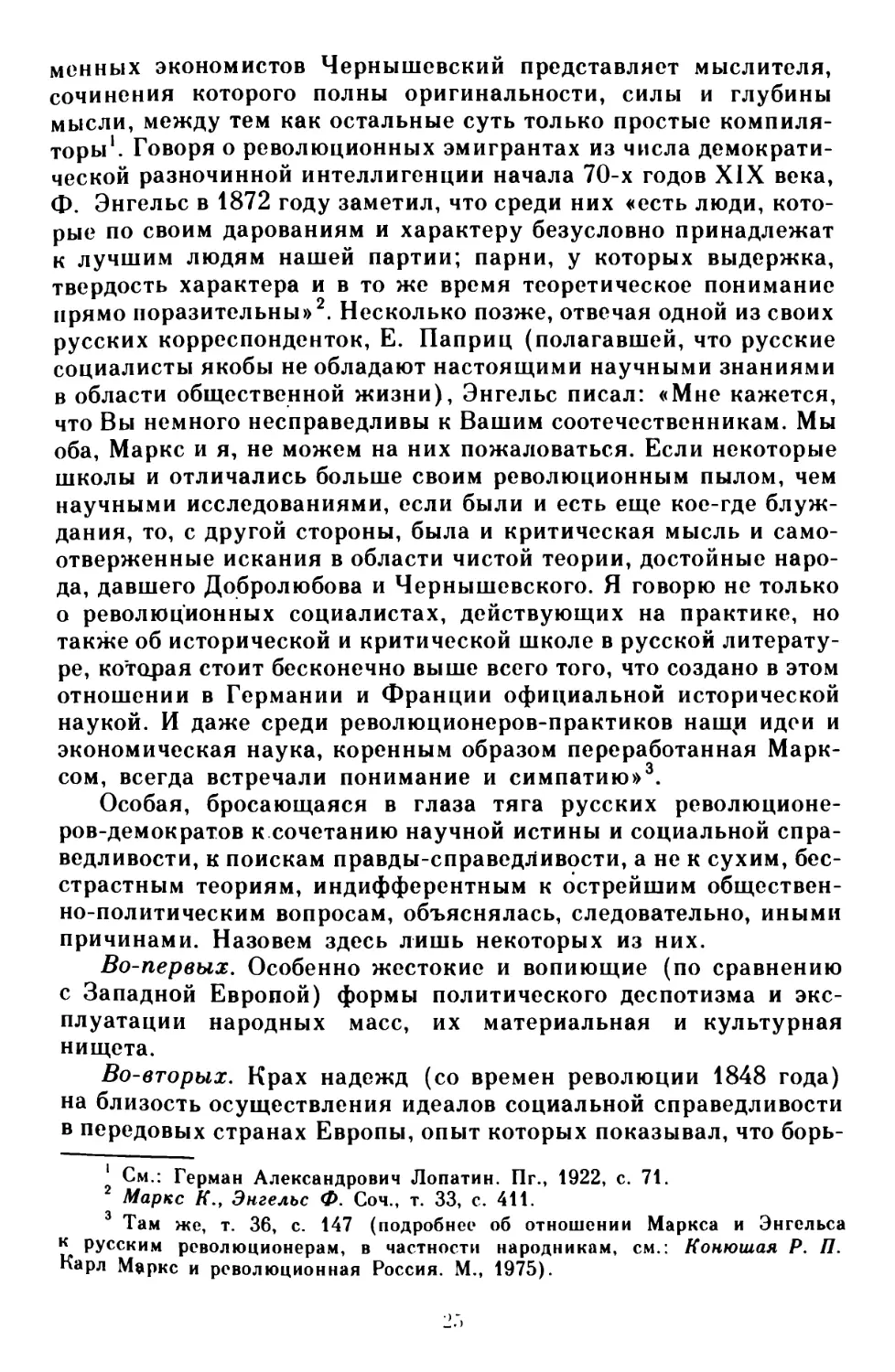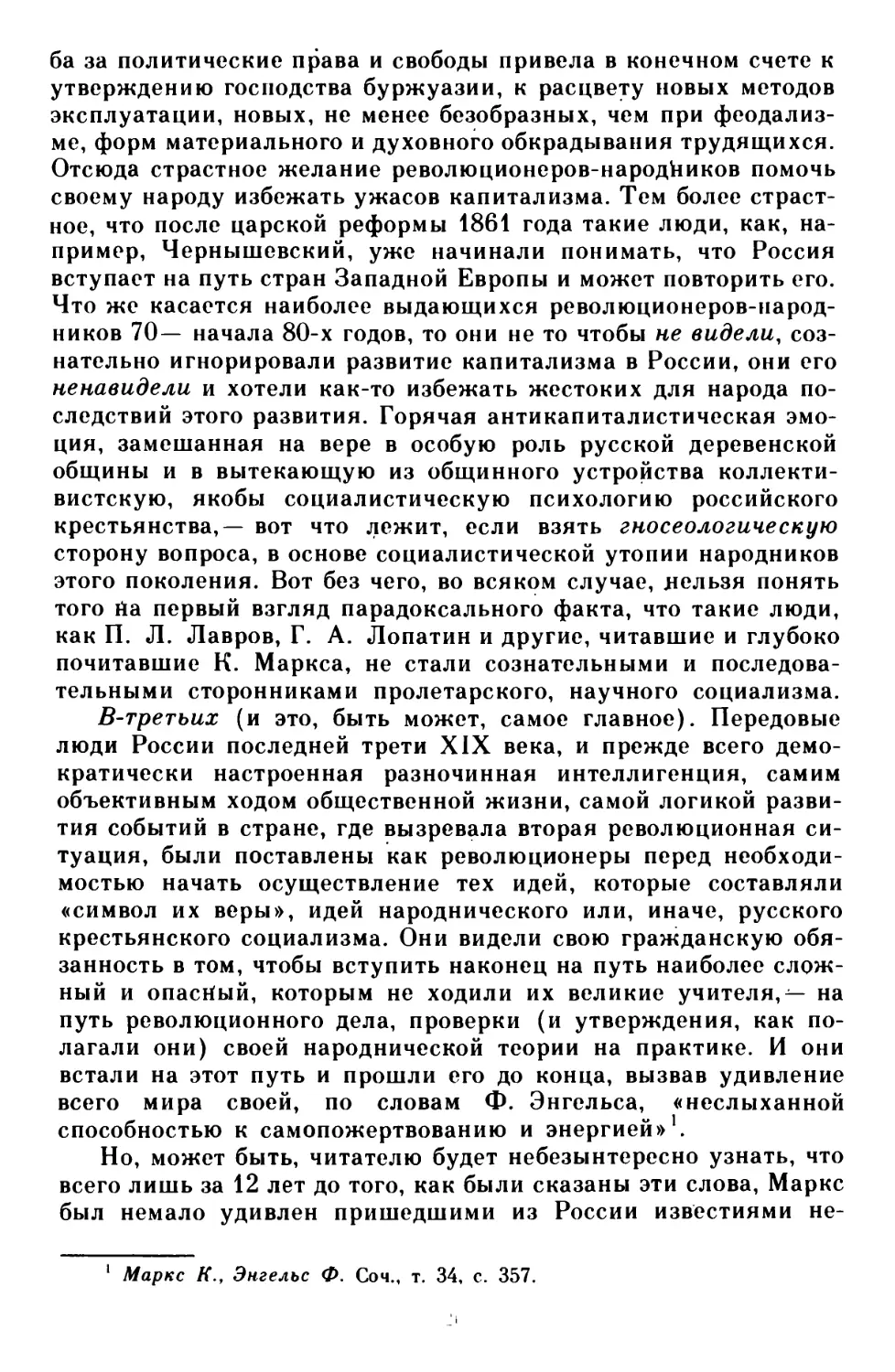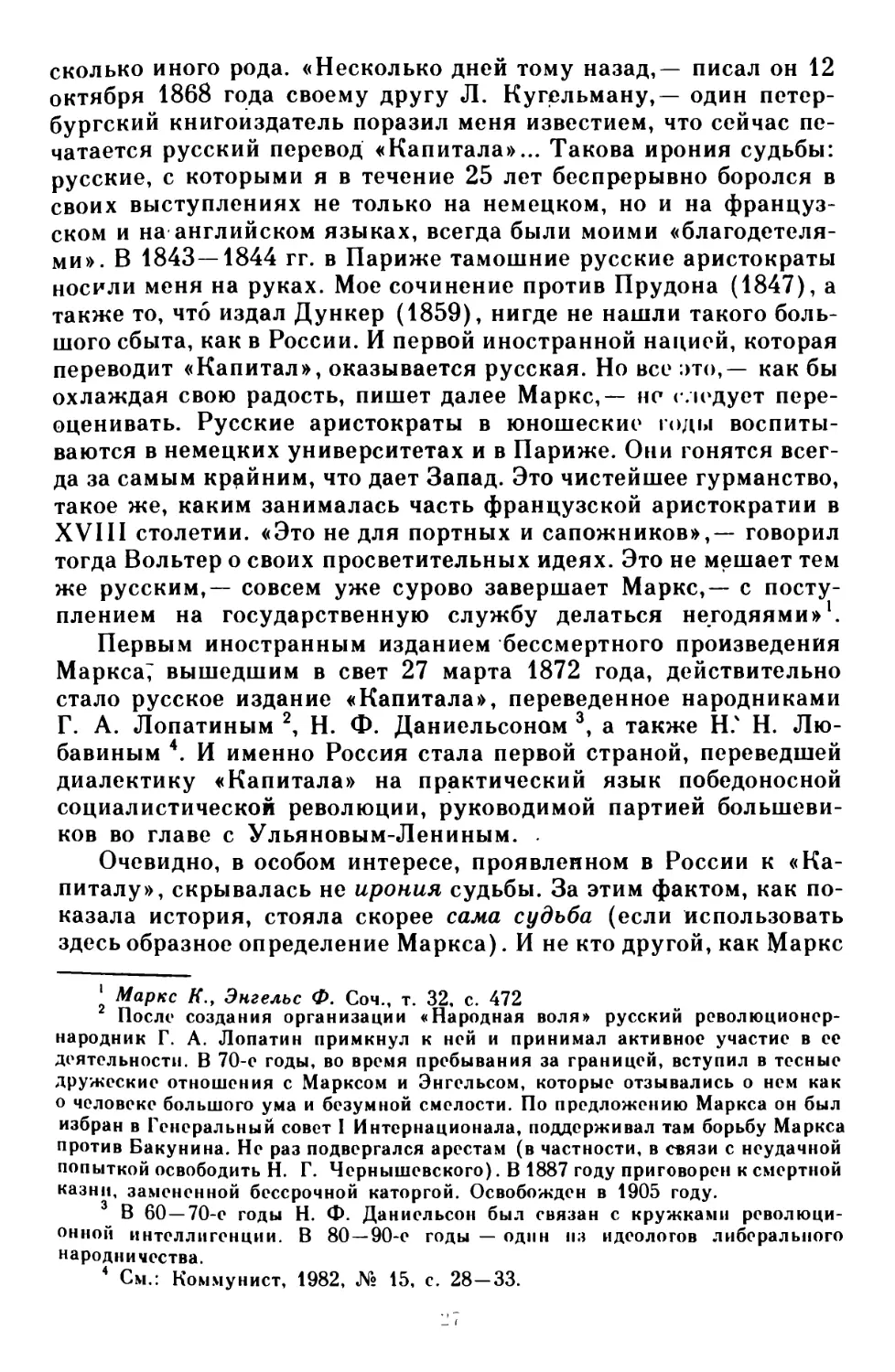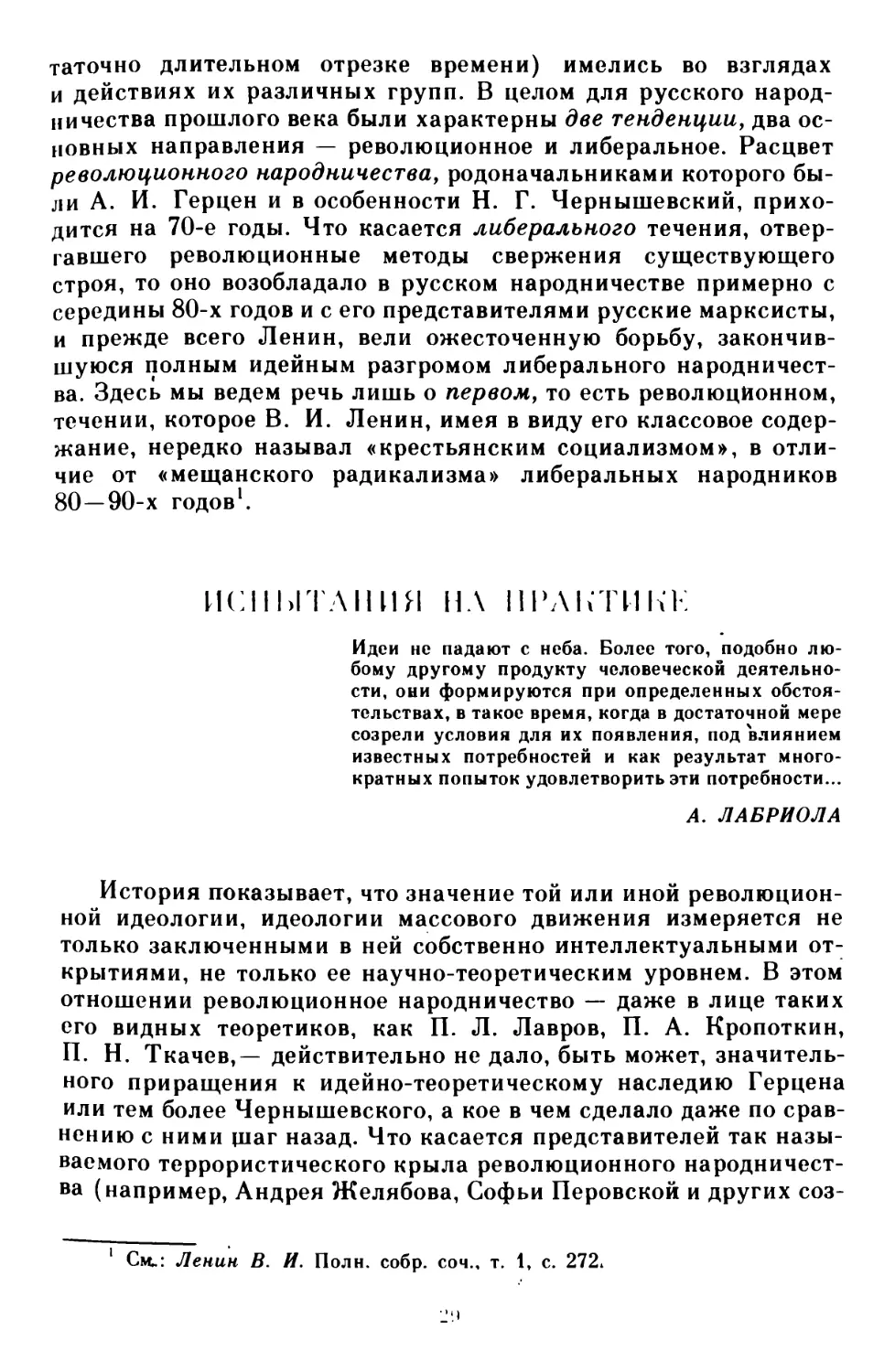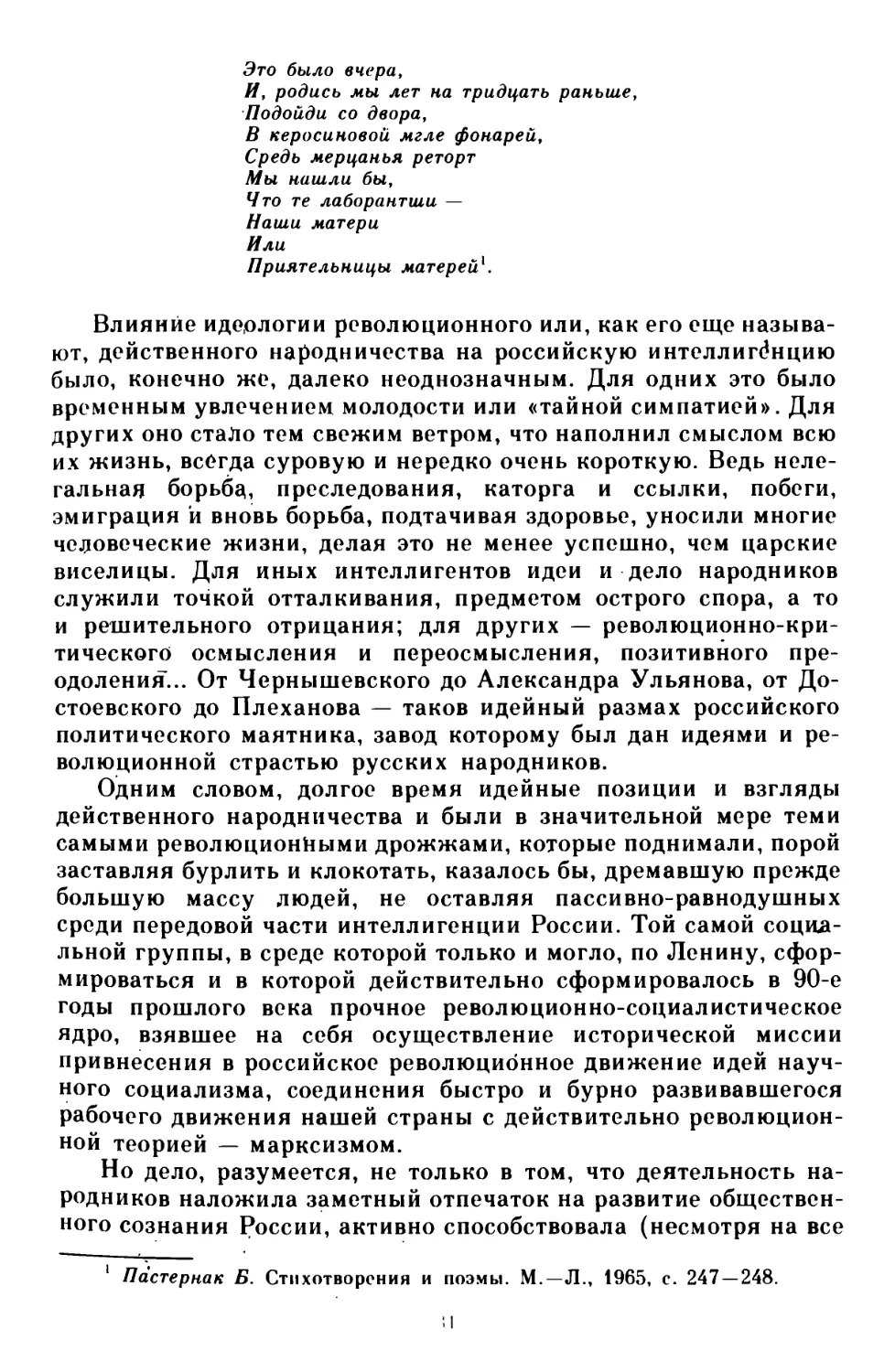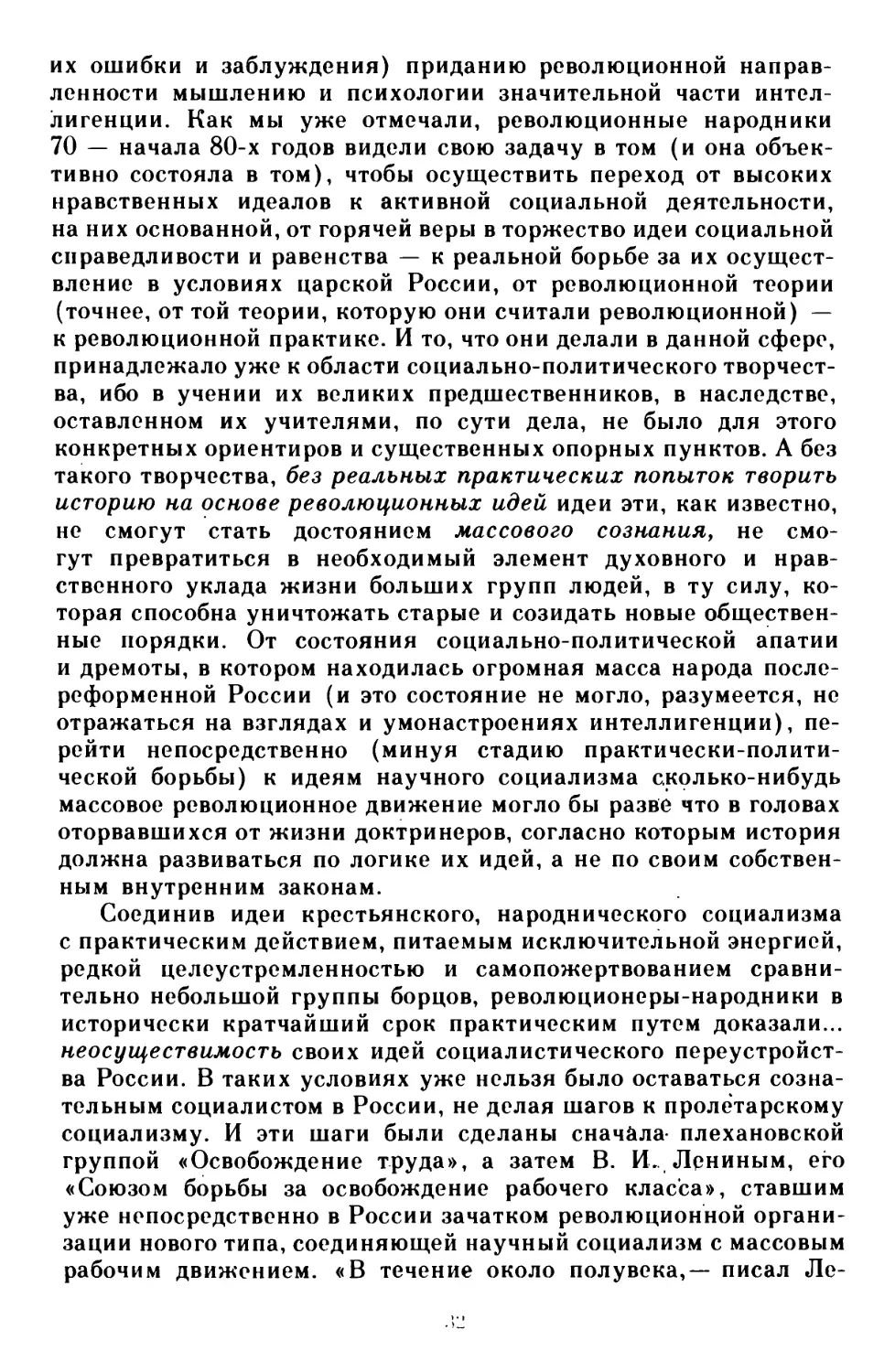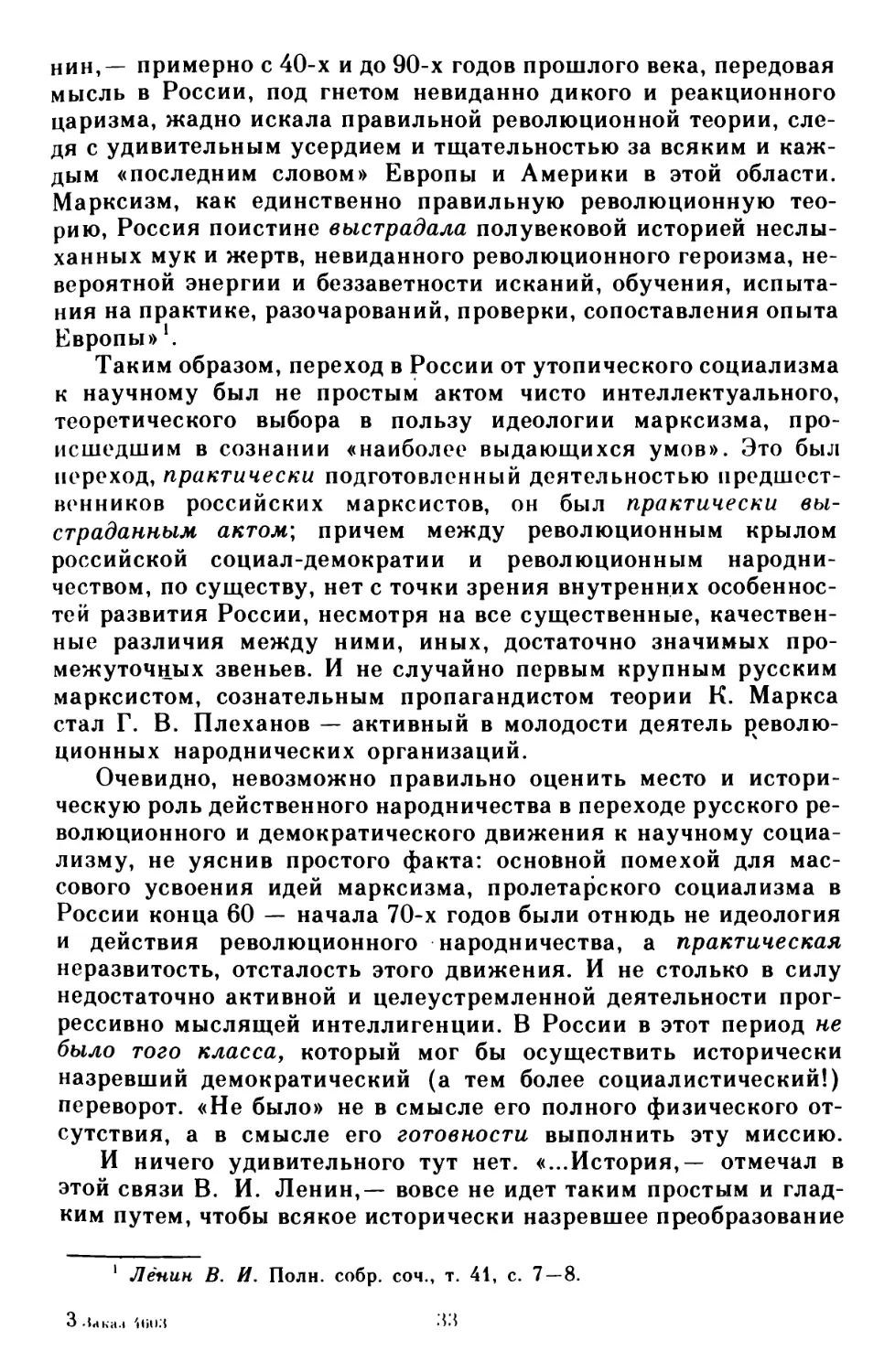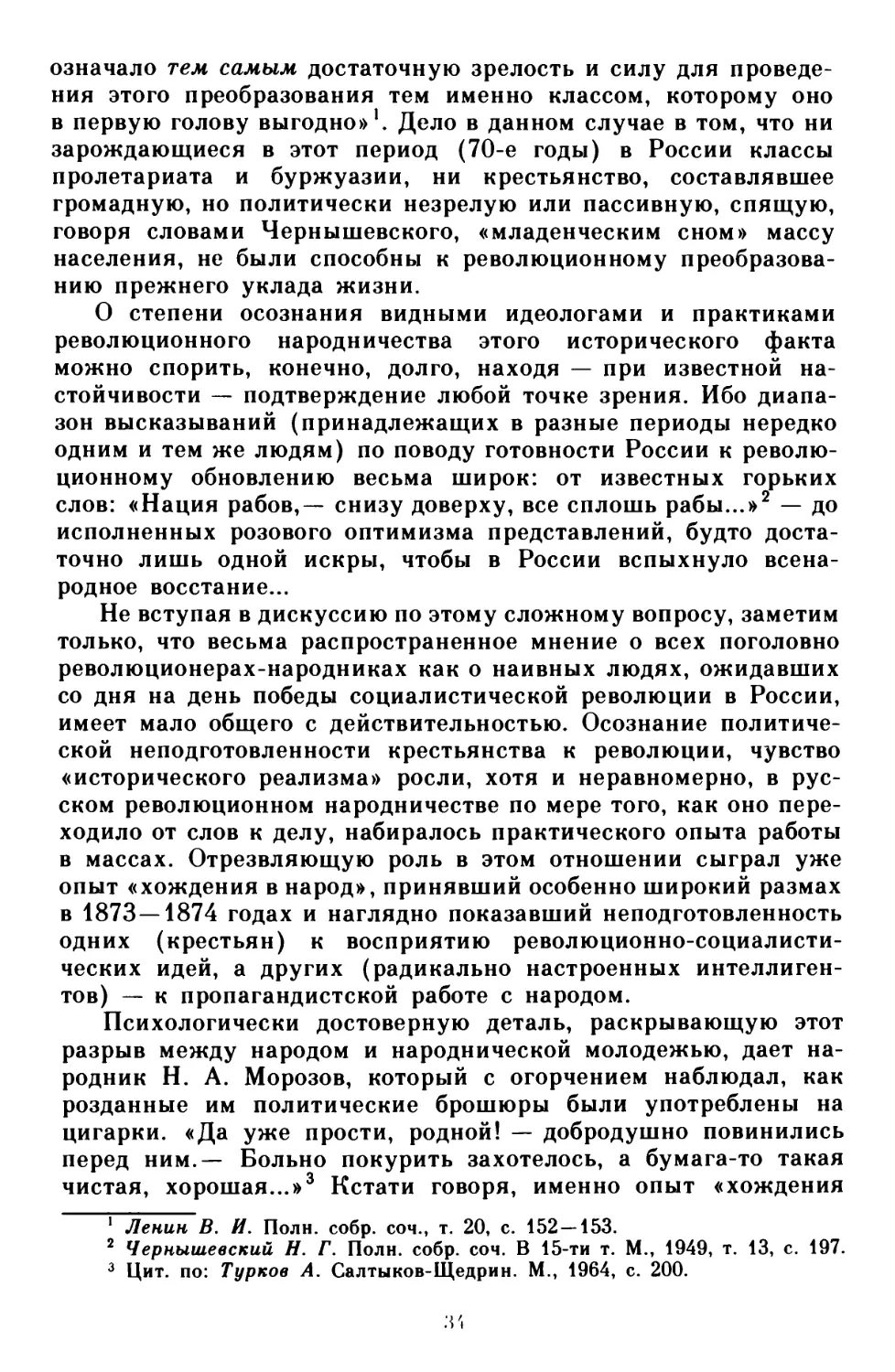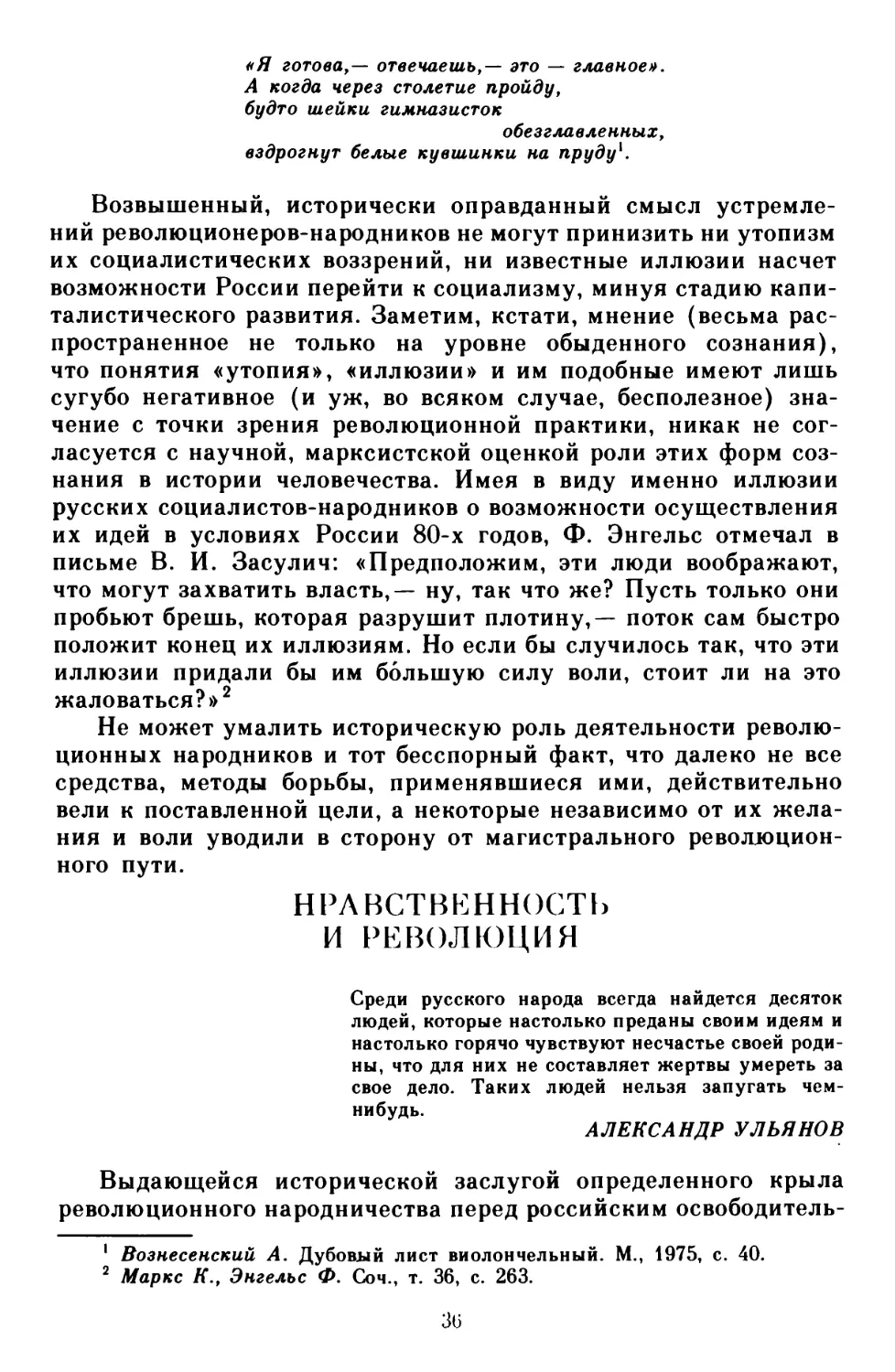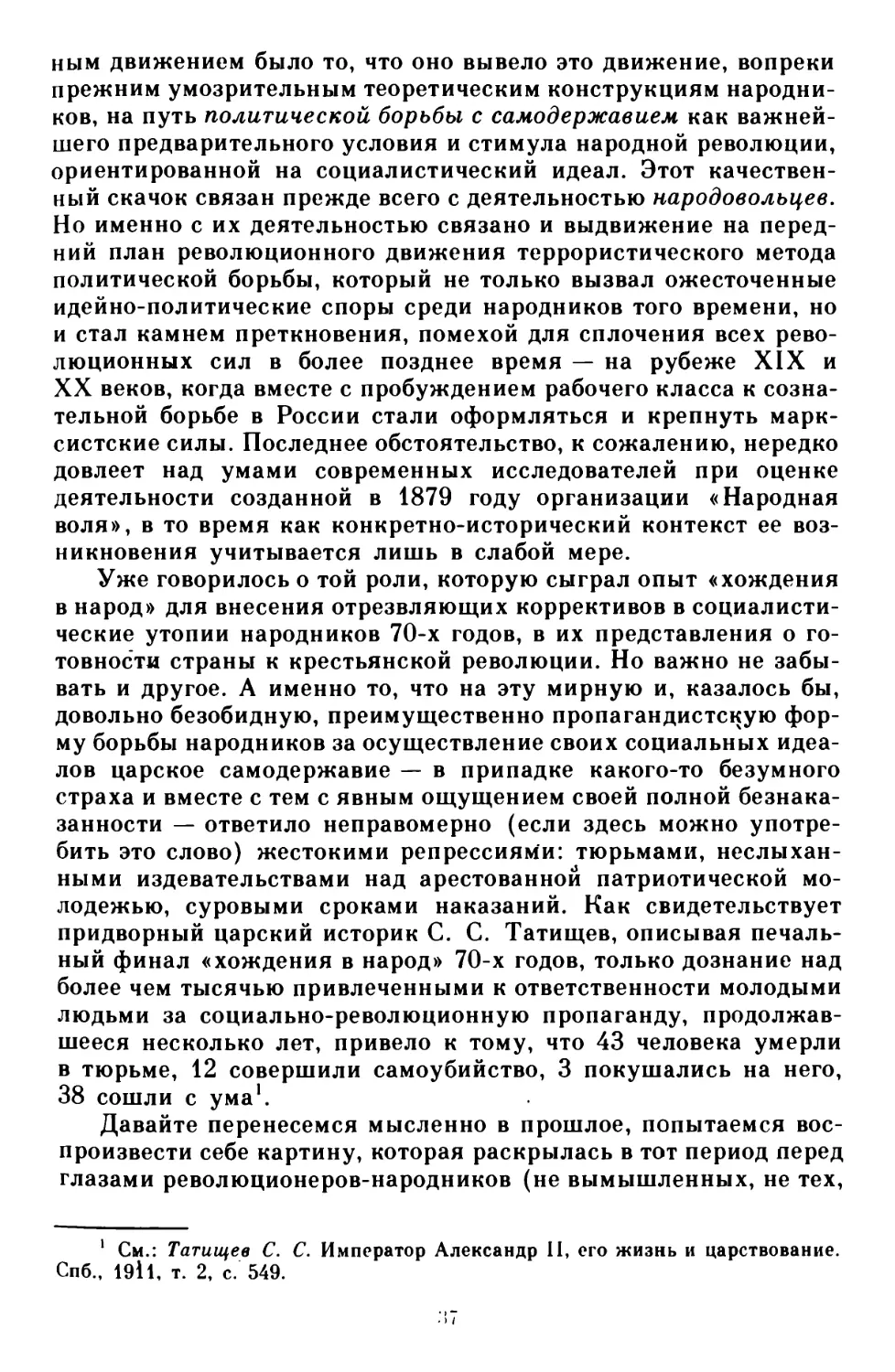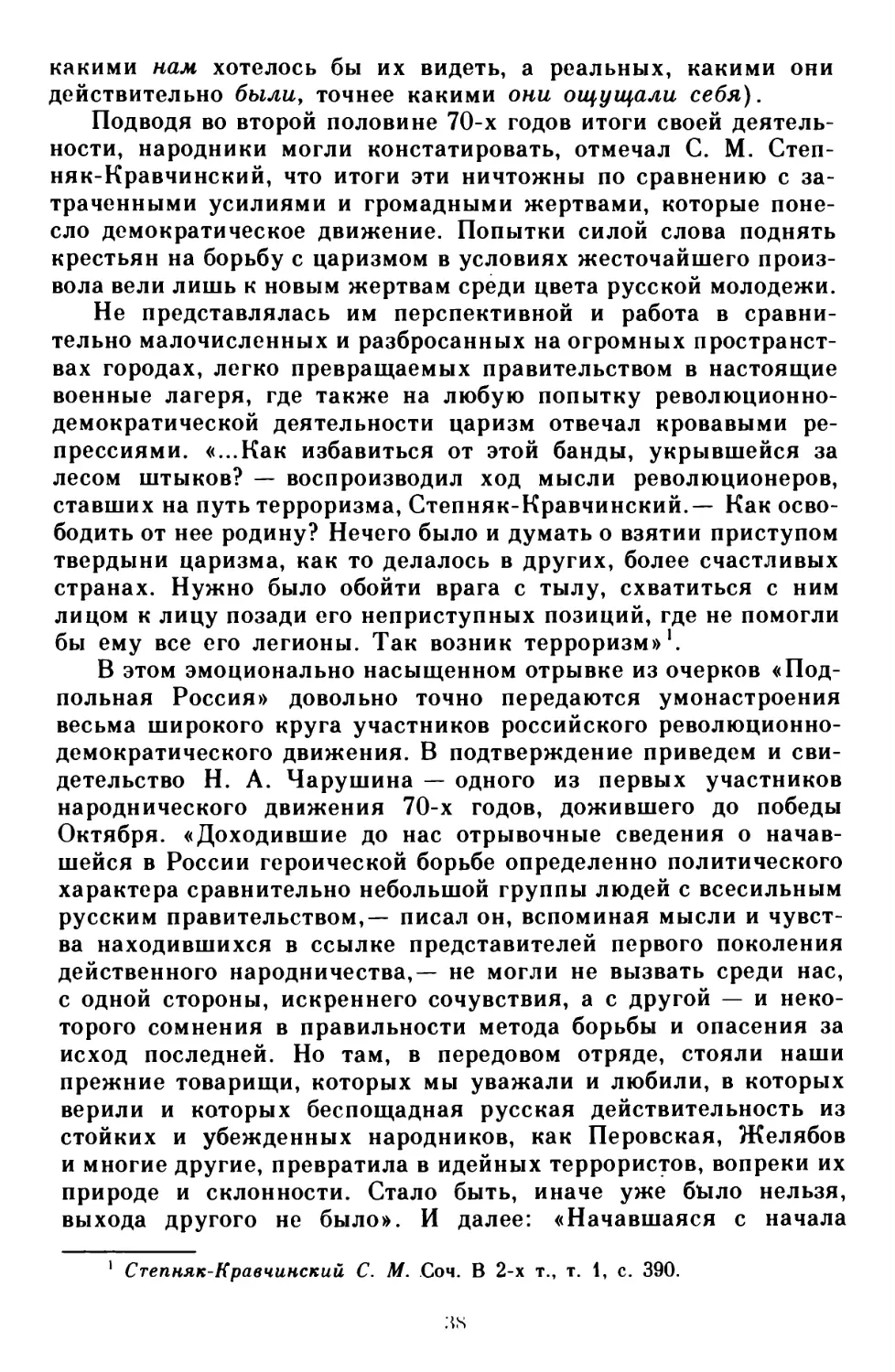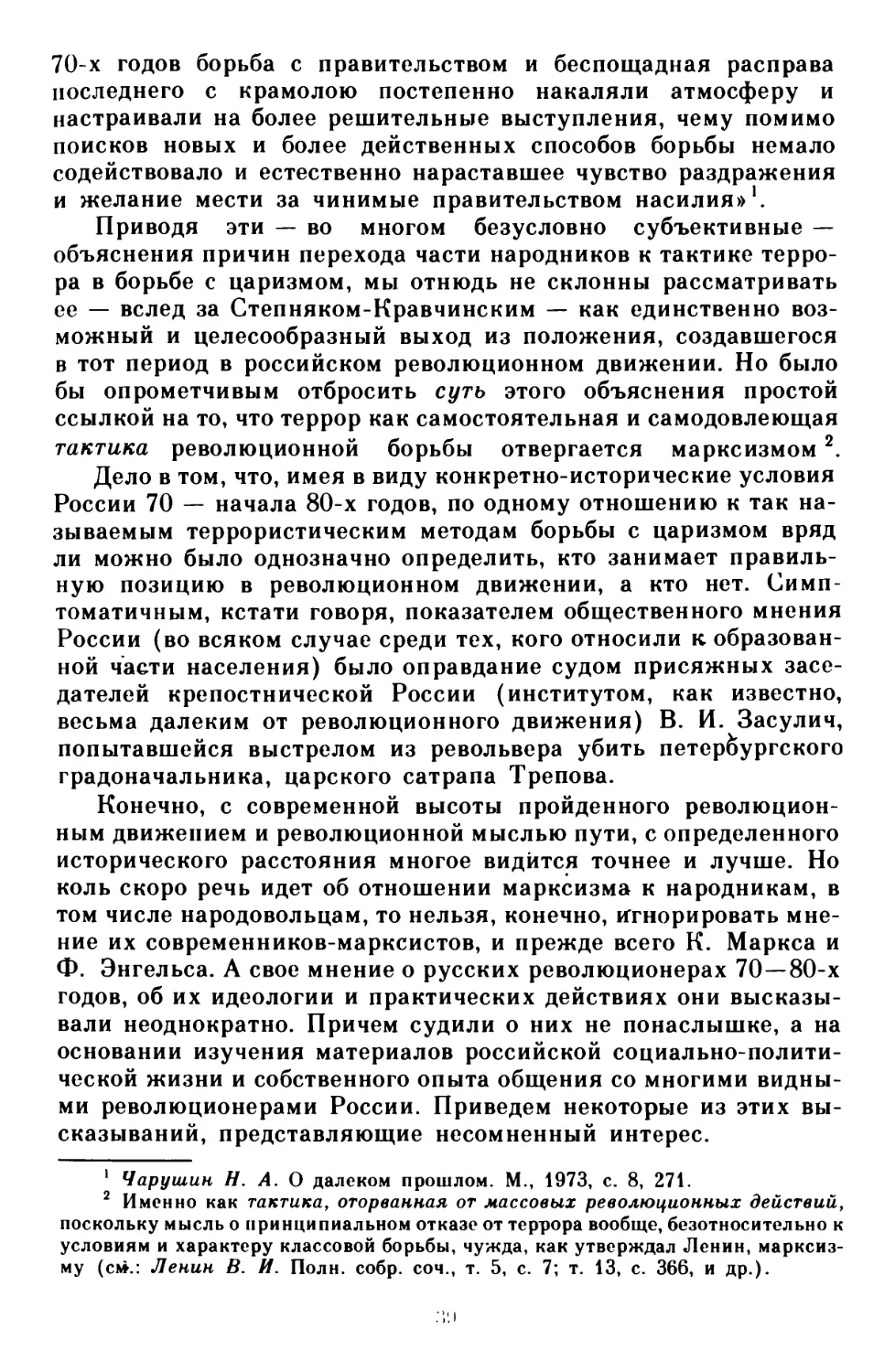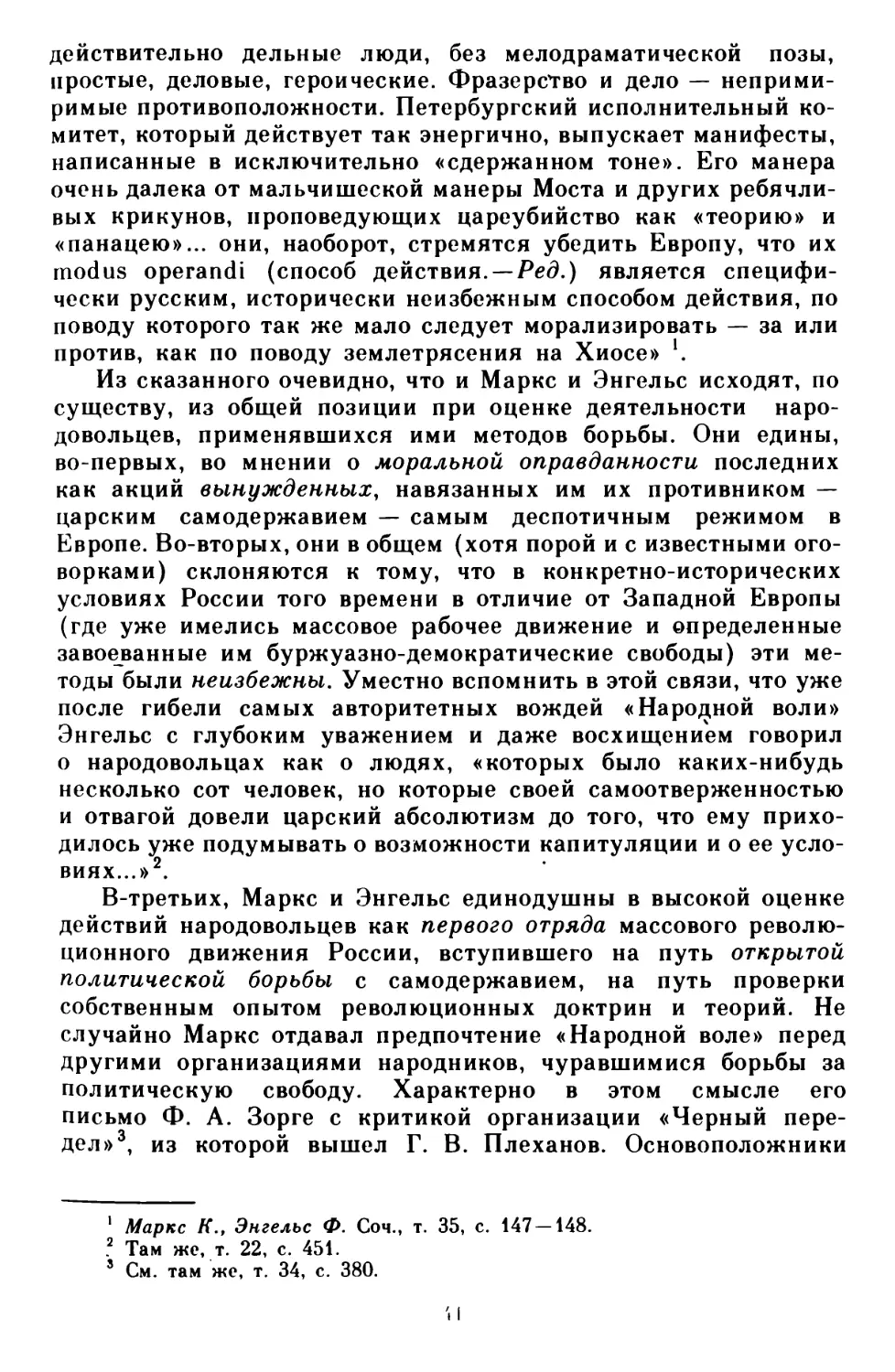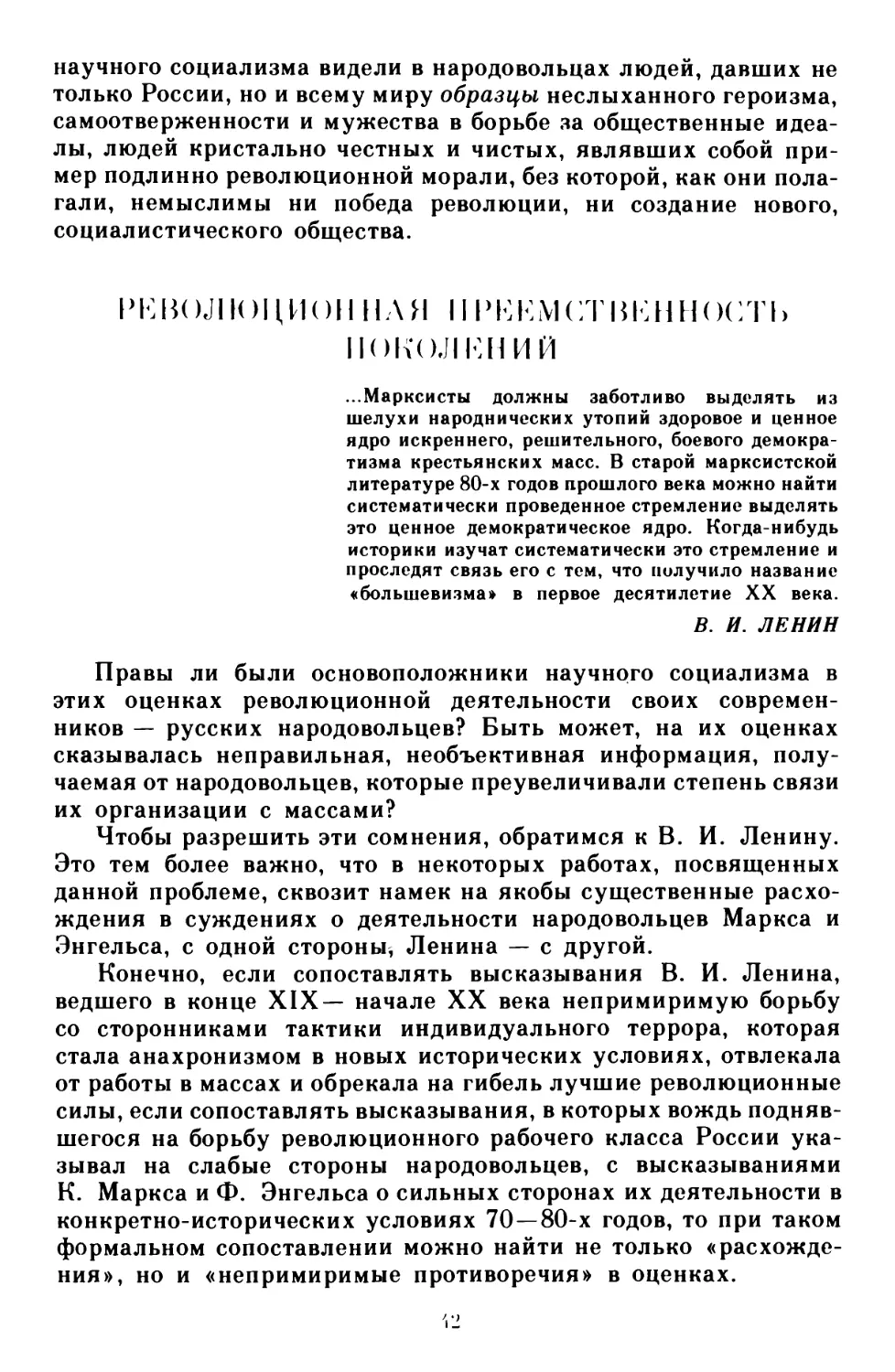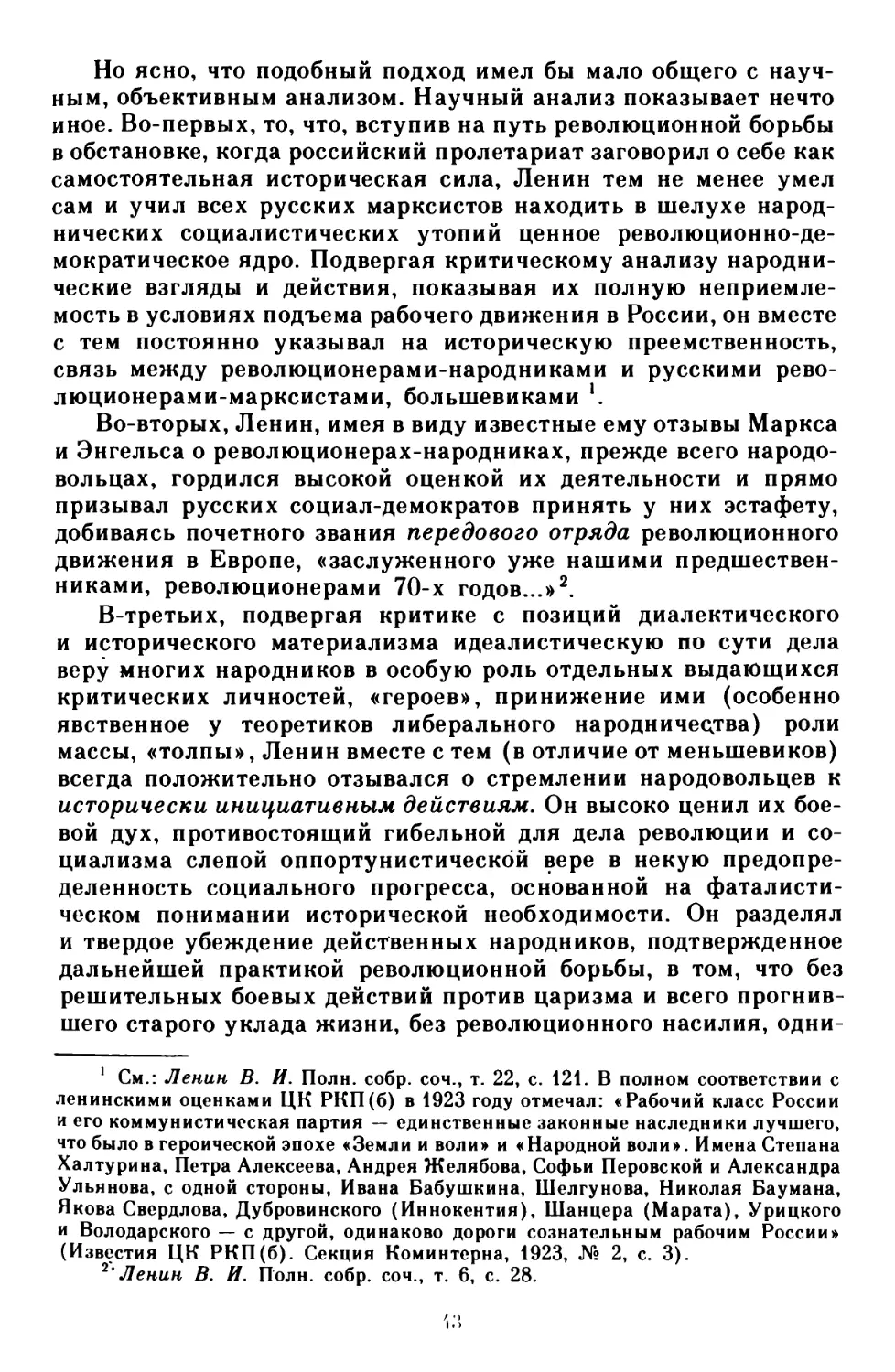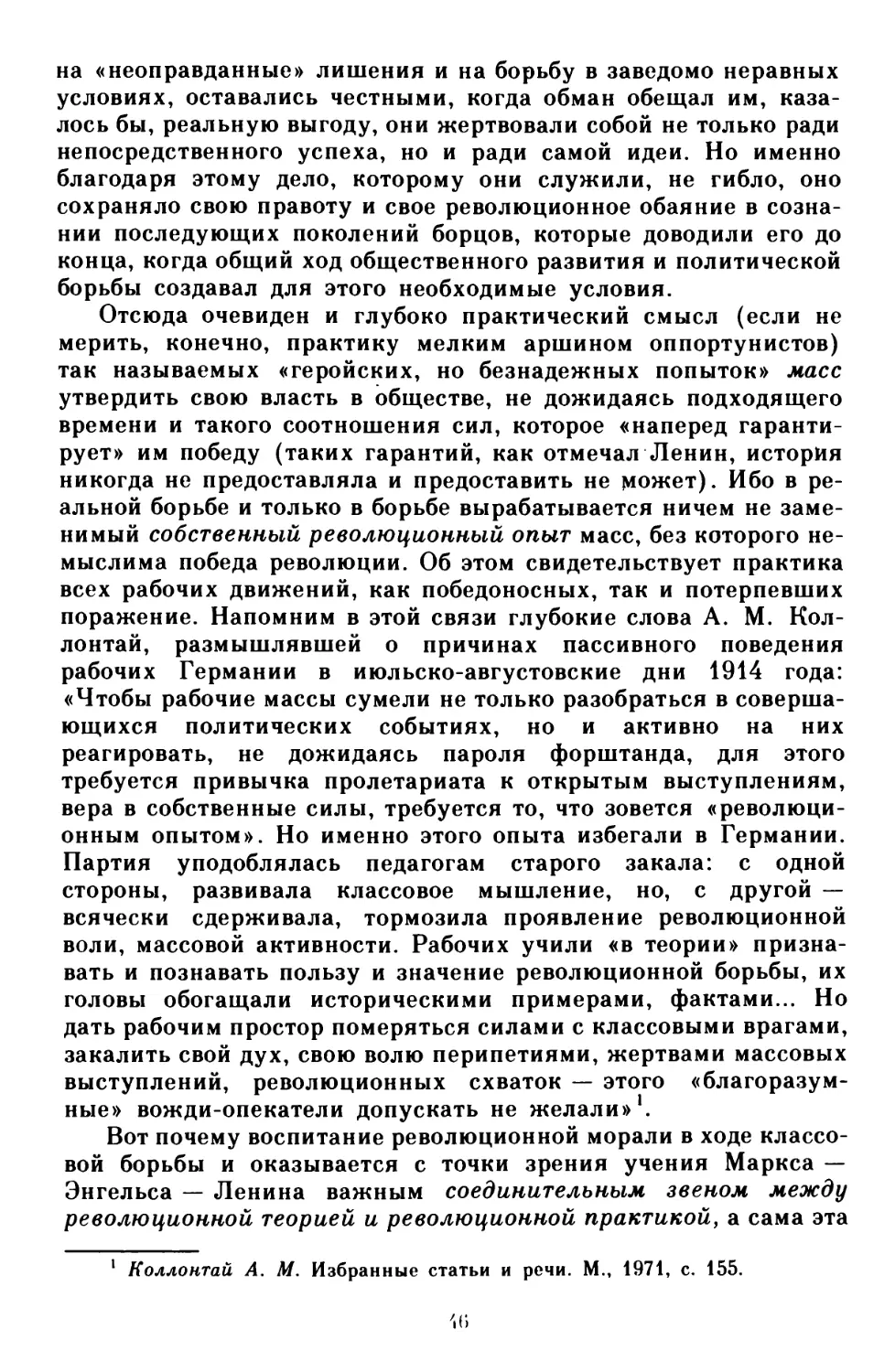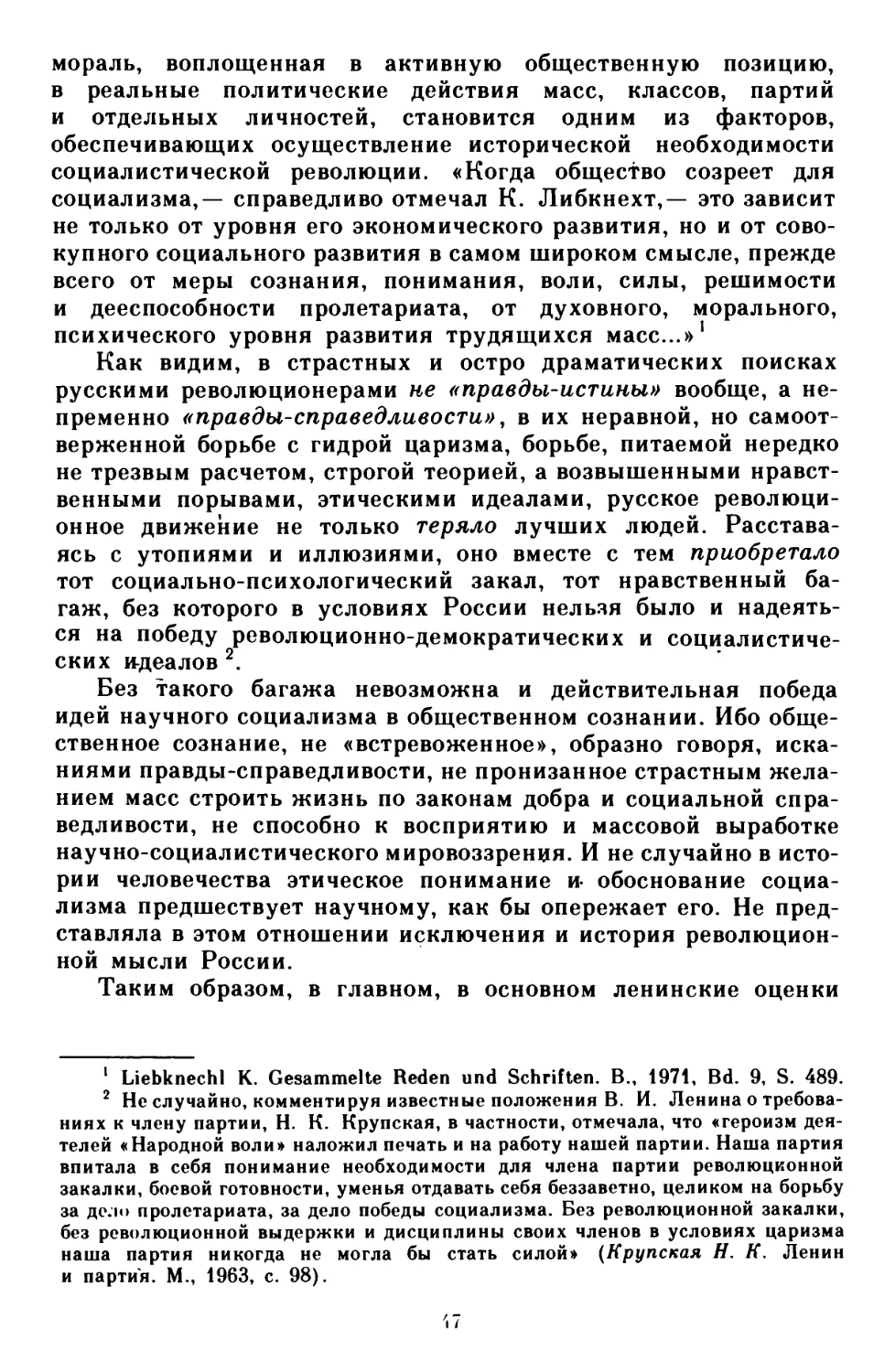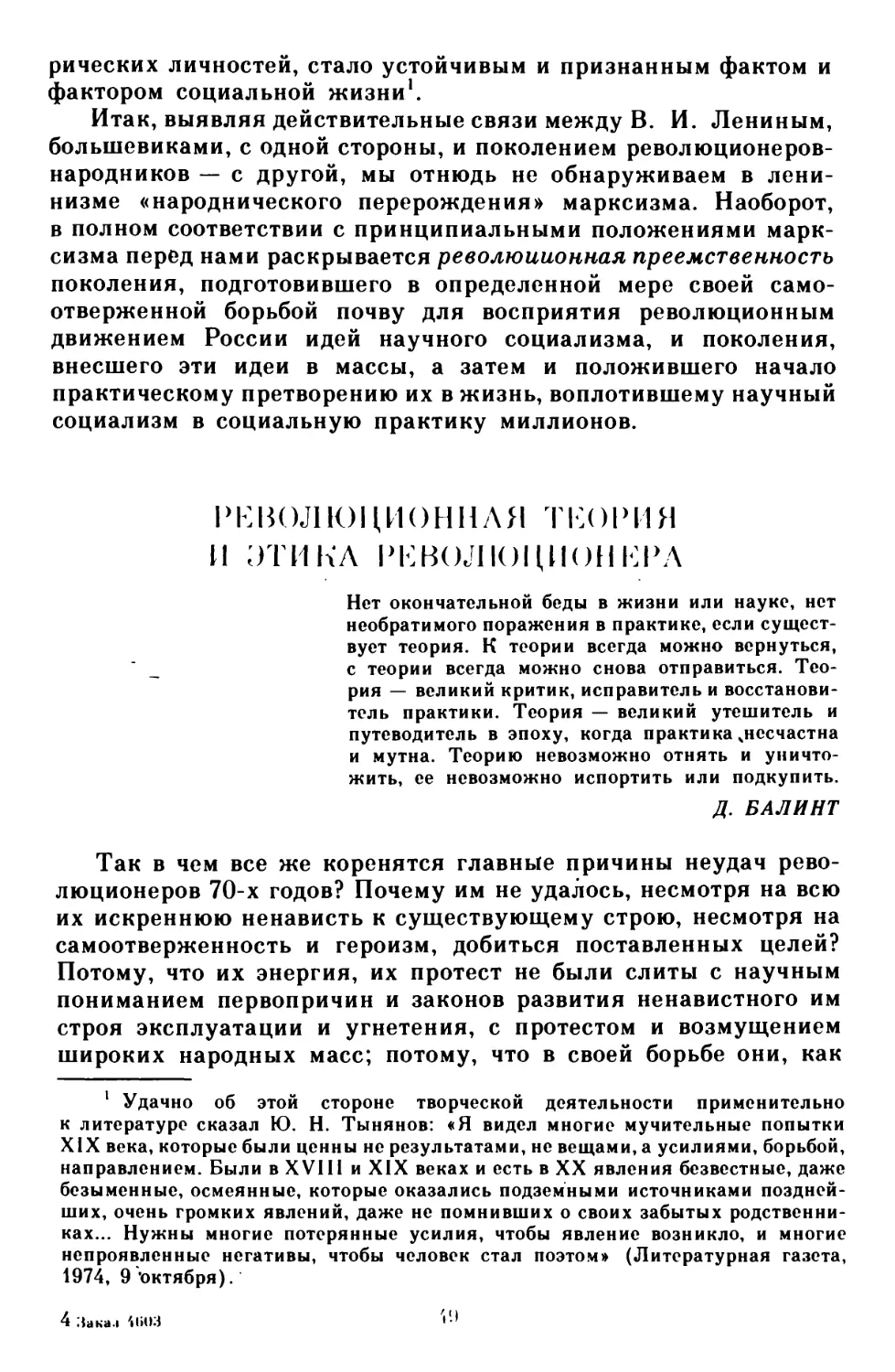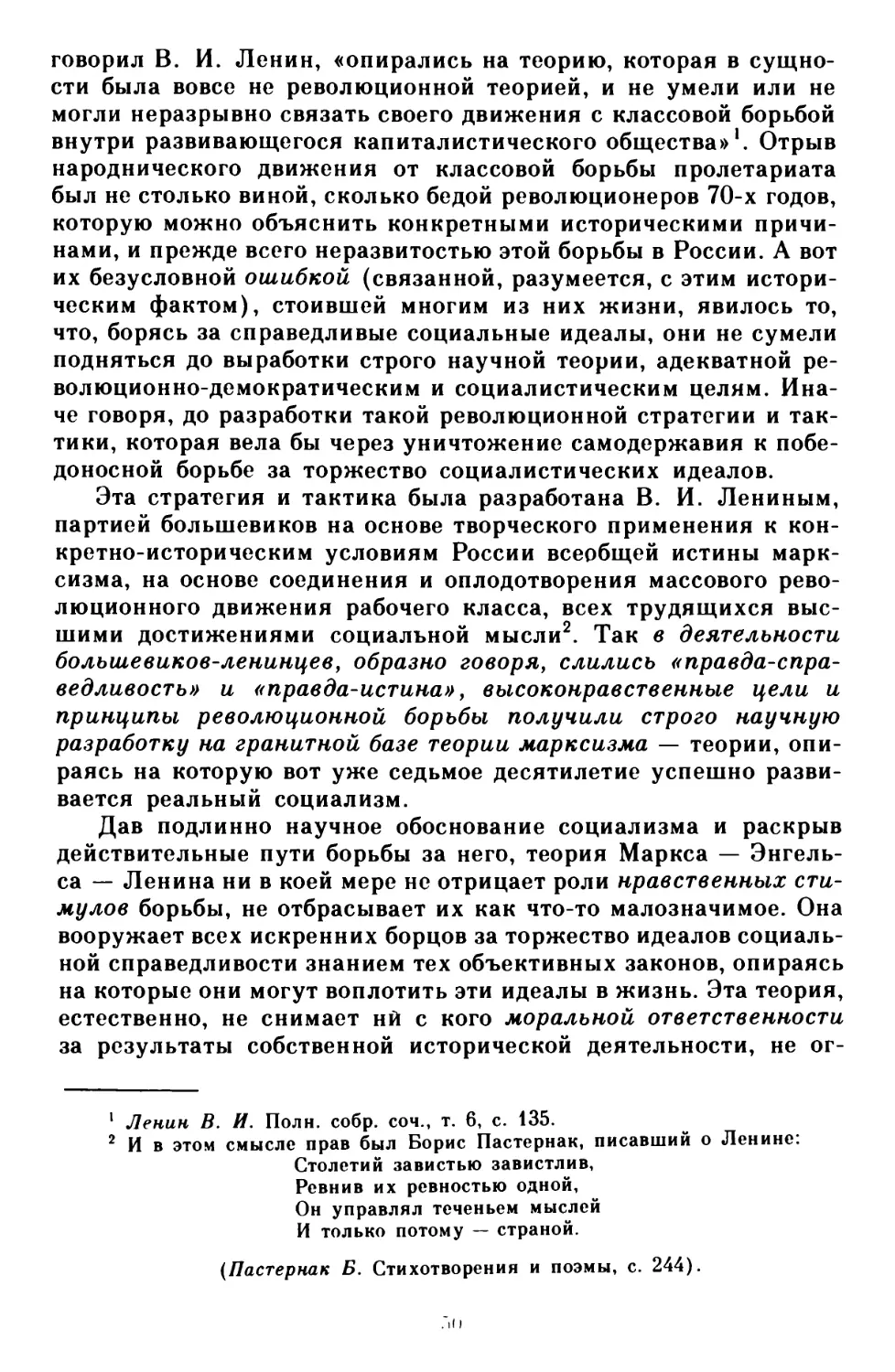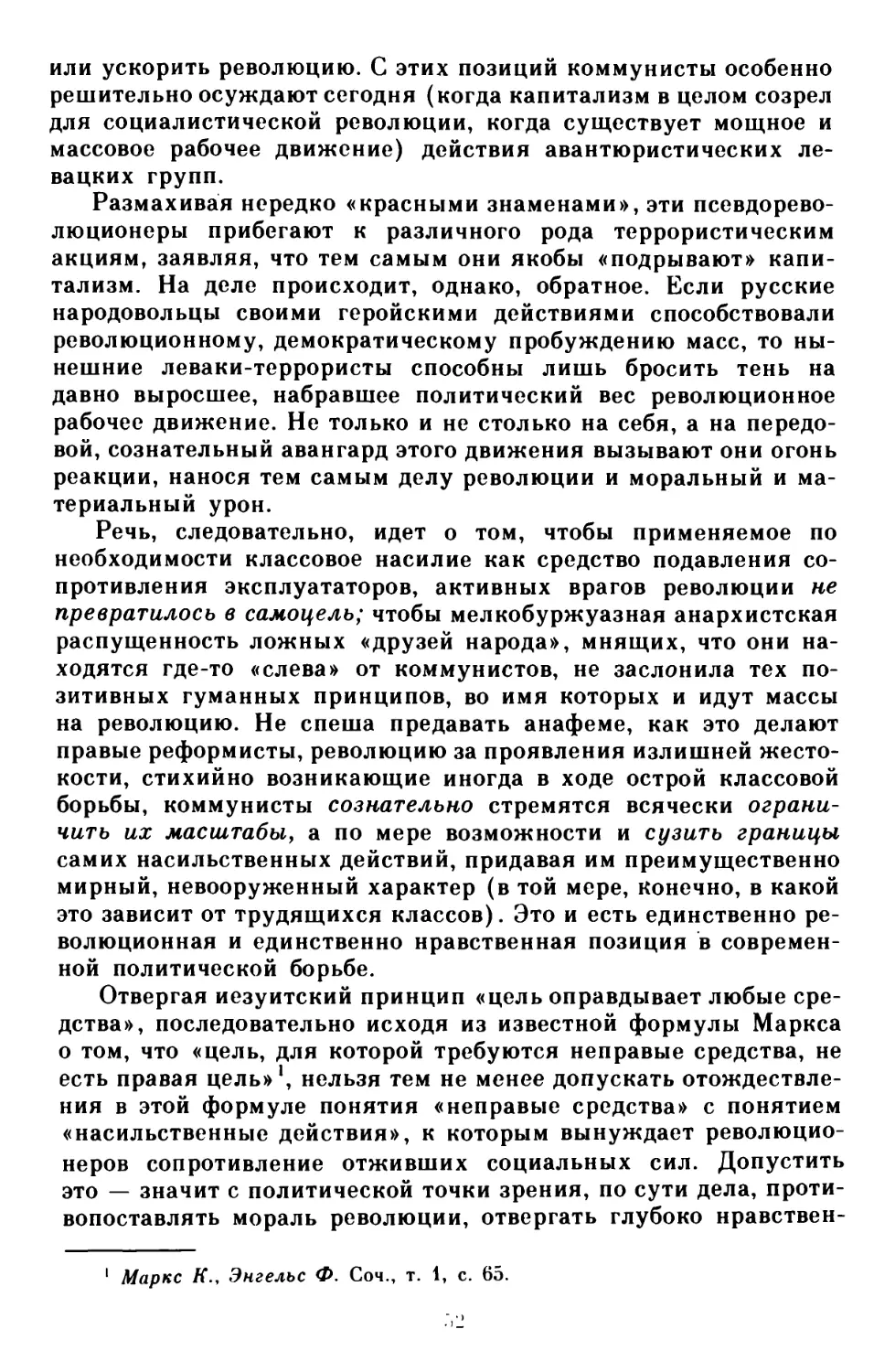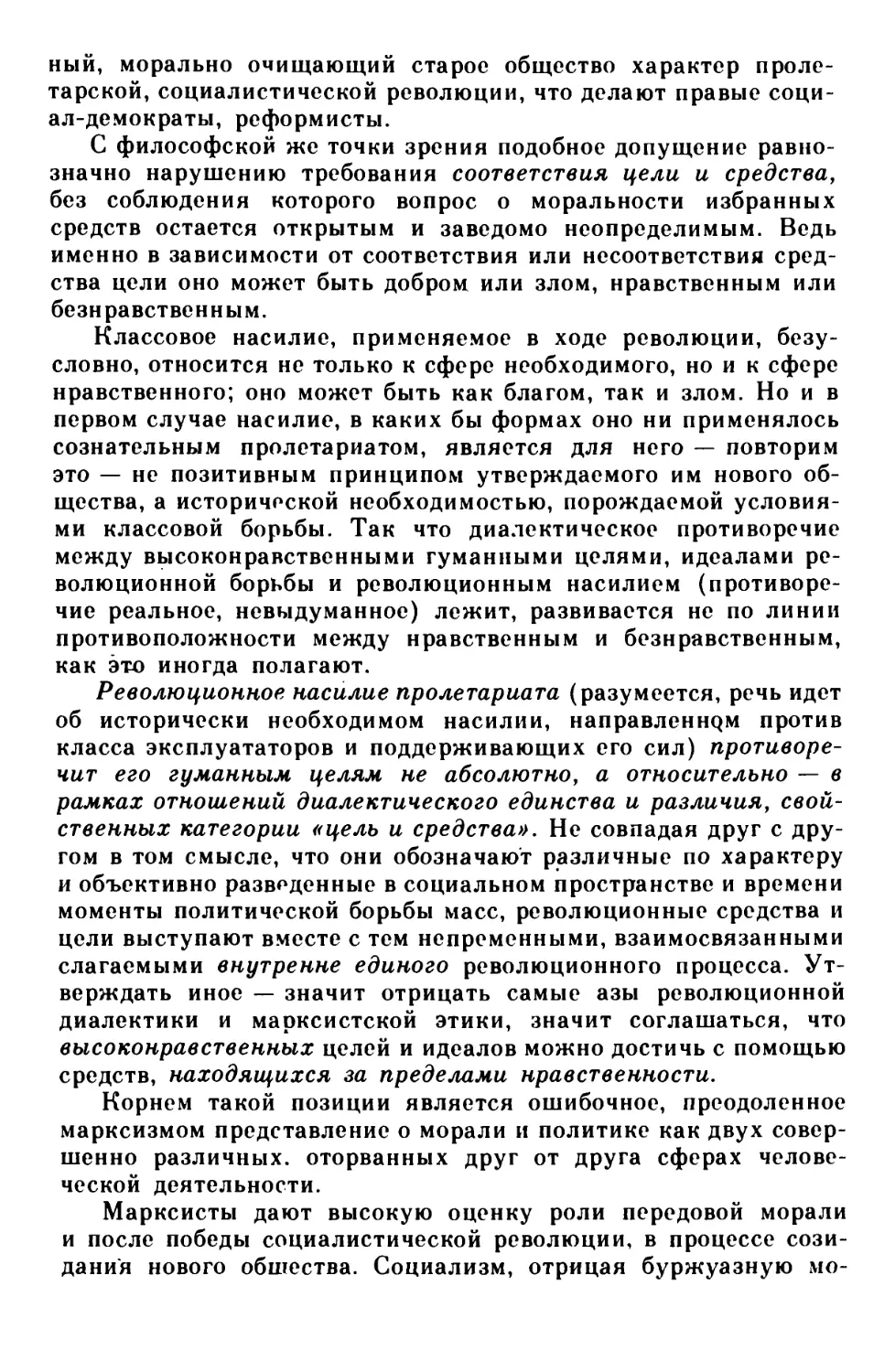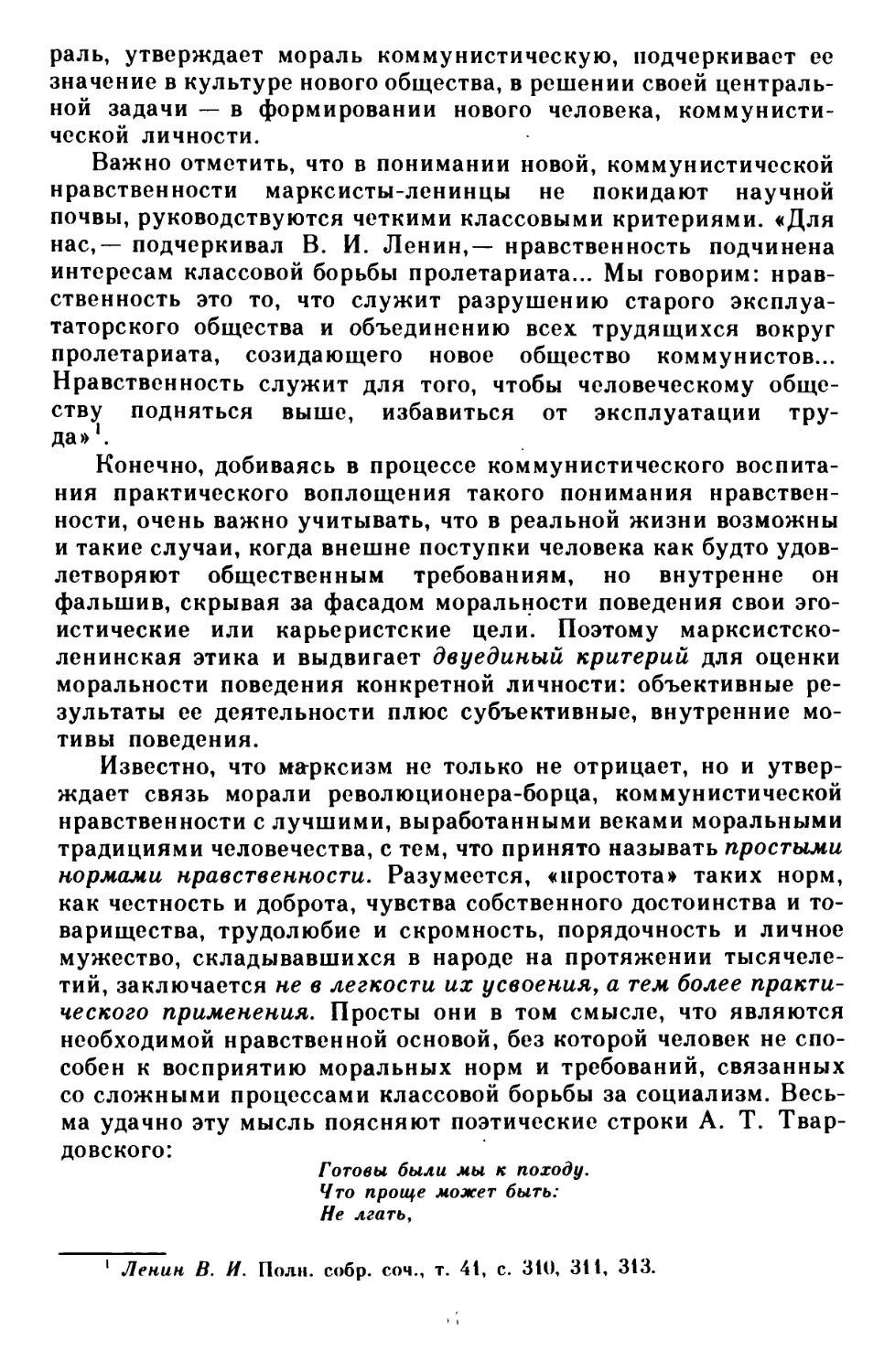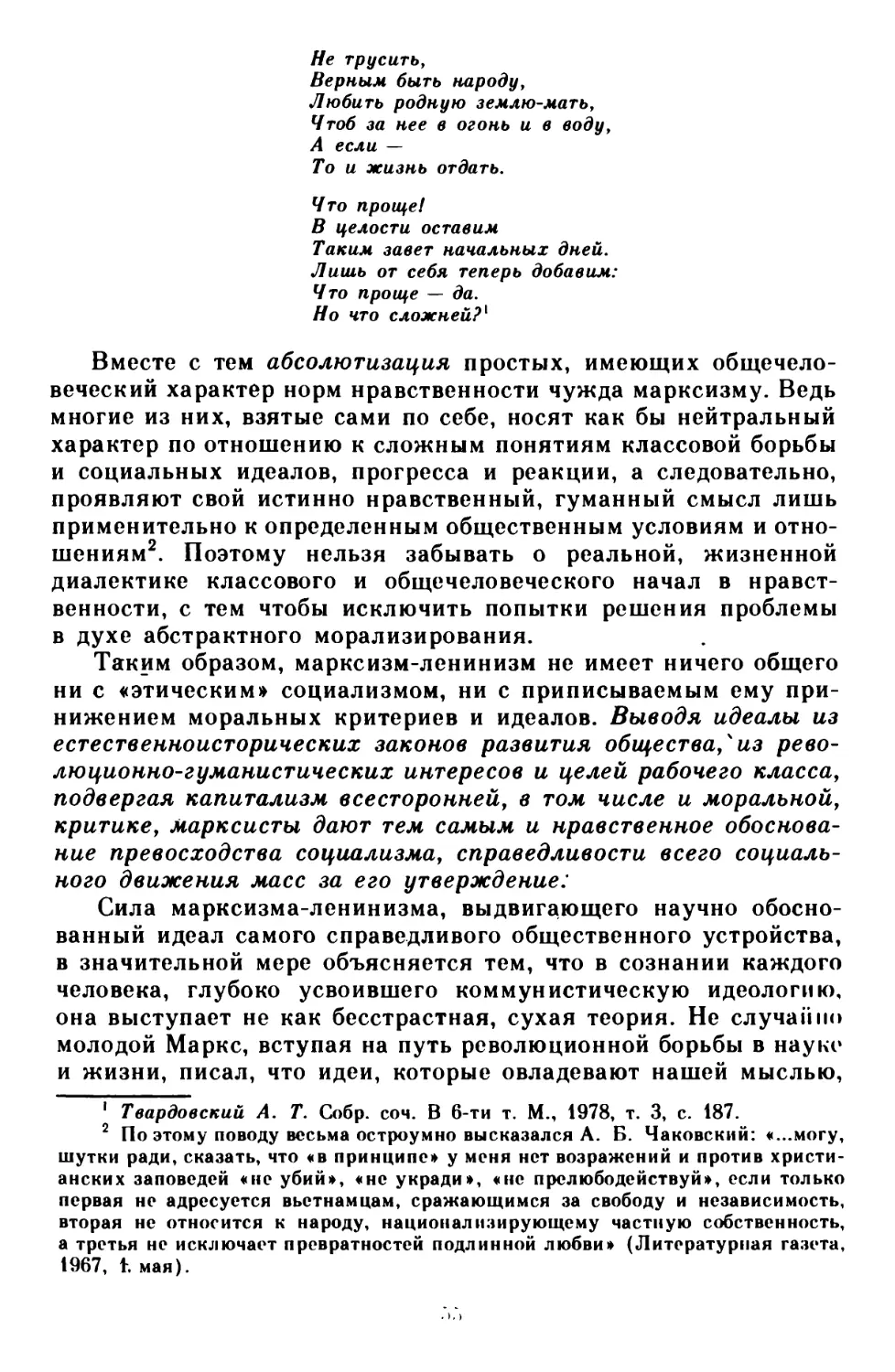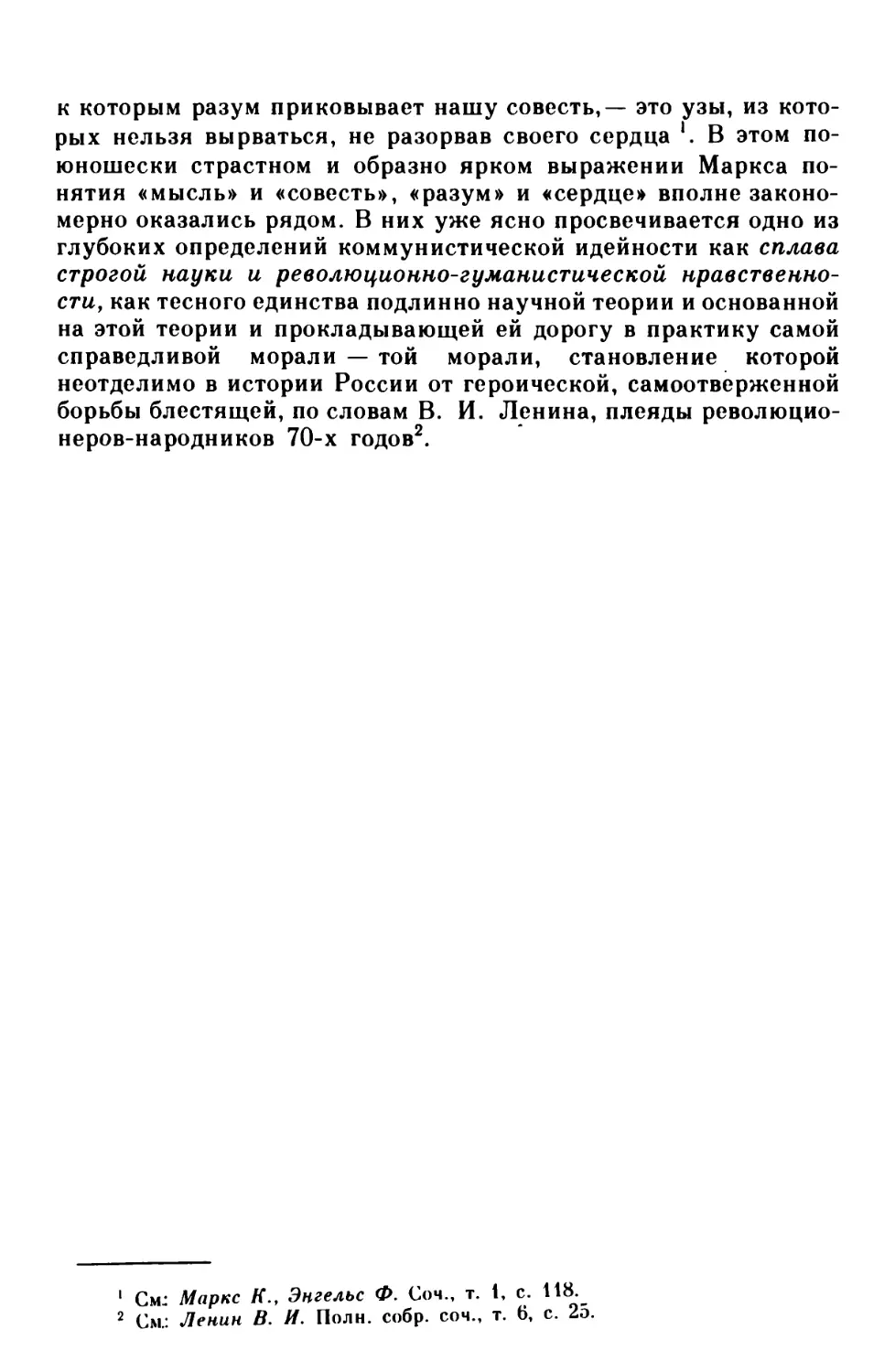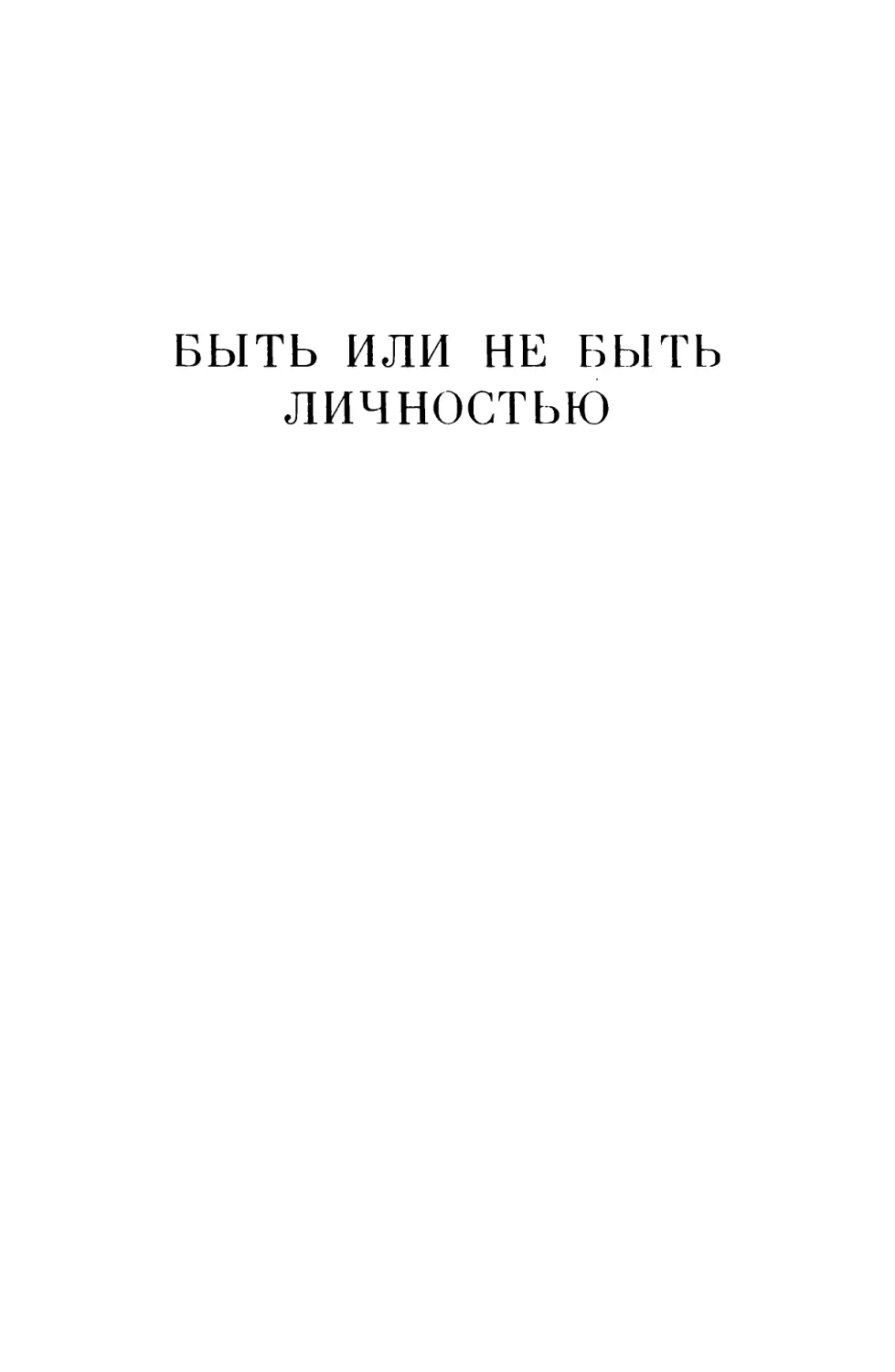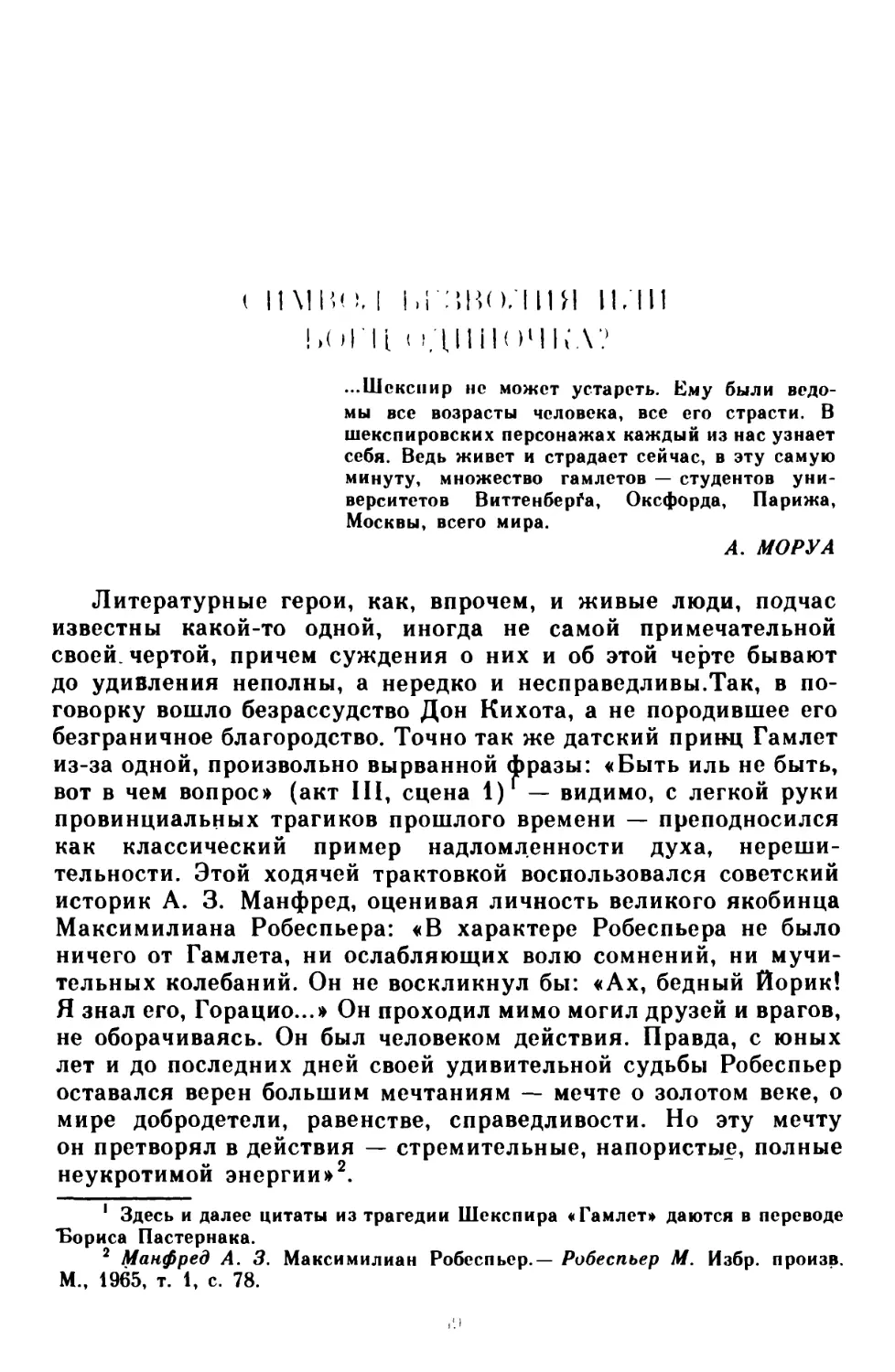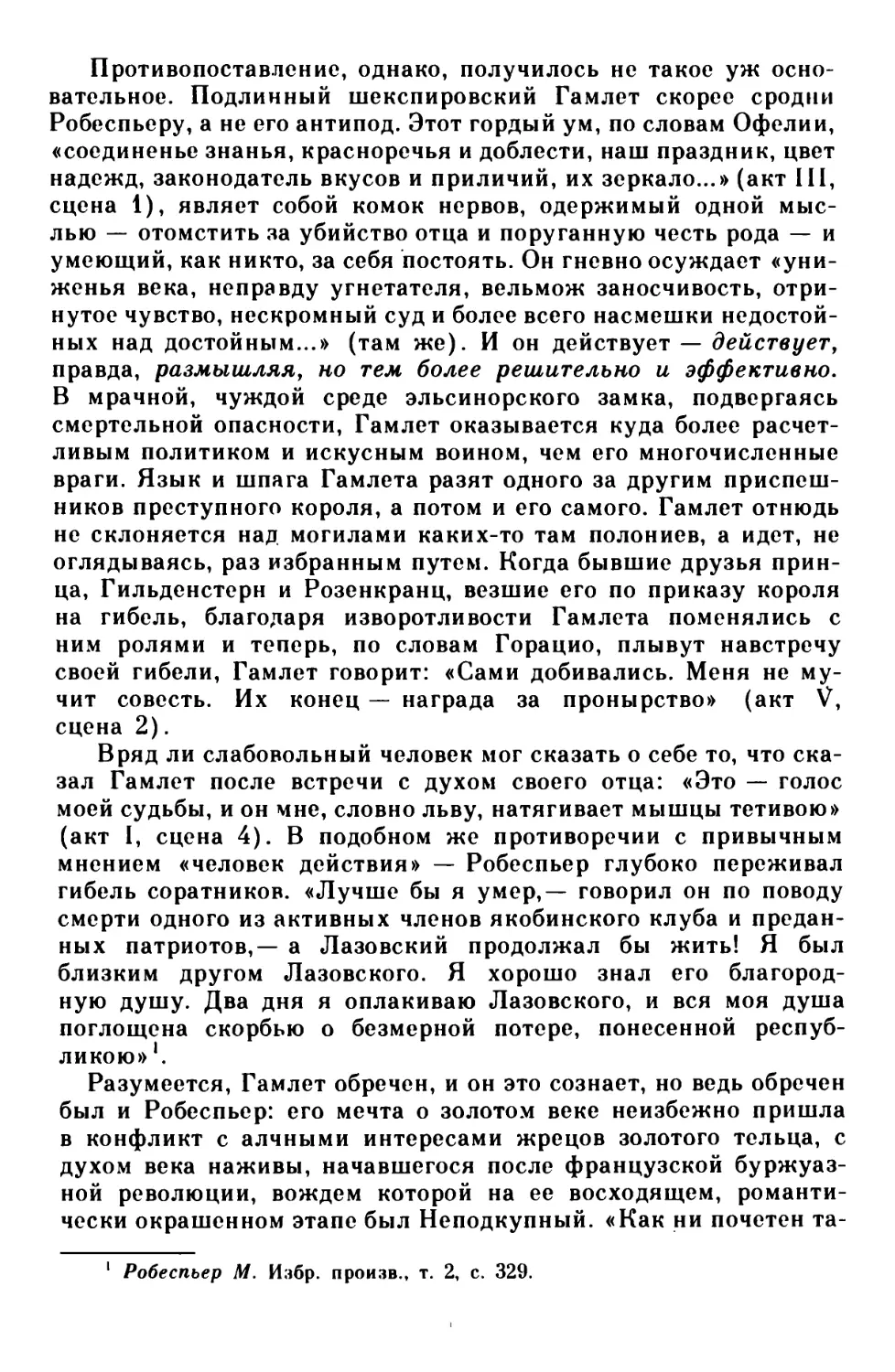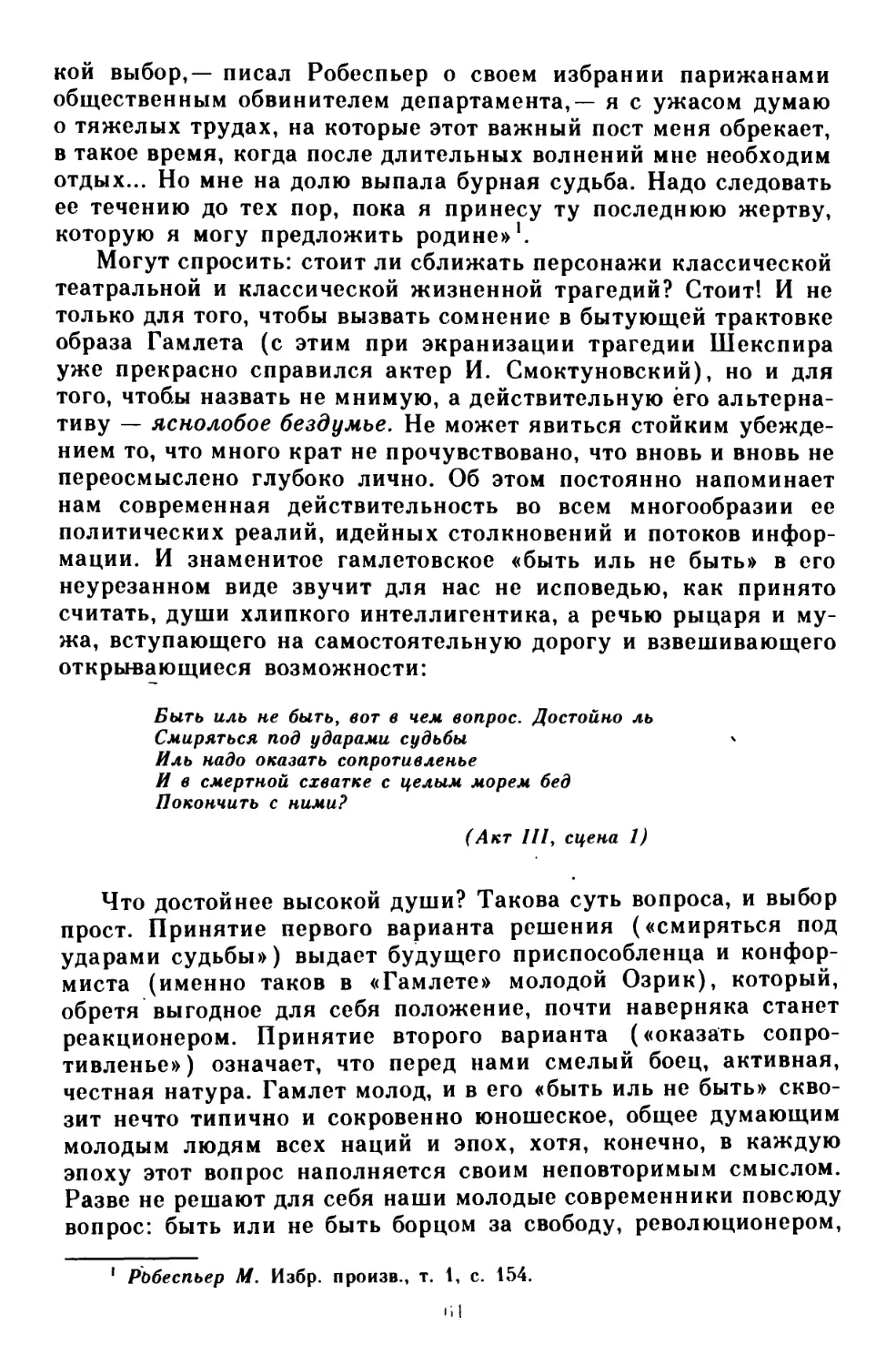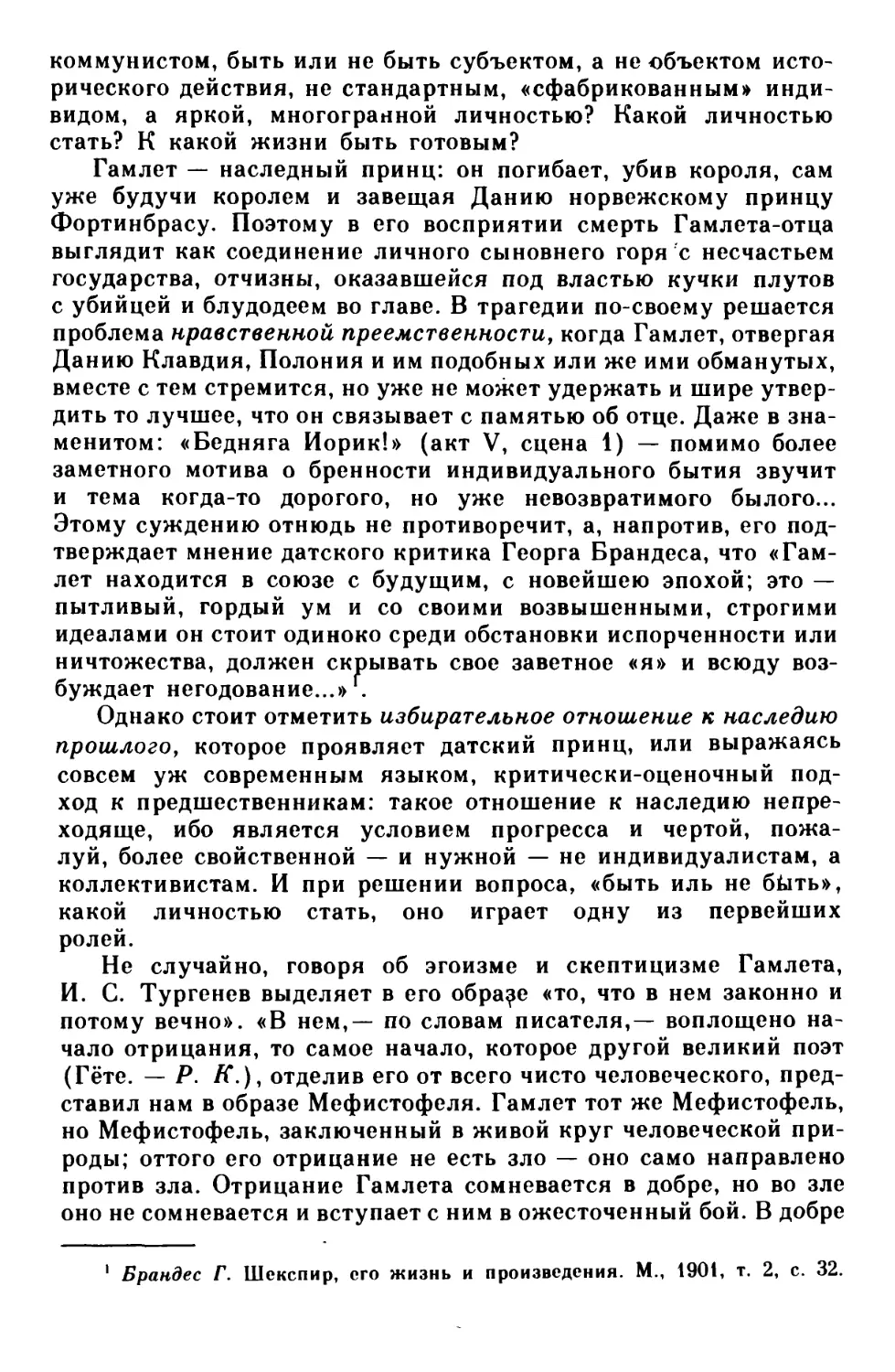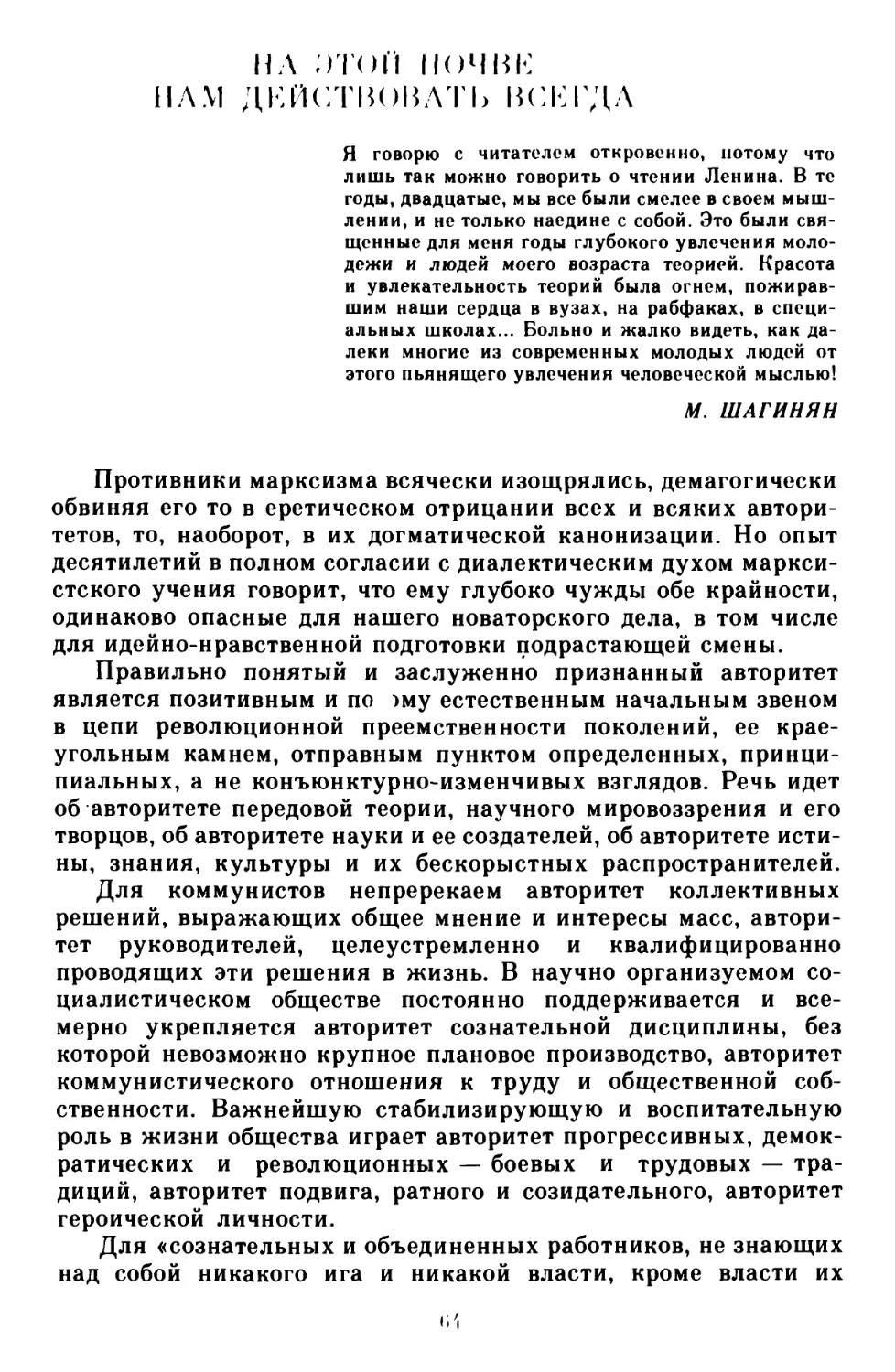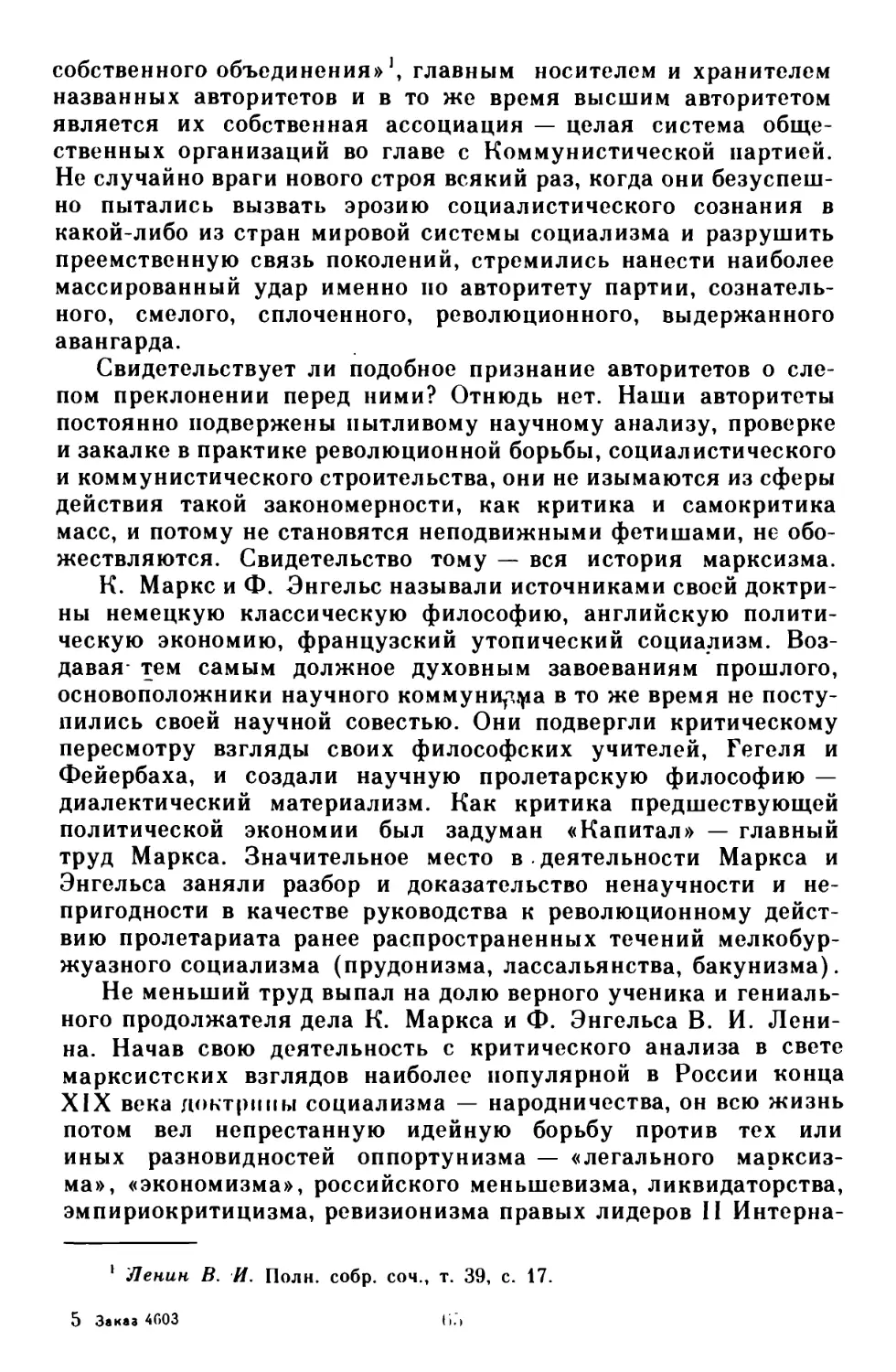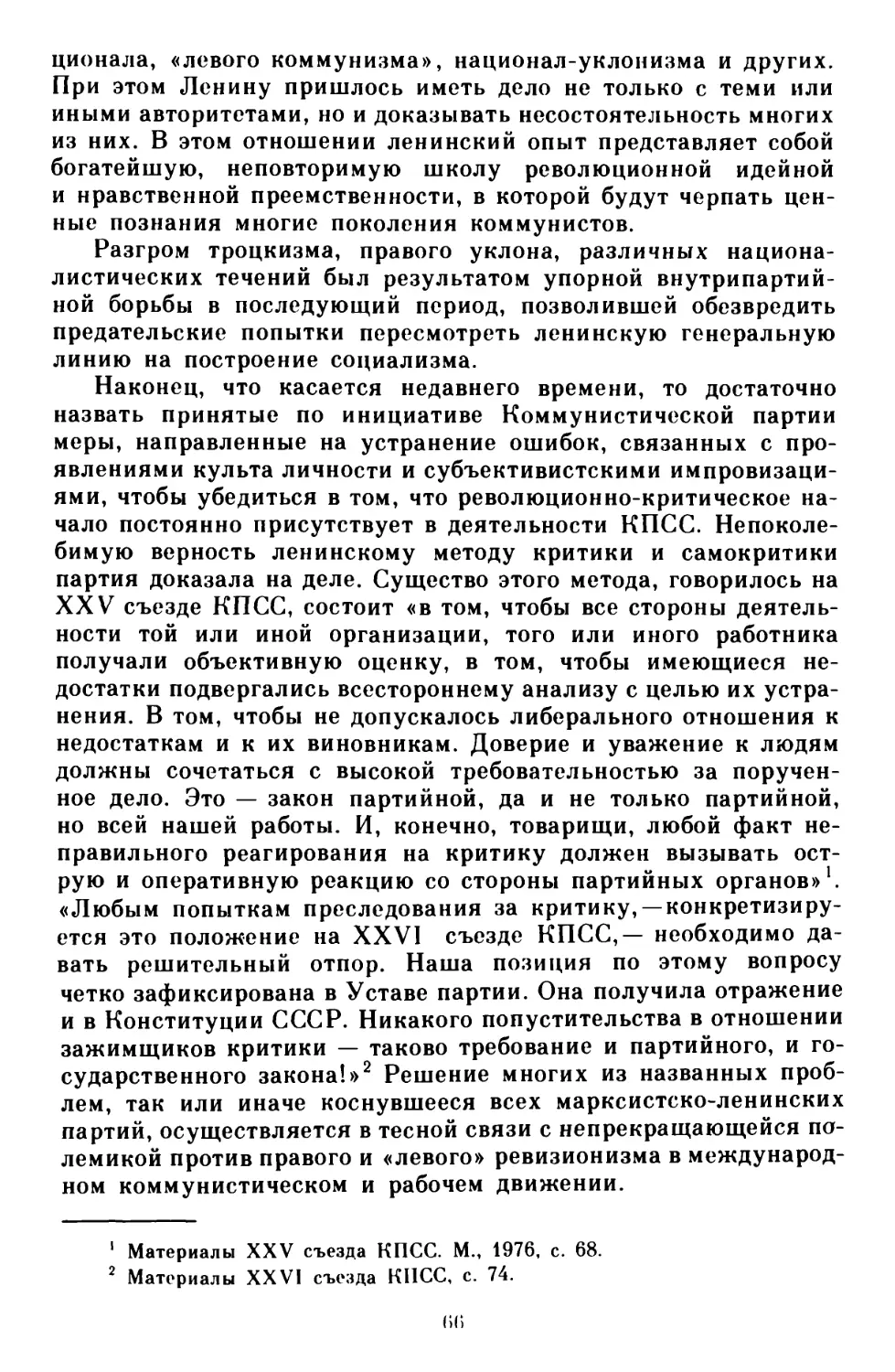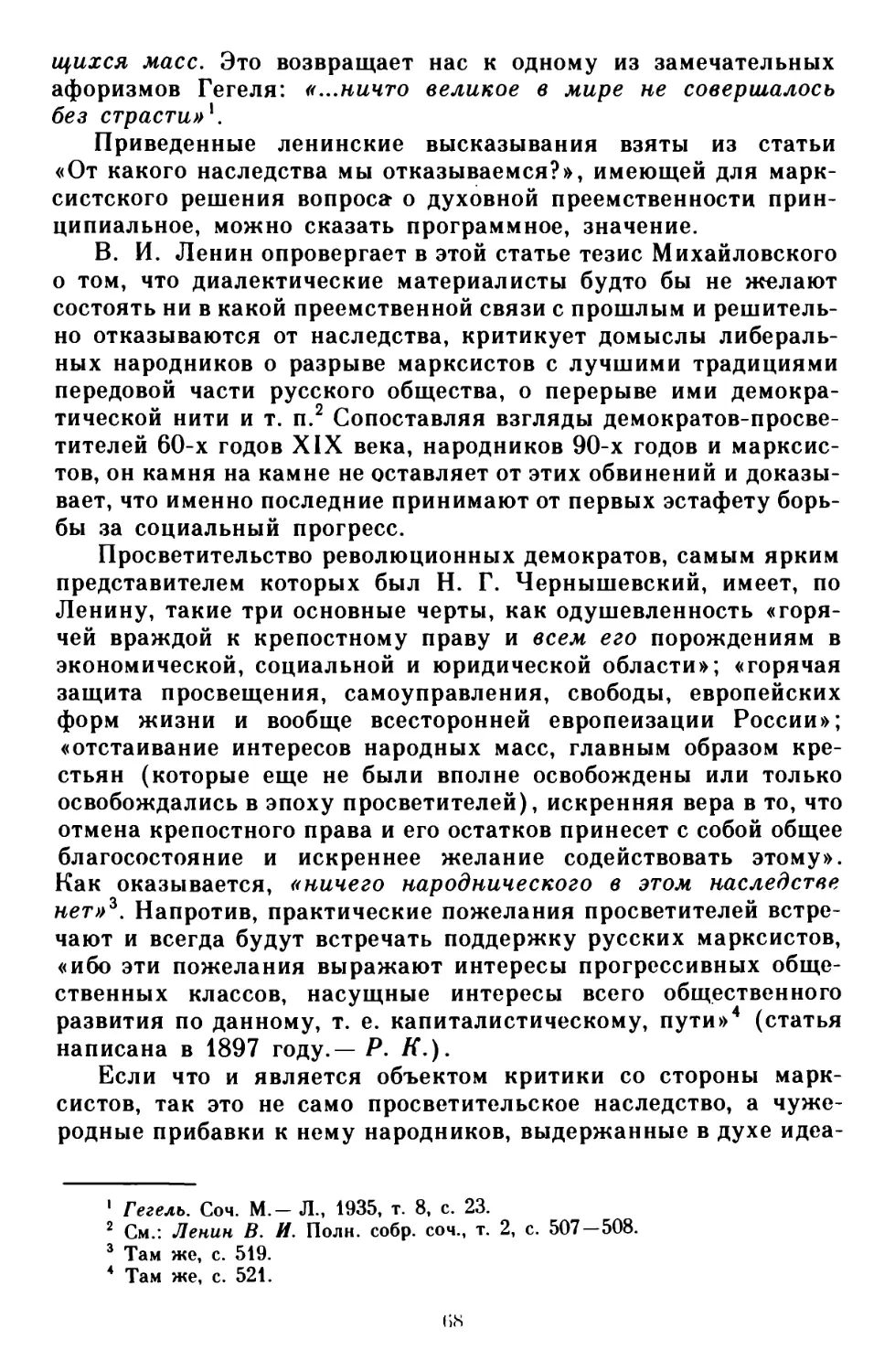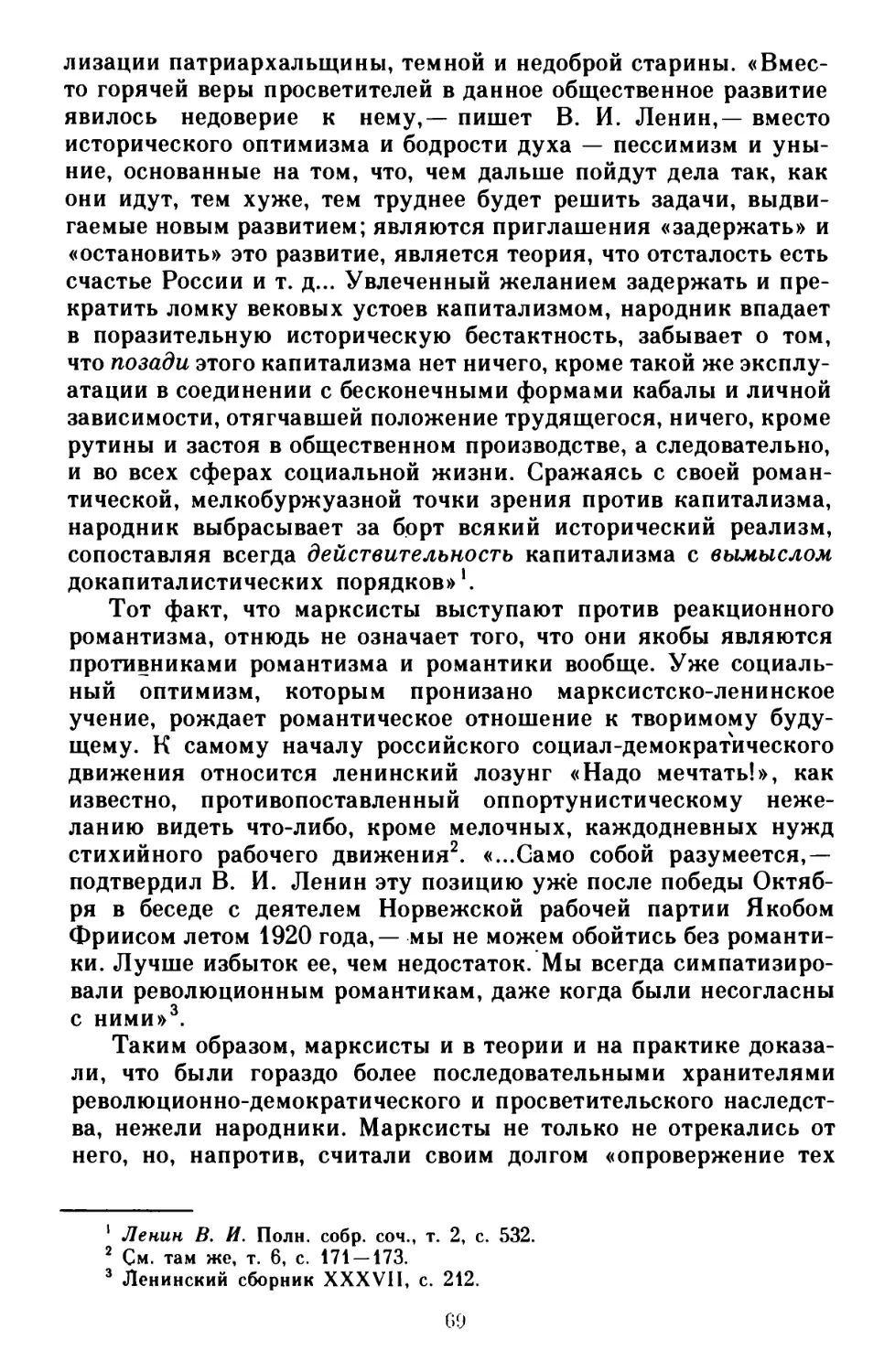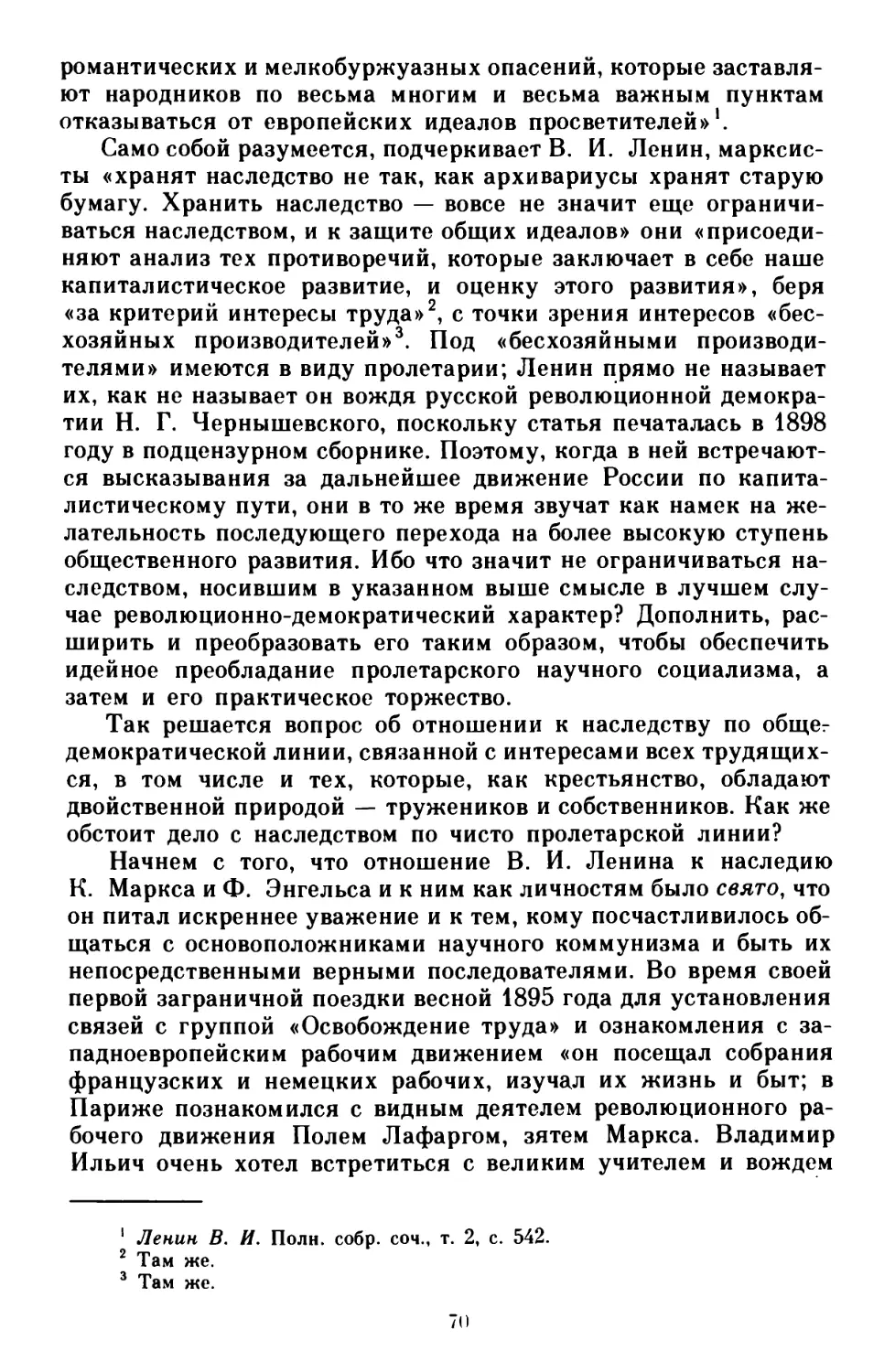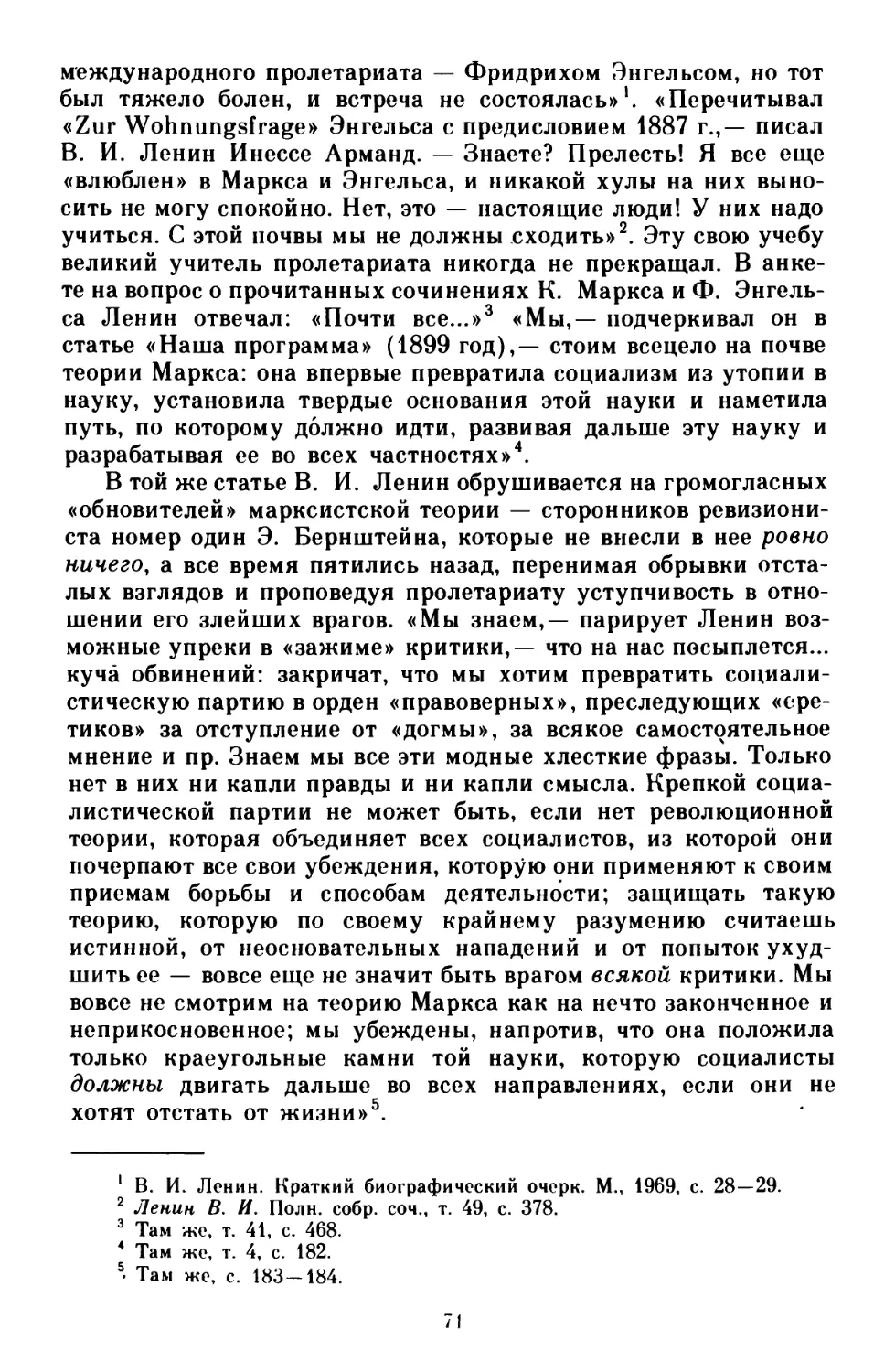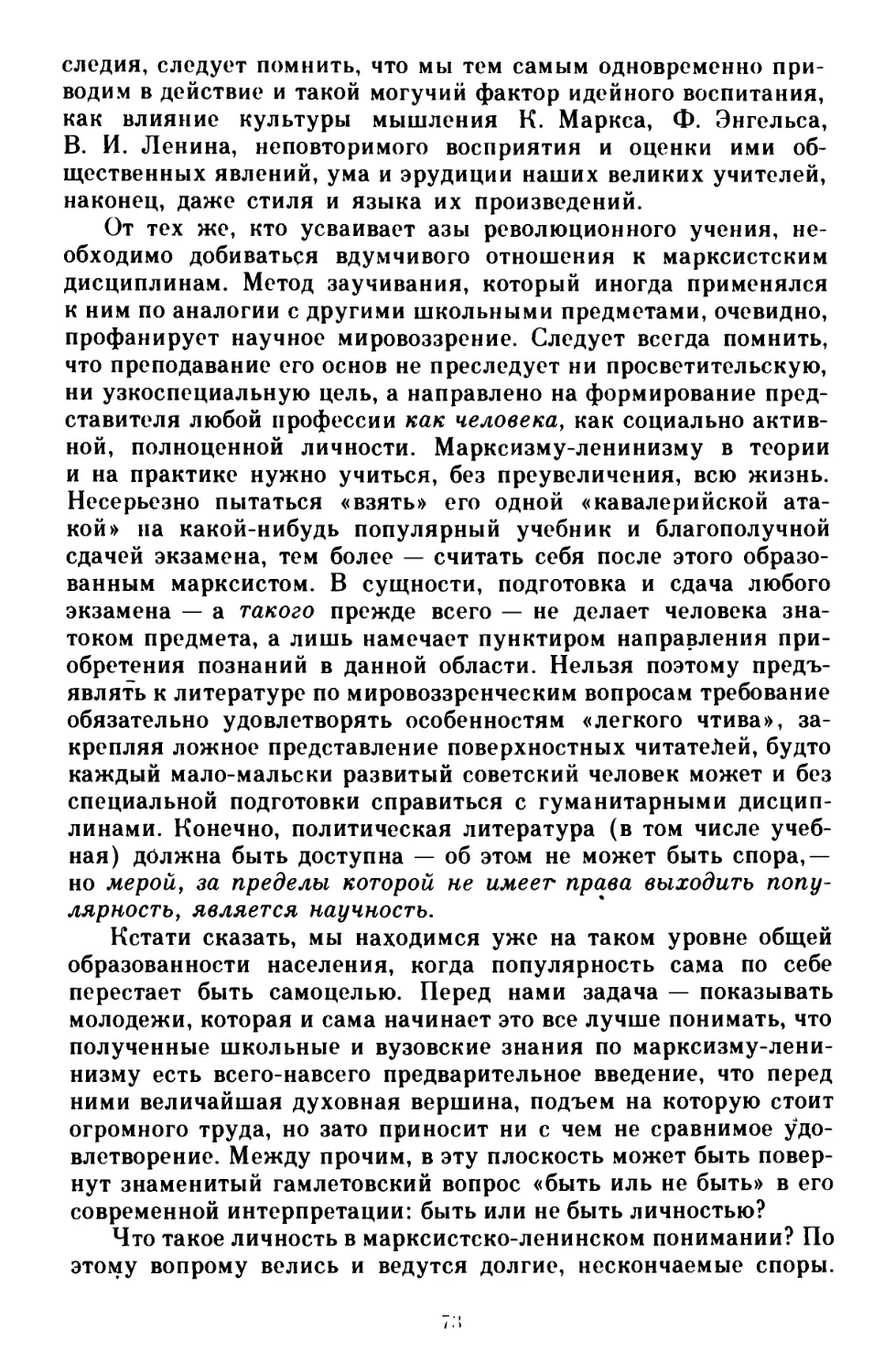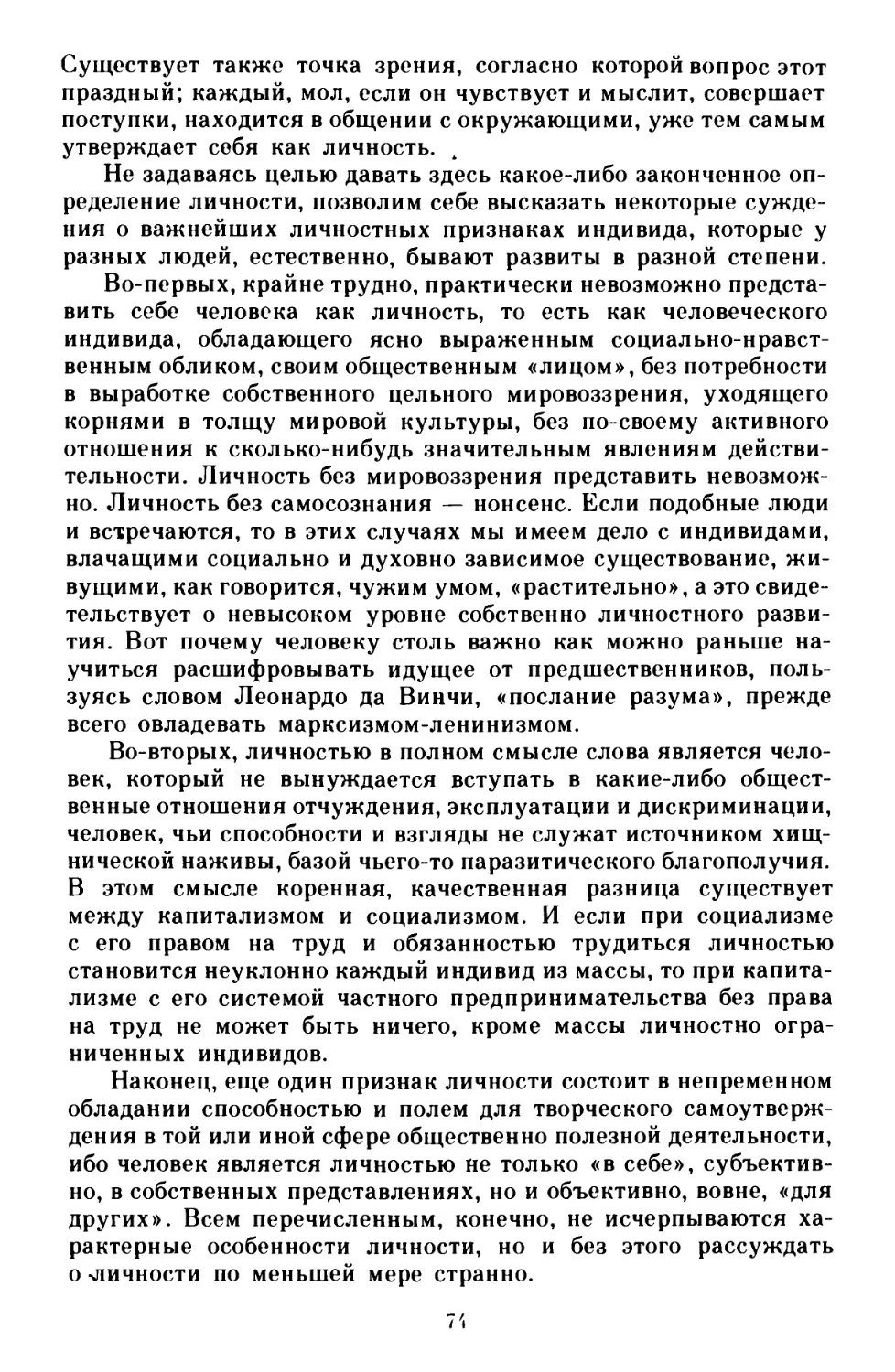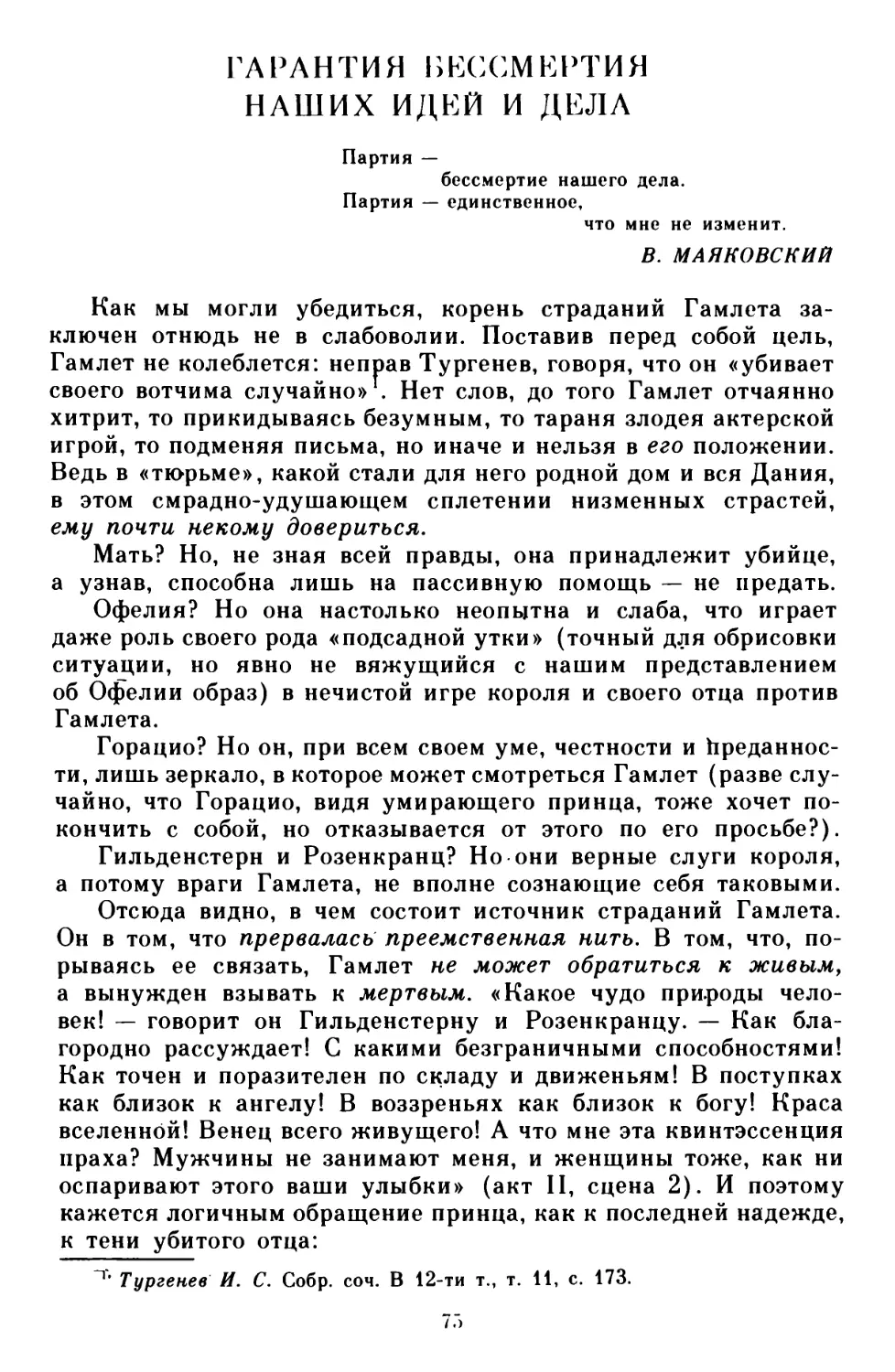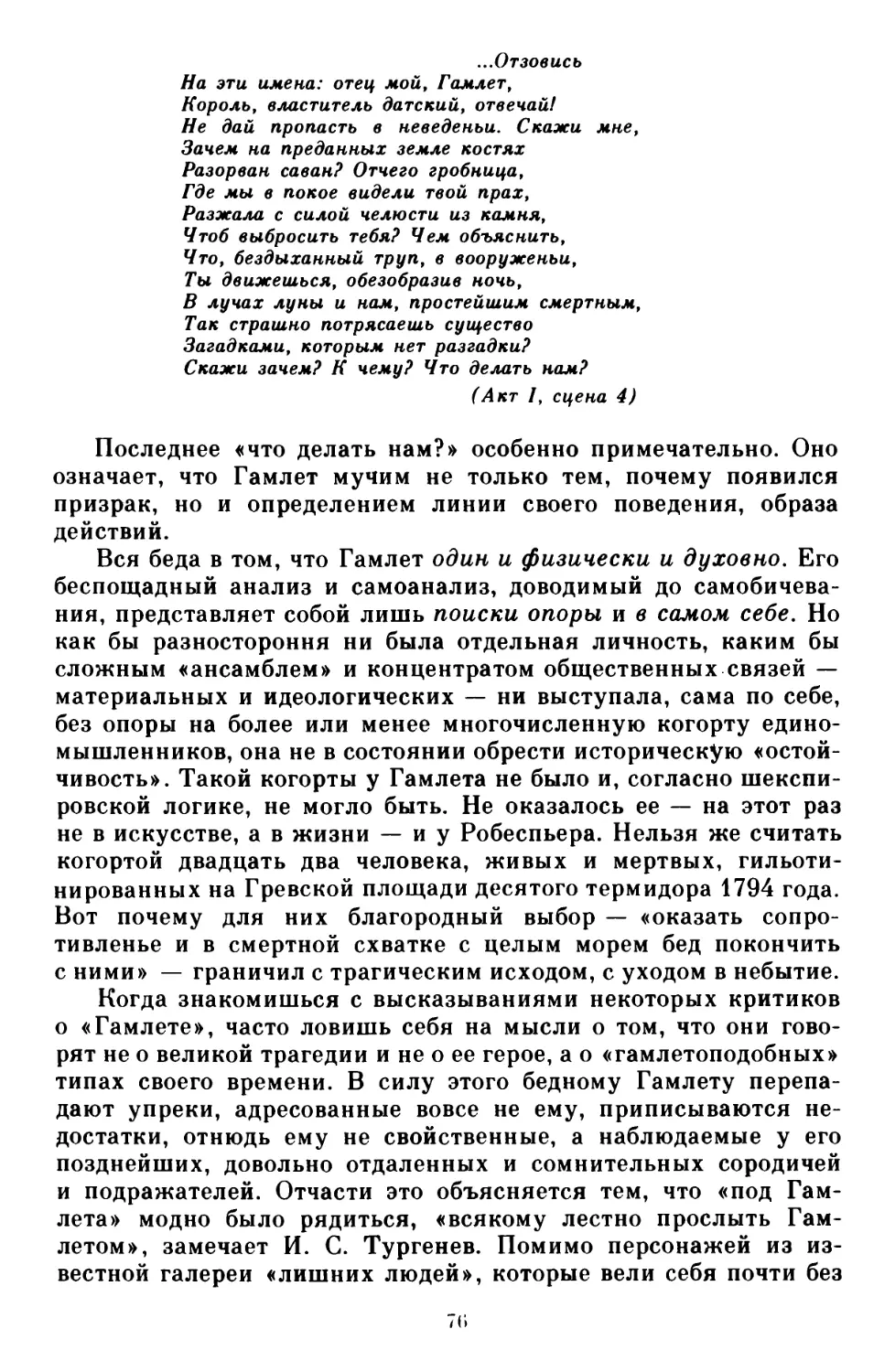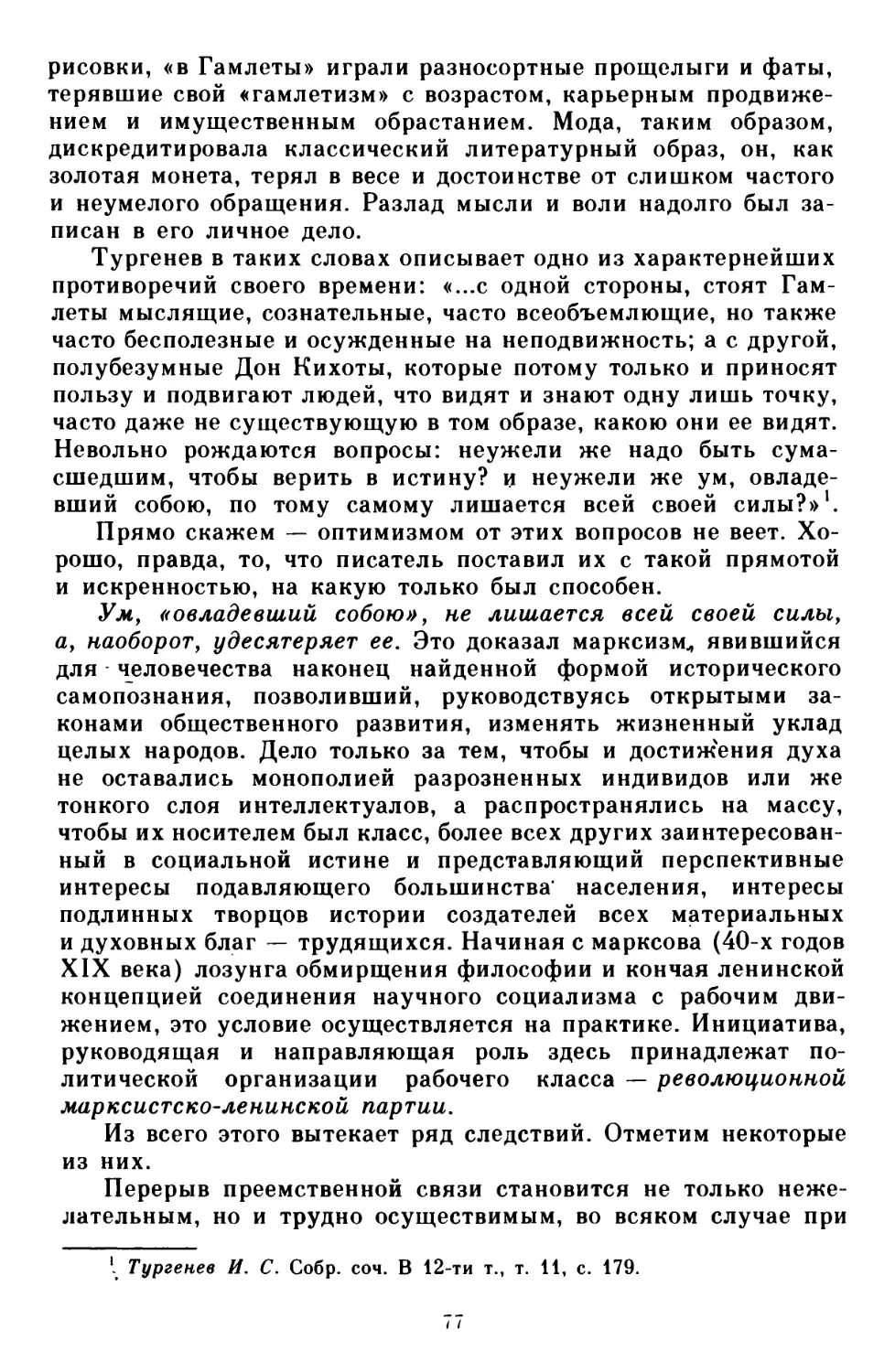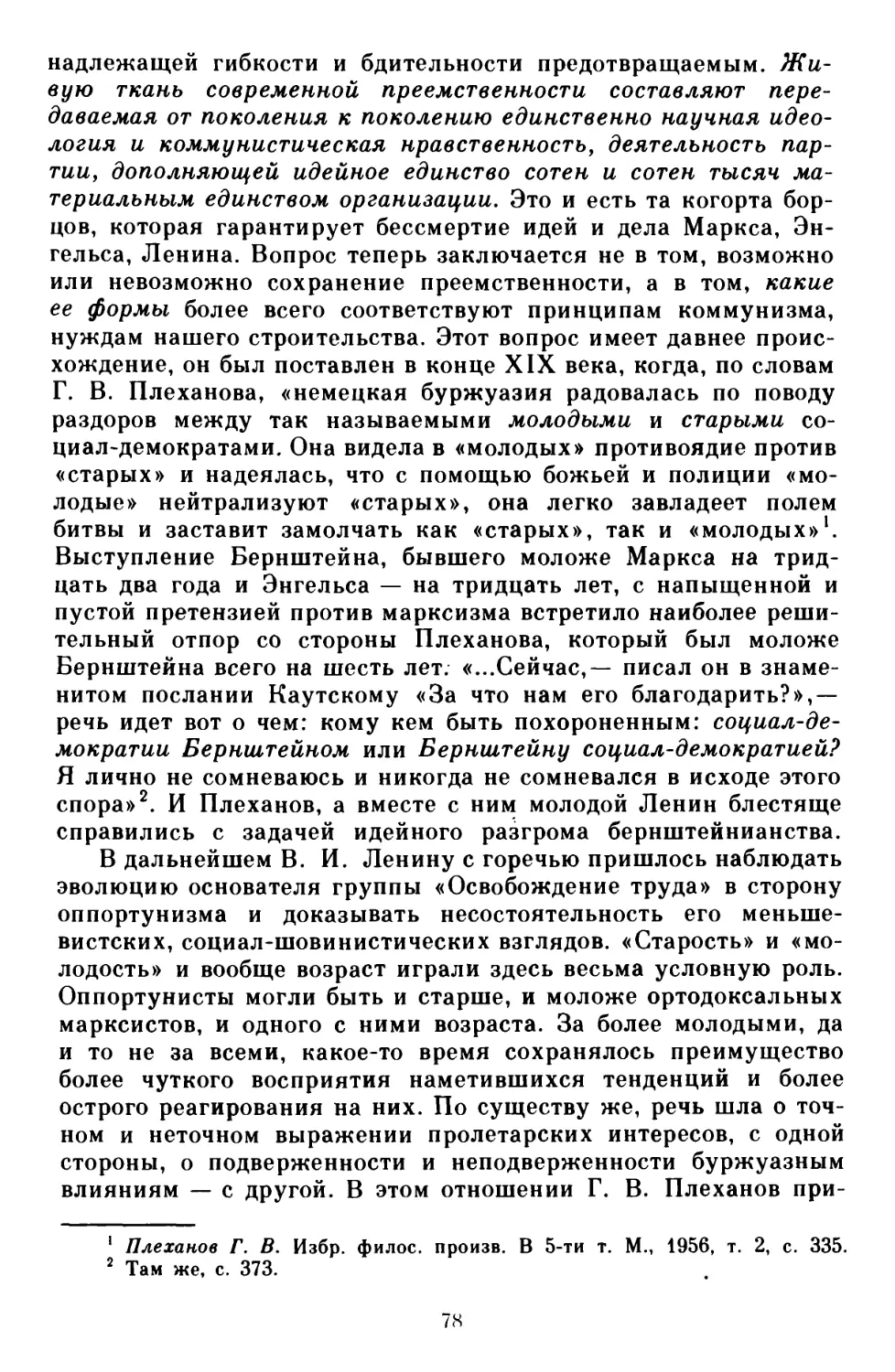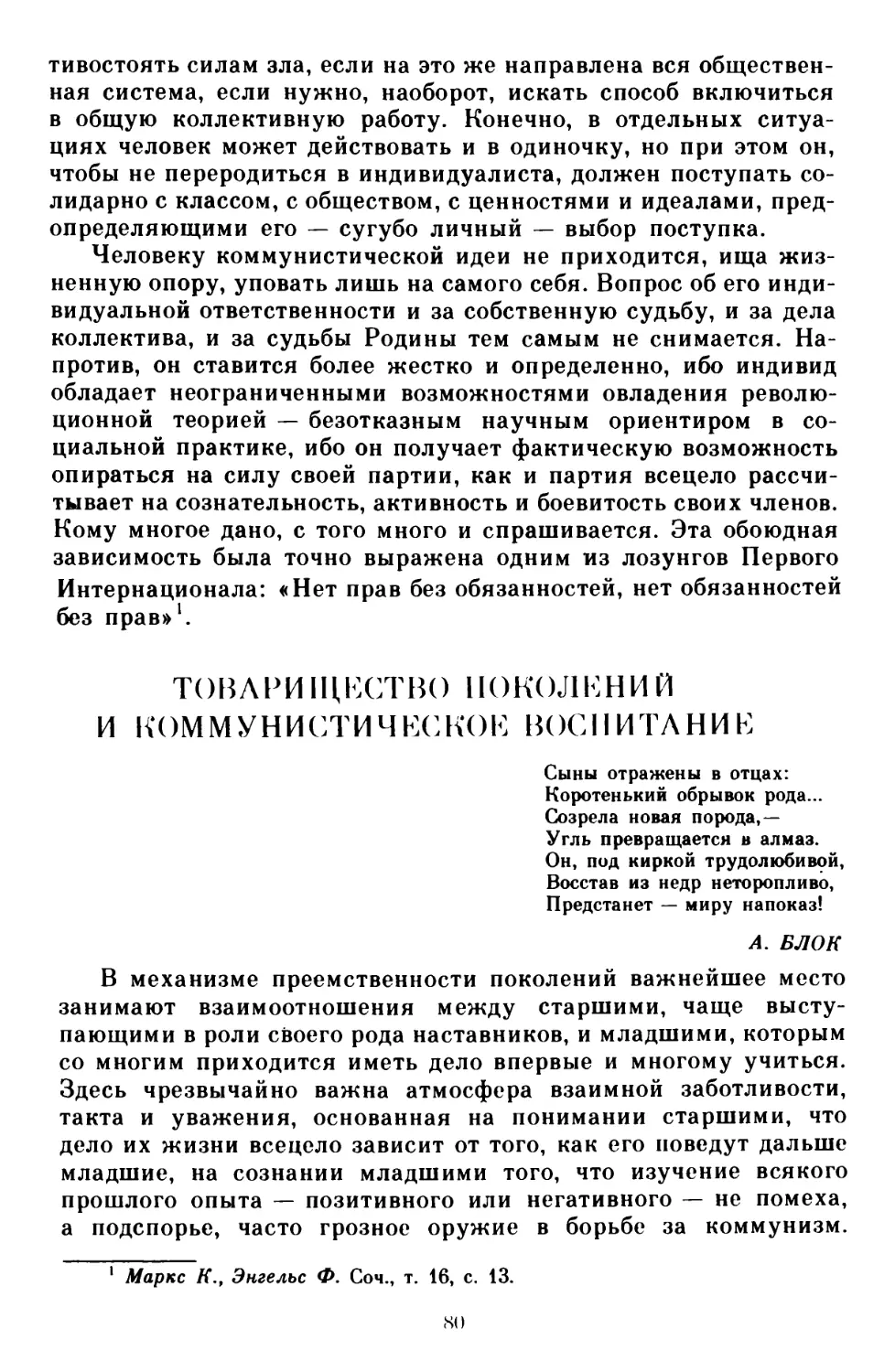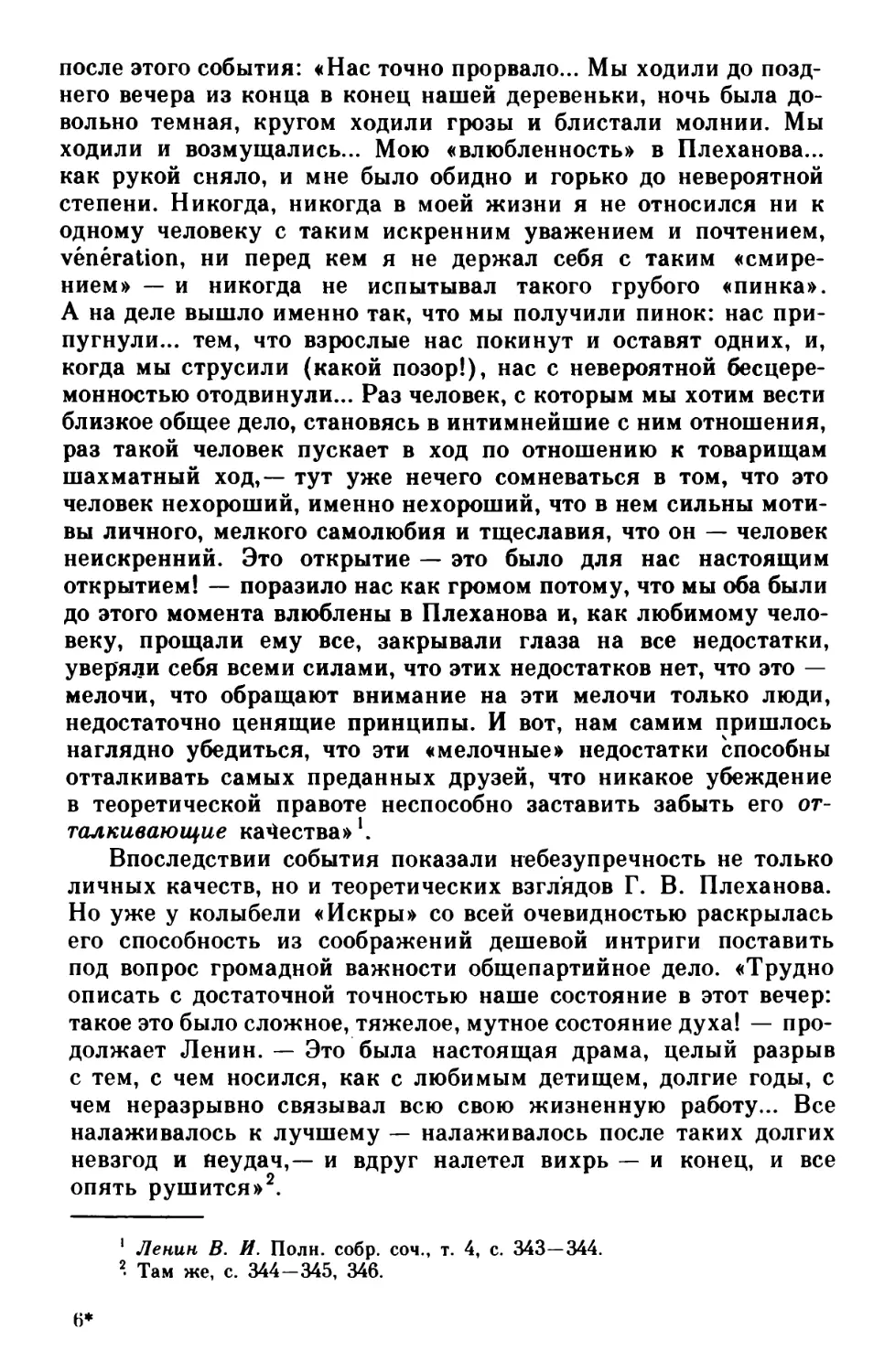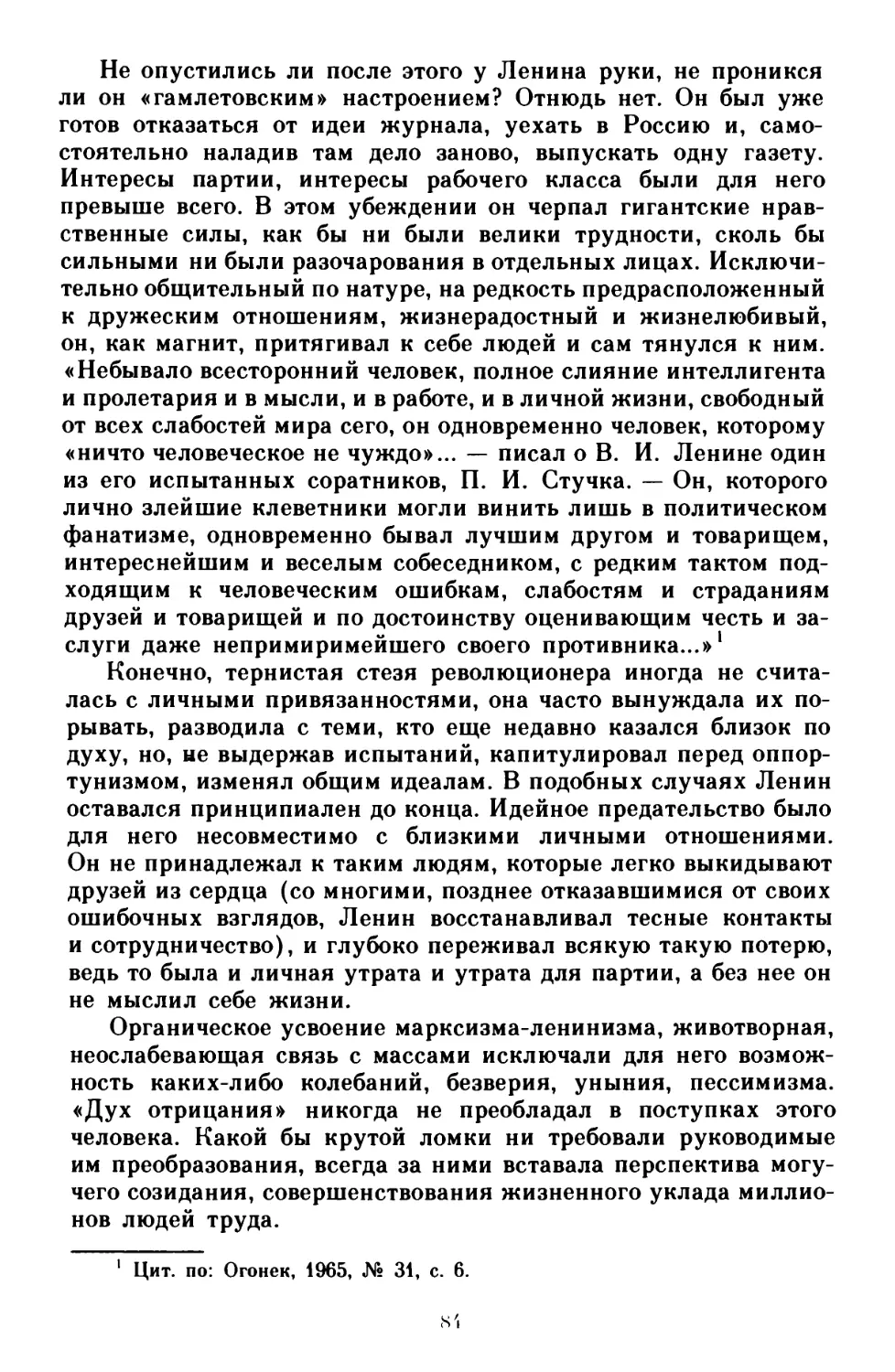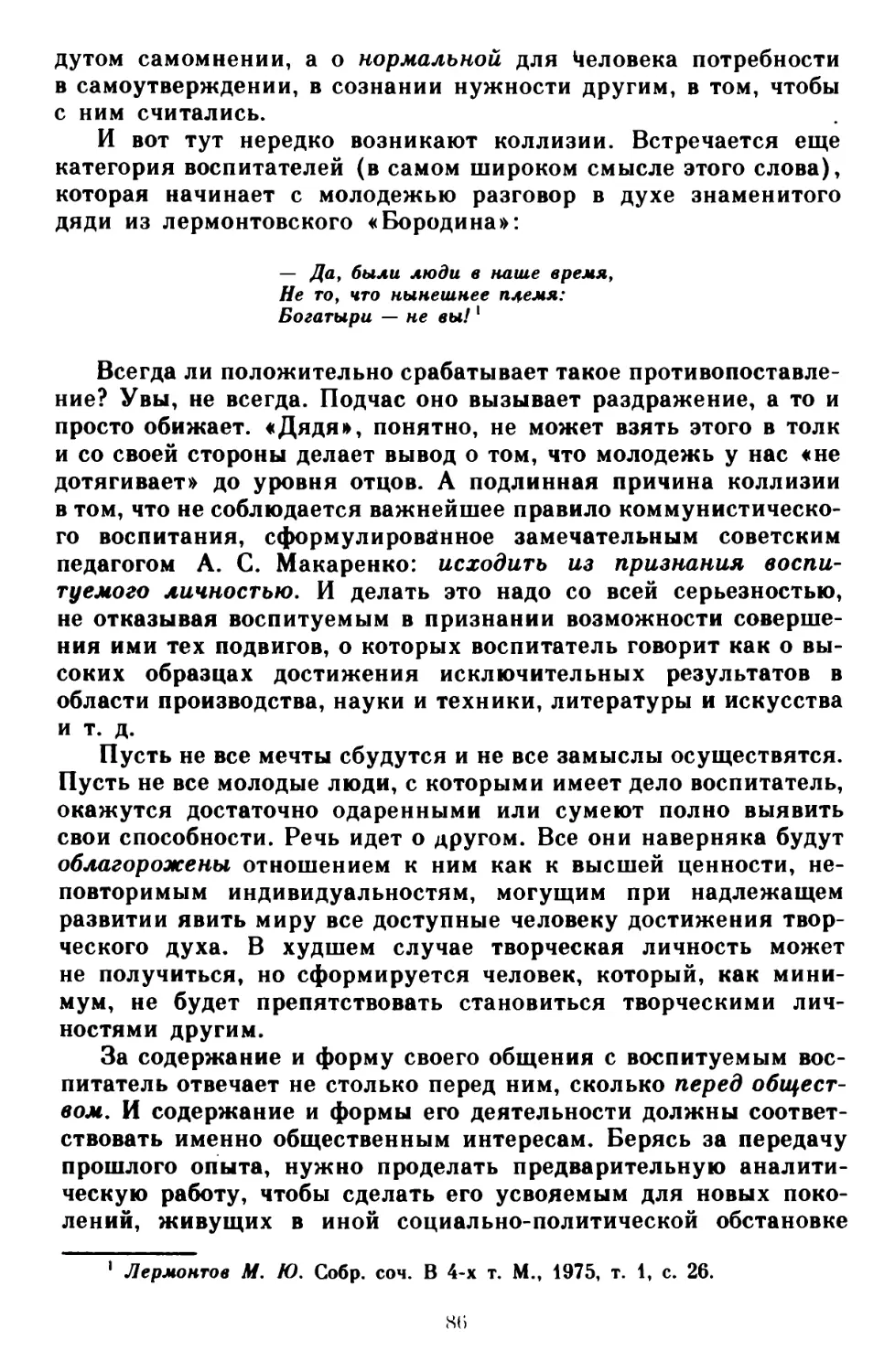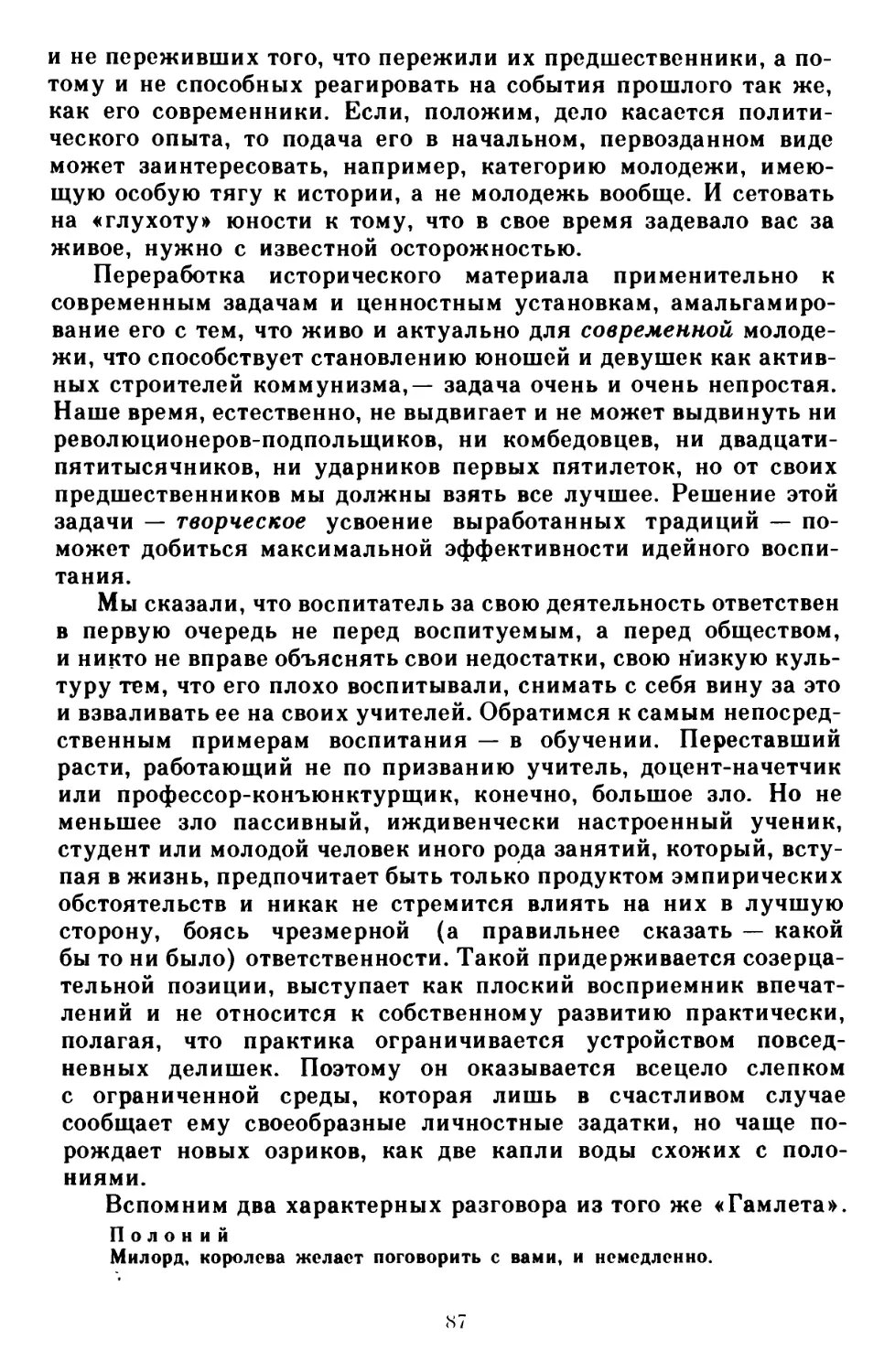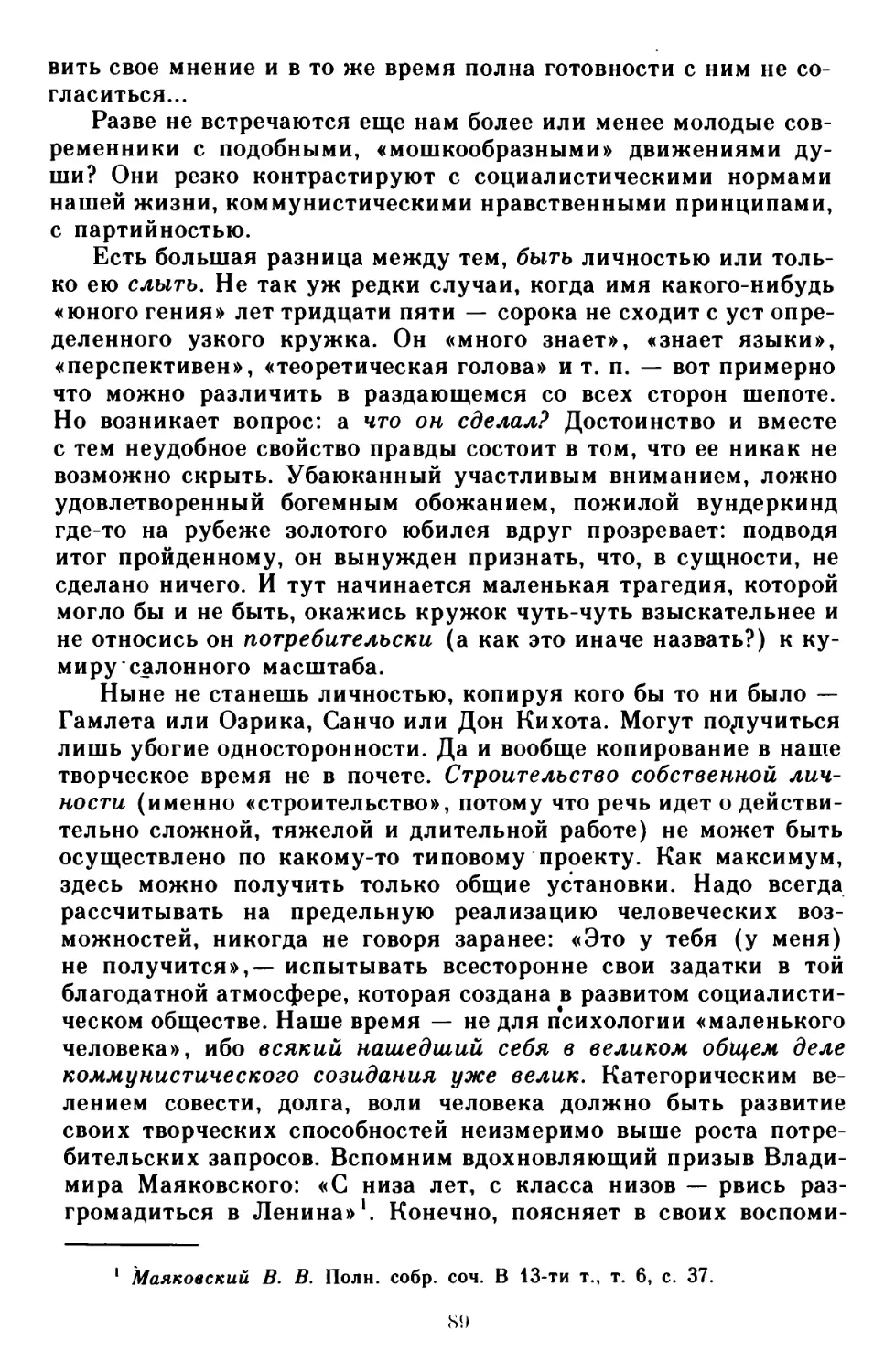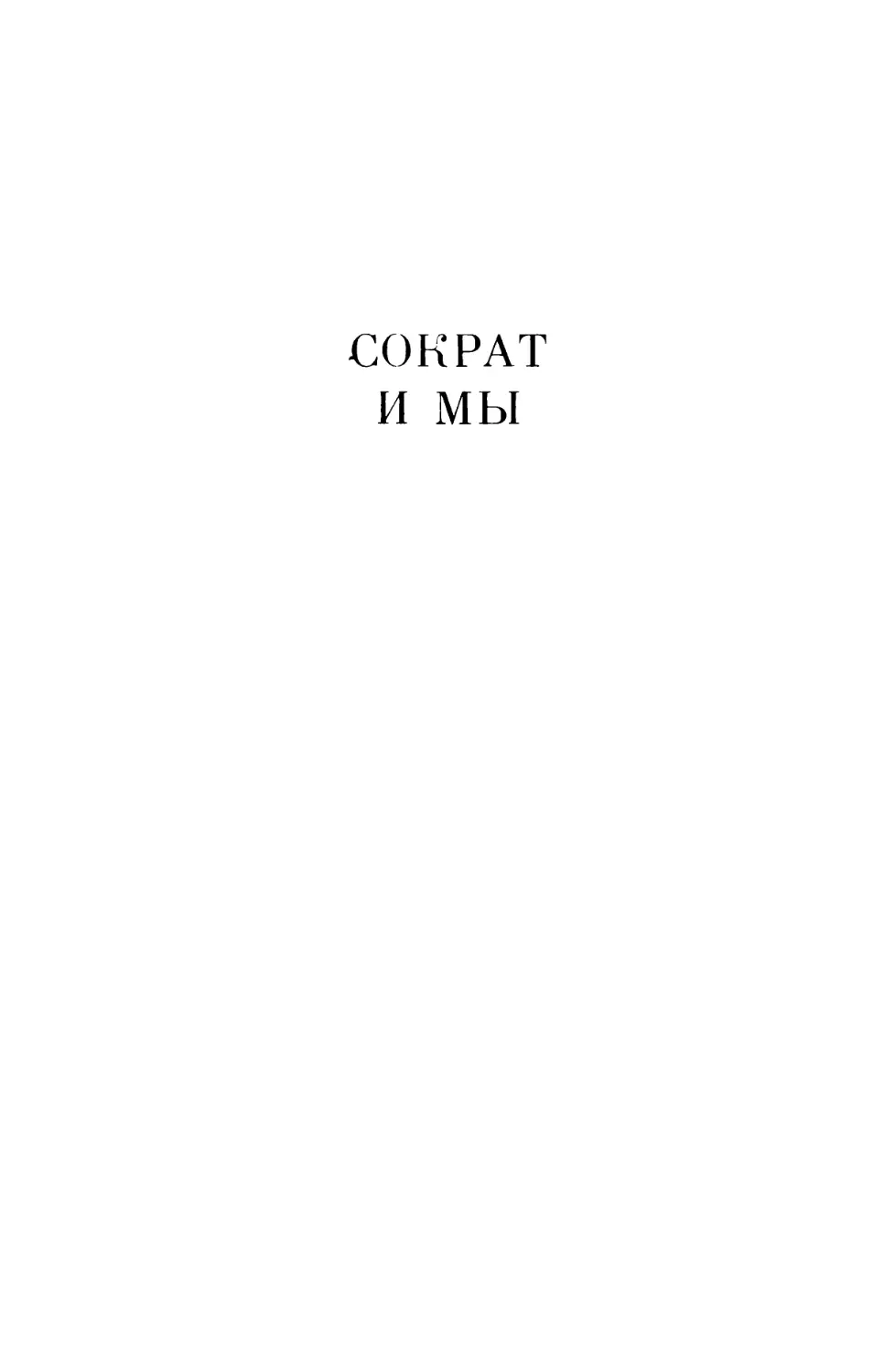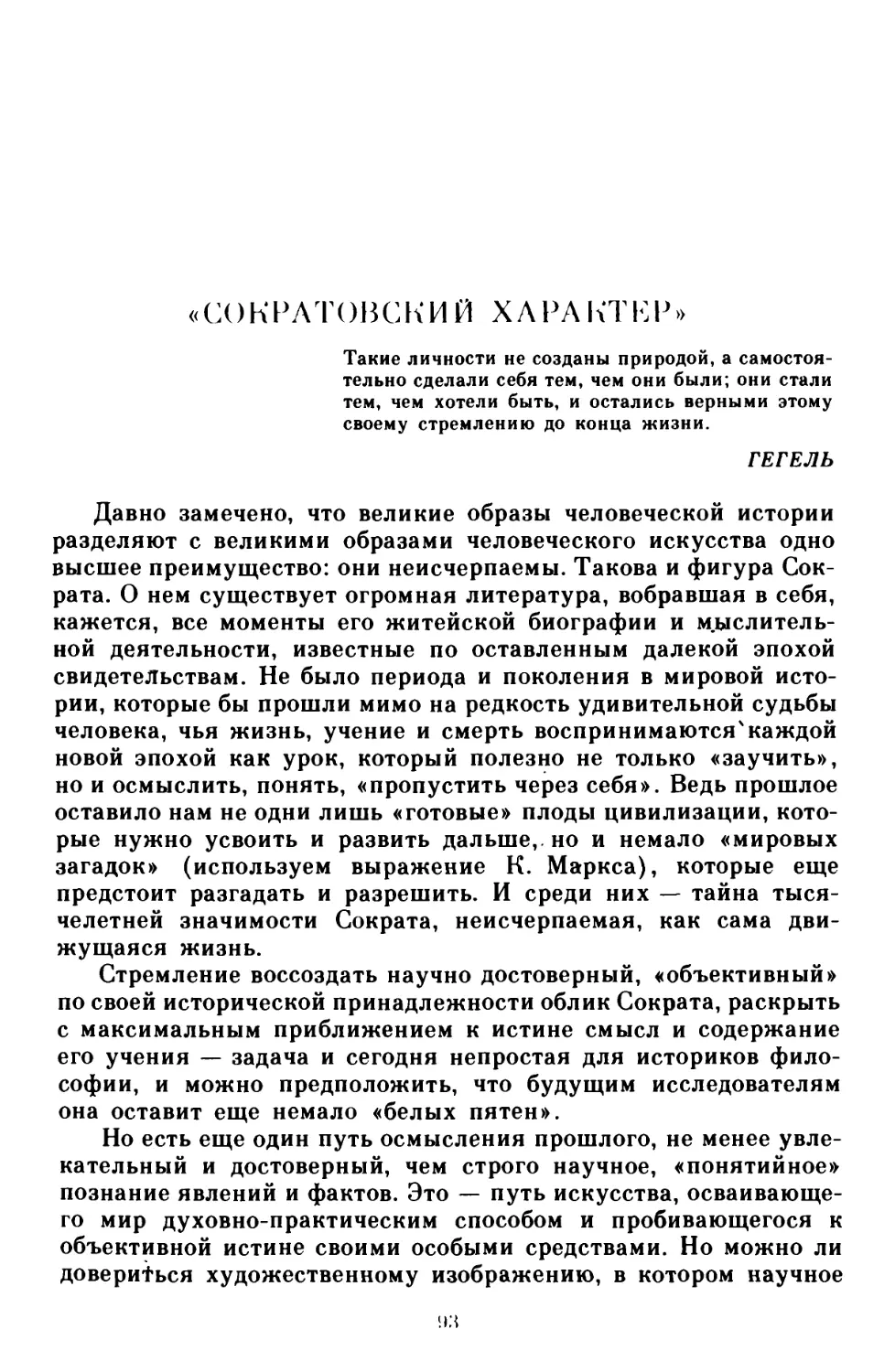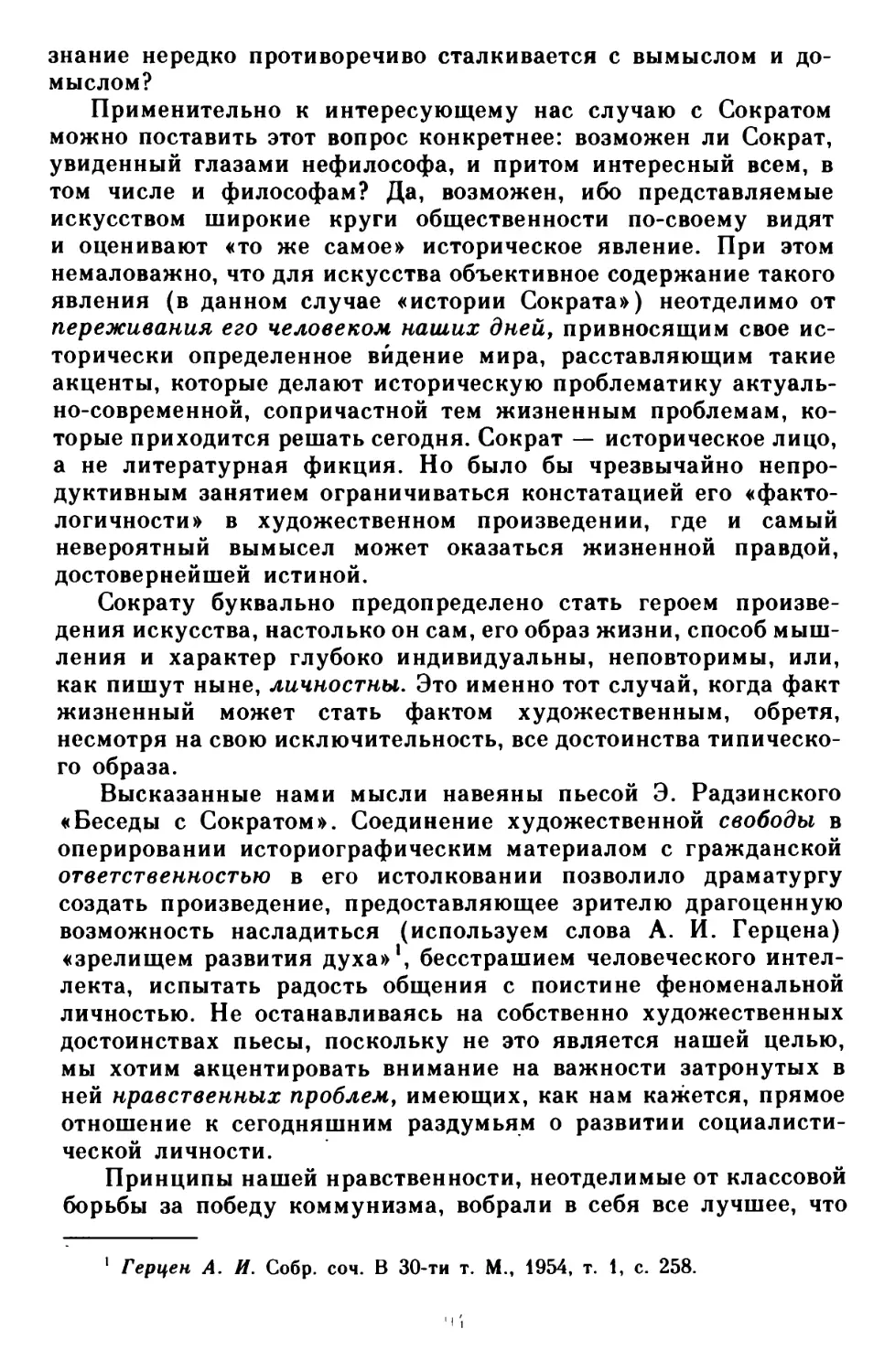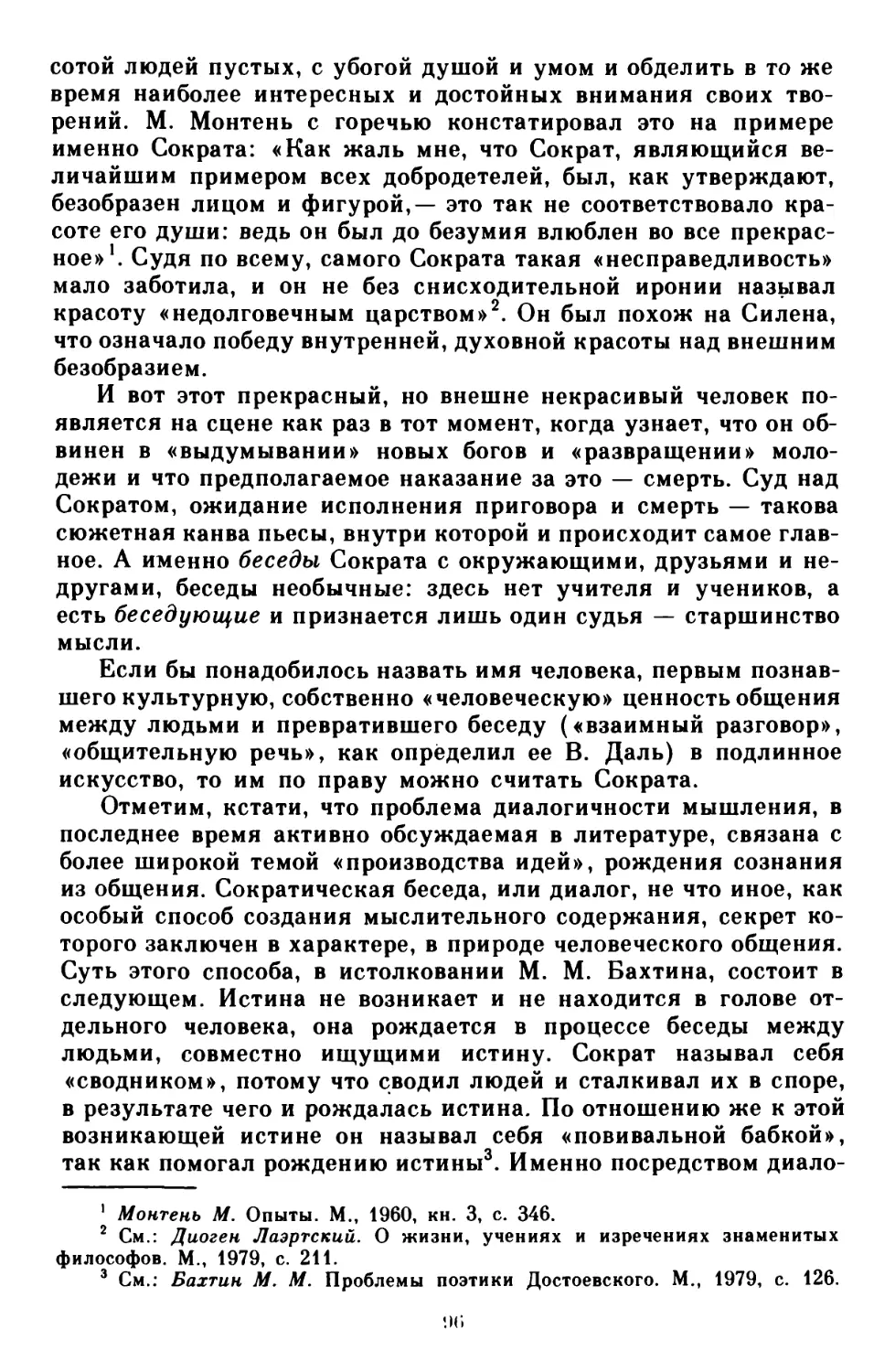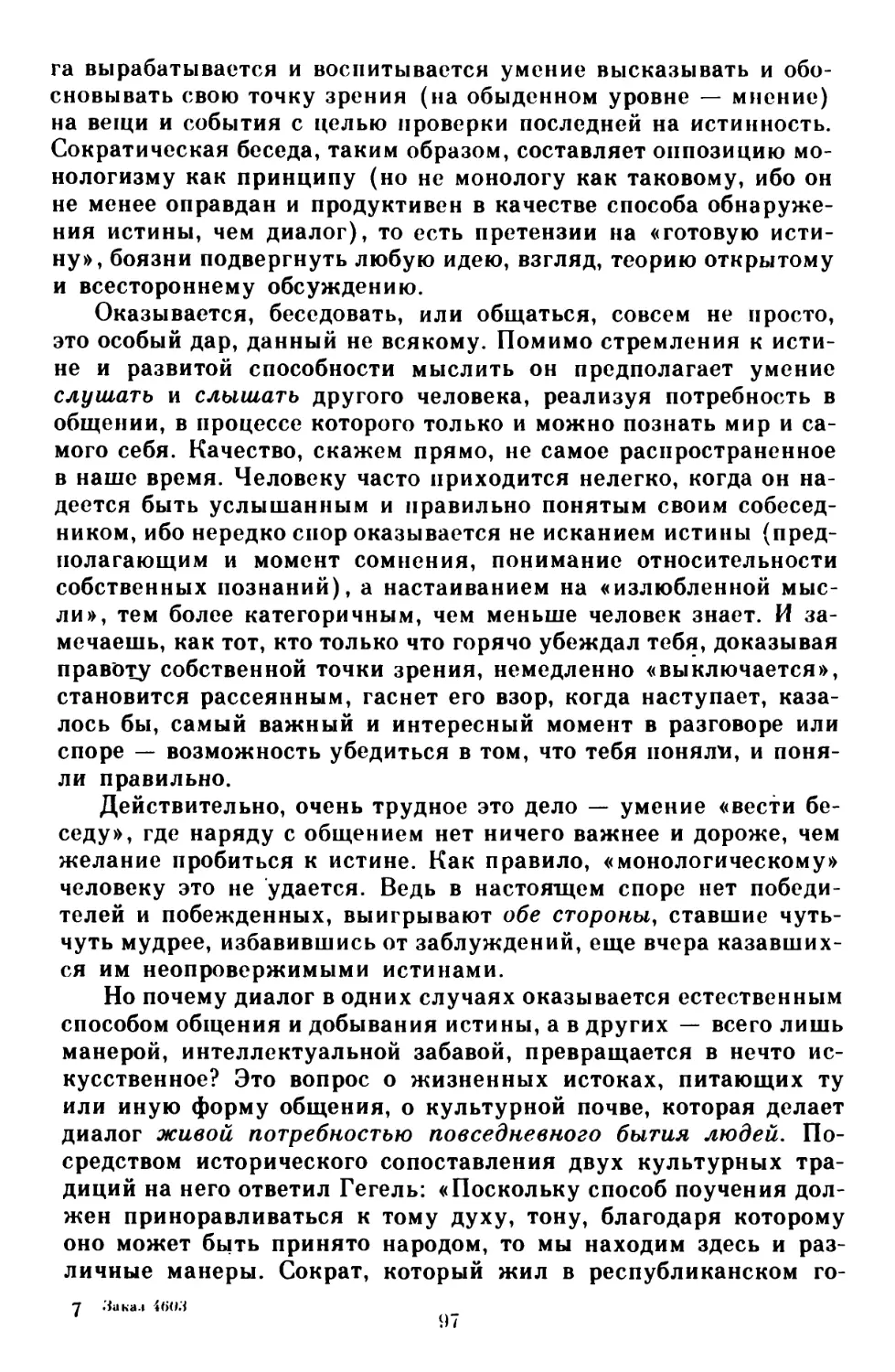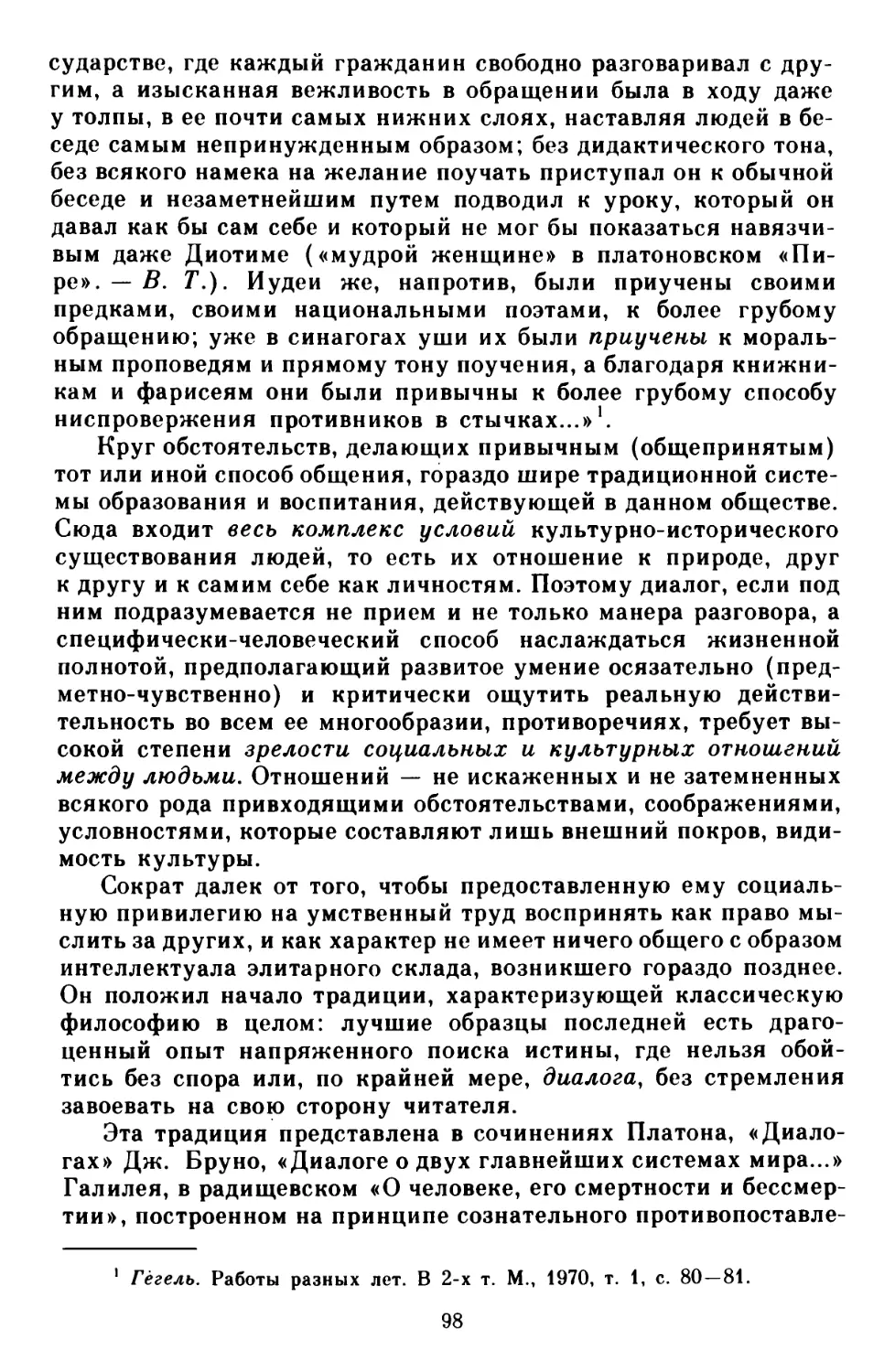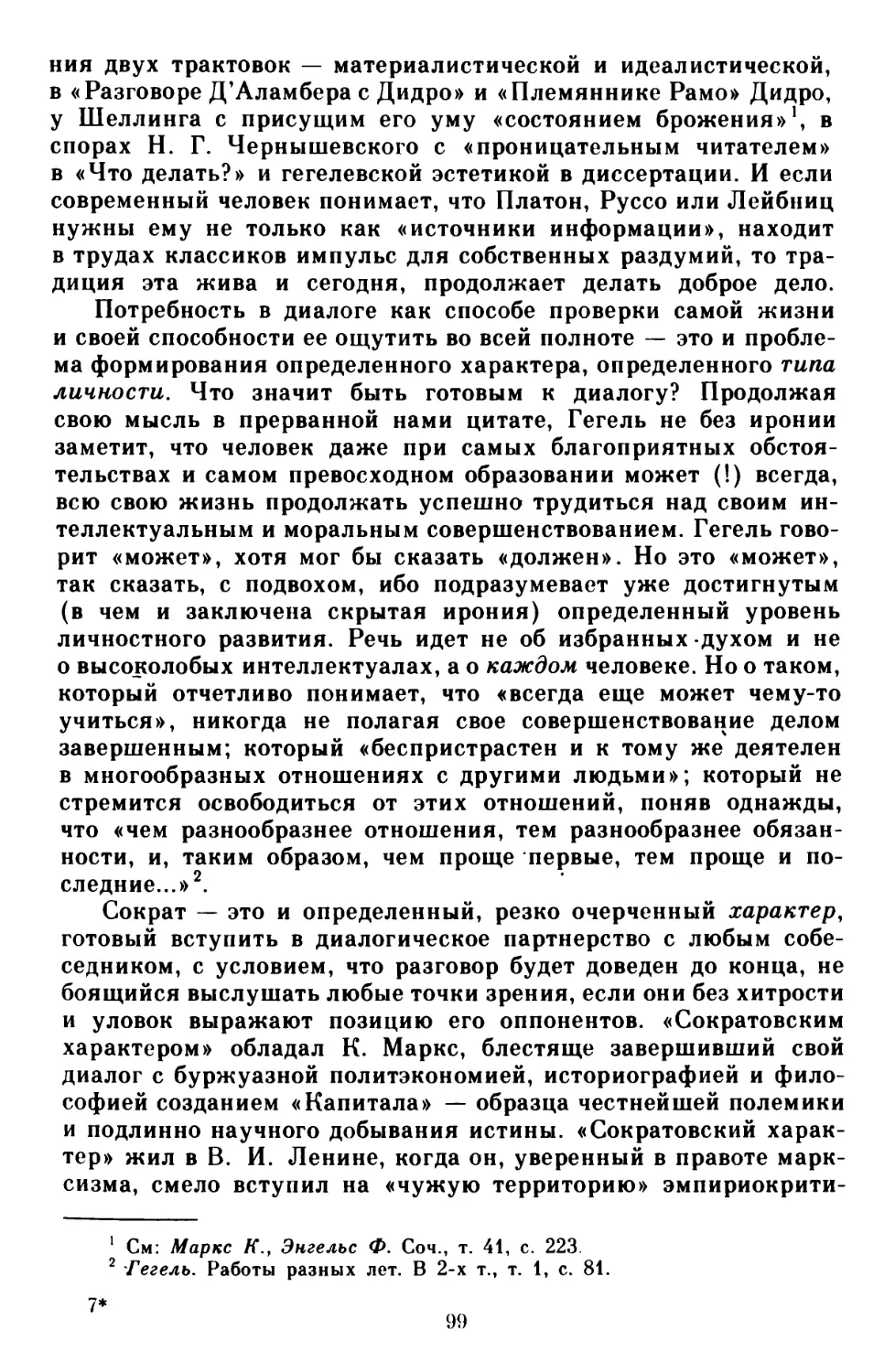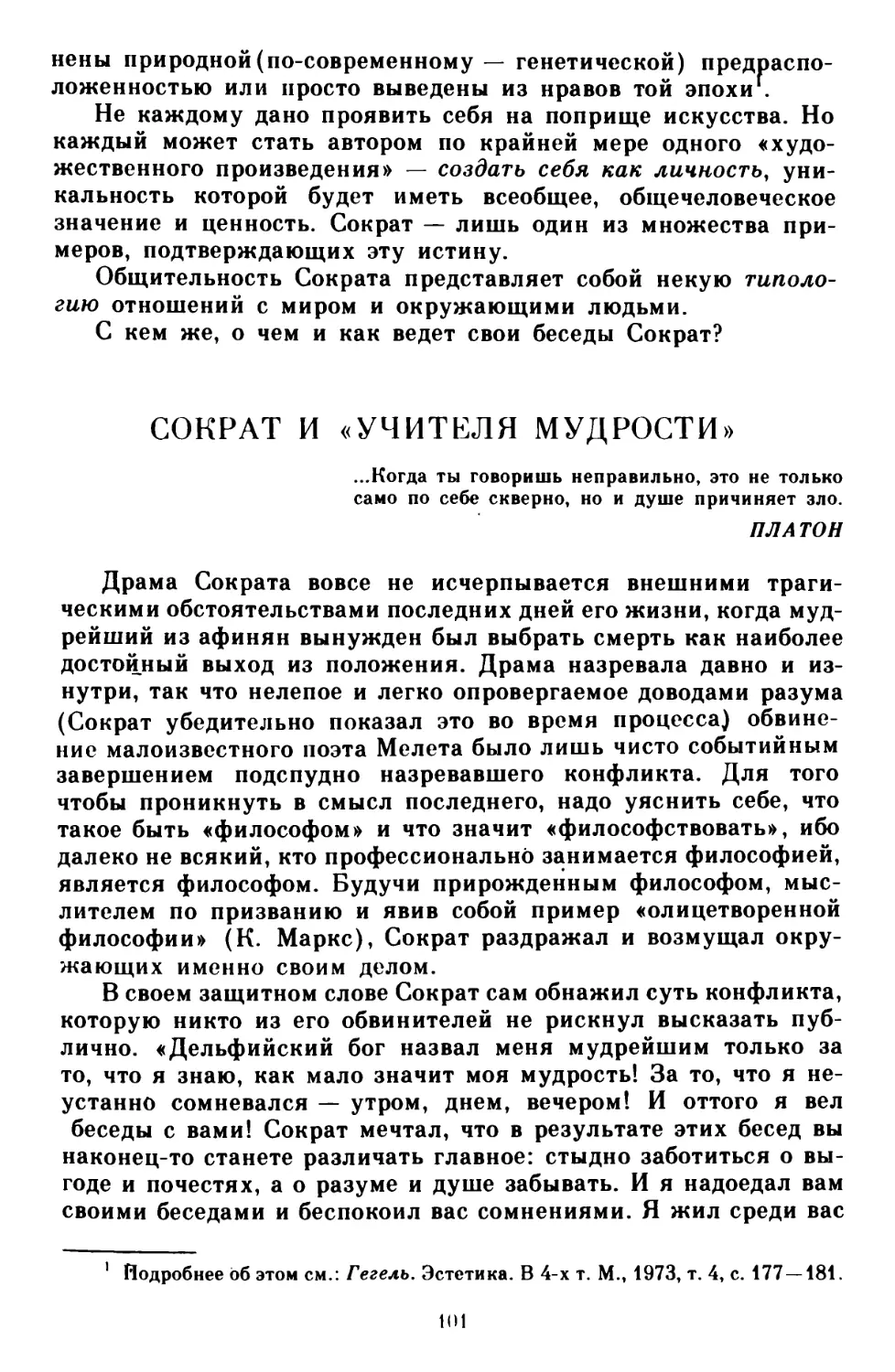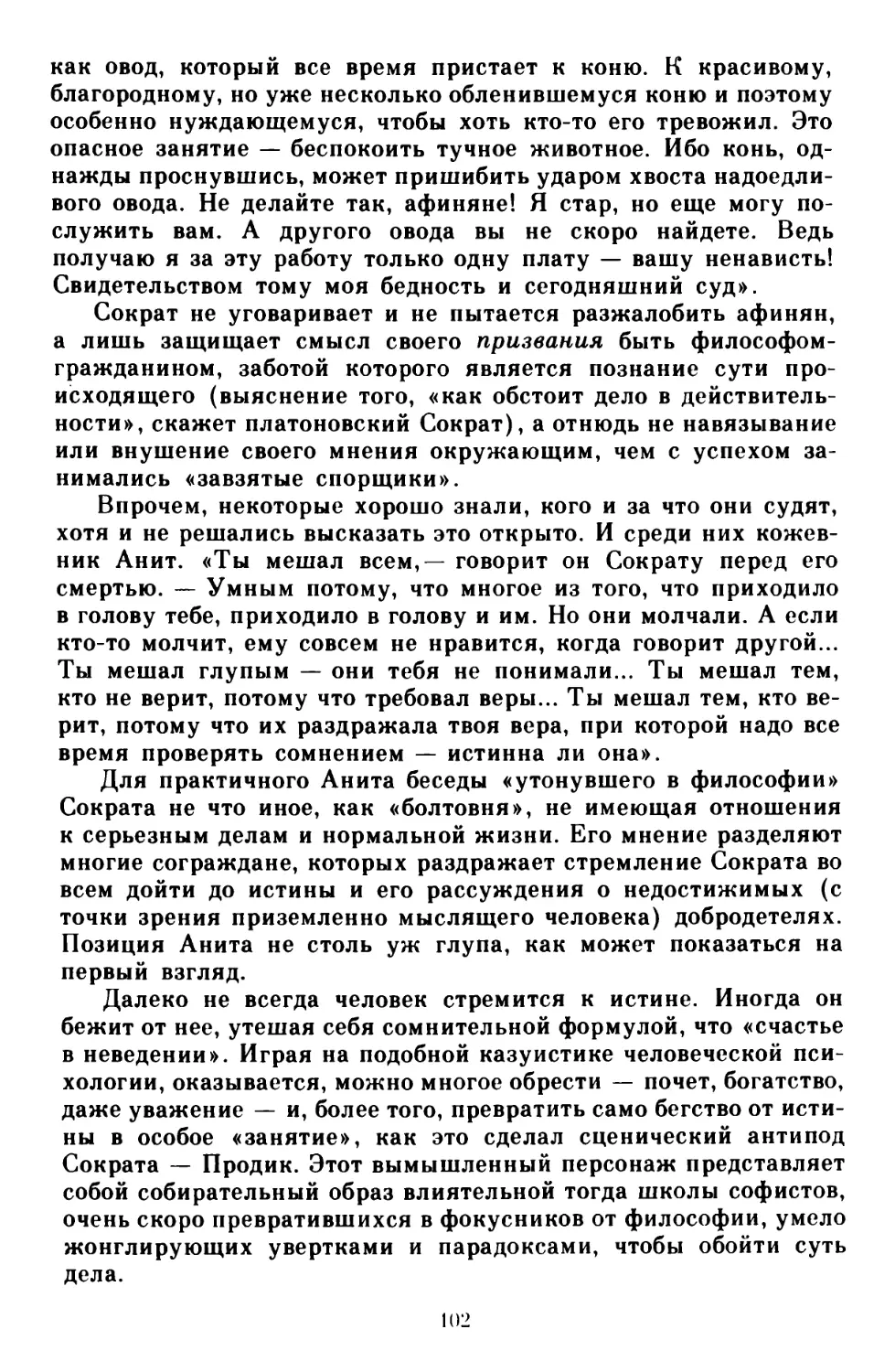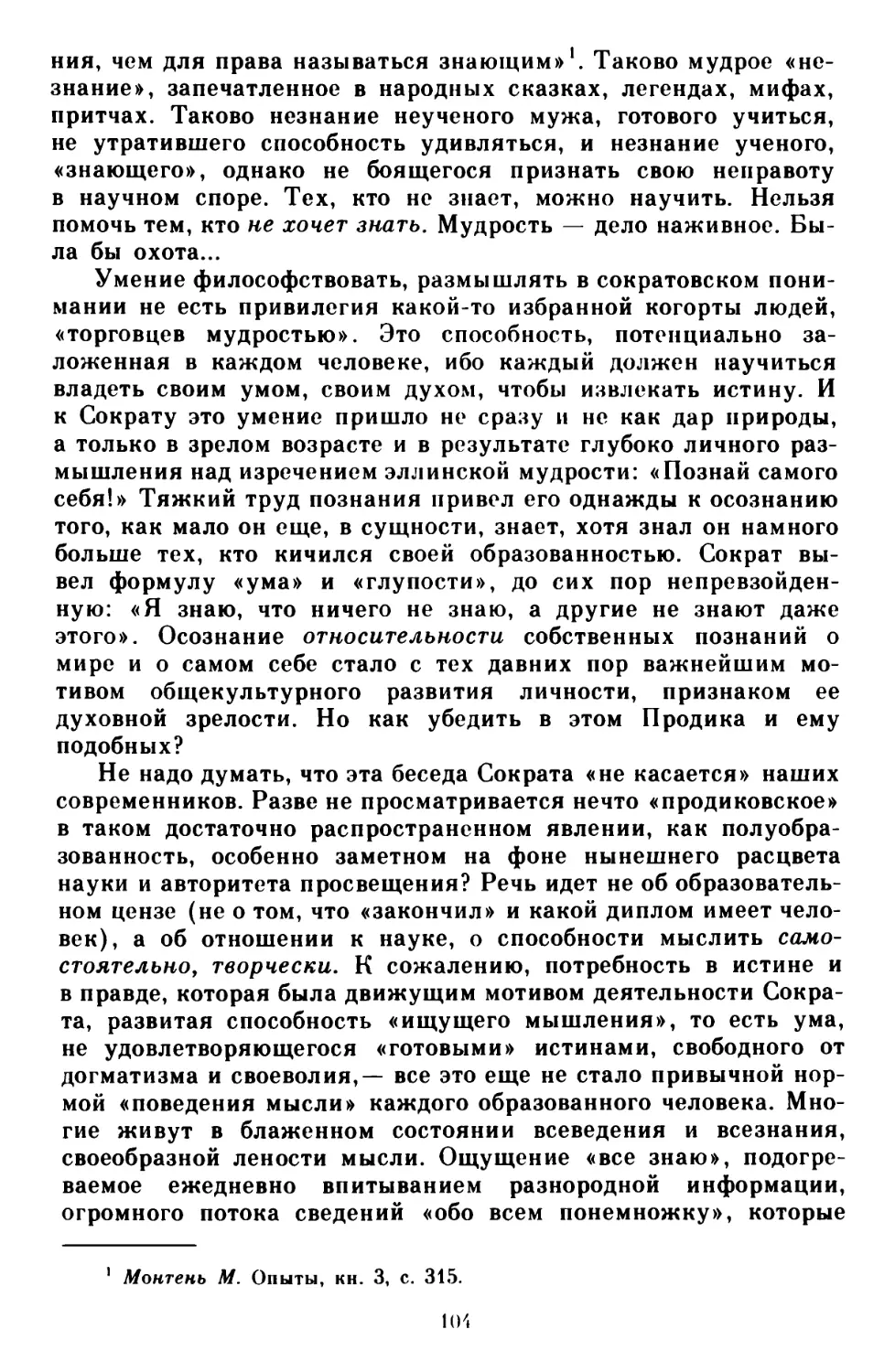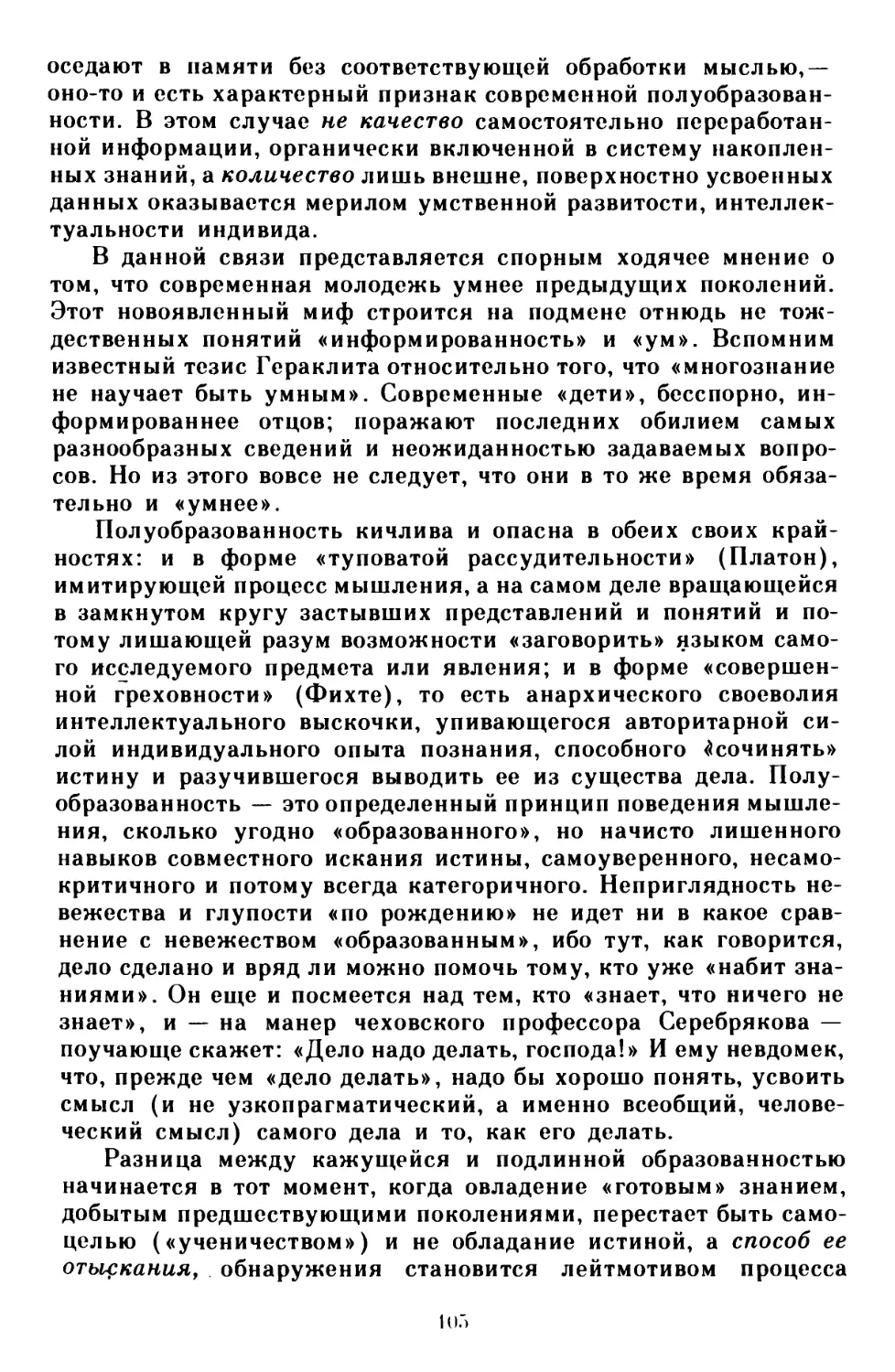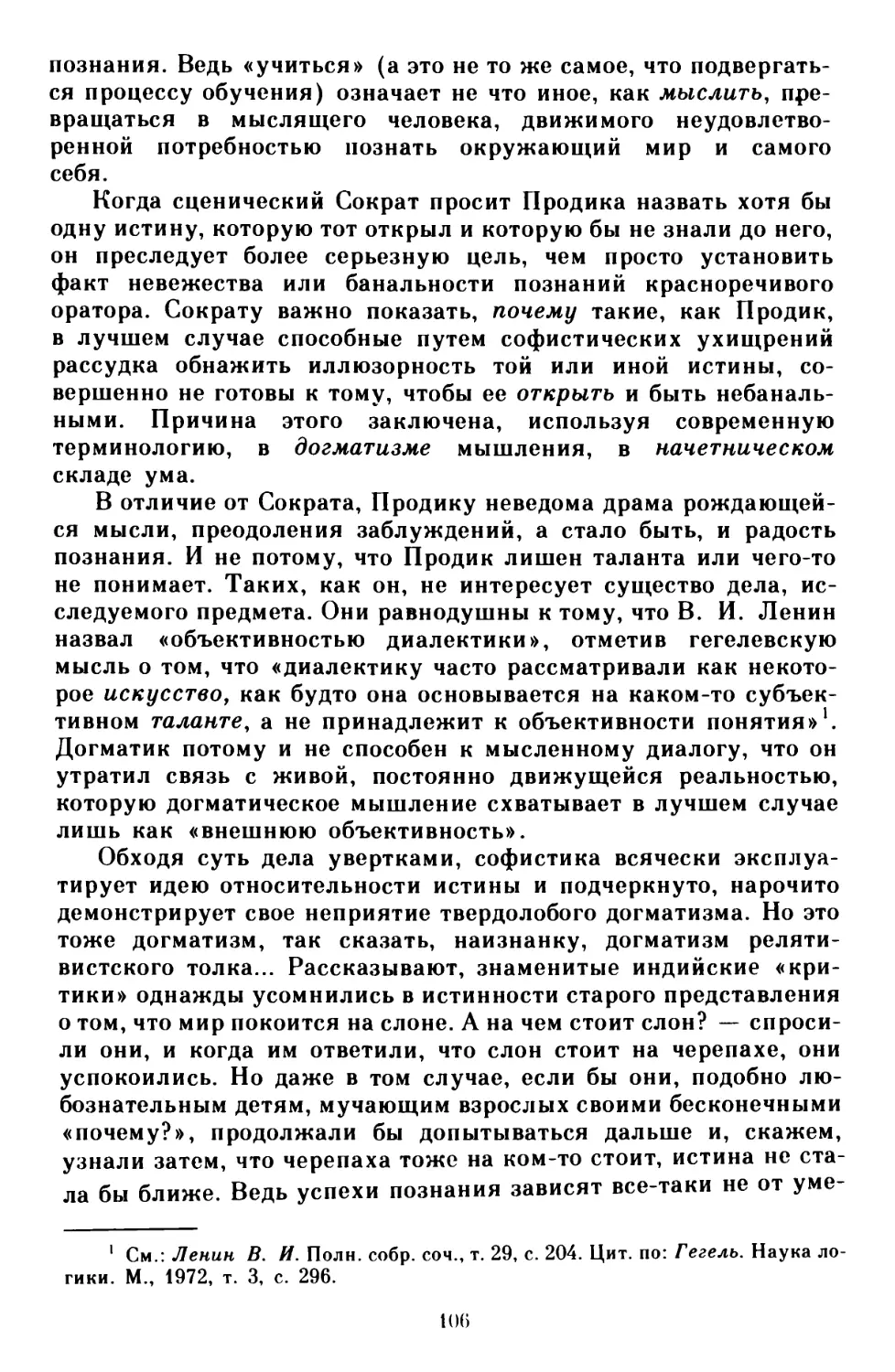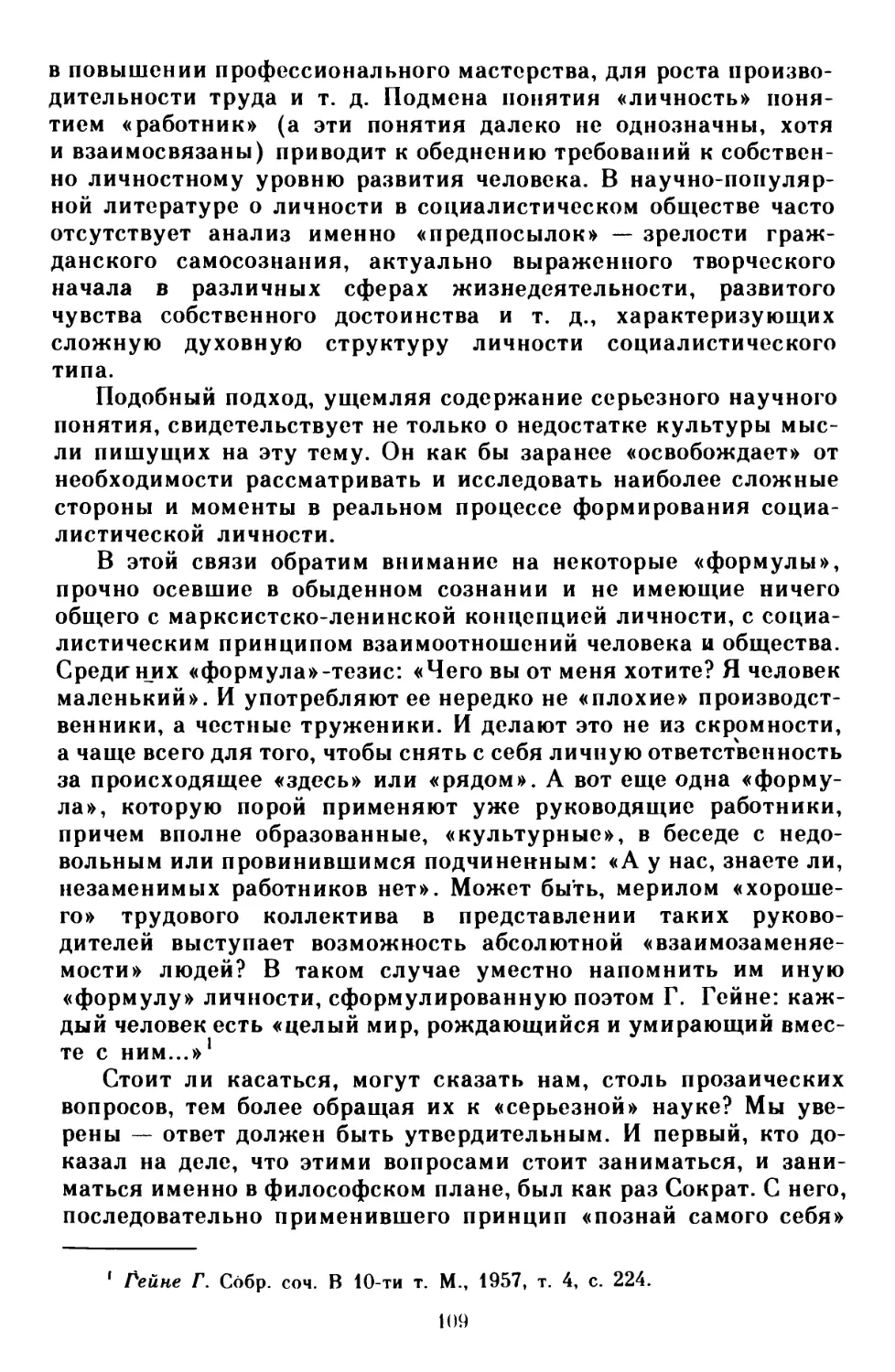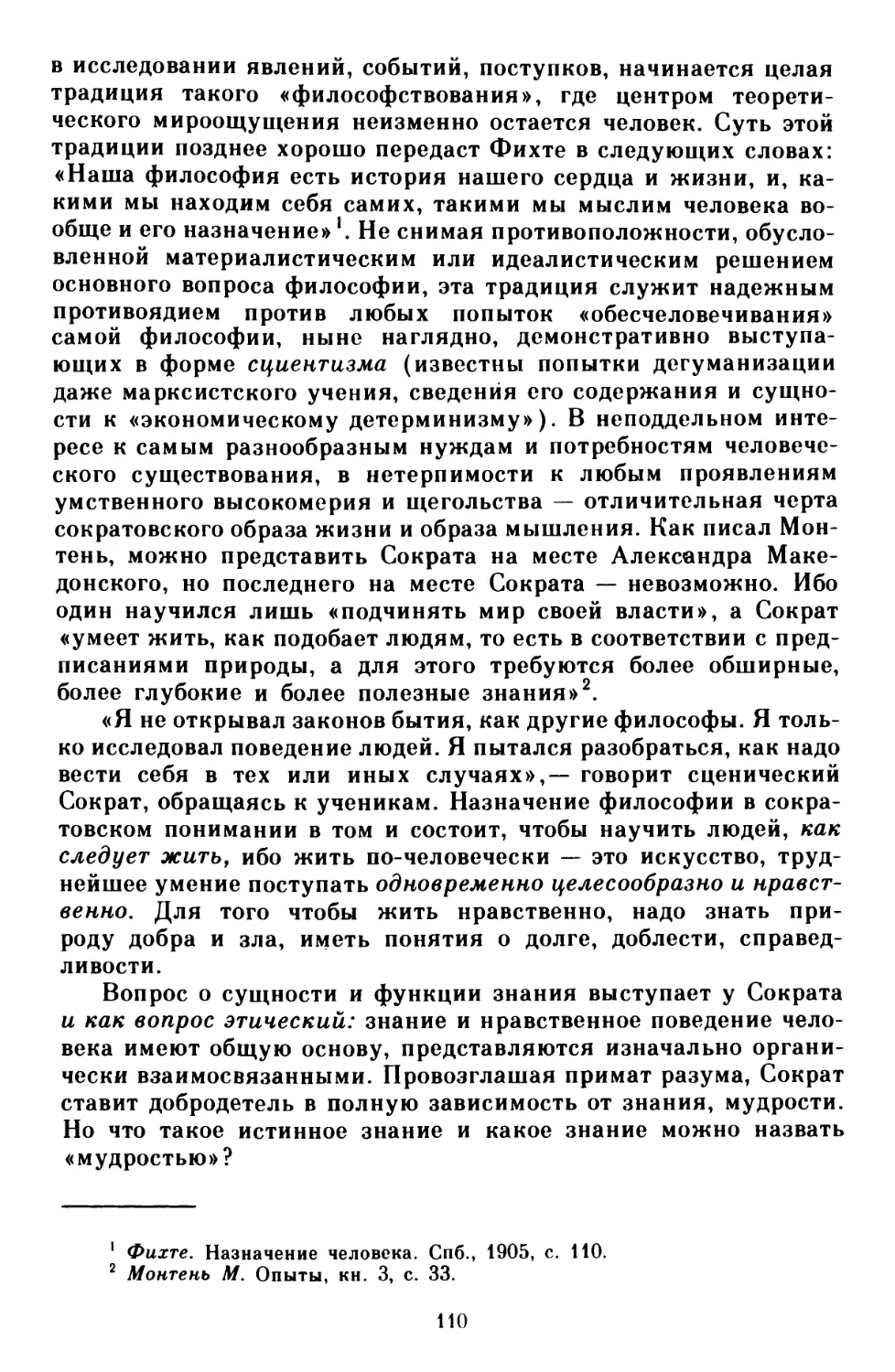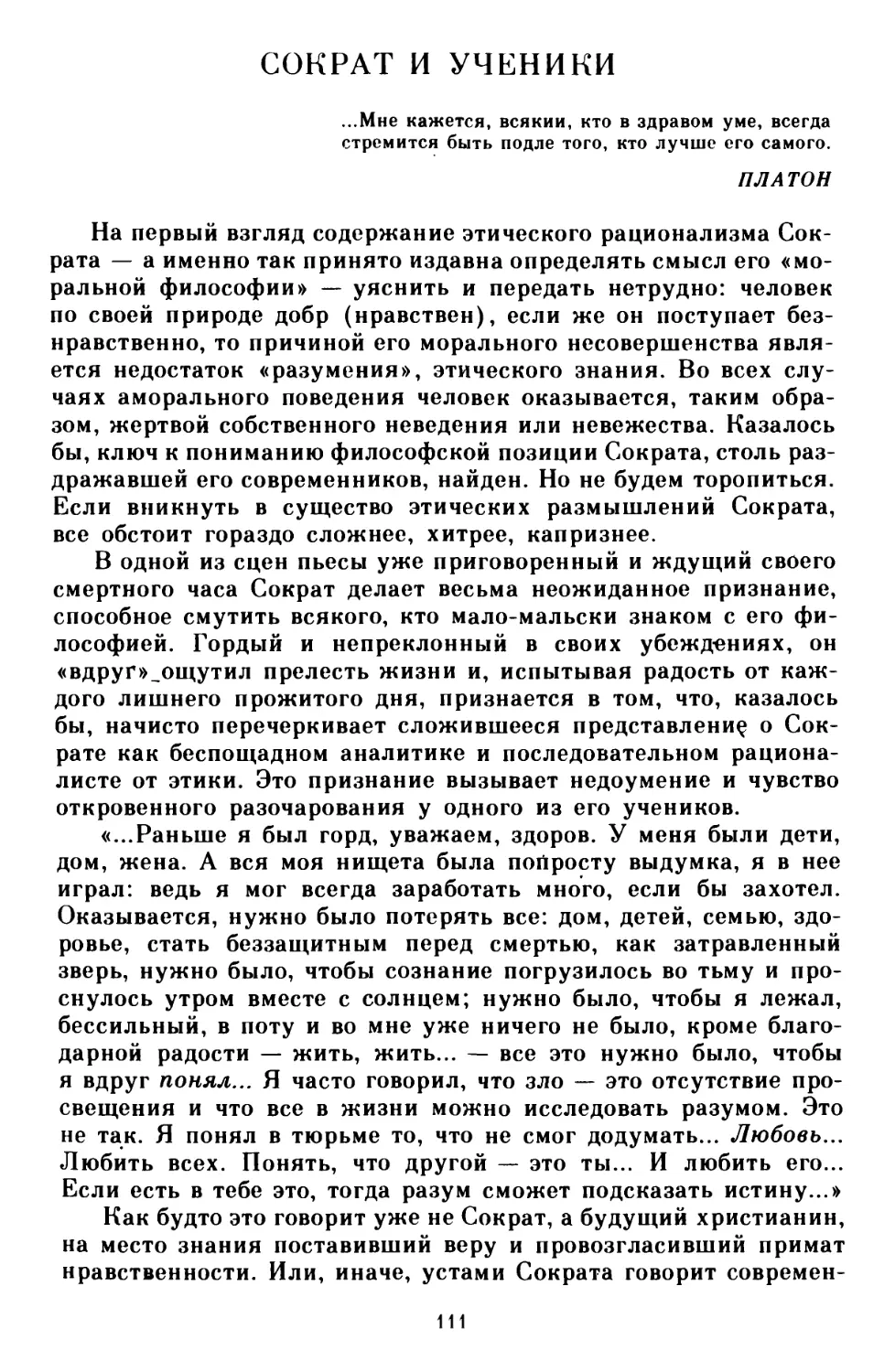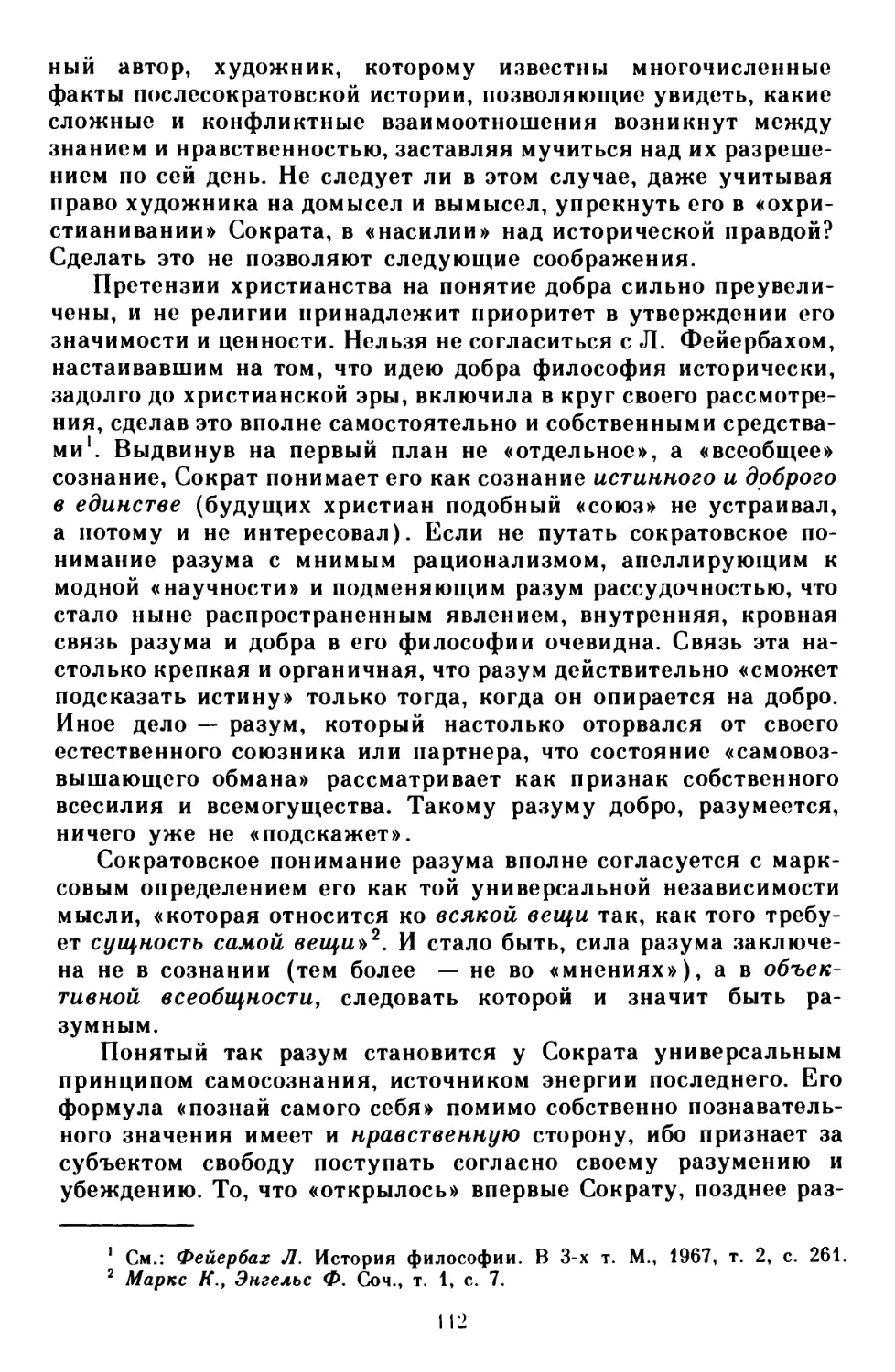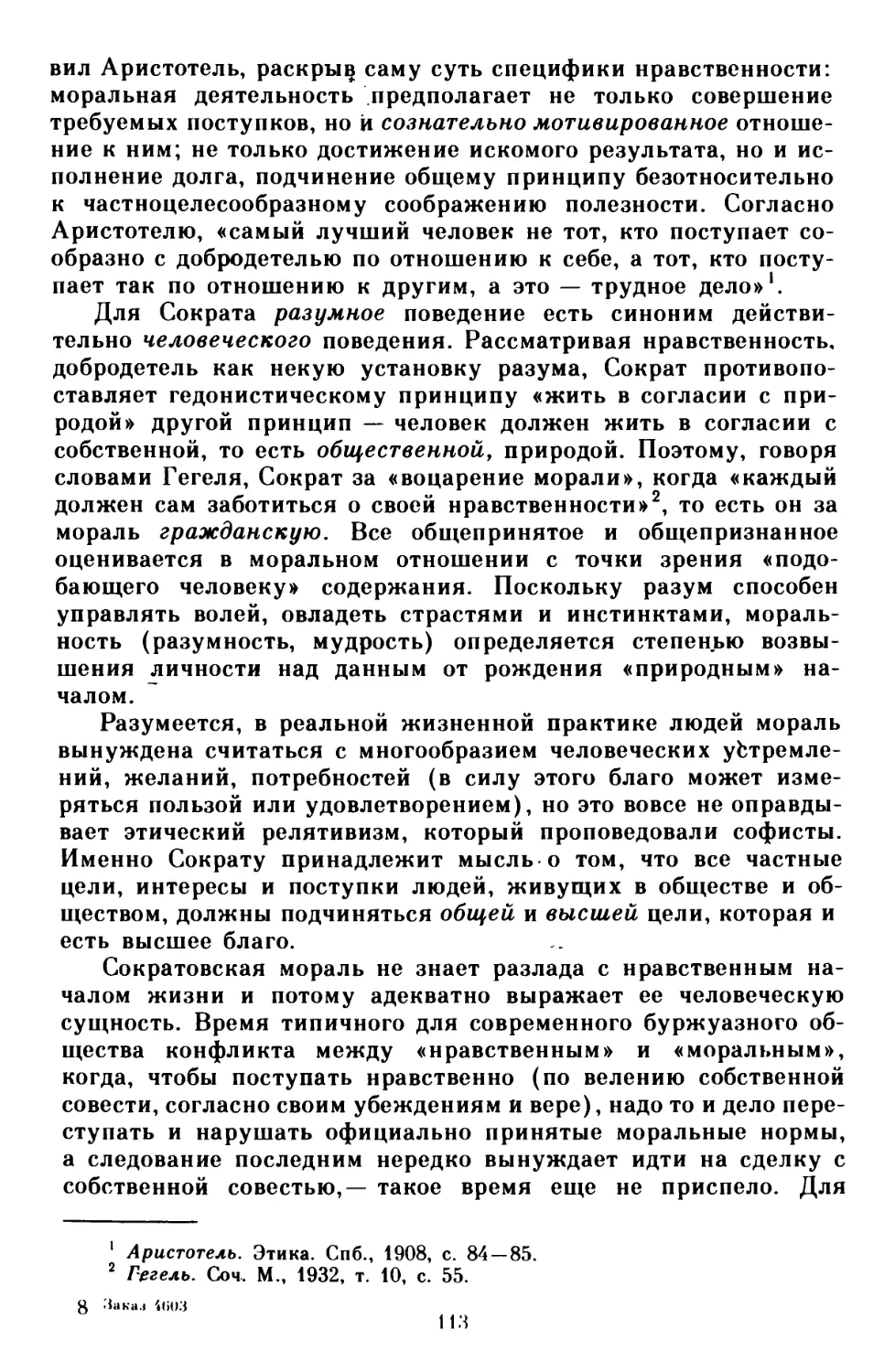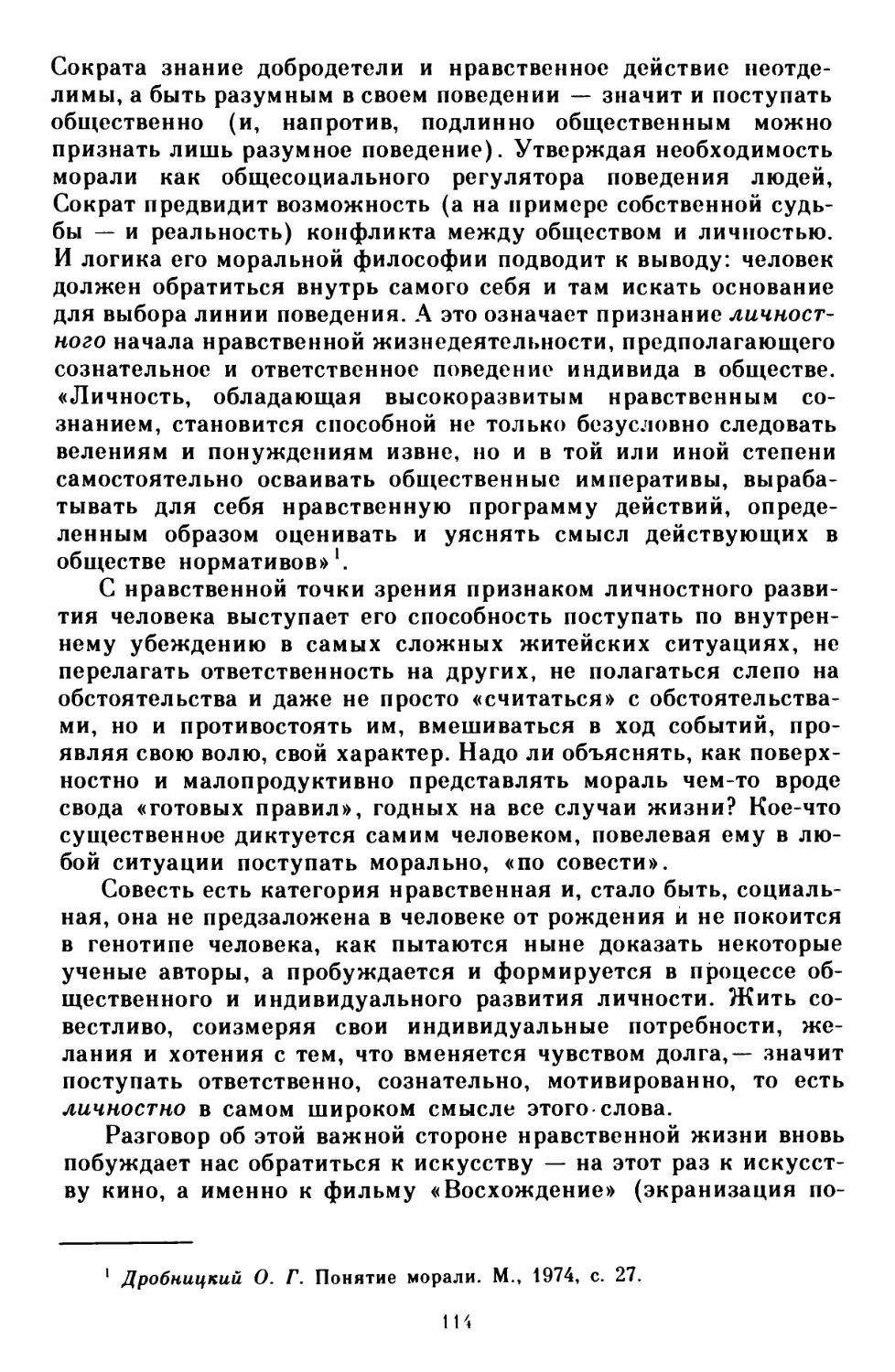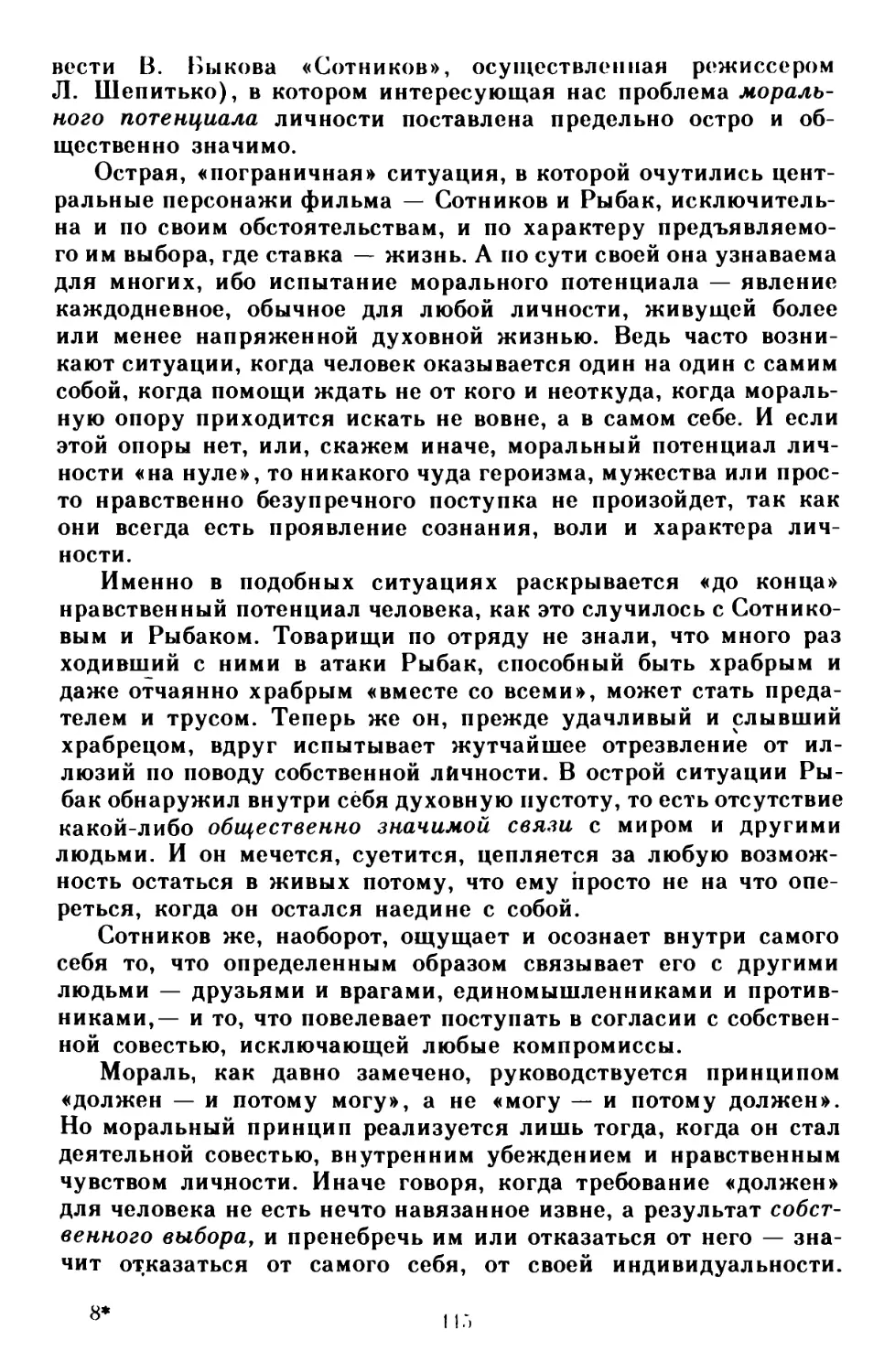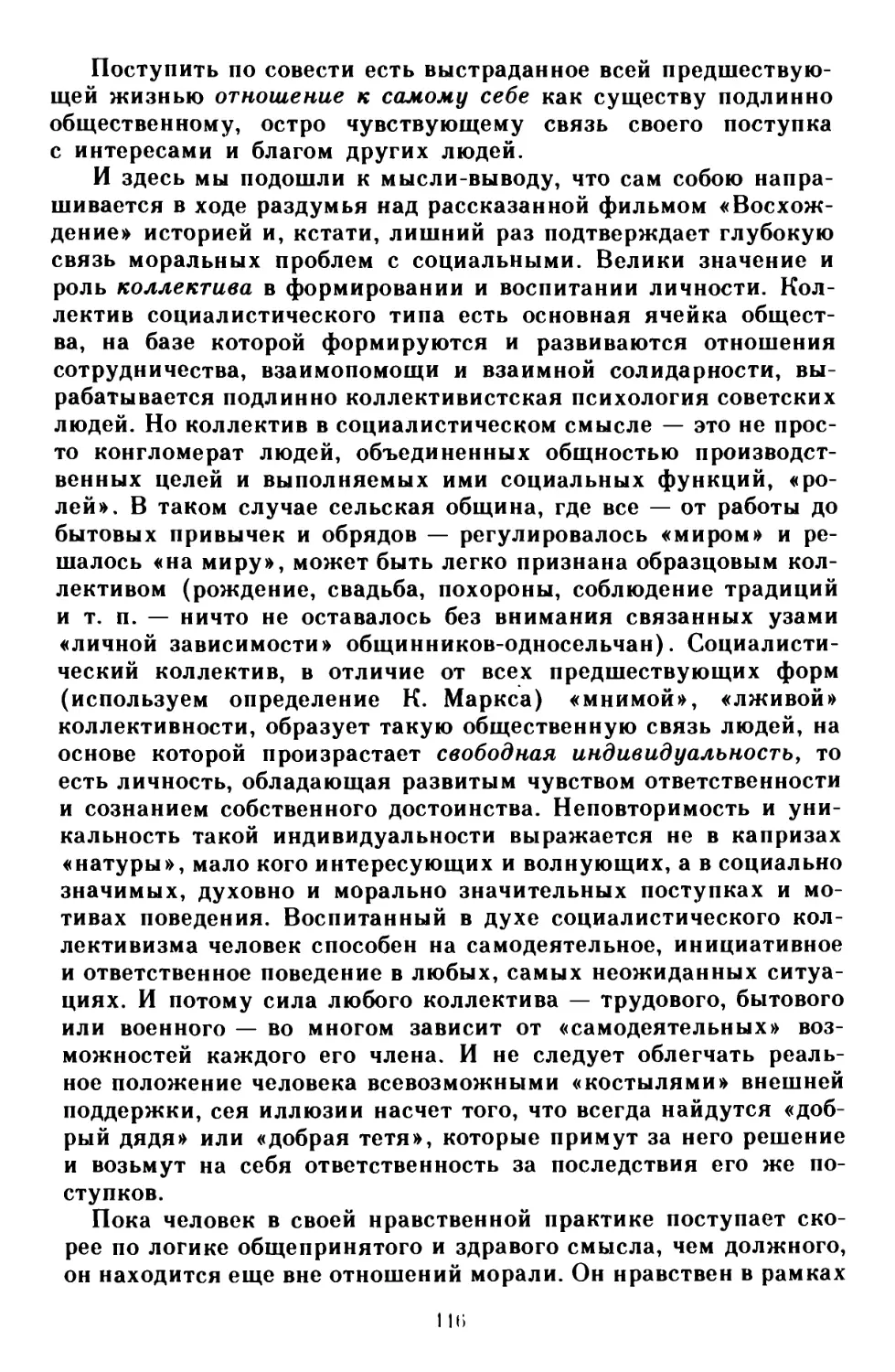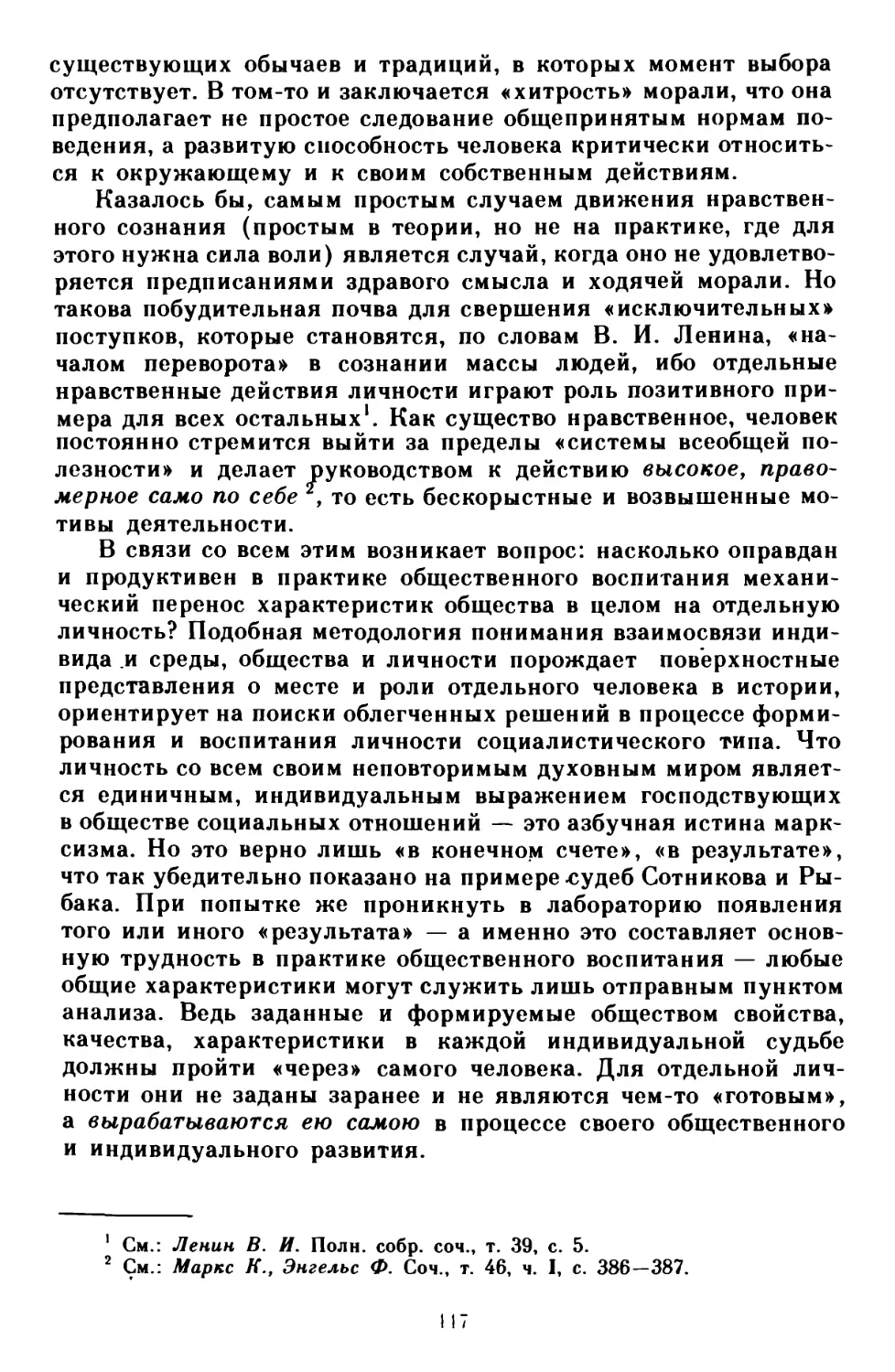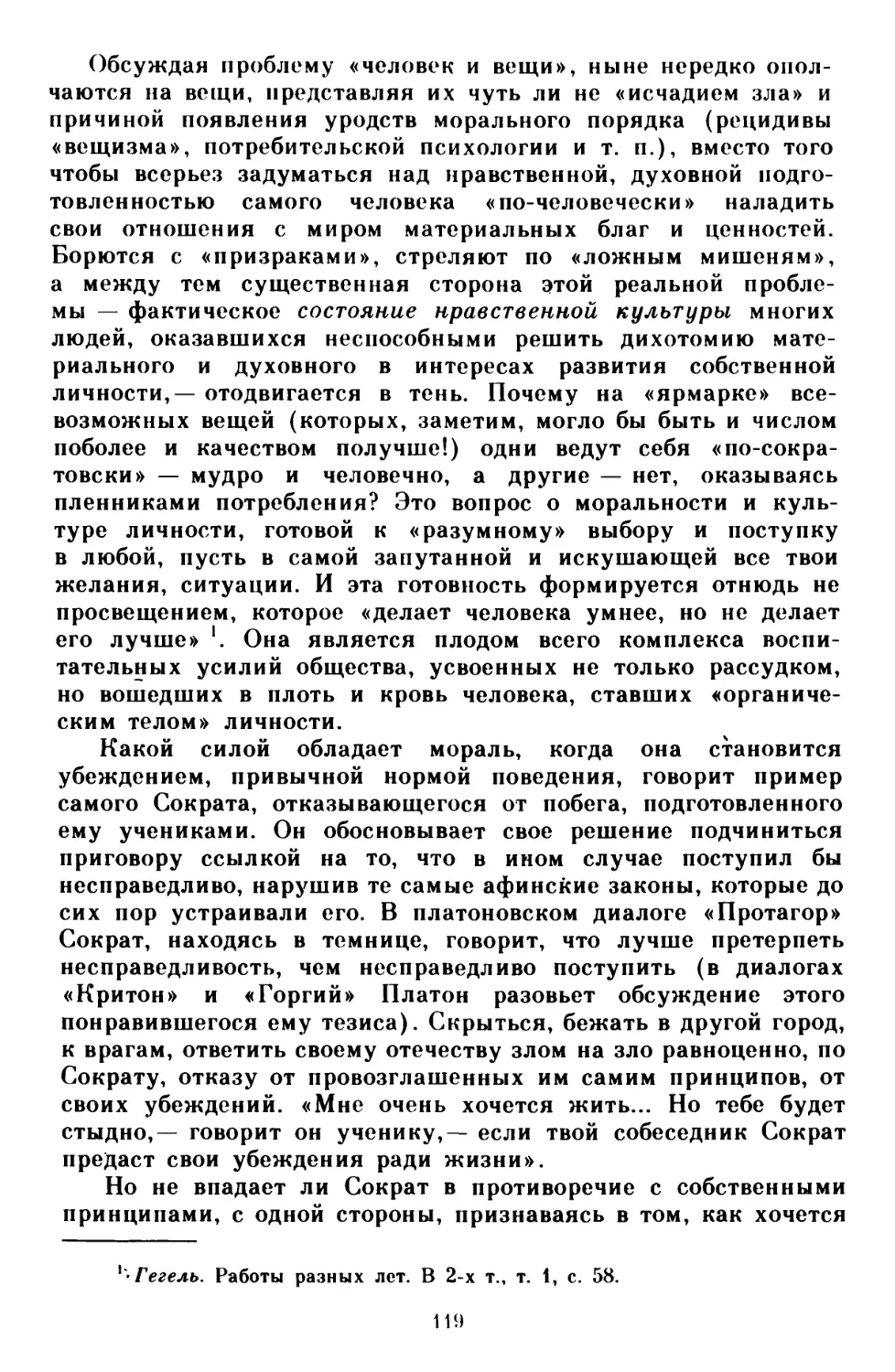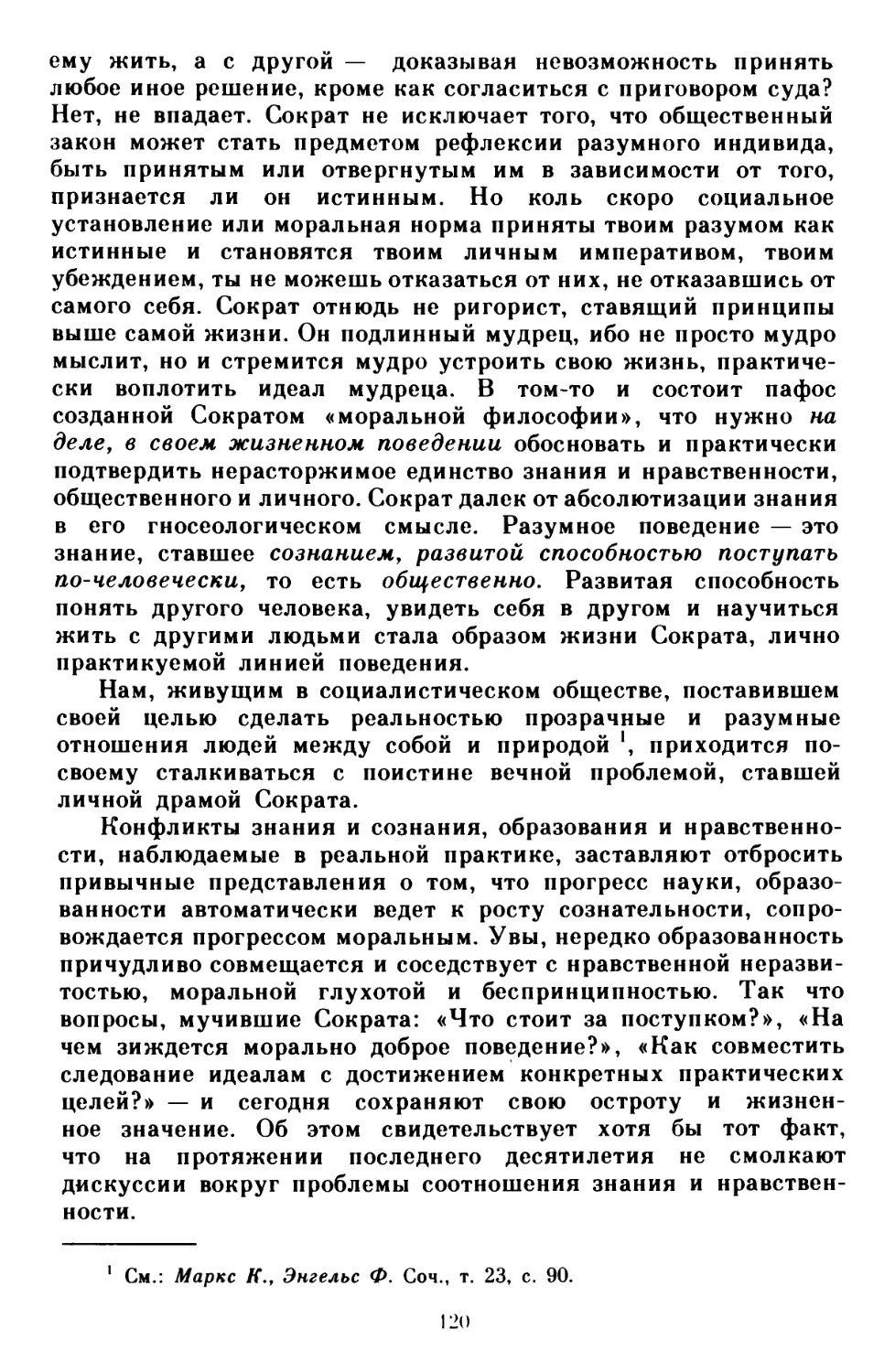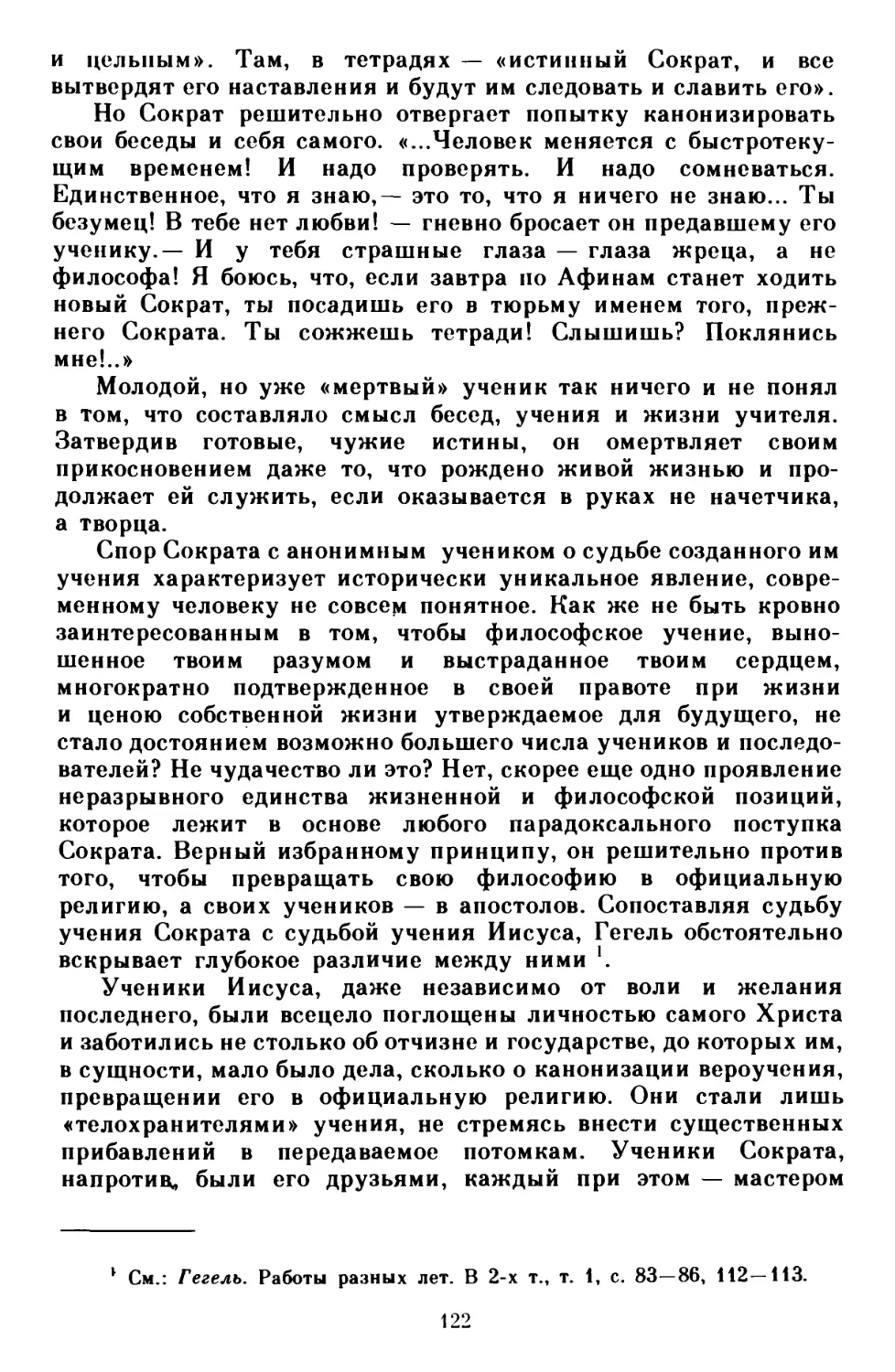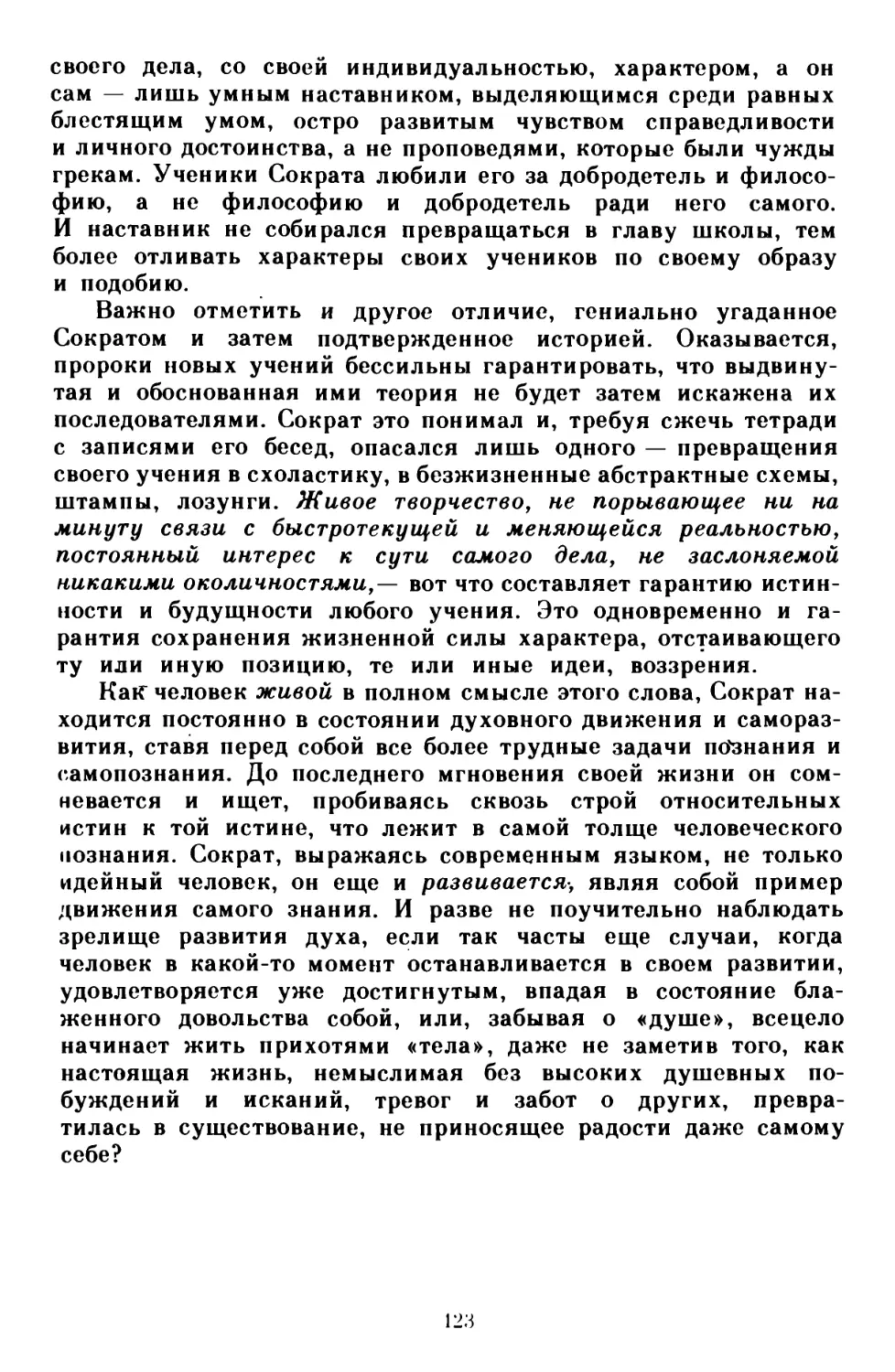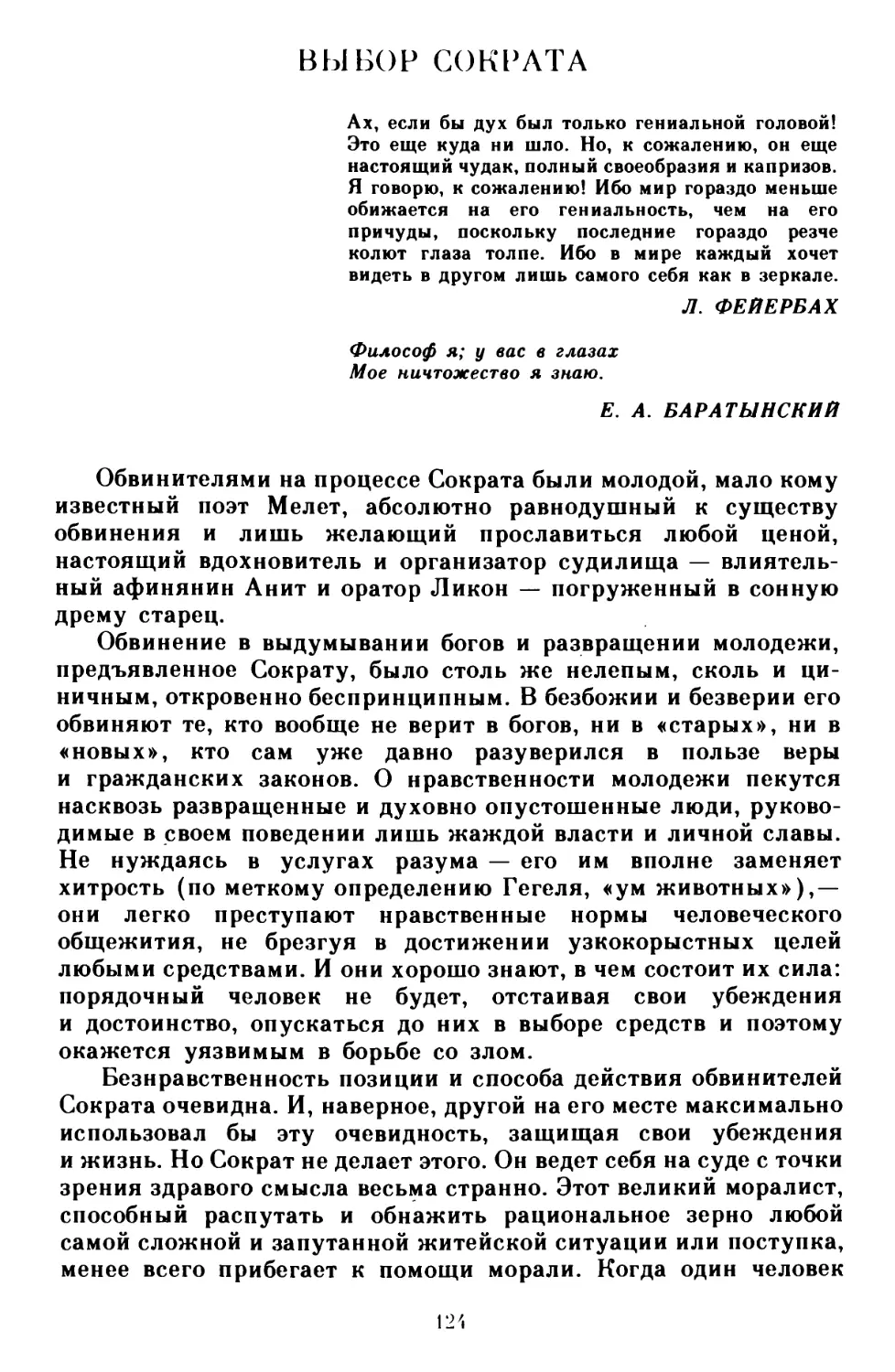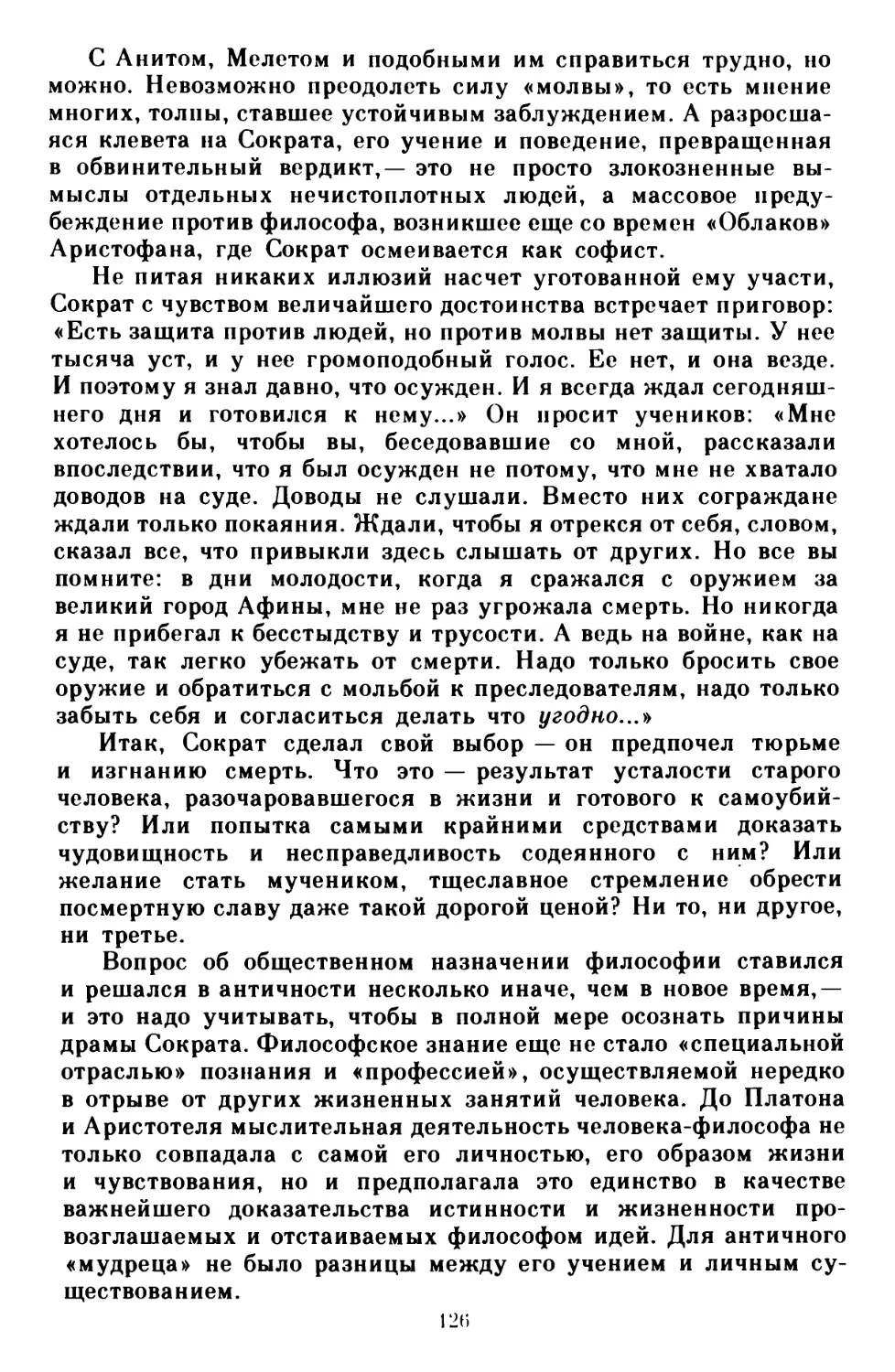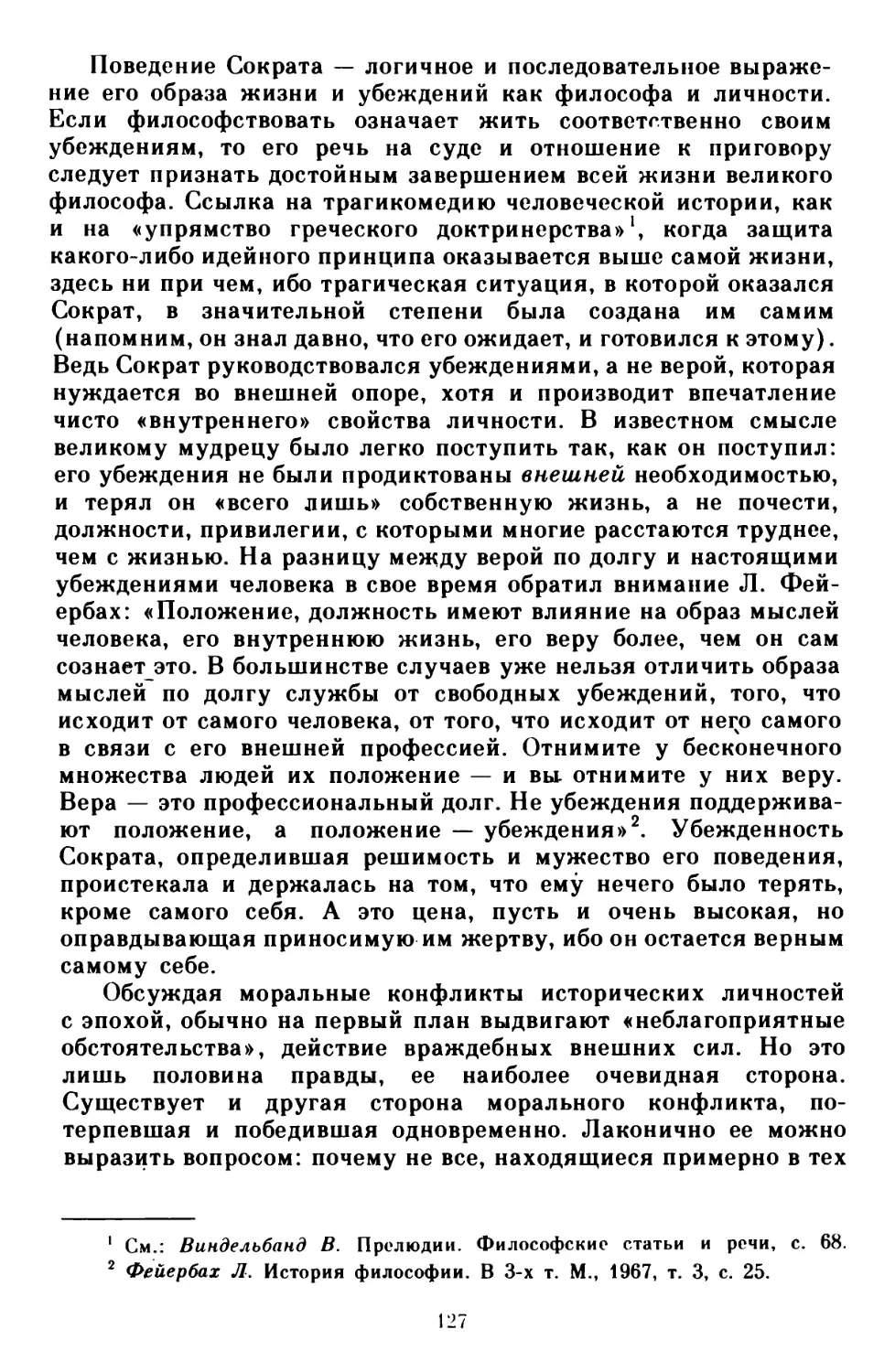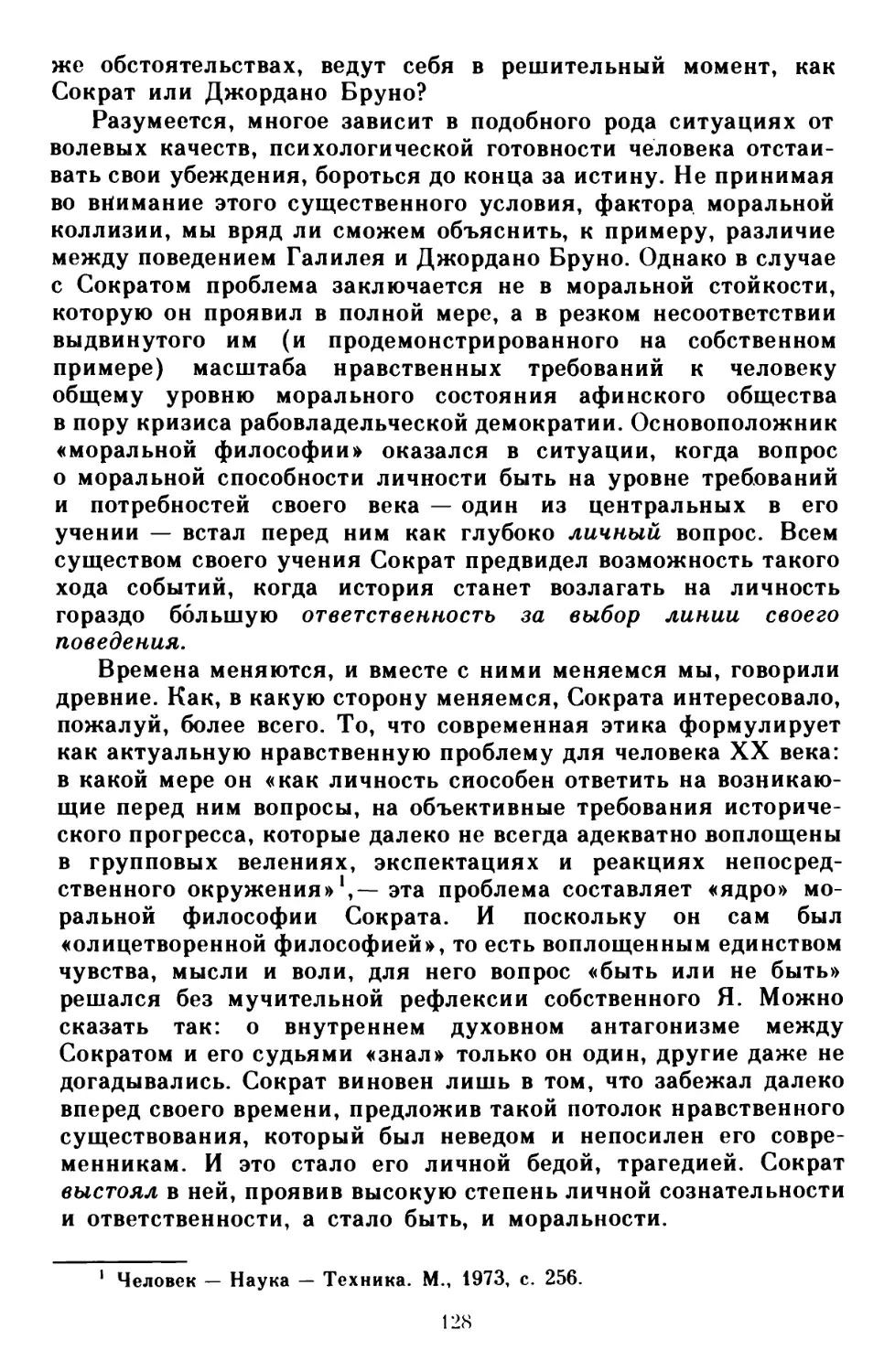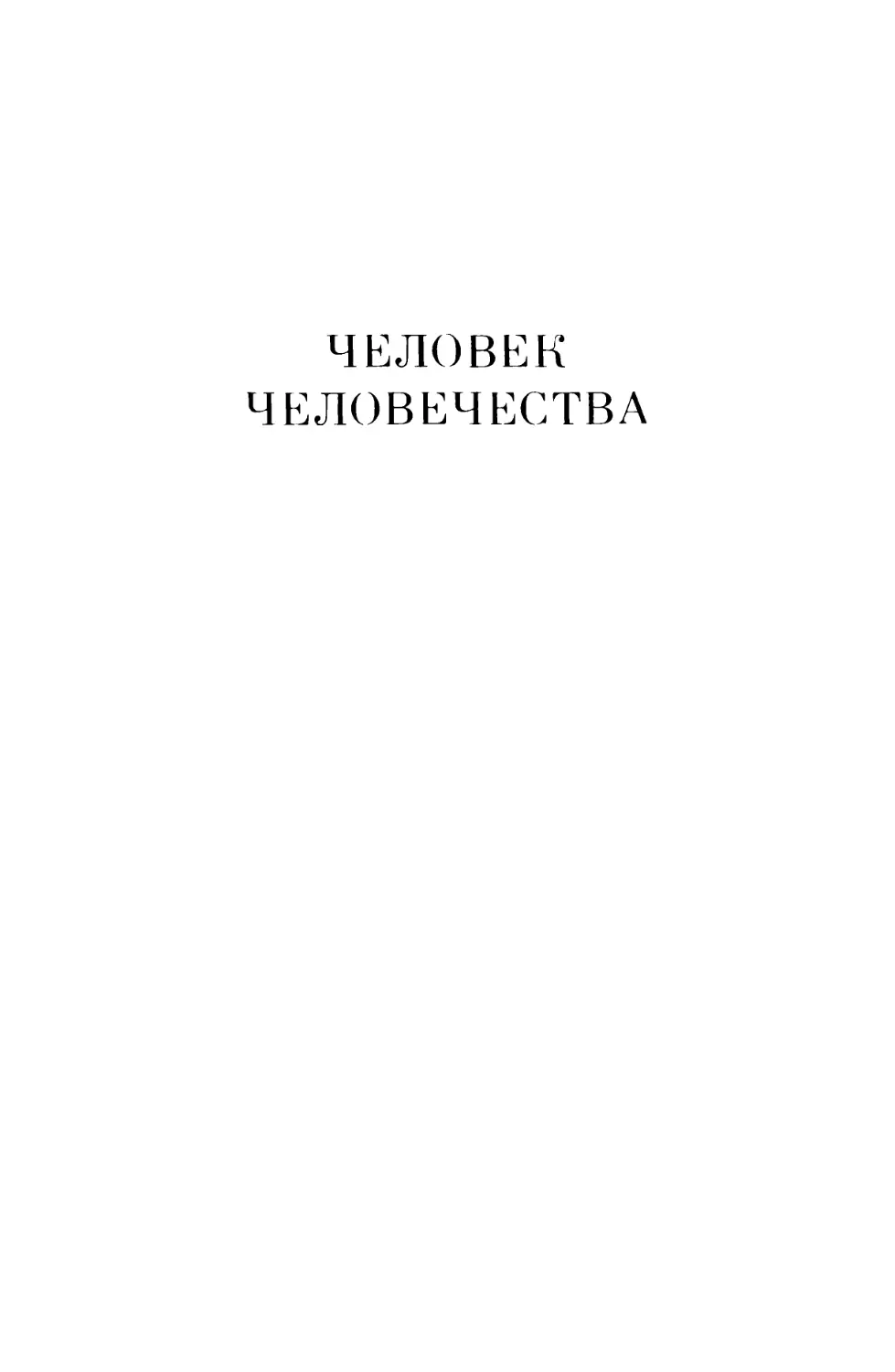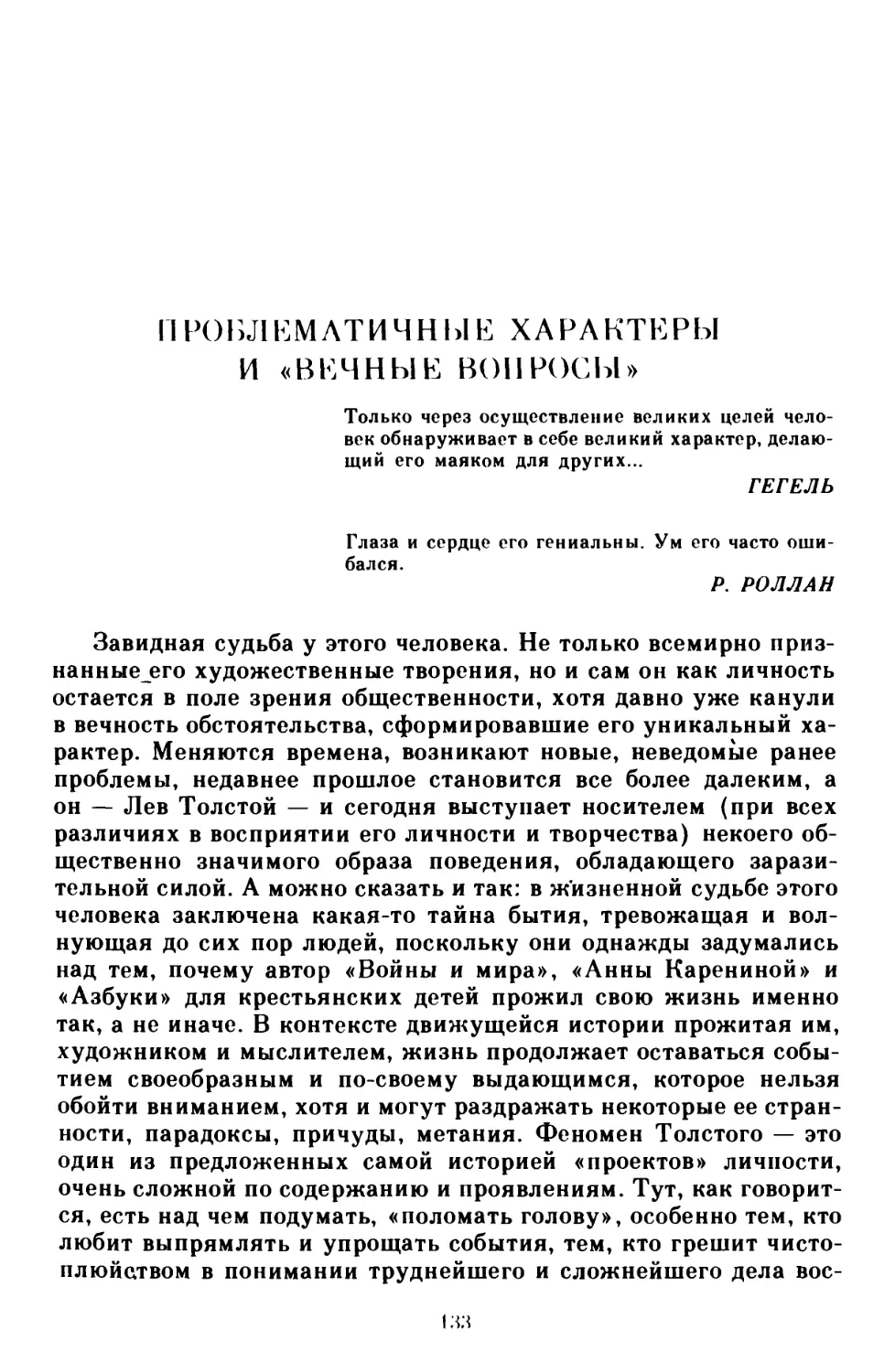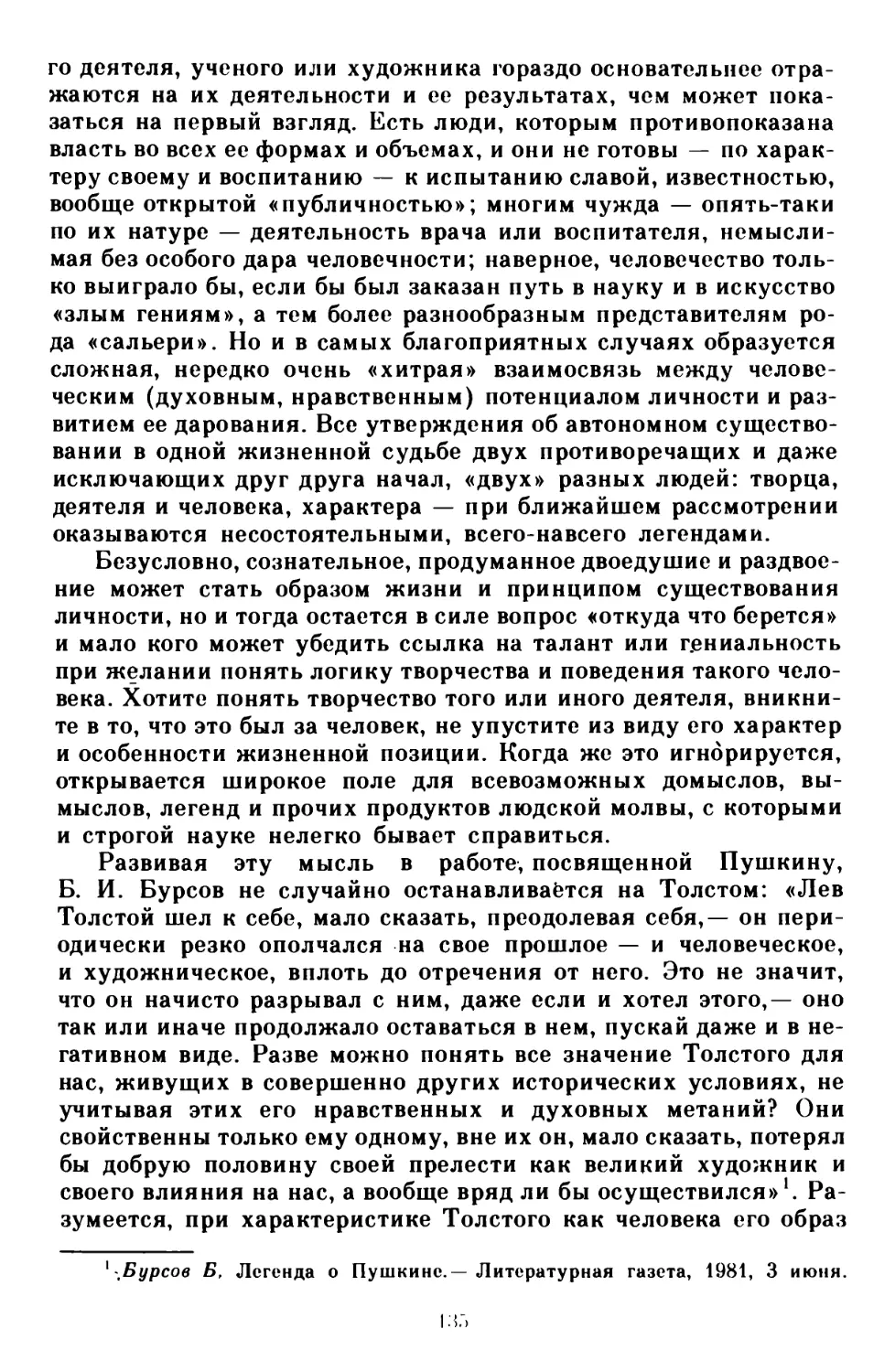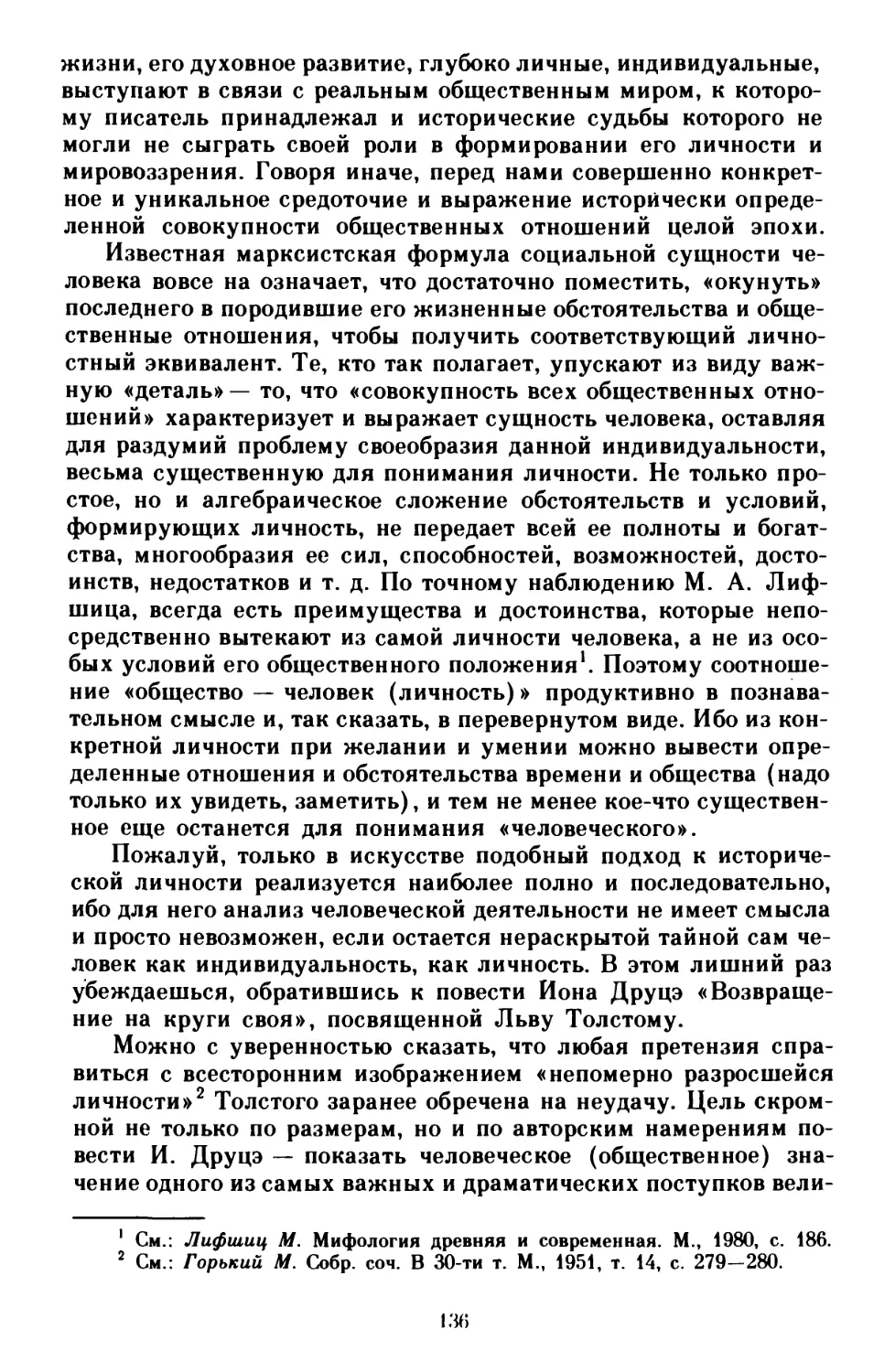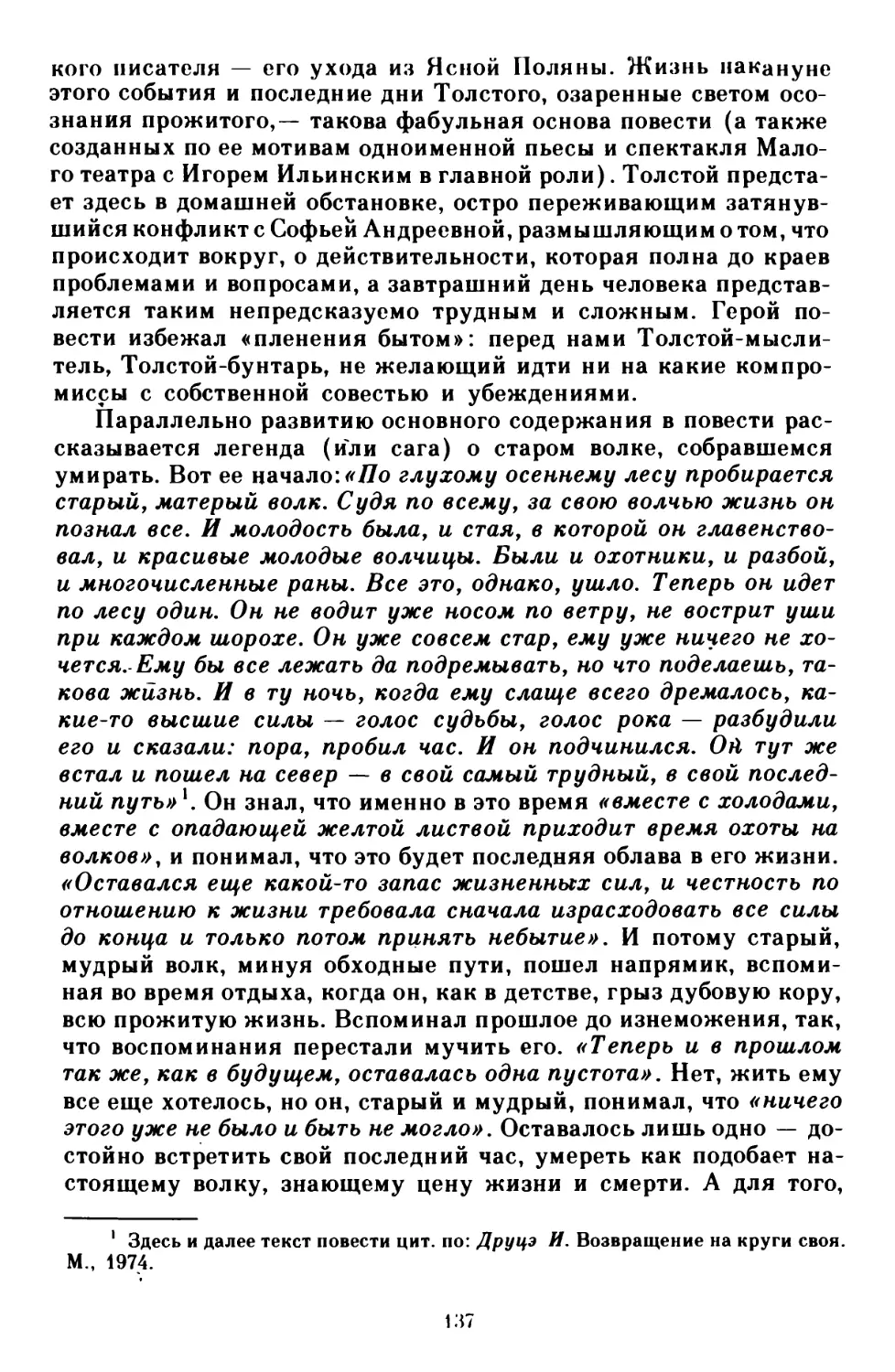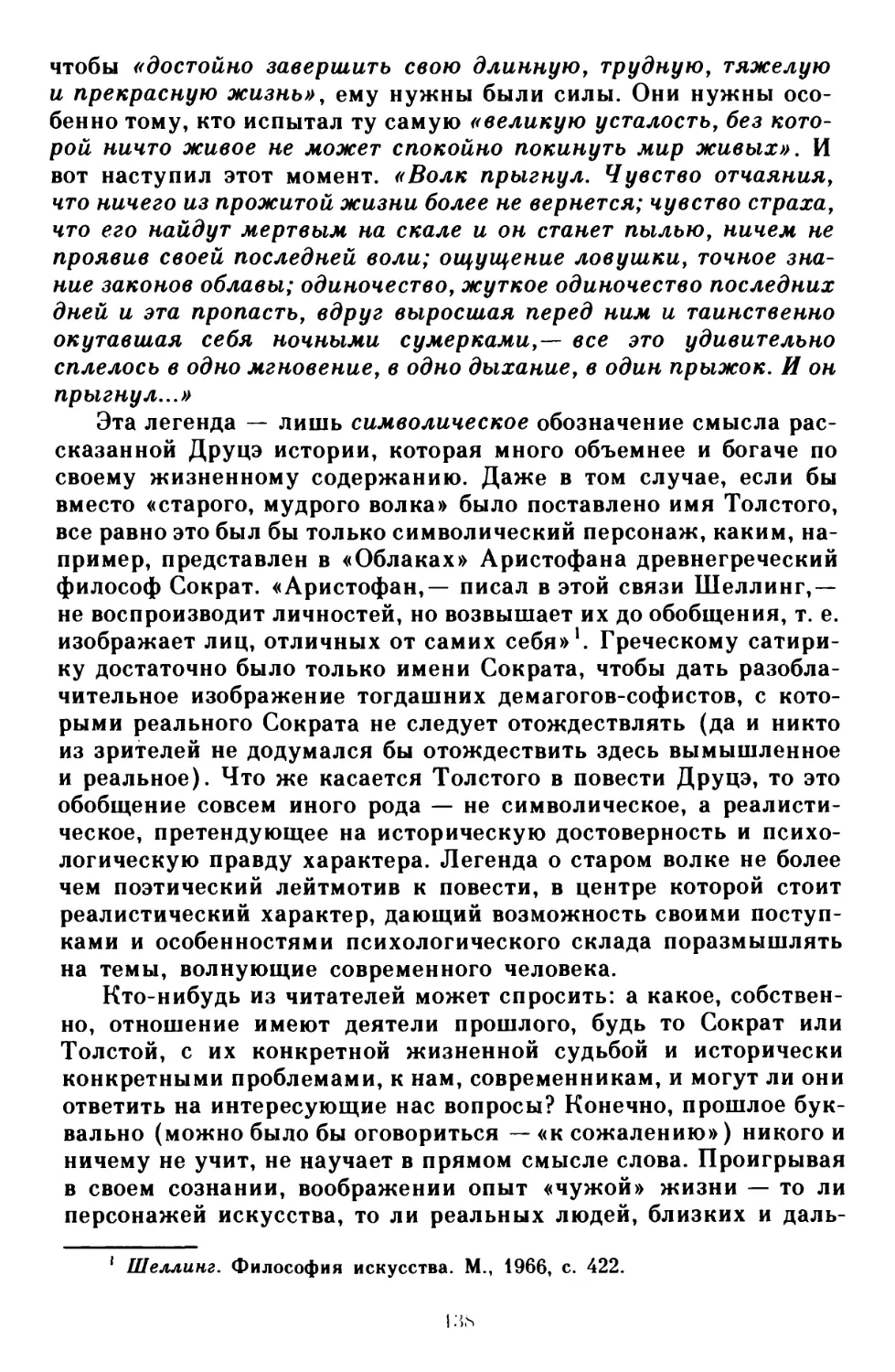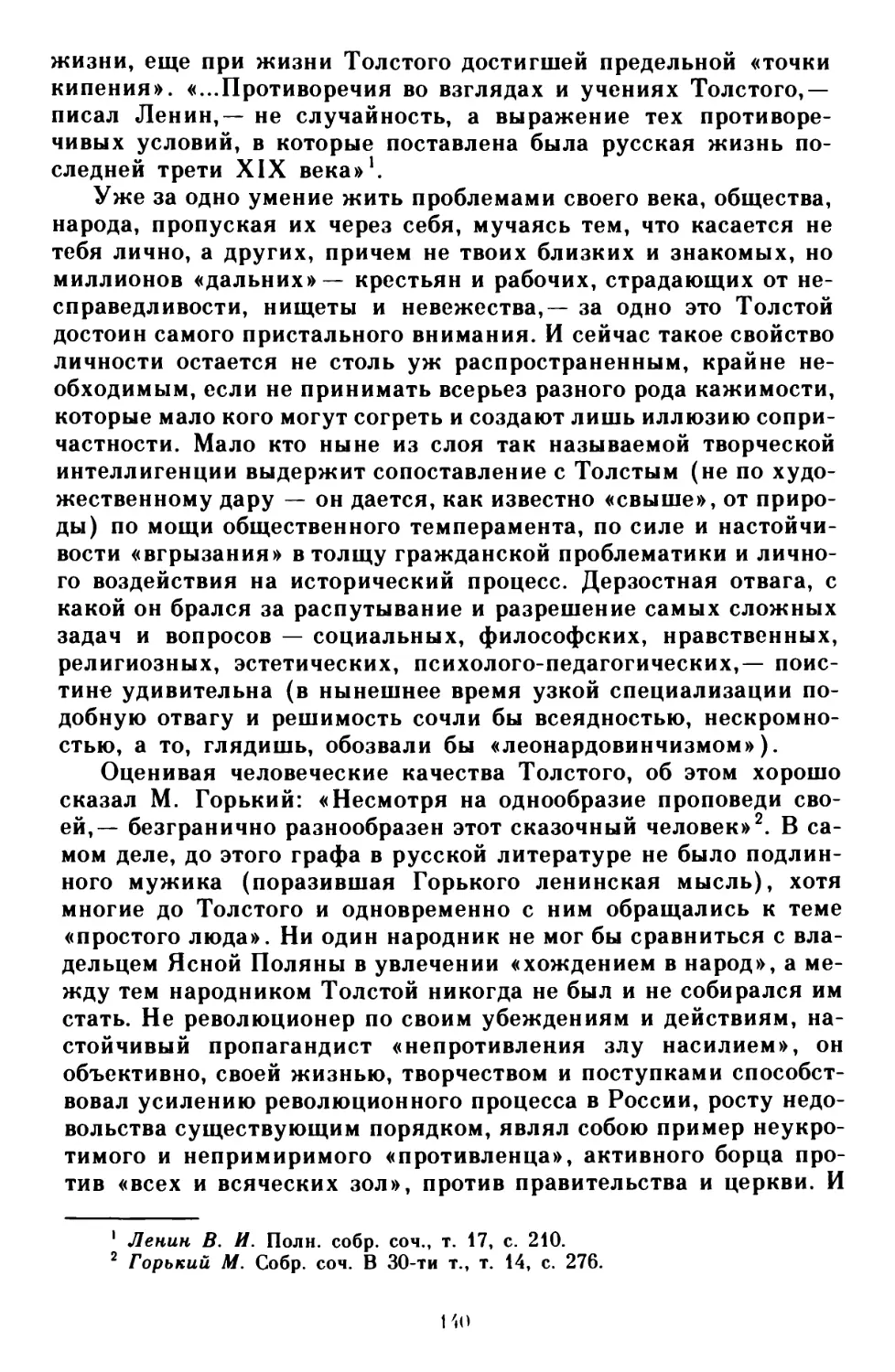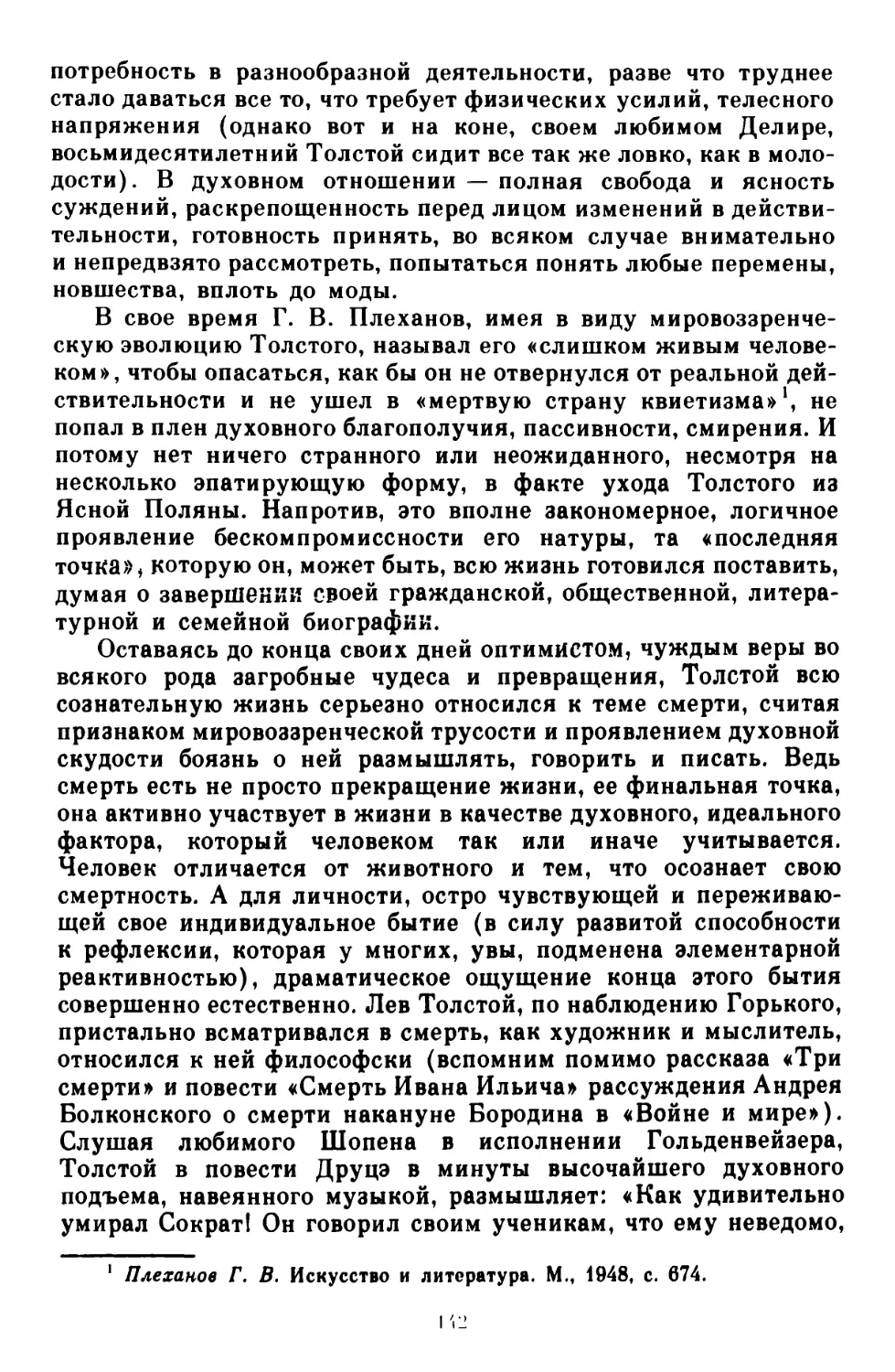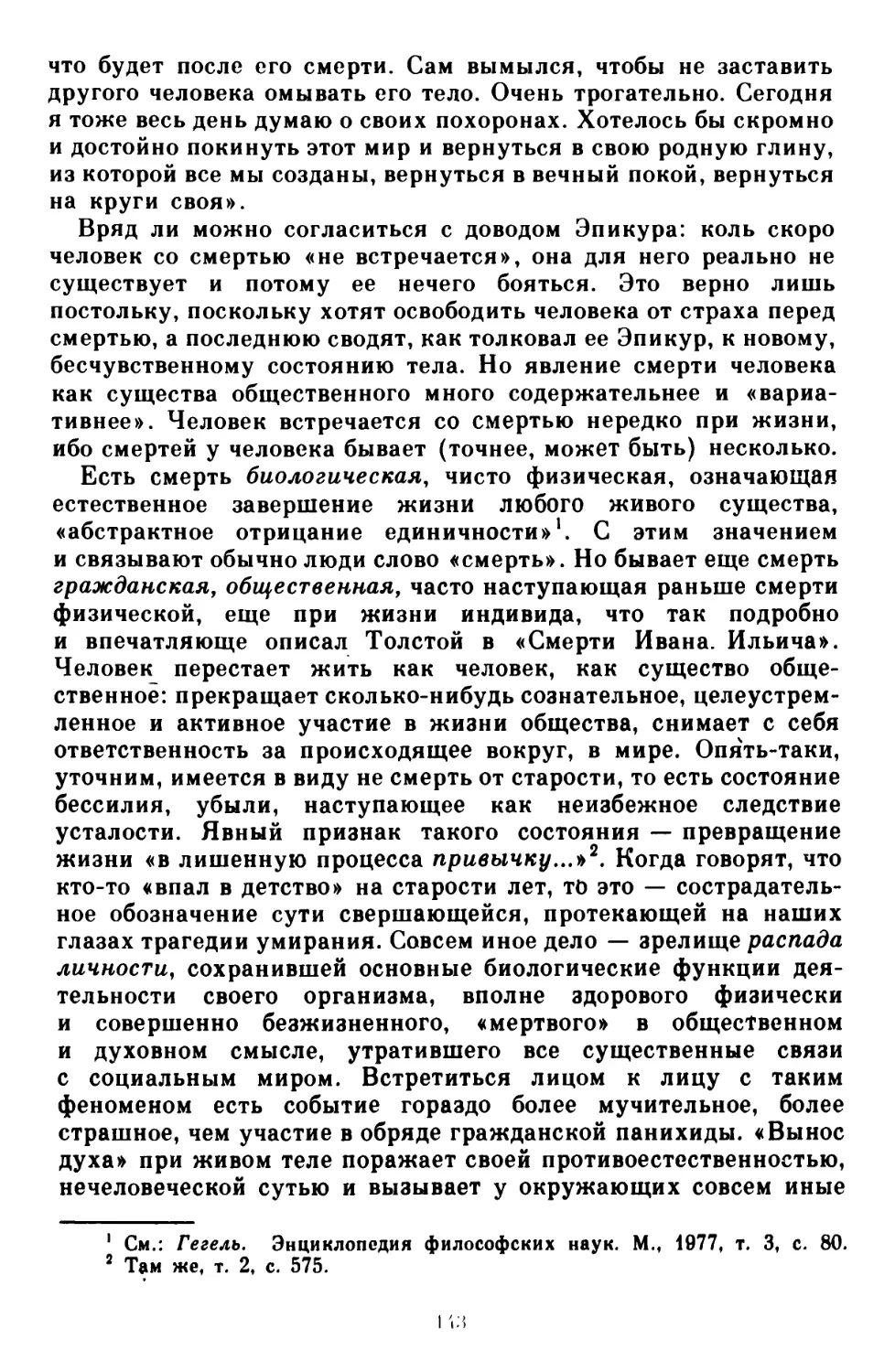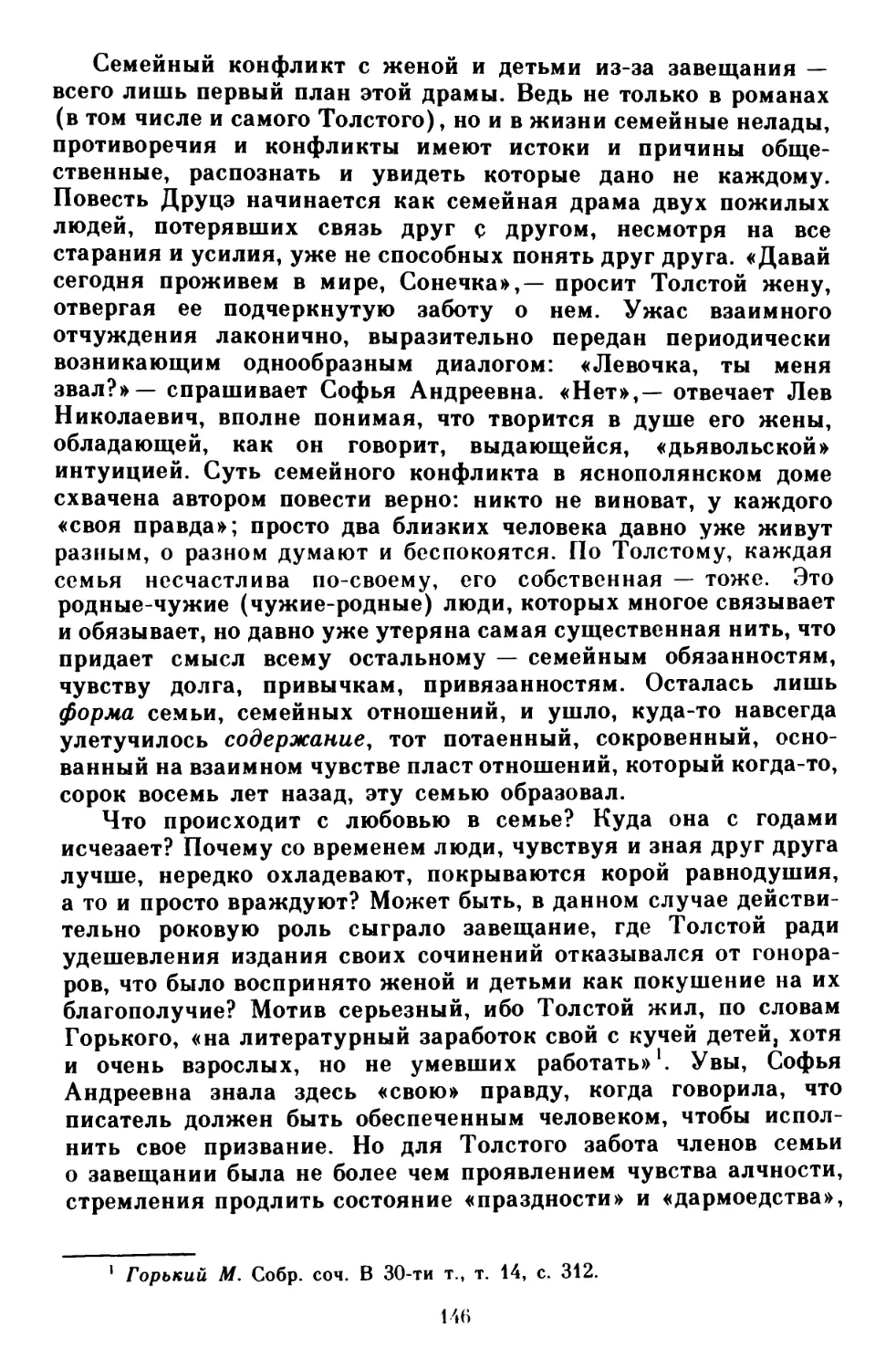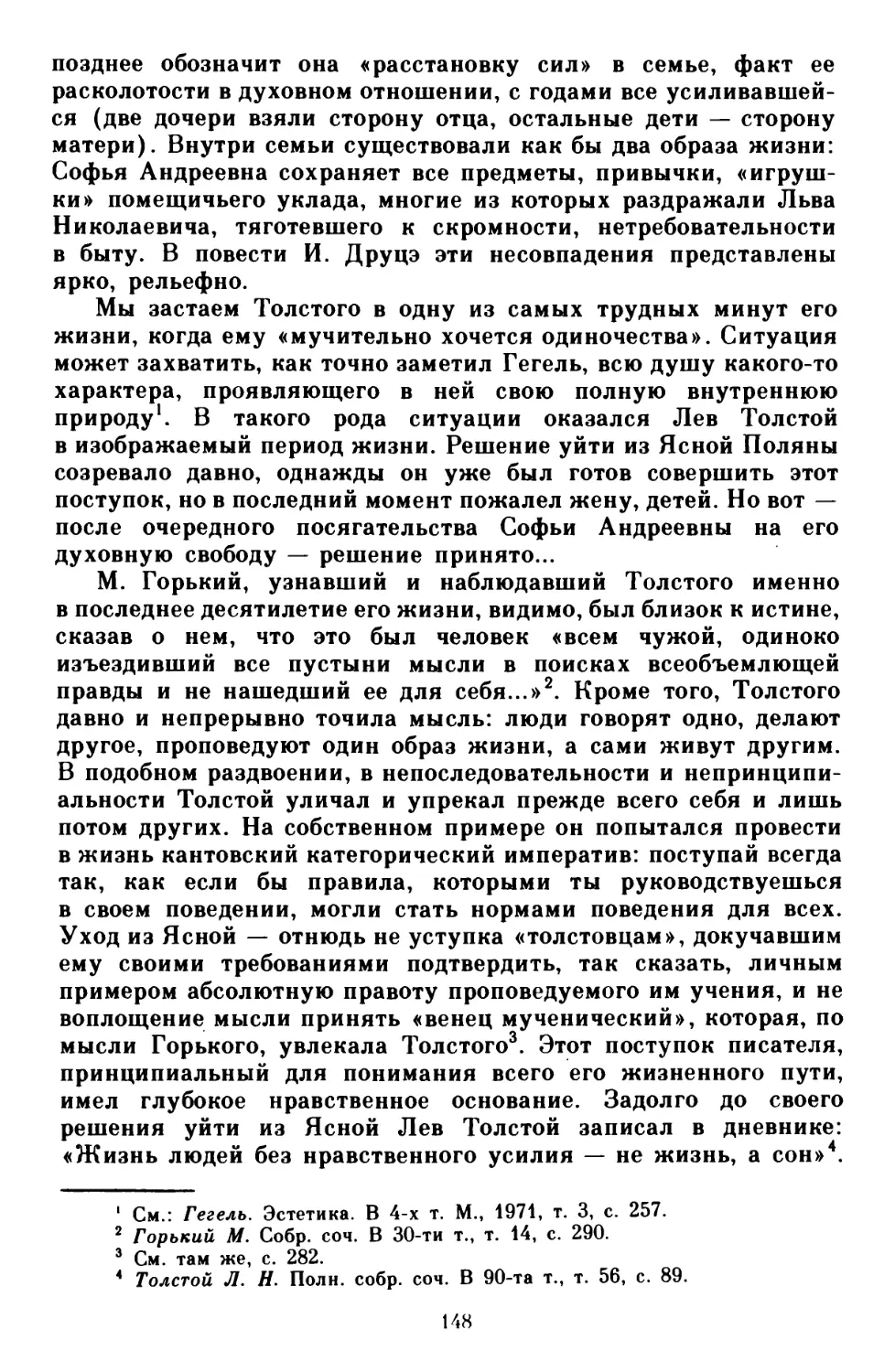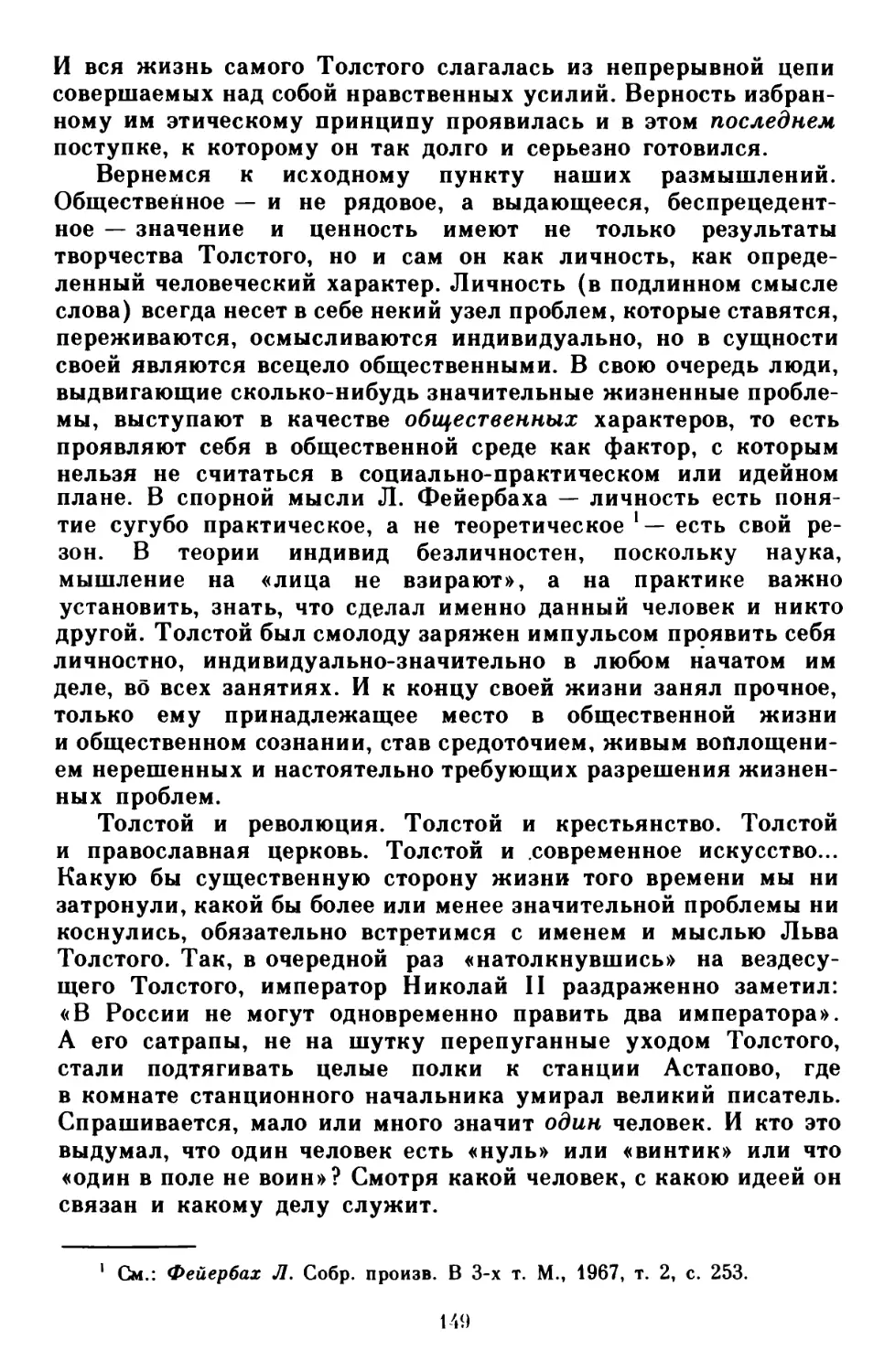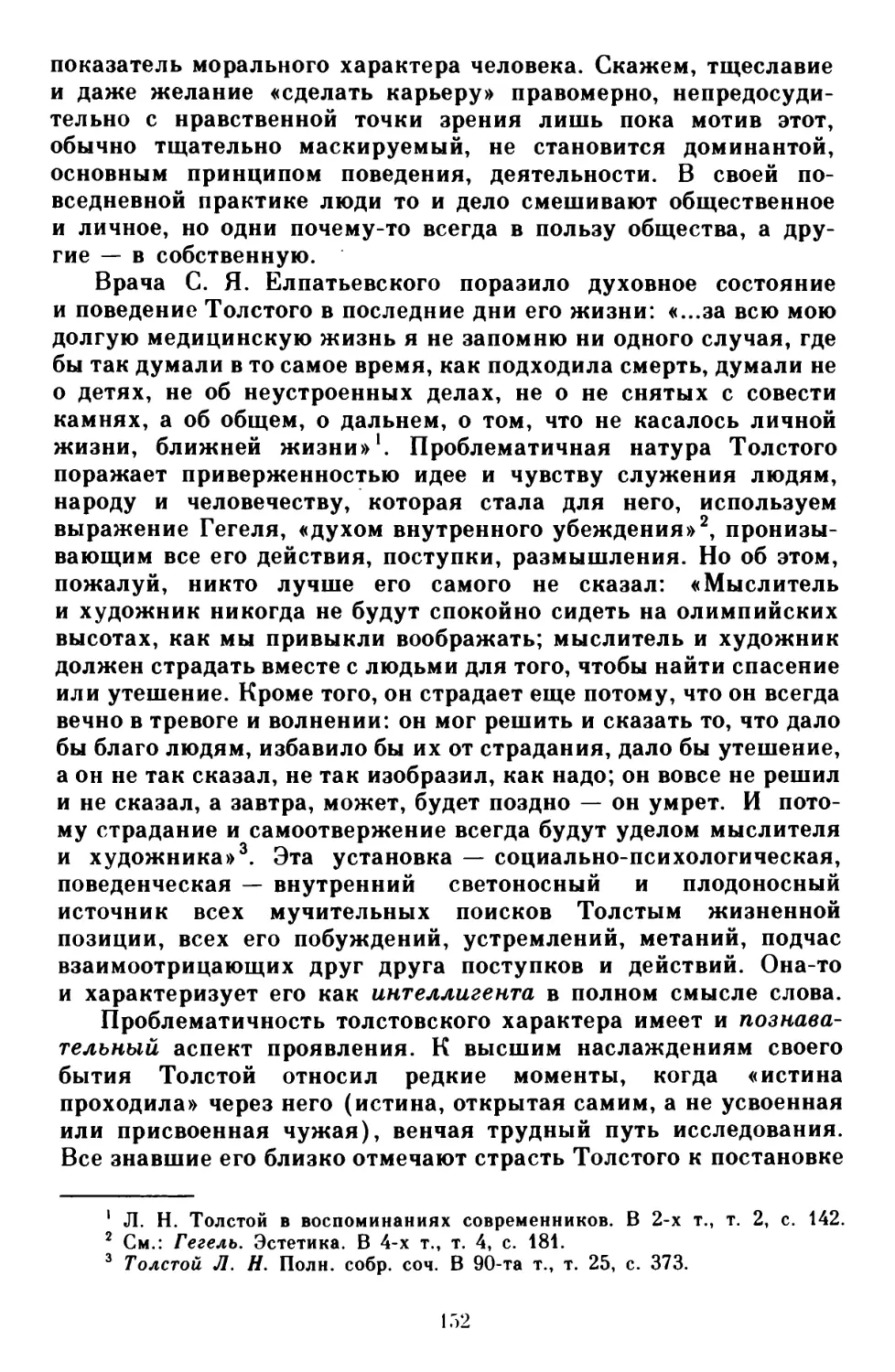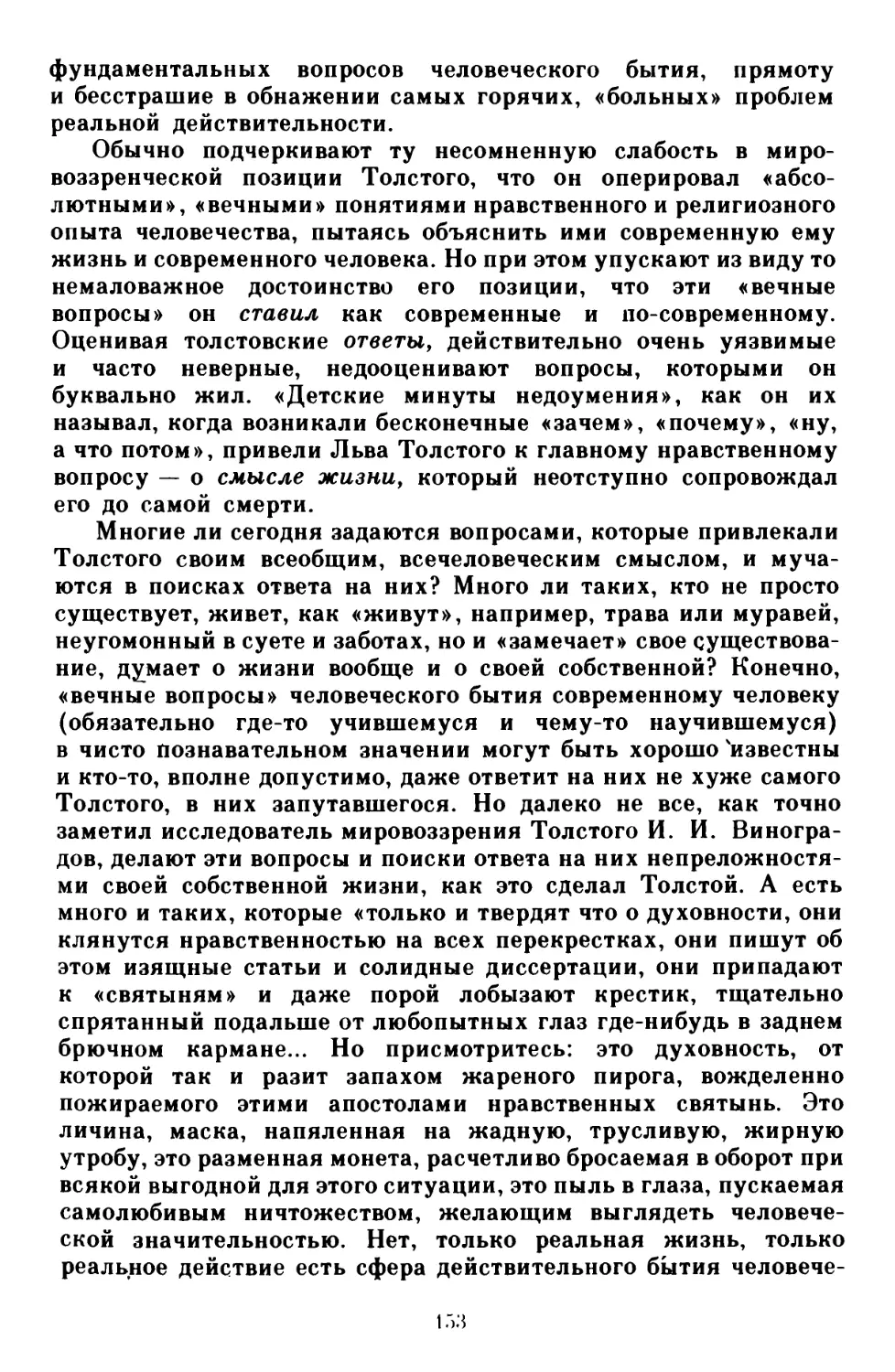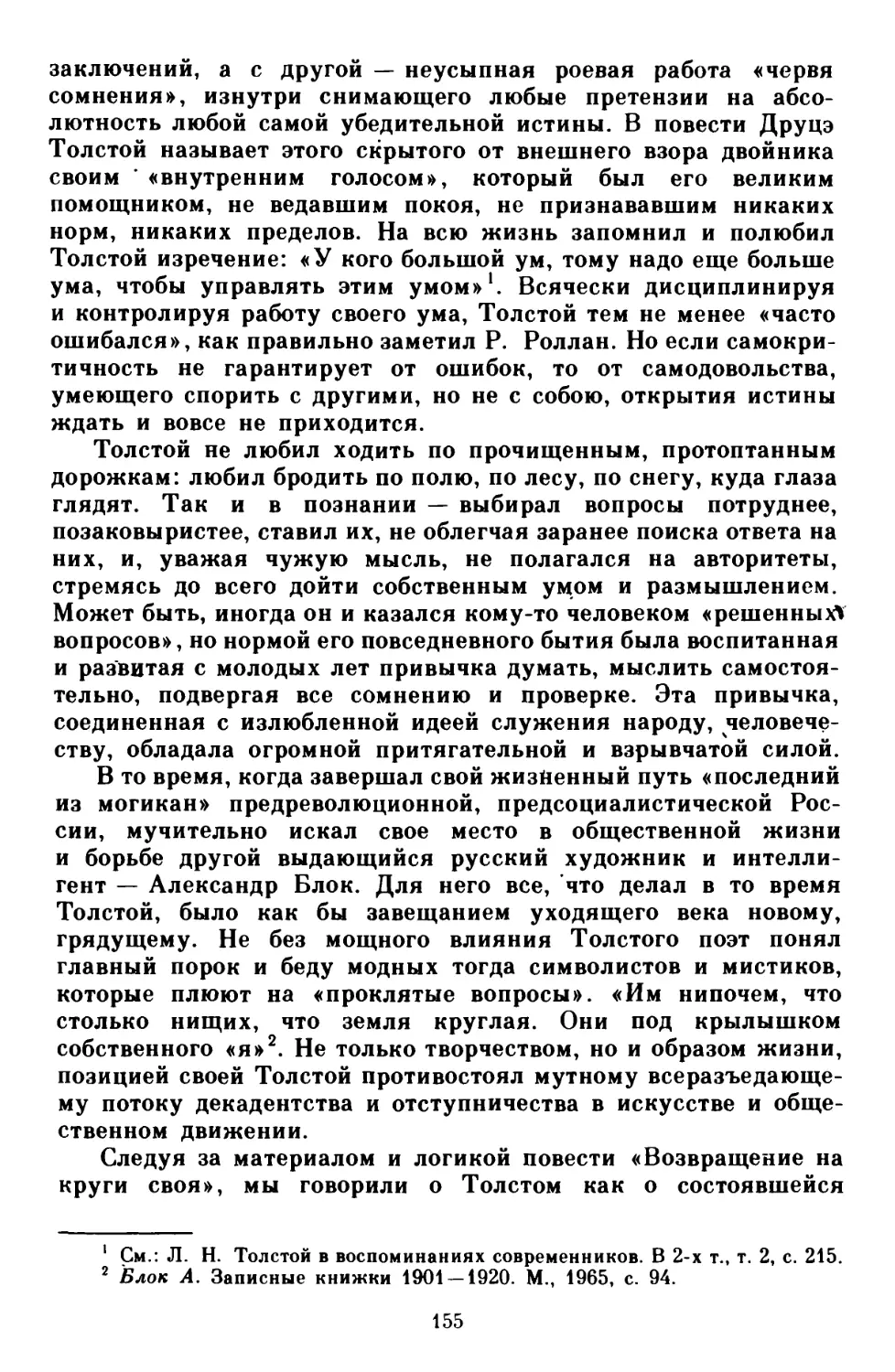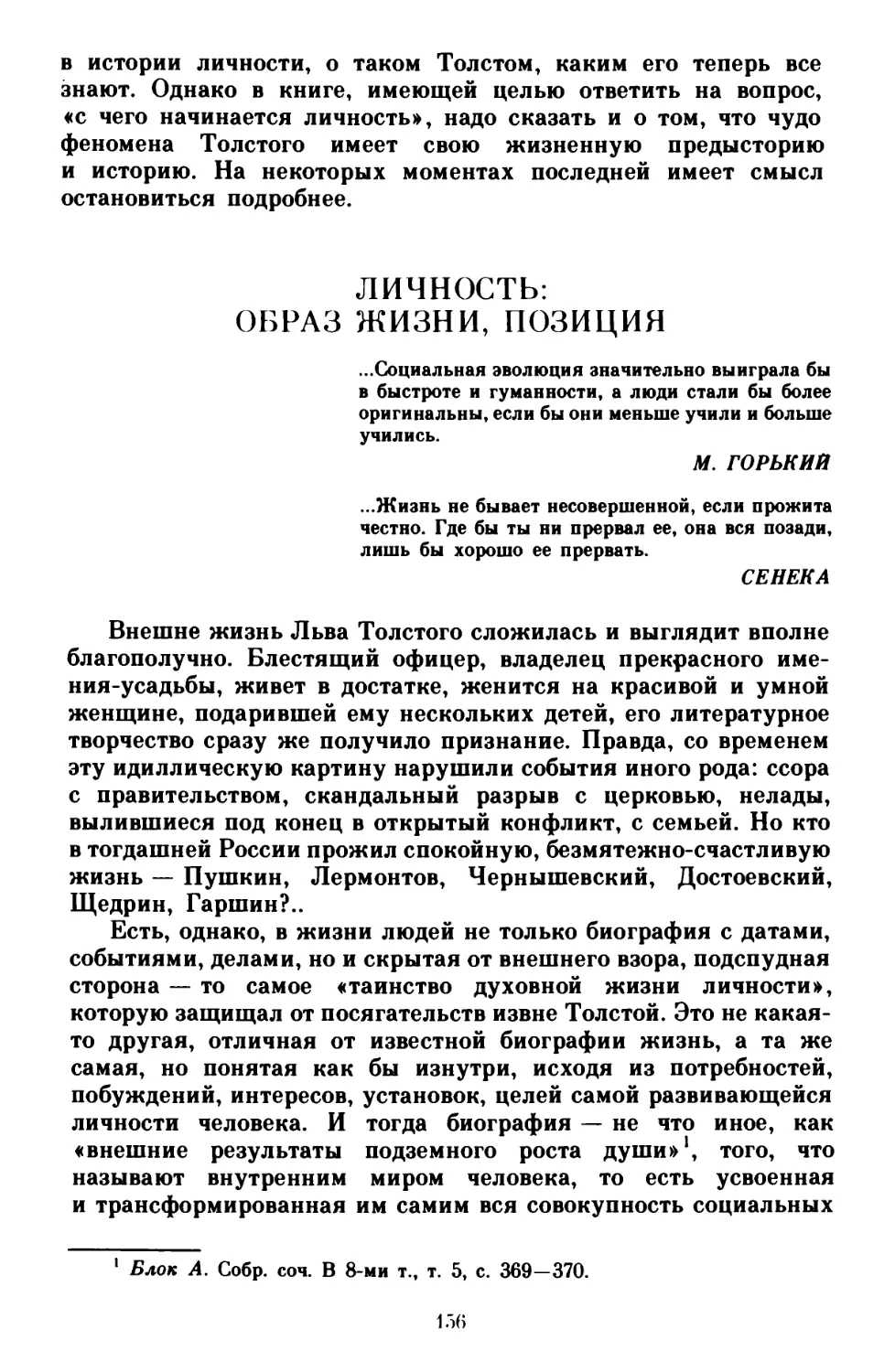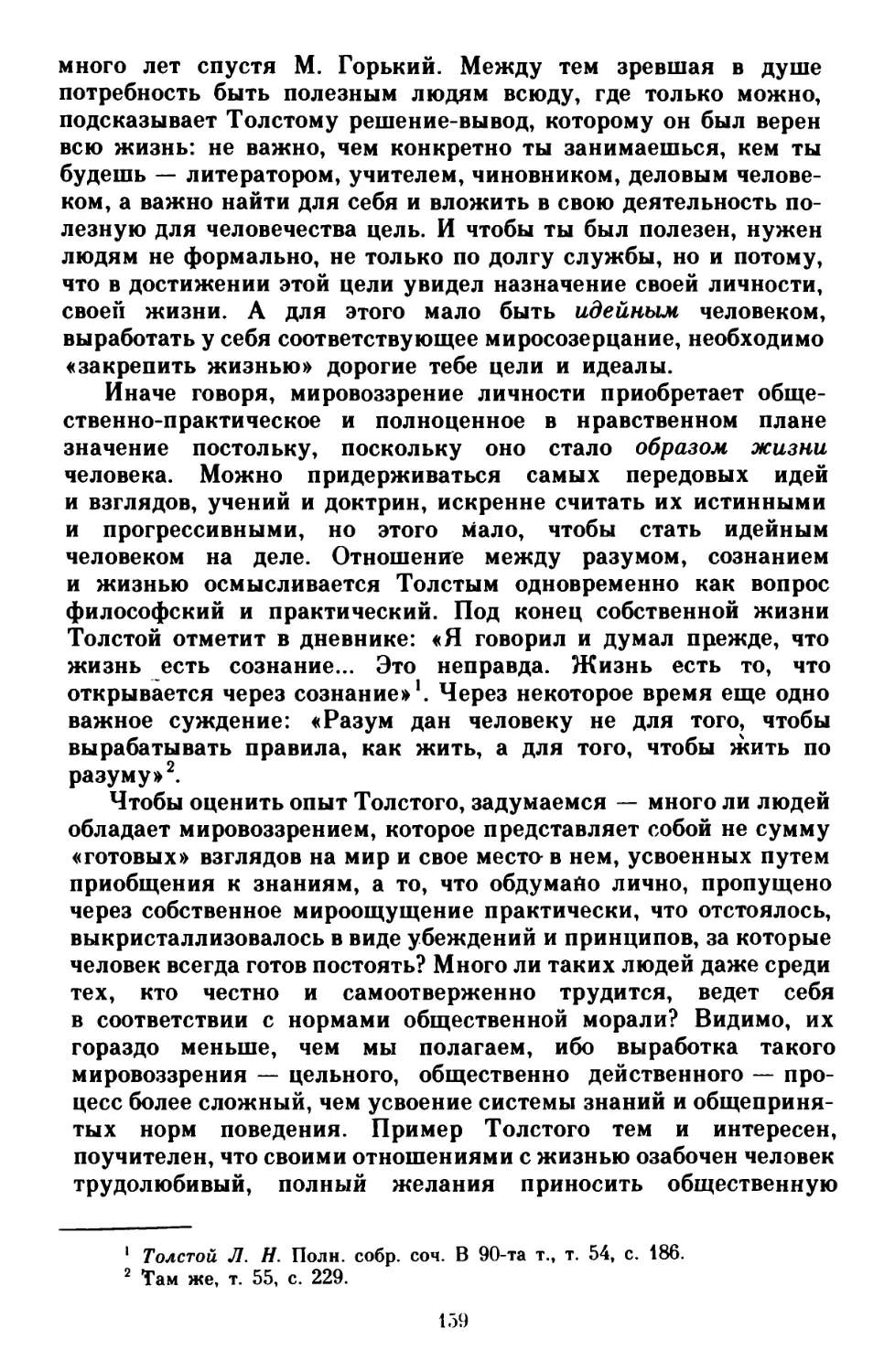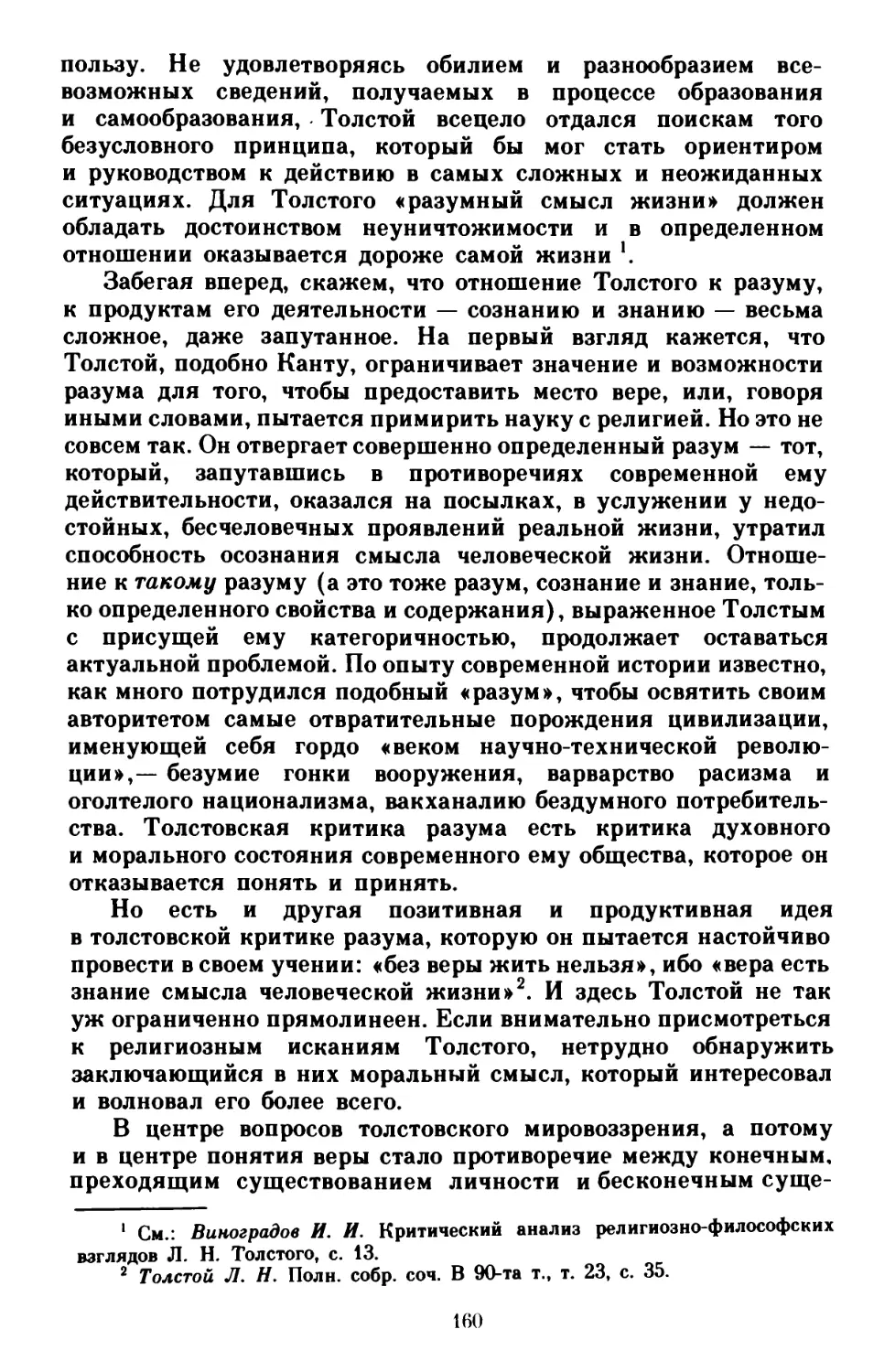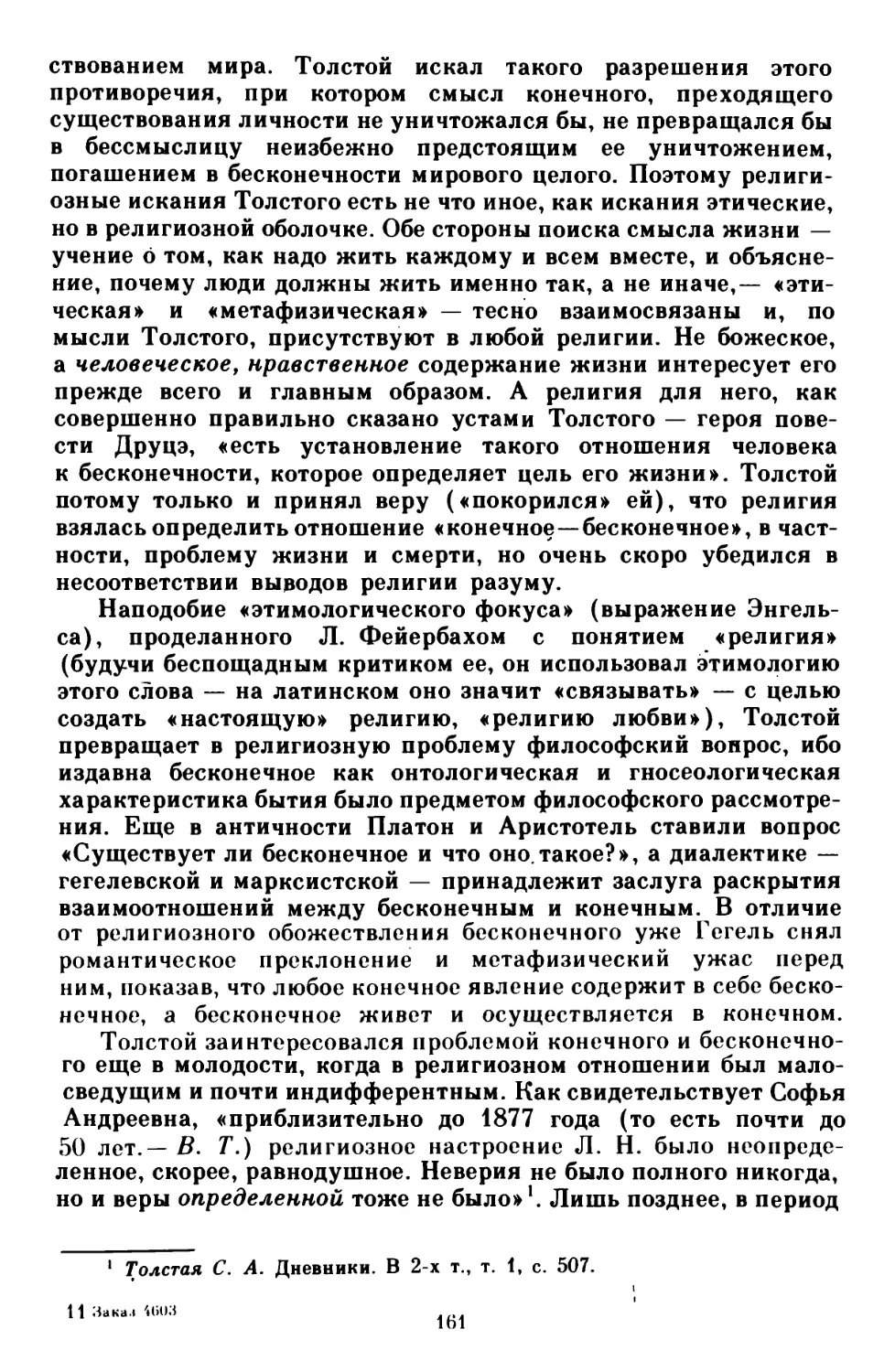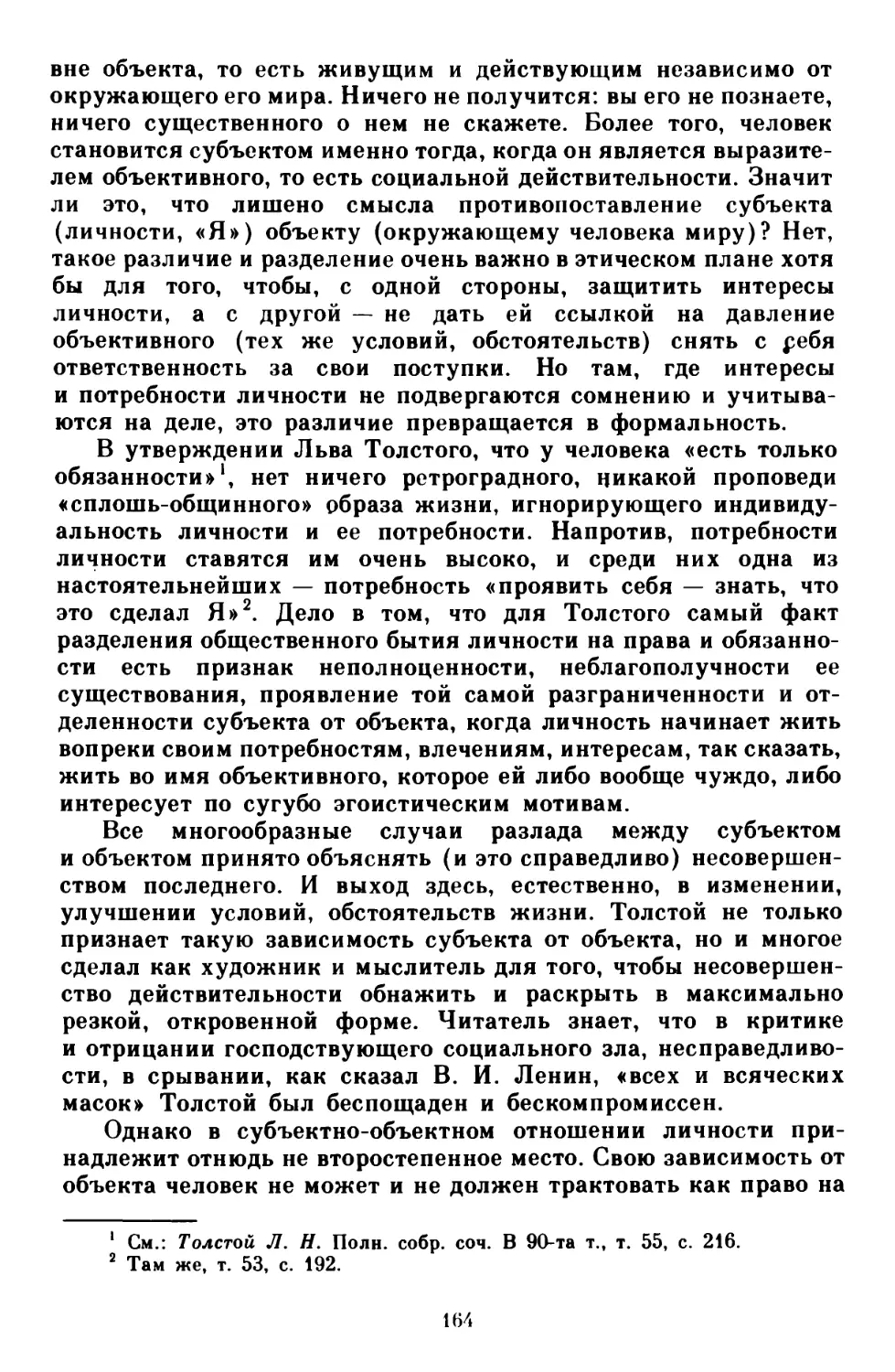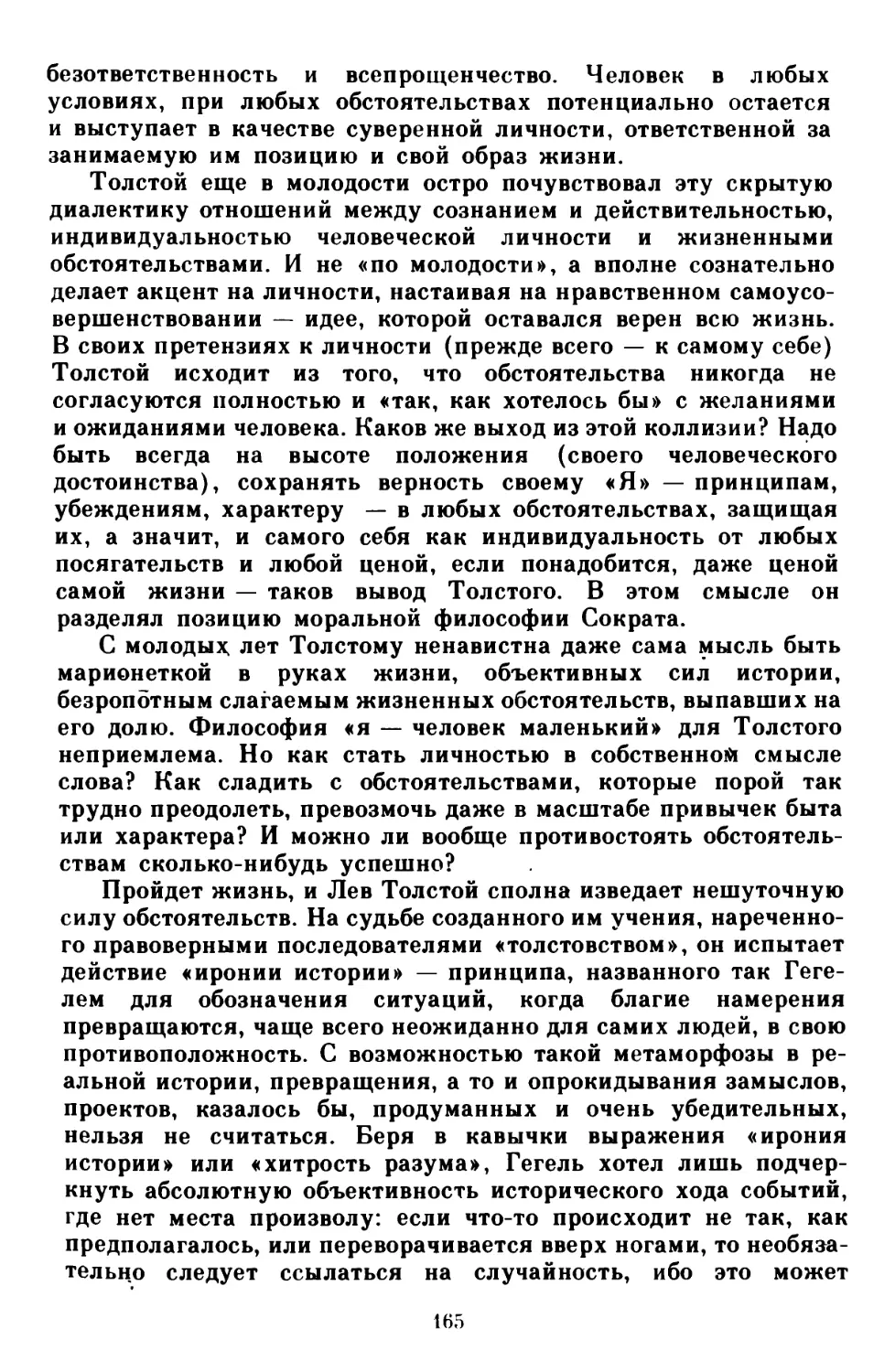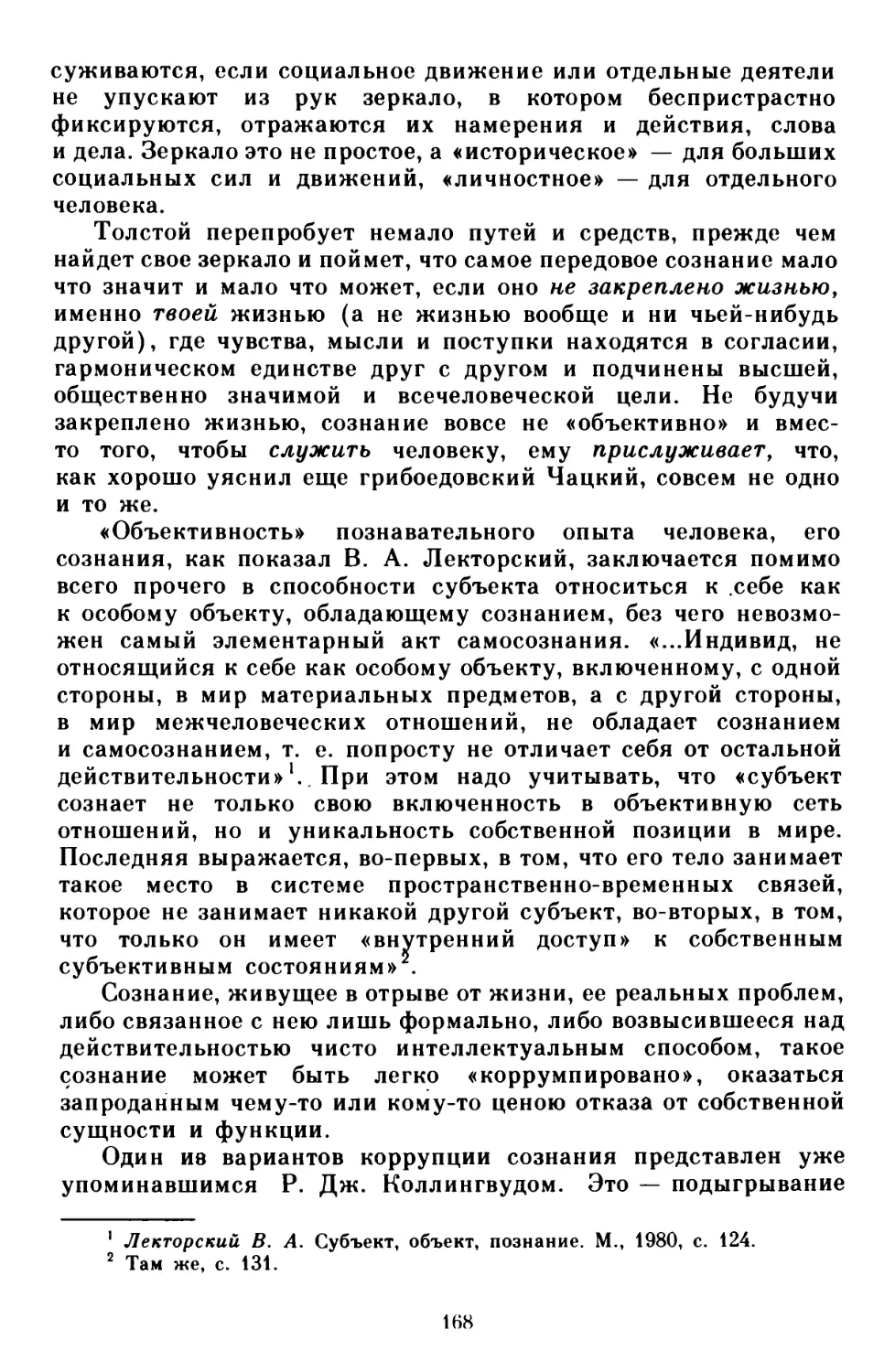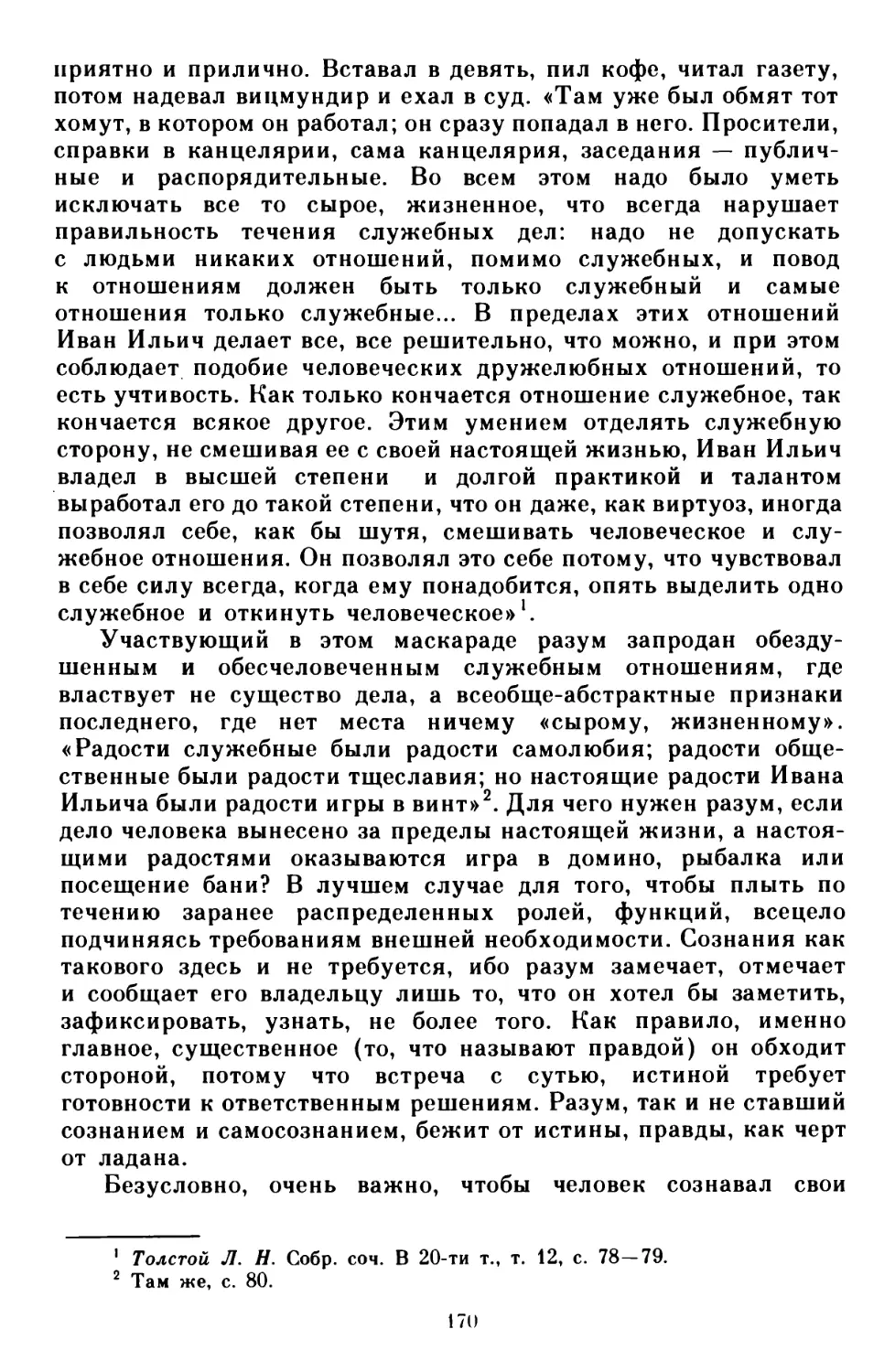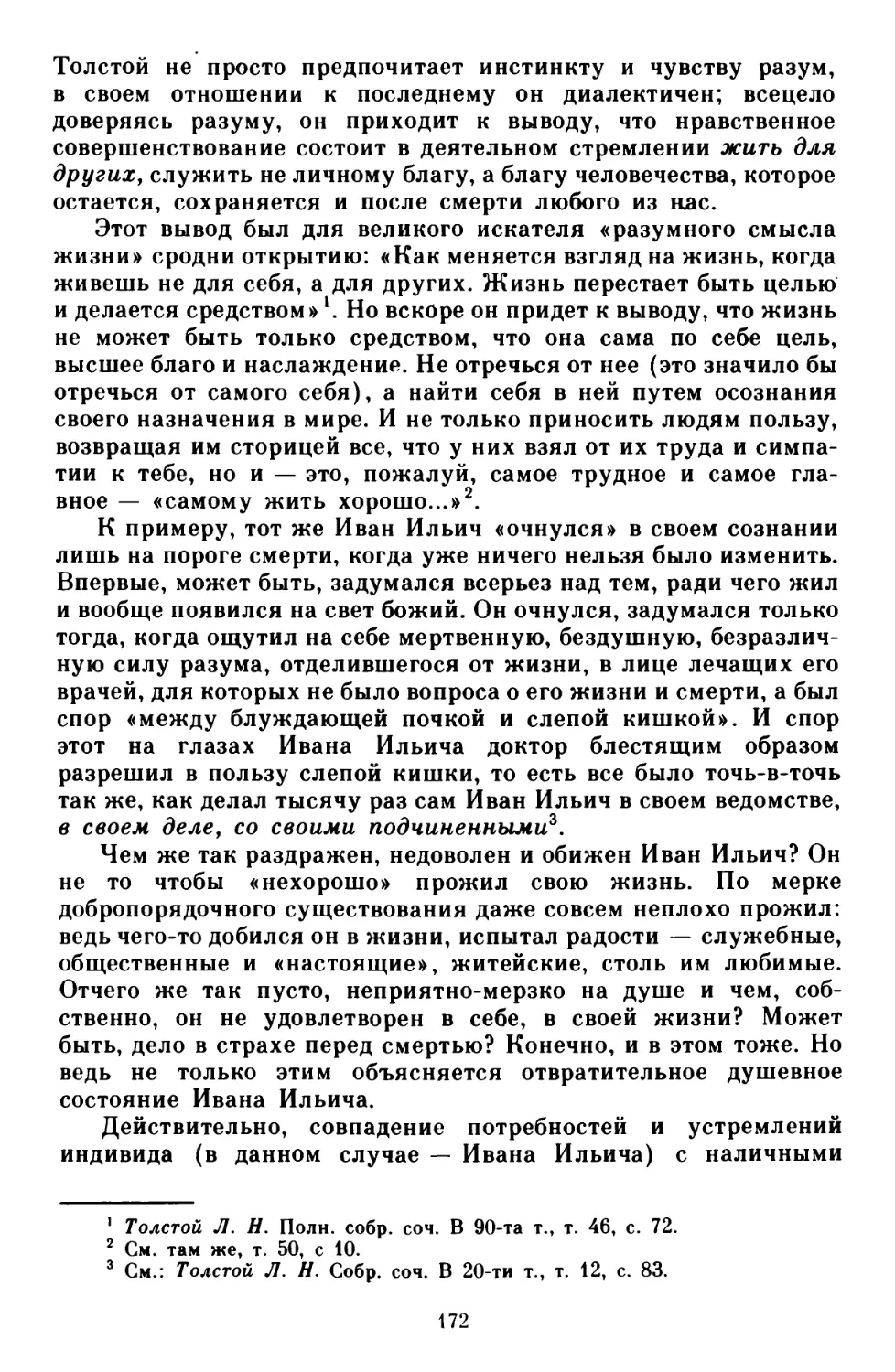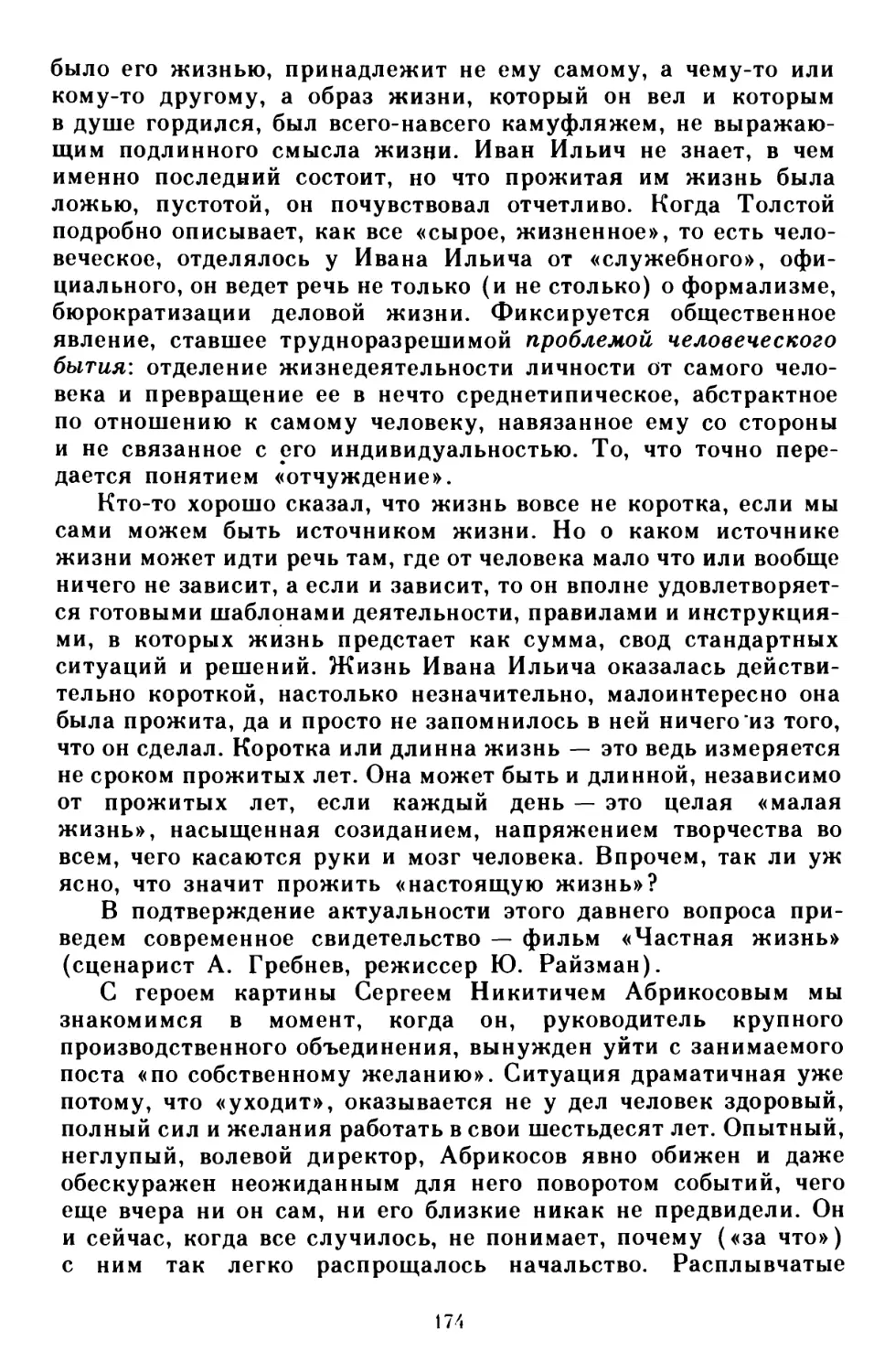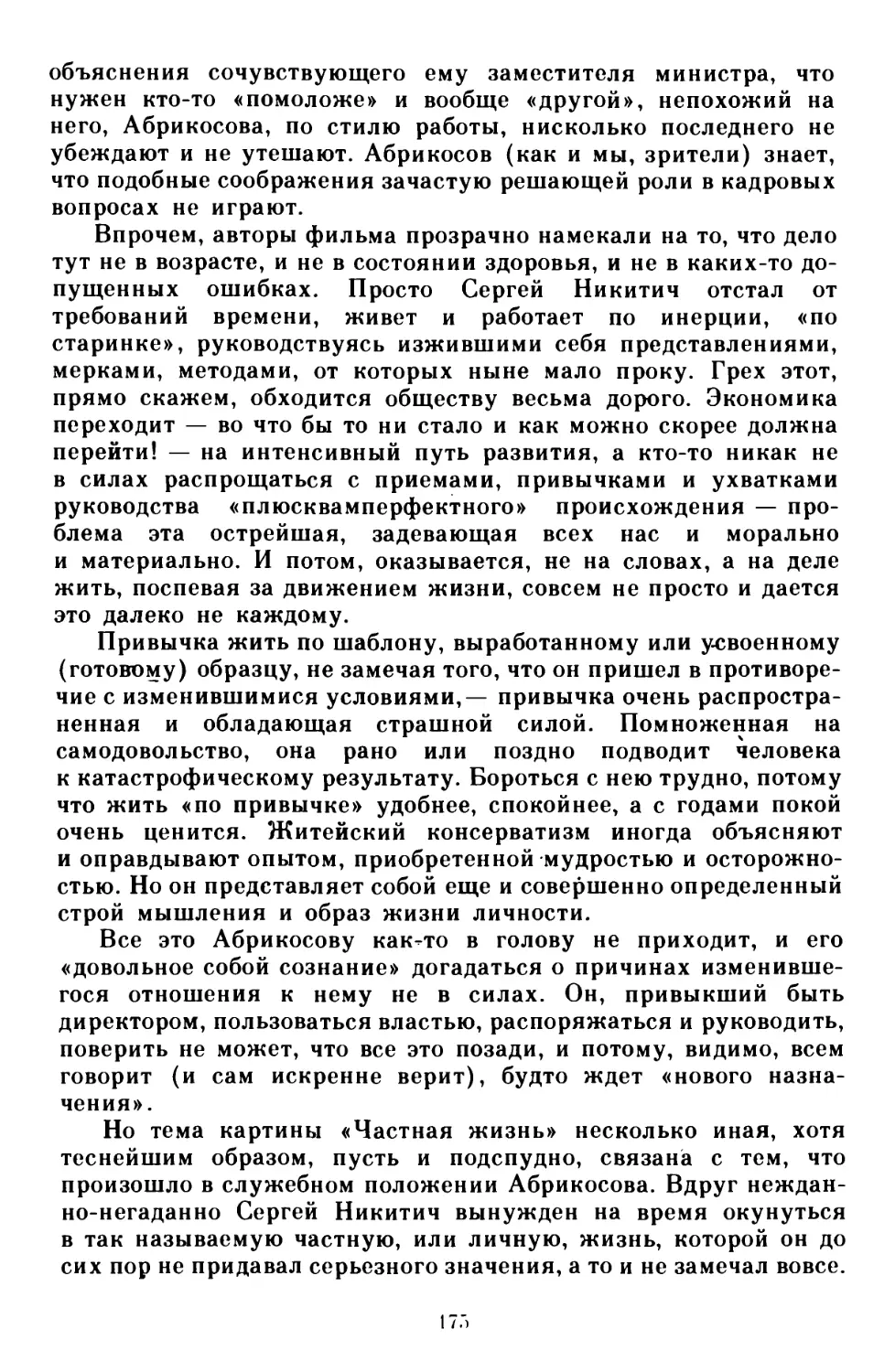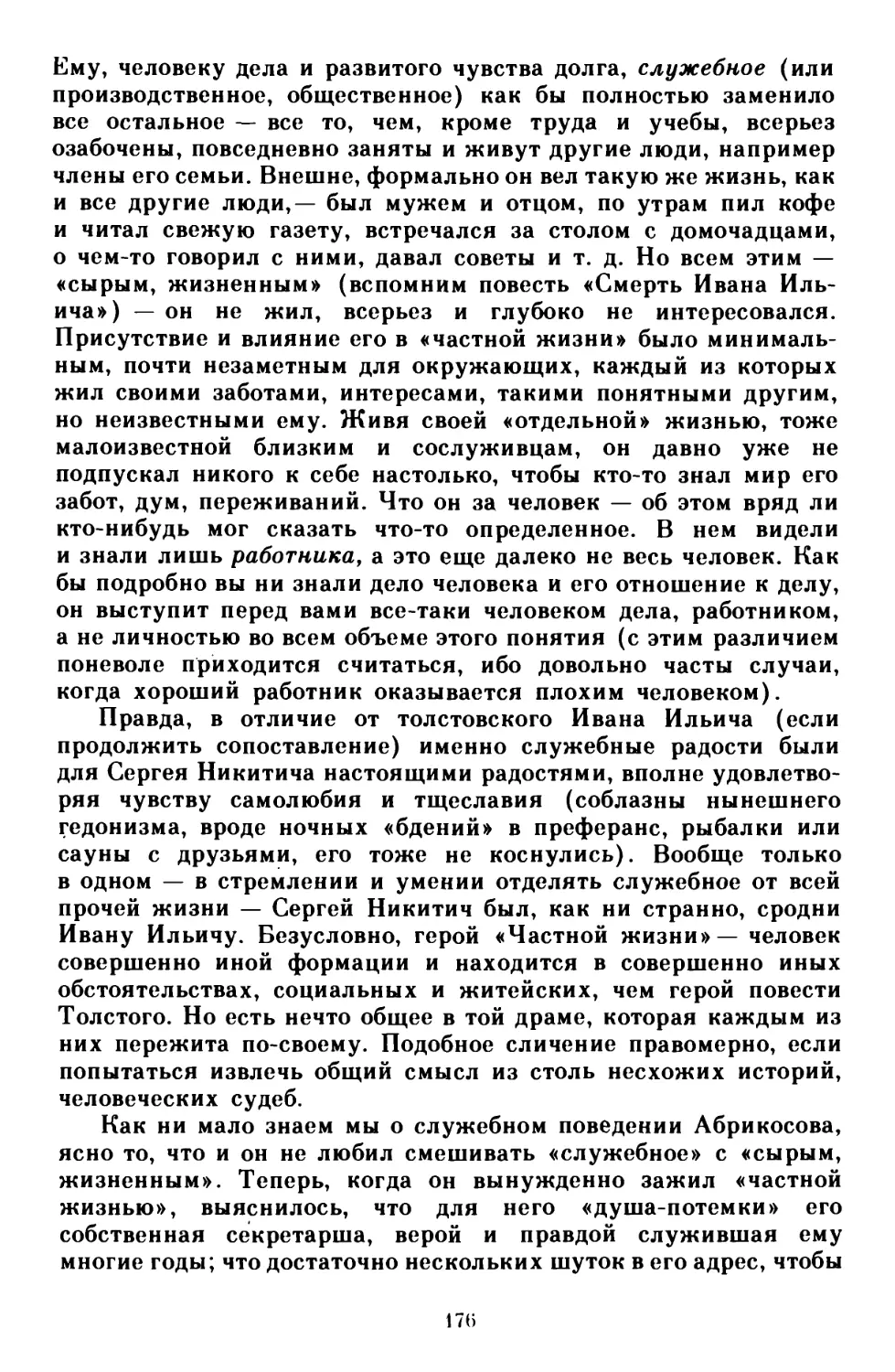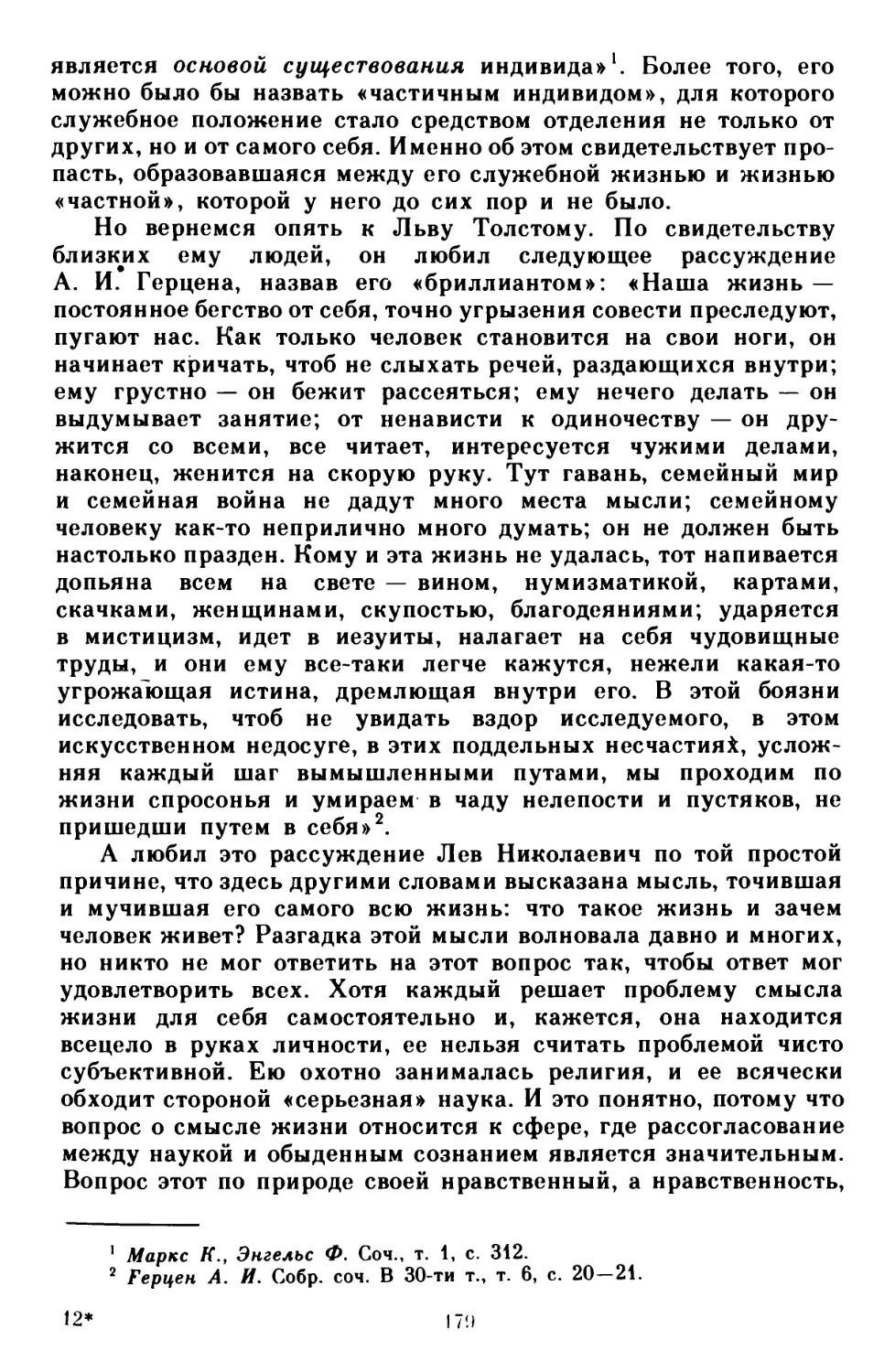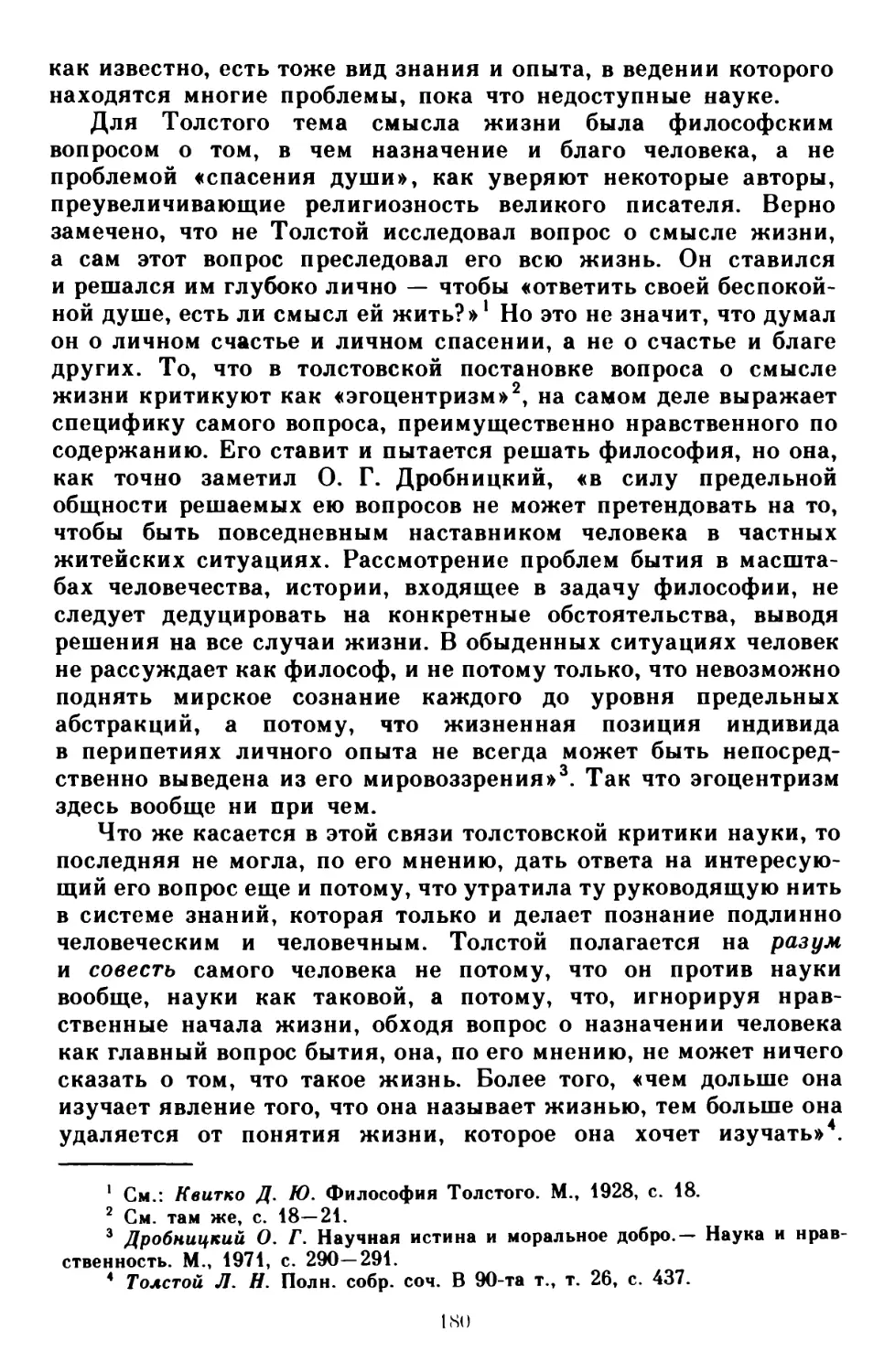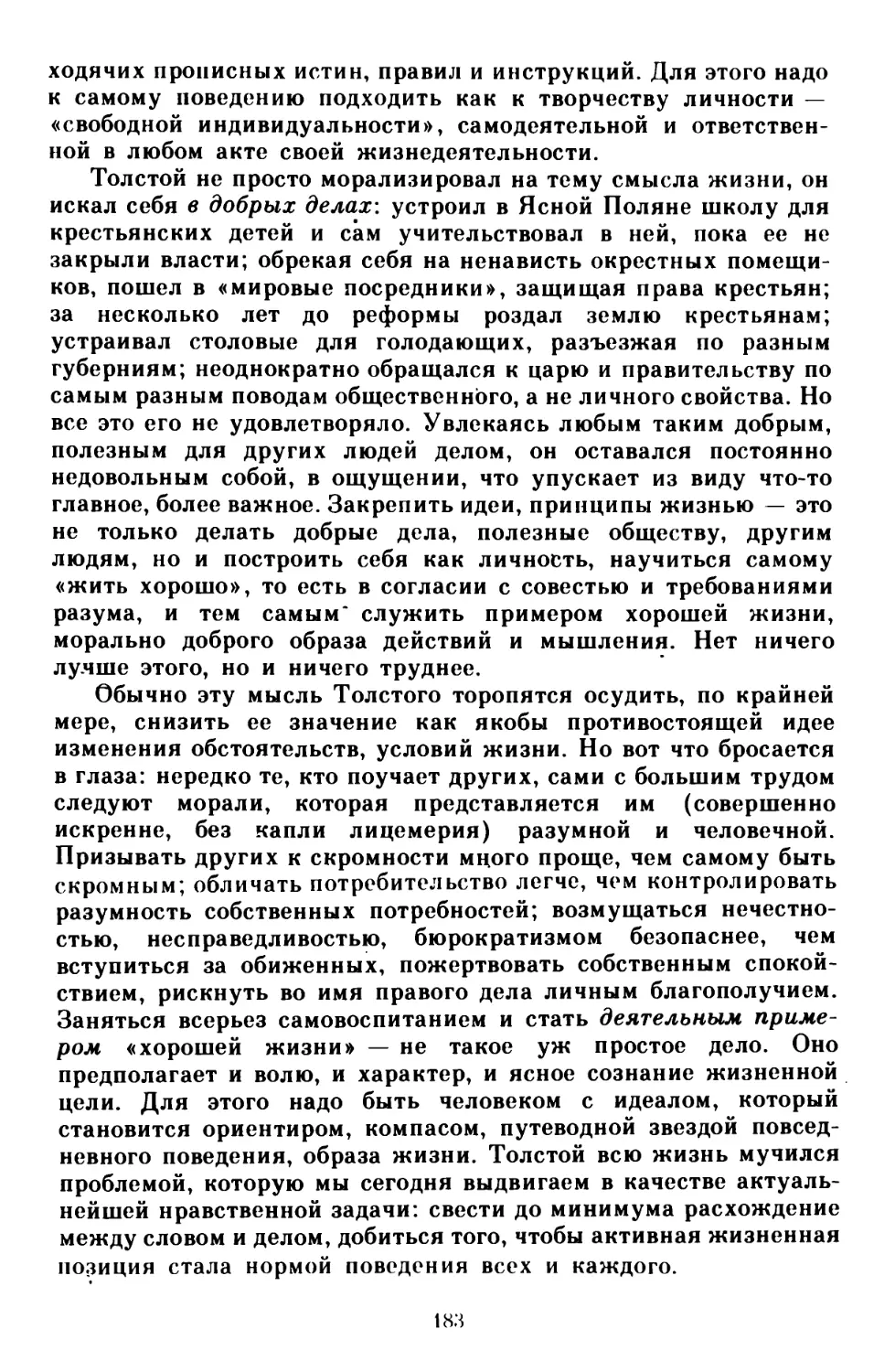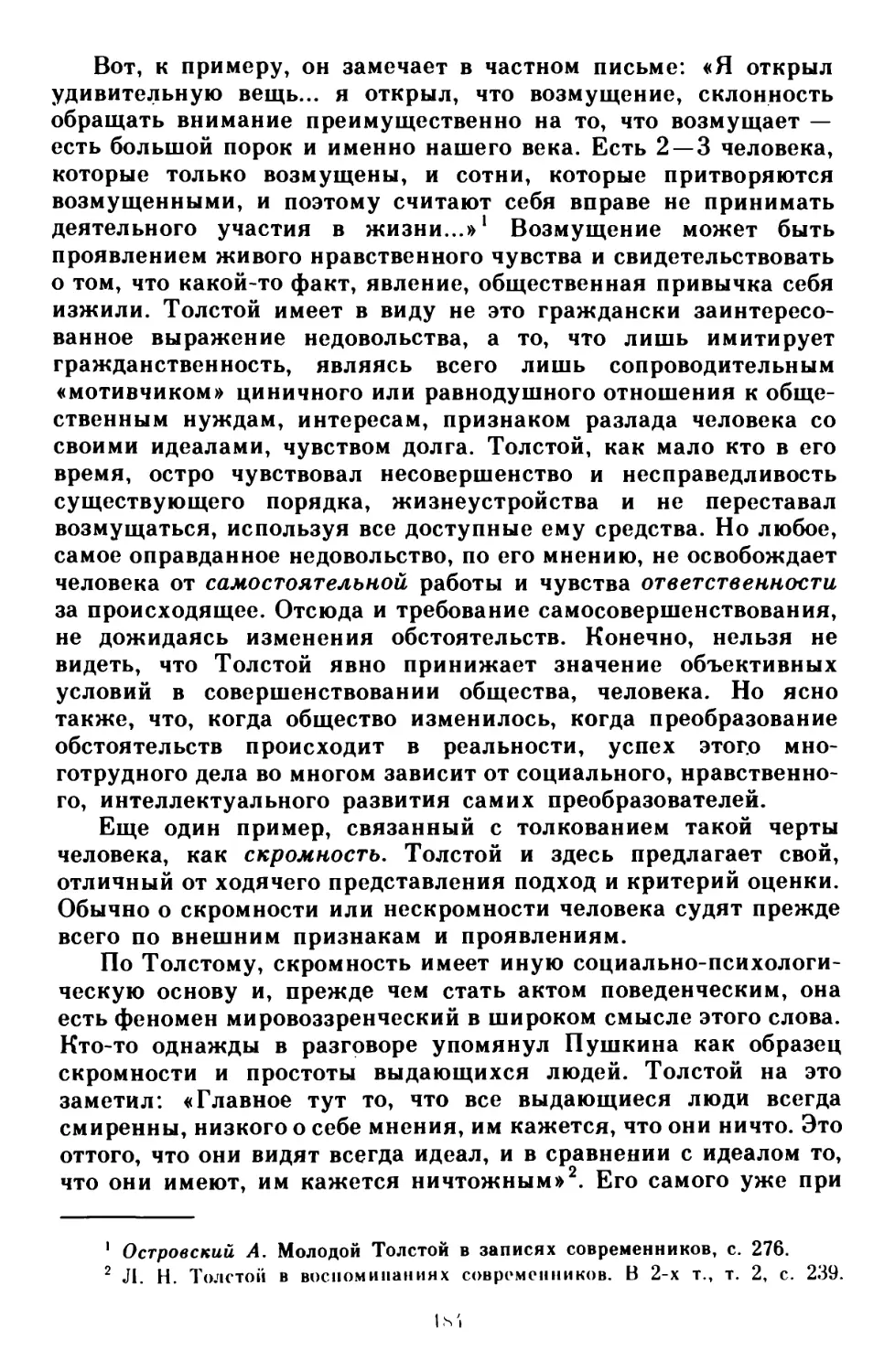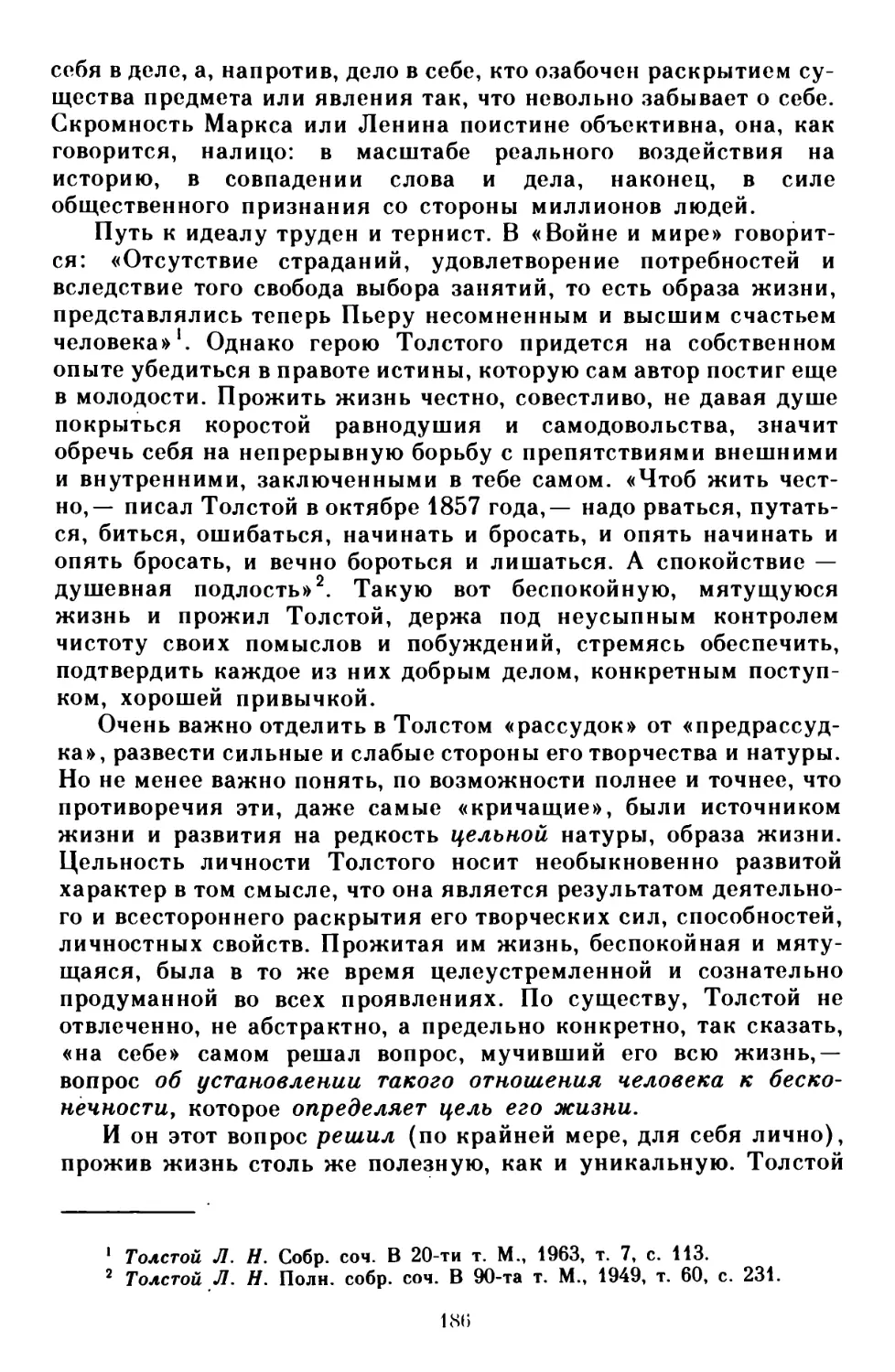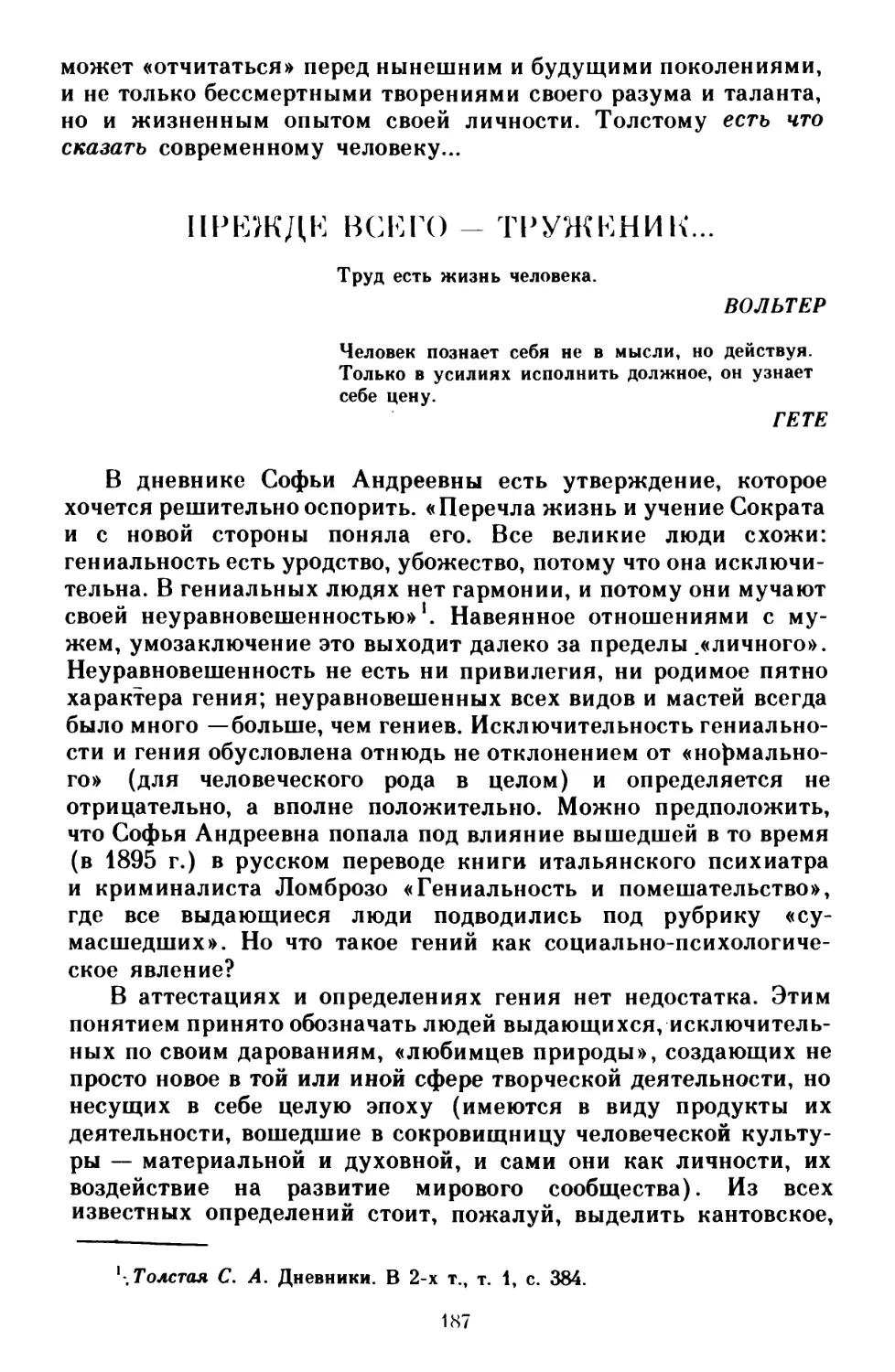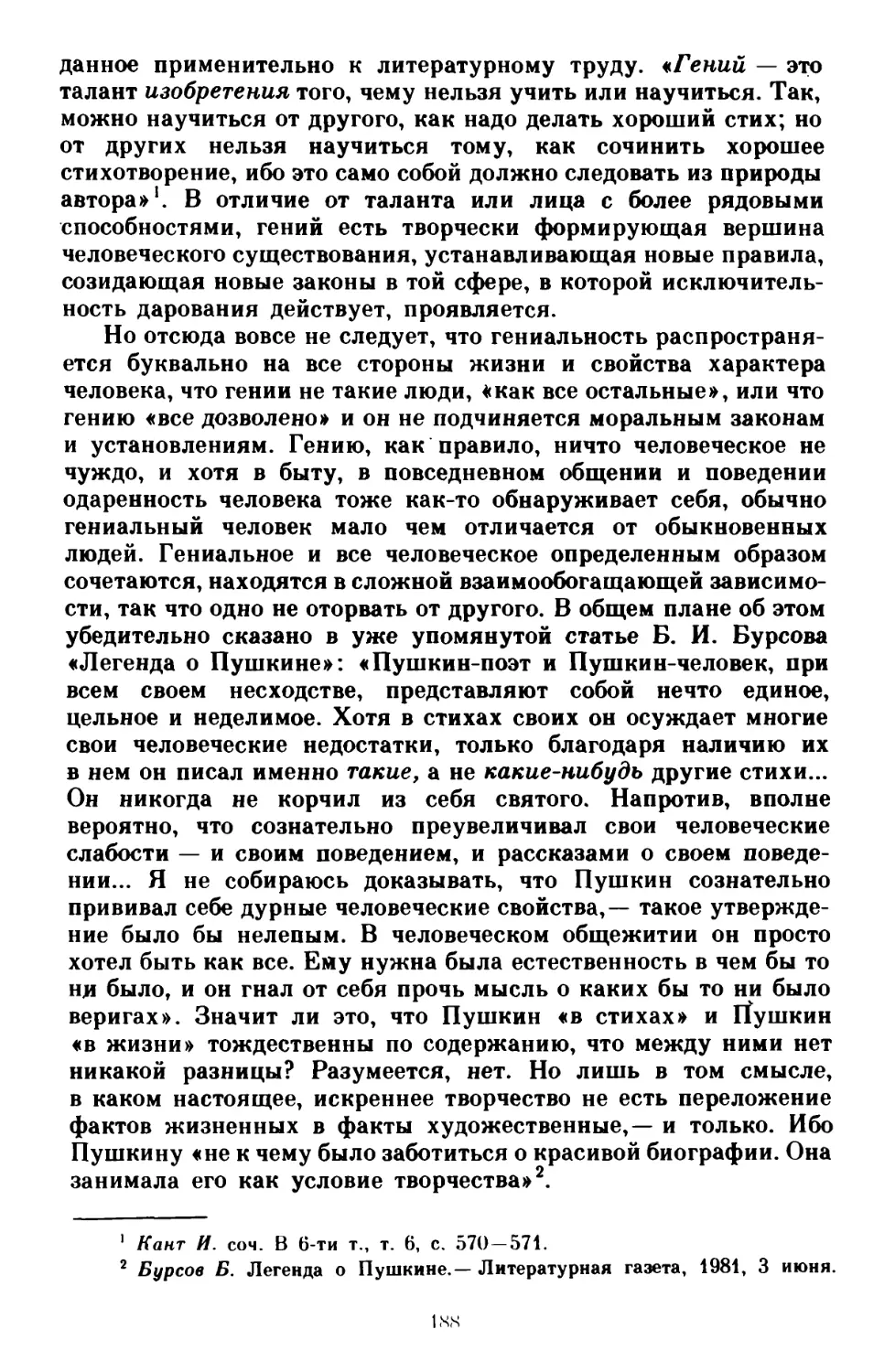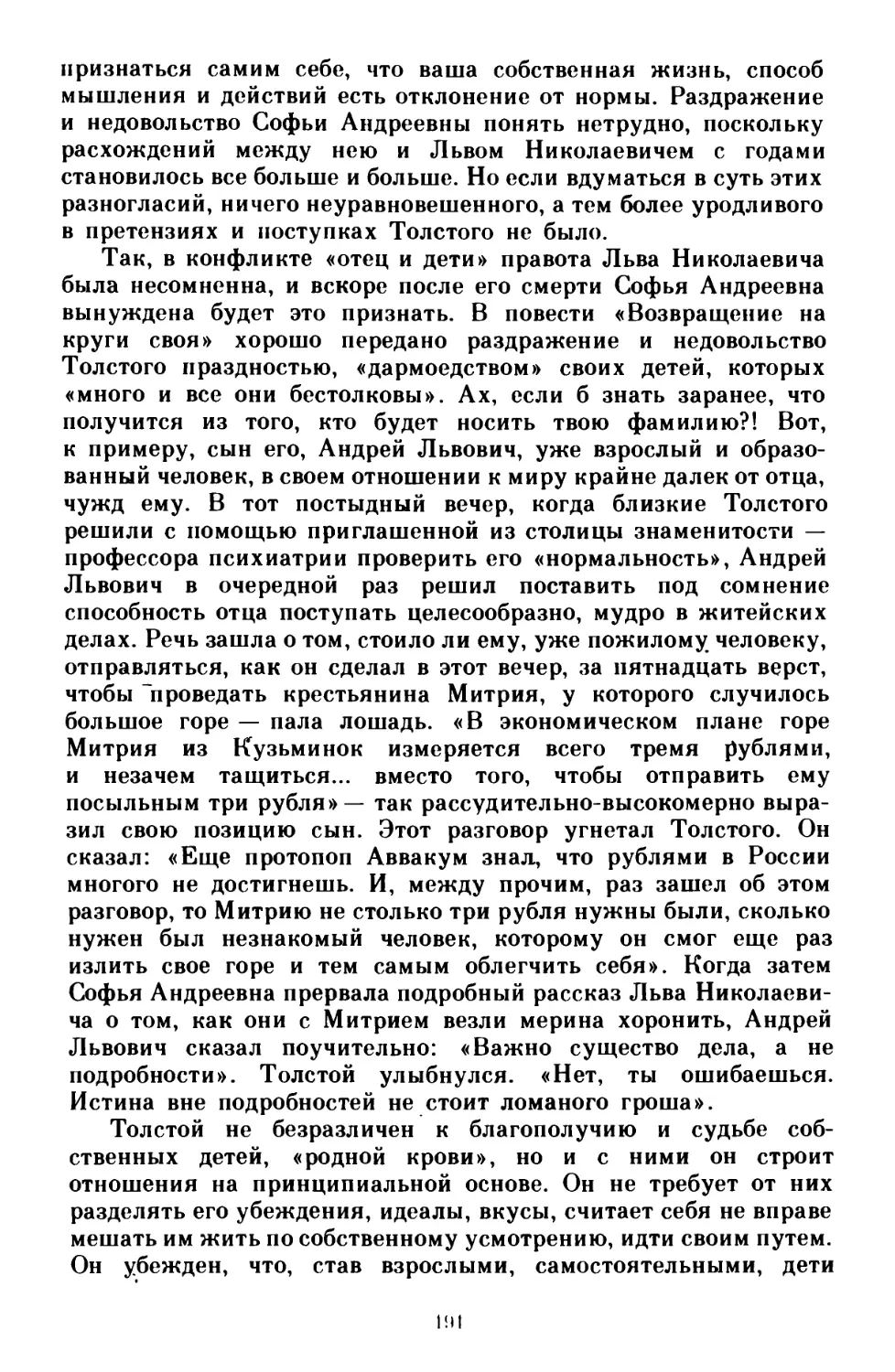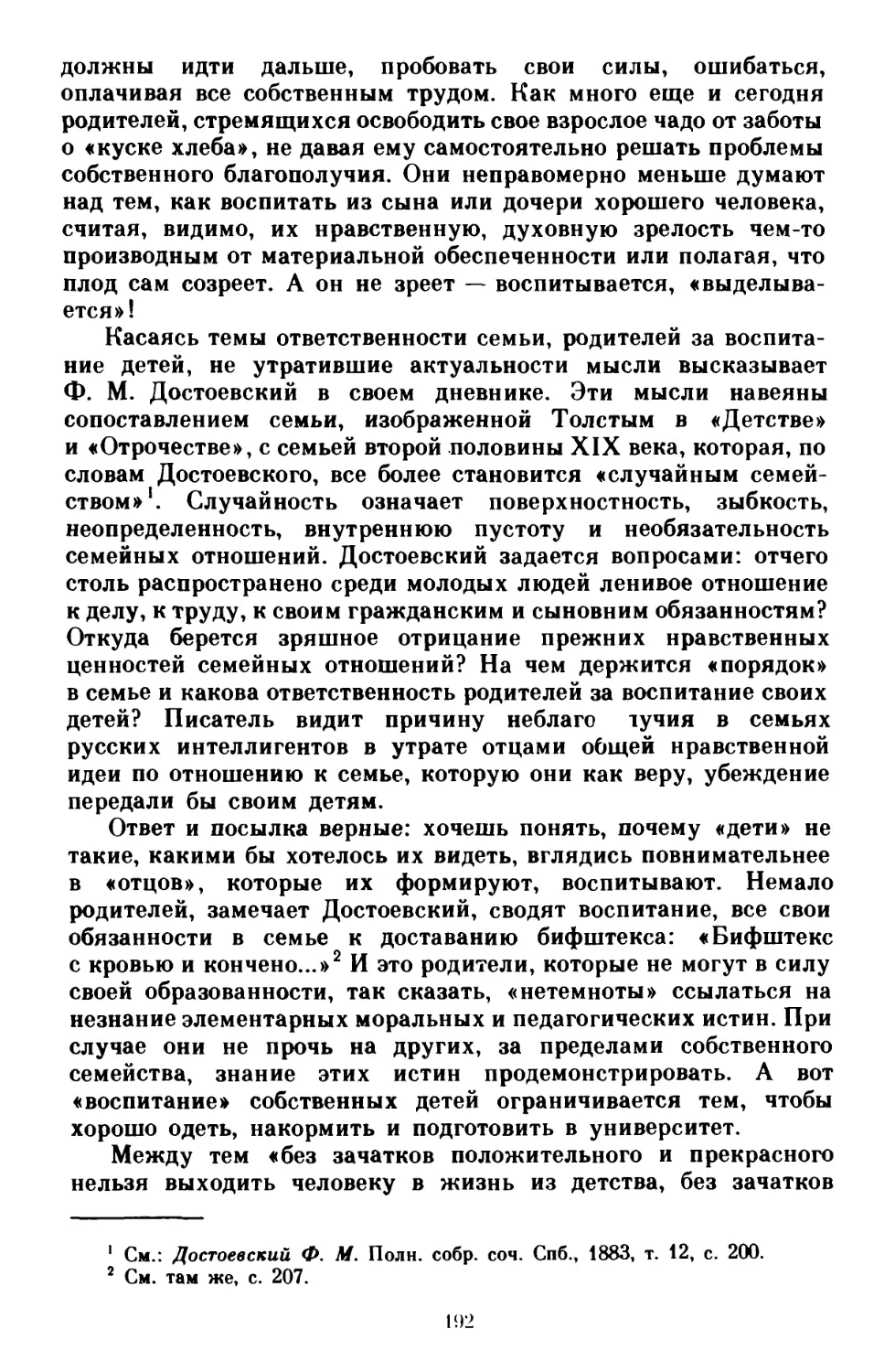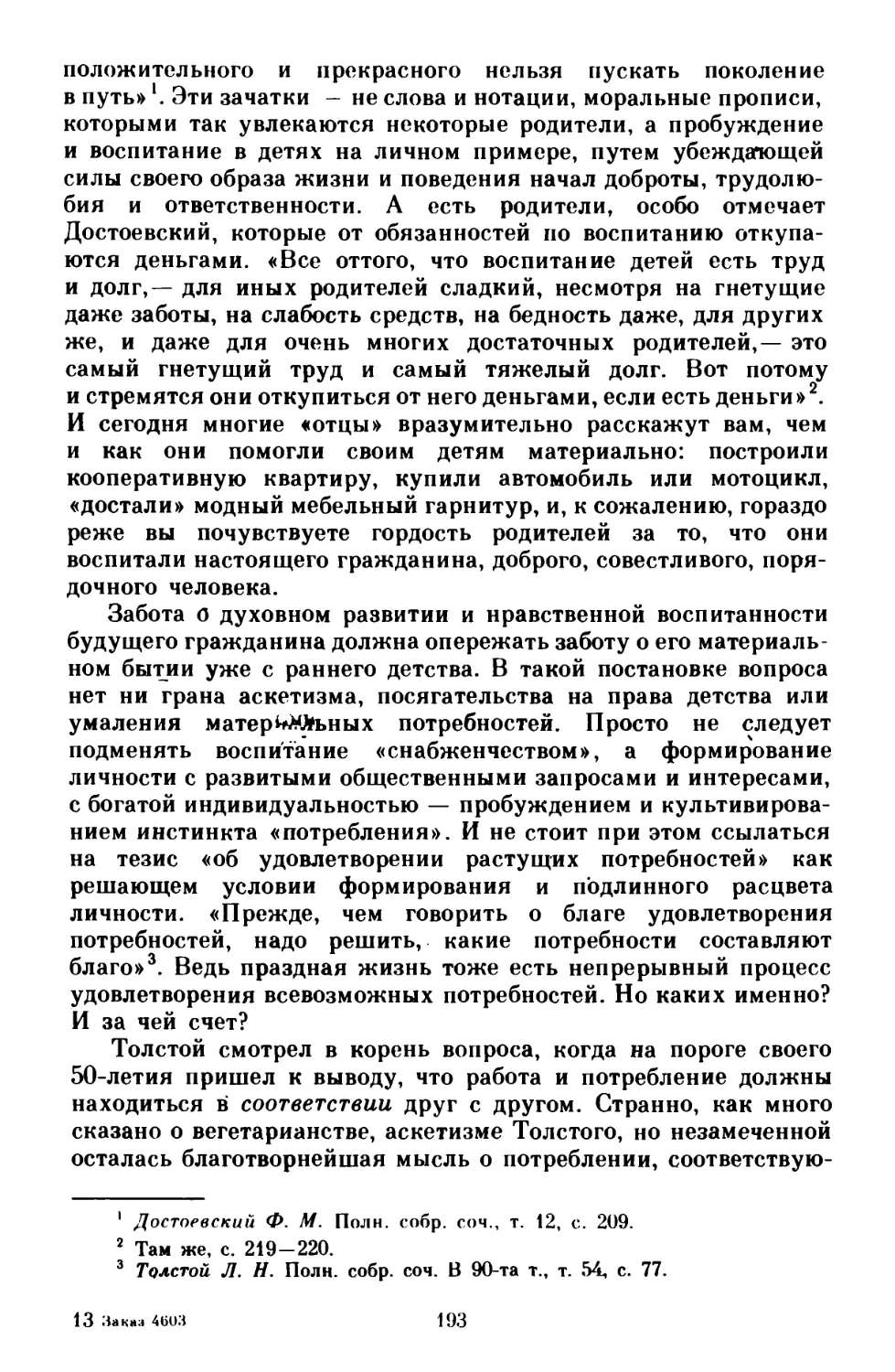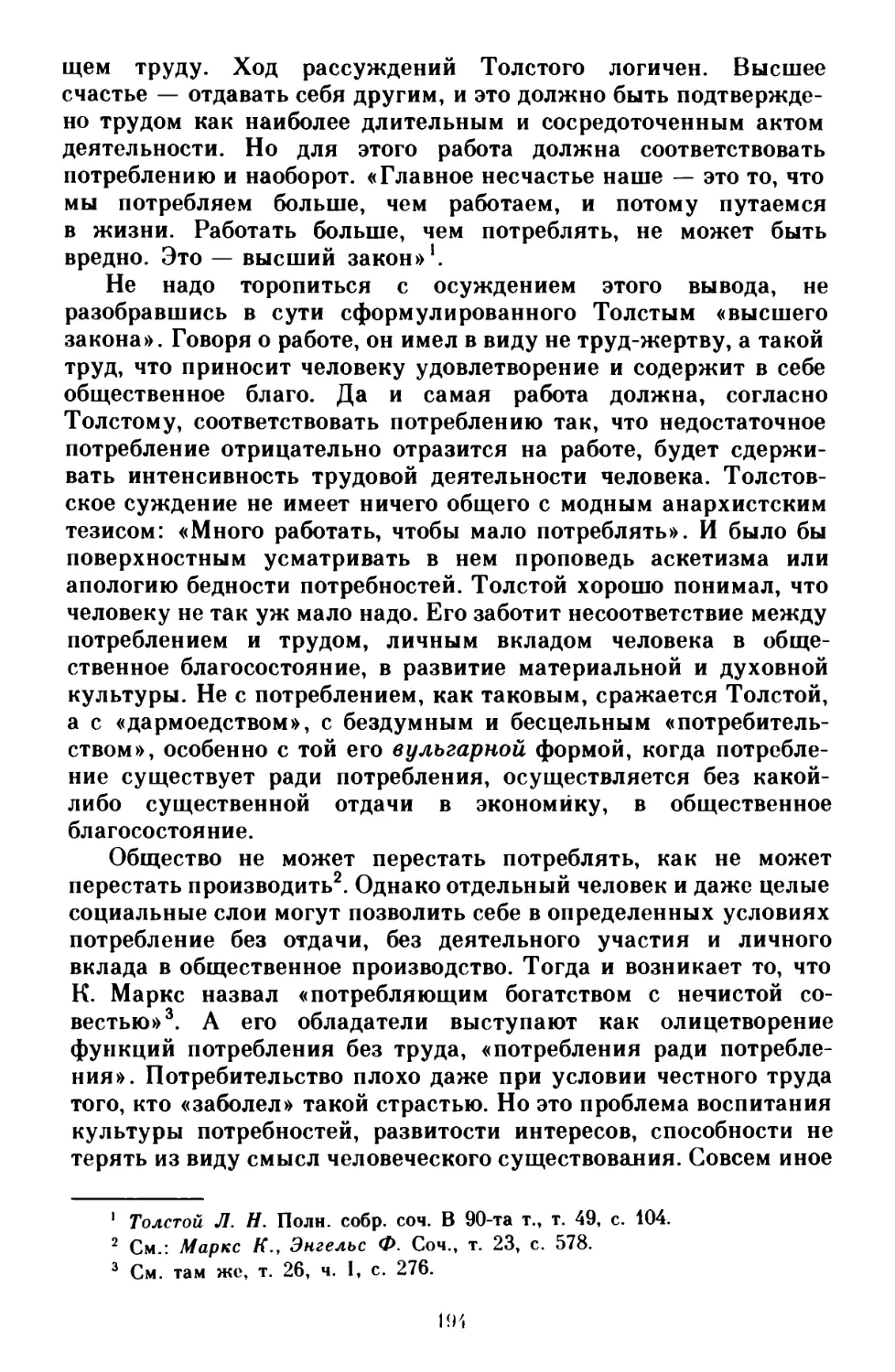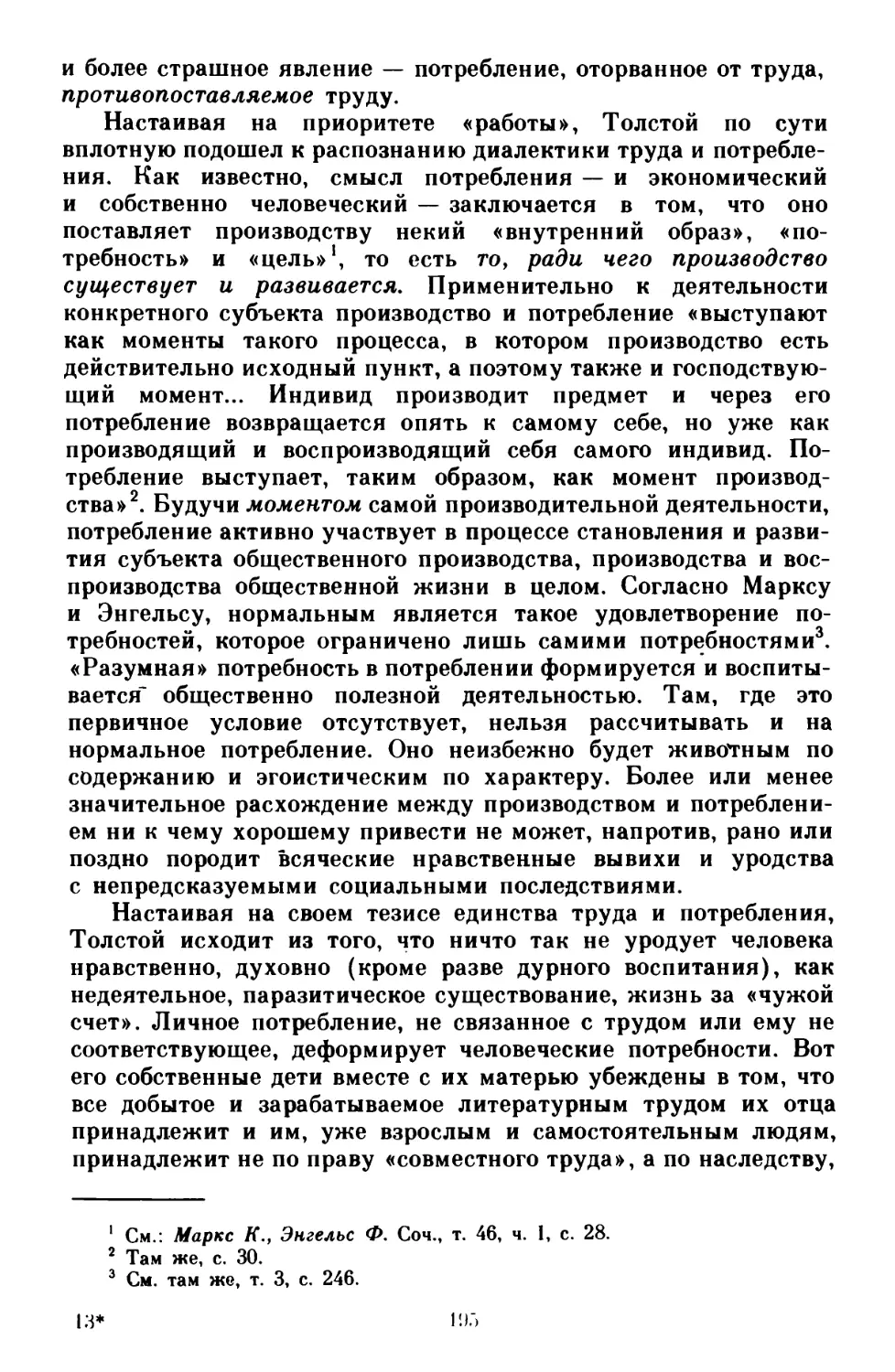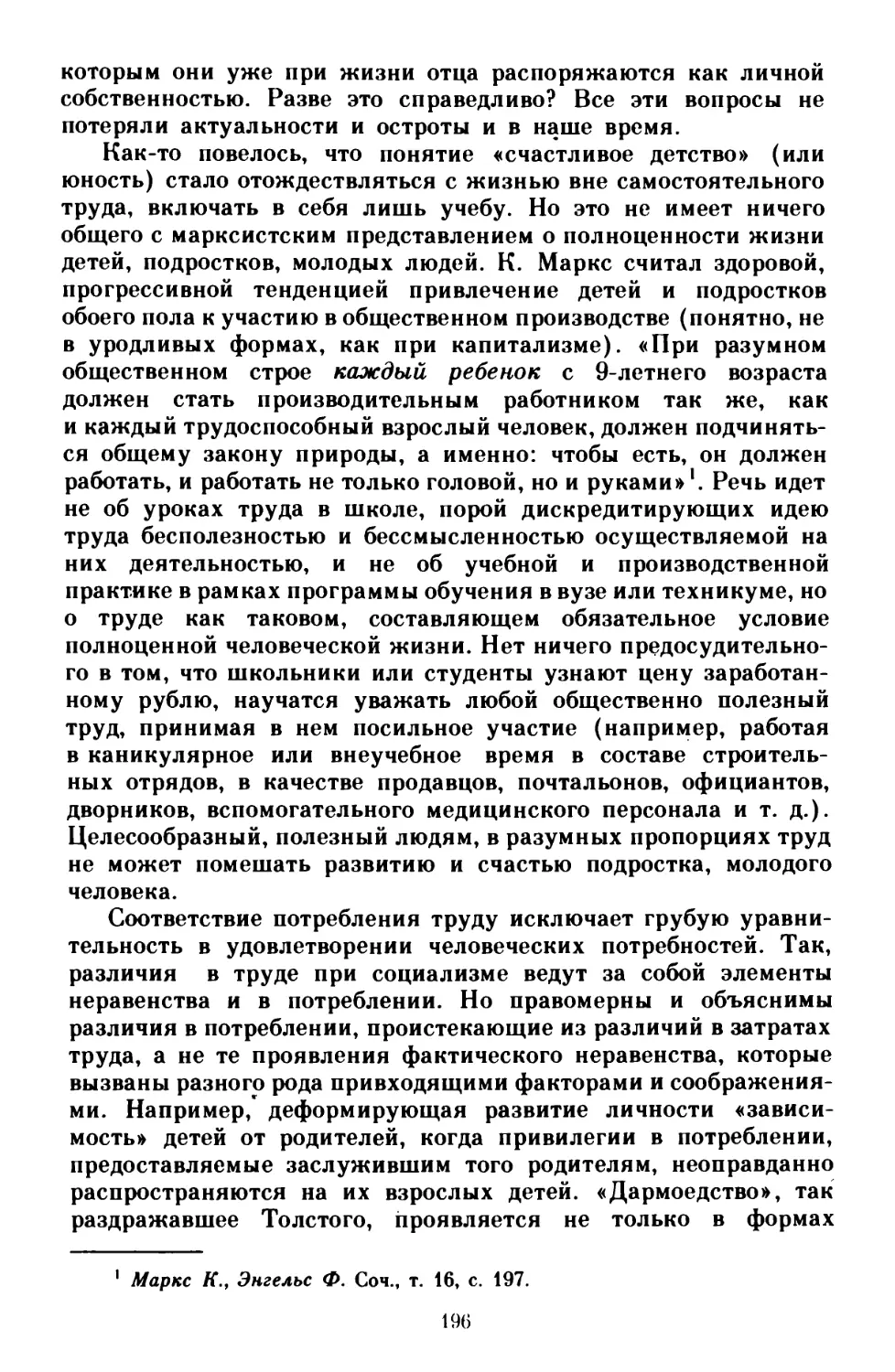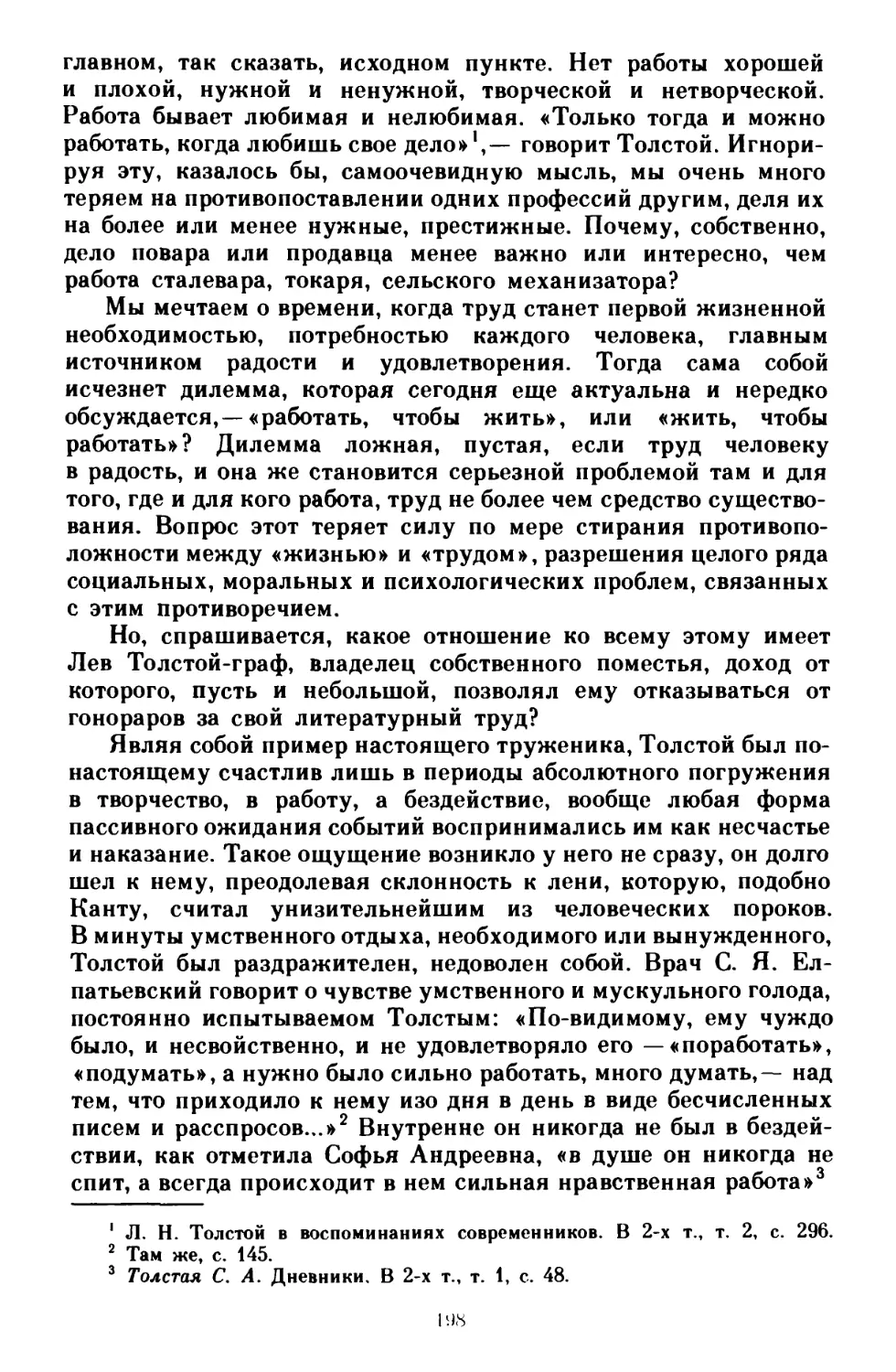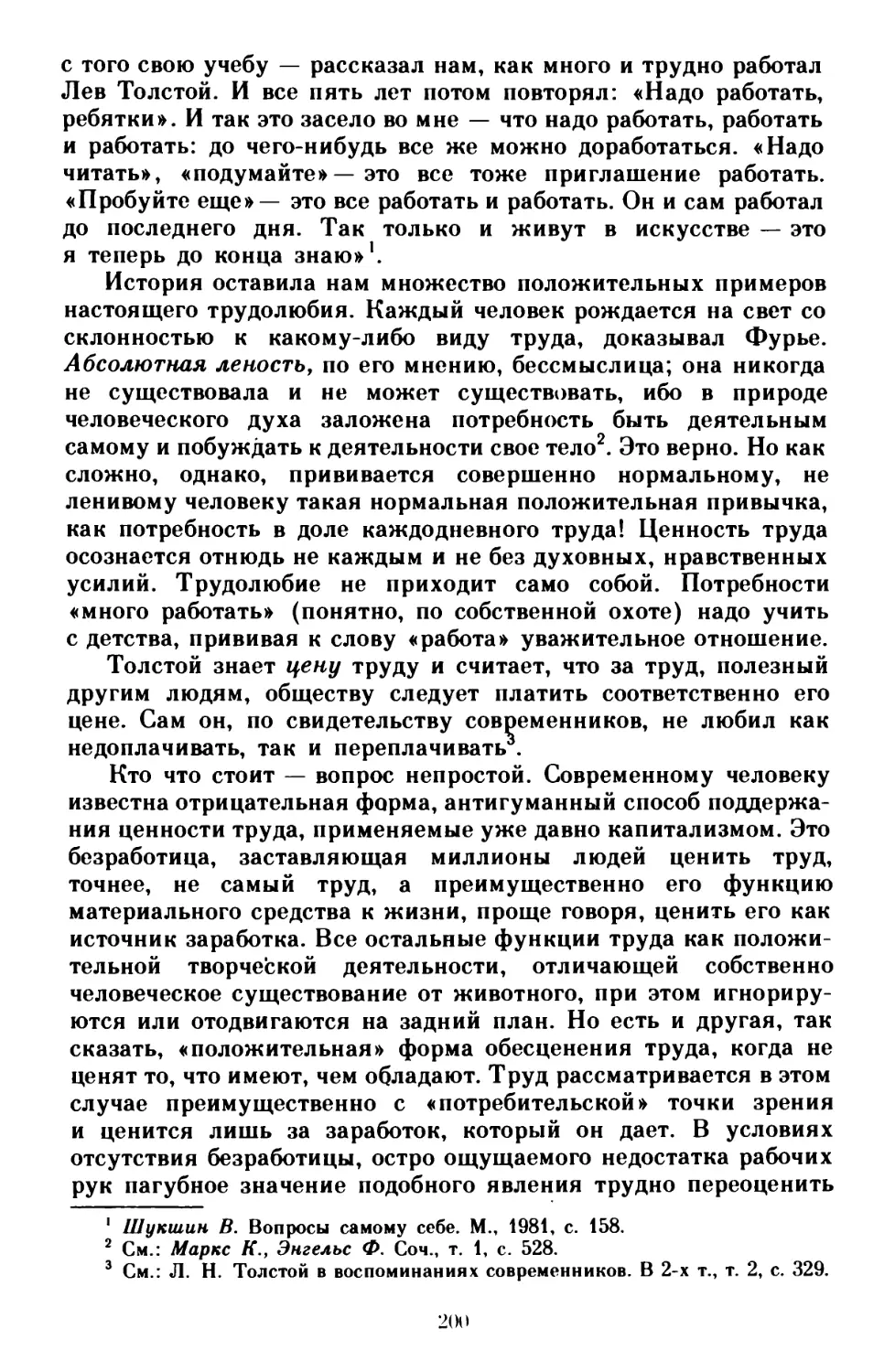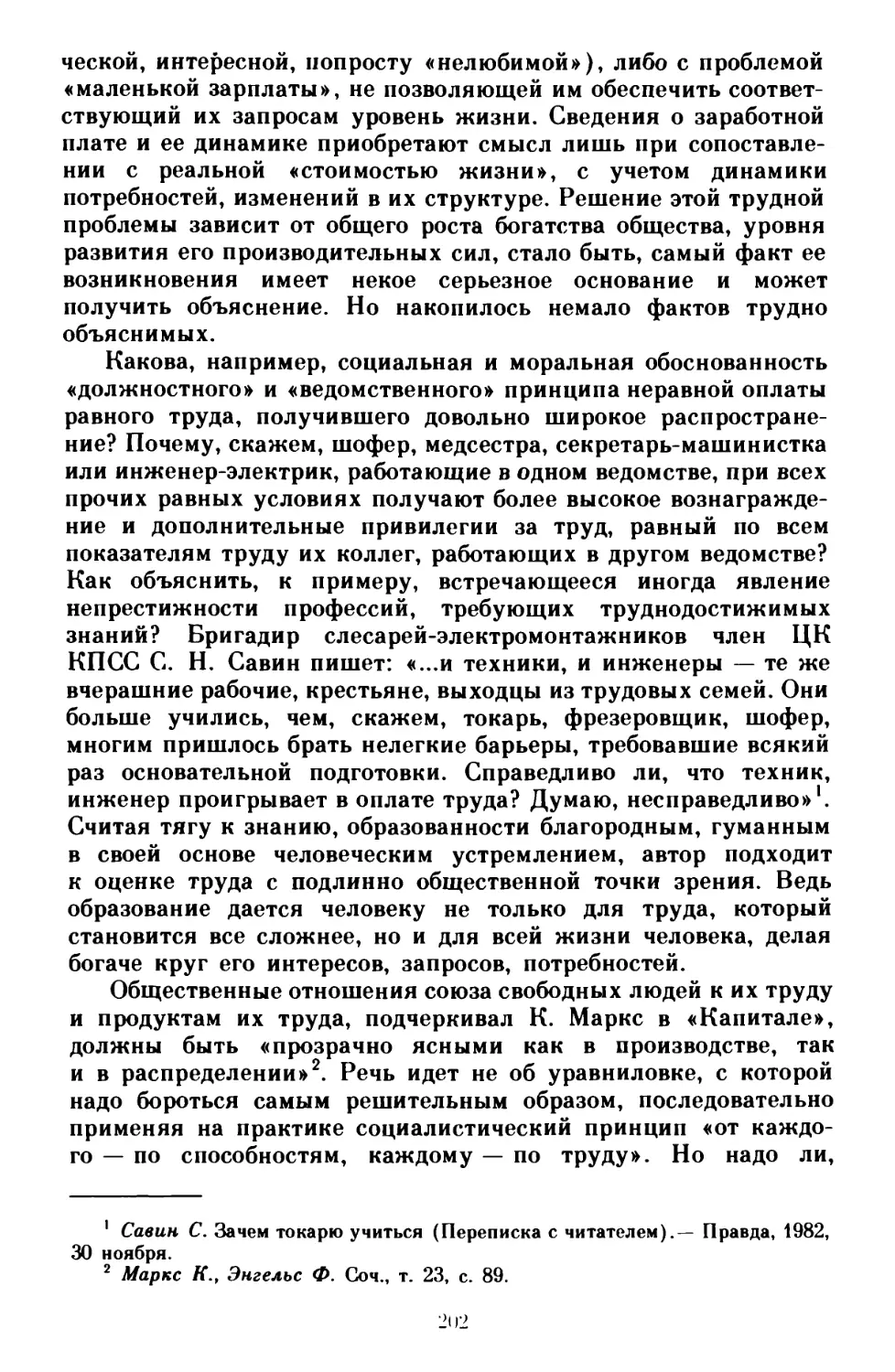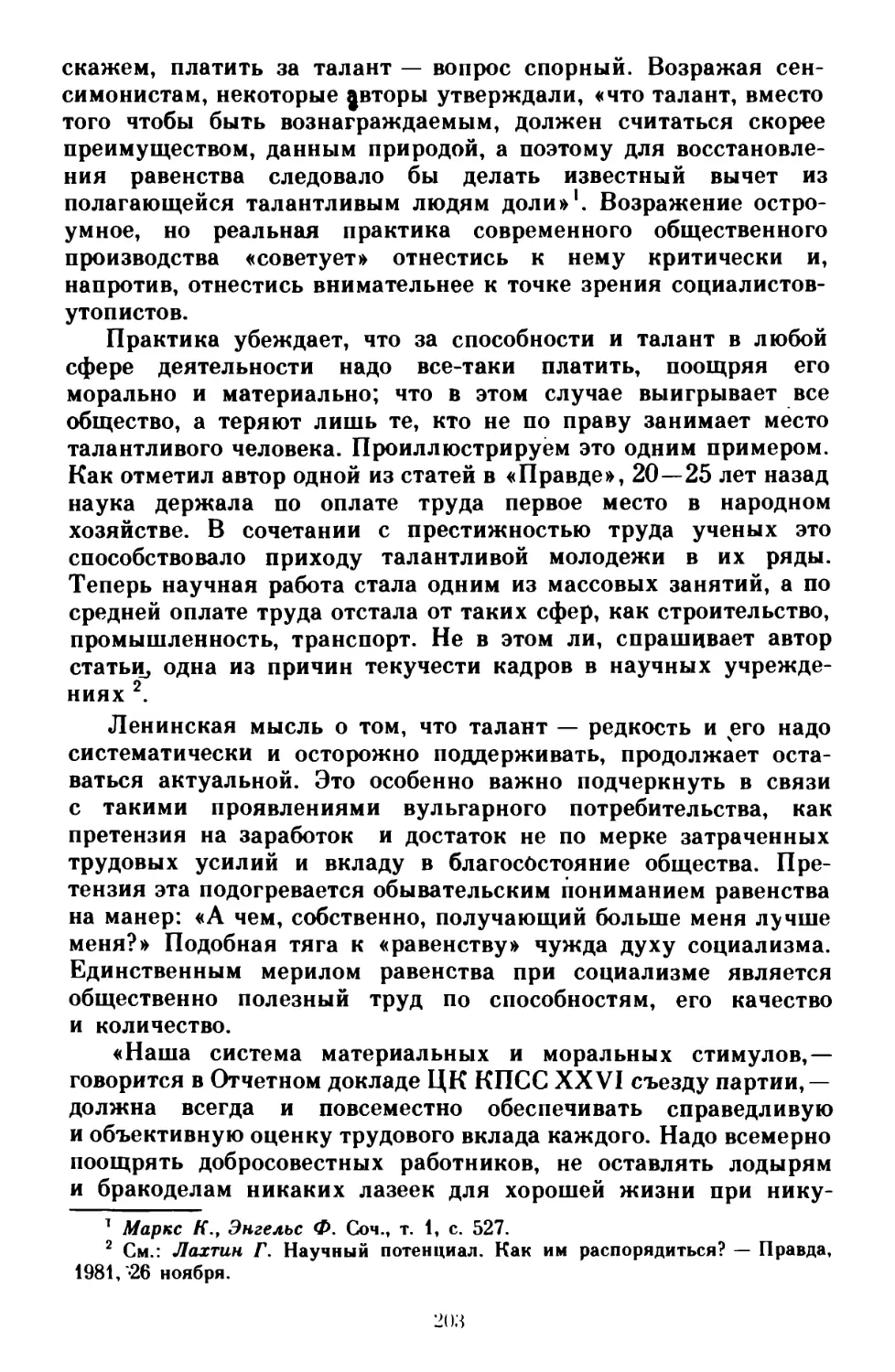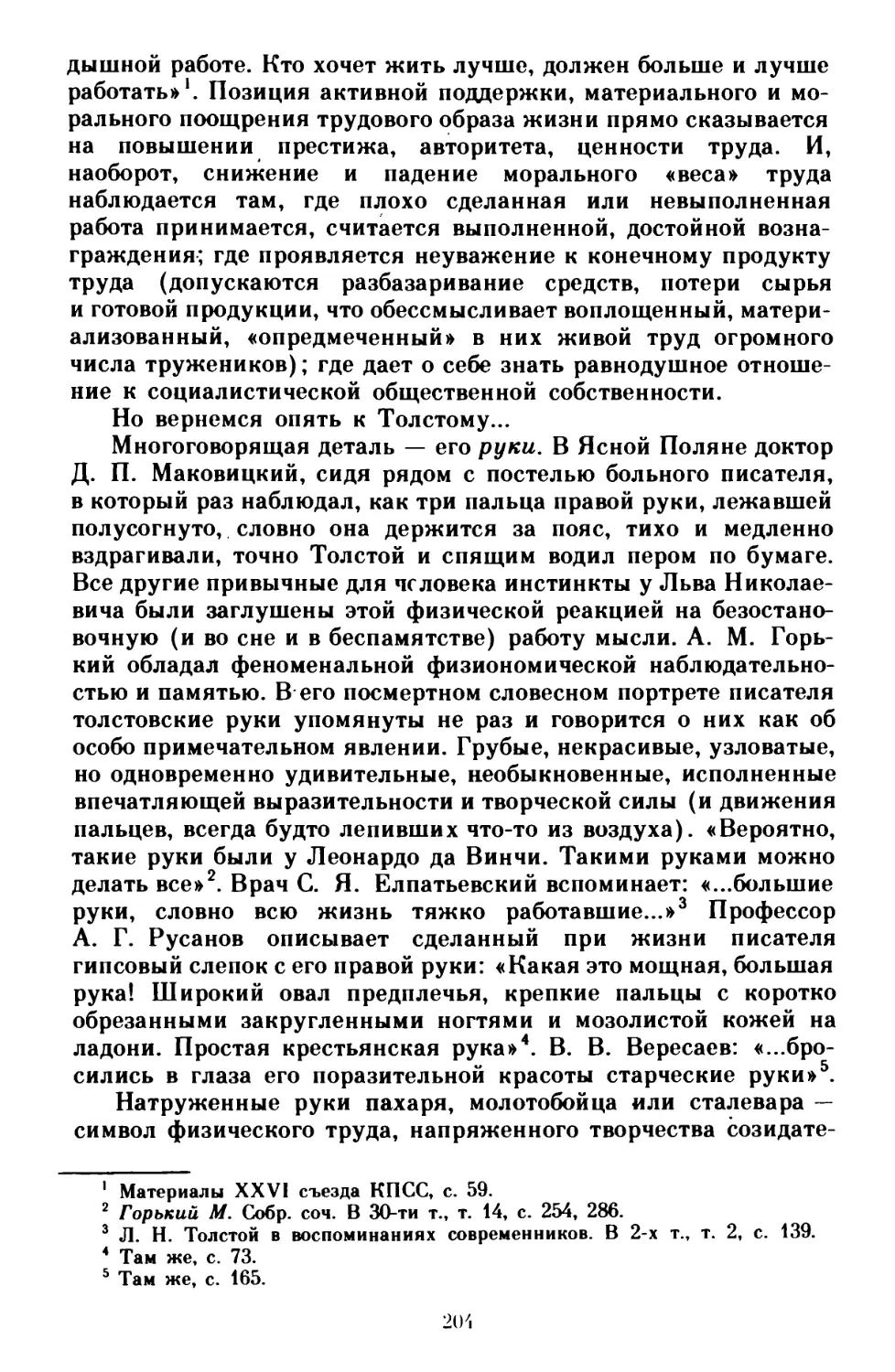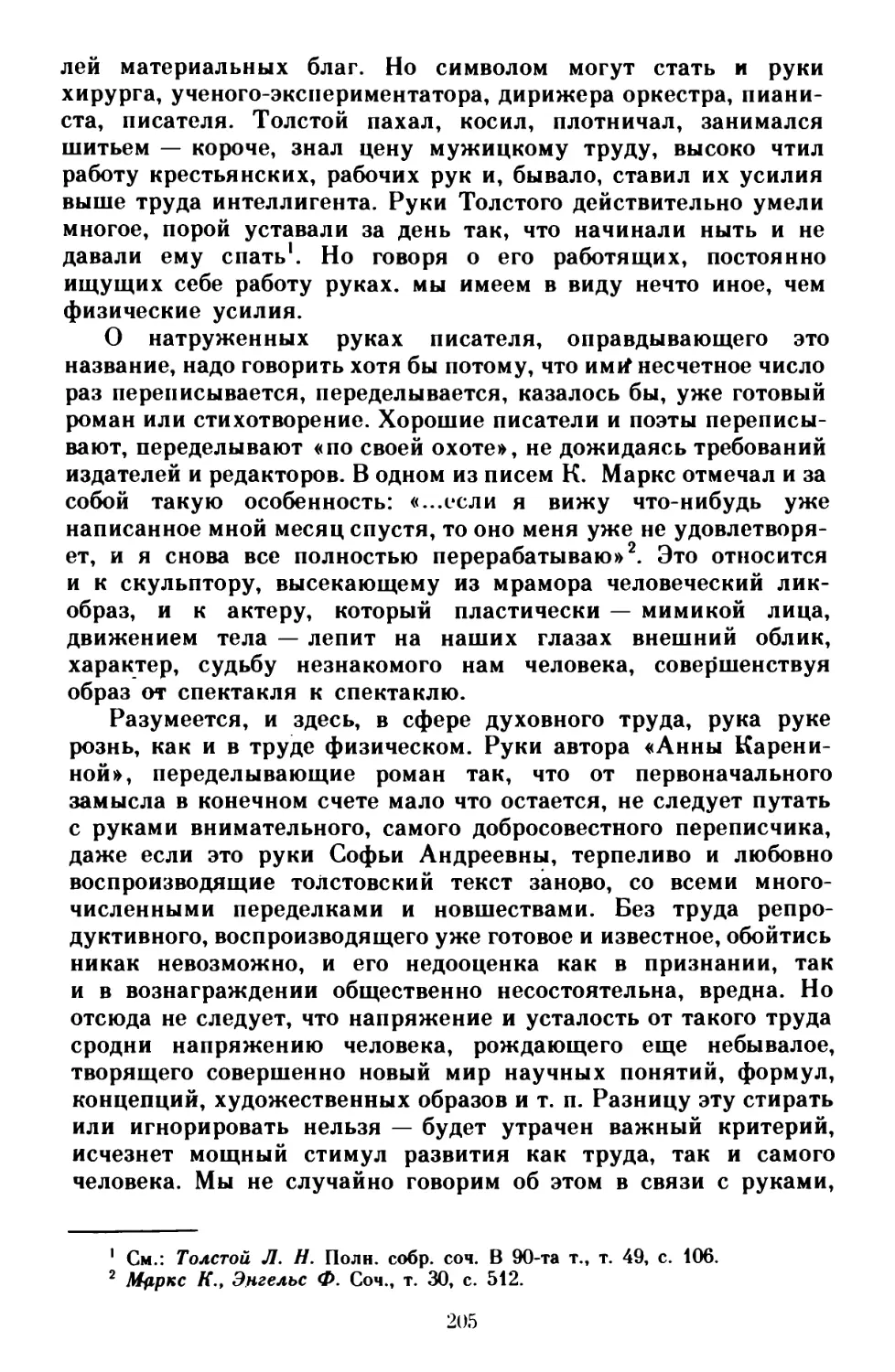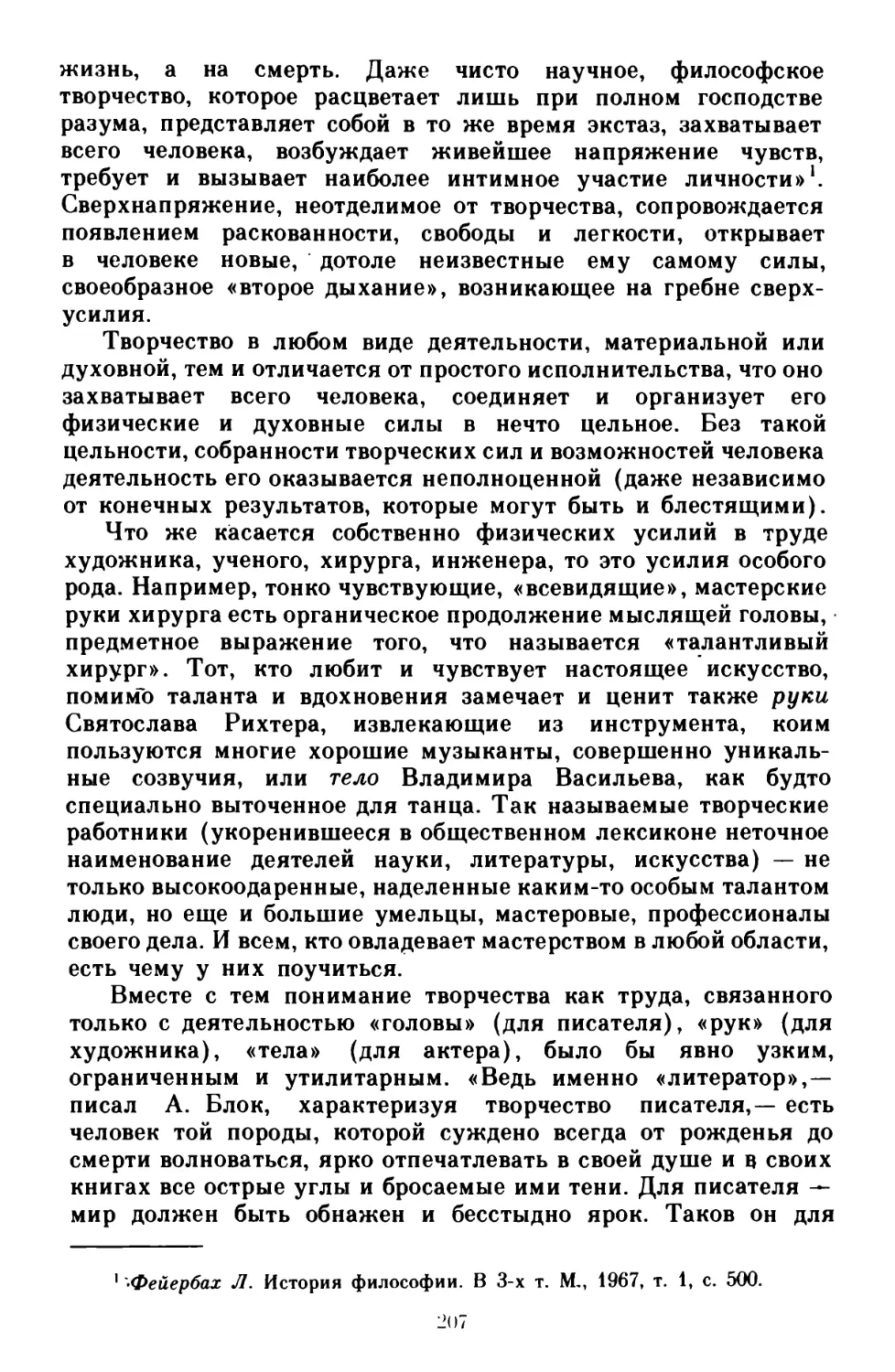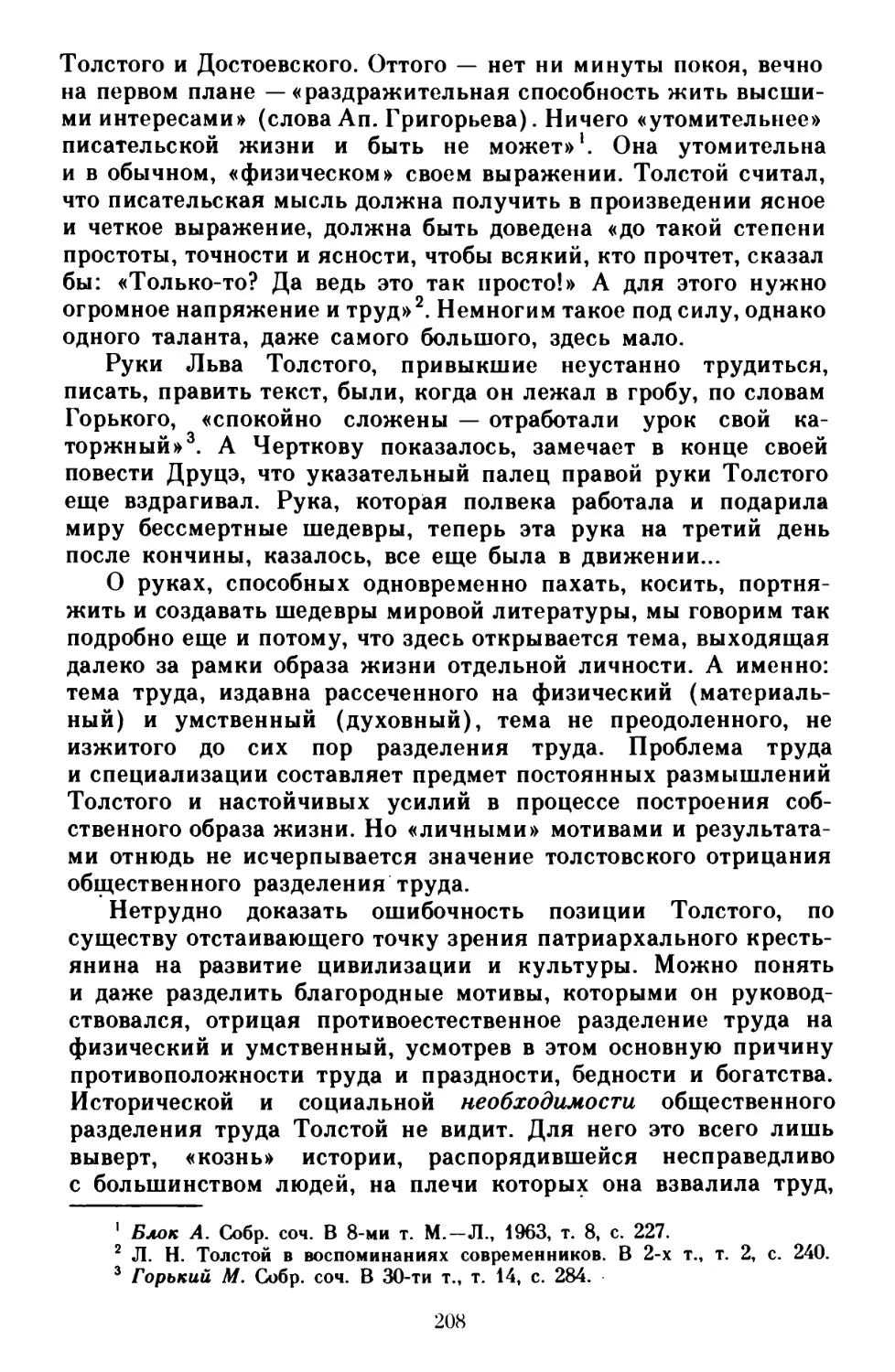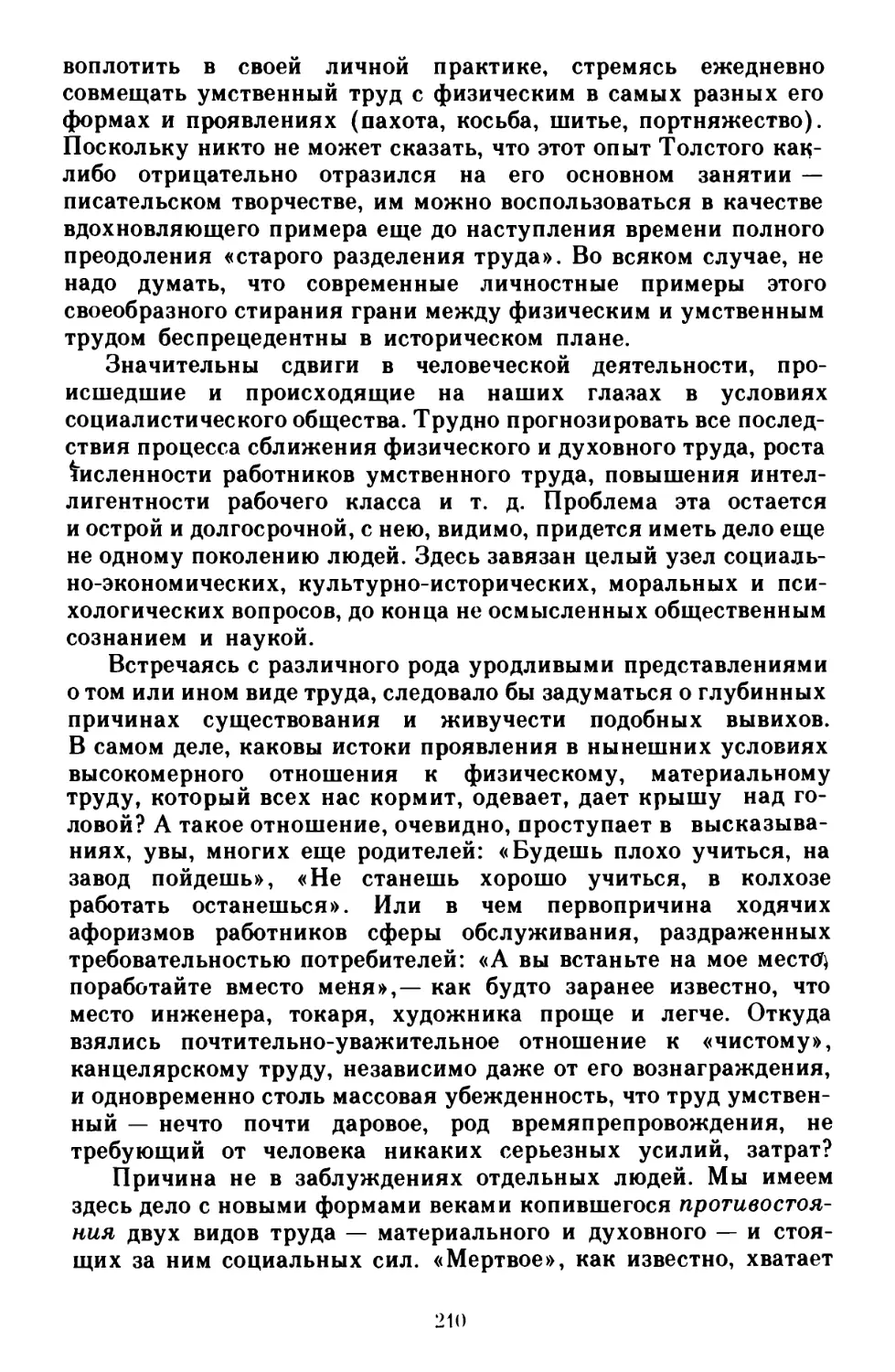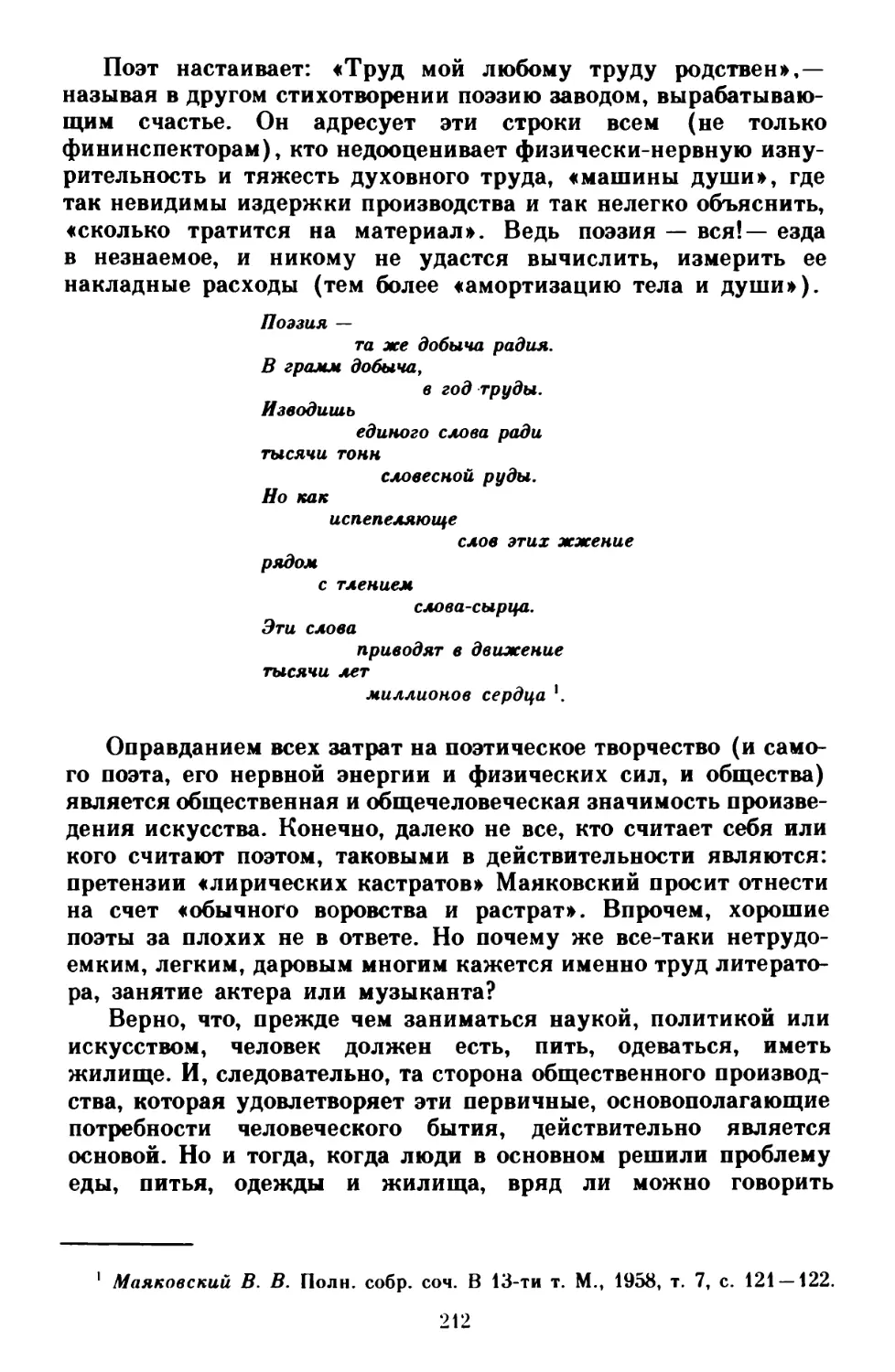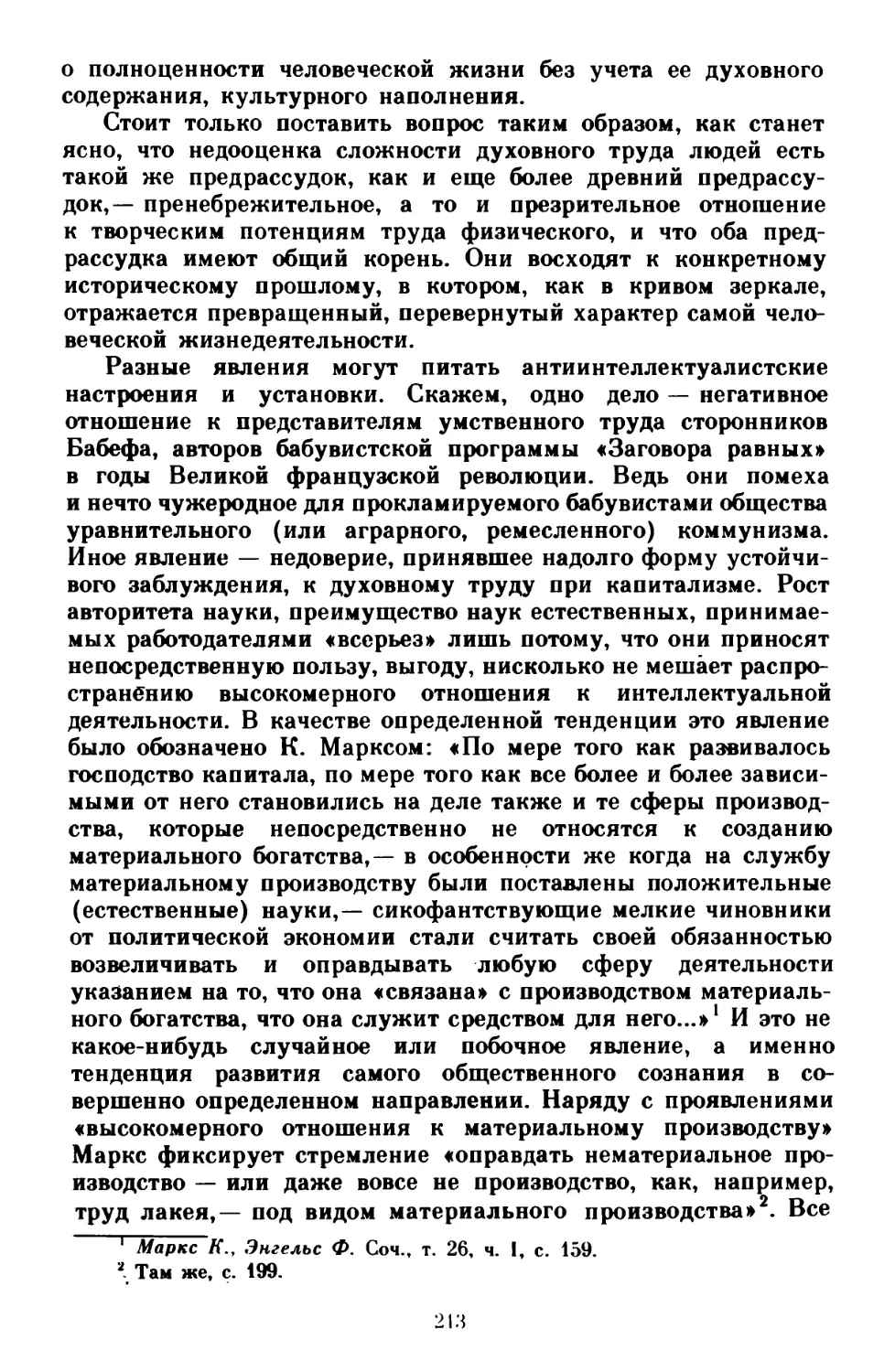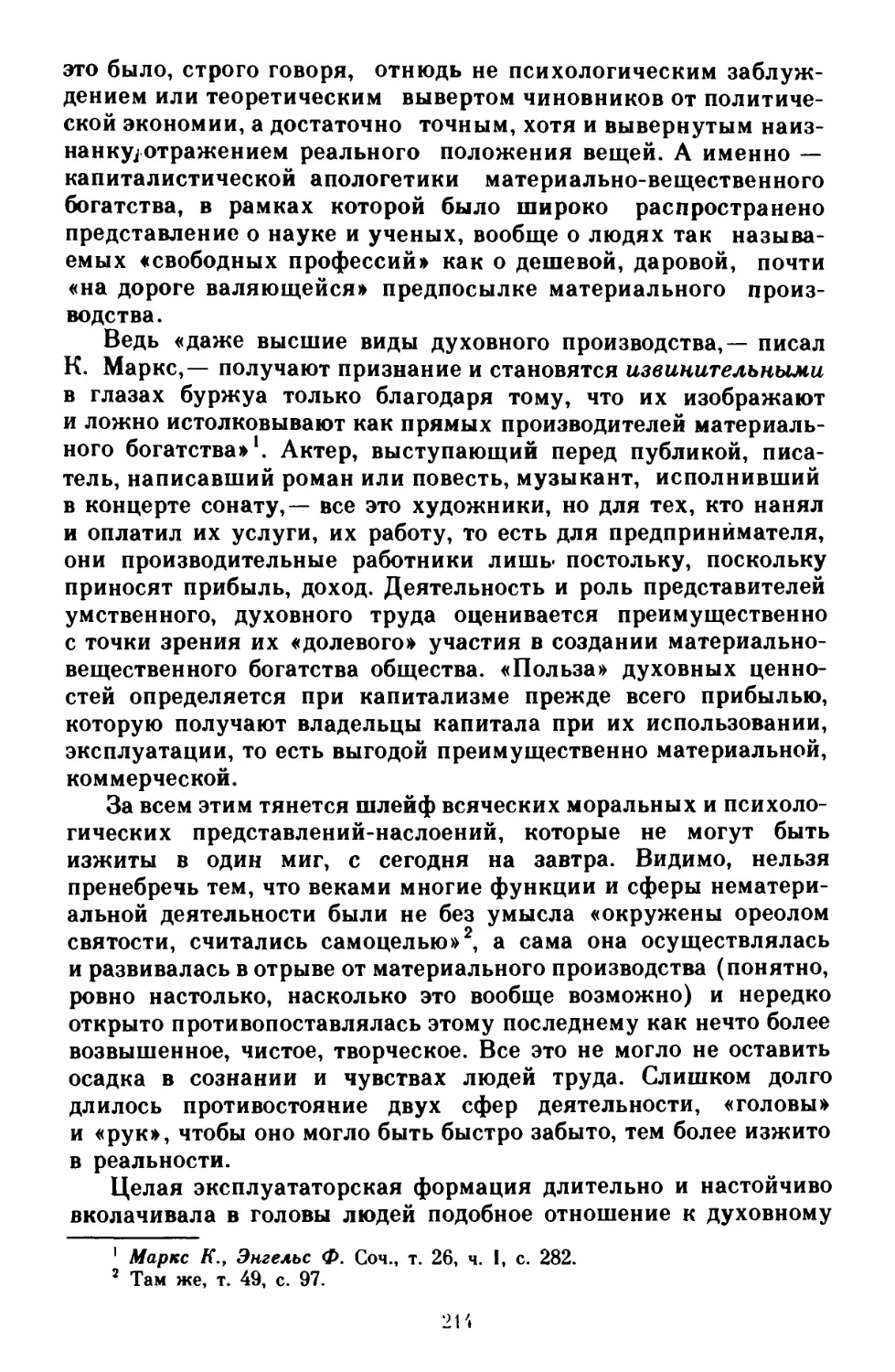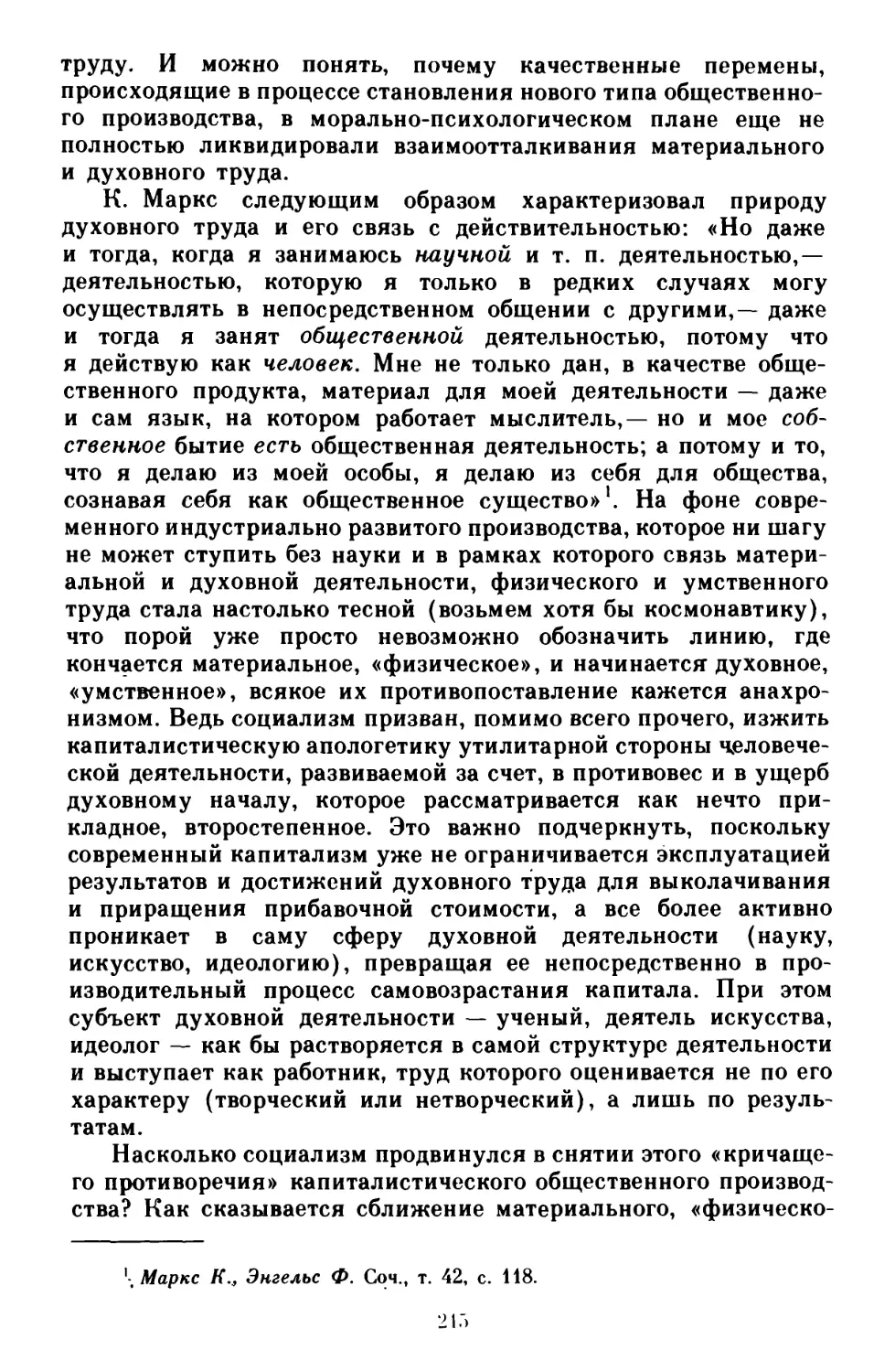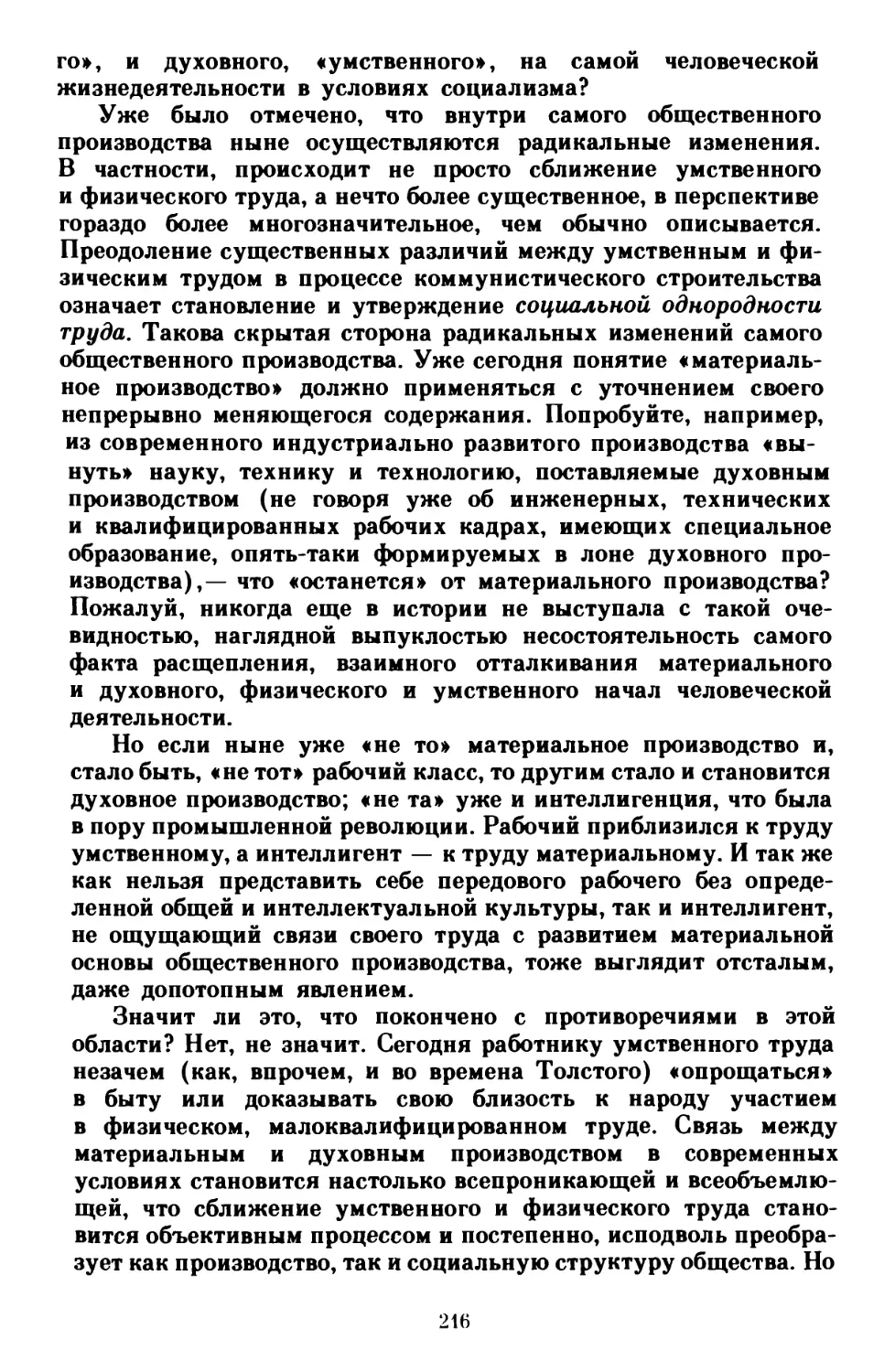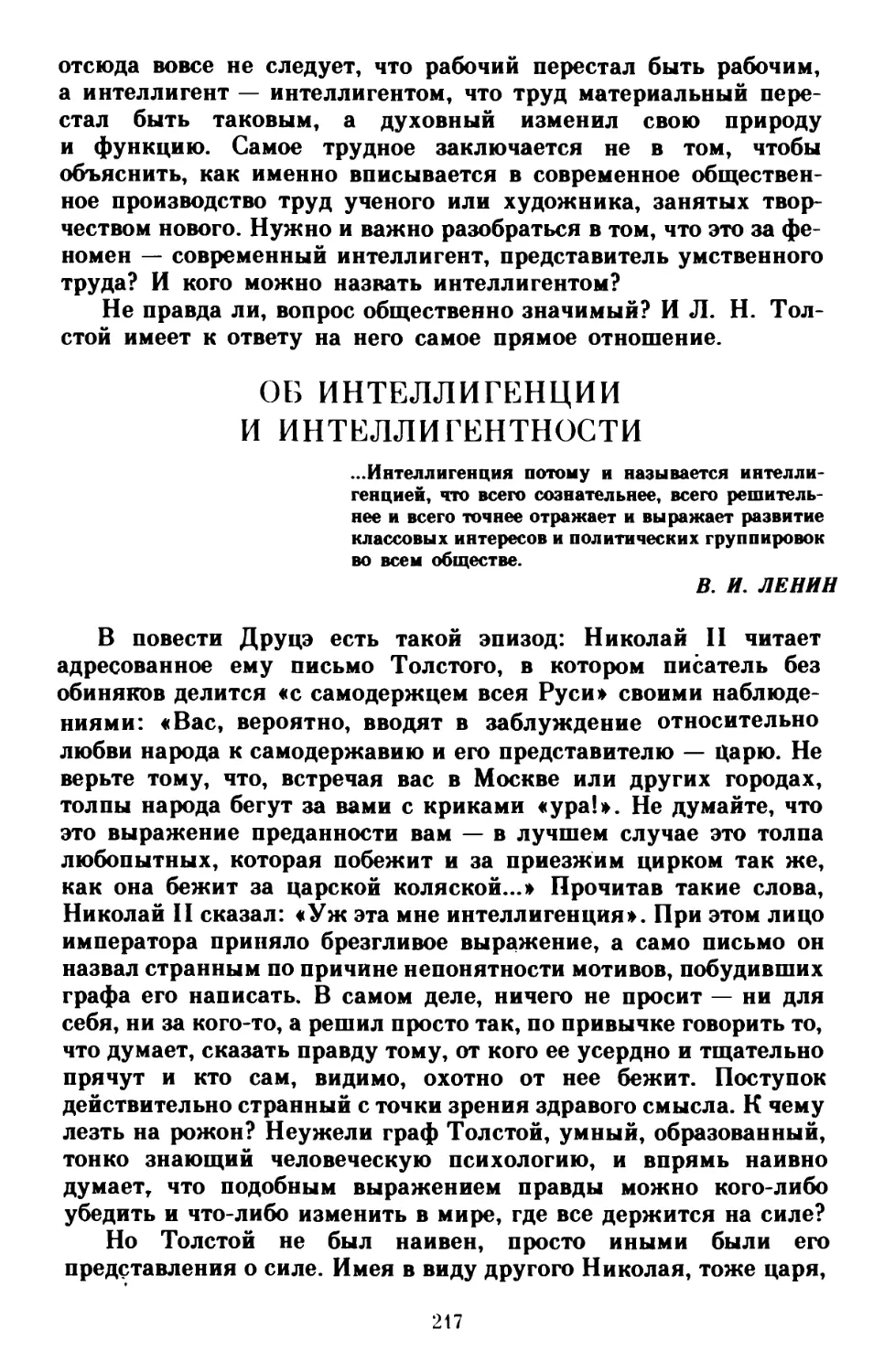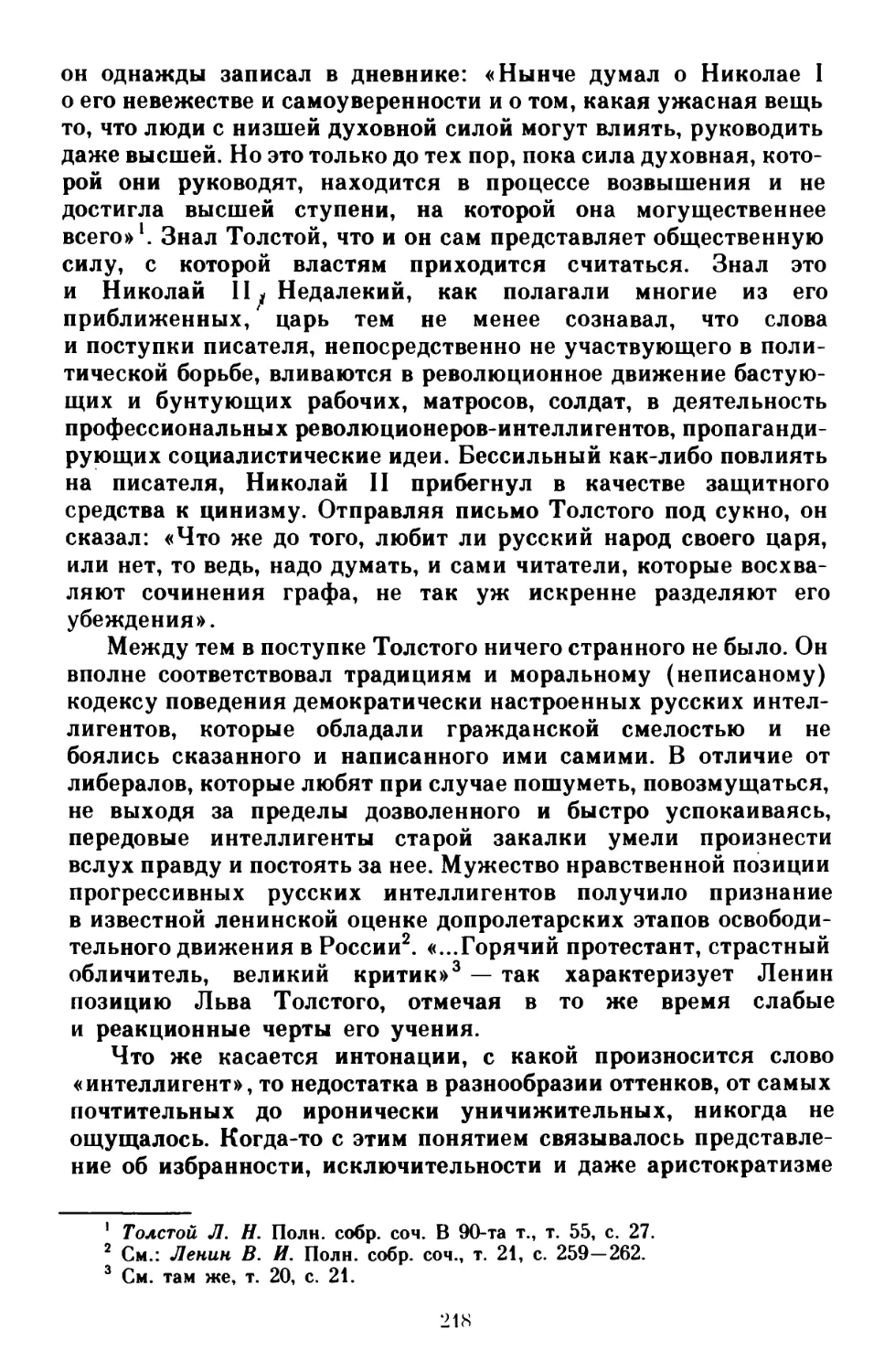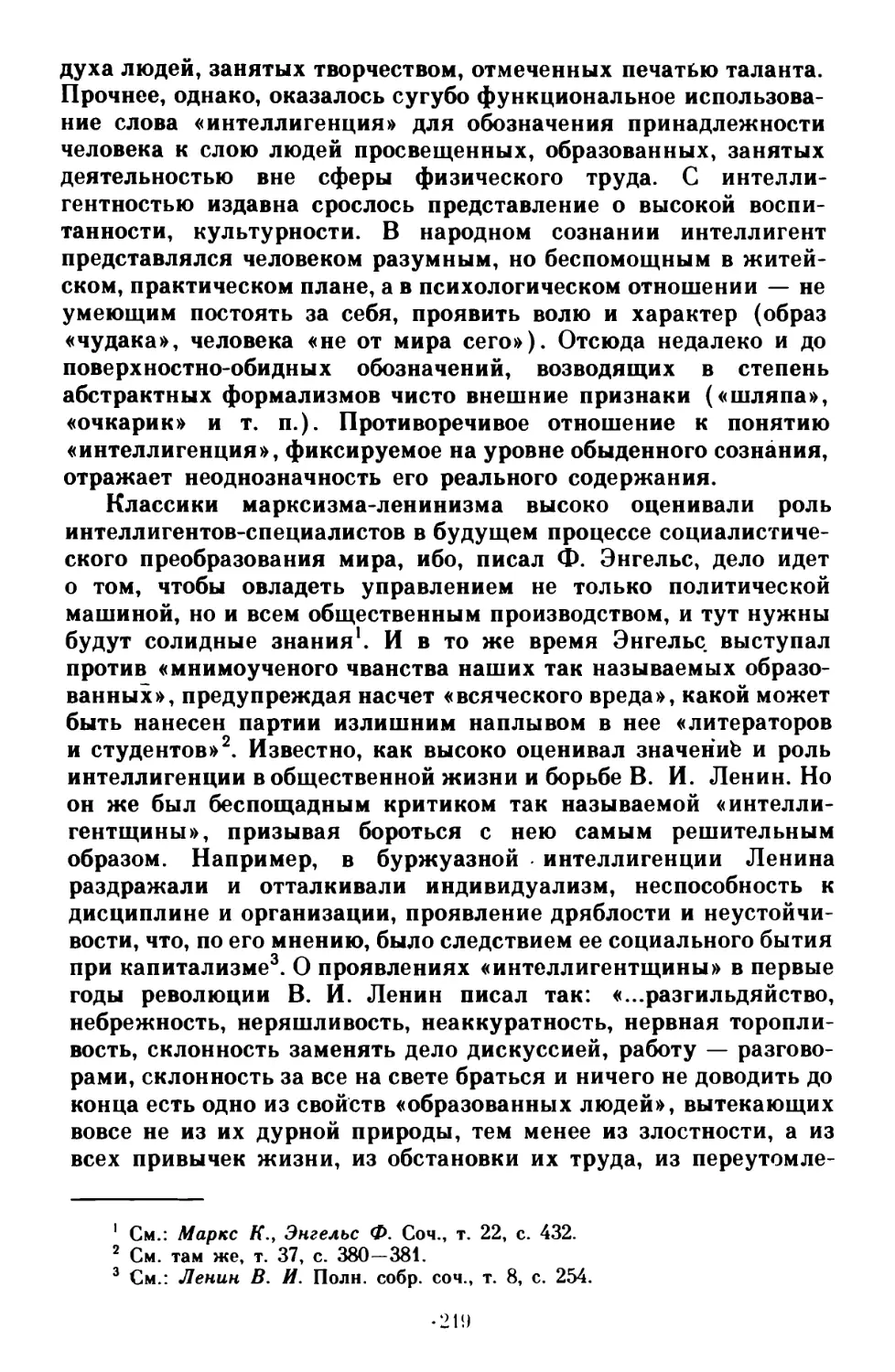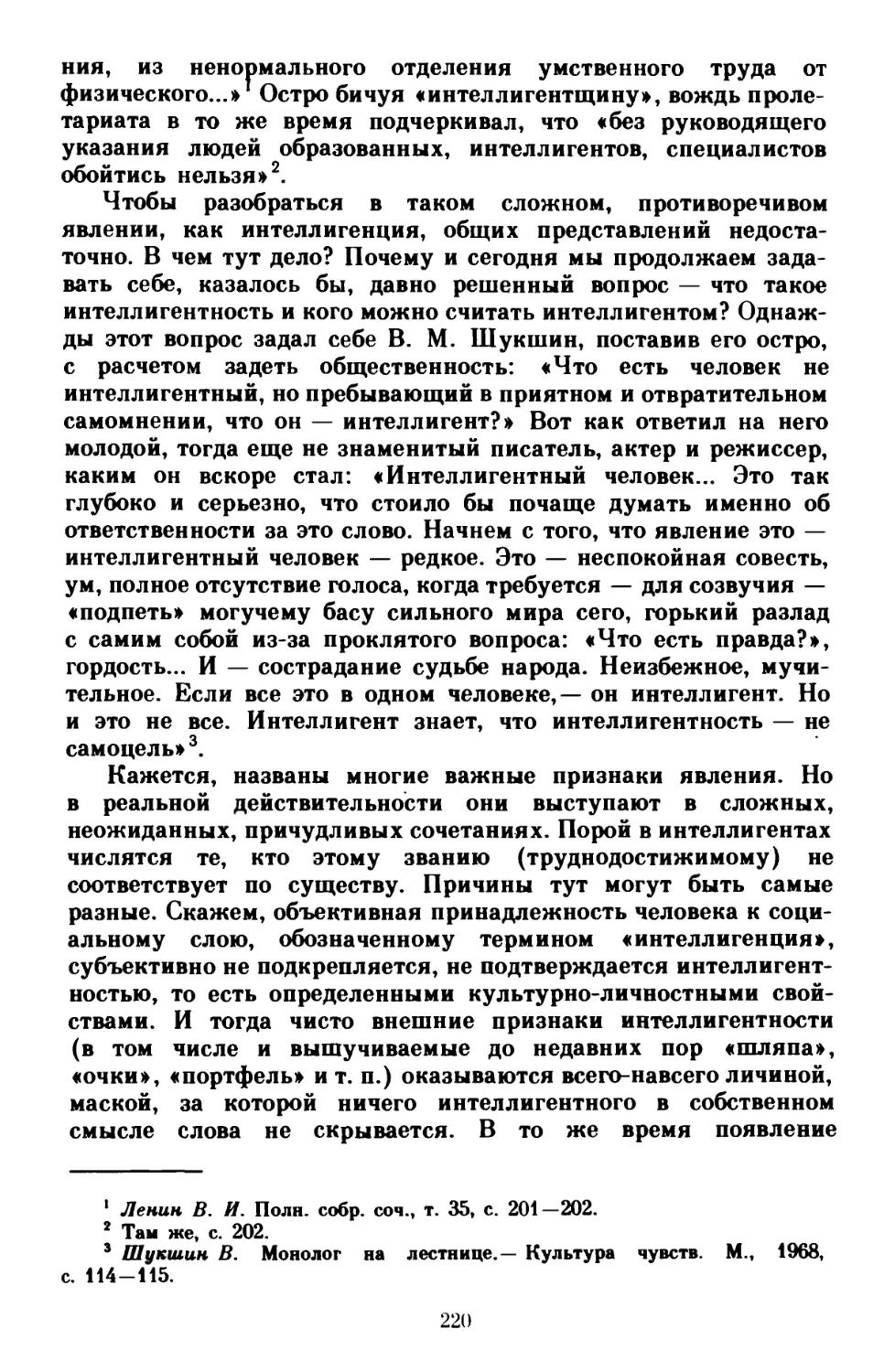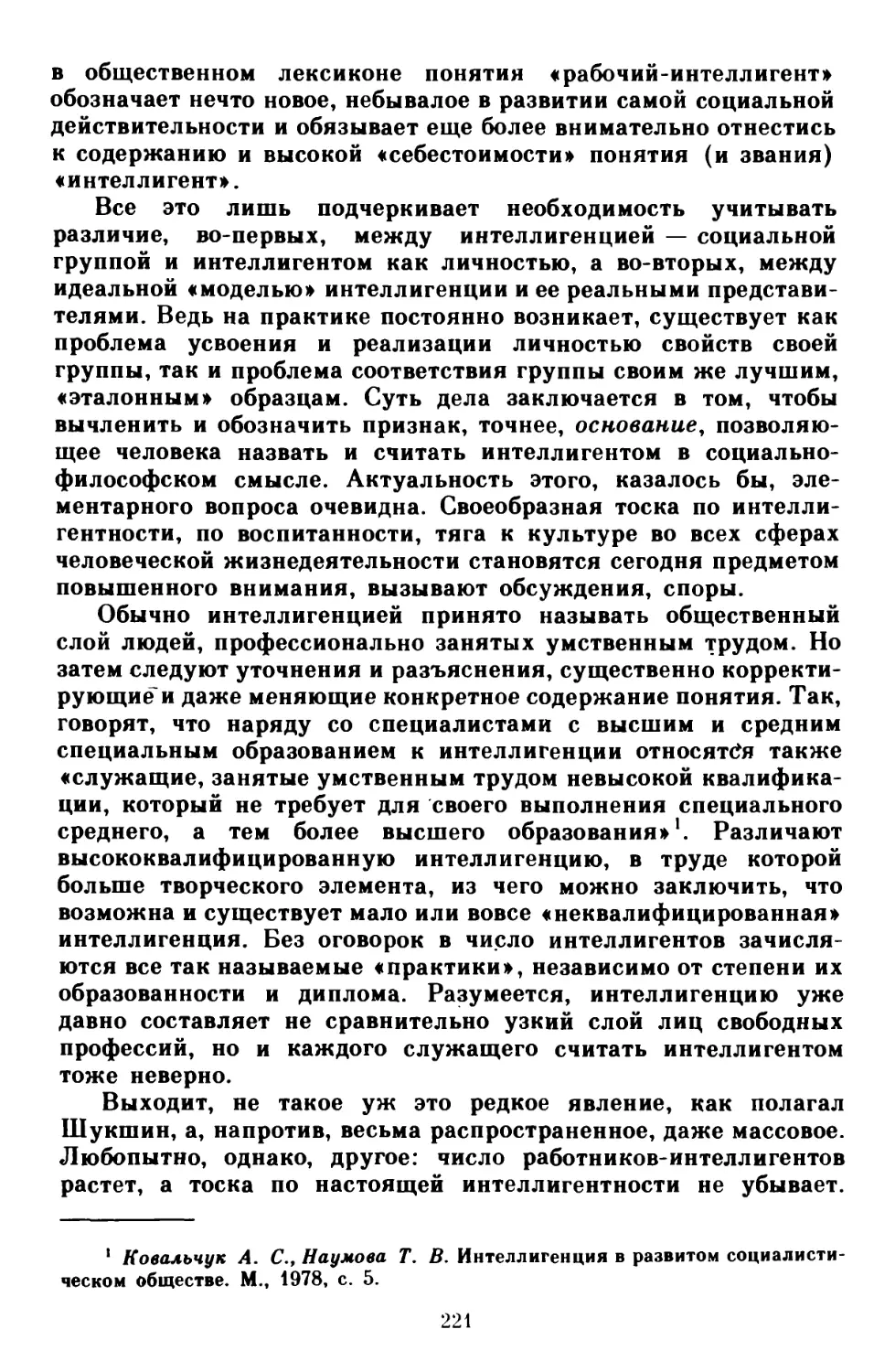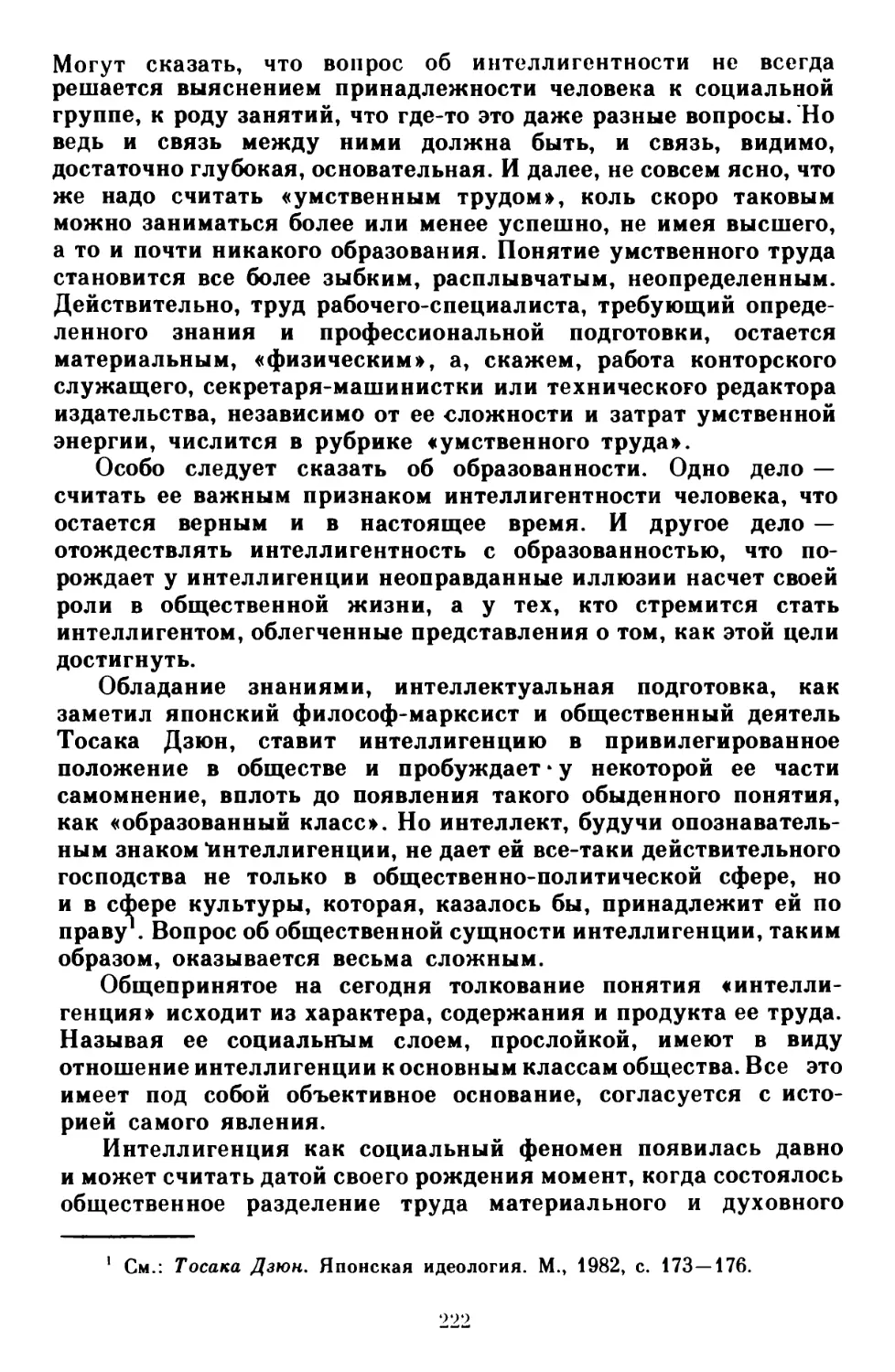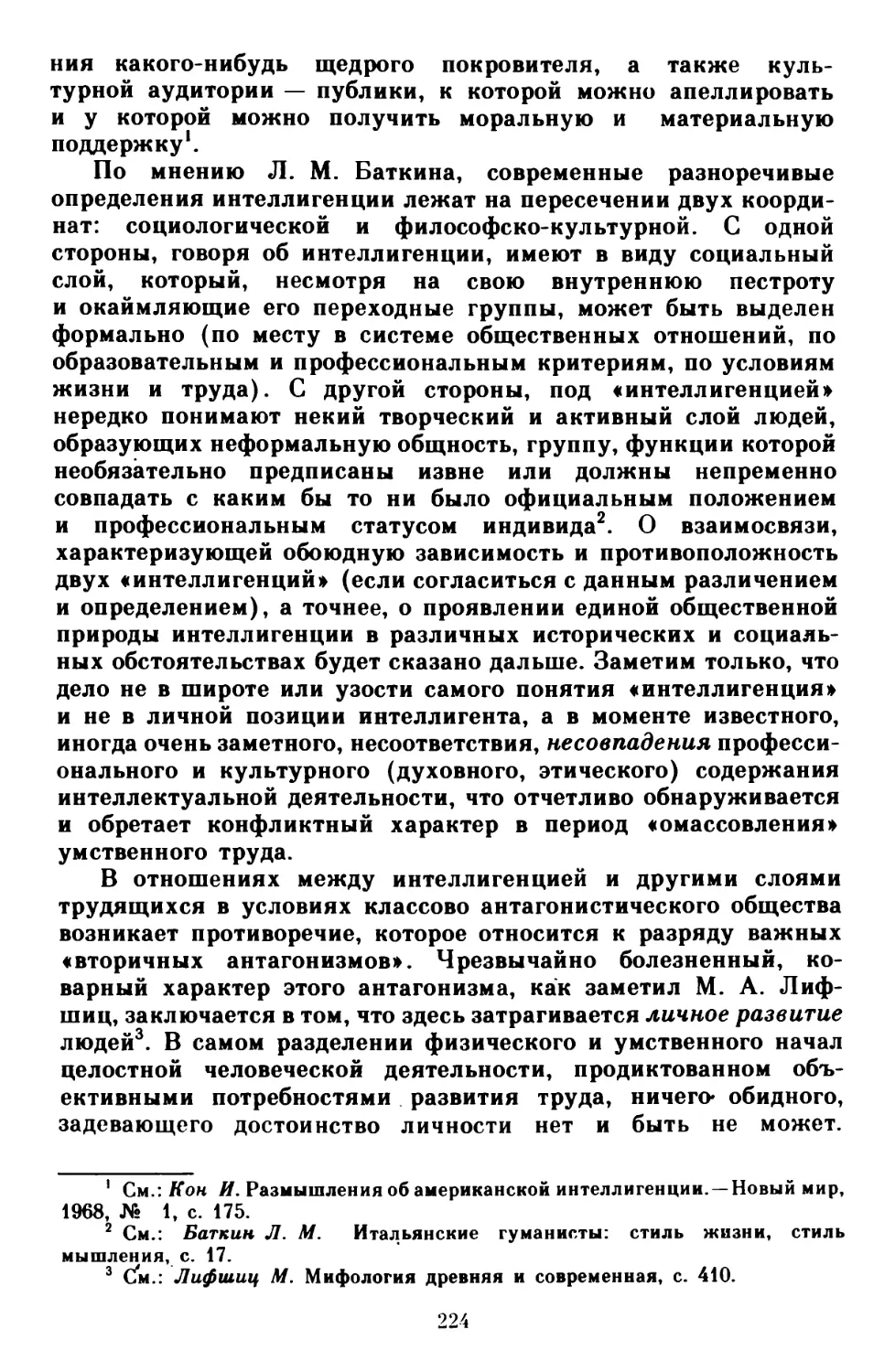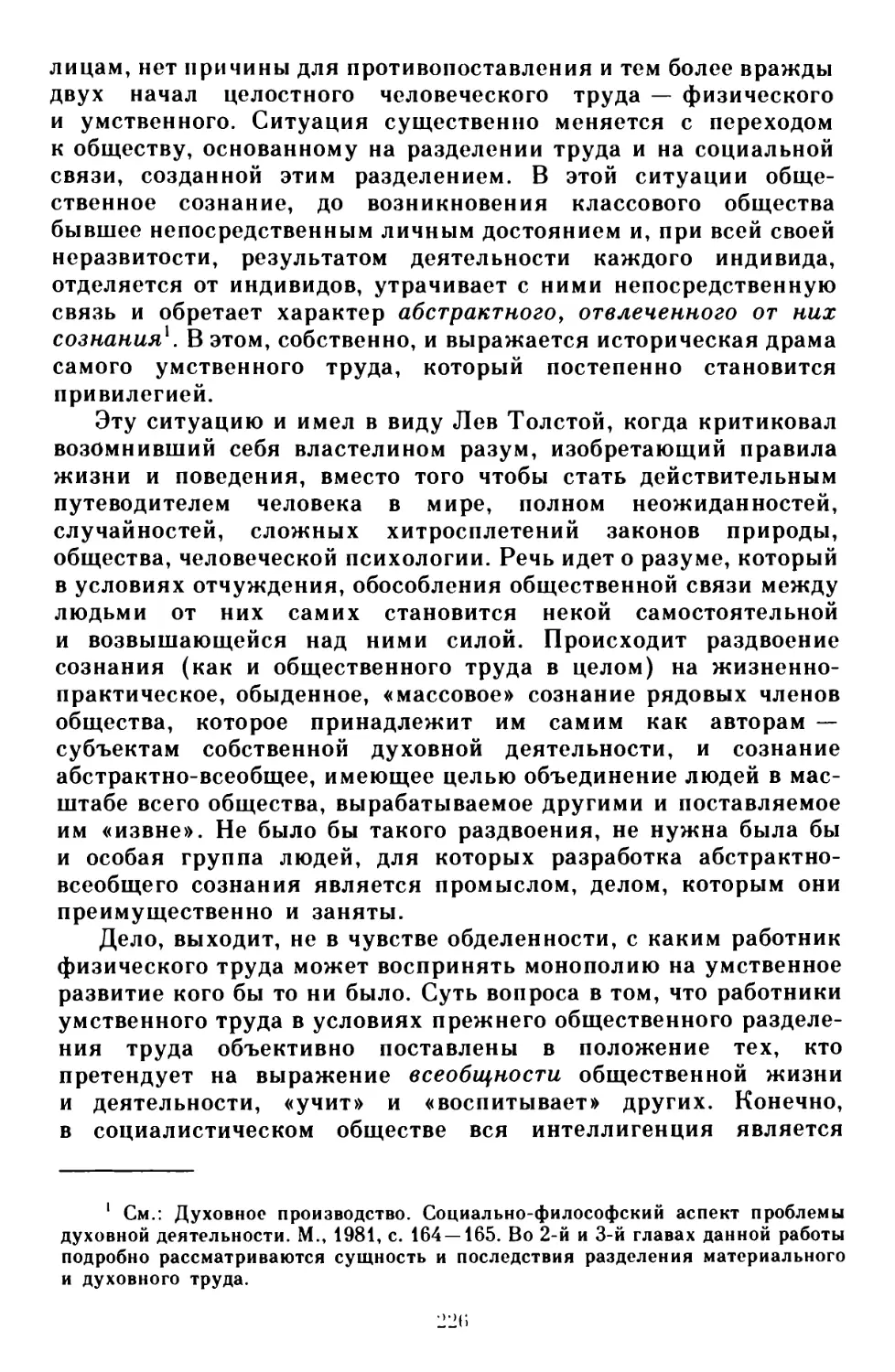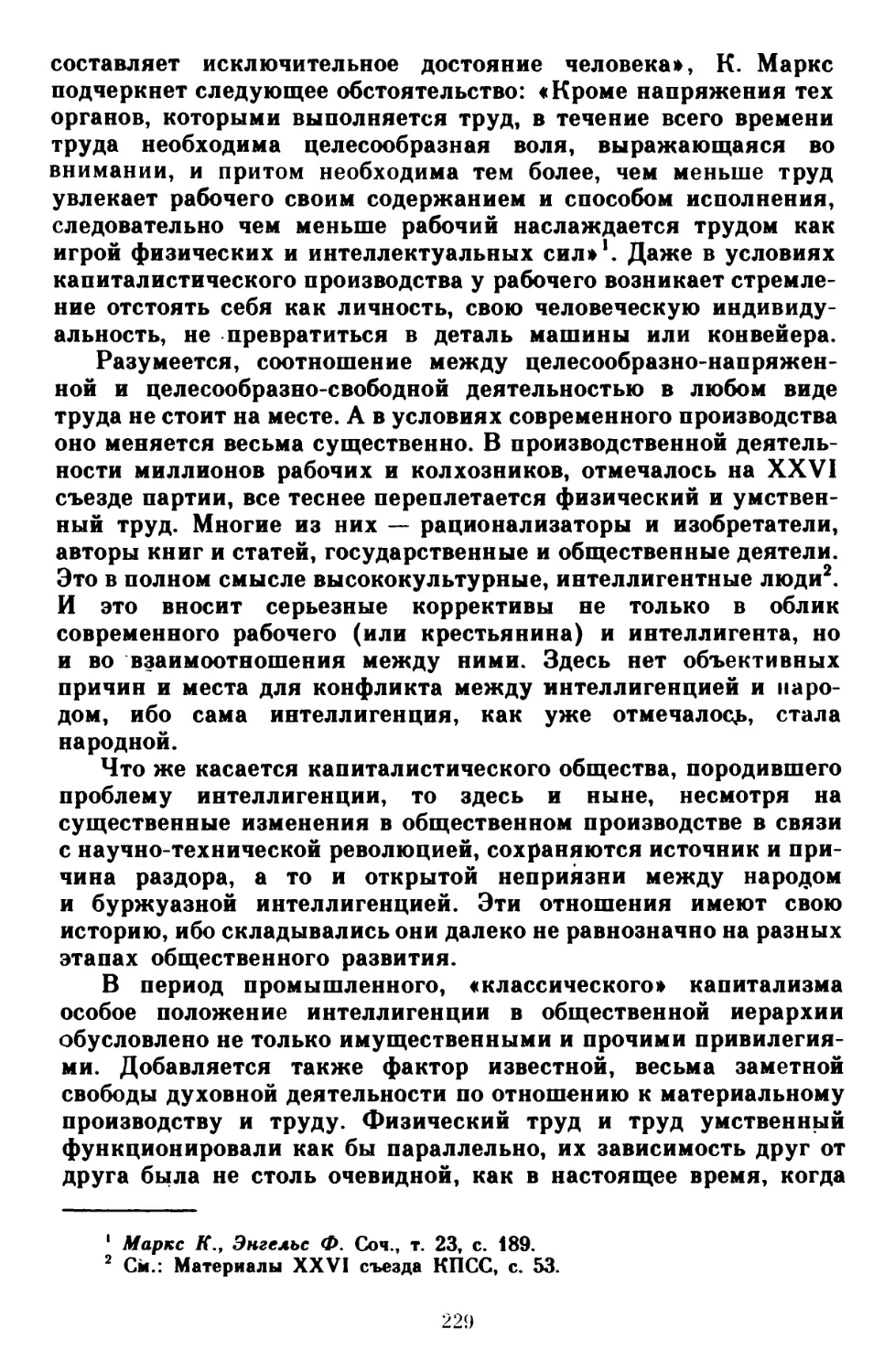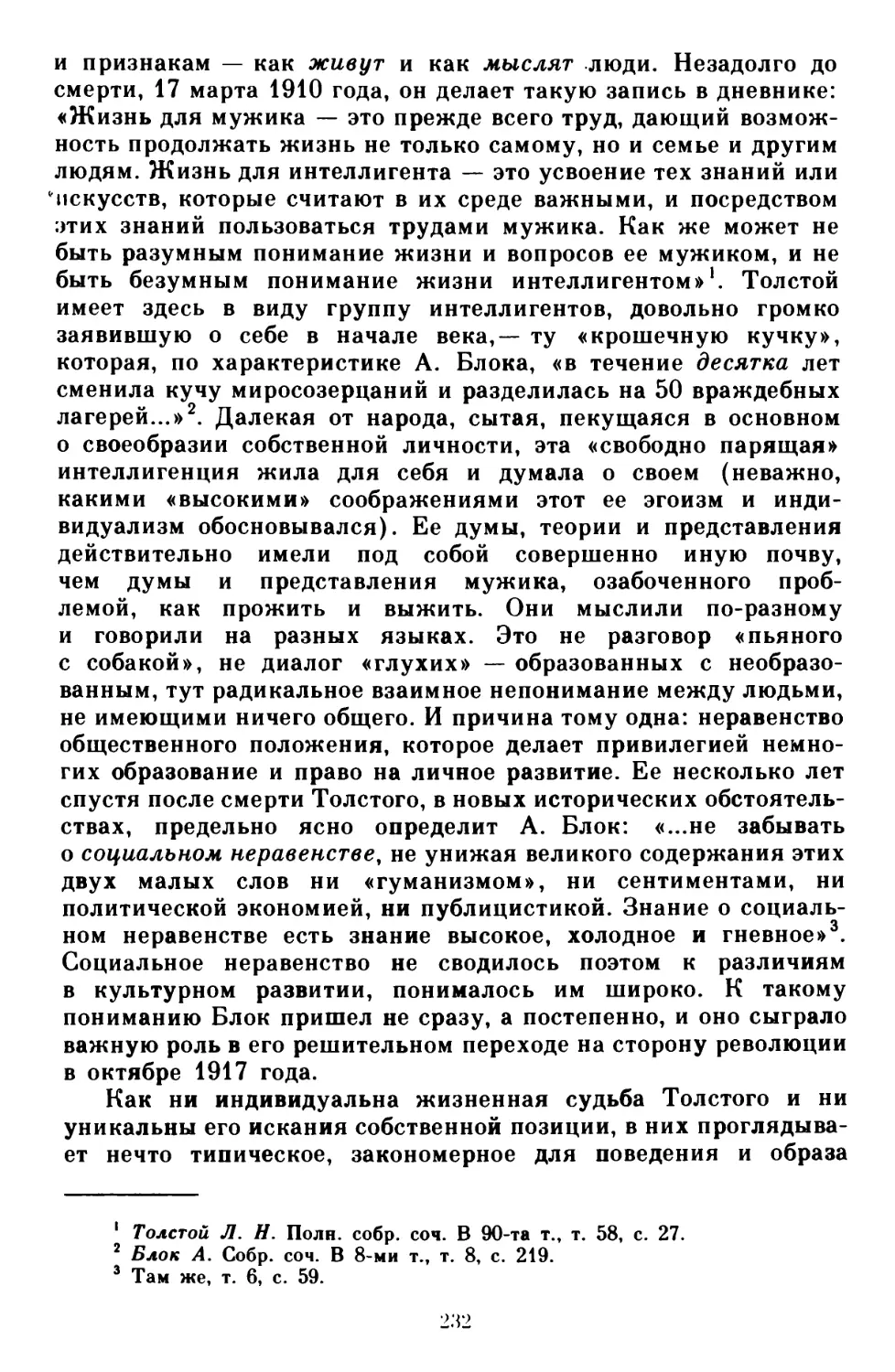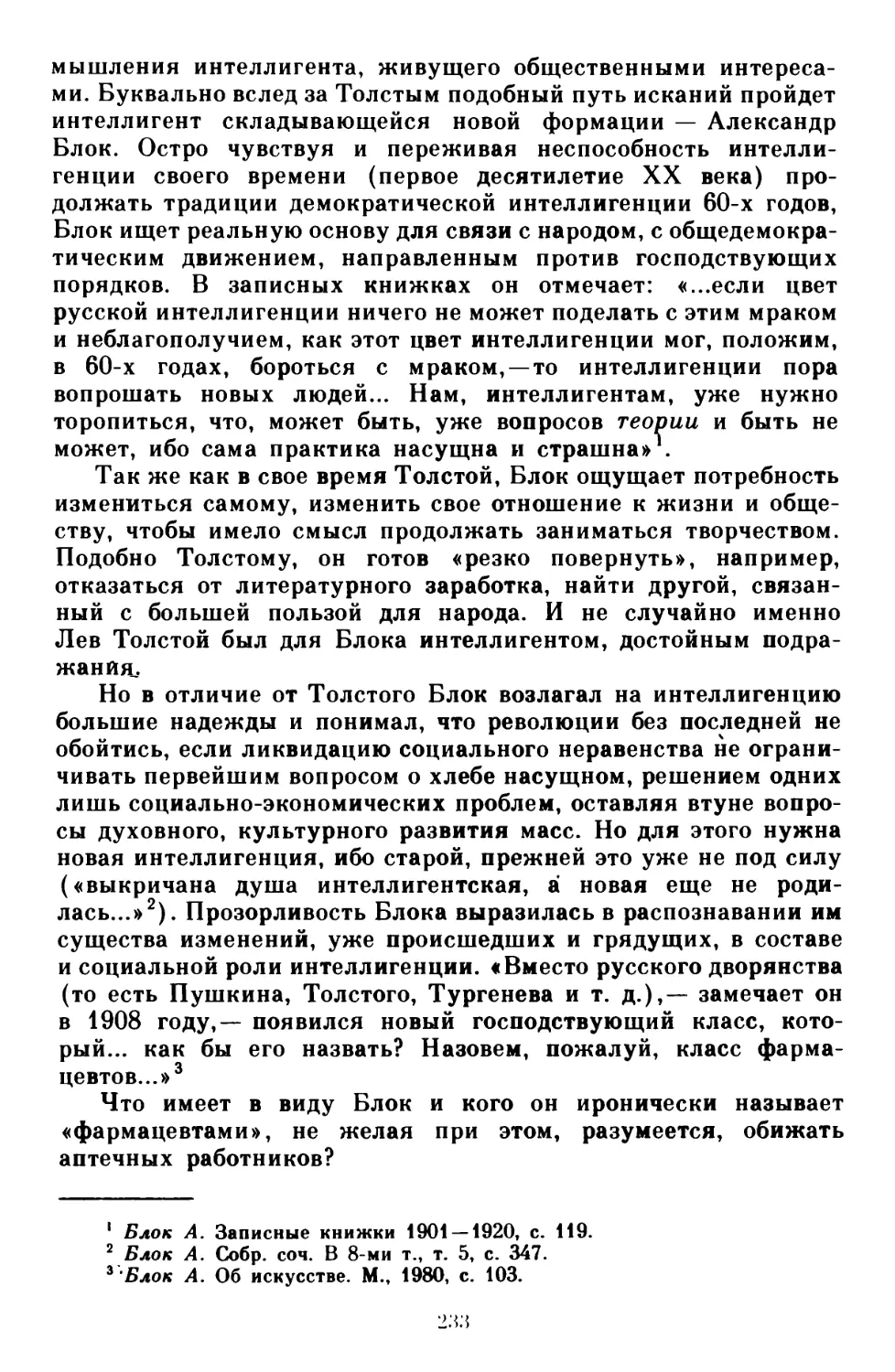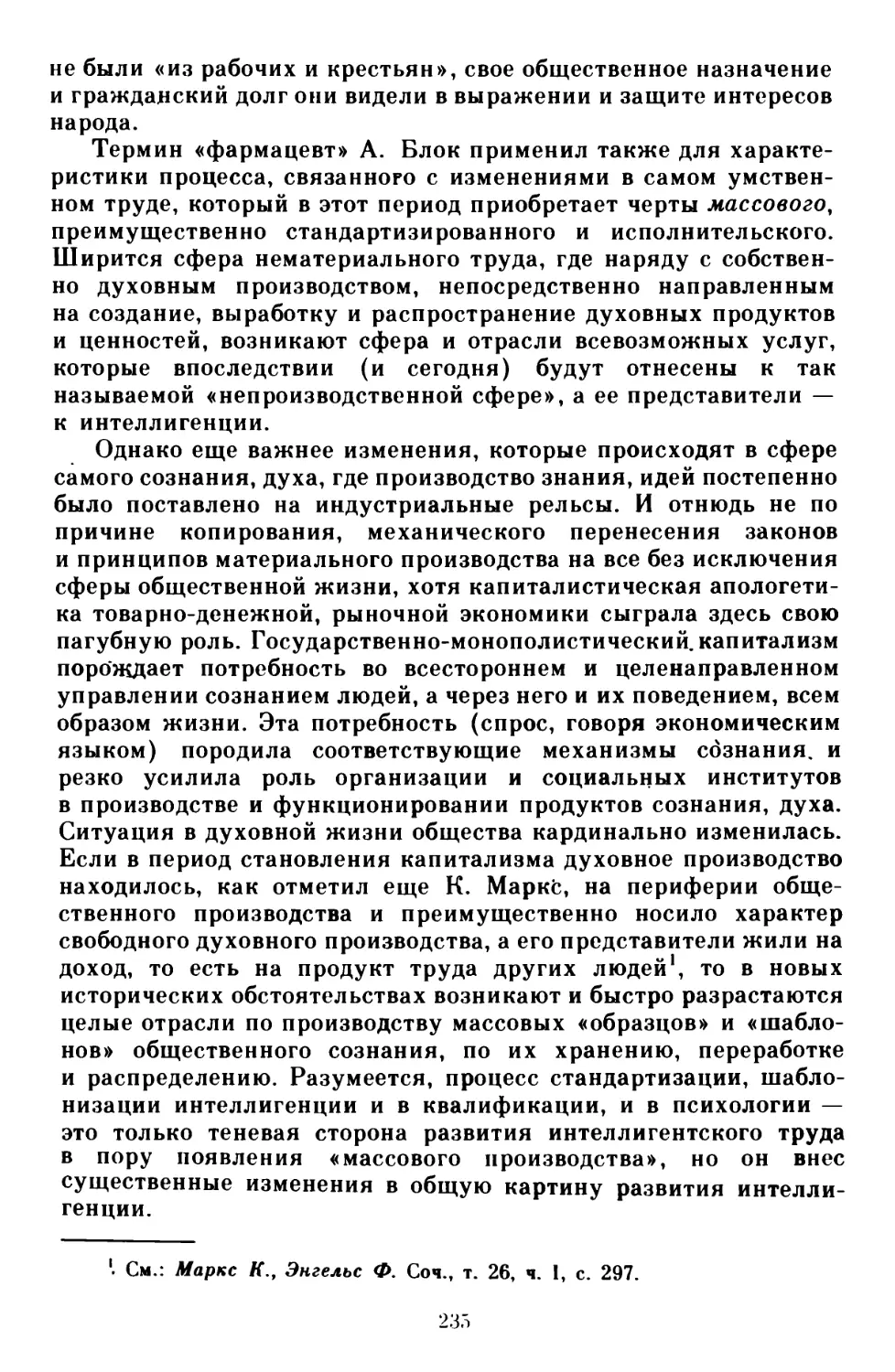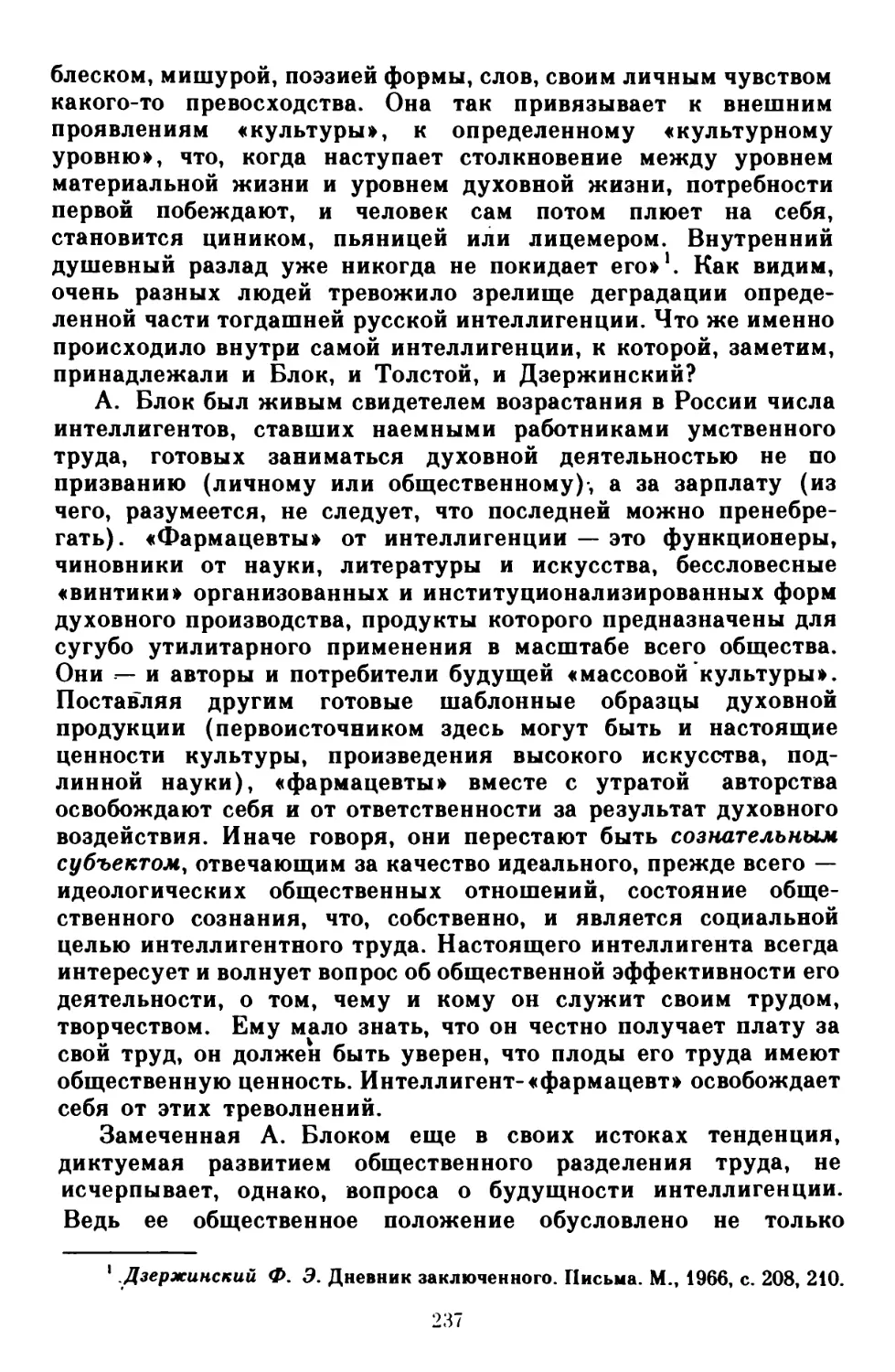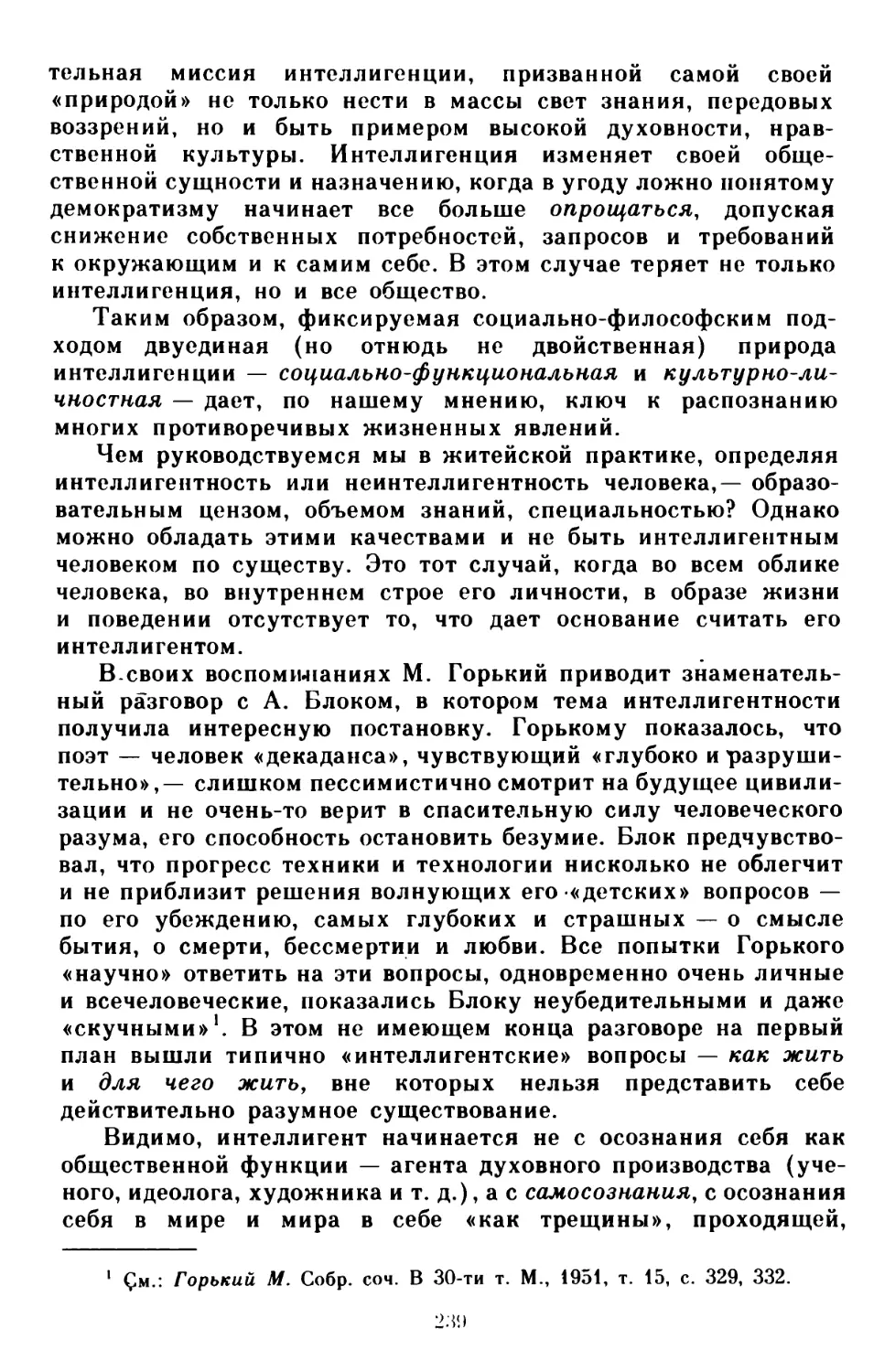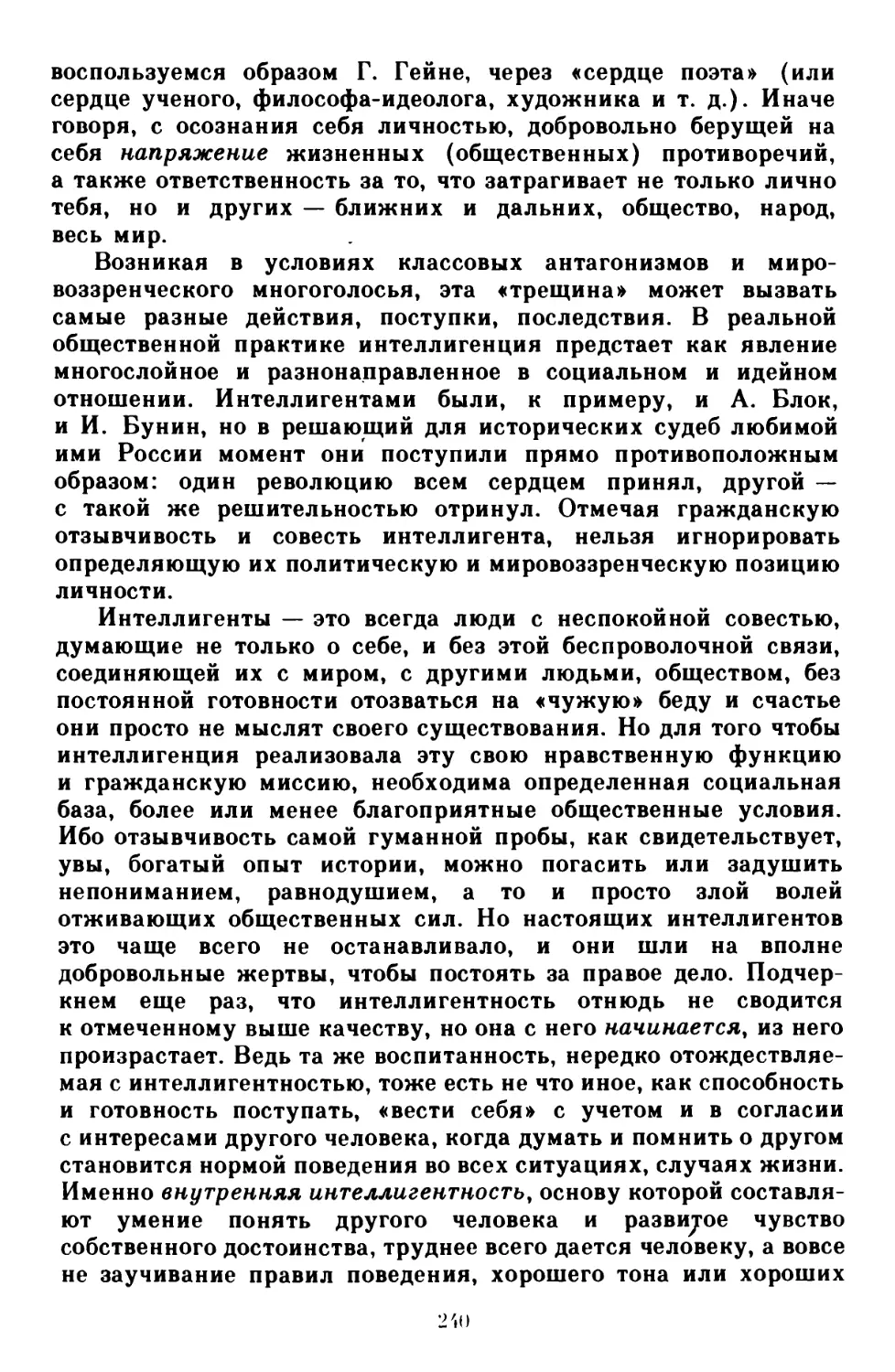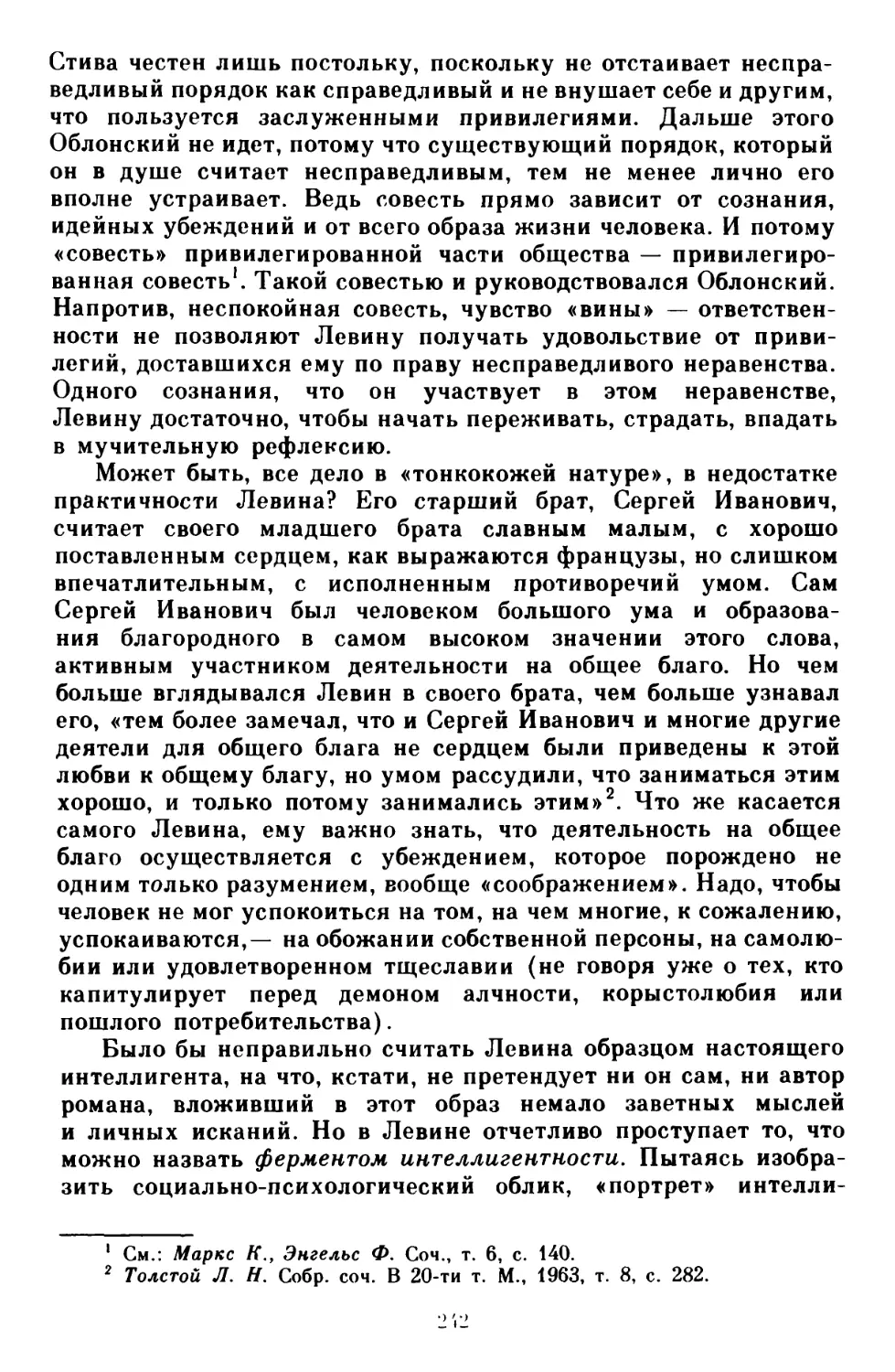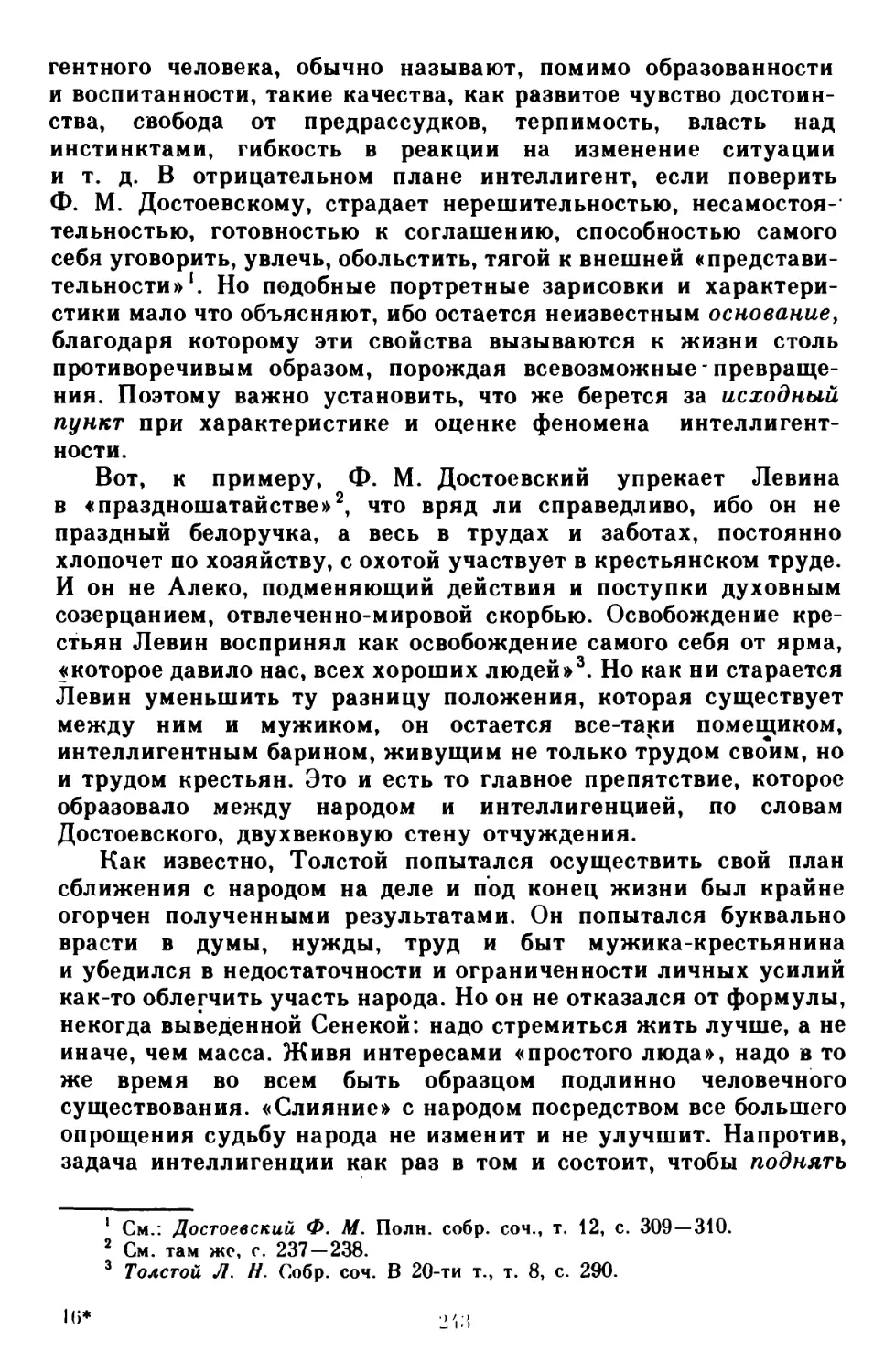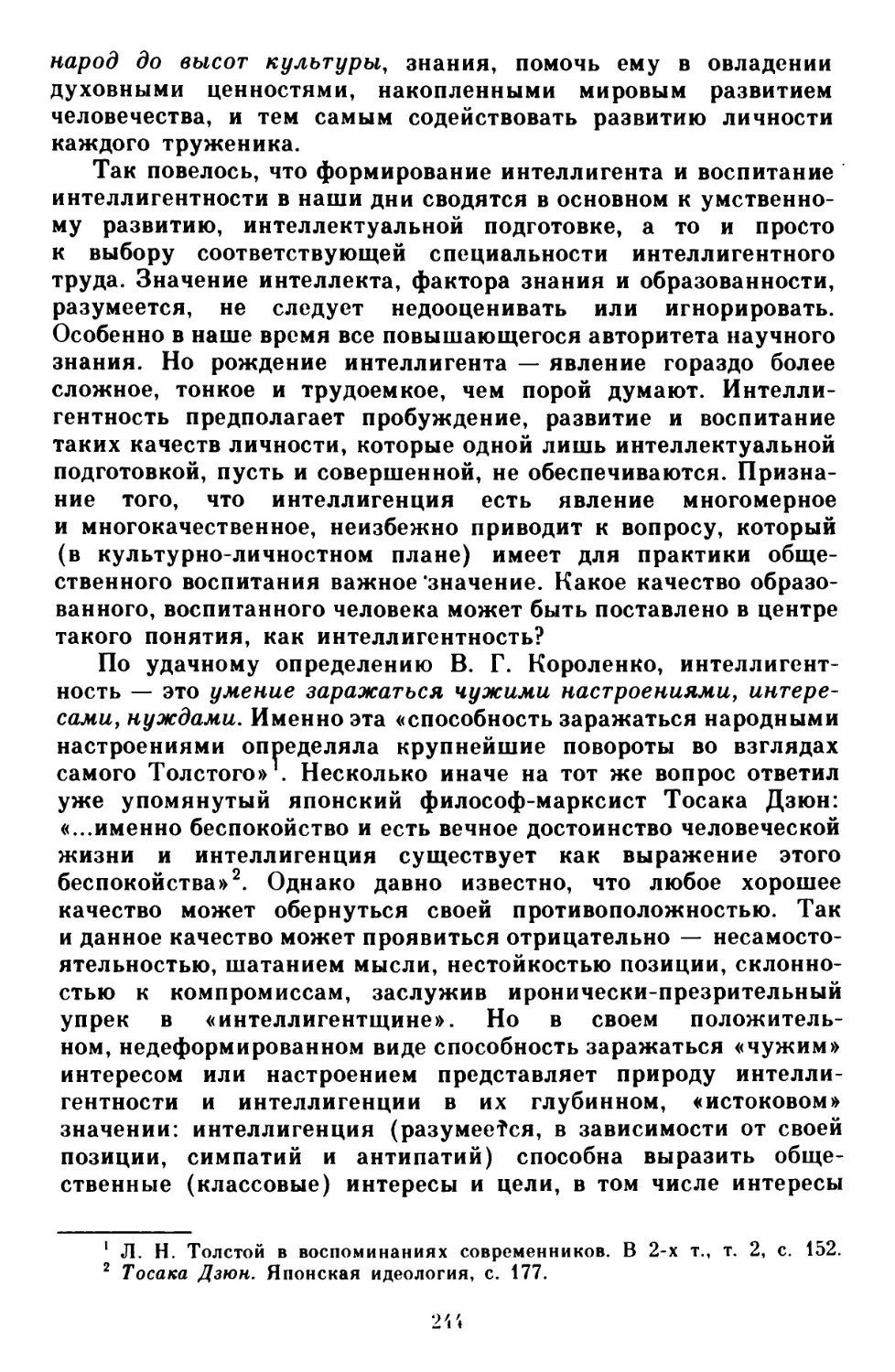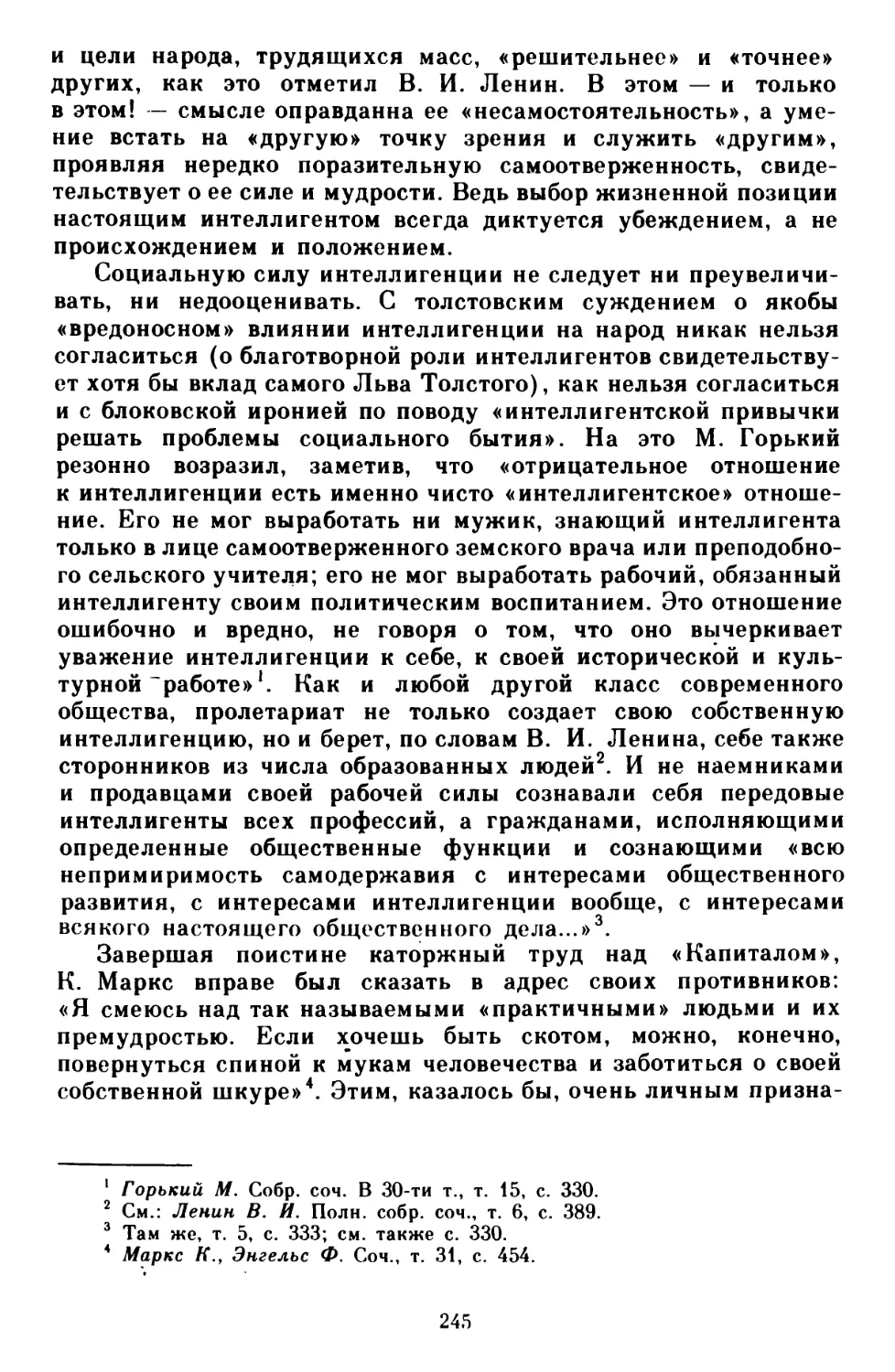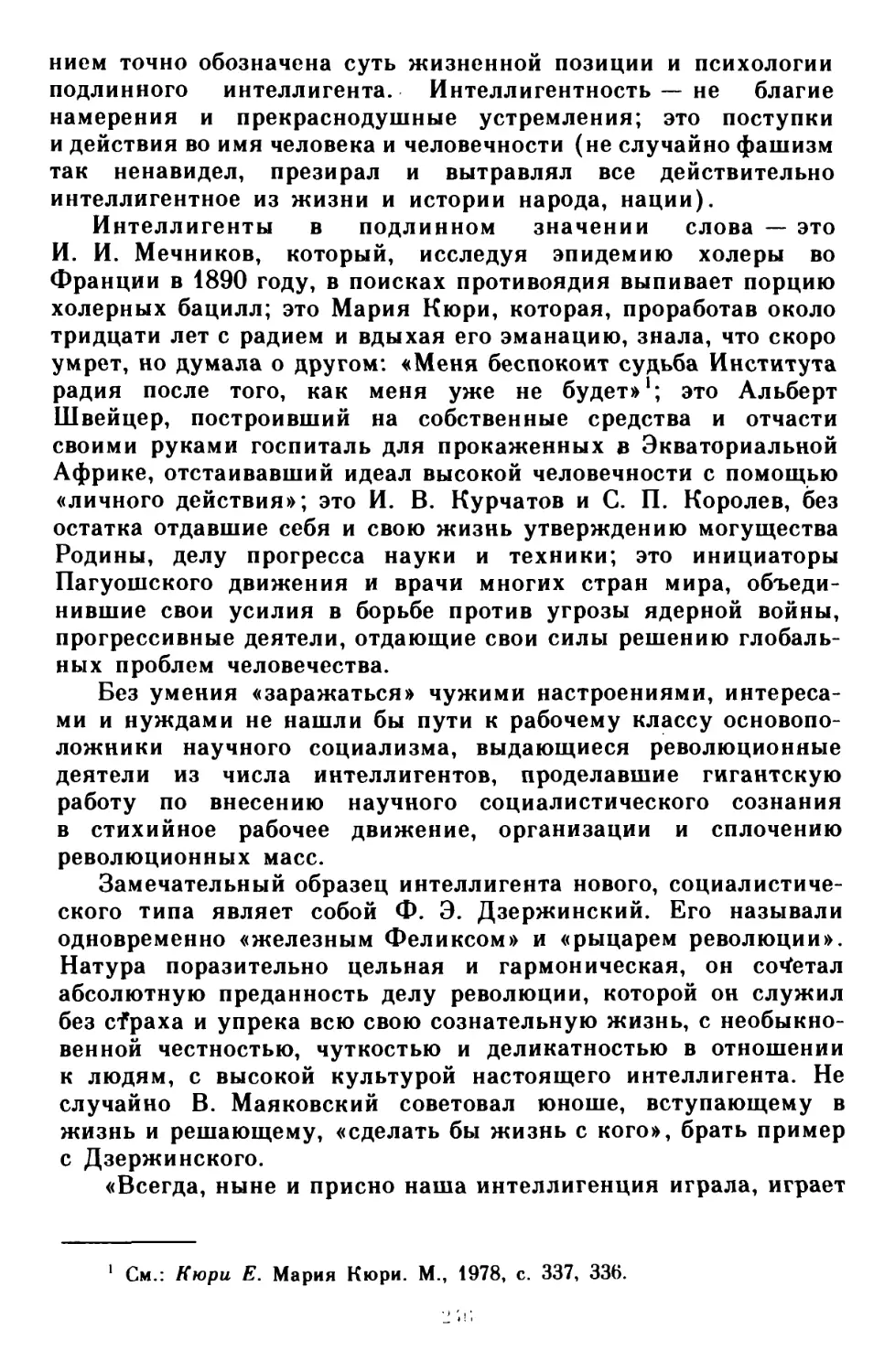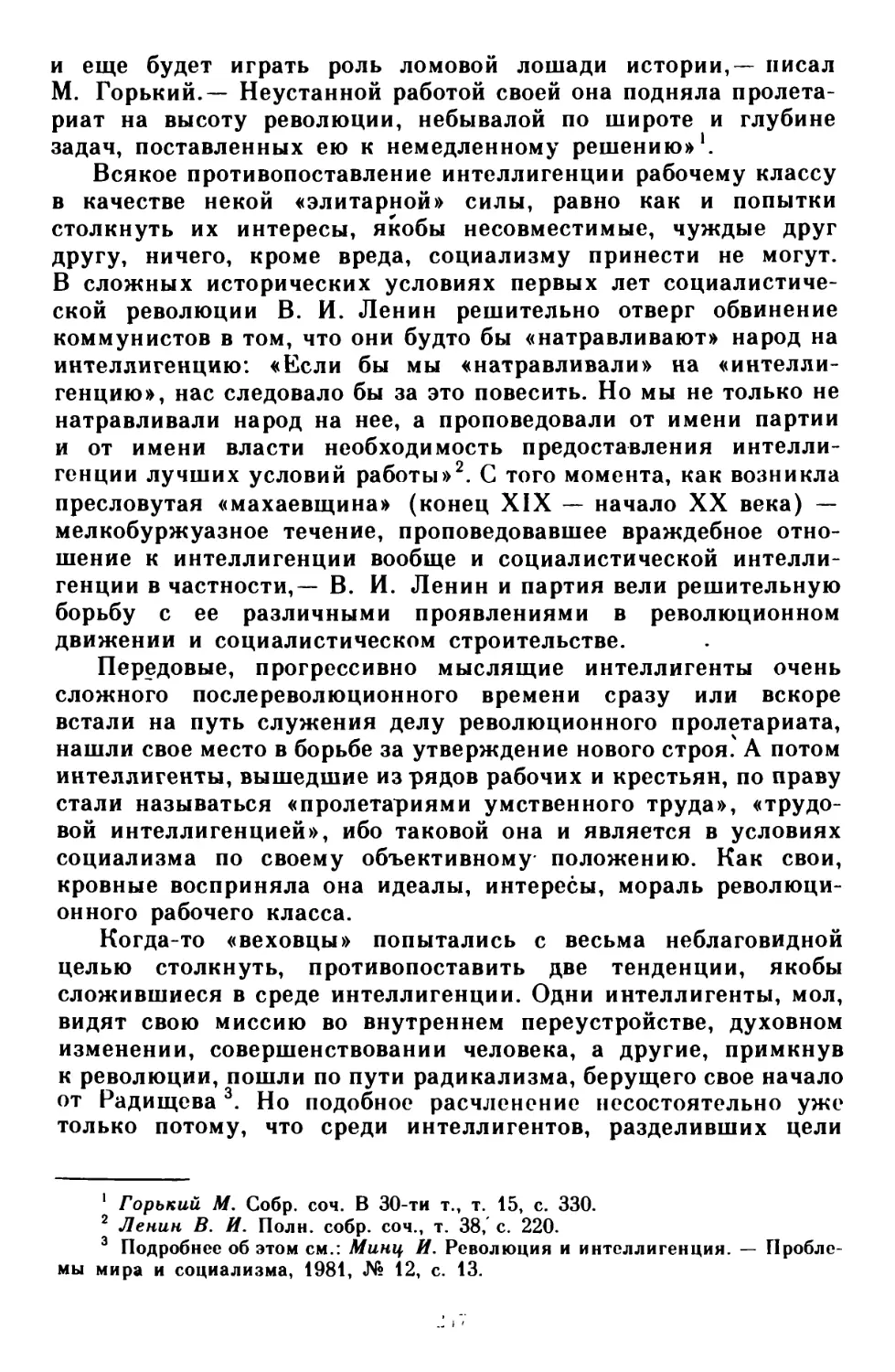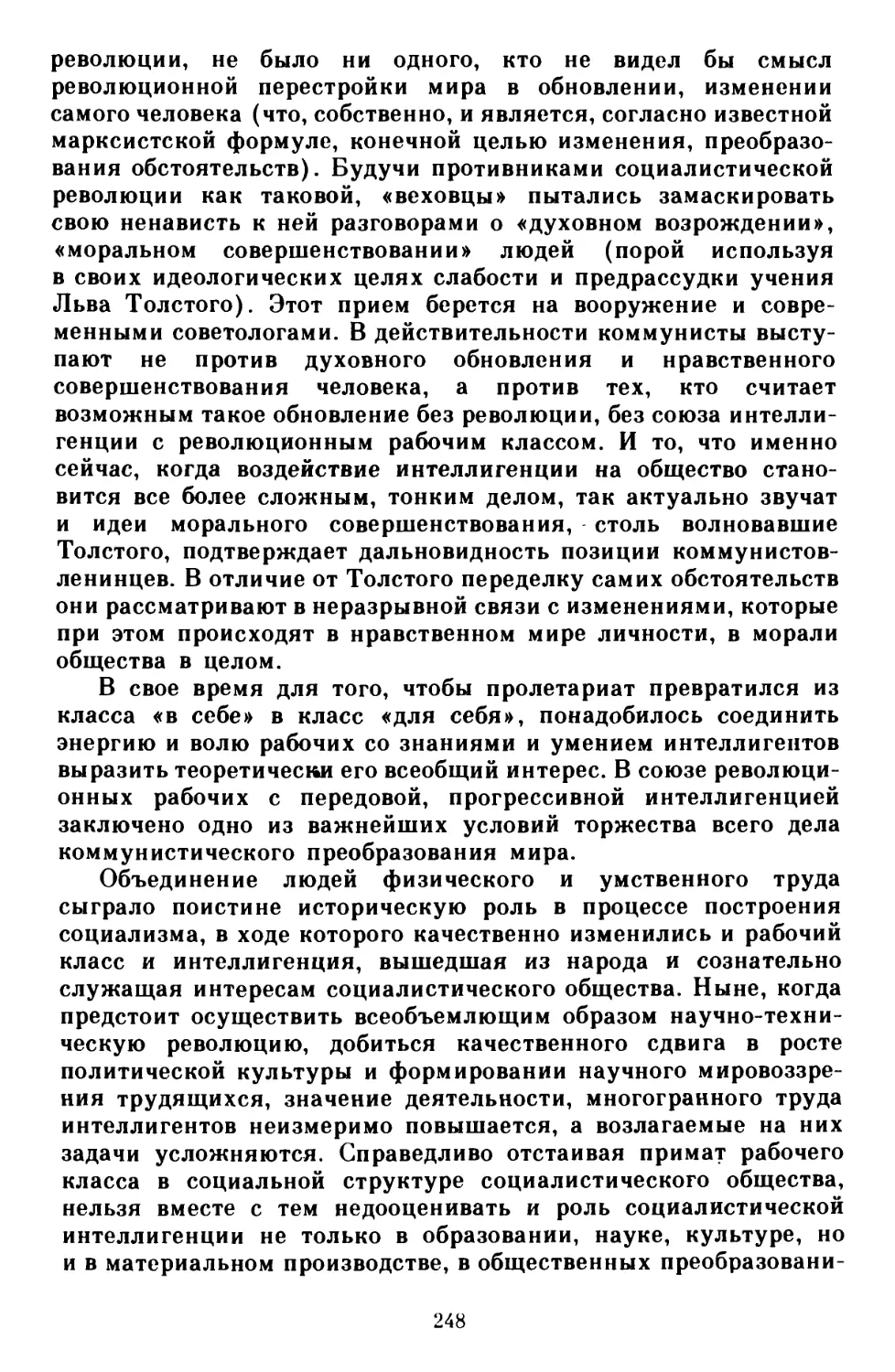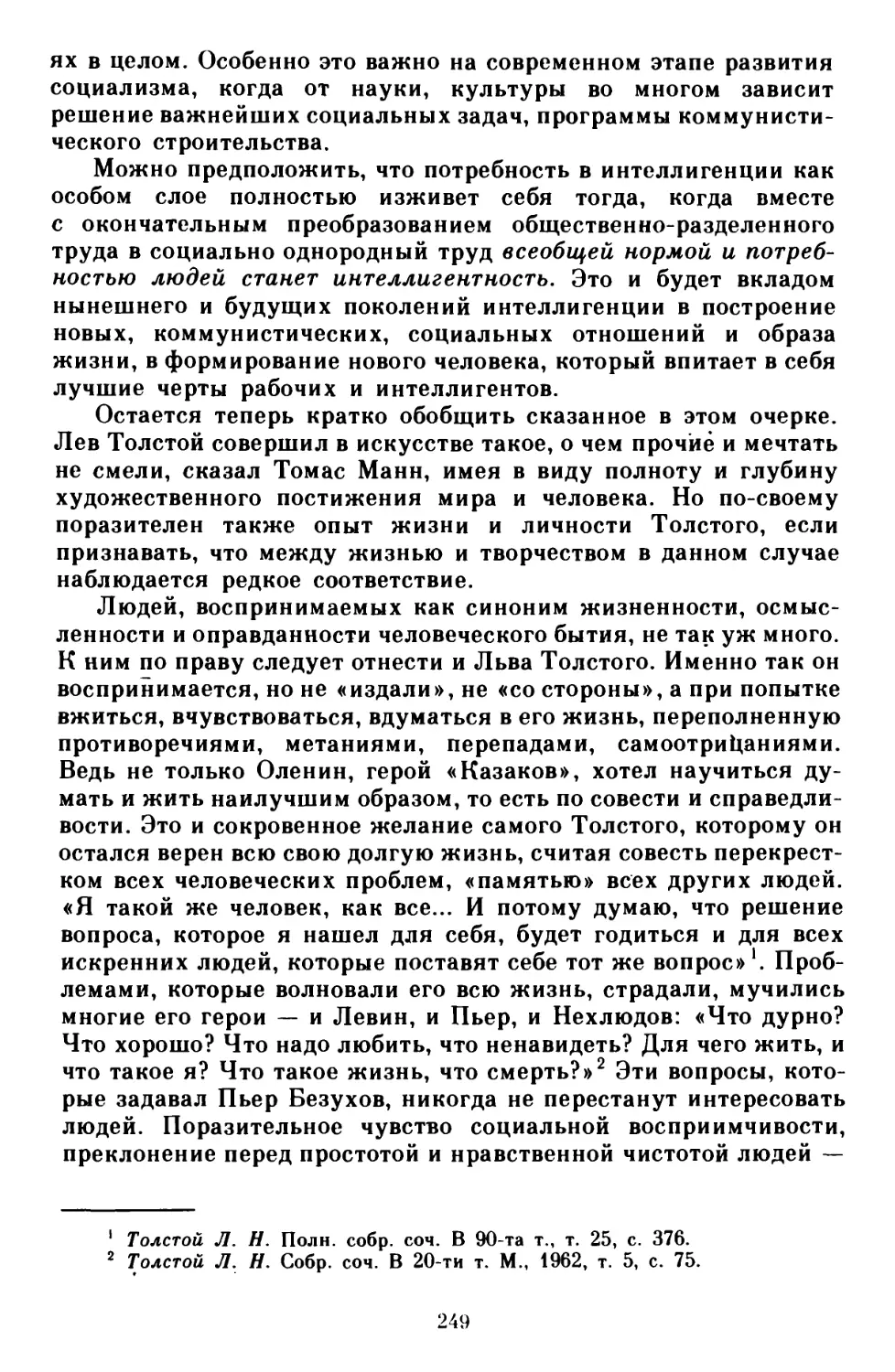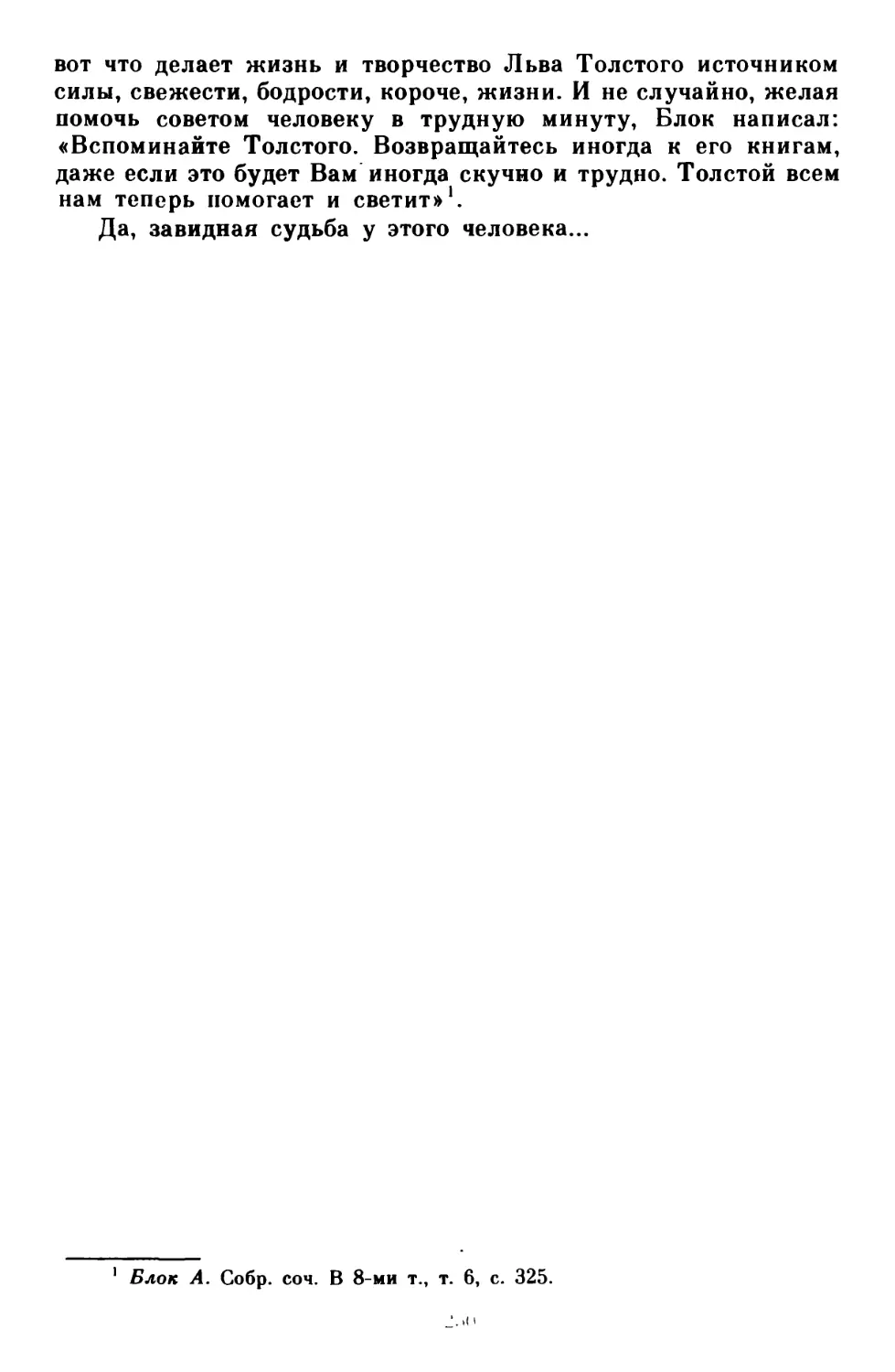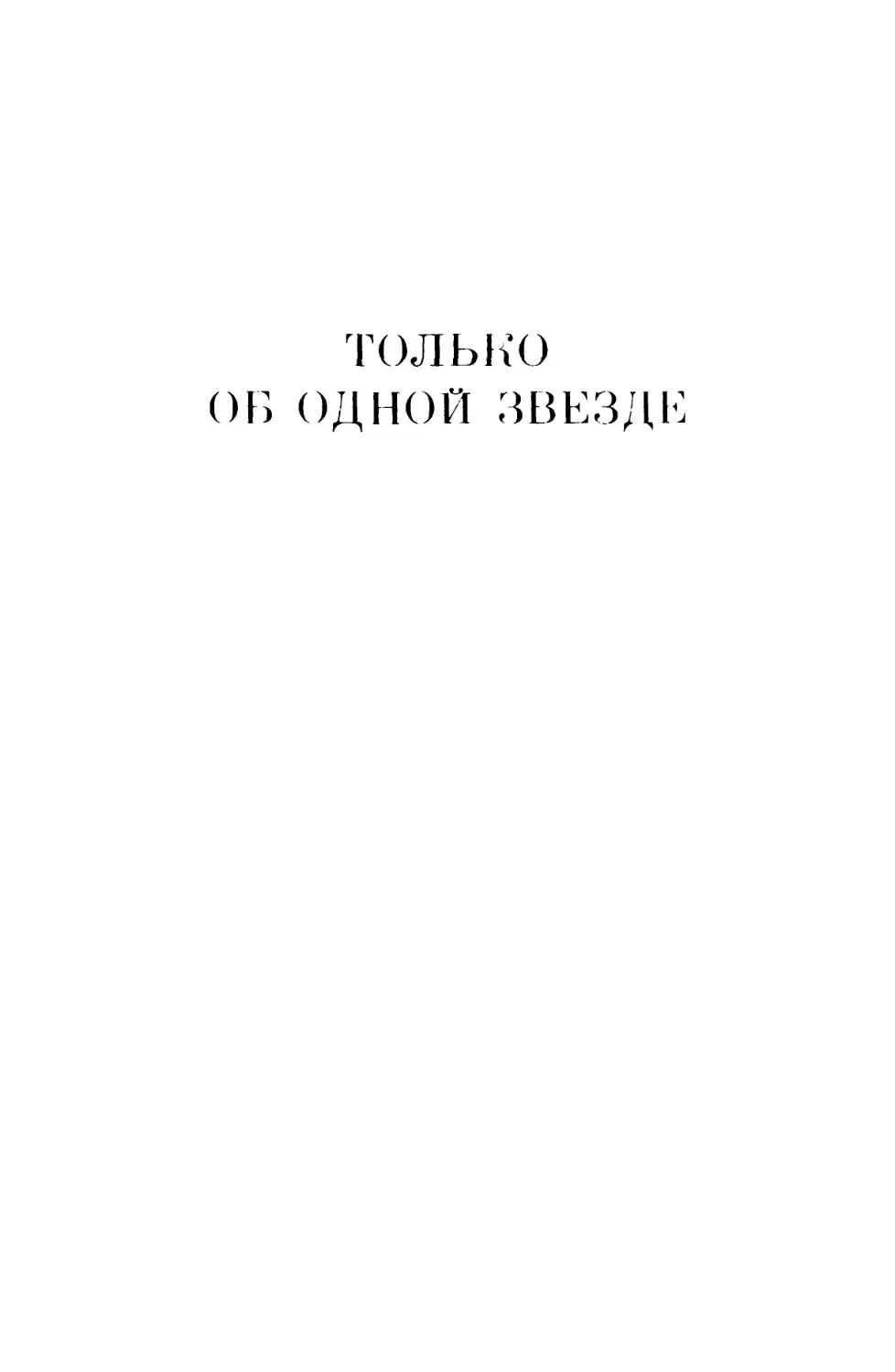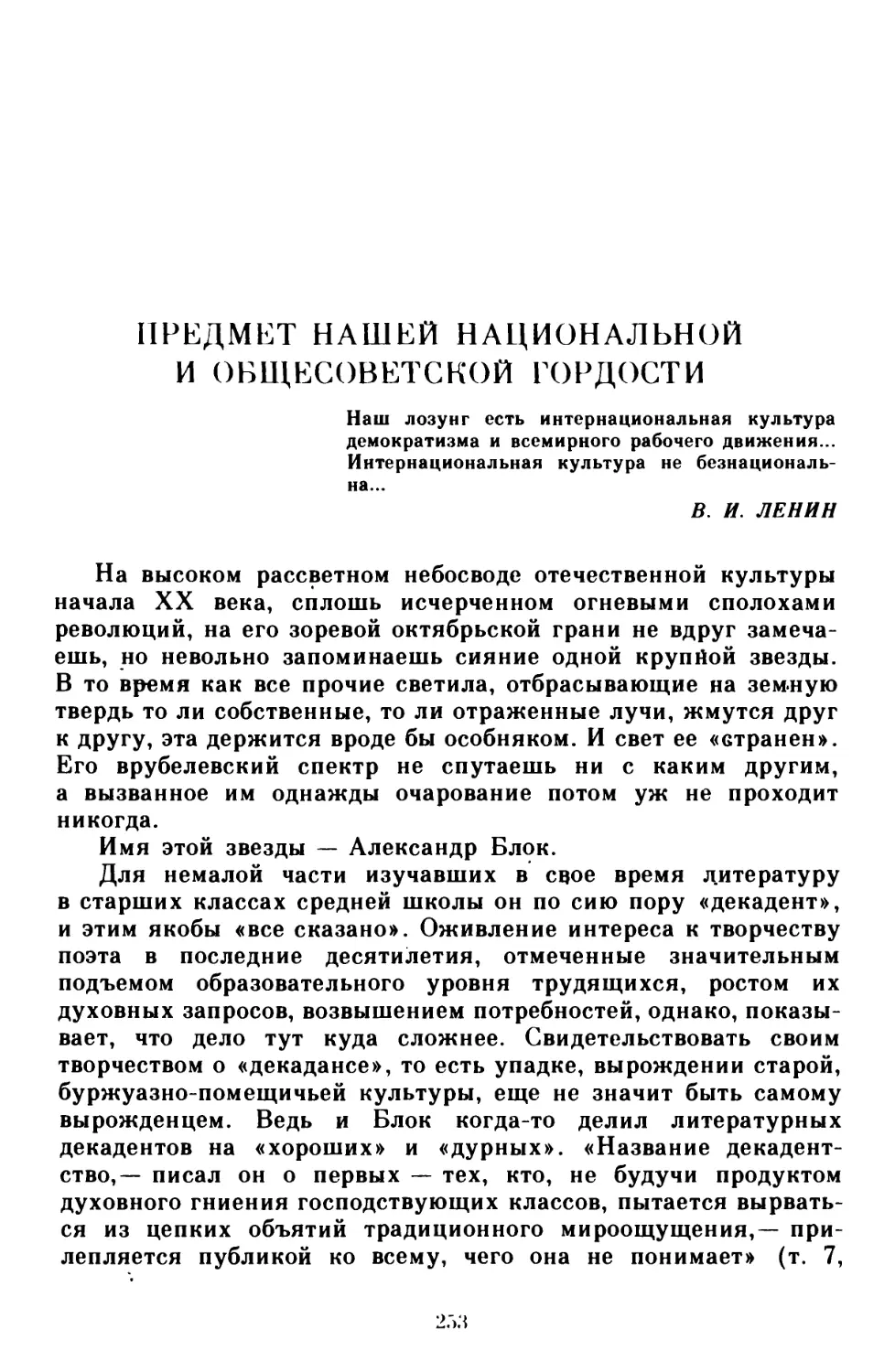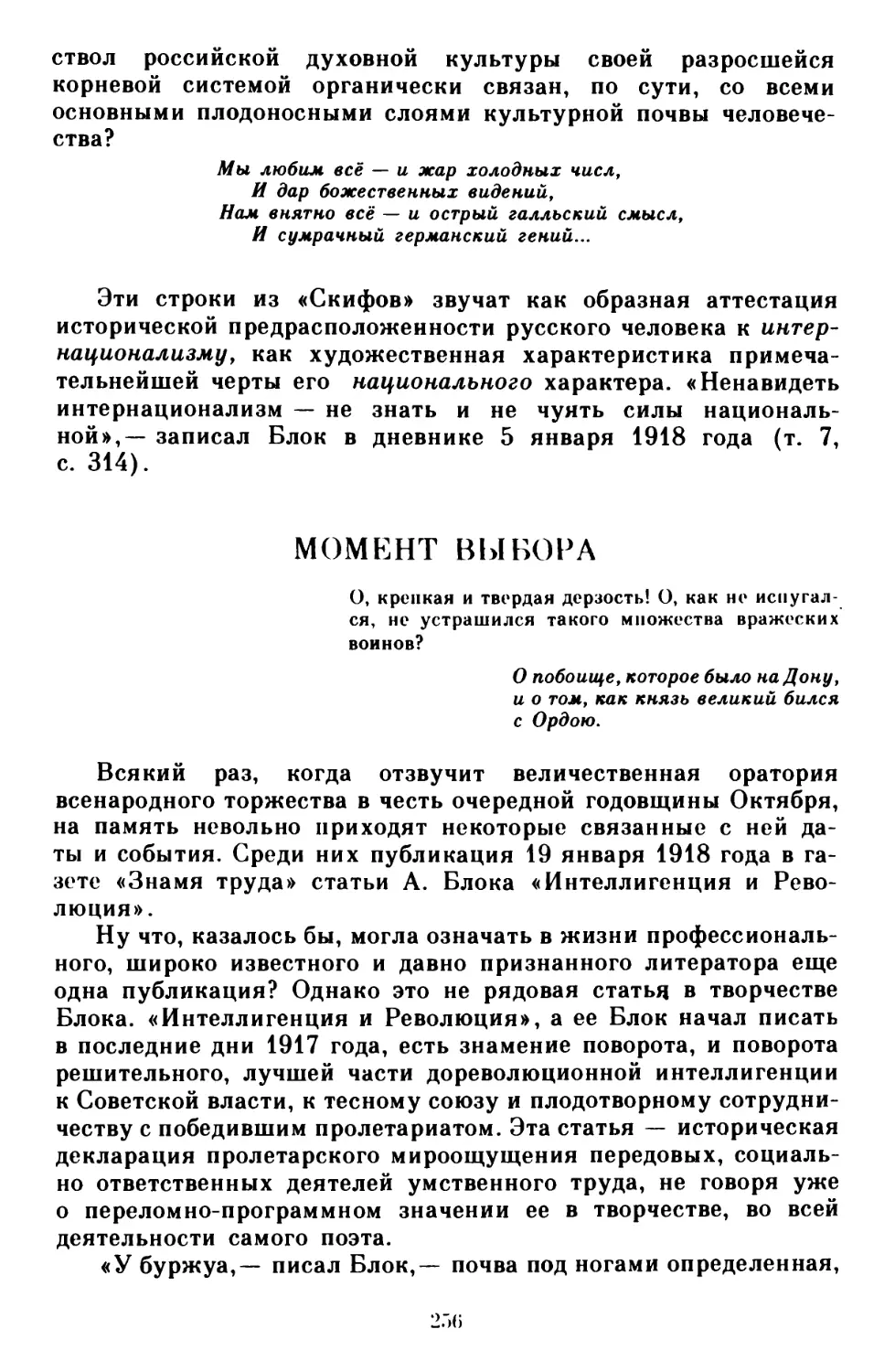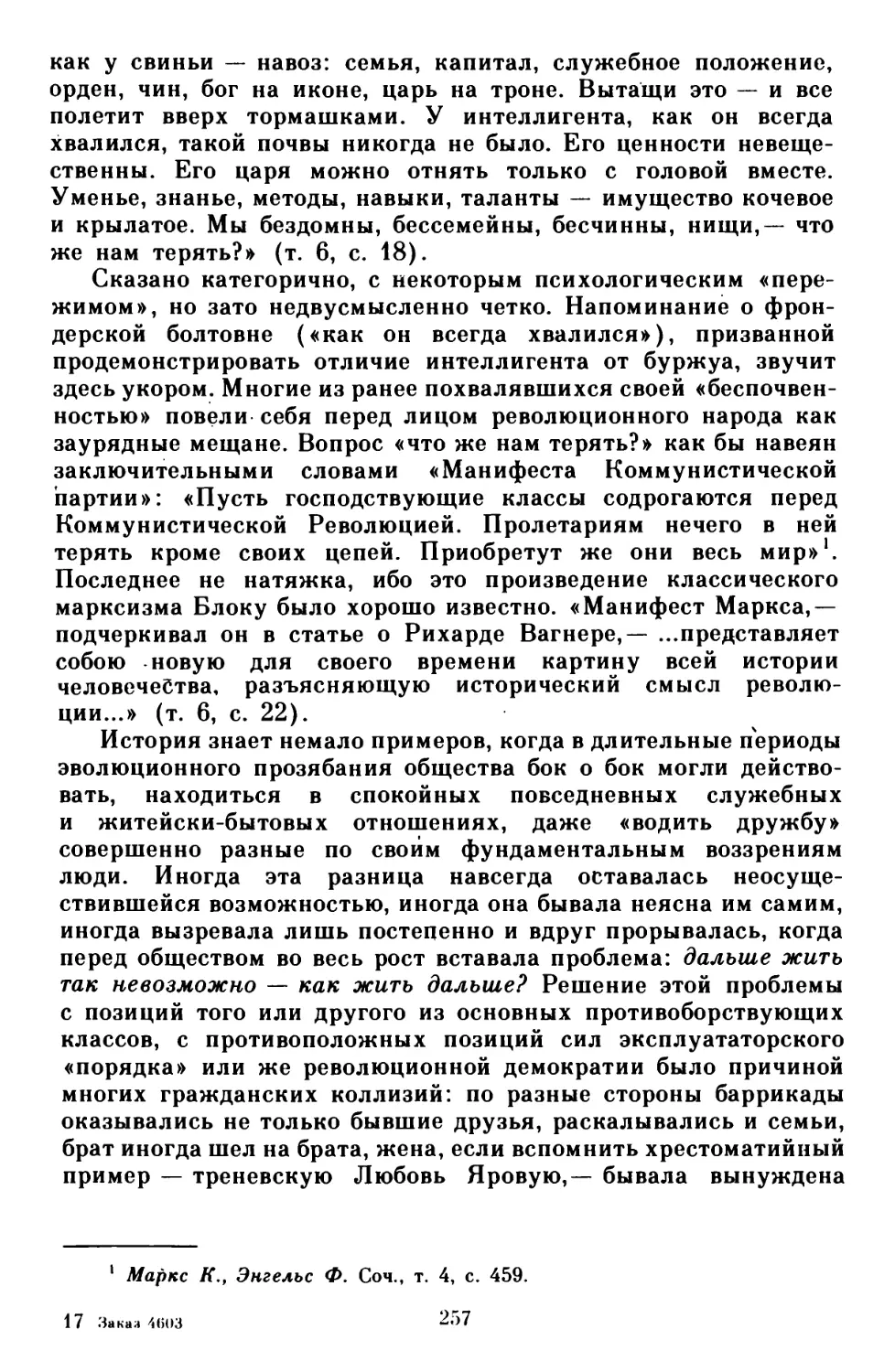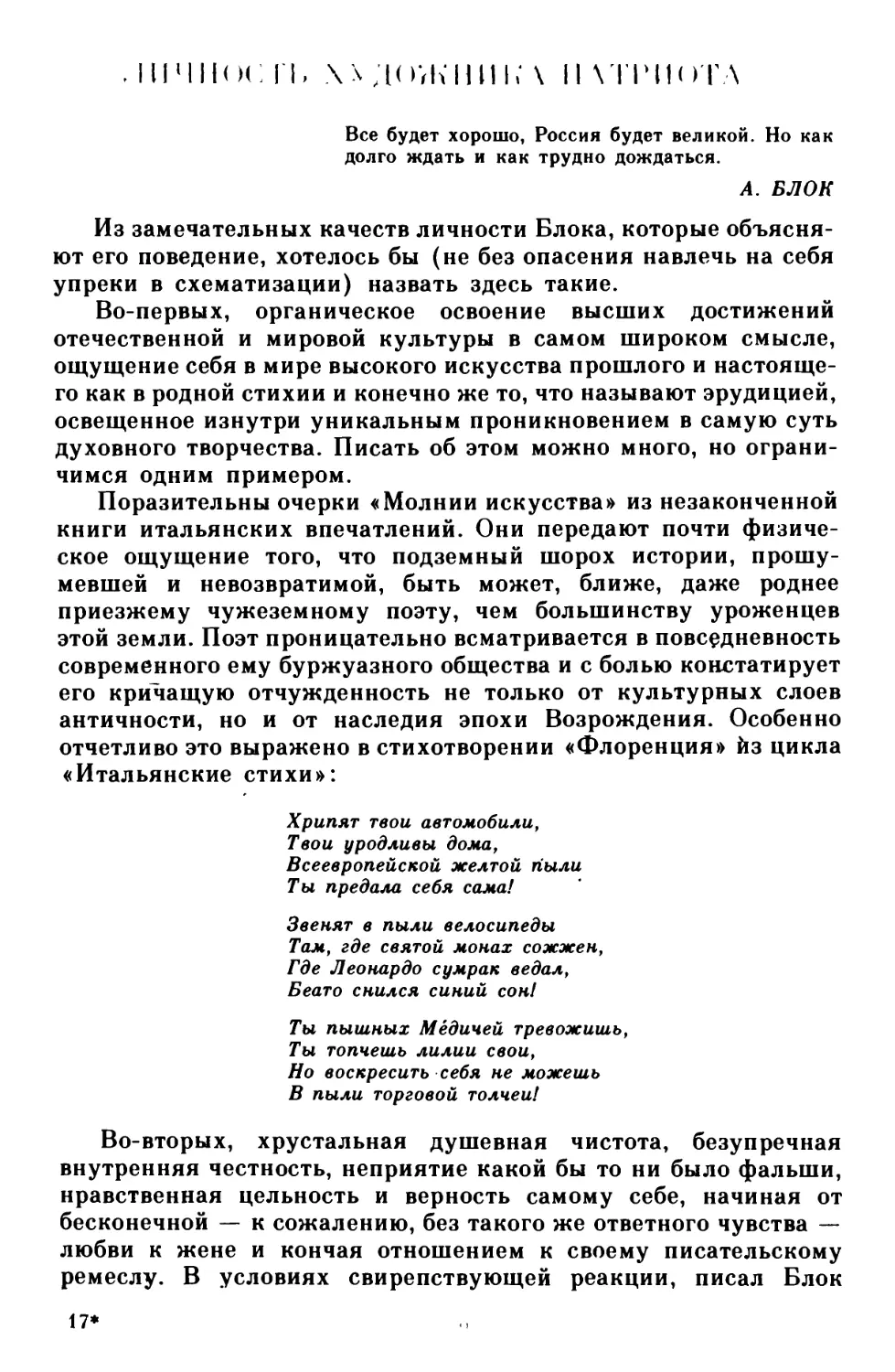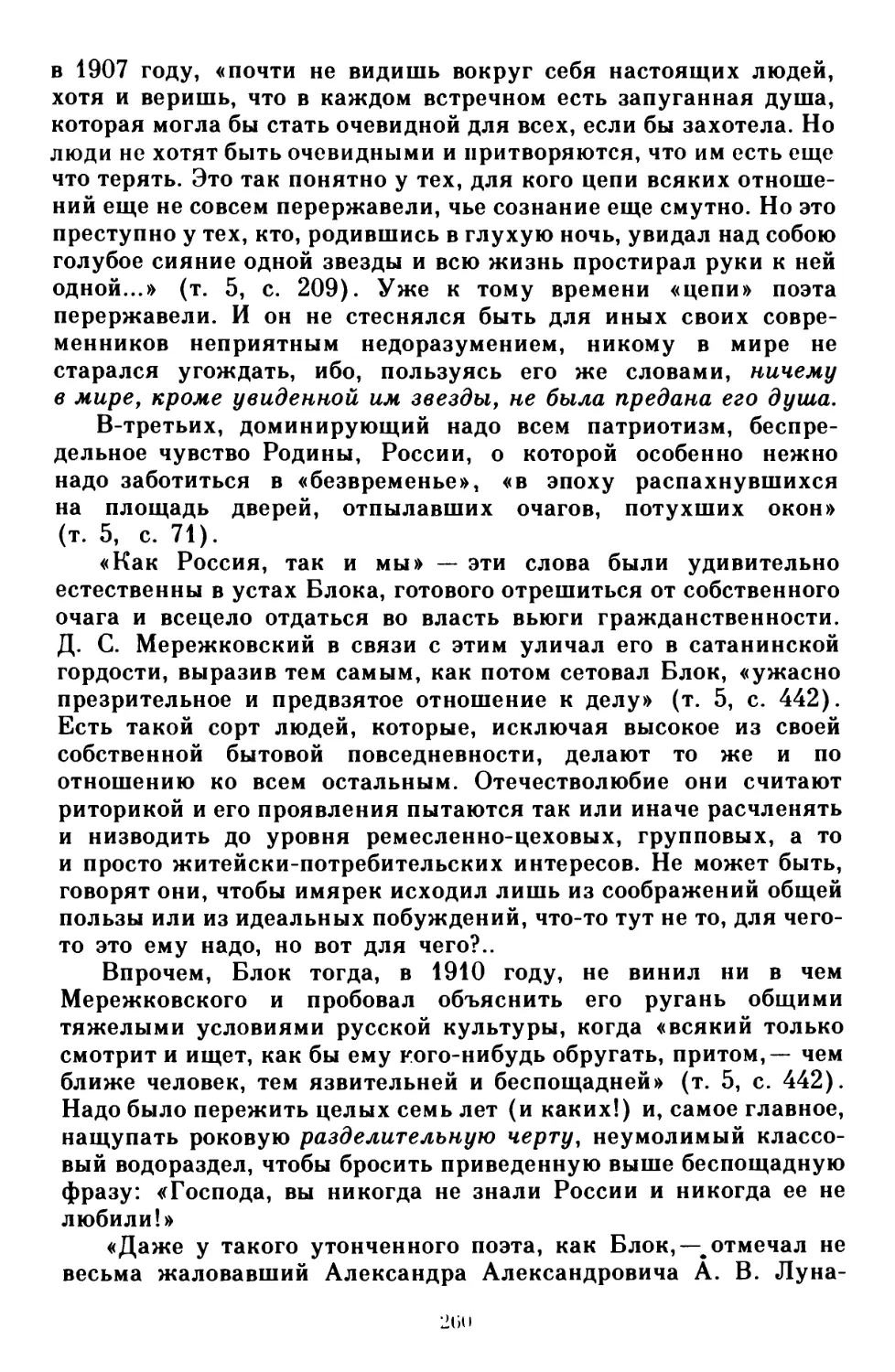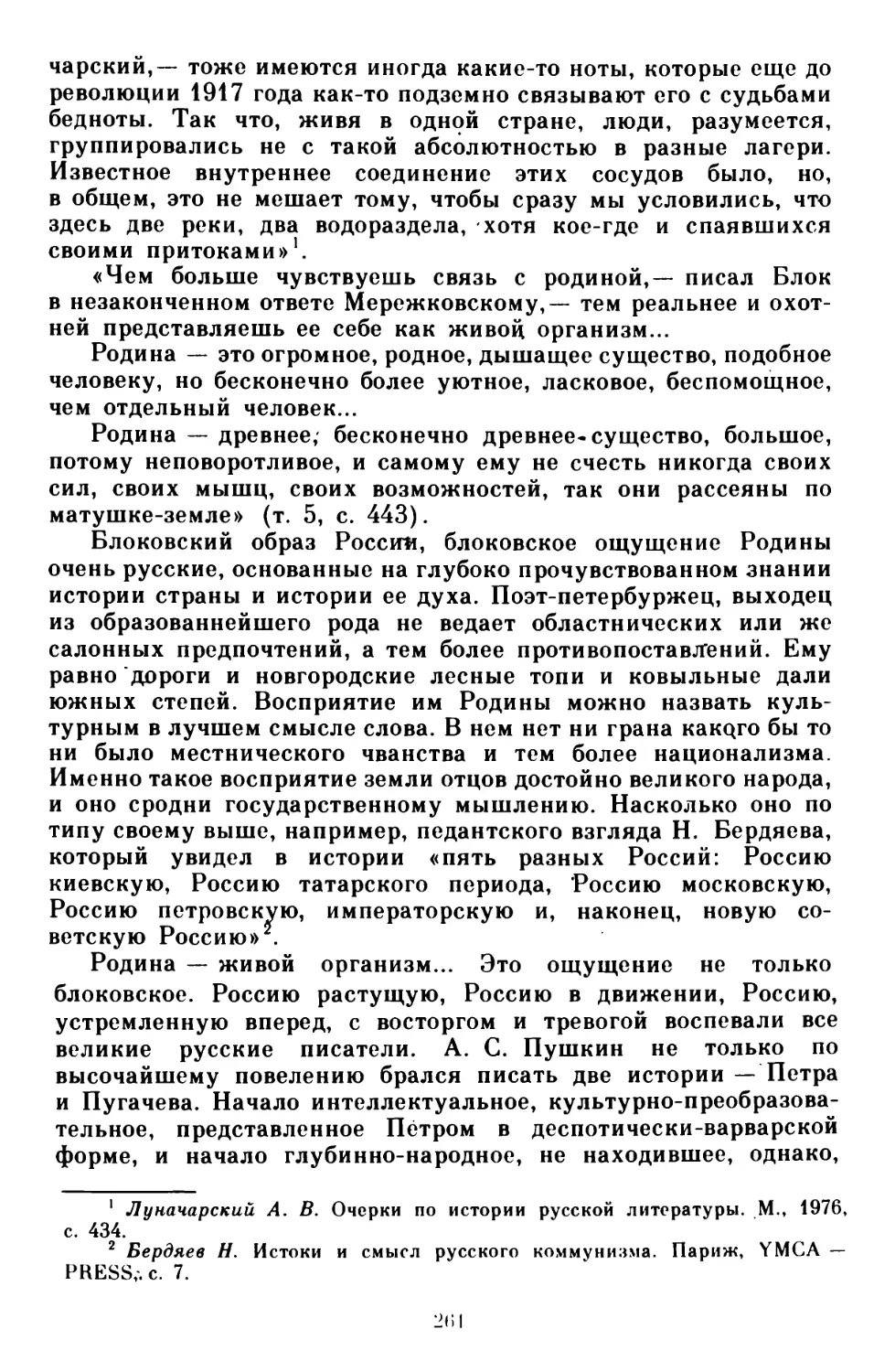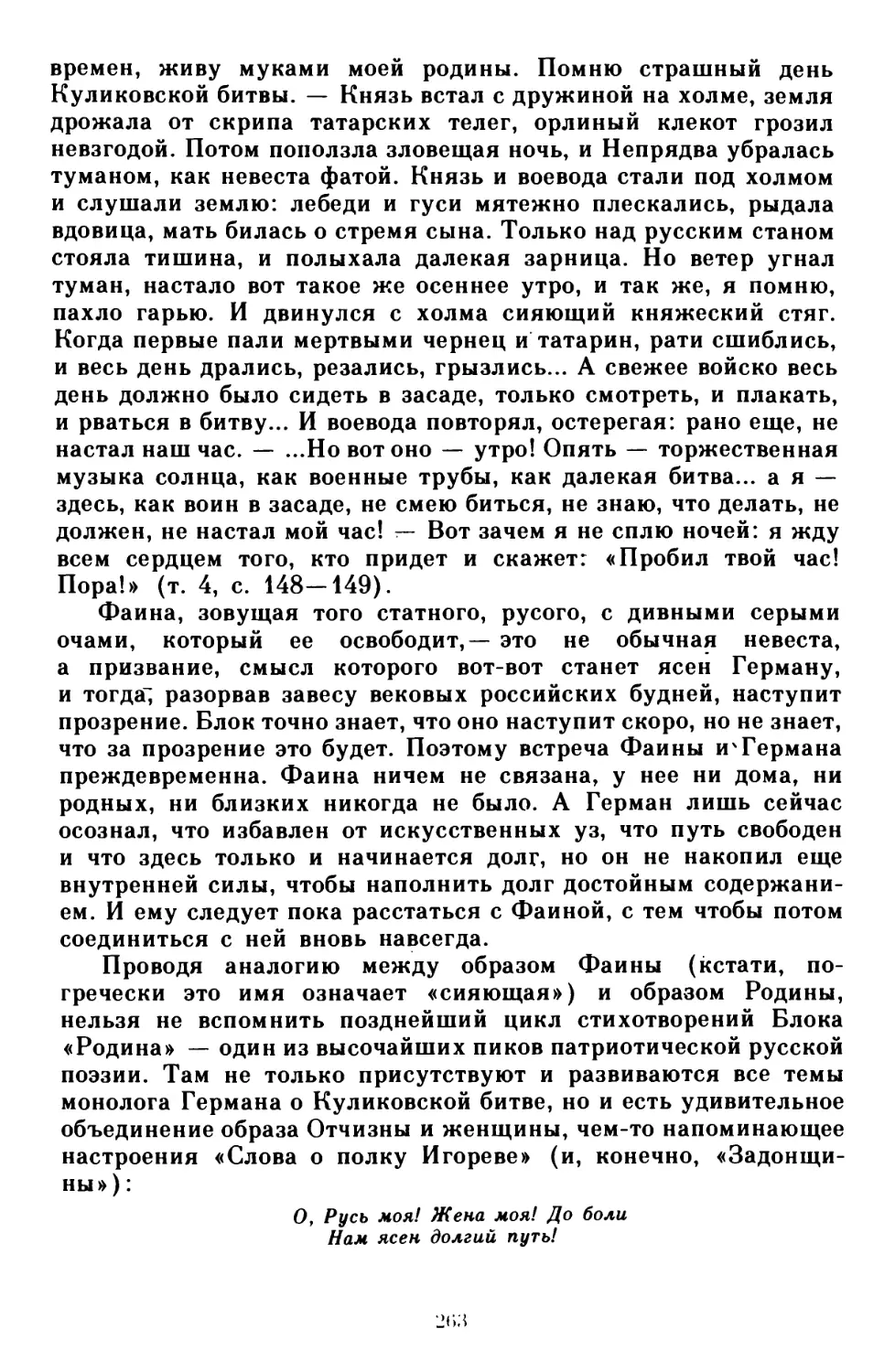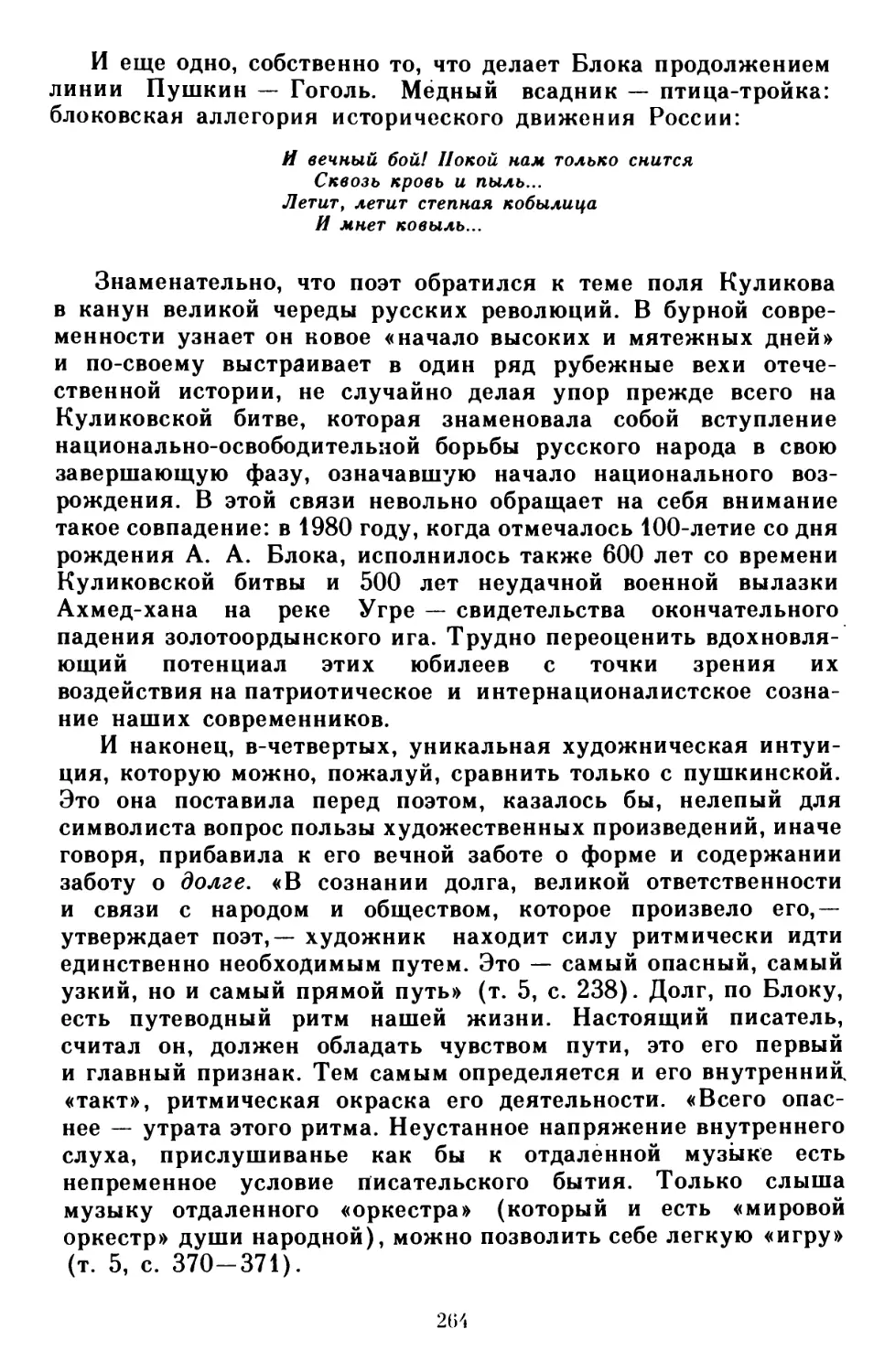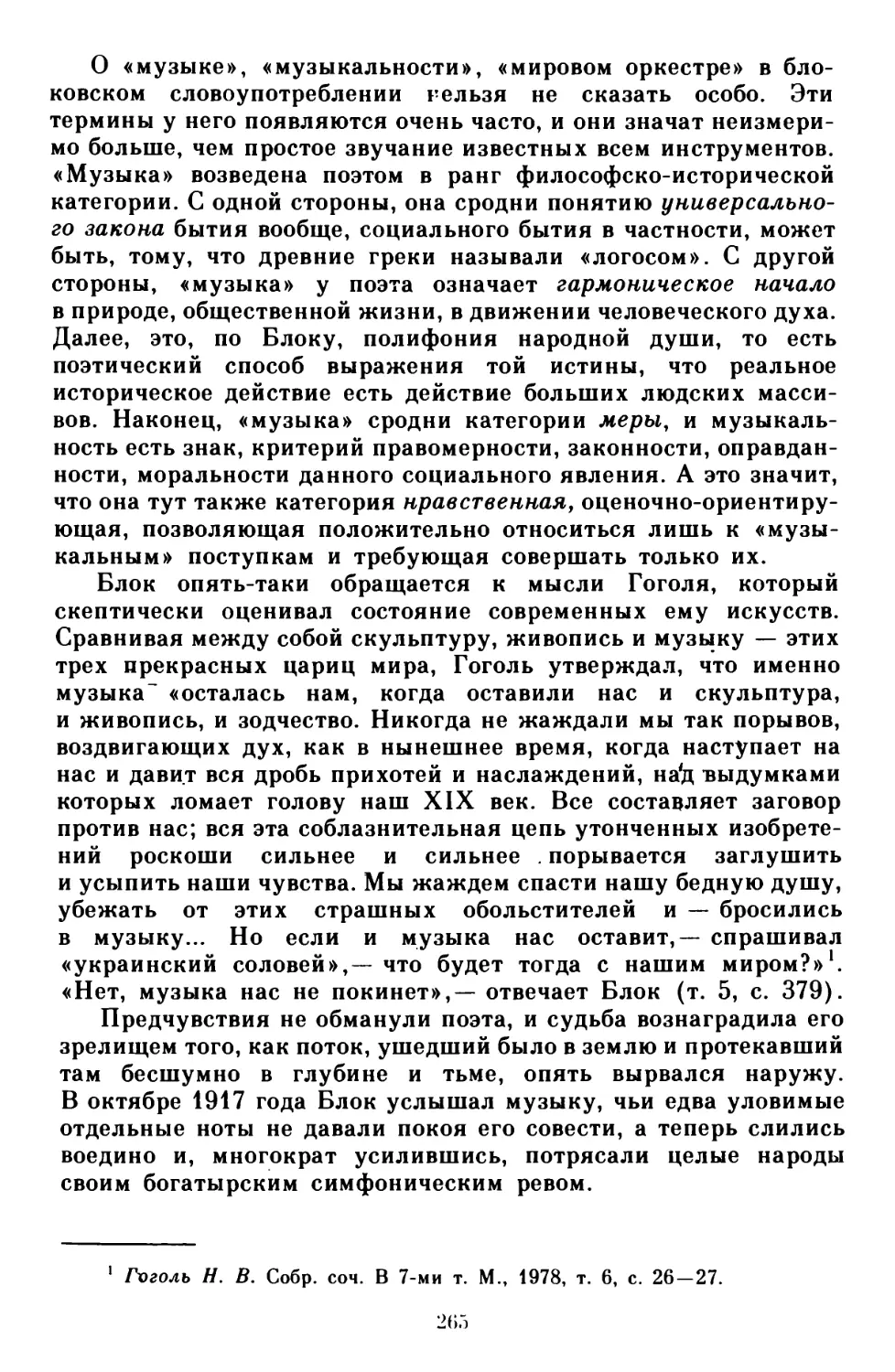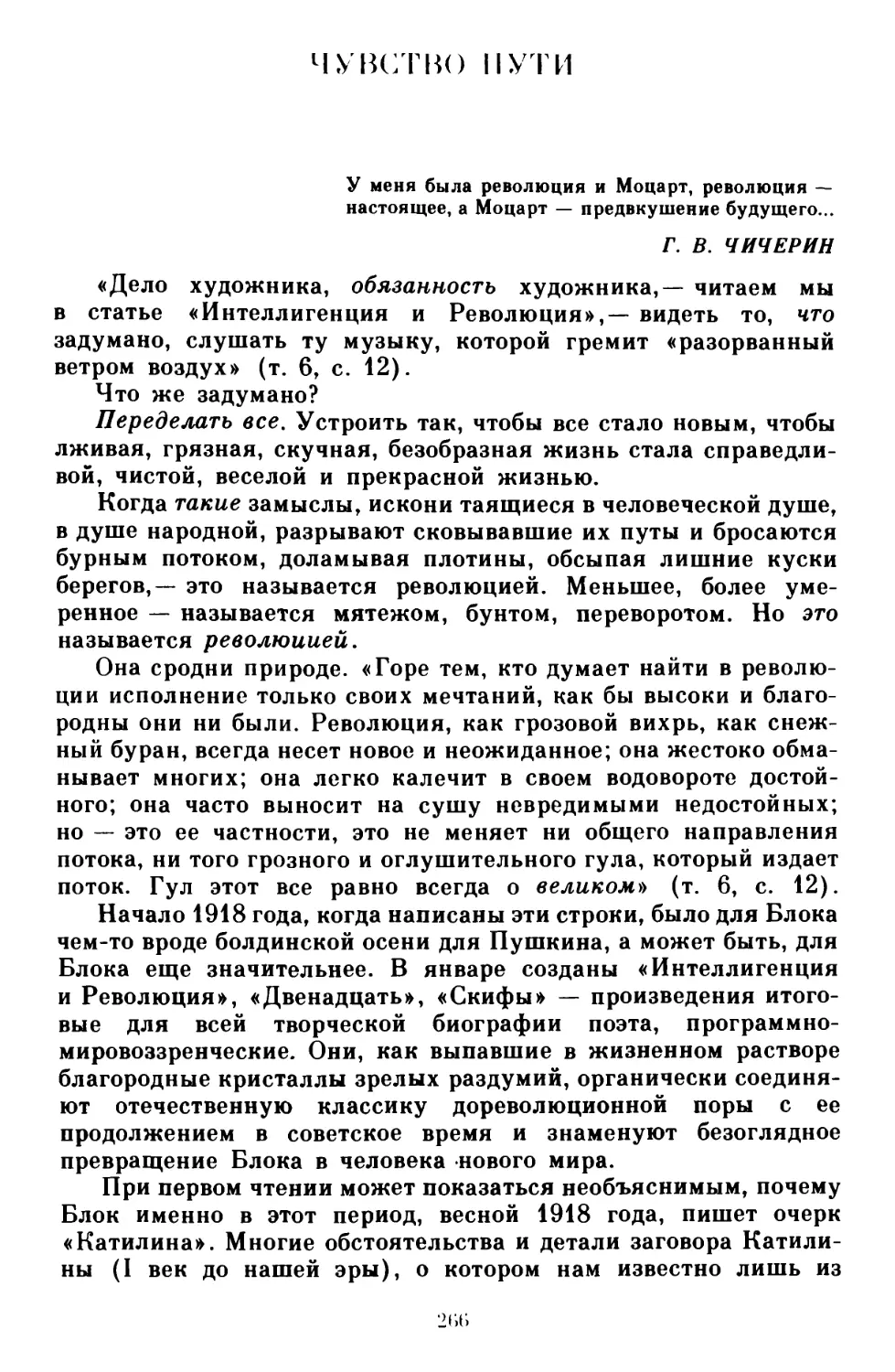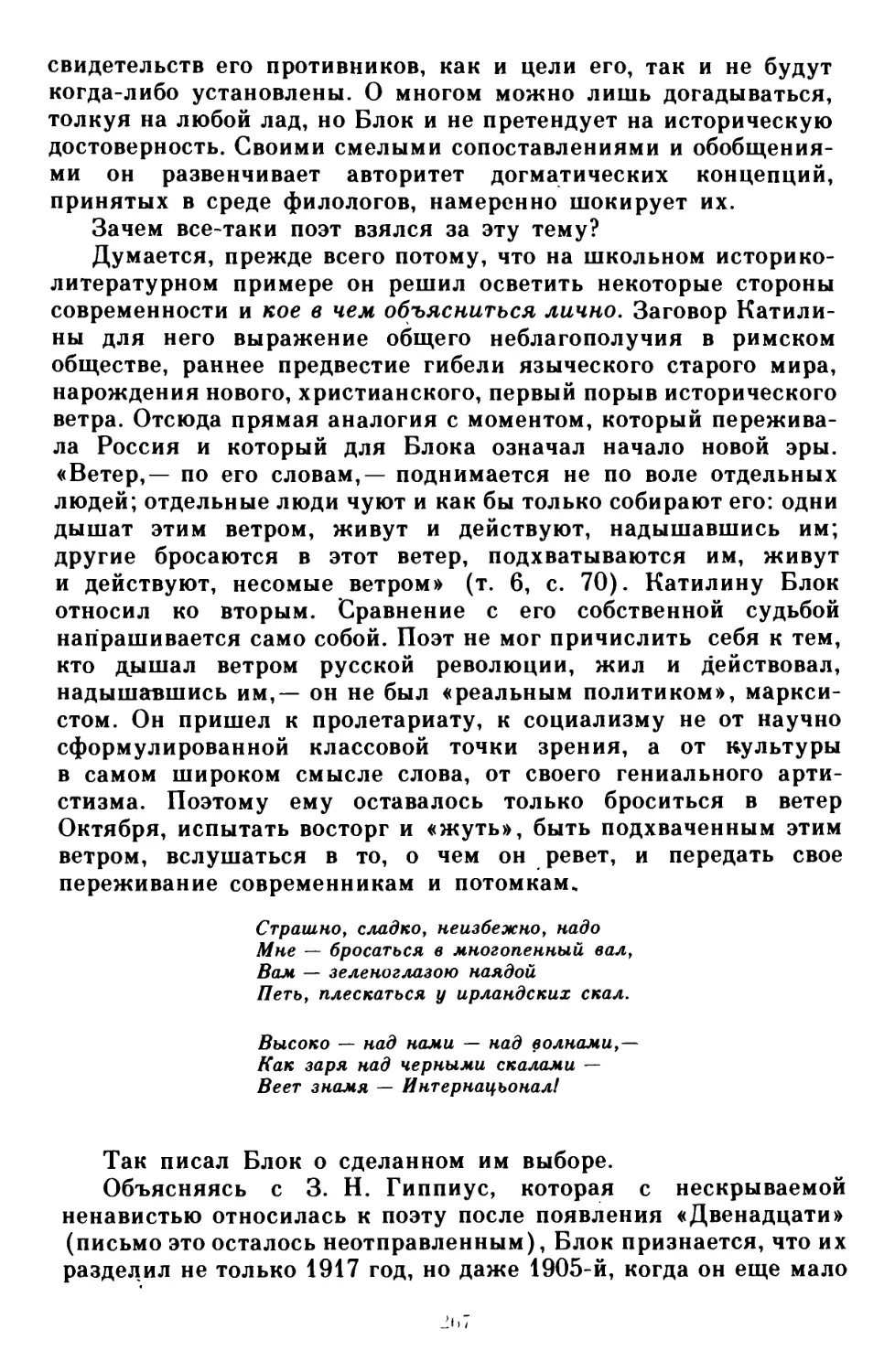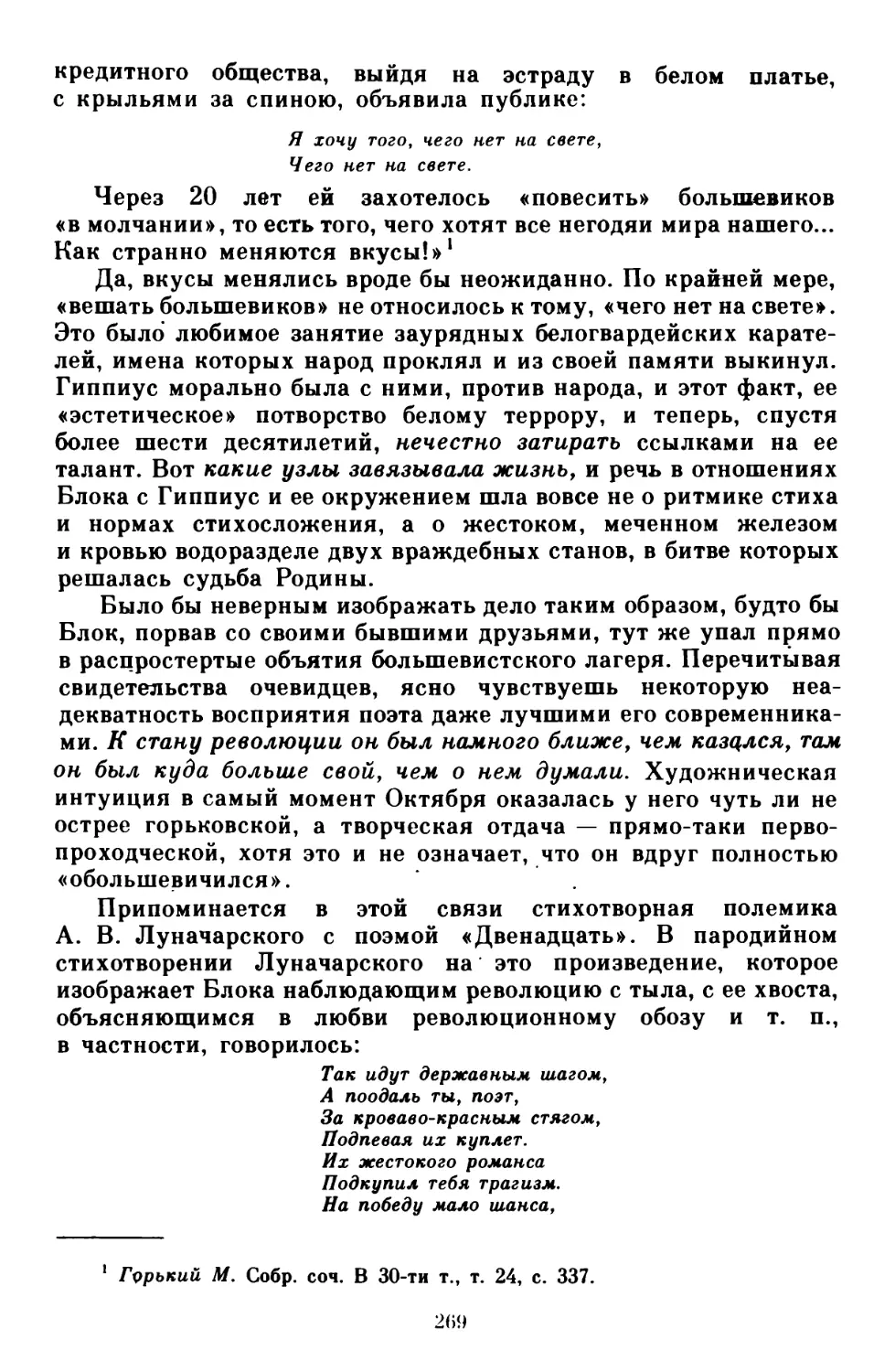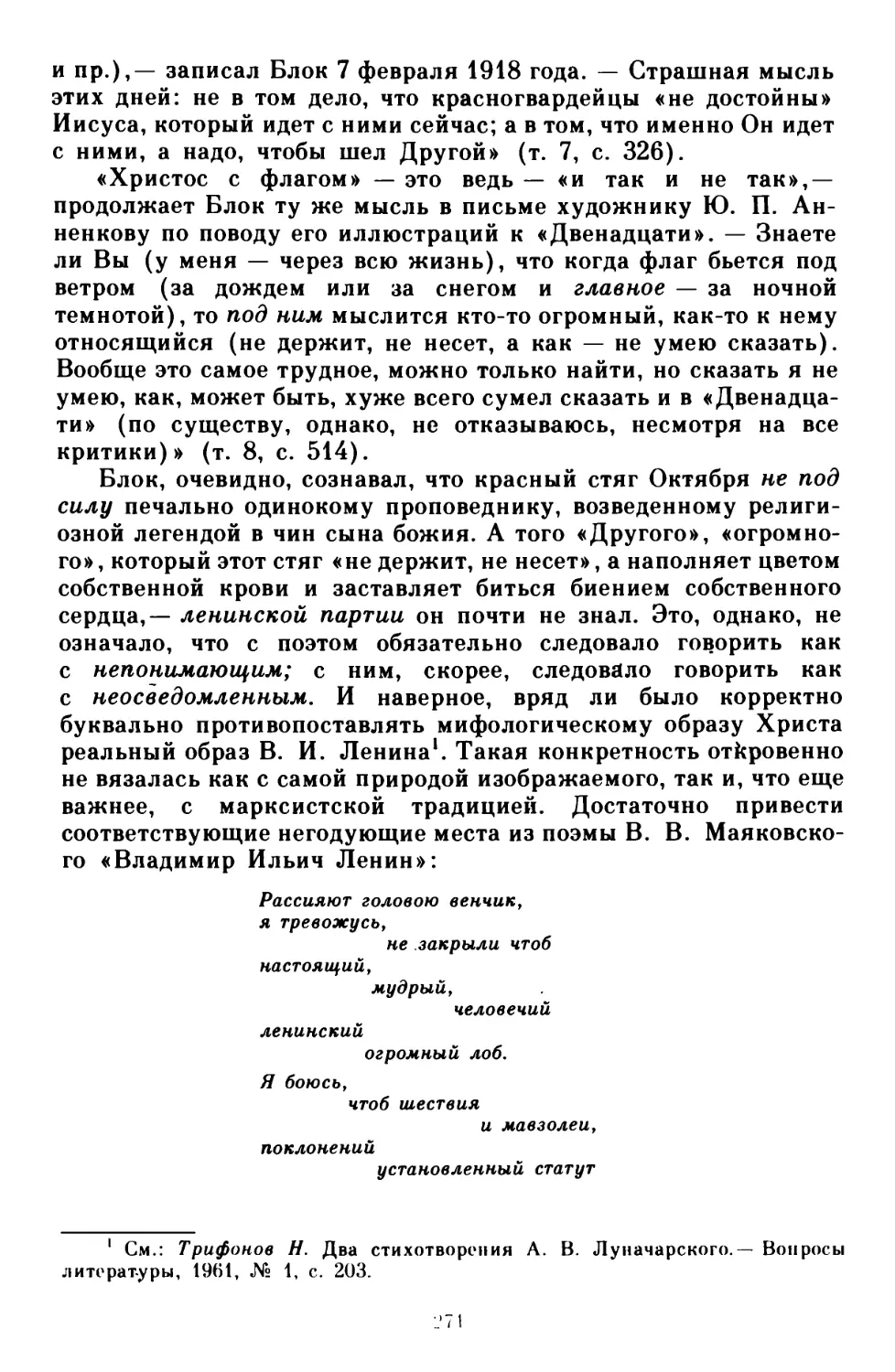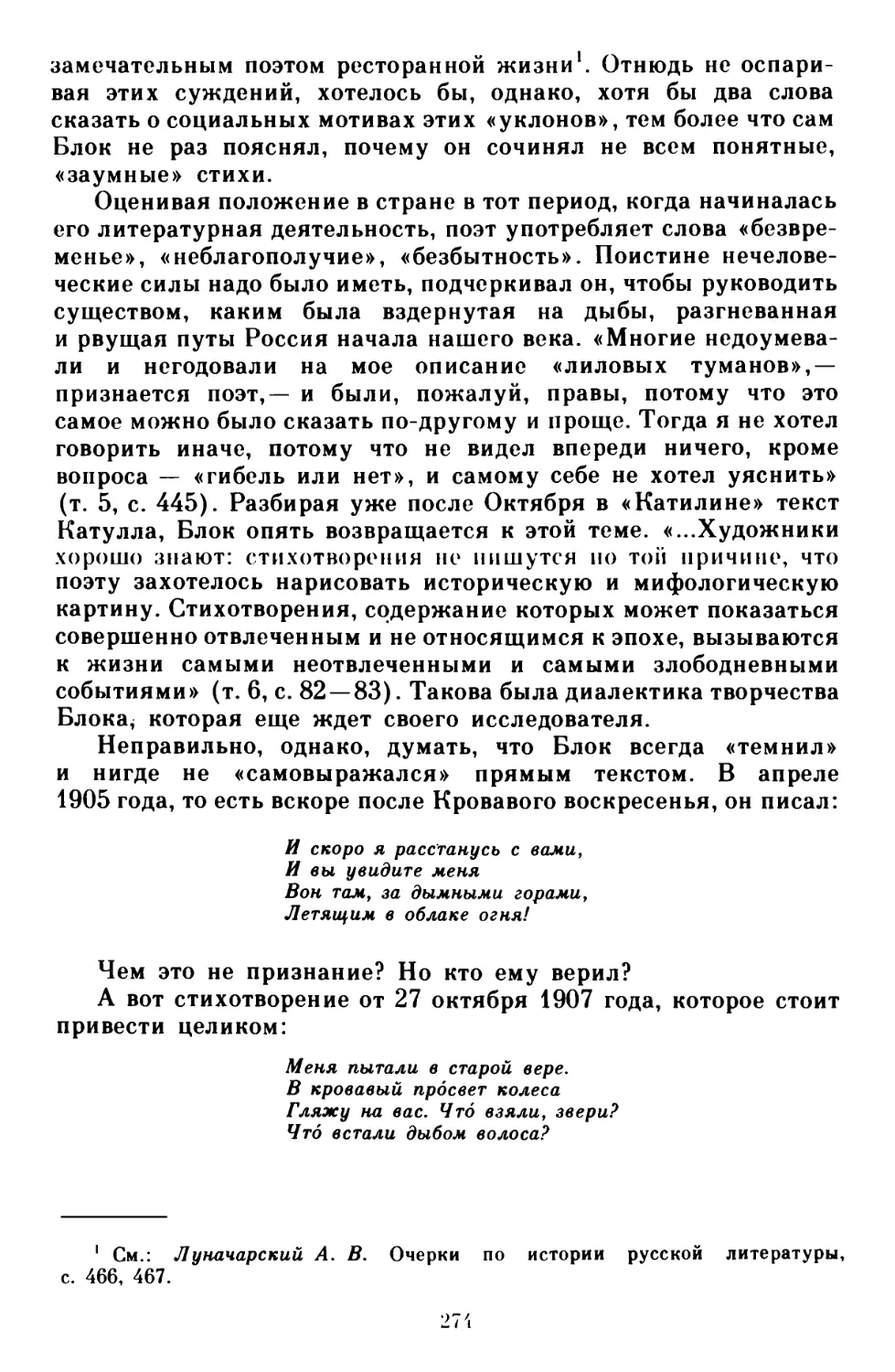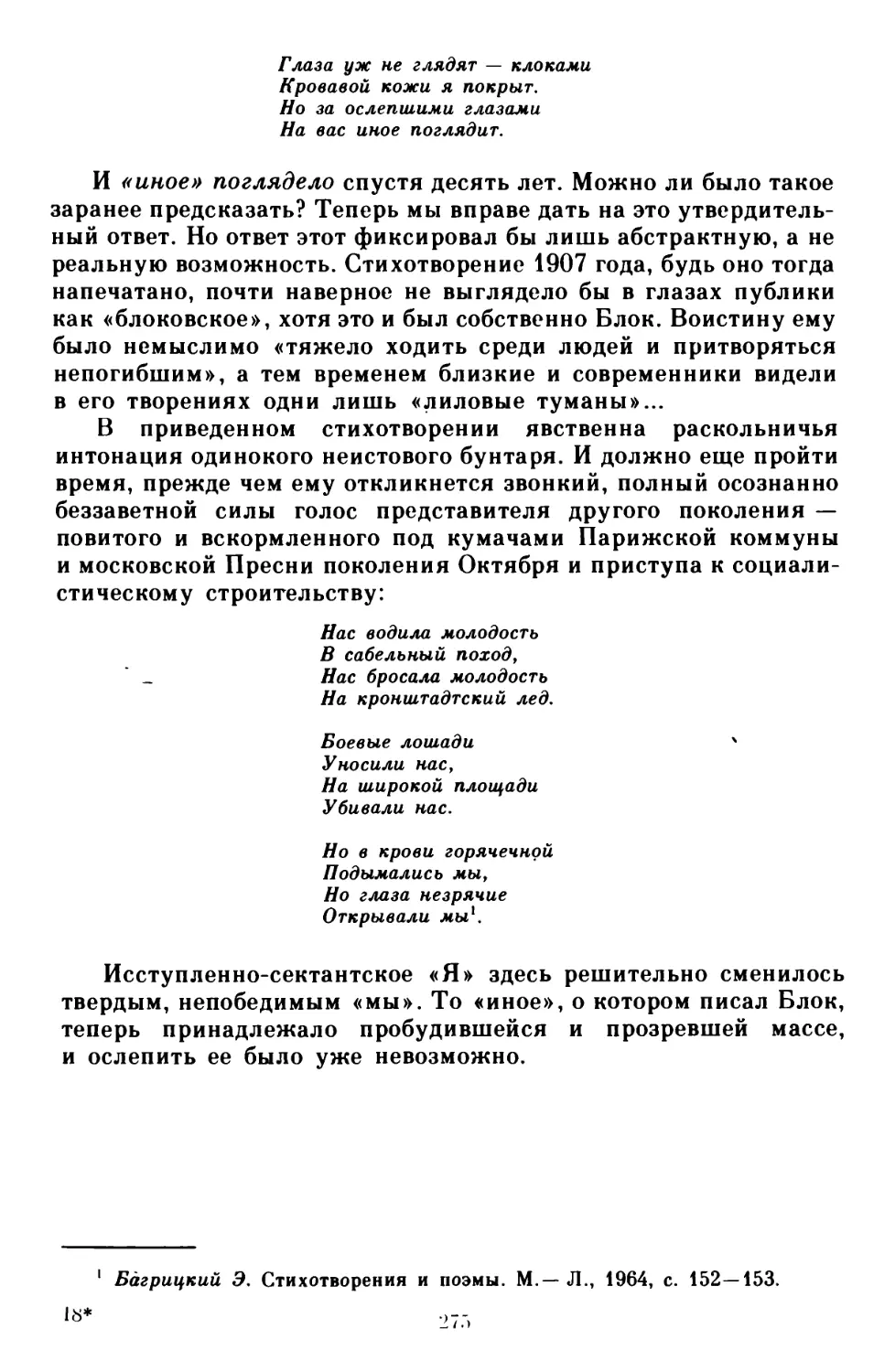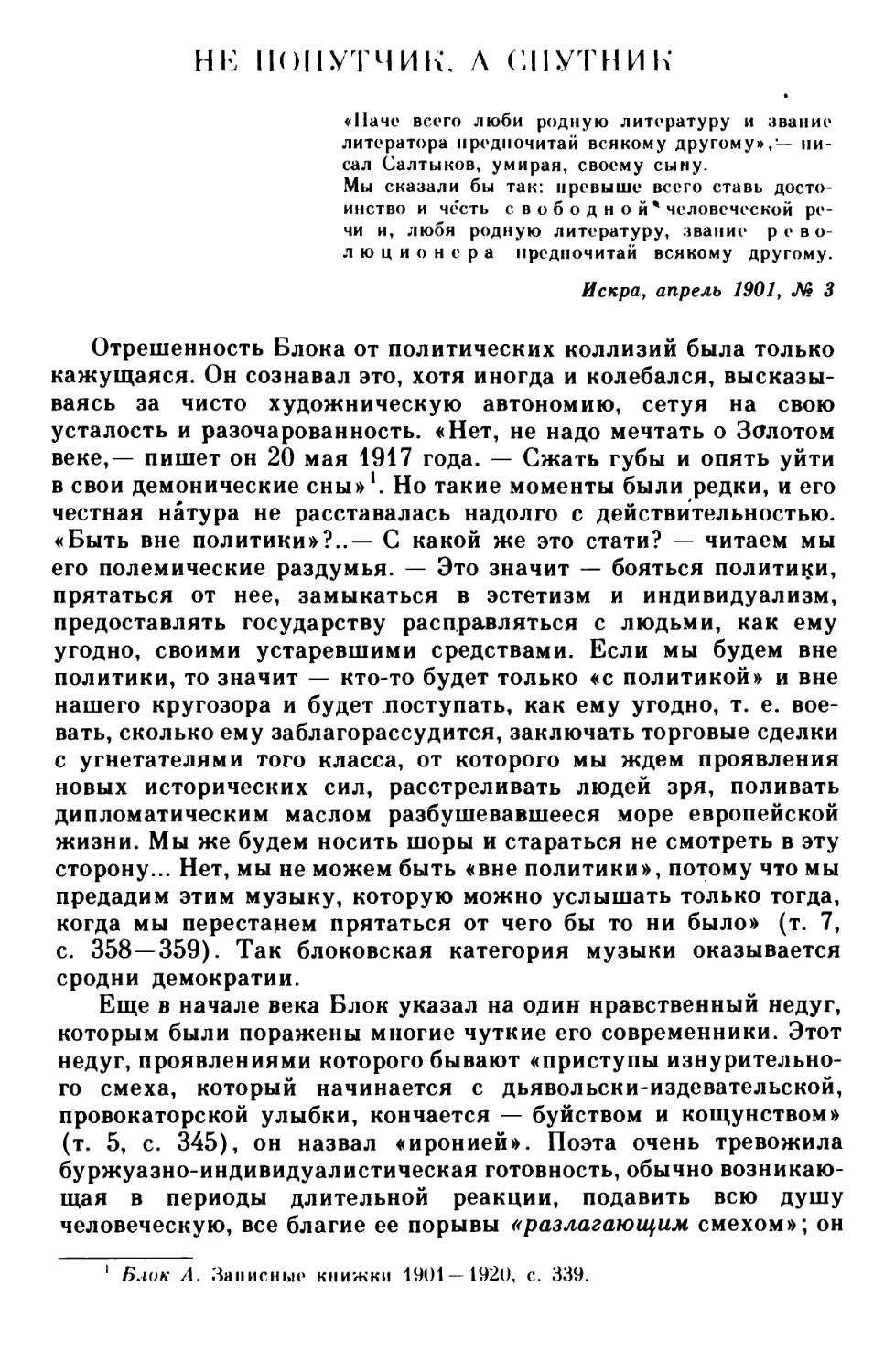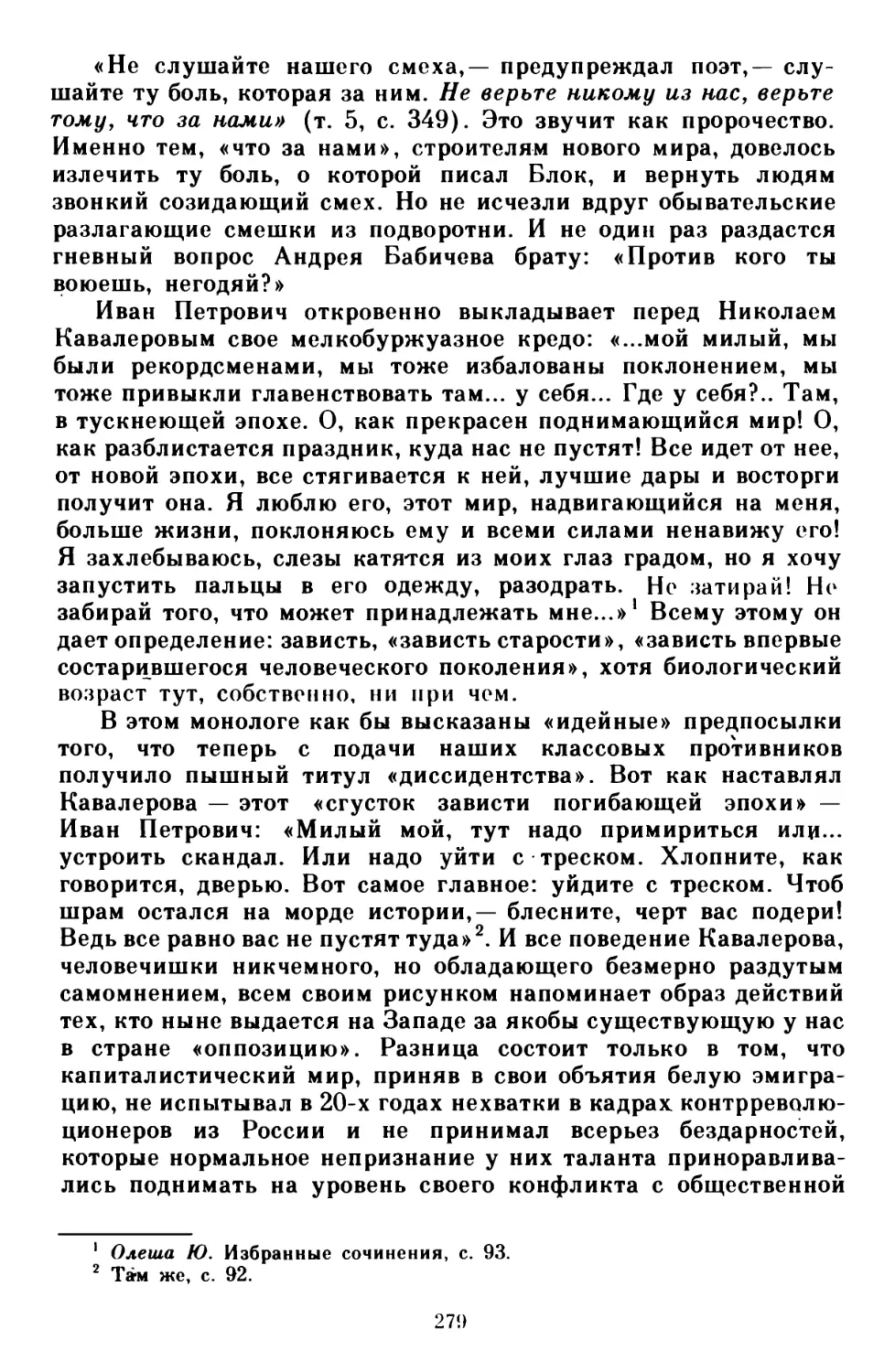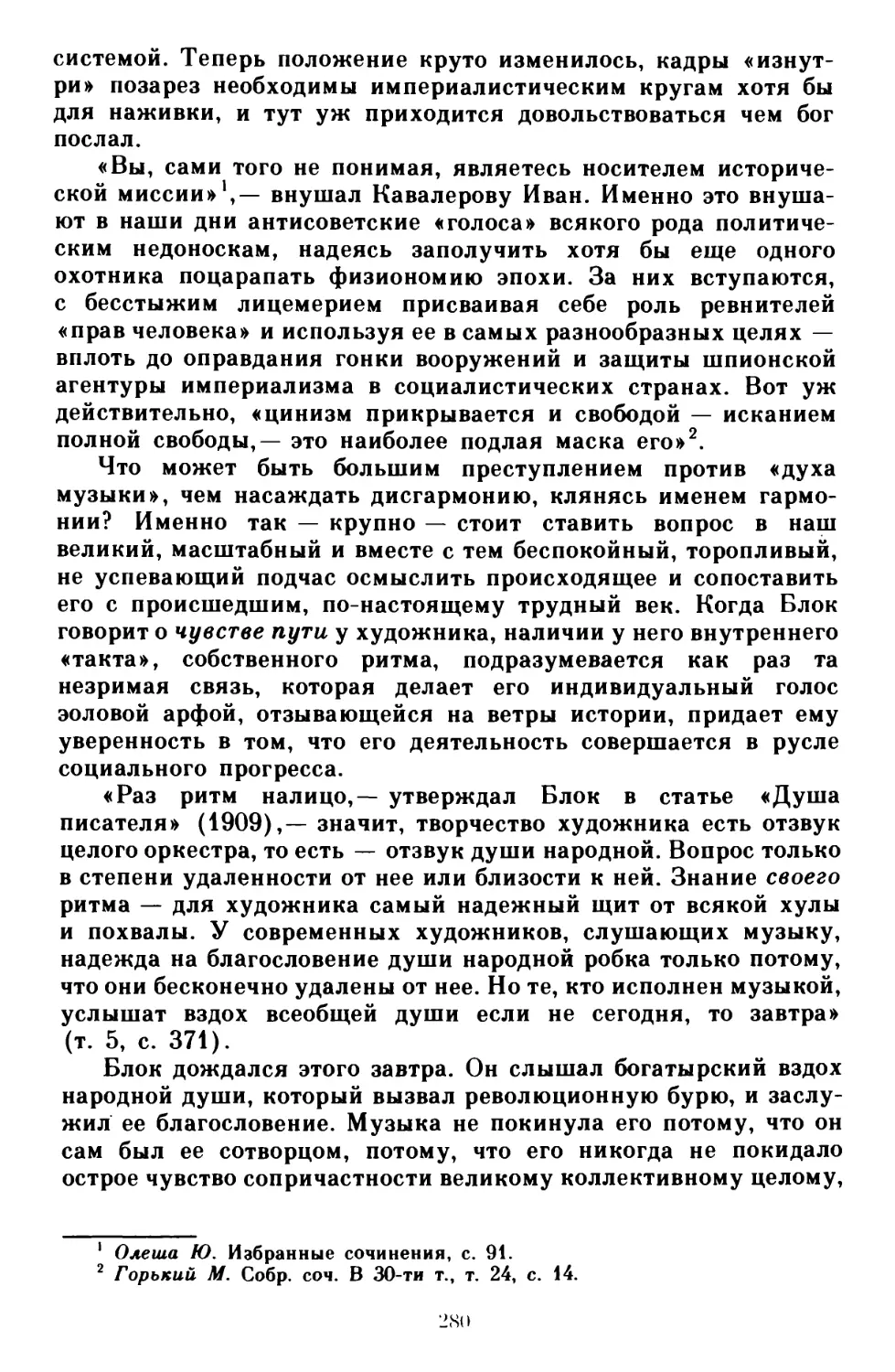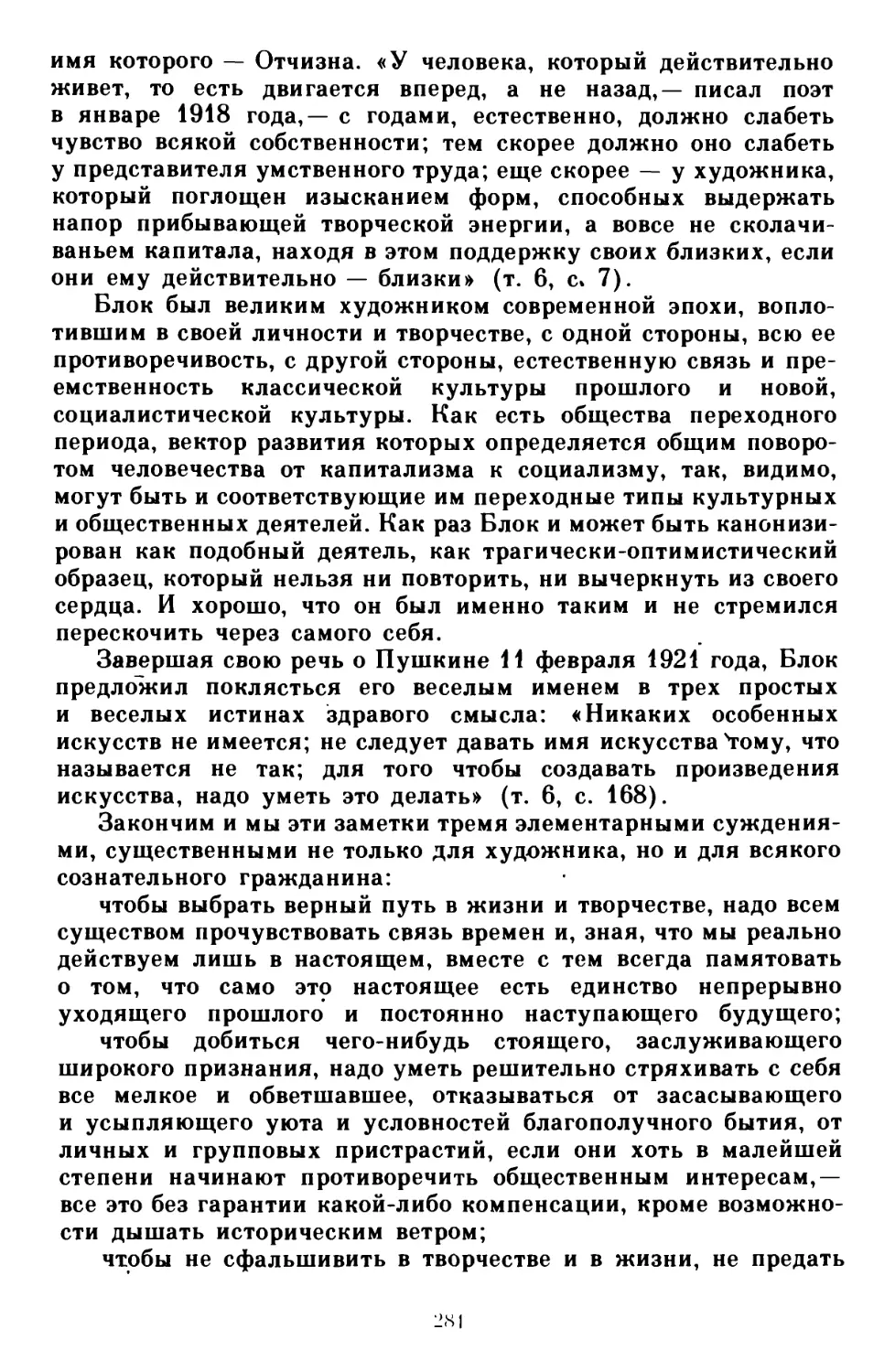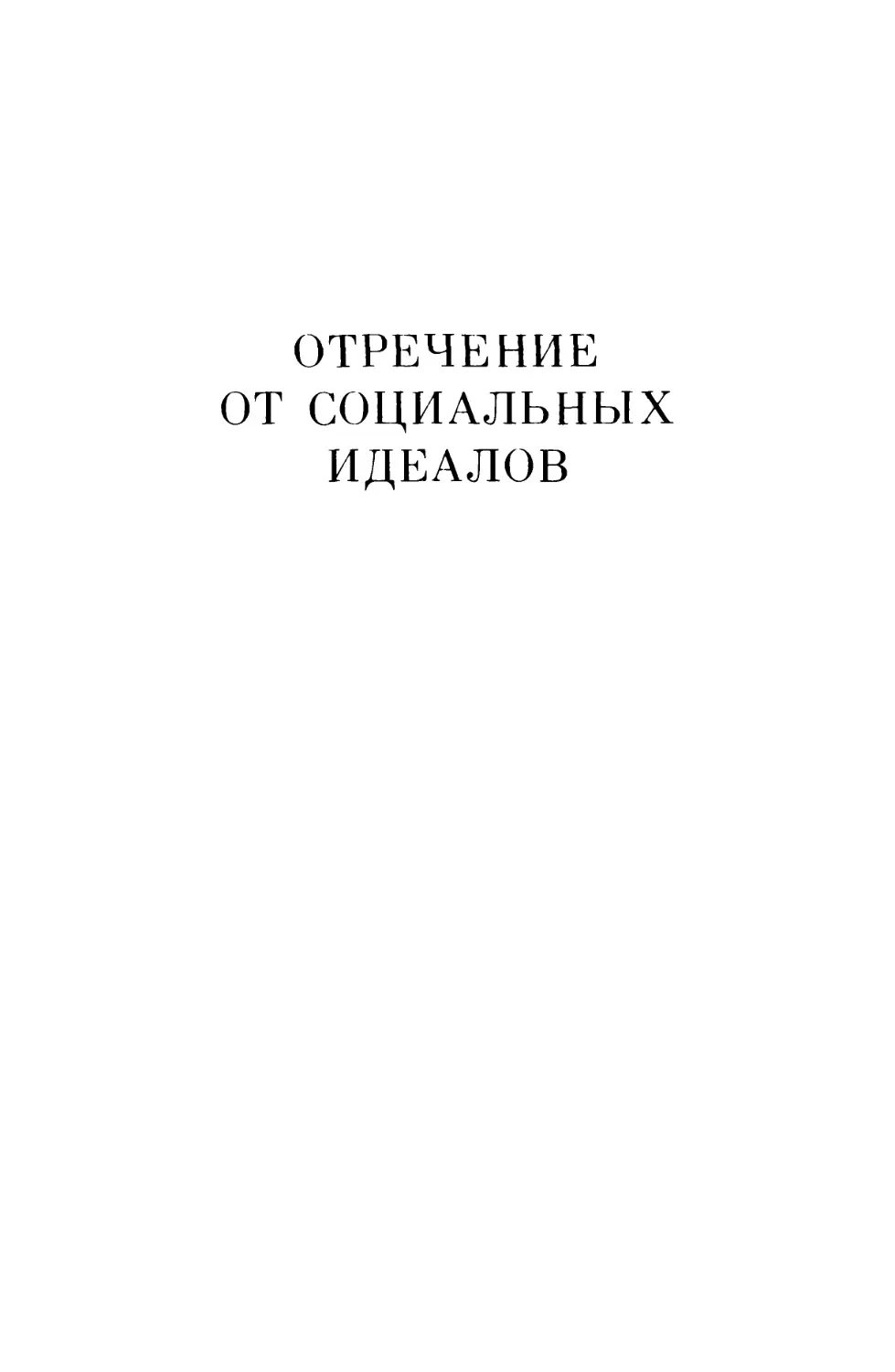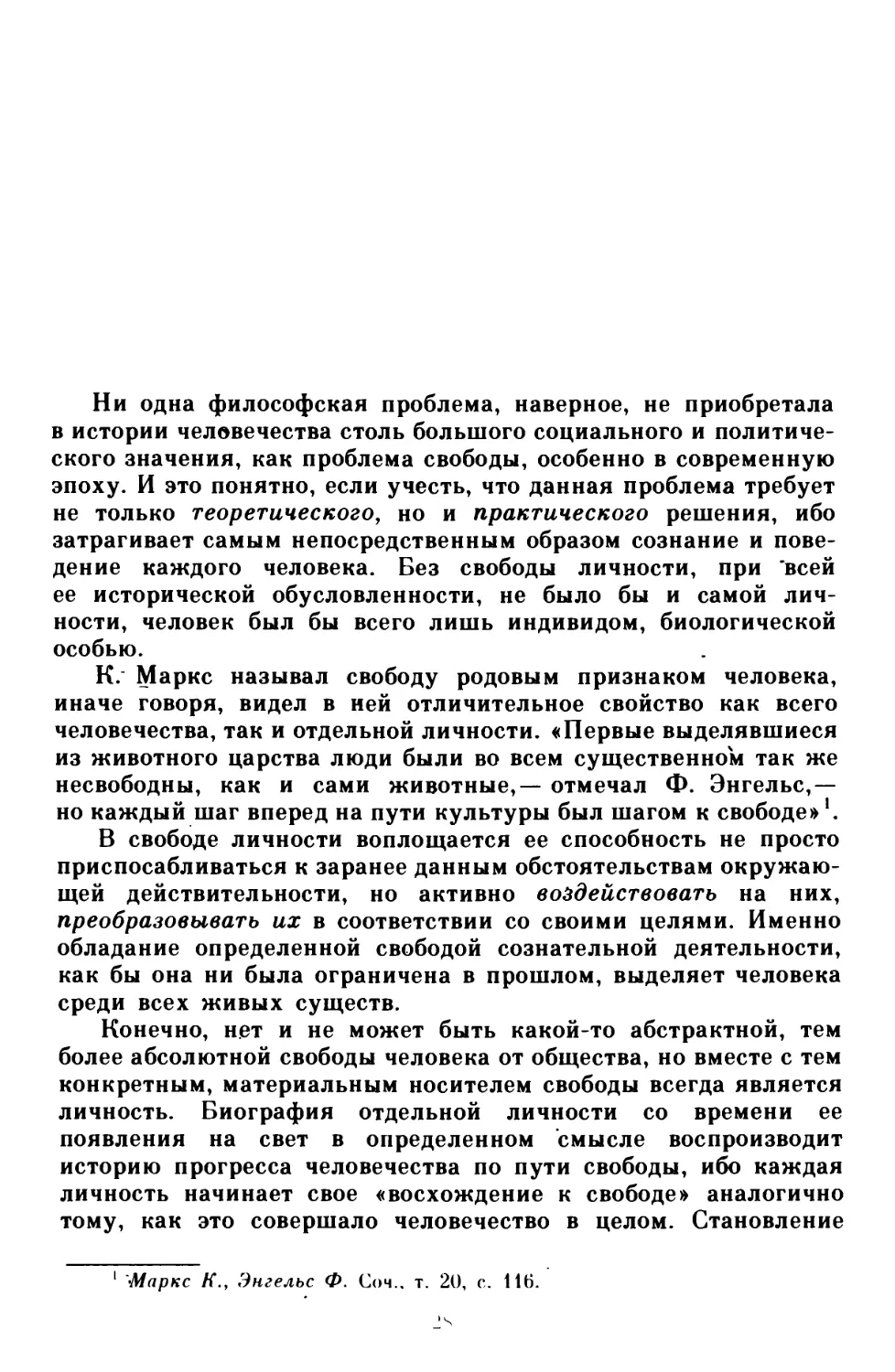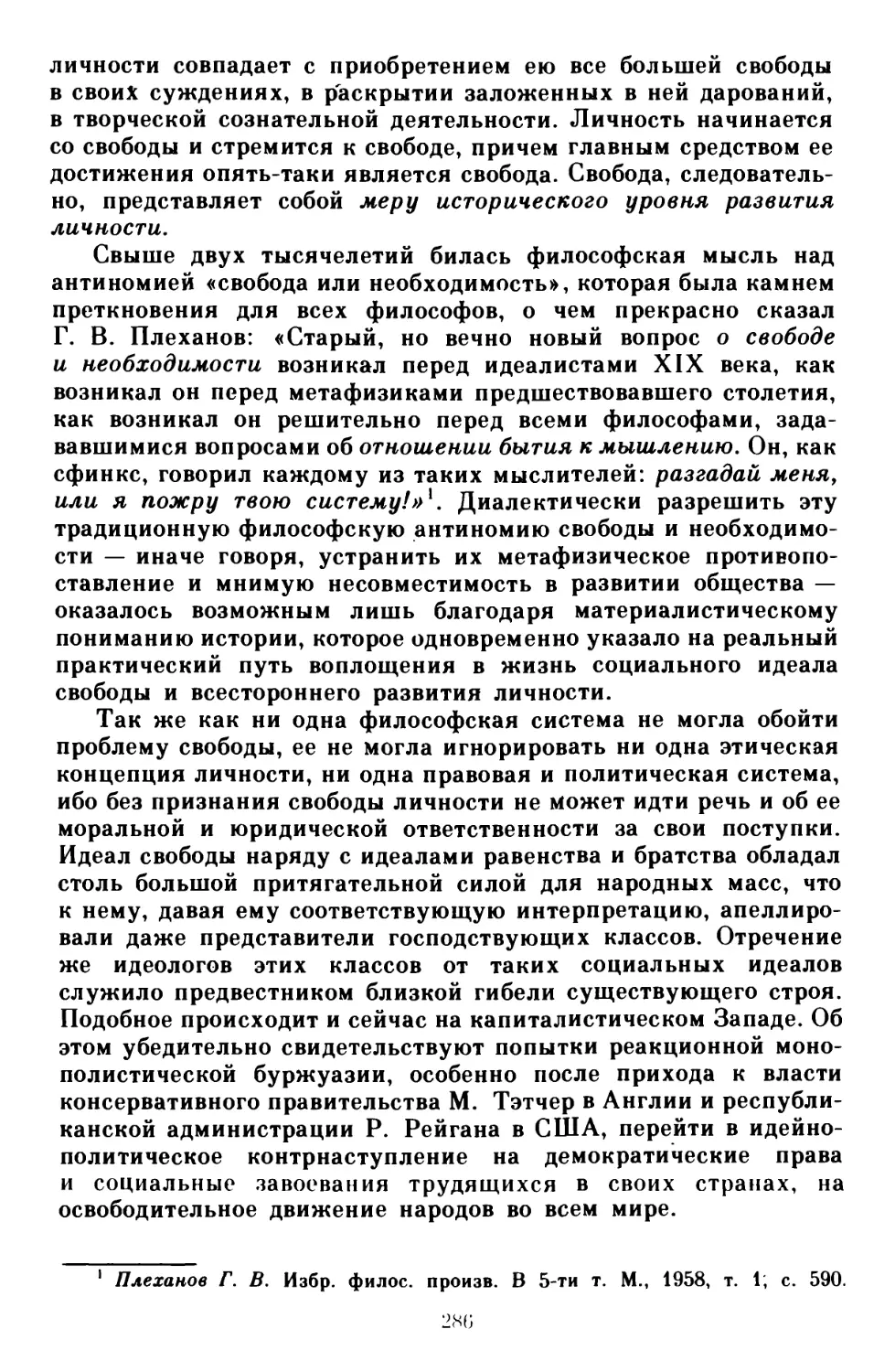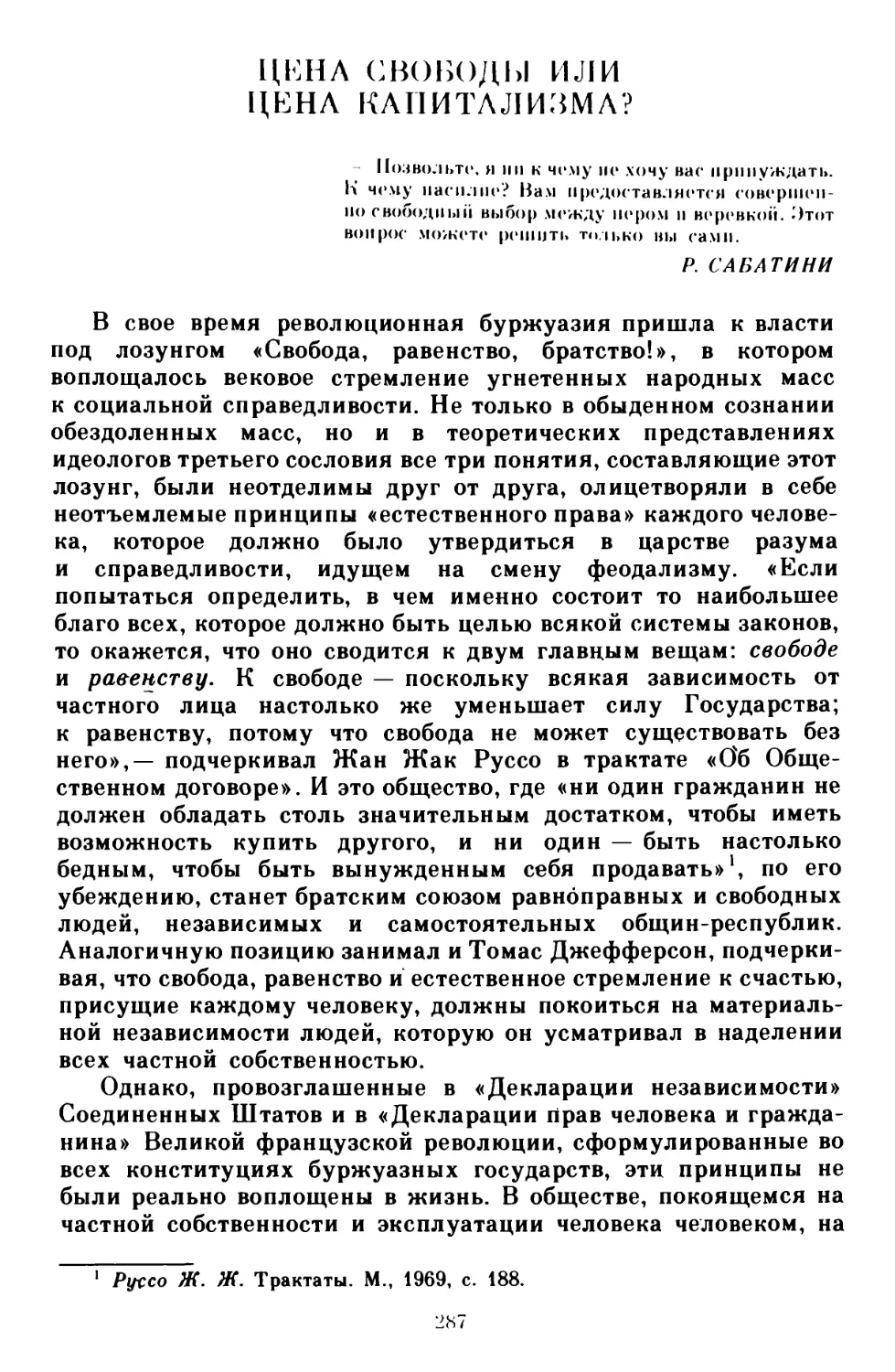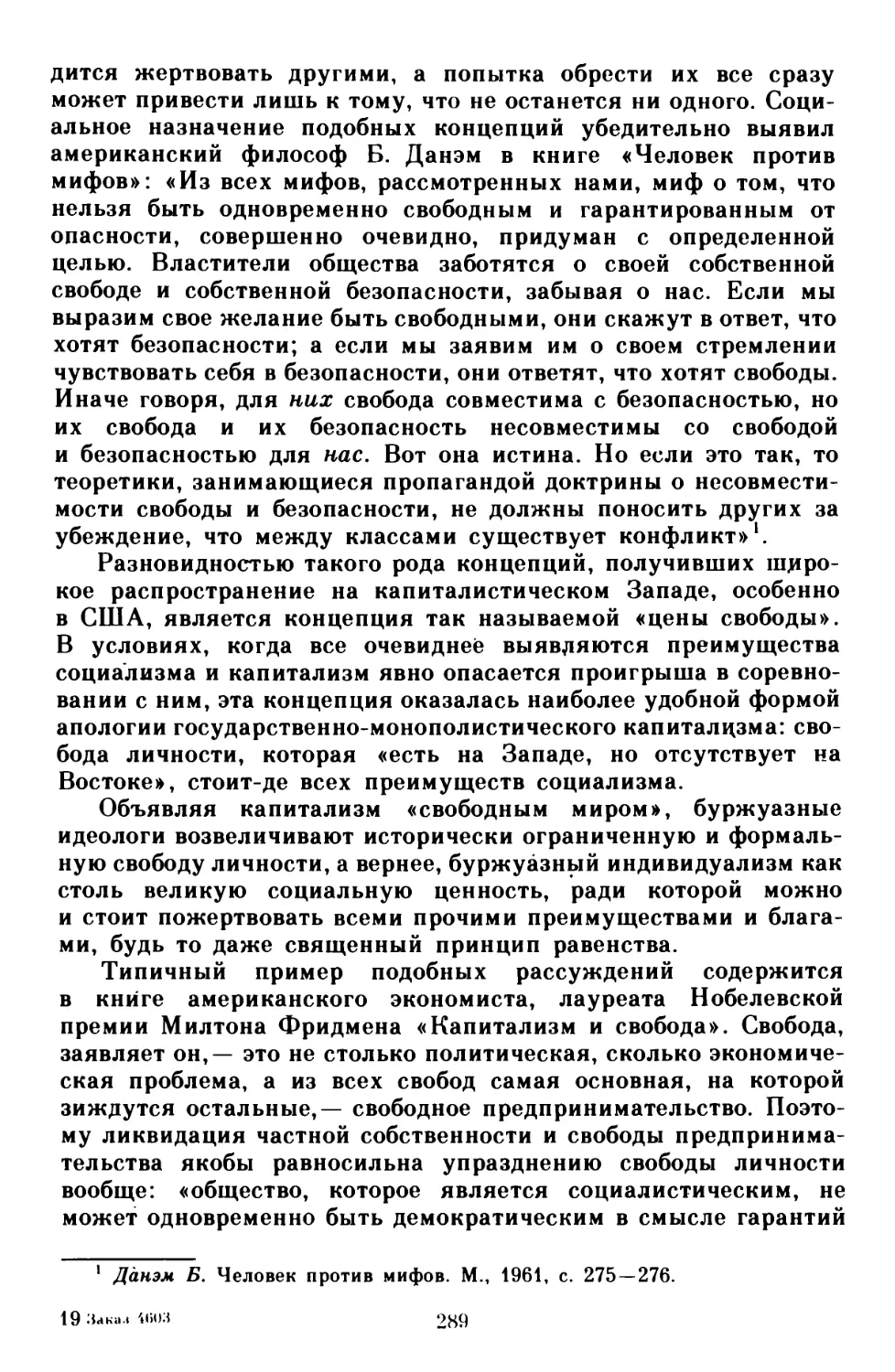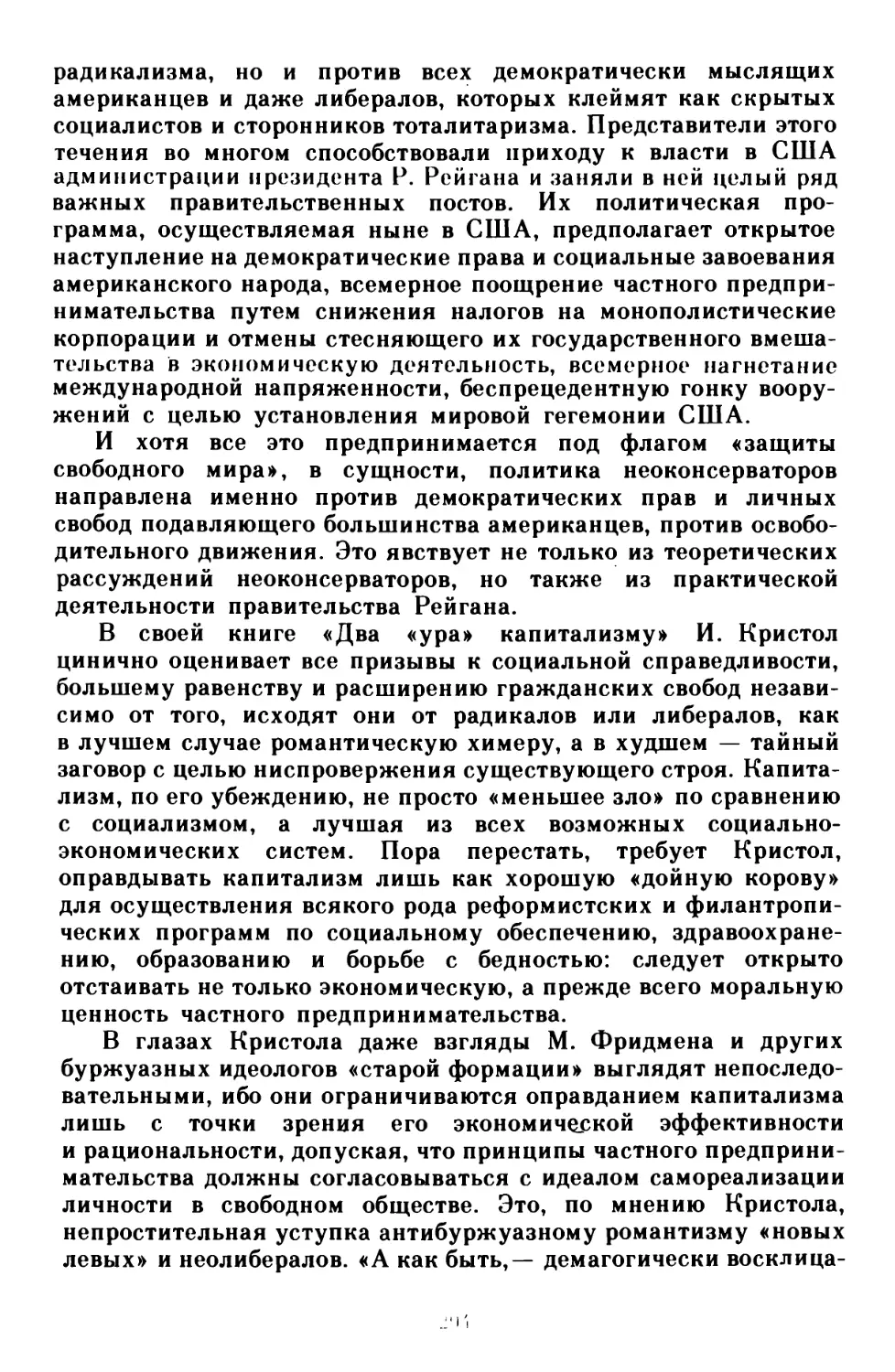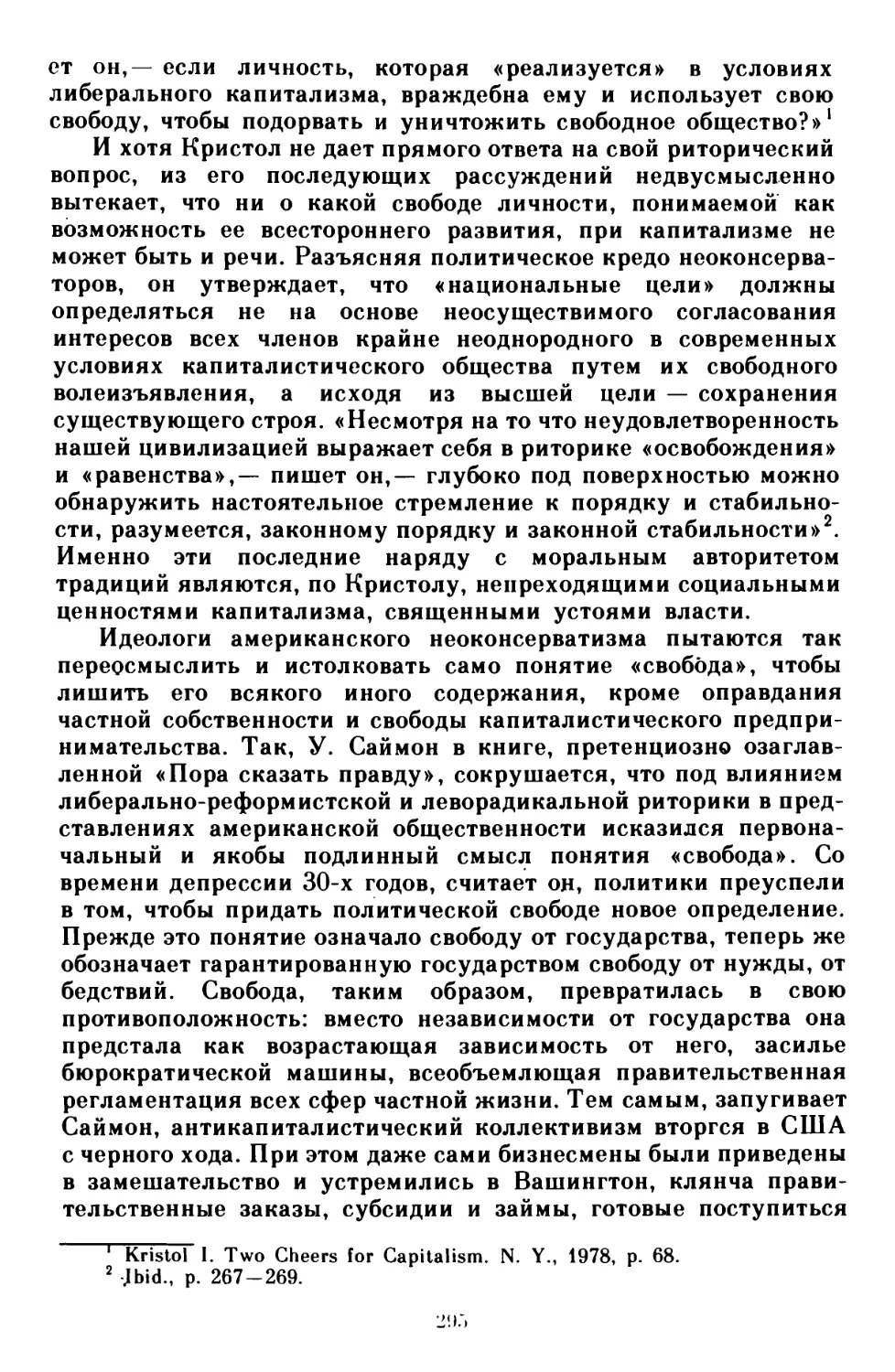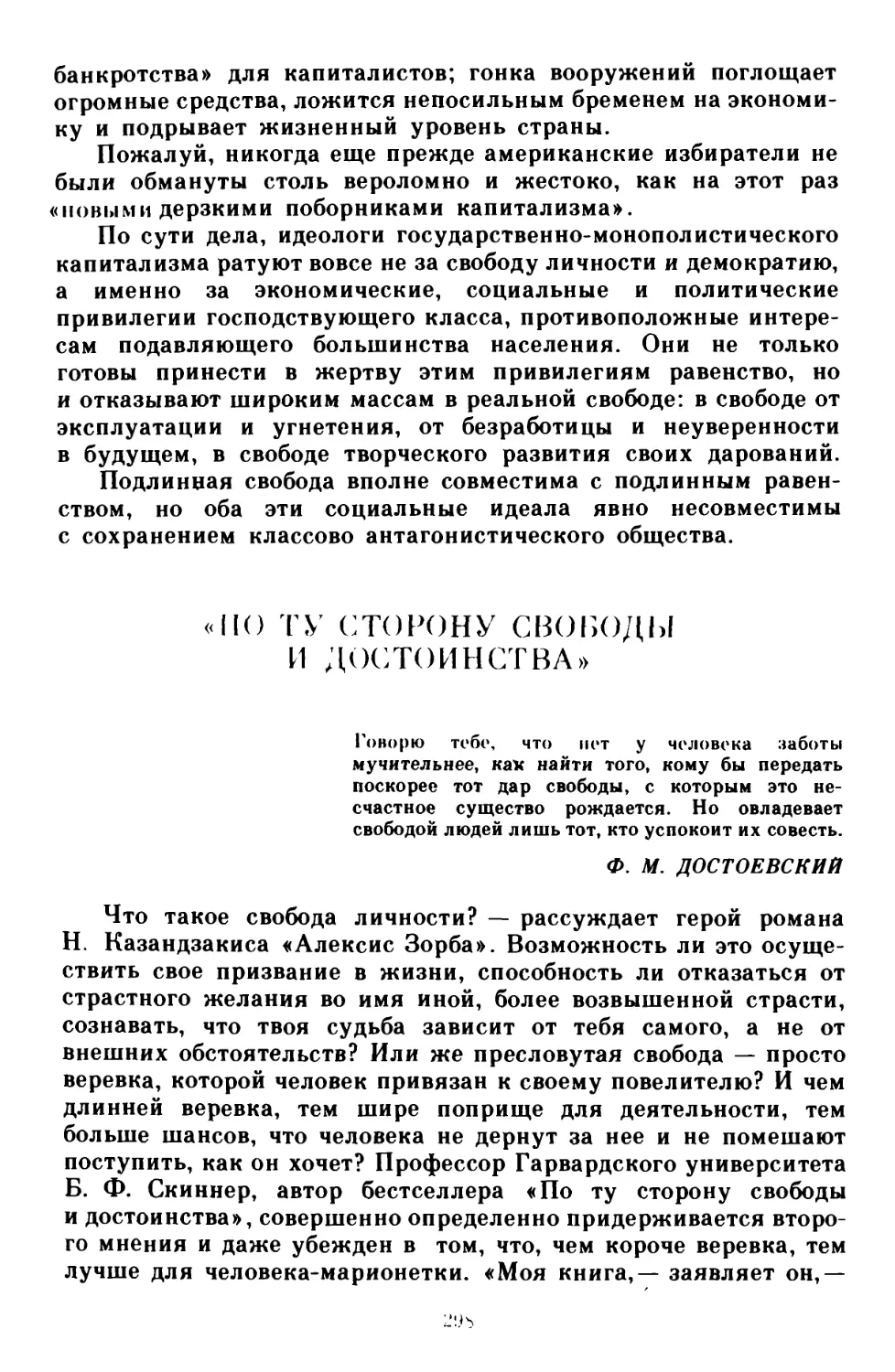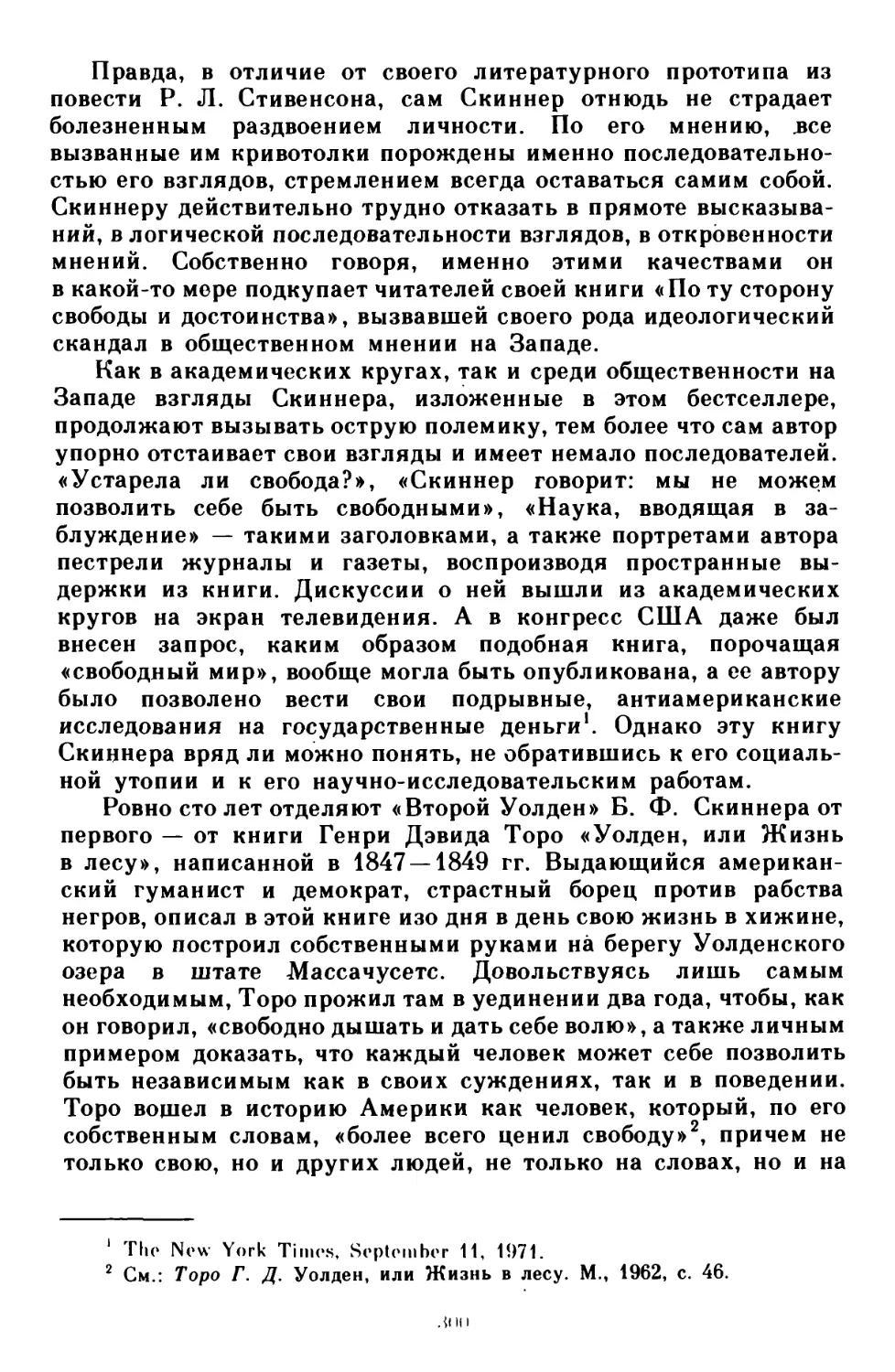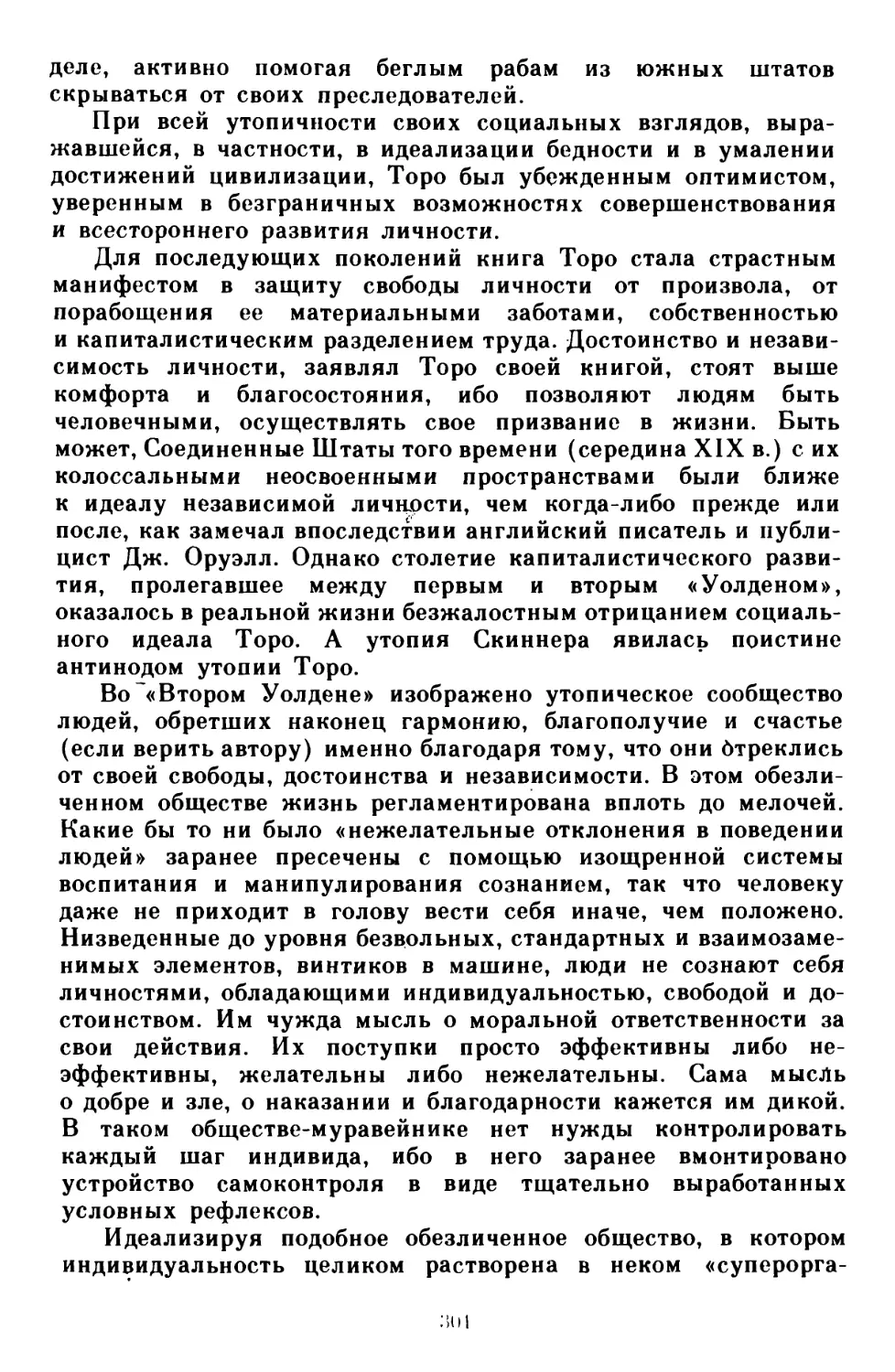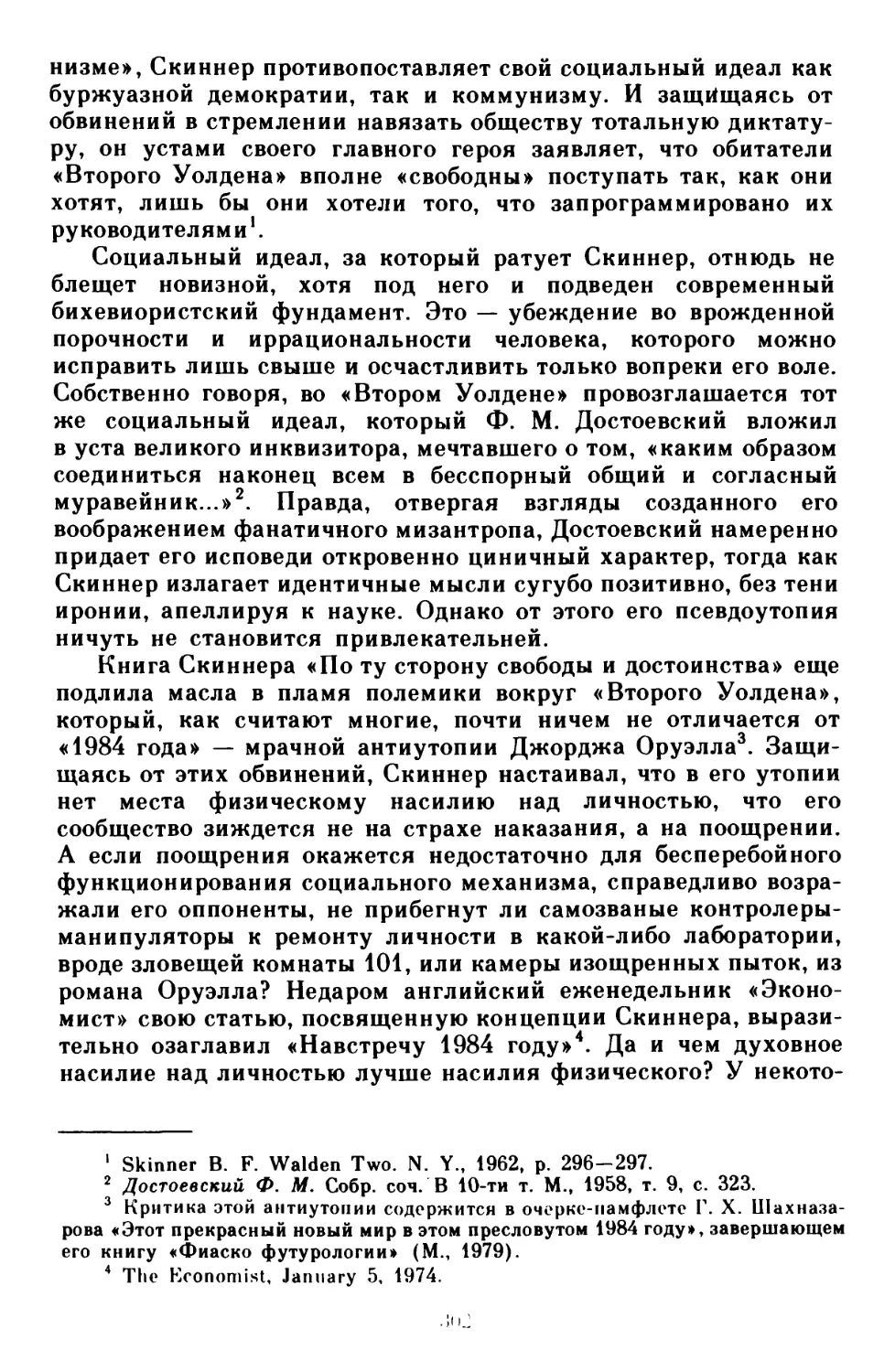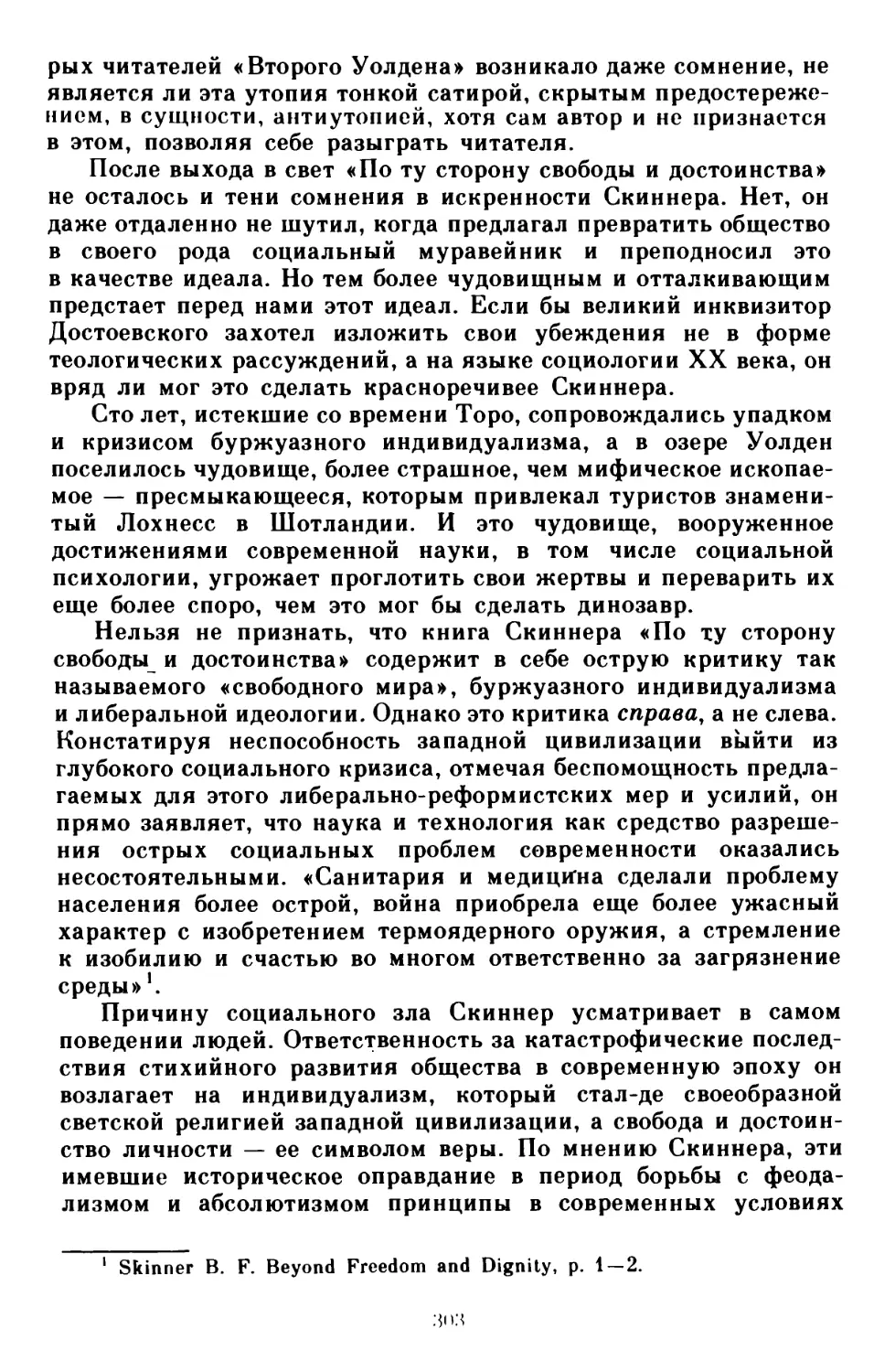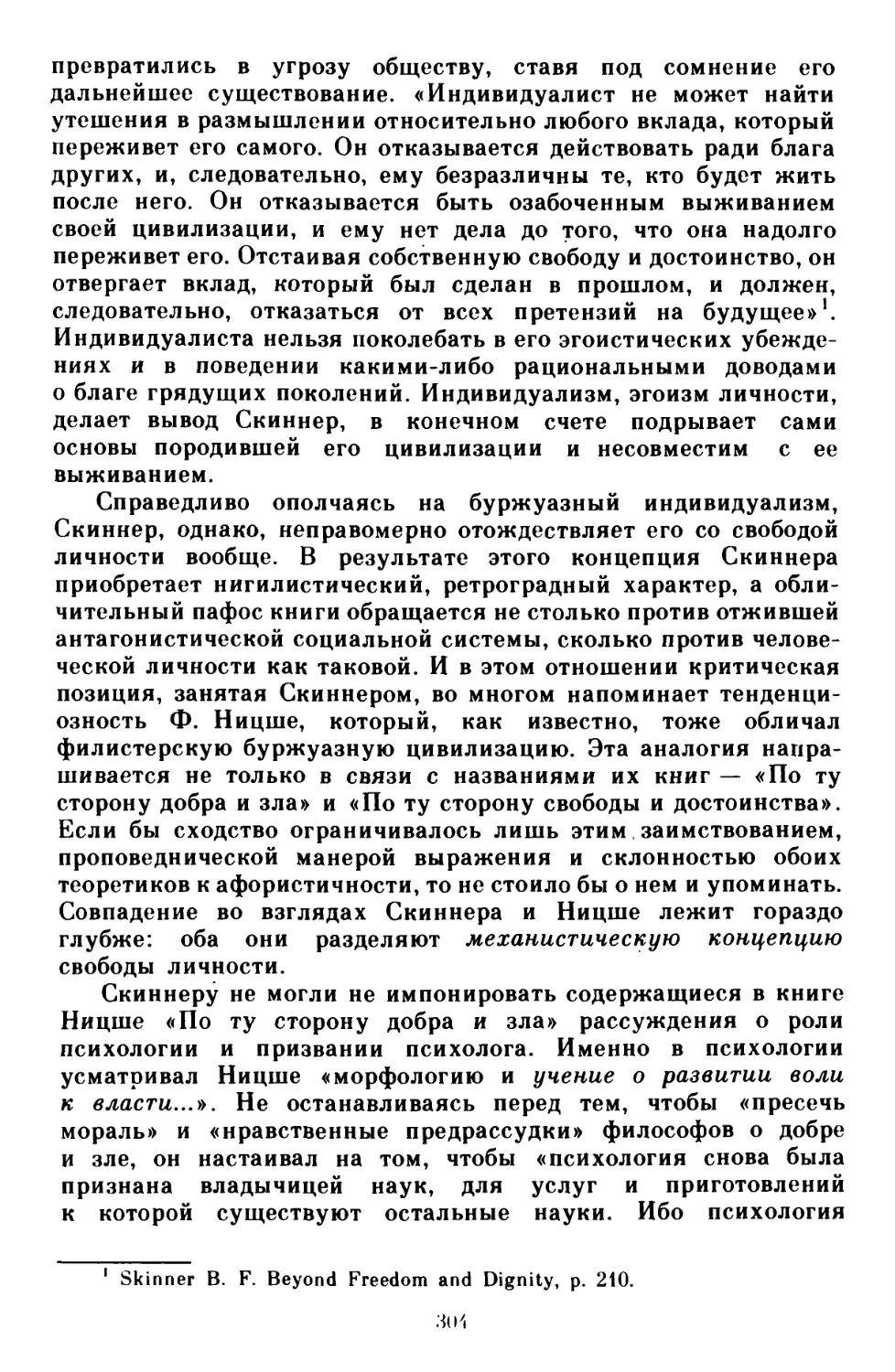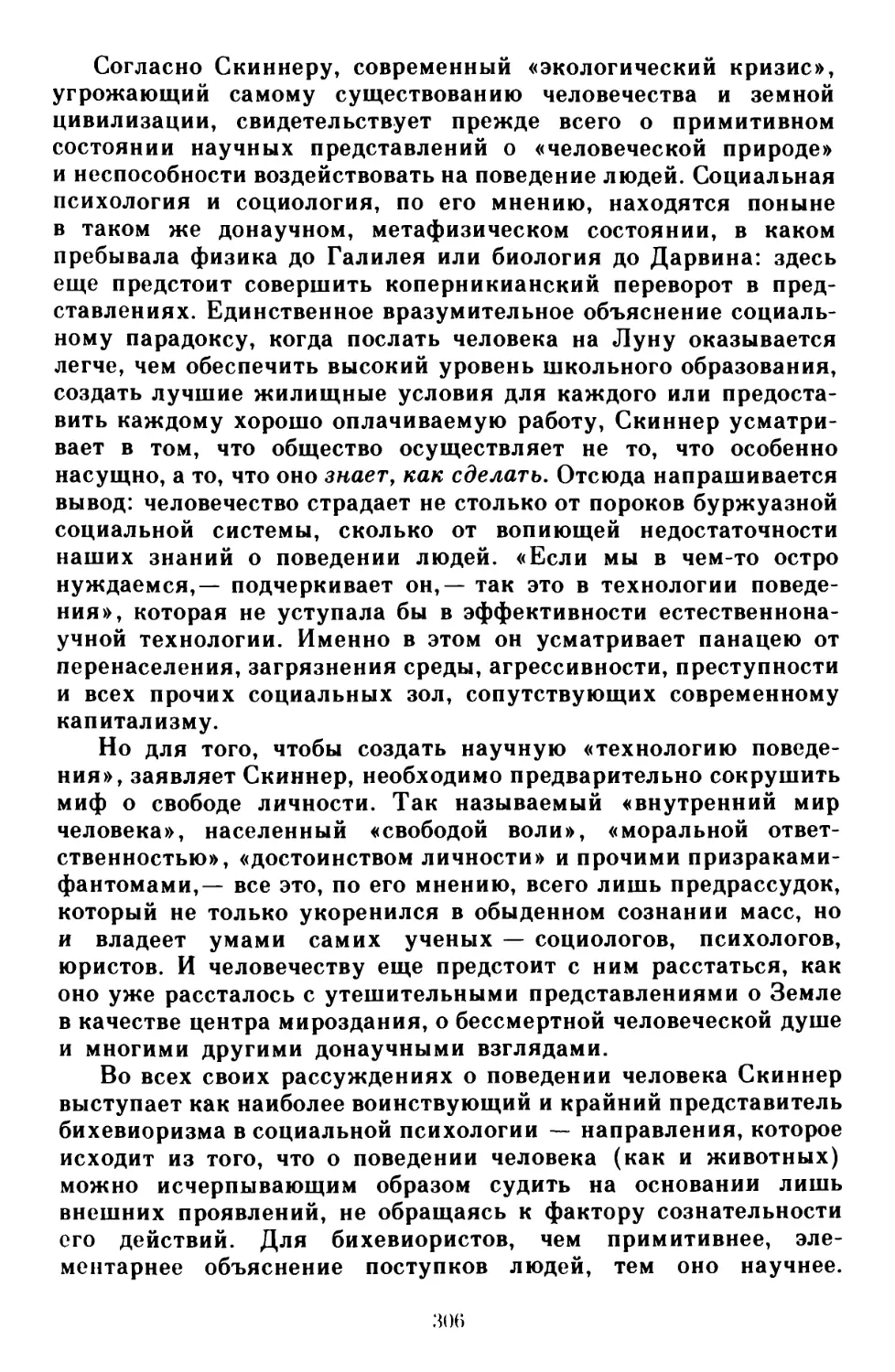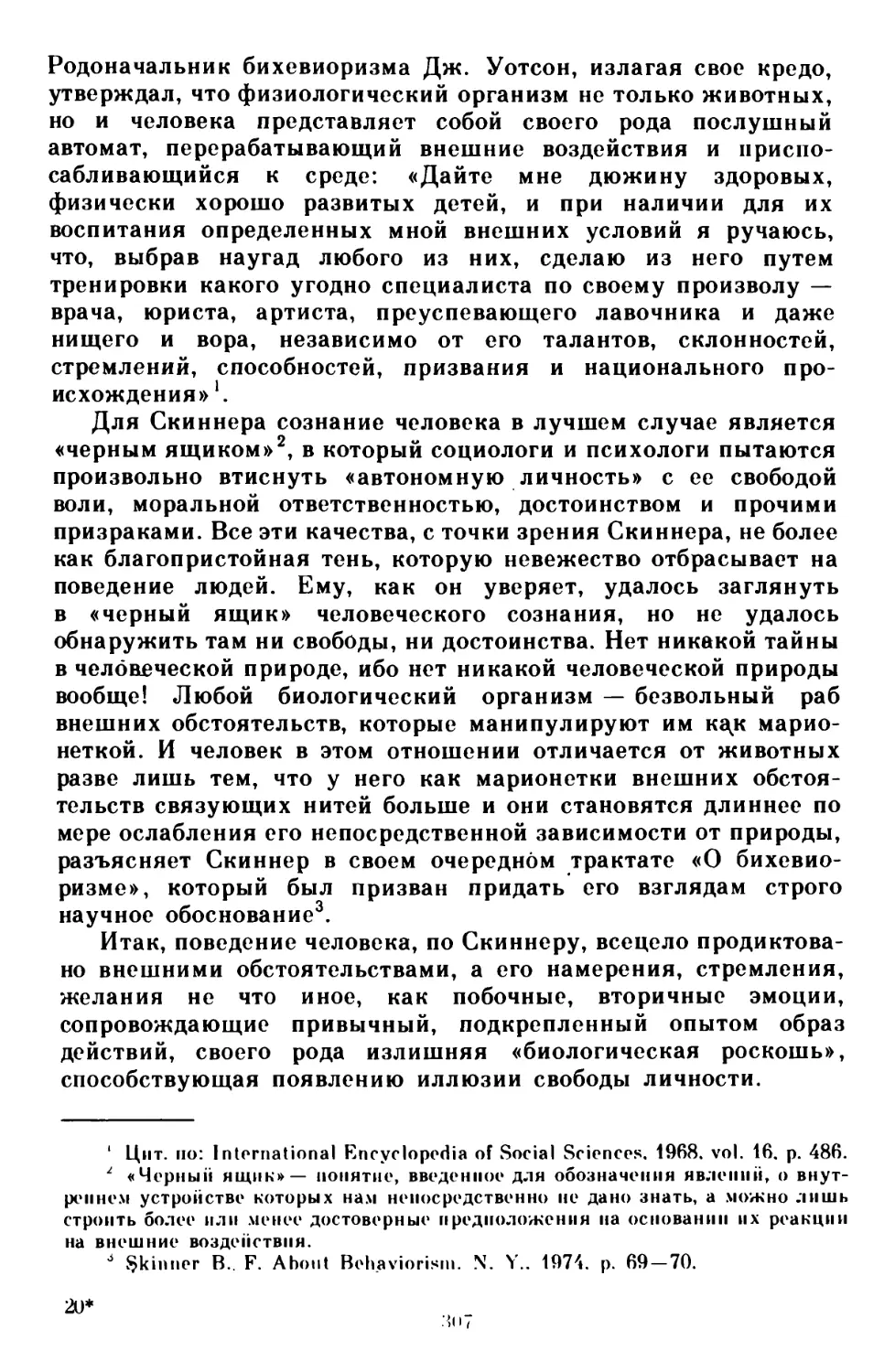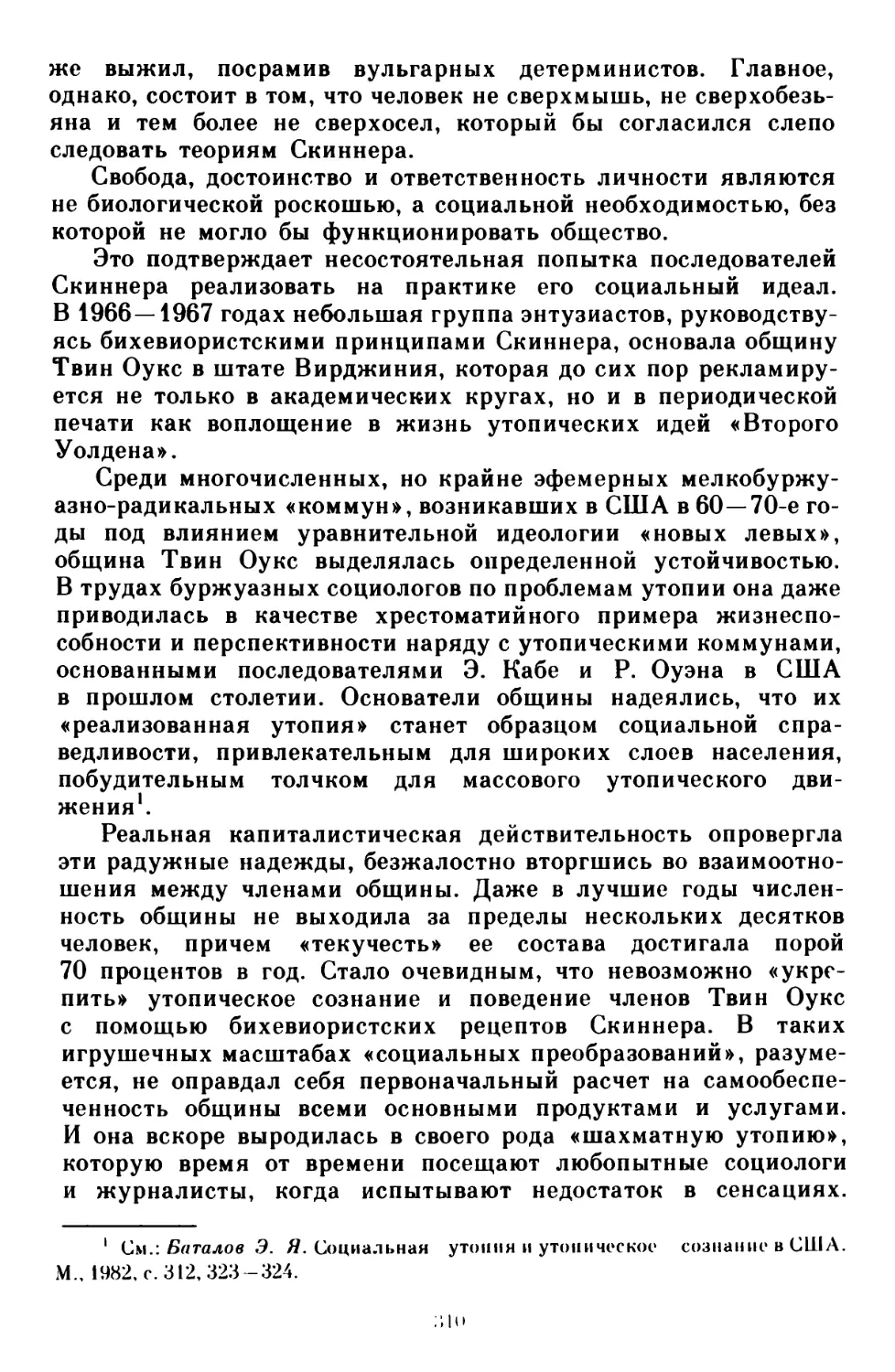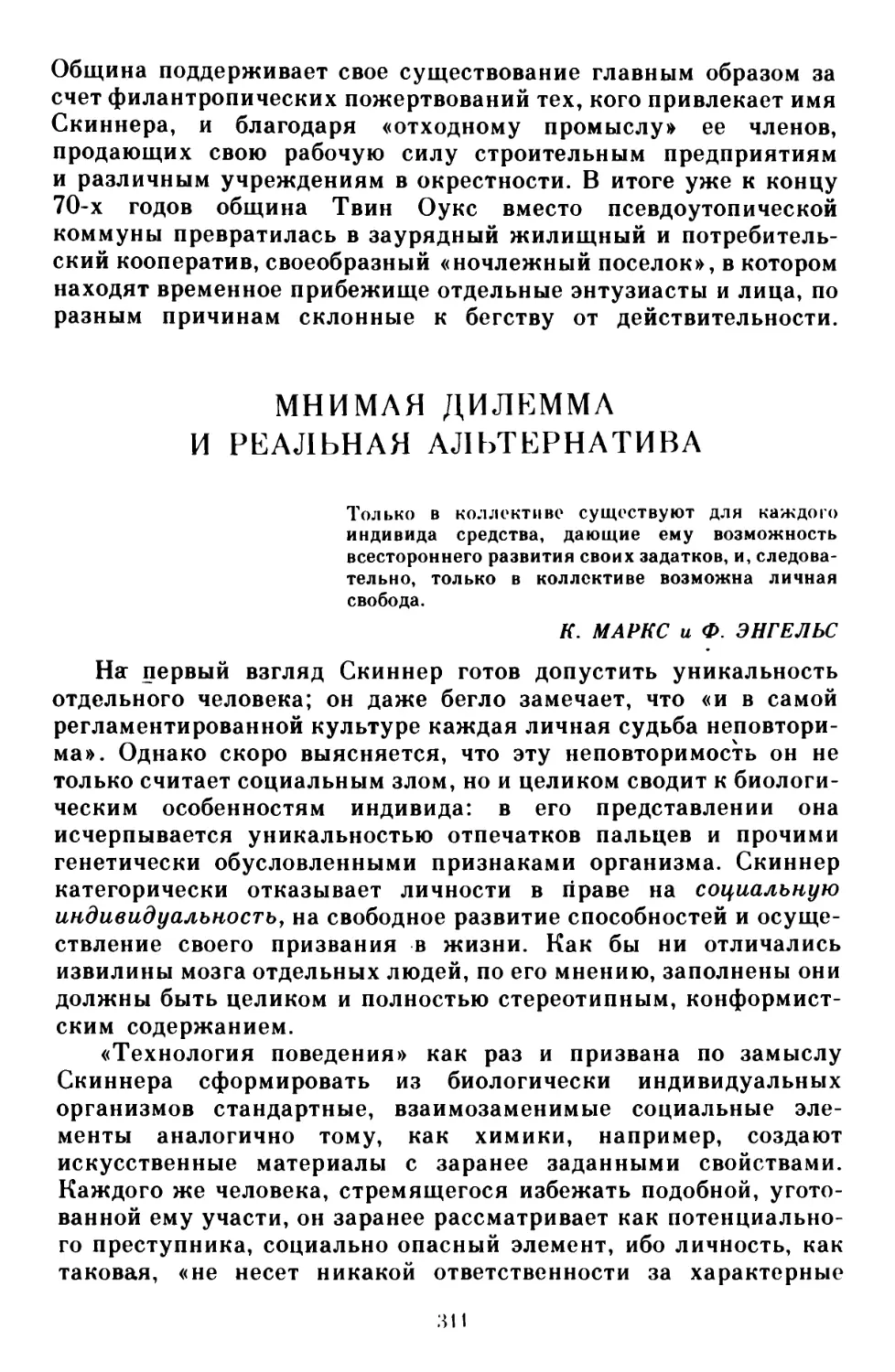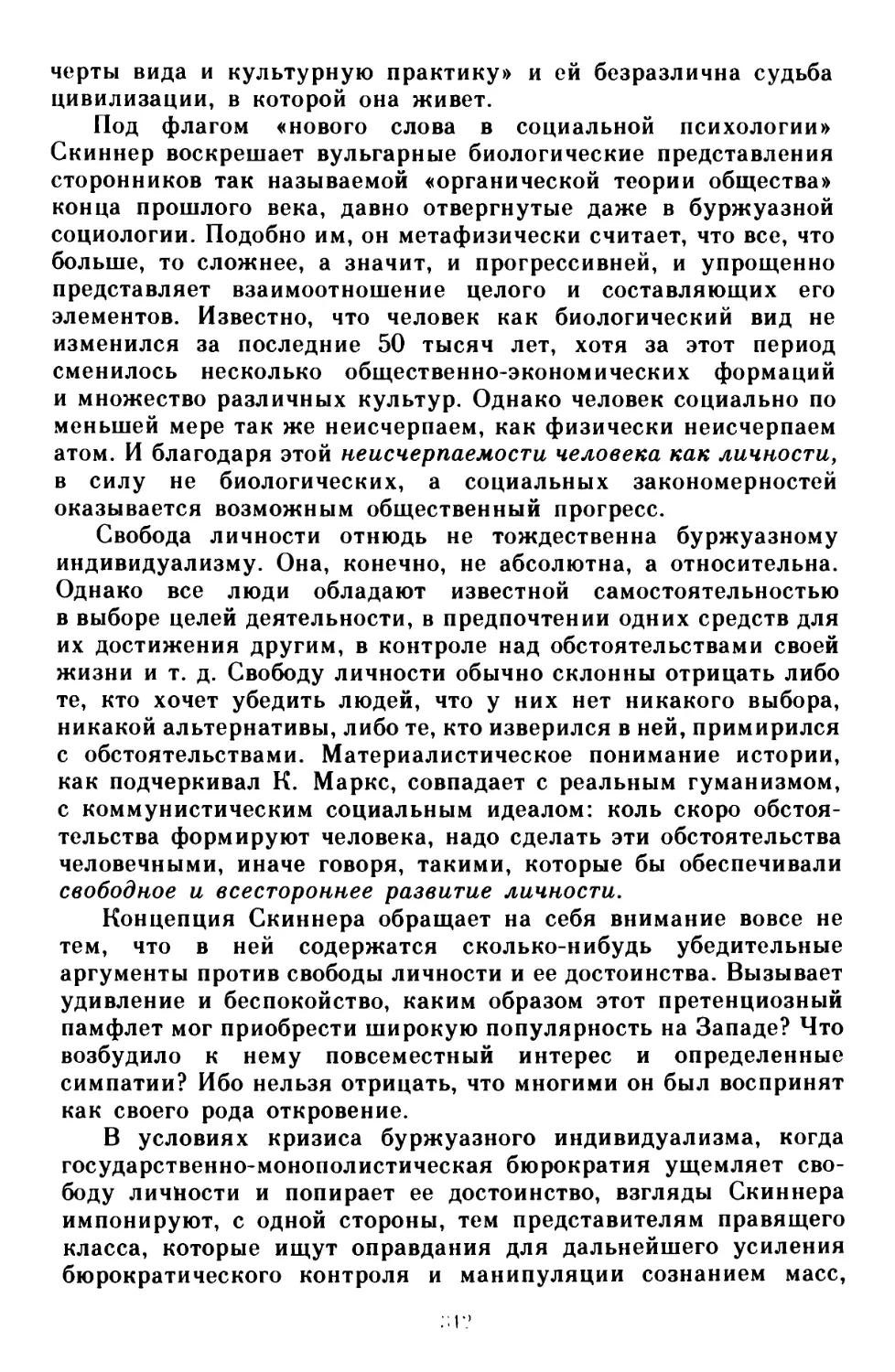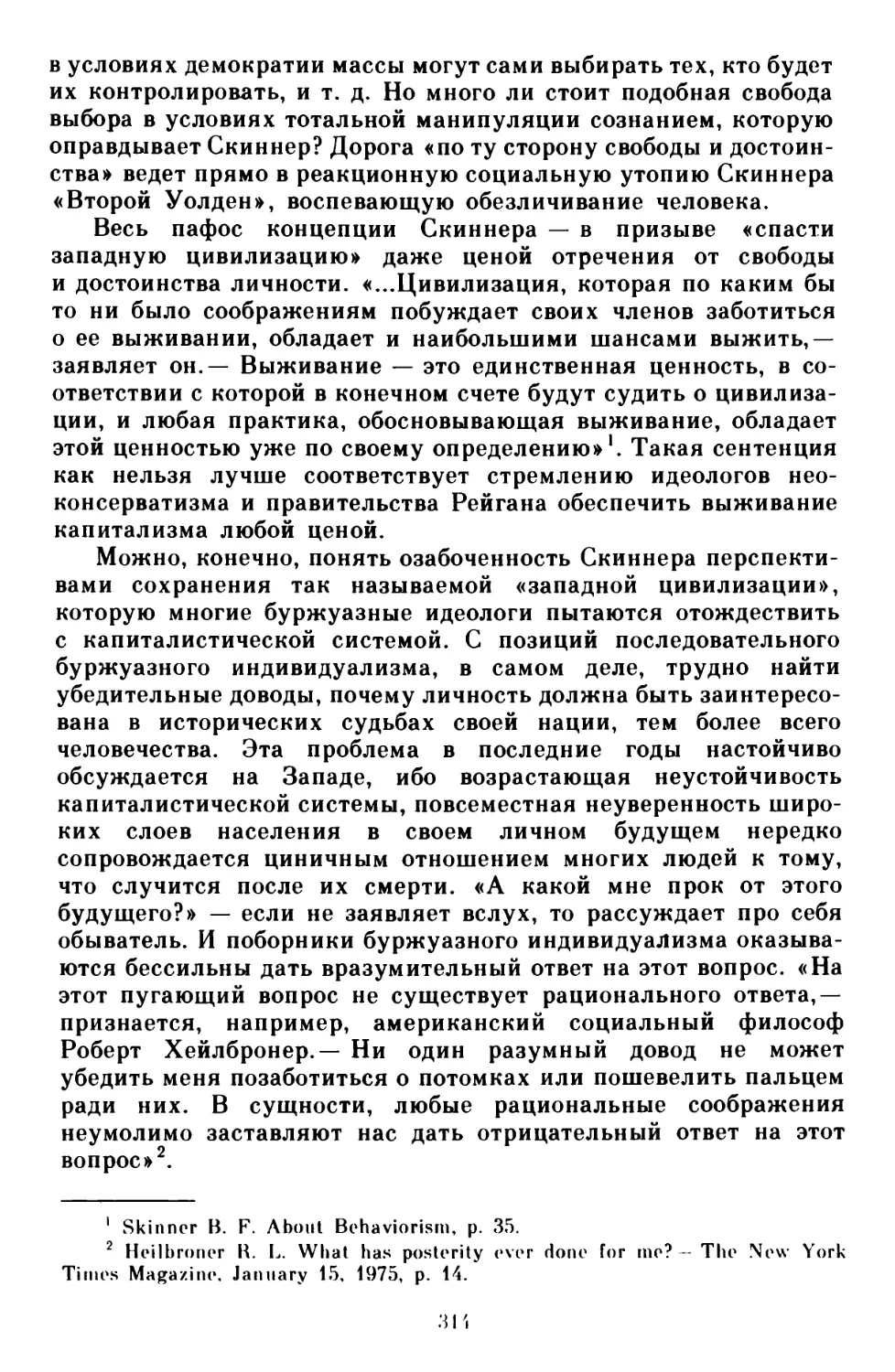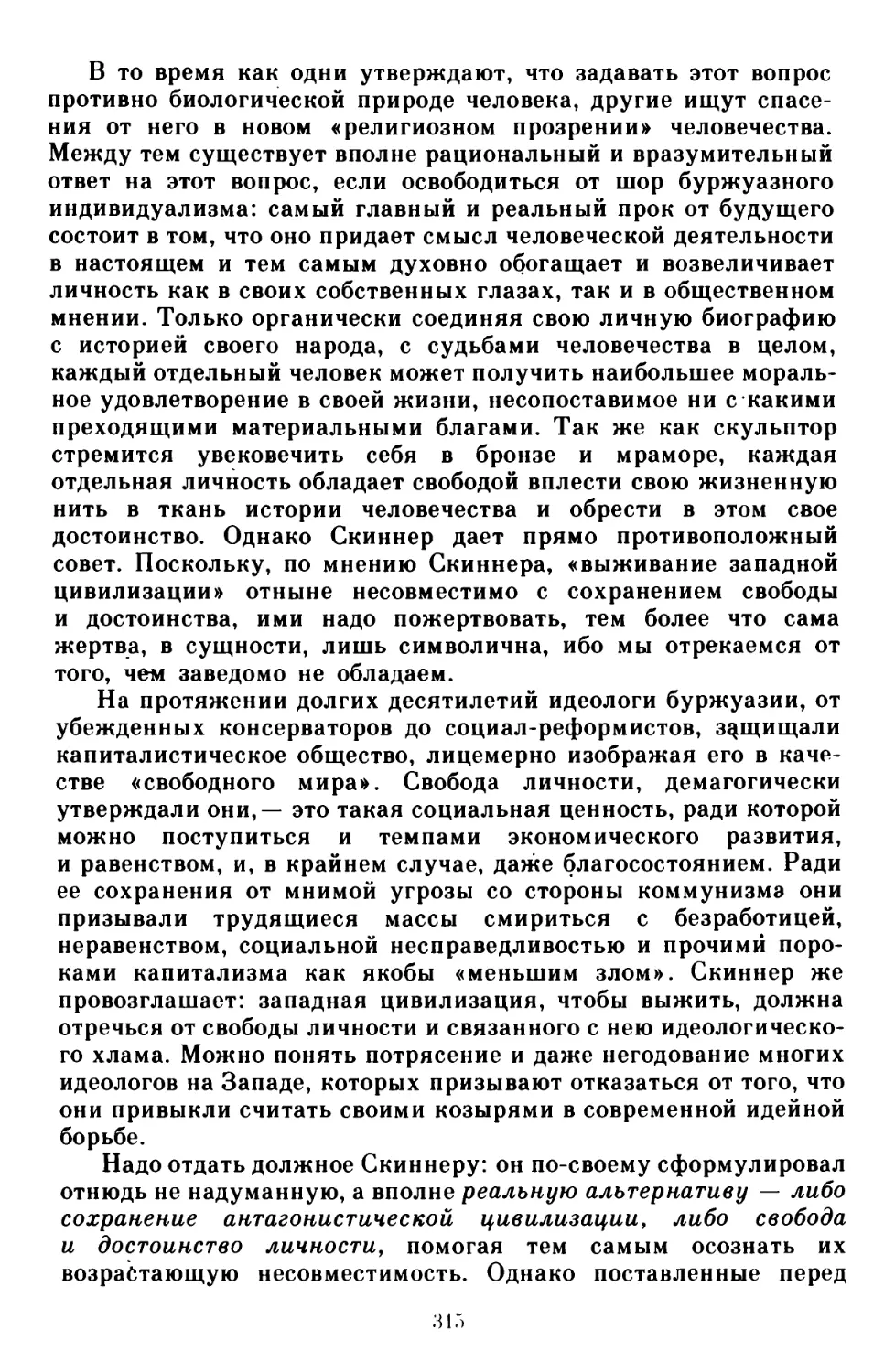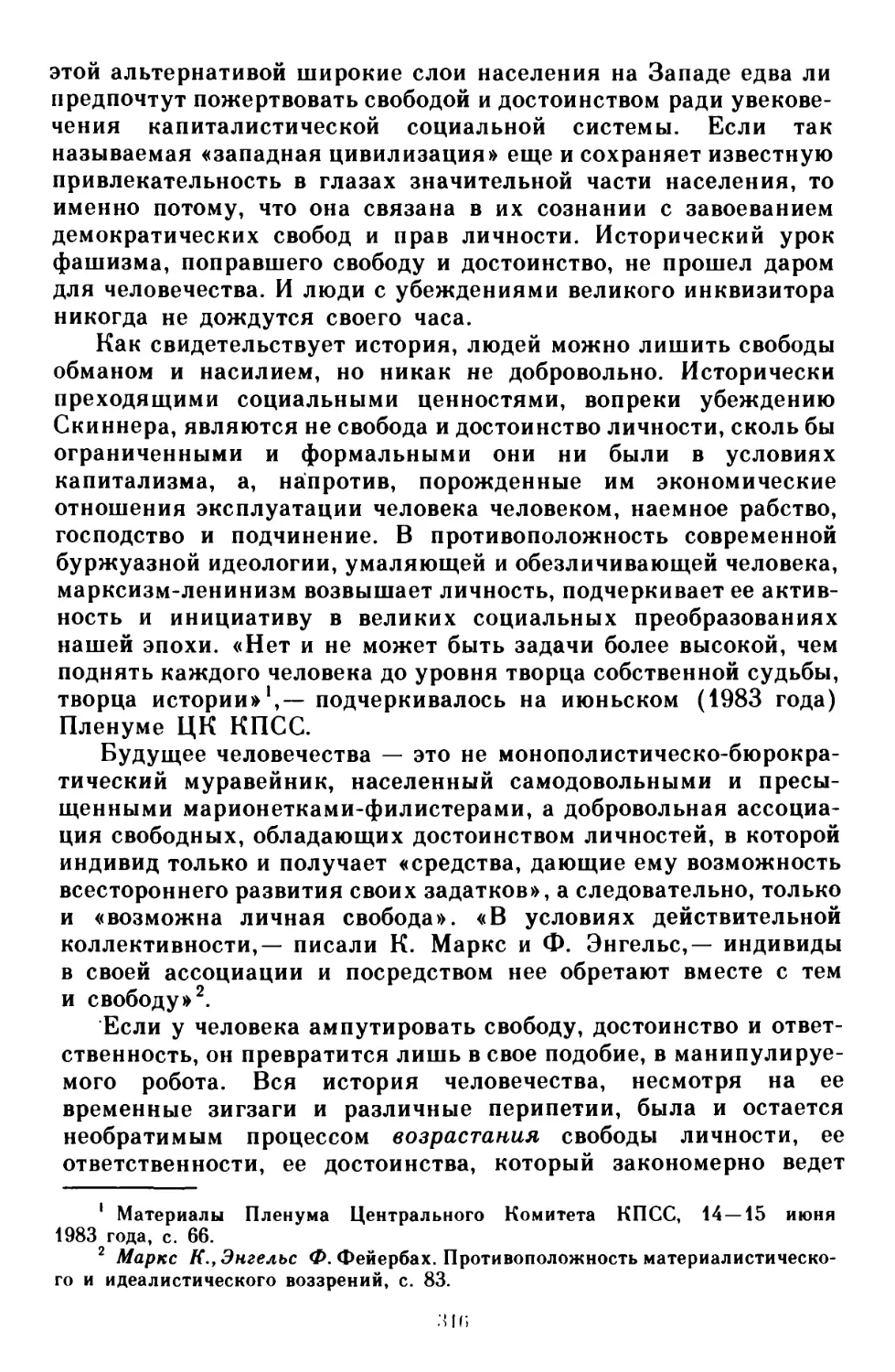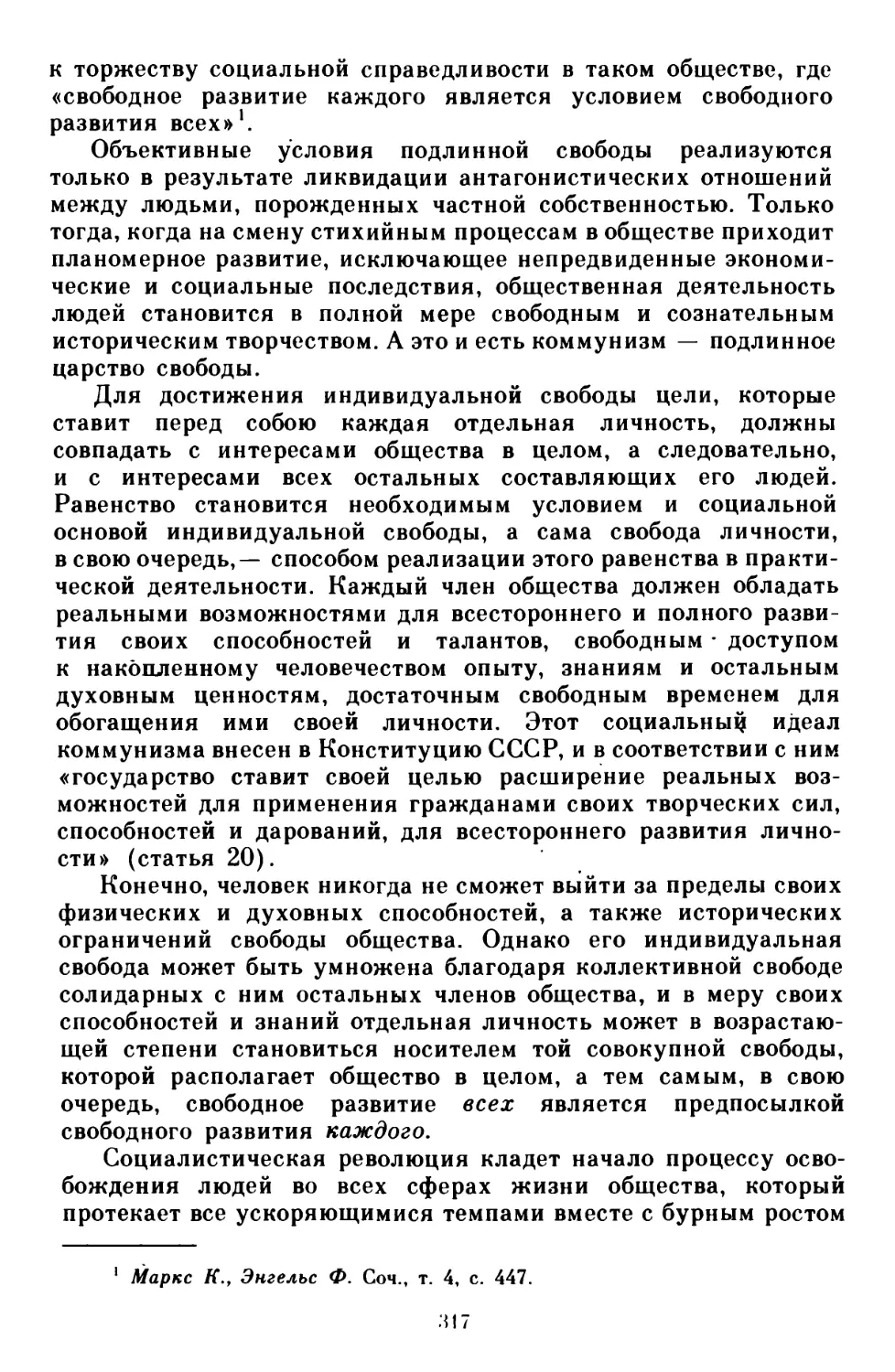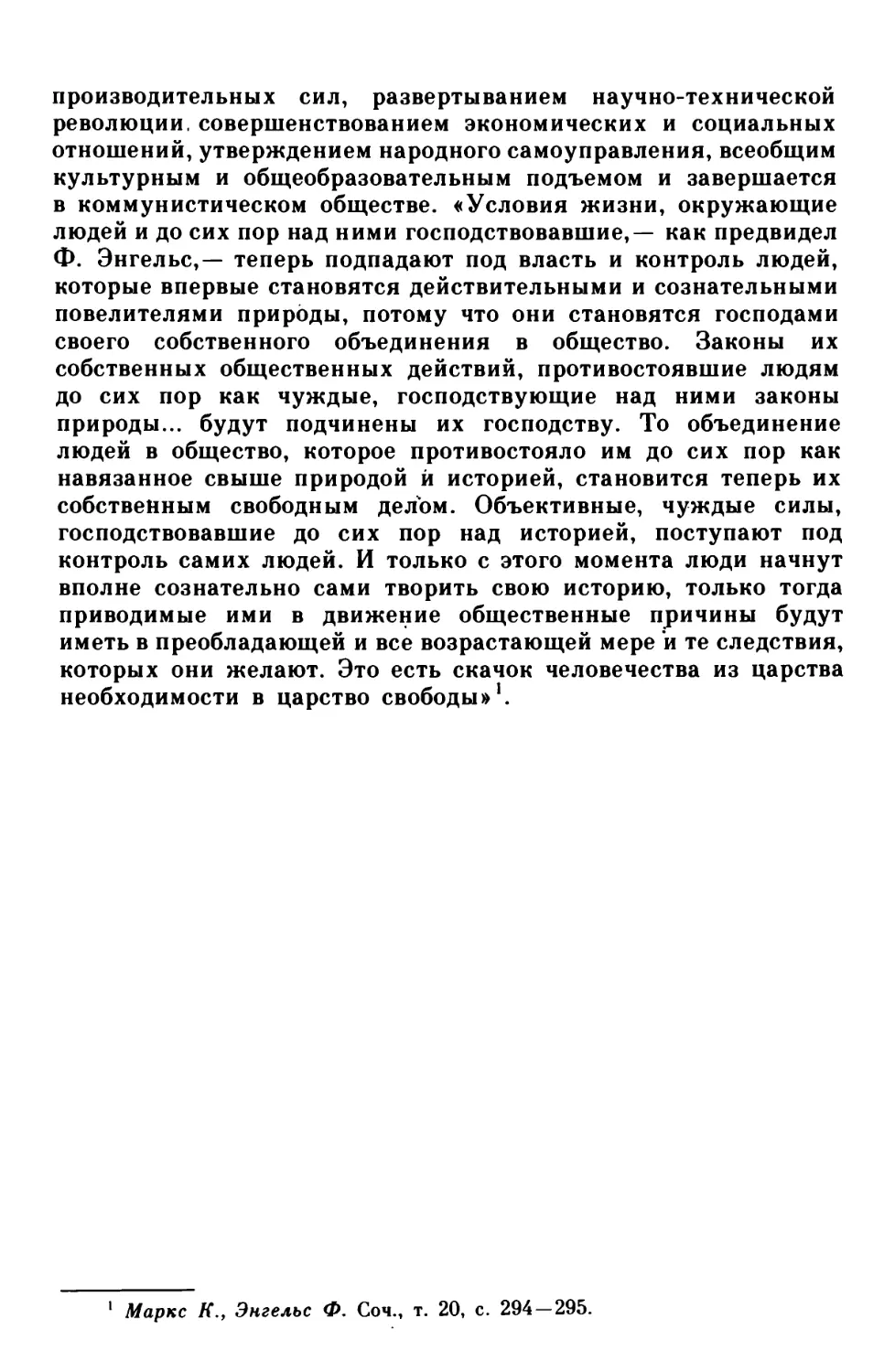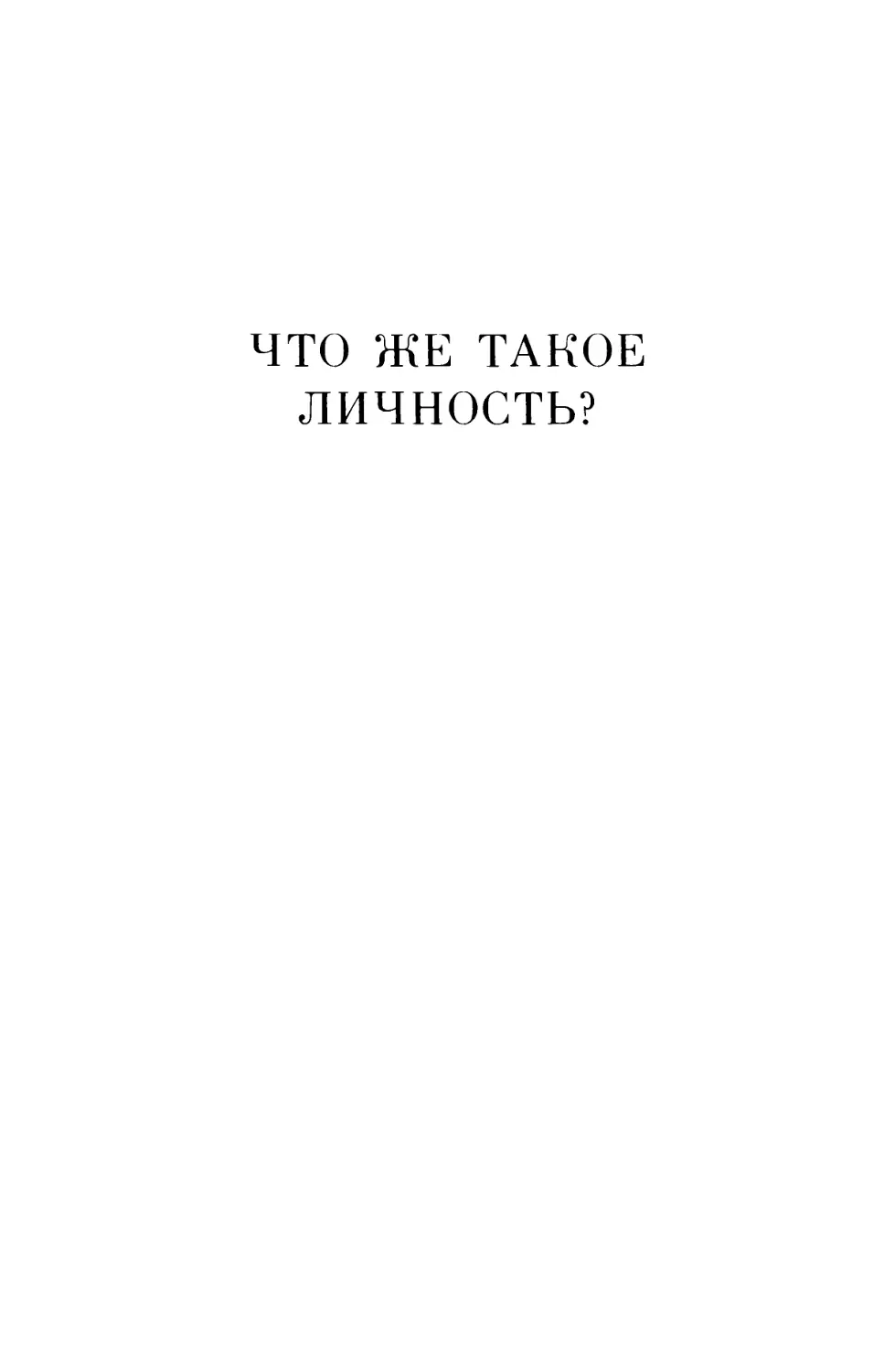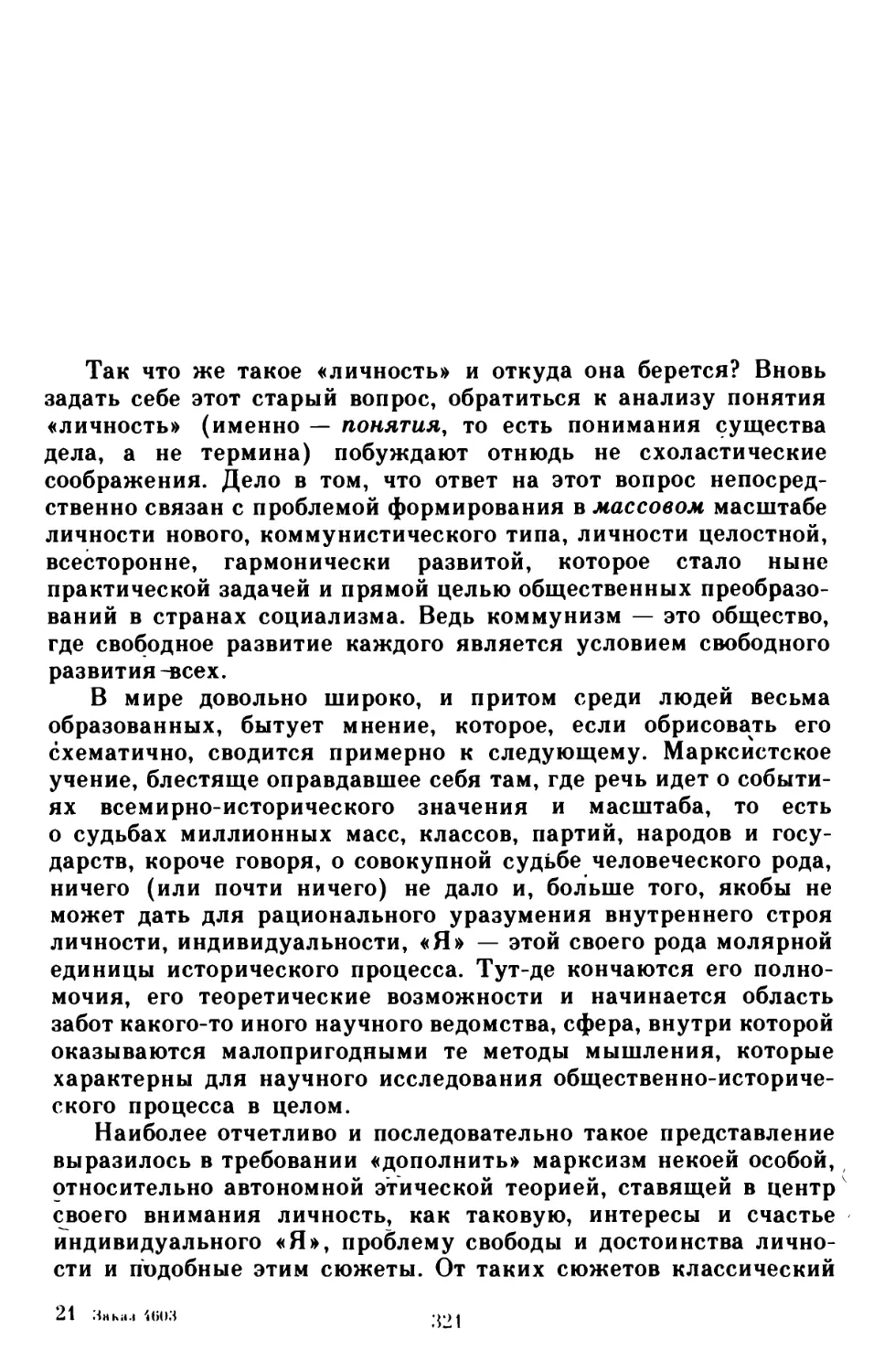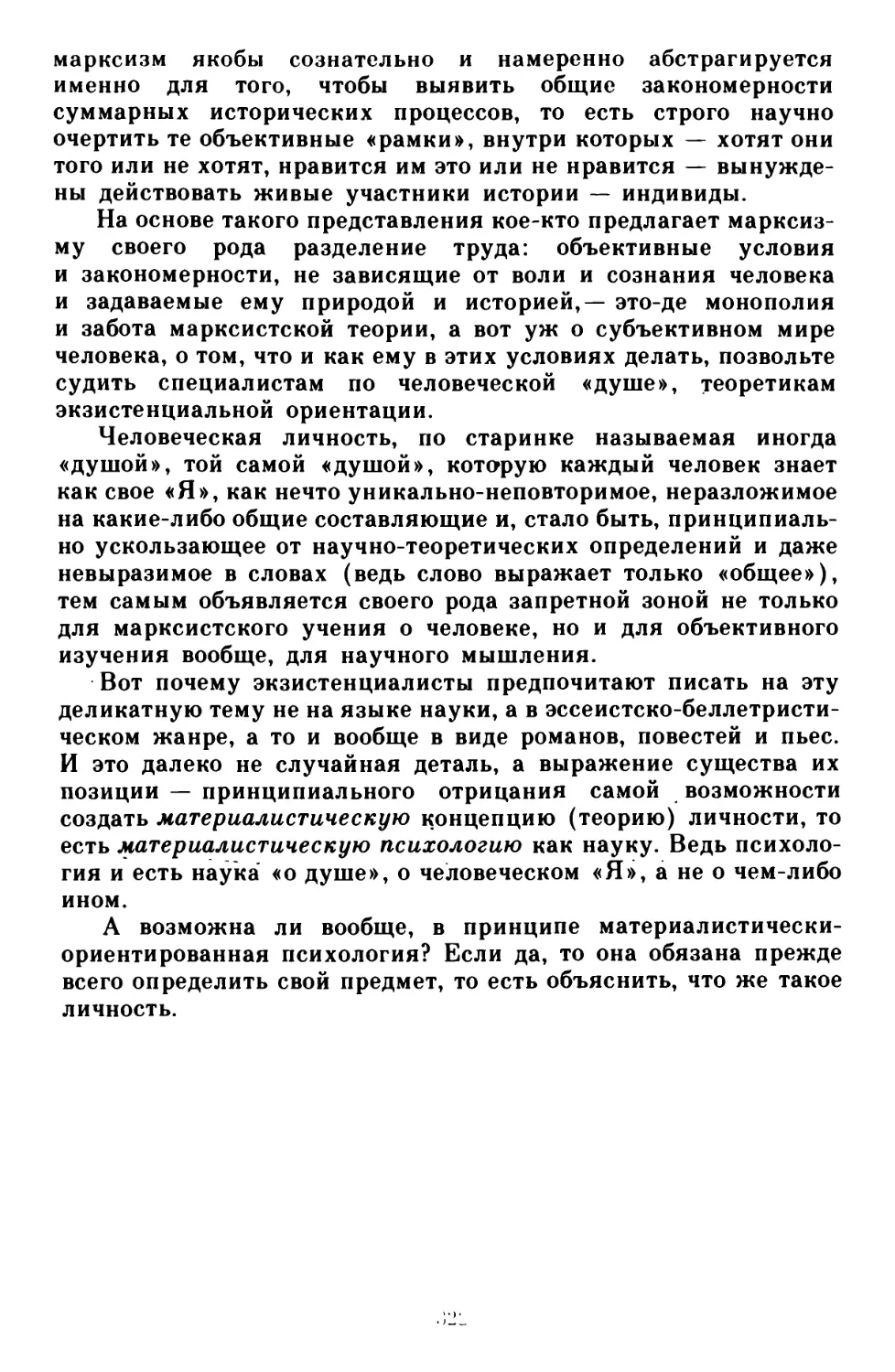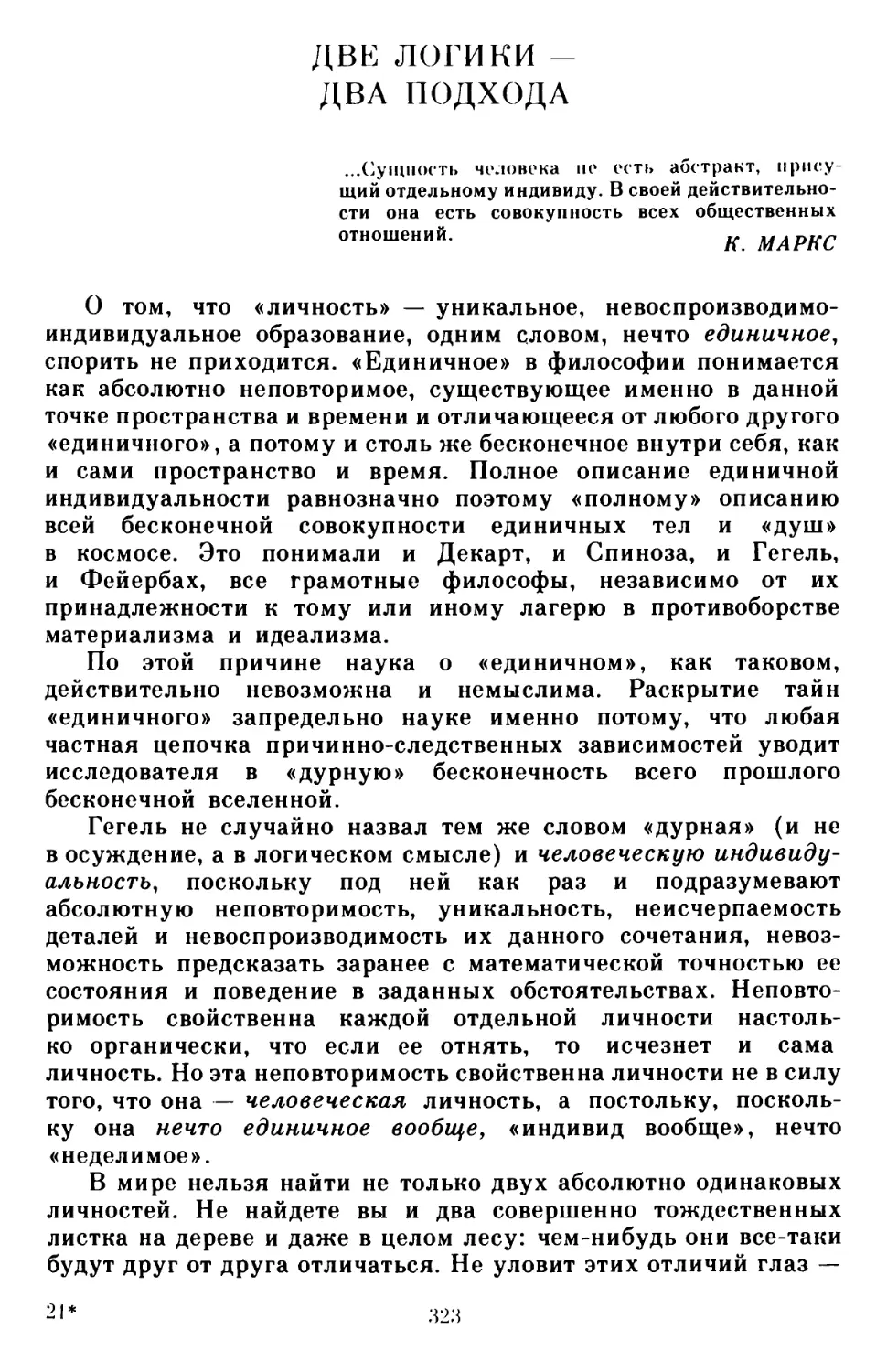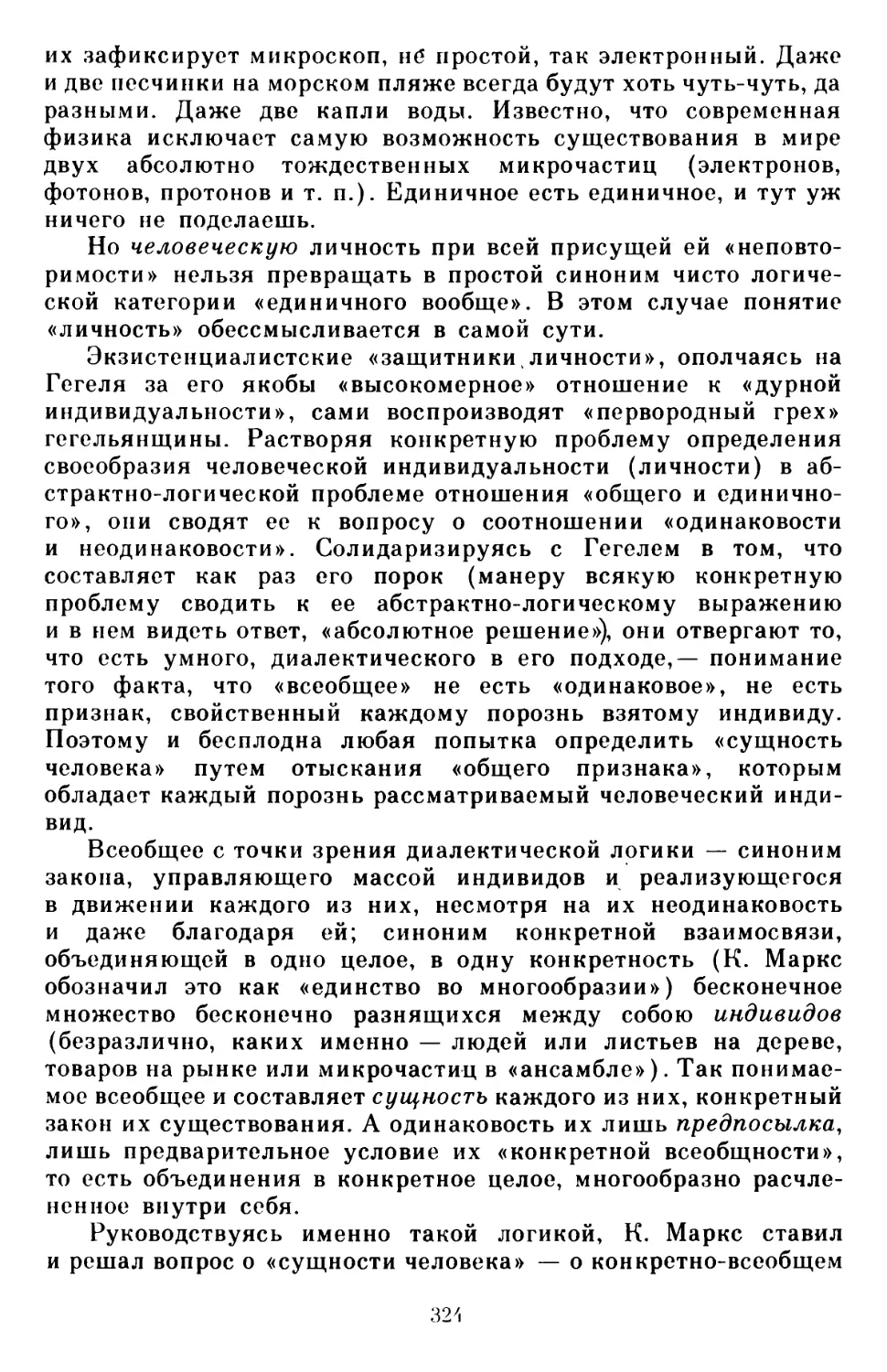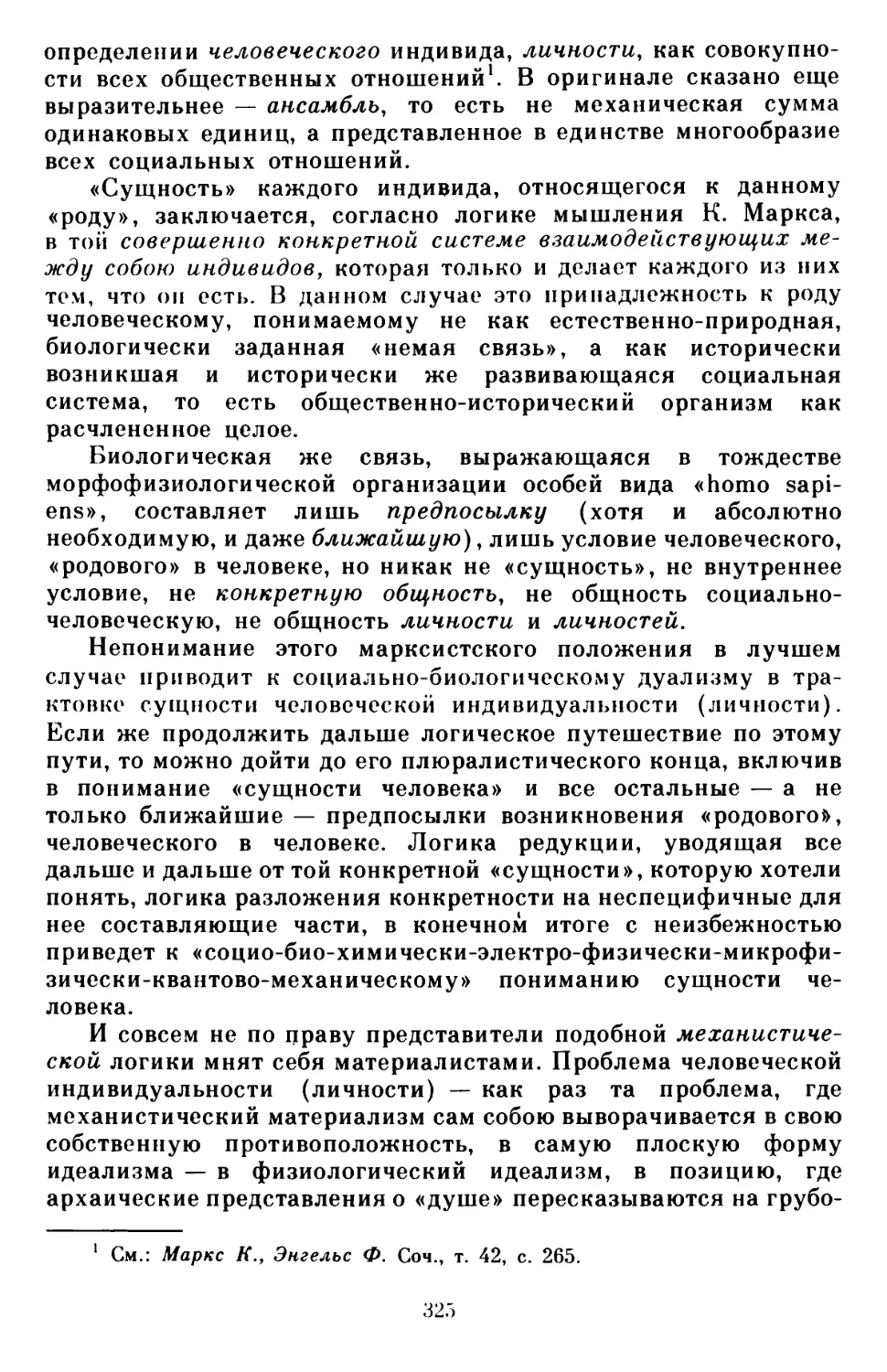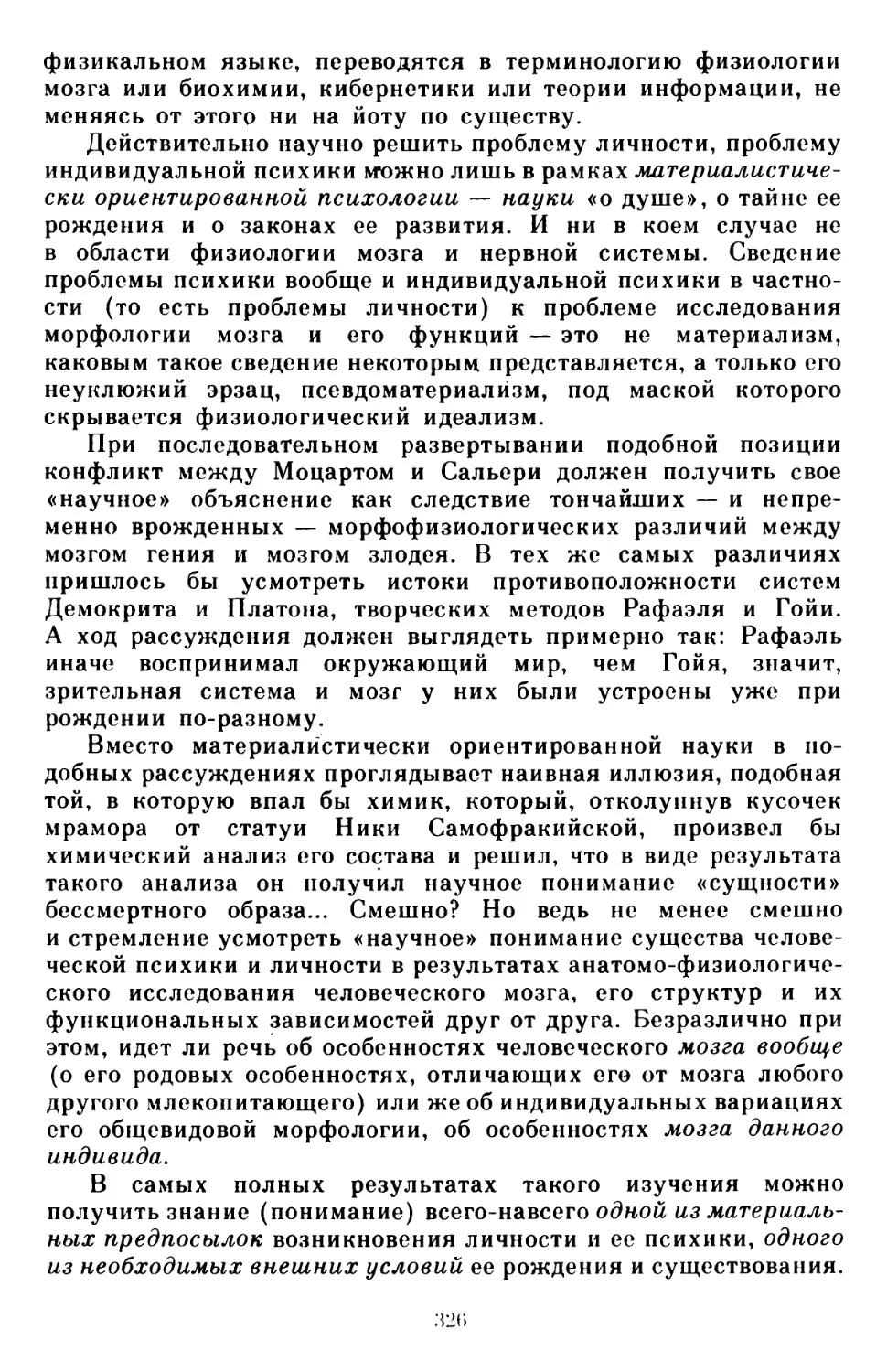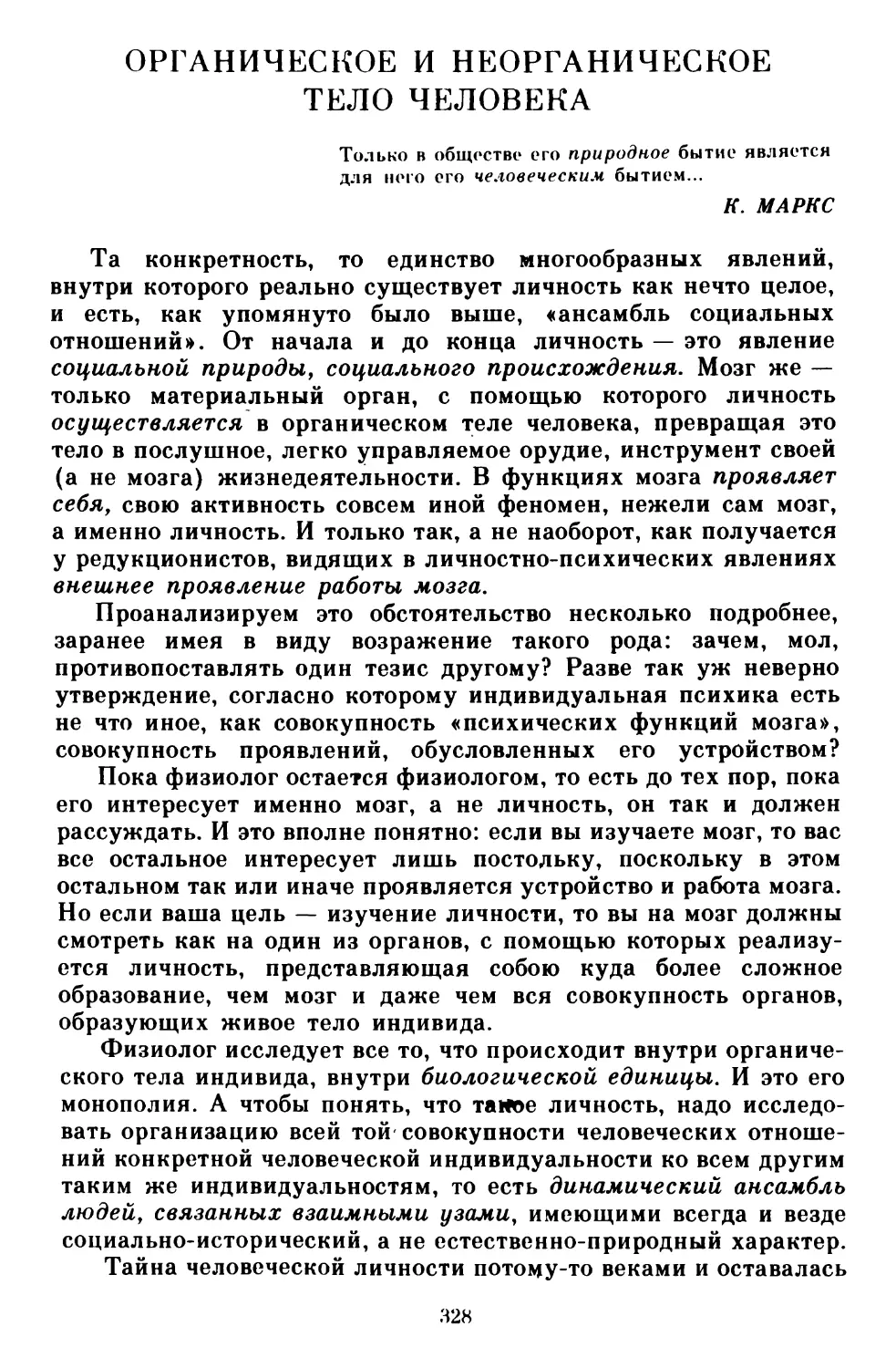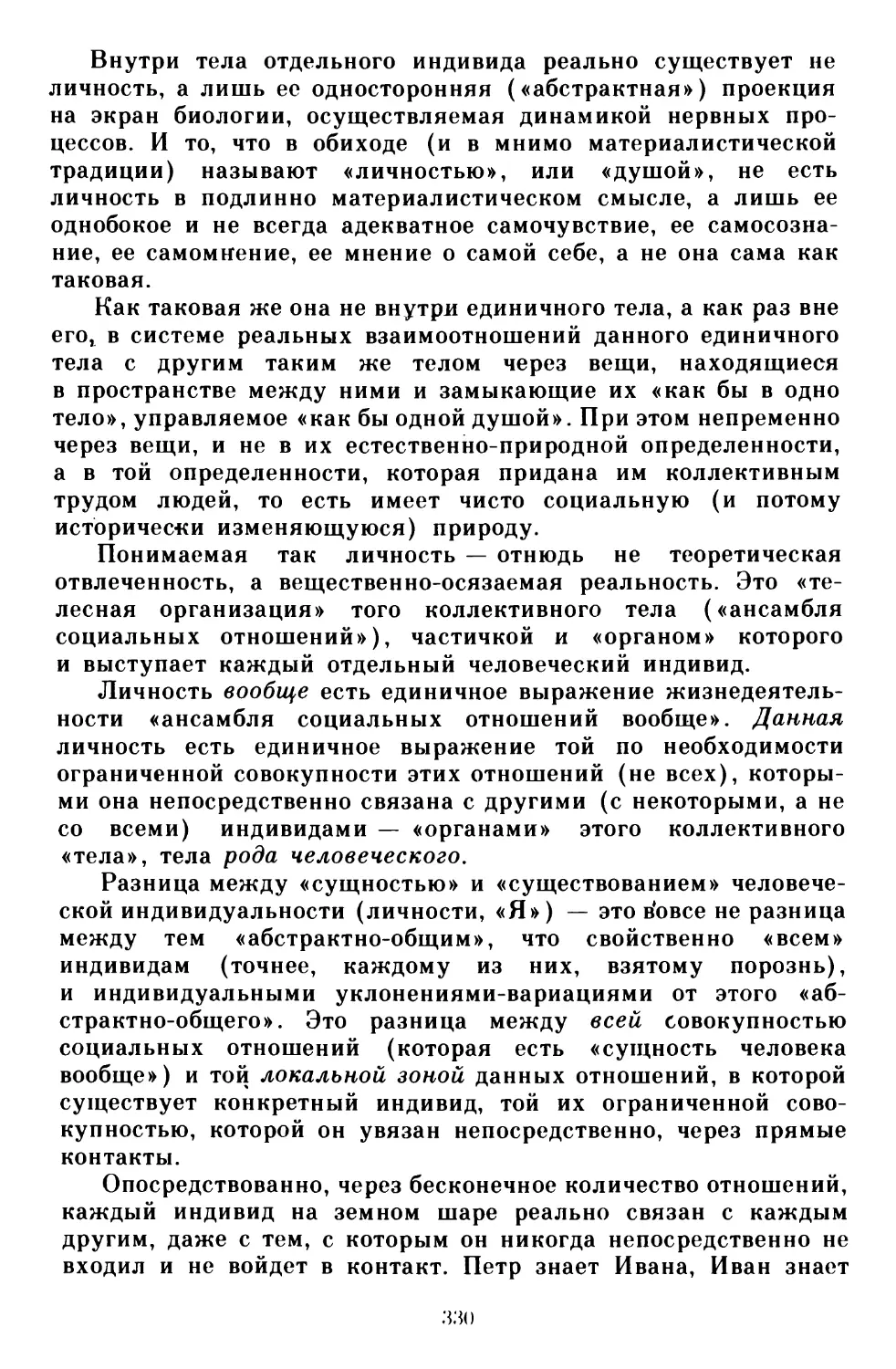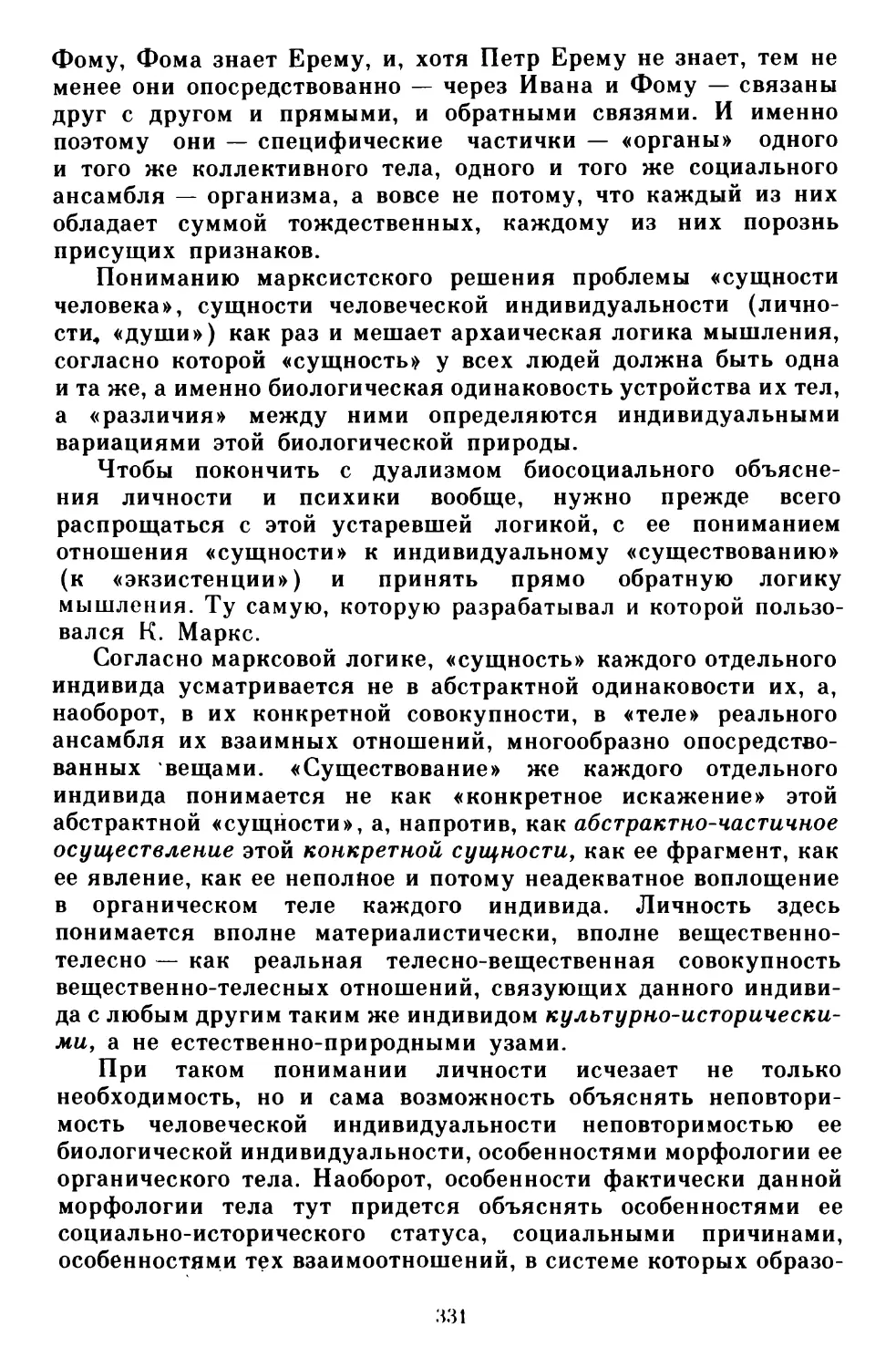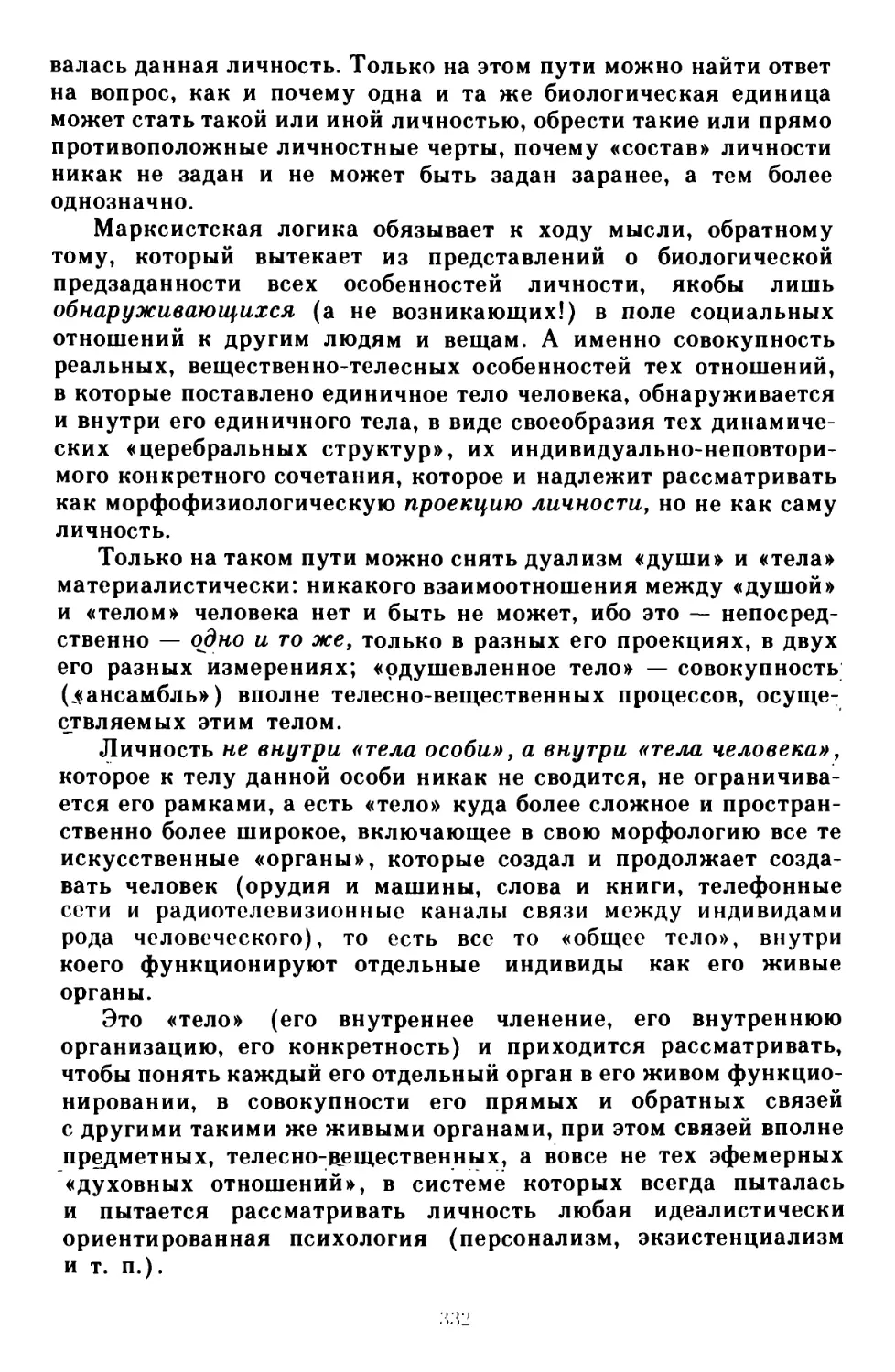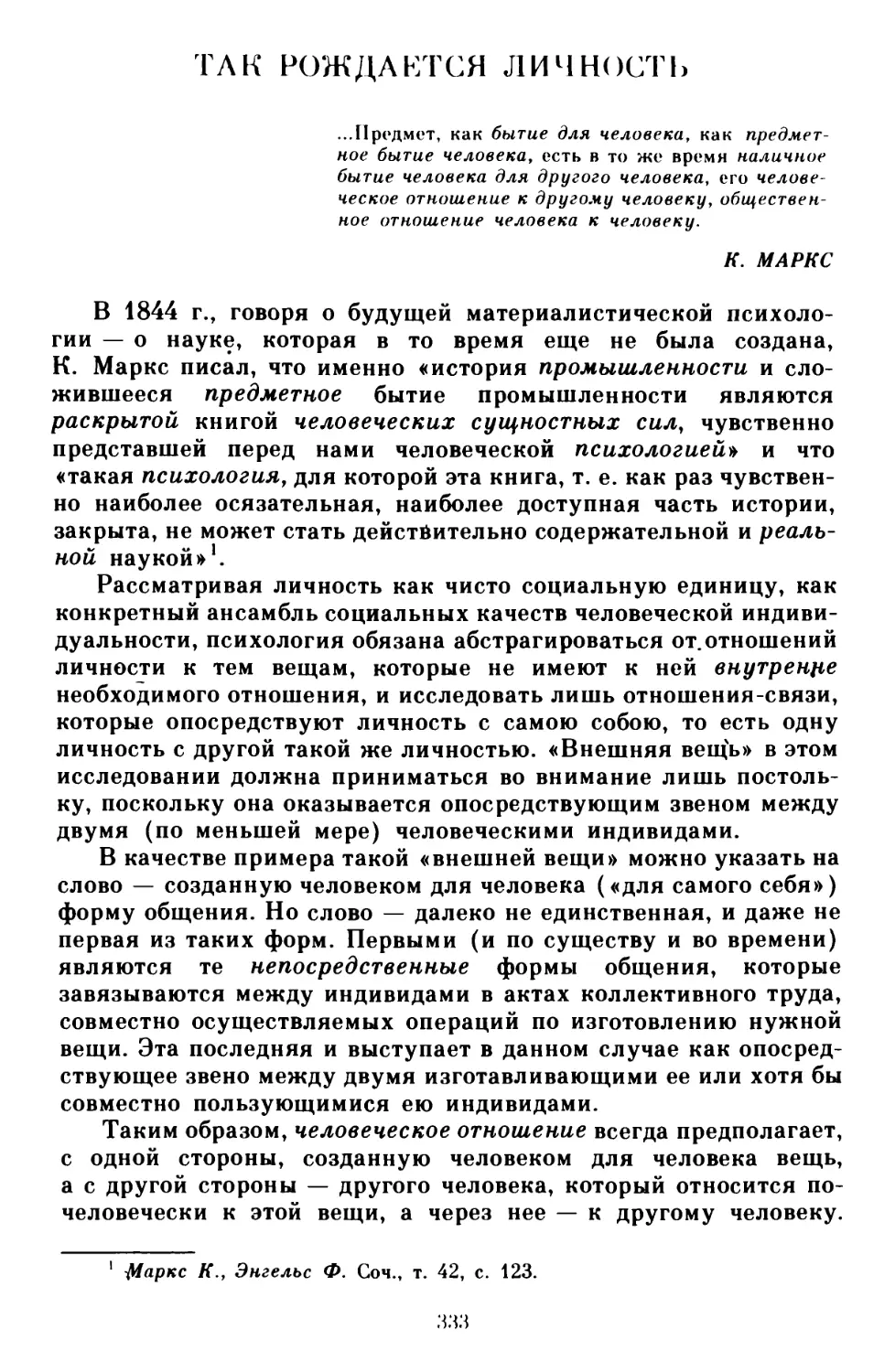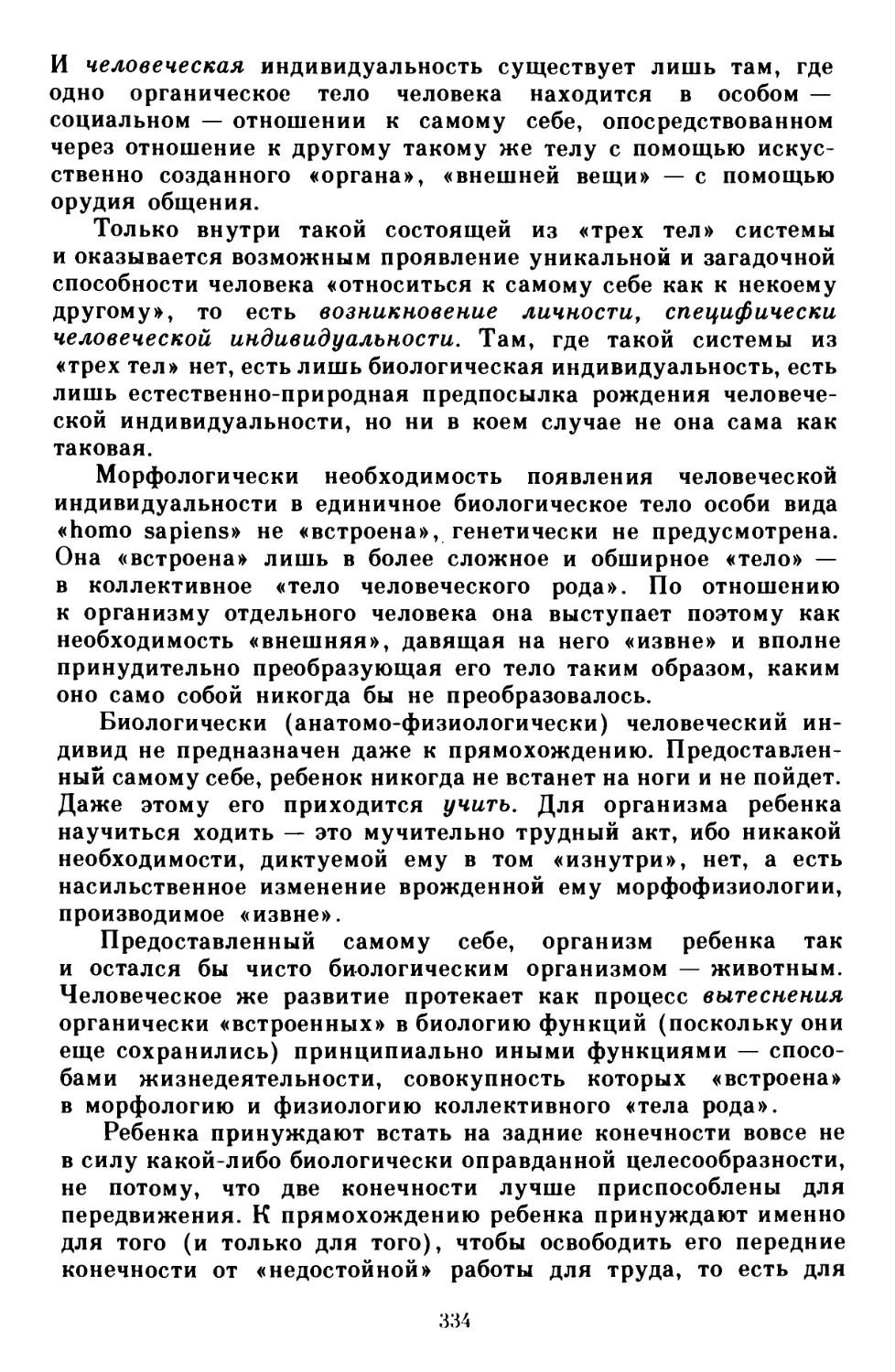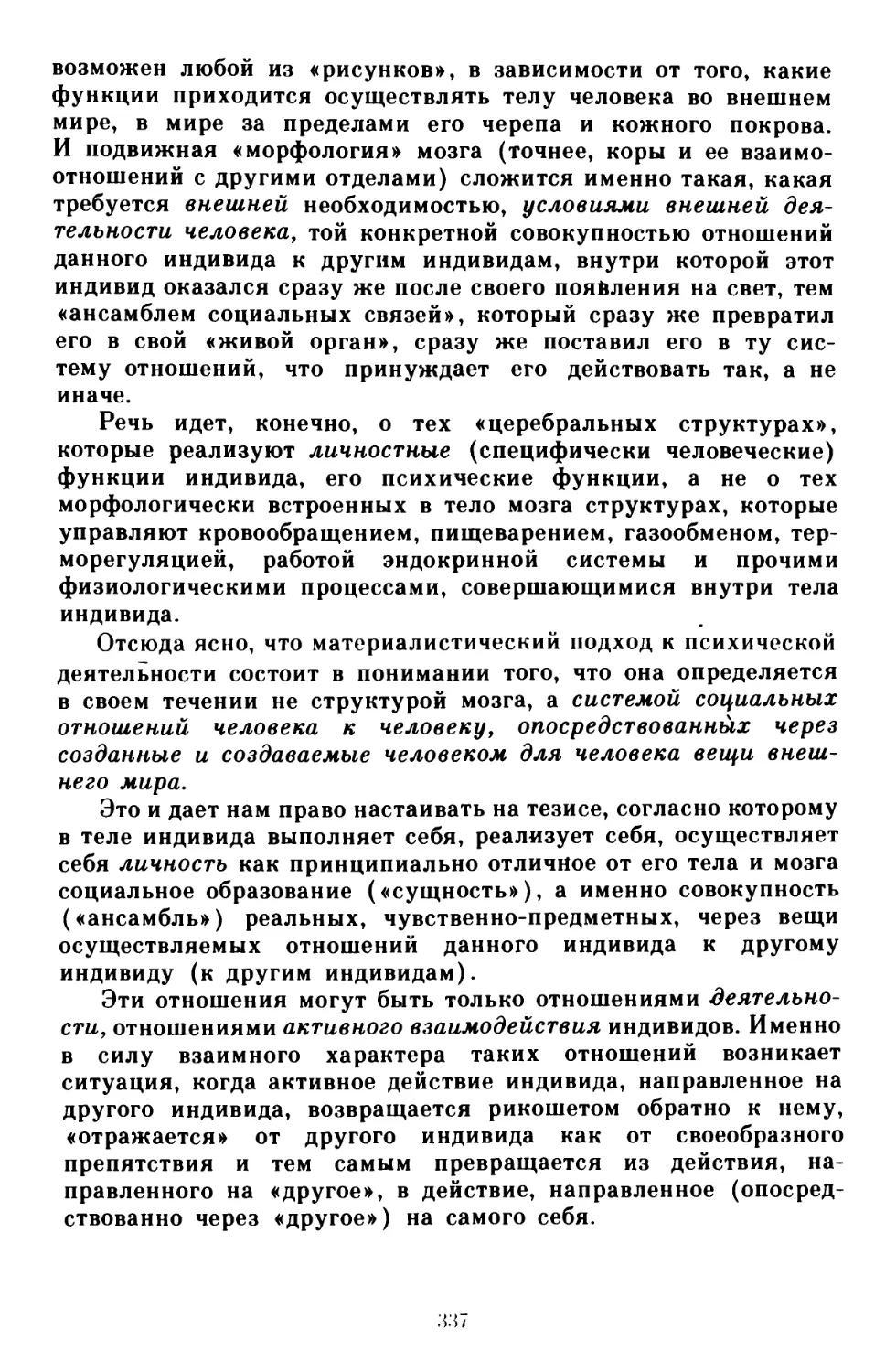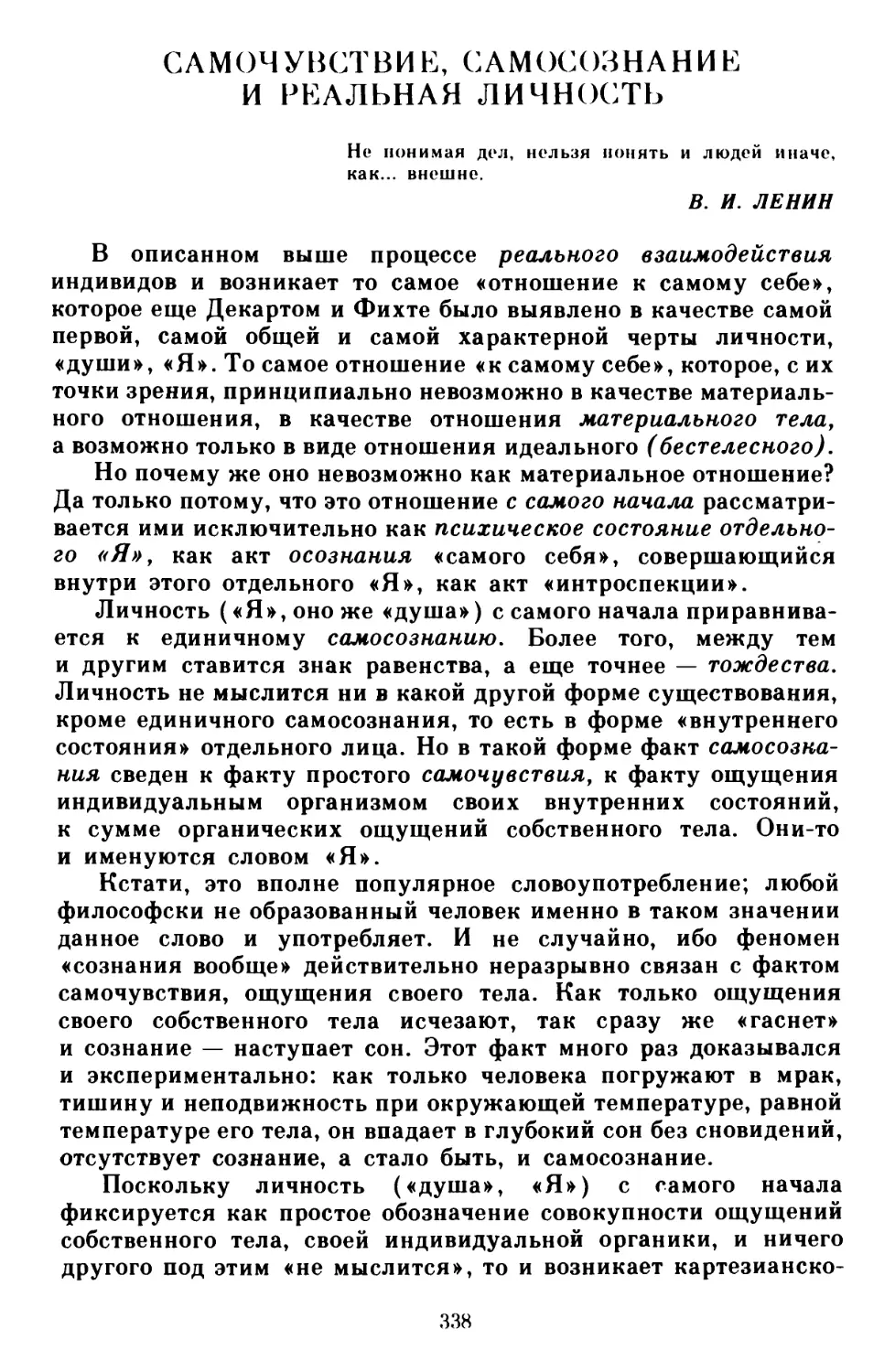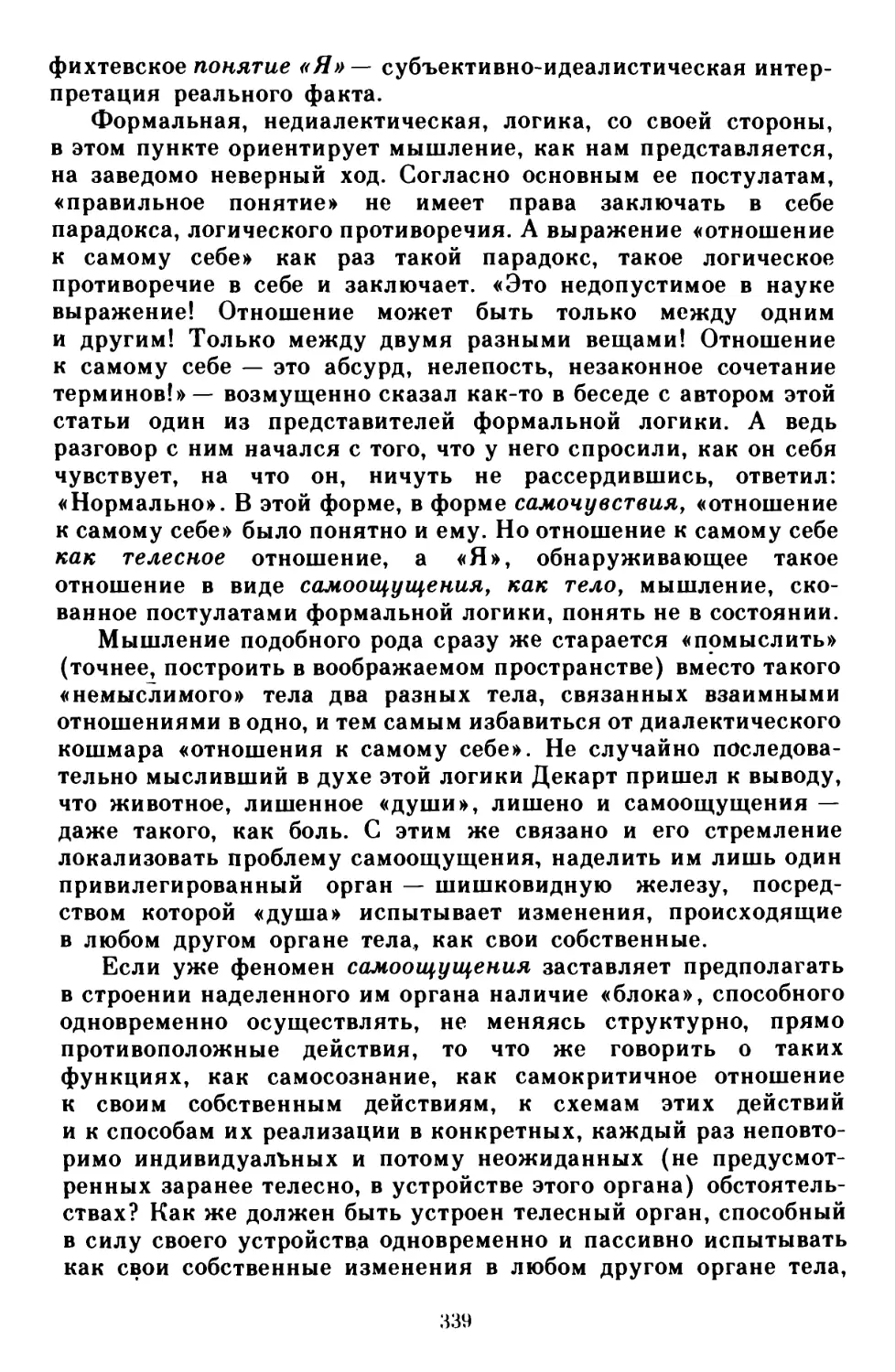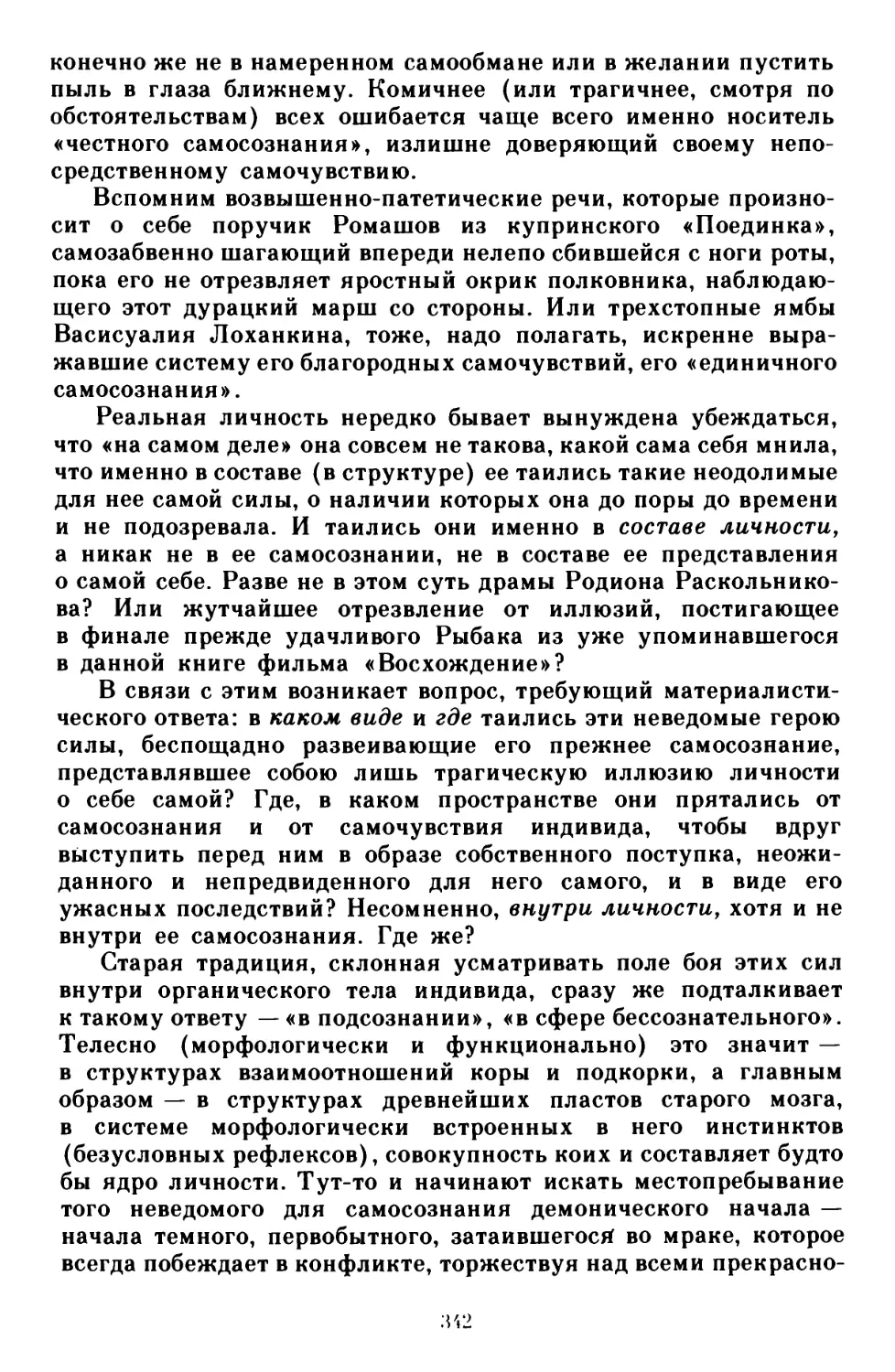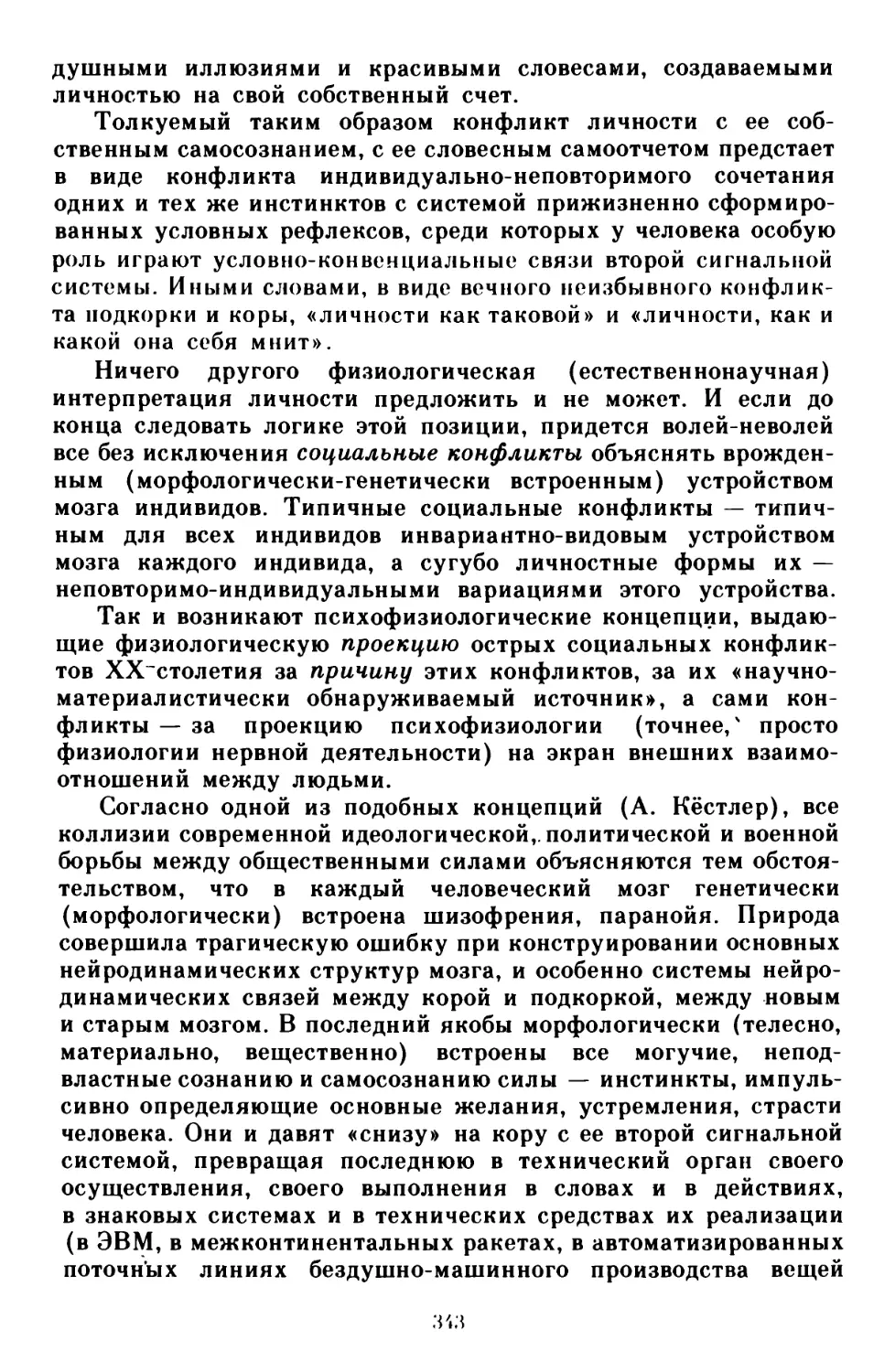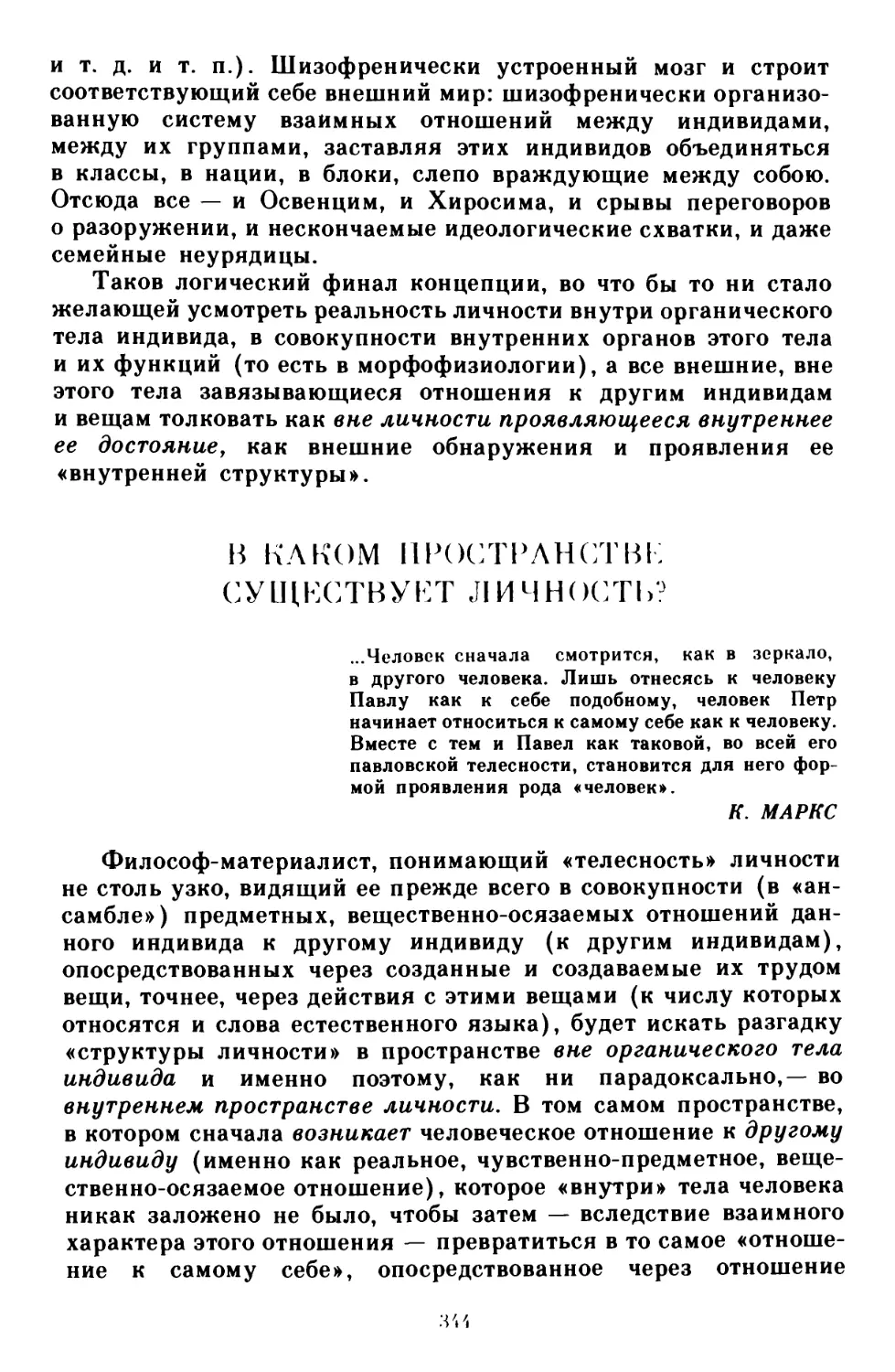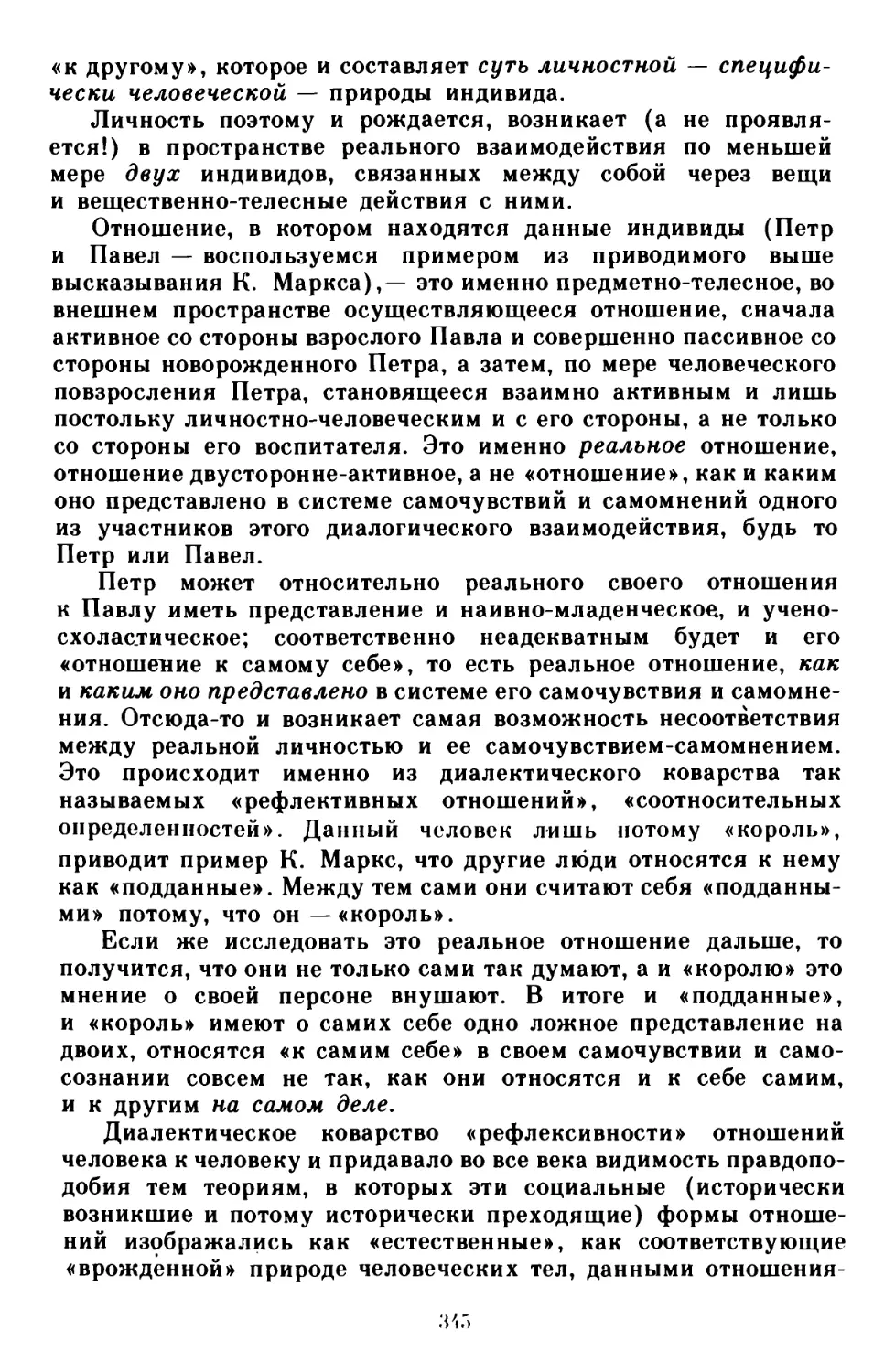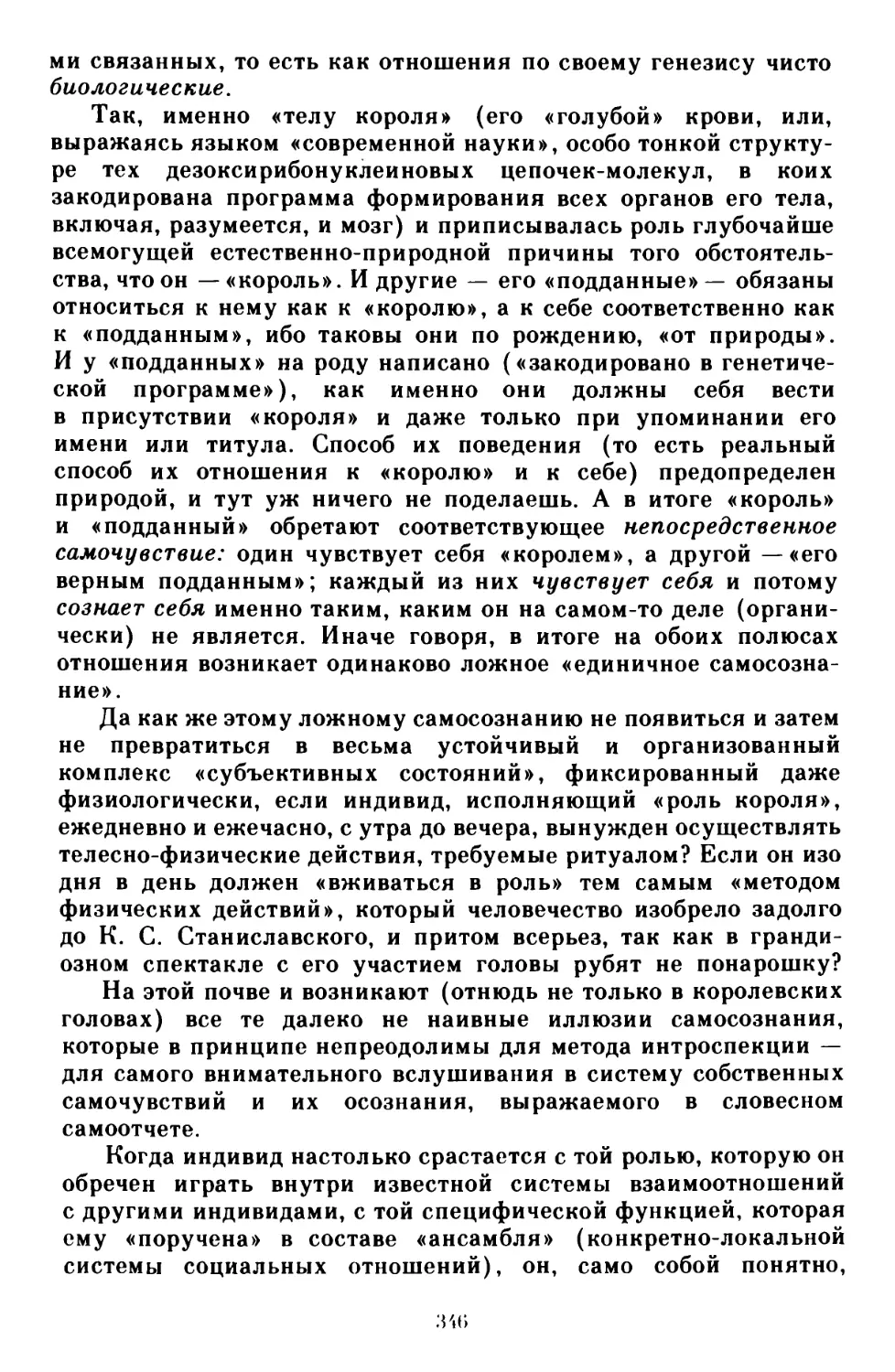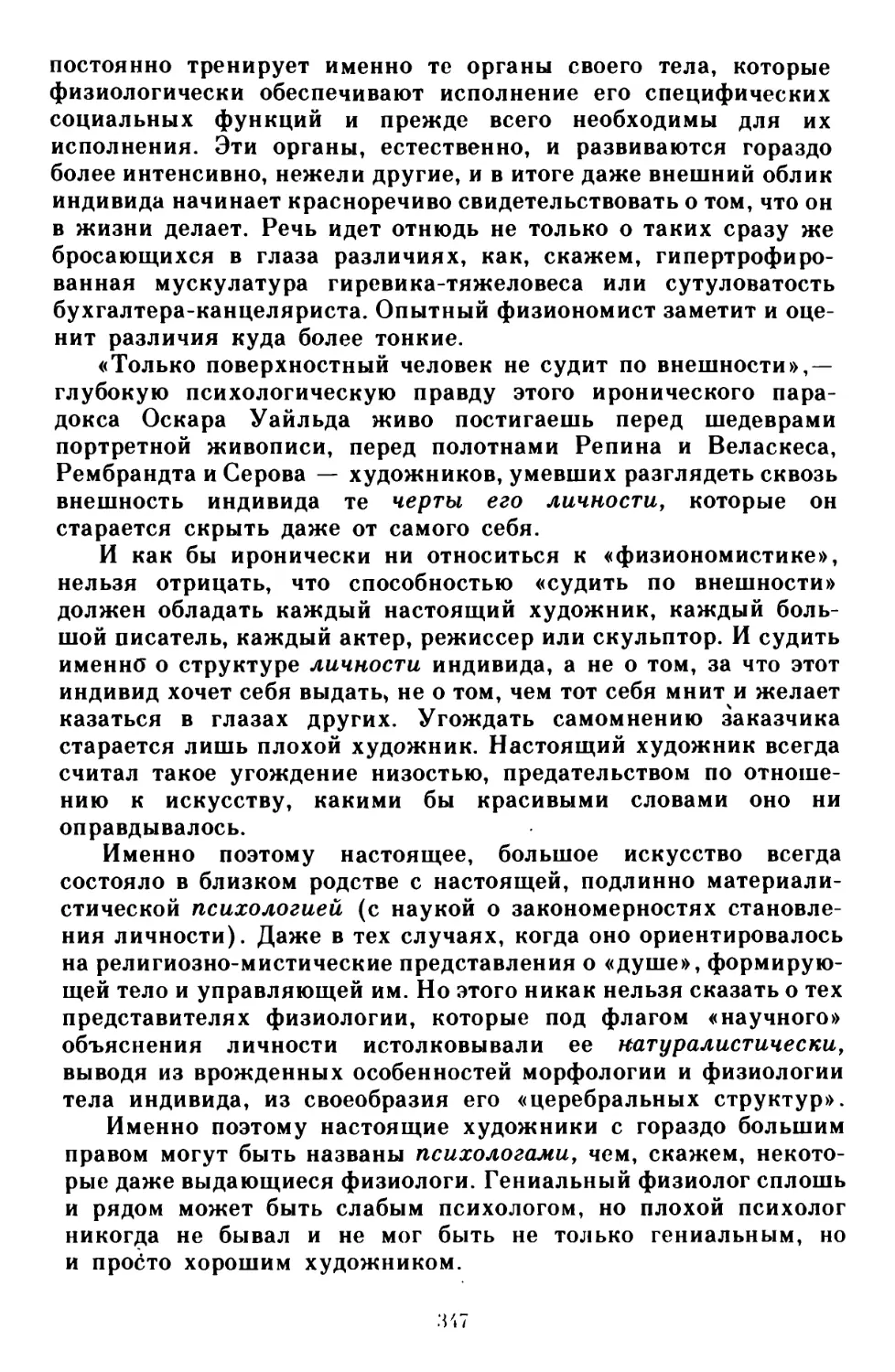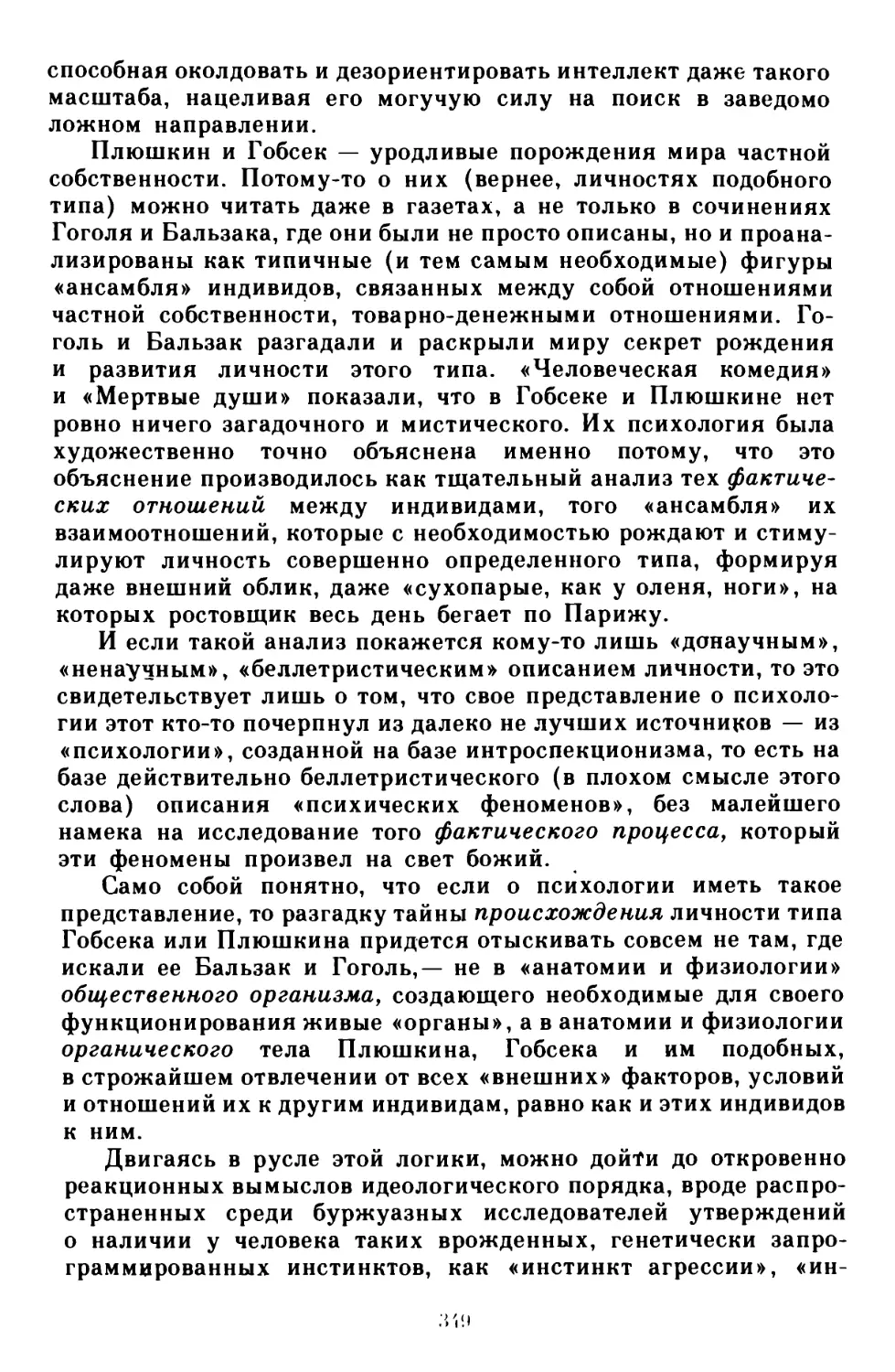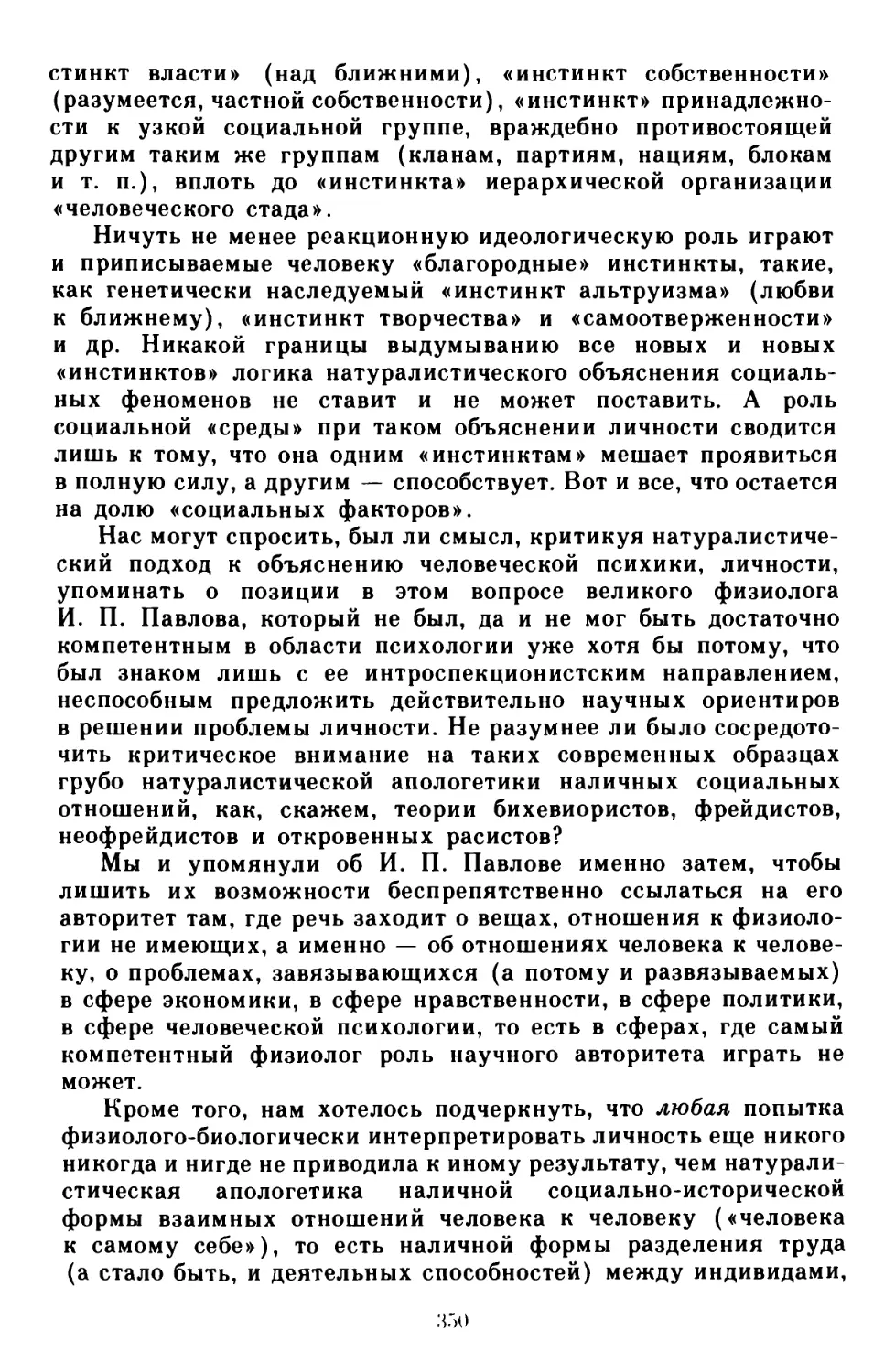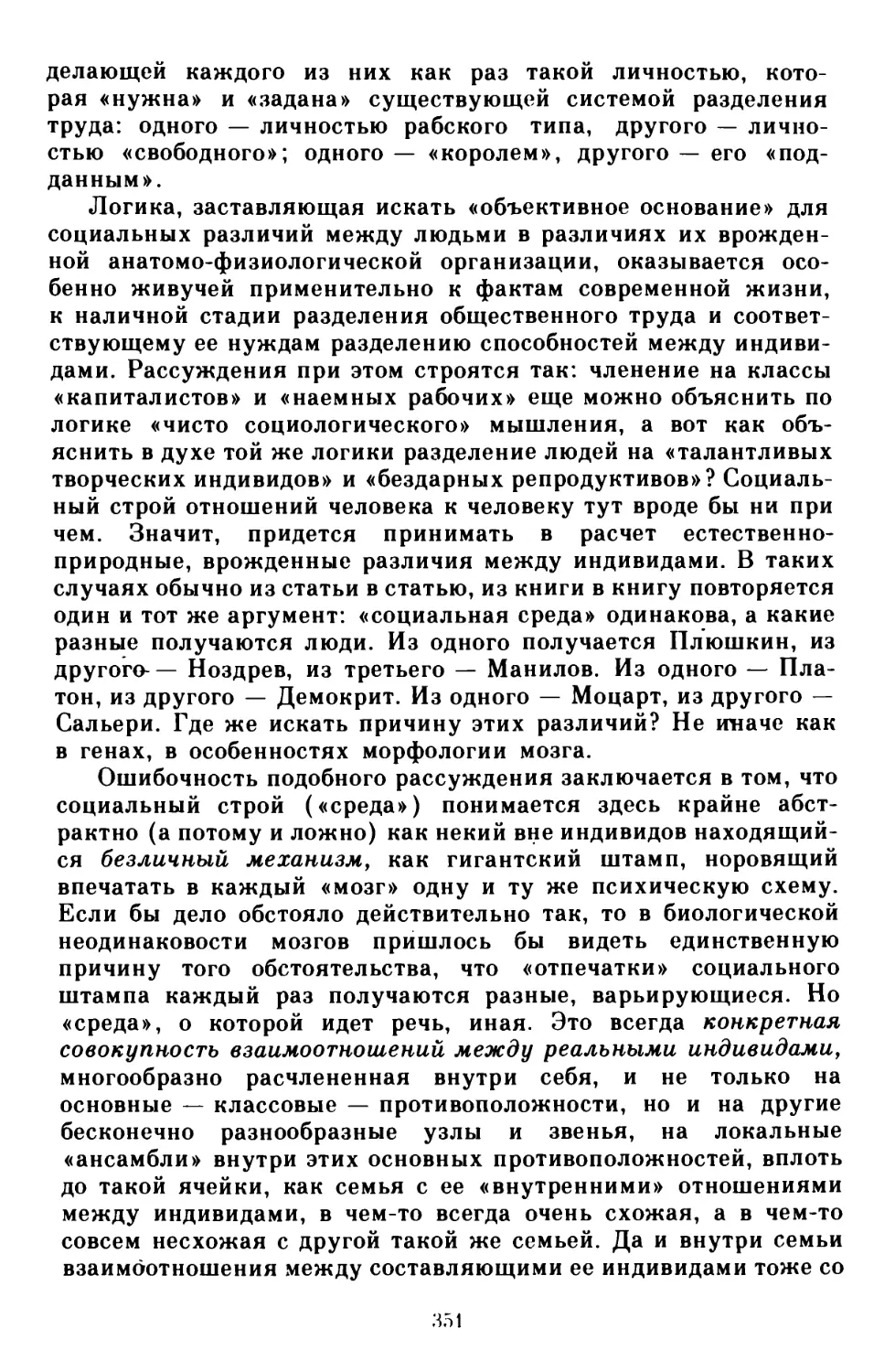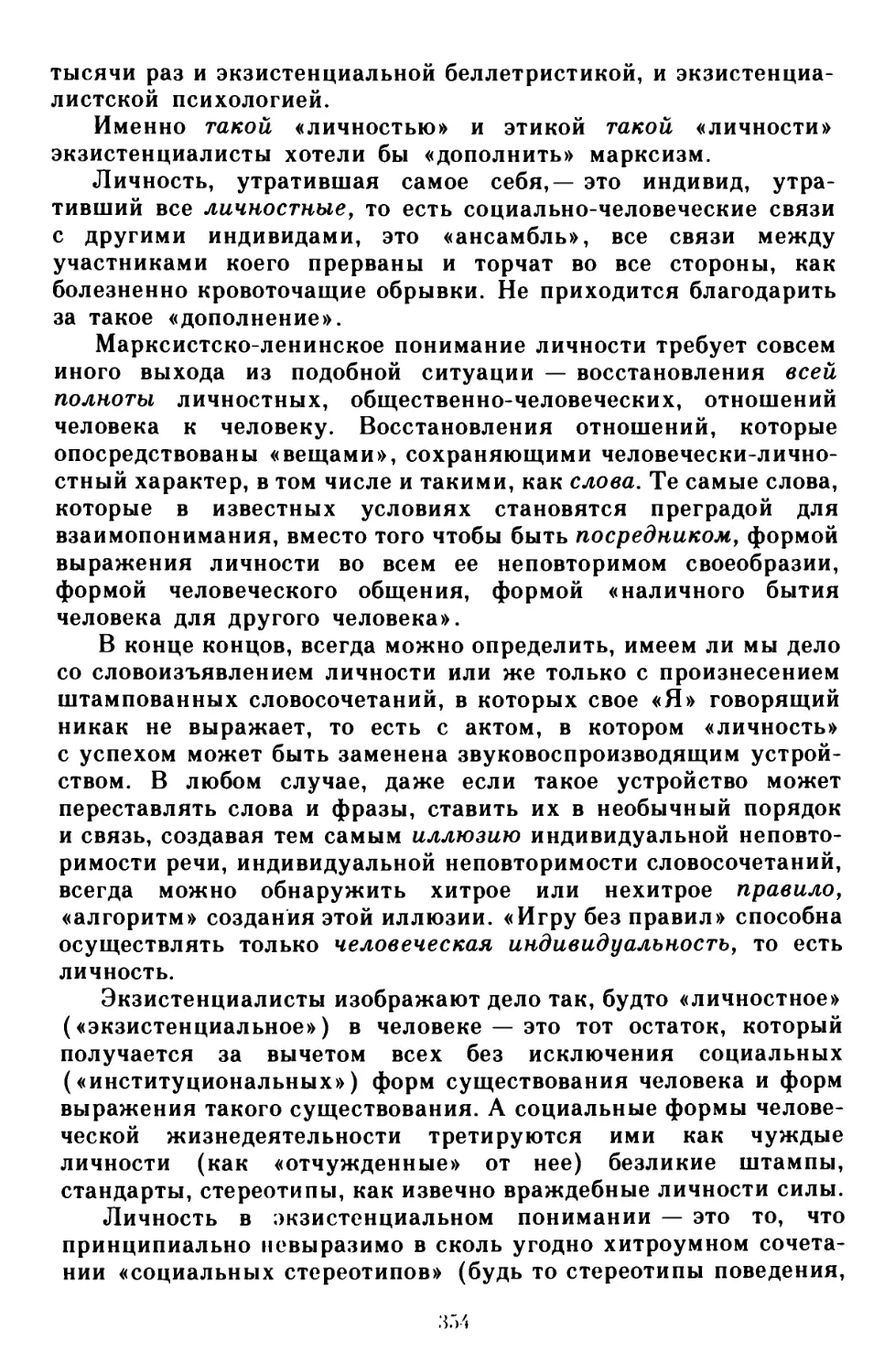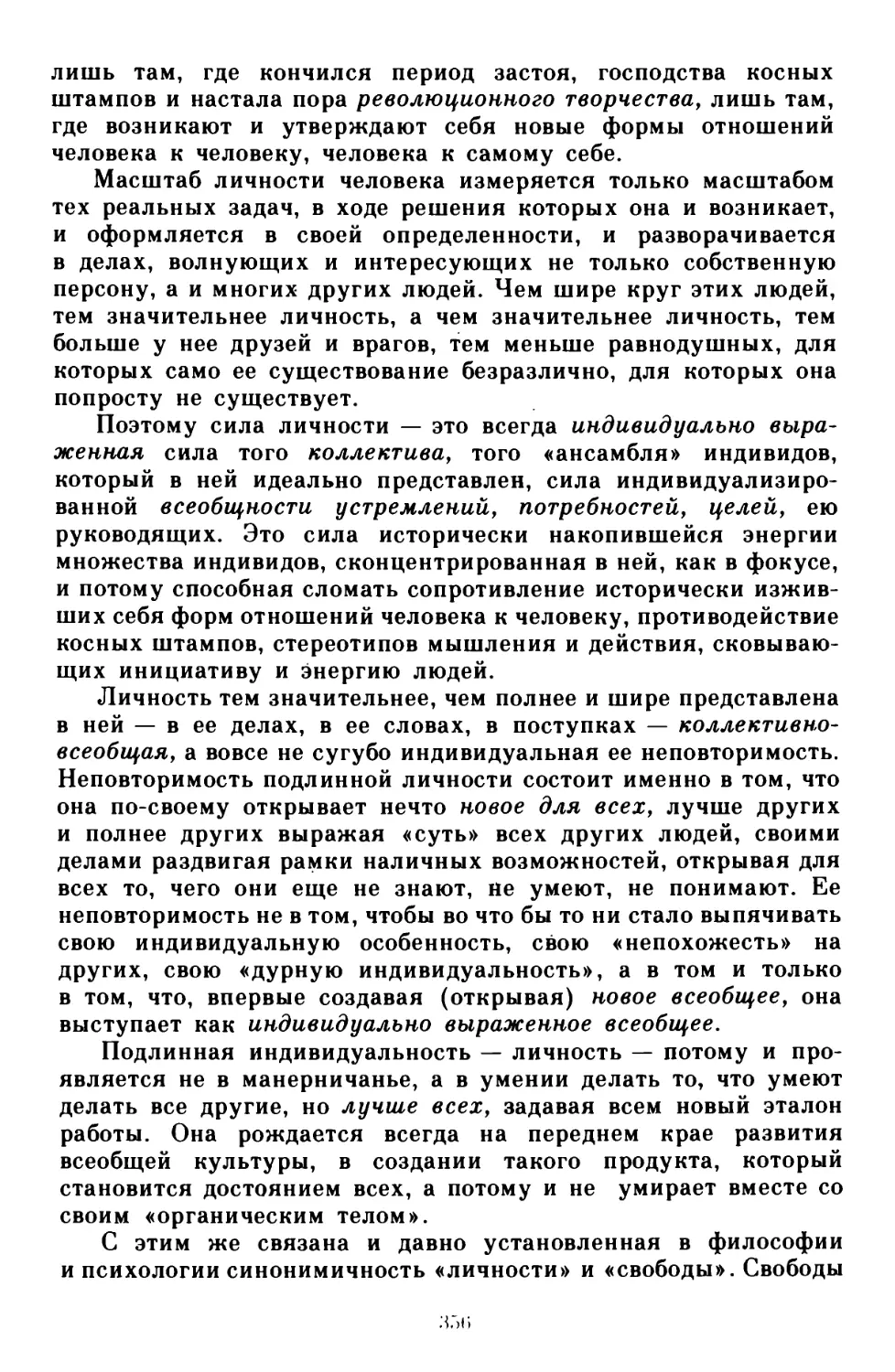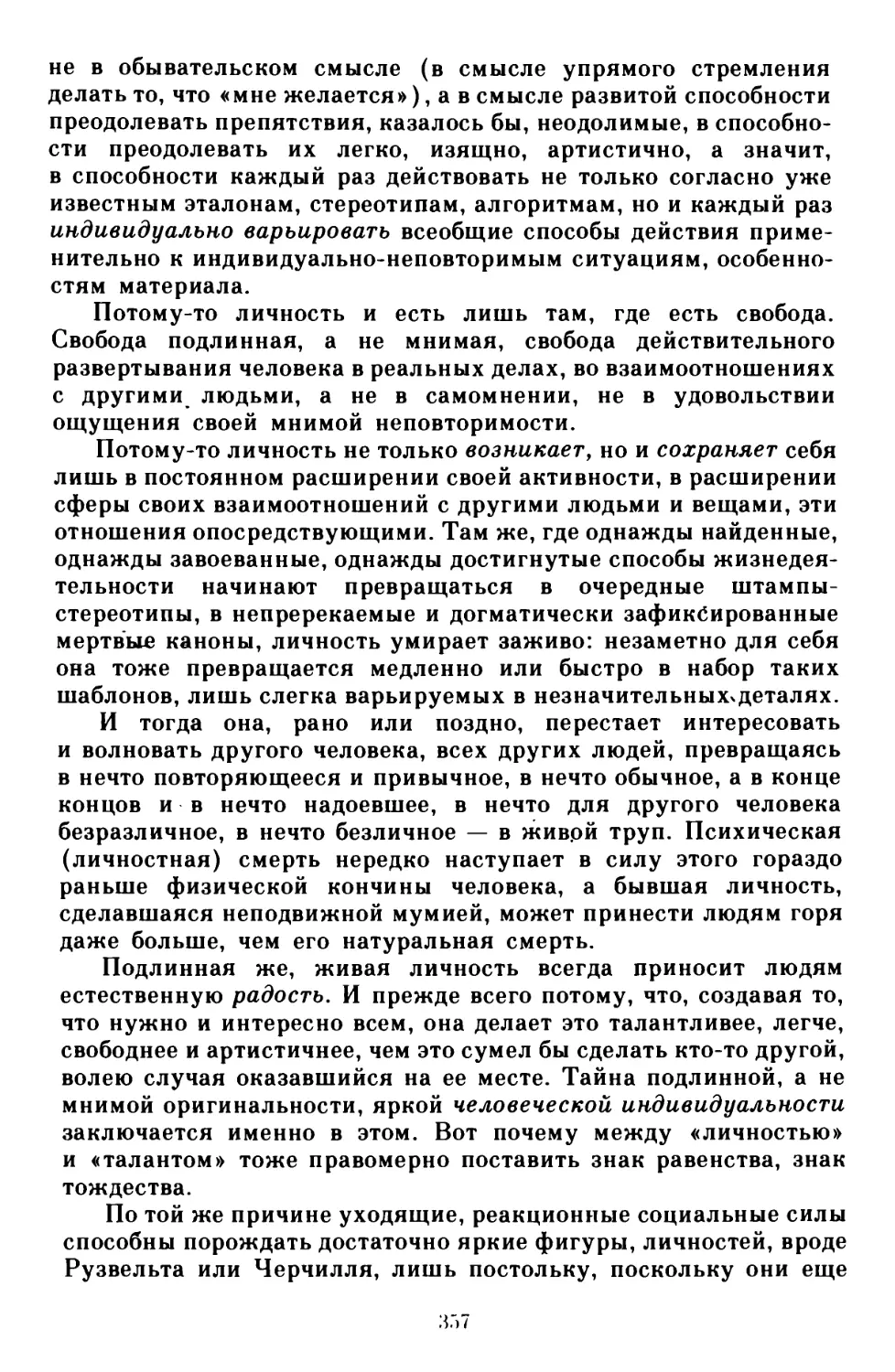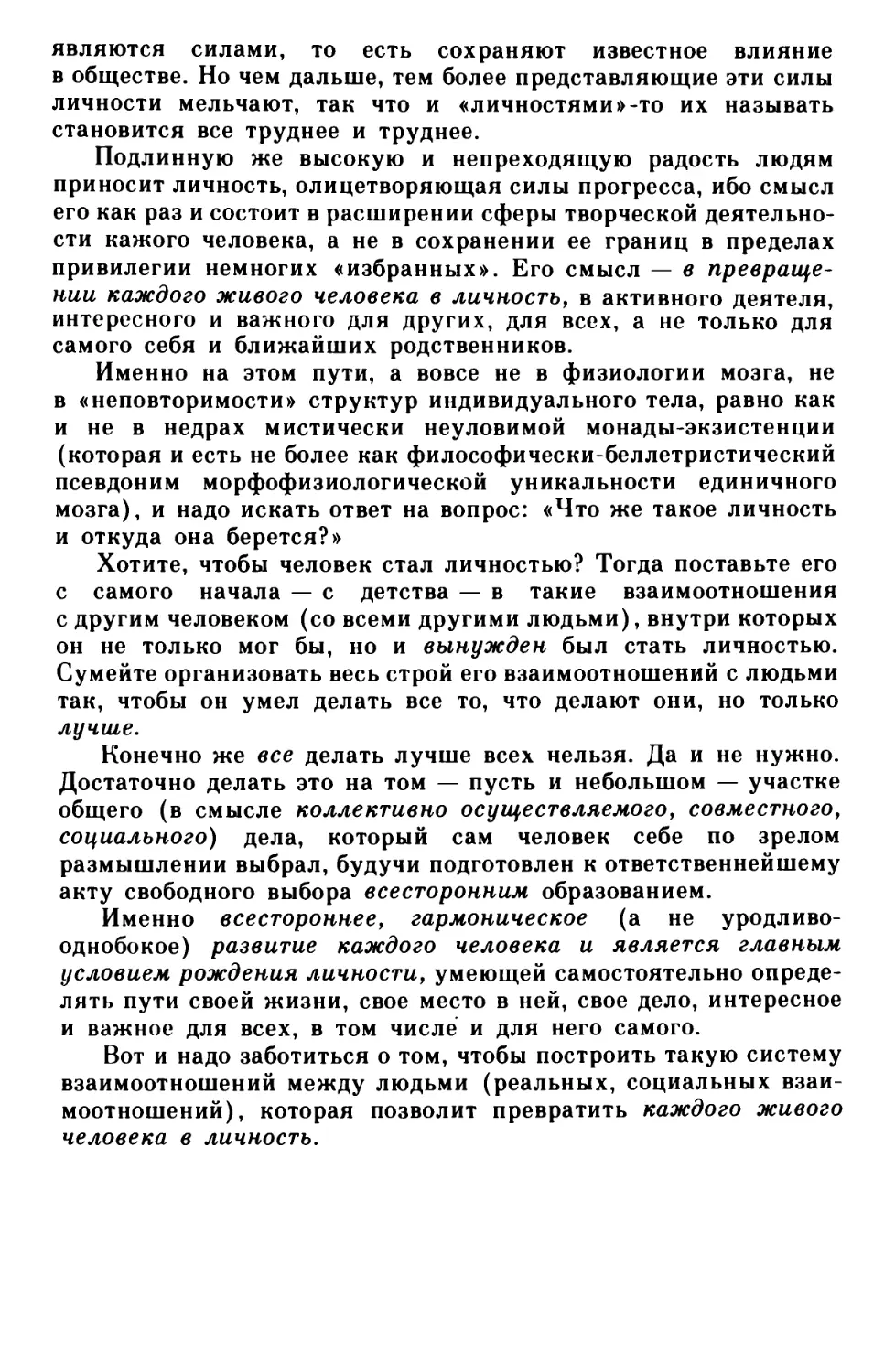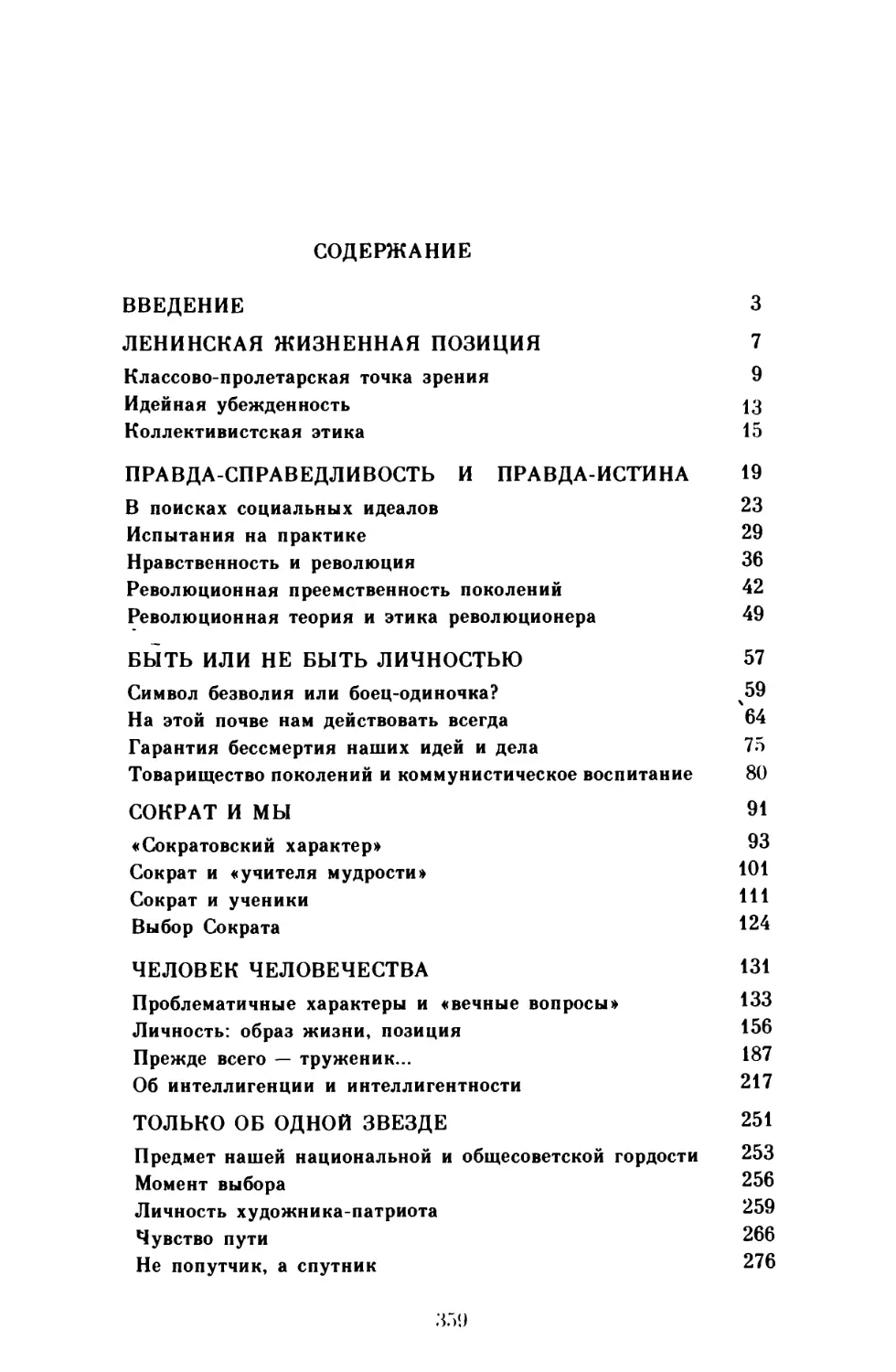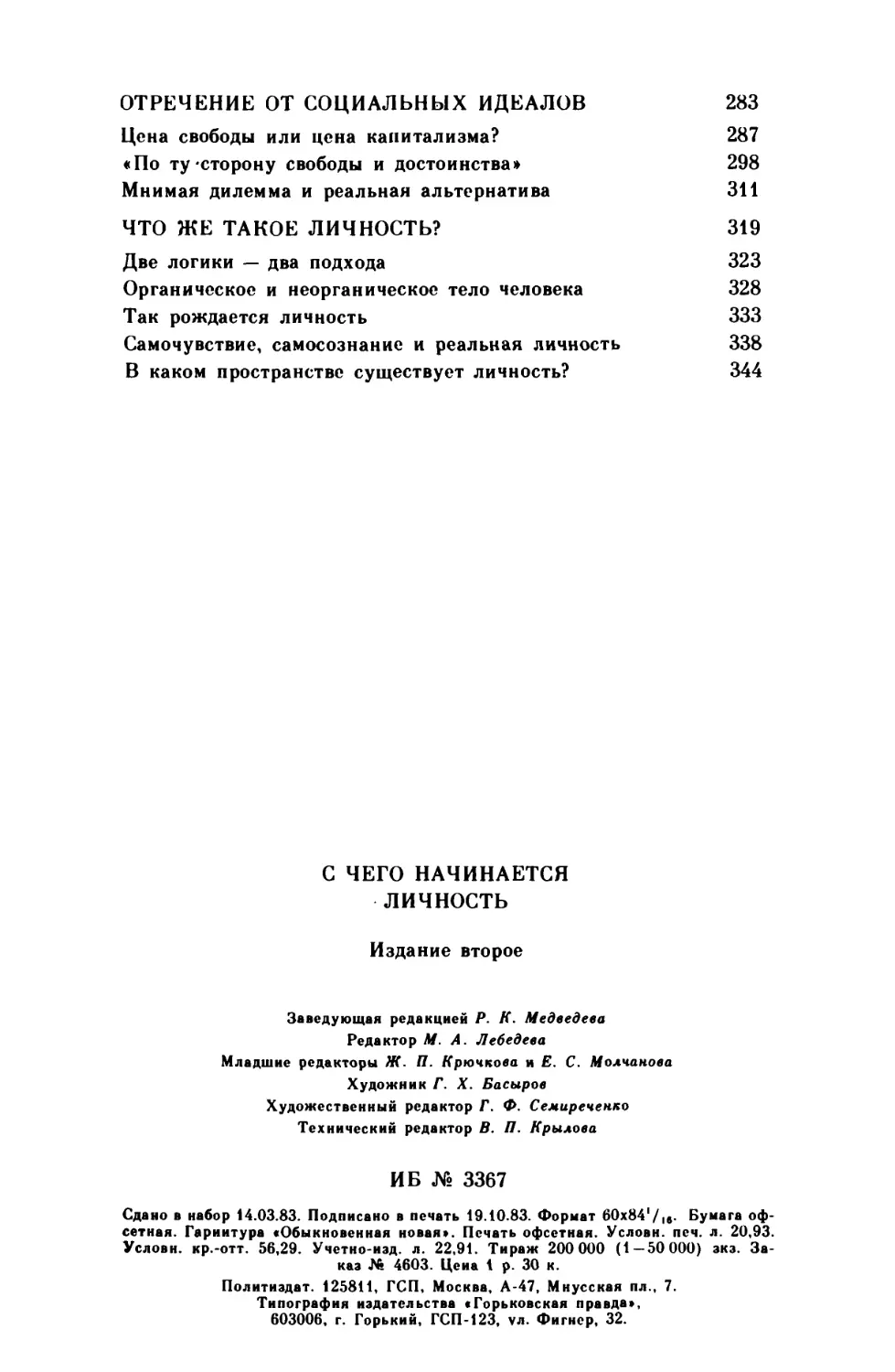Текст
с чего
начинается
личность
Издание второе
Москва
Издательство
политической
литературы
1983
Р. И. КОСОЛАПОВ
Введение
Ленинская жизненная позиция
Быть или не быть личностью
Только об одной звезде
В. А. ПЕЧЕНЕВ
Правда-справедливость
и правда-истина
В. И. ТОЛСТЫХ
Сократ и мы
Человек человечества
Э. А. АРАБ-ОГЛЫ
Отречение от социальных идеалов
Э. В. ИЛЬЕНКОВ
Что же такое личность?
Под общей редакцией
Р. И. КОСОЛАПОВА
С чего начинается личность /Под общ. ред. Р. И. Ко-
солапова. —2-е изд.— М.: Политиздат, 1983. —360 с.
Авторы книги, известные советские философы, в форме публицистических очерков
освещают важнейшие положения марксистской концепции личности. Ключевой для книги
является ленинская мысль о том, что каждый человек должен «реализовать»,
«выполнить» себя как личность. Второе издание дополнено очерками, материал которых
позволяет высветить новые грани темы. Рассчитана на широкие круги читателей,
интересующихся философскими и социальными проблемами развития человека.
© ПОЛИТИЗДАТ, 1983 г.
ВВЕДЕНИЕ
Современная эпоха, ведущая свое летосчисление от Великой
Октябрьской социалистической революции, наполнена
исполинскими по глубине и масштабности переменами в судьбах
человечества. Она отсчитывает всего лишь седьмое десятилетие,
что не превышает по длительности среднюю продолжительность
жизни человека. Но уже за этот период произошел такой
переворот в жизненном укладе десятков народов, который прежде не
мог быть мыслим и за тысячелетия. Укажем лишь на некоторые
характеризующие его черты.
...Решительно дискредитирована с социально-экономической,
политической и нравственно-гуманистической точек зрения
система эксплуатации человека человеком. Трудящиеся массы во
всем мире шаг за шагом приходят к выводу о необходимости
повсеместно заменить частнособственнический,
капиталистический строй коллективистским, социалистическим строем,
единственно способным привести к торжеству идеалов свободы
и равенства.
...Две мировые войны, развязанные империализмом и
приведшие к неисчислимым человеческим жертвам, бедствиям и
лишениям, к гибели материальных и культурных ценностей во многих
странах, научили народы, как никогда, ценить блага мира,
связывая его сохранение с последовательной
антиимпериалистической борьбой.
...Прорыв в системе колониального закрепощения народов
Азии, Африки и Латинской Америки, начатый Великим
Октябрем, не только завершился полным крахом этой системы, но
и привел к тому, что стало невозможным оправдывать попрание
достоинства и интересов людей, ссылаясь на различия в их
национальном происхождении и расовой принадлежности.
Колоссальный рост национального самосознания сопровождает
процессы национально-освободительной борьбы и образования
десятков новых суверенных государств.
I..Высокие темпы прогресса науки и техники, неслыханное
увеличение энергетических, производственных и транспортно-
з
коммуникативных возможностей, общий подъем культуры и
огромный рост объема информации — все это существенно
сказывается на характере человеческого труда, на способах включения
в него и участия в нем каждого индивида. Подчинение труда
капиталу теряет какое бы то ни было экономическое основание, а
трудящийся, объективно поднимающийся по своей культуре,
роли в производстве и общественной жизни на уровень, ранее
доступный лишь господствующему классу, и даже
превосходящий его, теперь все яснее сознает органическую связь научно-
технической революции с революцией социальной.
Этот перечень можно продолжить, но и того, что уже сказано,
достаточно, чтобы понять, насколько преображаются положение
и жизнедеятельность как миллионных масс, так и любого
отдельного их представителя. Социалистическое обобществление
производства в части мира формирует у трудящегося человека
сознание хозяина страны, прививает ему обостренное чувство
равноправия, а подчинение планового социалистического
производства цели удовлетворения материальных и духовных
потребностей людей, их возвышения и облагораживания переводит в
практическую плоскость решение проблемы всестороннего
развития личности. Социалистическая демократия наносит
сокрушительный удар по всевозможным концепциям и психологии
исключительности, «элиты», будь то архаические легенды о
«дворянской породе» и «голубой крови» или же новомодные
иллюзии о принадлежности к профессионально избранной касте
«яйцеголовых», «интеллектуалов» и т. п.
Никогда не были столь высоко ценимы человеческая жизнь,
человеческая индивидуальность, ее неповторимость, ее
уникальные творческие потенции, как в наше время. И никогда не было
столь значимо умение каждого включаться в общую дружную
работу, считаться с мнением и волей других, налаживать
гармоничное плодотворное товарищеское сотрудничество. Не случайно
так обеспокоены силы реакции, которые, стремясь
противодействовать этому мощному напору человечности, влиянию
примера реального социализма, с одной стороны, наращивают
военную мощь, способную уничтожить на земле все живое, а с
другой — лицемерно размахивают бумажным флажком с надписью
«права человека». Если иметь в виду подлинный смысл этих
слов, а не беспрепятственную возможность совершать всякого
рода антикоммунистические акции, за которую ратуют на
буржуазном Западе, то такие права — права человека труда как
атрибут ответственного народовластия и база уверенности масс
в завтрашнем дне — надёжно гарантированы в Советском Союзе
и других странах социалистического содружества.
Дух передовой демократии, который по самой своей природе
\
не может оставаться неподвижным, давно покинул
капиталистический мир, и никакие апелляции к индивидуалистической
разобщенности людей в условиях частнособственнических
отношений как якобы лучшему рецепту свободы личности уже не
смогут обмануть социально возмужавшее, интеллектуально и
цравственно выросшее после Октября человечество. Никому уже
не удастся возвратить человека к растительному,
неосмысленному существованию, к состоянию покорного, некритического
поглощения всего того, что ему предлагают капитал и власть
имущие в буржуазных странах, каким бы соблазнительным
набором ширпотреба и благ «массовой культуры» они ни
распоряжались. Личность, которая хоть раз наполнила свои легкие
историческим ветром современной эпохи, уже не успокоится. Она
неудержима, какими бы зигзагами ни сопровождался ее
жизненный путь, в своей устремленности устранить все виды
зависимости, кроме зависимости от своего собственного труда, все
виды власти, кроме власти собственного объединения
трудящихся.
Перед исследователем и публицистом это ставит множество
проблем. И буржуазные авторы чаще всего «решают» их,
предрекая с мрачной безапелляционностью якобы неизбежность
нивелирования индивида, его обезличения. Понять мотивы такого
подхода нетрудно. Эксплуататорская система, лишаясь такого
своего резерва, каким на протяжении многих веков было
беспросветное невежество масс, не ожидает для себя ничего хорошего
от роста социального самосознания каждого. Ее идеологи
продолжают пугать людей нелепым жупелом коммунистического
«тоталитаризма», внушают им настроение, что сохранить в наше
время свою индивидуальность можно, лишь проявляя себя
только в роли потребителя, следуя предписаниям вездесущей
рекламы и отказываясь даже помыслить о каких-либо других,
непотребительских запросах и движениях души. По сути дела,
схожая трактовка дается «левыми» ревизионистами, только они
нимало не жалеют о «гибели личности», а с восторгом
приветствуют превращение человека в послушную марионетку. И тот и
другой взгляд — это всего лишь негативные издержки переходной
эпохи. Действительность, однако, выглядит и иначе и сложнее.
Позитивному содержанию эпохи соответствует только личность,
занимающая активную жизненную позицию, личность,
обладающая историческим сознанием, умеющая трезво оценить прошлое,
действовать успешно в настоящем, смело глядящая в будущее,
поскольку она строит его по своему, научно обоснованному
плану. Значит, и мерки для такой личности нужны по масштабам
тоже-.исторические, соответствующие той
всемирно-освободительной, революционной миссии, которую выполняет рабочий класс.
«В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное
развитие каждого есть условие свободного развития всех»
государство ставит своей целью расширение реальных возможностей
для применения гражданами своих творческих сил,
способностей и дарований, для всестороннего развития личности»1. По
сути, в этом и состоит основная идея предлагаемой читателю
книги. В ней разные авторы с различных точек зрения —
социально-политической, философско-исторической,
нравственно-этической, а также в аспекте идеологической борьбы —
рассматривают марксистско-ленинскую концепцию личности,
условия формирования и становления личности на этапе развитого
социализма. Именно такой подход соответствует важнейшему
положению, которое высказал Ю. В. Андропов на июньском
(1983 года) Пленуме ЦК КПСС: «...партия добивается того,
чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель
определенной суммы знаний, но прежде всего — как гражданин
социалистического общества, активный строитель коммунизма, с
присущими ему идейными установками, моралью и интересами,
высокой культурой труда и поведения» 2.
Своеобразие данной работы состоит в том, что она, будучи
пронизана внутренним методологическим единством, не может
считаться обычным, механически составленным сборником
статей и в то же время не является коллективной монографией.
Каждый из включенных в нее материалов написан
индивидуальным авторским почерком, и это, хотелось бы надеяться, облегчит
их чтение и восприятие содержания книги в целом.
1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических
республик. М., 1977, с. 12.
Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14 — 15 июня 1983
года. М., 1983, с. 18.
ЛЕНИНСКАЯ
ЖИЗНЕННАЯ
ПОЗИЦИЯ
Тема эта необъятна и неисчерпаема. В кратком очерке можно
отразить только некоторые ее аспекты. Три из них
представляются особенно актуальными в наши дни. Это — ленинская
классовая позиция. Это — ленинская идейная убежденность и
последовательность. Это — большевистская, коллективистская
ленинская этика.
КЛЛССОВО-ПРОЛВТАРСКЛЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Совершить... освобождающий мир подвиг —
таково историческое призвание современного
пролетариата. Исследовать исторические условия, а
вместе с тем и самое природу этого переворота и
таким образом выяснить ныне угнетенному
классу, призванному совершить этот подвиг, условия и
природу его собственного дела — такова задача
научного социализма, являющегося
теоретическим выражением пролетарского движения.
' Ф. ЭНГЕЛЬС
Вспоминая давно знакомые слова 17-летнего гимназиста
Владимира Ульянова: «Нет, мы пойдем не таким путем.^Не таким
путем надо идти»,— не перестаешь восхищаться тем, насколько
решительно и бесповоротно этот юноша, по сути еще мальчик,
занял революционную жизненную позицию. Перед его
мысленным взором витал образ любимого брата-народовольца, только
что казненного царскими палачами за участие в подготовке
покушения на императора, которое, даже если бы оно оказалось
успешным, привело бы лишь к замене одного деспота другим. И
выбор Владимиром Ульяновым был сделан безукоризненный.
Не повторять заблуждений предшественников, пытавшихся
бороться против самодержавно-помещичьего гнета в одиночку.
Быть неизменно в гуще народной, внося в нее научное
революционное сознание, соединяя единственно верную социальную
теорию с массовым освободительным движением. Превратить
дело освобождения трудящейся массы в дело самой этой массы,
«помогать пролетариату идти через демократический переворот
к коммуне» — таким определился «символ веры» будущего
вождя. «...А другим целям служить я не стал бы»1,— признавался
Владимир Ильич.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 411.
\)
По Ленину, «главное в учении Маркса, это — выяснение
всемирно-исторической роли пролетариата как созидателя
социалистического общества»'. Именно эту центральную идею
всего марксизма Ленин всесторонне и неустанно доказывал всю
свою сознательную жизнь. Именно эта центральная идея
марксизма-ленинизма (вместе с продолжающей и развивающей ее
концепцией революционной партии рабочего класса как
политического авангарда трудящихся в борьбе против капитализма и
империализма, за социализм и коммунизм) десятилетиями
подвергается упорным и злобным нападкам врагов социализма.
Разумеется, Ленин никогда не воспринимал пролетариат как
икону, никогда не закрывал глаза на пока недостаточную
политическую зрелость, а то и просто невежественность отдельных
его групп и представителей. Вместе с тем он, как никто другой,
сознавал, что рабочий класс — это единственный сплоченный и
притом растущий социальный массив, который самой
капиталистической эксплуатацией, организацией, технологией и
культурой крупнопромышленного производства, трудовой
спайкой, коллективистским и интернационалистским
мироощущением объективно ставится в положение главного двигателя
социалистической революции, ведущей силы всех трудящихся и
демократических слоев общества. Эта мысль в ее специфическом
преломлении пронизывает марксистско-ленинскую философию,
политическую экономию, научный коммунизм, и ее
доказательство, очевидно, не исчерпывается средствами лишь какой-либо
одной из трех составных частей марксизма-ленинизма, а
выступает их общей генеральной задачей.
Не случайно в те моменты истории, когда поднималась новая
волна ревизионизма, неизменно предпринимались и попытки
эклектически расчленить марксистско-ленинское учение,
пересматривая диалектико-материалистическую философию в духе
кантианства или же позитивизма и «подправляя»
политэкономию Маркса в духе прудоновской апологии мелкого
производства. Примеров тому немало — от геростратовски знаменитого
выступления Бернштейна и субъективно-идеалистических
поползновений эмпириокритицизма до клерикалистского
перерождения Гароди, от писаний Каутского в пользу «смешанной
экономики» до проповеди «третьего пути» чехословацким
ревизионистом Шиком.
Известно, что и среди видных большевиков ленинская
схватка с эмпириокритиками кое-кому первоначально показалась
«бурей в стакане воды». В этом проявился своего рода узкий
практицизм, обусловленный не вполне отчетливым пониманием осново-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 1.
10
полагающего тезиса Маркса: подобно тому, как философия
находит в пролетариате свое материальное оружие, так и
пролетариат находит в философии свое духовное оружие. Не
меньшее значение имеет экономическое обоснование всемирно-
исторической миссии рабочего класса, которое ставит ее на
прочный материальный фундамент и получает разностороннее
развитие и воплощение в теории и практике научного коммунизма.
Ленинский анализ роли рабочего класса как созидателя
нового общества, гегемона современной эпохи, начатой Великим
Октябрем, был продолжен в исследованиях советских
ученых-обществоведов применительно к условиям развитого социализма
и постепенного перехода к коммунизму. При этом были
развенчаны попытки ренегатов марксизма — с фальшивой ссылкой на
социальные последствия научно-технической революции —
представить в качестве доминирующего социального фактора
эпохи уже не рабочий класс, а интеллигенцию современного
капиталистического общества. Антимарксистская сущность такой
позиции обнаруживала себя в том, что не только игнорировалась
глубокая внутренняя дифференциация буржуазной
интеллигенции, но более того — подчеркивалась особая, лидирующая .роль
верхнего слоя управляющих монополий, буржуазного по своей
общественной функции, по своему положению и воззрениям.
Империалистическое давление на рабочий класс,
специфическая его обработка крупным капиталом, особенно настойчиво
осуществляемые в последние десятилетия, имеют совершенно
определенный, хотя и тщательно маскируемый (и посредством
буржуазного использования науки, и с помощью гальванизации
религиозных пережитков) классовый смысл. Он состоит в том,
чтобы лишить пролетариат собственного самосознания и
организованности, разобщить не только его отдельные национальные
и профессиональные отряды, но и всех рабочих вообще, разжечь
в их среде конкуренцию, насадить отчужденное отношение лиц
наемного труда в капиталистических странах к~ трудящимся
социалистических и развивающихся стран. При неизмеримо
возросшей зрелости объективных предпосылок социалистических
преобразований на Западе здесь с не меньшей, чем при жизни
Ленина, остротой стоит вопрос о вызревании их субъективных
предпосылок. Более того, сейчас этот вопрос существенно
осложнен усилившейся антикоммунистической активностью
военно-промышленного комплекса империалистических держав,
возросшей угрозой мировой ядерной войны, необходимостью
упорного поиска коммунистическими и рабочими партиями новых,
более действенных форм работы в массах.
Настоящий коммунист не может не знать, что для Ленина
пролетариат являлся не просто объектом наблюдения и изуче-
11
ния, сочувствия и сострадания. Это был его родной класс, чьи
нужды и интересы, заботы и настроения, муки и радости прошли
через ум и сердце вождя. Ленин и сам мог считаться пролетарием
в высшем, благороднейшем смысле этого слова, гениальным
подвижником в борьбе за счастье людей труда, бесконечно богатым
духовными ценностями прошлого, революционным
марксистским учением, собственной творческой одержимостью и
слитностью с сотнями тысяч единомышленников, с миллионными
массами.
Рабочий класс отвечал Ленину безграничным доверием и
любовью. Кровное восприятие им своего незабвенного вождя
прекрасно выразил в письме Н. К. Крупской сормовский рабочий
Петр Заломов (послуживший в свое время прототипом образа
Павла Власова в романе М. Горького «Мать»): «Мы вовсе не
думаем обожествлять товарища Ленина — мы с ним равны! Мы
заслужили такого вождя, и он, достойный нас, вправе гордиться
нами... Товарищ Ленин — часть нас самих».
Смотреть на действительность и видеть ее сквозь призму
научно понятых интересов рабочего класса — это, по мысли
Ленина, неизмеримо больше, чем выражать мнение какого-то
определенного социального слоя. Занимать пролетарскую классовую
позицию — значит наиболее адекватным образом постигать
истину и, находясь на стороне главной движущей силы
современной истории, органически связывать это постижение с
революционной практикой.
Вряд ли правомерно поэтому то, что из нашего лексикона
почему-то стали исчезать термины «пролетарская философия»,
«политическая экономия труда» (в противоположность
буржуазной политэкономии собственности), «пролетарский
социализм». Ибо для Ленина точка зрения пролетариата была
тождественна точке зрения передовой общественной науки,
социальной справедливости, правды. По-своему метко и поэтически
образно этот подход выразил В. Маяковский:
Пролетариат —
неуклюже и узко
тому,
кому
коммунизм — западня.
Для нас
это слово —
могучая музыка,
могущая
мертвых
сражаться поднять '
Маяковский В. В. Поли. собр. соч. В 13-ти т. М., 1937. т. 6, с. 249.
\2
ИДЕЙНАЯ УИКЖДКННОСТЬ
...Идеи... которые овладевают нашей мыслью,
подчиняют себе паши убеждения и к которым
разум приковывает нашу совесть,— это узы, из
которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца,
это демоны, которых человек может победить,
лишь подчинившись им.
К. МАРКС
Ленин был неуступчив и неколебим во всем, что касалось
его революционных убеждений, принципиальных научных и
политических воззрений. Чуждый какого бы то ни было
догматизма, всегда готовый внести поправки в те или иные теоретические
положения и тактические установки, если это диктуется
реально изменившимися обстоятельствами, он в то же время с
законным недоверием относился к безответственному лозунгу
«свободы критики», который оппортунисты использовали для
размягчения марксистских воззрений и классового сознания
пролетариата.
«Крепкой социалистической партии не может быть,—
утверждал Ленин на пороге нашего века,— если нет
революционной теории, которая объединяет всех социалистов, из которой
онилочерпают все свои убеждения, которую они применяют к
своим приемам борьбы и способам деятельности; защищать
такую теорию, которую по своему крайнему разумению считаешь
истинной, от неосновательных нападений и от попыток
ухудшить ее — вовсе еще не значит быть врагом всякой критики. Мы
вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и
неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила
только краеугольные камни той науки, которую социалисты
должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят
отстать от жизни»1.
Ленин отличался исключительной научной
добросовестностью и не мог себе позволить без убедительного разъяснения
причин заменить тот или иной тезис Маркса и Энгельса каким-
либо другим. Он с величайшим тактом обращался с
классическим наследием и тогда, когда пополнял его собственным
вкладом, шла ли речь о создании более развернутого учения о
революционной рабочей партии или же о продолжении марксова
«Капитала» анализом империализма как высшей стадии
капитализма, об открытии возможности победы социализма в одной,
отдельно взятой стране или же такой, неизвестной ранее формы
диктатуры пролетариата, как республика Советов. Подобного же
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 183—184.
IM
обращения с классическим наследием Ленин требовал и от своих
соратников и учеников. Он с иронией воспринимал «желание
радикально настроенных личностей сочетать отжившее старое
и безжизненное модное»1 и предлагал неизменно
придерживаться таких надежных ориентиров, как материалистическая
диалектика, интересы классовой борьбы пролетариата, запросы
развивающейся общественной практики.
Перечитав в начале 1917 года работу Энгельса «К
жилищному вопросу» и имея в виду оппортунистическое брюзжание
по поводу якобы «устарелости» марксизма, Ленин пишет
И. Ф. Арманд следующие восторженные слова: «Знаете?
Прелесть! Я все еще «влюблен» в Маркса и Энгельса, и никакой
хулы на них выносить не могу спокойно. Нет, это — настоящие
люди! У них надо учиться. С этой почвы мы не должны сходить»2.
Все сколько-нибудь ценное в нашей общественной науке
добыто лишь путем последовательного и квалифицированного
применения имеющей универсальное значение
марксистско-ленинской материалистической диалектики. И наоборот, любое
отступление от нее, любое шатание в сторону метафизического и
идеалистического упрощенчества, хотя бы это и мотивировалось
самыми благими намерениями, так или иначе влекут за собой
теоретические, а зачастую и политические ошибки. При этом
самыми коварными оказываются попытки ложно оправдывать
отрыв от плодоносной почвы марксизма-ленинизма ссылками на
научно-техническую революцию, на новейшие достижения
естествознания, неправомерно противопоставлять их друг другу.
Ибо без строгой методологической дисциплины мысли ныне, как
и всегда, неосуществимо ни подлинное освоение результатов
научно-технического прогресса, ни по-настоящему успешное
научное творчество.
Практически все произведения Ленина носят остро
полемический характер. Но в его спорах с идейными противниками и
заблуждающимися нет и тени престижно-амбициозных мотивов,
просто немыслимы логические неувязки и фактические
передержки. Владимир Ильич не мог исказить суждение оппонента
или же произвольно приписать ему заведомо уязвимый, легко
разбиваемый тезис. Для него было непреложным то, что Энгельс
именовал «кодексом чести» в идейной борьбе.
Теоретический и нравственный авторитет Ленина был
непререкаем. Сказывались поразительная цельность ленинской
натуры,, органическая включенность его в рабочий класс, его
объективно громадное влияние. «Необыкновенный народный вождь,—
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 440.
2 Там же, т. 49, с. 378.
И
писал о Ленине Джон Рид,— вождь исключительно благодаря
своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не
поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без
эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть
сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий
анализ конкретной обстановки при сочетании проницательной
гибкости и дерзновенной смелости ума»1.
КОЛЛЕКТИВИСТСКАЯ ЭТИКА
Классовая борьба продолжается, и наша задача
подчинить все интересы этой борьбе. И мы свою
нравственность коммунистическую этой задаче
подчиняем. Мы говорим: нравственность это то,
что служит разрушению старого
эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся
вокруг пролетариата, созидающего новое общество
коммунистов... Для коммуниста нравственность
вся в... сплоченной солидарной дисциплине и
сознательной массовой борьбе против
эксплуататоров... Нравственность служит для того, чтобы
человеческому обществу подняться выше,
избавиться от эксплуатации труда.
В. И. ЛЕНИН
В сознании буржуазных авторов никак не укладываются
вместе, с одной стороны, неизменно пылкий, боевой, беспощадно
атакующий тон произведений Ленина, с другой стороны, его
доброта и деликатность в обращении с товарищами, вежливость
даже с идейными противниками. Конечно, врагам ленинизма тут
не позавидуешь. Им куда легче было бы фехтовать с
каким-нибудь «одномерным» фанатиком-бунтовщиком и его
полуграмотной доктриной, нежели тщиться оспаривать энциклопедически
одаренного революционера и кристально честную личность, чьи
воззрения представляют собою духовную вершину
современности.
Буржуазия и ее оппортунистические подголоски много раз
использовали против Ленина грязное оружие клеветы, но
сколько-нибудь длительного успеха не имели. Именно в один из
подобных моментов, когда буржуазная печать особенно усердствовала
по части лжи в адрес большевиков, летом 1917 года, Ленин
определил коммунистическую партию как ум, честь и совесть нашей
эпохи. Это налагало на каждого коммуниста высочайшую от-
"•' Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир. М-., 1957, с. 116.
15
ветственность как за нравственное состояние партии в целом, за
соблюдение коммунистической этики во внутрипартийных
отношениях, так и за свое личное поведение.
Особо строгие требования Ленин выдвинул перед
коммунистами после Октября, когда наша партия стала правящей, когда
к ней как коллективному вдохновителю и организатору защиты
социалистического Отечества, социалистического и
коммунистического строительства обратились взоры, всех трудящихся.
«...Если мы добросовестно учим дисциплине рабочих и
крестьян,— писал тогда Ленин,— то мы обязаны начать с самих себя»1.
Надо, учил Ленин, чтобы беспартийная масса видела, что члены
Коммунистической партии несут на себе обязанности и что
коммунисты допускают людей в свои ряды не для того, чтобы они
пользовались выгодами, связанными с положением правящей
партии, а для того, чтобы они показывали пример действительно
коммунистического труда.
Ленин был реалистом и в политике, и в житейских вопросах,
он хорошо знал цену и экономических, и идейных мотивов
человеческой деятельности. Это не противоречит тому, что
существенную черту его образа жизни и морального облика составляло
коммунистическое бескорыстие, в которое не верят
изображающие из себя снобов образованные мещане, но которое есть
реальность, рожденная нашей революцией и питающая дух
самоотверженных борцов за коммунизм. Размышляя в одной из своих
последних работ о путях улучшения советского управленческого
аппарата, Ленин подчеркнул, что «для этого нужно, чтобы
лучшие элементы, которые есть в нашем социальном строе, а
именно: передовые рабочие, во-первых, и, во-вторых, элементы
действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что они
ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против
совести,— не побоялись признаться ни в какой трудности и не
побоялись никакой борьбы для достижения серьезно поставленной
себе цели»2.
Не утратили своего значения четкие ленинские установки
работникам политпросветорганов, хотя они и давались
применительно к условиям нэпа, в 1921 году. Ленин назвал тогда
«три главных врага», мешающих нашей созидательной работе:
«...первый враг — коммунистическое чванство, второй —
безграмотность и третий — взятка»3. Правда, обстановка с тех
пор, когда были сказаны эти слова, качественно изменилась,
но изжить удалось, пожалуй, только второе зло — неграмот-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 63.
2 Там же, т. 45, с. 391-392.
3 Там же, т. 44, с. 173.
К)
ность; рецидивы первого и третьего зла еще дают о себе
знать.
Комчванство подчас сквозит в администраторском упоении
отдельных работников собственным субъективизмом, которое
идет вразрез и с моральным кодексом строителя коммунизма, и
с государственными интересами, и с требованиями науки. Что
же касается взятки, то она, принимая самые хитроумные и
потаенные формы, кое-где оказывается опасным врагом партийной
и профессиональной этики, норовит подменить
коллективистски-трудовые нравственные отношения, мешает проведению в
жизнь социалистической законности. По мнению Ленина, «если
есть такое явление, как взятка, если это возможно, то нет речи о
политике. Тут еще нет даже подступа к политике, тут нельзя
делать политики, потому что все меры останутся висеть в
воздухе и не приведут ровно ни к каким результатам. Хуже будет от
закона, если практически он будет применяться в условиях
допустимости и распространенности взятки»1. Такому умению
высветить и крупно показать политическую сторону, казалось бы,
заурядного, чисто бытового пережитка всем нам приходится
учиться у Владимира Ильича постоянно.
Ленин был примерным товарищем по партии и борьбе, не
допускавшим в личных отношениях подчеркивания своего
превосходства, принуждения к почитанию, посягательства на
равенство. В этом смысле он был противоположностью Г. В.
Плеханова, который явно злоупотреблял преклонением перед ним
партийной молодежи, ценя в ней добровольное духовное рабство
и совершенно не учитывая, что, как заключил Ленин, «быть
рабом — недостойная вещь...»2. Те, кто лично знал Ленина,
встречался, работал с ним рядом, отмечали, что этот принцип был свят
для него как в социально-политическом.плане, так и в
индивидуальном общении. Ленинское внимание и заботу испытали на
себе рабочие и писатели, ученые и крестьяне, красноармейцы и
наркомы, художники и рабфаковцы, представители старой
большевистской гвардии и юной комсомольской смены. Он никогда
не держался с ними как вождь, а видел в них своих товарищей по
общему делу.
Огромен нравственный потенциал ленинизма, и велика его
созидательная отдача. Но вряд ли можно утверждать, что он весь
целиком уже поставлен на службу коммунизму. Многие его
творческие ресурсы еще ждут своих открывателей и разработчиков, и
ими призваны быть в первую очередь идеологические
работники — ученые и пропагандисты.
'. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 174.
2' Там же, т. 4, с. 345.
2 .Чакал imii
17
Великое счастье, если, читая Ленина, ты утверждаешься в
собственных выводах, удостоверяешься в своей правоте.
Великий урок, если Ленин сурово убеждает, что ты был не нрав в
отшумевшем споре и должен отказаться от своих ошибочных
взглядов. И всегда ленинизм — это пульсирующий, живой нерв
нашей действительности, идейный кислород, поддерживающий
творческое горение, наша ничем не запятнанная классовая,
гражданская, человеческая совесть.
Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше '
— эти слова поэта давно стали глубоко личной жизненной
нормой коммунистов, десятков миллионов советских людей.
Конечно, они неодинаково весомы в устах школьника и
наставника молодежи, юного призывника и ветерана Великой
Отечественной войны. Но кто бы эти слова ни произносил, они
неизменно несут в себе то облагораживающее начало, которое не
позволяет человеку затеряться в мелочной суете повседневности
и поддерживает в рабочем состоянии наше представление
о коммунистическом идеале.
Имя Ленина — символ нового мира, а его духовный
облик — образец в процессе формирования нового человека.
Маяковский В. В. Поли. собр. соч. В 13-ти т., т. 6, с. 234.
ПРАВДА-
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ПРАВДА-ИСТИНА
Общим знаменателем «критиков» ленинизма (от идеологов
откровенно империалистического толка до социал-демократов
и правых оппортунистов) является, как известно, тезис об
аморальности средств, применяемых коммунистами для достижения
своих конечных целей. Они заявляют, что в процессе
пролетарской революции происходит якобы искажение, а затем и полная
деформация социалистических идеалов, которые
истолковываются ими, как правило, в морально-этическом плане.
За этими антикоммунистическими выпадами стоит, можно
сказать, уже солидная политикЬ-пропагандистская традиция.
Подводя под нее историко-философскую базу, наши идейные
противники (из которых иные не прочь щегольнуть и цитатами
из К. Маркса) пытаются доказать, что в России марксизм
подвергся «народническому перерождению». Ленинизм,
утверждают они, противоречит гуманистическому содержанию учения
Маркса, по своей сути он скорее тождествен идеологии
революционного народничества, прежде всего народовольцев.
Для доказательства этого надуманного, насквозь фальшивого
тезиса в ход пускается все — от вкривь и вкось толкуемой
полуправды (вроде вырванных из контекста известных ленинских
положений о революционной преемственности поколения
революционеров-народников и большевиков или же демагогического
истолкования факта влияния на выбор В. И. Лениным
революционного жизненного пути судьбы его старшего брата
Александра, находившегося под впечатлением народовольческих идей и
казненного в 1887 году за подготовку покушения на царя
Александра III) до прямой подтасовки и фальсификации
исторических фактов.
Так, в изданной в Лондоне книге некоего М. Правдина «ключ
к большевизму» «найден» автором во взглядах и действиях
С. Нечаева — печально известного «левого» анархо-авантю-
риста, чьим идейным кредо был иезуитский принцип: «цель
оправдывает любые средства», а «практическим вкладом» в
революционное движение России начала 70-х годов — убийство
2\
студента Иванова, отказавшегося слепо идти за этим
псевдореволюционером.
Существует и такая точка зрения, согласно которой начало
народническому «перерождению» марксизма положил-де сам
Карл Маркс, попав после 1870 года под влияние революционных
идей Н. Г. Чернышевского и «стародавнего пламенного духа
русского бунта». Так полагает, например, буржуазный философ,
бывший русский меньшевик Н. Валентинов.
При этом сторонников подобных точек зрения объединяет то,
что революционные народники, особенно народовольцы,
заведомо объявляются ими людьми аморальными, политическими
деятелями, для которых хороши любые средства — лишь бы они
вели к революции, бунту; взрыву народных страстей. Совершается
тем самым двойная — и фактическая и историческая —
фальсификация. Представителей революционного народничества
70 — начала 80-х годов можно «обвинять» в чем угодно, но
только не в недостатке высоконравственных качеств: моральной
чистоты, готовности к самопожертвованию ради блага народа,
чувства товарищества и личного бескорыстия.
Собственно говоря, революционное народничество, как
свидетельствуют высказывания многих активных участников этого
течений, и формировалось в начале 70-х годов в борьбе с нечаев-
щиной и как ее сознательное опровержение, как движение,
поставившее перед собой нелегкую, но благородную задачу:
органически соединить революционность с высокой моралью,
подлинно гуманные социальные цели и идеалы с
высоконравственными принципами борьбы за них. «Его (Нечаева.— В. П.)
теория,— писала, например, Вера Фигнер, одна из видных
представительниц революционного народничества,— цель оправдывает
средства — отталкивала нас, а убийство Иванова внушало ужас
и отвращение»1.
Не противоречит ли этому тактика террора, который
народовольцы рассматривали не только как акт самозащиты
революционеров и возмездия за массовое насилие, творимое царем и его
репрессивным аппаратом, но и как важнейшее средство
свержения самодержавия и установления политической свободы в
России? Была ли эта тактика исторически необходимой, неизбежной
формой борьбы революционеров в конкретных условиях России
начала последней трети прошлого века? Была ли она
нравственно оправданным средством революционного действия? И какое
влияние оказала она на формирование в России личности
революционера?
1 Фигнер В. Поли. собр. соч. В 7-ми т. М., 1932, т. 1, с. 91: см. также:
Чарушин И. А. О далеком прошлом. М.. 1973, с. НО и др.
Вопросы, конечно, непростые. И — скажем заранее —
существенные различия в ответах на них не всегда определяются
лишь противоположными классовыми интересами,
принадлежностью оппонентов к различным политическим лагерям,
немалую роль здесь играют и занятые ими исходные
научно-теоретические позиции.
Начнем разговор о поставленных вопросах, так сказать, со
стороны, откуда, как говорят, многое виднее.
И ПОИСКАХ СОЦИАЛЬНЫХ ИДКЛЛОВ
Именно в процессе борьбы за самую широкую
и самую высокую, даже и недостижимую
жизненную цель могут быть осуществлены те реальные
цели, которые делают историю человечества
процессом прогрессивным. Реальным прогресс
истории состоит не из чего иного, как из частных
завоеваний, сделанных при стремлении к далеко
более широкой и далекой правде в мысли и в жизни,
завоеваний, которые были бы невозможны, если бы
перед глазами личностей, осуществлявших эти
завоевания, не рисовались идеалы, далеко более
широкие, правда, далеко более радикальная.
П. Л. ЛАВРОВ
Принято считать, что самый бесплодный спор — спор о
словах. Это, конечно, верно, но лишь при условии, если выданных
словах не находит предельно сжатого выражения то, что бродит
и формируется в самой жизни, вокруг чего ломают копья видные
представители тех или иных классов, партий, политических
групп. А если дело обстоит так, то спор о словах заключает в себе
серьезное содержание и слово становится, Как сказал
поэт,«полководцем человечьей силы».
Именно такой характер имела, на наш взгляд, дискуссия о
«правде-истине» и «правде-справедливости», занявшая
заметное место в творческих исканиях русской общественной мысли
на рубеже XIX —XX веков. И не столь уже существенно, в чьих
работах впервые появились эти словосочетания, претендующие
скорее на то, чтобы стать яркими литературными образами,
нежели строго научными формулировками. Для нас в данном
случае важно то, что в них была выразительно заострена одна из
волновавших многих демократически настроенных
представителей русской интеллигенции проблем социального идеала —
соотношение в нем необходимого и должного,
объективно-детерминированного и морально-непреложного. Возможно, не без
влияния этой дискуссии у западных интеллигентов последней трети
XIX века и сложилось мнение о своих российских собратьях как
о людях, которых не способна увлечь правда-истина вообще, а
нужна им лишь и непременно правда-справедливость.
Мнение это отчасти разделялось и теми из русских
интеллигентов, которые волей их беспокойной революционной судьбы
долгие годы жили за границей. «Исключительно умозрительное
направление,— писал А. И. Герцен, первый крупнейший
политический эмигрант из России, стоящий у истоков
народничества,— совершенно противуположно русскому характеру, и мы
скоро увидим, как русский дух переработал Гегелево учение и
как наша живая натура, несмотря на все пострижения в
философские монахи, берет свое»1. В той же, видимо, системе
социально-психологических координат работала и мысль одного из
отважных революционеров-народовольцев 70—80-х годов —
С. М. Степняка-Кравчинского, когда он, рассматривая себя и
своих товарищей сквозь призму западноевропейского
общественного мнения, писал в очерках «Подпольная Россия»: «Очень
характерно это свойство русской натуры — относиться со
страстностью, доходящей до фанатизма, к вопросам, которые со
стороны всякого европейца вызвали бы простое выражение одобрения
или порицания»2.
Из сказанного, конечно, ни в коей мере не вытекает
обоснованность утверждений современных буржуазных
интерпретаторов идеологии русских народников о том, что для последних
якобы были характерны не поиски объективной теоретической
истины, а лишь утилитарное к ней отношение. В равной мере
фальшивы и стремления буржуазных советологов объяснить
идеологию революционного народничества, исходя из
искусственно конструируемой теории различных «психологических
типов» нации, согласно которой русские, в отличие от
западноевропейцев, являются будто бы «в сущности восприимчивой и
эмоциональной нацией... скорее интуитивной, чем логической»3.
Поверхностные рассуждения о теоретической «глухоте»
русских революционеров-народников рассчитаны явно на
некомпетентного читателя и простительны разве что людям, не
слыхавшим никогда об именах таких, например, родоначальников
идеологии русского народничества и выдающихся мыслителей
своего времени, как А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский,
Н. А. Добролюбов. Согласно свидетельству Г. А. Лопатина,
такой, несомненно склонный к поиску объективных теоретических
истин «западноевропеец», как Маркс, после обстоятельного
изучения трудов Н. Г. Чернышевского отмечал, что из всех совре-
' Герцен Л. И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1956, т. 9, с. 18.
2 Степняк-Кравчинский С. М. Соч. В 2-х т. М., 1958, т. 1, с. 369.
3 Lavrin l.The Two Worlds.- Russian Review, 1968, vol. 27, Jan., p. 4-5.
монных экономистов Чернышевский представляет мыслителя,
сочинения которого полны оригинальности, силы и глубины
мысли, между тем как остальные суть только простые
компиляторы1. Говоря о революционных эмигрантах из числа
демократической разночинной интеллигенции начала 70-х годов XIX века,
ф. Энгельс в 1872 году заметил, что среди них «есть люди,
которые по своим дарованиям и характеру безусловно принадлежат
к лучшим людям нашей партии; парни, у которых выдержка,
твердость характера и в то же время теоретическое понимание
прямо поразительны»2. Несколько позже, отвечая одной из своих
русских корреспонденток, Е. Паприц (полагавшей, что русские
социалисты якобы не обладают настоящими научными знаниями
в области общественной жизни), Энгельс писал: «Мне кажется,
что Вы немного несправедливы к Вашим соотечественникам. Мы
оба, Маркс и я, не можем на них пожаловаться. Если некоторые
школы и отличались больше своим революционным пылом, чем
научными исследованиями, если были и есть еще кое-где
блуждания, то, с другой стороны, была и критическая мысль и
самоотверженные искания в области чистой теории, достойные
народа, давшего Добролюбова и Чернышевского. Я говорю не только
о революционных социалистах, действующих на практике, но
также об исторической и критической школе в русской
литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в этом
отношении в Германии и Франции официальной исторической
наукой. И даже среди революционеров-практиков наши идеи и
экономическая наука, коренным образом переработанная
Марксом, всегда встречали понимание и симпатию»3.
Особая, бросающаяся в глаза тяга русских
революционеров-демократов к сочетанию научной истины и социальной
справедливости, к поискам правды-справедливости, а не к сухим,
бесстрастным теориям, индифферентным к острейшим
общественно-политическим вопросам, объяснялась, следовательно, иными
причинами. Назовем здесь лишь некоторых из них.
Во-первых. Особенно жестокие и вопиющие (по сравнению
с Западной Европой) формы политического деспотизма и
эксплуатации народных масс, их материальная и культурная
нищета.
Во-вторых. Крах надежд (со времен революции 1848 года)
на близость осуществления идеалов социальной справедливости
в передовых странах Европы, опыт которых показывал, что борь-
См.: Герман Александрович Лопатин. Пг., 1922, с. 71.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 411.
Там же, т. 36, с. 147 (подробнее об отношении Маркса и Энгельса
к русским революционерам, в частности народникам, см.: Конюшая Р. П.
Карл Маркс и революционная Россия. М., 1975).
ба за политические права и свободы привела в конечном счете к
утверждению господства буржуазии, к расцвету новых методов
эксплуатации, новых, не менее безобразных, чем при
феодализме, форм материального и духовного обкрадывания трудящихся.
Отсюда страстное желание революционеров-народников помочь
своему народу избежать ужасов капитализма. Тем более
страстное, что после царской реформы 1861 года такие люди, как,
например, Чернышевский, уже начинали понимать, что Россия
вступает на путь стран Западной Европы и может повторить его.
Что же касается наиболее выдающихся
революционеров-народников 70— начала 80-х годов, то они не то чтобы не видели,
сознательно игнорировали развитие капитализма в России, они его
ненавидели и хотели как-то избежать жестоких для народа
последствий этого развития. Горячая антикапиталистическая
эмоция, замешанная на вере в особую роль русской деревенской
общины и в вытекающую из общинного устройства
коллективистскую, якобы социалистическую психологию российского
крестьянства,— вот что лежит, если взять гносеологическую
сторону вопроса, в основе социалистической утопии народников
этого поколения. Вот без чего, во всяком случае, лельзя понять
того йа первый взгляд парадоксального факта, что такие люди,
как П. Л. Лавров, Г. А. Лопатин и другие, читавшие и глубоко
почитавшие К. Маркса, не стали сознательными и
последовательными сторонниками пролетарского, научного социализма.
В-третьих (и это, быть может, самое главное). Передовые
люди России последней трети XIX века, и прежде всего
демократически настроенная разночинная интеллигенция, самим
объективным ходом общественной жизни, самой логикой
развития событий в стране, где вызревала вторая революционная
ситуация, были поставлены как революционеры перед
необходимостью начать осуществление тех идей, которые составляли
«символ их веры», идей народнического или, иначе, русского
крестьянского социализма. Они видели свою гражданскую
обязанность в том, чтобы вступить наконец на путь наиболее
сложный и опасный, которым не ходили их великие учителя,^ на
путь революционного дела, проверки (и утверждения, как
полагали они) своей народнической теории на практике. И они
встали на этот путь и прошли его до конца, вызвав удивление
всего мира своей, по словам Ф. Энгельса, «неслыханной
способностью к самопожертвованию и энергией»1.
Но, может быть, читателю будет небезынтересно узнать, что
всего лишь за 12 лет до того, как были сказаны эти слова, Маркс
был немало удивлен пришедшими из России известиями не-
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 34, с. 357.
сколько иного рода. «Несколько дней тому назад,— писал он 12
октября 1868 года своему другу Л. Кугельману,— один
петербургский книгоиздатель поразил меня известием, что сейчас
печатается русский перевод «Капитала»... Такова ирония судьбы:
русские, с которыми я в течение 25 лет беспрерывно боролся в
своих выступлениях не только на немецком, но и на
французском и на английском языках, всегда были моими
«благодетелями». В 1843—1844 гг. в Париже тамошние русские аристократы
носили меня на руках. Мое сочинение против Прудона (1847), а
также то, что издал Дункер (1859), нигде не нашли такого
большого сбыта, как в России. И первой иностранной нацией, которая
переводит «Капитал», оказывается русская. Но все :>то,— как бы
охлаждая свою радость, пишет далее Маркс,— не следует
переоценивать. Русские аристократы в юношеские годы
воспитываются в немецких университетах и в Париже. Они гонятся
всегда за самым крайним, что дает Запад. Это чистейшее гурманство,
такое же, каким занималась часть французской аристократии в
XVIII столетии. «Это не для портных и сапожников»,— говорил
тогда Вольтер о своих просветительных идеях. Это не мешает тем
же русским,— совсем уже сурово завершает Маркс,— с
поступлением на государственную службу делаться негодяями»1.
Первым иностранным изданием бессмертного произведения
Маркса; вышедшим в свет 27 марта 1872 года, действительно
стало русское издание «Капитала», переведенное народниками
Г. А. Лопатиным 2, Н. Ф. Даниельсоном 3, а также Н.4 Н. Лю-
бавиным 4. И именно Россия стала первой страной, переведшей
диалектику «Капитала» на практический язык победоносной
социалистической революции, руководимой партией
большевиков во главе с Ульяновым-Лениным.
Очевидно, в особом интересе, проявленном в России к
«Капиталу», скрывалась не ирония судьбы. За этим фактом, как
показала история, стояла скорее сама судьба (если использовать
здесь образное определение Маркса). И не кто другой, как Маркс
' Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 32, с. 472
После создания организации «Народная воля» русский революционер-
народник Г. А. Лопатин примкнул к ней и принимал активное участие в ее
деятельности. В 70-е годы, во время пребывания за границей, вступил в тесные
дружеские отношения с Марксом и Энгельсом, которые отзывались о нем как
о человеке большого ума и безумной смелости. По предложению Маркса он был
избран в Генеральный совет I Интернационала, поддерживал там борьбу Маркса
против Бакунина. Не раз подвергался арестам (в частности, в связи с неудачной
попыткой освободить Н. Г. Чернышевского). В 1887 году приговорен к смертной
казни, замененной бессрочной каторгой. Освобожден в 1905 году.
В 60 —70-е годы Н. Ф. Даниельсон был связан с кружками
революционной интеллигенции. В 80—90-е годы — один из идеологов либерального
народничества.
4 См.: Коммунист, 1982, № 15, с. 28-33.
и Энгельс, вскоре первыми почувствовали дыхание этой
«судьбы» — назревавшей русской народной революции, способной,
по их мнению, иметь «решающее значение» для всей Европы1.
В части нашей литературы, отмеченной печатью того, что
принято называть культом личности, многие годы прямо или
косвенно проводилась мысль о том, что революционное
народничество 70— начала 80-х годов как идейно-политическое
движение послужило помехой усвоению в России марксизма
как единственно верной теории, стратегии и тактики
революционно-социалистического движения. Логика
данной оценки (если несколько огрубить ее) была предельно
проста: не может быть прогрессивным фактором
революционно-социалистического вызревания страны такое идейно-политическое
течение, которое в этот период с точки зрения
всемирно-исторических завоеваний революционного движения и революционной
мысли (в сравнении с такой их вершиной, как марксизм,
пролетарский социализм) представляло пройденный этап.
Ошибочность, методологическая несостоятельность такого
подхода коренится не только в том, что здесь вольно или
невольно сквозит стремление оценивать то или иное
социально-политическое явление, действия тех или иных исторических сил и
личностей не по тому реальному вкладу, который они внесли в
ход социального прогресса в конкретных исторических
условиях, а по тому, что они должны были бы сделать, если подойти к
ним с современных позиций. Забвение принципа историзма,
проявление, говоря словами Ленина, «исторической
бестактности» сопровождается при таком подходе и другой, на наш
взгляд, еще более существенной ошибкой. А именно: неумением
применить идею исторического материализма по отношению к
становлению и утверждению марксизма в российском массовом
революционном движении как подлинно научной его теории и
идеологии. При таком подходе из числа факторов перехода
революционной мысли России к научному социализму исключается,
по сути дела, сам процесс и характер ее национальной истории,
российское национальное бытие, а решающим условием
перехода к марксизму оказывается лишь факт знакомства с этой
теорией, взятый сам по себе, то есть как чисто интеллектуальный
акт, никак не связанный с политической практикой, с
революционной борьбой масс данной страны2.
Разумеется, говоря о народниках, нельзя забывать о тех
существенных расхождениях, которые всегда (а тем более на дос-
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 158.
2 Эта ошибочная точка зрения удачно преодолевается, на наш взгляд,
в книге: Пантин И. К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии
к науке. М.. 1973.
!.s
таточно длительном отрезке времени) имелись во взглядах
и действиях их различных групп. В целом для русского
народничества прошлого века были характерны две тенденции, два
основных направления — революционное и либеральное. Расцвет
революционного народничества, родоначальниками которого
были А. И. Герцен и в особенности Н. Г. Чернышевский,
приходится на 70-е годы. Что касается либерального течения,
отвергавшего революционные методы свержения существующего
строя, то оно возобладало в русском народничестве примерно с
середины 80-х годов и с его представителями русские марксисты,
и прежде всего Ленин, вели ожесточенную борьбу,
закончившуюся полным идейным разгромом либерального
народничества. Здесь мы ведем речь лишь о первом, то есть революционном,
течении, которое В. И. Ленин, имея в виду его классовое
содержание, нередко называл «крестьянским социализмом», в
отличие от «мещанского радикализма» либеральных народников
80-90-х годов1.
ИСПЫТАНИЯ НА ПРАКТИКИ
Идеи не падают с неба. Более того, подобно
любому другому продукту человеческой
деятельности, они формируются при определенных
обстоятельствах, в такое время, когда в достаточной мере
созрели условия для их появления, под влиянием
известных потребностей и как результат
многократных попыток удовлетворить эти потребности...
А. ЛАБРИОЛА
История показывает, что значение той или иной
революционной идеологии, идеологии массового движения измеряется не
только заключенными в ней собственно интеллектуальными
открытиями, не только ее научно-теоретическим уровнем. В этом
отношении революционное народничество — даже в лице таких
его видных теоретиков, как П. Л. Лавров, П. А. Кропоткин,
П. Н. Ткачев,—действительно не дало, быть может,
значительного приращения к идейно-теоретическому наследию Герцена
или тем более Чернышевского, а кое в чем сделало даже по
сравнению с ними шаг назад. Что касается представителей так
называемого террористического крыла революционного
народничества (например, Андрея Желябова, Софьи Перовской и других соз-
См»: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 272.
дателей и руководителей организации «Народная воля»), то они
и не претендовали на это, будучи заняты иным делом (по
выражению Маркса, просто «делом»). Трудно, однако, отрицать
значение идеологии революционного народничества с точки зрения
того влияния, которое она длительное время оказывала на
борьбу с реакционными, антиреволюционными взглядами среди
российской, прежде всего разночинной, интеллигенции, на
формирование ее умонастроений, нравственного сознания и на
практическое поведение.
Не случайно такой весьма противоречивый в
идейно-политическом отношении представитель российской интеллигенции,
духовно сложившейся в дооктябрьский период, как Борис
Пастернак, писал в поэме «Девятьсот пятый год», выражая
преемственную связь своего поколения с поколением
революционеров-народников:
Это — народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне.
Да и ближе нельзя:
Двадцатипятилетье — в подпольи.
Клад — в земле.
На земле —
Обездушенный калейдоскоп.
Чтобы клад откопать,
Мы глаза
Напрягаем до боли.
Покорясь его воле,
Спускаемся сами в подкоп.
Тут бывал Достоевский.
Затворницы ж эти,
Не чаяв,
Что у них,
Что ни обыск,
То вывоз реликвий в музей,
Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
Утаил
От времен и врагов и друзей.
.40
Это было вчера,
И, родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери
Или
Приятельницы матерей1.
Влияние идеологии революционного или, как его еще
называют, действенного народничества на российскую интеллигенцию
было, конечно же, далеко неоднозначным. Для одних это было
временным увлечением молодости или «тайной симпатией». Для
других оно стало тем свежим ветром, что наполнил смыслом всю
их жизнь, всегда суровую и нередко очень короткую. Ведь
нелегальная борьбд, преследования, каторга и ссылки, побеги,
эмиграция и вновь борьба, подтачивая здоровье, уносили многие
человеческие жизни, делая это не менее успешно, чем царские
виселицы. Для иных интеллигентов идеи и дело народников
служили точкой отталкивания, предметом острого спора, а то
и решительного отрицания; для других —
революционно-критического осмысления и переосмысления, позитивного
преодоления... От Чернышевского до Александра Ульянова, от
Достоевского до Плеханова — таков идейный размах российского
политического маятника, завод которому был дан идеями и
революционной страстью русских народников.
Одним словом, долгое время идейные позиции и взгляды
действенного народничества и были в значительной мере теми
самыми революционными дрожжами, которые поднимали, порой
заставляя бурлить и клокотать, казалось бы, дремавшую прежде
большую массу людей, не оставляя пассивно-равнодушных
среди передовой части интеллигенции России. Той самой
социальной группы, в среде которой только и могло, по Ленину,
сформироваться и в которой действительно сформировалось в 90-е
годы прошлого века прочное революционно-социалистическое
ядро, взявшее на себя осуществление исторической миссии
привнесения в российское революционное движение идей
научного социализма, соединения быстро и бурно развивавшегося
рабочего движения нашей страны с действительно
революционной теорией — марксизмом.
Но дело, разумеется, не только в том, что деятельность
народников наложила заметный отпечаток на развитие
общественного сознания России, активно способствовала (несмотря на все
Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1965, с. 247 — 248.
!1
их ошибки и заблуждения) приданию революционной
направленности мышлению и психологии значительной части
интеллигенции. Как мы уже отмечали, революционные народники
70 — начала 80-х годов видели свою задачу в том (и она
объективно состояла в том), чтобы осуществить переход от высоких
нравственных идеалов к активной социальной деятельности,
на них основанной, от горячей веры в торжество идеи социальной
справедливости и равенства — к реальной борьбе за их
осуществление в условиях царской России, от революционной теории
(точнее, от той теории, которую они считали революционной) —
к революционной практике. И то, что они делали в данной сфере,
принадлежало уже к области социально-политического
творчества, ибо в учении их великих предшественников, в наследстве,
оставленном их учителями, по сути дела, не было для этого
конкретных ориентиров и существенных опорных пунктов. А без
такого творчества, без реальных практических попыток творить
историю на основе революционных идей идеи эти, как известно,
не смогут стать достоянием массового сознания, не
смогут превратиться в необходимый элемент духовного и
нравственного уклада жизни больших групп людей, в ту силу,
которая способна уничтожать старые и созидать новые
общественные порядки. От состояния социально-политической апатии
и дремоты, в котором находилась огромная масса народа после-
реформенной России (и это состояние не могло, разумеется, не
отражаться на взглядах и умонастроениях интеллигенции),
перейти непосредственно (минуя стадию
практически-политической борьбы) к идеям научного социализма сколько-нибудь
массовое революционное движение могло бы разве что в головах
оторвавшихся от жизни доктринеров, согласно которым история
должна развиваться по логике их идей, а не по своим
собственным внутренним законам.
Соединив идеи крестьянского, народнического социализма
с практическим действием, питаемым исключительной энергией,
редкой целеустремленностью и самопожертвованием
сравнительно небольшой группы борцов, революционеры-народники в
исторически кратчайший срок практическим путем доказали...
неосуществимость своих идей социалистического
переустройства России. В таких условиях уже нельзя было оставаться
сознательным социалистом в России, не делая шагов к пролетарскому
социализму. И эти шаги были сделаны сначала- плехановской
группой «Освобождение труда», а затем В. И,. Лениным, его
«Союзом борьбы за освобождение рабочего класса», ставшим
уже непосредственно в России зачатком революционной
организации нового типа, соединяющей научный социализм с массовым
рабочим движением. «В течение около полувека,— писал Ле-
нин,— примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая
мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного
царизма, жадно искала правильной революционной теории,
следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и
каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области.
Марксизм, как единственно правильную революционную
теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей
неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма,
невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения,
испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта
Европы»'.
Таким образом, переход в России от утопического социализма
к научному был не простым актом чисто интеллектуального,
теоретического выбора в пользу идеологии марксизма,
происшедшим в сознании «наиболее выдающихся умов». Это был
переход, практически подготовленный деятельностью
предшественников российских марксистов, он был практически
выстраданным актом; причем между революционным крылом
российской социал-демократии и революционным
народничеством, по существу, нет с точки зрения внутренних
особенностей развития России, несмотря на все существенные,
качественные различия между ними, иных, достаточно значимых
промежуточных звеньев. И не случайно первым крупным русским
марксистом, сознательным пропагандистом теории К. Маркса
стал Г. В. Плеханов — активный в молодости деятель
революционных народнических организаций.
Очевидно, невозможно правильно оценить место и
историческую роль действенного народничества в переходе русского
революционного и демократического движения к научному
социализму, не уяснив простого факта: основной помехой для
массового усвоения идей марксизма, пролетарского социализма в
России конца 60 — начала 70-х годов были отнюдь не идеология
и действия революционного народничества, а практическая
неразвитость, отсталость этого движения. И не столько в силу
недостаточно активной и целеустремленной деятельности
прогрессивно мыслящей интеллигенции. В России в этот период не
было того класса, который мог бы осуществить исторически
назревший демократический (а тем более социалистический!)
переворот. «Не было» не в смысле его полного физического
отсутствия, а в смысле его готовности выполнить эту миссию.
И ничего удивительного тут нет. «...История,— отмечал в
этой связи В. И. Ленин,— вовсе не идет таким простым и
гладким путем, чтобы всякое исторически назревшее преобразование
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 7—8.
3 Алкал ШУ.\ •'№
означало тем самым достаточную зрелость и силу для
проведения этого преобразования тем именно классом, которому оно
в первую голову выгодно»1. Дело в данном случае в том, что ни
зарождающиеся в этот период (70-е годы) в России классы
пролетариата и буржуазии, ни крестьянство, составлявшее
громадную, но политически незрелую или пассивную, спящую,
говоря словами Чернышевского, «младенческим сном» массу
населения, не были способны к революционному
преобразованию прежнего уклада жизни.
О степени осознания видными идеологами и практиками
революционного народничества этого исторического факта
можно спорить, конечно, долго, находя — при известной
настойчивости — подтверждение любой точке зрения. Ибо
диапазон высказываний (принадлежащих в разные периоды нередко
одним и тем же людям) по поводу готовности России к
революционному обновлению весьма широк: от известных горьких
слов: «Нация рабов,— снизу доверху, все сплошь рабы...»2 — до
исполненных розового оптимизма представлений, будто
достаточно лишь одной искры, чтобы в России вспыхнуло
всенародное восстание...
Не вступая в дискуссию по этому сложному вопросу, заметим
только, что весьма распространенное мнение о всех поголовно
революционерах-народниках как о наивных людях, ожидавших
со дня на день победы социалистической революции в России,
имеет мало общего с действительностью. Осознание
политической неподготовленности крестьянства к революции, чувство
«исторического реализма» росли, хотя и неравномерно, в
русском революционном народничестве по мере того, как оно
переходило от слов к делу, набиралось практического опыта работы
в массах. Отрезвляющую роль в этом отношении сыграл уже
опыт «хождения в народ», принявший особенно широкий размах
в 1873—1874 годах и наглядно показавший неподготовленность
одних (крестьян) к восприятию
революционно-социалистических идей, а других (радикально настроенных
интеллигентов) — к пропагандистской работе с народом.
Психологически достоверную деталь, раскрывающую этот
разрыв между народом и народнической молодежью, дает
народник Н. А. Морозов, который с огорчением наблюдал, как
розданные им политические брошюры были употреблены на
цигарки. «Да уже прости, родной! — добродушно повинились
перед ним.— Больно покурить захотелось, а бумага-то такая
чистая, хорошая...»3 Кстати говоря, именно опыт «хождения
' Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 152-153.
2 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. В 15-ти т. М., 1949, т. 13, с. 197.
3 Цит. по: Турков А. Салтыков-Щедрин. М., 1964, с. 200.
.Г.
в народ» послужил толчком к тому, что часть народников, еще
не расставаясь с идеями «крестьянского» социализма, обратила
свой взор на трудящихся города, начала работу с
формирующимся в стране пролетариатом.
Героизм, моральная стойкость революционеров-народников,
присущее им чувство высокой социальной ответственности за
судьбы своей страны, своего народа, объективно проявились,
на наш взгляд, прежде всего в том, что они пошли, как это ясно
теперь, на активизацию неравной борьбы с царизмом, борьбы
за утверждение своих революционно-демократических
убеждений в условиях, когда массовый субъективный фактор
революционных изменений еще не созрел для самостоятельных
исторических действий. Этим можно в определенной мере объяснить
(но не оправдать, разумеется) и преимущественно этико-социо-
логический подход многих теоретиков народничества 70-х годов
к обоснованию революционной стратегии и тактики, апелляцию
к нравственным стимулам, стремление подтолкнуть
интеллигенцию к революционной деятельности, вводя в круг ее
мышления такие понятия, как «социальная справедливость», «благо
народа» и т. д. Не дожидаться сложа руки, пока народ полностью
созреет, а, выполняя свой нравственный долг перед ним,
действовать, работать во имя его революционного пробуждения —
таким, по существу, было идейно-нравственное кредо лучшей
революционно настроенной части народников.Позиция
революционеров-народников в этом отношении прямо контрастировала
со взглядами сторонников «прогресса» из числа русских
либералов, прославлявших на словах «зарю светлого будущего», но
практически ничего не делавших для его торжества. Именно
такого либерального деятеля высмеивал М. Е. Салтыков-Щедрин
в «Мелочах жизни»: «Нередко видали его сидящим у окна и как
будто чего-то поджидающим. Вероятно, он поджидал зарю, о
которой когда-то мечтал... Но заря не занималась...»1
Удачно социально-психологический настрой деятелей
революционного народничества выражен в художественной форме
в стихотворении Андрея Вознесенского «Старая фотография»:
Нигилисточка, моя прапракузиночка!
Ждут жандармы у крыльца на вороных.
Только вздрагивал,
как белая кувшиночка,
гимназический стоячий воротник.
Страшно мне за эти лилии лесные,
и коса, такая спелая коса!
Не готова к революции Россия.
Милая, разуй глаза.
Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. В 20-ти т. М., 1974, т. 13, с. 246.
«Я готова,— отвечаешь,— это — главное».
А когда через столетие пройду,
будто шейки гимназисток
обезглавленных,
вздрогнут белые кувшинки на пруду1.
Возвышенный, исторически оправданный смысл
устремлений революционеров-народников не могут принизить ни утопизм
их социалистических воззрений, ни известные иллюзии насчет
возможности России перейти к социализму, минуя стадию
капиталистического развития. Заметим, кстати, мнение (весьма
распространенное не только на уровне обыденного сознания),
что понятия «утопия», «иллюзии» и им подобные имеют лишь
сугубо негативное (и уж, во всяком случае, бесполезное)
значение с точки зрения революционной практики, никак не
согласуется с научной, марксистской оценкой роли этих форм
сознания в истории человечества. Имея в виду именно иллюзии
русских социалистов-народников о возможности осуществления
их идей в условиях России 80-х годов, Ф. Энгельс отмечал в
письме В. И. Засулич: «Предположим, эти люди воображают,
что могут захватить власть,— ну, так что же? Пусть только они
пробьют брешь, которая разрушит плотину,— поток сам быстро
положит конец их иллюзиям. Но если бы случилось так, что эти
иллюзии придали бы им большую силу воли, стоит ли на это
жаловаться?»2
Не может умалить историческую роль деятельности
революционных народников и тот бесспорный факт, что далеко не все
средства, методы борьбы, применявшиеся ими, действительно
вели к поставленной цели, а некоторые независимо от их
желания и воли уводили в сторону от магистрального
революционного пути.
НРАВСТВЕННОСТЬ
И РЕВОЛЮЦИЯ
Среди русского народа всегда найдется десяток
людей, которые настолько преданы своим идеям и
настолько горячо чувствуют несчастье своей
родины, что для них не составляет жертвы умереть за
свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-
нибудь.
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ
Выдающейся исторической заслугой определенного крыла
революционного народничества перед российским освободитель-
1 Вознесенский А. Дубовый лист виолончельный. М., 1975, с. 40.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 263.
36
ным движением было то, что оно вывело это движение, вопреки
прежним умозрительным теоретическим конструкциям
народников, на путь политической борьбы с самодержавием как
важнейшего предварительного условия и стимула народной революции,
ориентированной на социалистический идеал. Этот
качественный скачок связан прежде всего с деятельностью народовольцев.
Но именно с их деятельностью связано и выдвижение на
передний план революционного движения террористического метода
политической борьбы, который не только вызвал ожесточенные
идейно-политические споры среди народников того времени, но
и стал камнем преткновения, помехой для сплочения всех
революционных сил в более позднее время — на рубеже XIX и
XX веков, когда вместе с пробуждением рабочего класса к
сознательной борьбе в России стали оформляться и крепнуть
марксистские силы. Последнее обстоятельство, к сожалению, нередко
довлеет над умами современных исследователей при оценке
деятельности созданной в 1879 году организации «Народная
воля», в то время как конкретно-исторический контекст ее
возникновения учитывается лишь в слабой мере.
Уже говорилось о той роли, которую сыграл опыт «хождения
в народ» для внесения отрезвляющих коррективов в
социалистические утопии народников 70-х годов, в их представления о
готовности страны к крестьянской революции. Но важно не
забывать и другое. А именно то, что на эту мирную и, казалось бы,
довольно безобидную, преимущественно пропагандистскую
форму борьбы народников за осуществление своих социальных
идеалов царское самодержавие — в припадке какого-то безумного
страха и вместе с тем с явным ощущением своей полной
безнаказанности — ответило неправомерно (если здесь можно
употребить это слово) жестокими репрессиями: тюрьмами,
неслыханными издевательствами над арестованной патриотической
молодежью, суровыми сроками наказаний. Как свидетельствует
придворный царский историк С. С. Татищев, описывая
печальный финал «хождения в народ» 70-х годов, только дознание над
более чем тысячью привлеченными к ответственности молодыми
людьми за социально-революционную пропаганду,
продолжавшееся несколько лет, привело к тому, что 43 человека умерли
в тюрьме, 12 совершили самоубийство, 3 покушались на него,
38 сошли с ума1.
Давайте перенесемся мысленно в прошлое, попытаемся
воспроизвести себе картину, которая раскрылась в тот период перед
глазами революционеров-народников (не вымышленных, не тех,
1 См.: Татищев С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование.
Спб., 1911, т. 2, с. 549.
:!7
какими нам хотелось бы их видеть, а реальных, какими они
действительно были, точнее какими они ощущали себя).
Подводя во второй половине 70-х годов итоги своей
деятельности, народники могли констатировать, отмечал С. М. Степ-
няк-Кравчинский, что итоги эти ничтожны по сравнению с
затраченными усилиями и громадными жертвами, которые
понесло демократическое движение. Попытки силой слова поднять
крестьян на борьбу с царизмом в условиях жесточайшего
произвола вели лишь к новым жертвам среди цвета русской молодежи.
Не представлялась им перспективной и работа в
сравнительно малочисленных и разбросанных на огромных
пространствах городах, легко превращаемых правительством в настоящие
военные лагеря, где также на любую попытку революционно-
демократической деятельности царизм отвечал кровавыми
репрессиями. «...Как избавиться от этой банды, укрывшейся за
лесом штыков? — воспроизводил ход мысли революционеров,
ставших на путь терроризма, Степняк-Кравчинский.— Как
освободить от нее родину? Нечего было и думать о взятии приступом
твердыни царизма, как то делалось в других, более счастливых
странах. Нужно было обойти врага с тылу, схватиться с ним
лицом к лицу позади его неприступных позиций, где не помогли
бы ему все его легионы. Так возник терроризм»1.
В этом эмоционально насыщенном отрывке из очерков
«Подпольная Россия» довольно точно передаются умонастроения
весьма широкого круга участников российского революционно-
демократического движения. В подтверждение приведем и
свидетельство Н. А. Чарушина — одного из первых участников
народнического движения 70-х годов, дожившего до победы
Октября. «Доходившие до нас отрывочные сведения о
начавшейся в России героической борьбе определенно политического
характера сравнительно небольшой группы людей с всесильным
русским правительством,— писал он, вспоминая мысли и
чувства находившихся в ссылке представителей первого поколения
действенного народничества,— не могли не вызвать среди нас,
с одной стороны, искреннего сочувствия, а с другой — и
некоторого сомнения в правильности метода борьбы и опасения за
исход последней. Но там, в передовом отряде, стояли наши
прежние товарищи, которых мы уважали и любили, в которых
верили и которых беспощадная русская действительность из
стойких и убежденных народников, как Перовская, Желябов
и многие другие, превратила в идейных террористов, вопреки их
природе и склонности. Стало быть, иначе уже было нельзя,
выхода другого не было». И далее: «Начавшаяся с начала
1 Степняк-Кравчинский С. М. Соч. В 2-х т., т. 1, с. 390.
:is
70-х годов борьба с правительством и беспощадная расправа
последнего с крамолою постепенно накаляли атмосферу и
настраивали на более решительные выступления, чему помимо
поисков новых и более действенных способов борьбы немало
содействовало и естественно нараставшее чувство раздражения
и желание мести за чинимые правительством насилия»1.
Приводя эти — во многом безусловно субъективные —
объяснения причин перехода части народников к тактике
террора в борьбе с царизмом, мы отнюдь не склонны рассматривать
ее — вслед за Степняком-Кравчинским — как единственно
возможный и целесообразный выход из положения, создавшегося
в тот период в российском революционном движении. Но было
бы опрометчивым отбросить суть этого объяснения простой
ссылкой на то, что террор как самостоятельная и самодовлеющая
тактика революционной борьбы отвергается марксизмом2.
Дело в том, что, имея в виду конкретно-исторические условия
России 70 — начала 80-х годов, по одному отношению к так
называемым террористическим методам борьбы с царизмом вряд
ли можно было однозначно определить, кто занимает
правильную позицию в революционном движении, а кто нет.
Симптоматичным, кстати говоря, показателем общественного мнения
России (во всяком случае среди тех, кого относили к.
образованной части населения) было оправдание судом присяжных
заседателей крепостнической России (институтом, как известно,
весьма далеким от революционного движения) В. И. Засулич,
попытавшейся выстрелом из револьвера убить петербургского
градоначальника, царского сатрапа Трепова.
Конечно, с современной высоты пройденного
революционным движением и революционной мыслью пути, с определенного
исторического расстояния многое видится точнее и лучше. Но
коль скоро речь идет об отношении марксизма к народникам, в
том числе народовольцам, то нельзя, конечно, игнорировать
мнение их современников-марксистов, и прежде всего К. Маркса и
Ф. Энгельса. А свое мнение о русских революционерах 70—80-х
годов, об их идеологии и практических действиях они
высказывали неоднократно. Причем судили о них не понаслышке, а на
основании изучения материалов российской
социально-политической жизни и собственного опыта общения со многими
видными революционерами России. Приведем некоторые из этих
высказываний, представляющие несомненный интерес.
1 Чарушин Н. А. О далеком прошлом. М., 1973, с. 8, 271.
2 Именно как тактика, оторванная от массовых революционных действий,
поскольку мысль о принципиальном отказе от террора вообще, безотносительно к
условиям и характеру классовой борьбы, чужда, как утверждал Ленин,
марксизму (смЧ: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 7; т. 13, с. 366, и др.).
«Уже несколько лет,— писал Ф. Энгельс в марте 1879
года,— я обращаю внимание европейских социалистов на
положение в России, где назревают события решающего значения.
Борьба между правительством и тайными обществами приняла
там настолько острый характер, что долго это продолжаться не
может. Движение, кажется, вот-вот вспыхнет. Агенты
правительства творят там невероятные жестокости. Против таких
кровожадных зверей нужно защищаться как только возможно,
с помощью пороха и пуль» '.
Заметим, что это было сказано Энгельсом за два года до
убийства группой, руководимой Желябовым — Перовской, царя
Александра II.
А вот что говорил он уже в январе 1885 года: «Способ борьбы
русских революционеров продиктован им вынужденными
обстоятельствами, действиями самих их противников. За
применяемые ими средства эти революционеры ответственны перед
своим народом и историей. Но те господа,— добавлял он,—
которые без нужды школьнически пародируют эту борьбу в
Западной Европе... эти господа ни в каком случае не
последователи и не союзники русской революции, а ее злейшие враги»2.
Сказано, пожалуй, достаточно ясно, и комментарии здесь,
очевидно, излишни.
Но, может быть, точка зрения Энгельса в этом вопросе
существенно расходится с точкой зрения Маркса? Что ж,
обратимся непосредственно к Марксу, к его высказываниям.
Некоторые исследователи полагают доказанным тезис о том,
что К. Маркс считал действия русских революционеров-
народников (народовольцев) конца 70 — начала 80-х годов
«исторически неизбежным», «единственно логичным,
единственно практичным и возможным и полезным делом в России
в настоящую минуту»3. Не оспаривая существа этого тезиса,
хотелось бы справедливости ради отметить излишнюю его
категоричность, тем более что базируется он прежде всего на
воспоминаниях народовольца Л. Н. Гартмана о беседе с
Марксом4, а также на несколько вольном истолковании марксовых
слов из его письма своей дочери Женни Лонге от 11 апреля 1881
года. Приведем полностью важный для понимания марксовой
позиции отрывок из этого письма.
«Следила ли ты,— спрашивает Маркс, —за судебным
процессом5 против организаторов покушения в С.-Петербурге? Это
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 158.
2 Там же, т. 21, с. 197.
3 Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М., 1969, с. 180.
4 См. там же.
5 Речь идет о процессе в связи с убийством народовольцами Александра II.
'■о
действительно дельные люди, без мелодраматической позы,
простые, деловые, героические. Фразерство и дело —
непримиримые противоположности. Петербургский исполнительный
комитет, который действует так энергично, выпускает манифесты,
написанные в исключительно «сдержанном тоне». Его манера
очень далека от мальчишеской манеры Моста и других
ребячливых крикунов, проповедующих цареубийство как «теорию» и
«панацею»... они, наоборот, стремятся убедить Европу, что их
modus operandi (способ действия. —Ред.) является
специфически русским, исторически неизбежным способом действия, по
поводу которого так же мало следует морализировать — за или
против, как по поводу землетрясения на Хиосе» '.
Из сказанного очевидно, что и Маркс и Энгельс исходят, по
существу, из общей позиции при оценке деятельности
народовольцев, применявшихся ими методов борьбы. Они едины,
во-первых, во мнении о моральной оправданности последних
как акций вынужденных, навязанных им их противником —
царским самодержавием — самым деспотичным режимом в
Европе. Во-вторых, они в общем (хотя порой и с известными
оговорками) склоняются к тому, что в конкретно-исторических
условиях России того времени в отличие от Западной Европы
(где уже имелись массовое рабочее движение и определенные
завоеванные им буржуазно-демократические свободы) эти
методы были неизбежны. Уместно вспомнить в этой связи, что уже
после гибели самых авторитетных вождей «Народной воли»
Энгельс с глубоким уважением и даже восхищением говорил
о народовольцах как о людях, «которых было каких-нибудь
несколько сот человек, но которые своей самоотверженностью
и отвагой довели царский абсолютизм до того, что ему
приходилось уже подумывать о возможности капитуляции и о ее
условиях...»2.
В-третьих, Маркс и Энгельс единодушны в высокой оценке
действий народовольцев как первого отряда массового
революционного движения России, вступившего на путь открытой
политической борьбы с самодержавием, на путь проверки
собственным опытом революционных доктрин и теорий. Не
случайно Маркс отдавал предпочтение «Народной воле» перед
другими организациями народников, чуравшимися борьбы за
политическую свободу. Характерно в этом смысле его
письмо Ф. А. Зорге с критикой организации «Черный
передел»3, из которой вышел Г. В. Плеханов. Основоположники
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 35, с. 147-148.
2 Там же, т. 22, с. 451.
3 См. там же, т. 34, с. 380.
'. I
научного социализма видели в народовольцах людей, давших не
только России, но и всему миру образцы неслыханного героизма,
самоотверженности и мужества в борьбе за общественные
идеалы, людей кристально честных и чистых, являвших собой
пример подлинно революционной морали, без которой, как они
полагали, немыслимы ни победа революции, ни создание нового,
социалистического общества.
РКНОЛЮЦИОННЛН МРККМСТИКННОСТЬ
МОКОЛКНИЙ
...Марксисты должны заботливо выделять из
шелухи народнических утопий здоровое и ценное
ядро искреннего, решительного, боевого
демократизма крестьянских масс. В старой марксистской
литературе 80-х годов прошлого века можно найти
систематически проведенное стремление выделять
это ценное демократическое ядро. Когда-нибудь
историки изучат систематически это стремление и
проследят связь его с тем, что получило название
«большевизма» в первое десятилетие XX века.
В. И. ЛЕНИН
Правы ли были основоположники научного социализма в
этих оценках революционной деятельности своих
современников — русских народовольцев? Быть может, на их оценках
сказывалась неправильная, необъективная информация,
получаемая от народовольцев, которые преувеличивали степень связи
их организации с массами?
Чтобы разрешить эти сомнения, обратимся к В. И. Ленину.
Это тем более важно, что в некоторых работах, посвященных
данной проблеме, сквозит намек на якобы существенные
расхождения в суждениях о деятельности народовольцев Маркса и
Энгельса, с одной стороны, Ленина — с другой.
Конечно, если сопоставлять высказывания В. И. Ленина,
ведшего в конце XIX— начале XX века непримиримую борьбу
со сторонниками тактики индивидуального террора, которая
стала анахронизмом в новых исторических условиях, отвлекала
от работы в массах и обрекала на гибель лучшие революционные
силы, если сопоставлять высказывания, в которых вождь
поднявшегося на борьбу революционного рабочего класса России
указывал на слабые стороны народовольцев, с высказываниями
К. Маркса и Ф. Энгельса о сильных сторонах их деятельности в
конкретно-исторических условиях 70—80-х годов, то при таком
формальном сопоставлении можно найти не только
«расхождения», но и «непримиримые противоречия» в оценках.
\'1
Но ясно, что подобный подход имел бы мало общего с
научным, объективным анализом. Научный анализ показывает нечто
иное. Во-первых, то, что, вступив на путь революционной борьбы
в обстановке, когда российский пролетариат заговорил о себе как
самостоятельная историческая сила, Ленин тем не менее умел
сам и учил всех русских марксистов находить в шелухе
народнических социалистических утопий ценное
революционно-демократическое ядро. Подвергая критическому анализу
народнические взгляды и действия, показывая их полную
неприемлемость в условиях подъема рабочего движения в России, он вместе
с тем постоянно указывал на историческую преемственность,
связь между революционерами-народниками и русскими
революционерами-марксистами, большевиками '.
Во-вторых, Ленин, имея в виду известные ему отзывы Маркса
и Энгельса о революционерах-народниках, прежде всего
народовольцах, гордился высокой оценкой их деятельности и прямо
призывал русских социал-демократов принять у них эстафету,
добиваясь почетного звания передового отряда революционного
движения в Европе, «заслуженного уже нашими
предшественниками, революционерами 70-х годов...»2.
В-третьих, подвергая критике с позиций диалектического
и исторического материализма идеалистическую по сути дела
веру многих народников в особую роль отдельных выдающихся
критических личностей, «героев», принижение ими (особенно
явственное у теоретиков либерального народничества) роли
массы, «толпы», Ленин вместе с тем (в отличие от меньшевиков)
всегда положительно отзывался о стремлении народовольцев к
исторически инициативным действиям. Он высоко ценил их
боевой дух, противостоящий гибельной для дела революции и
социализма слепой оппортунистической вере в некую
предопределенность социального прогресса, основанной на
фаталистическом понимании исторической необходимости. Он разделял
и твердое убеждение действенных народников, подтвержденное
дальнейшей практикой революционной борьбы, в том, что без
решительных боевых действий против царизма и всего
прогнившего старого уклада жизни, без революционного насилия, одни-
1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 121. В полном соответствии с
ленинскими оценками ЦК РКП (б) в 1923 году отмечал: «Рабочий класс России
и его коммунистическая партия — единственные законные наследники лучшего,
что было в героической эпохе «Земли и воли» и «Народной воли». Имена Степана
Халтурина, Петра Алексеева, Андрея Желябова, Софьи Перовской и Александра
Ульянова, с одной стороны, Ивана Бабушкина, Шелгунова, Николая Баумана,
Якова Свердлова, Дубровинского (Иннокентия), Шанцера (Марата), Урицкого
и Володарского — с другой, одинаково дороги сознательным рабочим России»
(Известия ЦК РКП (б). Секция Коминтерна, 1923, № 2, с. 3).
2'Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 28.
ми мирными, а тем более реформистскими методами нельзя
разрешить антагонистические противоречия, присущие
российскому обществу, добиться его революционного преобразования.
Что же касается приписываемой В. И. Ленину точки
зрения о том, что тяжелые жертвы, понесенные российским
революционным движением в результате террористических акций
народовольцев 70 —80-х годов, не дали будто бы никакого
практического результата и лишь нанесли этому движению урон, то
она не только противоречит всему духу ленинизма, но и никак не
согласуется с неоднократными прямыми ленинскими
высказываниями. Ленин подчеркивал, что народовольцы «проявили
величайшее самопожертвование», «вызвали удивление всего
мира». «Несомненно,— писал он,— эти жертвы пали не напрасно,
несомненно, они способствовали — прямо или косвенно —
последующему революционному воспитанию русского народа»1.
Вслед за Марксом и Энгельсом Ленин отдавал дань
высочайшего уважения народовольцам за то, что они мужественно
приняли вызов, брошенный революционерам 70-х годов
гигантским репрессивным аппаратом царской России, попытавшимся
растоптать, вырвать с корнем ростки назревавшего массового
революционного движения. Они не поддались деморализующему
воздействию самодержавного террора, явив России и всему миру
необычайно острое и крепкое как сталь оружие —
революционную мораль.
Мы особо подчеркиваем эту черту деятельности народников,
прежде всего народовольцев, этот их вклад в процесс
возмужания российского революционного движения, в нравственное
становление личности революционера отнюдь не ради красного
словца. К этому побуждает та важная роль, которая отводится
революционной этике, моральным принципам революционной
борьбы в марксизме-ленинизме. Хотелось бы в связи с этим
напомнить отношение К. Маркса к геройской, но безнадежной
(если исходить из сложившегося в тот период соотношения сил)
попытке парижских коммунаров «штурмовать небо», сломить
буржуазный строй во Франции, а также воспроизвести разбор
Лениным соответствующих высказываний Маркса, имеющих,
как нам думается, важное значение и для правильного
понимания рассматриваемого нами вопроса.
В Предисловии к русскому переводу писем К. Маркса
В. И. Ленин приводит следующее высказывание создателя
научного коммунизма: «Буржуазные версальские канальи
поставили перед парижанами альтернативу: либо принять
вызов к борьбе, либо сдаться без борьбы. Деморализация рабочего
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 315.
класса в последнем случае была бы гораздо большим несчастьем,
чем гибель какого угодно числа вожаков»1. Анализируя Марксов
подход и Марксов разбор уроков самоотверженной, хотя и, как
оказалось, безуспешной борьбы парижских коммунаров, Ленин
обращает внимание на то, какое значение придавал Маркс
высоким моральным качествам рабочих, революционеров, их
способности и умению геройски, самозабвенно, инициативно
творить историю. Ленин противопоставляет этот подход позиции
русских меньшевиков, равно как и любых других педантов от
марксизма, мещан-интеллигентов, спешащих по поводу любого
неудачного революционного выступления читать
революционерам «канцелярские наставления» типа: «легко было
предвидеть... не надо было браться». «Им,— пишет Ленин,—
следовало бы поучиться у теоретика — вождя пролетариев вере в
революцию, уменью звать рабочий класс к отстаиванию до конца
своих непосредственно-революционных задач, твердости духа,
не допускающей малодушного хныканья после временных
неудач революции. Педанты марксизма думают: это все этическая
болтовня, романтика, отсутствие реализма! Нет, господа, это —
соединение революционной теории с революционной полити-
кои...»
В этом высказывании Ленина заключено, на наш взгляд,
методологическое положение исключительной важности.
Причем не только для понимания места и роли народничества в
истории российского революционного движения, но и для
раскрытия реальной диалектики революционной борьбы4 вообще.
А именно: выработка у участников массового революционного
движения высокой революционной морали, высоких
нравственных качеств революционера-борца является необходимым и
важнейшим связующим звеном между революционным словом и
революционным делом, между теорией и- практикой борьбы за
социалистические идеалы.
Отсюда, как это ни парадоксально на первый взгляд,
вытекает и практический смысл, историческая целесообразность
так называемого нравственного максимализма, и опасность его
размывания (как и снижения моральных критериев поведения
личности вообще).
История, в том числе и отечественная, дает немало примеров,
когда подлинные борцы за идеи социальной справедливости и
гуманизма были людьми абсолютно неприспособленными к
жизни с точки зрения морали обывательского большинства. Они шли
1 Цит. по: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 14, с. 379 (см.: Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 175).
2 Там же, с. 374-375.
на «неоправданные» лишения и на борьбу в заведомо неравных
условиях, оставались честными, когда обман обещал им,
казалось бы, реальную выгоду, они жертвовали собой не только ради
непосредственного успеха, но и ради самой идеи. Но именно
благодаря этому дело, которому они служили, не гибло, оно
сохраняло свою правоту и свое революционное обаяние в
сознании последующих поколений борцов, которые доводили его до
конца, когда общий ход общественного развития и политической
борьбы создавал для этого необходимые условия.
Отсюда очевиден и глубоко практический смысл (если не
мерить, конечно, практику мелким аршином оппортунистов)
так называемых «геройских, но безнадежных попыток» масс
утвердить свою власть в обществе, не дожидаясь подходящего
времени и такого соотношения сил, которое «наперед
гарантирует» им победу (таких гарантий, как отмечал Ленин, история
никогда не предоставляла и предоставить не может). Ибо в
реальной борьбе и только в борьбе вырабатывается ничем не
заменимый собственный революционный опыт масс, без которого
немыслима победа революции. Об этом свидетельствует практика
всех рабочих движений, как победоносных, так и потерпевших
поражение. Напомним в этой связи глубокие слова А. М. Кол-
лонтай, размышлявшей о причинах пассивного поведения
рабочих Германии в июльско-августовские дни 1914 года:
«Чтобы рабочие массы сумели не только разобраться в
совершающихся политических событиях, но и активно на них
реагировать, не дожидаясь пароля форштанда, для этого
требуется привычка пролетариата к открытым выступлениям,
вера в собственные силы, требуется то, что зовется
«революционным опытом». Но именно этого опыта избегали в Германии.
Партия уподоблялась педагогам старого закала: с одной
стороны, развивала классовое мышление, но, с другой —
всячески сдерживала, тормозила проявление революционной
воли, массовой активности. Рабочих учили «в теории»
признавать и познавать пользу и значение революционной борьбы, их
головы обогащали историческими примерами, фактами... Но
дать рабочим простор померяться силами с классовыми врагами,
закалить свой дух, свою волю перипетиями, жертвами массовых
выступлений, революционных схваток — этого
«благоразумные» вожди-опекатели допускать не желали»1.
Вот почему воспитание революционной морали в ходе
классовой борьбы и оказывается с точки зрения учения Маркса —
Энгельса — Ленина важным соединительным звеном между
революционной теорией и революционной практикой, а сама эта
1 Коллонтай А. М. Избранные статьи и речи. М., 1971, с. 155.
'.С.
мораль, воплощенная в активную общественную позицию,
в реальные политические действия масс, классов, партий
и отдельных личностей, становится одним из факторов,
обеспечивающих осуществление исторической необходимости
социалистической революции. «Когда общество созреет для
социализма,— справедливо отмечал К. Либкнехт,— это зависит
не только от уровня его экономического развития, но и от
совокупного социального развития в самом широком смысле, прежде
всего от меры сознания, понимания, воли, силы, решимости
и дееспособности пролетариата, от духовного, морального,
психического уровня развития трудящихся масс...»1
Как видим, в страстных и остро драматических поисках
русскими революционерами не «правды-истины» вообще, а
непременно «правды-справедливости», в их неравной, но
самоотверженной борьбе с гидрой царизма, борьбе, питаемой нередко
не трезвым расчетом, строгой теорией, а возвышенными
нравственными порывами, этическими идеалами, русское
революционное движение не только теряло лучших людей.
Расставаясь с утопиями и иллюзиями, оно вместе с тем приобретало
тот социально-психологический закал, тот нравственный
багаж, без которого в условиях России нельзя было и
надеяться на победу революционно-демократических и
социалистических идеалов 2.
Без такого багажа невозможна и действительная победа
идей научного социализма в общественном сознании. Ибо
общественное сознание, не «встревоженное», образно говоря,
исканиями правды-справедливости, не пронизанное страстным
желанием масс строить жизнь по законам добра и социальной
справедливости, не способно к восприятию и массовой выработке
научно-социалистического мировоззрения. И не случайно в
истории человечества этическое понимание и- обоснование
социализма предшествует научному, как бы опережает его. Не
представляла в этом отношении исключения и история
революционной мысли России.
Таким образом, в главном, в основном ленинские оценки
1 Liebknechl К. Gesammelte Reden und Schriften. В., 1971, Bd. 9, S. 489.
2 Не случайно, комментируя известные положения В. И. Ленина о
требованиях к члену партии, Н. К. Крупская, в частности, отмечала, что «героизм
деятелей «Народной воли» наложил печать и на работу нашей партии. Наша партия
впитала в себя понимание необходимости для члена партии революционной
закалки, боевой готовности, уменья отдавать себя беззаветно, целиком на борьбу
за до.ю пролетариата, за дело победы социализма. Без революционной закалки,
без революционной выдержки и дисциплины своих членов в условиях царизма
наша партия никогда не могла бы стать силой» (Крупская Н. К. Ленин
и партия. М., 1963, с. 98).
\1
деятельности революционеров 70 — начала 80-х годов совпадают
с теми, которые были даны К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Разумеется, В. И. Ленин как вождь российского революционного
движения на несравненно более высоком этапе его развития
идет дальше в критическом разборе деятельности своих
предшественников, включает в свой анализ более широкий круг
проблем, вытекающих из накопленного опыта борьбы, извлекая из
него практические уроки.
В этой связи нельзя не упомянуть того, что В. И. Ленин
ставил русским марксистам в пример не только революционную
страстность и героизм действенных народников, но и создание
ими (сначала землевольцами, а затем народовольцами)
«превосходной» боевой революционной организации, без которой, как
он говорил, не может обойтись всякое революционное
направление, если оно только действительно думает о серьезной
борьбе1.
Конечно, «Народная воля» А. И. Желябова, А. Д.
Михайлова и С. Л. Перовской («великая историческая заслуга»
которых, по Ленину, состояла в том, что они «постарались
привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту
организацию на решительную борьбу с самодержавием»2)
бесконечно далека, как мы видим теперь, от подлинно революционной
партии, первой пролетарской партии нового типа, созданной
великим Лениным. Но те героические усилия, которые были
предприняты русскими революционерами 70 — начала 80-х годов
для создания организации профессиональных революционеров,
способной противостоять гигантской репрессивной машине
царского самодержавия, не были исторически бесполезными, ибо
предприняты они были в правильном направлении. В том
направлении, которое всего лишь через два десятка лет
В. И. Ленин назовет главным, решающим для того, чтоб
«перевернуть Россию»3. А еще через полтора десятка лет
история уже покажет всему миру правоту этих ленинских слов
на деле.
Стоит заметить в этой связи, что в политике, так же как и в
искусстве (недаром политику называют не только наукой, но и
искусством!), нельзя давать оценки тем или иным явлениям и
процессам лишь по непосредственным результатам, на основе
уже «свершившегося», ибо нужны многие, на первый взгляд
напрасные усилия, действия, чтобы то или иное явление,
рожденное силой политического творчества масс и отдельных исто-
1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 135.
2 Там же.
3 См. там же, с. 127.
-iS
рических личностей, стало устойчивым и признанным фактом и
фактором социальной жизни1.
Итак, выявляя действительные связи между В. И. Лениным,
большевиками, с одной стороны, и поколением революционеров-
народников — с другой, мы отнюдь не обнаруживаем в
ленинизме «народнического перерождения» марксизма. Наоборот,
в полном соответствии с принципиальными положениями
марксизма перед нами раскрывается революционная преемственность
поколения, подготовившего в определенной мере своей
самоотверженной борьбой почву для восприятия революционным
движением России идей научного социализма, и поколения,
внесшего эти идеи в массы, а затем и положившего начало
практическому претворению их в жизнь, воплотившему научный
социализм в социальную практику миллионов.
РК1ЮЛЮЦИОННЛЯ TKOIM1H
И ЭТИКА РКВ()ЛК)ЦИ(ИШ\Л
Нет окончательной беды в жизни или науке, нет
необратимого поражения в практике, если
существует теория. К теории всегда можно вернуться,
__ с теории всегда можно снова отправиться.
Теория — великий критик, исправитель и
восстановитель практики. Теория — великий утешитель и
путеводитель в эпоху, когда практика^несчастна
и мутна. Теорию невозможно отнять и
уничтожить, ее невозможно испортить или подкупить.
Д. БАЛИНТ
Так в чем все же коренятся главные причины неудач
революционеров 70-х годов? Почему им не удалось, несмотря на всю
их искреннюю ненависть к существующему строю, несмотря на
самоотверженность и героизм, добиться поставленных целей?
Потому, что их энергия, их протест не были слиты с научным
пониманием первопричин и законов развития ненавистного им
строя эксплуатации и угнетения, с протестом и возмущением
широких народных масс; потому, что в своей борьбе они, как
1 Удачно об этой стороне творческой деятельности применительно
к литературе сказал Ю. Н. Тынянов: «Я видел многие мучительные попытки
XIX века, которые были ценны не результатами, не вещами, а усилиями, борьбой,
направлением. Были в XVIII и XIX веках и есть в XX явления безвестные, даже
безыменные, осмеянные, которые оказались подземными источниками
позднейших, очень громких явлений, даже не помнивших о своих забытых
родственниках... Нужны многие потерянные усилия, чтобы явление возникло, и многие
непроявленные негативы, чтобы человек стал поэтом» (Литературная газета,
1974, 9-октября).
4 Лакал \УШ
V.)
говорил В. И. Ленин, «опирались на теорию, которая в
сущности была вовсе не революционной теорией, и не умели или не
могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой
внутри развивающегося капиталистического общества»1. Отрыв
народнического движения от классовой борьбы пролетариата
был не столько виной, сколько бедой революционеров 70-х годов,
которую можно объяснить конкретными историческими
причинами, и прежде всего неразвитостью этой борьбы в России. А вот
их безусловной ошибкой (связанной, разумеется, с этим
историческим фактом), стоившей многим из них жизни, явилось то,
что, борясь за справедливые социальные идеалы, они не сумели
подняться до выработки строго научной теории, адекватной
революционно-демократическим и социалистическим целям.
Иначе говоря, до разработки такой революционной стратегии и
тактики, которая вела бы через уничтожение самодержавия к
победоносной борьбе за торжество социалистических идеалов.
Эта стратегия и тактика была разработана В. И. Лениным,
партией большевиков на основе творческого применения к
конкретно-историческим условиям России всеобщей истины
марксизма, на основе соединения и оплодотворения массового
революционного движения рабочего класса, всех трудящихся
высшими достижениями социальной мысли2. Так в деятельности
большевиков-ленинцев, образно говоря, слились
«правда-справедливость» и «правда-истина», высоконравственные цели и
принципы революционной борьбы получили строго научную
разработку на гранитной базе теории марксизма — теории,
опираясь на которую вот уже седьмое десятилетие успешно
развивается реальный социализм.
Дав подлинно научное обоснование социализма и раскрыв
действительные пути борьбы за него, теория Маркса —
Энгельса — Ленина ни в коей мере не отрицает роли нравственных
стимулов борьбы, не отбрасывает их как что-то малозначимое. Она
вооружает всех искренних борцов за торжество идеалов
социальной справедливости знанием тех объективных законов, опираясь
на которые они могут воплотить эти идеалы в жизнь. Эта теория,
естественно, не снимает ни с кого моральной ответственности
за результаты собственной исторической деятельности, не ог-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 135.
2 И в этом смысле прав был Борис Пастернак, писавший о Ленине:
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.
(Пастернак Б. Стихотворения и поэмы, с. 244).
Л и
раждает от трудных проблем морального выбора, от
нравственно-конфликтных ситуаций, с которыми неизбежно сталкивается
каждый сознательный революционер, ставший на путь
практической борьбы за реализацию научно обоснованного идеала
социалистического общества.
Признавая в принципе исторически необходимым и
нравственно оправданным применение насилия в революционной
борьбе для подавления сопротивления эксплуататорских классов,
для защиты интересов народных масс, марксисты-ленинцы
весьма далеки от того, чтобы «во имя революции» освящать
любые насильственные акции вообще, как это делают «левые»
псевдореволюционеры. И как ни «тонка» на первый взгляд эта
грань, отличающая позицию коммуниста от позиции левака, она
имеет принципиальное значение и обозначает действительный
водораздел между ними, причем не только в теории, но и в
практической политике. Ибо речь здесь идет о различии между
классово выдержанной пролетарской революционностью, с
одной стороны, и мелкобуржуазным экстремизмом — с
другой.
Дело в том, что сам по себе факт применения насилия против
эксплуататоров еще ничего не говорит ни о том, является ли оно
исторически необходимым, ни о том, следует ли его отнести
к нравственным средствам борьбы. «Есть условия,— отмечал
В. И. Ленин,— при которых насилие и необходимо и полезно,
и есть условия, при которых насилие не может дать никаких
результатов. Бывали примеры, однако, что это различие не
усваивалось всеми, и об этом говорить надо»1.
И вопрос здесь не только и даже не столько в необходимости
строгого учета реального соотношения противоборствующих
сил, хладнокровного расчета всех шансов на успех, дабы не
обречь народ на излишние или бесполезные жертвы. Не менее
важно то, что пролетарски-классовое насилие, применяемое в
социалистической революции против ее врагов, внутренне
сопряжено, органически связано с позитивным идеалом, с
конструктивной программой созидательной деятельности. Для
реализации же этой программы, этого идеала необходимы определенные
объективные предпосылки, создаваемые в ходе всего
общественного развития (а не только и не столько в сфере политического
противоборства классовых сил).
Будучи последовательными, пролетарски выдержанными
революционерами, марксисты всегда выступали против
анархистских, левоэкстремистских взглядов, согласно которым
достаточно црибегнуть к насильственным средствам, чтобы вызвать
1 JJenuH В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 43.
Л*
или ускорить революцию. С этих позиций коммунисты особенно
решительно осуждают сегодня (когда капитализм в целом созрел
для социалистической революции, когда существует мощное и
массовое рабочее движение) действия авантюристических
левацких групп.
Размахивая нередко «красными знаменами», эти
псевдореволюционеры прибегают к различного рода террористическим
акциям, заявляя, что тем самым они якобы «подрывают»
капитализм. На деле происходит, однако, обратное. Если русские
народовольцы своими геройскими действиями способствовали
революционному, демократическому пробуждению масс, то
нынешние леваки-террористы способны лишь бросить тень на
давно выросшее, набравшее политический вес революционное
рабочее движение. Не только и не столько на себя, а на
передовой, сознательный авангард этого движения вызывают они огонь
реакции, нанося тем самым делу революции и моральный и
материальный урон.
Речь, следовательно, идет о том, чтобы применяемое по
необходимости классовое насилие как средство подавления
сопротивления эксплуататоров, активных врагов революции не
превратилось в самоцель; чтобы мелкобуржуазная анархистская
распущенность ложных «друзей народа», мнящих, что они
находятся где-то «слева» от коммунистов, не заслонила тех
позитивных гуманных принципов, во имя которых и идут массы
на революцию. Не спеша предавать анафеме, как это делают
правые реформисты, революцию за проявления излишней
жестокости, стихийно возникающие иногда в ходе острой классовой
борьбы, коммунисты сознательно стремятся всячески
ограничить их масштабы, а по мере возможности и сузить границы
самих насильственных действий, придавая им преимущественно
мирный, невооруженный характер (в той мере, конечно, в какой
это зависит от трудящихся классов). Это и есть единственно
революционная и единственно нравственная позиция в
современной политической борьбе.
Отвергая иезуитский принцип «цель оправдывает любые
средства», последовательно исходя из известной формулы Маркса
о том, что «цель, для которой требуются неправые средства, не
есть правая цель»1, нельзя тем не менее допускать
отождествления в этой формуле понятия «неправые средства» с понятием
«насильственные действия», к которым вынуждает
революционеров сопротивление отживших социальных сил. Допустить
это — значит с политической точки зрения, по сути дела,
противопоставлять мораль революции, отвергать глубоко нравствен-
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 65.
ный, морально очищающий старое общество характер
пролетарской, социалистической революции, что делают правые
социал-демократы, реформисты.
С философской же точки зрения подобное допущение
равнозначно нарушению требования соответствия цели и средства,
без соблюдения которого вопрос о моральности избранных
средств остается открытым и заведомо неопределимым. Ведь
именно в зависимости от соответствия или несоответствия
средства цели оно может быть добром или злом, нравственным или
безнравственным.
Классовое насилие, применяемое в ходе революции,
безусловно, относится не только к сфере необходимого, но и к сфере
нравственного; оно может быть как благом, так и злом. Но и в
первом случае насилие, в каких бы формах оно ни применялось
сознательным пролетариатом, является для него — повторим
это — не позитивным принципом утверждаемого им нового
общества, а исторической необходимостью, порождаемой
условиями классовой борьбы. Так что диалектическое противоречие
между высоконравственными гуманными целями, идеалами
революционной борьбы и революционным насилием
(противоречие реальное, невыдуманное) лежит, развивается не по линии
противоположности между нравственным и безнравственным,
как это иногда полагают.
Революционное насилие пролетариата (разумеется, речь идет
об исторически необходимом насилии, направленном против
класса эксплуататоров и поддерживающих его сил)
противоречит его гуманным целям не абсолютно, а относительно — в
рамках отношений диалектического единства и различия,
свойственных категории «цель и средства». Не совпадая друг с
другом в том смысле, что они обозначают различные по характеру
и объективно разведенные в социальном пространстве и времени
моменты политической борьбы масс, революционные средства и
цели выступают вместе с тем непременными, взаимосвязанными
слагаемыми внутренне единого революционного процесса.
Утверждать иное — значит отрицать самые азы революционной
диалектики и марксистской этики, значит соглашаться, что
высоконравственных целей и идеалов можно достичь с помощью
средств, находящихся за пределами нравственности.
Корнем такой позиции является ошибочное, преодоленное
марксизмом представление о морали и политике как двух
совершенно различных, оторванных друг от друга сферах
человеческой деятельности.
Марксисты дают высокую оценку роли передовой морали
и после победы социалистической революции, в процессе
созидания нового общества. Социализм, отрицая буржуазную мо-
раль, утверждает мораль коммунистическую, подчеркивает ее
значение в культуре нового общества, в решении своей
центральной задачи — в формировании нового человека,
коммунистической личности.
Важно отметить, что в понимании новой, коммунистической
нравственности марксисты-ленинцы не покидают научной
почвы, руководствуются четкими классовыми критериями. «Для
нас,— подчеркивал В. И. Ленин,— нравственность подчинена
интересам классовой борьбы пролетариата... Мы говорим:
нравственность это то, что служит разрушению старого
эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг
пролетариата, созидающего новое общество коммунистов...
Нравственность служит для того, чтобы человеческому
обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации
труда»1.
Конечно, добиваясь в процессе коммунистического
воспитания практического воплощения такого понимания
нравственности, очень важно учитывать, что в реальной жизни возможны
и такие случаи, когда внешне поступки человека как будто
удовлетворяют общественным требованиям, но внутренне он
фальшив, скрывая за фасадом моральности поведения свои
эгоистические или карьеристские цели. Поэтому марксистско-
ленинская этика и выдвигает двуединый критерий для оценки
моральности поведения конкретной личности: объективные
результаты ее деятельности плюс субъективные, внутренние
мотивы поведения.
Известно, что марксизм не только не отрицает, но и
утверждает связь морали революционера-борца, коммунистической
нравственности с лучшими, выработанными веками моральными
традициями человечества, с тем, что принято называть простыми
нормами нравственности. Разумеется, «простота» таких норм,
как честность и доброта, чувства собственного достоинства и
товарищества, трудолюбие и скромность, порядочность и личное
мужество, складывавшихся в народе на протяжении
тысячелетий, заключается не в легкости их усвоения, а тем более
практического применения. Просты они в том смысле, что являются
необходимой нравственной основой, без которой человек не
способен к восприятию моральных норм и требований, связанных
со сложными процессами классовой борьбы за социализм.
Весьма удачно эту мысль поясняют поэтические строки А. Т.
Твардовского:
Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:
Не лгать,
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4t, с. 310, 311, 313.
Не трусить,
Верным быть пароду,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду,
А если —
То и жизнь отдать.
Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней.
Лишь от себя теперь добавим:
Что проще — да.
Но что сложней?1
Вместе с тем абсолютизация простых, имеющих
общечеловеческий характер норм нравственности чужда марксизму. Ведь
многие из них, взятые сами по себе, носят как бы нейтральный
характер по отношению к сложным понятиям классовой борьбы
и социальных идеалов, прогресса и реакции, а следовательно,
проявляют свой истинно нравственный, гуманный смысл лишь
применительно к определенным общественным условиям и
отношениям2. Поэтому нельзя забывать о реальной, жизненной
диалектике классового и общечеловеческого начал в
нравственности, с тем чтобы исключить попытки решения проблемы
в духе абстрактного морализирования.
Таким образом, марксизм-ленинизм не имеет ничего общего
ни с «этическим» социализмом, ни с приписываемым ему
принижением моральных критериев и идеалов. Выводя идеалы из
естественноисторических законов развития общества/из
революционно-гуманистических интересов и целей рабочего класса,
подвергая капитализм всесторонней, в том числе и моральной,
критике, марксисты дают тем самым и нравственное
обоснование превосходства социализма, справедливости всего
социального движения масс за его утверждение:
Сила марксизма-ленинизма, выдвигающего научно
обоснованный идеал самого справедливого общественного устройства,
в значительной мере объясняется тем, что в сознании каждого
человека, глубоко усвоившего коммунистическую идеологию,
она выступает не как бесстрастная, сухая теория. Не случайно
молодой Маркс, вступая на путь революционной борьбы в науке
и жизни, писал, что идеи, которые овладевают нашей мыслью,
1 Твардовский А. Т. Собр. соч. В 6-ти т. М., 1978, т. 3, с. 187.
2 По этому поводу весьма остроумно высказался А. Б. Чаковский: «...могу,
шутки ради, сказать, что «в принципе» у меня нет возражений и против
христианских заповедей «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», если только
первая не адресуется вьетнамцам, сражающимся за свободу и независимость,
вторая не относится к народу, национализирующему частную собственность,
а третья не исключает превратностей подлинной любви» (Литературная газета,
1967, t. мая).
к которым разум приковывает нашу совесть,— это узы, из
которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца '. В этом по-
юношески страстном и образно ярком выражении Маркса
понятия «мысль» и «совесть», «разум» и «сердце» вполне
закономерно оказались рядом. В них уже ясно просвечивается одно из
глубоких определений коммунистической идейности как сплава
строгой науки и революционно-гуманистической
нравственности, как тесного единства подлинно научной теории и основанной
на этой теории и прокладывающей ей дорогу в практику самой
справедливой морали — той морали, становление которой
неотделимо в истории России от героической, самоотверженной
борьбы блестящей, по словам В. И. Ленина, плеяды
революционеров-народников 70-х годов2.
1 См: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 11
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с.
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ЛИЧНОСТЬЮ
i.mmimu i.i :;r>o/uui n/in
!>oiii одиночка?
...Шекспир не может устареть. Ему были
ведомы все возрасты человека, все его страсти. В
шекспировских персонажах каждый из нас узнает
себя. Ведь живет и страдает сейчас, в эту самую
минуту, множество гамлетов — студентов
университетов Виттенберга, Оксфорда, Парижа,
Москвы, всего мира.
А. МОРУ А
Литературные герои, как, впрочем, и живые люди, подчас
известны какой-то одной, иногда не самой примечательной
своей, чертой, причем суждения о них и об этой черте бывают
до удивления неполны, а нередко и несправедливы.Так, в
поговорку вошло безрассудство Дон Кихота, а не породившее его
безграничное благородство. Точно так же датский принц Гамлет
из-за одной, произвольно вырванной фразы: «Быть иль не быть,
вот в чем вопрос» (акт III, сцена 1) — видимо, с легкой руки
провинциальных трагиков прошлого времени — преподносился
как классический пример надломленности духа,
нерешительности. Этой ходячей трактовкой воспользовался советский
историк А. 3. Манфред, оценивая личность великого якобинца
Максимилиана Робеспьера: «В характере Робеспьера не было
ничего от Гамлета, ни ослабляющих волю сомнений, ни
мучительных колебаний. Он не воскликнул бы: «Ах, бедный Йорик!
Я знал его, Горацио...» Он проходил мимо могил друзей и врагов,
не оборачиваясь. Он был человеком действия. Правда, с юных
лет и до последних дней своей удивительной судьбы Робеспьер
оставался верен большим мечтаниям — мечте о золотом веке, о
мире добродетели, равенстве, справедливости. Но эту мечту
он претворял в действия — стремительные, напористые, полные
неукротимой энергии»2.
1 Здесь и далее цитаты из трагедии Шекспира «Гамлет» даются в переводе
Бориса Пастернака.
2 Манфред А. 3. Максимилиан Робеспьер.— Робеспьер М. Избр. произв.
М., 1965, т. 1, с. 78.
Противопоставление, однако, получилось не такое уж
основательное. Подлинный шекспировский Гамлет скорее сродни
Робеспьеру, а не его антипод. Этот гордый ум, по словам Офелии,
«соединенье знанья, красноречья и доблести, наш праздник, цвет
надежд, законодатель вкусов и приличий, их зеркало...» (акт III,
сцена 1), являет собой комок нервов, одержимый одной
мыслью — отомстить за убийство отца и поруганную честь рода — и
умеющий, как никто, за себя постоять. Он гневно осуждает «уни-
женья века, неправду угнетателя, вельмож заносчивость,
отринутое чувство, нескромный суд и более всего насмешки
недостойных над достойным...» (там же). И он действует — действует,
правда, размышляя, но тем более решительно и эффективно.
В мрачной, чуждой среде эльсинорского замка, подвергаясь
смертельной опасности, Гамлет оказывается куда более
расчетливым политиком и искусным воином, чем его многочисленные
враги. Язык и шпага Гамлета разят одного за другим
приспешников преступного короля, а потом и его самого. Гамлет отнюдь
не склоняется над могилами каких-то там полониев, а идет, не
оглядываясь, раз избранным путем. Когда бывшие друзья
принца, Гильденстерн и Розенкранц, везшие его по приказу короля
на гибель, благодаря изворотливости Гамлета поменялись с
ним ролями и теперь, по словам Горацио, плывут навстречу
своей гибели, Гамлет говорит: «Сами добивались. Меня не
мучит совесть. Их конец — награда за пронырство» (акт V,
сцена 2).
Вряд ли слабовольный человек мог сказать о себе то, что
сказал Гамлет после встречи с духом своего отца: «Это — голос
моей судьбы, и он мне, словно льву, натягивает мышцы тетивою»
(акт I, сцена 4). В подобном же противоречии с привычным
мнением «человек действия» — Робеспьер глубоко переживал
гибель соратников. «Лучше бы я умер,— говорил он по поводу
смерти одного из активных членов якобинского клуба и
преданных патриотов,— а Лазовский продолжал бы жить! Я был
близким другом Лазовского. Я хорошо знал его
благородную душу. Два дня я оплакиваю Лазовского, и вся моя душа
поглощена скорбью о безмерной потере, понесенной
республикою»1.
Разумеется, Гамлет обречен, и он это сознает, но ведь обречен
был и Робеспьер: его мечта о золотом веке неизбежно пришла
в конфликт с алчными интересами жрецов золотого тельца, с
духом века наживы, начавшегося после французской
буржуазной революции, вождем которой на ее восходящем,
романтически окрашенном этапе был Неподкупный. «Как ни почетен та-
1 Робеспьер М. Избр. произв., т. 2, с. 329.
кой выбор,— писал Робеспьер о своем избрании парижанами
общественным обвинителем департамента,— я с ужасом думаю
о тяжелых трудах, на которые этот важный пост меня обрекает,
в такое время, когда после длительных волнений мне необходим
отдых... Но мне на долю выпала бурная судьба. Надо следовать
ее течению до тех пор, пока я принесу ту последнюю жертву,
которую я могу предложить родине»1.
Могут спросить: стоит ли сближать персонажи классической
театральной и классической жизненной трагедий? Стоит! И не
только для того, чтобы вызвать сомнение в бытующей трактовке
образа Гамлета (с этим при экранизации трагедии Шекспира
уже прекрасно справился актер И. Смоктуновский), но и для
того, чтобы назвать не мнимую, а действительную его
альтернативу — яснолобое бездумье. Не может явиться стойким
убеждением то, что много крат не прочувствовано, что вновь и вновь не
переосмыслено глубоко лично. Об этом постоянно напоминает
нам современная действительность во всем многообразии ее
политических реалий, идейных столкновений и потоков
информации. И знаменитое гамлетовское «быть иль не быть» в его
неурезанном виде звучит для нас не исповедью, как принято
считать, души хлипкого интеллигентика, а речью рыцаря и
мужа, вступающего на самостоятельную дорогу и взвешивающего
открывающиеся возможности:
Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы *
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними?
(Акт III, сцена 1)
Что достойнее высокой души? Такова суть вопроса, и выбор
прост. Принятие первого варианта решения («смиряться под
ударами судьбы») выдает будущего приспособленца и
конформиста (именно таков в «Гамлете» молодой Озрик), который,
обретя выгодное для себя положение, почти наверняка станет
реакционером. Принятие второго варианта («оказать
сопротивленье») означает, что перед нами смелый боец, активная,
честная натура. Гамлет молод, и в его «быть иль не быть»
сквозит нечто типично и сокровенно юношеское, общее думающим
молодым людям всех наций и эпох, хотя, конечно, в каждую
эпоху этот вопрос наполняется своим неповторимым смыслом.
Разве не решают для себя наши молодые современники повсюду
вопрос: быть или не быть борцом за свободу, революционером,
1 Робеспьер М. Избр. произв., т. 1, с. 154.
i'.l
коммунистом, быть или не быть субъектом, а не объектом
исторического действия, не стандартным, «сфабрикованным»
индивидом, а яркой, многогранной личностью? Какой личностью
стать? К какой жизни быть готовым?
Гамлет — наследный принц: он погибает, убив короля, сам
уже будучи королем и завещая Данию норвежскому принцу
Фортинбрасу. Поэтому в его восприятии смерть Гамлета-отца
выглядит как соединение личного сыновнего горя с несчастьем
государства, отчизны, оказавшейся под властью кучки плутов
с убийцей и блудодеем во главе. В трагедии по-своему решается
проблема нравственной преемственности, когда Гамлет, отвергая
Данию Клавдия, Полония и им подобных или же ими обманутых,
вместе с тем стремится, но уже не может удержать и шире
утвердить то лучшее, что он связывает с памятью об отце. Даже в
знаменитом: «Бедняга Иорик!» (акт V, сцена 1) — помимо более
заметного мотива о бренности индивидуального бытия звучит
и тема когда-то дорогого, но уже невозвратимого былого...
Этому суждению отнюдь не противоречит, а, напротив, его
подтверждает мнение датского критика Георга Брандеса, что
«Гамлет находится в союзе с будущим, с новейшею эпохой; это —
пытливый, гордый ум и со своими возвышенными, строгими
идеалами он стоит одиноко среди обстановки испорченности или
ничтожества, должен скрывать свое заветное «я» и всюду
возбуждает негодование...» .
Однако стоит отметить избирательное отношение к наследию
прошлого, которое проявляет датский принц, или выражаясь
совсем уж современным языком, критически-оценочный
подход к предшественникам: такое отношение к наследию
непреходяще, ибо является условием прогресса и чертой,
пожалуй, более свойственной — и нужной — не индивидуалистам, а
коллективистам. И при решении вопроса, «быть иль не быть»,
какой личностью стать, оно играет одну из первейших
ролей.
Не случайно, говоря об эгоизме и скептицизме Гамлета,
И. С. Тургенев выделяет в его образе «то, что в нем законно и
потому вечно». «В нем,— по словам писателя,— воплощено
начало отрицания, то самое начало, которое другой великий поэт
(Гёте. — Р. /Г.), отделив его от всего чисто человеческого,
представил нам в образе Мефистофеля. Гамлет тот же Мефистофель,
но Мефистофель, заключенный в живой круг человеческой
природы; оттого его отрицание не есть зло — оно само направлено
против зла. Отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле
оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой. В добре
Брандес Г. Шекспир, его жизнь и произведения. М., 1901, т. 2, с. 32.
оно сомневается, то есть оно заподозревает его истину и
искренность и нападает на него не как на добро, а как на поддельное
добро, под личиной которого опять-таки скрываются зло и ложь,
его исконные враги: Гамлет не хохочет демонски-безучастным
хохотом Мефистофеля; в самой его горькой улыбке есть
унылость, которая говорит о его страданиях и потому примиряет
с ним. Скептицизм Гамлета не есть также- индифферентизм, и
в этом состоит его значение и достоинство; добро и зло, истина и
ложь, красота и безобразие не сливаются перед ним в одно
случайное, немое, тупое нечто. Скептицизм Гамлета, не веря в
современное, так сказать, осуществление истины, непримиримо
враждует с ложью и тем самым становится одним из главных
поборников той истины, в которую не может вполне поверить. Но в
отрицании, как в огне, есть истребляющая сила — и как
удержать эту силу в границах, как указать ей, где ей именно
остановиться, когда то, что она должна истребить, и то, что ей следует
пощадить, часто слито и связано неразрывно? Вот где является
нам столь часто замеченная трагическая сторона
человеческой жизни: для дела нужна воля, для дела нужна мысль; но
мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются
более...»1
Решить эту великую задачу, укротить испепеляющую мощь
отрицания и заставить его служить гуманно-созидательным
целям, обеспечить органическое единство истинной, политически
точной мысли и проникнутой высоким энтузиазмом неколебимой
воли было невозможно не только во времена Шекспира, но и
века спустя. Почвой для такого единства могло послужить
лишь гигантское всемирно-историческое деяние. Для этого
требовалась особая, и притом массовая, общественная сила.
Наконец, должен был обнаружиться гений, который осветил
бы путь.
Таким делом явился сознательно осуществляемый переход
народов к новой, коммунистической формации.
В качестве такой общественной силы выступил рабочий
класс.
Таким гением стал Карл Маркс.
Социальный протест, социальное творчество, социально
значимые поступки даже в их индивидуальном выражении теперь
перестали казаться действиями одиночек; они и по существу
и по форме превратились в действия представителей класса,
людей классовой партии.
1 Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т. М., 1956, т. 11, с. 178-179.
нл :ггой иочнк
НАМ ДКЙСТИОНАТЬ НСКГДЛ
Я говорю с читателем откровенно, потому что
лишь так можно говорить о чтении Ленина. В те
годы, двадцатые, мы все были смелее в своем
мышлении, и не только наедине с собой. Это были
священные для меня годы глубокого увлечения
молодежи и людей моего возраста теорией. Красота
и увлекательность теорий была огнем,
пожиравшим наши сердца в вузах, на рабфаках, в
специальных школах... Больно и жалко видеть, как
далеки многие из современных молодых людей от
этого пьянящего увлечения человеческой мыслью!
М. ШАГИНЯН
Противники марксизма всячески изощрялись, демагогически
обвиняя его то в еретическом отрицании всех и всяких
авторитетов, то, наоборот, в их догматической канонизации. Но опыт
десятилетий в полном согласии с диалектическим духом
марксистского учения говорит, что ему глубоко чужды обе крайности,
одинаково опасные для нашего новаторского дела, в том числе
для идейно-нравственной подготовки подрастающей смены.
Правильно понятый и заслуженно признанный авторитет
является позитивным и по жу естественным начальным звеном
в цепи революционной преемственности поколений, ее
краеугольным камнем, отправным пунктом определенных,
принципиальных, а не конъюнктурно-изменчивых взглядов. Речь идет
об авторитете передовой теории, научного мировоззрения и его
творцов, об авторитете науки и ее создателей, об авторитете
истины, знания, культуры и их бескорыстных распространителей.
Для коммунистов непререкаем авторитет коллективных
решений, выражающих общее мнение и интересы масс,
авторитет руководителей, целеустремленно и квалифицированно
проводящих эти решения в жизнь. В научно организуемом
социалистическом обществе постоянно поддерживается и
всемерно укрепляется авторитет сознательной дисциплины, без
которой невозможно крупное плановое производство, авторитет
коммунистического отношения к труду и общественной
собственности. Важнейшую стабилизирующую и воспитательную
роль в жизни общества играет авторитет прогрессивных,
демократических и революционных — боевых и трудовых —
традиций, авторитет подвига, ратного и созидательного, авторитет
героической личности.
Для «сознательных и объединенных работников, не знающих
над собой никакого ига и никакой власти, кроме власти их
»И
собственного объединения» \ главным носителем и хранителем
названных авторитетов и в то же время высшим авторитетом
является их собственная ассоциация — целая система
общественных организаций во главе с Коммунистической партией.
Не случайно враги нового строя всякий раз, когда они
безуспешно пытались вызвать эрозию социалистического сознания в
какой-либо из стран мировой системы социализма и разрушить
преемственную связь поколений, стремились нанести наиболее
массированный удар именно по авторитету партии,
сознательного, смелого, сплоченного, революционного, выдержанного
авангарда.
Свидетельствует ли подобное признание авторитетов о
слепом преклонении перед ними? Отнюдь нет. Наши авторитеты
постоянно подвержены пытливому научному анализу, проверке
и закалке в практике революционной борьбы, социалистического
и коммунистического строительства, они не изымаются из сферы
действия такой закономерности, как критика и самокритика
масс, и потому не становятся неподвижными фетишами, не
обожествляются. Свидетельство тому — вся история марксизма.
К. Маркс и Ф. Энгельс называли источниками своей
доктрины немецкую классическую философию, английскую
политическую экономию, французский утопический социализм.
Воздавая- тем самым должное духовным завоеваниям прошлого,
основоположники научного коммунизма в то же время не
поступились своей научной совестью. Они подвергли критическому
пересмотру взгляды своих философских учителей, Гегеля и
Фейербаха, и создали научную пролетарскую философию —
диалектический материализм. Как критика предшествующей
политической экономии был задуман «Капитал» — главный
труд Маркса. Значительное место в деятельности Маркса и
Энгельса заняли разбор и доказательство ненаучности и
непригодности в качестве руководства к революционному
действию пролетариата ранее распространенных течений
мелкобуржуазного социализма (прудонизма, лассальянства, бакунизма).
Не меньший труд выпал на долю верного ученика и
гениального продолжателя дела К. Маркса и Ф. Энгельса В. И.
Ленина. Начав свою деятельность с критического анализа в свете
марксистских взглядов наиболее популярной в России конца
XIX века доктрины социализма — народничества, он всю жизнь
потом вел непрестанную идейную борьбу против тех или
иных разновидностей оппортунизма — «легального
марксизма», «экономизма», российского меньшевизма, ликвидаторства,
эмпириокритицизма, ревизионизма правых лидеров II Интерна-
* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 17.
5 Заказ 4Г>03
ционала, «левого коммунизма», национал-уклонизма и других.
При этом Ленину пришлось иметь дело не только с теми или
иными авторитетами, но и доказывать несостоятельность многих
из них. В этом отношении ленинский опыт представляет собой
богатейшую, неповторимую школу революционной идейной
и нравственной преемственности, в которой будут черпать
ценные познания многие поколения коммунистов.
Разгром троцкизма, правого уклона, различных
националистических течений был результатом упорной
внутрипартийной борьбы в последующий период, позволившей обезвредить
предательские попытки пересмотреть ленинскую генеральную
линию на построение социализма.
Наконец, что касается недавнего времени, то достаточно
назвать принятые по инициативе Коммунистической партии
меры, направленные на устранение ошибок, связанных с
проявлениями культа личности и субъективистскими
импровизациями, чтобы убедиться в том, что революционно-критическое
начало постоянно присутствует в деятельности КПСС.
Непоколебимую верность ленинскому методу критики и самокритики
партия доказала на деле. Существо этого метода, говорилось на
XXV съезде КПСС, состоит «в том, чтобы все стороны
деятельности той или иной организации, того или иного работника
получали объективную оценку, в том, чтобы имеющиеся
недостатки подвергались всестороннему анализу с целью их
устранения. В том, чтобы не допускалось либерального отношения к
недостаткам и к их виновникам. Доверие и уважение к людям
должны сочетаться с высокой требовательностью за
порученное дело. Это — закон партийной, да и не только партийной,
но всей нашей работы. И, конечно, товарищи, любой факт
неправильного реагирования на критику должен вызывать
острую и оперативную реакцию со стороны партийных органов»1.
«Любым попыткам преследования за критику,
—конкретизируется это положение на XXVI съезде КПСС,— необходимо
давать решительный отпор. Наша позиция по этому вопросу
четко зафиксирована в Уставе партии. Она получила отражение
и в Конституции СССР. Никакого попустительства в отношении
зажимщиков критики — таково требование и партийного, и
государственного закона!»2 Решение многих из названных
проблем, так или иначе коснувшееся всех марксистско-ленинских
партий, осуществляется в тесной связи с непрекращающейся
полемикой против правого и «левого» ревизионизма в
международном коммунистическом и рабочем движении.
1 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 68.
2 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 74.
Г>()
Все эти факты, имеющие свою писаную историю,
свидетельствуют не о какой-то «драчливости» марксистов, а о том, что их
революционной доктрине по самой ее природе претят
самоуспокоенность и всепримиряющий академизм, за которым кроется
филистерское желание избежать «неудобств» реального
социального развития и классовой борьбы. «Не может быть
догматизма там,— говорил В. И. Ленин об одной из существенных черт
марксизма,— где верховным и единственным критерием
доктрины ставится — соответствие ее с действительным процессом
общественно-экономического развития...»1 Когда идеолог
либерального народничества Н. К. Михайловский в полемике с
русскими марксистами заметил, что не гоже-де «сердиться» им,
представителям учения, «справедливо гордого своею
неумолимою объективностью», Ленин назвал это заявление галиматьей
и сапогами всмятку. «Не слыхали ли Вы, г. Михайловский, о
том,— язвительно писал он,— что одним из замечательнейших
образцов неумолимой объективности в исследовании
общественных явлений справедливо считается знаменитый трактат о
«Капитале»?.. И, однако, в редком научном трактате вы найдете
столько «сердца», столько горячих и страстных полемических
выходок против представителей отсталых взглядов, против
представителей тех общественных классов, которые,.по
убеждению aejopa, тормозят общественное развитие... Если известное
учение требует от каждого общественного деятеля неумолимо
объективного анализа действительности и складывающихся
на почве той действительности отношений между различными
классами, то каким чудом можно отсюда сделать вывод, что
общественный деятель не должен симпатизировать тому или
другому классу, что ему это «не полагается»? Смешно даже и
говорить тут о долге, ибо ни один живой человек не может не
становиться на сторону того или другого класса (раз он понял
их взаимоотношения), не может не радоваться успеху данного
класса, не может не огорчиться его неудачами, не может не
негодовать на тех, кто враждебен этому классу, на тех, кто мешает
его развитию распространением отсталых воззрений и т. д.
и т. д.»2. Чтобы усвоить метод марксизма, надо основательно
осознать, что его страстно полемическая форма, его
саморазвитие в постоянной сшибке мнений, в диалектическом единстве
самоутверждения и самоотрицания есть единственно верный
способ максимального приноровления к изменяющейся
социальной реальности, ее истинного отражения и обеспечения
наибольшего соответствия теории интересам рабочего класса, трудя-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 309.
2 Там же, т: 2, с. 547-548.
5*
(57
щихся масс. Это возвращает нас к одному из замечательных
афоризмов Гегеля: «...ничто великое в мире не совершалось
без страсти»'.
Приведенные ленинские высказывания взяты из статьи
«От какого наследства мы отказываемся?», имеющей для
марксистского решения вопроса о духовной преемственности
принципиальное, можно сказать программное, значение.
В. И. Ленин опровергает в этой статье тезис Михайловского
о том, что диалектические материалисты будто бы не желают
состоять ни в какой преемственной связи с прошлым и
решительно отказываются от наследства, критикует домыслы
либеральных народников о разрыве марксистов с лучшими традициями
передовой части русского общества, о перерыве ими
демократической нити и т. п.2 Сопоставляя взгляды
демократов-просветителей 60-х годов XIX века, народников 90-х годов и
марксистов, он камня на камне не оставляет от этих обвинений и
доказывает, что именно последние принимают от первых эстафету
борьбы за социальный прогресс.
Просветительство революционных демократов, самым ярким
представителем которых был Н. Г. Чернышевский, имеет, по
Ленину, такие три основные черты, как одушевленность
«горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в
экономической, социальной и юридической области»; «горячая
защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских
форм жизни и вообще всесторонней европеизации России»;
«отстаивание интересов народных масс, главным образом
крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только
освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что
отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее
благосостояние и искреннее желание содействовать этому».
Как оказывается, «ничего народнического в этом наследстве
нет»3. Напротив, практические пожелания просветителей
встречают и всегда будут встречать поддержку русских марксистов,
«ибо эти пожелания выражают интересы прогрессивных
общественных классов, насущные интересы всего общественного
развития по данному, т. е. капиталистическому, пути»4 (статья
написана в 1897 году.— Р. К.).
Если что и является объектом критики со стороны
марксистов, так это не само просветительское наследство, а
чужеродные прибавки к нему народников, выдержанные в духе идеа-
1 Гегель. Соч. М.- Л., 1935, т. 8, с. 23.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 507-508.
3 Там же, с. 519.
4 Там же, с. 521.
CxS
лизации патриархальщины, темной и недоброй старины.
«Вместо горячей веры просветителей в данное общественное развитие
явилось недоверие к нему,— пишет В. И. Ленин,— вместо
исторического оптимизма и бодрости духа — пессимизм и
уныние, основанные на том, что, чем дальше пойдут дела так, как
они идут, тем хуже, тем труднее будет решить задачи,
выдвигаемые новым развитием; являются приглашения «задержать» и
«остановить» это развитие, является теория, что отсталость есть
счастье России и т. д... Увлеченный желанием задержать и
прекратить ломку вековых устоев капитализмом, народник впадает
в поразительную историческую бестактность, забывает о том,
что позади этого капитализма нет ничего, кроме такой же
эксплуатации в соединении с бесконечными формами кабалы и личной
зависимости, отягчавшей положение трудящегося, ничего, кроме
рутины и застоя в общественном производстве, а следовательно,
и во всех сферах социальной жизни. Сражаясь с своей
романтической, мелкобуржуазной точки зрения против капитализма,
народник выбрасывает за борт всякий исторический реализм,
сопоставляя всегда действительность капитализма с вымыслом
докапиталистических порядков»1.
Тот факт, что марксисты выступают против реакционного
романтизма, отнюдь не означает того, что они якобы являются
противниками романтизма и романтики вообще. Уже
социальный оптимизм, которым пронизано марксистско-ленинское
учение, рождает романтическое отношение к творимому
будущему. К самому началу российского социал-демократического
движения относится ленинский лозунг «Надо мечтать!», как
известно, противопоставленный оппортунистическому
нежеланию видеть что-либо, кроме мелочных, каждодневных нужд
стихийного рабочего движения2. «...Само собой разумеется,—
подтвердил В. И. Ленин эту позицию уже после победы
Октября в беседе с деятелем Норвежской рабочей партии Якобом
Фриисом летом 1920 года,— мы не можем обойтись без
романтики. Лучше избыток ее, чем недостаток. Мы всегда
симпатизировали революционным романтикам, даже когда были несогласны
с ними»3.
Таким образом, марксисты и в теории и на практике
доказали, что были гораздо более последовательными хранителями
революционно-демократического и просветительского
наследства, нежели народники. Марксисты не только не отрекались от
него, но, напротив, считали своим долгом «опровержение тех
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 532.
2 См. там же, т. 6, с. 171-173.
3 Ленинский сборник XXXVII, с. 212.
00
романтических и мелкобуржуазных опасений, которые
заставляют народников по весьма многим и весьма важным пунктам
отказываться от европейских идеалов просветителей»1.
Само собой разумеется, подчеркивает В. И. Ленин,
марксисты «хранят наследство не так, как архивариусы хранят старую
бумагу. Хранить наследство — вовсе не значит еще
ограничиваться наследством, и к защите общих идеалов» они
«присоединяют анализ тех противоречий, которые заключает в себе наше
капиталистическое развитие, и оценку этого развития», беря
«за критерий интересы труда»2, с точки зрения интересов
«бесхозяйных производителей»3. Под «бесхозяйными
производителями» имеются в виду пролетарии; Ленин прямо не называет
их, как не называет он вождя русской революционной
демократии Н. Г. Чернышевского, поскольку статья печаталась в 1898
году в подцензурном сборнике. Поэтому, когда в ней
встречаются высказывания за дальнейшее движение России по
капиталистическому пути, они в то же время звучат как намек на
желательность последующего перехода на более высокую ступень
общественного развития. Ибо что значит не ограничиваться
наследством, носившим в указанном выше смысле в лучшем
случае революционно-демократический характер? Дополнить,
расширить и преобразовать его таким образом, чтобы обеспечить
идейное преобладание пролетарского научного социализма, а
затем и его практическое торжество.
Так решается вопрос об отношении к наследству по общег
демократической линии, связанной с интересами всех
трудящихся, в том числе и тех, которые, как крестьянство, обладают
двойственной природой — тружеников и собственников. Как же
обстоит дело с наследством по чисто пролетарской линии?
Начнем с того, что отношение В. И. Ленина к наследию
К. Маркса и Ф. Энгельса и к ним как личностям было свято, что
он питал искреннее уважение и к тем, кому посчастливилось
общаться с основоположниками научного коммунизма и быть их
непосредственными верными последователями. Во время своей
первой заграничной поездки весной 1895 года для установления
связей с группой «Освобождение труда» и ознакомления с
западноевропейским рабочим движением «он посещал собрания
французских и немецких рабочих, изучал их жизнь и быт; в
Париже познакомился с видным деятелем революционного
рабочего движения Полем Лафаргом, зятем Маркса. Владимир
Ильич очень хотел встретиться с великим учителем и вождем
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 542.
2 Там же.
3 Там же.
70
международного пролетариата — Фридрихом Энгельсом, но тот
был тяжело болен, и встреча не состоялась»1. «Перечитывал
«Zur Wohnungsfrage» Энгельса с предисловием 1887 г.,— писал
В. И. Ленин Инессе Арманд. — Знаете? Прелесть! Я все еще
«влюблен» в Маркса и Энгельса, и никакой хулы на них
выносить не могу спокойно. Нет, это — настоящие люди! У них надо
учиться. С этой почвы мы не должны сходить»2. Эту свою учебу
великий учитель пролетариата никогда не прекращал. В
анкете на вопрос о прочитанных сочинениях К. Маркса и Ф.
Энгельса Ленин отвечал: «Почти все...»3 «Мы,— подчеркивал он в
статье «Наша программа» (1899 год),— стоим всецело на почве
теории Маркса: она впервые превратила социализм из утопии в
науку, установила твердые основания этой науки и наметила
путь, по которому должно идти, развивая дальше эту науку и
разрабатывая ее во всех частностях»4.
В той же статье В. И. Ленин обрушивается на громогласных
«обновителей» марксистской теории — сторонников
ревизиониста номер один Э. Бернштейна, которые не внесли в нее ровно
ничего, а все время пятились назад, перенимая обрывки
отсталых взглядов и проповедуя пролетариату уступчивость в
отношении его злейших врагов. «Мы знаем,— парирует Ленин
возможные упреки в «зажиме» критики,— что на нас посыплется...
куча обвинений: закричат, что мы хотим превратить
социалистическую партию в орден «правоверных», преследующих
«еретиков» за отступление от «догмы», за всякое самостоятельное
мнение и пр. Знаем мы все эти модные хлесткие фразы. Только
нет в них ни капли правды и ни капли смысла. Крепкой
социалистической партии не может быть, если нет революционной
теории, которая объединяет всех социалистов, из которой они
почерпают все свои убеждения, которую они применяют к своим
приемам борьбы и способам деятельности; защищать такую
теорию, которую по своему крайнему разумению считаешь
истинной, от неосновательных нападений и от попыток
ухудшить ее — вовсе еще не значит быть врагом всякой критики. Мы
вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и
неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила
только краеугольные камни той науки, которую социалисты
должны двигать дальше во всех направлениях, если они не
хотят отстать от жизни»5.
1 В. И. Ленин. Краткий биографический очерк. М., 1969, с. 28—29.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 378.
3 Там же, т. 41, с. 468.
4 Там же, т. 4, с. 182.
5. Там же, с. 183-184.
71
В. И. Ленин не мыслил революционной преемственности
борцов за коммунизм без скрупулезнейшего изучения прежде
всего первоисточников марксистской теории в ее изначальном
виде, то есть такой, какой она была создана великими учителями
и вождями рабочего класса. «Основы революционной науки
должны быть основательно усвоены из трудов ее основателей» —
примерно таков должен быть лозунг. Это изучение есть не что
иное, как обмен идеями и опытом между старшими и младшими,
между зрелыми и начинающими, между теми, кто уже ушел из
жизни, и теми, кто еще только вступает в боевой строй. Это
изучение есть условие непрерывности общепролетарского дела,
его постоянного и успешного продолжения. Оно налагает свои
обязанности и на тех, кто научился применять на практике
марксизм-ленинизм, и на тех, кто пока еще усваивает его
азы.
От первых естественно требовать прививать молодежи
сознание жизненной необходимости овладения теорией, вкус к
ней, причем главным образом на основе классических
произведений, чтение которых не в состоянии заменить никакая
комментаторская и популярная литература. При всей своей
полезности она способна создать иллюзию идейной
«подкованности», породить неоправданную самоуверенность вследствие
того, что манипулирует терминами, вызывает ощущение «знако-
мости» проблем, хотя зачастую не передает сути методологии.
На это, к сожалению, обращается недостаточно внимании;
между тем даже некоторые специалисты в области
общественных наук, имеющие ученые степени (не говоря уже о многих
представителях технических и естественных наук), знакомы
с марксистскими работами либо лишь в отрывках, согласно
рекомендациям учебной программы, либо, что еще хуже, в
переложениях, не способных передать достоинства источника.
Подобная беспечность в отношении первоисточников приводит
иногда к тому, что знания, полученные в вузе, выветриваются
и начинают пополняться за счет других источников, не исключая
попыток «сочетать отжившее старое и безжизненное модное...»1.
Тут бывают и парадоксальные ситуации: иной раз долго не
замечают заведомо ошибочных (порой объективно клонящих
к ревизионизму) воззрений и в то же время клеймят как
«ревизионизм» возрождение тех или иных находившихся вне поля
зрения положений и принципов марксизма. Срабатывает
довольно ходкая «логика»: мне непонятно (непривычно или
неизвестно), а следовательно, неверно... Преодолевая подобные
недостатки и ориентируя молодежь на изучение классического на-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 440.
следия, следует помнить, что мы тем самым одновременно
приводим в действие и такой могучий фактор идейного воспитания,
как влияние культуры мышления К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина, неповторимого восприятия и оценки ими
общественных явлений, ума и эрудиции наших великих учителей,
наконец, даже стиля и языка их произведений.
От тех же, кто усваивает азы революционного учения,
необходимо добиваться вдумчивого отношения к марксистским
дисциплинам. Метод заучивания, который иногда применялся
к ним по аналогии с другими школьными предметами, очевидно,
профанирует научное мировоззрение. Следует всегда помнить,
что преподавание его основ не преследует ни просветительскую,
ни узкоспециальную цель, а направлено на формирование
представителя любой профессии как человека, как социально
активной, полноценной личности. Марксизму-ленинизму в теории
и на практике нужно учиться, без преувеличения, всю жизнь.
Несерьезно пытаться «взять» его одной «кавалерийской
атакой» на какой-нибудь популярный учебник и благополучной
сдачей экзамена, тем более — считать себя после этого
образованным марксистом. В сущности, подготовка и сдача любого
экзамена — а такого прежде всего — не делает человека
знатоком предмета, а лишь намечает пунктиром направления
приобретения познаний в данной области. Нельзя поэтому
предъявлять к литературе по мировоззренческим вопросам требование
обязательно удовлетворять особенностям «легкого чтива»,
закрепляя ложное представление поверхностных читателей, будто
каждый мало-мальски развитый советский человек может и без
специальной подготовки справиться с гуманитарными
дисциплинами. Конечно, политическая литература (в том числе
учебная) должна быть доступна — об этом не может быть спора,—
но мерой, за пределы которой не имеет права выходить
популярность, является научность.
Кстати сказать, мы находимся уже на таком уровне общей
образованности населения, когда популярность сама по себе
перестает быть самоцелью. Перед нами задача — показывать
молодежи, которая и сама начинает это все лучше понимать, что
полученные школьные и вузовские знания по
марксизму-ленинизму есть всего-навсего предварительное введение, что перед
ними величайшая духовная вершина, подъем на которую стоит
огромного труда, но зато приносит ни с чем не сравнимое
удовлетворение. Между прочим, в эту плоскость может быть
повернут знаменитый гамлетовский вопрос «быть иль не быть» в его
современной интерпретации: быть или не быть личностью?
Что такое личность в марксистско-ленинском понимании? По
этому вопрому велись и ведутся долгие, нескончаемые споры.
Существует также точка зрения, согласно которой вопрос этот
праздный; каждый, мол, если он чувствует и мыслит, совершает
поступки, находится в общении с окружающими, уже тем самым
утверждает себя как личность.
Не задаваясь целью давать здесь какое-либо законченное
определение личности, позволим себе высказать некоторые
суждения о важнейших личностных признаках индивида, которые у
разных людей, естественно, бывают развиты в разной степени.
Во-первых, крайне трудно, практически невозможно
представить себе человека как личность, то есть как человеческого
индивида, обладающего ясно выраженным
социально-нравственным обликом, своим общественным «лицом», без потребности
в выработке собственного цельного мировоззрения, уходящего
корнями в толщу мировой культуры, без по-своему активного
отношения к сколько-нибудь значительным явлениям
действительности. Личность без мировоззрения представить
невозможно. Личность без самосознания — нонсенс. Если подобные люди
и встречаются, то в этих случаях мы имеем дело с индивидами,
влачащими социально и духовно зависимое существование,
живущими, как говорится, чужим умом, «растительно», а это
свидетельствует о невысоком уровне собственно личностного
развития. Вот почему человеку столь важно как можно раньше
научиться расшифровывать идущее от предшественников,
пользуясь словом Леонардо да Винчи, «послание разума», прежде
всего овладевать марксизмом-ленинизмом.
Во-вторых, личностью в полном смысле слова является
человек, который не вынуждается вступать в какие-либо
общественные отношения отчуждения, эксплуатации и дискриминации,
человек, чьи способности и взгляды не служат источником
хищнической наживы, базой чьего-то паразитического благополучия.
В этом смысле коренная, качественная разница существует
между капитализмом и социализмом. И если при социализме
с его правом на труд и обязанностью трудиться личностью
становится неуклонно каждый индивид из массы, то при
капитализме с его системой частного предпринимательства без права
на труд не может быть ничего, кроме массы личностно
ограниченных индивидов.
Наконец, еще один признак личности состоит в непременном
обладании способностью и полем для творческого
самоутверждения в той или иной сфере общественно полезной деятельности,
ибо человек является личностью не только «в себе»,
субъективно, в собственных представлениях, но и объективно, вовне, «для
других». Всем перечисленным, конечно, не исчерпываются
характерные особенности личности, но и без этого рассуждать
о личности по меньшей мере странно.
ГА РАНГИ Я ПКССМ ЕРТИЯ
НАШИХ ИДЕЙ И ДЕЛА
Партия —
бессмертие нашего дела.
Партия — единственное,
что мне не изменит.
В. МАЯКОВСКИЙ
Как мы могли убедиться, корень страданий Гамлета
заключен отнюдь не в слабоволии. Поставив перед собой цель,
Гамлет не колеблется: неправ Тургенев, говоря, что он «убивает
своего вотчима случайно» . Нет слов, до того Гамлет отчаянно
хитрит, то прикидываясь безумным, то тараня злодея актерской
игрой, то подменяя письма, но иначе и нельзя в его положении.
Ведь в «тюрьме», какой стали для него родной дом и вся Дания,
в этом смрадно-удушающем сплетении низменных страстей,
ему почти некому довериться.
Мать? Но, не зная всей правды, она принадлежит убийце,
а узнав, способна лишь на пассивную помощь — не предать.
Офелия? Но она настолько неопытна и слаба, что играет
даже роль своего рода «подсадной утки» (точный для обрисовки
ситуации, но явно не вяжущийся с нашим представлением
об Офелии образ) в нечистой игре короля и своего отца против
Гамлета.
Горацио? Но он, при всем своем уме, честности и
преданности, лишь зеркало, в которое может смотреться Гамлет (разве
случайно, что Горацио, видя умирающего принца, тоже хочет
покончить с собой, но отказывается от этого по его просьбе?).
Гильденстерн и Розенкранц? Но они верные слуги короля,
а потому враги Гамлета, не вполне сознающие себя таковыми.
Отсюда видно, в чем состоит источник страданий Гамлета.
Он в том, что прервалась преемственная нить. В том, что,
порываясь ее связать, Гамлет не может обратиться к живым,
а вынужден взывать к мертвым. «Какое чудо природы
человек! — говорит он Гильденстерну и Розенкранцу. — Как
благородно рассуждает! С какими безграничными способностями!
Как точен и поразителен по складу и движеньям! В поступках
как близок к ангелу! В воззреньях как близок к богу! Краса
вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта квинтэссенция
праха? Мужчины не занимают меня, и женщины тоже, как ни
оспаривают этого ваши улыбки» (акт II, сцена 2). И поэтому
кажется логичным обращение принца, как к последней надежде,
к тени убитого отца:
'~г' Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т., т. 11, с. 173.
/.)
...Отзовись
На эти имена: отец мой, Гамлет,
Король, властитель датский, отвечай!
Не дай пропасть в неведеньи. Скажи мне,
Зачем на преданных земле костях
Разорван саван? Отчего гробница,
Где мы в покое видели твой прах,
Разжала с силой челюсти из камня,
Чтоб выбросить тебя? Чем объяснить,
Что, бездыханный труп, в вооруженьи,
Ты движешься, обезобразив ночь,
В лучах луны и нам, простейшим смертным,
Так страшно потрясаешь существо
Загадками, которым нет разгадки?
Скажи зачем? К чему? Что делать нам?
(Акт I, сцена 4)
Последнее «что делать нам?» особенно примечательно. Оно
означает, что Гамлет мучим не только тем, почему появился
призрак, но и определением линии своего поведения, образа
действий.
Вся беда в том, что Гамлет один и физически и духовно. Его
беспощадный анализ и самоанализ, доводимый до
самобичевания, представляет собой лишь поиски опоры и в самом себе. Но
как бы разностороння ни была отдельная личность, каким бы
сложным «ансамблем» и концентратом общественных связей —
материальных и идеологических — ни выступала, сама по себе,
без опоры на более или менее многочисленную когорту
единомышленников, она не в состоянии обрести историческую
«остойчивость». Такой когорты у Гамлета не было и, согласно
шекспировской логике, не могло быть. Не оказалось ее — на этот раз
не в искусстве, а в жизни — и у Робеспьера. Нельзя же считать
когортой двадцать два человека, живых и мертвых,
гильотинированных на Гревской площади десятого термидора 1794 года.
Вот почему для них благородный выбор — «оказать сопро-
тивленье и в смертной схватке с целым морем бед покончить
с ними» — граничил с трагическим исходом, с уходом в небытие.
Когда знакомишься с высказываниями некоторых критиков
о «Гамлете», часто ловишь себя на мысли о том, что они
говорят не о великой трагедии и не о ее герое, а о «гамлетоподобных»
типах своего времени. В силу этого бедному Гамлету
перепадают упреки, адресованные вовсе не ему, приписываются
недостатки, отнюдь ему не свойственные, а наблюдаемые у его
позднейших, довольно отдаленных и сомнительных сородичей
и подражателей. Отчасти это объясняется тем, что «под
Гамлета» модно было рядиться, «всякому лестно прослыть
Гамлетом», замечает И. С. Тургенев. Помимо персонажей из
известной галереи «лишних людей», которые вели себя почти без
7 Г»
рисовки, «в Гамлеты» играли разносортные прощелыги и фаты,
терявшие свой «гамлетизм» с возрастом, карьерным
продвижением и имущественным обрастанием. Мода, таким образом,
дискредитировала классический литературный образ, он, как
золотая монета, терял в весе и достоинстве от слишком частого
и неумелого обращения. Разлад мысли и воли надолго был
записан в его личное дело.
Тургенев в таких словах описывает одно из характернейших
противоречий своего времени: «...с одной стороны, стоят
Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также
часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой,
полубезумные Дон Кихоты, которые потому только и приносят
пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку,
часто даже не существующую в том образе, какою они ее видят.
Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть
сумасшедшим, чтобы верить в истину? и неужели же ум,
овладевший собою, по тому самому лишается всей своей силы?»1.
Прямо скажем — оптимизмом от этих вопросов не веет.
Хорошо, правда, то, что писатель поставил их с такой прямотой
и искренностью, на какую только был способен.
Ум, «овладевший собою», не лишается всей своей силы,
а, наоборот, удесятеряет ее. Это доказал марксизм., явившийся
для человечества наконец найденной формой исторического
самопознания, позволивший, руководствуясь открытыми
законами общественного развития, изменять жизненный уклад
целых народов. Дело только за тем, чтобы и достижения духа
не оставались монополией разрозненных индивидов или же
тонкого слоя интеллектуалов, а распространялись на массу,
чтобы их носителем был класс, более всех других
заинтересованный в социальной истине и представляющий перспективные
интересы подавляющего большинства' населения, интересы
подлинных творцов истории создателей всех материальных
и духовных благ — трудящихся. Начиная с марксова (40-х годов
XIX века) лозунга обмирщения философии и кончая ленинской
концепцией соединения научного социализма с рабочим
движением, это условие осуществляется на практике. Инициатива,
руководящая и направляющая роль здесь принадлежат
политической организации рабочего класса — революционной
марксистско-ленинской партии.
Из всего этого вытекает ряд следствий. Отметим некоторые
из них.
Перерыв преемственной связи становится не только
нежелательным, но и трудно осуществимым, во всяком случае при
I Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т., т. 11, с. 179.
77
надлежащей гибкости и бдительности предотвращаемым.
Живую ткань современной преемственности составляют
передаваемая от поколения к поколению единственно научная
идеология и коммунистическая нравственность, деятельность
партии, дополняющей идейное единство сотен и сотен тысяч
материальным единством организации. Это и есть та когорта
борцов, которая гарантирует бессмертие идей и дела Маркса,
Энгельса, Ленина. Вопрос теперь заключается не в том, возможно
или невозможно сохранение преемственности, а в том, какие
ее формы более всего соответствуют принципам коммунизма,
нуждам нашего строительства. Этот вопрос имеет давнее
происхождение, он был поставлен в конце XIX века, когда, по словам
Г. В. Плеханова, «немецкая буржуазия радовалась по поводу
раздоров между так называемыми молодыми и старыми
социал-демократами. Она видела в «молодых» противоядие против
«старых» и надеялась, что с помощью божьей и полиции
«молодые» нейтрализуют «старых», она легко завладеет полем
битвы и заставит замолчать как «старых», так и «молодых»1.
Выступление Бернштейна, бывшего моложе Маркса на
тридцать два года и Энгельса — на тридцать лет, с напыщенной и
пустой претензией против марксизма встретило наиболее
решительный отпор со стороны Плеханова, который был моложе
Бернштейна всего на шесть лет. «...Сейчас,— писал он в
знаменитом послании Каутскому «За что нам его благодарить?»,—
речь идет вот о чем: кому кем быть похороненным:
социал-демократии Бернштейном или Бернштейну социал-демократией?
Я лично не сомневаюсь и никогда не сомневался в исходе этого
спора»2. И Плеханов, а вместе с ним молодой Ленин блестяще
справились с задачей идейного разгрома бернштейнианства.
В дальнейшем В. И. Ленину с горечью пришлось наблюдать
эволюцию основателя группы «Освобождение труда» в сторону
оппортунизма и доказывать несостоятельность его
меньшевистских, социал-шовинистических взглядов. «Старость» и
«молодость» и вообще возраст играли здесь весьма условную роль.
Оппортунисты могли быть и старше, и моложе ортодоксальных
марксистов, и одного с ними возраста. За более молодыми, да
и то не за всеми, какое-то время сохранялось преимущество
более чуткого восприятия наметившихся тенденций и более
острого реагирования на них. По существу же, речь шла о
точном и неточном выражении пролетарских интересов, с одной
стороны, о подверженности и неподверженности буржуазным
влияниям — с другой. В этом отношении Г. В. Плеханов при-
1 Плеханов Г. В. Избр. филос. произв. В 5-ти т. М., 1956, т. 2, с. 335.
2 Там же, с. 373.
78
надлежал к тем деятелям, которые, занимая первоначально
правильные позиции, затем не выдерживают характера,
обречены отстать от масс и пережить свое влияние . Иное дело —
В. И. Ленин. «Он был — как выпад на рапире»,— писал поэт
Б. Пастернак2. Это удивительно меткое, можно сказать
бесподобное, сравнение выражает неизменную остроту, блеск,
меткость, твердость, гибкость, подвижность, стремительность,
смелость ленинского гения.
Время даже самых безупречных Гамлетов безвозвратно
ушло. Поведение в стиле датского принца становится исторической
несообразностью, донкихотством наизнанку, раз налицо
необходимые объективные условия для реализации выраженных
в этом шекспировском образе идеалов. Вне коммунистической
организации и без ее участия, без влияния идей научного
социализма мыслимы лишь такие прогрессивные действия,
которые не ведут, однако, к качественным переменам в
общественных отношениях,— это верно как для капиталистических стран,
так и для стран социалистических. «Гамлетизм» мельчает и
окончательно превращается в собственную противоположность.
Он становится уделом индивидуалистов, всяческих
непризнанных «гениев» ревизионистского толка, время от времени
предлагающих «спасать» коммунистическое движение, вроде Роже
Гароди^ который всерьез пытался предложить
марксистам-ленинцам всего мира вопрос «быть иль не быть».
В социалистическом обществе подобное поведение может
быть связано с отказом отдельных личностей решать социально-
политические проблемы в первую очередь в рамках партийности,
с настаиванием на их решении вне общественных институтов,
уже созданных для этих целей рабочим классом,
революционными массами. В данном случае приходится иметь дело — об
этом говорит опыт ряда революций, как правило
сопровождавшихся и вылазками антисоциалистических элементов,— либо
с непониманием природы нового строя, либо с оппозиционностью
ему. В самом деле, нелепо стремиться в одиночку с успехом про-
1 К чести Плеханова, он, хотя и был политическим противником
большевизма, не выступал, однако, против пролетарской революции. «Плеханов
жил в Царском Селе и лежал в постели больной,— писал о нем в октябрьские дни
1917 года Джон Рид.— Красногвардейцы вошли в его дом, сделали обыск
(искали оружие) и допросили старика.
— К какому классу общества вы принадлежите? — спросили они его.
— Я революционер и еще сорок лет тому назад посвятил всю свою жизнь
борьбе за свободу,— отвечал Плеханов.
— Все равно,— заявил рабочий,— теперь вы продались буржуазии.
Рабочие,— замечает Рид,— уже не знали пионера российской социал-
демократии Плеханова!» (Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир, с. 307).
2 Цастернак Б. Стихотворения и поэмы, с. 243.
7<)
тивостоять силам зла, если на это же направлена вся
общественная система, если нужно, наоборот, искать способ включиться
в общую коллективную работу. Конечно, в отдельных
ситуациях человек может действовать и в одиночку, но при этом он,
чтобы не переродиться в индивидуалиста, должен поступать
солидарно с классом, с обществом, с ценностями и идеалами,
предопределяющими его — сугубо личный — выбор поступка.
Человеку коммунистической идеи не приходится, ища
жизненную опору, уповать лишь на самого себя. Вопрос об его
индивидуальной ответственности и за собственную судьбу, и за дела
коллектива, и за судьбы Родины тем самым не снимается.
Напротив, он ставится более жестко и определенно, ибо индивид
обладает неограниченными возможностями овладения
революционной теорией — безотказным научным ориентиром в
социальной практике, ибо он получает фактическую возможность
опираться на силу своей партии, как и партия всецело
рассчитывает на сознательность, активность и боевитость своих членов.
Кому многое дано, с того много и спрашивается. Эта обоюдная
зависимость была точно выражена одним из лозунгов Первого
Интернационала: «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей
без прав»1.
ТОВАРИЩЕСТВО ПОКОЛЕНИЙ
И КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИИ
Сыны отражены в отцах:
Коротенький обрывок рода...
Созрела новая порода,—
Угль превращается в алмаз.
Он, под киркой трудолюбивой,
Восстав из недр неторопливо,
Предстанет — миру напоказ!
А. БЛОК
В механизме преемственности поколений важнейшее место
занимают взаимоотношения между старшими, чаще
выступающими в роли своего рода наставников, и младшими, которым
со многим приходится иметь дело впервые и многому учиться.
Здесь чрезвычайно важна атмосфера взаимной заботливости,
такта и уважения, основанная на понимании старшими, что
дело их жизни всецело зависит от того, как его поведут дальше
младшие, на сознании младшими того, что изучение всякого
прошлого опыта — позитивного или негативного — не помеха,
а подспорье, часто грозное оружие в борьбе за коммунизм.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 13.
SO
Никто не умел так выращивать кадры, как В. И. Ленин.
Он не боялся выдвигать молодых, всячески поддерживал
талантливых и самоотверженных работников, чутко следил за их
ростом, и это давало богатые плоды. Всем этим Ленин
решительно отличался от Плеханова. Хотя Плеханов был весьма
одаренным человеком и имел немалые заслуги перед российским и
международным рабочим движением, ему всегда мешали черты
барства, желание везде и во всем играть роль ментора, своего
рода «маэстро», которые выдавали его тщеславие и
индивидуализм и отталкивали от него товарищей. Ленин, близко
знавший и высоко ценивший достоинства Плеханова, сам получил
от него жестокий урок. Об этом рассказано в заметке
дневникового характера «Как чуть не потухла «Искра»?», написанной
по свежим следам на бланках одного цюрихского кафе в начале
сентября 1900 года.
В. И. Ленин приехал тогда в Швейцарию для переговоров
с русскими социал-демократами в эмиграции, прежде всего с
группой «Освобождение труда», об издании за границей — на
родине оно было почти невозможно из-за полицейских
преследований — двух органов: научно-политического журнала
«Заря» и общерусской рабочей газеты «Искра». Перед тем в России
Ленин провел огромную подготовительную работу. Издание
газеты он прозорливо считал важнейшим звеном собирания
социал-демократических сил, фактического создания
боеспособной пролетарской партии, на этом строил свой исторический
организационный план. И вот теперь должна была решиться
судьба всего предприятия.
Первые же беседы с Плехановым показали, что он
«подозрителен, мнителен и rechthaberisch до пес plus ultra (всегда считает
себя донельзя правым.— Ред.)»1. При всем старании Ленина
соблюдать осторожность, не вступать в пререкания по
мелочам, предотвратить трения оказалось невозможным. Плеханов
«проявлял всегда абсолютную нетерпимость, неспособность и
нежелание вникать в чужие аргументы и притом
неискренность, именно неискренность... К «союзникам» он проявлял
ненависть, доходившую до неприличия (заподозревание в
шпионстве, обвинение в гешефтмахерстве, в прохвостничест-
ве, заявления, что он бы «расстрелял», не колеблясь,
подобных «изменников» и т. п.) »*. Самые отдаленные намеки на его
собственные крайности он грубо отвергал. Все это создавало
ненужную напряженность, тяжелое общее настроение.
Лениным был предложен «Проект заявления редакции
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 334.
2 Там же, т. 4, с. 337.
6 Накал \Ш'Л
81
«Искры» и «Зари»», в котором говорилось о задачах и
программе изданий1. Он дважды обращался к Плеханову с просьбой
внести в документ редакционные изменения, но тот, не возражая по
существу, отвечал уклончиво. Когда же дело дошло до съезда
группы «Освобождение труда» и представителей РСДРП, в
котором с одной стороны участвовали П. Б. Аксельрод, В. И.
Засулич и Г. В. Плеханов, а с другой — В. И. Ленин и А. Н. По-
тресов (Арсеньев), он повел себя по-иному. «...Идет совещание
соредакторов,— пишет Ленин об особенно неприятно
поразившем его штрихе,— и вот один из соредакторов (которого два
раза просили дать свой проект заявления или проект
исправления нашего заявления) не предлагает никаких изменений,
а только саркастически замечает, что он-то бы уж, конечно,
не так писал (не так робко, скромно, оппортунистически —
хотел он сказать). Это уже ясно показало, что нормальных
отношений между ним и нами не существует»2.
В ходе дальнейших переговоров Плеханов ставил один за
другим ультиматумы по каждому сколько-нибудь серьезному
вопросу, а убедившись, что не добьется слепого послушания,
пошел на явно дезорганизаторскую выходку: заявил о своем
намерении выйти из числа редакторов и стать «простым
сотрудником». Выходка была рассчитана на определенный эффект —
добиться признания, что без него не обойтись, и выговорить
себе исключительное положение. Так оно и вышло. Получив
два голоса по вопросам тактики, Плеханов тут же бесцеремонно
взял в руки бразды правления и начал диктовать свои условия
«тоном, не допускающим возражений. Мы сидим все, как в воду
опущенные, безучастно со всем соглашаясь и не будучи еще
в состоянии переварить происшедшее,— рассказывает Ленин
о своих впечатлениях.— Мы чувствуем, что оказались в дураках,
что наши замечания становятся все более робкими, что Г. В.
«отодвигает» их (не опровергает, а отодвигает) все легче и все
небрежнее, что «новая система» de facto всецело равняется
полнейшему господству Г. В. и что Г. В., отлично понимая
это, не стесняется господствовать вовсю и не очень-то
церемонится с нами»3. Это поведение было тем более нетерпимо, что
тогда идейное руководство Плеханова признавалось и без
усилий с его стороны, что речь шла о лучшей организации дела, о
черновой редакторской работе, на аккуратное исполнение
которой он при своей амбициозности был неспособен.
Ленин так вспоминает о возвращении с Потресовым домой
1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 322—333, 338.
2 Там же, с. 339.
3 Там же, с. 341-342.
N2
после этого события: «Нас точно прорвало... Мы ходили до
позднего вечера из конца в конец нашей деревеньки, ночь была
довольно темная, кругом ходили грозы и блистали молнии. Мы
ходили и возмущались... Мою «влюбленность» в Плеханова...
как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной
степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к
одному человеку с таким искренним уважением и почтением,
veneration, ни перед кем я не держал себя с таким
«смирением» — и никогда не испытывал такого грубого «пинка».
А на деле вышло именно так, что мы получили пинок: нас
припугнули... тем, что взрослые нас покинут и оставят одних, и,
когда мы струсили (какой позор!), нас с невероятной
бесцеремонностью отодвинули... Раз человек, с которым мы хотим вести
близкое общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения,
раз такой человек пускает в ход по отношению к товарищам
шахматный ход,— тут уже нечего сомневаться в том, что это
человек нехороший, именно нехороший, что в нем сильны
мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия, что он — человек
неискренний. Это открытие — это было для нас настоящим
открытием! — поразило нас как громом потому, что мы оба были
до этого момента влюблены в Плеханова и, как любимому
человеку, прощали ему все, закрывали глаза на все недостатки,
уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это —
мелочи, что обращают внимание на эти мелочи только люди,
недостаточно ценящие принципы. И вот, нам самим пришлось
наглядно убедиться, что эти «мелочные» недостатки способны
отталкивать самых преданных друзей, что никакое убеждение
в теоретической правоте неспособно заставить забыть его
отталкивающие качества»1.
Впоследствии события показали небезупречность не только
личных качеств, но и теоретических взглядов Г. В. Плеханова.
Но уже у колыбели «Искры» со всей очевидностью раскрылась
его способность из соображений дешевой интриги поставить
под вопрос громадной важности общепартийное дело. «Трудно
описать с достаточной точностью наше состояние в этот вечер:
такое это было сложное, тяжелое, мутное состояние духа! —
продолжает Ленин. — Это была настоящая драма, целый разрыв
с тем, с чем носился, как с любимым детищем, долгие годы, с
чем неразрывно связывал всю свою жизненную работу... Все
налаживалось к лучшему — налаживалось после таких долгих
невзгод и неудач,— и вдруг налетел вихрь — и конец, и все
опять рушится»2.
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 343—344.
2. Там же, с. 344-345, 346.
Н*
Не опустились ли после этого у Ленина руки, не проникся
ли он «гамлетовским» настроением? Отнюдь нет. Он был уже
готов отказаться от идеи журнала, уехать в Россию и,
самостоятельно наладив там дело заново, выпускать одну газету.
Интересы партии, интересы рабочего класса были для него
превыше всего. В этом убеждении он черпал гигантские
нравственные силы, как бы ни были велики трудности, сколь бы
сильными ни были разочарования в отдельных лицах.
Исключительно общительный по натуре, на редкость предрасположенный
к дружеским отношениям, жизнерадостный и жизнелюбивый,
он, как магнит, притягивал к себе людей и сам тянулся к ним.
«Небывало всесторонний человек, полное слияние интеллигента
и пролетария и в мысли, и в работе, и в личной жизни, свободный
от всех слабостей мира сего, он одновременно человек, которому
«ничто человеческое не чуждо»... — писал о В. И. Ленине один
из его испытанных соратников, П. И. Стучка. — Он, которого
лично злейшие клеветники могли винить лишь в политическом
фанатизме, одновременно бывал лучшим другом и товарищем,
интереснейшим и веселым собеседником, с редким тактом
подходящим к человеческим ошибкам, слабостям и страданиям
друзей и товарищей и по достоинству оценивающим честь и
заслуги даже непримиримейшего своего противника...»1
Конечно, тернистая стезя революционера иногда не
считалась с личными привязанностями, она часто вынуждала их
порывать, разводила с теми, кто еще недавно казался близок по
духу, но, не выдержав испытаний, капитулировал перед
оппортунизмом, изменял общим идеалам. В подобных случаях Ленин
оставался принципиален до конца. Идейное предательство было
для него несовместимо с близкими личными отношениями.
Он не принадлежал к таким людям, которые легко выкидывают
друзей из сердца (со многими, позднее отказавшимися от своих
ошибочных взглядов, Ленин восстанавливал тесные контакты
и сотрудничество), и глубоко переживал всякую такую потерю,
ведь то была и личная утрата и утрата для партии, а без нее он
не мыслил себе жизни.
Органическое усвоение марксизма-ленинизма, животворная,
неослабевающая связь с массами исключали для него
возможность каких-либо колебаний, безверия, уныния, пессимизма.
«Дух отрицания» никогда не преобладал в поступках этого
человека. Какой бы крутой ломки ни требовали руководимые
им преобразования, всегда за ними вставала перспектива
могучего созидания, совершенствования жизненного уклада
миллионов людей труда.
1 Цит. по: Огонек, 1965, № 31, с. 6.
N'i
Впрочем, описанный конфликт с Плехановым не привел
тогда к явному разрыву. После прямого и резкого объяснения,
которого Плеханов, видимо, не ожидал, он понял, что зашел
слишком далеко. В его планы не входило остаться за бортом.
Видя, что предпринятые им новые маневры не действуют,
Плеханов постарался внешне разрядить ситуацию. «...Только внутри
порвалась какая-то струна,— с горечью замечает Ленин,— и
вместо прекрасных личных отношений наступили деловые,
сухие, с постоянным расчетом: по формуле si vis pacem, рага bellum
(если хочешь мира, готовься к войне — Ред.)»1.
Отношение Плеханова к младшим товарищам не было
отношением к братьям меньшего возраста, как того требовала
партийная этика, оно было пронизано духом соперничества и
ревности, стремлением указать им их место — место, которое они
скромно сознавали и без этого. Плеханов откровенно
злоупотреблял влюбленностью в него партийной молодежи, ценя в ней
этакое духовное рабство и забывая при этом простейшую
истину — что «быть рабом — недостойная вещь...» . Тем самым он
нарушал важнейшие принципы партийного воспитания,
способствовал не консолидации партийцев всех возрастов, а,
наоборот, отчужденности между ними. Перенесение подрастающей
и, увы, старящейся молодежью тех же приемов на работу с
последующими поколениями ничего хорошего не сулило бы нашей
партии. Следствием его могло бы быть неполноценное
формирование смены, развитие у нее черт приспособленчества,
морального иждивенчества и политического инфантилизма в сочетании
с высокомерием и нетоварищеским поведением в отношении
менее опытных и младших.
Обратимся в этой связи к имеющему важное значение
аспекту проблемы преемственности поколений. Речь идет о
подходе старших к младшим, а также об их взаимном признании
друг за другом человеческого достоинства. Если достоинство
старшего легко утверждается объективно — прошлым трудом,
опытом, достигнутым положением, заслугами, уважением в
коллективе и т. д., то в младшем, который лишь начинает свою
трудовую и гражданскую жизнь, все лучшее зачастую пока
субъективно, потенциально, его нужно еще разглядеть, выудить,
поощрить, развить. Если для старшего признание его голоса,
нравственного веса, авторитета — дело уже завоеванное, то для
младшего — это проблема, и проблема архиважная. Речь,
разумеется, идет не о муках ложного самолюбия, тщеславия и
' Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 351.
\ 2 Там же, с. 345.
S."i
дутом самомнении, а о нормальной для Человека потребности
в самоутверждении, в сознании нужности другим, в том, чтобы
с ним считались.
И вот тут нередко возникают коллизии. Встречается еще
категория воспитателей (в самом широком смысле этого слова),
которая начинает с молодежью разговор в духе знаменитого
дяди из лермонтовского «Бородина»:
— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы! '
Всегда ли положительно срабатывает такое
противопоставление? Увы, не всегда. Подчас оно вызывает раздражение, а то и
просто обижает. «Дядя», понятно, не может взять этого в толк
и со своей стороны делает вывод о том, что молодежь у нас «не
дотягивает» до уровня отцов. А подлинная причина коллизии
в том, что не соблюдается важнейшее правило
коммунистического воспитания, сформулированное замечательным советским
педагогом А. С. Макаренко: исходить из признания воспи-
туемоео личностью. И делать это надо со всей серьезностью,
не отказывая воспитуемым в признании возможности
совершения ими тех подвигов, о которых воспитатель говорит как о
высоких образцах достижения исключительных результатов в
области производства, науки и техники, литературы и искусства
и т. д.
Пусть не все мечты сбудутся и не все замыслы осуществятся.
Пусть не все молодые люди, с которыми имеет дело воспитатель,
окажутся достаточно одаренными или сумеют полно выявить
свои способности. Речь идет о другом. Все они наверняка будут
облагорожены отношением к ним как к высшей ценности,
неповторимым индивидуальностям, могущим при надлежащем
развитии явить миру все доступные человеку достижения
творческого духа. В худшем случае творческая личность может
не получиться, но сформируется человек, который, как
минимум, не будет препятствовать становиться творческими
личностями другим.
За содержание и форму своего общения с воспитуемым
воспитатель отвечает не столько перед ним, сколько перед
обществом. И содержание и формы его деятельности должны
соответствовать именно общественным интересам. Берясь за передачу
прошлого опыта, нужно проделать предварительную
аналитическую работу, чтобы сделать его усвояемым для новых
поколений, живущих в иной социально-политической обстановке
1 Лермонтов М. Ю. Собр. соч. В 4-х т. М., 1975, т. 1, с. 26.
Ж>
и не переживших того, что пережили их предшественники, а
потому и не способных реагировать на события прошлого так же,
как его современники. Если, положим, дело касается
политического опыта, то подача его в начальном, первозданном виде
может заинтересовать, например, категорию молодежи,
имеющую особую тягу к истории, а не молодежь вообще. И сетовать
на «глухоту» юности к тому, что в свое время задевало вас за
живое, нужно с известной осторожностью.
Переработка исторического материала применительно к
современным задачам и ценностным установкам,
амальгамирование его с тем, что живо и актуально для современной
молодежи, что способствует становлению юношей и девушек как
активных строителей коммунизма,— задача очень и очень непростая.
Наше время, естественно, не выдвигает и не может выдвинуть ни
революционеров-подпольщиков, ни комбедовцев, ни
двадцатипятитысячников, ни ударников первых пятилеток, но от своих
предшественников мы должны взять все лучшее. Решение этой
задачи — творческое усвоение выработанных традиций —
поможет добиться максимальной эффективности идейного
воспитания.
Мы сказали, что воспитатель за свою деятельность ответствен
в первую очередь не перед воспитуемым, а перед обществом,
и никто не вправе объяснять свои недостатки, свою низкую
культуру тем, что его плохо воспитывали, снимать с себя вину за это
и взваливать ее на своих учителей. Обратимся к самым
непосредственным примерам воспитания — в обучении. Переставший
расти, работающий не по призванию учитель, доцент-начетчик
или профессор-конъюнктурщик, конечно, большое зло. Но не
меньшее зло пассивный, иждивенчески настроенный ученик,
студент или молодой человек иного рода занятий, который,
вступая в жизнь, предпочитает быть только продуктом эмпирических
обстоятельств и никак не стремится влиять на них в лучшую
сторону, боясь чрезмерной (а правильнее сказать — какой
бы то ни было) ответственности. Такой придерживается
созерцательной позиции, выступает как плоский восприемник
впечатлений и не относится к собственному развитию практически,
полагая, что практика ограничивается устройством
повседневных делишек. Поэтому он оказывается всецело слепком
с ограниченной среды, которая лишь в счастливом случае
сообщает ему своеобразные личностные задатки, но чаще
порождает новых озриков, как две капли воды схожих с поло-
ниями.
Вспомним два характерных разговора из того же «Гамлета».
Полоний
Милорд, королева желает поговорить с вами, и немедленно.
N7
Гамлет
Видите вы вон то облако в форме верблюда?
Полоний
Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять — верблюд.
Гамлет
По-моему, оно смахивает на хорька.
Полоний
Правильно: спинка хорьковая.
Гамлет
Или как у кита.
Полоний
Совершенно как у кита.
Гамлет
Ну, так я приду сейчас к матушке.
(Акт III, сцена 2)
Тон Полония, передающего приказание королевы, вначале
граничит с надменной наглостью. Гамлет осаживает его,
дурача и выворачивая напоказ этого лизоблюда-царедворца.
Другой разговор происходит с молодым Озриком, который,
сняв шляпу, передает пожелание короля относительно
поединка Гамлета с Лаэртом и наверняка понимает существо
происходящего:
О з р и к
Милейший принц, если бы у вашего высочества нашлось время, я бы вам
передал что-то от его величества.
Гамлет
Сэр, я это запечатлею глубоко в душе. Но пользуйтесь шляпой по
назначению. Ее место на голове.
О з р и к
Ваше высочество, благодарю вас. Очень жарко.
Гамлет
Нет, поверьте, очень холодно. Ветер с севера.
О з р и к
Действительно, несколько холодновато. Ваша правда.
Гамлет
И все же, я бы сказал, страшная жара и духота для моей комплекции.
О з р и к
Принц,— неописуемая! Такая духота, что просто не подберу слова. Однако,
принц, по приказу его величества довожу до вашего сведения, что он держит
за вас пари на большую сумму.
Гамлет
Тем не менее прошу вас... (Принуждает Озрика надеть шляпу.)
О з р и к
Нет, оставьте, уверяю вас! Мне так лучше, уверяю вас!
(Акт V, сцена 2)
Устами Озрика король выносит Гамлету смертный приговор,
но рисунок поведения этого молодого придворного в точности
повторяет то, что делал Полоний. Шекспир явно намеренно
применяет этот прием, чтобы показать однотипность
представителей разных поколений слуг короля. Подобно отцу Офелии,
«эта мошка», как характеризует Озрика Гамлет, не прочь зая-
88
вить свое мнение и в то же время полна готовности с ним не
согласиться...
Разве не встречаются еще нам более или менее молодые
современники с подобными, «мешкообразными» движениями
души? Они резко контрастируют с социалистическими нормами
нашей жизни, коммунистическими нравственными принципами,
с партийностью.
Есть большая разница между тем, быть личностью или
только ею слыть. Не так уж редки случаи, когда имя какого-нибудь
«юного гения» лет тридцати пяти — сорока не сходит с уст
определенного узкого кружка. Он «много знает», «знает языки»,
«перспективен», «теоретическая голова» и т. п. — вот примерно
что можно различить в раздающемся со всех сторон шепоте.
Но возникает вопрос: а что он сделал? Достоинство и вместе
с тем неудобное свойство правды состоит в том, что ее никак не
возможно скрыть. Убаюканный участливым вниманием, ложно
удовлетворенный богемным обожанием, пожилой вундеркинд
где-то на рубеже золотого юбилея вдруг прозревает: подводя
итог пройденному, он вынужден признать, что, в сущности, не
сделано ничего. И тут начинается маленькая трагедия, которой
могло бы и не быть, окажись кружок чуть-чуть взыскательнее и
не относись он потребительски (а как это иначе назвать?) к
кумиру салонного масштаба.
Ныне не станешь личностью, копируя кого бы то ни было —
Гамлета или Озрика, Санчо или Дон Кихота. Могут получиться
лишь убогие односторонности. Да и вообще копирование в наше
творческое время не в почете. Строительство собственной
личности (именно «строительство», потому что речь идет о
действительно сложной, тяжелой и длительной работе) не может быть
осуществлено по какому-то типовому проекту. Как максимум,
здесь можно получить только общие установки. Надо всегда
рассчитывать на предельную реализацию человеческих
возможностей, никогда не говоря заранее: «Это у тебя (у меня)
не получится»,— испытывать всесторонне свои задатки в той
благодатной атмосфере, которая создана в развитом
социалистическом обществе. Наше время — не для психологии «маленького
человека», ибо всякий нашедший себя в великом общем деле
коммунистического созидания уже велик. Категорическим
велением совести, долга, воли человека должно быть развитие
своих творческих способностей неизмеримо выше роста
потребительских запросов. Вспомним вдохновляющий призыв
Владимира Маяковского: «С низа лет, с класса низов — рвись раз-
громадиться в Ленина»1. Конечно, поясняет в своих воспоми-
Маяковский В. В. Поли. собр. соч. В 13-ти т., т. 6, с. 37.
S!)
наниях Стучка, учиться ленинизму нужно «не для того, чтобы
сделаться «вторыми Лениными» — Ленины только один раз
бывают во всей истории,— но для того, чтобы, изучив до
совершенства его и его методы, благодаря этой науке делать скромное,
но свое дело»1.
Ленин — наш постоянный высокий образец, а созданная им
партия — организованное закрепление этого образца усилиями
миллионных масс, не оставляющее места для каких бы то ни
было колебаний при ответе на вопрос «быть или не быть».
Быть, быть, быть! Быть коммунистической,
коллективистской личностью.
1 Цит. по: Огонек, 1965, № 31, с. 6.
СОКРАТ
И МЫ
«СОКРАТОВСКИЙ ХАРАКТЕР»
Такие личности не созданы природой, а
самостоятельно сделали себя тем, чем они были; они стали
тем, чем хотели быть, и остались верными этому
своему стремлению до конца жизни.
ГЕГЕЛЬ
Давно замечено, что великие образы человеческой истории
разделяют с великими образами человеческого искусства одно
высшее преимущество: они неисчерпаемы. Такова и фигура
Сократа. О нем существует огромная литература, вобравшая в себя,
кажется, все моменты его житейской биографии и м.ыслитель-
ной деятельности, известные по оставленным далекой эпохой
свидетельствам. Не было периода и поколения в мировой
истории, которые бы прошли мимо на редкость удивительной судьбы
человека, чья жизнь, учение и смерть воспринимаются4каждой
новой эпохой как урок, который полезно не только «заучить»,
но и осмыслить, понять, «пропустить через себя». Ведь прошлое
оставило нам не одни лишь «готовые» плоды цивилизации,
которые нужно усвоить и развить дальше,, но и немало «мировых
загадок» (используем выражение К. Маркса), которые еще
предстоит разгадать и разрешить. И среди них — тайна
тысячелетней значимости Сократа, неисчерпаемая, как сама
движущаяся жизнь.
Стремление воссоздать научно достоверный, «объективный»
по своей исторической принадлежности облик Сократа, раскрыть
с максимальным приближением к истине смысл и содержание
его учения — задача и сегодня непростая для историков
философии, и можно предположить, что будущим исследователям
она оставит еще немало «белых пятен».
Но есть еще один путь осмысления прошлого, не менее
увлекательный и достоверный, чем строго научное, «понятийное»
познание явлений и фактов. Это — путь искусства,
осваивающего мир духовно-практическим способом и пробивающегося к
объективной истине своими особыми средствами. Но можно ли
довериться художественному изображению, в котором научное
\\:\
знание нередко противоречиво сталкивается с вымыслом и
домыслом?
Применительно к интересующему нас случаю с Сократом
можно поставить этот вопрос конкретнее: возможен ли Сократ,
увиденный глазами нефилософа, и притом интересный всем, в
том числе и философам? Да, возможен, ибо представляемые
искусством широкие круги общественности по-своему видят
и оценивают «то же самое» историческое явление. При этом
немаловажно, что для искусства объективное содержание такого
явления (в данном случае «истории Сократа») неотделимо от
переживания его человеком наших дней, привносящим свое
исторически определенное видение мира, расставляющим такие
акценты, которые делают историческую проблематику
актуально-современной, сопричастной тем жизненным проблемам,
которые приходится решать сегодня. Сократ — историческое лицо,
а не литературная фикция. Но было бы чрезвычайно
непродуктивным занятием ограничиваться констатацией его «факто-
логичности» в художественном произведении, где и самый
невероятный вымысел может оказаться жизненной правдой,
достовернейшей истиной.
Сократу буквально предопределено стать героем
произведения искусства, настолько он сам, его образ жизни, способ
мышления и характер глубоко индивидуальны, неповторимы, или,
как пишут ныне, личностны. Это именно тот случай, когда факт
жизненный может стать фактом художественным, обретя,
несмотря на свою исключительность, все достоинства
типического образа.
Высказанные нами мысли навеяны пьесой Э. Радзинского
«Беседы с Сократом». Соединение художественной свободы в
оперировании историографическим материалом с гражданской
ответственностью в его истолковании позволило драматургу
создать произведение, предоставляющее зрителю драгоценную
возможность насладиться (используем слова А. И. Герцена)
«зрелищем развития духа»1, бесстрашием человеческого
интеллекта, испытать радость общения с поистине феноменальной
личностью. Не останавливаясь на собственно художественных
достоинствах пьесы, поскольку не это является нашей целью,
мы хотим акцентировать внимание на важности затронутых в
ней нравственных проблем, имеющих, как нам кажется, прямое
отношение к сегодняшним раздумьям о развитии
социалистической личности.
Принципы нашей нравственности, неотделимые от классовой
борьбы за победу коммунизма, вобрали в себя все лучшее, что
1 Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1954, т. 1, с. 258.
выработало человечество в процессе становления и утверждения
действительно гуманных форм общежития, в отстаивании
которых многие выдающиеся умы прошлого и настоящего дали
пример подлинного мужества и стойкости, жертвуя подчас всем,
даже самой жизнью. Поэтому античный Сократ, очень сложный
и противоречивый в своей жизни и деятельности, близок нам по
духу своих нравственных исканий и убеждений, по
бескомпромиссности и определенности отстаиваемых им идейных позиций,
по глубокой вере в достоинство личности.
Вот одна из характеристик Сократа, дающих контурное
изображение его образа жизни, характера и философской позиции.
«Кто этот человек? — Его зовут Сократ, и весь свет знает его.
Ибо с тех пор, как он забросил резец, которым он прежде
работал, его можно найти везде в Афинах, где что-либо
случилось... Но в особенности где ведется диспут, он уже налицо.
Ужас софистов: ибо никто не устоит против него. Но этого ему
еще мало: он болтает со всяким, кто ему попадется на пути...
— Так, значит, он один из тех торговцев мудростью, которые
приманивают к себе богатую молодежь, обещая ей всякие
знания и красноречие и вытягивая деньги из ее кошелька? —
Напротив, он никогда не брал ни обола. — Так, стало быть, он
богат и независим? — Ничуть не бывало; ему приходится туговато.
Дома у_него сидят жена и дети, у которых едва есть по куску
хлеба... и сам он пользуется лишь самым необходимым. — Но
чего же хочет этот человек? Не принадлежит ли он к числу
глупых болтунов? — Нет, все удивляются его ясной, твердой и
разумной речи. — Может быть, он так жаден до новой мудрости,
что не хочет пропустить ни одного ее слова и повсюду ищет ее? —
Наоборот, он не оставляет на ней живого волоска и ничего не
хочет слышать о ней. — Значит, он знает что-нибудь еще
лучшее? — Нет, он повторяет каждому, что знает лишь одно: то
именно, что он ничего не знает»1.
Этическая сторона истории процесса над Сократом, как в
случае с «выдуманным» Гамлетом Шекспира и
«невыдуманным» Галилеем Б. Брехта, поучительна для любого времени
и поколения людей. Она и находится в центре внимания в пьесе
Э. Радзинского.
Герой пьесы — странный по своему образу жизни, поведению
и даже внешнему виду человек. «Исторический» Сократ был
небольшого роста, тучный, лысый, курносый, с толстыми
губами и глазами навыкате, всегда в поношенном плаще и босой.
Оставим в стороне особую тему о «несправедливости» природы,
способной наделить внешней привлекательностью, броской кра-
1 Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. Спб.,
1904, с. .50-51.
<».">
сотой людей пустых, с убогой душой и умом и обделить в то же
время наиболее интересных и достойных внимания своих
творений. М. Монтень с горечью констатировал это на примере
именно Сократа: «Как жаль мне, что Сократ, являющийся
величайшим примером всех добродетелей, был, как утверждают,
безобразен лицом и фигурой,— это так не соответствовало
красоте его души: ведь он был до безумия влюблен во все
прекрасное»1. Судя по всему, самого Сократа такая «несправедливость»
мало заботила, и он не без снисходительной иронии называл
красоту «недолговечным царством»2. Он был похож на Силена,
что означало победу внутренней, духовной красоты над внешним
безобразием.
И вот этот прекрасный, но внешне некрасивый человек
появляется на сцене как раз в тот момент, когда узнает, что он
обвинен в «выдумывании» новых богов и «развращении»
молодежи и что предполагаемое наказание за это — смерть. Суд над
Сократом, ожидание исполнения приговора и смерть — такова
сюжетная канва пьесы, внутри которой и происходит самое
главное. А именно беседы Сократа с окружающими, друзьями и
недругами, беседы необычные: здесь нет учителя и учеников, а
есть беседующие и признается лишь один судья — старшинство
мысли.
Если бы понадобилось назвать имя человека, первым
познавшего культурную, собственно «человеческую» ценность общения
между людьми и превратившего беседу («взаимный разговор»,
«общительную речь», как определил ее В. Даль) в подлинное
искусство, то им по праву можно считать Сократа.
Отметим, кстати, что проблема диалогичности мышления, в
последнее время активно обсуждаемая в литературе, связана с
более широкой темой «производства идей», рождения сознания
из общения. Сократическая беседа, или диалог, не что иное, как
особый способ создания мыслительного содержания, секрет
которого заключен в характере, в природе человеческого общения.
Суть этого способа, в истолковании М. М. Бахтина, состоит в
следующем. Истина не возникает и не находится в голове
отдельного человека, она рождается в процессе беседы между
людьми, совместно ищущими истину. Сократ называл себя
«сводником», потому что сводил людей и сталкивал их в споре,
в результате чего и рождалась истина. По отношению же к этой
возникающей истине он называл себя «повивальной бабкой»,
так как помогал рождению истины3. Именно посредством диало-
1 Монтень М. Опыты. М., 1960, кн. 3, с. 346.
2 См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов. М., 1979, с. 211.
3 См.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979, с. 126.
•.к;
га вырабатывается и воспитывается умение высказывать и
обосновывать свою точку зрения (на обыденном уровне — мнение)
на вещи и события с целью проверки последней на истинность.
Сократическая беседа, таким образом, составляет оппозицию мо-
нологизму как принципу (но не монологу как таковому, ибо он
не менее оправдан и продуктивен в качестве способа
обнаружения истины, чем диалог), то есть претензии на «готовую
истину», боязни подвергнуть любую идею, взгляд, теорию открытому
и всестороннему обсуждению.
Оказывается, беседовать, или общаться, совсем не просто,
это особый дар, данный не всякому. Помимо стремления к
истине и развитой способности мыслить он предполагает умение
слушать и слышать другого человека, реализуя потребность в
общении, в процессе которого только и можно познать мир и
самого себя. Качество, скажем прямо, не самое распространенное
в наше время. Человеку часто приходится нелегко, когда он
надеется быть услышанным и правильно понятым своим
собеседником, ибо нередко спор оказывается не исканием истины
(предполагающим и момент сомнения, понимание относительности
собственных познаний), а настаиванием на «излюбленной
мысли», тем более категоричным, чем меньше человек знает. И
замечаешь, как тот, кто только что горячо убеждал тебя, доказывая
правоту собственной точки зрения, немедленно «выключается»,
становится рассеянным, гаснет его взор, когда наступает,
казалось бы, самый важный и интересный момент в разговоре или
споре — возможность убедиться в том, что тебя поняли, и
поняли правильно.
Действительно, очень трудное это дело — умение «вести
беседу», где наряду с общением нет ничего важнее и дороже, чем
желание пробиться к истине. Как правило, «монологическому»
человеку это не удается. Ведь в настоящем споре нет
победителей и побежденных, выигрывают обе стороны, ставшие чуть-
чуть мудрее, избавившись от заблуждений, еще вчера
казавшихся им неопровержимыми истинами.
Но почему диалог в одних случаях оказывается естественным
способом общения и добывания истины, а в других — всего лишь
манерой, интеллектуальной забавой, превращается в нечто
искусственное? Это вопрос о жизненных истоках, питающих ту
или иную форму общения, о культурной почве, которая делает
диалог живой потребностью повседневного бытия людей.
Посредством исторического сопоставления двух культурных
традиций на него ответил Гегель: «Поскольку способ поучения
должен приноравливаться к тому духу, тону, благодаря которому
оно может быть принято народом, то мы находим здесь и
различные манеры. Сократ, который жил в республиканском го-
7 .Чикал itiOii
97
сударстве, где каждый гражданин свободно разговаривал с
другим, а изысканная вежливость в обращении была в ходу даже
у толпы, в ее почти самых нижних слоях, наставляя людей в
беседе самым непринужденным образом; без дидактического тона,
без всякого намека на желание поучать приступал он к обычной
беседе и незаметнейшим путем подводил к уроку, который он
давал как бы сам себе и который не мог бы показаться
навязчивым даже Диотиме («мудрой женщине» в платоновском
«Пире». — В. Т.). Иудеи же, напротив, были приучены своими
предками, своими национальными поэтами, к более грубому
обращению; уже в синагогах уши их были приучены к
моральным проповедям и прямому тону поучения, а благодаря
книжникам и фарисеям они были привычны к более грубому способу
ниспровержения противников в стычках...»1.
Круг обстоятельств, делающих привычным (общепринятым)
тот или иной способ общения, гораздо шире традиционной
системы образования и воспитания, действующей в данном обществе.
Сюда входит весь комплекс условий культурно-исторического
существования людей, то есть их отношение к природе, друг
к другу и к самим себе как личностям. Поэтому диалог, если под
ним подразумевается не прием и не только манера разговора, а
специфически-человеческий способ наслаждаться жизненной
полнотой, предполагающий развитое умение осязательно
(предметно-чувственно) и критически ощутить реальную
действительность во всем ее многообразии, противоречиях, требует
высокой степени зрелости социальных и культурных отношений
между людьми. Отношений — не искаженных и не затемненных
всякого рода привходящими обстоятельствами, соображениями,
условностями, которые составляют лишь внешний покров,
видимость культуры.
Сократ далек от того, чтобы предоставленную ему
социальную привилегию на умственный труд воспринять как право
мыслить за других, и как характер не имеет ничего общего с образом
интеллектуала элитарного склада, возникшего гораздо позднее.
Он положил начало традиции, характеризующей классическую
философию в целом: лучшие образцы последней есть
драгоценный опыт напряженного поиска истины, где нельзя
обойтись без спора или, по крайней мере, диалога, без стремления
завоевать на свою сторону читателя.
Эта традиция представлена в сочинениях Платона,
«Диалогах» Дж. Бруно, «Диалоге о двух главнейших системах мира...»
Галилея, в радищевском «О человеке, его смертности и
бессмертии», построенном на принципе сознательного противопоставле-
1 Гегель. Работы разных лет. В 2-х т. М., 1970, т. 1, с. 80-81.
98
ния двух трактовок — материалистической и идеалистической,
в «Разговоре Д'Аламбера с Дидро» и «Племяннике Рамо» Дидро,
у Шеллинга с присущим его уму «состоянием брожения»1, в
спорах Н. Г. Чернышевского с «проницательным читателем»
в «Что делать?» и гегелевской эстетикой в диссертации. И если
современный человек понимает, что Платон, Руссо или Лейбниц
нужны ему не только как «источники информации», находит
в трудах классиков импульс для собственных раздумий, то
традиция эта жива и сегодня, продолжает делать доброе дело.
Потребность в диалоге как способе проверки самой жизни
и своей способности ее ощутить во всей полноте — это и
проблема формирования определенного характера, определенного типа
личности. Что значит быть готовым к диалогу? Продолжая
свою мысль в прерванной нами цитате, Гегель не без иронии
заметит, что человек даже при самых благоприятных
обстоятельствах и самом превосходном образовании может (!) всегда,
всю свою жизнь продолжать успешно трудиться над своим
интеллектуальным и моральным совершенствованием. Гегель
говорит «может», хотя мог бы сказать «должен». Но это «может»,
так сказать, с подвохом, ибо подразумевает уже достигнутым
(в чем и заключена скрытая ирония) определенный уровень
личностного развития. Речь идет не об избранных-духом и не
о высоколобых интеллектуалах, а о каждом человеке. Но о таком,
который отчетливо понимает, что «всегда еще может чему-то
учиться», никогда не полагая свое совершенствование делом
завершенным; который «беспристрастен и к тому же деятелен
в многообразных отношениях с другими людьми»; который не
стремится освободиться от этих отношений, поняв однажды,
что «чем разнообразнее отношения, тем разнообразнее
обязанности, и, таким образом, чем проще первые, тем проще и
последние...»2.
Сократ — это и определенный, резко очерченный характер,
готовый вступить в диалогическое партнерство с любым
собеседником, с условием, что разговор будет доведен до конца, не
боящийся выслушать любые точки зрения, если они без хитрости
и уловок выражают позицию его оппонентов. «Сократовским
характером» обладал К. Маркс, блестяще завершивший свой
диалог с буржуазной политэкономией, историографией и
философией созданием «Капитала» — образца честнейшей полемики
и подлинно научного добывания истины. «Сократовский
характер» жил в В. И. Ленине, когда он, уверенный в правоте
марксизма, смело вступил на «чужую территорию» эмпириокрити-
1 См: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 223
2 Гегель. Работы разных лет. В 2-х т., т. 1, с. 81.
7*
99
ков, борясь не с цитатами, а с сущностью проповедуемых ими
идей.
По словам К. Маркса, Сократ «не замыкается в себя, он
носитель не божеского, а человеческого образа; Сократ
оказывается не таинственным, а ясным и светлым, не пророком, а
общительным человеком»1. В этой емкой характеристике,
точнее, даже не в характеристике, которая предполагает
перечисление заслуг, достоинств, моральных качеств человека, чтобы
стало ясно, о ком идет речь, а в вылепленном словесно пластическом
образе передано величие и цельность феноменальной личности.
Сократ — «не бог и не герой», он живой, ясный, светлый,
общительный... Почти обыденными словами — и это подчеркнуто
отрицанием обозначений, созданных, видимо, лишь для того,
чтобы живое и живых превращать в легенду («не пророк», «не
таинственный»),— К. Маркс освобождает образ реального
Сократа от котурн и маски, естественных на сцене
древнегреческого театра и пустых, никчемных на ристалище живой
человеческой истории. Великая историческая личность не нуждается
в искусственном возвышении, в «ореоле вокруг головы», она
значительна и интересна сама по себе.
В отличие от Маркса, Гегель достаточно подробно излагает
«биографию» Сократа, получая видимое удовольствие от
возможности на столь ярком примере показать, что философы
отнюдь не «схимники» и не «кабинетные ученые», далекие от
земных дел, забот и страстей, что у настоящего философа
общественное и личное, жизненная судьба и отстаиваемые им
принципы находятся в единстве, составляют нечто цельное.
В юности Сократ был скульптором и, утверждают, добился в этом
искусстве ощутимых успехов. Но не резец был его призванием,
и, занимаясь ваянием, чтобы обеспечить себе средства к
существованию, Сократ отдается изучению философии. Он приобрел
славу храброго воина, участвуя в нескольких военных
кампаниях, в одной из которых совершил подвиг, особо чтимый
древними,— спас от врагов своего ученика, раненого Алкивиада.
Сократ занимал различные гражданские должности, проявив
качества, первостепенные для общественного деятеля,—
ответственность, принципиальность, справедливость и, наконец, то, что
Гегель называет «безукоризненно благородным характером»,
имея в виду нечто иное, чем проявляемые человеком моральные
достоинства «по обязанности», «из чувства долга».
Добродетели, которыми обладал Сократ, были деянием его индивидуальной
воли, выработаны им сознательно и потому не могут быть объяс-
1 Маркс /Г., Энгельс Ф. Соч., т. 40, с. 57.
100
нены природной (по-современному — генетической)
предрасположенностью или просто выведены из нравов той эпохи .
Не каждому дано проявить себя на поприще искусства. Но
каждый может стать автором по крайней мере одного
«художественного произведения» — создать себя как личность,
уникальность которой будет иметь всеобщее, общечеловеческое
значение и ценность. Сократ — лишь один из множества
примеров, подтверждающих эту истину.
Общительность Сократа представляет собой некую
типологию отношений с миром и окружающими людьми.
С кем же, о чем и как ведет свои беседы Сократ?
СОКРАТ И «УЧИТЕЛЯ МУДРОСТИ»
...Когда ты говоришь неправильно, это не только
само по себе скверно, но и душе причиняет зло.
ПЛАТОН
Драма Сократа вовсе не исчерпывается внешними
трагическими обстоятельствами последних дней его жизни, когда
мудрейший из афинян вынужден был выбрать смерть как наиболее
достойный выход из положения. Драма назревала давно и
изнутри, так что нелепое и легко опровергаемое доводами разума
(Сократ убедительно показал это во время процесса)
обвинение малоизвестного поэта Мелета было лишь чисто событийным
завершением подспудно назревавшего конфликта. Для того
чтобы проникнуть в смысл последнего, надо уяснить себе, что
такое быть «философом» и что значит «философствовать», ибо
далеко не всякий, кто профессионально занимается философией,
является философом. Будучи прирожденным философом,
мыслителем по призванию и явив собой пример «олицетворенной
философии» (К. Маркс), Сократ раздражал и возмущал
окружающих именно своим делом.
В своем защитном слове Сократ сам обнажил суть конфликта,
которую никто из его обвинителей не рискнул высказать
публично. «Дельфийский бог назвал меня мудрейшим только за
то, что я знаю, как мало значит моя мудрость! За то, что я
неустанно сомневался — утром, днем, вечером! И оттого я вел
беседы с вами! Сократ мечтал, что в результате этих бесед вы
наконец-то станете различать главное: стыдно заботиться о
выгоде и почестях, а о разуме и душе забывать. И я надоедал вам
своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил среди вас
1 Подробнее об этом см.: Гегель. Эстетика. В 4-х т. М., 1973, т. 4, с. 177 — 181.
101
как овод, который все время пристает к коню. К красивому,
благородному, но уже несколько обленившемуся коню и поэтому
особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это
опасное занятие — беспокоить тучное животное. Ибо конь,
однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста
надоедливого овода. Не делайте так, афиняне! Я стар, но еще могу
послужить вам. А другого овода вы не скоро найдете. Ведь
получаю я за эту работу только одну плату — вашу ненависть!
Свидетельством тому моя бедность и сегодняшний суд».
Сократ не уговаривает и не пытается разжалобить афинян,
а лишь защищает смысл своего призвания быть философом-
гражданином, заботой которого является познание сути
происходящего (выяснение того, «как обстоит дело в
действительности», скажет платоновский Сократ), а отнюдь не навязывание
или внушение своего мнения окружающим, чем с успехом
занимались «завзятые спорщики».
Впрочем, некоторые хорошо знали, кого и за что они судят,
хотя и не решались высказать это открыто. И среди них
кожевник Анит. «Ты мешал всем,— говорит он Сократу перед его
смертью. — Умным потому, что многое из того, что приходило
в голову тебе, приходило в голову и им. Но они молчали. А если
кто-то молчит, ему совсем не нравится, когда говорит другой...
Ты мешал глупым — они тебя не понимали... Ты мешал тем,
кто не верит, потому что требовал веры... Ты мешал тем, кто
верит, потому что их раздражала твоя вера, при которой надо все
время проверять сомнением — истинна ли она».
Для практичного Анита беседы «утонувшего в философии»
Сократа не что иное, как «болтовня», не имеющая отношения
к серьезным делам и нормальной жизни. Его мнение разделяют
многие сограждане, которых раздражает стремление Сократа во
всем дойти до истины и его рассуждения о недостижимых (с
точки зрения приземленно мыслящего человека) добродетелях.
Позиция Анита не столь уж глупа, как может показаться на
первый взгляд.
Далеко не всегда человек стремится к истине. Иногда он
бежит от нее, утешая себя сомнительной формулой, что «счастье
в неведении». Играя на подобной казуистике человеческой
психологии, оказывается, можно многое обрести — почет, богатство,
даже уважение — и, более того, превратить само бегство от
истины в особое «занятие», как это сделал сценический антипод
Сократа — Продик. Этот вымышленный персонаж представляет
собой собирательный образ влиятельной тогда школы софистов,
очень скоро превратившихся в фокусников от философии, умело
жонглирующих увертками и парадоксами, чтобы обойти суть
дела.
102
Красивый, благополучный, сытый и довольный Продик с
сознанием собственного•величия, снисходительно взирает на
«чудака» Сократа, мудрость которого всегда казалась ему
глупостью, и тем не менее завидует этому чудаку и глупцу. Не странно
ли, богатый завидует бедному, красивый — уродливому,
записавший и издавший свои мысли — тому, кто даже не потрудился
этого сделать со своими мыслями, почему-то, однако, известными
всем и без того? «Блистательный» Продик, не открывший ни
одной истины, которой бы не знали уже все, но умеющий
доказать людям, обладая всего лишь красноречием, что смыслит в
вопросах врачевания больше, чем самый знающий из врачей,
никак не поймет, почему раздражающий всех своими попреками
Сократ пользуется такой славой и известностью. Продик ищет
причину в психологии толпы, которая, считает он, «интересуется
только непохожими» на нее, и далек от мысли, что причина
может лежать ближе, рядом.
Сократ отвечает ему: «...ты живешь один. Ты — Продик,
сам — Продик. А рядом со мной всегда находился некий человек,
который меня обличал и мучил. Понимаешь, стоило мне
произнести любую истину, которая так ясна нам с тобой, как он
тотчас ее опровергал... Я ведь тоже думал, что главное — быть
богатым, пользоваться почетом... Но как только я произносил
это вслух, он бросался на меня с бранью и приводил тысячу
примеров, когда быть богатым... и пользоваться почетом — было
очень стыдно. И что ужасно, я никогда не мог от него избавиться.
Ибо он жил... рядом со мной... в одном доме... даже в одном теле.
И это он мучил меня, задавая вопросы, на которые нам с тобой
хорошо известны ответы, а ему — нет. И оттого я не сумел
прожить жизнь так, как прожил ее ты. И оттого я здесь (в
темнице.— В. Т.), а ты пришел сюда ко мне... Но что же у нас
получается, Продик? Ведь это ты должен был открыть мне то,
чего не знаю я... А выходит наоборот».
В отличие от Сократа Продик не знал сомнений и рефлексии,
он «не огорчал себя мыслями» и оттого, с иронией замечает
Сократ, всегда будет юным, рассудком по крайней мере.
Прожить жизнь не размышляя, основывая свои решения и поступки
лишь на мнениях других, не утруждая свой разум трудными
вопросами бытия, безусловно, и легче и спокойнее, чем мучиться
в поисках истины, задаваться бесконечными «почему?»
Незнание ведь тоже бывает разным. Незнание невежды, или любителя
«настаивать на излюбленной идее», не то же самое, что незнание
активно познающего мир, или понявшего относительность своих
познаний. Бывает незнание, писал Монтень, «полное силы и
благородства, в мужестве и чести ничем не уступающее знанию,
незнание, для постижения которого надо ничуть не меньше зна-
103
ния, чем для права называться знающим»1. Таково мудрое
«незнание», запечатленное в народных сказках, легендах, мифах,
притчах. Таково незнание неученого мужа, готового учиться,
не утратившего способность удивляться, и незнание ученого,
«знающего», однако не боящегося признать свою неправоту
в научном споре. Тех, кто не знает, можно научить. Нельзя
помочь тем, кто не хочет знать. Мудрость — дело наживное.
Была бы охота...
Умение философствовать, размышлять в сократовском
понимании не есть привилегия какой-то избранной когорты людей,
«торговцев мудростью». Это способность, потенциально
заложенная в каждом человеке, ибо каждый должен научиться
владеть своим умом, своим духом, чтобы извлекать истину. И
к Сократу это умение пришло не сразу и не как дар природы,
а только в зрелом возрасте и в результате глубоко личного
размышления над изречением эллинской мудрости: «Познай самого
себя!» Тяжкий труд познания привел его однажды к осознанию
того, как мало он еще, в сущности, знает, хотя знал он намного
больше тех, кто кичился своей образованностью. Сократ
вывел формулу «ума» и «глупости», до сих пор
непревзойденную: «Я знаю, что ничего не знаю, а другие не знают даже
этого». Осознание относительности собственных познаний о
мире и о самом себе стало с тех давних пор важнейшим
мотивом общекультурного развития личности, признаком ее
духовной зрелости. Но как убедить в этом Продика и ему
подобных?
Не надо думать, что эта беседа Сократа «не касается» наших
современников. Разве не просматривается нечто «продиковское»
в таком достаточно распространенном явлении, как
полуобразованность, особенно заметном на фоне нынешнего расцвета
науки и авторитета просвещения? Речь идет не об
образовательном цензе (не о том, что «закончил» и какой диплом имеет
человек), а об отношении к науке, о способности мыслить
самостоятельно, творчески. К сожалению, потребность в истине и
в правде, которая была движущим мотивом деятельности
Сократа, развитая способность «ищущего мышления», то есть ума,
не удовлетворяющегося «готовыми» истинами, свободного от
догматизма и своеволия,— все это еще не стало привычной
нормой «поведения мысли» каждого образованного человека.
Многие живут в блаженном состоянии всеведения и всезнания,
своеобразной лености мысли. Ощущение «все знаю»,
подогреваемое ежедневно впитыванием разнородной информации,
огромного потока сведений «обо всем понемножку», которые
1 Монтень М. Опыты, кн. 3, с. 315.
104
оседают в памяти без соответствующей обработки мыслью,—
оно-то и есть характерный признак современной
полуобразованности. В этом случае не качество самостоятельно
переработанной информации, органически включенной в систему
накопленных знаний, а количество лишь внешне, поверхностно усвоенных
данных оказывается мерилом умственной развитости,
интеллектуальности индивида.
В данной связи представляется спорным ходячее мнение о
том, что современная молодежь умнее предыдущих поколений.
Этот новоявленный миф строится на подмене отнюдь не
тождественных понятий «информированность» и «ум». Вспомним
известный тезис Гераклита относительно того, что «многознание
не научает быть умным». Современные «дети», бесспорно, ин-
формированнее отцов; поражают последних обилием самых
разнообразных сведений и неожиданностью задаваемых
вопросов. Но из этого вовсе не следует, что они в то же время
обязательно и «умнее».
Полуобразованность кичлива и опасна в обеих своих
крайностях: и в форме «туповатой рассудительности» (Платон),
имитирующей процесс мышления, а на самом деле вращающейся
в замкнутом кругу застывших представлений и понятий и
потому лишающей разум возможности «заговорить» языком
самого исследуемого предмета или явления; и в форме
«совершенной греховности» (Фихте), то есть анархического своеволия
интеллектуального выскочки, упивающегося авторитарной
силой индивидуального опыта познания, способного ^сочинять»
истину и разучившегося выводить ее из существа дела.
Полуобразованность — это определенный принцип поведения
мышления, сколько угодно «образованного», но начисто лишенного
навыков совместного искания истины, самоуверенного,
несамокритичного и потому всегда категоричного. Неприглядность
невежества и глупости «по рождению» не идет ни в какое
сравнение с невежеством «образованным», ибо тут, как говорится,
дело сделано и вряд ли можно помочь тому, кто уже «набит
знаниями». Он еще и посмеется над тем, кто «знает, что ничего не
знает», и — на манер чеховского профессора Серебрякова —
поучающе скажет: «Дело надо делать, господа!» И ему невдомек,
что, прежде чем «дело делать», надо бы хорошо понять, усвоить
смысл (и не узкопрагматический, а именно всеобщий,
человеческий смысл) самого дела и то, как его делать.
Разница между кажущейся и подлинной образованностью
начинается в тот момент, когда овладение «готовым» знанием,
добытым предшествующими поколениями, перестает быть
самоцелью («ученичеством») и не обладание истиной, а способ ее
отыскания, обнаружения становится лейтмотивом процесса
1о:>
познания. Ведь «учиться» (а это не то же самое, что
подвергаться процессу обучения) означает не что иное, как мыслить,
превращаться в мыслящего человека, движимого
неудовлетворенной потребностью познать окружающий мир и самого
себя.
Когда сценический Сократ просит Продика назвать хотя бы
одну истину, которую тот открыл и которую бы не знали до него,
он преследует более серьезную цель, чем просто установить
факт невежества или банальности познаний красноречивого
оратора. Сократу важно показать, почему такие, как Продик,
в лучшем случае способные путем софистических ухищрений
рассудка обнажить иллюзорность той или иной истины,
совершенно не готовы к тому, чтобы ее открыть и быть
небанальными. Причина этого заключена, используя современную
терминологию, в догматизме мышления, в начетническом
складе ума.
В отличие от Сократа, Продику неведома драма
рождающейся мысли, преодоления заблуждений, а стало быть, и радость
познания. И не потому, что Продик лишен таланта или чего-то
не понимает. Таких, как он, не интересует существо дела,
исследуемого предмета. Они равнодушны к тому, что В. И. Ленин
назвал «объективностью диалектики», отметив гегелевскую
мысль о том, что «диалектику часто рассматривали как
некоторое искусство, как будто она основывается на каком-то
субъективном таланте, а не принадлежит к объективности понятия»1.
Догматик потому и не способен к мысленному диалогу, что он
утратил связь с живой, постоянно движущейся реальностью,
которую догматическое мышление схватывает в лучшем случае
лишь как «внешнюю объективность».
Обходя суть дела увертками, софистика всячески
эксплуатирует идею относительности истины и подчеркнуто, нарочито
демонстрирует свое неприятие твердолобого догматизма. Но это
тоже догматизм, так сказать, наизнанку, догматизм
релятивистского толка... Рассказывают, знаменитые индийские
«критики» однажды усомнились в истинности старого представления
о том, что мир покоится на слоне. А на чем стоит слон? —
спросили они, и когда им ответили, что слон стоит на черепахе, они
успокоились. Но даже в том случае, если бы они, подобно
любознательным детям, мучающим взрослых своими бесконечными
«почему?», продолжали бы допытываться дальше и, скажем,
узнали затем, что черепаха тоже на ком-то стоит, истина не
стала бы ближе. Ведь успехи познания зависят все-таки не от уме-
1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 204. Цит. по: Гегель. Наука
логики. М., 1972, т. 3, с. 296.
106
ния спорить или «добывать» истину, хотя это и важно. Гораздо
существеннее то, на какой почве познавательный процесс
происходит, как связаны между собой мышление и бытие.
«Учителя мудрости», искусные в спорах и логистике, исходили из
мира застывших вещей и мира застывших понятий и потому
были биты Сократом. Для последнего действительность не
только «есть», она еще и «становится», постоянно движется,
изменяется, так что истинная сущность любого предмета или явления
раскрывается в процессе его познания, то есть мышление и
бытие выступают моментами одного и того же
реально-исторического диалектического процесса.
Разум дан человеку для того, чтобы проникать в суть вещей
и в смысл событий, скрытых чаще всего за «корой» явлений.
К сожалению, заложенное в природе человеческого мышления
стремление во всем «дойти до самой сути» реализуется в
обыденной практике не так часто, как самонадеянно полагают
многие из нас. Это относится не только к сложным — «мировым»,
«вечным» — вопросам бытия, но и к повседневной жизни, к
бытующим представлениям («даже поэты без конца твердят, что
мы ничего не слышим и не видим точно»1). Не отгораживаясь
от «мирской суеты» и делая предметом своего заинтересованного
внимания весь окружающий мир, философия преследует
благороднейшую цель — объяснить мир, найти истину, научив
людей не просто «глазеть», а «видеть». Истина же, по Сократу,
открывается людям лишь тогда, когда они сходятся в общем
признании чего-то, когда объективность выступает как
«духовная всеобщность» (на этот момент В. И. Ленин обратил особое
внимание 2), что и придает процессу познания подлинно
человеческий, «общительный» характер, делает его актом культуры.
Собственно, с потребности осмыслить, осознать свою
духовную связь и всеобщность с миром и начинается рефлексия как
таковая. Тот, кто склонен порой совсем некстати называть
«философствованием» привычку, манеру рассуждать ни о чем «с
ученым видом знатока» и на этом основании пренебрежительно
относиться к философии вообще, видимо, не знает, что обижает,
оставляет внакладе не философию, а самого себя. Философия
нужна каждому лишь постольку, поскольку ни один человек не
может обойтись без системы идей и представлений, выражающих
его отношение к миру и мира к нему как личности. Философия,
как известно, имеет дело с «предельными основаниями»
мировоззрения, то есть с фундаментальными характеристиками
человеческого бытия. Такова специфика собственно философской
1 Платон. Соч. В 3-х т. М., 1970, т. 2, с. 23.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 247, 248.
107
рефлексии. И поэтому «если человек чувствует хоть
сколько-нибудь свое родство с человечеством и хоть сколько-нибудь сознает
себя духом в духе,— он не может быть чужд рефлексии.
Исключения остаются только или за натурами чисто практическими,
или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды
интересов духа и которых жизнь — апатическая дремота»1.
Охотно беседуя с любым человеком, будь он политиком,
поэтом, ремесленником или просто отцом семейства, Сократ при
обсуждении самых различных вопросов государственной,
общественной и частной жизни превращает процесс добывания
истины в раскрытие внутреннего мира человека, так что
собеседование становится духовным испытанием его участников,
требующим напряжения не только интеллектуальных, но и
нравственных сил.
Своими беседами, в которых получала раскрытие
выдвинутая им формула («Я знаю, что ничего не знаю»), Сократ
подводил собеседников к осознанию того, что так называемый
«здравый человеческий рассудок», основывающийся на чувственной
очевидности и привычных представлениях и высказываниях,
дает лишь мнимое знание — знание «последних слов»,
«окончательных истин». Подлинное же, научное теоретическое знание
начинается с исследования предпосылок, которые «здравому
смыслу» всегда кажутся известными. Отметив это именно в
связи с Сократом, Гегель пишет: «Когда, например, в новейшее
время спорят о вере и разуме как о чем-то интересующем и
занимающем наш дух, то каждый делает вид, будто знает, что такое
разум и вера, и считается невоспитанностью требование указать,
что же это такое, ибо и разум и вера предполагаются
известными»2. И напрасно участники такого спора удивляются тому,
что они никого и ни в чем не убедили, так и разойдясь «ни с чем».
Это вполне закономерный результат общения, основой которого
являются принципы «здравого смысла».
И совсем плохо, когда логике «здравого смысла» начинает
поддаваться «светлая голова», как называл науку Кант3. Это
выражается, в частности, в использовании серьезных научных
понятий в том их виде, какой они приняли в повседневном
сознании, то есть в их односторонности и неистинности.
Поясним это на примере. Нередко, читая работу
какого-нибудь современного автора, посвященную духовному миру
личности, убеждаешься, что речь идет всего-навсего о «культурном
работнике», о значении общекульГурной подготовки человека
1 Белинский В. Г. Собр. соч. В 3-х т. М., 1948, т. 1, с. 614.
2 Гегель. Эстетика. В 4-х т., т. 4, с. 182.
3 См.: Кант И. Соч. В 6-ти т. М., 1966, т. 6, с. 371.
108
в повышении профессионального мастерства, для роста
производительности труда и т. д. Подмена понятии «личность»
понятием «работник» (а эти понятия далеко не однозначны, хотя
и взаимосвязаны) приводит к обеднению требований к
собственно личностному уровню развития человека. В
научно-популярной литературе о личности в социалистическом обществе часто
отсутствует анализ именно «предпосылок» — зрелости
гражданского самосознания, актуально выраженного творческого
начала в различных сферах жизнедеятельности, развитого
чувства собственного достоинства и т. д., характеризующих
сложную духовную структуру личности социалистического
типа.
Подобный подход, ущемляя содержание серьезного научного
понятия, свидетельствует не только о недостатке культуры
мысли пишущих на эту тему. Он как бы заранее «освобождает» от
необходимости рассматривать и исследовать наиболее сложные
стороны и моменты в реальном процессе формирования
социалистической личности.
В этой связи обратим внимание на некоторые «формулы»,
прочно осевшие в обыденном сознании и не имеющие ничего
общего с марксистско-ленинской концепцией личности, с
социалистическим принципом взаимоотношений человека и общества.
Среди"них «формула»-тезис: «Чего вы от меня хотите? Я человек
маленький». И употребляют ее нередко не «плохие»
производственники, а честные труженики. И делают это не из скромности,
а чаще всего для того, чтобы снять с себя личную ответственность
за происходящее «здесь» или «рядом». А вот еще одна
«формула», которую порой применяют уже руководящие работники,
причем вполне образованные, «культурные», в беседе с
недовольным или провинившимся подчиненным: «А у нас, знаете ли,
незаменимых работников нет». Может быть, мерилом
«хорошего» трудового коллектива в представлении таких
руководителей выступает возможность абсолютной
«взаимозаменяемости» людей? В таком случае уместно напомнить им иную
«формулу» личности, сформулированную поэтом Г. Гейне:
каждый человек есть «целый мир, рождающийся и умирающий
вместе с ним...»1
Стоит ли касаться, могут сказать нам, столь прозаических
вопросов, тем более обращая их к «серьезной» науке? Мы
уверены — ответ должен быть утвердительным. И первый, кто
доказал на деле, что этими вопросами стоит заниматься, и
заниматься именно в философском плане, был как раз Сократ. С него,
последовательно применившего принцип «познай самого себя»
' Гейне Г. Собр. соч. В 10-ти т. М., 1957, т. 4, с. 224.
109
в исследовании явлений, событий, поступков, начинается целая
традиция такого «философствования», где центром
теоретического мироощущения неизменно остается человек. Суть этой
традиции позднее хорошо передаст Фихте в следующих словах:
«Наша философия есть история нашего сердца и жизни, и,
какими мы находим себя самих, такими мы мыслим человека
вообще и его назначение»'. Не снимая противоположности,
обусловленной материалистическим или идеалистическим решением
основного вопроса философии, эта традиция служит надежным
противоядием против любых попыток «обесчеловечивания»
самой философии, ныне наглядно, демонстративно
выступающих в форме сциентизма (известны попытки дегуманизации
даже марксистского учения, сведения его содержания и
сущности к «экономическому детерминизму»). В неподдельном
интересе к самым разнообразным нуждам и потребностям
человеческого существования, в нетерпимости к любым проявлениям
умственного высокомерия и щегольства — отличительная черта
сократовского образа жизни и образа мышления. Как писал Мон-
тень, можно представить Сократа на месте Александра
Македонского, но последнего на месте Сократа — невозможно. Ибо
один научился лишь «подчинять мир своей власти», а Сократ
«умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с
предписаниями природы, а для этого требуются более обширные,
более глубокие и более полезные знания»2.
«Я не открывал законов бытия, как другие философы. Я
только исследовал поведение людей. Я пытался разобраться, как надо
вести себя в тех или иных случаях»,— говорит сценический
Сократ, обращаясь к ученикам. Назначение философии в
сократовском понимании в том и состоит, чтобы научить людей, как
следует жить, ибо жить по-человечески — это искусство,
труднейшее умение поступать одновременно целесообразно и
нравственно. Для того чтобы жить нравственно, надо знать
природу добра и зла, иметь понятия о долге, доблести,
справедливости.
Вопрос о сущности и функции знания выступает у Сократа
и как вопрос этический: знание и нравственное поведение
человека имеют общую основу, представляются изначально
органически взаимосвязанными. Провозглашая примат разума, Сократ
ставит добродетель в полную зависимость от знания, мудрости.
Но что такое истинное знание и какое знание можно назвать
«мудростью»?
1 Фихте. Назначение человека. Спб., 1905, с. НО.
2 Монтень М. Опыты, кн. 3, с. 33.
110
СОКРАТ И УЧЕНИКИ
...Мне кажется, всякий, кто в здравом уме, всегда
стремится быть подле того, кто лучше его самого.
ПЛАТОН
На первый взгляд содержание этического рационализма
Сократа — а именно так принято издавна определять смысл его
«моральной философии» — уяснить и передать нетрудно: человек
по своей природе добр (нравствен), если же он поступает
безнравственно, то причиной его морального несовершенства
является недостаток «разумения», этического знания. Во всех
случаях аморального поведения человек оказывается, таким
образом, жертвой собственного неведения или невежества. Казалось
бы, ключ к пониманию философской позиции Сократа, столь
раздражавшей его современников, найден. Но не будем торопиться.
Если вникнуть в существо этических размышлений Сократа,
все обстоит гораздо сложнее, хитрее, капризнее.
В одной из сцен пьесы уже приговоренный и ждущий своего
смертного часа Сократ делает весьма неожиданное признание,
способное смутить всякого, кто мало-мальски знаком с его
философией. Гордый и непреклонный в своих убеждениях, он
«вдруг»_ощутил прелесть жизни и, испытывая радость от
каждого лишнего прожитого дня, признается в том, что, казалось
бы, начисто перечеркивает сложившееся представление о
Сократе как беспощадном аналитике и последовательном
рационалисте от этики. Это признание вызывает недоумение и чувство
откровенного разочарования у одного из его учеников.
«...Раньше я был горд, уважаем, здоров. У меня были дети,
дом, жена. А вся моя нищета была попросту выдумка, я в нее
играл: ведь я мог всегда заработать много, если бы захотел.
Оказывается, нужно было потерять все: дом, детей, семью,
здоровье, стать беззащитным перед смертью, как затравленный
зверь, нужно было, чтобы сознание погрузилось во тьму и
проснулось утром вместе с солнцем; нужно было, чтобы я лежал,
бессильный, в поту и во мне уже ничего не было, кроме
благодарной радости — жить, жить... — все это нужно было, чтобы
я вдруг понял... Я часто говорил, что зло — это отсутствие
просвещения и что все в жизни можно исследовать разумом. Это
не так. Я понял в тюрьме то, что не смог додумать... Любовь...
Любить всех. Понять, что другой — это ты... И любить его...
Если есть в тебе это, тогда разум сможет подсказать истину...»
Как будто это говорит уже не Сократ, а будущий христианин,
на место знания поставивший веру и провозгласивший примат
нравственности. Или, иначе, устами Сократа говорит современ-
111
ный автор, художник, которому известны многочисленные
факты послесократовской истории, позволяющие увидеть, какие
сложные и конфликтные взаимоотношения возникнут между
знанием и нравственностью, заставляя мучиться над их
разрешением по сей день. Не следует ли в этом случае, даже учитывая
право художника на домысел и вымысел, упрекнуть его в «охри-
стианивании» Сократа, в «насилии» над исторической правдой?
Сделать это не позволяют следующие соображения.
Претензии христианства на понятие добра сильно
преувеличены, и не религии принадлежит приоритет в утверждении его
значимости и ценности. Нельзя не согласиться с Л. Фейербахом,
настаивавшим на том, что идею добра философия исторически,
задолго до христианской эры, включила в круг своего
рассмотрения, сделав это вполне самостоятельно и собственными
средствами1. Выдвинув на первый план не «отдельное», а «всеобщее»
сознание, Сократ понимает его как сознание истинного и доброго
в единстве (будущих христиан подобный «союз» не устраивал,
а потому и не интересовал). Если не путать сократовское
понимание разума с мнимым рационализмом, апеллирующим к
модной «научности» и подменяющим разум рассудочностью, что
стало ныне распространенным явлением, внутренняя, кровная
связь разума и добра в его философии очевидна. Связь эта
настолько крепкая и органичная, что разум действительно «сможет
подсказать истину» только тогда, когда он опирается на добро.
Иное дело — разум, который настолько оторвался от своего
естественного союзника или партнера, что состояние
«самовозвышающего обмана» рассматривает как признак собственного
всесилия и всемогущества. Такому разуму добро, разумеется,
ничего уже не «подскажет».
Сократовское понимание разума вполне согласуется с марк-
совым определением его как той универсальной независимости
мысли, «которая относится ко всякой вещи так, как того
требует сущность самой вещи»2. И стало быть, сила разума
заключена не в сознании (тем более — не во «мнениях»), а в
объективной всеобщности, следовать которой и значит быть
разумным.
Понятый так разум становится у Сократа универсальным
принципом самосознания, источником энергии последнего. Его
формула «познай самого себя» помимо собственно
познавательного значения имеет и нравственную сторону, ибо признает за
субъектом свободу поступать согласно своему разумению и
убеждению. То, что «открылось» впервые Сократу, позднее раз-
1 См.: Фейербах Л. История философии. В 3-х т. М., 1967, т. 2, с. 261.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 7.
112
вил Аристотель, раскрыв саму суть специфики нравственности:
моральная деятельность предполагает не только совершение
требуемых поступков, но и сознательно мотивированное
отношение к ним; не только достижение искомого результата, но и
исполнение долга, подчинение общему принципу безотносительно
к частноцелесообразному соображению полезности. Согласно
Аристотелю, «самый лучший человек не тот, кто поступает
сообразно с добродетелью по отношению к себе, а тот, кто
поступает так по отношению к другим, а это — трудное дело»1.
Для Сократа разумное поведение есть синоним
действительно человеческого поведения. Рассматривая нравственность,
добродетель как некую установку разума, Сократ
противопоставляет гедонистическому принципу «жить в согласии с
природой» другой принцип — человек должен жить в согласии с
собственной, то есть общественной, природой. Поэтому, говоря
словами Гегеля, Сократ за «воцарение морали», когда «каждый
должен сам заботиться о своей нравственности»2, то есть он за
мораль гражданскую. Все общепринятое и общепризнанное
оценивается в моральном отношении с точки зрения
«подобающего человеку» содержания. Поскольку разум способен
управлять волей, овладеть страстями и инстинктами,
моральность (разумность, мудрость) определяется степенью
возвышения личности над данным от рождения «природным»
началом.
Разумеется, в реальной жизненной практике людей мораль
вынуждена считаться с многообразием человеческих
устремлений, желаний, потребностей (в силу этого благо может
измеряться пользой или удовлетворением), но это вовсе не
оправдывает этический релятивизм, который проповедовали софисты.
Именно Сократу принадлежит мысль о том, что все частные
цели, интересы и поступки людей, живущих в обществе и
обществом, должны подчиняться общей и высшей цели, которая и
есть высшее благо.
Сократовская мораль не знает разлада с нравственным
началом жизни и потому адекватно выражает ее человеческую
сущность. Время типичного для современного буржуазного
общества конфликта между «нравственным» и «моральным»,
когда, чтобы поступать нравственно (по велению собственной
совести, согласно своим убеждениям и вере), надо то и дело
переступать и нарушать официально принятые моральные нормы,
а следование последним нередко вынуждает идти на сделку с
собственной совестью,— такое время еще не приспело. Для
1 Аристотель. Этика. Спб., 1908, с. 84-85.
2 Гегель. Соч. М., 1932, т. 10, с. 55.
g Лакал .'iliU.4
11.4
Сократа знание добродетели и нравственное действие
неотделимы, а быть разумным в своем поведении — значит и поступать
общественно (и, напротив, подлинно общественным можно
признать лишь разумное поведение). Утверждая необходимость
морали как общесоциального регулятора поведения людей,
Сократ предвидит возможность (а на примере собственной
судьбы — и реальность) конфликта между обществом и личностью.
И логика его моральной философии подводит к выводу: человек
должен обратиться внутрь самого себя и там искать основание
для выбора линии поведения. А это означает признание
личностного начала нравственной жизнедеятельности, предполагающего
сознательное и ответственное поведение индивида в обществе.
«Личность, обладающая высокоразвитым нравственным
сознанием, становится способной не только безусловно следовать
велениям и понуждениям извне, но и в той или иной степени
самостоятельно осваивать общественные императивы,
вырабатывать для себя нравственную программу действий,
определенным образом оценивать и уяснять смысл действующих в
обществе нормативов»1.
С нравственной точки зрения признаком личностного
развития человека выступает его способность поступать по
внутреннему убеждению в самых сложных житейских ситуациях, не
перелагать ответственность на других, не полагаться слепо на
обстоятельства и даже не просто «считаться» с
обстоятельствами, но и противостоять им, вмешиваться в ход событий,
проявляя свою волю, свой характер. Надо ли объяснять, как
поверхностно и малопродуктивно представлять мораль чем-то вроде
свода «готовых правил», годных на все случаи жизни? Кое-что
существенное диктуется самим человеком, повелевая ему в
любой ситуации поступать морально, «по совести».
Совесть есть категория нравственная и, стало быть,
социальная, она не предзаложена в человеке от рождения и не покоится
в генотипе человека, как пытаются ныне доказать некоторые
ученые авторы, а пробуждается и формируется в процессе
общественного и индивидуального развития личности. Жить
совестливо, соизмеряя свои индивидуальные потребности,
желания и хотения с тем, что вменяется чувством долга,— значит
поступать ответственно, сознательно, мотивированно, то есть
личностно в самом широком смысле этого слова.
Разговор об этой важной стороне нравственной жизни вновь
побуждает нас обратиться к искусству — на этот раз к
искусству кино, а именно к фильму «Восхождение» (экранизация по-
1 Дробницкий О. Г. Понятие морали. М., 1974, с. 27.
114
вести В. Выкова «Сотников», осуществленная режиссером
Л. Шепитько), в котором интересующая нас проблема
морального потенциала личности поставлена предельно остро и
общественно значимо.
Острая, «пограничная» ситуация, в которой очутились
центральные персонажи фильма — Сотников и Рыбак,
исключительна и по своим обстоятельствам, и по характеру
предъявляемого им выбора, где ставка — жизнь. А по сути своей она узнаваема
для многих, ибо испытание морального потенциала — явление
каждодневное, обычное для любой личности, живущей более
или менее напряженной духовной жизнью. Ведь часто
возникают ситуации, когда человек оказывается один на один с самим
собой, когда помощи ждать не от кого и неоткуда, когда
моральную опору приходится искать не вовне, а в самом себе. И если
этой опоры нет, или, скажем иначе, моральный потенциал
личности «на нуле», то никакого чуда героизма, мужества или
просто нравственно безупречного поступка не произойдет, так как
они всегда есть проявление сознания, воли и характера
личности.
Именно в подобных ситуациях раскрывается «до конца»
нравственный потенциал человека, как это случилось с Сотнико-
вым и Рыбаком. Товарищи по отряду не знали, что много раз
ходивший с ними в атаки Рыбак, способный быть храбрым и
даже отчаянно храбрым «вместе со всеми», может стать
предателем и трусом. Теперь же он, прежде удачливый и слывший
храбрецом, вдруг испытывает жутчайшее отрезвление от
иллюзий по поводу собственной личности. В острой ситуации
Рыбак обнаружил внутри себя духовную пустоту, то есть отсутствие
какой-либо общественно значимой связи с миром и другими
людьми. И он мечется, суетится, цепляется за любую
возможность остаться в живых потому, что ему просто не на что
опереться, когда он остался наедине с собой.
Сотников же, наоборот, ощущает и осознает внутри самого
себя то, что определенным образом связывает его с другими
людьми — друзьями и врагами, единомышленниками и
противниками,— и то, что повелевает поступать в согласии с
собственной совестью, исключающей любые компромиссы.
Мораль, как давно замечено, руководствуется принципом
«должен — и потому могу», а не «могу — и потому должен».
Но моральный принцип реализуется лишь тогда, когда он стал
деятельной совестью, внутренним убеждением и нравственным
чувством личности. Иначе говоря, когда требование «должен»
для человека не есть нечто навязанное извне, а результат
собственного выбора, и пренебречь им или отказаться от него —
значит отказаться от самого себя, от своей индивидуальности.
8*
11:»
Поступить по совести есть выстраданное всей
предшествующей жизнью отношение к самому себе как существу подлинно
общественному, остро чувствующему связь своего поступка
с интересами и благом других людей.
И здесь мы подошли к мысли-выводу, что сам собою
напрашивается в ходе раздумья над рассказанной фильмом
«Восхождение» историей и, кстати, лишний раз подтверждает глубокую
связь моральных проблем с социальными. Велики значение и
роль коллектива в формировании и воспитании личности.
Коллектив социалистического типа есть основная ячейка
общества, на базе которой формируются и развиваются отношения
сотрудничества, взаимопомощи и взаимной солидарности,
вырабатывается подлинно коллективистская психология советских
людей. Но коллектив в социалистическом смысле — это не
просто конгломерат людей, объединенных общностью
производственных целей и выполняемых ими социальных функций,
«ролей». В таком случае сельская община, где все — от работы до
бытовых привычек и обрядов — регулировалось «миром» и
решалось «на миру», может быть легко признана образцовым
коллективом (рождение, свадьба, похороны, соблюдение традиций
и т. п. — ничто не оставалось без внимания связанных узами
«личной зависимости» общинников-односельчан).
Социалистический коллектив, в отличие от всех предшествующих форм
(используем определение К. Маркса) «мнимой», «лживой»
коллективности, образует такую общественную связь людей, на
основе которой произрастает свободная индивидуальность, то
есть личность, обладающая развитым чувством ответственности
и сознанием собственного достоинства. Неповторимость и
уникальность такой индивидуальности выражается не в капризах
«натуры», мало кого интересующих и волнующих, а в социально
значимых, духовно и морально значительных поступках и
мотивах поведения. Воспитанный в духе социалистического
коллективизма человек способен на самодеятельное, инициативное
и ответственное поведение в любых, самых неожиданных
ситуациях. И потому сила любого коллектива — трудового, бытового
или военного — во многом зависит от «самодеятельных»
возможностей каждого его члена. И не следует облегчать
реальное положение человека всевозможными «костылями» внешней
поддержки, сея иллюзии насчет того, что всегда найдутся
«добрый дядя» или «добрая тетя», которые примут за него решение
и возьмут на себя ответственность за последствия его же
поступков.
Пока человек в своей нравственной практике поступает
скорее по логике общепринятого и здравого смысла, чем должного,
он находится еще вне отношений морали. Он нравствен в рамках
Uli
существующих обычаев и традиций, в которых момент выбора
отсутствует. В том-то и заключается «хитрость» морали, что она
предполагает не простое следование общепринятым нормам
поведения, а развитую способность человека критически
относиться к окружающему и к своим собственным действиям.
Казалось бы, самым простым случаем движения
нравственного сознания (простым в теории, но не на практике, где для
этого нужна сила воли) является случай, когда оно не
удовлетворяется предписаниями здравого смысла и ходячей морали. Но
такова побудительная почва для свершения «исключительных»
поступков, которые становятся, по словам В. И. Ленина,
«началом переворота» в сознании массы людей, ибо отдельные
нравственные действия личности играют роль позитивного
примера для всех остальных1. Как существо нравственное, человек
постоянно стремится выйти за пределы «системы всеобщей
полезности» и делает руководством к действию высокое,
правомерное само по себе , то есть бескорыстные и возвышенные
мотивы деятельности.
В связи со всем этим возникает вопрос: насколько оправдан
и продуктивен в практике общественного воспитания
механический перенос характеристик общества в целом на отдельную
личность? Подобная методология понимания взаимосвязи
индивида и среды, общества и личности порождает поверхностные
представления о месте и роли отдельного человека в истории,
ориентирует на поиски облегченных решений в процессе
формирования и воспитания личности социалистического типа. Что
личность со всем своим неповторимым духовным миром
является единичным, индивидуальным выражением господствующих
в обществе социальных отношений — это азбучная истина
марксизма. Но это верно лишь «в конечном счете», «в результате»,
что так убедительно показано на примере -судеб Сотникова и
Рыбака. При попытке же проникнуть в лабораторию появления
того или иного «результата» — а именно это составляет
основную трудность в практике общественного воспитания — любые
общие характеристики могут служить лишь отправным пунктом
анализа. Ведь заданные и формируемые обществом свойства,
качества, характеристики в каждой индивидуальной судьбе
должны пройти «через» самого человека. Для отдельной
личности они не заданы заранее и не являются чем-то «готовым»,
а вырабатываются ею самою в процессе своего общественного
и индивидуального развития.
1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 5.
2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 386-387.
I 17
Размышления о «моральной философии» Сократа
побуждают остановиться еще на одном ее аспекте, приобретшем
современное звучание в связи с явлением, которое не может
не волновать нас сегодня.
Сократ совсем не аскет, и ему «ничто человеческое не
чуждо». Но он обходится малым и самым необходимым там,
где другие затрачивают массу сил и энергии, чтобы иметь в
своем распоряжении многое, то есть и в данном отношении
ведет себя не как все. Кант образно передал это следующими
словами: «...зрелый, обладающий опытом разум, ставший
мудростью, устами Сократа среди ярмарки всевозможных
товаров радостно восклицает: сколько [здесь] ненужных мне
вещей!» И это не демонстрация скромности запросов, не
проявление скудости потребностей или бедности желаний.
Есть все основания предположить, что Сократ обладал
развитой гаммой потребностей, знал цену вещам и удовольствиям.
Но, для того чтобы сделать разумный выбор, человек, по
логике Сократа, должен прежде всего знать то, без чего можно
вполне обойтись. Кант уточняет: «Есть различие между тем,
кто мало в чем-нибудь нуждается потому, что ему мало чего
недостает, и тем, кто мало в чем-нибудь нуждается потому,
что может обойтись без многого» 2.
Дело, конечно, не в вещах самих по себе, а в отношении
человека к ним. В своем радостном восклицании по поводу
существования множества вещей, которые ему просто не
нужны, Сократ имеет в виду не вещи, полезность и нужность
которых нетрудно обосновать. О чем же идет речь?
Много веков спустя после Сократа суть проблемы остро
и точно обозначил А. Блок: «Нет в нем (в человеке.— В. Т.)
достоинства, грош ему цена, если душа его, созданная для
волнений и радости, так же сыта и тупа, как тело» 3. Как
только «разумные», а проще — самые необходимые,
потребности человека удовлетворены, вопрос о человечности или
бесчеловечности его бытия переносится в сферу духа. Такое
измерение качества жизни личности ничего идеалистического
в себе не содержит. И Блок совершенно прав, когда
настаивает: «Человек сохраняет свое достоинство тогда, когда
душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть
беспокойным и требовательным к себе самому и к
окружающим» 4.
1 Кант И. Соч. В 6-ти т. М., 1964, т. 2, с. 350.
2 Там же, с. 216.
3 Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М.-Л., 1962, т. 6, с. 382.
4 Там же, с. 381.
118
Обсуждая проблему «человек и вещи», ныне нередко
ополчаются на вещи, представляя их чуть ли не «исчадием зла» и
причиной появления уродств морального порядка (рецидивы
«вещизма», потребительской психологии и т. п.), вместо того
чтобы всерьез задуматься над нравственной, духовной
подготовленностью самого человека «по-человечески» наладить
свои отношения с миром материальных благ и ценностей.
Борются с «призраками», стреляют по «ложным мишеням»,
а между тем существенная сторона этой реальной
проблемы — фактическое состояние нравственной культуры многих
людей, оказавшихся неспособными решить дихотомию
материального и духовного в интересах развития собственной
личности,— отодвигается в тень. Почему на «ярмарке»
всевозможных вещей (которых, заметим, могло бы быть и числом
поболее и качеством получше!) одни ведут себя
«по-сократовски» — мудро и человечно, а другие — нет, оказываясь
пленниками потребления? Это вопрос о моральности и
культуре личности, готовой к «разумному» выбору и поступку
в любой, пусть в самой запутанной и искушающей все твои
желания, ситуации. И эта готовность формируется отнюдь не
просвещением, которое «делает человека умнее, но не делает
его лучше» '. Она является плодом всего комплекса
воспитательных усилий общества, усвоенных не только рассудком,
но вошедших в плоть и кровь человека, ставших
«органическим телом» личности.
Какой силой обладает мораль, когда она становится
убеждением, привычной нормой поведения, говорит пример
самого Сократа, отказывающегося от побега, подготовленного
ему учениками. Он обосновывает свое решение подчиниться
приговору ссылкой на то, что в ином случае поступил бы
несправедливо, нарушив те самые афинские законы, которые до
сих пор устраивали его. В платоновском диалоге «Протагор»
Сократ, находясь в темнице, говорит, что лучше претерпеть
несправедливость, чем несправедливо поступить (в диалогах
«Критон» и «Горгий» Платон разовьет обсуждение этого
понравившегося ему тезиса). Скрыться, бежать в другой город,
к врагам, ответить своему отечеству злом на зло равноценно, по
Сократу, отказу от провозглашенных им самим принципов, от
своих убеждений. «Мне очень хочется жить... Но тебе будет
стыдно,— говорит он ученику,— если твой собеседник Сократ
предаст свои убеждения ради жизни».
Но не впадает ли Сократ в противоречие с собственными
принципами, с одной стороны, признаваясь в том, как хочется
'"■ Гегель. Работы разных лет. В 2-х т., т. 1, с. 58.
119
ему жить, а с другой— доказывая невозможность принять
любое иное решение, кроме как согласиться с приговором суда?
Нет, не впадает. Сократ не исключает того, что общественный
закон может стать предметом рефлексии разумного индивида,
быть принятым или отвергнутым им в зависимости от того,
признается ли он истинным. Но коль скоро социальное
установление или моральная норма приняты твоим разумом как
истинные и становятся твоим личным императивом, твоим
убеждением, ты не можешь отказаться от них, не отказавшись от
самого себя. Сократ отнюдь не ригорист, ставящий принципы
выше самой жизни. Он подлинный мудрец, ибо не просто мудро
мыслит, но и стремится мудро устроить свою жизнь,
практически воплотить идеал мудреца. В том-то и состоит пафос
созданной Сократом «моральной философии», что нужно на
деле, в своем жизненном поведении обосновать и практически
подтвердить нерасторжимое единство знания и нравственности,
общественного и личного. Сократ далек от абсолютизации знания
в его гносеологическом смысле. Разумное поведение — это
знание, ставшее сознанием, развитой способностью поступать
по-человечески, то есть общественно. Развитая способность
понять другого человека, увидеть себя в другом и научиться
жить с другими людьми стала образом жизни Сократа, лично
практикуемой линией поведения.
Нам, живущим в социалистическом обществе, поставившем
своей целью сделать реальностью прозрачные и разумные
отношения людей между собой и природой \ приходится по-
своему сталкиваться с поистине вечной проблемой, ставшей
личной драмой Сократа.
Конфликты знания и сознания, образования и
нравственности, наблюдаемые в реальной практике, заставляют отбросить
привычные представления о том, что прогресс науки,
образованности автоматически ведет к росту сознательности,
сопровождается прогрессом моральным. Увы, нередко образованность
причудливо совмещается и соседствует с нравственной
неразвитостью, моральной глухотой и беспринципностью. Так что
вопросы, мучившие Сократа: «Что стоит за поступком?», «На
чем зиждется морально доброе поведение?», «Как совместить
следование идеалам с достижением конкретных практических
целей?» — и сегодня сохраняют свою остроту и
жизненное значение. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт,
что на протяжении последнего десятилетия не смолкают
дискуссии вокруг проблемы соотношения знания и
нравственности.
См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 90.
120
Настойчиво добивается признания мнение, что высшим
судьей и советчиком человека в вопросах нравственности
является разум. Стремясь подчеркнуть важность знания
моральных принципов и норм, значение этической образованности
человека для его повседневной жизнедеятельности, поклонники
«морального рационализма» явно не замечают плачевных
последствий, которыми чревата их позиция, если превратить ее
в «руководство к действию».
Разумеется, в век небывалого прогресса науки и техники
проповедь «морального рационализма» звучит эффектно
(у кого поднимутся голос и рука поставить под сомнение
значение «светлого разума»!), а если принять во внимание то
обстоятельство, что дело этического образования и молодежи
и взрослых поставлено еще не лучшим образом, то и очень
убедительно. И было бы просто неразумно недооценивать
значения этической теории и общей образованности, которые,
как всякое знание, освещают путь практике, помогают людям
поступать «с пониманием». Но при этом нужно еще, чтобы
знание этических принципов, моральных норм
социалистического общества превратилось во внутренние убеждения человека,
вылилось в нравственное чувство.
Нравственность, мораль составляет как раз. ту сферу
человеческой жизнедеятельности, которая специально
«заведует» формированием и воспитанием высокого, возвышенного
самого по себе, то есть бескорыстного. Именно в этой сфере
человек выступает как целостное и в полном смысле слова
общественное существо. Но для того чтобы нравственная
сущность человека проявила себя в полную силу, необходимо
сделать реальностью подлинно человечные, гуманные
отношения между людьми, основанные на равенстве, справедливости
и взаимном уважении. Именно это и- составляет основную
моральную цель коммунизма, а практическое участие в ее
достижении служит главным критерием моральности человека,
разумности его поведения. Вне повседневной практически-
теоретической борьбы за утверждение коммунистических
общественных отношений во всех сферах бытия никакой самый
«светлый разум» и никакие самые удивительные достижения
науки и техники не сделают людей счастливыми, а их жизнь
и деятельность — подлинно человеческой.
Но вернемся на сцену, где Сократу предстоит еще пережить
немало горьких минут обостренно ощущаемой жизни. Еще до
того, как он примет чашу с ядом, он с ужасом услышит от своего
Первого ученика, что существуют тетради его бесед, где «все
выверено», «где нет у Сократа противоречий», и что в них он
предстанет перед будущими поколениями «великим, могучим
121
и цельным». Там, в тетрадях — «истинный Сократ, и все
вытвердят его наставления и будут им следовать и славить его».
Но Сократ решительно отвергает попытку канонизировать
свои беседы и себя самого. «...Человек меняется с
быстротекущим временем! И надо проверять. И надо сомневаться.
Единственное, что я знаю,— это то, что я ничего не знаю... Ты
безумец! В тебе нет любви! — гневно бросает он предавшему его
ученику.— И у тебя страшные глаза — глаза жреца, а не
философа! Я боюсь, что, если завтра по Афинам станет ходить
новый Сократ, ты посадишь его в тюрьму именем того,
прежнего Сократа. Ты сожжешь тетради! Слышишь? Поклянись
мне!..»
Молодой, но уже «мертвый» ученик так ничего и не понял
в том, что составляло смысл бесед, учения и жизни учителя.
Затвердив готовые, чужие истины, он омертвляет своим
прикосновением даже то, что рождено живой жизнью и
продолжает ей служить, если оказывается в руках не начетчика,
а творца.
Спор Сократа с анонимным учеником о судьбе созданного им
учения характеризует исторически уникальное явление,
современному человеку не совсем понятное. Как же не быть кровно
заинтересованным в том, чтобы философское учение,
выношенное твоим разумом и выстраданное твоим сердцем,
многократно подтвержденное в своей правоте при жизни
и ценою собственной жизни утверждаемое для будущего, не
стало достоянием возможно большего числа учеников и
последователей? Не чудачество ли это? Нет, скорее еще одно проявление
неразрывного единства жизненной и философской позиций,
которое лежит в основе любого парадоксального поступка
Сократа. Верный избранному принципу, он решительно против
того, чтобы превращать свою философию в официальную
религию, а своих учеников — в апостолов. Сопоставляя судьбу
учения Сократа с судьбой учения Иисуса, Гегель обстоятельно
вскрывает глубокое различие между ними х.
Ученики Иисуса, даже независимо от воли и желания
последнего, были всецело поглощены личностью самого Христа
и заботились не столько об отчизне и государстве, до которых им,
в сущности, мало было дела, сколько о канонизации вероучения,
превращении его в официальную религию. Они стали лишь
«телохранителями» учения, не стремясь внести существенных
прибавлений в передаваемое потомкам. Ученики Сократа,
напротив* были его друзьями, каждый при этом — мастером
v См.: Гегель. Работы разных лет. В 2-х т., т. 1, с. 83—86, 112—113.
122
своего дела, со своей индивидуальностью, характером, а он
сам — лишь умным наставником, выделяющимся среди равных
блестящим умом, остро развитым чувством справедливости
и личного достоинства, а не проповедями, которые были чужды
грекам. Ученики Сократа любили его за добродетель и
философию, а не философию и добродетель ради него самого.
И наставник не собирался превращаться в главу школы, тем
более отливать характеры своих учеников по своему образу
и подобию.
Важно отметить и другое отличие, гениально угаданное
Сократом и затем подтвержденное историей. Оказывается,
пророки новых учений бессильны гарантировать, что
выдвинутая и обоснованная ими теория не будет затем искажена их
последователями. Сократ это понимал и, требуя сжечь тетради
с записями его бесед, опасался лишь одного — превращения
своего учения в схоластику, в безжизненные абстрактные схемы,
штампы, лозунги. Живое творчество, не порывающее ни на
минуту связи с быстротекущей и меняющейся реальностью,
постоянный интерес к сути самого дела, не заслоняемой
никакими околичностями,— вот что составляет гарантию
истинности и будущности любого учения. Это одновременно и
гарантия сохранения жизненной силы характера, отстаивающего
ту или иную позицию, те или иные идеи, воззрения.
Как" человек живой в полном смысле этого слова, Сократ
находится постоянно в состоянии духовного движения и
саморазвития, ставя перед собой все более трудные задачи познания и
самопознания. До последнего мгновения своей жизни он
сомневается и ищет, пробиваясь сквозь строй относительных
истин к той истине, что лежит в самой толще человеческого
познания. Сократ, выражаясь современным языком, не только
идейный человек, он еще и развивается-, являя собой пример
движения самого знания. И разве не поучительно наблюдать
зрелище развития духа, если так часты еще случаи, когда
человек в какой-то момент останавливается в своем развитии,
удовлетворяется уже достигнутым, впадая в состояние
блаженного довольства собой, или, забывая о «душе», всецело
начинает жить прихотями «тела», даже не заметив того, как
настоящая жизнь, немыслимая без высоких душевных
побуждений и исканий, тревог и забот о других,
превратилась в существование, не приносящее радости даже самому
себе?
12.4
ВЫ ВОР СОКРАТА
Ах, если бы дух был только гениальной головой!
Это еще куда ни шло. Но, к сожалению, он еще
настоящий чудак, полный своеобразия и капризов.
Я говорю, к сожалению! Ибо мир гораздо меньше
обижается на его гениальность, чем на его
причуды, поскольку последние гораздо резче
колют глаза толпе. Ибо в мире каждый хочет
видеть в другом лишь самого себя как в зеркале.
Л. ФЕЙЕРБАХ
Философ я; у вас в глазах
Мое ничтожество я знаю.
Е. А. БАРАТЫНСКИЙ
Обвинителями на процессе Сократа были молодой, мало кому
известный поэт Мелет, абсолютно равнодушный к существу
обвинения и лишь желающий прославиться любой ценой,
настоящий вдохновитель и организатор судилища —
влиятельный афинянин Анит и оратор Ликон — погруженный в сонную
дрему старец.
Обвинение в выдумывании богов и развращении молодежи,
предъявленное Сократу, было столь же нелепым, сколь и
циничным, откровенно беспринципным. В безбожии и безверии его
обвиняют те, кто вообще не верит в богов, ни в «старых», ни в
«новых», кто сам уже давно разуверился в пользе веры
и гражданских законов. О нравственности молодежи пекутся
насквозь развращенные и духовно опустошенные люди,
руководимые в своем поведении лишь жаждой власти и личной славы.
Не нуждаясь в услугах разума — его им вполне заменяет
хитрость (по меткому определению Гегеля, «ум животных»),—
они легко преступают нравственные нормы человеческого
общежития, не брезгуя в достижении узкокорыстных целей
любыми средствами. И они хорошо знают, в чем состоит их сила:
порядочный человек не будет, отстаивая свои убеждения
и достоинство, опускаться до них в выборе средств и поэтому
окажется уязвимым в борьбе со злом.
Безнравственность позиции и способа действия обвинителей
Сократа очевидна. И, наверное, другой на его месте максимально
использовал бы эту очевидность, защищая свои убеждения
и жизнь. Но Сократ не делает этого. Он ведет себя на суде с точки
зрения здравого смысла весьма странно. Этот великий моралист,
способный распутать и обнажить рациональное зерно любой
самой сложной и запутанной житейской ситуации или поступка,
менее всего прибегает к помощи морали. Когда один человек
У1\
(Мелет), зная Сократа лишь понаслышке, обвиняет его во всех
смертных грехах, не испытывая при этом никаких угрызений
совести, а другой (Анит), прибегая к обману, подстрекательству
и прямым угрозам, требует от философа отказаться быть...
философом и изменить своим убеждениям, вряд ли следует
искать опору в морали. И дело даже не в том, что трудно что-либо
доказать или опровергнуть с помощью моральных доводов
и соображений. Кто-кто, а Сократ, исследующий реальное
поведение реальных людей, не мог заблуждаться на этот счет.
Вряд ли он согласился бы, скажем, с мнением В. Виндельбанда,
много веков спустя написавшего: «Не нравственное убеждение
в опасности его (Сократа.— В. Т.) влияния, а самые мелкие
личные мотивы продиктовали обвинение. Его противники были
люди низкие и ничтожные, которым нужно было только
отомстить за оскорбление их личного тщеславия» '.
Сократ понимает, что дело не в Мелите и не в Аните, то есть
не в коварстве и цинизме отдельных лиц, а в чем-то другом, что
еще предстоит безбоязненно, не поддаваясь смягчающей власти
иллюзий, назвать и обнажить публично. Он находит «всеобщее»
в поведении даже такого человека, как Анит. Усматривая
причину подобного поведения в «незнанье», сценический Сократ
говорит: «Если бы Анит умел правильно рассуждать, разве он
желал бы моей смерти? Что может принести смерть тому, кто
открывает истину? Стоит убить глаголящего истину, и тотчас
людей охватывает любопытство к его вере и уважение к ней.
Потому что нет ничего прочнее и притягательнее того, за что
пролита кровь».
За этим суждением стоит отнюдь не всепрощение. Сократ
понимает, что его обвинителей уже настигло наказание гораздо
более сильное, чем физическая ил!Г юридическая расправа
с ними. Как ни стремительна смерть, но их настигло то, «что
бежит быстрее смерти,— человеческое падение». Оказывается,
между убийцами и убитыми существует некая связь, которая не
знает «срока давности». «Если чтут убитого, часто помнят
и убийцу. Значит,— замечает Сократ со свойственной ему
иронией, —покуда буду бессмертен я... а это надолго... будете
бессмертны и вы». Таков иронически выраженный моральный
приговор обвинителям, который не властен отменить даже «суд
истории» (в «Апологии» Костаса Варналиса Сократ скажет:
«Ирония не начало философии, а ее конец. Нужно пройти через
трагедию разума и отчаяния, чтобы дойти до смеха, до горького
смеха. Если сумеешь дойти!» 2).
Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи, с. 64.
В,арналис К. Подлинная апология Сократа. М., 1935, с. 47.
12Г)
С Анитом, Мелетом и подобными им справиться трудно, но
можно. Невозможно преодолеть силу «молвы», то есть мнение
многих, толпы, ставшее устойчивым заблуждением. А
разросшаяся клевета на Сократа, его учение и поведение, превращенная
в обвинительный вердикт,— это не просто злокозненные
вымыслы отдельных нечистоплотных людей, а массовое
предубеждение против философа, возникшее еще со времен «Облаков»
Аристофана, где Сократ осмеивается как софист.
Не питая никаких иллюзий насчет уготованной ему участи,
Сократ с чувством величайшего достоинства встречает приговор:
«Есть защита против людей, но против молвы нет защиты. У нее
тысяча уст, и у нее громоподобный голос. Ее нет, и она везде.
И поэтому я знал давно, что осужден. И я всегда ждал
сегодняшнего дня и готовился к нему...» Он просит учеников: «Мне
хотелось бы, чтобы вы, беседовавшие со мной, рассказали
впоследствии, что я был осужден не потому, что мне не хватало
доводов на суде. Доводы не слушали. Вместо них сограждане
ждали только покаяния. Ждали, чтобы я отрекся от себя, словом,
сказал все, что привыкли здесь слышать от других. Но все вы
помните: в дни молодости, когда я сражался с оружием за
великий город Афины, мне не раз угрожала смерть. Но никогда
я не прибегал к бесстыдству и трусости. А ведь на войне, как на
суде, так легко убежать от смерти. Надо только бросить свое
оружие и обратиться с мольбой к преследователям, надо только
забыть себя и согласиться делать что угодно...»
Итак, Сократ сделал свой выбор — он предпочел тюрьме
и изгнанию смерть. Что это — результат усталости старого
человека, разочаровавшегося в жизни и готового к
самоубийству? Или попытка самыми крайними средствами доказать
чудовищность и несправедливость содеянного с ним? Или
желание стать мучеником, тщеславное стремление обрести
посмертную славу даже такой дорогой ценой? Ни то, ни другое,
ни третье.
Вопрос об общественном назначении философии ставился
и решался в античности несколько иначе, чем в новое время,—
и это надо учитывать, чтобы в полной мере осознать причины
драмы Сократа. Философское знание еще не стало «специальной
отраслью» познания и «профессией», осуществляемой нередко
в отрыве от других жизненных занятий человека. До Платона
и Аристотеля мыслительная деятельность человека-философа не
только совпадала с самой его личностью, его образом жизни
и чувствования, но и предполагала это единство в качестве
важнейшего доказательства истинности и жизненности
провозглашаемых и отстаиваемых философом идей. Для античного
«мудреца» не было разницы между его учением и личным
существованием.
12Г»
Поведение Сократа — логичное и последовательное
выражение его образа жизни и убеждений как философа и личности.
Если философствовать означает жить соответственно своим
убеждениям, то его речь на суде и отношение к приговору
следует признать достойным завершением всей жизни великого
философа. Ссылка на трагикомедию человеческой истории, как
и на «упрямство греческого доктринерства»1, когда защита
какого-либо идейного принципа оказывается выше самой жизни,
здесь ни при чем, ибо трагическая ситуация, в которой оказался
Сократ, в значительной степени была создана им самим
(напомним, он знал давно, что его ожидает, и готовился к этому).
Ведь Сократ руководствовался убеждениями, а не верой, которая
нуждается во внешней опоре, хотя и производит впечатление
чисто «внутреннего» свойства личности. В известном смысле
великому мудрецу было легко поступить так, как он поступил:
его убеждения не были продиктованы внешней необходимостью,
и терял он «всего лишь» собственную жизнь, а не почести,
должности, привилегии, с которыми многие расстаются труднее,
чем с жизнью. На разницу между верой по долгу и настоящими
убеждениями человека в свое время обратил внимание Л.
Фейербах: «Положение, должность имеют влияние на образ мыслей
человека, его внутреннюю жизнь, его веру более, чем он сам
сознает это. В большинстве случаев уже нельзя отличить образа
мыслей по долгу службы от свободных убеждений, того, что
исходит от самого человека, от того, что исходит от него самого
в связи с его внешней профессией. Отнимите у бесконечного
множества людей их положение — и вы- отнимите у них веру.
Вера — это профессиональный долг. Не убеждения
поддерживают положение, а положение — убеждения»2. Убежденность
Сократа, определившая решимость и мужество его поведения,
проистекала и держалась на том, что ему нечего было терять,
кроме самого себя. А это цена, пусть и очень высокая, но
оправдывающая приносимую им жертву, ибо он остается верным
самому себе.
Обсуждая моральные конфликты исторических личностей
с эпохой, обычно на первый план выдвигают «неблагоприятные
обстоятельства», действие враждебных внешних сил. Но это
лишь половина правды, ее наиболее очевидная сторона.
Существует и другая сторона морального конфликта,
потерпевшая и победившая одновременно. Лаконично ее можно
выразить вопросом: почему не все, находящиеся примерно в тех
1 См.: Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи, с. 68.
2 Фейербах Л. История философии. В 3-х т. М., 1967, т. 3, с. 25.
127
же обстоятельствах, ведут себя в решительный момент, как
Сократ или Джордано Бруно?
Разумеется, многое зависит в подобного рода ситуациях от
волевых качеств, психологической готовности человека
отстаивать свои убеждения, бороться до конца за истину. Не принимая
во внимание этого существенного условия, фактора моральной
коллизии, мы вряд ли сможем объяснить, к примеру, различие
между поведением Галилея и Джордано Бруно. Однако в случае
с Сократом проблема заключается не в моральной стойкости,
которую он проявил в полной мере, а в резком несоответствии
выдвинутого им (и продемонстрированного на собственном
примере) масштаба нравственных требований к человеку
общему уровню морального состояния афинского общества
в пору кризиса рабовладельческой демократии. Основоположник
«моральной философии» оказался в ситуации, когда вопрос
о моральной способности личности быть на уровне требований
и потребностей своего века — один из центральных в его
учении — встал перед ним как глубоко личный вопрос. Всем
существом своего учения Сократ предвидел возможность такого
хода событий, когда история станет возлагать на личность
гораздо большую ответственность за выбор линии своего
поведения.
Времена меняются, и вместе с ними меняемся мы, говорили
древние. Как, в какую сторону меняемся, Сократа интересовало,
пожалуй, более всего. То, что современная этика формулирует
как актуальную нравственную проблему для человека XX века:
в какой мере он «как личность способен ответить на
возникающие перед ним вопросы, на объективные требования
исторического прогресса, которые далеко не всегда адекватно воплощены
в групповых велениях, экспектациях и реакциях
непосредственного окружения»1,— эта проблема составляет «ядро»
моральной философии Сократа. И поскольку он сам был
«олицетворенной философией», то есть воплощенным единством
чувства, мысли и воли, для него вопрос «быть или не быть»
решался без мучительной рефлексии собственного Я. Можно
сказать так: о внутреннем духовном антагонизме между
Сократом и его судьями «знал» только он один, другие даже не
догадывались. Сократ виновен лишь в том, что забежал далеко
вперед своего времени, предложив такой потолок нравственного
существования, который был неведом и непосилен его
современникам. И это стало его личной бедой, трагедией. Сократ
выстоял в ней, проявив высокую степень личной сознательности
и ответственности, а стало быть, и моральности.
' Человек — Наука — Техника. М., 1973, с. 256.
128
Удивительное это явление: прошли тысячелетия, а мы, люди
совсем иной эпохи и формации, зная, как много значительного
и поучительного дала живая человеческая история после
Сократа, продолжаем восхищаться прекрасными героями
древности, воспринимая их чувства, мысли и поступки как нечто
очень близкое нам, современное по своему смыслу и духу.
Конечно, есть доля правды и в горьких сетованиях Монтеня,
озабоченного тем, что новые поколения пройдут мимо наследия
греческого мудреца, посчитают его архаичным. «Поучения
Сократа, сохраненные в писаниях его друзей,— писал Мон-
тень,— восхищают нас лишь потому, что их чтят и уважают все,
а не потому, что мы ими прониклись: в жизни они нами не
применяются. Возникни что-либо подобное в наши дни, весьма
немногие одобрили бы его...»1
Напрашивается еще одно отступление. Известно, что
Л. Н. Толстой принял самое заинтересованное участие в
подготовке и выпуске книжечки «Греческий учитель Сократ»
А. М. Калмыковой. Греческий мудрец близок мыслителю из
Ясной Поляны прежде всего духом, основной направленностью
своего учения. Тем, что ищет «Бога», которого не знают греки,
и находит его в своей совести; что смысл своего учения видит
в ответе на вопрос: «Как жить надо?»; что более всего презирает
праздность и богатство, добытое не собственным трудом2.
И конечно же Сократ близок ему, восставшему против церкви
и правительства, непреклонностью, мужественным поведением
на суде и в ожидании смертного часа.
Этот пример духовной связи людей разных, очень далеких по
времени и обстоятельствам эпох, разумеется, не снимает
полностью горестного сомнения Монтеня. И по сей день многие
умирают, не узнав, что жил когда-то удивительный грек Сократ,
а Лев Толстой славен не только произведениями, вошедшими
в школьный учебник по литературе. Однако в данном случае
с Монтенем не хочется соглашаться. Кто измерил и чем можно
измерить силу духовного воздействия Сократа или Толстого на
людей, чьи души открыты навстречу истине, добру и красоте?
Скептики не преминут заметить, что Сократ своей смертью не
изменил афинский полис, и многое из того, с чем он боролся
столько веков назад, не исчезло поныне. Вряд ли на такой
абсолютный результат рассчитывал сам Сократ. Но помимо
примера мужества и стойкости он оставил потомкам нечто
большее. Сократ не просто «заземлил», демократизировал
1 Монтень М. Опыты, кн. 3, с. 322.
2 См.: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т. М.-Л., 1937, т. 25,
с. 429-461.
о Лака.1 'HHKJ
129
философию, как верно заметил Монтень, но и по-своему
предугадал ее роль как инструмента действенного познания
реальности и разрешения реальных проблем. В том, что
настоящая философия, как бы высоко ни витала она в небесах
абстракций, сохраняет связи с землей и людьми, предохраняет
человека от умственного высокомерия, щегольства и зазнайства,
немалая заслуга принадлежит и Сократу. Не случайно интерес
к его личности и учению проявился и по-новому зазвучал именно
сегодня, когда так остро стоит вопрос о нравственном, духовном
обеспечении движения нашего общества к великой цели.
Как завещание потомкам звучат последние слова Сократа,
произнесенные после оглашения смертного приговора: «Если
когда-нибудь, афиняне, вам покажется, что сыновья мои
заботятся о деньгах, о должностях, о красивых речах больше, чем
об истине и добродетели, донимайте их так же беспощадно, как
донимал вас я! И если они, не представляя из себя ничего,
вообразят о себе многое,— укоряйте их так же беспощадно, как
укорял вас я. И тогда вы воздадите по заслугам и мне и моему
потомству».
Сократ не помышляет об ореоле мученика и совсем не жаждет
смерти, а хочет лишь достойно принять смерть. Он идет не на
смерть, а за своими убеждениями. И как лебеди, что,
почувствовав свою смерть, заводят громкую, ликующую песню,
философ-мудрец бросает со сцены последнее слово, прямо
обращенное к нам, современным людям: «Исследуем же,..»
Действительно, это так важно — серьезно размышлять над тем,
что происходит вокруг тебя и с тобой самим.
ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ ХАРАКТЕРЫ
И «ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ»
Только через осуществление великих целей
человек обнаруживает в себе великий характер,
делающий его маяком для других...
ГЕГЕЛЬ
Глаза и сердце его гениальны. Ум его часто
ошибался.
Р. РОЛЛ АН
Завидная судьба у этого человека. Не только всемирно приз-
нанныеего художественные творения, но и сам он как личность
остается в поле зрения общественности, хотя давно уже канули
в вечность обстоятельства, сформировавшие его уникальный
характер. Меняются времена, возникают новые, неведомые ранее
проблемы, недавнее прошлое становится все более далеким, а
он — Лев Толстой — и сегодня выступает носителем (при всех
различиях в восприятии его личности и творчества) некоего
общественно значимого образа поведения, обладающего
заразительной силой. А можно сказать и так: в жизненной судьбе этого
человека заключена какая-то тайна бытия, тревожащая и
волнующая до сих пор людей, поскольку они однажды задумались
над тем, почему автор «Войны и мира», «Анны Карениной» и
«Азбуки» для крестьянских детей прожил свою жизнь именно
так, а не иначе. В контексте движущейся истории прожитая им,
художником и мыслителем, жизнь продолжает оставаться
событием своеобразным и по-своему выдающимся, которое нельзя
обойти вниманием, хотя и могут раздражать некоторые ее
странности, парадоксы, причуды, метания. Феномен Толстого — это
один из предложенных самой историей «проектов» личности,
очень сложной по содержанию и проявлениям. Тут, как
говорится, есть над чем подумать, «поломать голову», особенно тем, кто
любит выпрямлять и упрощать события, тем, кто грешит
чистоплюйством в понимании труднейшего и сложнейшего дела вос-
I л:\
питания. Даже те, кто с недоверием и недоброжелательством
относятся к этому «проекту», вынуждены признать, что с
Толстым как личностью «всегда интересно», что пройденный им
жизненный путь неординарен и несет в себе черты, мимо которых
нельзя пройти равнодушно.
Так вырисовывается тема и предмет разговора —
общественное значение и ценность своеобразного, неповторимого (и
исторически и психологически) жизненного опыта и пути, судьбы
отдельной личности в решении вечного и всегда актуального
вопроса о смысле жизни. И сразу обнаруживается трудность.
Все будут согласны с тем, что гением Толстого созданы образы,
достойные быть примером и предметом для подражания (кто из
нас в юности не писал сочинений на эту тему?). Но выдвигать в
качестве такого примера личность и образ жизни самого Льва
Толстого (с его весьма извилистой биографией, путаными, а то и
просто вредными теоретическими идеями, сложностями
супружеской жизни) — это вряд ли вызовет одобрение. А между тем в
обремененной всевозможными сложностями и отклонениями от
общепринятого (в тогдашнем российском обществе) жизни
великого писателя есть нечто всеобще-значимое для поведения людей
любого времени. Видимо, не случайно неубывающий интерес
обществоведения к личности Толстого не ограничивается
изучением его литературного наследия и мировоззренческой позиции,
но охватывает весь комплекс историко-биографической
проблематики.
Сейчас, как никогда раньше, ощутимо стремление понять
духовные ценности прошлого в органической связи с жизненной
«биографией», образом мыслей и позицией их творцов.
Конечно, никто из серьезных исследователей не будет «выводить»
результаты творчества Пушкина, Гоголя, Достоевского или Чехова
непосредственно из свойств характеров, конкретных
обстоятельств, перипетий и ситуаций их жизни. И в то же время
деятельность человека обусловлена свойствами его личности,
сформированной и воспитанной в условиях определенной
социальной среды. Еще Платон показал, что индивидуальный
характер, взятый изолированно от его окружения и обстоятельств
формирования, является абстракцией, а не чем-то реально
существующим. И, стало быть, то, что человек делает, в огромной
мере зависит от того, что он за человек. Игнорировать эту
взаимосвязь столь же неверно, как неверно, скажем, отрывать
общественное сознание от индивидуального, хотя первое и не
сводится к любой сумме вторых. В формировании и развитии личности
многое зависит от самовоспитания, что пока мало учитывается
в воспитательной практике.
Человеческие качества, особенности характера политическо-
го деятеля, ученого или художника гораздо основательнее
отражаются на их деятельности и ее результатах, чем может
показаться на первый взгляд. Есть люди, которым противопоказана
власть во всех ее формах и объемах, и они не готовы — по
характеру своему и воспитанию — к испытанию славой, известностью,
вообще открытой «публичностью»; многим чужда — опять-таки
по их натуре — деятельность врача или воспитателя,
немыслимая без особого дара человечности; наверное, человечество
только выиграло бы, если бы был заказан путь в науку и в искусство
«злым гениям», а тем более разнообразным представителям
рода «сальери». Но и в самых благоприятных случаях образуется
сложная, нередко очень «хитрая» взаимосвязь между
человеческим (духовным, нравственным) потенциалом личности и
развитием ее дарования. Все утверждения об автономном
существовании в одной жизненной судьбе двух противоречащих и даже
исключающих друг друга начал, «двух» разных людей: творца,
деятеля и человека, характера — при ближайшем рассмотрении
оказываются несостоятельными, всего-навсего легендами.
Безусловно, сознательное, продуманное двоедушие и
раздвоение может стать образом жизни и принципом существования
личности, но и тогда остается в силе вопрос «откуда что берется»
и мало кого может убедить ссылка на талант или гениальность
при желании понять логику творчества и поведения такого
человека. Хотите понять творчество того или иного деятеля,
вникните в то, что это был за человек, не упустите из виду его характер
и особенности жизненной позиции. Когда же это игнорируется,
открывается широкое поле для всевозможных домыслов,
вымыслов, легенд и прочих продуктов людской молвы, с которыми
и строгой науке нелегко бывает справиться.
Развивая эту мысль в работе, посвященной Пушкину,
Б. И. Бурсов не случайно останавливается на Толстом: «Лев
Толстой шел к себе, мало сказать, преодолевая себя,— он
периодически резко ополчался на свое прошлое — и человеческое,
и художническое, вплоть до отречения от него. Это не значит,
что он начисто разрывал с ним, даже если и хотел этого,— оно
так или иначе продолжало оставаться в нем, пускай даже и в
негативном виде. Разве можно понять все значение Толстого для
нас, живущих в совершенно других исторических условиях, не
учитывая этих его нравственных и духовных метаний? Они
свойственны только ему одному, вне их он, мало сказать, потерял
бы добрую половину своей прелести как великий художник и
своего влияния на нас, а вообще вряд ли бы осуществился»1.
Разумеется, при характеристике Толстого как человека его образ
1 -Бурсов Б, Легенда о Пушкине.—Литературная газета, 1981, 3 июня.
IX»
жизни, его духовное развитие, глубоко личные, индивидуальные,
выступают в связи с реальным общественным миром, к
которому писатель принадлежал и исторические судьбы которого не
могли не сыграть своей роли в формировании его личности и
мировоззрения. Говоря иначе, перед нами совершенно
конкретное и уникальное средоточие и выражение исторически
определенной совокупности общественных отношений целой эпохи.
Известная марксистская формула социальной сущности
человека вовсе на означает, что достаточно поместить, «окунуть»
последнего в породившие его жизненные обстоятельства и
общественные отношения, чтобы получить соответствующий
личностный эквивалент. Те, кто так полагает, упускают из виду
важную «деталь»— то, что «совокупность всех общественных
отношений» характеризует и выражает сущность человека, оставляя
для раздумий проблему своеобразия данной индивидуальности,
весьма существенную для понимания личности. Не только
простое, но и алгебраическое сложение обстоятельств и условий,
формирующих личность, не передает всей ее полноты и
богатства, многообразия ее сил, способностей, возможностей,
достоинств, недостатков и т. д. По точному наблюдению М. А. Лиф-
шица, всегда есть преимущества и достоинства, которые
непосредственно вытекают из самой личности человека, а не из
особых условий его общественного положения1. Поэтому
соотношение «общество — человек (личность)» продуктивно в
познавательном смысле и, так сказать, в перевернутом виде. Ибо из
конкретной личности при желании и умении можно вывести
определенные отношения и обстоятельства времени и общества (надо
только их увидеть, заметить), и тем не менее кое-что
существенное еще останется для понимания «человеческого».
Пожалуй, только в искусстве подобный подход к
исторической личности реализуется наиболее полно и последовательно,
ибо для него анализ человеческой деятельности не имеет смысла
и просто невозможен, если остается нераскрытой тайной сам
человек как индивидуальность, как личность. В этом лишний раз
убеждаешься, обратившись к повести Иона Друцэ
«Возвращение на круги своя», посвященной Льву Толстому.
Можно с уверенностью сказать, что любая претензия
справиться с всесторонним изображением «непомерно разросшейся
личности»2 Толстого заранее обречена на неудачу. Цель
скромной не только по размерам, но и по авторским намерениям
повести И. Друцэ — показать человеческое (общественное)
значение одного из самых важных и драматических поступков вели-
1 См.: Лифшиц М. Мифология древняя и современная. М., 1980, с. 186.
2 См.: Горький М. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1951, т. 14, с. 279-280.
\'М\
кого писателя — его ухода из Ясной Поляны. Жизнь накануне
этого события и последние дни Толстого, озаренные светом
осознания прожитого,— такова фабульная основа повести (а также
созданных по ее мотивам одноименной пьесы и спектакля
Малого театра с Игорем Ильинским в главной роли). Толстой
предстает здесь в домашней обстановке, остро переживающим
затянувшийся конфликт с Софьей Андреевной, размышляющим о том, что
происходит вокруг, о действительности, которая полна до краев
проблемами и вопросами, а завтрашний день человека
представляется таким непредсказуемо трудным и сложным. Герой
повести избежал «пленения бытом»: перед нами
Толстой-мыслитель, Толстой-бунтарь, не желающий идти ни на какие
компромиссы с собственной совестью и убеждениями.
Параллельно развитию основного содержания в повести
рассказывается легенда (или сага) о старом волке, собравшемся
умирать. Вот ее начало: «По глухому осеннему лесу пробирается
старый, матерый волк. Судя по всему, за свою волчью жизнь он
познал все. И молодость была, и стая, в которой он
главенствовал, и красивые молодые волчицы. Были и охотники, и разбой,
и многочисленные раны. Все это, однако, ушло. Теперь он идет
по лесу один. Он не водит уже носом по ветру, не вострит уши
при каждом шорохе. Он уже совсем стар, ему уже ничего не
хочется. Ему бы все лежать да подремывать, но что поделаешь,
такова жизнь. И в ту ночь, когда ему слаще всего дремалось,
какие-то высшие силы — голос судьбы, голос рока — разбудили
его и сказали: пора, пробил час. И он подчинился. Он тут же
встал и пошел на север — в свой самый трудный, в свой
последний путь»1. Он знал, что именно в это время «вместе с холодами,
вместе с опадающей желтой листвой приходит время охоты на
волков», и понимал, что это будет последняя облава в его жизни.
«Оставался еще какой-то запас жизненных сил, и честность по
отношению к жизни требовала сначала израсходовать все силы
до конца и только потом принять небытие». И потому старый,
мудрый волк, минуя обходные пути, пошел напрямик,
вспоминая во время отдыха, когда он, как в детстве, грыз дубовую кору,
всю прожитую жизнь. Вспоминал прошлое до изнеможения, так,
что воспоминания перестали мучить его. «Теперь и в прошлом
так же, как в будущем, оставалась одна пустота». Нет, жить ему
все еще хотелось, но он, старый и мудрый, понимал, что «ничего
этого уже не было и быть не могло». Оставалось лишь одно —
достойно встретить свой последний час, умереть как подобает
настоящему волку, знающему цену жизни и смерти. А для того,
1 Здесь и далее текст повести цит. по: Друцэ И. Возвращение на круги своя.
М., 1974.
i:v7
чтобы ^достойно завершить свою длинную, трудную, тяжелую
и прекрасную жизнь», ему нужны были силы. Они нужны
особенно тому, кто испытал ту самую «великую усталость, без
которой ничто живое не может спокойно покинуть мир живых». И
вот наступил этот момент. «Волк прыгнул. Чувство отчаяния,
что ничего из прожитой жизни более не вернется; чувство страха,
что его найдут мертвым на скале и он станет пылью, ничем не
проявив своей последней воли; ощущение ловушки, точное
знание законов облавы; одиночество, жуткое одиночество последних
дней и эта пропасть, вдруг выросшая перед ним и таинственно
окутавшая себя ночными сумерками,— все это удивительно
сплелось в одно мгновение, в одно дыхание, в один прыжок. И он
прыгнул...»
Эта легенда — лишь символическое обозначение смысла
рассказанной Друцэ истории, которая много объемнее и богаче по
своему жизненному содержанию. Даже в том случае, если бы
вместо «старого, мудрого волка» было поставлено имя Толстого,
все равно это был бы только символический персонаж, каким,
например, представлен в «Облаках» Аристофана древнегреческий
философ Сократ. «Аристофан,— писал в этой связи Шеллинг,—
не воспроизводит личностей, но возвышает их до обобщения, т. е.
изображает лиц, отличных от самих себя»1. Греческому
сатирику достаточно было только имени Сократа, чтобы дать
разоблачительное изображение тогдашних демагогов-софистов, с
которыми реального Сократа не следует отождествлять (да и никто
из зрителей не додумался бы отождествить здесь вымышленное
и реальное). Что же касается Толстого в повести Друцэ, то это
обобщение совсем иного рода — не символическое, а
реалистическое, претендующее на историческую достоверность и
психологическую правду характера. Легенда о старом волке не более
чем поэтический лейтмотив к повести, в центре которой стоит
реалистический характер, дающий возможность своими
поступками и особенностями психологического склада поразмышлять
на темы, волнующие современного человека.
Кто-нибудь из читателей может спросить: а какое,
собственно, отношение имеют деятели прошлого, будь то Сократ или
Толстой, с их конкретной жизненной судьбой и исторически
конкретными проблемами, к нам, современникам, и могут ли они
ответить на интересующие нас вопросы? Конечно, прошлое
буквально (можно было бы оговориться — «к сожалению») никого и
ничему не учит, не научает в прямом смысле слова. Проигрывая
в своем сознании, воображении опыт «чужой» жизни — то ли
персонажей искусства, то ли реальных людей, близких и даль-
' Шеллинг. Философия искусства. М., 1966, с. 422.
I :\s
них, знакомых и незнакомых,— мы думаем и о себе, примеряем
их поступки и жизнь на себя. В школьный период жизни —
вообще для мало знающего или житейски неопытного человека —
такое, в сущности, сугубо подражательное отношение к
прошлому и чужому опыту, несомненно, полезно, даже необходимо. Но
это всего лишь первый, низший этаж общения с историей.
Важно как можно раньше уяснить для себя, что интерес к
прошлому всегда современен, ибо выступает как выражение
насущнейшей духовно-практической потребности личности,
поскольку она пытается осознать, почувствовать свою связь с
миром, с другими людьми в уникальных, исторически
беспрецедентных условиях и обстоятельствах собственной
жизнедеятельности. Это уже более высокий этаж восприятия истории,
взаимодействия с нею, когда человек вплотную подходит к вопросу:
история и мы, современники. Как верно заметил английский
историк и философ Р. Дж. Коллингвуд, «история находится в
теснейшей связи с практической жизнью», она может многое
сказать «людям о настоящем постольку, поскольку прошлое, ее
очевидный предмет, скрыто в настоящем и представляет собой
его часть, не сразу заметную для нетренированного глаза...»1.
Мыслящие, духовно развитые люди в прошлом и чужом опыте
находят ответ на свои сегодняшние нужды, заботы,- проблемы.
Нам предстоит подтвердить справедливость данного вывода на
примере Льва Толстого. Это будет тем более интересно и
убедительно, что Толстой — явление, может быть, наиболееч сложное
и противоречивое среди подобных ему в исторической практике.
И тут придется «учиться» у того, кто сам часто ошибался, чья
долгая и насыщенная событиями жизнь знает множество
порогов, перепадов, подводных камней и водоворотов.
Действительно, произведения и мировоззрение его полны
кричащих противоречий, а многие сделанные им выводы
несостоятельны, ошибочны или явно вредны, реакционны. Но
оригинальность и жизненная сила наследия Толстого, художника и
мыслителя, заключается не в конечных выводах его учения,
вообще не в его излюбленных идеях. В этом отношении он,
скажем словами В. И. Ленина, «не сказал ничего такого, что не
было бы задолго до него сказано...»2. Однако не кто-либо другой, а
именно он был выделен из блестящей плеяды писателей того
времени и заслужил редчайшую оценку-определение — быть
«зеркалом русской революции». С такой полнотой и цельностью
отразилась в его творчестве предреволюционная эпоха, вобрав в
себя все существенные противоречия и коллизии общественной
1 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980, с. 383.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 40.
1.4!)
жизни, еще при жизни Толстого достигшей предельной «точки
кипения». «...Противоречия во взглядах и учениях Толстого,—
писал Ленин,— не случайность, а выражение тех
противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь
последней трети XIX века»1.
Уже за одно умение жить проблемами своего века, общества,
народа, пропуская их через себя, мучаясь тем, что касается не
тебя лично, а других, причем не твоих близких и знакомых, но
миллионов «дальних»— крестьян и рабочих, страдающих от
несправедливости, нищеты и невежества,— за одно это Толстой
достоин самого пристального внимания. И сейчас такое свойство
личности остается не столь уж распространенным, крайне
необходимым, если не принимать всерьез разного рода кажимости,
которые мало кого могут согреть и создают лишь иллюзию
сопричастности. Мало кто ныне из слоя так называемой творческой
интеллигенции выдержит сопоставление с Толстым (не по
художественному дару — он дается, как известно «свыше», от
природы) по мощи общественного темперамента, по силе и
настойчивости «вгрызания» в толщу гражданской проблематики и
личного воздействия на исторический процесс. Дерзостная отвага, с
какой он брался за распутывание и разрешение самых сложных
задач и вопросов — социальных, философских, нравственных,
религиозных, эстетических, психолого-педагогических,—
поистине удивительна (в нынешнее время узкой специализации
подобную отвагу и решимость сочли бы всеядностью,
нескромностью, а то, глядишь, обозвали бы «леонардовинчизмом»).
Оценивая человеческие качества Толстого, об этом хорошо
сказал М. Горький: «Несмотря на однообразие проповеди
своей,— безгранично разнообразен этот сказочный человек»2. В
самом деле, до этого графа в русской литературе не было
подлинного мужика (поразившая Горького ленинская мысль), хотя
многие до Толстого и одновременно с ним обращались к теме
«простого люда». Ни один народник не мог бы сравниться с
владельцем Ясной Поляны в увлечении «хождением в народ», а
между тем народником Толстой никогда не был и не собирался им
стать. Не революционер по своим убеждениям и действиям,
настойчивый пропагандист «непротивления злу насилием», он
объективно, своей жизнью, творчеством и поступками
способствовал усилению революционного процесса в России, росту
недовольства существующим порядком, являл собою пример
неукротимого и непримиримого «противленца», активного борца
против «всех и всяческих зол», против правительства и церкви. И
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 210.
2 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 14, с. 276.
ПО
потому всегда будет интересовать, волновать людей жизненный
путь великого писателя, завершенный трагическим актом ухода
из дома, где прошла его творческая жизнь. В таком жизненном
финале, как в фокусе, выступила вся его «богоборческая»
натура, ставшая волей потребность до конца реализовать свою
жизненную позицию. По словам Горького, этот «непротивленец»
любил высказывание Ч. Диккенса: «Нам дана жизнь с
непременным условием храбро защищать ее до последней минуты»1.
Далеко не каждому удается прожить свою жизнь до конца —
не физического конца, который именуется смертью и никого не
минует, настигая каждого в «свой срок», неведомый никому
заранее. Имеется в виду и нечто иное, чем фиксируемое здравым
смыслом неписаное правило: когда человек перешел границу
среднего возраста жизни, «добрался» до пожилых или
преклонных лет, сполна изведав детство, молодость и зрелость,
считается, что жизнь свою он прожил полностью. Нет, речь идет о том,
чтобы прожить жизнь до конца в собственно человеческом
смысле, то есть реализовать себя в наиболее полной мере, в
соответствии со своими убеждениями и устремлениями, когда
индивидуальность, личностное начало успели не только заявить о себе,
но и деятельно, предметно-практически воплотиться в творениях
мысли и рук, в поступках, в образе жизни. Тут дело не в
количестве прожитых лет. Ведь одному и целой жизни не хватит, чтобы,
оглядываясь назад, иметь право сказать, что прожита она не зря.
Другому достаточно 25 лет, чтобы стать Добролюбовым, 27
—чтобы быть Лермонтовым, в 35 лет умереть Моцартом, а в 37—
Пушкиным. Горько сожалея, как мало лет прожили Аркадий Гайдар
или Василий Шукшин, мы знаем, что как личности они
состоялись и то, ради чего человек появляется на свете, они
свершили. Они продолжают жить не только в памяти, как
принято говорить в таких случаях. Они живутвполне предметно — в
созданном каждым из них уникальном мире образов, мыслей,
чувств, которые остаются и после физической смерти их творцов.
Жизненный путь Толстого представляет собой поистине
счастливое совпадение природного (биологического) и
духовного, собственно человеческого (общественного) цикла развития
личности, когда пик приходится как раз «под занавес» ее
физического бытия. Читая дневниковые записи писателя,
воспоминания друзей и знакомых о последних годах его жизни,
перечитывая произведения, написанные им в этот период, убеждаешься,
что в творческом и мыслительном отношении нет и намека на
преклонный возраст и состояние. Ничего старчески немощного
в отношении к делу, привычным занятиям, все та же неутолимая
1 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 14, с. 269.
141
потребность в разнообразной деятельности, разве что труднее
стало даваться все то, что требует физических усилий, телесного
напряжения (однако вот и на коне, своем любимом Делире,
восьмидесятилетний Толстой сидит все так же ловко, как в
молодости). В духовном отношении — полная свобода и ясность
суждений, раскрепощенность перед лицом изменений в
действительности, готовность принять, во всяком случае внимательно
и непредвзято рассмотреть, попытаться понять любые перемены,
новшества, вплоть до моды.
В свое время Г. В. Плеханов, имея в виду
мировоззренческую эволюцию Толстого, называл его «слишком живым
человеком», чтобы опасаться, как бы он не отвернулся от реальной
действительности и не ушел в «мертвую страну квиетизма»1, не
попал в плен духовного благополучия, пассивности, смирения. И
потому нет ничего странного или неожиданного, несмотря на
несколько эпатирующую форму, в факте ухода Толстого из
Ясной Поляны. Напротив, это вполне закономерное, логичное
проявление бескомпромиссности его натуры, та «последняя
точка», которую он, может быть, всю жизнь готовился поставить,
думая о завершений своей гражданской, общественной,
литературной и семейной биографии.
Оставаясь до конца своих дней оптимистом, чуждым веры во
всякого рода загробные чудеса и превращения, Толстой всю
сознательную жизнь серьезно относился к теме смерти, считая
признаком мировоззренческой трусости и проявлением духовной
скудости боязнь о ней размышлять, говорить и писать. Ведь
смерть есть не просто прекращение жизни, ее финальная точка,
она активно участвует в жизни в качестве духовного, идеального
фактора, который человеком так или иначе учитывается.
Человек отличается от животного и тем, что осознает свою
смертность. А для личности, остро чувствующей и
переживающей свое индивидуальное бытие (в силу развитой способности
к рефлексии, которая у многих, увы, подменена элементарной
реактивностью), драматическое ощущение конца этого бытия
совершенно естественно. Лев Толстой, по наблюдению Горького,
пристально всматривался в смерть, как художник и мыслитель,
относился к ней философски (вспомним помимо рассказа «Три
смерти» и повести «Смерть Ивана Ильича» рассуждения Андрея
Болконского о смерти накануне Бородина в «Войне и мире»).
Слушая любимого Шопена в исполнении Гольденвейзера,
Толстой в повести Друцэ в минуты высочайшего духовного
подъема, навеянного музыкой, размышляет: «Как удивительно
умирал Сократ! Он говорил своим ученикам, что ему неведомо,
1 Плеханов Г. В. Искусство и литература. М., 1948, с. 674.
I VI
что будет после его смерти. Сам вымылся, чтобы не заставить
другого человека омывать его тело. Очень трогательно. Сегодня
я тоже весь день думаю о своих похоронах. Хотелось бы скромно
и достойно покинуть этот мир и вернуться в свою родную глину,
из которой все мы созданы, вернуться в вечный покой, вернуться
на круги своя».
Вряд ли можно согласиться с доводом Эпикура: коль скоро
человек со смертью «не встречается», она для него реально не
существует и потому ее нечего бояться. Это верно лишь
постольку, поскольку хотят освободить человека от страха перед
смертью, а последнюю сводят, как толковал ее Эпикур, к новому,
бесчувственному состоянию тела. Но явление смерти человека
как существа общественного много содержательнее и
«вариативнее». Человек встречается со смертью нередко при жизни,
ибо смертей у человека бывает (точнее, может быть) несколько.
Есть смерть биологическая, чисто физическая, означающая
естественное завершение жизни любого живого существа,
«абстрактное отрицание единичности»1. С этим значением
и связывают обычно люди слово «смерть». Но бывает еще смерть
гражданская, общественная, часто наступающая раньше смерти
физической, еще при жизни индивида, что так подробно
и впечатляюще описал Толстой в «Смерти Ивана. Ильича».
Человек перестает жить как человек, как существо
общественное: прекращает сколько-нибудь сознательное,
целеустремленное и активное участие в жизни общества, снимает с себя
ответственность за происходящее вокруг, в мире. Опя'ть-таки,
уточним, имеется в виду не смерть от старости, то есть состояние
бессилия, убыли, наступающее как неизбежное следствие
усталости. Явный признак такого состояния — превращение
жизни «в лишенную процесса привычку...»2. Когда говорят, что
кто-то «впал в детство» на старости лет, то это —
сострадательное обозначение сути свершающейся, протекающей на наших
глазах трагедии умирания. Совсем иное дело — зрелище распада
личности, сохранившей основные биологические функции
деятельности своего организма, вполне здорового физически
и совершенно безжизненного, «мертвого» в общественном
и духовном смысле, утратившего все существенные связи
с социальным миром. Встретиться лицом к лицу с таким
феноменом есть событие гораздо более мучительное, более
страшное, чем участие в обряде гражданской панихиды. «Вынос
духа» при живом теле поражает своей противоестественностью,
нечеловеческой сутью и вызывает у окружающих совсем иные
1 См.: Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1977, т. 3, с. 80.
2 Там же, т. 2, с. 575.
I '..'>
чувства, чем гибель человека, настигнутого смертью в момент,
когда он общественно и духовно жив, действен и развивается.
Понятно, почему Толстого всегда тяготило, порой даже бесило
сознание того, насколько зависим дух от тела, следуя за
последним беспомощно и жалко. Когда же духовное начало
перестает быть движением воли и поступков, человека
справедливо именуют «живым трупом».
Бывает еще смерть предметная. Человеку органически
присуща потребность в деятельности, стремление оставить
в жизни свой след, чем-то обогатить, двинуть вперед
общечеловеческое достояние — культуру. Не в утешение, а точно отражая
суть дела, говорят, что человек может долго жить после
физической смерти в созданных им предметах материальной
и духовной культуры, запечатлевших в себе чувства,
переживания, мысли, вкусы целых поколений и отдельных личностей
и тем самым как бы продлевающих их бытие. Связь между
человеком и предметным миром, создаваемым его деятельностью
(предметом которой, заметим, может стать любое явление или
занятие большего или меньшего общественного значения), имеет
свою коварную сторону: утрата предметно-практического
отношения к действительности делает жизнь индивида
бессодержательной и бессмысленной. Наступает предметная смерть —
явление драматическое, настигающее людей зачастую
независимо от воли и вопреки их желанию. Это наглядно просматривается
там, где занятие, дело человека жестко обусловлено возрастом,
биологическими возможностями организма. Известно, например,
как рано, буквально в расцвете своего человеческого развития,
вынуждены покидать профессиональную деятельность
спортсмены, танцовщики, летчики-испытатели и пр. И далеко не все
из них находят себя вновь, то есть обретают новый,
удовлетворяющий их запросы и ожидания предмет деятельности, столь же
интересный, захватывающий, как и прежний.
Предметная исчерпанность, как правило, тяжело
сказывается на судьбе человека, характере его отношений с миром, как
бы благополучно человек при этом ни выглядел внешне. Это
в полной мере относится и к тем, кто ушел на заслуженный
отдых, ибо право на отдых нельзя отождествлять с правом на
бездеятельность, которая, как ни страшно это прозвучит,
означает именно смерть — смерть предметную. Чтобы остаться
живым до конца, человек должен сохранить как можно дольше
предметную связь, деятельно, актуально выраженную, с
окружающей действительностью, с обществом, найдя соответствующую
замену той, которая им вынужденно утрачена. Другой
альтернативы в борьбе за жизнь «до конца» просто не существует.
Жизненная сила и обаяние личности Толстого, поразитель-
\\\
ная живучесть его натуры, не давшей ему умереть раньше срока,
отпущенного природой, заключены в богатстве и
общечеловеческой значимости его предметной связи с действительностью.
Предметом для Льва Толстого была отнюдь не только
литературная деятельность, в которой он раз и навсегда заявил себя
гениальным творцом несравненных художественных
произведений, и не сама по себе общественно полезная деятельность,
направленная на самые различные объекты и нужды людей.
Предметом, которым всю жизнь интересовался и занимался Лев
Толстой, был мир человеческий и человечество в целом. Именно
с этим предметом он ни на минуту не порывал связи всю свою
жизнь, буквально до последнего вздоха. И, видимо, не случайно
последними словами его были, как свидетельствуют те, кто
находился рядом с умирающим: «Только одно я прошу вас
помнить: на свете пропасть народа, кроме Льва Толстого, а вы
помните одного Льва»1.
Тут дело не в скромности и не в чувстве достоинства, которое
человек должен сохранять в любых обстоятельствах. Зная, что
когда-то наступит этот момент, Толстой хотел умереть так же
просто, спокойно, естественно, как делает это крестьянин,
обыкновенный мужик. Но это по «форме», а имеет ли смерть
смысл вообще и какой? Смерть, как и рождение нового существа,
имеет смысл только тогда, когда она выступает как момент
в эволюции человеческого рода, в соотнесении с поступательным
развитием человеческих творческих сил. Иной «системы
отсчета» здесь просто не существует, если, конечно, отбросить сказки
о загробной жизни. Для Толстого возможно и реально лишь одно
бессмертие — продолжить свою жизнь в сердцах и памяти
людей, обеспечив это результатами своей деятельности, нужной
и важной другим. Помнить о том, что «на свете пропасть
народа»,— совсем не случайная, как мы увидим дальше, фраза
в устах умирающего Толстого.
Уход Толстого и его последние дни — не смерть в обычном
смысле. Это финал, развязка длительной, продолжавшейся
многие годы, духовной драмы личности, мучительно и остро
переживающей разлад, противоречие между идеалом, в который
он верил и который сам проповедовал, и собственной жизнью.
Финал светлый, оптимистический при всей его трагичности.
Потому что он отвечал сокровенному и давнему желанию
Толстого — уйти из «барской» среды, от привычек и уклада
жизни, которые ему чужды.
1 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., 1955,
т. 2, с. 334.
10 .Чакн:1 Ш)3 145
Семейный конфликт с женой и детьми из-за завещания —
всего лишь первый план этой драмы. Ведь не только в романах
(в том числе и самого Толстого), но и в жизни семейные нелады,
противоречия и конфликты имеют истоки и причины
общественные, распознать и увидеть которые дано не каждому.
Повесть Друцэ начинается как семейная драма двух пожилых
людей, потерявших связь друг с другом, несмотря на все
старания и усилия, уже не способных понять друг друга. «Давай
сегодня проживем в мире, Сонечка»,— просит Толстой жену,
отвергая ее подчеркнутую заботу о нем. Ужас взаимного
отчуждения лаконично, выразительно передан периодически
возникающим однообразным диалогом: «Левочка, ты меня
звал?»— спрашивает Софья Андреевна. «Нет»,— отвечает Лев
Николаевич, вполне понимая, что творится в душе его жены,
обладающей, как он говорит, выдающейся, «дьявольской»
интуицией. Суть семейного конфликта в яснополянском доме
схвачена автором повести верно: никто не виноват, у каждого
«своя правда»; просто два близких человека давно уже живут
разным, о разном думают и беспокоятся. По Толстому, каждая
семья несчастлива по-своему, его собственная — тоже. Это
родные-чужие (чужие-родные) люди, которых многое связывает
и обязывает, но давно уже утеряна самая существенная нить, что
придает смысл всему остальному — семейным обязанностям,
чувству долга, привычкам, привязанностям. Осталась лишь
форма семьи, семейных отношений, и ушло, куда-то навсегда
улетучилось содержание, тот потаенный, сокровенный,
основанный на взаимном чувстве пласт отношений, который когда-то,
сорок восемь лет назад, эту семью образовал.
Что происходит с любовью в семье? Куда она с годами
исчезает? Почему со временем люди, чувствуя и зная друг друга
лучше, нередко охладевают, покрываются корой равнодушия,
а то и просто враждуют? Может быть, в данном случае
действительно роковую роль сыграло завещание, где Толстой ради
удешевления издания своих сочинений отказывался от
гонораров, что было воспринято женой и детьми как покушение на их
благополучие? Мотив серьезный, ибо Толстой жил, по словам
Горького, «на литературный заработок свой с кучей детей, хотя
и очень взрослых, но не умевших работать»1. Увы, Софья
Андреевна знала здесь «свою» правду, когда говорила, что
писатель должен быть обеспеченным человеком, чтобы
исполнить свое призвание. Но для Толстого забота членов семьи
о завещании была не более чем проявлением чувства алчности,
стремления продлить состояние «праздности» и «дармоедства»,
1 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 14, с. 312.
146
которое он так ненавидел... А, может быть, последней каплей
в чаше его терпения была постоянная, неусыпная слежка жены
за тем, что он написал в своем дневнике, который он вынужден
был прятать. Конечно, прятать не хорошо, но ведь «духовная
жизнь каждого человека,— мысленно укорял жену Лев
Николаевич,— есть тайна самого человека...». И потом — следить за
другим, стараясь проникнуть в это таинство, совсем плохо,
просто отвратительно.
Думается, причина разлада в яснополянском доме,
получившего столь драматическое завершение, лежит глубже, чем это
представлено в повести не только Друцэ, но и в монографии
В. Шкловского о Толстом и в ряде других публикаций, где
акцент сделан на семейном конфликте. Намного глуше, чем
протест Толстого против слежки жены, прозвучал в повести
«Возвращение на круги своя» другой мотив семейного
разлада — жена великого писателя, будучи хорошей хозяйкой
и матерью, активной помощницей в его литературных делах, не
пошла за ним в его духовном движении. Расхождение началось
еще в начале их семейной жизни, но тогда оно не
воспринималось так остро и болезненно, как теперь, на склоне лет.
Психология человеческих взаимоотношений такова, что редко
кто в первых, пока еле различимых трещинах духовного порядка
усмотрит опасность будущей драмы. К тому же Толстой
сознавал, что быть женой такого человека, как он, совсем не
легко и что требовать от Софьи Андреевны, учитывая ее
многочисленные обязанности по дому и семье, полного участия
в его духовных исканиях нельзя, нереально. Лев Николаевич
был душевно тонким и деликатным («тонкокожим»,
эмоционально отзывчивым, по словам Софьи Андреевны) человеком,
и не только в описании психологии других людей, но и в личных
взаимоотношениях с окружающими. Но трещинка,
обнаружившаяся между ним и женой на — как сказали бы ныне —
общественной почве, с годами увеличивалась, взаимное
непонимание разрасталось, превратившись в еле скрываемое
отчуждение.
В 1862 году — в первый год семейной жизни — в дневнике
Софьи Андреевны появляется симптоматичная запись: «Он мне
гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, т. е. я, пока
представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему
Л. Это эгоизм. Пускай». И далее: «Страшно с ним жить, вдруг
народ полюбит опять, а я пропала, потому и меня любит, как
любил школу, природу, народ, может быть, литературу свою...»1
«Жизнь наша врозь: я с детьми, он со своими идеями»— так
1 Толстая С. А. Дневники. В 2-х т. М., 1978, т. 1, с. 43-44.
позднее обозначит она «расстановку сил» в семье, факт ее
расколотости в духовном отношении, с годами все
усиливавшейся (две дочери взяли сторону отца, остальные дети — сторону
матери). Внутри семьи существовали как бы два образа жизни:
Софья Андреевна сохраняет все предметы, привычки,
«игрушки» помещичьего уклада, многие из которых раздражали Льва
Николаевича, тяготевшего к скромности, нетребовательности
в быту. В повести И. Друцэ эти несовпадения представлены
ярко, рельефно.
Мы застаем Толстого в одну из самых трудных минут его
жизни, когда ему «мучительно хочется одиночества». Ситуация
может захватить, как точно заметил Гегель, всю душу какого-то
характера, проявляющего в ней свою полную внутреннюю
природу1. В такого рода ситуации оказался Лев Толстой
в изображаемый период жизни. Решение уйти из Ясной Поляны
созревало давно, однажды он уже был готов совершить этот
поступок, но в последний момент пожалел жену, детей. Но вот —
после очередного посягательства Софьи Андреевны на его
духовную свободу — решение принято...
М. Горький, узнавший и наблюдавший Толстого именно
в последнее десятилетие его жизни, видимо, был близок к истине,
сказав о нем, что это был человек «всем чужой, одиноко
изъездивший все пустыни мысли в поисках всеобъемлющей
правды и не нашедший ее для себя...»2. Кроме того, Толстого
давно и непрерывно точила мысль: люди говорят одно, делают
другое, проповедуют один образ жизни, а сами живут другим.
В подобном раздвоении, в непоследовательности и
непринципиальности Толстой уличал и упрекал прежде всего себя и лишь
потом других. На собственном примере он попытался провести
в жизнь кантовский категорический императив: поступай всегда
так, как если бы правила, которыми ты руководствуешься
в своем поведении, могли стать нормами поведения для всех.
Уход из Ясной — отнюдь не уступка «толстовцам», докучавшим
ему своими требованиями подтвердить, так сказать, личным
примером абсолютную правоту проповедуемого им учения, и не
воплощение мысли принять «венец мученический», которая, по
мысли Горького, увлекала Толстого3. Этот поступок писателя,
принципиальный для понимания всего его жизненного пути,
имел глубокое нравственное основание. Задолго до своего
решения уйти из Ясной Лев Толстой записал в дневнике:
«Жизнь людей без нравственного усилия — не жизнь, а сон»4.
1 См.: Гегель. Эстетика. В 4-х т. Мм 1971, т. 3, с. 257.
2 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 14, с. 290.
3 См. там же, с. 282.
4 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 56, с. 89.
148
И вся жизнь самого Толстого слагалась из непрерывной цепи
совершаемых над собой нравственных усилий. Верность
избранному им этическому принципу проявилась и в этом последнем
поступке, к которому он так долго и серьезно готовился.
Вернемся к исходному пункту наших размышлений.
Общественное — и не рядовое, а выдающееся,
беспрецедентное — значение и ценность имеют не только результаты
творчества Толстого, но и сам он как личность, как
определенный человеческий характер. Личность (в подлинном смысле
слова) всегда несет в себе некий узел проблем, которые ставятся,
переживаются, осмысливаются индивидуально, но в сущности
своей являются всецело общественными. В свою очередь люди,
выдвигающие сколько-нибудь значительные жизненные
проблемы, выступают в качестве общественных характеров, то есть
проявляют себя в общественной среде как фактор, с которым
нельзя не считаться в социально-практическом или идейном
плане. В спорной мысли Л. Фейербаха — личность есть
понятие сугубо практическое, а не теоретическое'—есть свой
резон. В теории индивид безличностен, поскольку наука,
мышление на «лица не взирают», а на практике важно
установить, знать, что сделал именно данный человек и никто
другой. Толстой был смолоду заряжен импульсом проявить себя
личностно, индивидуально-значительно в любом начатом им
деле, во всех занятиях. И к концу своей жизни занял прочное,
только ему принадлежащее место в общественной жизни
и общественном сознании, став средоточием, живым
воплощением нерешенных и настоятельно требующих разрешения
жизненных проблем.
Толстой и революция. Толстой и крестьянство. Толстой
и православная церковь. Толстой и современное искусство...
Какую бы существенную сторону жизни того времени мы ни
затронули, какой бы более или менее значительной проблемы ни
коснулись, обязательно встретимся с именем и мыслью Льва
Толстого. Так, в очередной раз «натолкнувшись» на
вездесущего Толстого, император Николай II раздраженно заметил:
«В России не могут одновременно править два императора».
А его сатрапы, не на шутку перепуганные уходом Толстого,
стали подтягивать целые полки к станции Астапово, где
в комнате станционного начальника умирал великий писатель.
Спрашивается, мало или много значит один человек. И кто это
выдумал, что один человек есть «нуль» или «винтик» или что
«один в поле не воин»? Смотря какой человек, с какою идеей он
связан и какому делу служит.
1 См.: Фейербах Л. Собр. произв. В 3-х т. М., 1967, т. 2, с. 253.
Ш
Личность Толстого, как бы сотканную из множества
противоречий, неуемную в своих требованиях к
действительности и собственной жизни, бесстрашную в стремлении «дойти до
корня» и найти истинную причину существования зла,
несправедливости, точно и емко характеризует понятие
«проблематичные характеры», принадлежащее Гете. Толстой
проблематичен и в своей правде («рассудке») и в своих заблуждениях
(«предрассудках»). Эти последние следует рассматривать, по
словам В. И. Ленина, «не как индивидуальное нечто, не как
каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни,
в которых действительно находились миллионы и миллионы
в течение известного времени»1.
Чтобы понять сложный, «трудный» характер Толстого и по
достоинству оценить проблематичность его мучительных
поисков и раздумий, надо увидеть тот живой центр, который
группировал, объединял, подчинял себе все, что он делал
и создал на протяжении долгих лет. Об этом хорошо сказано
в работе В. Ф. Асмуса «Мировоззрение Толстого»: «Чем бы ни
занимался Толстой, что бы он ни изображал в своих романах,
пьесах, рассказах, какие бы трактаты он ни писал, — во всех них
он пытался уяснить себе один вопрос, который представлялся
ему самым важным вопросом истории . Это вопрос о том, в каком
направлении идет перестройка русской жизни, начавшаяся
с освобождения крестьян в 1861 году и представлявшая процесс
развития капитализма в России — не только в России городской,
России рабочих, фабрикантов и купцов, но также и прежде
всего — в России деревенской, крестьянской. Толстого занимал
не только вопрос о том, в каком направлении идет развитие, как
«укладывается» новый строй, но также и вопрос о том, каким
должно быть отношение к этому процессу его участников
и свидетелей»2. Таков социальный и идейный стержень
миросозерцания, характера и поведения Толстого, который
сообщает действиям личности общественный смысл и делает ее
цельной, несмотря на всю противоречивость ее конкретных
проявлений.
Когда Барон в пьесе Горького «На дне» жалуется, что у него,
«кажется, нет характера», Сатин говорит ему: «Заведи. Вещь —
полезная...»3 Характер как носитель и признак устойчивой
определенности индивида есть принципиальность, то есть
«способность действовать по принципам». Именно характер
обеспечивает и гарантирует согласие человека с самим собою во
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 103.
2 Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969, с. 41.
3 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 6, с. 168.
150
всех свершаемых им действиях, поступках. Без характера
немыслима моральная культура поведения и образа жизни
личности. Но значение и ценность характера зависят от целей
и задач, которые личность сама себе ставит. Характер может
быть твердым, но, увы, мелким и даже ничтожным. Там, где,
согласно Гегелю, воля цепляется только за мелочи, только за
нечто бессодержательное, там она превращается в упрямство1.
Характер не дается человеку от природы, от рождения, как,
скажем, темперамент, а вырабатывается в процессе
формирования и воспитания личности. Характер, согласно Толстому, «есть
последствие предшествующей жизни». Изменения в нем
«производятся... не рассуждением, не борьбой, не опытом, не средой,
не любовью, но всем этим вместе. Отрицать что-либо из этого
значит отрицать жизнь, одну из сторон жизни»2. Человеческий
характер вбирает в себя весь многообразный социальный,
нравственный, духовный процесс жизни личности, является
кристаллизацией и психологическим гарантом целостности ее
бытия. («...Утверждение же характера есть абсолютное единство
внутреннего принципа образа жизни вообще»3.)
Лев Толстой может служить примером талантливого
осуществления себя как личности, продуманной и
целеустремленной выделки собственного характера. К нему полностью
применимо гегелевское определение человека с* настоящим
характером — того, «кто ставит себе существенно
содержательные цели и твердо придерживается этих целей, так что его
индивидуальность перестала бы существовать, если бы он
вынужден был отказаться от них»4.
Человек может быть углублен в суть дела, которым занят
и которому служит по своему выбору, или, напротив, увлечен
собственной персоной, пестованием и ублажением личного «Я».
У общественно развитого человека интерес к собственной
личности, забота о развитии своей индивидуальности всегда
оказывается вторичным, производным. И дело тут отнюдь не
в равнодушии или безразличии к личным запросам и
потребностям (подобная крайность отнюдь не свидетельствует о
скромности или тем более о коллективистской сущности индивида),
а в стремлении и умении находить источники своего
повседневного поведения в целях и задачах, которые несут в себе нечто
всеобщее, человечески и общественно значимое. Соотношение
общественных и личных мотивов поведения — весьма важный
1 См.: Гегель. Энциклопедия философских наук, т. 3, с. 77.
2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 52, с. 124-125.
3 Кант И. Соч. В 6-ти т., т. 6, с. 544.
4. Гегель. Эстетика. В 4-х т. М., 1968, т. 1, с. 73.
151
показатель морального характера человека. Скажем, тщеславие
и даже желание «сделать карьеру» правомерно,
непредосудительно с нравственной точки зрения лишь пока мотив этот,
обычно тщательно маскируемый, не становится доминантой,
основным принципом поведения, деятельности. В своей
повседневной практике люди то и дело смешивают общественное
и личное, но одни почему-то всегда в пользу общества, а
другие — в собственную.
Врача С. Я. Елпатьевского поразило духовное состояние
и поведение Толстого в последние дни его жизни: «...за всю мою
долгую медицинскую жизнь я не запомню ни одного случая, где
бы так думали в то самое время, как подходила смерть, думали не
о детях, не об неустроенных делах, не о не снятых с совести
камнях, а об общем, о дальнем, о том, что не касалось личной
жизни, ближней жизни»1. Проблематичная натура Толстого
поражает приверженностью идее и чувству служения людям,
народу и человечеству, которая стала для него, используем
выражение Гегеля, «духом внутренного убеждения»2,
пронизывающим все его действия, поступки, размышления. Но об этом,
пожалуй, никто лучше его самого не сказал: «Мыслитель
и художник никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских
высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник
должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение
или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда
вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало
бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение,
а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил
и не сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет. И
потому страдание и самоотвержение всегда будут уделом мыслителя
и художника»3. Эта установка — социально-психологическая,
поведенческая — внутренний светоносный и плодоносный
источник всех мучительных поисков Толстым жизненной
позиции, всех его побуждений, устремлений, метаний, подчас
взаимоотрицающих друг друга поступков и действий. Она-то
и характеризует его как интеллигента в полном смысле слова.
Проблематичность толстовского характера имеет и
познавательный аспект проявления. К высшим наслаждениям своего
бытия Толстой относил редкие моменты, когда «истина
проходила» через него (истина, открытая самим, а не усвоенная
или присвоенная чужая), венчая трудный путь исследования.
Все знавшие его близко отмечают страсть Толстого к постановке
1 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 142.
2 См.: Гегель. Эстетика. В 4-х т., т. 4, с. 181.
3 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 25, с. 373.
152
фундаментальных вопросов человеческого бытия, прямоту
и бесстрашие в обнажении самых горячих, «больных» проблем
реальной действительности.
Обычно подчеркивают ту несомненную слабость в
мировоззренческой позиции Толстого, что он оперировал
«абсолютными», «вечными» понятиями нравственного и религиозного
опыта человечества, пытаясь объяснить ими современную ему
жизнь и современного человека. Но при этом упускают из виду то
немаловажное достоинство его позиции, что эти «вечные
вопросы» он ставил как современные и по-современному.
Оценивая толстовские ответы, действительно очень уязвимые
и часто неверные, недооценивают вопросы, которыми он
буквально жил. «Детские минуты недоумения», как он их
называл, когда возникали бесконечные «зачем», «почему», «ну,
а что потом», привели Льва Толстого к главному нравственному
вопросу — о смысле жизни, который неотступно сопровождал
его до самой смерти.
Многие ли сегодня задаются вопросами, которые привлекали
Толстого своим всеобщим, всечеловеческим смыслом, и
мучаются в поисках ответа на них? Много ли таких, кто не просто
существует, живет, как «живут», например, трава или муравей,
неугомонный в суете и заботах, но и «замечает» свое
существование, думает о жизни вообще и о своей собственной? Конечно,
«вечные вопросы» человеческого бытия современному человеку
(обязательно где-то учившемуся и чему-то научившемуся)
в чисто познавательном значении могут быть хорошо 'известны
и кто-то, вполне допустимо, даже ответит на них не хуже самого
Толстого, в них запутавшегося. Но далеко не все, как точно
заметил исследователь мировоззрения Толстого И. И.
Виноградов, делают эти вопросы и поиски ответа на них непреложностя-
ми своей собственной жизни, как это сделал Толстой. А есть
много и таких, которые «только и твердят что о духовности, они
клянутся нравственностью на всех перекрестках, они пишут об
этом изящные статьи и солидные диссертации, они припадают
к «святыням» и даже порой лобызают крестик, тщательно
спрятанный подальше от любопытных глаз где-нибудь в заднем
брючном кармане... Но присмотритесь: это духовность, от
которой так и разит запахом жареного пирога, вожделенно
пожираемого этими апостолами нравственных святынь. Это
личина, маска, напяленная на жадную, трусливую, жирную
утробу, это разменная монета, расчетливо бросаемая в оборот при
всякой выгодной для этого ситуации, это пыль в глаза, пускаемая
самолюбивым ничтожеством, желающим выглядеть
человеческой значительностью. Нет, только реальная жизнь, только
реальное действие есть сфера действительного бытия человече-
1 Г).Ч
ской духовности, человеческой нравственности, и нравственная
истина только тогда есть действительная истина, когда она
воплощена и явлена самой жизнью. Все остальное — лицемерие,
фальшь или жалкие потуги на духовность, в какие бы красивые
и умные слова эти потуги и фальшь ни рядились»1.
Нравственные поиски и раздумья Толстого — это в то же
время гигантская лаборатория, опыт мышления, бьющегося над
разгадкой современности, которую он пытался осмыслить.
Знание современности не было для него набором готовых чужих
истин, которые надо только освоить и усвоить, чтобы считать
себя человеком знающим (последнее в лучшем случае
осведомленность, информированность). Знание состоит не только из
ответов, но и из вопросов, предполагает умение их ставить
и решать самостоятельно, когда сам вопрос есть результат
активного, заинтересованного отношения человека к
действительности. Все сколько-нибудь достойные внимания учения,
концепции и доктрины суть ответы на вопросы, которые их
авторы задают сами себе. В этом плане Толстой был мудрее
многих тогдашних (и нынешних) философов, теоретиков,
считающих, что человечество решает испокон веков одни и те же
вопросы, давая на них устами своих мыслителей различные
ответы. Но суть дела в том, что вопросы разные, а ответ, каким бы
верным он ни был, остается все-таки относительной истиной,
нуждающейся в развитии, дальнейшем исследовании.
Теперь, когда достаточно прояснен смысл толстовских
«ответов», изучены их сильные и слабые стороны, можно по
достоинству оценить его замечательное умение ставить вопросы
и драгоценнейшее, редчайшее даже для научного мира умение не
удовлетворяться полученным ответом. «В вопросах он был
беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому»2,—
писал М. Горький. И при этом он переживал искренне, глубоко,
мучительно то, что составляло человеческую суть вопросов. Беда
Толстого, как и многих других «пророков», начиная с Сократа,
состояла в том, что поклонники его уже при жизни разносили
«ответы» Толстого как непреложные истины, в то время как он
снова и снова возвращался к тем же самым вопросам, снова
ставил их и искал нового их разрешения3. Примечательна
особенность толстовского мышления: с одной стороны, страстное
желание помочь людям разобраться в сложных вопросах бытия,
вплоть до формулирования конкретных рекомендаций, советов,
1 Виноградов И. И. Критический анализ религиозно-философских
взглядов Л. Н. Толстого. Мм 1981, с. 18-19.
2 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 14, с. 287.
3 См.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 10.
154
заключений, а с другой — неусыпная роевая работа «червя
сомнения», изнутри снимающего любые претензии на
абсолютность любой самой убедительной истины. В повести Друцэ
Толстой называет этого скрытого от внешнего взора двойника
своим " «внутренним голосом», который был его великим
помощником, не ведавшим покоя, не признававшим никаких
норм, никаких пределов. На всю жизнь запомнил и полюбил
Толстой изречение: «У кого большой ум, тому надо еще больше
ума, чтобы управлять этим умом»1. Всячески дисциплинируя
и контролируя работу своего ума, Толстой тем не менее «часто
ошибался», как правильно заметил Р. Роллан. Но если
самокритичность не гарантирует от ошибок, то от самодовольства,
умеющего спорить с другими, но не с собою, открытия истины
ждать и вовсе не приходится.
Толстой не любил ходить по прочищенным, протоптанным
дорожкам: любил бродить по полю, по лесу, по снегу, куда глаза
глядят. Так и в познании — выбирал вопросы потруднее,
позаковыристее, ставил их, не облегчая заранее поиска ответа на
них, и, уважая чужую мысль, не полагался на авторитеты,
стремясь до всего дойти собственным умом и размышлением.
Может быть, иногда он и казался кому-то человеком «решенных*
вопросов», но нормой его повседневного бытия была воспитанная
и развитая с молодых лет привычка думать, мыслить
самостоятельно, подвергая все сомнению и проверке. Эта привычка,
соединенная с излюбленной идеей служения народу,
человечеству, обладала огромной притягательной и взрывчатой силой.
В то время, когда завершал свой жизненный путь «последний
из могикан» предреволюционной, предсоциалистической
России, мучительно искал свое место в общественной жизни
и борьбе другой выдающийся русский художник и
интеллигент — Александр Блок. Для него все, что делал в то время
Толстой, было как бы завещанием уходящего века новому,
грядущему. Не без мощного влияния Толстого поэт понял
главный порок и беду модных тогда символистов и мистиков,
которые плюют на «проклятые вопросы». «Им нипочем, что
столько нищих, что земля круглая. Они под крылышком
собственного «я»2. Не только творчеством, но и образом жизни,
позицией своей Толстой противостоял мутному всеразъедающе-
му потоку декадентства и отступничества в искусстве и
общественном движении.
Следуя за материалом и логикой повести «Возвращение на
круги своя», мы говорили о Толстом как о состоявшейся
1 См.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 215.
2 Блок А. Записные книжки 1901-1920. М., 1965, с. 94.
155
в истории личности, о таком Толстом, каким его теперь все
знают. Однако в книге, имеющей целью ответить на вопрос,
«с чего начинается личность», надо сказать и о том, что чудо
феномена Толстого имеет свою жизненную предысторию
и историю. На некоторых моментах последней имеет смысл
остановиться подробнее.
ЛИЧНОСТЬ:
ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПОЗИЦИЯ
...Социальная эволюция значительно выиграла бы
в быстроте и гуманности, а люди стали бы более
оригинальны, если бы они меньше учили и больше
учились.
М. ГОРЬКИЙ
...Жизнь не бывает несовершенной, если прожита
честно. Где бы ты ни прервал ее, она вся позади,
лишь бы хорошо ее прервать.
СЕНЕКА
Внешне жизнь Льва Толстого сложилась и выглядит вполне
благополучно. Блестящий офицер, владелец прекрасного
имения-усадьбы, живет в достатке, женится на красивой и умной
женщине, подарившей ему нескольких детей, его литературное
творчество сразу же получило признание. Правда, со временем
эту идиллическую картину нарушили события иного рода: ссора
с правительством, скандальный разрыв с церковью, нелады,
вылившиеся под конец в открытый конфликт, с семьей. Но кто
в тогдашней России прожил спокойную, безмятежно-счастливую
жизнь — Пушкин, Лермонтов, Чернышевский, Достоевский,
Щедрин, Гаршин?..
Есть, однако, в жизни людей не только биография с датами,
событиями, делами, но и скрытая от внешнего взора, подспудная
сторона — то самое «таинство духовной жизни личности»,
которую защищал от посягательств извне Толстой. Это не какая-
то другая, отличная от известной биографии жизнь, а та же
самая, но понятая как бы изнутри, исходя из потребностей,
побуждений, интересов, установок, целей самой развивающейся
личности человека. И тогда биография — не что иное, как
«внешние результаты подземного роста души»1, того, что
называют внутренним миром человека, то есть усвоенная
и трансформированная им самим вся совокупность социальных
1 Блок А. Собр. соч. В 8-ми т., т. 5, с. 369-370.
156
отношений и влияний, как они отложились в его сознании
и поведении. Говоря иначе, это устойчивая духовная структура
личности, выражение индивидуальности и неповторимости
человека как существа общественного,
культурно-исторического. В изучении личности, великой или обыкновенной — не
важно, одной социологией не обойтись, необходим союз
социологии с психологией и историей, необходим философский
подход. И категорией, позволяющей дать целостную
характеристику личности как общественного феномена, является понятие
«образ жизни».
Образ жизни как социально-философское понятие отбирает
в многообразии качеств и свойств, присущих данной личности,
лишь социально устойчивое, социально типичное, характеризуя
общественное содержание ее индивидуальности, раскрывая
человека, стиль его поведения, потребности, предпочтения,
интересы, вкусы не со стороны его психологических
особенностей, отличающих его от других людей, а со стороны тех свойств
и черт его личности, которые заданы самим фактом его
существования в определенном обществе. Но если под
индивидуальностью подразумевается не особенность внешнего облика или
манеры поведения человека, а уникальная форма
существования и неповторимого проявления общего в жизнедеятельности
личности, то индивидуальное есть тоже социальное. Как писал
К. Маркс, «способ существования индивидуальной жизни
бывает либо более особенным, либо более всеобщим проявлением
родовой жизни...»1. Поэтому образ жизни личности выступает
как глубоко индивидуализированная взаимосвязь объективного
положения человека в обществе с его внутренним миром, то есть
представляет своеобразное единство социально типизированного
(унифицированного) и индивидуального (уникального) в
поведении, общении, мышлении и бытовом укладе людей. Учитывая
все это, вряд ли кто скажет, что описание и объяснение жизни
личности легче, проще описания и объяснения жизни целого
общества. Прожитая Толстым жизнь как будто специально
«придумана» историей для того, чтобы подтвердить
справедливость этого суждения.
На пороге своего 30-летия Лев Толстой испытал чувство
глубокого недовольства собой, своей жизнью, хотя видимых
причин для этого не было, скорее, напротив, были все основания
для удовлетворения прежде веего своими успехами в
литературной деятельности. Подружившийся с Толстым и узнавший
его поближе И. С. Тургенев очень лестно отзывался о нем
в письмах к друзьям: «Этот человек пойдет далеко и оставит за
'•• Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 119.
157
собой глубокий след... Он работает прилежно — и должно
думать, что из него выйдет большой человек»1. А вот признание
самого Толстого совсем иного рода. Оно звучит как предвестник
серьезных перемен в его жизни: «Вчера ночью мучило меня
вдруг пришедшее сомнение во всем... Оно сидит во мне. Зачем?
И что я такое? Не раз уже мне казалось, что я решаю эти
вопросы; но нет, я их не закрепил жизнью»2.
Стремление зажить иначе, чем жил до сих пор, не быть
«пустяшным малым», развить свои способности и познание —
давнее умонастроение молодого Толстого, испробовавшего
в жизни, кажется, все, что было ему доступно: периоды
аскетизма сменялись кутежами, охотой, безалаберной, без
определенных занятий и целей жизнью, которая, признавался
Толстой себе, ему нравилась.
Обычно молодость вспоминают с благодарностью, с чувством
светлым, как самую интересную и запоминающуюся полосу
жизни, напрочь забывая обо всем, что было в ней плохого,
тяжкого, неудачного. У Толстого не так. По его собственным
словам, он только где-то около 50 лет и начал жить в согласии
с самим собой, со своим разумом, убеждениями. А о молодости,
проведенной им весело, бурно, безмятежно, вспоминал, терзаясь
угрызениями совести, как о чем-то беспутном, несерьезном
и ненастоящем. Более всего он ценил в прошлом стремление
преодолеть беспутный образ жизни... Уже тогда он понял, что
одних умственных, интеллектуальных усилий недостаточно,
чтобы измениться по-настоящему. «...Умозрением и философией
жить нельзя,— писал 20-летний Толстой брату,— а надо жить
положительно, т. е. быть практическим человеком»3.
Что это значит — быть практичным человеком? Через десять
лет Толстой ответит на этот вопрос в духе добропорядочного
дворянина: главное — литературные труды, потом — семейные
обязанности, потом — хозяйство. Чередуя эти обязанности, вот
так и жить «для себя — по доброму делу в день и довольно»4.
А добрые дела всегда найдутся: например, «завести у себя школу
в деревне для всего околотка» или заниматься навозом,
лошадьми, мужиками. Многим казалось все это блажью,
чудачеством. «...Зачем гениальному романисту необходимо
пахать землю, класть печи, тачать сапоги,— этого не
понимали многие, весьма крупные современники Толстого»6,— писал
Островский А. Молодой Толстой в записях современников. Л., 1929, с. 282.
2 Там же, с. 284.
3 Там же, с. 129.
4 Там же, с. 296.
5 Там же, с. 291.
6 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 14, с. 308.
158
много лет спустя М. Горький. Между тем зревшая в душе
потребность быть полезным людям всюду, где только можно,
подсказывает Толстому решение-вывод, которому он был верен
всю жизнь: не важно, чем конкретно ты занимаешься, кем ты
будешь — литератором, учителем, чиновником, деловым
человеком, а важно найти для себя и вложить в свою деятельность
полезную для человечества цель. И чтобы ты был полезен, нужен
людям не формально, не только по долгу службы, но и потому,
что в достижении этой цели увидел назначение своей личности,
своей жизни. А для этого мало быть идейным человеком,
выработать у себя соответствующее миросозерцание, необходимо
«закрепить жизнью» дорогие тебе цели и идеалы.
Иначе говоря, мировоззрение личности приобретает
общественно-практическое и полноценное в нравственном плане
значение постольку, поскольку оно стало образом жизни
человека. Можно придерживаться самых передовых идей
и взглядов, учений и доктрин, искренне считать их истинными
и прогрессивными, но этого мало, чтобы стать идейным
человеком на деле. Отношение между разумом, сознанием
и жизнью осмысливается Толстым одновременно как вопрос
философский и практический. Под конец собственной жизни
Толстой отметит в дневнике: «Я говорил и думал прежде, что
жизнь есть сознание... Это неправда. Жизнь есть то, что
открывается через сознание»1. Через некоторое время еще одно
важное суждение: «Разум дан человеку не для того, чтобы
вырабатывать правила, как жить, а для того, чтобы жить по
разуму»2.
Чтобы оценить опыт Толстого, задумаемся — много ли людей
обладает мировоззрением, которое представляет собой не сумму
«готовых» взглядов на мир и свое места в нем, усвоенных путем
приобщения к знаниям, а то, что обдумано лично, пропущено
через собственное мироощущение практически, что отстоялось,
выкристаллизовалось в виде убеждений и принципов, за которые
человек всегда готов постоять? Много ли таких людей даже среди
тех, кто честно и самоотверженно трудится, ведет себя
в соответствии с нормами общественной морали? Видимо, их
гораздо меньше, чем мы полагаем, ибо выработка такого
мировоззрения — цельного, общественно действенного —
процесс более сложный, чем усвоение системы знаний и
общепринятых норм поведения. Пример Толстого тем и интересен,
поучителен, что своими отношениями с жизнью озабочен человек
трудолюбивый, полный желания приносить общественную
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 54, с. 186.
2 Там же, т. 55, с. 229.
159
пользу. Не удовлетворяясь обилием и разнообразием
всевозможных сведений, получаемых в процессе образования
и самообразования, Толстой всецело отдался поискам того
безусловного принципа, который бы мог стать ориентиром
и руководством к действию в самых сложных и неожиданных
ситуациях. Для Толстого «разумный смысл жизни» должен
обладать достоинством неуничтожимости и в определенном
отношении оказывается дороже самой жизни '.
Забегая вперед, скажем, что отношение Толстого к разуму,
к продуктам его деятельности — сознанию и знанию — весьма
сложное, даже запутанное. На первый взгляд кажется, что
Толстой, подобно Канту, ограничивает значение и возможности
разума для того, чтобы предоставить место вере, или, говоря
иными словами, пытается примирить науку с религией. Но это не
совсем так. Он отвергает совершенно определенный разум — тот,
который, запутавшись в противоречиях современной ему
действительности, оказался на посылках, в услужении у
недостойных, бесчеловечных проявлений реальной жизни, утратил
способность осознания смысла человеческой жизни.
Отношение к такому разуму (а это тоже разум, сознание и знание,
только определенного свойства и содержания), выраженное Толстым
с присущей ему категоричностью, продолжает оставаться
актуальной проблемой. По опыту современной истории известно,
как много потрудился подобный «разум», чтобы освятить своим
авторитетом самые отвратительные порождения цивилизации,
именующей себя гордо «веком научно-технической
революции»,— безумие гонки вооружения, варварство расизма и
оголтелого национализма, вакханалию бездумного
потребительства. Толстовская критика разума есть критика духовного
и морального состояния современного ему общества, которое он
отказывается понять и принять.
Но есть и другая позитивная и продуктивная идея
в толстовской критике разума, которую он пытается настойчиво
провести в своем учении: «без веры жить нельзя», ибо «вера есть
знание смысла человеческой жизни»2. И здесь Толстой не так
уж ограниченно прямолинеен. Если внимательно присмотреться
к религиозным исканиям Толстого, нетрудно обнаружить
заключающийся в них моральный смысл, который интересовал
и волновал его более всего.
В центре вопросов толстовского мировоззрения, а потому
и в центре понятия веры стало противоречие между конечным,
преходящим существованием личности и бесконечным суще-
1 См.: Виноградов И. И. Критический анализ религиозно-философских
взглядов Л. Н. Толстого, с. 13.
2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 23, с. 35.
160
ствованием мира. Толстой искал такого разрешения этого
противоречия, при котором смысл конечного, преходящего
существования личности не уничтожался бы, не превращался бы
в бессмыслицу неизбежно предстоящим ее уничтожением,
погашением в бесконечности мирового целого. Поэтому
религиозные искания Толстого есть не что иное, как искания этические,
но в религиозной оболочке. Обе стороны поиска смысла жизни —
учение ö том, как надо жить каждому и всем вместе, и
объяснение, почему люди должны жить именно так, а не иначе,—
«этическая» и «метафизическая» — тесно взаимосвязаны и, по
мысли Толстого, присутствуют в любой религии. Не божеское,
а человеческое, нравственное содержание жизни интересует его
прежде всего и главным образом. А религия для него, как
совершенно правильно сказано устами Толстого — героя
повести Друцэ, «есть установление такого отношения человека
к бесконечности, которое определяет цель его жизни». Толстой
потому только и принял веру («покорился» ей), что религия
взялась определить отношение «конечное—бесконечное», в
частности, проблему жизни и смерти, но очень скоро убедился в
несоответствии выводов религии разуму.
Наподобие «этимологического фокуса» (выражение
Энгельса), проделанного Л. Фейербахом с понятием «религия»
(будучи беспощадным критиком ее, он использовал этимологию
этого слова — на латинском оно значит «связывать» — с целью
создать «настоящую» религию, «религию любви»), Толстой
превращает в религиозную проблему философский вопрос, ибо
издавна бесконечное как онтологическая и гносеологическая
характеристика бытия было предметом философского
рассмотрения. Еще в античности Платон и Аристотель ставили вопрос
«Существует ли бесконечное и что оно.такое?», а диалектике —
гегелевской и марксистской — принадлежит заслуга раскрытия
взаимоотношений между бесконечным и конечным. В отличие
от религиозного обожествления бесконечного уже Гегель снял
романтическое преклонение и метафизический ужас перед
ним, показав, что любое конечное явление содержит в себе
бесконечное, а бесконечное живет и осуществляется в конечном.
Толстой заинтересовался проблемой конечного и
бесконечного еще в молодости, когда в религиозном отношении был
малосведущим и почти индифферентным. Как свидетельствует Софья
Андреевна, «приблизительно до 1877 года (то есть почти до
50 лет.— В. Т.) религиозное настроение Л. Н. было
неопределенное, скорее, равнодушное. Неверия не было полного никогда,
но и веры определенной тоже не было»'. Лишь позднее, в период
' Толстая С. А. Дневники. В 2-х т., т. 1, с. 507.
духовного кризиса (время написания «Исповеди» и других
сочинений на тему «Как жить дальше?»), Толстой придаст
своим раздумьям о бесконечном и конечном религиозный оттенок.
Но, по существу, его по-прежнему интересует все тот же
мировоззренческий вопрос — место и роль личности в историческом
потоке, в бесконечной смене «конечных», смертных людей.
Вопрос «Что делать и как жить, чтобы это дело и жизнь
приобрели смысл?» — вопрос философский, по содержанию своему —
нравственный, имеющий всеобщее значение, и должен волновать
любого сколько-нибудь сознательно живущего человека.
Человек весьма часто избегает возможности
самоутверждения в вечности или же, чувствуя свое бессилие в реализации
этого стремления, ищет забвения и утешения во всевозможных
иллюзиях либо компенсациях. Немало людей так и проживает
всю жизнь, оставаясь в неведении насчет того, а зачем они,
собственно, вообще появились на «белый свет», либо
предоставляя другим право решать за них этот сакраментальный
вопрос. Такое существование перечеркивает их как личностей,
ибо быть единственным в своем роде означает обязательно
решить для себя вопрос о своих отношениях с обществом,
в котором живешь, и «родом» (человечеством), к которому
принадлежишь.
Толстой уяснил это себе с молодости. В ходе напряженных
раздумий о своем назначении в жизни он постепенно
самостоятельно проникает в диалектику взаимоотношений сознания
и бытия личности. Чтобы выполнить свое назначение,
размышляет он, должна произойти «перемена в образе жизни», перемена
сознательная, целенаправленная, которая была бы не
«произведением внешних обстоятельств, но произведением души» .Пока
думы о жизни и планы жизни вращались вокруг развития
собственной индивидуальности, способностей, можно было
удовлетвориться стремлением к познанию. Но как только
формирующаяся личность входит в активные, «ответственные»
отношения с окружающей действительностью, выясняется, что
одного познания недостаточно, чтобы выполнить свое
человеческое назначение. Жажда познания может заглушить и даже
победить тщеславие — порок, сильно досаждавший молодому
Толстому, но и она нуждается в закреплении практикой,
жизнью.
Было бы поверхностным толковать такое понимание
познания и сознательности в значении единства двух человеческих
сил — разума и воли. Молодой Толстой настойчиво и честно
Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 46, с. 30.
1К2
занимался развитием своего интеллекта и воспитанием воли.
И убедился, что этого недостаточно, чтобы осуществить,
«выполнить» свое человеческое назначение. Выработка
мировоззрения, формирование своей индивидуальности, личности не
есть задача исключительно или преимущественно
интеллектуальная, просветительская, «образовательная». Подойдя
самостоятельно к идее единства сознания и жизни как
непреложному условию самоосуществления личности, Лев Толстой
взялся за решение, пожалуй, самой сложной философской
проблемы.
Писатель В. Тендряков рассказывает в своих «Проселочных
беседах» о том, как обсуждал с известным советским психологом
А. Н. Леонтьевым тему сознания, психики, личности. Говоря
о голове профессора Доуэля, отрубленной и оживленной
фантазией писателя А. Беляева, в частности, о том, способна ли
она думать, размышлять, вообще делать что-либо в отрыве от
тела, собеседники задались вопросом, издавна интересовавшим
ученых: чем думает человек, где обитает его душа? Кажется,
ответ ясен: конечно же, думает головой, и, значит, в
деятельности мозга следует искать истоки «души». Но такой ответ
правилен лишь постольку, поскольку голова действительно
является вместилищем мозга, а последний есть материальный
субстрат мышления. Однако это лишь начало разговора
о человеческом сознании, о человеческой психике. В ходе беседы
А. И. Леонтьев, по воспоминаниям Тендрякова, сформулировал
свой ответ на поставленный вопрос следующим 'образом:
«Носитель разума — не мозг, не отдельный орган,
вырабатывающий духовную эманацию, а целиком человек с руками, ногами,
деятельный, как никто на земле». И сущность человеческого
сознания, вообще всей его индивидуальности, личности как
общественного явления заключена не внутри, а вне нас. Вот
и получается, подытожил свои размышления А. Н. Леонтьев,
что объект субъективен, а субъект объективен. Можно ли просто
делить мир на эти противостоящие категории? 1
Покойный ученый не хуже нас знал, что такое деление имеет
глубокий философский, мировоззренческий смысл и,
следовательно, смешивать, путать и переставлять их местами весьма
опасно. Но коль скоро основной вопрос философии вами решен
материалистически, взаимосвязь объекта и субъекта (в
интересующем нас плане — «жизни» и «сознания» личности)
выступает как взаимопроникновениеу нередко очень неожиданное,
причудливое. Попробуйте, скажем, любого субъекта представить
1 См.: Тендряков В. Проселочные беседы.— Литературная газета, 1981,
24 июня.
11*
163
вне объекта, то есть живущим и действующим независимо от
окружающего его мира. Ничего не получится: вы его не познаете,
ничего существенного о нем не скажете. Более того, человек
становится субъектом именно тогда, когда он является
выразителем объективного, то есть социальной действительности. Значит
ли это, что лишено смысла противопоставление субъекта
(личности, «Я») объекту (окружающему человека миру)? Нет,
такое различие и разделение очень важно в этическом плане хотя
бы для того, чтобы, с одной стороны, защитить интересы
личности, а с другой — не дать ей ссылкой на давление
объективного (тех же условий, обстоятельств) снять с ребя
ответственность за свои поступки. Но там, где интересы
и потребности личности не подвергаются сомнению и
учитываются на деле, это различие превращается в формальность.
В утверждении Льва Толстого, что у человека «есть только
обязанности»1, нет ничего ретроградного, никакой проповеди
«сплошь-общинного» образа жизни, игнорирующего
индивидуальность личности и ее потребности. Напротив, потребности
личности ставятся им очень высоко, и среди них одна из
настоятельнейших — потребность «проявить себя — знать, что
это сделал Я»2. Дело в том, что для Толстого самый факт
разделения общественного бытия личности на права и
обязанности есть признак неполноценности, неблагополучности ее
существования, проявление той самой разграниченности и
отделенное™ субъекта от объекта, когда личность начинает жить
вопреки своим потребностям, влечениям, интересам, так сказать,
жить во имя объективного, которое ей либо вообще чуждо, либо
интересует по сугубо эгоистическим мотивам.
Все многообразные случаи разлада между субъектом
и объектом принято объяснять (и это справедливо)
несовершенством последнего. И выход здесь, естественно, в изменении,
улучшении условий, обстоятельств жизни. Толстой не только
признает такую зависимость субъекта от объекта, но и многое
сделал как художник и мыслитель для того, чтобы
несовершенство действительности обнажить и раскрыть в максимально
резкой, откровенной форме. Читатель знает, что в критике
и отрицании господствующего социального зла,
несправедливости, в срывании, как сказал В. И. Ленин, «всех и всяческих
масок» Толстой был беспощаден и бескомпромиссен.
Однако в субъектно-объектном отношении личности
принадлежит отнюдь не второстепенное место. Свою зависимость от
объекта человек не может и не должен трактовать как право на
1 См.: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 55, с. 216.
2 Там же, т. 53, с. 192.
164
безответственность и всепрощенчество. Человек в любых
условиях, при любых обстоятельствах потенциально остается
и выступает в качестве суверенной личности, ответственной за
занимаемую им позицию и свой образ жизни.
Толстой еще в молодости остро почувствовал эту скрытую
диалектику отношений между сознанием и действительностью,
индивидуальностью человеческой личности и жизненными
обстоятельствами. И не «по молодости», а вполне сознательно
делает акцент на личности, настаивая на нравственном
самоусовершенствовании — идее, которой оставался верен всю жизнь.
В своих претензиях к личности (прежде всего — к самому себе)
Толстой исходит из того, что обстоятельства никогда не
согласуются полностью и «так, как хотелось бы» с желаниями
и ожиданиями человека. Каков же выход из этой коллизии? Надо
быть всегда на высоте положения (своего человеческого
достоинства), сохранять верность своему «Я» — принципам,
убеждениям, характеру — в любых обстоятельствах, защищая
их, а значит, и самого себя как индивидуальность от любых
посягательств и любой ценой, если понадобится, даже ценой
самой жизни — таков вывод Толстого. В этом смысле он
разделял позицию моральной философии Сократа.
С молодых, лет Толстому ненавистна даже сама мысль быть
марионеткой в руках жизни, объективных сил истории,
безропотным слагаемым жизненных обстоятельств, выпавших на
его долю. Философия «я — человек маленький» для Толстого
неприемлема. Но как стать личностью в собственном смысле
слова? Как сладить с обстоятельствами, которые порой так
трудно преодолеть, превозмочь даже в масштабе привычек быта
или характера? И можно ли вообще противостоять
обстоятельствам сколько-нибудь успешно?
Пройдет жизнь, и Лев Толстой сполна изведает нешуточную
силу обстоятельств. На судьбе созданного им учения,
нареченного правоверными последователями «толстовством», он испытает
действие «иронии истории» — принципа, названного так
Гегелем для обозначения ситуаций, когда благие намерения
превращаются, чаще всего неожиданно для самих людей, в свою
противоположность. С возможностью такой метаморфозы в
реальной истории, превращения, а то и опрокидывания замыслов,
проектов, казалось бы, продуманных и очень убедительных,
нельзя не считаться. Беря в кавычки выражения «ирония
истории» или «хитрость разума», Гегель хотел лишь
подчеркнуть абсолютную объективность исторического хода событий,
где нет места произволу: если что-то происходит не так, как
предполагалось, или переворачивается вверх ногами, то
необязательно следует ссылаться на случайность, ибо это может
165
произойти под действием объективных сил и закономерностей.
Как ни велика сила разума и воли человека, им не перехитрить
историю; проверку на истинность, жизненность они проходят на
практике. Могущественнее и сильнее «вечнозеленого дерева
жизни» нет ничего на свете. И прав А. И. Герцен в своем
жестком выводе: «Жизнь несравненно упорнее теорий, она идет
независимо от них и молча побеждает их»1 (из чего, разумеется,
не следует, что теории не нужны или не важны). К примеру,
толстовский Кутузов только по видимости склонен к фатализму,
как трактуют его несколько странное поведение на совете
в Филях школьные учебники по литературе, а на деле
прославленный полководец просто знает, что существует
«ирония истории» и что обстоятельства могут сложиться
неожиданно даже при самой точной раскладке. Можно
предположить, что и самому Толстому это чувство тоже было
знакомо (видимо, не случайно не любил он загадывать наперед
свои действия, заранее планировать свою жизнь).
Находясь в Шамордине, первом пристанище после ухода из
дома, Толстой в ответ на предложение дочери поехать
в Бессарабию, к тамошним толстовцам, скажет: «Саша, милая.
Я не толстовец. Я Толстой». В этих словах скрыта горечь
прощания с иллюзиями, которые он вынашивал, обдумывал
и доказывал всему миру долго и настойчиво, а вот теперь, в конце
жизни, вынужден признать неузнаваемость собственных идей.
В толстовстве отмеченное Герценом упорство жизни выступило
со всей очевидностью, проявив не оборотную, а действительную
сторону идеала патриархальной народной жизни,
несовместимость которого с ходом реальной истории убедительно обнажил
В. И. Ленин в своих известных статьях о Толстом. Движение, от
которого Толстому пришлось в конце концов открещиваться,
проявило практически ошибочность направления мысли
породившего его учения. Точнее сказать, в нем взяла верх и вышла
наружу та сторона этого учения, где оно выступает «идеологией
восточного строя, азиатского строя», каковой, по словам
В. И. Ленина, и «является толстовщина в ее реальном
историческом содержании»2. Вместе с тем позиция самого
Толстого, в котором нередко выступает на первый план «идеолог
мещанства»3, отнюдь не тождественна толстовству на практике.
В ней борются две тенденции. «Ненависть к буржуазному строю
и его лицемерной свободе,— пишет М. А. Лифшиц,— делает
Толстого сторонником патриархальной народной жизни, а ре-
1 Герцен Л. И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1955, т. 6, с. 127.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 102.
3 См. там же, т. 12, с. 320.
т\
акционная форма, которую неизбежно получает при этом
толстовская критика цивилизации, не проходит бесследно для ее
демократического содержания»1. Впрочем, история проявила
справедливость сполна: «иронизируя» над слабостью и
отсталостью толстовского учения, она полностью сохранила и
подтвердила его значение как великого художника и гениальной
личности, отразившей своим творчеством, мыслительной
деятельностью некоторые существенные стороны первой русской
революции.
То, что произошло с учением Толстого, не является
исключительным, из ряда вон выходящим событием. Гораздо
более значительные явления подобного рода фиксирует Ф.
Энгельс: «Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда
убеждались на другой день, что они не знали, что делали,— что
сделанная революция совсем непохожа на ту, которую они
хотели сделать». Этой «иронии истории» «избежали немногие
исторические деятели»2. Речь идет, следовательно, не о
недомыслии отдельных деятелей, не о курьезах и случайностях,
сопровождающих «твердую поступь» истории, а об устойчивой
тенденции развития политической истории и культуры, с
которой надо считаться самым серьезным образом (желательно,
конечно, не после того, как нечто непредвиденное, неожиданное
уже произошло, а до того, учитывая неограниченные
возможности разума в постижении сути явлений).
Предупредить «иронический» оборот событий в социальной
действительности помогает не только большая глубила мысли,
обдуманность предпринимаемых действий и умение заглянуть
вперед, но и беспощадная самокритика как потребность
и способность посмотреть в лицо фактам, жизни, истории. В этом
состоит замечательное качество и преимущество пролетарских
революций, которые, по словам К. Маркса, «постоянно
критикуют сами себя, то и дело останавливаются в своем движении,
возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще
раз начать это сызнова, с беспощадной основательностью
высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих
первых попыток...»3. Стремление уяснить себе собственное
содержание предохраняет социалистическую революцию от
«самодовольного оптимизма»4, когда потребность в
самопознании утрачивает свою революционно-критическую
направленность.
Возможности «иронии истории» намного уменьшаются,
1 Лифшиц М. Мифология древняя и современная, с. 205.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 36, с. 263.
3 Там же, т. 8, с. 123.
* См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 10, с. 355.
167
суживаются, если социальное движение или отдельные деятели
не упускают из рук зеркало, в котором беспристрастно
фиксируются, отражаются их намерения и действия, слова
и дела. Зеркало это не простое, а «историческое» — для больших
социальных сил и движений, «личностное» — для отдельного
человека.
Толстой перепробует немало путей и средств, прежде чем
найдет свое зеркало и поймет, что самое передовое сознание мало
что значит и мало что может, если оно не закреплено жизнью,
именно твоей жизнью (а не жизнью вообще и ни чьей-нибудь
другой), где чувства, мысли и поступки находятся в согласии,
гармоническом единстве друг с другом и подчинены высшей,
общественно значимой и всечеловеческой цели. Не будучи
закреплено жизнью, сознание вовсе не «объективно» и
вместо того, чтобы служить человеку, ему прислуживает, что,
как хорошо уяснил еще грибоедовский Чацкий, совсем не одно
и то же.
«Объективность» познавательного опыта человека, его
сознания, как показал В. А. Лекторский, заключается помимо
всего прочего в способности субъекта относиться к .себе как
к особому объекту, обладающему сознанием, без чего
невозможен самый элементарный акт самосознания. «...Индивид, не
относящийся к себе как особому объекту, включенному, с одной
стороны, в мир материальных предметов, а с другой стороны,
в мир межчеловеческих отношений, не обладает сознанием
и самосознанием, т. е. попросту не отличает себя от остальной
действительности»1. При этом надо учитывать, что «субъект
сознает не только свою включенность в объективную сеть
отношений, но и уникальность собственной позиции в мире.
Последняя выражается, во-первых, в том, что его тело занимает
такое место в системе пространственно-временных связей,
которое не занимает никакой другой субъект, во-вторых, в том,
что только он имеет «внутренний доступ» к собственным
субъективным состояниям» .
Сознание, живущее в отрыве от жизни, ее реальных проблем,
либо связанное с нею лишь формально, либо возвысившееся над
действительностью чисто интеллектуальным способом, такое
сознание может быть легко «коррумпировано», оказаться
запроданным чему-то или кому-то ценою отказа от собственной
сущности и функции.
Один ив вариантов коррупции сознания представлен уже
упоминавшимся Р. Дж. Коллингвудом. Это — подыгрывание
1 Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М., 1980, с. 124.
2 Там же, с. 131.
168
человека своим инстинктам и эмоциям, вместо того чтобы их
контролировать с помощью разума. Само сознание в этом случае
вовлекается в вязкое болото иррациональности, ибо вся сила его
тратится на изыскание средств для достижения целей, которые
диктуются биологическими импульсами, а не
свободно-разумным самоопределением субъекта. Порабощенное
инстинктами и эмоциями коррумпированное сознание, как правило,
никому (в том числе и себе) в своей «несвободе» не признается
и будет изо всех сил доказывать, что оно вполне свободное,
самодеятельное и творческое сознание. Оно будет питаться
обманом (увы, не «возвышающим», как у А. С. Пушкина)
угодливо льстивых представлений о самом себе, культивировать
и внушать другим собственные утешительные иллюзии,
заботливо предохраняя их от столкновения с правдой, истиной1.
Образ жизни и поведение, направляемые такого рода
сознанием, характеризуются косностью, беспомощностью,
беспамятством и на языке морали называются обывательскими. «Чем
решительнее и грознее изменяется окружающий мир, тем чаще
человек стремится не заметить этого, заткнуть уши, потушить
сознание и притвориться, что ничего особенного не происходит.
В этой косной спячке человек надеется выиграть время,
протянуть его незаметно и всегда, между прочим, проигрывает,
как жук, притворяющийся мертвым слишком долго, до тех пор,
пока его не клюнет птица»2.
Этот вид коррупции сознания — самообман и заблуждения
нечистой совести в лабиринте человеческой души — был расцоз-
нан Толстым (не без помощи высоко чтимого им. Ж. Ж. Руссо)
уже в молодости и преодолевался им до конца его дней.
Обескураживающая сила самокритичности, прямота и
откровенность самообличающих признаний в дневниках, письмах,
устных разговорах, стремление рассчитаться с собственной
совестью, прошлыми ошибками и заблуждениями в
художественных произведениях («Дьявол», «Воскресение» и др.) —
наглядное опровержение несостоятельности «довольного собой
сознания», с которым Толстой сражался всю жизнь.
Еще один вариант коррупции сознания выявлен и разоблачен
Толстым в повести «Смерть Ивана Ильича». Добившись столь
желанного, добытого собственными усилиями и благодаря
удачному стечению обстоятельств, положения (место прокурора
в провинции сменил на место чиновника в министерстве), Иван
Ильич зажил так, как давно рисовало ему его сознание: легко,
1 Подробнее об этом см.: Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография,
с. 428-429.
2 Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М.-Л., 1962, т. 6, с. 157.
169
приятно и прилично. Вставал в девять, пил кофе, читал газету,
потом надевал вицмундир и ехал в суд. «Там уже был обмят тот
хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители,
справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания —
публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь
исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает
правильность течения служебных дел: надо не допускать
с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод
к отношениям должен быть только служебный и самые
отношения только служебные... В пределах этих отношений
Иван Ильич делает все, все решительно, что можно, и при этом
соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то
есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так
кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную
сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич
владел в высшей степени и долгой практикой и талантом
выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда
позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и
служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал
в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно
служебное и откинуть человеческое»1.
Участвующий в этом маскараде разум запродан
обездушенным и обесчеловеченным служебным отношениям, где
властвует не существо дела, а всеобще-абстрактные признаки
последнего, где нет места ничему «сырому, жизненному».
«Радости служебные были радости самолюбия; радости
общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана
Ильича были радости игры в винт»2. Для чего нужен разум, если
дело человека вынесено за пределы настоящей жизни, а
настоящими радостями оказываются игра в домино, рыбалка или
посещение бани? В лучшем случае для того, чтобы плыть по
течению заранее распределенных ролей, функций, всецело
подчиняясь требованиям внешней необходимости. Сознания как
такового здесь и не требуется, ибо разум замечает, отмечает
и сообщает его владельцу лишь то, что он хотел бы заметить,
зафиксировать, узнать, не более того. Как правило, именно
главное, существенное (то, что называют правдой) он обходит
стороной, потому что встреча с сутью, истиной требует
готовности к ответственным решениям. Разум, так и не ставший
сознанием и самосознанием, бежит от истины, правды, как черт
от ладана.
Безусловно, очень важно, чтобы человек сознавал свои
1 Толстой Л. Н. Собр. соч. В 20-ти т., т. 12, с. 78-79.
2 Там же, с. 80.
170
поступки, понимал, что он делает. Но сознание и сознательность
человека не исчерпываются познавательными задачами.
Сознание должно открывать жизнь во всей ее сложности,
противоречивости, давая возможность человеку поступать со знанием дела
и быть господином своих решений и действий. Быть умным,
«с головой» — это не только способность производить и
воспроизводить что-либо в мысленной форме. Сознательность
начинается с того самого момента, когда эта чисто человеческая
способность используется для того, чтобы устремления, цели
и интересы личности нашли себя (в идеале — совпали)
в общественном движении своего времени, эпохи.
Сознательность, таким образом, есть признак развившейся общественности
человека, его самоопределения в системе реальных
общественных отношений.
Толстой предпринимает собственные изыскания в сфере
«чистого разума» и дает его критику, опробуя и отвергая одну за
другой все западни и ловушки на пути соединения сознания
с жизнью. Он отвергает разум, для которого смысл жизни
заключен в умении жить по правилам, сочиненным на все случаи
жизни (на все — значит ни к одному не подходит), что создает
лишь видимость морального бытия, поведения.
Без правил, регулирующих общение и поведение людей
в повседневной жизни, разумеется, не обойтись. Нам не угрожает
массовая неукоснительность в соблюдении правил и норм
подлинно человечного общежития, и, стало быть, воспитание
уважения к правилу остается актуальной задачей
общественности. Но даже тогда, когда уважение к правилам станет всеобщим
и повсеместным достоянием,— и тогда нельзя будет представить
это торжеством морали. Потому что нравственность
человеческая начинается все-таки не с соблюдения правил, а с умения
жить по разуму, то есть по «внутренним законам», по закону
совести, которая не позволит человеку преступить ни одно
разумное правило. Соблюдение внешних правил мало
свидетельствует о нравственной чистоте и воспитанности человека. Как
хитрость легко, почти незаметно для самого человека
переходит в лицемерие, так и соблюдение правил может стать
удобной формой прикрытия безнравственного поведения и
образа жизни.
И не случайно Лев Толстой считает принципиальным вопрос
о том, что именно пробудило в нем потребность изменить образ
жизни — возникла ли она по требованию самого разума как
носителя и выразителя общественной сущности человека,
полностью ответственного за образ своих действий, или
появилась по внушению дурных наклонностей, в частности из
стремления успокоить, смягчить бунт собственной совести.
171
Толстой не просто предпочитает инстинкту и чувству разум,
в своем отношении к последнему он диалектичен; всецело
доверяясь разуму, он приходит к выводу, что нравственное
совершенствование состоит в деятельном стремлении жить для
других, служить не личному благу, а благу человечества, которое
остается, сохраняется и после смерти любого из нас.
Этот вывод был для великого искателя «разумного смысла
жизни» сродни открытию: «Как меняется взгляд на жизнь, когда
живешь не для себя, а для других. Жизнь перестает быть целью
и делается средством»1. Но вскоре он придет к выводу, что жизнь
не может быть только средством, что она сама по себе цель,
высшее благо и наслаждение. Не отречься от нее (это значило бы
отречься от самого себя), а найти себя в ней путем осознания
своего назначения в мире. И не только приносить людям пользу,
возвращая им сторицей все, что у них взял от их труда и
симпатии к тебе, но и — это, пожалуй, самое трудное и самое
главное — «самому жить хорошо...»2.
К примеру, тот же Иван Ильич «очнулся» в своем сознании
лишь на пороге смерти, когда уже ничего нельзя было изменить.
Впервые, может быть, задумался всерьез над тем, ради чего жил
и вообще появился на свет божий. Он очнулся, задумался только
тогда, когда ощутил на себе мертвенную, бездушную,
безразличную силу разума, отделившегося от жизни, в лице лечащих его
врачей, для которых не было вопроса о его жизни и смерти, а был
спор «между блуждающей почкой и слепой кишкой». И спор
этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом
разрешил в пользу слепой кишки, то есть все было точь-в-точь
так же, как делал тысячу раз сам Иван Ильич в своем ведомстве,
в своем деле, со своими подчиненными3.
Чем же так раздражен, недоволен и обижен Иван Ильич? Он
не то чтобы «нехорошо» прожил свою жизнь. По мерке
добропорядочного существования даже совсем неплохо прожил:
ведь чего-то добился он в жизни, испытал радости — служебные,
общественные и «настоящие», житейские, столь им любимые.
Отчего же так пусто, неприятно-мерзко на душе и чем,
собственно, он не удовлетворен в себе, в своей жизни? Может
быть, дело в страхе перед смертью? Конечно, и в этом тоже. Но
ведь не только этим объясняется отвратительное душевное
состояние Ивана Ильича.
Действительно, совпадение потребностей и устремлений
индивида (в данном случае — Ивана Ильича) с наличными
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 46, с. 72.
2 См. там же, т. 50, с 10.
3 См.: Толстой Л. Н. Собр. соч. В 20-ти т., т. 12, с. 83.
172
условиями его общественного бытия очевиднейшим образом
состоялось. Но это совпадение, столь желанное, страстно
ожидаемое, как ни странно, не принесло никаких особых
радостей, кроме все тех же радостей щекочущего самолюбия
и тщеславия или сугубо потребительских радостей комфорта
(Толстой подробно описывает, как изменилась квартира Ивана
Ильича, мебель, обстановка и даже гости стали другими,
новыми), ни на миллиметр не раздвинуло пределы его
внутреннего мира, не открыло ни одной творческой перспективы
(кроме, разве, дальнейшего продвижения по служебной
лестнице), наконец, не сделало его хоть чуточку счастливее, чем он был
прежде. Дело в том, что совпадение общественного и
индивидуального приобретает собственно человеческий смысл лишь тогда,
когда оно открывает шлюзы неисчерпаемости личности, ее
духовного мира, ее творческих сил, давая последним простор для
развития, как сказал К. Маркс, «безотносительно к какому бы то
ни было заранее установленному масштабу», когда человек «не
воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности,
а производит себя во всей своей целостности... не стремится
оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится
в абсолютном движении становления»1, когда личность — это
непрерывное становление, непрерывный выбор себя. «Причем
человек способен не просто «свободно» выбирать из заданных
жизнью альтернатив или между заданными системами отсчета,
но и определить пути разрешения жизненных противоречий,
найти новые системы отсчета. В принципе такая способность
человека есть источник его социального творчества, создания им
новых отношений и ценностей»2.
Мерка подхода к личности и оценки ее деятельности вполне
«нормальная», но Иван Ильич не выдерживает ее даже
в малейшей степени. Становление его личности менее всего
зависело от него самого. И не он всю жизнь выбирал, а его
выбирали. Теперь, перед лицом смерти, он понял, что оказался
в противоречии со своею же собственной жизнью, которую
прожил, находясь как бы не «у себя». Так может быть и, к
сожалению, нередко случается в жизни.
Раньше, до болезни, до испытанного им чувства страха перед
смертью, когда он мало о чем серьезном задумывался, ему
казалось, что все идет «нормально», так, «как надо», и он мог бы
сказать о себе: «я живу». Теперь же, когда все позади4 и можно
подводить только итоги, он вплотную подошел к тому, чтобы
сказать: «мной живут», «мною жили»; чтобы осознать: то, что
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 476.
2 Социалистическое общество. М., 1975, с. 195.
173
было его жизнью, принадлежит не ему самому, а чему-то или
кому-то другому, а образ жизни, который он вел и которым
в душе гордился, был всего-навсего камуфляжем, не
выражающим подлинного смысла жизни. Иван Ильич не знает, в чем
именно последний состоит, но что прожитая им жизнь была
ложью, пустотой, он почувствовал отчетливо. Когда Толстой
подробно описывает, как все «сырое, жизненное», то есть
человеческое, отделялось у Ивана Ильича от «служебного»,
официального, он ведет речь не только (и не столько) о формализме,
бюрократизации деловой жизни. Фиксируется общественное
явление, ставшее трудноразрешимой проблемой человеческого
бытия: отделение жизнедеятельности личности от самого
человека и превращение ее в нечто среднетипическое, абстрактное
по отношению к самому человеку, навязанное ему со стороны
и не связанное с его индивидуальностью. То, что точно
передается понятием «отчуждение».
Кто-то хорошо сказал, что жизнь вовсе не коротка, если мы
сами можем быть источником жизни. Но о каком источнике
жизни может идти речь там, где от человека мало что или вообще
ничего не зависит, а если и зависит, то он вполне
удовлетворяется готовыми шаблонами деятельности, правилами и
инструкциями, в которых жизнь предстает как сумма, свод стандартных
ситуаций и решений. Жизнь Ивана Ильича оказалась
действительно короткой, настолько незначительно, малоинтересно она
была прожита, да и просто не запомнилось в ней ничего из того,
что он сделал. Коротка или длинна жизнь — это ведь измеряется
не сроком прожитых лет. Она может быть и длинной, независимо
от прожитых лет, если каждый день — это целая «малая
жизнь», насыщенная созиданием, напряжением творчества во
всем, чего касаются руки и мозг человека. Впрочем, так ли уж
ясно, что значит прожить «настоящую жизнь»?
В подтверждение актуальности этого давнего вопроса
приведем современное свидетельство — фильм «Частная жизнь»
(сценарист А. Гребнев, режиссер Ю. Райзман).
С героем картины Сергеем Никитичем Абрикосовым мы
знакомимся в момент, когда он, руководитель крупного
производственного объединения, вынужден уйти с занимаемого
поста «по собственному желанию». Ситуация драматичная уже
потому, что «уходит», оказывается не у дел человек здоровый,
полный сил и желания работать в свои шестьдесят лет. Опытный,
неглупый, волевой директор, Абрикосов явно обижен и даже
обескуражен неожиданным для него поворотом событий, чего
еще вчера ни он сам, ни его близкие никак не предвидели. Он
и сейчас, когда все случилось, не понимает, почему («за что»)
с ним так легко распрощалось начальство. Расплывчатые
174
объяснения сочувствующего ему заместителя министра, что
нужен кто-то «помоложе» и вообще «другой», непохожий на
него, Абрикосова, по стилю работы, нисколько последнего не
убеждают и не утешают. Абрикосов (как и мы, зрители) знает,
что подобные соображения зачастую решающей роли в кадровых
вопросах не играют.
Впрочем, авторы фильма прозрачно намекали на то, что дело
тут не в возрасте, и не в состоянии здоровья, и не в каких-то
допущенных ошибках. Просто Сергей Никитич отстал от
требований времени, живет и работает по инерции, «по
старинке», руководствуясь изжившими себя представлениями,
мерками, методами, от которых ныне мало проку. Грех этот,
прямо скажем, обходится обществу весьма дорого. Экономика
переходит — во что бы то ни стало и как можно скорее должна
перейти! — на интенсивный путь развития, а кто-то никак не
в силах распрощаться с приемами, привычками и ухватками
руководства «плюсквамперфектного» происхождения —
проблема эта острейшая, задевающая всех нас и морально
и материально. И потом, оказывается, не на словах, а на деле
жить, поспевая за движением жизни, совсем не просто и дается
это далеко не каждому.
Привычка жить по шаблону, выработанному или усвоенному
(готовому) образцу, не замечая того, что он пришел в
противоречие с изменившимися условиями,— привычка очень
распространенная и обладающая страшной силой. Помноженная на
самодовольство, она рано или поздно подводит человека
к катастрофическому результату. Бороться с нею трудно, потому
что жить «по привычке» удобнее, спокойнее, а с годами покой
очень ценится. Житейский консерватизм иногда объясняют
и оправдывают опытом, приобретенной мудростью и
осторожностью. Но он представляет собой еще и совершенно определенный
строй мышления и образ жизни личности.
Все это Абрикосову как-то в голову не приходит, и его
«довольное собой сознание» догадаться о причинах
изменившегося отношения к нему не в силах. Он, привыкший быть
директором, пользоваться властью, распоряжаться и руководить,
поверить не может, что все это позади, и потому, видимо, всем
говорит (и сам искренне верит), будто ждет «нового
назначения».
Но тема картины «Частная жизнь» несколько иная, хотя
теснейшим образом, пусть и подспудно, связана с тем, что
произошло в служебном положении Абрикосова. Вдруг
нежданно-негаданно Сергей Никитич вынужден на время окунуться
в так называемую частную, или личную, жизнь, которой он до
сих пор не придавал серьезного значения, а то и не замечал вовсе.
17 Г)
Ему, человеку дела и развитого чувства долга, служебное (или
производственное, общественное) как бы полностью заменило
все остальное — все то, чем, кроме труда и учебы, всерьез
озабочены, повседневно заняты и живут другие люди, например
члены его семьи. Внешне, формально он вел такую же жизнь, как
и все другие люди,— был мужем и отцом, по утрам пил кофе
и читал свежую газету, встречался за столом с домочадцами,
о чем-то говорил с ними, давал советы и т. д. Но всем этим —
«сырым, жизненным» (вспомним повесть «Смерть Ивана
Ильича») — он не жил, всерьез и глубоко не интересовался.
Присутствие и влияние его в «частной жизни» было
минимальным, почти незаметным для окружающих, каждый из которых
жил своими заботами, интересами, такими понятными другим,
но неизвестными ему. Живя своей «отдельной» жизнью, тоже
малоизвестной близким и сослуживцам, он давно уже не
подпускал никого к себе настолько, чтобы кто-то знал мир его
забот, дум, переживаний. Что он за человек — об этом вряд ли
кто-нибудь мог сказать что-то определенное. В нем видели
и знали лишь работника, а это еще далеко не весь человек. Как
бы подробно вы ни знали дело человека и его отношение к делу,
он выступит перед вами все-таки человеком дела, работником,
а не личностью во всем объеме этого понятия (с этим различием
поневоле приходится считаться, ибо довольно часты случаи,
когда хороший работник оказывается плохим человеком).
Правда, в отличие от толстовского Ивана Ильича (если
продолжить сопоставление) именно служебные радости были
для Сергея Никитича настоящими радостями, вполне
удовлетворяя чувству самолюбия и тщеславия (соблазны нынешнего
гедонизма, вроде ночных «бдений» в преферанс, рыбалки или
сауны с друзьями, его тоже не коснулись). Вообще только
в одном — в стремлении и умении отделять служебное от всей
прочей жизни — Сергей Никитич был, как ни странно, сродни
Ивану Ильичу. Безусловно, герой «Частной жизни»— человек
совершенно иной формации и находится в совершенно иных
обстоятельствах, социальных и житейских, чем герой повести
Толстого. Но есть нечто общее в той драме, которая каждым из
них пережита по-своему. Подобное сличение правомерно, если
попытаться извлечь общий смысл из столь несхожих историй,
человеческих судеб.
Как ни мало знаем мы о служебном поведении Абрикосова,
ясно то, что и он не любил смешивать «служебное» с «сырым,
жизненным». Теперь, когда он вынужденно зажил «частной
жизнью», выяснилось, что для него «душа-потемки» его
собственная секретарша, верой и правдой служившая ему
многие годы; что достаточно нескольких шуток в его адрес, чтобы
17(>
он не колеблясь уволил неплохого работника, круто изменив всю
его судьбу. Но дело не в том, что Сергей Никитич крут или
невнимателен в общении с сослуживцами, и не в том, что он
якобы излишне деловит, перегружен работой, отчего игнорирует
«мелочи жизни» — бытовую и личную сторону жизни, как — не
дай бог! — кто-то из зрителей истолкует его драму.
Современные условия жизни и деятельности, разумеется,
требуют самого серьезного и самоотверженного отношения
к делу. Вместе с тем и то, что именуется обычно «личным»,
«частным», тоже есть общественное, существенная часть целостной
жизни людей. В нашем обществе высоко ценится труд, и мы
справедливо называем социалистический образ жизни трудовым,
видя в этом его важное преимущество. В то же время
производство у нас развивается не «ради производства», а ради
человека, его всестороннего развития, ради всей его жизни, в том
числе и той, которую столь неточно называют «частной». Какая
же она «частная», если без нее человек становится
неполноценным, не чувствует себя счастливым? Изменившиеся
обстоятельства заставили Абрикосова впервые задуматься над тем, как
он жил прежде, и самолично убедиться, что одним
«служебным» жить трудно, что во всей его прежней жизни
отсутствовало нечто существенное. Обидно, жаль, но это так.
В домом деле, до сих пор все шло как будто «нормально», а
теперь, когда «служебное» отнято, выясняется, что ничего
другого — того, что он бы так же любил и понимал, как работу,
чем бы он по-настоящему дорожил, как дорожит он служебными
радостями и отношениями,— у него просто нет. Есть жена,
верная ему и, когда надо, внимательная к нему, но живущая
своей, далекой от него жизнью, проблемами и переживаниями,
ему неведомыми. Есть младший сын с невесткой, которых он,
сталкиваясь с ними лицом к лицу, как бы видит впервые, узнавая
о существовании вопросов, противоречий и точек зрения, его
жизненным опытом не освоенных. Понадобилось уйти «по
собственному желанию», чтобы найти время навестить давнего
друга-фронтовика и узнать, что он уже два года как умер.
Короче, в прожитой жизни, которой он в душе так гордился,
оказывается, выпало что-то очень важное, и не «бытовое»,
«сугубо личное», а нечто такое, что делает жизнь действительно
«своей», по-настоящему человечной.
Беда (она же и проблема!) Абрикосова состоит в том, что
между общественным и личным, социальным и индивидуальным
в его образе жизни давно уже образовалась брешь, трещина,
которую нельзя заделать, залатать тем, что называют «усилить
внимание» к окружающим людям и к собственной персоне во
внеслужебное время. Потому что проблема эта отнюдь не
12 .Чака:« НМЛ
177
бытовая и не только морально-психологическая, а прежде всего
социальная, связанная с преобразованием самой человеческой
жизнедеятельности. Отделение «служебного» от жизненного
в случае с Сергеем Никитичем, с одной стороны, превращает
в слепое пятно все, что выходит за рамки чисто
производственного отношения к действительности, а с другой — обездушивает
самое дело человека, лишает его питательной почвы, жизненных
соков. Разорванность общественного и личного, в какой бы
форме она ни выступала, пагубно отражается на развитии самой
личности. Осознание этой истины составляет важный стимул
преобразовательных усилий во имя коммунизма.
Что же порождает подобные противоречия между
общественным и личным в условиях социалистического общества?
Отметим два момента. Оказывается, совсем не одно и то же —
участвовать в созидании условий социальной жизни и жить
самому подлинно социальной жизнью. Не случайно в наши дни
привлечено внимание к теме и проблеме образа жизни.
Преобразуя условия общественной жизнедеятельности, следует
более внимательно отнестись к формам повседневного бытия
людей, в которых эти условия реализуются (или не
реализуются). Рассуждения типа «Дайте мне хорошие условия, а я уж
сумею ими воспользоваться» часто построены «на песке» весьма
расплывчатых, а то и просто убогих представлений о том, что
такое «настоящая жизнь». Это относится не только к
потребителям и мещанам всех оттенков, но и к честным труженикам,
которые, на манер Сергея Никитича, могут самоотверженно
и активно строить новую жизнь, проживая ее сами «по-старому»,
одномерно, с очевидной односторонностью, а иногда и просто
ущербно для развития своей личности (тут возможны самые
разные варианты).
Другая причина связана со служебным положением
Абрикосова, который, судя по всему, способен упиваться властью
и укоренять чисто должностные привилегии в своем образе
жизни. Скажем, нет ничего предосудительного в том, что Сергей
Никитич пользуется служебной машиной (хотя и не скромно,
и не положено разрешать использовать ее для поездок тещи на
рынок). Жаль, однако, что ему неведомо, каково другим
ежедневно добираться на работу и с работы домой на
общественном транспорте. Потому что, знай он это по
собственным ощущениям, настроению, Абрикосов, вполне возможно,
более энергично и целеустремленно помог бы устранить прорехи
и изъяны, называемые почему-то «трудностями», очень
волнующие многих тружеников. Но в том-то и беда, что Абрикосов всего
этого не видит и не чувствует, ибо ведет образ жизни сугубо
чиновничий, когда, говоря словами Маркса, «различие, отрыв
178
является основой существования индивида» . Более того, его
можно было бы назвать «частичным индивидом», для которого
служебное положение стало средством отделения не только от
других, но и от самого себя. Именно об этом свидетельствует
пропасть, образовавшаяся между его служебной жизнью и жизнью
«частной», которой у него до сих пор и не было.
Но вернемся опять к Льву Толстому. По свидетельству
близких ему людей, он любил следующее рассуждение
А. И. Герцена, назвав его «бриллиантом»: «Наша жизнь —
постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют,
пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он
начинает кричать, чтоб не слыхать речей, раздающихся внутри;
ему грустно — он бежит рассеяться; ему нечего делать — он
выдумывает занятие; от ненависти к одиночеству — он
дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами,
наконец, женится на скорую руку. Тут гавань, семейный мир
и семейная война не дадут много места мысли; семейному
человеку как-то неприлично много думать; он не должен быть
настолько празден. Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается
допьяна всем на свете — вином, нумизматикой, картами,
скачками, женщинами, скупостью, благодеяниями; ударяется
в мистицизм, идет в иезуиты, налагает на себя чудовищные
труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-то
угрожающая истина, дремлющая внутри его. В этой боязни
исследовать, чтоб не увидать вздор исследуемого, в этом
искусственном недосуге, в этих поддельных несчастиях,
усложняя каждый шаг вымышленными путами, мы проходим по
жизни спросонья и умираем в чаду нелепости и пустяков, не
пришедши путем в себя»2.
А любил это рассуждение Лев Николаевич по той простой
причине, что здесь другими словами высказана мысль, точившая
и мучившая его самого всю жизнь: что такое жизнь и зачем
человек живет? Разгадка этой мысли волновала давно и многих,
но никто не мог ответить на этот вопрос так, чтобы ответ мог
удовлетворить всех. Хотя каждый решает проблему смысла
жизни для себя самостоятельно и, кажется, она находится
всецело в руках личности, ее нельзя считать проблемой чисто
субъективной. Ею охотно занималась религия, и ее всячески
обходит стороной «серьезная» наука. И это понятно, потому что
вопрос о смысле жизни относится к сфере, где рассогласование
между наукой и обыденным сознанием является значительным.
Вопрос этот по природе своей нравственный, а нравственность,
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 312.
2 Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т., т. 6, с. 20-21.
12*
17!)
как известно, есть тоже вид знания и опыта, в ведении которого
находятся многие проблемы, пока что недоступные науке.
Для Толстого тема смысла жизни была философским
вопросом о том, в чем назначение и благо человека, а не
проблемой «спасения души», как уверяют некоторые авторы,
преувеличивающие религиозность великого писателя. Верно
замечено, что не Толстой исследовал вопрос о смысле жизни,
а сам этот вопрос преследовал его всю жизнь. Он ставился
и решался им глубоко лично — чтобы «ответить своей
беспокойной душе, есть ли смысл ей жить?»' Но это не значит, что думал
он о личном счастье и личном спасении, а не о счастье и благе
других. То, что в толстовской постановке вопроса о смысле
жизни критикуют как «эгоцентризм»2, на самом деле выражает
специфику самого вопроса, преимущественно нравственного по
содержанию. Его ставит и пытается решать философия, но она,
как точно заметил О. Г. Дробницкий, «в силу предельной
общности решаемых ею вопросов не может претендовать на то,
чтобы быть повседневным наставником человека в частных
житейских ситуациях. Рассмотрение проблем бытия в
масштабах человечества, истории, входящее в задачу философии, не
следует дедуцировать на конкретные обстоятельства, выводя
решения на все случаи жизни. В обыденных ситуациях человек
не рассуждает как философ, и не потому только, что невозможно
поднять мирское сознание каждого до уровня предельных
абстракций, а потому, что жизненная позиция индивида
в перипетиях личного опыта не всегда может быть
непосредственно выведена из его мировоззрения»3. Так что эгоцентризм
здесь вообще ни при чем.
Что же касается в этой связи толстовской критики науки, то
последняя не могла, по его мнению, дать ответа на
интересующий его вопрос еще и потому, что утратила ту руководящую нить
в системе знаний, которая только и делает познание подлинно
человеческим и человечным. Толстой полагается на разум
и совесть самого человека не потому, что он против науки
вообще, науки как таковой, а потому, что, игнорируя
нравственные начала жизни, обходя вопрос о назначении человека
как главный вопрос бытия, она, по его мнению, не может ничего
сказать о том, что такое жизнь. Более того, «чем дольше она
изучает явление того, что она называет жизнью, тем больше она
удаляется от понятия жизни, которое она хочет изучать»4.
1 См.: Квитко Д. Ю. Философия Толстого. М., 1928, с. 18.
2 См. там же, с. 18-21.
3 Дробницкий О. Г. Научная истина и моральное добро.— Наука и
нравственность. М., 1971, с. 290-291.
4 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 26, с. 437.
ISO
Толстого беспокоила и возмущала удаленность науки от
человека — главного предмета изучения, который, по его
мнению, должен всегда незримо присутствовать при любых
исследованиях человеческой жизни. «Наукой в наше время
считается и называется,— поясняет свою мысль Толстой,— как
ни странно сказать, знание всего, всего на свете, кроме одного
того, что нужно знать кажДому человеку, чтобы жить хорошей
жизнью»1. Но что именно нужно знать каждому человеку, чтобы
жить хорошей жизнью? Прежде чем узнать и оценить ответ
самого Толстого на этот вопрос, кратко скажем о его
противоречивом отношении к науке.
Разумеется, нельзя признать правильной и принять критику,
отрицание науки лишь за то, что последняя не признает
единственным своим содержанием вопрос о благе и назначении
человека. Ведь помимо знания того, как должно и не должно
поступать в тех или иных случаях, человек нуждается в массе
других знаний, охватывающих многие стороны жизни природы
и общества. Но рациональное зерно в толстовской критике
науки, несомненно, было (и остается по сей день). Это,
используя современную терминологию, антисциентистский пафос
неприятия науки, защита гуманистического назначения, морально-
этических начал и принципов научного знания. Здесь Толстой
смотрел далеко вперед. Ему была бы близка (знай он ее!)
марксова мысль о науке будущего, в которой исчезнет деление
на естественнонаучное и человеческое знание и человек станет
предметом «одной науки»2. Прав Толстой и в чтом, что
безусловное следование моральным принципам в познании
природы, общества или личности (а здесь, как и в других делах,
надо быть честным, правдивым, мужественным, смелым и просто
добросовестным) есть важнейшее условие добывания истины на
благо человеку.
Мораль давно уже многие ревнители научности пытаются
на разные лады представить неким ограничителем, чуть ли не
тормозом на пути отыскания истины. Не стесненный
никакими моральными соображениями и укорами совести, «полет
мысли» объявляется ими нормой бытия строгой науки. Мало кто
задумывался в прошлом, да и задумывается сейчас над
ролью морали в качестве способа существования науки,
усматривает в ней то, без чего невозможен сам процесс
познания как способ человеческого отыскания истины. Так что
можно понять энергичные высказывания Толстого, для которого
нравственность есть тоже наука — «наука жизни», и в этом
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 38, с. 137.
2 £м.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 124.
1S1
своем назначении она не просто «одна из наук», но опора,
фундамент всех других познаний о мире, интересующий людей не сам
по себе, а в его отношении к их человеческим потребностям и
целям. Недоверие к морали, понятой как сумма запретов и
разрешений, в конечном счете оборачивается отходом ученых от
человека — конкретного, эмпирического, с его ближними и
долговременными нуждами, заботами, их нежеланием считаться с
последствиями своих изысканий и открытий для судеб
человечества. И понятно, почему современные сциентисты хотели бы
вообще похоронить моральную философию Сократа, которую в
новых условиях пытался возродить и развить Толстой.
Можно не соглашаться с великим писателем насчет общей
оценки науки, критиковать его за известную прямолинейность
в понимании сущности и функции научного знания, но это ни
в коей мере не усилит позицию столь распространенного теперь
на буржуазном Западе сциентизма, «имморалистов» от науки.
Своим неприятием идеи взаимосвязи науки и нравственности,
ответственности науки перед человечеством, а также отказом
сфере знаний быть проводником людей в их жизненной
деятельности и поведении сторонники сциентизма
обезоруживают, морально разоружают их, воспитывают из них
потенциальных марионеток.
Найти себя, то есть практически решить вопрос о своем
назначении в жизни,— вот с чего, по убеждению Толстого,
должен начинать каждый человек, приступая к самостоятельной
деятельности в любой сфере. Не с профессиональной ориентации
начинается человек как общественное существо, а с
гражданского самоопределения личности, с выбора жизненной позиции
и достойного образа жизни. Смысл обучения, образования
и воспитания состоит прежде всего в подготовке «наилучших
граждан»1 (выражение К. Маркса), а потом уже в подготовке
слесарей, токарей, врачей, инженеров, актеров, ученых,
поскольку каждый человек должен стать специалистом в какой-то
области. Видимо, это и имел в виду В. И. Ленин, когда
подчеркивал в своей известной речи на съезде комсомола: «Надо,
чтобы все дело воспитания, образования и учения современной
молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали»2.
Воспитание людей, «за которых можно ручаться, что они ни
слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести»3,
сумеют во всем разобраться самостоятельно и поступать
в соответствии со своими убеждениями, невозможно на базе
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 475.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 309.
3 Там же, т. 45, с. 391.
182
ходячих прописных истин, правил и инструкций. Для этого надо
к самому поведению подходить как к творчеству личности —
«свободной индивидуальности», самодеятельной и
ответственной в любом акте своей жизнедеятельности.
Толстой не просто морализировал на тему смысла жизни, он
искал себя в добрых делах: устроил в Ясной Поляне школу для
крестьянских детей и сам учительствовал в ней, пока ее не
закрыли власти; обрекая себя на ненависть окрестных
помещиков, пошел в «мировые посредники», защищая права крестьян;
за несколько лет до реформы роздал землю крестьянам;
устраивал столовые для голодающих, разъезжая по разным
губерниям; неоднократно обращался к царю и правительству по
самым разным поводам общественного, а не личного свойства. Но
все это его не удовлетворяло. Увлекаясь любым таким добрым,
полезным для других людей делом, он оставался постоянно
недовольным собой, в ощущении, что упускает из виду что-то
главное, более важное. Закрепить идеи, принципы жизнью — это
не только делать добрые дела, полезные обществу, другим
людям, но и построить себя как личность, научиться самому
«жить хорошо», то есть в согласии с совестью и требованиями
разума, и тем самым" служить примером хорошей жизни,
морально доброго образа действий и мышления. Нет ничего
лу.чше этого, но и ничего труднее.
обычно эту мысль Толстого торопятся осудить, по крайней
мере, снизить ее значение как якобы противостоящей идее
изменения обстоятельств, условий жизни. Но вот что бросается
в глаза: нередко те, кто поучает других, сами с большим трудом
следуют морали, которая представляется им (совершенно
искренне, без капли лицемерия) разумной и человечной.
Призывать других к скромности мцого проще, чем самому быть
скромным; обличать потребительство легче, чем контролировать
разумность собственных потребностей; возмущаться
нечестностью, несправедливостью, бюрократизмом безопаснее, чем
вступиться за обиженных, пожертвовать собственным
спокойствием, рискнуть во имя правого дела личным благополучием.
Заняться всерьез самовоспитанием и стать деятельным
примером «хорошей жизни» — не такое уж простое дело. Оно
предполагает и волю, и характер, и ясное сознание жизненной
цели. Для этого надо быть человеком с идеалом, который
становится ориентиром, компасом, путеводной звездой
повседневного поведения, образа жизни. Толстой всю жизнь мучился
проблемой, которую мы сегодня выдвигаем в качестве
актуальнейшей нравственной задачи: свести до минимума расхождение
между словом и делом, добиться того, чтобы активная жизненная
позиция стала нормой поведения всех и каждого.
183
Вот, к примеру, он замечает в частном письме: «Я открыл
удивительную вещь... я открыл, что возмущение, склонность
обращать внимание преимущественно на то, что возмущает —
есть большой порок и именно нашего века. Есть 2 — 3 человека,
которые только возмущены, и сотни, которые притворяются
возмущенными, и поэтому считают себя вправе не принимать
деятельного участия в жизни...»1 Возмущение может быть
проявлением живого нравственного чувства и свидетельствовать
о том, что какой-то факт, явление, общественная привычка себя
изжили. Толстой имеет в виду не это граждански
заинтересованное выражение недовольства, а то, что лишь имитирует
гражданственность, являясь всего лишь сопроводительным
«мотивчиком» циничного или равнодушного отношения к
общественным нуждам, интересам, признаком разлада человека со
своими идеалами, чувством долга. Толстой, как мало кто в его
время, остро чувствовал несовершенство и несправедливость
существующего порядка, жизнеустройства и не переставал
возмущаться, используя все доступные ему средства. Но любое,
самое оправданное недовольство, по его мнению, не освобождает
человека от самостоятельной работы и чувства ответственности
за происходящее. Отсюда и требование самосовершенствования,
не дожидаясь изменения обстоятельств. Конечно, нельзя не
видеть, что Толстой явно принижает значение объективных
условий в совершенствовании общества, человека. Но ясно
также, что, когда общество изменилось, когда преобразование
обстоятельств происходит в реальности, успех этог.о
многотрудного дела во многом зависит от социального,
нравственного, интеллектуального развития самих преобразователей.
Еще один пример, связанный с толкованием такой черты
человека, как скромность. Толстой и здесь предлагает свой,
отличный от ходячего представления подход и критерий оценки.
Обычно о скромности или нескромности человека судят прежде
всего по внешним признакам и проявлениям.
По Толстому, скромность имеет иную
социально-психологическую основу и, прежде чем стать актом поведенческим, она
есть феномен мировоззренческий в широком смысле этого слова.
Кто-то однажды в разговоре упомянул Пушкина как образец
скромности и простоты выдающихся людей. Толстой на это
заметил: «Главное тут то, что все выдающиеся люди всегда
смиренны, низкого о себе мнения, им кажется, что они ничто. Это
оттого, что они видят всегда идеал, и в сравнении с идеалом то,
что они имеют, им кажется ничтожным»2. Его самого уже при
1 Островский А. Молодой Толстой в записях современников, с. 276.
2 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 239.
IS'i
жизни ставили рядом с Пушкиным. И Толстой, безусловно, знал
себе цену, но, не впадая в ложную скромность, он всю жизнь
казнился тем, что далек от идеала, от требований, которые сам же
считал обязательными для выполнения, и был в недовольстве
собою совершенно искренним и последовательным.
После многих лет семейной жизни Софья Андреевна
записывает в своем дневнике: «Характер Л. Н. тоже все более
и более изменяется. Хотя всегда скромный и
малотребовательный во всех своих привычках, теперь он делается еще скромнее,
кротче и терпеливее. И эта вечная, с молодости еще начавшаяся
борьба, имеющая целью нравственное усовершенствование,
увенчивается полным успехом»1. Даже то, что относится к его
таланту писателя, он объясняет иначе, чем сделал бы это
действительно нескромный человек. Отмечая в себе присутствие
почти всех пороков, которые он критиковал и бичевал в других
людях, Толстой замечает: «...все, все есть, и в гораздо большей
степени, чем у большинства людей. Одно мое спасение, что
я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь. От этого они называют
меня психологом»2.
Что же касается внешней стороны проявления скромности, то
и она имеет, помимо привнесенного извне (прежде всего
воспитанностью, культурой общения и поведения), основание
в самой психологии человека. По-настоящему скромный человек
скромности своей не замечает, с нею не носится и ею не
бравирует. Почему? Да по очень простой причине. Ведь «когда
человек умен, он не знает, что он умен,— ему кажется так
естественно, что он понимает, что понимает, что он не может
приписывать этому значения. При этом же ему так многое еще
непонятно. Тоже если человек силен телесно и даже духовно;
тоже особенно, когда человек истинно добр, он не видит своей
доброты, как летящий на болоте не чувствует своего движения»3.
Действительно, по опыту общения с людьми известно, что
Толстой совершенно прав: там, где выпячивают свой ум, доброту
или силу, на поверку оказывается, как раз и есть какой-то изъян.
Скромность гениев — особого свойства, она состоит, по
Марксу, в том, чтобы относиться ко всякой вещи так, как того
требует сущность самой вещи, научиться говорить языком
самого предмета или дела, которым человек занят4. Такова
объективная предпосылка и условие действительно скромного
бытия человека и его поведения. Скромен тот, кто по-настоящему
погружен в дело, имеющее общественную ценность, кто видит не
1 Толстая С. А. Дневники. В 2-х т., т. 1, с. 505.
2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 55, с. 163.
3 Там же, с. 202-203.
-,4 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 7.
IN.-)
себя в деле, а, напротив, дело в себе, кто озабочен раскрытием
существа предмета или явления так, что невольно забывает о себе.
Скромность Маркса или Ленина поистине объективна, она, как
говорится, налицо: в масштабе реального воздействия на
историю, в совпадении слова и дела, наконец, в силе
общественного признания со стороны миллионов людей.
Путь к идеалу труден и тернист. В «Войне и мире»
говорится: «Отсутствие страданий, удовлетворение потребностей и
вследствие того свобода выбора занятий, то есть образа жизни,
представлялись теперь Пьеру несомненным и высшим счастьем
человека»1. Однако герою Толстого придется на собственном
опыте убедиться в правоте истины, которую сам автор постиг еще
в молодости. Прожить жизнь честно, совестливо, не давая душе
покрыться коростой равнодушия и самодовольства, значит
обречь себя на непрерывную борьбу с препятствиями внешними
и внутренними, заключенными в тебе самом. «Чтоб жить
честно,— писал Толстой в октябре 1857 года,— надо рваться,
путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и
опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие —
душевная подлость»2. Такую вот беспокойную, мятущуюся
жизнь и прожил Толстой, держа под неусыпным контролем
чистоту своих помыслов и побуждений, стремясь обеспечить,
подтвердить каждое из них добрым делом, конкретным
поступком, хорошей привычкой.
Очень важно отделить в Толстом «рассудок» от
«предрассудка», развести сильные и слабые стороны его творчества и натуры.
Но не менее важно понять, по возможности полнее и точнее, что
противоречия эти, даже самые «кричащие», были источником
жизни и развития на редкость цельной натуры, образа жизни.
Цельность личности Толстого носит необыкновенно развитой
характер в том смысле, что она является результатом
деятельного и всестороннего раскрытия его творческих сил, способностей,
личностных свойств. Прожитая им жизнь, беспокойная и
мятущаяся, была в то же время целеустремленной и сознательно
продуманной во всех проявлениях. По существу, Толстой не
отвлеченно, не абстрактно, а предельно конкретно, так сказать,
«на себе» самом решал вопрос, мучивший его всю жизнь,—
вопрос об установлении такого отношения человека к
бесконечности, которое определяет цель его жизни.
И он этот вопрос решил (по крайней мере, для себя лично),
прожив жизнь столь же полезную, как и уникальную. Толстой
1 Толстой Л. Н. Собр. соч. В 20-ти т. Мм 1963, т. 7, с. 113.
2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т. М., 1949, т. 60, с. 231.
186
может «отчитаться» перед нынешним и будущими поколениями,
и не только бессмертными творениями своего разума и таланта,
но и жизненным опытом своей личности. Толстому есть что
сказать современному человеку...
ПРКЖДК ВСКГО - 1ТУЖКНИК...
Труд есть жизнь человека.
ВОЛЬТЕР
Человек познает себя не в мысли, но действуя.
Только в усилиях исполнить должное, он узнает
себе цену.
ГЕТЕ
В дневнике Софьи Андреевны есть утверждение, которое
хочется решительно оспорить. «Перечла жизнь и учение Сократа
и с новой стороны поняла его. Все великие люди схожи:
гениальность есть уродство, убожество, потому что она
исключительна. В гениальных людях нет гармонии, и потому они мучают
своей неуравновешенностью»1. Навеянное отношениями с
мужем, умозаключение это выходит далеко за пределы .«личного».
Неуравновешенность не есть ни привилегия, ни родимое пятно
характера гения; неуравновешенных всех видов и мастей всегда
было много —больше, чем гениев. Исключительность
гениальности и гения обусловлена отнюдь не отклонением от
«нормального» (для человеческого рода в целом) и определяется не
отрицательно, а вполне положительно. Можно предположить,
что Софья Андреевна попала под влияние вышедшей в то время
(в 1895 г.) в русском переводе книги итальянского психиатра
и криминалиста Ломброзо «Гениальность и помешательство»,
где все выдающиеся люди подводились под рубрику
«сумасшедших». Но что такое гений как
социально-психологическое явление?
В аттестациях и определениях гения нет недостатка. Этим
понятием принято обозначать людей выдающихся,
исключительных по своим дарованиям, «любимцев природы», создающих не
просто новое в той или иной сфере творческой деятельности, но
несущих в себе целую эпоху (имеются в виду продукты их
деятельности, вошедшие в сокровищницу человеческой
культуры — материальной и духовной, и сами они как личности, их
воздействие на развитие мирового сообщества). Из всех
известных определений стоит, пожалуй, выделить кантовское,
*,Толстая С. А. Дневники. В 2-х т., т. 1, с. 384.
187
данное применительно к литературному труду. «Гений — это
талант изобретения того, чему нельзя учить или научиться. Так,
можно научиться от другого, как надо делать хороший стих; но
от других нельзя научиться тому, как сочинить хорошее
стихотворение, ибо это само собой должно следовать из природы
автора»1. В отличие от таланта или лица с более рядовыми
способностями, гений есть творчески формирующая вершина
человеческого существования, устанавливающая новые правила,
созидающая новые законы в той сфере, в которой
исключительность дарования действует, проявляется.
Но отсюда вовсе не следует, что гениальность
распространяется буквально на все стороны жизни и свойства характера
человека, что гении не такие люди, «как все остальные», или что
гению «все дозволено» и он не подчиняется моральным законам
и установлениям. Гению, как правило, ничто человеческое не
чуждо, и хотя в быту, в повседневном общении и поведении
одаренность человека тоже как-то обнаруживает себя, обычно
гениальный человек мало чем отличается от обыкновенных
людей. Гениальное и все человеческое определенным образом
сочетаются, находятся в сложной взаимообогащающей
зависимости, так что одно не оторвать от другого. В общем плане об этом
убедительно сказано в уже упомянутой статье Б. И. Бурсова
«Легенда о Пушкине»: «Пушкин-поэт и Пушкин-человек, при
всем своем несходстве, представляют собой нечто единое,
цельное и неделимое. Хотя в стихах своих он осуждает многие
свои человеческие недостатки, только благодаря наличию их
в нем он писал именно такие, а не какие-нибудь другие стихи...
Он никогда не корчил из себя святого. Напротив, вполне
вероятно, что сознательно преувеличивал свои человеческие
слабости — и своим поведением, и рассказами о своем
поведении... Я не собираюсь доказывать, что Пушкин сознательно
прививал себе дурные человеческие свойства,— такое
утверждение было бы нелепым. В человеческом общежитии он просто
хотел быть как все. Ему нужна была естественность в чем бы то
ни было, и он гнал от себя прочь мысль о каких бы то ни было
веригах». Значит ли это, что Пушкин «в стихах» и Пушкин
«в жизни» тождественны по содержанию, что между ними нет
никакой разницы? Разумеется, нет. Но лишь в том смысле,
в каком настоящее, искреннее творчество не есть переложение
фактов жизненных в факты художественные,— и только. Ибо
Пушкину «не к чему было заботиться о красивой биографии. Она
занимала его как условие творчества»2.
1 Кант И. соч. В 6-ти т., т. 6, с. 570—571.
2 Бурсов Б. Легенда о Пушкине.— Литературная газета, 1981, 3 июня.
1.XN
Все сказанное о Пушкине в полной мере относится
и к Толстому, понятно, с учетом индивидуальности последнего.
Можно и нужно добавить только следующее. Пушкин и Толстой
были в общем-то нормой, обычны во всем, что касается
повседневности, включавшей в себя многообразный мир общения,
поступков, бытовых привычек. И эта их близость к тому, что
ежедневно заботит, волнует и интересует любого
«невыдающегося» человека, настолько органична, естественна, что может
иногда озадачить, удивить (как удивили однажды автора этих
строк воспоминания людей, знавших Чехова, где
запомнившийся со школьной скамьи образ очень милого, застенчивого
и деликатного человека-интеллигента «старого склада» вдруг
предстал несколько иным: оказывается, Чехов страстно любил
посещать рестораны и угощать гостей. Чехов и... рестораны —
это как-то не вяжется в сознании, не правда ли?). Правда, кого-
то подобная близость, схожесть гениев и негениев может
настолько обмануть, что этот кто-то, не заметив разницы,
попробует приблизиться к великим с доступной ему стороны —
со стороны, что зовется бытом и личной жизнью. Но и здесь
обывателя, как правило, ожидает разочарование. В письме
к П. А. Вяземскому (ноябрь 1825 г.) Пушкин писал: «Толпа
жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей
радуется унижению высокого, слабостям могущего. При
открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он
мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как
вы — иначе»1. Вот это «иначе» всегда надо помнить, учитывать
при описаниях и изображениях великих. Ни в чем не уступая
людским пересудам и толкам, останемся верными пушкинскому
совету: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением» .
Так называемое повседневное поведение Пушкина или
Толстого было именно нормальным, если под нормой понимать
то, что происходит или должно происходить в жизни между
людьми во всех без исключения случаях (скажем, в
противоположность правилу или закону, которые можно выполнять,
соблюсти, а можно и не выполнить, не соблюсти). Более того, они
образцы нормального поведения, но не в его обыденном,
банальном выражении, когда над всем господствует некий
стандарт, абстрактно-всеобщая норма, а как подлинно
человеческое, свободное проявление индивидуальности в пределах
общепринятого. Ведь нормы только выглядят как обыденно-
традиционные, но в реальном движении жизни они конкретно-
историчны (хотя и включают в себя момент общечеловеческий).
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.В 10-ти т. М.-Л.,1949, т. 10, с. 191.
2- Там же, с. 190.
I«)
Что такое с современной точки зрения быть «нормальным
человеком», жить нормально? Нормально — трудиться, а не
жить чужим трудом и за чужой счет; нормально — жить
в согласии со своей совестью, не допуская разрыва между словом
и делом, мыслью и чувством; нормально — говорить правду,
ненавидеть ложь, сохранять чувство собственного достоинства во
всех ситуациях и обстоятельствах; нормально — быть простым
и ясным в своих желаниях, душевных порывах, «быть
человеком» во всем и всегда. А. Блок с горечью отмечал: «Есть много
талантливых писателей и нет ни одного, который был бы
«больше себя»1. Быть «больше себя»—это бескорыстие,
способность откликаться на чужую радость и боль. И это тоже
входит в понятие нормального. Короче, нормальное — то, что
относится ко всем, обязательно для всех, в том числе и для
выдающихся личностей. Будучи гениями в своем творчестве,
Пушкин и Толстой привлекают и поражают своей
нормальностью во всем остальном.
Но до такой нормальности другим — многим из нас!— надо
тянуться и тянуться. Ведь норма тоже содержит в себе момент
должного и может быть идеалом. Жаль, если кто-то понимает
норму как некое усреднение, понижение проявлений
человеческого в человеке обязательно до массовидных размеров.
Норма — это то, что в идеале должно было бы присутствовать
в каждом из нас, фиксируя и подтверждая нашу принадлежность
к роду человеческому, обозначая принципиальное отличие от
«животной личности» (выражение Л. Толстого).
Когда Ф. М. Достоевский назвал Пушкина чисто русским
типом человека в его законченном развитии, он, видимо, имел
в виду не только гений его творчества. Чтобы поступить так, как
поступил Пушкин на дуэли, где все детали его поведения до
и после поединка пронизаны глубокой человечностью и
простотой; или так, как всецело отдался Лев Толстой делу помощи
голодающим, забыв надолго о писательском призвании,— надо
быть не гением, а просто настоящим человеком. Гениальностью
Пушкина и Толстого можно восхищаться, а образу их действий
и мышления можно и нужно подражать как норме подлинного
человеческого бытия.
Люди нередко прибегают к уловкам, обманным движениям
в своем сознании, чтобы ублажить собственное самолюбие
и тщеславие. Например, они охотно объявляют чем-то
исключительным самые нормальные поступки, мысли, требования.
«Хитрость разума» в данном случае понятна: не возведя
в степень исключительного, выдающегося нормальное, придется
1 Блок А. Собр. соч. В 8-ми т., т. 5, с. 368.
I'.in
признаться самим себе, что ваша собственная жизнь, способ
мышления и действий есть отклонение от нормы. Раздражение
и недовольство Софьи Андреевны понять нетрудно, поскольку
расхождений между нею и Львом Николаевичем с годами
становилось все больше и больше. Но если вдуматься в суть этих
разногласий, ничего неуравновешенного, а тем более уродливого
в претензиях и поступках Толстого не было.
Так, в конфликте «отец и дети» правота Льва Николаевича
была несомненна, и вскоре после его смерти Софья Андреевна
вынуждена будет это признать. В повести «Возвращение на
круги своя» хорошо передано раздражение и недовольство
Толстого праздностью, «дармоедством» своих детей, которых
«много и все они бестолковы». Ах, если б знать заранее, что
получится из того, кто будет носить твою фамилию?! Вот,
к примеру, сын его, Андрей Львович, уже взрослый и
образованный человек, в своем отношении к миру крайне далек от отца,
чужд ему. В тот постыдный вечер, когда близкие Толстого
решили с помощью приглашенной из столицы знаменитости —
профессора психиатрии проверить его «нормальность», Андрей
Львович в очередной раз решил поставить под сомнение
способность отца поступать целесообразно, мудро в житейских
делах. Речь зашла о том, стоило ли ему, уже пожилому человеку,
отправляться, как он сделал в этот вечер, за пятнадцать верст,
чтобы "проведать крестьянина Митрия, у которого случилось
большое горе — пала лошадь. «В экономическом плане горе
Митрия из Кузьминок измеряется всего тремя рублями,
и незачем тащиться... вместо того, чтобы отправить ему
посыльным три рубля»— так рассудительно-высокомерно
выразил свою позицию сын. Этот разговор угнетал Толстого. Он
сказал: «Еще протопоп Аввакум знал, что рублями в России
многого не достигнешь. И, между прочим, раз зашел об этом
разговор, то Митрию не столько три рубля нужны были, сколько
нужен был незнакомый человек, которому он смог еще раз
излить свое горе и тем самым облегчить себя». Когда затем
Софья Андреевна прервала подробный рассказ Льва
Николаевича о том, как они с Митрием везли мерина хоронить, Андрей
Львович сказал поучительно: «Важно существо дела, а не
подробности». Толстой улыбнулся. «Нет, ты ошибаешься.
Истина вне подробностей не стоит ломаного гроша».
Толстой не безразличен к благополучию и судьбе
собственных детей, «родной крови», но и с ними он строит
отношения на принципиальной основе. Он не требует от них
разделять его убеждения, идеалы, вкусы, считает себя не вправе
мешать им жить по собственному усмотрению, идти своим путем.
Он убежден, что, став взрослыми, самостоятельными, дети
1!)1
должны идти дальше, пробовать свои силы, ошибаться,
оплачивая все собственным трудом. Как много еще и сегодня
родителей, стремящихся освободить свое взрослое чадо от заботы
о «куске хлеба», не давая ему самостоятельно решать проблемы
собственного благополучия. Они неправомерно меньше думают
над тем, как воспитать из сына или дочери хорошего человека,
считая, видимо, их нравственную, духовную зрелость чем-то
производным от материальной обеспеченности или полагая, что
плод сам созреет. А он не зреет — воспитывается, «вы дельта-
ется»!
Касаясь темы ответственности семьи, родителей за
воспитание детей, не утратившие актуальности мысли высказывает
Ф. М. Достоевский в своем дневнике. Эти мысли навеяны
сопоставлением семьи, изображенной Толстым в «Детстве»
и «Отрочестве», с семьей второй половины XIX века, которая, по
словам Достоевского, все более становится «случайным
семейством»1. Случайность означает поверхностность, зыбкость,
неопределенность, внутреннюю пустоту и необязательность
семейных отношений. Достоевский задается вопросами: отчего
столь распространено среди молодых людей ленивое отношение
к делу, к труду, к своим гражданским и сыновним обязанностям?
Откуда берется зряшное отрицание прежних нравственных
ценностей семейных отношений? На чем держится «порядок»
в семье и какова ответственность родителей за воспитание своих
детей? Писатель видит причину неблаго 1учия в семьях
русских интеллигентов в утрате отцами общей нравственной
идеи по отношению к семье, которую они как веру, убеждение
передали бы своим детям.
Ответ и посылка верные: хочешь понять, почему «дети» не
такие, какими бы хотелось их видеть, вглядись повнимательнее
в «отцов», которые их формируют, воспитывают. Немало
родителей, замечает Достоевский, сводят воспитание, все свои
обязанности в семье к доставанию бифштекса: «Бифштекс
с кровью и кончено...»2 И это родители, которые не могут в силу
своей образованности, так сказать, «нетемноты» ссылаться на
незнание элементарных моральных и педагогических истин. При
случае они не прочь на других, за пределами собственного
семейства, знание этих истин продемонстрировать. А вот
«воспитание» собственных детей ограничивается тем, чтобы
хорошо одеть, накормить и подготовить в университет.
Между тем «без зачатков положительного и прекрасного
нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков
1 См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Спб., 1883, т. 12, с. 200.
2 См. там же, с. 207.
192
положительного и прекрасного нельзя пускать поколение
в путь»'. Эти зачатки ■— не слова и нотации, моральные прописи,
которыми так увлекаются некоторые родители, а пробуждение
и воспитание в детях на личном примере, путем убеждающей
силы своего образа жизни и поведения начал доброты,
трудолюбия и ответственности. А есть родители, особо отмечает
Достоевский, которые от обязанностей по воспитанию
откупаются деньгами. «Все оттого, что воспитание детей есть труд
и долг,— для иных родителей сладкий, несмотря на гнетущие
даже заботы, на слабость средств, на бедность даже, для других
же, и даже для очень многих достаточных родителей,— это
самый гнетущий труд и самый тяжелый долг. Вот потому
и стремятся они откупиться от него деньгами, если есть деньги»2.
И сегодня многие «отцы» вразумительно расскажут вам, чем
и как они помогли своим детям материально: построили
кооперативную квартиру, купили автомобиль или мотоцикл,
«достали» модный мебельный гарнитур, и, к сожалению, гораздо
реже вы почувствуете гордость родителей за то, что они
воспитали настоящего гражданина, доброго, совестливого,
порядочного человека.
Забота б духовном развитии и нравственной воспитанности
будущего гражданина должна опережать заботу о его
материальном бытии уже с раннего детства. В такой постановке вопроса
нет ни грана аскетизма, посягательства на права детства или
умаления матер^ЗДьных потребностей. Просто не следует
подменять воспитание «снабженчеством», а формирование
личности с развитыми общественными запросами и интересами,
с богатой индивидуальностью — пробуждением и
культивированием инстинкта «потребления». И не стоит при этом ссылаться
на тезис «об удовлетворении растущих потребностей» как
решающем условии формирования и подлинного расцвета
личности. «Прежде, чем говорить о благе удовлетворения
потребностей, надо решить, какие потребности составляют
благо»3. Ведь праздная жизнь тоже есть непрерывный процесс
удовлетворения всевозможных потребностей. Но каких именно?
И за чей счет?
Толстой смотрел в корень вопроса, когда на пороге своего
50-летия пришел к выводу, что работа и потребление должны
находиться в соответствии друг с другом. Странно, как много
сказано о вегетарианстве, аскетизме Толстого, но незамеченной
осталась благотворнейшая мысль о потреблении, соответствую-
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч., т. 12, с. 209.
2 Там же, с. 219-220.
3 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 54, с. 77.
13 Ллчял 4(Ш
193
щем труду. Ход рассуждений Толстого логичен. Высшее
счастье — отдавать себя другим, и это должно быть
подтверждено трудом как наиболее длительным и сосредоточенным актом
деятельности. Но для этого работа должна соответствовать
потреблению и наоборот. «Главное несчастье наше — это то, что
мы потребляем больше, чем работаем, и потому путаемся
в жизни. Работать больше, чем потреблять, не может быть
вредно. Это — высший закон»1.
Не надо торопиться с осуждением этого вывода, не
разобравшись в сути сформулированного Толстым «высшего
закона». Говоря о работе, он имел в виду не труд-жертву, а такой
труд, что приносит человеку удовлетворение и содержит в себе
общественное благо. Да и самая работа должна, согласно
Толстому, соответствовать потреблению так, что недостаточное
потребление отрицательно отразится на работе, будет
сдерживать интенсивность трудовой деятельности человека.
Толстовское суждение не имеет ничего общего с модным анархистским
тезисом: «Много работать, чтобы мало потреблять». И было бы
поверхностным усматривать в нем проповедь аскетизма или
апологию бедности потребностей. Толстой хорошо понимал, что
человеку не так уж мало надо. Его заботит несоответствие между
потреблением и трудом, личным вкладом человека в
общественное благосостояние, в развитие материальной и духовной
культуры. Не с потреблением, как таковым, сражается Толстой,
а с «дармоедством», с бездумным и бесцельным
«потребительством», особенно с той его вульгарной формой, когда
потребление существует ради потребления, осуществляется без какой-
либо существенной отдачи в экономику, в общественное
благосостояние.
Общество не может перестать потреблять, как не может
перестать производить2. Однако отдельный человек и даже целые
социальные слои могут позволить себе в определенных условиях
потребление без отдачи, без деятельного участия и личного
вклада в общественное производство. Тогда и возникает то, что
К. Маркс назвал «потребляющим богатством с нечистой
совестью»3. А его обладатели выступают как олицетворение
функций потребления без труда, «потребления ради
потребления». Потребительство плохо даже при условии честного труда
того, кто «заболел» такой страстью. Но это проблема воспитания
культуры потребностей, развитости интересов, способности не
терять из виду смысл человеческого существования. Совсем иное
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 49, с. 104.
2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 578.
3 См. там же, т. 26, ч. I, с. 276.
НИ
и более страшное явление — потребление, оторванное от труда,
противопоставляемое труду.
Настаивая на приоритете «работы», Толстой по сути
вплотную подошел к распознанию диалектики труда и
потребления. Как известно, смысл потребления — и экономический
и собственно человеческий — заключается в том, что оно
поставляет производству некий «внутренний образ»,
«потребность» и «цель»1, то есть то, ради чего производство
существует и развивается. Применительно к деятельности
конкретного субъекта производство и потребление «выступают
как моменты такого процесса, в котором производство есть
действительно исходный пункт, а поэтому также и
господствующий момент... Индивид производит предмет и через его
потребление возвращается опять к самому себе, но уже как
производящий и воспроизводящий себя самого индивид.
Потребление выступает, таким образом, как момент
производства»2. Будучи моментом самой производительной деятельности,
потребление активно участвует в процессе становления и
развития субъекта общественного производства, производства и
воспроизводства общественной жизни в целом. Согласно Марксу
и Энгельсу, нормальным является такое удовлетворение
потребностей, которое ограничено лишь самими потребностями3.
«Разумная» потребность в потреблении формируется и
воспитывается" общественно полезной деятельностью. Там, где это
первичное условие отсутствует, нельзя рассчитывать и на
нормальное потребление. Оно неизбежно будет животным по
содержанию и эгоистическим по характеру. Более или менее
значительное расхождение между производством и
потреблением ни к чему хорошему привести не может, напротив, рано или
поздно породит всяческие нравственные вывихи и уродства
с непредсказуемыми социальными последствиями.
Настаивая на своем тезисе единства труда и потребления,
Толстой исходит из того, что ничто так не уродует человека
нравственно, духовно (кроме разве дурного воспитания), как
недеятельное, паразитическое существование, жизнь за «чужой
счет». Личное потребление, не связанное с трудом или ему не
соответствующее, деформирует человеческие потребности. Вот
его собственные дети вместе с их матерью убеждены в том, что
все добытое и зарабатываемое литературным трудом их отца
принадлежит и им, уже взрослым и самостоятельным людям,
принадлежит не по праву «совместного труда», а по наследству,
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 28.
2 Там же, с. 30.
3 См. там же, т. 3, с. 246.
[3*
1 «Г)
которым они уже при жизни отца распоряжаются как личной
собственностью. Разве это справедливо? Все эти вопросы не
потеряли актуальности и остроты и в наше время.
Как-то повелось, что понятие «счастливое детство» (или
юность) стало отождествляться с жизнью вне самостоятельного
труда, включать в себя лишь учебу. Но это не имеет ничего
общего с марксистским представлением о полноценности жизни
детей, подростков, молодых людей. К. Маркс считал здоровой,
прогрессивной тенденцией привлечение детей и подростков
обоего пола к участию в общественном производстве (понятно, не
в уродливых формах, как при капитализме). «При разумном
общественном строе каждый ребенок с 9-летнего возраста
должен стать производительным работником так же, как
и каждый трудоспособный взрослый человек, должен
подчиняться общему закону природы, а именно: чтобы есть, он должен
работать, и работать не только головой, но и руками»1. Речь идет
не об уроках труда в школе, порой дискредитирующих идею
труда бесполезностью и бессмысленностью осуществляемой на
них деятельностью, и не об учебной и производственной
практике в рамках программы обучения в вузе или техникуме, но
о труде как таковом, составляющем обязательное условие
полноценной человеческой жизни. Нет ничего
предосудительного в том, что школьники или студенты узнают цену
заработанному рублю, научатся уважать любой общественно полезный
труд, принимая в нем посильное участие (например, работая
в каникулярное или внеучебное время в составе
строительных отрядов, в качестве продавцов, почтальонов, официантов,
дворников, вспомогательного медицинского персонала и т. д.).
Целесообразный, полезный людям, в разумных пропорциях труд
не может помешать развитию и счастью подростка, молодого
человека.
Соответствие потребления труду исключает грубую
уравнительность в удовлетворении человеческих потребностей. Так,
различия в труде при социализме ведут за собой элементы
неравенства и в потреблении. Но правомерны и объяснимы
различия в потреблении, проистекающие из различий в затратах
труда, а не те проявления фактического неравенства, которые
вызваны разного рода привходящими факторами и
соображениями. Например,* деформирующая развитие личности
«зависимость» детей от родителей, когда привилегии в потреблении,
предоставляемые заслужившим того родителям, неоправданно
распространяются на их взрослых детей. «Дармоедство», так
раздражавшее Толстого, проявляется не только в формах
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 16, с. 197.
196
открытого паразитизма, тунеядства, но и в этих более скрытых
формах великовозрастного иждивенчества.
Для Льва Толстого обсуждаемая проблема была вопросом
вопросов его мировоззрения, который он безуспешно пытался
разрешить в собственном доме. И когда на рубеже 80-х годов ему
открылась несправедливость и безнравственность «наилучших
условий жизни», в которые он был поставлен от рождения
(оттого, что родился в семье помещика, владельца поместья), он
во всеуслышание провозгласил: «Я отрекся от жизни нашего
круга, признав, что это не жизнь, а подобие жизни, что условия
избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности
понимать жизнь...»1. Не поддержанный никем из близких, он
настойчиво стремится подтвердить свое прозрение личным
примером, закрепить собственной практикой то, что казалось
ему справедливым, нормой человеческого бытия. Не
удовлетворенный тем, что он сделал во изменение своего образа жизни, он
решится на склоне лет уйти из дома,— с мыслью осуществить
(по принципу «будь, что будет!») свой новый план жизни...2
Если понятие гениальности точнее всего обозначает степень
дарования и результаты творчества Толстого как художника, то
понятие нормы гораздо продуктивнее для оценки его образа
жизни. Согласно марксизму, системообразующий признак
жизнедеятельности личности — это участие человека в труде и его
отношение к труду. Ни бытовые условия, ни личные
способности, ни характер потребления, а именно отношение, к труду
определяет образ жизни личности прежде всего и придает ему
общественную значимость. И в этом плане, как ни
парадоксально, помещик Лев Толстой может служить образцом трудового
образа жизни, неутомимого труженика. Работа для него, и работа
не от случая к случаю, не в виде забавы, творческих порывов
и вдохновенных взлетов духа, а работа каждодневная, без
«выходных» и «отпуска», работа любая — чистая и черновая,
умственная и физическая — была первейшей потребностью
и радостью, источником внутреннего удовлетворения и счастья,
просто хорошего самочувствия и настроения. Тому, кто знает это
состояние, когда с удовлетворением заранее предвкушают
встречу с любимым делом, испытывают нетерпение продолжить
прерванное вчера, жаждут возможности вновь окунуться
с головой в муку рождения мысли, образа, формулы и живут
ожиданием «чуда» появления желанного результата —
интересного, конструктивного решения, точной, удачной строки
и т. д.,— тому образ жизни Толстого будет понятен в самом
'-. Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 49, с. 104.
2 См.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 351.
197
главном, так сказать, исходном пункте. Нет работы хорошей
и плохой, нужной и ненужной, творческой и нетворческой.
Работа бывает любимая и нелюбимая. «Только тогда и можно
работать, когда любишь свое дело»1,— говорит Толстой.
Игнорируя эту, казалось бы, самоочевидную мысль, мы очень много
теряем на противопоставлении одних профессий другим, деля их
на более или менее нужные, престижные. Почему, собственно,
дело повара или продавца менее важно или интересно, чем
работа сталевара, токаря, сельского механизатора?
Мы мечтаем о времени, когда труд станет первой жизненной
необходимостью, потребностью каждого человека, главным
источником радости и удовлетворения. Тогда сама собой
исчезнет дилемма, которая сегодня еще актуальна и нередко
обсуждается,—«работать, чтобы жить», или «жить, чтобы
работать»? Дилемма ложная, пустая, если труд человеку
в радость, и она же становится серьезной проблемой там и для
того, где и для кого работа, труд не более чем средство
существования. Вопрос этот теряет силу по мере стирания
противоположности между «жизнью» и «трудом», разрешения целого ряда
социальных, моральных и психологических проблем, связанных
с этим противоречием.
Но, спрашивается, какое отношение ко всему этому имеет
Лев Толстой-граф, владелец собственного поместья, доход от
которого, пусть и небольшой, позволял ему отказываться от
гонораров за свой литературный труд?
Являя собой пример настоящего труженика, Толстой был по-
настоящему счастлив лишь в периоды абсолютного погружения
в творчество, в работу, а бездействие, вообще любая форма
пассивного ожидания событий воспринимались им как несчастье
и наказание. Такое ощущение возникло у него не сразу, он долго
шел к нему, преодолевая склонность к лени, которую, подобно
Канту, считал унизительнейшим из человеческих пороков.
В минуты умственного отдыха, необходимого или вынужденного,
Толстой был раздражителен, недоволен собой. Врач С. Я. Ел-
патьевский говорит о чувстве умственного и мускульного голода,
постоянно испытываемом Толстым: «По-видимому, ему чуждо
было, и несвойственно, и не удовлетворяло его —«поработать»,
«подумать», а нужно было сильно работать, много думать,— над
тем, что приходило к нему изо дня в день в виде бесчисленных
писем и расспросов...»2 Внутренне он никогда не был в
бездействии, как отметила Софья Андреевна, «в душе он никогда не
спит, а всегда происходит в нем сильная нравственная работа»3
1 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 296.
2 Там же, с. 145.
3 Толстая С. А. Дневники. В 2-х т., т. 1, с. 48.
h)<s
Утверждение личным примером и авторитетом величайшей
ценности труда — неоценимое достояние, оставленное нам
в наследие выдающимися представителями культуры прошлого.
Вспомним наряду с Толстым отношение к труду Микеланджело,
Бальзака, Пушкина или Циолковского. Почему нами выделены
прежде всего деятели культуры? Дело в том, что на их примере
легко убедиться в том, что одного таланта мало, чтобы создать
что-то значительное в любом деле, и гениальность не
«вывезет» сама по себе,— нужен еще упорный, каждодневный
труд, интенсивнейшее напряжение. «Что в час написано, то
в час и позабыто»— это наблюдение-вывод принадлежит гению
А. С. Пушкина. Нужна привычка к работе, которая составляет
основу «нравственной гигиены», если воспользоваться образным
выражением А. И. Герцена. Толстой обладал этой привычкой
в высшей степени. Он гордился тем, что мог косить, не отставая
от мужиков, портняжничать, работать умственно по восемь —
десять часов подряд, и по праву считал себя человеком
телесно и духовно здоровым.
Выработанная всею жизнью привычка к каждодневному
труду, ни на секунду не прекращаемая деятельность неуемного
сознания вошли в плоть и кровь Толстого настолько, что даже
тяжелобольным, в полусознательном состоянии он живет прежде
всего потребностью работать, делать привычное дело.
Очнувшись, ненадолго выйдя из забытья перед самым концом, Толстой
в повести Друцэ попросил еле слышным голосом: «Голубчик,
я уже два дня ничего не правлю, и накопилось много
незавершенной работы. Как бы мне выправить рукопись...
Чертков, наклонившись, спросил:
— Какую рукопись вы имеете в виду?
Толстой передохнул, потом сказал:
— Все равно какую. Я ведь последние два дня не переставая
диктую». И в беспамятстве писатель не знал отдыха. Чертков
взял набросок к статье об отмене смертной казни и начал читать.
«Хотя Чертков читал внимательно, не отрывая глаз от листа,
какое-то чувство подсказало ему, что больному плохо. Он
отложил лист, наклонился над больным. Рука Льва
Николаевича, мелко вздрагивая, бежала по одеялу. Не успев до конца
дослушать свою последнюю статью, он спешил ее править. Он
всю жизнь правил, неисчислимое количество раз правил —
инстинкт совершенствования своего труда был самой глубокой
жизненной потребностью этого величайшего из художников».
Пример Толстого-труженика поучителен еще и тем, как
много он работал. В. М. Шукшин вспоминал о годах учебы
в кинематографическом институте и о своем учителе М. И.
Ромме: «Он учил работать. Много работать. Всю жизнь. Он и начал
ню
с того свою учебу — рассказал нам, как много и трудно работал
Лев Толстой. И все пять лет потом повторял: «Надо работать,
ребятки». И так это засело во мне — что надо работать, работать
и работать: до чего-нибудь все же можно доработаться. «Надо
читать», «подумайте»—это все тоже приглашение работать.
«Пробуйте еще»— это все работать и работать. Он и сам работал
до последнего дня. Так только и живут в искусстве — это
я теперь до конца знаю»1.
История оставила нам множество положительных примеров
настоящего трудолюбия. Каждый человек рождается на свет со
склонностью к какому-либо виду труда, доказывал Фурье.
Абсолютная леность, по его мнению, бессмыслица; она никогда
не существовала и не может существовать, ибо в природе
человеческого духа заложена потребность быть деятельным
самому и побуждать к деятельности свое тело2. Это верно. Но как
сложно, однако, прививается совершенно нормальному, не
ленивому человеку такая нормальная положительная привычка,
как потребность в доле каждодневного труда! Ценность труда
осознается отнюдь не каждым и не без духовных, нравственных
усилий. Трудолюбие не приходит само собой. Потребности
«много работать» (понятно, по собственной охоте) надо учить
с детства, прививая к слову «работа» уважительное отношение.
Толстой знает цену труду и считает, что за труд, полезный
другим людям, обществу следует платить соответственно его
цене. Сам он, по свидетельству современников, не любил как
недоплачивать, так и переплачивать .
Кто что стоит — вопрос непростой. Современному человеку
известна отрицательная форма, антигуманный способ
поддержания ценности труда, применяемые уже давно капитализмом. Это
безработица, заставляющая миллионы людей ценить труд,
точнее, не самый труд, а преимущественно его функцию
материального средства к жизни, проще говоря, ценить его как
источник заработка. Все остальные функции труда как
положительной творческой деятельности, отличающей собственно
человеческое существование от животного, при этом
игнорируются или отодвигаются на задний план. Но есть и другая, так
сказать, «положительная» форма обесценения труда, когда не
ценят то, что имеют, чем обладают. Труд рассматривается в этом
случае преимущественно с «потребительской» точки зрения
и ценится лишь за заработок, который он дает. В условиях
отсутствия безработицы, остро ощущаемого недостатка рабочих
рук пагубное значение подобного явления трудно переоценить
1 Шукшин В. Вопросы самому себе. М., 1981, с. 158.
2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 528.
3 См.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 329.
200
(особенно в случаях, когда существуют лазейки для получения
нетрудовых доходов или возможность жить, находясь в добром
здравии, на чьем-то иждивении). Это крайняя форма
обесценения труда, и она сравнительно редко встречается в
социалистическом обществе.
Практика показывает, что ценность труда не остается
неподвижной, неизменяющейся категорией. Это отчетливо
проявилось в ходе современного движения за повышение
эффективности социалистического общественного производства
и качества продукции. Например, обнаружилось, что можно
плохо работать, выпускать недоброкачественную продукцию,
имитировать деятельность, либо просто отлынивать от работы
и при этом аккуратно получать заработную плату, премии,
«числиться» в ряду работающих и выполняющих
производственные задания. Общественность начала обсуждать вопрос —
за что премия? Но еще раньше стоило бы выяснить — за что
зарплата? Этот актуальный социально-экономический и
нравственно-психологический вопрос был остро поставлен на XXVI
съезде КПСС: «Всякого рода уравниловка, факты начисления
зарплаты по существу лишь за явку на работу, а не за ее
реальные результаты, выдачи незаслуженных премий — все это
крайне вредно сказывается и на производственных показателях,
и на~ психологии людей»1. О зарплате и премиях (последние,
кстати, превратились для некоторых просто в часть заработной
платы, чуть ли не гарантированную безотносительно #
действительному личному вкладу в выполнение плановых заданий
и заранее планируемую в семейном бюджете) говорится потому,
что при достигнутом уровне трудового и нравственного сознания
они остаются наиболее действенным средством, орудием
стимулирования труда, рычагом контроля за его количеством
и качеством.
Ясно, что ценность труда измеряется не только
справедливостью его вознаграждения, но этот моральный мотив тоже очень
важен, существен, особенно в условиях социализма. Ведь
наступает момент, и моральное из мотива (идеальное)
превращается в поступок, действие (материальное). Как известно,
и политэкономия выражает моральные законы, но на свой лад.
Под этим углом зрения полезно проанализировать феномен
«человек не хочет работать», фиксируемый экономистами
и социологами, исследующими социальные проблемы труда.
Морально-этический аспект этого одновременно экономического
и социально-психологического явления связан либо с проблемой
неудовлетворенности людей самой работой (недостаточно твор-
1 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 59.
201
ческой, интересной, попросту «нелюбимой»), либо с проблемой
«маленькой зарплаты», не позволяющей им обеспечить
соответствующий их запросам уровень жизни. Сведения о заработной
плате и ее динамике приобретают смысл лишь при
сопоставлении с реальной «стоимостью жизни», с учетом динамики
потребностей, изменений в их структуре. Решение этой трудной
проблемы зависит от общего роста богатства общества, уровня
развития его производительных сил, стало быть, самый факт ее
возникновения имеет некое серьезное основание и может
получить объяснение. Но накопилось немало фактов трудно
объяснимых.
Какова, например, социальная и моральная обоснованность
«должностного» и «ведомственного» принципа неравной оплаты
равного труда, получившего довольно широкое
распространение? Почему, скажем, шофер, медсестра, секретарь-машинистка
или инженер-электрик, работающие в одном ведомстве, при всех
прочих равных условиях получают более высокое
вознаграждение и дополнительные привилегии за труд, равный по всем
показателям труду их коллег, работающих в другом ведомстве?
Как объяснить, к примеру, встречающееся иногда явление
непрестижности профессий, требующих труднодостижимых
знаний? Бригадир слесарей-электромонтажников член ЦК
КПСС С. Н. Савин пишет: «...и техники, и инженеры — те же
вчерашние рабочие, крестьяне, выходцы из трудовых семей. Они
больше учились, чем, скажем, токарь, фрезеровщик, шофер,
многим пришлось брать нелегкие барьеры, требовавшие всякий
раз основательной подготовки. Справедливо ли, что техник,
инженер проигрывает в оплате труда? Думаю, несправедливо»1.
Считая тягу к знанию, образованности благородным, гуманным
в своей основе человеческим устремлением, автор подходит
к оценке труда с подлинно общественной точки зрения. Ведь
образование дается человеку не только для труда, который
становится все сложнее, но и для всей жизни человека, делая
богаче круг его интересов, запросов, потребностей.
Общественные отношения союза свободных людей к их труду
и продуктам их труда, подчеркивал К. Маркс в «Капитале»,
должны быть «прозрачно ясными как в производстве, так
и в распределении»2. Речь идет не об уравниловке, с которой
надо бороться самым решительным образом, последовательно
применяя на практике социалистический принцип «от
каждого — по способностям, каждому — по труду». Но надо ли,
1 Савин С. Зачем токарю учиться (Переписка с читателем).— Правда, 1982,
30 ноября.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 89.
202
скажем, платить за талант — вопрос спорный. Возражая
сенсимонистам, некоторые авторы утверждали, «что талант, вместо
того чтобы быть вознаграждаемым, должен считаться скорее
преимуществом, данным природой, а поэтому для
восстановления равенства следовало бы делать известный вычет из
полагающейся талантливым людям доли»1. Возражение
остроумное, но реальная практика современного общественного
производства «советует» отнестись к нему критически и,
напротив, отнестись внимательнее к точке зрения социалистов-
утопистов.
Практика убеждает, что за способности и талант в любой
сфере деятельности надо все-таки платить, поощряя его
морально и материально; что в этом случае выигрывает все
общество, а теряют лишь те, кто не по праву занимает место
талантливого человека. Проиллюстрируем это одним примером.
Как отметил автор одной из статей в «Правде», 20—25 лет назад
наука держала по оплате труда первое место в народном
хозяйстве. В сочетании с престижностью труда ученых это
способствовало приходу талантливой молодежи в их ряды.
Теперь научная работа стала одним из массовых занятий, а по
средней оплате труда отстала от таких сфер, как строительство,
промышленность, транспорт. Не в этом ли, спрашивает автор
статьи, одна из причин текучести кадров в научных
учреждениях 2.
Ленинская мысль о том, что талант — редкость и его надо
систематически и осторожно поддерживать, продолжает
оставаться актуальной. Это особенно важно подчеркнуть в связи
с такими проявлениями вульгарного потребительства, как
претензия на заработок и достаток не по мерке затраченных
трудовых усилий и вкладу в благосостояние общества.
Претензия эта подогревается обывательским пониманием равенства
на манер: «А чем, собственно, получающий больше меня лучше
меня?» Подобная тяга к «равенству» чужда духу социализма.
Единственным мерилом равенства при социализме является
общественно полезный труд по способностям, его качество
и количество.
«Наша система материальных и моральных стимулов,—
говорится в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии,—
должна всегда и повсеместно обеспечивать справедливую
и объективную оценку трудового вклада каждого. Надо всемерно
поощрять добросовестных работников, не оставлять лодырям
и бракоделам никаких лазеек для хорошей жизни при нику-
7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 527.
2 См.: Лахтин Г. Научный потенциал. Как им распорядиться? — Правда,
1981, 26 ноября.
20.4
дышной работе. Кто хочет жить лучше, должен больше и лучше
работать»1. Позиция активной поддержки, материального и
морального поощрения трудового образа жизни прямо сказывается
на повышении престижа, авторитета, ценности труда. И,
наоборот, снижение и падение морального «веса» труда
наблюдается там, где плохо сделанная или невыполненная
работа принимается, считается выполненной, достойной
вознаграждения; где проявляется неуважение к конечному продукту
труда (допускаются разбазаривание средств, потери сырья
и готовой продукции, что обессмысливает воплощенный,
материализованный, «опредмеченный» в них живой труд огромного
числа тружеников); где дает о себе знать равнодушное
отношение к социалистической общественной собственности.
Но вернемся опять к Толстому...
Многоговорящая деталь — его руки. В Ясной Поляне доктор
Д. П. Маковицкий, сидя рядом с постелью больного писателя,
в который раз наблюдал, как три пальца правой руки, лежавшей
полусогнуто, словно она держится за пояс, тихо и медленно
вздрагивали, точно Толстой и спящим водил пером по бумаге.
Все другие привычные для человека инстинкты у Льва
Николаевича были заглушены этой физической реакцией на
безостановочную (и во сне и в беспамятстве) работу мысли. А. М.
Горький обладал феноменальной физиономической
наблюдательностью и памятью. В его посмертном словесном портрете писателя
толстовские руки упомянуты не раз и говорится о них как об
особо примечательном явлении. Грубые, некрасивые, узловатые,
но одновременно удивительные, необыкновенные, исполненные
впечатляющей выразительности и творческой силы (и движения
пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха). «Вероятно,
такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно
делать все»2. Врач С. Я. Блпатьевский вспоминает: «...большие
руки, словно всю жизнь тяжко работавшие...»3 Профессор
А. Г. Русанов описывает сделанный при жизни писателя
гипсовый слепок с его правой руки: «Какая это мощная, большая
рука! Широкий овал предплечья, крепкие пальцы с коротко
обрезанными закругленными ногтями и мозолистой кожей на
ладони. Простая крестьянская рука»4. В. В. Вересаев:
«...бросились в глаза его поразительной красоты старческие руки»5.
Натруженные руки пахаря, молотобойца или сталевара —
символ физического труда, напряженного творчества созидате-
1 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 59.
2 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 14, с. 254, 286.
3 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 139.
4 Там же, с. 73.
5 Там же, с. 165.
21)4
лей материальных благ. Но символом могут стать и руки
хирурга, ученого-экспериментатора, дирижера оркестра,
пианиста, писателя. Толстой пахал, косил, плотничал, занимался
шитьем — короче, знал цену мужицкому труду, высоко чтил
работу крестьянских, рабочих рук и, бывало, ставил их усилия
выше труда интеллигента. Руки Толстого действительно умели
многое, порой уставали за день так, что начинали ныть и не
давали ему спать1. Но говоря о его работящих, постоянно
ищущих себе работу руках, мы имеем в виду нечто иное, чем
физические усилия.
О натруженных руках писателя, оправдывающего это
название, надо говорить хотя бы потому, что ими* несчетное число
раз переписывается, переделывается, казалось бы, уже готовый
роман или стихотворение. Хорошие писатели и поэты
переписывают, переделывают «по своей охоте», не дожидаясь требований
издателей и редакторов. В одном из писем К. Маркс отмечал и за
собой такую особенность: «...если я вижу что-нибудь уже
написанное мной месяц спустя, то оно меня уже не
удовлетворяет, и я снова все полностью перерабатываю»2. Это относится
и к скульптору, высекающему из мрамора человеческий лик-
образ, и к актеру, который пластически — мимикой лица,
движением тела — лепит на наших глазах внешний облик,
характер, судьбу незнакомого нам человека, совершенствуя
образ от спектакля к спектаклю.
Разумеется, и здесь, в сфере духовного труда, рука руке
рознь, как и в труде физическом. Руки автора «Анны
Карениной», переделывающие роман так, что от первоначального
замысла в конечном счете мало что остается, не следует путать
с руками внимательного, самого добросовестного переписчика,
даже если это руки Софьи Андреевны, терпеливо и любовно
воспроизводящие толстовский текст заново, со всеми
многочисленными переделками и новшествами. Без труда
репродуктивного, воспроизводящего уже готовое и известное, обойтись
никак невозможно, и его недооценка как в признании, так
и в вознаграждении общественно несостоятельна, вредна. Но
отсюда не следует, что напряжение и усталость от такого труда
сродни напряжению человека, рождающего еще небывалое,
творящего совершенно новый мир научных понятий, формул,
концепций, художественных образов и т. п. Разницу эту стирать
или игнорировать нельзя — будет утрачен важный критерий,
исчезнет мощный стимул развития как труда, так и самого
человека. Мы не случайно говорим об этом в связи с руками,
1 См.: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 49, с. 106.
2 Мцркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 512.
205
потому что творчество принято обычно соединять с работой
головы. На самом деле все не так просто, как кажется на первый
взгляд.
Творчество в любой сфере (как, впрочем, и настоящий
профессионализм) делает разницу между трудом материальным
и духовным малозаметной, а в условиях хорошей технической
оснащенности процесса труда она вообще отодвигается как бы на
второй план. На первый план выходит нечто иное — не усилия,
не напряжение само по себе, не «мышцы и пот», а процесс самого
созидания, творчества нового. Майя Плисецкая, танцующая
«Умирающего лебедя», творит так, что зритель не чувствует
никаких усилий с ее стороны. И только потом, за кулисами,
можно по усталому лицу и расслабленному телу догадаться, как
много сил — физических, нервно-психических — отдано в эти
несколько минут вдохновенного танца. Вообще везде, где труд
выступает как самоосуществление индивида и хотя бы чуть-чуть
выражает его как личность, самобытную индивидуальность,
которая стремится во все, что она делает, внести нечто свое,
он (труд) не может быть забавой, чем-то легким, тем более —
легкомысленным. Как писал К. Маркс, используя как пример
труд композитора, действительно свободный труд «представляет
собой дьявольски серьезное дело, интенсивнейшее
напряжение» '. В качестве примера такого труда можно привести и работу
самого Маркса над «Капиталом». По его собственному
признанию, ради создания этой книги он «принес в жертву здоровье,
счастье жизни и семью»2. Признание Маркса может быть
дополнено словами Женни Маркс: «...вряд ли какая-нибудь
книга писалась в более тяжелых условиях, и я вполне могла бы
написать тайную историю ее создания, в которой открылось бы
много, бесконечно много скрытых забот, тревог и мучений. Если
бы рабочие имели представление о жертвах, которые пришлось
принести для завершения этого труда, написанного лишь для
них и в защиту их интересов...»3
Творение духа, сознания принято объяснять талантом,
гениальностью, вообще особыми способностями человека. Но это
еще и результат огромного напряжения, которое существенно
отличается от изнурительности и усталости чисто
исполнительского акта, захватывает всего человека и требует от него полной
самоотдачи. Когда-то Л. Фейербах, с присущей ему
эмоциональностью и образностью, назвал акт творчества «нападением духа
на наше существование и самостоятельность, нападением не на
1 Маркс /Г., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. II, с. НО.
2 Там же, т. 31, с. 454.
3 Там же, с. 500.
2(К1
жизнь, а на смерть. Даже чисто научное, философское
творчество, которое расцветает лишь при полном господстве
разума, представляет собой в то же время экстаз, захватывает
всего человека, возбуждает живейшее напряжение чувств,
требует и вызывает наиболее интимное участие личности»1.
Сверхнапряжение, неотделимое от творчества, сопровождается
появлением раскованности, свободы и легкости, открывает
в человеке новые, дотоле неизвестные ему самому силы,
своеобразное «второе дыхание», возникающее на гребне
сверхусилия.
Творчество в любом виде деятельности, материальной или
духовной, тем и отличается от простого исполнительства, что оно
захватывает всего человека, соединяет и организует его
физические и духовные силы в нечто цельное. Без такой
цельности, собранности творческих сил и возможностей человека
деятельность его оказывается неполноценной (даже независимо
от конечных результатов, которые могут быть и блестящими).
Что же касается собственно физических усилий в труде
художника, ученого, хирурга, инженера, то это усилия особого
рода. Например, тонко чувствующие, «всевидящие», мастерские
руки хирурга есть органическое продолжение мыслящей головы,
предметное выражение того, что называется «талантливый
хирург». Тот, кто любит и чувствует настоящее искусство,
помимо таланта и вдохновения замечает и ценит также руки
Святослава Рихтера, извлекающие из инструмента, коим
пользуются многие хорошие музыканты, совершенно
уникальные созвучия, или тело Владимира Васильева, как будто
специально выточенное для танца. Так называемые творческие
работники (укоренившееся в общественном лексиконе неточное
наименование деятелей науки, литературы, искусства) — не
только высокоодаренные, наделенные каким-то особым талантом
люди, но еще и большие умельцы, мастеровые, профессионалы
своего дела. И всем, кто овладевает мастерством в любой области,
есть чему у них поучиться.
Вместе с тем понимание творчества как труда, связанного
только с деятельностью «головы» (для писателя), «рук» (для
художника), «тела» (для актера), было бы явно узким,
ограниченным и утилитарным. «Ведь именно «литератор»,—
писал А. Блок, характеризуя творчество писателя,— есть
человек той породы, которой суждено всегда от рожденья до
смерти волноваться, ярко отпечатлевать в своей душе и в. своих
книгах все острые углы и бросаемые ими тени. Для писателя —
мир должен быть обнажен и бесстыдно ярок. Таков он для
•Фейербах Л. История философии. В 3-х т. М,, 1967, т. 1, с. 500.
207
Толстого и Достоевского. Оттого — нет ни минуты покоя, вечно
на первом плане —«раздражительная способность жить
высшими интересами» (слова Ап. Григорьева). Ничего «утомительнее»
писательской жизни и быть не может»1. Она утомительна
и в обычном, «физическом» своем выражении. Толстой считал,
что писательская мысль должна получить в произведении ясное
и четкое выражение, должна быть доведена «до такой степени
простоты, точности и ясности, чтобы всякий, кто прочтет, сказал
бы: «Только-то? Да ведь это так просто!» А для этого нужно
огромное напряжение и труд»2. Немногим такое под силу, однако
одного таланта, даже самого большого, здесь мало.
Руки Льва Толстого, привыкшие неустанно трудиться,
писать, править текст, были, когда он лежал в гробу, по словам
Горького, «спокойно сложены — отработали урок свой
каторжный»3. А Черткову показалось, замечает в конце своей
повести Друцэ, что указательный палец правой руки Толстого
еще вздрагивал. Рука, которая полвека работала и подарила
миру бессмертные шедевры, теперь эта рука на третий день
после кончины, казалось, все еще была в движении...
О руках, способных одновременно пахать, косить,
портняжить и создавать шедевры мировой литературы, мы говорим так
подробно еще и потому, что здесь открывается тема, выходящая
далеко за рамки образа жизни отдельной личности. А именно:
тема труда, издавна рассеченного на физический
(материальный) и умственный (духовный), тема не преодоленного, не
изжитого до сих пор разделения труда. Проблема труда
и специализации составляет предмет постоянных размышлений
Толстого и настойчивых усилий в процессе построения
собственного образа жизни. Но «личными» мотивами и
результатами отнюдь не исчерпывается значение толстовского отрицания
общественного разделения труда.
Нетрудно доказать ошибочность позиции Толстого, по
существу отстаивающего точку зрения патриархального
крестьянина на развитие цивилизации и культуры. Можно понять
и даже разделить благородные мотивы, которыми он
руководствовался, отрицая противоестественное разделение труда на
физический и умственный, усмотрев в этом основную причину
противоположности труда и праздности, бедности и богатства.
Исторической и социальной необходимости общественного
разделения труда Толстой не видит. Для него это всего лишь
выверт, «кознь» истории, распорядившейся несправедливо
с большинством людей, на плечи которых она взвалила труд,
1 Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. М.-Л., 1963, т. 8, с. 227.
2 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 240.
3 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 14, с. 284.
208
чтобы дать возможность жить в праздности привилегированному
меньшинству. И потому он вполне серьезно начинает доказывать
вредоносное значение — для основной массы трудящихся
людей — таких достижений цивилизации, изобретений науки
и техники, как железная дорога, паровой двигатель, телеграф,
телескоп и даже... ситцы и платки, изготовленные фабричным
способом1. В специализации он видит скрытое рабство и считает,
что только при условии, если человеку будет дана свобода выбора
занятия, она будет «законной»2. Но если бы этим исчерпывался
смысл толстовского отрицания разделения труда, то вряд ли
стоило говорить о нем специально. По меньшей мере два момента
заставляют отнестись к точке зрения Толстого внимательно.
Прежде всего очевидный социальный адрес его ригорист-
ской позиции — неприятие общественных порядков,
которые делают разделение труда и специализацию орудием,
средством порабощения. Всех апологетов разделения труда в его
капиталистической форме Толстой обличает в том, что они
«под видом разделения труда и словом и, главное, делом учат
других пользоваться посредством насилия нищетою и
страданиями людей для того, чтобы освободить себя от самой первой
и несомненно человеческой обязанности трудиться руками в
общей борьбе человечества с природою»3. Справедливо
упрекая Толстого в антиисторическом подходе к проблеме
общественного разделения труда, наДо в то же время по достоинству
оценить его прозорливость относительно будущности
последнего и судеб культуры, на которой пагубно отражается
разрыв и противостояние материального и духовного начала
человеческой жизнедеятельности. В убеждении же, что без
преодоления старого разделения труда невозможно всестороннее
развитие личности, Толстой «встречается» с научным
социализмом.
Второй момент связан с уникальностью, беспримерностью
личного развития Толстого, попытавшегося и в данном случае
практически подтвердить и закрепить свое убеждение. Выход из
ненормальности положения, созданного разделением труда и все
усиливающейся специализацией, он видит — на манер
патриархального крестьянина, не мыслящего своей жизни без работы
на земле,— в обязательном участии каждого, независимо от
происхождения, положения и основного занятия, в физическом
труде. Ибо оторванный от физического труда человек обречен на
уродливое развитие и однобокое, неверное восприятие
окружающего мира. Это убеждение Толстой пытается последовательно
' См.: Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 25, с. 355-356.
2 См. там же, т. 53, с. 34.
3 Там же, т. 25, с. 354.
14 Зака:« '|(>0.Ч
209
воплотить в своей личной практике, стремясь ежедневно
совмещать умственный труд с физическим в самых разных его
формах и проявлениях (пахота, косьба, шитье, портняжество).
Поскольку никто не может сказать, что этот опыт Толстого как-
либо отрицательно отразился на его основном занятии —
писательском творчестве, им можно воспользоваться в качестве
вдохновляющего примера еще до наступления времени полного
преодоления «старого разделения труда». Во всяком случае, не
надо думать, что современные личностные примеры этого
своеобразного стирания грани между физическим и умственным
трудом беспрецедентны в историческом плане.
Значительны сдвиги в человеческой деятельности,
происшедшие и происходящие на наших глазах в условиях
социалистического общества. Трудно прогнозировать все
последствия процесса сближения физического и духовного труда, роста
келейности работников умственного труда, повышения
интеллигентности рабочего класса и т. д. Проблема эта остается
и острой и долгосрочной, с нею, видимо, придется иметь дело еще
не одному поколению людей. Здесь завязан целый узел
социально-экономических, культурно-исторических, моральных и
психологических вопросов, до конца не осмысленных общественным
сознанием и наукой.
Встречаясь с различного рода уродливыми представлениями
о том или ином виде труда, следовало бы задуматься о глубинных
причинах существования и живучести подобных вывихов.
В самом деле, каковы истоки проявления в нынешних условиях
высокомерного отношения к физическому, материальному
труду, который всех нас кормит, одевает, дает крышу над
головой? А такое отношение, очевидно, проступает в
высказываниях, увы, многих еще родителей: «Будешь плохо учиться, на
завод пойдешь», «Не станешь хорошо учиться, в колхозе
работать останешься». Или в чем первопричина ходячих
афоризмов работников сферы обслуживания, раздраженных
требовательностью потребителей: «А вы встаньте на мое местф
поработайте вместо меня»,— как будто заранее известно, что
место инженера, токаря, художника проще и легче. Откуда
взялись почтительно-уважительное отношение к «чистому»,
канцелярскому труду, независимо даже от его вознаграждения,
и одновременно столь массовая убежденность, что труд
умственный — нечто почти даровое, род времяпрепровождения, не
требующий от человека никаких серьезных усилий, затрат?
Причина не в заблуждениях отдельных людей. Мы имеем
здесь дело с новыми формами веками копившегося
противостояния двух видов труда — материального и духовного — и
стоящих за ним социальных сил. «Мертвое», как известно, хватает
210
«живое» еще долго после того, как произошло его отпевание
и захоронение. Оно живуче не только в позитивных примерах.
Помимо собственно социальных и экономических причин
возникновения и развития общественного разделения труда
(частная собственность, деление общества на враждебные
классы и т. д.) существуют морально-психологические
наслоения той же самой проблемы, часто игнорируемые практикой
общественного воспитания. Остановимся подробнее лишь на
одном моменте.
Несправедливость, порожденная частной собственностью,
была затем перенесена на труд вообще. Во времена Толстого труд
писателя или ученого, труд умственный, духовный нередко
считался «барским», привилегированным, связанным не с
дарованием, талантом, а с социальным положением человека. А если
писатель и ученый вышли из «низов», то они как бы выбились из
своих и попали в другой клан, другое сословие. Поэтому кое-кто
из тех, кто занимался научным исследованием, сочинением
стихов или созданием живописных полотен, учительствовал или
пошел по инженерному делу, чтобы доказать, что он тоже
труженик, пробовал опрощаться в быту, заниматься физическим
трудом и т. д. Умственный труд, результатами и ценностями
которого в конечном счете пользуются все, становился жертвой
уродливых человеческих, общественных отношений. Возникали,
наслаивались одно на другое не высказанные вслух, но
подразумевавшиеся как бы сами собой представления об умственном,
духовном труде как о чем-то более легком (а не только
«чистом»). То, что потом вылилось в «Разговор с
фининспектором о поэзии» В. Маяковского, имеет под собой глубокую
историческую почву, традицию.
Это стихотворение было продиктовано потребностью
защитить поэтическое творчество как вид общественно полезного
труда. Не в поэтическом, а в реальном разговоре с
фининспектором — заявлении в Мосфинотдел от 26 августа 1926 года —
Маяковский требует, чтобы в исчислении суммы подоходного
налога его считали трудящимся, а не причисляли к торговцам
и лицам «свободных профессий». Что же касается трудностей,
с которыми фининспекции при этом придется встретиться, то
они проистекают лишь от того, что «в сложном поэтическом
производстве почти невозможно точно учесть производственные
расходы и способ их определения. Для этой только начатой
работы нужны целые научные труды»1. Однако на первый план
вышла не финансовая, налоговая тема, а тема сущности и смысла
художественной деятельности, духовного труда как такового.
1-Маяковский В. В. Поли. собр. соч. В 13-ти т. Мм 1961, т. 13, с. 90.
И* 211
Поэт настаивает: «Труд мой любому труду родствен»,—
называя в другом стихотворении поэзию заводом,
вырабатывающим счастье. Он адресует эти строки всем (не только
фининспекторам), кто недооценивает физически-нервную
изнурительность и тяжесть духовного труда, «машины души», где
так невидимы издержки производства и так нелегко объяснить,
«сколько тратится на материал». Ведь поэзия — вся!— езда
в незнаемое, и никому не удастся вычислить, измерить ее
накладные расходы (тем более «амортизацию тела и души»).
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца '.
Оправданием всех затрат на поэтическое творчество (и
самого поэта, его нервной энергии и физических сил, и общества)
является общественная и общечеловеческая значимость
произведения искусства. Конечно, далеко не все, кто считает себя или
кого считают поэтом, таковыми в действительности являются:
претензии «лирических кастратов» Маяковский просит отнести
на счет «обычного воровства и растрат». Впрочем, хорошие
поэты за плохих не в ответе. Но почему же все-таки
нетрудоемким, легким, даровым многим кажется именно труд
литератора, занятие актера или музыканта?
Верно, что, прежде чем заниматься наукой, политикой или
искусством, человек должен есть, пить, одеваться, иметь
жилище. И, следовательно, та сторона общественного
производства, которая удовлетворяет эти первичные, основополагающие
потребности человеческого бытия, действительно является
основой. Но и тогда, когда люди в основном решили проблему
еды, питья, одежды и жилища, вряд ли можно говорить
Маяковский В. В. Поли. собр. соч. В 13-ти т. М., 1958, т. 7, с. 121 — 122.
212
о полноценности человеческой жизни без учета ее духовного
содержания, культурного наполнения.
Стоит только поставить вопрос таким образом, как станет
ясно, что недооценка сложности духовного труда людей есть
такой же предрассудок, как и еще более древний
предрассудок,— пренебрежительное, а то и презрительное отношение
к творческим потенциям труда физического, и что оба
предрассудка имеют общий корень. Они восходят к конкретному
историческому прошлому, в котором, как в кривом зеркале,
отражается превращенный, перевернутый характер самой
человеческой жизнедеятельности.
Разные явления могут питать антиинтеллектуалистские
настроения и установки. Скажем, одно дело — негативное
отношение к представителям умственного труда сторонников
Бабефа, авторов бабувистской программы «Заговора равных»
в годы Великой французской революции. Ведь они помеха
и нечто чужеродное для прокламируемого бабувистами общества
уравнительного (или аграрного, ремесленного) коммунизма.
Иное явление — недоверие, принявшее надолго форму
устойчивого заблуждения, к духовному труду при капитализме. Рост
авторитета науки, преимущество наук естественных,
принимаемых работодателями «всерьез» лишь потому, что они приносят
непосредственную пользу, выгоду, нисколько не мешает
распространению высокомерного отношения к интеллектуальной
деятельности. В качестве определенной тенденции это явление
было обозначено К. Марксом: «По мере того как развивалось
господство капитала, по мере того как все более и более
зависимыми от него становились на деле также и те сферы
производства, которые непосредственно не относятся к созданию
материального богатства,— в особенности же когда на службу
материальному производству были поставлены положительные
(естественные) науки,— сикофантствующие мелкие чиновники
от политической экономии стали считать своей обязанностью
возвеличивать и оправдывать любую сферу деятельности
указанием на то, что она «связана» с производством
материального богатства, что она служит средством для него...»1 И это не
какое-нибудь случайное или побочное явление, а именно
тенденция развития самого общественного сознания в
совершенно определенном направлении. Наряду с проявлениями
«высокомерного отношения к материальному производству»
Маркс фиксирует стремление «оправдать нематериальное
производство — или даже вовсе не производство, как, например,
труд лакея,— под видом материального производства»2. Все
' Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. I, с. 159.
\ Там же, с. 199.
21:-$
это было, строго говоря, отнюдь не психологическим
заблуждением или теоретическим вывертом чиновников от
политической экономии, а достаточно точным, хотя и вывернутым наиз-
нанодотражением реального положения вещей. А именно —
капиталистической апологетики материально-вещественного
богатства, в рамках которой было широко распространено
представление о науке и ученых, вообще о людях так
называемых «свободных профессий» как о дешевой, даровой, почти
«на дороге валяющейся» предпосылке материального
производства.
Ведь «даже высшие виды духовного производства,— писал
К. Маркс,— получают признание и становятся извинительными
в глазах буржуа только благодаря тому, что их изображают
и ложно истолковывают как прямых производителей
материального богатства»1. Актер, выступающий перед публикой,
писатель, написавший роман или повесть, музыкант, исполнивший
в концерте сонату,— все это художники, но для тех, кто нанял
и оплатил их услуги, их работу, то есть для предпринимателя,
они производительные работники лишь- постольку, поскольку
приносят прибыль, доход. Деятельность и роль представителей
умственного, духовного труда оценивается преимущественно
с точки зрения их «долевого» участия в создании материально-
вещественного богатства общества. «Польза» духовных
ценностей определяется при капитализме прежде всего прибылью,
которую получают владельцы капитала при их использовании,
эксплуатации, то есть выгодой преимущественно материальной,
коммерческой.
За всем этим тянется шлейф всяческих моральных и
психологических представлений-наслоений, которые не могут быть
изжиты в один миг, с сегодня на завтра. Видимо, нельзя
пренебречь тем, что веками многие функции и сферы
нематериальной деятельности были не без умысла «окружены ореолом
святости, считались самоцелью»2, а сама она осуществлялась
и развивалась в отрыве от материального производства (понятно,
ровно настолько, насколько это вообще возможно) и нередко
открыто противопоставлялась этому последнему как нечто более
возвышенное, чистое, творческое. Все это не могло не оставить
осадка в сознании и чувствах людей труда. Слишком долго
длилось противостояние двух сфер деятельности, «головы»
и «рук», чтобы оно могло быть быстро забыто, тем более изжито
в реальности.
Целая эксплуататорская формация длительно и настойчиво
вколачивала в головы людей подобное отношение к духовному
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. I, с. 282.
2 Там же, т. 49, с. 97.
2\\
ТРУДУ- И можно понять, почему качественные перемены,
происходящие в процессе становления нового типа
общественного производства, в морально-психологическом плане еще не
полностью ликвидировали взаимоотталкивания материального
и духовного труда.
К. Маркс следующим образом характеризовал природу
духовного труда и его связь с действительностью: «Но даже
и тогда, когда я занимаюсь научной и т. п. деятельностью,—
деятельностью, которую я только в редких случаях могу
осуществлять в непосредственном общении с другими,— даже
и тогда я занят общественной деятельностью, потому что
я действую как человек. Мне не только дан, в качестве
общественного продукта, материал для моей деятельности — даже
и сам язык, на котором работает мыслитель,— но и мое
собственное бытие есть общественная деятельность; а потому и то,
что я делаю из моей особы, я делаю из себя для общества,
сознавая себя как общественное существо»1. На фоне
современного индустриально развитого производства, которое ни шагу
не может ступить без науки и в рамках которого связь
материальной и духовной деятельности, физического и умственного
труда стала настолько тесной (возьмем хотя бы космонавтику),
что порой уже просто невозможно обозначить линию, где
кончается материальное, «физическое», и начинается духовное,
«умственное», всякое их противопоставление кажется
анахронизмом. Ведь социализм призван, помимо всего прочего, изжить
капиталистическую апологетику утилитарной стороны
человеческой деятельности, развиваемой за счет, в противовес и в ущерб
духовному началу, которое рассматривается как нечто
прикладное, второстепенное. Это важно подчеркнуть, поскольку
современный капитализм уже не ограничивается эксплуатацией
результатов и достижений духовного труда для выколачивания
и приращения прибавочной стоимости, а все более активно
проникает в саму сферу духовной деятельности (науку,
искусство, идеологию), превращая ее непосредственно в
производительный процесс самовозрастания капитала. При этом
субъект духовной деятельности — ученый, деятель искусства,
идеолог — как бы растворяется в самой структуре деятельности
и выступает как работник, труд которого оценивается не по его
характеру (творческий или нетворческий), а лишь по
результатам.
Насколько социализм продвинулся в снятии этого
«кричащего противоречия» капиталистического общественного
производства? Как сказывается сближение материального, «физическо-
\ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 118.
21 Г)
го», и духовного, «умственного», на самой человеческой
жизнедеятельности в условиях социализма?
Уже было отмечено, что внутри самого общественного
производства ныне осуществляются радикальные изменения.
В частности, происходит не просто сближение умственного
и физического труда, а нечто более существенное, в перспективе
гораздо более многозначительное, чем обычно описывается.
Преодоление существенных различий между умственным и
физическим трудом в процессе коммунистического строительства
означает становление и утверждение социальной однородности
труда. Такова скрытая сторона радикальных изменений самого
общественного производства. Уже сегодня понятие
«материальное производство» должно применяться с уточнением своего
непрерывно меняющегося содержания. Попробуйте, например,
из современного индустриально развитого производства
«вынуть» науку, технику и технологию, поставляемые духовным
производством (не говоря уже об инженерных, технических
и квалифицированных рабочих кадрах, имеющих специальное
образование, опять-таки формируемых в лоне духовного
производства),— что «останется» от материального производства?
Пожалуй, никогда еще в истории не выступала с такой
очевидностью, наглядной выпуклостью несостоятельность самого
факта расщепления, взаимного отталкивания материального
и духовного, физического и умственного начал человеческой
деятельности.
Но если ныне уже «не то» материальное производство и,
стало быть, «не тот» рабочий класс, то другим стало и становится
духовное производство; «не та» уже и интеллигенция, что была
в пору промышленной революции. Рабочий приблизился к труду
умственному, а интеллигент — к труду материальному. И так же
как нельзя представить себе передового рабочего без
определенной общей и интеллектуальной культуры, так и интеллигент,
не ощущающий связи своего труда с развитием материальной
основы общественного производства, тоже выглядит отсталым,
даже допотопным явлением.
Значит ли это, что покончено с противоречиями в этой
области? Нет, не значит. Сегодня работнику умственного труда
незачем (как, впрочем, и во времена Толстого) «опрощаться»
в быту или доказывать свою близость к народу участием
в физическом, малоквалифицированном труде. Связь между
материальным и духовным производством в современных
условиях становится настолько всепроникающей и
всеобъемлющей, что сближение умственного и физического труда
становится объективным процессом и постепенно, исподволь
преобразует как производство, так и социальную структуру общества. Но
216
отсюда вовсе не следует, что рабочий перестал быть рабочим,
а интеллигент — интеллигентом, что труд материальный
перестал быть таковым, а духовный изменил свою природу
и функцию. Самое трудное заключается не в том, чтобы
объяснить, как именно вписывается в современное
общественное производство труд ученого или художника, занятых
творчеством нового. Нужно и важно разобраться в том, что это за
феномен — современный интеллигент, представитель умственного
труда? И кого можно назвать интеллигентом?
Не правда ли, вопрос общественно значимый? И Л. Н.
Толстой имеет к ответу на него самое прямое отношение.
ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
И ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ
...Интеллигенция потому и называется
интеллигенцией, что всего сознательнее, всего
решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие
классовых интересов и политических группировок
во всем обществе.
В. И. ЛЕНИН
В повести Друцэ есть такой эпизод: Николай II читает
адресованное ему письмо Толстого, в котором писатель без
обиняков делится «с самодержцем всея Руси» своими
наблюдениями: «Вас, вероятно, вводят в заблуждение относительно
любви народа к самодержавию и его представителю — Царю. Не
верьте тому, что, встречая вас в Москве или других городах,
толпы народа бегут за вами с криками «ура!». Не думайте, что
это выражение преданности вам — в лучшем случае это толпа
любопытных, которая побежит и за приезжим цирком так же,
как она бежит за царской коляской...» Прочитав такие слова,
Николай II сказал: «Уж эта мне интеллигенция». При этом лицо
императора приняло брезгливое выражение, а само письмо он
назвал странным по причине непонятности мотивов, побудивших
графа его написать. В самом деле, ничего не просит — ни для
себя, ни за кого-то, а решил просто так, по привычке говорить то,
что думает, сказать правду тому, от кого ее усердно и тщательно
прячут и кто сам, видимо, охотно от нее бежит. Поступок
действительно странный с точки зрения здравого смысла. К чему
лезть на рожон? Неужели граф Толстой, умный, образованный,
тонко знающий человеческую психологию, и впрямь наивно
думает, что подобным выражением правды можно кого-либо
убедить и что-либо изменить в мире, где все держится на силе?
Но Толстой не был наивен, просто иными были его
представления о силе. Имея в виду другого Николая, тоже царя,
217
он однажды записал в дневнике: «Нынче думал о Николае I
о его невежестве и самоуверенности и о том, какая ужасная вещь
то, что люди с низшей духовной силой могут влиять, руководить
даже высшей. Но это только до тех пор, пока сила духовная,
которой они руководят, находится в процессе возвышения и не
достигла высшей ступени, на которой она могущественнее
всего»1. Знал Толстой, что и он сам представляет общественную
силу, с которой властям приходится считаться. Знал это
и Николай II - Недалекий, как полагали многие из его
приближенных, царь тем не менее сознавал, что слова
и поступки писателя, непосредственно не участвующего в
политической борьбе, вливаются в революционное движение
бастующих и бунтующих рабочих, матросов, солдат, в деятельность
профессиональных революционеров-интеллигентов,
пропагандирующих социалистические идеи. Бессильный как-либо повлиять
на писателя, Николай II прибегнул в качестве защитного
средства к цинизму. Отправляя письмо Толстого под сукно, он
сказал: «Что же до того, любит ли русский народ своего царя,
или нет, то ведь, надо думать, и сами читатели, которые
восхваляют сочинения графа, не так уж искренне разделяют его
убеждения».
Между тем в поступке Толстого ничего странного не было. Он
вполне соответствовал традициям и моральному (неписаному)
кодексу поведения демократически настроенных русских
интеллигентов, которые обладали гражданской смелостью и не
боялись сказанного и написанного ими самими. В отличие от
либералов, которые любят при случае пошуметь, повозмущаться,
не выходя за пределы дозволенного и быстро успокаиваясь,
передовые интеллигенты старой закалки умели произнести
вслух правду и постоять за нее. Мужество нравственной позиции
прогрессивных русских интеллигентов получило признание
в известной ленинской оценке допролетарских этапов
освободительного движения в России2. «...Горячий протестант, страстный
обличитель, великий критик»3 — так характеризует Ленин
позицию Льва Толстого, отмечая в то же время слабые
и реакционные черты его учения.
Что же касается интонации, с какой произносится слово
«интеллигент», то недостатка в разнообразии оттенков, от самых
почтительных до иронически уничижительных, никогда не
ощущалось. Когда-то с этим понятием связывалось
представление об избранности, исключительности и даже аристократизме
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 55, с. 27.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 259-262.
3 См. там же, т. 20, с. 21.
218
духа людей, занятых творчеством, отмеченных печатью таланта.
Прочнее, однако, оказалось сугубо функциональное
использование слова «интеллигенция» для обозначения принадлежности
человека к слою людей просвещенных, образованных, занятых
деятельностью вне сферы физического труда. С
интеллигентностью издавна срослось представление о высокой
воспитанности, культурности. В народном сознании интеллигент
представлялся человеком разумным, но беспомощным в
житейском, практическом плане, а в психологическом отношении — не
умеющим постоять за себя, проявить волю и характер (образ
«чудака», человека «не от мира сего»). Отсюда недалеко и до
поверхностно-обидных обозначений, возводящих в степень
абстрактных формализмов чисто внешние признаки («шляпа»,
«очкарик» и т. п.). Противоречивое отношение к понятию
«интеллигенция», фиксируемое на уровне обыденного сознания,
отражает неоднозначность его реального содержания.
Классики марксизма-ленинизма высоко оценивали роль
интеллигентов-специалистов в будущем процессе
социалистического преобразования мира, ибо, писал Ф. Энгельс, дело идет
о том, чтобы овладеть управлением не только политической
машиной, но и всем общественным производством, и тут нужны
будут солидные знания1. И в то же время Энгельс выступал
против «мнимоученого чванства наших так называемых
образованных», предупреждая насчет «всяческого вреда», какой может
быть нанесен партии излишним наплывом в нее «литераторов
и студентов»2. Известно, как высоко оценивал значение и роль
интеллигенции в общественной жизни и борьбе В. И. Ленин. Но
он же был беспощадным критиком так называемой
«интеллигентщины», призывая бороться с нею самым решительным
образом. Например, в буржуазной интеллигенции Ленина
раздражали и отталкивали индивидуализм, неспособность к
дисциплине и организации, проявление дряблости и
неустойчивости, что, по его мнению, было следствием ее социального бытия
при капитализме3. О проявлениях «интеллигентщины» в первые
годы революции В. И. Ленин писал так: «...разгильдяйство,
небрежность, неряшливость, неаккуратность, нервная
торопливость, склонность заменять дело дискуссией, работу —
разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не доводить до
конца есть одно из свойств «образованных людей», вытекающих
вовсе не из их дурной природы, тем менее из злостности, а из
всех привычек жизни, из обстановки их труда, из переутомле-
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 432.
2 См. там же, т. 37, с. 380-381.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 8, с. 254.
•21!)
ния, из ненормального отделения умственного труда от
физического...» Остро бичуя «интеллигентщину», вождь
пролетариата в то же время подчеркивал, что «без руководящего
указания людей образованных, интеллигентов, специалистов
обойтись нельзя»2.
Чтобы разобраться в таком сложном, противоречивом
явлении, как интеллигенция, общих представлений
недостаточно. В чем тут дело? Почему и сегодня мы продолжаем
задавать себе, казалось бы, давно решенный вопрос — что такое
интеллигентность и кого можно считать интеллигентом?
Однажды этот вопрос задал себе В. М. Шукшин, поставив его остро,
с расчетом задеть общественность: «Что есть человек не
интеллигентный, но пребывающий в приятном и отвратительном
самомнении, что он — интеллигент?» Вот как ответил на него
молодой, тогда еще не знаменитый писатель, актер и режиссер,
каким он вскоре стал: «Интеллигентный человек... Это так
глубоко и серьезно, что стоило бы почаще думать именно об
ответственности за это слово. Начнем с того, что явление это —
интеллигентный человек — редкое. Это — неспокойная совесть,
ум, полное отсутствие голоса, когда требуется — для созвучия —
«подпеть» могучему басу сильного мира сего, горький разлад
с самим собой из-за проклятого вопроса: «Что есть правда?»,
гордость... И — сострадание судьбе народа. Неизбежное,
мучительное. Если все это в одном человеке,— он интеллигент. Но
и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность — не
самоцель»3.
Кажется, названы многие важные признаки явления. Но
в реальной действительности они выступают в сложных,
неожиданных, причудливых сочетаниях. Порой в интеллигентах
числятся те, кто этому званию (труднодостижимому) не
соответствует по существу. Причины тут могут быть самые
разные. Скажем, объективная принадлежность человека к
социальному слою, обозначенному термином «интеллигенция»,
субъективно не подкрепляется, не подтверждается
интеллигентностью, то есть определенными культурно-личностными
свойствами. И тогда чисто внешние признаки интеллигентности
(в том числе и вышучиваемые до недавних пор «шляпа»,
«очки», «портфель» и т. п.) оказываются всего-навсего личиной,
маской, за которой ничего интеллигентного в собственном
смысле слова не скрывается. В то же время появление
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 201-202.
2 Там же, с. 202.
3 Шукшин В. Монолог на лестнице.— Культура чувств. М., 1968,
с. 114-115.
220
в общественном лексиконе понятия «рабочий-интеллигент»
обозначает нечто новое, небывалое в развитии самой социальной
действительности и обязывает еще более внимательно отнестись
к содержанию и высокой «себестоимости» понятия (и звания)
«интеллигент».
Все это лишь подчеркивает необходимость учитывать
различие, во-первых, между интеллигенцией — социальной
группой и интеллигентом как личностью, а во-вторых, между
идеальной «моделью» интеллигенции и ее реальными
представителями. Ведь на практике постоянно возникает, существует как
проблема усвоения и реализации личностью свойств своей
группы, так и проблема соответствия группы своим же лучшим,
«эталонным» образцам. Суть дела заключается в том, чтобы
вычленить и обозначить признак, точнее, основание,
позволяющее человека назвать и считать интеллигентом в социально-
философском смысле. Актуальность этого, казалось бы,
элементарного вопроса очевидна. Своеобразная тоска по
интеллигентности, по воспитанности, тяга к культуре во всех сферах
человеческой жизнедеятельности становятся сегодня предметом
повышенного внимания, вызывают обсуждения, споры.
Обычно интеллигенцией принято называть общественный
слой людей, профессионально занятых умственным трудом. Но
затем следуют уточнения и разъяснения, существенно
корректирующие и даже меняющие конкретное содержание понятия. Так,
говорят, что наряду со специалистами с высшим и средним
специальным образованием к интеллигенции относятся также
«служащие, занятые умственным трудом невысокой
квалификации, который не требует для своего выполнения специального
среднего, а тем более высшего образования»1. Различают
высококвалифицированную интеллигенцию, в труде которой
больше творческого элемента, из чего можно заключить, что
возможна и существует мало или вовсе «неквалифицированная»
интеллигенция. Без оговорок в число интеллигентов
зачисляются все так называемые «практики», независимо от степени их
образованности и диплома. Разумеется, интеллигенцию уже
давно составляет не сравнительно узкий слой лиц свободных
профессий, но и каждого служащего считать интеллигентом
тоже неверно.
Выходит, не такое уж это редкое явление, как полагал
Шукшин, а, напротив, весьма распространенное, даже массовое.
Любопытно, однако, другое: число работников-интеллигентов
растет, а тоска по настоящей интеллигентности не убывает.
1 Ковалъчук А. С, Наумова Т. В. Интеллигенция в развитом
социалистическом обществе. М., 1978, с. 5.
221
Могут сказать, что вопрос об интеллигентности не всегда
решается выяснением принадлежности человека к социальной
группе, к роду занятий, что где-то это даже разные вопросы. Но
ведь и связь между ними должна быть, и связь, видимо,
достаточно глубокая, основательная. И далее, не совсем ясно, что
же надо считать «умственным трудом», коль скоро таковым
можно заниматься более или менее успешно, не имея высшего,
а то и почти никакого образования. Понятие умственного труда
становится все более зыбким, расплывчатым, неопределенным.
Действительно, труд рабочего-специалиста, требующий
определенного знания и профессиональной подготовки, остается
материальным, «физическим», а, скажем, работа конторского
служащего, секретаря-машинистки или технического редактора
издательства, независимо от ее сложности и затрат умственной
энергии, числится в рубрике «умственного труда».
Особо следует сказать об образованности. Одно дело —
считать ее важным признаком интеллигентности человека, что
остается верным и в настоящее время. И другое дело —
отождествлять интеллигентность с образованностью, что
порождает у интеллигенции неоправданные иллюзии насчет своей
роли в общественной жизни, а у тех, кто стремится стать
интеллигентом, облегченные представления о том, как этой цели
достигнуть.
Обладание знаниями, интеллектуальная подготовка, как
заметил японский философ-марксист и общественный деятель
Тосака Дзюн, ставит интеллигенцию в привилегированное
положение в обществе и пробуждает * у некоторой ее части
самомнение, вплоть до появления такого обыденного понятия,
как «образованный класс». Но интеллект, будучи
опознавательным знаком 'интеллигенции, не дает ей все-таки действительного
господства не только в общественно-политической сфере, но
и в сфере культуры, которая, казалось бы, принадлежит ей по
праву . Вопрос об общественной сущности интеллигенции, таким
образом, оказывается весьма сложным.
Общепринятое на сегодня толкование понятия
«интеллигенция» исходит из характера, содержания и продукта ее труда.
Называя ее социальным слоем, прослойкой, имеют в виду
отношение интеллигенции к основным классам общества. Все это
имеет под собой объективное основание, согласуется с
историей самого явления.
Интеллигенция как социальный феномен появилась давно
и может считать датой своего рождения момент, когда состоялось
общественное разделение труда материального и духовного
1 См.: Тосака Дзюн. Японская идеология. М., 1982, с. 173—176.
999
физического и умственного. Тогда-то и появилась потребность
в «особом отряде» людей, профессионально занятых
производством духовных ценностей, или «производством идей»,
«производством сознания». Еще не было понятия «интеллигенция»
(кстати, само слово возникло в русском языке, на русской почве
в XIX веке), но внутри классового общества выделился слой
людей, занятых духовной деятельностью как особой профессией.
В средние века эту функцию выполняло духовенство, а позже —
с начала эпохи гуманизма — она перешла к буржуазной
интеллигенции. Но, как правильно отмечает И. С. Кон,
интеллектуальная элита античности и средневековья не
тождественна современной интеллигенции. Ведь тогда сама
интеллектуальная деятельность не была достаточно
дифференцирована. Одна и та же социальная группа выполняла множество
разнообразных функций: жрецы, например, были одновременно
и хранителями накопленных знаний, и идеологами, и
пропагандистами. И наоборот, одна и та же функция осуществлялась
людьми разного разряда: так, роль социального критика
выполняли и религиозные пророки, и юродивые, и придворные
шуты. Интеллектуальная деятельность была монополией
господствующего класса, часто возлагавшего ее на замкнутую касту
(индийские брахманы, средневековое духовенство)1. В отличие
от современных интеллигентов, не занятие умственным трудом,
а социальное происхождение прежде всего определяло
общественное положение людей, посвятивших себя преимущественно
духовной деятельности. Если это не были представители самого
господствующего класса, то они принадлежали к челяди
(придворные ученые, поэты, музыканты, воспитатели и т. п.)
и никакой особой группы, прослойки, обладающей
самосознанием и относительной самостоятельностью, не образовывали.
Противоречие между социальными • группами, классами,
занятыми преимущественно физическим, материальным трудом,
и особой прослойкой, ведающей делами «духовного ведомства»,
отраслями духовного производства, никогда не ощущалось так
остро, конфликтно, как при капитализме. Именно капитализм
порождает проблему интеллигенции как таковую. И это понятно:
в буржуазном обществе возникает интеллигенция в собственном
смысле слова, то есть формируется, «рекрутируется» из разных
классов и становится особой социальной прослойкой. К этому
следует добавить появление материальной возможности
существовать за счет умственного труда, не полагаясь на благодея-
1 См.: Кон И. Размышления об американской интеллигенции.— Новый
мир, 1968, № 1, с. 174. Вопрос: «Была ли интеллигенция в средние века?» —
рассматривается в книге: Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни,
стиль мышления. М., 1978, с. 16—29.
223
ния какого-нибудь щедрого покровителя, а также
культурной аудитории — публики, к которой можно апеллировать
и у которой можно получить моральную и материальную
поддержку1.
По мнению Л. М. Баткина, современные разноречивые
определения интеллигенции лежат на пересечении двух
координат: социологической и философско-культурной. С одной
стороны, говоря об интеллигенции, имеют в виду социальный
слой, который, несмотря на свою внутреннюю пестроту
и окаймляющие его переходные группы, может быть выделен
формально (по месту в системе общественных отношений, по
образовательным и профессиональным критериям, по условиям
жизни и труда). С другой стороны, под «интеллигенцией»
нередко понимают некий творческий и активный слой людей,
образующих неформальную общность, группу, функции которой
необязательно предписаны извне или должны непременно
совпадать с каким бы то ни было официальным положением
и профессиональным статусом индивида2. О взаимосвязи,
характеризующей обоюдную зависимость и противоположность
двух «интеллигенции» (если согласиться с данным различением
и определением), а точнее, о проявлении единой общественной
природы интеллигенции в различных исторических и
социальных обстоятельствах будет сказано дальше. Заметим только, что
дело не в широте или узости самого понятия «интеллигенция»
и не в личной позиции интеллигента, а в моменте известного,
иногда очень заметного, несоответствия, несовпадения
профессионального и культурного (духовного, этического) содержания
интеллектуальной деятельности, что отчетливо обнаруживается
и обретает конфликтный характер в период «омассовления»
умственного труда.
В отношениях между интеллигенцией и другими слоями
трудящихся в условиях классово антагонистического общества
возникает противоречие, которое относится к разряду важных
«вторичных антагонизмов». Чрезвычайно болезненный,
коварный характер этого антагонизма, как заметил М. А. Лиф-
шиц, заключается в том, что здесь затрагивается личное развитие
людей3. В самом разделении физического и умственного начал
целостной человеческой деятельности, продиктованном
объективными потребностями развития труда, ничего« обидного,
задевающего достоинство личности нет и быть не может.
1 См.: Кон Я. Размышления об американской интеллигенции. —Новый мир,
1968, № 1, с. 175.
2 См.: Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль
мышления, с. 17.
3 См.: Лифшиц М. Мифология древняя и современная, с. 410.
224
Потребность в творчестве проявляется и удовлетворяется в сфере
физического труда так же ощутимо, как и в сфере труда
умственного. В основе упомянутого антагонизма лежит
фактическое социальное неравенство в труде, выступающее при
капитализме в форме открытого противостояния целых
общественных групп. Одна часть, большинство, обрекается
преимущественно на работу «руками», а другая, меньшая,
привилегированная часть общества, монополизирует функцию «головы»
(руководство социальным, экономическим и духовным
процессом жизни, занятия наукой, искусством и т. п.).
Характернейшей чертой капитализма является, по словам К.
Маркса, «как раз то, что он отрывает друг от друга различные виды
труда, а стало быть разъединяет также умственный и
физический труд — или те виды труда, в которых преобладает та
или другая сторона,— и распределяет их между различными
людьми»1.
Беда не в специализации и профессионализации, взятых сами
по себе. Специализация — необходимое условие эффективности
прогресса человеческой деятельности, что достигается лишь
посредством овладения передовыми рубежами современной
культуры (а не только навыками и приемами избранного
занятия, то есть профессионализмом). Что же касается
опасности замыкания человека в пределах профессии —
болезни, именуемой «узким профессионализмом», которая
свидетельствует об утрате целостности, обрекает индивида на
одностороннее развитие и превращает его в «частичного»
работника, то от этого не гарантированы ни те, кто занимается
физическим трудом, ни те, кто посвятил себя труду умственному.
С практически-полезной точки зрения никакого разрыва между
двумя видами труда и людьми, в них занятыми, не может быть,
так же как нельзя представить себе рабочего, работающего без
участия головы, а ученого или художника, не нуждающегося
в усилиях рук. Напомним суждение К. Маркса: «Как в самой
природе голова и руки принадлежат одному и тому же
организму, так и в процессе труда соединяются умственный
и физический труд» . Не возникает при таком подходе
и проблемы личного развития людей как проблемы конфликтной
в социальном отношении.
Пока общественное сознание при родовом строе является
результатом непосредственно коллективной жизни и
деятельности людей, то есть пока производство этого сознания не отдано во
владение и на откуп специально для этого предназначенным
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. I, с. 422.
2 Там же, т. 23, с. 516.
15 Зака.1 '»(ПУЛ ')')~^
лицам, нет причины для противопоставления и тем более вражды
двух начал целостного человеческого труда — физического
и умственного. Ситуация существенно меняется с переходом
к обществу, основанному на разделении труда и на социальной
связи, созданной этим разделением. В этой ситуации
общественное сознание, до возникновения классового общества
бывшее непосредственным личным достоянием и, при всей своей
неразвитости, результатом деятельности каждого индивида,
отделяется от индивидов, утрачивает с ними непосредственную
связь и обретает характер абстрактного, отвлеченного от них
сознания1. В этом, собственно, и выражается историческая драма
самого умственного труда, который постепенно становится
привилегией.
Эту ситуацию и имел в виду Лев Толстой, когда критиковал
возомнивший себя властелином разум, изобретающий правила
жизни и поведения, вместо того чтобы стать действительным
путеводителем человека в мире, полном неожиданностей,
случайностей, сложных хитросплетений законов природы,
общества, человеческой психологии. Речь идет о разуме, который
в условиях отчуждения, обособления общественной связи между
людьми от них самих становится некой самостоятельной
и возвышающейся над ними силой. Происходит раздвоение
сознания (как и общественного труда в целом) на жизненно-
практическое, обыденное, «массовое» сознание рядовых членов
общества, которое принадлежит им самим как авторам —
субъектам собственной духовной деятельности, и сознание
абстрактно-всеобщее, имеющее целью объединение людей в
масштабе всего общества, вырабатываемое другими и поставляемое
им «извне». Не было бы такого раздвоения, не нужна была бы
и особая группа людей, для которых разработка абстрактно-
всеобщего сознания является промыслом, делом, которым они
преимущественно и заняты.
Дело, выходит, не в чувстве обделенности, с каким работник
физического труда может воспринять монополию на умственное
развитие кого бы то ни было. Суть вопроса в том, что работники
умственного труда в условиях прежнего общественного
разделения труда объективно поставлены в положение тех, кто
претендует на выражение всеобщности общественной жизни
и деятельности, «учит» и «воспитывает» других. Конечно,
в социалистическом обществе вся интеллигенция является
1 См.: Духовное производство. Социально-философский аспект проблемы
духовной деятельности. М., 1981, с. 164 — 165. Во 2-й и 3-й главах данной работы
подробно рассматриваются сущность и последствия разделения материального
и духовного труда.
2'1К
народной и видит свою миссию в служении народу. Вместе с тем
еще не преодоленное полностью общественное разделение труда
сказывается на взаимоотношениях физического и умственного
труда. Исчезла почва для социального конфликта, но проблемы
еще остаются, и их нельзя решить «в один присест».
Можно, скажем, понимать, что общественное разделение
труда сыграло глубоко прогрессивную роль в раскрытии
духовных сил и потенций человечества, развило способность
сознания объединить людей общественной связью в форме идей,
представлений, идеалов и т. п. Можно в то же время утешать себя
сознанием того, что духовный, умственный труд по-своему, на
свой лад также односторонен и ограничен, как и труд
материальный, физический. Но проблема личного развития не
снимается и не смягчается от того, что осознается известная
неполноценность духовной деятельности в условиях
общественно-разделенного труда. Вот почему неравенство в труде
в классово антагонистическом обществе особенно болезненно
переживается теми, кто лишен возможности нормального
духовного развития в силу своего социального положения.
В явной, открытой форме это проявляется во враждебном
отношении к монополии на умственный труд, которую в
антагонистическом обществе присвоили себе власть предержащие,
а также обслуживающая их интеллигенция.
Таковы социальные причины, глубинные истоки отмеченного
выше «вторичного антагонизма». Это находит психологическое
выражение, хорошо переданное А. Грамши на примере
отношения к интеллигенту крестьянина: «Отношение крестьянина
к интеллигенту является... двойственным и выглядит
противоречивым: он восхищается социальным положением интеллигента
и вообще государственного служащего, но временами делает вид,
что презирает его: в его восхищение инстинктивно проникают
элементы зависти и страстной ненависти»1.
Говоря о взаимоотношении между умственным и физическим
трудом, нельзя не коснуться вопроса о развитии человеческих
сил и способностей. Вряд ли верно противопоставлять
материальный и духовный труд как нетворческий и творческий. Оба
вида труда содержат в себе возможность удовлетворения одной
из самых глубинных и неискоренимых потребностей человека —
стремления «реализировать себя, дать себе через себя самого
объективность в объективном мире и осуществить (выполнить)
себя»2. Но это не значит, что можно игнорировать различия
в реализации человеком своих творческих сил и способностей
1 Грамши Л. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1959, т. 3, с. 467—468.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 194.
15*.
в том и другом виде деятельности. Что касается всеобщих
элементарных способностей индивида — физических и
духовных (телесная организация, чувственное восприятие и
логическое мышление), то они составляют основу существования
и развития человеческой деятельности, производительной силы
индивида вообще. Эти способности формируются самими
условиями человеческой жизнедеятельности, которые индивид
либо застает готовыми с момента своего рождения, либо
производит сам и которым он должен соответствовать и
физически и духовно, чтобы стала возможной его целесообразная
деятельность. Это и важнейшее условие сохранения целостности
самого человека.
Гораздо сложнее обстоит дело с более развитыми формами
этих способностей. Например, для того чтобы подняться над
уровнем здравого смысла и пользоваться в своих суждениях
средствами абстрактного мышления, необходимо достаточно
высокое теоретическое, интеллектуальное развитие личности.
И как бы ни подчеркивались равные возможности людей
в восприятии искусства, «художественных ценностей, развитая
способность творить и поступать по законам красоты в любой
сфере и в любом акте своей жизнедеятельности предполагает
отнюдь не элементарный уровень нравственно-эстетической
культуры человека. Чтобы наслаждаться искусством, считал
К. Маркс, нужно быть художественно образованным
человеком1. Тем и отличаются наука и искусство от обыденного уровня
логического и эстетического сознания и деятельности, что они,
будучи профессионально-обособленными сферами духовной
деятельности, представляют человеческие способности в их
наиболее развитом виде.
Отметим и другой момент. Выше говорилось, что без рук
и головы не обойтись в любом виде труда, хотя соотношение
целесообразно-напряженной и целесообразно-свободной
деятельности в материальном и духовном труде все-таки
неодинаковое. Обе эти деятельности вытекают из единой протоплазмы
живого человеческого труда; между ними нет абсолютной
границы — напротив, они тесно взаимосвязаны,
взаимопроникают друг в друга. Так, целесообразно-напряженный труд
обязательно наличествует в свободной игре творческих сил,
вне которой невозможно сделать научное открытие,
изобретение, создать произведение подлинного искусства. Игра
творческих сил отнюдь не противопоказана сфере
материального производства, где момент необходимости
преобладает. Характеризуя труд «в такой форме, в которой он
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 151.
228
составляет исключительное достояние человека», К. Маркс
подчеркнет следующее обстоятельство: «Кроме напряжения тех
органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени
труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во
внимании, и притом необходима тем более, чем меньше труд
увлекает рабочего своим содержанием и способом исполнения,
следовательно чем меньше рабочий наслаждается трудом как
игрой физических и интеллектуальных сил»1. Даже в условиях
капиталистического производства у рабочего возникает
стремление отстоять себя как личность, свою человеческую
индивидуальность, не превратиться в деталь машины или конвейера.
Разумеется, соотношение между
целесообразно-напряженной и целесообразно-свободной деятельностью в любом виде
труда не стоит на месте. А в условиях современного производства
оно меняется весьма существенно. В производственной
деятельности миллионов рабочих и колхозников, отмечалось на XXVI
съезде партии, все теснее переплетается физический и
умственный труд. Многие из них — рационализаторы и изобретатели,
авторы книг и статей, государственные и общественные деятели.
Это в полном смысле высококультурные, интеллигентные люди2.
И это вносит серьезные коррективы не только в облик
современного рабочего (или крестьянина) и интеллигента, но
и во взаимоотношения между ними. Здесь нет объективных
причин и места для конфликта между интеллигенцией и
народом, ибо сама интеллигенция, как уже отмечалось, стала
народной.
Что же касается капиталистического общества, породившего
проблему интеллигенции, то здесь и ныне, несмотря на
существенные изменения в общественном производстве в связи
с научно-технической революцией, сохраняются источник и
причина раздора, а то и открытой неприязни между народом
и буржуазной интеллигенцией. Эти отношения имеют свою
историю, ибо складывались они далеко не равнозначно на разных
этапах общественного развития.
В период промышленного, «классического» капитализма
особое положение интеллигенции в общественной иерархии
обусловлено не только имущественными и прочими
привилегиями. Добавляется также фактор известной, весьма заметной
свободы духовной деятельности по отношению к материальному
производству и труду. Физический труд и труд умственный
функционировали как бы параллельно, их зависимость друг от
друга была не столь очевидной, как в настоящее время, когда
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 189.
2 См.: Материалы XXVI съезда КПСС, с. 53.
229
развитие материального производства все теснее связано с
развитием науки, а наука для осуществления своих замыслов
и начинаний нуждается в солидной материальной поддержке.
Представители интеллигентного труда (деятели науки,
просвещения, искусства и т. п.) были окружены тогда ореолом
исключительности. Это находило отражение и в образе жизни
интеллигента, резко отличавшемся от образа жизни рабочего или
крестьянина, и в самой психологической атмосфере
повседневного бытия, в частности, подчеркнутого уважения, почтительности
к его занятиям, профессии.
Интеллигентов когда-то справедливо считали людьми
свободных профессий. Не случайно К. Маркс, характеризуя
духовную деятельность поры домонополистического
капитализма, часто применяет понятие «свободное духовное
производство». Обращаясь к поэзии Мильтона или свободному труду
композитора, Маркс выделяет из многомерной системы
духовного производства именно всеобщий, свободный труд, то есть
духовный труд, не включенный еще «по найму» в систему
капиталистического производства. Поэт или композитор (или
ученый, создающий новую теорию и экспериментирующий на
собственный страх и риск, а зачастую и личные средства) не
были еще превращены в платных наемных работников, их труд
в определенной мере напоминает труд «полухудожественного
работника средних веков»1. Несомненно, свобода духовной
деятельности Мильтона, Пушкина или Моцарта тоже
относительна, и с усилением товарно-денежных, рыночных отношений,
составляющих суть капитализма, относительная независимость
людей умственного труда становится все более незначительной,
если не эфемерной. И тем не менее духовный труд по природе
своей не может уложиться и не укладывается целиком
и полностью в систему и архитектонику капиталистического
общественного производства. Даже в самых неблагоприятных
обстоятельствах для творчества личная свобода поэта,
композитора, ученого остается необходимым условием плодотворности
и полноценности их труда.
В рамках монополии на умственный труд, исключавшей из
его круга широчайшие массы людей, и в то же время некоторой
свободы на выражение собственной индивидуальности,
способностей, творческих сил право на идейное выражение того, что
реально происходит в обществе, право на отражение этих
процессов в форме идеального, на языке культуры возлагалось
на интеллигенцию. Она претендовала на то, чтобы «мыслить за
других», но одновременно в лице лучших своих представителей
1 См.: Маркс /f., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 11, с. 110.
2.40
обладала развитым чувством гражданской ответственности
и обостренно, самоотверженно реагировала на всевозможные
проявления несправедливости, неправды. Эти особенности
самосознания передовых представителей так называемой
«старой интеллигенции» позволяют понять, почему она так часто
брала на себя миссию носителя всеобщей совести общества,
глашатая прогрессивных идей своего времени, охотно
включалась в разного рода общественные течения и движения.
Основательность и действенность намерений и устремлений
интеллигентов, достойных так называться, подтверждает уже
известный нам пример Льва Толстого.
Хотя наиболее активная в общественном смысле часть его
жизни относится скорее к перелому двух эпох, двух формаций
в существовании самой интеллигенции, становление его как
общественного деятеля и характера прошло в русле развития
передовой русской интеллигенции XIX века. Лучшая ее часть
ясно сознавала несправедливость существующего уклада
жизни, словом и делом с нею боролась, открыто вставая на
позиции «униженных и оскорбленных». Это умонастроение было
доминантой всей жизни и деятельности Толстого. Как отметила
в своих дневниках С. А. Толстая, «страдание о несчастиях,
несправедливости людей, о бедности их, о -заключенных
в тюрьмах, о злобе людей, об угнетении — все это действует
на его впечатлительную душу и сжигает его
существование»1.
На пороге XX века появился целый слой интеллигенции
иного типа, по словам М. А. Лифшица, охотно усыновленный
и поддержанный правящим классом. По сравнению с
напыщенным, элитарным антимещанством («новая» интеллигенция
и в России и на Западе очень гордилась своим неприятием
мещанства, под которое подвёрстывалось все недостаточно
«духовное», «интеллектуальное») этой новообразующейся
ветви — «старое настроение кающейся интеллигенции,
желающей искупить свою вину перед народом и работать для него, при
всей наивности всякого народничества представляется все же
чем-то более высоким»2.
Толстой, как мы знаем, до конца своих дней оставался
«кающимся» интеллигентом, страдающим от ощущения
чуждости «господского» образа жизни, психологии, привычек и манер
всему народному, готовым принять на себя вину и искупить ее
примером собственной жизни. Это осмысление происходит
у Толстого по самым важным, социально значимым параметрам
1 Толстая С. А. Дневники. В 2-х т., т. 1, с. 508.
2 Лифшиц М. Мифология древняя и современная, с. 411.
2.41
и признакам — как живут и как мыслят люди. Незадолго до
смерти, 17 марта 1910 года, он делает такую запись в дневнике:
«Жизнь для мужика — это прежде всего труд, дающий
возможность продолжать жизнь не только самому, но и семье и другим
людям. Жизнь для интеллигента — это усвоение тех знаний или
"искусств, которые считают в их среде важными, и посредством
:ггих знаний пользоваться трудами мужика. Как же может не
быть разумным понимание жизни и вопросов ее мужиком, и не
быть безумным понимание жизни интеллигентом»1. Толстой
имеет здесь в виду группу интеллигентов, довольно громко
заявившую о себе в начале века,— ту «крошечную кучку»,
которая, по характеристике А. Блока, «в течение десятка лет
сменила кучу миросозерцании и разделилась на 50 враждебных
лагерей...»2. Далекая от народа, сытая, пекущаяся в основном
о своеобразии собственной личности, эта «свободно парящая»
интеллигенция жила для себя и думала о своем (неважно,
какими «высокими» соображениями этот ее эгоизм и
индивидуализм обосновывался). Ее думы, теории и представления
действительно имели под собой совершенно иную почву,
чем думы и представления мужика, озабоченного
проблемой, как прожить и выжить. Они мыслили по-разному
и говорили на разных языках. Это не разговор «пьяного
с собакой», не диалог «глухих» — образованных с
необразованным, тут радикальное взаимное непонимание между людьми,
не имеющими ничего общего. И причина тому одна: неравенство
общественного положения, которое делает привилегией
немногих образование и право на личное развитие. Бе несколько лет
спустя после смерти Толстого, в новых исторических
обстоятельствах, предельно ясно определит А. Блок: «...не забывать
о социальном неравенстве, не унижая великого содержания этих
двух малых слов ни «гуманизмом», ни сентиментами, ни
политической экономией, ни публицистикой. Знание о
социальном неравенстве есть знание высокое, холодное и гневное»3.
Социальное неравенство не сводилось поэтом к различиям
в культурном развитии, понималось им широко. К такому
пониманию Блок пришел не сразу, а постепенно, и оно сыграло
важную роль в его решительном переходе на сторону революции
в октябре 1917 года.
Как ни индивидуальна жизненная судьба Толстого и ни
уникальны его искания собственной позиции, в них
проглядывает нечто типическое, закономерное для поведения и образа
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 58, с. 27.
2 Блок А. Собр. соч. В 8-ми т., т. 8, с. 219.
3 Там же, т. 6, с. 59.
2.42
мышления интеллигента, живущего общественными
интересами. Буквально вслед за Толстым подобный путь исканий пройдет
интеллигент складывающейся новой формации — Александр
Блок. Остро чувствуя и переживая неспособность
интеллигенции своего времени (первое десятилетие XX века)
продолжать традиции демократической интеллигенции 60-х годов,
Блок ищет реальную основу для связи с народом, с
общедемократическим движением, направленным против господствующих
порядков. В записных книжках он отмечает: «...если цвет
русской интеллигенции ничего не может поделать с этим мраком
и неблагополучием, как этот цвет интеллигенции мог, положим,
в 60-х годах, бороться с мраком,—то интеллигенции пора
вопрошать новых людей... Нам, интеллигентам, уже нужно
торопиться, что, может быть, уже вопросов теории и быть не
может, ибо сама практика насущна и страшна» .
Так же как в свое время Толстой, Блок ощущает потребность
измениться самому, изменить свое отношение к жизни и
обществу, чтобы имело смысл продолжать заниматься творчеством.
Подобно Толстому, он готов «резко повернуть», например,
отказаться от литературного заработка, найти другой,
связанный с большей пользой для народа. И не случайно именно
Лев Толстой был для Блока интеллигентом, достойным
подражания..
Но в отличие от Толстого Блок возлагал на интеллигенцию
большие надежды и понимал, что революции без последней не
обойтись, если ликвидацию социального неравенства не
ограничивать первейшим вопросом о хлебе насущном, решением одних
лишь социально-экономических проблем, оставляя втуне
вопросы духовного, культурного развития масс. Но для этого нужна
новая интеллигенция, ибо старой, прежней это уже не под силу
(«выкричана душа интеллигентская, а новая еще не
родилась...»2). Прозорливость Блока выразилась в распознавании им
существа изменений, уже происшедших и грядущих, в составе
и социальной роли интеллигенции. «Вместо русского дворянства
(то есть Пушкина, Толстого, Тургенева и т. д.),— замечает он
в 1908 году,— появился новый господствующий класс,
который... как бы его назвать? Назовем, пожалуй, класс
фармацевтов...»3
Что имеет в виду Блок и кого он иронически называет
«фармацевтами», не желая при этом, разумеется, обижать
аптечных работников?
1 Блок А. Записные книжки 1901 — 1920, с. 119.
2 Блок А. Собр. соч. В 8-ми т., т. 5, с. 347.
гБлок А. Об искусстве. М., 1980, с. 103.
ТЛ'Л
Развитие капитализма в России (на Западе еще раньше
и очевиднее) на переломе двух веков сопровождалось
процессами и явлениями, медленно и неуклонно меняющими социальную
физиономию и характер интеллигенции. Под явлением
«фармацевтов» Блок подразумевал плоды «заземления»
интеллигентского труда, с которого бурное развитие промышленности,
индустриального производства, с одной стороны, и социальные
потрясения, затронувшие все слои общества, с другой, сняли
покров святости и таинственной «неприкасаемости».
Интеллигенция явно становится другой — по своему составу и облику,
по характеру и выполняемой ею идеологической функции,
социальной роли. Другой — по сравнению с феодальной эпохой,
когда интеллигенты по своему социальному происхождению
и положению, по своему месту в сословной организации
общества принадлежали душой и телом к господствующему
классу (Ломоносовы в ту эпоху были редким исключением).
Подавляющее большинство занятых духовным трудом
представляли, по определению К. Маркса и Ф. Энгельса,
идеологическую часть господствующего класса1, находились в открытой
и прямой связи с власть имущими.
И при капитализме, который по мере утверждения своего
господства в материальной сфере стремится распространить свое
влияние также на сферу духа, большинство представителей
духовного производства социально связаны с буржуазией,
являются выходцами из этого класса. Однако буржуазия уже не
может обойтись собственными силами и рекрутирует, нанимает
себе на службу выходцев из других классов. Она в буквальном
смысле слова покупает и подкупает работников умственного
труда, распространяя на духовную деятельность основные
принципы и законы товарно-денежных отношений. В
«Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс так оценили
изменившуюся ситуацию в сфере умственного труда:
«Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые
до тех пор считались почетными и на которые смотрели
с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта,
человека науки она превратила в своих платных наемных
работников»2. Явление, замеченное на пороге 1848 года, стало
обыденностью в эпоху монополистического капитализма.
Такова коренная причина превращений, происходящих с
интеллигенцией в условиях капитализма и вызывавших у
Толстого и Блока отрицательные эмоции. Хотя сами они отнюдь
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность
материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966, с. 59—60.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 427.
2.V.
не были «из рабочих и крестьян», свое общественное назначение
и гражданский долг они видели в выражении и защите интересов
народа.
Термин «фармацевт» А. Блок применил также для
характеристики процесса, связанного с изменениями в самом
умственном труде, который в этот период приобретает черты массового,
преимущественно стандартизированного и исполнительского.
Ширится сфера нематериального труда, где наряду с
собственно духовным производством, непосредственно направленным
на создание, выработку и распространение духовных продуктов
и ценностей, возникают сфера и отрасли всевозможных услуг,
которые впоследствии (и сегодня) будут отнесены к так
называемой «непроизводственной сфере», а ее представители —
к интеллигенции.
Однако еще важнее изменения, которые происходят в сфере
самого сознания, духа, где производство знания, идей постепенно
было поставлено на индустриальные рельсы. И отнюдь не по
причине копирования, механического перенесения законов
и принципов материального производства на все без исключения
сферы общественной жизни, хотя капиталистическая
апологетика товарно-денежной, рыночной экономики сыграла здесь свою
пагубную роль. Государственно-монополистический, капитализм
порождает потребность во всестороннем и целенаправленном
управлении сознанием людей, а через него и их поведением, всем
образом жизни. Эта потребность (спрос, говоря экономическим
языком) породила соответствующие механизмы сознания, и
резко усилила роль организации и социальных институтов
в производстве и функционировании продуктов сознания, духа.
Ситуация в духовной жизни общества кардинально изменилась.
Если в период становления капитализма духовное производство
находилось, как отметил еще К. Маркс, на периферии
общественного производства и преимущественно носило характер
свободного духовного производства, а его представители жили на
доход, то есть на продукт труда других людей1, то в новых
исторических обстоятельствах возникают и быстро разрастаются
целые отрасли по производству массовых «образцов» и
«шаблонов» общественного сознания, по их хранению, переработке
и распределению. Разумеется, процесс стандартизации, шабло-
низации интеллигенции и в квалификации, и в психологии —
это только теневая сторона развития интеллигентского труда
в пору появления «массового производства», но он внес
существенные изменения в общую картину развития
интеллигенции.
'. См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 297.
235
Выполняя свою подсобно-классовую роль по
«обслуживанию» власть имущих, интеллигент вместе с тем оставался, как
правило, субъектом и автором произведенных им духовных
ценностей. При всей относительности свободы интеллигентского
труда, всегда сохраняется принцип творчества нового,
приращения знания. Ведь чтобы быть, а не только слыть интеллигентом,
мало уметь теоретически «оформлять» мысли господствующего
класса о самом себе, иначе говоря, создавать книги, фильмы,
скульптуры. Надо также обладать умением, теоретической
(понятийной) или духовно-практической
(художественно-образной) способностью выражать всеобщность общественных
отношений, связей. Для этого действительно надо знать больше
и мыслить лучше, чем другие, выработать личное —
общественно значимое! — отношение к проблемам своего времени,
обладать повышенной чувствительностью и умением
откликаться на нужды людей. Тогда и результаты труда, именуемого
интеллигентным, будут иметь поистине общественное и
общечеловеческое значение. Если данный критерий посчитать
завышенным или не строго обязательным, будет стираться,
размываться различие между общественно богатым и бедным
живым трудом (включая и репродуктивную деятельность,
которая тоже может быть выполнена творчески и не
творчески).
Говоря об интеллигентности, нередко фиксируют внимание
на внешней, видимой стороне ее проявления, в то время как
и здесь определяющим началом является содержание. Иначе
достаточно овладеть приемами вежливого, обходительного
поведения или, например, полюбить «чистый» канцелярский труд,
демонстрируя добросовестность и аккуратность, чтобы прослыть
интеллигентом. Как ни важна «знаковая», внешняя (анту-
ражная) сторона, не она является определителем
принадлежности человека к интеллигенции и критерием его
воспитанности.
Почти одновременно с А. Блоком тема интеллигента без
интеллигентности волновала и Ф. Э. Дзержинского. Обсуждая
ее в личном плане (в письме к жене из тюрьмы по поводу
воспитания их маленького сына), он нарисовал портрет «типичного»
для того времени интеллигента, «слова и мысли которого
большей частью являются лишь «поэзией» жизни, декорацией,
не имеющей ничего общего с его поступками, с его
действительной жизнью... Слезы при виде игры на сцене — и полное
равнодушие, а то и жестокий кулак на практике, в жизни».
Беспощадно вскрывает он суть так называемой
«интеллигентщины»: «В настоящее время интеллигентская среда убийственна
для души. Она влечет и опьяняет, как водка, своим мнимым
23fi
блеском, мишурой, поэзией формы, слов, своим личным чувством
какого-то превосходства. Она так привязывает к внешним
проявлениям «культуры», к определенному «культурному
уровню», что, когда наступает столкновение между уровнем
материальной жизни и уровнем духовной жизни, потребности
первой побеждают, и человек сам потом плюет на себя,
становится циником, пьяницей или лицемером. Внутренний
душевный разлад уже никогда не покидает его»1. Как видим,
очень разных людей тревожило зрелище деградации
определенной части тогдашней русской интеллигенции. Что же именно
происходило внутри самой интеллигенции, к которой, заметим,
принадлежали и Блок, и Толстой, и Дзержинский?
А. Блок был живым свидетелем возрастания в России числа
интеллигентов, ставших наемными работниками умственного
труда, готовых заниматься духовной деятельностью не по
призванию (личному или общественному)-, а за зарплату (из
чего, разумеется, не следует, что последней можно
пренебрегать). «Фармацевты» от интеллигенции — это функционеры,
чиновники от науки, литературы и искусства, бессловесные
«винтики» организованных и институционализированных форм
духовного производства, продукты которого предназначены для
сугубо утилитарного применения в масштабе всего общества.
Они — и авторы и потребители будущей «массовой культуры».
Поставляя другим готовые шаблонные образцы духовной
продукции (первоисточником здесь могут быть и настоящие
ценности культуры, произведения высокого искусства,
подлинной науки), «фармацевты» вместе с утратой авторства
освобождают себя и от ответственности за результат духовного
воздействия. Иначе говоря, они перестают быть сознательным
субъектом, отвечающим за качество идеального, прежде всего —
идеологических общественных отношений, состояние
общественного сознания, что, собственно, и является социальной
целью интеллигентного труда. Настоящего интеллигента всегда
интересует и волнует вопрос об общественной эффективности его
деятельности, о том, чему и кому он служит своим трудом,
творчеством. Ему мало знать, что он честно получает плату за
свой труд, он должен быть уверен, что плоды его труда имеют
общественную ценность. Интеллигент-«фармацевт» освобождает
себя от этих треволнений.
Замеченная А. Блоком еще в своих истоках тенденция,
диктуемая развитием общественного разделения труда, не
исчерпывает, однако, вопроса о будущности интеллигенции.
Ведь ее общественное положение обусловлено не только
1 Дзержинский Ф. Э. Дневник заключенного. Письма. М., 1966, с. 208, 210.
237
разделением труда, но и природой социального строя, классовой
структурой общества, которое ее порождает и воспроизводит.
Кроме того, массовый характер умственного труда, с одной
стороны, растущая интеллектуализация труда физического —
с другой, размывают контуры самого явления и делают границу
между интеллигентами и неинтеллигентами все более трудно
различимой
Описывая «фармацевтов», не следует, конечно, забывать
о том, что одновременно с ними появлялись, жили и действовали
интеллигенты тоже новой, но совершенно иной формации —
вроде Блока, Горького, Эйнштейна, Луначарского, Хемингуэя
и многих других, которым наш уходящий век обязан целым
рядом лучших своих свершений. И следовательно, факт
появления и распространения «фармацевтов» необходимо
оценивать в рамках усиления противоречий внутри самой
интеллигенции, где постоянно возникают новые явления разного
социального качества и направленности. Нас же интересует иной
вопрос: почему интеллигент в культурно-личностном смысле
слова отнюдь не всегда совпадает с интеллигентом как
представителем определенной социальной группы?
Чисто функциональный подход не позволяет ответить на этот
вопрос, что стало очевидным в условиях индустриального
развития и превращения умственного труда в массовую
профессию. Это возможно лишь при социально-философском
рассмотрении проблемы, когда четко фиксируется
увеличивающаяся разница (в наши дни — явная) между интеллигенцией
как социальной категорией людей и ее этическим началом,
специфически гражданской миссией в обществе. На практике это
проявляется в простом, визуально наблюдаемом факте: став
интеллигентом по диплому или должности, человек нередко не
является им по существу, по строю своей души и образу жизни.
Образуется брешь между профессиональным положением
интеллигента (работника, выполняющего определенную служебную
функцию) и им как личностью, когда духовный потенциал явно
недостаточен, чтобы претендовать на культурное
представительство.
Интеллигенты в традиционном, отнюдь не изжившем себя
понимании — это носители знания и высокой культуры, заметно
опережающие массовый уровень их усвоения. Этим, и ничем
другим, они всегда выделялись и вызывали к себе уважение,
почтительное отношение остальных слоев общества. Ныне массы
сами стали грамотными, а интеллигенция — массовой, что
существенно отличает интеллигенцию нашего времени от
интеллигенции прежних времен. Но отсюда вовсе не следует, что
утратили свое значение просветительская и культурно-воспита-
2.ЧК
тельная миссия интеллигенции, призванной самой своей
«природой» не только нести в массы свет знания, передовых
воззрений, но и быть примером высокой духовности,
нравственной культуры. Интеллигенция изменяет своей
общественной сущности и назначению, когда в угоду ложно понятому
демократизму начинает все больше опрощаться, допуская
снижение собственных потребностей, запросов и требований
к окружающим и к самим себе. В этом случае теряет не только
интеллигенция, но и все общество.
Таким образом, фиксируемая социально-философским
подходом двуединая (но отнюдь не двойственная) природа
интеллигенции — социально-функциональная и
культурно-личностная — дает, по нашему мнению, ключ к распознанию
многих противоречивых жизненных явлений.
Чем руководствуемся мы в житейской практике, определяя
интеллигентность или неинтеллигентность человека,—
образовательным цензом, объемом знаний, специальностью? Однако
можно обладать этими качествами и не быть интеллигентным
человеком по существу. Это тот случай, когда во всем облике
человека, во внутреннем строе его личности, в образе жизни
и поведении отсутствует то, что дает основание считать его
интеллигентом.
В-своих воспоминаниях М. Горький приводит
знаменательный разговор с А. Блоком, в котором тема интеллигентности
получила интересную постановку. Горькому показалось, что
поэт — человек «декаданса», чувствующий «глубоко и
разрушительно»,— слишком пессимистично смотрит на будущее
цивилизации и не очень-то верит в спасительную силу человеческого
разума, его способность остановить безумие. Блок
предчувствовал, что прогресс техники и технологии нисколько не облегчит
и не приблизит решения волнующих его «детских» вопросов —
по его убеждению, самых глубоких и страшных — о смысле
бытия, о смерти, бессмертии и любви. Все попытки Горького
«научно» ответить на эти вопросы, одновременно очень личные
и всечеловеческие, показались Блоку неубедительными и даже
«скучными»1. В этом не имеющем конца разговоре на первый
план вышли типично «интеллигентские» вопросы — как жить
и для чего жить, вне которых нельзя представить себе
действительно разумное существование.
Видимо, интеллигент начинается не с осознания себя как
общественной функции — агента духовного производства
(ученого, идеолога, художника и т. д.), а с самосознания, с осознания
себя в мире и мира в себе «как трещины», проходящей,
1 £м.: Горький М. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1951, т. 15, с. 329, 332.
239
воспользуемся образом Г. Гейне, через «сердце поэта» (или
сердце ученого, философа-идеолога, художника и т. д.). Иначе
говоря, с осознания себя личностью, добровольно берущей на
себя напряжение жизненных (общественных) противоречий,
а также ответственность за то, что затрагивает не только лично
тебя, но и других — ближних и дальних, общество, народ,
весь мир.
Возникая в условиях классовых антагонизмов и
мировоззренческого многоголосья, эта «трещина» может вызвать
самые разные действия, поступки, последствия. В реальной
общественной практике интеллигенция предстает как явление
многослойное и разнонаправленное в социальном и идейном
отношении. Интеллигентами были, к примеру, и А. Блок,
и И. Бунин, но в решающий для исторических судеб любимой
ими России момент они поступили прямо противоположным
образом: один революцию всем сердцем принял, другой —
с такой же решительностью отринул. Отмечая гражданскую
отзывчивость и совесть интеллигента, нельзя игнорировать
определяющую их политическую и мировоззренческую позицию
личности.
Интеллигенты — это всегда люди с неспокойной совестью,
думающие не только о себе, и без этой беспроволочной связи,
соединяющей их с миром, с другими людьми, обществом, без
постоянной готовности отозваться на «чужую» беду и счастье
они просто не мыслят своего существования. Но для того чтобы
интеллигенция реализовала эту свою нравственную функцию
и гражданскую миссию, необходима определенная социальная
база, более или менее благоприятные общественные условия.
Ибо отзывчивость самой гуманной пробы, как свидетельствует,
увы, богатый опыт истории, можно погасить или задушить
непониманием, равнодушием, а то и просто злой волей
отживающих общественных сил. Но настоящих интеллигентов
это чаще всего не останавливало, и они шли на вполне
добровольные жертвы, чтобы постоять за правое дело.
Подчеркнем еще раз, что интеллигентность отнюдь не сводится
к отмеченному выше качеству, но она с него начинается, из него
произрастает. Ведь та же воспитанность, нередко
отождествляемая с интеллигентностью, тоже есть не что иное, как способность
и готовность поступать, «вести себя» с учетом и в согласии
с интересами другого человека, когда думать и помнить о другом
становится нормой поведения во всех ситуациях, случаях жизни.
Именно внутренняя интеллигентность, основу которой
составляют умение понять другого человека и развитое чувство
собственного достоинства, труднее всего дается человеку, а вовсе
не заучивание правил поведения, хорошего тона или хороших
2'.О
манер. Различие это приходится подчеркивать, так как нередко
еще можно встретить мнимую интеллигентность, или, иначе,
интеллигентов без интеллигентности/
Вспомним шукшинское восприятие интеллигента как
непременно обладающего неспокойной совестью и самостоятельностью
ума. Мудрость в органическом сочетании с совестью, или
совестливый ум,— признак и черта именно интеллигентской
рефлексии, хотя она свойственна, разумеется, не одним лишь
интеллигентам. Эта рефлексия рождается не из потребности
в логических упражнениях и диктуется не только развитием
познавательной способности разума. Она рождается чувством
сострадания судьбе народа, других людей. Состояние
общественной сопричастности и чувство человеческой боли, ставшие
«второй натурой» личности, и являются жизненным источником
интеллигентности в высоком, не формальном значении этого
слова. Без деятельно выраженной работы совести, развитой
способности сознательно соизмерять, сопрягать личный интерес
с интересом общественным, других людей, коллектива никакой
объем познаний не делает человека интеллигентом, хотя и может
произвести на кого-то «соответствующее» впечатление, создавая
необременительную возможность прослыть интеллигентом, не
будучи таковым в действительности.
Явление «интеллигент без интеллигентности» довольно
трудно поддается теоретическому описанию, но вполне
подвластно искусству, имеющему дело с конкретными
индивидуальными характерами и психологией. Это хорошо показал Лев Толстой
в «Анне Карениной» через сопоставление жизненных
психологических и поведенческих установок Константина Левина
и Стивы Облонского. В разговоре, происшедшем между ними,
Облонский сказал, что лично он, признавая современное ему
общество несправедливым, считает для себя возможным
пользоваться «несправедливыми преимуществами» и пользуется ими
«с удовольствием». На это Левин отвечает, что он так не мог бы:
«Мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват»1. По многим
другим характеристикам Левин и Облонский мало чем
отличаются друг от друга. Но в этом споре с Облонским позиция
«чистого сердцем» Левина, как назвал его Ф. М. Достоевский, по
существу, позиция интеллигента, для которого мало сознавать
себя участником общественной, полезной другим деятельности.
Ему необходимо еще ощущение «невиновности» или правоты
своих действий и поступков, и отнюдь не для успокоения
совести, а как выражение справедливости, требования которой
в нравственном отношении для всех одинаково обязательны.
1 Толстой Л. /7. Собр. соч. В 20-ти т. М., 1963, т. 9, с. 184.
16 Лака:« i(i():i
241
Стива честен лишь постольку, поскольку не отстаивает
несправедливый порядок как справедливый и не внушает себе и другим,
что пользуется заслуженными привилегиями. Дальше этого
Облонский не идет, потому что существующий порядок, который
он в душе считает несправедливым, тем не менее лично его
вполне устраивает. Ведь совесть прямо зависит от сознания,
идейных убеждений и от всего образа жизни человека. И потому
«совесть» привилегированной части общества —
привилегированная совесть'. Такой совестью и руководствовался Облонский.
Напротив, неспокойная совесть, чувство «вины» —
ответственности не позволяют Левину получать удовольствие от
привилегий, доставшихся ему по праву несправедливого неравенства.
Одного сознания, что он участвует в этом неравенстве,
Левину достаточно, чтобы начать переживать, страдать, впадать
в мучительную рефлексию.
Может быть, все дело в «тонкокожей натуре», в недостатке
практичности Левина? Его старший брат, Сергей Иванович,
считает своего младшего брата славным малым, с хорошо
поставленным сердцем, как выражаются французы, но слишком
впечатлительным, с исполненным противоречий умом. Сам
Сергей Иванович был человеком большого ума и
образования благородного в самом высоком значении этого слова,
активным участником деятельности на общее благо. Но чем
больше вглядывался Левин в своего брата, чем больше узнавал
его, «тем более замечал, что и Сергей Иванович и многие другие
деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой
любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим
хорошо, и только потому занимались этим»2. Что же касается
самого Левина, ему важно знать, что деятельность на общее
благо осуществляется с убеждением, которое порождено не
одним только разумением, вообще «соображением». Надо, чтобы
человек не мог успокоиться на том, на чем многие, к сожалению,
успокаиваются,— на обожании собственной персоны, на
самолюбии или удовлетворенном тщеславии (не говоря уже о тех, кто
капитулирует перед демоном алчности, корыстолюбия или
пошлого потребительства).
Было бы неправильно считать Левина образцом настоящего
интеллигента, на что, кстати, не претендует ни он сам, ни автор
романа, вложивший в этот образ немало заветных мыслей
и личных исканий. Но в Левине отчетливо проступает то, что
можно назвать ферментом интеллигентности. Пытаясь
изобразить социально-психологический облик, «портрет» интелли-
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 6, с. 140.
2 Толстой Л. Н. Собр. соч. В 20-ти т. М., 1963, т. 8, с. 282.
'Г\1
рентного человека, обычно называют, помимо образованности
и воспитанности, такие качества, как развитое чувство
достоинства, свобода от предрассудков, терпимость, власть над
инстинктами, гибкость в реакции на изменение ситуации
и т. д. В отрицательном плане интеллигент, если поверить
Ф. М. Достоевскому, страдает нерешительностью, несамостоя-"
тельностью, готовностью к соглашению, способностью самого
себя уговорить, увлечь, обольстить, тягой к внешней
«представительности»'. Но подобные портретные зарисовки и
характеристики мало что объясняют, ибо остается неизвестным основание,
благодаря которому эти свойства вызываются к жизни столь
противоречивым образом, порождая
всевозможные-превращения. Поэтому важно установить, что же берется за исходный
пункт при характеристике и оценке феномена
интеллигентности.
Вот, к примеру, Ф. М. Достоевский упрекает Левина
в «праздношатайстве»2, что вряд ли справедливо, ибо он не
праздный белоручка, а весь в трудах и заботах, постоянно
хлопочет по хозяйству, с охотой участвует в крестьянском труде.
И он не Алеко, подменяющий действия и поступки духовным
созерцанием, отвлеченно-мировой скорбью. Освобождение
крестьян Левин воспринял как освобождение самого себя от ярма,
«которое давило нас, всех хороших людей»3. Но как ни старается
Левин уменьшить ту разницу положения, которая существует
между ним и мужиком, он остается все-таки помещиком,
интеллигентным барином, живущим не только трудом своим, но
и трудом крестьян. Это и есть то главное препятствие, которое
образовало между народом и интеллигенцией, по словам
Достоевского, двухвековую стену отчуждения.
Как известно, Толстой попытался осуществить свой план
сближения с народом на деле и под конец жизни был крайне
огорчен полученными результатами. Он попытался буквально
врасти в думы, нужды, труд и быт мужика-крестьянина
и убедился в недостаточности и ограниченности личных усилий
как-то облегчить участь народа. Но он не отказался от формулы,
некогда выведенной Сенекой: надо стремиться жить лучше, а не
иначе, чем масса. Живя интересами «простого люда», надо в то
же время во всем быть образцом подлинно человечного
существования. «Слияние» с народом посредством все большего
опрощения судьбу народа не изменит и не улучшит. Напротив,
задача интеллигенции как раз в том и состоит, чтобы поднять
1 См.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч., т. 12, с. 309—310.
2 См. там же, с. 237-238.
3 Толстой Л. Н. Собр. соч. В 20-ти т., т. 8, с. 290.
Mi*
народ до высот культуры, знания, помочь ему в овладении
духовными ценностями, накопленными мировым развитием
человечества, и тем самым содействовать развитию личности
каждого труженика.
Так повелось, что формирование интеллигента и воспитание
интеллигентности в наши дни сводятся в основном к
умственному развитию, интеллектуальной подготовке, а то и просто
к выбору соответствующей специальности интеллигентного
труда. Значение интеллекта, фактора знания и образованности,
разумеется, не следует недооценивать или игнорировать.
Особенно в наше время все повышающегося авторитета научного
знания. Но рождение интеллигента — явление гораздо более
сложное, тонкое и трудоемкое, чем порой думают.
Интеллигентность предполагает пробуждение, развитие и воспитание
таких качеств личности, которые одной лишь интеллектуальной
подготовкой, пусть и совершенной, не обеспечиваются.
Признание того, что интеллигенция есть явление многомерное
и многокачественное, неизбежно приводит к вопросу, который
(в культурно-личностном плане) имеет для практики
общественного воспитания важное 'значение. Какое качество
образованного, воспитанного человека может быть поставлено в центре
такого понятия, как интеллигентность?
По удачному определению В. Г. Короленко,
интеллигентность — это умение заражаться чужими настроениями,
интересами, нуждами. Именно эта «способность заражаться народными
настроениями определяла крупнейшие повороты во взглядах
самого Толстого» . Несколько иначе на тот же вопрос ответил
уже упомянутый японский философ-марксист Тосака Дзюн:
«...именно беспокойство и есть вечное достоинство человеческой
жизни и интеллигенция существует как выражение этого
беспокойства»2. Однако давно известно, что любое хорошее
качество может обернуться своей противоположностью. Так
и данное качество может проявиться отрицательно —
несамостоятельностью, шатанием мысли, нестойкостью позиции,
склонностью к компромиссам, заслужив иронически-презрительный
упрек в «интеллигентщине». Но в своем
положительном, недеформированном виде способность заражаться «чужим»
интересом или настроением представляет природу
интеллигентности и интеллигенции в их глубинном, «истоковом»
значении: интеллигенция (разумеется, в зависимости от своей
позиции, симпатий и антипатий) способна выразить
общественные (классовые) интересы и цели, в том числе интересы
1 Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х т., т. 2, с. 152.
2 Тосака Дзюн. Японская идеология, с. 177.
2\ \
и цели народа, трудящихся масс, «решительнее» и «точнее»
других, как это отметил В. И. Ленин. В этом — и только
в этом! — смысле оправданна ее «несамостоятельность», а
умение встать на «другую» точку зрения и служить «другим»,
проявляя нередко поразительную самоотверженность,
свидетельствует о ее силе и мудрости. Ведь выбор жизненной позиции
настоящим интеллигентом всегда диктуется убеждением, а не
происхождением и положением.
Социальную силу интеллигенции не следует ни
преувеличивать, ни недооценивать. С толстовским суждением о якобы
«вредоносном» влиянии интеллигенции на народ никак нельзя
согласиться (о благотворной роли интеллигентов
свидетельствует хотя бы вклад самого Льва Толстого), как нельзя согласиться
и с блоковской иронией по поводу «интеллигентской привычки
решать проблемы социального бытия». На это М. Горький
резонно возразил, заметив, что «отрицательное отношение
к интеллигенции есть именно чисто «интеллигентское»
отношение. Его не мог выработать ни мужик, знающий интеллигента
только в лице самоотверженного земского врача или
преподобного сельского учителя; его не мог выработать рабочий, обязанный
интеллигенту своим политическим воспитанием. Это отношение
ошибочно и вредно, не говоря о том, что оно вычеркивает
уважение интеллигенции к себе, к своей исторической и
культурной "работе»'. Как и любой другой класс современного
общества, пролетариат не только создает свою собственную
интеллигенцию, но и берет, по словам В. И. Ленина, себе также
сторонников из числа образованных людей2. И не наемниками
и продавцами своей рабочей силы сознавали себя передовые
интеллигенты всех профессий, а гражданами, исполняющими
определенные общественные функции и сознающими «всю
непримиримость самодержавия с интересами общественного
развития, с интересами интеллигенции вообще, с интересами
всякого настоящего общественного дела...»3.
Завершая поистине каторжный труд над «Капиталом»,
К. Маркс вправе был сказать в адрес своих противников:
«Я смеюсь над так называемыми «практичными» людьми и их
премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно,
повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей
собственной шкуре»4. Этим, казалось бы, очень личным призна-
1 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 15, с. 330.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 6, с. 389.
3 Там же, т. 5, с. 333; см. также с. 330.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 31, с. 454.
245
нием точно обозначена суть жизненной позиции и психологии
подлинного интеллигента. Интеллигентность — не благие
намерения и прекраснодушные устремления; это поступки
и действия во имя человека и человечности (не случайно фашизм
так ненавидел, презирал и вытравлял все действительно
интеллигентное из жизни и истории народа, нации).
Интеллигенты в подлинном значении слова — это
И. И. Мечников, который, исследуя эпидемию холеры во
Франции в 1890 году, в поисках противоядия выпивает порцию
холерных бацилл; это Мария Кюри, которая, проработав около
тридцати лет с радием и вдыхая его эманацию, знала, что скоро
умрет, но думала о другом: «Меня беспокоит судьба Института
радия после того, как меня уже не будет»1; это Альберт
Швейцер, построивший на собственные средства и отчасти
своими руками госпиталь для прокаженных в Экваториальной
Африке, отстаивавший идеал высокой человечности с помощью
«личного действия»; это И. В. Курчатов и С. П. Королев, без
остатка отдавшие себя и свою жизнь утверждению могущества
Родины, делу прогресса науки и техники; это инициаторы
Пагуошского движения и врачи многих стран мира,
объединившие свои усилия в борьбе против угрозы ядерной войны,
прогрессивные деятели, отдающие свои силы решению
глобальных проблем человечества.
Без умения «заражаться» чужими настроениями,
интересами и нуждами не нашли бы пути к рабочему классу
основоположники научного социализма, выдающиеся революционные
деятели из числа интеллигентов, проделавшие гигантскую
работу по внесению научного социалистического сознания
в стихийное рабочее движение, организации и сплочению
революционных масс.
Замечательный образец интеллигента нового,
социалистического типа являет собой Ф. Э. Дзержинский. Его называли
одновременно «железным Феликсом» и «рыцарем революции».
Натура поразительно цельная и гармоническая, он сочетал
абсолютную преданность делу революции, которой он служил
без cfpaxa и упрека всю свою сознательную жизнь, с
необыкновенной честностью, чуткостью и деликатностью в отношении
к людям, с высокой культурой настоящего интеллигента. Не
случайно В. Маяковский советовал юноше, вступающему в
жизнь и решающему, «сделать бы жизнь с кого», брать пример
с Дзержинского.
«Всегда, ныне и присно наша интеллигенция играла, играет
См.: Кюри Е. Мария Кюри. М., 1978, с. 337, 336.
и еще будет играть роль ломовой лошади истории,— писал
М. Горький.— Неустанной работой своей она подняла
пролетариат на высоту революции, небывалой по широте и глубине
задач, поставленных ею к немедленному решению»1.
Всякое противопоставление интеллигенции рабочему классу
в качестве некой «элитарной» силы, равно как и попытки
столкнуть их интересы, якобы несовместимые, чуждые друг
другу, ничего, кроме вреда, социализму принести не могут.
В сложных исторических условиях первых лет
социалистической революции В. И. Ленин решительно отверг обвинение
коммунистов в том, что они будто бы «натравливают» народ на
интеллигенцию: «Если бы мы «натравливали» на
«интеллигенцию», нас следовало бы за это повесить. Но мы не только не
натравливали народ на нее, а проповедовали от имени партии
и от имени власти необходимость предоставления
интеллигенции лучших условий работы»2. С того момента, как возникла
пресловутая «махаевщина» (конец XIX — начало XX века) —
мелкобуржуазное течение, проповедовавшее враждебное
отношение к интеллигенции вообще и социалистической
интеллигенции в частности,— В. И. Ленин и партия вели решительную
борьбу с ее различными проявлениями в революционном
движении и социалистическом строительстве.
Передовые, прогрессивно мыслящие интеллигенты очень
сложного послереволюционного времени сразу или вскоре
встали на путь служения делу революционного пролетариата,
нашли свое место в борьбе за утверждение нового строя.4 А потом
интеллигенты, вышедшие из рядов рабочих и крестьян, по праву
стали называться «пролетариями умственного труда»,
«трудовой интеллигенцией», ибо таковой она и является в условиях
социализма по своему объективному положению. Как свои,
кровные восприняла она идеалы, интересы, мораль
революционного рабочего класса.
Когда-то «веховцы» попытались с весьма неблаговидной
целью столкнуть, противопоставить две тенденции, якобы
сложившиеся в среде интеллигенции. Одни интеллигенты, мол,
видят свою миссию во внутреннем переустройстве, духовном
изменении, совершенствовании человека, а другие, примкнув
к революции, пошли по пути радикализма, берущего свое начало
от Радищева3. Но подобное расчленение несостоятельно уже
только потому, что среди интеллигентов, разделивших цели
1 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 15, с. 330.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38,' с. 220.
3 Подробнее об этом см.: Минц И. Революция и интеллигенция. —
Проблемы мира и социализма, 1981, № 12, с. 13.
революции, не было ни одного, кто не видел бы смысл
революционной перестройки мира в обновлении, изменении
самого человека (что, собственно, и является, согласно известной
марксистской формуле, конечной целью изменения,
преобразования обстоятельств). Будучи противниками социалистической
революции как таковой, «веховцы» пытались замаскировать
свою ненависть к ней разговорами о «духовном возрождении»,
«моральном совершенствовании» людей (порой используя
в своих идеологических целях слабости и предрассудки учения
Льва Толстого). Этот прием берется на вооружение и
современными советологами. В действительности коммунисты
выступают не против духовного обновления и нравственного
совершенствования человека, а против тех, кто считает
возможным такое обновление без революции, без союза
интеллигенции с революционным рабочим классом. И то, что именно
сейчас, когда воздействие интеллигенции на общество
становится все более сложным, тонким делом, так актуально звучат
и идеи морального совершенствования, столь волновавшие
Толстого, подтверждает дальновидность позиции коммунистов-
ленинцев. В отличие от Толстого переделку самих обстоятельств
они рассматривают в неразрывной связи с изменениями, которые
при этом происходят в нравственном мире личности, в морали
общества в целом.
В свое время для того, чтобы пролетариат превратился из
класса «в себе» в класс «для себя», понадобилось соединить
энергию и волю рабочих со знаниями и умением интеллигентов
выразить теоретически его всеобщий интерес. В союзе
революционных рабочих с передовой, прогрессивной интеллигенцией
заключено одно из важнейших условий торжества всего дела
коммунистического преобразования мира.
Объединение людей физического и умственного труда
сыграло поистине историческую роль в процессе построения
социализма, в ходе которого качественно изменились и рабочий
класс и интеллигенция, вышедшая из народа и сознательно
служащая интересам социалистического общества. Ныне, когда
предстоит осуществить всеобъемлющим образом
научно-техническую революцию, добиться качественного сдвига в росте
политической культуры и формировании научного
мировоззрения трудящихся, значение деятельности, многогранного труда
интеллигентов неизмеримо повышается, а возлагаемые на них
задачи усложняются. Справедливо отстаивая примат рабочего
класса в социальной структуре социалистического общества,
нельзя вместе с тем недооценивать и роль социалистической
интеллигенции не только в образовании, науке, культуре, но
и в материальном производстве, в общественных преобразовани-
248
ях в целом. Особенно это важно на современном этапе развития
социализма, когда от науки, культуры во многом зависит
решение важнейших социальных задач, программы
коммунистического строительства.
Можно предположить, что потребность в интеллигенции как
особом слое полностью изживет себя тогда, когда вместе
с окончательным преобразованием общественно-разделенного
труда в социально однородный труд всеобщей нормой и
потребностью людей станет интеллигентность. Это и будет вкладом
нынешнего и будущих поколений интеллигенции в построение
новых, коммунистических, социальных отношений и образа
жизни, в формирование нового человека, который впитает в себя
лучшие черты рабочих и интеллигентов.
Остается теперь кратко обобщить сказанное в этом очерке.
Лев Толстой совершил в искусстве такое, о чем прочие и мечтать
не смели, сказал Томас Манн, имея в виду полноту и глубину
художественного постижения мира и человека. Но по-своему
поразителен также опыт жизни и личности Толстого, если
признавать, что между жизнью и творчеством в данном случае
наблюдается редкое соответствие.
Людей, воспринимаемых как синоним жизненности,
осмысленности и оправданности человеческого бытия, не так уж много.
К ним по праву следует отнести и Льва Толстого. Именно так он
воспринимается, но не «издали», не «со стороны», а при попытке
вжиться, вчувствоваться, вдуматься в его жизнь, переполненную
противоречиями, метаниями, перепадами, самоотрицаниями.
Ведь не только Оленин, герой «Казаков», хотел научиться
думать и жить наилучшим образом, то есть по совести и
справедливости. Это и сокровенное желание самого Толстого, которому он
остался верен всю свою долгую жизнь, считая совесть
перекрестком всех человеческих проблем, «памятью» всех других людей.
«Я такой же человек, как все... И потому думаю, что решение
вопроса, которое я нашел для себя, будет годиться и для всех
искренних людей, которые поставят себе тот же вопрос»1.
Проблемами, которые волновали его всю жизнь, страдали, мучились
многие его герои — и Левин, и Пьер, и Нехлюдов: «Что дурно?
Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и
что такое я? Что такое жизнь, что смерть?»2 Эти вопросы,
которые задавал Пьер Безухов, никогда не перестанут интересовать
людей. Поразительное чувство социальной восприимчивости,
преклонение перед простотой и нравственной чистотой людей —
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90-та т., т. 25, с. 376.
2 Толстой Л. Н. Собр. соч. В 20-ти т. М., 1962, т. 5, с. 75.
249
вот что делает жизнь и творчество Льва Толстого источником
силы, свежести, бодрости, короче, жизни. И не случайно, желая
помочь советом человеку в трудную минуту, Блок написал:
«Вспоминайте Толстого. Возвращайтесь иногда к его книгам,
даже если это будет Вам иногда скучно и трудно. Толстой всем
нам теперь помогает и светит»1.
Да, завидная судьба у этого человека...
1 Блок А. Собр. соч. В 8-ми т., т. 6, с. 325.
только
OB ОДНОЙ ЗВЕЗДЕ
ПРЕДМЕТ НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
И ОБЩЕСОВЕТСКОЙ ГОРДОСТИ
Наш лозунг есть интернациональная культура
демократизма и всемирного рабочего движения...
Интернациональная культура не
безнациональна...
В. И. ЛЕНИН
На высоком рассветном небосводе отечественной культуры
начала XX века, сплошь исчерченном огневыми сполохами
революций, на его зоревой октябрьской грани не вдруг
замечаешь, но невольно запоминаешь сияние одной крупной звезды.
В то время как все прочие светила, отбрасывающие на земную
твердь то ли собственные, то ли отраженные лучи, жмутся друг
к другу, эта держится вроде бы особняком. И свет ее «странен».
Его врубелевский спектр не спутаешь ни с каким другим,
а вызванное им однажды очарование потом уж не проходит
никогда.
Имя этой звезды — Александр Блок.
Для немалой части изучавших в свое время л.итературу
в старших классах средней школы он по сию пору «декадент»,
и этим якобы «все сказано». Оживление интереса к творчеству
поэта в последние десятилетия, отмеченные значительным
подъемом образовательного уровня трудящихся, ростом их
духовных запросов, возвышением потребностей, однако,
показывает, что дело тут куда сложнее. Свидетельствовать своим
творчеством о «декадансе», то есть упадке, вырождении старой,
буржуазно-помещичьей культуры, еще не значит быть самому
вырожденцем. Ведь и Блок когда-то делил литературных
декадентов на «хороших» и «дурных». «Название
декадентство,— писал он о первых — тех, кто, не будучи продуктом
духовного гниения господствующих классов, пытается
вырваться из цепких объятий традиционного мироощущения,—
прилепляется публикой ко всему, чего она не понимает» (т. 7,
2Г>.Ч
с. 25) '. При этом совершается пагубное смешение здорового
в тенденции порождения переходной эпохи с ее духовными
отбросами, «чему, кстати,— замечал Блок,— очень способствуют
настоящие «упадочники», дегенераты, имена которых история
сохранит без благодарности» (т. 7, с. 26).
Ради полной ясности стоит, видимо, сразу же предупредить
читателя, что цель этих заметок — не какие бы то ни было
историко-литературные экскурсы и филологические изыскания.
Александр Александрович Блок привлекает внимание автора
этих строк главным образом не как поэт, а всего лишь как
человек, и его произведения затрагиваются только под этим
углом зрения.
Впрочем, и индивидуальный человеческий облик Блока — не
самоцель. Он интересен социально — как ярчайшее до
ослепительности выражение самочувствования и самосознания
беспощадно искреннего, по оценке Максима Горького,
бескомпромиссно честного интеллигента ранней, начальной поры новой
общественной формации, лишенного каких бы то ни было
мещанских предубеждений и вместе с тем наделенного
поразительным историческим чутьем. Такого чутья иной раз ох как не
хватает отдельным нашим современникам, профессионально
занимающимся интеллектуальным трудом.
Речь А. А. Блока по случаю восемьдесят четвертой
годовщины гибели А. С. Пушкина начинается так: «Наша память
хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук
наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена
императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства,
мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое
имя: Пушкин» (т. 6, с. 160).
Если хоть в какой-то мере допустимо подобное
сопоставление, имя «Блок» веселым и легким не назовешь. От него,
наоборот, веет каким-то белым холодом, чудится каменная
тевтонская тяжесть, явление которой.на Руси объяснимо лишь
иноземным пришельством.
Но настороженно относиться к Блоку только на этом
основании было бы совершенно неоправданно. В антологии
нашей поэзии XX столетия не так уж легко отыскать автора
более «русского», чем он. Конечно, на память приходит,
например, имя Сергея Есенина, который, по свидетельству
Блока, называл его «западником» (т. 7, с. 313). А сам не
поднимался (допустим, потому, что был еще слишком молод) до
пушкинской всеохватности, оставаясь верен исконному кресть-
1 Здесь и далее произведения А. А. Блока цитируются по: Собр. соч. В 8-ми
т. М.-Л., 1960-1963.
•1 .V.
янскому мировосприятию. Но крестьянское и национальное
далеко не одно и то же. Немало недоразумений происходило из-
за того, что «русское» вследствие ограниченности кругозора
путали с деревенским, подчас отказывая в этом звании лучшим
творениям российской интеллигенции, то есть наиболее
рафинированным, ювелирно ограненным проявлениям того же
отечественного духа, к которым по праву принадлежат и Пушкин
и Блок.
Горький писал о драме Есенина, который погиб, так и не
сумев «понять, почувствовать глубокое и всем ходом истории
обусловленное значение того, что называется «смычкой» города
и деревни. Трудно лирикам жить во время эпическое, в
героические будни»,— добавил он и ставил в пример Михаила
Исаковского, который «хорошо понял, необходимость и
неизбежность «смычки», хорошо видит процесс ее и прекрасно
чувствует чудеса будних дней». В одном только Горький
с Исаковским не соглашался, критикуя его строки:
Я потерял крестьянские права,
Но навсегда останусь деревенским.
«Вот это последнее,— писал Горький,— я думаю, уже
неверно. Михаил Исаковский не деревенский, а тот новый
человек, который знает, что город и деревня — две силдл, которые
отдельно одна от другой существовать не могут, и знает, что для
них пришла пора слиться в одну, необоримую творческую
силу,— слиться так плотно, как до сей поры силы эти никогда
и нигде не сливались»1.
По своему происхождению Блок «нерусский» не более, чем
великий правнук «арапа Петра Великого», знаменитого
абиссинца Абрама Петровича Ганнибала. Существенной роли не играет,
что в жилах Блока была доля не африканской, а «нордической»
крови: по преданию, отдаленный его предок, выходец из
Мекленбурга, служил врачом у царя Алексея Михайловича.
Подобные «примеси» — при удивлявших иностранцев
веротерпимости и уживчивости восточных славян — довольно типичны
для многих русских, и не только образованных, семей.
Русь с ее бесконечными просторами многие века была ареной
перемещения и расселения разноплеменных масс людей,
открытой культурным веяниям со всех стран света, и не
замыкалась от других народов в свою национальную скорлупу.
Национализм всегда — даже в те времена, когда он в форме
великодержавной идеологии сознательно насаждался царским
правительством,— неуютно чувствовал себя в русском народе.
Не в этом ли одно из объяснений того, что неохватно мощный
1 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1953, т. 24, с. 310-312.
ствол российской духовной культуры своей разросшейся
корневой системой органически связан, по сути, со всеми
основными плодоносными слоями культурной почвы
человечества?
Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
Эти строки из «Скифов» звучат как образная аттестация
исторической предрасположенности русского человека к
интернационализму, как художественная характеристика примеча-
тельнейшей черты его национального характера. «Ненавидеть
интернационализм — не знать и не чуять силы
национальной»,— записал Блок в дневнике 5 января 1918 года (т. 7,
с. 314).
МОМЕНТ ВЫБОРА
О, крепкая и твердая дерзость! О, как не
испугался, не устрашился такого множества вражеских
воинов?
О побоище, которое было на Дону,
и о том, как князь великий бился
с Ордою.
Всякий раз, когда отзвучит величественная оратория
всенародного торжества в честь очередной годовщины Октября,
на память невольно приходят некоторые связанные с ней
даты и события. Среди них публикация 19 января 1918 года в
газете «Знамя труда» статьи А. Блока «Интеллигенция и
Революция».
Ну что, казалось бы, могла означать в жизни
профессионального, широко известного и давно признанного литератора еще
одна публикация? Однако это не рядовая статья в творчестве
Блока. «Интеллигенция и Революция», а ее Блок начал писать
в последние дни 1917 года, есть знамение поворота, и поворота
решительного, лучшей части дореволюционной интеллигенции
к Советской власти, к тесному союзу и плодотворному
сотрудничеству с победившим пролетариатом. Эта статья — историческая
декларация пролетарского мироощущения передовых,
социально ответственных деятелей умственного труда, не говоря уже
о переломно-программном значении ее в творчестве, во всей
деятельности самого поэта.
«У буржуа,— писал Блок,— почва под ногами определенная,
2Г>(>
как у свиньи — навоз: семья, капитал, служебное положение,
орден, чин, бог на иконе, царь на троне. Вытащи это — и все
полетит вверх тормашками. У интеллигента, как он всегда
хвалился, такой почвы никогда не было. Его ценности
невещественны. Его царя можно отнять только с головой вместе.
Уменье, знанье, методы, навыки, таланты — имущество кочевое
и крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи,— что
же нам терять?» (т. 6, с. 18).
Сказано категорично, с некоторым психологическим
«пережимом», но зато недвусмысленно четко. Напоминание о
фрондерской болтовне («как он всегда хвалился»), призванной
продемонстрировать отличие интеллигента от буржуа, звучит
здесь укором. Многие из ранее похвалявшихся своей
«беспочвенностью» повели себя перед лицом революционного народа как
заурядные мещане. Вопрос «что же нам терять?» как бы навеян
заключительными словами «Манифеста Коммунистической
партии»: «Пусть господствующие классы содрогаются перед
Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней
терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир»1.
Последнее не натяжка, ибо это произведение классического
марксизма Блоку было хорошо известно. «Манифест Маркса,—
подчеркивал он в статье о Рихарде Вагнере,— ...представляет
собою новую для своего времени картину всей истории
человечества, разъясняющую исторический смысл
революции...» (т. 6, с. 22).
История знает немало примеров, когда в длительные периоды
эволюционного прозябания общества бок о бок могли
действовать, находиться в спокойных повседневных служебных
и житейски-бытовых отношениях, даже «водить дружбу»
совершенно разные по своим фундаментальным воззрениям
люди. Иногда эта разница навсегда оставалась
неосуществившейся возможностью, иногда она бывала неясна им самим,
иногда вызревала лишь постепенно и вдруг прорывалась, когда
перед обществом во весь рост вставала проблема: дальше жить
так невозможно — как жить дальше? Решение этой проблемы
с позиций того или другого из основных противоборствующих
классов, с противоположных позиций сил эксплуататорского
«порядка» или же революционной демократии было причиной
многих гражданских коллизий: по разные стороны баррикады
оказывались не только бывшие друзья, раскалывались и семьи,
брат иногда шел на брата, жена, если вспомнить хрестоматийный
пример — треневскую Любовь Яровую,— бывала вынуждена
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 459.
17 Закал 4<ЮЗ
257
делать жестокий выбор между любовью к мужу и верностью
своему народу.
Ожидала ли Блока подобная участь? Исходя из многих
обстоятельств его личной и творческой биографии, из его
ближайшего окружения, пожалуй, скорее можно было бы
ответить: нет. И это «нет» оказалось бы искомой истиной, если
бы речь шла о заурядной личности. Но с Блоком все вышло —
и не могло не выйти — как раз наоборот. Переживший
мистические сны юности, восторги богемы и пьяные миражи,
Блок, к счастью, обманул представления многих. Духовный
вождь символистов, первый русский поэт начала века, не
дрогнув, встал на сторону большевиков. Одна лишь
парадоксальность этого решения придает его личности неповторимо
романтический и трагический ореол. «Не много ли я взял на
себя? — размышляет поэт. — Люба (жена Блока — Любовь
Дмитриевна, дочь Д. И. Менделеева. — Р. К.), шутя, говорит:
рикируйся. Жутко»1.
Начались, как в подобных случаях говаривал М. Е.
Салтыков-Щедрин, всяческие «рылокошения» и «спиноотворачива-
ния». «Звонил Есенин,— записывает Блок 22 января 1918
года,— рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском
зале. Гизетти (литературный критик. — Р. К.) и толпа кричали
по адресу его, А. Белого и моему: «изменники». Не подают руки.
Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья
«искренняя», но «нельзя» простить»2.
И тут же — как открытие! — безошибочный полемический
выпад поэта: «Господа, вы никогда не знали России и никогда ее
не любили!» И крупная приписка красным карандашом:
«Правда глаза колет».
Это уже была борьба, и Блок проявил себя неплохим бойцом.
Слово «жутко», которым поэт передал свое состояние, не
означало, что его смутила или заставила усомниться в
правильности решения реакция иных бывших друзей. Источником
испытываемого Блоком чувства было эмоционально окрашенное
осознание взятой им на себя исторической ответственности,
огромная мера которой ему, человеку в высшей степени
самокритичному, но до недавнего времени весьма далекому от
политики, не искушенному в решении проблем, связанных
с судьбами миллионов людей, представлялась особенно
непривычной. Его ключевую фразу: «Не много ли я взял на себя?» —
можно прочесть и так: а достоин ли я?
1 Блок А. Записные книжки 1901 — 1920, с. 389.
2 Там же, с. 385.
:r>,s
личность хх-л<>viviiиi;л патриота
Все будет хорошо, Россия будет великой. Но как
долго ждать и как трудно дождаться.
А. БЛОК
Из замечательных качеств личности Блока, которые
объясняют его поведение, хотелось бы (не без опасения навлечь на себя
упреки в схематизации) назвать здесь такие.
Во-первых, органическое освоение высших достижений
отечественной и мировой культуры в самом широком смысле,
ощущение себя в мире высокого искусства прошлого и
настоящего как в родной стихии и конечно же то, что называют эрудицией,
освещенное изнутри уникальным проникновением в самую суть
духовного творчества. Писать об этом можно много, но
ограничимся одним примером.
Поразительны очерки «Молнии искусства» из незаконченной
книги итальянских впечатлений. Они передают почти
физическое ощущение того, что подземный шорох истории,
прошумевшей и невозвратимой, быть может, ближе, даже роднее
приезжему чужеземному поэту, чем большинству уроженцев
этой земли. Поэт проницательно всматривается в повседневность
современного ему буржуазного общества и с болью констатирует
его кричащую отчужденность не только от культурных слоев
античности, но и от наследия эпохи Возрождения. Особенно
отчетливо это выражено в стихотворении «Флоренция» из цикла
«Итальянские стихи»:
Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама!
Звенят в пыли велосипеды
Там, где святой монах сожжен,
Где Леонардо сумрак ведал,
Беато снился синий сон!
Ты пышных Мёдичей тревожишь,
Ты топчешь лилии свои,
Но воскресить себя не можешь
В пыли торговой толчеи!
Во-вторых, хрустальная душевная чистота, безупречная
внутренняя честность, неприятие какой бы то ни было фальши,
нравственная цельность и верность самому себе, начиная от
бесконечной — к сожалению, без такого же ответного чувства —
любви к жене и кончая отношением к своему писательскому
ремеслу. В условиях свирепствующей реакции, писал Блок
17*
в 1907 году, «почти не видишь вокруг себя настоящих людей,
хотя и веришь, что в каждом встречном есть запуганная душа,
которая могла бы стать очевидной для всех, если бы захотела. Но
люди не хотят быть очевидными и притворяются, что им есть еще
что терять. Это так понятно у тех, для кого цепи всяких
отношений еще не совсем перержавели, чье сознание еще смутно. Но это
преступно у тех, кто, родившись в глухую ночь, увидал над собою
голубое сияние одной звезды и всю жизнь простирал руки к ней
одной...» (т. 5, с. 209). Уже к тому времени «цепи» поэта
перержавели. И он не стеснялся быть для иных своих
современников неприятным недоразумением, никому в мире не
старался угождать, ибо, пользуясь его же словами, ничему
в мире, кроме увиденной им звезды, не была предана его душа.
В-третьих, доминирующий надо всем патриотизм,
беспредельное чувство Родины, России, о которой особенно нежно
надо заботиться в «безвременье», «в эпоху распахнувшихся
на площадь дверей, отпылавших очагов, потухших окон»
(т. 5, с. 71).
«Как Россия, так и мы» — эти слова были удивительно
естественны в устах Блока, готового отрешиться от собственного
очага и всецело отдаться во власть вьюги гражданственности.
Д. С. Мережковский в связи с этим уличал его в сатанинской
гордости, выразив тем самым, как потом сетовал Блок, «ужасно
презрительное и предвзятое отношение к делу» (т. 5, с. 442).
Есть такой сорт людей, которые, исключая высокое из своей
собственной бытовой повседневности, делают то же и по
отношению ко всем остальным. Отечестволюбие они считают
риторикой и его проявления пытаются так или иначе расчленять
и низводить до уровня ремесленно-цеховых, групповых, а то
и просто житейски-потребительских интересов. Не может быть,
говорят они, чтобы имярек исходил лишь из соображений общей
пользы или из идеальных побуждений, что-то тут не то, для чего-
то это ему надо, но вот для чего?..
Впрочем, Блок тогда, в 1910 году, не винил ни в чем
Мережковского и пробовал объяснить его ругань общими
тяжелыми условиями русской культуры, когда «всякий только
смотрит и ищет, как бы ему кого-нибудь обругать, притом,— чем
ближе человек, тем язвительней и беспощадней» (т. 5, с. 442).
Надо было пережить целых семь лет (и каких!) и, самое главное,
нащупать роковую разделительную черту, неумолимый
классовый водораздел, чтобы бросить приведенную выше беспощадную
фразу: «Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не
любили!»
«Даже у такого утонченного поэта, как Блок,—вотмечал не
весьма жаловавший Александра Александровича А. В.
Лунами
чарский,— тоже имеются иногда какие-то ноты, которые еще до
революции 1917 года как-то подземно связывают его с судьбами
бедноты. Так что, живя в одной стране, люди, разумеется,
группировались не с такой абсолютностью в разные лагери.
Известное внутреннее соединение этих сосудов было, но,
в общем, это не мешает тому, чтобы сразу мы условились, что
здесь две реки, два водораздела, хотя кое-где и спаявшихся
своими притоками»1.
«Чем больше чувствуешь связь с родиной,— писал Блок
в незаконченном ответе Мережковскому,— тем реальнее и
охотней представляешь ее себе как живой, организм...
Родина — это огромное, родное, дышащее существо, подобное
человеку, но бесконечно более уютное, ласковое, беспомощное,
чем отдельный человек...
Родина — древнее,- бесконечно древнее-существо, большое,
потому неповоротливое, и самому ему не счесть никогда своих
сил, своих мышц, своих возможностей, так они рассеяны по
матушке-земле» (т. 5, с. 443).
Блоковский образ России, блоковское ощущение Родины
очень русские, основанные на глубоко прочувствованном знании
истории страны и истории ее духа. Поэт-петербуржец, выходец
из образованнейшего рода не ведает областнических или же
салонных предпочтений, а тем более противопоставлений. Ему
равно дороги и новгородские лесные топи и ковыльные дали
южных степей. Восприятие им Родины можно назвать
культурным в лучшем смысле слова. В нем нет ни грана каково бы то
ни было местнического чванства и тем более национализма.
Именно такое восприятие земли отцов достойно великого народа,
и оно сродни государственному мышлению. Насколько оно по
типу своему выше, например, педантского взгляда Н. Бердяева,
который увидел в истории «пять разных России: Россию
киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую,
Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую
советскую Россию» .
Родина — живой организм... Это ощущение не только
блоковское. Россию растущую, Россию в движении, Россию,
устремленную вперед, с восторгом и тревогой воспевали все
великие русские писатели. А. С. Пушкин не только по
высочайшему повелению брался писать две истории — Петра
и Пугачева. Начало интеллектуальное,
культурно-преобразовательное, представленное Петром в деспотически-варварской
форме, и начало глубинно-народное, не находившее, однако,
1 Луначарский А. В. Очерки по истории русской литературы. М., 1976,
с. 434.
2 Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, YMCA —
PRESS,, с. 7.
2IM
нестихийного, небунтарского, неразрушительного выхода, но
сулящее невиданное творческое обновление и облагораживание
родного края в будущем,— все это была Россия в ее трагическом
раздвоении, о преодолении которого мучительно размышлял
и Блок.
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта? ' —
вопрошал Пушкин Медного всадника. У Гоголя это уже вопрос,
обращенный к летящей тройке: «Русь, куда ж несешься ты? дай
ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик;
гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит
мимо все, что ни есть на земли...»2 К этому образу не один раз
обращался Блок. Пророческие видения и мрачные странности
Гоголя вообще производили на него какое-то магическое
впечатление. В них виделся ему шифр к тайнописи грядущего.
«Гоголь и многие русские писатели любили представлять себе
Россию как воплощение тишины и сна; но этот сон кончается;
тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом,
непохожим на смешанный городской гул» (т. 5, с. 327). Это из статьи
«Народ и интеллигенция» 1908 года. Не есть ли этот все более
слышимый гул тот самый «чудный звон» колокольчика Руси-
тройки? — спрашивал Блок. После революции 1905 года об этом
задумывалась вся мыслящая Россия и терзалась
предчувствиями, «В полете на воссоединение с целым, в музыке мирового
оркестра, в звоне струн и бубенцов, в свисте ветра, в визге
скрипок — родилось дитя Гоголя,— писал Блок в 1909 году.—
Этого ребенка назвал он Россией. Она глядит на нас из синей
бездны будущего и зовет туда. Во что она вырастет,— не знаем;
как назовем ее,— не знаем» (т. 5, с. 379).
Есть в блоковской пьесе «Песня Судьбы» (1908), полной
смутных пророчеств и невнятных призывов, образ обожаемой
толпой певицы Фаины. Он, как и другие образы пьесы,
многозначен, и одно из возможных его отождествлений — это Родина,
ждущая и зовущая бурю и солнце, что развеяли бы светлым
ветром туманы и кружащее над ней черное воронье. Фаина
и Герман говорят между собой на обычном языке влюбленных,
но совсем не тот смысл угадывается в их речах.
Вот Гарман объясняет Другу мотивы своего ухода из тихой
белой обители, от продолжающей верно его ждать
ангелоподобной Елены, от безысходного счастья, и мы видим, что дело тут
не в поисках новой возлюбленной... «Все, что было, все, что
будет,— обступило меня: точно эти дни живу я жизнью всех
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. В 10-ти т. М.- Л., 1949, т. 4, с. 393.
2 Гоголь Н. В. Собр. соч. В 7-ми т. М., 1978, т. 5, с. 236.
времен, живу муками моей родины. Помню страшный день
Куликовской битвы. — Князь встал с дружиной на холме, земля
дрожала от скрипа татарских телег, орлиный клекот грозил
невзгодой. Потом поползла зловещая ночь, и Непрядва убралась
туманом, как невеста фатой. Князь и воевода стали под холмом
и слушали землю: лебеди и гуси мятежно плескались, рыдала
вдовица, мать билась о стремя сына. Только над русским станом
стояла тишина, и полыхала далекая зарница. Но ветер угнал
туман, настало вот такое же осеннее утро, и так же, я помню,
пахло гарью. И двинулся с холма сияющий княжеский стяг.
Когда первые пали мертвыми чернец и татарин, рати сшиблись,
и весь день дрались, резались, грызлись... А свежее войско весь
день должно было сидеть в засаде, только смотреть, и плакать,
и рваться в битву... И воевода повторял, остерегая: рано еще, не
настал наш час. — ...Но вот оно — утро! Опять — торжественная
музыка солнца, как военные трубы, как далекая битва... а я —
здесь, как воин в засаде, не смею биться, не знаю, что делать, не
должен, не настал мой час! — Вот зачем я не сплю ночей: я жду
всем сердцем того, кто придет и скажет: «Пробил твой час!
Пора!» (т. 4, с. 148—149).
Фаина, зовущая того статного, русого, с дивными серыми
очами, который ее освободит,— это не обычная невеста,
а призвание, смысл которого вот-вот станет ясен Герману,
и тогда; разорвав завесу вековых российских будней, наступит
прозрение. Блок точно знает, что оно наступит скоро, но не знает,
что за прозрение это будет. Поэтому встреча Фаины и4 Германа
преждевременна. Фаина ничем не связана, у нее ни дома, ни
родных, ни близких никогда не было. А Герман лишь сейчас
осознал, что избавлен от искусственных уз, что путь свободен
и что здесь только и начинается долг, но он не накопил еще
внутренней силы, чтобы наполнить долг достойным
содержанием. И ему следует пока расстаться с Фаиной, с тем чтобы потом
соединиться с ней вновь навсегда.
Проводя аналогию между образом Фаины (кстати, по-
гречески это имя означает «сияющая») и образом Родины,
нельзя не вспомнить позднейший цикл стихотворений Блока
«Родина» — один из высочайших пиков патриотической русской
поэзии. Там не только присутствуют и развиваются все темы
монолога Германа о Куликовской битве, но и есть удивительное
объединение образа Отчизны и женщины, чем-то напоминающее
настроения «Слова о полку Игореве» (и, конечно, «Задонщи-
ны»):
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
'ПУЛ
И еще одно, собственно то, что делает Блока продолжением
линии Пушкин — Гоголь. Медный всадник — птица-тройка:
блоковскан аллегория исторического движения России:
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
Знаменательно, что поэт обратился к теме поля Куликова
в канун великой череды русских революций. В бурной
современности узнает он новое «начало высоких и мятежных дней»
и по-своему выстраивает в один ряд рубежные вехи
отечественной истории, не случайно делая упор прежде всего на
Куликовской битве, которая знаменовала собой вступление
национально-освободительной борьбы русского народа в свою
завершающую фазу, означавшую начало национального
возрождения. В этой связи невольно обращает на себя внимание
такое совпадение: в 1980 году, когда отмечалось 100-летие со дня
рождения А. А. Блока, исполнилось также 600 лет со времени
Куликовской битвы и 500 лет неудачной военной вылазки
Ахмед-хана на реке Угре — свидетельства окончательного
падения золотоордынского ига. Трудно переоценить
вдохновляющий потенциал этих юбилеев с точки зрения их
воздействия на патриотическое и интернационалистское
сознание наших современников.
И наконец, в-четвертых, уникальная художническая
интуиция, которую можно, пожалуй, сравнить только с пушкинской.
Это она поставила перед поэтом, казалось бы, нелепый для
символиста вопрос пользы художественных произведений, иначе
говоря, прибавила к его вечной заботе о форме и содержании
заботу о долге. «В сознании долга, великой ответственности
и связи с народом и обществом, которое произвело его,—
утверждает поэт,— художник находит силу ритмически идти
единственно необходимым путем. Это — самый опасный, самый
узкий, но и самый прямой путь» (т. 5, с. 238). Долг, по Блоку,
есть путеводный ритм нашей жизни. Настоящий писатель,
считал он, должен обладать чувством пути, это его первый
и главный признак. Тем самым определяется и его внутренний,
«такт», ритмическая окраска его деятельности. «Всего
опаснее — утрата этого ритма. Неустанное напряжение внутреннего
слуха, прислушиванье как бы к отдалённой музыке есть
непременное условие писательского бытия. Только слыша
музыку отдаленного «оркестра» (который и есть «мировой
оркестр» души народной), можно позволить себе легкую «игру»
(т. 5, с. 370-371).
204
О «музыке», «музыкальности», «мировом оркестре» в бло-
ковском словоупотреблении гельзя не сказать особо. Эти
термины у него появляются очень часто, и они значат
неизмеримо больше, чем простое звучание известных всем инструментов.
«Музыка» возведена поэтом в ранг философско-исторической
категории. С одной стороны, она сродни понятию
универсального закона бытия вообще, социального бытия в частности, может
быть, тому, что древние греки называли «логосом». С другой
стороны, «музыка» у поэта означает гармоническое начало
в природе, общественной жизни, в движении человеческого духа.
Далее, это, по Блоку, полифония народной души, то есть
поэтический способ выражения той истины, что реальное
историческое действие есть действие больших людских
массивов. Наконец, «музыка» сродни категории меры, и
музыкальность есть знак, критерий правомерности, законности,
оправданности, моральности данного социального явления. А это значит,
что она тут также категория нравственная,
оценочно-ориентирующая, позволяющая положительно относиться лишь к
«музыкальным» поступкам и требующая совершать только их.
Блок опять-таки обращается к мысли Гоголя, который
скептически оценивал состояние современных ему искусств.
Сравнивая между собой скульптуру, живопись и музыку — этих
трех прекрасных цариц мира, Гоголь утверждал, что именно
музыка" «осталась нам, когда оставили нас и скульптура,
и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы так порывов,
воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на
нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, на'д выдумками
которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор
против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных
изобретений роскоши сильнее и сильнее . порывается заглушить
и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу,
убежать от этих страшных обольстителей и — бросились
в музыку... Но если и музыка нас оставит,— спрашивал
«украинский соловей»,—что будет тогда с нашим миром?»1.
«Нет, музыка нас не покинет»,— отвечает Блок (т. 5, с. 379).
Предчувствия не обманули поэта, и судьба вознаградила его
зрелищем того, как поток, ушедший было в землю и протекавший
там бесшумно в глубине и тьме, опять вырвался наружу.
В октябре 1917 года Блок услышал музыку, чьи едва уловимые
отдельные ноты не давали покоя его совести, а теперь слились
воедино и, многократ усилившись, потрясали целые народы
своим богатырским симфоническим ревом.
1 Гъголь Н. В. Собр. соч. В 7-ми т. М., 1978, т. 6, с. 26—27.
2Н5
ЧУВСТВО ПУТИ
У меня была революция и Моцарт, революция —
настоящее, а Моцарт — предвкушение будущего...
Г. В. ЧИЧЕРИН
«Дело художника, обязанность художника,— читаем мы
в статье «Интеллигенция и Революция»,— видеть то, что
задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный
ветром воздух» (т. 6, с. 12).
Что же задумано?
Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым, чтобы
лживая, грязная, скучная, безобразная жизнь стала
справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.
Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе,
в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются
бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски
берегов,— это называется революцией. Меньшее, более
умеренное — называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это
называется революцией.
Она сродни природе. «Горе тем, кто думает найти в
революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и
благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как
снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко
обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте
достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных;
но — это ее частности, это не меняет ни общего направления
потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает
поток. Гул этот все равно всегда о великом» (т. 6, с. 12).
Начало 1918 года, когда написаны эти строки, было для Блока
чем-то вроде болдинской осени для Пушкина, а может быть, для
Блока еще значительнее. В январе созданы «Интеллигенция
и Революция», «Двенадцать», «Скифы» — произведения
итоговые для всей творческой биографии поэта, программно-
мировоззренческие. Они, как выпавшие в жизненном растворе
благородные кристаллы зрелых раздумий, органически
соединяют отечественную классику дореволюционной поры с ее
продолжением в советское время и знаменуют безоглядное
превращение Блока в человека нового мира.
При первом чтении может показаться необъяснимым, почему
Блок именно в этот период, весной 1918 года, пишет очерк
«Катилина». Многие обстоятельства и детали заговора Катили-
ны (I век до нашей эры), о котором нам известно лишь из
2Г)0
свидетельств его противников, как и цели его, так и не будут
когда-либо установлены. О многом можно лишь догадываться,
толкуя на любой лад, но Блок и не претендует на историческую
достоверность. Своими смелыми сопоставлениями и
обобщениями он развенчивает авторитет догматических концепций,
принятых в среде филологов, намеренно шокирует их.
Зачем все-таки поэт взялся за эту тему?
Думается, прежде всего потому, что на школьном историко-
литературном примере он решил осветить некоторые стороны
современности и кое в чем объясниться лично. Заговор Катили-
ны для него выражение общего неблагополучия в римском
обществе, раннее предвестие гибели языческого старого мира,
нарождения нового, христианского, первый порыв исторического
ветра. Отсюда прямая аналогия с моментом, который
переживала Россия и который для Блока означал начало новой эры.
«Ветер,— по его словам,— поднимается не по воле отдельных
людей; отдельные люди чуют и как бы только собирают его: одни
дышат этим ветром, живут и действуют, надышавшись им;
другие бросаются в этот ветер, подхватываются им, живут
и действуют, несомые ветром» (т. 6, с. 70). Катилину Блок
относил ко вторым. Сравнение с его собственной судьбой
напрашивается само собой. Поэт не мог причислить себя к тем,
кто дышал ветром русской революции, жил и действовал,
надышавшись им,— он не был «реальным политиком»,
марксистом. Он пришел к пролетариату, к социализму не от научно
сформулированной классовой точки зрения, а от культуры
в самом широком смысле слова, от своего гениального
артистизма. Поэтому ему оставалось только броситься в ветер
Октября, испытать восторг и «жуть», быть подхваченным этим
ветром, вслушаться в то, о чем он ревет, и передать свое
переживание современникам и потомкам.
Страшно, сладко, неизбежно, надо
Мне — бросаться в многопенный вал,
Вам — зеленоглазою наядой
Петь, плескаться у ирландских скал.
Высоко — над нами — над волнами,—
Как заря над черными скалами —
Веет знамя — Интернацъонал!
Так писал Блок о сделанном им выборе.
Объясняясь с 3. Н. Гиппиус, которая с нескрываемой
ненавистью относилась к поэту после появления «Двенадцати»
(письмо это осталось неотправленным), Блок признается, что их
разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда он еще мало
видел и мало сознавал в жизни. «Мы встречались лучше всего во
времена самой глухой реакции, когда дремало главное и
просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя
трагедия, как и Ваша), но только рядом с второстепенным
проснулось главное... В наших отношениях всегда было
замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все
туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было
трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось
только рубить. Великий октябрь их и разрубил... Не знаю
(или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за
октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло
быть во много раз больше» (т. 7, с. 335—336).
Разбирая спустя длительный период то или иное явление
в развитии культуры, исследователи да и просто
интересующиеся историей нередко недооценивают ту особенность, что мы, дети
другого времени, воспринимаем не всю, а как бы провеянную
событиями и просеянную историей культурную жизнь
прошлого. До нас подчас доходят одни лишь произведения, а не
духовная атмосфера, в которой они создавались, образы, а не
реальные прототипы, их эстетическое воздействие, а не
первоначальное социальное предназначение. Храмовая архитектура
Древней Руси изумительна. Благородство форм и
устремленность ввысь церкви Вознесения в Коломенском или же тихое
очарование церкви Покрова на Нерли нынешняя молодежь
видит как таковые, не думая связывать их ни с морочившим
веками умы масс религиозным дурманом, ни с тем, что эта
вечная архитектура была призвана укреплять отнюдь не вечную
неправедную власть. Все временное, наносное, своекорыстное
отшумело и отжило. Осталась красота, которая подчас не
в состоянии поведать нам о.реальных отношениях причастных
к ее сотворению давно ушедших из жизни людей. А разве эти
отношения не составляли для тех людей единственно возможную
фактическую ткань их бытия?
Так и с тем узлом замалчивания в отношениях Блока
с Гиппиус, который он решительно разрубил после Октября.
Наш образованный современник в состоянии должным образом
оценить мастерство поэтессы, признать в ней незаурядное
литературное дарование. Но если он остановится на этом, то есть
ограничится сугубо книжным подходом, у него останется о ней
полуправда, внеклассовое, а значит, и искаженное
представление. Кому на службу ставила она, для чего предназначала свое
творчество?
«Зинаида Гиппиус — христианка, человек замечательно
талантливый и столь же замечательно злой,— писал М.
Горький. — В 1901 году она в концертном зале Петербургского
2(58
кредитного общества, выйдя на эстраду в белом платье,
с крыльями за спиною, объявила публике:
Я хочу того, чего нет на свете,
Чего нет на свете.
Через 20 лет ей захотелось «повесить» большевиков
«в молчании», то есть того, чего хотят все негодяи мира нашего...
Как странно меняются вкусы!»1
Да, вкусы менялись вроде бы неожиданно. По крайней мере,
«вешать большевиков» не относилось к тому, «чего нет на свете».
Это было любимое занятие заурядных белогвардейских
карателей, имена которых народ проклял и из своей памяти выкинул.
Гиппиус морально была с ними, против народа, и этот факт, ее
«эстетическое» потворство белому террору, и теперь, спустя
более шести десятилетий, нечестно затирать ссылками на ее
талант. Вот какие узлы завязывала жизнь, и речь в отношениях
Блока с Гиппиус и ее окружением шла вовсе не о ритмике стиха
и нормах стихосложения, а о жестоком, меченном железом
и кровью водоразделе двух враждебных станов, в битве которых
решалась судьба Родины.
Было бы неверным изображать дело таким образом, будто бы
Блок, порвав со своими бывшими друзьями, тут же упал прямо
в распростертые объятия большевистского лагеря. Перечитывая
свидетельства очевидцев, ясно чувствуешь некоторую
неадекватность восприятия поэта даже лучшими его
современниками. К стану революции он был намного ближе, чем казался, там
он был куда больше свой, чем о нем думали. Художническая
интуиция в самый момент Октября оказалась у него чуть ли не
острее горьковской, а творческая отдача — прямо-таки перво-
проходческой, хотя это и не означает, что он вдруг полностью
«оболыпевичился».
Припоминается в этой связи стихотворная полемика
А. В. Луначарского с поэмой «Двенадцать». В пародийном
стихотворении Луначарского на это произведение, которое
изображает Блока наблюдающим революцию с тыла, с ее хвоста,
объясняющимся в любви революционному обозу и т. п.,
в частности, говорилось:
Так идут державным шагом,
А поодаль ты, поэт,
За кроваво-красным стягом,
Подпевая их куплет.
Их жестокого романса
Подкупил тебя трагизм.
На победу мало шанса,
1 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 24, с. 337.
im
Чужд тебе социализм,—
Но объят ты ихней дрожью,
Их тревогой заражен
И идешь по бездорожью,
Тронут, слаб, заворожен...'
Вряд ли все это вполне справедливо адресовано автору
знаменитых призывов:
к интеллигенции: «Всем телом, всем сердцем, всем
сознанием — слушайте Революцию» (т. 6, с. 20),
к вооруженному народу:
Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Кстати, две последних блоковских строки, проникнутые
пафосом революционной дисциплины и порядка, очень наглядно
показывают, насколько пристрастным было суждение, будто
поэт «заслонил от себя революцию»... хулиганами 2.
Так ли уж далек от идеи социализма был человек,
записавший в дневнике 19 октября 1917 года: «Вчера — в Совете
рабочих и солдатских депутатов произошел крупный раскол
среди большевиков. Зиновьев, Троцкий и пр. считали, что
выступление 20-го нужно, каковы бы ни были его результаты,
и смотрели на эти результаты пессимистически. Один только
Ленин верит, что захват власти демократией действительно
ликвидирует войну и наладит все в стране. Таким образом, те
и другие — сторонники выступления, но одни — с отчаянья,
а Ленин с предвиденьем доброго» (т. 7, с. 311—312).
Наибольший критический запал вызывало у тогдашних
читателей «Двенадцати» то, что Блок изобразил в качестве
знаменосца красногвардейского отряда Иисуса Христа,— спор
вокруг этой детали широко известен. А. В. Луначарскому образ
Христа дал основание упрекнуть Блока в непонимании роли
революционного авангарда.
Однако из дневниковых записей мы знаем, как сам Блок
мучился над тем, кого изобразить во главе революционного
воинства. Старая символика, из которой он постарался выбрать
лучшее, не содержала образа более емкого, чем Христос: в нем
дореволюционная верующая Россия видела олицетворение
чистоты и бескорыстия, справедливости и готовности пострадать
за людей, решительности в борьбе и нравственной цельности.
А новой символики тогда еще не было. «Религия — грязь (попы
1 Цит. по: Трифонов Н. Два стихотворения А. В. Луначарского.—
Вопросы литературы, 1961, № 1, с. 202.
2 См.: Луначарский А. В. Очерки по истории русской литературы, с. 163.
и пр.),— записал Блок 7 февраля 1918 года. — Страшная мысль
этих дней: не в том дело, что красногвардейцы «не достойны»
Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет
с ними, а надо, чтобы шел Другой» (т. 7, с. 326).
«Христос с флагом» — это ведь — «и так и не так»,—
продолжает Блок ту же мысль в письме художнику Ю. П.
Анненкову по поводу его иллюстраций к «Двенадцати». — Знаете
ли Вы (у меня — через всю жизнь), что когда флаг бьется под
ветром (за дождем или за снегом и главное — за ночной
темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему
относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать).
Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не
умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в
«Двенадцати» (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все
критики)» (т. 8, с. 514).
Блок, очевидно, сознавал, что красный стяг Октября не под
силу печально одинокому проповеднику, возведенному
религиозной легендой в чин сына божия. А того «Другого»,
«огромного», который этот стяг «не держит, не несет», а наполняет цветом
собственной крови и заставляет биться биением собственного
сердца,— ленинской партии он почти не знал. Это, однако, не
означало, что с поэтом обязательно следовало говорить как
с непонимающим; с ним, скорее, следовало говорить как
с неосведомленным. И наверное, вряд ли было корректно
буквально противопоставлять мифологическому образу Христа
реальный образ В. И. Ленина1. Такая конкретность откровенно
не вязалась как с самой природой изображаемого, так и, что еще
важнее, с марксистской традицией. Достаточно привести
соответствующие негодующие места из поэмы В. В.
Маяковского «Владимир Ильич Ленин»:
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут
1 См.: Трифонов Н. Два стихотворения А. В. Луначарского.— Вопросы
литературы, 1961, № 1, с. 203.
L',71
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту...
Неужели
про Ленина тоже:
«вождь
милостью божьей»?
Если б
был он
царствен и божествен,
я б
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек*.
Да и по самому смыслу «Двенадцати» надо бы подразумевать
именно партию, которая единственно способна совладать со
стихией, организовать ее идеей, превратить в могучую
творческую силу. Как раз так трактовал в поэме «Хорошо!» ситуацию,
вспоминая встречу с Блоком у октябрьских костров, тот же
Маяковский:
Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.
У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла 2.
Вольная, «расхристанная» мелодия этой песни, ее
характерные сюжеты и ритмы, рисующие в нашем воображении
разыгравшийся шторм массового возмущения, в котором то там,
то здесь проскакивают буйные искры Стеньки и Емельки,
у Маяковского по природе те же, что в «Двенадцати». Но финал
1 Маяковский В. В. Поли. собр. соч. В 13-ти т., т. 6, с. 234, 237.
2 Там же, т. 8, с. 266-267.
272
другой. Художник следующего, собственно октябрьского,
поколения без колебаний принимает эстафету и уверенно доводит
поднятую Блоком тему до ее подлинного логического
завершения.
Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам4
направляла,
строила в ряды1.
Помещая Христа впереди красногвардейцев и понимая всю
малонадежность и спорность этого художественного приема,
Блок мог иметь еще один, основанный на полустертых
воспоминаниях, не вполне осознанный мотив — ответить на давно уже
носившийся в атмосфере вопрос о грядущем России. Он,
конечно, знал стихотворение Владимира Соловьева «Ex Oriente
lux» («Свет с Востока»), в котором есть такие строки:
О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?2
После трех русских революций, которые вымели прочь весь
монархический и колониально-милитаристский хлам
самодержавия, превращение страны в «Восток Ксеркса» было
невозможно. И Блок прибег к образу Христа для обозначения
гуманистической, освободительной, нравственно-очистительной
и мироутверждающей миссии новой России, потому что другого
подходящего художественного строительного материала, кроме
средневековых изваяний, под рукой у него не оказалось. Ему
требовалось выразить животрепещущее содержание, а времени
на поиски формы тратить было нельзя. Такова наша догадка,
которая не столь обоснованна, сколь правдоподобна.
В своих лекциях в Коммунистическом университете имени
Я. М. Свердлова Луначарский, отдавая должное
необыкновенному изяществу и нежности блоковской поэзии, несколько
утрированно, с довольно характерной для тех лет хлесткостью
называл Блока типичным символистом с большим уклоном
в туманность, в расплывчатость форм, в намеки, а также
1 Маяковский В. В. Поли. собр. соч. В 13-ти т., т. 8, с. 270.
2 Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 81.
18 Лик;!.» '»<io.4
замечательным поэтом ресторанной жизни1. Отнюдь не
оспаривая этих суждений, хотелось бы, однако, хотя бы два слова
сказать о социальных мотивах этих «уклонов», тем более что сам
Блок не раз пояснял, почему он сочинял не всем понятные,
«заумные» стихи.
Оценивая положение в стране в тот период, когда начиналась
его литературная деятельность, поэт употребляет слова
«безвременье», «неблагополучие», «безбытность». Поистине
нечеловеческие силы надо было иметь, подчеркивал он, чтобы руководить
существом, каким была вздернутая на дыбы, разгневанная
и рвущая путы Россия начала нашего века. «Многие
недоумевали и негодовали на мое описание «лиловых туманов»,—
признается поэт,— и были, пожалуй, правы, потому что это
самое можно было сказать по-другому и проще. Тогда я не хотел
говорить иначе, потому что не видел впереди ничего, кроме
вопроса — «гибель или нет», и самому себе не хотел уяснить»
(т. 5, с. 445). Разбирая уже после Октября в «Катилине» текст
Катулла, Блок опять возвращается к этой теме. «...Художники
хорошо знают: стихотворения не пишутся по той причине, что
поэту захотелось нарисовать историческую и мифологическую
картину. Стихотворения, содержание которых может показаться
совершенно отвлеченным и не относящимся к эпохе, вызываются
к жизни самыми неотвлеченными и самыми злободневными
событиями» (т. 6, с. 82 — 83). Такова была диалектика творчества
Блока^ которая еще ждет своего исследователя.
Неправильно, однако, думать, что Блок всегда «темнил»
и нигде не «самовыражался» прямым текстом. В апреле
1905 года, то есть вскоре после Кровавого воскресенья, он писал:
И скоро я расстанусь с вами,
И вы увидите меня
Вон там, за дымными горами,
Летящим в облаке огня!
Чем это не признание? Но кто ему верил?
А вот стихотворение от 27 октября 1907 года, которое стоит
привести целиком:
Меня пытали в старой вере.
В кровавый просвет колеса
Гляжу на вас. Что взяли, звери?
Что встали дыбом волоса?
1 См.: Луначарский А. В. Очерки по истории русской литературы,
с. 466, 467.
27i
Глаза уж не глядят — клоками
Кровавой кожи я покрыт.
Но за ослепшими глазами
На вас иное поглядит.
И «иное» поглядело спустя десять лет. Можно ли было такое
заранее предсказать? Теперь мы вправе дать на это
утвердительный ответ. Но ответ этот фиксировал бы лишь абстрактную, а не
реальную возможность. Стихотворение 1907 года, будь оно тогда
напечатано, почти наверное не выглядело бы в глазах публики
как «блоковское», хотя это и был собственно Блок. Воистину ему
было немыслимо «тяжело ходить среди людей и притворяться
непогибшим», а тем временем близкие и современники видели
в его творениях одни лишь «лиловые туманы»...
В приведенном стихотворении явственна раскольничья
интонация одинокого неистового бунтаря. И должно еще пройти
время, прежде чем ему откликнется звонкий, полный осознанно
беззаветной силы голос представителя другого поколения —
повитого и вскормленного под кумачами Парижской коммуны
и московской Пресни поколения Октября и приступа к
социалистическому строительству:
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади ч
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы1.
Исступленно-сектантское «Я» здесь решительно сменилось
твердым, непобедимым «мы». То «иное», о котором писал Блок,
теперь принадлежало пробудившейся и прозревшей массе,
и ослепить ее было уже невозможно.
1 Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1964, с. 152 — 153.
НК ПОПУТЧИК*, Л СПУТНИК*
«Паче всего люби родную литературу и звание
литератора предпочитай всякому другому»,—
писал Салтыков, умирая, своему сыну.
Мы сказали бы так: превыше всего ставь
достоинство и честь свободной* человеческой
речи и, любя родную литературу, звание
революционера предпочитай всякому другому.
Искра, апрель 1901, № 3
Отрешенность Блока от политических коллизий была только
кажущаяся. Он сознавал это, хотя иногда и колебался,
высказываясь за чисто художническую автономию, сетуя на свою
усталость и разочарованность. «Нет, не надо мечтать о Золотом
веке,— пишет он 20 мая 1917 года. — Сжать губы и опять уйти
в свои демонические сны»1. Но такие моменты были редки, и его
честная натура не расставалась надолго с действительностью.
«Быть вне политики»?..— С какой же это стати? — читаем мы
его полемические раздумья. — Это значит — бояться политики,
прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм,
предоставлять государству расправляться с людьми, как ему
угодно, своими устаревшими средствами. Если мы будем вне
политики, то значит — кто-то будет только «с политикой» и вне
нашего кругозора и будет лоступать, как ему угодно, т. е.
воевать, сколько ему заблагорассудится, заключать торговые сделки
с угнетателями того класса, от которого мы ждем проявления
новых исторических сил, расстреливать людей зря, поливать
дипломатическим маслом разбушевавшееся море европейской
жизни. Мы же будем носить шоры и стараться не смотреть в эту
сторону... Нет, мы не можем быть «вне политики», потому что мы
предадим этим музыку, которую можно услышать только тогда,
когда мы перестанем прятаться от чего бы то ни было» (т. 7,
с. 358—359). Так блоковская категория музыки оказывается
сродни демократии.
Еще в начале века Блок указал на один нравственный недуг,
которым были поражены многие чуткие его современники. Этот
недуг, проявлениями которого бывают «приступы
изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской,
провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством»
(т. 5, с. 345), он назвал «иронией». Поэта очень тревожила
буржуазно-индивидуалистическая готовность, обычно
возникающая в периоды длительной реакции, подавить всю душу
человеческую, все благие ее порывы «разлагающим смехом»; он
1 Блок А. Записные книжки 1901 — 1920, с. 339.
сравнивал этот смех с водкой,— в нем люди тоже топят «свою
радость и свое отчаянье, себя и близких своих, свое творчество,
свою жизнь, и, наконец, свою смерть» (т. 5, с. 346).
Не надо путать это стремление подвергнуть все осмеянию
с известным девизом К. Маркса: подвергай все сомнению.
Сомнение, обязательным спутником которого у Маркса был смех
созидающий,— это импульс движения и совершенствования,
стимул прогресса, между тем как всевысмеивающий, всеосмеи-
вающий смех — сила антитворческая, обезволивающая, всеядно
глумливая и уж конечно не революционная. «Эпидемия
свирепствует; кто не болен этой болезнью, болен обратной: он
вовсе не умеет улыбнуться, ему ничто не смешно,— писал
Блок. — И по нынешним временам это — не менее страшно, не
менее болезненно; разве мало теперь явлений в жизни, к
которым нельзя отнестись иначе, как с улыбкой?» (т. 5, с. 346).
Никакое дело невозможно, когда человек «пьян иронией,
смехом, как водкой», когда «все «обесчещено», все — все равно»
(т. 5, с. 347). Так же и никакое развитие не может быть
поддержано людьми, которым нечего осмеивать, которые ко всему
относятся одинаково серьезно — без юмора, не испытующе, то
есть как заведомые консерваторы, как конформисты.
Если сознательные защитники «иронии» еще могли
выглядеть благородно, когда речь шла о ниспровержении насквозь
прогнившего самодержавного, помещичье-буржуазного строя, то
продолжение той же линии поведения после Октября приобрело
уже очевидно сомнительную окраску. «Ирония» тут, в сущности,
состояла во втыкании палок в колеса новому, наконец
выстраданному народом общественному строю, в осмеянии становления
пусть вначале в неловких, неотлаженных и неотшлифованных
формах общества реального гуманизма, иными словами, открыто
обнаруживала и свою внутреннюю фальшь и свою фактическую
бездуховность. Это была теперь уже не «ирония», это был
цинизм, который Горький именовал приемом самозащиты
мещанства против напора исторической справедливости1,
цинизм как один из замаскированных способов самообороны
того же буржуазного индивидуализма, его сопротивления
социалистическому коллективизму. С подлинным блеском он
представлен полвека назад в романе Ю. Олеши «Зависть».
Один из его персонажей, обладатель незаурядных
способностей, еще в детские годы бесивший педантичного отца —
директора гимназии и латиниста — россказнями о своих
мнимых изобретениях, дипломированный инженер, после рево-
' См.: Горький М. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1953, т. 27, с. 7.
'111
люции стал человеком дна, пивным проповедником. Любимая
тема, можно сказать, конек этого «короля пошляков» —
велеречивые филиппики «в защиту» человеческих чувств, якобы
несовместимых с новым укладом жизни, «попранных»
революцией, а цель — «устроить последний парад этих чувств»,
причем обязательно с громким, прямо-таки эпохальным
скандалом.
Глубоко символично появление Ивана Бабичева на улице
с подушкой в руках. Подушка фигурирует и когда он
уговаривает свою дочь Валю вернуться, и когда повествует о воображаемом
триумфе над своим антиподом, родным братом Андреем —
заслуженным революционером, крупным хозяйственным
руководителем, подлинным романтиком социалистической стройки
и обновления быта.
В «Сказке о встрече двух братьев» Иван Петрович
приписывает себе следующую речь: «Товарищи! От вас хотят
отнять главное ваше достояние: ваш домашний очаг. Кони
революции, гремя по черным лестницам, давя детей ваших
и кошек, ломая облюбованные вами плитки и кирпичи, ворвутся
в ваши кухни. Женщины, под угрозой гордость ваша и слава —
очаг! Слонами революции хотят раздавить кухню вашу, матери
и жены!.. Вот подушка. Я король подушек. Скажите ему
(Андрею Бабичеву. — Р. К.): мы хотим спать каждый на своей
подушке. Не трогай подушек наших! Наши еще не оперившиеся,
куриным пухом рыжеющие головы лежали на этих подушках,
наши поцелуи попадали на них в ночи любви, на них мы
умирали,— и те, кого мы убивали, умирали на них. Не трогай
наших подушек! Не зови нас! Не мани нас, не соблазняй нас. Что
можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить,
ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать?.. Вот
подушка. Герб наш. Знамя наше. Вот подушка. Пули застревают
в подушке. Подушкой задушим мы тебя...»1
Трудно, пожалуй, представить себе более сочный «манифест»
воинствующего мещанина! Но как он мог появиться? Продукт ли
это беспросветного невежества? Отнюдь нет. Он исходит из уст
потомственного интеллигента. Плод ли невозмутимого,
непуганого самобытного паразитизма? Опять нет. Перед нами связная
концепция, тщательно продуманная и глубоко
прочувствованная, со своим образным строем и идейным острием. Причем
в основе ее все та же, подмеченная еще Блоком, «ирония»,
естественно, претерпевшая известную послеоктябрьскую
метаморфозу.
1 Олеша Ю. Избранные сочинения. М., 1956, с. 107—108.
278
«Не слушайте нашего смеха,— предупреждал поэт,—
слушайте ту боль, которая за ним. Не верьте никому из нас, верьте
тому, что за нами» (т. 5, с. 349). Это звучит как пророчество.
Именно тем, «что за нами», строителям нового мира, довелось
излечить ту боль, о которой писал Блок, и вернуть людям
звонкий созидающий смех. Но не исчезли вдруг обывательские
разлагающие смешки из подворотни. И не один раз раздастся
гневный вопрос Андрея Бабичева брату: «Против кого ты
воюешь, негодяй?»
Иван Петрович откровенно выкладывает перед Николаем
Кавалеровым свое мелкобуржуазное кредо: «...мой милый, мы
были рекордсменами, мы тоже избалованы поклонением, мы
тоже привыкли главенствовать там... у себя... Где у себя?.. Там,
в тускнеющей эпохе. О, как прекрасен поднимающийся мир! О,
как разблистается праздник, куда нас не пустят! Все идет от нее,
от новой эпохи, все стягивается к ней, лучшие дары и восторги
получит она. Я люблю его, этот мир, надвигающийся на меня,
больше жизни, поклоняюсь ему и всеми силами ненавижу его!
Я захлебываюсь, слезы катятся из моих глаз градом, но я хочу
запустить пальцы в его одежду, разодрать. Не затирай! Не
забирай того, что может принадлежать мне...»1 Всему этому он
дает определение: зависть, «зависть старости», «зависть впервые
состарившегося человеческого поколения», хотя биологический
возраст тут, собственно, ни при чем.
В этом монологе как бы высказаны «идейные» предпосылки
того, что теперь с подачи наших классовых противников
получило пышный титул «диссидентства». Вот как наставлял
Кавалерова — этот «сгусток зависти погибающей эпохи» —
Иван Петрович: «Милый мой, тут надо примириться или...
устроить скандал. Или надо уйти с треском. Хлопните, как
говорится, дверью. Вот самое главное: уйдите с треском. Чтоб
шрам остался на морде истории,— блесните, черт вас подери!
Ведь все равно вас не пустят туда»2. И все поведение Кавалерова,
человечишки никчемного, но обладающего безмерно раздутым
самомнением, всем своим рисунком напоминает образ действий
тех, кто ныне выдается на Западе за якобы существующую у нас
в стране «оппозицию». Разница состоит только в том, что
капиталистический мир, приняв в свои объятия белую
эмиграцию, не испытывал в 20-х годах нехватки в кадрах
контрреволюционеров из России и не принимал всерьез бездарностей,
которые нормальное непризнание у них таланта
приноравливались поднимать на уровень своего конфликта с общественной
1 Олеша Ю. Избранные сочинения, с. 93.
2 Там же, с. 92.
27!)
системой. Теперь положение круто изменилось, кадры
«изнутри» позарез необходимы империалистическим кругам хотя бы
для наживки, и тут уж приходится довольствоваться чем бог
послал.
«Вы, сами того не понимая, являетесь носителем
исторической миссии»1,— внушал Кавалерову Иван. Именно это
внушают в наши дни антисоветские «голоса» всякого рода
политическим недоноскам, надеясь заполучить хотя бы еще одного
охотника поцарапать физиономию эпохи. За них вступаются,
с бесстыжим лицемерием присваивая себе роль ревнителей
«прав человека» и используя ее в самых разнообразных целях —
вплоть до оправдания гонки вооружений и защиты шпионской
агентуры империализма в социалистических странах. Вот уж
действительно, «цинизм прикрывается и свободой — исканием
полной свободы,— это наиболее подлая маска его»2.
Что может быть большим преступлением против «духа
музыки», чем насаждать дисгармонию, клянясь именем
гармонии? Именно так — крупно — стоит ставить вопрос в наш
великий, масштабный и вместе с тем беспокойный, торопливый,
не успевающий подчас осмыслить происходящее и сопоставить
его с происшедшим, по-настоящему трудный век. Когда Блок
говорит о чувстве пути у художника, наличии у него внутреннего
«такта», собственного ритма, подразумевается как раз та
незримая связь, которая делает его индивидуальный голос
эоловой арфой, отзывающейся на ветры истории, придает ему
уверенность в том, что его деятельность совершается в русле
социального прогресса.
«Раз ритм налицо,— утверждал Блок в статье «Душа
писателя» (1909),— значит, творчество художника есть отзвук
целого оркестра, то есть — отзвук души народной. Вопрос только
в степени удаленности от нее или близости к ней. Знание своего
ритма — для художника самый надежный щит от всякой хулы
и похвалы. У современных художников, слушающих музыку,
надежда на благословение души народной робка только потому,
что они бесконечно удалены от нее. Но те, кто исполнен музыкой,
услышат вздох всеобщей души если не сегодня, то завтра»
(т. 5, с. 371).
Блок дождался этого завтра. Он слышал богатырский вздох
народной души, который вызвал революционную бурю, и
заслужил ее благословение. Музыка не покинула его потому, что он
сам был ее сотворцом, потому, что его никогда не покидало
острое чувство сопричастности великому коллективному целому,
1 Олеша Ю. Избранные сочинения, с. 91.
2 Горький М. Собр. соч. В 30-ти т., т. 24, с. 14.
2S0
имя которого — Отчизна. «У человека, который действительно
живет, то есть двигается вперед, а не назад,— писал поэт
в январе 1918 года,— с годами, естественно, должно слабеть
чувство всякой собственности; тем скорее должно оно слабеть
у представителя умственного труда; еще скорее — у художника,
который поглощен изысканием форм, способных выдержать
напор прибывающей творческой энергии, а вовсе не сколачи-
ваньем капитала, находя в этом поддержку своих близких, если
они ему действительно — близки» (т. 6, с» 7).
Блок был великим художником современной эпохи,
воплотившим в своей личности и творчестве, с одной стороны, всю ее
противоречивость, с другой стороны, естественную связь и
преемственность классической культуры прошлого и новой,
социалистической культуры. Как есть общества переходного
периода, вектор развития которых определяется общим
поворотом человечества от капитализма к социализму, так, видимо,
могут быть и соответствующие им переходные типы культурных
и общественных деятелей. Как раз Блок и может быть
канонизирован как подобный деятель, как трагически-оптимистический
образец, который нельзя ни повторить, ни вычеркнуть из своего
сердца. И хорошо, что он был именно таким и не стремился
перескочить через самого себя.
Завершая свою речь о Пушкине 11 февраля 1921 года, Блок
предложил поклясться его веселым именем в трех простых
и веселых истинах здравого смысла: «Никаких особенных
искусств не имеется; не следует давать имя искусства "тому, что
называется не так; для того чтобы создавать произведения
искусства, надо уметь это делать» (т. 6, с. 168).
Закончим и мы эти заметки тремя элементарными
суждениями, существенными не только для художника, но и для всякого
сознательного гражданина:
чтобы выбрать верный путь в жизни и творчестве, надо всем
существом прочувствовать связь времен и, зная, что мы реально
действуем лишь в настоящем, вместе с тем всегда памятовать
о том, что само это настоящее есть единство непрерывно
уходящего прошлого и постоянно наступающего будущего;
чтобы добиться чего-нибудь стоящего, заслуживающего
широкого признания, надо уметь решительно стряхивать с себя
все мелкое и обветшавшее, отказываться от засасывающего
и усыпляющего уюта и условностей благополучного бытия, от
личных и групповых пристрастий, если они хоть в малейшей
степени начинают противоречить общественным интересам,—
все это без гарантии какой-либо компенсации, кроме
возможности дышать историческим ветром;
чтобы не сфальшивить в творчестве и в жизни, не предать
L\S|
«музыку», надо постоянно пребывать в поле магнитного
притяжения, образуемом передовым классом современности —
пролетариатом, ощущать «музыкальность» его научной
идеологии и деятельности его революционного авангарда,
соединяющего эту идеологию с практикой масс.
Все эти вещи были так или иначе ведомы Блоку — не
«попутчику», а добровольному и доброму спутнику
большевизма, посланцу в его стан от русской классики на первых этапах
его работы как правящей партии.
ОТРЕЧЕНИЕ
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ
ИДЕАЛОВ
Ни одна философская проблема, наверное, не приобретала
в истории человечества столь большого социального и
политического значения, как проблема свободы, особенно в современную
эпоху. И это понятно, если учесть, что данная проблема требует
не только теоретического, но и практического решения, ибо
затрагивает самым непосредственным образом сознание и
поведение каждого человека. Без свободы личности, при всей
ее исторической обусловленности, не было бы и самой
личности, человек был бы всего лишь индивидом, биологической
особью.
К.~ Маркс называл свободу родовым признаком человека,
иначе говоря, видел в ней отличительное свойство как всего
человечества, так и отдельной личности. «Первые выделявшиеся
из животного царства люди были во всем существенном так же
несвободны, как и сами животные,— отмечал Ф. Энгельс,—
но каждый шаг вперед на пути культуры был шагом к свободе»1.
В свободе личности воплощается ее способность не просто
приспосабливаться к заранее данным обстоятельствам
окружающей действительности, но активно воздействовать на них,
преобразовывать их в соответствии со своими целями. Именно
обладание определенной свободой сознательной деятельности,
как бы она ни была ограничена в прошлом, выделяет человека
среди всех живых существ.
Конечно, нет и не может быть какой-то абстрактной, тем
более абсолютной свободы человека от общества, но вместе с тем
конкретным, материальным носителем свободы всегда является
личность. Биография отдельной личности со времени ее
появления на свет в определенном смысле воспроизводит
историю прогресса человечества по пути свободы, ибо каждая
личность начинает свое «восхождение к свободе» аналогично
тому, как это совершало человечество в целом. Становление
1 •Маркс К., Энгельс Ф. Соч.. т. 20, с. 116.
личности совпадает с приобретением ею все большей свободы
в своих суждениях, в раскрытии заложенных в ней дарований,
в творческой сознательной деятельности. Личность начинается
со свободы и стремится к свободе, причем главным средством ее
достижения опять-таки является свобода. Свобода,
следовательно, представляет собой меру исторического уровня развития
личности.
Свыше двух тысячелетий билась философская мысль над
антиномией «свобода или необходимость», которая была камнем
преткновения для всех философов, о чем прекрасно сказал
Г. В. Плеханов: «Старый, но вечно новый вопрос о свободе
и необходимости возникал перед идеалистами XIX века, как
возникал он перед метафизиками предшествовавшего столетия,
как возникал он решительно перед всеми философами,
задававшимися вопросами об отношении бытия к мышлению. Он, как
сфинкс, говорил каждому из таких мыслителей: разгадай меня,
или я пожру твою систему!»1. Диалектически разрешить эту
традиционную философскую антиномию свободы и
необходимости — иначе говоря, устранить их метафизическое
противопоставление и мнимую несовместимость в развитии общества —
оказалось возможным лишь благодаря материалистическому
пониманию истории, которое одновременно указало на реальный
практический путь воплощения в жизнь социального идеала
свободы и всестороннего развития личности.
Так же как ни одна философская система не могла обойти
проблему свободы, ее не могла игнорировать ни одна этическая
концепция личности, ни одна правовая и политическая система,
ибо без признания свободы личности не может идти речь и об ее
моральной и юридической ответственности за свои поступки.
Идеал свободы наряду с идеалами равенства и братства обладал
столь большой притягательной силой для народных масс, что
к нему, давая ему соответствующую интерпретацию,
апеллировали даже представители господствующих классов. Отречение
же идеологов этих классов от таких социальных идеалов
служило предвестником близкой гибели существующего строя.
Подобное происходит и сейчас на капиталистическом Западе. Об
этом убедительно свидетельствуют попытки реакционной
монополистической буржуазии, особенно после прихода к власти
консервативного правительства М. Тэтчер в Англии и
республиканской администрации Р. Рейгана в США, перейти в идейно-
политическое контрнаступление на демократические права
и социальные завоевания трудящихся в своих странах, на
освободительное движение народов во всем мире.
Плеханов Г. В. Избр. филос. произв. В 5-ти т. М., 1958, т. 1; с. 590.
280
цкнл свободы или
ЦЕНА КАПИТАЛИЗМА?
— Позвольте, я hu к чему не хочу вас принуждать.
К чему насилие? Вам предоставляется
совершенно свободный выбор между пером и веревкой. .')тот
вопрос можете решить только вы сами.
Р. САБАТИНИ
В свое время революционная буржуазия пришла к власти
под лозунгом «Свобода, равенство, братство!», в котором
воплощалось вековое стремление угнетенных народных масс
к социальной справедливости. Не только в обыденном сознании
обездоленных масс, но и в теоретических представлениях
идеологов третьего сословия все три понятия, составляющие этот
лозунг, были неотделимы друг от друга, олицетворяли в себе
неотъемлемые принципы «естественного права» каждого
человека, которое должно было утвердиться в царстве разума
и справедливости, идущем на смену феодализму. «Если
попытаться определить, в чем именно состоит то наибольшее
благо всех, которое должно быть целью всякой системы законов,
то окажется, что оно сводится к двум главным вещам: свободе
и равенству. К свободе — поскольку всякая зависимость от
частного лица настолько же уменьшает силу Государства;
к равенству, потому что свобода не может существовать без
него»,— подчеркивал Жан Жак Руссо в трактате «Об
Общественном договоре». И это общество, где «ни один гражданин не
должен обладать столь значительным достатком, чтобы иметь
возможность купить другого, и ни один — быть настолько
бедным, чтобы быть вынужденным себя продавать»1, по его
убеждению, станет братским союзом равноправных и свободных
людей, независимых и самостоятельных общин-республик.
Аналогичную позицию занимал и Томас Джефферсон,
подчеркивая, что свобода, равенство и естественное стремление к счастью,
присущие каждому человеку, должны покоиться на
материальной независимости людей, которую он усматривал в наделении
всех частной собственностью.
Однако, провозглашенные в «Декларации независимости»
Соединенных Штатов и в «Декларации прав человека и
гражданина» Великой французской революции, сформулированные во
всех конституциях буржуазных государств, эти принципы не
были реально воплощены в жизнь. В обществе, покоящемся на
частной собственности и эксплуатации человека человеком, на
Руссо Ж. Ж. Трактаты. М., 1969, с. 188.
2S7
конкуренции и погоне за прибылью, объективно не оставалось
места для братства между эксплуататорами и
эксплуатируемыми, между привилегированными и обездоленными, между
господствующими и угнетенными нациями. Принцип
«естественного равенства» всех людей выродился в формальное
и практически неосуществимое «равенство перед законом»,
а также в филантропические пожелания «равенства
возможностей» на старте, призванные оправдать вопиющее социальное
неравенство в итоге. Что же касается свободы, то она для
подавляющего большинства населения была сведена лишь
к ограниченным и во многом формальным демократическим
правам, которые к тому же трудящимся приходилось
завоевывать и постоянно отстаивать в борьбе против утвердившейся
в роли господствующего класса буржуазии. История показала,
что реальная социальная действительность капитализма
бесконечно далека от идеалов социальной справедливости.
Разрыв между социальным идеалом масс и социальной
действительностью капитализма заставляет буржуазных
идеологов прибегать к более изощренным способам оправдания
существующего строя. С одной стороны, привлекательность для
масс принципов свободы, равенства и братства побуждает
выразителей господствующей идеологии выступать в роли их
поборников. С другой — несовместимость
государственно-монополистического капитализма с этими принципами вынуждает
извращать их подлинное содержание, противопоставлять друг
другу и даже пытаться подорвать веру в их реальную
осуществимость. И этому не приходится удивляться, ибо поборники
«свободного мира» видят для себя вполне реальную угрозу
в требованиях подлинной свободы для народа, а требования
подлинного равноправия «защитники» демократии и прав
человека рассматривают как посягательство на свои привилегии.
В эволюции буржуазных концепций «свободы личности» есть
своя любопытная логика: чем более вопиющим становится
социальное неравенство, чем более шаткой становится
материальная обеспеченность масс и растет их неуверенность
в будущем, тем больше прославляется свобода личности. Но до
известного предела, ибо когда массовое недовольство социальной
несправедливостью грозит вылиться в открытое возмущение
существующим строем, принципы «свободы личности» и «права
человека» откровенно попираются на практике и третируются
в идеологии.
Для современных буржуазных концепций «свободы
личности» и «равенства возможностей» наиболее типичным является
утверждение, что нельзя обладать всеми благами одновременно,
что ради одних социальных идеалов якобы неизбежно прихо-
дится жертвовать другими, а попытка обрести их все сразу
может привести лишь к тому, что не останется ни одного.
Социальное назначение подобных концепций убедительно выявил
американский философ Б. Данэм в книге «Человек против
мифов»: «Из всех мифов, рассмотренных нами, миф о том, что
нельзя быть одновременно свободным и гарантированным от
опасности, совершенно очевидно, придуман с определенной
целью. Властители общества заботятся о своей собственной
свободе и собственной безопасности, забывая о нас. Если мы
выразим свое желание быть свободными, они скажут в ответ, что
хотят безопасности; а если мы заявим им о своем стремлении
чувствовать себя в безопасности, они ответят, что хотят свободы.
Иначе говоря, для них свобода совместима с безопасностью, но
их свобода и их безопасность несовместимы со свободой
и безопасностью для нас. Вот она истина. Но если это так, то
теоретики, занимающиеся пропагандой доктрины о
несовместимости свободы и безопасности, не должны поносить других за
убеждение, что между классами существует конфликт»1.
Разновидностью такого рода концепций, получивших
широкое распространение на капиталистическом Западе, особенно
в США, является концепция так называемой «цены свободы».
В условиях, когда все очевиднее выявляются преимущества
социализма и капитализм явно опасается проигрыша в
соревновании с ним, эта концепция оказалась наиболее удобной формой
апологии государственно-монополистического капитализма:
свобода личности, которая «есть на Западе, но отсутствует на
Востоке», стоит-де всех преимуществ социализма.
Объявляя капитализм «свободным миром», буржуазные
идеологи возвеличивают исторически ограниченную и
формальную свободу личности, а вернее, буржуазный индивидуализм как
столь великую социальную ценность, ради которой можно
и стоит пожертвовать всеми прочими преимуществами и
благами, будь то даже священный принцип равенства.
Типичный пример подобных рассуждений содержится
в книге американского экономиста, лауреата Нобелевской
премии Милтона Фридмена «Капитализм и свобода». Свобода,
заявляет он,— это не столько политическая, сколько
экономическая проблема, а из всех свобод самая основная, на которой
зиждутся остальные,— свободное предпринимательство.
Поэтому ликвидация частной собственности и свободы
предпринимательства якобы равносильна упразднению свободы личности
вообще: «общество, которое является социалистическим, не
может одновременно быть демократическим в смысле гарантий
1 Данэм Б. Человек против мифов. М., 1961, с. 275 — 276.
19 :\лклл Ш'л
289
индивидуальной свободы»1. Политическая свобода и свободный
рынок, по утверждению М. Фридмена, настолько
взаимообусловлены, что без одного нет другого. «Тот род экономической
организации, который олицетворяет собой непосредственно
экономическую свободу, а именно капитализм с его
конкуренцией, воплощает в себе также и политическую свободу, ибо он
отделяет экономическую власть от политической власти и тем
самым позволяет одной уравновешивать другую»2.
Эта более чем своеобразная концепция свободы личности,
которую вот уже много лет отстаивает Фридмен, сопровождается
логически парадоксальными по форме и крайне реакционными
по содержанию выводами. Провозглашая частную собственность
экономическим фундаментом демократии и свободы личности, он
в своем эссе «Что кому принадлежит?» с порога отвергает даже
робкие попытки правительства США как-то ограничить
скандальные сверхприбыли американских нефтяных и газовых
монополий, считая это равносильным посягательству на
конституционное право американцев на «жизнь, свободу и стремление
к счастью».
Согласно Фридмену, именно сохранение свободы является
первоначальным оправданием частной собственности3.
Ущемление прибылей, запугивает он обывателя,— это лишь начало;
достаточно уступить правительству в этом вопросе, как оно
начнет произвольно определять стоимость личного имущества
каждого гражданина, начиная с принадлежащего ему дома
и всей обстановки вплоть до коллекции почтовых марок.
Если верить Фридмену, то оказывается, что, переплачивая
втридорога за бензин, электроэнергию и отопление, страдая от
инфляции и безработицы, рядовые американцы хотя и пассивно,
но тем не менее самоотверженно отстаивают свои
демократические права и собственную свободу личности от посягательств со
стороны «Большого государства». И достаточно им заколебаться
в этом вопросе, пожертвовать интересами монополистических
корпораций, как — не успеют они и оглянуться — на спине
каждого американца появится зловещая печать тоталитарного
государства: «Собственность правительства США. Не сгибать, не
скручивать, не калечить!» Поистине нужно третировать своих
читателей как политических младенцев, чтобы прибегать
к подобной социальной демагогии.
Столь же демагогическими являются рассуждения другого
американского экономиста, Генри К. Уоллича, выразительна
1 Friedman М. Capitalism and Freodom. Chicago, 1962, р. 8.
2 Ibid., р. 9.
3 Friedman M. What Belongs to Whom? — Newsweck, March 13, 1978, p. 41.
290
озаглавившего свою книгу «Цена свободы. Новый взгляд на
капитализм», в которой он пытается оправдать систему частного
предпринимательства с помощью софистических доводов: «Мы
должны принять некоторую степень экономического
неравенства, которая связана с инициативой и конкуренцией. И хотя мы
можем рассчитывать на удовлетворительные темпы
экономического роста, мы должны быть готовы к тому, чтобы обойтись без
тех сверхвыгод, которые могут принести методы
насильственного принуждения, ибо они несовместимы со свободой в мирное
время. Высшая ценность свободной экономики — не
производство, а сама свобода; свобода же достается не с прибылью, а за
плату»1.
По мнению Уоллича, противоречащие очевидным фактам
утверждения, что капитализм во всех отношениях лучше
социализма, мало кого теперь могут убедить. «По сравнению со
свободной экономикой русская система демонстрирует элементы
определенного преимущества... Если мы отвергаем эту систему
со всей решительностью, то мы должны обосновать нашу
позицию не экономическими соображениями, а нашей
приверженностью к свободе»2. Эта апелляция к свободе в борьбе
с коммунизмом представляется ему лучшей формой защиты
капитализма. «Свобода имеет свою цену,— заявляет он,—
и наше, счастье, что мы способны и готовы ее заплатить»3.
В качестве первоначальной платы за свободу у него выступает
отказ от принципа равенства. «Конфликт между свободой
и равенством стал глубже, по мере того как под равенством все
больше подразумевается экономическое равенство»4.
Формулируя ложную дилемму — либо свобода, либо равенство,— Уоллич
не ограничивается тем, что призывает во имя первой
пожертвовать вторым, но пытается обосновать и оправдать неравенство
в состоянии и доходах как социальное благо, которым якобы
пользуются и богатые, и бедные. Равенство же отождествляется
им с социальной энтропией, подавляющей в людях всякую
инициативу, ограничивающей свободу личности и в конечном
счете обрекающей общество на застой.
Конечно, свобода личности, как и всякое социальное благо,
имеет не только свои очевидные достоинства, но и свою «цену»
в том смысле, что она достается людям не даром. Для того, чтобы
завоевать, отстоять и расширить демократические свободы,
1 Wallich Н. С. The Cost of Freedom. N. Y., 1960, р. IX-X.
2 Ibid., р. 48.
3 Ibid., р. 49.
4 Ibid., р. 119.
19*
бесспорно, нужны определенные усилия и даже готовность
пойти на жертвы. Об этом убедительно свидетельствует вся
история человечества. «Свобода или смерть!» — такой лозунг
вдохновлял народные массы и отдельных людей на героическую
борьбу за социальное и национальное освобождение, за
демократические права и раскрепощение личности. Но эта вполне
реальная цена свободы не имеет ничего общего с той мнимой
«ценой» свободы, о которой идет речь у Г. Уоллича и других,
рассуждающих аналогично ему буржуазных идеологов.
Демагогически отождествляя капитализм со «свободным миром», они
не просто подменяют один «товар» другим, но и пытаются
выдать бремя, которое вынуждены нести на себе трудящиеся
в условиях капиталистической системы, за «цену свободы».
В действительности же демократия и свобода личности
отнюдь не предполагают необходимости в увековечении частной
собственности на средства производства и эксплуатации
человека человеком, анархии производства, кризисов, безработицы.
Отречения от социальных идеалов равенства и справедливости
также требует именно капитализм, а никак не свобода. И
абсурдно представлять порождаемое антагонистической системой
социальное зло как более или менее добровольные жертвы на
алтарь свободы. Нет, это принудительно возлагаемая на
народные массы плата за сохранение капитализма.
Как подчеркивал В. И. Ленин, «пока не уничтожены
классы, при всяком рассуждении о свободе и равенстве должен
быть поставлен вопрос: свобода для какого класса? и для какого
именно употребления? равенство какого класса с каким?
и в каком именно отношении? Обход этих вопросов, прямой или
косвенный, сознательный или бессознательный, является
неизбежно защитой интересов буржуазии, интересов капитала,
интересов эксплуататоров»1. Социальная действительность
капитализма вообще, а тем более современного государственно-
монополистического капитализма не только отрицает принципы
братства всех людей, равенства и справедливости, но и попирает
свободу подавляющего большинства населения, принося ее
в жертву классовым привилегиям господствующего
меньшинства.
Идеологи восходящей буржуазии в свое время
провозглашали неприкосновенность частной собственности, свободное
предпринимательство и свободную конкуренцию своего рода
экономической гарантией демократического строя, личной
свободы и равенства возможностей для всех. При всей своей
классовой ограниченности этот буржуазно-демократический
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 425.
'1W1
идеал социальной справедливости был исторически
прогрессивным по сравнению со свойственными феодальному обществу
личной зависимостью, сословными привилегиями, бесправием
и произволом по отношению к обездоленным массам. Однако
буржуазно-демократический идеал так никогда и не был
осуществлен; развитие капитализма скорее отдаляло, чем
приближало его воплощение в жизнь. Частная собственность
и свободное предпринимательство стали в условиях
современного капитализма экономической привилегией ничтожного
меньшинства, а свободная конкуренция превратилась в
экономический миф. Даже Г. Уоллич вынужден констатировать, что
отстаивать сейчас принцип свободного предпринимательства —
это все равно, что записаться в клуб самоубийц1.
Исторически капитализм уже давно изжил себя. Это
признают теперь не только марксисты. Как остроумно заметил
в канун двухсотлетия американской революции весьма
консервативно настроенный профессор Нью-Йоркского университета
Ирвинг Кристол, капитализм стал настолько искусственной
и утратившей правомерность социальной системой, что Адам
Смит и Томас Джефферсон, если бы они вдруг воскресли, были
бы ошеломлены, услышав, что эта
корпоративно-бюрократическая система все еще называется капитализмом, а тем более
«свободным предпринимательством»2. Тем не менее данное
обстоятельство ничуть не смущает его, и он прибегает к
изощренной апологии современной монополистической олигархии
во имя традиционных ценностей «свободного частного
предпринимательства».
Надо сказать, что с конца 70-х годов в правящих кругах США
явно возобладало реакционное идейно-политическое течение так
называемого «неоконсерватизма». Наряду с И. Кристолом
и М. Фридменом наиболее влиятельными идеологами этого
течения являются Дж. Киркпатрик, Р. Пайпс, Н. Подгорец,
Д. Белл, Д. Мойнихен, У. Саймон и другие: крупные банкиры,
промышленники, политические деятели, издатели, политологи.
Средства массовой информации на Западе широко рекламируют
их как «новых дерзких поборников капитализма».
Демагогически спекулируя на несостоятельности
мелкобуржуазного уравнительного максимализма, а также на
очевидном банкротстве либерально-реформистских программ
«государства всеобщего благоденствия», неоконсерваторы
провозгласили крестовый поход не только против коммунизма и левого
1 Wallich Н. С. The Cost of Freedom, р. 68.
2 The Public Interest, Fall 1975, № 41, p. 125.
радикализма, но и против всех демократически мыслящих
американцев и даже либералов, которых клеймят как скрытых
социалистов и сторонников тоталитаризма. Представители этого
течения во многом способствовали приходу к власти в США
администрации президента Р. Рейгана и заняли в ней целый ряд
важных правительственных постов. Их политическая
программа, осуществляемая ныне в США, предполагает открытое
наступление на демократические права и социальные завоевания
американского народа, всемерное поощрение частного
предпринимательства путем снижения налогов на монополистические
корпорации и отмены стесняющего их государственного
вмешательства в экономическую деятельность, всемерное нагнетание
международной напряженности, беспрецедентную гонку
вооружений с целью установления мировой гегемонии США.
И хотя все это предпринимается под флагом «защиты
свободного мира», в сущности, политика неоконсерваторов
направлена именно против демократических прав и личных
свобод подавляющего большинства американцев, против
освободительного движения. Это явствует не только из теоретических
рассуждений неоконсерваторов, но также из практической
деятельности правительства Рейгана.
В своей книге «Два «ура» капитализму» И. Кристол
цинично оценивает все призывы к социальной справедливости,
большему равенству и расширению гражданских свобод
независимо от того, исходят они от радикалов или либералов, как
в лучшем случае романтическую химеру, а в худшем — тайный
заговор с целью ниспровержения существующего строя.
Капитализм, по его убеждению, не просто «меньшее зло» по сравнению
с социализмом, а лучшая из всех возможных социально-
экономических систем. Пора перестать, требует Кристол,
оправдывать капитализм лишь как хорошую «дойную корову»
для осуществления всякого рода реформистских и
филантропических программ по социальному обеспечению,
здравоохранению, образованию и борьбе с бедностью: следует открыто
отстаивать не только экономическую, а прежде всего моральную
ценность частного предпринимательства.
В глазах Кристола даже взгляды М. Фридмена и других
буржуазных идеологов «старой формации» выглядят
непоследовательными, ибо они ограничиваются оправданием капитализма
лишь с точки зрения его экономической эффективности
и рациональности, допуская, что принципы частного
предпринимательства должны согласовываться с идеалом самореализации
личности в свободном обществе. Это, по мнению Кристола,
непростительная уступка антибуржуазному романтизму «новых
левых» и неолибералов. «А как быть,— демагогически восклица-
ст он,— если личность, которая «реализуется» в условиях
либерального капитализма, враждебна ему и использует свою
свободу, чтобы подорвать и уничтожить свободное общество?»1
И хотя Кристол не дает прямого ответа на свой риторический
вопрос, из его последующих рассуждений недвусмысленно
вытекает, что ни о какой свободе личности, понимаемой как
возможность ее всестороннего развития, при капитализме не
может быть и речи. Разъясняя политическое кредо
неоконсерваторов, он утверждает, что «национальные цели» должны
определяться не на основе неосуществимого согласования
интересов всех членов крайне неоднородного в современных
условиях капиталистического общества путем их свободного
волеизъявления, а исходя из высшей цели — сохранения
существующего строя. «Несмотря на то что неудовлетворенность
нашей цивилизацией выражает себя в риторике «освобождения»
и «равенства»,— пишет он,— глубоко под поверхностью можно
обнаружить настоятельное стремление к порядку и
стабильности, разумеется, законному порядку и законной стабильности»2.
Именно эти последние наряду с моральным авторитетом
традиций являются, по Кристолу, непреходящими социальными
ценностями капитализма, священными устоями власти.
Идеологи американского неоконсерватизма пытаются так
переосмыслить и истолковать само понятие «свобода», чтобы
лишить его всякого иного содержания, кроме оправдания
частной собственности и свободы капиталистического
предпринимательства. Так, У. Саймон в книге, претенциозно
озаглавленной «Пора сказать правду», сокрушается, что под влиянием
либерально-реформистской и леворадикальной риторики в
представлениях американской общественности исказился
первоначальный и якобы подлинный смысл понятия «свобода». Со
времени депрессии 30-х годов, считает он, политики преуспели
в том, чтобы придать политической свободе новое определение.
Прежде это понятие означало свободу от государства, теперь же
обозначает гарантированную государством свободу от нужды, от
бедствий. Свобода, таким образом, превратилась в свою
противоположность: вместо независимости от государства она
предстала как возрастающая зависимость от него, засилье
бюрократической машины, всеобъемлющая правительственная
регламентация всех сфер частной жизни. Тем самым, запугивает
Саймон, антикапиталистический коллективизм вторгся в США
с черного хода. При этом даже сами бизнесмены были приведены
в замешательство и устремились в Вашингтон, клянча
правительственные заказы, субсидии и займы, готовые поступиться
' Kristol I. Two Cheers for Capitalism. N. Y., 1978, p. 68.
2 .Ibid., p. 267-269.
2!)Г)
своим священным правом частной собственности в обмен на
свободу от банкротства1.
Поскольку либерально-реформистские и леворадикальные
настроения широко распространены среди американской
интеллигенции, формирующей общественное мнение страны, Саймон
призывает деловые круги выпестовать, противопоставить ей
могущественную «контринтеллигенцию» — преданный им
идеологический корпус мыслителей, способный защитить
обновленный капитализм от его врагов. Рассуждая как типичный
бизнесмен, полагающий, что за большие деньги можно
приобрести добротные идеи, он заключает: «Им должны быть
предоставлены субсидии, субсидии и еще больше субсидий
в обмен на книги, книги и еще больше книг».
Если от понятия «свобода» в идеологии неоконсерватизма не
осталось ничего, кроме неограниченных возможностей для
частного капиталистического предпринимательства, то вполне
логично, что идея равенства третируется в ней как
совершенно неприемлемая. Именно Кристолу принадлежит афоризм:
«Вы не можете защищать капитализм, не защищая
неравенства»2.
С конца 60-х годов в академических кругах США под
влиянием мелкобуржуазных уравнительных концепций ведутся
нескончаемые метафизические споры о равенстве. Практическая
несостоятельность традиционных либеральных представлений,
восходящих к идеям Дж. Локка, А. Смита и Т. Джефферсона,
о капитализме как обществе, чьим социальным идеалом
призвано быть «равенство возможностей» всех граждан,
сопровождалась фабрикацией разнообразных новых концепций
равенства — от подновленных реформистских программ «га*
рантированного равенства на старте» до абсурдных
леворадикальных требований поголовного уравнения в доходах.
Идеологи неоконсерватизма умело воспользовались этой
теоретической полемикой своих противников, а также
распространенными среди обывателей предрассудками и опасениями.
Отождествляя социальное равноправие со всеобщим
перераспределением доходов и уравниловкой, они стали доказывать, будто
равенство, как таковое, вообще невозможно. Ополчаясь на
социальный идеал равенства, один из редакторов теоретического
органа неоконсерваторов — журнала «Паблик интерест» в
статье «Государство благосостояния против государства
перераспределения» пытался доказать, что существующее в США
распределение доходов является оптимальным с точки зрения
1 Kiwanis Magazine, June — July 1979, р. 17 — 19.
2 Ksquirc, Fobruary 1.3, 197», р. 40.
2%
общего благосостояния и единственно допустимым пределом
равенства. Любая попытка изменить существующую пирамиду
доходов путем ее «выравнивания», какими бы призывами
к социальной справедливости это ни сопровождалось, нанесет
якобы непоправимый ущерб как благосостоянию, так и
моральному состоянию американского общества в целом. Социальное
неравенство заложено, дескать, уже в самой генетической
природе человека. И пытаться исправить или хотя бы
компенсировать это неравенство с помощью социальных, экономических
и политических мер — значит устремиться в бездонную
пропасть. Ведь требованиям равенства никогда не будет конца:
вслед за уравнением в доходах сторонники равенства потребуют
уравнения в выборе супругов, чтобы одни люди не
злоупотребляли своей красотой или другими природными данными в ущерб
другим, затем перераспределения детей, чтобы в каждой семье
было поровну талантливых и тупиц, и т. д. Коль скоро подобное
«равенство в итоге» заведомо нелепо и практически
неосуществимо, все рассуждения о равноправии, кроме равенства перед
законом, вообще, мол, не стоят выеденного яйца1.
Напрашивается вопрос, каким образом эта крайне
ретроградная философия неоконсерваторов смогла прельстить
значительную часть американских избирателей и проложить
республиканской администрации путь в Белый дом на выборах "1980 года?
Несомненно, значительную роль в этом сыграло идейно-
политическое банкротство буржуазно-либерального
реформизма, оказавшегося неспособным выполнить свои обещания,
всеобщее разочарование в дорогостоящих и бесплодных
социальных программах. Республиканцы же посулили избирателям
немедленное снижение налогов, прекращение инфляции и
экономический подъем. «Подсчитайте, сколько вы платите
налогов и сколько взамен получаете в виде социального обеспечения,
здравоохранения и образования!» — взывали республиканцы к
«здравому смыслу» обывателей. И для многих из них этот довод
оказался решающим. Ослепленные им, они, конечно, не могли
предвидеть пагубные результаты правления республиканской
администрации: от снижения налогов выиграли главным
образом наиболее состоятельные слои населения, а от
сокращения расходов на социальные программы больше всего проиграли
простые американцы; увеличилась безработица; прибыли
монополистических корпораций резко выросли; государство
отреклось от обязательства обеспечить «свободу от нужды» для
народа, но тем не менее щедро обеспечивает «свободу от
Tbc Publiqiic Interost. Spring 1979. N 55, р. 28-49.
297
банкротства» для капиталистов; гонка вооружений поглощает
огромные средства, ложится непосильным бременем на
экономику и подрывает жизненный уровень страны.
Пожалуй, никогда еще прежде американские избиратели не
были обмануты столь вероломно и жестоко, как на этот раз
«новыми дерзкими поборниками капитализма».
По сути дела, идеологи государственно-монополистического
капитализма ратуют вовсе не за свободу личности и демократию,
а именно за экономические, социальные и политические
привилегии господствующего класса, противоположные
интересам подавляющего большинства населения. Они не только
готовы принести в жертву этим привилегиям равенство, но
и отказывают широким массам в реальной свободе: в свободе от
эксплуатации и угнетения, от безработицы и неуверенности
в будущем, в свободе творческого развития своих дарований.
Подлинная свобода вполне совместима с подлинным
равенством, но оба эти социальные идеала явно несовместимы
с сохранением классово антагонистического общества.
«НО ТУ СТОРОНУ свободы
И ДОСТОИНСТВА»
Говорю тобо, что ист у человека заботы
мучительнее, как найти того, кому бы передать
поскорее тот дар свободы, с которым это
несчастное существо рождается. Но овладевает
свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
Что такое свобода личности? — рассуждает герой романа
Н. Казандзакиса «Алексис Зорба». Возможность ли это
осуществить свое призвание в жизни, способность ли отказаться от
страстного желания во имя иной, более возвышенной страсти,
сознавать, что твоя судьба зависит от тебя самого, а не от
внешних обстоятельств? Или же пресловутая свобода — просто
веревка, которой человек привязан к своему повелителю? И чем
длинней веревка, тем шире поприще для деятельности, тем
больше шансов, что человека не дернут за нее и не помешают
поступить, как он хочет? Профессор Гарвардского университета
Б. Ф. Скиннер, автор бестселлера «По ту сторону свободы
и достоинства», совершенно определенно придерживается
второго мнения и даже убежден в том, что, чем короче веревка, тем
лучше для человека-марионетки. «Моя книга,— заявляет он,—
2\)\
продиктована стремлением доказать, как из рук вон плохо идут
дела, когда свободу и достоинство личности превращают
в фетиш»1. Разбейте, разбейте эти старые, ветхие скрижали! —
восклицает Скиннер. Он призывает осознать, что в нынешний
рациональный век столь же нелепо цепляться за эту
метафизическую галиматью, вымышленную философами, как в средние века
за свою бессмертную душу, а в древности — за пресловутое
ветхозаветное первородство. Человеку, ради его собственного
благополучия, необходим короткий поводок.
«Наша цивилизация породила науку и технологию, в
которых она нуждается, чтобы спасти себя. Она обладает богатством,
необходимым для эффективных действий. Она в значительной
мере озабочена своим будущим. Но если она и далее будет
считать своей высшей ценностью свободу и достоинство, а не
собственное выживание, то очень может быть, что больший вклад
в будущее внесет какая-либо иная цивилизация. Поборники
свободы и достоинства смогут тогда, подобно сатане Мильтона,
уверять себя в том, что они обладают «сознанием, независимым
от места и времени»... Однако они обнаружат себя в аду,
и единственным их утешением будет иллюзия, что здесь по
крайней мере они свободны»2. И чем настойчивее люди
будут цепляться за призрак личной свободы и
достоинства, те_м вернее и скорее, по мнению Скиннера, они
сотворят ад на земле.
Профессор Беррес Фредерик Скиннер — одна из наиболее
колоритных и вместе с тем глубоко противоречивых фигур
в академическом мире США. Вот уже более трех десятилетий он
периодически разжигает страсти в общественном мнении, о нем
ведутся самые разноречивые толки, высказываются прямо
противоположные мнения. И это не случайно. С одной стороны,
ученый с мировой репутацией, которую ему принесли
исследования в области социальной психологии, чье имя прочно связано
с созданием «инкубатора для младенцев» и «обучающей
машины», открывающей заманчивые перспективы в системе
образования. С другой — прожектер, убежденный в своем
«мессианском призвании», автор социальной утопии «Второй
Уолден», тираж которой с момента ее первого издания в
1948 г. превысил к настоящему времени миллион экземпляров.
Стоит ли удивляться тому, что многие считают его совмещенным
в одном лице благородным доктором Джекилом и злодеем
мистером Хайдом.
1 Skinner В. F. Beyond Freedom and Dignity. N.Y., 1971, р.
2 Ibid., р. 181-182.
Правда, в отличие от своего литературного прототипа из
повести Р. Л. Стивенсона, сам Скиннер отнюдь не страдает
болезненным раздвоением личности. По его мнению, все
вызванные им кривотолки порождены именно
последовательностью его взглядов, стремлением всегда оставаться самим собой.
Скиннеру действительно трудно отказать в прямоте
высказываний, в логической последовательности взглядов, в откровенности
мнений. Собственно говоря, именно этими качествами он
в какой-то мере подкупает читателей своей книги «По ту сторону
свободы и достоинства», вызвавшей своего рода идеологический
скандал в общественном мнении на Западе.
Как в академических кругах, так и среди общественности на
Западе взгляды Скиннера, изложенные в этом бестселлере,
продолжают вызывать острую полемику, тем более что сам автор
упорно отстаивает свои взгляды и имеет немало последователей.
«Устарела ли свобода?», «Скиннер говорит: мы не можем
позволить себе быть свободными», «Наука, вводящая в
заблуждение» — такими заголовками, а также портретами автора
пестрели журналы и газеты, воспроизводя пространные
выдержки из книги. Дискуссии о ней вышли из академических
кругов на экран телевидения. А в конгресс США даже был
внесен запрос, каким образом подобная книга, порочащая
«свободный мир», вообще могла быть опубликована, а ее автору
было позволено вести свои подрывные, антиамериканские
исследования на государственные деньги1. Однако эту книгу
Скиннера вряд ли можно понять, не обратившись к его
социальной утопии и к его научно-исследовательским работам.
Ровно сто лет отделяют «Второй Уолден» Б. Ф. Скиннера от
первого — от книги Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь
в лесу», написанной в 1847 — 1849 гг. Выдающийся
американский гуманист и демократ, страстный борец против рабства
негров, описал в этой книге изо дня в день свою жизнь в хижине,
которую построил собственными руками на берегу Уолденского
озера в штате Массачусетс. Довольствуясь лишь самым
необходимым, Торо прожил там в уединении два года, чтобы, как
он говорил, «свободно дышать и дать себе волю», а также личным
примером доказать, что каждый человек может себе позволить
быть независимым как в своих суждениях, так и в поведении.
Торо вошел в историю Америки как человек, который, по его
собственным словам, «более всего ценил свободу»2, причем не
только свою, но и других людей, не только на словах, но и на
1 Tho New York Times, Septombor 11, 1971.
2 См.: Торо Г. Д. Уолден, или Жизнь в лесу. М., 1962, с. 46.
л\н\
деле, активно помогая беглым рабам из южных штатов
скрываться от своих преследователей.
При всей утопичности своих социальных взглядов,
выражавшейся, в частности, в идеализации бедности и в умалении
достижений цивилизации, Торо был убежденным оптимистом,
уверенным в безграничных возможностях совершенствования
и всестороннего развития личности.
Для последующих поколений книга Торо стала страстным
манифестом в защиту свободы личности от произвола, от
порабощения ее материальными заботами, собственностью
и капиталистическим разделением труда. Достоинство и
независимость личности, заявлял Торо своей книгой, стоят выше
комфорта и благосостояния, ибо позволяют людям быть
человечными, осуществлять свое призвание в жизни. Быть
может, Соединенные Штаты того времени (середина XIX в.) с их
колоссальными неосвоенными пространствами были ближе
к идеалу независимой личности, чем когда-либо прежде или
после, как замечал впоследствии английский писатель и
публицист Дж. Оруэлл. Однако столетие капиталистического
развития, пролегавшее между первым и вторым «Уолденом»,
оказалось в реальной жизни безжалостным отрицанием
социального идеала Торо. А утопия Скиннера явилась поистине
антинодом утопии Торо.
Во'«Втором Уолдене» изображено утопическое сообщество
людей, обретших наконец гармонию, благополучие и счастье
(если верить автору) именно благодаря тому, что они отреклись
от своей свободы, достоинства и независимости. В этом
обезличенном обществе жизнь регламентирована вплоть до мелочей.
Какие бы то ни было «нежелательные отклонения в поведении
людей» заранее пресечены с помощью изощренной системы
воспитания и манипулирования сознанием, так что человеку
даже не приходит в голову вести себя иначе, чем положено.
Низведенные до уровня безвольных, стандартных и
взаимозаменимых элементов, винтиков в машине, люди не сознают себя
личностями, обладающими индивидуальностью, свободой и
достоинством. Им чужда мысль о моральной ответственности за
свои действия. Их поступки просто эффективны либо
неэффективны, желательны либо нежелательны. Сама мысль
о добре и зле, о наказании и благодарности кажется им дикой.
В таком обществе-муравейнике нет нужды контролировать
каждый шаг индивида, ибо в него заранее вмонтировано
устройство самоконтроля в виде тщательно выработанных
условных рефлексов.
Идеализируя подобное обезличенное общество, в котором
индивидуальность целиком растворена в неком «суперорга-
:ни
низме», Скиннер противопоставляет свой социальный идеал как
буржуазной демократии, так и коммунизму. И защищаясь от
обвинений в стремлении навязать обществу тотальную
диктатуру, он устами своего главного героя заявляет, что обитатели
«Второго Уолдена» вполне «свободны» поступать так, как они
хотят, лишь бы они хотели того, что запрограммировано их
руководителями1.
Социальный идеал, за который ратует Скиннер, отнюдь не
блещет новизной, хотя под него и подведен современный
бихевиористский фундамент. Это — убеждение во врожденной
порочности и иррациональности человека, которого можно
исправить лишь свыше и осчастливить только вопреки его воле.
Собственно говоря, во «Втором Уолдене» провозглашается тот
же социальный идеал, который Ф. М. Достоевский вложил
в уста великого инквизитора, мечтавшего о том, «каким образом
соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный
муравейник...»2. Правда, отвергая взгляды созданного его
воображением фанатичного мизантропа, Достоевский намеренно
придает его исповеди откровенно циничный характер, тогда как
Скиннер излагает идентичные мысли сугубо позитивно, без тени
иронии, апеллируя к науке. Однако от этого его псевдоутопия
ничуть не становится привлекательней.
Книга Скиннера «По ту сторону свободы и достоинства» еще
подлила масла в пламя полемики вокруг «Второго Уолдена»,
который, как считают многие, почти ничем не отличается от
«1984 года» — мрачной антиутопии Джорджа Оруэлла3.
Защищаясь от этих обвинений, Скиннер настаивал, что в его утопии
нет места физическому насилию над личностью, что его
сообщество зиждется не на страхе наказания, а на поощрении.
А если поощрения окажется недостаточно для бесперебойного
функционирования социального механизма, справедливо
возражали его оппоненты, не прибегнут ли самозваные контролеры-
манипуляторы к ремонту личности в какой-либо лаборатории,
вроде зловещей комнаты 101, или камеры изощренных пыток, из
романа Оруэлла? Недаром английский еженедельник
«Экономист» свою статью, посвященную концепции Скиннера,
выразительно озаглавил «Навстречу 1984 году»4. Да и чем духовное
насилие над личностью лучше насилия физического? У некото-
1 Skinner В. F. Waiden Two. N. Y., 1962, р. 296-297.
2 Достоевский Ф. М. Собр. соч. В 10-ти т. М., 1958, т. 9, с. 323.
3 Критика этой антиутопии содержится в очерке-памфлете Г. X.
Шахназарова «Этот прекрасный новый мир в этом пресловутом 1984 году», завершающем
его книгу «Фиаско футурологии» (М., 1979).
4 The Kconomist, January 5, 1974.
рых читателей «Второго Уолдена» возникало даже сомнение, не
является ли эта утопия тонкой сатирой, скрытым
предостережением, в сущности, антиутопией, хотя сам автор и не признается
в этом, позволяя себе разыграть читателя.
После выхода в свет «По ту сторону свободы и достоинства»
не осталось и тени сомнения в искренности Скиннера. Нет, он
даже отдаленно не шутил, когда предлагал превратить общество
в своего рода социальный муравейник и преподносил это
в качестве идеала. Но тем более чудовищным и отталкивающим
предстает перед нами этот идеал. Если бы великий инквизитор
Достоевского захотел изложить свои убеждения не в форме
теологических рассуждений, а на языке социологии XX века, он
вряд ли мог это сделать красноречивее Скиннера.
Сто лет, истекшие со времени Торо, сопровождались упадком
и кризисом буржуазного индивидуализма, а в озере Уолден
поселилось чудовище, более страшное, чем мифическое
ископаемое — пресмыкающееся, которым привлекал туристов
знаменитый Лохнесс в Шотландии. И это чудовище, вооруженное
достижениями современной науки, в том числе социальной
психологии, угрожает проглотить свои жертвы и переварить их
еще более споро, чем это мог бы сделать динозавр.
Нельзя не признать, что книга Скиннера «По ту сторону
свободы и достоинства» содержит в себе острую критику так
называемого «свободного мира», буржуазного индивидуализма
и либеральной идеологии. Однако это критика справа, а не слева.
Констатируя неспособность западной цивилизации выйти из
глубокого социального кризиса, отмечая беспомощность
предлагаемых для этого либерально-реформистских мер и усилий, он
прямо заявляет, что наука и технология как средство
разрешения острых социальных проблем современности оказались
несостоятельными. «Санитария и медицина сделали проблему
населения более острой, война приобрела еще более ужасный
характер с изобретением термоядерного оружия, а стремление
к изобилию и счастью во многом ответственно за загрязнение
среды»1.
Причину социального зла Скиннер усматривает в самом
поведении людей. Ответственность за катастрофические
последствия стихийного развития общества в современную эпоху он
возлагает на индивидуализм, который стал-де своеобразной
светской религией западной цивилизации, а свобода и
достоинство личности — ее символом веры. По мнению Скиннера, эти
имевшие историческое оправдание в период борьбы с
феодализмом и абсолютизмом принципы в современных условиях
1 Skinner В. F. Beyond Freedom and Dignity, р. 1—2.
'MVA
превратились в угрозу обществу, ставя под сомнение его
дальнейшее существование. «Индивидуалист не может найти
утешения в размышлении относительно любого вклада, который
переживет его самого. Он отказывается действовать ради блага
других, и, следовательно, ему безразличны те, кто будет жить
после него. Он отказывается быть озабоченным выживанием
своей цивилизации, и ему нет дела до того, что она надолго
переживет его. Отстаивая собственную свободу и достоинство, он
отвергает вклад, который был сделан в прошлом, и должен,
следовательно, отказаться от всех претензий на будущее»1.
Индивидуалиста нельзя поколебать в его эгоистических
убеждениях и в поведении какими-либо рациональными доводами
о благе грядущих поколений. Индивидуализм, эгоизм личности,
делает вывод Скиннер, в конечном счете подрывает сами
основы породившей его цивилизации и несовместим с ее
выживанием.
Справедливо ополчаясь на буржуазный индивидуализм,
Скиннер, однако, неправомерно отождествляет его со свободой
личности вообще. В результате этого концепция Скиннера
приобретает нигилистический, ретроградный характер, а
обличительный пафос книги обращается не столько против отжившей
антагонистической социальной системы, сколько против
человеческой личности как таковой. И в этом отношении критическая
позиция, занятая Скиннером, во многом напоминает
тенденциозность Ф. Ницше, который, как известно, тоже обличал
филистерскую буржуазную цивилизацию. Эта аналогия
напрашивается не только в связи с названиями их книг — «По ту
сторону добра и зла» и «По ту сторону свободы и достоинства».
Если бы сходство ограничивалось лишь этим, заимствованием,
проповеднической манерой выражения и склонностью обоих
теоретиков к афористичности, то не стоило бы о нем и упоминать.
Совпадение во взглядах Скиннера и Ницше лежит гораздо
глубже: оба они разделяют механистическую концепцию
свободы личности.
Скиннеру не могли не импонировать содержащиеся в книге
Ницше «По ту сторону добра и зла» рассуждения о роли
психологии и призвании психолога. Именно в психологии
усматривал Ницше «морфологию и учение о развитии воли
к власти...». Не останавливаясь перед тем, чтобы «пресечь
мораль» и «нравственные предрассудки» философов о добре
и зле, он настаивал на том, чтобы «психология снова была
признана владычицей наук, для услуг и приготовлений
к которой существуют остальные науки. Ибо психология
' Skinner В. F. Beyond Freedom and Dignity, р. 210.
Ш
теперь,— снова есть путь к основным проблемам»1. Навязывая
массам, «толпе» моральный императив «повиновения
избранникам», Ницше поучал: «...настоящие философы суть повелители
и законодатели: они говорят «так должно быть!»... Их
«познавание» есть творчество, их творчество есть законодательство, их
стремление к истине есть стремление к власти. Существуют ли
ныне такие философы? Существовали ли уже такие философы?
И неужели никогда не будет таких философов?»2 Именно таким
законодателем и повелителем, откровенно следующим по стопам
Ницше, и возомнил себя Скиннер.
Поэтому, очевидно, оба они и разделяют сходную вульгарно-
механистическую концепцию, отрицающую какую бы то ни было
свободу личности, при всем волюнтаризме одного и
бихевиоризме другого. Впрочем, даже в этом между ними нет
противоречия, поскольку историческим произволом наделяются
избранники-законодатели, а бихевиористски
интерпретированной всеобъемлющей детерминированностью поведения —
обезличенные массы. Отрицая свободу личности, Ницше в книге
«Человеческое, слишком человеческое» рассуждал следующим
образом: «Сам человек ошибочно объясняет свои действия
произволом; если бы внезапно остановилось колесо мира и если
бы при этом присутствовал всеведущий математический разум,
то он,- воспользовавшись остановкой, мог бы предсказать самое
отдаленное будущее для каждого [отдельного] существа,
указать до мельчайших подробностей тот путь, по которому
будет катиться колесо, одним словом, в точности вычислить все
действия громадного механизма, в состав которого входят
и иллюзии человека относительно себя и признание им
свободной воли»3.
То, что было для Ницше просто философским убеждением,
Скиннер в своих книгах пытается обосновать естественнонаучно
с позиций современной бихевиористской психологии,
неправомерно распространяя результаты своих многолетних
экспериментов с животными на человека. Животные своим условно-
рефлекторным поведением, как считает Скиннер, подтверждают,
будто и человек не обладает никакой свободой личности, никакой
индивидуальностью. Поистине, столь же шаткий, как и
странный довод, который заставляет вспомнить иронический афоризм
японского писатели Акутагавы Рюноскэ: «Человеческое,
слишком человеческое — большей частью нечто животное»4.
1 Ницше Ф. Собр. соч. М., 1900, т. 2, с. 38, 40.
2 Там же, с. 176.
3 Ницше Ф. Собр. соч. М., 1901, т. 4, с. 109.
4 Акутагава Р. Избранное. М., 1971, т. 2, с. 255.
20 Наказ ШУА
ЛОГ)
Согласно Скиннеру, современный «экологический кризис»,
угрожающий самому существованию человечества и земной
цивилизации, свидетельствует прежде всего о примитивном
состоянии научных представлений о «человеческой природе»
и неспособности воздействовать на поведение людей. Социальная
психология и социология, по его мнению, находятся поныне
в таком же донаучном, метафизическом состоянии, в каком
пребывала физика до Галилея или биология до Дарвина: здесь
еще предстоит совершить коперникианский переворот в
представлениях. Единственное вразумительное объяснение
социальному парадоксу, когда послать человека на Луну оказывается
легче, чем обеспечить высокий уровень школьного образования,
создать лучшие жилищные условия для каждого или
предоставить каждому хорошо оплачиваемую работу, Скиннер
усматривает в том, что общество осуществляет не то, что особенно
насущно, а то, что оно знает, как сделать. Отсюда напрашивается
вывод: человечество страдает не столько от пороков буржуазной
социальной системы, сколько от вопиющей недостаточности
наших знаний о поведении людей. «Если мы в чем-то остро
нуждаемся,— подчеркивает он,— так это в технологии
поведения», которая не уступала бы в эффективности
естественнонаучной технологии. Именно в этом он усматривает панацею от
перенаселения, загрязнения среды, агрессивности, преступности
и всех прочих социальных зол, сопутствующих современному
капитализму.
Но для того, чтобы создать научную «технологию
поведения», заявляет Скиннер, необходимо предварительно сокрушить
миф о свободе личности. Так называемый «внутренний мир
человека», населенный «свободой воли», «моральной
ответственностью», «достоинством личности» и прочими призраками-
фантомами,— все это, по его мнению, всего лишь предрассудок,
который не только укоренился в обыденном сознании масс, но
и владеет умами самих ученых — социологов, психологов,
юристов. И человечеству еще предстоит с ним расстаться, как
оно уже рассталось с утешительными представлениями о Земле
в качестве центра мироздания, о бессмертной человеческой душе
и многими другими донаучными взглядами.
Во всех своих рассуждениях о поведении человека Скиннер
выступает как наиболее воинствующий и крайний представитель
бихевиоризма в социальной психологии — направления, которое
исходит из того, что о поведении человека (как и животных)
можно исчерпывающим образом судить на основании лишь
внешних проявлений, не обращаясь к фактору сознательности
его действий. Для бихевиористов, чем примитивнее,
элементарнее объяснение поступков людей, тем оно научнее.
,'Ю«
Родоначальник бихевиоризма Дж. Уотсон, излагая свое кредо,
утверждал, что физиологический организм не только животных,
но и человека представляет собой своего рода послушный
автомат, перерабатывающий внешние воздействия и
приспосабливающийся к среде: «Дайте мне дюжину здоровых,
физически хорошо развитых детей, и при наличии для их
воспитания определенных мной внешних условий я ручаюсь,
что, выбрав наугад любого из них, сделаю из него путем
тренировки какого угодно специалиста по своему произволу —
врача, юриста, артиста, преуспевающего лавочника и даже
нищего и вора, независимо от его талантов, склонностей,
стремлений, способностей, призвания и национального
происхождения» '.
Для Скиннера сознание человека в лучшем случае является
«черным ящиком»2, в который социологи и психологи пытаются
произвольно втиснуть «автономную личность» с ее свободой
воли, моральной ответственностью, достоинством и прочими
призраками. Все эти качества, с точки зрения Скиннера, не более
как благопристойная тень, которую невежество отбрасывает на
поведение людей. Ему, как он уверяет, удалось заглянуть
в «черный ящик» человеческого сознания, но не удалось
обнаружить там ни свободы, ни достоинства. Нет никакой тайны
в человеческой природе, ибо нет никакой человеческой природы
вообще! Любой биологический организм — безвольный раб
внешних обстоятельств, которые манипулируют им как
марионеткой. И человек в этом отношении отличается от животных
разве лишь тем, что у него как марионетки внешних
обстоятельств связующих нитей больше и они становятся длиннее по
мере ослабления его непосредственной зависимости от природы,
разъясняет Скиннер в своем очередном трактате «О
бихевиоризме», который был призван придать его взглядам строго
научное обоснование3.
Итак, поведение человека, по Скиннеру, всецело
продиктовано внешними обстоятельствами, а его намерения, стремления,
желания не что иное, как побочные, вторичные эмоции,
сопровождающие привычный, подкрепленный опытом образ
действий, своего рода излишняя «биологическая роскошь»,
способствующая появлению иллюзии свободы личности.
' Цит. по: International Encyclopedia of Social Sciences, 1968. vol. 16, p. 486.
2 «Черный ящик»— понятие, введенное для обозначения явлении, о
внутреннем устройстве которых нам непосредственно не дано знать, а можно лишь
строить более или менее достоверные предположения на основании их реакции
на внешние воздействия.
3 Skinncr В. F. Abont Boliaviorisin. N. Y.. 1974. р. 69-70.
20*
Расправившись со свободой, Скиннср отвергает и какую бы то
ни было моральную ответственность человека за свои поступки.
В самом деле, коль скоро человек не волен ни в помыслах, ни
в поступках, на него нельзя возлагать никакой вины за
совершенные им действия, как, впрочем, и приписывать ему какие-
либо заслуги. С точки зрения Скиннера, было бы лицемерием
утверждать, что кто-либо заслуживает поощрения или наказания
за свои действия, ибо они всецело предопределены внешними
обстоятельствами. Конечно, общество вправе применять
различные санкции к своим членам, однако единственным их
обоснованием и оправданием может служить сугубо утилитарнЪе
соображение способствовать желательному поведению и
подавлять нежелательное.
В порядке логического завершения своей позиции Скиннер
ополчается и на достоинство личности, которое в его глазах
является гипертрофированной претензией на вознаграждение за
поведение человека. Рассуждает он при этом примерно так.
Спекулируя на мнимом достоинстве, личность приписывает себе
дутый кредит и предъявляет его к оплате обществу; когда же
последнее отказывает ей в этом, она испытывает чувство
ущемленности, хотя в действительности ничего не заслуживает.
Поэт творит стихи, а ученый вынашивает идеи точно так же
в силу природной необходимости, как курица несет яйца.
Личность, по убеждению Скиннера,— просто средство для
эволюции культуры, как курица — средство, к которому
прибегает яйцо, чтобы сотворить другое яйцо. Приводя эту остроту
Сэмюеля Батлера, Скиннер позволил себе пошутить: по-
видимому, он сам — тоже средство, которое избрала природа,
чтобы возвестить эту истину1.
Вынося свой обвинительный вердикт свободе,
ответственности и достоинству личности, Скиннер требует, чтобы они так же
безжалостно были изгнаны из науки о поведении человека, как
в свое время «теплород» и «флогистон» — из физики. Скиннеру
нельзя отказать в последовательности: в его концепции общества
не остается места и для добра и зла, которые объявляются
моральными фикциями, годными в лучшем случае для того,
чтобы оправдать в общественном мнении применение различных
средств воздействия на поведение личности2. Даже одаренность
личности в какой-либо сфере деятельности, ее талантливость,
воля, способность к героическим поступкам рассматриваются
Скиннером в книге «О бихевиоризме» как всего лишь результат
' Science Review, July 15. 1972. р. 44-45.
2 См.: Шварцман К. А. Современная буржуазная этика: иллюзии и
реальность. М., 1983, с. 100—121 (гл. V «Технология поведения» Б. Скиннера).
:м in
укоренившейся привычки под влиянием «подкрепленного
поведения»1.
Нет необходимости перечислять все доводы Скиннера
против свободы, ответственности и достоинства личности, чтобы
убедиться в том, что он воспроизводит (пусть в
модернизированной форме) механистические воззрения о человеке,
распространенные среди философов и естествоиспытателей XVII —
XVIII веков. Впрочем, сам Скиннер не счел бы это сравнение
нелестным для себя: он не скрывает, что является поклонником
Томаса Гоббса и Жюльена де Ламетри, автора книги «Человек —
мащина». Конечно, современное естествознание далеко ушло от
примитивных представлений Декарта, который считал, что
животные не испытывают ни радости, ни боли, а их вопли —
просто сотрясение воздуха. И сейчас в мире нет таких наивных
ученых, которые решились бы утверждать вслед за Ламетри, что
человек не более как очень сложный механизм, могущий быть
исчерпывающим образом описанным и объясненным с помощью
одних лишь законов физики и химии. Сознание человека, как
утверждал Джон Локк,— это tabula rasa (чистая доска): там нет
никаких врожденных идей, но это не значит, что на ней в
процессе воспитания можно с одинаковой легкостью записать что
угодно.
Взгляды Скиннера страдают не столько
естественнонаучным, сколько философским примитивизмом. В самом деле,
наивно полагать, будто человеку приписывают свободу только на
том основании, что неизвестны все'причины его помыслов
и поступков, неизвестны же они потому, что их слишком много.
Даже если бы все причины деятельности человека вдруг стали
известны, это само по себе не умалило бы его свободы. Тем более
что сознательная деятельность людей диктуется не только
внешними обстоятельствами. Человек не детерминирован
фатально в своих мыслях и действиях и может реагировать на одни
и те же воздействия неоднозначно. Сейчас, когда даже
естествоиспытатели отказались от механистического детерминизма
Лапласа, нелепо воскрешать его в социологии и социальной
психологии.
В известной притче про Буриданова осла рассказывается, что
он обречен был умереть от голода, находясь на одинаковом
расстоянии от двух охапок сена, ибо у него не было веских
причин предпочесть одну другой. Призванные опровергнуть
свободу человека белые мыши и голуби Скиннера, обученные им
играть в пинг-понг и танцевать восьмерку, чем-то удивительно
напоминают этого легендарного осла, который, как говорят, все
Skinner В. F. Abont Bchaviorism, р. 35.
.lu'.i
же выжил, посрамив вульгарных детерминистов. Главное,
однако, состоит в том, что человек не сверхмышь, не
сверхобезьяна и тем более не сверхосел, который бы согласился слепо
следовать теориям Скиннера.
Свобода, достоинство и ответственность личности являются
не биологической роскошью, а социальной необходимостью, без
которой не могло бы функционировать общество.
Это подтверждает несостоятельная попытка последователей
Скиннера реализовать на практике его социальный идеал.
В 1966—1967 годах небольшая группа энтузиастов,
руководствуясь бихевиористскими принципами Скиннера, основала общину
Твин Оукс в штате Вирджиния, которая до сих пор
рекламируется не только в академических кругах, но и в периодической
печати как воплощение в жизнь утопических идей «Второго
Уолдена».
Среди многочисленных, но крайне эфемерных
мелкобуржуазно-радикальных «коммун», возникавших в США в 60—70-е
годы под влиянием уравнительной идеологии «новых левых»,
община Твин Оукс выделялась определенной устойчивостью.
В трудах буржуазных социологов по проблемам утопии она даже
приводилась в качестве хрестоматийного примера
жизнеспособности и перспективности наряду с утопическими коммунами,
основанными последователями Э. Кабе и Р. Оуэна в США
в прошлом столетии. Основатели общины надеялись, что их
«реализованная утопия» станет образцом социальной
справедливости, привлекательным для широких слоев населения,
побудительным толчком для массового утопического
движения1.
Реальная капиталистическая действительность опровергла
эти радужные надежды, безжалостно вторгшись во
взаимоотношения между членами общины. Даже в лучшие годы
численность общины не выходила за пределы нескольких десятков
человек, причем «текучесть» ее состава достигала порой
70 процентов в год. Стало очевидным, что невозможно
«укрепить» утопическое сознание и поведение членов Твин Оукс
с помощью бихевиористских рецептов Скиннера. В таких
игрушечных масштабах «социальных преобразований»,
разумеется, не оправдал себя первоначальный расчет на
самообеспеченность общины всеми основными продуктами и услугами.
И она вскоре выродилась в своего рода «шахматную утопию»,
которую время от времени посещают любопытные социологи
и журналисты, когда испытывают недостаток в сенсациях.
1 См.: Баталов Э. Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США.
М., 1982, с. 312, 323-324.
:;|о
Община поддерживает свое существование главным образом за
счет филантропических пожертвований тех, кого привлекает имя
Скиннера, и благодаря «отходному промыслу» ее членов,
продающих свою рабочую силу строительным предприятиям
и различным учреждениям в окрестности. В итоге уже к концу
70-х годов община Твин Оукс вместо псевдоутопической
коммуны превратилась в заурядный жилищный и
потребительский кооператив, своеобразный «ночлежный поселок», в котором
находят временное прибежище отдельные энтузиасты и лица, по
разным причинам склонные к бегству от действительности.
МНИМАЯ ДИЛЕММА
И РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Только в коллективе существуют для каждого
индивида средства, дающие ему возможность
всестороннего развития своих задатков, и,
следовательно, только в коллективе возможна личная
свобода.
К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС
На первый взгляд Скиннер готов допустить уникальность
отдельного человека; он даже бегло замечает, что «и в самой
регламентированной культуре каждая личная судьба
неповторима». Однако скоро выясняется, что эту неповторимость он не
только считает социальным злом, но и целиком сводит к
биологическим особенностям индивида: в его представлении она
исчерпывается уникальностью отпечатков пальцев и прочими
генетически обусловленными признаками организма. Скиннер
категорически отказывает личности в праве на социальную
индивидуальность, на свободное развитие способностей и
осуществление своего призвания в жизни. Как бы ни отличались
извилины мозга отдельных людей, по его мнению, заполнены они
должны быть целиком и полностью стереотипным,
конформистским содержанием.
«Технология поведения» как раз и призвана по замыслу
Скиннера сформировать из биологически индивидуальных
организмов стандартные, взаимозаменимые социальные
элементы аналогично тому, как химики, например, создают
искусственные материалы с заранее заданными свойствами.
Каждого же человека, стремящегося избежать подобной,
уготованной ему участи, он заранее рассматривает как
потенциального преступника, социально опасный элемент, ибо личность, как
таковая, «не несет никакой ответственности за характерные
.411
черты вида и культурную практику» и ей безразлична судьба
цивилизации, в которой она живет.
Под флагом «нового слова в социальной психологии»
Скиннер воскрешает вульгарные биологические представления
сторонников так называемой «органической теории общества»
конца прошлого века, давно отвергнутые даже в буржуазной
социологии. Подобно им, он метафизически считает, что все, что
больше, то сложнее, а значит, и прогрессивней, и упрощенно
представляет взаимоотношение целого и составляющих его
элементов. Известно, что человек как биологический вид не
изменился за последние 50 тысяч лет, хотя за этот период
сменилось несколько общественно-экономических формаций
и множество различных культур. Однако человек социально по
меньшей мере так же неисчерпаем, как физически неисчерпаем
атом. И благодаря этой неисчерпаемости человека как личности,
в силу не биологических, а социальных закономерностей
оказывается возможным общественный прогресс.
Свобода личности отнюдь не тождественна буржуазному
индивидуализму. Она, конечно, не абсолютна, а относительна.
Однако все люди обладают известной самостоятельностью
в выборе целей деятельности, в предпочтении одних средств для
их достижения другим, в контроле над обстоятельствами своей
жизни и т. д. Свободу личности обычно склонны отрицать либо
те, кто хочет убедить людей, что у них нет никакого выбора,
никакой альтернативы, либо те, кто изверился в ней, примирился
с обстоятельствами. Материалистическое понимание истории,
как подчеркивал К. Маркс, совпадает с реальным гуманизмом,
с коммунистическим социальным идеалом: коль скоро
обстоятельства формируют человека, надо сделать эти обстоятельства
человечными, иначе говоря, такими, которые бы обеспечивали
свободное и всестороннее развитие личности.
Концепция Скиннера обращает на себя внимание вовсе не
тем, что в ней содержатся сколько-нибудь убедительные
аргументы против свободы личности и ее достоинства. Вызывает
удивление и беспокойство, каким образом этот претенциозный
памфлет мог приобрести широкую популярность на Западе? Что
возбудило к нему повсеместный интерес и определенные
симпатии? Ибо нельзя отрицать, что многими он был воспринят
как своего рода откровение.
В условиях кризиса буржуазного индивидуализма, когда
государственно-монополистическая бюрократия ущемляет
свободу личности и попирает ее достоинство, взгляды Скиннера
импонируют, с одной стороны, тем представителям правящего
класса, которые ищут оправдания для дальнейшего усиления
бюрократического контроля и манипуляции сознанием масс,
:-:Г-!
а с другой стороны, многим представителям либеральной
интеллигенции и даже радикально настроенной молодежи,
которые изверились в традиционных ценностях буржуазной
цивилизации и пришли к нигилистическому убеждению, что
вообще все рассуждения о свободе — сплошной обман. Это
обстоятельство позволяет понять, почему Скиннер отважился
посягнуть на вроде бы святая святых буржуазной идеологии
и морали — на свободу и достоинство личности.
Скиннер не скрывает, что «по ту сторону свободы
и достоинства» лежит всеобъемлющий контроль над поведением
личности и откровенная манипуляция ее сознанием. Иначе
говоря, вместо того чтобы возвести общество на новую
историческую ступень, отвечающую возросшей потребности личности
в свободе и достоинстве, он предлагает низвести общество до
уровня сверхмуравейника.
Упрекая противников контроля над сознанием и поведением
людей в непоследовательности и лицемерии, Скиннер не без
основания замечает, что именно те на Западе, кто больше всего
возражает против манипуляции поведением людей,
одновременно предпринимают наиболее энергичные усилия для того,
чтобы манипулировать сознанием. Но Скиннера возмущает не
столько их лицемерие само по себе, сколько то, что их усилия по
манипуляции поведением людей все еще робки, что контроль над
сознанием применяется недостаточно и не всегда достигает цели.
Политика «хлеба и зрелищ», по его мнению, вполне оправданна
и дальновидна, нужно только применять ее с большим размахом
и на научно разработанной основе, тогда она станет эффективной
даже с меньшим количеством хлеба и более скромными
затратами на зрелища.
Зловещим подтверждением этого высказывания Скиннера,
а также крайней опасности манипуляции людьми для них самих
и для общества в целом может служить трагическая судьба почти
тысячи последователей американской религиозной секты
«Пиплз темпл». Руководители секты заставили их
«добровольно» поселиться в изолированной от всего мира общине
в джунглях Гайаны. Произвольно манипулируя сознанием
и поведением людей, находившихся в их неограниченной власти,
проповедники принудили их к массовому самоубийству в конце
1978 года, когда общественность потребовала расследования
деятельности главы секты Джима Джонса и его приближенных.
Явную антидемократичность своих взглядов Скиннер
пытается завуалировать пространными и противоречивыми
рассуждениями о том, что с точки зрения цивилизации в целом любая
форма контроля выглядит как самоконтроль, что контроль
«сверху» может быть дополнен контролем «снизу», что
■Л\'Л
в условиях демократии массы могут сами выбирать тех, кто будет
их контролировать, и т. д. Но много ли стоит подобная свобода
выбора в условиях тотальной манипуляции сознанием, которую
оправдывает Скиннер? Дорога «по ту сторону свободы и
достоинства» ведет прямо в реакционную социальную утопию Скиннера
«Второй Уолден», воспевающую обезличивание человека.
Весь пафос концепции Скиннера — в призыве «спасти
западную цивилизацию» даже ценой отречения от свободы
и достоинства личности. «...Цивилизация, которая по каким бы
то ни было соображениям побуждает своих членов заботиться
о ее выживании, обладает и наибольшими шансами выжить,—
заявляет он.— Выживание — это единственная ценность, в
соответствии с которой в конечном счете будут судить о
цивилизации, и любая практика, обосновывающая выживание, обладает
этой ценностью уже по своему определению»1. Такая сентенция
как нельзя лучше соответствует стремлению идеологов
неоконсерватизма и правительства Рейгана обеспечить выживание
капитализма любой ценой.
Можно, конечно, понять озабоченность Скиннера
перспективами сохранения так называемой «западной цивилизации»,
которую многие буржуазные идеологи пытаются отождествить
с капиталистической системой. С позиций последовательного
буржуазного индивидуализма, в самом деле, трудно найти
убедительные доводы, почему личность должна быть
заинтересована в исторических судьбах своей нации, тем более всего
человечества. Эта проблема в последние годы настойчиво
обсуждается на Западе, ибо возрастающая неустойчивость
капиталистической системы, повсеместная неуверенность
широких слоев населения в своем личном будущем нередко
сопровождается циничным отношением многих людей к тому,
что случится после их смерти. «А какой мне прок от этого
будущего?» — если не заявляет вслух, то рассуждает про себя
обыватель. И поборники буржуазного индивидуализма
оказываются бессильны дать вразумительный ответ на этот вопрос. «На
этот пугающий вопрос не существует рационального ответа,—
признается, например, американский социальный философ
Роберт Хейлбронер.— Ни один разумный довод не может
убедить меня позаботиться о потомках или пошевелить пальцем
ради них. В сущности, любые рациональные соображения
неумолимо заставляют нас дать отрицательный ответ на этот
вопрос»2.
1 Skinncr В. F. About Behaviorism, р. 35.
2 Heilbroner \\. L. What has posterity ever donc for mp? — The New York
Times Magazine, January 15, 1975, p. 14.
31 \
В то время как одни утверждают, что задавать этот вопрос
противно биологической природе человека, другие ищут
спасения от него в новом «религиозном прозрении» человечества.
Между тем существует вполне рациональный и вразумительный
ответ на этот вопрос, если освободиться от шор буржуазного
индивидуализма: самый главный и реальный прок от будущего
состоит в том, что оно придает смысл человеческой деятельности
в настоящем и тем самым духовно обогащает и возвеличивает
личность как в своих собственных глазах, так и в общественном
мнении. Только органически соединяя свою личную биографию
с историей своего народа, с судьбами человечества в целом,
каждый отдельный человек может получить наибольшее
моральное удовлетворение в своей жизни, несопоставимое ни с какими
преходящими материальными благами. Так же как скульптор
стремится увековечить себя в бронзе и мраморе, каждая
отдельная личность обладает свободой вплести свою жизненную
нить в ткань истории человечества и обрести в этом свое
достоинство. Однако Скиннер дает прямо противоположный
совет. Поскольку, по мнению Скиннера, «выживание западной
цивилизации» отныне несовместимо с сохранением свободы
и достоинства, ими надо пожертвовать, тем более что сама
жертва, в сущности, лишь символична, ибо мы отрекаемся от
того, чем заведомо не обладаем.
На протяжении долгих десятилетий идеологи буржуазии, от
убежденных консерваторов до социал-реформистов, защищали
капиталистическое общество, лицемерно изображая его в
качестве «свободного мира». Свобода личности, демагогически
утверждали они,— это такая социальная ценность, ради которой
можно поступиться и темпами экономического развития,
и равенством, и, в крайнем случае, даже благосостоянием. Ради
ее сохранения от мнимой угрозы со стороны коммунизма они
призывали трудящиеся массы смириться с безработицей,
неравенством, социальной несправедливостью и прочими
пороками капитализма как якобы «меньшим злом». Скиннер же
провозглашает: западная цивилизация, чтобы выжить, должна
отречься от свободы личности и связанного с нею
идеологического хлама. Можно понять потрясение и даже негодование многих
идеологов на Западе, которых призывают отказаться от того, что
они привыкли считать своими козырями в современной идейной
борьбе.
Надо отдать должное Скиннеру: он по-своему сформулировал
отнюдь не надуманную, а вполне реальную альтернативу — либо
сохранение антагонистической цивилизации, либо свобода
и достоинство личности, помогая тем самым осознать их
возрастающую несовместимость. Однако поставленные перед
315
этой альтернативой широкие слои населения на Западе едва ли
предпочтут пожертвовать свободой и достоинством ради
увековечения капиталистической социальной системы. Если так
называемая «западная цивилизация» еще и сохраняет известную
привлекательность в глазах значительной части населения, то
именно потому, что она связана в их сознании с завоеванием
демократических свобод и прав личности. Исторический урок
фашизма, поправшего свободу и достоинство, не прошел даром
для человечества. И люди с убеждениями великого инквизитора
никогда не дождутся своего часа.
Как свидетельствует история, людей можно лишить свободы
обманом и насилием, но никак не добровольно. Исторически
преходящими социальными ценностями, вопреки убеждению
Скиннера, являются не свобода и достоинство личности, сколь бы
ограниченными и формальными они ни были в условиях
капитализма, а, напротив, порожденные им экономические
отношения эксплуатации человека человеком, наемное рабство,
господство и подчинение. В противоположность современной
буржуазной идеологии, умаляющей и обезличивающей человека,
марксизм-ленинизм возвышает личность, подчеркивает ее
активность и инициативу в великих социальных преобразованиях
нашей эпохи. «Нет и не может быть задачи более высокой, чем
поднять каждого человека до уровня творца собственной судьбы,
творца истории»1,—подчеркивалось на июньском (1983 года)
Пленуме ЦК КПСС.
Будущее человечества — это не монополистическо-бюрокра-
тический муравейник, населенный самодовольными и
пресыщенными марионетками-филистерами, а добровольная
ассоциация свободных, обладающих достоинством личностей, в которой
индивид только и получает «средства, дающие ему возможность
всестороннего развития своих задатков», а следовательно, только
и «возможна личная свобода». «В условиях действительной
коллективности,— писали К. Маркс и Ф. Энгельс,— индивиды
в своей ассоциации и посредством нее обретают вместе с тем
и свободу»2.
Если у человека ампутировать свободу, достоинство и
ответственность, он превратится лишь в свое подобие, в манипулируе-
мого робота. Вся история человечества, несмотря на ее
временные зигзаги и различные перипетии, была и остается
необратимым процессом возрастания свободы личности, ее
ответственности, ее достоинства, который закономерно ведет
1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14 — 15 июня
1983 года, с. 66.
2 Маркс К., Энгельс Ф.Фейербах. Противоположность
материалистического и идеалистического воззрений, с. 83.
.41 Г»
к торжеству социальной справедливости в таком обществе, где
«свободное развитие каждого является условием свободного
развития всех»1.
Объективные условия подлинной свободы реализуются
только в результате ликвидации антагонистических отношений
между людьми, порожденных частной собственностью. Только
тогда, когда на смену стихийным процессам в обществе приходит
планомерное развитие, исключающее непредвиденные
экономические и социальные последствия, общественная деятельность
людей становится в полной мере свободным и сознательным
историческим творчеством. А это и есть коммунизм — подлинное
царство свободы.
Для достижения индивидуальной свободы цели, которые
ставит перед собою каждая отдельная личность, должны
совпадать с интересами общества в целом, а следовательно,
и с интересами всех остальных составляющих его людей.
Равенство становится необходимым условием и социальной
основой индивидуальной свободы, а сама свобода личности,
в свою очередь,— способом реализации этого равенства в
практической деятельности. Каждый член общества должен обладать
реальными возможностями для всестороннего и полного
развития своих способностей и талантов, свободным • доступом
к накопленному человечеством опыту, знаниям и остальным
духовным ценностям, достаточным свободным временем для
обогащения ими своей личности. Этот социальны^ идеал
коммунизма внесен в Конституцию СССР, и в соответствии с ним
«государство ставит своей целью расширение реальных
возможностей для применения гражданами своих творческих сил,
способностей и дарований, для всестороннего развития
личности» (статья 20).
Конечно, человек никогда не сможет выйти за пределы своих
физических и духовных способностей, а также исторических
ограничений свободы общества. Однако его индивидуальная
свобода может быть умножена благодаря коллективной свободе
солидарных с ним остальных членов общества, и в меру своих
способностей и знаний отдельная личность может в
возрастающей степени становиться носителем той совокупной свободы,
которой располагает общество в целом, а тем самым, в свою
очередь, свободное развитие всех является предпосылкой
свободного развития каждого.
Социалистическая революция кладет начало процессу
освобождения людей во всех сферах жизни общества, который
протекает все ускоряющимися темпами вместе с бурным ростом
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 447.
.417
производительных сил, развертыванием научно-технической
революции, совершенствованием экономических и социальных
отношений, утверждением народного самоуправления, всеобщим
культурным и общеобразовательным подъемом и завершается
в коммунистическом обществе. «Условия жизни, окружающие
людей и до сих пор над ними господствовавшие,— как предвидел
Ф. Энгельс,— теперь подпадают под власть и контроль людей,
которые впервые становятся действительными и сознательными
повелителями природы, потому что они становятся господами
своего собственного объединения в общество. Законы их
собственных общественных действий, противостоявшие людям
до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы
природы... будут подчинены их господству. То объединение
людей в общество, которое противостояло им до сих пор как
навязанное свыше природой и историей, становится теперь их
собственным свободным делом. Объективные, чуждые силы,
господствовавшие до сих пор над историей, поступают под
контроль самих людей. И только с этого момента люди начнут
вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда
приводимые ими в движение общественные причины будут
иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те следствия,
которых они желают. Это есть скачок человечества из царства
необходимости в царство свободы»1.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 294-295.
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
ЛИЧНОСТЬ?
Так что же такое «личность» и откуда она берется? Вновь
задать себе этот старый вопрос, обратиться к анализу понятия
«личность» (именно — понятия, то есть понимания существа
дела, а не термина) побуждают отнюдь не схоластические
соображения. Дело в том, что ответ на этот вопрос
непосредственно связан с проблемой формирования в массовом масштабе
личности нового, коммунистического типа, личности целостной,
всесторонне, гармонически развитой, которое стало ныне
практической задачей и прямой целью общественных
преобразований в странах социализма. Ведь коммунизм — это общество,
где свободное развитие каждого является условием свободного
развития-всех.
В мире довольно широко, и притом среди людей весьма
образованных, бытует мнение, которое, если обрисовать его
схематично, сводится примерно к следующему. Марксистское
учение, блестяще оправдавшее себя там, где речь идет о
событиях всемирно-исторического значения и масштаба, то есть
о судьбах миллионных масс, классов, партий, народов и
государств, короче говоря, о совокупной судьбе человеческого рода,
ничего (или почти ничего) не дало и, больше того, якобы не
может дать для рационального уразумения внутреннего строя
личности, индивидуальности, «Я» — этой своего рода молярной
единицы исторического процесса. Тут-де кончаются его
полномочия, его теоретические возможности и начинается область
забот какого-то иного научного ведомства, сфера, внутри которой
оказываются малопригодными те методы мышления, которые
характерны для научного исследования
общественно-исторического процесса в целом.
Наиболее отчетливо и последовательно такое представление
выразилось в требовании «дополнить» марксизм некоей особой,
относительно автономной этической теорией, ставящей в центр
своего внимания личность, как таковую, интересы и счастье
индивидуального «Я», проблему свободы и достоинства
личности и подобные этим сюжеты. От таких сюжетов классический
21 .Чнкаа ПНУЛ -у)\
марксизм якобы сознательно и намеренно абстрагируется
именно для того, чтобы выявить общие закономерности
суммарных исторических процессов, то есть строго научно
очертить те объективные «рамки», внутри которых — хотят они
того или не хотят, нравится им это или не нравится —
вынуждены действовать живые участники истории — индивиды.
На основе такого представления кое-кто предлагает
марксизму своего рода разделение труда: объективные условия
и закономерности, не зависящие от воли и сознания человека
и задаваемые ему природой и историей,— это-де монополия
и забота марксистской теории, а вот уж о субъективном мире
человека, о том, что и как ему в этих условиях делать, позвольте
судить специалистам по человеческой «душе», теоретикам
экзистенциальной ориентации.
Человеческая личность, по старинке называемая иногда
«душой», той самой «душой», которую каждый человек знает
как свое «Я», как нечто уникально-неповторимое, неразложимое
на какие-либо общие составляющие и, стало быть,
принципиально ускользающее от научно-теоретических определений и даже
невыразимое в словах (ведь слово выражает только «общее»),
тем самым объявляется своего рода запретной зоной не только
для марксистского учения о человеке, но и для объективного
изучения вообще, для научного мышления.
Вот почему экзистенциалисты предпочитают писать на эту
деликатную тему не на языке науки, а в эссеистско-беллетристи-
ческом жанре, а то и вообще в виде романов, повестей и пьес.
И это далеко не случайная деталь, а выражение существа их
позиции — принципиального отрицания самой возможности
создать материалистическую концепцию (теорию) личности, то
есть материалистическую психологию как науку. Ведь
психология и есть наука «о душе», о человеческом «Я», а не о чем-либо
ином.
А возможна ли вообще, в принципе материалистически-
ориентированная психология? Если да, то она обязана прежде
всего определить свой предмет, то есть объяснить, что же такое
личность.
ДВЕ ЛОГИКИ -
ДВА ПОДХОДА
...Сущность человека не есть абстракт,
присущий отдельному индивиду. В своей
действительности она есть совокупность всех общественных
отношений.
О том, что «личность» — уникальное, невоспроизводимо-
индивидуальное образование, одним словом, нечто единичное,
спорить не приходится. «Единичное» в философии понимается
как абсолютно неповторимое, существующее именно в данной
точке пространства и времени и отличающееся от любого другого
«единичного», а потому и столь же бесконечное внутри себя, как
и сами пространство и время. Полное описание единичной
индивидуальности равнозначно поэтому «полному» описанию
всей бесконечной совокупности единичных тел и «душ»
в космосе. Это понимали и Декарт, и Спиноза, и Гегель,
и Фейербах, все грамотные философы, независимо от их
принадлежности к тому или иному лагерю в противоборстве
материализма и идеализма.
По этой причине наука о «единичном», как таковом,
действительно невозможна и немыслима. Раскрытие тайн
«единичного» запредельно науке именно потому, что любая
частная цепочка причинно-следственных зависимостей уводит
исследователя в «дурную» бесконечность всего прошлого
бесконечной вселенной.
Гегель не случайно назвал тем же словом «дурная» (и не
в осуждение, а в логическом смысле) и человеческую
индивидуальность, поскольку под ней как раз и подразумевают
абсолютную неповторимость, уникальность, неисчерпаемость
деталей и невоспроизводимость их данного сочетания,
невозможность предсказать заранее с математической точностью ее
состояния и поведение в заданных обстоятельствах.
Неповторимость свойственна каждой отдельной личности
настолько органически, что если ее отнять, то исчезнет и сама
личность. Но эта неповторимость свойственна личности не в силу
того, что она — человеческая личность, а постольку,
поскольку она нечто единичное вообще, «индивид вообще», нечто
«неделимое».
В мире нельзя найти не только двух абсолютно одинаковых
личностей. Не найдете вы и два совершенно тождественных
листка на дереве и даже в целом лесу: чем-нибудь они все-таки
будут друг от друга отличаться. Не уловит этих отличий глаз —
их зафиксирует микроскоп, не* простой, так электронный. Даже
и две песчинки на морском пляже всегда будут хоть чуть-чуть, да
разными. Даже две капли воды. Известно, что современная
физика исключает самую возможность существования в мире
двух абсолютно тождественных микрочастиц (электронов,
фотонов, протонов и т. п.). Единичное есть единичное, и тут уж
ничего не поделаешь.
Но человеческую личность при всей присущей ей
«неповторимости» нельзя превращать в простой синоним чисто
логической категории «единичного вообще». В этом случае понятие
«личность» обессмысливается в самой сути.
Экзистенциалистские «защитники,личности», ополчаясь на
Гегеля за его якобы «высокомерное» отношение к «дурной
индивидуальности», сами воспроизводят «первородный грех»
гегельянщины. Растворяя конкретную проблему определения
своеобразия человеческой индивидуальности (личности) в
абстрактно-логической проблеме отношения «общего и
единичного», они сводят ее к вопросу о соотношении «одинаковости
и неодинаковости». Солидаризируясь с Гегелем в том, что
составляет как раз его порок (манеру всякую конкретную
проблему сводить к ее абстрактно-логическому выражению
и в нем видеть ответ, «абсолютное решение»), они отвергают то,
что есть умного, диалектического в его подходе,— понимание
того факта, что «всеобщее» не есть «одинаковое», не есть
признак, свойственный каждому порознь взятому индивиду.
Поэтому и бесплодна любая попытка определить «сущность
человека» путем отыскания «общего признака», которым
обладает каждый порознь рассматриваемый человеческий
индивид.
Всеобщее с точки зрения диалектической логики — синоним
закона, управляющего массой индивидов и реализующегося
в движении каждого из них, несмотря на их неодинаковость
и даже благодаря ей; синоним конкретной взаимосвязи,
объединяющей в одно целое, в одну конкретность (К. Маркс
обозначил это как «единство во многообразии») бесконечное
множество бесконечно разнящихся между собою индивидов
(безразлично, каких именно — людей или листьев на дереве,
товаров на рынке или микрочастиц в «ансамбле»). Так
понимаемое всеобщее и составляет сущность каждого из них, конкретный
закон их существования. А одинаковость их лишь предпосылка,
лишь предварительное условие их «конкретной всеобщности»,
то есть объединения в конкретное целое, многообразно
расчлененное внутри себя.
Руководствуясь именно такой логикой, К. Маркс ставил
и решал вопрос о «сущности человека» — о конкретно-всеобщем
32Ί
определении человеческого индивида, личности, как
совокупности всех общественных отношений1. В оригинале сказано еще
выразительнее — ансамбль, то есть не механическая сумма
одинаковых единиц, а представленное в единстве многообразие
всех социальных отношений.
«Сущность» каждого индивида, относящегося к данному
«роду», заключается, согласно логике мышления К. Маркса,
в той совершенно конкретной системе взаимодействующих
между собою индивидов, которая только и делает каждого из них
тем, что он есть. В данном случае это принадлежность к роду
человеческому, понимаемому не как естественно-природная,
биологически заданная «немая связь», а как исторически
возникшая и исторически же развивающаяся социальная
система, то есть общественно-исторический организм как
расчлененное целое.
Биологическая же связь, выражающаяся в тождестве
морфофизиологической организации особей вида «homo
sapiens», составляет лишь предпосылку (хотя и абсолютно
необходимую, и даже ближайшую), лишь условие человеческого,
«родового» в человеке, но никак не «сущность», не внутреннее
условие, не конкретную общность, не общность социально-
человеческую, не общность личности и личностей.
Непонимание этого марксистского положения в лучшем
случае приводит к социально-биологическому дуализму в
трактовке сущности человеческой индивидуальности (личности).
Если же продолжить дальше логическое путешествие по этому
пути, то можно дойти до его плюралистического конца, включив
в понимание «сущности человека» и все остальные — а не
только ближайшие — предпосылки возникновения «родового»,
человеческого в человеке. Логика редукции, уводящая все
дальше и дальше от той конкретной «сущности», которую хотели
понять, логика разложения конкретности на неспецифичные для
нее составляющие части, в конечном итоге с неизбежностью
приведет к «социо-био-химически-электро-физически-микрофи-
зически-квантово-механическому» пониманию сущности
человека.
И совсем не по праву представители подобной
механистической логики мнят себя материалистами. Проблема человеческой
индивидуальности (личности) — как раз та проблема, где
механистический материализм сам собою выворачивается в свою
собственную противоположность, в самую плоскую форму
идеализма — в физиологический идеализм, в позицию, где
архаические представления о «душе» пересказываются на грубо-
См.: Маркс /Г., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 265.
325
физикальном языке, переводятся в терминологию физиологии
мозга или биохимии, кибернетики или теории информации, не
меняясь от этого ни на йоту по существу.
Действительно научно решить проблему личности, проблему
индивидуальной психики мч>жно лишь в рамках
материалистически ориентированной психологии — науки «о душе», о тайне ее
рождения и о законах ее развития. И ни в коем случае не
в области физиологии мозга и нервной системы. Сведение
проблемы психики вообще и индивидуальной психики в
частности (то есть проблемы личности) к проблеме исследования
морфологии мозга и его функций — это не материализм,
каковым такое сведение некоторым представляется, а только его
неуклюжий эрзац, псевдоматериалйзм, под маской которого
скрывается физиологический идеализм.
При последовательном развертывании подобной позиции
конфликт между Моцартом и Сальери должен получить свое
«научное» объяснение как следствие тончайших — и
непременно врожденных — морфофизиологических различий между
мозгом гения и мозгом злодея. В тех же самых различиях
пришлось бы усмотреть истоки противоположности систем
Демокрита и Платона, творческих методов Рафаэля и Гойи.
А ход рассуждения должен выглядеть примерно так: Рафаэль
иначе воспринимал окружающий мир, чем Гойя, значит,
зрительная система и мозг у них были устроены уже при
рождении по-разному.
Вместо материалистически ориентированной науки в
подобных рассуждениях проглядывает наивная иллюзия, подобная
той, в которую впал бы химик, который, отколупнув кусочек
мрамора от статуи Ники Самофракийской, произвел бы
химический анализ его состава и решил, что в виде результата
такого анализа он получил научное понимание «сущности»
бессмертного образа... Смешно? Но ведь не менее смешно
и стремление усмотреть «научное» понимание существа
человеческой психики и личности в результатах анатомо-физиологиче-
ского исследования человеческого мозга, его структур и их
функциональных зависимостей друг от друга. Безразлично при
этом, идет ли речь об особенностях человеческого мозга вообще
(о его родовых особенностях, отличающих его от мозга любого
другого млекопитающего) или же об индивидуальных вариациях
его общевидовой морфологии, об особенностях мозга данного
индивида.
В самых полных результатах такого изучения можно
получить знание (понимание) всего-навсего одной из
материальных предпосылок возникновения личности и ее психики, одного
из необходимых внешних условий ее рождения и существования.
.Ч2Г»
Никакой личности как единицы психической жизни в этих
результатах нельзя обнаружить даже в намеке. По той же самой
причине, по какой нельзя раскрыть тайну «стоимости» на пути
физико-химического исследования * золотой монеты или
бумажной ассигнации. Ведь и золото и бумага лишь вещественный
материал, в котором выражено нечто совершенно иное,
принципиально другая «сущность», абсолютно непохожая на него, хотя
и не менее реальная, конкретная действительность, а именно
система конкретно-исторических взаимоотношений между
людьми, опосредствованных вещами.
Точно так же знание особенностей мозга человека не раскроет
нам тайны его личности. Наличие медицински нормального
мозга — это одна из материальных предпосылок (повторим это
еще раз) личности, но никак не сама личность. Ведь личность
и мозг — это принципиально различные по своей «сущности»
«вещи», хотя непосредственно, в их фактическом
существовании, они и связаны друг с другом столь же неразрывно, сколь
неразрывно слиты в некое единство образ «Сикстинской
мадонны» и те краски, которыми он написан на куске холста
Рафаэлем, троллейбус и те материалы, из которых он сделан на
заводе. Попробуйте отделить одно от другого. Что у вас
останется? Железо и краски. «Сикстинская мадонна» и
«троллейбус» исчезнут без следа. А железо и краски останутся именно
потому, что они лишь предпосылки, лишь внешние (а потому
безразличные) условия существования данной конкретной вещи,
а никак не сама вещь в ее конкретности.
То же самое и с отношением личности к мозгу. То, что мозг ни
в коем случае не есть личность, доказывается уже тем простым
фактом, что личности без мозга быть не может, а мозг без намека
на личность (то есть на какие бы то ни было психические
функции) бывает (он существует в этом случае в чисто
биологическом смысле, как биологическая реальность).
Из всего этого следует, что научно (материалистически)
познать, понять личность, выявить законы ее возникновения
и развития можно лишь в том случае, если предоставить
изучение мозга физиологам и обратиться к исследованию совсем
иной системы фактов, совсем иной конкретности, иного единства
в многообразии, нежели то единство, которое обозначается
словом «мозг».
ОРГАНИЧЕСКОЕ И НЕОРГАНИЧЕСКОЕ
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА
Только в обществе его природное бытие является
для него его человеческим бытием...
К. МАРКС
Та конкретность, то единство многообразных явлений,
внутри которого реально существует личность как нечто целое,
и есть, как упомянуто было выше, «ансамбль социальных
отношений». От начала и до конца личность — это явление
социальной природы у социального происхождения. Мозг ж е —
только материальный орган, с помощью которого личность
осуществляется в органическом теле человека, превращая это
тело в послушное, легко управляемое орудие, инструмент своей
(а не мозга) жизнедеятельности. В функциях мозга проявляет
себя, свою активность совсем иной феномен, нежели сам мозг,
а именно личность. И только так, а не наоборот, как получается
у редукционистов, видящих в личностно-психических явлениях
внешнее проявление работы мозга.
Проанализируем это обстоятельство несколько подробнее,
заранее имея в виду возражение такого рода: зачем, мол,
противопоставлять один тезис другому? Разве так уж неверно
утверждение, согласно которому индивидуальная психика есть
не что иное, как совокупность «психических функций мозга»,
совокупность проявлений, обусловленных его устройством?
Пока физиолог остается физиологом, то есть до тех пор, пока
его интересует именно мозг, а не личность, он так и должен
рассуждать. И это вполне понятно: если вы изучаете мозг, то вас
все остальное интересует лишь постольку, поскольку в этом
остальном так или иначе проявляется устройство и работа мозга.
Но если ваша цель — изучение личности, то вы на мозг должны
смотреть как на один из органов, с помощью которых
реализуется личность, представляющая собою куда более сложное
образование, чем мозг и даже чем вся совокупность органов,
образующих живое тело индивида.
Физиолог исследует все то, что происходит внутри
органического тела индивида, внутри биологической единицы. И это его
монополия. А чтобы понять, что таяое личность, надо
исследовать организацию всей той совокупности человеческих
отношений конкретной человеческой индивидуальности ко всем другим
таким же индивидуальностям, то есть динамический ансамбль
людей, связанных взаимными узами, имеющими всегда и везде
социально-исторический, а не естественно-природный характер.
Тайна человеческой личности потому-то веками и оставалась
328
для научного мышления тайной, что ее разгадку искали совсем
не там, где эта личность существует реально. Совсем не в том
пространстве: то в пространстве, сердца, то в пространстве
«шишковидной железы», то вообще вне пространства, то
в особом «трансцендентальном» пространстве, в особом
бестелесном эфире «духа».
А она существовала и существует в пространстве вполне
реальном — в том самом пространстве, где размещаются горы
и реки, каменные топоры и синхрофазотроны, хижины и
небоскребы, железные дороги и телефонные линии связи, где
распространяются электромагнитные и акустические волны.
Одним словом, имеется в виду пространство, где находятся все те
вещи, по поводу которых и через которые тело человека связано
с телом другого человека «как бы в одно тело», как сказал в свое
время Б. Спиноза, в один «ансамбль», как предпочитал говорить
К. Маркс, в одно культурно-историческое образование, как
скажем мы сегодня,— в «тело», созданное не природой, а трудом
людей, преобразующих эту природу в свое собственное
«неорганическое тело».
Таким образом, «тело» человека, выступающего как
личность,— это его органическое тело вместе с теми
искусственными органами, которые он создает из вещества внешней природы,
«удлиняя» и многократно усиливая естественные органы своего
тела и тем самым усложняя и многообразя свои взаимные
отношения с другими индивидами, проявления своей
«сущности».
Личность не только существует, но и впервые рождается
именно как «узелок», завязывающийся в сети взаимных
отношений, которые возникают между индивидами в процессе
коллективной деятельности (труда) по поводу вещей, созданных
и создаваемых трудом.
И мозг как орган, непосредственно реализующий личность,
проявляет себя таковым лишь там, где он реально выполняет
функцию управления «ансамблем» отношений человека к
человеку, опосредствованных через созданные человеком для
человека вещи, то есть там, где он превращается в орган
отношений человека к человеку, или, другими словами, человека
к самому себе.
Личность и есть совокупность отношений человека к самому
себе как к некоему «другому» — отношений «Я» к самому себе
как к некоторому «НЕ-Я». Поэтому «телом» ее является не
отдельное тело особи вида «homo sapiens», а по меньшей мере два
таких тела — «Я» и «ТЫ», объединенных как бы в одно тело
социально-человеческими узами, отношениями,
взаимоотношениями.
Внутри тела отдельного индивида реально существует не
личность, а лишь ее односторонняя («абстрактная») проекция
на экран биологии, осуществляемая динамикой нервных
процессов. И то, что в обиходе (и в мнимо материалистической
традиции) называют «личностью», или «душой», не есть
личность в подлинно материалистическом смысле, а лишь ее
однобокое и не всегда адекватное самочувствие, ее
самосознание, ее самомнение, ее мнение о самой себе, а не она сама как
таковая.
Как таковая же она не внутри единичного тела, а как раз вне
erot в системе реальных взаимоотношений данного единичного
тела с другим таким же телом через вещи, находящиеся
в пространстве между ними и замыкающие их «как бы в одно
тело», управляемое «как бы одной душой». При этом непременно
через вещи, и не в их естественно-природной определенности,
а в той определенности, которая придана им коллективным
трудом людей, то есть имеет чисто социальную (и потому
исторически изменяющуюся) природу.
Понимаемая так личность — отнюдь не теоретическая
отвлеченность, а вещественно-осязаемая реальность. Это
«телесная организация» того коллективного тела («ансамбля
социальных отношений»), частичкой и «органом» которого
и выступает каждый отдельный человеческий индивид.
Личность вообще есть единичное выражение
жизнедеятельности «ансамбля социальных отношений вообще». Данная
личность есть единичное выражение той по необходимости
ограниченной совокупности этих отношений (не всех),
которыми она непосредственно связана с другими (с некоторыми, а не
со всеми) индивидами — «органами» этого коллективного
«тела», тела рода человеческого.
Разница между «сущностью» и «существованием»
человеческой индивидуальности (личности, «Я») — это в'овсе не разница
между тем «абстрактно-общим», что свойственно «всем»
индивидам (точнее, каждому из них, взятому порознь),
и индивидуальными уклонениями-вариациями от этого
«абстрактно-общего». Это разница между всей совокупностью
социальных отношений (которая есть «сущность человека
вообще») и той локальной зоной данных отношений, в которой
существует конкретный индивид, той их ограниченной
совокупностью, которой он увязан непосредственно, через прямые
контакты.
Опосредствованно, через бесконечное количество отношений,
каждый индивид на земном шаре реально связан с каждым
другим, даже с тем, с которым он никогда непосредственно не
входил и не войдет в контакт. Петр знает Ивана, Иван знает
Фому, Фома знает Ерему, и, хотя Петр Ерему не знает, тем не
менее они опосредствованно — через Ивана и Фому — связаны
друг с другом и прямыми, и обратными связями. И именно
поэтому они — специфические частички — «органы» одного
и того же коллективного тела, одного и того же социального
ансамбля — организма, а вовсе не потому, что каждый из них
обладает суммой тождественных, каждому из них порознь
присущих признаков.
Пониманию марксистского решения проблемы «сущности
человека», сущности человеческой индивидуальности
(личности« «души») как раз и мешает архаическая логика мышления,
согласно которой «сущность» у всех людей должна быть одна
и та же, а именно биологическая одинаковость устройства их тел,
а «различия» между ними определяются индивидуальными
вариациями этой биологической природы.
Чтобы покончить с дуализмом биосоциального
объяснения личности и психики вообще, нужно прежде всего
распрощаться с этой устаревшей логикой, с ее пониманием
отношения «сущности» к индивидуальному «существованию»
(к «экзистенции») и принять прямо обратную логику
мышления. Ту самую, которую разрабатывал и которой
пользовался К. Маркс.
Согласно марксовой логике, «сущность» каждого отдельного
индивида усматривается не в абстрактной одинаковости их, а,
наоборот, в их конкретной совокупности, в «теле» реального
ансамбля их взаимных отношений, многообразно
опосредствованных вещами. «Существование» же каждого отдельного
индивида понимается не как «конкретное искажение» этой
абстрактной «сущности», а, напротив, как абстрактно-частичное
осуществление этой конкретной сущности, как ее фрагмент, как
ее явление, как ее неполное и потому неадекватное воплощение
в органическом теле каждого индивида. Личность здесь
понимается вполне материалистически, вполне вещественно-
телесно — как реальная телесно-вещественная совокупность
вещественно-телесных отношений, связующих данного
индивида с любым другим таким же индивидом
культурно-историческими, а не естественно-природными узами.
При таком понимании личности исчезает не только
необходимость, но и сама возможность объяснять
неповторимость человеческой индивидуальности неповторимостью ее
биологической индивидуальности, особенностями морфологии ее
органического тела. Наоборот, особенности фактически данной
морфологии тела тут придется объяснять особенностями ее
социально-исторического статуса, социальными причинами,
особенностями тех взаимоотношений, в системе которых образо-
валась данная личность. Только на этом пути можно найти ответ
на вопрос, как и почему одна и та же биологическая единица
может стать такой или иной личностью, обрести такие или прямо
противоположные личностные черты, почему «состав» личности
никак не задан и не может быть задан заранее, а тем более
однозначно.
Марксистская логика обязывает к ходу мысли, обратному
тому, который вытекает из представлений о биологической
предзаданности всех особенностей личности, якобы лишь
обнаруживающихся (а не возникающих!) в поле социальных
отношений к другим людям и вещам. А именно совокупность
реальных, вещественно-телесных особенностей тех отношений,
в которые поставлено единичное тело человека, обнаруживается
и внутри его единичного тела, в виде своеобразия тех
динамических «церебральных структур», их
индивидуально-неповторимого конкретного сочетания, которое и надлежит рассматривать
как морфофизиологическую проекцию личности, но не как саму
личность.
Только на таком пути можно снять дуализм «души» и «тела»
материалистически: никакого взаимоотношения между «душой»
и «телом» человека нет и быть не может, ибо это —
непосредственно — одно и то же, только в разных его проекциях, в двух
его разных измерениях; «одушевленное тело» — совокупность
(.«ансамбль») вполне телесно-вещественных процессов,
осуществляемых этим телом.
Личность не внутри «тела особи», а внутри «тела человека»,
которое к телу данной особи никак не сводится, не
ограничивается его рамками, а есть «тело» куда более сложное и
пространственно более широкое, включающее в свою морфологию все те
искусственные «органы», которые создал и продолжает
создавать человек (орудия и машины, слова и книги, телефонные
сети и радиотелевизионные каналы связи между индивидами
рода человеческого), то есть все то «общее тело», внутри
коего функционируют отдельные индивиды как его живые
органы.
Это «тело» (его внутреннее членение, его внутреннюю
организацию, его конкретность) и приходится рассматривать,
чтобы понять каждый его отдельный орган в его живом
функционировании, в совокупности его прямых и обратных связей
с другими такими же живыми органами, при этом связей вполне
предметных, телесно-вещественных, а вовсе не тех эфемерных
«духовных отношений», в системе которых всегда пыталась
и пытается рассматривать личность любая идеалистически
ориентированная психология (персонализм, экзистенциализм
и т. п.).
ТАК РОЖДАКТСЯ ЛИЧНОСТЬ
...Предмет, как бытие для человека, как
предметное бытие человека, есть в то же время наличное
бытие человека для другого человека, его
человеческое отношение к другому человеку,
общественное отношение человека к человеку.
К. МАРИ С
В 1844 г., говоря о будущей материалистической
психологии — о науке, которая в то время еще не была создана,
К. Маркс писал, что именно «история промышленности и
сложившееся предметное бытие промышленности являются
раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно
представшей перед нами человеческой психологией» и что
«такая психология, для которой эта книга, т. е. как раз
чувственно наиболее осязательная, наиболее доступная часть истории,
закрыта, не может стать дейстйительно содержательной и
реальной наукой»1.
Рассматривая личность как чисто социальную единицу, как
конкретный ансамбль социальных качеств человеческой
индивидуальности, психология обязана абстрагироваться от.отношений
личности к тем вещам, которые не имеют к ней внутренне
необходимого отношения, и исследовать лишь отношения-связи,
которые опосредствуют личность с самою собою, то есть одну
личность с другой такой же личностью. «Внешняя вещь» в этом
исследовании должна приниматься во внимание лишь
постольку, поскольку она оказывается опосредствующим звеном между
двумя (по меньшей мере) человеческими индивидами.
В качестве примера такой «внешней вещи» можно указать на
слово — созданную человеком для человека («для самого себя»)
форму общения. Но слово — далеко не единственная, и даже не
первая из таких форм. Первыми (и по существу и во времени)
являются те непосредственные формы общения, которые
завязываются между индивидами в актах коллективного труда,
совместно осуществляемых операций по изготовлению нужной
вещи. Эта последняя и выступает в данном случае как
опосредствующее звено между двумя изготавливающими ее или хотя бы
совместно пользующимися ею индивидами.
Таким образом, человеческое отношение всегда предполагает,
с одной стороны, созданную человеком для человека вещь,
а с другой стороны — другого человека, который относится по-
человечески к этой вещи, а через нее — к другому человеку.
1 -Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 123.
•Л'Л'Л
И человеческая индивидуальность существует лишь там, где
одно органическое тело человека находится в особом —
социальном — отношении к самому себе, опосредствованном
через отношение к другому такому же телу с помощью
искусственно созданного «органа», «внешней вещи» — с помощью
орудия общения.
Только внутри такой состоящей из «трех тел» системы
и оказывается возможным проявление уникальной и загадочной
способности человека «относиться к самому себе как к некоему
другому», то есть возникновение личности, специфически
человеческой индивидуальности. Там, где такой системы из
«трех тел» нет, есть лишь биологическая индивидуальность, есть
лишь естественно-природная предпосылка рождения
человеческой индивидуальности, но ни в коем случае не она сама как
таковая.
Морфологически необходимость появления человеческой
индивидуальности в единичное биологическое тело особи вида
«homo sapiens» не «встроена», генетически не предусмотрена.
Она «встроена» лишь в более сложное и обширное «тело» —
в коллективное «тело человеческого рода». По отношению
к организму отдельного человека она выступает поэтому как
необходимость «внешняя», давящая на него «извне» и вполне
принудительно преобразующая его тело таким образом, каким
оно само собой никогда бы не преобразовалось.
Биологически (анатомо-физиологически) человеческий
индивид не предназначен даже к прямохождению.
Предоставленный самому себе, ребенок никогда не встанет на ноги и не пойдет.
Даже этому его приходится учить. Для организма ребенка
научиться ходить — это мучительно трудный акт, ибо никакой
необходимости, диктуемой ему в том «изнутри», нет, а есть
насильственное изменение врожденной ему морфофизиологии,
производимое «извне».
Предоставленный самому себе, организм ребенка так
и остался бы чисто биологическим организмом — животным.
Человеческое же развитие протекает как процесс вытеснения
органически «встроенных» в биологию функций (поскольку они
еще сохранились) принципиально иными функциями —
способами жизнедеятельности, совокупность которых «встроена»
в морфологию и физиологию коллективного «тела рода».
Ребенка принуждают встать на задние конечности вовсе не
в силу какой-либо биологически оправданной целесообразности,
не потому, что две конечности лучше приспособлены для
передвижения. К прямохождению ребенка принуждают именно
для того (и только для того), чтобы освободить его передние
конечности от «недостойной» работы для труда, то есть для
334
функций, навязываемых условиями культуры, формами
предметов, созданных человеком для человека, и необходимостью
с этими предметами манипулировать по-человечески.
Биологически (анатомически и физиологически, структурно
и функционально) передние конечности человека вовсе не
устроены так, чтобы они могли держать ложку или карандаш,
застегивать пуговицы или перебирать клавиши рояля. Заранее
морфологически они для этого не предназначены. И именно
потому они способны принять на себя исполнение любого вида
(способа) работы. Свобода от какого бы то ни было заранее
«встроенного» в их морфологию способа функционирования
и составляет их морфологическое преимущество, благодаря
которому передние конечности новорожденного и могут быть
развиты в органы человеческой деятельности, могут
превратиться в человеческие руки.
То же самое и с артикуляционным аппаратом, и с органами
зрения. От рождения они не являются органами человеческой
личности, человеческой жизнедеятельности. Они лишь могут
стать, сделаться таковыми, и только в процессе их человеческого,
социально-исторически (в «теле культуры»)
запрограммированного способа употребления.
По мере того как органы тела индивида превращаются
в органы человеческой жизнедеятельности, возникает и сама
личность как индивидуальная совокупность
человечески-функциональных органов. В этом смысле процесс возникновения
личности выступает как процесс преобразования биологически
заданного материала силами социальной действительности,
существующей до, вне и совершенно независимо от этого
материала.
Иногда этот процесс называют «социализацией личности».
На наш взгляд, это название неудачно, потому что уже
предполагает, будто личность как-то существует и до ее «социализации».
На деле же «социализируется» не личность, а естественно-
природное тело новорожденного, которому еще лишь предстоит
превратиться в личность в процессе этой «социализации», то
есть личность еще должна возникнуть. И акт ее рождения не
совпадает ни по времени, ни по существу с актом рождения
человеческого тела, с днем физического появления человека
на свет.
Поскольку тело младенца с первых минут включено
в совокупность человеческих отношений, потенциально он уже
личность. Потенциально, но не актуально, ибо другие люди
«относятся» к нему по-человечески, а он к ним — нет.
Человеческие отношения, в систему которых тельце младенца включено,
тут еще не носят взаимного характера. Они односторонни, ибо
335
ребенок еще долгое время остается объектом человеческих
действий, на него обращенных, но сам еще не выступает как их
субъект. Его пеленают, его купают, его кормят, его поят, а не он
одевается, не он купается, не он ест и пьет. Он «относится» ко
всему окружающему еще не как человек, а лишь как живое
органическое тело, которому еще лишь предстоит превратиться
в «тело личности», в систему органов личности как социальной
единицы. По существу, он еще не отделился от тела матери даже
биологически, хотя пуповина, физически соединяющая его
с материнским телом, уже и перерезана ножом хирурга
(заметьте, человеческим способом, а не зубами).
Личностью — социальной единицей, субъектом,
носителем социально-человеческой деятельности — ребенок станет
лишь там и тогда, где и когда сам начнет эту деятельность
совершать. На первых порах с помощью взрослого, а затем
и без нее.
Подчеркнем еще раз, что все без исключения человеческие
способы деятельности, обращенной на другого человека и на
любой другой предмет, ребенок усваивает извне. «Изнутри» ни
одно, пусть самое пустяшное специфически человеческое
действие не возникает, ибо в генах запрограммированы лишь те
функции человеческого тела (и мозга, в частности), которые
обеспечивают чисто биологическое существование, но никак не
социально-человеческую его форму.
Личность и возникает тогда, когда индивид начинает
самостоятельно, как субъект, осуществлять внешнюю
деятельность по нормам и эталонам, заданным ему извне — той
культурой, в лоне которой он просыпается к человеческой
жизни, к человеческой деятельности. Пока же человеческая
деятельность обращена на него, а он остается ее объектом,
индивидуальность, которой он, разумеется, уже обладает, не есть
еще человеческая индивидуальность. И лишь постольку,
поскольку ребенок усваивает, перенимая от других людей,
человеческие способы отношения к вещам, внутри его
органического тела и возникают, формируются, образуются и
специфически человеческие органы, завязываются нейродинамические
«структуры», управляющие его специфически человеческой
деятельностью (в том числе и тот нервный аппарат, который
управляет движениями мышц, позволяющими ребенку встать на
две ноги), то есть структуры, реализующие личность.
Таким образом, функция, заданная извне, создает
(формирует) соответствующий себе орган, необходимую для своего
осуществления «морфологию» — именно такие, а не какие-либо
другие связи между нейронами, именно такие, а не иные
«рисунки» их взаимных прямых и обратных связей. Поэтому же
;ш
возможен любой из «рисунков», в зависимости от того, какие
функции приходится осуществлять телу человека во внешнем
мире, в мире за пределами его черепа и кожного покрова.
И подвижная «морфология» мозга (точнее, коры и ее
взаимоотношений с другими отделами) сложится именно такая, какая
требуется внешней необходимостью, условиями внешней
деятельности человека, той конкретной совокупностью отношений
данного индивида к другим индивидам, внутри которой этот
индивид оказался сразу же после своего появления на свет, тем
«ансамблем социальных связей», который сразу же превратил
его в свой «живой орган», сразу же поставил его в ту
систему отношений, что принуждает его действовать так, а не
иначе.
Речь идет, конечно, о тех «церебральных структурах»,
которые реализуют личностные (специфически человеческие)
функции индивида, его психические функции, а не о тех
морфологически встроенных в тело мозга структурах, которые
управляют кровообращением, пищеварением, газообменом,
терморегуляцией, работой эндокринной системы и прочими
физиологическими процессами, совершающимися внутри тела
индивида.
Отсюда ясно, что материалистический подход к психической
деятельности состоит в понимании того, что она определяется
в своем течении не структурой мозга, а системой социальных
отношений человека к человеку, опосредствованных через
созданные и создаваемые человеком для человека вещи
внешнего мира.
Это и дает нам право настаивать на тезисе, согласно которому
в теле индивида выполняет себя, реализует себя, осуществляет
себя личность как принципиально отличное от его тела и мозга
социальное образование («сущность»), а именно совокупность
(«ансамбль») реальных, чувственно-предметных, через вещи
осуществляемых отношений данного индивида к другому
индивиду (к другим индивидам).
Эти отношения могут быть только отношениями
деятельности, отношениями активного взаимодействия индивидов. Именно
в силу взаимного характера таких отношений возникает
ситуация, когда активное действие индивида, направленное на
другого индивида, возвращается рикошетом обратно к нему,
«отражается» от другого индивида как от своеобразного
препятствия и тем самым превращается из действия,
направленного на «другое», в действие, направленное
(опосредствованно через «другое») на самого себя.
;ш
САМОЧУВСТВИЕ, САМОСОЗНАНИЕ
И РЕАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Но понимая дол, нельзя понять и людей иначе,
как... внешне.
В. И. ЛЕНИН
В описанном выше процессе реального взаимодействия
индивидов и возникает то самое «отношение к самому себе»,
которое еще Декартом и Фихте было выявлено в качестве самой
первой, самой общей и самой характерной черты личности,
«души», «Я». То самое отношение «к самому себе», которое, с их
точки зрения, принципиально невозможно в качестве
материального отношения, в качестве отношения материального тела,
а возможно только в виде отношения идеального (бестелесного).
Но почему же оно невозможно как материальное отношение?
Да только потому, что это отношение с самого начала
рассматривается ими исключительно как психическое состояние
отдельного «Я», как акт осознания «самого себя», совершающийся
внутри этого отдельного «Я», как акт «интроспекции».
Личность («Я», оно же «душа») с самого начала
приравнивается к единичному самосознанию. Более того, между тем
и другим ставится знак равенства, а еще точнее — тождества.
Личность не мыслится ни в какой другой форме существования,
кроме единичного самосознания, то есть в форме «внутреннего
состояния» отдельного лица. Но в такой форме факт
самосознания сведен к факту простого самочувствия, к факту ощущения
индивидуальным организмом своих внутренних состояний,
к сумме органических ощущений собственного тела. Они-то
и именуются словом «Я».
Кстати, это вполне популярное словоупотребление; любой
философски не образованный человек именно в таком значении
данное слово и употребляет. И не случайно, ибо феномен
«сознания вообще» действительно неразрывно связан с фактом
самочувствия, ощущения своего тела. Как только ощущения
своего собственного тела исчезают, так сразу же «гаснет»
и сознание — наступает сон. Этот факт много раз доказывался
и экспериментально: как только человека погружают в мрак,
тишину и неподвижность при окружающей температуре, равной
температуре его тела, он впадает в глубокий сон без сновидений,
отсутствует сознание, а стало быть, и самосознание.
Поскольку личность («душа», «Я») с самого начала
фиксируется как простое обозначение совокупности ощущений
собственного тела, своей индивидуальной органики, и ничего
другого под этим «не мыслится», то и возникает картезианско-
338
фихтевское понятие «Я»— субъективно-идеалистическая
интерпретация реального факта.
Формальная, недиалектическая, логика, со своей стороны,
в этом пункте ориентирует мышление, как нам представляется,
на заведомо неверный ход. Согласно основным ее постулатам,
«правильное понятие» не имеет права заключать в себе
парадокса, логического противоречия. А выражение «отношение
к самому себе» как раз такой парадокс, такое логическое
противоречие в себе и заключает. «Это недопустимое в науке
выражение! Отношение может быть только между одним
и другим! Только между двумя разными вещами! Отношение
к самому себе — это абсурд, нелепость, незаконное сочетание
терминов!»— возмущенно сказал как-то в беседе с автором этой
статьи один из представителей формальной логики. А ведь
разговор с ним начался с того, что у него спросили, как он себя
чувствует, на что он, ничуть не рассердившись, ответил:
«Нормально». В этой форме, в форме самочувствия, «отношение
к самому себе» было понятно и ему. Но отношение к самому себе
как телесное отношение, а «Я», обнаруживающее такое
отношение в виде самоощущения, как тело, мышление,
скованное постулатами формальной логики, понять не в состоянии.
Мышление подобного рода сразу же старается «помыслить»
(точнее, построить в воображаемом пространстве) вместо такого
«немыслимого» тела два разных тела, связанных взаимными
отношениями в одно, и тем самым избавиться от диалектического
кошмара «отношения к самому себе». Не случайно
последовательно мысливший в духе этой логики Декарт пришел к выводу,
что животное, лишенное «души», лишено и самоощущения —
даже такого, как боль. С этим же связано и его стремление
локализовать проблему самоощущения, наделить им лишь один
привилегированный орган — шишковидную железу,
посредством которой «душа» испытывает изменения, происходящие
в любом другом органе тела, как свои собственные.
Если уже феномен самоощущения заставляет предполагать
в строении наделенного им органа наличие «блока», способного
одновременно осуществлять, не меняясь структурно, прямо
противоположные действия, то что же говорить о таких
функциях, как самосознание, как самокритичное отношение
к своим собственным действиям, к схемам этих действий
и к способам их реализации в конкретных, каждый раз
неповторимо индивидуальных и потому неожиданных (не
предусмотренных заранее телесно, в устройстве этого органа)
обстоятельствах? Как же должен быть устроен телесный орган, способный
в силу своего устройства одновременно и пассивно испытывать
как свои собственные изменения в любом другом органе тела,
339
и активно вызывать их там, тут же испытывая их — на основе
«обратной связи»— как свои собственные?
Предложите инженеру-кибернетику построить
пространственную модель органа, который в каждый данный момент
(отрезок времени) способен находиться в двух
взаимоисключающих состояниях, не распадаясь при этом на два разных блока-
органа, находящихся в полемическом отношении друг с другом,
а оставаясь все время «одним и тем же» морфологически,
пространственно-структурно. Он непременно ответит вам, что
пространственную модель с такими характеристиками построить
невозможно. И не по причине недостатка технических средств ее
выполнения, а потому, что в требованиях вашего заказа
заключено «логическое противоречие».
И психология, в своих поисках научности доверившаяся
такого рода логике, объявила, что такие термины, как «Я»,
«личность», «самочувствие», «самосознание», «сознание»
(«сознание» тоже, поскольку оно может толковаться и как сознание
«самого себя»), следует вымести из научного лексикона так же
беспощадно, как она это когда-то сделала с терминами «бог»,
«абсолютный дух», «бессмертная душа», «свободная воля» и пр.
Что же останется тогда в этом лексиконе? Только
«объективные термины» типа «нейрон» или «аксон»,
электрохимические связи-отношения между органами тела, опосредствованные
цепочками нервных связей, и еще термины, выражающие
внешние отношения тела индивида к другим телам,— термины
«поведения». Это был путь бихевиоризма, который разом
избавлял от кошмара «противоречий», затаенных в таких
понятиях, как «самочувствие», «самосознание», а
следовательно, и от понятия «личность». Ведь личность по-прежнему
мыслилась не иначе, как «единичное самосознание» или
«единичное самочувствие».
Вследствие всего этого бихевиористская «революция в
психологии» и могла показаться радикальным поворотом науки
«о душе» к бескомпромиссному материализму. На самом же деле
это была не победоносная революция, а капитуляция науки
перед объединенными силами религиозно-спиритуалистической
интерпретации реальных фактов, то есть победа идеализма.
Личность, человеческая индивидуальность, очевиднейшим
образом наделенная способностью самочувствия и не менее
бесспорной способностью совершать акты самонаблюдения —
наблюдения над самой собой, над своими собственными
поступками и словами,— это ведь не спекулятивная выдумка
Декарта или Фихте, а факт.
Другой вопрос, почему этот факт имеет место, почему
личность существует?
МО
Ответ Декарта — «потому, что мыслит». Ответ Фихте
и Гегеля —«потому, что обладает самосознанием». Это уже не
факт, а его теоретическая интерпретация. Как раз против нее,
а не против самого факта обязана выступать материалистически
ориентированная наука. Она же обязана и дать ответ на вопрос,
почему и как возможно пространственно-организованное тело,
обладающее самочувствием и самосознанием — «отношением
к самому себе».
Очевидно, проблема тела, способного к самочувствию,
выходит далеко за рамки проблемы личности человека, за рамки
психологии, и решать ее рано или поздно придется биологии —
это ее специфическая проблема, ибо самочувствием, надо
полагать, обладает каждое сколько-нибудь развитое животное
(а вовсе не только человек, как полагал Декарт). Самосознание
же, из непосредственной самоочевидности которого исходят
и Декарт, и Фихте, представляет собою действительно
специфически человеческое качество — атрибут личности, и потому его
анализ целиком входит в сферу интересов психологии.
Разумеется, материалист не имеет права приравнивать
личность к единичному самосознанию, как то делали Декарт
и Фихте, особенно в исходном пункте размышлений на этот счет,
ибо в таком случае становится уже совершенно неизбежным
и другое приравнивание: самосознание в самом общем виде
предстанет просто как самочувствие индивидуального
организма, только осознанное и выраженное словечком «Я», не
более. Поэтому вопрос может заключаться единственно в
следующем: что же именно отличает человеческое самочувствие
(самочувствие человеческого организма) от его биологической
предпосылки, от «самочувствия вообще».
Но судить о человеческой форме «отношения к самому себе»
по фактам, открывающимся исключительно в актах
самонаблюдения, самоотчета о своих собственных состояниях, было бы по
меньшей мере неосмотрительно. Ведь самочувствие, а тем более
его выраженное в словах самосознание, бывает весьма
неадекватным. И не нужно быть очень уж тонким знатоком
психологии, чтобы понять: реальная личность человека вовсе не
совпадает с тем, что человек о самом себе говорит и думает,
с самомнением личности, с ее осознанным самочувствием, с ее
вербальным самоотчетом, даже самым искренним.
Для самой личности эта разница обнаруживается только
через реальное столкновение с другой личностью (с другими
личностями), которое может носить и комический, и
драматический, и даже трагический характер. Со стороны, глазами другого
человека личность всегда видится иначе, чем она воспринимает
сама себя, через призму собственных самоощущений. И дело тут
■л \ I
конечно же не в намеренном самообмане или в желании пустить
пыль в глаза ближнему. Комичнее (или трагичнее, смотря по
обстоятельствам) всех ошибается чаще всего именно носитель
«честного самосознания», излишне доверяющий своему
непосредственному самочувствию.
Вспомним возвышенно-патетические речи, которые
произносит о себе поручик Ромашов из купринского «Поединка»,
самозабвенно шагающий впереди нелепо сбившейся с ноги роты,
пока его не отрезвляет яростный окрик полковника,
наблюдающего этот дурацкий марш со стороны. Или трехстопные ямбы
Васисуалия Лоханкина, тоже, надо полагать, искренне
выражавшие систему его благородных самочувствий, его «единичного
самосознания».
Реальная личность нередко бывает вынуждена убеждаться,
что «на самом деле» она совсем не такова, какой сама себя мнила,
что именно в составе (в структуре) ее таились такие неодолимые
для нее самой силы, о наличии которых она до поры до времени
и не подозревала. И таились они именно в составе личности,
а никак не в ее самосознании, не в составе ее представления
о самой себе. Разве не в этом суть драмы Родиона Раскольнико-
ва? Или жутчайшее отрезвление от иллюзий, постигающее
в финале прежде удачливого Рыбака из уже упоминавшегося
в данной книге фильма «Восхождение»?
В связи с этим возникает вопрос, требующий
материалистического ответа: в каком виде и где таились эти неведомые герою
силы, беспощадно развеивающие его прежнее самосознание,
представлявшее собою лишь трагическую иллюзию личности
о себе самой? Где, в каком пространстве они прятались от
самосознания и от самочувствия индивида, чтобы вдруг
выступить перед ним в образе собственного поступка,
неожиданного и непредвиденного для него самого, и в виде его
ужасных последствий? Несомненно, внутри личности, хотя и не
внутри ее самосознания. Где же?
Старая традиция, склонная усматривать поле боя этих сил
внутри органического тела индивида, сразу же подталкивает
к такому ответу — «в подсознании», «в сфере бессознательного».
Телесно (морфологически и функционально) это значит —
в структурах взаимоотношений коры и подкорки, а главным
образом — в структурах древнейших пластов старого мозга,
в системе морфологически встроенных в него инстинктов
(безусловных рефлексов), совокупность коих и составляет будто
бы ядро личности. Тут-то и начинают искать местопребывание
того неведомого для самосознания демонического начала —
начала темного, первобытного, затаившегося" во мраке, которое
всегда побеждает в конфликте, торжествуя над всеми прекрасно-
М2
душными иллюзиями и красивыми словесами, создаваемыми
личностью на свой собственный счет.
Толкуемый таким образом конфликт личности с ее
собственным самосознанием, с ее словесным самоотчетом предстает
в виде конфликта индивидуально-неповторимого сочетания
одних и тех же инстинктов с системой прижизненно
сформированных условных рефлексов, среди которых у человека особую
роль играют условно-конвснциальныс связи второй сигнальной
системы. Иными словами, в виде вечного неизбывного
конфликта подкорки и коры, «личности как таковой» и «личности, как и
какой она себя мнит».
Ничего другого физиологическая (естественнонаучная)
интерпретация личности предложить и не может. И если до
конца следовать логике этой позиции, придется волей-неволей
все без исключения социальные конфликты объяснять
врожденным (морфологически-генетически встроенным) устройством
мозга индивидов. Типичные социальные конфликты —
типичным для всех индивидов инвариантно-видовым устройством
мозга каждого индивида, а сугубо личностные формы их —
неповторимо-индивидуальными вариациями этого устройства.
Так и возникают психофизиологические концепции,
выдающие физиологическую проекцию острых социальных
конфликтов ХХ~столетия за причину этих конфликтов, за их «научно-
материалистически обнаруживаемый источник», а сами
конфликты — за проекцию психофизиологии (точнее," просто
физиологии нервной деятельности) на экран внешних
взаимоотношений между людьми.
Согласно одной из подобных концепций (А. Кёстлер), все
коллизии современной идеологической,, политической и военной
борьбы между общественными силами объясняются тем
обстоятельством, что в каждый человеческий мозг генетически
(морфологически) встроена шизофрения, паранойя. Природа
совершила трагическую ошибку при конструировании основных
нейродинамических структур мозга, и особенно системы нейро-
динамических связей между корой и подкоркой, между новым
и старым мозгом. В последний якобы морфологически (телесно,
материально, вещественно) встроены все могучие,
неподвластные сознанию и самосознанию силы — инстинкты,
импульсивно определяющие основные желания, устремления, страсти
человека. Они и давят «снизу» на кору с ее второй сигнальной
системой, превращая последнюю в технический орган своего
осуществления, своего выполнения в словах и в действиях,
в знаковых системах и в технических средствах их реализации
(в ЭВМ, в межконтинентальных ракетах, в автоматизированных
поточных линиях бездушно-машинного производства вещей
:ш
и т. д. и т. п.). Шизофренически устроенный мозг и строит
соответствующий себе внешний мир: шизофренически
организованную систему взаимных отношений между индивидами,
между их группами, заставляя этих индивидов объединяться
в классы, в нации, в блоки, слепо враждующие между собою.
Отсюда все — и Освенцим, и Хиросима, и срывы переговоров
о разоружении, и нескончаемые идеологические схватки, и даже
семейные неурядицы.
Таков логический финал концепции, во что бы то ни стало
желающей усмотреть реальность личности внутри органического
тела индивида, в совокупности внутренних органов этого тела
и их функций (то есть в морфофизиологии), а все внешние, вне
этого тела завязывающиеся отношения к другим индивидам
и вещам толковать как вне личности проявляющееся внутреннее
ее достояние, как внешние обнаружения и проявления ее
«внутренней структуры».
В КАКОМ ПРОСТРАНСТВ!;
СУЩЕСТВУЕТ личность?
...Человек сначала смотрится, как в зеркало,
в другого человека. Лишь отнесясь к человеку
Павлу как к себе подобному, человек Петр
начинает относиться к самому себе как к человеку.
Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его
павловской телесности, становится для него
формой проявления рода «человек».
К. МАРКС
Философ-материалист, понимающий «телесность» личности
не столь узко, видящий ее прежде всего в совокупности (в
«ансамбле») предметных, вещественно-осязаемых отношений
данного индивида к другому индивиду (к другим индивидам),
опосредствованных через созданные и создаваемые их трудом
вещи, точнее, через действия с этими вещами (к числу которых
относятся и слова естественного языка), будет искать разгадку
«структуры личности» в пространстве вне органического тела
индивида и именно поэтому, как ни парадоксально,— во
внутреннем пространстве личности. В том самом пространстве,
в котором сначала возникает человеческое отношение к другому
индивиду (именно как реальное, чувственно-предметное,
вещественно-осязаемое отношение), которое «внутри» тела человека
никак заложено не было, чтобы затем — вследствие взаимного
характера этого отношения — превратиться в то самое
«отношение к самому себе», опосредствованное через отношение
:\\-\
«к другому», которое и составляет суть личностной —
специфически человеческой — природы индивида.
Личность поэтому и рождается, возникает (а не
проявляется!) в пространстве реального взаимодействия по меньшей
мере двух индивидов, связанных между собой через вещи
и вещественно-телесные действия с ними.
Отношение, в котором находятся данные индивиды (Петр
и Павел — воспользуемся примером из приводимого выше
высказывания К. Маркса),— это именно предметно-телесное, во
внешнем пространстве осуществляющееся отношение, сначала
активное со стороны взрослого Павла и совершенно пассивное со
стороны новорожденного Петра, а затем, по мере человеческого
повзросления Петра, становящееся взаимно активным и лишь
постольку личностно-человеческим и с его стороны, а не только
со стороны его воспитателя. Это именно реальное отношение,
отношение двусторонне-активное, а не «отношение», как и каким
оно представлено в системе самочувствий и самомнений одного
из участников этого диалогического взаимодействия, будь то
Петр или Павел.
Петр может относительно реального своего отношения
к Павлу иметь представление и наивно-младенческое, и учено-
схоластическое; соответственно неадекватным будет и его
«отношение к самому себе», то есть реальное отношение, как
и каким оно представлено в системе его самочувствия и
самомнения. Отсюда-то и возникает самая возможность несоответствия
между реальной личностью и ее самочувствием-самомнением.
Это происходит именно из диалектического коварства так
называемых «рефлективных отношений», «соотносительных
оиределенностей». Данный человек лишь потому «король»,
приводит пример К. Маркс, что другие люди относятся к нему
как «подданные». Между тем сами они считают себя
«подданными» потому, что он —«король».
Если же исследовать это реальное отношение дальше, то
получится, что они не только сами так думают, а и «королю» это
мнение о своей персоне внушают. В итоге и «подданные»,
и «король» имеют о самих себе одно ложное представление на
двоих, относятся «к самим себе» в своем самочувствии и
самосознании совсем не так, как они относятся и к себе самим,
и к другим на самом деле.
Диалектическое коварство «рефлексивности» отношений
человека к человеку и придавало во все века видимость
правдоподобия тем теориям, в которых эти социальные (исторически
возникшие и потому исторически преходящие) формы
отношений изображались как «естественные», как соответствующие
«врожденной» природе человеческих тел, данными отношения-
23 •*"•".! 'i 1)0.4
:мг>
ми связанных, то есть как отношения по своему генезису чисто
биологические.
Так, именно «телу короля» (его «голубой» крови, или,
выражаясь языком «современной науки», особо тонкой
структуре тех дезоксирибонуклеиновых цепочек-молекул, в коих
закодирована программа формирования всех органов его тела,
включая, разумеется, и мозг) и приписывалась роль глубочайше
всемогущей естественно-природной причины того
обстоятельства, что он —«король». И другие — его «подданные»— обязаны
относиться к нему как к «королю», а к себе соответственно как
к «подданным», ибо таковы они по рождению, «от природы».
И у «подданных» на роду написано («закодировано в
генетической программе»), как именно они должны себя вести
в присутствии «короля» и даже только при упоминании его
имени или титула. Способ их поведения (то есть реальный
способ их отношения к «королю» и к себе) предопределен
природой, и тут уж ничего не поделаешь. А в итоге «король»
и «подданный» обретают соответствующее непосредственное
самочувствие: один чувствует себя «королем», а другой —«его
верным подданным»; каждый из них чувствует себя и потому
сознает себя именно таким, каким он на самом-то деле
(органически) не является. Иначе говоря, в итоге на обоих полюсах
отношения возникает одинаково ложное «единичное
самосознание».
Да как же этому ложному самосознанию не появиться и затем
не превратиться в весьма устойчивый и организованный
комплекс «субъективных состояний», фиксированный даже
физиологически, если индивид, исполняющий «роль короля»,
ежедневно и ежечасно, с утра до вечера, вынужден осуществлять
телесно-физические действия, требуемые ритуалом? Если он изо
дня в день должен «вживаться в роль» тем самым «методом
физических действий», который человечество изобрело задолго
до К. С. Станиславского, и притом всерьез, так как в
грандиозном спектакле с его участием головы рубят не понарошку?
На этой почве и возникают (отнюдь не только в королевских
головах) все те далеко не наивные иллюзии самосознания,
которые в принципе непреодолимы для метода интроспекции —
для самого внимательного вслушивания в систему собственных
самочувствий и их осознания, выражаемого в словесном
самоотчете.
Когда индивид настолько срастается с той ролью, которую он
обречен играть внутри известной системы взаимоотношений
с другими индивидами, с той специфической функцией, которая
ему «поручена» в составе «ансамбля» (конкретно-локальной
системы социальных отношений), он, само собой понятно,
:и(>
постоянно тренирует именно те органы своего тела, которые
физиологически обеспечивают исполнение его специфических
социальных функций и прежде всего необходимы для их
исполнения. Эти органы, естественно, и развиваются гораздо
более интенсивно, нежели другие, и в итоге даже внешний облик
индивида начинает красноречиво свидетельствовать о том, что он
в жизни делает. Речь идет отнюдь не только о таких сразу же
бросающихся в глаза различиях, как, скажем,
гипертрофированная мускулатура гиревика-тяжеловеса или сутуловатость
бухгалтера-канцеляриста. Опытный физиономист заметит и
оценит различия куда более тонкие.
«Только поверхностный человек не судит по внешности»,—
глубокую психологическую правду этого иронического
парадокса Оскара Уайльда живо постигаешь перед шедеврами
портретной живописи, перед полотнами Репина и Веласкеса,
Рембрандта и Серова — художников, умевших разглядеть сквозь
внешность индивида те черты его личности, которые он
старается скрыть даже от самого себя.
И как бы иронически ни относиться к «физиономистике»,
нельзя отрицать, что способностью «судить по внешности»
должен обладать каждый настоящий художник, каждый
большой писатель, каждый актер, режиссер или скульптор. И судить
именно о структуре личности индивида, а не о том, за что этот
индивид хочет себя выдать, не о том, чем тот себя мнит и желает
казаться в глазах других. Угождать самомнению заказчика
старается лишь плохой художник. Настоящий художник всегда
считал такое угождение низостью, предательством по
отношению к искусству, какими бы красивыми словами оно ни
оправдывалось.
Именно поэтому настоящее, большое искусство всегда
состояло в близком родстве с настоящей, подлинно
материалистической психологией (с наукой о закономерностях
становления личности). Даже в тех случаях, когда оно ориентировалось
на религиозно-мистические представления о «душе»,
формирующей тело и управляющей им. Но этого никак нельзя сказать о тех
представителях физиологии, которые под флагом «научного»
объяснения личности истолковывали ее натуралистически,
выводя из врожденных особенностей морфологии и физиологии
тела индивида, из своеобразия его «церебральных структур».
Именно поэтому настоящие художники с гораздо большим
правом могут быть названы психологами, чем, скажем,
некоторые даже выдающиеся физиологи. Гениальный физиолог сплошь
и рядом может быть слабым психологом, но плохой психолог
никогда не бывал и не мог быть не только гениальным, но
и просто хорошим художником.
23* •
•Г. 7
А причина этого проста: личность, одинаково интересующая
и психологию как науку, и настоящее искусство,— чисто
социальное, а вовсе не естественно-природное образование;
чтобы понять, как она образуется (возникает, развивается
и телесно выражает себя), нужно исследовать события,
совершающиеся не внутри органики индивида, а в
«пространстве» общественных отношений, в социально
детерминированных его деяниях. Физиолог же, в отличие от подлинного
художника, зачастую остается предельно наивным в отношении
вещей и событий, находящихся за пределами черепной коробки,
за пределами органического тела индивида, и потому легко
попадает в плен поверхностных представлений о сути психики
и личности.
Примером в этом отношении может служить вывод
И. П. Павлова, труды которого составили, как известно, целую
эпоху в физиологии высшей нервной деятельности, о том, что
человеческая жизнь, развитие человеческой культуры есть не что
иное, как варьирующиеся проявления набора одних и тех же
всемогущих «инстинктов», одних и тех же борющихся между
собою «безусловных рефлексов», в частности некоего «рефлекса
коллекционирования». А вот ход рассуждений, который привел
к такому выводу: «Как известно, коллекционерство существует
и у животных... Беря коллекционерство во всем его объеме,
нельзя не быть пораженным фактом, что со страстью
коллекционируются часто совершенно пустые, ничтожные вещи, которые
решительно не представляют никакой ценности ни с какой
другой точки зрения, кроме единственной, коллекционерской,
как пункт влечения»1.
Бывает, конечно, и такое. Какой марксист станет это
отрицать? Но в данном случае под «пустой и ничтожной вещью,
не имеющей никакой ценности ни с какой точки зрения», автор
подразумевал деньги, ни больше ни меньше: «Разве мы не
читаем часто в газетах о скупцах — коллекционерах денег, о том,
что они среди денег умирают одинокими, в грязи, холоде
и голоде, ненавидимые и презираемые их окружающими и даже
близкими? Сопоставляя все это, необходимо прийти к
заключению, что это есть темное, первичное, неодолимое влечение,
инстинкт, или рефлекс»2.
Вот к чему приводит логика натуралистического объяснения
социальных по своему происхождению и сути феноменов,
1 Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей
нервной деятельности (поведения) животных. Условные рефлексы. М., 1951,
с. 198.
2 Там же.
Ш
способная околдовать и дезориентировать интеллект даже такого
масштаба, нацеливая его могучую силу на поиск в заведомо
ложном направлении.
Плюшкин и Гобсек — уродливые порождения мира частной
собственности. Потому-то о них (вернее, личностях подобного
типа) можно читать даже в газетах, а не только в сочинениях
Гоголя и Бальзака, где они были не просто описаны, но и
проанализированы как типичные (и тем самым необходимые) фигуры
«ансамбля» индивидов, связанных между собой отношениями
частной собственности, товарно-денежными отношениями.
Гоголь и Бальзак разгадали и раскрыли миру секрет рождения
и развития личности этого типа. «Человеческая комедия»
и «Мертвые души» показали, что в Гобсеке и Плюшкине нет
ровно ничего загадочного и мистического. Их психология была
художественно точно объяснена именно потому, что это
объяснение производилось как тщательный анализ тех
фактических отношений между индивидами, того «ансамбля» их
взаимоотношений, которые с необходимостью рождают и
стимулируют личность совершенно определенного типа, формируя
даже внешний облик, даже «сухопарые, как у оленя, ноги», на
которых ростовщик весь день бегает по Парижу.
И если такой анализ покажется кому-то лишь «донаучным»,
«ненаучным», «беллетристическим» описанием личности, то это
свидетельствует лишь о том, что свое представление о
психологии этот кто-то почерпнул из далеко не лучших источников — из
«психологии», созданной на базе интроспекционизма, то есть на
базе действительно беллетристического (в плохом смысле этого
слова) описания «психических феноменов», без малейшего
намека на исследование того фактического процесса, который
эти феномены произвел на свет божий.
Само собой понятно, что если о психологии иметь такое
представление, то разгадку тайны происхождения личности типа
Гобсека или Плюшкина придется отыскивать совсем не там, где
искали ее Бальзак и Гоголь,— не в «анатомии и физиологии»
общественного организма, создающего необходимые для своего
функционирования живые «органы», а в анатомии и физиологии
органического тела Плюшкина, Гобсека и им подобных,
в строжайшем отвлечении от всех «внешних» факторов, условий
и отношений их к другим индивидам, равно как и этих индивидов
к ним.
Двигаясь в русле этой логики, можно дойти до откровенно
реакционных вымыслов идеологического порядка, вроде
распространенных среди буржуазных исследователей утверждений
о наличии у человека таких врожденных, генетически
запрограммированных инстинктов, как «инстинкт агрессии», «ин-
стинкт власти» (над ближними), «инстинкт собственности»
(разумеется, частной собственности), «инстинкт»
принадлежности к узкой социальной группе, враждебно противостоящей
другим таким же группам (кланам, партиям, нациям, блокам
и т. п.), вплоть до «инстинкта» иерархической организации
«человеческого стада».
Ничуть не менее реакционную идеологическую роль играют
и приписываемые человеку «благородные» инстинкты, такие,
как генетически наследуемый «инстинкт альтруизма» (любви
к ближнему), «инстинкт творчества» и «самоотверженности»
и др. Никакой границы выдумыванию все новых и новых
«инстинктов» логика натуралистического объяснения
социальных феноменов не ставит и не может поставить. А роль
социальной «среды» при таком объяснении личности сводится
лишь к тому, что она одним «инстинктам» мешает проявиться
в полную силу, а другим — способствует. Вот и все, что остается
на долю «социальных факторов».
Нас могут спросить, был ли смысл, критикуя
натуралистический подход к объяснению человеческой психики, личности,
упоминать о позиции в этом вопросе великого физиолога
И. П. Павлова, который не был, да и не мог быть достаточно
компетентным в области психологии уже хотя бы потому, что
был знаком лишь с ее интроспекционистским направлением,
неспособным предложить действительно научных ориентиров
в решении проблемы личности. Не разумнее ли было
сосредоточить критическое внимание на таких современных образцах
грубо натуралистической апологетики наличных социальных
отношений, как, скажем, теории бихевиористов, фрейдистов,
неофрейдистов и откровенных расистов?
Мы и упомянули об И. П. Павлове именно затем, чтобы
лишить их возможности беспрепятственно ссылаться на его
авторитет там, где речь заходит о вещах, отношения к
физиологии не имеющих, а именно — об отношениях человека к
человеку, о проблемах, завязывающихся (а потому и развязываемых)
в сфере экономики, в сфере нравственности, в сфере политики,
в сфере человеческой психологии, то есть в сферах, где самый
компетентный физиолог роль научного авторитета играть не
может.
Кроме того, нам хотелось подчеркнуть, что любая попытка
физиолого-биологически интерпретировать личность еще никого
никогда и нигде не приводила к иному результату, чем
натуралистическая апологетика наличной социально-исторической
формы взаимных отношений человека к человеку («человека
к самому себе»), то есть наличной формы разделения труда
(а стало быть, и деятельных способностей) между индивидами,
:Г)0
делающей каждого из них как раз такой личностью,
которая «нужна» и «задана» существующей системой разделения
труда: одного — личностью рабского типа, другого —
личностью «свободного»; одного — «королем», другого — его
«подданным».
Логика, заставляющая искать «объективное основание» для
социальных различий между людьми в различиях их
врожденной анатомо-физиологической организации, оказывается
особенно живучей применительно к фактам современной жизни,
к наличной стадии разделения общественного труда и
соответствующему ее нуждам разделению способностей между
индивидами. Рассуждения при этом строятся так: членение на классы
«капиталистов» и «наемных рабочих» еще можно объяснить по
логике «чисто социологического» мышления, а вот как
объяснить в духе той же логики разделение людей на «талантливых
творческих индивидов» и «бездарных репродуктивов»?
Социальный строй отношений человека к человеку тут вроде бы ни при
чем. Значит, придется принимать в расчет естественно-
природные, врожденные различия между индивидами. В таких
случаях обычно из статьи в статью, из книги в книгу повторяется
один и тот же аргумент: «социальная среда» одинакова, а какие
разные получаются люди. Из одного получается Плюшкин, из
другого-— Ноздрев, из третьего — Манилов. Из одного —
Платон, из другого — Демокрит. Из одного — Моцарт, из другого —
Сальери. Где же искать причину этих различий? Не иначе как
в генах, в особенностях морфологии мозга.
Ошибочность подобного рассуждения заключается в том, что
социальный строй («среда») понимается здесь крайне
абстрактно (а потому и ложно) как некий вне индивидов
находящийся безличный механизм, как гигантский штамп, норовящий
впечатать в каждый «мозг» одну и ту же психическую схему.
Если бы дело обстояло действительно так, то в биологической
неодинаковости мозгов пришлось бы видеть единственную
причину того обстоятельства, что «отпечатки» социального
штампа каждый раз получаются разные, варьирующиеся. Но
«среда», о которой идет речь, иная. Это всегда конкретная
совокупность взаимоотношений между реальными индивидами,
многообразно расчлененная внутри себя, и не только на
основные — классовые — противоположности, но и на другие
бесконечно разнообразные узлы и звенья, на локальные
«ансамбли» внутри этих основных противоположностей, вплоть
до такой ячейки, как семья с ее «внутренними» отношениями
между индивидами, в чем-то всегда очень схожая, а в чем-то
совсем несхожая с другой такой же семьей. Да и внутри семьи
взаимоотношения между составляющими ее индивидами тоже со
.451
временем меняются, и иногда очень быстро — иной раз в течение
часов и даже считанных минут.
При таком понимании «среды» аргумент об ее
«одинаковости» уже не выглядит столь убедительным и очевидным, каким
он кажется сторонникам морфофизиологического толкования
различий между людьми. Такое понимание «среды»
возникновения и развития личности исключает односторонний социологизм
и не оставляет лазейки для физиологической интерпретации
личности, для безвыходного дуализма такого ее толкования,
которое обрекает психологию на оппортунистические шатания
между Марксом и Фрейдом, между материализмом и
псевдоматериализмом, а точнее, между материализмом и физиологическим
идеализмом, рядящимся под материализм.
Подобное толкование личности ориентирует мышление на
полную неразбериху и в вопросе о том, какие именно
индивидуальные особенности человека относятся к характеристикам его
личности, а какие не имеют к ней отношения, поскольку
совершенно нейтральны, индифферентны к ее психической
структуре и принадлежат к разряду чистейших случайностей,
с равным успехом могущих быть и совершенно другими, даже
прямо противоположными, абсолютно ничего не меняя в
личности по существу.
С этой точки зрения одинаково важны все особенности
индивида. А если важно все, значит, ничто не важно. И те черты
личности, скажем, Моцарта, которые сделали его именно
Моцартом, оказываются в одном ряду с такими особенностями
его натуры, которые присущи и другим индивидам, может быть,
даже общи ему с Сальери, к примеру, привычка пить по утрам
кофе, а не чай, а по вечерам — шампанское вместо бургундского.
Могло быть и наоборот.
Легко допустить, что А. С. Пушкин мог вложить в уста
своего героя и такую фразу: «Откупори бургундского бутылку
иль перечти «Женитьбу Фигаро»...»,— а вот вариант вроде:
«Откупори шампанского бутылку или вчитайся в «Исповедь»
Руссо» — вряд ли. Первое с образом личности Сальери вяжется,
а второе — нет. Дело в том, что в одних индивидуальных
особенностях человека выражается, проявляется его личность,
а в других выражает себя все что угодно — тончайшие
особенности биохимии его организма, мода века, просто причуды вкуса,
только не личность.
Нельзя научно исследовать личность, не имея четкого
критерия для различения тех индивидуальных особенностей
человека, которые характеризуют его как личность, от таких
(может быть, даже кричащих и прежде всего бросающихся
в глаза), которые ни малейшего отношения к его личности не
:г>2
имеют и могут быть заменены на обратные с такой же легкостью,
как фасон пиджака или прическа.
Бывают в жизни даже такие ситуации, когда усилия человека
направлены на то, чтобы под маской, наигранной позой,
используя взятые напрокат внешние штампы или набор
общепринятых стандартов, спрятать свою подлинную личность.
Достаточно вспомнить героя широко известного телевизионного
фильма — Штирлица.
А бывает и так, что маска приклеивается к лицу человека
настолько прочно, что он уже не в силах содрать ее. И тогда
маска начинает заменять ему собственную личность (если,
разумеется, таковая была), а прежняя личность потихоньку
атрофируется за ненадобностью, превращается в призрак
воспоминания, в самообман. Эту ситуацию, которая со стороны
может показаться даже комической, но всегда трагически-
невыносима для самого человека с «чужим» и неподвластным
ему «лицом», весьма наглядно представили людям Марсель
Марсо и Чарли Чаплин, Кобо Абэ и Бергман.
А если жизнь все-таки с человека эту маску сорвет, то образ
возникает еще более кошмарный: маска сорвана, а под нею и за
нею собственного лица уже вообще нет. Человек без лица, как
часы без стрелок,— бесформенная масса, биохимия плоти.
Зрелище тем более страшное, что иллюзия наличия личности —
индивидуально-неповторимое самочувствие этой плоти — не
только полностью сохраняется, но и становится болезненно
гипертрофированным. Это ситуация абсолютного одиночества
среди толпы, сходная с той, в какую попадают герои бергманов-
ского «Молчания», люди, приехавшие в чужой город, где никто
не понимает их родного языка, где они никому не в состоянии
поведать самых простых вещей, где никому нет никакого дела до
их личности, ибо никто ее просто не видит, не слышит, не
ощущает. Потому ли, что отсутствуют взаимопонятные средства
общения личности с личностью? Или потому, что никакой
личности ни с той ни с другой стороны тут уже и нет?
И вот то, что еще сохранилось здесь от личности, начинает
уродливо искажаться, как в зеркалах комнаты смеха, как
в кошмарном сновидении, а сфера самоощущения превращается
в средоточие боли одиночества, боли «личности», которая ни для
кого другого, кроме самой себя, не существует. Боль, которую
она испытывает,— это боль заживо похороненного.
А существует ли в такой ситуации личность, хотя бы внутри
себя? Только в виде средоточия собственного страдания —
страдания личности, утратившей самое себя. И то до поры до
времени, до той точки, где страдание становится уже и
физически невыносимым. И тогда — самоубийство. Сюжет, обсосанный
:г>.ч
тысячи раз и экзистенциальной беллетристикой, и
экзистенциалистской психологией.
Именно такой «личностью» и этикой такой «личности»
экзистенциалисты хотели бы «дополнить» марксизм.
Личность, утратившая самое себя,— это индивид,
утративший все личностные, то есть социально-человеческие связи
с другими индивидами, это «ансамбль», все связи между
участниками коего прерваны и торчат во все стороны, как
болезненно кровоточащие обрывки. Не приходится благодарить
за такое «дополнение».
Марксистско-ленинское понимание личности требует совсем
иного выхода из подобной ситуации — восстановления всей
полноты личностных, общественно-человеческих, отношений
человека к человеку. Восстановления отношений, которые
опосредствованы «вещами», сохраняющими
человечески-личностный характер, в том числе и такими, как слова. Те самые слова,
которые в известных условиях становятся преградой для
взаимопонимания, вместо того чтобы быть посредником, формой
выражения личности во всем ее неповторимом своеобразии,
формой человеческого общения, формой «наличного бытия
человека для другого человека».
В конце концов, всегда можно определить, имеем ли мы дело
со словоизъявлением личности или же только с произнесением
штампованных словосочетаний, в которых свое «Я» говорящий
никак не выражает, то есть с актом, в котором «личность»
с успехом может быть заменена звуковоспроизводящим
устройством. В любом случае, даже если такое устройство может
переставлять слова и фразы, ставить их в необычный порядок
и связь, создавая тем самым иллюзию индивидуальной
неповторимости речи, индивидуальной неповторимости словосочетаний,
всегда можно обнаружить хитрое или нехитрое правило,
«алгоритм» создания этой иллюзии. «Игру без правил» способна
осуществлять только человеческая индивидуальность, то есть
личность.
Экзистенциалисты изображают дело так, будто «личностное»
(«экзистенциальное») в человеке — это тот остаток, который
получается за вычетом всех без исключения социальных
(«институциональных») форм существования человека и форм
выражения такого существования. А социальные формы
человеческой жизнедеятельности третируются ими как чуждые
личности (как «отчужденные» от нее) безликие штампы,
стандарты, стереотипы, как извечно враждебные личности силы.
Личность в экзистенциальном понимании — это то, что
принципиально невыразимо в сколь угодно хитроумном
сочетании «социальных стереотипов» (будь то стереотипы поведения,
ш
языка или самочувствия), мистически-неуловимое «нечто»,
равное «ничто», «небытию», смерти в ее обрисованном
выше виде. Такое понимание личности есть, однако, не что иное,
как выраженное на философском языке честное самоиризнание
индивидуальности вполне определенного исторического типа.
А именно — той индивидуальности, для которой социальный
строй ее взаимоотношений с другими индивидуальностями
наглухо закрывает возможность проявлять себя, свою
неповторимость в реальном социальном действии, в сфере реальных
взаимоотношений с другими людьми.
Индивидуальность, лишенная возможности проявлять себя
в действительно важных, значимых не только для нее одной,
а и для другого (для других, для всех) действиях, поскольку
формы таких действий заранее заданы ей, ритуализированы
и охраняются всей мощью социальных механизмов, поневоле
начинает искать выхода для себя в пустяках, в ничего не
значащих (для другого, для всех) причудах, в странностях.
И чем меньше действительно индивидуального, заранее не
заштампованного отношения к действительно серьезным,
социально значимым вещам дозволяется ей проявлять, тем больше
она хорохорится своей «неповторимостью» в мелочах, в ерунде,
в курьезных особенностях: в словах, в одежде, "в манерах,
в мимитсе, призванных лишь скрыть (и от других и прежде всего
от себя самой) отсутствие личности (индивидуальности)
в главном, в решающем — в социально значимых параметрах.
Иными словами, тут индивидуальность становится лишь маской,
за которой на деле умело скрывается набор чрезвычайно общих
штампов, стереотипов, безличных алгоритмов поведения и речи,
дел и слов.
И наоборот, действительная личность обнаруживает себя
тогда и там, когда и где индивид в своих действиях и продукте
своих действий вдруг производит результат, всех других
индивидов волнующий, всех других касающийся, всем другим
близкий и понятный, короче — всеобщий результат, всеобщий
эффект. Платон или Евклид, Ньютон пли Спиноза, Бетховен пли
Наполеон, Робеспьер или Мнкеланджело, Чернышевский или
Толстой — это личности, которых ни с кем другим не спутаешь,
в которых сконцентрировано, как в фокусе, социально значимое
(то есть значимое для других) дело их жизни, ломающее косные
штампы, с которыми другие люди свыклись, несмотря на то что
эти штампы уже устарели, стали тесны для новых, исподволь
созревающих форм отношений человека к человеку. Поэтому
подлинная личность, утверждающая себя со всей присущей ей
энергией и волей, и становится возможной лишь там, где налицо
назревшая необходимость старые стереотипы жизни ломать,
ЗЪЪ
лишь там, где кончился период застоя, господства косных
штампов и настала пора революционного творчества, лишь там,
где возникают и утверждают себя новые формы отношений
человека к человеку, человека к самому себе.
Масштаб личности человека измеряется только масштабом
тех реальных задач, в ходе решения которых она и возникает,
и оформляется в своей определенности, и разворачивается
в делах, волнующих и интересующих не только собственную
персону, а и многих других людей. Чем шире круг этих людей,
тем значительнее личность, а чем значительнее личность, тем
больше у нее друзей и врагов, тем меньше равнодушных, для
которых само ее существование безразлично, для которых она
попросту не существует.
Поэтому сила личности — это всегда индивидуально
выраженная сила того коллектива, того «ансамбля» индивидов,
который в ней идеально представлен, сила
индивидуализированной всеобщности устремлений, потребностей, целей, ею
руководящих. Это сила исторически накопившейся энергии
множества индивидов, сконцентрированная в ней, как в фокусе,
и потому способная сломать сопротивление исторически
изживших себя форм отношений человека к человеку, противодействие
косных штампов, стереотипов мышления и действия,
сковывающих инициативу и энергию людей.
Личность тем значительнее, чем полнее и шире представлена
в ней — в ее делах, в ее словах, в поступках — коллективно-
всеобщая, а вовсе не сугубо индивидуальная ее неповторимость.
Неповторимость подлинной личности состоит именно в том, что
она по-своему открывает нечто новое для всех, лучше других
и полнее других выражая «суть» всех других людей, своими
делами раздвигая рамки наличных возможностей, открывая для
всех то, чего они еще не знают, не умеют, не понимают. Ее
неповторимость не в том, чтобы во что бы то ни стало выпячивать
свою индивидуальную особенность, свою «непохожесть» на
других, свою «дурную индивидуальность», а в том и только
в том, что, впервые создавая (открывая) новое всеобщее, она
выступает как индивидуально выраженное всеобщее.
Подлинная индивидуальность — личность — потому и
проявляется не в манерничанье, а в умении делать то, что умеют
делать все другие, но лучше всех, задавая всем новый эталон
работы. Она рождается всегда на переднем крае развития
всеобщей культуры, в создании такого продукта, который
становится достоянием всех, а потому и не умирает вместе со
своим «органическим телом».
С этим же связана и давно установленная в философии
и психологии синонимичность «личности» и «свободы». Свободы
.Г)»»
не в обывательском смысле (в смысле упрямого стремления
делать то, что «мне желается»), а в смысле развитой способности
преодолевать препятствия, казалось бы, неодолимые, в
способности преодолевать их легко, изящно, артистично, а значит,
в способности каждый раз действовать не только согласно уже
известным эталонам, стереотипам, алгоритмам, но и каждый раз
индивидуально варьировать всеобщие способы действия
применительно к индивидуально-неповторимым ситуациям,
особенностям материала.
Потому-то личность и есть лишь там, где есть свобода.
Свобода подлинная, а не мнимая, свобода действительного
развертывания человека в реальных делах, во взаимоотношениях
с другими людьми, а не в самомнении, не в удовольствии
ощущения своей мнимой неповторимости.
Потому-то личность не только возникает, но и сохраняет себя
лишь в постоянном расширении своей активности, в расширении
сферы своих взаимоотношений с другими людьми и вещами, эти
отношения опосредствующими. Там же, где однажды найденные,
однажды завоеванные, однажды достигнутые способы
жизнедеятельности начинают превращаться в очередные штампы-
стереотипы, в непререкаемые и догматически зафиксированные
мертвые каноны, личность умирает заживо: незаметно для себя
она тоже превращается медленно или быстро в набор таких
шаблонов, лишь слегка варьируемых в незначительныхчдеталях.
И тогда она, рано или поздно, перестает интересовать
и волновать другого человека, всех других людей, превращаясь
в нечто повторяющееся и привычное, в нечто обычное, а в конце
концов и в нечто надоевшее, в нечто для другого человека
безразличное, в нечто безличное — в живой труп. Психическая
(личностная) смерть нередко наступает в силу этого гораздо
раньше физической кончины человека, а бывшая личность,
сделавшаяся неподвижной мумией, может принести людям горя
даже больше, чем его натуральная смерть.
Подлинная же, живая личность всегда приносит людям
естественную радость. И прежде всего потому, что, создавая то,
что нужно и интересно всем, она делает это талантливее, легче,
свободнее и артистичнее, чем это сумел бы сделать кто-то другой,
волею случая оказавшийся на ее месте. Тайна подлинной, а не
мнимой оригинальности, яркой человеческой индивидуальности
заключается именно в этом. Вот почему между «личностью»
и «талантом» тоже правомерно поставить знак равенства, знак
тождества.
По той же причине уходящие, реакционные социальные силы
способны порождать достаточно яркие фигуры, личностей, вроде
Рузвельта или Черчилля, лишь постольку, поскольку они еще
:ш
являются силами, то есть сохраняют известное влияние
в обществе. Но чем дальше, тем более представляющие эти силы
личности мельчают, так что и «личностями»-то их называть
становится все труднее и труднее.
Подлинную же высокую и непреходящую радость людям
приносит личность, олицетворяющая силы прогресса, ибо смысл
его как раз и состоит в расширении сферы творческой
деятельности кажого человека, а не в сохранении ее границ в пределах
привилегии немногих «избранных». Его смысл — в
превращении каждого живого человека в личность, в активного деятеля,
интересного и важного для других, для всех, а не только для
самого себя и ближайших родственников.
Именно на этом пути, а вовсе не в физиологии мозга, не
в «неповторимости» структур индивидуального тела, равно как
и не в недрах мистически неуловимой монады-экзистенции
(которая и есть не более как философически-беллетристический
псевдоним морфофизиологической уникальности единичного
мозга), и надо искать ответ на вопрос: «Что же такое личность
и откуда она берется?»
Хотите, чтобы человек стал личностью? Тогда поставьте его
с самого начала — с детства — в такие взаимоотношения
с другим человеком (со всеми другими людьми), внутри которых
он не только мог бы, но и вынужден был стать личностью.
Сумейте организовать весь строй его взаимоотношений с людьми
так, чтобы он умел делать все то, что делают они, но только
лучше.
Конечно же все делать лучше всех нельзя. Да и не нужно.
Достаточно делать это на том — пусть и небольшом — участке
общего (в смысле коллективно осуществляемого, совместного,
социального) дела, который сам человек себе по зрелом
размышлении выбрал, будучи подготовлен к ответственнейшему
акту свободного выбора всесторонним образованием.
Именно всестороннее, гармоническое (а не уродливо-
однобокое) развитие каждого человека и является главным
условием рождения личности, умеющей самостоятельно
определять пути своей жизни, свое место в ней, свое дело, интересное
и важное для всех, в том числе и для него самого.
Вот и надо заботиться о том, чтобы построить такую систему
взаимоотношений между людьми (реальных, социальных
взаимоотношений), которая позволит превратить каждого живого
человека в личность.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ЛЕНИНСКАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 7
Классово-пролетарская точка зрения 9
Идейная убежденность 13
Коллективистская этика 15
ПРАВДА-СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВДА-ИСТИНА 19
В поисках социальных идеалов 23
Испытания на практике 29
Нравственность и революция 36
Революционная преемственность поколений 42
Революционная теория и этика революционера 49
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ 57
Символ безволия или боец-одиночка? ч59
На этой почве нам действовать всегда 64
Гарантия бессмертия наших идей и дела 75
Товарищество поколений и коммунистическое воспитание 80
СОКРАТ И МЫ 91
«Сократовский характер» 93
Сократ и «учителя мудрости» 101
Сократ и ученики Ш
Выбор Сократа 124
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 131
Проблематичные характеры и «вечные вопросы» 133
Личность: образ жизни, позиция 156
Прежде всего — труженик... 187
Об интеллигенции и интеллигентности 217
ТОЛЬКО ОБ ОДНОЙ ЗВЕЗДЕ 251
Предмет нашей национальной и общесоветской гордости 253
Момент выбора 256
Личность художника-патриота 259
Чувство пути 266
Не попутчик, а спутник 276
359
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ИДЕАЛОВ 283
Цена свободы или цена капитализма? 287
«По тусторону свободы и достоинства» 298
Мнимая дилемма и реальная альтернатива 311
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛИЧНОСТЬ? 319
Две логики — два подхода 323
Органическое и неорганическое тело человека 328
Так рождается личность 333
Самочувствие, самосознание и реальная личность 338
В каком пространстве существует личность? 344
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ЛИЧНОСТЬ
Издание второе