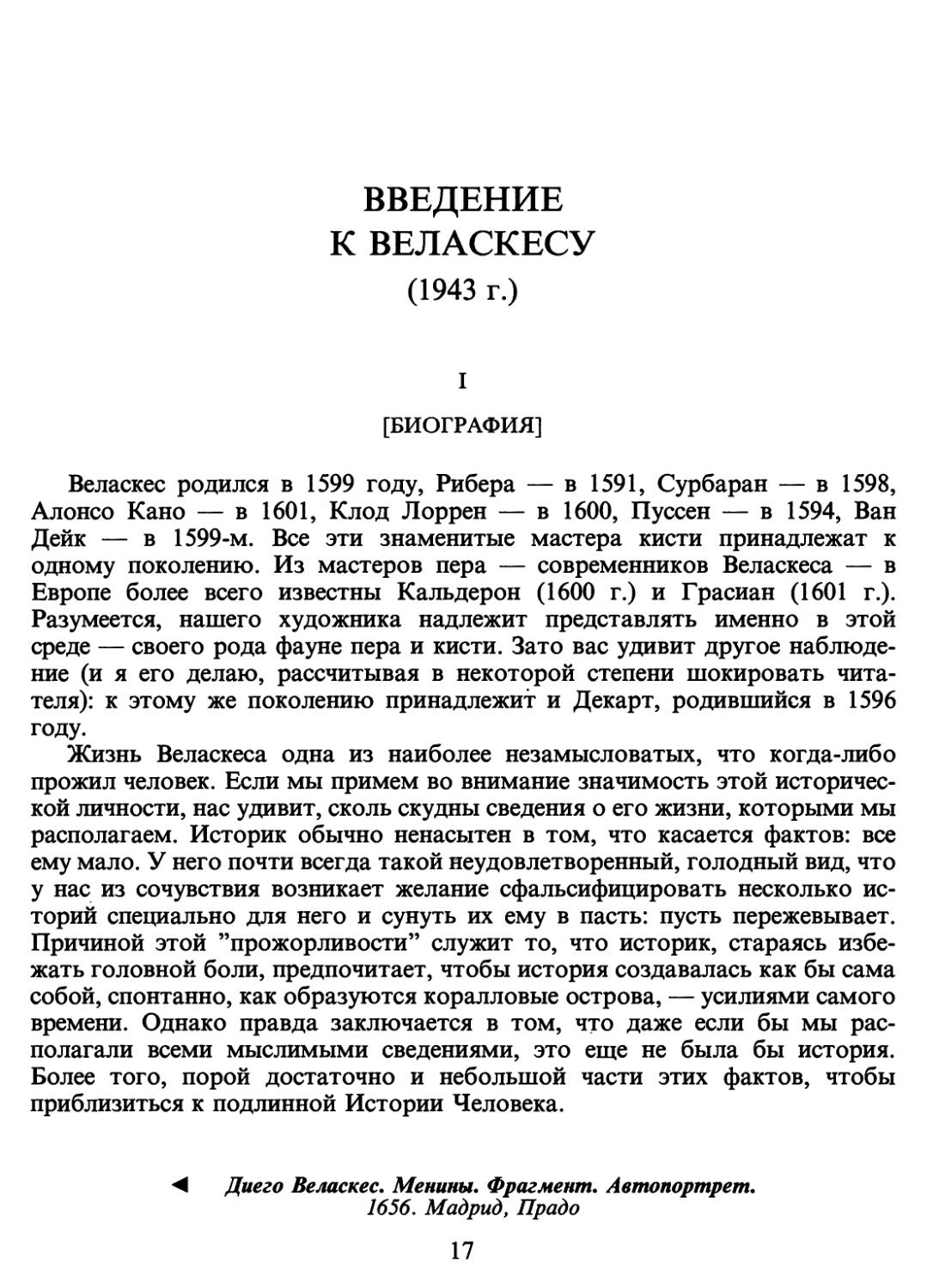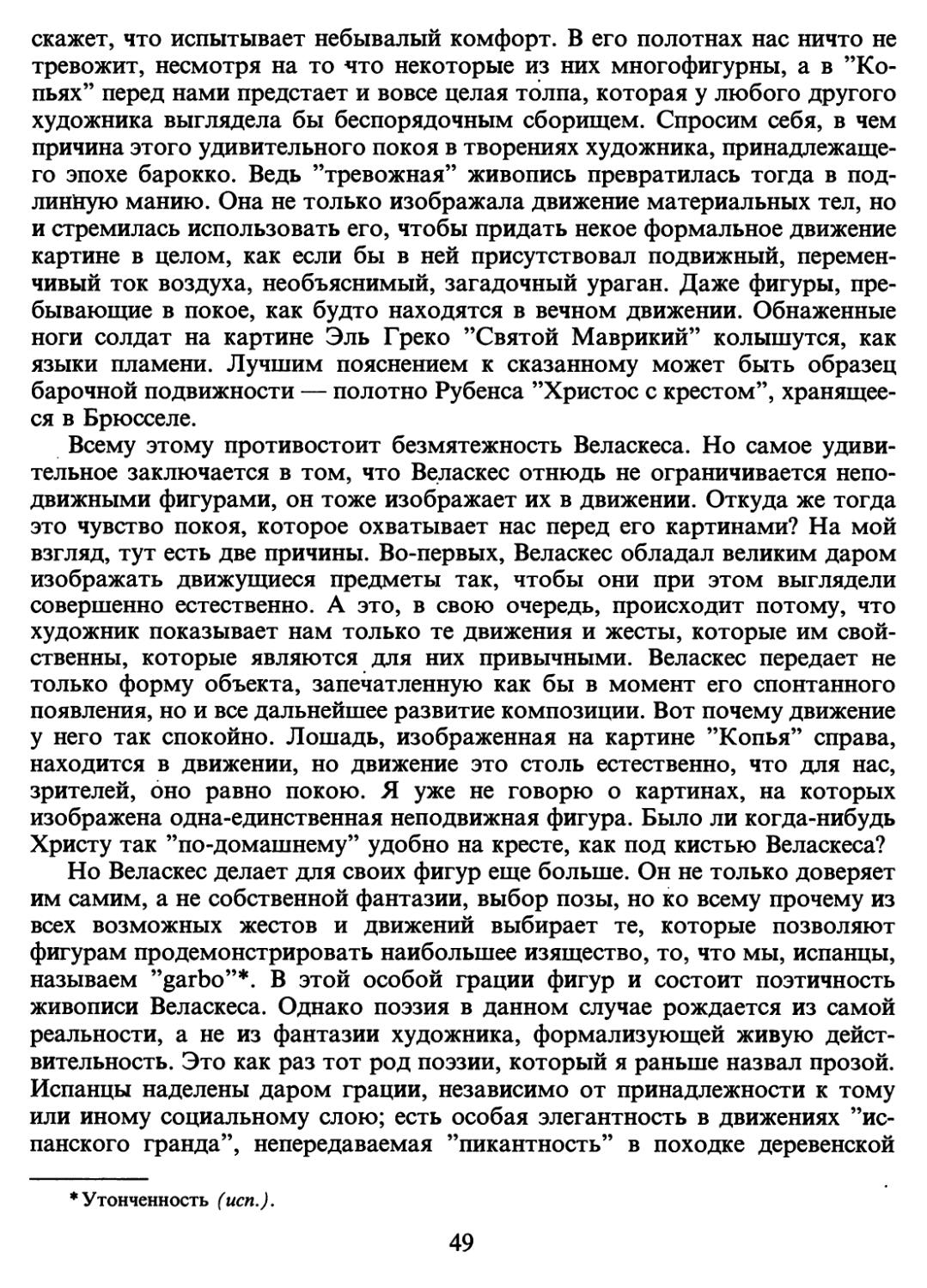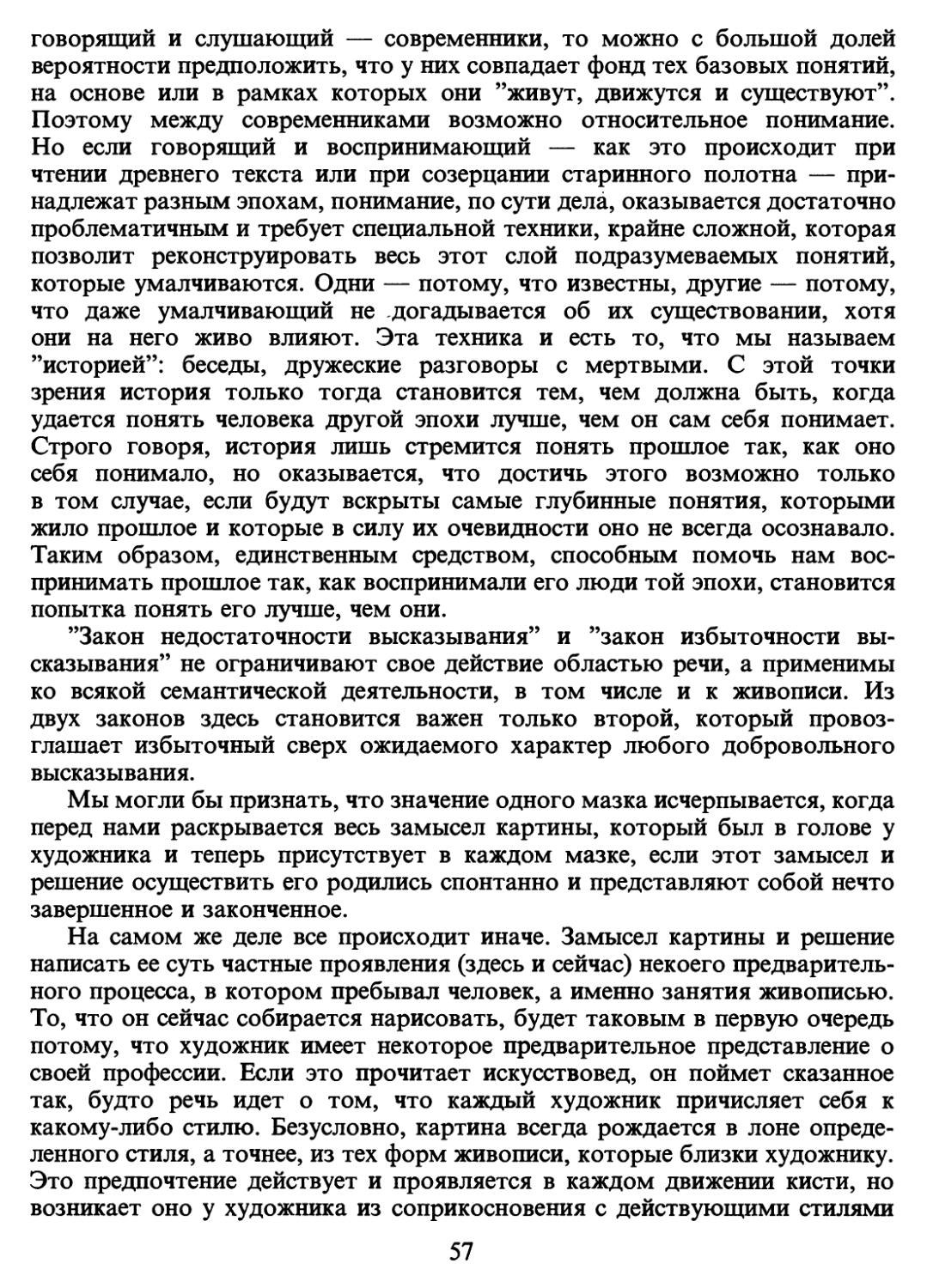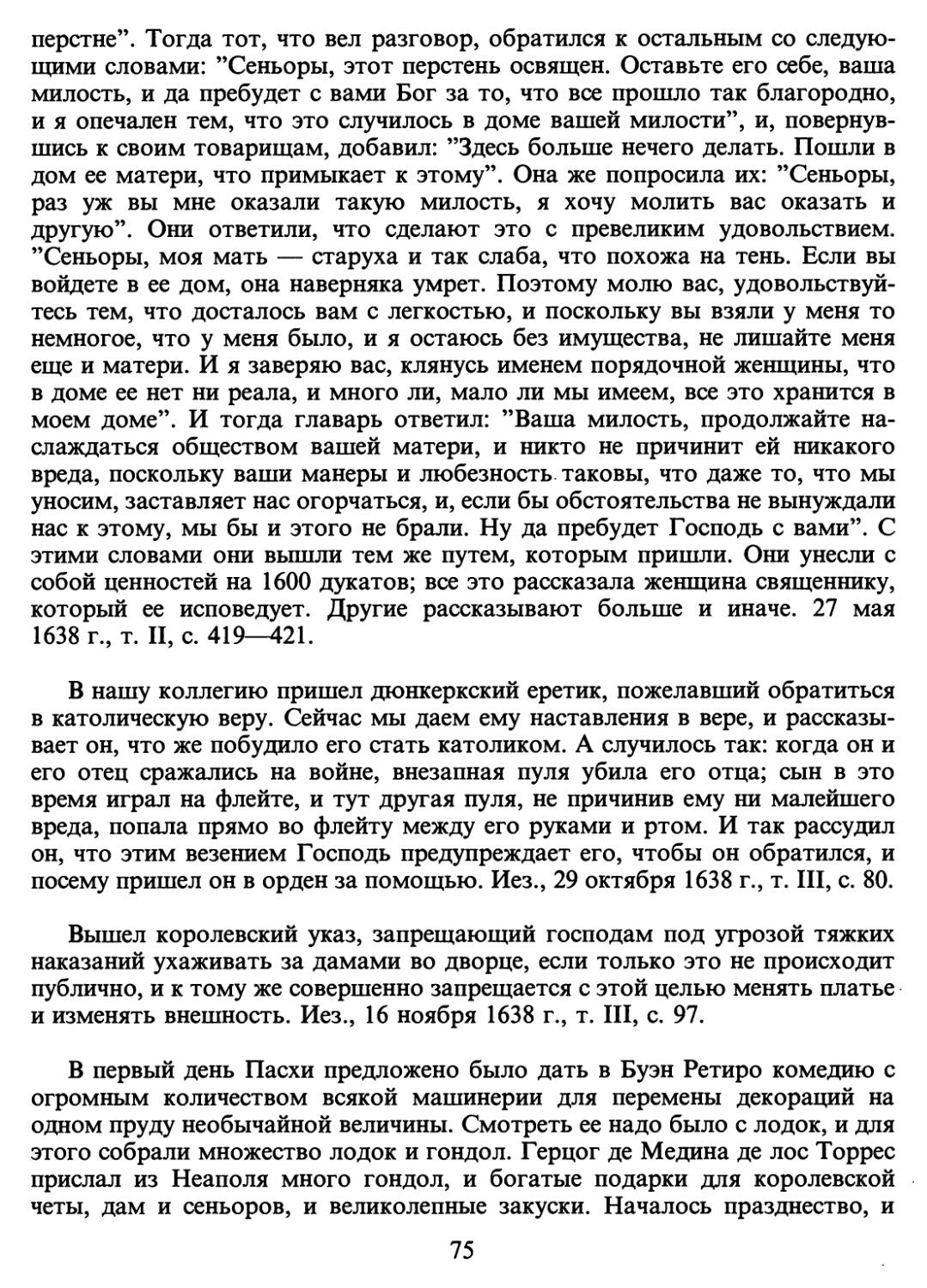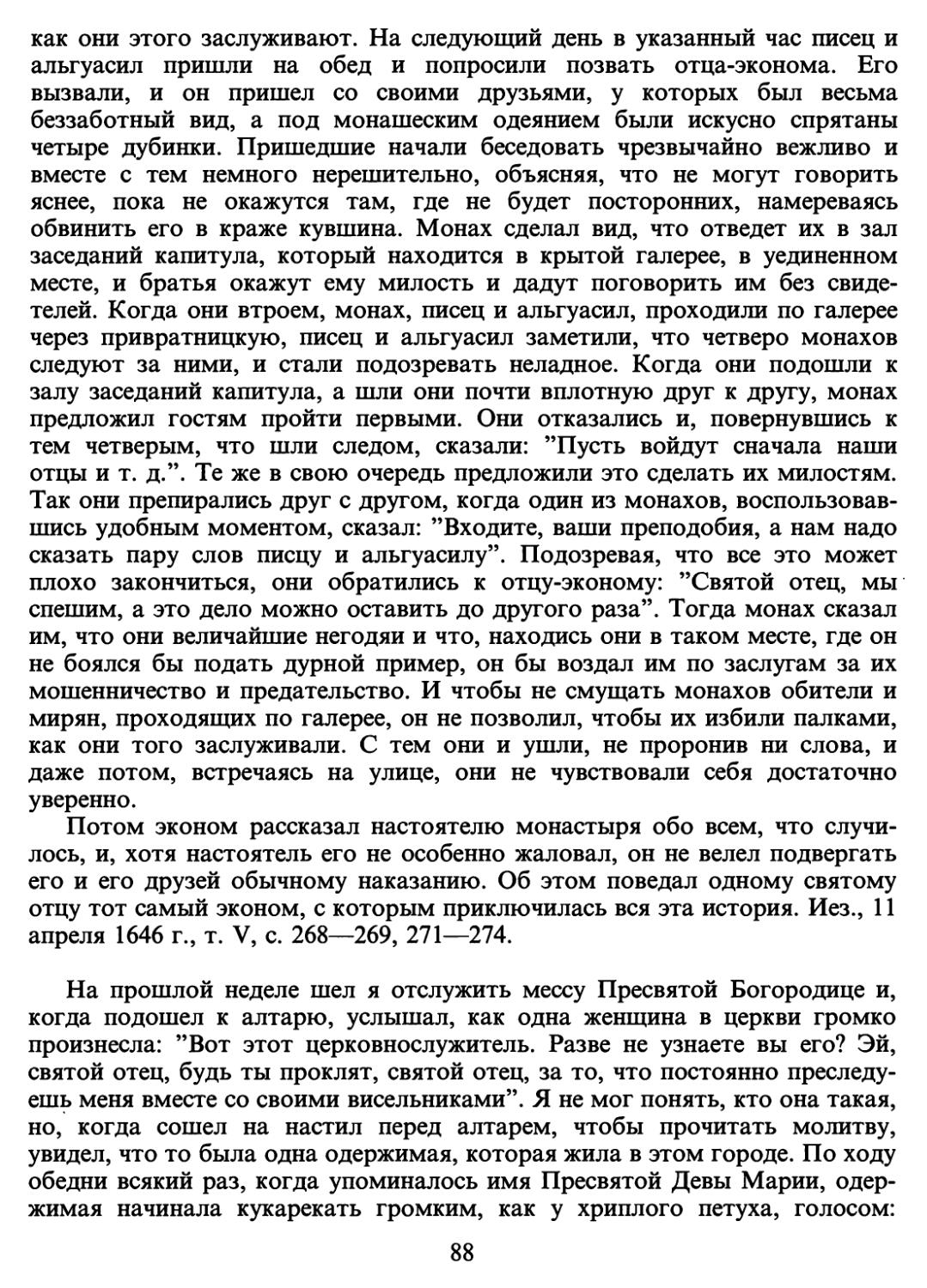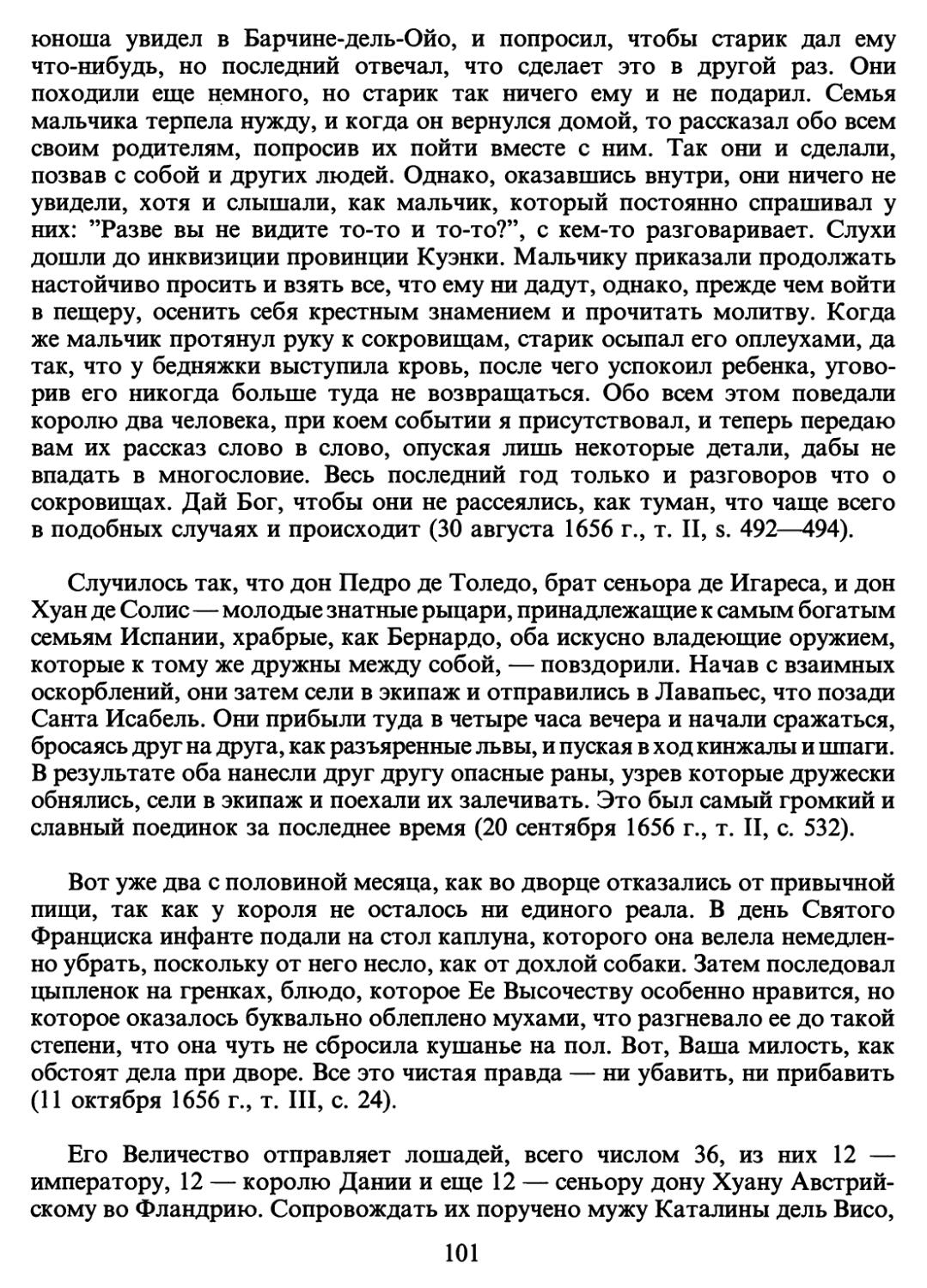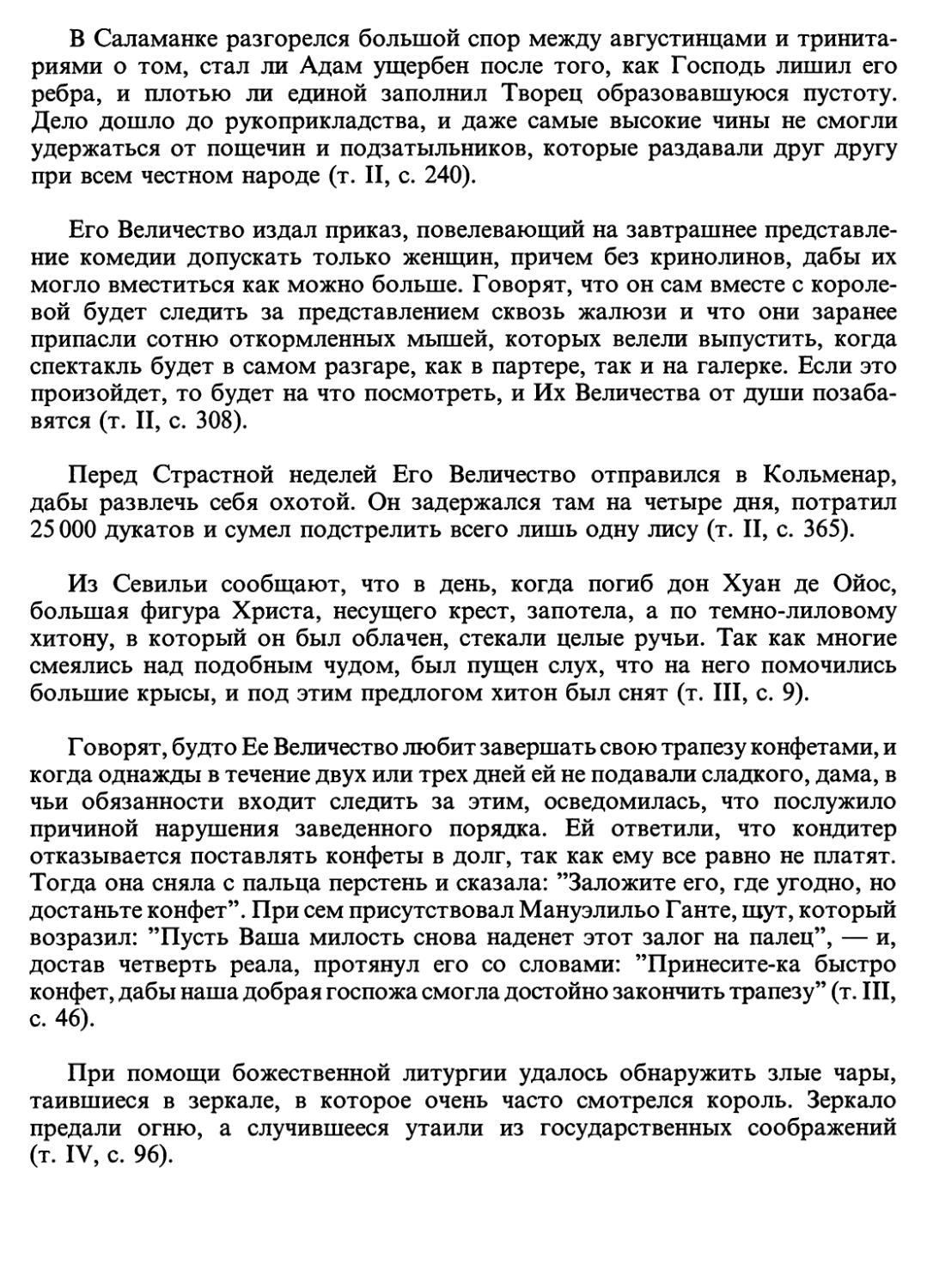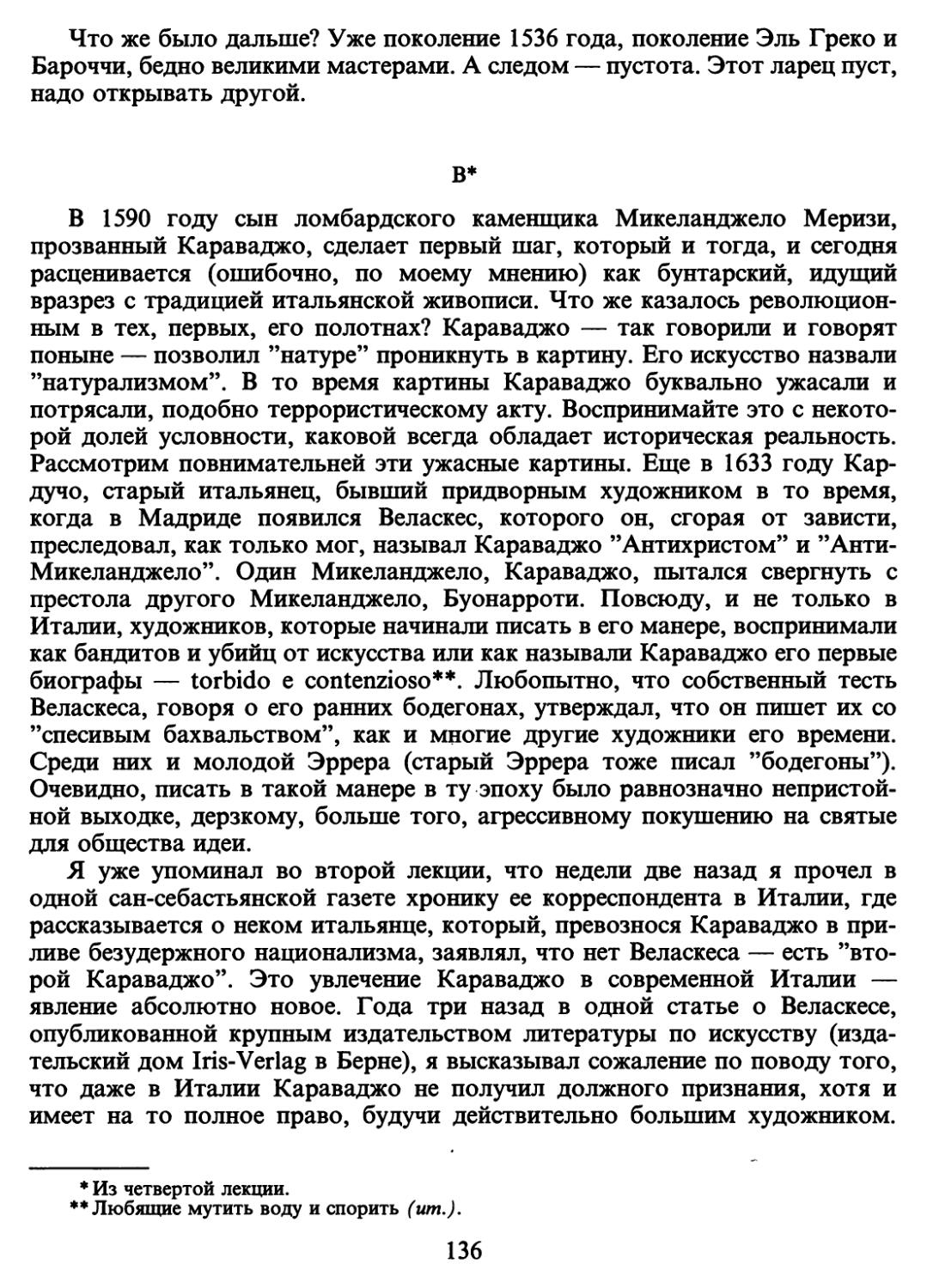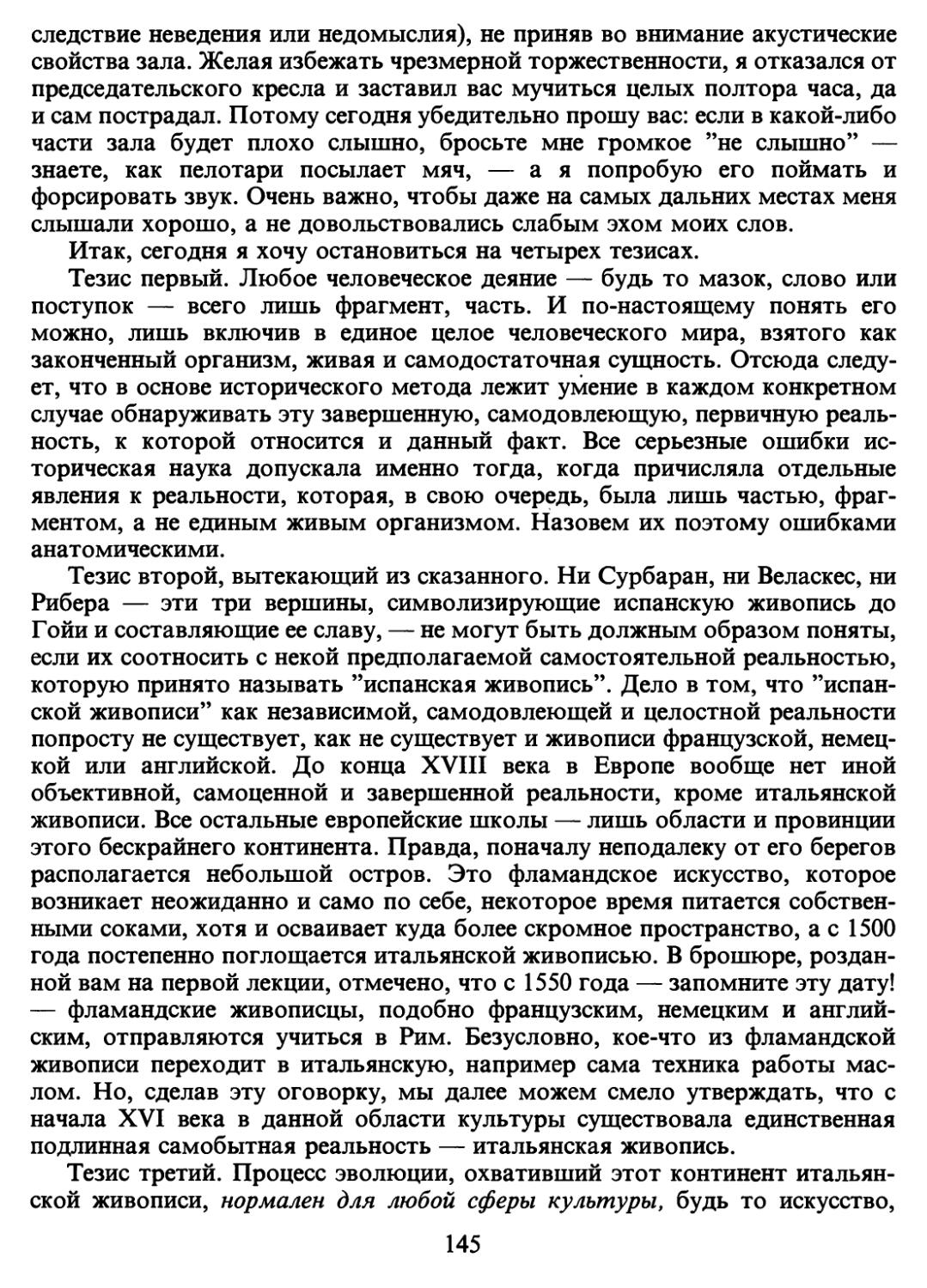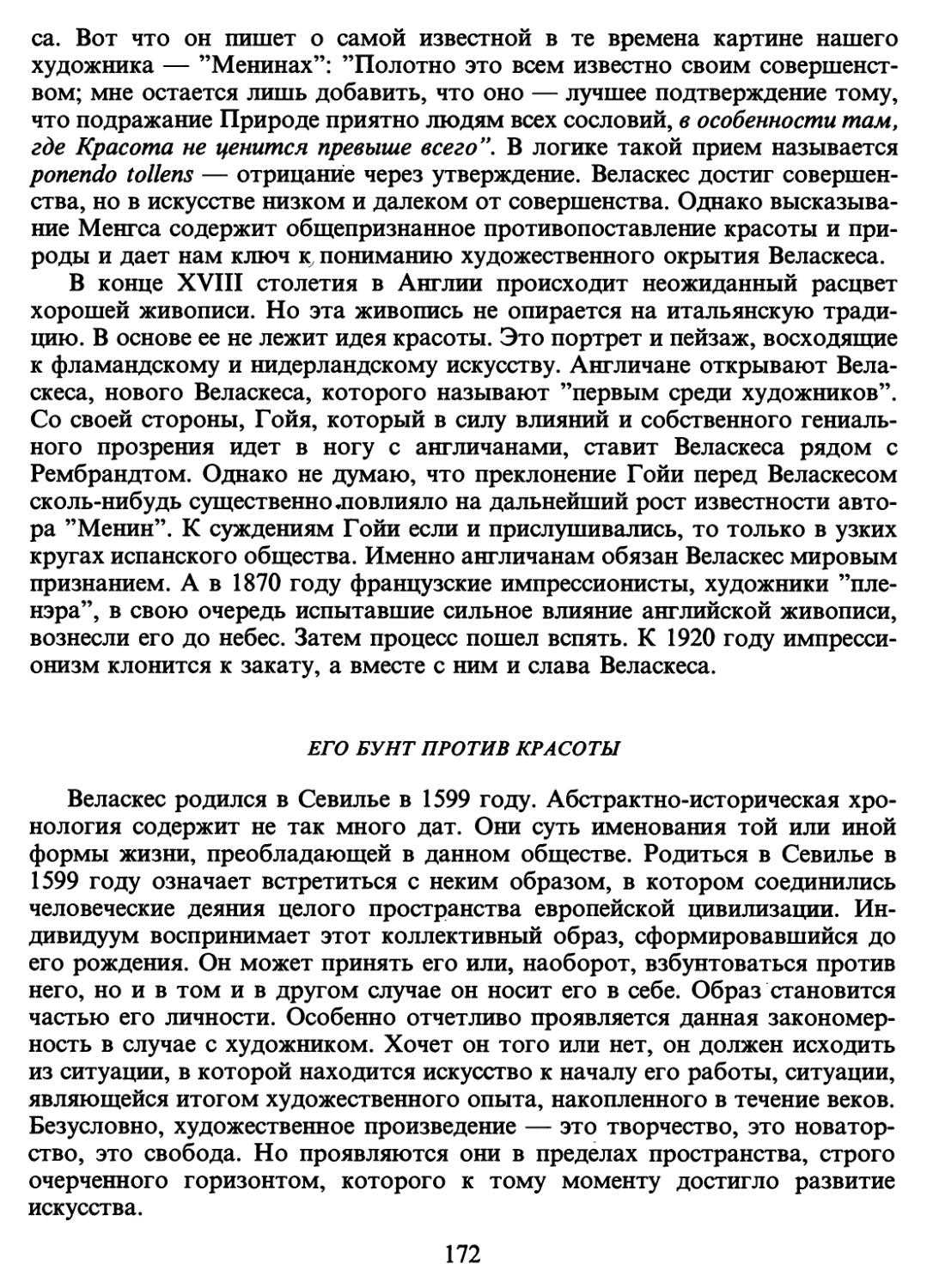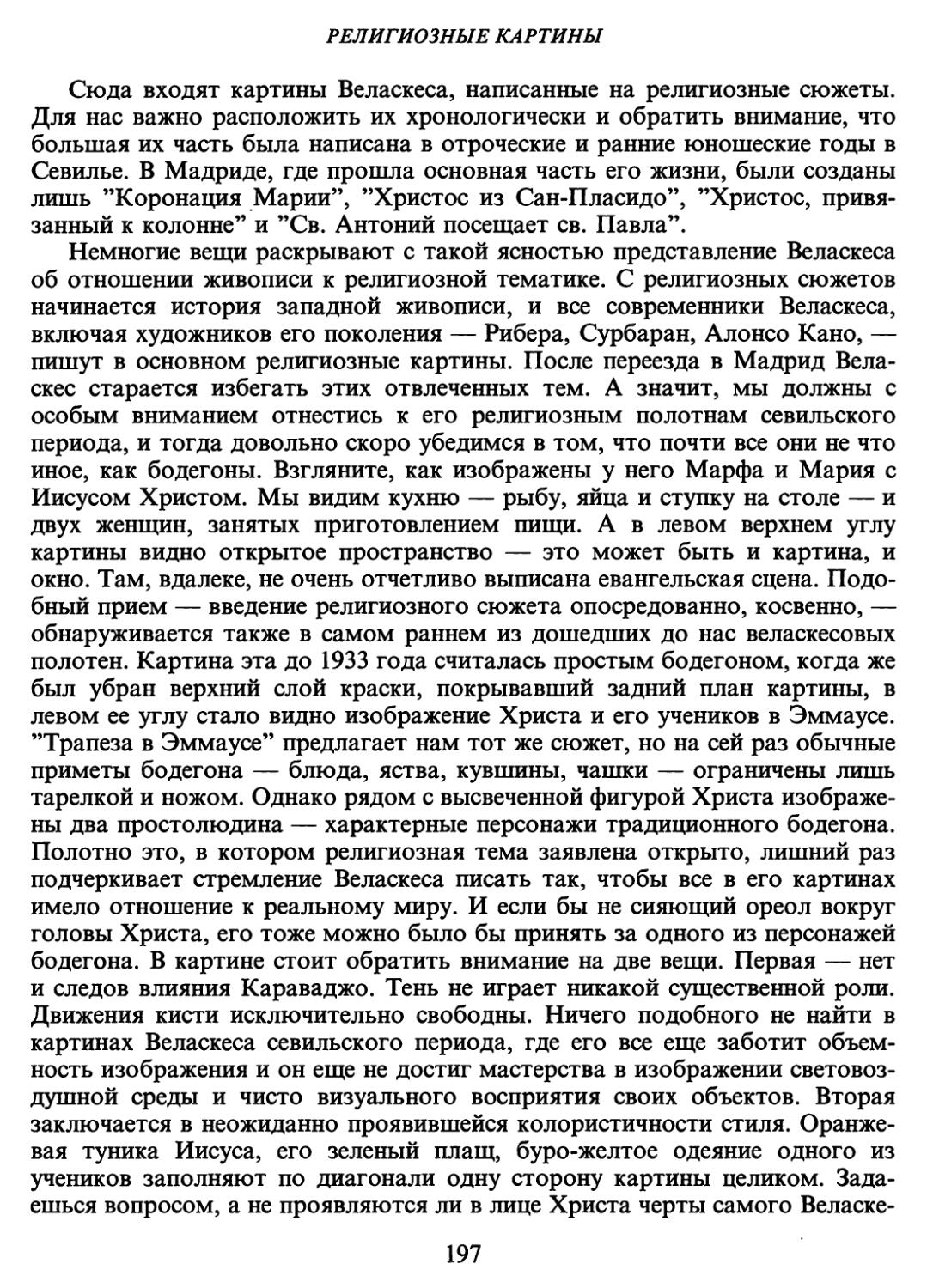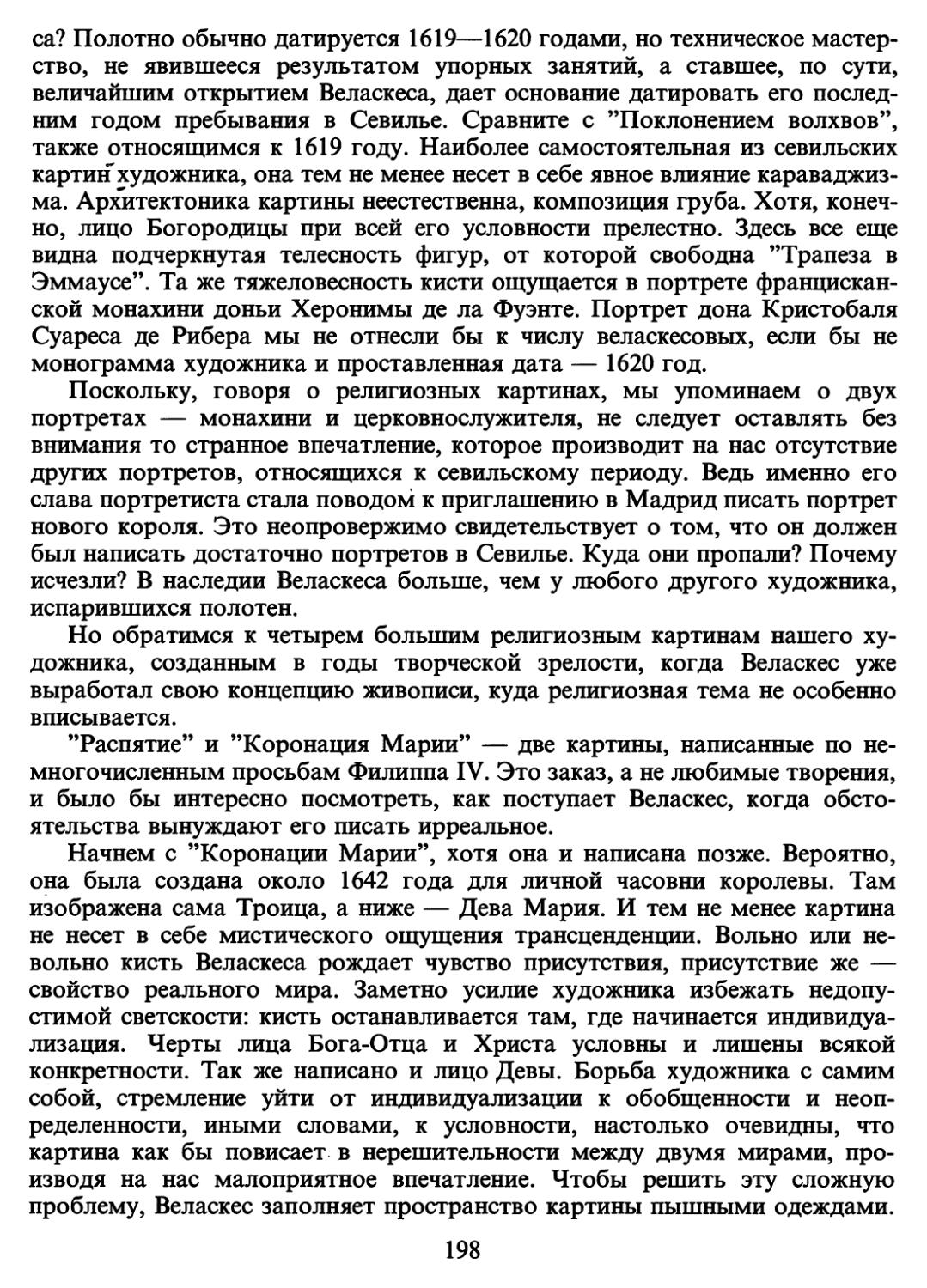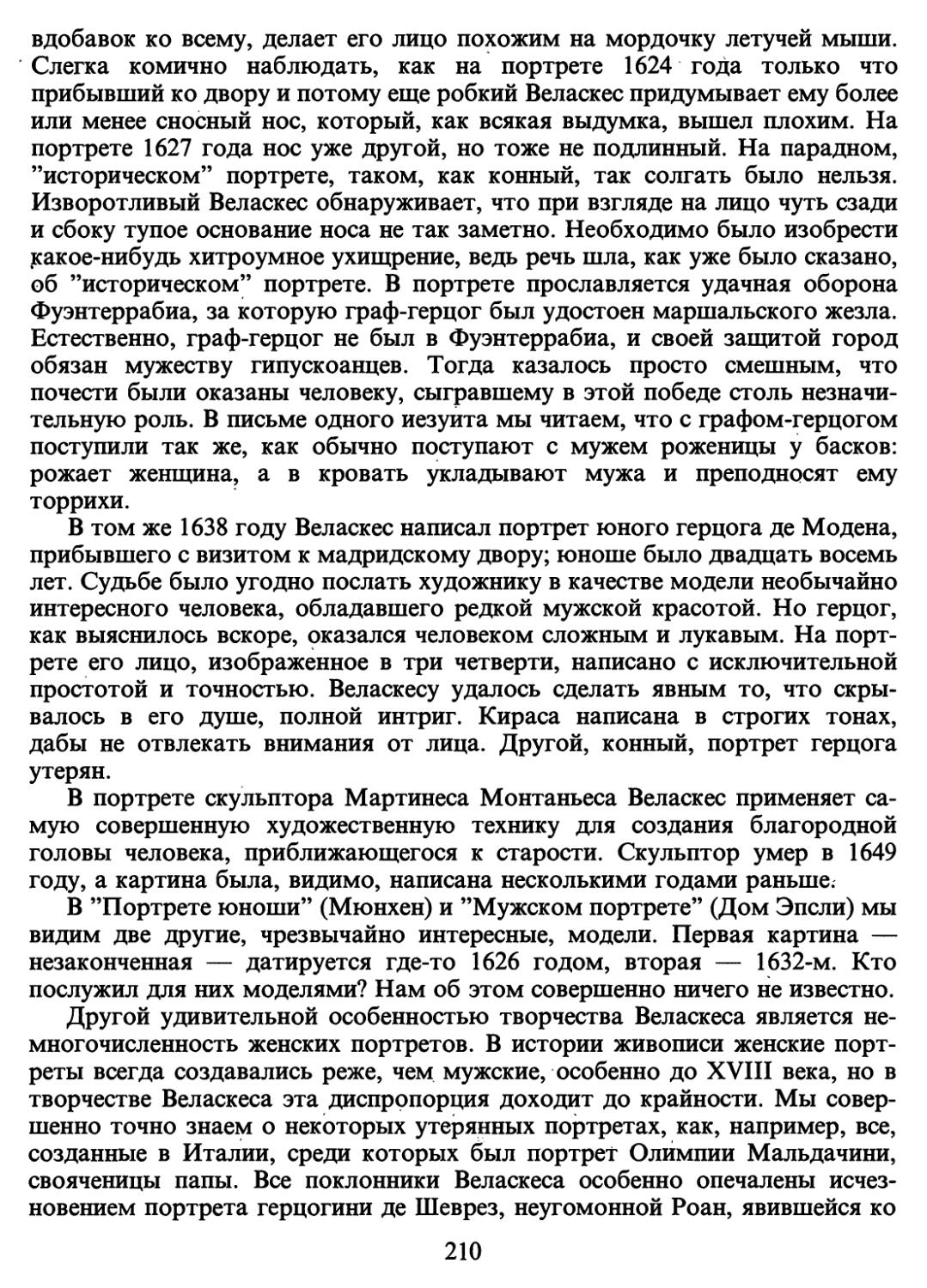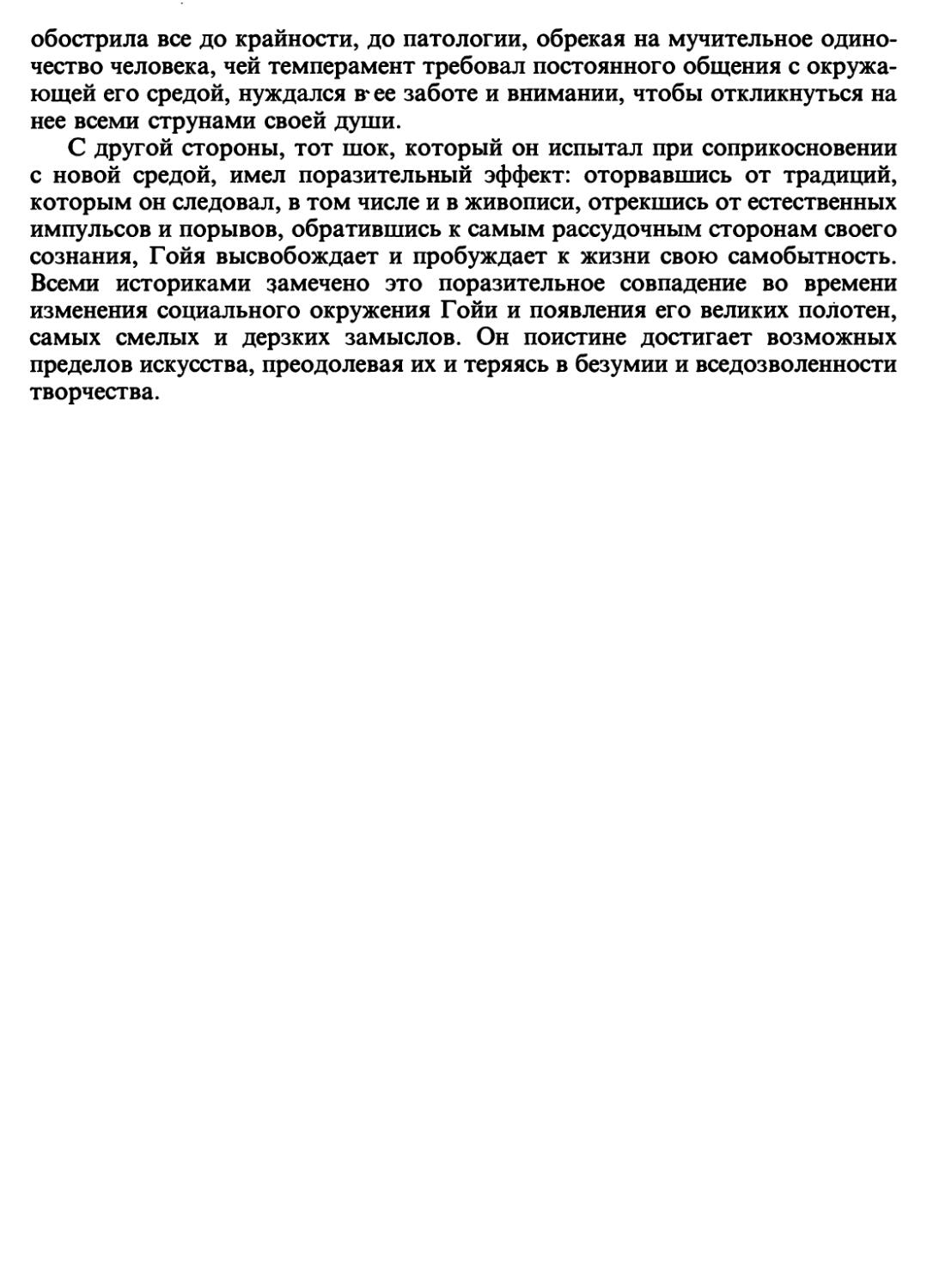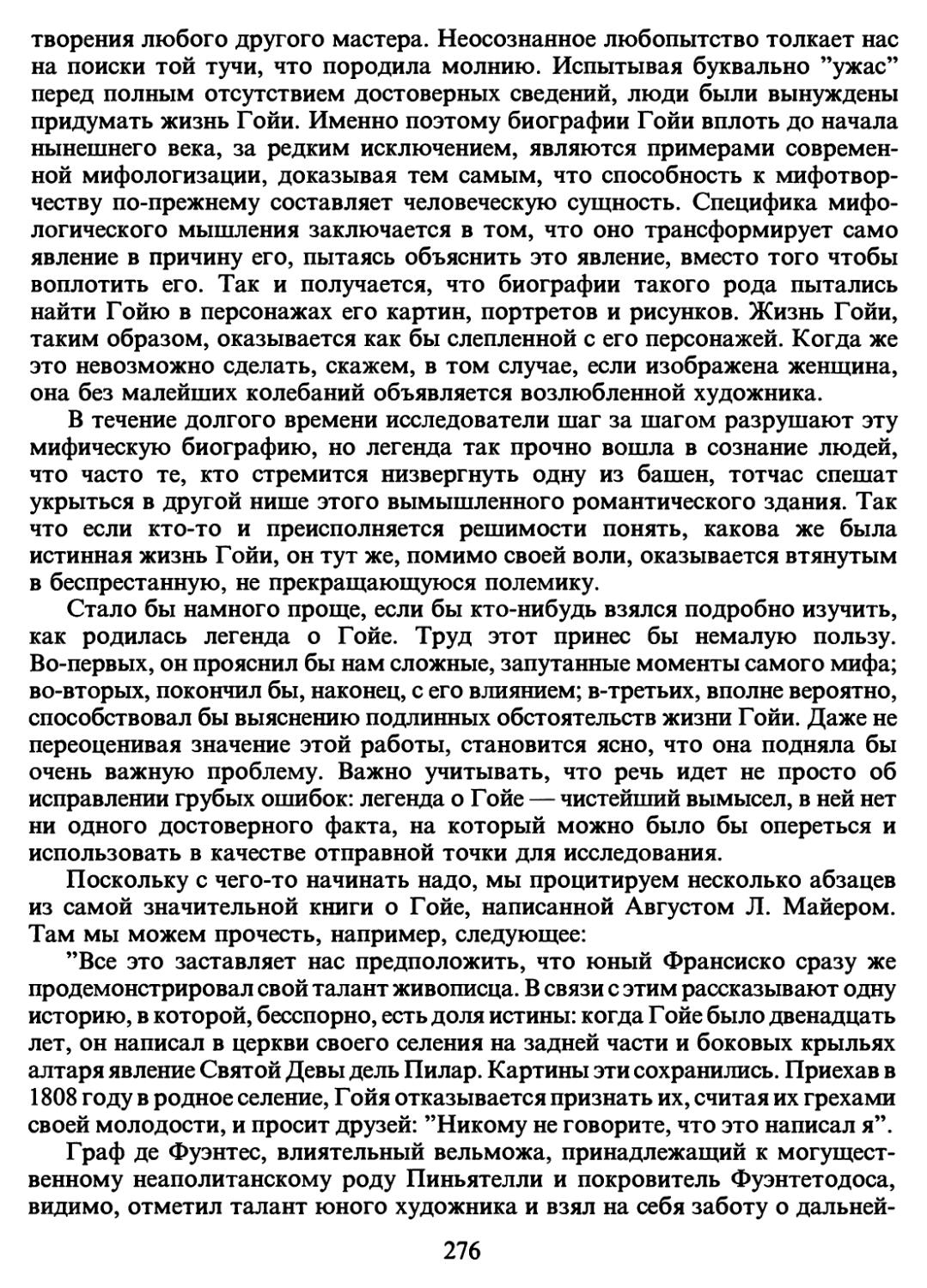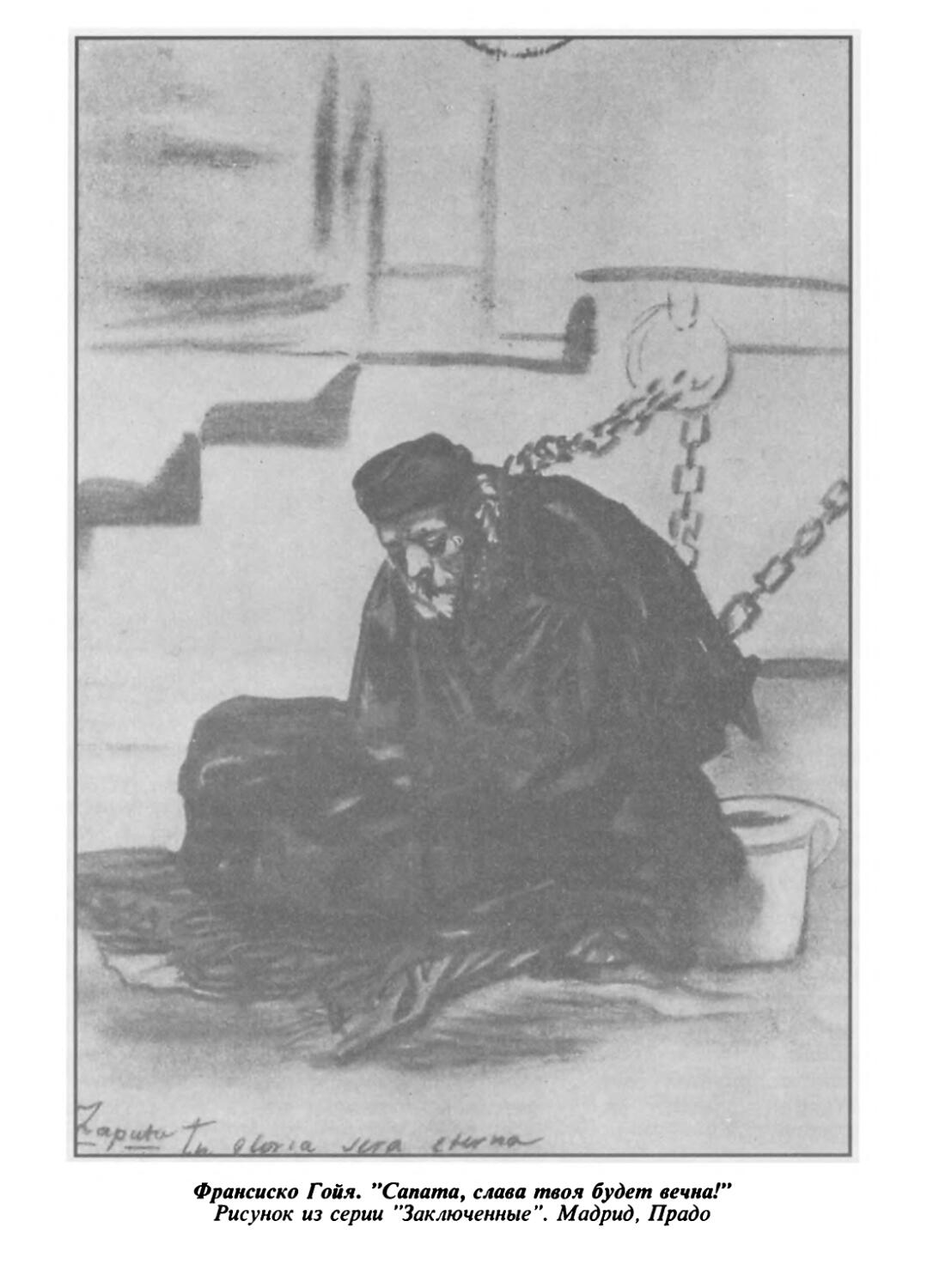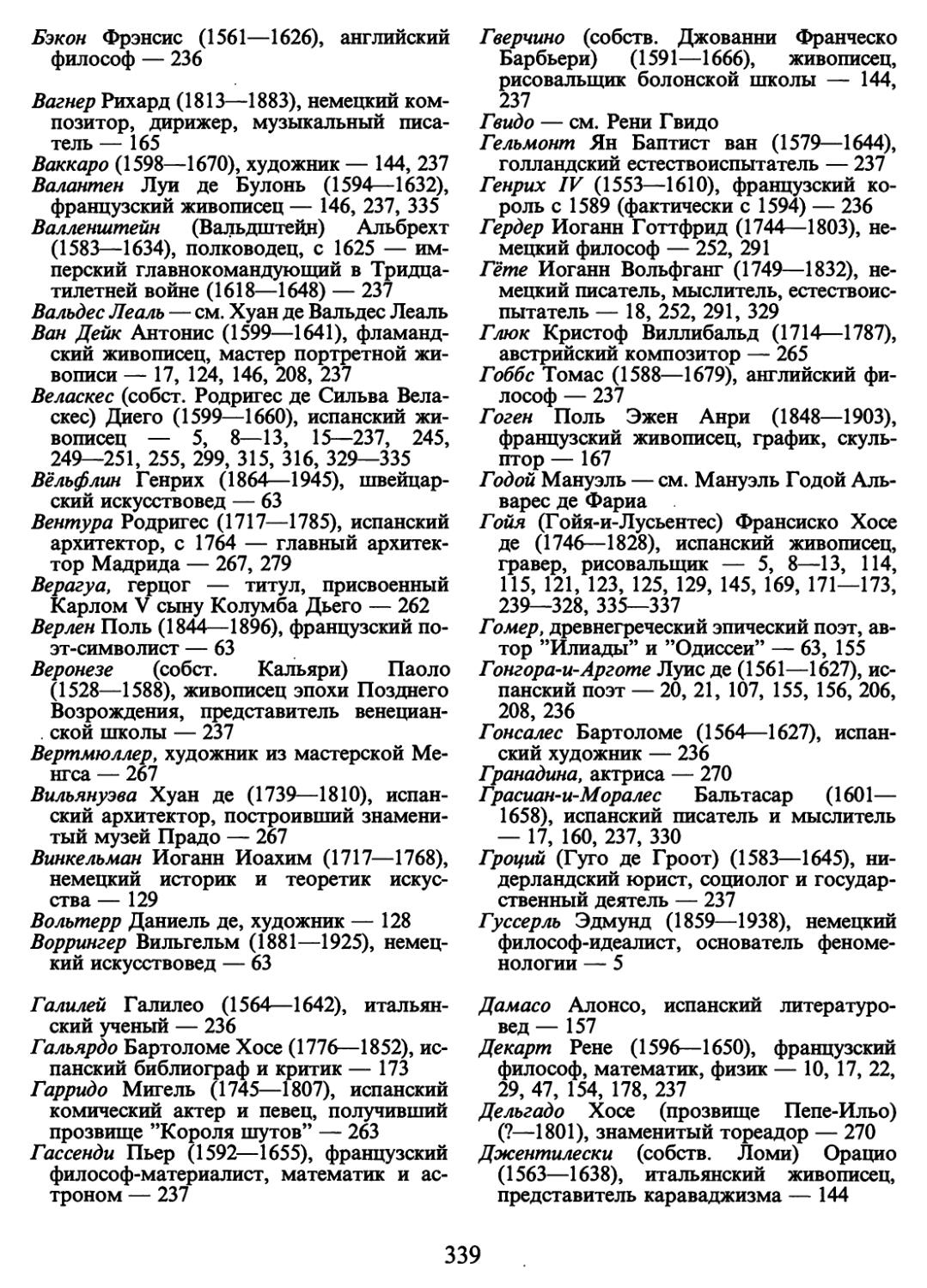Текст
Хосе Ортега-и-Гассет
Хосе Орша-и-taei
Москва Издательство ’’Республика” 1997
УДК 75
ББК 85.143 (4Ис)
0-70
JOSE ORTEGA Y GASSET
velAzques
GOYA
Primera edicion: 10. VII. 1963 ESPASA-CALPE, S. A.
MADRID
Перевод с испанского и вступительная статья И. В. Ершовой, М. Б. Смирновой
Комментарии и указатель имен
В, М. Володарского
Научный редактор
К. М. Долгов
В подготовке издания участвовал Г. А. Ложкин
Ортега-и-Гассет X.
0-70 Веласкес. Гойя: Пер. с исп./Вступ. ст. И. В. Ершовой, М. Б. Смирновой; Коммент, и указ, имен В. М. Володарского. — М.: Республика, 1997. — 351 с.: ил.
ISBN 5—250—02624—9
Эта работа, впервые публикуемая полностью на русском языке, принадлежит перу испанского философа и публициста Хосе Ортеге-и-Гассета (1883—1955). Она занимает особое место в ряду многочисленных исследований о величайших испанских художниках — Веласкесе и Гойе. По меткому определению критиков, это в своем роде уникальный жанровый опыт размышлений ’’гения о гениях”, в которых по-новому раскрываются грани творчества этих мастеров живописи, ставших своеобразными символами целой эпохи в истории культуры.
Богато иллюстрированная книга рассчитана на широкий круг читателей, прежде всего на интересующихся историей искусства и культуры.
ББК 85.143(4Ис)
ISBN 5—250—02624—9 © Издательство ’’Республика”, 1997
ЖИВОПИСЬ СЛОВА
В этой книге три героя. Двое, Диего Веласкес и Франсиско Гойя, — величайшие мастера не только испанской, но и мировой живописи. Третий — сам автор, испанский культурфилософ и эстетик; странствующий оратор, вещавший с самых разных кафедр мира, и деятельный журналист; издатель и университетский ученый, Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955).
Далекий от беспристрастности искусствоведа, Ортега пытается обрисовать живой облик художника и его эпохи, попутно запечатлевая в каждой строке неповторимый абрис своей собственной личности, становясь полноправным действующим лицом той драмы, которая разворачивается на последующих страницах и имя которой — испанская культура. Сходство Ортеги и живописцев, ставших предметом его исследования, очевидно. Оно является подтверждением тезиса, сформулированного им самим в отношении испанской живописи и гласящего, что мастера кисти мирового масштаба возникают на Пиренейском полуострове вдруг и ниоткуда, в то время как основное русло европейского искусства как будто обходит стороной иберийскую окраину. Появление Ортеги на испанской почве столь же таинственно и необъяснимо, как и появление Гойи или Веласкеса, а воссоздание ’’плавного течения” испанской философии так же проблематично, как и скрупулезное и последовательное описание истории испанской живописи. И не случайно в исследованиях, посвященных ортегианской философии, имя Ортеги окружено громкими именами его зарубежных современников и предшественников: Э. Ренана, Ф. Ницше, Г. Когена, Г. Зиммеля, А. Бергсона, Г. Гуссерля, В. Дильтея, Й. Хёйзинги, М. Хайдеггера*. Однако Ортега — ив этом еще одно его сходство с Веласкесом и Гойей — рождается на перекрестке европейской традиции и подспудного течения испанской куль
*06 эволюции философских и эстетических взглядов Ортеги-и-Гассета на русском языке см.: Зыкова А. Б. Учение о человеке в философии Ортеги-и-Гассета. М., 1978; Гайденко П. П. Хосе Ортега-и-Гассет и его ’’Восстание масс” // Вопросы философии. 1989. № 4. С. 155—169; Фридлендер Г. М. Философия искусства и искусство философа // Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. M., 1991. С. 7—48 и др.
5
туры, он питается теми потаенными ключами народного духа, которые его соотечественник Мигель де Унамуно назвал ’’интраисторией”, имея в виду, глубинное бытие народа, не исчерпывающееся датами и фактами официальной историографии. Соединение европейской точки зрения и позиции ’’постороннего”, родившегося на западной оконечности континента, на границе с африканским миром, подмешавшим в жилы испанцев берберской крови, подталкивает Ортегу-и-Гассета к поиску особого языка философии, обращенного как urbi et orbi*, так и к испаноязычному миру. Да и вся его жизнь исчерчена границами — зримыми и незримыми.
Юность Ортеги приходится на рубеж столетий, на период величайших культурных сдвигов и потрясений. Судьба бросает его с арабо-андалузского юга, где он в иезуитском лицее Мирафлорес дель Пало, близ Малаги, получает начальное образование, в древнейшую Саламанку, принесшую на смену школьной схоластике увлечение Ренаном и Ницше. Окончив в 1904 году университет и защитив диссертацию ’’Ужасы тысячного года” (и снова граница!), Ортега пересекает Пиренеи, чтобы несколько лет провести в Германии. В Марбурге, философском перекрестке тех лет, он становится учеником известного неокантианца Германа Когена, однако не вполне умещается в рамки европейской традиции, руша барьеры всяческих ’’школ” и ’’направлений”. Вернувшись в Мадрид, в 27 лет Ортега становится во главе кафедры метафизики столичного университета. Но его деятельность не ограничивается кабинетными стенами: он помогает издавать еженедельник ”Фаро” и газету ”Эль Соль”, выпускает журнал ”Эль Эспектадор”, выступая в роли его единственного автора, участвует в дискуссиях, переводит и, наконец, совершает лекционные турне. Гражданская война обрекает Ортегу-и-Гассета, как и многих испанских интеллектуалов, на скитания по свету. Франция, Голландия, Португалия, Аргентина и снова Португалия — таков маршрут его вынужденных странствий. Лишь в 1945 году Ортега возвращается в Мадрид. Однако изменившийся под властью франкизма дом более не мог служить ему надежным пристанищем, и нарушитель границ, проживший всю свою жизнь ’’поверх барьеров”, в последние годы приходит к теории ’’радикального одиночества”.
Так постепенно вырабатывался, если воспользоваться метафорой самого Ортеги, его особый философский почерк, столь далекий от суховатой академической каллиграфии. И первая особенность этого почерка определяется приверженностью к ясности. Главная его цель — убедить аудиторию, быть понятым современниками. Ортега всегда стремится найти те слова и образы (а образ, метафора такой же важный элемент его философского дискурса, как и понятие), которые дойдут до самых глубин сознания слушателя или читателя.
С поисками ясности связана и ортегианская критика философской традиции, противопоставившей, особенно в эпоху новоевропейского рациона
*Букв. граду и миру (лат.).
6
лизма, разум и жизнь, слово и вещь. В своей концепции ’’жизненного разума”, или рациовитализма (терминологический оксюморон, указывающий на необходимость синтеза), Ортега пытается восстановить разрушенное единство, преодолеть пропасть между идеей и реальностью, фактом и интерпретацией. Выработанный рационалистической традицией язык философии, и культурфилософии в частности, по мнению испанского мыслителя, не только не объясняет жизнь, но уводит человека от действительности, лишь загромождая его сознание фактами и понятиями. Отсюда ортеговская тоска по некоему первоязыку философии, живому и понятному, соединяющему, а не разделяющему людей. Такой язык он находит, возвращаясь к истокам европейской мысли, к тем временам, когда философствовать значило вести диалог. Для Ортеги живое слово — это слово звучащее. В одном из писем, рассуждая о Платоне, он заметил: ’’Очевидно, что тот, кто не доверяет письменному слову, берясь за перо, стремится насколько можно уподобить его слову произносимому”*. Именно так и поступает он сам. Сознавая, что сократовские времена не возродить, Ортега пытается сблизить графический образ мыслей и звучащую речь, придать отчужденным, статичным значкам пульсирующую энергию голоса, не смущаясь причудливого композиционного строя своих сочинений, ’’грешащих” многочисленными повторами и возвратами, извинительными лишь в устной беседе.
Другой приметой ортеговской мысли становится ее фрагментарность. Если окинуть взглядом творческое наследие Ортеги-и-Гассета, оно на первый взгляд представляет собой некую ’’беспорядочность”, где ’’серьезные” философские жанры, например трактаты и исследования, перемешаны с ’’легкомысленными” и не слишком академическими статьями, предисловиями, лекциями, очерками, эссе и даже тостами. Из 312 названий, составляющих собрание его сочинений, 37 значатся как ’’книги”, хотя при ближайшем рассмотрении далеко не все таковыми являются (сюда входят собрания статей, курсы лекций, восемь томов журнала ”Эль Эспектадор” и лишь двенадцать писались как единые, целостные тексты, предназначенные для прочтения). Из последних многие либо остались недописанными, либо самим автором мыслились как незавершенные, принципиально открытые. Эта кажущаяся дробность не следствие авторской небрежности, но воплощение самого способа философствования, стиль, возведенный в принцип. Внешняя бессистемность оборачивается своей противоположностью — сверхсистемой. Идеи Ортеги как будто не ведают границ тех или иных книг, но, преодолевая их, образуют единство высшего порядка. Одни и те же темы возникают в самых разных фрагментах и контекстах, обрастая плотью и кровью конкретных судеб и возводя нас к самой формуле его мысли. В итоге ортеговский язык становится наиболее ярким и очевидным воплощением его философии ’’перспективизма”, вооружая читателя своеобразной оптикой, позволяющей взглянуть на вещи с разных сторон, понять
* Ortega у Gasset J. Obras Completas. Madrid, 1956. V. 9. P. 766.
7
жизнь человека в неразрывной связи с ’’его обстоятельствами”. Реальность — а по мнению Ортеги всякая реальность — лишь осколок, фрагмент более широкой реальности — предстает перед нами как бесконечное наращивание контекста, освоение все более и более обширного пространства. Мозаичность трудов Ортеги — это путь к ’’самодостаточной”, сосредоточенной в себе реальности, которая обладает целостностью живого организма и без которой разрозненные факты не могут быть поняты. Вот почему книги о Веласкесе и Гойе становятся для Ортеги не только поводом поговорить об испанской живописи, но и еще одной возможностью приблизиться к постижению загадки жизни и человека.
* * *
Всякая мысль, всякий образ или имя, однажды возникшие в поле исследовательского интереса Ортеги-и-Гассета, навсегда остаются в его творчестве, раз за разом притягивая к себе внимание испанского философа, не менявшего своих симпатий и привязанностей на протяжении всей жизни. Чуткий и необычайно восприимчивый к духу своего времени — щедрому на новые философские и художественные идеи и концепции — Ортега тем не менее достаточно консервативен в своих культурологических изысканиях. Подобно средневековому мудрецу, многократно перечитывающему книгу, дабы постичь скрытую в ней истину, Ортега вновь и вновь возвращается к своим идеям и темам, развивая и проговаривая их с могущим удивить читателя этой книги постоянством.
К этим ’’вечным” темам творчества Ортеги относятся и великие мастера испанской живописи Веласкес и Гойя. Размышления философа о Веласкесе и Гойе — в том виде, в котором они приходят к русскому читателю, — были опубликованы спустя годы после смерти Ортеги-и-Гассета*. И в обоих случаях мы имеем дело не с законченной, оформленной авторским замыслом рукописью, а с заметками, отдельными статьями, записями лекций, предварительными замечаниями и фрагментами (лишь частично опубликованными при жизни автора). В 1943 году по просьбе издательского дома Iris-Verlag (Берн) Ортега публикует первые заметки о Веласкесе (’’Введение к Веласкесу”) — сначала на немецком, затем на французском и английском языках, легшие в основу замысла большого исследования об испанском художнике. Продолжение последует в 1950 году в специальном томе ’’Заметок о Веласкесе и Гойе” (издательство ’’Revista de Occidente”), куда Ортега включает изданную в 1946* году в барселонском журнале ’’Leonardo” статью ’’Оживление картин”, дополненную собранием фрагментов из писем и донесений современников Веласкеса и отрывками из своих лекций, прочитанных в Сан-Себастьяне летом 1947 года (тогда были опубликованы лишь главы IV и VI настоящего издания). В ’’Заметках о Веласке
*J. Ortega у Gasset. Goya. Madrid: Revista de Occidente, 1962; J. Ortega у Gasset. Velazquez. Madrid: Revista de Occidente, 1963.
8
се и Гойе” впервые были опубликованы и фрагменты записей Ортеги о Гойе, не предназначенных, по словам самого автора, к публикации. Опубликованные в 1950 году фрагменты о Гойе представляют собой лишь небольшую часть текста, изданного в 1962 году и состоящего из записей, найденных в архиве философа. Мы не случайно коснулись истории создания этих книг в предисловии. Особенности появления этих текстов надо учитывать уже с первых страниц — иначе впечатление читателя о книге рискует оказаться искаженным и неверным. Ведь именно этим отчасти объясняются некоторые повторы и совпадения отдельных пассажей, наконец, стилистическая неоднородность текста. Особенно это касается ’’Гойи”, почти целиком состоящего из набросков и черновых записей, свидетельствующих лишь о приближении Ортеги к теме и личности, занимающей его в последние годы жизни, о начале пути, который ему не суждено было пройти.
Безусловно, есть нечто парадоксальное в удивительном совпадении хаотичной формы последних, не написанных им книг с самой манерой ортеги-анского философствования — неровной, ассоциативной, подчас непоследовательной. И хотя ’’Веласкес” и ’’Гойя”, заботливо собранные его родными и учениками, не освящены рукой самого маэстро, они удивительным образом отражают не только его манеру письма, но само представление Ортеги о жанре биографии, той оптимальной форме размышления о личности и истории, ”я” и ’’его обстоятельствах”, к которой подводит его к концу жизни естественный ход развития собственных философско-эстетических воззрений.
Публикуя в 1943 году небольшую работу о Веласкесе, универсалист Ортега решительно отказывается от обязывающего слова ’’монография”, подчеркивая тем самым свою непричастность к узкому кругу специалистов, погруженных в герменевтическую казуистику и не способных к некоему отстраненному, пространственному видению изучаемого ими явления, замкнутых в рамках своей научной дисциплины. Он постоянно подчеркивает собственную ’’ненаучность”, позицию человека несведущего, постороннего. Характерно, что много писавший и размышлявший об эстетических проблемах Ортега никогда не писал отвлеченных, ’’абстрактных” трактатов. Ядро его персоналистской философии — человеческая жизнь, личность в ее исторической перспективе. А жизнь личности не складывается только из простой хронологии событий; мало что скажет о человеке, художнике и тривиальный перечислительный анализ художественных приемов, используемых при создании картин. Потому Ортега как бы размышляет вслух, облекая мысли в слова, при этом он то сбивается и вновь возвращается к какой-то идее, то вдруг уходит в сторону от основной темы. Так, рассуждение о кажущейся народности Гойи перебивается пространным повествованием о корриде и театре в XVIII веке, рассказ о Веласкесе прерывается документальными вставками (целыми главами) из писем, донесений XVII века, лучше любого комментария воссоздающих дух времени и эпохи.
9
Выстраивая биографию художника, Ортега становится подобен веласкесо-вым ”пряхам”-паркам, плетущим нить жизни человека, собирая в единое целое разрозненные нити сохранившихся следов его существования в конкретном времени и пространстве.
Размышления о Веласкесе и Гойе — лучшее, что написано Ортегой об изобразительном искусстве, неослабевающий интерес к которому прослеживается в большинстве его эстетических и художественно-критических работ. Свой интерес к живописи он объясняет родством судеб европейской живописи и философии, их ’’бесчисленных метаморфоз”. Параллелизм в развитии двух наиболее несхожих областей культуры становится для испанского философа свидетельством существования ’’общей глубинной основы эволюции европейского духа в целом” (”О точке зрения в искусстве”, 1924 г.). Выводя единый закон эволюции живописи и философии, он сосредоточивает свое внимание на переломных моментах, ключевых фигурах этой эволюции, важнейшей из которых в истории изобразительного искусства становится Веласкес (в философии — это Декарт), ’’своенравный гений” которого кладет начало совершенно новой живописи.
Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599—1660) — средоточие совершавшегося в XVII веке — а это эпоха Декарта, Ришелье, великих открытий в физике, математике — перелома в истории живописи и одновременно точка пересечения испанской и европейской культуры. Вот еще одно объяснение столь пристального интереса философа к личности Веласкеса. Он вновь оказывается верен себе, ибо его ’’точка зрения” неизменна: ’’европеист” Ортега на всякое явление смотрит в испанской перспективе. Возникшее на периферии того громадного культурного пространства, каким являлась итальянская живопись, испанское изобразительное искусство рождает новый художественный стиль, влияя тем самым на судьбы европейской культуры от романтиков до Сезанна. Для Ортеги ’’синдром Веласкеса” — бесконечная тайна, загадка, которую он стремится разгадать и прояснить. Почему восторженный интерес к Веласкесу сменяется периодами полного забвения, почему оказывается недооцененной и непонятой его роль в искусстве, что стоит за магическим ’’покоем и бесстрастностью” его полотен?
Следуя логике культурфилософских концепций Ортеги, разобраться в феномене художника, в сложнейших лабиринтах его жизни и сознания можно, лишь воссоздав историю его жизни, обстоятельства его существования (культурное пространство эпохи, ее цивилизационную модель), рассмотрев личный ’’проект”, призвание индивидуума, волею случая сумевшего максимально полно его реализовать. Пытаясь разгадать ’’загадку Веласкеса”, Ортега-и-Гассет обращается к фактической его биографии, внешне весьма ровной и незамысловатой: двадцатичетырехлетний севильский художник, невероятно одаренный с детства, рано осознавший свой талант, едва прошедший школу мастерства (Веласкес учился в мастерской Пачеко в Севилье), переезжает в 1623 году в Мадрид и становится придворным живописцем короля Филиппа IV. Таковым и будет оставаться в
10
течение сорока лет вплоть до своей смерти. Его жизнь, по словам Ортеги,— это фактическое ’’небытие” (’’одна женщина, один друг, одна мастерская”). Небогатое событиями существование художника, в котором нет ’’борьбы, жестокости, героизма”, удивительно малое количество созданных им картин, — все это, с точки зрения Ортеги, лишь видимая часть его жизни. Когда же дело касалось искусства, эта ’’пустая жизнь” оказывалась наполненной бесконечной борьбой со своим веком, беспрестанным стремлением ’’реализовать некий воображаемый персонаж, составляющий его подлинное ”я”. Не разрешив загадку только личными обстоятельствами жизни своего героя, Ортега анализирует бытие Веласкеса в другом измерении — в жизни искусства, включая его, а вместе с ним и всю ’’испанскую живопись” в контексте эволюции живописи европейской (прежде всего итальянской), дает тонкий анализ его картин, реконструируя каждое движение кисти художника, пристально рассматривая каждый отдельный мазок, каждую линию, цветовое решение, свето-воздушную среду и архитектонику его величайших полотен. Наконец, говоря о противостоянии Веласкеса своему времени, Ортега совершает блестящие экскурсы в историю ментальности испанца XVII века: таковы его страницы, посвященные истории корриды и испанской ’’грации”, экономическому и политическому статусу империи, поэтическим пристрастиям века, языку поз и жестов. Воссоздавая образ Испании, Ортега использует термин ’’формализм”, подразумевая под ним подчеркнутую стилизацию всех форм жизни, некое ’’разыгрывание” жизни, приложение к ней готовых моделей, поглощаюрщх самое жизнь. Вот его формула испанской жизни того времени: ’’усталость от мирового господства, жажда придворных утех, иллюзорное и иллюзионистское существование спиной к реальности, блистательные комедиантки, плутовки под вуалями, риторика в поэзии, формализм в жизни”, — свидетельствующая о глубоком проникновении в суть эпохи, предвосхищающая родившуюся много позже концепцию ’’театральности жизни”*, ставшую ’’общим местом” всех современных культурологических исследований испанской истории XVII века.
Исследуя проблему противостояния Веласкеса духу времени, Ортега находит в конце концов емкую метафору, выражающую самую суть искусства Веласкеса и его личности. Веласкес — ’’гений презрения”, пренебрегший традиционными вкусами публики и художественными законами живописи. Ортегианская метафора-парадокс становится ключом к расшифровке жизни-парадокса. Уединенное, бедное событиями бытие художника оборачивается благом, высвобождая его энергию для насыщенной внутренней жизни, осознанного творческого поиска. ’’Спокойные и невозмутимые” с виду, а на самом деле эпатирующие зрителя, ’’незаконченные картины” Веласкеса изливают на современников ’’потоки презрения”, ибо нисколько не растолковывают изображаемое, а лишь запечатлевают его, превращая в
* Emilio Orozco Diaz. El teatro у la teatralidad del barroco. Barcelona, 1969.
11
чисто зрительный образ, ’’призрак, сотворенный игрой света”. Его живопись — это ’’бунт против Красоты”, требующей от художника изображения вещей такими, какими они должны быть, это отказ от услаждения зрительского восприятия ’’идеальными” предметами, воспроизведение их такими, каковы они есть.
Подлинная биография Веласкеса — беспрестанный творческий поиск, и объяснение рождения той или иной его картины надо искать прежде всего в сфере эстетического и художественного. Веласкес становится для Ортеги-и-Гассета воплощением самой живописи, а разговор о нем — поводом к многообразным размышлениям о феномене художника и живописи вообще, об их значимости и роли в человеческой жизни.
Обращаясь в своих культурологических построениях прежде всего к миру, управляемому эстетическими законами, к миру искусства как уникальному способу реализации человеческой личности, Ортега всякий раз выбирает из испанской традиции фигуру, с одной стороны, значимую для всей европейской культуры, самим фактом своего творчества определившую важнейшие пути ее развития, с другой — являющуюся эмблематическим выражением некоей испанской особости и неповторимости. Таков и Гойя, углубленным изучением которого занят Ортега в последние годы своей жизни. Но если Веласкес ему близок и понятен, то Гойя — подлинная мука, наваждение, навязчивая идея. ’’Чудовище” Гойя (и снова точно найденная метафора), стоящий на границе двух миров — традиции и культуры, Испании и Европы, с его жизнью, полной тайн, его гениальной одержимостью, завораживающей и пугающей, окажется для Ортеги наиболее сложной из множества загадок, влекущих его в течение всей жизни, но так до конца и не решенной. Характерно, что если имя Веласкеса очень рано возникает на страницах его работ, и не только в виде упоминаний, но и в контексте готовой, сложившейся концепции, то к Гойе он приходит очень поздно, приближаясь осторожно, несмело.
Парадоксализм Гойи — в сочетании ремесленности и гениальных художественных прозрений, в удивительной чувствительности художника к той среде, тем обстоятельствам, в которых он оказывается, в той ’’печати двусмысленности и сомнительности”, которую несут на себе его полотна. В природу этой парадоксальности и пытается проникнуть Ортега-и-Гассет, именно пытается, озаглавливая фрагмент, формулирующий его видение феномена Гойи, — ’’Гипотеза”.
Приступая к теме ”Гойя”, он тщательно и подробно изучает все материалы, документы, связанные с жизнью и творчеством художника, сетуя на невероятную скудость дошедших до нас достоверных свидетельств. Дело осложняется и тем, что ему приходится буквально продираться сквозь вросшую в общественное сознание ’’легенду о Гойе”, сделавшую жизнь художника своего рода слепком с его полотен и созданных им персонажей. Рассуждая об искажении реального облика Гойи, Ортега тем не менее лишь в общих чертах описывает событийную канву жизни художника. Франсиско
12
Гойя (1746—1828) родом из Сарагосы, где и проходят первые годы обучения мастерству. В 1775 году, женившись, Гойя переезжает в Мадрид и начинает работать для шпалерной мастерской Менгса. В 1786 году он становится главным художником шпалерной мануфактуры, а в 1789 году получает звание придворного художника. Формирование Гойи-художника протекало медленно, его самобытность проявится довольно поздно, лишь к сорока годам. Всю свою жизнь он бесконечно много работает в самых разных жанрах: это и эскизы для гобеленов, и традиционная живопись, и графика, и портретная живопись, и настенная роспись. Ортегу в меньшей степени занимает тщательный разбор ’’официальной” биографии Гойи, больше его волнуют те мифологические измышления, которые беспрестанно сопровождают образ художника, будь то легенды о ’’некоем искателе приключений, своенравном и безрассудном”, или о человеке, творящем ”из самых глубин затаенного внутреннего одиночества”, или, наконец, рассуждения о ’’народности” Гойи.
И вновь, в русле изысканий, начатых в ’’Веласкесе”, пытаясь постичь реальную жизнь Гойи — художника и человека, Ортега обращается к окружающей его среде, к реставрации духа времени, облика Испании конца XVIII — начала XIX в. Коррида и театр — две подлинные страсти испанского народа — становятся объектом его пристального внимания (грозился же Ортега написать книгу о корриде как об истинной истории Испании). Знаменательно, что рационально труднопостижимая необузданность, одержимость натуры Гойи оказывается для Ортеги символом загадочной испанской одержимости, вылившейся в XVIII веке в восторженное увлечение испанцев формами и нравами народной жизни (Ортега находит подходящий термин — ’’плебеизм”), наиболее значительные из которых — театр и бой быков. Это тот же ’’формализм”, о котором он говорил в ’’Веласкесе”, только заостренный до предела (’’Наш народ сотворил себе как бы вторую природу, определяемую эстетическими критериями”). Но в самом искусстве художника эта одержимость проявится совсем по-другому. Причина тому — наличие в культуре того времени и противоположной тенденции — яростного отрицания ’’плебеизма” приверженцами просветительской идеи.
На стыке этих двух миров — традиционного, увлеченного всем ’’испанским”, и ’’культурного”, европейского, — и рождается, согласно гипотезе Ортеги, самобытное дарование Гойи. Суть того личностного ’’проекта”, который именуется Гойя, заключается тем самым в преодолении им естественных импульсов и порывов, своей ’’одержимости”, и обращении к рациональным сторонам сознания, пробуждающим к жизни его ’’достигающее возможных пределов искусства” творчество.
Пристальное внимание Хосе Ортеги-и-Гассета к двум крупнейшим фигурам испанской культуры помогает нам приблизиться к разгадке тайны самого испанского мыслителя, не менее парадоксального, чем его герои. Главное в наших размышлениях об Ортеге — его постоянная неудовлет
13
воренность Испанией и одновременно мучительное и настойчивое оправдание ее в глазах европейского и испанского читателя. Не случайно его многократное обращение к именам — будь то реальные исторические лица или персонажи литературных произведений, ставшим своего рода символами Испании и ее культуры. Дон Кихот и Дон Жуан, Веласкес и Гойя сопровождают его на протяжении долгих лет, побуждая к раздумьям над загадкой испанской души, к поиску испанской аутентичности, к осознанию сути призвания своего народа. ”Я испанец до мозга костей, — пишет Ортега, — но испанец, который хочет как можно лучше рассмотреть это свое испанское, чтобы придать ему должное сияние...”
Написанная на исходе жизни, фраза эта говорит о верности Ортеги своей главной теме — Испании. Само имя его становится для нас метафорой ’’идеи” Испании, ее неповторимого и уникального ”я”, об обретении которого он так много размышляет, ее исторической перспективы, — Испании, влившейся в европейский универсум, но не растворившейся в нем. Залог тому — ее великая культура, где имена Веласкеса, Гойи, Ортеги-и-Гассета по праву оказываются рядом.
И. Ершова, М. Смирнова
ввлжжвс
ВВЕДЕНИЕ К ВЕЛАСКЕСУ (1943 г.)
I
[БИОГРАФИЯ]
Веласкес родился в 1599 году, Рибера — в 1591, Сурбаран — в 1598, Алонсо Кано — в 1601, Клод Лоррен — в 1600, Пуссен — в 1594, Ван Дейк — в 1599-м. Все эти знаменитые мастера кисти принадлежат к одному поколению. Из мастеров пера — современников Веласкеса — в Европе более всего известны Кальдерон (1600 г.) и Грасиан (1601 г.). Разумеется, нашего художника надлежит представлять именно в этой среде — своего рода фауне пера и кисти. Зато вас удивит другое наблюдение (и я его делаю, рассчитывая в некоторой степени шокировать читателя): к этому же поколению принадлежит и Декарт, родившийся в 1596 году.
Жизнь Веласкеса одна из наиболее незамысловатых, что когда-либо прожил человек. Если мы примем во внимание значимость этой исторической личности, нас удивит, сколь скудны сведения о его жизни, которыми мы располагаем. Историк обычно ненасытен в том, что касается фактов: все ему мало. У него почти всегда такой неудовлетворенный, голодный вид, что у нас из сочувствия возникает желание сфальсифицировать несколько историй специально для него и сунуть их ему в пасть: пусть пережевывает. Причиной этой ’’прожорливости” служит то, что историк, стараясь избежать головной боли, предпочитает, чтобы история создавалась как бы сама собой, спонтанно, как образуются коралловые острова, — усилиями самого времени. Однако правда заключается в том, что даже если бы мы располагали всеми мыслимыми сведениями, это еще не была бы история. Более того, порой достаточно и небольшой части этих фактов, чтобы приблизиться к подлинной Истории Человека.
Диего Веласкес. Менины. Фрагмент. Автопортрет.
1656. Мадрид, Прадо
17
Веласкес — особый случай. Мы действительно мало знаем о его жизни, но больше и не надо, так как, строго говоря, за все годы с ним произошло только одно важное событие, относящееся к числу достоверных фактов, а именно назначение его в самом начале жизненного пути придворным художником. Это произошло в 1623 году, когда художнику едва исполнилось двадцать четыре. Остальная его жизнь — по крайней мере та, что на виду, — поражает однообразием. Принято упоминать еще три события, которые несколько нарушают монотонность этого длительного существования. (Напомню, что Веласкес скончался в шестьдесят один год — как раз в том возрасте, который древние, более чутко, чем мы сегодня, подмечавшие трудности свершения, называемого жизнью, считали самым опасным и о котором император Август в одном из немногих дошедших до нас писем с радостью сообщал, что преодолел его.) Вот эти три события: восемь месяцев в 1628—1629 годах, прожитых в Мадриде рядом с Рубенсом, и два путешествия в Италию — в 1629 и 1649 годах. И хотя я не претендую на обобщения — особенно сейчас, когда не имею возможности привести соответствующие доказательства, — осмелюсь все же утверждать, что ни одно из них в действительности не имеет никакого значения. Вообще, с определениями надо быть осторожнее. Для биографии важно лишь такое событие, которое, будучи усилием нашего воображения, так сказать в порядке Denkexperiment*, из нее изъято, неизбежно повлечет за собой изменение, конечно тоже воображаемое, всего жизненного пути человека. Именно так произошло бы, представь мы себе, что Веласкеса не назначили придворным живописцем или что он был удостоен этой чести в зрелые годы. Тогда перед нами предстал бы совсем другой Веласкес. И вот какой. Он был бы все равно, что Гёте без Веймара. (Вот, кстати, замечательная тема для книги, которую уже давно пора написать: Гёте без Веймара!) Что же касается двух путешествий в Италию, то никто не убедит меня, что жизнь и творчество Веласкеса сложились бы иначе, если бы их не было. Пожалуй, ненаписанными остались бы лишь ’’Кузница Вулкана”, ’’Туника Иосифа” и ’’Искушение св. Фомы Аквинского” — три самые спорные картины, выпадающие из всего его творчества и, за исключением живописной манеры, никак не связанные с тем, что было написано до или после них. Действительно, каждый раз Веласкес возвращается из Италии взбодрившийся, как после лечения на свежем воздухе, но этим, по-видимому, воздействие на него путешествий исчерпывается.
Несколько большее влияние оказало на него знакомство с Рубенсом, помогшее обрести внутреннюю свободу и прорвать пелену провинциализма, которая окутывала жизнь Испании, несмотря на то что она все еще оставалась могущественнейшей державой мира. Однако каждый, кто пытался разглядеть, что за человек был Веласкес, ни на секунду не усомнится, что он и сам не стал бы медлить и вскоре скинул бы с себя эти оковы, ибо
* Мысленный эксперимент (нем.).
18
Диего Веласкес. Пьяницы (Триумф Вакха). Ок. 1628. Мадрид, Прадо
перед нами личность, исполненная внутренней, потаенной решимости без лишних слов и показной позы следовать только своему внутреннему велению, не сворачивая с единожды избранного пути.
Теперь, учитывая сказанное, обратимся к тем четырем периодам, на которые естественным образом распадается жизнь Веласкеса.
1. 1599—1623 годы. Диего Родригес де Сильва Веласкес родился в Севилье, в семье, по отцовской линии восходящей к португальскому роду Сильва де Опорто. Его дед эмигрировал в Андалусию, захватив с собой весьма скромное состояние и непоколебимые семейные традиции почтенной знати. Диего очень рано обнаружил исключительные способности к живописи и рисунку. В тринадцать лет он поступает учеником в мастерскую Франсиско де Эрреры, человека неприветливого, но неплохого художника, ставшего таковым благодаря не столько таланту, сколько — темпераменту. Нельзя отрицать, что Эррера Старший, хотя и не был первоклассным живописцем, принадлежал к художественному авангарду своего времени. Несколько месяцев спустя, напуганный мощным напором своего учителя, Веласкес, который всю жизнь питал отвращение к спорам, переходит в
19
мастерскую Франсиско Пачеко, как бы сменив курс на сто восемьдесят градусов. Пачеко был плохим художником, но прекрасным человеком. Он был мягок и обходителен, хорошо образован, водил знакомство со всеми знаменитостями Севильи — артистами, писателями, грандами. Пять лет спустя, в 1618 году, Пачеко женит Веласкеса, тогда еще совсем юного, на своей дочери Хуане де Миранда. Она будет молчаливо сопровождать его всю жизнь, а самому Веласкесу никогда не придет в голову отправляться на поиски какой-либо другой ’’вечной женственности”. Хуана де Миранда умрет в той же комнате, что и ее муж, неделю спустя после его смерти.
2. 1623—1629 годы. В 1621 году скончался Филипп III и его место на престоле занял юный Филипп IV. Он на шесть лет моложе нашего художника и сам увлечен живописью, которой его обучал Майно. Филипп IV отдает правление всецело в руки графа-герцога Оливареса, который происходит из рода Гусманов, самого древнего и знатного в Севилье. Граф-
Диего Веласкес. Портрет поэта Луиса де Гонгоры.
1622. Бостон, Музей изящных искусств
20
герцог поступает как политические лидеры всех времен — он приводит с собой собственную команду, подобранную из ближайшего окружения. Его сторонники родом из Севильи и друзья Пачеко. Веласкеса отправляют в Мадрид — попытать счастья и заодно ознакомиться с собраниями картин Мадрида и Эскориала, пополнив таким образом свои познания в живописи. Однако Веласкесу так и не представилась возможность блеснуть перед новым монархом: во дворце слишком заняты недавними политическими переменами. Зато он пишет поразительный портрет поэта Гонгоры (чудесная, капризная голова великого мыслителя и несносного человека — сочетание, встречающееся столь часто, когда мы имеем дело с выдающимися поэтами!). Потерпев неудачу, Веласкес возвращается в Севилью, но уже через несколько месяцев получает официальное приглашение во дворец с возмещением дорожных расходов. В ’’команде” графа-герцога ему предстоит отвечать за живопись. Прибыв в Мадрид, он сразу же пишет портрет короля. Эта работа производит такое сильное впечатление на Филиппа IV,. что он назначает Веласкеса своим личным художником и обещает не разрешать никому другому писать свои портреты. Веласкес так и проживет всю свою жизнь во дворце и сменит его лишь на могилу. Заметьте: в жизни Веласкеса была только одна женщина — его жена, только один друг — король и только одна мастерская — дворец.
С этого момента, с которого, собственно говоря, и начинается жизнь Веласкеса, любой исследователь оказывается перед неразрешимой загадкой: кто перед нами — художник или придворный? Как и положено королевскому слуге, он сменяет один за другим посты и титулы, пока наконец не достигает пика придворной карьеры — должности ’’старшего гофмейстера”. Итог закономерен — Веласкеса посвящают в рыцари ордена Сантьяго, то есть причисляют к высшей знати.
В 1628 году в Мадрид приезжает Рубенс, который пребывает в это время на вершине мировой славы. Его прислала сюда эрцгерцогиня Нидерландов, тетка Филиппа IV, с дипломатической миссией, имеющей отношение к английской короне. Важно помнить, что художники в ту эпоху были вынуждены участвовать в делах, весьма далеких от искусства, что свидетельствует об огромном влиянии живописи на тогдашнюю жизнь европейского общества, более того, только этим небывалым ее престижем и можно объяснить некоторые парадоксальные свойства художественной манеры Веласкеса.
На протяжении всех восьми месяцев, что Рубенс провел в Мадриде, Веласкес постоянно рядом с ним. Это был первый великий европейский художник, с которым Веласкеса свела судьба. По счастливой случайности Рубенс не только настоящий мастер, но и светский человек, талантливый предприниматель в мире живописной индустрии, политик и образцовый вельможа. Благодаря этому знакомству Веласкес начинает догадываться, что мир живописи, да и мир вообще, гораздо больше, чем тот, что он представлял себе прежде. Возможно, именно общение с великим фламанд
21
цем побуждает его оставить на время Испанию и посетить другие края. Под предлогом закупки картин для короля Веласкес 10 августа 1629 года в Барселоне садится на корабль, отправляющийся в Геную в составе флотилии под командованием знаменитого покорителя Бреды — Амбросио де Спинола.
3. 1629—1649 годы. Генуя, Милан, Венеция. Затем на юг — в Болонью. Далее — посещение Лорето. За три года до Веласкеса здесь был Декарт во исполнение обета, данного Деве Марии, вдохновившей его на создание аналитической геометрии. Наконец, Рим и Неаполь, где он знакомится с маленьким испанцем, творцом многочисленных мучеников и Магдалин, — с Хусепе Риберой.
В 1630 году Веласкес возвращается в Испанию, и вплоть до 1649 года его жизнь развивается по прямой: один день ничем не отличается от другого. Двадцать лет складываются из огромного множества часов. Чем заполняет их Веласкес? Разумеется, он пишет картины. Но чтобы понять, каков этот человек на самом деле, мы, следуя дорогой его жизни, должны быть все время настороже. Пока что мы сталкиваемся с одним существенным парадоксом: Веласкес — это живописец, который... не занимается живописью, точнее говоря, он пишет очень мало. Этот и некоторые другие видимые ’’недостатки” живописи Веласкеса, о которых пойдет речь позже, имеют для нас особое значение. Он написал так мало картин, что уже первый биограф, почти современник Веласкеса, Паломино, а следом за ним и все остальные сталкиваются с необходимостью как-то объяснить эту ’’скупость” художника и приписывают ее, особенно в исследованиях последнего десятилетия, тому, что разнообразные придворные обязанности отнимали у него слишком много времени. Действительно, мы видим, что после своего первого возвращения из Италии Веласкес все больше и больше занимается проектированием и оформлением королевских резиденций. Именно в эти годы, с 1630-го по 1640-й, возводится дворец Буэн Ретиро, перестраиваются здания Прадо и Алькасара. И тем не менее этой работе Веласкес отдает не так уж много времени, по крайней мере не больше, чем любой другой профессиональный художник, который вынужден тратить силы на создание копий и выполнение заказов, не связанных с его творческими интересами. Веласкес же от всего этого свободен. Он совсем не берет заказов, пишет только тогда, когда приказывает король, а король приказывает редко. Так что, к сожалению, я не могу согласиться с биографами и утверждаю, что ни у одного художника не было столько свободного времени, сколько у Веласкеса. Значит, причину его ’’низкой производительности” следует искать в чем-то другом. Предположение о том, что для него был мучителен сам творческий процесс, также приходится отмести. Как раз наоборот, Веласкес пишет большую часть своих произведений alia prima*, без сложной подготовки, столь необходимой для большинства живописцев.
*С первого раза, сразу, без переделок и поправок (ит.).
22
Он даже не прорисовывает фигуры, а внезапно с кистью в руках атакует пустой холст и рождает картину. Он творит так стремительно, что наши биографы с детским простодушием пытаются объяснить этот факт все той же нехваткой времени, которая не позволяет ему писать много. Веласкес создает картину несколькими мазками. Некоторые участки полотна так и остаются незакрашенными, и тогда цвет самого холста начинает дополнять колористическую гамму. В поздний период его творчества количество мазков сокращается настолько, что сам художник определяет свою манеру письма как ’’сокращенную”. По мнению биографов, Веласкесу настолько не хватало времени, что он был вынужден обратиться к своего рода ’’стенографической” живописи. Не думаю, что стоит вновь повторять: такое объяснение неправдоподобно.
Мы знаем, что Веласкес писал быстро, однако, по свидетельству итальянского посла, было также общеизвестно, что он практически никогда не сдавал работы в срок, и не потому, что кропотливо трудился над ними, а как раз наоборот, уделял им слишком мало времени и попросту забывал о них. Более того, большинство картин Веласкеса — ’’незавершенные картины”! Не правда ли, все это загадочно и удивительно? Как же было на самом деле: торопился Веласкес или медлил? Конечно, часы нашей жизни сочтены, и в этом смысле жить — значит спешить. Однако именно поэтому ничто так не характеризует личность, как ее отношение к этой экзистенциальной спешке. Одни участвуют в ней, не отдавая себе отчета. Другие отказываются от жизненной гонки, предпочитая спокойствие, что свидетельствует об отсутствии у них стремления к существованию. По многим причинам я вижу в Веласкесе одного из тех людей, которые в совершенстве овладели этим умением — не быть. Не случайно во время его второго путешествия в Италию Филипп IV, имевший возможность изучить Веласкеса лучше, чем кто-либо другой, увидев, что по прошествии двух лет художник все еще не собирается возвращаться ко двору, вынужден был направить своему послу, герцогу Инфантадо, собственноручное письмо, в котором требовал, чтобы тот поторопил Веласкеса и заставил его немедленно вернуться, ’’потому что, — как пишет король, — вам известна его флегматичность”. Итак, флегматичность Веласкеса была общеизвестна. Но флегматичность — превосходная степень от спокойствия, а флегматик — мультимиллионер, у которого времени всегда в избытке.
Биографу Веласкеса не остается ничего другого, как отправиться а 1а recherche du temps perdu, времени, которое потерял художник. Сколько исследователей ни занимались Веласкесом, все они, пусть даже сильно упрощая проблему, вынуждены были к ней обращаться.
Творческую ’’скупость” Веласкеса также невозможно объяснить тем, что светская жизнь, компании писателей и художников забирали у него много времени. Так как речь идет об испанце, то можно было бы предположить, что значительная часть его жизни расходовалась на занятие, в котором наш
23
Диего Веласкес. Св. Антоний посещает св. Павла. Фрагмент. Ок, 1641—1643. Мадрид, Прадо
народ находит наивысшее наслаждение и которому отдает весь свой талант и энергию, — на разговоры. Однако художники, которые где-то в глубине души продолжают оставаться ремесленниками, рабочими, зачастую бывают молчунами, а Веласкес относился к самым неразговорчивым из них. У него было всего лишь несколько товарищей по профессии — Алонсо Кано, Сурбаран и некоторые другие, с которыми он общался, когда они наезжали в Мадрид. Но не стоит забывать, что это были чисто юношеские привязанности. Новых друзей у Веласкеса не появилось. Он был меланхоликом, сообщает нам Паломино, рассеянным, замкнутым. Он уделял светскому общению так мало времени, что, пожалуй, это может служить единственным объяснением тому странному факту, что при жизни о нем почти не говорили. О Сурбаране тоже редко вспоминали, но это естественно: почти всю свою жизнь он провел затворником в глухих монастырях, пытаясь передать трогательную белизну монашеских одеяний. Веласкес живет не где-нибудь, а во дворце, король считает его своим близким другом. И тем не менее никто им не интересуется. Разве что Кеведо посвящает его живописной манере два-три слова. И это все. Правда, Кеведо был единственным писателем, чей портрет написал Веласкес, да и то скорее всего по приказу графа-герцога, у которого в ту пору были прекрасные отношения с хромым плутом. Так что и это исключение ничего не доказывает и лишь оттеняет молчание, которое хранят писатели в отношении Веласкеса.
Исследователи знаменитых личностей должны пытаться с максимальной точностью описать облик их прижизненной славы, ибо мало что еще способно пролить свет на то, какими они были. Человек не бывает просто абстрактно знаменит. У каждой славы свое лицо. Веласкесу, чтобы стать знаменитым, было бы достаточно уже одного назначения на должность придворного живописца в столь юном возрасте. И действительно, его стремительный взлет имел оглушительный резонанс. Однако тут же из своих черных нор с гнусным шипением выползли змеи зависти. С этого момента и до самой смерти бесчисленный легион завистников будет держать в осаде славу Веласкеса. Они так и не смогли отважиться на решительную атаку, так как король покровительствовал художнику, которым восхищался и к которому испытывал самые искренние дружеские чувства. Стратегия зависти состояла в том, чтобы взять эту славу измором. Для этого использовалось два испытанных способа. Поскольку каждый портрет, который писал Веласкес в свои ранние годы, был лучше предыдущего, его противники утверждали, что он вообще не умеет писать ничего, кроме портретов. Таков один из самых распространенных приемов, к которому обычно прибегают завистники, чтобы развеять славу талантливого человека. Внимание публики привлекается к тому, чего он не делает, а дальше следует вывод: не делает — значит не способен. Веласкес и в самом деле отказывался писать сюжетные картины, которые тогда называли ’’историями”. Почему? Позже мы увидим. Второй прием состоял в том, чтобы
25
организовать вокруг Веласкеса заговор молчания, сделать так, чтобы о нем по возможности меньше говорили.
Отношение нашего художника к этим неутомимым усилиям зависти поистине достойно восхищения. Он их игнорирует, не обращает внимания, а если и обращает, то презирает. Веласкеса можно назвать гением презрения. Мало кому удается презирать так естественно и органично. Его равнодушие к завистливому окружению даже может заставить нас подумать, что ему не хватало боевого духа. Однако стоило зависти подойти слишком близко, Веласкес, чувствуя необходимость дать ей отпор, умел показать зубы. Все знали, что его ’’выпады” смертельны. Однажды, вскоре после назначения Веласкеса придворным художником, Филипп IV, решив испытать его способность отстоять свою славу, сообщил ему, что люди говорят, будто он не умеет рисовать ничего, кроме голов. Юный, деликатный Веласкес, встряхнув густой черной шевелюрой, ответил: ’’Сеньор, они оказывают мне большую честь. До сих пор мне не приходилось видеть ни одной хорошо написанной головы”. Эта одна из трех или четырех дошедших до нас фраз художника, как и все остальные, самой своей афористичной краткостью раскрывает нам и его характер, и свойственную ему последовательность в исполнении творческих замыслов, и верность тому высокому предназначению, которое вело его по жизни. Веласкес переполнен талантом, и ему совершенно безразлично мнение людей бездарных.
Он не только не обороняется от зависти, но и пальцем не шевельнет для укрепления своей славы. Его отношения с картиной заканчиваются после того, как она создана, а свой талант он пускает в ход, только когда творит. Никто не был так далек от саморекламы и интриг, как Веласкес. Он стоит в стороне ото всех партий и группировок, что совсем непросто при дворе. Несмотря на то что своим появлением в Мадриде он обязан графу-герцогу, верность которому сохранит навсегда, ему удастся отделиться от его свиты и сохранить независимость. Вот почему падение графа-герцога никак не отразилось на положении Веласкеса.
Все это определило своеобразие прижизненной славы художника. Она ограничивалась пределами Испании, где получила достаточно широкое распространение. Однако мы можем пересечь из конца в конец ту эпоху и почти не обнаружить следов его известности. Таким образом, несмотря на все свое величие, слава Веласкеса была ненавязчивой, деликатной, как бы статичной. Она не была деятельной, ни на кого не производила впечатления. И если изначально ’’слава” означает ’’славить”, ’’говорить о ком-то”, то о Веласкесе молчат. Завистники, которым уже было не под силу уничтожить ее, старались ее парализовать, воспрепятствовать ее распространению и ослабить ее воздействие. Вот почему слух о нем пересек границы с таким запозданием, и, несмотря на победы, одержанные Веласкесом во время второго путешествия, в Италии его звезде так и не суждено было взойти и засиять над горизонтом современной ему живописи, приемами которой он столь мастерски владел. В высшей степени странно, что после того, как
26
Веласкес, будучи второй раз в Италии, написал портрет папы Иннокентия X, а также ныне утраченные портреты многих других деятелей папского престола, ни один из итальянских молодых художников не отправился в Мадрид, чтобы стать его учеником. Итак, напрашивается очень важный вывод: Веласкес не был ’’популярен” в свое время. Реклама обходила его стороной. Далее мы укажем еще несколько немаловажных причин, объясняющих этот факт. Однако сначала остановимся на ’’слишком человеческой” стороне дела, и не только потому, что таким образом сможем понять, каким в действительности был Веласкес, но и потому что получим редчайшую возможность увидеть, что такое слава художника или писателя, так сказать, в чистом виде, то есть без опоры на рекламу и интриги. Оказывается, что без вмешательства этих двух видов мошенничества слава не способна обрести ни масштабов, ни напора, ни прочности.
4. С 1640 года в душе Веласкеса время от времени вспыхивает ностальгия по Италии, что неудивительно. Это своего рода ’’общее место” в жизни всех художников той поры. С 1550 г. молодые живописцы из Нидерландов, Германии, Франции совершают паломничество в Италию, после чего красочный и пьянящий облик этой страны преследует их всю жизнь. Повсюду искусство в конечном счете стало еще одним социальным рычагом в руках правящих классов, и лишь в Италии оно является живой народной стихией, выплескивающейся на улицы и витающей в самом воздухе этой страны. Вот почему любой художник чувствовал себя гражданином Италии и ссыльным — за ее пределами. Конечно, нельзя с уверенностью утверждать, что мы вскрыли истоки той ностальгии, которая переодически начинала пульсировать в душе Веласкеса. Его отношение к искусству отнюдь не вписывается в общую схему. Слепое поклонение искусству никогда не прельщало его, и, насколько мы можем судить, сам тип ’’человека искусства” вызывал у него стойкое отвращение.
Более вероятно, что Веласкеса привлекал сложившийся в Италии образ жизни, лишь частью которого было искусство. Действительно, в рамках тогдашней Европы это был самый ’’современный” стиль жизни — яркий и независимый, лишенный провинциализма, чему в огромной степени способствовала память о великом космополитическом прошлом. ’’Вольная жизнь Италии!” — восклицает на старости лет Сервантес, вспоминая о днях юности, проведенных в Неаполе.
До 1649 года Филипп IV не позволяет Веласкесу вернуться в Италию. Однако, исполнившись решимости собрать лучшую коллекцию живописи, король наконец посылает туда Веласкеса с целью скупить все, что только можно. Намерение, достойное восхищения, особенно если учесть, что денег у короля нет. Плод его усилий — современный музей Прадо.
Итак, второе путешествие нашего героя носит официальный характер. Он едет с особой миссией и представляет самого могущественного монарха Европы. Кроме того, всем известно, что он является личным другом короля. На этот раз итальянские художники видят в человеке по имени
27
Веласкес знатного сеньора, благородного ’’кабальеро”. Таково впечатление тех, кто встречался с ним в Риме и Венеции, как, например, Боскини:
Cavalier, che spiraba un gran decoro Quanto ogn’altra autorevole persona*.
Когда Веласкес заканчивает портрет Иннокентия X, папа посылает ему в качестве вознаграждения золотую цепь. Веласкес делает неслыханный жест: он отсылает ее назад, тем самым давая понять, что является не художником, а слугой короля, которому служит своей кистью, пуская ее в дело лишь по высочайшему повелению. Этот невероятный жест, с которым Веласкес отрекается от профессии художника, проливает свет на всю его предыдущую жизнь. В последнее десятилетие, между 1650 и 1660 годами, великий парадокс, тайна всей его биографии, становится очевидным. Веласкес не хочет и никогда не хотел быть художником. Одного этого было бы достаточно, чтобы понять, почему он писал так мало, и вовсе нет необходимости прибегать к другим объяснениям, вроде нехватки времени.
Веласкес возвращается в Мадрид в 1651 году. В 1652 он подает прошение о назначении его на пост ’’старшего гофмейстера”, который обычно занимали исключительно знатные персоны. В 1658 году король изъявляет желание наградить его за преданность и дружбу и предлагает ему на выбор членство в каком-нибудь из военных орденов, что подразумевало присвоение одного из самых высоких титулов. Веласкес выбирает орден Сантьяго, и начинается следствие для подтверждения чистоты крови и благородства происхождения. Свидетели один за другим показывают, что Веласкес никогда не был профессиональным художником, что он никогда ничем не уронил чести и достоинства дворянина, что его живопись — всего лишь ”дар божий”, ’’благодать”, а не средство заработать себе на жизнь. В 1660 году, выполняя обязанности, предписанные ему новой должностью, Веласкес организует поездку Филиппа IV в Пиренеи, где испанский король должен отдать в жены Людовику XIV свою дочь Марию Тересу. Церемония происходила на острове Файзамес, что подобен корзине цветов, которую несут воды реки Бидасоа, являющейся нейтральной территорией между Францией и Испанией. Самые знатные господа обеих стран съехались туда, блистая роскошными костюмами и украшениями. Однако из всех воспоминаний, которые как французы, так и испанцы сохранили об этом громком историческом событии, особо выделяется впечатление, произведенное на всех Веласкесом. Всего лишь через неделю, сразу по возвращении в Мадрид, великий художник умрет. Но прежде ему было суждено пережить момент своего высшего торжества в обстановке чисто дворцового празднества. Это был странный триумф, но потому он нам и интересен. Это был триумф физический, триумф его тела и фигуры, самого его присутствия, его аристократической элегантности и величественной осанки. Вот тот образ,
♦ Кавалер, который держал себя с большим достоинством Как каждый по-настоящему авторитетный человек (ит.).
28
который должен навсегда запечатлеться в нашей памяти, та призма, сквозь которую следует смотреть на любую картину Веласкеса, подобно тому, как, читая Декарта, мы всегда должны иметь в виду, что перед нами не просто какой-то писатель, a seigneur* du Perron.
II
[ПРИЗВАНИЕ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И СЛУЧАЙ]
Вот в общих чертах то, что принято считать биографией Веласкеса. Но, разумеется, это совсем не так. Это всего лишь нагромождение фактов, голая схема или, если угодно, грубый эскиз его настоящей жизни, небрежно выполненный сторонним наблюдателем. Но ведь жизнь любого человека — это прежде всего нечто глубоко личное, некая реальность, существующая лишь сама для себя, а значит, и увидеть ее можно только изнутри. И если вместо внешнего взгляда мы воспользуемся внутренним, то увидим, что картина резко меняется. Жизнь перестает быть цепочкой событий, следующих одно за другим без какой-либо видимой связи, и превращается в драму, то есть в напряженный, динамичный процесс, развитие которого вполне доступно нашему пониманию. Сюжет этой драмы заключается в том, что человек отдает все свои силы на борьбу за то, чтобы реализовать — в окружающем его с рождения мире — некий воображаемый персонаж, составляющий его подлинное ”я”. Человек не есть его тело, не есть его душа. Душа и тело — всего лишь доступные ему подручные механизмы, с помощью которых он осуществляет свою жизнь, то есть становится определенной индивидуальностью среди себе подобных. Этот идеальный герой, которым является каждый из нас, и есть то, что зовется ’’призванием”. Наше призвание сталкивается с обстоятельствами; отчасти они благоприятствуют ему, а отчасти мешают. Таким образом, призвание и обстоятельства — две исходные величины, которые мы можем точно определить и сопоставить в рамках той динамичной системы, что они составляют. Однако в эту ясную систему вклинивается один иррациональный фактор — случай. Итак, компоненты жизни любого человека можно свести к трем важнейшим факторам: призванию, обстоятельствам, случаю. Написать чью-либо биографию означает суметь выразить эти три величины через уравнение. Ведь хотя случай и является для жизни элементом иррациональным, в каждой добросовестно составленной биографии мы можем определить, какие поступки или черты характера случайны, а какие нет, равно как и ту или иную степень влияния случая на жизнь данного человека. Если представить чью-либо жизнь в виде круга, случай будет иметь форму углубления, в той или иной мере искажающего участок внешнего периметра. Вот таким рациональным образом и можно, пожалуй, определить этот иррациональный фактор судьбы.
♦Сеньор, господин, вельможа (фр.).
29
Важно не то, что Веласкес, как и многие другие, происходил из знатной, но пришедшей в упадок семьи эмигрантов, а то, что в этой семье царил подлинный культ своей родословной. В домашнем кругу непрестанно твердили, что род Сильва, по преданию, берет начало не больше и не меньше как от Энея Сильвия, правителя Альба-Лонги. Но судьба отвернулась от семьи, и в наступившей бедности эта славная история, обрастая всякий раз новыми подробностями, стала больше напоминать миф, символ веры. Где-то в самых потайных закоулках сознания Веласкеса жил императив, сформировавшийся в самом раннем детстве: ”Ты должен стать знатным”. Но этот императив вряд ли можно рассматривать как побудительную причину для достижения цели. Он носил, скорее всего, слабо выраженный, чисто схематичный характер. На самой заре жизни перед Веласкесом открылась другая блистательная перспектива, более реальная и конкретная — невероятные способности к живописи. Необходимо помнить, что Веласкес был ”чудо-ребенком”. Но родиться вундеркиндом еще не значит непременно стать великим художником, равно как и великому художнику вовсе не обязательно быть вундеркиндом. Необычайная одаренность — часть механических способностей, составляющих художественное творчество. Великий художник приобретает их, как правило, ценой огромных усилий к тому моменту, когда большая часть жизненного пути уже пройдена. Вундеркинду они достаются от рождения и ничего ему не стоят. Поэтому такие способности называют даром, подарком природы. Веласкес, несомненно, был наделен этим даром, причем со сказочной щедростью. В считанные годы, когда он был еще подростком, талант художника развивается в нем стремительно и полно. Эта легкость живет в нем до двадцатилетнего возраста, даря лихорадочное возбуждение и радостное исступление труда, а потом навсегда покидает его, вытесненная проснувшейся подлинной человеческой личностью. На этом начальном этапе волшебство таланта буквально выплескивается из него на холст, заставляя неустанно трудиться. Его тесть Пачеко, сам того не ведая, запечатлел для нас те чудовищные и счастливые годы.
Само по себе это тератологическое совершенство, достигнутое Веласкесом еще в детстве, казалось бы, не было столь уж существенно для его биографии, а значит, и для его сугубо личного творчества. И все же оно важно, поскольку имело два последствия. Во-первых, благодаря ему, он вступил в жизнь с чувством невероятной уверенности в себе. С первых шагов Веласкес уже знает, что оставил далеко позади всех художников своей эпохи. Высокомерие и тщеславие всегда были чужды ему, однако одна фраза, произнесенная им незадолго до того, как он покинул Севилью, недвусмысленно свидетельствует о том, что уже тогда он отдавал себе ясный отчет в своем превосходстве. До тех пор пока к жизни не пробудилось его подлинное ”я”, Веласкес считал своим предначертанием судьбу художника. И надо же было так случиться, что он оказался выше всех своих современников едва ли не до того, как пришел к подобному заключению!
Другим последствием его ранней одаренности явилась возможность воспользоваться, еще до достижения зрелости, чистой случайностью —
30
сменой короля и возвышением графа-герцога Оливареса. И этот случай, приведший Веласкеса — совсем еще юного и не успевшего познать мир — в королевский дворец, ’’сформирует” всю его дальнейшую жизнь, то есть и обогатит и изуродует ее. Без сомнения, этой нежданной милости судьбы художник обязан некоторыми наиболее яркими чертами своего творчества. Но случай — элемент хаоса, и столь энергичное его вмешательство в жизнь человека просто не могло наряду с очевидно благоприятными последствиями не иметь последствий роковых.
Отметим среди них прежде всего самое непосредственное и серьезное. Семейная тяга к социальной реабилитации, которая в силу своей неосуществимости долгое время дремала в Веласкесе, неожиданно проснулась и захватила его. Для человека тех времен, считающего себя идальго, служение королю было, после служения Богу, высшей целью существования. И Веласкес, едва став юношей, идет служить королю, совсем еще мальчику, заняв при этом пост одного из первых приближенных августейшей особы. Для карьеры придворного это означало начать с конца, иными словами — получить все сразу, не затратив при этом ни сил, ни терпения.
В результате в Веласкесе проснулось его подлинное призвание. Теперь он с ужасом отвергает мысль посвятить себя ремеслу живописца, вписать свою внешнюю и внутреннюю жизнь в эту экзистенциальную модель. Решение стать художником возникло в нем механически — а значит, не отражая его искренних чаяний, — под влиянием наслаждения, доставляемого ему применением своего непомерного таланта. Отныне Веласкес будет знатным вельможей, который лишь время от времени берется за кисть.
Давайте посмотрим, каковы же благоприятные последствия этой неожиданной и столь ранней улыбки судьбы в жизни Веласкеса.
1. Теперь он a limine* свободен от давления и унижений, неминуемо сопутствующих творчеству, ставшему профессией. Веласкес отныне не зависит от заказов церквей, монастырей, муниципалитетов и коллекционеров-толстосумов от живописи.
2. Это, в свою очередь, означает, что, если не считать обязанности писать портреты королевской семьи, Веласкес занимается только искусством. Не думаю, что до XIX века найдется еще хоть один художник, который мог бы себе это позволить. Чистое искусство, ’’субстантивация” искусства — явление, присущее, пожалуй, лишь Новому времени. Уже в этом сущностном, изначальном для понимания его стилистических особенностей моменте Веласкес выступает провозвестником нашей эпохи. Вот почему, если оставить в стороне придворные портреты, перед каждым его полотном мы неизбежно задаемся неожиданным вопросом, почему художник написал его, и ответ на это ’’почему” почти всегда лежит в области эстетики, а не чисто профессиональных мотивов. Это уникальный и парадоксальный случай в истории живописи: все исследователи почему-то счита
*С порога, с самого начала (лат.).
31
ют, что обязаны объяснять, почему была написана каждая картина, словно для Веласкеса-художника самым естественным состоянием было не браться за кисть.
3. Жизнь при дворе ограждает его от назойливого внимания собратьев по ремеслу и от утомительного общения с ними. Веласкес имеет счастливую возможность не ведать о зависти, грызне и злобе, которые неизбежно сопутствуют сосуществованию с коллегами по цеху.
4. Дворцы Филиппа IV хранят одно из лучших собраний картин того времени. К услугам Веласкеса вся история европейской живописи, и жизнь его проходит среди знаменитых полотен. Это, на мой взгляд, также случай исключительный. День за днем шедевры великих мастеров борются за право завладеть вниманием Веласкеса и подчинить его творчество своему влиянию и авторитету. Разумеется, каждое произведение искусства поднимается над тем уровнем, которого достигло данное искусство в результате своей эволюции. И все, что было раньше, служит ему естественной питательной средой. Но было бы ошибкой назвать влиянием то, что является неизбежной предпосылкой. Самое убедительное доказательство этого состоит в том, что человеку творческому требуется впитать в себя прошлое именно для того, чтобы избежать его повторения, чтобы его преодолеть. Если мы согласны принять это в расчет, то, исследуя творчество Веласкеса — человека, тридцать семь лет не покидавшего стен дивного музея, — будем просто ошеломлены тем, насколько мало оно было подвержено влияниям. Поразительно, с каким бессовестным произволом историки искусства рассуждают о влияниях на творчество того или иного художника. В этом они подобны литературоведам, не располагающим четкой методологией и не умеющим отличить подражания от простого совпадения. Я не собираюсь вдаваться в излишние подробности, но, если читатель хочет понять, насколько безответственно пишутся истории искусства, ему достаточно немного поразмыслить над ’’источниками”, приписываемыми обычно картине ’’Копья”. Едва ли найдется художественное полотно с изображением поднятого копья, которое не указывали бы в качестве такового. Однако вглядитесь внимательнее в картины-’’предшественницы”, и вы поймете, что надо было обладать куда большей гениальностью для того, чтобы вычленить из них ’’элементы с копьями” и придать им ту роль, которую они играют на полотне ’’Сдача Бреды”, нежели для того, чтобы написать их a nihilo*. Инерция подобной историографической методологии не позволяет разглядеть по-настоящему важный и требующий серьезного изучения факт — независимость Веласкеса от каких-либо влияний. Дело в том, что, увлекаясь больше, чем кто бы то ни было из современных ему художников, ’’старыми мастерами”, Веласкес не оставил нам ни малейшего намека на свое преклонение перед ними. И мы невольно спрашиваем себя: каково же было отношение Веласкеса к традиционной живописи? Вот воистину серьезный вопрос, который, как мы скоро увидим, помогает нам
*Из ничего (лат.).
32
постичь самые сокровенные, загадочные и, казалось бы, необъяснимые стороны творчества Веласкеса.
Остановимся теперь на негативных последствиях столь раннего появления Веласкеса во дворце. Королевский двор в момент своего становления исполнен живой творческой силы, великими замыслами, устремлениями, возможностями. Таковым предстает перед нами двор Карла V, особенно в первую половину его царствования. Жизнь двора уже сформировавшегося, каким он был при Филиппе IV, механистична и ритуализирована. Хотя сам король был большим любителем искусства, в его окружении никогда не происходило ничего интересного. Во дворце, казалось, витал дух стерильности. Жизнь в мадридском Алькасаре обеднила мир Веласкеса, лишила его живого и непосредственного опыта. Не случайно Лопе де Вега, отличавшийся исключительным жизнелюбием, испытывал ужас перед жизнью придворного. ’’Дворцы — это гробницы, — говорит он. — Даже фигуры на дворцовых гобеленах, имей они чувства, стоило бы пожалеть”. Представьте же себе, какое парализующее влияние оказывала эта атмосфера на натуру столь флегматичную, какой обладал Веласкес. Художник нуждается в давлении жизненных обстоятельств, ведь, чтобы лимон дал сок, его надо сильно сжать. А у Веласкеса к двадцати четырем годам все проблемы уже были решены.
Обобщая сказанное, ’’синдром Веласкеса” можно определить следующим образом. Стремление реализовать наше призвание, достичь подлинного ”я”, генерирует и питает нашу энергию. Призвание Веласкеса двояко: им движут влечение к искусству и стремление к социальной реабилитации. И оба эти притязания удовлетворены почти незаметно для него самого — без борьбы, усилий и мучительных ожиданий — на самой заре взрослой жизни. В результате он опустошен, лишен жизненного накала, подобно электрической батарейке, в которой иссяк заряд. Отсюда беспросветное однообразие его судьбы, какая-то удивительная робость его жизненной поступи. Ничто не заставляло его бороться с обстоятельствами: слишком благоприятные, они не оказывали ему не малейшего сопротивления. Нелюдимый от природы, он стремился отгородиться от всего мира, а судьба лишь потакала его намерениям, доводя их до предела. Веласкес — один из самых необщительных людей. Жить означает для него держать дистанцию. Его искусство — исповедь, история противостояния бытию. Это искусство отстраненности. Изъяв из живописи все, что в ней есть от тягостной профессиональной рутины, Веласкес смог взглянуть на нее со стороны, обнажить ее существо, свести к ’’чистому” искусству, иными словами — к системе исключительно эстетических задач. Поэтому, если не брать в расчет неизбежные портреты королевской семьи, Веласкес никогда не повторяется: каждое его полотно — это живописная теорема, единственный экземпляр из бесконечного ряда возможных полотен. Более того, Веласкес дистанцируется от своих собственных картин, почти всегда оставляя их незавершенными. Им, как правило, не хватает ’’последнего штриха”, иными словами — решающего, заключительного усилия. Слава тоже, как мы теперь понима
33
ем, не заботит его. Он держится от нее в стороне. Не удивит нас и стиль его живописи, состоящий в изображении предметов как бы издалека, и то, что картины впервые решительно порывают с культом осязания, который представляет все зримые предметы как потенциальную добычу, а человека — как животное с гипертрофированным хватательным инстинктом. Фигуры на полотнах Веласкеса нельзя потрогать, они — чисто зрительные образы, их реальность — это реальность призрака. Все это в конечном итоге свидетельствует о том, что Веласкес, похоже, меньше всего думает о зрителе. Он лишает нас своей откровенности: ”он ничего нам не говорит”. Он написал картину и ушел, бросив нас наедине с нею. Он — гений неучтивости.
Зачарованные непревзойденным изяществом кисти Веласкеса, не допускающей ни единого случайного, непродуманного мазка, и раздосадованные тем, что он оставил нам так мало полотен (треть из которых к тому же составляют портреты одного и того же персонажа, который как человек не представляет большого интереса, — Филиппа IV), мы поневоле представляем себе другую жизнь Веласкеса — ту, которую он смог бы прожить, если бы Филипп III не умер так рано. Мы вовсе не хотим пренебречь самобытностью его гения, его особым угрюмым и неприветливым лиризмом, напротив, не в силах противостоять их притягательности, мы лишь желали бы увидеть все это в более широком и разнообразном воплощении. Вот почему мы представляем себе иного Веласкеса, скованного по рукам и ногам обычной жизнью своего цеха, колесящего по миру, ночующего на постоялых дворах и в монастырях, гонимого бедностью и кознями коллег, ежечасно страдающего от ударов суровой испанской действительности. Иными словами, нам интересно, выстояла ли бы его самодостаточность перед лицом жизненных обстоятельств, которые не только ранят и уродуют, но также способны обласкать и вдохновить. Мы не сможем понять жизнь, реально прожитую жизнь, если не попытаемся представить себе, какой бы она была, не вмешайся в нее случай. Таков удел человека: как сложится жизнь — порою зависит от пустяка. Случай, один лишь случай распорядился так, что Веласкес прожил всю свою жизнь под стеклянным колпаком.
III
[ПОРТРЕТ КАК ПРИНЦИП ЖИВОПИСИ]
Во времена своего отрочества, в Севилье, Веласкес писал бодегоны. Бодегон изображает кухню или стол в таверне с неизменными тарелками, бутылками, кувшинами, разнообразной снедью, а также человеческие фигуры, представителей самых низших классов. Начав писать бодегоны, Веласкес не изобрел ничего нового. То же самое делали все молодые художники его поколения. Да и среди представителей старшего поколения нетрудно найти художников, набивших руку на этом жанре, взять хотя бы учителя Веласкеса, Эрреру Старшего. Причина нам уже известна: самое главное
34
состояло в том, что бодегон не был картиной на религиозную или мифологическую тему, то есть не был тем, что тогда называли ’’историей”. В бодегоне не происходит ничего особенного, в нем отсутствуют хоть сколько-нибудь значительные объекты, а в его форме отсутствует какое-либо стремление к четкой и ритмичной архитектонике. Бодегон — это запечатленная на холсте тривиальность. Он являет собой полную противоположность традиционной, всеми почитаемой живописи, то есть живописи итальянской. Предметом этой живописи была ’’красота”. Искусство Италии поколение за поколением, школа за школой черпало из шахты под названием ’’красота” все свои формы. Поначалу они были жизнеспособны и привлекательны — вспомните Рафаэля. Затем в ’’красоте” стали искать некую изысканность, граничащую с формализмом. Живопись все больше и больше напоминала риторику без слов. К 1550 году возобладала страсть вызывать stupore*. Как само явление, так и слово, его обозначающее, получили официальный статус. ’’Красота” превратилась в наркотик. Наступила эпоха барокко. На полотнах Тинторетто и Рубенса воцаряется чистое движение, некое динамическое безумие. Маньеристы идут еще дальше, и славный Греко, вознамерившись epater les bourgeois**, вытворяет у них на глазах самые эксцентрические трюки. Однако когда такое происходит в искусстве, это означает, что круг художественных возможностей замкнулся, а сами возможности исчерпаны. ’’Красота” и формализм становятся подобны выработанной шахте. В такой-то момент перед нами и появляется необычайно одаренный юноша с кистью в руке — Веласкес. Он точно оценил ситуацию и, должно быть, мысленно воскликнул: ’’Красота умерла, да здравствует все остальное!”
Теперь остается понять, что такое ’’все остальное”. Прежде всего это антикрасота, банальность, то есть бодегон. Поскольку мы лично не участвовали в битвах, сотрясавших прошлое человечества, оно кажется нам мирным и спокойным. Но по природе человек свиреп, и его жизнь — постоянная война. Поэтому писать бодегоны — занятие, представляющееся нам сегодня вполне безобидным, — в 1615 году воспринималось как опасная и дерзкая диверсия. Тридцатью годами раньше сын ломбардского каменщика Караваджо предпринял первое революционное выступление против итальянской, да и всей европейской живописи. Он впустил в свои картины ’’натуру”, и его искусство стало называться ’’натурализмом”. Полотна Караваджо внушают ужас, подобно террористическим актам. Еще в 1633 году старый итальянец Кардучо, занимавший к моменту приезда Веласкеса в Мадрид пост придворного живописца и впоследствии при каждом удобном случае вымещавший на нашем художнике свою зависть, называл Караваджо ’’Антихристом”. Дело в том, что великий ломбардец сохранил самую суть барочной живописи — стремление вызывать stupore и
* Изумление (ит.).
**Эпатировать буржуа (фр.).
35
создавать впечатление terribilita*. Его новаторство состоит лишь в том, что он вводит в свои картины простолюдинов и меняет функцию светотени, которая до него была чисто произвольным элементом и использовалась только для того, чтобы подчеркнуть объемность тел. Свет и тень, то есть освещение, были условными, как, впрочем, и сам рисунок, а значит, как и рисунок, являлись чистым приемом. Караваджо дерзнул скопировать естественное освещение, хотя и воспользовался для этого искусственными способами организации света: луч, проникающий в пещеру, выхватывает из темноты фрагмент фигуры, оставляя большую ее часть в непроглядном мраке. Это иллюзорное, патетическое, театральное освещение в конечном итоге являет собой реальный свет, перенесенный на полотно. Тот же свет озаряет бодегоны юного Веласкеса.
Однако намерения испанского художника совсем иные, нежели у Караваджо. Обратимся к знаменитому ’’Продавцу воды” из собрания Веллингтона. Сразу стоит отметить, что драматизм здесь сильно снижен. Светотень не является самостоятельным действующим лицом, как это происходит у Караваджо и других авторов ’’мрачных картин”. Для них светотень — тиски, жестко сдавливающие, почти сплющивающие предметы, помещенные между ярким светом и кромешной тьмой. В юношеских бодегонах Веласкес ниспровергает тиранию светотени, превращая ее лишь в способ вызвать объект из небытия. Для него важны сами объекты — человеческие фигуры и вещи, а не композиция, не ритмичное чередование линий, сгустков и пустот, симметрии и арабесок, света и тени. На картине изображены три фигуры: кувшин, два глиняных сосуда и бокал с водой. Перед нами совокупность портретов. Ошибочно полагать, что портретом можно считать лишь изображение людей или в крайнем случае животных. Картина является портретом тогда, когда художник переносит на холст индивидуальность объекта. Так и это полотно помимо портретов старого водоноса, мальчика и еще одного, едва различимого в темноте персонажа заключает в себе портрет какого-то кувшина, какой-то глиняной посуды и какой-то чаши, которые в силу самого жанра превращаются в этот кувшин, эту посуду и эту чашу. Портрет, как я уже говорил, стремится индивидуализировать объект. Он превращает любую вещь в уникальную, единственную.
Веласкес — великий портретист. Сколько раз мы это слышали! Но если к этому утверждению ничего не добавить, то оно — на первый взгляд такое прозрачное — скорее скрывает, чем раскрывает величие творческого замысла Веласкеса. И дело даже не в том, что подобное заявление не способно пролить свет на то, каким именно портретистом был Веласкес, а в том, что оно полностью извращает представление о его творчестве. Ведь Веласкес не просто писал портреты, но возвел портрет в основополагающий принцип живописи, а значит, дело приобрело весьма серьезный, решительный и
*Ужас (ит.).
36
Диего Веласкес. Продавец воды в Севилье.
Ок. 1620—1621. Лондон, собрание герцога Веллингтона
опасный оборот. Он развернул всю махину живописных традиций на сто восемьдесят градусов. Не стоит забывать, что до XVII века портрет не считался живописью как таковой. Он был чем-то вроде ’’параживописи”, чем-то второстепенным, вспомогательным. Эстетическая ценность портрета ставилась под вопрос, а сам он в определенном смысле противопоставлялся искусству. Ведь искусство живописи состояло в изображении красоты, а следовательно, в деиндивидуализации мира. Поэтому быть великим портретистом еще не означало быть великим художником.
Любая картина отражает борьбу между ’’художественной” и ’’естественной” формой предмета. Речь идет чуть ли не о некоем общем законе развития любого большого художественного цикла, согласно которому на смену начальному этапу, когда эта борьба еще почти незаметна, приходит преобладание конструктивного принципа над естественными формами предмета. Поначалу одно другому не мешает. Предмет, что ни говори, пользуется определенным уважением, но его вынуждают поставить свои ’’природные” формы на службу формам ’’художественным”. Такой этап называется классическим. Но вскоре преобладание формального принципа перерастает в настоящую тиранию по отношению к предмету. Начинается surenchere* формализма, и первым его проявлением становится маньеризм. Затем формализм распространяется на передачу света, который, в свою очередь, полностью порабощает архитектонику рисунка. На перекрестке этих двух тенденций маньеризма находится, например, Эль Греко. Дальше дороги нет, спасти искусство может только некий революционный переворот, в результате которого в картине воцарится объект и его истинная форма. Этот переворот был назван ’’реализмом”, и совершил его Веласкес. Но объявить его живопись реалистической — значит вообще ничего не сказать.
Искусство во все времена стремится приукрасить внеположенную ему реальность, которая только и делает, что угнетает, подавляет, истощает человека. Это своего рода иллюзия, мистификация. Способы подобной ’’дереализации” разнообразны и порой противоречивы. Поэтому не следует думать, что, когда Веласкес расстается с красотами формализма, главенствовавшими до него в живописи, и обращается к предмету как таковому, во всей его трагической простоте он отказывается также и от ’’дереализации”. Это означало бы отказаться от самого искусства. До Веласкеса уход от реальности достигался куда более простыми способами: изображенные предметы не только не были реальными, но даже и не претендовали на это. Задача, стоящая перед Веласкесом, гораздо сложнее: перенести на холст саму реальность так, чтобы она, оставаясь всего лишь ’’презренной реальностью”, приобрела очарование ирреального. Вглядитесь в этих королев и инфант, в Иннокентия X; в мизансцену ’’Менин”, в залитые светом женские фигуры на заднем плане ’’Прях”. Они — документальное свидетельство,
*Букв. вздувание цены, преувеличение (фр.), здесь: разрастание.
38
вершина ’’веризма” и одновременно существа некоего фантасмагорического мира.
Какие же магические силы помогают Веласкесу осуществить эту удивительную метаморфозу — подойти к реальности ближе всех прочих художников, придав ей обаяние неправдоподобного? Ведь речь идет именно о том, что он превратил повседневность в неиссякаемый источник удивления. Если мы окинем взглядом все его творчество в хронологической последовательности, то сразу же обнаружим метод, который он поставил себе на службу. В самом деле, от ’’Продавца воды” до его последней картины (будь то ’’Пряхи” или портрет Марианны Австрийской), Веласкес постоянно оттачивает технику отрицания. Вопреки всей истории европейской живописи, он пытается обойтись без изображения объема как такового, иными словами, без того, что является осязаемой стороной объекта. Действительно, мы воспринимаем предметы окружающей нас реальности скорее на ощупь, нежели чисто визуально: они для нас прежде всего тела. В то же время все, относящееся к области ирреального, мы назовем ’’призраком”, то есть чисто визуальным образом, который невозможно потрогать руками. Теперь нам понятно то, что раньше звучало бы как парадокс: реализм Веласкеса не что иное, как разновидность ирреализма, являющегося сутью истинного искусства. Веласкес не изображает ничего, что не наличествовало бы в том или ином объекте повседневной жизни. И в этом смысле он реалист. Но из реальности он берет лишь некоторые элементы, самые необходимые для создания своего призрачного мира, — те, что относятся к визуальной стороне образа. Никто еще не копировал реальность, заимствуя из нее так мало компонентов. Они практически поддаются статистическому учету. Никому еще не удавалось изобразить объект меньшим количеством мазков, а значит, Веласкес ирреалист.
Гений Веласкеса триумфально завершает одно из самых грандиозных предприятий в истории искусства: возвращение живописи в сферу чистой визуальности. ’’Менины” становятся чем-то вроде трактата об устройстве глаза. Живопись, таким образом, определяет свое собственное отношение к миру и возвращается к себе самой. Вот почему Веласкеса называли ’’художником для художников”.
Теперь, научившись осторожному обращению с термином ’’реализм”, мы можем сказать, какую именно из всех ипостасей реальности выделяет и увековечивает на холсте Веласкес, — это реальность ’’явления”. Последнее слово следует понимать буквально как появление вещи, тот самый момент, когда она предстает перед нами. Потом мы осматриваем ее со всех сторон, трогаем и т.д., забывая о самом первом моменте ее появления. Но если ухватить это мгновение, выделить его и перенести на полотно, то люди, пейзажи, животные, кувшины становятся призраками, видениями, вечными revenants*. Вот в чем высший накал искусства Веласкеса, столь апатичного
* Привидения (фр.).
39
во всем остальном. Мужчина, женщина или кувшин — неважно, что именно, — появляются на его картинах как-то вдруг. С эстетической точки зрения существенно, что момент появления воспроизводится бесчисленное количество раз, что объект как бы обречен на вечное ’’появление”, переход от небытия к бытию.
Так мог писать лишь угрюмый затворник. Крайне редко мы замечаем в нем проблеск хоть какого-то тепла. Он — сама противоположность всему романтическому, преувеличенному, чувственному, мистическому. Его решительно ничто не волнует. Вот почему он не берет предмет, не приближается к нему, не дотрагивается до него, а оставляет его там, где он был, — вдали, в этом жутком бытии, лежащем вне нас. Он кладет на холст несколько мазков и говорит нам: ’’Вот вам оно!" — и без дальнейших пояснений уходит, даже не обернувшись, чтобы взглянуть на свое создание. Его заботит лишь одно: чтобы вещи были, чтобы они возникали неожиданно для нас, как загадочные призраки, принадлежащие таинственному миру, безразличному к добру и злу, красоте и уродству, то есть к бытию. Однако, хотя Веласкес и не склонен к аффектации, как всякий знатный вельможа он великодушен, поэтому он оставляет вещам'-их природное изящество. Но прежде чем пояснить это последнее утверждение, хотелось бы закончить тему ’’явления” реальности.
’’Натурализм” Веласкеса порожден желанием видеть вещи такими, какие они есть. Отсюда и его глубокая неприязнь к Рафаэлю. Ему претило, что человек вознамерился придать вещам совершенство, которым они не обладают. Все домыслы и поправки, являющиеся плодом нашего воображения, представляются ему неуважением к вещам, проявлением незрелости. Быть идеалистом — значит деформировать реальность в угоду своему желанию. В живописи стремление к совершенствованию тел приводит к точности, в то время как в открытой Веласкесом реальности, то есть в реальности чисто зрительной, тела обладают некоторой нечеткостью. Что-то подобное предвидел Тициан. Вещи у него всегда лишь ’’более или менее” присутствуют, всегда лишь приблизительно соответствуют самим себе; у них нет ни четких очертаний, ни безупречно гладких поверхностей — они как бы балансируют на грани неточности, которая только и обеспечивает возможность их присутствия. Точно переданный предмет — это сказка. И самым сказочным из всего изобретенного людьми является геометрия.
Когда речь заходит о Веласкесе, всегда говорят, что в его картинах есть воздух, атмосфера и тому подобное. Я не очень-то в это верю, и мне так и не удалось докопаться до смысла подобных утверждений. Эффект воздушности его фигур достигается исключительно за счет нечеткости очертаний и особенностей живописного фона. Современникам казалось, что они ”недо-писаны”, вот почему Веласкес не был популярен в свою эпоху. Он совершил самое непопулярное открытие: оказывается, реальность отличается от мифа тем, что не имеет завершенных форм.
Эта основополагающая особенность живописи Веласкеса становится очевидной, лишь когда мы рассматриваем все его творчество в целом.
40
Вообще, чтобы постичь творческий замысел любого художника, нужно прокрутить перед своим внутренним взором со скоростью киноленты все его картины. Тогда мы увидим наиболее устойчивые и повторяющиеся черты, они и являются главными. Однако следует принять во внимание еще одно обстоятельство, возможно еще более существенное. Недостаточно просто знать все, что создано художником, важно еще и понимать, чего он не сделал. Тогда мы проникнем в его самые сокровенные замыслы. Меня крайне удивляет, что до сих пор никто не обратил внимание на самое важное — на молчание Веласкеса в отношении некоторых тем, являвшихся ’’общим местом” в живописи тех лет. Не выделив их, мы не сможем постичь главного в его отношении к искусству живописи, того, что определило его особое место среди художников, творивших до XIX века. Я поясню.
В XVII веке под живописью понимались картины на религиозные и мифологические темы. Все остальные темы стояли вне искусства, к ним относились как к диковинкам, folies*, включая официальные полотна, увековечивавшие ратные подвиги. Веласкес же, покинув Севилью, решает никогда не писать религиозных сюжетов. Впрочем, если бы он ни разу не нарушил своего решения, у нас не было бы никаких оснований утверждать, что он его вообще принял. Мы бы подумали, что они ему просто не удавались. Но нет, в Мадриде Веласкес пишет четыре таких полотна: знаменитое ’’Распятие” (Филипп IV заказал его для монахинь Сан-Пласидо, что было случаем исключительным), ’’Коронацию Марии” (эту картину королева попросила написать для украшения своей спальни), ’’Христос у колонны” (единственное полотно, написанное художником с чувством, возможно, под впечатлением от смерти своей маленькой дочери) и ’’Искушение Святого Фомы”, мотивы создания которого нам неизвестны. Их немногочисленность и наличие в каждом случае исключительных побудительных причин дают основание утверждать, что Веласкес намеренно не писал религиозных картин. Разумеется, неверие здесь ни при чем. В Испании тех лет либертинаж как таковой отсутствовал, в отличие, скажем, от Франции, где этим словом называли атеистов. Скорее всего, как и многие люди той эпохи, Веласкес не отличался особым религиозным рвением, но объяснять его отказ писать картины для церкви безбожием было бы антиисторичным. Так в чем же дело?
К 1630 году в Испании, как и во всей Европе, утонченные ценители живописи, к которым можно отнести и самого Филиппа IV, устали от избытка религиозных картин. Сегодня нам трудно адекватно оценить всю сложность ситуации, вызванной этой усталостью, поскольку мы исходим из того, что темы, которые живопись впоследствии отвоевала для себя, уже тогда были доступны художникам и публике. Вообще, до сих пор никто не принимал в расчет те трудности, с которыми сталкивается живопись, оправдывая выбор своих тем. Всегда нелегко ответить на вопрос, что
♦Сумасбродство, безрассудство, мания (фр.).
41
Диего Веласкес. Портрет Филиппа IV ("Серебряный Филипп"). Ок. 1632—1634. Лондон, Национальная галерея
достойно быть увековечено на холсте. Религия, загнав живопись в прокрустово ложе сакральной тематики, на века облегчила решение этой задачи. Однако историк, желающий понять прошлое, должен его разрушить и вообразить другие возможные варианты развития событий, должен, так сказать, ’’реконструировать” судьбу фламандской и итальянской живописи в том случае, если бы церковь запретила изображать святых. Подобная ’’реконструкция” позволила бы с известной долей точности выявить те благоприятные и неблагоприятные последствия, которые имело для живописи исключительное благоволение церкви к художникам, что оборачивалось, в частности, значительной степенью предоставляемой им свободы. Дело в том, что религиозной живописи, усталость от которой к 1630 году все больше и больше нарастала, тогда можно было противопоставить только одно — ’’мифологию”. Этим словом в то время обозначали все, что имело отношение к язычеству. Поистине забавно, что единственной художественной альтернативой христианскому языку в живописи мог стать только язык совсем иной религиозности. Мифология, таким образом, стала для поэтов, скульпторов и художников чем-то вроде парарелигии, реанимированной эпохой Возрождения. Языческие боги требуют иной фауны, иных ситуаций, иной тональности. Творчество Рубенса, а затем и Пуссена — лучшее свидетельство этой страсти к древним мифам. Какова же позвдия Веласкеса в условиях растущего ’’спроса” на мифологию? Мы уже знаем, что для Веласкеса, в отличие от других художников тех времен, живопись не профессия, а некая система эстетических задач и внутренних императивов. В нем искусство, освобожденное от цехового рабства, превращается в чистую субстанцию, становится только искусством, и ничем иным. Отсюда поразительное пуританство Веласкеса, которое столь очевидно во всех его творениях и на которое до сих пор никто не обращал внимания, возможно, потому, что художник был скуп на слова и не снисходил до театральной жестикуляции, чтобы привлечь внимание к новизне своих решений. Итак, примем как факт отказ Веласкеса писать святых и поставим его перед необходимостью выбрать ту единственную другую тему, которая только и может дать жизнь картине, — мифологию. Посмотрим, что сделает Веласкес? Этот experimentum crucis* позволит нам проникнуть в его самые потаенные, глубоко интимные представления о живописи.
Веласкес пишет на мифологические сюжеты. Таковы ’’Пьяницы”, настоящая вакхическая сцена, ’’Кузница Вулкана”, ’’Марс”, ’’Аргус и Меркурий” и некоторые другие, ныне утраченные картины. ’’Эзопа” и ’’Мениппа” можно причислить к полумифологическим полотнам. Ко всему этому надо добавить высшее творение Веласкеса, картину ’’Пряхи”, в которой по непонятным мне причинам никто йе разглядел мифологического образа Парок, ткущих из своих нитей ковер человеческой жизни. Впрочем, все мифологические полотна Веласкеса обладают одной странной особенное-
♦Букв, проба крестом (лат.), решающий опыт.
43
тью, которая ставит в тупик историков искусства, признают они это или нет. Не раз говорили о том, что эти картины — пародии, шутки, однако подобным заявлениям не хватало убедительности. Совершенно очевидно, что Веласкес, даже соглашаясь писать мифологические сюжеты, вкладывал в них смысл, прямо противоположный тому, что его современники — и художники и публика — стремились увидеть. Для последних миф — обещание сверхъестественного, для Веласкеса — это ’’мотив”, позволяющий объединить фигуры в умопостигаемую сцену. Художник не воспаряет вслед за мифом прочь от земли. Напротив, в каждом случае он задается вопросом, какая реальная ситуация, из тех, что могут иметь место здесь и сейчас, соответствует идеальной ситуации, воплощенной в мифе. Вакх для него символизирует любую попойку, Вулкан — кузницу, Парки — прядильную мастерскую, Эзоп и Менипп — двух вечных нищих, которые сознательно предпочитают лохмотья богатству и роскоши. Иначе говоря, Веласкес ищет корни любого мифа, так сказать, в своем собственном логарифме реальности, что и пытается запечатлеть. Таким образом, он не осмеивает и не пародирует миф, а выворачивает его наизнанку, не уносится вместе с ним к заоблачным далям воображения, а возвращает его к действительности. Веселая языческая фантасмагория оказывается заключенной в реальность, как птица в клетку. Отсюда неуловимая печаль, которую навевают на нас его картины. Он заставляет нас смотреть сквозь тюремную решетку на то, что изначально является высшим проявлением свободы фантазии.
Теперь нам становится ясно, почему Веласкес отказывался писать картины на религиозные темы. Ведь они тоже относятся к сфере неправдоподобного. Если же Реласкес решил бы применить к ним ту же самую формулу, что использовал в случае с мифологической живописью, скандал был бы неминуем. Отношение Веласкеса к подобным вопросам прекрасно демонстрирует один из его юношеских ”бодегонов”. На полотне под названием ’’Христос у Марфы и Марии” изображена кухня, где старуха и девушка заняты приготовлением пищи. Нигде не видно ни Христа, ни Марфы, ни Марии, и лишь высоко на стене висит картина. Именно на этой внутренней картине фигуры Христа и двух святых обретают свое призрачное существование. Таким образом Веласкес как бы заявляет, что писать то, что, по его мнению, писать невозможно, — безответственно. Изобретательность, с которой художник решает эту проблему, свидетельствует о том, что он с юных лет решительно отвергает живописную традицию, ориентированную на изображение ирреального.
Постоянство, с которым Веласкес следует единожды избранным путем, его постоянное внутреннее беспокойство по этому поводу ни в коем случае нельзя недооценивать или просто приписывать своеобразию его художественного стиля. Дело обстоит гораздо серьезнее. Речь идет о новой концепции живописи, о принципиально ином месте, которое живопись отвоевывает себе среди прочих видов человеческой деятельности. Конечно же, Веласкес никогда не облекал в слова свое художественное кредо. Его дело было
44
Диего Веласкес. Принц Бальтасар Карлос в охотничьем костюме. 1635—1636. Мадрид, Прадо
писать, а не говорить. Историку искусства требуются иные методы, нежели исследователю литературы или истории мысли. Ему приходится говорить о людях, которые меньше всего выражали свои мысли словами. Быть художником — значит обречь себя на немоту. Когда же художник принимается ’’вещать”, теоретизировать о своем искусстве, то, что он нам сообщает, не имеет никакого отношения к тому, что он делает. Пример тому — Trattato della Pittura* Леонардо да Винчи. Обращаясь к творениям, отмеченным столь явными и неизменными особенностями (будь они положительными или отрицательными), как в случае с Веласкесом, мы просто обязаны взять на себя смелость перевести на язык понятий все жесты и умолчания художника. Если мы хорошо справимся с этой задачей, то результат будет гораздо более надежен, нежели тот, к которому могут привести высказывания самого художника, которые (это, правда, не относится к Веласкесу — известному молчуну), как правило, отличаются редкостной безответственностью.
Итак, дерзну сформулировать истинное представление Веласкеса о живописи.
Для того чтобы воздействовать на зрителя, возбудить в нем то, что принято называть эстетическим чувством, живопись всегда была вынуждена искать убежища в другом мире, далеком от того, в котором протекает реальная человеческая жизнь. Искусство было мечтой, сном, сказкой, условностью, узором, сотканным из формальных красот. Веласкес задается вопросом, нельзя ли творить искусство из того, что предлагает этот мир, жизнь как таковая. Конечно, это будет совсем иное искусство, своего рода инверсия. Он решительно и энергично разрывает связи с миром условности и фантастики и обязуется никогда не переступать границы, очерчивающей его собственное существование. В течение двух веков Европа в погоне за формальной красотой не переставала в огромных количествах производить ’’поэтическую” живопись. Веласкес, предвосхищая будущее, в глубине души начинает испытывать ко всему этому то, что никто до него не ощущал, — пресыщенность красотой, поэзией и жажду прозы. Проза — это стадия зрелости, которой искусство достигает после долгих поэтических игр. Если проанализировать отношение Веласкеса, незримо присутствующее в любой его картине, к той идее, на которой строится вся предшествующая живопись, то окажется, что оно очень похоже на убежденность в том, что старое искусство, несмотря на свои достоинства, — попросту ребячество. Не может быть, думает Веласкес, чтобы все эти чудеса владения кистью не имели цели более серьезной и достойной, нежели рассказывать небылицы и творить изящные пустоты. Требование серьезности приводит искусство к прозе.
Никто из современников Веласкеса не испытывал ничего подобного или, по крайней мере, не отдавал себе в том отчета. Таким образом, перед нами
•Трактат о живописи (ит.).
46
человек, который переживает драму одиночества, противостоя в искусстве самым незыблемым ценностям своего времени. Он живет вопреки не только живописи, но и поэзии тех лет. Вот почему Веласкес недолюбливал поэтов, да и с их стороны не встречал ни понимания, ни восторгов.
Лучшим подтверждением наших предположений, о каком мы не смели и мечтать, стал каталог библиотеки Веласкеса, недавно опубликованный одним из самых авторитетных исследователей испанского искусства, Санчесом Кантоном. Так вот, в этой библиотеке, весьма обширной по тогдашним меркам, оказалась всего одна книга стихов, да и она, вероятно, попала туда случайно. Остальной корпус книг состоит главным образом из математических исследований, дополненных многочисленными трудами по естествознанию, географии, истории и описаниями путешествий. На дверях подобной библиотеки следовало бы начертать с большой буквы два слова: Серьезность и Проза.
Теперь становится понятно, почему в самом начале своих заметок я счел целесообразным напомнить о том, что Декарт принадлежал к тому же самому поколению, что и Веласкес. Сферы их деятельности бесконечно далеки друг от друга — это почти противоположные полюсы культуры. И тем не менее я нахожу удивительное сходство между этими людьми. Подобно Веласкесу, Декарт, в своем экзистенциальном одиночестве, восстает против всех философских принципов, которыми руководствуется его век, против любой традиции: схоластической или античной. Он также полагает, что традиционная форма философствования, основанная на механически принятых конвенциях, омертвела и более несовместима с реальной жизнью людей,. Индивид должен строить свою собственную систему убеждений в соответствии с внутренним опытом. Для этого необходимо очистить мышление от всего, что не является чистым соотношением идей, освободить его от небылиц, порожденных нашими чувствами. Таким образом, мышление возвращается к самому себе и превращается в raison*. С другой стороны, эта практика чистого разума должна быть весьма умеренной. Разум должен не истощать себя бесплодными умствованиями, созерцательными мечтаниями, но решительно отправляться в путь, следуя самой короткой и надежной дорогой к постижению способа облегчать существование человека. С этой серьезной миссией мышления до Декарта никто не мог справиться. Итак, не будем забывать о том, что Декарт является основоположником ’’великой прозы”, которая с 1650 года и вплоть до эпохи романтизма станет стилем жизни Европы.
Таким образом, и Веласкес и Декарт совершают один и тот же переворот, но в разных областях. Подобно тому как Декарт сводит мышление к рациональности, Веласкес сводит живопись к визуальности. Оба поворачивают культуру лицом к реальности. Оба принадлежат миру дольнему и смотрят в будущее. Именно теперь я могу поведать о своем подозрении,
* Разум, интеллект (фр.).
47
что Веласкес, будучи в свое время, возможно, лучшим знатоком истории живописи, хотя и созерцает этого колосса с восхищением, однако относится к нему как к археологической находке. Вот почему он поднимается над ним с неподражаемой легкостью, использует его, но не дает ему тяготеть над собой. Он располагает его не перед собой, как модель для подражания, а за спиной, как будто уже переступил через него.
Нас окружает повседневная реальность. Как поступала с ней живопись раньше? Искажала, преувеличивала, превозносила, приукрашала или подделывала. Как она должна поступать с ней в будущем? Делать все наоборот: оставить ее как она есть, то есть извлекать картину из нее. Отсюда одна из примечательных особенностей полотен Веласкеса, которую его современники определяли как ’’невозмутимость”.
Если зритель сравнит впечатление, производимое картинами Веласкеса, с тем, что создают творения предшествующих ему мастеров, и попытается определить неповторимую особенность его живописи, то, пожалуй, он
Диего Веласкес.
Портрет обер-егермейстера Хуана Матеоса. Ок. 1632. Дрезден, Картинная галерея
48
скажет, что испытывает небывалый комфорт. В его полотнах нас ничто не тревожит, несмотря на то что некоторые из них многофигурны, а в ’’Копьях” перед нами предстает и вовсе целая толпа, которая у любого другого художника выглядела бы беспорядочным сборищем. Спросим себя, в чем причина этого удивительного покоя в творениях художника, принадлежащего эпохе барокко. Ведь ’’тревожная” живопись превратилась тогда в подлинную манию. Она не только изображала движение материальных тел, но и стремилась использовать его, чтобы придать некое формальное движение картине в целом, как если бы в ней присутствовал подвижный, переменчивый ток воздуха, необъяснимый, загадочный ураган. Даже фигуры, пребывающие в покое, как будто находятся в вечном движении. Обнаженные ноги солдат на картине Эль Греко ’’Святой Маврикий” колышутся, как языки пламени. Лучшим пояснением к сказанному может быть образец барочной подвижности — полотно Рубенса ’’Христос с крестом”, хранящееся в Брюсселе.
Всему этому противостоит безмятежность Веласкеса. Но самое удивительное заключается в том, что Веласкес отнюдь не ограничивается неподвижными фигурами, он тоже изображает их в движении. Откуда же тогда это чувство покоя, которое охватывает нас перед его картинами? На мой взгляд, тут есть две причины. Во-первых, Веласкес обладал великим даром изображать движущиеся предметы так, чтобы они при этом выглядели совершенно естественно. А это, в свою очередь, происходит потому, что художник показывает нам только те движения и жесты, которые им свойственны, которые являются для них привычными. Веласкес передает не только форму объекта, запечатленную как бы в момент его спонтанного появления, но и все дальнейшее развитие композиции. Вот почему движение у него так спокойно. Лошадь, изображенная на картине ’’Копья” справа, находится в движении, но движение это столь естественно, что для нас, зрителей, оно равно покою. Я уже не говорю о картинах, на которых изображена одна-единственная неподвижная фигура. Было ли когда-нибудь Христу так ’’по-домашнему” удобно на кресте, как под кистью Веласкеса?
Но Веласкес делает для своих фигур еще больше. Он не только доверяет им самим, а не собственной фантазии, выбор позы, но ко всему прочему из всех возможных жестов и движений выбирает те, которые позволяют фигурам продемонстрировать наибольшее изящество, то, что мы, испанцы, называем ’’garbo”*. В этой особой грации фигур и состоит поэтичность живописи Веласкеса. Однако поэзия в данном случае рождается из самой реальности, а не из фантазии художника, формализующей живую действительность. Это как раз тот род поэзии, который я раньше назвал прозой. Испанцы наделены даром грации, независимо от принадлежности к тому или иному социальному слою; есть особая элегантность в движениях ’’испанского гранда”, непередаваемая ’’пикантность” в походке деревенской
♦Утонченность (исп.).
49
женщины и неповторимое изящество в смертельном танце тореадора. В этом и состоит ’’испанский дух”, который люди с Севера всегда отмечали в фигурах Веласкеса и в котором таилось главное очарование его искусства. Из всех наших художников еще только Мурильо умел ценить это наци-' опальное сокровище, своеобразный язык тела, которым испанец, с одной стороны, наделен от природы, а с другой — обязан многовековой традиции. Как и любой талант, способность к ритмичному движению имеет свои истоки и свое развитие, одним словом — свою историю.
Но есть и вторая, более существенная причина, по которой картины Веласкеса рождают в нас ощущение покоя, столь чуждого живописи барокко. Эта причина заключает в себе парадокс. Эль Греко или Карраччи, Рубенс или Пуссен изображают движения тел, не имеющие четкой мотивации. Мы вполне можем представить себе те же самые фигуры в других позах: содержание картины все равно не изменится. Такое возможно потому, что эти художники стремятся изобразить ’’движение вообще”, не индивидуализируя его. Теперь посмотрим на великие полотна Веласкеса. В ’’Пьяницах” запечатлен момент, когда Бахус коронует подпившего солдата; в ’’Кузнице Вулкана” — Аполлон входит в мастерскую, чтобы сообщить недобрую весть; в картине ’’Иаков перед окровавленным плащом Иосифа” — братья последнего показывают Иакову его окровавленные одежды; в ’’Копьях” — поверженный генерал вручает ключи от города победителю, который их отвергает; в конных портретах всегда пойман момент, когда лошадь встает на дыбы; в ’’Менинах” выхвачено одно из мгновений работы художника. Иначе говоря, Веласкес всегда показывает нам какое-то определенное мгновение. Заметьте, что любая реальная сцена представляет собой последовательность мгновений, каждому из которых соответствует свой момент движения. Эти мгновения не пересекаются, они следуют одно за другим, согласно трагическому течению реального времени. Тут и обнаруживается разница между Веласкесом и прочими художниками. Последние изображают ’’движущееся” движение, в то время как Веласкес одно, отдельно взятое мгновение. Два с половиной века спустя фотография превратила открытие художника в банальность. Забавно, что сегодня псевдоэстеты упрекают Веласкеса в том, что его картины фотографичны. Это все равно что обвинять Платона в платонизме или Цезаря в приверженности цезарианству. Действительно, картины Веласкеса имеют нечто общее с фотографией — таково высшее достижение его гения. Единожды взяв установку на реальность, он идет до конца. С одной стороны, он как бы фиксирует зрачок и изображает все фигуры с одной-единственной точки зрения, что придает его полотнам неподражаемую пространственную целостность. А с другой — запечатлевает один конкретный момент, что привносит в его картины временное единство, столь ошеломляющее, что пришлось дожидаться изобретения фотографии, чтобы достичь чего-либо похожего, а заодно и оценить художественное прозрение Веласкеса. Теперь становится понятна разница между Веласкесом и другими барочными художниками,
50
которые пытались живописать растянутое во времени движение, в то время как последовательность мгновений не может быть сведена к одному-един-ственному моменту.
До Веласкеса живопись стремилась убежать от времени и воплотить на холсте мир, не ведающий течения времени, создания, принадлежащие вечности. Наш художник пытается добиться противоположного: он изображает время как таковое, то есть мгновение, ускользающее бытие, бытие на грани небытия. Вот что он увековечивает, и такова, по его мнению, задача живописи: увековечить мгновение, что звучит почти как богохульство!
Я бы сказал, что Веласкес превращает портрет в основной принцип живописи. Что бы он ни изображал — человека, кувшин, форму, позу, событие, — он всегда пишет портрет, в конечном итоге портрет мгновения. Результат — ’’Менины”, где портретист портретирует момент портретирования.
ОЖИВЛЕНИЕ КАРТИН
Первое, что следует сделать, — это высказать одну простую истину. А именно: живопись есть нечто, чем одни люди занимаются, в то время как другие ее рассматривают, копируют, критикуют или восхваляют, теоретизируют по ее поводу, продают и покупают, добиваясь определенного престижа в обществе по крайней мере уже тем, что владеют ею. Таким образом, живопись представляет собой широкий спектр человеческих действий. Вне этого, без этих действий живопись или то, что мы называем искусством живописи, есть ничто, лишь исходный материал для совершения этих действий: это может быть стена, покрытая красками affresco*, доска, обработанная темперой, холст, разрисованный масляными красками. Но в чем же, собственно говоря, заключается сама живопись? Состоит ли она в действиях, связанных с использованием этих материалов, и этим ограничивается, или же в тех действиях, которые рождаются следом, то есть в созерцании, удовольствии, анализе, корысти? Думаю, не будет лишним простое напоминание о том, что живопись есть результат утомительных человеческих действий и она не возникает неожиданно на стенах, подобно потекам и плесени, не расцветает вдруг на холсте, подобно внезапно выступившей сыпи. Живопись, таким образом, не является способом существования стен или полотен, но есть способ быть человеком, занятие, которому иногда посвящают себя люди.
Каждое из пятен, которые составляют картину, мы обычно называем мазком. Но стоит нам их так обозначить, как мы тут же забываем, о чем мы, собственно, говорим, забываем, что мазок — это резкое движение кисти, совершаемое рукой, которой управляет некий замысел, рожденный
* Фреска, фресковая живопись fum.J.
51
человеческим разумом. Мы же продолжаем оставаться в пространстве ничего не значащих слов, констатируя как некую прописную истину идею о том, что мазки находятся на картине, потому что их туда положили. Это свойство быть положенными не исчезает, и раз уж они оказались на холсте, то кажется, что иначе и не было. Но мазки находятся там именно в качестве положенных, то есть навсегда сохраняя характер знака или обозначения того человеческого действия, которое их порождает. Даже если человек этого не предполагает, трудно, воздействуя на тот или иной материал, не оставить на нем следов своих намерений, а это значит, что материальный предмет, однажды подвергшийся обработке, добавляет к своим собственным качествам свойство быть знаком, символом или симптомом человеческого замысла.
Но есть ситуации, когда мы производим материальный предмет с обдуманным и безусловным стремлением сделать его знаком наших намерений. В таком случае произведение становится условным инструментом для передачи сообщений. Одним из самых распространенных и выдающихся талантов человека как раз и является эта способность создавать знаки, так называемая семантическая деятельность. При этом то, что мы совершаем, мы делаем для того, чтобы другой получил некоторые сведения о том, что является для нас глубоко личным и что может быть передано единственно возможным способом — через телесную, материальную реальность.
Речь является одним из таких семантических построений. Другое — это письмо. К ним же относятся и все изящные искусства. Музыка и живопись не в меньшей степени, чем поэзия, обладают коммуникативной функцией. Как в стихах поэт говорит о чем-то другим людям, так происходит и в картине, и в мелодии. Но слово ’’говорить”, необходимое нам для того, чтобы воспринимать живопись как постоянный диалог между художником и зрителем, перестает устраивать нас, лишь только мы осознаем наличие этого диалога. Потому что ’’говорить”, разговаривать — это лишь одна из форм сообщения между людьми, обладающая своими особенностями. Речь идет о том, что язык, безусловно, является наиболее совершенным инструментом сообщения, изобретенным людьми. Его совершенство, как бы оно ни было относительно, тем не менее очевидно: ’’говоря”, мы не только сообщаем нечто, мы это ясно излагаем, декларируем таким образом, дабы не возникало сомнений относительно того, что мы хотим сообщить. Сформулируем это иначе: использование языка движимо стремлением сделать так, чтобы его коммуникативная деятельность не нуждалась, в свою очередь, в дополнительной интерпретации. Достигается это или нет в каждом конкретном случае — это второй вопрос. Важно другое: слово уже рождается исполненным этим благородным и идеальным намерением донести до нас смысл сообщения. Именно это я имел в виду, говоря, что язык одновременно и сообщает, и делает явным, то есть точно передает смысл сообщаемого. Причина этого проста. Слово есть знак, обозначающий некое поня
52
тие, а понятие есть нечто абсолютно ясное, своего рода высшее озарение человеческого мышления. Таким образом, только понятие и соответственно воплощающее его слово могут решить проблему коммуникации. Все остальное, в большей или меньшей степени, содержит в себе загадку, недоговоренность и таинственность.
Иероглифическое письмо, например, является таким способом сообщения, в котором мы отчетливо различаем, стоит лишь открыть глаза, некие фигуры. Но эти фигуры, как предполагается, содержат, кроме того, некий смысл. Смысл этот в них не выявлен, он не лежит на поверхности, а, наоборот, скрыт. Фигуры действуют лишь как подсказка или намек, своего рода безмолвные жесты. Именно поэтому иероглифическое письмо требует определенных усилий при толковании. Живопись же напоминает иероглифическое письмо больше, нежели речь. Это страстное желание сообщить нечто, но немыми средствами. Уже Платон настаивал на молчании художника. Вся прелесть живописи заключена в этом двойном условии: стремлении выразить и решимости хранить молчание. Заняться живописью означает обречь себя на молчание, но эта немота — не утрата речи, не дефект. К ней прибегают, желая точнее выразить то, что невозможно передать только языковыми средствами. Достоинство открытого, декларативного сообщения, которым обладает речь, достигается ценой целого ряда серьезных ограничений. Главное состоит в том, что высказать можно лишь самые общие вещи. Так, скажем, совершенно невозможно передать словами определенный оттенок какого-нибудь цвета*.
Поэтому живопись начинает выполнять свою коммуникативную функцию тогда, когда возможности языка исчерпываются и достигают предела; она подобна сжатой пружине, готовой прорваться сквозь немоту, побуждая к познанию невыразимого.
Признав существование разницы между многословным и ясным способом выражения мысли, каким является язык, и безмолвным, полным недосказанности, каким оказывается живопись, мы можем вернуться к моему первоначальному утверждению, согласно которому картина существует как набор знаков, увековечивающих замысел художника. Смотреть на картину — значит пытаться понять ее, уловить смысл каждой формы. Иными словами, созерцание живописи есть не только процесс зрительного восприятия, но и мыслительной деятельности, толкования смысла.
Внезапность, с которой, без малейших усилий с нашей стороны, картина вдруг предстает нашему взору, оказывается парадоксальным образом при
* Поэзия, строго говоря, не является языком. Она использует его как простой материал, чтобы выйти за его пределы, надеясь выразить то, что язык не может сказать sensu stricto (в точном значении). Поэзия начинается тогда, когда возможности языка оказываются исчерпанными. Она, таким образом, раскрывает дополнительные возможности слова, несводимые к точному выражению.
53
чиной того, что живопись в действительности есть самое скрытное из всех искусств. Легкость, с которой мы воспринимаем некий материальный объект, именуемый ’’картина”, рассчитанный на инерционность нашего мышления, заставляет нас допустить, что от нас ничего и не требуется. Другое дело — музыка. Едва ли некто, прослушав музыкальное произведение и придя к выводу, что он его ”не понял”, будет продолжать тем не менее считать, что он его ’’слышал”. Живопись, таким образом, содержит в себе важнейшее противоречие между явным и наглядным, то есть знаками, и скрытым и потаенным, то есть смыслом.
Мы не будем ощущать ничего подобного, рассматривая произведение живописи, если с самого начала не отнесемся с восторженным почтением к его значимому молчанию. Это уважение предполагает два обстоятельства: первое — мы не должны ожидать от картины спонтанного, самопроизвольного обнаружения ее замысла; второе, и противоположное, заключается в том, что, поскольку картина ’’ничего нам не говорит” в строгом смысле этого слова, следует предположить, что в ней есть некоторая часть, пусть минимальная, которая лишена точного значения. Очарование живописи заключается в том, что она является для нас вечным иероглифом, который ставит нас перед постоянной проблемой толкования смысла, замены видимого истинным. Отсюда рождается ощущение потока значений, который исходит от полотна, доски, рисунка, офорта, фрески. Итак, картина всегда подает нам знаки.
Но нам необходимо реагировать таким образом, чтобы избегать всех этих волн смутных и противоречивых ощущений, которые в избытке посылает нам отражающая поверхность расписанного полотна, заставляя нас приписывать картине и каждому отдельному ее фрагменту единственное и точное значение, то значение, которое было дано ей от рождения, а не то, которое мы могли бы предположить с большей или меньшей степенью вероятности. Метод, позволяющий добиться этого, состоит в том, чтобы решительно вывести картину за пределы той сферы недосказанности, в которой обычно оставляют пребывать произведение искусства, и воспринимать ее в соответствии с тем, чем она является на самом деле как часть человеческой жизни. Она подобна ископаемому, окаменевшему и превратившемуся в застывшую ’’вещь”.
Это не просто фраза, а гиперболизированная формула строгого умозаключения. Каждое цветовое пятно есть навсегда закрепленное свидетельство принятого художником решения: поместить сюда именно этот цвет, а не другой. Это решение и есть истинное значение пятна, его-то мы и должны научиться понимать. Это нелегко. Ведь решение есть не ’’вещь”, а действие. Действия же представляют собой реальность, заключающуюся в самом процессе исполнения. Нам надо быть готовым увидеть в решении художника положить мазок действие, заключающееся непосредственно в про-
54
Диего Веласкес. Венера перед зеркалом.
Ок. 1648—1650. Лондон, Национальная галерея
цессе исполнения, а не в полученном результате (выбранная краска), который являет собой уже безжизненную материю. Другими словами, рассматривая картину, мы должны отступить назад, чтобы ’’увидеть” рисующего художника, и по оставленным следам восстановить каждый его шаг.
Для нас очень важно разобраться в сути того решения, которое побуждает художника сделать простой мазок кистью. Прежде всего необходимо убеждение в том, что этот мазок наилучшим образом подходит для достижения нужного эффекта в том эстетическом организме, каким является картина. Это означает, что общий замысел картины играет действенную роль в принятии решения, касающегося каждого отдельного движения кисти, питая и вдохновляя его. И вот уже очевидно, что простое пятно краски, будучи неизбежным следствием совершаемого кистью мазка, в то же время является проявлением замысла, предваряющего создание картины. Идея картины, присутствующая и активно действующая в каждом из ее цветовых пятен, является тем, что художник намерен сообщить нам, и ничем больше. Учитывая это, должны ли мы признать, что, обнаружив в мазке общий замысел картины, мы исчерпали его смысл?
55
В исследовании, озаглавленном ’’Основы новой филологии”, которое, я надеюсь, скоро выйдет из печати*, я формулирую, помимо прочих, два закона антагонистической вероятности, которые действуют в каждом высказывании. Один из них звучит так: ’’Всякое изречение недостаточно”. Это означает, что мы никогда не сможем полностью выразить словами то, что намеревались сказать. Другой закон, с противоположным смыслом, звучит следующим образом: ’’Всякое изречение избыточно”, то есть любое высказывание выражает всегда больше, чем мы предполагали сказать, а также немало того, о чем мы хотели бы умолчать**.
Оттенок противоречия обоих высказываний исчезает, как только мы обратим внимание на то, что недостаточность и избыточность формально соотносимы в речи. Итак, говорить всегда означает желание высказать некую определенную мысль. Всякая определенная мысль такова, что мы никогда не сможем высказать ее с достаточной полнотой. Всегда будет некоторое несоответствие между тем, что у нас на уме, и тем, что мы на самом деле говорим***.
Но эта определенная мысль, которую мы решаемся высказать, обладает множеством предполагаемых оттенков, которые, на наш взгляд, в равной степени очевидны для тех, кто слушает и кто говорит. Никому не придет в голову говорить то, что, как предполагается, другой уже знает. Всякое высказывание строится, опираясь на слой понятий, которые, ’’будучи известными, умалчиваются”, несмотря на то что все действительно сказанное теряет смысл, если то, о чем умалчивается, не присутствует в сознании всех участников разговора. Согласно этому, механизм беседы двух человек может осуществляться только при условии обоюдного знания тех или иных понятий или, что одно и то же, всякое высказывание содержит множество значений, которые в нем подразумеваются. Если потянуть за сказанное, как за стебель, мы извлечем поневоле (как если бы это были корни) все, что осталось невыговоренным, так что, хотя на самом деле говорится очень немногое, нечаянно, а то и вопреки желанию, выраженным оказывается слишком многое.
Но нужно еще кое-что добавить. Предполагаемые понятия, возникающие в разговоре, не исчерпываются уже нам известными. Под этим слоем того, что, ’’будучи известным, умалчивается”, существует еще один, более глубокий и значительный, состоящий из таких понятий, которые, активно действуя в нашем сознании, имеют настолько элементарный и базовый характер, что мы даже не отдаем себе отчета в том, что они есть. Если
* Это одна из глав моей книги ’’Начало исторической правоты”.
** Не то чтобы слово говорило больше, чем оно говорит, оно многое выражает. Выражать не есть говорить. Чувственный мир — это то, что выражается, а не то, о чем ’’говорится”; напротив, он представляет собой неизреченную тайну.
*** Об этом смотрите ’’Нищета и блеск перевода” и ’’Идеи по поводу истории философии” (в томах V и VI в Полном собрании сочинений).
56
говорящий и слушающий — современники, то можно с большой долей вероятности предположить, что у них совпадает фонд тех базовых понятий, на основе или в рамках которых они ’’живут, движутся и существуют”. Поэтому между современниками возможно относительное понимание. Но если говорящий и воспринимающий — как это происходит при чтении древнего текста или при созерцании старинного полотна — принадлежат разным эпохам, понимание, по сути дела, оказывается достаточно проблематичным и требует специальной техники, крайне сложной, которая позволит реконструировать весь этот слой подразумеваемых понятий, которые умалчиваются. Одни — потому, что известны, другие — потому, что даже умалчивающий не догадывается об их существовании, хотя они на него живо влияют. Эта техника и есть то, что мы называем ’’историей”: беседы, дружеские разговоры с мертвыми. С этой точки зрения история только тогда становится тем, чем должна быть, когда удается понять человека другой эпохи лучше, чем он сам себя понимает. Строго говоря, история лишь стремится понять прошлое так, как оно себя понимало, но оказывается, что достичь этого возможно только в том случае, если будут вскрыты самые глубинные понятия, которыми жило прошлое и которые в силу их очевидности оно не всегда осознавало. Таким образом, единственным средством, способным помочь нам воспринимать прошлое так, как воспринимали его люди той эпохи, становится попытка понять его лучше, чем они.
’’Закон недостаточности высказывания” и ’’закон избыточности высказывания” не ограничивают свое действие областью речи, а применимы ко всякой семантической деятельности, в том числе и к живописи. Из двух законов здесь становится важен только второй, который провозглашает избыточный сверх ожидаемого характер любого добровольного высказывания.
Мы могли бы признать, что значение одного мазка исчерпывается, когда перед нами раскрывается весь замысел картины, который был в голове у художника и теперь присутствует в каждом мазке, если этот замысел и решение осуществить его родились спонтанно и представляют собой нечто завершенное и законченное.
На самом же деле все происходит иначе. Замысел картины и решение написать ее суть частные проявления (здесь и сейчас) некоего предварительного процесса, в котором пребывал человек, а именно занятия живописью. То, что он сейчас собирается нарисовать, будет таковым в первую очередь потому, что художник имеет некоторое предварительное представление о своей профессии. Если это прочитает искусствовед, он поймет сказанное так, будто речь идет о том, что каждый художник причисляет себя к какому-либо стилю. Безусловно, картина всегда рождается в лоне определенного стиля, а точнее, из тех форм живописи, которые близки художнику. Это предпочтение действует и проявляется в каждом движении кисти, но возникает оно у художника из соприкосновения с действующими стилями
57
его эпохи, которые, в свою очередь, являются результатом предшествующего развития живописи. Все это давит на каждый мазок тяжелым грузом весьма значимых влияний, и нам необходимо восстановить их, если мы действительно хотим понять творчество художника. Мы уже замечали, хотя и вскользь, что можно оставаться безразличным к тому, что в картине художника отражаются действующие стили эпохи: ведь он может как придерживаться одного из них, так и противостоять им всем. Надо ли говорить, что жизнь, существование человеческого индивидуума зависит от его эпохи, но следует раз и навсегда покончить с упрощенным пониманием некой истины, заключающейся в предположении, что мировосприятие индивидуума всегда соответствует его эпохе. Не совсем так: зависимость от своего времени, которую мы ощущаем, может быть как позитивна, так и негативна — мы либо соответствуем ему, либо противостоим. Доза отрицательного и положительного варьируется достаточно широко в каждом отдельном индивидууме. Причина ошибки кроется в бессмысленном штампе, согласно которому принято рассматривать ’’великих людей” как представителей своей эпохи, хотя так понятно, что часто они являли собой нечто прямо противоположное. Подобные ошибки со всей очевидностью демонстрируют, как мало задумываются исследователи о структуре исторической реальности. Чтобы понять Веласкеса, надо быть очень внимательным именно к этому, поскольку мы намерены разобраться, действительно ли его искусство представляет собой непрекра-щающуюся борьбу против своего века.
Утверждение, что каждый художник определенным образом понимает свое ремесло, вовсе не означает, что он обязательно следует какому-то стилю. Прежде всего имеется в виду, что он истолковывает свое ремесло именно как ’’ремесло”, то есть неким особым образом. Для человека очень важна проблема выбора рода занятий. Ведь ’’профессия” — это дело, которому мы посвящаем большую и лучшую часть жизни. Представьте себе, сколько всевозможных влияний испытываем мы на себе, когда решаемся избрать себе дело и следовать ему всю жизнь! Это одно из важнейших решений, а потому очень личное, интимное. Было бы совершенно невозможно, чтобы это решение не несло на себе отпечатка индивидуальности. Дело в том, что ’’профессии” — это как маски светских щеголей и франтов и, как все светское, социальное, несут черты типичности, клишированности, всеобщности. Они принимают характер общественных установлений, каковыми по сути и являются, в той среде, к которой мы принадлежим. Это как разные мундиры в шкафу портного. Начиная жизнь, мы взираем на мелочную суету фигур, именуемых священник, военный, интеллектуал, коммерсант, художник, вор, палач. И когда мы решаем стать одной из них, мы всегда вносим поправки в общую схему этой социальной роли согласно собственному призванию. Никто не хочет, как если бы это считалось верхом проявления дурного вкуса, быть врачом вообще, по той стандартной схеме, каковой является данная общественная фигура: всякий хочет быть каким-то особенным врачом.
58
Именно поэтому мы очень мало скажем о человеке, если просто заметим, что он художник. Мы сразу же должны спросить себя: что понимал этот человек под словами ’’быть художником”? Какими точными признаками наделял он это ’’быть”? И еще надо указать на одну простую и очевидную вещь: как много места занимало это дело в пространстве его жизни? Возможны самые разные градации: от простого ’’любителя” до поденщика. Удивительно, что именно исследователи творчества Веласкеса никогда не задавались этим вопросом, а ведь это первое, в чем мы должны разобраться, пытаясь его понять.
Один из моментов, оказывающих наибольшее влияние на стиль художника, состоит в том, как он сам воспринимает свое ремесло. И это тоже становится составляющей каждого мазка. Но выбор профессии — это уже не только чисто художественная проблема. До сего момента все, что было выражено в одном цветовом пятне, носило эстетический характер, но теперь мы выходим за пределы круга, очерченного искусством, и обращаемся к жизни во всей совокупности ее проявлений. Профессия выбирается с учетом того, какой нам видится наша дальнейшая жизнь. Это выбор между возможными формами существования, предлагаемыми нам эпохой, или, вопреки всему, стремление воплотить некую мечту, потому что все привычное нас не устраивает. Веласкес стал первым живописцем, потому что иные формы реализации личности ему не нравились*.
То, что некий индивидуум решается стать художником и существовать в таком определенном качестве, зависит, с одной стороны, от того, что из себя представляет его время и как воспринимается в нем ремесло художника; с другой стороны, от того, что он за человек. Просто непостижимо, что историки искусства полностью игнорируют все эти вопросы. Если говорят, что какой-то человек — художник, их начинает интересовать только его творчество, а не свойства его человеческой натуры. Это то, что я называю ’’искажение атрибутом” . В высказывании присоединим к субъекту определение, и оно у нас на глазах превращается в льва, заглатывающего субъект так, что и костей не сыскать. Речь идет о хроническом заболевании интеллекта. Я пытаюсь решительно сражаться с этим недугом и, следуя, как всегда послушно, советам моего учителя Перогрульо, предлагаю поразмышлять, правильно ли говорить о человеке, что он художник, и не было ли бы более точным утверждение, что этот художник — человек, ведь человеческое не может быть отделено от творческого, наоборот, они сосуществуют; и занятие живописью не означает ничего иного, кроме того, что это один из способов человеческого существования. Надо раз и навсегда покончить с нелепой привычкой помещать искусство в неизведанные, неземные сферы. Только тогда можно будет достаточно определенно и осмыслен-
но теории ремесел и профессий вы можете посмотреть в статьях ”О карьерах” и ’’Идеи по поводу истории философии”, цитируемых ранее. [Полное собрание сочинений, тт. V, VI соответственно.]
59
но говорить об искусстве, не превращая, как это обычно принято, эстетическое в этакую цветистую бессмыслицу. В самом факте быть художником раскрывается целая человеческая жизнь и, следовательно, образ целой эпохи. И все это живет в каждом мазке картины и должно быть восстановлено, рассмотрено в действии, функционировании и реализации. Короче говоря, почувствовать картину означает увидеть то, как она делается, в вечном процессе становления, наделить ее способностью оживать, делая понятной для нас жизнь ее создателя. Только так мы придем к пониманию подлинного смысла картины*.
Даже если не учитывать причин, которые привели меня к мысли о том, что для того, чтобы понять картину, важно уточнить, как сам художник воспринимал свое ремесло, историки искусства должны были неминуемо столкнуться с данной проблемой. Вот превосходный пример: три великих испанских живописца — Веласкес, Сурбаран, Алонсо Кано, принадлежащие, кстати, к одному поколению. Как могли историки объяснять творчество этих трех художников, не принимая во внимание того очевидного влияния, которое оказало на них различное отношение к своей профессии? Возможно, в других случаях это влияние и эта разница не проявляются так отчетливо, но, оказываясь лицом к лицу со всеми тремя художниками, мы не можем не замечать этого.
Все трое принадлежат одной эпохе, одной нации, выросли в одном городе, дружили с юных лет, и, однако, они настолько по-разному относились к своему ремеслу, что именно это сыграло решающую роль в различии их стилей. На следующих страницах мы подробнее остановимся на этих различиях. Но речь идет не только об изменениях стиля и стоящей за этим более глубокой проблеме—личностного отношения человека к занятию живописью. Есть еще один уровень, еще более глубинный, — изменения в искусстве.
Предварять здесь то, что необходимо сказать по этому поводу, означало бы впасть в бесконечные повторы, но вместе с тем стоит напомнить эту конкретную ситуацию, чтобы воспрепятствовать уже появившейся и достойной всяческого сожаления склонности строптивого читателя усматривать в том, что сказано в этом предисловии, некие ’’расплывчатые теории”, не имеющие ничего общего с действительностью. Я имею в виду испанского
* Таким образом, понятно, что, если мы от красок переходим к биографии, мы не вторгаемся в какую-то совершенно иную область, которая может выступать лишь в качестве дополнения к первой, а, наоборот, мы видим биографию, изображенную в ракурсе цветового пятна, и именно оно дает нам биографию художника в наиболее концентрированном виде. Пятно — это бессмертный след целой прожитой жизни. Конечно, в каждом мазке отражается только часть жизни, прошедшая до того момента, когда художник нанес его кистью на полотно, но понять, каковы были основные черты отдельного отрезка жизни, можно, лишь рассматривая жизненный путь художника целиком. Мы увидим (как в случае с Веласкесом), что это выльется в некую парадоксальную ситуацию, когда самое существенное из его художественного замысла не проявляется ясно ни в одной из его картин, но только во всей совокупности его произведений, неразрывно связанной с другими сторонами его жизни. Предваряя один из главных и наиболее пугающих выводов этой книги, я утверждаю, что нет иного способа выяснить в достаточной мере, что являл собой Веласкес, кроме как принять во внимание все, что он ни написал.
60
читателя, который из-за своего резкого и неустойчивого нрава обычно не столько принимает читаемое, сколько ему противится, нетерпимость мешает ему осмыслить возникающие перед ним сложности.
Понятно, что, если читатель проявит подобное упорство, стоило бы предложить ему или любому другому объяснить любой мазок, сделанный кистью Веласкеса, при этом не вкладывая в него всю биографию художника, включающую всю историю его времени, но учитывая самое существенное и непосредственное, а не косвенное и второстепенное. И выбрать для этого надо не какой-нибудь выдающийся мазок, отчетливо демонстрирующий свою смысловую значимость и насыщенность, а один из самых незначительных и бессодержательных, например любой из тех, что составляют фон на его картине ’’Паблильос из Вальядолида”. Речь идет о серии цветовых пятен, которые не представляют собой какой-нибудь объект — реальный или воображаемый, четкий или расплывчатый. То, что они являют собой, не предмет, даже не фрагмент чего-либо. То, что изображено, — не земля, не вода, не воздух. В решении художника нанести эти мазки есть, безусловно, ясное намерение убрать из поля нашего восприятия любой намек на какую-либо фигуру или очертания предмета, чтобы сосредоточить наше внимание исключительно на фигуре шута. Для этого он покрывает холст однородным, неопределенного цвета веществом, который не привлекает и не рассеивает внимание, кроме того, в этих же целях художник использует краску коричневатого оттенка, вовсе не такую незначительную, как может показаться, и изобретенную ad hoc* в мастерской художника исключительно для того, чтобы служить определенным задачам живописной техники: выделить фигуру Паблильоса и показать ее объем и телесность (этот важный пластический прием скоро исчезнет из его картин). Однако, не задерживаясь на этом, обратим внимание на то немногое, что позволит нам определить живопись Веласкеса как реализм. Даже если допустить на мгновение, что этот прием подходит как способ создания отдельного персонажа, он не годится для картины в целом. Картина ведь не только фигура, но и фон, а в данном случае фон не только не реалистический, но даже и не ирреалистический, а откровенно и почти насильственно антиреалистический, будто бы он стремится уничтожить всякое напоминание о предмете. В нашем случае Веласкес хотел создать пустоту вокруг фигуры Паблильоса, окружив его неким произвольно созданным пространством, что является просто художественным экспериментом.
А ведь всего пятьюдесятью годами раньше подобное полотно никто и не принял бы за картину, к ней могли относится лишь как к эскизу картины, еще незавершенному и неготовому к тому, чтобы выйти за пределы мастерской. Это тело, плавающее в пустоте, подобно черному аэростату, может быть только наброском к картине, ее зародышем. И тогда та ясность, которая, казалось, возникала из первоначального объяснения, стала в значительной степени кажущейся. Потому что теперь выясняется, что мы даже
* Специально для этого случая (лат.).
61
не знаем, принадлежит ли этот мазок готовой картине или эскизу к ней, порождая исходящий от полотна и устремленный к нам непрерывный поток неизбежных вопросов:
1. Является ли для Веласкеса такое полотно картиной? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно бросить беглый взгляд на все его творчество, и станет понятно, что почти все картины Веласкеса в той или иной степени, по тем или иным причинам являются тем, что незадолго до этого все называли ’’незаконченными картинами”.
2. Что должно было произойти во внутренней эволюции живописи, чтобы художник обрел формальное право писать ’’незаконченные картины”?
3. Каковы бы ни были причины, в силу которых развитие живописи должно было протекать именно так, оно было бы невозможно, если бы часть публики в своем эстетическом образовании не доросла до того, что смогла воспринять ’’незаконченную картину” как завершенное полотно. Так что же произошло во внешней эволюции живописи — социальной или общественной, чтобы это стало возможным? Обратите внимание на масштабность этого явления. Как и все искусства, живопись ориентирована на создание произведений, которые нравятся публике. Художник ищет своего зрителя и приспосабливается к его вкусам. Картина пишется для людей, которыми управляют вполне человеческие потребности и запросы. И тут вдруг живопись поворачивается спиной к публике и появляются произведения, которые во многом обретают определенный смысл только с точки зрения изменений в технике живописи, — это опыты, проводимые в мастерской художника. Это означает, что большая часть публики готова к изменениям, и теперь уже она приспосабливается к пристрастиям художника как мастера. Напомним, что в прошлом веке Веласкеса часто, особенно англичане и французы, называли ’’художником для художников”. Этот факт не стоит воспринимать как нечто загадочное и скандальное. Искусство Хуана Палома, живопись для живописцев, — все это не кажется слишком странным в такое время, как наше, где есть физика для физиков, недоступная остальным смертным, право для юристов (Кельзен), политика для политиков (профессиональные революционеры). Неизвестно лишь, как и в каком смысле родилась эта идея в 1640 году.
4. Было бы неверно преуменьшать значение столь радикальных перемен, сводя их лишь к изменениям стиля. Более того, все говорит о том, что изменилось само содержание понятия ” живопись”, что этот род занятий — творить произведения искусства и наслаждаться ими — играет некоторую роль и выполняет определенные функции в общей экономической ситуации, отличные от тех, что были присущи ему в предшествующую эпоху. Глубочайшее заблуждение — считать, что любые изменения в истории искусства сводятся к стилистическим изменениям, в то время как в большинстве случаев речь идет о том, что становится иным сам смысл этого искусства, то, как понимает его человечество, те цели, которым оно служит в человеческом существовании. И хотя мы во все времена использовали для обозначе
62
ния того, что создается поэзией, живописью и музыкой, одно и то же слово, мы должны учитывать, что за этим тождеством скрываются существенные различия, не прояснив которые было бы бессмысленно пытаться серьезно ’’рассуждать о литературе, живописи, музыке”. Поэзия Гомера, Лопе де Вега, Верлена отличается не только разницей стиля, но и тем, что в выражение ’’сочинять стихи” они вкладывают совершенно разный смысл. Подобным же образом рисунки в пещере Альтамира, живопись Джотто, Веласкеса значительно в большей степени разнятся по их реальному функционированию, нежели стилистически. Автор наскальных рисунков Альтамиры, рисуя, совершал магический обряд; для Джотто его фрески были своего рода молитвой; Веласкес занимался живописью как таковой, создавая произведения искусства. Очевидно, что из трех мотивов, побуждающих к занятиям живописью, самым странным и самым трудным для понимания оказывается последний*.
Я убежден, что без революционных выходок (а Веласкес — важный сеньор и потому несовместим со всякого рода эпатажем) не может происходить существенных изменений, и тем не менее, именно в творчестве
*По этому вопросу, значение которого невозможно преувеличить и который предполагает ’’радикальную историзацию” всех понятии, имеющих отношение к человеку, смотрите отдельные положения в книге ’’Идеи и верования” и статью ’’Заметки о мышлении: его теургия и демиургия” (Полное собрание сочинении, т. V). Это было явным движением вперед, когда, вместо того, чтобы представлять историю искусства как бесконечную прямую, Ригль и Шмарзов, Вёльфлин и Воррингер увидели ее зигзагообразной, извилистой, где каждый изгиб, каждое изменение заданного направления означает рождение нового художественного замысла или ’’художественной воли” (Kunstwollen).
Такой подход дает возможность не рассматривать изменения в искусстве только как прогрессивные или регрессивные трансформации в художественной технике, подчиняющейся определенной эстетической задаче. Признав существование различных ’’художественных замыслов”, которые периодически возникают то тут, то там, можно убедиться, что нет единой техники, а в ней разных уровней совершенства, существует же множество разнообразных техник, каждая из которых вызывается к жизни конкретной художественной задачей. Эта плодотворная идея, превращая историю искусства в строгую морфологию и таким образом существенно улучшая и уточняя ее, тем не менее не выходит за рамки стилистических модификаций. Морфология на самом деле ограничивается тем, что описывает с большой точностью наиболее типичные формы искусства, классифицируя их по стилям, как это делает таксономия в ботанике или зоологии. Эти естественные науки рождают морфологический метод. Итак, он рассматривает художественные формы как таковые и то, как они проявляются в произведении, сравнивает одни с другими, определяет виды и роды и классифицирует в хронологическом порядке стилистические модели. Но все это показывает, что данный метод исследует эти формы в их внешнем проявлении, не вникая в их генезис и не объясняя, почему они возникли. Так, в лучшем случае формируется историческая кинематика искусства, чрезвычайно ценная как инструмент для продуктивного изучения его истории, но которая останавливается как бы на пороге искусства, не проникая вглубь. Вот почему идея различных Kunstwollen даже не предусматривает темы, о которой идет речь в этих параграфах, где ставится вопрос о функциональных изменениях в искусстве, а именно не как пишут картины и не то, что пишется в тех или иных формах, но для чего творит художник в каждую конкретную эпоху, какова та роль, которую играет занятие живописью в той системе побудительных причин, которые составляют человеческую жизнь в каждом поколении.
Только прояснив, для чего пишет художник в ту или иную эпоху, мы поймем и то, почему он творит в какой-то определенной манере. Это уже не просто описание, а объяснение. В этом случае формы уже не рассматриваются как бы извне, а наоборот, исходя из их внешнего вида, который является их наружной оболочкой, мы проникаем в их сущность, реконструируя их генезис, помогая их зачатию и рождению, одним словом — познавая их с самой интимной стороны.
63
Веласкеса живопись переживает наиболее радикальный переворот, начало которому было положено Джотто. Мы еще увидим, в чем он заключается.
Очевидно, что изменения такого рода не являются локальным явлением, касающимся лишь искусства и порожденным только или главным образом его внутренней или внешней (социальной) эволюцией, но, имея в виду место и роль искусства во всех сферах жизни, учитывают эволюцию жизни в целом. Таким образом, они выходят за рамки истории искусства, и мы уже имеем дело со всеобщей историей, которая и является единственно подлинной историей*.
Когда мы недавно говорили о том, что каждый художник относится к своему ремеслу определенным образом, я отметил, что это высказывание можно понимать в двух смыслах: один, вполне тривиальный, приравнивает его к стилю; другой, предполагающий более проницательный взгляд, заключается в том, что то, что каждый художник понимает на свой манер, есть ремесло как род занятий, как профессия. И вот здесь будет уместно упомянуть о третьем возможном значении этих понятий. Действительно, если живопись изменяется не просто в виде стилистических модификаций, а по меньшей мере как функция человеческой жизни, становится понятным, что вместе с ней радикальным образом меняется ранг, характер и смысл самой профессии.
5. Почему все предыдущие вопросы по сути своей сводятся к одному: если в творчестве Веласкеса живопись меняется не только стилистически, но и содержательно, становится ’’живописью для художников”, то как он понимает и воспринимает свое ремесло? Как он относится к своей профессии? Что значит для публики такой род занятий, что это для нее — ’’быть художником”? Я уже говорил, что Веласкес не мог бы существовать без тех, кто готов принять разного рода новшества, но совершенно очевидно, что большая часть публики отказывалась терпеть художника, пишущего ’’незаконченные картины”. И это не только старый и завистливый Кардучо, беспрестанно намекающий на сей скандальный факт буквально на каждой странице своей книги. Вся жизнь Веласкеса протекает на фоне ошибочного поведения его социального окружения. Я не виноват в том, что особенность эта не была замечена и о ней ничего не было сказано; но, как мы увидим, она просто бросается в глаза, становясь понятной всякому, кто не лишен зрения. Если же это так, то нам необходимо уточнить существующее представление о том, каким человеком был Веласкес, какими были его жизнь и его творчество. Стало привычным и очень удобным считать, что его жизнь отличалась спокойствием и невозмутимостью, которые он и
*В работе ’’Идеи по поводу истории философии” (Полное собрание сочинений, т. VI) я показываю, что то, что мы до сих пор называем историей философии, не является, строго говоря, историей и уж тем более не философии, потому что на самом деле является и может быть лишь историей людей. То же самое можно сказать об истории искусства, истории литературы; они являются подлинными историями только в той мере, в какой они отражают всеобщую историю человеческих жизней, личностей и масс.
64
демонстрирует нам своим творчеством, дозволяя насладиться ими. С другой стороны, и в самом деле, в жизни Веласкеса не было ни одной мелодраматической сцены, он не оскорбил никого из своих сограждан и даже не обижал жену, как, например, Алонсо Кано; мы не увидим его враждующим с кем-нибудь или выражающим малейшее негодование. И получилось так, что в его картинах нет ничего, кроме покоя и невозмутимости, то есть нет борьбы, жестокости, героизма.
Обычно тот оказывается слеп к героическим поступкам, кто скрывается от жизни, замыкается в самом себе, оставаясь глухим и немым ко всему окружающему, но в то же время именно он оказывается самым упорным, решительным и постоянным. Все это обусловило то, что историки искусства умалчивали о том терзающем и досадном чувстве, которое, помимо их желания, всегда вызывали у них полотна Веласкеса, вернее, то, что заключено в них. Да, они предлагают нам покой и бесстрастность так откровенно, что многим из-за этого творчество Веласкеса кажется ’’вульгарным” и ’’ничего не говорящим”. Таким людям необходимо, чтобы художник угождал им или хотя бы притворялся, что настолько озабочен этим, что готов биться врукопашную, или, по меньшей мере, исполнить цирковой номер, всячески выкручиваясь перед ними, подобно добрейшему Эль Греко. Но за этим покоем и бесстрастностью историки искусства, люди поневоле очень чувствительные к подобным вещам, должны были рассмотреть hinterland* черт совсем иного рода: строгость, суровость, непреклонность, бесконечную надменность и отстраненность, которые, насколько я знаю, не проявляются больше ни у кого из художников за всю историю живописи. Понятно, что эта порода созерцателей не ощущает всего этого, они слишком самодовольны, как всякие безответственные люди, и уж к чему они меньше всего готовы, так это к тому, чтобы картина изливала на них потоки презрения. И историки-искусствоведы видели это, должны были видеть, но они не знали, как поступать в данном случае. Им казалось, что это противоречит ощущению покоя, безмятежности и невозмутимости, которое рождает искусство Веласкеса, не понимая при этом, что эти свойства не возникли самопроизвольно, а, наоборот, есть следствие тех достижений, которых художник добился благодаря неимоверным усилиям. Последние же потому обладают значением, противоположным результату, которого он достиг с их помощью.
Составные части, из которых делается какой-либо предмет, всегда и в обязательном порядке имеют иной вид, нежели то целое, которое они образуют и в котором они исчезают, отступая на второй план. Покой у Веласкеса достигается и поддерживается ценой невероятных усилий, постоянного напряжения и, скажем больше, бесконечной борьбой со своим веком. Жесткость, присутствующая в картинах Веласкеса и скрытая за невероятно удобным ощущением покоя, есть не что иное, как жесткость сжатых
•Задний план (нем.).
65
бицепсов и суровая дисциплина бойца, сражающегося в окопе и решившего не отступать ни на шаг и не идти ни на какие уступки. И все это без малейших жестов, без всякой воинственной риторики, без заявлений в газетах о том, что он идет сражаться, что он уже воюет, продолжает вести бой. Он просто делает это изо дня в день. И, пожалуй, трудно отыскать еще одного выдающегося человека, чья жизнь была бы столь же бедна событиями, что и жизнь Веласкеса, и отличалась бы такой же пустотой и ничтожностью. Однако, когда дело касалось его искусства, эта пустая жизнь оказывалась наполненной постоянной борьбой. Вот почему жизнь Веласкеса кажется самой загадочной, самой трудной для понимания жизнью, какую только можно себе представить. И вторгаться в эту жизнь надо чрезвычайно осторожно, готовясь не доверять никому, даже собственной тени, будучи уверенным в том, что сей крайне неприветливый господин, сей гений умолчания не окажет и минимальной помощи в нашем стремлении разобраться в его таинственной судьбе и нам остается полагаться лишь на наши детективные способности, на некий правильно выбранный метод исследования, который не позволит нам заблудиться в лабиринте, каким всегда является человеческая жизнь.
Взгляните, как, благодаря легкому нажатию на тюбик с краской, наше внимание оказалось сосредоточенным на клокочущем море животрепещущих проблем. За мазком, который небрежно лежит на холсте со свойственными минералу спокойствием и тупостью, скрывается, напряженный и вибрирующий, целый организм страстных желаний и отречений, нападений и оборон, положительных и отрицательных влияний, надежд и сомнений — сам Веласкес, выразившийся в том мгновении, когда его пальцы смешивают краски на палитре, чтобы нанести мазок кистью. ’’Эти пальцы художника, — говорит Беллини, итальянский писатель того времени, — dita pensosa, размышляющие пальцы, полные тревог, пальцы, в которых сосредоточено все напряжение существования художника, как на клемме динамо-машины в момент, когда искрение вот-вот перейдет в сияние”. И вот все это мы должны восстановить, заново увидеть, как оно функционирует, действует, происходит, чтобы суметь предположить, что же мы на самом деле видим в мазке кисти.
Хотя все сказанное являлось лишь схемой примерного выбора темы среди множества возможных тем, которые стоило бы рассматривать, предпринятой с единственной целью — пробить брешь в герметичном сознании какого-нибудь строптивого'читателя, это может служить примером метода, используемого в данной книге. Данный пример шаг за шагом доказывает, что речь не идет о вопросах, добавленных мной к проблеме,’’что такое красящее вещество”, и поставленных на обсуждение на основании поверхностных рассуждений. Все эти вопросы вытекают из главной проблемы, заключены в ней, она сама нам их навязывает. Заставляя нас ошибаться, делать ложные умозаключения, мазок уводит нас в более обширную область исследований, которая, похоже, обещает дать ключ к разгадке. Этой более широкой сферой становится все творчество Веласкеса, рассматриваемое под особым углом зрения: часто или нет встречаются у Веласкеса
66
’’незаконченные картины”. Но даже утвердительный ответ лишь порождает новую проблему: как случилось, что в 1630 году возникает живопись, которая создает незаконченные картины? И если мы уже с первого взгляда подозреваем, что такая живопись была возможна, но при этом очевидно, что она не была явлением нормальным и прочно укоренившимся в традициях того времени, нам не остается ничего другого, как заняться всей проблематикой жизни Веласкеса, которая не могла быть ни нормальной, ни удобной, какими бы ни были внешние проявления и каким бы ни был тот традиционный образ, к которому мы привыкли.
Речь идет, таким образом, о целенаправленном движении, в котором каждый шаг с диалектической необходимостью заставляет сделать следующий. Это не диалектика понятий, но диалектика реального; относящаяся не к logos*, а к самому явлению. Это диалектика нити, потянув за которую можно вытащить весь клубок. Нам бы нужен один листок, только листок, но оказывается, что листок не растет сам по себе, за ним следует цветоножка. И нам приходится разбираться и с этим. Но ее продолжает ветвь, которая переходит в ствол, поддерживаемый скрытыми в земле корнями. Так что, если нам действительно нужен листок, мы должны унести его вместе со всем деревом, после того как выкопаем всю его корневую систему. Такова неизбежная судьба всего, что является, по существу, частью некого целого: первое представляет собой что-то, только будучи соотнесенным с последним. Это показывает, что если картина есть нечто большее, чем кусок холста, деревянная рама и химический состав красок, то все вышесказанное приобретает буквальный и истинный смысл: картина — фрагмент человеческой жизни, а не что-то другое.
Учитывая эту подлинную реальность, мы сможем оживить картину, что является наиболее оптимальной и соответственно образцовой формой ее восприятия. Я вовсе не стремлюсь к тому, чтобы лишить кого-либо права рассматривать картины так, как ему хочется; но очевидно, что любой другой способ, отличный от этого, будет вторичным и недостаточным.
Совершенно неизбежно, что всякий ’’блаженный от искусства” будет торжественно заявлять, когда он смотрит на картину, что его интересует не ее история, не биография ее автора, а чисто эстетическое восприятие, так как ’’художественные ценности вечны”. Это просто ханжество. Сегодня, как никогда, эпитетом ’’вечный” награждают все подряд, вплоть до того, что вечными объявляются десять сантимов. Сталкиваясь с подобной вечностью всего и вся, которая есть не что иное, как фривольность по отношению к божественному, необходимо помнить, что в человеке как таковом нет ничего вечного, в нем все преходяще, тленно, однажды является и однажды исчезает, а колыбель становится могилой. Нет ни ’’вечной красоты”, ни ’’вечной истины”. Человек же — полная противоположность всему этому, потому что он-то в сущности особенно нуждается — нуждается в вечности. Мы же располагаем лишь обрывком вечности. И тот, кто лишен вечности,
•Слово (греч.).
67
должен довольствоваться текущим, тем, что есть время. Настоящее же время — не то, по которому живут звезды, их время — время окаменелое, абстрактное, ирреальное, и в силу этой нереальности позволяющее себе роскошь быть бесконечным. И время, что отсчитывают часы, существует только если кто-то его считает и измеряет. Подлинное время, напротив, — лишь то, которое полностью тратится и завершается, это время, имеющее личный счет, живое время, имя которому ’’история”. Смысл данного названия состоит в том, что каждый человек, проживая свое время, сталкивается в нем со следами другого, не принадлежащего ему времени, прожитого другими людьми и уже истраченного, которое поэтому называется ’’прошлым”. Это придает человеческому существованию несколько странный характер: оно начинается не тогда, когда оно действительно начинается, а как бы ’’приходит из прошлого”. Приходит, чтобы человек в нем не сомневался, не забывал его, и куда бы он ни бросил свой взор, оно будет вставать перед ним как призрак, как устрашающее видение.
Таким образом, не стоит формально противопоставлять чисто эстетическое восприятие историческому взгляду на искусство. Тот, кому ближе первый способ, использует его, не отдавая себе в этом отчета, и, кроме того, ему достаточно тех исторических сведений, которые он легко удерживает в голове. Но как только в человеке пробуждается историческое сознание, всякое созерцание неумолимо влечет за собой историческое видение: любое явление минувшего видится таким, каким оно и являлось, то есть помещенным в реальное прошлое. И наоборот, исторический взгляд на искусство всегда одновременно является и эстетическим. И надо заметить, что в некотором смысле он заключает в себе целый спектр эстетических ’’взглядов” на творчество художника, каждый из которых соответствует различным его этапам. Именно в этом состоит обогащающий эффект метода оживления картин.
Сокровища европейского художественного прошлого, его наиболее знаменитые произведения превратились, в силу их известности, в предметы домашней мебели; мы к ним привыкли, и по мере притупления нашего восприятия оказывается, что они уже не принадлежат нам. Но если нам удастся увидеть их in statu nascendi*, мы как бы восстановим их в первоначальном виде, и они предстанут перед нами, не утратив тот заряд энергии, которым обладали в момент создания. Веласкес являет собой наиболее выразительный тому пример. Привыкнув к его полотнам, узнав некоторые особенности его стиля, которые будут проанализированы чуть позже, мы не станем отрицать, что сегодня на первый взгляд они кажутся нам как бы глухими, безжизненными и даже обуржуазившимися, тогда как при рождении они представляли собой нечто противоположное: великолепное новаторство, удивительные открытия, тревожащие публику успехи, неожиданные приемы и дерзкие поступки. Возможно, что помимо этого в них было еще нечто, что видел только Веласкес.
*В процессе рождения (лат.).
ОБ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ И ОСЛЕПЛЯЮЩЕЙ ИСПАНИИ ВРЕМЕН ВЕЛАСКЕСА
ИЗ ПИСЕМ НЕКОТОРЫХ ОТЦОВ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ (1634—1648)*
В Мадриде распятие, что стояло в монастыре Святого Иеронима, источало кровь в течение двадцати девяти часов; и принесли королю холст, ею пропитанный, и граф, в день, когда случилось это, удалился к себе и никому не дал аудиенции. Иез., апрель 1634 г., т. I, с. 32.
1. Поскольку приговор Инквизиции, которым предписывалось сжигать памфлеты, вынесен был неожиданно, и затем в тот же день Святого Петра приведен был в исполнение, и бумаги возили в сундуке, все решили, будто это кости какого-нибудь еврея, и на всех улицах слышались крики: ’’Смерть собакам! В огонь евреев! Пусть захрустят кости изменников! Да здравствует вера Христова!” и другие подобные этим речи.
2. Так было на улице, ведущей к ограде церкви святого Луиса, к Воротам Солнца, на Главной улице, на улице у Гвадалахарских ворот, улице Ювелиров, муниципальной площади и площади святого Сальвадора.
3. Палач хотел бросить в огонь сразу весь ящик с пасквилями; ему же приказали, чтобы вынимал их понемногу и кидал в огонь. В одно мгновение ветер взметнул оставшийся пепел, и на него набросились ласточки и стрижи, и так как это были клочья уже обгоревшей бумаги, птицы развеяли их по ветру. Людям очень понравилось это зрелище, и они стали говорить, что птицы устроили празднество по случаю сожжения памфлетов. Вот то, чего недостает в других сообщениях: обещайте, Ваше преподобие, сделать мне одолжение, переслав эти бумаги, и отправьте мне их, как я уже просил Вас. Письма некоторых отцов ордена иезуитов. 1 июля 1634 г., т. I, с. 73.
Вот Вам на закуску. Вчера, в пятницу 26 мая, повесили здесь двух знаменитых воров. Они взяли с собой в компанию двух сообщников и совершили здесь величайшую кражу; эти двое стали собратьями по наказа
* Испанский исторический мемориал. Собрание документов, исследований и древних рукописей, публикуемых Королевской академией истории.
69
нию, получив по десять лет галер, потому как не принимали участия в убийстве, которое совершили повешенные: чтобы не быть уличенными, убили они тех, кто знал о преступлении. Эти, приговоренные к повешению, были розданы: одного отдали отцам-босоногим кармелитам, другого — отцам-иезуитам; один оказался трусом, другой — храбрецом; с обоими поработали на славу. Но перейдем к делу.
Опекаемого отцами-кармелитами звали Педро, кармелита, который заботился о нем, — брат Сирило. С ним был его товарищ, хороший малый, который до самой виселицы хранил удивительное молчание и поразительную сдержанность. Он шел рядом с ослом, который вез Педро, и, когда стоял около виселицы, irruit spiritus in eum*, и вел себя не как пророк Илия, но как Давид, танцующий у гроба Господня. Встав напротив осужденного перед ослом, приплясывая и прыгая от восторга, разразился вдруг такими речами: ’’Мой Педро, о радость, какая радость! Ты станешь свободен! О радость! О праздник! Мой Педро, скоро узришь ты Господа Бога! О радость, радость!”
Педро же, о котором идет речь, подъехал к виселице не таким веселым и храбрым, как тот, другой, и, спустившись со своего осла, сказал: ’’Сеньор, дайте мне глоток вина, чтобы перевести дух, прежде чем сделать этот шаг”. Ему тотчас принесли большой кувшин красного вина, он взял его, увидев же, что это красное вино, с коим он не был особенно дружен, сказал: ”0 господи, вино-то красное! Господи Иисусе, уберите его от меня!” — и, обратившись к своему распятию, сказал: ’’Христос мой, помоги мне совершить это, помоги мне!” В этот момент вышел вперед спутник отца-кармелита и проговорил: ’’Брат Сирило, примирите этого человека, ибо сказал он ’’Иисус Христос!” красному вину. Эти слова были слышны, и говорят, он еще добавил: ’’...поскольку нутро его не принимает красного вина”. Тому принесли квартилью белого из Алаэхоса, и, сдув пену, которая, как он сказал, вредит здоровью, он выпил залпом всю квартилью. Затем палач поднял его и произнес: ’’Вставай, друг Педро. Ты теперь должен проповедовать, как апостол”. И рассказывают, что, стоя наверху, начал он проповедовать и, прежде чем окончил проповедь, испустил дух в ту секунду, как палач столкнул его. Иез., 27 мая 1634 г., т. I, с. 54—55.
Вернувшись вечером, я услышал следующие новости. Первое — это то, что я выступаю свидетелем по одному весьма необыкновенному делу. Сюда приехала труппа комедиантов, директор ее Роке, первым актером там был Хасинто Варела, который, еще мальчиком обучался искусствам у отца Педро Пиментеля. И когда мы должны были уезжать, так как у нас не было мулов, он одолжил нам свою клячу, на которой уехал и вернулся отец Хуан Мартинес, я был ему компаньоном. Эта кляча всю дорогу вела себя наисмиреннейшим образом, ну просто овечка, но в тот день, когда мы отправились из Вильягарсия, на дороге между Торо и Боведа она вдруг принялась буянить, метаться из стороны в сторону, набрасываться на мою
* Взыграл в нем дух (лат.).
70
ослицу и впадать в такие крайности, что чуть не сорвалась сама и не скинула маэстро, который ехал на ней, исходя злобой и потом. Ему пришло в голову, что мы найдем Хасинто Варела, хозяина клячи, умершим. Я не придавал внимания этим его опасениям до тех пор, пока не прибыли мы в Саламанку; там встретили нас известием о том, что в тот самый день, в тот самый час Хасинто, о котором шла речь, упал вдруг мертвым на помост, прервав монолог, который представлял он в течение четверти часа перед своей женой. Ему оставалось договорить три стиха, когда он внезапно упал. Он был столь великолепен в своем выступлении, что публика решила, что это был обморок, которого требовала роль, и ожидала, что он вот-вот поднимется, чтобы его приветствовать. Но какой-то врач сказал, что он умер. К нему подбежали и обнаружили, что он уже покойник. Иез., 7 сентября 1634 г., т. I, с. 92—93.
Пишет из Саламанки отец Мендо, чтобы поведать о прискорбном случае, который там произошел. Один валенсийский студент, не знаю уж из-за чего повздоривший с доном Бартоломе де Поррас, уроженцем Севильи, явился к нему в дом, чтобы принудить его драться с ним. Дон Бартоломе не хотел этого и, извинившись, сказал, что у него нет шпаги. Валенсиец ушел и вернулся со шпагою, и здесь же в доме обнажили они клинки, и при первом же выпаде дон Бартоломе нанес удар зачинщику, которым проколол ему язык и проткнул горло. После чего дон Бартоломе убежал, тот же остался лежать тяжело раненный, а когда судья добился у него признания, послал тайно слугу своего, дабы предупредить сеньора, чтобы тот собрал свои пожитки и укрылся в надежном месте, потому что его ищут судебные власти. Иез., 11 декабря 1634 г., с. 114—115.
Пишет мне из Мадрида один брат о таких значительных событиях, как праздники тростника и быков, которые отмечались во дворце Буэн Ретиро. На них присутствовали Их Величества, и по одному этому можно представить, какими они были великолепными. Перед этим герцог де Берганса прислал королю свирепейшего льва; его хотели испробовать в этих празднествах и, приведя самого свирепого быка из всех, какого только смогли найти, выпустили обоих на площадь. Лев стоял спокойно, но когда бык бросился на него, тот, как бы от нечего делать, одним ударом лапы распорол его пополам. Оставив убитого им быка, лев медленно обошел всю площадь, затем вернулся к быку, вылизал его кровь и оставался около него до тех пор, пока его не забрал надсмотрщик. Говорят, это был праздник, на который очень даже стоило посмотреть. Иез., 24 декабря 1634 г., т. I, с. 119.
Герцог, граф и адмирал были очень схожи между собой, и, так как были очень грузны и неповоротливы, люди кричали, чтобы их подгоняли тычками и пинками. Все было сделано хорошо и с большим блеском. Иез., 23 января 1635 г., т. I, с. 124.
71
Королева на прошлой неделе послала в Сантьяго де Галиена очень дорогой подарок, стоивший, должно быть, более 100000 дукатов, в надежде, что Господь Бог благодаря заступничеству святого примирит эти королевства. Также Принц или, лучше сказать, герцогиня де Оливарес провела сорок часов в монастыре Святого Хиля. Все это замысел, касающийся войны и еще раз войны. Мадрид июля 1635 года. Иероним де Сепеда. Отцу Рафаэлю Перейра, из Ордена. Иез., 16 июля 1635 г., т. I, с. 214.
Вчера, в день Святого Андреса, по дороге на проповедь в приход, носящий имя этого святого, один прихожанин, увидев важного чиновника из судебных властей, который был из того же прихода, сказал мне: ’’Взгляните на него, ваше преподобие, он только возвратился из Авилы, где осудил и обезглавил одного идальго”.
Дело заключалось в том, что этот идальго из Пьедраиты влюбился там в одну монахиню из монастыря, там же и расположенного. Оба уже пожилые люди, и так он задурил ей голову, что однажды ночью сбежала она из монастыря, не сообщив ему об этом, и явилась к нему в дом. Старик опечалился, увидев ее, она же сказала ему: ’’Мужайся, ибо я не вернусь больше в мою келью. Пойдем с тобой бродить по миру”. — ’’Пойдем”, — согласился добрый старик. В ту же ночь собрал он сколько мог денег и отправились они с одной лишь ослицей, на которой восседала его дама сердца, сам же кавалер шел пешком. Они смогли добраться до Сьюдад-Родриго, что по дороге в Португалию, и там настигли их судебные власти Авилы (под чьей юрисдикцией находится Пьедраита). Их схватили. Она вернулась в монастырь, где и умрет заточенной или замурованной; он был доставлен в Авилу, где в тот же день был обезглавлен, как это вскоре случится и в Саморе, по той же причине и из-за такого же преступления, где вот уже более двух лет слушается дело одного кабальеро, и хотя он умело защищается, тоже умрет обезглавленным. Иез., 2 декабря 1635 г., т. I, с. 341.
В Святой вторник в монастыре Святого Иеронима во время проповеди повздорили из-за места кабальеро Помпейо де Тарсис и дон Педро де Поррас. Соперники сошлись один на один на улице Реаль Ретиро. Дон Педро ранил своего противника в рот и щеку, но тут сбежались люди, которые их и примирили. Дон Педро, взяв свою клячу и своего слугу, уехал; раненого отнесли к нему в дом лечиться. В связи с этим стоит, как никогда, вновь задуматься о специальном указе о дуэлях. Иез., 7 апреля 1637 г., т. II, с. 82.
Pax Christi, &с*. Накануне праздника Пресвятой Троицы, когда Его Величество во время вечерней службы был в часовне, туда, незадолго до того, как окончилась служба, вошел дворянин, прислуживающий за столом
*Мир Господа (лат.).
72
короля, дон Луис Лухан, и в обычном для него состоянии безумия (хотя часто бывают у него минуты просветления) подбежал к ступеням алтаря, где находился нунций, благословляющий верующих, встал на колени и так дополз до занавески и до ног Его Величества. И там перед всеми заявил, что совершено ужасное предательство и что граф замышлял убийство Его Величества. Он привел всех в замешательство, гвардейцы хотели тотчас схватить его; но он не дался ни им, ни алькальдишкам, как он выразился, а только германскому послу, который неясно расслышал разговор о предательстве Его Величества, но слышал, что упоминали его, и боялся, что они воспользуются помешательством этого человека, зная, что он слаб. Итак, посол увел его в свой экипаж и отвез в дом вышеназванного кабальеро, и, как это обычно делалось, ему и на этот раз дали выпить напиток, чтобы он уснул, и был это такой сон, что он больше уже не проснулся. Но так как графа здесь очень хорошо принимают, не понадобилось никого, кто бы разубедил народ в том, что он убил дона Лухана этой микстурой, потому что тот против него говорил. Но все сказанное — правда. Иез., 22 июня 1637 г., т. II, с. 137.
Поскольку то, что я добавлю, совпадает с вышесказанным, я расскажу о том, что произошло в день праздника Тела Господня во время процессии недалеко от площади Святой Марии, откуда она отправляется. Среди прочих там шел один крестьянин, который, растолкав всех и прорвавшись сквозь гвардейцев, закричал: ’’Назад, я иду на смерть!” Он упал к ногам Его Величества и сказал, что со времен короля Бамбы и до сегодняшнего дня не было ни худшего правительства, ни худшего государства, чем наше королевство. ’’Посмотрите, Ваше Величество, — добавил он, — что делается, Вас подстерегает смерть”. Его Высочество испугался и ударил его свечой по голове (рядом с ним находился герцог де Пастрана, который нам об этом рассказывал). Гвардия хотела увести его, но король приказал, чтобы его оставили, и ушел. Совет Кастилии обсудил, надо ли задерживать этого крестьянина, но было решено не делать этого, потому что сказал король: ’’Оставьте его”, и не чинить ему никаких притеснений. Однако же пошли слухи, что он арестован и что он прошел через бесчисленное количество пыток и от них скончался, и это все пересказывали и связывали с тем, что случилось с доном Луисом Лухан, хотя, как я уже заметил, одно к другому не имело никакого отношения.
Храни Бог Ваше преподобие, как я того желаю. Мадрид, 22 июня 1637 года. Кристобаль Перес — отцу Рафаэлю Перейра из ордена иезуитов, Севилья. Иез., 22 июня 1637 г., т. II, с. 137.
На этих днях произошло два необыкновенных события. Вот одно из них: случилось так, что между часом и двумя ночи 20 человек в масках подошли к дому торговки льдом, которая живет на самом краю поселка в последнем доме; примерно человек четырнадцать окружили ее жилище, а шесть или
73
семь крепких парней, вооруженных до зубов пистолетами и в масках, проникли внутрь через дворы с колодцами. Наткнувшись на двух работников, они крепко связали им руки и спросили, кто еще находится с их госпожой в доме. Те им ответили, что она там одна с детьми и слугами, что оказалось для них весьма подходящим, ибо позволяло довести дело до конца. Тогда один остался стеречь этих двоих, другие же пошли ломать дверь, чтобы войти в дом со стороны колодцев. От шума проснулась хозяйка дома и сказала служанке: ’’Посмотри, что это за шум у двери”. Та ответила: ’’Сеньора, это ветер”. — ”Не может быть такого шума от ветра, — сказала хозяйка. — Встань и посмотри”. Служанка пошла и увидела, как пять или шесть мужчин ломают дверь. Она сообщила это своей госпоже, та же надела короткую нижнюю юбку и собралась с духом, уповая на Господа. Выломав дверь, они поднялись туда, где она стояла, и направили на нее пять пистолетов, при этом один из них объяснил их поведение следующими словами: ’’Сеньора, мы люди благородные, но испытываем крайнюю нужду, и она вынудила нас к тому, о чем мы раньше никогда не помышляли. Ваша милость могли бы оказать нам помощь, ведь только за этим мы и пришли”. Она ответила им с полной непринужденностью, что ее очень удручает то, что необходимость заставила их прибегнуть к столь чуждому благородным людям средству; она сказала, что то единственное, что она может сделать, так это поделиться с ними тем, что у нее есть, и сделает это с большой охотой, и чтобы они имели в виду, что у нее пятеро маленьких детей, и чтобы они удовольствовались этим малым. Тот, который обращался к ней с просьбой, сказал: ’’Клянусь богом, она права. Пусть будет так”. Другие с ним согласились, попросили ключи, и она дала их и сказала: ’’Там в спальне лежат все деньги, что есть в доме, а так как торговля сейчас не идет, их немного. Вот если бы вы пришли летом, то смогли бы найти больше”. Они пошли и взяли 2600 реалов. Потом они сказали: ’’Откройте, ваша милость, этот письменный стол”. Она открыла его, и они нашли 50 дублонов в ящике стола. Они спросили о драгоценностях, и она ответила: ’’Они лежат в этой шкатулке”. Один из нападавших хотел открыть ее, но она сказала: ’’Дайте мне ключ, ваша милость, у вас не получится”. И, перепрыгнув через кровать, так как шкатулка находилась за ней, она открыла ее и с большой ловкостью спрятала некоторые драгоценности в нижнем белье, которое было на ней. Затем она подняла шкатулку и сказала: ’’Вот шкатулка”, открыла ее и предложила: ’’Выбирайте сначала вы, а потом выберу я, мы и договоримся”. И они поделили таким образом драгоценности. Покончив с этим, они спросили ее о перстне, богато украшенном бриллиантами, и она ответила им: ’’Сеньоры, я ношу его на этом пальце уже десять лет, должно быть, я располнела и не могу снять его, вы можете попробовать”. Один попробовал, а другой сказал: ’’Надо резать, если он не хочет слезать”. Она ответила, поняв их неправильно, как если бы они говорили о пальце: ’’Это бесчеловечно из-за такой безделицы отрезать мне палец”. На что тот, который говорил, ответил: ”Я говорю только о
74
перстне”. Тогда тот, что вел разговор, обратился к остальным со следующими словами: ’’Сеньоры, этот перстень освящен. Оставьте его себе, ваша милость, и да пребудет с вами Бог за то, что все прошло так благородно, и я опечален тем, что это случилось в доме вашей милости”, и, повернувшись к своим товарищам, добавил: ’’Здесь больше нечего делать. Пошли в дом ее матери, что примыкает к этому”. Она же попросила их: ’’Сеньоры, раз уж вы мне оказали такую милость, я хочу молить вас оказать и другую”. Они ответили, что сделают это с превеликим удовольствием. ’’Сеньоры, моя мать — старуха и так слаба, что похожа на тень. Если вы войдете в ее дом, она наверняка умрет. Поэтому молю вас, удовольствуйтесь тем, что досталось вам с легкостью, и поскольку вы взяли у меня то немногое, что у меня было, и я остаюсь без имущества, не лишайте меня еще и матери. И я заверяю вас, клянусь именем порядочной женщины, что в доме ее нет ни реала, и много ли, мало ли мы имеем, все это хранится в моем доме”. И тогда главарь ответил: ’’Ваша милость, продолжайте наслаждаться обществом вашей матери, и никто не причинит ей никакого вреда, поскольку ваши манеры и любезность таковы, что даже то, что мы уносим, заставляет нас огорчаться, и, если бы обстоятельства не вынуждали нас к этому, мы бы и этого не брали. Ну да пребудет Господь с вами”. С этими словами они вышли тем же путем, которым пришли. Они унесли с собой ценностей на 1600 дукатов; все это рассказала женщина священнику, который ее исповедует. Другие рассказывают больше и иначе. 27 мая 1638 г., т. И, с. 419—421.
В нашу коллегию пришел дюнкеркский еретик, пожелавший обратиться в католическую веру. Сейчас мы даем ему наставления в вере, и рассказывает он, что же побудило его стать католиком. А случилось так: когда он и его отец сражались на войне, внезапная пуля убила его отца; сын в это время играл на флейте, и тут другая пуля, не причинив ему ни малейшего вреда, попала прямо во флейту между его руками и ртом. И так рассудил он, что этим везением Господь предупреждает его, чтобы он обратился, и посему пришел он в орден за помощью. Иез., 29 октября 1638 г., т. III, с. 80.
Вышел королевский указ, запрещающий господам под угрозой тяжких наказаний ухаживать за дамами во дворце, если только это не происходит публично, и к тому же совершенно запрещается с этой целью менять платье и изменять внешность. Иез., 16 ноября 1638 г., т. III, с. 97.
В первый день Пасхи предложено было дать в Буэн Ретиро комедию с огромным количеством всякой машинерии для перемены декораций на одном пруду необычайной величины. Смотреть ее надо было с лодок, и для этого собрали множество лодок и гондол. Герцог де Медина де лос Торрес прислал из Неаполя много гондол, и богатые подарки для королевской четы, дам и сеньоров, и великолепные закуски. Началось празднество, и
75
тотчас поднялся небольшой ветерок, лодки и гондолы начали раскачиваться на волнах. Постепенно ветер усиливался, и лодки стали сталкиваться друг с другом, и Королева громко приказала избавить Принца от этой опасности. Это было сделано, затем то же случилось и с дамами, которые громко кричали, и тогда Его Величество приказал отвезти его на берег. Он вышел из лодки, и за ним поспешили также все остальные, в немалом числе. Праздник же не удался. Затем прибыли курьеры, о которых я писал выше, чем окончательно все испортили. Иез., 12 июня 1639 г., т. III, с. 267—268.
О машинах для декораций и комедиях в Буэн Ретиро открыто объявили народу с великодушного соизволения Его Величества, по приказу которого в афишах сообщалось, что все могут пойти. Сегодня Их Величества прибудут во дворец. Иез., 22 июня 1639 г., т. III, с. 270.
На днях граф де Оропеса и герцог де Альбукерке, прогуливаясь по Прадо в парадной карете, поравнялись с другой, в которой сидели дамы. Было, должно быть, десять часов вечера. Одна из дам позвала герцога, и тогда оба они вышли из кареты и стали разговаривать, стоя у подножки. Вдруг на них напали трое: один схватился с герцогом де Альбукерке, а двое набросились на графа де Оропеса. Герцог де Альбукерке сбил своего противника с ног одним ударом шпаги, хотя неизвестно, ранил ли он его, потому что тот продолжал держать в руках оружие. Что касается графа де Оропеса, ему шпагой задели щеку и, проткнув перелину и картон гофрированного воротника, ранили в плечо; наткнувшись на картон, удар потерял свою силу, и обе раны — в плечо и в лицо — оказались незначительными.
На следующий день маркиз де Альменара дрался на шпагах ночью, и ему проткнули руку; ему грозит опасность остаться калекой. Все эти вещи случаются по молодости и из-за дам. Иез., 12 июля 1639 г., т. III, с. 293—294.
Под юрисдикцией Касареса находятся некоторые места в горах, на расстоянии трех или четырех лиг отсюда. Одно из таких местечек называется Хенальгуасил, и в давние времена там жил один мориск по имени Алонсо Мартинес Арребахе, чрезвычайно богатый, со множеством скота, огромными имениями на землях Касареса и таким количеством денег, что другие мориски хотели провозгласить его своим королем, хотя потом те же самые мориски убили его за то, что он устраивал всевозможные сделки и прокручивал темные делишки. Так вот он, перед смертью, распорядился всем своим состоянием и, собрав огромную сумму денег, спрятал их так, что никто и никогда не смог их отыскать, сколь страстно не желали найти такие сокровища. На днях одному юноше из Хенальгуасила явился дьявол в обличье Арребахе, одетый по тем временам, верхом на белой кобылице, в хорошем расположении духа. Он сказал юноше, что его сокровища нахо
76
дятся в яме с водой в долине Альмахар, в четверти лиги от этого места. Он появлялся перед юношей много раз, каждый раз убеждая его тем, что приводил множество примечательных подробностей. Несколько раз при этом присутствовали свидетели, которые, хотя и не видели его, но слышали, что он говорит. Велел он юноше, чтобы он достал деньги, поделил и часть истратил на добрые дела, а затем он пообещал вновь ему явиться и рассказать, что нужно делать дальше. Юноша пришел объявить о найденном сокровище к дону Педро Агуадо, коррехидору Касареса, которого Ваше преподобие знало королевским советником в Марчене. Дон Педро всячески осложнил дело, и так много инстанций по разным поводам нужно было посетить этому человеку, что было ему очень сложно пройти регистрацию. После этого снова явился Арребахе юноше и сказал, что он обо всем знает, и однажды справедливость восторжествует, но уже этой ночью он сыграет с волокитчиками злую шутку, устроив бурю. Так и случилось, и еще он добавил, дабы никто не пытался заклинать его, потому что тридцать лет назад он вот так же явился матери этого юноши, но тогда привезли священника из Севильи, который наложил на него заклятие на эти прошедшие тридцать лет. Священник поплатился за это, потому что он умертвил его в одном из винных погребов Трианы. Все было истинно так, как я рассказываю, и правосудие вершит там свою волю. Около двадцати человек вычерпывают воду из этой ямы, потому что она очень глубокая, и одновременно отводят воду в ручей, чтобы раскрыть тайну и узнать правду. Я думаю, что сокровище находится там, ввиду того, что я еще раньше узнал по секрету, но я не думаю, что его достанут, о чем я также знаю от одного человека, который, кстати, не будет мне врать.
Короче говоря, это весьма необычный случай, происшедший при весьма странных обстоятельствах, изложить которые не позволяет краткость сего письма. Скоро мы увидим результаты этих хлопот. Юноша ходит потрясенным, и боюсь, это будет стоить ему жизни. Иез., 7 сентября 1639 г., т. III, с. 330—331.
А сейчас я расскажу необыкновенный случай, о котором поведал граф-герцог своем духовнику, о нем также писали разные люди. Не уточняя, где именно расположено это озеро близ Сальсаса, около которого находится 2000 наших солдат, расскажу, что, когда заиграл сигнал атаки и солдаты приготовились напасть на врага, подняв пики и обнажив шпаги, они увидели в темноте ночи, как на концах пик и шпаг зажглись звезды или нечто похожее. Сиянием своим они были подобны звездам небесным. Явление это так удивило наших и так подняло их боевой дух, что стали похваляться солдаты, что даже если бы вся Франция напала на них, они не замедлили бы броситься в атаку. Если бы приключилось сие с какой-то одной пикой или шпагой, этому явлению нашли бы естественное объяснение, но свечение появилось на всех и оттого стало истинной тайной, и кажется, что Бог хотел явить воинам свое покровительство или показать им сверхъестественными
77
средствами их правоту или воодушевить их при помощи сверхъестественных сил, дабы они больше полагались на божественный промысел, чем на силы людские. Нет никаких сомнений в том, что событие это действительно имело место, остальное же оставим на суд тех, кто знает все доподлинно. Иез., 8 ноября 1639 г., т. III, с. 351.
Его преосвященство господин кардинал Борха, Глава Совета Арагона, после того как поцеловал руки Его Величеству и пожелал ему счастливой Пасхи, давал у себя в доме для вышеназванного совета известную комедию, а на следующий день дал им отменный обед, как это обычно принято. Горячих блюд было 90 и столько же вторых и десертных блюд, стол был украшен с большой роскошью: на нем стоял замок из марципана с сахарной корочкой, филигранно выполненный, высотой в полтора вара, а в глубине замка, под портиком было изображено поклонение Волхвов с фигурами в пол вары и с большим количеством верблюдов. Король, господин наш, был изображен в виде пастуха, которого сопровождает принц, так схожий лицом с оригиналом, что до нынешнего дня не было написано ни одного портрета, где было бы такое сходство, и все это из сахара. По бокам стояли два других торта, желатиновых, со своими башнями, одни из которых были полны живых рыб, плывущих будто по воздуху, в других же были птицы. Все это вызывало восхищение. Там был еще Орфей, зачаровывающий своей мелодией животных, покрытых сахарной глазурью; там были танцующие фигуры, целиком сделанные из масла и сахара, и повозка, запряженная четырьмя орлами, которая везет копченые колбасы из Италии; другая — ее тянут четыре грифона — наполнена свиными окороками с виду целыми, на самом же деле искусно сделанными из отдельных ломтиков. За ней следовала галера со всякими припасами, и каждый каторжник на ней нес кувшин со сливками. В другой галере было то же самое. Было еще два судна со светильниками, сделанными из масла и сахара, а по бокам бригантины, которые везли кисти мускатного винограда и другие фрукты. За ними следовали на буксире две лодки, полные сладчайшими лимонами в сахаре. Салфетки же были сложены столь причудливым способом, что напоминали рыб, корабли и другие выдуманные предметы. Иез., 3 января 1640 г., т. III, с. 383.
Три дня тому назад вошел в один знатный дом благородного вида господин, позвонил и спросил хозяйку дома. Его спросили, как о нем доложить. Он попросил передать ее милости, что некий кабальеро хочет поцеловать ей руки. Вышла сеньора, и после обычных приветствий он изложил свою просьбу, а именно, что обременен он чрезвычайно важными делами, для осуществления которых ему необходима определенная сумма денег, и что он очень оценил бы оказанное ему одолжение.
Сеньору очень удивил такой разговор, и она ответила ему, что в другое время была бы рада выручить его, но сейчас в ее доме нет никакой вещи, с помощью которой можно было вывести его из затруднительного положе
78
ния, и она полагает, что он сам непременно изыщет возможности для решения своей проблемы. Он ответил, что, поскольку она отправляет его, не дав ничего, не соблаговолит ли сеньора дать ему ключ от секретера, где хранятся драгоценности (к этому моменту в дверях зала стояло еще четверо его сообщников). Говорил он это таким образом, что сеньора, взяв связку ключей, протянула ему ключ от секретера, откуда этот человек достал кое-какие драгоценности с таким бесстыдством, как если бы он был хозяином дома и знал, где что лежит. Взяв эти драгоценности, он спросил: ”А где 'же остальные?” Она ответила: ’’Это все драгоценности, которые у меня есть. Какие вы, ваша милость, хотите, чтобы у меня были еще?” — ’’Еще должно быть украшение с бриллиантами стоимостью 14000 реалов и другое — такой-то формы, и еще вот такое”, — и так он назвал целый ряд драгоценностей. Она с отменной вежливостью ответила ему: ”Вы, ваша милость, весьма подробно описали мне то, что находится в моем доме. Очень хорошо должен быть осведомлен тот, кто рассказал Вам об этом”. Он ответил ей с тем же бесстыдством: ’’Ваша милость, не теряйте время, дайте мне их и не ставьте меня в положение, при котором потеря времени могла бы приобрести решающее значение”. Она отдала ему драгоценности, а он вынул носовой платок, быстро завернул в него все и, сняв в прощальном поклоне шляпу, вышел в сопровождении своих товарищей.
Служанка закрыла дверь, а добрая сеньора, придя в себя, не переставала размышлять о происшедшем. Удивляясь всему случившемуся, она стала жаловаться на наглость и коварство такого поступка, но тут служанка, увидев на полу около секретера какую-то бумажку, спросила: ’’Что это за бумага?” Хозяйка взяла ее, прочитала. Это была грамота Его Величества, в которой он оказывал величайшую милость этому кабальеро, дозволяя ему вступить в рыцарско-монашеский орден. Она спрятала бумагу и приказала подать носилки, чтобы отправиться в дом к одному важному министру из самых главных министров Его Величества. Она представилась, и ее сейчас же пригласили войти. Сеньора рассказала о'случившемся и о том, как кабальеро, вынимая платок, выронил грамоту с изъявлением монаршей милости. Она попросила его превосходительство разобраться в этом деле, потому как, без сомнения, именно он забрал у нее столько драгоценностей. По распоряжению министра предупредили секретаря рыцарских орденов, дабы он отыскал этого кабальеро и повелел его прийти к такому-то министру Его Величества. Когда тот явился в назначенный час, ему вручили в качестве уведомления пропуск к министру. Министр сказал, что ему стало известно о его важной особе и услугах, оказанных им Его Величеству, за которые он достоин того, чтобы его осыпали милостями, и что сам он готов всячески помогать ему в его продвижении по службе, и ему удивительно видеть сеньора его достоинств без рыцарского звания, и что он хотел бы подобной милостью дать ему возможность добиться больших высот. Кабальеро ответил, что ему уже оказали эту милость и грамоту о том он имеет при себе. ’’Мне бы хотелось увидеть ее”, — сказал министр.
79
Тот сунул руку в карман и пришел в некоторое замешательство, он проверил еще и еще раз и, не найдя ее, очень огорчился и сказал: ’’Сеньор, я клянусь, что она была здесь, но, должно быть, выпала”. Тогда министр, засунув руку в нагрудный карман, достал грамоту и сказал: ’’Взгляните, ваша милость, может, это она?” Тот увидел бумагу, узнал ее и сказал: ”Да, сеньор, это она. Она у меня выпала, и я ценю, что она попала в такие хорошие руки”.
Тогда министр воспользовался случаем поговорить о том, что ему стало известно о проделках кабальеро и что поступки эти недостойны его крови и его персоны. Он признался, уличенный так прямо, и предложил, не выходя отсюда, сделать так, чтобы сюда принесли все драгоценности в том виде, как они были унесены. Когда же спросили его о сообщниках, он ответил, что, даже если бы он хотел сказать, кто они, он лишен такой возможности и может заверить их лишь в том, что только крайние обстоятельства заставили его совершить подобную низость. Министр сделал ему весьма серьезный выговор, обрисовав это дело во всей его неприглядности, как оно того и заслуживало, и затем, вручив ему грамоту, простился с ним с большой вежливостью, обещая наилучшим образом скрыть сие дело, поскольку тот был уважаемым человеком. Драгоценности же вернули хозяину, который также был важной особой. Каждый день случается множество таких происшествий. Иез., 6 января 1643 г., т. IV, с. 490—492.
На днях умер один священнослужитель, хорошо известный не только в Мадриде, но, думаю, во многих частях нашего королевства. Звали его дон Хуан де Эспина; было у него примерно 5000 дукатов церковной ренты, большую часть которой тратил он на всякие диковинные вещи: картины, мебель, музыкальные и вычислительные инструменты и т. д., так что в доме его были собраны самые выдающиеся и самые изысканные редкости, известные не только при дворе, но и во всей Европе. Это был человек редкостного нрава, и дом его казался зачарованным. Не было у него никого, кто бы ему прислуживал; еду ему доставляли с помощью лебедки; чтобы попасть к нему, надо было заслужить особое его расположение, и немногим удавалось добиться этого. Ему казалось, что нет в мире человека, знавшего бы науки столь же совершенно, что и он, и тот, кто приходил посмотреть его диковины, которые, как я уже сказал, были самого разного рода, очень дорогие и изысканные, должен был смотреть и молчать, а если и вынужден был говорить, то только выражая свое восхищение и рассыпаясь в похвалах. И вот однажды он уехал в Сан Мартин, являющийся одним из приходов этого города, и попросил, чтобы над ним совершили обряд причащения, и предупредил священника, чтобы через два часа его соборовали. Совершили и это таинство. Он сообщил также, где хранится его завещание, и спустя несколько часов умер.
Некоторые из знавших его находились при нем и тотчас же известили о его смерти, затем пошли они туда, куда он указал, и, прочитав завещание, сказали, что он велел похоронить себя в своем приходе, чтобы могила его
80
в ширину имела пять вар и чтобы могильщикам дали за их работу по 400 реалов, а если будет на четыре пальца меньше, то не более сотни. Он завещал, дабы Его Величеству передали 24 уникальных музыкальных инструмента, которые у него хранились, а также секиру и наглазную повязку, которые использовали при обезглавливании Дона Родриго Кальдерона, и еще чтобы его предупредили, что взять секиру надо определенным образом, потому что если взять по-другому, то это грозит смертельной опасностью самой ценной голове в Испании. А также завещал он Его Величеству загородную виллу, которую он прозвал ’’Ангельская” и которая, как говорят, стоила более 30000 дукатов, потому что в ней было много дорогих и очень необычных вещей. Отдал он распоряжения и относительно других особ, остальное же свое состояние, которое было немалым, он оставил бедным. Он приказал продать его дом с условием, что тот, кто соберется его покупать, купит его со всем его содержимым, и только таким образом можно продать его, и никак иначе. Завещал он, что если умрет одетым, чтобы положили его в гроб без байеты и внутри, и снаружи, если же скончается в постели, то пусть завернут его в простыни, на которых он умер, и положат в гроб. И пусть на погребении будут только четверо священников с крестом и не будет никакого покрывала. Пусть тело его несут четверо бедняков, а другие четверо пусть идут с топорами. А еще просит и умоляет он своих друзей, чтобы никто не провожал его, чтобы не было никакой панихиды, а прочитали бы 2000 молитв за упокой души его. И дабы завещание его было выполнено, оставляет он своим душеприказчиком сеньора графа-герцога, и пусть тот наймет семерых для выполнения формальностей. Странным был этот кабальеро и в жизни, и в смерти, и все дела его заставляли судить о его поступках по-разному. Иез., 6 января 1643 г., т. IV, с. 492—494.
Сегодня вечером мы собрались, чтобы хорошо завершить праздник Сорока часов для короля, королевы и принца. И еще одну величайшую милость оказала нам королевская чета: впервые вывели они на публику маленькую инфанту, которая шла рядом со своим братом в платьице с корсажем, бакеро из шерсти ярко-красного цвета и юбочке, обшитой бахромой. Она была очень красивая — беленькая, со светлыми волосиками и напоминала младенца Иисуса. Ее родители, король и королева, все время говорили ей: ’’Иди, малышка”, а она, несмышленая, от всей пышности, украшений и огней все останавливалась. И мать ее обмирала, глядя на нее. И я не удивляюсь, что все рукоплескали, выкрикивая бесчисленные благословения, и родители ее были счастливы это слышать.
Прибыла также герцогиня де Мантуа, она приехала в карете с королевской четой, которой, приходится кузиной. Затем прибыло много грандов, а также самые титулованные дамы и знатные сеньоры, каких мне только приходилось видеть, но все эти благороднейшие дамы носили еще траур из-за королевы-матери. Они с превеликим удовольствием приезжают в наш орден, потому что двое наших отцов являются их духовниками, всякий день
81
бывая во дворце, исповедуя их и наставляя. И милость эта, благодарение Господу, дарована только нашему ордену.
Приехала также графиня де Оливарес, главная придворная дама, что нас несколько смутило в силу того, о чем шла речь ранее. Видимо, однако, ее отставка происходит медленнее, чем думалось, потому как все делается весьма благопристойно, в свое время, подобно танцу в такт музыке.
Королевская чета и принц с принцессой заняли вчетвером свои места, чуть сзади расположилась герцогиня де Мантуа; все стояли, преклонив колена и вознося молитву Всевышнему, в то время как королевская капелла пела литанию Пресвятой Деве Марии. Окончив молитву, они поднялись, и тогда подошел к ним епископ Кастилии Франсиско Агуадо, к которому король испытывает большое почтение за его святость. Он опустился на колени, но Король поднял его с колен, и тогда поблагодарил он за честь, оказанную ордену, и особую к нему благосклонность, выразившуюся в том, что привезли сюда юную инфанту, и, обратившись с дозволения Его Величества к инфанте и к принцу, спросил их, может ли он подарить им какой-нибудь медальончик. Король сказал: ”Да, дайте им, что пожелаете”. Потом подошла малышка получить подарок, что вполне понятно; ей подарили несколько дорогих медальонов, которые всем захотелось увидеть, и девочка, еще более живая и веселая, чем по приезде, стояла такая красивая и смотрела. Мать шепнула ей: ’’Скажи что-нибудь святому отцу”, и та промолвила: ”Да хранит Вас Господь”. После этих слов мы послали ей множество благословений, и отец ее, чтобы не рассмеяться, прикрыл свое лицо. Король и королева были необычайно кроткими, и, казалось, никогда раньше мы не видели их такими счастливыми от созерцания стольких святых отцов, сколько там было, и выказывали они всем свое почтение с благосклонностью и выражением смиренности на лице.
После этого возвратились они во дворец, очень довольные и немало всего нам оставили — такого не случалось с момента правления этого короля. Его отец, правда, делал это несколько раз. Иез., 16 февраля 1643 г., т. V, с. 17—18.
Как-то на этих днях приехал Король в монастырь босоногих кармелиток, а случилось это через три дня после того, как граф-герцог уехал в свой Лоэчес, и попросил их: ’’Просите Бога за моего фаворита, дабы просветил его в делах царствования”. И так как он больше ничего не пояснил, когда он уходил, сестра Маргарита, которая приходится сестрой отцу императора, упала перед ним на колени и обратилась к нему со следующими словами: ’’Господин мой, дабы эти святые сестры чаще возносили свои молитвы Господу нашему и просили его даровать удачу и знания фавориту Вашего Величества, молю Вас, окажите нам милость и скажите же, кто этот фаворит”. Король ответил: ’’Мой фаворит — королева”. Все мы остались очень довольны, и я думаю, что королевство будет управляться очень хорошо. Иез., 17 февраля 1643 г., т. V, с. 18—19.
82
Некто из Фернандины подал жалобу Его Величеству через посредника о том, что вот уже как восемь месяцев держат его в заключении, не предъявляя ему никакого обвинения; он умолял Его Величество, чтобы тот соблаговолил приказать, дабы над ним свершилось правосудие. Его Величество послал запрос председателю суда, чтобы тот известил его о деле того человека из Фернандина. Председатель переговорил с членами судебной коллегии, но никто из них не смог объяснить суть данного дела и не было ни одного письменного документа против него. Таким был ответ, который дали Его Величеству, вследствие чего Его Величество отправил письмо, в котором приказывал этому сеньору прибыть ко двору для целования руки. Три дня спустя он прибыл, и, хотя несколько кабальеро пришли встретить его, он дал им понять, что увидится с ними днем позже, с тем чтобы его никто не сопровождал. Тем не менее некоторые все же пошли с ним. Он предстал перед Его Величеством и, преклонив перед ним колено, промолвил: ’’Сеньор, мне шестьдесят лет от роду, сорок из них я истратил на службу Вашей милости и вашему отцу, о чем свидетельствуют письма, полученные от Вашего Высочества и от вашего отца, которые я храню, как и письма самых могущественных министров, какие были при этой монархии. Восемь месяцев держат меня в заключении по неизвестной мне причине, не предъявляя никакого обвинения. Я не прошу у Вашего Величества, если я виновен, отсрочить рассмотрение моего дела, но, наоборот, ускорить его и, убедившись в том, что я не виновен, дать мне удовлетворение, что было бы справедливо по отношению ко мне”. Его Величество ответил на это: ”Я возмещу вам все убытки, и вы будете служить мне, как и прежде”. Бросившись к ногам короля, тот сказал: ’’Сеньор, моя честь, мое состояние и моя жизнь у ног Вашего Величества. Располагайте всем этим, поскольку оно целиком к вашим услугам”. Иез., 17 февраля 1643 г., т. V, с. 25—26.
с*
Его Превосходительство граф-герцог, поскольку располагает свободным временем, находясь в Лоэчесе, пытается разбить там лес и для этого послал за кроликами и прочей живностью, чтобы это получилось. Крестьяне из Лоэчеса уведомили его о том, что они крайне озабочены судьбой посевов и виноградников. Я не думаю, что граф-герцог отказался от своего намерения, получив это прошение. Тогда они обратились к Его Величеству с просьбой распорядиться, дабы кролики и крольчихи, собираемые в разных частях страны для Лоэчеса, не присылались бы туда. Иез., 3 марта 1643 г., т. V, с. 34.
Графиня де Оливарес стала такой строптивой из-за обид, которые ей наносит двор и народ, и как-то на днях, когда королева и графиня шли по дворцовым коридорам, подошли к ним некие дамы, укрытые вуалями, и сказали: ’’Это дурно! Как можете Вы быть такой несмелой, что не решаетесь выгнать из дворца эту?” Им ответили: ”Мы делаем достаточно и не можем сделать больше; она уйдет”. Графиня бросилась в ноги королю,
83
жалуясь на то, как с ней обращаются, король же ответил ей: ’’Графиня, я уже говорил Вам, что Вы мешаете, и я не должен наказывать народ, который считает, что он прав”, — и он оставил ее. Иез., 8 апреля 1643 г., т. V, с. 68.
В местечке Йепес задержали одно португальское семейство за то, что по ночам они собирались в винном погребе, чтобы бичевать распятие. У них в доме жил поденщик; спустился он как-то тайком в погреб раздобыть немного вина, и так случилось, что как раз в это время занимались они своим постыдным делом. Поденщик увидел и дал знать обо всем светским властям. Они засомневались в правоте его слов, и тогда он предложил отвести их в подвал, дабы они убедились сами, потому как он подозревал, что хозяева его часто этим занимались. Алькальд отправился туда, чтобы лично в этом убедиться, и следующей ночью поденщик провел его в погреб. И в тот же час, что и накануне, вошли подозреваемые, вынули Иисуса Христа, исхлестали его плетьми и вышли. Алькальд, который видел все собственными глазами, и работник вышли следом, потрясенные увиденным; они сообщили об этом в Толедо, что расположен неподалеку, и португальцев схватили, так что никто из них не смог скрыться. Иез., 9 июня 1643 г., т. V, с. 112.
Один из слуг Его Величества был женат на порядочной женщине. В их доме жил еще карлик Его Величества, которому жена этого человека, поскольку тот имел отношение ко двору и к тому же был гостем, дарила всякие подарки. Человек этот был нрава меланхолического и в лентах, и заподозрил он, что подарки, которые делала его жена карлику, были сделаны не из добрых побуждений. Они много бранились из-за этого, и слухи об этом дошли до госпожи нашей королевы. Она тотчас приказала, чтобы карлика убрали из этого дома. Прошло несколько дней, и стал он говорить, что младшая девочка похожа на карлика; и, размышляя над этим три дня, решил мирно уединиться со своей женой. В три часа утра он нанес ей несколько ударов кинжалом, после первого удара он испугался и стал стенать, потом же, требуя от нее признаний, перерезал ей горло. Он забрал троих своих детей и отвел их в дом соседки, сказав ей, что они с женой должны выполнить свой обет и поехать в Аточу, и просил ее позаботиться о детях, пока они не возвратятся к вечеру. Затем он дал расчет служанкам и, заперев дом, пошел к одному чиновнику из министерства финансов, которому рассказал о том, что он совершил в своем доме, попросив его сообщить об этом деле знакомому алькальду, чтобы тот провел предварительное расследование и распорядился его имуществом, ибо он был очень богатым человеком. Чиновник все так и сделал: известил алькальда, отдал ему ключи от дома, где нашли большое количество реалов, не считая серебра, золота, драгоценностей, медных монет и биллонов. Серебром и в реалах будет там больше 18 000 дукатов, все же имущество, на которое
84
наложили арест, оценивается в 50 000 дукатов. Тот же человек уехал в Тринидад и оттуда послал за карликом. Карлик, ничего не зная о случившемся, поехал, но по дороге встретил одного своего знакомого. Когда тот спросил, куда он направляется, карлик ответил, что его пригласил хозяин дома, в котором он жил. Тот, другой, спросил его, знает ли он о том, что произошло, и карлик ответил, что нет. ’’Так знайте, он убил свою жену этой ночью из ревности и, должно быть, хочет сделать то же самое с Вами”. Бедняга вернулся в сильном возбуждении и рассказал принцу о происшествии и о том, что ему очень повезло, что его предупредили. Женщина эта пользовалась очень хорошей репутацией в своем квартале, и мнение о ней у всех, кто ее знал, было самое хорошее. Все ее сильно жалели и обвиняли во всем ее мрачного мужа, и говорили, что убийство это есть следствие состояния его духа, а не того, что жена действительно ему изменила. При всем том у него есть деньги, и с их помощью он выйдет сухим из воды, как это часто бывает. Иез., 24 ноября 1643 г., т. V, с. 375—376.
Отец мой, вот те новости, которые я хотел бы сообщить Вашему преподобию: на днях в Толедо маркиз, смотритель королевских дворцов, встретил на улице неких толедских дам, покрытых шалями и вуалями, и стоял, беседуя с ними и галантно ухаживая. Во время этой светской беседы дамы просили его пригласить их каким-нибудь вечером отужинать на загородной вилле. Он согласился, и они назначили день. Дамы сказали маркизу, что они важные персоны и чтобы он прислал за ними экипаж в назначенное место; карета должна всю дорогу ехать зашторенной, дабы никто не мог заметить, кто находится внутри, потому как, если их узнают, большой урон их чести нанесен будет. Маркиз согласился на все, и в условленный день на одной из загородных вилл их ждал великолепный ужин и экипаж был подан вовремя в указанное место. Сеньоры же обратились к отцу-настоятелю Толедо с просьбой послать какого-нибудь почтенного священнослужителя на такую-то виллу, где находится один тяжелобольной кабальеро, потерявший рассудок и нуждающийся в участии. Очень важно, чтобы его исповедовал достойный человек, который смог бы добиться его расположения, чтобы исповедь прошла наилучшим образом. И дабы преподобные отцы не утомились в дороге, к их услугам будет ожидающий их экипаж.
Отец-настоятель поручил это дело одному пожилому священнику, сказав ему, в чем нуждается кабальеро, какой болезнью он страдает и где найти экипаж. Поехали они туда вдвоем: преподобный отец с одним монахом. Они отправились на эту виллу в карете, которую нашли точно в указанном месте, около кучера гарцевал на коне маркиз. Управляющий виллой открыл ворота по зову кучера, ехавшие внутри вышли из экипажа и спросили о несчастном кабальеро, который послал за ними. Управляющий удивился услышанному, во время же этих пререканий подъехал маркиз и, ожидая увидеть в экипаже четырех дам, обнаружил двух отцов из ордена.
85
Он обратился к ним с вопросом: ’’Зачем вы приехали сюда, преподобные отцы?” — ’’Сеньоры, — отвечал один из них, — нас прислал отец-настоя-тель, дабы исповедовали мы одного кабальеро, который, как говорят, тяжело болен и потерял рассудок, правда, временами он к нему возвращается”. Дворцовый смотритель ответил им: ’’Преподобные отцы, передайте отцу-настоятелю, что я весьма тронут его святым рвением, и будьте так любезны передать сеньорам, которые просили послать исповедника, что больной уже вполне здоров и пребывает в здравом уме и, если ему понадобится исповедоваться, он пойдет в монастырь и там покается. Ваши преподобия могут вернуться, и простите за беспокойство”. Преподобные отцы вернулись в том же экипаже. Сам он остался с носом благодаря этой шутке, слух о которой затем разошелся по всему Толедо и стал известен Его Величеству, немало развеселив его.
На прошлой неделе случилось довольно странное происшествие. Один монах-кармелит был экономом в своем монастыре, но настоятель не очень к нему благоволил, и тот все время опасался, что при первом же удобном случае его могут перевести с этого места. Однажды поручили ему одно особое дело кроме тех, что входили в его каждодневные обязанности. Когда он шел по своим делам по улице, некая с виду порядочная женщина, которая таковой вовсе не являлась, дважды окликнула его из окна. Монах задрал голову и спросил ее весьма беззаботно: ’’Что желаете, ваша милость?” — ’’Молю Вас, ваше преподобие, — сказала дама, — не сочтите за труд подняться ко мне по очень важному делу”. Он ответил, что спешно идет по поручению, данному ему настоятелем монастыря, и потому не может мешкать. Она же настаивала, говоря, что это дело, требующее особого милосердия, и не отнимет у него много времени. Добрый монах, ничего о ней не зная, неосмотрительно поднялся наверх, и, когда он уже был наверху, служанка заперла входную дверь. Хозяйка велела ей принести чернила и перья. Ей принесли требуемое, и дама сказала монаху, что она приезжая и находится здесь из-за судебной тяжбы и что ей необходимо составить прошение судебному исполнителю, она же не знает, каким слогом это пишется, и ничего в том не смыслит. Дама рассказала монаху о своих притязаниях, и он принялся составлять прошение. Не успел он написать и четырех строк, как в дверь постучали. Это были альгуасил с писцом и два типа, которые обычно их сопровождают (поговаривают, что частенько некоторые из них бывают в сговоре с чиновниками, мошенничая таким образом). Они колотили изо всех сил в дверь, требуя, чтобы им открыли во имя правосудия. Монаха все это удивило, и, не доверяя той, что была рядом с ним, а также опасаясь судебных исполнителей, которые стучали в дверь, и думая, как бы не приключилась с ним какой-нибудь неприятности, хотя и не чувствовал за собой никакой вины, бросился он, чтобы его не застали здесь, в другую комнату, где стояла кровать и висел ковер, закрывающий стенной шкаф. Вошедшие повели следующий разговор: ’’Сеньора, как же это возможно, что, всякий раз заходя сюда, мы встречаем здесь посторон
86
них лиц, и не достаточно ли было сделано предупреждений и оказано снисхождений? Так вот, клянусь честью, сейчас Вы неминуемо окажетесь в тюрьме”. Дама притворно жаловалась, выражая всем своим видом полное отчаяние, уверяя их, что никто не входил в ее дом с тех пор, как они последний раз здесь были. Она рыдала и испускала вздохи, кляня свою злосчастную судьбу. Монах же тем временем оглядел дом, в котором оказался не по своей вине, а попав в западню, устроенную коварными мошенниками. Он был совсем без денег и, как всякий человек, не знающий, что с ним может случиться, решил что-нибудь предпринять: он открыл шкаф и, пошарив в темноте рукой, нащупал серебряный кувшин, который и опустил благополучно себе в рукав. Альгуасил обратился к писцу с просьбой: ’’Ваша милость, осмотрите эту часть дома, а я пойду посмотрю другую”.
В конце концов альгуасил, зная уже все закоулки в доме, отыскал несчастного монаха, выволок его оттуда, где он прятался, и принялся позорить его, спрашивая, как мог священнослужитель оказаться в таком сомнительном месте, и говоря, что это дает им повод предположить всякое. Монах честно рассказал о том, что привело его в этот дом, и дама подтвердила все, что он сказал. ”Ну ладно, святой отец, — сказали ему писец и альгуасил, — знаем мы все эти россказни. Вы, ваше преподобие, отправитесь с нами, а вы, такой-то и такой-то, отведите эту плутовку в тюрьму”.
Монах стал их умолять отпустить его, но ничего не помогало. Он полагался на свой кувшин и боялся, что настоятель может обо всем узнать. Наконец он решился идти с ними и по дороге сказал им: ’’Сеньоры, настоятель моего монастыря недолюбливает меня, и, хотя я и ни в чем не виноват, боюсь, что меня могут сурово наказать. У меня нет с собой денег, но на всякий случай есть серебряная вещица. Ваша милость может располагать ею, ибо мне она не дороже моей репутации”. Сначала они вынудили его умолять их, в конце концов все же взяли кувшин и сказали, что хотели бы еще раз с ним встретиться, и пусть ждет их к обеду в своей келье в два часа на следующий день. Монах простился с ними, и они вернулись в дом содержанки, где она и те двое покатывались от смеха над сыгранной ими шуткой. Вошедшие сказали хозяйке: ’’Хорошенькое дельце мы провернули! Перепал нам серебряный кувшин, который стоит не меньше 200 реалов”. Все снова начали смеяться и радоваться. ”А ну-ка посмотрим на него!” — сказали они и достали кувшин. Женщина узнала его и проговорила: ”Я буду не я, если это не мой кувшин или не похожий на него как две капли воды”. И приказала служанке: ’’Взгляни, стоит ли кувшин в шкафу?” Служанка поискала и не нашла, так что все были очень удивлены и принялись проклинать, монаха на чем свет стоит. А альгуасил и писец заявили: ”Не страшно, завтра мы должны идти обедать в монастырь, и мы добьемся своего, обвинив его в краже кувшина”. Писец же, который был большим мошенником, сказал: ”Я буду не я, если этот плут монах не заплатит мне вдвойне”.
Придя к себе, монах рассказал четырем своим товарищам о том, что с ним приключилось, и они успокоили его, сказав, что примут этих двоих так,
87
как они этого заслуживают. На следующий день в указанный час писец и альгуасил пришли на обед и попросили позвать отца-эконома. Его вызвали, и он пришел со своими друзьями, у которых был весьма беззаботный вид, а под монашеским одеянием были искусно спрятаны четыре дубинки. Пришедшие начали беседовать чрезвычайно вежливо и вместе с тем немного нерешительно, объясняя, что не могут говорить яснее, пока не окажутся там, где не будет посторонних, намереваясь обвинить его в краже кувшина. Монах сделал вид, что отведет их в зал заседаний капитула, который находится в крытой галерее, в уединенном месте, и братья окажут ему милость и дадут поговорить им без свидетелей. Когда они втроем, монах, писец и альгуасил, проходили по галерее через привратницкую, писец и альгуасил заметили, что четверо монахов следуют за ними, и стали подозревать неладное. Когда они подошли к залу заседаний капитула, а шли они почти вплотную друг к другу, монах предложил гостям пройти первыми. Они отказались и, повернувшись к тем четверым, что шли следом, сказали: ’’Пусть войдут сначала наши отцы и т. д.”. Те же в свою очередь предложили это сделать их милостям. Так они препирались друг с другом, когда один из монахов, воспользовавшись удобным моментом, сказал: ’’Входите, ваши преподобия, а нам надо сказать пару слов писцу и альгуасилу”. Подозревая, что все это может плохо закончиться, они обратились к отцу-эконому: ’’Святой отец, мы спешим, а это дело можно оставить до другого раза”. Тогда монах сказал им, что они величайшие негодяи и что, находись они в таком месте, где он не боялся бы подать дурной пример, он бы воздал им по заслугам за их мошенничество и предательство. И чтобы не смущать монахов обители и мирян, проходящих по галерее, он не позволил, чтобы их избили палками, как они того заслуживали. С тем они и ушли, не проронив ни слова, и даже потом, встречаясь на улице, они не чувствовали себя достаточно уверенно.
Потом эконом рассказал настоятелю монастыря обо всем, что случилось, и, хотя настоятель его не особенно жаловал, он не велел подвергать его и его друзей обычному наказанию. Об этом поведал одному святому отцу тот самый эконом, с которым приключилась вся эта история. Иез., 11 апреля 1646 г., т. V, с. 268—269, 271—274.
На прошлой неделе шел я отслужить мессу Пресвятой Богородице и, когда подошел к алтарю, услышал, как одна женщина в церкви громко произнесла: ’’Вот этот церковнослужитель. Разве не узнаете вы его? Эй, святой отец, будь ты проклят, святой отец, за то, что постоянно преследуешь меня вместе со своими висельниками”. Я не мог понять, кто она такая, но, когда сошел на настил перед алтарем, чтобы прочитать молитву, увидел, что то была одна одержимая, которая жила в этом городе. По ходу обедни всякий раз, когда упоминалось имя Пресвятой Девы Марии, одержимая начинала кукарекать громким, как у хриплого петуха, голосом:
88
”Ку-ка-ре-ку”. Во время дароприношения сказала: ”О! никогда не освящай”. В этих и других подобных случаях отец Руэда говорил ей на латинском, чтобы она замолчала, дабы дьявол, вселившийся в нее, услышал, а она отвечала на хорошем испанском: ”Не хочу молчать”.
Когда закончилась месса, я зачитал ей отрывок из евангелия Loquente Jesu, и как только я произнес первые слова, одержимая воскликнула: ”О! Это ведь о Богоматери, ку-ка-ре-ку”. И когда, закончив его, начал я читать молитву св. Игнасио и св. Хавьеру, там, вначале, где говорится: ’’Deus qui glorificatus es”*, одержимая вздрогнула и сказала: ”Ой! Не лги мне об этом хромом злодее, который терзает меня”. Когда же я назвал св. Хавьера, она промолвила: ’’Другой такой же. Ну, конечно же, Хавьер”. Я был рад отслужить мессу в том храме, и мне доставило удовольствие увидеть, как дьявол изъявлял беспокойство всякий раз, когда речь шла о деяниях Господа Бога. Иез., 29 апреля 1646 г., т. VI, с. 287.
Граф де Монтеррей остановился в Карабанчеле на время визита. И живет он в таком согласии с крестьянами, что играет с ними в кегли, как у них это принято, выпивает в их компании несколько квартилий вина, а когда выигрывает, то устраивает большой праздник в честь своего выигрыша. Он привез с собой множество кастаньет, чтобы крестьяне танцевали перед его домом, а после танцев угощает их обедом. Иез., 8 мая 1646 г., т. VI, с. 293.
Три или четыре дня тому назад здесь схватили одного человека, который обычно по утрам, прежде чем рассветет, надевал лохмотья и притворялся больным паралитиком. С громкими жалобами и стенаниями он просил милостыню примерно до полудня, затем возвращался в свой дом, одевался в великолепную одежду из шелка и причесывался. И вот такой, статный и нарядно одетый, он выходил прогуляться. Но нашлись любопытные соседи, которые, видя, что он не общается ни с кем в доме, где живет, решили разузнать побольше о его жизни. Они выследили, как дважды, утром и вечером, он выходит из дома, и разузнали о плутовстве, за счет которого он жил. Они известили об этом алькальда, который пришел арестовать его, и, по счастью, случилось это в тот момент, когда человек тот был одет во все чистое. Когда же пришли они к нему в дом, то не нашли там ничего, кроме простой кровати, одного сундука с белым бельем и другого с одеждой из шелка. Лохмотья валялись в углу комнаты. Там же стояло бюро, пара стульев и лежала книжечка, в которую он записывал, сколько ему подавали каждый день и как он тратил эти деньги: несколько раз он помогал своим родителям и братьям. Он открыто признался во всем и рассказал, что стал вести такой образ жизни, чтобы не оказаться в затруднительном положении и не ударить в грязь лицом перед теми, кто
*Бог, покрывший себя славой (лат.).
89
прогуливается шикарно одетым, не имея при этом ренты и неизвестно откуда доставая деньги. Так как он был сильным и здоровым юношей, его приговорили к каторжным работам. Иез., 22 мая 1646 г., т. VI, с. 305—306.
Как-то на днях в монастырь Пресвятой Троицы вошли носильщики с портшезом, у которого были плотно задернуты занавески, внесли его в церковь и, вынув ручки, ушли. Портшез простоял там все утро, пока не закончилась служба и не пришло время закрывать церковь. Пришел ризничий с ключами, чтобы запереть дверь, и сказал: ’’Сеньоры, мессы закончились, и пора закрывать церковь. Пусть ваши милости прикажут, чтобы вас отнесли домой”. Ему ничего не ответили. Он повторил свою просьбу, но ответа не последовало. Тогда монах отодвинул занавеску и увидел женщину с прекрасными волосами и, похоже, мертвую, с листком бумаги в руке. Ризничий сообщил об этом настоятелю, тот же, увидев, в каком она положении, велел известить обо всем органы правосудия, даже не посмотрев на листок, который женщина держала в руке. Пришел алькальд, взял бумагу, которая оказалась запечатанным письмом, и сообщала лишь следующее: ’’Святые отцы, похороните эту женщину, а чтобы вам не пришлось тратиться, возьмите в ее кармане мешочек со 100 эскудо”. Они проверили карманы и действительно обнаружили кошель со 100 эскудо. Были приложены всевозможные усилия, чтобы разузнать, кто принес ее, но они не принесли никаких результатов. Приводили людей из разных частей города, чтобы выяснить, не узнает ли кто покойную, но никто ее не признал. Алькальд отдал кошель настоятелю и велел похоронить ее, после чего тело женщины предали земле, и до сегодняшнего дня не обнаружено ничего такого, что свидетельствовало бы о том, кем была умершая, кто ее убил и кто были те люди, что ее принесли.
В прошлую среду маркиза де Леганес отправилась в свой загородный дом пострелять, как обычно, кроликов. С нею вместе поехали две ее дочери и племянница, графиня де Мора. Случилось ехать по той же дороге адмиралу, был он в своем экипаже с задвинутыми занавесками, на нем было надето платье, какие носят в деревне, и с ним две дамы. Карета адмирала ехала следом за экипажем графини, потому как дамы, которые были с ним, хотели посмотреть, как графиня будет стрелять. Маркиза послала сказать кучеру адмирала, чтобы он ехал по другой дороге, но хозяин велел ему двигаться по той же. Тогда слуга маркизы снова отправился с посланием к адмиральской карете и сказал, что в экипаже находится маркиза де Леганес с двумя дочерьми и племянницей и что она просит их ехать другой дорогой. Они же не приняли во внимание просьбу маркизы и продолжали ехать следом. Тогда маркиза вышла из экипажа и велела подать ей ружье, которое зарядила всего лишь порохом и пыжом, и направила на кучера, дабы испугать его и вынудить следовать другой дорогой. Маркиза выстрелила, но кучер не обратил на это никакого внимания. Видя такое отношение, маркиза вновь зарядила ружье, на этот раз дробью, и, прице-
90
лившись, выстрелила, свалив кучера на землю. Дамы, которые ехали с адмиралом, упали без чувств. Адмирал, одетый неподобающим образом, не мог назвать себя. Он приказал другому кучеру подняться на козлы, с которых упал первый, и следовать в Мадрид. Маркиза велела перевязать раненого и отнести в дом сторожа. Рассказывают, что она дала кучеру два восьмерных дублона, которые тот не хотел брать...
Недавно Валенсия находилась в величайшей опасности. А дело в том, что у графа де Синаркас некогда была любовная связь с некой комедианткой Марией де Эредия, которая находилась здесь в женской тюрьме. Так вот, один сеньор и некий дон Феррер пытались убедить вице-короля отправить ее в Кастилию. Ситуация была безвыходной; видя, что происходит, вице-король велел схватить ее и поместить в тюрьму. Дон Феррер снова обратился с просьбой отправить ее в Кастилию, предложив свои услуги. Дон Феррер рассказал обо всем Синаркасу, и Синаркас настойчиво просил его, чтобы он убедил вице-короля поручить ему отвести ее, заверив его, что клянется выполнить поручение. Дон Феррер, будучи человеком честным и благородным, передал вице-королю его просьбу. Тот ему ответил: ’’Зная благоразумие вашей милости, а также видя истинное усердие, которое проявляете вы в этом деле, я поручаю ее вам, но есть у меня опасение, что, если ваша милость передаст ее графу, он не выполнит обещанного”. Дон Феррер же обещал, что сделает это, заручившись честным словом графа, и что тот должен будет снова его подтвердить, и тогда выйдет так, что ему придется сдержать данное обещание. После этого вице-король распорядился, чтобы комедиантку передали дону Ферреру, тот же отвез ее Синаркасу, чтобы тот в свою очередь переправил ее в Кастилию, взяв с него первым делом слово, что он в точности выполнит обещанное. Граф поклялся исполнить все в точности, но как только она оказалась в его власти, бежал с ней в горы в компании нескольких бандитов. Дон Феррер, узнав об этом, был крайне огорчен тем, что тот не сдержал данного слова, и тотчас бросился на поиски графа, дабы вызвать его на дуэль. Сын одного графа, получив это известие, отправился вместе с остальными своими родственниками, поскольку он тоже был из рода Синаркасов, разыскивать Феррера. Когда же слух об этом походе дошел до родных Феррера, те в свою очередь бросились на помощь своему родственнику, в результате чего город, в котором все находились в родственных отношениях, столкнулся с опасностью оказаться расколотым на разные группировки, что было бы крайне опасным, так как породило бы вражду между людьми знатными, и к тому же состоящими между собой в родстве. В конце концов вице-король, заботясь о том, чтобы погасить этот пожар, который все разгорался, узнав, что граф де Синаркас находится в Аликанте, арестовал его. Мариа де Эредиа сумела проникнуть на английский корабль и отплыла в Англию. Она нашла себе там надежное укрытие. Что же касается остальных, тех, что ушли в горы, на их поиски отправились алькальды и судебные чиновники, чтобы задержать их, после чего, как ожидается, все закончится.
91
У графа де Синаркас мало надежд оправдаться в суде, особенно после того, как один прелат из ордена св. Франциска, который порицал его с амвона за постыдный поступок, приведший к подобному скандалу, и укорял его за то, что он не держит данное другу слово, снова принялся порицать его самого и его дом, и прелата убили выстрелом из аркебузы. Говорят, что убийство совершено было по приказу этого кабальеро, которому от роду всего-то 20 лет, зато привычек дурных предостаточно. Иез., 3 сентября 1647 г., т. VII, с. 117—118, 120—121.
Новости из Мадрида (fol. 9 v.). ”В воскресенье, 13 (как говорят), один хорошо одетый человек, войдя в церковь св. Фелипе в полдень, чтобы прослушать мессу, и, опустившись на колени, сказал: ’’Хвала Пресвятому Таинству и Пресвятой Деве Марии, которая зачала, запятнанная первородным грехом!” Услышав это, один из присутствующих спросил его, зачем он говорит подобные глупости. Тот ответил, что это не глупости, и, вновь повторив то же самое, добавил, что будет настаивать на этом. Тогда в церкви поднялся невообразимый шум, многие мужчины обнажили шпаги, женщины же стали бить еретика туфлями; его тотчас схватили и, уже раненного, увели в Инквизицию”. Письма иезуитов, 1—450.
Pax Christi &с. Отцам иезуитам в Кастилии сообщили из Леона о некоем рехидоре того города, некоем доне Рамиресе, который, прогуливаясь по улице, вошел в один дом. Была обыкновенная ночь среди прочих таких же ночей, когда рехидор, как обычно прогуливался и намеревался войти в дом, как делал это и раньше. Была темная ночь и, когда он шагнул на порог, то наступил на какого-то человека, который сидел, явно ожидая приключений. Человек, почувствовав это, сказал ему, что он не смотрит, куда наступает. Рехидор стал извиняться, ссылаясь на темноту. Они стали пререкаться, и слово за слово дело дошло до того, что они схватились за шпаги. Рехидор нанес своему противнику смертельную рану, от которой тот и скончался по прошествии трех дней, получив отпущение грехов и причастившись. Судебные власти расследовали обстоятельства этой смерти, арестовали по приметам и подвергли наказанию нескольких человек, но так и не смогли отыскать убийцу, который, увидев, что из-за него страдают ни в чем не повинные люди, пошел к епископу и раскрыл ему свою тайну, сказав ему, что это он убил того человека, по свидетельству которого были задержаны и невинно пострадали другие. Рехидор попросил епископа, чтобы он поговорил с обиженной стороной и договорился о том, что он заплатит им за причиненный ущерб. Епископ выполнил его просьбу, тот тайно выплатил некую сумму и заказал заупокойную мессу по умершему. Однако опасность, которой он подвергался, приходя в этот дом, продолжала подстерегать его, и вот однажды ночью он увидел у входа четырех вооруженных людей, которые попытались помешать ему войти в дом. Рехидор и его противники выхватили шпаги и начали драться. Один из нападавших,
92
чтобы побыстрее закончить ссору, выхватил пистолет, но в тот момент, когда он собирался выстрелить, его остановил какой-то человек, внезапно здесь оказавшийся. Он поднял фонарь к его лицу и сказал: ”Эй, парень, постой, не спеши”. Тот же, опасаясь, чтобы его не узнали по голосу, с тремя своими товарищами бросился бежать со всех ног. Кабальеро, который вдруг, в считанные секунды, освободился от грозящей ему опасности, стал искать глазами своего благодетеля, чтобы поблагодарить его за спасение, но никого не обнаружил. Это его смутило, но, пройдя чуть дальше, он увидел свет и, желая догнать того, кто нес фонарь, ускорил шаг. Рехидор нагнал этого человека и узнал в нем того, кто смог удержать нападавшего от выстрела. Он остановил его и попросил оказать ему милость, позволив ему познакомиться с ним, потому что он ни много ни мало обязан ему жизнью; и так велика была опасность, угрожавшая ему, что он хотел бы узнать его поближе, дабы выразить свою благодарность. Человек предложил рехидору взять фонарь и взглянуть на его лицо. Кабальеро так и сделал и увидел перед собой того самого мужчину, который скончался несколько дней тому назад. Этот человек объяснил ему, что благодаря мессам, им заказанным, муки его были облегчены и что господь наш изгнал его за грехи и повелел ему довольствоваться чистилищем. Там он провел три дня, и господь бог смягчил его душу; благодаря же исповеди и отпущению грехов господь послал ему милостью своей хорошую смерть. И еще сказал, что пришел от имени господа нашего предупредить его, дабы он готовился и задумался о том, какие муки ему уготованы. И с этими словами он исчез.
Потрясенный и удивленный случившимся, рехидор направился к своему дому; по дороге еще дважды являлся ему тот человек, вновь повторяя все сказанное, и тогда он, не заходя в дом, прямо с того самого места, где они говорили последний раз, отправился в обитель монахов-францисканцев и постучал в двери, но поскольку они не решались открыть, ему пришлось назвать себя, и после этого его впустили. Он тотчас просил позвать отца-настоятеля и в беседе с ним рассказал обо всем случившемся и просил позволить ему принять постриг, что и было сделано по прошествии нескольких дней. Видя его твердость, решили они, что это промысел божий. Он очень доволен, город же получил в назидание хороший пример. Об этом сообщили кастильские отцы-иезуиты управляющему делами Кастилии и ее провинций. Иез., т. I, с. 375—378.
Pax Christi &с. Прошлую среду состоялись в Буэн Ретиро бои быков, присутствовали Их Величества. Они сидели на главном балконе, рядом с королевой принцесса де Кариньано, далее принц и с ним рядом герцогиня де Шеврез. Поговаривают, что принцесса де Кариньано, узнав порядок, согласно которому предоставляются места, огорчилась и пожаловалась графу-герцогу, и Его Светлость в достаточной мере удовлетворил ее жалобу: принцесса не желала, чтобы герцогине де Шеврез оказывались такие почести. Утром в загоне было два быка. Вечером — двадцать шесть из тех
93
сорока, что находились в загонах, на большее число не хватило ни времени, ни места. Было сделано два великолепных удара копьями. На арену выехали четырнадцать кабальеро с копьями: дон Хуан Пачеко, наследник маркиза де Серральбо, в траурных одеждах, на черном жеребце, с ним 24 негра в качестве стремянных тоже в трауре. Причина тому, говорят, немилость дочери маркиза де Кадраита, на которой он собирался жениться, но эта сеньора перестала благоволить ему, потому что ее отец не хотел, чтобы она выходила за него замуж. Выехали также маркиз де Салинас, дон Хасинто де Луна, дон Гаспар Бонифас, дон Франсиско Лусон, Монтес де Ока и другие. С ними было более ста слуг в самых разнообразных ливреях, очень ярких. Все выступили с блеском, особенно дон Хуан Пачеко, маркиз де Салинас и дон Бонифас. Не было тяжких увечий, только двух стремянных быки проволокли по земле, а также еще до того, как народ расселся на скамьях, бык, которого отделили, чтобы начинать праздник, сломал ворота. Случайно в тот момент на арене оказалась одна женщина в таких широких юбках, что бык, приняв ее еще за одно препятствие, набросился на нее и боднул так, что кринолин и все остальное взлетело в воздух. К счастью, бык запутался в плаще, и успели выпустить собак, которые, вцепившись, задержали его, а женщина смогла уйти. Она была изрядно помята и чувствовала себя крайне неловко из-за того, что вынуждена была убегать без юбки и ей нечем было прикрыться. Иез., т. II, с. 328—330.
Дарохранительницу везли в этом году на колесах, хотя обычно их здесь не используют. Короче говоря, если не считать присутствия короля и советов, это празднество не идет ни в какое сравнение с торжествами в Севилии и Гранаде. Не было ни алтаря, ни уличных увеселений; только, по обычаю, везли на драконе женщину, широкую, как корова, с огромным шиньоном. Белка, сидевшая у нее за плечами, время от времени хватала ее за шиньон и тянула за него, как за капюшон монаха, и тогда была видна лысина — отвратительное зрелище. Особенно уродливы были жесты и движения, которые бедная старуха делала руками, глазами, ртом, чувствуя себя опозоренной при таком скоплении народа. Ее появление вызвало много смеха, и история эта, как поговаривают, растрогала многих придворных дам. Иез., т. I, с. 63.
Сегодня здесь произошел довольно сложный случай. Один коррехидор шел, чтобы задержать некоего священнослужителя. Зная, где его искать, он направился туда в сопровождении всех своих чиновников и нескольких кабальеро и арестовал его. В тюрьму его вели через площадь, и клирик стал громко кричать, взывая к церкви, но никто не двинулся, чтобы помочь ему. А в это время пересекал площадь некий школяр, который сказал: ’’Здесь что-то не чисто”. И тотчас же шестеро бездельников, которые покупали фрукты, подбежали к судебным исполнителям, прорвались сквозь них и вытащили клирика. На крики о чем-то подозрительном сбежались осталь
94,
ные, они освободили священнослужителя, оставив опозоренными коррехидора и шедших с ним господ. Горожане же, которые шли с ними, услышав это: ’’Здесь что-то не чисто”, незаметно разошлись, приговаривая: ’’Сам черт вселился в этих студентов”. Иез., т. I, с. 107.
СООБЩЕНИЯ ПЕЛЬИСЕРА
(ДНЕВНИК ЭРУДИТА)
Ее Светлость герцогиня де Мантуа намеревается посетить Аранхуэс и Оканью. В Мериде с нею случилось досадное происшествие. Дон Грегорио де Тапья, кавалер ордена Сантьяго, сын дона Грегорио де Тапья, секретаря Совета Орденов, вздумал поухаживать за одной из ее фрейлин, графиней де ла Бастада, а Ее Светлость решительно этому воспрепятствовала. Тогда дон Грегорио организовал шествие — с музыкой и свечами, — как принято при посещении больных, только вместо Тела Господня водрузил абсолютно нагого мулата. Увидев приближающуюся к дворцу процессию и решив, что и впрямь несут Тело Господне, Ее Светлость и другие дамы преклонили колени и замерли в смиренном ожидании, покуда вся эта живописная группа не оказалась под их окнами. Герцогиня была чрезвычайно разгневана, приказала схватить дона Грегорио и его сообщников и сообщила о случившемся Его Величеству (4 марта 1642 г., т. XXXII, с. 219).
На днях мы стали свидетелями чуда. В одном частном доме стоял образ Богоматери, покровительницы римлян, выполненный маслом на доске. Галисийская девушка, прислуживающая в этом доме, начала петь и танцевать, воздавая ей хвалу, и вдруг заметила, что Богоматерь шевелит пальцами. На испуганные крики служанки сбежались люди, среди которых оказался сам сеньор нунций. Образ перенесли в часовню босоногих кармелиток (Мадрид, 8 сентября 1643 г., т. XXXIII, с. 69).
Вчера дон Пабло де Эспиноса во время представления комедии, не поделив скамью с неким кабальеро по имени Диего Абарка, убил последнего. Сам он при этом был так тяжело ранен, что вот-вот отдаст Богу душу (Мадрид, 29 декабря 1643 г., т. XXXIII, с. 122).
Из Сарагосы нет других вестей, кроме следующей. Отец Августин де Кастро, личный проповедник короля (храни его Господь!), на одной из служб во время Великого Поста наставлял его явить милость к одному господину из числа приближенных к королевской особе, сумевшему сыскать всеобщее уважение. Его Величество, прежде чем приступить к еде, послал сказать ему, что впредь не желает слышать ничего подобного (Мадрид, 8 марта 1644 г., т. XXXIII, с. 149).
95
Не суждено было облегчить последние страдания умирающего монаха Ордена Последнего Причастия. (Орден этот был основан в Испании совсем недавно, и его служители, чье основное предназначение состоит в том, чтобы помогать людям достойно перейти в мир иной, носят черную рясу с бурыми крестами на правом боку.) Так вот, этот монах выполнял означенные обязанности в доме некоего португальского кабальеро по имени Ма-скареньяс. Ночью он вышел на улицу по нужде, и проходящий мимо человек проткнул его шпагой, так что святой отец тут же на месте скончался. А больной поправился. Воистину неисповедимы пути господни! (Мадрид, 5 апреля 1644 г., т. XXXIII, с. 159—160.)
У нас только и разговоров, что о некоем разбойнике, который под именем Педро Андреу (но это не тот, что промышлял между Валенсией и Мурсией) навел страх на всю Ла Манчу и окрестности Оканьи. Случилось с ним встретиться алькальду дону Энрике де Салинас, который вместе со своим сыном, доном Диего, направлялся по делам духовным в Уклее. Одни говорят, что грабителя сопровождают 30 человек конных, причем у каждого по пистолету на перевязи, а к седлу крепятся еще по четыре короткоствольных пистолета и по карабину. Другие утверждают, что разбойников 60, третьи доходят до 80. Рассказывают о нем странные вещи: будто он никого не убивает, а лишь забирает часть денег, оставляя ровно столько, сколько необходимо, чтобы добраться до того места, которое сам путник укажет. Говорят также, что он посылает своих людей по деревням и к богатым господам просить денег под честное слово, кои потом весьма аккуратно возвращает. В общем, каждый домысливает, что пожелает. Однако Совет, получив последние новости, принял решение отправить на его поиски алькальда дона Хуана де Ласаррага. Последний отбыл в сопровождении королевских альгуасилов, имея на руках приказ, согласно которому может набирать на местах необходимое число людей. Известно, что для подобных целей католическими королями была учреждена Святая Германдада, но поскольку в последнее время ее члены лишились как денежных вспомоществований, так и всех былых привилегий, то деятельность ее почти прекратилась. Посему в Толедо, Талавере и Сьюдад-Реале никто даже с места не сдвинулся. Вот и все новости (Мадрид, 2 апреля 1644 г., т. XXXIII, с. 163).
СООБЩЕНИЯ ДОНА ХЕРОНИМА ДЕ БАРРЬОНУЭВО (1654 — 1658)
Несчастный дон Хосеф Сольер скончался на ступенях эшафота. Я присутствовал на казни и видел, как он, не дойдя до виселицы и не успев даже произнести ’’Верую”, умер от потрясения прямо на лестнице. Вот какой степени достиг его страх смерти. Так показалось не мне одному, но всем, кто там был. Если с ним и случился обморок, то он сразил беднягу наповал.
96
Покойный был красивый юноша со светлой кожей и копной белокурых волос, которыми мог сравниться с самим Авессаломом, хорошо сложен и так молод, что на щеках у него еще не пробился первый пушок. По общему мнению, он был подобен Ганимеду, которого орел вознес на небеса и где, я надеюсь, бедняга сейчас и находится. На площадь, где обычно происходит бой быков, съехалось множество народу — свыше тысячи экипажей. День был светел, как улыбка ангелов, с которыми он да пребудет навеки (7 июля 1655 г., т. II, с. 24).
Сегодня бой быков. Меня там не будет. Не люблю я подобные празднества. Непереносимая жара, страшная усталость, чудовищные жестокости, всеобщее неистовство, доводящее некоторых до смерти, палочные удары, столь щедро и без разбору раздаваемые стражниками, — вот все, что они сулят. Сначала появятся трое всадников с деревянными копьями, затем — пешие, вооруженные пиками, а дальше все вперемешку: тридцать лучших тореадоров, горы пирогов, реки вина. На все это тратится столько денег, что может помутиться рассудок, впрочем, его-то ни у кого уже и не остается. Кругом снуют вееры и мухи. Прочитав мое послание, Ваша милость может считать, что все видела собственными глазами, и причем совершенно бесплатно (7 июля 1655 г., т. II, с. 25).
В пятницу в Алкала сожгли одного несчастного, который был влюблен в собственную ослицу. В тот же день пришло сообщение, что в горах поймали другого, который предавался блуду со свиньей. Как будто уже и женщин не осталось! (15 июля 1635 г., т. II, с. 33.)
Кстати, хочу рассказать вам один диковинный случай. На днях я отправился купить четки в лавку, что напротив дома моей матери, на Калье-Майор, и встретил одного знакомого, который живет рядом с графом де Оньяте и у которого жена на сносях. Бедную женщину так раздуло, что кажется, будто у нее не живот, а огромная бочка. Увидев ее, я выказал свое удивление, а она и муж сообщили мне — и соседи в один голос подтвердили это, — что в прошлом году у нее родилось сразу четверо, причем все мальчики. Она чувствует, что в этом году их будет никак не меньше, а то и больше, судя по головкам, которые она может прощупать в животе (13 октября 1655 г., т. II, с. 163).
В четверг, 14 числа сего месяца, дон Висенте Банюэлос находился в доме дона Хуана де Валенсия, тайного агента Его Величества, человека очень богатого и к тому же непревзойденного бахвала, который разъезжает в роскошном экипаже с двумя кучерами, запряженном четверкой белых мулов, в общем, точь-в-точь похож на Тараску. Около двух часов дон Хуан отвез своего гостя в Хетафе, где его уже ожидали королевские альгуасилы с запечатанным пакетом, которым было приказано сопровождать его до
97
Чинчильи, где и вскрыть указанное письмо. На вопрос: ’’Почему?” — отвечали, что если поторопится, то узнает быстрее. Говорят, что все это из-за оскорбления, которое дон Висенте нанес графу де ла Пуэбло (13 октября 1655 г., т. II, с. 167).
Вчера вечером, уже отужинав, королева, которая, как известно, ожидает ребенка, пожелала съесть сардин. Была пятница, и, видимо, кто-то у себя на кухне принялся их жарить, а королева учуяла запах. И вот в полночь во Дворец отовсюду понесли сардины всех возможных сортов. Желание Ее Величества было исполнено, и королева осталась весьма довольна (13 октября 1655 г., т. II, с. 170).
В Аранхуэсе, где климат, как говорят, точь-в-точь такой же, как на Канарских островах, решили разводить кенаров. Их собираются доставить морем на нескольких кораблях. Все, что в Испанию ни попадает, как в сказке, оборачивается песней, и никто не в силах этому помешать. Господь да хранит Вашу Милость (10 ноября 1655 г., т. II, с. 203).
В Мадрид приехал один фокусник, который, после того как выпьет два кувшина воды, начинает доставать изо рта всякую всячину: вино всех сортов, водку, уксус, конфеты, салаты, цветы, разноцветную воду и прочие безделицы. Зрелище так понравилось королевской чете, что ловкача не выпускают из Ретиро. Однако вскоре мы все сможем увидеть его в корралях. В трюках его нет ничего сверхъестественного, что и засвидетельствовала святая инквизиция, которая дважды его задерживала, но оба раза отпускала. Сколь многоразличны способы добывать деньги в этом мире! (17 ноября 1655 г., т. II, с. 212.)
В четверг утром был подвергнут пыткам Хуан Альварес Мальдонадо, торговец, урожденный Толедо, который объявил себя банкротом, скрыв 200 000 дукатов. Он приходится тестем доктору Нуньесу, придворному врачу Его Величества. Признания от него так и не добились. Доподлинно известно, что он был связан шерстяными веревками. Вот что значит пользоваться высочайшим покровительством (20 ноября 1655 г., т. II, с. 215).
Владельцы уличных театров вынуждены скидываться, иначе они не смогут заполучить этого мошенника. Ему предлагают по 400 реалов за каждый день Великого Поста. Он требует 500 и ни реалом меньше. Он просто купается в золоте. На днях он выпил 14 стаканов воды, после чего придворные дамы попросили у него гвоздики, и он тут же извлек их изо рта. Просто волшебство какое-то! Представление давалось в Буэн Ретиро в присутствии королевской четы. Во все это невозможно поверить, пока не увидишь собственными глазами (24 ноября 1655 г., т. II, с. 222).
98
На днях надели позорный колпак на Маргаритону, знаменитую сводню, которую схватили на Свете Чименеас, где она жила под покровительством посла Венеции. Так уж прозвал ее народ. Сейчас ей восемьдесят восемь лет. С пятнадцати до сорока она была шлюхой, а затем занялась сводничеством. Ее везли на огромном осле, похожем на верблюда, посадив в дощатую клеть, где она была как в гробу, и водрузив на голову уродливый колпак. Так она и разъезжала по улицам весь понедельник в сопровождении целой толпы любопытствующих, после чего ее препроводили в женскую тюрьму. Говорят, она колдунья и ею интересуется инквизиция. Однако сегодня утром разнесся слух, будто она умерла, что меня бы нимало не удивило, учитывая ее возраст. У нее нашли 2000 дукатов золотом, кои были пущены на богоугодные дела. По общему мнению, эти деньги у нее не последние, так как за услуги ей платили весьма щедро, и она ни в чем себе не отказывала. Также была найдена любопытная вещица, а именно объемистая тетрадь, в которой оказались портреты, имена и адреса женщин, готовых оказывать определенные услуги, дабы, листая ее, мужчины могли выбрать ту, что им по нраву. Я слышал, что там бывали люди весьма знатные, а также те ловкие особы, которые восстанавливают девственность так умело, будто латают одежду. Старуху не стали наказывать плетьми, не то бы она, без сомнения, умерла (Мадрид, 29 мая 1656 г., т. II, с. 412).
В местечке под названием Санта-Крус, что в трех лье от Асторги, нашли большой клад. Кажется, было так. Недавно в тех местах объявился один мориск, который пообещал местному священнику, что обогатит его, если тот ему поможет. Прихватив с собой еще двух мужчин, они отправились на гору, где и нашли знаки, указывавшие на тайник. Их увидел один пастух и немедленно сообщил властям, кои не замедлили прибыть. Говорят, что там обнаружили три кувшина, доверху наполненные старинными дублонами. О находке доложили королю. Все это доподлинная правда, так как я сам разговаривал с одним из очевидцев, каноником, который также выставил свою охрану. Найдено ли что-нибудь еще — никому не известно. Однако все это весьма кстати, учитывая то бедственное положение, в котором все мы находимся (29 мая 1656 г., т. II, с. 414).
В понедельник Бачо, тот самый фокусник, направляясь из Буэн Ретиро в Мадрид, внезапно умер. Судя по тому, как он поторопился на тот свет, ему не терпелось разыграть какую-нибудь комедию перед Св. Иоанном (14 июня 1656 г., т. II, с. 431).
Утром 12 числа сего месяца из Бадахоса выехали трое мужчин со своими женами и двумя слугами, но не успели проехать и пол-лье, как увидели, что с правой стороны, трубя к атаке, к ним приближается целое войско, а с левой — навстречу ему — движется еще одно, также приготовляясь к бою. И кавалерия, и пехота передвигались как бы по воздуху, однако явственно
99
слышались барабанная дробь, звуки горна, мушкетные и артиллерийские выстрелы. Затем оба войска сошлись в смертельной схватке, которая длилась около четверти часа. Бадахосцы видели, как одни воины падали и на их место вставали другие. Затем в мгновение ока видение исчезло. Все это сущая правда (28 июня 1656 г., т. II, с. 441).
В тот же день ночью, между одиннадцатью и двенадцатью часами, около кладовой герцога де Альба был убит мясник. Ему нанес смертельный удар шпагой ученик кондитера, которому покойный как-то дал пощечину. Не удовлетворившись сделанным, он снял с трупа большой разделочный тесак и отсек у него правую руку, вырезал сердце, после чего унес все это с собой, чтобы, как говорят, скормить собакам на бойне. Чудовищная жестокость! Правда, некоторые утверждают, что в году случаются особые, критические, дни (9 августа 1656 г., т. II, с. 488).
В сокровищнице, обнаруженной в Барчин-дель-Ойо, происходят невероятные вещи. Его Величество уже пустил две тысячи дукатов на оплату рабочих. Говорят, там откопали чудесный дворец со множеством залов и внутренних двориков, украшенных изящными колоннами и фонтанами, а также темный узкий ход, куда никто не решался войти. Нашелся один юноша, который взял смоляной факел и стал продвигаться вглубь. Вдалеке он увидел свет. Тут внезапный порыв ветра загасил пламя факела, однако юноша пошел дальше, пока не оказался в красивой зале. Там он увидел трех прекрасных нимф, которые поманили его к себе и сказали, что если он ищет сокровища, то они покажут, где их премного. Юноша сделал несколько шагов и обнаружил бесчисленное множество сундуков, до краев наполненных золотыми и серебряными монетами, а с другой стороны, у стены, громоздились слитки тех же металлов. Когда же он попытался прикоснуться к ним, перед ним вдруг предстал змий, круглый, как паук, огромный, как колесо телеги, угрожая ему когтистыми лапами. В этот момент юноша, сам не зная как, очутился в том же месте, где входил. Все, что я сейчас поведал, по общему мнению, не что иное, как происки дьявола.
В другом местечке, под названием Валера, что в полутора лье от Барчина, обнаружили еще одно сокровище. Дело происходило следующим образом. На одном из холмов есть пещера, которую называют Пещерой Еврейки, куда никто не осмеливается входить из-за привидений и злых духов. Однажды мимо проходил мальчик лет тринадцати-четырнадцати и из шалости решил туда заглянуть. В глубине он увидел свет и пошел на него, решив по наивности, что пещера выходит на другую сторону горы. Вскоре он оказался перед воротами чудесного замка, где встретил старца, который спросил его, куда он направляется и что ищет. Со свойственным его возрасту простодушием мальчик ответил, что им двигало чистое любопытство. Старик же сказал, что если это действительно так, то он может войти и что он покажет ему невиданные богатства и чудеса, которые невозможно себе вообразить. Мальчик увидел сокровищ много больше, чем
100
юноша увидел в Барчине-дель-Ойо, и попросил, чтобы старик дал ему что-нибудь, но последний отвечал, что сделает это в другой раз. Они походили еще немного, но старик так ничего ему и не подарил. Семья мальчика терпела нужду, и когда он вернулся домой, то рассказал обо всем своим родителям, попросив их пойти вместе с ним. Так они и сделали, позвав с собой и других людей. Однако, оказавшись внутри, они ничего не увидели, хотя и слышали, как мальчик, который постоянно спрашивал у них: ’’Разве вы не видите то-то и то-то?”, с кем-то разговаривает. Слухи дошли до инквизиции провинции Куэнки. Мальчику приказали продолжать настойчиво просить и взять все, что ему ни дадут, однако, прежде чем войти в пещеру, осенить себя крестным знамением и прочитать молитву. Когда же мальчик протянул руку к сокровищам, старик осыпал его оплеухами, да так, что у бедняжки выступила кровь, после чего успокоил ребенка, уговорив его никогда больше туда не возвращаться. Обо всем этом поведали королю два человека, при коем событии я присутствовал, и теперь передаю вам их рассказ слово в слово, опуская лишь некоторые детали, дабы не впадать в многословие. Весь последний год только и разговоров что о сокровищах. Дай Бог, чтобы они не рассеялись, как туман, что чаще всего в подобных случаях и происходит (30 августа 1656 г., т. II, s. 492—494).
Случилось так, что дон Педро де Толедо, брат сеньора де Игареса, и дон Хуан де Солис—молодые знатные рыцари, принадлежащие к самым богатым семьям Испании, храбрые, как Бернардо, оба искусно владеющие оружием, которые к тому же дружны между собой, — повздорили. Начав с взаимных оскорблений, они затем сели в экипаж и отправились в Лавапьес, что позади Санта Исабель. Они прибыли туда в четыре часа вечера и начали сражаться, бросаясь друг на друга, как разъяренные львы, и пуская в ход кинжалы и шпаги. В результате оба нанесли друг другу опасные раны, узрев которые дружески обнялись, сели в экипаж и поехали их залечивать. Это был самый громкий и славный поединок за последнее время (20 сентября 1656 г., т. II, с. 532).
Вот уже два с половиной месяца, как во дворце отказались от привычной пищи, так как у короля не осталось ни единого реала. В день Святого Франциска инфанте подали на стол каплуна, которого она велела немедленно убрать, поскольку от него несло, как от дохлой собаки. Затем последовал цыпленок на гренках, блюдо, которое Ее Высочеству особенно нравится, но которое оказалось буквально облеплено мухами, что разгневало ее до такой степени, что она чуть не сбросила кушанье на пол. Вот, Ваша милость, как обстоят дела при дворе. Все это чистая правда — ни убавить, ни прибавить (11 октября 1656 г., т. III, с. 24).
Его Величество отправляет лошадей, всего числом 36, из них 12 — императору, 12 — королю Дании и еще 12 — сеньору дону Хуану Австрийскому во Фландрию. Сопровождать их поручено мужу Каталины дель Висо,
101
простой крестьянки, снискавшей благодаря своей смекалке уважение всего двора, включая самого короля, за которым она следует всегда и всюду. Лишь поздно ночью она покидает дворец, вернее, ее отвозят в экипаже прямо к дому, который, кстати, принадлежит ей и стоит 24 000 дукатов. Король сам выдал ее замуж, и сегодня ее состояние оценивается более чем в 100 000 дукатов. По утрам она устраивает у себя торжественные приемы, после чего направляется во дворец, где завтракает за одним столом с Его Величеством. Раньше эта крестьянская девушка прислуживала во дворце, и однажды холодным, но солнечным зимним днем она вышла на улицу и стала собирать лучи в передник. Когда она сочла, что он достаточно нагрелся, то побежала в покои своей хозяйки и положила его в сундук. Так она проделывала много раз, выбегая на улицу и возвращаясь, пока ее не заметили и не спросили, для чего она все это делает. Девушка ответила, что хочет сохранить солнечное тепло, чтобы греться, когда солнце скроется. Ее слова облетели весь дворец и достигли слуха королевской четы. Их Величества призвали ее к себе, и она повторила им то же самое, добавив другие столь же наивные рассуждения. При этом она произвела столь благоприятное впечатление на Ее Величество донью Исабель, что до сих пор пользуется при дворе теми знаками внимания, о которых я уже упомянул. Господь одарил ее детьми, которые, хотя еще и очень малы, уже обеспечены местом при дворе и доходом, да и о приданом для дочерей ей тоже не приходится думать. Так что по этой части она далеко не наивна и берет все, что идет к ней в руки (20 декабря, 1656 г., т. III, с. 135—136).
Говорят, что в день Святого Дженаро, покровителя Неаполя, каждый год происходит чудо. Во время праздничного шествия, когда выносят голову святого, его кровь, собранная в склянку, вдруг становится жидкой. Однако в этом году чуда не произошло, что считается дурным предзнаменованием. Правда, некоторые полагают, что вмешался сам святой, из-за того что Неаполитанское королевство избрало себе в качестве покровителя св. Франсиско Хавьера, принадлежавшего ордену иезуитов, в ознаменование чего изображение последнего было установлено в часовне Казначейства, при коем торжественном событии присутствовал сам король. Похоже на то, что между святыми тоже бывает соперничество и не все из них согласны оказывать совместное покровительство (28 февраля 1657 г., т. III, с. 209).
В Кадисе произошел такой случай. Как-то ночью, когда все братья иезуиты предавались самобичеванию, один из них приблизился к другому, с которым давно враждовал, и нанес ему несколько ударов кинжалом. После первого же удара бедняга лишился чувств и не смог даже позвать на помощь. Так его и нашли — со спущенными подштанниками и плетью в руке (28 марта 1657 г., т. III, с. 239).
102
Как-то ехали в экипаже маркиз де Вильянуэва дель Рио, Чинчон, Талавера и Фернандина. Была страстная пятница, и им встретилась процессия каменщиков, изображавших исход из Египта. Господа решили пересечь процессию, но на них обрушился целый град камней, так что на каждого пришлось никак не меньше четырех или пяти ударов. Им пришлось бросить экипаж и спасаться бегством, а не то их бы точно лишили жизни. Так как все участники шествия были одеты в одинаковые мантии, узнать никого не удалось (4 апреля 1657 г., т. III, с. 250).
Герцог де Альба с сыном, маркизом Вильянуэва дель Рио, а также с принцем де Астильяно и доном Луисом Понсе прогуливался в своем экипаже по Калье-дель-Принсипе, и одна из его лошадей обрызгала парадное платье проходившего мимо солдата. Последний выхватил огромный кинжал и вонзил его в кучера, а когда сеньоры вышли из экипажа, набросился на них, как разъяренный лев. Господа и сопровождавшие их слуги нанесли ему столько ран, что он вскоре скончался (11 апреля 1657 г., т. III, с. 256).
Недавно схватили одного мужчину, который бил по лицу женщину. Обоих препроводили в тюрьму, а в понедельник призвали к ответу. Со слов женщины против мужчины было записано множество нелепых и лживых обвинений. Он попросил разрешения говорить и повел речь следующим образом: ’’Сеньоры, я женатый человек, и у меня шестеро детей. В доме не осталось ни крошки, и позавчера я, в полном отчаянии, вышел из дома в поисках хоть какого-нибудь пропитания. Когда я проходил по улице, где живет эта женщина, она окликнула меня из окна, а когда я вошел в дом, сказала, что я ей приглянулся и она даст мне четверть дублона, если я окажу ей любезность и ублажу ее. Я ответил, что терплю нужду и что каждый грех перед Господом стоит никак не меньше золотого эскудо. Мне удалось заработать три, ибо потом я упал в обморок от слабости и голода. Она хотела отобрать у меня дублон, но не смогла. На крики пришел господин альгуасил, который здесь присутствует и которому оказалось по силам отобрать у меня деньги. А теперь, Ваша милость, пусть она сама скажет, правда это или ложь”. Женщина тут же йризналась, что все так и было, и альгуасила заставили in continent!* в присутствии свидетелей вернуть дублон, после чего выставили за дверь, не взыскав даже судебных издержек, а ее отправили обратно в заточение, дабы несколько дней на хлебе и воде поумерили ее похоть. Все это доподлинная правда и произошло в понедельник, 5-го числа сего месяца (14 ноября 1657 г., т. III, с. 365).
* Тотчас же (лат.).
103
Врачи признали совершенно безнадежным графа де Оньяте, которому, как видно, может помочь один Господь Бог. Даже его враги признают, что Его Величество и Испания потеряют лучшую голову королевства (30 января 1658 г., т. IV, с. 50).
В Малаге обледенела большая часть побережья, и почти во всей Андалусии померзли апельсиновые деревья. Холода не пощадили ни Севилью, ни Кордову, а в Гранаде снег с дождем остановил всю торговлю на восемь дней. Так же много снега выпало в Севилье. Как-то утром в Малагу въехал верхом на лошади мужчина, который наезжал на всех прохожих. Когда его задержали, оказалось, что он умер от холода. В Алькарасе лопнула бочка с 300 арробами вина, которое превратилось в лед, и его, не потеряв ни единой капли, перенесли в другую. Так же немилосердна была погода по отношению к лимонным и апельсиновым плантациям в Валенсии. В окрестностях Талаверы объявился пастух с тремя ослами и четырьмя собаками. Он постучался в ворота монастыря, прося подаяния, чтобы добраться до Мадрида, ибо стадо в пятьсот баранов, которое он туда гнал, погибло от холода. В Алькосере из-за дождей обвалилась стена скита, в котором укрылись четверо мужчин, три женщины и трое детей. Так что повсюду несчастных людей настигают несчастья и бедствия (20 февраля 1658 г., т. IV, с. 85).
Увидев, с каким изяществом одеты женщины на последнем бое быков, одна сеньора, приехавшая из Личе, сказала своей подруге из свиты Монтеррей: ’’Они выглядят гораздо красивее, чем мы”. На что вторая ей ответила: ”Им это нужно, чтобы понравиться самым блестящим кавалерам. Нам же достаточно и того, что мы имеем, ведь наши ухажеры и лицом и статью уступают всем остальным. Кому они еще нужны?” Она далеко не дура (февраль 1658 г., т. IV, с. 90).
Королю представили докладную записку, в которой поименованы 143 сеньоры, состоящие в браке и предающиеся разврату, 378 кабальеро, являющихся азартными игроками, и бесчисленное множество других, ведущих недостойный образ жизни, которых для спокойствия двора следовало бы изгнать из общества. Его Величество передал эту записку президенту Совета, а он в свою очередь — дону Висенте де Баньюэлос, про которого известно, что одна дама с позором выставила его за дверь, едва не побив туфлей и не выдрав ему бороду (10 апреля 1658 г., т. IV, с. 103).
Уже много дней, как во дворце после полуночи и до рассвета слышатся странные звуки, похожие на удары, которые удаляются по мере приближения к ним. Иногда они раздаются в башне, где располагается кабинет короля, а иной раз — в часовой башне, после чего перемещаются и
104
начинают звучать из глубины часовни. Придворные дамы страдают от бессонницы и страха. Они собираются все вместе в больших спальнях, так как боятся ночевать в одиночестве. Король немало озабочен происходящим, как и дворцовая стража. А недавно средь бела дня видели, как ни с того ни с сего сами по себе стали двигаться секретеры. При дворе не знают, что и думать, однако все считают, что это дурное предзнаменование. Один лишь Бог ведает, что творится. Я же убежден, что все рассказанное мною истинная правда (24 апреля 1658 г., т. IV, с. 108).
Недавно возвратился Хакоме Пальмиер, конюх Его Величества, который сопровождал лошадей, посланных в подарок королю Венгрии. По дороге ему удалось спастись от бури, унесшей три лошади из четырнадцати, и счастливо ускользнуть из рук турков, французов и англичан. Дабы передохнуть, ему пришлось задержаться на восемь дней в Ливорно, и герцог дал ему свежих лошадей и вдобавок подарил небольшую, но весьма любопытную золотую цепь, а король Венгрии тоже одарил его цепью несколько большей ценности. Однако поистине великолепную цепь пожаловал ему эрцгерцог: массивную с изумрудом, на одной стороне которого выгравирован его герб, а на другой — портрет. Вместе с ним. вернулся Педро де Ретана, муж известной Каталины дель Висо, и привез с собой огромные мешки, набитые всякой всячиной, которую собрал во время путешествия, общей стоимостью в 500 дукатов. 28-го числа прошлого месяца он' въехал в Мадрид и решил заночевать на ступеньках собора святого Филиппа, где у него стащили все имущество, да так, что он ничего не почувствовал. Так город поглотил то, что ему удалось уберечь от бурных вод. Все это истинная правда (8 мая 1658 г., т. IV, с. 137).
Недалеко от Альмерии, на расстоянии всего одной лиги от порта, появилось большое английское торговое судно. С него спустили шлюпку, и купцы, не ожидая ничего дурного, отправились на берег, дабы сообщить, что собираются вести торговлю, если сумеют договориться о ценах. Им удалось продать много товара, и тогда один пират по имени Мирамбель, известный своею храбростью и наводящий ужас на все побережье Берберии, будучи чрезвычайно разгневан той свободой, с какой проворачивали они свои дела, снарядил корабль, набрал команду из своих людей, и под видом купцов из Гранады средь бела дня они направились к английскому судну. Тридцать из них поднялись на борт и начали разглядывать разложенные повсюду товары, а затем неожиданно выхватили припрятанные ранее карабины и менее чем за четверть часа завладели судном и привели его в порт. Говорят, их добыча стоила от 80 до 90 тысяч дукатов и что среди прочего захватили они льняные ткани из Франции, касторовые шляпы и великое множество других очень ценных вещей. Случилось все это 24 апреля (8 мая 1658 г., т. IV, с. 140).
105
Ожидается прибытие бывшего командующего флотом дона Диего де Иегуаса. Он везет Его Королевскому Величеству подарок от герцога де Альбуркерке — дублон весом в тысячу унций, к которому сверху приделана ручка и на котором изображены гербы всех королевств обеих Индий. Есть у него и другие диковины: две колоды карт из чистого золота и две другие — из серебра, причем на каждой карте выгравированы причудливые узоры; 30 золотых игральных костей и 30 серебряных; шесть мулиц, способных быстрой рысью покрыть 30 лье за день; два мускусных кота и прочие любопытные вещи, среди которых — безоаровые камни. Еще одну мулицу и несколько весьма ценных вещиц он везет для графа Пеньяранда (22 мая 1658 г., т. IV, с. 148).
Один мадридский сапожник отправился в Канильехас, дабы вступить во владение наследством. Едва он добрался до места, как рядом с ним возникли два мертвеца, которые отвели его в церковь, где он отписал наследство в пользу душ, пребывающих в Чистилище. Позавчера он вернулся в Мадрид и в течение суток скончался (22 мая 1658 г., т. IV, с. 150).
На следующее утро экипаж Его Величества, следовавший по Реколетос в Буэн Ретиро, переехал ослика какого-то бедняка-землекопа. Мужчина потребовал возмещения убытков, и король дал ему осьмушку дублона, а иные утверждают, что и больше. Когда же проходившие мимо дамы, чьи лица были закрыты мантильями, осведомились, не пострадало ли монаршие здоровье, Его Величество любезно ответил им, что чувствует себя хорошо, и снял перед ними шляпу (5 июня 1658 г., т. IV, с. 167).
Утром король обнаружил, что у ребенка жар и что он плохо спал ночью. Его Величество спросил у кормилицы, как такое могло случиться, и женщина отвечала ему следующим образом: ’’Сеньор, я выкормила трех малышей, самых красивых, что есть при дворе. Всем им мое молоко и моя забота пошли на пользу, я укачивала их, когда они плакали, моя слюна исцелила их от свинки и чириев, а моя грудь служила им колыбелью. Но и пища моя была обильна и разнообразна. Теперь же мне все дают без специй и соли, я провожу бессонные ночи, и у меня нет ни минуты отдыха. Любая может задрать мою юбку, дабы проверить, не пришли ли у меня месячные. Неудивительно, что при всей этой суматохе у меня портится молоко. Вот как обстоят дела на самом деле, и, по мне, тут уж ничего не попишешь. Я же со своей стороны делаю все, что должна делать, и не желаю ничего иного, кроме как честно служить Вашему Величеству, что само по себе является достаточным вознаграждением”. Все, что я здесь рассказал, — чистая правда, а кормилица, судя по всему, далеко не дура (5 июня 1658 г., т. IV, с. 166).
19 мая Мартин дель Кампо, прокурор Гранады, вернулся домой и в ожидании ужина решил развлечь себя чтением. Его позвали к столу, но так
106
как он ничего не ответил, решили, что он заснул. Когда же его попытались разбудить, обнаружилось, что он мертв, причем лицом он уткнулся в книгу, которая была раскрыта на том самом месте, где идет речь о Страшном Суде. На следующий день стало известно, что его друг, Бернардо де Агуайо, который мыл руки, когда ему сообщили эту печальную новость, тут же упал замертво. Таким образом, с начала месяца в Гранаде внезапная кончина постигла семь или восемь человек (5 июня 1658 г., т. IV, с. 170).
Недалеко от Прадо, в переулке Сан-Блас, случилось поссориться двум кабальеро. Они скинули камзолы, схватились за шпаги, и дон Бартоломе де Авельянеда с первого же выпада убил дона Антонио де У беда, который состоит в ордене Сантьяго и приходится братом главному почтдиректору Толедо и который приехал в Мадрид с единственной целью посетить театр в Буэн Ретиро. Оставшийся в живых укрылся в монастыре святого Иеронима.
Говорят, что с Рождества было убито более ста пятидесяти мужчин и женщин, причем никто не подвергся наказанию. А на рыночной площади Санто-Доминго один мясник мало того что отнял у продавца зубочисток его товар, но еще и вспорол ножом ему грудь и вытащил внутренности бедняги на всеобщее обозрение (5 июня 1658 г., т. IV, с. 171).
Ходят слухи, что Его Святейшество обратился к инквизиции с тайным посланием, в котором предписано изъять все сочинения, толкующие о таинственных силах, каковыми, например, являются принадлежащие перу Сальгадо, дона Антонио де Кастро, Солорсано и прочих. Сей предмет требует от авторов особой ловкости, дабы не причинить вреда читающей публике (5 июня 1658 г., т. IV, с. 172).
Инквизиция распорядилась изъять письмо прорицателей из Личе, в котором предсказывается скорое наступление Страшного Суда (5 июня 1658 г., т. IV, с. 172).
На улице Алькала, недалеко от монастыря босоногих кармелиток, живет одна благочестивая женщина по имени Ана Гальо, которую многие считают святой и которую несколько раз допрашивала инквизиция. Так вот, говорят, будто она пророчит, что еще до Рождества Мадрид постигнет великое бедствие. На все воля Господня (5 июня 1658 г., т. IV, с. 173).
Как-то Гонгора отправился с визитом к фавориту Его Величества в новом экипаже, изготовленном по образцу королевского и стоившем ему 2000 дукатов. Лакей дона Луиса сказал кучеру: ’’Один господин разорил моего, затем мой господин поедет и разорит короля, а король разорит всех нас”. Неплохо сказано, и притом человеком низкого сословия (5 июня 1658 г., т. IV, с. 174).
107
Не так давно в местечке под названием Мартин Муньонсильо де ла Деэса, неподалеку от Аревало, случились страшные бури с ливнями и наводнениями. В эти дни там завели обычай устраивать шествие со статуей Богоматери. Девятый день выдался особенно пасмурным и непогожим, но едва статую вынесли из церкви, откуда ни возьмись появилась бабочка размером с ладонь и села на корону, венчавшую ее главу. На протяжении всего дня бабочка то порхала над фигурой Богоматери, то снова на нее садилась, а на закате ее нашли мертвой, причем узор на ее голове точь-в-точь походил на платок Вероники, как если бы его изобразила умелая рука мастера. Однако есть ли более великий художник, чем сам Господь Бог? Мертвую бабочку отнесли королю (12 июня 1658 г., т. IV, с. 180).
Судя по некоторым письмам, с которыми мне довелось ознакомиться, шестнадцать или семнадцать тысяч человек готовы бежать с нашего флота, что лично меня ничуть не удивляет. Если такое случится, в Андалусии будет сильно не хватать мужчин (12 июня 1658 г., т. IV, с. 183).
В Сан-Хуан-де-лос-Рейес во время выборов генерала ордена каждый день в двух больших трапезных сдвигали столы, дабы 2800 монахов могли вкусить специально приготовленное для них угощение, причем пиршество начиналось в одиннадцать и заканчивалось лишь к четырем (12 июня 1658 г., т. IV, с. 187).
В воскресенье, в первый день Святой Троицы, во время гуляний в Прадо, между восемью и девятью часами вечера, сеньор адмирал, сопровождавший Фернандину и Табару, заявил маркизу Серра, указав на коляску с дамами, вслед за которой тот ехал: ’’Маркиз, этот экипаж принадлежит мне, как и те, кто в нем едет”. Когда же, совершив еще один круг, они снова поравнялись, адмирал спешился и, обозвав маркиза плутом, сначала оттаскал его за волосы, а затем схватился за кинжал и порезал ему лицо, нанеся пять (а некоторые утверждают, что и семь) ран. Сейчас он находится под арестом в своем доме (12 июня 1658 г., т. IV, с. 187).
В воскресенье, 23 числа, в шесть часов вечера во время молебна в колледже Аточа, что рядом с королевской тюрьмой, когда вся улица была заполонена экипажами и людьми, преклонившими колена перед образом Пресвятой Девы Марии, неведомо откуда появились уличные танцоры, за которыми последовала большая часть молящихся, очевидно нетвердых в вере. Тогда произошло чудо: когда стали звонить в колокола, самый большой колокол неожиданно упал на землю, причем не разбившись и никого не задев. Падая, он отколол кусок карниза, после чего плавно опустился вниз, дав людям возможность избежать удара. Кажется, тут не обошлось без божественного вмешательства (26 июня 1658 г., т. IV, с. 201).
108
За два дня до праздника Тела Христова у Бесоны случился выкидыш, и, дабы она ободрилась и смогла играть в ауто, Хосе Гонсалес, как старейший член Совета, послал ей 400 реалов (26 июня 1658 г., т. IV, с. 205).
В воскресенье маркиз де Личе наконец получил известие о своем сыне. В послании говорится, что он должен вот-вот прибыть и ему остается всего день пути от Агреды, а также рассказывается, что, когда он проезжал через Памплону, с ним вышел такой случай. Граф де Сантистебан, вице-король, встретил его радушно и весьма щедро одарил. Однако на следующий день маркиз попросил у графа ключи от потайной двери, а когда граф отказал ему в этом, объяснив, что они потеряны, заставил дверь взломать. Через нее он каждую ночь водил к себе некую комедиантку Дамиану, свою подружку, каковая в одну из ночей была задержана патрулем на улице вместе с сопровождавшим ее слугой маркиза и выслана из города по обвинению в прелюбодеянии. По этому поводу между графом и маркизом состоялось неприятное объяснение, после чего последний отправился в путь и вернулся на воды. Известия об этих событиях задержались, так как фаворит, которому вице-король поручил их передать, задержал письмо (26 июня 1658 г., т. IV, с. 206).
В воскресенье 30 июня, на другой день после праздника святого Петра, две женщины, что живут на Калье-де-Пес, отдались двум демонам. Случилось это на новом Прадо, у источника. Говорят, демоны преследовали женщин от самой реки, всю дорогу обольщая их сладкими речами. В результате та, что была моложе, умерла через шесть часов, причастившись и раскаявшись, а на другой день за нею последовала и вторая. Все это чистая правда, как и то, что многие из любопытства пошли на погребение. Демоны наградили девиц кровотечением и четвертью дублона, который потом превратился в уголек (10 июля 1658 г., т. IV, с. 221).
В ночь на понедельник, 15 ноября, в местечке под названием Куэльяр, что находится во владениях герцога дель Инфантадо, один монах-францисканец похитил из монастыря Санта Клара красивую двадцатилетнюю монахиню. Первого сентября его схватили и привели к разгневанному настоятелю ордена, после чего он бежал и укрылся в горах Сьерра-Морены, где и по сей день пребывает, возглавляя целую банду тех молодцев, что имеют обыкновение, вооружившись пистолетами, выходить на большую дорогу просить милостыню (т. II, с. 232).
Один из слуг герцога де Альба отправился на мессу в Буэн-Сусесо. Рядом с собой он заметил очень красивую даму, на которую несколько раз украдкой бросал взгляды, а по окончании службы к величайшему ужасу обнаружил, что это была сама Смерть. Бедняга потерял сознание, его отвезли домой, а через сутки он скончался (т. II, с. 308).
109
В Саламанке разгорелся большой спор между августинцами и тринита-риями о том, стал ли Адам ущербен после того, как Господь лишил его ребра, и плотью ли единой заполнил Творец образовавшуюся пустоту. Дело дошло до рукоприкладства, и даже самые высокие чины не смогли удержаться от пощечин и подзатыльников, которые раздавали друг другу при всем честном народе (т. II, с. 240).
Его Величество издал приказ, повелевающий на завтрашнее представление комедии допускать только женщин, причем без кринолинов, дабы их могло вместиться как можно больше. Говорят, что он сам вместе с королевой будет следить за представлением сквозь жалюзи и что они заранее припасли сотню откормленных мышей, которых велели выпустить, когда спектакль будет в самом разгаре, как в партере, так и на галерке. Если это произойдет, то будет на что посмотреть, и Их Величества от души позабавятся (т. II, с. 308).
Перед Страстной неделей Его Величество отправился в Кольменар, дабы развлечь себя охотой. Он задержался там на четыре дня, потратил 25 000 дукатов и сумел подстрелить всего лишь одну лису (т. II, с. 365).
Из Севильи сообщают, что в день, когда погиб дон Хуан де Ойос, большая фигура Христа, несущего крест, запотела, а по темно-лиловому хитону, в который он был облачен, стекали целые ручьи. Так как многие смеялись над подобным чудом, был пущен слух, что на него помочились большие крысы, и под этим предлогом хитон был снят (т. III, с. 9).
Говорят, будто Ее Величество любит завершать свою трапезу конфетами, и когда однажды в течение двух или трех дней ей не подавали сладкого, дама, в чьи обязанности входит следить за этим, осведомилась, что послужило причиной нарушения заведенного порядка. Ей ответили, что кондитер отказывается поставлять конфеты в долг, так как ему все равно не платят. Тогда она сняла с пальца перстень и сказала: ’’Заложите его, где угодно, но достаньте конфет”. При сем присутствовал Мануэлильо Ганте, щут, который возразил: ’’Пусть Ваша милость снова наденет этот залог на палец”, — и, достав четверть реала, протянул его со словами: ”Принесите-ка быстро конфет, дабы наша добрая госпожа смогла достойно закончить трапезу” (т. III, с. 46).
При помощи божественной литургии удалось обнаружить злые чары, таившиеся в зеркале, в которое очень часто смотрелся король. Зеркало предали огню, а случившееся утаили из государственных соображений (т. IV, с. 96).
ВВЕДЕНИЕ В ВЕЛАСКЕСА. — 1947*
I
[МНЕНИЕ ПРОХОЖЕГО]**
В этих лекциях, взятых в совокупности, я, подчиняясь единственному, хотя и жесткому ограничению, налагаемому временем, сделал попытку строго обосновать каждое утверждение и провести своего рода эксперимент, дабы исключить всякую произвольность. И поскольку замысел данного курса, который я предложил на суд Королевского баскского общества друзей страны, возник по определенным причинам, необходимо сразу же прояснить эти причины. Однако я выступаю в Сан-Себастьяне впервые и передо мной стоит проблема весьма деликатного свойства: чтобы мое объяснение было искренним, между мною и моими слушателями, жителями Гипускоа, должны установиться некая дружеская связь, взаимопонимание и доверие. Не в моих правилах избегать этого вопроса совсем, но я предпочел бы отложить его до лучших времен, и тогда он неожиданно и как бы самопроизвольно возникнет в одной из моих лекций, в то время как мы будем всецело погружены в материал этого краткого курса. Надеюсь, к тому моменту я уже отважусь проникнуть, вторгнуться обманным путем в те тайные сферы, которые каждый из вас тщательно охраняет и оберегает от посторонних глаз. Я не случайно говорю об обмане. Как еще можно назвать эту наглую затею — говорить перед публикой, злоупотребляя в течение нескольких часов ее вниманием, если для того, чтобы хоть сколько-нибудь добиться своей цели, я буду вынужден уподобиться взломщику, этакому cambrioleur***, покусившемуся на неприкосновенность жилища. Таким образом, оказывается, что выступать перед публикой на самом деле означает нечто совершенно противоположное тому, что под этим принято понимать. Считается, что ты выступаешь перед анонимной, обезличенной, монолитной толпой,
* Фрагменты курса из четырех лекций ’’Введение в Веласкеса”, организованного в Сан-Себастьяне в сентябре 1947 г. Королевским баскским обществом друзей страны.
Брошюре, распространявшейся вместе с приглашениями, было предпослано следующее предуведомление: ”Я начинаю этот курс, единственная цель которого — предрасположить его слушателей к созерцанию и изучению Веласкеса, включая то, что мы зовем его творчеством, испытывая серьезное опасение, что четырех лекций будет далеко не достаточно даже для того, чтобы сформулировать самые насущные вопросы по данной теме. С целью разгрузить эти лекции, избавив их от подробностей внешней биографии Веласкеса, на последующих страницах я привожу наиболее существенные факты его жизни, располагая их таким образом, дабы предвосхитить самые острые вопросы, которые нам предстоит обсудить. Эти наброски послужат своего рода планом или компасом, с которым слушатели смогут сверяться во время нашего совместного плавания по волнам истории”. Текст брошюры вошел в качестве главы I в том исследований, посвященных Веласкесу, в издании ”Эль Аркеро”.
Брошюра также содержала хронологическую таблицу, которая приводится в конце книги.
** Из первой лекции.
***Вор (фр.).
111
обращаясь к ней как бы в целом. Именно такова практика meetings*, где важно, чтобы слушатели утратили индивидуальность, чтобы каждый смешался, слился с другими, образовав неразличимое дегуманизированное единство, имя которому — масса, К такой ораторской технике прибегают политики, ищущие себе сторонников, чтобы впрячь их, подобно четвероногим, в повозку своих корыстных, иногда трагичных, но почти всегда ничтожных целей. Они сначала погружают аудиторию в состояние паралича, оболванивают слушателей, а затем начисто лишают их способности отвечать за свои поступки. Но можно ли сказать, что они действительно говорят? Они скорее хрюкают, мычат, ревут, провозглашают заклинания, повторяют общие места, да и вся их деятельность в целом — одно сплошное ’’общее место”.
Говорить на самом деле означает совсем иное, а именно добиваться, чтобы та масса, в которую слилась аудитория, постепенно распадалась и каждый слушатель почувствовал себя одиноким, даже более одиноким, чем когда он остается один в своем доме; добиваться, чтобы каждый погружался в это первобытное одиночество все глубже и глубже, ибо оно одно является подлинной, не принадлежащей никому другому жизнью личности, ибо лишь в его напряженной и плодотворной тишине мы оказываемся без посредников, лицом к лицу с проблемами нашего, и только нашего бытия, обретая возможность взглянуть в глаза всегда немного пугающей правде. Говорить перед публикой должным образом означает низвести видимую общность, к которой людям свойственно себя причислять, к истинному, изначальному одиночеству, которое каждый из нас воплощает, то есть распылить, разложить безличный и единообразный монолит, каковой являет собой публика, на множество мятущихся одиночеств.
Конечно, не все темы позволяют сделать это с одинаковой легкостью, и та, на которую мне предстоит говорить, одна из наименее пригодных для достижения означенных целей. Однако ни превратности темы, ни страх выглядеть плохо в собственных глазах не удержат меня от попытки совершить тот взлом, тот cambriolage**, в результате которого вы неожиданно обнаружите меня внутри вашего тайного убежища и услышите мой голос не так, как если бы он доносился откуда-то извне, а ^ак будто он рождается из глубин вашего неподкупного ”я”, оттуда, где обычно звучит другой голос, тихий, едва различимый, призрачный, который наш язык с такой точностью назвал ’’голосом совести”. Мое самое горячее желание состоит в том, чтобы вы, выйдя отсюда, сказали друг другу: ”Мы присутствовали на сеансе чревовещания”. Итак, я поделился с вами своим замыслом, хотя и не уверен, что смогу его воплотить. Однако скажу, как говорил Дон Кихот, торжественно и просто: ’’Злые волшебники могут отнять у меня удачу, но им не отнять у меня мужества и воли!”
* Собрания, митинги (англ.).
**Ограбление квартиры, налет (фр.).
112
Теперь поговорим о Веласкесе. Эта тема таит много трудностей. Вот первая и самая очевидная: говорить о Веласкесе? Но разве осталось что-нибудь, чего о Веласкесе еще не сказали? Ведь этот художник изучен лучше всех. Наши исследователи, да и зарубежные историки искусства написали о нем бесчисленное множество трудов. Неужели эту тему еще не исчерпали, не извлекли из этой каменоломни весь мрамор? Дело, однако, состоит в том, что большинство людей считает, что вообще все великие темы уже закрыты. Наши предшественники якобы уже осветили все вопросы, и нам остается лишь послушно им вторить. Такое суждение весьма любопытно и уже само по себе заслуживает осмысления. К сожалению, сейчас мы лишены возможности углубляться в эту проблему, ибо она слишком серьезна, и нам потребовалось бы проникнуть в самые потаенные глубины современной жизни, чтобы предъявить всем при свете дня ее кровоточащие внутренности. Этой несколько кровавой операции, которая позволит мне извлечь наружу изменения, произошедшие в мире за последние пятнадцать лет, я намереваюсь посвятить серию статей, которые после двенадцатилетнего молчания предполагаю опубликовать в газете ’’Испания”, выходящей в Танжере, а также в американской и швейцарской прессе. Думаю, такая работа необходима, поскольку впервые в истории Запада происходящие на наших глазах великие перемены не подвергаются немедленному анализу и описанию, как это было принято прежде. Таким образом, народы переживают ужасные события и невиданные потрясения, не имея ни малейшего представления ни о том, что с ними происходит, ни о том, почему это с ними происходит. В результате их чудовищные страдания усугубляются сумерками разума, скрывающими от них суть происходящего, так что если вывернуть трагедию на ее комическую изнанку, то мы не нашли бы лучшего образа, символизирующего положение человечества за последние пятнадцать лет, нежели картина, которая была как-то выставлена на вернисаже и которая являла собой абсолютно черное полотно с подписью: ’’Драка негров в туннеле”.
Однако мы слишком удалились от нашей сегодняшней темы, хотя и не исключено, что в силу универсальности человеческой природы рассуждения об эпохе Веласкеса еще не раз невольно прольют свет на нашу современность. Хочу лишь еще раз со всей категоричностью подчеркнуть, что я решительно отвергаю диагноз, согласно которому все самое важное о Веласкесе уже сказано. Я убежден в противоположном, а именно в том, что ни о Веласкесе, ни о чем-либо другом не было сказано ничего, что бы действительно имело значение, что по-настоящему соответствовало бы истине, что повторяло бы сложные изгибы реальности, подобно перчатке, повторяющей форму руки. Доказательства не заставят себя ждать. Хотя мы все еще чувствуем некоторые вибрации истории — а каждый из вас, без сомнения, ощущал их на себе, как толчки при землетрясении, — где-то в глубине, под коркой внешних событий идет рождение новой устойчивости.
113
Таким образом, в ближайшие пять лет, к удивлению многих, мы станем свидетелями чудесного расцвета мысли. И произойдет это не в России и не в Соединенных Штатах, а в той самой Европе, чью агонию предсказывают те, кто принимают предрассветные сумерки за закат. Четверть века назад мне удалось предсказать вещи, которые сегодня встречаются на каждом шагу. Посмотрим, сбудется ли мое новое прорицание. Впрочем, кто не знает, что пророчество — самое бесполезное занятие в мире. Не случайно у древних греков его символизировала Кассандра, которую Аполлон наделил даром провидения, но сделал так, чтобы ее слова не принимали всерьез.
До сих пор я говорил неформально. Теперь настало время более четко сформулировать и обосновать мое утверждение о том, что не все еще сказано о Веласкесе. Я попытаюсь сделать это тем же способом, каким пользуется тот, кто прибегает к ходьбе, чтобы доказать существование движения.
Однако, рассчитывая на ваше великодушие, я прошу вас, слушая мои лекции, ни на секунду не упускать из виду тот факт, что я — полный профан в истории искусства, а в живописи понимаю и того меньше, что мой взгляд на живопись — не более чем взгляд прохожего. В таком случае, скажете вы, моя затея говорить о Веласкесе свидетельствует о безрассудной смелости, которая очень часто граничит с наглостью. Признаюсь, у вас есть все основания так думать. Но что поделаешь! Мы все состоим из безудержных влечений. Я — мадридец, а ничто так не выражает дух Мадрида, как фигура мальчишки, который во время корриды из первых рядов следит за молодыми бычками и затем очертя голову вырывается на арену и, сорвав с себя рубашку, начинает дразнить ею животное. Во мне все время живет этот мальчишка, и я не могу видеть острые рога проблемы, чтобы не поддаться безрассудному порыву и не броситься ей навстречу. Правда, меня несколько успокаивает вынесенное мною из изучения истории убеждение: человечество извлекает пользу из всего, даже из безрассудства. Так, почти все крупные математики были великими сумасшедшими, однако человечество сумело обратить их безумие во благо, сделав математику одним из самых достойных украшений той тысячелетней деятельности, которая зовется ’’цивилизацией”. Почему же, спрашиваю я, не может на что-нибудь сгодиться тот неисправимый, размахивающий рубашкой мальчишка, с которым я никогда не расстаюсь?
Итак, мой взгляд на живопись — лишь взгляд прохожего. Но прохожий — это тот, кто идет мимо, устремляясь к своей цели, то есть к тому, в чем он разбирается. И разве так уж неинтересно, что видит по пути такой наблюдательный прохожий? Не заметит ли он что-нибудь важное и полезное?*
* Далее следует текст, почти полностью совпадающий с первой и второй главками эссе ’’Прелюдия к Гойе” (за исключением начального абзаца первой главки), опубликованного в томе ’’Гойя” Собрания сочинений в издании ”Эль Аркеро”. См. указанное издание.
114
II
[НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ]*
С поэтами происходит то же, что и с художниками. Современники Лопе де Вега называли его ’’монстром”. Это словечко, как мы увидим, вполне типично для эпохи и стиля барокко, и, как и все барочное, оно было порождено творениями Микеланджело. В словаре того времени оно было излюбленным эпитетом: быть монстром — значит уметь поражать. И действительно, Лопе де Вега не перестает поражать и по сей день, что, однако, не мешает нам заметить в нем нечто действительно чудовищное, в смысле тератологическом. Лично у меня по спине бегут мурашки, когда я слышу, как наши историки литературы, начиная с самого дона Марселино Менендеса-и-Пелайо, невозмутимо твердят, что Лопе де Вега написал тысячу четыреста пьес, преподнося этот факт как свидетельство его особой одаренности. Они попросту слепы, ибо совершенно очевидно и неопровержимо, что быть автором тысячи четыреста комедий может только монстр. Следовательно, необходимо безотлагательно поставить вопрос о том, что понималось под комедией в XVII веке, когда был возможен подобный кошмар. Тем не менее доподлинно известно, что ни Менендес-и-Пелайо, ни кто-либо из его последователей таким вопросом не задавались, как и теми, что он, в свою очередь, порождает. В результате сегодня по-прежнему абсолютно не описано и не определено такое блистательное и удивительное явление, как испанский театр XVII века. Я — испанец до мозга костей, но я испанец, который хочет постичь свою национальную самобытность, чтобы она засияла перед всем миром. Вот почему меня отвращают существующие исследования о нашем так называемом ’’классическом” театре, исследования, состоящие из пустых слов, напыщенных глупостей или бесполезных нагромождений случайных сведений, тогда как все, что в нем есть исключительного, непохожего ни на какой другой театр, на протяжении веков дарившего счастье моим соотечественникам, остается в стороне. Итак, для этой, в моем понимании, святыни — как и бой быков, который тоже дал испанскому народу два века счастья, — ни у кого не нашлось ни снисхождения, ни интеллектуального досуга, чтобы всерьез о ней задуматься и тщательно воспроизвести ее историю, пока не появился мадридский мальчишка, размахивающий рубашкой, то есть я, который снова выскочил на арену и пошел на быка, которым в данном случае стал кровавый и величественный феномен корриды. Однако вопреки всему этому, по каким-то нелепым и смехотворным причинам далеко не интеллектуального свойства, в последние годы извлекли с того света безжизненную тень добрейшего дона Марселино, специалиста по Лопе де Вега, как будто бы Менен-дес-и-Пелайо сказал хоть что-то, без чего нельзя жить, — требование, которое должно безоговорочно предъявлять каждому, кто претендует
* Из первой лекции.
115
на звание мыслителя. Впрочем, к чести Менендеса-и-Пелайо, надо заметить, что сам он никогда не выдавал себя за такового, лучше других зная, скольких трудов ему стоила острота мысли, обретенная им к концу жизни.
Такова ситуация, касающаяся не только театра или живописи, но и истории в целом. Задумайтесь... перед нами испанский народ, населяющий finis terrae* западного культурного ареала, являющий собой одну из конечностей тела европейской культуры, то есть народ, живущий на границе с миром, где господствует принципиально иное представление о человеке, — миром африканским... Отсюда особый драматизм нашей натуры, в которой соседствуют два начала, соперничают две судьбы. Вот почему душам нашим ведомо особое напряжение, некий внутренний пожар, что отражается в раскаленном и лихорадочном взгляде испанца, том неповторимом ’’испанском” взгляде, в котором время от времени, подобно вспышкам молнии, сквозь воспаленный дух проглядывает око дикого зверя. Этот взгляд, свойственный исключительно испанскому мужчине, так и не смогли разгадать наши историки, зато прекрасно поняли женщины всего мира. Вот отчего наша история столь причудлива, столь переливчата и пестра, прекрасна и в то же время жестока, спокойна и неистова, вот отчего она всегда взывала и будет взывать к романтической ностальгии, которая живет в человеке Севера. Но какая жалость! Эта история, столь непохожая на историю любой другой европейской страны, остается неизвестной. Никому так и не удалось обнаружить тайные пружины, которые ею движут, вскрыть ее истинную проблематику. Нам не повезло. Любопытствующие дилетанты писали книги, посвященные людям и событиям нашего прошлого, и некоторые из этих трудов достойны всяческого уважения и восхищения. Например, несколько недель назад Мараньон издал свою книгу об Антонио Пересе. Но Мараньон и не притязает на звание историка, он — всего лишь любитель-энтузиаст. Он просто еще один мальчишка, дразнящий рубашкой быков. Настоящих историков в Испании никогда не было, поэтому все наше необыкновенное прошлое остается неоткрытым и неисследованным. Его обломки вынесло на рифы фактографической риторики, которую принято называть ученостью. Наша история по-прежнему нетронута, и, хотя она насчитывает много лет, больше, чем история какой-либо европейской страны, она все еще девственница. Бедная Испания! Вот уже много веков она ожидает появления историка, у которого на плечах был бы предмет, хоть сколько-нибудь напоминающий голову.
Размышления о Веласкесе и об испанской живописи его эпохи настоятельно требуют обозначить со всей точностью ту особенность испанского бытия, которая связана с пограничным характером нашей культуры, взросшей на finis terrae. Но сначала вкратце определим, что мы понимаем под живописью, для чего лучше всего ознакомиться с начальными абзацами
*Край земли (лат.).
116
первой главы моей еще неопубликованной книги о Веласкесе, которая, однако, несколько месяцев назад появилась в каталонском журнале ’’Леонардо”, выходящем столь скромным тиражом, что все публикуемые в нем материалы кажутся засекреченными. Так что вряд ли кто-то имел возможность узнать оттуда о моих соображениях на этот счет.
III
[ГЕРМЕНЕВТИКА — ПРИЗВАНИЕ]*
Речь пойдет о простом перенесении герменевтического принципа на живопись**.
Герменевтика — это наука и искусство интерпретации текста. В ее основе лежит метод уточнения смысла слова с помощью привлечения его контекста, будь то отдельное предложение, страница или целиком книга.
Однако этот принцип до сих пор не получил должного развития. Он основывается на явном трюизме: часть целого может быть понята только через целое, ибо оно вообще существует и имеет значение только в связи с целым. Часть — это один из органов единого организма. До сих пор все идет хорошо. Но заметьте, что из этой избитой истины неизбежно следует еще один, не менее очевидный вывод. Если часть обретает смысл, лишь будучи приобщенной к целому, значит, взятая сама по себе, она лишена всякого смысла именно в силу того, что является чем-то неполным, то есть чистым фрагментом. Так, если я произнесу отдельно взятое слово “в”, ни для вас, ни для меня оно не будет значить ровным счетом ничего. Но если я присоединю его к другим словам и скажу: ’’Интеллектуальная жизнь в Сан-Себастьяне...”, в общем контексте фразы оно обретет некий смысл, хотя все еще не вполне ясный. Ведь у моих слушателей, в особенности жителей Сан-Себастьяна, немедленно возникнет подозрение, не является ли эта фраза, в свою очередь, лишь фрагментом — скажем, началом какого-нибудь отступления, которое прозвучит неожиданно, будто удар кнута, во время одной из моих лекций, когда мне вздумается порассуждать на эту тему, к которой жители, обитатели вашего города, относятся далеко не так спокойно, как к другим аспектам городской жизни.
Или, например, я говорю "о”. Смысл вновь неопределен. Это может быть предлог (о гвоздике, о розе), а может быть распространенным в Андалусии женским именем (Мария де ла О) или же междометием, выражающим восхищение этой самой Марией де ла О. Слово ”о”, будучи изолированно, — не более чем осколок, который появился, потому что разбили, сломали некую целостность, в чье лоно он мечтает вернуться. Таково
* Из второй лекции.
**Этим рассуждениям предшествовало чтение и комментирование эссе ’’Оживление картин”, которое воспроизводится в данном издании в другом месте.
117
томление руин, всегда придающее пейзажу печальный облик. Все это время, что я перед вами выступаю, у меня в голове вертится один вопрос: о чем я говорю? В данном случае предложение наделяет предлог ”о” некоторым смыслом. Но не выступает ли оно само как часть другого целого? Слово ”о” сообщает нам о наличии определенной дилеммы, перед которой я сейчас нахожусь, состоящей в необходимости принять внутренне решение, какова цель моего выступления: научить или взволновать? Но мой выбор станет осмысленным, только если будет учтена вся ситуация в целом. Отсюда следует, что нечто обладает самостоятельным значением, смыслом всякий раз, когда не является фрагментом, то есть когда предстает как завершенная реальность, подлинное целое. А поскольку историческая наука — не что иное, как интерпретация человеческих деяний, — будь то мазок, слово или действие, то исторический метод можно вкратце определить как попытку воссоздать ту завершенную, целостную действительность, к которой относится изучаемое человеческое деяние. Соответственно, все серьезные ошибки совершаются потому, что данная цель не была достигнута и за целое было принято то, что само является лишь фрагментом. История, о которой я мечтаю, совсем не похожа на нынешнюю. Она должна быть точна, как математика, хотя ее точность несколько иного толка. Тут требуется талант анатома, который может точно определить, имеет он дело с целым организмом, то есть самодостаточной реальностью, или с ампутированным органом, который кричит от боли, требуя воссоединения с отнятой частью. В подобную ошибку, как вы увидите, впадает каждый, кто берется исследовать наших великих художников и неизбежно приходит к ложному толкованию их творчества, так как считает, что достаточно соотнести их с той завершенной и самодовлеющей целостностью, которую принято называть ’’испанская живопись”. Последняя же, к счастью, не является и не может являться самодостаточной и целостной реальностью, будучи лишь фрагментом другой, гораздо более широкой, что нисколько не снижает ее ценности, а, напротив, позволяет выявить ее истинное величие и значимость.
Учитывая сказанное, необходимо признать, что, вскрыв роль мазка в идейном замысле всей картины, мы еще не исчерпаем его смысла. Ведь и сам замысел той или иной картины поглощается более широкой и первичной реальностью — стилем художника, на котором, как на почве, произрастают его отдельные творения. Но стиль художника порождается стилистическими течениями эпохи. Все они, даже те, которые художник отвергает, присутствуют в его полотнах и в конечном итоге — в каждом отдельном мазке. Таким образом, мы переходим из одного круга реальности в другой не из прихоти, а потому что каждый из них обнаруживает свою незавершенность и отсылает нас к следующему, более широкому. В зачитанных мною отрывках детально воссоздан маршрут, которым нужно следовать, чтобы в итоге прийти к выводу, что каждый мазок подготавливается всею жизнью художника, а вместе с нею и жизнью всей эпохи, всей нации. Следовательно,
118
для верного понимания даже крохотного участка картины мы вынуждены пуститься в далекое плавание по волнам истории. Добавлю еще одно замечание. Когда живописец наносит мазок, им движут определенные причины, которые в большей или в меньшей степени осознаются им самим. Это область того, что художник хотел сказать, потому что ’’сказать” — значит ’’хотеть сказать”, причем сказать нечто определенное.
Стиль есть совокупность тенденций, которые должны воплотиться в картине. К величайшему сожалению, я вынужден отказаться от объяснения, каким образом в голове художника может существовать сознание собственного стиля еще до того, как он задумал написать какую-то конкретную картину. Тем не менее не подлежит сомнению тот факт, что замысел не может возникнуть, если ему не предшествовали некие абстрактные влечения художника, относящиеся всецело к сфере формального, не воплотившиеся в конкретные образы, то есть все то, что и составляет подлинную эстетическую ценность произведения. Вот почему, говоря о ней, мы невольно тяготеем к самым общим, родовым характеристикам. Когда современники Микеланджело взирали на его очередное творение, они не могли подыскать другого определения, кроме terribilita. И действительно, еще до всякого замысла того или иного рисунка или скульптуры в его душе уже жила жажда ’’ужасного”, иначе говоря, самое общее и безотносительное представление об ужасном. В сознании художника прилагательное предшествует существительному, и, как результат некоего метафизического чуда, эстетические акциденции могут существовать до субстанций. К некоторым из них художник заведомо чувствует влечение. Я не случайно уже не первый раз употребляю слово ’’влечение”. Нечто подобное происходит с влюбленным человеком: ему кажется, что он давно знает женщину, к которой его влечет, что он знал ее до начала времен, в ту мифическую, волшебную эпоху, которая на первобытном языке готтентотов называется ’’временем, находящимся за спиной у времени”. В душе каждого мужчины — если он, конечно, способен на настоящую любовь, что встречается реже, чем принято полагать, — с юности живет некоторое, вполне реальное представление о женственности, к которой его всегда влечет, вот почему он оказывается беспомощным, когда видит летящую походку женщины, воплотившей в себе это представление. Отсюда — странное ощущение вечности, которое сопровождает любовь. Несмотря на быстротечность этого чувства, как и всякого чрезмерного увлечения, влюбленным, пока они им больны, кажется, что они всегда любили друг друга и никогда не расстанутся. Вот почему Шиллер верил в то, что он уже любил свою возлюбленную в какой-то другой жизни, на какой-то забытой звезде.
Однако все это — не более чем образы. Истинным объяснением мне приходится пожертвовать: оно было бы слишком сложным и длинным. Лишь для тех, кто специально интересуется подобными вопросами, скажу, прибегнув, в виде исключения, к научной формулировке: речь идет о том, каким образом в человеческом мозгу может зародиться сознание тех или
119
иных ценностей до того, как возникнет сознание вещей, являющихся носителями этих ценностей. То есть мы имеем дело с проблемой априорного предчувствия ценностей, в чем и состоит одна из самых удивительных способностей человека, которая главным образом является творческой.
Действительно, творчество, открытие новых ценностей есть вид человеческой деятельности, который предшествует всем другим, ибо все, что мы ни делаем, так или иначе служит для обеспечения главной цели — воплощения этих самых ценностей. Так происходит не только в искусстве, но и во всех других измерениях жизни: в большом и в малом, в великом и в ничтожном, в исключительном и в привычном. Всякий человек, всякое общество и всякая эпоха — это прежде всего система предрасположенностей, все остальное работает на них. Жизнь — карточная игра, где на кону стоят те или иные ценности. Вот почему, глядя на людей, я сразу догадываюсь, впрочем, иногда ошибочно, что они поставили на кон, какие пружины таят в себе энергию их бытия. Эта реальность является для человека первичной, личностной, глубинной, она существует до того, как в нее вмешается нечто чужое, внешнее, до того, как ей суждено будет воплотиться или не воплотиться, до того, как случай внесет в нее свои изменения. В общем, иначе она называется ’’призвание”. Удивительное слово! Ведь в каждом из нас и вправду звучит беззвучный внутренний голос, призывая нас каждую секунду быть таким, а не другим. Призвание — это внутренний императив, определяющий наше бытие, подсказывающий нам, что мы должны делать, чтобы совпасть с нашим подлинным ”я”. Чаще всего мы изменяем самим себе, не слушаем голоса призвания и, вместо того чтобы стремиться быть, отказываемся быть.
Призвания, как и всякое человеческое свойство, подлежащее культивированию и совершенствованию, в ходе исторического развития шлифуются, очищаются, усложняются. Отсюда рождается изменчивость стилей, периоды их взлета, падения и застоя. Призвания по большей части бывают обыкновенными, то есть большинство людей призвано быть обычным человеком: просто врачом, просто художником, просто жителем Сан-Себастьяна, в конечном итоге просто человеком, иото cualumque. Jipyvwe же, напротив, повинуются внутреннему голосу, который приказывает им быть лучше, чем они есть, не идти на поводу у собственных привычек и общепринятых обычаев, но ежеминутно требовать от себя чего-то большего. В этом и состоит истинное благородство души — noblesse oblige*, — состоящее не в том, чтобы осознавать свои права, а в безграничной требовательности к самому себе и перед самим собой. Любое дело — даже самое простое и привычное — можно сделать хуже и лучше. Те, кто обладают призванием к самосовершенствованию, прежде чем действовать, неизменно задаются вопросом, какой образ действия будет наилучшим. Личностям, щедро наделенным жизненной силой, недостаточно просто быть, им нужно нечто
♦Положение обязывает (фр.).
120
большее, то есть быть лучшими. Для них жить — значит предъявлять к себе требования. Вот истинно рыцарский императив, ибо кто ему подчиняется, тот сам себе и лошадь, и шпора. В данном случае ни социальное положение, ни профессия не имеют никакого значения: ведь какое бы положение человек ни занимал, речь всегда идет об одном и том же — противостоянии хорошего стиля и плохого стиля, будь то художник или торговец, инженер или военный, мудрец или неуч, хозяин или рабочий, мужчина или женщина. Причем для последней важны не только ее почетные функции жены, матери, дочери или сестры, но та ее ипостась, которая всем им предшествует и которая всех их порождает. Речь идет о ее умении быть просто женщиной, об особом даре женственности, благодаря которому она станет женой и матерью, и породит дочерей — сестер ее сыновей. К сожалению, существует давняя традиция (возможно, нам придется убедиться в этом очень скоро, когда мы будем говорить о Мадриде времен Веласкеса) превозносить исключительно материнские достоинства женщины. Но при всей их важности они наименее интересны: ведь среди животных любая самка отлично справляется с ролью матери. При этом совершенно забыли, что женщина имеет огромные обязательства перед своей страной и перед историей не только как мать, но и как женщина. Как и у живописи, у женственности есть своя культура, своя история, свой стиль.
IV
К ТЕМЕ ’’ВЛИЯНИЕ КАРАВАДЖО”
А*
В Испании до Гойи, если не брать в расчет Мурильо, потому что он типичный эпигон**, было лишь четыре значительных художника, трое из них — настоящие исполины: Рибера, Сурбаран, Алонсо Кано и Веласкес. Начиная изучать их творчество, мы сразу же, с первых шагов, сталкиваемся с удивительным фактом: четыре единственных величайших художника Испании — помимо Гойи — родились в течение одного десятилетия и принадлежат, таким образом, к одному поколению. Надо добавить, что за исключением Риберы, уроженца Валенсии, трое других — родом из Севильи
* Из лекций 2-й и 3-й.
** Но это не оправдывает того, что с некоторых пор о нем так мало говорят. Нам нужна новая книга о Мурильо, которая предложила бы нам иное истолкование его искусства и личности. Это пленительный и волнующий образ художника, его дивный талант — это талант, который дан человеку, способному до последней капли исчерпать кладовые своего дарования, и творить, когда уже невозможно творить, и придумывать, когда уже нельзя ничего придумать. Нечто похожее происходило в Италии с Тьеполо. Я бы только мешал вам, к тому же без всякой пользы, читать те наброски, которые следуют дальше, если бы поминутно напоминал об особой роли Мурильо, который и в самом деле представляет собой явление необычайное.
121
Рафаэль Санти. Мадонна в зелени.
1505. Вена, Музей истории искусств
и ее окрестностей, они учились мастерству совсем рядом друг от друга и дружили с юношеских лет.
Что было в испанской живописи до появления этих колоссов? Чуть больше, чем ничего. Единственные более или менее значительные фигуры — Рибальта (он явление большее, чем обычно считается) и Пабло Легот, о котором известно совсем немногое. Севильские художники, предшественники этих мастеров живописи, ничего особенного собой не представляли, да и были в основном иностранцами.
Таким образом, мы имеем дело с удивительным явлением, столько раз всеми отмеченным, а именно, с внезапным появлением, при отсутствии предшествующей местной традиции, великого испанского живописца. В данном случае дело чрезвычайно осложняется еще и тем, что вместо одного художника вдруг — в одночасье — возникает четверо, и эти четверо, не считая Гойи, единственные великие художники, которые были у нас до 1850 года. Эти четыре человека, и есть то, что в мире именуется ’’испанской живописью”, а трое из них знаменуют собой вершину живописи мировой. И тогда решительно и неизбежно возникает вопрос: как могла внезапно родиться и умереть, уместившись в одно поколение, величайшая живопись, как могла она возникнуть и исчезнуть без соответствующих изменений национального пространства, которому она принадлежит.
Сможем мы понять это или нет, иными словами, сможем ли мы объяснить по мере возможности столь необычное явление, зависит от того, удастся ли нам уловить точный смысл того, что некая историческая реальность» обозначается термином ’’испанская живопись”. Если мы будем рассматривать ее как реальность, некоторым образом завершенную, изолированную и независимую, мы пойдем по ложному пути, потому что тогда мы вынуждены будем объяснять Риберу, Сурбарана, Кано и Веласкеса, описывая их творчество как следствие внутринациональных процессов.
И тогда, безусловно, нет никакой ’’йспанской живописи”, как нет — я все время говорю о живописи, существовавшей до 1800 года, — и французской, и английской, и немецкой. Таким образом, соблюдая точность, а это подразумевает внесение некоторых дополнений, я утверждаю, что на Западе до конца XVIII века существовала только одна живопись — итальянская.
Когда же говорится о европейской живописи до 1800 года, под ней подразумевается континентальная зона, где господствовала итальянская живопись, и прилегающий к ней островок фламандской живописи, сфера распространения которой была очень ограничена и которая, я специально это подчеркиваю, примерно с 1500 года начинает поглощаться итальянской, так что продолжительность ее существования в качестве самостоятельного явления чрезвычайно коротка. Именно к этому моменту относится то, что мы могли бы назвать присоединением фламандской живописи к итальянской, при этом я основываюсь на том неоспоримом факте, что как раз с этого времени фламандские художники отправляются обучаться мастерству в Италию. Многие там и оставались.
123
Мне важно, чтобы при изложении данного основополагающего суждения оставался совершенно понятным ход моих рассуждений. Испанская живопись представляет собой своего рода модификацию (созданную в Испании самими испанцами) явления гораздо более обширного и самодостаточного — итальянской живописи.
Определив положение дел таким образом, мы достигнем некоторой ясности. Итальянская живопись — это громадное культурное пространство со своим центром и своей провинцией, где действуют четкие законы, присущие любому культурному пространству. Первый закон гласит: формы и принципы, которые доминируют в этой зоне, созданы, изобретены и поддерживаются, в существенной своей части, в центре этого ареала, откуда они медленно распространяют свое влияние на все более обширные территории, достигая периферии, которая из-за своей удаленности становится частью этого пространства с большим опозданием.
Второй закон — следующий: развитие основных начал данного культурного пространства в сочетании с территориальной экспансией ведет к тому, что наиболее современные формы, другими словами, новейшие стили рождаются не в центре, а на периферии. Сомневаюсь, что существуют какие-либо значительные явления человеческой деятельности, где не действовали бы эти два закона. Они, без сомнения, проясняют суть этого феномена (в изолированном виде он не поддается объяснению): внезапного появления и неожиданного исчезновения того, что обычно именуется ’’испанской живописью”. Необычное явление перестает быть таковым и превращается в частный случай общего закона. У итальянской живописи есть свой последний час, и этот последний час, несомненно, испанский. Итальянская живопись рождается с Джотто и славно гибнет с Веласкесом*.
Сейчас речь идет о том, чтобы проиллюстрировать данное утверждение, для чего напомним в самых общих чертах эволюцию итальянской живописи, добиваясь тем не менее некоторой точности в выстраивании основных линий данного процесса.
Мы добьемся необходимой точности, если, прослеживая эволюцию итальянского искусства, сосредоточимся лишь на одном его аспекте, самом элементарном и именно поэтому самом важном.
На каждой картине изображаются предметы, другими словами, мы узнаем на ней вещи и человеческие фигуры, благодаря тому, что очертания этих вещей и фигур воспроизведены с большей или меньшей точностью. Назовем их ’’естественные или объективные формы”. Но на картине есть и иные формы: те, которые художник придает объективно существующим формам, изображая и располагая их на фреске или холсте. Уже само расположение фигур — предметов и лиц — осуществляется согласно структурным линиям, в большей или меньшей степени геометрическим. Эти
* Высочайшая вершина фламандского искусства, которой стало творчество Рубенса и Ван Дейка, — это явление строго параллельное.
124
формы, которые не являются формами предметов и которые их себе подчиняют, мы назовем "художественными формами”. Поскольку они не есть формы предметов, а представляют собой в чистом виде нематериальные формы, мы должны считать их "формальными формами”. Таким образом, мы получаем следующее уравнение: каждая картина является сочетанием изобразительного и формального. Формальное же и есть стиль.
Вот перед вами картина Леонардо*. Фигуры на ней расположены таким образом, чтобы их общий контур образовывал треугольник; в картинах Леонардо да Винчи это станет своего рода правилом**. Другие художники усложнят эту структуру: треугольник сам окажется составленным из треугольников; вдруг появится длинная кривая линия или диагональ, проходящая в глубине картины. Вряд ли есть хоть одна картина у Риберы, более того, во всем XVII веке, которая не была бы разделена диагональю.
В иных случаях появляется двойная диагональ, образующая крестовину, или воображаемые диагонали, не совпадающие с основным планом картины, но косвенно проникающие в нее, в ее внутреннее пространство. Иногда эстетическая или художественная форма создается путем изображения объектов в необычной перспективе, например особая — снизу вверх (то, что немцы называют Frochperspective***), как в ’’Явлении Девы” Тинторетто. Это только самые простые эстетические формы. Скоро мы обнаружим другие, более тонкие, когда сама форма объекта превращается в эстетическую форму, то есть формализуется.
Эволюция итальянского искусства с ее максимальной упорядоченностью, непрерывностью и уравновешенностью представляет собой один из самых нормальных процессов, какие только встречаются в истории человечества. Однако, как я уже отмечал, любая история — это всегда история человеческих жизней. Произведения искусства не рождаются просто так, из воздуха. Всякая жизнь есть драма, и в каждой драме свой конфликт. Выведенное нами простейшее умозаключение, согласно которому картина состоит из двух компонентов — объективных форм и форм художественных или эстетических, позволяет понять, что эта мягкая и постепенная линия развития в действительности есть не что иное, как постоянная драма.
Остановимся теперь бегло на основных вехах этой непрерывной борьбы между предметами и стилем или формализмом внутри картины.
По прошествии периода сомнений и колебаний художников раннего Ренессанса, когда еще предметы не являются предметами и формализм еще не осознает себя таковым, в художественной судьбе западного искусства происходит решающее событие — явление Микеланджело, величайшего
*Эта и последующие являются ссылками на картины, диапозитивы которых использовались для иллюстраций во время чтения курса.
** Интересно, что Гойя в одном из немногих рассуждений по поводу композиции одной из своих картин (Св. Бернардин) также говорит о треугольной или пирамидальной композиции.
*** ’’Лягушачья” перспектива (нем.).
125
гения в обоих смыслах этого слова: могучий талант, обольстительный и безмерный, и презрение к норме. То, что вы видите, — Микеланджело. На форму предмета — женскую фигуру, изображающую Ливийскую сивиллу, обрушивается сверхъестественная сила, которая с неистовой энергией заставляет ее извиваться, закручиваться в спираль вокруг себя самой, напоминая чудовищные изгибы дракона или гигантского змея. Вот пример торжества формализма над натурализмом и объективизмом. Вместе с этими фигурами рождается новая стилистическая форма, ставшая классической для итальянского искусства вплоть до последнего времени. Форма, которая впоследствии будет названа figura serpentinata*. Динамизм кручения и исступленность — ее отличительные признаки, выражающие силу и страсть.
Но итальянское искусство, застигнутое врасплох чудовищным гением Микеланджело, на какое-то мгновение замирает, прежде чем позволит увлечь себя.
Оно отступает на шаг назад и добивается идеального равновесия между объектной формой и формой стилистической. Это счастливое мгновение беспредельной меры и пленительной гармонии воплотил Рафаэль, а с ним и все искусство, называемое sensu stricto** классическим. Похожее равновесие есть у Андреа дель Сарто, и Тициан в Венеции уже в зрелые годы отразит в своих работах ту же гармонию.
Но очень скоро это равновесие оказывается уже недостаточным. Как нёбу необходимы все более сильные вкусовые ощущения, так и эстетический вкус постоянно нуждается в стиле, в ярко выраженных стилистических приемах, более насыщенных собственным формальным изяществом. Итальянское искусство начинает свой путь в поисках стиля или формы, другими словами, в нем начинает преобладать тенденция уделять меньше внимания естественности объекта и воспринимать содержание картины как сочетание чисто художественных форм или форм формальных.
Обратите внимание, какой шаг отделяет картины Корреджо от его предшественников. Начиная с Корреджо из итальянских фресок и полотен уходит сдержанность и спокойствие. Постепенно картины наполняются движением, колебанием линий, сложностью цветовых решений. Движение же — это не то или иное конкретное движение, служащее тем или иным целям, но ’’чистое” движение, взятое само по себе, движение как форма — одно из 10 основных начал будущего формализма.
После Корреджо итальянское искусство прекращает свой творческий рост. Оно живет уже наработанным. Две школы: та, что берет начало в творчестве Микеланджело, и другая — продолжающая и развивающая новации Корреджо, будут сознательно заниматься опытами чисто формального. Живопись — уже не та художественная форма, которая, подобно оправе, украшает и облагораживает предметную форму, она видоизменяет-
* Змеевидная фигура (ит.).
**В строгом смысле (лат.).
126
Тициан. Призыв маркиза дель Васто к солдатам.
1541. Мадрид, Прадо
ся, преображается в форму без материи — в чистый стиль, формализуется в самом опасном значении этого слова. Ведется поиск ’’манеры”, обдуманное оманеривание. Эти художники называют себя маньеристами.
Вспомните ’’Снятие с креста” (’’Descendimiento”) Даниеля де Вольтерра, эпигона Микеланджело. Кажется, уже невозможно больше усложнить и затруднить процесс снятия тела с креста. Вспомните этот образ, когда будете наслаждаться Рубенсом, другом Веласкеса. Здесь все в движении. Ветер, неведомый ветер, волшебный ветер дует и в картинах Микеланджело, и Даниеля де Вольтерра, и — мы сейчас это увидим — в полотнах Тинторетто; дует и превращает одежды в летящие паруса, и кажется, будто мы слышим жалобные стоны внутри рамы и мучительные вопли мачт и снастей, утомленных порывами ветра. А от ’’Вознесения” Тинторетто рукой подать до Эль Греко.
Маньеризм, берущий начало у Корреджо, — мягкий и спокойный. Этот маньеризм достигает своей кульминации у Пармиджанино, но, как и другое ответвление стиля, свое художественное кредо он мог бы выразить словами: ’’stupore, неслыханное событие, чудо, диво”. Повторю, истоки данного явления в том, что современники назвали terribilita Микеланджело. Но обратите внимание, в отличие от того направления, к которому принадлежит Вольтерра, корреджевская линия находит совершенно иной способ потрясти и ошеломить.
Высочайшее творение маньеристской живописи центральной части Италии — ’’Madonna del collo lungo”* Пармиджанино (написанная около 1540 г.). Непонятно, как мог быть почти неизвестен в Испании этот подлинный шедевр целого направления. Продолжая линию Корреджо, его автор создает произведение, замыкающее ее, наиболее значительное и прогрессивное произведение маньеризма. Без сомнения, на полотне—человеческие фигуры. Но приглядимся повнимательней, какие реальные формы человеческого тела художник перенес в картину? Да, почти никакие. Если мы приложим некоторые усилия, мы увидим здесь ногу: то есть для нас очевидно, что данная форма в картине — нога. Но понимание такого рода равнозначно догадке о предмете по его контурам, а не по его реальным очертаниям. Это лишь подобие ноги. Две протяженные, геометрически выверенные линии и легкая штриховка — намек на телесную округлость. Ничего более. Не какая-то определенная нога, а нога вообще. Своеобразие картины не в том, что изображение напоминает ногу, а, наоборот, в выпрямлении линии ноги, с той оговоркой, что реальная нога не обладает тем, что только метафорически может быть названо ’’линией”. Так художник достигает мягкого волнообразного движения двух геометрических линий. Пробегая по ним взглядом, мы испытываем особое наслаждение, улавливая некий скользящий ритм и некую мелодию, порожденную ими. Волнообразный изгиб линий, ритм и мелодия переходят с бедра женщины на ногу младенца Иисуса и продолжаются в линии его тела — детского тела, произвольно удлиненного художником, чтобы добиться необходимого ему
*’’Мадонна с длинной шеей” (ит.).
128
широкого и плавного движения. С младенца волнообразное движение переходит на руку Мадонны, ее плечо, шею и завершается в идеальном контуре ее небольшой головы.
Если мы нарисуем естественную и явную траекторию пути, которым картина вела наш взгляд, мы обнаружим, что она имеет форму ”S”, но такой ”S”, которая, будучи схвачена нами визуально, становится подвижной. Мы ощущаем это движение, эти изгибы, полные неги и сладострастия. Как и нога фигуры, расположенной в левой части картины, все тело этой пленительной женщины есть не что иное, как едва намеченный эскиз, необходимый для того, чтобы мы увидели на полотне нечто, напоминающее женщину. В ней нет ничего от реальной женщины — пальцы правой руки неправдоподобно длинны и тонки, и маленькие заостренные кончики пальцев, кажется, излучают таинственное магическое свечение, ее шея удлиняется и изгибается неестественным образом — и перед нами уже фигура не женщины, а скорее лебедя. И в этом, как и во многих других случаях, она и то и другое одновременно. Мы наблюдаем полное превращение*. Я повторяю, в этих формах нет ничего от реальной женщины, они. были* придуманы с конкретной целью — изображение не должно и не могло напоминать какую-то определенную женщину, но должно было создать лишь своего рода основание для чисто эстетических прелестей, совершенство которых называли ’’красотой”. Мы не будем здесь рассуждать о том, что такое ’’красота”, это увело бы нас слишком далеко от темы. Вспомним только высказывание Менгса, великого австрийского живописца, ученика Винкельмана, много и тщательно занимавшегося эстетическими проблемами и стремившегося в середине XVIII века возродить идеалистическую живопись эпохи Ренессанса. Именно он, будучи приглашенным Карлом III, заказал Гойе его первые картоны для гобеленов. ’’Художник должен проникнуться, — пишет Менге, — каждой вещью, определив, какой он хотел бы ее видеть, и выбрав то, что наиболее соответствует его желанию. Он должен продумать, что надо сделать, чтобы форма стала источником красоты”**. Желаемое! Подражание и Идеал. Первое — ’’самое необходимое, но не самое прекрасное, ибо необходимое не всегда означает самое изукрашенное и живописное; необходимость выявляет недостаточность, украшение — признак избыточности. В целом живопись в большей степени является украшением, нежели потребностью, и, поскольку о вещах судят по их первоначальному замыслу и предназначению, следовательно, и в живописи должно предпочесть необходимости красоту”***.
* Показательным примером преемственности некоторых традиций в народе является фигура человека, расположенная справа в глубине картины у колонны, с куском пергамента в руках. Все в этом фрагменте излучает таинственность: давящая, неоправданная сюжетом колонна, сама фигура и жест персонажа. Нет ли здесь того, что почти в точности соответствует идее, осуществленной не так давно де Кирико?
** Mengs. Obras, р. 19.
***Idem„ р. 20.
129
Франсиско Сурбаран. Святая Касильда. 1640-е гг. Мадрид, Прадо
Эль Греко. Сошествие Св. Духа. 1610—1614. Мадрид, Прадо
Питер Пауль Рубенс. Диана и нимфы. Мадрид, Прадо
Красота, таким образом, заключается в нашем представлении о том, как будут выглядеть предметы, если они станут такими, какими мы бы желали их видеть. Вся итальянская живопись — я имею в виду ту живопись, которая возникает в конце XIV века, захватывает эпоху Возрождения и заканчивается с творчеством Тьеполо — это изображение желаемого, desiderata, а так как желаемое (deseado) всего лишь наша идея, то живопись есть изображение идей. Воображаемое же не сводится к реальному представлению о вещи, а оказывается тем, какой она должна быть согласно нашему желанию, и в таком случае живопись изображает идеальное. Это и есть художественный идеализм или идеалистический стиль. Итальянская живопись — это бегство из реального мира и восторженное странствие по миру потустороннему. Она творит объекты иного мира, каковыми являются всякие поэтические объекты. Мадонна, как уже было сказано, — неземная
132
женщина, подлинное чудо, а не реальность. Поэтому Малларме, понимавший лучше других, по крайней мере в теории, сущность поэтического, создавал свои лирические образы путем абсолютного отрицания мира реальных объектов. Какое мгновение может восприниматься как поэтическое по сути? Ответ Малларме: ’’Мгновение, отсутствующее в реальном измерении времени”. Какая женщина будет эстетически прекрасной и совершенной? Есть много женщин, прекрасных жизненной, земной красотой, их так много, что существование мужчины превращается в почти бесконечное изгнание, ведь их много, а он один... Но эстетическая красота, какой она должна быть? Малларме отвечает: ”La femme aucune, несуществующая женщина”. Итальянская живопись за неполных четыре века истощила себя рисованием несуществующих женщин, подобных этой Мадонне с лебединой шеей.
133
’’Мадонна”, о которой идет речь, была написана где-то около 1540 года. ’’Севильский водонос” Веласкеса был создан не позднее 1618 года. И нам предстоит понять, какой путь проделало искусство за те семьдесят пять лет, что отделяют эти полотна друг от друга? Путь от создания идеальных форм к изображению вещей такими, какими они, к несчастью, являются, от воплощения желаемого к воспроизведению низменных предметов, от причастности божественным сферам к ощущению тягостного присутствия в привычном для нас мире.
Попробуем проследить те изменения, которые постепенно, шаг за шагом происходили в итальянском искусстве между этими двумя датами, и кратко воспроизвести его перемещение из потустороннего мира в реальный. Для начала посмотрим, до каких крайностей доходит маньеризм или стилистика у художников венецианской школы живописи.
Перед нами картина Тинторетто ’’Чудо святого Матфея”. В то время как Пармиджанино совершенствует стиль, искажая линии тела, Тинторетто, учившийся у Тициана, еще не осмеливается на подобные новшества. Созданные им фигуры, хотя и не претендуют на изображение реальных людей, скорее — обобщенных образов, в целом сохраняют естественный рисунок человеческого тела. Стиль Тинторетто — наступательный и победоносный, мы еще увидим, как он пронизывает подобно стремительному потоку полотна Рубенса, — складывается иначе. Где в этой картине мягкая, протяженная и равномерная извилистость форм, которую мы только что наблюдали в ’’Мадонне” Пармиджанино? Ее нет. Вместо этого мы видим награмо-ждение множества фигур в каком-то неистовом движении, будто охваченных безумием. Присмотритесь, ни одно из движений на картине не похоже на естественное человеческое движение, осмысленное и направленное, подобно тем, которые мы совершаем в обычной жизни. У Тинторетто итальянская живопись, по-прежнему придерживаясь принципа находить удовольствие в видимом и внешнем облике человеческого тела, впервые делает телесность отражением состояния души, чаще всего — мистического экстаза. И в данном случае очевидно намерение художника выразить чувства людей, ставших свидетелями чуда. Мы видим страшное потрясение, ужас, смятение, исступленные судороги. Все это выражено не конкретными жестами, а неким условным движением, заполняющим всю картину. Как и у Микеланджело, стилизация, здесь даже несколько утрированная, выражена в формализации чистого движения. В некотором смысле то, что мечется, содрогается, движется и дрожит, это и есть сама картина, составленная из резко очерченных движений, выделяющих — так знак ударения выделяет нужный слог — фигуру святого Матфея. Стремительно, точно гриф или кречет, точно самолет, идущий на посадку, он врывается в пространство картины, двигаясь сверху по наклонной диагонали к воображаемому центру картины.
Взгляните теперь на ’’Вознесение Христа”. Объективные формы почти подавлены откровенно формальным динамизмом. И вот мы уже во владениях Эль Греко, который значительно менее оригинален, чем обычно кажется. У него каждая телесная форма стремится стать чистым пламенем.
134
Питер Пауль Рубенс. Триумф церкви над язычеством.
1628. Мадрид, Прадо
Для того чтобы ясно представить, что составляет сущность движения как стилистической формы в отличие от конкретного, осязаемого, реального движения, посмотрите на ’’Святого Петра” Эль Греко. Он недвижим, и, наоборот, в нем все неспокойно. Волнение и колебание такого рода достигают предела в картине ’’Сошествие святого духа”. Эта картина — уже откровенная истерика, paralisis agitans*. Здесь все охвачено пламенем: частицы огня, помещенные святым духом над головами апостолов, и тела людей, устремленные к ним, тела, уже мало похожие на человеческие фигуры, а больше напоминающие мерцающее пламя. Перед нами — немыслимая грань барочного маньеризма, апогей тревоги и смятения. Полотна Эль Греко так же, как и фрагменты Кеведо, его современника, больны ’’пляской святого Витта”.
* Дрожательный паралич (лат.).
135
Что же было дальше? Уже поколение 1536 года, поколение Эль Греко и Бароччи, бедно великими мастерами. А следом — пустота. Этот ларец пуст, надо открывать другой.
В*
В 1590 году сын ломбардского каменщика Микеланджело Меризи, прозванный Караваджо, сделает первый шаг, который и тогда, и сегодня расценивается (ошибочно, по моему мнению) как бунтарский, идущий вразрез с традицией итальянской живописи. Что же казалось революционным в тех, первых, его полотнах? Караваджо — так говорили и говорят поныне — позволил ’’натуре” проникнуть в картину. Его искусство назвали ’’натурализмом”. В то время картины Караваджо буквально ужасали и потрясали, подобно террористическому акту. Воспринимайте это с некоторой долей условности, каковой всегда обладает историческая реальность. Рассмотрим повнимательней эти ужасные картины. Еще в 1633 году Кар-дучо, старый итальянец, бывший придворным художником в то время, когда в Мадриде появился Веласкес, которого он, сгорая от зависти, преследовал, как только мог, называл Караваджо ’’Антихристом” и ’’Анти-Микеланджело”. Один Микеланджело, Караваджо, пытался свергнуть с престола другого Микеланджело, Буонарроти. Повсюду, и не только в Италии, художников, которые начинали писать в его манере, воспринимали как бандитов и убийц от искусства или как называли Караваджо его первые биографы — torbido е contenzioso**. Любопытно, что собственный тесть Веласкеса, говоря о его ранних бодегонах, утверждал, что он пишет их со ’’спесивым бахвальством”, как и многие другие художники его времени. Среди них и молодой Эррера (старый Эррера тоже писал "бодегоны”). Очевидно, писать в такой манере в ту эпоху было равнозначно непристойной выходке, дерзкому, больше того, агрессивному покушению на святые для общества идеи.
Я уже упоминал во второй лекции, что недели две назад я прочел в одной сан-себастьянской газете хронику ее корреспондента в Италии, где рассказывается о неком итальянце, который, превознося Караваджо в приливе безудержного национализма, заявлял, что нет Веласкеса — есть ’’второй Караваджо”. Это увлечение Караваджо в современной Италии — явление абсолютно новое. Года три назад в одной статье о Веласкесе, опубликованной крупным издательством литературы по искусству (издательский дом Iris-Verlag в Берне), я высказывал сожаление по поводу того, что даже в Италии Караваджо не получил должного признания, хотя и имеет на то полное право, будучи действительно большим художником.
♦ Из четвертой лекции.
♦♦Любящие мутить воду и спорить (ит.).
136
Микеланджело да Караваджо. Обращение Павла.
1600—1601. Рим, церковь Санта Мария дель Пололо
По-видимому, сейчас в Италии хотят исправить эту оплошность. Хочу заметить, что ни в Италии, ни где-либо еще не существует — и едва ли что-то вышло за последние два года, хотя это и кажется невероятным, — ни одного серьезного исследования о творчестве Караваджо. Совершенно непостижимо невнимание самих итальянцев. Но и испанские исследователи, занимающиеся историей великой испанской живописи, о которой мы сейчас говорим, не смогли бы сделать и шага в ее изучении, не уяснив предварительно сути феномена Караваджо. Не было бы никакой срочности, если бы наша великая живопись сформировалась вне влияния ’’караваджизма” или если бы вся она рассматривалась в контексте этого ”изма”. Но ее взаимоотношения с Караваджо значительно более сложны, а потому требуют безотлагательного уточнения. Прежде всего нужно выяснить, когда, как
Хусепе Рибера.
Диоген.
Фрагмент.
1637. Дрезден, Картинная галерея
138
и что восприняли испанские художники начала XVII века из караваджов-ской живописи. Наиболее тесно эта проблема связана с фигурой Франсиско Рибальта*.
Конечно, мне неведомо, что в точности сказал тот итальянец о гениальном живописце, но то единственное высказывание, которое приводит автор газетной хроники, — ’’Веласкес — это второй Караваджо”, позволяет мне утверждать, что он не понимает ни своего Караваджо, ни нашего Веласкеса. Мы вынуждены остановиться подробнее на этом, решающем, моменте: ведь может оказаться, что Веласкес, начиная писать, как и все художники его времени в самой Испании и вне ее, в русле караваджизма, очень скоро обратится к живописи, не просто отличной от караваджовской, но противоположной ей по сути.
Что же показалось современникам, и таковым в действительности и являлось, бунтарским в Караваджо? Он начал с того, что в Испании называлось ’’bodegones”, а в Италии — ’’bambochadas” (как эти две картины перед нами). Само название говорит о том, что местом действия картины является таверна, трактир или кухня и что изображаемые персонажи не святые, не боги, не библейские или мифологические герои (мифология и религия древних представляла собой в то время нечто вроде парарелигии), не цари. Это люди из простонародья, из самых низов общества. Сын каменщика позволил плебеям проникнуть в картину, что произвело впечатление ужасающее, сродни народному бунту, и сразу же перевернуло все общепринятые нормы в живописи (в том, что касается ее тематики) и в обществе. И тогда мы начинаем понимать, что il popolo** в ’’Madonna d’il popolo” Бароччи — народ идеализированный, не имеющий ничего подлинно народного. Когда же вдруг народ показывает свое настоящее лицо, возникает удивление, раздражение, ужас. Но в строго художественном смысле какое новшество, притязающее на революционность, обнаруживаем мы здесь?
Все дальнейшее должно быть проиллюстрировано на примере ’’Обращения св. Павла”, где караваджизм предстает в наиболее полном и резко очерченном виде. Но поскольку в данный момент нас интересуют основные принципы его стиля, которые будут восприняты целым поколением художников, я предпочитаю изложить их, имея в виду картину из музея Прадо, принадлежность которой Караваджо проблематична, но которая, по общему признанию, написана в наиболее близкой ему манере. На ней изображен Давид, отрубающий голову Голиафу. Эту тему использовали бесчисленное количество раз. Казалось, что были исчерпаны все возможные способы ее толкования. Однако здесь традиционный сюжет предстает в новом, неожиданном ракурсе. Эффект, им производимый, сродни тому, которого до
* Спустя несколько месяцев после моих лекций в Сан-Себастьяне, к которым относятся данные заметки, вышла работа ’’Anales у Boletin de los Museos de Arte de Barcelona” (vol.V, 3 у 4, julio-deciembre 1947), где кропотливо собраны обширные данные по этому вопросу.
** Народ (ит.).
139
бивались Тинторетто, Эль Греко и Бароччи — lo stupore. Все упомянутые сегодня картины отмечены одним и тем же — стремлением произвести ошеломляющее впечатление.
Итак, в каждом стиле основополагающим оказывается его ориентация на зрителя, воздействие, которое художник стремится оказать на него. С этой важнейшей для него точки зрения, Караваджо не представляет собой ничего существенно нового. Как и другие маньеристские и барочные художники — и первый из них Микеланджело, он намерен потрясти нас. Эль Греко, чтобы поразить нас, прибегает ко всем тем изломам, которые мы имели удовольствие наблюдать. Случилось так, что после двух поколений итальянских мастеров, которые никак не могли изобрести нового способа ошеломить зрителя, Караваджо находит его. В чем он заключается? В трех основных моментах, следующих друг за другом в определенной последовательности. Первый: Караваджо пришла в голову необычайно простая и гениальная идея — почти не оставлять свободного, незаполненного пространства в верхней части картины. Это придает образу монументальный, как бы сверхъестественный характер, тем самым закладывая тип юноши Давида. В то же время следует предупредить, что картина совсем небольших размеров: ПО х 91 см. Как любая стилистическая и формальная идея, она была гениальна. Нельзя сказать, что это дает основание говорить о Караваджо-натуралисте. Речь идет о чисто геометрическом соотношении, измеряемом с помощью метра. Среди прочих данная особенность каравад-жовского стиля является отличительной, и где бы мы ее ни встретили, мы всегда сможем распознать его влияние. Если бы историки искусства повнимательней изучили творчество Караваджо, они бы заметили этот его стилистический принцип, вместо того чтобы блуждать в туманных далях его ’’натурализма”. И не возникало бы необходимости изображать некую беспомощность, когда встает вопрос, решающий в истории нашей живописи, был Рибальта караваджистом или не был?
Будучи значительно старше Караваджо, Рибальта, конечно, не был им вначале. Но он жил в Валенсии, Валенсия же была городом, через который в Испанию проникали все последние веяния итальянского искусства, и, хотя Рибальта, как предполагается, не путешествовал по Италии, когда Караваджо начал писать, он тем не менее познакомился с его творчеством и стал писать картины в его манере, как, например, хранящаяся в Прадо ’’Коронация терновым венцом святого Франциска”. Отсутствие свободного пространства в верхней части картины равнозначно предъявлению самого точного свидетельства, подтверждающего его караваджизм.
Вторая характерная особенность творчества Караваджо заключается в особом способе использования светотени. До сих пор это был весьма абстрактный элемент живописи, использовавшийся обычно для подчеркивания телесного объема и округлости форм. Взаимодействие светлого и темного, другими словами, освещение картины было условным, произвольным, так же как и сам рисунок, — мы видели это у художников-маньери-
140
Бартоломе Эстебан Мурильо. Святое семейство с птичкой.
1645—1650. Мадрид, Прадо
стов. Таким образом, светотень — лишь чистая форма и инструмент, то есть нечто, с помощью чего рисуются предметы, при этом не являясь предметом или вещью, который рисуют и копируют. У Караваджо изменяется функция светотени. Она удваивается, и один компонент этой двойной функции совершенно отличен от другого. Не обнаружив этого дуализма, не раскрыв каждого из двух его различных смыслов, мы никогда не сможем полно охарактеризовать творчество Караваджо.
С одной стороны, Караваджо есть не что иное, как еще один шаг в традиции использования приема светотени в живописи маньеристов: шаг к его крайнему преувеличению и чрезмерной стилизованности. Караваджо делает светлое ослепительно светлым, темное — непроницаемо темным, благодаря чему достигает резкого контраста, порождающего чисто формальный драматизм. В его полотнах свет и тень сходятся в смертельной дуэли и дерутся на шпагах. Караваджо развивает и усиливает технику так называемой ’’сумрачной” (’’tenebrosa”) живописи, начало которой положи-
141
Алонсо Кано. Мертвый Христос, поддерживаемый ангелом. 1640-е гг. Мадрид, Прадо
ли отец и сыновья Бассано. Обратите внимание: в картинах, которые мы только что видели, свет и тень, словно два зубца клещей или щипцов, свирепо впиваются в предмет — будь то человеческая фигура или вещь — и терзают его на наших глазах.
И третье: вторая функция светотени у Караваджо не имеет ничего общего с предыдущей. В своей новой функции или роли светотень уже не просто стилистическая форма. Суть ее заключается в следующем. Вместо того чтобы накладывать условный свет, как это делалось до сих пор, Караваджо решает изобразить естественное освещение, выбирая, однако, искусственно выстроенные световые комбинации: свет в пещере, где один луч резко высвечивает фрагмент фигуры, погружая остальную ее часть в кромешную тьму. Именно так свет становится ошеломляющим, волнующим, драматичным. Но в конечном счете это свет естественный, срисованный с натуры, а не изобретенный. Такого рода свет возникает в ранних бодегонах Веласкеса (вспомните картину ’’Севильский водонос”).
Но если мы сейчас обратим внимание на другие элементы картины, то убедимся, и в том нет ни малейших сомнений, что Караваджо помимо всего прочего великолепно продолжает идеалистическую традицию итальянской живописи: и Давид, и голова Голиафа, написанные с подчеркнутой округлостью форм, демонстрируют вместе с тем идеально гладкую поверхность плоти — такой плоти реально не существует. Короче говоря, здесь применены все приемы маньеристской живописи. Ярчайшее доказательство тому вы можете наблюдать в картине ’’Смерть святого Матфея”, где мы можем насчитать по меньшей мере пять фигур serpentinate, иными словами, неестественно закрученных, изогнутых*.
Влияние Караваджо на живописное пространство европейского континента, то есть на итальянскую живопись, было огромным, распространилось оно молниеносно. Почти все без исключения художники во всех странах стали писать, по крайней мере в течение какого-то времени, в манере Караваджо.
Теперь подведем некоторые итоги. А именно: у Караваджо есть только одно, что оправдывает определение его творчества как натурализм или реализм, — свет. Свет стал тем первым, безымянным существом, которое было написано реалистически. Но каждый, кто будет искренен, признает, что выражение ’’реалистическая живопись” подразумевает, что художник копирует объекты по возможности максимально точно, будь то вещи или люди, но это не значит, что художник будет копировать лишь естественное освещение. Отсюда следует два важнейших умозаключения: первое — довольно глупо называть искусство Караваджо натуралистическим или реалистическим; второе, более плодотворное, содержит в себе важное методологическое замечание — необходимо выяснить, что происходит в жи
* У Веласкеса самой изогнутой фигурой является фигура пряхи, сидящей справа, в самой итальянской его картине ’’Пряхи”.
143
вописи со светом за те несколько лет, что отделяют Веласкеса от Караваджо. От полотен Караваджо к последней картине Веласкеса, конечной точке его пути, история живописи являет собой величайшее путешествие в страну света, подлинного света, освещающего мир, в котором мы живем.
Думаю, что историки искусства должны были попытаться увидеть Веласкеса как бы выныривающим из вод итальянской живописи seicento*, первой его половины. Вот почему долгое время было принято приписывать Веласкесу портреты, написанные итальянскими мастерами той эпохи. Не стоит, однако, поддаваться искушению изыскивать всюду те или иные влияния. В истории всех видов искусства проявляются и приобретают особую значимость как влияния, так и совпадения тех или иных приемов, одновременные, естественным образом возникающие совпадения художественных форм у многих художников, относящихся к одному этапу эволюции того или иного вида искусства.
К несчастью, итальянская живопись seicento, которую обычно оценивают как период упадка, еще недостаточно изучена* **. Но можно многому научиться и не выезжая в Италию. В мадридском музее Прадо хранятся картины художников, сегодня мало ценимых, но пользовавшихся несомненным успехом в ту эпоху, о чем свидетельствует количество, в котором они закупались во времена Филиппа IV. Я имею в виду Джентилески, Гверчино, Сарачени, Серодине, Станционе, Ланфранко, Ваккаро и других. В этих картинах нас прежде всего интересует цветовое решение.
V
[ЧЕТЫРЕ ТЕЗИСА]***
В предыдущей лекции я коротко изложил несколько положений, или тезисов, которые, как мне представляется, заслуживают внимания и нуждаются в анализе, что неизбежно влечет за собой критику существующих подходов к изучению искусства, как и всех методологических основ науки, носящей нелепое название ’’философии истории”. Дабы восстановить логическую связь и освежить вашу память в отношении уже сказанного, быстро повторю некоторые из моих тезисов. Сделать это меня понуждает еще одно соображение. Мне показалось, что в прошлый раз многие меня не расслышали. Тем самым я подверг вас одной из самых страшных пыток — вам пришлось быть слушателями, которые не слышат. Тому две причины. Во-первых, я был нездоров, и у меня болело горло, а во-вторых, я совершил ошибку (из тех, о которых мы говорили в первый день и которые есть
♦XVII век (ит.).
** Когда я занимался Веласкесом, тогда, в 1943 году, на эту тему было написано всего три книги, из которых я смог прочесть только одну, любезно предоставленную мне сеньором Санчесом Кантоном.
*** Из третьей лекции.
144
следствие неведения или недомыслия), не приняв во внимание акустические свойства зала. Желая избежать чрезмерной торжественности, я отказался от председательского кресла и заставил вас мучиться целых полтора часа, да и сам пострадал. Потому сегодня убедительно прошу вас: если в какой-либо части зала будет плохо слышно, бросьте мне громкое ”не слышно” — знаете, как пелотари посылает мяч, — а я попробую его поймать и форсировать звук. Очень важно, чтобы даже на самых дальних местах меня слышали хорошо, а не довольствовались слабым эхом моих слов.
Итак, сегодня я хочу остановиться на четырех тезисах.
Тезис первый. Любое человеческое деяние — будь то мазок, слово или поступок — всего лишь фрагмент, часть. И по-настоящему понять его можно, лишь включив в единое целое человеческого мира, взятого как законченный организм, живая и самодостаточная сущность. Отсюда следует, что в основе исторического метода лежит умение в каждом конкретном случае обнаруживать эту завершенную, самодовлеющую, первичную реальность, к которой относится и данный факт. Все серьезные ошибки историческая наука допускала именно тогда, когда причисляла отдельные явления к реальности, которая, в свою очередь, была лишь частью, фрагментом, а не единым живым организмом. Назовем их поэтому ошибками анатомическими.
Тезис второй, вытекающий из сказанного. Ни Сурбаран, ни Веласкес, ни Рибера — эти три вершины, символизирующие испанскую живопись до Гойи и составляющие ее славу, — не могут быть должным образом поняты, если их соотносить с некой предполагаемой самостоятельной реальностью, которую принято называть ’’испанская живопись”. Дело в том, что ’’испанской живописи” как независимой, самодовлеющей и целостной реальности попросту не существует, как не существует и живописи французской, немецкой или английской. До конца XVIII века в Европе вообще нет иной объективной, самоценной и завершенной реальности, кроме итальянской живописи. Все остальные европейские школы — лишь области и провинции этого бескрайнего континента. Правда, поначалу неподалеку от его берегов располагается небольшой остров. Это фламандское искусство, которое возникает неожиданно и само по себе, некоторое время питается собственными соками, хотя и осваивает куда более скромное пространство, а с 1500 года постепенно поглощается итальянской живописью. В брошюре, розданной вам на первой лекции, отмечено, что с 1550 года — запомните эту дату! — фламандские живописцы, подобно французским, немецким и английским, отправляются учиться в Рим. Безусловно, кое-что из фламандской живописи переходит в итальянскую, например сама техника работы маслом. Но, сделав эту оговорку, мы далее можем смело утверждать, что с начала XVI века в данной области культуры существовала единственная подлинная самобытная реальность — итальянская живопись.
Тезис третий. Процесс эволюции, охвативший этот континент итальянской живописи, нормален для любой сферы культуры, будь то искусство,
145
техника, наука, политика или религия. Этот нормальный эволюционный процесс характеризуется двумя устойчивыми чертами. Во-первых, изобретения и находки, которые позднее воцарятся на всем пространстве, поначалу возникают в одном месте, которое впоследствии определяют как центр. Отсюда они постепенно распространяют свое влияние на новые области, пока наконец не достигнут периферии, finis terrae, самых отдаленных пределов данной территории. Часто эти окраины совпадают с географическими границами материка. Если же культурная окраина граничит с принципиально иной культурой, то мы имеем дело с особым историческим явлением, которое вынуждены назвать sensu s trie to ’’пограничной культурой”. Прямым следствием постепенного распространения тех или иных культурных принципов является поздний расцвет периферии.
Во-вторых, — и это является прямым следствием первой особенности — данные культурные основы не только зарождаются в едином центре как, например, живопись — в Италии. Здесь же они достигают наивысшего расцвета, а также более всего подвержены изменениям, в результате чего один стиль сменяется другим, как из рога изобилия, до той поры, пока источник изобретательности не пересохнет. Тогда наступает период, когда остается лишь перебирать, комбинировать, оживлять старые формы, с чувством некоторой пресыщенности проматывая богатое наследство. Но именно в это время на периферии происходит внезапный расцвет новых форм, порожденных исходными культурными принципами на последнем издыхании и предвещающих нечто новое, принципиально иное. Таким образом, итальянская живопись заканчивается во Фландрии Рубенсом, Франсом Халсом, Ван Дейком, Рембрандтом, во Франции — Пуссеном, Клодом Лорреном, Кайло и Валантеном, в Испании — Сурбараном, Веласкесом, Мурильо.
Вот почему неожиданный взлет испанской живописи, совпавший с приходом в искусство поколения 1596 года, взлет, ничем на полуострове не подготовленный, возникший как бы на голом месте, на самом деле — явление вполне нормальное, так сказать, частный случай общего закона эволюции всякой культуры.
В Испании этот закон проявляется с особой силой. Вспомните, ведь кроме идеи государства, политики и военной техники — сферы, в которых Испания опережала другие страны Запада, — во всех остальных отраслях исторической морфологии крепкие, заметные формы возникают у нас с явным запозданием. Так, незадолго до появления Веласкеса севильская школа живописи представлена главным образом иностранцами, не говоря уже о ее стилистике.
Наша живопись расцветает в тот самый момент, когда истощается искусство итальянское. Испании вообще свойственно являться к концу праздника. То же самое произошло в области, столь далекой от живописи, как философия. Лишь два века спустя, после того как в Европе, родине схоластики, умер последний схоласт, в Испании откуда ни возьмись появляются великие Суарес, Фонсека, Арриага и теологи Тридентского собора.
146
Как я уже говорил, между 1300 и 1600 годами итальянская живопись достигает таких немыслимых высот, что всякие попытки вписать ее в исторический контекст народов, занимающих в этом великом движении периферийное положение, лишь еще больше подчеркивают их провинциальную глухоту. Нечего и говорить, испанская живопись принадлежит Испании, но именно поэтому и в силу особенностей своей судьбы она является частью огромного материка итальянской живописи, так сказать, ее завершающей фазой.
Тезис четвертый, последний. Изначальная, глубинная структура любой картины принципиально двойственна. С одной стороны, она вбирает в себя естественные формы предметов, на ней изображенных, а с другой — художественные, или стилизованные, формы, которым художник подчиняет реальность. Именно борьба этих двух типов форм придает искусству движение. Картина становится эстетическим художественным творчеством лишь в результате стилизации. Иначе говоря, искусство возникает не там, где есть сходство с изображаемым объектом, а там, где есть стиль. В противном случае оно утратило бы всякий смысл. Ведь нет никакой нужды прилежно воспроизводить предметы реального мира, которые и так всецело поглотили, поработили, подавили человека. К чему задваи-вать действительность? С нас вполне достаточно одной, той, что у нас уже есть. Ей и самой не хватает чего-то существенного. И вот чего: вся окружающая нас реальность, весь этот мир, кажущийся нам таким большим, — в свою очередь, всего лишь осколок (конечно, не в герменевтическом, а в метафизическом смысле) и потому как таковой лишен смысла. Поэтому мы обречены на вечный, мучительный поиск недостающей части, которая навсегда сокрыта от наших глаз и которая зовется Богом, Deus absconditus.
Искусство, подобно фокуснику, ловко подменяет действительность, которая сама по себе давно наскучила и опротивела человеку. Художник сродни великому престидижитатору, чародею, развоплощающему реальность. Техника подобного развоплощения зовется стилем, а поскольку способы развоплощения разнообразны, а подчас и противоположны, то и стилей может быть сколько угодно. Сказанное мною особо важно для понимания Веласкеса. Его живопись принято называть реалистической, что, если вы примете мою формулу ’’искусство есть развоплощение реальности”, должно вас немедленно насторожить. Вам станет ясно, что назвать произведение искусства реалистическим — наилучший способ ничего о нем не сказать, хотя исследователи то и дело повторяют это слово, будучи уверены в его многозначительности.
Скоро мы увидим, что же на самом деле скрывается за всей этой болтовней о реализме. Однако сначала я позволю себе завершить изложение своего последнего, четвертого, тезиса.
Итак, мы установили, что в любом полотне можно обнаружить формы реальных предметов и их художественное искажение — формы стилистичес
147
кие. Благодаря первым, мы узнаем и понимаем то, что изображено на картине; благодаря вторым — получаем эстетическое удовольствие. Условимся называть запечатленные объекты ’’содержанием”, тогда как слово ’’форма” будем применять по отношению к стилю. А теперь посмотрите, какая драма разыгрывается в каждом произведении искусства. Леонардо располагает фигуры таким образом, что они образуют треугольники или пирамиды. Но вряд ли нас могли бы взволновать геометрические фигуры в чистом виде. Такая картина вызвала бы у нас эмоций не больше, чем классная доска, и мы оставались бы так же бесчувственны, как пасущаяся на лугу корова.
Для того чтобы испытать эстетическое наслаждение, необходимо, чтобы реальные предметы, столь не похожие ни на треугольники, ни на пирамиды, оставаясь самими собой — скажем, человеческими телами, — в то же самое время стали треугольниками или пирамидами, то есть чем-то совсем иным. Этот хитрый трюк, эта вечная волшебная метаморфоза и составляет суть искусства. В нем заложена чудесная способность вызволять любую вещь из неумолимых пут судьбы, из того плена, где каждый предмет приговорен быть только таким, какой он есть, и дать ему возможность стать немного другим, отдохнуть от самого себя, вырваться из границ привычного бытия и насладиться возможностью, дарованной только богам, — возможностью не быть самим собой. Почему-то никто не обращал внимание на то, что метаморфоза—исключительное свойство мифологических существ. Люди, а вместе с ними и весь реальный мир, его начисто лишены. Человек, животное, минерал — вечные пленники своей собственной формы, составляющей их суть и судьбу. Человек по своей природе — сам себе и пленник и темница.
Итак, чтобы стилизованная форма была понята и прочувствована, ей необходимо содержание, реальные формы. Внутренняя драма картины, которая, по сути, придает динамику всему искусству, заключается в том, что, будучи заинтересованы в стиле, мы всякий раз просим ’’больше стиля” — подобно тому как в свое время в бое быков требовали ’’больше всадников”, — пренебрегая содержанием ради формы. Художник мыслит так же, и каждое новое поколение стремится к господству все более чистых стилистических форм, изнуряя себя попытками превратить реальные предметы в то, чем они не являются, раскрепостить их, иначе говоря, окончательно их стилизовать. И вот наступает такой момент, когда искусство почти полностью избавляется от содержания и изобразительности, трансформируясь в чистый стиль, голую форму, после чего оно испаряется, улетучивается, рассеивается, как дым, гибнет. Всякое искусство, господа, погибает от стилизации, и потому, чем больше в нем чистого стиля, тем оно ближе к кончине. Цикл завершен, и все должно начаться заново. Повторяю, так происходит не только в живописи, но и в истории других видов искусства, как, впрочем, и в истории любых форм человеческой деятельности. Скоро вы сами в этом убедитесь, ибо на следующей лекции я попытаюсь, насколько позволит время, воспроизвести образ Испании, и в особен
148
ности Мадрида, в те времена, когда там жил и творил Веласкес. Только вместо слова ’’стилизация”, принятого нами в отношении живописи и скульптуры, говоря о прочих сферах человеческой жизни, будем употреблять слово ’’формализм” — и таким образом избежим путаницы.
Итак, в основе человеческой эволюции лежит закон, согласно которому любая стилизация означает смерть. Возьмем, к примеру, искусство тавромахии. Оно, несомненно, находится в состоянии агонии, поскольку вот уже четверть века, как вступило в зону иссушающей, мелочной, бесплодной стилизации. Причин тому множество, и они весьма разнообразны. Можно сказать, что повинно изменение всей структуры испанского общества, но вряд ли это что-либо для вас прояснит. Ибо ни один испанец, пусть вам будет стыдно, не сказал об истории тавромахии — этом празднике, который на протяжении веков служил неистощимым источником высшей радости для нашего народа, — ничего стоящего. Пришлось мне, далеко не самому большому поклоннику этого зрелища, взяться за создание правдивой и серьезной истории боя быков, которая к тому же в полной мере соответствовала бы современному уровню науки. И это при том, что меня то и дело обвиняют в преклонении перед всем иностранным! Другие же оказались неспособны освежить свою душу и ум и приступить к теме, которую считают мелкой — как будто бы в реальной жизни есть хоть что-либо незначительное! На самом деле они попросту спасовали перед темой, которая не была канонизирована, общепризнана, которая не стала общим местом. Именно к ним я обращаюсь и решительно заявляю: историю Испании после 1650 года не понять, если не воссоздать со всей аккуратностью историю корриды. Причем речь идет не просто о бое быков, который в той или иной форме существовал на полуострове еще три тысячелетия назад, а о корриде в современном смысле слова.
Подобная история помогла бы вскрыть самые потаенные секреты жизни испанского общества на протяжении почти трех веков. Мы бы наконец получили единственный надежный способ уйти от абстрактных суждений и создать точную картину нашего общества, которое по своей структуре во многих отношениях противоположно той норме, что утвердилась в других великих государствах Европы.
VI
ФОРМАЛИЗМ*
Веласкеса нельзя понять, если не рассматривать его как полную противоположность вкусам эпохи. Ошибочно думать, что великие люди непременно являются выразителями своего времени, если только не считать, что свое время можно выражать, противореча ему. На самом деле все обстоит
♦ Из четвертой лекции.
149
иначе: великий человек потому и велик, что противостоит своей современности. Он весь — предчувствие, он — само будущее, рвущееся сквозь настоящее. Ибо настоящее всегда обречено на то, чтобы вот-вот обратиться в прошлое, живое созидание сменилось в нем омертвевшим результатом, оно подобно ракете, но не тогда, когда она дерзко взмывает над черной пучиной ночи, а в тот миг (ведь настоящее всегда только миг), когда ее искры, словно неподвижные звезды, замирают на небосклоне, чтобы тут же осыпаться пеплом. В Испании XVII века я нахожу только одного человека, шедшего наперекор своему времени, — Веласкеса. Причем его противостояние даже не имело форму вызова. Просто он жил по-своему. Я не берусь — да и не имею возможности — детально описывать все устремления той эпохи, однако в целом их можно определить одним словом — ’’формализм”. Постараюсь пояснить этот термин.
Жизнь всегда протекает в тех или иных формах. Иначе говоря, все наши действия, какими бы случайными и спонтанными они ни были, не выходят за рамки готовых образцов, доставшихся нам извне. Независимые и самостоятельные поступки — большая редкость. Таков универсальный закон. Скажем, в политической жизни поведение как правителей, так и подданных подчиняется более или менее жестким правилам. То же самое происходит с нашими чувствами и страстями. Что же касается образа мыслей, то он задан не только общей структурой нашего языка, но и конкретными стилевыми предпочтениями эпохи.
Вот почему содержание наших действий, вызванных теми или иными обстоятельствами, само по себе не имеет для нас исчерпывающего значения. Вдобавок мы склонны находить удовольствие в соблюдении принятых жизненных форм. Более того, мы полагаем, что наша жизнь просто обязана соответствовать предписанным формам, а потому из кожи вон лезем и готовы на любые жертвы, лишь бы этого добиться. В результате, наше существование странным образом напоминает спортивную игру. В каждую эпоху преобладает тот или иной набор форм, и жизнь состоит в том, чтобы сыграть в них как можно лучше.
Однако самое удивительное состоит в том, что любая эпоха (если только, невзирая на ее продолжительность и многочисленную смену поколений, народ продолжает оставаться единым целым) почти неизбежно приходит к гипертрофии этих форм, когда они разрастаются столь пышно, что полностью глушат изначальное живое содержание. На этом этапе форма становится формализмом. Впрочем, перейдем от общих рассуждений к конкретному событию, случившемуся в годы юности Веласкеса.
Дон Франсиско де Мельо поступил на военную службу в 1626 году, отплыв от Коруньи в составе флотилии, которой командовал дон Мануэль де Менесес. Недалеко от Сан-Хуан-де-Лус эскадра потерпела крушение. Вот что рассказывает об этой чудовищной катастрофе Мельо, который вместе с адмиралом находился на флагманском судне.
150
”В ночь, когда случилось несчастье, я ни на секунду не покидал дона Мануэля, коему обязан участием и наукой; и когда он решил сменить костюм, мы последовали его примеру, надев на себя все самое лучшее, дабы в случае смерти сей пышный саван послужил бы, как он надеялся, залогом достойного погребения. Во время всех этих приготовлений, погрузивших нас в горестные размышления, дон Мануэль достал бумаги, которые повсюду с собой возил, выбрал из них одну и, оборотившись ко мне (ибо я уже неоднократно проявлял свою склонность к поэтическому искусству), спокойно сказал: ’’Вот сонет, который Лопе де Вега подарил мне, когда я покинул двор. В нем прославляется кардинал Барберини, посол Верховного Понтифика Урбана VIII”. После чего он его зачитал и принялся излагать свое суждение, как если бы находился в мирном кругу академии, и на примере одного стиха, показавшегося ему неудачным, тут же пояснил мне, что такое плеоназм и лжесинонимия и чем они друг от друга отличаются, причем все это он проделал с таким самообладанием и спокойствием, что воспоминание о той сцене навсегда запечатлелось в моей памяти. Объяснения его увлекли меня настолько, что я совсем забыл об опасности”. Вот какой выдержкой обладали тогда воины.
После того как корабль спасся, генерал поручил дону Франсиско предать земле более двух тысяч погибших, чьи тела волны носили у входа в гавань и время от времени выбрасывали на берег*.
Этот случай, конечно же, исключительный, и потому Мельо решает его увековечить. Но он является крайним проявлением того, что в разных дозах содержалось в повседневной жизни тогдашней Испании. Когда дон Мануэль де Менесес в разгар бури, предвещающей неминуемую гибель, перед лицом смерти, надевает свой парадный костюм, становится понятно, что в этом героизме, в этом самообладании, поставленном на службу трагическому и торжественному формализму, нет ни капли импровизации. Напротив, перед нами естественное проявление определенного этоса и соответствующих правил поведения, которые и порождают в людях virtus**, или готовность к подобным поступкам. Речь идет о важнейшем в жизни деянии, когда рядом оказывается смерть. И что мы видим! Для гибели выбирают самый роскошный и пышный наряд, а в ожидании ее предаются беседе о самом формальном из области форм — о риторических и поэтических приемах, которые были тщательно каталогизированы, истолкованы и освящены в трактатах тех лет. Испанский адмирал вступает на порог иной жизни, то есть смерти, держа в руках сонет Лопе де Веги. Данный факт мне представляется в высшей степени значимым для историка, и надеюсь, объединив усилия, нам удастся извлечь из него всю полноту самысла. К сожалению, придется оставить эту тему, так как она увела бы нас слишком
♦ Melo. Ephanaforas de varia historia portuguesa. Lisboa, 1677. P. 249. Этот же случай приводит дон Хасинто Октавио Пикон в своем введении к ’’Войне в Каталонии”, изданной Испанской академией.
♦♦Доблесть, добродетель (лат.).
151
далеко в сторону*. Нам пришлось бы обратиться к формам, которые в то время принимает религиозная жизнь, исследовать тогдашний институт монархии, и так, один за другим, перебрать все аспекты коллективной жизни эпохи.
Я сказал, что случай, описанный Мельо, можно считать крайним проявлением формализма, что, однако, еще не свидетельствует о его исключительности. Ведь тогда бы он не выявлял глубинного сюжета эпохи. Однако происшествие, пересказанное Мельо, ограничивается пространством адмиральской каюты и разворачивается на глазах у нескольких офицеров, тогда как вся остальная Испания ни активно, ни пассивно в нем не участвует. Другие же случаи, при внимательном рассмотрении, оказываются более яркими и характерными для эпохи. Вот, например, событие, в которое была вовлечена вся страна.
Если бы у любого испанца тех времен спросить, что взволновало его, да и всех его соотечественников, более всего, он наверняка указал бы (и тому есть немало подтверждений) на событие, которое Андрес де Альман-са-и-Мендоса описывает так: ’’Вчера, в четверг, двадцать первого октября 1621 года был незабываемый день из всех, что видел наш век, ибо смерть Родриго Кальдерона, казненного на Главной площади Мадрида, стала еще одним убедительным свидетельством ничтожности удела человеческого”.
Дон Родриго Кальдерон сумел достичь высших постов на государственной службе и, злоупотребляя положением, стяжал несметные богатства. Своими интригами и пристрастием к роскоши он заслужил при Филиппе III всеобщую ненависть, что, в конечном итоге, и привело его на плаху. Но отнюдь не изменчивость и превратность человеческой судьбы, о которых так заученно говорит Альманса на процитированной странице ’’Писем”, превратили эту казнь в незабываемое событие века. Случилось нечто куда более оригинальное, в чем, можно сказать, приняли участие все испанцы и что выворачивает наизнанку приведенный ранее затверженный трюизм. Действительно, пролистав несколько страниц ’’Писем”, мы узнаем, как радостно и восторженно содрогнулась вся Испания, увидев (а тот, кто отсутствовал, — услышав), как дон Родриго Кальдерон ”не дрогнув взошел по ступеням и изящно скинул на плечи капюшон, и в унижении являя величие и твердость духа”. Воистину, незабываемое событие. Только подумайте: служебная нечистоплотность сделала из дона Родриго самого ненавистного человека в стране и привела его к расплате и гибели. Но одного ’’изящного” жеста на ступеньках эшафота оказалось достаточно, чтобы стереть из народной памяти былое недовольство и в одночасье превратить
♦Как было сказано в предисловии, данный отрывок представляет собой наброски для лекций, прочитанных летом 1947 года в Сан-Себастьяне. Однако позже, выступая перед публикой, я развил эту тему несколько глубже. Однако целиком мои взгляды изложены в недавно отредактированной книге о Веласкесе, а потому сейчас мне представляется неуместным вдаваться в эту самую важную для меня область историографических штудий.
152
преступника в героя, прославленного на всю Испанию. Вспыхивает настоящая борьба за личные вещи покойного, которые, по документальным свидетельствам тех лет, вдруг возникают в самых неожиданных местах.
Так, один из документов рассказывает о том, как герцог де Ногера, впав в меланхолию, засек себя до смерти теми самыми розгами, которыми в темнице истязал себя дон Родриго*. Если мне не изменяет память, герцог приобрел эти розги у одной монахини, которая хранила их как реликвию. Каким образом эти орудия аскезы попали в женский монастырь, в келью затворницы? Другой пример. Дон Хуан де Эспина хранил в своей коллекции, составленной из вещей самых редких, наглазную повязку и тесак, использовавшиеся при казни Родриго Кальдерона. В своем завещании он отписал эти смертоносные вещицы королю, предупредив, чтобы ”он брал тесак весьма осторожно, ибо в свое время он грозил гибелью одной из величайших голов Испании”**. Такое внезапное превращение вещей казненной знаменитости (казненной, заметьте, под непосредственным давлением общественного мнения) в своего рода реликвии — факт, поистине ошеломляющий. Но он становится еще поразительнее, если вспомнить, что причиной послужил всего лишь жест, формальное изящество единственного движения. На этот раз событие не сводится к действиям протагониста, но включает в себя также и реакцию многочисленных испанцев, потрясенных этим стилистически точным жестом перед лицом смерти.
Впрочем, подобная реакция общества тоже не случайна. Ведь мы имеем дело с народом, понимающим язык тела, а потому культивирующим искусство позы, уделяющим немалое внимание именно его формальной стороне. Уже в ’’Доротее” Лопе де Вега отмечает: ’’Главная прелесть в женщинах и мужчинах — красивая походка”. Вот вам еще одна тема для исследования — история испанской ’’грации”.
Разве это не формализм? Заметьте, в случае с Родриго Кальдероном в небрежении остается серьезное содержание жизни, все внимание обращено на утонченную мускульную риторику. Ее достаточно, чтобы этот человек прославился в испанской истории не своими подвигами или преступлениями, но всего лишь тем, как он взошел на эшафот. Наш язык увековечил его в словосочетании ”дон Родриго на плахе”. Не правда ли, поразительная модель бессмертия?***
После этого нас не удивляет, что от Педро Такка, автора конной статуи Филиппа IV, требовали, чтобы лошадь была непременно поднята на дыбы — вот образец формализма, посягающего даже на лошадиные конечности.
В том же ключе следует рассматривать испанскую поэзию эпохи Филиппа IV.
Литература и философия на этом этапе становятся подлинной общественной силой. Вообще было бы чрезвычайно важно добиться точного
♦ Письма иезуитов. Т. IV. С. 430, 432.
** Там же. С. 493.
♦♦♦Здесь уместно напомнить, что Филипп IV был просто вынужден издать ’’Указ о хороших манерах”.
153
определения периода, пролегающего между 1600 и 1660 годами. Мы бы получили хороший пример того, какой должна быть подлинная история, исследующая непрерывную изменчивость, которая и составляет суть человеческого феномена. Ибо меняется не только содержание жизненных форм — в нашем случае словесности, —: но и сама реальность во всех ее измерениях, в том числе силы, определяющие жизнь общества.
Чтобы точно измерить ’’артериальное давление” литературы в европейском обществе той эпохи, необходимо — пусть схематично — представить, как функционировало художественное слово в обществе с 1300 года и до наших дней. Только тогда мы сможем понять поразительный рост литературы в качестве социальной силы между 1300 годом, когда она всего лишь игра для избранного круга, и 1730 годом, когда она приобретает подлинную власть над обществом, становится самостоятельной, независимой, активной силой, способной не только действовать, но и повелевать. Вот почему слово бытует как сила, а не просто как желание, тяга, стремление, борьба. Литература берет власть в 1730 году и удерживает ее до 1920-го.
Таким образом, между 1600 и 1660 годами слово еще не обрело силу власти. Лишь около 1690 года оно начинает ’’царствовать” в Англии, которая по своему обычаю всех опережает. Чем же была литература, еще не получившая власти, но приблизившаяся к ней почти вплотную? Вопрос сложный.
Она все еще необязательная роскошь (лишь власть превратит ее в необходимость). Однако, следуя какой-то смутной догадке, писательский труд ставится выше других видов деятельности — войны и ведения хозяйства. Еще не совсем хорошо понимая почему, в словесности видят синоним цивилизации и в этом смысле humanitas*.
Ею еще нельзя зарабатывать на жизнь — для того нет четких, отлаженных и надежных механизмов. Ни наука, ни философия (до появления Декарта) не проникли в личностный мир человека. Да и для самой литературы это все еще редкость (исключения составляют, например, Сервантес или Шекспир). Удачи не обретают "нового качества", не распространяются на литературу в целом.
Однако, с другой стороны, круг участников этой игры расширился настолько, что в нее оказалось так или иначе вовлечено почти все общество. Литературу еще не выбирают, но ей уже принадлежат. Поэты и мыслители — по-прежнему своего рода ’’скоморохи”, но их ремесло ценится все выше, все больше отождествляется с самой сутью человеческого удела, то есть уже почти осознается как необходимость, обязанность, религия. ’’Liberty and letters!”** — воскликнет в конце XVII века Шефтсбери, как бы подводя итог всем устремлениям эпохи.
Мало кто принимает в расчет, что формализм заложен в самой природе поэзии. Стих родился из потребности отдалить, возвысить и возвеличить
* Человечность, все достойное человека; взаимное благорасположение (лат.).
**’’Свобода и слово!” (англ.)
154
предмет. Изначально он служил магической формулой — carmen* — посланием в запредельный мир. Посмотрите, как поздно проникает в поэзию разговорная речь. Так, Гомер пользуется языком, на котором никто не стал бы обращаться к своему соседу, языком условным, придуманным ad hoc для эпического гекзаметра и потому исключающим всякую интимность, отчего сказанное никогда не имело отношения к индивиду. Трагедия знает два языка. Диалоги ведутся на аттическом наречии, хор же откликается на традиционном со времен Стесихора языке хоровой лирики, который являл собой смесь языка эпоса (в свою очередь, продукт смешения) и дорийского диалекта.
Местные наречия чаще всего считались низкими для поэзии, в том смысле, в каком мы говорим о низком происхождении. Языку, чтобы слиться с поэзией, необходимо стать ’’объективным”, утратить интимность, отдалиться от человека.
Что касается Испании, то, без сомнения, именно в первой половине XVII века поэзия наводнила собой жизнь страны. Без преувеличения можно сказать — буквально все принялись слагать стихи, что для самой поэзии не предвещает, как правило, ничего хорошего. Превратить ее в привычное, будничное занятие — значит лишить ее всего очарования. Настоящая поэзия — это накал страстей и риск, а не общепринятая форма. Став повседневностью, она оборачивается прозой жизни, утрачивает глубинный священный смысл. Но, с другой стороны, подобный процесс — одно из самых ярких свидетельств формализма, который подчинил себе тогда все человеческое существование.
Мания стихоплетства, которая захлестнула в те годы всю Испанию, не только низводит поэзию до простой механической формы, но показывает, до какой степени люди отдалились от своей внутренней сущности, всецело посвятив себя готовым формам, так сказать, периферии собственного бытия.
Однако наиболее печальные последствия эта механизация поэтического творчества имела для самой поэзии. Новый поэт не похож на Лопе де Вегу, чьи стихи, за редким исключением, изливаются из самой глубины его души широким, полноводным потоком с дивной, неослабевающей силой. Новый поэт — это Кальдерон. В исследовании о Веласкесе, думаю, он должен занять место антипода нашего великого художника. Кальдерон родился годом позже, чем Веласкес, после чего их жизни текут параллельно, нигде не пересекаясь. Кальдерон был придворным поэтом, как Веласкес — художником. Они должны были не раз сталкиваться на лестницах и в переходах Алькасара и Буэн Ретиро. Как же случилось, что Веласкес не написал ни одного портрета Кальдерона? Почему Кальдерон не проронил ни слова о Веласкесе? Справедливости ради надо сказать, что Веласкес вообще запечатлел единственного современного ему поэта — Гонгору, чей портрет он
♦Песнь (лат.).
155
создает сразу по приезде в Мадрид во время возвышения графа-герцога. Вряд ли в то время художник испытывал какое-либо особое расположение к автору ’’Уединений”. Видимо, Гонгора приехал тогда в Мадрид по сходным причинам. Он был другом графа-герцога, а возможно, и Пачеко.
Сейчас не время говорить о Кальдероне. Его творения, как и истоки его вдохновения, вызывают множество вопросов. Поэтому, дабы сказать о нем новое слово, что не только возможно, но и давно пора сделать, надо сначала в полной мере оценить его. Но один существенный момент мы все же не можем обойти молчанием. Большая часть его пьес — это, строго говоря, лирические стихи, нанизанные на драматические сюжеты. А значительная часть его лирики — не что иное, как изысканные побрякушки формализованного стихоплетства.
Даже в ’’Саламейском алькальде”, произведении, отличающемся редкой для Кальдерона сдержанностью и лаконичностью, мы находим, например, такие строки:
Каких тебе других причин?
Ее увидеть — все увидеть.
Не сразу ль роковым пожаром
Взлетает маленькая искра, Не сразу ль разверзает бездну Сернистым пламенем Вулкан, И, на пути все сокрушая, Не сразу ль молния горит, Не так же ль извергает ужас Орудье грозное войны?
Неужто ж меньше их любовь, Четырежды огнем являясь, — Пожаром, молнией, орудием И миной, — чтобы повергнуть нас, Палить, и поражать, и ранить?*
В ’’Дочери Гомеса Ариаса” читаем:
Хинес
Безумство ль это?
Гомес
А то как же, если даже С естеством согласья нет? Разве самый дикий зверь, Разве пташка среди веток, Разве полевой цветок Без любви живут? Поверит Кто-нибудь, что так живут Птахи, и цветы, и звери?**
♦ Пер. с исп. Ф. Кельина.
** Здесь и далее пер. Г. Кикодзе.
156
А двумя страницами ниже — еще один залп:
Заблуждается, блуждая, Кто, как химик, ставит опыт, Изучить любовь пытаясь. Мне казалось, обошелся Я в любви еще вначале Без учтивого отмщенья, Но, увы, лишь с искры малой Начинается пожар;
С малых ветров — столько шквалов, С малой тучки — столько молний, С малой ссоры — столько свалок! Это так, ведь я же видел Возрождавшееся пламя, Видел нежные порывы
В виде мимолетных шквалов, Ссору нежных голосов, Стрелы молний в тучке малой — Все, что было искрой, тенью, Нежной лестью поначалу.
Так любовь грозой, пожаром, Молнией и бурей стала.
Если подсчитать подобные ’’куплеты” в поэтическом наследии Кальдерона, их число превзойдет все ожидания. С механическим хладнокровием он строит из них свои комедии. Ловким движением фокусника или жонглера автор подбрасывает в воздух один за другим соотносящиеся друг с другом поэтические образы, чтобы затем поймать их разом в одной или двух последних строчках. Странно, что в поэтических трактатах для этого формального приема не нашлось соответствующего термина*. Кальдерон, как известно, не был его открывателем, однако, что очень важно, часто его применял. А частота как раз и отличает нормальную форму от формализма. Кальдерон же превращает этот прием в архитектурную опору для всех своих драматических произведений. Его воздействие на публику сродни отвлекающим пассам тореадора, который производит серию ритуальных выпадов, завершая их одним резким движением, после чего бык замирает — впадает в транс. Зритель получает удовольствие именно потому, что заранее знает, какой прием будет следующим, и лишь следит за точностью исполнения в ожидании финального взмаха плащом, итожащего всю сцену. И сегодня, когда читаешь кальдероновские строки, в конце так и слышишь громкое ”оле!”, оглашавшее некогда мадридские дворики и театр в Буэн Ретиро.
Поскольку я лишен возможности анализировать структуру коллективной души, питавшей подобные явления, то мне также придется опустить ответ на вопрос, почему величайший поэт своего времени с такой одержи
♦ Позже я ознакомился со статьей Дамасо Алонсо, в которой он определяет подобный композиционный принцип как ’’корреляция и сведение”.
157
мостью участвовал в этих, с позволения сказать, играх. Однако каждому, кто берется за изучение гуманитарных наук — стоит он на лекторской трибуне или сидит в зале, — встречаясь с похожими явлениями, следует непременно задаваться вопросом: какие люди и какая жизнь породили подобные факты? Подобные, или другие — которыми нас щедро снабжает все тот же Кальдерон:
Это что за возражения?
Я была в объятьях мужа (Эк чудное сожаление!) И спала (вот незадача!), Но (побольше духу мне бы!) Просыпаюсь (злая доля!) Вдруг (вон так и рвется сердце!) Я в объятьях (стынет кровь!) Негра-монстра (вся в томлении!)
Поделки такого пошиба не имеют ничего общего с поэтической формой, так как явлются порождением чистого формализма. Произвольное, нарочитое повторение реплик в сторону производит впечатление патологического тика, уродливых наростов на теле стиха*.
Другая сторона кальдероновского формализма обнаруживает себя в комедиях интриги. Кальдерон — мастер интриги, но мы быстро устаем от изощренных хитросплетений, которым он без остатка отдается.
Что касается социального аспекта живописи — а только он меня сейчас интересует, — то здесь мы обнаруживаем некоторое сходство с литературой. Странно, что до сих пор ни та, ни другая не исследовались как составляющие общественной жизни. И не только в Испании, но и в других странах, сообщество которых зовется Европой. На самом деле живопись — это не только картины, но и то, что из-за них происходило и происходит с каждым человеком в отдельности и со всеми' вместе. Важно не только установить, что чувствовал человек, стоя перед полотном Веласкеса в 1640 году, и что мы чувствуем сегодня, но и выяснить, какова была роль его художественного творчества в жизни испанского общества той эпохи. Поверьте, это не прихоть и не праздное любопытство. Просто иначе нам не понять, чем была и откуда появилась живопись Веласкеса. Чтобы мое утверждение не выглядело слишком уж туманным, коротко поясню, что я имею в виду.
Живопись, как в своей внутренней эволюции, так и в социальных судьбах, хронологически опережает поэзию. Вот почему как раз в первой
*Но Кальдерон являет нам сочетание пошлости и величия, и за этой бессмыслицей следуют восхитительные строки, полные утонченного лиризма, присущего народной песне:
Что же сделала ты, туча, С ясным днем да с Божьим светом? Тень, что сделала ты с солнцем? Ночь, что сделала с рассветом?
158
половине XVII века она достигает наивысшего могущества. Все общество на стороне художника: его возвеличивают, осыпают богатствами, окружают знаками внимания. В Италии многим художникам жалуют дворянский титул. А в Нидерландах и Великобритании Рубенсу доверяют дипломатические миссии, причем весьма деликатного свойства. Во время своего второго путешествия в Италию Веласкес сталкивается с тем, что Сальватор Роза, художник средней руки, богат и почетаем, как князь. Особо любопытно, что в этой стране — колыбели и престоле живописи — художники достигают максимального общественного признания как раз тогда, когда искусство приходит в упадок. Вот еще одно свидетельство тому, что социальное признание и эстетическая ценность в искусстве — явления хотя и взаимосвязанные, но абсолютно разного порядка. Причина столь неслыханного могущества искусства в Италии и Нидерландах состоит в том, что на протяжении почти двух веков неослабного внимания к живописи в ней стали разбираться практически все.
В Испании воздействие живописи слабее и уже, а потому и соотношение поэзии и живописи у нас на полуострове во многом отлично от других стран. Однако в целом ситуация более или менее одинакова. По крайней мере, верно то, что лишь с 1600 года в Испании появляется зритель, способный воспринимать картину. Поколения вельмож, состоявших в Италии на военной или политической службе, вывозят оттуда собрания картин и вкус к живописи. То, что раньше было редкостью, стало нормой. Таким образом, увлечение Филиппа IV — отнюдь не свидетельство его личной одаренности, а лишь дань времени. Именно на те годы приходится массовая закупка картин (и не только для дворца). И в частных домах накапливается значительное количество полотен. А при дворе разражается настоящая эпидемия. Курциус отмечал, что к концу века только в Галерее число картин достигает 490. Но и в скромном жилище Лопе де Веги хранилось по меньшей мере ”24 полотна и 12 картин”*.
Выходит, что картины Веласкеса становились достоянием довольно широкого круга людей, не только ценивших и коллекционировавших живопись, но и знавших в ней толк. А когда публика дорастает до уровня ’’знатоков” — ибо обычно ’’знатоки” еще не есть публика, — ее могут заинтересовать ’’наброски мастера”. Подозреваю, что большинство современников Веласкеса усматривали в его полотнах именно это. Мне известно лишь одно свидетельство того, как ’’общественное мнение” (имеется в виду общество, интересовавшееся живописью) оценивало манеру Веласкеса, — слова Кеведо об ’’отдельных мазках”. Как понимать подобное выражение? Не значит ли оно, что старое поколение, к которому принадлежал и Кеведо, несколько терялось перед этой новой живописью, отвергавшей смешение красок и предлагавшей зрителю ’’черновики”, эскизы, недописанные картины, одним словом, ’’наброски мастера”?
* Gonzalez de Amezua. Lope de Vega en sus cartas. II. P. 278.
159
Филипп IV и Веласкес принадлежат уже к другому поколению, которое рождается на свет, заведомо устав от имперской героики. Нет общего дела, требующего напряжения сил, а значит, нет и дисциплины, благодаря которой человек поддерживает ’’форму”. Наступают будни. Но поскольку богатые задатки еще живы, начинается странный этап, когда героизму и таланту, не находящим достойного поприща, остается лишь возмущать и будоражить обыденность. Вильямедьяна из прихоти поджигает свой дворец, а вельможи под самыми невероятными предлогами то и дело протыкают друг друга шпагами, отказываясь при этом покинуть Мадрид, чтобы присоединиться к ’’войскам в Эстремосе”, где испанская корона тем временем теряла Португалию.
Из жизни уходит простота. Существование становится смутным и запутанным. Из множества причин выделю следующие: грубое вмешательство государства во все сферы жизни; неопределенность новых социальных отношений, когда даже дворянину не ясны ни его права, ни обязанности, ни роль в обществе (ибо новая государственная власть уже безгранична, но еще не оформлена); тотальный контроль инквизиции, вплоть до экспорта продуктов. Ко всему этому добавьте склонность индивида к макиавеллизму, который переживает эпоху расцвета. На людях торжествует провозглашенный и общепринятый ragione di stat о*, а в частной жизни — изощренная техника, своего рода высшая математика поведения, которую обобщают и распространяют бесчисленные трактаты о ’’благоразумии” и ’’осмотрительности”, чертовски премудрых искусствах, почти никак не связанных с современным, весьма скромным, значением упомянутых слов. Грасиан лишь оформляет жанр, произросший в Италии.
Например, понятие ’’честь” превратилось в столь сложную и замысловатую систему правил, что невозможно и шагу ступить, не нарушив одно из них или не став жертвой их внутренней противоречивости. ’’Честь”, подобно наплыву или буйным тропическим зарослям, оплела и заполонила всю жизнь, лишив ее серьезного содержания и заменив его изощренным формализмом всех видов. Уже в начале века Матео Алеман вынужден обрушить главы II, III и IV первой части своего ’’Гусмана” на это искусственное сооружение, именуемое ’’честью”. Он не скрывает отвращения и раздражения, вызванных бесконечными разговорами о ’’чести” и ’’почестях”.
Таким образом, формализм царит и в повседневном поведении. Вряд ли Веласкес, живущий среди подводных рифов двора, сумел полностью избежать его. При всем своем безразличии к принятым правилам Веласкес вынужден быть все время настороже — vivere cauto**, о чем то и дело говорят итальянские идеологи макиавеллизма в частной жизни***.
* Здесь: государственный порядок (ит.).
**Жить осторожно (лат.).
*** Кроче. История итальянского барокко, с. 156. Нам известно лишь об одной стычке Веласкеса при дворе — с мажордомом, маркизом де Мальпика.
160
Этот вездесущий формализм оказался гибельным для нашей страны: он отвлек умы от их естественного предназначения — заботиться о делах насущных.
Горькая правда состоит в том, что даже истощенная, потерявшая своих великих полководцев, теснимая врагами Испания в то время могла бы выстоять, будь у нее хоть капля прагматического мышления, умения видеть факты, анализировать их и принимать соответствующие решения. Все, что ей было нужно — немного трудолюбия, недостаток которого стал непосредственной причиной того, что Испания не смогла справиться с ситуацией. Напомню, что именно в те годы Европа приходит к пониманию труда как коллективного усилия, и первой страной, заложившей основы будущего национального богатства, становится Франция.
VII
[ОБЛИТЕРАЦИЯ: САЛОН НА ПРАДО]*
Жаль, что у нас нет ни времени, дабы воскресить облик тогдашней Испании, ни какой-нибудь книги, которая, хотя бы приблизительно, воспроизводила историческую реальность тех времен. Впрочем, в первый же день я вас предупредил, что наша история — чистая страница, на которой едва ли написано несколько строк.
Сегодня я особенно остро чувствую, насколько неповоротливы слова, как много времени тратится на их произнесение, и мечтаю о чем-то вроде стенографии или скорописи — только для звучащей речи. Тогда за один оборот часовой стрелки можно было бы раздать родственным душам весь собранный урожай мыслей.
Что делать! Попробую несколькими штрихами наметить хотя бы общие контуры эпохи.
В первую очередь, около 1600 года в странах европейского континента начинается процесс, ключевой для понимания их дальнейшей истории и вместе с тем носящий совершенно нормальный характер. Историки, по своему обыкновению, почти не обратили на него внимания. Речь идет вот о чем.
Общества, именуемые европейскими нациями, начали складываться в XI веке в результате слияния трех элементов: автохтонные народности (например, галлы во Франции или так называемые кельтиберы в Испании); структура, именуемая Римской империей, и вторгшиеся германские племена. К этому необходимо добавить еще одно обстоятельство, упущенное большинством историков, за исключением нашего несравненного Асин-и-Паласьоса, — давление со стороны арабской империи, которая и в политическом, и в культурном отношении является истинным протагонистом европейской истории той эпохи и потому должна стать центром и
* Из четвертой лекции.
161
отправной точкой при реконструкции истории тех столетий. Людская глупость стала причиной того, что у нас до сих пор нет ни рассказа, ни картины, из которых можно было бы узнать о тех драматических сражениях (и военные — далеко не самые важные из них), которые привели к чудесной победе христианско-европейской цивилизации над мусульманской и семитской цивилизацией Востока. Так вот, к 1600 году общества, именуемые европейскими нациями, вступили в первую стадию зрелости, которая применительно к живым организмам называется облитерацией. Поясню. Любая система, состоящая из отдельных органов, лишь тогда становится организмом, когда ее части сращиваются, взаимопереплетаются, образуя целостное единство, обособленное от внешней среды. Всякое живое существо — лишь частица мироздания, которая замыкается в себе и образует закрытую, почти герметичную среду, область ’’внутреннего”, отделенного от ’’внешнего”, то есть от универсума. Подобное замыкание, обособление организма в анатомии и физиологии называют облитерацией (зарастанием родничков). Таким образом, к 1600 году облитерация произошла у всех европейских наций. В Англии, в силу ее островного положения и по ряду других причин, этот процесс происходит раньше. Вот еще одна закономерность, также проигнорированная историками, несмотря на всю ее очевидность, а именно: Британские острова опережают в историческом развитии остальные страны. Не стоит и говорить, что английские историки добросовестно не замечают этот факт, как и многое другое, поскольку они, хоть и англичане, но все-таки историки.
Испания, как и Франция, в это время впервые ощущает себя единой нацией, то есть как бы особой, неповторимой, ни на кого не похожей индивидуальностью. Этот первый росток национального сознания чрезвычайно важен и, на мой взгляд, вполне заслуживает внимания. Он свидетельствует о том, что и француз, и испанец поняли, что каждый из них — не просто человек, абстрактный представитель рода человеческого, а образец уникального, неповторимого стиля жизни. Отныне каждый народ обращается к собственным глубинам, наслаждается неповторимостью своего существования, смакует бродящие в нем соки, а потому замыкается в самом себе. К сожалению, я лишен возможности показать, как именно протекает этот процесс в отдельных странах, поскольку каждая идет своим путем и описывать его необходимо с величайшей точностью. Между тем именно неповторимость этого пути к своим глубинам определяет судьбы европейских наций вплоть до наших дней — когда мы наблюдаем обратный процесс. Впрочем, его нам придется оставить в стороне. Скажу лишь, что эволюция общества с ярко выраженным национальным характером — явление, присущее только западной цивилизации, — проходит четыре этапа: 1. С XI века по 1600 год — зарождение, или формирование; 2. С 1600 по 1800 год — нормальная жизнедеятельность; 3. С 1800 по 1920 год — период повышенного артериального давления, что свидетельствует об определенном состоянии организма, фаза, на которой нации надевают на себя доспехи национализма (последний ”изм” как раз и свидетельствует о скачке
162
давления); и, наконец, 4. Еще не определившаяся форма жизни, зарождающаяся на наших глазах, о которой я пока умолчу, чтобы было о чем поговорить следующим летом.
Итак, мы замечаем, что около 1600 года люди в разных странах начинают говорить о "наших поэтах”, "наших художниках”, "наших полководцах”, "наших богословах”, "наших государственных деятелях”. Их сравнивают с другими, находящимися по ту сторону границ, или, как это принято в Испании, горделиво превозносят выше всех, не имея о чужих ни малейшего представления.
Для такого народа, как испанский, чья обширнейшая империя охватывала Старый и Новый Свет и чья армия сражалась на всех возможных фронтах, такой поворот спиной к окружающему миру и столь всепоглощающая сосредоточенность на своих, внутренних, ресурсах обернулись пагубными последствиями. Уже во времена Филиппа III испанцы начинают терять интерес к своей империи. Простое и убедительное доказательство можно получить, если сравнить, как реагирует потомственная знать и служащие государственной канцелярии на предложение занять командные посты в одной из сотни брешей в границе империи соответственно в 1570 и в 1590 годах. Я уж не говорю о 1640 годе — расцвете правления Филиппа IV и творчества Диего Веласкеса.
Подобный поворот внимания к внутренней жизни нации — одна из причин того, что знать потеряла интерес к обширнейшей периферии испанского мира. Но были и две другие. Первая, весьма любопытного свойства, рано или поздно воздействует на любой народ, правящий миром (и сегодня такой момент переживает Англия): это усталость от власти, разочарование в собственной гегемонии и превосходстве. Другую причину, отвлекшую испанцев от мирового господства, следует искать (кто бы мог подумать!) при дворе, то есть в самой придворной жизни. Царствование Филиппа IV означало для Испании, говоря на театральном арго, ’’прокат” нового типа придворной жизни — когда двор перестает кочевать и окончательно обосновывается в одном городе. Превращение Мадрида, этой большой ламанчской деревни, в королевскую резиденцию однозначно приблизило крах испанской империи. Вы спросите почему? Да потому — и это единственное, на чем я сегодня позволю себе остановиться, — что жизнь в Мадриде, в первом в Испании городе-дворце, стала неиссякаемым источником наслаждения. Наверное, вы удивлены и отказываетесь верить. Сошлюсь на самый очевидный и красноречивый факт — на приказ Филиппа IV от 1646 года, повелевающий коррехидорам Мадрида силой отсылать придворных на португальскую границу, под Эстремос. Испанская корона буквально на глазах теряла Португалию, а знать невозможно было заставить идти на войну по одной простой причине — она была просто не в состоянии расстаться с удовольствиями Мадрида, удовольствиями Прадо.
Прадо — тот, что у монастыря святого Иеронима, так как были и другие, — это широкие аллеи, или, лучше сказать, рощи, которыми поросли
163
монастырские луга существующей и по сей день обители, и дивный сад-цветник, принадлежавший герцогу де Лерма (сегодня здесь расположены Банк Испании и дворец Вильяэрмоса, прозванный дворцом Скилаче). Тут находился нервный узел сладостной жизни двора и всего Мадрида.
Из комедии монахаТирсо де Молины до нас долетает чуть слышная, но полная живого чувства сегидилья:
Тополя да фонтаны, Пуще шумите, Милую в графском Прадо Мне разбудите!
Мадрид был в то время нескончаемым праздником. Праздник царил повсюду, вернее, все превращалось в праздник: будь то церковная служба или уличное шествие. В книге, посвященной Веласкесу, я уделю особое внимание церковному обряду и религиозному шествию той эпохи. Анализируя, исследуя и ставя под сомнение явления, случавшиеся тогда в церковных стенах и очевидно противоречившие идеалу святости, важно не извратить истинную суть испанской жизни, исторической реальности, так сказать, не принять одно за другое. Да, подобные события случались, и они были далеки от святости. Но они отнюдь не означали разрыва с религией. Тогдашний католицизм был исполнен такой уверенности в себе и настолько поглотил все формы жизни, что мог позволить себе роскошь блеснуть перед протестантизмом и — как точно подметил Ницше — объять жизнь человека целиком, со всеми ее пороками и добродетелями, взлетами и падениями. Беда наступила, когда католицизм позволил событиям свершаться без его ведома, смирился с тем, что какая-то часть человеческой жизни протекает вне его стен. Церковь, если только она истинная церковь, — это вечный Ноев ковчег, где бок о бок мирно плывут и святой, и грешник, да и весь живой мир навстречу Богу.
Справедливости ради надо сказать, что центром и средоточием жизни мадридского общества, со всеми ее удовольствиями, были не знатные дамы, но актрисы и их поклонницы из среднего сословия, вроде подружек Лопе де Веги, этих чертовок той поры, которые возникали повсюду, подобно электрическим разрядам или огням святого Эльма, пылкие, остроумные, неугомонные, в общем — ’’незнакомки под вуалью”. Впрочем, все, что касается испанской женщины, исследовано еще меньше, нежели другие аспекты нашей истории. Не буду и я касаться этой темы, тем более что, стоит мне только ее затронуть, и вам не остановить меня до Великого поста.
Итак, окружение, в котором протекала жизнь Веласкеса, называется ’’Испания Филиппа IV”. Эту Испанию, обобщая, можно свести к нескольким выражениям, каждое из которых — тема для самостоятельного исследования: усталость от мирового господства, жажда придворных утех, иллюзорное и иллюзионистское существование спиной к реальности, блистательные комедиантки, плутовки под вуалями, риторика в поэзии и формализм в жизни...
164
ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ ВЕЛАСКЕСА
Тинторетто стремится создать иллюзию глубины. Веласкес — нет. Отсюда главные ошибки в его толковании. Возьмем крайние случаи: конный портрет графа-герцога и портрет Бальтасара Карлоса. Фигура как бы входит или выходит из полотна по диагонали. Для Тинторетто это классический прием, чтобы заставить нас ощутить глубину. Веласкес же весь иллюзионистский эффект сводит к изображению третьего измерения, вместо того чтобы пытаться создать его иллюзию. Торжествует плоскость полотна, а на ней — так сказать, еп modo ponendo tollens* — иронически представлена глубина. То же самое происходит и с объемом. Он вроде бы есть, и его нет.
Пейзажи Рубенса с бликами солнечных лучей на заднем плане обладают глубиной. У Веласкеса такого не встретишь.
Задний план у Веласкеса так и не становится настоящим пейзажем, оставаясь просто фоном. Формы и валеры предельно схематичны, чтобы не затушевать фигуры. Они — лишь декорации, а не пространство, не среда. Их роль чисто служебная: они создают контраст для центральной фигуры (чаще всего конной), являются своего рода грунтом, необходимым, чтобы придать ей монументальность и оживить весь ансамбль. Пейзажи виллы Медичи на удивление неглубоки, хотя, по крайней мере, один из них — где ищешь выхода из арок, — казалось бы, предполагает совсем иное.
Упомянутые портреты являют собой крайний случай именно потому, что фигуры на них расположены под углом к плоскости полотна, то есть захватывают не только передний план, но и более глубинные, — прием, который в высшей степени характерен для Тинторетто, Эль Греко, Рубенса и маньеристов.
В общем, по-моему, давно пора пересмотреть общепринятые рассуждения о пространственной организации картин Веласкеса.
* * *
Сравните искусство XVII века, и в особенности представление о нем Веласкеса, с концепцией живописи Микеланджело или Рафаэля, и вы убедитесь, как сильно уменьшились притязания художника. Для Микеланджело скульптура и живопись (как позже музыка для Вагнера) относятся к высшим достижениям человека. Пластические искусства стремятся стать всем или, по крайней мере, господствовать надо всем: они и наука, и религия, и вообще высшее воплощение человеческого предназначения. Со сводов Сикстинской капеллы звучит несмолкающий гром вечной и запредельной жиз
* Здесь: через отрицание (лат.).
165
ни. В сравнении с этим искусство XVII века — всего лишь... искусство, скромная профессия, повседневная утварь, забава, исторический документ.
Между купольными фресками Корреджо и картинами Веласкеса пролегла пропасть в понимании живописи. В первом случае — перед нами орнамент, во втором — свидание tete-a-tete зрителя и холста. Роспись сводов не предназначена для внимательного разглядывания. Мешают и причины чисто физиологического свойства: затекает шея, кружится голова, теряешь равновесие. Такая живопись подобна речам на митинге — слишит-ся гулкое ”бу-бу-бу”, а о чем речь — неважно.
Но различие еще глубже: эта живопись ’’декоративна”, потому что она включена в архитектуру, и связь становится тем неразрывнее, чем больше стремится роспись (как в случае Корреджо) упразднить архитектуру, подменив ее своими воображаемыми пространствами. Напротив, картина, простой и чистый холст, натянутый на подрамник, нуждается в стене, не помышляя ни о том, чтобы слиться с ней, ни тем более отменить ее. Ее цель — создать иное, по отношению к стене, пространство, новую поверхность, не имеющую с первой ничего общего.
* * *
Очная ставка зрителя с картиной Веласкеса, например, с портретами карликов, иногда ошеломляет. В какой-то момент мы начинаем сомневаться, мы ли смотрим на фигуру, или фигура смотрит на нас. Причины коренятся в самой живописной манере Веласкеса, однако я остановлюсь лишь на двух из них, лучше других поддающихся определению. Во-первых, отказ от маньеризма изымает художника из картины. Ведь манера, ’’стилистика”, — отпечаток личности, через который — хотим мы того или нет — субъект проникает в свое творение. Веласкес же оставляет нас наедине со своими персонажами, предоставляя нам самим разбираться с ними.
Другая причина касается самой техники построения перспективы. Уже Курциус заметил, что в картинах Веласкеса — прежде всего в портретах, но и в композициях тоже — взгляд художника как бы устремлен сверху вниз. Автор слегка возвышается над своими персонажами, которые из-за этого, во-первых, будто бы ’’погружаются” в картину, а во-вторых, в свою очередь, чуть возвышаются над зрителем. От этого в картине появляется воздух. Кажется, что можно заглянуть им за спину.
* * ♦
Веласкес решительно и окончательно освобождает живопись от скульптуры, которая, начиная с Джотто, разъедала и пучила картины, придавая фигурам выпуклую объемность и пластичность. Не знаю, замечал ли кто-нибудь, что техника Джотто, например, в ’’Поклонении волхвов”, кажется, свидетельствует о том, что он учился рисовать, копируя барельефы.
166
Венецианская школа чуть было не освободила живопись, но столкнулась с таким исполином, как Микеланджело, который сделал ей еще одну прививку скульптуры. Пластичность и объемность присущи разглядыванию вплотную. У Веласкеса торжествует взгляд издали, поэтому фигуры предстают бестелесными, плоскими, но не как поверхность, а как тень.
* * *
Крайне важно, что, едва приехав в Мадрид, — художнику тогда двадцать один год — Веласкес порывает с караваджистской манерой своей юности и направляется по другому, прямо противоположному, пути. Более того, в то время как Италия и Нидерланды находятся в плену у Караваджо, он единственный открывает новый континент, куда вплоть до XIX века не ступит ни один художник. Следовательно, необходимо сопоставить его с Караваджо и, что еще любопытнее, с Рибальтой, Сурбараном и Риберой.
Решающим, принципиально новым в живописи Веласкеса было развоп-лощение объекта, превращение его в призрак.
Вслед за итальянским мастером все три испанских художника продолжают цепляться за плоть: ради этого они смешивают краски, наносят их на холст, лощат. Фигуры у них телесны, плотны и в этом смысле тяжеловесны. Веласкес начинает с того, что, в первую очередь, резко сокращает в предмете все, что затем будет перенесено на холст; в итоге перед нами аббревиатура его цветовой гаммы. Во-вторых, он почти сводит на нет моделировку. Пятна на его холсте не сливаются, отсюда неопределенность их пространственных взаимоотношений — визуальное господствует над осязаемым. Ведь осязание несомненно зиждется на непрерывности. И в-третьих, он разжижает краски. Перед нами чуть ли не акварель. Отсюда некоторая ’’сухость”. Добавьте к его цветовой точности моделировку — и вы получите грубый, тяжелый, отвратительный ’’реализм”. Но искусство Веласкеса — это великий парадокс: оно идеализирует реальность, не покидая ее границ, просто превращая ее в чистый словарь красок, цветовых соотношений, но никак не моделировок или линий. Какая тяжеловесность угрожала ему, видно по его ранним полотнам, например ’’Поклонению волхвов”, нескольким ’’бодего-нам” и ’’Портрету неизвестного”, хранящимся в Прадо.
Живопись зрелого Веласкеса стали называть ’’плоскостной”. Термин не лишен смысла, если иметь в виду отказ от ’’рельефности”, ’’выпуклости”, ’’округлости”, иначе говоря, объемности. Но, с другой стороны, он абсурден. Скорее его можно отнести к византийской или китайской живописи, к Гогену или Матиссу. Отвергая объем, Веласкес превращает полотно не в плоскость, а скорее в пустоту, углубление. Вот почему фигура у него, строго говоря, не плоска, но и не объемна. Каждая ее точка находится на своей отметке глубины. Потому-то, пренебрегая объемностью, он тем не менее сохраняет третье измерение — оно направлено в глубь полотна. Иначе говоря, мир Веласкеса не выпуклость, а провал, внутри которого раз
167
мещены объемы, заполняющие пустоту. Строго говоря, любое тело воспринимается глазом как сочетание объемов и пустот, да и само оно занимает определенное место в великой пустоте, будучи ее частицей.
* * *
Любой художник создает свою фауну, свой народ. А каждый народ говорит на собственном языке.
Большой художник всегда говорит на особом языке, потому он зачастую остается непонятным. Да и как его понять, если его миссия заключается в том, чтобы дать миру новый язык? История искусства подобна Вавилонской башне. Не понимая друг друга, художники уединяются. Великий мастер отгораживается стеной одиночества и гибнет от удушья. Таков его удел.
Проходя мимо людей, которые бормочут что-то непонятное, мы говорим: это китайцы. Приближаясь к стене, за которой таится что-то неведомое и тревожное, мы говорим: Веласкес. Он почти полностью исключил стилизацию и обратился к самим предметам, и потому было бы в высшей степени интересно попытаться определить, к какому зоологическому виду относятся его фигуры.
* * *
Сегодня трудно сказать, какова была в свое время известность Веласкеса в Испании и за ее пределами. Очевидно, тогдашние умы поражала его удивительная способность копировать натуру, но они не знали, к какой области искусства и к какому рангу отнести созданное им. Сознанию эпохи явно не хватало ячейки, ’’гнезда”, куда бы можно было поместить такого художника, как Веласкес. Вот почему всеобщее восхищение его творениями не завершилось апофеозом, надежной и прочной славой. Он стоит вне времени.
* * *
Автор ’’Мадридских новостей за период с 1634 по 1636 годы” (изд. Родригес Вилья) сообщает:
’’Диего Веласкеса назначили костюмером Его Величества. Похоже, что не далек день, когда его, по примеру Тициана, произведут в камердинеры и пожалуют рыцарским званием”*.
Свидетельство чрезвычайной важности. Во-первых, потому что пророчество сбылось, что, как и весь труд в целом, свидетельствует о незаурядном уме автора.
Во-вторых, мы узнаем, что милости раздавались не наобум, a cursus honorum, то есть были звеньями в цепи придворной карьеры.
И в-третьих, автор этих строк уже догадывается о том, что единственное желание Веласкеса — стать знатным вельможей.
•Antonio Rodriguez Villa. La corte у monarquia Espana. Madrid, 1886. P. 27, 28.
ВВЕДЕНИЕ В ВЕЛАСКЕСА. — 1954*
I
[ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ]
СЛАВА ВЕЛАСКЕСА
Сегодня нелегко говорить о творениях прошлого. Мы живем в эпоху, когда солнце искусства зашло. Искусство, строго говоря, всегда современно. Своей актуальностью оно оживляет прошлое, открывая в нем формы родственные и чуждые. Потому прошлое нам небезразлично, оно в некотором роде — часть современности. Но когда в искусстве воцаряется ночь, прошлое кажется далеким и безжизненным. Оно нас больше не волнует. Мы не находим в нем ни друзей, ни врагов.
С Веласкесом все обстоит еще хуже. Осмелюсь утверждать, что сегодняшний день менее всего подходит для разговоров о Веласкесе, поскольку его живопись недавно вошла в зону худшей видимости. Для любого художника подобный этап следует сразу же за часом его наивысшей славы. Триумф Веласкеса длится с 1880 по 1920 год. Удивительно, что этот гигант живописи пребывает в зените так недолго. И тем не менее такова правда.
Любопытно и другое: за пределами означенного периода известность Веласкеса хоть и велика, но неизменно отмечена некой болезненной печатью. Впрочем, догадайся кто-нибудь исследовать пути известности художника, и сегодня нам ничему не пришлось бы удивляться. У славы всякого художника свое лицо. Независимо от масштабов, взлетов, падений и продолжительности она сохраняет свой неповторимый облик. Сравните, например, славу Веласкеса и Рафаэля. Последний еще мальчишкой затмил великого Микеланджело. А поскольку Италия была законодательницей в искусстве, то обретенная там слава молниеносно покорила всю Европу. Но самое удивительное состоит в том, что слава Рафаэля не меркнет вплоть до последней трети XIX века. Только тогда ее сияние затухает, и вперед выступают другие художники. Итак, Рафаэлю удалось очень быстро сыскать славу прочную, громкую и долговечную.
Теперь обратимся к Веласкесу. На первый взгляд, известность также пришла к нему внезапно и стремительно. В двадцать три года, приехав второй раз в Мадрид, он почти сразу становится придворным живописцем.
* Опубликовано в иллюстрированном издании Velazquez, ’’Revista de Occidente”, Madrid, 1954. Одновременно вышли английский и немецкий переводы (в Цюрихе). Это последняя работа Ортеги, посвященная Веласкесу. В ней он кратко излагает и комментирует изложенные ранее идеи. Некоторые ее фрагменты совпадают с текстом лекций, прочитанных в Сан-Себастьяне, и ’’записок” о Гойе. Поскольку в них были привнесены новые оттенки смысла, мы сочли нужным полностью воспроизвести их. Напротив, мы решили не дублировать отрывки, уже опубликованные в главе ’’Вариации на тему Веласкеса” 1950 года издания.
169
Тесный художественный мирок Испании содрогнулся, как от взрыва. Веласкес неожиданно вознесся над всеми художниками Испании. Тем не менее его слава не выходит за пределы отечества. Кроме того, у нее была родовая травма. Дело в том, что своим появлением на свет она обязана отнюдь не полотнам Веласкеса. Если Севилья имела возможность воочию ознакомиться с его ранними опытами, то в Мадриде увидеть его работы могла лишь горстка вельмож, допущенных ко двору. Внезапное назначение Веласкеса было скорее официальным актом, нежели признанием его художественных заслуг. А потому и слава его, как все официальное, была с самого начала дистрофична, лишена той энергетической подпитки со стороны публики, которую могла бы получить, будь картины Веласкеса общедоступны. Эта врожденная дистрофия определила всю дальнейшую судьбу его славы. Более того, причина так и не была устранена на протяжении без малого двух веков. До сих пор никто не уделил должного внимания тому противоестественному — и, думаю, исключительному в истории живописи — факту, что полотна Веласкеса были извлечены из дворцовых покоев и выставлены на всеобщее обозрение лишь столетие назад. Поразительный случай произошел с портретом Филиппа IV. После того как он был закончен, его выставили на ступенях храма св. Филиппа, дабы картину могли увидеть все желающие. Не свидетельствует ли это о том, что и художник, и сам король осознавали ущербность затворнического существования картин, задыхавшихся в тесных стенах дворца, в то время как у других художников под рукой всегда был один общий выставочный зал той эпохи — церковь. Вот почему, когда Веласкес в 1629 году впервые приезжает в Италию, он там никому не известен. Но еще удивительнее его второе путешествие, которое он совершает двадцать лет спустя, уже написав большую часть своих картин. На этот раз его принимают с большим почтением, оказывают знаки внимания, подобающие знатной персоне. Но живопись тут опять ни при чем, в нем чтят не художника, а личного друга Филиппа IV. Между тем поведение Веласкеса, как всегда невозмутимое, ничем не выдает тайной досады, которую в нем, вероятно, вызывали итальянцы, не знавшие ровным счетом ничего о его картинах. Впрочем, он позволяет себе одну ’’выходку”, подходящую скорее для начинающего выскочки и идущую вразрез со всеми жизненными принципами художника. Едва прибыв в Рим, Веласкес пишет портрет своего слуги, мавра по имени Пареха, и отправляет его вместе с картиной в дома знатных вельмож и знаменитых художников, чтобы те сравнили копию с оригиналом. Паломино сообщает, что вместо кисти художник использовал тростник. Отсюда абсолютно новая, раскованная манера письма. Позже портрет Парехи был выставлен в Пантеоне.
Тогда же Веласкес создает портеты папы Иннокентия X, его невестки и других деятелей папского престола. Вообще, за время второго пребывания в Италии ( а оно, за вычетом переездов и путешествий, длится меньше года) он написал на удивление много. И все-таки вряд ли удастся отыскать следы
170
влияния этих работ — среди которых такой шедевр, как портрет Иннокентия X, — на итальянское искусство. О Веласкесе почти не говорят. До нас дошло лишь несколько стихов Боскини. В своей ’’Навигационной карте для путешествия по живописи” он с неожиданной настойчивостью представляет Веласкеса как ’’знатную особу”, autorevole persona, и передает его слова о том, что воплощение живописи — это Тициан, а не Рафаэль. Заметьте, что как раз в то время итальянское искусство переживает упадок. В отсутствие больших мастеров и новых открытий Сальватор Роза, художник средней руки, ведет жизнь почти княжескую. Как такое могло случиться? И почему созданное Веласкесом в Италии не оказало ни малейшего влияния на здешних художников? Причина состоит в следующем. Если не брать в расчет тех немногих художников, которые в поисках спасения бежали назад, к Рафаэлю, то в остальном живопись Италии культивировала ровно ту манеру, которая для Веласкеса послужила отправной точкой еще в самом начале века. Таким образом, художественный стиль Веласкеса не был антагонистическим по отношению к господствующему. Напротив, ряд портретов кисти итальянских художников, созданных в то время или несколько позже, довольно долго приписывали Веласкесу.
Итак, второе путешествие нашего художника никак не изменило характера его славы. Она оставалась робкой и астеничной. Следовало бы повнимательнее изучить следы, оставленные Веласкесом во время пребывания в Италии, а также его влияние на следующее поколение итальянских живописцев. Глухота публики и профессионалов к его ’’итальянской” живописи, несомненно, нуждается в анализе. Пока же, в ожидании подобного исследования, единственным подходящим объяснением может быть тот факт, что в Италии Веласкес не писал ничего, кроме портретов. Портрет же сам по себе никогда не мог вознести художника на вершину славы. Ситуация изменилась лишь к концу XVIII века в Англии, после чего портретная живопись завоевала весь континент. Гойя как раз поспел вовремя, чтобы пожать плоды переоценки этого жанра.
В XVIII веке испанцы как будто разучились рисовать, и на полуостров вновь потянулись итальянские, а за ними и французские живописцы. В большинстве своем это были художники средней руки. Но вместе с ними, по королевскому приглашению, приехали и такие крупнейшие мастера своего времени, как Тьеполо, гениальный основатель великой традиции, и немец Менге, начисто лишенный гениальности, но отличный педагог. Перед лицом тенденций, столь чуждых живописной манере Веласкеса, его слава в очередной раз исчезает из виду. Время от времени о нем говорят как о великом художнике, не принадлежащем к числу великих. Парадокс, вроде этого, лучше всего подходит для описания того странного отношения к Веласкесу, которое продержалось вплоть до конца прошлого века. Хорошим примером могут служить слова признанного магистра живописи последних десятилетий XVIII века Менгса. В своем описании дворцовой коллекции картин он посвящает несколько скупых строк живописи Веласке
171
са. Вот что он пишет о самой известной в те времена картине нашего художника — ’’Менинах”: ’’Полотно это всем известно своим совершенством; мне остается лишь добавить, что оно — лучшее подтверждение тому, что подражание Природе приятно людям всех сословий, в особенности там, где Красота не ценится превыше всего". В логике такой прием называется ponendo tollens — отрицание через утверждение. Веласкес достиг совершенства, но в искусстве низком и далеком от совершенства. Однако высказывание Менгса содержит общепризнанное противопоставление красоты и природы и дает нам ключ к пониманию художественного окрытия Веласкеса.
В конце XVIII столетия в Англии происходит неожиданный расцвет хорошей живописи. Но эта живопись не опирается на итальянскую традицию. В основе ее не лежит идея красоты. Это портрет и пейзаж, восходящие к фламандскому и нидерландскому искусству. Англичане открывают Веласкеса, нового Веласкеса, которого называют ’’первым среди художников”. Со своей стороны, Гойя, который в силу влияний и собственного гениального прозрения идет в ногу с англичанами, ставит Веласкеса рядом с Рембрандтом. Однако не думаю, что преклонение Гойи перед Веласкесом сколь-нибудь существенно .повлияло на дальнейший рост известности автора ’’Менин”. К суждениям Гойи если и прислушивались, то только в узких кругах испанского общества. Именно англичанам обязан Веласкес мировым признанием. А в 1870 году французские импрессионисты, художники ’’пленэра”, в свою очередь испытавшие сильное влияние английской живописи, вознесли его до небес. Затем процесс пошел вспять. К 1920 году импрессионизм клонится к закату, а вместе с ним и слава Веласкеса.
ЕГО БУНТ ПРОТИВ КРАСОТЫ
Веласкес родился в Севилье в 1599 году. Абстрактно-историческая хронология содержит не так много дат. Они суть именования той или иной формы жизни, преобладающей в данном обществе. Родиться в Севилье в 1599 году означает встретиться с неким образом, в котором соединились человеческие деяния целого пространства европейской цивилизации. Индивидуум воспринимает этот коллективный образ, сформировавшийся до его рождения. Он может принять его или, наоборот, взбунтоваться против него, но и в том и в другом случае он носит его в себе. Образ становится частью его личности. Особенно отчетливо проявляется данная закономерность в случае с художником. Хочет он того или нет, он должен исходить из ситуации, в которой находится искусство к началу его работы, ситуации, являющейся итогом художественного опыта, накопленного в течение веков. Безусловно, художественное произведение — это творчество, это новаторство, это свобода. Но проявляются они в пределах пространства, строго очерченного горизонтом, которого к тому моменту достигло развитие искусства.
172
До конца XVIII века испанская живопись, подобно французской или немецкой, была провинцией огромного художественного континента — итальянской живописи. Лишь фламандское искусство питалось из иного источника, влияя на итальянскую живопись, прежде всего на ее технику. Вскоре и оно окажется поглощенным ею. Целостность западной живописи — одно из величайших проявлений общности европейской культуры. До 1600 года испанская живопись была не просто провинциальной, но захолустной. Периодически, время от времени впитывала она в себя итальянские и фламандские веяния, воспроизводя их почти всегда грубо и топорно. Рубенса, впервые посетившего Испанию, поразила невежественность ее живописцев. Незадолго до рождения Веласкеса большинство мастеров живописи в Севилье были иностранцами. И вдруг, в одно десятилетие рождаются четыре великих испанских художника — предшественника Гойи: Рибера — в 1591 году, Сурбаран — в 1598-м, Веласкес — в 1599-м, Алонсо Кано — в 1601-м. Такая неожиданная хронологическая концентрация величайших фигур в стране, где их не было вовсе, представляет собой любопытный материал для специалистов в области аналитической истории.
Надо только отметить, что интерес к живописи, довольно незначительный до 1550 года, во второй половине века возрастает и распространяется на все высшие слои общества. Можно утверждать, что в начале XVII века в Испании было достаточное количество людей, разбиравшихся в искусстве и начинавших собирать частные коллекции, людей, которые, оказываясь по делам в Италии, старались приобретать там хорошие картины. Паломино — биограф Веласкеса, писавший о нем спустя много лет после смерти художника, но использовавший в своей работе документы о его жизни и творчестве, которые предоставил ему дон Хуан де Альфаро, ученик дона Диего, человек достойный всяческого уважения, не уставал повторять, что в Севилью привозилось множество итальянских полотен того времени. Эта блестящая и весьма тщательная биография отвечает на многие вопросы, неизбежно встающие перед современным биографом великого живописца.
Севилья, столица колониальной испанской империи, в те времена была самым богатым в экономическом отношении городом Иберийского полуострова. В этом городе процветали искусства и литература. По свидетельству Бартоломе Хосе Гальярдо, в нем скопилось знаний больше, чем в Мадриде. Молодые люди, ровесники Веласкеса, были в курсе всех последних новостей, приходивших из Италии. Буквально накануне итальянская живопись пережила величайшее потрясение в своей истории — явление Караваджо. Распространение влияния этого мрачного художника в последней трети XVI века было стремительным и всеобъемлющим. Все итальянские живописцы, включая тех, кто уже приобрел немалую известность в своей профессии, стали писать в караваджистской манере, по крайней мере какое-то время. По тому же пути пошли фламандцы, лучшие французские
173
живописцы сделались самыми пылкими приверженцами караваджизма. Воздействие такого рода не может быть мотивировано случайными или второстепенными причинами, но объясняется глубоко внутренними процессами эволюции итальянской живописи.
Если мы приглядимся к эволюции искусства, и особенно к пласту, лежащему в ее основании, она предстанет нашему взору в виде непрекращающейся борьбы двух начал, составляющих единое целое картины. В любой картине изображены некоторые объекты, иными словами, мы узнаем на полотне лица и предметы благодаря тому, что эти лица и предметы были воспроизведены художником с большей или меньшей точностью. Обозначим их как ’’естественные или объективные формы”. Но в картине есть и другие формы — такую форму художник придает формам объективным, изображая и помещая их на фреске или холсте. Уже само расположение фигур — предметов или лиц — осуществляется по композиционным линиям, геометрически выстроенным. Подобные формы, а не формы объектов, которые они себе подчиняют, мы назовем ’’художественными формами”. Будучи чисто беспредметными, нематериальными, они должны быть определены как ’’формальные формы”. Итак, мы получаем следующее уравнение: любая картина есть сочетание плана изображения и плана выражения — формализма. Формализм — это стиль.
В итальянской живописи, после первых пробных шагов, начинают преобладать формы формальные, или художественные, над формами объективными. В картине появляются деформированные объекты, так что, строго говоря, перед нами возникает отличающийся от реального объект, новый предмет, не существующий в природе и являющийся выдумкой художника. Объект, видоизмененный подобным образом, доставляет особое наслаждение. Кажется, что в своем новом, стилизованном облике он предстает таким, каким он ’’должен был быть”, или, иначе говоря, в своем совершенном виде. По-видимому, в человеке есть некие тайные, сокрытые желания, касающиеся формы вещей. Неизвестно почему, он предпочел бы видеть их не такими, какими они являются на самом деле. Реальность ему всегда кажется неудовлетворительной. И художник счастлив, когда ему удается изобразить нечто согласно своему желанию. Это и есть то, что называется Красотой. На протяжении трех веков итальянское искусство постоянно творит Красоту. Мир красивых вещей — другой, не похожий на реальный, и человек, созерцая их, восторженно переносится в иной, несуществующий мир. Наслаждение прекрасным — мистическое чувство, как и все, что рожда.ет в нас ощущение присутствия в некоем трансцендентном мире.
Поглощенное идеей ’’украшения” вещей итальянское искусство вынуждено было все больше отказываться от достоверности в изображении реальных объектов, со все возрастающей энергией заменяя их стилизованными формами. Вот откуда рождается триумф маньеризма, или стилистики. Но эта замена имеет один недостаток: реальный объект, подвергшийся стилизации, начинает постепенно исчезать, и на его месте остаются почти отчужденные, как бы субстантивированные бестелесные формы, чисто худо-
174
Диего Веласкес. Старая кухарка.
Ок. 1619—1620. Эдинбург. Национальная галерея
жественные, или прекрасные, формы. Художественные формы теряют свою ценность и значимость, ведь их функция заключалась в придании реальному облику вещей ’’совершенства” и ’’красоты”. При этом новая форма не должна изменять сущность изображаемого объекта. Если искусство слишком отходит от него, если все, что осталось, — это едва различимые очертания, магическое ’’украшение” теряет свой смысл, искусство же, ставшее чистой стилизацией, истощается и превращается в некую схему, лишенную содержания. Тогда художник и публика внезапно начинают испытывать ощущение усталости от Красоты, и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, они снова обращают свой взор на реальные предметы. Это то, что было названо ’’натурализмом”.
До сих пор итальянская живопись претерпевала постоянные изменения, но изменения эти не носили революционного характера. Караваджо совер
175
шил первую и единственную революцию. Но было бы ошибочным определять эти кардинальные изменения термином ’’натурализм”. Что же показалось современникам, и таковым в действительности и являлось, бунтарским в Караваджо? Он начал с того, что в Испании называлось ’’bodegones”, а в Италии — ’’bambochadas” (как эти две картины перед нами). Данные названия указывают на то, что местом действия картины является таверна, трактир или кухня и что изображаемые персонажи не святые, не боги, не библейские или мифологические герои (мифология, религия древних, представляла собой в то время нечто вроде парарелигии), не цари. Это люди из простонародья, из самых низов общества. Караваджо — сын каменщика, позволил плебеям проникнуть в картину, что произвело впечатление ужасающее, сродни народному бунту, и сразу же перевернуло все общепринятые нормы в живописи (в том, что касается ее тематики) и в обществе. Новизна, таким образом, заключается не в иной манере письма, а в радикальном изменении тематики. В творчестве Караваджо продолжают жить основные принципы итальянского искусства. Его по-прежнему заботит объемность изображения, рельефность и осязаемость фигур. Продолжается поиск Красоты, но вместе с тем уходит индивидуализация. С античных времен Красота понималась как нечто неопределенное и абстрактное. Нечто противоположное портрету. Строго говоря, в полотнах Караваджо есть лишь один компонент, который может рассматриваться в контексте натурализма, его величайшее открытие — овет. Как и в предшествующей итальянской традиции, объект остается ’’идеальным”, но свет уже не просто художественный прием, с помощью которого достигается моделирующая фигуру светотень, он сам становится объектом изображения в его естественном виде. Вместо того чтобы накладывать условный свет, как это делалось до сих пор, Караваджо решает изобразить естественное освещение, выбирая, однако, искусственно выстроенные световые комбинации: свет в пещере, где один луч резко высвечивает фрагмент фигуры, погружая остальную ее часть в кромешную тьму. Именно так свет становится ошеломляющим, волнующим, драматичным. Но, в конечном счете, это свет естественный, срисованный с натуры, а не воображаемый. Такого рода свет возникает в ранних бодегонах Веласкеса (вспомните картину ’’Севильский водонос”).
Веласкес, как и другие севильские юноши, его ровесники, начинает с бодегонов в манере Караваджо, еще больше подчеркивая при этом низкое положение своих персонажей и убогость обстановки, а также придавая предметам большую индивидуальность. Кувшин ’’Водоноса” — это не абстрактный кувшин, а портрет совершенно определенного кувшина.
Удивляет та ясность, с которой юный Веласкес осознает значение и роль живописи в своей жизни. Поскольку он был человеком молчаливым, сдержанным, умевшим жить без приключений и потрясений, мы должны отказаться от идеи революционной направленности его творческой энергии. Здесь стоит вспомнить слова Паломино, сказанные им об этом первом
176
Диего Веласкес. Пьяницы (Триумф Вакха). Фрагмент.
Ок. 1628. Мадрид, Прадо
этапе жизни художника, после того как были обнаружены бодегоны, написанные в Севилье: ’’Этим духом проникнуто все, что было написано в те годы нашим Веласкесом; он стремится быть непохожим на других, выбирая свой собственный путь. Зная, что Тициан, Альберти, Рафаэль и другие мастера имеют несомненное преимущество перед ним и их слава возросла после их смерти, он воспользовался своей прихотливой фантазией и принялся рисовать простые, грубые вещи с дерзостью и бахвальством, используя причудливую игру света и необычное цветовое решение. Некоторые сетовали на то, что он не пишет в мягких и нежных тонах предметы более возвышенные, и здесь он мог бы состязаться с Рафаэлем де Урбино. Он же вежливо отвечал, что предпочитает быть первым в подобной грубости, нежели вторым в этой изысканности”.
В данном фрагменте упомянута одна из немногих фраз Веласкеса, дошедших до нас. Паломино толкует ее, конечно же, неверно. Восемнадцати- или девятнадцатилетний Веласкес не сравнивал себя с Тицианом и Рафаэлем и не писал бодегоны, чтобы как-то отличаться от них. Веласкес всегда мыслил себя в рядах последователей Тициана, о чем точно свидетельствует Боскини, беседовавший с Веласкесом во время его второго путешествия в Италию. Речь шла о чем-то историческом, а не о психологи-
177
песком. Новое поколение художников пресытилось Красотой и отвернулось от нее. Они хотят изображать вещи не такими, какими они ’’должны” быть, но такими, каковы они есть. Европа того времени жаждет прозы, ищет удовольствие в реальных проявлениях жизни. XVII век станет веком серьезного отношения к жизни. Это эпоха Декарта — он на три года старше Веласкеса — эпоха великих математиков, физики, ответственных политических решений (Ришелье). Новым людям желание Красоты кажется наивным и незначительным. Они предпочитают драматическое столкновение с реальностью. Но реальное всегда некрасиво. Веласкес будет изумительно живописать безобразное. Это означает не только изменение стиля в живописи, как раньше, но предполагает иное предназначение самого искусства. Теперь надо спасать действительность, мимолетную и сиюминутную, подверженную тлению и несущую на себе отпечаток смерти и саморазрушения. Живопись отказывается услаждать зрительское восприятие ’’идеальными” предметами, а призывает испытать сострадание при виде вещей жалких и бренных. Но искусство всегда волшебство. Только теперь очарование исходит не от красиво нарисованных предметов, а от картины в целом. Живопись становится некой субстанцией, иными словами, зритель должен испытывать удовольствие от созерцания живописи как таковой. Если изображено безобразное, наше внимание сосредоточивается на манере письма.
ВЕЛАСКЕС И РЕМЕСЛО ХУДОЖНИКА
В 1621 году умирает Филипп III, и престол наследует Филипп IV. Он передает управление государством графу-герцогу де Оливаресу, принадлежащему к самому знатному роду Андалусии — к роду Гусманов. Граф-герцог собирает в Мадриде своих друзей и тех, кому он оказывает покровительство, главным образом, уроженцев Севильи. Ранняя известность, приобретенная Веласкесом в Севилье, стала причиной его вызова в Мадрид. Ему было всего двадцать три года. Портрет короля, выполненный им, был столь удачен, что его тотчас назначили придворным художником, и в скором времени он получил в свое распоряжение мастерскую и жилые комнаты во дворце. Это определило всю его жизнь. До самой смерти он будет царедворцем, близким другом короля. Трудно вообразить существование более монотонное, более обыденное. Он унаследовал небольшое состояние своих родителей, которое вместе с казенным жалованьем дало ему возможность чувствовать себя совершенно независимым от заказов. Не думаю, чтобы во всей истории живописи нашелся еще один подобный случай: художник, который не использует живопись как профессию. Его единственная обязанность — писать портреты монарха и его близких. Но очень скоро к минимуму профессиональных дел добавилась еще одна обязанность: быть личным другом короля. Заметим, что король был
178
Диего Веласкес. Сдача Бреды. Фрагмент. 1634—1635, Мадрид, Прадо
весьма сдержан в своих просьбах к Веласкесу написать какую-то определенную картину. Известно, например, что он заказал ему знаменитого ’’Христа” для монастыря Сан-Пласидо и ’’Коронацию Марии” для покоев королевы. Возможно, что и некоторые портреты, вроде поясного портрета герцога де Модена или утраченного портрета герцогини де Шеврез, были написаны по прямому указанию короля. Другие же просьбы короля по сути не заказы — дружеские пожелания. Когда завистники, например итальянец Кардучо, пытались умалить его славу, говоря, что он умеет писать только портреты, Филипп IV устроил конкурс на тему изгнания морисков и убедил Веласкеса принять в нем участие. Это первое большое полотно со сложной композицией, также утерянное, победило на конкурсе. Кардучо, вероятно, скрежетал зубами, когда был вынужден написать в своей книге о ’’неожиданном” ”Изгнании морисков”.
Необычная внешняя ситуация — художник, не зарабатывающий своим ремеслом, — сочетается у Веласкеса с крайне любопытной внутренней ситуацией. Его португальские родственники по отцу, из рода Сильва де Опорто, были одержимы аристократическими претензиями. Они верили, что ведут свой род от самого Энея Сильвия. Веласкес решит, что его подлинное призвание — быть истинным дворянином, и, поскольку знатность во времена абсолютной монархии измерялась степенью приближенности к особе короля и занятием соответствующих постов, он посчитает ряд придворных должностей, которые будет получать и который завершится официальным возведением в дворянство с вручением ему креста Сантьяго, своей настоящей карьерой. Когда во время второго путешествия в Италию — в 1649 году — он напишет портрет Иннокентия X, папа пришлет ему золотую цепь. Веласкес вернет ее, заявив, что он не художник, но слуга короля, которому он служит своей кистью, исполняя его приказания.
Результатом сложившихся таким образом внешних и внутренних обстоятельств стало то, что писал Веласкес очень мало. Значительное количество его работ было утеряно, но даже если бы они сохранились, число их было бы поразительно малым. Историки пытались объяснять подобную скудость работ нехваткой времени из-за необходимости исполнять придворные обязанности. Аргумент этот звучит неубедительно, ведь любой другой художник тратит гораздо больше времени на копии и вынужденные заказы, на переезды и неурядицы. Столько свободного времени, как у Веласкеса, не было ни у одного художника. В его занятиях живописью профессиональная часть сведена к минимуму, и процесс рисования для него — чистое искусство, где не учитываются мнение публики и вкусы заказчиков, но вновь и вновь решаются сложные проблемы художественной техники. Детально изучив картины Веласкеса, мы обнаружим, что в большинстве случаев поводом к их написанию явилась новая тема в искусстве живописи. Этим объясняется не только малое количество его работ, но и то, что большинство картин должны восприниматься как наброски, эскизы, часто не законченные.
180
ПУРИТАНИН В ИСКУССТВЕ
Удивляет неизменно высокий уровень мастерства в полотнах Веласкеса после его приезда в Мадрид. В отличие от других художников, у него не бывает взлетов и падений, удач и ошибок. Его картины всегда таковы, каковыми они были задуманы. Создается ощущение, что они писались легко, без усилий, и, вероятно, так оно и было. Часто его портреты писались без всякой подготовки, а иногда он не наносил даже предварительного рисунка. Он приступал к работе alia prima — сразу атакуя холст кистью. Мы не знаем, как создавались его большие полотна со сложной композицией, но чрезвычайная скудость эскизов и рисунков указывает на то, что и они, похоже, не требовали предварительной работы. Сохранившийся перечень материалов, оставшихся в мастерской художника после смерти, показывает удивительную ограниченность вспомогательных средств, использовавшихся им в работе над главным делом всей его жизни. Это не имеет ничего общего с тем, что называлось его ’’исправлениями”. Вероятно, они связаны с другой особенностью его творческой судьбы. Веласкес действительно был обречен провести значительную часть своей жизни во дворце — в окружении своих картин. Естественно, что временами у него возникало желание что-то изменить в них, особенно в портретах короля. Любой другой художник в сходных обстоятельствах делал бы то же самое. Я вспоминаю лишь об одном ’’исправлении” Веласкеса, сделанном до вручения картины: он переписал одну из рук на портрете Иннокентия X.
Легкость, реальная или кажущаяся, с которой он пишет свои картины, жизнь, прожитая без приключений и потрясений, репутация флегматика, с легкой руки самого короля, казалось, могли бы создать образ человека вялого, неэнергичного, не знающего внутренних противоречий. Однако такое предположение было бы ошибочным. Он действительно был апатичен по натуре, избегал патетических жестов, обладал мягким характером и был противником ссор и конфликтов. Как иначе он сумел бы прожить тридцать семь лет в атмосфере дворцовых интриг, ни с кем не повздорив?! Только однажды у него случилась легкая стычка с маркизом де Малышка из-за какой-то мелочи в дворцовой службе. Между тем творчество Веласкеса ясно показывает, что вся его энергия сосредоточилась в непримиримой художнической позиции. Я не знаю в истории живописи до XIX века никого, кто был бы столь же безоговорочно предан своему убеждению об истинном предназначении искусства: спасти окружающую нас бренную действительность, навечно запечатлеть мимолетное. С юных лет Веласкес отказывался писать фантастическое. Нас больше должно удивлять, сколь мало в его творчестве картин на религиозные сюжеты, господствовавших в живописи в ту эпоху. Не надо думать, что он был менее религиозен, чем любой другой человек того времени. Но религиозный сюжет требовал соглашения с воображаемым и отдаления от сиюминутного и осязаемого. Когда король попросил его — довольно редкий случай — изобразить распятого Христа,
181
Веласкес постарался до предела очеловечить его, расположив на кресте наиболее естественным образом, всячески избегая выражения страдания на его лице, для чего половину лица прикрыл ниспадающими волосами.
Несомненно, что в его время публика начала уставать от религиозных картин, увеличился спрос на другие темы, еще более ирреальные, — мифологические. Филипп IV, во всем следовавший моде, просит Веласкеса писать мифологические картины. Посмотрите, как справился наш художник с этим поручением, противоречащим его художественному кредо. Столкнувшись с мифологическим сюжетом, Веласкес, вместо того чтобы выразить его ирреальную природу, найдет подобную сцену в реальной действительности, перенесет миф на земную почву и впишет его, искажая и развенчивая, в обычное окружение самых низменных земных дел. ’’Вакханалия” итальянских художников будет сведена к будничной сценке — изображению нищих пьянчуг. Марс станет гротескной фигурой усатого мужлана.
“ПРЯХИ"
Из-за того, что мы не сумели точно определить отношение Веласкеса к мифологическим темам, до сих пор остается непонятой самая значительная и последняя из написанных им картин со сложной композицией — ’’Пряхи”. Юсти сказал, что это первая картина, в которой изображена мастерская. Ханжеская социалистическая публика начала века с восторгом приняла эту мысль. Еще в 1943 году я высказал убеждение, что на знаменитой картине на самом деле изображена мифологическая сцена — возможно, это Парки. В то время я не располагал достаточными библиографическими источниками для уточнения сюжета картины. Между тем у сеньора Ангуло родилась счастливая мысль предположить, что картина написана на сюжет мифа о Палладе и Арахне, рассказанный Овидием в ’’Метаморфозах”. Веласкес прочитал его в ’’Тайной философии” бакалавра Хуана Переса де Мойя, имевшейся в его библиотеке. Арахна, искусная мастерица в тканье ковров, бросила дерзкий вызов Палладе, и та превратила ее в паука. Сияющий фон картины, где совершенство Веласкеса-мастера света достигает своей вершины,, соответствует овидиевской версии мифа. В этой части полотна есть только один загадочный предмет — виолончель или viola di gamba, неизвестно зачем помещенная там. Две центральные фигуры переднего плана — согласно идее сеньора Ангуло — возможно, Паллада в облике старухи, какой она появляется у Овидия, и Арахна до спора с богиней. Но дело в том, что эти две женщины не ткут, а прядут. Но этого недостаточно, чтобы считать их Парками, даже если допустить, что иногда они действуют только вдвоем, а не втроем. Когда мифологическая картина той эпохи изображает малоизвестный сюжет, не достаточно просто изучить ее, необходимо найти, как это сделал сеньор Ангуло, латинский текст, подкрепляющий наше толкование. И я вспомнил один текст, ставший своего рода
182
бравурной арией гуманистов. Это ’’Свадьба Фетиды и Пелея” — самая длинная, и вычурная поэма Катулла. Во фрагменте изображены фессалийские девушки, любующиеся коврами. Глядя на ковры, Парки поют свои пророчества о будущем этого блестящего союза и прядут: ’’Левая рука держит прялку с намотанной мягкой шерстью, между тем как правая легко тянет шерсть, свивая нить согнутыми пальцами, а опущенный вниз большой палец вращает веретено... У их ног стоят тростниковые корзины с белой спутанной шерстью”. В этой картине Веласкес единственный раз передает праздничную и музыкальную атмосферу, так созвучную стихам Катулла.
’’Пряхи”, написанные где-то около 1657 года, за три года до кончины, — подлинная вершина творчества Веласкеса. С одной стороны, здесь достигает совершенства техника разложения объекта на чисто световые эффекты, с другой — смягчается его свирепый натурализм. Веласкес здесь избегает портретирования. Ни одна фигура не индивидуализирована. Старая пряха слева наделена лишь родовыми, и в этом смысле условными, чертами. Художник намеренно не показывает нам лица молодой пряхи. К чему все эти предосторожности? Несомненно, для того чтобы помешать вниманию сосредоточиться на каком-то отдельном компоненте картины и чтобы она действовала на зрителя в своей целостности. Если искать протагониста в картине, надо будет признать, что главный персонаж — солнечный свет, проникающий слева в глубь полотна.
В остальном композиция такая же, как в ’’Менинах” и ’’Сдаче Бреды”: в форме буквы ”V”, подобно раскинутым рукам, на переднем плане картины, между которыми расположился ярко освещенный задний план. Картина сильно пострадала во время пожара в королевском дворце в 1734 году.
ЖИВОПИСЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРЕНИЯ
От бодегонов, которые юный Веласкес писал в Севилье, до ’’Прях” мы видим прямую траекторию непрерывного развития. Исходный пункт, разумеется, Караваджо: резкая светотень, направленный свет. Но с самого начала проявляется тенденция, отдалившая Веласкеса от этого художника и от всей традиции итальянской живописи, — тенденция не подчеркивать объемность изображения. Существует двойное восприятие предмета: визуальное и тактильное. Если бы мы не могли дотронуться до предметов, они бы не предстали перед нами в объеме, в трех измерениях. Итальянское искусство всегда смешивало два эти чувства, и сам Караваджо, несмотря на его интерес к свету, только лишь доведет эту традицию до крайности. У Веласкеса живопись порывает с тяготением к скульптуре и шаг за шагом отдаляется от изображения телесного объема. Благодаря этому предметы перестают быть собственно телесными объектами, превращаясь в чисто зрительные образы, призраки, сотворенные игрой цвета. Тем самым живопись у Веласкеса замыкается на себе самой и становится исключительно
183
Диего Веласкес.
Пряхи.
Ок. 1657. Мадрид, Прадо
живописью. Вот оно, гениальное открытие нашего художника, и благодаря ему можно без ложных претензий говорить об ’’испанской живописи” как о явлении, отличном от итальянского. Импрессионизм 1870-х годов доводит открытие Веласкеса до предела, расчленяя предмет на цветовые частицы.
Поэтому не очень-то верно, как это принято, именовать живопись Веласкеса ’’реализмом” или ’’натурализмом”. То, что мы называем реальными объектами и с чем мы постоянно соприкасаемся, есть результат того самого двойного восприятия — зрением и осязанием. Свести объект к чистой визуальности — один из многих способов разрушить его реальность. Это и делает Веласкес.
Замечено, что особое впечатление, производимое любым испанским портретом, проявляется в изумлении и в чем-то вроде испуга. У северян, менее привыкших к ним, чем мы, я иногда наблюдал реакцию резкого, внезапного испуга, который в более выраженном виде, но в том же эмоци-
Диего Веласкес. Эзоп. Фрагмент, Ок. 1639—1640.
Мадрид, Прадо
186
овальном ключе мог стать тем, что мы зовем страхом. И в самом деле, кто бы ни был изображен на холсте, хороший испанский портрет, этот чисто световой фантом, несет в себе драматизм, природа которого проста: драма заключена в переходе от отсутствия к присутствию, почти мистический драматизм ’’являющегося”. Навечно запечатлены на холсте фигуры, являющие нам свое присутствие, и потому они кажутся видениями. Они никогда не смогут полностью закрепиться в реальном измерении и стать вполне явными, но всегда будут возникать из небытия, переходить от отсутствия к присутствию.
ЖИВОЙ МИР У ВЕЛА СКЕСА
Платону нравится утверждать, что живопись — это форма немоты. Поэзия — изречение, живопись — молчание. Но, с другой стороны, живопись представляет сам объект, а не дает, подобно поэзии, его словесное описание, и потому не существует другого искусства, где бы явленное и умалчиваемое так противостояли друг другу. И зритель обычно довольствуется тем, что ему показывает картина, не более того. Нет другого искусства, которое бы в такой же степени призывало к пассивному созерцанию своих творений.
Эта немота, изначально присущая живописи, еще больше подчеркнута Веласкесом. Итальянское искусство было постоянным прогрессом стиля, а стиль, деформируя изображаемое сообразно своей прихоти, делает постоянным присутствие автора в картине, автора, который и осуществил все эти деформации. Полотна Эль Греко, например, — это непрестанное отражение его личности. В картинах Эль Греко мы прежде всего видим самого Эль Греко. Стиль подобен исповеди и в этом смысле есть не что иное, как желание высказаться. Но Веласкес показывает нам объект таким, каков он есть. Сделав последний мазок, художник уходит, и мы остаемся наедине с теми, кого он увековечил. Особая прелесть Веласкеса — в его отсутствии в картине. Прелесть, состоящая в том, чтобы ”не присутствовать”, не обнаруживать себя.
Если учесть, что Веласкес избегает выражения каких-либо эмоций у своих персонажей — единственное исключение мы видим в ’’Христе, привязанном к колонне” — то станет понятно, почему перед его полотнами мы застываем, точно парализованные, не вступая в диалог с картиной, лицом к лицу и наедине с этими существами, которые порой сбивают нас с толку, ибо кажется, что это они нас рассматривают.
И тем не менее каждая картина возникает из тайных замыслов, сокрытых в душе художника. Уже одно то, что художник предпочитает одни темы и отвергает другие, выявляет особый образ мыслей и чувств автора, не выраженный в картине, скрытый за ней, предваряющий ее. В большинстве
187
случаев эта тайная область идей, направляющих художника и движущих им, не пробуждает нашего любопытства, ведь его творчество находится в русле своей эпохи, и совершенно очевидно, что лежащие в его основании идеи типичны для того времени. Но творчество Веласкеса, взятое в его целостности, настолько необычно, что не может не заинтриговать нас тем, что таят в себе его картины и что творилось в душе художника, предваряя их появление.
Таким образом, у него есть собственное понимание живописи, выяснение которого не составляет труда в силу его очевидности, постоянства и ригористичности. Когда он начинал, завистники упрекали его в том, что пишет только портреты. Они не понимали, что Веласкес тем самым совершает первую великую революцию в западной живописи, и суть этой революции в стремлении сделать всякую живопись портретом — иными словами, индивидуализировать объект, запечатлеть сиюминутность происходящего. При такой обобщенности смысла портрет терял свое узкотрадиционное значение и становился формой нового отношения к изображаемым вещам, выражая новое предназначение искусства живописи.
Но это не предопределяет, кого решит написать Веласкес. Так вот, то, что он обозначает как действительность, живущую в умах, является собранием фигур, которые ни с чем не спутаешь и которые запечатлеваются в памяти с неожиданной силой. И здесь нельзя поставить рядом с ним никакого другого художника, для западного сознания Веласкес — это прежде всего особый, неповторимый мир. Добавим, мир, населенный преимущественно чудовищами, по меньшей мере уродами.
Не думаю, что можно и должно избегать вопроса о том, почему творчество Веласкеса носит столь очевидно выраженный необычный характер. Как в любой человеческой судьбе, виной всему случай. Действительно, чистая случайность, что из членов королевской семьи, изображать которых было единственной обязанностью Веласкеса, никто — ни король, ни королева Марианна Австрийская, ни инфанты Мария Тереса и Маргарита — не отличался приятной наружностью. Красавицей была королева Изабелла Бурбонская, но неизвестно почему — быть может, потому, что Веласкес был приглашен ко двору графом-герцогом де Оливаресом, ненавидимым ею, — она отказалась позировать художнику. Полотно, на котором, как полагают сегодня некоторые, изображена она, нельзя с уверенностью считать принадлежащим кисти Веласкеса, нельзя и утверждать, что изображена на нем именно королева. Донья Марианна Австрийская была немолода, с нарумяненными щеками, некрасивым выпуклым лбом, и все это терялось в невообразимых размеров платье в утрированно барочном стиле. Филипп IV обладал очень изящной фигурой, но голову его, вероятно, было очень сложно писать не только из-за невыразительности черт, но и из-за странной формы лба. Следует заметить, что, за одним лишь исключением, на всех
188
Диего Веласкес. Принц Бальтасар Карлос.
Ок. 1640—1642. Вена, Художественно-исторический музей
тридцати четырех портретах короля, указанных в каталоге Курциуса, его лицо изображено в три четверти и с правой стороны. Исключение раскрывает нам причину. Это знаменитый портрет ”Ла Фрага”, единственный, где Филипп изображен в военном мундире, не считая конного портрета в Прадо, где он в доспехах. Тут видно, что левая половина лба была выпуклой и нарушала пропорциональность черт.
Только три члена королевской семьи обладали приятной наружностью, и Веласкес с удовольствием писал их портреты: рано умерший инфант дон Карлос, кардинал-инфант, вскоре удаленный из Испании графом-герцогом, и принц дон Бальтасар Карлос, которого Веласкес не раз охотно изображал.
Не повезло Веласкесу и с самым важным лицом в королевстве — его покровителем. Внешне граф-герцог был почти чудовищно безобразен: огромный, тучный, с вдавленной переносицей. Можно заметить неуверенность Веласкеса в первых портретах Оливареса. В особом введении к группе веласкесовых портретов будет еще сказано о решении им этой сложной проблемы, которую поставила перед ним нелегкая модель.
В другой раз случай будет более благосклонен к нему. В Мадрид приезжает герцог де Модена, ведущий сложную политическую игру. У него великолепное, мужественное лицо, и он предоставляет Веласкесу возможность написать один из самых восхитительных портретов в истории живописи.
Однако, если не считать редкие случаи благоволения судьбы к веласкесовым моделям, остается все остальное, и в том, что осталось, преобладают весьма жалкие человеческие создания — безумцы, карлики, шуты, что бродили толпами по просторным дворцовым покоям. Очевидно, Веласкесу доставляло удовольствие писать портреты этих полулюдей. Ладно бы мы еще заметили в его произведениях стремление компенсировать уродство и низость этих существ прекрасными и благородными лицами, тогда бы не стоило придавать так много значения данной проблеме. Придворные художники — Мор, Санчес Коэльо — традиционно писали портреты шутов Алькасара, хотя никто до Веласкеса не делал этого так часто. Но компенсация такого рода отсутствует. Мало у Веласкеса и женских портретов, настолько мало, что сохранилось всего два, и оба — членов его семьи: портрет жены, написанный без всякого изящества, и предполагаемый портрет дочери.
Вот почему мы склонны подозревать в Веласкесе такие чувства и мысли о жизни, которые удивительны в человеке той эпохи. Его живописи присуща печаль, серьезность и строгость, будто бы осуждающие любое радостное проявление жизни. Быть может, именно эта грань его творчества будет интересна нынешнему поколению художников, столь упорно стремящихся показать нам безобразную изнанку ковра, именуемого жизнью.
190
Диего Веласкес. Портрет Филиппа IV в военном костюме ("Ла Фрага").
1644. Нью-Йорк, собрание Фрик
II
[КАРТИНЫ]
БОДЕГОНЫ
Родственники Веласкеса по португальской линии обладали некоторым достатком. Благодаря этому художник начиная с двенадцати лет мог обучаться и заниматься своим искусством. Он начал работать в мастерской Эрреры, человека желчного и раздражительного, мало сведущего в своем ремесле, но необычайно восприимчивого к новым веяниям в искусстве. Некоторое время спустя Веласкес, с юных лет, похоже, решивший избегать всяческих споров и вести размеренную жизнь, уходит в мастерскую Пачеко, что равносильно переходу на противоположный полюс. Пачеко был традиционен в своих художественных симпатиях. Человек спокойный, невозмутимый, он был вхож в круг самых именитых людей Севильи. Наибольшее влияние, по-видимому, оказанное им на нашего художника, выразилось в том, что он женил его на своей дочери Хуане де Миранде — Веласкесу было двадцать девять лет — и познакомил его с живописцами, писателями и знатными людьми города. По свидетельству Паломино, да и самого Пачеко, Веласкес работал как одержимый. Всю юность он исступленно занимался своим искусством, больше в его жизни такого периода никогда уже не будет. Средства позволяли ему оплачивать натурщиков, ставших персонажами почти всех его севильских полотен.
Веласкес начинает с бодегонов. И это было присуще не только ему. Многие молодые художники его поколения писали бодегоны, как, например, сын его учителя — Эррера Младший, кисти которого принадлежит многое из того, что и поныне приписывается Веласкесу. ”Бодегон”, у итальянцев он назывался ’’бамбочада”, то есть пачкотня, стал первой величайшей революцией итальянского искусства. Важно иметь в виду, что в XVII веке живопись была важнейшей и значительнейшей частью общественной жизни прежде всего из-за ее религиозной тематики, ее главное предназначение — украшать церкви и дворцы. Это позже, в XVIII веке, ее будут воспринимать как второстепенное и случайное занятие. Так вот, художник, который пишет в жанре ’’бодегон”, изображает таверны, кухни, злачные места и их обитателей — всех тех, кого сегодня именуют пролетариями. Реакция была совершенно определенной — раздражение, и не только эстетическое, ведь это ’’принижало” живопись, но и социальное. В Италии зачинщиком мятежа стал Караваджо, сын каменщика, torbido е contenzioso, по словам современников. Друзья попытались отговорить его от работы над подобными темами, или ’’непристойностями”, как их называли, но, увы, тщетно. Они не понимали, что эта дерзость, бывшая сродни мальчишеской выходке, закладывала радикальную реформу живописи. Ведь подобный фортель время от времени кто-нибудь да выкинет. Паломино упоминает об одном художнике из Пирея, которого, согласно
192
Диего Веласкес. Конный портрет принца Бальтасара Карлоса. 1635—1636. Мадрид, Прадо
Диего Веласкес. Портрет инфанта дона Карлоса. Ок. 1626. Мадрид, Прадо
Плинию, называли ’’riparografo” — художник гнусности и мерзости. Но на сей раз речь шла не о временном отклонении от нормы, а о развороте на сто восемьдесят градусов.
Бодегоны Веласкеса продолжали линию Караваджо. Обратите внимание, как свет и тень, столкнувшись в яростной схватке, как бы захватывают фигуру в клещи. Однако вскоре освещение станет более мягким и равномерным. Мы это видим, например, в ’’Кухарке”. Подлинный шедевр картин этого типа — ’’Севильский водонос”. Здесь Веласкес преследует определенную цель — максимально индивидуализировать изображаемый объект. Живопись перестает воссоздавать выдуманные, сверхъестественные формы, формы обобщенно-абстрактные. Не только фигура водоноса выписана со скрупулезной точностью, мы видим портретное изображение кувшина, который уже не кувшин вообще, а конкретный, единственный в своем роде кувшин.
Сохранившиеся описания полотен той эпохи сообщают нам, что восприятие картины начинается с сюжета, с того, что может он рассказать об ином мире, какие мысли может пробудить в публике. В сюжете ценились образы, будто бы действительно принимаемые изображаемыми лицами. Картина
Диего Веласкес.
Портрет Оливареса.
Ок. 1625. Деталь.
Мадрид, собрание Варес-Фиса
195
не воспринималась как живопись. Восприятие же ’’вполсилы”, отвлеченный взгляд на картину как таковую, когда главное — не что изображено, а как изображено, существовал как бы неосознанно, рудиментарно. Заставить зрителя отвлечься от сюжета и сосредоточиться на технике — вот та цель, которую преследует бодегон с его низменной обстановкой и персонажами. Традиционное отношение к живописи коренным образом меняется. Прежде картина притягивала зрителя возвышенным сюжетом, при этом художественные достоинства оставались в тени. В веласкесовых полотнах сюжет настолько тривиален, что наш взгляд поневоле обращается к самой картине и ее цветам. Картина, которая была средством и способом перехода в другой, ’’прекрасный” мир, сама становится фрагментом этого мира.
Диего Веласкес.
Непорочное зачатие.
Ок. 1619. Лондон, Национальная галерея
196
РЕЛИГИОЗНЫЕ КАРТИНЫ
Сюда входят картины Веласкеса, написанные на религиозные сюжеты. Для нас важно расположить их хронологически и обратить внимание, что большая их часть была написана в отроческие и ранние юношеские годы в Севилье. В Мадриде, где прошла основная часть его жизни, были созданы лишь ’’Коронация Марии”, ’’Христос из Сан-Пласидо”, ’’Христос, привязанный к колонне” и ”Св. Антоний посещает св. Павла”.
Немногие вещи раскрывают с такой ясностью представление Веласкеса об отношении живописи к религиозной тематике. С религиозных сюжетов начинается история западной живописи, и все современники Веласкеса, включая художников его поколения — Рибера, Сурбаран, Алонсо Кано, — пишут в основном религиозные картины. После переезда в Мадрид Веласкес старается избегать этих отвлеченных тем. А значит, мы должны с особым вниманием отнестись к его религиозным полотнам севильского периода, и тогда довольно скоро убедимся в том, что почти все они не что иное, как бодегоны. Взгляните, как изображены у него Марфа и Мария с Иисусом Христом. Мы видим кухню — рыбу, яйца и ступку на столе — и двух женщин, занятых приготовлением пищи. А в левом верхнем углу картины видно открытое пространство — это может быть и картина, и окно. Там, вдалеке, не очень отчетливо выписана евангельская сцена. Подобный прием — введение религиозного сюжета опосредованно, косвенно, — обнаруживается также в самом раннем из дошедших до нас веласкесовых полотен. Картина эта до 1933 года считалась простым бодегоном, когда же был убран верхний слой краски, покрывавший задний план картины, в левом ее углу стало видно изображение Христа и его учеников в Эммаусе. ’’Трапеза в Эммаусе” предлагает нам тот же сюжет, но на сей раз обычные приметы бодегона — блюда, яства, кувшины, чашки — ограничены лишь тарелкой и ножом. Однако рядом с высвеченной фигурой Христа изображены два простолюдина — характерные персонажи традиционного бодегона. Полотно это, в котором религиозная тема заявлена открыто, лишний раз подчеркивает стремление Веласкеса писать так, чтобы все в его картинах имело отношение к реальному миру. И если бы не сияющий ореол вокруг головы Христа, его тоже можно было бы принять за одного из персонажей бодегона. В картине стоит обратить внимание на две вещи. Первая — нет и следов влияния Караваджо. Тень не играет никакой существенной роли. Движения кисти исключительно свободны. Ничего подобного не найти в картинах Веласкеса севильского периода, где его все еще заботит объемность изображения и он еще не достиг мастерства в изображении световоздушной среды и чисто визуального восприятия своих объектов. Вторая заключается в неожиданно проявившейся колористичности стиля. Оранжевая туника Иисуса, его зеленый плащ, буро-желтое одеяние одного из учеников заполняют по диагонали одну сторону картины целиком. Задаешься вопросом, а не проявляются ли в лице Христа черты самого Веласке
197
са? Полотно обычно датируется 1619—1620 годами, но техническое мастерство, не явившееся результатом упорных занятий, а ставшее, по сути, величайшим открытием Веласкеса, дает основание датировать его последним годом пребывания в Севилье. Сравните с ’’Поклонением волхвов”, также относящимся к 1619 году. Наиболее самостоятельная из севильских картин художника, она тем не менее несет в себе явное влияние караваджиз-ма. Архитектоника картины неестественна, композиция груба. Хотя, конечно, лицо Богородицы при всей его условности прелестно. Здесь все еще видна подчеркнутая телесность фигур, от которой свободна ’’Трапеза в Эммаусе”. Та же тяжеловесность кисти ощущается в портрете францисканской монахини доньи Херонимы де ла Фуэнте. Портрет дона Кристобаля Суареса де Рибера мы не отнесли бы к числу веласкесовых, если бы не монограмма художника и проставленная дата — 1620 год.
Поскольку, говоря о религиозных картинах, мы упоминаем о двух портретах — монахини и церковнослужителя, не следует оставлять без внимания то странное впечатление, которое производит на нас отсутствие других портретов, относящихся к севильскому периоду. Ведь именно его слава портретиста стала поводом к приглашению в Мадрид писать портрет нового короля. Это неопровержимо свидетельствует о том, что он должен был написать достаточно портретов в Севилье. Куда они пропали? Почему исчезли? В наследии Веласкеса больше, чем у любого другого художника, испарившихся полотен.
Но обратимся к четырем большим религиозным картинам нашего художника, созданным в годы творческой зрелости, когда Веласкес уже выработал свою концепцию живописи, куда религиозная тема не особенно вписывается.
’’Распятие” и ’’Коронация Марии” — две картины, написанные по немногочисленным просьбам Филиппа IV. Это заказ, а не любимые творения, и было бы интересно посмотреть, как поступает Веласкес, когда обстоятельства вынуждают его писать ирреальное.
Начнем с ’’Коронации Марии”, хотя она и написана позже. Вероятно, она была создана около 1642 года для личной часовни королевы. Там изображена сама Троица, а ниже — Дева Мария. И тем не менее картина не несет в себе мистического ощущения трансценденции. Вольно или невольно кисть Веласкеса рождает чувство присутствия, присутствие же — свойство реального мира. Заметно усилие художника избежать недопустимой светскости: кисть останавливается там, где начинается индивидуализация. Черты лица Бога-Отца и Христа условны и лишены всякой конкретности. Так же написано и лицо Девы. Борьба художника с самим собой, стремление уйти от индивидуализации к обобщенности и неопределенности, иными словами, к условности, настолько очевидны, что картина как бы повисает в нерешительности между двумя мирами, производя на нас малоприятное впечатление. Чтобы решить эту сложную проблему, Веласкес заполняет пространство картины пышными одеждами.
198
Диего Веласкес. Поклонение волхвов.
1619. Мадрид, Прадо
Веласкес умел мастерски передавать фактуру ткани. Плащ и туника всегда ложатся у него необычайно изящными складками. Но в этом случае мы видим слишком много ткани. Условность изображения утяжеляет колорит картины. Веласкес всегда добивался того, что классицисты — Менге, например, — называли ’’локальным цветом”, то есть естественного цвета объекта в его реальном существовании. Здесь же художник вынужден выдумывать цвета, и неизвестно почему он выбирает резкую фиолетово-лиловую, винную гамму цветов, влекущую за собой холодность изображения. Напротив, благоговейное изящество рук Девы наполнено подлинной андалузской грацией.
Это полотно заслуживало бы более пространного комментария из-за двойственности восприятия. С одной стороны — блистательное мастерство, полнота художественных возможностей, замечательное владение кистью. С другой — болезненное столкновение навязанной темы со стилистическими ограничениями.
В ’’Распятии Христа” Веласкес использует тот же прием для изображения сверхъестественного, но сюжет более податлив, и художник достигает желаемого. Нет темы тревожнее и значительнее. Бог воплощается в человека, чтобы быть распятым. Этот гениальный парадокс вдохновляет и поддерживает всю христианскую веру. Веласкес доводит изображение страдания до мысленного предела, не оставляя места никакому мистическому чувству. Наоборот, он делает так, чтобы от картины исходило потрясающее впечатление искренности, достоверности. Не восторженный экстаз, а искреннее чувство — таково отношение Веласкеса к религии, как и к жизни в целом. Тело Христа выполнено в манере, которую мы могли бы обозначить как ’’усеченная веласкесова живопись” — имеется в виду сведение к условному изображению. Созданная задолго до ’’Коронации Марии” — в 1631—1633 годах, — картина демонстрирует подобную стилевую редукцию, но не столь умелую или изобретательную. Суть ее в возвращении к итальянской традиции моделирования и светотени в манере живописи ’’тенеб-росо”. Веласкес, своеобразие дарования которого заключается как раз в спонтанности, к тридцати годам становится человеком в высшей степени рассудительным. Никто особенно не учитывал того, как сказались трезвые рациональные размышления на его творчестве. Одно из них проявилось в преднамеренном отклонении от своей манеры письма при работе над религиозными сюжетами или портретами короля или в иных случаях, некоторые из которых будут упомянуты ниже.
В ’’Распятии Христа” мы сталкиваемся еще с одной особенностью изобразительной манеры художника. Веласкес считает, что необходимо каждую фигуру расположить на холсте наиболее удобным для нее образом, чтобы она чувствовала себя органично и естественно, ибо, по его убеждению, это действует на зрителя умиротворяюще — вот он знаменитый ’’покой”, исходящий от веласкесовых полотен. И мы с удивлением обнаруживаем, как искусно добивается он удобного положения распятого
200
Диего Веласкес. Портрет Херонимы де ла Фуэнте.
1620. Мадрид, Прадо
Христа на кресте, и это не просто парадокс. Он использует здесь идею своего тестя, Пачеко, смысл которой в том, чтобы показать, как ноги, прибитые особым образом, опираются на нижнюю перекладину. Он уходит от выражения боли, закрыв большую часть лица густыми волосами, и стремится к разумной условности изображения видимых черт лица в соответствии с принятыми канонами. Но было бы ошибочно считать, что, избегая резкой патетики боли и страдания в фигуре жертвы, он лишает картину должного пафоса. Она обладает им в высшей степени, но это пафос другого рода, более тонкий и возвышенный, — пафос искренности и достоверности.
Иной способ решения религиозной темы в рамках единого подхода к ее трактовке мы обнаруживаем в картине ’’Христос у колонны” или, как принято называть ее сегодня, ’’Христос и христианская душа”. Картина поднимает множество проблем перед исследователями творчества Веласкеса. Наш художник писал мало, к тому же вел размеренную жизнь — все время при дворе, а значит, почти все его картины написаны по какому-либо
Диего Веласкес.
Искушение св. Фомы.
Ок. 1631—1632.
Орихуэла
202
Диего Веласкес. Коронация Марии. Ок. 1641—1643. Мадрид, Прадо
известному поводу. И то, что нам не ведомо, в связи с чем и для чего была написана данная картина, становится для нас загадкой, побуждающей к размышлению. ’’Пряхи”, о которых речь пойдет ниже, — другой пример подобной загадочности, еще более значимый из-за важности произведения и позднего времени создания. Итак, мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах был написан ’’Христос у колонны”. Манера письма также не подсказывает возможной даты создания картины. Она уникальна тем, что это единственное полотно Веласкеса, где он изобразил лицо, искаженное болью. И если еще добавить, что обнаженное тело Христа выполнено в классической итальянской манере — сложные переходы цвета, резкая светотень и подчеркнутая условность, — то перед нами оказывается произведение, в котором Веласкес идет на значительные уступки той художественной технике, которую отвергал с юных лет. Невозможно проанализировать это произведение должным образом, не вспоминая об Алонсо Кано, самом итальянизированном из художников, близких к Веласкесу, товарище его юности, с которым его продолжали связывать дружеские отношения. Фигура ангела, написанная холодно, сдержанно, неуверенно, выполнена в той же манере, что и ’’Туника Иосифа”, созданная во время первого путешествия в Италию. Поэтому существует предположение, что и эта картина была написана там же. Но вероятнее всего, Веласкес написал ее в Мадриде спустя некоторое время после возвращения. Лучший фрагмент картины — детская головка. Было время, когда в ней хотели видеть портрет второй дочери Веласкеса, Игнасии, родившейся в 1621 году и через несколько лет умершей. Кажется, не вызывает сомнений то, что первоначально эта голова была написана с другой целью и тело было изображено в иной позе. Видно, что она неловко и словно насильственно присоединена к телу.
Картина ”Св. Антоний посещает св. Павла” еще недавно почти всеми исследователями относилась к последним годам жизни Веласкеса. Лога разрушил это единодушие, утверждая, что роль и характер пейзажа, способ изображения дерева делают ее современной охотничьим портретам и картинам. Небо напоминает картину ’’Копья”. Этими данными не стоит пренебрегать, они позволяют установить дату создания картины. Она была написана для часовни в Буэн Ретиро, восстановленной в 1634 году и заброшенной несколькими годами позже. Но есть и другие соображения, по которым следовало бы вернуться к первоначальному предположению. Картина пленяет своей прелестью. Все здесь — и изящество, и свободное движение кисти, и тематическое богатство, и мастерство — делают полотно Веласкеса каким-то особенным. Единственный раз художник захотел дать волю своей причудливой фантазии. Картина и в самом деле своего рода каприз. Ее средний размер, восторженность, с которой выписаны небольшие головы святых, удовольствие, испытываемое художником, повествующим о житии святого, и заставляющее нас представить на том же полотне различные эпизоды из его жизни, как это делали примитивные художники, фрагмент реального пейзажа, проглядывающий между скал, и произвольно
204
Диего Веласкес. Св. Антоний посещает св. Павла.
Ок. 1641—1643. Мадрид, Прадо
нарисованная огромная скала на переднем плане, которая совсем не похожа на какую-нибудь скалу в Гуадарраме, — все говорит о желании Веласкеса дать волю непривычной для него радости созидания. И хотя следует быть сдержанным, высказывая предположения о влиянии конкретных художественных приемов других живописцев на творчество Веласкеса, давайте сравним эту необыкновенную скалу с другой, изображенной на картине Сальватора Розы, которую Мишель воспроизводит в своей ’’Истории искусства”. Веласкес познакомился с этим художником во время своего второго путешествия в Италию.
Лишь один критерий оценки произведения искусства, особенно в случае Веласкеса, способен обеспечить наибольшую точность датировки каждой картины. Этот критерий — уровень мастерства. Мастерство не тождественно гениальности и не сводимо к успеху, сопутствующему творению. Веласкес с юных лет был необычайно одарен, но, определив свой стиль в искусстве как радикальное новаторство, он должен был постоянно, шаг за шагом, добиваться совершенствования своего мастерства. ’’Коронация Марии” — прекрасный тому пример: каждый миллиметр картины преисполнен мастерством, виртуозным владением живописной техникой, богатством художественных средств и воплощает всю полноту замысла. И все же полотно не совершенно. Но над всем здесь властвует, как вездесущая сила, мастерство ее творца. Тем самым ”Св. Антоний и св. Павел” являют нам высший предел мастерства художника.
ПОРТРЕТЫ
Раньше мы уже отмечали необычность того, что сохранилось так мало портретов, написанных Веласкесом в севильский период, хотя уже тогда он обладал славой искусного портретиста, которая и стала причиной вызова художника в Мадрид, едва лишь ему исполнилось двадцать три года. Нет у нас даже сведений и о пропавших портретах, как, например, о многих других, написанных им позже. ’’Мужской портрет” да еще два, уже упоминавшихся, из предыдущей группы картин, — вот все, что дошло до нас. Поскольку на его персонаже гофрированный воротник, а не жабо, портрет был, видимо, создан не позднее 1623 года, когда воротники такого фасона были окончательно запрещены. Фактура картины та же, что в большинстве севильских полотен: резкая светотень, характерная точность черт лица, достигнутая, правда, с большим трудом.
Во время своей первой поездки в Мадрид художник, как сообщает нам Пачеко, пишет портрет Гонгоры. Для нас он представляет особый интерес, ведь, за исключением портрета Кеведо сомнительной атрибуции, мы не имеем никаких сведений о том, что Веласкес писал еще кого-либо из выдающихся писателей, его современников. Удивляет, что, хотя он был современником Кальдерона, часто бывавшего при дворе, у нашего художника не возникло
206
Диего Веласкес. Портрет Оливареса на коне. Ок. 1635. Нью-Йорк, Музей Метрополитен
желания увековечить его образ. В библиотеке Веласкеса, каталогом которой мы располагаем, был едва ли не единственный поэтический сборник. Портрет Гонгоры, без сомнения, превосходен, но любование им связано с некоторым беспокойством: действительно ли он принадлежит кисти Веласкеса. Причина в том, что Веласкес написал его в совершенно несвойственной ему манере. Это некая точка отсчета, общая для молодых художников его поколения, имела два пути дальнейшего развития: один — избранный Веласкесом — трудный путь поиска цветового решения, стремления точно передать изгибы человеческого тела; другой путь — необычайно ясный — к живописи, почти лишенной яркого колорита, полной величавой простоты и естественности, с плавными переходами цвета. Таковы лучшие полотна Сурбарана. Все сказанное не говорит о том, что портрет Гонгоры надо приписать кисти именно этого художника, речь идет о том, что он написан в иной манере, чем у Веласкеса. То же самое можно было бы сказать о ’’Мужском портрете”, который хранится в Институте искусств в Детройте.
Конный портрет графа-герцога де Оливареса — одно из величайших творений нашего живописца и одна из вершин барочной живописи. Мы обнаруживаем в нем все атрибуты барочного стиля, достигшего в те годы кульминации своего развития во всей Европе. Громадная масса лошади, огромное тело изображенной фигуры, пышность наряда, большая шляпа, чуть сдвинутая вбок, чтобы можно было увидеть лицо, диагональное расположение всей фигуры, диагональ, которая не просто пересекает плоскость холста, но уходит в глубь картины, в третье измерение. Наконец, лошадь — чтобы всего было в избытке — стоит дыбом. Курбет был ритуальной позой лошади в барочной живописи. Как и во всех парадных портретах, Веласкес подавляет свой импрессионизм, усиливает выразительность цвета. Портрет демонстрирует полноту и свободу всех художественных средств. Пейзаж, хотя и незамысловатый, расширяет пространство картины. Повсюду разлит мягкий, рассеянный свет. Наклонное положение фигуры придает картине больший динамизм. Удивительно, что на этом парадном портрете Веласкес изображает своего персонажа со спины. Конечно, прецеденты были, и Веласкес был знаком с ними: ’’Герцог де Фериа” Джузеппе Леонардо; ’’Маркиз де Бальби” Ван Дейка в Женеве. Но картина Леонардо — батальная сцена, и генерал, изображенный там, лишь один из ее элементов. Здесь же речь идет о независимой фигуре; сражение едва намечено и служит декоративным фоном. Тот, кто сумеет разглядеть, как все у Веласкеса продумано до мелочей, полно хитроумных находок, найдет объяснение этой странной позе в физических данных графа-герцога. Действительно, если мы сравним этот портрет с другими изображениями этого самого влиятельного человека в Испании, написанными в 1624—1627 годах, станет понятна та своеобразная проблема, которая возникает у портретиста из-за приплюснутого носа графа-герцога. Да, это был непредставительный нос, как мы увидим на самом интимном портрете, выполненном Веласкесом буквально накануне отставки министра. Отсутствие зубов,
208
Диего Веласкес. Дама с веером.
Ок. 1642. Лондон, собрание Уоллес
вдобавок ко всему, делает его лицо похожим на мордочку летучей мыши. Слегка комично наблюдать, как на портрете 1624 года только что прибывший ко двору и потому еще робкий Веласкес придумывает ему более или менее сносный нос, который, как всякая выдумка, вышел плохим. На портрете 1627 года нос уже другой, но тоже не подлинный. На парадном, ’’историческом” портрете, таком, как конный, так солгать было нельзя. Изворотливый Веласкес обнаруживает, что при взгляде на лицо чуть сзади и сбоку тупое основание носа не так заметно. Необходимо было изобрести .какое-нибудь хитроумное ухищрение, ведь речь шла, как уже было сказано, об ’’историческом” портрете. В портрете прославляется удачная оборона Фуэнтеррабиа, за которую граф-герцог был удостоен маршальского жезла. Естественно, граф-герцог не был в Фуэнтеррабиа, и своей защитой город обязан мужеству гипускоанцев. Тогда казалось просто смешным, что почести были оказаны человеку, сыгравшему в этой победе столь незначительную роль. В письме одного иезуита мы читаем, что с графом-герцогом поступили так же, как обычно поступают с мужем роженицы у басков: рожает женщина, а в кровать укладывают мужа и преподносят ему торрихи.
В том же 1638 году Веласкес написал портрет юного герцога де Модена, прибывшего с визитом к мадридскому двору; юноше было двадцать восемь лет. Судьбе было угодно послать художнику в качестве модели необычайно интересного человека, обладавшего редкой мужской красотой. Но герцог, как выяснилось вскоре, оказался человеком сложным и лукавым. На портрете его лицо, изображенное в три четверти, написано с исключительной простотой и точностью. Веласкесу удалось сделать явным то, что скрывалось в его душе, полной интриг. Кираса написана в строгих тонах, дабы не отвлекать внимания от лица. Другой, конный, портрет герцога утерян.
В портрете скульптора Мартинеса Монтаньеса Веласкес применяет самую совершенную художественную технику для создания благородной головы человека, приближающегося к старости. Скульптор умер в 1649 году, а картина была, видимо, написана несколькими годами раньше.
В ’’Портрете юноши” (Мюнхен) и ’’Мужском портрете” (Дом Эпсли) мы видим две другие, чрезвычайно интересные, модели. Первая картина — незаконченная — датируется где-то 1626 годом, вторая — 1632-м. Кто послужил для них моделями? Нам об этом совершенно ничего не известно.
Другой удивительной особенностью творчества Веласкеса является немногочисленность женских портретов. В истории живописи женские портреты всегда создавались реже, чем мужские, особенно до XVIII века, но в творчестве Веласкеса эта диспропорция доходит до крайности. Мы совершенно точно знаем о некоторых утерянных портретах, как, например, все, созданные в Италии, среди которых был портрет Олймпии Мальдачини, свояченицы папы. Все поклонники Веласкеса особенно опечалены исчезновением портрета герцогини де Шеврез, неугомонной Роан, явившейся ко
210
двору испанских королей после бегства из Франции. Считается, что она была изображена одетой по французской моде.
Еще один удар судьбы, и мы, быть может, лишились бы ’’Дамы с веером” — картины, хранящейся в коллекции Уоллеса. Тогда бы мы говорили, что Веласкес был неспособен создать женский портрет, сравнимый по своим достоинствам с его мужскими портретами. Но существование этого чудесного портрета, одного из самых совершенных творений живописи, убеждает в обратном. Это строгое по колориту полотно, где использованы любимые цвета Веласкеса: коричневые, черные, оливковые, голубовато-белые и мраморно-белые. И словно для контраста, крохотное пятнышко киновари под бантом, неизвестно зачем там поставленное. Телесный цвет такой мягкий и таких естественных оттенков, что, рисуя лицо модели, художнику не пришлось накладывать даже малейшей тени. Поза женщины необычайно естественна, в то время как руки запечатлены в изящном жесте ”гарбо”. На самом деле не известно, кто послужил художнику моделью. Есть некоторое сходство с наброском одной картины, где изображена женщина, занятая шитьем, и то, что она не принадлежит к высшим слоям общества — ни к королевской фамилии, ни к знати, — наводит на мысль, что речь идет о дочери Веласкеса Франческе, вышедшей замуж за его ученика Масо задолго до создания портрета. По технике исполнения картина датируется 1648 годом, и возраст дочери соответствует возрасту модели — тридцать лет. Но вряд ли ее можно воспринимать как символ испанки. Слегка выпуклый лоб, широко расставленные, несколько навыкате, глаза дают основание считать ее скорее португалкой. И не стоит забывать, что Веласкес был португальцем.
ВЕЛАСКЕС В ИТАЛИИ
После триумфа в Мадриде и назначения придворным художником в двадцать три года событием наибольшей важности во всей жизни Веласкеса стал приезд в Мадрид в 1628/29 году великого Рубенса, находившегося тогда в зените своей славы. Фламандец приехал по поручению эрцгерцогини Исабель Клары Евгении с дипломатической миссией, касавшейся интересов Англии. В Мадриде он едва ли был близок с кем-нибудь из художников, кроме Веласкеса. Их тесное общение продолжалось несколько месяцев. Впервые Веласкес встретился с величайшим иностранным художником, которому занятия искусством обеспечили необычайно высокое положение в социальной иерархии. Знакомство с Рубенсом внезапно раздвинуло горизонты существования самого Веласкеса. Жизнь Мадрида, хотя он и был центром громадной империи, была очень провинциальна и замкнуто-обособленна. Влияние Рубенса на молодого Веласкеса, которому не было еще и тридцати лет, сказалось скорее на его мировосприятии, нежели на его художественной манере. Возможно, оно проявилось в том, что палитра его картин стала более светлой, расширились художественное пространство
211
Диего Веласкес. Портрет папы Иппокептия X.
1650. Рим, галерея Дориа-Памфили
Диего Веласкес. Вилла Медичи. Вечер.
1650—1651. Мадрид, Прадо
и горизонт его полотен, ушли черные тона, пристрастие к которым сохранялось у Веласкеса со времен увлечения живописью ’’тенебросо”. Но главный результат этого влияния — поездка в Италию. Едва Рубенс покидает Мадрид, Веласкес садится в Барселоне на одну из галер, сопровождавших маркиза де Спинола в Геную. Там Веласкес знакомится с художниками-караваджистами Караччолой и Массимо Станциони, встречается со своим соотечественником Хусепе Риберой, ’’Spagnoleto”*, как прозвали его там.
Воздействие, оказанное на него итальянским искусством с его огромными композициями, побуждает Веласкеса приняться за нечто подобное — он пишет ’’Тунику Иосифа” и ’’Кузницу Вулкана”. Первая картина — менее удачна. Фигуры разобщены, тем самым нарушено единство сцены. В то время как левая часть картины довольно тщательно прописана Веласкесом в минорных тонах, правая лишена выразительности фигур и очень условна. В изображении обнаженных тел очевидно влияние классицизма.
’’Кузница Вулкана” тоже написана в приглушенных тонах, что, кстати, отличает обе итальянские картины Веласкеса от его остального творчества, однако являет собой нечто совсем иного рода: великолепное, в высшей степени оригинальное полотно, где соблюдена не только композиционная целостность, но при этом все в ней говорит о сиюминутности происходящего. Аполлон сообщает Вулкану о несчастье в его супружеской жизни. Это первая картина Веласкеса, написанная на мифологический сюжет, и она заслуживает того, чтобы о ней было сказано в общем предисловии.
Во время своего второго путешествия в 1649 году Веласкес приезжает в Италию, находясь на вершине славы, будучи широко известным, но не как живописец, а как близкий друг короля. На этот раз он отправился туда с поручением купить картины и пробыл там до 1651 года. За время поездки он не создал ни одной большой картины и, похоже, не испытал никаких новых влияний. Он пишет много портретов, в том числе портрет своего слуги — ’’мавра” Пареха, где в полной мере дает волю своей собственной манере живописи — ’’живописи кляксами”, ’’живописи отдельными пятнами”, ’’живописи короткими мазками”, другими словами, его импрессионизму.
Теперь он уже не откажется от этой смелой манеры, даже работая над такой моделью, как папа Иннокентий X. У Веласкеса нет портрета с более воздушной пластикой и рождающего столь сильное ощущение присутствия. Внешне его персонаж не особенно привлекателен, но все, что в нем есть — достойного или недостойного, — проявилось на полотне.
Второе путешествие Веласкеса в Италию оставило нам неожиданный подарок: два пейзажа с виллой Медичи. Здесь выражено все искусство художника, состоящее в создании целостного, обобщенного образа как
*”Испанчик” (ит.).
214
Диего Веласкес. Кузница Вулкана.
1630. Мадрид, Прадо
универсального метода живописи. В своих полотнах он стремится запечатлеть сад в двух его разных состояниях: ”В полдень” и ’’Вечером”. Обратите внимание, что в том случае, когда пейзаж — не фон, а главное действующее лицо картины, Веласкес вновь отдает предпочтение глубоким, насыщенным тонам — темно-зеленым, оливковым, матово-белым, черным.
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ
В общем предисловии было предложено определение того, как трактовал Веласкес мифологические сюжеты, заказанные ему королем и его окружением. Изображенные в своем буквальном виде, они означали бы для Веласкеса отказ от его концепции живописи, поэтому главная задача, которая стоит перед художником, состоит в стремлении спасти реальность и отвергнуть фантасмагорию, дабы остаться верным своей идее.
215
’’Марс” и ’’Меркурий и Аргус” — вот два самых простых и наименее интересных примера сопротивления Веласкеса ирреальности мифа, поиска того, что мы могли бы назвать логарифмом реальности.
В картине ’’Меркурий и Аргус” подчеркнут отчетливо драматический смысл происходящего, в отличие от сатирической интонации, присутствующей в ’’Марсе”. Немецкий ученый Юсти считает, что в качестве модели для Аргуса Веласкес использовал ’’Умирающего гладиатора” с виллы Лудовизи в Риме. Копия этой скульптуры была приобретена художником для дворца Алькасар в Мадриде.
Веласкес обладал редкой способностью творить восхитительное единство вымысла и повседневной действительности, что убедительно и безошибочно демонстрирует ’’Кузница Вулкана”, созданная в Италии. В еще более ясной и впечатляющей форме его удивительное дарование проявилось в одной из последних его картин — ’’Пряхи”.
’’ПРЯХИ”
’’Пряхи” — самый знаменитый пример толкования Веласкесом мифологической темы. Мы уже говорили о ней во введении. Для многих ’’Пряхи” — подлинная вершина творчества испанского живописца. В совершенстве владея всеми художественными средствами, Веласкес выходит за пределы возможностей собственного стиля, вбирая их в себя и в то же время преодолевая. Ему удалось создать полотно, в котором одновременно есть что-то итальянское, что-то голландское, а все вместе — веласкесово. Во всем остальном его творение несет на себе отпечаток загадочности. Последняя большая работа Веласкеса, она обычно датируется 1657 годом. Похоже, что такое грандиозное полотно было замыслено и написано не для дворцовых покоев, мы находим его в инвентарном списке картин доктора Арсе, подобно Веласкесу занимавшего временные апартаменты во дворце. Этот список был недавно обнаружен сеньорой Катурла. Должно быть, доктор Арсе чрезвычайно увлекался живописью и был страстным коллекционером картин, но это никоим образом не объясняет того, что Веласкес мог написать для него произведение такого масштаба. В инвентарном списке оно фигурирует под названием ’’Минерва и Арахна”. Однако размеры, указанные в списке, не совпадают с размерами картины, известной нам под названием ’’Пряхи”, даже если мы согласимся с предположением, часто и легко высказываемым, что к полотну были добавлены три полосы материи, одна сверху и две по бокам. Маловероятно, чтобы Веласкес смог разместить на небольшом пространстве картины столько фигур, пять из которых совсем не маленькие. Кроме того, немыслимо, чтобы залитая светом ’’сцена” в глубине картины была лишена своего круглого отверстия в центре арки.
216
Диего Веласкес. Пряхи. Фрагмент.
Ок. 1657. Мадрид, Прадо
"КОПЬЯ”
В 1625 году Амбросио де Спинола, маркиз де лос Бальбасес, принудил к сдаче хорошо укрепленную крепость Бреду, главный стратегический пункт голландцев. В 1634—1635 годах Веласкес пишет картину, увековечившую сцену вручения генералу-победителю ключей от города, которые передает ему Юстин де Нассау, брат Морица д’Оранж. Это одна из самых популярных картин в истории живописи, и надо признать, что она удивительно современна. Полотно рассказывает нам о множестве вещей; необычайно цельное, оно вместе с тем, подобно бурлящему потоку, сплавляет в единое целое самые разные истории. Каждая фигура имеет свою историю. Количество фигур поистине огромно, и все они охвачены единым движением. Но над всем этим кипением страстей царит немыслимый покой, который парадоксальным образом объясняется последовательным стремлением
217
Диего Веласкес. Сдача Бреды. 1634—1635.
Мадрид, Прадо
Диего Веласкес. Сдача Бреды. Фрагмент. 1634—1635. Мадрид, Прадо
художника подчинить все в картине изображению моментальности происходящего. Это редчайший случай яркого выражения и торжества великой идеи Веласкеса — увековечить мгновение.
Композиция столь обширного полотна очень проста. На переднем плане видны две группы людей: слева — в полный рост, справа же видны только головы, которые изобразительно поддерживаются громадным телом лошади. В центре — промежуток, свободное пространство, образованное веласкесовым ”U”, куда прорывается — иначе он не мог — световой поток. Справа видны двадцать восемь копий — в те времена испанцы называли их ’’пиками”, — они вздымаются ввысь, почти достигая верхнего края картины. За исключением четырех, все они стоят вертикально. Чрезвычайно смелая находка Веласкеса, ведь она позволила сгруппировать в картине целый ряд перпендикулярных линий. Но суть в том, что именно копья делают картину живой. Они придают покой этой тревожной сцене. Они как бы пригвождают чрезмерную подвижность персонажей. Многие исследователи пытались отыскать предшественниц
220
этих гениальных копий. Конечно, и раньше художники изображали копья и другое оружие, также поднятое вверх, но каждый раз это только мешало заметить его присутствие. У Веласкеса, которому пришла в голову столь оригинальная идея разместить копья подобным образом, они сразу бросаются в глаза. Менге говорит, что они плохо написаны. Непонятно почему, может быть, он имеет в виду то копье, которое перекрещивается с другим, создавая при этом оптическую иллюзию изогнутости.
Богатая палитра этой картины нетрадиционна для Веласкеса. Несмотря на свой тицианизм, он не очень-то доверяет цвету. Но время от времени в своих полотнах он демонстрирует великолепные всплески палитры, как, например, в данном случае. Часто, потому что незначительность темы — незначителен маленький принц, принцессочка — требует определенной компенсации. Но, когда он пишет по своему вкусу, он собственной волей обедняет палитру. Тенденция сделать преобладающей холодную гамму предполагает неверие художника в цвет, но этого мало: в конечном счете он удовольствуется белым, черным и серым, которые в какой-то момент его творчества придадут его живописи серебристый, временами даже свинцовозеленый оттенок.
’’Пики Фландрии” — характерное оружие знаменитой гражданской гвардии — стали навязчивой идеей для испанцев той эпохи как в положительном, так и в отрицательном смысле. Они поддерживали на себе испанскую империю, но стоили гораздо больше, чем Испания могла себе позволить. Через несколько лет после создания картины, в одном сражении на территории Германии, пики вспыхнули, и их острия превратились в языки пламени. Вот пример того, как это оружие стало символом испанского мистицизма.
ПРИНЦЫ, КАРЛИКИ, ШУТЫ И СУМАСШЕДШИЕ
Почти всю свою жизнь Веласкес прожил во дворце, где и умер в 1660 году в возрасте шестидесяти одного года. Там был его дом и его мастерская. Поскольку ему как художнику было уготовано судьбой рисовать то, что он видел перед собой, Веласкес писал то, что считалось главным во дворце: королевскую семью и толпу уродов, бродивших по дворцовым галереям и залам.
Веласкес написал около тридцати четырех портретов Филиппа IV, и безжизненная физиономия этого монарха вновь и вновь проходит перед нашим взором сначала в его юные, затем в отроческие, зрелые годы и, наконец, в преддверии старости, как на портретах 1655 (музей Прадо) и 1656 (Национальная галерея) годов. За исключением портрета, сделанного во Фраге, его лицо всегда показано художником с правой стороны почти под одним и тем же углом. Поза очень невыразительна, но исполнена достоин
221
ства и делает его черты лица правильными. Филипп IV был последним представителем умиравшей породы, и тем более удивительно, что за сорок лет своего царствования он не совершил ни одного неподобающего поступка, не сказал ни одного неподобающего слова. Историки привыкли быть несправедливыми к нему из-за его неспособности к управлению империей, которую он передал графу-герцогу де Оливаресу. Но разве был в Испании еще кто-то, кто хоть сколько-нибудь был способен к управлению государством? По крайней мере так думали его современники и выразили это самым недвусмысленным способом.
Габсбурги, одетые во все черное по испанскому обычаю, — и король, и два его брата — вошли, благодаря Веласкесу, в галерею именитых призраков, оставшихся в памяти европейцев. Веласкес, этот гений изящества, проявлявшегося даже в его собственной манере одеваться, сумел передать
Диего Веласкес.
Карлик дон Диего де Асеро ("Эль Примо").
1644. Мадрид, Прадо
222
в своих полотнах элегантность, действительно присущую этим людям. Охотничьи портреты короля и инфанта-кардинала, его брата, показывают, насколько тонко чувствовал художник отличия, вызванные переменой позы и одежды.
Портрет, написанный во Фраге, — исключительный случай, давший возможность Веласкесу устроить для нас одну из своих неожиданных феерий цвета. Король, единственный раз в жизни, отправляется на войну, одевшись в военный мундир, иными словами, он выглядит, как диковинная, из ’’Индий” птица с разноцветным оперением. Веласкес играет цветами: серым, отливающим серебром, розовым, киноварью. По-видимому, портрет был написан очень быстро и в таком убогом месте, что пришлось прорубить в стене дверь, чтобы король и художник могли попасть внутрь.
Диего Веласкес.
Карлик дон Себастьян де Морра.
Ок. 1648. Мадрид, Прадо
223
Диего Веласкес. Портрет придворного шута дона Хуана Австрийского. Нач. 1650-х гг. Мадрид, Прадо
Другой персонаж, портреты которого вновь и вновь пишет Веласкес, — сын короля, принц Бальтасар Карлос. На первом портрете ему три-четыре года (он хранится в коллекции Уоллеса), следующие будут появляться по мере его взросления вплоть до ранней смерти принца. Видно, особенно на последнем портрете, то наслаждение, с каким Веласкес прикосновением кисти передает красоту и прелесть детского лица и свое к нему отношение. Рисуя его верхом на лошади, художник хочет возвеличить принца, и у Веласкеса маленькая лошадка делает курбет на фоне широчайшей панорамы горного хребта Гуадаррамы. Лошадь, правда, вышла не очень хорошо.
При создании портретов королевы Марианны Австрийской и принцессы Маргариты он наилучшим образом учитывает все детали: его модели одеты в блестящие, огромных размеров платья, руки, сложенные в восхитительном жесте, держат тончайший, прозрачный платок, изумительно написанный художником.
Часто слышатся резкие выпады писателей в адрес Филиппа IV, упрекающих его в том, что он поселил и содержал в своем дворце карликов, безумцев и шутов. Но критика эта несправедлива. В те времена при большинстве королевских дворов происходило то же самое, и некоторые уродливые создания мадридского Алькасара прибыли туда из-за Пиреней, из других дворцов. Конечно, это был архаизм, всячески культивируемый при дворах, несвоевременное следование вкусам давно отошедшего в прошлое XV столетия. Большинство этих несчастных и уродцев было ничем не занято при дворе, и наверняка они были частыми гостями в мастерской Веласкеса. Для него они были идеальной моделью. Работая над их портретами, он мог продемонстрировать свое владение живописной техникой, и, с этой точки зрения, они — лучшая часть его творчества. Ничтожество модели заставляет приглядеться к художественному решению. Кроме того, Веласкес, по словам знавших его людей, был человеком меланхолического склада, и он не считал, что условно восхваляемые достоинства — красота, сила, богатство — действительно являются самыми ценными в человеческом предназначении. Он был убежден, что за всем этим скрывается поистине глубокое и волнующее достоинство, печальное и драматическое, — простое человеческое существование. Именно простое существование стремился передать художник с помощью кисти. Вот почему безобразие его уродцев превращается у него в достоинство.
ФРЕЙЛИНЫ. ИЛИ СЕМЬЯ
Как уже было сказано, Веласкес был не особенно изобретательным человеком. Непонятно при этом, что имеется в виду. Возможно, подобное наблюдение основано на неспособности разглядеть, понять идеи художника. Веласкес писал мало, никогда не воспринимая свое искусство как основной род занятий. Но если мы посмотрим на его творчество с точки
225
зрения оригинальности, плодотворного поиска новых тем и новых способов трактовки традиционной топики, нас поразит открывающаяся нам глубина его замыслов, новаторство его идей. Каждое из его полотен воплощает новую идею. Веласкес, за исключением написанных им портретов короля, нигде не повторяется. И бесспорно то, что три его больших картины — ’’Копья”, ’’Менины” и ’’Пряхи” — самые неожиданные его творения, выявляющие всю гениальность творческого воображения Веласкеса.
’’Менины” — блестящий тому пример. Замысел Веласкеса состоял в том, чтобы возвеличить и увековечить на большом полотне повседневную сцену в его придворной мастерской, создав то, что Юсти именует ’’идеальной картиной для историка”, то есть нечто необычайно простое и сказочно возвышенное. Во дворце царствовали Филипп IV и скука. Лопе де Вега, человек, чуждый придворных нравов, человек улицы, сообщает, что ”в королевском дворце зевают даже гобеленовые фигуры”. Но там было место, где всегда можно было рассчитывать на встречу с друзьями, на интересное и увлекательное зрелище — мастерская Веласкеса. Сюда часто заглядывал король, а иногда и вместе с королевой, наведывалась принцесса Маргарита со своими ’’служанками” или камеристками. События происходят в 1656 году, за три года до смерти художника. Веласкес работает над картиной, сюжет которой нам не известен. Король и королева находятся в мастерской — еще одна гениальная находка, и их фигуры отражаются в зеркале. Фрейлины принцессы, девушки из аристократических семей, ухаживают за маленькой инфантой. Два уродца — тучная придворная карлица, немка по происхождению, по имени Марибарбола, и карлик-итальянец Николасито Пертусато — веселят юных дам. Некая сеньора в одеянии монашеского вида — ’’дуэнья” — и гвардадамас наблюдают за группой детей. В глубине картины дворцовый служащий, управляющий ковровой фабрикой и родственник Веласкеса дон Хосе Ньето, открывает дверь, сквозь которую пытается пробиться солнечный свет. Ничего больше. Сплошная повседневность.
Когда во дворце говорили о картине, ее обычно называли ’’Семья” (’’Familia”). Слово это не будет понято правильно, если не учитывать, что в высших слоях общества слово ’’familia” все еще употреблялось в своем первоначальном смысле, производном от латинского famulus, ’’слуга”. То есть оно означало не просто родителей с детьми, но собрание более многолюдное, где на переднем плане оказываются слуги. Под ’’слугами” подразумевается домашняя прислуга, которая действительно была частью дома, семьи. Так вот, в этой картине главными персонажами являются девушки, прислуживающие принцессе, и карлики вместе с мужчиной и женщиной, наблюдающие за ними. В ту эпоху в аристократических и литературных кругах, особенно при дворе, был распространен своеобразный кастильско-португальский билингвизм. Португалия еще совсем недавно (за несколько лет до написания картины) принадлежала испанской
226
Диего Веласкес. Менины.
1656. Мадрид, Прадо
короне. Поэтому иначе ее называют ’’Меняны”, хотя сейчас бы мы назвали их ’’сеньоритами”, поскольку речь идет о девушках из аристократических или буржуазных семей.
Живописный центр картины — инфанта Маргарита с ее бело-золотым платьем, легкими волосами, просвечивающей, прозрачной кожей лица. Повторю, однако, замысел картины состоит не в том, чтобы написать портрет инфанты. Достаточно сравнить это изображение с портретом, написанным тогда же и хранящимся в Венской галерее. Как и во всех королевских портретах, здесь заметно стремление Веласкеса сдерживать свою импрессионистическую манеру. В ’’Менинах”, наоборот, фигура инфанты, так же как и остальные фигуры, лишь намечена отдельными мазками, что придает необычайную воздушность телам и тканям.
В этой картине Веласкес максимально полно реализует проблему пространства — не абстрактного пространства, основанного на простой перспективе, а заполненного вещами, пропитанными воздухом. Существует большая вероятность того, что именно Рубенс помог ему оценить очарование, придаваемое картине тем, что мы могли бы обозначить как ’’открытость пространству”, идея, еще раньше воспринятая им самим у Тициана, а затем усовершенствованная и подчеркнутая. Но пространства, к которым устремляется изображение, нереальны, они не существуют, это лишь иллюзия пространства, намеки на пространственность. Такого рода пространство помещает Веласкес на заднем плане своих королевских портретов. Оно лишено художественного единства с изображаемой моделью. Реальное действие происходит в мастерской художника, которая в картине приобретает черты идеального пространства, носящего характер фоновой ткани. Пространство и фигура предстают как нечто случайное и чуждое друг другу. То, что у Веласкеса фоновые пейзажи напоминают по очертаниям и цветовой тональности горный хребет Гуадаррамы, не означает, что он предполагал написать реальное пространство. Самая яркая демонстрация этого приема — ясные, но условно освещенные дали, открывающиеся нашему взору за человеческими фигурами, в его картине ’’Копья”.
Только в двух картинах — ’’Менины” и ’’Пряхи” — Веласкес задается целью изобразить реальное пространство, в которое погружены его персонажи.
Во многих картинах Веласкеса изображена воздушная среда. Уже было сказано, что он писал воздух. Но эффект этот не имеет ничего общего с его методом изображения пространства. ’’Воздушное окружение” присутствует во всех его картинах, даже там, где вокруг фигуры нет вообще никакого пространства, или, как в случае с Паблильосом, нет даже фона.
У Веласкеса воздушность исходит от самих фигур, а не от окружающего их пространства или среды.
’’Натурализм” Веласкеса состоит в нежелании придавать вещам больший вес, чем тот, который они имеют, в его отказе делать их более рельефными и совершенными, другими словами, в нежелании уточнять их.
228
Диего Веласкес. Инфанта Маргарита в синем платье.
1659. Вена, Художественно-исторический музей
Диего Веласкес. Инфанта Маргарита в серо-розовом платье.
1660. Мадрид, Прадо
Точное изображение вещей — это их идеализация, вызванная человеческими желаниями. В своем реальном виде они несовершенны. Этот невероятный парадокс врывается в сознание Веласкеса, уже возникнув у Тициана. В реальной жизни вещи лишь в большей или меньшей степени, лишь очень приблизительно являются такими, какими они должны быть, они не имеют четких очертаний, идеальных и отшлифованных поверхностей, а теряются в неясности, размытости контуров, которые оказываются их подлинной сутью. Четкие очертания вещей — это и есть их ирреальное, фантастическое состояние.
Что же касается способа изображения пространства и его глубины, следует сказать, вновь прибегая к парадоксальной формуле, что он делает это неумело. Он добивается пространственного удаления не путем непрерывности, продолженности линий, подобно Тинторетто или Рубенсу, а, наоборот, выстраиванием прерывистых, отдельных планов. Обычно их три: передний и задний — освещенные, особенно задний план, причем художник каждый раз ищет источник ’’прорывающегося” света. Между этими двумя помещен третий план — темный, образованный затемненными силуэтами. Он придает печальный оттенок его полотнам, и, конечно, именно этот план требовал долгой изнурительной работы.
Поразителен средний пласт, составленный из произвольно затемненных и приглушенных по колориту фигур, в картине ’’Копья”. В ’’Пряхах” ту же функцию выполняет расположенная в центре картины фигура служанки, собирающей мотки или клочья пряжи, и все, что расположено вокруг нее. В ’’Менинах” эта роль возложена на затемненные фигуры дуэньи и гвар-дадамаса, колебания света и глухие стены.
Таким образом, углубление пространства достигается установкой ряда кулис, как на театральной сцене.
ПЕЙЗАЖ ПОКОЛЕНИЙ*
Читателю этой книги придется не раз обратиться к прилагаемой таблице, и, только прочитав книгу, вы сможете окончательно понять, почему я предлагаю ее читателю в тот самый момент, когда начинаю разговор о Веласкесе.
Когда перед нашим любопытствующим взором встает какой-нибудь персонаж из прошлого, будь он велик или ничтожен, и мы действительно
*Эта глава, найденная среди бумаг автора, была впервые опубликована в томе VIII Полного собрания сочинений. Она была отредактирована где-то в 1944 году. Судя по заметкам автора, она должна была стать одной из первых глав задуманной им книги о Веласкесе и явилась бы приложением к таблице поколений, опубликованной в 1947 году, которая помещена в конце главы. Остальная часть работы Ортеги над темой занесена на карточки, возможная публикация которых будет осуществлена позже. Доведенное до конца исследование стало бы одной из самых значительных книг ее автора (прим. изд.).
231
хотим разузнать, что он собой представлял, первое, что мы должны сделать, — резким ударом столкнуть его в воду, погрузить его в поток исторического времени. Для этого есть серьезнейшая причина. В непроизвольных опытах интеллекта созерцаемое всегда окостеневает, выделяется и становится застывшим, статуарным. Если созерцаемое — камень, несоответствий не возникает. Поэтому, скажем, так сравнительно легко выстраивается астрономическая наука. Звезды — это окаменевшие тела, и, несмотря на их пространственную удаленность от человека, они наиболее близки его интеллектуальному познанию, обладающему способностью все превращать в неподвижную субстанцию, которая, если мы позволим ей действовать по своему усмотрению, любую вещь обратит в звезду. А если рассуждать обратным порядком, то самым непостижимым для человеческого интеллекта оказывается сам человек, ведь он менее всего подвержен окаменению. Реальное бытие человека — это его жизнь, но не соматическая жизнь, а его bios, жизнь, понятая как предназначение, как чистое движение.
Напомним, что древний и почтенный философский термин ’’реальность” — realitas — это не экзистенция, существование чего-либо, но то, что содержит в себе это что-то, его консистенция, внешнее состояние. Так вот, состояние человека, человеческой личности не сводится к телесному, ни даже к духовному: тело и душа лишь два механизма, физический и психический*, которыми человек обладает и которыми ему приходится управлять, чтобы быть человеком. Доказательством может служить то, что наличие тела и вложенной в него души на самом деле не означает ничего, абсолютно ничего такого, что в данном человеке мы могли бы считать проявлением собственно и исключительно человеческого. И действительно, мы не можем знать заранее, каковы будут верования и идеи этого человека, что он будет ценить, а что отвергать, какими инструментами и техническими средствами он будет владеть, каковы будут его увлечения, восторги и страдания. Чтобы убедиться, насколько верно высказанное утверждение, заметим, что данное человеку тело никак не предопределяет то, какие телесные страдания придется ему выносить. Спектр болей зависит от набора анальгетиков, существующих в то или иное время. Реальность или сущность человека определяются тем самым не телом, не душой, а временем, в котором он живет. Или, иными словами, человек, личность не обладает абсолютно автономным бытием или консистенцией, которую бы он считал присущей только ему, которой бы он распоряжался свободно и самостоятельно, и происходит это потому, что в момент своего рождения человеческая жизнь вбирает в себя определенный способ существования.
Данный образ жизни состоит по преимуществу из форм человеческого бытия, действующих в то время и в том обществе, где воспитывается
* Здесь я следую обычному представлению, при том, что понятия ’’тело” и ’’душа”, как таковые, ничего не выражают.
232
индивидуум и где протекает его жизнь. Человек не вызревает, подобно фиге, на ветке дерева, он растет и формируется в обществе, прикрепленном к определенной территории, внутри того, что я называю ’’социальным пространством”. Итак, общество в каждое мгновение своего существования характеризуется сочетанием способов мышления, чувствования, преобладающих и принятых моделей поведения, которые подразумевают ’’коллективное существование” и поэтому автоматически влияют на всех индивидуумов, входящих в данное ’’социальное пространство”*.
Часть сущности человека, которая не возникает как следствие довлеющих им поведенческих моделей данной эпохи, состоит в приобретении им тех жизненных форм, которые он или перенимает у другого индивидуума, или к которым он приходит самостоятельно. Оба варианта по сути сводятся к одному и тому же: и в том, и в другом случае мы имеем дело с истинно личностным творчеством. Но не будем забегать вперед. С одной стороны, здесь нет никакого противоречия с предыдущим тезисом, суть которого в том, что человек не имеет изначально собственной сущности, он может лишь воспринять ее и упрочить. И даже если та часть сущности, которая не принадлежит ему, была механически получена им от его окружения, она — некое творение, иными словами, она не дана ему как нечто готовое, необходимо формировать ее уже в рамках его жизни. Но, с другой стороны, человек созидает или творит свою сущность, учитывая, используя или исправляя утвердившиеся в обществе поведенческие модели, и даже в случае ярко выраженной оригинальности он, по сути, ограничивается созданием новых комбинаций уже существующих форм жизни. Особая ситуация возникает, когда поведение индивидуума вступает в противоречие с теми или иными нормами его времени, и становится видно, насколько тесно он связан со своей эпохой и как прочно вписан он в контекст своего времени. Если бы подобные модели и нормы отсутствовали, то противостояние индивидуума общественным установлениям просто бы исчезло бесследно. Следовательно, когда мы говорим, что человек воспринимает бытие того времени или той эпохи, в которой он живет, то безразлично, принимает он или отвергает характерные для того времени модели существования. Так или иначе, человеку предназначено основываться на них или отталкиваться от них, а не просто существовать в их окружении. И тогда решающей оказывается хронологическая
*Хотя объем этой книги не позволяет остановиться подробнее на эволюции таких важных тем, как теория человека, общества и истории, очень важно, чтобы читатель ясно понимал, что подразумевается под ’’коллективным существованием”, поскольку это обозначение определяет явление фундаментальное, непреложное и в высшей степени четкое. Когда я говорю, что чему-то свойственно ’’существование”, то я имею в виду две вполне очевидные возможности, а именно: каждый конкретный индивидуум сталкивается с неким опытом, столь мощно на него воздействующим, что в случае его неприятия человек вынужден будет или противостоять тяжким последствиям этого неповиновения, или — самое меньшее — ему придется приложить неимоверные усилия, дабы от этих последствий уклониться.
233
зависимость индивидуума, соотнесение его с эпохой. Об этом мы и ведем речь.
А теперь — самое главное. Не только индивидуум изначально лишен собственной сущности и нуждается в том, чтобы его время предоставило ему ее, но и само ’’его время” также не имеет своих собственных представлений, своего бытия, более того, огромная часть этих укоренившихся моделей и норм поведения, а соответственно и значительная часть человеческой сущности приходит, по сути, из ’’другого времени”, из прошлого, и даже то, что может считаться новым и ’’своим”, возникает с учетом предшествующего опыта. Таким образом, подобно тому как человек — чтобы стать человеком — должен нести в себе свою эпоху, так данная эпоха, в свою очередь, должна нести в себе предшествующие времена. Не существовало ни одной эпохи, которая начиналась бы ”с нуля”. Всякое человеческое время берет свое начало в прошлом, исходит из него, и, согласно оно с ним или нет, оно является, по сути, его продолжением. Вникните в эту мысль. Когда мы о каком-то явлении говорим, что оно есть продолжение другого явления, мы не говорим об их тождественности, напротив, они отличны друг от друга, — поэтому это другое явление, но его новизна и особость есть производная положительного или отрицательного восприятия явления предшествующего. Если бы в старые времена люди — отдельный индивидуум или общество в целом — вели себя иначе, сущность настоящего была бы другой. Совершенно так же дело обстоит и с этими предшествующими эпохами — и так дальше и дальше, в глубь веков. Таким образом, человек и его время получают свое бытие от всего предшествующего хода истории, которое в общем могло быть и иным.
Здесь мы сталкиваемся — хотя я и не хочу втягивать читателя в сложные хитросплетения этой грандиозной проблемы — с самым удивительным и обескураживающим явлением в положении человека, а именно: жизнь каждого человека могла бы в корне отличаться от того, какой она была или какова она есть. Каждый из нас отличался бы от себя нынешнего, если бы родился в другую эпоху. Но и сама данная эпоха, как и все прочие, была бы иной, если бы человечество пошло по другому пути или в какой-то момент изменило бы направление своего движения. Ведь иные модели и цели человеческого поведения были вполне возможны.
Отсюда проистекают многие весьма значительные следствия, но среди прочих для нас важно одно: если некая абсолютная, а не только относительная, причина породила в прошлом человеческое событие определенной структуры, то от человека сегодняшнего здесь нет ничего. Тем самым всякой форме человеческой жизни свойственно проистекать из другой. Но и сама эта форма не окончательна,. ибо преобразуется в некую третью и соответственно новую форму, которая развивает то, что было заложено в предыдущей, доводя это развитие до предела, и, что самое существенное, вдохновляется отрицанием предшествующей формы. Таким образом, чело
234
веческое бытие есть вечная метаморфоза, заключающаяся в движении, исходящем из предшествующего и устремленном к последующему.
А значит, было бы крайне неверно при рассмотрении некоего события человеческой жизни воспринимать его как нечто застывшее и изолированное. Таков взгляд геометра. Но мы должны овладеть иным взглядом — взглядом историка. Исторический взгляд на событие означает видеть вещи в движении, от предшествующего к последующему. Глаз историка никогда не смотрит в одну точку, но беспрестанно обращается то к прошлому, то к будущему, осознавая таким образом наблюдаемую им реальность, которая по сути есть лишь движение от чего-то и движение к чему-то.
Мы все еще далеки от того, чтобы понять истинный смысл данного явления, которое кажется нам прописной истиной, и потому интерпретируется весьма поверхностно. И если говорить просто и ясно, это означает: человечество — не нечто данное, а традиция, и способ человеческого существования отличен от существования камня, растения, животного, Бога. Это существование в традиции. И совершенно безразлично, хочет индивидуум быть традиционалистом или революционером. Так или иначе, хочет он того или нет, он существует в традиции*.
Присущая человеку изменчивость, о коей идет речь, не является изменением его существования, в силу которого сам человек и все в нем когда-то возникает и когда-то исчезает. Это свойство существовать временно остается внешним по отношению к сущности человека, к тому, что он собой представляет, пока существует. Животное тоже временно, но, однако, его сущность, свойственная его виду, постоянна, она одинаковая у первого и последнего тигра. Гипотеза превращения одного в другое предполагает, что один вид превращается в другой, но новый вид живет вне традиции, породившей его, живет, не учитывая существование предшествующего вида, а как если бы он был первым.
Итак, свойство всякой формы человеческого существования заключается в том, что одна проистекает из другой, а значит, индивидуум есть результат определенной традиции и вне ее ничего собой не представляет. Необходимо очень серьезно отнестись к слову ’’проистекать, происходить”. Когда мы говорим, что один художественный стиль происходит из другого** ...
* Когда я говорю, что сущность индивидуума заключена в традиции, я вовсе не имею в виду какую-то единственную традицию. Не решен вопрос о том, начиналась ли человеческая жизнь в разных местах планеты и в различных формах или нет. Всегда человек будет получать свою сущность от одной из этих традиций. Я также не задаюсь вопросом о том, что, если даже существовала эта множественность традиций, обязательно ли произойдет так, что все они сольются в единую, планетарную традицию, что, видимо, могло произойти в последние тысячелетия. И если такое единение произойдет, не случится ли последующего разделения, когда человеческие сообщества будут все больше разобщаться?
** Здесь рукопись обрывается.
235
ТАБЛИЦА ПОКОЛЕНИЙ *
Поколения ПОЛИТИКИ И ВОЕННЫЕ УЧЕНЫЕ И ЛИТЕРАТОРЫ ИНОСТРАННЫЕ ХУДОЖНИКИ ИСПАНСКИЕ ХУДОЖНИКИ
1521 (с 1514 по 1528) Филипп II (1527—1598) Ронсар (1524-1585) Санта Тереса де Хесус (1515—1582) Фрай Луис де Леон (1527—1591) Ариас Монтано (1527—1598) Санчес, Эль Бросенсе (1523—1601) Тинторетто (1518—1594) Паоло Веронезе (1528—1588) Антонис ван Мор (1519—1576) Питер Брейгель, Старший (1525—1569) Камбиазо (1527—1585) Тибальди (1527—1596) Гаспар Бессерра (1520—1570) Луис Моралес (1509—1586) Наваррете, ’’Немой” (1526—1579)
1536 (с 1529 по 1543) Елизавета Английская (1533—1603) Антонио Перес (1534—1611) Монтень (1533—1592) Скалигер (1540—1609) Боден (1530-1596) Сан Хуан де ла Крус (1542—1591) Фернандо де Эррера (1534—1597) Кардинал Толедо (1532—1596) Шаррон (1541—1603) Беллармино (1542—1621) Эль Греко (1541—1614) Бароччи (1528—1612) Жилье Кунье (1538—1599) Федериго Цуккари (1539—1609) Бронзино (1535—1607) Санчес Коэльо (1531—1607)
1551 (с 1544 по 1558) Генрих IV (1553—1610) Дон Хуан Австрийский (1547—1578) Александр Фарнезе (1545-1592) Сервантес (1547—1616) Тассо (1544—1595) Джордано Бруно (1548—1600) Суарес (1548—1617) Малерб (1555—1628) Тихо Браге (1546—1601) Санчес, Скептик (1552—1632) Юстус Липсий (1547—1606) Матео Алеман-и-де-Энеро (1547—1614) Джон Лили (1553—1606) Пауль Бриль (1554—1626) Амбросий Франкен (1544—1618) Сеспедес (1548—1608)
1566 (с 1559 по 1573) Сюлли (1560—1641) Амбросио Спинола (1569-1630) Мединасидониа, командор ’’Непобедимой Армады” (1560—1615) Галилей (1564—1642) Кеплер (1571—1630) Шекспир (1564—1616) Бэкон (1561—1626) Лопе де Вега (1562—1635) Гонгора-и-Арготе (1561—1627) Марино (1569—1625) Арминий (1560—1600) Кампанелла (1568—1639) Исаак Касобон (1559—1614) Бенджамин Джонсон (1573—1637) Караваджо (1569—1609) Миревельт (1567—1641) Аннибале Карраччи (1560—1609) Кавалье д’Арпино (1560—1640) Поурбус II (1569—1622) Караччоло (1570—1637) Рибальта (1564—1628) Роэлас (1560—1625) Пачеко (1564-1654) Санчес Котан (1560—1627) Хуан Б. дель Майно (1569—1649) Бартоломе Гонсалес (1564—1627)
1581 (с 1574 по 1588) Филипп III (1578—1621) Ришелье (1585—1642) Оливарес (1587—1645) Мансфельд (1580—1626) Валленштейн (1583—1634) Оксеншерна (1583—1654) Гоббс (1588—1679) Гроций (1583—1645) Якоб Бёме (1575—1624) Гассенди (1592—1655) Кеведо-и-Вильегас (1580—1645) Ян Гельмонт, Отец (1579—1644) Херберт Чербери (1581—1648) Ламот де Вайе (1586—1672) Паравичино (1580—1633) Тирео де Молина (1584(?>—1648) Рубенс (1577—1640) Альбани (1578—1660) Гвидо Рени (1575—1642) Ланфранко (1580—1647) Доменикино (1581—1641) Лионельо Спада (1576—1621) Франс Халс (1580—1666) Гораций Борджани (1578—1616) Станционе (1585—1656) Эррера, Старший (1576—1656) Орренте (1580(?>—1627) Хауреги (1583—1641) Тристан (1586(?>—1624) Висенте Кардучо (1578—1638)
1596 (с 1589 по 1603) Людовик XIII (1601—1643) Кромвель (1599—1658) Мазарини (1602—1661) Коменский (1592—1670) Кальдерон де ла Барка (1600—1681) Грасиан (1601—1658) Сор Мария де Агреда (1602—1665) Ниеремберг (1595—1658) Мария де Сайас (1590—1661(7) Пуссен (1593—1665) Клод Лоррен (1600—1682) Гверчино (1591—1666) Ван Дейк (1599—1641) Калло (1592—1635) Йордане (1593—1678) Герард ван Хонтхорст (1590—1656) Ваккаро (1598—1670) Андреа Сакки (1599—1661) Пьетро да Кортона (1596—1669) Доменико Фетти (1589—1624) Питер ван Лар, прозв. ’’Бамбоччо” (1592—1642) Валантен Луи де Булонь (1591—1634) Пьетро Новелли (1603—1647) Сустерманс (1597—1681) Херонимо Хасинто Эспиноса (1600-1667) Пабло Легот (1590—1672) Хуан Риси (1600—1681) Сурбаран (1598—1664) Рибера (1591—1652) Алонсо Кано (1601—1667)
ВЕЛАСКЕС (159^—1660) ДЕКАРТ (1596—1650)
1611 (с 1604 по 1618) Филипп IV (1605—1665) Мильтон (1608—1674) Корнель (1606—1684) Рохас Соррильа (1607—1648) Матеос Фрагосо (1608—1689) Морето (1618—1669) Антонио де Солис (1610—1686) Франсиско де Мельо (1608—1666) Рембрандт (1606—1669) Сассоферрато (1605—1685) Тенирс (1610—1690) Терборх (1617—1681) Адриан ван Остаде (1610—1685) Сальватор Роза (1615—1673) Герард Доу (1613—1675) Кабальеро Калабрезе (1613—1699) Кастильоне, Джованни Бенедетто (1616—1670) Микко Спадаро (1610—1675) Мурильо (1618—1682) Карреньо (1614—1685) Франсиско Риси (1608—1678) Переда (1608—1678) Хосе Леонардо (1606—1656) Хуан Пареха (1606—1670) Масо (1612(?>—1667) Вальдес Леаль (1622—1680) Педро де Мойа (1610—1666)
Опубликована в 1947 году со сноской, данной на с. 231.
МОИМИ УЧИТЕЛЯМИ БЫЛИ ПРИРОДА, ВЕЛАСКЕС И РЕМБРАНДТ
Франсиско Гойя
ПРЕЛЮДИЯ К ГОИЕ
1
[DOCTA IGNORANTIA]*
Мне бы хотелось, чтобы читающий эти строки ни на секунду не упускал из виду один факт: я — полный невежда в вопросах, касающихся истории искусств. Тем не менее у меня появились кое-какие соображения относительно Гойи, некоторыми из которых я и собираюсь с вами поделиться. Моей вины тут нет. Каждый раз, когда чудовище по имени Гойя (а Гойя, скажем a limine**, есть чудовище, чудовище из чудовищ, самое дикое из тех, что он сам породил) возвышает свой уродливый торс над волнистой, зыбкой, подобной морской, линией горизонта, очерчивающей мой частный мир, эти мысли, словно неистовые вакханки, поднимаются на дыбы, требуя, чтобы я заявил о них, несмотря на их незначительность, и мне приходится ударами кнута загонять их назад в тихое логово. Недавно меня попросили написать предисловие к альбому гравюр, готовящемуся к изданию в связи с двухсотлетием Гойи, и я подумал, почему бы не выпустить на волю некоторые из них, если, конечно, читатель снизойдет к моей просьбе и отнесется ко всем моим рассуждениям о Гойе как к исходящим от человека не сведущего ни в живописи, ни в ее истории.
А что, если именно такой подход и привлечет некоторых заинтересованных читателей? И вообще, не будет ли полезным, а может быть, и весьма плодотворным, если о тех или иных вопросах иногда будут писать профаны, не принадлежащие к узкому цеху специалистов, так сказать, новички in puris naturalibus***? Прошу заметить: речь идет не о тех, кто рассуждает о чем-либо, ошибочно полагая, что разбирается в вопросе, как это чаще всего происходит, а о тех, кто прекрасно осознает степень своего невежества. Польза и плодотворность такой новой практики состоит не в том, чтобы подменить ’’знатоков”, а в том, чтобы создать вокруг них некое сообщество
◄ Франсиско Гойя. Автопортрет.
1815. Мадрид, Прадо
* Ученое неведение (лат.).
**Сразу (лат.).
***В натуральном виде (лат.).
241
помощников, что не может причинить им никакого вреда. Конечно, знать, что ничего не знаешь, — это, как говорится, тема с вариациями, но, возможно, такое знание и есть самое трудное и точное.
Сразу хочу пояснить еще один момент: я отнюдь не пренебрегаю авторами, которые разбираются в истории искусств, и читаю их с уважением, с наслаждением. Меня восхищают терпение, усердие, заботливая тщательность, с которой исследуются те или иные аспекты творчества художника, мастерство, а порой и большой талант, позволяющие подметить неповторимые особенности стиля, полотна или скульптуры. В общем, я узнаю из подобных книг массу нового, о чем раньше даже не догадывался. Однако в то же время я замечаю, что эти авторы пребывают в полном неведении относительно некоторых вопросов, без прояснения которых не стоит и говорить о знании истории искусств. Они до сих пор не имеют ни малейшего представления о том, что такое история, и весьма поверхностное, смутное и расплывчатое — о том, что такое искусство, что значит ’’быть художником”, каково влияние общества на творческую индивидуальность и так далее. Отсюда следует, что ’’знаток истории искусства” — фигура почти утопическая, и к ней не мешает относиться построже.
Напротив, человек, не сведущий в истории искусства, может знать нечто такое, без чего об истории искусства не стоит и говорить. Таким образом, ни специалист, ни дилетант — а специалистом по части незнания наш учитель Сократ называл философа, — взятые в отдельности, не могут претендовать на знание истории искусства. Лучшее, что они могут сделать, — это, для начала, показать друг другу свои увечья, провалы в познаниях, что приведет к неизбежному и плодотворному сотрудничеству. Единственное превосходство философа (раз уж мы никак не можем избавиться от досадной привычки судить, кто лучше, а ктр хуже) состоит в его умении лавировать между объектами, не нанося им большого урона. Свойственный философу способ мышления открыл ему нерв незнания, пульсирующий внутри любой науки, заставил осознать, что человеческое знание по сути, а не per accidens* произрастает из плодотворного и неискоренимого незнания, что, как бы много он ни знал, непознанного остается неизмеримо больше, а потому основу интеллекта у человека мыслящего составляют не позитивное знание, но парадоксальная чувствительность и просветленная настороженность, позволяющие ему вскрывать, словно по волшебству, все новые и новые области своего незнания. Вот почему, а отнюдь не из любви к красивым словам, я вслед за Николаем Кузанским утверждаю, что лучшее из знаний — это docta ignorantia, то есть ученое незнание.
*По случайным признакам (лат.).
242
2
[ИСПАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ]
Мы часто говорим: ’’Некто совершил ошибку”. Любопытно, что рядом с этим выражением в нашем языке существует другое, похожее: ’’совершить преступление”. Преступление и ошибка уравниваются. Ошибка вменяется в вину тому, кто ее совершил, на него возлагается все бремя ответственности, как будто ошибка не несчастье, а человек не жертва, но злоумышленник. Сейчас не время рассуждать о том, насколько в этом случае язык соответствует действительности. Хочу только отметить, что в целом ряде случаев дело обстоит именно таким образом. Не ошибки случаются с нами, а мы сами их совершаем. Наше поведение преступно в том смысле, который древние религии вкладывали в понятие смертного греха. Для христианства, начиная со Святого Августина, источником греха является вожделение. Для добропорядочного римлянина, напротив, корень всякого греха — в небрежении, халатности, которые противоположны religentia, religio или pietas*, одним словом, тщательности и аккуратности. В самом деле, мы часто совершаем ошибки, потому что, выдвигая предположение, само по себе правильное, мы автоматически, бездумно и безответственно дополняем его выводами, на наш взгляд само собой разумеющимися, в то время как данное предположение не только их не подразумевает, но зачастую им противоречит. Приведу пример.
Утверждая, что некоторые испанские художники принадлежат к числу самых великих живописцев мира, мы сообщаем нечто, что никто, по крайней мере с ходу и без множества оговорок, не решится опровергать. Это непоколебимая и безоговорочная истина. Но тут-то и жди беды: слыша или повторяя эту прекрасную истину, мы, по чистой небрежности, засоряем все ее поры серьезными заблуждениями, из-за чего история испанского искусства пребывает в состоянии хронического недомогания.
Действительно, предположив, что некоторые испанские художники относятся к самым великим, каких только рождала земля, мы подразумеваем или автоматически заключаем, что ’’естественно” и ’’логично” считать Испанию страной великих художников, а испанцев — людьми одаренными в этой области искусства. Употребление таких оборотов, как ’’естественно” или ’’логично”, вообще следовало бы запретить, подождать, пока сменится поколение, а затем посмотреть, вернулась ли к ним полнота смысла, перестали ли ими манипулировать так же безответственно, как сегодня. Словам, как и кораблям, время от времени надо чистить днище.
Вот и в этом случае действительность так далека от подобных домыслов, что многие исследования по истории нашего искусства не могут вызвать ничего, кроме смеха. Такие труды, отталкиваясь от заведомо
♦Набожности, благоговению перед богами, благочестию (лат.).
243
ошибочного допущения, почти во всем противоречат очевидному, отчего у читателей сводит зубы, как от скрежета железа по стеклу. Правда же состоит в прямо противоположном. Вплоть до последней трети XIX века испанская живопись пребывает в жалком состоянии духовной нищеты и несостоятельности, а с точки зрения техники она просто вопиюще неуклюжа. Взять, к примеру, неизбывную неспособность испанца к рисунку (к чему мы еще не раз вернемся), неспособность, ставшую фактом истории, ибо неизменность этого качества не позволяет приписать его простой случайности. А ведь рисунок (традиция и школа хорошего рисунка) — это фундамент, на котором покоится все здание живописи, даже если последняя ставит перед собой задачу его уничтожить. Можно даже сказать: рисунок — это сознание живописи, та ее составляющая, которую в человеке мы назвали бы чувством ответственности. Когда живописи той или иной страны недостает опоры на школу рисунка, все ее детища страдают болезненной нерешительностью, безволием, беспомощностью и неискоренимой неловкостью. Наступает этап патологического распухания всех ее форм, которые становятся подобны аэростатам, болтающимся на ветру.
Итак, я спрашиваю: прежде чем писать новую историю испанского искусства, историю, которая заслуживала бы затраченных усилий и не была бы очередной нелепицей, не стоит ли вывернуть наизнанку уже существующую? Не следует ли взять за отправную точку следующий парадоксальный факт: испанская живопись, как правило, дурна, но Испания произвела на свет нескольких величайших художников. Наши историки искусства в отдельных случаях были вынуждены признавать его очевидность, однако никогда не превращали его в основополагающий принцип истории нашей живописи в целом*.
История — всегда история чьей-нибудь жизни. Произведения искусства не рождаются из воздуха, они осколки человеческих жизней, а потому живут собственной жизнью. Человеческая жизнь — драма, а значит, любая история лишена прочного методологического основания, если она не вскрывает глубинного сюжета той пьесы, которая только и придает ей жизненную силу и динамизм. Речь идет совсем не о том, чтобы украшать историю надуманными страстями. Нет, драматизм является интеллектуальной, а в конечном счете научной и методологической необходимостью, это и есть сама история. Таков и наш случай. Нет смысла писать историю испанского искусства, воссоздавая на манер истории итальянского искусства его плавную эволюцию. Испанская живопись не имела эволюции как таковой, ибо развивалась не столько сама по себе, сколько за счет толчков извне. Ее
*Тои дело говорят о том, что наши великие художники появляются как бы внезапно. Однако подобные заявления, по всей видимости, никого не обязывают ни к каким выводам, а значит, говорящий не отдает себе отчета, о чем он говорит, и с равным успехом мог бы хранить молчание. Между тем в данном случае совершенно необходимо добавить, что в остальном наша живопись была плоха, и попытаться найти объяснение, как и почему вопреки этому великие художники все же появлялись. История не армия — в ней все надо объяснять!
244
сюжет, с точки зрения как научной, так и драматической, должен скорее отвечать на следующий вопрос: каким образом в нашей стране, где бездарны не только художники, но и публика, могло родиться несколько гениальных художников? С самой первой своей страницы история испанской живописи должна решать эту проблему. Наименее важным результатом признания нашей художественной несостоятельности станет верность фактам. Гораздо важнее следующее. Первое: будет восстановлена справедливость по отношению к тем редким фигурам, которые оправдывают самое существование истории испанской живописи. Второе: даже если оставить в стороне вопрос о справедливости и несправедливости, мы, наконец, сможем объяснить столь чудесное появление наших великих живописцев. Третье: мы сможем оценить их достоинства и значение. Четвертое: станут видны их недостатки и ограниченность. Последнее исключительно важно. Человеческая природа — а другой мы не знаем — имеет свои пределы. Тот, кто не видит своей ограниченности, своих недостатков, не может по-настоящему увидеть самое себя, а значит, и свои достоинства и таланты. Это утверждение, справедливое в отношении каждого, вдвойне справедливо, когда речь идет о наших великих художниках, потому что, за исключением Веласкеса — да и тут не обойтись без оговорок, — наши выдающиеся живописцы обязательно несут в себе нечто нелепое, неуклюжее, ’’буржуазное”, деревенское, филистерское, антихудожественное — называйте как хотите. Отрицать или не замечать эту особенность не только бесполезно, но и пагубно, так как она является неотъемлемой частью природы этих людей и их творений; губительная сама по себе, она придает им эстетическую ценность, это та хромота, которая становится самой сутью их величественной поступи. То же самое происходит с нашими великими поэтами. Вот почему постижение Гойи должно начаться с обнаружения всего грубого и неуклюжего, что в нем есть; поступить иначе — значит заранее отказаться от успеха, закрыть глаза на самую удивительную особенность его гения.
3
[МАЗОК — ЭТО НАМЕРЕНИЕ]
Мы видим нечто новое — скажем, картину. Однако смотреть — еще не значит действовать, это процесс, в который мы вовлечены. Первое же наше самостоятельное действие, которое мы совершаем после того, как увидели картину, чрезвычайно любопытно: мы озираемся вокруг, ища в нашем окружении, будь то разговоры или книги, каких-нибудь слов, суждений, которые могли бы нам что-нибудь сообщить об этом новом для нас объекте. Таково наше первое, почти что инстинктивное, движение, вскрывающее тем не менее нечто поразительное. Оказывается, человек надеется найти все необходимое — в данном случае объяснение — здесь, под рукой,
245
в своем мире. Как будто мир готов поделиться с человеком всем, что в нем есть! Как будто мир хорош и уютен! Не правда ли, поразительно? Многочисленные страдания, разочарования, удары судьбы, преследовавшие человека на протяжении тысячелетий, не искоренили его изначального оптимизма. Этот простой факт имеет значение, которое трудно переоценить. Ведь у человека есть множество причин, чтобы не быть оптимистом, и ни одной, чтобы быть тем стихийным оптимистом, каковым он является.
Я затронул эту тему, потому что меня всегда удивлял первобытный оптимизм Гойи. Так вот, каждый раз, посмотрев на картины, гравюры, рисунки Гойи, я, как жаждущий, припадал к полкам библиотек. Я был уверен, что о Гойе написано множество книг. Ведь если в мире и существует художник, обладающий особой притягательностью, так сказать ’’sexappeal”*, для авторов всех мастей, то это несомненно Гойя. Все его творчество производит ни с чем не сравнимый веселящий эффект, пьянит даже самого отъявленного интеллектуального аскета. Мощный, проницательный, пытливый ум истинного ученого всегда устремляется к самой трудной и неразрешимой проблеме, не замечая ее острых, смертоносных рогов. (Не случайно древние изображали проблему в виде быка!) Эссеист тонет в потоке противоречивых намеков, щедро изливающемся с полотен и гравюр Гойи, исследователь же, зачарованный тайной жизнью человека, имя которому Гойя, надеется со временем разгадать ее загадки.
Итак, меня каждый раз поражала скудость и немногочисленность исследований, посвященных Гойе. Если же от количества перейти к качеству, то можно обнаружить нечто еще более удивительное. У меня нет ни права, ни причин оценивать качество трудов, посвященных художнику. Интересно другое: во всей, пусть немногочисленной библиографии, посвященной жизни Гойи, нет ни одной попытки его понять и сделать понятным для читателя. Я ни в коем случае не намерен критиковать исследователей его творчества: такая критика лишена какого бы то ни было смысла. Хочу лишь обратить ваше внимание на сам факт. А ведь если и есть художник, взывающий к разгадке, то это Гойя. Эль Греко порождает такое же ощущение, особенно у людей, далеких от живописи. Однако причины тут другого, более поверхностного, свойства. Неискушенному зрителю трудно сразу понять Эль Греко из-за довольно причудливого языка его форм. Строго говоря, речь идет о своеобразном арго — стиле позднего итальянского маньеризма. Стоит лишь освоить грамматику формалистского ’’экстремизма” Эль Греко, как он становится одним из самых ясных, ’’прозрачных” художников. Более того (рискну показаться непоследовательным), временами он бывает весьма беден. Другое дело Гойя: он кажется понятным, но за видимой ясностью всегда кроется загадка, тайна.
Обратимся к книге Майера, которая, хотя и вышла в 1925 году, является последним полным обзором жизни и творчества художника. Оставим в
Вызывающий сексуальное влечение (англ.).
246
стороне реестр произведений Гойи, результат кропотливого труда, который, несмотря на некоторые неточности, ничуть не утратил своей научной ценности, и сосредоточимся на самом исследовании. Биография Гойи у Майера неразрывно связана с анализом самых разных сторон его творчества. Он часто говорит о художниках, которые могли оказать влияние на Гойю, но проявляет странную нерешительность, не желая брать на себя ответственность за сказанное. Подмечая, порой весьма точно, отдельные особенности стиля, Майер, однако, не делает даже слабых попыток рассмотреть их как единое целое, обрисовать фигуру мастера, дать формулу его искусства. Вот почему он так далек от определения ’’истоков” Гойи.
Итак, перед искусствоведом стоит задача вскрыть сокровенное единство, в котором органически сплелись все составляющие творчества Гойи. Он обязан объяснить нам, как может один и тот же человек и художник быть автором картона к гобелену ’’Торговец горшками”, где он грезит о лучшем из возможных миров, и умертвить стены собственного дома, покрыв их чудовищной мазней — своими ’’черными картинами”. Уклоняться от этих вопросов — значит избегать настоящего разговора о Гойе.
Мне бы хотелось призвать наших исследователей искусства взять на себя эту нелегкую миссию. Кому, как не им, дерзать? Но прежде им необходимо изменить свое представление о том, что такое история. Не существует истории без дат и фактов. Но история состоит не только из дат. Факты сами по себе тоже еще ни о чем не говорят. Они должны, во-первых, будить наше воображение, порождать гипотезы, способные объяснить, истолковать их, а во-вторых, подтверждать или опровергать эти гипотезы. Зрелость, достигнутая прикладными историческими дисциплинами, лишила историю последнего предлога, чтобы, наконец, не сделать решительного шага и не утвердиться на правах подлинной науки. Этот шаг, позволивший преодолеть эмпиризм большинству наук, состоит в применении гипотетического метода.
В нашем случае речь идет о том, чтобы вообразить, кто такой Гойя. Именно ’’вообразить”. Конечно, нельзя полностью игнорировать факты, но так же ошибочно только ими и ограничиваться. Пусть они послужат своего рода костяком, на который наша фантазия нарастит плоть и кровь. Я так и слышу возражения: ”Но это всего лишь домыслы!” Конечно, а что же еще? Что такое наука, как не фантазия? Разве не являются вымыслом такие научные понятия, как точка, линия, поверхность, объем? Математические науки относятся к сфере чистой фантазии, но фантазии точной. Более того, самой своей точностью они обязаны фантазии. Чувственный опыт не дает нам представления. о точке или линии. В таких науках, как физика или история, факты сковывают и в то же время питают воображение. Исторический труд, в котором достоверные факты соседствуют с воображаемыми, не подтвержденными документально, презрительно называют ’’досужим вымыслом”. Это так, если речь идет об историческом романе. Я же,
247
когда говорю о необходимости вообразить себе Гойю, имею в виду не измышление тех или иных событий его жизни, а лишь вторжение в сферу возможного. Человек — это, прежде всего, система, сочетающая возможное и невозможное, долг историка — постичь данную систему.
Перед нами одна из ’’черных картин” Гойи. Она состоит из мазков, нанесенных человеческой рукой. Рукой водит определенное намерение, каждый мазок — средство достижения некой цели. Понять сочетание мазков — значит понять намерение автора. Зритель, глядя на полотно, пытается разгадать замысел художника. В исследованиях, посвященных Гойе, подобные догадки выдвигаются безответственно, необдуманно, неоправданно, поэтому неизбежно носят случайный характер. Авторы зачастую и сами не очень верят в свои предположения*.
Чтобы понять Гойю, мы должны, посмотрев на его картину, затем отвернуться и начать отбор и выбраковку гипотез.
Что это было? Грубая шутка, которой Гойя хотел смутить зрителя? Порождение помутившегося ума шестидесятилетнего сифилитика? Odium professionis**, неприязнь к красотам в живописи или стремление попрать любое искусство? А может быть, причудливая исповедь, свидетельствующая об остром и ясном осознании трагедии человеческого бытия?
Из этих многочисленных предположений в конечном счете следует оставить только одно и придерживаться его или придумать что-нибудь новое.
Конечно, данный пример не типичен для истории живописи. Однако он позволяет с предельной силой вскрыть нечто, имеющее отношение к любому произведению искусства. А именно: всякая картина, которая что-либо ’’выражает”, неоднозначна. Неоднозначен знак, таящий одновременно множество смыслов. Вот почему недостаточно увидеть знак, посмотреть на картину. Их необходимо интерпретировать, то есть, отбросив все ложные значения, оставить одно, которое и будет истинным. Для этого необходимо определить, каково было намерение художника, а так как последнее есть не что иное, как событие его жизни, мы обречены постоянно возвращаться к человеческому измерению его бытия. Другого выхода нет. Любой, даже малейший, штрих отбрасывает нас от полотна, стены, доски, листа бумаги в призрачную сферу человеческого существования. Лишь вернувшись оттуда, мы можем вновь взглянуть на картину и, может быть, понять, что хотел ’’сказать” автор. Жизнь художника — это грамматика и лексика, изучив которые мы сможем безошибочно прочесть его творения.
*Из известных мне авторов лишь один рискнул высказаться определенно. Это Санчес де Рибера, врач, который утверждает, что Гойя страдал умственным расстройством. Остается неясным одно: если художник создавал свои ’’ненормальные” картины, будучи больным, каким образом в то же время из-под его кисти выходили другие, совершенно ’’нормальные”, полотна и, что наносит по данной гипотезе еще более сокрушительный удар, почему некоторые работы Гойи (изображающие ведьм, тюрьмы, казни и тому подобное) являются чем-то средним между тем и другим?
** Ненависть к ремеслу (лат.).
248
4
БЕЗРАЗЛИЧИЕ К ТЕМАМ
Прежде всего, как мне кажется, необходимо окинуть взглядом наследие художника во всей его целостности. ’’Это прописная истина”, — возразит недоброжелательный, упрямый читатель, для которого чтение — хороший повод побрюзжать и который, если пользоваться экономической терминологией, ищет, куда бы инвестировать накопившийся у него изрядный запас раздражения. Такой читатель вызывает у меня искреннее восхищение. Всю свою жизнь я не перестаю сражаться с ним. Он груб и не желает вникать в то, что читает. Ему просто необходимо поносить автора. Бесполезно рассчитывать на то, что, прочитав еще несколько абзацев, он обнаружит, насколько мысль писателя отличается от того вздора, который он сам взлелеял в своей голове. Он так и не обучится сдержанности, не поймет, что автору надо дать возможность сыграть свою игру и, наконец, высказать то, чего читатель никак не ожидает. Он берется за книгу, будто выходит на охоту, откуда возвращается, волоча за собой кровоточащие останки автора.
Итак, прежде всего необходимо иметь перед глазами не отдельные произведения художника, а все его творчество как единое целое. Однако и теперь еще не время рассуждать о стиле мастера, его истоках и развитии. Речь идет об очень простой, но важной задаче: составить перечень тем, которые затрагивает и, что не менее важно, которых не касается художник. Последний чаще всего избегает тех или иных тем неосознанно. Он — ’’человек своего времени”, и эпоха решает за него. Однако среди тем, предлагаемых временем, автор производит собственный отбор, и характер этого отбора высвечивает первую из наиболее трудных проблем: как он воспринимает свое дело, что для него значит ’’быть художником”. Повторяю, мы пока не пытаемся исследовать язык его живописи. Подобно тому как растение уходит корнями в почву, стиль художника коренится в его представлении о своем деле*.
Например, Веласкес в зрелом возрасте не считал живопись профессией, поэтому не брал заказов и не изображал то, что обычно интересовало художников его времени. Достаточно припомнить содержание всего, что он когда-либо писал, чтобы прийти к непреложному выводу: у Веласкеса не было призвания к живописи. Факт поразительный, но не подлежащий никакому сомнению. Как только у нас возникает эта мысль, сразу же становится понятно, почему его наследие так немногочисленно, почему в его творчестве отсутствуют или искажаются** самые популярные темы эпохи, по каким причинам художник часто оставлял свои картины незавер
♦Этот вопрос, имеющий большее значение, чем ему обычно придают в истории искусства, исследуется в первой главе ’’Оживление картин” моей книги о Веласкесе.
** Например, мифологические сюжеты Веласкес превращает в антимифологические, то есть в реалистические сценки из современной ему действительности.
249
шенными и многое другое, имеющее более существенное значение, но требующее отдельного обстоятельного разговора.
Гойя является абсолютной противоположностью Веласкесу. Он пишет на все темы — божественные, человеческие, инфернальные, фантасмагорические — без исключения, берется за религиозные картины, аллегории, ’’перспективы” (Сан Антонио де ла Флорида), забавные гравюры и даже карикатуры. Я часто задаюсь вопросом, не эта ли всеохватность Гойи мешает исследователям его творчества понять его в органическом единстве.
Как же все-таки объяснить ту ненасытность, с которой Гойя поглощает поток современных ему тем? На мой взгляд, причин может быть несколько. Во-первых, Гойя считал свои возможности неограниченными, что не всегда соответствовало действительности. Вульгарность большинства его религиозных картин, банальность аллегорий свидетельствуют о том, что ощущение многогранности своего таланта для Гойи вовсе не означало необходимость проявлять оригинальность или искать тему, соответствующую строю его личности. Что же такое для Гойи сознание собственной универсальности? Мне кажется, что до сих пор не отдается должного одному важному достоинству, которым Гойя обладал в полной мере и которое составляло предмет его особой, переходящей в подлинную манию гордости, — невероятному, почти не ведающему границ мастерству, владению любой техникой живописи, гравюры, рисунка — в общем, тому, что зовется ’’ремеслом”. Всю свою жизнь он озабочен тем, чтобы овладеть всеми возможными в двухмерной реальности способами'самовыражения. Более того, в этой области он безусловно оригинален. Его стенные росписи — удивительная смесь техники фрески и темперы, а гравюры сочетают в себе офорт и акватинту. Прошло всего несколько лет с тех пор, как Зенефельдер изобрел литографию, а Гойя, уже старик, работает в этой технике. При создании картин он использует кисть и карандаш, особые палочки собственного изобретения, шпатель, нож и губку. Наверное, у него было много других ’’тайн ремесла”, о которых его современники — великие невежды в живописи, грезившие о преобразовании мира и потому не замечавшие того, что находится у них прямо перед глазами, — даже не догадывались и которые так и останутся нераскрытыми.
Таким образом, можно предположить, что Гойя расценивал труд художника как ремесло высшей пробы. Для того чтобы проникнуть в мир Гойи, необходимо на время забыть тот образ художника, к которому приучили нас романтики. Он совершенно бесполезен в нашем случае. Начиная с конца XVII века социальный статус художника снижается, и в первую очередь в Италии, которая вплоть до XIX столетия во всех отношениях служила образцом для европейской живописи. Сальватор Роза (1615—1673) и Рубенс по своему общественному положению еще могли соперничать со знатью, но начиная с 1680 года место художника в социальной иерархии существенно меняется. Одновременно происходит духовное обнищание художника, который вырождается в простого ремесленника, если хотите, аристократа от
250
ремесла; резко падает уровень его образования и интеллекта, что сближает его труд с грубой физической работой. Так, письма Гойи скорее напоминают нам письма краснодеревщика*.
Великое многообразие тем в работах Гойи открывает нам еще одну сторону его творчества — подход от противного. Большую часть жизни Гойя — ни прямо, ни опосредованно — не имел к своим темам ни малейшего отношения. Но позже в нем вдруг лопаются почки сокровенного, глубоко интимного вдохновения, почти маниакального интереса к сюжетам, которых ему никто не заказывал и от которых он получал явное удовольствие. Как мы увидим позже, это было не чем иным, как тягой к ’’противоположному”, причем столь сильной, что, если филолог удосужится пояснить нам значение ’’каприччо” для Гойи — слова, постоянно мелькающего в его переписке и названиях картин, — станет очевидным, что для него оно означает Все, стоящее за рамками ремесла живописца. Смысл, приобретенный позднее ’’капризами” Гойи, не должен затмевать ни изначального облика его личности, ни его отношения ко всем проявлениям жизни, включая и само ремесло.
Не знаю, заметил ли кто другой, что в отношении Гойи к своим сюжетам есть нечто одновременно забавное и тревожное, о чем свидетельствуют сами его картины. Я имею в виду необычную отстраненность его личности (и личности художника тоже) от темы. Не от картины, а именно от темы. Отображаемые им объекты — предметы или люди — не вызывают в нем ни особого интереса, ни участия, ни человеческого тепла, которые так или иначе неминуемо перешли бы от художника на полотно. Он просто помещает их перед собой, а затем переводит на язык кисти — одних тщательно, других с ужасающей небрежностью. В картинах, написанных им motu proprio** — психиатрические лечебницы, исправительные заведения, маскарады, казни, расстрелы, кораблекрушения, сцены ужаса. Его интерес как бы однобок: он создает их лишь потому что, с общечеловеческой точки зрения, они несут отрицательный заряд.
Подобное отсутствие живого участия к существам, которых он пишет, является одной из неповторимых черт его стиля. Общепризнанно, что, попадая на полотно Гойи, человеческое существо ipso facto*** превращается в куклу-марионетку, легко заменяемую другой. Нет лиц, есть только маски. Отсюда еще одна особенность картин Гойи, великолепно подмеченная Майером: в них нет героя. В них все вымерено, выровнено и превращено в заурядную деталь композиции. Герой у Гойи — сама картина.
♦Истории европейской живописи недостает исследования, посвященного изменениям, которые с течением времени претерпевает общественное лицо художника. В своей книге о Веласкесе я излагаю некоторые соображения по этому поводу, относящиеся, однако, к периоду, ограниченному 1550 и 1650 годами.
**По собственному побуждению (лат.).
***Тем самым (лат.).
251
С утомительным однообразием принято рассуждать об импульсивности Гойи, о человеческом тепле его живописи, но я ничего этого не вижу. Предпринимались также вымученные попытки представить Гойю прототипом истинного испанца, основой чему служила схема преувеличенно самоуправного и легкомысленного испанизма. Таким образом, Гойю фальсифицировали дважды. Уникальный блеск живописных поверхностей, сияние, превращающее их в жемчужины, напоенные светом и цветом, чаруют (в том числе и физически) наше зрение, но еще не говорят ни об импульсивности, ни о чувстве. Ювелиру чужд трепет эмоций. Что же касается разрушения форм, ухода от традиции налагать слой прозрачной краски для смягчения тонов, простоты мазка, характерных для позднего творчества Гойи, то — вот ведь совпадение! — все это в те же годы появляется по всей Европе, начиная с Англии. Это так называемая ’’свободная манера”, которой суждено воцариться в XIX веке.
Широчайшая тесситура его тем не означает, следовательно, ни упоительного вдохновения, ни особой чувствительности. Напротив, она свидетельствует о том, что Гойя, подобно прочим испанским художникам своего времени, заперт в тесных рамках каждодневного труда, как простой чиновник, выполняющий рутинные поручения. Ничто не извращает, понимания Гойи так, как предположение о том, что он был одержим идеей ’’гениальности” живописного ремесла. Самое интересное — проследить, как в его творческом ”я” повседневность ремесла время от времени нарушалась ’’капризами”. Их-то последующий век и назовет ’’гениальностью”*. В Гойе — ив его живописи прежде всего — периодически вспыхивает романтизм, с характерной для него смутной, конвульсивной навязчивостью представлений о мистических и ’’демонических” силах, таящихся в недрах человеческого существа.
5
ГОЙЯ И НАРОДНОЕ НАЧАЛО
Гойя родился в деревне, и не просто в деревне, а в деревне арагонской, то есть в самом настоящем селе. Он почти не получил никакого образования. Живописи обучался в Сарагосе, где его окружали люди того же происхождения, что и он. В Испании не было художников, прошедших сколько-нибудь приличную школу живописи. Скудными были и навыки ремесла, полученные Гойей; ему так никогда и не удалось преодолеть ту некоторую неуверенность, которая поражает нас в нем больше всего:
* Представление наше о художнике до сих пор таково, каким его сделал романтизм. Идет оно от идеи ’’гения”, появившейся у Канта и англичан, питается идеями Гердера и Гёте, достигает предела у Шатобриана и следующих романтических поколений. Славой своей Гойя обязан именно миру романтизма.
252
великий живописец, неумело водящий кистью по полотну. Резкий, порывистый, ’’первобытный” нрав Гойи достался ему от земляков, которым часто не хватало так называемого хорошего воспитания, проявляющегося в умении сдерживать себя и обуздывать свои порывы. Но все это не дает оснований сочинять легенды об этаком искателе приключений, своенравном и безрассудном. В Сарагосе он занимается тем же, что и другие молодые художники: копит деньги на поездку в Рим. Его первые работы в церквах Сарагосы — это работы мастерового, одаренного, но малоискусного, работы ремесленника, которому еще нечего сказать. Творческая жизнь протекает вяло, что вполне соответствует косному духу времени, и лишь влияние Дж. Тьеполо, подобно дуновению ветра, слегка оживляет ее.
Важно отметить, что формирование Гойи-художника протекало довольно медленно: светлая голова — это не о нем. К моменту переезда в Мадрид и началу работы над картонами для гобеленов он еще не создал ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало нам того Гойю, которого мы знаем.
Его всегда изображали человеком, творящим из самых глубин затаенного внутреннего одиночества, подобно источнику, пробивающемуся из тайных земных недр. Я бы осмелился спросить у историков искусства, достаточно ли оснований для подобных суждений? Пронизанные ’’вечностью” ’’черные” картины, отдельные серии гравюр, все работы последних двадцати лет его долгой жизни крайне осложняют любую попытку осмыслить реальную жизнь Гойи — художника и человека. Так, в самом решении Гойи переехать в Мадрид и начать работать для шпалерной мануфактуры под началом Менгса я усматриваю проявление совершенно иной грани его натуры.
В картонах начинает проявляться тот Гойя, которым он, безусловно, мог и должен был стать. И именно тогда, впервые в жизни, он соприкоснулся с давлением замкнутой и вполне определенной среды: с миром знати, более того, знати придворной. Гобелены предназначались для королевских покоев; фабрика принадлежала короне; управлял ею придворный художник. Случилось так, что неотесанный парень из Фуэнтетодоса и Сарагосы неожиданно пришелся здесь ко двору, более того, в этом общем потоке и рождается его поистине самобытное дарование. Четырнадцать лет спустя, в 1790 году, он окажется тесно связанным с аристократическими кругами, завяжет дружбу с умнейшими людьми своего времени. Здесь царит иная атмосфера, совсем не та, что при дворе: людей этого круга волнуют другие проблемы, тревожат ’’новые идеи”. Гойя переживает новый взлет: дремавшие в нем силы пробуждаются и приходят в движение. Еще через пятнадцать лет, когда Испания будет переживать последствия Французской революции, Гойя, уже в третий раз, окунется в совершенно другой мир, и, несмотря на преклонные годы и глухоту, он вновь станет для Гойи источником неисчерпаемого вдохновения. Все это приводит нас к мысли о том, что мы имеем дело с человеком необычайно чувствительным к своему
253
Франсиско Гойя. Качели.
Картон для гобелена. 1787. Мадрид, коллекция герцога де Монтеллана
окружению, о таких людях характерологи и особенно психиатры говорят: ’’синтонный” человек. Этому вполне соответствует и его внешний облик.
И все же, когда мы говорим, что в картонах возникает истинный Гойя, хорошо было бы условиться, что конкретно мы имеем в виду. Превратное толкование образа нашего художника оказалось результатом грубейшей ошибки, допущенной при оценке этого, действительно начального, этапа творчества Гойи. К счастью, наши ученые давно исправили эту ошибку. Я имею в виду сюжеты гобеленов. Часть из них целиком или частично разрабатывает испанскую народную тематику. По причине совершенно непростительного невежества считается, что своим народным характером они обязаны самому Гойе. Тогда-то и родилась легенда о Гойе, увлеченном всем народным, Гойе, чья жизнь прошла среди гуляк и веселых девиц, тореро и хвастливых драчунов. Сейчас мы знаем, что обращение Гойи к национальным обычаям объясняется прежде всего желанием заказчиков, нередко подсказывавших художнику сюжеты отдельных картин. В тех исключительных случаях, когда это было не так, Гойя не забывал указать о том в прилагаемом письме: ’’Придумано мною”.
Предполагаемая ’’народность” Гойи объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, с начала XVIII века придворные художники-иностранцы — Уасс, Парет, сыновья Тьеполо — постоянно обращаются к народной теме. Во-вторых, в то время это происходило во всей Европе. В-третьих, тема эта начиная с последней трети XVI века становится одним из важнейших направлений европейской живописи. В Италии ее бурное рождение связано с Караваджо. Его творчество оказало влияние на становление самого Веласкеса. Словом, ничего необычного в том, чтобы писать сценки из народной жизни в 1775 году, не было. Но есть еще и четвертое, более важное, обстоятельство: XVIII век породил в Испании явление необычайно странное и нигде больше не встречающееся. Восторженное увлечение народными нравами и обычаями — уже не в живописи, а в повседневной жизни — охватило высшие круги общества. К любопытству и сочувствующей симпатии, которые питали и поддерживали этот интерес повсюду, в Испании добавилась невероятная одержимость, мы обозначим ее ’’плебеизм”. Я тщательно выбирал слово. Это лингвистический термин, имеющий узкое и конкретное значение. Речь идет о следующем: в языке часто встречаются две формы одного и того же слова или два слова, имеющие одно значение; одно из них имеет книжное происхождение, другое — просторечное. Языковая тенденция, заключающаяся в том, что предпочтение отдается не книжному или литературному слову, а просторечному, обозначается в лингвистике термином ’’плебеизм”. Умеренное проявление этой тенденции в любом языке не только естественно, но и полезно, она питает язык, делает его более сочным и колоритным, избавляя от излишней сухости и парадности.
255
Франсиско Гойя. Игра в жмурки.
Картон для гобелена. 1791. Мадрид, Прадо
Теперь же пусть читатель представит себе, как тенденция эта, расширяясь, переходит с языковых форм на наряды, жесты, танцы, песни и развлечения. И вот мы уже говорим не о лингвистике, а о всеобщей истории нации. И если мы вообразим, как обычная игра в подражание вдруг приобретает черты страсти, безудержной и необычайной, становится настоящим безумием, превращаясь в основную движущую силу испанской жизни второй половины XVIII века, тогда-то мы и получим описание значительнейшего явления нашей истории, которое я обозначил словом ’’плебеизм”. Я никак не могу понять, как случилось, что явление это совершенно не было замечено и изучено так, как оно того заслуживает. Масштабы его — по
256
протяженности во времени и динамике развития — огромны, воздействие простирается вплоть до начала нынешнего века: люди моего поколения в полной мере ощутили на себе его влияние в юношеские годы; к тому же я не думаю, что можно встретить нечто подобное в истории других народов. Повсюду нормой было явление как раз противоположное: низшие классы восторженно взирали на стиль жизни аристократов и всячески старались подражать ему. Произошедшее искажение нормы поистине невероятно. И именно это искажение определит жизнь многих поколений испанцев. Простой народ жил, увлеченно следуя выработанным им самим правилам игры, осознавая это и испытывая неописуемый восторг, при том совершенно не оглядываясь на аристократов и уж ни в коей мере не пытаясь подражать им. В свою очередь, знать лишь тогда ощущала себя довольной, когда ей удавалось отделаться от собственных привычек и погрузиться в мир толпы. Не надо преуменьшать значение данного факта: плебеизм стал тем рецептом счастливого существования, который изобрели для себя наши предки в XVIII столетии. Сколько же невероятных и необычайных событий должно было случиться в Испании, начиная с конца XVII века, чтобы через полстолетия возникло такое неслыханное по своим масштабам явление? Однако все это прошло совершенно незамеченным историками. Но оставим в покое собственно истоки явления и сосредоточимся на его трех основных компонентах.
Первый из них — костюм и украшения жителей Мадрида и центральных городов Андалусии. Наряд же требует соответствующих жестов и поз, особого рисунка тела и мелодики движений, других слов и выражений, иного способа их произношения.
Трудно даже представить себе, какой упадок переживала испанская аристократия во второй половине XVII века. ”У нас не осталось умов” — так писал граф-герцог в одном из официальных документов, позже эти слова повторит Филипп IV, когда, отстранив Оливареса, примет на себя всю полноту власти. Почитайте ’’Письма иезуитов”, относящиеся к этому периоду, и вы убедитесь, насколько ясно осознавали испанцы того времени ничтожность своей знати*. Аристократия утратила всякую созидающую энергию. Она оказалась не только не способной к политике, управлению страной и ведению военных дел, но даже задача обновить или хотя бы умело поддержать принятые формы повседневного существования была ей не под силу. Тем самым она утратила важнейшую функцию любой аристократии— быть образцом для подражания. Народ, оставшийся без образцов и примеров, внушенных и подсказанных сверху, почувствовал себя беспомощным и покинутым. Именно тогда вновь проявилась удивительная способность самых низов нашего народа жить, полагаясь только на себя, черпая силы из своих внутренних источников. Я называю ее удивительной,
♦См. ’’Письма святых отцов общества Иисусова о том, что происходило в королевстве между годами 1634 и 1648”, в 7 томах. Мадрид, 1861—1865 гг.
257
так как на самом деле она встречается намного реже, чем можно было бы предположить. С 1670 года испанское простонародье начинает жить, обратившись внутрь самого себя. Не пытаясь искать образцы вовне, народ принялся постепенно воссоздавать и стилизовать собственные, традиционные формы*. Тот язык поз и жестов, который отличает испанцев двух последних веков, и есть результат этой стихийной, повседневной, длительной работы. Он имеет, на мой взгляд, одну совершенно неповторимую особенность: непосредственность движений и жестов, столь естественная для всего народного, оказывается стилизованной. Пользоваться этим языком не значит просто жить, но жить ”в образе”, существовать ”в определенном стиле”. Народ наш сотворил себе как бы вторую природу, определяемую эстетическими критериями. Репертуар ежечасно используемых линий и ритмов составил своего рода словарь, стал тем ценнейшим материалом, из которого вышли народные искусства. Это будет стилизация вторичная, вполне осознанная, она возникнет на основе первой, закрепленной в жестах, движениях, и речи. Пример тому — два других значительных явления мощной волны ’’плебеизма”, охватившей почти всю Испанию к 1750 году. Речь идет о двух высочайших художественных творениях нашего народа тех лет — театре и бое быков.
То, что мы называем корридой, имеет мало общего с древней традицией боя быков, в котором участвовала знать. Именно тогда, на исходе XVII века, когда, на мой взгляд, испанский народ начинает жить собственной жизнью, мы впервые сталкиваемся с довольно часто встречающимся в документах и письмах словом ’’тореро”. Так называли простолюдинов, разъезжавших в составе пока еще малопрофессиональных групп по городам и селеньям. Это еще была не та коррида, что представляет собой четко выстроенное и согласованное действо, подчиняющееся эстетическим законам и художественным нормам. Процесс формирования протекал медленно. Понадобилось более полувека, чтобы в 1740 году бой быков предстал подлинным произведением искусства. Я не буду здесь разбираться, почему все шло так медленно и почему художественное моделирование закончилось именно тогда, это уведет меня в длительные рассуждения. Так или иначе, в сороковых годах уже появляются первые организованные ”квад-рильи”, которые, получая быка из загона, выполняют предусмотренный, с каждым днем все более отточенный ритуал и возвращают быка убитым ”по всей форме”. Подобное зрелище произвело в Испании эффект всепоглощающий и ошеломляющий. Несколько лет спустя правительство будет озабочено тем безумием, которое вызывала коррида во всех слоях общества. Свидетельство тому мы обнаруживаем в бумагах Кампильо, выдающегося политика того времени, где он пишет о своем огорчении по поводу известия, что в Сарагосе бедняки готовы заложить последнюю
*Это не исключает заимствование отдельных элементов у знати, которые затем оформляются в соответствии с собственными стилистическими нормами.
258
Франсиско Гойя. Продавец посуды из Валенсии.
Картон для гобелена. 1779. Мадрид, Прадо
рубашку, чтобы попасть на корриду*. За всю историю нашей нации немного найдется вещей, которые бы так восторгали и радовали народ, как это, возникшее в середине века, зрелище боя быков. Богатые и бедные, мужчины и женщины каждый день тратят массу времени на то, чтобы собраться на корриду, побывать на ней, обсудить ее и ее героев. То было настоящее наваждение. И заметьте, это был только фасад, внешнее, зримое проявление целого мира, стоящего за всем этим, мира, который включал в себя и пастбища, где вскармливали боевых быков, и кабаки и таверны, где собирались тореро и их пылкие поклонники.
Не меньший восторг в то время вызывали и театральные представления. Почему не заявлено в качестве непреложного и общеизвестного факта, что в период с 1760 по 1800 год театр был излюбленным развлечением испанцев? Пусть меня исправят, если я ошибаюсь, но, если окажется, что это достоверный факт, историки будут обязаны выявить его, описать и продемонстрировать нам, так как он необычайно важен. Именно тогда — а не в XVII веке — театр становится всеобщим увлечением, жизненной необходимостью, всепоглощающей страстью. Но драматурги в то время были так же ничтожны, как и художники. После 1680 года в Испании совершенно не стало талантливых ученых, писателей, художников. Факт этот настолько ужасает, что кажется, что мы имеем дело с явлением аномальным, требующим специальных разъяснений.
В тысячный раз ставятся одни и те же комедии из репертуара испанского барочного театра. Правда, добавился целый ряд новых театральных жанров — сайнете, хакара, тонадилья, жанры простонародные по стилю и происхождению, и сарсуэла, родившаяся при дворе, но с каждым днем все более проникающаяся народным духом. Новые жанры были лишены какой бы то ни было литературной ценности, более того, они на нее и не претендовали. Как же объяснить тогда, что, несмотря ни на что, театр переживал едва ли не лучшие свои времена? Те, кто имеет очень приблизительное и наивное представление об истории мирового театра и вопреки очевидному оценивает события ad libitum**, полагая, что театр — это, в первую очередь, литературный жанр, не в состоянии понять подобной популярности театра, увидеть и осознать тот факт, что время, не давшее талантливых драматургов, может быть эпохой расцвета театрального искусства. Но когда понимаешь, что обычно история всякого театра определяется сценой, актерами и актрисами, а драматурги играют совсем не главную, более того, второстепенную роль, тогда все становится на свои места. Этап в истории испанского театра, который мы обсуждаем, — крайний, даже
*Дон Хосе де Кампильо-и-Косио был министром при Филиппе V. Так как я пишу эти строки, находясь в Лиссабоне, у меня нет под рукой выписок из этого документа, которые я сделал много лет назад, где была указана точная дата. Но так как Кампильо умер в 1744 году, я почти уверен, что меморандум составлен годом раньше. Эта дата мне представляется ’’вехой” в истории тавромахии.
**По желанию, по усмотрению (лат,).
260
Франсиско Гойя. Донья Тадеа Ариас де Энрикес. 1793—1794. Мадрид, Прадо
карикатурный тому пример. Под вековой пылью нашего барочного театра рядом с кучкой бездарных драматургов, наводнивших сцену, начиная с 1760 года появляется целая плеяда блистательных актрис и талантливых, одаренных актеров. Все они, за редким исключением, выходцы из народа. Актрисы не только владели искусством декламации, они прекрасно танцевали и пели. Своей популярностью театр целиком обязан актерам и актрисам, сменяющим друг друга на подмостках сцены с 1760 года до начала XIX столетия. Актрисы же, благодаря блестящим внешним данным, явили собой зримое воплощение испанской женственности. Их природные изящество и грация пленяли и покоряли зрителей. Их усилиями театр стал своего рода тройничным нервом национальной жизни. Их популярность была безгранична. Предметом всеобщего обсуждения становилось не только совершенство их сценического искусства, но и мельчайшие детали личной жизни, известные, казалось, всем и каждому. Обаяние личности этих дивных созданий выходило за рамки сцены, они царствовали на мадридских улицах, городских праздниках и гуляниях. Самые знатные из аристократов были увлечены ими — так, герцог Верагуа воспылал страстью к Марии Ладвенант, герцогини окружали их всяческим вниманием, бедняки же по вечерам устраивали настоящие побоища, настаивая каждый на превосходстве своего кумира. То же самое, но в меньшей степени происходило и с актерами. Страсти, охватившие великосветских дам, бушевали так сильно, что многих актеров приходилось просто высылать из столицы*.
Я уже сказал, что преимущество комедиантов над драматургами доходило до смешного, до карикатуры. Этот вывод не случаен, театр действительно целиком держался за счет актрис и актеров, причем зрителей совершенно не волновало их профессиональное искусство, их больше привлекали фигуры самих актеров. Все перевернулось: драматурги списывали своих персонажей с самих исполнителей. Так делал и драматург, в течение двадцати лет царивший на нашей сцене, дон Рамон де ла Крус. Случай с этим драматургом, сочинившим множество сайнете, сарсуэл, лоа, тонади-лий, хакар, переводившим в угоду ’’французской клике” итальянские и французские трагедии, — наглядный пример ошибки, которую могут совершить историки. Самые знаменитые его сайнете с литературной точки зрения почти ничего собой не представляют, более того, они и не претендовали на то, чтобы стать поэтическими шедеврами. По замыслу и воплощению его пьесы чем-то напоминают кинематографический сценарий: событийная канва являлась основой блестящих актерских импровизаций. Кончилось все тем, что персонажами стали сами комедианты. Негодованию приверженцев французского вкуса
* Похороны Марии Ладвенант, которая умерла очень молодой, совпали с днем изгнания иезуитов. Некоторые современники были очень удивлены тем, что жители Мадрида не обратили никакого внимания на этот факт, а посвятили весь день похоронам актрисы.
262
не было предела. Вот что писал Саманьего: ”В конце концов, устав сочинять, поэты доверили свои идеи комедиантам, и, создавая иллюзию правдоподобия, Гарридо, Тадео и Ла Полония поют нам со сцены о своей любви, своих мечтах, тревогах и безумствах”*.
Учиться у знати было нечему, образцы для подражания искали теперь на театральных подмостках. ’’Кто сомневается, — продолжает Саманьего, — что именно этим образцам (театральным) мы обязаны дурным пристрастием к щегольству даже самых блестящих придворных... пристрастием к шутовским нарядам и манерам махо?”**
Мне пришлось, хотя и довольно бегло, обрисовать эту тягу к простонародью, ставшую поистине ’’единой душой” мадридского общества к моменту приезда Гойи в столицу. Попытаемся теперь уяснить себе, что же представляет собой на самом деле приверженность Гойи к национальным обычаям и традициям, является ли она свойством его личности, как пытались утверждать. Ведь человека определяет то, каким он оказывается при соприкосновении с устоявшейся системой норм и правил того общества, в котором он живет. Но чтобы наш вывод не оказался ошибочным, надо внести одно существенное дополнение. Может показаться, что низовые, плебейские формы просто где-то существуют и отыскать их по силам лишь тому, кто относится к предмету с особым рвением; на самом деле все обстояло совсем иначе.
И хотя общество пребывало в основном в состоянии блаженного покоя, вторая половина XVIII века была отмечена небывалым всплеском страстей. Все воспринималось необычайно остро, переживалось горячо и восторженно. Люди не просто ходили в театр и на бой быков, весь оставшийся день они ни о чем другом не могли разговаривать. Более того, они ссорились и спорили, ибо зрелища проникали все глубже в души людей, заставляя закипать страсти. Когда Ла Тирана высочайшим повелением была вызвана из Барселоны представлять в мадридских театрах и муж отказался выслать ей наряды и украшения, ее высокопоставленная поклонница, герцогиня де Альба, предоставила в распоряжение актрисы свой гардероб. И тут же герцогиня де Осуна, соперничающая с ней, делает такой же подарок своей любимице Пепе Фигерас, блиставшей в сайнете.
Избежать этого было невозможно. Даже если простонародье ничем вас не привлекало, дух его буквально пронизывал все существование. Так возникло одно любопытное явление. Испания оказалась поделенной на две партии: приверженцы одной, большая часть нации, преклонялись перед всем народным, воспринимали его с энтузиазмом и горячностью; к другой принадлежало несколько немногочисленных групп, куда входили наиболее влиятельные лица — политики, государственные деятели, ученые. Эти люди
*Е1 Censor. Madrid. 1786. Р. 441; цит. по: Cotarelo. Don Ramon de la Cruz у sus obras. Madrid, 1899.
**Ibid. P. 438.
263
Франсиско Гойя. Портрет герцогини Альба.
1797. Нью-Йорк, коллекция Испанского общества
были воспитаны на французских идеях и вкусах, царивших тогда в Европе, и народные испанские обычаи считались здесь проявлением дурного тона. Борьба между партиями была трудной и ожесточенной. Честно говоря, в чем-то они были правы, а в чем-то обе ошибались. ’’Просветители” боролись с грубым щегольством, требовали запрета корриды, временами добиваясь своего, и яростно нападали на бедного Рамона де ла Крус, который в своих сайнете вытащил на подмостки сцены плебейские нравы. Я уже говорил, что эти сайнеты в большинстве своем были очень примитивны, но испанские и переводные трагедии, которыми их пытались вытеснить со сцены, были также глупы. Самое любопытное, что, когда ’’просветители” сочиняли свои пламенные речи против подражателей, они обильно пользовались той самой просторечной лексикой, которую их противники употребляли в устной речи, что свидетельствовало о действительно глубоком и всепроникающем распространении ’’плебеизма”*.
Высшая точка приходится на 1775 год, как раз тогда, когда молодой арагонский художник приезжает в Мадрид. В этом году появляется прославленный тореро Педро Ромеро. В следующем году начнется его знаменитое соперничество с Костильяресом, первое из тех, что будут разжигать страсти в бурной истории корриды. Тогда же вершин своей славы достигнут Ла Полония Рочель, не имеющая равных в исполнении тонадилий, Ла Катуха, Ла Карамба, а 1780 год положит начало драматическому соперничеству Ла Тираны и Пепе Фигерас**.
Что же из всего этого и с какой силой влияло на жизнь и творчество Гойи начала девяностых годов? Письмо, датированное гораздо более поздним временем, в котором Гойя между делом сообщает, что отправляется на бой быков, позволяет нам при желании сделать вывод о том, что и в прежние годы он ходил туда не чаще и не реже любого жителя Мадрида***. За все эти годы он не написал ни одного тореро, ни одной картины, посвященной бою быков, если не считать картона ’’Новильяда”, где изображена не обычная коррида, а бычок, которого выпустили на деревенскую
* Не стану снова приводить здесь строки из двух известных сатир Ховельяноса, хотя они представляют собой документ, наиболее полно свидетельствующий о том, что я только что сказал. Когда вы будете их перечитывать, то обратите внимание на точность употребляемых им терминов плебейского происхождения. Ховельянос, который испытывал отвращение к корриде, говорит языком заправского журналиста, освещающего бой быков. В своей „Памятке об общественном порядке на зрелищах и иных публичных развлечениях и их происхождении в Испании” он пишет: ’’Что такое наши танцы, как не жалкая имитация распущенных и непристойных плясок самой низкой черни. У других народов на подмостках танцуют боги и нимфы, а у нас пляшут парни и уличные торговки”.
Граф дель Карпио в своем письме к маркизе де ла Солана, известной своими строгими воззрениями, чей замечательный портрет создал Гойя, пишет о герцогине де Альба следующие слова: ’’...она приятно проводит время, распевая время от времени тираны и завидуя махам”.
**’’Разве не смешны, — пишет Ириарте своему другу, — эти приверженцы Глюка, Пуччини и Люлли. У нас здесь идет грызня между поклонниками Костильяреса и Ромеро. С утра до ночи только и слышны бесконечные споры, и в ослепительных дворцах, и в жалких лачугах. Накал страстей во время представления таков, что поклонники того и другого пускают в ход кулаки, и в скором времени у нас, должно быть, появятся свои истинные, профессиональные бойцы среди зрителей корриды”. (Cotarelo. Iriarte у su ероса, р. 237.)
***В одном из писем 1778 года к Сапатеру, который был поклонником Костильяреса, Гойя причисляет себя к сторонникам Педро Ромеро.
265
улицу. Картина задумана как чисто декоративная, и, если рассматривать ее в качестве доказательства увлечения Гойи искусством боя быков (похоже, что центральная фигура на картине — автопортрет художника), тогда пришлось бы признать, что в то время Гойя ничего не смыслил в re taurina*. Ничего не известно и о его отношениях с миром театра. В конце 1790 года он посылает своему другу Сапатеру несколько народных песен (тиран и сегидилий). ”Ты получишь огромное удовольствие, слушая их, — пишет он другу. — Я еще не слышал их и, вполне вероятно, никогда не услышу, ведь я уже не бываю в тех местах, где поют эти песни; мне пришло в голову, что я обязан придерживаться некой определенной идеи и блюсти некоторое достоинство, подобающее человеку, чему, можешь мне поверить, я не слишком рад”.
Слова эти, как мне представляется, самое ценное из всего, что сказал о себе Гойя. Задумаемся над тем, что эти слова хотят нам сказать, и над тем, что они говорят, сами того не желая. Первое: для Гойи вполне естественно и очевидно, что, посылая своему другу, человеку глубоко провинциальному, спокойному и благонамеренному, подобные новомодные песенки, он доставит ему несомненное удовольствие. А это значит, что в провинции стремились не отставать от модных веяний Мадрида. Второе: за те пятнадцать лет, что Гойя провел в Мадриде, он, как и все, не раз отправлялся послушать эти песни туда, где собиралась подражающая простолюдинам публика. Сказанное не относится к театрам, хотя у него вроде бы не было повода не ходить туда. Так или иначе, данный документ самое значительное доказательство народных пристрастий Гойи, самое значительное и в то же время ничтожно малое. По сути своей, это все, что мы знаем о предполагаемой веселой жизни Гойи, которая не оставила даже малейших следов ни в более или менее правдоподобных историях о нем, ни в его будущих произведениях. И третье: Гойя сообщает нам о происшедшей с ним перемене, перемене, затронувшей и его личность, и образ жизни. Получается, что теперь у него есть ’’идея”, идея требует ’’соблюдать некоторое достоинство”, достоинство же есть нечто ’’подобающее человеку”. Что же произошло с неотесанным арагонским парнем на пятом десятке?
Речь идет об истинном обращении. Только из чего и во что?
Эти пятнадцать решающих лет жизни Гойи я представляю себе так.
Он поселяется в Мадриде в 1775 году, будучи двадцати девяти лет от роду. До этого в Сарагосе и в Италии он живет заурядной жизнью обычного мастерового. В Италии Гойя увидел не больше, чем любой молодой художник того времени. Знакомство с итальянской живописью не оказало на него сколько-нибудь значительного влияния. Его картина 1781 года из храма св. Франциска Великого показывает с достойной сожаления очевидностью, что художественная атмосфера Рима была воспринята им не слишком глубоко. В Мадрид он приезжает без вдохновения, без творческих замыслов, собираясь просто заниматься своим делом, чтобы заработать себе на жизнь. Здесь он ведет ничем не примечательный образ жизни; почти ни с
’Бычьем деле (лат.). Здесь: искусство боя быков.
266
кем не общается, кроме собратьев по ремеслу, среди которых нет ни талантливых живописцев, ни ярких личностей. Создается ощущение, что вплоть до 1783 года он пишет только эскизы для гобеленов королевской мануфактуры. Исключение составляют фрески для собора Святой Девы дель Пилар и картина ’’Проповедь св. Бернардина”, выполненная для храма св. Франциска Великого. Должно быть, картины его не пользовались спросом. Вельможи обычно заказывали портреты Менгсу, Вертмюллеру, другим иностранцам. Гойя принадлежал к большой группе придворных художников, ничем особенным не выделяющихся. Годы тянулись медленно и тяжело. Он трудно приспосабливался к суете мадридской жизни. В его возрасте легко завязываются многочисленные случайные знакомства, обычно весьма прочные и приятные, но он ни с кем особенно не сближается. Кто бы что ни говорил, Гойя не дружит с тореро и не завязывает романов с актрисами. Как любой ремесленник, он занят монотонным повседневным трудом. Единственное, что заботит его — желание пробиться наверх, выделиться, сделать так, чтобы его заметили. Наконец, в 1783 году он получает заказ на портрет Флоридабланки. Надежды, рожденные близостью к лицу, облеченному властью, показывают, насколько беспомощным чувствовал себя Гойя все предшествующие годы. Флоридабланка не осуществил его надежд, да и покровительствовать художнику тоже не спешил.
Однако картоны, хоть и медленно, все же делают художнику имя. Примечательно, что первыми им заинтересовались самые известные архитекторы: Сабатини, Вильянуэва, Вентура Родригес. Именно последний помог Гойе получить заказ на портрет инфанта дона Луиса, что потребовало в том же году отъезда художника в Аренас де Сан Педро. Спустя некоторое время Гойя начинает писать портреты именитых людей своего времени, и одним из первых будет портрет архитектора Вентуры Родригеса. Портреты станут тем попутным ветром, что вынесет Гойю в открытое море. В 1786 году он получает звание первого живописца короля.
К 1790 году меняется социальное окружение Гойи, а с ним и он сам. Он заводит знакомства и общается с самыми знатными аристократами и в то же время с писателями и государственными деятелями, сторонниками Просвещения. И те и другие стали для Гойи настоящим открытием. До этого он жил так же, как жили тогда, да и в прежние времена, почти все испанцы — какой-то растительной жизнью, по инерции, как бог на душу положит. Теперь перед ним люди, живущие совсем иной жизнью: существование для них значит постоянное совершенствование, умение обуздывать свои страсти, стремление воплотить в себе некий идеальный образ. Для этого необходимо бдительно пресекать все естественные порывы и без устали критиковать все обыденное, привычное, все, что делается, потому что так принято. Деятели Просвещения выработали жесткий свод правил и предписаний. Их жизнь определялась прежде всего идеями. Гойя прислушивается к тому, что они говорят. Необразованный и не очень сообразительный, он не всегда до конца понимает услышанное, но улавливает нечто главное: нельзя поддаваться стихийным порывам, ни своим собственным, ни чужим, в жизни надо руководствоваться ’’идеей”.
267
Франсиско Гойя. Маха одетая. Ок. 1802. Мадрид, Прадо
Это первый урок, из которого Гойя извлекает пользу. А ведь ему уже сорок! Осознание необходимости анализировать свои поступки, размышлять над своей жизнью означало для него второе рождение. Мир, в котором он жил, оставался тем же, и в то же время совершенно иным. То, что было понятно и близко, потеряв привычную естественность, стало вдруг далеким и чужим. Именно тогда Гойя открывает для себя народное, испанское. Тогда, а не раньше начинает Гойя разрабатывать национальные сюжеты, и происходит это потому, что и без того слабое увлечение исконно испанским навсегда уходит из его жизни.
Задумайтесь. 1787 год. Минуло два года, как Гойя соприкоснулся с изысканным миром герцогинь и ’’непримиримым” миром ’’просветителей”. В глубине души грубого ремесленника всегда таилось аристократическое восприятие жизни, которое вопреки воле самого художника, как в сомнамбулическом. сне, возникает в эскизах гобеленов. Мы заметим его, когда попытаемся ответить на вопрос: ’’Что в них от самого Гойи?” Невольно испытываешь удивление, даже потрясение, наблюдая, как Гойя, который должен наконец стать Гойей, пробуждается внезапно, от простого соприкосновения с мирами, которых отличает свойственное любой аристократии стремление избежать всяческих проявлений естественности и непосредственности. В этом оба мира едины: лучшая жизнь не та, что дана изначально, а та, что искусственно выстроена и сконструирована, вопреки естественному ходу вещей. Отличает их то, что они по-разному воспринимают окружающий мир. Для знати народная жизнь — лишь одна из возможных и изящных форм игрового поведения. Она забавляет, ею приятно полюбоваться, поизоб-ражать ее, а иногда и окунуться в нее, именно потому, что она другая.
268
Франсиско Гойя. Маха обнаженная.
Ок. 1802. Мадрид, Прадо
’’Просветители” же целиком отрицают эту жизнь, хотя и им не удалось полностью избежать увлечения ею. Для них все истинно испанское — зло, варварство, порожденное неразумностью и иррациональностью истории. Да, оно есть и, как все, что существует просто так, само по себе, должно быть изменено. Просвещение — это радикальный реформизм, крайне неудобная жизненная позиция, когда все начинается с непримиримого отрицания, чтобы потом, на обломках, можно было утвердить новую идею.
Не это ли означали слова Гойи, обращенные к Сапатеру, в процитированном нами письме? Гойя перестраивает свою жизнь. Он отказывается посещать места, где можно послушать, как поют тираны, потому что жизнь должна быть иной, не той, что нравится. Рационализм, чьим предельным выражением в этике стал ’’категорический императив”, призывает нас жить ’’против шерсти”, исходя из определенных идей, подавляя любой необдуманный порыв. Как это должно быть мучительно: ’’...чему, можешь мне поверить, я не слишком рад”. Вряд ли он когда-нибудь еще будет доволен. Даже если бы два года спустя на него не обрушилось страшное несчастье — временный паралйч и глухота на всю оставшуюся жизнь, тяжелое чувство горечи так и осталось бы основной тональностью его жизни. С той поры в нем уживаются два непримиримых начала — природный темперамент и приземленный ум простолюдина рядом с nisus*, с устремленностью к высокому и избранному. И его талант художника стал лишь внешним проявлением напряженной внутренней борьбы. Он оказался вырванным из
* Восхищение, взлет (лат.).
269
традиции, в которой человек существует как бы в полусне, как дремлет дитя в колыбели, и не сумел вписаться накрепко в определенность, именуемую разумом. Глупо думать, что можно бесконечно придерживаться традиции, но так же бессмысленно считать разум панацеей от всех бед, верить в то, что он не принесет новых несчастий. Часто забывают, что человеческая жизнь представляет собой сплошную опасность и преодоление ее неминуемо связано с риском.
И вот где-то в 1790 году—а я подозреваю, что тремя или четырьмя годами позже, — Гойя, к примеру, начинает писать портреты актрис и тореро, чего он не делал в прежние годы, когда будто бы был завсегдатаем веселых сборищ и гулянок. Как все это объяснят историки? Уточним и еще кое-что.
Гойя пишет всего двух тореро: братьев Педро и Хосе Ромеро. Портрет Костильяреса имеет весьма сомнительную атрибуцию, к тому же время создания картины и возраст ее героя не совпадают. Если принять во внимание время выступления на арене трех этих матадоров, особенно это касается последнего, можно предположить, что портреты были написаны самое раннее в 1790 году*. Тремя годами раньше Гойя познакомился с герцогиней де Осуна, поклонницей Костильяреса. Вспомните, что вся испанская жизнь того времени была сплошным соперничеством между ’’партиями” поклонников. В 1790 году он должен был быть знаком с герцогиней де Альба, во всяком случае завязать более близкие отношения с этой взбалмошной и безрассудной великосветской дамой. Так вот, герцогиня де Альба покровительствовала Хосе Ромеро**.
В 1794 году Гойя пишет первый из двух портретов актрис, портрет Ла Тираны. Почему он так долго ждал момента, чтобы воплотить образ этой бесподобной актрисы, каждое выступление которой заканчивалось дракой в театре? В том же самом году Ла Тирана умирает. Однако Ла Тирана пользовалась особым покровительством герцогини де Альба ... и ’’просветителей”. Удивительная случайность! Гойя пишет первую актрису, воспитанную в традициях французской сцены. Она не играла в сайнетах, не исполняла тонадилий, она — трагедийная актриса. Когда муниципальный совет потребовал, чтобы она вступила в одну из ’’традиционных” трупп, она вынуждена была сообщить, что совсем не знает народного репертуара, не может работать с суфлером и в ее гардеробе костюмы только для трагедии. И действительно, с полотна Гойи на нас смотрит суровое бледное лицо с орлиным носом и пушистыми бровями, которыми непонятно почему он украшает многих своих персонажей, даже ангелов в церкви Сан Антонио де ла Флорида***. И почему, например, он совсем не пишет тех актрис, которые так же, как Гранадина, могли бы воскликнуть: ”Мы из народа”****.
* Портрет Педро Ромеро разительно отличается от двух других своей неточностью, словно он написан по памяти.
** В табели о рангах искусства боя быков Хосе Ромеро занимал второстепенное положение. Скорее всего до 1789 года он вообще не выступал в Мадриде, нет и свидетельств его знакомства с Гойей. С другой стороны, удивляет, что Гойя не обратил никакого внимания на Пепе-Ильо. Может быть, потому, что Пепе-Ильо только начинает становиться популярным.
***См.: Cotarelo. La Tirana. Madrid, 1897. Другой актрисой, чей портрет написал Гойя, была Рита Луна, сменившая на сцене Ла Тирану.
**** В ’’Прологе” к трагедии дона Рамона де ла Крус ’’Нумансия” (1778).
270
Франсиско Гойя. Портрет актрисы Марии дель Росарио Фернандес, прозванной Ла Тирана.
1794. Мадрид, коллекция Хуана Марка
Предложенную мной мотивировку создания этих портретов не надо воспринимать упрощенно. Менее всего важно, что такому-то тореро и такой-то актрисе покровительствовала та или иная герцогиня. Существенно другое: начиная с 1787 года Гойя начинает воспринимать национальную жизнь под двойным углом зрения, с позиций двух социальных групп, общение с которыми будет продолжаться вплоть до самой смерти художника. Поскольку сама точка зрения двойственна и противоречива (пристрастие к простонародному верхов общества и его резкое неприятие со стороны ’’идейных”), картины Гойи несут на себе ту же печать двусмысленности и сомнительности. Часто бывает трудно разобраться, восхваляет ли он своих героев или осуждает, говорит им да или нет.
6
(ГИПОТЕЗА)
Гипотеза такова: знакомство Гойи в довольно зрелом возрасте — в сорок лет — с более возвышенным стилем жизни порождает в нем внутренние противоречия. С одной стороны, его личность раздваивается: отныне и
Франсиско Гойя. Чудо св. Антония Падуанского.
1798. Деталь фрески
272
Франсиско Гойя. Чудо св. Антония Падуанского.
1798. Фреска в куполе церкви Сан Антонио де ла Флорида
навсегда в нем будут уживаться народный — но не народнический — дух, присущий ему с детских и юношеских лет, и смутное стремление к неким возвышенным, немного абстрактным истинам, которые мешают проявлению природной непосредственности и обязывают жить некой иной жизнью. Двойственность эта никогда не будет преодолена, и Гойя так и не сможет приспособиться к какому-то одному из двух миров — к миру традиции или к миру ’’культуры”. А значит, он так и не найдет внутреннего пристанища, проведя жизнь в беспрестанной тревоге и бесконечном терзании. Глухота
273
обострила все до крайности, до патологии, обрекая на мучительное одиночество человека, чей темперамент требовал постоянного общения с окружающей его средой, нуждался в-ее заботе и внимании, чтобы откликнуться на нее всеми струнами своей души.
С другой стороны, тот шок, который он испытал при соприкосновении с новой средой, имел поразительный эффект: оторвавшись от традиций, которым он следовал, в том числе и в живописи, отрекшись от естественных импульсов и порывов, обратившись к самым рассудочным сторонам своего сознания, Гойя высвобождает и пробуждает к жизни свою самобытность. Всеми историками замечено это поразительное совпадение во времени изменения социального окружения Гойи и появления его великих полотен, самых смелых и дерзких замыслов. Он поистине достигает возможных пределов искусства, преодолевая их и теряясь в безумии и вседозволенности творчества.
ЛЕГЕНДА О ГОЙЕ
1
[СОВРЕМЕННАЯ МИФОЛОГИЯ]
Каждый, кто попытается постичь истинный смысл того, что на самом деле являет собой Гойя, тут же ощутит на себе магическое воздействие легенды, окружающей его имя. Легенда о Гойе — наиболее любопытное порождение современного массового сознания и бесспорно заслуживает того, чтобы остановиться на ней подробней. С другой стороны, если мы не разделаемся должным образом с традиционным восприятием Гойи, существующим и поныне, его мифический призрак будет возникать на всех перекрестках нашего пути, во всех спорных моментах этого исследования его личности и творчества, мешая движению и размывая перспективу.
Когда спустя несколько лет после смерти Гойи впервые вспыхнул интерес к его картинам и гравюрам, подлинных свидетельств о нем осталось совсем немного. Это изумляет, но это так. Поневоле испытываешь грусть, что об одном из самых известных и знаменитых людей своего времени, стоило ему умереть, не сохранилось даже малого числа подлинных воспоминаний; что эта плодотворная жизнь, будоражащая наше воображение, могла настолько стереться из памяти, не оставив ни следов, ни отзвуков. Как ни поразительно, это вполне естественно для Испании. Испанца не интересует его ближний. Он лишь видит в нем, как в зеркале, отражение собственной жизни и не задумывается, что у ближнего его есть своя жизнь, быть может, увлекательная, значительная и неповторимая. Казалось бы, раз она чужая, мы должны испытывать удовольствие, созерцая ее, стремиться понять ее, ибо любая частная жизнь есть не что иное, как увлекательнейшая загадка. Отсутствие любопытства к человеческой судьбе объясняет тот факт, что у нас почти нет биографий, а если и есть, то им недостает выразительности и проницательности. Чтобы понять чужие жизни, нужно, чтобы многие поколения пристально вглядывались в них, подвергая их множеству различных интерпретаций, дабы эти усилия породили в коллективном сознании комплекс отточенных понятий и навыков, позволяющих понять жизнь ближнего. В противном случае все, что бы мы ни сказали о чужой жизни, будет грубо, если не лживо.
Так вот, о Гойе мало что знали даже сразу после его смерти. Но его творения, тревожащие нашу мысль своей причудливостью, настоятельно требовали воссоздать образ и жизнь художника, может быть, больше, чем
275
творения любого другого мастера. Неосознанное любопытство толкает нас на поиски той тучи, что породила молнию. Испытывая буквально ’’ужас” перед полным отсутствием достоверных сведений, люди были вынуждены придумать жизнь Гойи. Именно поэтому биографии Гойи вплоть до начала нынешнего века, за редким исключением, являются примерами современной мифологизации, доказывая тем самым, что способность к мифотворчеству по-прежнему составляет человеческую сущность. Специфика мифологического мышления заключается в том, что оно трансформирует само явление в причину его, пытаясь объяснить это явление, вместо того чтобы воплотить его. Так и получается, что биографии такого рода пытались найти Гойю в персонажах его картин, портретов и рисунков. Жизнь Гойи, таким образом, оказывается как бы слепленной с его персонажей. Когда же это невозможно сделать, скажем, в том случае, если изображена женщина, она без малейших колебаний объявляется возлюбленной художника.
В течение долгого времени исследователи шаг за шагом разрушают эту мифическую биографию, но легенда так прочно вошла в сознание людей, что часто те, кто стремится низвергнуть одну из башен, тотчас спешат укрыться в другой нише этого вымышленного романтического здания. Так что если кто-то и преисполняется решимости понять, какова же была истинная жизнь Гойи, он тут же, помимо своей воли, оказывается втянутым в беспрестанную, не прекращающуюся полемику.
Стало бы намного проще, если бы кто-нибудь взялся подробно изучить, как родилась легенда о Гойе. Труд этот принес бы немалую пользу. Во-первых, он прояснил бы нам сложные, запутанные моменты самого мифа; во-вторых, покончил бы, наконец, с его влиянием; в-третьих, вполне вероятно, способствовал бы выяснению подлинных обстоятельств жизни Гойи. Даже не переоценивая значение этой работы, становится ясно, что она подняла бы очень важную проблему. Важно учитывать, что речь идет не просто об исправлении грубых ошибок: легенда о Гойе — чистейший вымысел, в ней нет ни одного достоверного факта, на который можно было бы опереться и использовать в качестве отправной точки для исследования.
Поскольку с чего-то начинать надо, мы процитируем несколько абзацев из самой значительной книги о Гойе, написанной Августом Л. Майером. Там мы можем прочесть, например, следующее:
’’Все это заставляет нас предположить, что юный Франсиско сразу же продемонстрировал свой талант живописца. В связи с этим рассказывают одну историю, в которой, бесспорно, есть доля истины: когда Гойе было двенадцать лет, он написал в церкви своего селения на задней части и боковых крыльях алтаря явление Святой Девы дель Пилар. Картины эти сохранились. Приехав в 1808 году в родное селение, Гойя отказывается признать их, считая их грехами своей молодости, и просит друзей: ’’Никому не говорите, что это написал я”.
Граф де Фуэнтес, влиятельный вельможа, принадлежащий к могущественному неаполитанскому роду Пиньятелли и покровитель Фуэнтетодоса, видимо, отметил талант юного художника и взял на себя заботу о дальней
276
шем образовании Гойи. Мы точно знаем, что в Сарагосе, в школе Благочестия падре Хоакина, он познакомился с Мартином Сапатером, с которым его долгие годы связывала тесная дружба, — значит, маленький Гойя действительно там учился. Гойя напоминает своему другу об этой школе в письме от 28 ноября 1787 года. То, что юный Гойя переехал с родителями в Сарагосу, никоим образом не исключает того, что он мог написать эти картины, будучи ребенком, когда приезжал на каникулы.
Должно быть, Гойя в юности отличался необычайно живым и беспокойным нравом. У нас нет достоверных сведений о его жизни и заботах в годы ученичества, но все свидетельствует о том, что молодой Гойя, ведший богемный образ жизни, испытывал живейший интерес к быкам и тореро, играл на гитаре, пел и плясал арагонскую хоту и предавался обильным возлияниям. Влекла его и ’’вечная женственность”. Как в Сарагосе, так и позже в Мадриде и Риме у него было несколько любовных приключений, напоминающих нам сцены из авантюрных романов. Он не пропустил ни одной драки, и, когда однажды в стычке были убиты трое, ему пришлось спешно бежать из столицы Арагона в Мадрид. Друзья и отец помогли ему избежать судебного преследования: Матерой рассказывает, что отцу Гойи пришлось продать два дома, чтобы покрыть расходы на путешествие сына в Мадрид и Италию; мне не очень верится во все это не только потому, что Матерой не самый надежный источник, но и потому, что эта продажа противоречит реальным доходам семьи Гойи”*.
Забавное искажение фактов в этих строках просто бросается в глаза. Автор использует метод, именуемый схоластами tollendo ponens**: когда одновременно что-то утверждается и тотчас же отрицается. Любопытно, что вот так, осторожно и неуверенно, историки искусства говорят о Гойе по сей день. Они не могут абстрагироваться от легенды о нем, и в то же время не решаются принять ее целиком. Создается ощущение, будто их пугает, что, отвергнув традиционный образ Гойи, они не найдут, чем его заменить. Вот Майер признает, что нет достоверных сведений о жизни и занятиях юного Гойи, и в этом же абзаце добавляет: ’’...все свидетельствует о том, что...”. Доверчивый читатель, самостоятельно не изучавший вопроса, оказывается обезоружен этим ’’все”, позволяющим приписать Гойе любые поступки. Он считает, что да, действительно, достоверных сведений нет, но существует достаточно веских доказательств и доводов, основанных на других убедительных свидетельствах, чтобы утверждать то, о чем говорится в дальнейшем. На самом же деле это ’’все” по сути своей есть ’’ничто”, оно лишь подразумевает, что многие до Майера делали то же, что и он, и продолжают повторять идущие следом, и так будет происходить до скончания века.
Не менее забавным кажется вывод, к которому приходит автор в следующем параграфе: сведения об авантюрных похождениях Гойи в Риме
*Л. L. Mayer. Francisco de Goya. Barcelona, 1925. C. 4—5.
**Букв. класть подымая (лат.).
277
объявляются вполне заслуживающими доверия, и тут же следом сообщается о том, что свидетели происшедшего или вообще не были в Риме, или,никогда ни о чем подобном не сообщали. Ну разве это не пример tollendo ponens?
Я думаю, что надо вытащить биографию художника, да и самого Гойю, из того нелепого болота, в котором они окончательно увязли. Могут возразить, что мы ведь ничего точно о Гойе не знаем. На самом же деле жизнь Гойи, с тех пор как ему исполнилось двадцать пять и до самой его смерти в восемьдесят два года, не является для нас тайной, по крайней мере в наиболее существенных ее моментах.
Все это время, а по сути, вся жизнь Гойи не дают нам ни малейшего повода говорить о проявлении тех свойств его натуры или наклонностях, которые и предание, и Майер, а вслед за ним и другие приписывают юному Гойе. Стоит уточнить, что Гойя жил в самые смутные и неспокойные времена испанской истории, и такое настойчивое стремление видеть в Гойе этакого смутьяна, драчуна и соблазнителя женщин кажется настоящей интеллектуальной нелепостью. Если бы речь шла о небольших отклонениях от истины, если бы разница между легендой и реальностью сводилась лишь к простому искажению смысла, если бы похождения и приключения Гойи имели хоть какое-то основание, не стоило бы беспокоиться о том, чтобы предупредить доверчивого читателя. Но дело обстоит как раз не так, и это обязывает нас выявить истинное положение вещей.
А сказать надо вот что:
1. Все похождения, дурные привычки и пороки, приписываемые Гойе, абсолютно недоказуемы.
2. Почти все, что мы знаем о реальной жизни Гойи, не соответствует его мифическому облику.
Вот это несоответствие легенды о Гойе и того, что мы о нем знаем, и необходимо было установить.
Теперь самое время спросить: когда же возник столь разгульный образ Гойи?
С самого начала поражает то малое количество упоминаний о Гойе, которое мы встречаем в современных ему источниках. Стало своего рода общим правилом, что современники почти всегда очень немногословны, когда речь идет о художниках. Почему так происходит? Мне думается, по очень простой причине: живописец, подобно ремесленнику, большую часть времени занят своей работой, уединившись в мастерской. Он редко выходит из дому. Но в том-то и дело, что о Гойе утверждаются прямо противоположные вещи. Легенда изображает его человеком, который с удовольствием проводит время вне мастерской: в кутежах и развлечениях, то посещая светские приемы, то наведываясь в трущобы и злачные места; на мадридских улицах и площадях, ввязываясь в каждую стычку с любителями задирать прохожих; на сборищах тореро и их поклонников. А ведь помимо этого у него должно было еще хватать времени, чтобы общаться с писателями, музыкантами и архитекторами. Он кажется поистине вездесущим,
278
но удивительно, что его современники так и не нашли возможности рассказать или хотя бы упомянуть об этом.
Пожалуй, чаще всего о нем упоминается в письмах королевы Марии Луизы к Годою, но единственное, о чем там идет речь, это о позировании для портретов, которые пишет Гойя.
После королевы о нем чаще других упоминают Ховельянос и Моратин. Но и здесь упоминаний немного: пять или шесть случаев.
Гойя познакомился с Ховельяносом не позднее 1781 года, когда они оба стали членами Академии Св. Фернандо. Известно, к примеру, что Гойя присутствовал на заседании Академии 17 июля, когда Ховельянос читал свою ’’Похвалу изящным искусствам”. Ховельянос был всего на два года старше Гойи. Должно быть, они быстро подружились, и именно благодаря этой дружбе в 1784 году Гойя получил заказ на четыре картины для капеллы ордена Калатравы в Саламанке. В те годы ему редко заказывали картины на религиозные сюжеты, тогда как братья его жены постоянно расписывали храмы. С другой стороны, дружеское расположение Ховельяноса к Гойе не подтверждает предположений о его беспорядочной и безалаберной жизни. Их дружба длилась до самой смерти Ховельяноса. Но вот что удивительно: Ховельянос, лучше всех разбиравшийся тогда в живописи (неразлучный с ним Сеан Бермудес был, по сути дела, его учеником), ничего не пишет о нем как о художнике. Для Гойи он нашел всего два определения. Насколько я знаю, слова эти никогда раньше не цитировались, и поэтому приведу их здесь. В 1785 году Ховельянос прочел на заседании Мадридского экономического общества ’’Похвалу дону Вентуре Родригесу”, который умер незадолго до того. Между 1789* и 1799 годом он напечатал эту речь, сопроводив ее примечаниями. В примечании шестнадцатом, рассказывая о дружеском отношении и глубоком почтении инфанта дона Луиса к дону Вентуре Родригесу, он пишет:’’Дабы выказать свое особое расположение, Его Высочество велел написать портрет Родригеса, демонстрируя этим желание постоянно видеть его, и доверил создание портрета искусной и мощной кисти дона Франсиско Гойи, придворного живописца Его Величества, находящегося под его августейшим покровительством. Ныне портрет принадлежит вдове этого благородного принца, чье имя мы с особой признательностью причисляем к тем, кто оказывал покровительство художникам и искусствам”.
Ховельянос, должно быть, ценил портретную живопись Гойи, но, совершенно очевидно, не смог оценить его остального творчества. Свидетельство тому — черновой набросок к одной из статей, где он дает понять, что в Испании нет ни хороших, ни даже средних художников; не думаю, что он мог причислить Гойю к ’’выдающимся”, таким, как Урбинос, Менге и т. д.
Но как бы то ни было, дружба их длилась до самого конца. Так, в приписке к письму, адресованному брату Мануэлю Байеу, шурину Гойи, мы читаем: ’’Поскольку Вы ничего не пишете нам о сеньоре Гойе, мы думаем,
*В этом году Гойя был назначен придворным живописцем.
279
что он не поехал в Сарагосу; но если он все-таки там окажется, не забудьте обнять его от имени человека, который всегда испытывал к нему самые нежные чувства”. Написано так, словно это пишет секретарь Ховельяноса Марина, в то время как он сам находился в заточении в замке Бельвер. Таким образом, письмо датируется 1803—1807 годами. В другом письме, относящемся к тому же времени, он просит монаха-художника ответить на ряд вопросов Сеана Бермудеса, заданных им художникам, чтобы дополнить свой ’’Словарь”. Опираясь на эти ответы, Ховельянос составил заключение, которое ’’было представлено на усмотрение летописцу испанских художников, который был большим другом дона Франсиско (Байеу), и поддерживал тесную дружбу с Гойей и его женой”. Эти слова и запись в ’’Дневнике” от 23 ноября 1793 года, где сообщается о том, что Гойю хватил апоплексический удар и он совсем не может писать, — вот и все, что можно найти о жизни нашего художника в бумагах Ховельяноса.
* * *
Дон Хосе Сомоса был именно тем человеком, который мог предоставить нам множество любопытных и достоверных сведений о Гойе. Почти всю свою жизнь он провел в родном селении, Пьедраите, и при этом принадлежал к одному из самых знатных и состоятельных местных семейств. Поэтому, видимо, еще с детских пор он постоянно бывал там в загородном дворце герцогини де Альба, часто приезжавшей туда на лето. Он видел гостивших там по приглашению герцогини знаменитых писателей и художников. Поэтическим дарованием он был наделен слабо, истинный же талант его заключался в способности рассказывать о том, чему он был сам свидетелем или слышал от очевидцев.
Имя Гойи действительно часто мелькает на страницах его немногочисленных сочинений.
Именно благодаря ему впервые увидела свет легенда о Гойе. Его статья ’’Гойя и лорд Веллингтон”, опубликованная в ’’Семанарио Пинтореско” в июле 1838 года, после второй биографии Кардереры, положила начало образу неистового и безрассудного Гойи. Невозможно, кажется, получить более достоверные свидетельства. Остается лишь поверить человеку, знавшему Гойю с ранней юности и позже, в Мадриде, продолжившему свое знакомство с ним*. Но вот небольшая, всего пять страничек текста, статья ’’Воспоминания о Пьедраите”, посвященная жизни герцогини де Альба в ее загородном замке во время летних месяцев. Немного странное впечатление оставляют примечания к статье, в которых автор пишет: ’’Там, во дворце герцогов де Альба, при жизни герцогини и после ее смерти бывали Мелендес, Баильс, Кондадо, Иглесиас и тысячи других; прежде чем дворец был разрушен, там жили Гойя и Кинтана, там были созданы некоторые из их
♦Obras en prosa у verso de don Jose Somoza, 1904. P. 2. Опубликовано Хосе P. Ломба-и-Педраха.
280
творений”. Непонятно только, как они могли там бывать после смерти герцогини, ведь дворец должен был быть закрыт с 1802 (год смерти герцогини) по 1808 год, когда он был разрушен и опустошен французами. Ну а утверждение, что Гойя и Кинтана бывали там ”до его разрушения”, по меньшей мере абсурдно, а как могло быть иначе? Удивляет и та неопределенность, с которой он описывает пребывание там Гойи. Все говорит лишь о том, что Сомоса просто не помнит, видел он Гойю в доме герцогини или нет.
Но давайте обратимся к истории о Веллингтоне. Прежде всего отметим, что эта история не имеет отношения к Гойе. Он и не знал, о чем говорит Веллингтон, а потому и рассердиться-то не мог. Достаточно двух заряженных пистолетов на столе, которые, с другой стороны, вообще непонятно, что там делают.
Кроме того, маловероятно, что сын Гойи говорил по-английски, и также невозможно доказать его знание французского, ведь он был minus capiens*.
Сомоса говорит, что Гойя буквально весь был покрыт шрамами от шпаг. Глупость, но именно подобные утверждения убеждают нас в том, что старина Сомоса всегда готов впасть в чрезмерное преувеличение. Становится понятным, почему нам кажется явным преувеличением его заявление о том, что Гойя был ’’одним из самых вспыльчивых людей в Европе”.
Таким образом, можно не принимать в расчет и другое свидетельство Сомосы, когда он говорит, что Гойя чуть не убил Менгса за то, что тот однажды взялся править его картину. Менге появляется в Мадриде лишь спустя несколько месяцев после начала работы Гойи над картонами для гобеленов. По-видимому, ранее он не знал Гойю, и уж совсем ему было ни к чему заниматься его картинами.
Не стоит удивляться тому вольному обращению с истиной, которое позволяет себе Сомоса. Ведь в одном из стихотворений, посвященных любимому им пейзажу, месту, которое он посещал множество раз и которое помимо всего прочего было главным из поместий, доставшихся ему по наследству, он делает из него нечто столь невероятное, что его издатель и биограф Ломба-и-Педраха, вынужден сообщить следующее: ’’Поэт причудливо преображает воспеваемую им природу. Тот, кто бывал в Пескаруэле и видел этот прелестный и тихий уголок природы, где тоненькая ниточка воды, стекая по каменистым уступам, образует то, что поэт именует водопадом, будет потрясен картиной, нарисованной Сомосой. В действительности там нет ни озера, ни шумных водопадов, ни топей и ничего такого, что хоть отдаленно походило бы на горные пропасти, а среди колючего кустарника там никого не поджидает затаившийся волк, и низвергающийся водопад не смешивает свои воды с бьющим у подножия источником. Все это красивый и ловкий обман”**:
Эти люди были убеждены в том, что все нуждается в преувеличении. Так родилась и легенда о Гойе.
*Не очень развит (лат.).
**Obras en prosa у verso de don Jose Somoza, 1904. P. 41.
281
2
[КТО ТАКОЙ ГОЙЯ]
Гойя, тот Гойя, что дает нам повод заговорить о нем, начинает свое существование для нас в 1775 году, когда он приезжает в Мадрид и поселяется там. Он приезжает из Сарагосы, откуда вынужден спешно уехать из-за грозящей ему опасности, причину которой мы не знаем. Из всех отчаянных потасовок, сумасбродных выходок и ссор, которые приписываются Гойе, единственной рискованной авантюрой, по-видимому, действительно имевшей место, оказывается та, что заставила его внезапно покинуть Сарагосу. Так, 8 октября 1776 года, год спустя после своего отъезда, он пишет из Мадрида некой Мариките, хозяйке таверны в Сарагосе, письмо с просьбой переслать ему портрет его матери, который он оставил недописанным. Под мастерскую художник переделал кладовую
Франсиско Гойя. Автопортрет. Заглавный лист серии "Капричос”.
1797—1798, Мадрид, Прадо
282
Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ. Лист 43 из серии "Капричос”
Франсиско Гойя. Они уйдут, когда будет рассвет. Лист 71 из серии "Капричос”
на чердаке таверны. Он пишет: ”Я храню в сердце тех людей, которые были добры ко мне в этом доме, хотя из-за моего внезапного отъезда вам может показаться, что это и не так. Но я полагаю, вы все-таки получили известие о том, что у меня просто не было времени кого-либо предупредить. Благодарение Богу, все уже прошло и забыто вместе с безрассудством молодости. Я обязательно вернусь в Сарагосу, если это будет угодно богу”.
Не правы историки, когда так же, как в подобных случаях, выдумывают факт по косвенным данным, лишая его очевидности.
Даже если мы изначально отбросим абсурдные предположения, то причин, которые могли вызвать поспешное бегство молодого художника, так много и они столь различны по своей сути, что нет ни смысла, ни основания выделять какую-либо одну из них. Безосновательный вымысел и ненужное уточнение события привели бы нас к ошибочному заключению и несправедливому суждению о наклонностях Гойи. История, в отличие от романа, имеет дело со свершившимися фактами, а факты прямо противоположны вымыслу. Единственное, что историку уместно вообразить, так это те возможные и невозможные случаи, которые могут произойти с человеком. Однако, из-за их чисто вероятностного характера, и они не могут подаваться как предполагаемый факт. И еще. Если бы сведения,
Франсиско Гойя. До его прадеда.
Лист 39 из серии "Капричос"
285
Франсиско Гойя. Этому праху! Лист 23 из серии “Капричос"
которыми мы располагаем, о последующей жизни Гойи свидетельствовали бы о частых рискованных авантюрах, то тогда имело бы определенный смысл предположить, что вызвало его бегство из Сарагосы. Но он прожил еще пятьдесят три года, и нам не известно, чтобы в течение столь продолжительного времени он был замешан в каких-нибудь потасовках, сумасбродных выходках или участвовал в буйных кутежах.
Если бы нам подробно и достоверно поведали о том, что же все-таки тогда произошло, то, скорее всего, этот случай просто позабавил бы нас и уж совсем не заинтересовал бы как важное событие в жизни Гойи. Для биографии значимо только то, что более или менее эффективно помогает согласовать, выстроить или определить картину жизни персонажа. А это справедливо лишь в отношении тех фактов, которые оставляют какой-либо след в жизни. И наоборот, исходя из определенных последствий, можно вывести причину события и воссоздать его даже при отсутствии достоверных данных. Итак, какой след в последующие пятьдесят три года жизни Гойи оставляет его поспешный и вынужденный приезд в Мадрид, вызванный каким-то опасным приключением в Сарагосе? По правде говоря, никакого. Однако если разобраться до конца, то результатом сарагосского происшествия стало лишь решение Гойи о дате его окончательного
286
Франсиско Гойя. Час настал! Лист 80 из серии "Капричос"
переезда в Мадрид. Ведь крайне маловероятно, что днем раньше или позже, или через несколько лет, Гойя не перебрался бы в Мадрид попытать счастья при дворе. Для этого имелись все условия. Художники, с которыми он общался в Сарагосе, уже обосновались в Мадриде. Среди них был и Франсиско Байеу. Будучи на двенадцать лет старше Гойи, больше преуспевший в своем ремесле, он, должно быть, обладал дипломатическим чутьем, способностями руководителя и невероятным остроумием. Именно поэтому Менге, главенствовавший в то время в испанских художественных кругах, сделал его своим помощником. Байеу часто приезжал в Сарагосу. Гойя в то время вращался в окружении Байеу*. Следует добавить, что многие молодые арагонцы того времени часто приезжали в Мадрид в поисках покровительства графа де Аранда, своего земляка, обладавшего в те годы огромной властью**. После росписи
*См. письма Гойи к Сапатеру.
** Упомянутое выше письмо к хозяйке таверны включено в другое письмо, которое Гойя адресует Сенону Грассо, родственнику своей крестной матери, и которое начинается словами: ”Да будет тебе известно, дорогой Сенои, что я безмерно рад, узнав от Кристобаля Мораты о твоем приезде ко двору в дом Его Превосходительства графа де Аранда. Так знай — ты войдешь в достойный дом”.
287
Франсиско Гой я. Ленивцы.
Лист 50 из серии "Капричос”
Франсиско Гойя. Ты, которому невмоготу... Лист 42 из серии "Капричос”
купола в базилике Святой Девы дель Пилар Гойя более трех лет почти прозябал без денег и заказов. Пришла пора выйти в более широкий мир. Добавим, что Гойя начинал испытывать смутное чувство пресыщения от общения со своими земляками. Он не вполне ясно понимал, отчего это происходит, но атмосфера Сарагосы раздражала его, душила, повергая в состояние тревоги и печали.
Если мы не будем утруждать себя поисками ответа на вопрос, какое же невероятное событие послужило причиной его срочного отъезда из Сарагосы в Мадрид, то тогда мы неизбежно столкнемся с другим, гораздо более неясным, трудным и, скорее всего, неразрешимым вопросом: кто же этот Франсиско Гойя, приехавший в Мадрид в 1775 году? Желание воспользоваться очевидным контрастом между двумя любопытными вопросами, один из которых совершенно бесполезен, а другой, напротив, очень важен, заставило меня остановиться вкратце на этом незначительном моменте, хотя я и рискую вызвать удивление у читателя.
Так кто же такой этот Франсиско Гойя, которого в 1775 году мы находим обосновавшимся при испанском дворе?
Франсиско Гойя. Что может портной. Лист 52 из серии "Капричос”
290
Если мы обратимся к обычным методам, которыми пользуется история, то ответ будет приблизительно следующий.
Гойе было двадцать девять лет. Родился он в глухой арагонской деревушке Фуэнтетодос. Его родители переехали в Сарагосу, когда ему было три года. Хотя обычно и пишут, что он вышел из крестьянской семьи, она не была таковой в собственном смысле. Возможно, у них и были в Фуэнтетодосе какие-то земли и дом. Но что не вызывает сомнений, так это то, что дом в Сарагосе принадлежал им, так как доподлинно известно, что в 1760 году они его продали. В городе его отец работал позолотчиком — занятие, которое превращает ремесленника в мастера. Гойя продолжает свое основное обучение в Школе благочестия. После окончания ее он поступает в Академию рисунка и живописи Хосе Лусана, который работал в Неаполе, в бессильном исступлении повторяя зады итальянской школы. О жизни Гойи в Сарагосе в тот период мы совершенно ничего не знаем. Единственное, что мы вправе утверждать, так это то, что он общался с художниками, входившими в круг Франсиско Байеу, которые позже переехали в Мадрид. И вот в 1775 году Гойя едет в Мадрид.
Все сведения очень важны, и позже, в свое время, они нам пригодятся. Однако и они не дают ответа на поставленный выше вопрос: кто такой этот Франсиско Гойя, который приехал в Мадрид в 1775 году? Все, о чем мы говорили, сводится к констатации тех событий, которые происходили с Гойей, или выявлению тех или иных черт, ему присущих: речь идет о его внешнем облике и его характере. Тем самым мы приближаемся к искомому субъекту, с которым происходит то, что с ним реально происходит, и который является таким, какой он есть на самом деле. И до тех пор пока мы не обнаружим этого особого субъекта, все сведения о нем не будут иметь какого бы то ни было конкретного значения. Ведь многие родились в Фуэнтетодосе, многие прошли Школу благочестия и занимались живописью в Сарагосе и так далее.
3
[”Я” — это проект|*
Человеческая жизнь — не случайная цепь событий, а скорее стремительная и напряженная драма, развивающаяся по определенному сюжету. Сюжет же состоит в том, что нечто внутри нас стремится к самореализации
*В понятие ’’художник” мы вкладываем тот же смысл, что придал ему романтизм. Он возникает из идеи ’’гения” у Канта и англичан, вынашивается Гердером и Гёте, будоражит Шатобриана и последующие поколения романтиков. Слава Гойи — тоже своего рода порождение романтического мира.
291
и ведет непрерывную борьбу с внешним миром за свое существование. Перипетии этого сражения и есть жизнь человека, а таинственное нечто — то, что каждый из нас поминутно называет своим ”я”.
Феномен, именуемый ’’человеком”, состоит из множества компонентов, однако, строго говоря, человек — это только его ”я”. Все остальное либо заимствуется нами извне, либо случается с нами. Человека нельзя свести ни к телу, ни к душе. И то и другое — всего лишь механизмы (один — физический, другой — психический), инструменты, данные ему для воплощения своего ”я”, которое стремится не к какому-то абстрактному, туманному и неопределенному, а вполне конкретному, самому что ни на есть реальному существованию. Более того, наше ”я” — не что иное, как желание, необоримая жажда бытия. Итак, ”я” не подпадает под понятия ’’материального” и ’’духовного”, которыми, состроив серьезную мину, так безответственно жонглировала традиционная философия. Для нас имеет значение только то, в чем мы можем убедиться сами, что является достоверным и очевидным. А очевидно то, что наше ”я” — это непреходящее ощущение ’’необходимости быть” в более или менее отдаленной временной перспективе. Таким образом, ”я” не принадлежит ни материи, ни духу. Это не что иное, как проект существования. Однако это намерение, или задача, не является результатом нашего свободного волеизъявления: наше ”я” всегда соответствует тому или иному моменту бытия. Впрочем, нельзя сказать, что человек начисто лишен такого механизма, как ’’воля”, позволяющего ему сопротивляться осуществлению своего подлинного ”я”. Но именно тогда и проступает ужасающая природа нашего ”я”, потому что, даже если мы отказываемся его реализовывать, оно настойчиво напоминает
Франсиско Гойя. Они не хотят.
Лист 9 из серии "Бедствия войны”
292
нам о себе, заявляя о своем праве на существование. Как бы ни были серьезны причины, которые подчас заставляют человека противиться своему ”я”, неизбежным результатом становится чувство внутренней разорванности, превращающее жизнь человека в пытку, постоянное самоистязание.
Итак, ”я” — неоспоримая реальность. Впрочем, это не значит, что оно остается неизменным. Однако изменения — иногда весьма существенные, — которые оно претерпевает, тоже не зависят от нашего волевого усилия. Безусловно, в той или иной степени они — результат нашего жизненного опыта, но в конечном счете носят непредсказуемый и стихийный характер. ”Я” обитает вне сферы наших желаний и осмысленных проявлений воли. Оно действует на уровне, гораздо более глубинном, нежели воля или мышление, и, что совершенно очевидно, являет собой не ’’желание быть таковым”, а ’’необходимость быть таковым”. Проявление ”я” схоже с проявлением воли тем, что носит императивный характер. Однако волевое усилие исходит от нас самих, мы им управляем. Кроме того, за ним стоят те или иные мотивы. ”Я”, напротив, управляет нами, порабощает нашу волю, хотя последняя иногда пытается ценой невероятных мучений ослушаться приказа. Оно требует безоговорочного подчинения, не давая объяснений и не опускаясь до оправданий. Таково наше ”я”, оно является первичной реальностью; все остальное — душа, тело, предметный мир, живая природа, общество — обретает свое бытие лишь через наше ”я”. Вот почему, сказав, что в 1775 году Гойя приезжает в Мадрид, мы, в сущности, ничего не сообщили, ведь реальность, стоящая за этим утверждением, всецело зависит от того, кто именно приехал в Мадрид.
Франсиско Гойя.
Со здравым смыслом или без него?
Лист 2 из серии ”Бедствия войны”
293
Теперь становится ясно, почему многочисленные биографии ничего нам не дают. Их авторы пытаются собрать воедино события, так называемые факты, которые имеют документальное отношение к герою жизнеописания. Однако эти события рассматриваются так, как будто каждое из них существует само по себе и всегда означает одно и то же, независимо от того, чья жизнь стала предметом описания. Иначе говоря, это чисто внешние события, увиденные извне, как они представляются псевдобиографу и читателю. Между тем человеческая жизнь состоит исключительно из событий внутренних. Биографический факт — не просто событие, а кем-то-пережитое-событие, и до тех пор, пока нам не станет понятна личность этого ’’кого-то”, факты будут молчать. Вот почему биография, и историческая наука в целом, в своем теперешнем состоянии являют собой одно из нелепейших изобретений человеческого ума. По счастью, люди не умеют читать по-настоящему и потому, когда видят, например, фразу из биографии нашего великого художника: ’’Гойя приезжает в Мадрид”, — думают, что узнают нечто новое. Я же со своей стороны должен признаться, что не понимаю, что стоит за этим сообщением, и, более того, вовсе не завидую тем, кому все ясно. Слова ’’приехать в Мадрид” не наполнены никаким конкретным смыслом, в них скрыт абстрактный, смутный намек. Их задача — побудить нас к тому, чтобы уточнить высказывание, превратив, таким образом, абстракцию в нечто конкретное, а значит, реальное*. В данном высказывании лишь одно слово требует уточнения — ’’Гойя”. Но биограф не сообщает нам его значение, отчего фраза, на первый взгляд столь прозрачная, оказывается абсолютно непонятной.
Итак, у нас нет другого выхода, как выяснить, кто же такой Гойя, ибо только тогда мы сможем понять, что означал приезд в Мадрид именно для Гойи, а не для кого-нибудь из нас, или для шурина сидящей напротив блондинки, или хоть для целого поезда, набитого пассажирами.
Жизнь принадлежит тому, кто ее проживает, а не тому, кто наблюдает за ней со стороны. В каком-то смысле это похоже на зубную боль. Мастерство биографа состоит в том, чтобы суметь отрешиться от своей точки зрения и отождествить себя с другой личностью, то есть почувствовать чужую зубную боль. Прежде всего, необходимо, чтобы с каждой страницы на читателя смотрело воссозданное с максимальной точностью ”я” героя, потому что, как я уже говорил, ”я” есть первичная жизненная реальность, ”я” — это вообще единственное, что имеет значение, когда речь заходит о жизни.
”Я” всегда принадлежит настоящему. В языке нет другого слова, которое с большей силой выражало бы сиюминутность. Для того чтобы такие
* В качестве аналогии можно привести математические формулы, носящие обобщенный, абстрактный характер. Буквы а, Ь, с и др. — это ’’пустоты”, которые мы должны заполнить точными числами, и тогда формула превратится в конкретный арифметический расчет.
294
Франсиско Гойя. Какое мужество! Лист 7 из серии "Бедствия войны”
выражения, как ’’сейчас”, ’’сегодня”, ”в данный момент”, наполнились смыслом, необходимо наличие некоего ”я”, пишущего или произносящего их. То, чем мы были всего несколько секунд назад, уже не существует и уже не ”я”. Это лишь нечто, происшедшее с нашим ”я”, лишь невнятное эхо, слабо резонирующее в настоящем. В этом отзвуке еще трепещет другой, долетевший из прошлого; так из переклички одного эха с другим рождается непрерывность памяти, которая приводит нас к смутным границам нашего детства. Таким образом, прошлое становится нашей неотъемлемой собственностью, неубывной ношей, которую мы не устаем влачить по жизни и из которой ежесекундно рождается наше ”я”. Но как ни близко нам наше прошлое, его не следует путать с нашим ”я”.
Разница становится очевидной, как только мы продвигаемся еще на один шаг вперед. Мы сказали, что ”я” существует только в настоящем. Однако в каждый момент настоящего мы имеем дело не с чем иным, как с будущим, проявляющимся через экзистенциальную потребность быть, существовать в каждое следующее мгновение. ”Я” неустанно проецирует себя
295
в будущее, стремясь к тому, чего еще нет, опережая сосуществующую с ним реальность. Вот почему оно всегда предшествует любому событию нашей жизни. По этой же причине наше рождение — лишь история, которую мы узнаем от других, а никак не событие нашей жизни.
В свою очередь, будущее — это океан возможностей, из которых мы выбираем одну, не имея, впрочем, никаких гарантий ее успешного осуществления. Ведь будущее соткано из неопределенности: выбранная, но еще не реализовавшаяся возможность и есть наше ”я”. Не успев осмыслить свое настоящее, оно сразу же устремляется в будущее и уже оттуда возвращается в настоящее, чтобы, наконец, обратить внимание на окружающие его обстоятельства и отпечатать на них свой замысловатый оттиск, состоящий из бесчисленных потребностей и желаний. Обстоятельства могут отреагировать благосклонно или враждебно, способствуя или препятствуя осуществлению устремленного в будущее ”я”. Когда нашему ”я” удается вписаться в обстоятельства, совпасть с ними, мы испытываем удовольствие, превосходящее многие мелкие радости жизни, наслаждение столь полное и всеобъемлющее, что ему трудно найти определение. Обычно мы называем его счастьем. Напротив, когда среда — тело, душа, общество, окружающий мир — сопротивляются осуществлению нашего ”я” и возводят на его пути многочисленные препятствия, нас охватывает столь же всепоглощающее раздражение, происходящее из невозможности быть тем, кем мы на самом деле являемся. Такое состояние мы называем несчастьем. Однако бытующие в разговорной лексике выражения ”я счастлив” и ”я несчастлив” не совсем точны. Следовало бы говорить: ”Я — счастье” или ”Я — не-
Франсиско Гойя.
Они не знают пути.
Из серии "Бедствия войны"
296
счастье”, ибо человеческая жизнь не что иное, как амбивалентная субстанция ’’счастье — несчастье”. Остальное вторично. Все наши действия и мысли (которые тоже есть действия) направлены либо на то, чтобы достичь счастья, либо (что, по сути, одно и то же) — избежать несчастья.
Для счастья невозможно найти никакого уточняющего определения, так как его границы полностью совпадают с границами нашего ”я”. Счастье — это совпадение нашего ”я” с обстоятельствами. Каждую секунду своей жизни человек как бы сводит дебет и кредит, пытаясь уловить степень этого совпадения, подвести баланс. Последний проявляется через определенные действия или слова, которые дают нам ключ к потаенному ”я” человека. Таким образом, ”я” подобно четкому, объемному оттиску, который личность оставляет на обстоятельствах.
”Я” так же многогранно и разнообразно, как сама жизнь. А жизнь, как показал Дильтей, принципиально неоднозначна, она сопротивляется сведению к какому бы то ни было единству. Вот почему, сколько живем, мы не устаем повторять: ”С одной стороны... с другой стороны...” Конечно, многие черты присущи всем людям в равной степени, по крайней мере тем, кого мы называем нормальными людьми, и нет нужды говорить о них особо. Например, не подлежит обсуждению, что каждый нормальный человек стремится быть здоровым. Однако в трех исключительных случаях этот факт может привлечь наше внимание: когда болезнь нарушает привычное течение жизни; когда забота о здоровье превращается в навязчивую идею, манию; и, напротив, когда пренебрежение к собственному здоровью ведет к неразумному прожиганию жизни.
Франсиско Гойя. Хищный зверь.
Лист 76 из серии "Бедствия войны”
297
Франсиско Гойя.
Правда умерла.
Лист 79 из серии ”Бедствия войны”
Другая существенная часть нашего ”я” зависит от общественной среды, в которой человек рождается и живет. Речь идет о свойствах, присущих всей нации, определенной социальной группе или исторической эпохе, к которой принадлежит та или иная личность. Многие из них мы принимаем как нечто само собой разумеющееся, другие же требуют особого разговора.
4
[ПРИЗВАНИЕ ГОЙИ]
Попытаемся выяснить, какова же реальность, скрывающаяся за легендой, именуемой ’’Гойя”. Каков настоящий Гойя? Однако по силам ли кому-нибудь такая задача? Ведь человеческое ”я” — сокрытый ото всех тайник, который недоступен порой даже для нас самих. Не ставим ли мы перед собой цель, заведомо утопическую? С другой стороны, ”я” постоянно влияет на окружающие обстоятельства, пытается подладить их под себя. Таким образом, на реальности должен неизбежно отпечататься его облик. Не может быть, чтобы не нашлось хоть какой-нибудь возможности заглянуть в его сокровенные глубины или хотя бы уловить некоторые его черты.
Конечно, нам придется проявить известное умение, чтобы из всех событий, составляющих жизнь человека, из его хороших и дурных поступков, как, впрочем, и из их отсутствия, извлечь то, что определяет его ”я”.
298
Франсиско Гойя. Вот Истина.
Лист 82 из серии "Бедствия войны"
Итак, нам известно, что некто Франсиско Гойя в начале 1775 года обосновался в Мадриде. Что он за человек? Прежде всего, художник, и совсем не в том смысле, что Гойя — это человек, который ко всему прочему еще и занимается живописью. Речь идет о другом: Гойя изначально и принципиально мыслит себя художником, живопись составляет его сущность, жить и писать для него — синонимы. Возможно, в этом он ничуть не отличается от своих современников, которые, как и он, чувствовали призвание к живописи. Сосредоточимся на понятии ’’призвание”, ведь ”я” человека и есть его призвание, которое иногда в большей или меньшей степени совпадает, а иногда и вовсе не совпадает с его профессией. Что касается Гойи, того самого Гойи, который в 1775 году приехал в Мадрид, то в нем мы находим полное совпадение одного с другим. Надо сказать, что это утверждение, безусловно верное в отношении Гойи, неприменимо, например, к Веласкесу, и мне не совсем понятно, на чем основывается общепринятое мнение, что Веласкес, как и Гойя, был истинным художником. К сожалению, нам плохо известна жизнь других художников времен Гойи, однако маловероятно, чтобы кто-нибудь из них являл пример такого полного и всеобъемлющего слияния личности и призвания. Будет точнее сказать, что не Гойя имел призвание, а призвание всецело владело им. Позже станет понятно, что речь идет о состоянии, подобном тому, когда в человека вселяется дьявол вдохновения. Трудно найти другого художника, столь неразлучного с мольбертом, листом бумаги, поверхностью стены, медной пластиной или литографическим камнем. Неудивительно, что история живописи не знает наследия, превосходящего по своей обширности то,
299
Франсиско Гойя.
Летящие люди.
Лист 12 из серии "Диспаратес ”. 1815—1824
что оставил нам Гойя. Последнее замечание весьма существенно для понимания Гойи, его жизни и творчества. Настанет день, когда в историографии утвердится численный метод, и какой-нибудь исследователь подсчитает часы, которые Гойя посвятил своей работе. Тогда станет ясно, насколько мало времени у него оставалось на то, чтобы предаваться пресловутым развлечениям: пьянствовать, волочиться за женщинами, участвовать в корридах, веселиться в обществе гуляк и голодранцев, тягаться в искусстве фехтования со случайными противниками во время ночных стычек, ухаживать за герцогиней де Альба — и прочим порокам, из которых, по общему мнению, сплошь состояла жизнь Гойи.
Франсиско Гойя.
Из серии офортов ”Диспаратес”, лист 2
300
Франсиско Гойя.
Завязаны в мешки.
Лист 8 из серии ”Диспаратес"
Конечно же, Гойя был не только художником. Было бы по меньшей мере странно, если бы он не имел других интересов, кроме профессиональных. Последние тоже заслуживают внимания, так как являются частью человеческого ”я”, но в сложном архитектурном плане личности это лишь маленькие внутренние дворики, обнесенные могучими стенами призвания.
Таким образом, избитая истина, послужившая мне отправной точкой, оказалась далеко не так невинна и проста, как могло показаться вначале. С ее помощью мы постепенно подготавливали позиции, чтобы дать решительное сражение легенде о Гойе. Впрочем, складывать оружие еще рано.
Франсиско Гойя. Другие законы для народа.
Лист 21 из серии "Диспаратес” ( дополнительный )
301
Франсиско Гойя. Пляшущий глупец. Лист 4 из серии "Диспаратес”
Итак, дабы избежать ошибочных суждений о Гойе и его творчестве, важно с максимальной точностью определить значение слова ’’Гойя”. Единственно верным можно считать лишь то, которое это слово имело для самого Гойи. Следовательно, мы должны попытаться увидеть Гойю изнутри. Позволю себе заметить, что до сих пор никто не задавался такой целью. Данная точка зрения отличается от общепринятой, так как отождествляет позицию субъекта с позицией объекта. Подобное новшество требует определенного усилия как от читателя, так и от автора, которые должны отказаться от привычного видения вещей. Задача непроста, но таково настоятельное требование самого объекта исследования, каковым является человеческая жизнь. В качестве предмета для изучения она ничем не отличается от любого другого, за одним-единственным исключением: помимо того, что она обладает объективным бытием, она являет собой определенную точку зрения. Если подойти к биографии с такой меркой, то она сразу теряет приятную необременительность простого перечисления и превращается в сложный аналитический процесс, своего рода алгебру человеческой жизни. Исчезает та раздражающая легкость, с которой складываются человеческие судьбы под пером биографа, в то время как жизнь, даже самая
302
благополучная, по грубоватому, но точному определению Гойи, — всегда клизма.
Гойя — это его ”я”, это то, что настоятельно требовало своего осуществления. В свою очередь, ”я” — выстрел, направленный в будущее, мишенью для которого служит определенный план, проект существования. Трудно себе представить, чтобы на протяжении всей жизни человека прицел не поменял свой угол хотя бы на несколько градусов. В таких случаях мы говорим, что человек изменился или что он ’’стал другим человеком”.
Тогда-то нам и приходится разбивать жизнь человека на этапы или периоды, строго в соответствии с глубинными изменениями его ”я”.
5
[’’ЧЕЛОВЕК ТВОРЯЩИЙ”]
Теперь попытаемся понять, что представлял собой этот провинциал, въехавший в начале 1775 года в Мадрид через Пуэрта-де-Алькала. Как я уже сказал, по роду занятий он художник. Более того, он полностью соответствует образу художника, прочно утвердившемуся в сознании эпохи, во всем, что касается не только профессии, но и жизненного уклада. Гойя — типичный представитель средних слоев провинциальной буржуазии, которая в Испании тех лет отличалась грубыми манерами, непритязательным вкусом, крайней необразованностью и невероятной узостью мышления. Как художник и личность, Гойя черпал знания из общедоступных источников, а значит, ничем не отличался от окружающих его людей — той социальной среды, которая его питала и формировала.
И тем не менее Гойя — первый художник Испании. Чтобы соотнести одно с другим, необходимы некоторые пояснения, без которых невозможно понять, как прожил Гойя первые несколько лет в Мадриде и как складывалась его дальнейшая судьба.
Можно предположить, что появился некий могущественный покровитель, который помог молодому Гойе получить столь ответственный заказ, как роспись свода собора Святой Девы дель Пилар. С другой стороны, совершенно очевидно, что церковный капитул не стал бы рисковать. Итак, должно быть какое-то объяснение тому факту, что выбор пал на художника столь незрелого. Существующие документы отражают сомнения, которые испытывал Совет мануфактуры на сей счет. В частности, выдвигается требование, чтобы Гойя представил несколько эскизов на рассмотрение Королевской академии художеств. Это происходит 11 ноября, но уже 27 января следующего, 1772, года Совет заявляет: ’’Художник Гойя представил эскиз росписи свода собора, о коем эскизе господа члены Совета уже были наслышаны, и каковой являет собой образец высшего мастерства и изысканного вкуса. В отмену своего прежнего решения о представлении означенного эскиза на суд Королевской академии, Совет постановляет одобрить его и начать работы”. Таким образом, Совет дает понять капитулу, что
303
дальнейшие проволочки нежелательны. ’’Поручительство” могло исходить только от одного человека — Франсиско Байеу, который к тому времени уже снискал славу первого художника арагонской школы и был хорошо известен в Мадриде. Мнение Байеу было равнозначно мнению самого Менгса и всей Королевской академии. Очевидно, не случайно примерно в это же время Гойя официально объявляет себя учеником Байеу*.
Первая удача оказалась решающей, так как повлекла за собой два других не менее ответственных заказа, которые Гойя получил в 1772 и 1775 годах — настенные росписи в монастыре Аула Деи и в фамильной молельне графов Собрадьель. Сомневаюсь, чтобы в то время в Сарагосе существовали предложения более лестные, и прошу заметить — ив том и в другом случае предпочтение было отдано Гойе. Последний прекрасно понимает, какие выгоды сулят ему эти заказы, как, впрочем, и статус ученика и друга братьев Байеу, поэтому с благодарностью принимает все, что посылает ему судьба, и пока не помышляет ни о чем другом.
Заказы, с которых (по крайней мере, с нашей точки зрения) начинается карьера Гойи, полностью соответствуют взглядам той эпохи, когда труд художника сводился преимущественно к религиозной живописи. Вот почему Гойя будет считать, что одержал окончательную победу и превзошел всех своих коллег, лишь 13 лет спустя, когда его полотно ’’Святой Бернардин Сиенский” завоюет первое место на конкурсе Святого Франциска. Таким образом, десятилетие, пролегающее между 1775 годом, когда Гойя приезжает в Мадрид, и 1785-м, когда он добивается первого серьезного успеха, можно считать определенным этапом в жизни художника.
Однако фрески, созданные им в этот период, ни по замыслу, ни по исполнению не выходят за рамки чистого ремесла. Сегодня, глядя на эти работы Гойи с позиции людей, знакомых с его зрелым творчеством, мы подмечаем, как, подобно вспышкам молнии, то тут то там мелькнет неожиданный мазок или слишком смелая линия, словом, нечто, составляющее неповторимую, исключительную особенность его авторского стиля. Но надо признать, что не они определяют суть его ранних творений, они скорее ей противоречат; и в глазах первых зрителей они были не более чем досадной нелепостью, разрушающей художественное целое. А ’’целое” являло собой не что иное, как набор общепринятых приемов, которые необходимо было освоить и которые составляли основу ремесла. Впрочем, к сказанному необходимо добавить следующее: хотя ранние работы Гойи и являются продуктом чистого ремесла, их меньше всего можно считать совершенными именно с точки зрения ремесла. Здесь мы сталкиваемся с противоречием, которое будет сопровождать нас на протяжении всего исследования творчества Гойи и которое очень сложно объяснить: несмотря
*Это происходит во время присуждения ему второй премии Пармской академией. Эстеве Ботей также объясняет получение столь престижного заказа влиянием Франсиско Байеу.
304
на то что Гойя не мыслил себя никем иным, как простым ремесленником, он никогда не был хорошим ремесленником. Как и большинство испанских художников, он был просто неспособен хорошо освоить свою профессию. Тот факт, что очарование живописи Гойи во многом связано как раз с недостатком профессионализма, не должен вводить нас в заблуждение. И дело отнюдь не в пресловутой научной точности, которая сама по себе бесплодна и бессмысленна, а в том, что, не уяснив себе это, мы не сможем понять Гойю. Его деформированный гений, подобно паралитику, влачит свои скрюченные члены и.именно благодаря этой своей неуклюжести совершает головокружительные сальто в искусстве живописи. У меня решительно не укладывается в голове, почему исследователи творчества Гойи не догадываются заглянуть за эту двойную дверь, ведь ошибки, огрехи и недостатки художника составляют живую суть его мастерства ничуть не в меньшей степени, нежели достоинства. Более того, неловкость Гойи, художника по профессии, неотделима от магии Гойи, художника по призванию.
Итак, упомянутые заказы, к которым следует добавить еще несколько менее значительных, например таких, как роспись местных храмов в соседних с Мадридом селениях Ремолинос и Монте де Тореро, заполнили работой три года жизни Гойи. Вряд ли у него оставалась возможность писать что-либо еще, в противном случае в Сарагосе сохранились бы какие-нибудь картины его кисти, и жителям этого города сегодня не пришлось бы приписывать ему несколько эскизов и набросков весьма сомнительного качества.
Гойя находится в самом расцвете своей молодости, и легенда не преминула воспользоваться столь благоприятным обстоятельством, чтобы приписать ему многочисленные похождения и опасные приключения. В самом деле, существует ряд историй, сопряженных именно с этим периодом жизни Гойи. Так, согласно одной из них, причиной переезда художника в Мадрид было не больше не меньше как совершенное им убийство. Интересно, что практически все байки подобного рода обладают одной любопытной общей чертой: они всегда сообщают о некоем чудовищном поступке художника, однако не содержат ни единой конкретной исторической детали, имеющей хоть малейшее отношение к действительности. Так и в этом случае: находясь в Риме, Гойя пытался похитить монашенку и во время похищения убил человека — вот и все, что мы узнаем. Пресловутый авантюризм Гойи, таким образом, оказывается плодом догадок и предположений. Когда же, в виде исключения, история носит более конкретный характер, то сама эта конкретность столь утрирована, что разрушает историю изнутри.
Внимательно изучив жизнь Гойи с 1775 года, мы так и не нашли ни одного хотя бы отдаленного намека на какие-либо приключения или похождения. Если в ней и есть что-либо исключительное, то это ее поразительная обыденность. Впрочем, удивляться тут нечему — такова была жизнь любого человека, посвятившего себя живописи или ваянию. Причину следует искать в неразрывной связи этих искусств с грубым, физическим трудом
305
ремесленника. Необходимость постоянного преодоления материала метит людей этих профессий неизгладимой печатью мрачности и суровости, какую нечасто встретишь в облике поэта или музыканта.
Также не подлежит сомнению, что с осени 1771 года, когда Гойя возвращается из Италии, и вплоть до переезда в Мадрид весной 1775 года, художник ведет жизнь более чем умеренную. Просто невозможно представить себе, чтобы человек, проводящий большую часть времени за работой в соборах и монастырях, в редкие часы отдыха предавался утомительным и безрассудным развлечениям. Личная жизнь Гойи в этот период заключена в скобки двух важнейших событий: сначала — объявление себя учеником Байеу, а затем, через несколько лет, — женитьба на Хосефе Байеу, его сестре. Все годы, отделяющие одну дату от другой, жизнь Гойи была
Франсиско Гойя. Портрет художника Франсиско Байеу.
1796. Мадрид, Прадо
306
теснейшим образом переплетена с жизнью этой семьи. Достаточно взглянуть на лицо Франсиско Байеу, хотя бы на двух известных портретах кисти самого Гойи, чтобы убедиться, что это был человек властный и суровый, для которого жизнь — прямая, накатанная колея; невыносимый педант, неусыпно следивший за поведением своих родственников и друзей. Даже в 1786 году Гойя все еще побаивается своего шурина и скрывает от него покупку дорогого выезда с парой мулов. Несмотря на то что материальное положение Гойи к тому времени было вполне благополучным, Байеу, видимо, мог счесть такое приобретение сумасбродством — вот откуда эта тяжелая суровость, которой наделил Господина Учителя его родственник и ученик. Другое подтверждение ’’благопристойности” сарагосского окружения Гойи — его дружба с Хуаном Мартином де Гойкоэчеа и Мартином Сапатером. Предположение о том, что, будучи тесно связан с подобными людьми, Гойя тем не менее праздно шатался по улицам Сарагосы, предавался кутежам и веселью, представляется полной нелепицей.
За три года художник заработал несколько тысяч реалов серебром, и вовсе не для того, чтобы прокутить их. К концу 1774 года он заканчивает роспись монастыря Аула Деи и получает вознаграждение, которое, вместе с накоплениями, позволяет ему жениться (в начале 1775 года), совершить переезд в Мадрид и на первое время обеспечить себе жизнь при дворе. Какова же причина переезда? Яснее ясного. Господин Менге, тогдашний директор королевской шпалерной мануфактуры, убеждает министров двора привлечь к изготовлению эскизов новых художников, положив им скромное жалование в 8000 реалов, плюс отдельное вознаграждение за каждую работу. Байеу сообщает об этом Гойе и советует ему ехать в Мадрид, дабы не упустить столь блестящую возможность. И действительно, 18 июля 1776 года помимо Хосе дель Кастильо, который был привлечен к работе раньше, на рассмотрение Совета предлагаются кандидатуры Рамона Байеу, Мануэля Наполи и Франсиско Гойи.
Таким образом, через Пуэрта-де-Алькала в Мадрид въезжает не скрывающийся от правосудия убийца, а новоиспеченный муж, совершающий свадебное путешествие вместе со своей ’’Пепой”.
Этот краткий обзор прошлого Гойи был необходим, чтобы помочь нам разъяснить одно недоразумение, которое является определяющим для всей его жизни и особенно для первых пятнадцати лет при дворе. А именно, Гойя в свои двадцать девять лет минует Пуэрта-де-Алькала, уже будучи первым художником Испании.
Тут-то и кроется недоразумение. Теперь, когда нам хорошо известно, что за его спиной осталось больше поражений, чем побед, что престижными заказами он обязан скорее хлопотам своего шурина, нежели собственным заслугам, что другие молодые художники успели опередить его в овладении профессиональной техникой, становится очевидным, что вряд ли Гойя самонадеянно считал себя лучшим из лучших в глазах окружающих, как, впрочем, и окружающие вряд ли считали его таковым. Быть может, где-то в
307
глубине души у Гойи все-таки жила уверенность в том, что именно он, и никто другой, первый художник Испании? Тоже нет. Пытаясь понять, кто что считал, мы совершаем серьезную ошибку, так как рассуждаем всего лишь о мнениях. Задача же состоит в том, чтобы раскрыть некую реальность, которая не имеет ничего общего ни с мнением других о Гойе, ни с мнением Гойи о самом себе. На самом деле в тот момент Гойя был весьма далек от мысли, что его искусство возвышает его над современниками. Он прекрасно понимал, что является всего лишь одним из многообещающих молодых художников. Вот почему первые годы в Мадриде он прилежно работает под руководством Франсиско Байеу. Даже в 1779 году Гойя еще считает необходимым указать, что замысел одной из его картин принадлежит Байеу*.
Однако, как мы уже заметили, человеческое ”я” всегда устремлено в будущее, и лишь оттуда оно оборачивается, чтобы, наконец, заметить настоящее и прожить его. В этом-то будущем Гойя и встречается со своими еще не созданными творениями, и в его душе поселяется уверенность в том, что он превосходит всех современных ему живописцев и непременно будет первым художником Испании. А так как будущее уже существует в настоящем, для Гойи это предчувствие становится непосредственно переживаемой реальностью.
Мне непонятно, почему то, о чем я сейчас говорю, еще не стало общим местом во всех исследованиях, посвященных природе человеческого творчества, а Гойя, по причинам, о которых я еще упомяну, являет собой крайнее проявление феномена, именуемого ’’творческий человек”. Воспользуемся случаем, чтобы порассуждать о столь важном свойстве человеческой природы.
Итак, мы оказались перед противоречием, от разрешения которого невозможно уклониться. С одной стороны, мы утверждаем, что Гойя не помышляет ни о каких нововведениях в живописи, а с другой — что Гойя, предвосхищая свое будущее (а именно это и означает ’’жить” для любого человеческого существа), не может не видеть, что его последующим творениям суждено превзойти все, что рождается под кистью его современников. Попытаемся перекинуть мостик через пропасть, разделяющую эти противоположные постулаты.
Давайте задумаемся над тем странным состоянием, в котором пребывает творец до появления на свет его творения. Вот перед нами великое произведение искусства. Прежде чем приобрести совершенный, законченный вид, оно должно было существовать в качестве образа или идеи в воображении художника. Однако образ или идея не отличаются от готового произведения ничем, кроме того, что находятся в голове художника, а не на
* Письмо Мартину Сапатеру от 9 января 1779 года, отрывок, из которого цитирует Веруете в своей книге ”Гойя-портретист” (Мадрид, 1916, с. 11). Важность подобной ссылки подтверждает и сам Гойя в документе, представленном им совету фабрики дель Пилар в 1781 г.
308
холсте. То есть наиболее существенная часть творения уже содержится в самом замысле. Все остальное — вопрос исполнения, также имеющего большое значение и требующего от мастера определенных способностей. Но оно уже не может считаться собственно творчеством. Вот почему интересно понять, в какой форме творение присутствует в творце еще до того, как обретет вид идеи или образа, то есть постичь предтворческое состояние творца.
Гойя, как мы уже сказали, являет собой предельное воплощение феномена ’’творческого человека”. Мы используем термин ’’творчество” всякий раз, когда видим, что кто-то создает новые формы жизни, будь то в искусстве, в мышлении, в поведении или какой-либо другой сфере человеческого бытия. Степень оригинальности или неожиданности того или иного творения может быть разной. С этой точки зрения ’’коэффициент новизны”, присущий произведениям Гойи, один из самых высоких во всей истории искусства.
С другой стороны, нововведения в творчестве Гойи появляются не сразу и не вдруг, а с поразительной медлительностью и постепенностью. Большинство художников достаточно быстро формируют свой стиль и затем, не внося существенных изменений, по энерции эксплуатируют его всю жизнь. Напротив, в творчестве Гойи мы видим непрерывный ряд ярких вспышек, которые, однако, никогда не сливаются в некое стилистическое целое и не прекращаются с тех пор, как художнику исполнилось тридцать, до самой его смерти в восемьдесят два года. Таким образом, Гойя пребывает в состоянии чистого творчества удивительно долго. Совокупность этих двух факторов (новаторский потенциал, с одной стороны, и невероятная постепенность его реализации, с другой) дает нам исключительную возможность, на примере творческой личности Гойи, понять, если, конечно, подобная цель вообще достижима, что такое жизнь гения.
ФРАГМЕНТЫ
1
[ГОБЕЛЕНЫ]
Гойя работает для Королевской шпалерной мануфактуры шестнадцать лет — с 1775 по 1791 год. К концу этого периода меняются не только его стиль, но и в значительной мере его личность и образ жизни. Чтобы понять, в чем состоят эти перемены, необходимо сначала представить себе, каким был Гойя до них, то есть все те годы, когда он был прикован к своим картонам, как каторжник к галере. Но оказывается, что сведений об интересующем нас периоде жизни художника еще меньше, чем о последующем. Его след теряется в темных, таинственных недрах Мадрида. Более того, кроме эскизов к гобеленам и двух религиозных картин, одна из которых посвящена Святой Деве Марии дель Пилар, а другая — Святому Франциску, мы не знаем ни одного полотна, созданного Гойей между 1775 и 1783 годами. Упомянутые же картины, будучи чистой риторикой, решительно ничего не сообщают нам об авторе. В 1783 году художник пишет портрет Хосе Флоридабланки, который является типичным продуктом эпохи и тоже не добавляет ничего нового. Однако, что очень важно, Гойя ввел в портрет свой собственный образ, по которому можно судить, каким видел себя тогда сам живописец. Перед нами мастеровой, почтительно предъявляющий свою работу знатной и влиятельной особе. Из писем Сапатеру мы узнаем, что это был первый прорыв Гойи в столь избранное общество, и художник возлагал на него определенные надежды. В 1784 году он пишет портрет инфанта дона Луиса и его семьи.
2
[ПОРТРЕТЫ]
Давайте посмотрим на портрет кисти Менгса и спросим себя, что стремится сделать художник с человеческой фигурой? Оставим в стороне тяжелый, свинцовый колорит. Обратим внимание на линии. Сразу же становится ясно, что художник хочет превратить реального человека в существо идеальное. Какова, например, идеальная поверхность? Конечно же, гладкая и отшлифованная, как у полированного металла или керамического изделия, покрытого свежей глазурью. Именно такую идеальную ров-
310
Франсиско Гойя. Портрет Исабеллы Кобос де Порселъ. 1806. Лондон, Национальная галерея
ность придает Менге человеческому телу и одежде. Далее. Окружающие нас предметы обладают той особенностью, что мы никогда не воспринимаем адекватно их физический объем, их телесность. Реальность, которую можно потрогать руками, трансформируется в визуальный образ. Менге пытается передать объемность и глубину фигур так, чтобы каждая точка занимала точно выверенное место в трехмерном пространстве. Естественно, при таком подходе неповторимый облик вещей и людей занимает художника меньше всего, в результате картина почти утрачивает сходство с реальностью. Основная цель — изобразить на полотне ’’красивые” предметы и сделать это с максимальной ясностью, без каких-либо намеков или загадок для зрительского глаза. Под ’’красивым” в данном случае понимается ’’пластическое, идеальное”, скажем, поверхность и освещение.
Если отвлечься от индивидуальных особенностей стиля Мейгса или любого другого художника его эпохи и извлечь сердцевину, суть подобной манеры письма, то перед нами окажется итальянская живопись, которая всегда только и делала, что изображала ’’красоту”, то есть идеализированную телесность. Зарождение живописи в Италии совпадает по времени с началом раскопок античных статуй. Эти мраморные мощи вызвали тогда всеобщее воодушевление. Таким образом, живопись избрала себе в качестве образца скульптуру. Другими словами, начиная с Джотто, итальянская живопись поглощает скульптуру и на протяжении, всей своей истории так и не может исторгнуть ее из своего чрева. Она стремится втиснуть в двухмерную плоскость полотна все три измерения пространства, передать в зрительном образе объемность физического тела. Джорджоне и Тициан пытаются направить живопись по другому руслу, но творчество Тинторетто навсегда делает Венецию пленницей ’’объемного” стиля.
Сказанное поможет нам понять, насколько серьезны перемены, происходящие в творческой манере Гойи к 1790 году.
Сравните портрет Флоридабланки (1783) с любым, который Гойя пишет, начиная с последнего десятилетия XVIII века, будь то портрет маркизы де Эспеха или маркизы де ла Солана, тенора Мокарте или портрет женщины, значащийся в каталоге Майера под номером 505, и т. д. В первом случае торжествует светотень, подчеркивающая объемность. Значит, Гойя еще всецело зависит от своего окружения и рабски подчинен господствующей школе живописи.
Картины же, созданные после 1790 года, совсем иного рода. Живопись перестает быть объемной’и становится ’’плоскостной”, термин, возможно, не вполне подходящий, но передающий мою основную идею — отсутствие объемности. Вместо глубины третьего измерения появляется нечто новое — измерение иронической мистификации. Если раньше живопись стремилась при помощи двух измерений изобразить три, то теперь она ставит перед собой иную задачу — пропитать третьим измерением другие два, подчинить его законам плоскости. Живопись продолжает говорить о том же, но на другом языке, она порывает с воспоминанием об осязательных
312
Франсиско Гойя. Портрет семьи короля Карла IV.
Фрагмент. 1800. Мадрид, Прадо
Франсиско Гойя. Портрет дона Мануэля Озорио де Зунига.
Ок. 1788. Нью-Йорк, Музей Метрополитен
ощущениях и сосредоточивается на чисто визуальном образе объекта. А так как область зримого — это мир призраков и химер, то ими, по сути, и становятся портреты Гойи.
Читатель, должно быть, отдает себе отчет в том, что о некоторых вещах мы можем иметь только зрительное представление — таковы, например, небо, солнце, луна, звезды. Если поставить перед собой цель определить расстояние до неба или до какой-нибудь из его частей, задача окажется невыполнимой. Расположение неба по отношению к человеческому глазу, как и взаимное расположение небесных тел, принципиально неопределимо. То же самое относится к области видений и призраков.
При сравнении ’’плоскостной” живописи Гойи с любым портретом Мейгса становится ясно, что там, где у первого царит идеальный порядок во взаимном расположении частей картины, у второго все шатко и неопределенно. Эта геометрическая неточность неизбежно придает фигурам некую зыбкость, как если бы они то приближались, то удалялись. Конечно, с ’’академической” точки зрения картины Менгса являют нам предмет во всей его осязаемой очевидности, ни в чем не обманывая наш глаз. С самого первого момента в картине присутствует все. В портретах Гойи, напротив, объект никогда не явлен нам целиком. В первую секунду наш взгляд выхватывает некий смутный облик, который мы затем начинаем рассматривать и от которого никак не можем оторваться, ибо Гойя никогда не предлагает нам законченное целое. Полнота присутствия (идеал итальянской живописи) в результате почти полностью лишает реальный объект живого содержания, превращая его в схему. Гойя пытается изобразить фигуру так, как если бы она только что возникла перед нами, подобно призраку или видению. Веласкес эволюционирует в том же направлении, вот почему в его живописи гораздо больше живописи, то есть искусства чисто визуального, нежели в тех произведениях, что стремятся подражать скульптуре. Думаю, когда Гойя говорил о решающем влиянии, которое оказал на него Веласкес, он прежде всего имел в виду самое понимание сути живописи, ее неизбежной ’’плоскостной” природы, а не какие-либо другие, более частные заимствования.
Замечено, что эффект, производимый на зрителя любым хорошим портретом, принадлежащим кисти испанского художника, сродни удивлению или даже потрясению. Мне не раз приходилось видеть, как люди, живущие на севере и потому менее привычные к нашей живописи, испытывали внезапный шок, который, если сгустить краски, можно было бы назвать испугом. В самом деле, хороший испанский портрет — это призрачное порождение игры света — независимо от того, кто на нем изображен, содержит в себе первобытный, почти мистический драматизм, восходящий к изначальной сути драмы, которая состоит в переходе от отсутствия к присутствию. Фигуры на такой картине вечно разыгрывают спектакль своего первого появления, и в этом они подобны призракам. Они так никогда и не найдут себе места в нашей реальности, никогда не обретут
315
четких очертаний, но всегда будут пребывать на полпути от небытия к бытию, от отсутствия к присутствию.
Не подошли ли мы, наконец, к тому порогу, от которого следует отсчитывать эволюцию Гойи после 1800 года и за который я не стану переступать? Плоскостная живопись, избравшая свет в качестве единственного исходного материала, освобождает карандаш от его торжественной и церемонной скованности и выводит напрямую к импрессионизму. Гойя, опираясь на опыт Веласкеса, создал великие законы каллиграфии, определившие почерк живописи в течение всего XIX и начала XX века.
3
[”ДОМ ГЛУХОГО”]
Среди множества существующих подходов к пониманию творчества художника есть один, с которого всегда следовало бы начинать. Однако, как это ни странно, его почти не используют. Он состоит в том, чтобы рассматривать творчество художника в его целостности, выделяя характер-
Франсиско Гойя.
Сатурн, пожирающий людей.
Деталь фрески из "Дома Глухого"
316
ные черты, его отличающие. Нас не интересует целостность как простая сумма составных частей, для чего было бы достаточно изучить каждую в отдельности, а потом просто соединить все впечатления вместе. Наоборот, речь идет о попытке раскрыть в каждом произведении те черты, которые позволят понять общий смысл всего творчества. Только так мы сможем понять художника, и ни одно из его произведений, взятое в отдельности, сделать этого нам не позволит.
Начнем с того, что попытаемся проанализировать творчество Гойи, исходя из самого простого и первичного признака. Оставим пока в покое все прочее и обратимся к тому, что роднит сюжеты Гойи с темами, которые разрабатывали его современники. Даже если бы не было иных причин, достаточно обратить внимание на тот простой факт, что оригинальные сюжеты в творчестве Гойи появляются лишь во второй половине его долгой жизни, то есть после 1793 года. Для понимания феномена Гойи сей факт имеет первостепенное значение: нельзя ограничиться его простой констатацией, более того, беспрестанно повторяя, что развитие Гойи протекало очень медленно, мы затушевываем его, лишая остроты восприятия. Подчеркивая, что Гойя прошел долгий путь, прежде чем стать тем Гойей, который нас интересует, мы все же обязаны попытаться разобраться в том, что же представлял собой тот прежний Гойя, становление которого затянулось на сорок лет. Давайте попробуем избежать самообмана, коим обычно страдают биографы, когда, только приступая к книге, они уже знают, чем она закончится, и когда в начале жизненного пути героя отчетливо просматривается его финал. В случае с Гойей эта порочная практика использовалась достаточно широко. Характерные особенности его творчества последних лет жизни, наиболее важные и отчетливо выраженные, самые безумные из его идей начинают, нарушая естественный ход времени, проявляться как бы
Франсиско Гойя.
Старики за похлебкой.
Деталь фрески из "Дома Глухого"
317
в обратном порядке, берут истоки в старости и устремляются в молодость, буквально наводняя собой всю биографию художника. Но кажется, будто сама судьба наказывает авторов подобных биографий: каждый новый документ, свидетельствующий о жизни и творчестве Гойи, заставляет датировать более поздним сроком события и картины, которые датировались тридцатью годами раньше. Недавняя находка — лучший тому пример. Речь идет о купчей бумаге на знаменитую виллу на Мансана-ресе, где, как предполагалось, Гойя жил по крайней мере с 1808 года. Теперь же выясняется, что он не мог приобрести ее ранее конца 1819 го-
Франсиско Гойя. Процессия в Сан Исидро.
1820—1823. Фрагмент фрески из "Дома Глухого"
318
да*. Более того, переехать туда он смог лишь в последней трети 1820 года, так как весь предшествующий год он болел, да и поместье перестраивалось. В 1824 году он покидает Исцанию и переезжает во Францию. Так что все фантастические события, связанные с ’’Домом Глухого”, должны уместиться в три с небольшим года, а загадочные ’’черные” картины на стенах дома, оказывается, написал дряхлый старик, почти потерявший зрение.
4
[РЕМЕСЛО ХУДОЖНИКА]
Писать картины, в конечном счете, можно только руками. К сожалению, сия прописная истина редко приходит в голову. Художник делает вещи своими руками. Всю свою жизнь он ведет непрестанную борьбу с материальными предметами, не выходя за поставленные ими границы, и подчиняется строгой и унизительной дисциплине, предписанной этими неумолимыми границами. Философ манипулирует идеями. Они не оказывают сопротивления, и их можно как угодно комбинировать и изменять. Без самодисциплины философ запутается. Его труд окажется безответственным, самонадеянным и никому не нужным. Поэтому мыслитель, даже равного художнику уровня, непременно должен ясно осознавать, что он делает. Художник же, напротив, этого не осознает, да от него это и не требуется. Неподвластная сущность материи, оказываясь под руками художника, начинает вдруг как бы заменять собой отсутствующее сознание. Поэтому художник больше проявляется в своем произведении, чем мыслитель. Но стоит его рукам оставить полотно, кисть, резец, глину или мрамор, он начинает походить на глупца, лишенного разума. Художник, стоящий перед своей картиной и рассуждающий о живописи, представляет собой грустное зрелище. Складывается впечатление, что не он, а картина обладает умом. Но это значит лишь одно: интеллект художника устроен иначе, чем интеллект мыслителя. Другими словами, перед нами не что иное, как два разных типа людей.
Правда, в рассуждениях о художнике следует учитывать его ремесленную природу, которой он живет и которая определяет все его существо. Ремесленник, изготавливая предметы утвари, применяет традиционную и довольно простую технику, внося в нее лишь некоторые незначительные изменения. Чтобы такой предмет обрел художественную форму, отвечающую духу времени, требуется прибегнуть к более утонченной и разнообразной технике, которая часто создается ad hoc. Так ремесленник становится мастером. Плотник — совсем не то же самое, что краснодеревщик, кузнец — не золотых дел мастер. Однако известно, что в ювелире живет кузнец,
♦Sanchez Canton. Como vivid Goya, 1946.
319
Франсиско Гойя. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года.
1814. Мадрид, Прадо
Франсиско Гойя. Девушка с кувшином. Ок. 1812. Будапешт, Музей искусств
Франсиско Гой я. Деревенский бой быков. Ок. 1800. Мадрид, Академия Сан Фернандо
Франсиско Гойя. Прыжок с гаррочей Хуанито А пиньяни.
"Тавромахия”, лист 20
а в краснодеревщике — столяр. И наконец, художник изобретает эстетическую форму, но воплотить ее он может только как мастер. Таким образом, мы создали шкалу: ремесленник — мастер — художник, каждая последующая ступень которой не только сохраняет в себе предыдущую, но и реализует ее на более высоком уровне. Казалось бы, живописец всегда занимает последнюю и самую значительную из этих ступеней, но большинство художников и в своих произведениях, и в поведении не перестают быть мастерами.
5
[ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ]
Когда я читаю в книге Майера, что ’’интеллектуальный уровень и духовные запросы Гойи следует считать очень высокими”*, я начинаю колебаться, считать ли это выражение слишком расплывчатым и неоп-
*Л. L. Mayer. Francisco de Goya. Barcelona, 1925. C. 33; перевод на исп. яз. Мануэля Санчеса Сарто. У меня нет под рукой немецкого издания, и, возможно, имеется некоторое расхождение меэйду оригиналом и переводом.
324
Франсиско Гойя. Педро Ромеро убивает стоящего быка.
"Тавромахия”, лист 30
ределенным (ведь его можно толковать по-разному, и оно, по сути, ни к чему не обязывает), или же, воспринимая его буквально, думать, что оно не только ложно, но полностью устраняет возможность осознать эту столь необычную реальность, которая и есть Гойя. Из его картин стремительно и внезапно, подобно вспышке молнии, рождаются идеи, устремленные к самым сложным и возвышенным вопросам, поднятым человеческим разумом, вопросам, которые до него возникали лишь в поэтическом воображении и философской мысли. Если, пытаясь разобраться, мы начнем с предположения, что Гойя был интеллектуалом, то это снова будет не что иное, как использование принципа virtus dormitiva*.
Более того, я бы осмелился сказать, что если это предположение возобладает, то исчезнет неповторимое очарование, которое охватывает нас при соприкосновении с Гойей и которое пронизывает все остальные чувства, вызываемые его творчеством: это шок, почти всегда испытываемый от двусмысленности его картин, в силу чего наше восприятие превращается в постоянную борьбу с тем, что изображено, и с самим
* Скрытое достоинство (лат.).
325
Франсиско Гойя. "Сапата, слава твоя будет вечна!" Рисунок из серии "Заключенные". Мадрид, Прадо
Франсиско Гойя. Я все еще учусь. 1819—1820. Мадрид, Прадо
собою. Мы не знаем, как оценивать увиденное, хорошо ли это или плохо, значит ли оно одно или же совсем другое, делает автор то, что он хочет делать, или то, что у него выходит само собой; наконец, кто он — непознаваемый гений или маньяк. Если бы наши сомнения рассеялись и мы так или иначе решили бы этот вопрос, то исчезла бы и власть очарования, а вместе с ним и наше чисто личностное удовольствие, а Гойя перестал бы быть для нас тем уникальным явлением в истории искусства, которое зовется Гойя. Но, к счастью, сомнения не проходят, и наше тревожное раздумье не имеет конца, как не имеет его вечная борьба между добром и злом. Момент, когда мы решимся отвергнуть однозначность восприятия, и станет тем моментом, которого ждет Гойя, чтобы еще больше завладеть нами, еще теснее связать нас со своим колдовским миром. Далее читатель увидит, что все сказанное не просто слова, и мы не раз остановимся на этом, но уже более подробно, и даже сможем показать ту особенную линию на картине или рисунке, глядя на которую мы почувствуем все, о чем я сказал.
Я не понимаю, почему искусствоведы не скажут прямо о тех чувствах, которые поневоле испытываешь перед Гойей: он — некая тайна, огромная загадка, которую можно лишь как-то объяснить, но не разрешить. Следует рассуждать не увлекаясь, не торопясь, ни в коем случае не упрощая одного из самых сложных явлений, которые когда-либо появлялись в искусстве прошлого. Эти упрощения уже послужили еще большему усложнению вопроса, потому что к той неясности, что присутствовала в нем изначально, добавилась необходимость избавиться от искажений, запутавших его окончательно. Не понятно, почему искусствоведы не уделяют должного внимания тому, что в произведениях Гойи является очевидной ошибкой, неуклюжестью кисти или ума, явной несуразностью, но ведь если и может чему-либо послужить ’’высокий интеллектуальный уровень” в живопйси, так это лишь дать художнику некоторую уверенность в его усилиях и позволить ему по крайней мере избежать откровенных неудач. Понять Гойю — это не только объяснить, что в нем хорошо, но и одновременно выявить причины того, что плохо. Но гипотеза ’’высокого интеллекта”, не совместимая с промахами Гойи, не позволяет понять истоки его творческих удач — я говорю и о его необычной цветовой гамме, и об изящной грации форм, и о том, как поразительно в его картинах и гравюрах раскрывается магия пластических искусств, таинственность мироздания и ужас человеческих судеб. Ясный и трезвый ум создать подобное бессилен: это вещи, не поддающиеся рациональному осмыслению. Истина в том, что творения Гойи не есть плод его интеллекта, они или грубое ремесло, или порождение сна.
КОММЕНТАРИИ
ВЕЛАСКЕС
С. 18. Возраст, который древние,., считали самым опасным. — Древние римляне делили время жизни человека на пять периодов: детство, отрочество — до 15 лет; юность, молодость — от 15 лет до 30 лет; время полного расцвета сил — от 30 до 45 лет; пожилой возраст — от 45 до 60 лет; с шестьдесят первого года жизни исчислялась старость. Основатель римской империи Октавиан Август родился в 63 г. до н. э., умер в 14 г. н. э. Он, таким образом, перевалил ’’опасный” возрастной рубеж наступающей старости задолго до кончины. В год, когда Ортега-и-Гассет писал свое ’’Введение к Веласкесу”, ему самому исполнилось 60 лет; этим, видимо, вызвана особая чувствительность к сроку жизни Веласкеса.
...Гёте без Веймара. — С Веймаром, небольшим немецким городом, резиденцией герцога саксен-веймарского, связаны более полувека жизни и творчества Иоганна Вольфганга Гёте (1749—1832). В 1775 г. Гёте принял приглашение герцога Карла Августа переселиться из Франкфурта-на-Майне в Веймар и остался здесь до конца своих дней. С Веймаром оказались связаны не только расцвет классицизма, а затем и различные фазы позднего периода в литературной деятельности Гёте, но и его естественно-научные исследования, и многообразная работа на государственном поприще. Герцог, воспитанный в духе ’’просвещенного абсолютизма”, ввел Гёте в круг своих главных советников, позже назначил министром и возвел в дворянское звание. Гёте занимался проведением преобразований в промышленности, финансах, культуре, просвещении маленького герцогства. В то же время обстановка придворной жизни, к участию в которой Гёте обязывали полученные им высокие чины, не раз вызывала его недовольство узостью интересов, затхлой провинциальной атмосферой, неизбежными дворцовыми интригами.
Он высказывал тогда надежды на освобождение от ’’веймарской спячки”. Одной из попыток ’’бегства от невзгод” стало, в частности, путешествие Гёте в Италию в 1786—1788 гг. ’Тёте без Веймара” — это, конечно, ’’мысленный эксперимент” Ортеги с непредсказуемым результатом, попытка создать в фантазии некоего ’’другого” Гёте — по сути, художественный прием, позволяющий обострить восприятие ’’реального” Гёте, как и ’’реального”, а не предполагаемого Веласкеса.
С. 21. Эскориал — королевский дворец с монастырем и усыпальницей, построенный в мадридской провинции в 1563—1584 гг. зодчими Хуаном де Толедо и Хуаном де Эррерой. Снаружи облик дворца (с башнями по углам гигантского прямоугольника выложенных из гранита стен) строг и суров, но интерьеры дворцовых помещений, в том числе библиотеки, украшены росписями, картинами, скульптурой. Собрание живописи Эскориала, в пополнении которого позже сыграли важную роль вкус и знания Веласкеса, уже ко времени приезда художника в Мадрид включало богатую коллекцию работ итальянских, нидерландских, испанских мастеров.
Старший гофмейстер — придворная должность с многообразными обязанностями, включая участие в контроле за придворным церемониалом.
329
Орден Сантьяго — рыцарский орден, основанный в 1164 г. как военная организация с монашеским уставом, по образцу созданного в Палестине в пору крестовых походов ордена храмовников, ставившего целью борьбу с ’’неверными”. Орден был назван в честь апостола Иакова, святого покровителя Испании. Руководство орденом, во главе которого стоял гроссмейстер, с усилением мощи центральной власти в конце XV в. перешло к королю. Во времена Веласкеса для посвящения в рыцари ордена требовалось подтверждение ’’чистоты крови” и знатности происхождения. Знаком рыцарей ордена Сантьяго была красная шпага на груди. Мы видим этот знак в автопортрете Веласкеса, созданном им в картине ’’Менины” (см. с. 16).
Дипломатическая миссия Рубенса. Она была связана с подготовкой условий для мирного соглашения Испании и Англии, которое могло бы положить конец войне между.ними, начавшейся в 1625 г. Рубенс, доверенное лицо инфанты Изабеллы, наместницы испанского короля в Южных Нидерландах, отстаивал попытки брюссельского правительства прекратить прежде всего военные действия в Нидерландах против Республики соединенных провинций (Голландии), получавшей поддержку Англии. Поездка Рубенса в Испанию, которая помогла убедить короля Филиппа IV и его министра Оливареса уточнить выдвигавшиеся ими нереальные прежде условия мира, а затем успешные переговоры Рубенса в Англии способствовали заключению в 1630 г. англо-испанского договора о мире и союзе.
С. 25. ...молчание, которое хранят писатели в отношении Веласкеса. — Это преувеличение автора. Искусству Веласкеса посвящали оды и сонеты испанские поэты М. Гальегос, Э. Вака де Альфаро, итальянец М. Боскини и другие. Альфаро, в частности, называл художника фениксом, который, ’’преодолевая время, живет в веках бессмертным”. Неверно и то, что Кеведо был единственным писателем, чей портрет создал Веласкес. В другом месте сам же Ортега упоминает портрет поэта Гонгоры.
С. 30. Альба-Лонга — древний город в Лации, области к югу от нижнего течения реки Тибр на Апеннинском полуострове. Город возглавлял объединение тридцати латинских поселений и, когда началось постепенное укрепление одного из них, Рима, повел борьбу с ним за преобладание в Лации. При третьем римском царе Тулле Гостилии Риму удалось одержать победу, город Альба-Лонга был присоединен к его владениям, жители получили римское гражданство. Претензии фамилии Сильва на легендарное родство с правителем Альба-Лонги, т. е. попытка возвести древность своих предков дальше в глубину веков, чем это делала даже старинная римская знать, характерны для того времени. Фантастические родословные древа создавали себе порой и аристократы, и королевские династии (такую попытку предприняли, например, в XVI в. некоторые немецкие гуманисты, возводившие род императора Максимилиана I Габсбурга к самому Ною), и целые города (легенды об основании городов за Альпами спутниками троянца Энея, героя ’’Энеиды” Вергилия).
Тератологическое совершенство — сочетание понятий, на первый взгляд, немыслимое: ведь тератология — наука, которая изучает отнюдь не совершенство, а врожденные уродства отдельных органов и целых организмов. Она имеет дело с существами, которых во времена Веласкеса именовали монстрами, чудищами. Текст Ортеги на с. 115 разъясняет его логику: Ортега пишет, что монстры способны поражать (своим резким отличием от всякой усредненности). Но ведь и совершенство поражает своей несравненностью с нормой, со всем привычным. Ортега, таким образом, смело связывает казалось бы далекие друг от друга представления о перле создания и чудовищности, чтобы ярче подчеркнуть необычность, неповторимость природного дара Веласкеса. Мастерство подобных неожиданных смысловых сопоставлений издавна ценилось в испанской интеллектуальной традиции: так, современник Веласкеса, писатель и философ Бальтасар Грасиан называл его приметой
330
изощренности ума и считал обязательным качеством подлинного остроумия. Ассоциации с тератологическим в связи с творчеством Веласкеса у Ортеги не случайны: художник и сам проявлял к нему интерес, о чем свидетельствует созданная им серия портретов придворных шутов — карликов и других ’’монстров”.
С. 32. ’’Сдача Бреды” (в Испании картину часто называют ’’Копья”) — самое крупное произведение Веласкеса 1630-х годов. Это историческое полотно, как и целая серия заказанных другим художникам больших картин, прославлявших победы испанского оружия, предназначалось для украшения загородного королевского дворца Буэн Ретиро. В пору все еще продолжавшейся долгой войны между Испанией и Республикой соединенных провинций (Голландией), которая отвергла зависимость от испанской монархии, Веласкес обратился к событиям десятилетней давности: в 1625 г. испанцам после многих месяцев осады удалось принудить к.сдаче сильнейшую крепость своих противников на севере Брабанта — Бреду. На фоне панорамы с далекими, еще дымящимися пожарищами Бреды Веласкес изобразил момент передачи ключей от крепости ее комендантом Юстином Нассау испанскому полководцу Амбросио Спиноле. Второе название картины связано с лажной ролью, которую играет в ней выразительный контраст в изображении оружия двух войск, победителей и побежденных: он выявляет их чувства в момент церемонии. Копья испанцев гордо взметнулись ввысь, они образуют четкий, стройный ряд, в то время как пики сдавшихся вяло торчат вразброд, зримо отражая подавленное настроение защитников Бреды.
С. 34. Бодегон (исп.) — харчевня, трактир, кабачок, погребок, съестная лавка. Характерные для них сцены повседневной жизни, предметы, обстановку стали изображать в Испании с конца XVI в. в картинах бытового жанра и натюрмортах. Эти произведения, отличавшиеся тематикой от религиозной и мифологической живописи, получили название ’’бодегонов”.
С. 35. Маньеристы — представители маньеризма, одного из течений искусства в Италии и ряде других европейских стран в период Позднего Возрождения. Маньеризм вырос к середине XVI в. из усвоения и повторения приемов (’’манеры”) великих мастеров Ренессанса, но стремился выразить уже иное мироощущение, ’’превзойти натуру”, а не ’’подражать” ей, и потому порывал с ренессансными идеалами и стилистикой, обретал антиклассические черты. Для маньеристов были типичны культ холодного виртуозного мастерства, изощренность декора и орнаментики, полное динамики воплощение причудливых и фантастических образов. Главной ценностью стала грация, а не красота. Воздействие придворно-аристократической среды на это искусство делало его, как правило, утонченно-элитарным. Двойственность маньеризма, который и сохранял традиции Возрождения, и отвергал их, преобразовывая на собственный лад, обусловила сложность этого искусства, многообразие его региональных и индивидуальных вариантов при наличии интернациональных общих черт, а также международных расхожих штампов. Расцвет маньеризма был связан прежде всего с придворными центрами — Флоренцией, где правили Медичи, дворцовым строительством по заказам французского короля в Фонтенбло, Мюнхеном в Баварии, Прагой как резиденцией имперской власти Габсбургов при Рудольфе II, но также со школами Гарлема и Утрехта в Нидерландах. Пройдя ряд фаз развития, маньеризм способствовал подготовке новой художественной эпохи, начавшейся на рубеже XVI и XVII вв.
Эпоха барокко. — Так, не вполне точно, часто называют XVII в., хотя искусство этого времени не исчерпывается стилем барокко — он был широко распространенным, но не единственным художественным направлением времени. Наряду с ним существовали классицизм и реалистическая линия, развивался академизм, причем нередко различные художественные тенденции сплетались в творчестве одних и тех же мастеров искусства. Барокко зародился в Италии во второй половине XVI в. и получил разностороннее развитие в различных областях творчества в XVII и первой
331
половине XVIII в. во многих европейских странах. Стиль барокко особенно полно выразился в архитектуре, где с ним связано создание грандиозных церковных сооружений, дворцовых и парковых ансамблей. В живописи, особенно в излюбленной мастерами барокко росписи плафонов, создается иллюзия бесконечности пространства, связи земного и небесного, широко используются эффектные контрасты света и тени, мотивы движения и полные динамики асимметричные композиции. Свои собственные системы барочных приемов были выработаны в музыке, поэзии, скульптуре, других сферах проявления этого стиля.
С. 38. ’’Параживопись”. — Чтобы подчеркнуть второстепенную роль портрета в иерархии жанров, как ее представляли в XVII в., Ортега по образцу ряда общеупотребительных слов с греческой приставкой ’’пара” (’’возле”, ’’около”) создает свой собственный термин. Ниже он аналогичным образом упоминает о ’’парарелигии”.
’’Менины” (исп.). — ’’Фрейлины” — одно из крупнейших живописных созданий Веласкеса. Картина включает в изображение дворцовой сцены портреты короля и королевы в виде их отражений в дальнем зеркале, образ пятилетней дочери королевской четы — инфанты Маргариты, портреты придворных, в том числе шутов, автопортрет самого Веласкеса у холста за работой. Испанское название картины принято сохранять в литературе о Веласкесе, выходящей на других языках.
С. 39. Веризм (от лат. ’’верус” — ’’истинный”, ’’правдивый”) — направление в литературе и оперной музыке XIX в., ставившее задачей близость к натуре. Слово стало нарицательным, и в этом смысле его употребляет Ортега.
С. 41. Либертинаж — вольномыслие, в том числе религиозное.
С. 46. ’’Трактат о живописи”. — Утверждение Ортеги, что то, о чем пишет в этой работе Леонардо да Винчи, теоретизируя о своем искусстве, не имеет никакого отношения к тому, что он делает, — явное преувеличение. Трактат вобрал, в частности, целый ряд натурных наблюдений Леонардо, которые получили отражение в его живописи.
С. 51. Фреска (от ит. ’’фреско” — ’’свежий”, ’’сырой”) — техника росписи, преимущественно настенной, с использованием извести в качестве главного связующего вещества красящих составов.
...доска, обработанная темперой... — Темпера (ит.) — красочный материал и техника живописи. Так называют живопись красками, связующим веществом в которых являются эмульсии из воды и яичного желтка, а также из разведенного на воде растительного или животного клея, смешанного с маслом (или с маслом и лаком). Темпера, известная уже в Древнем Египте, в средние века стала основной техникой иконописи и станковой живописи. Цвет и тон в работах, написанных темперой, проявляют несравненно большую стойкость к внешним воздействиям и дольше сохраняют первоначальную свежесть по сравнению с масляной живописью.
С. 61. Картина ’’Паблильос из Вальядолида”. — Речь идет об одном из портретов придворных шутов с уродливым телом.
С. 63. Рисунки в пещере Альтамира — цветные наскальные рисунки первобытных людей в пещере близ селения Альтамира в северной Испании изображают бизонов, мамонта, кабана, оленей и имеют религиозно-магическое значение.
Таксономия — учение о принципах классификации растений и животных (от греч. ’’таксис” — ’’расположение в определенном порядке” и ’’номос” — ’’закон”).
Историческая кинематика искусства. — Здесь: его историческое движение, развитие.
С. 70. Босоногие кармелиты — члены католического монашеского ордена, основанного в середине XII в. в Палестине и имевшего первоначальный центр на горе Кармель (отсюда название ордена). После переселения ордена около 1240 г. в Европу он был объявлен римским папой ’’нищенствующим”.
По десять лет галер — то есть каторжных работ. Состав гребцов на галерах — старинных гребных судах — набирался из преступников, военнопленных, рабов. Слово стало нарицательным, когда речь шла о каторге.
332
Квартилья — мера жидкости, равная 0,504 л.
С. 73. Нунций (от лат. ’’нунциус” — ’’вестник”) — папский посол или постоянный представитель в ранге посла. Ему полагается совмещать дипломатическое представительство с наблюдением за католической церковью в стране своего местонахождения.
Алькальд — выборный старшина городской или сельской общины, судья.
Со времен короля Бамбы. — Здесь: с достопамятных времен.
С. 74. Реал — старинная серебряная монета; обращалась в странах Латинской Америки, Италии, Португалии и др. с XV в. до 70-х гг. XIX в.
Дублон — старинная золотая монета Испании (чеканилась до 1868).
С. 75. Дукат — старинная серебряная, затем золотая (3, 4 г) монета; появилась в Венеции (1140). Позднее чеканилась во многих западноевропейских странах.
Гондола — узкая, длинная одновесельная венецианская лодка с плоским дном и приподнятыми фигурными носом и кормой.
С. 76. Мориски. — Так называли арабское население, оставшееся в Испании после отвоевания христианами ее территорий, занятых мусульманами. Это отвоевание — реконкиста — продолжалось несколько веков и завершилось в 1492 г. падением Гранады на юге Пиренейского полуострова.
С 77. Коррехидор — глава городского управления в Испании, администратор и судья.
С. 78. Вар — мера длины, равная 835,9 мм.
Грифон — мифическое чудовище, крылатый лев с орлиной головой.
Бригантина — легкое двухмачтовое судно с прямыми парусами на передней мачте и косыми — на задней.
С. 81. Секира — древнее рубящее холодное оружие, топор в виде полумесяца (длиной до 30 см), насаженный на топорище.
Байета — тонкая и редкая шерстяная ткань.
Гранды — в средневековой Испании высшее дворянство (духовное и светское); в XVI—XX вв. (до 1931) гранды — дворянский титул.
С. 82. Литания — молитва у католиков, которая поется или читается во время торжественных религиозных процессий.
С. 84. Биллон — монета из низкопробного серебра.
С. 85. Кабальеро — в Испании рыцарь, дворянин; вежливое обращение — господин.
С. 86. Альгуасил — судебный исполнитель.
С. 88. Капитул — коллегия священников, состоящих при епископе или кафедральном соборе в католической и англиканской церквах; общее собрание членов монашеского или духовно-рыцарского ордена.
С. 90. Портшез — легкое переносное крытое кресло, в котором можно сидеть полулежа.
С. 92. Прелат — в католических и некоторых протестантских церквах звание, присваиваемое высокопоставленным духовным лицам.
Аркебуза — в Западной Европе (XV—XVI вв.) фитильное ружье, заряжавшееся с дула.
Рехидор — член муниципального совета.
С. 96. Католическими королями... — Так называли королевскую чету Фердинанда V — короля Арагона и Изабеллу I — королеву Кастилии.
Святая Германдада — здесь: сельская полиция с судебными функциями.
С. 97. Авессалом — сын второго царя Израиля Давида, славившийся своей красотой.
Ганимед — в греческой мифологии троянский юноша, из-за своей необыкновенной красоты похищенный Зевсом; на Олимпе стал любимцем Зевса и виночерпием богов.
333
Тараска — у древних кельтов — зверь — чудовище, держащее в передних лапах головы мертвецов; змея или дракон, которых в некоторых местах Испании носят в процессии во время праздника Тела Христова.
С. 99. Каноник — в католической и англиканской церквах член капитула.
С. 104. Арроба — единица массы в ряде стран Латинской Америки; в различных странах ее размер колеблется от 10 до 15 кг; единица объема в тех же странах, равная от 12,6 до 40 л.
С. 105. Лига — единица длины в Великобритании и США, равная 3 милям; лига морская — 5,56 км.
Берберия — средневековое название средиземноморского побережья Африки.
С. 106. Безоаровые камни — твердые образования, которые находят в желудках горных коз. Считались противоядием.
С. 108. ...платок Вероники... — По преданию, женщина по имени Вероника дала свой платок Иисусу, тгобы обтереть лицо, когда он шел на Голгофу. На платке появилось ’’нерукотворное” изображение лица Господа.
...во время выборов генерала ордена... — глава ордена иезуитов.
...играть в ауто... — одноактное драматическое представление в Испании и Португалии (в XIII—XVIII вв.) на религиозные сюжеты.
С. 110. В Саламанке разгорелся большой спор между августинцами и тринитари-ями... — Монахи орденов святого Августина и Троицы.
С. 114. Кассандра — в греческой мифологии дочь царя Трои Приама, получившая от Аполлона пророческий дар.
С. 126. Ливийская сивилла — прорицательница, упоминаемая античными авторами.
С. 138. Караваджизм — система художественных средств, характерная для начального этапа становления реализма в европейской живописи XVII в. (интерес к непосредственному воспроизведению натуры, повышенное чувство реальной предметности изображения, активная роль контрастов света и тени в живописнопластическом решении картины и т. д.). Обращение к этим приемам было важной ступенью в творческом развитии многих ведущих мастеров XVII в.
С. 141. Тенеброса — манера живописи с резкими переходами света и тени, когда общий тон тяжел и темен.
С. 145. Пелотари — участник испанской разновидности игры в лапту.
С. 146. Севильская школа — одна из основных художественных школ Испании XV—XVII вв. Стремление к чувственно-достоверной передаче реальной действительности ярко проявилось в конце XVI — первой половине XVII веков (Ф. Эррера Старший, X. де Роэлас, Ф. Пачеко). Характерные черты севильской школы — глубокий драматизм образов, конкретность художественного языка — способствовали расцвету испанского реалистического искусства XVII в. С Севильей было связано творчество Д. Веласкеса (до 1623 г.), Ф. Сурбарана, Б. Э. Мурильо.
С. 161. Кельтиберы — древние племена северо-восточной Испании, образовавшиеся от смешения иберов с кельтами.
С. 164. Сегидилья — испанский народный танец, живой и подвижный по характеру, сопровождаемый игрой на гитаре, пением, звуками кастаньет.
С. 165. Валеры — в живописи и графике оттенок тона, выражающий (во взаимосвязи с другими оттенками) определенное соотношение света и тени. Применение системы валеров позволяет тоньше и богаче показывать предметы в световоздушной среде.
С. 167. Венецианская школа — одна из основных художественных школ Италии, наибольший расцвет пережила в эпоху Возрождения (вторая половина XV—XVI вв.), когда Венеция была богатой республикой, крупным торговым центром Средиземноморья. В живописи венецианской школы нашло художественное выражение осознание полноты и красочности земного бытия, свойственное ренессансному
334
мировоззрению. Для венецианской школы характерны преобладание живописного начала, совершенное владение выразительными возможностями масляной живописи, особое внимание к проблеме колорита.
С. 170. Едва прибыв в Рим, Веласкес пишет портрет своего слуги, мавра по имени Паре ха... — Один из самых привлекательных портретов Веласкеса — его слуги и ученика, мулата Хуана Парехи (1650, Метрополитен-музей). Он отличается спокойной жизненной естественностью и глубокой симпатией, которую живописец выразил к своему помощнику, официально числившемуся у него на положении невольника.
С. 172. Импрессионизм — направление в искусстве последней трети XIX — начале XX в. Сложилось во французской живописи в конце 60 — начале 70-х гг. XIX в. Его представители, сделав системой работу с натуры под открытым небом, вне мастерской, стремились наиболее естественно запечатлеть современную жизнь во всем богатстве ее красок. Во многих картинах импрессионистов (особенно в пейзажах) акцентируется как бы случайно пойманный преходящий момент непрерывного потока жизни, сохраняются сила и свежесть первого впечатления, позволяющие запечатлеть в увиденном неповторимое и характерное. Отдельные черты художественной манеры Веласкеса, прежде всего любовь к легкой игре света и цветных рефлексов на поверхности предметов, были близки импрессионизму. Сами импрессионисты (Моне, Мане, Ренуар) увлекались творчеством Веласкеса и объявляли его своим предшественником.
Пленэр — термин, обозначающий передачу в картине богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе, на основе непосредственного изучения натуры в условиях естественного освещения, с целью возможно более полного воспроизведения ее реального облика.
С. 173—174. ...лучшие французские живописцы сделались самыми пылкими приверженцами караваджизма. — Подразумеваются такие действительно интереснейшие живописцы своего времени, как Валантен Луи де Булонь, Жорж де Латур, Луи Ленен.
С. 176. ’’Севильский водонос” — собственно ’’Продавец воды в Севилье” (см. ил. на с. 37).
С. 180. ...знаменитого ’’Христа”... — Имеется в виду одно из самых известных произведений Веласкеса, ’’Распятие” для монастыря Сан Пласидо (1631—1632, Мадрид, Прадо).
С. 187. ’’Христос, привязанный к колонне”. — Другие названия картины — ’’Христос у колонны”, ’’Бичевание Христа”, ’’Христос и христианская душа” (1631—1632, Лондон, Национальная галерея).
С. 190. ...знаменитый портрет ”Ла Фрага”. — Написан в городе Фрага, во время прибытия Филиппа IV к армии в год испано-французской войны, чем и объясняется изображение монарха в военном костюме розово-красного цвета, отделанного серебряным шитьем, и с жезлом полководца (см. ил. на с. 191).
...кардинал-инфант... — Кардинал-инфант Фердинанд (1609—1641), младший из сыновей Филиппа III.
С. 208. Курбет был ритуальной позой лошади в барочной живописи. — Курбет — прыжок верховой лошади с поджатыми ногами или положение лошади, вставшей на дыбы с согнутыми передними ногами.
С. 236—237. Даты жизни ряда ученых и художников, приводимые Ортегой, в наши дни уточнены. Так, например, в современных изданиях годом рождения испанского художника Педро Орренте указывают не 1580, а 1570, годом смерти не 1627, а 1644 или 1645. Чтобы не нарушать логики Ортеги, мы не вносим исправления в его таблицу поколений.
335
ГОЙЯ
С. 247. ’’Торговец горшками” — собственно ’’Продавец посуды из Валенсии”.
С. 248. ’’Черные картины” Гойи. — Имеются в виду фрески из ’’Дома Глухого”, написанные художником в 1820-е гг.
С. 250. Акватинта — мелхщ гравирования.
С. 253. ...для шпалерной мануфактуры... — Шпалеры — настенные безворсовые ковры-картины, вытканные ручным способом (главным образом из цветных шерстяных, а также шелковых нитей) по красочным картонам, созданным живописцами. В 1776—1780 и 1786—1791 гг. Гойя выполнил для королевской шпалерной мануфактуры свыше 60 панно (картонов для ковров) с насыщенными по цвету и непринужденными по композиции сценами повседневной жизни, труда и праздничных народных развлечений. В отличие от царившего в испанской живописи духа парадной торжественности и рассудочности, картоны Гойи были проникнуты любовью к жизни и естественной красотой.
С. 255. Тореро или тореадор — участник боя быков (корриды).
С. 260. Сайнете — в XVII в. интермедия, ставившаяся между вторым и третьим актами пьесы; с середины XVIII в. — самостоятельная одноактная пьеса из народной жизни, включающая в себя песни и танцы.
Хакара — шуточный романс, в XVII в. исполнялся в интервалах между действиями, а затем, когда его стали петь на два или три голоса, превратился в самостоятельный жанр, приближающийся к оперетте.
Тонадилья — первоначально народная песня; с середины XVIII в. — короткая комическая опера.
Сарсуэла — жанр, близкий современной оперетте, получил название от королевского загородного дворца, где впервые (в 1643 г.) были исполнены такого рода произведения.
С. 262. Лоа — первоначально род пролога, в котором прославлялся тот, кому посвящалась пьеса; с середины XVIII в. — короткая, но самостоятельная композиция, обладающая своим собственным сюжетом; исполнялась, как и ранее, перед основной пьесой.
Похороны Марии Ладвенант... совпали с днем изгнания иезуитов. — Изгнание иезуитов было проведено главой правительства Карла III графом де Арандой после спровоцированного ими в Мадриде восстания в апреле 1766 г. Пять тысяч членов ордена были насильственно вывезены в Папскую область в Италии, а имущество их конфисковано. В 1798 г. иезуиты вернулись, официально их орден в Испании был восстановлен в 1815 г. Затем в 1820 г. во время революционных событий они были вновь изгнаны, а в 1829 г. возвращены и еще дважды изгонялись — в 1835 и 1868 гг.
С. 263. ...манерам махо... — Здесь имеется в виду увлечение образом жизни ’’махос” — мадридского простонародья.
С. 265. ’’Просветители” боролись с грубым щегольством, требовали запрета корриды... — Власти действительно вели наступление на это народное зрелище. В 1754 и 1757 гг. были изданы указы, запрещающие корриду, но практической силы они не имели.
Тирана — народная песня.
С. 266. ...картина 1781 года из храма св. Франциска Великого... — Имеется в виду ’’Проповедь св. Бернардина Сиенского”, которая до сих пор находится в этом храме.
С. 267. ...фрески для собора Святой Девы дель Пилар... — В этом соборе Гойя расписывал купол.
...портрет инфанта дона Луиса... — Инфант Луис Антонио Хайме де Бурбон — младший брат Карла III. Его покровительство имело важное значение для судьбы художника: он ввел Гойю в дома высшей испанской аристократии. Гойя написал
336
в 1783—1784 гг. четыре портрета самого инфанта, четыре — его жены, по одному — дочери и сына, а также групповой портрет семьи инфанта вместе с художником.
С. 270. ...ангелов в церкви Сан Антонио де ла Флорида. — Над росписями в церкви Гойя работал в августе—октябре 1793 г.
С. 282—290. Серия офортов в книге является дополнением к тексту Ортеги-и-Гассета о творчестве Гойи. Открывает серию офортов ’’Капричос” (80 листов, 1797—1798 гг., обнародованы в 1799 г.) заглавный лист с автопортретом, на котором предстает Гойя тех лет — болезненный, настороженный, погруженный в скорбные переживания. За автопортретом, сменяя друг друга, следуют полные сарказма, ужаса, порой отчаяния и ненависти сцены. Одна из тем Гойи — тупость и невежество благопристойных сеньоров. Серию ’’Капричос” (в переводе это слово означает вольную фантазию, игру воображения) отличает острая выразительность линий, контрастов света и тени, обращение к гротеску, аллегории, художественному преувеличению.
С. 292—299. В графической серии ’’Бедствия войны” (82 листа, 1810—1820 гг., изданы в 1863 г. в Мадриде) в строгой последовательности показаны эпизоды герильи (народной войны) против французских интервентов (1808—1814). Каждый лист дополняет драматическое повествование. Для художника важен общий порыв, отвага безоружного народа, свершающего героический подвиг. В серии много массовых сцен. Одна из них — изгнание наполеоновских войск (’’Пернатое чудовище” или ’’Хищный зверь”). Победа не принесла, однако, подлинного мира и успокоения. Гойя создает гротескные образы сил зла. Умерла прекрасная лучезарная женщина-истина, появляются зловещими тенями люди в монашеской одежде (’’Истина умерла”). Зло вновь торжествует.
С. 300—302. В сложной системе мрачных гротескных образов в серии офортов позднего творчества Гойи ’’Диспаратес” (22 листа, 1820—1823 гг., изданы в 1863 г. в Мадриде под названием ’’Пословицы”) преобладает элемент фантастики. Он затрудняет возможность уловить непосредственную связь иносказания Гойи с реальными событиями. Это одна из причин исключительного многообразия трактовок образов Гойи в литературе о художнике.
С. 316—318. Годы перед эмиграцией во Францию Гойя провел под Мадридом на берегу Мансанареса в загородном доме ’’Кинта дель Сордо”, получившем название ’’Дома Глухого” (в начале 1790-х гг. тяжелая болезнь привела художника к глухоте). Росписи на стенах выполнены техникой масляной живописи. Смелые остродинамичные изображения многолюдных масс (’’Процессия в Сан Исидро”) и устрашающие фантастические образы (’’Сатурн, пожирающий людей”) порождены болезненным воображением старого художника, не только глухого, но и начинающего слепнуть.
С. 324—325. Одновременно с последними листами цикла ’’Бедствия войны” художник работал над графической серией ’’Тавромахия” (1815 г., издана в 1816 г. в Мадриде). Гойя воспринимал выступления тореро на арене не только как ловкость и дерзкую отвагу, но и как постоянную опасность, игру со смертью.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Август (до 27 до н. э. Октавиан) (63 до н. э. — 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) — 18, 329
Агреда Сор Мария де (1602—1665), монахиня — 237
Алеман-и-де-Энеро Матео (1547 — ок. 1614), испанский писатель — 160, 236
Альба (полное имя — донья Мария дель Пилар Тересия Каэтана де Сильва-и-Альварес де Толедо) (1762—1802), XIII герцогиня Альба, маркиза де Ви-льяфранка — 263—265, 270, 280, 300
Альбани Франческо (1578—1660), живописец, рисовальщик, декоратор, представитель болонской школы — 237
Альберти Леон Баттиста (1404—1472), итальянский живописец, архитектор и писатель — 177
Альфаро-и-Гомес Хуан де (1640—1680), испанский художник-миниатюрист, ученик Веласкеса, автор жизнеописания испанских живописцев — 173
Ангуло Иньигес Диего (р. 1901), испанский искусствовед — 182
Андреа дель Сарто (собств. д’Аньоло) (1486—1530), живописец эпохи Высокого Возрождения, представитель флорентийской школы — 126
Антоний Падуанский (1195—1231), святой католической церкви, происходил из знатного португальского рыцарского рода — 272, 273
Арминий (1560—1600), голландский теолог — 236
Арриага, испанский философ — 146
Асин-и-Паласьос Альберто, испанский историк — 161
Байеу Франсиско (?—1795), испанский живописец — 280, 287, 291, 304, 306—308
Бароччи Федериго (1535—1612), итальянский живописец — 136, 139, 140, 236
Бассано Леандро (Леонардо) (1557—1622), живописец венецианской школы, сын Я. Бассано — 143
Бассано Франческо (1549—1592), живописец венецианской школы, сын Я. Бассано — 143
Бассано (собств. да Понте) Якопо (ок. 1517—1592), итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения — 143
Беллармино Роберто (1542—1621), итальянский иезуит, теолог и кардинал. Причислен к святым учителям католической церкви — 236
Бёме Якоб (1575—1624), немецкий философ-пантеист — 237
Бенедетто — см. Кастильоне Джованни Бенедетто
Бергсон Анри (1859—1941), французский философ-идеалист, представитель интуитивизма и философии жизни — 5
Бессерра Гаспар (1520—1570), испанский живописец — 236
Боден Жан (1530—1596), французский юрист, философ — 236
Борджани Гораций (1578—1616), художник — 237
Боскини Марко (1613—1678), итальянский художник, гравер, миниатюрист и писатель, автор трактатов об искусстве — 28, 171, 177, 330
Браге Тихо (1546—1601), датский астроном — 236
Брейгель Питер, Старший (между 1525 и 1530 — 1569), нидерландский живописец и рисовальщик — 236
Бриль Пауль (1556—1626), фламандский живописец и график — 236
Бронзино (собств. ди Козимо ди Мариано) Анджело (1503—1572), итальянский живописец, предст. маньеризма — 236
Бруно Джордано (1548—1600), итальянский философ-пантеист и поэт — 236
338
Бэкон Фрэнсис (1561—1626), английский философ — 236
Вагнер Рихард (1813—1883), немецкий композитор, дирижер, музыкальный писатель — 165
Ваккаро (1598—1670), художник — 144, 237
Валантен Луи де Булонь (1594—1632), французский живописец — 146, 237, 335
Валленштейн (Вальдштейн) Альбрехт (1583—1634), полководец, с 1625 — имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне (1618—1648) — 237
Вальдес Леаль — см. Хуан де Вальдес Леаль
Ван Дейк Антонис (1599—1641), фламандский живописец, мастер портретной живописи — 17, 124, 146, 208, 237
Веласкес (собст. Родригес де Сильва Веласкес) Диего (1599—1660), испанский живописец — 5, 8—13, 15—237, 245, 249—251, 255, 299, 315, 316, 329—335
Вёльфлин Генрих (1864—1945), швейцарский искусствовед — 63
Вентура Родригес (1717—1785), испанский архитектор, с 1764 — главный архитектор Мадрида — 267, 279
Верагуа, герцог — титул, присвоенный
Карлом V сыну Колумба Дьего — 262
Верлен Поль (1844—1896), французский поэт-символист — 63
Веронезе (собст. Кальяри) Паоло (1528—1588), живописец эпохи Позднего Возрождения, представитель венецианской школы — 237
Вертмюллер, художник из мастерской Ме-нгса — 267
Вильянуэва Хуан де (1739—1810), испанский архитектор, построивший знаменитый музей Прадо — 267
Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768), немецкий историк и теоретик искусства — 129
Вольтерр Даниель де, художник — 128
Воррингер Вильгельм (1881—1925), немецкий искусствовед — 63
Галилей Галилео (1564—1642), итальянский ученый — 236
Гальярдо Бартоломе Хосе (1776—1852), испанский библиограф и критик — 173
Гарридо Мигель (1745—1807), испанский комический актер и певец, получивший прозвище ’’Короля шутов” — 263
Гассенди Пьер (1592—1655), французский философ-материалист, математик и астроном — 237
Гверчино (собств. Джованни Франческо Барбьери) (1591—1666), живописец,
рисовальщик болонской школы — 144, 237
Гвидо — см. Рени Гвидо
Гельмонт Ян Баптист ван (1579—1644), голландский естествоиспытатель — 237
Генрих IV (1553—1610), французский король с 1589 (фактически с 1594) — 236
Гердер Иоганн Готтфрид (1744—1803), немецкий философ — 252, 291
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель — 18, 252, 291, 329
Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787), австрийский композитор — 265
Гоббс Томас (1588—1679), английский философ — 237
Гоген Поль Эжен Анри (1848—1903), французский живописец, график, скульптор — 167
Годой Мануэль — см. Мануэль Годой Альварес де Фариа
Гойя (Гойя-и-Лусьентес) Франсиско Хосе де (1746—1828), испанский живописец, гравер, рисовальщик — 5, 8—13, 114, 115, 121, 123, 125, 129, 145, 169, 171—173, 239—328, 335—337
Гомер, древнегреческий эпический поэт, автор ’’Илиады” и ’’Одиссеи” — 63, 155
Гонгора-и-Арготе Луис де (1561—1627), испанский поэт — 20, 21, 107, 155, 156, 206, 208, 236
Гонсалес Бартоломе (1564—1627), испанский художник — 236
Гранадина, актриса — 270
Грасиан-и-Моралес Бальтасар (1601—
1658), испанский писатель и мыслитель — 17, 160, 237, 330
Гроций (Гуго де Гроот) (1583—1645), нидерландский юрист, социолог и государственный деятель — 237
Гуссерль Эдмунд (1859—1938), немецкий философ-идеалист, основатель феноменологии — 5
Дамасо Ajiqkcq, испанский литературовед — 157
Декарт Рене (1596—1650), французский философ, математик, физик — 10, 17, 22, 29, 47, 154, 178, 237
Дельгадо Хосе (прозвище Пепе-Ильо) (?—1801), знаменитый тореадор — 270
Джентилески (собств. Ломи) Орацио (1563—1638), итальянский живописец, представитель караваджизма — 144
339
Джонсон Бенджамин (1573—1637), английский поэт и драматург — 236
Джорджоне (собств. Джорджо Барба-релли да Кастельфранко) (1476 или 1477—1510), живописец эпохи Высокого Возрождения, представитель венецианской школы — 312
Джотто ди Бондоне (1266 или 1267—1337), живописец эпохи Проторенессанса — 63, 64, 124, 166, 312
Дильтей Вильгельм (1833—1911), немецкий историк культуры и философ-идеалист, ведущий представитель философии жизни — 5, 297
Диоген Синопский (ок. 400 — ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник, ученик основателя школы киников Ан-тисфена — 138
Доменикино (собств. Доменико Цампьери) (1581—1641), живописец болонской школы — 237
Дон Бальтасар Карлос (1629—1646), принц, сын Филиппа IV и Изабеллы Бурбонской — 45, 165, 189, 190, 193, 225
Дон Хосе Сомоса — 280, 281
Дон Хуан Австрийский (1547—1578), прославленный испанский полководец — 236
Доу (Дау) Герард (Геррит) (1613—1675), голландский живописец — 237
Елизавета I Тюдор (1533—1603), английская королева (с 1558) — 236
Зенефельдер Алоиз (1771—1834), немецкий изобретатель, в 1798 изобрел литографию — 250
Зиммель Георг (1858—1918), немецкий философ, социолог, представитель философии жизни — 5
Изабелла I (1451—1504), королева Кастилии (с 1474) — 333
Изабелла Бурбонская, первая жена Филиппа IV, дочь Генриха IV — 188
Иннокентий X (в миру Джамбаттиста Па-мфили) (1574—1655), папа (с 1676) — 27, 28, 38, 170, 171, 180, 181, 212, 214
Йордане Якоб (1593—1678), фламандский живописец — 237
Ириарте Томас де (1750—1791), испанский драматург, поэт, баснописец — 265
Кавалье (1560—1640), итальян-
ский художник — 236
Калабрезе Кабальеро (1613—1699), художник — 237
Калло Жак (1592 или 1593—1635), французский гравер и рисовальщик, мастер офорта — 146, 237
Кальдерон (собств. Кальдерон де ла Барка) Педро (1600—1681), испанский драматург — 17, 155—158, 206, 237
Кальдерон дон Родриго, государственный деятель — 81, 152, 153
Камбиазо Л. (1527—1585), итальянский живописец, представитель маньеризма — 236
Кампанелла Томмазо (1568—1639), итальянский философ, поэт, политический деятель — 236
Кампильо-и-Коссио дон Хосе де (1693—1744), испанский писатель и государственный деятель — 258, 260
Кано Алонсо (1601—1667), испанский скульптор и живописец, представитель барокко — 17, 25, 60, 65, 121, 123, 142, 173, 197, 204, 237
Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ, основоположник классической немецкой философии — 252, 291
Караваджо (собств. Меризи) Микеланджело да (1573—1610), итальянский живописец, основоположник реалистического направления в европейской живописи в XVII веке—35, 36, 121, 136—141, 143, 144, 167, 173—176, 183, 192, 195, 197, 236, 255
Караччоло Джованни Баттиста (ок. 1570—1638), итальянский художник, представитель караваджизма — 214, 236
Кардучо Висенте (1578—1638), итальянский художник, работавший в Испании (с 1585) — 35, 64, 136, 180, 237
Кардуччи Джозуэ (1835—1907), итальянский поэт — 283
Карл III (1716—1788), испанский король (с 1759)— 129, 336
Карл IV (1748—1819), испанский король (1788—1808) — 314
Карл V (1500—1558), император Священной Римской империи (1519—1556), под именем Карл I — король Испании — 33
Карраччи, семья итальянских художников болонской школы, представители академизма: Лодовико (1555—1619) и его двоюродные братья Агостино (1557—1602) и Аннибале (1560—1609) — 50, 236
Карреньо де Миранда Хуан (1614—1685), испанский живописец — 237
Касобон Исаак (1559—1614), ученый-филолог — 236
Кастильо Хосе дель, испанский художник — 307
340
Кастильоне Джованни Бенедетто (1616—1670), итальянский живописец, рисовальщик, офортист, изобретатель . монотипии — 237
Катулл Гай Валерий (ок. 87 — 54 до н. э.), римский поэт — 183
Кеведо-и-Вильегас Франсиско де (1580—1645), испанский писатель — 25, 135, 159, 206, 237, 330
Кельзен Ханс (1881—1973), австрийский юрист — 62
Кеплер Иоганн (1571—1630), немецкий астроном, математик, физик и философ — 236
Коген Герман (1842—1918), немецкий философ — 5, 6
Кирико Джорджо де (1888—1978), итальянский живописец и искусствовед — 131
Коменский Ян Амос (1592—1670), чешский мыслитель-гуманист, педагог, писатель — 237
Корнель Пьер (1606—1684), французский драматург, представитель классицизма — 237
Корреджо (собств. Антонио Аллегри) (ок. 1489—1534), живописец эпохи Высокого Возрождения — 126, 128, 166
Костильярес Родригес Хоакин, испанский тореадор XVIII века — 265, 270
Котан Хуан Санчес (1561—1627), испанский живописец — 47, 144, 236, 319
Коэльо Атже® Санчес (1532—1588), испанский живописец, портретист — 190, 236
Кромвель Оливер (1599—1658), деятель Английской буржуазной революции XVII века — 237
Кроче Бенедетто (1866—1952), итальянский философ, историк, литературовед, критик, публицист, политический деятель — 160
Крус Кано-и-Ольмедилъя Рамон де ла (1731—1794), испанский драматург — 262, 263, 265, 270
Кунье Жилье (1538—1599), художник — 236
Курциус Эрнст Роберт, немецкий искусствовед, литературовед, культуролог — 159, 166, 190
Ланфранко (1581—1647), итальянский живописец пармской школы — 144, 237
Лар Питер ван (1592—1642), голландский живописец — 237
Ла Тирана (наст, имя Мария дель Росарио Фернандес), испанская актриса — 263, 265, 270, 271
Латур Жорж де (1593—1652), французский живописец — 335
Легот Пабло (1590—1672), испанский живописец — 123, 237
Ленен Луи (1594—1648), французский живописец — 335
Леонардо да Винчи (1452—1519), живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер эпохи Высокого Возрождения — 46, 125, 148, 332
Леонардо Джузеппе, итальянский художник — 208
Леонардо Хосе (1606—1656), испанский живописец — 237
Лили Дуаон (1553 или 1554—1606), английский писатель — 236
Липсий (Липсиус) Юстус (1547—1606), нидерландский филолог, философ и историк — 236
Ломба-и-Педраха Хосе Р., издатель и биограф Гойи — 280, 281
Лопе де Вега (собств. Вега Карпьо, Лопе Феликс де) (1562—1635), испанский драматург эпохи Позднего Возрождения — 33, 63,115,151, 153,155, 159, 164, 226, 236
Лоррен (собств. Желле) Клод (1600—1682), французский живописец и график, предст. классицизма — 17, 146, 237
Луис де Леон (собств. Луис Понсе де Леон) (1527—1591), испанский поэт и ученый — 236
Луна Рита, испанская актриса — 270
Людовик XIII (1601—1643), французский король (с 1610) из династии Бурбонов — 237
Людовик XIV (1638—1715), французский король (с 1643) из династии Бурбонов — 28
Люлли Жан Батист (1632—1687), французский композитор — 265
Мазарини Джулио (1602—1661), кардинал (с 1641), первый министр Франции (с 1643) — 237
Майер Август Л. — 246, 247, 251, 276, 277, 278, 312, 324
Майно Хуан Баутиста дель (1568—1649), испанский живописец — 20, 236
Максимилиан I Габсбург (1832—1867), австрийский эрцгерцог — 330
Малерб Франсуа (1555—1628), французский поэт-классицист — 236
Малларме Стефан (1842—1898), французский поэт-символист — 133
Мане Эдуар (1832—1883), французский живописец — 335
Мансфельд Эрнст (1580—1626), полководец — 237
341
Мануэль Годой Альварес де Фариа (1767—1851), адмирал Испании и обеих Сицилий, глава испанского права в 1792—1808 (с перерывом в 1798—1801) — 279
Маргарита Австрийская (1480—1530), наместница Габсбургов в Нидерландах — 39, 188
Марианна Австрийская, племянница Филиппа IV — 39, 188, 225
Марино Джамбаттиста (1569—1625), итальянский поэт — 236
Мария Луиза Пармская (1751—1819), дочь Филиппа, герцога Пармского, жена Карла IV, королева Испании (1788—1808) — 279
Мария Тереса, ночь Филиппа IV, жена Людовика XIV — 28, 188
Масо (Хуан Баутиста Мартинес дель Ма-со) (1606—1670), испанский живописец — 211, 237
Матисс Анри (1869—1954), французский живописец, график, мастер декоративного искусства — 167
Мединасидониа (1560—1615), герцог, командор ’’Непобедимой Армады” — 236
Мельо Франсиско де (1608—1666), военный — 150—152, 237
Менге Антон Рафаэль (1728—1779), немецкий живописец и теоретик искусства — 13, 129, 171, 172, 200, 221, 253, 267, 279, 281, 287, 304, 307, 310, 312, 315
Менендес-и-Пелайо Марселино (1856— 1912), испанский литературовед, публицист — 115, 116
Менесес Мануэль де, испанский адмирал — 150, 151
Менипп (III в. до н. э.), древнегреческий философ-киник и писатель-сатирик — 43,44
Микеланджело Буонарроти (1475—1564), живописец, скульптор, архитектор, поэт эпохи Высокого Возрождения— 115, 119, 125, 126, 128, 134, 136, 140, 165, 167, 169
Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт, политический деятель — 237
Миревельт (1567—1641), художник — 236
Монтано Ариас (1527—1598) — 236
Мойа Педро де (1610—1666), севильский живописец — 237
Моне Клод (1832—1926), французский живописец — 335
Монтаньес (Хуан Мартинес Монтаньес) (1568—1649), испанский скульптор и архитектор — 210
Монтень Мишель де (1533—1592), французский философ, гуманист — 236
Мор ван Дасхорст Антонис (ок. 1519—1576 или 1577), нидерландский живописец — 190, 236
Моралес Луис де (ок. 1510—1586), испанский живописец, представитель маньеризма — 236
Морето (1618—1669) — 237
Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682), испанский живописец, представитель севильской школы — 50, 121, 141, 146, 237, 334
Наваррете (1526—1579), испанский художник — 236
Наполи Мануэль — 307
Николай Кузанский (в миру Николай Кребс) (1401—1464), философ, теолог, ученый, церковный политический деятель — 242
Ниеремберг Хуан Эусебио (1595—1658), испанский писатель — 237
Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий философ — 5, 6, 164
Новелли Пьер (1603—1647), художник — 237
Овидий (Публий Овидий Назон) (43 до н. э. — ок. 18 н. э.), римский поэт — 182
Оксеншерна Аксель (1583—1654), граф, канцлер Швеции (1612—1654) — 237
Оливарес Гаспар де Гусман (1587—1645), граф, герцог (с 1620), первый министр Испании (1621—1643) — 20—21, 31, 178, 188, 190, 195, 207, 208, 222, 237, 257, 330
Ортега-и-Гассет Хосе (1883—1955), испанский философ, культуролог, публицист и ученый — 5—14, 169, 231, 329—332
Орренте Педро (1570—1645), испанский живописец — 237
Остаде Адриан ван (крещен в 1610—1685), голландский живописец, мастер крестьянского бытового жанра — 237
Паломино (собств. Асискло Паломино де Кастро-и-Веласко Антонио) (1653—
1726), испанский художник, автор жизнеописаний испанских живописцев — 22, 25, 170, 173, 176, 177, 192
Паравичино (1580—1633) — 237
Пареха Хуан (1606—1670), испанский живописец, ученик Веласкеса — 170, 214, 237, 335
Пармиджанино (собств. Маццола) Франческо (1503—1540), итальянский живописец, рисовальщик и офортист, представитель маньеризма — 128, 134
342
Пачеко Франсиско (1564—1654), севильский живописец, теоретик искусства, учитель Веласкеса — 10, 20, 21, 30, 156, 192, 202, 206, 236, 334
Парет Луис, придворный художник — 255
Пелайо — см. Менендес-и-Пелайо Мар-селино
Пепе-Ильо — см. Дельгадо Хосе
Переда Антонио (1608—1678), испанский живописец — 237
Перес Artqwq (1534—1611), испанский писатель — 116, 236
Платон (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ — 7, 50, 53
Плиний Старший (23/24—79), римский писатель, ученый — 195
Поурбус II (1569—1622), художник — 236
Пуссен Никола (1594—1665), французский живописец и рисовальщик, представитель классицизма — 17, 43, 50, 146, 237
Пуччини Джакомо (1858—1924), итальянский композитор, представитель веризма — 265
Пьетро да Кортона (собств. Пьетро Берет-тини) (1596—1669), итальянский живописец и архитектор, представитель зрелого барокко, теоретик искусства — 237
Рафаэль (собств. Раффаэлло Санти) (1483—1520), живописец и архитектор эпохи Высокого Возрождения — 35, 40, 122, 126, 165, 169, 171, 177
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669), голландский живописец, рисовальщик и офортист — 146, 172, 237
Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892), французский писатель, историк религии — 5, 6
Рени Гвидо (1575—1642), живописец, представитель болонского академизма — 237
Ренуар Огюст (1841—1919), французский живописец, график и скульптор — 335
Рибальта Франсиско (1565—1628), испанский художник — 123, 139, 140, 167, 236
Рибера Хусепе де (1591—1652), испанский живописец и гравер — 17, 22, 121, 123, 125, 138, 145, 167, 173, 197, 214, 237
Ригль клоиз (1858—1905), австрийский теоретик и историк искусства — 63
Риси Франсиско (1608—1678), испанский живописец — 237
Риси Хуан (1600—1681), испанский живописец — 237
Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585—1642), кардинал, глава королевского совета Франции — 10, 178, 237
Родригес Вентура — см. Вентура Родригес
Роза Сальваторе (Сальватор) (1615—1673), живописец, гравер, поэт, работал в Риме, Неаполе, Флоренции — 159, 171, 206, 237, 250
Ромеро Педро (1754—1839), знаменитый тореадор — 265, 270, 325
Ронсар Пьер де (1524—1585), французский поэт — 236
Роэлас Хуан де (1558 или 1560—1628), испанский живописец — 236, 334
Рубенс Питер Пауль (1577—1640), фламандский живописец, представитель барокко, в 1600—1608 гг. работал в Италии — 18, 21, 35, 43, 49, 50, 124, 128, 132—133, 134, 135, 146, 159, 165, 173, 211, 214, 228, 231, 237, 250, 330
Рудольф II (1552—1612), император ’’Священной Римской империи” в 1576—1612, австрийский эрцгерцог — 331
Сабатини Франсиско (1722—1793), испанский архитектор и военный инженер — 267
Сакки Андреа (1599—1661), итальянский художник — 237
Саманъего Феликс Мария (1745—1801), испанский баснописец, критик и публицист — 263
Сапатер-и-Клавериа Мартин (?—1801), близкий друг Гойи с молодых лет — 265, 266, 269, 277, 287, 307, 308, 310
Сарачени Карло (ок. 1580—1620), итальянский художник — 144
Сарто — см. Андреа дель Сарто
Сассоферрато (собств. Сальви Д. Б.) (1605—1685), итальянский живописец — 237
Сеан Бермудес Хуан Агустин (1749—1829), писатель, историк искусства — 279, 280
Сезанн Поль (1839—1906), французский живописец, представитель постимпрессионизма — 10
Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616), испанский писатель — 27, 154, 236
Серодине Джованни (1594—1630), итальянский живописец — 144
Сеспедес (1548—1608), испанский художник — 236
Скалигер Жозеф Жюст (1540—1609), французский ученый, гуманист — 236
Скептик Санчес (1552—1632) — 236
Сократ (ок. 470—399 до н. э.), древнегреческий философ — 242
Солис Антонио де (1610—1686) — 237
Сомоса — см. Дон Хосе Сомоса
343
Соррилья Рохас Франсиско де (1607—1648), испанский драматург — 237
Спада Лионельо (1576—1621), художник — 237
Спадаро Микко (Доменико Гарджуло) (1610—1675), итальянский художник — 237
Спинола Амбросио де (маркиз де лос Баль-басес) (1569—1630), полководец, покоритель Бреды — 22, 214, 217, 236, 331
Станционе Массимо (1585—1656), живописец из Неаполя, представитель каравад-жизма — 144, 214, 237
Стесихор (наст, имя Тиси; Стесихор — прозвище, означающее ’’устроитель хора”) (конец VII в. — 1-я пол. VI в. до н. э.), древнегреческий поэт — 155
Суарес Франсиско (1548—1617), испанский теолог и философ — 146, 236
Сурбаран Франсиско (1598—1664), испанский живописец севильской школы — 17, 25, 60, 121, 123, 130, 145, 146, 167, 173, 197, 208, 237, 334
Сустерманс Юстус (1597—1681), фламандский художник — 237
Сю л ли Максимильен де Бетюн, барон Рони (1560—1641), герцог (с 1606) — 236
Тадео (собств. Паломино Тадео), испанский актер II пол. XVIII в., прославившийся исполнением тонадилий — 263
Такка Педро, флорентийский мастер, автор конной статуи Филиппа IV — 153
Тассо Торквато (1544—1595), итальянский поэт эпохи Возрождения и барокко — 236
Тенирс Давид Младший (1610—1690), фламандский живописец — 237
Терборх Герард (1617—1681), голландский живописец — 237
Тереса де Хесус (1515—1582), испанская монахиня, автор мистических сочинений — 236
Тибалъди Пеллегрино (1527—1596), живописец, скульптор и архитектор; работал в Милане и Болонье — 236
Тинторетто (собств. Робусти) Якопо (1518—1594), живописец эпохи Позднего Возрождения, представитель венецианской школы — 35, 125, 128, 134, 140, 165, 231, 237, 312
Тирео де Молина (собств. Габриель Тельес) (1571 или ок. 1583—1648), испанский драматург — 164, 237
Тициан (собств. Тициано Вечеллио) (ок. 1476/77 или 1489/90—1576), живописец эпохи Высокого и Позднего Возрож
дения, глава венецианской школы — 40, 126, 127, 134, 168, 171, 177, 228, 231, 312
Тристан (1586?—1624), испанский живописец — 237
Тьеполо Джованни Баттиста (1696—1770), живописец, рисовальщик, гравер, представитель венецианской школы; работал в Германии, Испании — 121, 132, 171, 253
Тьеполо сыновья: Джандоменико
(1727—1804) и Лоренцо (1736—?), живописцы, работали в Мадриде вместе с отцом — 255
У асе, придворный художник — 255
Унамуно Мигель де (1864—1936), испанский писатель, философ, представитель экзистенциализма — 6
Урбан VIII (Маффео Барберини) (1568—1644), папа римский (с 1623) — 151
Фарнезе Александр (1545—1592), испанский военачальник — 236
Фетти (Фети) Доменико (ок. 1588—1623), живописец, работал в Риме, Мантуе, Венеции — 237
Фигерас Пепе — 263, 265
Филипп II (1527—1598), испанский король (с 1556) из династии Габсбургов — 236
Филипп III (1578—1621), испанский король (с 1598) — 20, 34, 152, 163, 178, 237
Филипп IV (1605—1665), испанский король (с 1621) — 10, 20, 21, 23, 26—28, 32—34, 41, 42, 144, 153, 159, 160, 163, 164, 170, 178, 180, 182, 188, 190, 191, 198, 221, 222, 225, 226, 237, 257, 330
Филипп V (1683—1746), испанский король (с 1700) — 260
Флоридабланка (собств. Хосе Франсиско Антонио Моньино) Хосе (1728—1808), граф, посол в Риме (1772), первый министр при дворе испанских королей Карла III и Карла IV (1777—1792) — 267, 310, 312
Фома Аквинский (1225 или 1226—1274), итальянский философ и теолог — 18
Фрагосо Матеос (1608—1689), испанский писатель — 237
Франкен Амбросий (1544—1618), голландский художник — 236
Хайдеггер Мартин (1889—1976), немецкий философ, один из основоположников немецкого экзистенциализма — 5
344
Халс (Гальс) Франс (между 1581 и 1585—1666), голландский живописец, портретист — 146, 237
Хауреги (1583—1641), испанский художник — 237
Хёйзинга Йохан (1872—1945), нидерландский историк и философ, автор трудов по истории культуры средних веков и Возрождения — 5
Xовельянос-и-Рамирес Гаспар Мельчор де (1744—1811), испанский просветитель, поэт, драматург, ученый и государственный деятель — 265, 279, 280
Хонтхорст (Гонтгорст) Геррит (Герард) ван (1590—1656), голландский живописец и рисовальщик, представитель кара-ваджизма — 237
Хуан де Вальдес Леаль (1622—1680), испанский живописец, представитель севильской школы — 237
Св. Хуан де ла Крус (1542—1591), испанский религиозный поэт — 236
Хуан Перес де Мойя (1513—1595), испанский математик и писатель — 182
Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н.
э.), древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель — 50
Цуккари Федериго (1539—1609), итальянский художник — 236
Чербери (Херберт Чербери) Эдуард (1583—1648), лорд, английский религиозный философ и политический деятель — 237
Шаррон Пьер (1541—1603), французский философ и теолог — 236
Шатобриан Франсуа Рене де, виконт (1768—1848), французский писатель — 252, 291
Шекспир Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт — 154, 236
Шефтсбери Антони Эшли Купер (1671—1713), граф, английский философ, эстетик и моралист, представитель деизма — 154
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства — 119
Шмарзов Август (1853—1936), немецкий искусствовед — 63
Эзоп (VI в. до н. э.), древнегреческий баснописец — 43, 44
Эль Бросенсе Санчес (1523—1601) — 236
Эль Греко (собств. Теотокопули) Доменико (1541—1614), испанский живописец — 35, 38, 49, 50, 65, 128, 131, 134—136, 140, 165, 187, 236, 246
Эней Сильвий де Пикколомини Пий II (1405—1464), итальянский писатель-гуманист — 180
Эррера Фернандо де (1534—1597), испанский поэт — 236
Эррера Франсиско Младший (1622—1685), испанский живописец и архитектор — 136, 192
Эррера (прозе. Старший) Франсиско де (ок. 1580/90—1656), севильский живописец, архитектор и гравер. Первый учитель Д. Веласкеса — 19, 34, 136, 192, 237, 334
Эспиноса Херонимо Хасинто (1600—1667), испанский художник — 237
Юсти Карл (1832—1912), немецкий историк искусств — 182, 216, 226
Составитель В. М. Володарский
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Диего Веласкес. Меняны. Фрагмент. Автопортрет. 1656. Мадрид, Прадо — 16
Диего Веласкес. Пьяницы (Триумф Вакха). Ок. 1628. Мадрид, Прадо — 19
Диего Веласкес. Портрет поэта Луиса де Гонгоры. 1622. Бостон, Музей изящных искусств — 20
Диего Веласкес. Св. Антоний посещает св. Павла. Фрагмент. Ок. 1641—1643. Мадрид, Прадо — 24
Диего Веласкес. Продавец воды в Севилье. Ок. 1620—1621. Лондон, собрание герцога Веллингтона — 37
Диего Веласкес. Портрет Филиппа IV (’’Серебряный Филипп”). Ок. 1632—1634.
Лондон, Национальная галерея — 42
Диего Веласкес. Принц Бальтасар Карлос в охотничьем костюме. 1635—1636. Мадрид, Прадо — 45
Диего Веласкес. Портрет обер-егермейстера Хуана Матеоса. Ок. 1632. Дрезден, Картинная галерея — 48
Диего Веласкес. Венера перед зеркалом. Ок. 1648—1650. Лондон, Национальная галерея — 55
Рафаэль Санти. Мадонна в зелени. 1505. Вена, Музей истории искусств — 122
Тициан. Призыв маркиза дель Васто к солдатам. 1541. Мадрид, Прадо — 127
Франсиско Сурбаран. Святая Касильда. 1640-е гг. Мадрид, Прадо — 130
Эль Греко. Сошествие Св. Духа. 1610—1614. Мадрид, Прадо — 131
Питер Пауль Рубенс. Диана и нимфы. Мадрид, Прадо — 132—133
Питер Пауль Рубенс. Триумф церкви над язычеством. 1628. Мадрид, Прадо — 135
Микеланджело да Караваджо. Обращение Павла. 1600—1601. Рим, церковь
Санта Мария дель Пололо — 137
Хусепе Рибера. Диоген. Фрагмент. 1637. Дрезден, Картинная галерея — 138
Бартоломе Эстебан Мурильо. Святое семейство с птичкой. 1645—1650. Мадрид, Прадо — 141
Алонсо Кано. Мертвый Христос, поддерживаемый ангелом. 1640-е гг.
Мадрид, Прадо — 142
Диего Веласкес. Старая кухарка. Ок. 1619—1620. Эдинбург, Национальная галерея — 175
Диего Веласкес. Пьяницы (Триумф Вакха). Фрагмент. Ок. 1628. Мадрид, Прадо — 177
Диего Веласкес. Сдача Бреды. Фрагмент. 1634—1635. Мадрид, Прадо — 179
346
Диего Веласкес. Пряхи. Ок. 1657. Мадрид, Прадо — 184—185
Диего Веласкес. Эзоп. Фрагмент. Ок. 1639—1640. Мадрид, Прадо — 186
Диего Веласкес. Принц Бальтасар Карлос. Ок. 1640—1642. Вена, Художественноисторический музей — 189
Диего Веласкес. Портрет Филиппа IV в военном костюме (”Ла Фрага”). 1644.
Нью-Йорк, собрание Фрик — 191
Диего Веласкес. Конный портрет принца Бальтасара Карлоса. 1635—1636.
Мадрид, Прадо — 193
Диего Веласкес. Портрет инфанта дона Карлоса. Ок. 1626. Мадрид, Прадо — 194
Диего Веласкес. Портрет Оливареса. Ок. 1625. Деталь. Мадрид, собрание Варес-Фиса — 195
Диего Веласкес. Непорочное зачатие. Ок. 1619. Лондон, Национальная галерея — 196
Диего Веласкес. Поклонение волхвов. 1619. Мадрид, Прадо — 199
Диего Веласкес. Портрет Херонимы де ла Фуэнте. 1620. Мадрид, Прадо — 201
Диего Веласкес. Искушение св. Фомы. Ок. 1631—1632. Орихуэла — 202
Диего Веласкес. Коронация Марии. Ок. 1641—1643. Мадрид, Прадо — 203
Диего Веласкес. Св. Антоний посещает св. Павла. Ок. 1641—1643. Мадрид, Прадо — 205
Диего Веласкес. Портрет Оливареса на коне. Ок. 1635. Нью-Йорк, Музей Метрополитен — 207
Диего Веласкес. Дама с веером. Ок. 1642. Лондон, собрание Уоллес — 209
Диего Веласкес. Портрет папы Иннокентия X. 1650. Рим, галерея Дориа-Па-мфили — 212
Диего Веласкес. Вилла Медичи. Вечер. 1650—1651. Мадрид, Прадо — 213
Диего Веласкес. Кузница Вулкана. 1630. Мадрид, Прадо — 215
Диего Веласкес. Пряхи. Фрагмент. Ок. 1657. Мадрид, Прадо — 217
Диего Веласкес. Сдача Бреды. 1634—1635. Мадрид, Прадо — 218—219
Диего Веласкес. Сдача Бреды. Фрагмент 1634—1635. Мадрид, Прадо — 220
Диего Веласкес. Карлик дон Диего де Асеро (”Эль Примо”). 1644. Мадрид, Прадо — 222
Диего Веласкес. Карлик дон Себастьян де Морра. Ок. 1648. Мадрид, Прадо — 223
Диего Веласкес. Портрет придворного шута дона Хуана Австрийского. Нач. 1650-х гг. Мадрид, Прадо — 224
Диего Веласкес. Менины. 1656. Мадрид, Прадо — 227
Диего Веласкес. Инфанта Маргарита в синем платье. 1659. Вена, Художественно-исторический музей — 229
Диего Веласкес. Инфанта Маргарита в серо-розовом платье. 1660. Мадрид, Прадо — 230
Франсиско Гойя. Автопортрет. 1815. Мадрид, Прадо — 240
Франсиско Гойя. Качели. Картон для гобелена. 1787. Мадрид, коллекция герцога де Монтеллана — 254
Франсиско Гойя. Игра в жмурки. Картон для гобелена. 1791. Мадрид, Прадо — 256
Франсиско Гойя. Продавец посуды из Валенсии. Картон для гобелена. 1779. Мадрид, Прадо — 259
347
Франсиско Гойя. Донья Тадеа Ариас де Энрикес. 1793—1794. Мадрид, Прадо — 261
Франсиско Гойя. Портрет герцогини Альба. 1797. Нью-Йорк, коллекция Испанского общества — 264
Франсиско Гойя. Маха одетая. Ок. 1802. Мадрид, Прадо — 268
Франсиско Гойя. Маха обнаженная. Ок. 1802. Мадрид, Прадо — 269
Франсиско Гойя. Портрет актрисы Марии дель Росарио Фернандес, прозванной.
Ла Тирана. 1794. Мадрид, коллекция Хуана Марка — 271
Франсиско Гойя. Чудо св. Антония Падуанского. 1798; Деталь фрески — 272
Франсиско Гойя. Чудо св. Антония Падуанского. 1798. Фреска в куполе церкви
Сан Антонио де ла Флорида — 273
Франсиско Гойя. Автопортрет. Заглавный лист серии ’’Капричос”. 1797—1798.
Мадрид, Прадо — 282
Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ. Лист 43 из серии ’’Капричос” — 283
Франсиско Гойя. Они уйдут, когда будет рассвет. Лист 71 из серии ’’Капричос” — 284
Франсиско Гойя. До его прадеда. Лист 39 из серии ’’Капричос” — 285
Франсиско Гойя. Этому праху! Лист 23 из серии ’’Капричос” — 286
Франсиско Гойя. Час настал! Лист 80 из серии ’’Капричос” — 287
Франсиско Гойя. Ленивцы. Лист 50 из серии ’’Капричос” — 288
Франсиско Гойя. Ты, которому невмоготу... Лист 42 из серии ’’Капричос” — 289
Франсиско Гойя. Что может портной. Лист 52 из серии ’’Капричос” — 290
Франсиско Гойя. Они не хотят. Лист 9 из серии ’’Бедствия войны” — 292
Франсиско Гойя. Со здравым смыслом или без него? Лист 2 из серии ’’Бедствия войны” — 293
Франсиско Гойя. Какое мужество! Лист 7 из серии ’’Бедствия войны” — 295
Франсиско Гойя. Они не знают пути. Из серии ’’Бедствия войны” — 296
Франсиско Гойя. Хищный зверь. Лист 76 из серии ’’Бедствия войны” — 297
Франсиско Гойя. Правда умерла. Лист 79 из серии ’’Бедствия войны” — 298
Франсиско Гойя. Вот Истина. Лист 82 из серии ’’Бедствия войны” — 299
Франсиско Гойя. Летящие люди. Лист 12 из серии ’’Диспаратес”. 1815—1824 — 300
Франсиско Гойя. Из серии офортов ’’Диспаратес”, лист 2 — 300
Франсиско Гойя. Завязаны в мешки. Лист 8 из серии ’’Диспаратес” — 301
Франсиско Гойя. Другие законы для народа. Лист 21 из серии ’’Диспаратес” (дополнительный) — 301
Франсиско Гойя. Пляшущий глупец. Лист 4 из серии ’’Диспаратес” — 302
Франсиско Гойя. Портрет художника Франсиско Байеу. 1796. Мадрид, Прадо — 306
Франсиско Гойя. Портрет Исабеллы Кобос де Порсель. 1806. Лондон, Национальная галерея — 311
Франсиско Гойя. Портрет семьи короля Карла IV. Фрагмент. 1800. Мадрид, Прадо — 313
Франсиско Гойя. Портрет дона Мануэля Озорио де Зунига. Ок. 1788. Нью-Йорк, Музей Метрополитен — 314
Франсиско Гойя. Сатурн, пожирающий людей. Деталь фрески из ’’Дома Глухого” — 316
348
Франсиско Гойя. Старики за похлебкой. Деталь фрески из ’’Дома Глухого” — 317
Франсиско Гойя. Процессия в Сан Исидро. 1820—1823. Фрагмент фрески из ’’Дома Глухого” — 318
Франсиско Гойя. Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года. 1814. Мадрид, Прадо — 320—321
Франсиско Гойя. Девушка с кувшином. Ок. 1812. Будапешт, Музей искусств — 322
Франсиско Гойя. Деревенский бой быков. Ок. 1800. Мадрид, Академия Сан Фернандо — 323
Франсиско Гойя. Прыжок с гаррочей Хуанито Апиньяни. ’’Тавромахия”, лист 20 — 324
Франсиско Гойя. Педро Ромеро убивает стоящего быка. ’’Тавромахия”, лист 30 — 325
Франсиско Гойя. ’’Сапата, слава твоя будет вечна!” Рисунок из серии ’’Заключенные”. Мадрид, Прадо — 326
Франсиско Гойя. Я все еще учусь. 1819—1820. Мадрид, Прадо — 327
СОДЕРЖАНИЕ
И. Ершова, М. Смирнова. Живопись слова............................ 5
ВЕЛАСКЕС
ВВЕДЕНИЕ К ВЕЛАСКЕСУ (1943 г.)................................... 17
I. [Биография]................................................ —
II. [Призвание, обстоятельства и случай].................... 29
III. [Портрет как принцип живописи]........................... 34
ОЖИВЛЕНИЕ КАРТИН................................................. 51
ОБ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ И ОСЛЕПЛЯЮЩЕЙ ИСПАНИИ ВРЕМЕН ВЕЛАСКЕСА ........................................................ 69
ИЗ ПИСЕМ НЕКОТОРЫХ ОТЦОВ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ (1634—1648).............. —
СООБЩЕНИЯ ПЕЛ БИСЕРА (Дневник эрудита)........................... 95
СООБЩЕНИЯ ДОНА ХЕРОНИМА ДЕ БАРРЬОНУЭВО (1654—1658)............... 96
ВВЕДЕНИЕ В ВЕЛАСКЕСА. — 1947 .................................... 111
I. [Мнение прохожего]........................................ —
II. [Неизвестная история]................................... 115
III. [Герменевтика — призвание]............................. 117
IV. К теме ’’Влияние Караваджо”............................. 121
V. [Четыре тезиса]......................................... 144
VI. Формализм............................................... 149
VII. [Облитерация: салон на Прадо]........................... 161
ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ ВЕЛАСКЕСА....................................... 165
ВВЕДЕНИЕ В ВЕЛАСКЕСА. — 1954 ................................... 169
I. [Общее введение]........................................... —
Слава Веласкеса.............................................. —
Его бунт против красоты.................................... 172
Веласкес и ремесло художника............................... 178
Пуританин в искусстве...................................... 181
"Пряхи”.................................................... 182
Живопись только для зрения................................. 183
Живой мир у Веласкеса...................................... 187
350
II. [Картины]................................................... 192
Бодегоны....................................................... —
Религиозные картины.......................................... 197
Портреты..................................................... 206
Веласкес в Италии............................................ 211
Мифологические сюжеты........................................ 215
"Пряхи" ..................................................... 216
"Копья"...................................................... 217
Принцы, карлики, шуты и сумасшедшие.......................... 221
Фрейлины или семья........................................... 225
Пейзаж поколений............................................. 231
Таблица поколений............................................ 236
ГОЙЯ
ПРЕЛЮДИЯ К ГОЙЕ.................................................... 241
1. [Docta ignorantia]............................................. —
2. [Испанская живопись]......................................... 243
3. [Мазок — это намерение]...................................... 245
4. Безразличие к темам......................................... 249
5. Гойя и народное начало....................................... 252
6. (Гипотеза)................................................... 272
ЛЕГЕНДА О ГОЙЕ..................................................... 275
1. [Современная мифология]........................................ —
2. [Кто такой Гойя]............................................. 282
3. [”Я” — это проект]........................................... 291
4. Призвание Гойи.............................................. 298
5. [’’Человек творящий”]........................................ 303
ФРАГМЕНТЫ.......................................................... 310
1. [Гобелены]..................................................... —
2. [Портреты]..................................................... —
3. [”Дом Глухого”].............................................. 316
4. [Ремесло художника]......................................... 319
5. [Интеллектуальный уровень]................................... 324
Комментарии ....................................................... 329
Указатель имен..................................................... 338
Список иллюстраций................................................. 346
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
ВЕЛАСКЕС
ГОЙЯ
На переплете:
Диего Веласкес. Венера перед зеркалом; Франсиско Гойя. Портрет герцогини Альба. Диего Веласкес. Инфанта Маргарита в синем платье; Франсиско Гойя. Маха одетая.
На форзацах:
Диегъ Веласкес. Пряхи и Продавец воды в Севилье.
Франсиско Гойя. Восстание 2 мая 1808 года на площади Пуэрта дель Соль и Колосс.
На авантитуле:
Хосе Ортега-и-Гассет. Фотография середины 30-х гг.
На титуле:
Диего Веласкес. Непорочное зачатие. Франсиско Гойя. Девушка с кувшином.
Заведующий редакцией В. Я. Грибенко Редактор Т. И. Шагова Оформление художника Б. Г. Попова Художественные редакторы Е. А. Андрусенко, О. Н. Зайцева Технический редактор Т. А. Новикова
ЛР№ 010273 от 10.12.92.
Сдано в набор 16.01.97. Подписано в печать 11.03.97. Формат 70 х 907*«-Бумага офсетная № 1. Гарнитура ’’Таймс”. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25,74. Уч.-изд. л. 24,33. Тираж 10000 экз. Заказ № 2308.
Электронный оригинал-макет подготовлен в издательстве.
Российский государственный информационно-издательский Центр ’’Республика” Комитета Российской Федерации по печати.
Издательство ’’Республика”. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Полиграфическая фирма ’’Красный пролетарий”.
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.