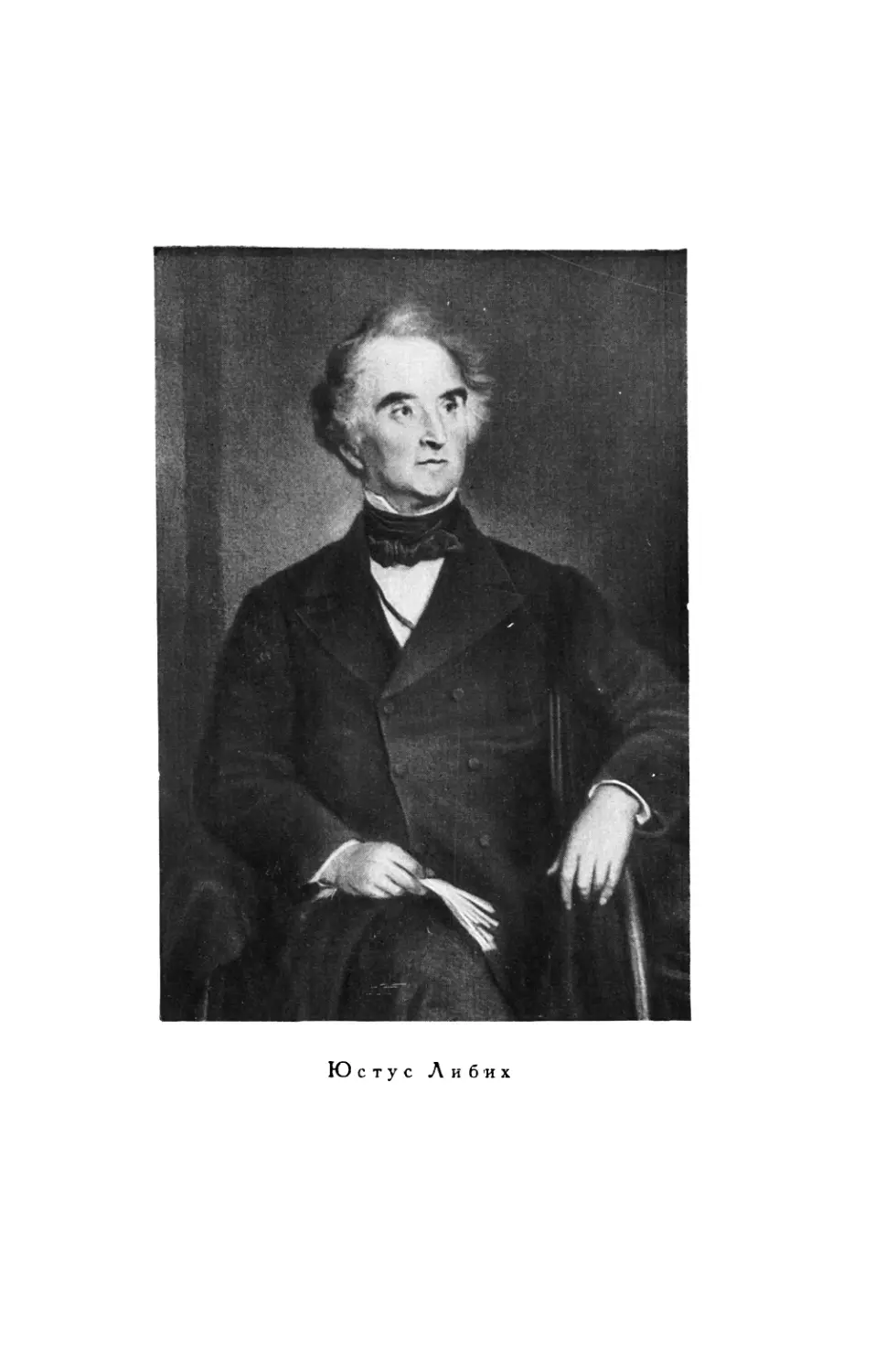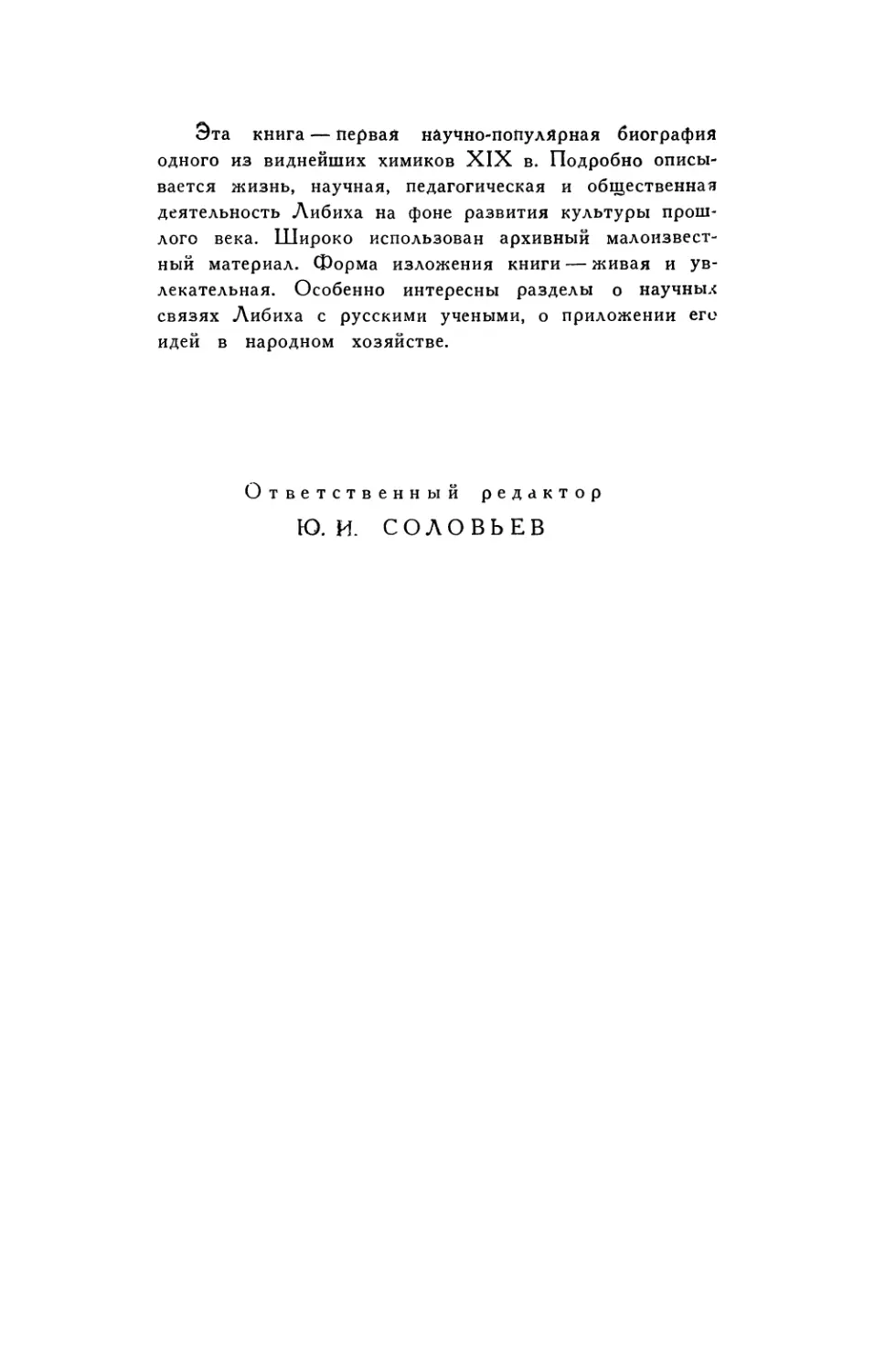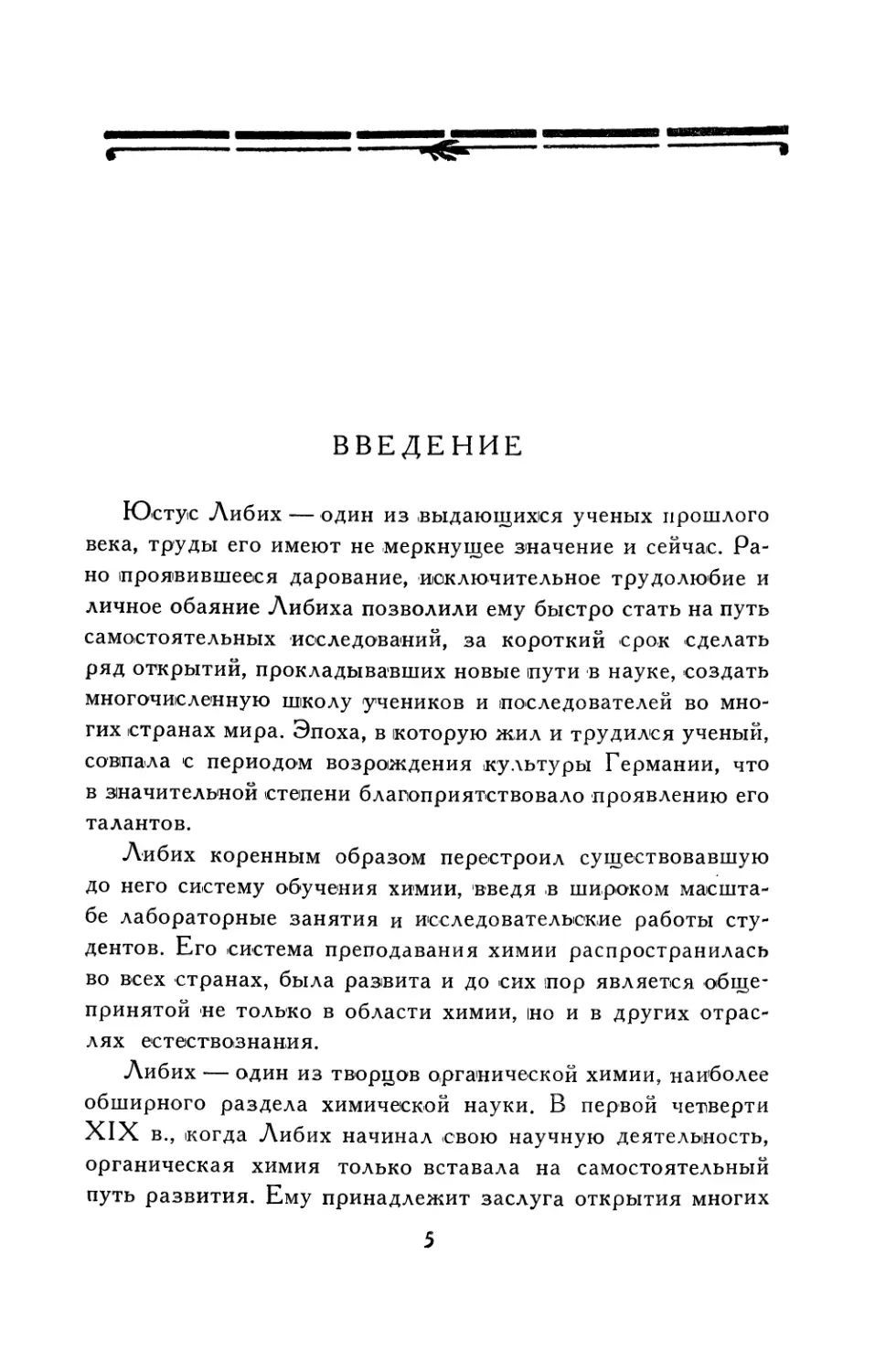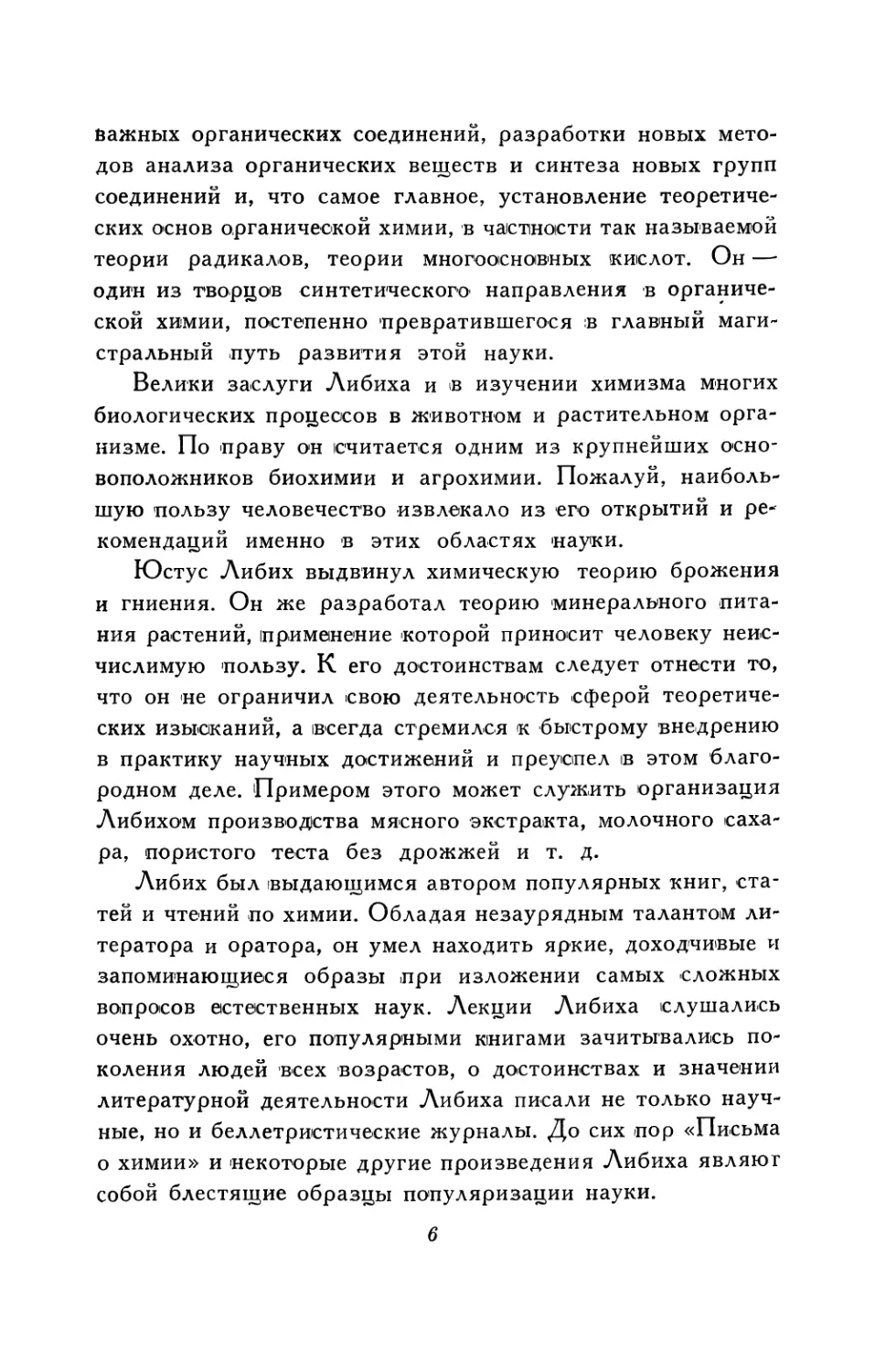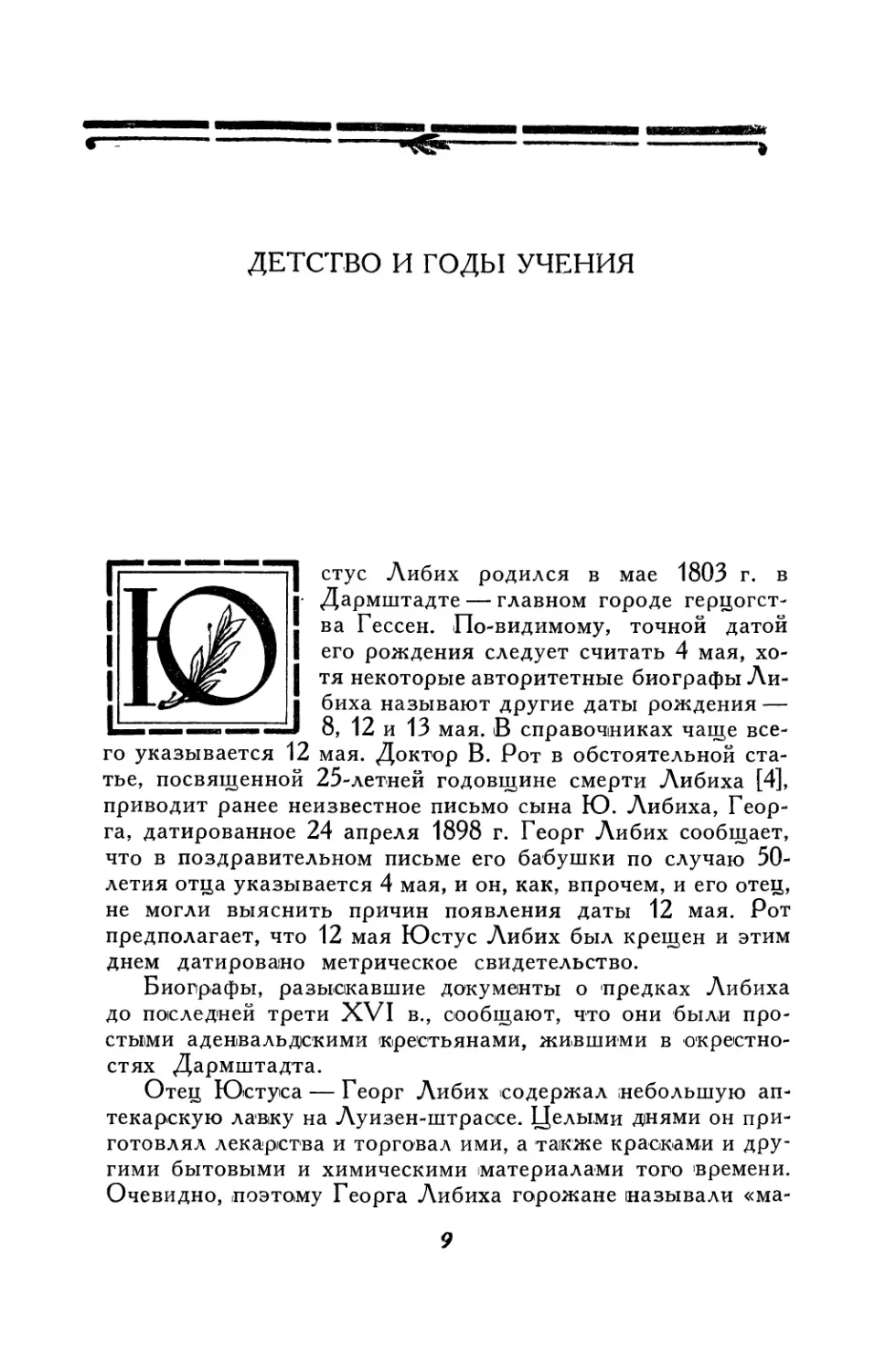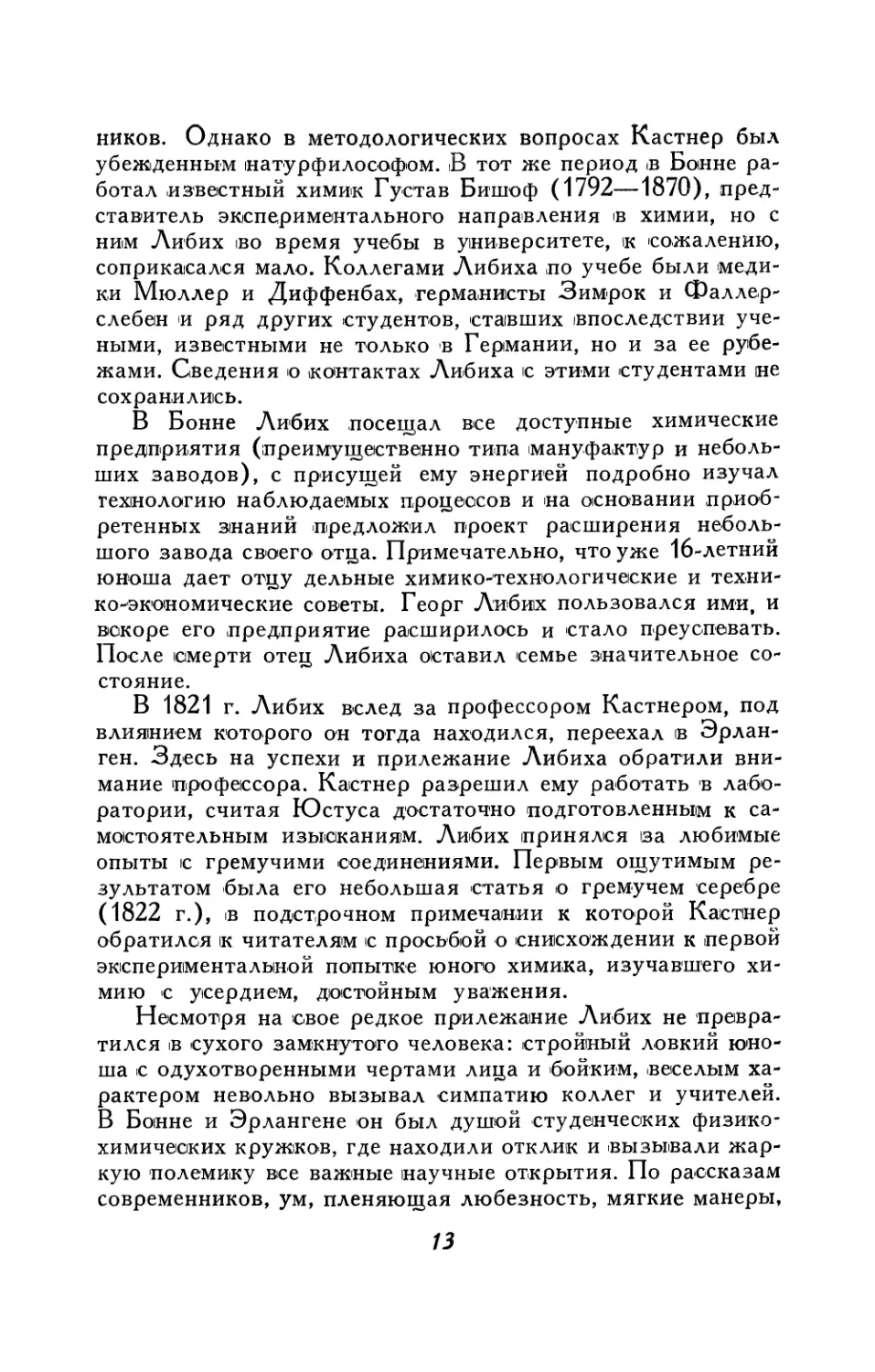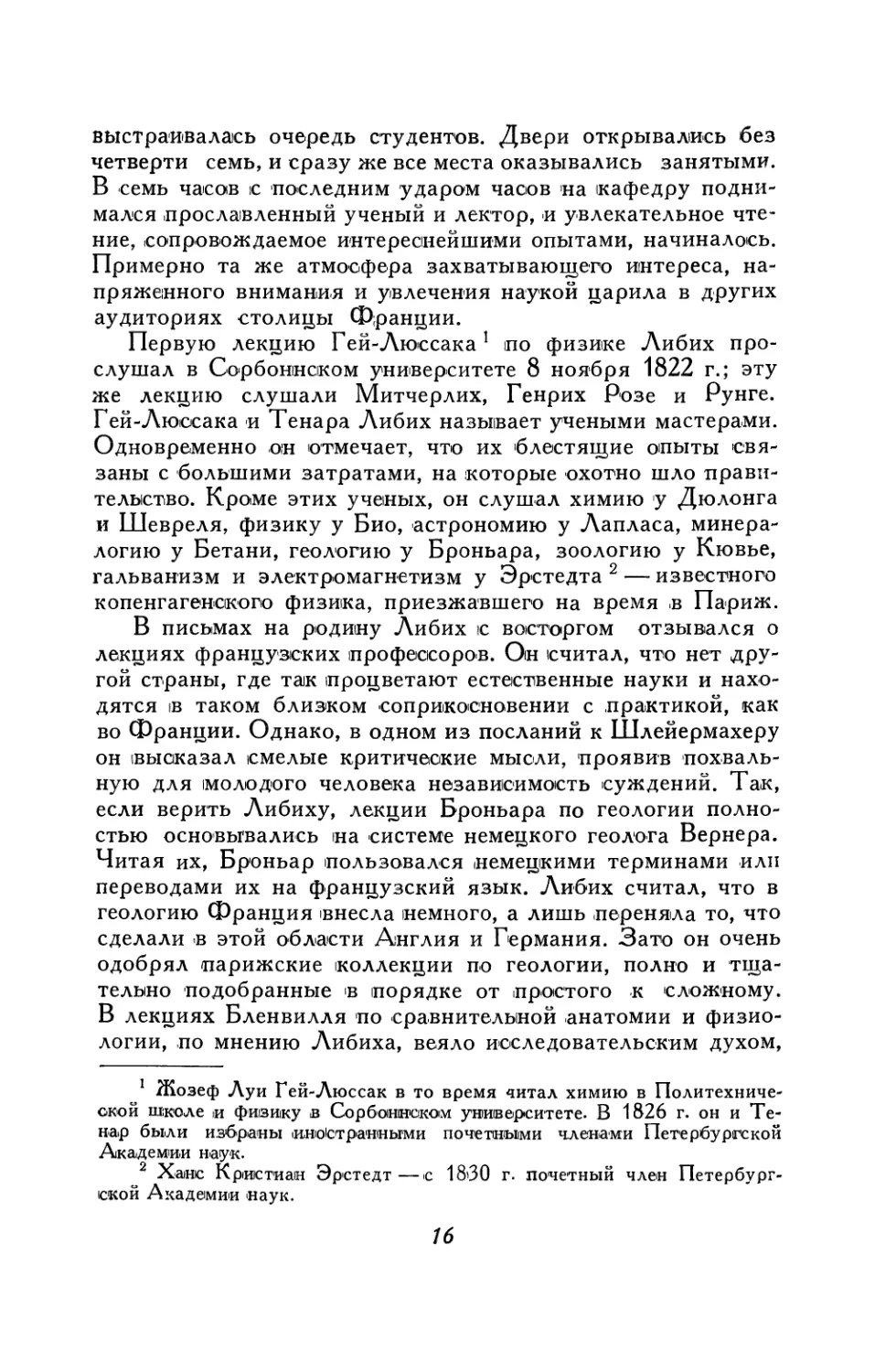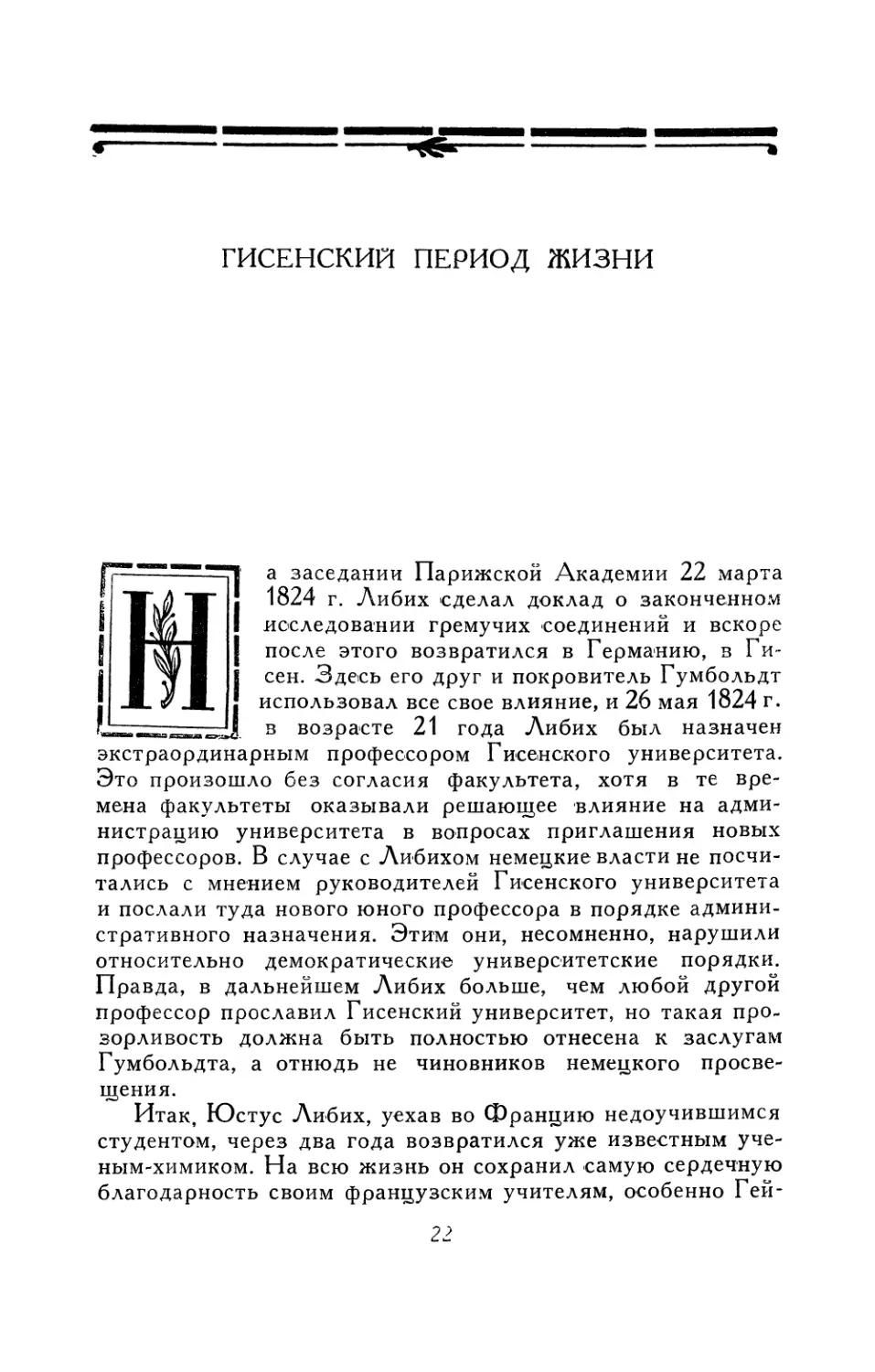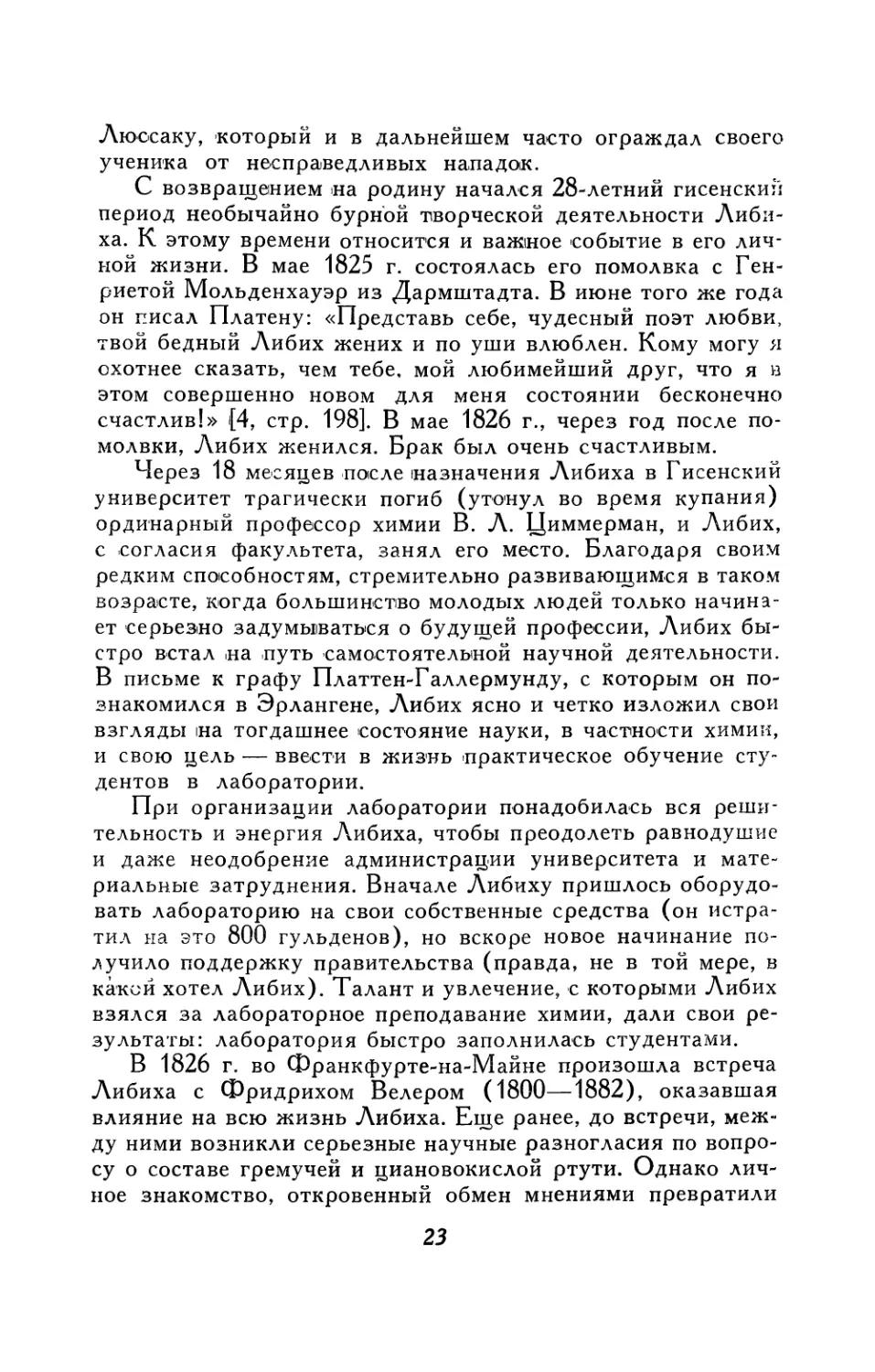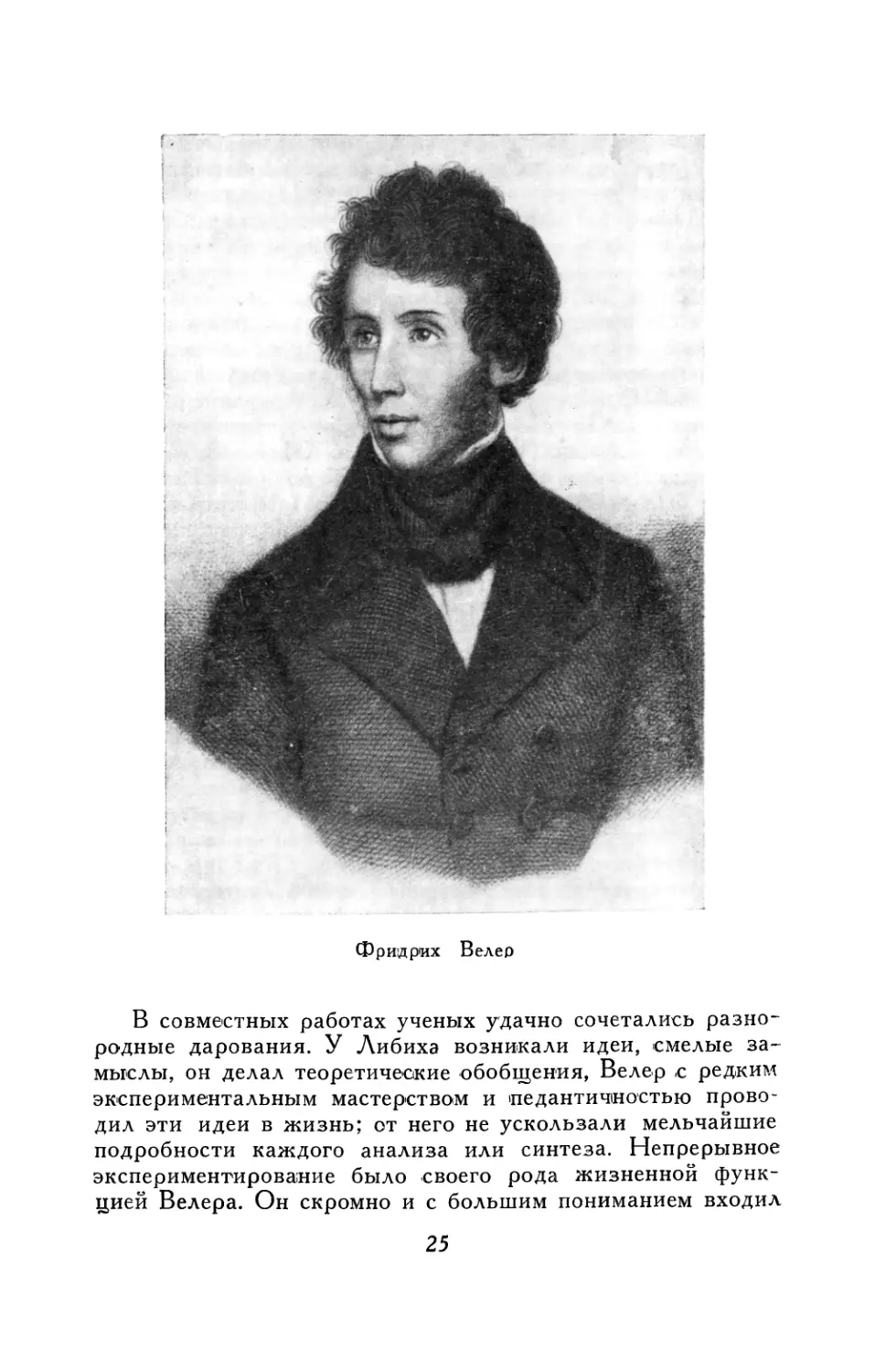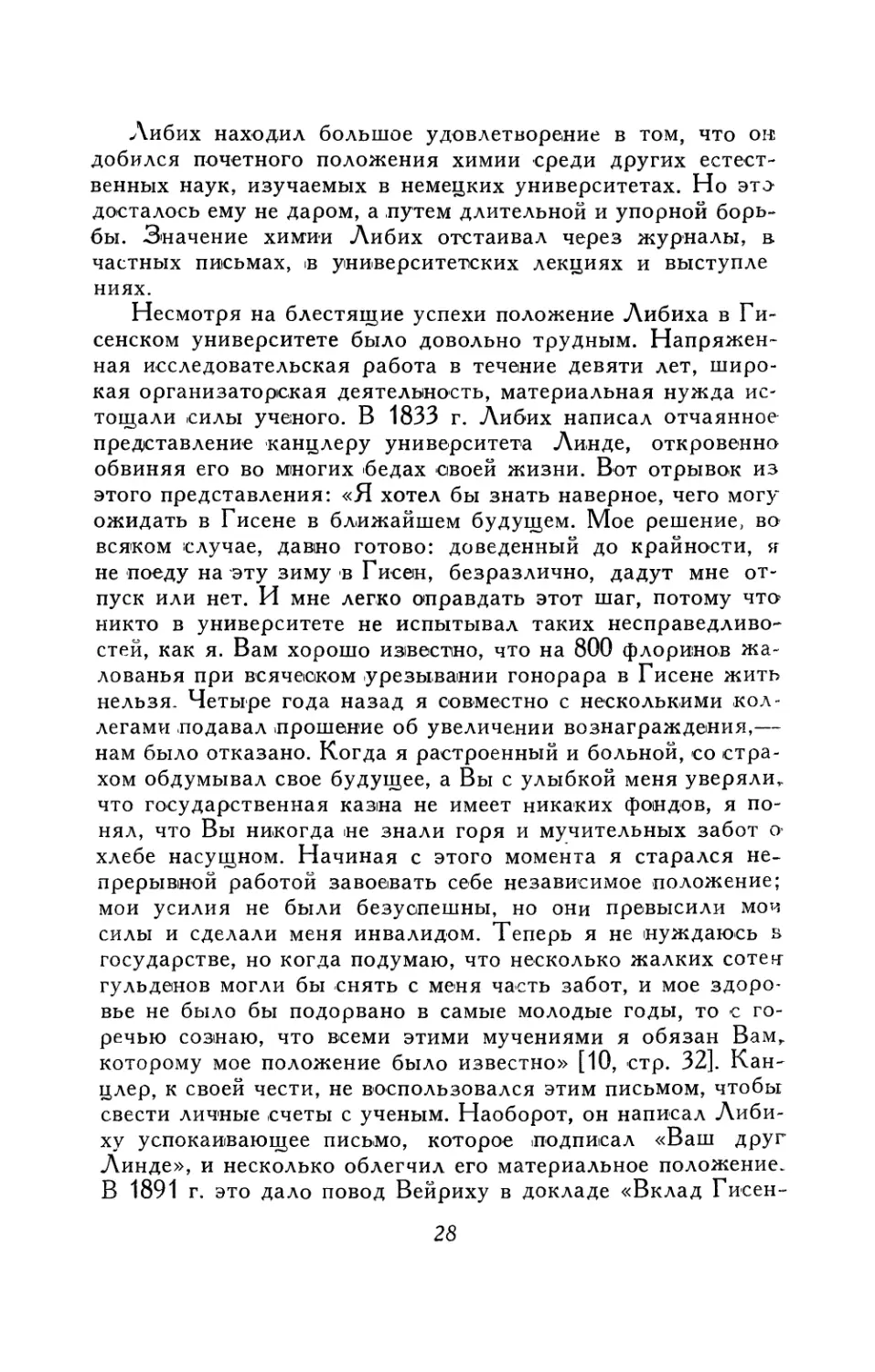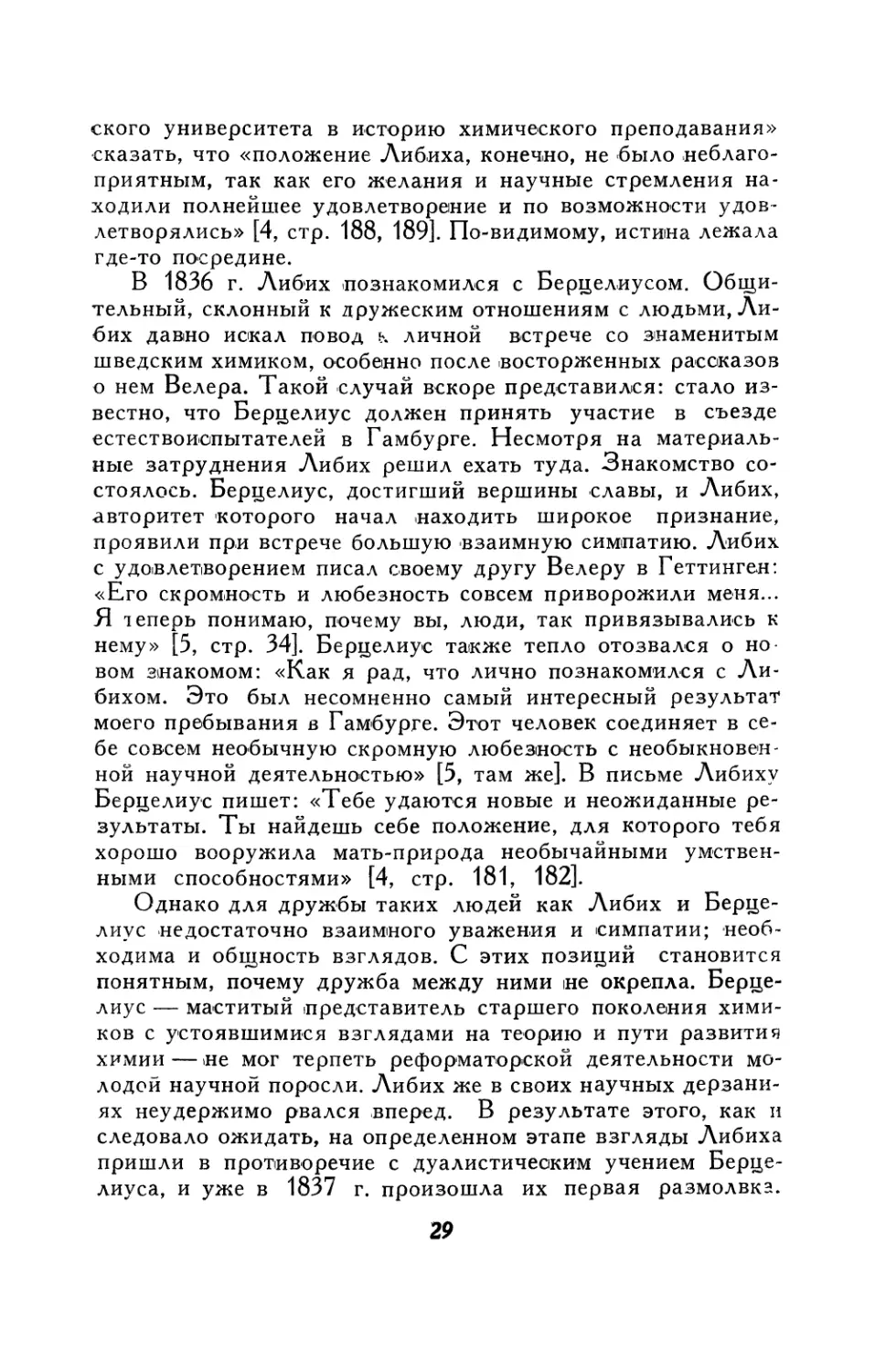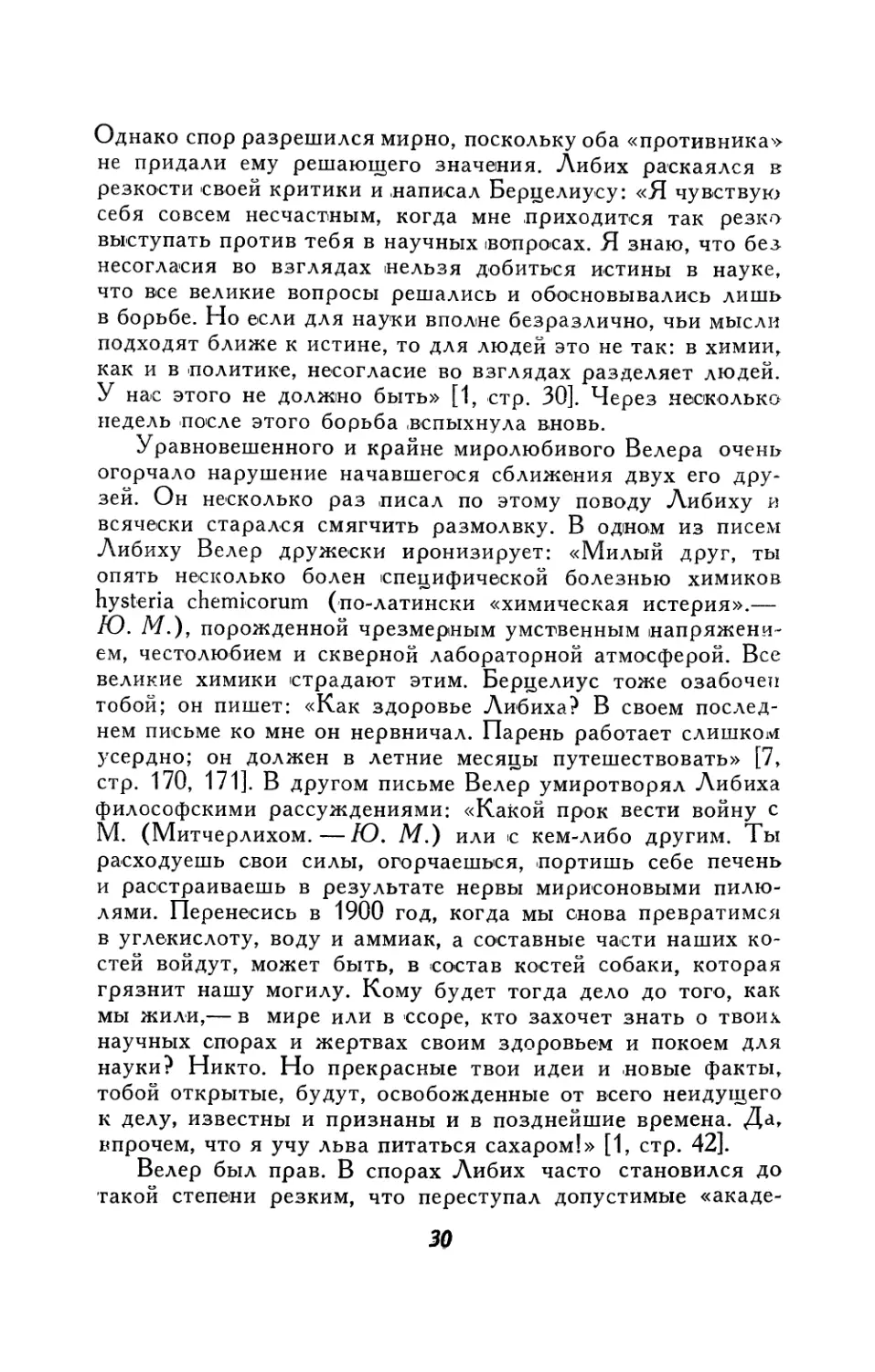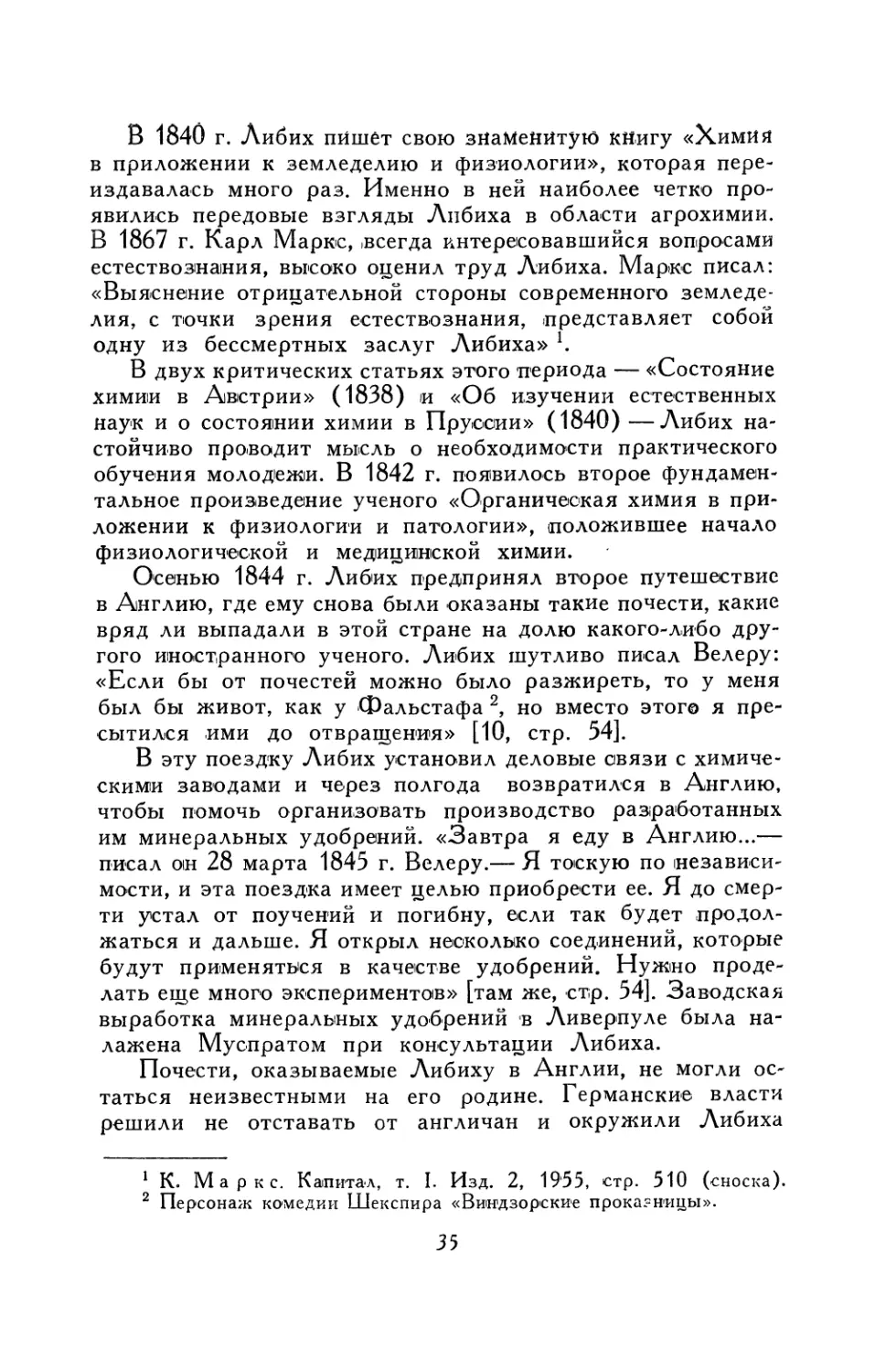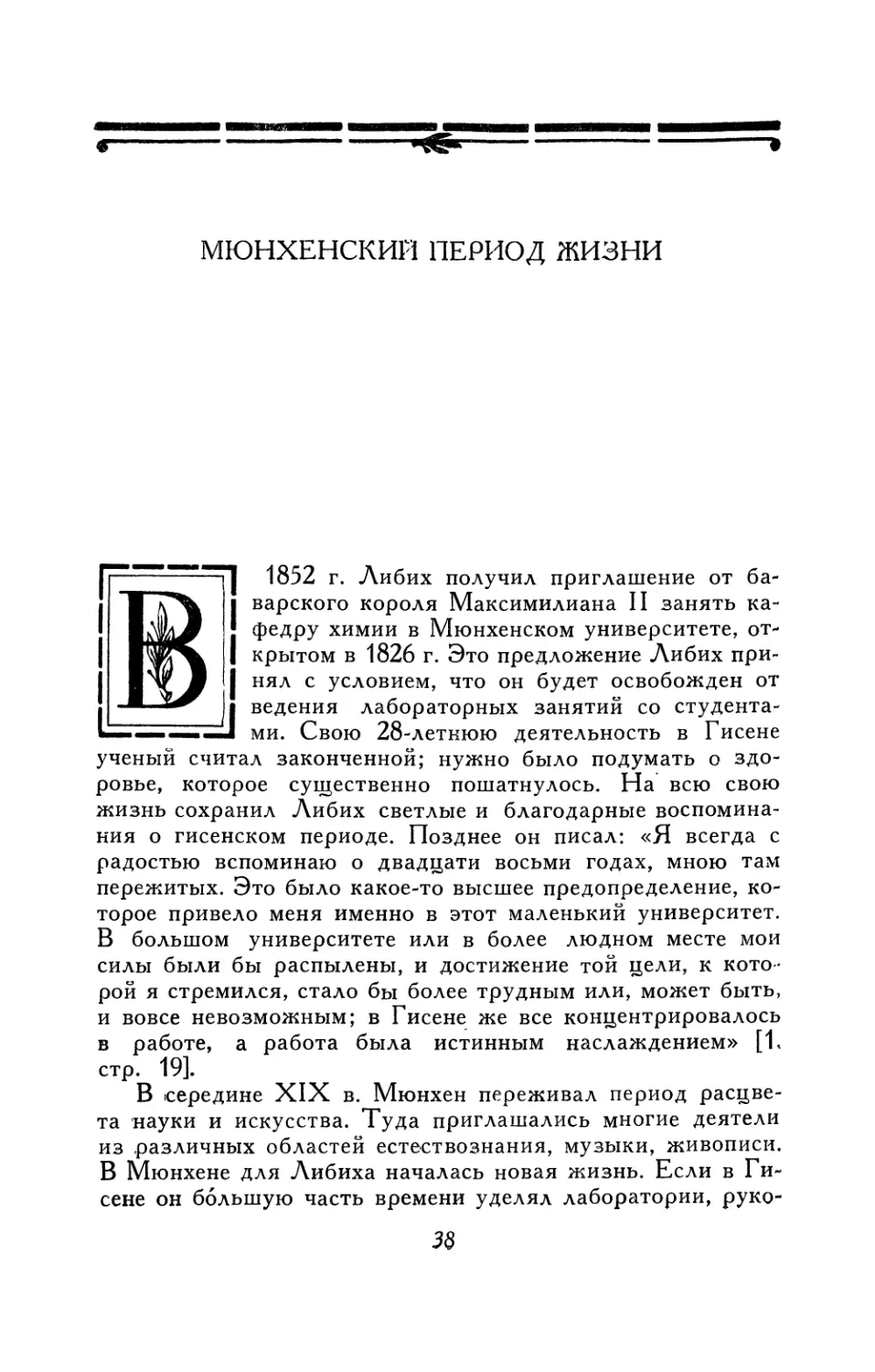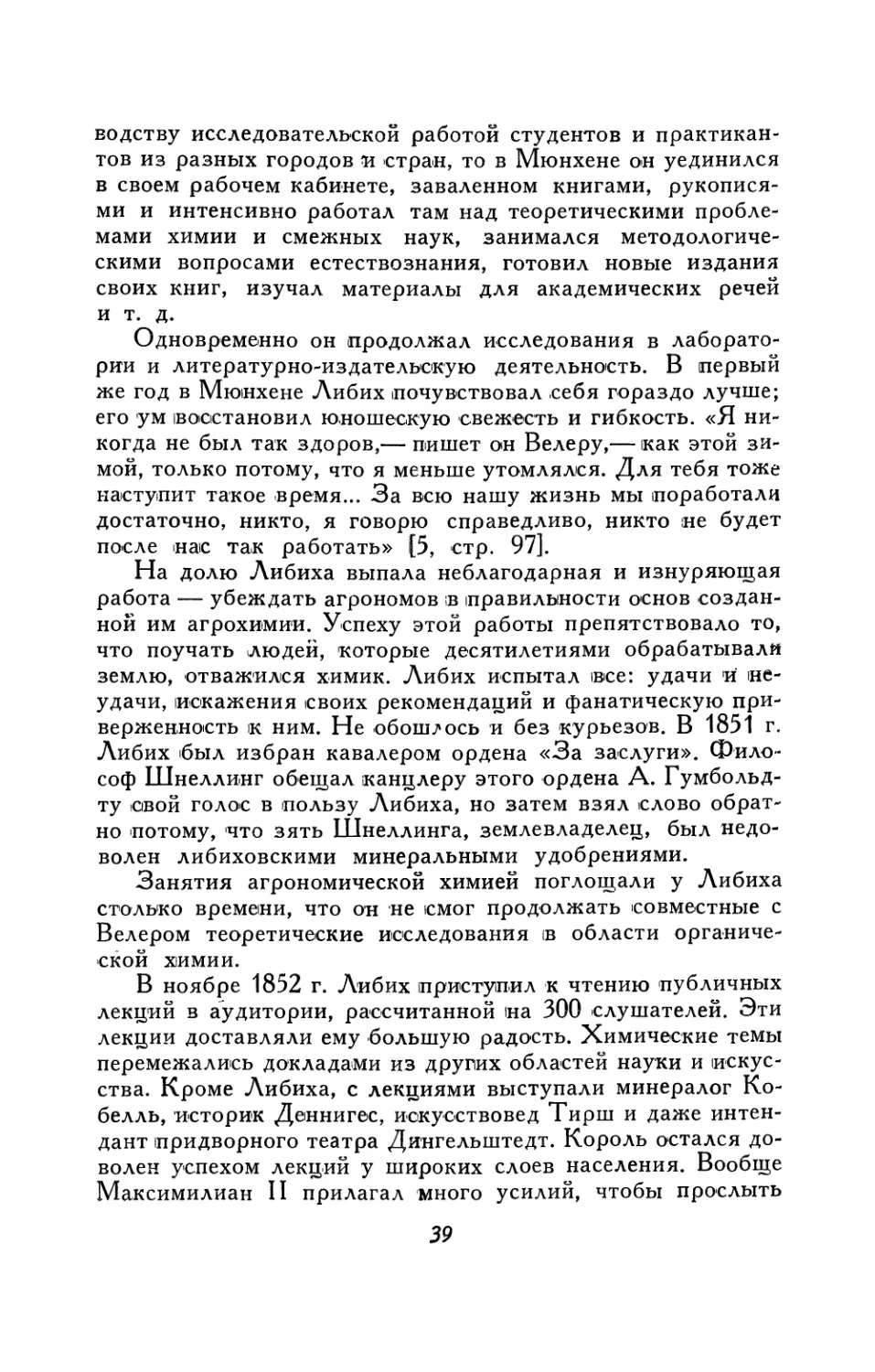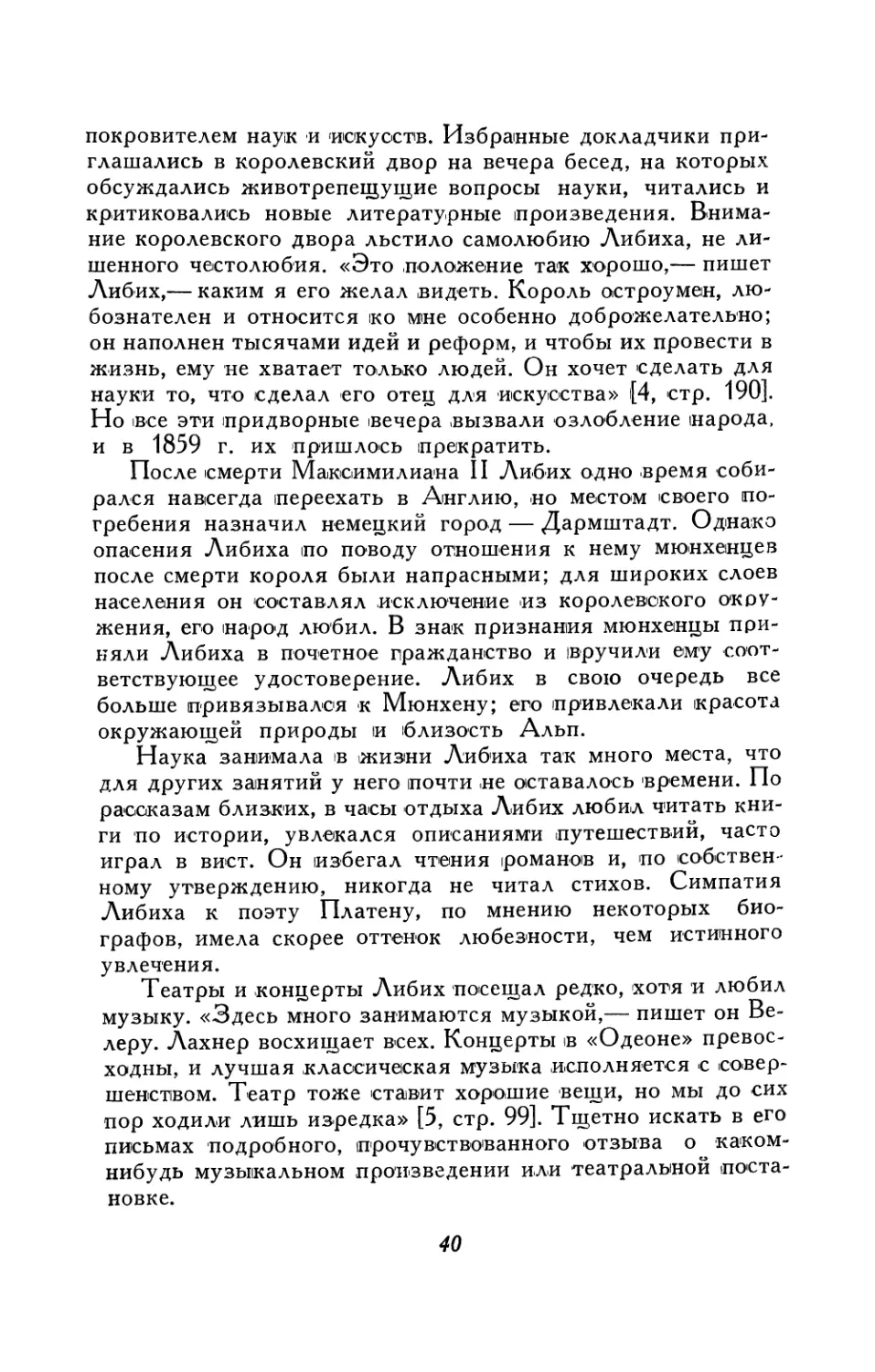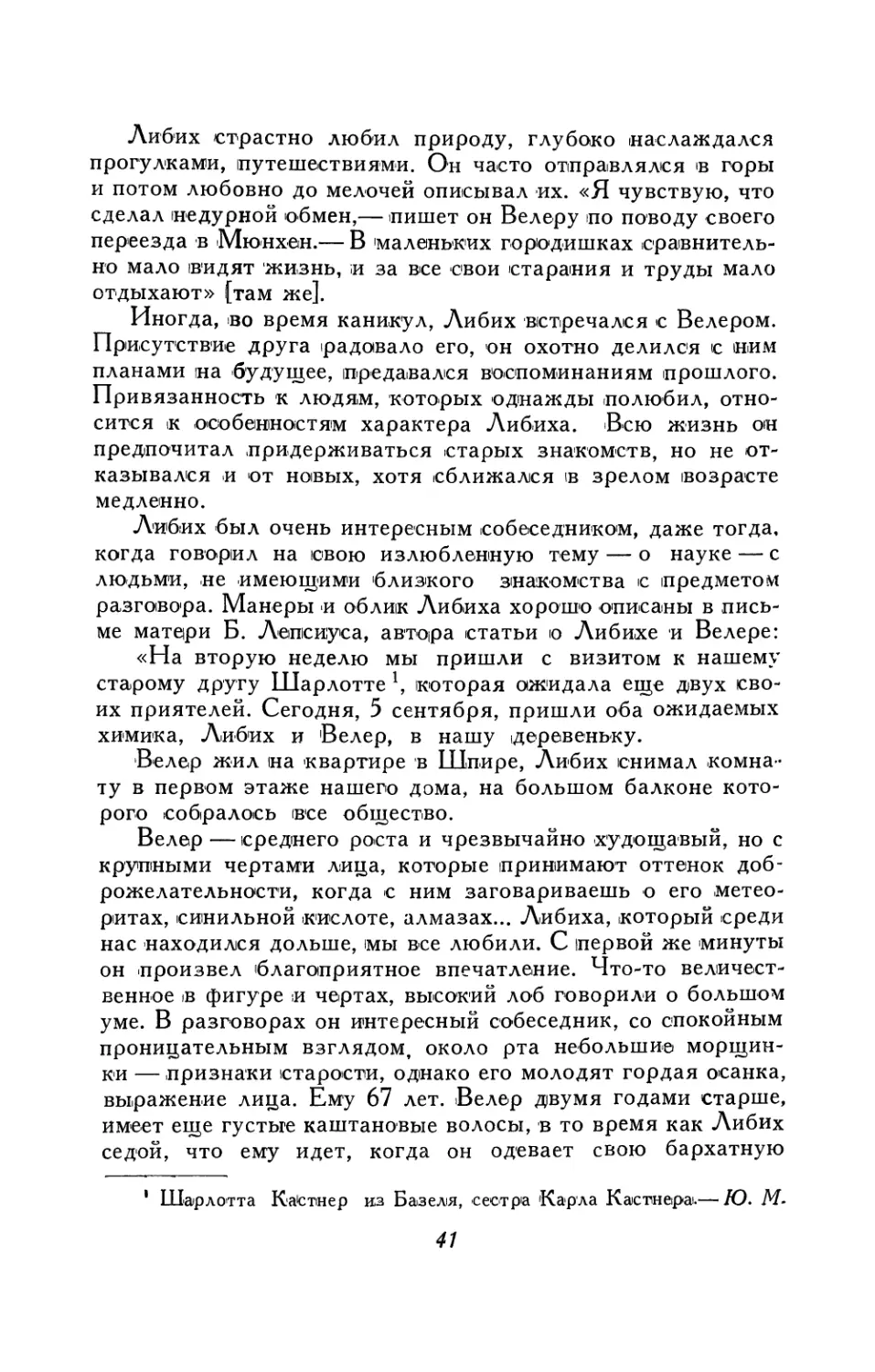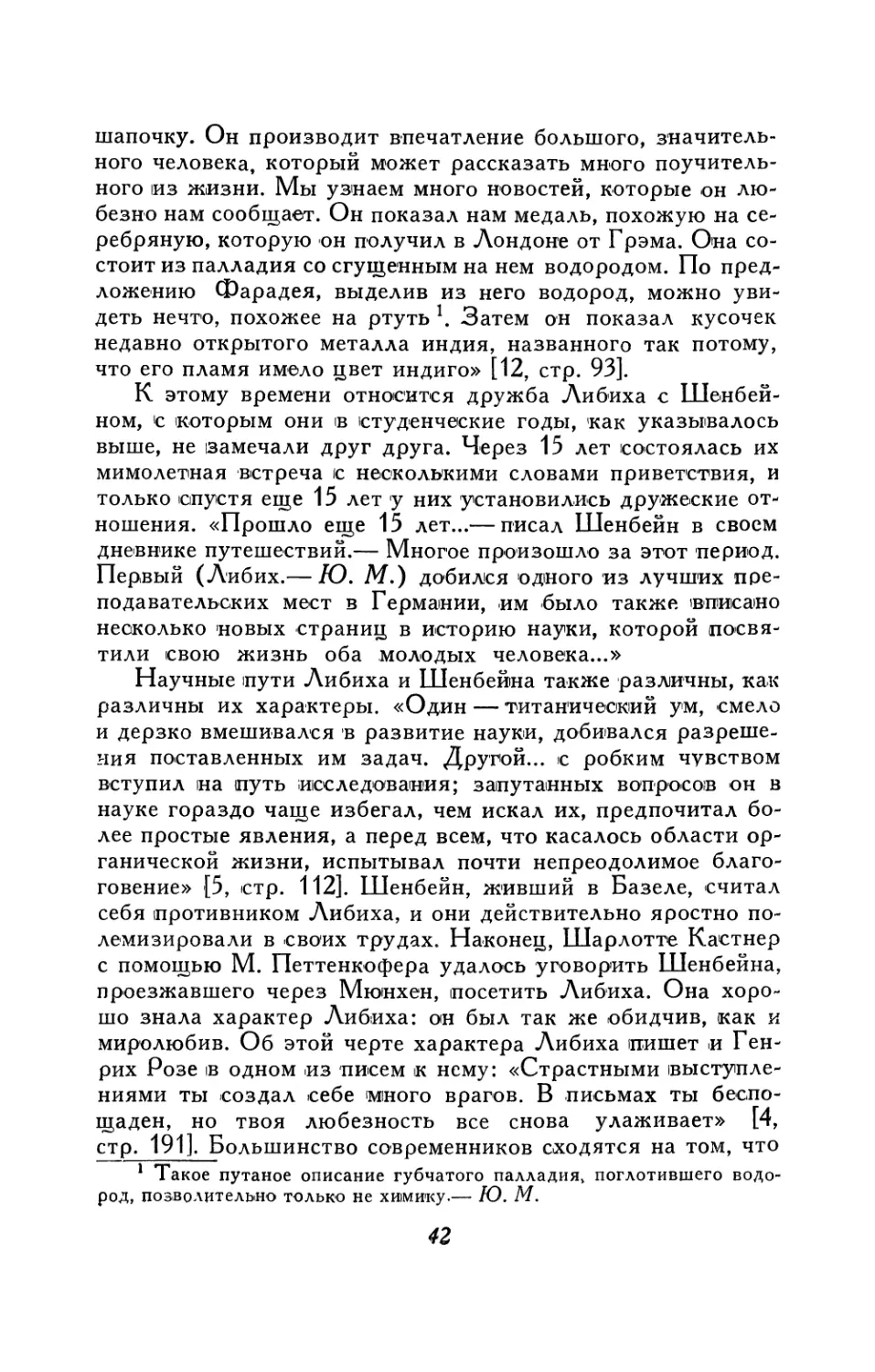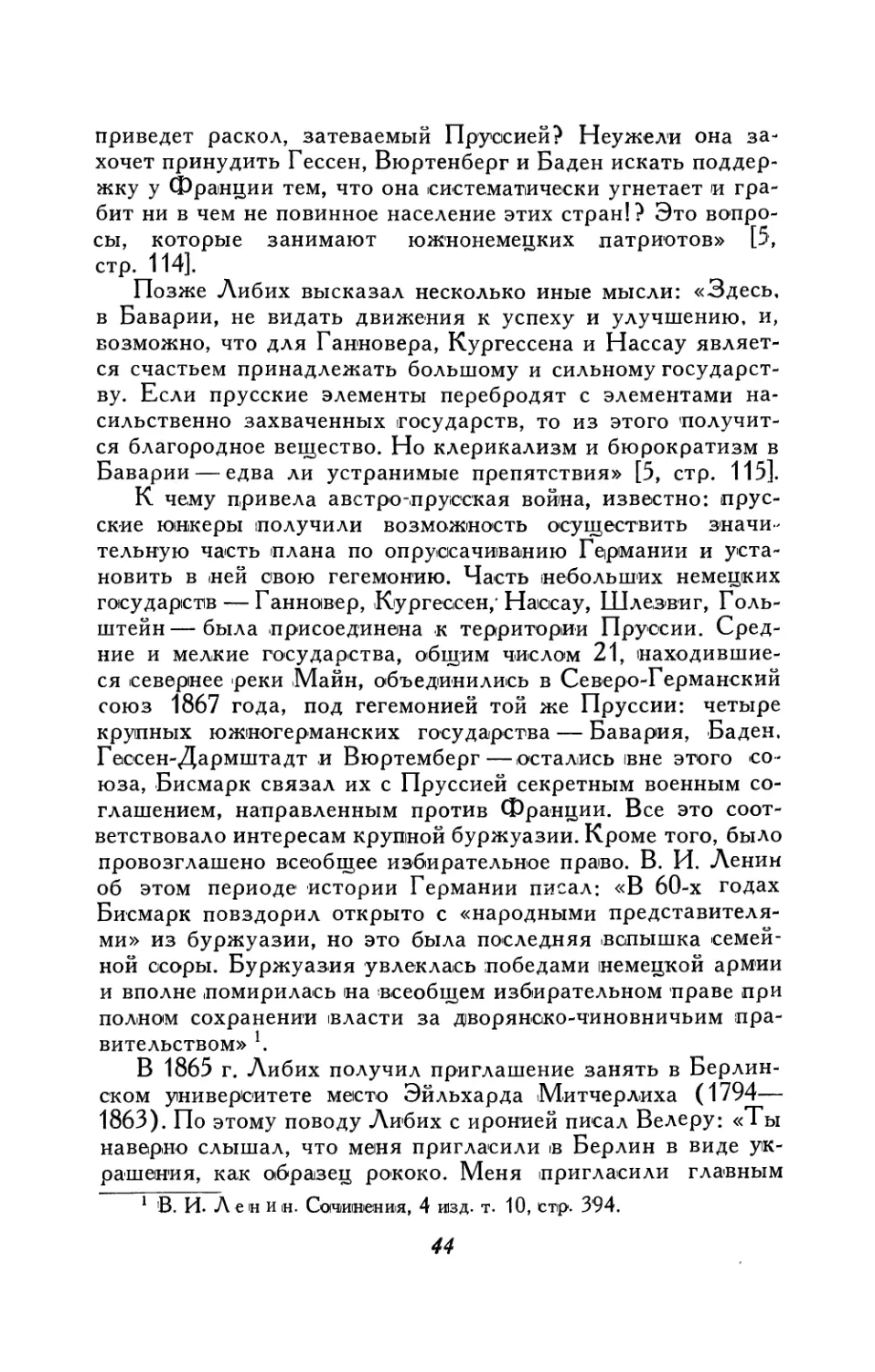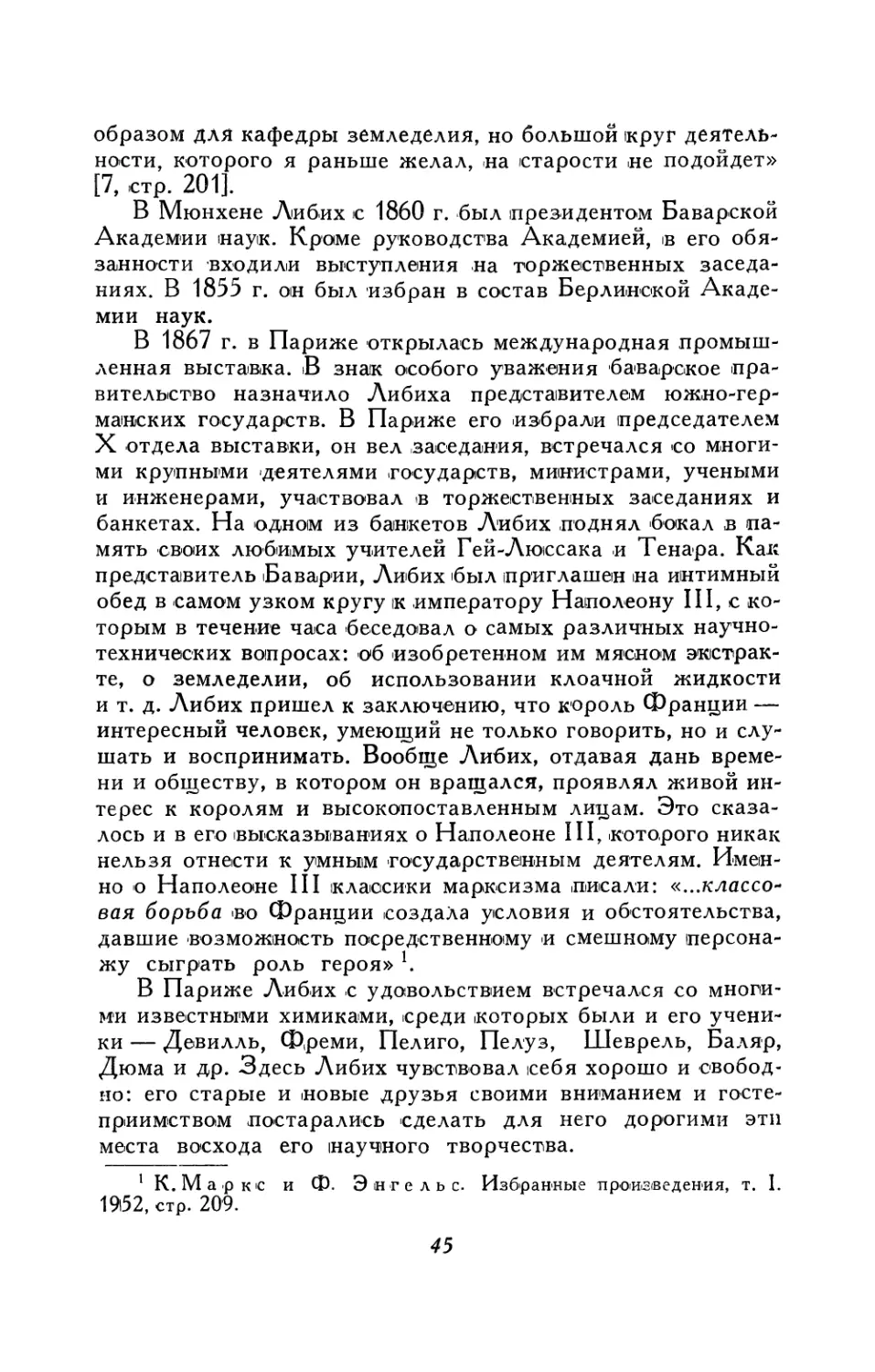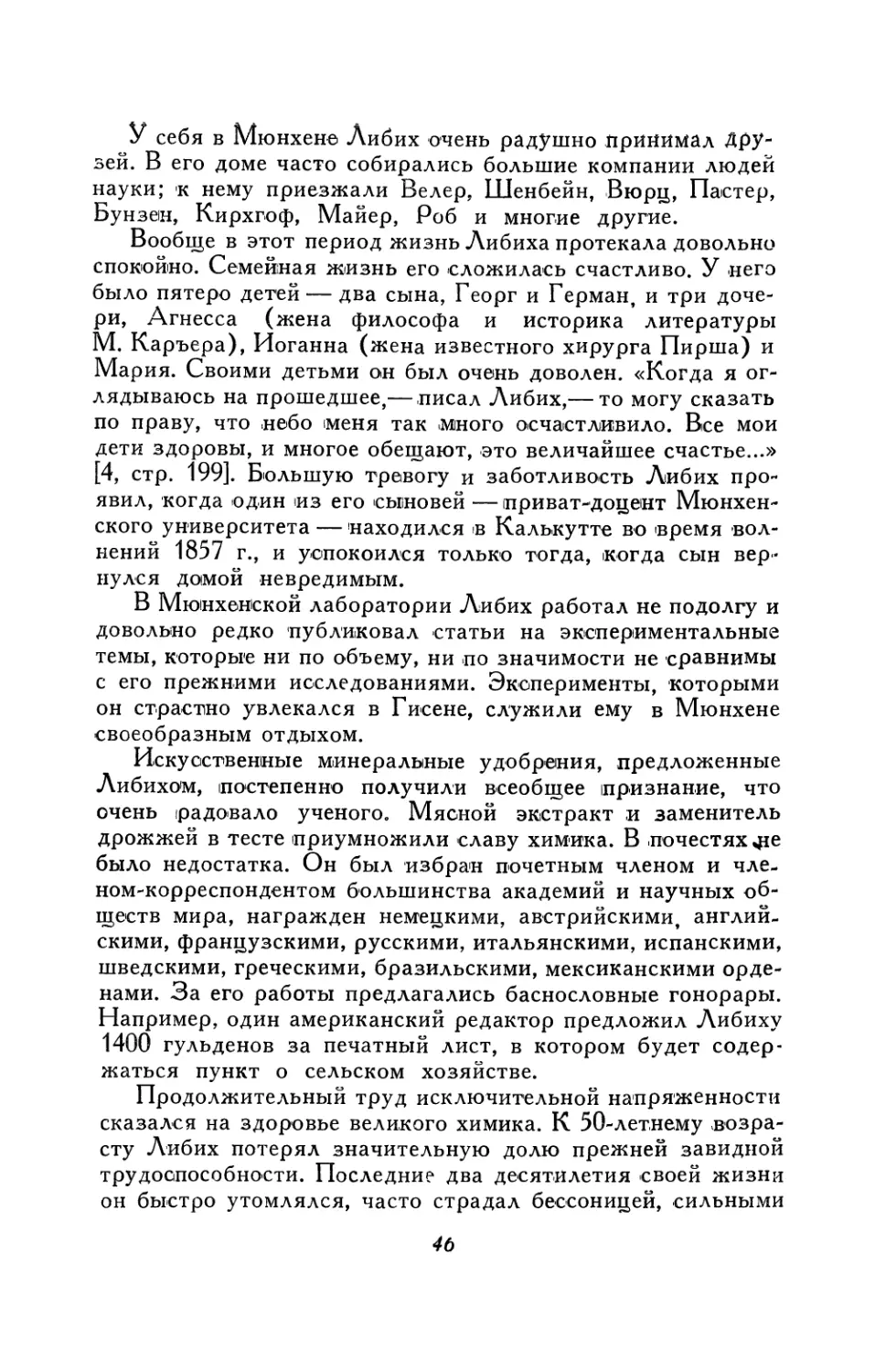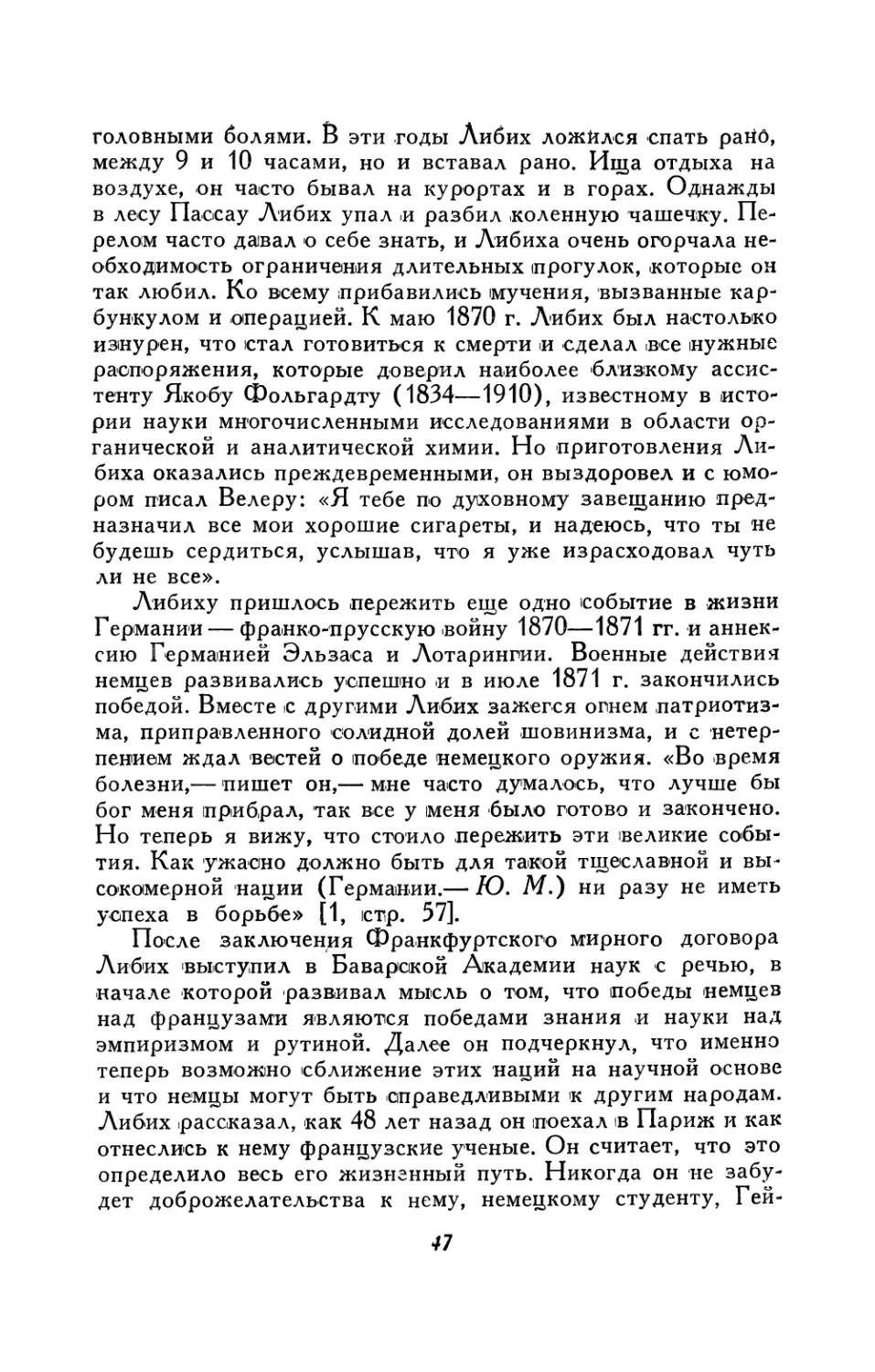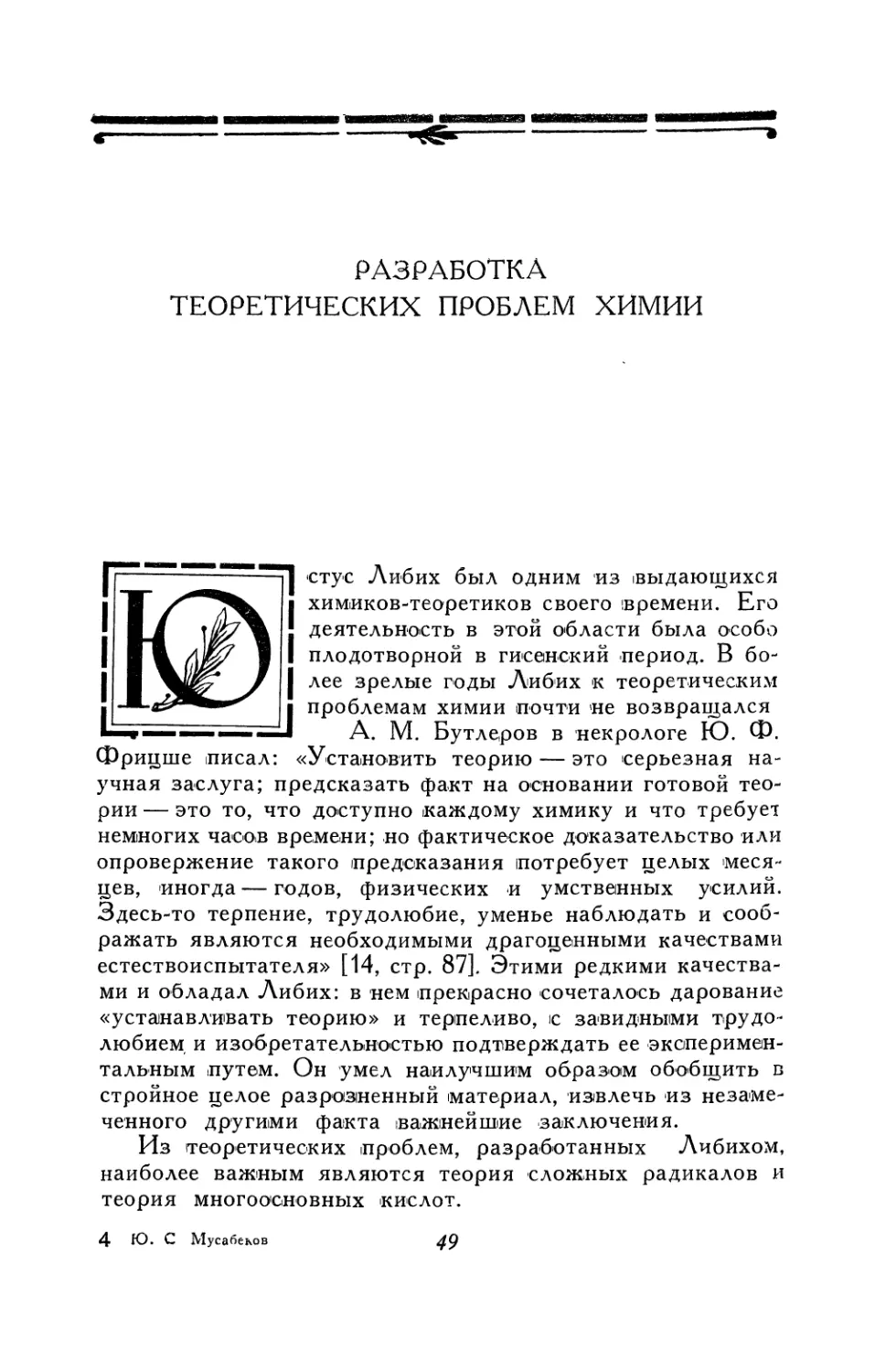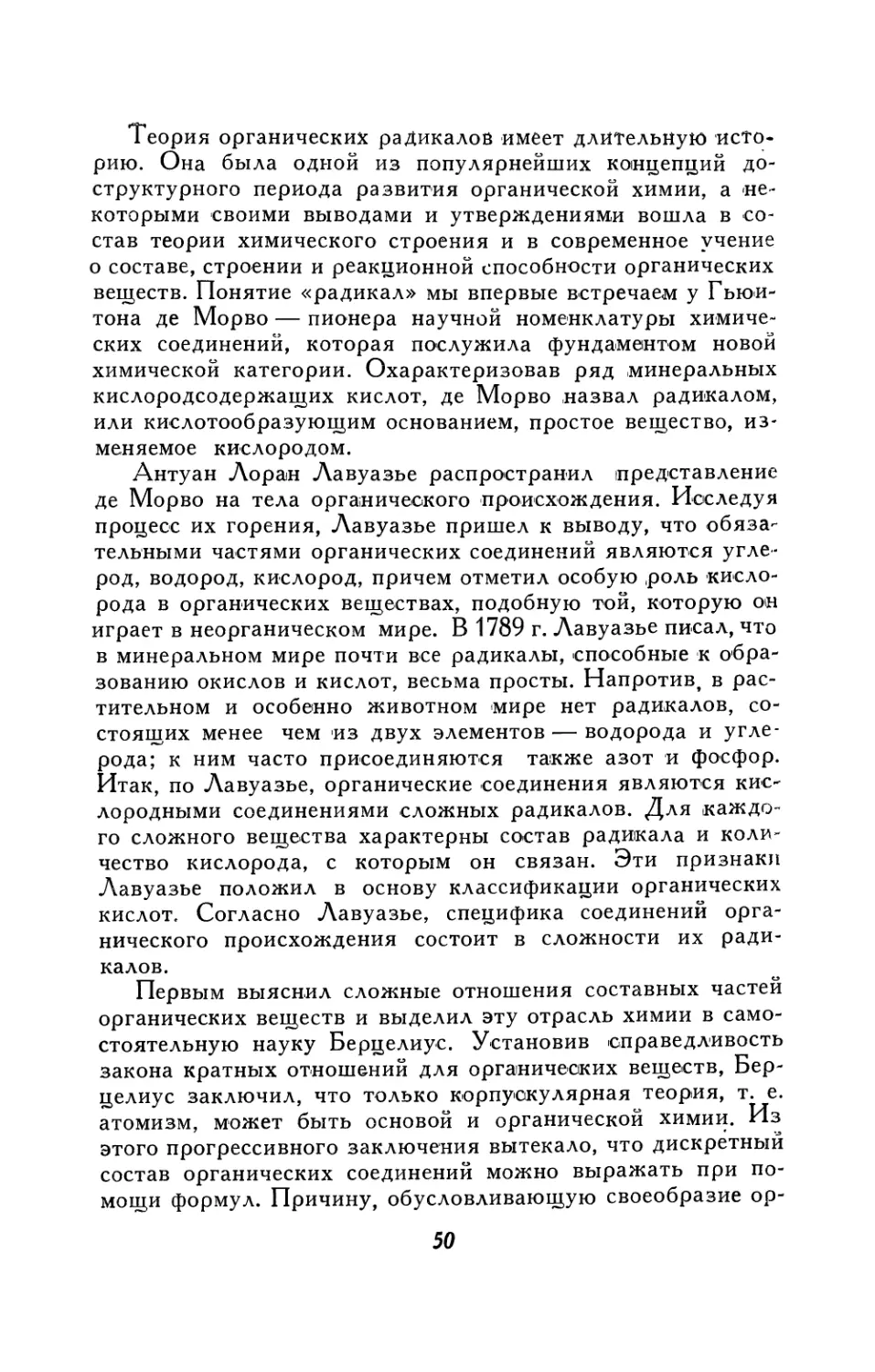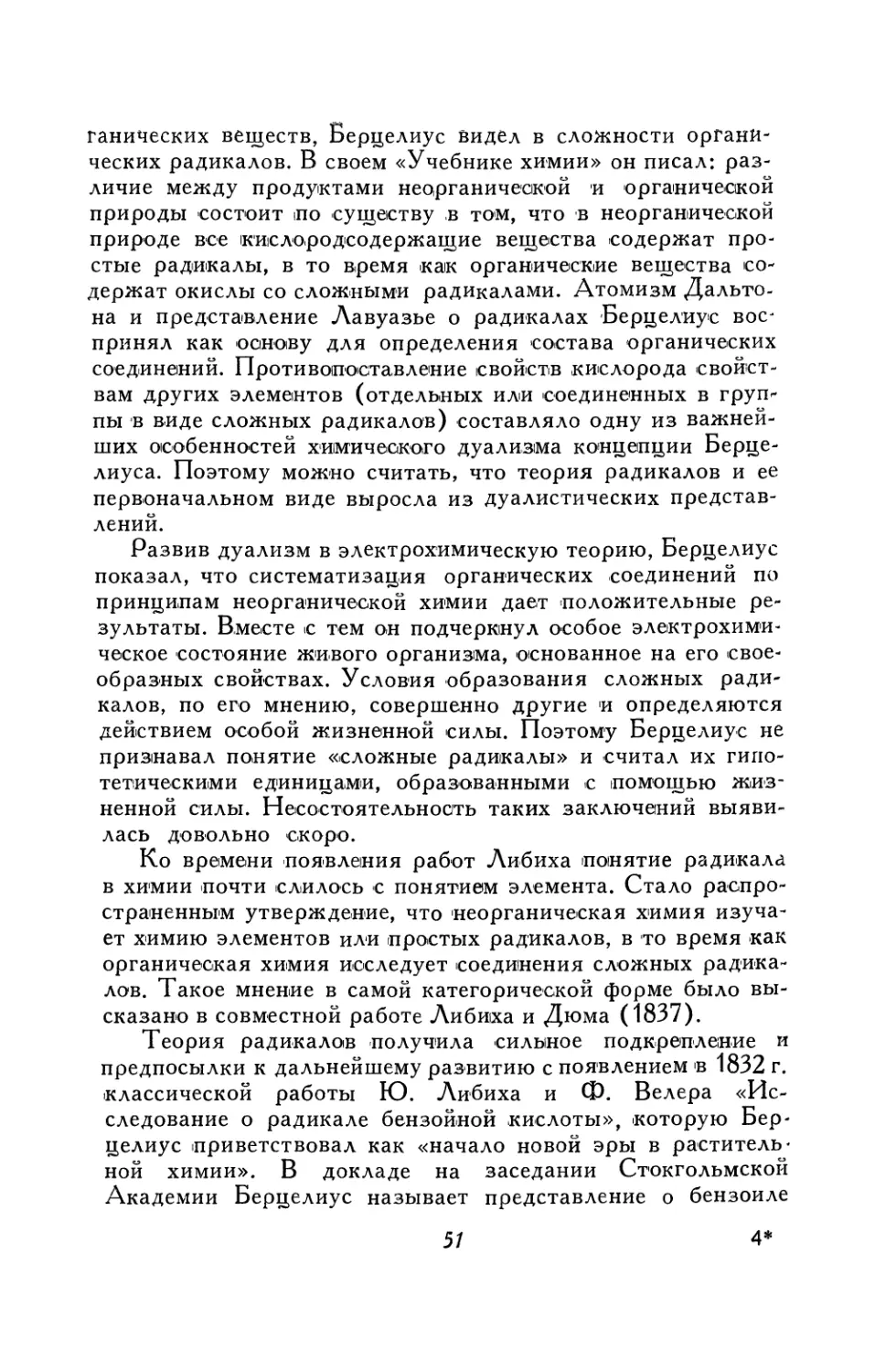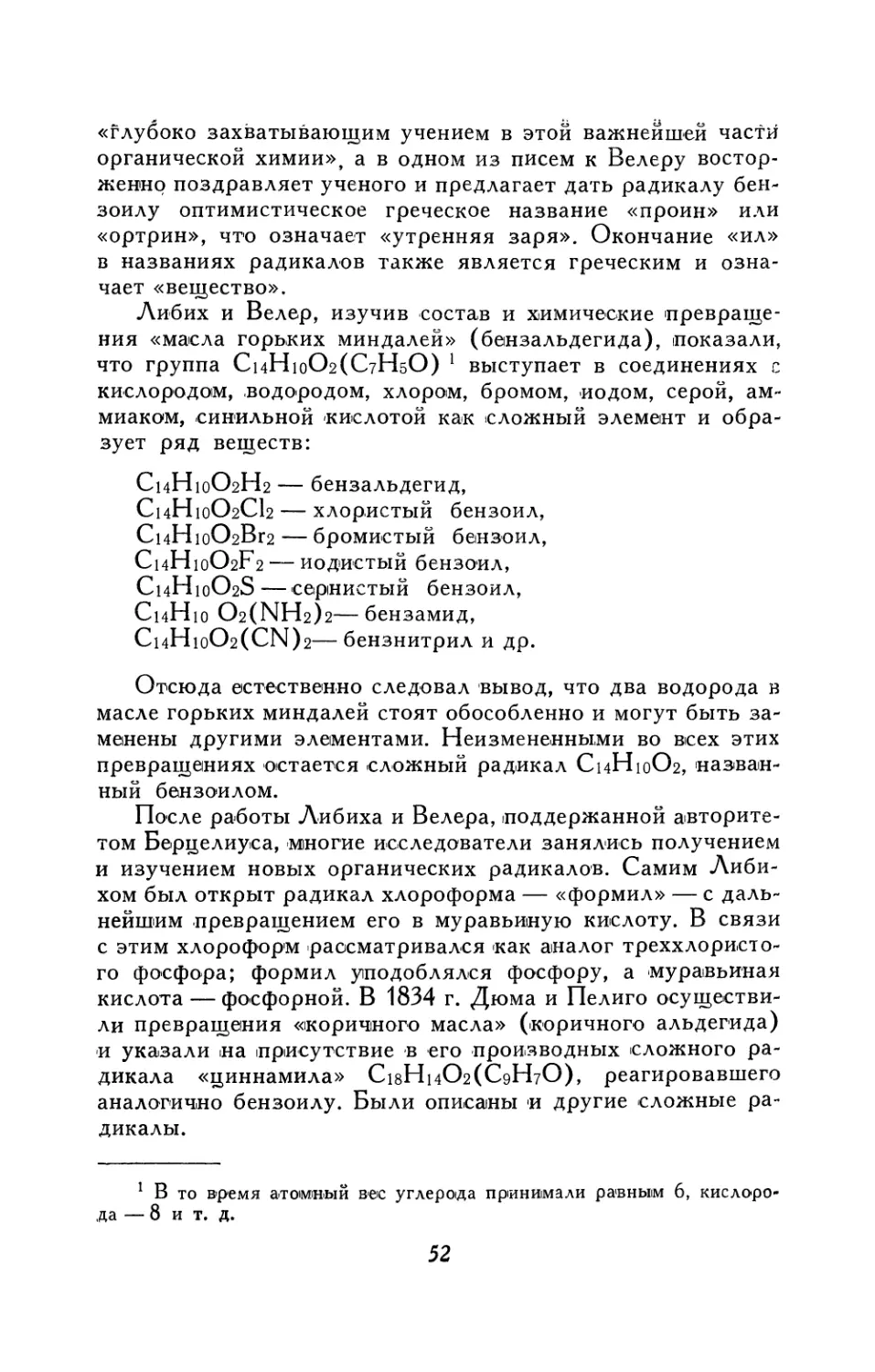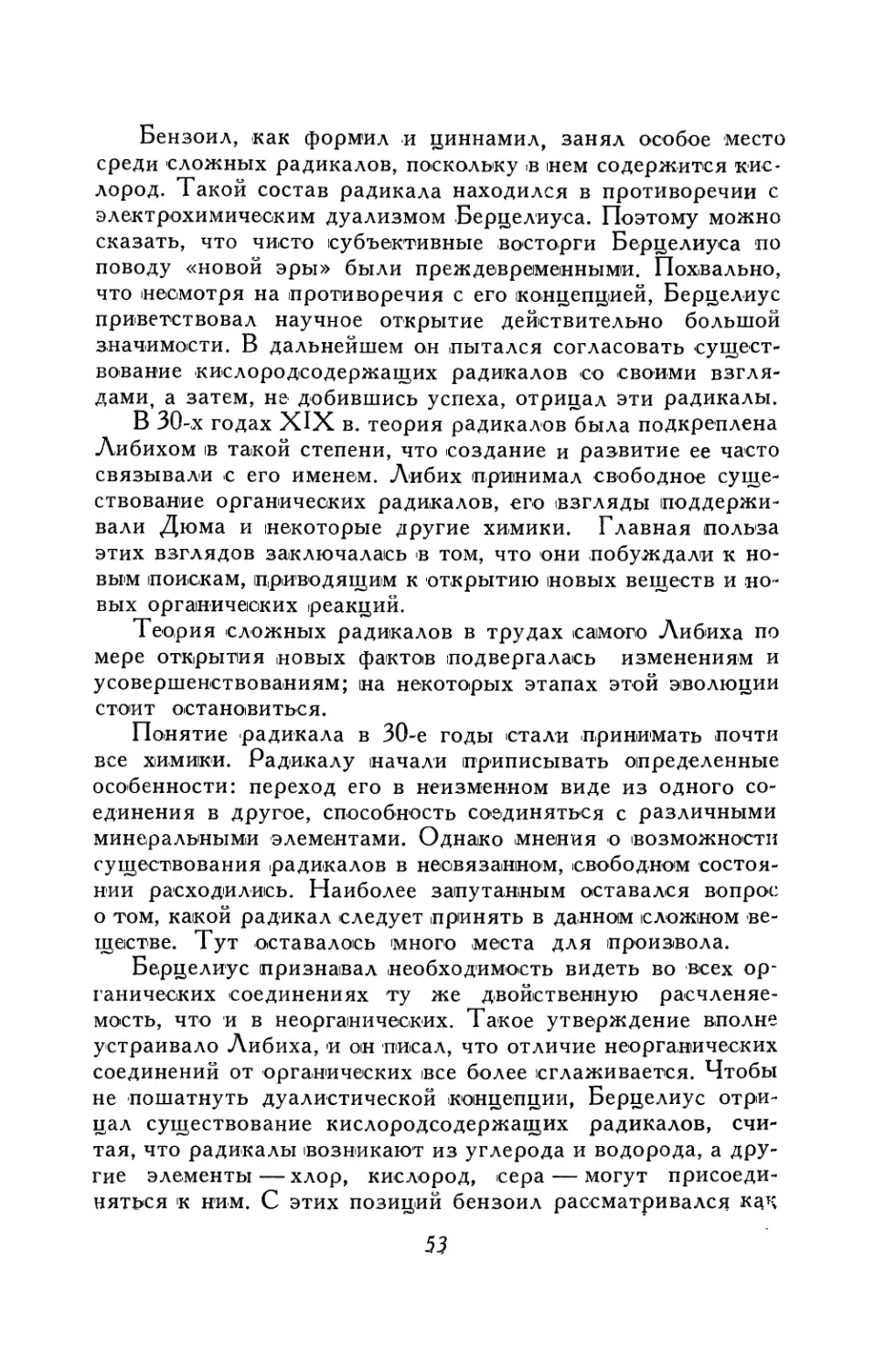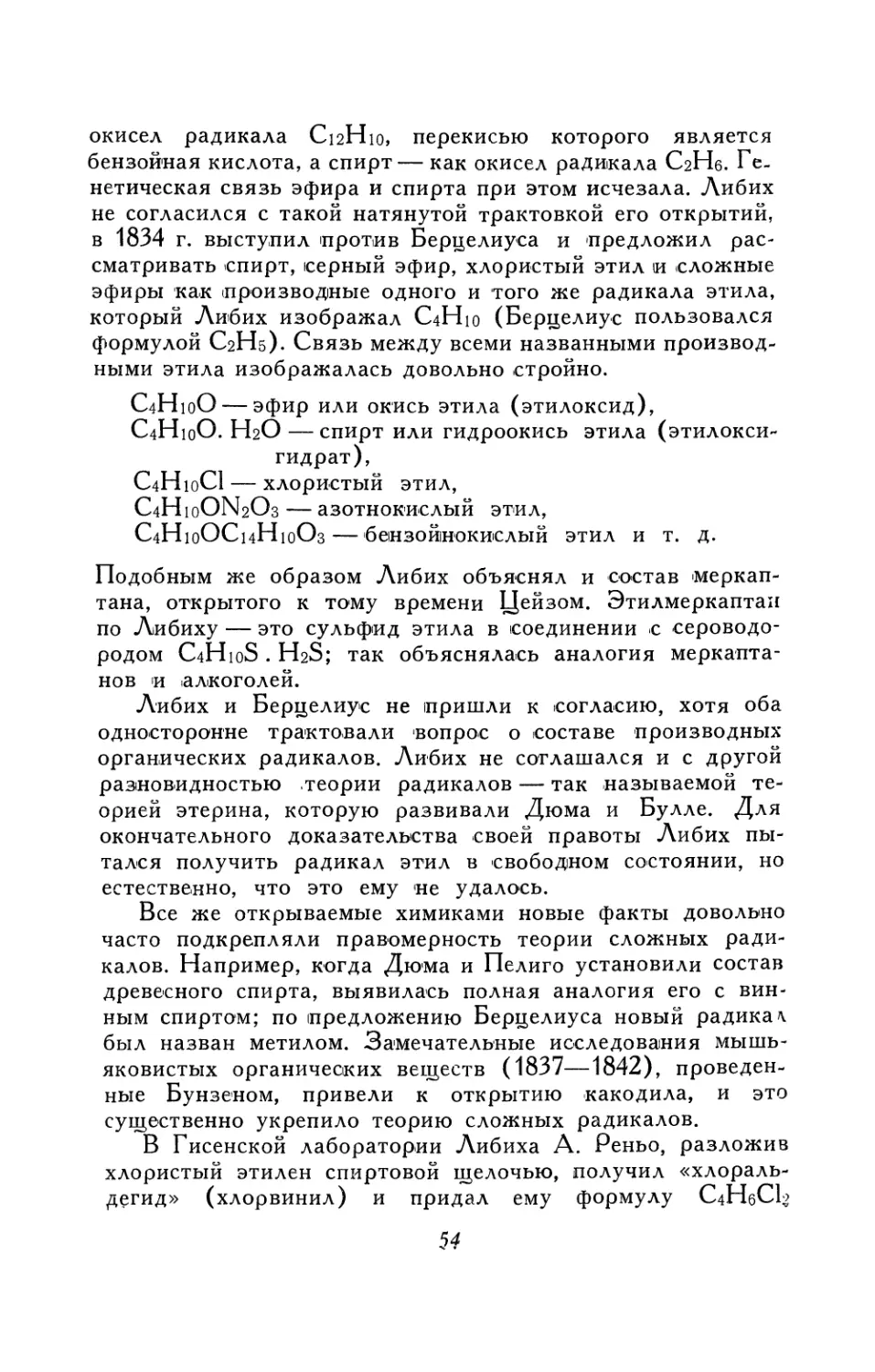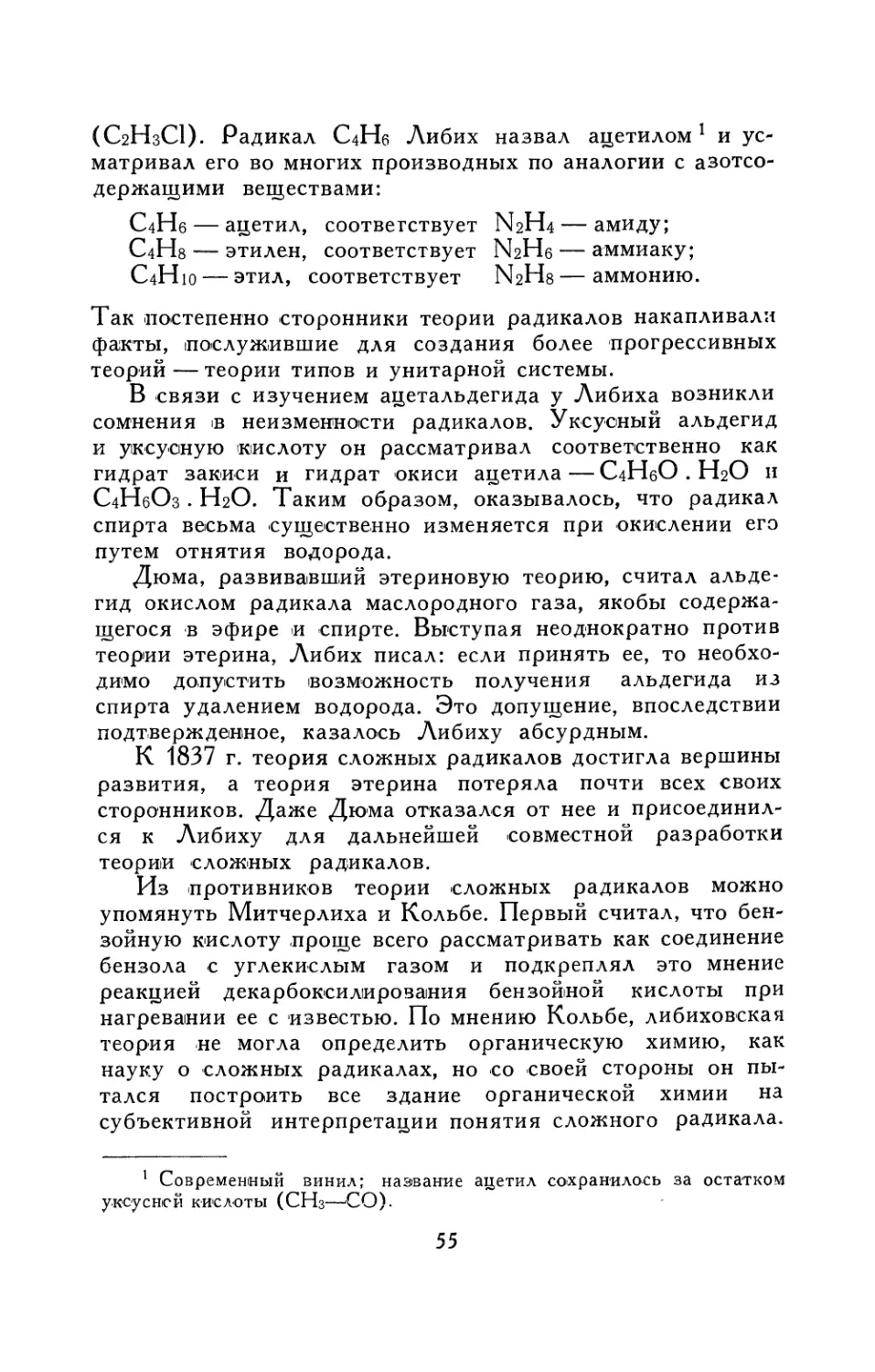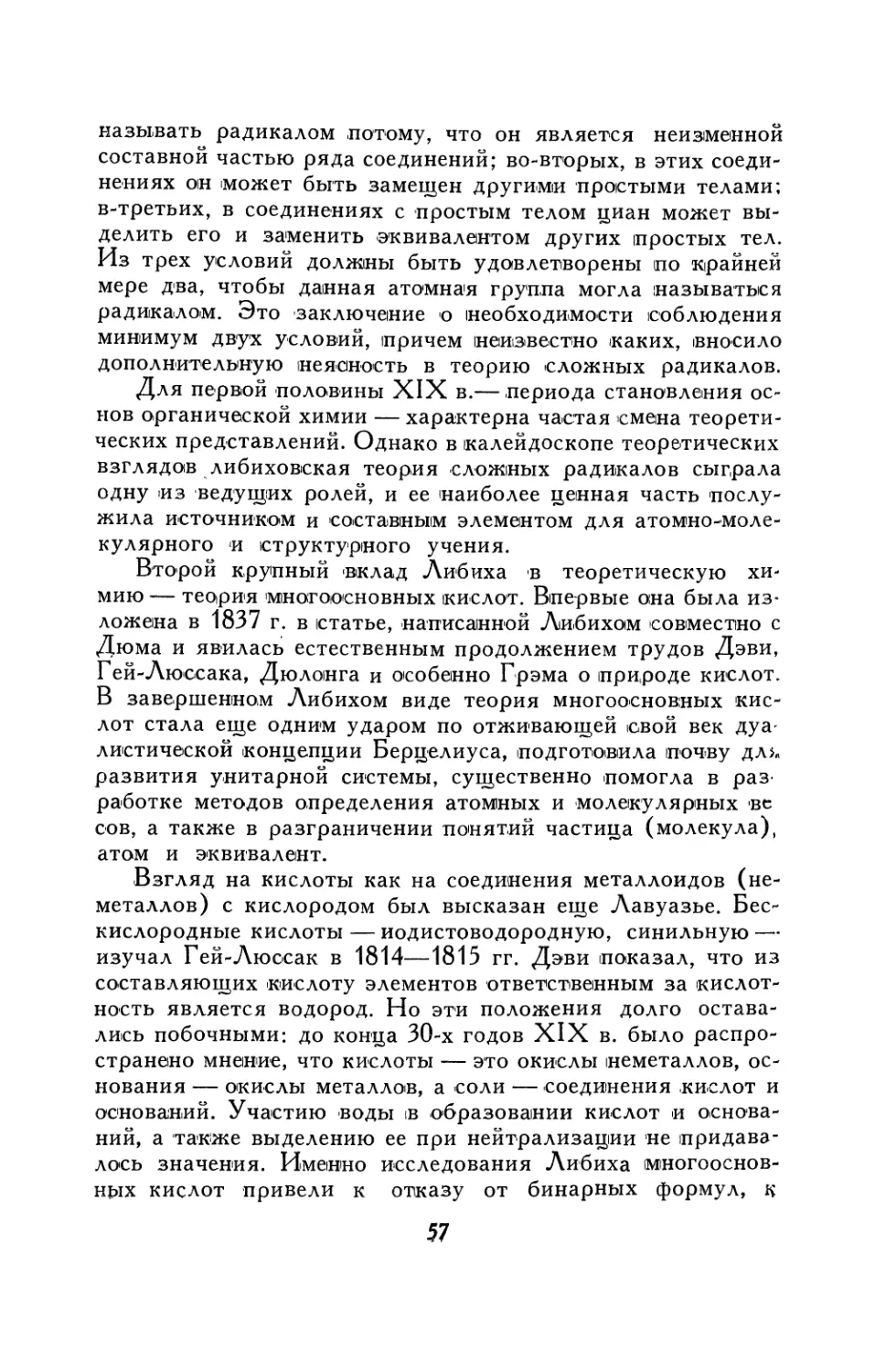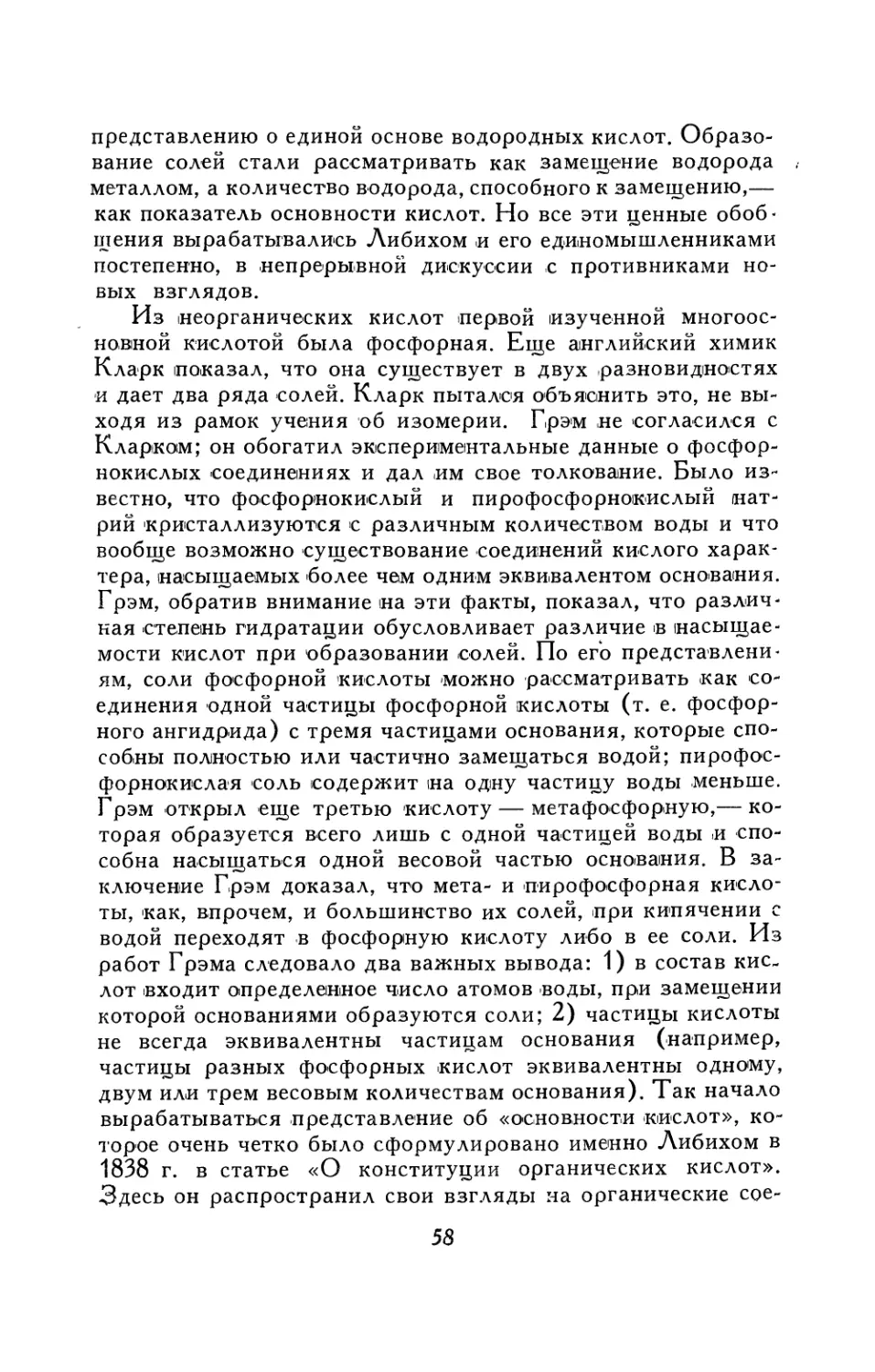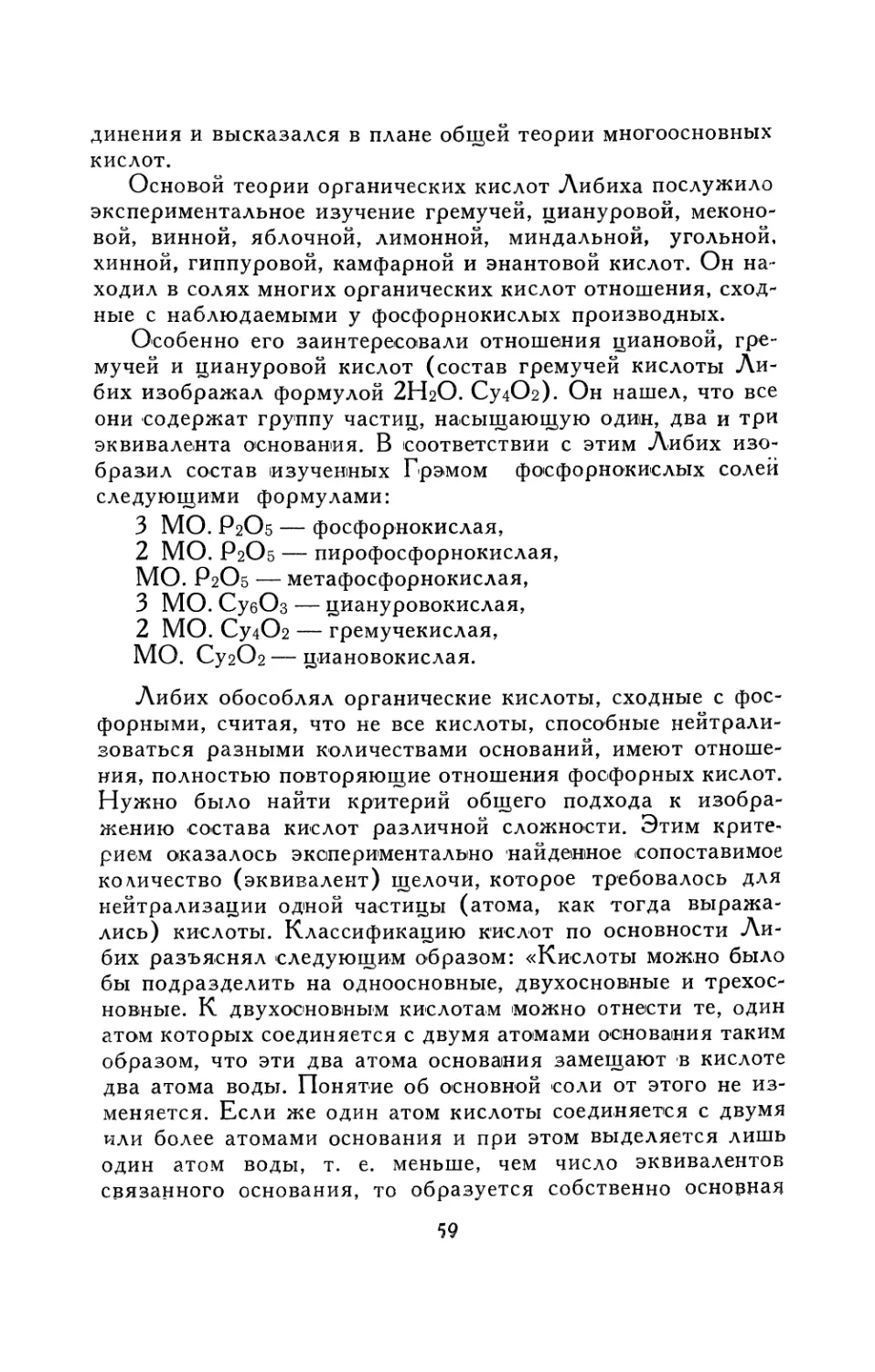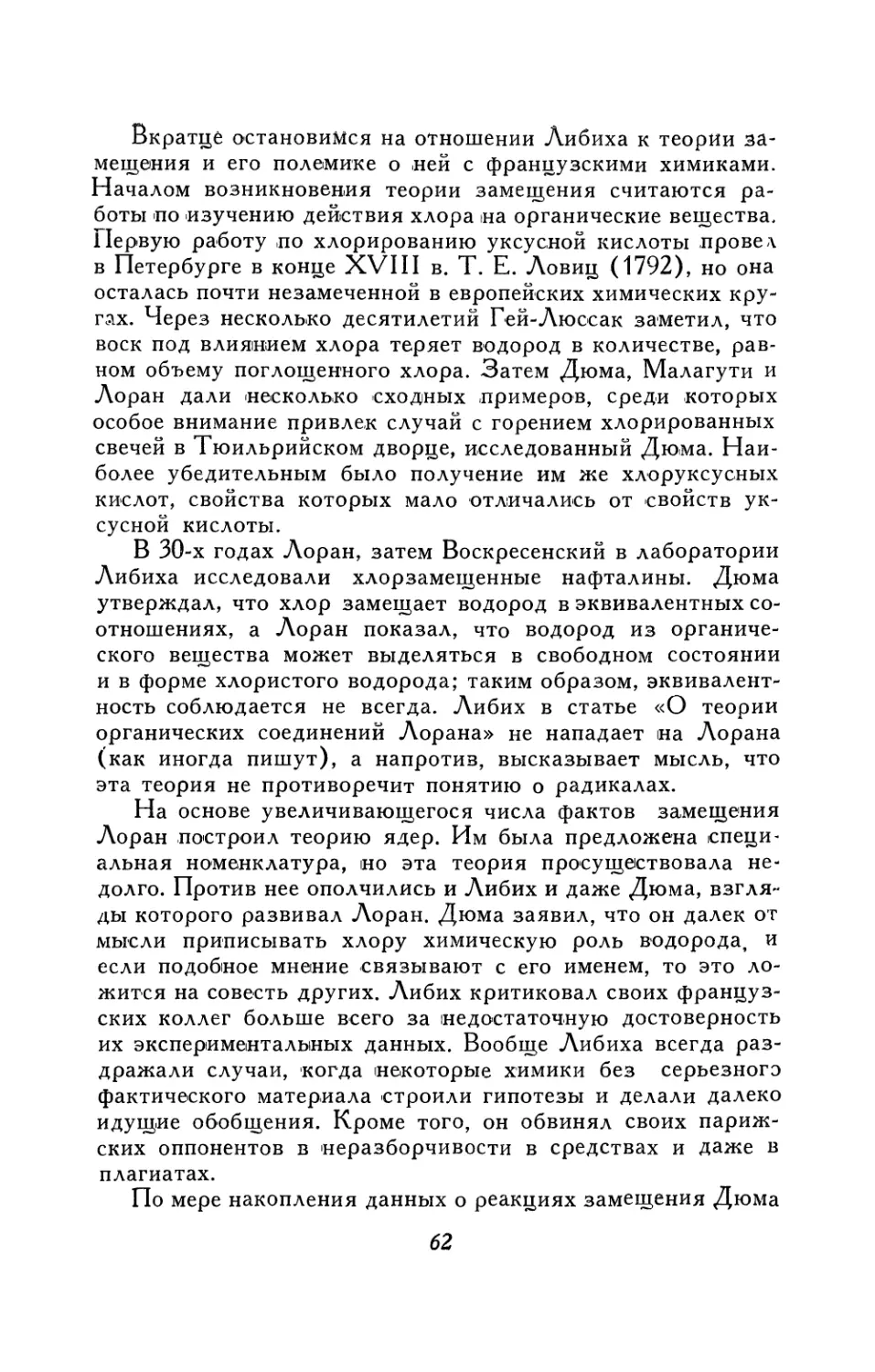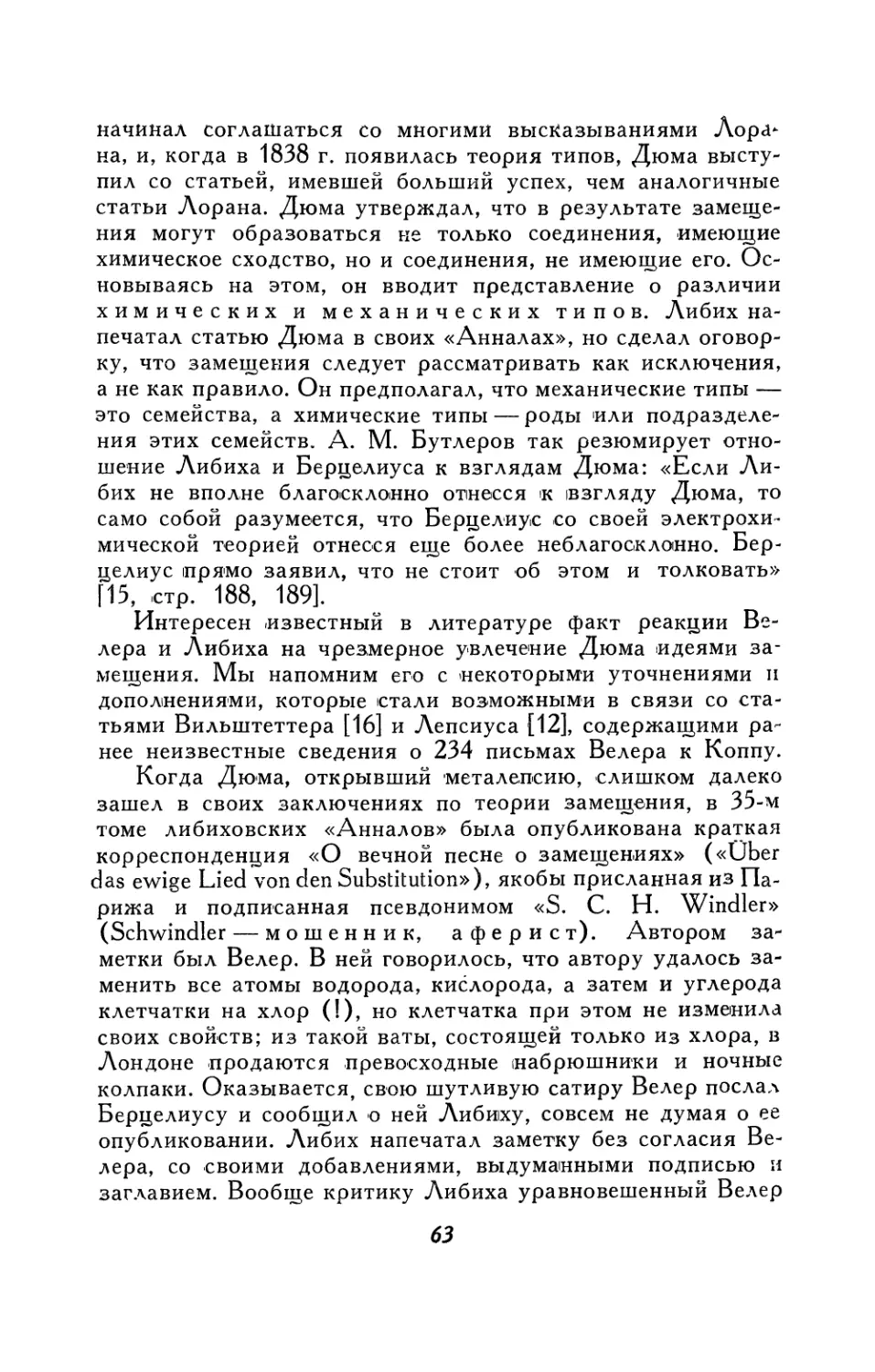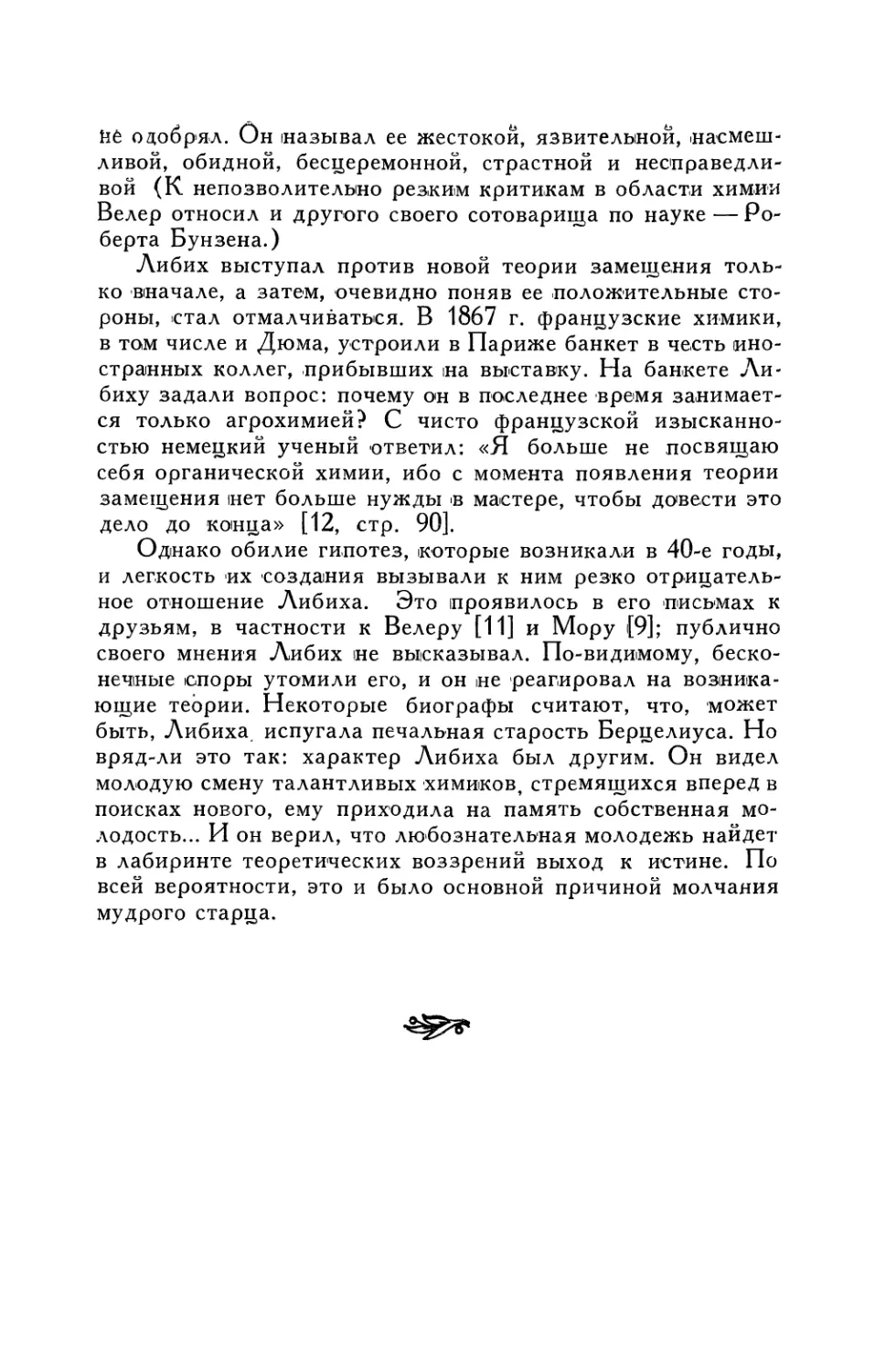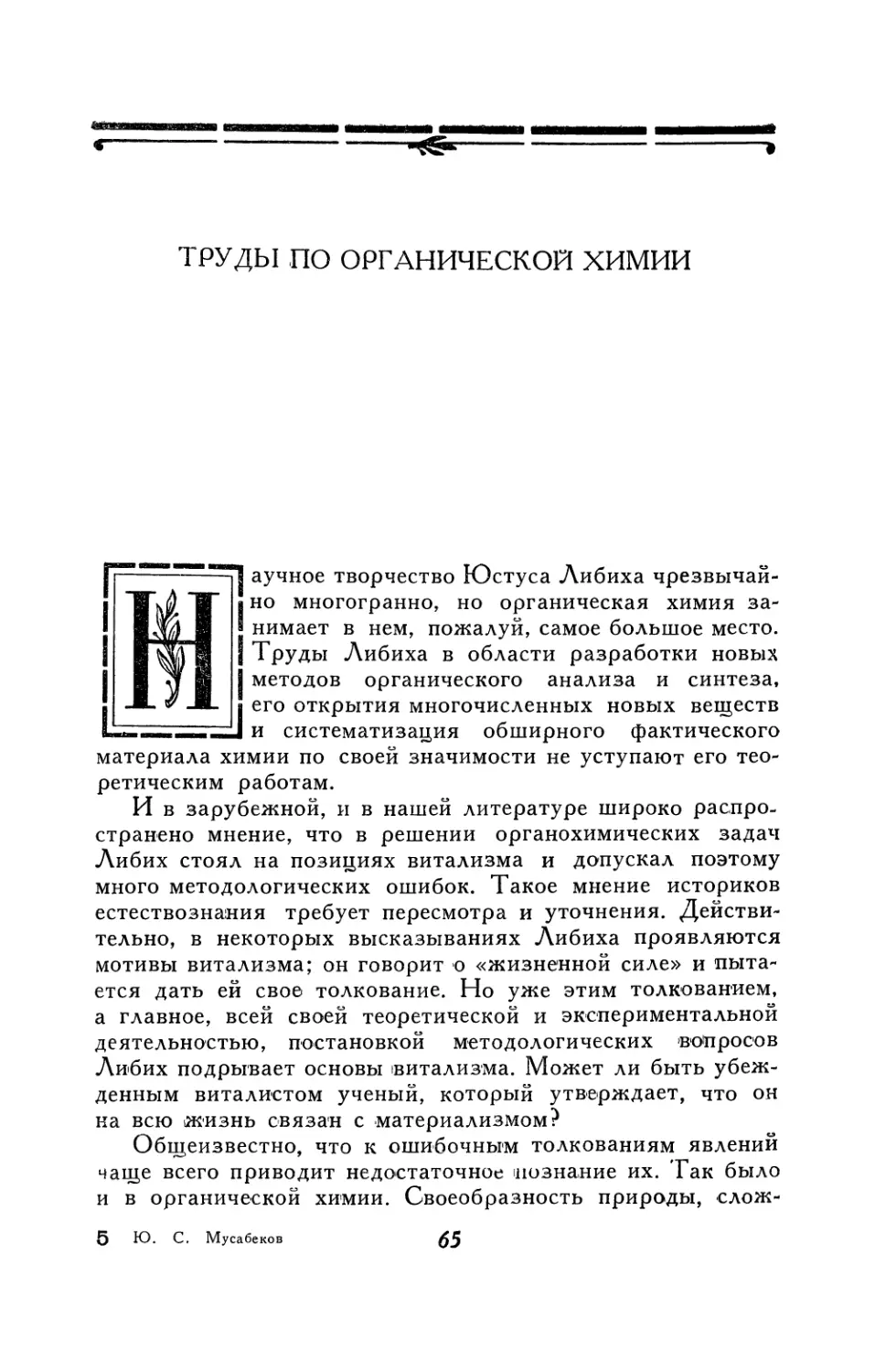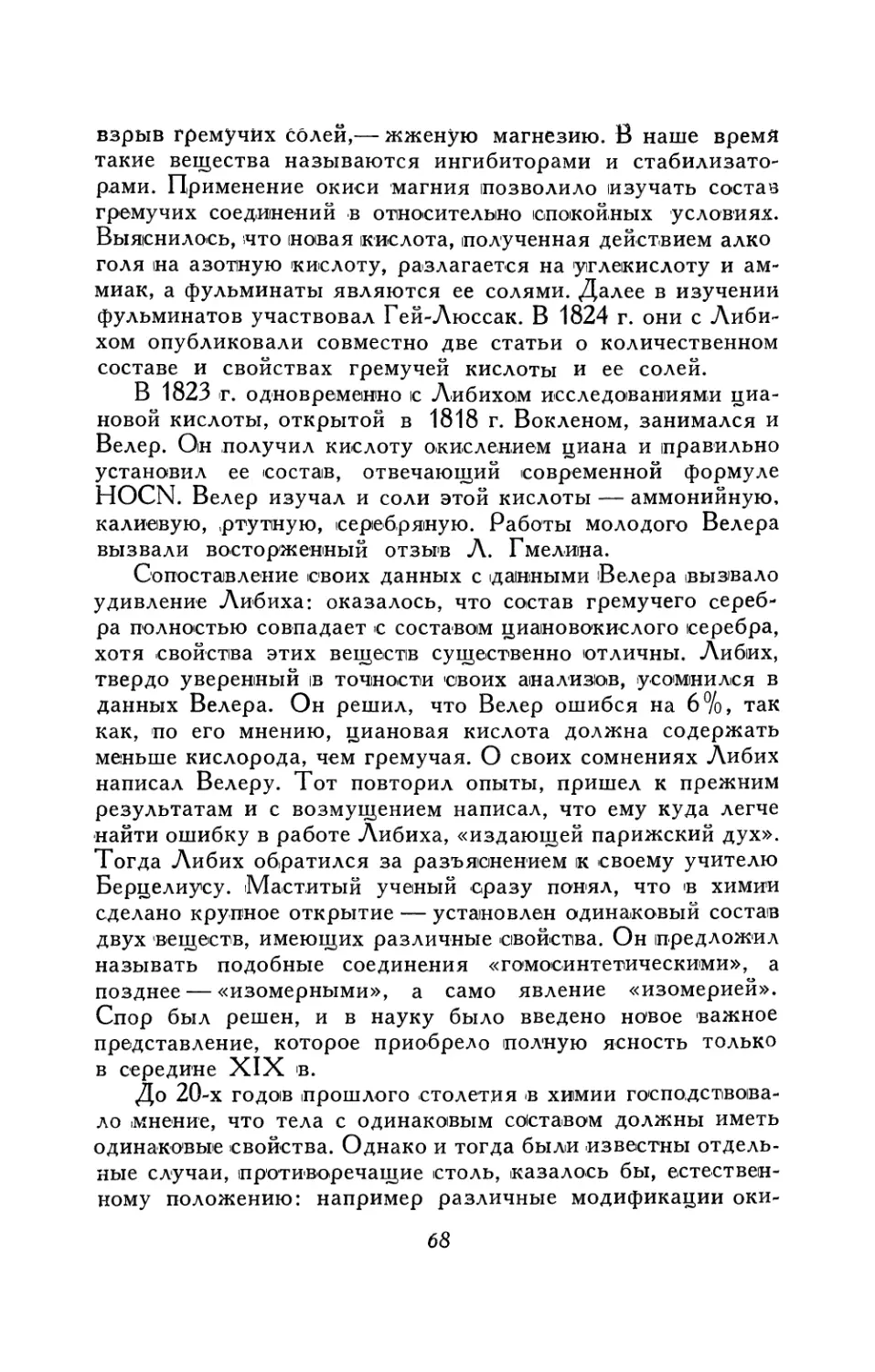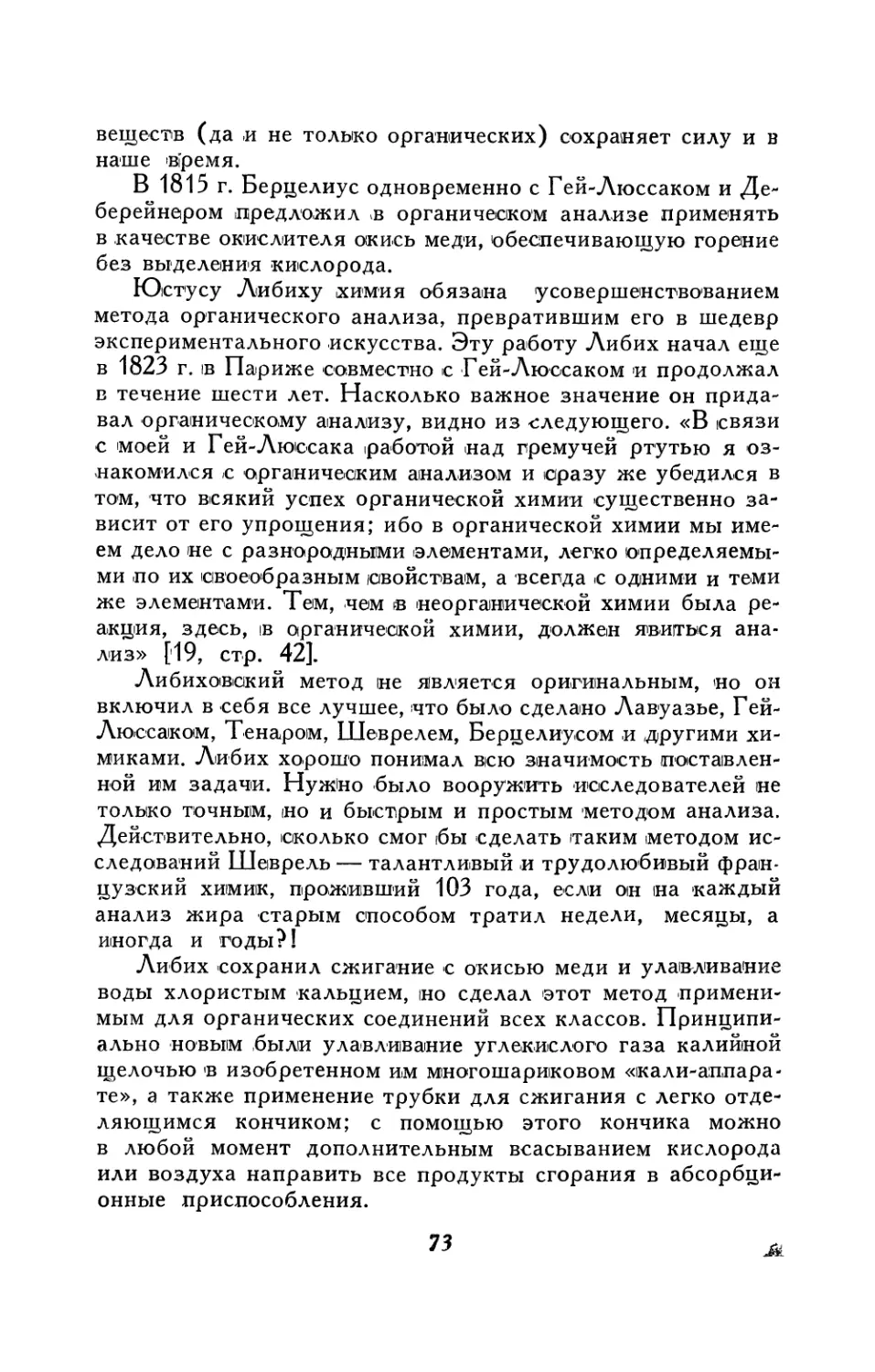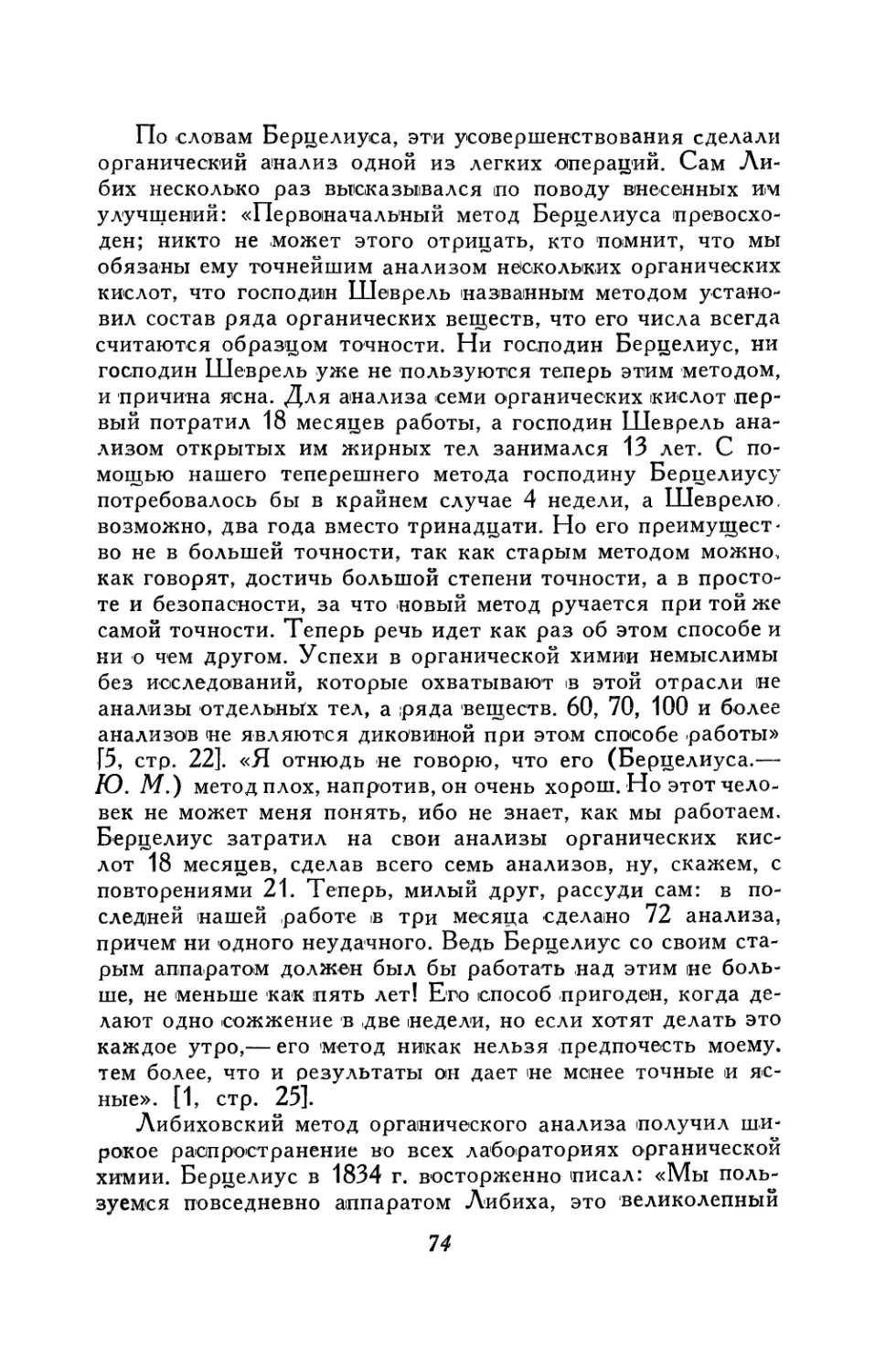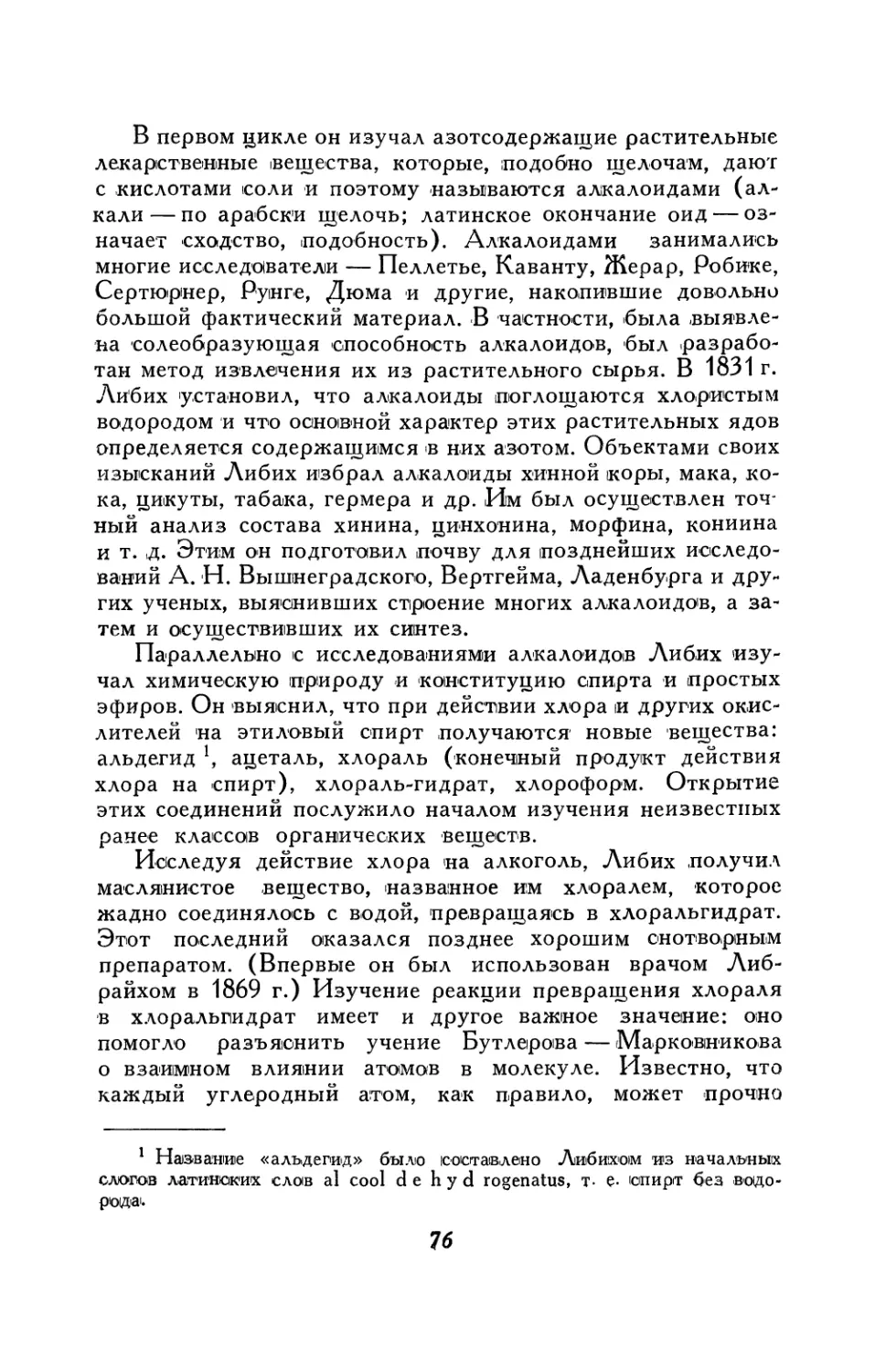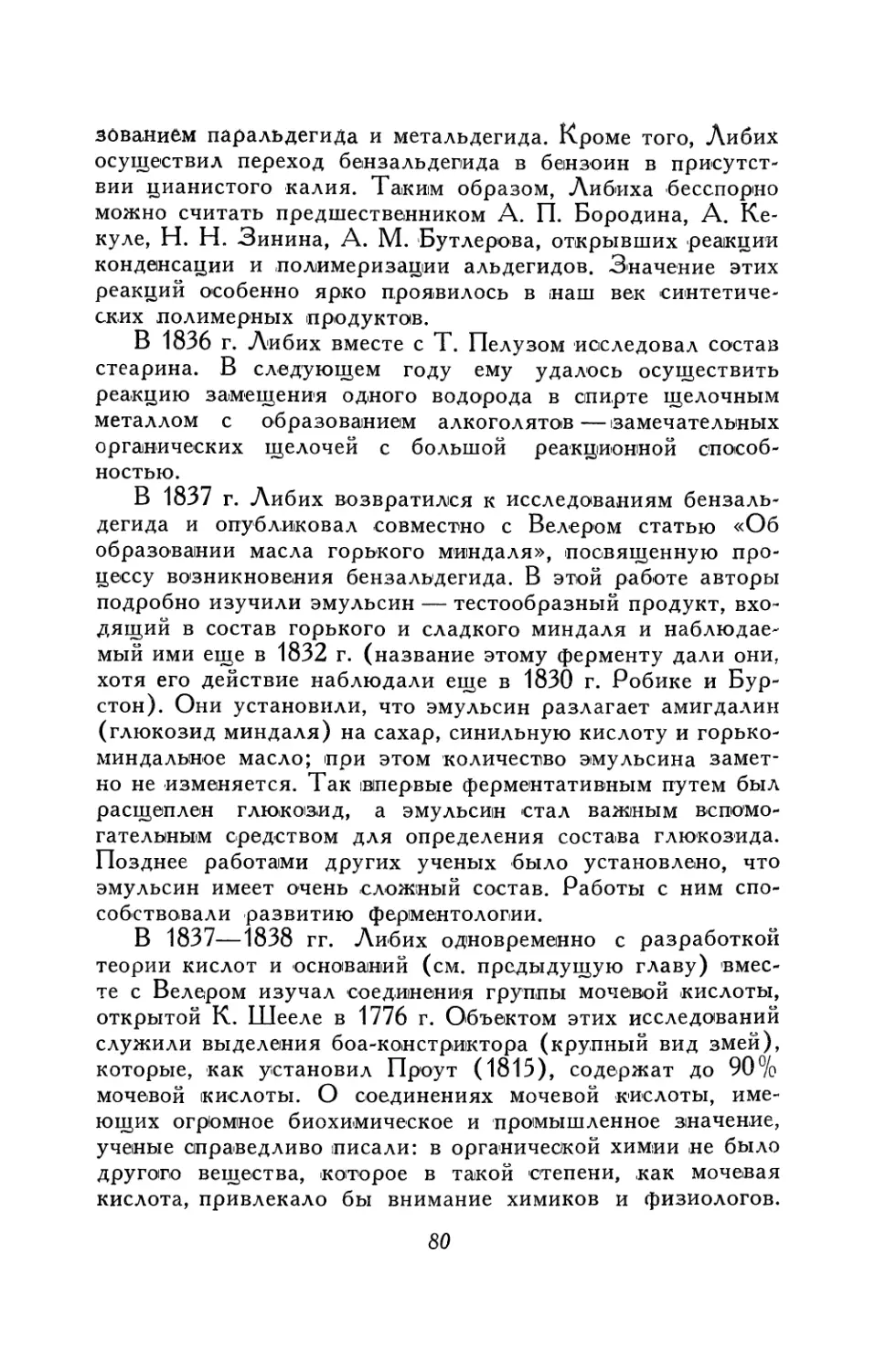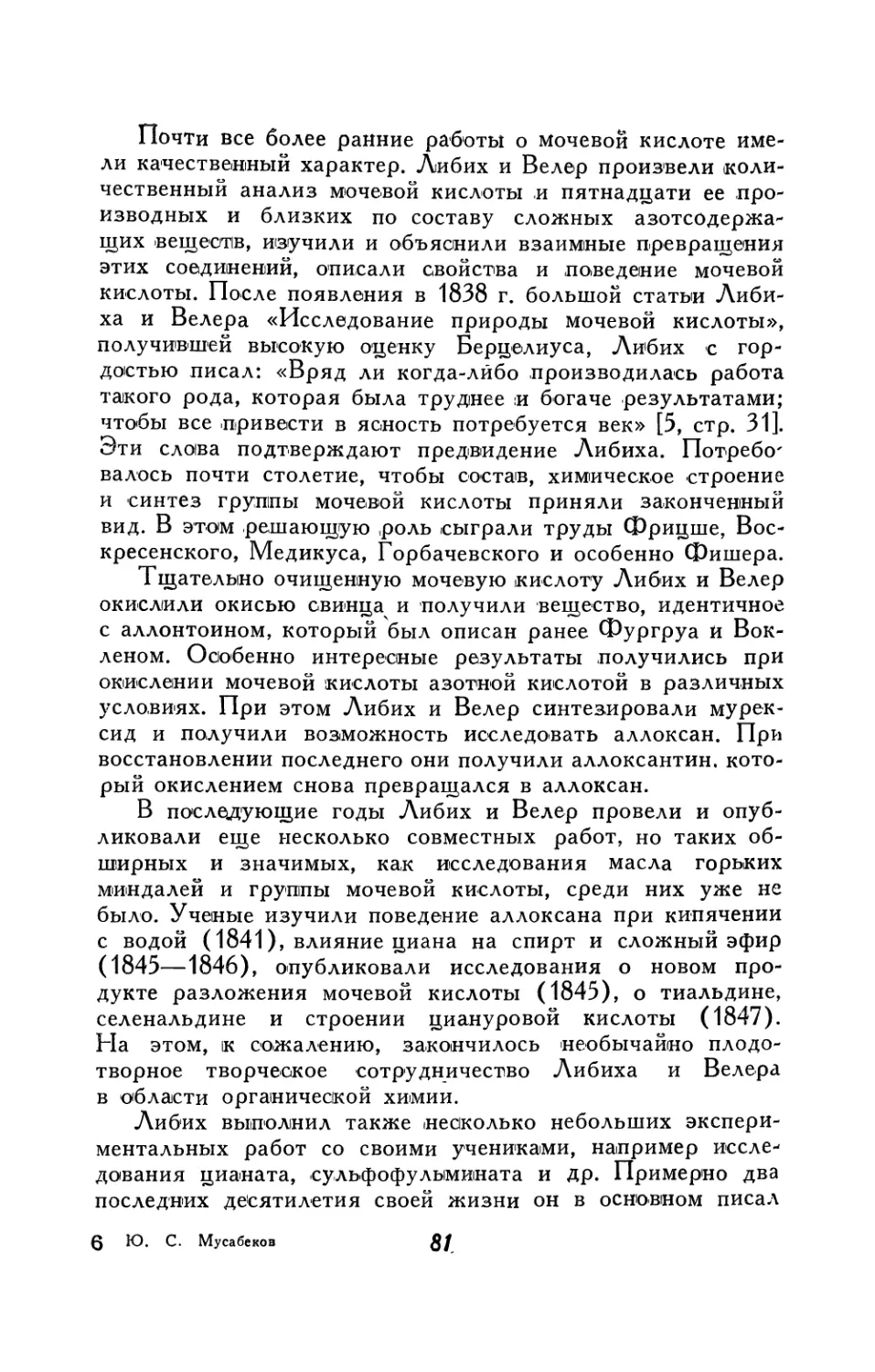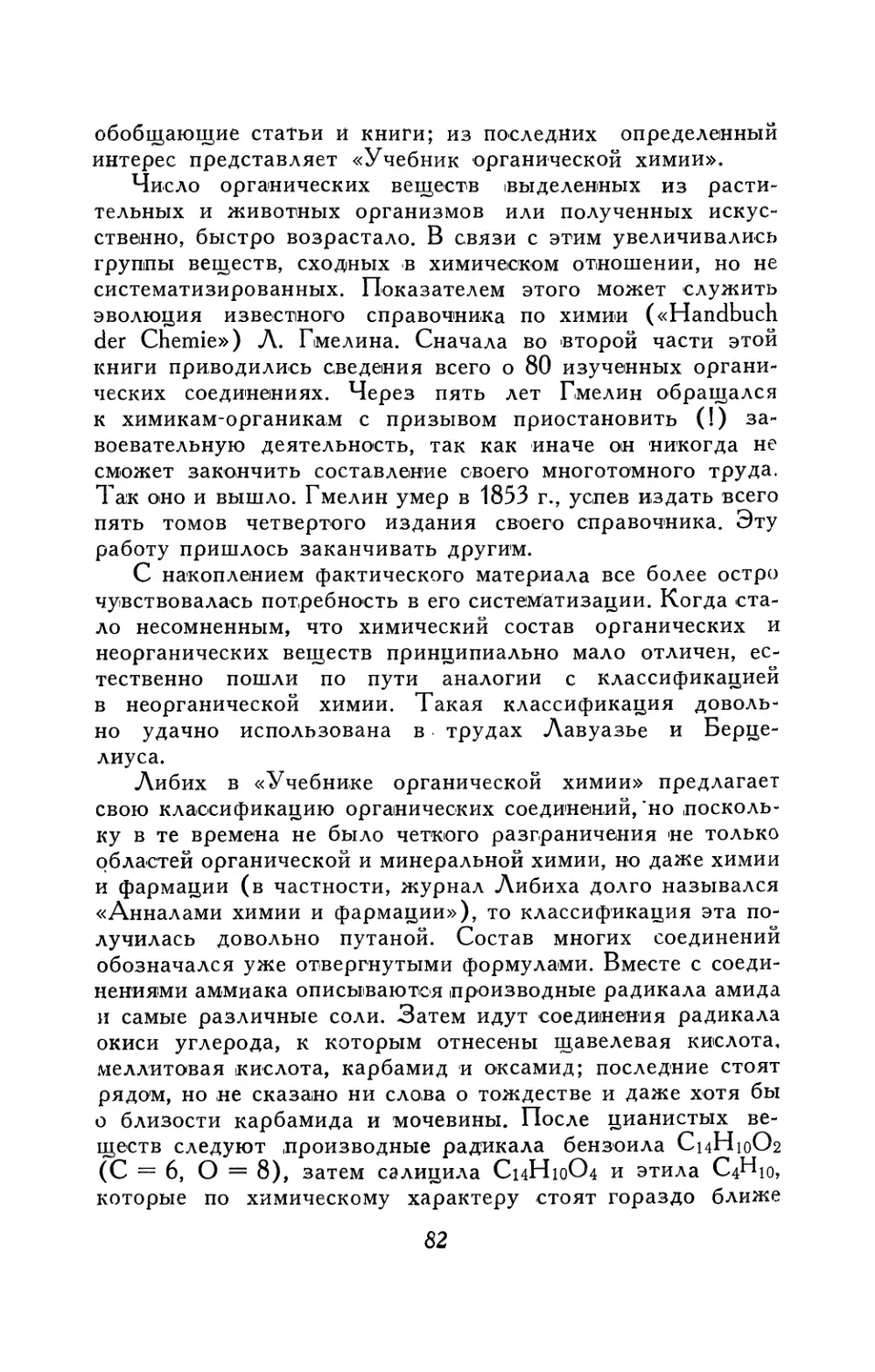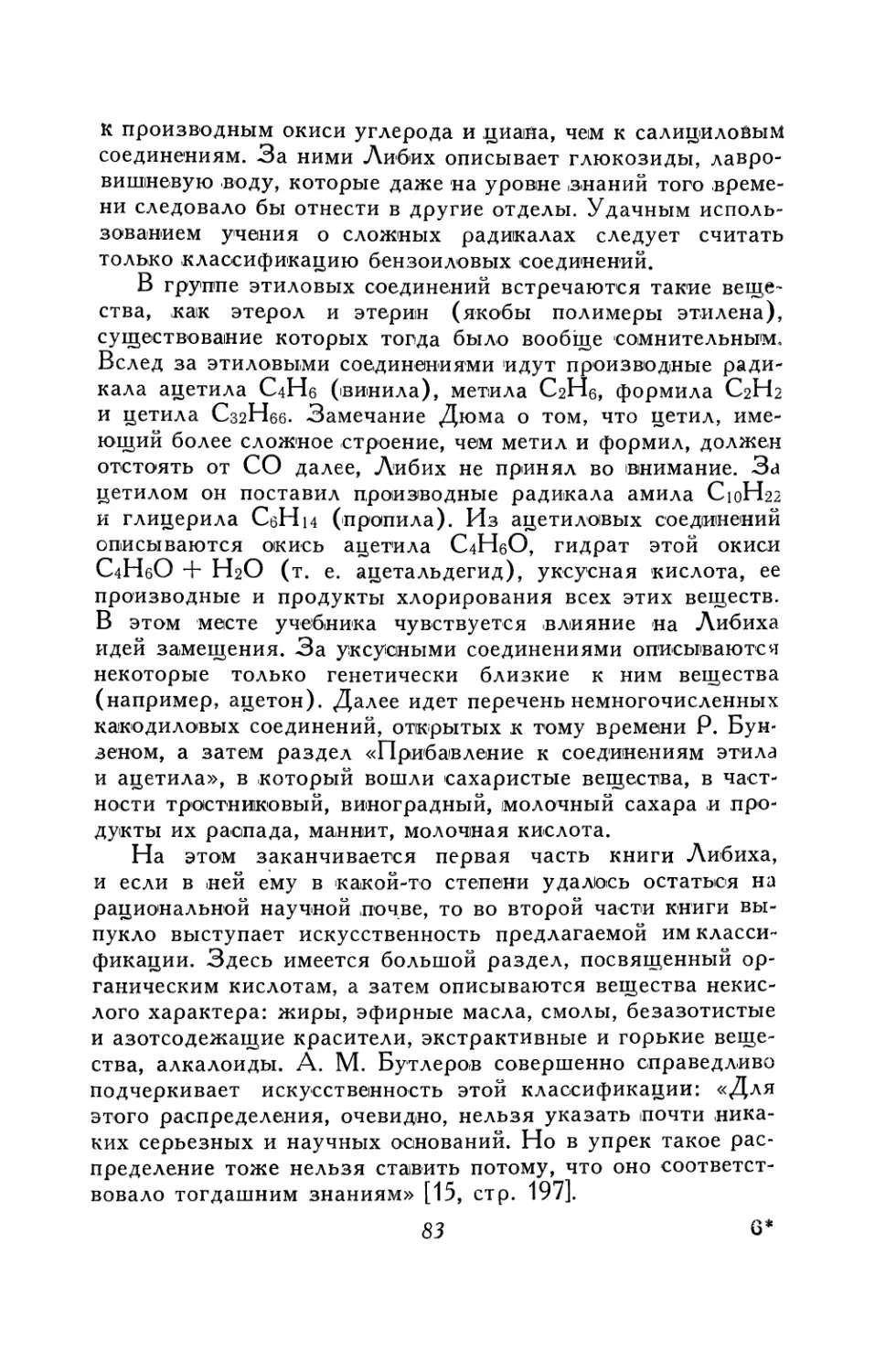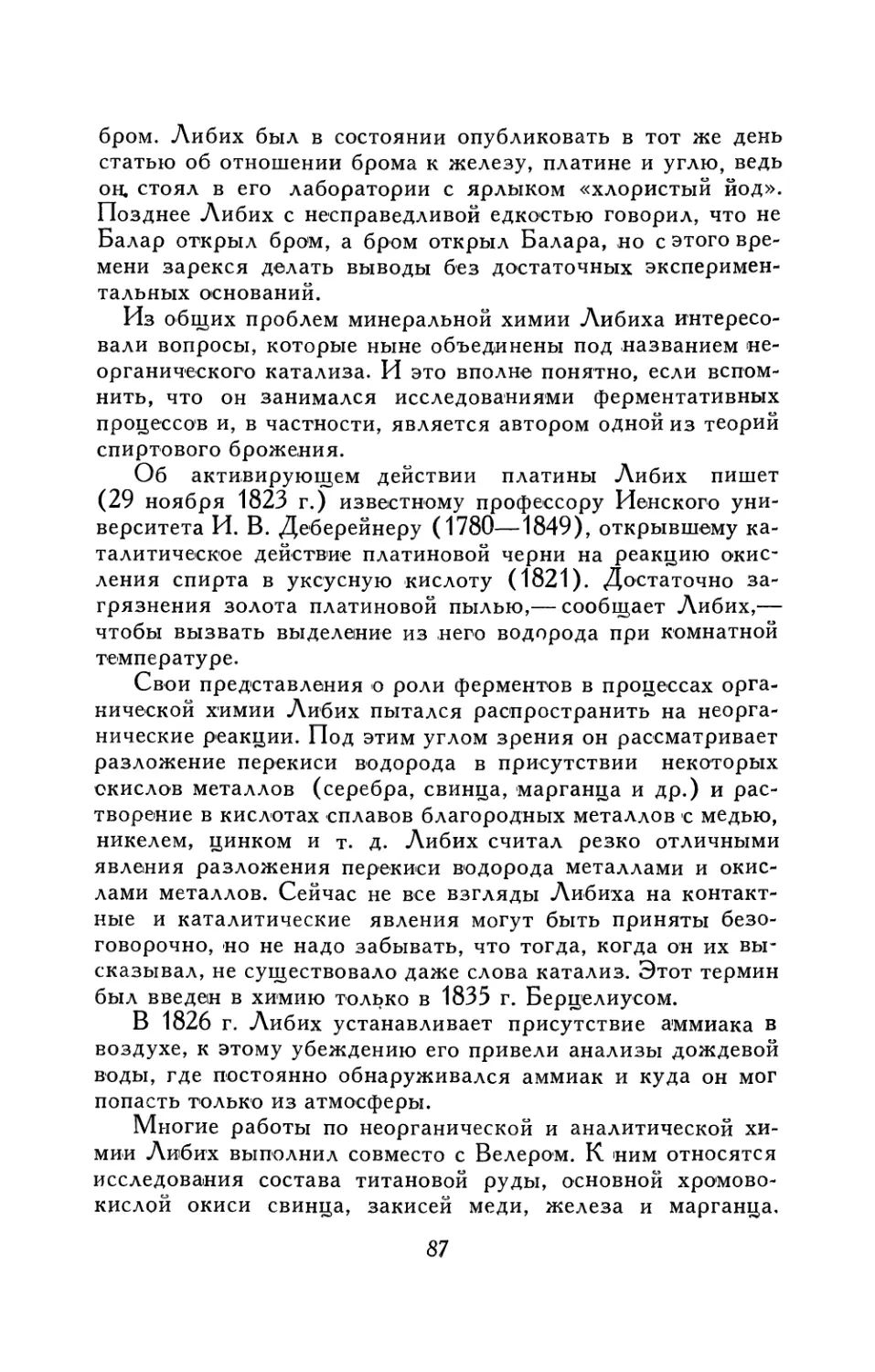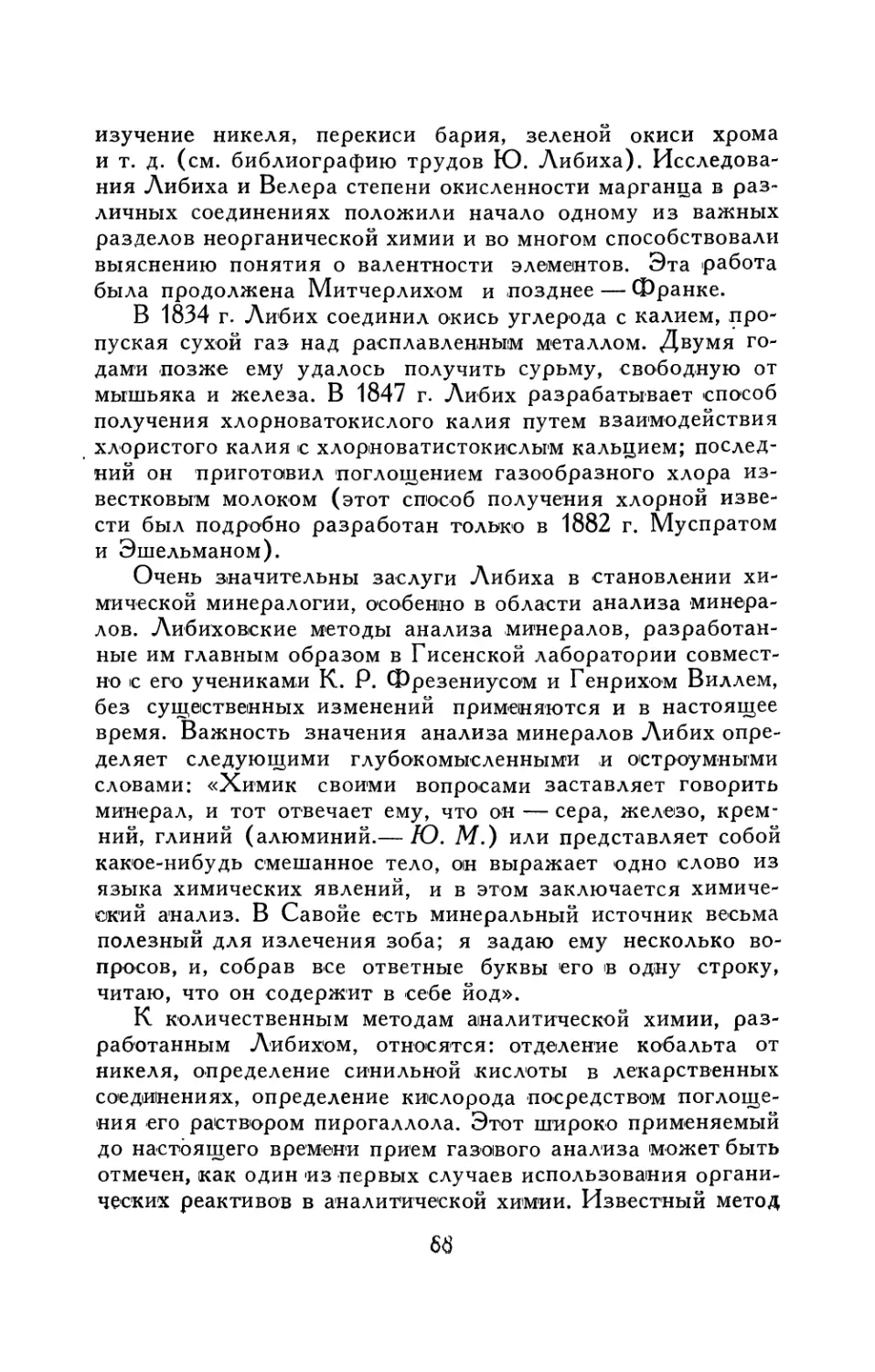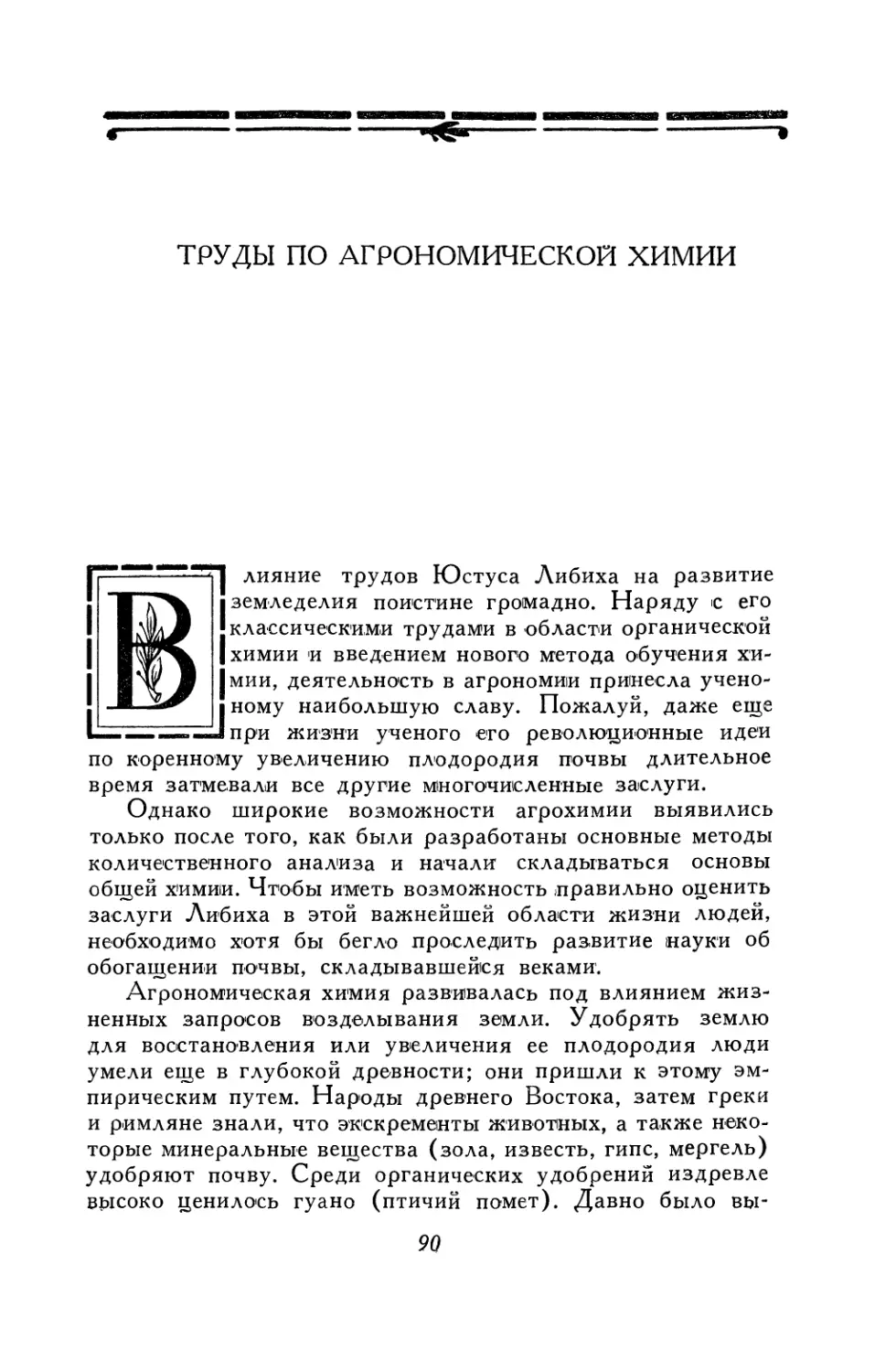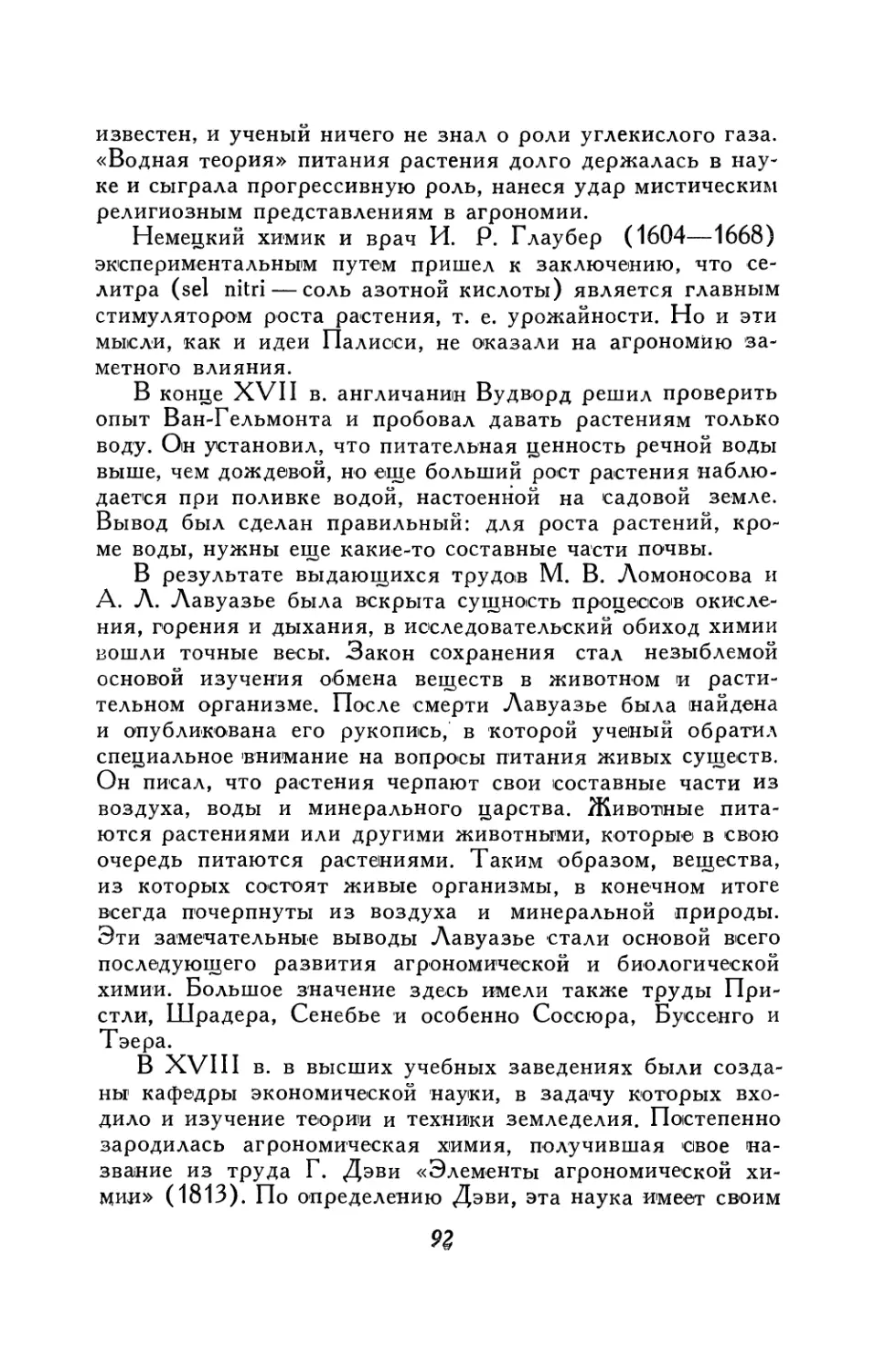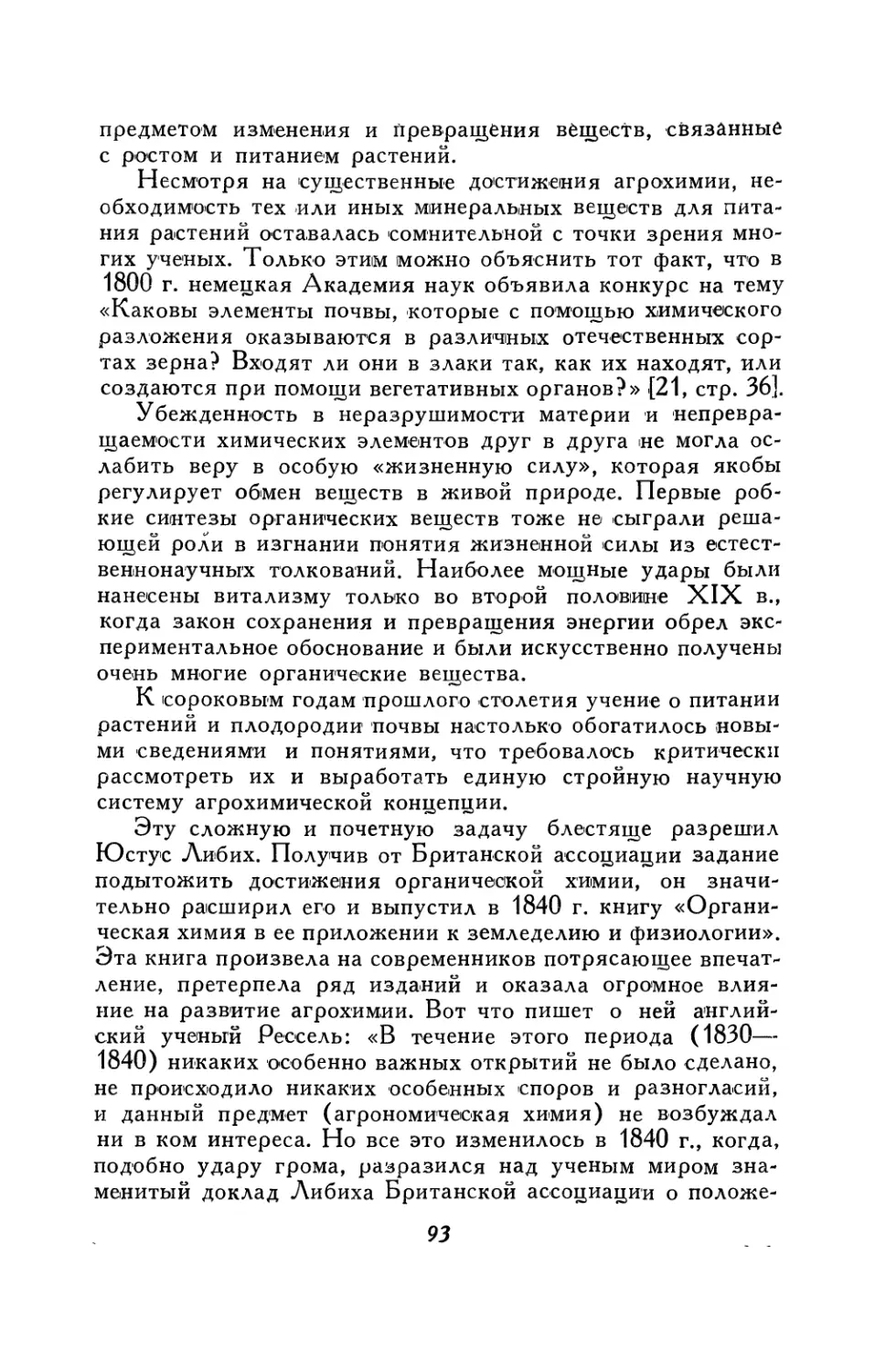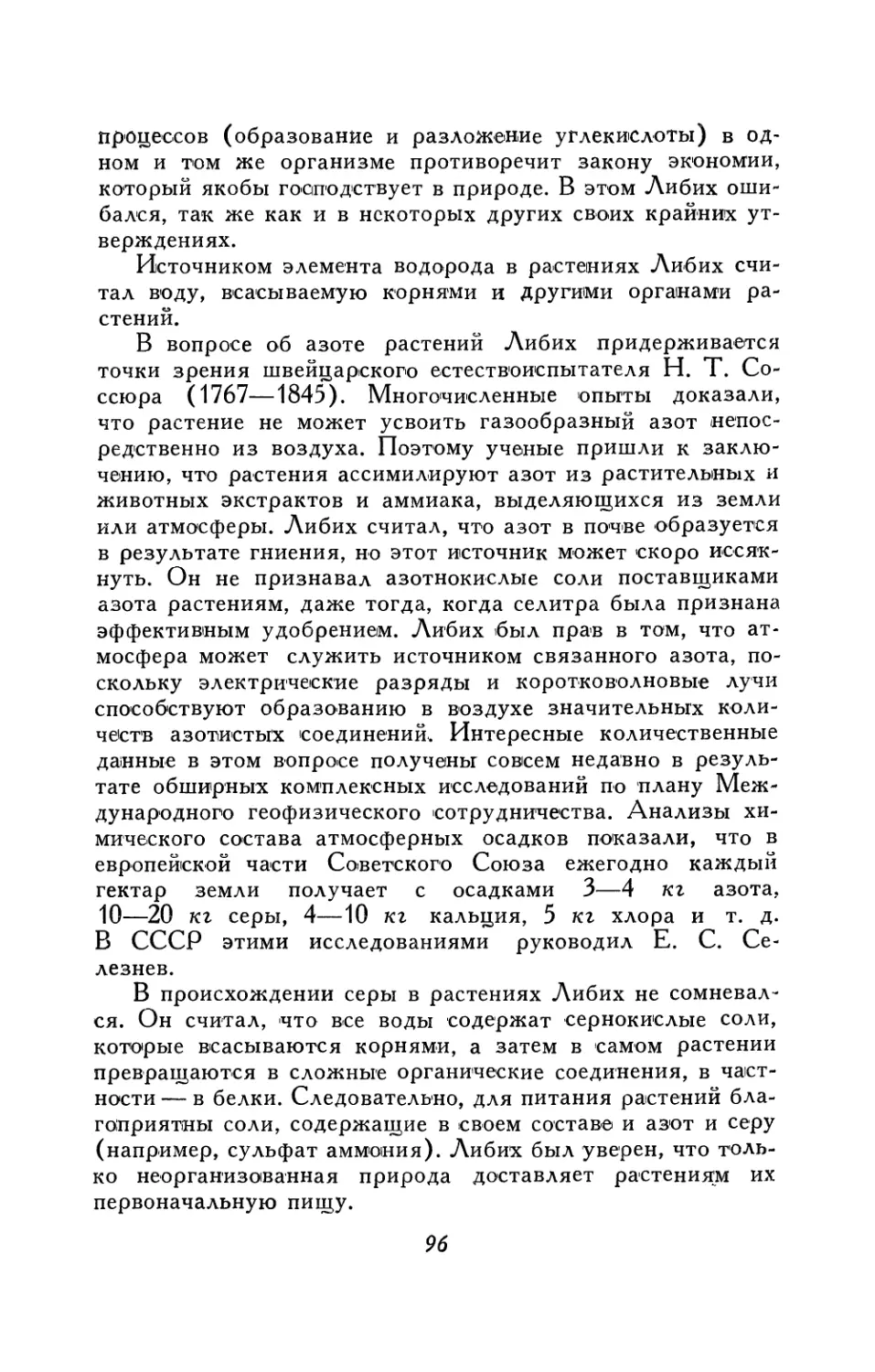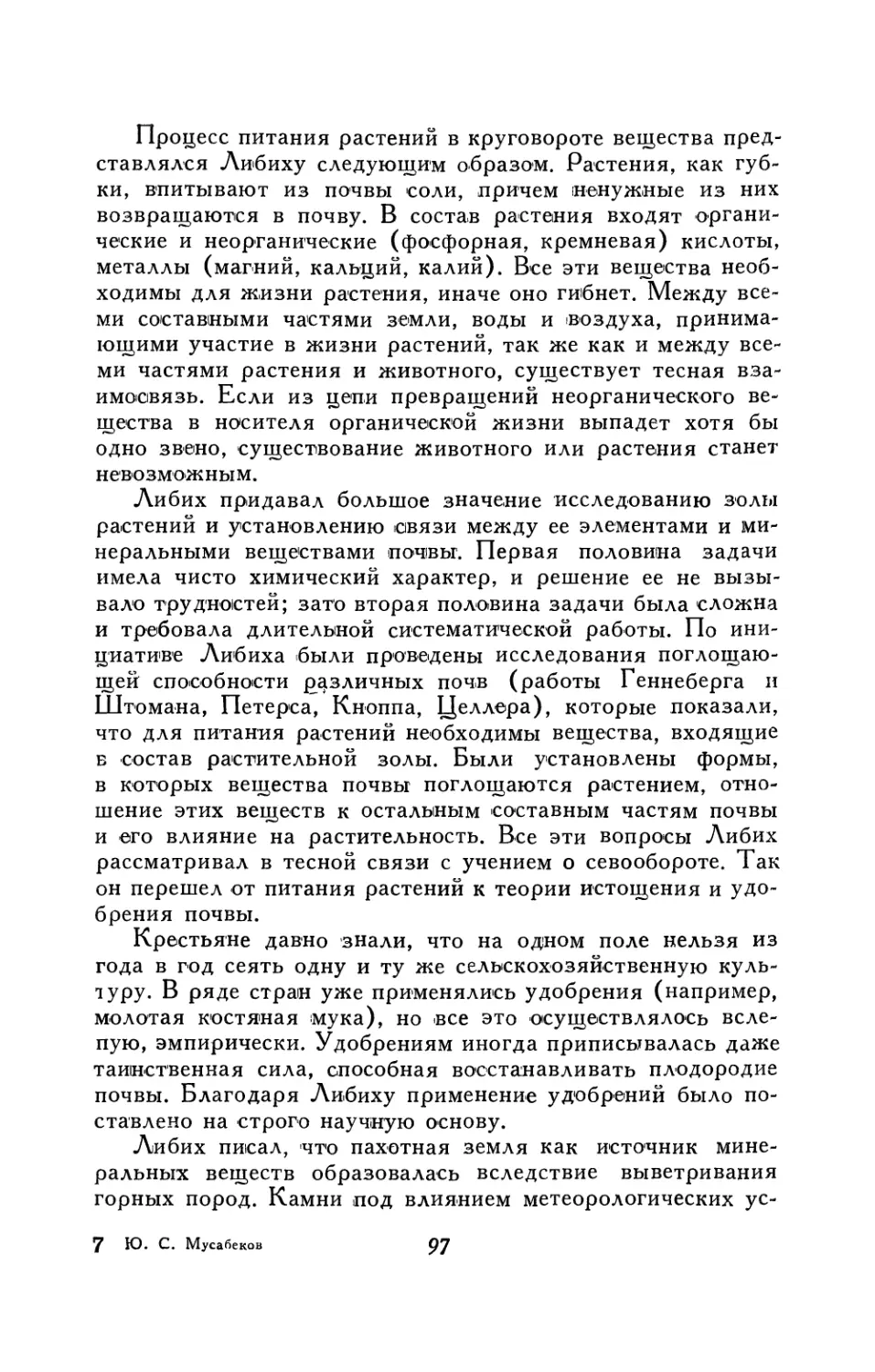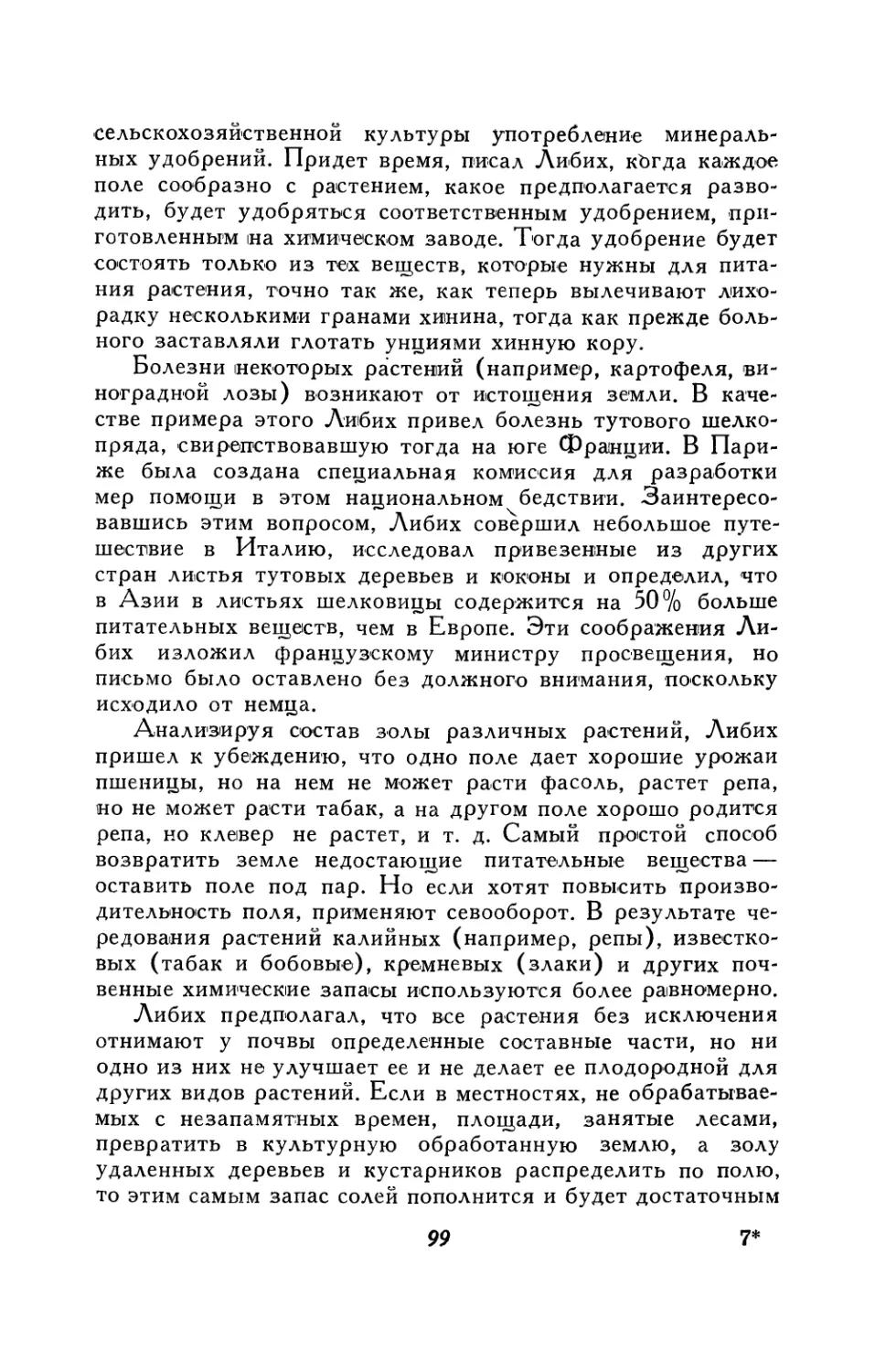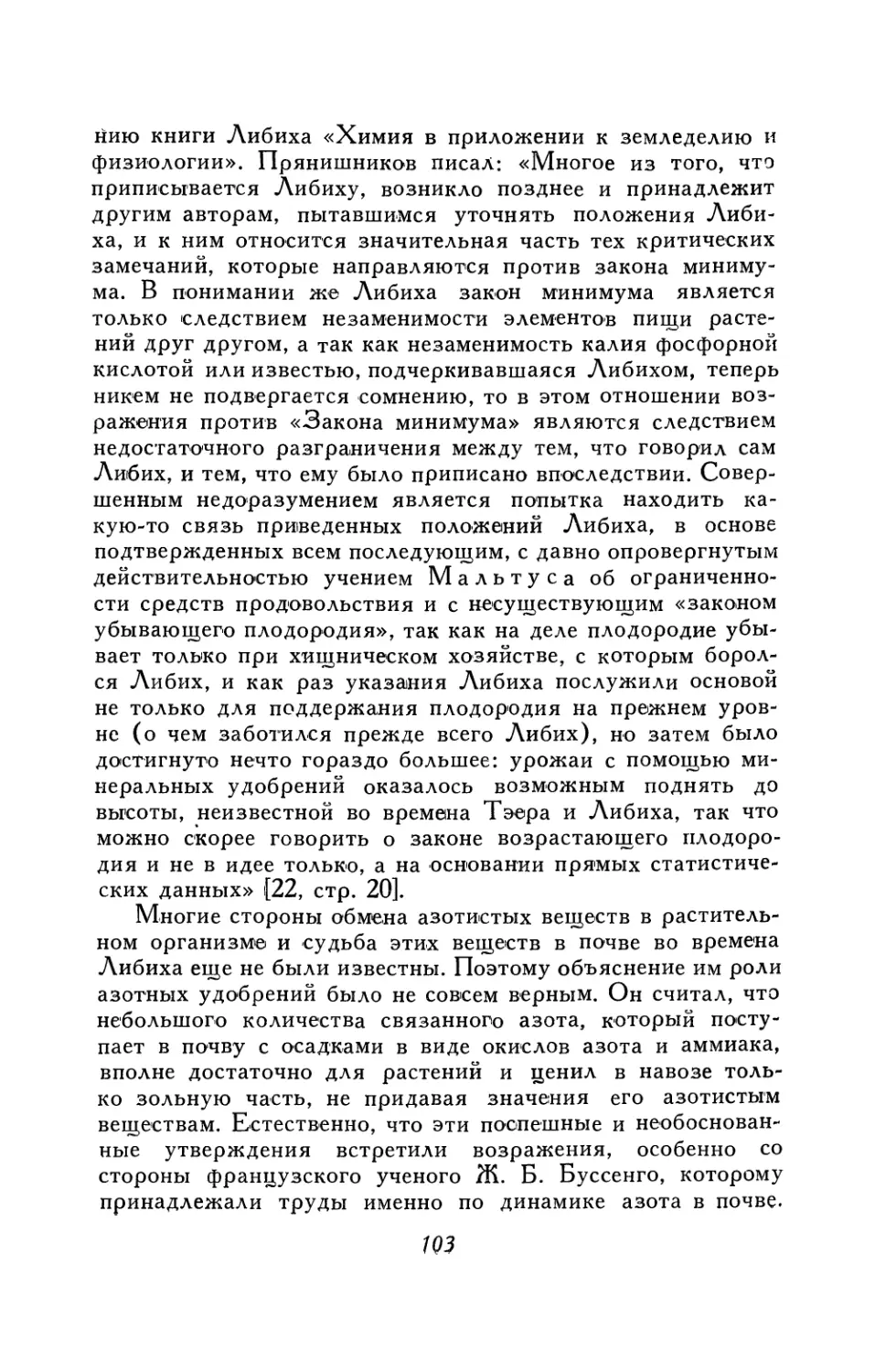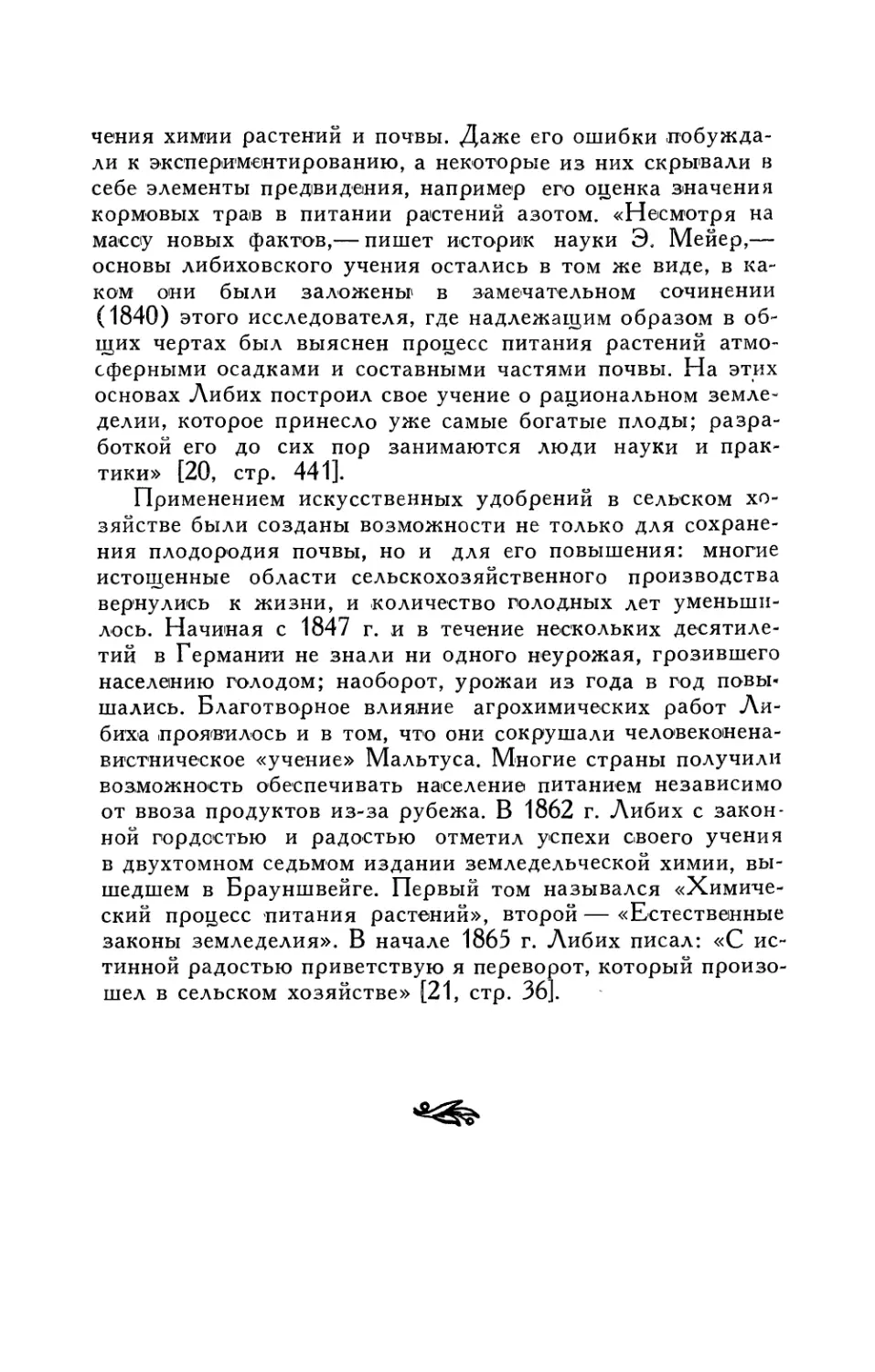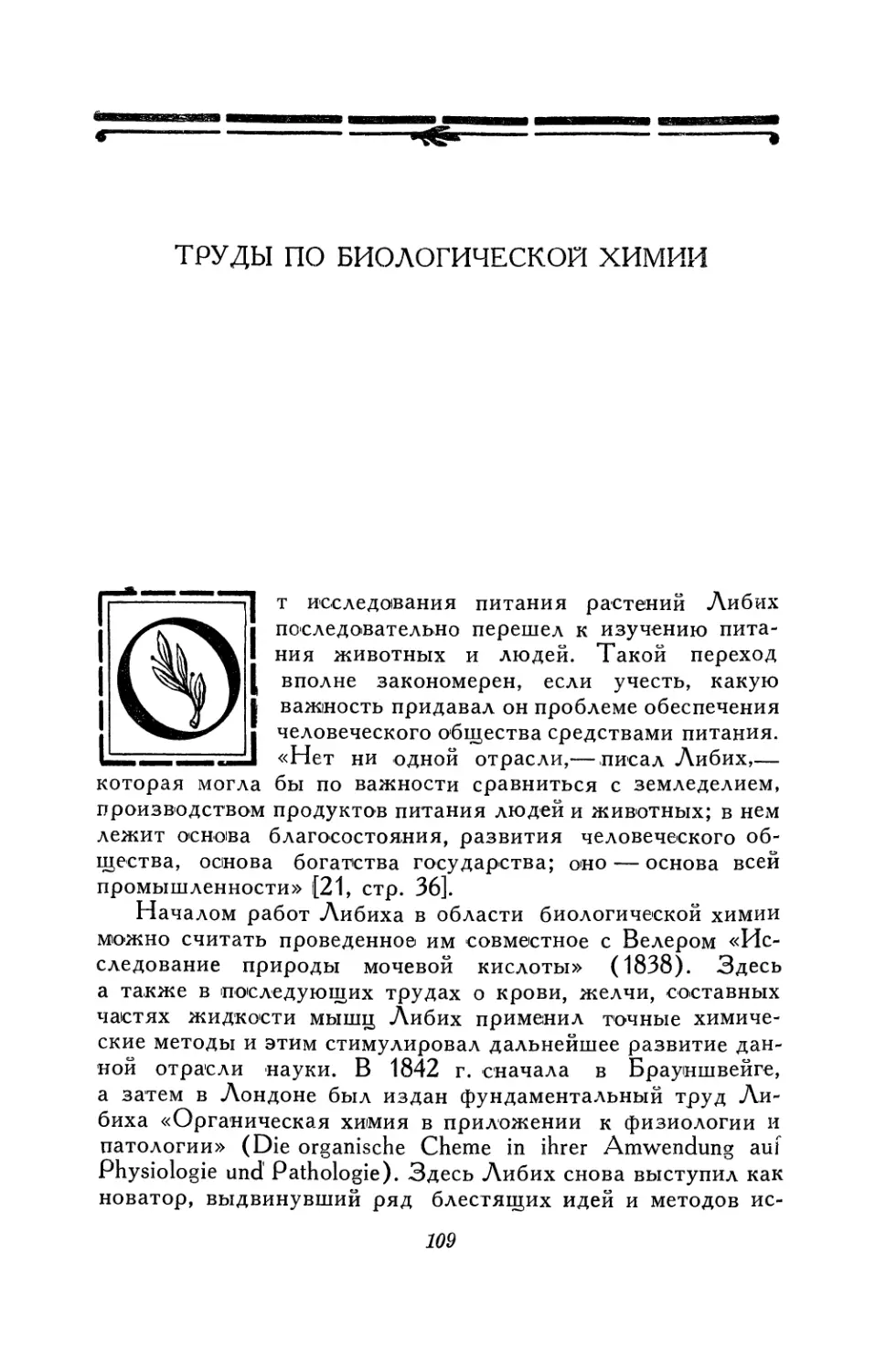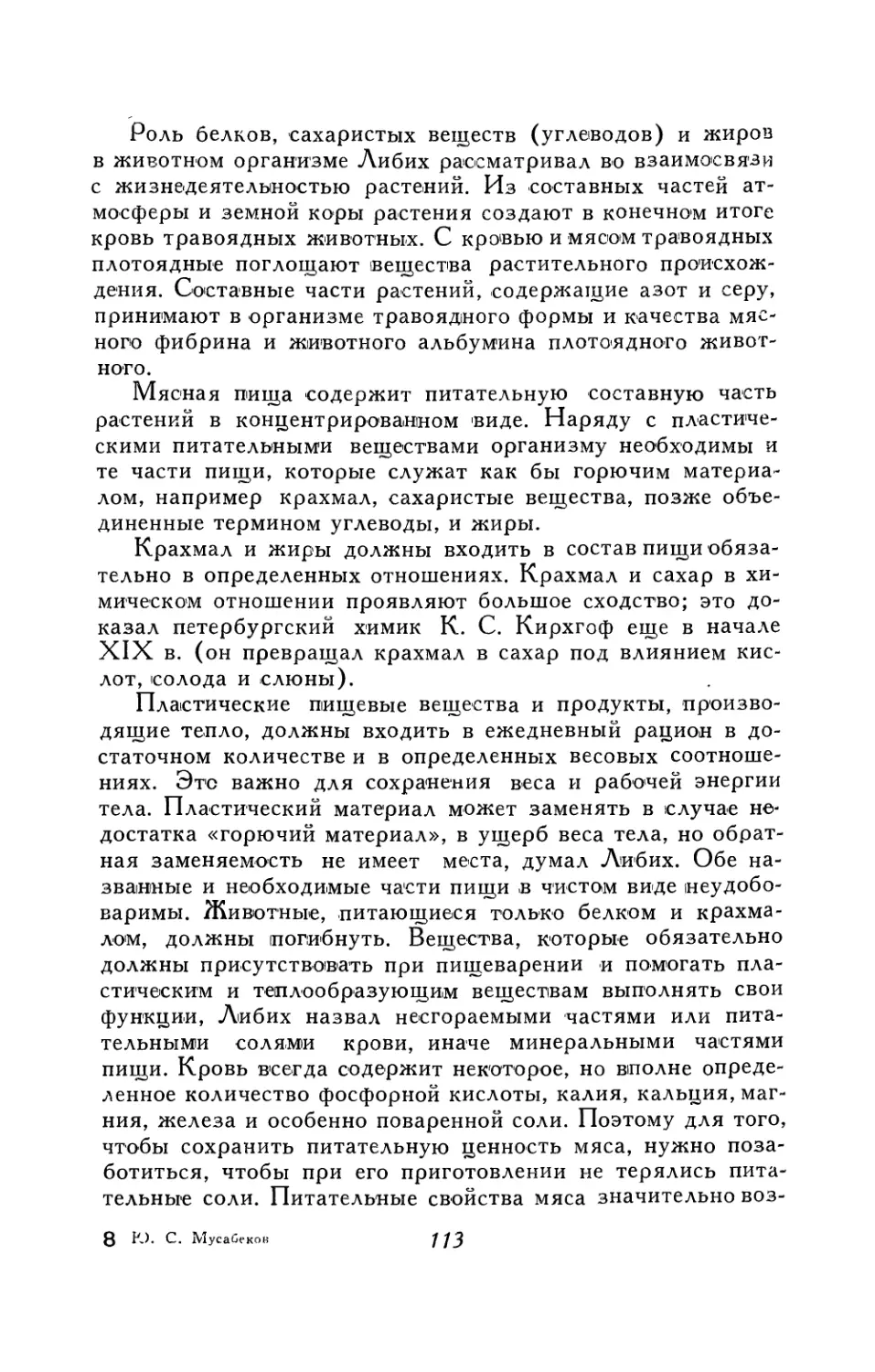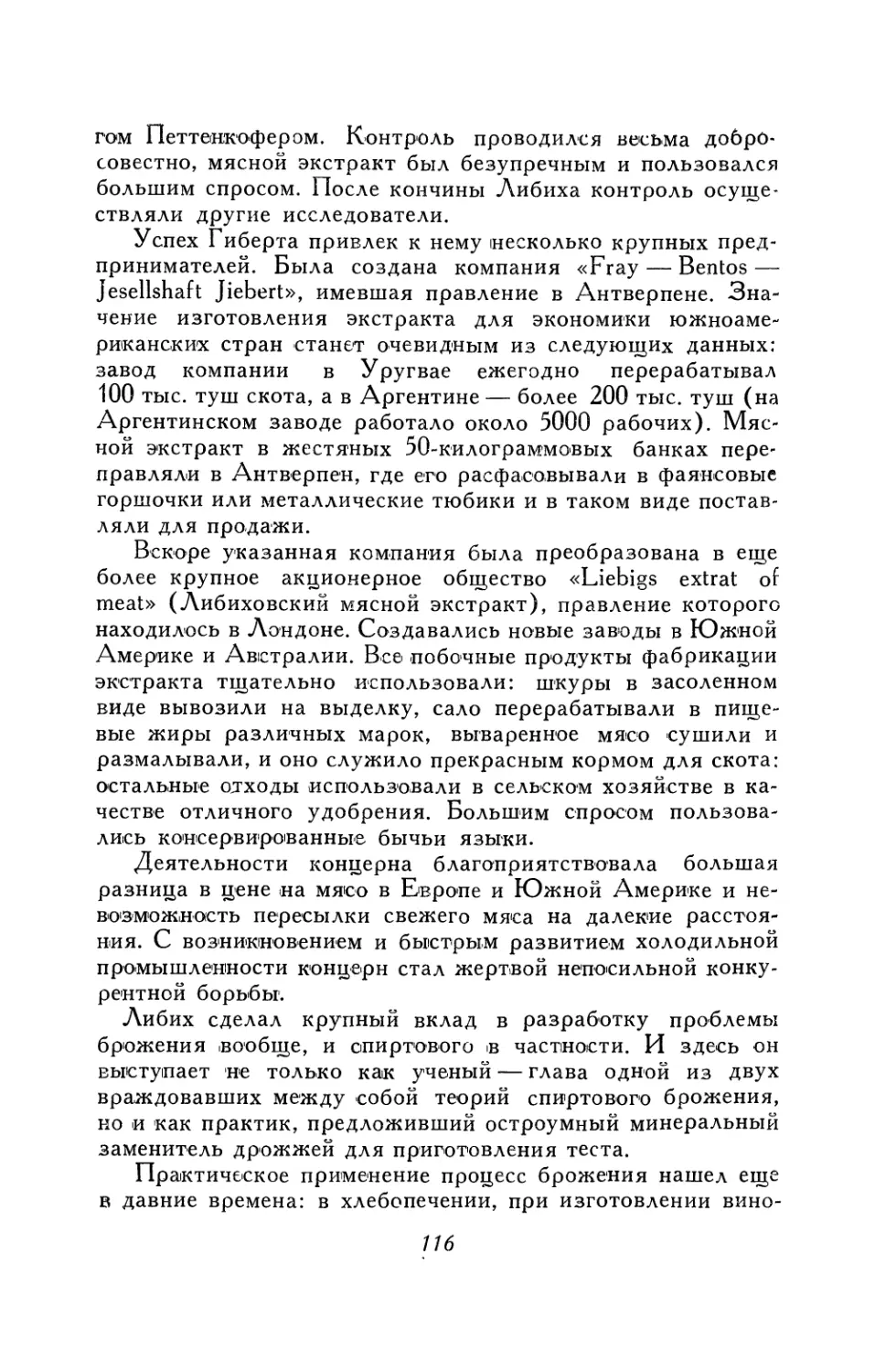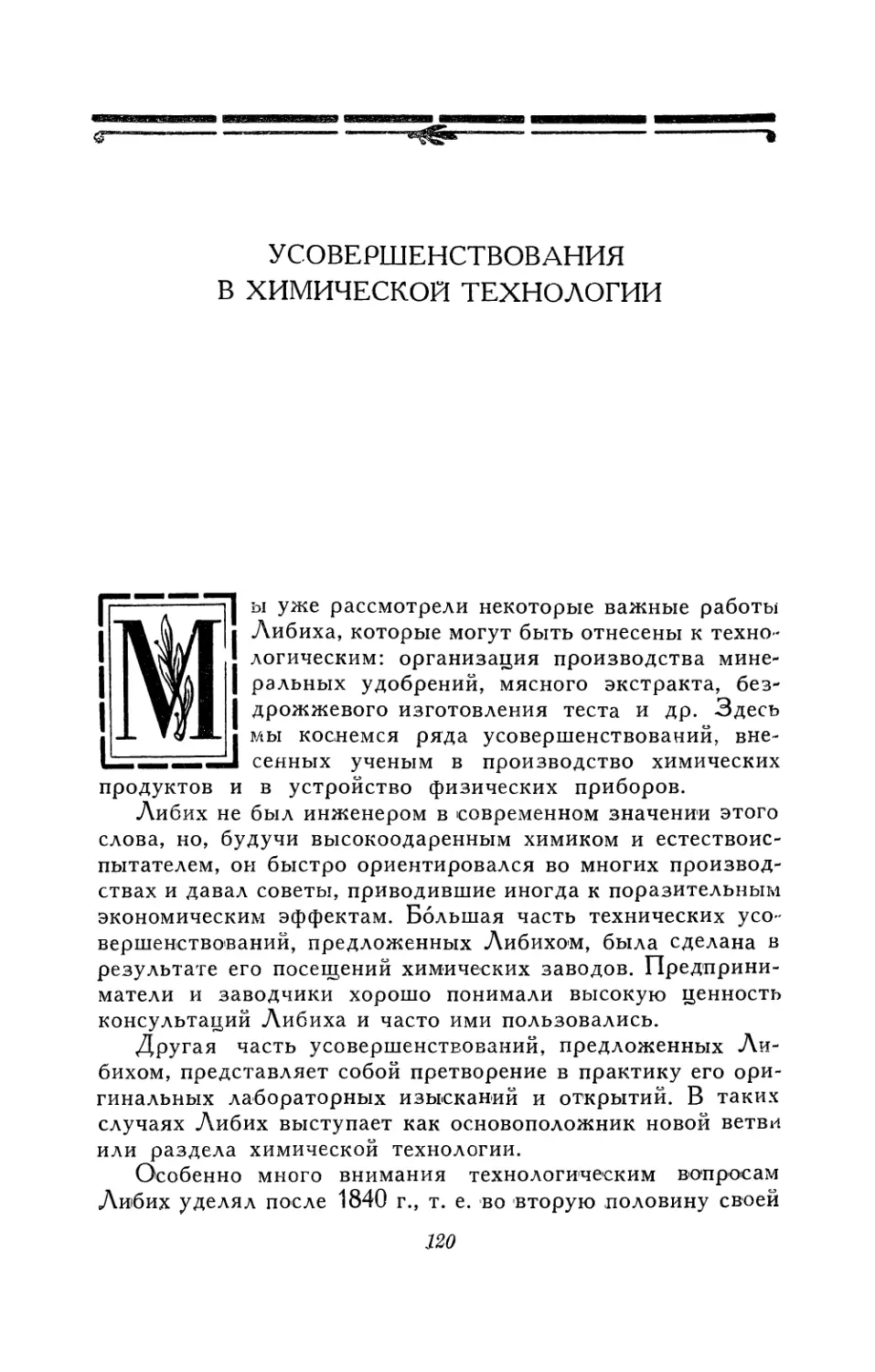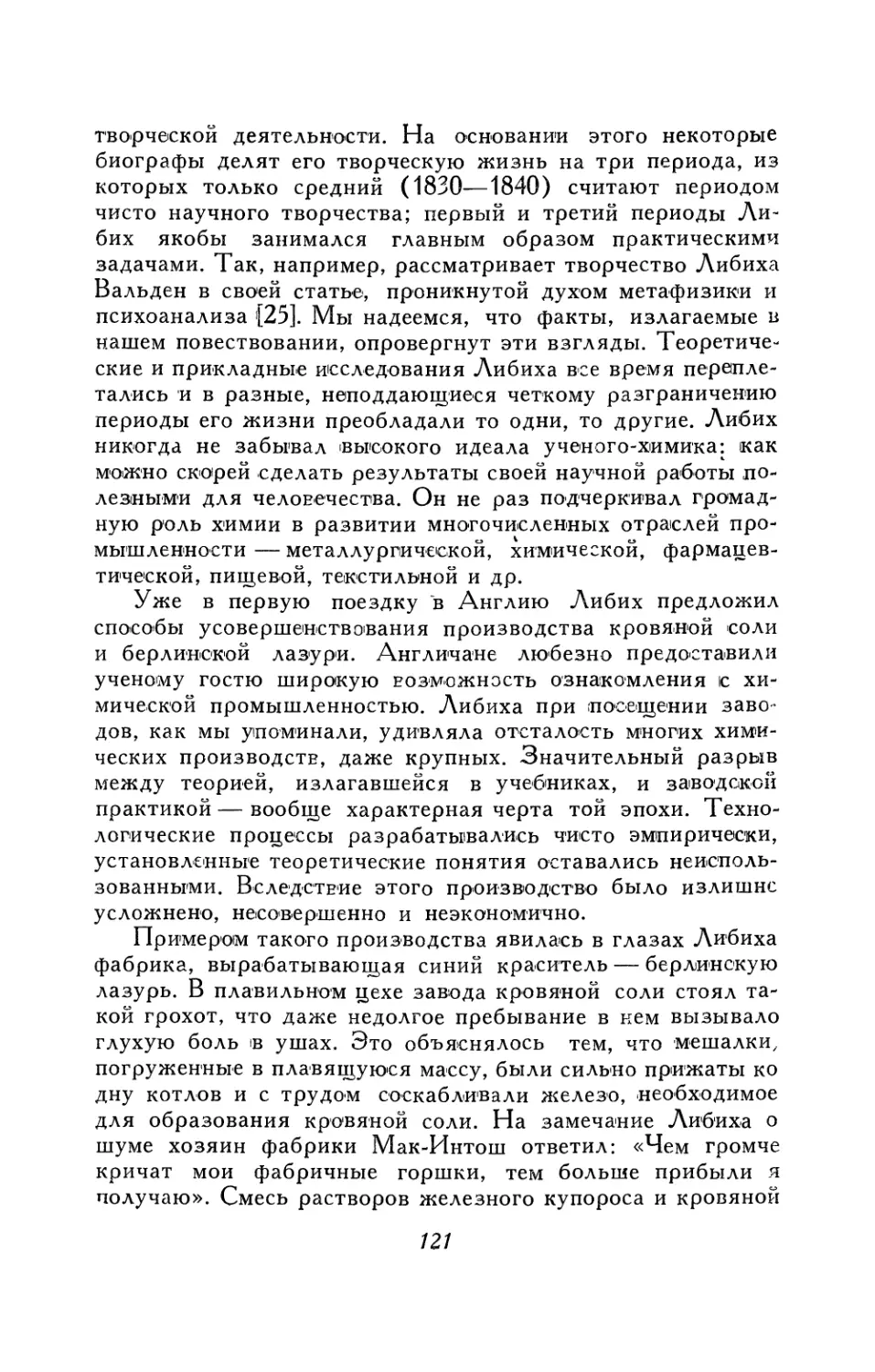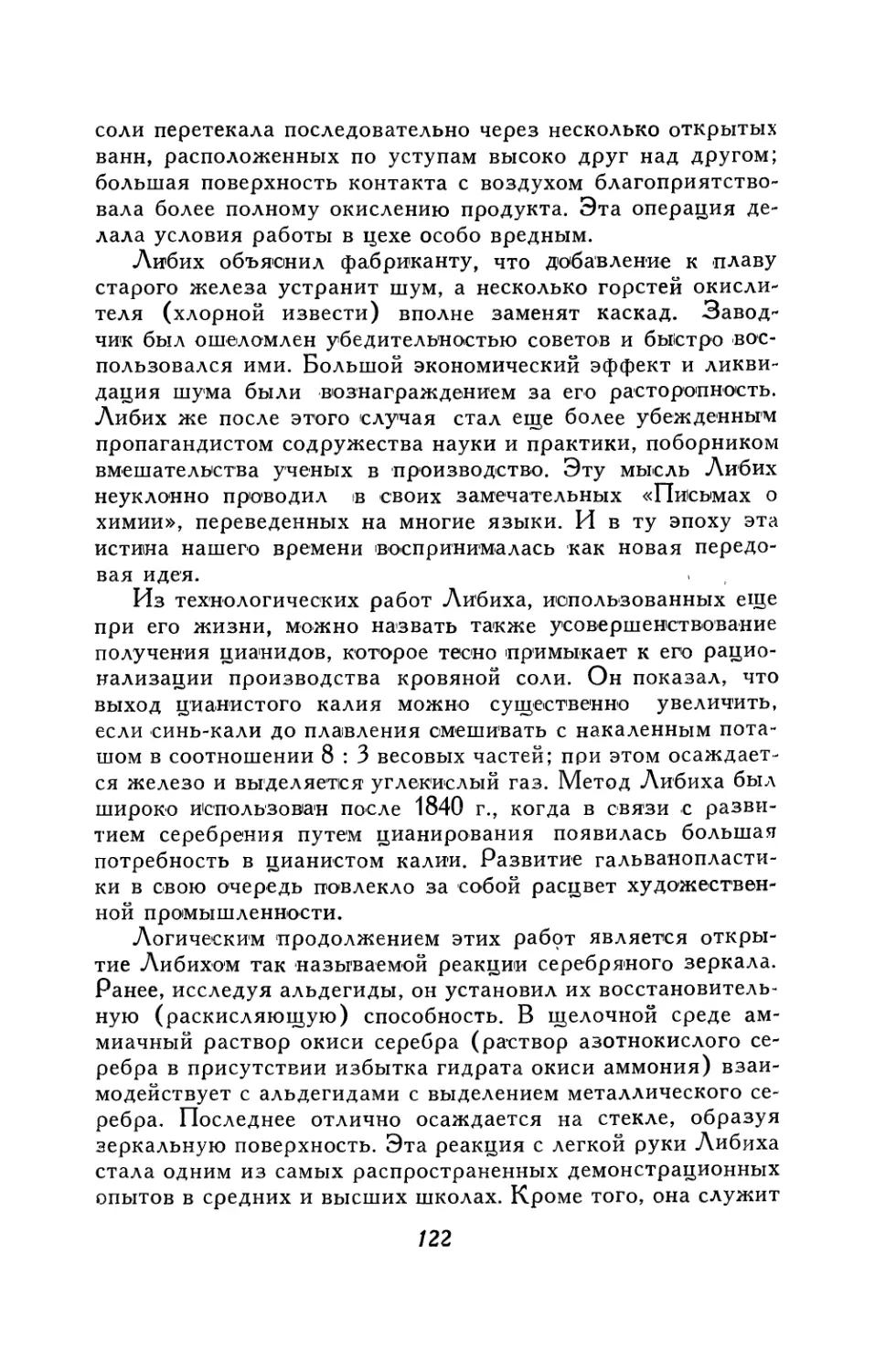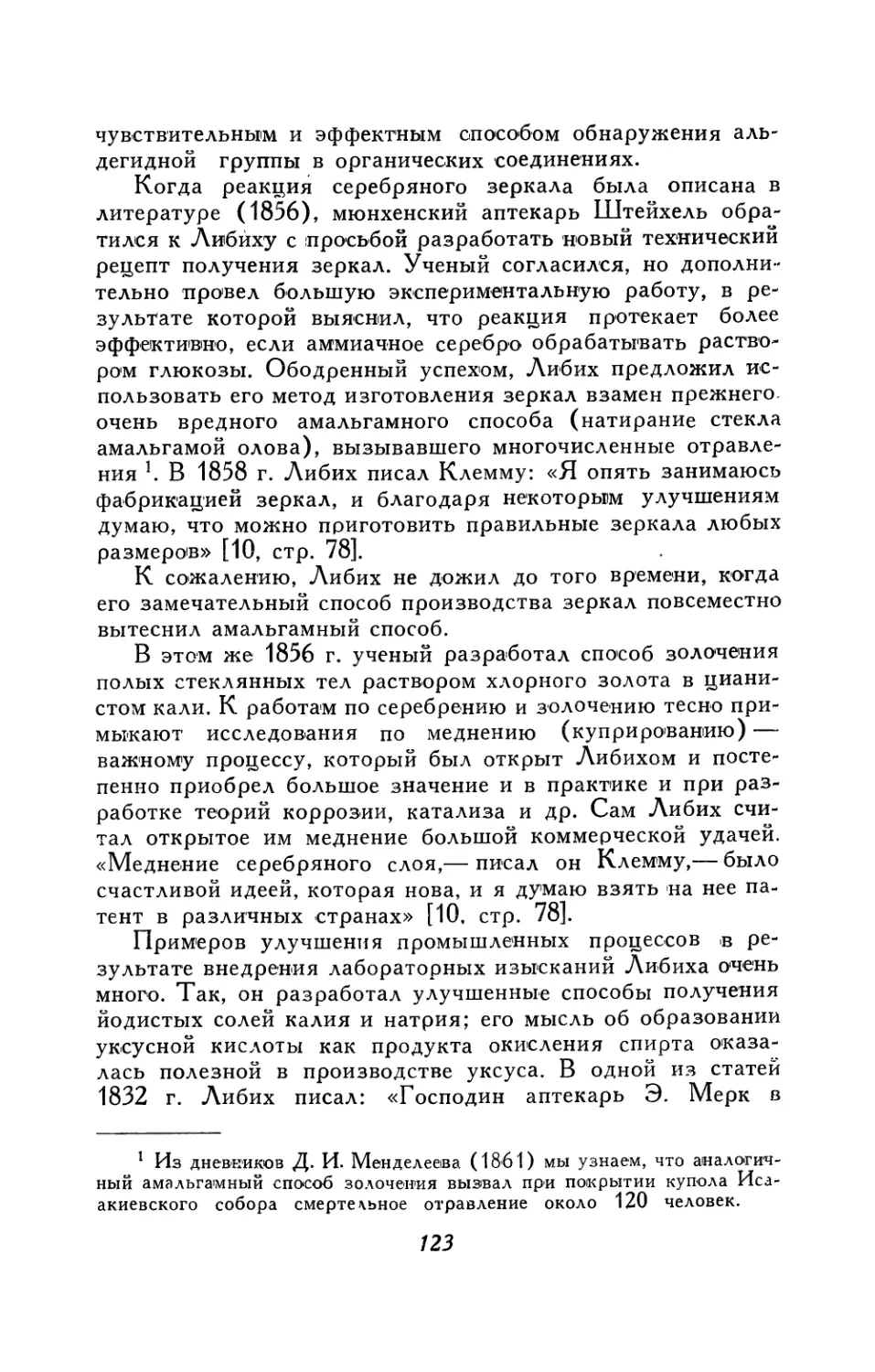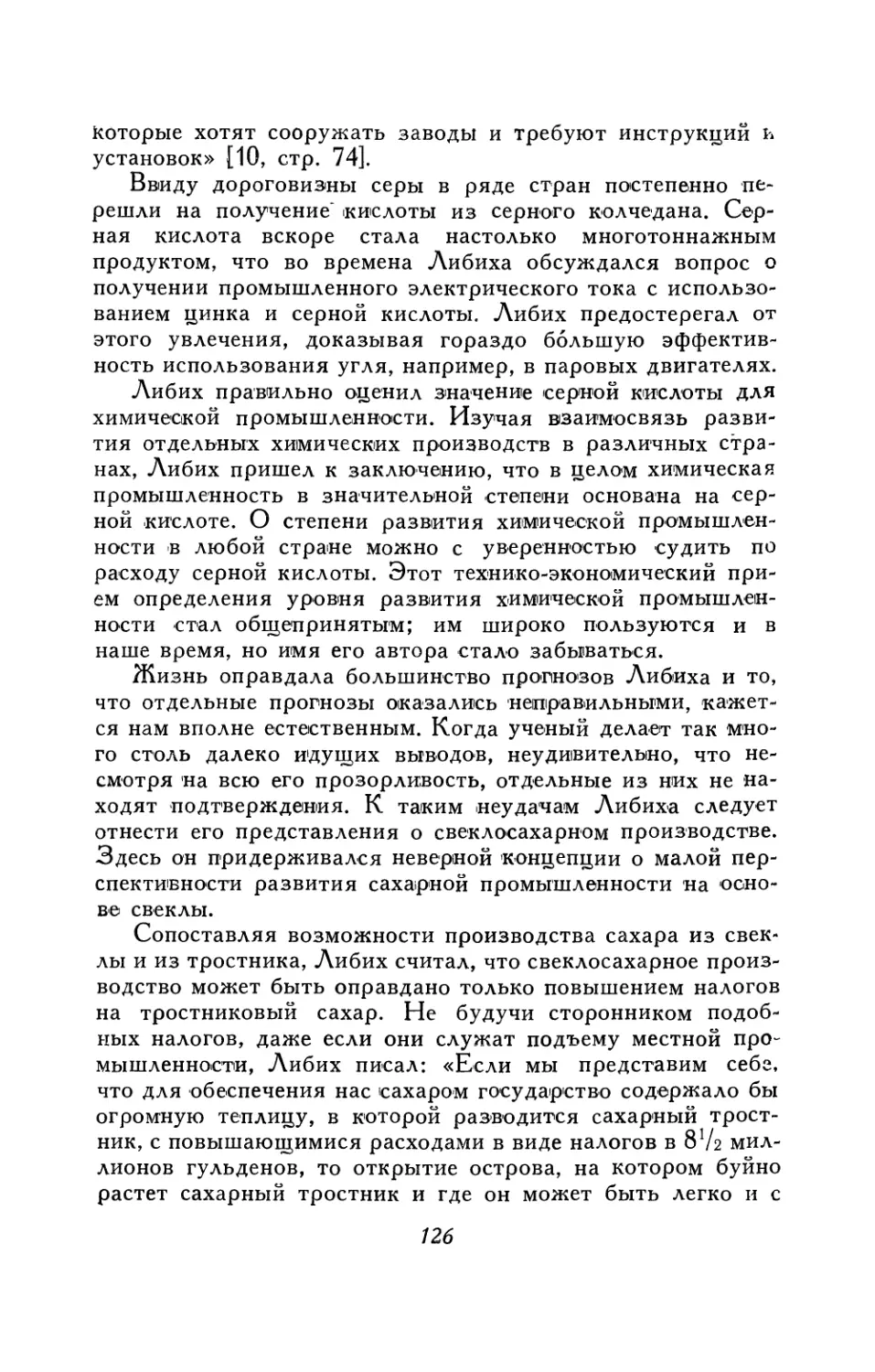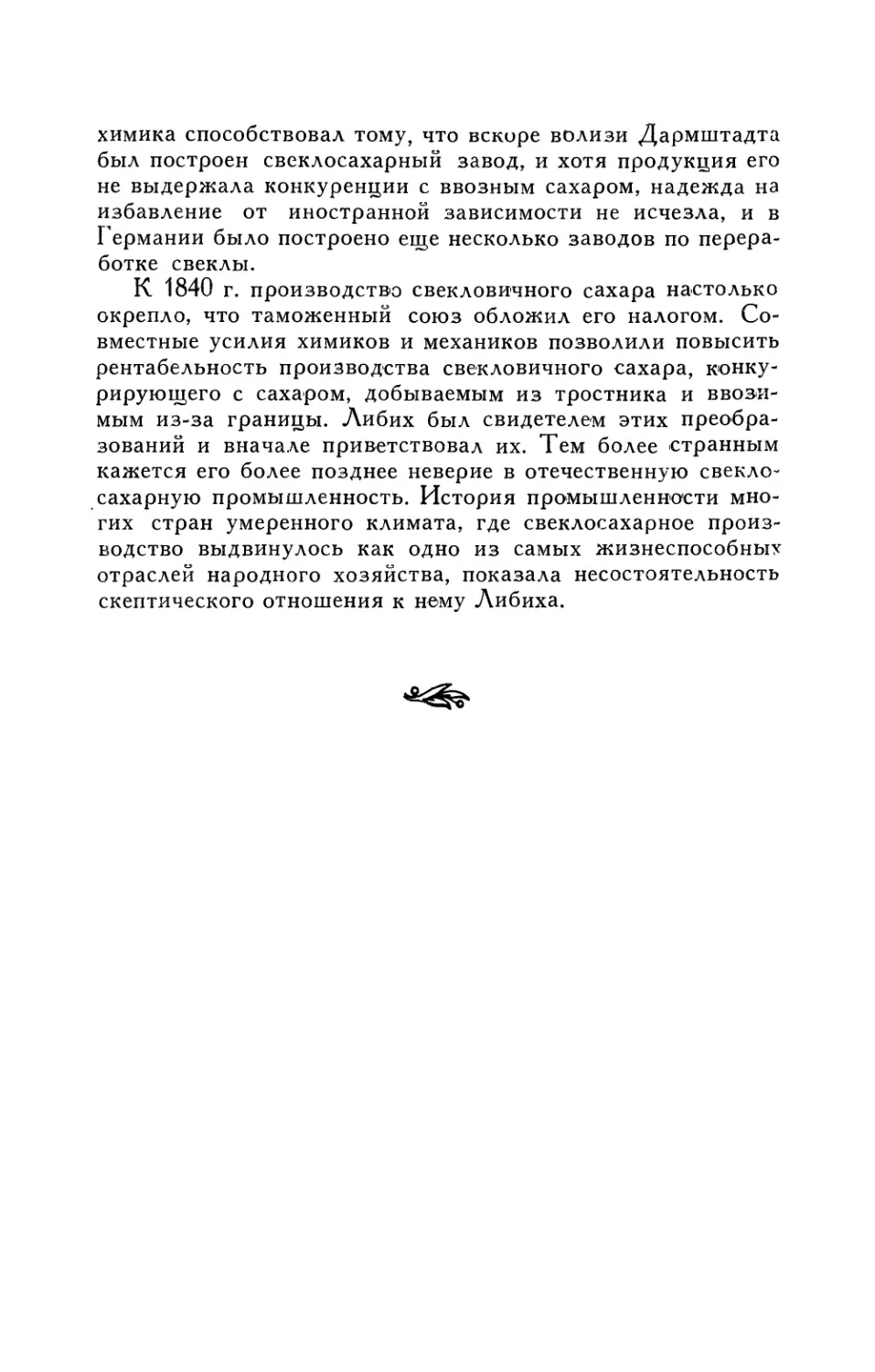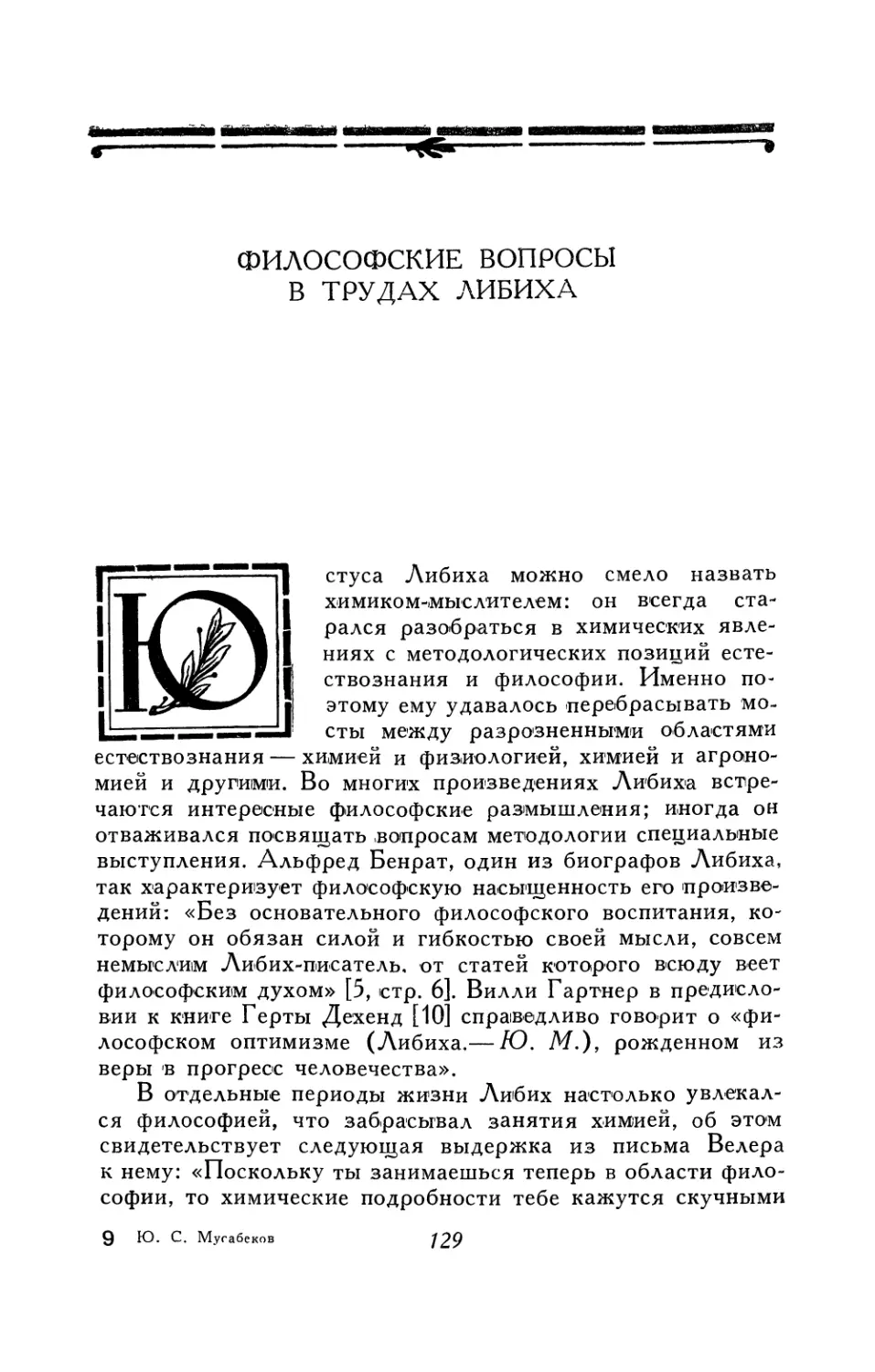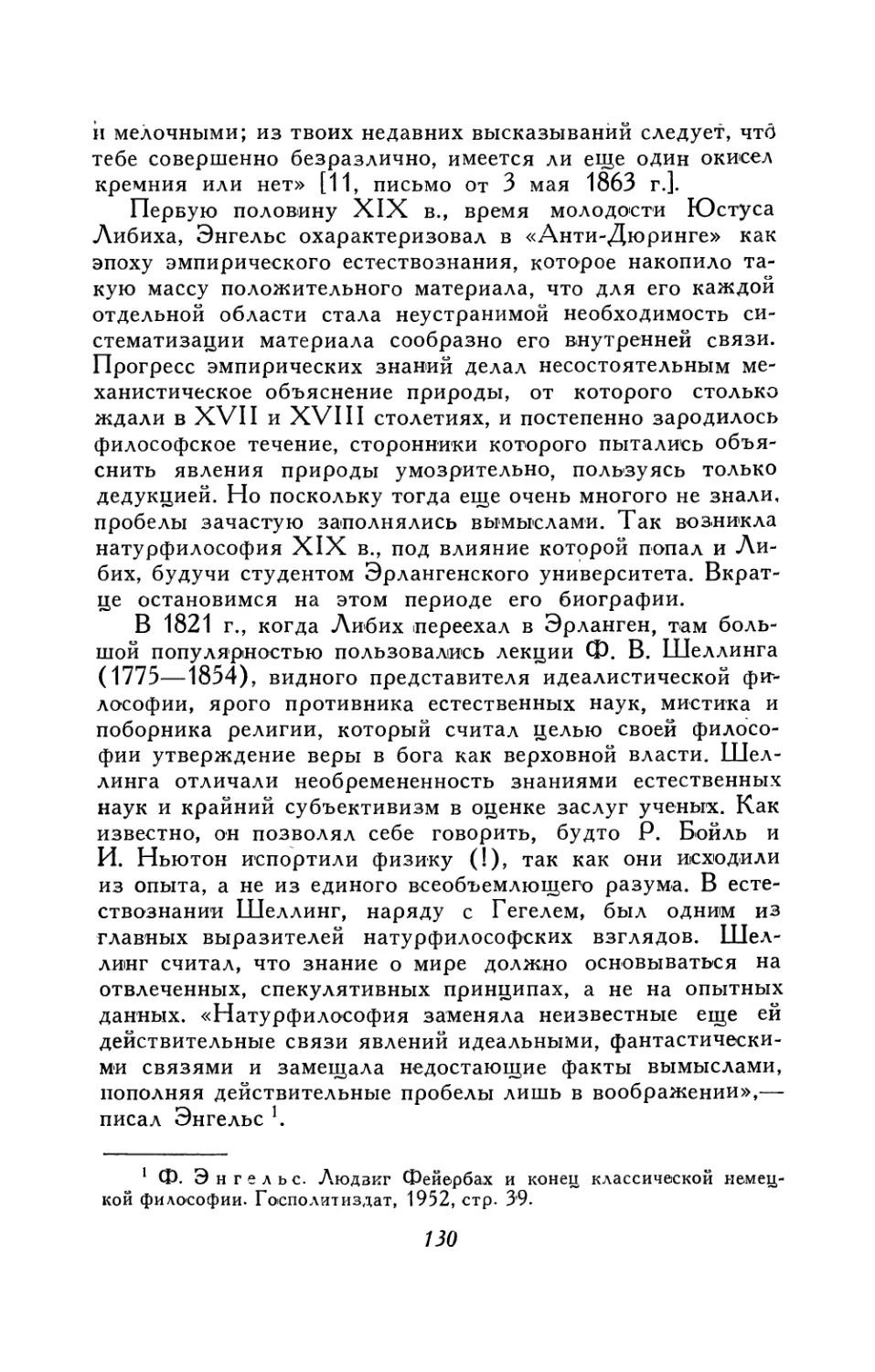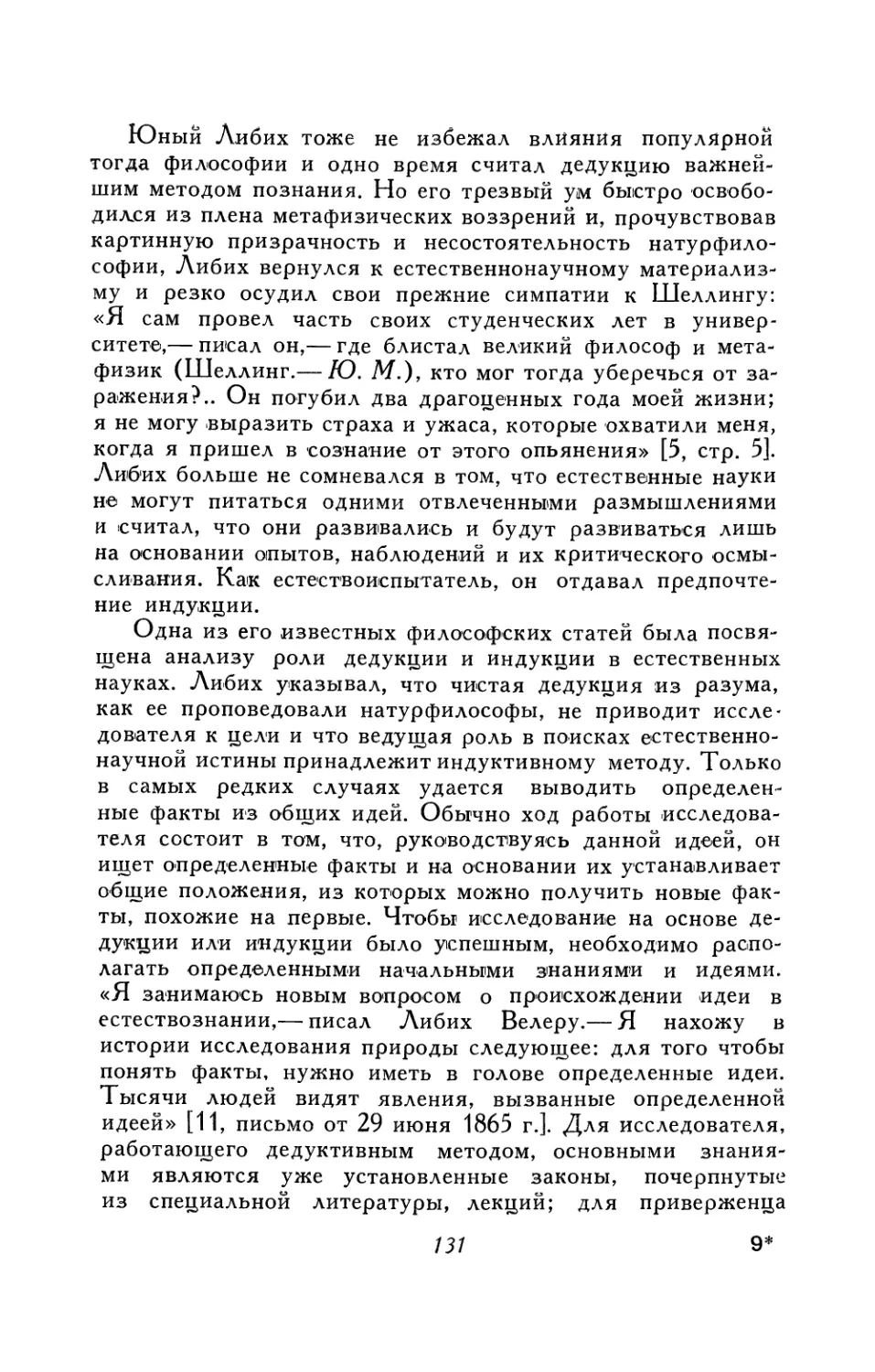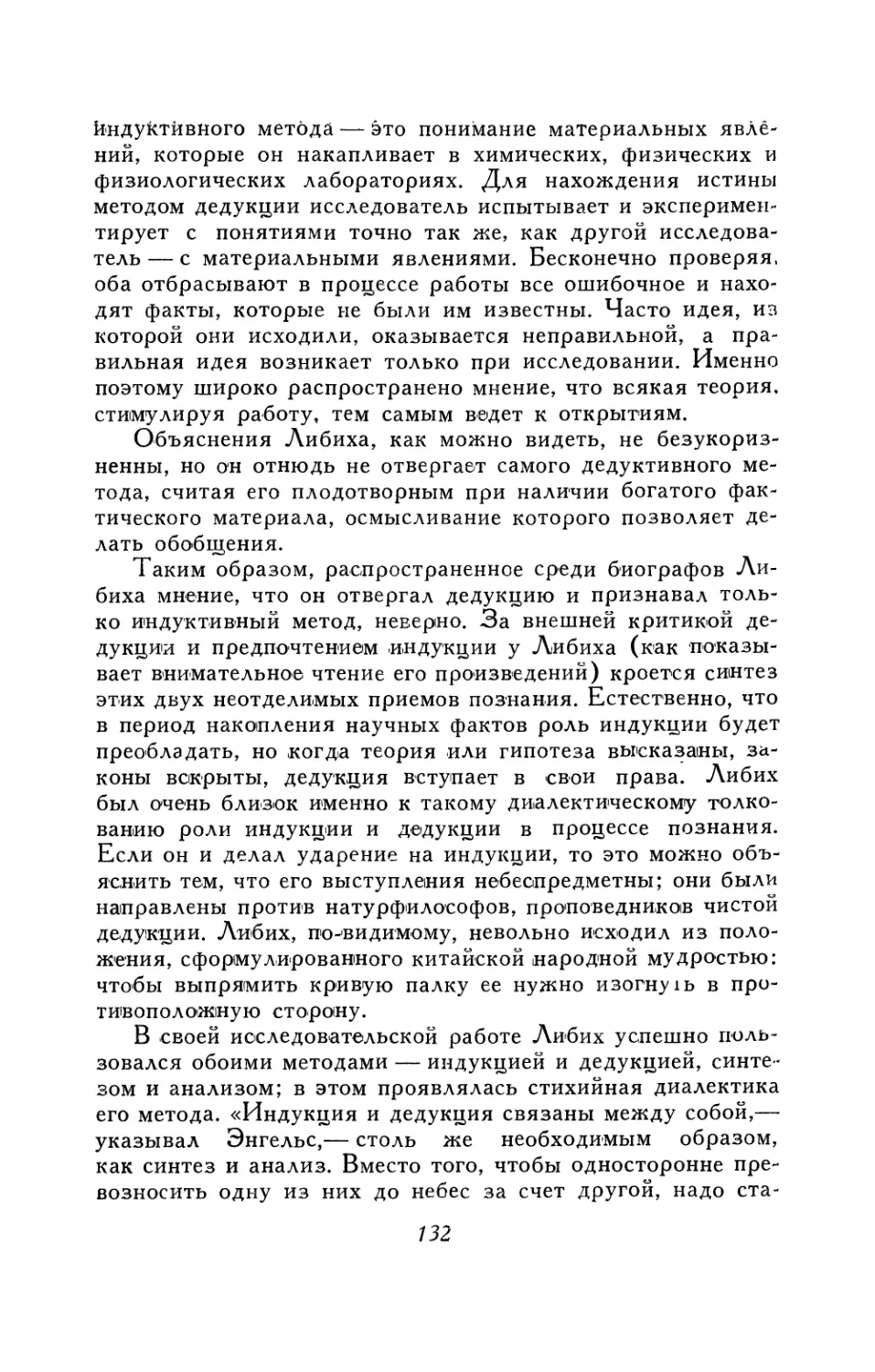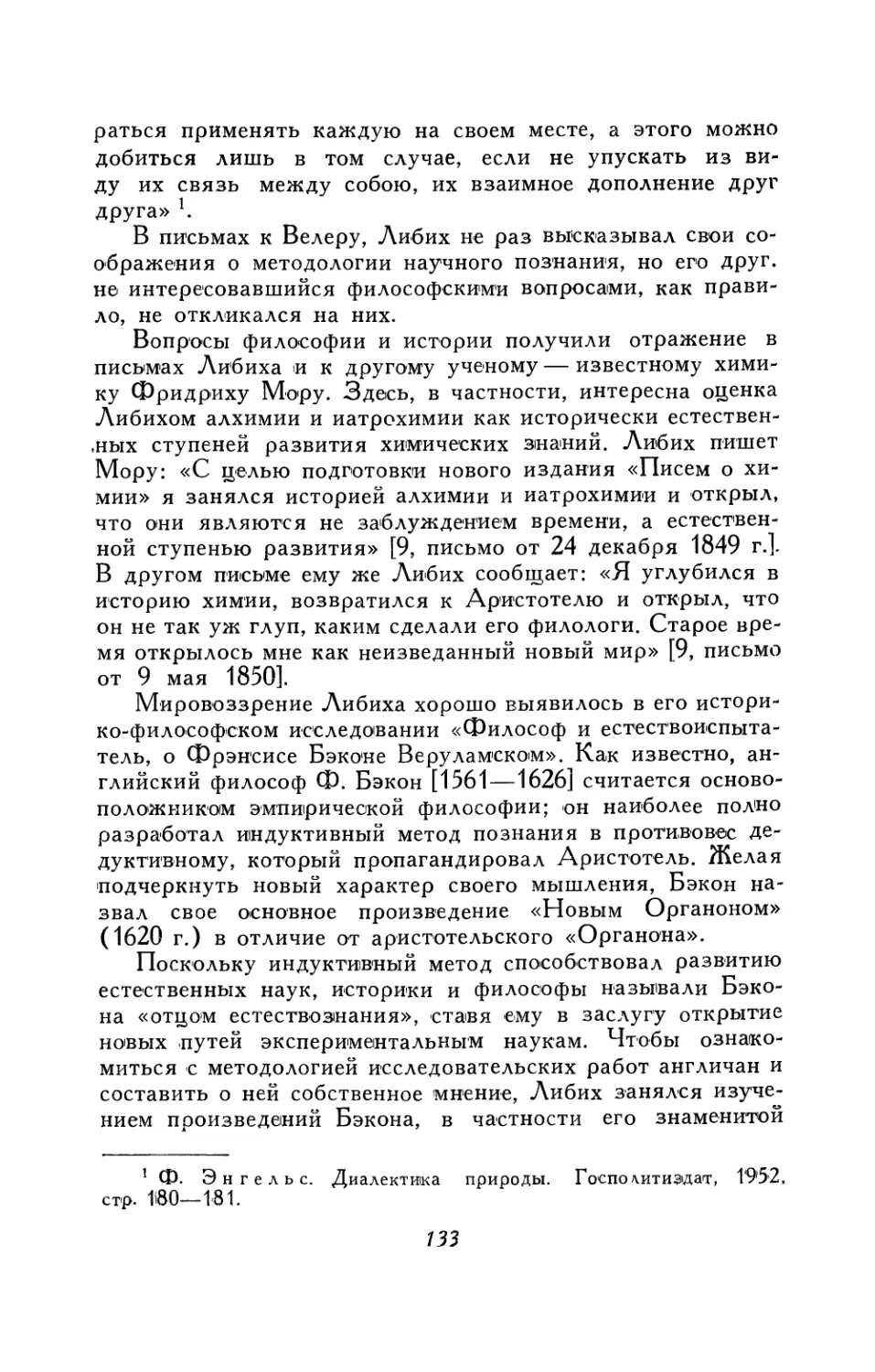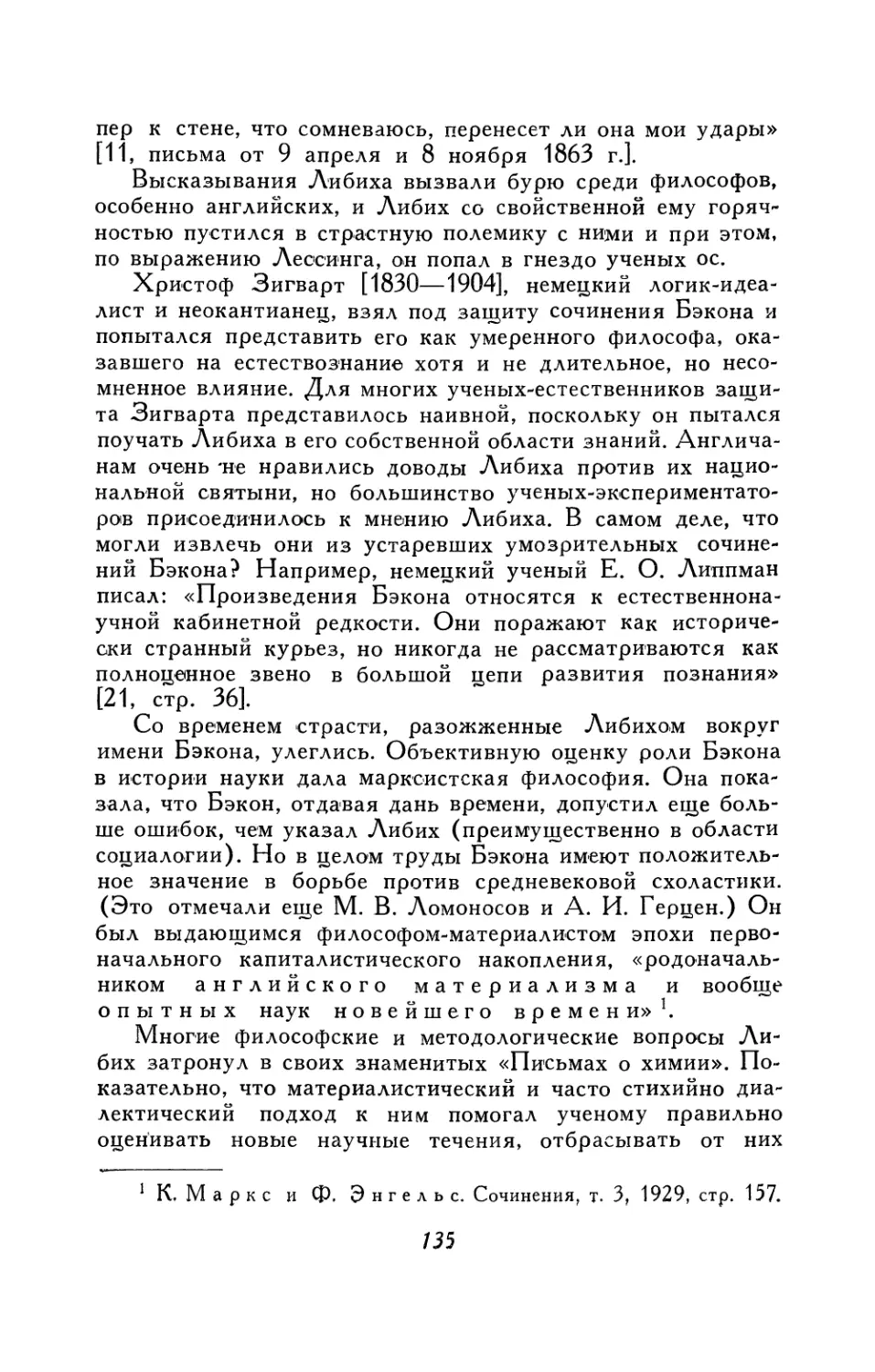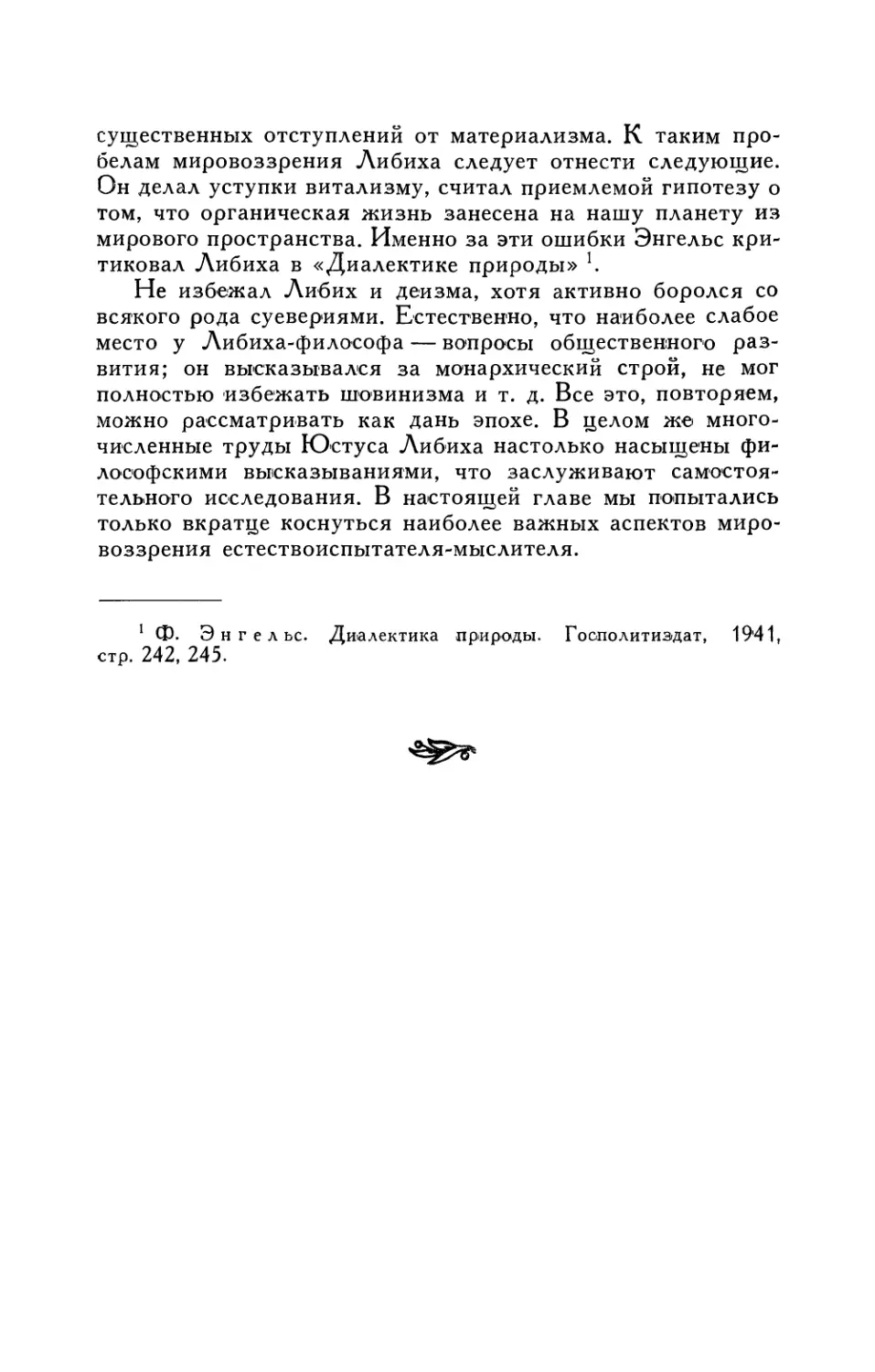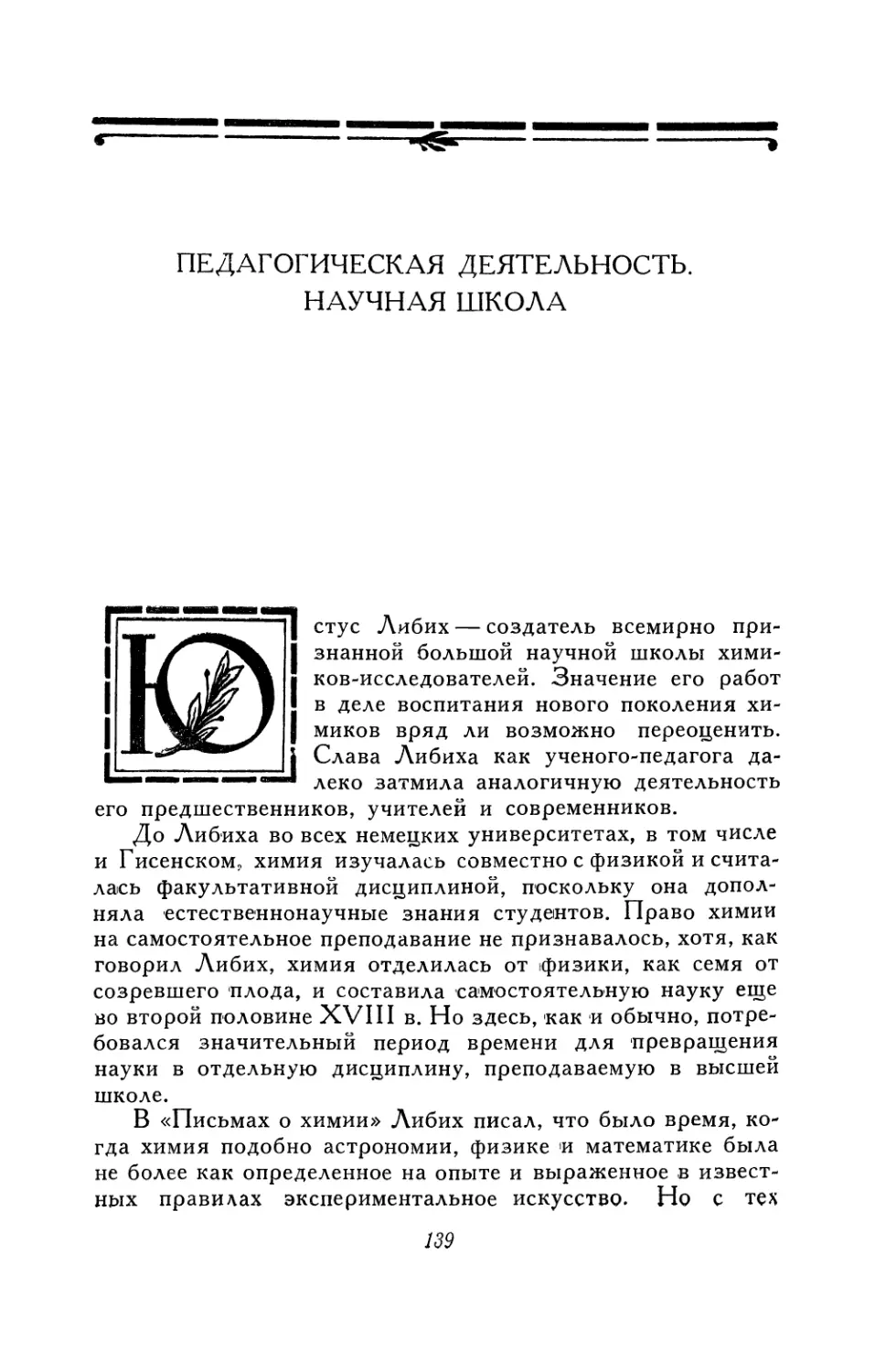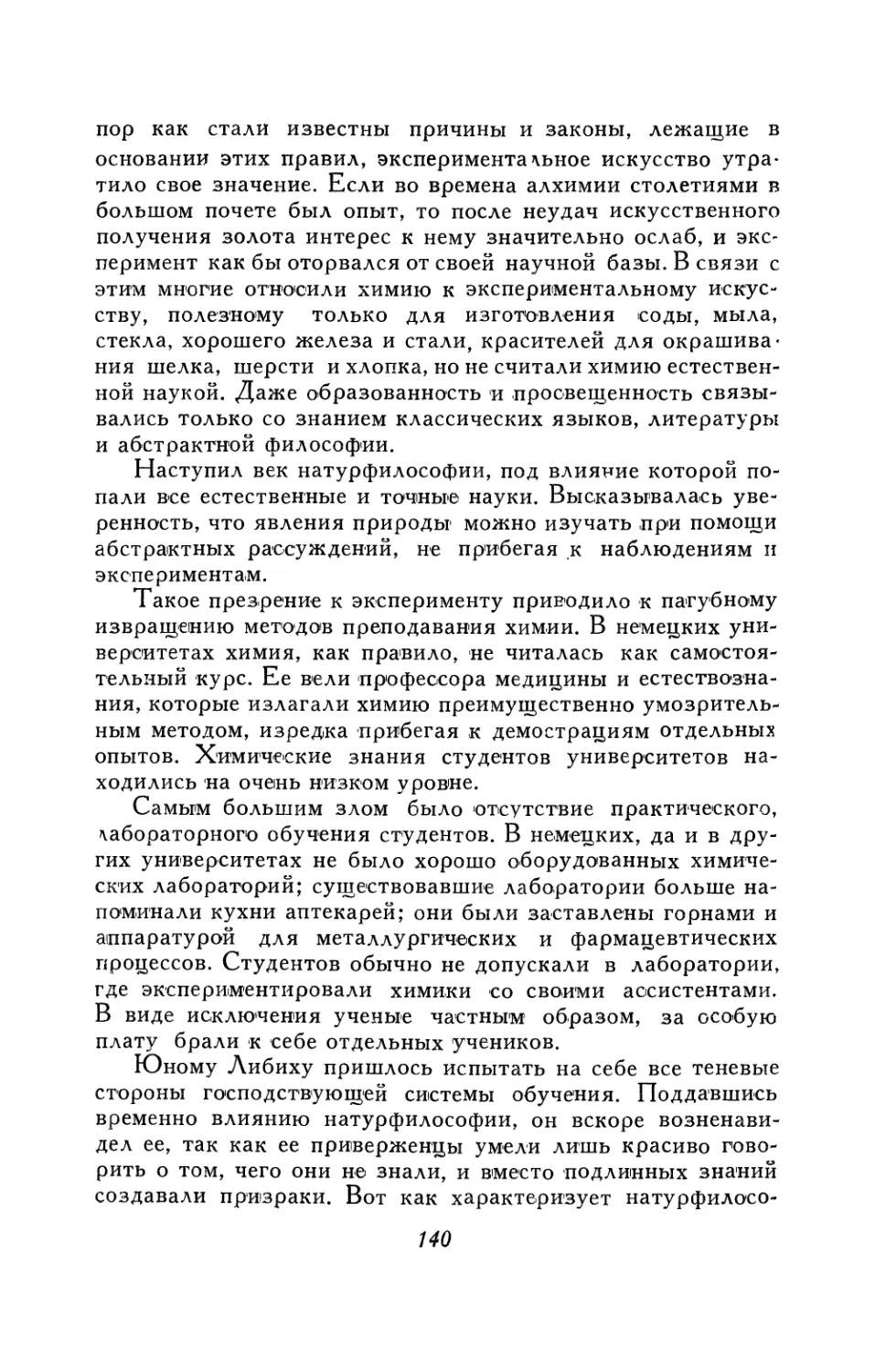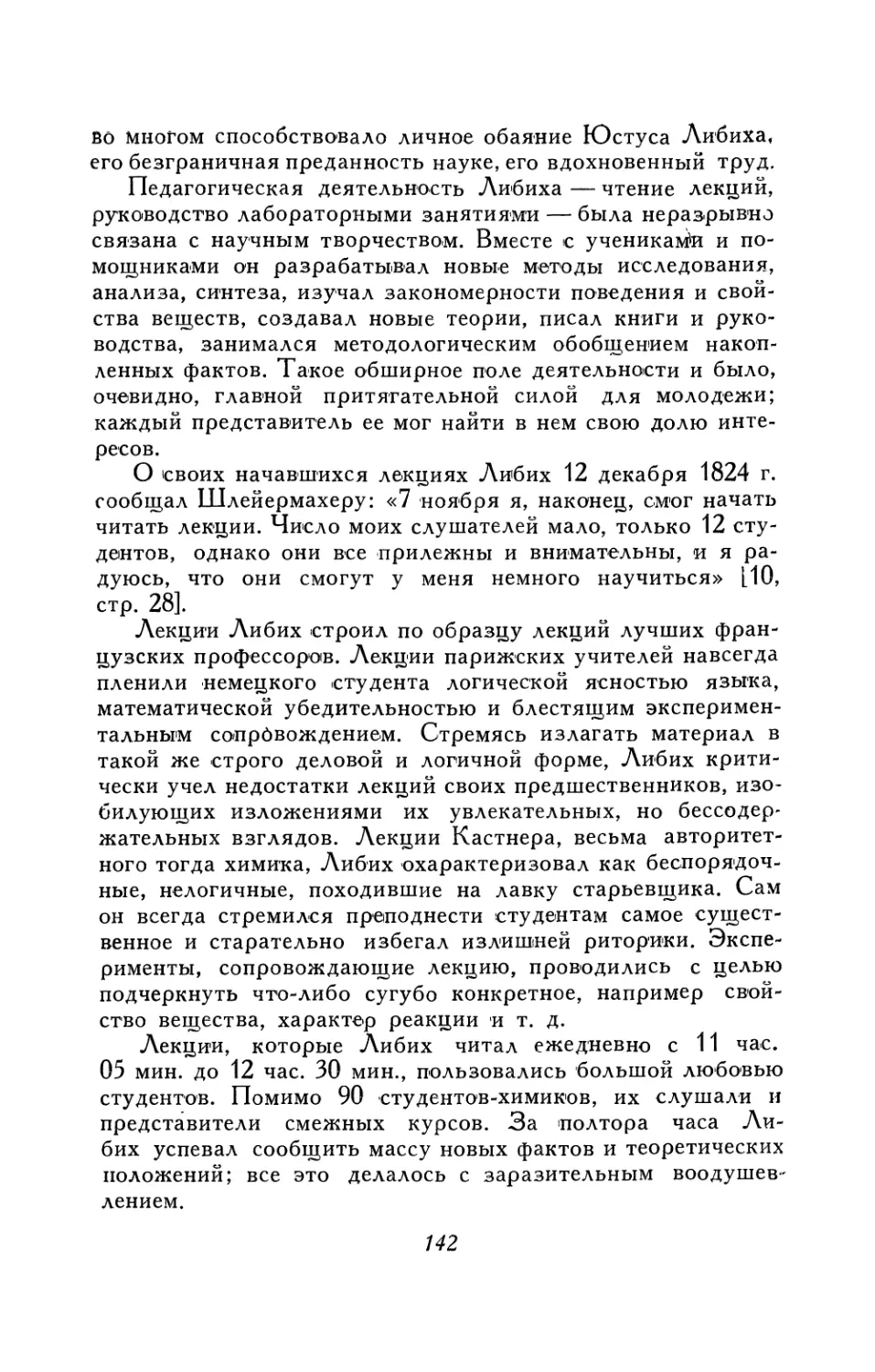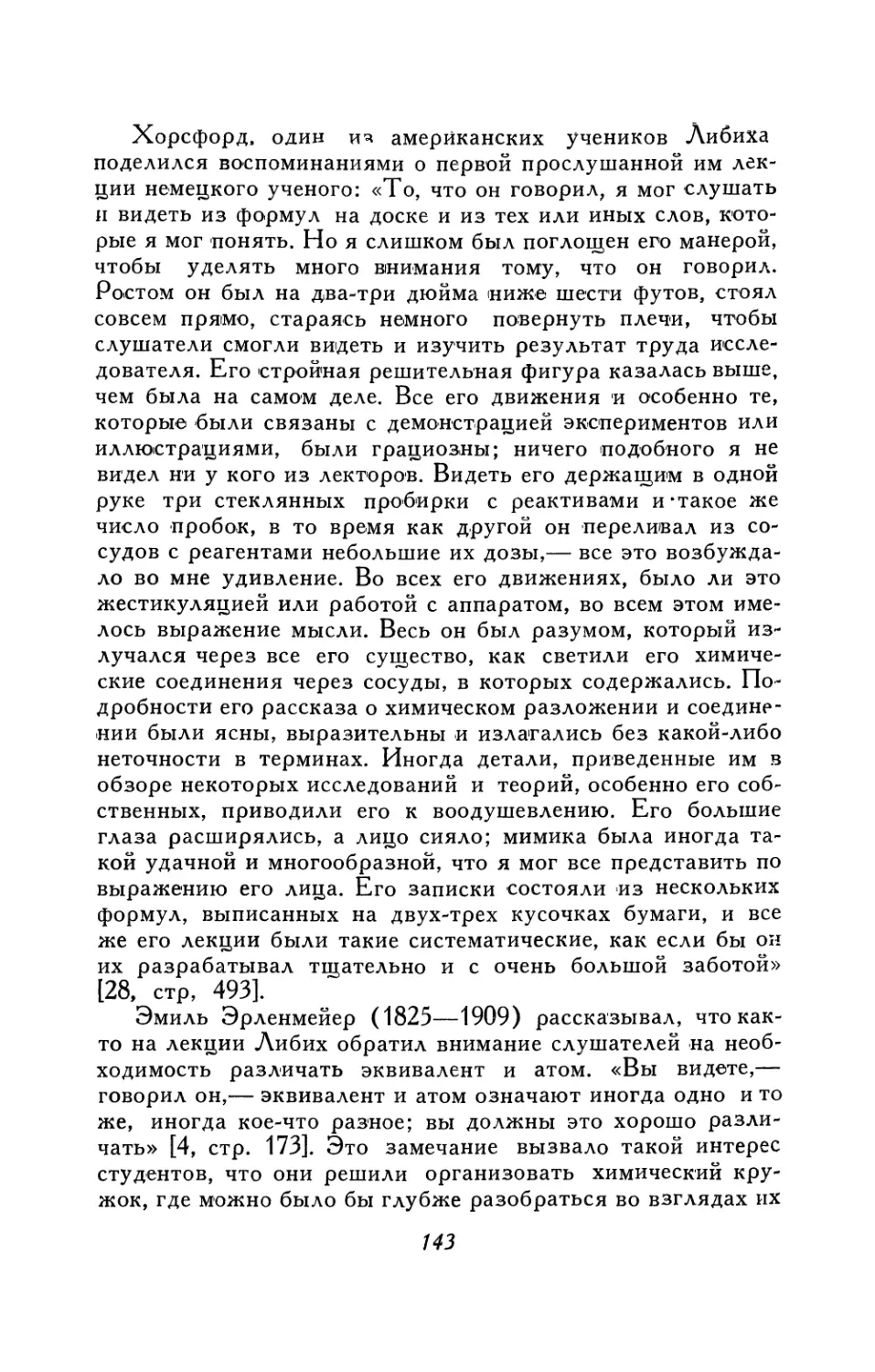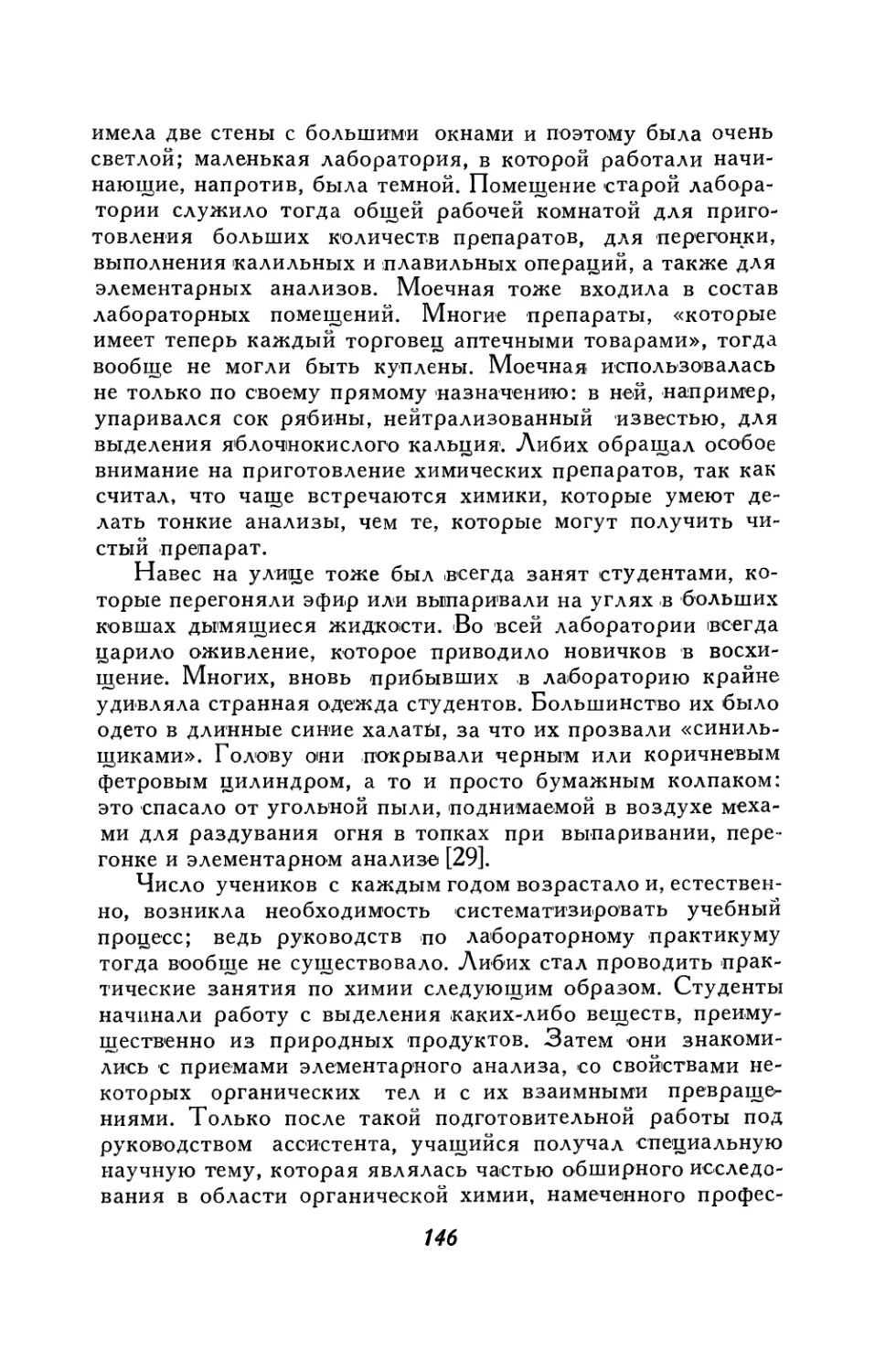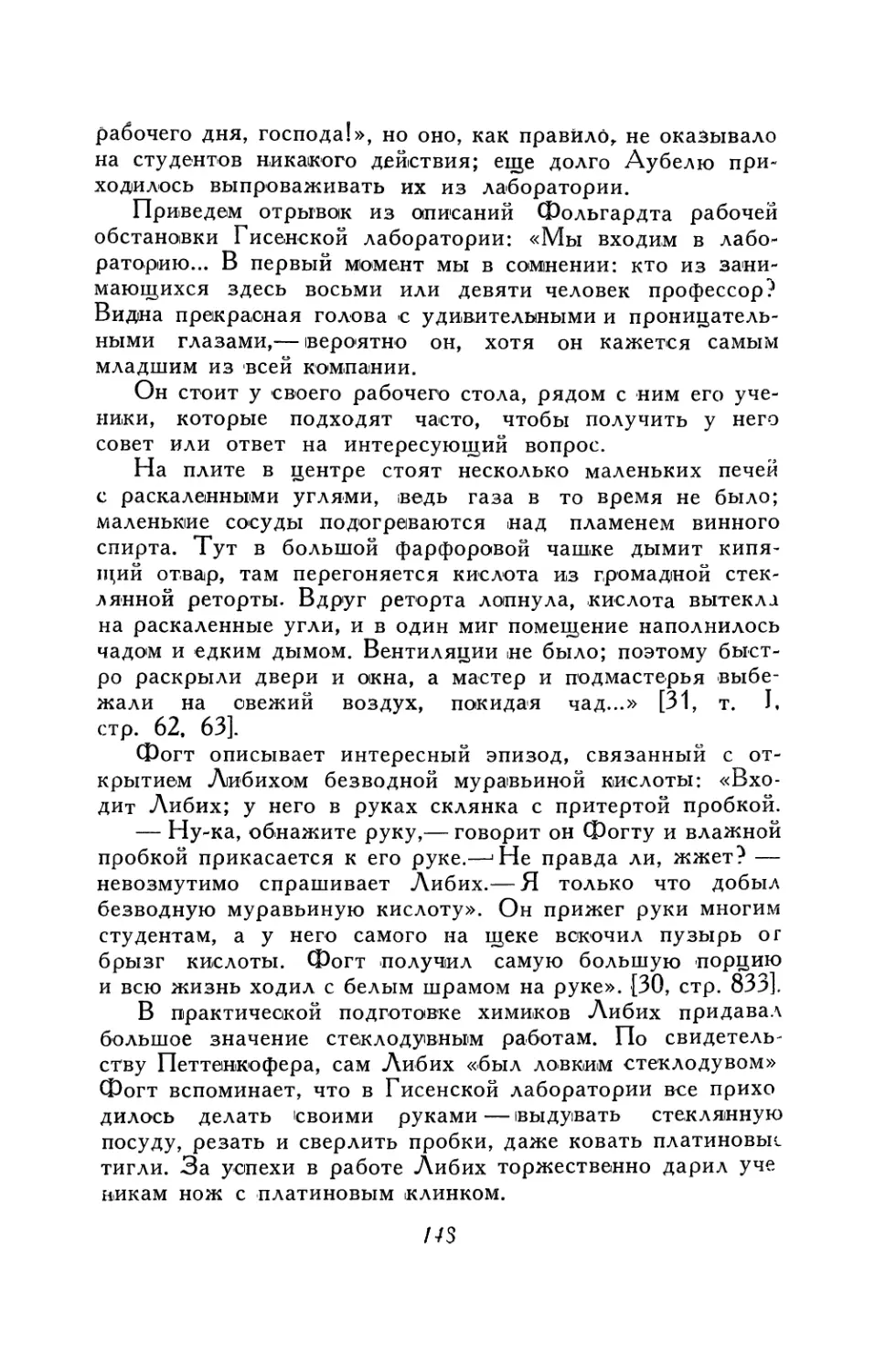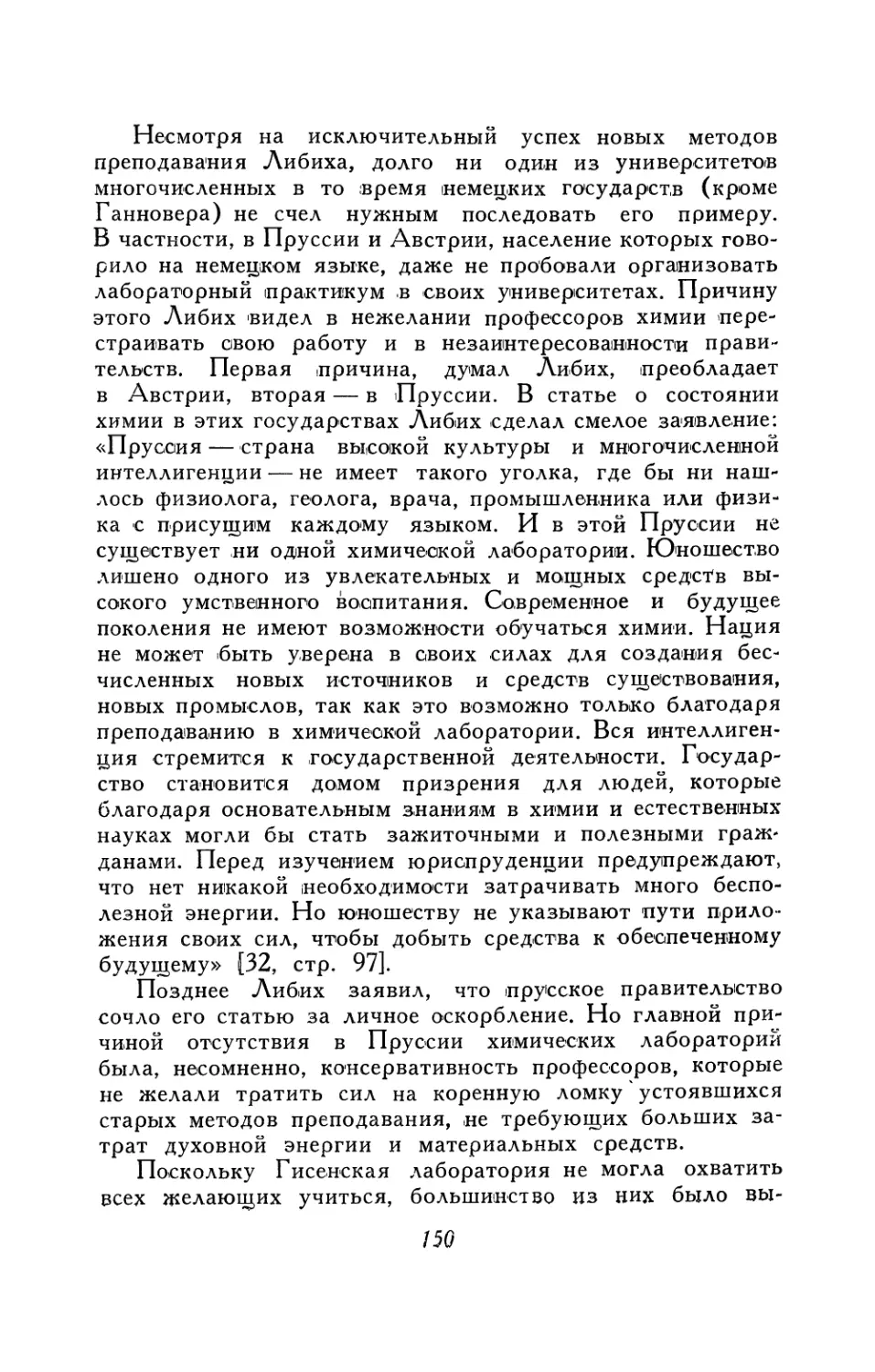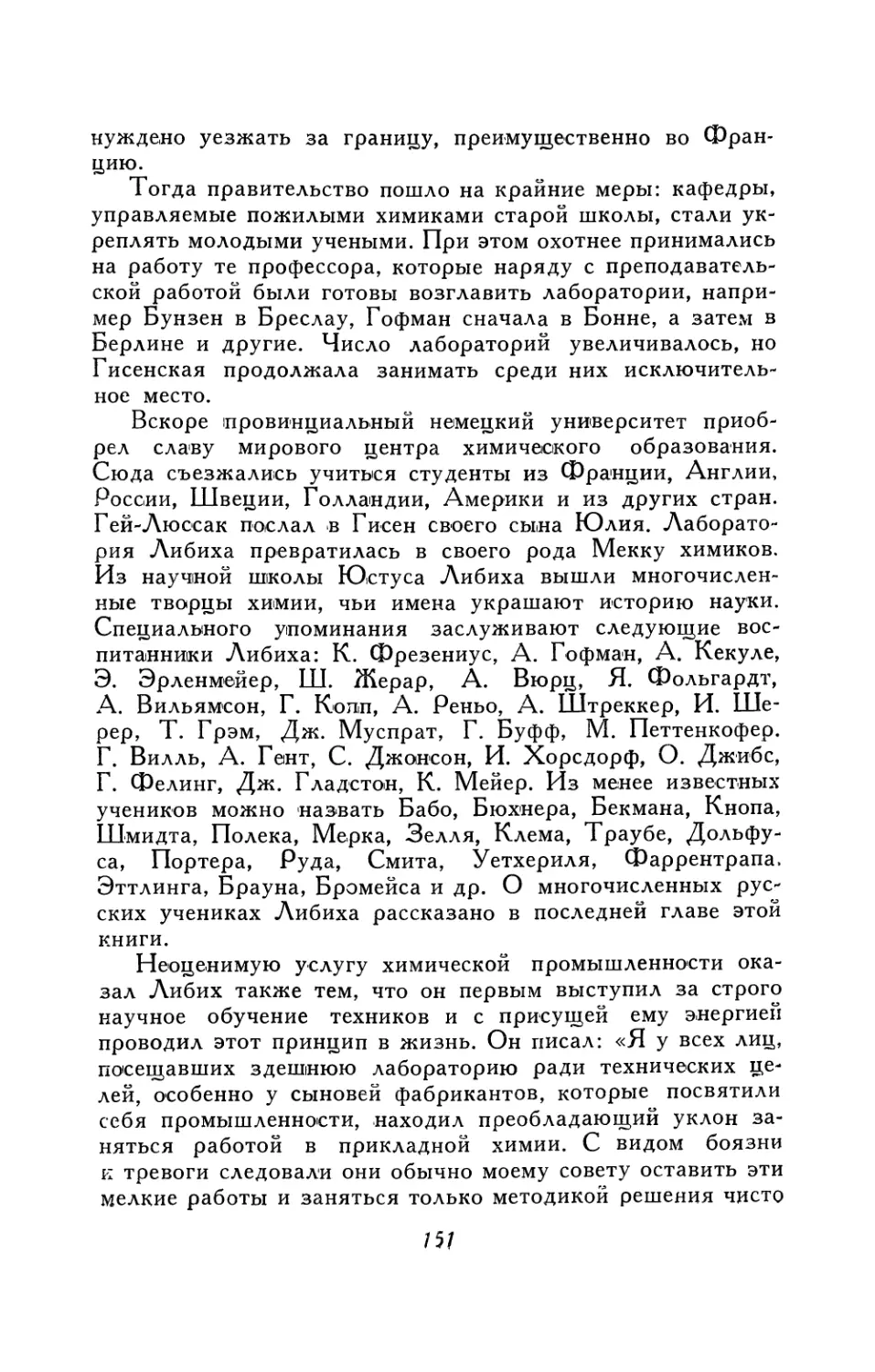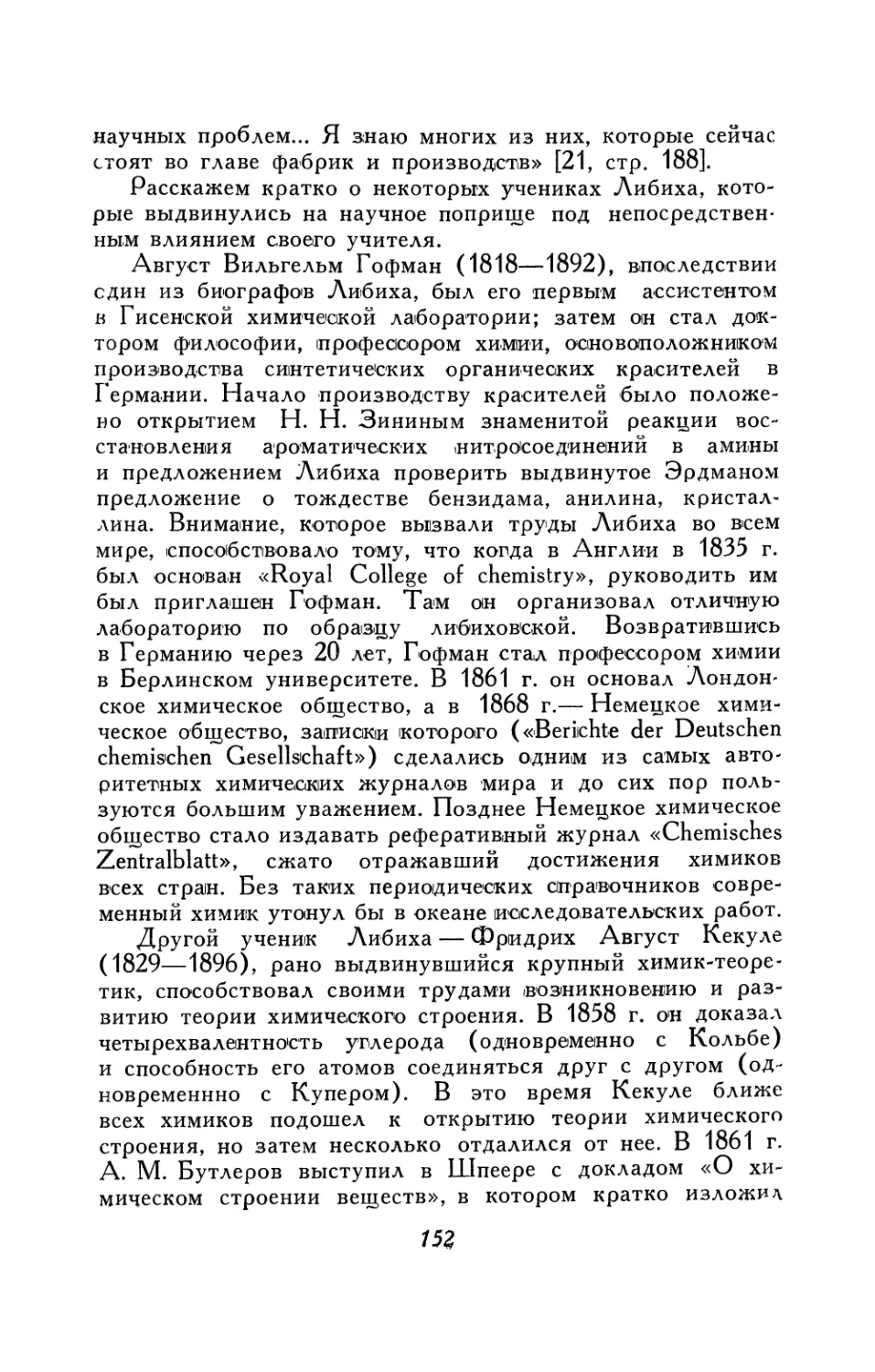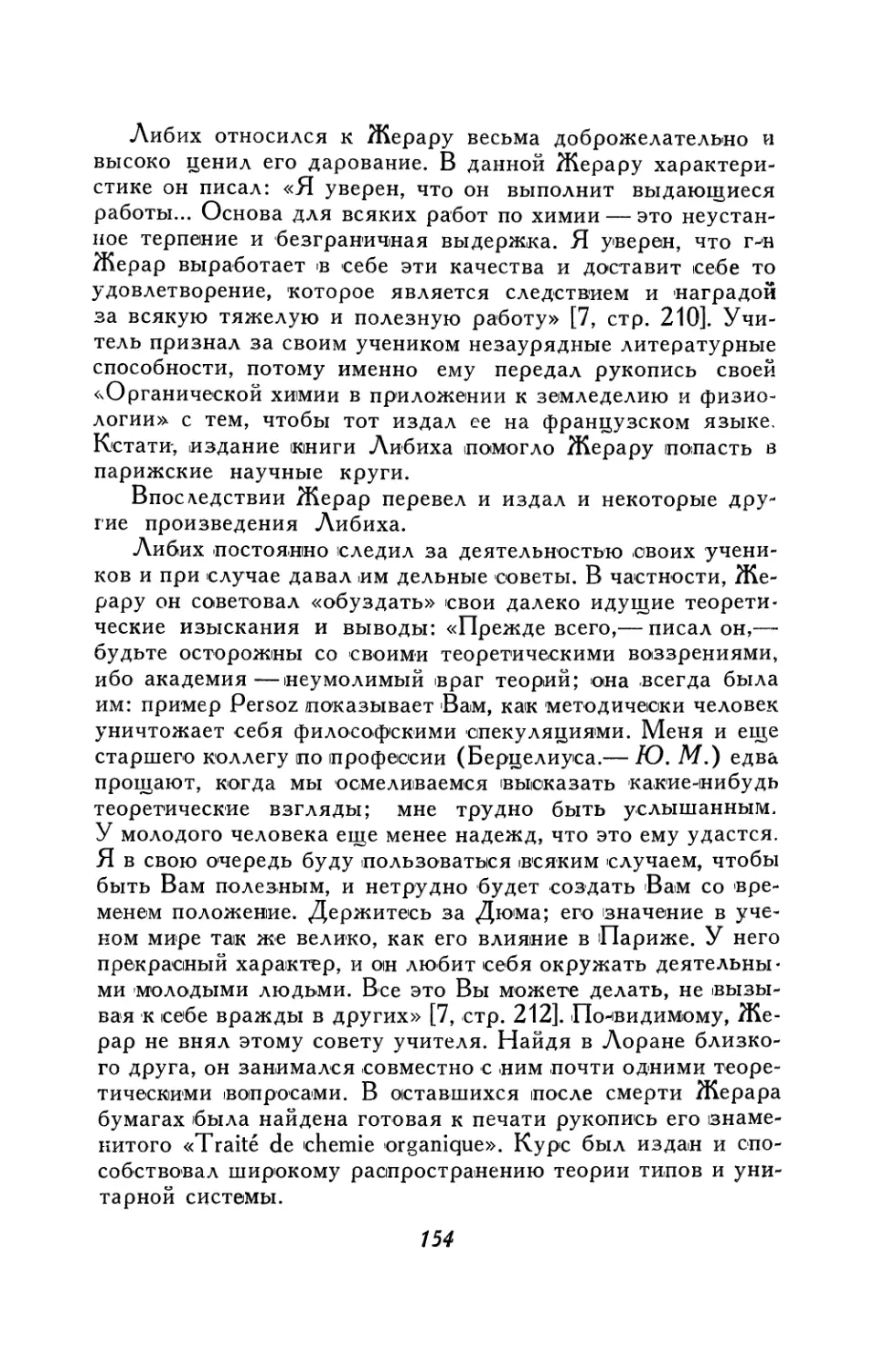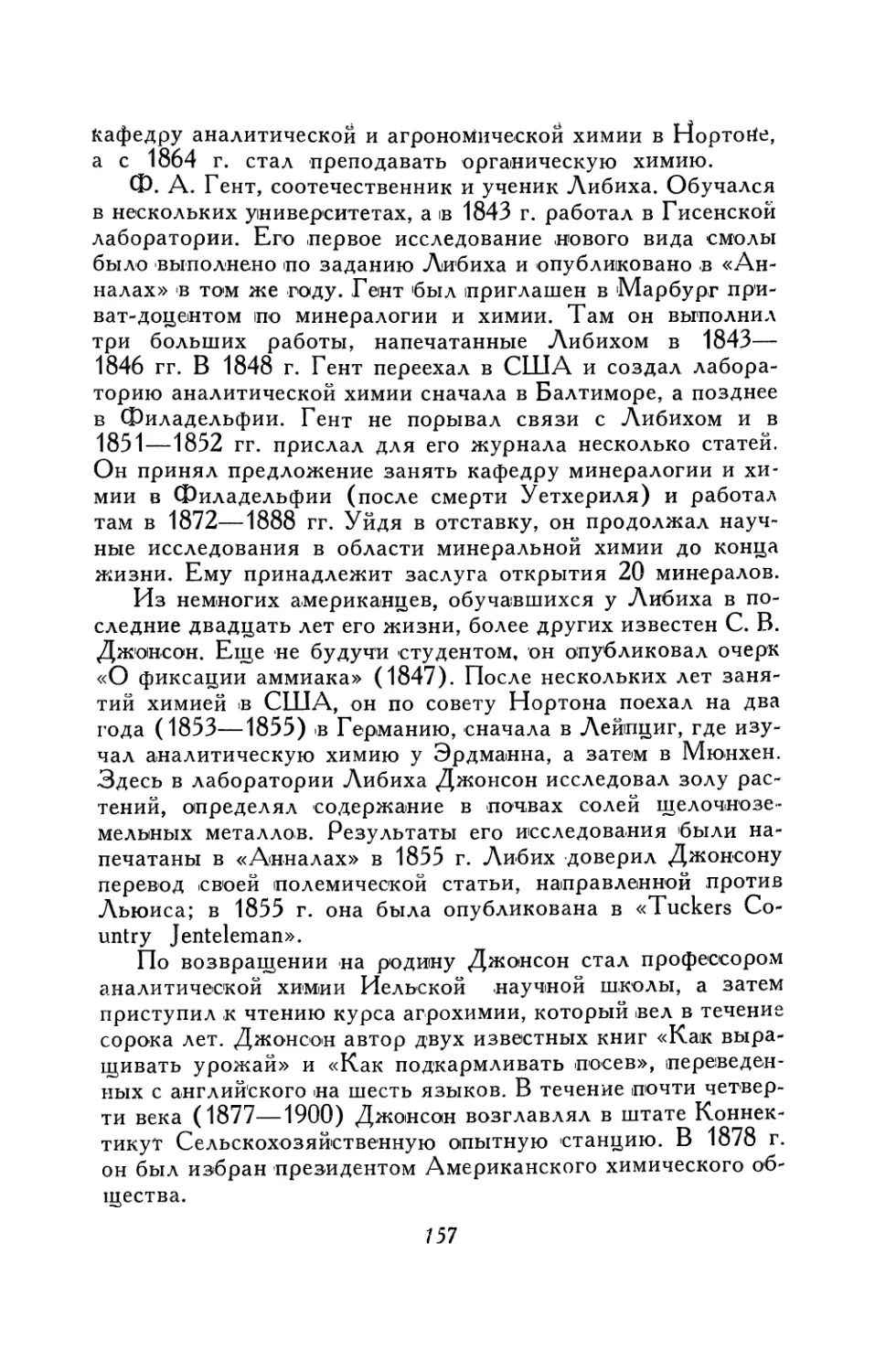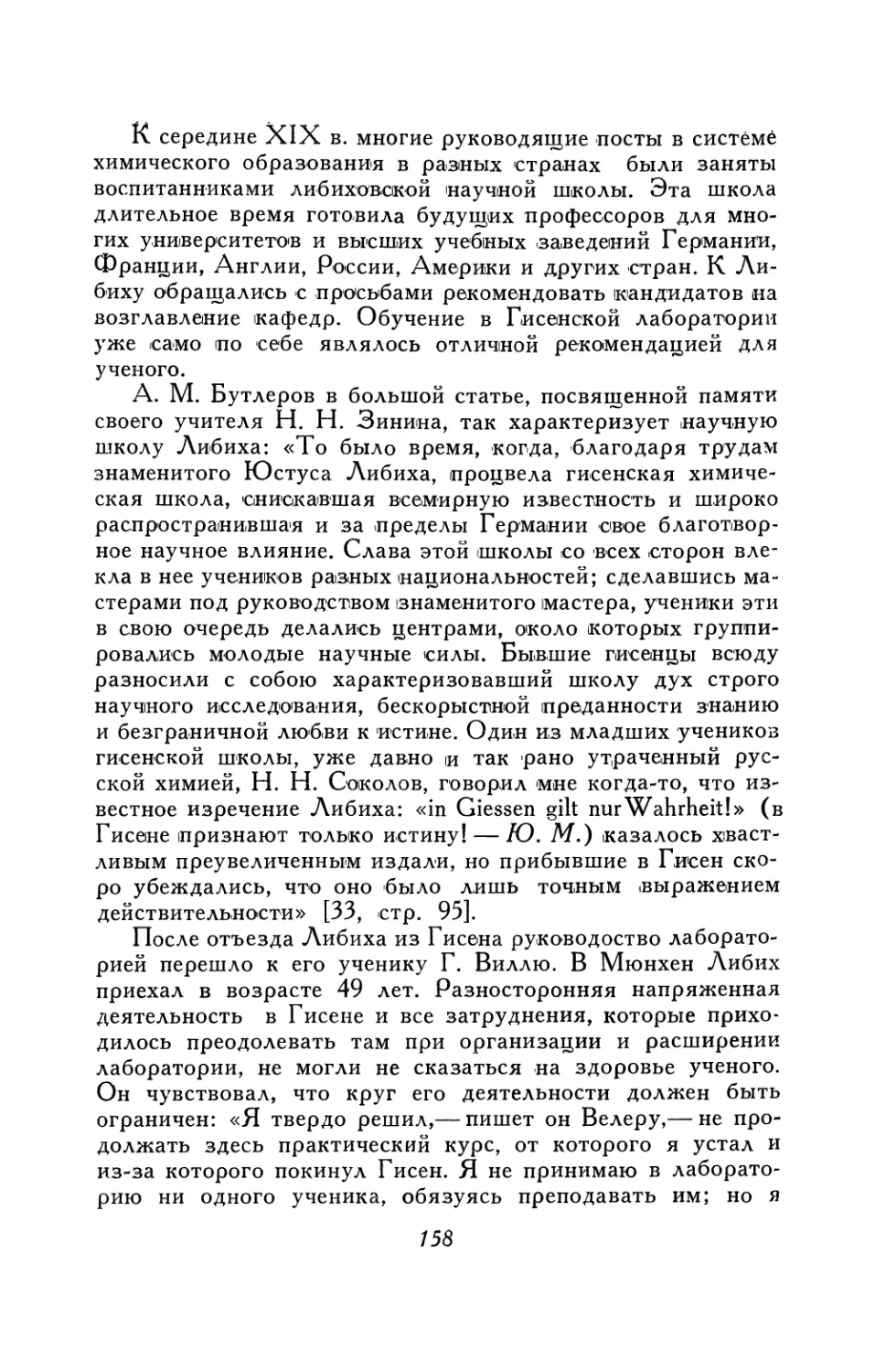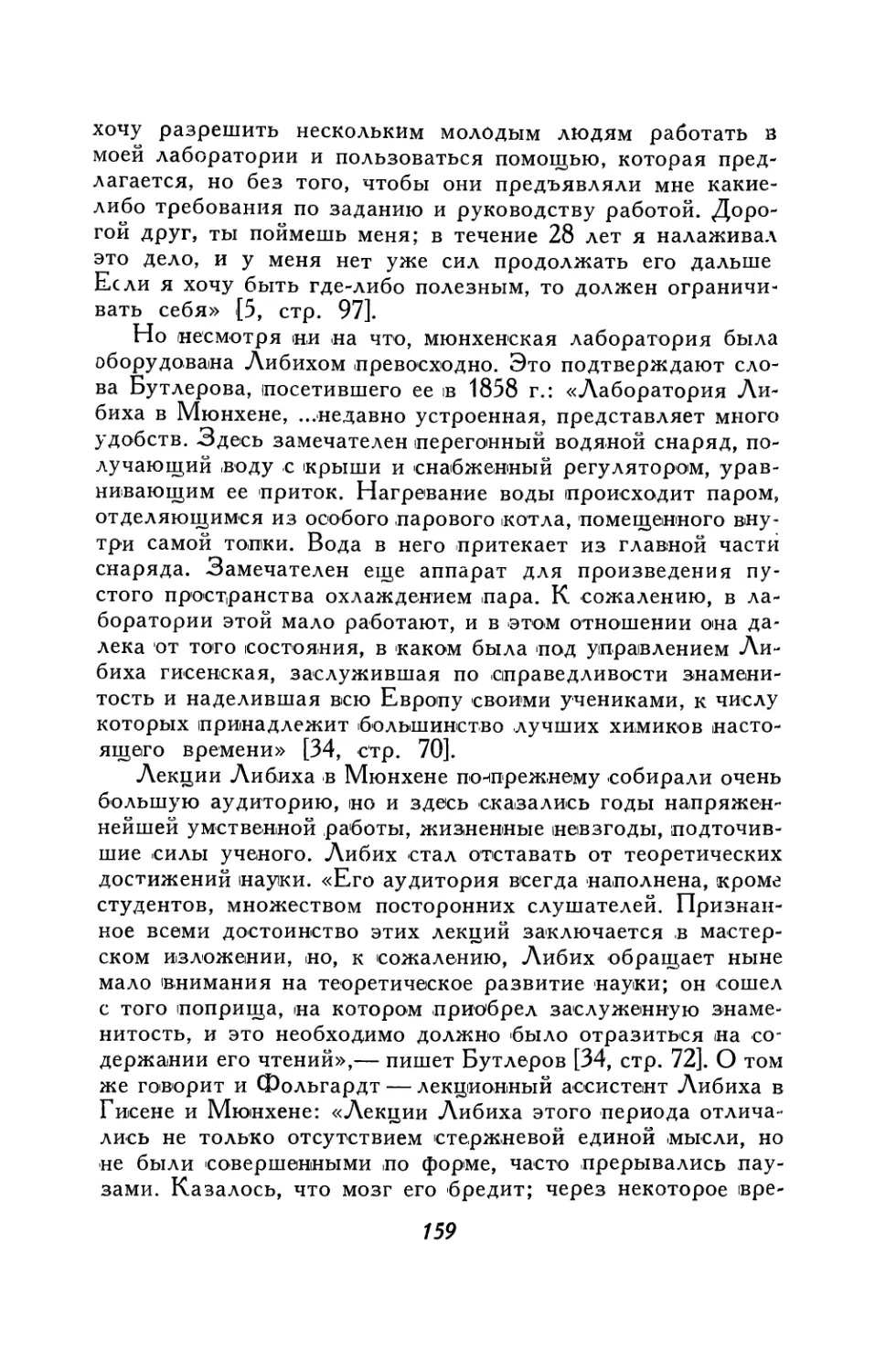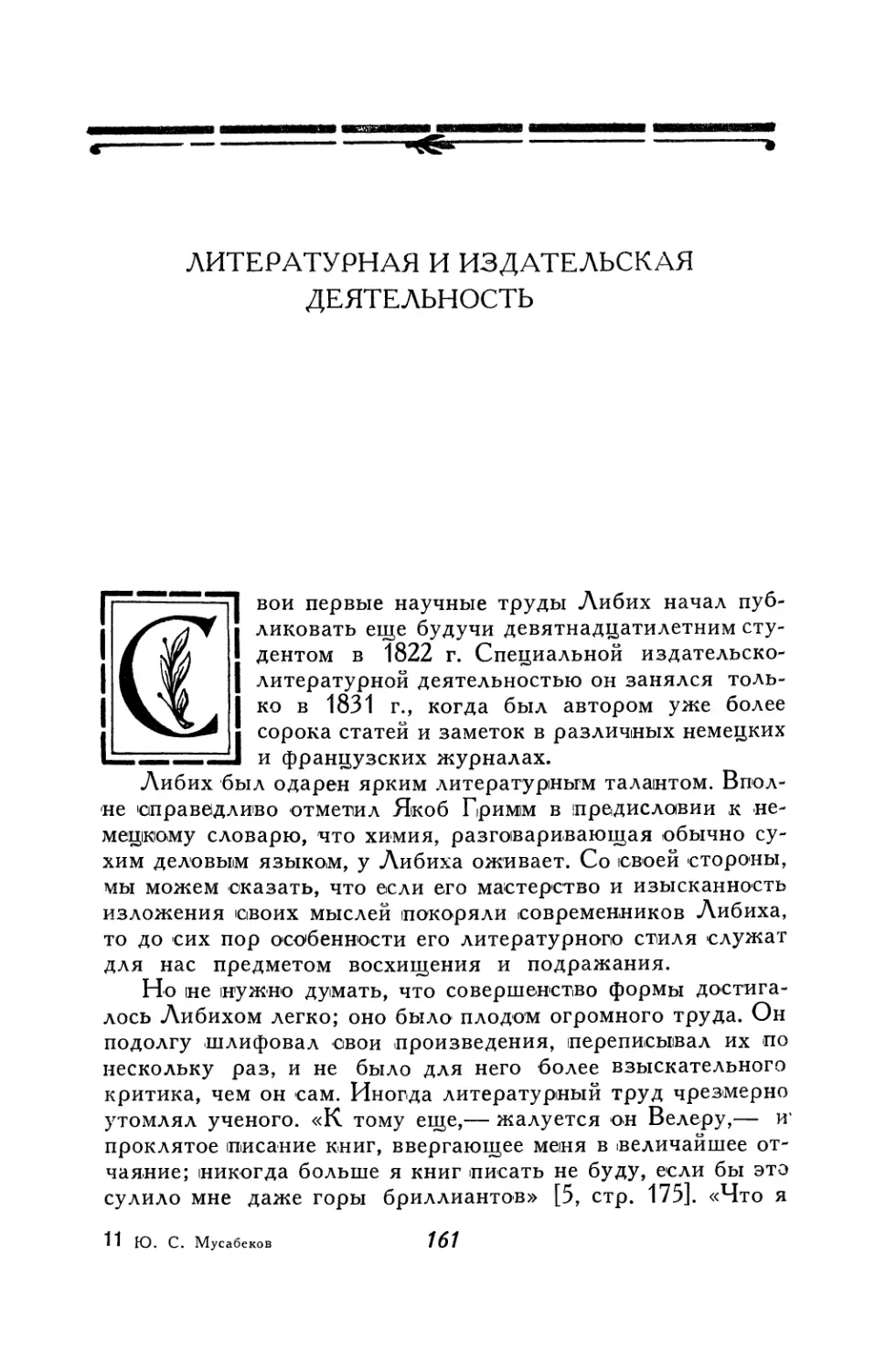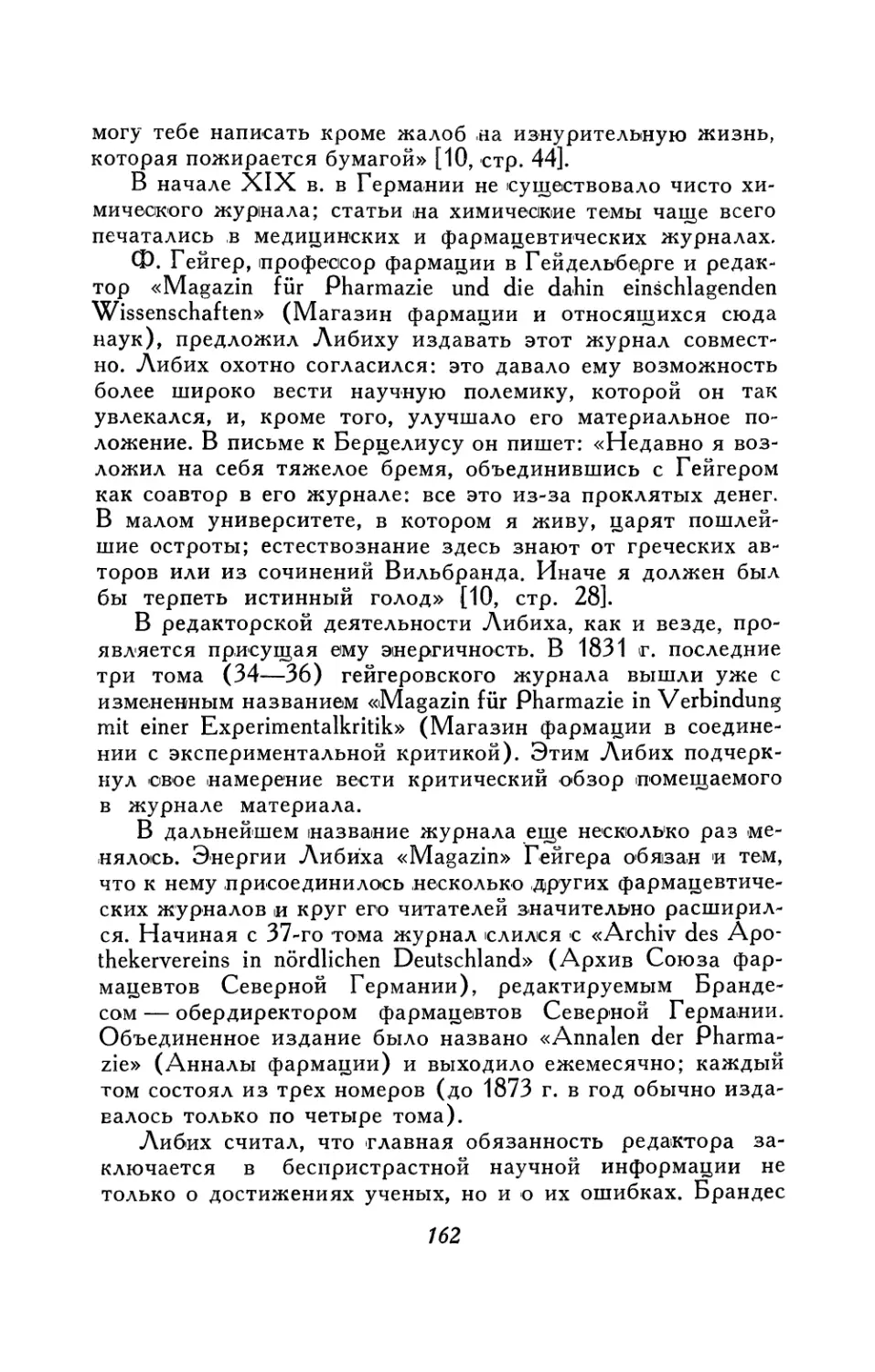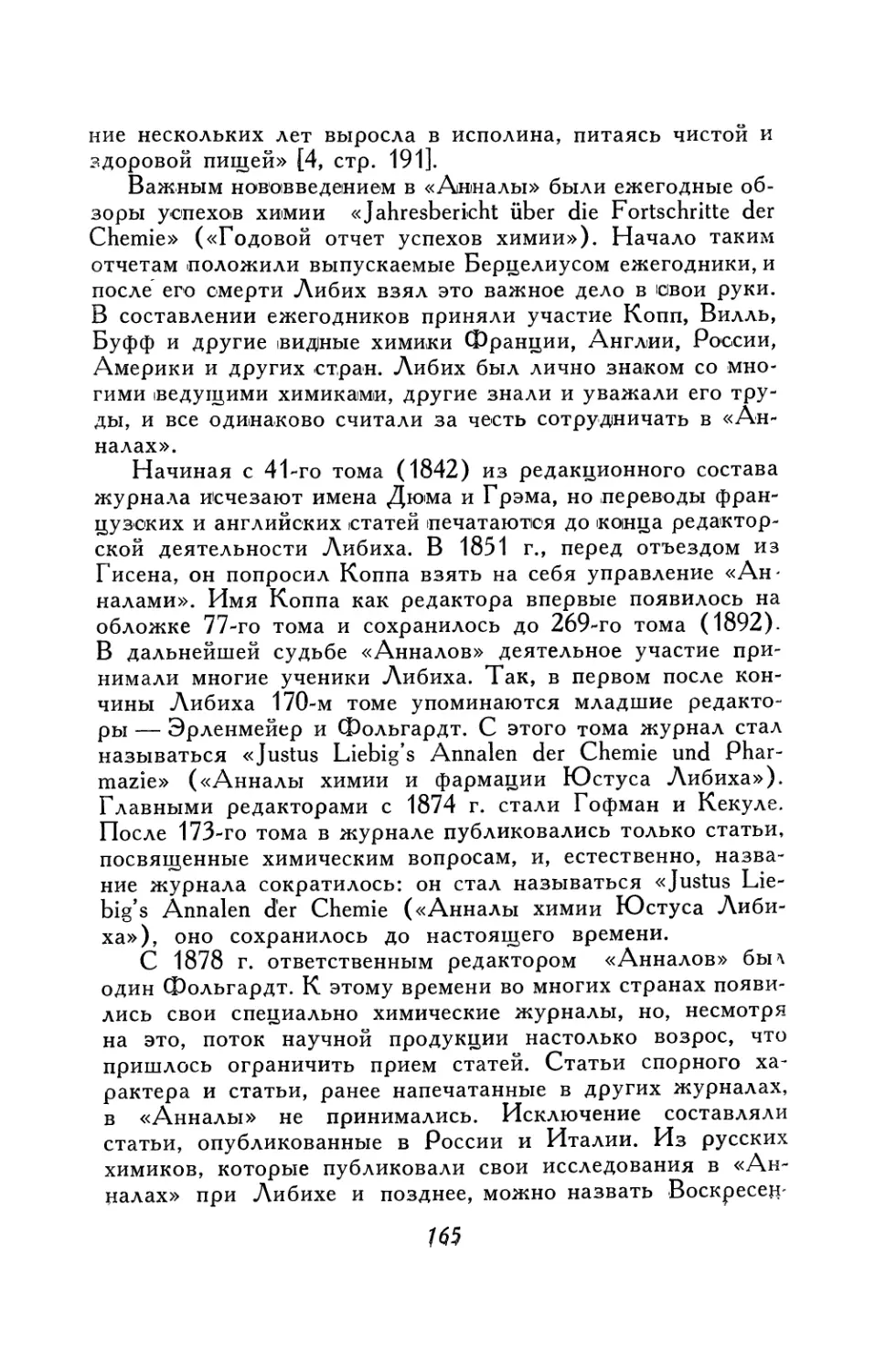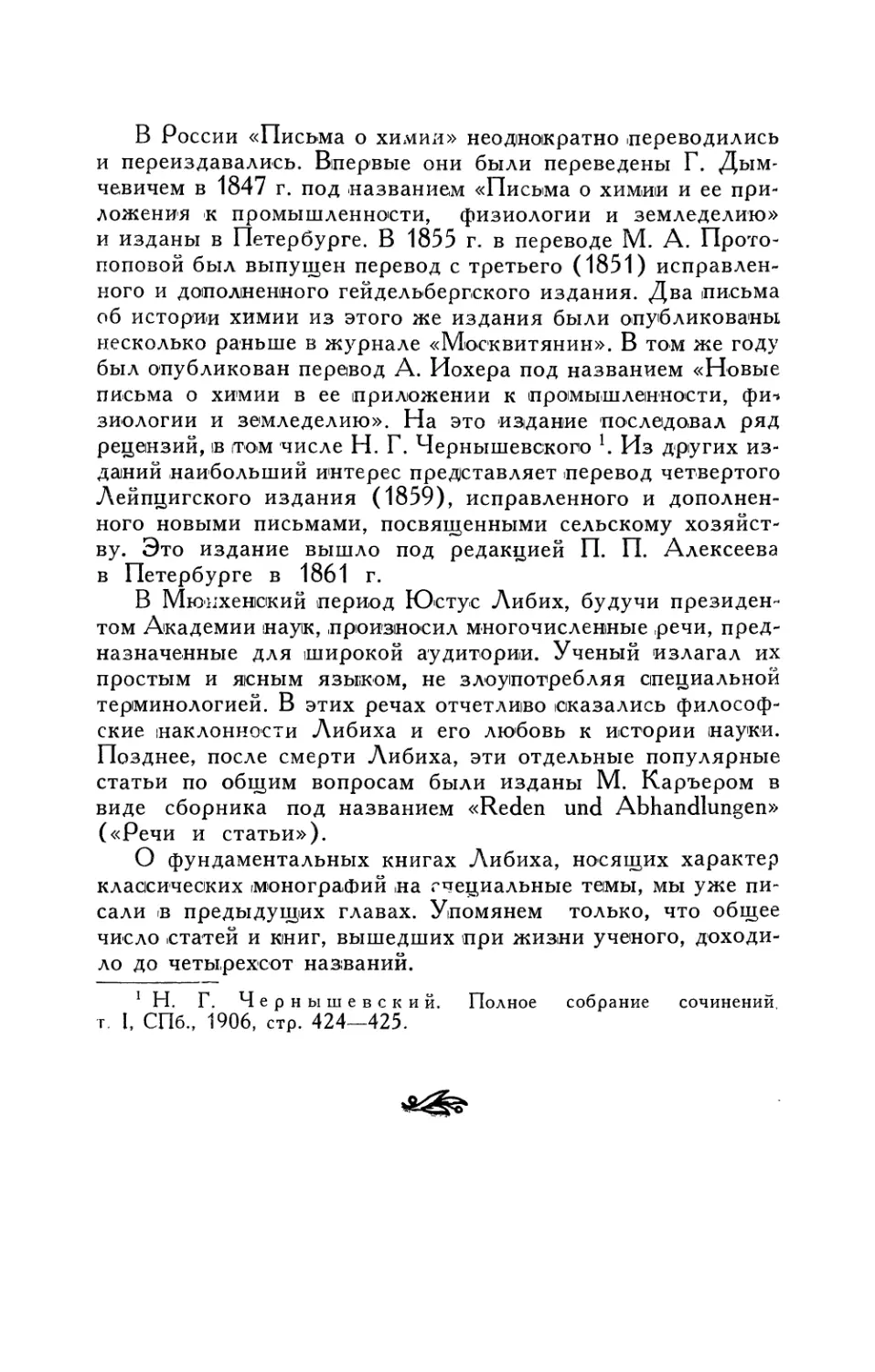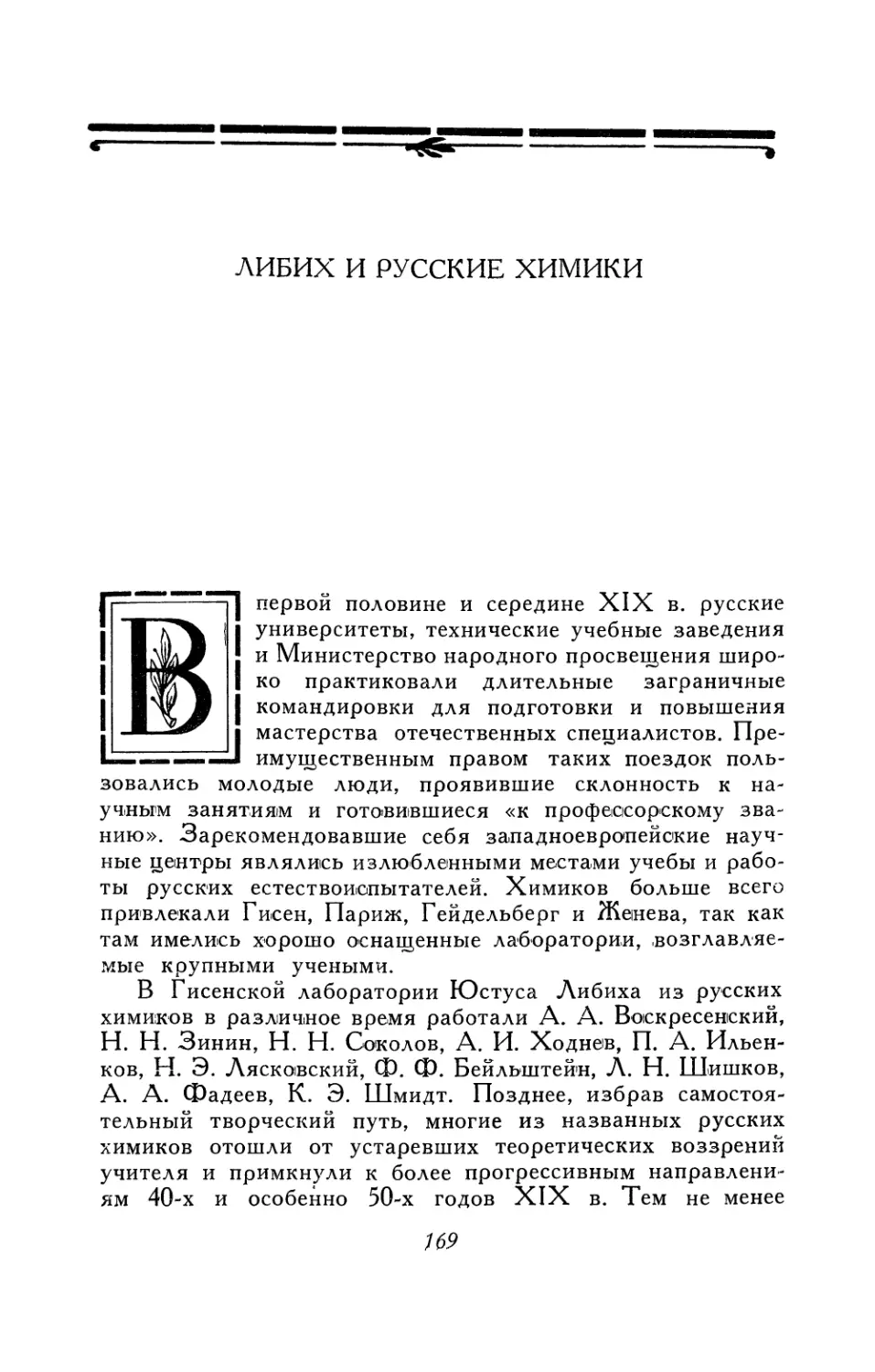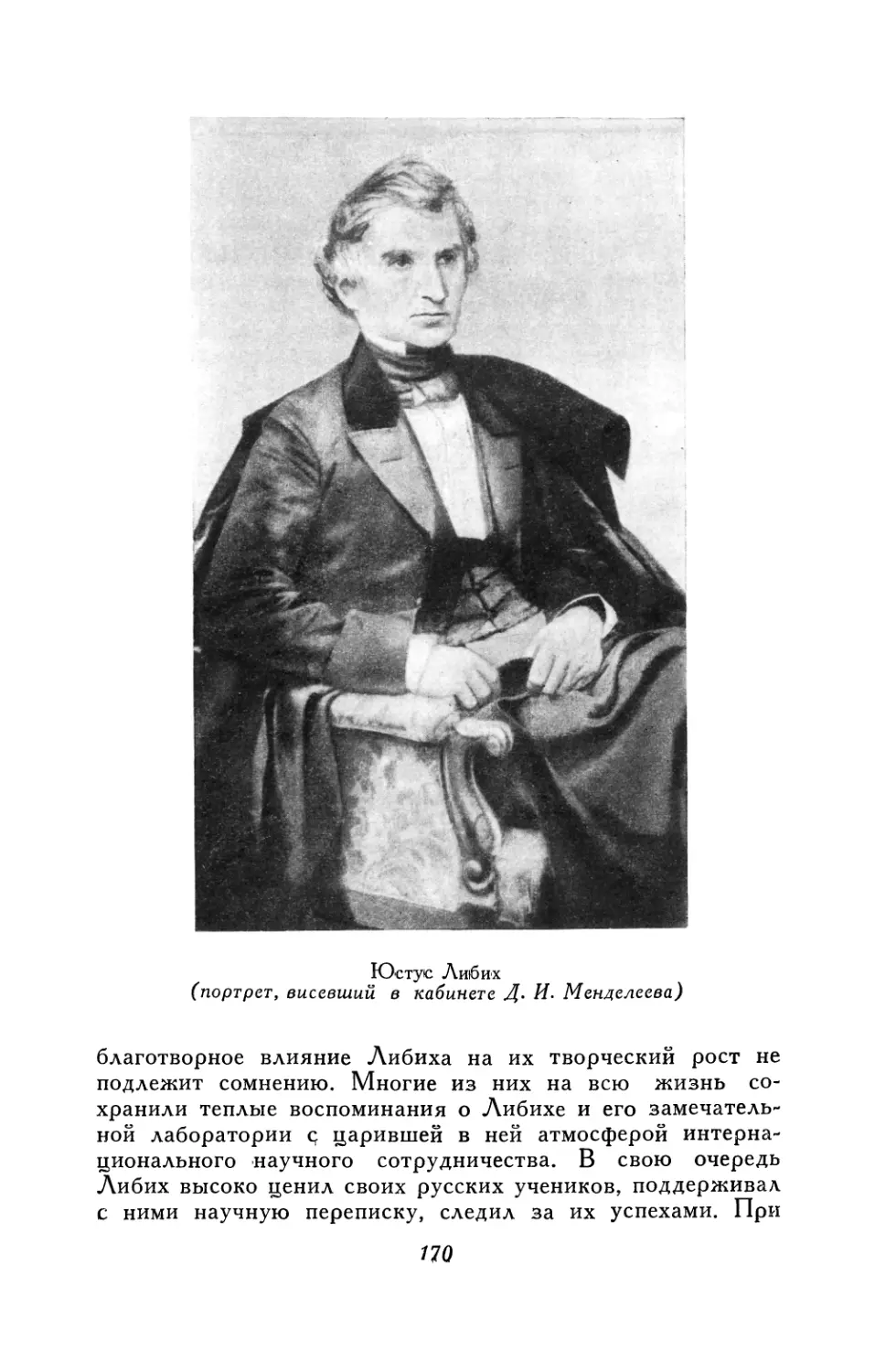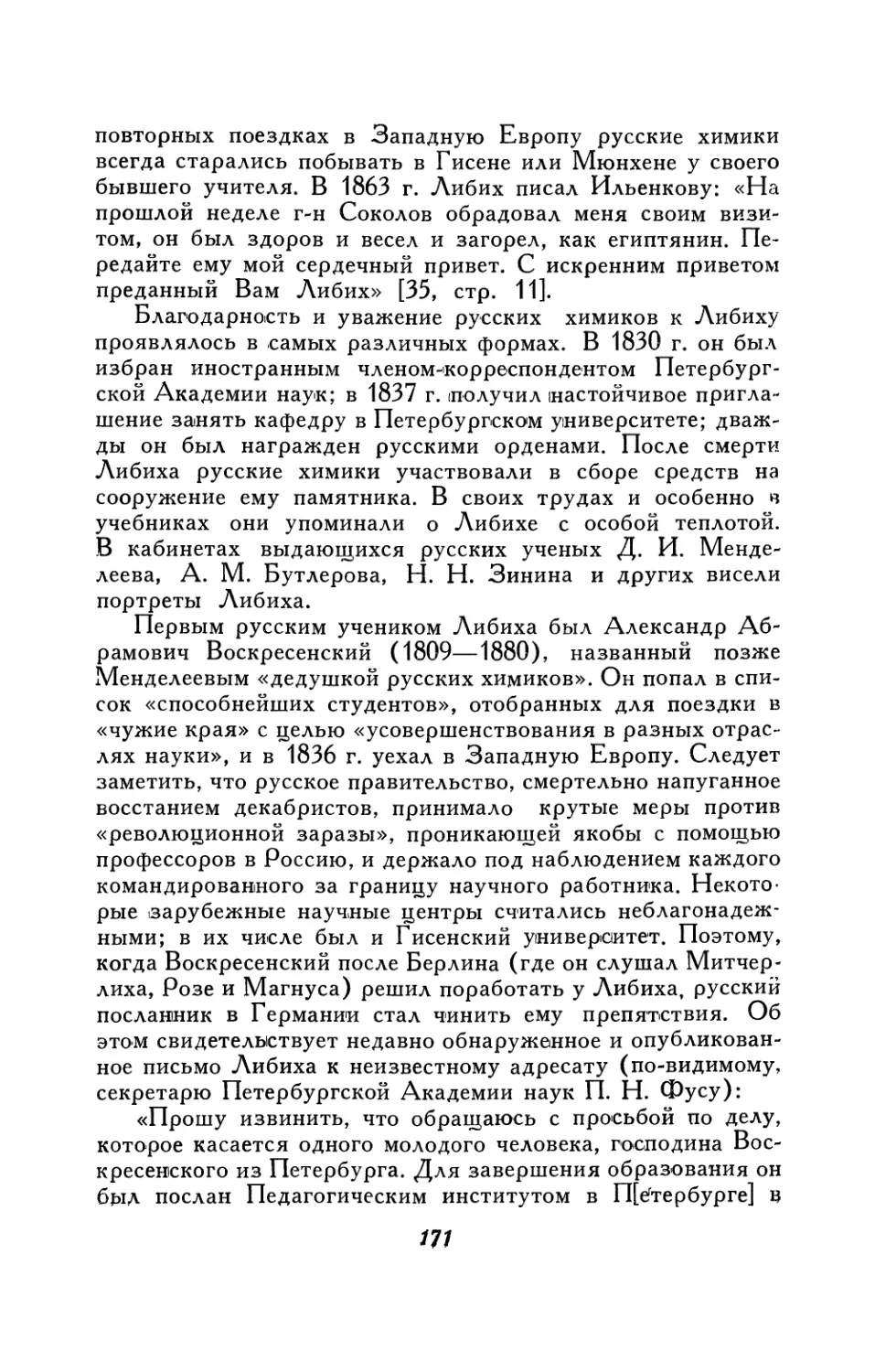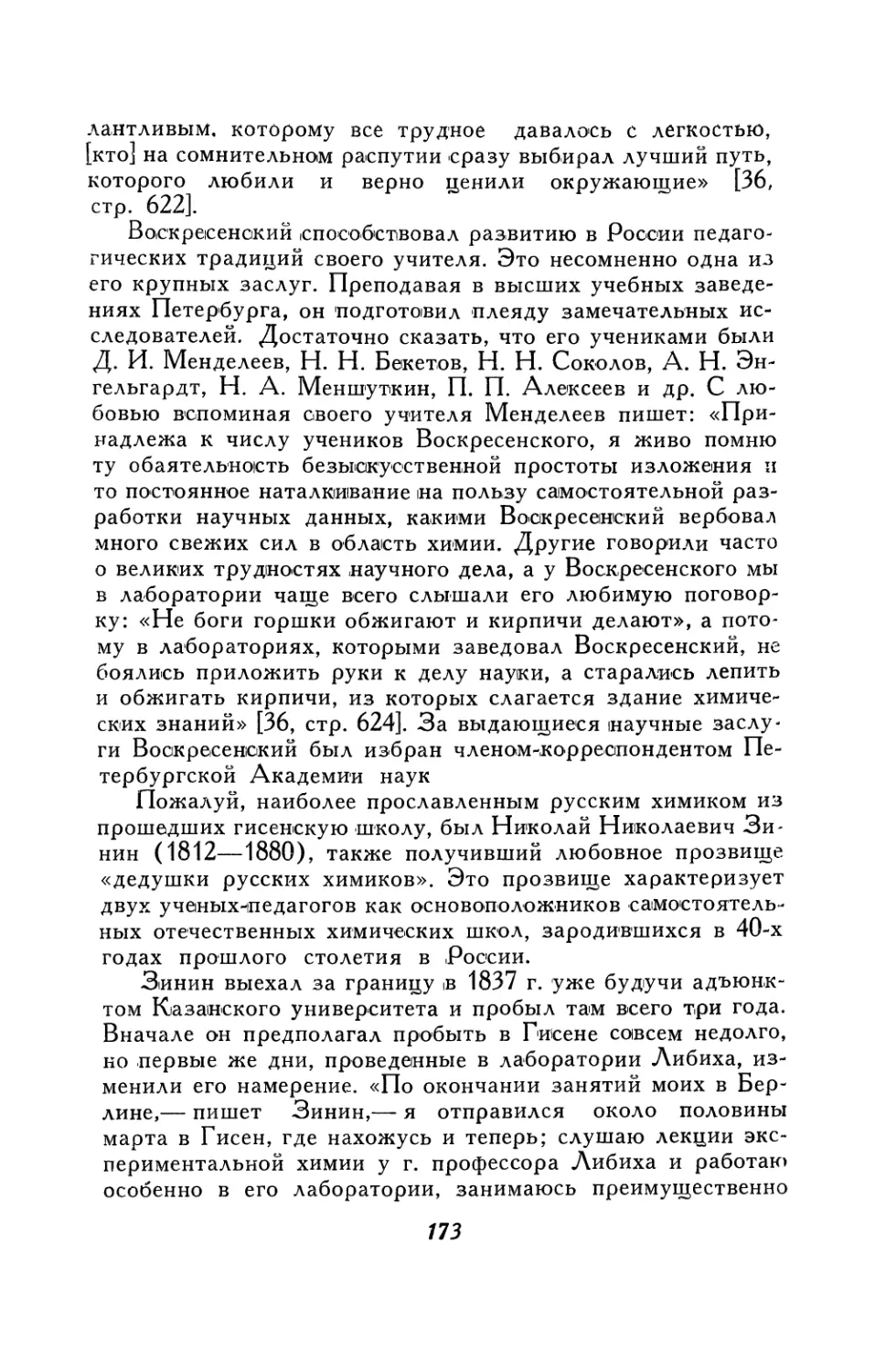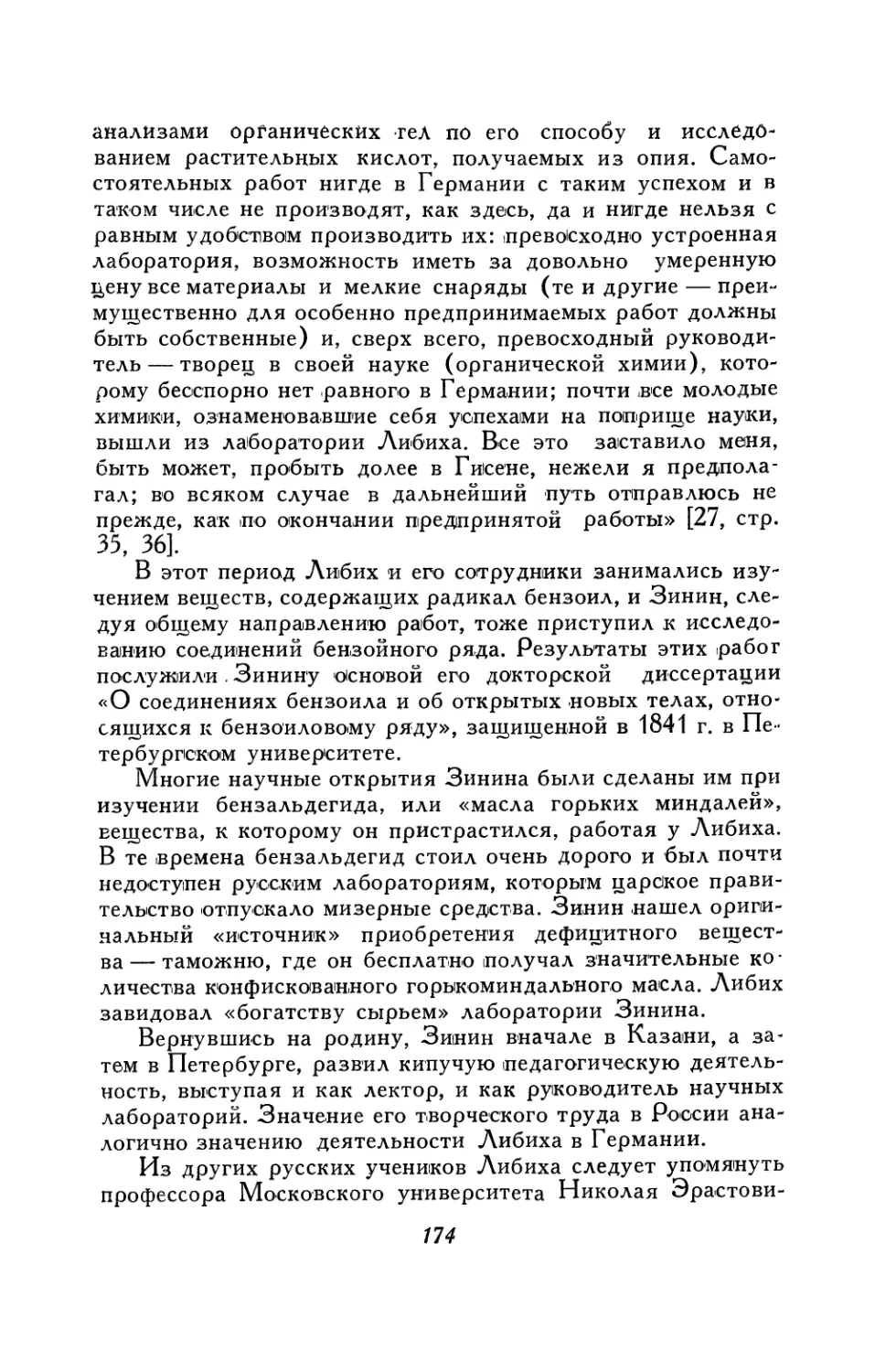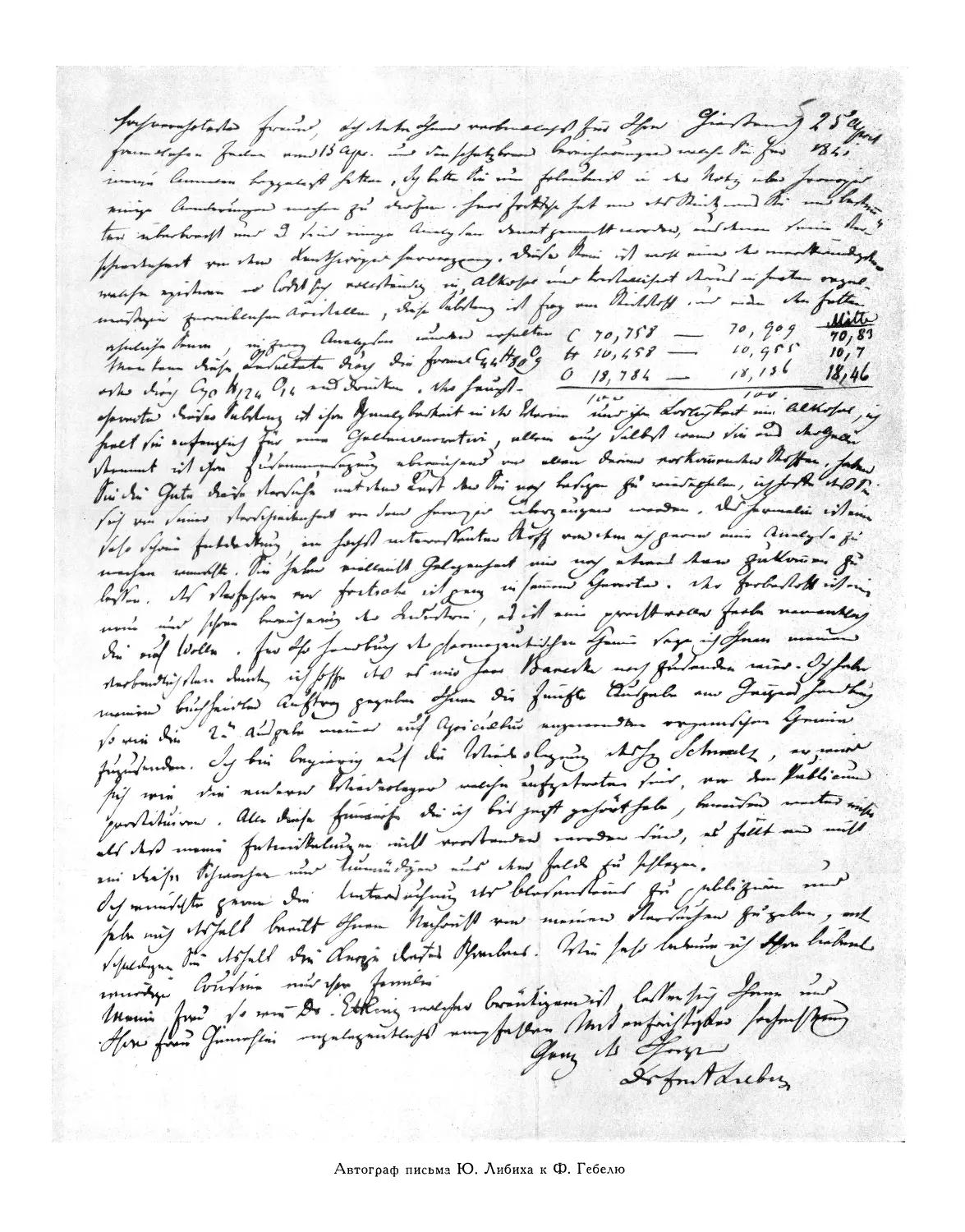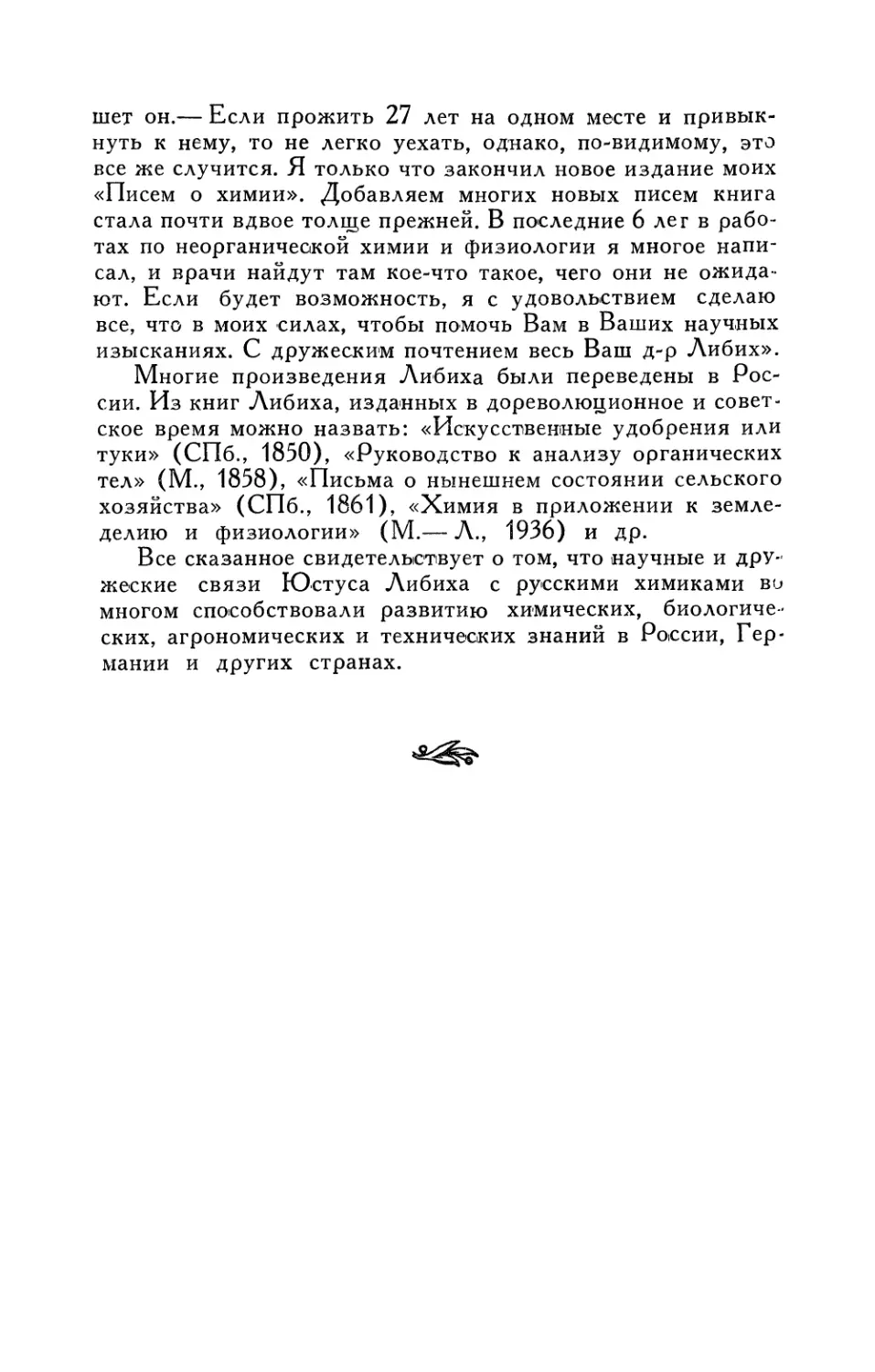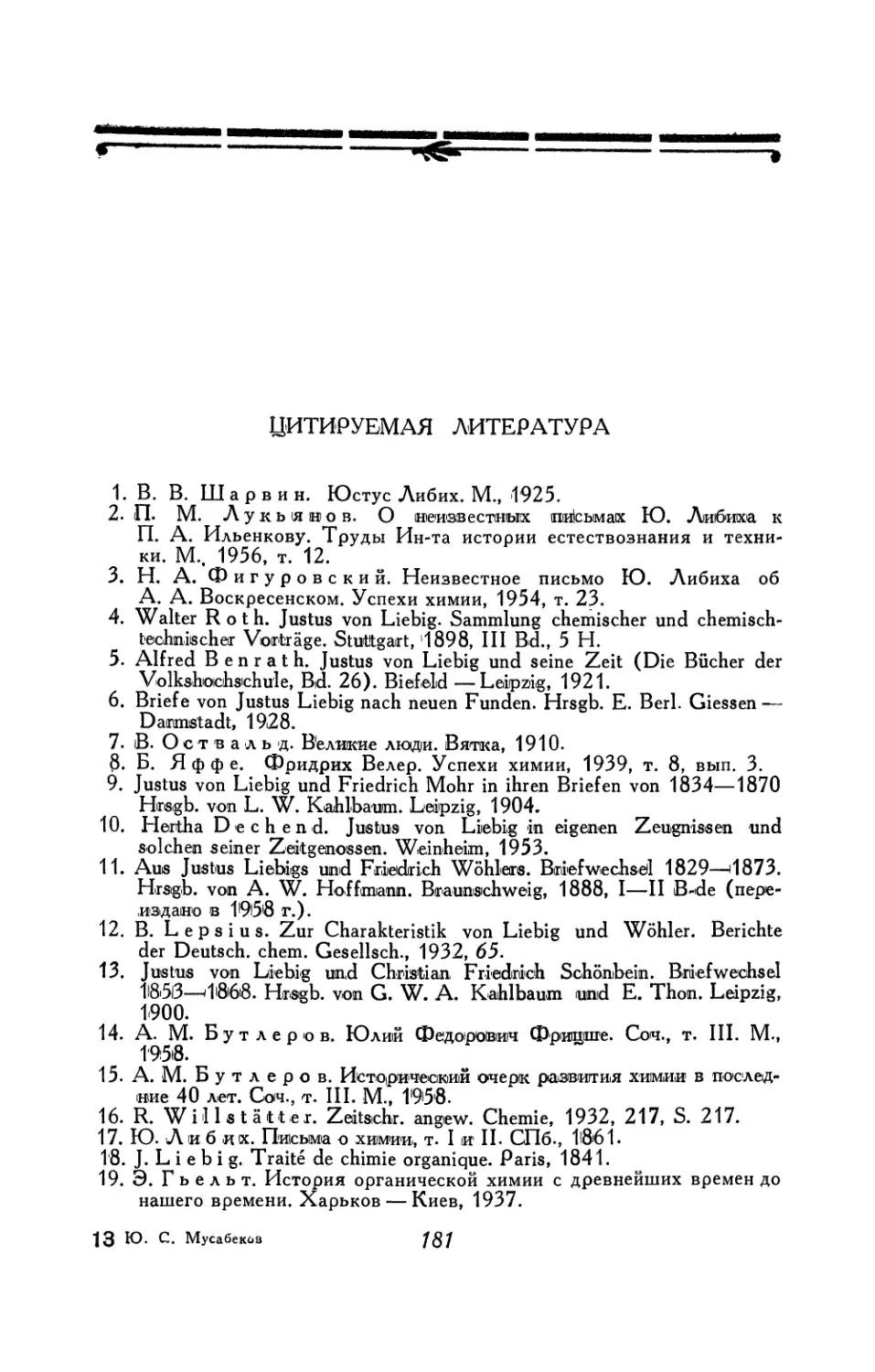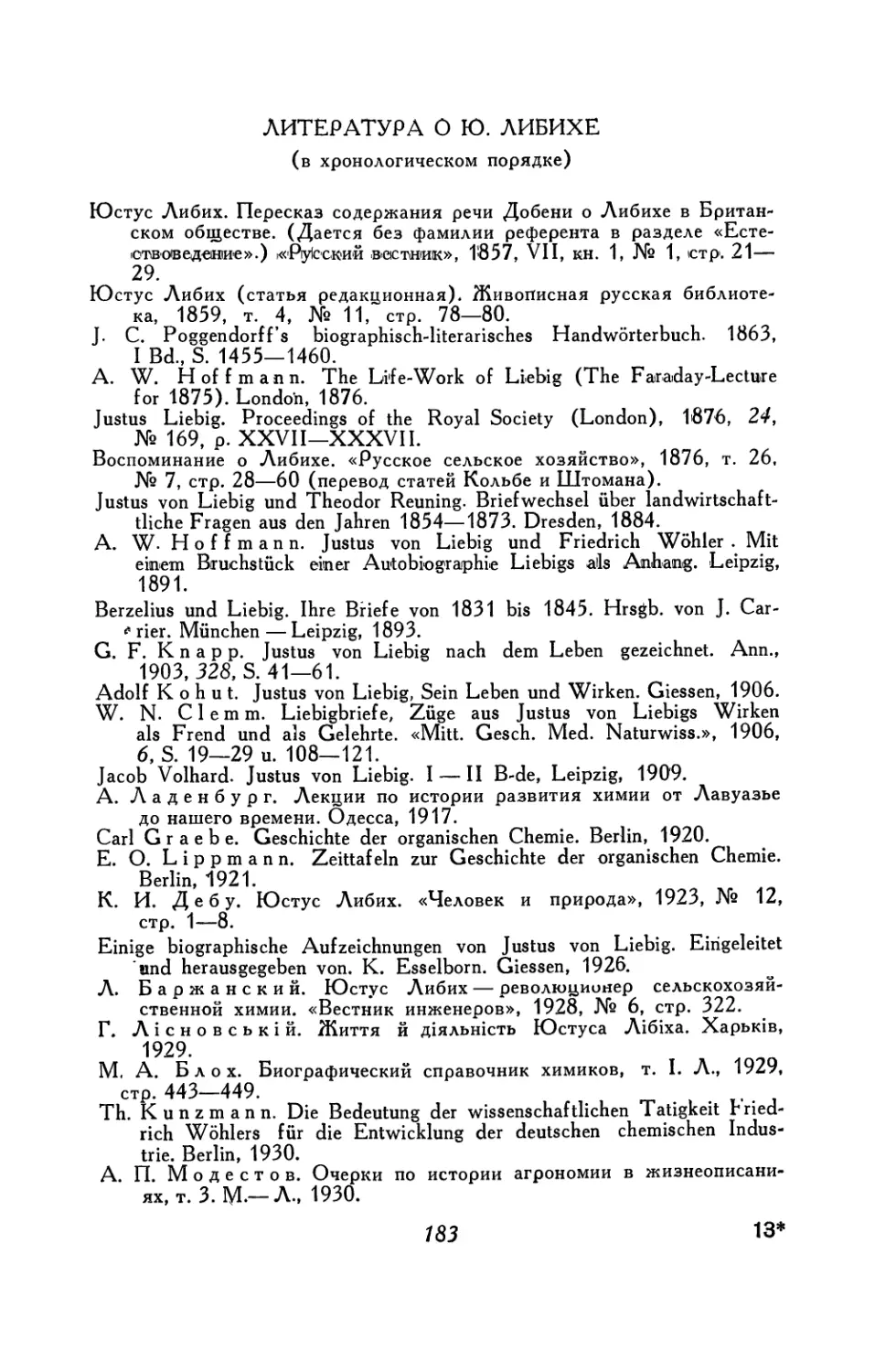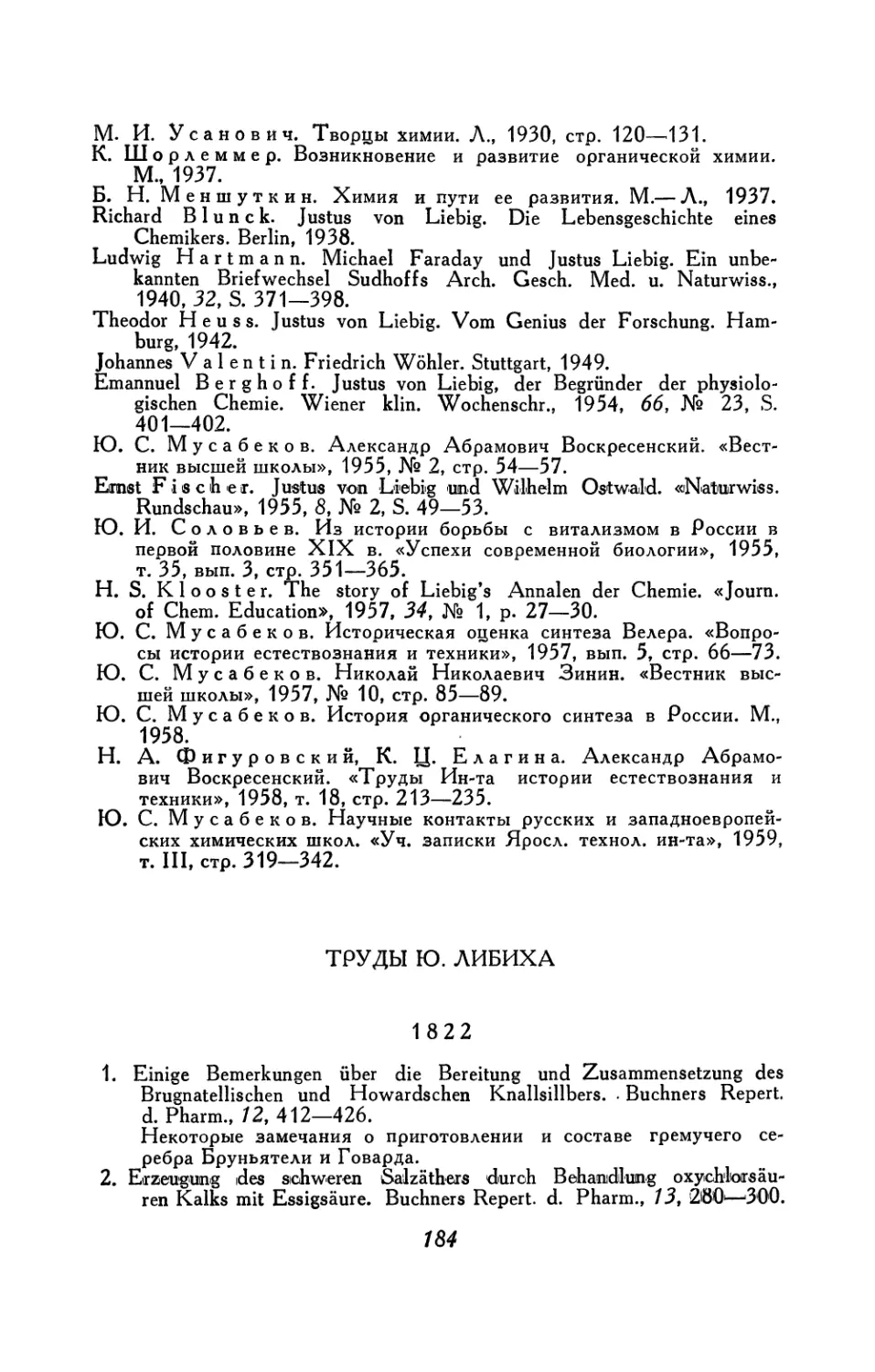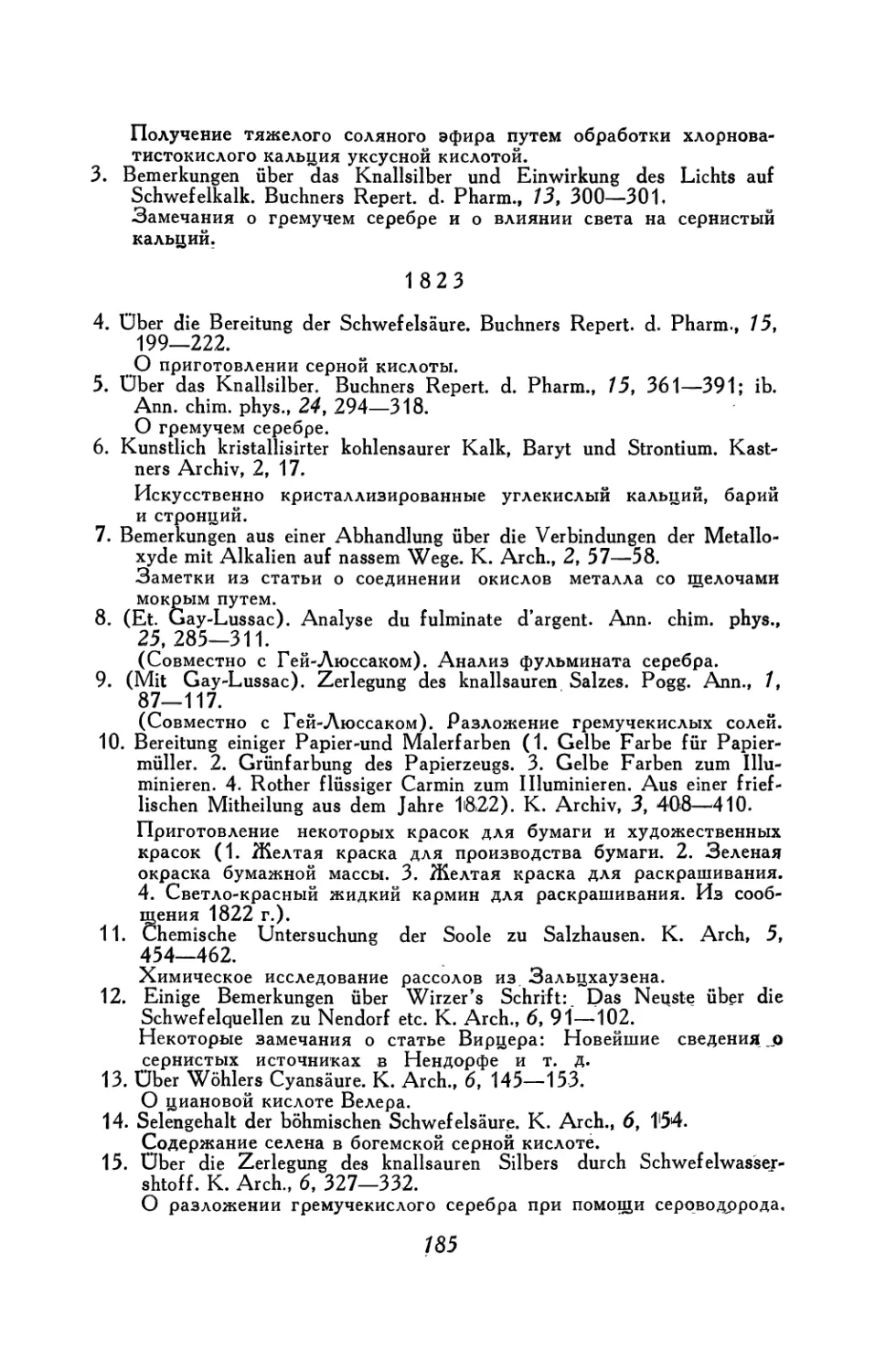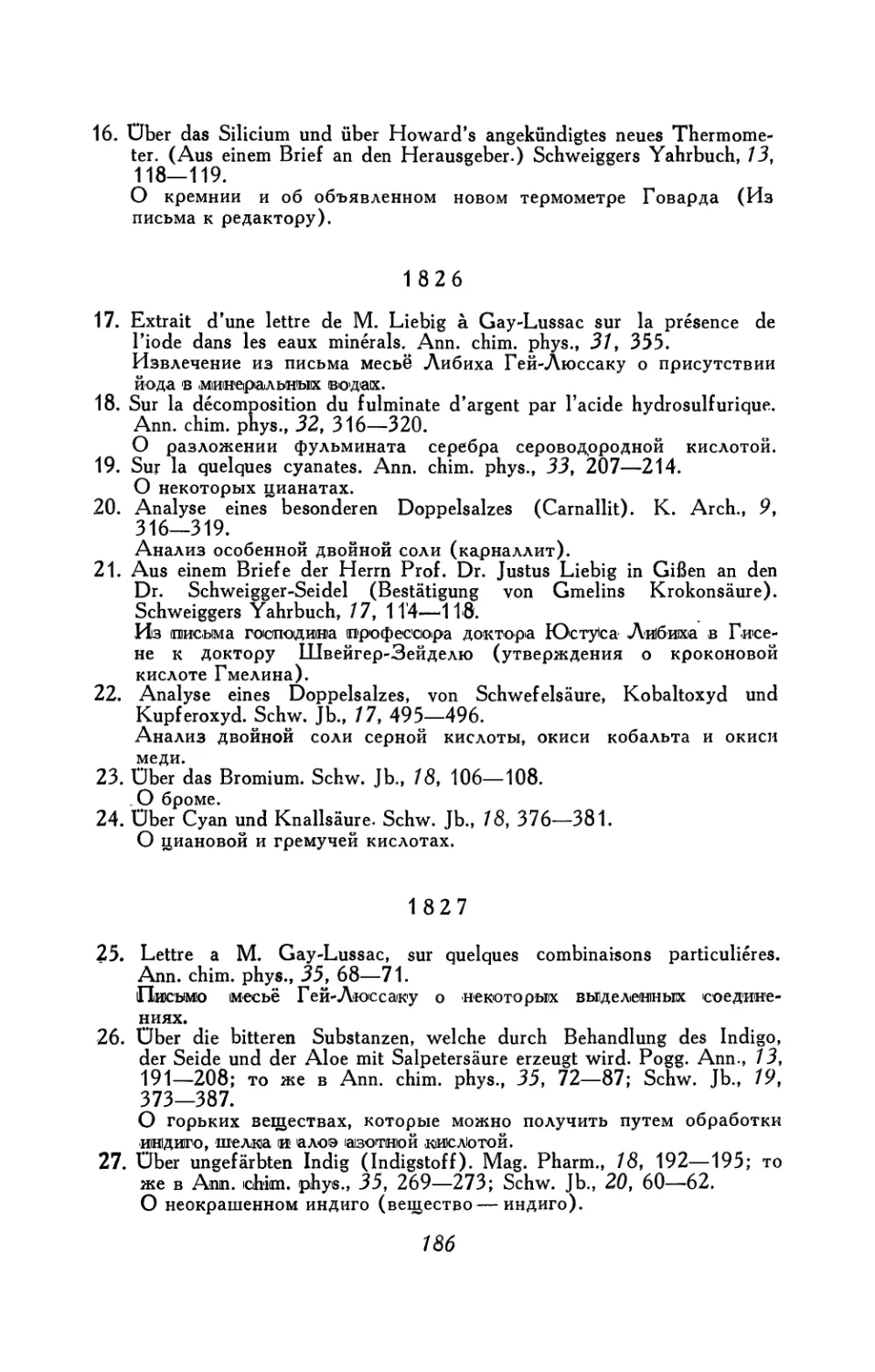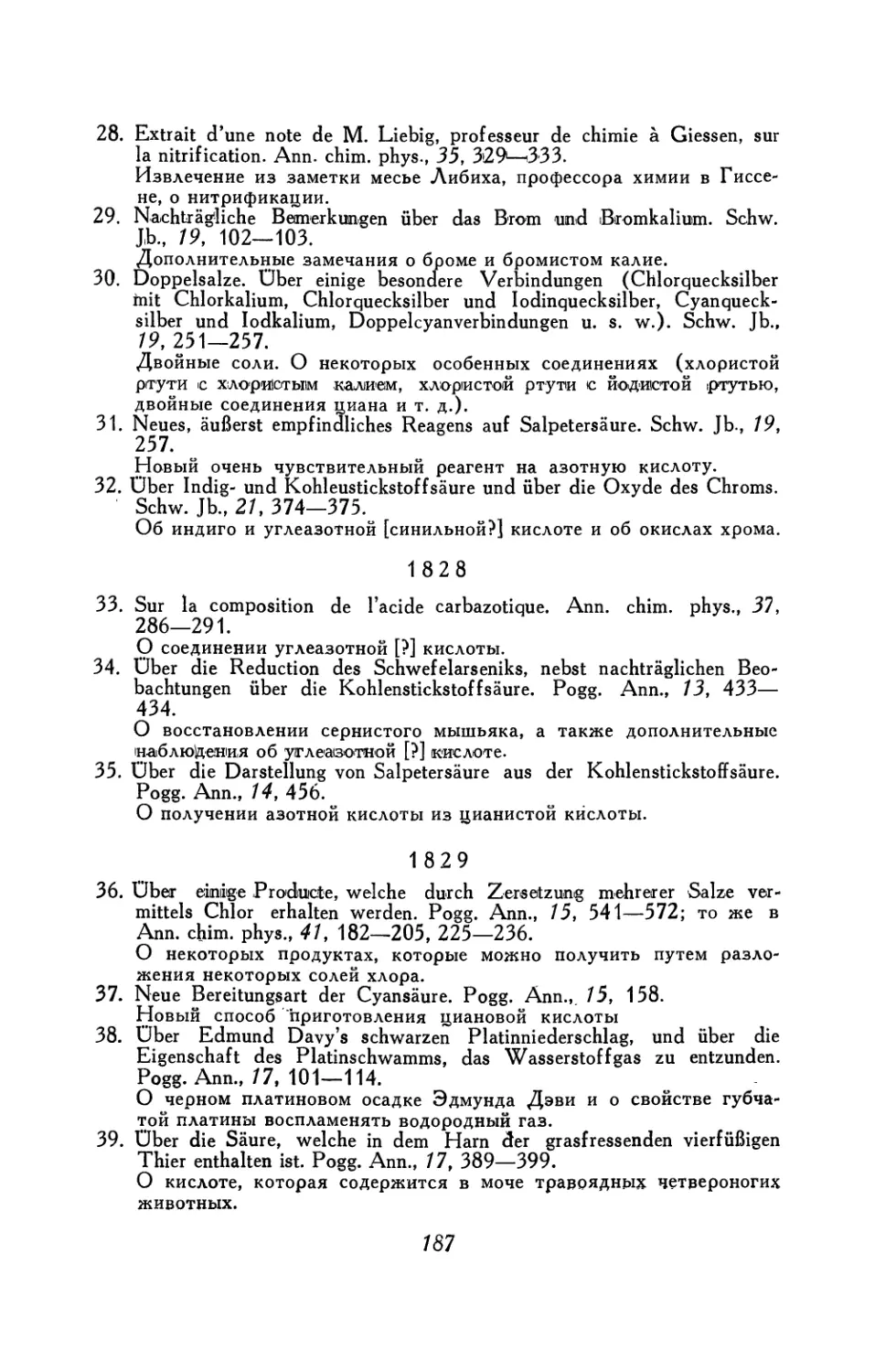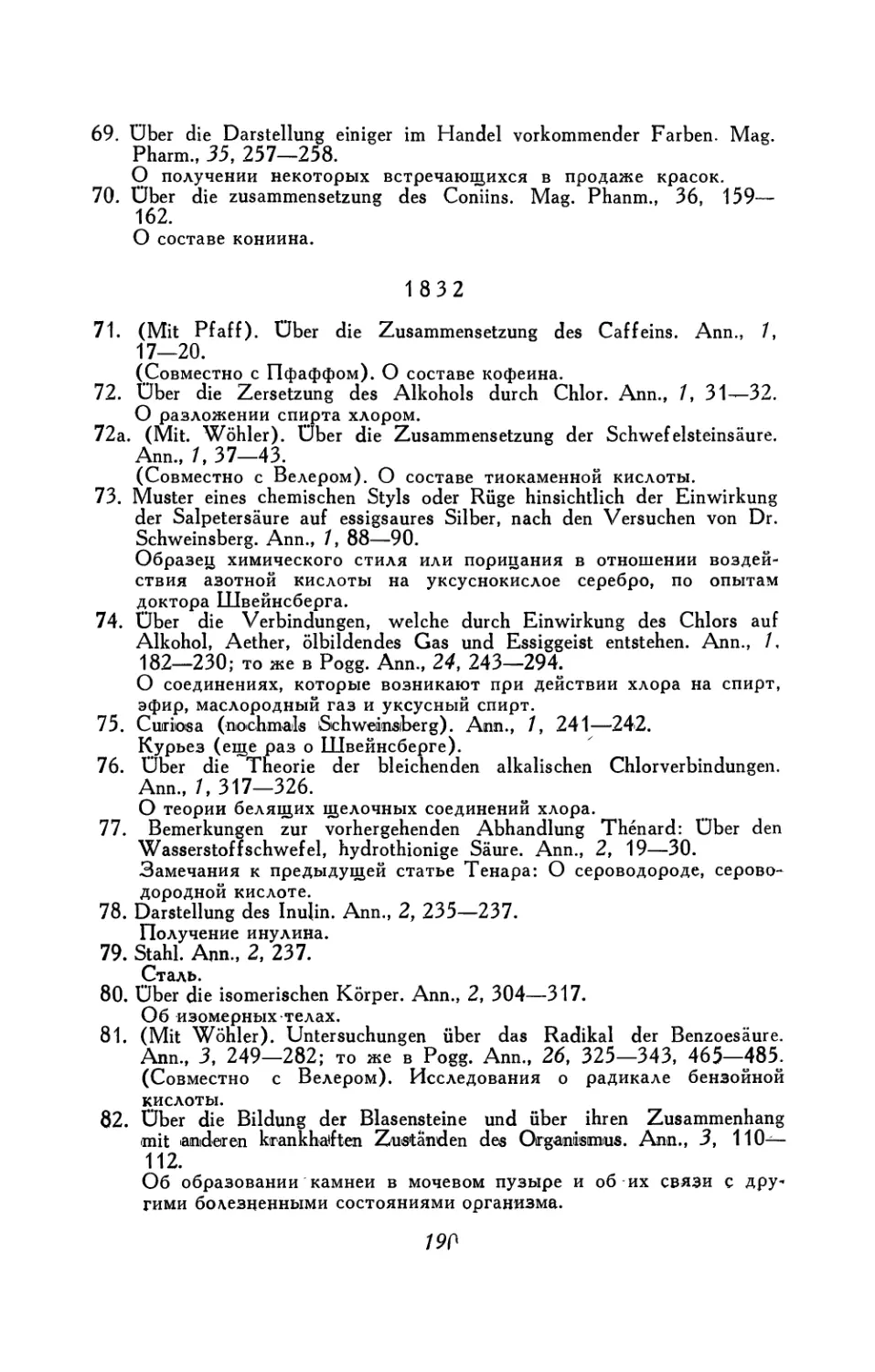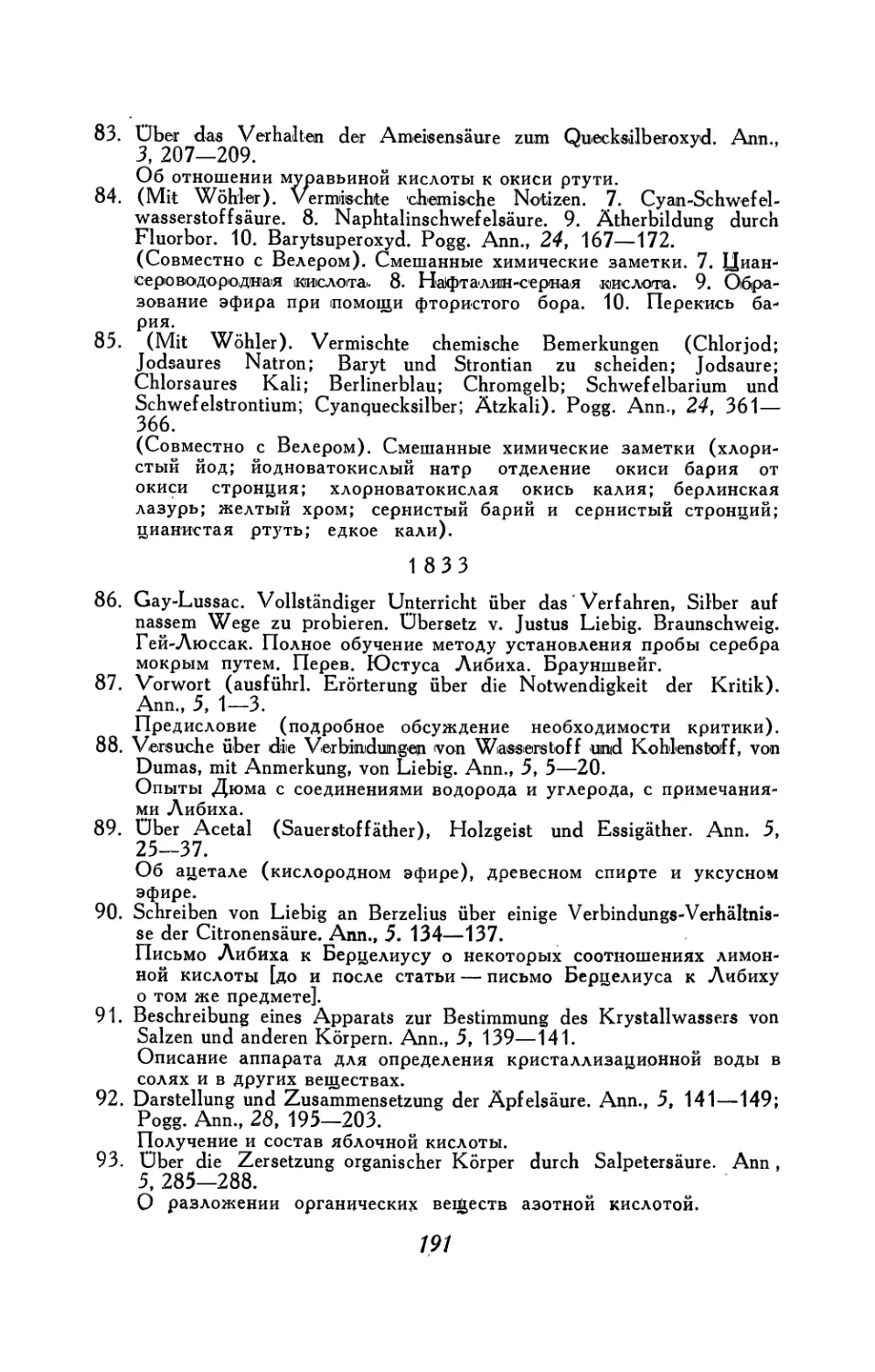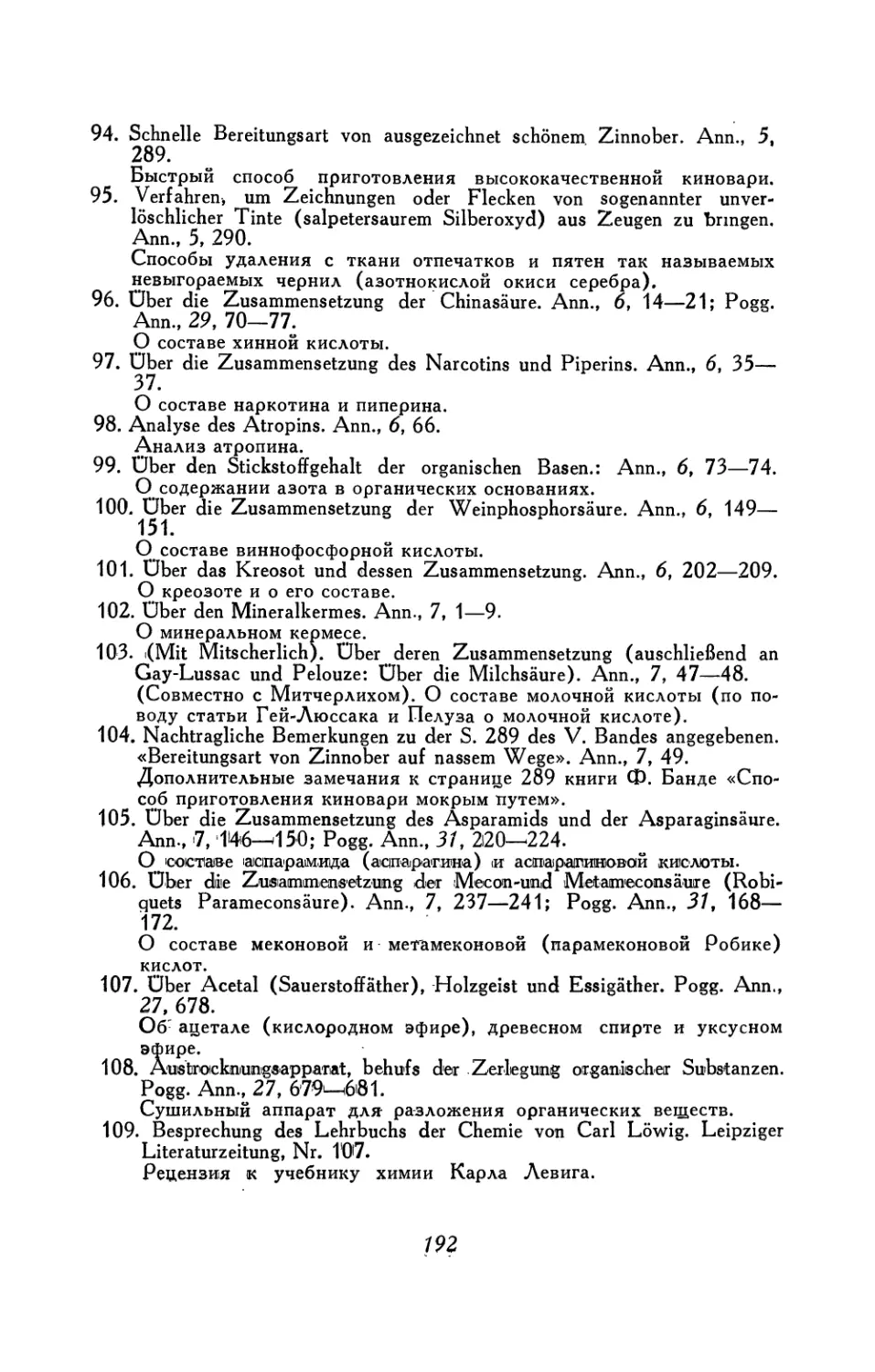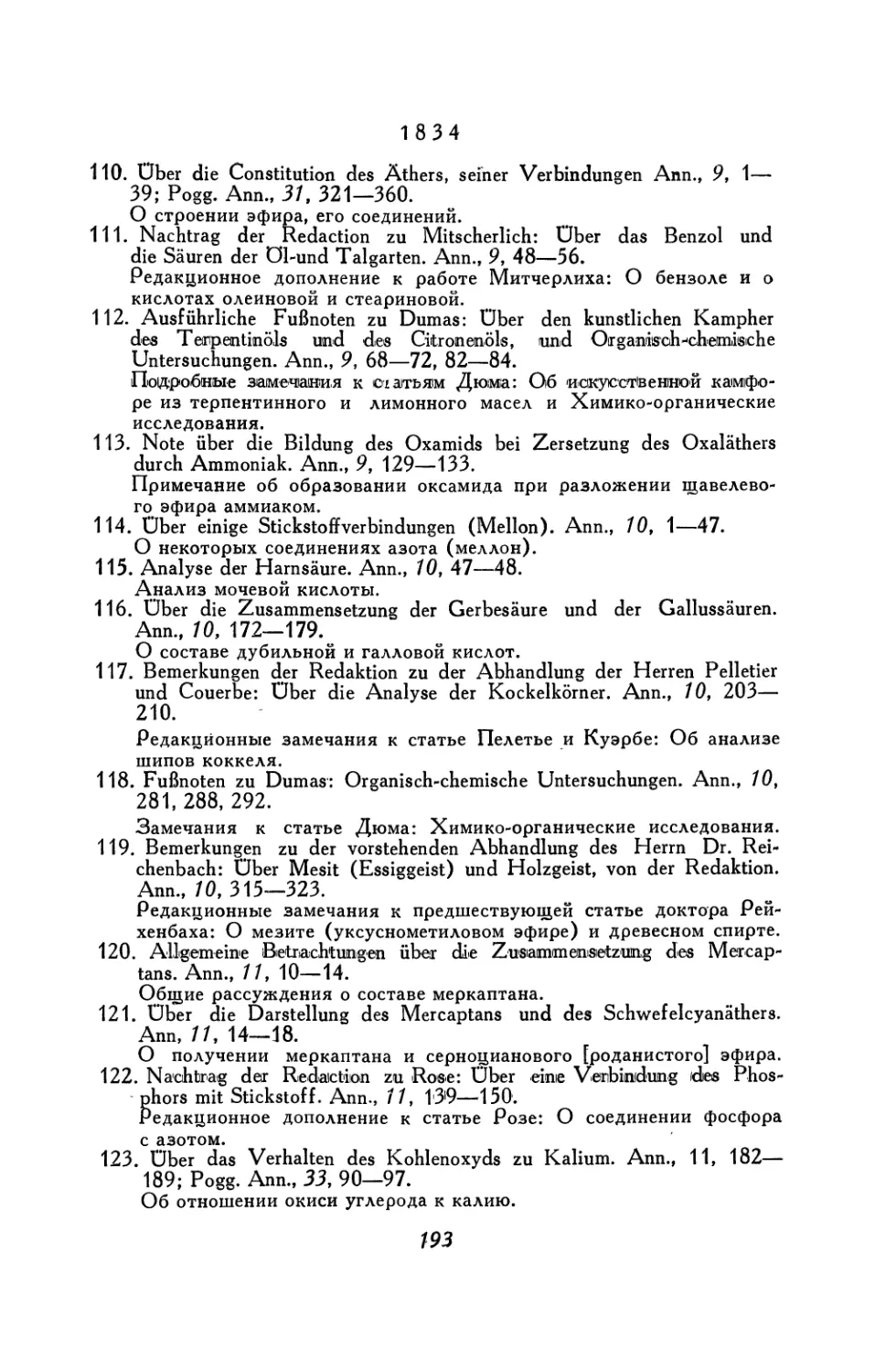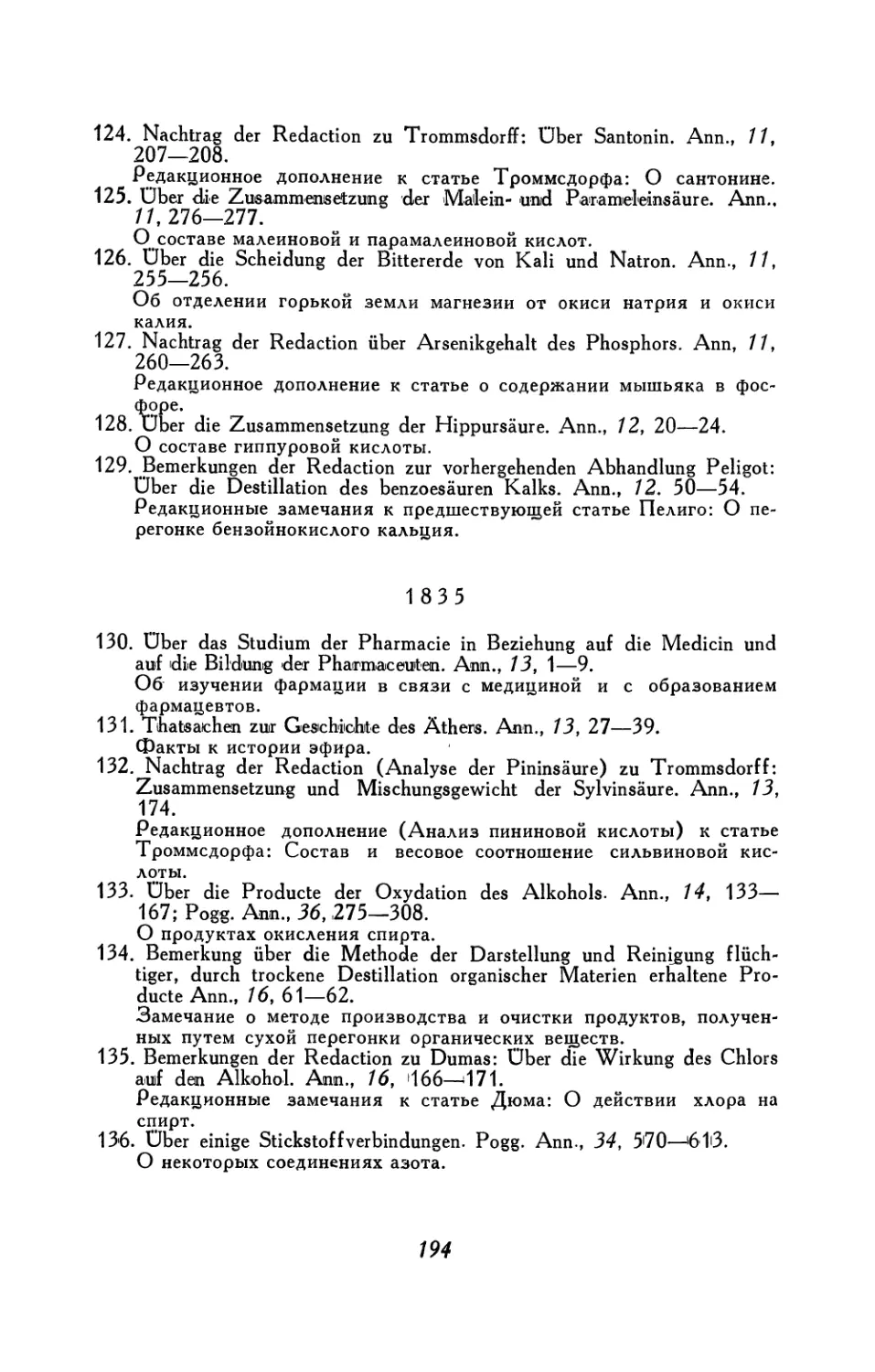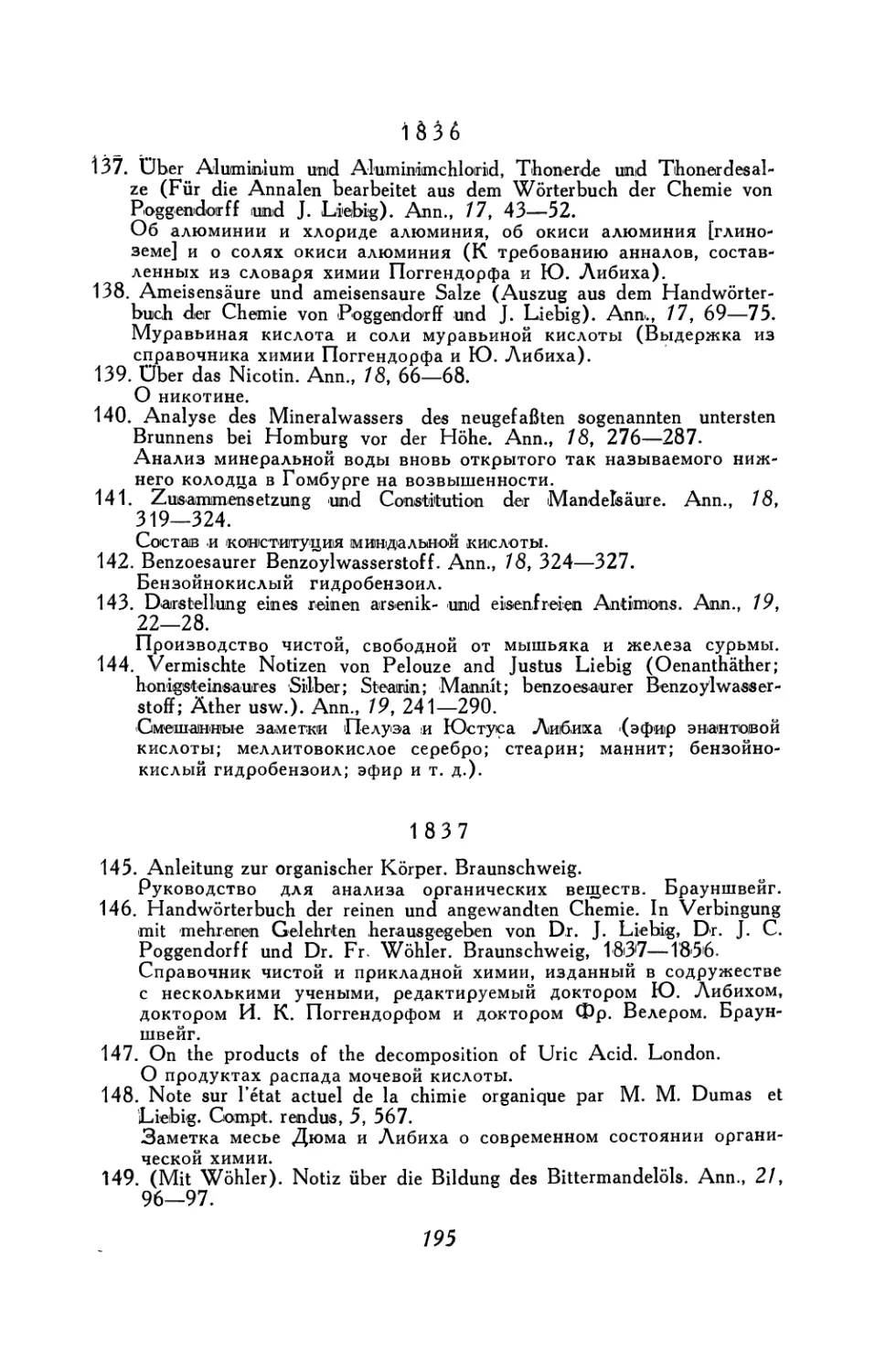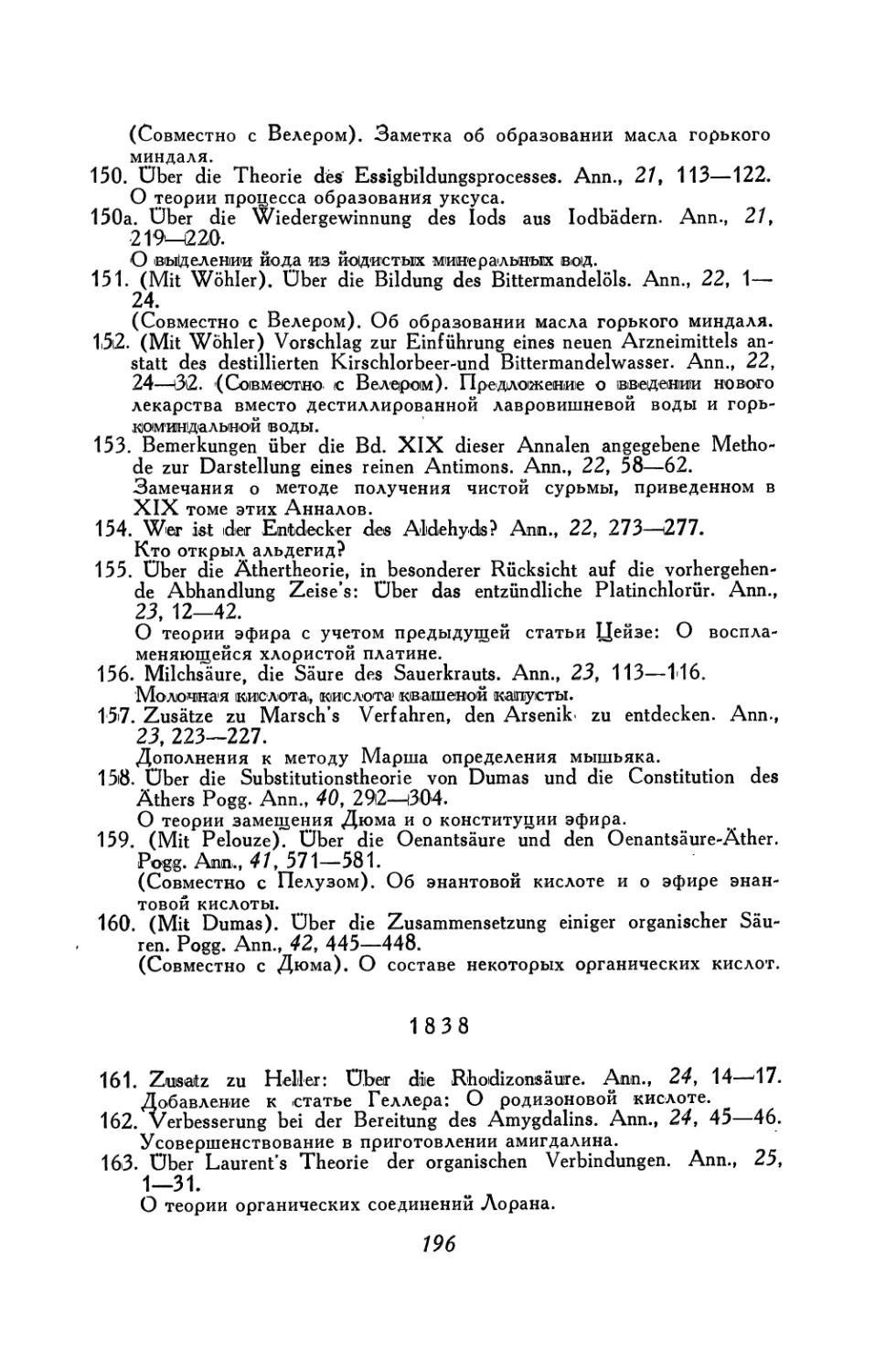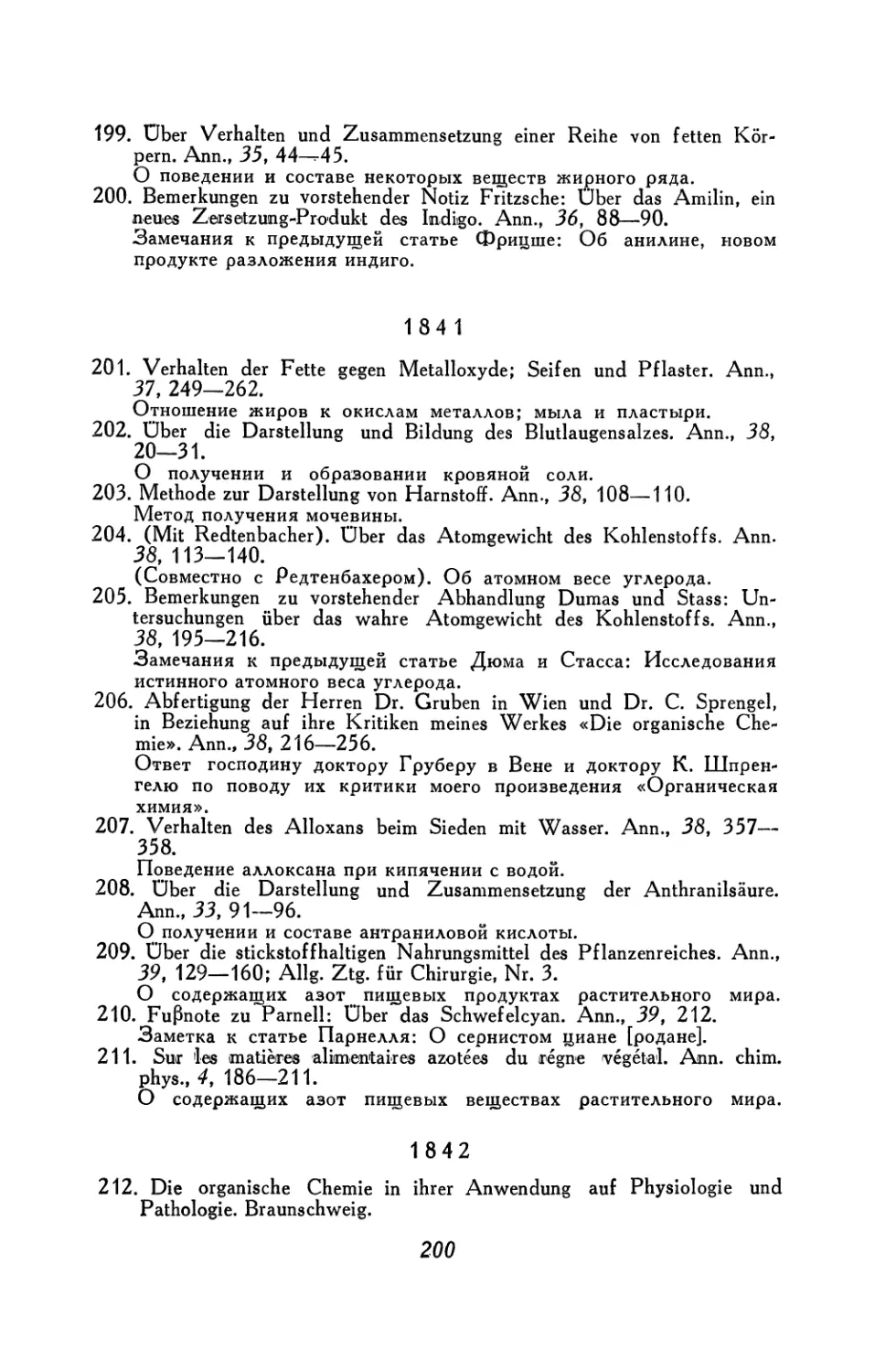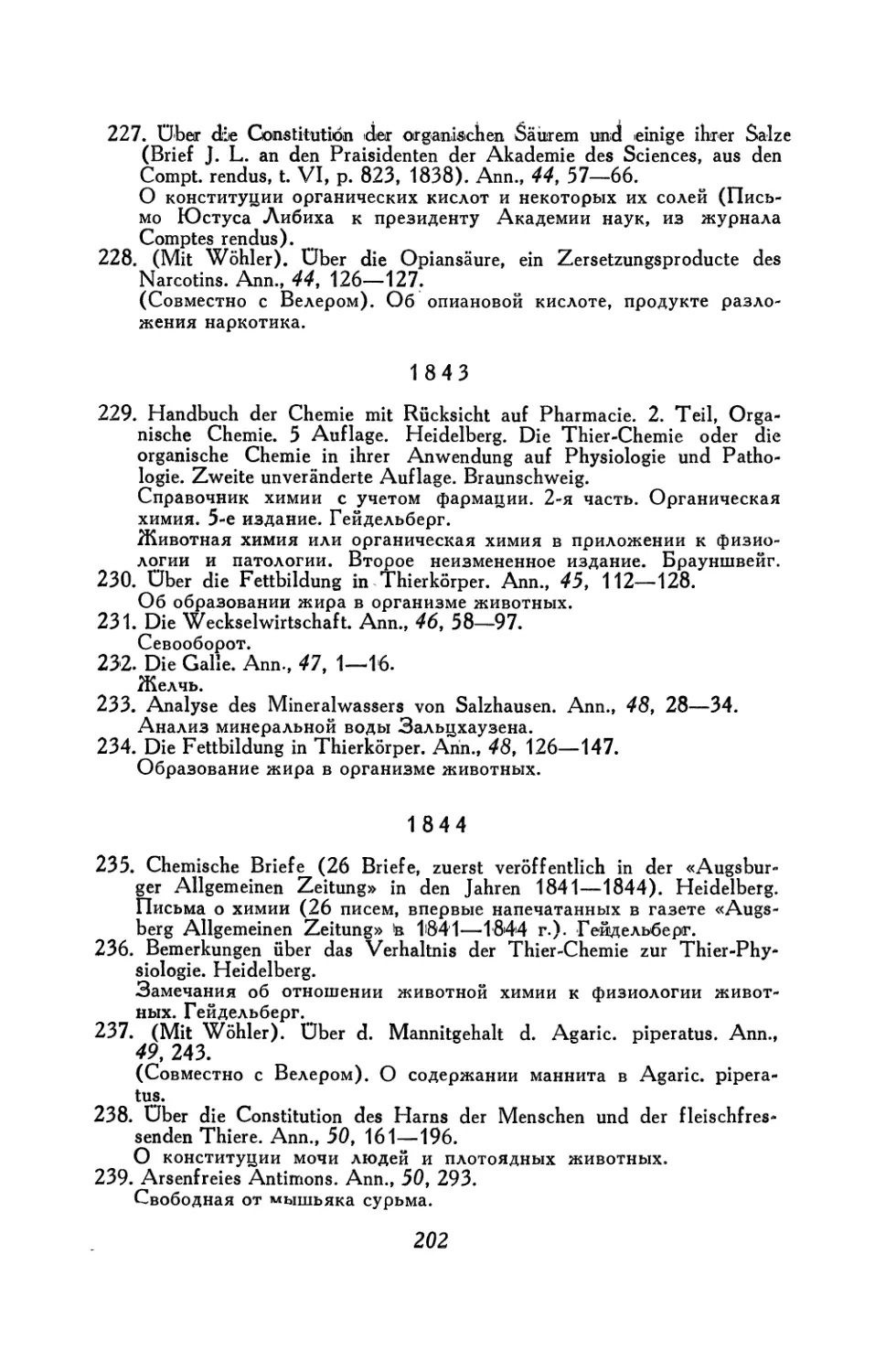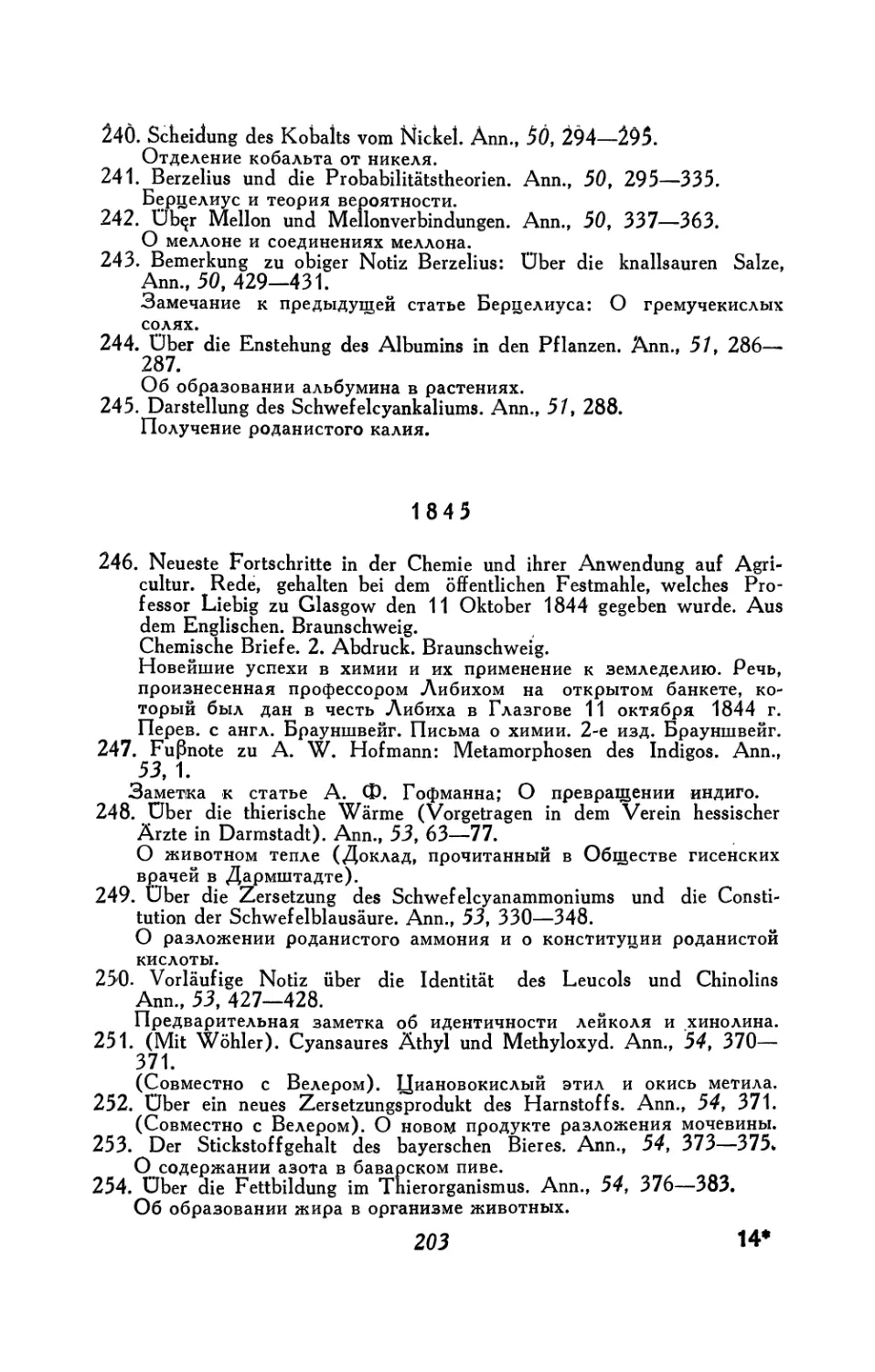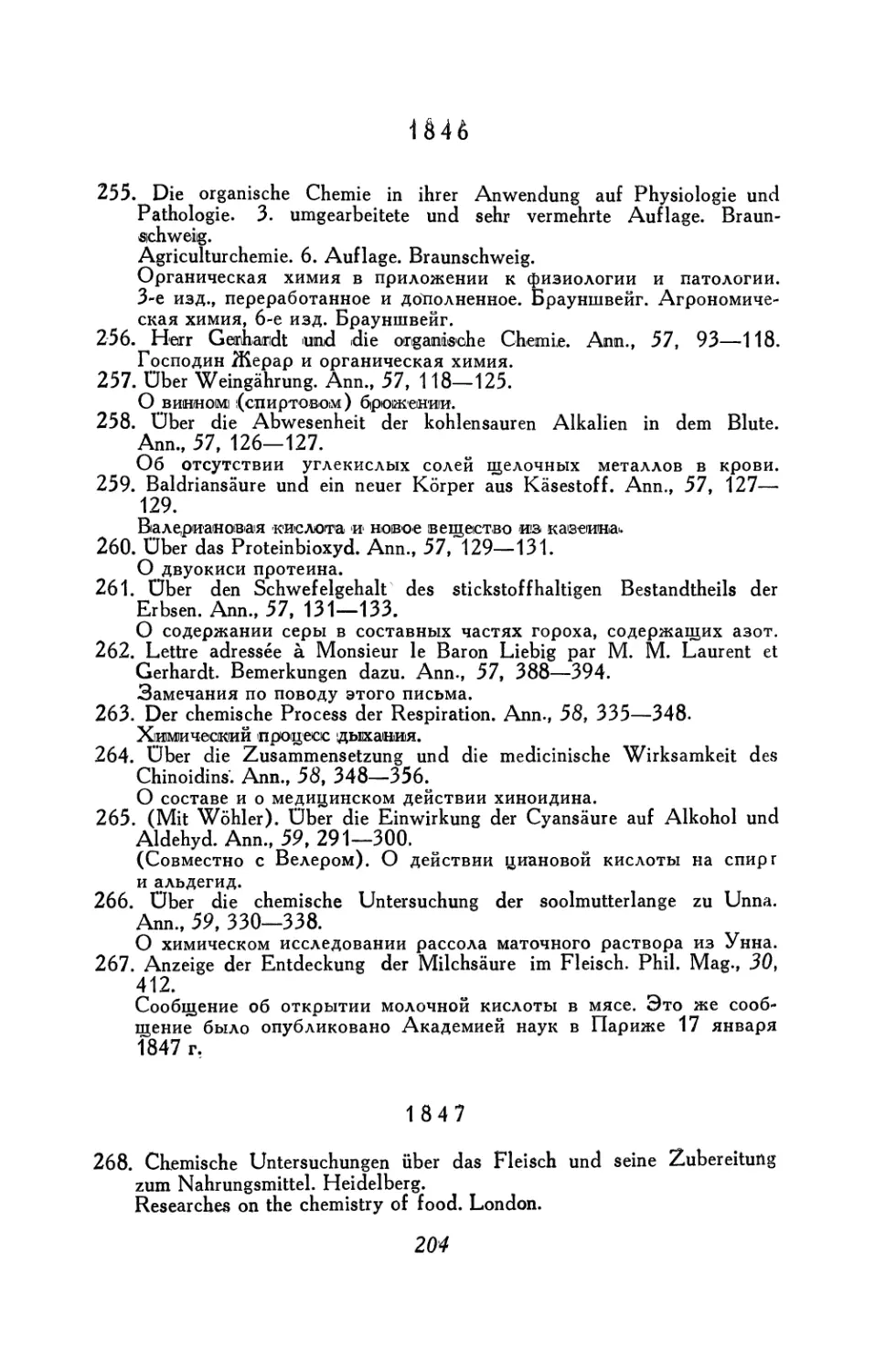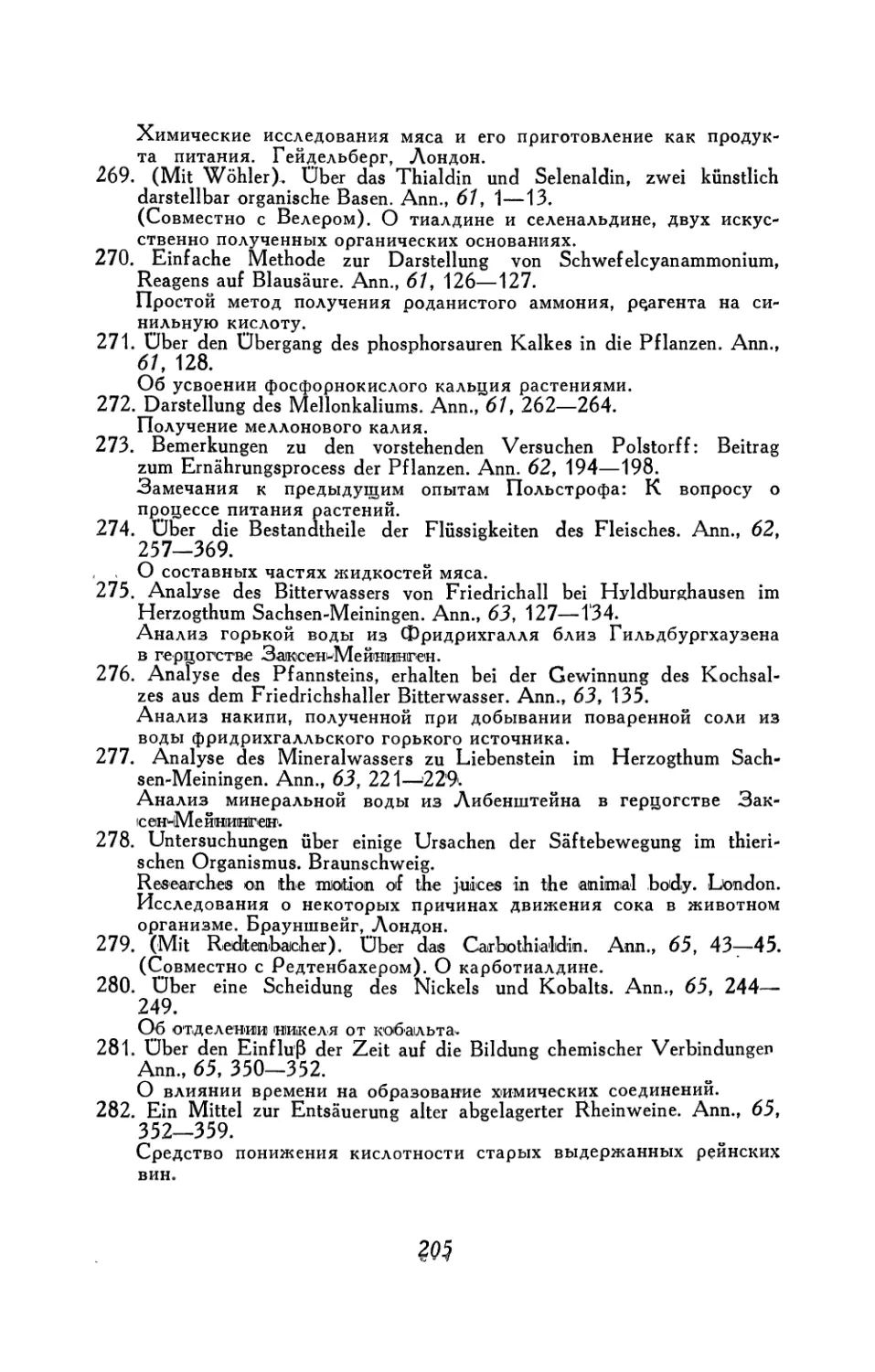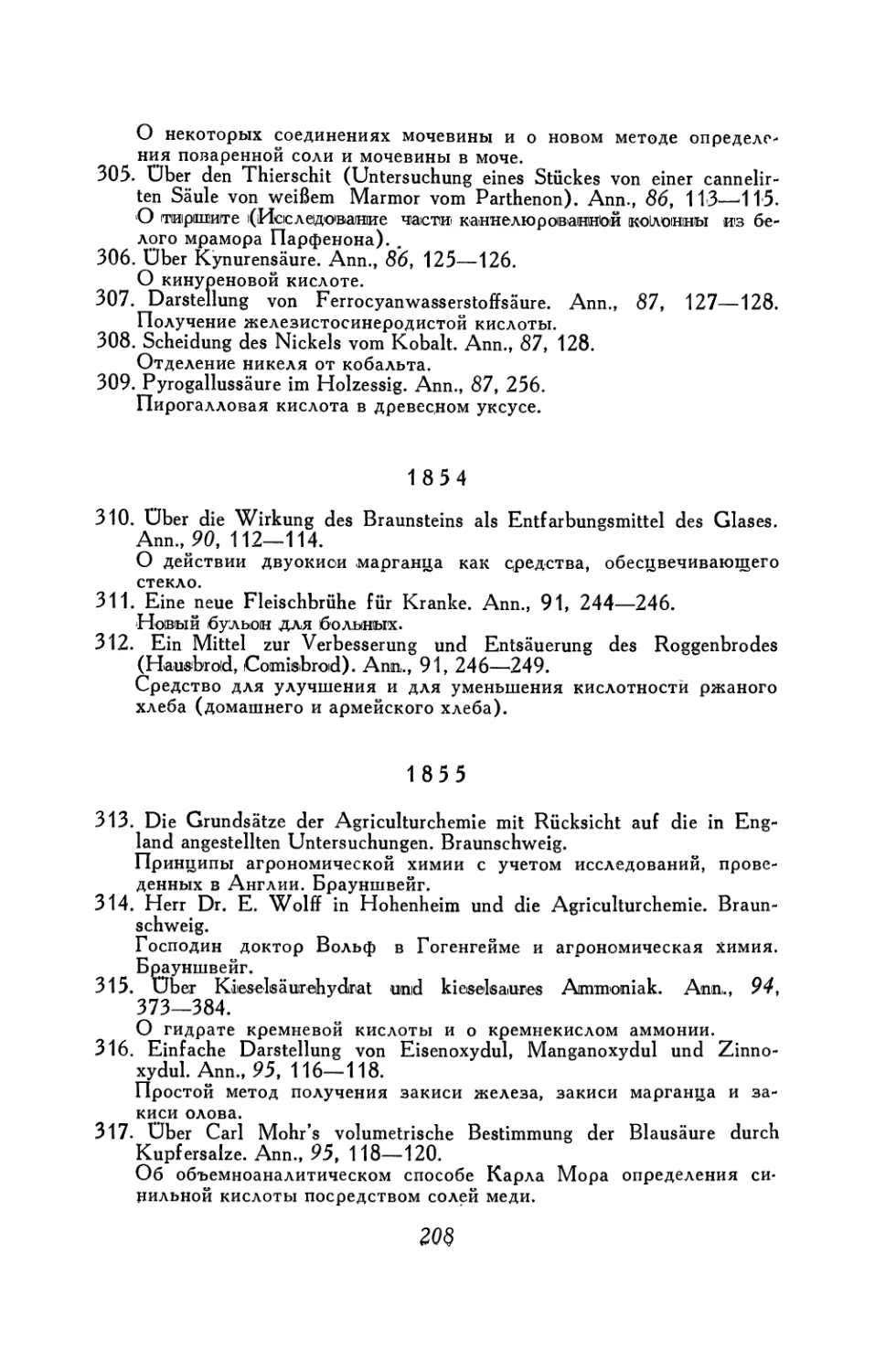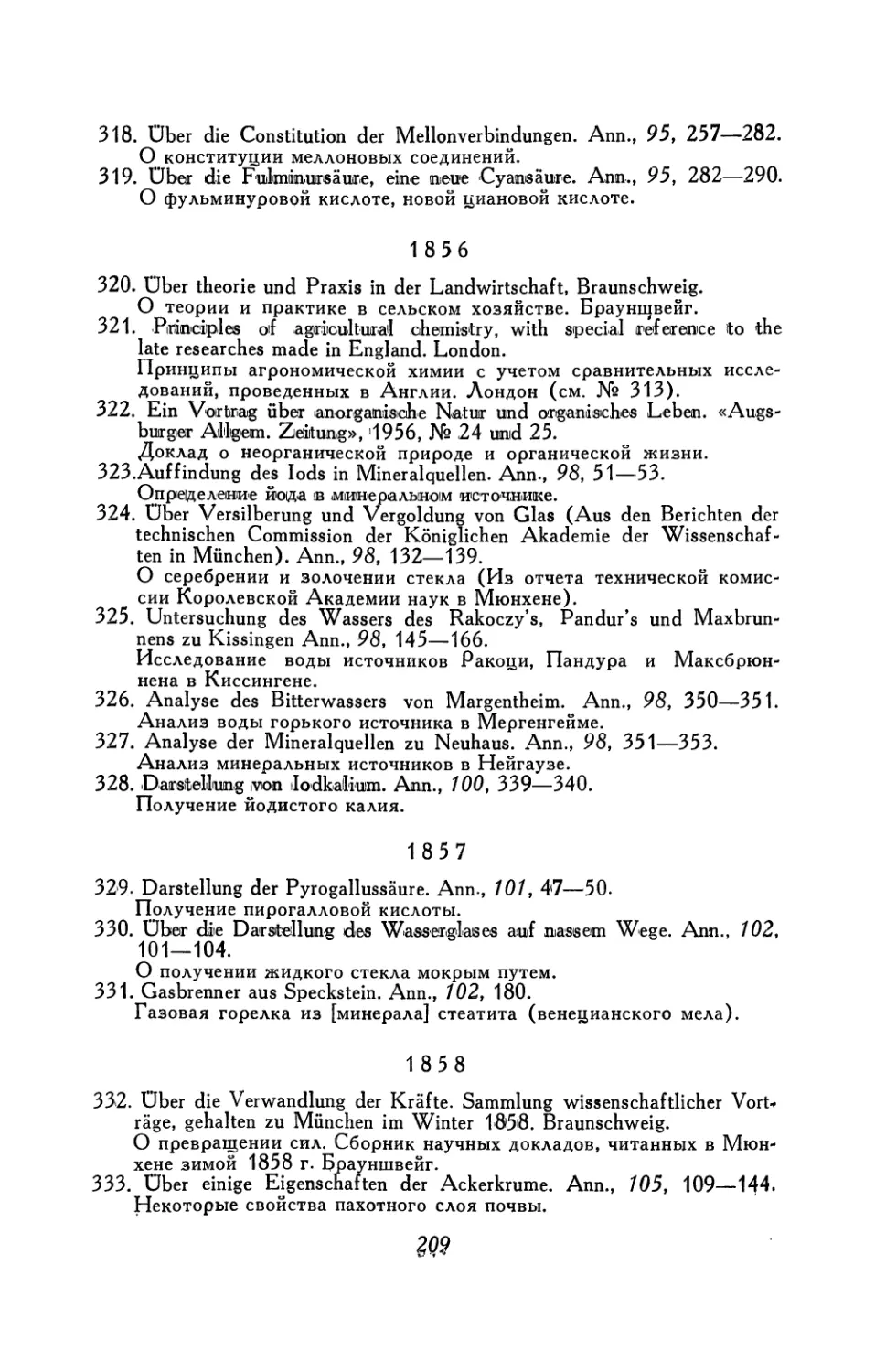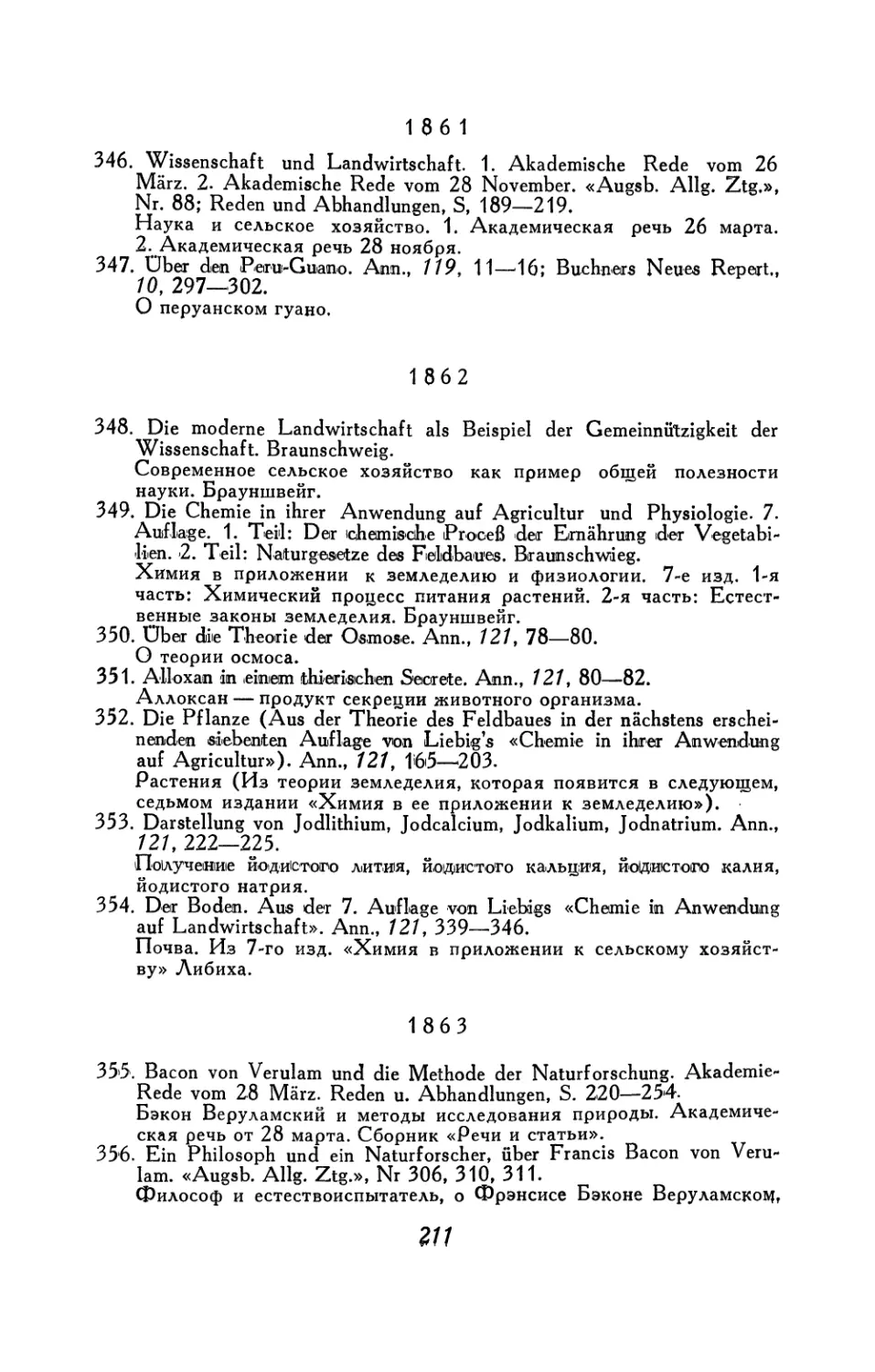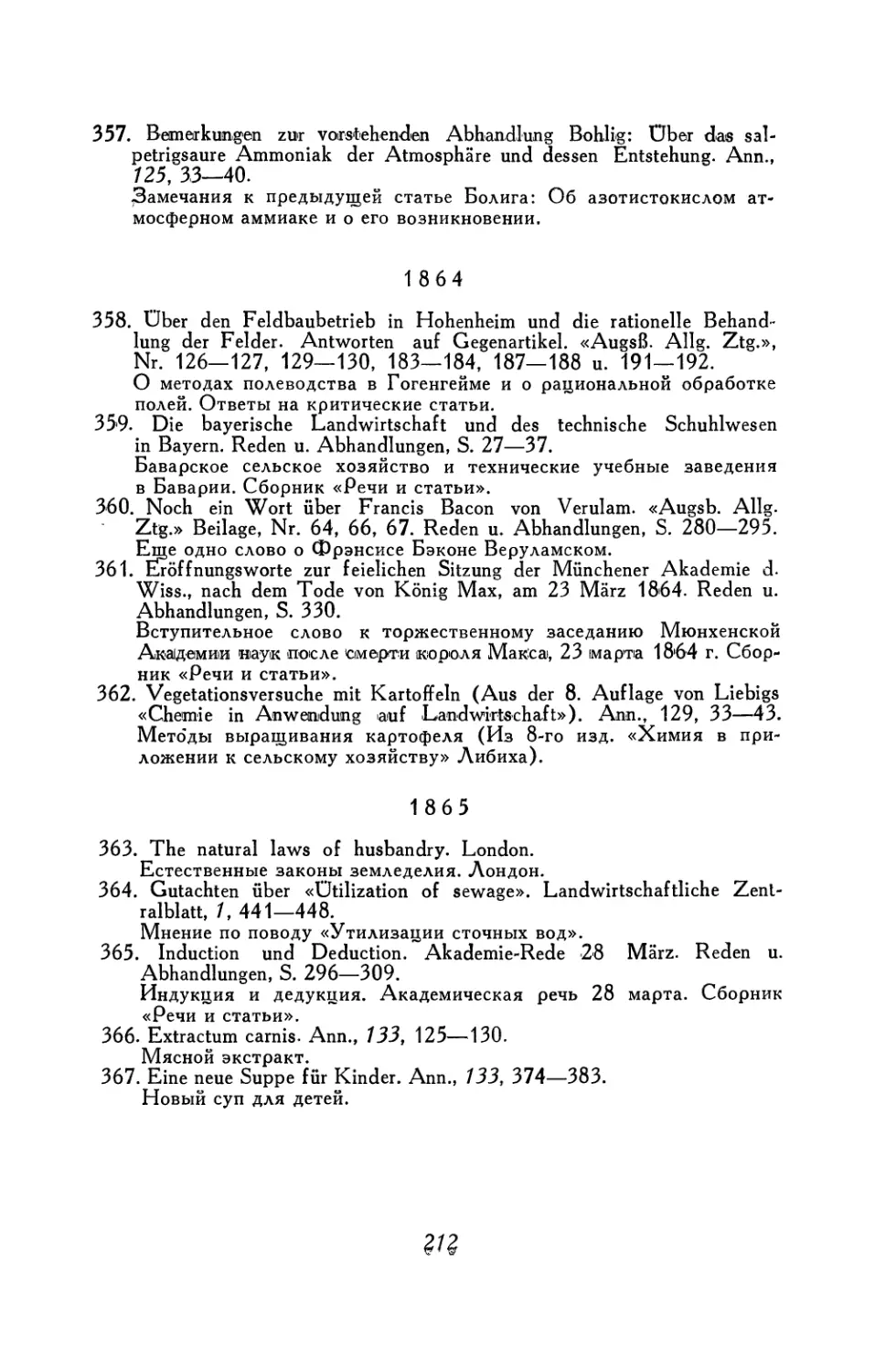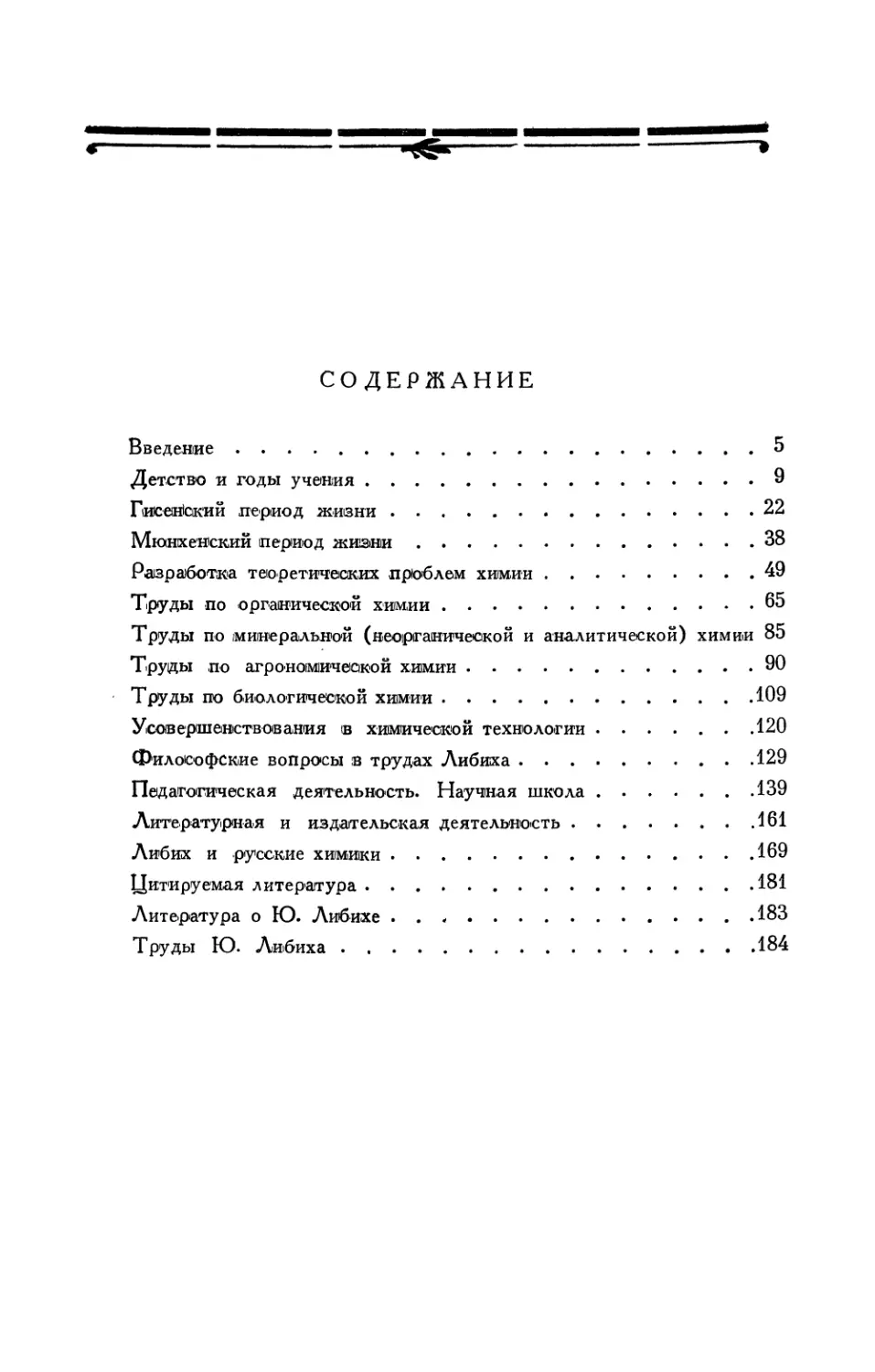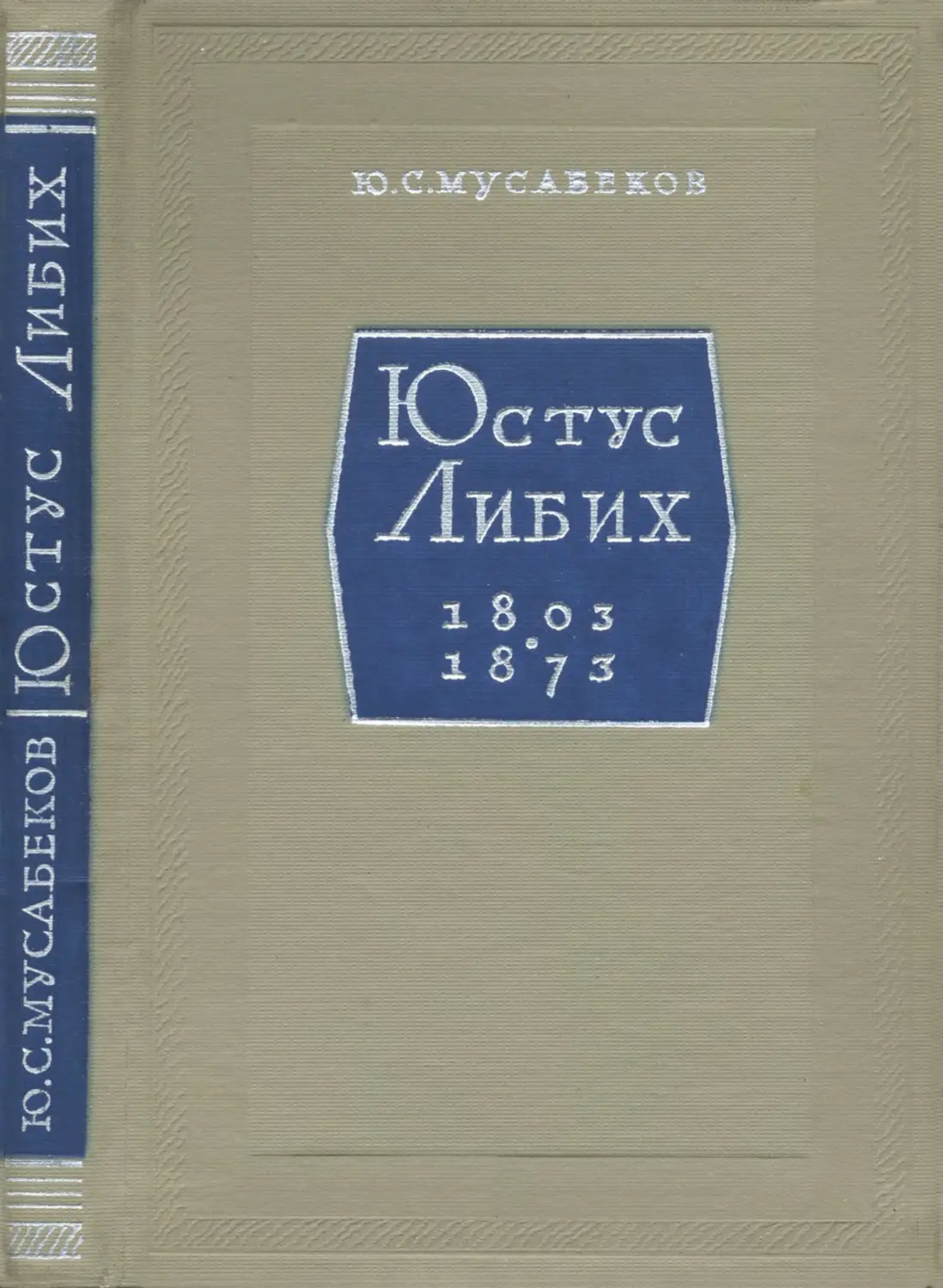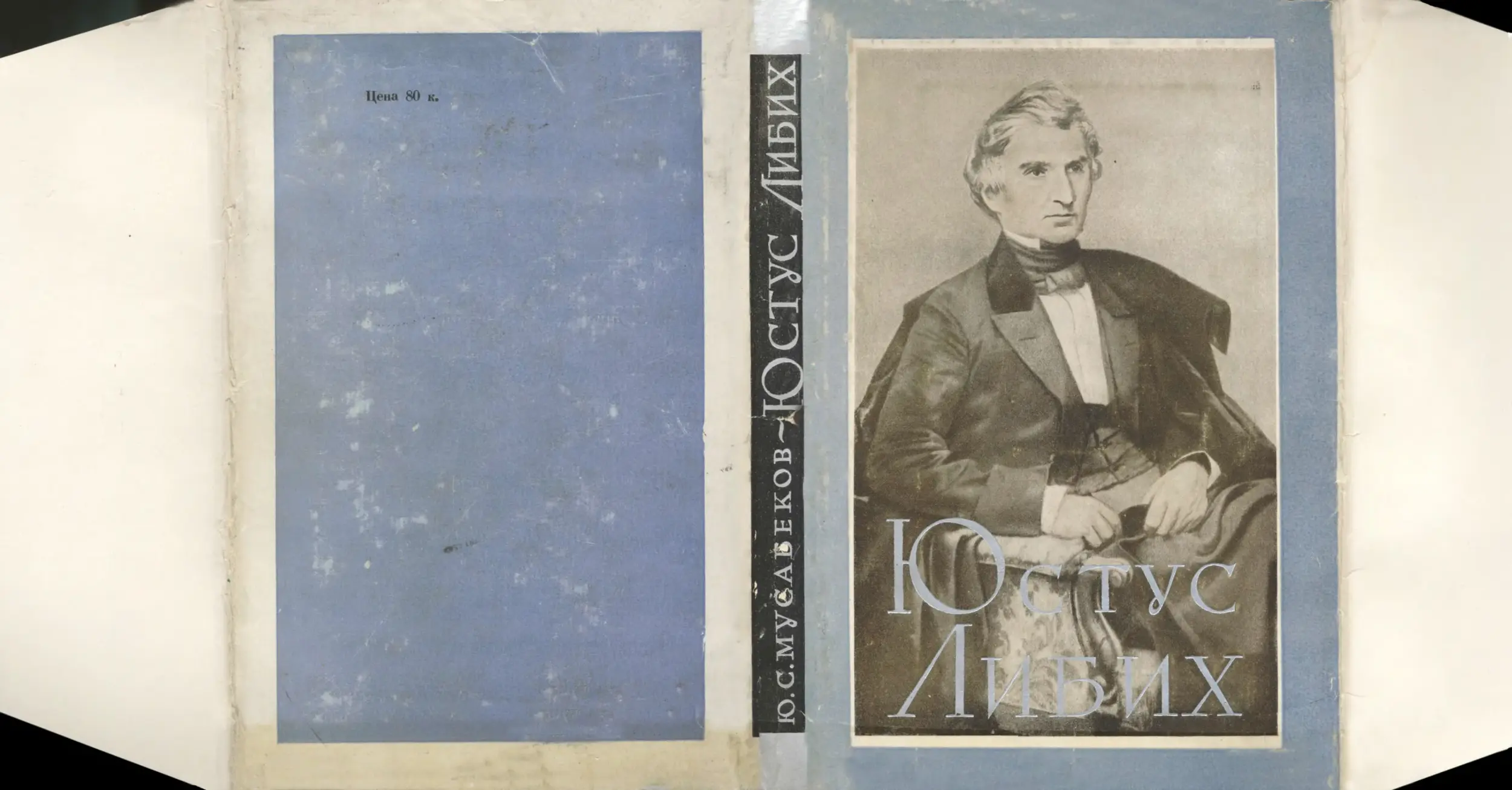Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Юстус Либ'ИХ
Ю.С.МУСАБЕКОВ
ю
А
СТУС
ИБИХ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
АК .АНЕМИИ НАуК СССР
МОСКВА 1 О 6 2
Эта книга — первая научно-популярная биография
одного из виднейших химиков XIX в. Подробно
описывается жизнь, научная, педагогическая и общественная
деятельность Либиха на фоне развития культуры
прошлого века. Широко использован архивный
малоизвестный материал. Форма изложения книги — живая и
увлекательная. Особенно интересны разделы о научных
связях Либиха с русскими учеными, о приложении его
идей в народном хозяйстве.
Ответственный редактор
Ю. И. СОЛОВЬЕВ
ВВЕДЕНИЕ
Юстус Либих один из выдающихся ученых прошлого
века, труды его имеют не меркнущее значение и сейчас.
Рано проявившееся дарование, исключительное трудолюбие и
личное обаяние Либиха позволили ему быстро стать на путь
самостоятельных исследований, за короткий срок сделать
ряд открытий, прокладывавших новые пути в науке, создать
многочисленную школу учеников и последователей во
многих странах мира. Эпоха, в которую жил и трудился ученый,
совпала с периодом возрождения культуры Германии, что
в значительной степени благоприятствовало проявлению его
талантов.
Либих коренным образом перестроил существовавшую
до него систему обучения химии, введя в широком
масштабе лабораторные занятия и исследовательские работы
студентов. Его система преподавания химии распространилась
во всех странах, была развита и до сих пор является
общепринятой не только в области химии, iho и в других
отраслях естествознания.
Либих — один из творцов органической химии, наиболее
обширного раздела химической науки. В первой четверти
XIX в., (когда Либих начинал свою научную деятельность,
органическая химия только вставала на самостоятельный
путь развития. Ему принадлежит заслуга открытия многих
5
йажных органических соединений, разработки новых
методов анализа органических веществ и синтеза новых групп
соединений и, что самое главное, установление
теоретических основ органической химии, в частности так называемой
теории радикалов, теории многооснов'ных кислот. Он —•
один из творцов синтетического направления в
органической химии, постепенно 'превратившегося в главный
магистральный путь развития этой науки.
Велики заслуги Либиха и в изучении химизма многих
биологических процессов в животном и растительном
организме. По праву о« считается одним из крупнейших
основоположников биохимии и агрохимии. Пожалуй,
наибольшую пользу человечество извлекало из его открытий и
рекомендаций именно в этих областях «ауки.
Юстус Либих выдвинул химическую теорию брожения
и гниения. Он же разработал теорию минерального
питания растений, применение которой приносит человеку
неисчислимую пользу. К его достоинствам следует отнести то,
что он не ограничил свою деятельность сферой
теоретических изысканий, а всегда стремился к быстрому внедрению
в практику научных достижений и преуспел в этом
благородном деле. Примером этого может служить организация
Либихом производства мясного экстракта, молочного
сахара, пористого теста без дрожжей и т. д.
Либих был выдающимся автором популярных книг,
статей и чтений по химии. Обладая незаурядным талантом
литератора и оратора, он умел находить яркие, доходчивые и
запоминающиеся образы при изложении самых сложных
вопросов естественных наук. Лекции Либиха слушались
очень охотно, его популярными книгами зачитывались
поколения людей всех возрастов, о достоинствах и значении
литературной деятельности Либиха писали не только
научные, но и беллетристические журналы. До сих пор «Письма
о химии» и 'некоторые другие произведения Либиха являют
собой блестящие образцы популяризации науки.
6
Широко известна кипучая деятельность Либиха как
организатора, автора и издателя специальной химической
литературы. Среди научных литературных памятников
Либиха наиболее ценен созданный им в 1832 г. журнал
«Анналы химии и фармации». Либих редактировал и
распространял этот журнал более сорока лет, а в год кончины
ученого его детище получило название «Либиховские
Анналы химии». Ныне вышло в свет более 600 томов журнала,
распространяющего научные открытия по всему миру.
Химики всех стран считают честью опубликование своих
работ в авторитетных «Либиховских Анналах».
Либих был сторонником интернационального научного
прогресса, ратовал за дружбу народов и международный
контакт ученых. В период франко-прусской войны, когда
в Германии разжигались шовинизм и ненависть к
французам, Либих говорил, что наука легче всего примиряет
народы и не верил ib непримиримую войну. Примечательны
смелые в то время слова Либиха: «Мы не можем забыть, чем
мы обязаны великим французским философам,
математикам и естествоиспытателям, которые были нашими
учителями и образцами в столь различных областях» [1, стр. 58].
Для многих русских химиков Либих был другом и
учителем, находился ib переписке с ними, охотно предоставлял
им места в своих лабораториях. Из иностранных ученых
вряд ли кто-либо другой имел столь тесный контакт с таким
большим числом русских химиков.
Естественно, что этому крупному всестороннему в своем
творчестве ученому посвящена обширная литература, в
особенности на немецком языке, и до сих пор личность и
труды Либиха привлекают внимание историков науки. Но на
русском языке о Либихе опубликованы только популярная
брошюра [1] с общеизвестными сведениями и несколько
очерков; среди последних с использованием нового
материала написаны только недавно вышедшие статьи П. М.
Лукьянова [2] и Н. А. Фигуровского [3]. Популярные очерки о
7
Либихе, изданные десятки лет назад, давно превратились в
библиографическую редкость; кроме того, некоторые
стороны творчества Либиха .изложены в них, на наш взгляд,
неверно.
Поэтому автор считает возможным предложить
вниманию читателя настоящую книгу, написанную на основе
изучения трудов Либиха, сопоставления ирежиих и новых
работ о нем, а также архивных материалов.
Эта книга — первая книга о Либихе на русском языке —
несомненно содержит недостатки. За указание на них
автор будет весьма признателен.
Автор приносит благодарность Г. В. Быкову, П. М.
Лукьянову, В. В. Козлову за ценные советы и Н. А. Быковой
за большую помощь в подготовке рукописи к печати.
^^
ДЕТСТВО И ГОДЫ УЧЕНИЯ
| ( """" ^\ стус Либих родился в мае 1803 г. в
'"■г" л "^1111 '■ Дармштадте — главном городе
герцогства Гессен. По-видимому, точной датой
его рождения следует считать 4 мая,
хотя некоторые авторитетные биографы Ли-
биха называют другие даты рождения —
8, 12 и 13 мая. В справочниках чаще
всего указывается 12 мая. Доктор В. Рот в обстоятельной
статье, посвященной 25-летней годовщине смерти Либиха [4],
приводит ранее неизвестное письмо сына Ю. Либиха,
Георга, датированное 24 апреля 1898 г. Георг Либих сообщает,
что в поздравительном письме его бабушки по случаю 50-
летия отца указывается 4 мая, и он, как, впрочем, и его отец,
не могли выяснить причин появления даты 12 мая. Рот
предполагает, что 12 мая Юстус Либих был крещен и этим
днем датировано метрическое свидетельство.
Биографы, разыскавшие документы о предках Либиха
до последней трети XVI в., сообщают, что они были
простыми аденвальдскими 'крестьянами, жившими в
окрестностях Дармштадта.
Отец Юстуса — Георг Либих содержал небольшую
аптекарскую лавку на Луизен-штрассе. Целыми днями он
приготовлял лекарства и торговал ими, а также красками и
другими бытовыми и химическими материалами того времени.
Очевидно, поэтому Георга Либиха горожане называли «ма-
9
териалистом». Импровизированная «химическая
лаборатория» помещалась в садовой беседке на краю города.
Маленькому Юстусу нравилось 'наблюдать за работой
отца, который производил удивительные превращения
различных цветных, пахучих и целебных веществ. Постепенно
он стал помогать отцу.
Юстус был смышленым и не но годам развитым
мальчиком. Его развитию очень способствовала мать; о ней он
сохранил память как о женщине с ясным умом и большим
тактом воспитательницы.
В классическую гимназию мальчик поступил рано и был
на два года младше своих одноклассников. Особенно
сильным учеником он никогда не числился и учился в младших
классах более или менее ровно. Зато в старших классах
безудержное увлечение химией очень мешало усвоению
других предметов, особенно когда повысились требования по
древним языкам — латыни и греческому.
Помогая отцу, юный Либих часто был вынужден
обращаться к специальной литературе за уточнением того или
иного рецепта. За книгами юн бегал ib дворцовую
библиотеку великого герцога. Любознательный, живой и красивый
мальчик понравился библиотекарю Гессу, и он охотно
разрешил ему пользоваться богатейшей библиотекой. Сначала
Гесс думал, что юный читатель, как и его сверстники будет
увлекаться сказками с 'красочными волшебными
иллюстрациями, но каково же было его удивление, когда Либих стал
брать книги по химии! Симпатия библиотекаря к мальчику
возросла, поскольку Гесс сам интересовался естественными
науками. В автобиографическом очерке Либих с присущим
ему юмором пишет, что он читал книги ib том порядке, в
каком они лежали на полках, причем двигаться снизу вверх или
справа налево, ему было якобы совершенно безразлично.
Содержание прочитанных книг укладывалось в его
четырнадцатилетней голове, как пища в желудке страуса. В самом
тесном соседстве там были 32 тома Маккерова
«Химического словаря», «Триумфальная колесница антимония»
Василия Валентина, флогистическая химия Шталя, различные
статьи и заметки из журналов Гётлинга и Гелена,
сочинения Кируана, Кэвендиша и т. д. Этот перечень весьма
примечателен, так как свидетельствует об обширных знаниях,
накопленных юным химиком, о его любви к солидным
научным первоисточникам, о феноменальной памяти.
10
Интерес к естественным наукам проявился у Либиха
очень рано. Однажды на школьном смотре ректор
Циммерман обратился к Либиху с вопросом: «Ну, что из Вас
выйдет?». Мальчик хотя и смутился, но ответил твердо: «Я
хочу быть химиком». Его ответ вызвал улыбки всего класса
и ректора, причем последний заметил: «Из Вас выйдет
нечто хорошее». Позднее при встрече со школьным другом Рой-
лингом Либих вспомнил этот эпизод и сказал: «Видишь
Ройлинг, недурно получилось то, что нам пророчили: ты
дирижер в Вене, а я профессор химии в Гисене».
Юного Либиха интересовало буквально все, что было
связано с химией: предметы аптечной торговли, химикалии
в маленькой лаборатории отца и даже «химики»,
показывающие на ярмарках занимательные опыты и продававшие
волшебные порошки и эликсиры, «возвращающие
молодость». Как рассказывает Либих, он подолгу стоял перед
одним из таких балаганов, привлекавших людей
хлопушками. Дома ему удалось сконструировать
специальный аппарат, производящий хлопушки, и лавка Георга
Либиха завладела «монополией» на торговлю этой веселой
забавой.
В 14 лет Юстус Либих с увлечением воспроизводил
дома те из описанных в литературе опытов, которые
позволяли его скромные средства. Повторяя эти опыты много раз.
он изучил их до тонкости^ Любовь к экспериментированию
он перенял от отца, интересовавшегося практической
химией. Это, как говорил Либих позднее, способствовало
развитию умения мыслить химическими процессами, т. е.
наглядным образом. Пристрастие к химическим опытам привело к
тому, что однажды во время урока Либих устроил взрыв.
На глазах ошеломленных учеников из его ранца с грохотом
вырвалось пламя.
Может быть, это одна из романтических легенд,
созданная разыгравшимся воображением биографа, но во всяком
случае достоверно известно, что в возрасте около 15 лет
Юстус был исключен из гимназии и Георгу Либиху
пришлось отдать своего «ленгяя» сына в обучение к аптекарю
Пиршу в Геппенгейм.
Юстус оказался очень способным аптекарским учеником,
но продержался у Пирша всего 10 месяцев, поскольку не
отказывал себе в удовольствии продолжать на мансарде, куда
он был помещен, опыты с излюбленными гремучими
11
солями, которые, кстати сказать, привели его вскоре к
первому открытию. Гремучую ртуть он приготовлял сам.
Произошел опять взрыв, но более опасный, чем школьный:
часть крыши дома взлетела на воздух. К счастью сам
экспериментатор не пострадал, так как взрыв был,
по-видимому, направленным. Не исключена возможность, что и этот
эпизод биографами приукрашен (к чему был склонен и сам
Либих), но достоверно то, что разгневанный хозяин аптеки
отослал Либиха домой.
Полгода Либих помогал отцу, приготовляя краски для
продажи. В свободное ют этой работы время он занимался
вопросами прикладной химии, продолжал читать
химическую литературу из библиотеки герцога. Наконец, на юного
и трудолюбивого химика обратил внимание
кабинет-секретарь герцога Шлейермахер. По совету последнего Георг
Либих решил уступить горячему желанию сына изучать
химию, несмотря на материальные затруднения, связанные
с содержанием большой семьи: у Юстуса было семеро
братьев и сестер.
В октябре 1820 г. Либиха зачислили студентом
Боннского университета, открытого в 1777 г. В те времена во
многие высшие школы, ib том числе и в Боннский
'университет, можно было поступить без официального аттестата о
законченном среднем образовании; четкое разграничение
среднего и высшего образования пришло позднее.
В автобиографии Либих отмечает, что хотя в Боннском
университете шла интенсивная научная жизнь, в
преподавании естествознания царило выродившееся философское
направление, возглавляемое Океном, и, что еще хуже, Виль-
брандом. Это направление было крайне вредным и пагубным
для многих талантливых молодых людей, так как
последователи его приучали студентов не считаться с трезвым
наблюдением природы и опытными данными. С кафедры
изливалась масса тонких и остроумных соображений, столь,
однако, бесплодных, что, восприняв их, слушатель не знал,
что делать с ними дальше. Такая трезвая критика
представителей натурфилософии и идеализма еще раз
подтверждает, что мировоззрение Либиха было неразрывными узами
связано с материализмом.
В Боннский университет Либиха привлек Карл
Вильгельм Готтлобон Кастнер (1783—1857), один из лучших в
то время немецких профессоров химии, автор ряда справоч-
12
ников. Однако в методологических вопросах Кастнер был
убежденным натурфилософом. В тот же период ib Бонне
работал известный химик Густав Бишоф (1792—1870),
представитель экспериментального направления в химии, но с
ним Либих (во время учебы в университете, ik сожалению,
соприкасался мало. Коллегами Либиха по учебе были
медики Мюллер и Диффенбах, германисты Зимрок и Фаллер-
слебен 'И ряд других студентов, ставших впоследствии
учеными, известными не только в Германии, но и за ее
рубежами. Сведения о контактах Либиха с этими студентами не
сохранились.
В Бонне Либих посещал все доступные химические
предприятия (преимущественно типа мануфактур и
небольших заводов), с присущей ему энергией подробно изучал
технологию наблюдаемых процессов и «а основании
приобретенных знаний предложил проект расширения
небольшого завода своего отца. Примечательно, что уже 16-летний
юноша дает отцу дельные химико-технологические и
технико-экономические советы. Георг Либих пользовался ими, и
вскоре его предприятие расширилось и стало преуспевать.
После смерти отец Либиха оставил семье значительное
состояние.
В 1821 г. Либих вслед за профессором Кастнером, под
влиянием которого он тогда находился, переехал в Эрлан-
ген. Здесь на успехи и прилежание Либиха обратили
внимание 'профессора. Кастнер разрешил ему работать в
лаборатории, считая Юстуса достаточно подготовленным к
самостоятельным изысканиям. Либих принялся sa любимые
опыты с гремучими соединениями. Первым ощутимым
результатом была его небольшая статья о гремучем серебре
(1822 г.), в подстрочном примечании к которой Кастнер
обратился к читателям с просьбой о снисхождении к первой
экспериментальной попытке юного химика, изучавшего
химию с усердием, достойным уважения.
Несмотря на свое редкое прилежание Либих не
превратился в сухого замкнутого человека: стройный ловкий
юноша с одухотворенными чертами лица и бойким, веселым
характером невольно вызывал симпатию коллег и учителей.
В Бонне и Эрлангене он был душой студенческих физико-
химических кружков, где находили отклик и вызывали
жаркую полемику все важные научные открытия. По рассказам
современников, ум, пленяющая любезность, мягкие манеры,
13
благородство внутреннего и внешнего облика Юстуса Ли-
биха привлекали к нему людей, и жизнь вокруг него всегда
кипела ключом. Обаяние личности Либиха было одним из
факторов, благоприятствовавших созданию им большой
научной школы.
В Эрлангене Либих познакомился и сблизился с поэтом
Платеном. Поэта привлекала бурная юность Либиха, а
Либих был пленен миром чувств и замечательных образов,
заполнявшим прекрасные сонеты Платена.
Вместе с Либихом учился Христиан Фридрих Шенбейн
(1799—1868), которому химия обязана открытием озона
и созданием совместно с другими учеными пироксилина.
В университете эти будущие светила науки сидели за одним
столом, но старательно не замечали друг друга, по
причине, характерной для немецкого студенчества той эпохи:
юноши состояли в разных корпорациях, враждовавших
между собой. Позднее Шенбейн описал то время так: «Это
было в начале двадцатых годов; в Эрлангене в аудитории
химии ежедневно на одной скамье сидели два молодых
человека, не знающих друг о друге ничего кроме имен. Один
был худощавый, стройный с прямой походкой, смело
смотрящий на мир; другой — несколько приземистый, скорее
маленький, чем высокий, немного сутулый, так что
физиономист принял бы его, пожалуй, за начинающего богослова
или мечтательного гностика. Один носил зеленый пиджак
с форменной шапочкой, другой — немецкий черный сюртук
с бархатным беретом; один принадлежал к землячеству,
другой держался за студенческую корпорацию и, поскольку
оба объединения находились во взаимной вражде, то в
повседневной жизни между их членами не было даже
малейшего личного контакта, и как бы часто и близко ни
встречались, они не перекидывались даже словом» [5, стр. 111].
Либих не только принадлежал к «рейнскому
землячеству», но и председательствовал в одной из многочисленных
студенческих корпораций. Когда после издания «Карлсбад-
ских постановлений» началось открытое преследо!вание
студентов за участие в тайных обществах, у Либиха на
квартире произвели обыск. Сам он избежал ареста баварскими
властями, так (как успел уехать домой на каникулы, но все
же куратор университета возбудил против него уголовное
дело. Возвращение в Эрланген могло навлечь на Либиха
многие неприятности. Это и разочарование в системе обу-
14
чения, царившей в немецких университетах, где студенты
были почти лишены практического обучения, заставило
Либиха задуматься над возвращением ib Эрланген.
В тот период многие из молодых людей, решивших
посвятить себя химии, уезжали из Германии в Швецию,
Францию, Англию. В Швеции жил и работал Якоб Берце-
лиус (1779—1848), прозванный «диктатором химии»; в
Англии — Гумфи Дэви (1778—1829). После длительных
размышлений Либих остановил свой выбор на Париже. Это
было закономерно: ни в одном другом государстве химия не
пользовалась тогда таким вниманием, каким она была
окружена во Франции. Там жили и работали Лавуазье и Бер-
толле — создатели основ новой химии, выдающиеся химики
Ж. Л. Гей-Люссак (1778—1850), Ж. Тенар (1777—1857),
М. Э. Шеврель (1786—1889), физики Араго, Ампер,
Пуассон, Дюлонг, Био, биологи Кювье, Сшт-Илер, минералоги
Бетани, Броньар, астроном Лаплас и многие другие
представители блестящей плеяды французских
естествоиспытателей.
Осуществить поездку во Францию Либиху было не
легко. Мешало начатое следствие и нежелание семьи отпускать
его туда: Юстусу дали понять, что он не должен
рассчитывать на помощь отца. В связи с этим, когда дело об участии
в запрещенном землячестве было прекращено, Либих 24 мая
1822 г. послал письмо герцогу Гессен-Дармштадта
Людвигу I с просьбой оказать ему полугодовую материальную
поддержку «а время ученья в Париже. Еще раньше он передал
герцогу письмо Кастнера (от 12 апреля 1822 г.), в котором
тот писал о незаурядных способностях молодого химика, о
его удачном первом научном труде, о длительной подготовке
в Дармштадте, Бонне и Эрлангене. Положительному
решению герцога ibo многом содействовал Шлейермахер.
Получив шестимесячную стипендию гессенского правительства,
Либих ib октябре 1822 г. поехал в Париж и здесь всецело
отдался дальнейшему изучению естественных наук, в первую
очередь химии.
Химическое образование в Париже переживало пору
своего расцвета. Много молодежи проявляло к химии
живой интерес; все химические аудитории Парижа были
переполнены. Например, Гей-Люссак, рано начинавший свой
трудовой день, назначал лекции на семь часов утра, но
несмотря на это, задолго до их начала у входа в аудиторию
15
выстраивалась очередь студентов. Двери открывались без
четверти семь, и сразу же все места оказывались занятыми.
В семь часов с последним ударом часов на кафедру
поднимался .прославленный ученый и лектор, и увлекательное
чтение, сопровождаемое интереснейшими опытами, начиналось.
Примерно та же атмосфера захватывающего интереса,
напряженного внимания и увлечения наукой царила в других
аудиториях столицы Франции.
Первую лекцию Гей-Люссака1 по физике Либих
прослушал в Со'рбон1нс1ком университете 8 ноября 1822 г.; эту
же лекцию слушали Митчерлих, Генрих Розе и Рунге.
Гей-Люссака и Тенара Либих называет учеными мастерами.
Одновременно он отмечает, что их блестящие опыты
связаны с большими затратами, на которые охотно шло
правительство. Кроме этих ученых, он слушал химию у Дюлонга
и Шевреля, физику у Био, астрономию у Лапласа,
минералогию у Бетани, геологию у Броньара, зоологию у Кювье,
гальванизм и электромагнетизм у Эрстедта 2 — известного
копенгагенского физика, приезжавшего на время в Париж.
В письмах на родину Либих ic восторгом отзывался о
лекциях французских профессоров. Он считал, что нет
другой страны, где так процветают естественные науки и
находятся iß таком близком соприкосновении с практикой, как
во Франции. Однако, в одном из посланий к Шлейермахеру
он высказал смелые критические мысли, проявив
похвальную для (молодого человека независимость суждений. Так,
если верить Либиху, лекции Броньара по геологии
полностью основывались на системе немецкого геолога Вернера.
Читая их, Броньар пользовался немецкими терминами или
переводами их на французский язык. Либих считал, что в
геологию Франция внесла немного, а лишь переняла то, что
сделали в этой области Англия и Германия. Зато он очень
одобрял парижские коллекции по геологии, полно и
тщательно подобранные в порядке от простого к сложному.
В лекциях Бленвилля по сравнительной анатомии и
физиологии, по мнению Либиха, веяло исследовательским духом,
1 Жозеф Луи Гей-Люссак в то время читал химию в
Политехнической школе и физику в Сор боннском университете. В 1826 г. он и Те-
на>р были избраны (иностранными почетными членами Петербургской
Академии наук.
Ханс Кристиан Эрстедт—с 18(30 г. почетный член
Петербургской Академия наук.
16
в котором так нуждается наука; Клеман подходил к науке
с чисто практической стороны, стремясь применять
достижения химии в промышленности.
Своему приятелю Августу Валлоту Либих пишет [6, стр.
48, 49], что он отказался от личного благополучия (по всей
видимости, быть ассистентом Кастнера) и живет в Париже
«только наукой и друзьями». Свой приезд во Францию
Либих первоначально рассматривал, как приятную прогулку,
полезную для образования, но вскоре он почувствовал себя
маленьким человеком средиболыпих светил науки. Это
чувство было «как молния с ясного неба, но какая
благотворительная молния!... Наука теперь для меня не старая
лошадь, которую нужно оседлать, чтобы ехать на ней, а
крылатый конь, которого я стремлюсь нагнать».
В свободные часы Либих изучал английский и
итальянский языки, но больше всего его привлекала латынь.
Одновременно он усовершенствовал свои знания французского
языка.
Вскоре по приезде Либих и его соотечественники —
Шульц и Раух — образовали научный кружок из трех
человек. Однако несколько позднее это крошечное
объединение влилось в большой научный кружок, в который входили
доктор Бернэ из Франкфурта — издатель журнала «Весы».
Гарниир из Гисена, несколько берлинских докторов и
поэтов. Члены этого дружного объединения собирались по
средам в квартире, снимаемой на общие средства, и проводили
вечера за чтением собственных докладов. «Это было очень
приятное общество»,— вспоминает Либих.
При содействии профессора Кнута, сотрудника А.
Гумбольдта, Либих присутствовал на заседании Французской
Королевской академии. Здесь он был представлен Гей-Люс-
саку и Воклену. Последний благодаря письму Кастнера к
Гстье де Клобри, учителю Воклена, открыл перед Либихом
двери своей отличной аналитической лаборатории. Здесь
Либих приступил к экспериментальному .исследованию,
пользуясь советами Тенара. Захваченный работой, Либих
в письме к Валлоту жалуется, что время летит очень
быстро, дни проходят в лаборатории как часы.
В Парижской Академии курс делился на два семестра —
летний и зимний — и таким образом, лекции читались
круглый год. В ближайший летний семестр Гей-Люссака сменил
Био, а Тенара — Дюлонг. Чтобы закончить слушание всего
2 Ю. С. Мусабеков
17
курса, Либих был вынужден обратиться к герцогу с
просьбой о продлении стипендии на второй семестр. При
посредстве своего покровителя Шлейермахера он получил согласие
на продление стипендии с добавлением 200 флоринов на
книги и прочие расходы. Последнее было как нельзя кстати:
стипендии и денег, которые находили возможным высылать
ему родители, далеко не хватало, и без этих 200 флоринов
Либих испытывал бы большие затруднения.
Либих был поражен энтузиазмом и бескорыстием
французских ученых, читающих лекции в продолжение всех
каникул. Только в августе в связи с праздниками у Либиха
оказалось свободное (время, которое он целиком посвятил
экспериментированию. Четыре недели, проведенные \в
лаборатории Воклена, дали хороший результат. Либих написал
статью о гремучих серебре и ртути и летом 1823 г. передал
ее Гей-Люссаку. Прославленный ученый, сам занимавшийся
исследованием фульминатов, нашел работу очень
интересной, совместно с Дюлонгом написал о ней реферат и
рекомендовал опубликовать ее в отчетах Парижской Академии
наук (в отделе трудов иностранных ученых). Копии статьи
Либих послал Эрстедту ib Копенгаген и Томсону в Лондон.
Берцелиус поместил сведения о работе Либиха в
«Ежегоднике», назвал ее интересной и неожиданной. Кроме того,
статья была напечатана в журнале Швейггера. С этого
времени началась переписка Либиха с немецким ученым И. В.
Деберейнером, живущим в Иене. Имя двадцатилетнего
Либиха начало приобретать известность.
На заседании Парижской Академии 28 июля 1823 г.,
проходившем иод председательством Тенара, Гей-Люссак
зачитал статью Либиха. Чтение несколько раз прерывалось
аплодисментами в честь молодого исследователя. По
окончании чтения Либих подтвердил свои выводы экспериментами.
«В конце заседания 28 июля 1823 года, когда я занимался
укладыванием моих препаратов,— вспоминал позднее
Либих,— ко мне подошел человек из среды членов Академии и
завел со мной беседу. Исключительной любезностью он
сумел у меня выпытать тему моего исследования и все мои
планы. По неопытности и из страха я не осмелился
спросить, чья благосклонность принимает участие в моей судьбе;
мы расстались. Этот разговор стал фундаментом моего
будущего, я приобрел для моих научных целей могучего и
ласкового покровителя и друга» [5, стр. 12]. Это был один из
18
ученых-энциклопедистов — Александр фон Гумбольдт '
(1769—1859) ,— который только за день до заседания
приехал в Париж из Италии. Он .признал Либиха талантливым
химиком и с этого дня стал словом и делом помогать
молодому ученому. Например, осенью 1824 г. Либих прибыл в
Англию, снабженный рекомендациями Гумбольдта, которые
в значительной степени помогли ему познакомиться с
научными кругами Англии.
Встречу «с Гумбольдтом Либих описал в посвящении к
своей книге «Химия в приложении к земледелию и
физиологии». «Громадное стечение людей из разных частей света,
жаждущих знаний,— серьезное препятствие к
установлению близкого контакта с видными учеными... Я погиб бы
вполне,— пишет Либих,— но благосклонность Гумбольдта
предотвратила это... Мне открылись все двери, все
институты, все лаборатории; живой интерес, который Вы
проявили 'ко мне, добыл мне любовь и искреннюю дружбу вечна
дорогих мне учителей Гей-Люссака, Дюлонга и Тенара.'
Ваше доверие проложило мне путь в сферу действия, в
которой я уже 16 лет стараюсь быть достойным».
Действительно, по рекомендации Гумбольдта Либих получил доступ з
частную лабораторию Гей-Люссака, которого связывали с
Гумбольдтом тесные дружеские отношения; в Париже они
даже жили вместе.
Одновременно с названной работой по гремучим солям
Либих написал теоретическое сочинение «Об отношении
минеральной химии к растительной химии», за которую 21
июня 1823 г. философский факультет Эрлангенского
университета заочно присудил ему научную степень доктора 2.
В Париже Либих иногда встречался и обсуждал
химические вопросы с Жан Батистом Андре Дюма (1800—1884).
1 А. Гумбольдт один из основоположников научной 'сравнительной
географии, путешественник. В Ш29 г. он в течение восьми месяцев
изучал Россию, встречался с А. С. Пушкиным, Н. И. Лобачевским,
находился в дружбе и переписке с Д. М. Перевощиковым, А. X.
Чеботаревым, Н. Г. Фроловым, А. П. Ефремовым и др. Был почетным членом
Русского Географического общества. К достоинствам благожелательной
и общительной натуры Гумбольдта нужно отнести его склонность к
покровительству молодым ученым, что проявилось и во взаимоотношениях
его с Либих ом.
2 Крупные университеты того времени обычно имели четыре
факультета: философский, медицинский, юридический и богословский.
К первому из них относились и естественные науки, в частности, химия.
19
2*
Молодых ученых связывали общие научные интересы, они
даже опубликовали совместную работу. В одном из своих
публичных выступлений Дюма говорил: «В еще
невозделанную область устремились мы, я и Либих, с юношеским
воодушевлением. Число органических соединений, которое
сегодня неограничено, тогда тоже было уже очень большим.
Изучение всех тел, если мы исключим группу соединений,
которую разработал Шеврель, не дало ни одного
результата значительной важности. Природа большинства
соединений была неизвестной. Сущность их различия, их аналогии,
их состав как будто были покрыты завесой. На нашем пути,
по которому мы искали эти неизведанные области, не было
ни компаса, ни руководителя, ни законов, ни методов.
Каждый из нас придерживался особых взглядов,
каждый развил определенные взгляды, которые были
своеобразны и которые он горячо, даже страстно защищал. Число
сделанных открытий было бесконечным 1, и каждый мог
быть доволен своим урожаем. Открыть страну и отметить
вехами улицы — вот что лежало у обоих на сердце. Я не
сомневался также в том, что Либиху доставляло
удовольствие чтение моих статей, в то время как мне нравилось читать
его статьи. Если что-нибудь прояснялось, то не имело
значения, было ли это сделано одним или другим; оба прокла-
дывали путь к истине» [5, стр. 13].
Однако дружеские отношения между двумя выдвигаю
щимися химиками не установились. Основная причина это*-
го заключалась, по-видимому, в характерах ученых: оба
были пылкими и чувствительными натурами; при этом Дюма
отличался честолюбием, а Либих—властолюбием и
резкостью.
Зато Либих очень сблизился с Гей-Люссаком; этому
способствовала совместная исследовательская работа: Гей-
Люссак принимал участие в изучении фульминатов.
Насколько горячо было это участие, видно из воспоминаний
Либиха: при удаче какого-либо трудного анализа или о'пыта
Гей-Люссак — маститый 45-летний химик и физик —
хватал за руки своего юного сотрудника и плясал с ним вокруг
лабораторных столов, отбивая такт очень распространенны-
1 Многие высказывания Дюма, особенно после того как он стал
пользоваться славой автор итетнеищепо химика Франции, отличались
субъективизмом и отсутствием скромности.-:— Ю. М.
20
ми тогда среди химиков деревянными башмаками. Танец
получался настолько выразительным, что иногда и все
присутствующие в лаборатории пускались в пляс.
В Париже Либих совместно с Гей-Люссаком закончил
исследования гремучих соединений. Эта работа,
завершившая детские увлечения Либиха, позволила выяснить состав
гремучей кислоты. Результаты ее были опубликованы в
«Анналах химии», а затем во многих химических журналах.
Либих многому научился у Гей-Люосака и хорошо
понимал пользу повседневного контакта с этим выдающимся
ученым, но все же его неодолимо тянуло на родину. «Я
тоскую от этого большого шума и стремлюсь опять в мой
маленький тихий город»,— писал он Валлоту. Однако, когда
Либих уже совсем собрался в Германию, Гей-Люссак
попросил его провести с ним некоторые новые эксперименты
и, конечно, не получил отказа. Работа затянулась, Либих
растратил деньги, предназначенные на обратную поездку,
и опять участие Шлейермахера спасло его — герцог
распорядился о новой ссуде.
ГИСЕНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ
а заседании Парижской Академии 22 марта
1824 г. Либих сделал доклад о законченном
исследовании гремучих соединений и вскоре
после этого возвратился в Германию, в Ги-
сен. Здесь его друг и покровитель Гумбольдт
использовал все свое влияние, и 26 мая 1824 г.
в возрасте 21 года Либих был назначен
экстраординарным профессором Гисенского университета.
Это произошло без согласия факультета, хотя в те
времена факультеты оказывали решающее влияние на
администрацию университета в вопросах приглашения новых
профессоров. В случае с Либихом немецкие власти не
посчитались с мнением руководителей Гисенского университета
и послали туда нового юного профессора в порядке
административного назначения. Этим они, несомненно, нарушили
относительно демократические университетские порядки.
Правда, в дальнейшем Либих больше, чем любой другой
профессор прославил Гисенский университет, но такая
прозорливость должна быть полностью отнесена к заслугам
Гумбольдта, а отнюдь не чиновников немецкого
просвещения.
Итак, Юстус Либих, уехав во Францию недоучившимся
студентом, через два года возвратился уже известным
ученым-химиком. На всю жизнь он сохранил самую сердечную
благодарность своим французским учителям, особенно Гей-
21
Люссаку, который и в дальнейшем часто ограждал своего
ученика от несправедливых нападок.
С возвращением «а родину начался 28-летний гисенскип
период необычайно бурной творческой деятельности Либи-
ха. К этому времени относится и важное событие в его
личной жизни. В мае 1825 г. состоялась его помолвка с Ген-
риетой Мольденхауэр из Дармштадта. В июне того же года
он писал Платену: «Представь себе, чудесный поэт любви,
твой бедный Либих жених и по уши влюблен. Кому могу я
охотнее сказать, чем тебе, мой любимейший друг, что я в
этом совершенно новом для меня состоянии бесконечно
счастлив!» [4, стр. 198]. В мае 1826 г., через год после
помолвки, Либих женился. Брак был очень счастливым.
Через 18 месяцев после назначения Либиха в Гисенский
университет трагически погиб (утонул во время купания)
ординарный профессор химии В. Л. Циммерман, и Либих,
с согласия факультета, занял его место. Благодаря своим
редким способностям, стремительно развивающимся в таком
возрасте, когда большинство молодых людей только
начинает серьезно задумываться о будущей профессии, Либих
быстро встал .на путь самостоятельной научной деятельности.
В письме к графу Платтен-Галлермунду, с которым он
познакомился в Эрлангене, Либих ясно и четко изложил свои
взгляды iHa тогдашнее состояние науки, в частности химии,
и свою цель — ввести в жизнь практическое обучение
студентов в лаборатории.
При организации лаборатории понадобилась вся
решительность и энергия Либиха, чтобы преодолеть равнодушие
и даже неодобрение администрации университета и
материальные затруднения. Вначале Либиху пришлось
оборудовать лабораторию на свои собственные средства (он
истратил на это 800 гульденов), но вскоре новое начинание
получило поддержку правительства (правда, не в той мере, в
какой хотел Либих). Талант и увлечение, с которыми Либих
взялся за лабораторное преподавание химии, дали свои
результаты: лаборатория быстро заполнилась студентами.
В 1826 г. во Франкфурте-на-Майне произошла встреча
Либиха с Фридрихом Велером (1800—1882), оказавшая
влияние на всю жизнь Либиха. Еще ранее, до встречи,
между ними возникли серьезные научные разногласия по
вопросу о составе гремучей и циановокислой ртути. Однако
личное знакомство, откровенный обмен мнениями превратили
23
противников в близких друзей. Это, пожалуй, единственный
случай в жизни Либиха, когда научный спор закончился ми-
ром и даже дружбой. Обычно горячность и страстность,
с которыми Либих отстаивал свои взгляды, резко обостряли
отношения. Здесь же уравновешенный, добродушный,
рассудительный Велер оказал самое благотворное влияние на
бурную, экзальтированную натуру Либиха. Большую роль
сыграла и родственность научных стремлений. Дружба с
Велером, длившаяся 45 лет и закончившаяся со смертью
Либиха, оказалась на редкость плодотворной для развития
науки. Совместные работы Либиха и Велера существенно
обогатили сокровищницу химии; во многом
противоположные натуры друзей взаимно дополняли и исправляли друг
друга. Незадолго до смерти (1871 г.) Либих в письме к Ве-
леру так охарактеризовал их взаимоотношения: «Узы,
связывающие нас при жизни, не будут расторгнуты и после
нашей смерти. Мы оба будем сохраняться в памяти людей как
редкий пример двух лиц, без зависти и
недоброжелательства боровшихся на одном и том же поприще и до конца
связанных тесными дружескими отношениями» [7, стр. 161].
Между Либихом и Велером всю жизнь велась
оживленная переписка. Некоторые небольшие работы, подписанные
обоими именами, были выполнены одним из авторов. «Это
был маленький, прелестный подарок, который делал один
другому»,— писал Велер.
Метод работы Либиха — стремительный и страстный —
иногда приводил к ошибкам, которые не всегда легко
устранялись. Например, у него и Велера возникли различные
мнения о составе пикриновой кислоты. В письме к Либиху
Велер с огорчением обсуждал этот новый конфликт и
предлагал наиболее разумный способ его разрешения: «Должно
быть злой бес все снова и снова незаметно приводит ib
столкновение наши работы, а химическая публика думает, что
мы нарочно разыскали яблоко раздора, как противники. Но
я думаю, что это ей не удастся. Если Вы желаете, то мы
можем доставить себе удовольствие выполнить какую-
нибудь химическую работу вместе, а результат опубликуем
под общим именем. Понимаете, Вы стали бы работать в Ги-
сене, а я в Берлине, после того как распределили план, и
время от времени сообщали бы об успехах. Выбор темы я
предоставляю Вам» [5, стр. 30, 31]. Либих охотно принял
это предложение.
24
Фридрих Велер
В совместных работах ученых удачно сочетались
разнородные дарования. У Либиха возникали идеи, смелые
замыслы, он делал теоретические обобщения, Велер с редким
экспериментальным мастерством и 'педантичностью
проводил эти идеи в жизнь; от него не ускользали мельчайшие
подробности каждого анализа или синтеза. Непрерывное
экспериментирование было своего рода жизненной
функцией Велера. Он скромно и с большим пониманием входил
25
в круг вопросов, воодушевлявших Либиха; их всегда тянуло
друг к другу, и не только для совместной работы, ;но и для
отдыха, для утешения в часы невзгод. Духовное общение
друзей было настолько сильным, что иногда они долго
могли сидеть друг около друга не проронив ни слова; одна
близость уже успокаивала их.
В 1832 г. Велера неожиданно постигло большое горе —
умерла его жена. Либих, всячески стараясь утешить друга,
пригласил его погостить несколько недель в Гисене, и Велер
заглушил свое горе совместной работой ib либиховской
лаборатории. Плодом этого периода было исследование радикала
бензойной кислоты — работа, которую Берцелиус назвал
зарей новой химии. По »возвращении в Кассе ль Велер писал
Либиху: «Я опять вернулся сюда в мое полное одиночество.
Как я был счастлив иметь возможность работать вместе с
Вами. Дни, которые я провел с Вами, пронеслись как часы,
и я числю их среди счастливейших дней моей жизни» [8,
стр. 472].
Упомянем еще обо одном ученом-химике — Фридрихе
Море (1806—1879), с которым Либих был .в близких
отношениях. Их объединяли общность взглядов на некоторые
естественно-научные проблемы, особенно проблему
сохранения энергии, а также сотрудничество в «Анналах химии и
фармации», которые позднее сделались «Либиховскими».
Даже частые деловые споры по издательским вопросам не
омрачали их приятельских отношений.
Ф. Мор ,в совершенстве владел искусством разработки
аналитической и технической сторон химических проблем.
Он изобрел и распространил ряд прекрасных приборов,
облегчающих научное исследование. Либиху,
интересовавшемуся техническими вопросами, представился счастливый
случай учиться у Мора. С другой стороны, Мор —
фармацевт старой школы, получивший хорошую
естественно-научную подготовку, сразу же оценил важность работ Либиха
для теоретической биологической и прикладной химии. Он
с радостью приветствовал каждый новый успех друга,
поддерживал его в борьбе с научными противниками.
Переписка Либиха с Мором, ставшая в 1904 г. достоянием
химической общественности [9] благодаря заботам Г. В. Кальба-
ума, один из ценнейших источников сведений о Либихе.
Начиная с 1831 г., число научных исследований,
выполненных и опубликованных Либихом, удивляло его совре-
26
менников. Но для творческого пути Либиха это было
вполне естественным. Исключительные дарования и трудолюбие
ученого, стремительность его иатуры, собственноручная
разработка новых быстрых приемов анализа и синтеза, и,
наконец, многочисленность учеников-помощников,
стремившихся выполнить каждое задание молодого энергичного
профессора,— все это создавало предпосылки для обильного
научного урожая.
В том же году Гейгер пригласил Либиха вступить в
состав редакции журнала «Magazin für Pharmacie». Либих
охотно согласился, так как работа в журнале расширяла его
возможности публиковать свои исследования и улучшала
финансовое положение, которое было далеко не блестящим.
На 800 флоринов жалования Либиху приходилось
содержать большую семью (к тому времени у него было трое
детей) и брать на себя значительные расходы по
лаборатории. Последнее не было удивительным в те времена: многие
бескорыстные ученые тратили личные средства на научные
исследования.
В результате публикации работ Либиха и других
немецких химиков международное признание их трудов
значительно возросло. Либих с гордостью отмечает этот факт, но,
к сожалению, он одновременно радуется падению
значения работ французских ученых. Это было (несомненным
проявлением шовинизма, который усиленно разжигали
немецкие правящие круги ib период ликвидации последствий
военных поражений Германии. Оценивая влияние социальных
условий на развитие культуры во Франции, Либчх был
прав в одном. Он считал, что Франции вредит чрезмерная
централизация науки в Париже (следует отметить, что в
студенческие годы Либих приветствовал этот факт). В то
время как во многих городах Германии существовали
университеты, почти равные но своей научной значимости, во
Франции почти все высшие школы со знаменитыми
профессорами и лабораториями были сосредоточены в столице.
Сколько-нибудь способный молодой французский
провинциальный ученый считал совершенно необходимым
перебраться в Париж. С другой стороны, столичные светила
пренебрегали научными достижениями на периферии и
всячески старались усилить свою монополию. Особенно ярко
эти тенденции проявлялись во взаимоотношениях Жерара и
Дюма.
21
Либих находил большое удовлетворение в том, что он
добился почетного положения химии среди других
естественных наук, изучаемых в немецких университетах. Но это*
досталось ему не даром, а путем длительной и упорной
борьбы. Значение химии Либих отстаивал через журналы, в
частных письмах, ib университетских лекциях и выступле
ниях.
Несмотря на блестящие успехи положение Либиха в Ги~
сенском университете было довольно трудным. Напряжен-
ная исследовательская работа в течение девяти лет,
широкая организаторская деятельность, материальная нужда
истощали силы ученого. В 1833 г. Либих написал отчаянное
представление канцлеру университета Линде, откровенно
обвиняя его во многих бедах своей жизни. Вот отрывок из
этого представления: «Я хотел бы знать наверное, чего могу
ожидать в Гисене в ближайшем будущем. Мое решение, во
всяком случае, давно готово: доведенный до крайности, я
не поеду на эту зиму в Гисен, безразлично, дадут мне
отпуск или нет. И мне легко оправдать этот шаг, потому что
никто в университете не испытывал таких
несправедливостей, как я. Вам хорошо известно, что на 800 флоринов
жалованья при всяческом урезывании гонорара в Гисене жить
нельзя. Четыре года назад я совместно с несколькими
коллегами подавал .прошение об увеличении вознаграждения,—
нам было отказано. Когда я растроенный и больной, со
страхом обдумывал свое будущее, а Вы с улыбкой меня уверяли,,
что государственная казна не имеет никаких фондов, я
понял, что Вы никогда не знали горя и мучительных забот о-
хлебе насущном. Начиная с этого момента я старался
непрерывной работой завоевать себе независимое «положение;
мои усилия не были безуспешны, но они превысили мои
силы и сделали меня инвалидом. Теперь я не нуждаюсь s
государстве, но когда подумаю, что несколько жалких cotcft
гульденов могли бы снять с меня часть забот, и мое
здоровье не было бы подорвано в самые молодые годы, то с
горечью сознаю, что всеми этими мучениями я обязан Вам,.
которому мое положение было известно» [10, стр. 32]. Кан~
цлер, к своей чести, не воспользовался этим письмом, чтобы
свести личные счеты с ученым. Наоборот, он написал Либи-
ху успокаивающее письмо, которое подписал «Ваш друг
Линде», и несколько облегчил его материальное положение.
В 1891 г. это дало повод Вейриху в докладе «Вклад Гисен-
28
ского университета в историю химического преподавания»
сказать, что «положение Либиха, конечно, не было
неблагоприятным, так как его желания и научные стремления
находили полнейшее удовлетворение и по возможности удов-
летворялись» [4, стр. 188, 189]. По-видимому, истина лежала
где-то посредине.
В 1836 г. Либих познакомился с Берцелиусом.
Общительный, склонный к дружеским отношениям с людьми, Ли-
бих давио искал повод к личной встрече со знаменитым
шведским химиком, особенно после восторженных рассказов
о нем Велера. Такой случай вскоре представился: стало
известно, что Берцелиус должен принять участие в съезде
естествоиспытателей в Гамбурге. Несмотря на
материальные затруднения Либих решил ехать туда. Знакомство
состоялось. Берцелиус, достигший вершины славы, и Либих,
авторитет которого начал находить широкое признание,
проявили при встрече большую взаимную симпатию. Либих
с удовлетворением писал своему другу Велеру в Геттинген:
«Его скромность и любезность совсем приворожили меня...
Я теперь понимаю, почему вы, люди, так привязывались к
нему» [5, стр. 34]. Берцелиус также тепло отозвался о
новом знакомом: «Как я рад, что лично познакомился с Ли-
бихом. Это был несомненно самый интересный результат
моего пребывания в Гамбурге. Этот человек соединяет в
себе совсем необычную скромную любезность с
необыкновенной научной деятельностью» [5, там же]. В письме Либиху
Берцелиус пишет: «Тебе удаются новые и неожиданные
результаты. Ты найдешь себе положение, для которого тебя
хорошо вооружила мать-природа необычайными
умственными способностями» [4, стр. 181, 182].
Однако для дружбы таких людей как Либих и
Берцелиус недостаточно взаимного уважения и симпатии;
необходима и общность взглядов. С этих позиций становится
понятным, почему дружба между ними не окрепла.
Берцелиус — маститый представитель старшего поколения
химиков с устоявшимися взглядами на теорию и пути развития
химии—не мог терпеть реформаторской деятельности
молодой научной поросли. Либих же в своих научных
дерзаниях неудержимо рвался вперед. В результате этого, как и
следовало ожидать, на определенном этапе взгляды Либиха
пришли в противоречие с дуалистическим учением Берце-
лиуса, и уже в 1837 г. произошла их первая размолвка.
29
Однако спор разрешился мирно, поскольку оба «противникам
не придали ему решающего значения. Либих раскаялся в
резкости своей критики и .написал Берцелиусу: «Я чувствую
себя совсем несчастным, когда мне приходится так резко
выступать против тебя в научных (вопросах. Я знаю, что без-
несогласия во взглядах «ельзя добиться истины в науке,
что все великие вопросы решались и обосновывались лишь
в борьбе. Но если для науки вполне безразлично, чьи мысли
подходят ближе к истине, то для людей это не так: в химии,
как и в политике, несогласие во взглядах разделяет людей.
У нас этого не должио быть» [1, стр. 30]. Через несколько
недель после этого борьба ,вспыхнула вновь.
Уравновешенного и крайне миролюбивого Велера очень
огорчало нарушение начавшегося сближения двух его
друзей. Он несколько раз .писал по этому поводу Либиху и
всячески старался смягчить размолвку. В одном из писем
Либиху Велер дружески иронизирует: «Милый друг, ты
опять несколько болен специфической болезнью химиков
hysteria chemicorum (по-латински «химическая истерия».—
Ю. М.), порожденной чрезмерным умственным
напряжением, честолюбием и скверной лабораторной атмосферой. Все
великие химики страдают этим. Берцелиус тоже озабочен
тобой; он пишет: «Как здоровье Либиха? В своем
последнем письме ко мне он нервничал. Парень работает слишком
усердно; он должен в летние месяцы путешествовать» [7,
стр. 170, 171]. В другом письме Велер умиротворял Либиха
философскими рассуждениями: «Какой прок вести войну с
М. (Митчерлихом.—Ю. М.) или с кем-либо другим. Ты
расходуешь свои силы, огорчаешься, портишь себе печень
и расстраиваешь в результате нервы мирисоновыми
пилюлями. Перенесись в 1900 год, когда мы снова превратимся
в углекислоту, воду и аммиак, а составные части наших
костей войдут, может быть, в состав костей собаки, которая
грязнит нашу могилу. Кому будет тогда дело до того, как
мы жили,— в мире или в ссоре, кто захочет знать о твоих
научных спорах и жертвах своим здоровьем и покоем для
науки? Никто. Но прекрасные твои идеи и новые факты,
тобой открытые, будут, освобожденные от всего неидущего
к делу, известны и признаны и в позднейшие времена. Да,
впрочем, что я учу льва питаться сахаром!» [1, стр. 42].
Велер был прав. В спорах Либих часто становился до
такой степени резким, что переступал допустимые «акаде-
30
мические границы». Характерно в этом отношении его
письмо Велеру от 7 марта 1839 г. по поводу ссоры с одним
петербургским статским советником: «Только я получил твое
письмо, как пришел этот буйвол. Все, что ты придумал для
спасения его от заслуженного наказания, не помогло ему. Я
сказал ему, что мне его посещение кажется поведением
собаки, которая хочет уйти от заслуженного наказания. Я не
мог удержаться, чтобы не высказать ему в лицо все мое
презрение, ибо он набросал грязи в наш суп, который я
хочу заставить его съесть. Короче говоря, я разозлился и, как
теперь вижу, во вред себе, так как несколько дней буду
ходить с расстройством желудка. Не сердись, что я не
последовал твоему разумному совету. Ты много разумнее
меня» [11, стр. 141].
Несмотря на все старания Велер не смог предотвратить
разрыв отношений между Либихом и Берцелиусом.
Впрочем, он и сам понимал, что между ними может быть только
или вражда или любовь, но не равнодушие, поскольку
научные выводы Ли.биха полностью опровергали любимое
детище Берцелиуса — электрохимический дуализм. Берцелиус
со своей стороны резко отрицательно относился к
увлечению Либиха проблемами практической и биологической
химии. В письме от 1 ноября 1843 г. Либих писал Берцелиусу:
«Хотя я не знаю, могу ли назвать тебя другом, но это не
мешает мне уважать и любить тебя, как я это делал всегда.
С тех пор, как я начал применять свою работу для
объяснения процесса питания растений и животных, ты
отвернулся от меня... Ты всегда видел только ошибки, не
признавая хорошего и не помогая исправлять ошибки» [10,
стр. 52]. В ответе Берцелиуса мы читаем: «В течение
нескольких дней, которые я имел удовольствие прожить с
тобой в сентябре 1830 г., меня заинтересовала твоя личность.
Последовавшая затем наша переписка доставила мне
большой интерес, хотя при этом иногда к моему огорчению я
находил, что ты был в высшей степени обидчив... Ты
жалуешься, что с тех пор как ты начал применять свою работу,
я отвернулся от тебя. Да, мой дорогой друг, в этом есть
истина но это не значит, что я больше не буду твоим
другом, это только твои теории и мнения, перед которыми я
больше не буду преклоняться» [10, стр. 53].
«Мы спорим,— отвечает Либих,— в сущности о
принципах: ты стоишь за сохранение настоящего, я за его
31
усовершенствование и дальнейшее развитие... Принципы,
установленные тобой в теоретической и философской химии,
были нашими руководителями в течение долгих лет. Все
здание покоится на этой основе, для которой ты своей сильной
рукой обтесал и уложил каждый камень. До известной
высоты фундамент был достаточно прочным, но он не может
быть таким до безграничной высоты. По мере того как он
растет, необходимо усиливать основание, подводить столбы,
вставлять железные связи. Ты не хочешь этих столбов и
связей потому, что они портят внешность и вредят
гармонии целого. Но симметрия восстановится сама собой, ибо
фундамент не изменен» [1, стр. 30]. Этим письмом Либих
пытался успокоить Берцелиуса. На самом деле спор шел
не о мелких деталях проблемы, а о самом фундаменте
устаревающего дуализма, и это хорошо понимал Берцелиус.
Взгляды Берцелиуса отступали на задний план, число
tiro сторонников быстро таяло. По адресу шведского
химика отпускались злые шутки, например, такого рода: когти
старого льва притупились, и он может только рычать. Но и
Берцелиус не оставался в долгу и не скупился на резкие
выпады против нарождающегося нового. Основным
объектом контратак Берцелиуса был Либих, поскольку в то время
спор шел больше об отрицании дуализма, чем о создании
унитарной системы, творцы которой — французские химики
Дюма, Лоран и Жерар — выдвинулись несколько позже.
Споры Либиха и Берцелиуса крайне обострились и
приняли враждебный характер. В письме к Велеру 6 мая 1844 г.
Либих писал: «В течение четырех лет я переносил
недовольство и немилость Берцелиуса. Я делал все, чтобы
примириться с ним, но ничего не смог сделать против его
упрямства. Он должен идти по нашему пути и не задерживать
нас. Как это печально, что прекраснейшее и светлейшее
пламя должно так погаснуть» [10, стр. 52].
Велер, остро переживая назревший разрыв между Ли-
бихом и Берцелиусом, все же решил остаться другом их
обоих. «Мне очень больно,— писал он Либиху,— что между
тобой и Берцелиусом стали невозможны старые дружеские
отношения, всякое сближение между вами, всякое
примирение. Я прошу тебя только не требовать, чтобы я принял
чью-нибудь сторону. Если вы будете бороться, как
смертельные враги, то я все же буду каждого из вас уважать и
любить» [10, стр. 53].
32
Когда Берцелиус использовал овои «Ежегодники» для
едкого высмеивания трудов Либиха и его учеников,
миролюбивый Велер окончательно потерял надежду на
примирение своих друзей и рекомендовал Либиху не писать
больше Берцелиусу: «Напрасно ты пишешь Берцелиусу, ведь
твои письма не могут дойти до него... Новый годовой отчет,
вышедший только что из печати, полон враждебности к
тебе» [10, стр. 61].
Между учеными произошел окончательный разрыв, и
Берцелиу1с умер (в 1848 г.), так и не примирившись с Ли-
бихом. Биограф Либиха Альфред Бенрат писал в 1925 г.:
«Только на мгновение подало руки старое и новое, затем
они должны были разойтись, чтобы больше никогда не
ьстретиться» [5, стр. 35].
В борьбе идей, ,как всегда, новое пришло на смену
устаревшему, химики глубже проеикли в познание природы
молекул, в законы, управляющие взаимодействием атомов,
хотя еще нечетко представляли себе, что следует понимать под
этими названиями.
История науки по достоинству оценила заслуги
подлинных химических богатырей, какими были спорившие в 30—
40-х годах XIX в. Берцелиус, Либих и др. Хотя некоторые
теоретические взгляды Берцелиуса оказались ошибочными
и должны были уступить место более обоснованным
взглядам, все же имя Якоба Берцелиуса останется одним из
наиболее славных в истории естествознания.
Итак, к 30-м годам XIX в. Юстус Либих завоевал
авторитет виднейшего химика Германии и одного из создателей
нового направления в науке, но больше всего прославил
ученого его новый метод преподавания химии и подготовки
химиков-исследователей. Гисенская лаборатория стала
местом паломничества, куда приезжали и просто
познакомиться с Либихом и учиться со всех концов света. Он
получал огромное число приглашений от научных учреждений
различных стран. Русские химики одними из первых
признали нововведения и открытия Либиха; уже в 1830 г. он
был избран почетным членом Петербургской Академии
наук.
В 1837 г. Либих принял приглашение Британской
ассоциации «For the Admancemente of science». До
Кобленца он добирался почтовой каретой, оттуда рейнским
пароходом — в Голландию и далее морским путем — в Гуль. Из
3 Ю. С. Мусабеков
33
Манчестера в Ливерпуль Либих проехал по знаменитой
железной дороге, от которой с наивностью ребенка пришел в
восторг. По его словам, он ехал на этом чуде техники так
быстро, как может лететь только птица. Позднее Либих
горячо приветствовал развитие железных дорог в Германии,
облегчающих труд химиков: ускорение пересылок
оборудования, препаратов, возможность более частых встреч ученых
и т. д. В молодости Либих и Велер на самих себе испытали
трудности, связанные с отсутствием быстрой связи.
Например, Велер, уезжая в Швецию, предусмотрительно запасся
целым фунтом желтой кровяной соли, а когда ему там
потребовалась щавелевая кислота, то Берцелиус подарил
своему ученику старый шелковый чулок.
Поездка Либиха в Англию превратилась в его триумф.
Интерес англичан к Либиху объяснялся главным образом
трудами ученого в области земледелия и агрономической
химии. Претворение его идей в жизнь означало, с одной
стороны, укрепление земледельческой культуры, а с другой,
развитие химической промышленности, в частности —
производства минеральных удобрений. Повышение
плодородия почв увеличивало доходы прежде всего крупных
землевладельцев, которые составляли большинство в
правящих верхах. Их заинтересованность в задержке
индустриализации страны увеличивала шум вокруг имени
Либиха.
Англичане предоставили своему гостю возможность
познакомиться с промышленностью и торговлей. Либих
налаживал деловые связи с английскими предприятиями,
торгующими реактивами; это в значительной степени помогло
ему улучшить работу Гисенской лаборатории.
Осмотренные ученым химические предприятия Англии не вызвали у
него восторга: Либих был разочарован оторванностью
английских химических заводов от научных баз.
На заседании в Ливерпуле Либих получил почетное
поручение Британской ассоциации: подготовить и сделать
подробный доклад о состоянии знаний в органической химии в
применении к земледелию. Вначале он предполагал написа-
сать доклад совместно с Дюма и с этой целью на обратном
пути остановился в Париже. Однако из предварительных
разговоров он снова убедился в чрезмерном честолюбии
Дюма, и это заставило Либиха отказаться от своего
намерения.
34
В 1840 г. Либих пишет свою знаменитую книгу «Химия
в приложении к земледелию и физиологии», которая
переиздавалась много раз. Именно в ней наиболее четко
проявились передовые взгляды Либиха в области агрохимии.
В 1867 г. Карл Маркс, .всегда интересовавшийся вопросами
естествознания, высоко оценил труд Либиха. Маркс писал:
«Выяснение отрицательной стороны современного
земледелия, с тючки зрения естествознания, представляет собой
одну из бессмертных заслуг Либиха» 1.
В двух критических статьях этого периода — «Состояние
химии в Австрии» (1838) и «Об изучении естественных
наук и о состоянии химии в Пруссии» (1840) —Либих
настойчиво про!водит мысль о необходимости практического
обучения молодежи. В 1842 г. появилось второе
фундаментальное произведение ученого «Органическая химия в
приложении к физиологии и патологии», положившее начало
физиологической и медицинской химии.
Осенью 1844 г. Либих предпринял второе путешествие
в Англию, где ему снова были оказаны такие почести, какие
вряд ли выпадали в этой стране на долю какого-либо
другого иностранного ученого. Либих шутливо писал Велеру:
«Если бы от почестей можно было разжиреть, то у меня
был бы живот, как у Фальстафа 2, но вместо этого я
пресытился ими до отвращения» [10, стр. 54].
В эту поездку Либих установил деловые связи с
химическими заводами и через полгода возвратился в Англию,
чтобы помочь организовать производство раз!работанных
им минеральных удобрений. «Завтра я еду в Англию...—
писал он 28 марта 1845 г. Велеру.— Я тоскую по
независимости, и эта поездка имеет целью приобрести ее. Я до
смерти устал от поучений и погибну, если так будет
продолжаться и дальше. Я открыл несколько соединений, которые
будут применяться в качестве удобрений. Нужно
проделать еще много экспериментов» [там же, стр. 54]. Заводская
выработка минеральных удобрений в Ливерпуле была
налажена Муспратом при консультации Либиха.
Почести, оказываемые Либиху в Англии, не могли
остаться неизвестными на его родине. Германские власти
решили не отставать от англичан и окружили Либиха
1 К. Маркс. Капитал, т. I. Изд. 2, 1955, стр. 510 (сноска).
2 Персонаж комедии Шекспира «Виидзорские прока?Н'ицы».
35
несколько показным вниманием. Например, в 1845 г. герцог
Людвиг II возвел ученого в потомственное дворянское
сословие с присвоением ему титула барона.
Либих жил в эпоху выдающихся политических событий
и воспринимал их активно. В его письмах можно найти вы-
оказывания о французской и немецкой революциях 1848 г.,
подтверждающие, что Либих понимал их значение для
судьбы своей родины. «Ужасные события,— пишет он Ве-
леру 15 марта 1848 г.,— которые стремятся оторвать
Францию от всего, от связей, нашли повторение на Рейне. Все в
величайшем возбуждении и напряжении; вчера великий
герцог дал свободу печати..-. Уже сделаны уступки, которые
перешагнули все смелые ожидания фантазии. Министерство
будет изменено во чтобы то ни стало, и монархический
принцип, кажется, будет совсем побежден». Здесь же он
сообщает, что печатание статьи Велера задерживается из-за
сильного возбуждения работников, типографии, поскольку
«свобода печати открыла им новый мир» [4, стр. 193].
Возвратившись из кратковременного путешествия по Рейну,
которое он предпринял по совету врачей, Либих пишет своему
другу, что «от франкфуртского собрания нечего ожидать» и
что видит «единственное спасение» в Пруссии, особенно
после подавления баденского восстания в июне 1849 г.
«Дипломатия портит все, нигде нет искренности и верности» [4,
стр. 194]. В письме к Велеру 29 мая 1849 г. Либих
продолжает комментировать происходящие события: «На нашей
границе в Харпенгейме убили моего любимого друга. Этим
самым были открыты многим глаза» [4, стр. 195]. Он, в
противоположность Велеру, не так уверенно смотрит в будущее.
Его возмущают бесчинства комиссии областного комитета.
Он видит, как заполняются тюрьмы, на его глазах одного
из знакомых поднимают больного с постели и заставляют
расхаживать по улице с ружьем, до тех пор пока тот
окончательно не теряет сил.
И все же политические события недолго занимали ум
Либиха. Даже в самые неспокойные 1848 и 1849 гг. он
возвращается в свою любимую лабораторию, проводит
.исследования, пишет много химических статей. Революционные
события не могли не отразиться на университетских делах.
Число студентов в Гисене сократилось, но это не
отразилось на посещаемости лекций и лабораторных занятий,
проводимых Либихом. Здесь количество слушателей даже уве-
36
дичилось. Так, всегда деятельный, заполненный планами
новых исследований и сочинений, Либих переживал
события середины XIX в.
Но физические силы ученого постепенно подтачивались.
Напряженная ежедневная работа подорвала его здоровье:
он стал очень (возбудимым, страдал 'бессонницей. Осенью
1850 г. Либих 1С шречью писал Велеру, что работа с
молодыми людьми, которая раньше доставляла ему столько радости,
превратилась теперь в муку. Заданный вопрос,
необходимость сообщить какие-либо сведения делали его несчастным.
Последняя экспериментальная исследовательская работа
в Гисене, выполненная Либихом лично, была закончена в
1847 г. В дальнейшем он сконцентрировал свое внимание на
научной литературной деятельности, посвящал много
времени претворению в жизнь своих прежних и новых идей.
И этот период жизни Либиха знаменуется большим
разнообразием интереснейших творческих удач. До конца жизни
он активно творил и увеличивал свое огромное научное
наследство.
Из различных стран и городов Либих получал
заманчивые приглашения занять кафедры и возглавить
лаборатории. В 1837 г. петербургские химики усиленно звали
Либиха в Россию. В 1851 г. он получил приглашение в Гейдель-
берг на место Леопольда Гмелина (1788—1853), наиболее
известного представителя «химической династии» Гмелиных.
В Гейдельберге материальная сторона жизни Либиха
улучшилась бы, но ему пришлось бы создавать новую
лабораторию и (руководить работой молодых людей, что теперь
крайне пугало Либиха. Он отказался и от этого места и позднее
его занял Роберт Вильгельм Бунзен (1811 — 1899). Либиха
безуспешно З1вали и " в Вену.
&£&
МЮНХЕНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ
1852 г. Либих получил приглашение от
баварского короля Максимилиана II занять
кафедру химии в Мюнхенском университете,
открытом в 1826 г. Это предложение Либих
принял с условием, что он будет освобожден от
ведения лабораторных занятий со
студентами. Свою 28-леткюю деятельность в Гисене
ученый считал законченной; нужно было подумать о
здоровье, которое существенно пошатнулось. На всю свою
жизнь сохранил Либих светлые и благодарные
воспоминания о гисенском периоде. Позднее он писал: «Я всегда с
радостью вспоминаю о двадцати восьми годах, мною там
пережитых. Это было какое-то высшее предопределение,
которое привело меня именно в этот маленький университет.
В большом университете или в более людном месте мои
силы были бы распылены, и достижение той цели, к
которой я стремился, стало бы более трудным или, может быть,
и вовсе невозможным; в Гисене же все концентрировалось
в работе, а работа была истинным наслаждением» [1,
стр. 19].
В середине XIX в. Мюнхен переживал период
расцвета науки и искусства. Туда приглашались многие деятели
из различных областей естествознания, музыки, живописи.
В Мюнхене для Либиха началась новая жизнь. Если в
Гисене он большую часть времени уделял лаборатории, руко-
38
водству исследовательской работой студентов и
практикантов из разных городов и стран, то в Мюнхене он уединился
в своем рабочем кабинете, заваленном книгами,
рукописями и интенсивно работал там над теоретическими
проблемами химии и смежных наук, занимался
методологическими вопросами естествознания, готовил новые издания
своих книг, изучал материалы для академических речей
и т. д.
Одновременно он продолжал исследования в
лаборатории и литературно-издательскую деятельность. В первый
же год в Мюнхене Либих почувствовал себя гораздо лучше;
его ум восстановил юношескую свежесть и гибкость. «Я
никогда не был так здоров,— пишет о« Велеру,— как этой
зимой, только потому, что я меньше утомлялся. Для тебя тоже
наступит такое время... За всю нашу жизнь мы поработали
достаточно, никто, я говорю справедливо, никто не будет
после «ас так работать» [5, стр. 97].
На долю Либиха выпала неблагодарная и изнуряющая
работа — убеждать агрономов ;в правильности основ
созданной им агрохимии. Успеху этой работы препятствовало то,
что поучать людей, которые десятилетиями обрабатывали
землю, отважился химик. Либих испытал все: удачи и
неудачи, искажения своих рекомендаций и фанатическую
приверженность к ним. Не обошлось и без курьезов. В 1851 г.
Либих был избран кавалером ордена «За заслуги».
Философ Шнеллинг обещал канцлеру этого ордена А.
Гумбольдту свой голос в пользу Либиха, но затем взял слово
обратно потому, что зять Шнеллинга, землевладелец, был
недоволен либиховскими минеральными удобрениями.
Занятия агрономической химией поглощали у Либиха
столько времени, что он не смог продолжать совместные с
Велером теоретические исследования (в области
органической химии.
В ноябре 1852 г. Либих приступил к чтению публичных
лекций в аудитории, рассчитанной на 300 слушателей. Эти
лекции доставляли ему большую радость. Химические темы
перемежались докладами из других областей науки и
искусства. Кроме Либиха, с лекциями выступали минералог Ко-
белль, историк Деннигес, искусствовед Тирш и даже
интендант придворного театра Дингелыитедт. Король остался
доволен успехом лекций у широких слоев населения. Вообще
Максимилиан II прилагал много усилий, чтобы прослыть
39
покровителем наук и »искусств. Избранные докладчики
приглашались в королевский двор на вечера бесед, на которых
обсуждались животрепещущие вопросы науки, читались и
критиковались новые литературные произведения.
Внимание королевского двора льстило самолюбию Либиха, не
лишенного честолюбия. «Это положение так хорошо,— пишет
Либих,— каким я его желал видеть. Король остроумен,
любознателен и относится IKO мне особенно доброжелательно;
он наполнен тысячами идей и реформ, и чтобы их провести в
жизнь, ему не хватает только людей. Он хочет сделать для
науки то, что сделал его отец для искусства» [4, стр. 190].
Но все эти придворные вечера вызвали озлобление народа,
и в 1859 г. их пришлось прекратить.
После смерти Максимилиана 11 Либих одно время
собирался навсегда переехать в Англию, «о местом своего
погребения назначил немецкий город — Дармштадт. Однако
опасения Либиха по поводу отношения к нему мюнхенцев
после смерти короля были напрасными; для широких слоев
населения он составлял исключение из королевского
окружения, его народ любил. В знак признания мюнхенцы
приняли Либиха в почетное гражданство и вручили ему
соответствующее удостоверение. Либих в свою очередь все
больше привязывался к Мюнхену; его привлекали красота
окружающей природы и близость Альп.
Наука занимала в жизни Либиха так много места, что
для других занятий у него почти не оставалось времени. По
рассказам близких, в часы отдыха Либих любил читать
книги по истории, увлекался описаниями путешествий, часто
играл в вист. Он избегал чтения романов и, по
собственному утверждению, никогда не читал стихов. Симпатия
Либиха к поэту Платену, по мнению некоторых
биографов, имела скорее оттенок любезности, чем истинного
увлечения.
Театры и концерты Либих посещал редко, хотя и любил
музыку. «Здесь много занимаются музыкой,— пишет он Ве-
леру. Лахнер восхищает всех. Концерты в «Одеоне»
превосходны, и лучшая классическая музыка исполняется с
совершенством. Театр тоже ставит хорошие вещи, но мы до сих
пор ходили лишь изредка» [5, стр. 99]. Тщетно искать в его
письмах подробного, прочувствованного отзыва о каком-
нибудь музыкальном произведении или театральной
постановке.
40
Либих страстно любил природу, глубоко наслаждался
прогулками, шутешествиями. Он часто отправлялся « горы
и потом любовно до мелочей описывал их. «Я чувствую, что
сделал (недурной обмен,— пишет он Велеру по поводу своего
переезда в Мюнхен.— В маленьких городишках
сравнительно мало видят жизнь, и за все свои 'старания и труды мало
отдыхают» [там же].
Иногда, во время каникул, Либих встречался с Велером.
Присутствие друга радовало его, он охотно делился с ним
планами иа будущее, предавался воспоминаниям прошлого.
Привязанность к людям, которых однажды полюбил,
относится iK особенностям характера Либиха. Всю жизнь он
предпочитал придерживаться старых знакомств, но не
отказывался и от новых, хотя сближался ib зрелом возрасте
медленно.
Либих был очень интересным собеседником, даже тогда,
когда говорил на свою излюбленную тему — о науке — с
людьми, не имеющими близкого знакомства с предметом
разговора. Манеры и облик Либиха хорошо описаны в
письме мате|ри Б. Лепсиуса, автоюа статьи о Либихе и Велере:
«На вторую неделю мы пришли с визитом к нашему
старому другу Шарлотте 1, которая ожидала еще двух
своих приятелей. Сегодня, 5 сентября, пришли оба ожидаемых
химика, Либих и Велер, в нашу деревеньку.
Велер жил на квартире в Шлире, Либих снимал
комнату в первом этаже нашего дома, на большом балконе
которого собралось (все общество.
Велер — среднего роста и чрезвычайно худощавый, но с
крупными чертами лица, которые принимают оттенок
доброжелательности, когда с ним заговариваешь о его
метеоритах, синильной кислоте, алмазах... Либиха, который среди
нас находился дольше, мы все любили. С первой же минуты
он произвел благоприятное впечатление. Что-то
величественное ib фигуре и чертах, высокий лоб говорили о большом
уме. В разговорах он интересный собеседник, со спокойным
проницательным взглядом, около рта небольшие
морщинки — признаки старости, однако его молодят гордая осанка,
выражение лица. Ему 67 лет. Велер двумя годами старше,
имеет еще густые каштановые волосы, в то время как Либих
седой, что ему идет, когда он одевает свою бархатную
1 Шарлотта Кастнер из Базеля, сестра 'Карла Кастнара.— Ю. М-
41
шапочку. Он производит впечатление большого,
значительного человека, который может рассказать много
поучительного из жизни. Мы узнаем много новостей, которые он
любезно нам сообщает. Он показал нам медаль, похожую на
серебряную, которую он получил в Лондоне от Грэма. Она
состоит из палладия со сгущенным на нем водородом. По
предложению Фарадея, выделив из него водород, можно
увидеть нечто, похожее на ртуть 1. Затем он показал кусочек
недавно открытого металла индия, названного так потому,
что его пламя имело цвет индиго» [12, стр. 93].
К этому времени относится дружба Либиха с Шенбей-
ном, 'с которым они в студенческие годы, как указывалось
выше, не замечали друг друга. Через 15 лет состоялась их
мимолетная встреча с несколькими словами приветствия, и
только спустя еще 15 лет у них установились дружеские
отношения. «Прошло еще 15 лет...— писал Шенбейн в своем
дневнике путешествий.— Многое произошло за этот период.
Первый (Либих.— Ю. М.) добился одного из лучших
преподавательских мест в Германии, им было также ©писано
несколько новых страниц в историю науки, которой
посвятили свою жизнь оба молодых человека...»
Научные пути Либиха и Шенбейна также различны, как
различны их характеры. «Один — титанический ум, смело
и дерзко вмешивался в развитие науки, добивался
разрешения поставленных им задач. Другой... с робким чувством
вступил на путь исследования; запутанных вопросов он в
науке гораздо чаще избегал, чем искал их, предпочитал
более простые явления, а перед всем, что касалось области
органической жизни, испытывал почти непреодолимое
благоговение» [5, стр. 112]. Шенбейн, живший в Базеле, считал
себя (противником Либиха, и они действительно яростно
полемизировали в своих трудах. Наконец, Шарлотте Кастнер
с помощью М. Петтенкофера удалось уговорить Шенбейна,
проезжавшего через Мюнхен, посетить Либиха. Она
хорошо знала характер Либиха: он был так же обидчив, как и
миролюбив. Об этой черте характера Либиха пишет и
Генрих Розе iß одном из писем к нему: «Страстными
выступлениями ты создал себе 'много врагов. В письмах ты
беспощаден, но твоя любезность все снова улаживает» [4,
стр. 191]. Большинство современников сходятся на том, что
1 Такое путаное описание губчатого палладия, поглотившего
водород, позволительно только не химику.— Ю. М.
42
Либих был сердечным и очаровательным человеком; легкая
улыбка 1на губах и умный взгляд глубокоеидящих глаз
располагали в его пользу.
Не без опасений решился Шенбейн на визит к Либиху.
Неожиданно войдя к нему, он просто сказал: «Я Шенбейн».
В ответ Либих сердечно обнял своего научного противника.
В знак особой любезности хозяин попросил гостя заменить
его лекцию лекцией об озоне. Шенбейн с волнением
согласился (выступить перед взыскательной аудиторией, но его
лекция лрошла прекрасно. Оба знаменитых химика
расстались друзьями. За встречей последовала переписка, которая
прекратилась лишь со смертью Шенбейна. Велер тоже
полюбил остроумного Шенбейна, и не один день каникул трое
друзей проводили вместе в Альпах или Швейцарской Юре.
Письма [13], охватывающие пятнадцатилетний период их
дружбы (1853—1868), изданы в Лейпциге в 1900 г. под
редакцией Кальбаума и Тона; они являются ценным
первоисточником биографических сведений о Либихе и Шенбейне.
Оживленную переписку (вели Либих, Велер и Шенбейн
с Мором. Четверо немецких ученых-друзей совершенно -по-
разному оценивали австро-прусскую войну 1866 г.
Шенбейн, демократ по убеждениям, называл войну в Германии
«безобразной». Мор, уроженец Рейна и убежденный
пруссак, ликовал вместе с победителями и ib письме к Либиху
восторженно писал о «чудесных событиях последних двух
месяцев». Спокойный Велер, жоторый ближе своих друзей
познакомился с войной, описывал происходившие события
так, как он описал бы любую химическую реакцию —
хладнокровно и безучастно.
Либих пытался разобраться в событиях с точки зрения
интересов всех народностей Германии. Естественно, что, не
владея методом исторического материализма, он не мог
дать правильного анализа событий, но все же некоторые
мысли Либиха по поводу австро-прусской войны не
лишены интереса: «В Вашем положении о состоянии дел в
Пруссии Вы можете уже петь гимн победы,— пишет Либих
Мору,— но что будет с юго-западной Германией? Все бы
могло так хорошо сложиться, если бы Пруссия умерила свой
аппетит. Но подобные вещи до сих пор отсутствуют.
Поведение по отношению к Франкфурту является злым
предзнаменованием. Понятно, что единство Германии, т. е. князей,
могло быть достигнуто только «кровью и мечом», но к чему
43
приведет раскол, затеваемый Пруссией? Неужели она
захочет принудить Гессен, Вюртенберг и Баден искать
поддержку у Франции тем, что она систематически угнетает и
грабит ни в чем не повинное население этих стран!? Это
вопросы, которые занимают южнонемецких патриотов» [5,
стр. 114].
Позже Либих высказал несколько иные мысли: «Здесь,
в Баварии, не видать движения к успеху и улучшению, и,
возможно, что для Ганновера, Кургессена и Нассау
является счастьем принадлежать большому и сильному
государству. Если прусские элементы перебродят с элементами
насильственно захваченных (государств, то из этого
'получится благородное вещество. Но клерикализм и бюрократизм в
Баварии — едва ли устранимые препятствия» [5, стр. 115].
К чему привела австро-прусская война, известно:
прусские юнкеры получили возможность осуществить
значительную часть плана по опруссачиванию Германии и
установить в «ей свою гегемонию. Часть небольших немецких
государств — Ганновер, Кургессен,' Нассау, Шлезвиг, Голь-
штейн — была присоединена к территории Пруссии.
Средние и мелкие государства, общим числом 21,
находившиеся севернее реки Майн, объединились в Северо-Германский
союз 1867 года, под гегемонией той же Пруссии: четыре
крупных южногерманских государства — Бавария, Баден.
Гессен-Дармштадт и Вюртемберг — остались (вне этого
союза, Бисмарк связал их с Пруссией секретным военным
соглашением, направленным против Франции. Все это
соответствовало интересам крупной буржуазии. Кроме того, было
провозглашено всеобщее избирательное право. В. И. Ленин
об этом периоде истории Германии писал: «В 60-х годах
Бисмарк повздорил открыто с «народными
представителями» из буржуазии, но это была последняя вспышка
семейной ссоры. Буржуазия увлеклась победами немецкой армии
и вполне помирилась на всеобщем избирательном праве при
полном сохранении (власти за дворяноко-чиновничьим
правительством» *.
В 1865 г. Либих получил приглашение занять в
Берлинском университете место Эйльхарда Митчерлиха (1794—
1863). По этому поводу Либих с иронией писал Велеру: «Ты
наверно слышал, что меня пригласили ib Берлин в виде
украшения, как образец рококо. Меня пригласили главным
1 'В. И. Лен ин. Сочинения, 4 изд. т. 10, с-пр. 394.
44
образом для кафедры земледелия, но большой круг
деятельности, которого я раньше желал, «а старости не подойдет»
[7, стр. 201].
В Мюнхене Либих с 1860 г. был президентом Баварской
Академии наук. Кроме руководства Академией, ib его
обязанности входили выступления .на торжественных
заседаниях. В 1855 г. он был избран в состав Берлинской
Академии наук.
В 1867 г. в Париже открылась международная
промышленная выставка. В знак особого уважения баварское
правительство назначило Либиха представителем
южно-германских государств. В Париже его избрали председателем
X отдела выставки, он вел заседания, встречался со
многими крупными деятелями .государств, министрами, учеными
и инженерами, участвовал в торжественных заседаниях и
банкетах. На одном из банкетов Либих поднял бокал ,в
память своих любимых учителей Гей-Люссака и Тенара. Как
представитель Баварии, Либих 'был приглашен на интимный
обед в самом узком кругу к императору Наполеону III, с
которым в течение часа беседовал о самых различных научно-
технических вопросах: об изобретенном им мясном
экстракте, о земледелии, об использовании клоачной жидкости
и т. д. Либих пришел к заключению, что король Франции —
интересный человек, умеющий не только говорить, но и
слушать и воспринимать. Вообще Либих, отдавая дань
времени и обществу, в котором он вращался, проявлял живой
интерес к королям и высокопоставленным лицам. Это
сказалось и в его высказываниях о Наполеоне III, которого никак
нельзя отнести к умным государственным деятелям.
Именно о Наполеоне III классики марксизма писали: «...классо*
вая борьба во Франции создала условия и обстоятельства,
давшие возможность посредственному и смешному
персонажу сыграть роль героя» 1.
В Париже Либих с удовольствием встречался со
многими известными химиками, среди которых были и его
ученики — Девилль, Ф,реми, Пелиго, Пелуз, Шеврель, Баляр,
Дюма и др. Здесь Либих чувствовал себя хорошо и
свободно: его старые и новые друзья своими вниманием и
гостеприимством постарались сделать для него дорогими эти
места восхода его научного творчества.
1 К. M а р к 1С и Ф. Энгельс Избранные произведения, т. I.
1952, стр. 209.
45
У себя в Мюнхене Либих очень радушно принимал
Друзей. В его доме часто собирались большие компании людей
науки; к нему приезжали Велер, Шенбейн, Вюрц, Пастер,
Бунзен, Кирхгоф, Майер, Роб и многие другие.
Вообще в этот период жизнь Либиха протекала довольно
спокойно. Семейная жизнь его сложилась счастливо. У «его
было пятеро детей — два сына, Георг и Герман, и три
дочери, Агнесса (жена философа и историка литературы
М, Каръера), Иоганна (жена известного хирурга Пирша) и
Мария. Своими детьми он был очень доволен. «Когда я
оглядываюсь на прошедшее,— писал Либих,— то могу сказать
по праву, что небо меня так много осчастливило. Все мои
дети здоровы, и многое обещают, это величайшее счастье...»
[4, стр. 199]. Большую тревогу и заботливость Либих
проявил, когда один из его сыновей — приват-доцент
Мюнхенского университета — находился ib Калькутте во время
волнений 1857 г., и успокоился только тогда, когда сын
вернулся домой невредимым.
В Мюнхенской лаборатории Либих работал не подолгу и
довольно редко публиковал статьи на экспериментальные
темы, которые ни по объему, ни по значимости не сравнимы
с его прежними исследованиями. Эксперименты, которыми
он страстно увлекался в Гисене, служили ему в Мюнхене
своеобразным отдыхом.
Искусственные минеральные удобрения, предложенные
Либихом, постепенно получили всеобщее признание, что
очень (радовало ученого. Мясной экстракт и заменитель
дрожжей в тесте приумножили славу химика. В почестях &е
было недостатка. Он был избран почетным членом и
членом-корреспондентом большинства академий и научных
обществ мира, награжден немецкими, австрийскими,
английскими, французскими, русскими, итальянскими, испанскими,
шведскими, греческими, бразильскими, мексиканскими
орденами. За его работы предлагались баснословные гонорары.
Например, один американский редактор предложил Либиху
1400 гульденов за печатный лист, в котором будет
содержаться пункт о сельском хозяйстве.
Продолжительный труд исключительной напряженности
сказался на здоровье великого химика. К 50-летнему
возрасту Либих потерял значительную долю прежней завидной
трудоспособности. Последние два десятилетия своей жизни
он быстро утомлялся, часто страдал бессоницей, сильными
4Ь
головными болями. В эти годы Либих ложился спать рано,
между 9 и 10 часами, но и вставал рано. Ища отдыха на
воздухе, он часто бывал на курортах и в горах. Однажды
в лесу Пассау Либих упал .и разбил коленную чашечку.
Перелом часто давал о себе знать, и Либиха очень огорчала
необходимость ограничения длительных прогулок, .которые он
так любил. Ко всему прибавились мучения, вызванные
карбункулом и операцией. К маю 1870 г. Либих был настолько
изнурен, что стал готовиться к смерти « сделал .все нужные
распоряжения, которые доверил наиболее близкому
ассистенту Якобу Фольгардту (1834—1910), известному в
истории науки многочисленными исследованиями в области
органической и аналитической химии. Но приготовления
Либиха оказались преждевременными, он выздоровел и с
юмором писал Велеру: «Я тебе по духовному завещанию
предназначил все мои хорошие сигареты, и надеюсь, что ты не
будешь сердиться, услышав, что я уже израсходовал чуть
ли не все».
Либиху пришлось пережить еще одно событие в жизни
Германии — франко-прусскую .войну 1870—1871 гг. и
аннексию Германией Эльзаса и Лотарингии. Военные действия
немцев развивались успешно и в июле 1871 г. закончились
победой. Вместе с другими Либих зажегся огнем
патриотизма, приправленного солидной долей шовинизма, и с
нетерпением ждал вестей о победе немецкого оружия. «Во время
болезни,— пишет он,— мне часто думалось, что лучше бы
бог меня прибрал, так все у меня было готово и закончено.
Но теперь я вижу, что стоило пережить эти великие
события. Как ужасно должно быть для такой тщеславной и
высокомерной нации (Германии.— Ю. М.) ни разу не иметь
успеха в борьбе» [1, стр. 57].
После заключения Франкфуртского мирного договора
Либих 'выступил в Баварской Академии наук с речью, в
начале которой развивал мысль о том, что победы немцев
над французами являются победами знания и науки над
эмпиризмом и рутиной. Далее он подчеркнул, что именно
теперь возможно сближение этих наций на научной основе
и что немцы могут быть справедливыми к другим народам.
Либих рассказал, как 48 лет назад он поехал ib Париж и как
отнеслись к нему французские ученые. Он считает, что это
определило весь его жизненный путь. Никогда он не
забудет доброжелательства к нему, немецкому студенту, Гей-
47
Лкюсака, Тенара, Араго, Дюлонга. Он мог бы назвать еще
многих немецких (Врачей, физиков, ориенталистов, которые
с благодарностью вспоминают действенную помощь,
оказанную им французскими учеными. В этих высказываниях Ли-
биха по вопросам интернационального духа научного
прогресса и судеб Германии наряду с трезвыми мыслями есть
много наносного, субъективного и шовинистического.
Либих умер весной 1873 г. В начале апреля он заснул,
лежа в кресле в саду, и (простудился. Бронхит быстро
перешел в воспаление легких. В пятницу 18 апреля в 16 часов
30 минут Юстуса Либиха не стало. Он умер, немного не
дожив до семидесяти лет.
В Германии ему сооружено три красивых памятника: в
Дармштадте, Гисене и Мюнхене — в городах, в которых
прошла жизнь ученого. Особенно вдохновенно выполнен
мюнхенский памятник работы Вегмюллера: красиво
задрапированный в широкую мантию, Либих свободно сидит в
кресле с книгой в (руках. Книгу он только что читал, а
теперь опустил на колени, заложив пальцем страницу;
задумчивые глаза смотрят немного вверх... У подножия
памятника в Гисене (работа Изорштадта) изображены Минерва
(богиня науки, (ремесел и искусств) и LJdpepa (богиня
плодородия). Столетие со дня рождения Юстуса Либиха было
отмечено во всем мире.
Говорят, что талант представляет собой волю и труд,—
это в полной мере относится к Либиху. В нем удачно
сочетались многие замечательные качества: неукротимое
стремление к труду, дар научного предвидения, упорство в
опытном и логическом доказательствах своих многочисленных
идей, человеческое обаяние. О нем можно сказать словами
Александра Гумбольдта: «Из всех человеческих интересов
выше всех стояли для него научные интересы... Остальные
были им подчинены; материальные играли для него наи*
меньшую роль». Сам Либих часто повторял, что для
некоторых людей наука является дойной коровой,
поставляющей масло, для других же — это богиня, которой они
поклоняются всю жизнь.
Юстус Либих посвятил себя бескорыстному сложению
науке для умножения счастья людей. Поэтому имя этого
удивительного химика навсегда остается среди имен
лучших представителей человечрства.
>а^
РАЗРАБОТКА
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ХИМИИ
1 стус Либих был одним из выдающихся
I химиков-теоретиков своего времени. Его
J деятельность в этой области была особо
I плодотворной в гисенский период. В бо-
| лее зрелые годы Либих к теоретическим
J проблемам химии почти не возвращался
А. М. Бутлеров в некрологе Ю. Ф.
Фрицше лисал: «Установить теорию — это серьезная
научная заслуга; предсказать факт на основании готовой
теории — это то, что доступно каждому химику и что требует
немногих чашв времени; но фактическое доказательство или
опровержение такого (предсказания потребует целых
месяцев, иногда — годов, физических и умственных усилий.
Здесь-то терпение, трудолюбие, уменье наблюдать и
соображать являются необходимыми драгоценными качествами
естествоиспытателя» [14, стр. 87]. Этими редкими
качествами и обладал Либих: в нем прекрасно сочеталось дарование
«устанавливать теорию» и терпеливо, с завидными
трудолюбием, и изобретательностью подтверждать ее
экспериментальным путем. Он умел наилучшим образом обобщить в
стройное целое разрозненный материал, извлечь из
незамеченного другими факта важнейшие заключения.
Из теоретических проблем, разработанных Либихом,
наиболее важным являются теория сложных радикалов и
теория многоосновных кислот.
4 Ю. С Мусабеков
49
Теория органических радикалов имеет длительную
историю. Она была одной из популярнейших концепций до-
структурного периода развития органической химии, а
'некоторыми своими выводами и утверждениями вошла в
состав теории химического строения и в современное учение
о составе, строении и реакционной способности органических
веществ. Понятие «радикал» мы впервые встречаем у Гьюи-
тона де Морво — пионера научной номенклатуры химиче-
ских соединений, которая послужила фундаментом новой
химической категории. Охарактеризовав ряд минеральных
кислородсодержащих кислот, де Морво назвал радикалом,
или кислотообразующим основанием, простое вещество,
изменяемое кислородом.
Антуан Лоран Лавуазье распространил представление
де Морво на тела органического происхождения. Исследуя
процесс их горения, Лавуазье пришел к выводу, что
обязательными частями органических соединений являются
углерод, водород, кислород, причем отметил особую роль
кислорода в органических веществах, подобную той, которую о«
играет в неорганическом мире. В 1789 г. Лавуазье писал, что
в минеральном мире почти все радикалы, способные к
образованию окислов и кислот, весьма просты. Напротив, в
растительном и особенно животном мире нет радикалов,
состоящих менее чем из двух элементов — водорода и
углерода; к ним часто присоединяются также азот и фосфор.
Итак, по Лавуазье, органические соединения являются
кислородными соединениями сложных радикалов. Для
.каждого сложного вещества характерны состав радикала и
количество кислорода, с которым он связан. Эти признаки
Лавуазье положил в основу классификации органических
кислот. Согласно Лавуазье, специфика соединений
органического происхождения состоит в сложности их
радикалов.
Первым выяснил сложные отношения составных частей
органических веществ и выделил эту отрасль химии в
самостоятельную науку Берцелиус. Установив справедливость
закона кратных отношений для органических веществ,
Берцелиус заключил, что только корпускулярная теория, т. е.
атомизм, может быть основой и органической химии. Из
этого прогрессивного заключения вытекало, что дискретный
состав органических соединений можно выражать при
помощи формул. Причину, обусловливающую своеобразие ор-
50
ганических веществ, Берцелиус видел в сложности
органических радикалов. В своем «Учебнике химии» он писал:
различие между продуктами нео1рганичеакой и органической
природы состоит по существу в том, что в неорганической
природе вое кислородсодержащие вещества содержат
простые радикалы, в то время как органические вещества
содержат окислы со сложными радикалами. Атомизм
Дальтона и представление Лавуазье о радикалах Берцелиус вое-
принял как основу для определения состава органических
соединений. Противопоставление свойств кислорода
свойствам других элементов (отдельных или соединенных в
группы в виде сложных радикалов) составляло одну из
важнейших особенностей химического дуализма концепции Берце-
лиуса. Поэтому можно считать, что теория радикалов и ее
первоначальном виде выросла из дуалистических
представлений.
Развив дуализм в электрохимическую теорию, Берцелиус
показал, что систематизация органических соединений по
принципам неорганической химии дает положительные
результаты. Вместе с тем он подчеркнул особое
электрохимическое состояние живого организма, основанное на его
своеобразных свойствах. Условия образования сложных
радикалов, по его мнению, совершенно другие и определяются
действием особой жизненной силы. Поэтому Берцелиус не
признавал понятие «сложные радикалы» и считал их
гипотетическими единицами, образованными с помощью
жизненной силы. Несостоятельность таких заключений
выявилась довольно скоро.
Ко времени появления работ Либиха понятие радикала
в химии почти слилось с понятием элемента. Стало
распространенным утверждение, что неорганическая химия
изучает химию элементов или простых радикалов, в то время как
органическая химия исследует соединения сложных
радикалов. Такое мнение в самой категорической форме было
высказано в совместной работе Либиха и Дюма (1837).
Теория радикалов получила сильное подкрепление и
предпосылки к дальнейшему развитию с появлением в 1832 г.
классической работы Ю. Либиха и Ф. Велера
«Исследование о радикале бензойной кислоты», которую
Берцелиус приветствовал как «начало новой эры в
растительной химии». В докладе на заседании Стокгольмской
Академии Берцелиус называет представление о бензоиле
51
4*
«глубоко захватывающим учением в этой важнейшей части
органической химии», а в одном из писем к Велеру
восторженно поздравляет ученого и предлагает дать радикалу бен-
зоилу оптимистическое греческое название «проин» или
«ортрин», что означает «утренняя заря». Окончание «ил»
в названиях радикалов также является греческим и
означает «вещество».
Либих и Велер, изучив состав и химические
'превращения «масла горьких миндалей» (бензальдегида), (показали,
что группа СнНюСЬССуНбО) 1 выступает в соединениях с
кислородом, водородом, хлором, бромом, иодом, серой,
аммиаком, синильной 'кислотой как сложный элемент и
образует ряд веществ:
С14Н10О2Н2 — бензальдегид,
C14H10O2CI2 — хлористый бензоил,
С14Н10О2ВГ2 — бромистый бензоил,
C14H10O2F2 — йодистый бензоил,
O4H10O2S—сернистый бензоил,
СнНю 02(NH2)2—бензамид,
ChHio02(CN)2—бензнитрил и др.
Отсюда естественно следовал вывод, что два водорода в
масле горьких миндалей стоят обособленно и могут быть
заменены другими элементами. Неизмененными во всех этих
превращениях остается сложный радикал С14Н10О2,
названный бензо'илом.
После работы Либиха и Велера, поддержанной
авторитетом Берцелиуса, многие исследователи занялись получением
и изучением новых органических радикалов. Самим Либи-
хом был открыт радикал хлороформа — «формил» — с
дальнейшим превращением его в муравьиную кислоту. В связи
с этим хлороформ рассматривался как аналог треххлористо-
го фосфора; формил уподоблялся фосфору, а муравьиная
кислота — фосфорной. В 1834 г. Дюма и Пелиго
осуществили превращения «коричного масла» (коричного альдегида)
и указали на присутствие в его производных сложного
радикала «циннамила» ОвНнОгССэНуО), реагировавшего
аналогично бензоилу. Были описаны и другие сложные
радикалы.
1 В то В'ремя атомный вес углерода принимали равным 6, кисло-ро-
да — 8 и т. д.
52
Бензоил, как формил и циннамил, занял особое место
среди сложных радикалов, поскольку ib нем содержится
кислород. Такой состав радикала находился в противоречии с
электрохимическим дуализмом Берцелиуса. Поэтому можно
сказать, что чисто субъективные восторги Берцелиуса по
поводу «новой эры» были преждевременными. Похвально,
что несмотря на противоречия с его концепцией, Берцелиус
приветствовал научное открытие действительно большой
значимости. В дальнейшем он пытался согласовать
существование кислородсодержащих радикалов со своими
взглядами, а затем, не добившись успеха, отрицал эти радикалы.
В 30-х годах XIX в. теория радикалов была подкреплена
Либихом ib такой степени, что создание и развитие ее часто
связывали с его именем. Либих принимал свободное
существование органических радикалов, его (взгляды
поддерживали Дюма и некоторые другие химики. Главная польза
этих взглядов заключалась в том, что они побуждали к
новым поискам, приводящим к открытию новых веществ и
новых органических реакций.
Теория сложных радикалов в трудах самого Либиха по
мере открытия новых фактов подвергалась изменениям и
усовершенствованиям; на некоторых этапах этой эволюции
стоит остановиться.
Понятие радикала в 30-е годы стали принимать почти
все химики. Радикалу начали приписывать определенные
особенности: переход его в неизменном виде из одного
соединения в другое, способность соединяться с различными
минеральными элементами. Однако мнения о возможности
существования (радикалов в несвязанном, свободном
состоянии расходились. Наиболее запутанным оставался вопрос
о том, какой радикал следует принять в данном сложном
веществе. Тут оставалось много места для произвола.
Берцелиус признавал необходимость видеть во всех
органических соединениях ту же двойственную расчленяе-
мость, что и в неорганических. Такое утверждение вполне
устраивало Либиха, и он писал, что отличие неорганических
соединений от органических все более сглаживается. Чтобы
не пошатнуть дуалистической концепции, Берцелиус
отрицал существование кислородсодержащих радикалов,
считая, что радикалы возникают из углерода и водорода, а
другие элементы — хлор, кислород, сера — могут
присоединяться к ним. С этих позиций бензоил рассматривался кал
53
окисел радикала С12Н10, перекисью которого является
бензойная кислота, а спирт — как окисел радикала СгНб.
Генетическая связь эфира и спирта при этом исчезала. Либих
не согласился с такой натянутой трактовкой его открытий,
в 1834 г. выступил против Берцелиуса и предложил
рассматривать спирт, серный эфир, хлористый этил и сложные
эфиры как (производные одного и того же радикала этила,
который Либих изображал С4Н10 (Берцелиус пользовался
формулой С2Н5). Связь между всеми названными
производными этила изображалась довольно стройно.
С4Н10О — эфир или окись этила (этилоксид),
С4Н10О. Н2О — спирт или гидроокись этила (этилокси-
гидрат),
C4H10CI — хлористый этил,
C4H10ON2O3 — азотнокислый этил,
С4Н10ОС14Н10О3 — беизойнокислый этил и т. д.
Подобным же образом Либих объяснял и состав
меркаптана, открытого к тому времени Цейзом. Этилмеркаптап
по Либиху — это сульфид этила в соединении с
сероводородом C4H10S . H2S; так объяснялась аналогия
меркаптанов и алкоголей.
Либих и Берцелиус не пришли к согласию, хотя оба
односторонне трактовали вопрос о составе производных
органических радикалов. Либих не соглашался и с другой
разновидностью теории радикалов — так называемой
теорией этерина, которую развивали Дюма и Булле. Для
окончательного доказательства своей правоты Либих
пытался получить радикал этил в свободном состоянии, но
естественно, что это ему не удалось.
Все же открываемые химиками новые факты довольно
часто подкрепляли правомерность теории сложных
радикалов. Например, когда Дюма и Пелиго установили состав
древесного спирта, выявилась полная аналогия его с
винным спиртом; по предложению Берцелиуса новый радика\
был назван метилом. Замечательные исследования
мышьяковистых органических веществ (1837—1842),
проведенные Бунзеном, привели к открытию какодила, и это
существенно укрепило теорию сложных радикалов.
В Гисенской лаборатории Либиха А. Реньо, разложив
хлористый этилен спиртовой щелочью, получил «хлораль-
дегид» (хлорвинил) и придал ему формулу C4H6G2
54
(C2H3CI). Радикал С4Н6 Либих назвал ацетилом1 и
усматривал его во многих производных по аналогии с
азотсодержащими веществами:
С4Н6 — ацетил, соответствует N2H4 — амиду;
С4Н8 — этилен, соответствует N2H6 — аммиаку;
С4Н10 — этил, соответствует N2H8—аммонию.
Так постепенно сторонники теории радикалов накапливали
факты, послужившие для создания более прогрессивных
теорий — теории типов и унитарной системы.
В связи с изучением ацетальдегида у Либиха возникли
сомнения iß неизменности радикалов. Уксусный альдегид
и уксусную кислоту он рассматривал соответственно как
гидрат закиси и гидрат окиси ацетила — С4НбО . Н2О и
С4Н6О3 . ЬЬО. Таким образом, оказывалось, что радикал
спирта весьма существенно изменяется при окислении его
путем отнятия водорода.
Дюма, развивавший этериновую теорию, считал
альдегид окислом радикала маслородного газа, якобы
содержащегося в эфире и спирте. Выступая неоднократно против
теории этерина, Либих писал: если принять ее, то
необходимо допустить возможность получения альдегида из
спирта удалением водорода. Это допущение, впоследствии
подтвержденное, казалось Либиху абсурдным.
К 1837 г. теория сложных радикалов достигла вершины
развития, а теория этерина потеряла почти всех своих
сторонников. Даже Дюма отказался от нее и
присоединился к Либиху для дальнейшей совместной разработки
теории сложных радикалов.
Из противников теории сложных радикалов можно
упомянуть Митчерлиха и Кольбе. Первый считал, что
бензойную кислоту лроще всего рассматривать как соединение
бензола с углекислым газом и подкреплял это мнение
реакцией декарбоксилирования бензойной кислоты при
нагревании ее с известью. По мнению Кольбе, либиховская
теория не могла определить органическую химию, как
науку о сложных радикалах, но со своей стороны он
пытался построить все здание органической химии на
субъективной интерпретации понятия сложного радикала.
1 Современный винил; название ацетил сохранилось за остатком
уксусной кислоты (СНз—СО).
55
Жерар тоже считал, что теория сложных радикалов —
довольно шаткая основа органической химии. Имея в виду
книгу Либиха, он в 1844 г. писал в «Précis de chemie
organique»: «По-видимому, сам Либих заметил важные
недостатки этой теории, так как он пренебрег ею во второй части
своего сочинения... Органический радикал представляет
собой настолько неопределенное .и произвольное понятие,
что навряд ли его целесообразно сохранять в науке».
Однако эти высказывания не помешали Жерару использовать
понятие радикала в более поздней работе — «Traite de chemie
organique».
Лоран сетовал на множество (Выдуманных радикалов,
едко замечая, что органическая химия есть наука о
несуществующих телах. Шаткость понятия радикал Лоран
пытался доказать следующим примером: «Я нашел
радикал, который называю эризен (eurhyzene). Этот радикал
имеет аналогию с хлором, переходит из одной частицы в
другую, выделяется в свободном виде, и соединения его
с металлами похожи на соединения с другими
радикалами...». Лоран говорит, что он не раз спрашивал химиков:
«Имеет ли право его радикал носить название радикала?
Все соглашались с тем, что этих свойств для характеристики
радикала достаточно. Когда же я прибавлял, что этот
радикал есть перекись водорода, то все отказывались признать
за ним право радикала» [15, стр. 238].
Во всех приведенных высказываниях имеется один
принципиальный недостаток, выправленный историей химии.
Критики Либиха смешивали само понятие радикала с
различными теориями радикалов, в том числе и либиховюкой.
Теория сложных радикалов во всех своих разновидностях
постепенно изживала себя, уступая место взглядам,
которые все полнее и глубже отражали объективную .реальность
в составе и «конституции» веществ (Либих понимал это и
постепенно стал придавать все меньшее значение своим
взглядам 30-х годов). Понятие же радикала со временем
уточнялось и переходило в последующие теории,
приобретая четкую определенность в теории химического
строения, в современном учении о молекулярной структуре и
реакционной способности веществ.
В 1838 г. Либих на примере циана (хорошо изученного
Гей-Люссаком, Велером и им самим) описал три
характерных признака сложного радикала: во-первых, циан следует
5<?
называть радикалом потому, что он является неизменной
составной частью ряда соединений; во-вторых, в этих
соединениях ой может быть замещен другими простыми телами;
в-третьих, в соединениях с простым телом циан может
выделить его и заменить эквивалентом других простых тел.
Из трех условий должны быть удовлетворены по крайней
мере два, чтобы данная атомная группа могла называться
радикалом. Это заключение о необходимости соблюдения
минимум двух условий, причем неизвестно каких, вносило
дополнительную неясность в теорию сложных радикалов.
Для первой половины XIX в.— периода становления
основ органической химии — характерна частая смена
теоретических представлений. Однако в калейдоскопе теоретических
взглядов либиховская теория сложных радикалов сыграла
одну из ведущих ролей, и ее наиболее ценная часть
послужила источником и составным элементом для атомно-моле-
кулярного и структурного учения.
Второй крупный вклад Либиха в теоретическую
химию — теория многоосновных кислот. Впервые она была
изложена в 1837 г. в статье, написанной Либихом совместно с
Дюма и явилась естественным продолжением трудов Дэви,
Гей-Люссака, Дюлонга и особенно Грэма о природе кислот.
В завершенном Либихом виде теория многоосновных
кислот стала еще одним ударом по отживающей свой век
дуалистической концепции Берцелиуса, подготовила почву дл>«
развития унитарной системы, существенно помогла в
разработке методов определения атомных и молекулярных ее
сов, а также в разграничении понятий частица (молекула),
атом и эквивалент.
Взгляд на кислоты как на соединения металлоидов
(неметаллов) с кислородом был высказан еще Лавуазье.
Бескислородные кислоты — иодистоводородную, синильную —
изучал Гей-Люссак в 1814—1815 гг. Дэви показал, что из
составляющих кислоту элементов ответственным за
кислотность является водород. Но эти положения долго
оставались побочными: до конца 30-х годов XIX в. было
распространено мнение, что кислоты — это окислы неметаллов,
основания — окислы металлов, а соли — соединения кислот и
оснований. Участию воды в образовании кислот и
оснований, а также выделению ее при нейтрализации не
придавалось значения. Именно исследования Либиха
многоосновных кислот привели к отказу от бинарных формул, к
57
представлению о единой основе водородных кислот.
Образование солей стали рассматривать как замещение водорода
металлом, а количество водорода, способного к замещению,—
как показатель основности кислот. Но все эти ценные
обобщения вырабатывались Либихом .и его единомышленниками
постепенно, в .непрерывной дискуссии с противниками
новых взглядов.
Из неорганических кислот первой изученной
многоосновной кислотой была фосфорная. Еще английский химик
Кларк показал, что она существует в двух разновидностях
■и дает два ряда солей. Кларк пытался объяснить это, не
выходя из рамок учения об изомерии. Грэм ,не согласился с
Кларком; он обогатил экспериментальные данные о
фосфорнокислых соединениях и дал .им свое толкование. Было
известно, что фосфорнокислый и пирофосфорнокислый
натрий кристаллизуются с различным количеством воды и что
вообще возможно существование соединений кислого
характера, насыщаемых более чем одним эквивалентом основания.
Грэм, обратив внимание на эти факты, показал, что
различная степень гидратации обусловливает различие в
насыщаемости кислот при образовании солей. По его
представлениям, соли фосфорной кислоты можно рассматривать как
соединения одной частицы фосфорной кислоты (т. е.
фосфорного ангидрида) с тремя частицами основания, которые
способны полностью или частично замещаться водой; пирофос-
форноокислая соль содержит на одну частицу воды меньше.
Грэм открыл еще третью кислоту — метафосфорную,—
которая образуется всего лишь с одной частицей воды и
способна насыщаться одной весовой частью основания. В
заключение Грэм доказал, что мета- и пирофосфорная
кислоты, как, впрочем, и большинство их солей, при кипячении с
водой переходят в фосфорную кислоту либо в ее соли. Из
работ Грэма следовало два важных вывода: 1) в состав
кислот (входит определенное число атомов воды, при замещении
которой основаниями образуются соли; 2) частицы кислоты
не всегда эквивалентны частицам основания (например,
частицы разных фосфорных -кислот эквивалентны одному,
двум или трем весовым количествам основания). Так начало
вырабатываться представление об «основности кислот»,
которое очень четко было сформулировано именно Либихом в
1838 г. в статье «О конституции органических кислот».
Здесь он распространил свои взгляды на органические сое-
58
динения и высказался в плане общей теории многоосновных
кислот.
Основой теории органических кислот Либиха послужило
экспериментальное изучение гремучей, циануровой, меконо-
вой, винной, яблочной, лимонной, миндальной, угольной,
хинной, гиппуровой, камфарной и энантовой кислот. Он
находил в солях многих органических кислот отношения,
сходные с наблюдаемыми у фосфорнокислых производных.
Особенно его заинтересовали отношения циановой,
гремучей и циануровой кислот (состав гремучей кислоты Ли-
бих изображал формулой 2НгО. СуЮг). Он нашел, что все
они содержат группу частиц, насыщающую один, два и три
эквивалента основания. В соответствии с этим Либих
изобразил состав изученных Грэмом фосфорнокислых солей
следующими формулами:
3 МО. Р2О5 — фосфорнокислая,
2 МО. Р2О5 — пирофосфорнокислая,
МО. Р2О5 — метафосфорнокислая,
3 МО. СубОз — циануровокислая,
2 МО. СУ4О2 — гремучекислая,
МО. СугОг—циановокислая.
Либих обособлял органические кислоты, сходные с
фосфорными, считая, что не все кислоты, способные
нейтрализоваться разными количествами оснований, имеют
отношения, полностью повторяющие отношения фосфорных кислот.
Нужно было найти критерий общего подхода к
изображению -состава кислот различной сложности. Этим
критерием оказалось экспериментально найденное сопоставимое
количество (эквивалент) щелочи, которое требовалось для
нейтрализации одной частицы (атома, как тогда
выражались) кислоты. Классификацию кислот по основности
Либих разъяснял следующим образом: «Кислоты можно было
бы подразделить на одноосновные, двухосновные и
трехосновные. К двухосновным кислотам можно отнести те, один
атом которых соединяется с двумя атомами основания таким
образом, что эти два атома основания замещают в кислоте
два атома воды. Понятие об основной соли от этого не
изменяется. Если же один атом кислоты соединяется с двумя
или более атомами основания и при этом выделяется лишь
один атом воды, т. е. меньше, чем число эквивалентов
связанного основания, то образуется собственно основная
59
соль». Здесь замечательно то, что Либих, выясняя природу
кислот, выявил отличие обычных (средних) солей от
основных и кислых.
Лимонную кислоту Либих определил как трехосновную,
а винную как двухосновную. Такое правильное заключение
опиралось иа способность лимонной и винной кислот давать
нейтральные и кислые 1Соли с разными количествами
оснований; для них характерно также образование смешанных
солей при нейтрализации различными основаниями,
например сегнетовой соли при действии на винную кислоту
натриевой и калиевой щелочей. Состав винной кислоты и ее
солей Либих изображал формулами:
CsHsOio. 2Н2О — винная кислота,
CsHsOio . К2О . Н2О — кислый виннокислый калий,
CsHsOio . 2К2О — средний виннокислый калий,
CsHsOio . Na2Û . К2О — сегнетова соль.
Понятие двойной соли ввел в химию Либих. Он не
только установил основность (кислот, но возродил ранее
высказанный унитарный взгляд на кислоты как соединения с
замещенным на металл водородом (Дэви, Дюлонг).
При изучении разложения солей у Либиха возникает
ряд догадок и предположений. Например, окислы серебра
и свинца, легко теряющие кислород, также лепко насыщают
кислоты с образованием солей. Если рассматривать соли как
производные окислов, то, учитывая слабую щелочность
воды, становится неясным легкое замещение ее окисью
серебра. Гидрат серной кислоты не является соединением
безводного окисла серы с водой, а нейтральная соль —
соединением окисла серы с окисью металла; следовательно,
правомерны ли формулы ЭОз . НЬО и БОз. К2О и не будет ли более
правильным рассматривать эти вещества как SO4H2 и
SO4K2? Либих .пишет, что хотя и трудно представить калий
(ввиду его химической активности) не связанным с
кислородом, но однако предположение о существовании
безводного окисла серы в кислоте и окиси металла в соли весьма
условно и не доказано экспериментами. Он подчеркивает,
что водородная теория кислот (в противовес кислородной)
объединяет все кислоты в единый класс веществ со
сходными реакциями: «Кислотами называются определенные
водородные соединения, водород которых может быть замещен
60
металлами. Нейтральные соли это — соединения той Же
группы, в которых водород заменен эквивалентом какого-
нибудь металла. Тела, теперь называемые иами безводными
кислотами (ангидридами), обладают способностью,
соединяясь с металлическими окисями, образовывать соли, но
большей частью лишь при прибавлении воды; или же это
соединения, разлагающие окиси при высоких температурах...
Принцип теории Дэви, который нужно иметь в виду при ее
оценке, состоит в том, что насыщающая способность
кислоты ставится им в зависимость от количества содержащегося
в ней водорода или же от доли его, так что если мы
радикалом кислоты назовем совокупность всех остальных ее
элементов, то состав .радикала не будет оказывать ни малей«
щего влияния на эту насыщающую способность» [26.
стр. 181].
Теория многоосновных кислот Либиха получила
высокую оценку во всех фундаментальных трудах по истории
науки как одна из важнейших страниц в развитии химии.
Много сил и энергии затратил Либих «а теоретическую
полемику по вопросам замещения, поскольку развитие
общего взгляда на природу органических соединений долгое
время базировалось именно на (них. Мировую известность
Либих приобрел не только благодаря своим крупным
открытиям и плодотворной педагогической деятельности, но и
превосходной манерой ведения научной полемики. Он был
беспощадным, едким и исключительно остроумным
противником, который в пылу борьбы мог забыть любые личные
симпатии. В 1863 г. ой так охарактеризовал себя как
борца и спорщика: «Я по натуре «е сварлив; iho раз дело уже
дошло до спора, то во мне появляется какая-то страсть;
тогда я все бросаю и отдаюсь борьбе. Но эта не та страсть,
которая делает слепым и неспособным рассуждать. Это
своего рода страсть к борьбе. Все мои чувства утончаются; я
чувствую приток новых сил» [7, стр. 199]. Если это говорит
человек в 60-летнем возрасте, то нетрудно представить,
какое место в его деятельности занимала теоретическая
полемика. У Либиха были жаркие столкновения по вопросам
теории с Берцелиусом. Дюма, Жераром, Лораном, Митчер-
лихом, Велером, Гессом, Шенбейном, Лёвихом, Маршаном,
Рейхенбахом, Робике и многими другими учеными. Вообще
в эпоху Либиха полемика и критика пользовались большим
почетом.
61
Вкратце остановимся на отношении Либиха к теории
замещения и его полемике о .ней с французскими химиками.
Началом возникновения теории замещения считаются
работы по изучению действия хлора иа органические вещества.
Первую работу по хлорированию уксусной кислоты провел
в Петербурге в конце XVIII в. Т. Е. Ловиц (1792), но она
осталась почти незамеченной в европейских химических
кругах. Через несколько десятилетий Гей-Люссак заметил, что
воск под влиянием хлора теряет водород в количестве,
равном объему поглощенного хлора. Затем Дюма, Малагути и
Лоран дали несколько сходных примеров, среди которых
особое внимание привлек случай с горением хлорированных
свечей в Тюильрийском дворце, исследованный Дюма.
Наиболее убедительным было получение им же хлоруксусных
кислот, свойства которых мало отличались от свойств
уксусной кислоты.
В 30-х годах Лоран, затем Воскресенский в лаборатории
Либиха исследовали хлорзамещенные нафталины. Дюма
утверждал, что хлор замещает водород в эквивалентных
соотношениях, а Лоран показал, что водород из
органического вещества может выделяться в свободном состоянии
и в форме хлористого водорода; таким образом,
эквивалентность соблюдается не всегда. Либих в статье «О теории
органических соединений Лорана» не нападает иа Лорана
(как иногда пишут), а напротиз, высказывает мысль, что
эта теория не противоречит понятию о радикалах.
На основе увеличивающегося числа фактов замещения
Лоран построил теорию ядер. Им была предложена
специальная номенклатура, но эта теория просуществовала
недолго. Против нее ополчились и Либих и даже Дюма,
взгляды которого развивал Лоран. Дюма заявил, что он далек от
мысли приписывать хлору химическую роль водорода, и
если подобное мнение связывают с его именем, то это
ложится на совесть других. Либих критиковал своих
французских коллег больше всего за недостаточную достоверность
их экспериментальных данных. Вообще Либиха всегда
раздражали случаи, когда некоторые химики без серьезного
фактического материала строили гипотезы и делали далеко
идущие обобщения. Кроме того, он обвинял своих
парижских оппонентов в неразборчивости в средствах и даже в
плагиатах.
По мере накопления данных о реакциях замещения Дюма
62
начинал соглашаться со многими высказываниями
Лорана, и, когда в 1838 г. появилась теория типов, Дюма
выступил со статьей, имевшей больший успех, чем аналогичные
статьи Лорана. Дюма утверждал, что в результате
замещения могут образоваться не только соединения, имеющие
химическое сходство, но и соединения, не имеющие его.
Основываясь на этом, он вводит представление о различии
химических и механических типов. Либих
напечатал статью Дюма в своих «Анналах», но сделал
оговорку, что замещения следует рассматривать как исключения,
а не как правило. Он предполагал, что механические типы —
это семейства, а химические типы — роды 'или
подразделения этих семейств. А. М. Бутлеров так резюмирует
отношение Либиха и Берцелиуса к взглядам Дюма: «Если
Либих не вполне благосклонно отнесся к взгляду Дюма, то
само собой разумеется, что Берцелиус со своей
электрохимической теорией отнесся еще более неблагосклонно.
Берцелиус прямо заявил, что не стоит об этом и толковать»
[15, стр. 188, 189].
Интересен -известный в литературе факт реакции Ве-
лера и Либиха на чрезмерное увлечение Дюма идеями
замещения. Мы напомним его с некоторыми уточнениями и
дополнениями, которые стали возможными в связи со
статьями Вилыытеттера [16] и Лепсиуса [12], содержащими
ранее неизвестные сведения о 234 письмах Велера к Коппу.
Когда Дюма, открывший металепсию, слишком далеко
зашел в своих заключениях по теории замещения, в 35-м
томе либиховских «Анналов» была опубликована краткая
корреспонденция «О вечной песне о замещениях» («Über
das ewige Lied von den Substitution»), якобы присланная из
Парижа и подписанная псевдонимом «S. С. Н. Windler»
(Schwindler — мошенник, аферист). Автором
заметки был Велер. В ней говорилось, что автору удалось
заменить все атомы водорода, кислорода, а затем и углерода
клетчатки на хлор (!), но клетчатка при этом не изменила
своих свойств; из такой ваты, состоящей только из хлора, в
Лондоне продаются превосходные набрюшники и ночные
колпаки. Оказывается, свою шутливую сатиру Велер послал
Берцелиусу и сообщил -о ней Либиху, совсем не думая о ее
опубликовании. Либих напечатал заметку без согласия
Велера, со своими добавлениями, выдуманными подписью и
заглавием. Вообще критику Либиха уравновешенный Велер
63
не одобрял. Он (называл ее жестокой, язвительной,
насмешливой, обидной, бесцеремонной, страстной и
несправедливой (К непозволительно резким критикам в области химии
Велер относил и другого своего сотоварища по науке —
Роберта Бунзена.)
Либих выступал против новой теории замещения
только вначале, а затем, очевидно поняв ее положительные
стороны, »стал отмалчиваться. В 1867 г. французские химики,
в том числе и Дюма, устроили в Париже банкет в честь
иностранных коллег, прибывших на выставку. На банкете Ли-
биху задали вопрос: почему о« в последнее время
занимается только агрохимией? С чисто французской
изысканностью немецкий ученый ответил: «Я больше не посвящаю
себя органической химии, ибо с момента появления теории
замещения нет больше нужды в мастере, чтобы довести это
дело до конца» [12, стр. 90].
Однако обилие гипотез, которые возникали в 40-е годы,
и легкость их создания вызывали к ним резко
отрицательное отношение Либиха. Это проявилось в его письмах к
друзьям, в частности к Велеру [11] и Мору [9]; публично
своего мнения Либих iHe высказывал. По-видимому,
бесконечные споры утомили его, и он «е реагировал на
возникающие теории. Некоторые биографы считают, что, может
быть, Либиха испугала печальная старость Берцелиуса. Но
вряд-ли это так: характер Либиха был другим. Он видел
молодую смену талантливых химиков, стремящихся вперед в
поисках нового, ему приходила на память собственная
молодость... И он верил, что любознательная молодежь найдет
в лабиринте теоретических воззрений выход к истине. По
всей вероятности, это и было основной причиной молчания
мудрого старца.
«- — «^ *
ТРУДЫ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
аучное творчество Юстуса Либиха
чрезвычайно многогранно, но органическая химия
занимает в нем, пожалуй, самое большое место.
Труды Либиха в области разработки новых
методов органического анализа и синтеза,
его открытия многочисленных новых веществ
и систематизация обширного фактического
материала химии по своей значимости не уступают его
теоретическим работам.
И в зарубежной, и в нашей литературе широко
распространено мнение, что в решении органохимических задач
Либих стоял на позициях витализма и допускал поэтому
много методологических ошибок. Такое мнение историков
естествознания требует пересмотра и уточнения.
Действительно, в некоторых высказываниях Либиха проявляются
мотивы витализма; он говорит о «жизненной силе» и
пытается дать ей свое толкование. Но уже этим толкованием,
а главное, всей своей теоретической и экспериментальной
деятельностью, постановкой методологических -вопросов
Либих подрывает основы витализма. Может ли быть
убежденным виталистом ученый, который утверждает, что он
на всю жизнь связан с материализмом?
Общеизвестно, что к ошибочным толкованиям явлений
чаще всего приводит недостаточное познание их. Так было
и в органической химии. Своеобразность природы, слож-
5 К). С. Мусабеков
65
riOiCTb состава большинства животных и растительных
веществ по сравнению с минеральными, неумение получать их
обычными методами привели к мысли, что образование и
свойства органических веществ подчинены особой
жизненной силе.
То, что Либих считал химические превращения в живом
организме подчиненными жизненной силе, конечно,
виталистическое мнение. Но в то же время он писал: «Без знания
химических сил природа жизненной силы не (сможет быть
разгадана...» [17, т. I, стр. 22]. «Слово жизненная -сила при
настоящем состоянии науки не означает какой-нибудь
особенной силы, как, например, электричество, магнетизм, но
это собирательное имя, под которым разумеют все
причины, от которых зависят жизненные свойства. В этом
смысле слово жизненная сила употребляется также верно и
основательно, как и слова сила сродства, которыми
обозначаются причины химических явлений и которая выражает
между тем силу, нам более известную, чем сила,
обусловливающая жизненные явления» [17, т. II, стр. 205]. Во многих
своих трудах Либих призывал по-возможности
освобождаться от понятия «сила» при истолковании природных
явлений. Этот прогрессивный призьив Либиха перекликается
с соответствующими высказываниями Энгельса.
Витализм среди химиков первой половины XIX в.
больше всего проявляется в их отрицании возможности
органического синтеза — искусственного получения в лаборатории,
in vitro, сложных составных веществ растительного и
животного организма. Отношение к органическому синтезу можно
признать своего рода индикатором витализма. Рассматривая
деятельность Либиха с этих позиций мы видим, что,
учитывая даже первые успехи органической химии, он приходит
к выводу: синтез органических веществ возможен,
невозможно только искусственное приготовление живых частей
организма: клеток, мускулов и т. п. В 1844 г. Либих писал:
«Под влиянием нехимической причины (жизни, жизненной
силы) в организме действуют и химические силы. Лишь
благодаря этой господствующей причине, а не сами по
себе, элементы располагаются в соединения, давая
мочевину, таурин, подобно тому, как вне организма их заставляет
соединяться разумная воля химика. Удается получить
хинин, кофеин, красящие вещества растений и все те
соединения, которые не обладают никакими жизненными, а только
66
химическими свойствами, форму и структуру которых
определяет неорганическая сила. Но химии никогда не удастся
получить в лаборатории клетку, мускульное волокно, нерв,
одним словом, одну из действительно органических,
одаренных жизненными свойствами частей организма» [19,
стр. 39].
Еще больше веры в могущество органического синтеза
чувствуется в статье Либиха (написанной совместно с Ве-
лером), посвященной исследованию мочевой кислоты:
«Философия химии должна прийти к выводу, что синтез всех
органических соединений следует считать не только
вероятным, но безусловно достижимым. Сахар, салицин, морфий
будут приготовляться искусственно» [8, стр. 472].
Примечательно, что это прогрессивное высказывание
(1838 г.) намного опережает осуществление многих
подлинных синтезов органических веществ (работы Бертло,
Бутлерова) и создание теории химического строения. Таким
образом оно носит характер далеко идущего
материалистического прогноза. Итак, если Либиха и можно назвать
виталистом, то с очень большой натяжкой. Своими трудами он
подрывал корни витализма и направлял органическую
химию в единственно верное русло материалистического
развития. В этом — большая заслуга Юстуса Либиха.
Первая работа Либиха в области органической химии —
исследования гремучих соединений. Питая к взрывчатым
веществам особое пристрастие с детства, Либих-студент
успешно разработал способ получения гремучего серебра, чем
обратил на себя внимание профессоров Боннского
университета. Эту работу он продолжил в Париже в лаборатории
Гей-Люссака, где она приобрела более строгий и
систематический характер: Либих стремился получить возможно
больше близких по составу сложных веществ. Получение
соединений затруднялось тем, что они, как и предполагал
Кастнер, являлись солями особой кислоты; к комплексным
соединениям они были отнесены значительно позднее.
Тяжелые металлы, входя в состав комплексной соли,
приобретают свойства, отличные от их свойств в обычных
солях. Либих получил щелочные соли серебряно- и ртутно-
гремучей кислот: взрывчатые фульминаты меди, железа,
цинка и другие гремучие соединения. По его словам, над
такими соединениями «французские ученые ломали долго свои
головы». Либиху удалось найти вещество, предотвращающее
67
5*
взрыв гремучих солей,— жженую магнезию. В наше время
такие вещества называются ингибиторами и
стабилизаторами. Применение окиси магния позволило изучать состав
гремучих соединений в относительно спокойных условиях.
Выяснилось, что новая кислота, полученная действием алко
голя на азотную кислоту, разлагается на углекислоту и
аммиак, а фульминаты являются ее солями. Далее в изучении
фульминатов участвовал Гей-Люссак. В 1824 г. они с Либи-
хом опубликовали совместно две статьи о количественном
составе и свойствах гремучей кислоты и ее солей.
В 1823 г. одновременно ic Либихам исследованиями
циановой кислоты, открытой в 1818 г. Вокленом, занимался и
Велер. Он получил кислоту окислением циана и правильно
установил ее состав, отвечающий современной формуле
HOCN. Велер изучал и соли этой кислоты — аммонийную,
калиевую, «ртутную, серебряную. Работы молодого Велера
вызвали восторженный отзыв Л. Гмелина.
Сопоставление своих данных с данными Велера (вызвало
удивление Либиха: оказалось, что состав гремучего
серебра полностью совпадает с составом циаиовокиелого серебра,
хотя свойства этих веществ существенно отличны. Либих,
твердо уверенный ib точности своих анализов, усомнился в
данных Велера. Он решил, что Велер ошибся на 6%, так
как, по его мнению, циановая кислота должна содержать
меньше кислорода, чем гремучая. О своих сомнениях Либих
написал Велеру. Тот повторил опыты, пришел к прежним
результатам и с возмущением написал, что ему куда легче
найти ошибку в работе Либиха, «издающей парижский дух».
Тогда Либих обратился за разъяснением к своему учителю
Берцелиусу. Маститый ученый сразу понял, что в химии
сделано крупное открытие — установлен одинаковый состав
двух веществ, имеющих различные свойства. Он предложил
называть подобные соединения «гомосинтетическими», а
позднее — «изомерными», а само явление «изомерией».
Спор был решен, и в науку было введено новое важное
представление, которое приобрело полную ясность только
в середине XIX в.
До 20-х годов прошлого столетия в химии
господствовало мнение, что тела с одинаковым составом должны иметь
одинаковые свойства. Однако и тогда были известны
отдельные случаи, противоречащие столь, казалось бы,
естественному положению: например различные модификации оки-
68
си хрома и кремневой кислоты. Берцелиус доказал
существование двух разновидностей олова. Но эти факты
оставались без должного »внимания, их считали исключением и
думали, что различие таких веществ (проявляется лишь в
физических свойствах. Химики того времени были настолько
не подготовлены к пониманию явления изомерии, что первые
наблюдения его в 'органической химии склонны были
считать за ошибки. Но факты продолжали накапливаться,
В 1825 г. Фарадей отметил одинаковый состав двух газов —
этилена и бутилена, различие свойств двух однаковых по
составу сульфокислот нафталина. Он предсказал, что число
случаев изомерии будет неуклонно увеличиваться, и это
полностью подтвердилось. В 1824—1828 гг. Велер
наблюдал превращение циановокислого аммония в одинаковую по
составу мочевину. Берцелиус, добавив к указанным фактам
случай с винной и виноградной кислотами, принял
окончательное решение о введении в науку понятия изомерии и
счел необходимым дать ему атомистическое толкование.
Гей-Люссак первым высказал предположение, что
различие свойств одинаковых по составу (веществ может быть
вызвано различным расположением атомов. Берцелиус —
наиболее последовательный атомист своего времени.— также
подчеркнул, что различие изомерных соединений треоует
различного расположения атомов. Позднее Либих в своих
«Письмах о химии» писал: «Даже несведущему человеку по<
нятно, что различие в свойствах двух тел зависит или от
различного расположения составных элементов тела, или о г
количественного различия в составе. Формулы химика
выражают или различное расположение элементов, или
различие в количестве, сопровождающее различие в качестве тел»
[17, т. I, стр. 347]. Oiè этом же он говорит в своем учебнике
органической химии: «Основное различие органических
веществ не зависит, как <в минеральной химии, от
разнообразия составных элементов, но зависит от разнообразия
весовых пропорций, в которых соединены элементарные
составные части: следовательно, различие при одинаковости
состава зависит от различных способов, которыми соединены
составные части» [18, стр. IX].
Молодые Либих и Велер были близки к установлению
понятия изомерии, но необходимое обобщение сделал
более опытный Берцелиус. Признав 'в споре с Велером свою
ошибку, Либих указал на необходимость установления
69
не только элементарного состава, но и «конституции»
органических соединений. По его мнению, предметом
органической химии является выяснение состава и свойств
органических соединений и способов группировки в них элементов.
Конституцию веществ Либих пытался объяснить так:
«Наблюдая различный характер соединений, можно сопоставить
известные группы органических соединений, сблизить их и
судить о тех отношениях, которые связывают их. Теория
конституции ряда соединений есть не что иное, как
выражение этих отношений» [там же]. Здесь характерна
нечеткость изжитого со временем понятия «конституция».
Не только конституция, но даже изомерия в доструктур-
ный период (развития органической химии толковались по-
разному. Например, Бюхнер относил к изомерам воду и
гремучий газ, Фарадей — этилен и бутилен. С изомерией
смешивали понятия полимерии, аллотропии, полиморфизма и
т. д. До четкого (разграничения понятий атом, молекула,
эквивалент, до создания учения о химическом строении
молекул такая путаница принципиально различных понятий в
какой-то мере естественна. Современное четкое объяснение
явлений изомерии 1было дано А. М. Бутлеровым при
разработке им теории химического строения веществ. Бутлеров
не только дал строго научное определение изомерии, но
предсказал ряд новых случаев изомерии (среди
углеводородов, спиртов) и экспериментально доказал правомерность
своих взглядов.
Крупной заслугой Либиха является успешная
разработка методов анализа органических соединений. Без этих
надежных методов превращение органической химии из
препаративного и описательного ремесла ib обособленную
отрасль естествознания не было бы возможным.
Неорганическая химия обладала многими достаточно
эффективными приемами анализа, но специфика органических
соединений делала эти приемы не всегда применимыми для
изучения сложных углеродистых веществ. Потребность же
в анализе (веществ растительного и животного
происхождения непрерывно (росла.
Первый шаг ib решении этой важной проблемы сделал
Лавуазье, указавший на присутствие углерода и частично
азота в органических соединениях. Он предложил
определять весовые отношения элементов сжиганием
определенных навесок органических веществ и количественным улав-
70
ливанием продуктов горения. Вещества сжигали в
определенном количестве кислорода под стеклянным колпаком над
ртутью; воспламенение осуществляли с помощью большой
лупы. После сгорания определяли объем образовавшегося
углекислого газа и оставшегося кислорода; вода
определялась косвенно, по разнице. На основе полученных данных
вычисляли содержание в навеске углерода, водорода и
кислорода. Для |расчетов требовалось знание количественного
состава углекислого газа и воды; к тому времени это стало
известно из работ «химиков-пневматиков» (Блэка, Кавен-
диша) и самого Лавуазье.
Остроумный по (замыслу метод Лавуазье представлял
собой комбинацию весового и объемного способов. В
дальнейшем состав многих органических веществ, определенный
методом Лавуазье, пришлось пересмотреть и уточнить, но
в ряде случаев им были получены вполне точные данные.
Например, его количественное определение реакции
брожения виноградного сахара с образованием алкоголя и
углекислоты оказалось удивительно правильным. Из позднее
опубликованных дневников Лавуазье выяснилось, что в
случае трудно сжигаемых тел он пользовался в качестве
окислителя окисью .ртути, окисью свинца (суриком) и
двуокисью марганца (пиролюзитом). Но об этом стало
известно спустя много лет, когда Соссюр и Тенар потратили уйму
времени на определение состава органических соединений
путем воспламенения их паров с кислородом.
Либих высоко оценивал труды Лавуазье и писал о них
так: «Всеми открытиями своими Лавуазье обязан весам —
этому несравненному инструменту *, который удерживает
все наблюдения и открытия, побеждает сомнения и
выставляет истину на свет, который показывает нам, что мы
заблуждались или же что находимся на истинной дороге.
Вместе с весами положен конец царствованию теории
Аристотеля; его метод делать объяснение явления природы игрой
человеческого духа уступил место действительному
исследованию природы» [18, т. I, стр. 132].
Первые удовлетворительные результаты анализа
органических веществ были получены Гей-Люосаком и Тенаром
в 1811 г. При сжигании веществ в качестве окислителя они
1 Не зная о трудах М. В. Ломоносова, Либих в'сю заслугу
введения в химический обиход количественного подхода с помощью весов
приписывает Лавуазье-
77
использовали бертолетову соль, вводя ее в виде шариков
в нагретую трубку с исследуемым соединением. Этим
методом Гей-Люссак и Тенар изучили состав 19
индивидуальных органических соединений и природных смесей:
уксусную, щавелевую, винную и лимонную кислоты,
тростниковый и молочный сахара, крахмал, каучук, яичный белок,
клей, деревянное масло и др. Результаты анализов были в
целом правильными, они почти не отличаются от
современных данных; это характеризует труды названных
французских ученых, учителей Либиха с самой хорошей стороны.
Кроме того, они 'сделали ряд ценных обобщений: кислый
характер органическим веществам придает избыточное со*
держание кислорода (если его больше, чем нужно для
образования воды со всем входящим в состав вещества
водородом); если кислорода меньше этого количества, то
вещество относится к спиртам, маслам, смолам и т. д.; если
кислород и водород содержатся в весовых отношениях,
характерных для воды, то вещество относится к сахарам,
крахмалу, древесине (т. е. не имеет ни кислого, ни спиртового
характера).
Берцелиу1су, затратившему много труда на 'выяснение
степени применимости законов химических пропорций к
органическим соединениям, было необходимо точное
определение относительного веса частиц исследуемой материи «и их
количественного состава. Поэтому он стремился придать
процессу сжигания органических веществ максимальную
плавность, равномерность во времени, и пытался с большой
точностью определять вес образовавшейся воды. Для этой
цели он пользовался удлиненной, горизонтально
расположенной трубкой для сжигания, которую раскалял
постепенно. Интенсивность горения с 'бертолетовой солью он
уменьшал, смешивая ее с поваренной солью. Газообразные
продукты горения пропускались через трубку с обезвоженным
хлористым кальцием, что обеспечивало количественное
поглощение образовавшейся воды. Эта методика и ее
аппаратурное оформление нашли всеобщее признание и
распространились по химическим лабораториям всех стран.
Берцелиус придавал огромное значение чистоте
исходной навески и степени поглощения продуктов горения.
Очистка органических соединений доставляла ему больше
хлопот, чем все остальные операции, вместе взятые. Такая
диспропорция труда в химическом исследовании органических
72
веществ (да и не только органических) сохраняет силу и в
наше йремя.
В 1815 г. Берцелиус одновременно с Гей-Люссаком и Де-
берейнером (предложил .в органическом анализе применять
в качестве окислителя окись меди, обеспечивающую горение
без выделения кислорода.
Юстусу Либиху химия обязана усовершенствованием
метода органического анализа, превратившим его в шедевр
экспериментального искусства. Эту работу Либих начал еще
в 1823 г. iß Париже совместно с Гей-Люссаком и продолжал
в течение шести лет. Насколько важное значение он
придавал органическому анализу, видно из следующего. «В связи
с моей и Гей-Люссака (работой «ад гремучей ртутью я
ознакомился с органическим анализом и сразу же убедился в
том, что всякий успех органической химии существенно
зависит от его упрощения; ибо в органической химии мы
имеем дело не с разнородными элементами, легко
определяемыми по их своеобразным /свойствам, а всегда с одними и теми
же элементами. Тем, чем в (неорганической химии была
реакция, здесь, iß органической химии, должен явиться
анализ» [19, стр. 42].
Либихавский метод не является оригинальным, «о он
включил в себя все лучшее, что было сделано Лавуазье, Гей-
Люссаком, Те нар ом, Шеврелем, Берцелиусом и другими
химиками. Либих хорошо понимал всю значимость
поставленной им задачи. Нужно было вооружить исследователей не
только точным, но и быстрым и простым методом анализа.
Действительно, сколько смог (бы сделать /таким методом
исследований Шеврель — талантливый и трудолюбивый
французский химик, проживший 103 года, если он на каждый
анализ жира старым способом тратил недели, месяцы, а
иногда и годы?!
Либих сохранил сжигание с окисью меди и улавливание
воды хлористым кальцием, но сделал этот метод
применимым для органических соединений всех классов.
Принципиально новым были улавливание углекислого газа калийной
щелочью в изобретенном им мнотошариковом
«кали-аппарате», а также применение трубки для сжигания с легко
отделяющимся кончиком; с помощью этого кончика можно
в любой момент дополнительным всасыванием кислорода
или воздуха направить все продукты сгорания в
абсорбционные приспособления.
73
ж
По словам Берцелиуса, эти усовершенствования сделали
органический анализ одной из легких операций. Сам Ли-
бих несколько раз высказывался по поводу внесенных им
улучшений: «Первоначальный метод Берцелиуса
превосходен; никто не может этого отрицать, кто тюмнит, что мы
обязаны ему точнейшим анализом нескольких органических
кислот, что господин Шеврель названным методом
установил состав ряда органических веществ, что его числа всегда
считаются образцом точности. Ни господин Берцелиус, ни
господин Шеврель уже не пользуются теперь этим методом,
и причина ясна. Для анализа семи органических кислот
первый потратил 18 месяцев работы, а господин Шеврель
анализом открытых им жирных тел занимался 13 лет. С
помощью нашего теперешнего метода господину Берцелиусу
потребовалось бы в крайнем случае 4 недели, а Шеврелю,
возможно, два года вместо тринадцати. Но его
преимущество не в большей точности, так как старым методом можно,
как говорят, достичь большой степени точности, а в
простоте и безопасности, за что новый метод ручается при той же
самой точности. Теперь речь идет как раз об этом способе и
ни о чем другом. Успехи в органической химии немыслимы
без исследований, которые охватывают ib этой отрасли не
анализы отдельных тел, а :ряда веществ. 60, 70, 100 и более
анализов не являются диковиной при этом способе работы»
[5, стр. 22]. «Я отнюдь не говорю, что его (Берцелиуса.—
Ю. М.) метод плох, напротив, он очень хорош. Но этот
человек не может меня понять, ибо не знает, как мы работаем,
Берцелиус затратил на свои анализы органических
кислот 18 месяцев, сделав всего семь анализов, ну, скажем, с
повторениями 21. Теперь, милый друг, рассуди сам: в
последней нашей работе ib три месяца сделано 72 анализа,
причем ни одного неудачного. Ведь Берцелиус со своим
старым аппаратом должен был бы работать над этим не
больше, не меньше как пять лет! Его способ пригоден, когда
делают одно сожжение в две недели, но если хотят делать это
каждое утро,— его метод никак нельзя предпочесть моему,
тем более, что и результаты он дает не менее точные и
ясные». [1, стр. 25].
Либиховский метод органического анализа получил
широкое распространение во всех лабораториях органической
химии. Берцелиус в 1834 г. восторженно писал: «Мы
пользуемся повседневно аппаратом Либиха, это великолепный
74
инструмент» [19, стр. 42]. Петтенкофер очень ;метко и
образно сравнил влияние метода Либиха ,на развитие
органической химии с культурным переворотом в стране, вызванным
заменой караванного пути железнодорожным транспортом.
Химики-органики и аналитики особенно восхищались кали-
аппаратом — существенной частью либиховокого прибора.
Кали-аппарат стал символом гисенской школы, в знак
признательности автору изображение его носили на
пуговицах, значках, брошках *. На портретах Либиха оно было
как-бы своеобразным факсимиле.
Из других крупных работ Либиха можно назвать его
пятилетние (1829—1834 гг.) (исследования азотсодержащих
органических соединений, граничащих с минеральными
веществами. Еще в 1829 г. путем нагревания »роданистого
аммония он получил мелам, а из него три .действии едкого
кали— меламин (амид циануровой кислоты). Оба соединения
при обработке кислотой разлагались на аммелин и аммелид.
При осторожном нагревании мелама, аммелина и аммелида
получался меллан, напоминающий циан и дающий с
металлами соли водородной кислоты. Разлагая эти соли
кислотами и щелочами, Либих выделил циановую кислоту, а в
качестве побочного продукта — аммиак и аммонийные
соединения. И. Руэль (старший) нашел в составе жидких выделений
человека кристаллизующееся вещество, получившее
название «мочевина». Кроме нее в моче травоядных животных
(коровы, верблюда, затем лошади) было обнаружено другое
вещество, которое долгое время принимали за бензойную
кислоту. Либиху в 1829 г. удалось доказать, что это
вещество — особая кислота, названная им гиппуровой
(комбинация мочевины с бензойной кислотой).
В 1830 г. Либих совместно с Велером определили состав
бензолгексакарбоновой кислоты, которую ранее получил, по-
видимому, Т. Е. Ловиц при окислении угля. Эта работа
явилась началом дальнейших совместных исследований
Либиха и Велера.
Разработка и улучшение м^одов органического анализа
позволили Либиху расширить исследования в Гисенской
лаборатории до небывалых размеров и начать два крупных
цикла связанных между собой научных изысканий
1 Модницы иногда оригинально реагируют да научные открытия
И1ли изобретения. Например, когда Франклин предложил громоотвод.
то в моду вошли шляпы с булавками-отромооткодоиками.
75
В первом цикле он изучал азотсодержащие растительные
лекарственные вещества, которые, подобно щелочам, дают
с кислотами соли и поэтому называются алкалоидами
(алкали— по арабски щелочь; латинское окончание оид —
означает сходство, подобность). Алкалоидами занимались
многие исследователи — Пеллетье, Каванту, Жерар, Робике,
Сертюрнер, Рунге, Дюма и другие, накопившие довольно
большой фактический материал. В частности, была
выявлена солеобразующая способность алкалоидов, был
разработан метод извлечения их из растительного сырья. В 1831 г.
Ли'бих установил, что алкалоиды поглощаются хлористым
водородом и что основной характер этих растительных ядов
определяется содержащимся в них азотом. Объектами своих
изысканий Либих избрал алкалоиды хинной коры, мака,
кока, цикуты, табака, гермера и др. Им был осуществлен
точный анализ состава хинина, цинхонина, морфина, кониина
и т. д. Этим он подготовил почву для позднейших
исследований А. Н. Вышнеградского, Вертгейма, Ладенбурга и
других ученых, выяснивших строение многих алкалоидов, а
затем и осуществивших их синтез.
Параллельно с исследованиями алкалоидов Либих
изучал химическую природу и конституцию спирта и простых
эфиров. Он выяснил, что при действии хлора и других
окислителей на этиловый спирт получаются новые вещества:
альдегид *, ацеталь, хлораль (конечный продукт действия
хлора на спирт), хлораль-гидрат, хлороформ. Открытие
этих соединений послужило началом изучения неизвестных
ранее классов органических веществ.
Исследуя действие хлора на алкоголь, Либих получил
маслянистое вещество, названное им хлоралем, которое
жадно соединялось с водой, превращаясь в хлоральгидрат.
Этот последний оказался позднее хорошим снотворным
препаратом. (Впервые он был использован врачом Либ-
райхом в 1869 г.) Изучение реакции превращения хлораля
в хлоральгидрат имеет и другое важное значение: оно
помогло разъяснить учение Бутлерова — Марковникова
о взаимном влиянии атомов в молекуле. Известно, что
каждый углеродный атом, как правило, может прочно
1 Название «альдегид» было доставлено Либихом из начальных
слогов лати'нюк'их слов al cool d е h у d rogenatus, т. е- юпирт без
водорода!.
76
удерживать только одну гидроксильную группу. В
молекуле хлораля три атома хлора, удерживаемые одним
атомом углерода, влияют на второй альдегидный углерод
таким образом, что он приобретает способность прочно
присоединять две гадрюкеильные группы:
О ОН
/ /
СС13 — С + НОН-^ СС13 — сн
\ \
H он
хлораль хлоральгидрат
Хлороформ был получен Либихом в 1831 г.
(одновременно с Э. Субейраном) действием хлорной извести ш
спирт. Кстати, первоначальные формулы, приписанные
Либихом хлороформу C2CI5 и хлоралю C2CI12O4, оказались
неверными. Правильный состав этих веществ установил
Дюма, подтвердивший на их примере свое учение о
замещении. Хлороформ,— как замечательное средство
наркоза — был впервые применен врачом Джемсом Симпсоном
в 1847 г. Годом раньше зубной врач У. Мортон и врач-
химик Ч. Джексон применили для наркоза эфир. На заре
этих нововведений, в 1847 г., Н. И. Пирогов разработал
на широкой экспериментальной основе общее учение об
обезболивании при хирургических вмешательствах.
В 1831 г. Либих и Дюма исследовали ацетон, или
«уксусный спирт», полученный Р. Бойлем еще в 1661 г. при
сухой перегонке уксуснокислой извести. Состав этого
вещества, получившего вскоре обширнейшие области
применения в лаборатории и промышленности, был установлен
Либихом.
«Но самыми великолепными работами Либиха
остаются те, которые были произведены им совместно с Велером
и которые, будучи озарены живым духом их обоих, еще
долго будут вызывать изумление в подрастающем
поколении химиков»,— говорит Э. Мейер [20, стр. 222]. К этой
справедливой похвале следует добавить, что и многие
другие исследования Либиха, проведенные им одним, также
без преувеличения могут быть охарактеризованы как
великолепные и изумительные.
В 1832 г. Либих и Велер опубликовали работу об
изучении «масла горьких мин далей» (бензальдегида), которая
77
была восторженно встречена многими химиками. Берце-
лиус, например, в письме к Либиху и Велеру писал:
«Результаты, которые вы получили при исследовании
эфирного млела горького миндаля, являются, (несомненно,
самыми важными из тех, которые были добыты в
растительной химии до сих пор, и обещают пролить на эту
область науки неожиданный свет...» [5, стр. 33]. Помимо
прочих достоинств, этот труд ценен своей методической
постановкой. «При нынешнем состоянии химии,— говорил
Либих позднее,— нельзя даже самым точным анализом
совершенно верно определить состав органического тела,
если не определили количественного отношения этого
тела к какому-нибудь другому, формула которого уже
несомненно известна. Только таким образом возможно
было определить, например, формулы масла горьких мин-
далей и сивушного масла, и если нельзя прямым
наблюдением открыть отношения между двумя телами, то химик
должен производством опытов открыть эти отношения»
[17, т. I, стр. 347]. Либих и Велер синтезировали многие
производные масла горьких миндалей. Если в качестве
центрального производного условно принять хлористый бензо-
ил (наиболее реакционноспособное вещество и исторически
первый хлорангидрид органической кислоты), то
взаимоотношения соединений и реакций могут быть представлены
в виде следующей схемы:
Часть превращений хлористого бензоила
осуществлялась одной реакцией, другая — двумя реакциями и более.
\ \ / /
бенэои л хлорид
/ / \\,
л »V О
*+,
^Qj XT
It
78
Например, цианбензол был получен непосредственным
действием цианида ртути на бензоилхлорид или более
сложным путем: бензоилхлорид подвергался действию
аммиака, в результате чего получался бензамид, который при
нагревании разлагается с образованием цианбензола. Все
указанные вещества постепенно приобрели большое
значение в химической лабораторной практике, а (некоторые
из «их широко используются в промышленных синтезах.
В этом проявилось огромное (Прикладное значение работы
Либиха и Велера по исследованию радикала
горько-миндального масла. О влиянии этой классической работы на
развитие теоретических основ органической химии уже
говорилось.
Определение состава серновинной кислоты (этилсульфа-
та), произведенное Либихом и Велером в 1832 г., дало
толчок к попытке установить сущность реакции этерифи-
кации. Либих показал, что серновинная кислота при 127—
140° разлагается с образованием диэтилового эфира и
серной кислоты. И хотя позднее Вильямсоя разработал этот
вопрос значительно шире и глубже, заслуг Либиха —
пионера в изучении процессов образования простых
и сложных эф,иро!в, учителя и предшественника Вильям-
сона, забывать не следует.
В открытии и исследовании ацетальдегида у Либиха
были предшественники. В 1800 г. Дабит упоминает о
пронизывающем запахе, который ощущается при нагревании
эфира с пиролюзитом. Фуркруа и Воклен (1820) и Де-
берейнер (1822) получили нечистый альдегид, действуя
платиновой чернью на винный спирт. Деберейнер сообщает
также о «кислородном эфире», (полученном им при
дистилляции спирта с двуокисью марганца и серной кислотой.
Эта резко пахнущая и очень летучая жидкость была
альдегидом, загрязненным различными (Кислородными
соединениями, в частности ацеталем. Либих повторил некоторые
указанные эксперименты, детально исследовал состав
получаемых продуктов и в 1835 г. доказал, что вещество,
названное им альдегидом, представляет собой продукт
окисления спирта; он и образуется как промежуточное
вещество ори окислении спирта в уксусную кислоту.
Альдегид-аммиак был получен им в чистом виде и признан
продуктом, пригодным для выделения альдегида. Позднее
Либих и Фелинг наблюдали уплотнение альдегида с обра-
19
зованием паральдегида и метальдегида. Кроме того, Либих
осуществил переход бензальдепида в бензоин в
присутствии цианистого калия. Таким образом, Либиха бесспорно
можно считать предшественником А. П. Бородина, А. Ке-
куле, Н. Н. Зинина, А. М. Бутлерова, открывших реакции
конденсации и полимеризации альдегидов. Значение этих
реакций особенно ярко проявилось в наш век
синтетических полимерных продуктов.
В 1836 г. Либих вместе с Т. Пелузом исследовал состав
стеарина. В следующем году ему удалось осуществить
реакцию замещения одного водорода в спирте щелочным
металлом с образованием алкоголятов—замечательных
органических щелочей с большой реакционной
способностью.
В 1837 г. Либих возвратился к исследованиям бензаль-
дегида и опубликовал совместно с Велером статью «Об
образовании масла горького миндаля», посвященную
процессу возникновения бензальдегида. В этой работе авторы
подробно изучили эмульсин — тестообразный продукт,
входящий в состав горького и сладкого миндаля и
наблюдаемый ими еще в 1832 г. (название этому ферменту дали они,
хотя его действие наблюдали еще в 1830 г. Робике и Бур-
стон). Они установили, что эмульсин разлагает амигдалин
(глюкозид миндаля) на сахар, синильную кислоту и горько-
миндальное масло; при этом количество эмульсина
заметно не изменяется. Так впервые ферментативным путем был
расщеплен глюкозид, а эмульсин стал важным
вспомогательным средством для определения состава глюкозида.
Позднее работами других ученых было установлено, что
эмульсин имеет очень сложный состав. Работы с ним
способствовали развитию ферментологии.
В 1837—1838 гг. Либих одновременно с разработкой
теории кислот и оснований (см. предыдущую главу)
вместе с Велером изучал соединения группы мочевой кислоты,
открытой К. Шееле в 1776 г. Объектом этих исследований
служили выделения боа-констриктора (крупный вид змей),
которые, как установил Проут (1815), содержат до 90%
мочевой кислоты. О соединениях мочевой кислоты,
имеющих огромное биохимическое и промышленное значение,
ученые справедливо писали: в органической химии не было
другого вещества, которое в такой степени, как мочевая
кислота, привлекало бы внимание химиков и физиологов.
80
Почти все более ранние работы о мочевой кислоте и*ме-
ли качественный характер. Либих и Велер произвели
количественный анализ мочевой кислоты и пятнадцати ее
производных и близких по составу сложных
азотсодержащих веществ, изучили и объяснили взаимные превращения
этих соединений, описали свойства и подведение мочевой
кислоты. После появления в 1838 г. большой статьи Либи-
ха и Велера «Исследование природы мочевой кислоты»,
получившей высокую оценку Берцелиуса, Либих с
гордостью писал: «Вряд ли когда-либо производилась работа
такого рода, которая была труднее :и богаче результатами;
чтобы все привести в ясность потребуется век» [5, стр. 31].
Эти слова подтверждают предвидение Либиха.
Потребовалось почти столетие, чтобы состав, химическое строение
и синтез группы мочевой кислоты приняли законченный
вид. В этом решающую роль сыграли труды Фрицше,
Воскресенского, Медикуса, Горбачевского и особенно Фишера.
Тщательно очищенную мочевую .кислоту Либих и Велер
окислили окисью свинца и получили вещество, идентичное
с аллонтоином, который был описан ранее Фургруа й Вок-
леном. Особенно интересные результаты получились при
окислении мочевой кислоты азотной кислотой в различных
условиях. При этом Либих и Велер синтезировали мурек-
сид и получили возможность исследовать аллоксан. При
восстановлении последнего они получили аллоксантин.
который окислением снова превращался в аллоксан.
В последующие годы Либих и Велер провели и
опубликовали еще несколько совместных работ, но таких
обширных и значимых, как исследования масла горьких
миндалей и группы мочевой кислоты, среди них уже не
было. Ученые изучили поведение аллоксана при кипячении
с водой (1841), влияние циана на спирт и сложный эфир
(1845—1846), опубликовали исследования о новом
продукте разложения мочевой кислоты (1845), о тиальдине,
селенальдине и строении циануровой кислоты (1847).
На этом, IK сожалению, закончилось необычайно
плодотворное творческое сотрудничество Либиха и Велера
в области органической химии.
Либих выполнил также несколько небольших
экспериментальных работ со своими учениками, например
исследования цианата, сульфофулымината и др. Примерно два
последних десятилетия своей жизни он в основном писал
ß Ю. С. Мусабеков
81
обобщающие статьи и книги; из последних определенный
интерес представляет «Учебник органической химии».
Число органических веществ выделенных из
растительных и животных организмов или полученных
искусственно, быстро возрастало. В связи с этим увеличивались
группы веществ, сходных в химическом отношении, но не
систематизированных. Показателем этого может служить
эволюция известного справочника по химии («Handbuch
der Chemie») Л. Гмелина. Сначала во второй части этой
книги приводились сведения всего о 80 изученных
органических соединениях. Через пять лет Гмелин обращался
к химикам-органикам с призывом приостановить (!)
завоевательную деятельность, так как иначе о« никогда не
сможет закончить составление своего многотомного труда.
Так oiho и вышло. Гмелин умер в 1853 г., успев издать всего
пять томов четвертого издания своего справочника. Эту
работу пришлось заканчивать другим.
С накоплением фактического материала все более остро
чувствовалась потребность в его систематизации. Когда
стало несомненным, что химический состав органических и
неорганических веществ принципиально мало отличен,
естественно пошли по пути аналогии с классификацией
в неорганической химии. Такая классификация
довольно удачно использована в трудах Лавуазье и Берце-
лиуса.
Либих в «Учебнике органической химии» предлагает
свою классификацию органических соединений, *но
поскольку в те времена не было четкого разграничения не только
областей органической и минеральной химии, но даже химии
и фармации (в частности, журнал Либиха долго назывался
«Анналами химии и фармации»), то классификация эта
получилась довольно путаной. Состав многих соединений
обозначался уже отвергнутыми формулами. Вместе с
соединениями аммиака описываются производные радикала амида
и самые различные соли. Затем идут соединения радикала
окиси углерода, к которым отнесены щавелевая кислота,
меллитовая кислота, карбамид и оксамид; последние стоят
рядом, но не сказано ни слова о тождестве и даже хотя бы
о близости карбамида и мочевины. После цианистых
веществ следуют производные радикала бензоила СнНюОг
(С = 6, О = 8), затем салицила С14Н10О4 и этила С^ю,
которые по химическому характеру стоят гораздо ближе
82
к производным окиси углерода и циана, чем к салициловым
соединениям. За ними Либих описывает глюкозиды,
лавровишневую воду, которые даже на уровне .знаний того
времени следовало бы отнести в другие отделы. Удачным
использованием учения о сложных радикалах следует считать
только классификацию бензоиловых соединений.
В группе этиловых соединений встречаются такие
вещества, как этерол и этерин (якобы полимеры этилена),
существование которых тогда было вообще сомнительным.
Вслед за этиловыми соединениями идут производные
радикала ацетила С4Н6 (винила), метила СгНб, формила С2Н2
и цетила СзгНбб. Замечание Дюма о том, что цетил,
имеющий более сложное строение, чем метил и формил, должен
отстоять от СО далее, Либих не принял во внимание. 3d
цетилом он поставил производные радикала амила С10Н22
и глицерила СеНн (пропила). Из ацетиловых соединений
описываются окись ацетила С4НбО, гидрат этой окиси
C/iHôO + Н2О (т. е. ацетальдегид), уксусная кислота, ее
производные и продукты хлорирования всех этих веществ.
В этом месте учебника чувствуется влияние на Либиха
идей замещения. За уксусными соединениями описываются
некоторые только генетически близкие к ним вещества
(например, ацетон). Далее идет перечень немногочисленных
какодиловых соединений, открытых к тому времени Р. Бун-
зеном, а затем раздел «Прибавление к соединениям этила
и ацетила», в который вошли сахаристые вещества, в
частности тростниковый, виноградный, молочный сахара и
продукты их распада, маннит, молочная кислота.
На этом заканчивается первая часть книги Либиха,
и если в ней ему в какой-то степени удалось остаться на
рациональной научной почве, то во второй части книги
выпукло выступает искусственность предлагаемой им
классификации. Здесь имеется большой раздел, посвященный
органическим кислотам, а затем описываются вещества
некислого характера: жиры, эфирные масла, смолы, безазотистые
и азотсодежащие красители, экстрактивные и горькие
вещества, алкалоиды. А. М. Бутлеров совершенно справедливо
подчеркивает искусственность этой классификации: «Для
этого распределения, очевидно, нельзя указать почти
никаких серьезных и научных оснований. Но в упрек такое
распределение тоже нельзя ставить потому, что оно
соответствовало тогдашним знаниям» [15, стр. 197].
83 о*
Кислоты Либих расположил относительно
систематично — в порядке возрастания в их составе атомов углерода.
Однако сама по себе правильная идея расположения
материала практически вылилась (в недопустимо запутанную
систему из-за отсутствия четкого поднятия молекулы. Либих
прежде всего рассматривает исследованную им весьма
сложную меконовую (3-оксихелидоновую кислоту) и ее
производные. За ней следуют кислоты дубильная, галловая,
лимонная, (виннокаменная, яблочная, хинная, масляная,
капроновая, каприновая, камфарная, валерьяновая и др.
Еще более хаотический вид имеют разделы книги,
посвященные смолам и безазотистым красящим веществам;
последние расположены ло цвету. Алкалоиды разделены на
летучие бескислородные и кислородные, нелетучие, летучие,
а также по продуктам, в которых они были обнаружены»
например алкалоиды хинной коры и т. д. В третьей части
книги описаны неклассифицированные продукты
растительного и животного происхождения, начиная с крахмала и
кончая сажей.
В настоящее время систематизация Либихом материала
органической химии имеет только исторический интерес.
Но в первой половине XIX в., в период становления
органической химии, учебник Либиха представлял собой
прогрессивное явление в химической литературе, пользовался
популярностью и удостоился издания во Франции.
&&Ï
ТРУДЫ ПО МИНЕРАЛЬНОЙ
(НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ)
ХИМИИ
лавными объектами исследований Либиха
были органические вещества, и он правильно
считается химиком-органиком.. Однако его
труды оставили глубокий след и в области
неорганической химии. Это вполне
естественно, так как, во-первых, в те времена не было,
да и не могло быть дифференцированного
разделения химической науки, а во-вторых, Либих изучал
общие закономерности строения, состава и поведения
веществ, применимые ко всем телам. Из сотен
опубликованных Либихом трудов можно выделить такие, которые без
натяжек даже с современной точки зрения могут быть
отнесены к неорганической химии. Эта область работ Либиха
и является предметом рассмотрения в настоящем разделе
книги
Из теоретических разработок Юстуса Либиха многие
положения теории радикалов и учения об основности кислот
так же, как ,и его борьба с электрохимическим дуализмом,
имели одинаково важное значение и для органической и для
неорганической химии. Эти работы мы уже рассмотрели.
В развитии химии неорганических веществ большую
роль сыграли теоретические представления Либиха об
элементах, о пределе делимости материи, об атомах, молекулах
(частицах) и эквивалентах. Забегая вперед, скажем, что эти
m
исследования Либиха явились частью большой
подготовительной работы в области краеугольных проблем химии.
Без такой подготовки вряд ли удалось бы на съезде в
Карлсруэ в 1860 г. разграничить понятия атома, молекулы и
эквивалента.
О химических элементах и .пределе делимости вещества
Либих писал: «Ни один химик настоящего времени не
считает известные нам 48 металлов за тела простые, не
могущие быть разложенными, не считает тела эти элементами.
Но много лет назад Берцелиус твердо верил в сложность
азота, хлора, брома и иода, а мы в свою очередь считаем
простые тела простыми не потому, что знаем, что они не
могут быть разложены, но только потому, что возможность
их разложения в настоящий момент не может быть
доказана научным путем» [17, т. 1, стр. 54, 55]. В 1807 г. щелочь,
щелочные земли и земли считались телами простыми, Дэви
показал нам, что тела эти — тела сложные. «Не оспаривая
делимость материи до бесконечности, химик подтверждает
только твердое основание и начало своей науки, если
принимает существование физических атомов за совершенно
неоспоримую истину» [17, т. 1, стр. 111]. Итак, Либих,
будучи убежденным атомистом, как и подобало быть
последовательному химику или физику XIX в., в то же .время не
отрицал бесконечной делимости материи. В этом
проявились материализм Либиха и его стихийная диалектика.
Либих подходил к решению естественнонаучных задач
без предвзятых идей; как большинство естествоиспытателей,
он отдавал предпочтение индукции перед дедукцией. И все
же в отдельных случаях он не мог отрешиться от
общепринятых представлений, и тогда крупные открытия ускользали
из его рук. Особенно обидный случай произошел в Гисен-
ской лаборатории в 1826 г. при исследовании галогенов.
Либих получил бурую жидкость, представляющую по своим
свойствам нечто среднее между йодом и хлором. Жидкость
была принята им за «хлористый йод», хотя она и
отличалась от этого уже известного двойного соединения
галогенов. Через месяц Либих узнал об открытии Баларом нового
химического элемента мурида *, вскоре переименованного в
1 Балар открыл новый элемент при изучении рассолов
средиземноморских соляных промыслов; название мурид образовано из латинского
слова muria — рассол.
§6
бром. Либих был в состоянии опубликовать в тот же день
статью об отношении брома к железу, платине и углю, ведь
он, стоял в его лаборатории с ярлыком «хлористый йод».
Позднее Либих с несправедливой едкостью говорил, что не
Балар открыл бром, а бром открыл Балара, но с этого
времени зарекся делать выводы без достаточных
экспериментальных оснований.
Из общих проблем минеральной химии Либиха
интересовали вопросы, которые ныне объединены под названием
неорганического катализа. И это вполне понятно, если
вспомнить, что он занимался исследованиями ферментативных
процессов и, в частности, является автором одной из теорий
спиртового брожения.
Об активирующем действии платины Либих пишет
(29 ноября 1823 г.) известному профессору Иенского
университета И. В. Деберейнеру (1780—1849), открывшему
каталитическое действие платиновой черни на реакцию
окисления спирта в уксусную кислоту (1821). Достаточно
загрязнения золота платиновой пылью,— сообщает Либих,—
чтобы вызвать выделение из него водорода при комнатной
температуре.
Свои представления о роли ферментов в процессах
органической химии Либих пытался распространить на
неорганические реакции. Под этим углом зрения он рассматривает
разложение перекиси водорода в присутствии некоторых
окислов металлов (серебра, свинца, марганца и др.) и
растворение в кислотах сплавов благородных металлов с медью,
никелем, цинком и т. д. Либих считал резко отличными
явления разложения перекиси водорода металлами и
окислами металлов. Сейчас не все взгляды Либиха на
контактные и каталитические явления могут быть приняты
безоговорочно, но не надо забывать, что тогда, когда он их
высказывал, не существовало даже слова катализ. Этот термин
был введен в химию только в 1835 г. Берцелиусом.
В 1826 г. Либих устанавливает присутствие аммиака в
воздухе, к этому убеждению его привели анализы дождевой
воды, где постоянно обнаруживался аммиак и куда он мог
попасть только из атмосферы.
Многие работы по неорганической и аналитической
химии Либих выполнил совместо с Велером. К «им относятся
исследования состава титановой руды, основной
хромовокислой окиси свинца, закисей меди, железа и марганца.
87
изучение никеля, перекиси бария, зеленой окиси хрома
и т. д. (см. библиографию трудов Ю. Либиха).
Исследования Либиха и Велера степени окисленности марганца в
различных соединениях положили начало одному из важных
разделов неорганической химии и во многом способствовали
выяснению понятия о валентности элементов. Эта работа
была продолжена Митчерлихом и позднее — Франке.
В 1834 г. Либих соединил окись углерода с калием,
пропуская сухой газ над расплавленным металлом. Двумя
годами позже ему удалось получить сурьму, свободную от
мышьяка и железа. В 1847 г. Либих разрабатывает способ
получения хлорноватокислого калия путем взаимодействия
хлористого калия с хлорноватистокислым кальцием;
последний он приготовил поглощением газообразного хлора
известковым молоком (этот способ получения хлорной
извести был подробно разработан только в 1882 г. Муспратом
и Эшельманом).
Очень значительны заслуги Либиха в становлении
химической минералогии, особенно в области анализа
минералов. Либиховские методы анализа минералов,
разработанные им главным образом в Гисенской лаборатории
совместно с его учениками К. Р. Фрезениусом и Генрихом Биллем,
без существенных изменений применяются и в настоящее
время. Важность значения анализа минералов Либих
определяет следующими глубокомысленными и остроумными
словами: «Химик своими вопросами заставляет говорить
минерал, и тот отвечает ему, что он — сера, железо,
кремний, глиний (алюминий.— Ю. M.) или представляет собой
какое-нибудь смешанное тело, oih выражает одно слово из
языка химических явлений, и в этом заключается
химический анализ. В Савойе есть минеральный источник весьма
полезный для излечения зоба; я задаю ему несколько
вопросов, и, собрав все ответные буквы его в одну строку,
читаю, что он содержит в себе йод».
К количественным методам аналитической химии,
разработанным Либихом, относятся: отделение кобальта от
никеля, определение синильной кислоты в лекарственных
соединениях, определение кислорода посредством
поглощения его раствором пирогаллола. Этот широко применяемый
до настоящего времени прием газового анализа может быть
отмечен, как один из первых случаев использования
органических реактивов в аналитической химии. Известный метод
6<S
определения молекулярного веса оснований посредством
их солянокислых и платиновых солей также принадлежит
Либиху.
В аппаратурном оформлении анализов Либих проявил
много оригинальности и изобретательства. Для него вообще
характерно стремление к упрощению и ускорению методов
анализа с одновременным сохранением или даже
увеличением их точности. Он широко использовал .в лаборатории
платиновую посуду и всевозможные резиновые детали. «Без
платины не было бы возможности сделать анализ
минерала,— писал Либих,— без каучука приборы были бы
дороже и более ломки; iho главная выгода, доставляемая
обоими веществами, состоит в сбережении драгоценного
времени» (17, т. 1, стр. 13). Либих был автором новых
оригинальных приборов для аналитических исследований. Среди
них следует особо упомянуть кали-аппарат для поглощения
углекислого и других газов и сушильный шкаф, носящий его
имя. Здесь интересно отметить, что так называемый
«холодильник Либиха» сконструирован не им, а Вейгелем и
носит это название несправедливо, хотя и не по вине
Либиха.
&^&
4 ■"*€* »
ТРУДЫ ПО АГРОНОМИЧЕСКОЙ химии
лиянис трудов Юстуса Либиха на развитие
земледелия поистине громадно. Наряду е его
классическими трудами в области органической
химии и введением нового метода обучения
химии, деятельность в агрономии принесла учено-
ному наибольшую славу. Пожалуй, даже еще
при жизни ученого его революционные идеи
по коренному увеличению плодородия почвы длительное
время затмевали все другие многочисленные заслуги.
Однако широкие возможности агрохимии выявились
только после того, как были разработаны основные методы
количественного анализа и начали складываться основы
общей химии. Чтобы иметь возможность правильно оценить
заслуги Либиха в этой важнейшей области жизни людей,
необходимо хотя бы бегло проследить развитие науки об
обогащении почвы, складывавшейся веками.
Агрономическая химия развивалась под влиянием
жизненных запросов возделывания земли. Удобрять землю
для восстановления или увеличения ее плодородия люди
умели еще в глубокой древности; они пришли к этому
эмпирическим путем. Народы древнего Востока, затем греки
и римляне знали, что экскременты животных, а также
некоторые минеральные вещества (зола, известь, гипс, мергель)
удобряют почву. Среди органических удобрений издревле
высоко ценилось гуано (птичий помет). Давно было вы-
90
яснено, что смена возделываемых культур
благоприятствует урожаю.
Польза «зеленых удобрений» была научно обоснована
только в конце XIX в., однако уже римляне использовали
в качестве такого удобрения люпин. Они установили, что
на склонах Везувия хорошие урожаи получаются простым
запахиванием люпина. Теперь нам это вполне понятно: лава
и пепел богаты фосфором и калием, следовательно, не
хватало только азота; его и поставлял люпин.
В Элладе и Риме земледелие находилось на высоком
уровне развития, и постепенно знания оттуда проникали в
Среднюю Европу. С течением времени во многих
европейских княжествах и государствах сложился трехпольный
севооборот с чистым паром. Сущность «теоретических
взглядов» того времени сводилась к слишком общему
утверждению, что основными факторами жизни растений являются
земля, воздух, свет и тепло. В средние века земледелие не
сделало сколько-нибудь прогрессивных шагов и даже ряд
достижений древних народов был утрачен.
В эпоху Возрождения появились новые веяния в
агрономическом учении. Специальный интерес представляет
трактат (1563) французского естествоиспытателя Бернара
Палисси, умершего в заточении в Бастилии. Палисси
утверждал следующие положения: основой жизни растений
являются соли; без солей, остающихся после разложения сена
и соломы, навоз не имел бы значения в качестве удобрения;
восстановление плодородия земли при отдыхе объясняется
накоплением солей, содержащихся в дождевой воде; зола
возвращает почве соли, которые были унесены растениями
и т. д. Эти важные мысли Палисси до некоторой степени
предвосхищают некоторые идеи Либиха. Работы Палисси
долгое время оставались неизвестными.
Для разрешения вопроса об источнике питания растений
остроумный научный эксперимент провел голландский
естествоиспытатель Я. Б. Ван-Гельмонт (1577—1644). Он
посадил ивовую ветвь весом 2,25 кг в глиняный сосуд с 91 кг
земли, регулярно поливал ее водой в течение 5 лет, а
затем отдельно взвесил растение и почву. Ива к тому времени
весила около 77 кг, т. е. увеличила свой вес почти на 75 кг,
а почва потеряла в весе всего 57 г. Отсюда Ван-Гельмонт
пришел к выводу, что растительная масса создается за счет
воды, вносимой в почву. В то время состав воздуха не был
91
известен, и ученый ничего не знал о роли углекислого газа.
«Водная теория» питания растения долго держалась в
науке и сыграла прогрессивную роль, нанеся удар мистическим
религиозным представлениям в агрономии.
Немецкий химик и врач И. Р. Глаубер (1604—1668)
экспериментальным путем пришел к заключению, что
селитра (sel nitri — соль азотной кислоты) является главным
стимулятором роста растения, т. е. урожайности. Но и эти
мысли, как и идеи Палиоси, не оказали на агрономию
заметного влияния.
В конце XVII в. англичанин Вудворд решил проверить
опыт Ван-Гельмонта и пробовал давать растениям только
воду. Oih установил, что питательная ценность речной воды
выше, чем дождевой, но еще больший рост растения
наблюдается при поливке водой, настоенной на садовой земле.
Вывод был сделан правильный: для роста растений,
кроме воды, нужны еще какие-то составные части почвы.
В результате выдающихся трудов М. В. Ломоносова и
А. Л. Лавуазье была вскрыта сущность процессов
окисления, горения и дыхания, в исследовательский обиход химии
вошли точные весы. Закон сохранения стал незыблемой
основой изучения обмена веществ в животном и
растительном организме. После смерти Лавуазье была найдена
и опубликована его рукопись, в которой ученый обратил
специальное 'внимание на вопросы питания живых существ.
Он писал, что растения черпают свои составные части из
воздуха, воды и минерального царства. Животные
питаются растениями или другими животными, которые в свою
очередь питаются растениями. Таким образом, вещества,
из которых состоят живые организмы, в конечном итоге
всегда почерпнуты из воздуха и минеральной природы.
Эти замечательные выводы Лавуазье стали основой всего
последующего развития агрономической и биологической
химии. Большое значение здесь имели также труды
Пристли, Шрадера, Сенебье и особенно Соссюра, Буссенго и
Тэера.
В XVIII в. в высших учебных заведениях были
созданы кафедры экономической науки, в задачу которых
входило и изучение теории и техники земледелия. Постепенно
зародилась агрономическая химия, получившая свое
'название из труда Г. Дэви «Элементы агрономической
химии» (1813). По определению Дэви, эта наука имеет своим
9Z
предметом изменения и превращения веществ, связанные
с ростом и питанием растений.
Несмотря на существенные достижения агрохимии,
необходимость тех или иных минеральных веществ для
питания растений оставалась сомнительной с точки зрения
многих ученых. Только этим можно объяснить тот факт, что в
1800 г. немецкая Академия наук объявила конкурс на тему
«Каковы элементы почвы, которые с помощью химического
разложения оказываются в различных отечественных
сортах зерна? Входят ли они в злаки так, как их находят, или
создаются при помощи вегетативных органов?» [21, стр. 36].
Убежденность в неразрушимости материи и
непревращаемости химических элементов друг в друга не могла
ослабить веру в особую «жизненную силу», которая якобы
регулирует обмен веществ в живой природе. Первые
робкие синтезы органических веществ тоже не сыграли
решающей роли в изгнании понятия жизненной силы из
естественнонаучных толкований. Наиболее мощные удары были
нанесены витализму только во второй половине XIX в.,
когда закон сохранения и превращения энергии обрел
экспериментальное обоснование и были искусственно получены
очень многие органические вещества.
К сороковым годам прошлого столетия учение о питании
растений и плодородии почвы настолько обогатилось
новыми сведениями и понятиями, что требовалось критически
рассмотреть их и выработать единую стройную научную
систему агрохимической концепции.
Эту сложную и почетную задачу блестяще разрешил
Юстус Либих. Получив от Британской ассоциации задание
подытожить достижения органической химии, он
значительно расширил его и выпустил в 1840 г. книгу
«Органическая химия в ее приложении к земледелию и физиологии».
Эта книга произвела на современников потрясающее
впечатление, претерпела ряд изданий и оказала огромное
влияние на развитие агрохимии. Вот что пишет о ней
английский ученый Рессель: «В течение этого периода (1830—
1840) никаких особенно важных открытий не было сделано,
не происходило никаких особенных споров и разногласий,
и данный предмет (агрономическая химия) не возбуждал
ни в ком интереса. Но все это изменилось в 1840 г., когда,
подобно удару грома, разразился над ученым миром
знаменитый доклад Либиха Британской ассоциации о положе-
93
мии органической химии, опубликованный впоследствии
под названием «Химия в ее приложении к земледелию и
физиологии». В форме утонченной сатиры и с тонким
сарказмом высмеивает он физиологов своего времени, которые,
вопреки накопившимся очевидным данным, продолжают
придерживаться взгляда, будто растения берут углерод из
почвы, а не из углекислоты, содержащейся в воздухе. Юмор
Либиха сделал то, что не могла сделать логика Соссюра и
Буссенго. Либих окончательно разбил теорию о перегное.
Только самые смелые решились бы после этого утверждать,
что растения берут нужный им углерод не из углекислоты,
а из другого источника» [22, стр. 17]. Сам Либих в
предисловии к книге так сформулировал свою задачу: «Я
попытался изложить отношение органической химии к
физиологии растений и к земледелию, а также те изменения, которым
подвергаются органические вещества в процессах
брожения, гниения и тления» [22, стр. 40].
Большая часть описанных в книге Либиха явлений
открыта не им, но он оценил и систематизировал
разрозненные наблюдения, отбросил ошибочные и, главное, сделал
выводы и дал рекомендации, в корне изменяющие
принципы земледелия. Либих создал учение об обмене веществ и,
применив его к земледелию, дал представление о составе
растений и подвел к решению проблемы их питания.
Наибольшую трудность в то время представлял вопрос
о происхождении углерода растений. Было накоплено много
фактов и наблюдений, которые, однако, шолучали
противоречивое, часто причудливое толкование. По мнению ряда
ученых (Шварц, Тэер, Шпренгель), растения берут
углерод из органических частей удобрения или продуктов
гниения в почве отмерших частей растений, т. е. из перегноя
или гумуса. Эта так называемая гумусовая теория долго
господствовала среди специалистов сельского хозяйства; ее
разделяли многие ученые, в том числе и Берцелиус.
Либих решительно выступал против гумусовой теории,
показав, что количество перегноя в почве не
увеличивается, а уменьшается; имеющегося перегноя не может хватить
для продолжительного питания растений. Кроме того,
растения вообще не усваивают гумус, поэтому следует искать
иной источник углерода. Однако Либих не полностью
отрицал значение гумуса: он оставил ему роль постоянного
источника почвенной углекислоты, которая, ускоряя про-
94
цесе выветривания силикатов, подготовляет растениям
неорганическое питание.
Для объяснения происхождения углерода в растениях
Либих возродил забытые идеи Пристли, Сенебье, Ингенгу-
са и Соссюра о том, что углекислота воздуха питает
растения углеродом и что жизнедеятельность растений и
животных переплетается теснейшим образом. Либих писал:
существование богатейшей растительности немыслимо без
содействия этому жизнедеятельности животных, но живо г*
ный мир в свою очередь зависит от роста и развития
растений. Растение служит животному организму не только
средством питания, обновления и роста его массы, но и
удаляет из атмосферы вещества, вредные для животных,
совершает высший жизненный процесс посредством своего
газообмена и питания. Растение — неистощимый источник
чистейшего и свежего кислорода. Каждую минуту оно как
бы возвращает атмосфере то, что она потеряла. При
остальных равных условиях животные углекислоту выдыхают,
а растения ее поглощают. Таким образом, воздух, т. е.
среда, в которой происходят эти процессы, не изменяет своего
состава.
Либих вычислил, что углекислоты воздуха вполне
достаточно для удовлетворения потребности почвы в
углероде. Он высказал мысль, что весь кислород воздуха
образовался в результате жизнедеятельности растений из
углекислоты и что при полном сгорании всех имеющихся в
земле органических веществ израсходовался бы весь
кислород воздуха. В глубоком прошлом атмосфера была,
по-видимому, беднее кислородом и богаче углекислотой.
Аналогичные мысли встречались в трудах некоторых ученых и до
Либиха, но они не были так четко сформулированы и так
убедительно аргументированы.
Идеи о происхождении кислорода атмосферы в
результате жизнедеятельности зеленых растений получили иовое
подтверждение в XX в. в трудах основателей биогеохимии,
в особенности в работах В. И. Вернадского.
Либих не соглашался с высказываниями, что растения
в темноте вдыхают кислород и выдыхают углекислоту так
же, как животные. Он считал, что процесс, который теперь
называют дыханием в отличие от ассимиляции, не имеет
ничего общего с органическими жизненными процессами
растения, так как существование двух противоположных
95
процессов (образование и разложение углекислоты) в
одном и том же организме противоречит закону экономии,
который якобы господствует в природе. В этом Либих
ошибался, так же как и в некоторых других своих крайних
утверждениях.
Источником элемента водорода в растениях Либих
считал воду, всасываемую корнями и другими органами
растений.
В вопросе об азоте растений Либих придерживается
точки зрения швейцарского естествоиспытателя Н. Т. Со-
ссюра (1767—1845). Многочисленные опыты доказали,
что растение не может усвоить газообразный азот
непосредственно из воздуха. Поэтому ученые пришли к
заключению, что растения ассимилируют азот из растительных и
животных экстрактов и аммиака, выделяющихся из земли
или атмосферы. Либих считал, что азот в почве образуется
в результате гниения, но этот источник может скоро
иссякнуть. Он не признавал азотнокислые соли поставщиками
азота растениям, даже тогда, когда селитра была признана
эффективным удобрением. Либих был прав в том, что
атмосфера может служить источником связанного азота,
поскольку электрические разряды и коротковолновые лучи
способствуют образованию в воздухе значительных
количеств азотистых соединений. Интересные количественные
данные в этом вопросе получены совсем недавно в
результате обширных комплексных исследований по плану
Международного геофизического сотрудничества. Анализы
химического состава атмосферных осадков показали, что в
европейской части Советского Союза ежегодно каждый
гектар земли получает с осадками 3—4 кг азота,
10—20 кг серы, 4—10 кг кальция, 5 кг хлора и т. д.
В СССР этими исследованиями руководил Е. С.
Селезнев.
В происхождении серы в растениях Либих не
сомневался. Он считал, что все воды содержат сернокислые соли,
которые всасываются корнями, а затем в самом растении
превращаются в сложные органические соединения, в
частности — в белки. Следовательно, для питания растений
благоприятны соли, содержащие в своем составе и азот и серу
(например, сульфат аммония). Либих был уверен, что
только неорганизованная природа доставляет растениям их
первоначальную пищу.
96
Процесс питания растений в круговороте вещества
представлялся Либиху следующим образом. Растения, как
губки, впитывают из почвы соли, причем ненужные из них
возвращаются в почву. В состав растения входят
органические и неорганические (фосфорная, кремневая) кислоты,
металлы (магний, кальций, калий). Все эти вещества
необходимы для жизни растения, иначе оно гибнет. Между
всеми составными частями земли, воды и iB-оздуха,
принимающими участие в жизни растений, так же как и между
всеми частями растения и животного, существует тесная
взаимосвязь. Если из цепи превращений неорганического
вещества в носителя органической жизни выпадет хотя бы
одно звено, существование животного или растения станет
невозможным.
Либих придавал большое значение исследованию золы
растений и установлению связи между ее элементами и
минеральными веществами почвы. Первая половина задачи
имела чисто химический характер, и решение ее не
вызывало трудностей; зато вторая половина задачи была сложна
и требовала длительной систематической работы. По
инициативе Либиха были проведены исследования
поглощающей способности различных почв (работы Геннеберга и
Штомана, Петерса, Кноппа, Целлера), которые показали,
что для питания растений необходимы вещества, входящие
в состав растительной золы. Были установлены формы,
в которых вещества почвы поглощаются растением,
отношение этих веществ к остальным составным частям почвы
и его влияние на растительность. Все эти вопросы Либих
рассматривал в тесной связи с учением о севообороте. Так
он перешел от питания растений к теории истощения и
удобрения почвы.
Крестьяне давно знали, что на одном поле нельзя из
года в год сеять одну и ту же сельскохозяйственную
культуру. В ряде стран уже применялись удобрения (например,
молотая костяная мука), но все это осуществлялось
вслепую, эмпирически. Удобрениям иногда приписывалась даже
таинственная сила, способная восстанавливать плодородие
почвы. Благодаря Либиху применение удобрений было
поставлено на строго научную основу.
Либих писал, что пахотная земля как источник
минеральных веществ образовалась вследствие выветривания
горных пород. Камни под влиянием метеорологических ус-
7 Ю. С. Мусабеков
97
ловии разрушаются и уносятся реками, ледниками и под
воздействием воды и составных частей воздуха, особенно
углекислоты, подвергаются выветриванию и химическому
разложению. Горные породы, содержащие магний, кальций
и железо, т. е. важнейшие питательные вещества растений,
являются ценнейшими составными частями пахотной земли.
Что касается кремневых пород, то выветривание их идет
очень медленно, хотя и в измеримое время.
В процессе роста, как уже указывалось, растение
забирает из почвы необходимые питательные вещества, тем
самым обедняя ее. Либих приходит к логическому выводу:
во избежание истощения почвы ей должно быть
возвращено то, что отнимается у нее культивированием растений
(Здесь он доходит до крайности, упрекая сельских хозяев
в хищнической обработке земли). На необходимость
возврата почве минеральных веществ указывали ранее (Палис-
си, Шпренгель и другие ученые), но никто не делал это с
такой убедительностью, последовательностью и страстью.
Этому вопросу Либих придавал огромное историческое
значение. Он даже утверждал, что причина возникновения и
падения наций одна и та же: расхищение плодородия
почвы обусловливает их гибель, поддержание плодородия —
жизнь, богатство и могущество. В подтверждение этой
мысли Либих приводил судьбу древних стран — Египта,
Греции, Рима, Испании, якобы пришедших к экономическому
и нравственному упадку только вследствие незнания
законов природы.
Небезынтересно, что аналогичные мысли намного ранее
были высказаны представителем классической буржуазной
политической экономии англичанином Адамом Смитом в
его основном труде «Исследование о природе и причинах
богатства народов» (1776). К. Маркс охарактеризовал
Смита как «обобщающего экономиста мануфактурного
периода» *.
Либих считал, что и современное ему общество придет
к упадку, если вовремя не прекратит расхищения
питательных веществ почвы. Удобрение навозом Либих полагал
недостаточным, поскольку при этом возвращается земле
только часть отнятого. Он рекомендовал наладить широкое
производство и сообразное с потребностями каждой данной
1 К. M а р к с. Капитал, т. I, 1955, стр. 356 (сноска).
98
сельскохозяйственной культуры употребление
минеральных удобрений. Придет время, писал Либих, кЪгда каждое
поле сообразно с растением, какое предполагается
разводить, будет удобряться соответственным удобрением,
приготовленным иа химическом заводе. Тогда удобрение будет
состоять только из тех веществ, которые нужны для
питания растения, точно так же, как теперь вылечивают
лихорадку несколькими гранами хинина, тогда как прежде
больного заставляли глотать унциями хинную кору.
Болезни некоторых растений (например, картофеля,
виноградной лозы) возникают от истощения земли. В
качестве примера этого Либих привел болезнь тутового
шелкопряда, свирепствовавшую тогда на юге Франции. В
Париже была создана специальная комиссия для разработки
мер помощи в этом национальном бедствии.
Заинтересовавшись этим вопросом, Либих совершил небольшое
путешествие в Италию, исследовал привезенные из других
стран листья тутовых деревьев и коконы и определил, что
в Азии в листьях шелковицы содержится на 50% больше
питательных веществ, чем в Европе. Эти соображения
Либих изложил французскому министру просвещения, но
письмо было оставлено без должного внимания, поскольку
исходило от немца.
Анализируя состав золы различных растений, Либих
пришел к убеждению, что одно поле дает хорошие урожаи
пшеницы, но на нем не может расти фасоль, растет репа,
но не может расти табак, а на другом поле хорошо родится
репа, но клевер не растет, и т. д. Самый простой способ
возвратить земле недостающие питательные вещества —
оставить поле под пар. Но если хотят повысить
производительность поля, применяют севооборот. В результате
чередования растений калийных (например, репы),
известковых (табак и бобовые), кремневых (злаки) и других
почвенные химические запасы используются более равномерно.
Либих предполагал, что все растения без исключения
отнимают у почвы определенные составные части, но ни
одно из них не улучшает ее и не делает ее плодородной для
других видов растений. Если в местностях, не
обрабатываемых с незапамятных времен, площади, занятые лесами,
превратить в культурную обработанную землю, а золу
удаленных деревьев и кустарников распределить по полю,
то этим самым запас солей пополнится и будет достаточным
99
7*
для сотни и более урожаев одной и той же культуры. В
почве, содержащей легко выветриваемые силикаты, есть
кремнекислый калий или натрий, необходимые для роста
стеблей кремневых растений. При наличии к тому же
фосфорнокислых солей на такой почве имеются все условия для
получения урожаев непрерывно в течение ряда лет. Так
представлял себе Либих использование целины для
культивирования растений.
Если почве из всех отданных ею растениям веществ
ничего не возвращается, то может наступить такой момент,
когда она полностью истощится и станет бесплодной даже
для сорных трав. Полезность чередования культур Либих
объяснял не тем, что один вид растений делает ее
плодороднее для другого вида, а тем, что различные виды растений
потребляют неодинаковое количество определенных
питательных веществ.
Но проблема севооборота оказалась неизмеримо
сложнее, чем представлялось Либиху. Он пытался решить ее
только с позиций химического состава золы растений и
почвы, не учитывая структуры почвы, действия на нее
обогащающих азотом растений, микроорганизмов, климата и
многих других факторов. Поэтому он не мог решить до
конца эту сложнейшую проблему сельского хозяйства. Многое
из перечисленного стало известно позднее либиховских
исследований.
Либих ратовал за полное возмещение потерь
питательных веществ почвы путем внесения удобрений. Наилучший
вид удобрения, естественно, тот, который содержит все
необходимые питательные вещества. К отличным удобрениям
Либих относил остатки растений, экскременты животных.
При этом он считал, что они влияют на жизнедеятельность
растений не непосредственно содержащимися в них
органическими элементами, а продуктами, образующимися при
их гниении и разложении, когда углерод переходит в
углекислоту, азот — в аммиак или азотную кислоту.
Органические удобрения, состоящие из остатко!В животных и
растительных организмов, вполне могут быть заменены
неорганическими соединениями, на которые они распадаются в
почве.
О ценности экскрементов в качестве удобрений Либих
с присущей его языку образностью писал так: «Ввоз мочи,
твердых испражнений из чужой страны значит совершенно
100
одно и то же, что ввоз хлеба и скота. Все эти вещества в
известное время принимают вид хлеба, мяса и костей,
переходят в тела людей и ежедневно возвращаются к
первобытной своей форме. Единственная потеря, которой мы по
принятым у нас обычаям не в состоянии отвратить,
заключается в потере фосфорнокислых солей, уносимых
человеком в гроб, в составе своих костей» [17, т. II, стр. 191].
Различная зола (древесная, торфяная, бурого угля)
доставляет почве большинство необходимых солей, но в ней
отсутствует азот. Гипс поставляет сернокислые соли,
костяная мука — фосфорнокислые слои. Прекрасным удобрением
служит перуанское гуано — естественный продукт
разложения птичьего помета. В его составе имеется до 9%
элементарного азота, около 13% фосфорного ангидрида, ib
меньшем количестве калий и известь. В Европу гуано стали
ввозить из других стран, в частности из Перу и Чили, где
были обнаружены целые горы птичьего помета. Для Перу
торговля гуано стала важной статьей национального
дохода. Первое судно, груженное гуано, прибыло в Лондон в
1840 г. Между Перу и торговыми домами Англии были
заключены договоры, вывоз гуано из Южной Америки стал
быстро увеличиваться, цены росли. Горы гуано, которые
считались неистощимыми, стали на глазах таять.
Огромные площади распахиваемых земель в Европе к
началу 40-х годов XIX ib. были истощены настолько, что
неурожай следовал за неурожаем. Запасы гуано, селитры и
других применяемых тогда удобрений уже не могли
удовлетворить спроса. Неотвратимо вставала проблема
искусственных удобрений, и идеи Либиха под влиянием нужд
практики нашли самое широкое признание.
Агрохимия Либиха благодаря ее популярной форме,
образности языка, убедительности выводов и, главное,
своевременности появления произвела впечатление не только
на ученых, но и на практиков земледелия. За 1840—1846 гг.
книга его издавалась шесть раз:
В своих высказываниях об искусственных удобрениях
Либих не уставал повторять, что земле должно быть
возвращено все отнятое у нее растениями. Форма, в какой
будет осуществлен возврат"(навоз, зола или кости), не имеет
существенного значения. Придет время, когда пашню будут
удобрять раствором жидкого стекла, золой соломы, солями
фосфорной кислоты, которые будут изготовлять на химиче-
101
ских заводах так же, как теперь изготовляют химические
препараты для лечения малярии и зоба.
Из различных (видов удобрений Либих особенно
подчеркивал роль фосфорных. В преобладающем зерновом
хозяйстве почва обедняется в основном фосфорнокислыми
солями. Либих показал, что кости очень богаты солями
фосфорной кислоты и поэтому являются хорошим удобрением.
Однако в них содержится труднорастворимый трехкаль-
циевый фосфат, и его целесообразно переводить путем
соответствующей обработки серной кислотой в растворимый
однокальциевый. Эти работы Либиха дали толчок к
развитию многотоннажного производства суперфосфата из
фосфоритов.
Либих указывал, что в почву в первую очередь должны
быть возвращены те вещества, которыми поля наиболее
истощены. Внесение всех прочих веществ будет
бесполезным, пока не устранена резкая нехватка первых. Эта
рекомендация была названа либиховским «законом минимума».
Необходимо подчеркнуть, что столь категорическая
формулировка этого положения была приписана Либиху позже;
сам он ни в своей основной книге по агрохимии, ни в более
поздних 50 тезисах ею не пользовался.
Вообще своим агрохимическим идеям Либих не
придавал никаких математических формулировок. Поэтому
ходячее утверждение, что «по Либиху урожай находится в
прямой зависимости от фактора-минимума и растет
пропорционально этому фактору до тех пор, пока потребность в
нем не будет насыщена», является одним из
многочисленных искажений его идей. У Либиха имеются даже
высказывания, направленные против упрощения и излишней
категоричности формулировок. Например, он говорит:
«Урожаи семян далее показывают нам, что они не состоят в
прямом отношении к содержанию питательных веществ в
почве, но что смеси с меньшим содержанием питательных
веществ дают много больше семян, чем то количество их,
которое эта смесь должна была бы дать по сравнению с
богатыми смесями» [22, стр. 440].
Некоторые авторы, искажающие идеи Либиха,
умудрились найти связь между мыслями Либиха и учением
реакционного буржуазного экономиста-человеконенавистника
Мальтуса. Лучший отпор этой выдумке дал академик
Д. Н. Прянишников в вводной статье к советскому изда-
102
нию книги Либиха «Химия в приложении к земледелию и
физиологии». Прянишников писал: «Многое из того, что
приписывается Либиху, возникло позднее и принадлежит
другим авторам, пытавшимся уточнять положения
Либиха, и к ним относится значительная часть тех критических
замечаний, которые направляются против закона
минимума. В понимании же Либиха закон минимума является
только следствием незаменимости элементов пищи
растений друг другом, а так как незаменимость калия фосфорной
кислотой или известью, подчеркивавшаяся Либихом, теперь
никем не подвергается сомнению, то в этом отношении
возражения против «Закона минимума» являются следствием
недостаточного разграничения между тем, что говорил сам
Либих, и тем, что ему было приписано впоследствии.
Совершенным недоразумением является попытка находить
какую-то связь приведенных положений Либиха, в основе
подтвержденных всем последующим, с давно опровергнутым
действительностью учением Мальтуса об
ограниченности средств продовольствия и с несуществующим «законом
убывающего плодородия», так как на деле плодородие
убывает только при хищническом хозяйстве, с которым
боролся Либих, и как раз указания Либиха послужили основой
не только для поддержания плодородия на прежнем
уровне (о чем заботился прежде всего Либих), но затем было
достигнуто нечто гораздо большее: урожаи с помощью
минеральных удобрений оказалось возможным поднять до
высоты, неизвестной во времена Тэера и Либиха, так что
можно скорее говорить о законе возрастающего
плодородия и не в идее только, а на основании прямых
статистических данных» [22, стр. 20].
Многие стороны обмена азотистых веществ в
растительном организме и судьба этих веществ в почве во времена
Либиха еще не были известны. Поэтому объяснение им роли
азотных удобрений было не совсем верным. Он считал, что
небольшого количества связанного азота, который
поступает в почву с осадками в виде окислов азота и аммиака,
вполне достаточно для растений и ценил в навозе
только зольную часть, не придавая значения его азотистым
веществам. Естественно, что эти поспешные и
необоснованные утверждения встретили возражения, особенно со
стороны французского ученого Ж. Б. Буссенго, которому
принадлежали труды именно по динамике азота в почве.
103
Примечательно, что в первых изданиях своей агрохимии
Либих говорил о важном значении не только фосфора и
щелочей, но и аммонийных удобрений. Однако в последующих
изданиях раздел об аммонийных удобрениях был изъят.
Возможно, на взгляды Либиха повлиял тот факт, что
травы обходятся без азотных удобрений и даже улучшают
азотное питание следующих за ними злаков. Либих объяснял
благотворное действие многолетних трав тем, что они, имея
длительный вегетационный период, успевают поглотить
больше аммиака, чем злаки. Таким образом, Либих
фактически предвидел роль травосеяния в обогащении почвы
азотом, но не мог правильно разобраться в значении тех или
иных растений. Ведь, в то время еще не было работ Л. Па-
стера, М. С. Воронина, Г. Гельригеля, С. Н. Виноградского
и других по фиксации азота растениями и
микроорганизмами в почве.
Либих разработал способ заводского получения смеси
удобрений и запатентовал его. За осуществление этого
способа взялся ливерпульский фабрикант соды Муспрат.
Либиха беспокоило, что при внесении в почву
легкорастворимые калиевые соли уносятся дождем. Во избежание этого
о« предложил использовать труднорастворимый сплав
углекислого калия с углекисльш кальцием. Но патентованное
удобрение Либиха оказалось неэффективным, и это было
для него большим моральным ударом. Все его учение о
минеральных удобрениях ставилось под сомнение, его
недоброжелатели радовались. В 1865 г. Либих писал:
«Больше всего мне принесло истинное, длительное, никогда не
смягчающееся горе то обстоятельство, что я не был в
состоянии осознать причину такого медленного действия моих
удобрений. Везде в тысячах случаев я видел, что каждая
составная часть их действует, а когда они вместе, как в
моем удобрении, так они не действуют» [4, стр. 184]. Сначала
он склонен был видеть ошибку в случайных погрешностях
технологии производства удобрения, но решение этого
вопроса пришло позднее, когда Либиху стали известны
опыты Броньара (1836), Генетебля (1836), Томсона (1848) и
Вэйя (1850) и его собственные исследования подтвердили
их наблюдения. Опасность вымывания растворимых частей
удобрения была им сильно преувеличена, так как почва
обладает адсорбционной способностью удерживать
питательные вещества. «После того,— писал он,— как я узнал при-
104
чину, почему ,не действовали мои удобрения, я стал
человеком, начавшим жизнь снова» [4, стр. 184]. «Что меня
могло бы извинить,— имея в виду неудавшиеся удобрения,—
это то обстоятельство, что человек — дитя своего времени.
Он только тогда не поддается господствующим воззрениям,
когда его насильно заставят приложить все свои силы,
чтобы освободиться от ошибок. Мнение о том, что растения
берут свое питание из раствора, который образуется в почве
из дождевой воды, было моим убеждением. Это и
послужило источником последующих ошибок» [21, стр. 36].
Либих сам проводил сельскохозяйственные опыты,
которые должны были выяснить, насколько правильны
рекомендации по применению минерального подкармливания
растений. Вблизи Гисена, на большом участке земли
низкого качества, не имевшей ценности как пашня, поскольку
на ней в течение ряда лет не росло ничего, кроме сосны,
Либих в продолжение трех лет изучал действие
минеральных составных частей навоза. Он убедился, что для
многолетних злаков, виноградника и деревьев почва
превращается в плодородную уже при внесении только составных
частей золы; для повышения урожая однолетних злаков
требуется значительное количество навоза [17, т. II,
стр. 193].
Более поздние научные агрохимические эксперименты —
выращивание растений в дистиллированной воде и в
прокаленном песке с добавлениями питательных элементов
(опыты Вигмана, Польстрофа, Сальм-Горстмара, Штома-
на, Ноббе и многих других) — окончательно доказали
справедливость агрохимической концепции Либиха о
минеральном питании растений.
Теория Либиха, как и каждая новая, революционная в
научном отношении теория, имела и последователей и
противников. В 1872 г. Грандо пытался усовершенствовать
«минеральную теорию» Либиха: объединил ее с
«гумусовой» и создал гибридную «органоминеральную теорию»
питания растений, которую Либих приветствовал на склоне
лет. Но последующие эксперименты вынудили отказаться
от эклектических взглядов Грандо.
К противникам либиховекой концепции относится
Гольц, который считал взгляды немецкого химика слишком
упрощенными: «Либих рассматривал сельское хозяйство
односторонне, с точки зрения естествоиспытателя и в осо-
105
бенности химика. Земля и воздух образуют для него до
некоторой степени две реторты, из которых растения черпают
питание и необходимые силы для своего развития.
Содержать эти реторты заполненными было главной задачей.
Поскольку в одну из этих реторт, в воздух, питательные
вещества, отнятые у него растениями, возращаются
естественным процессом, без участия человека, для сельского хозяина
задача состоит главным образом в том, чтобы другой
реторте— земле—'вернуть минеральные удобрения, унесенные
урожаем, потому что естественным путем возместить их
потерю нельзя» [21, стр. 36]. Упрекать Либиха в том, что он
не агроном, безусловно несправедливо, так как, обладая
эрудицией выдающегося ученого-естествоиспытателя, он
подошел к земледелию, которое веками велось эмпирически и
рутинными методами, с принципиально новых позиций, и
сумел за несколько лет создать ему научную основу.
Промахи Либиха в агрономии ни в коей мере ие могут умалить
его заслуг в этой новой тогда отрасли знания.
Спор вокруг либиховской агрохимии вышел далеко за
пределы Германии. С резкой критикой взглядов Либиха
выступили даже химики. Например, Берцелиус обвинил
Либиха «в дерзком обращении с наукой, аналитическая и
физиологическая части которой им основательно не изучены»
[4, стр. 182]. О несогласии с Либихом Берцелиус не
преминул написать и в «Ежегоднике» (1840), где отметил
натянутость выводов Либиха и посоветовал ему брать пример с
Буссенго, который подкреплял каждое утверждение тонкими
опытами. Путь к новой истине, писал Берцелиус,— длинен
и медленен. Либиховский способ обращения с наукой ведет
начало от метода Фуркруа, который пытался создать ее из
играющих всеми цветами радуги мыльных пузырей; такая
система лопалась при первом же серьезном испытании.
В Англии агроном-практик Лэвс и химик Гильберт
получили хорошие результаты с растворимыми удобрениями,
содержащими соли аммиака и костную золу. В полемических
статьях с Либихом они пытались опровергнуть теорию
минерального питания, подчеркивая необходимость для
растений азотного питания. «Азотик» — так насмешливо назвали
они свое удобрение. Ути выступления не могли не
пошатнуть в Англии доверия к учению Либиха, а его
возражения на статью Лэвса и Гильберта даже не были там
напечатаны.
W6
Немецкие физиологи Вольф, Штейнгардт, Шульц
Вильц также выступили против минеральной теории Ли-
биха, причем эти выступления походили на организованную
травлю, которая очень действовала «а впечатлительного Ли-
биха. Но он не сложил оружия, непрестанно и страстно
боролся в печати за признание своих идей. Борьба велась
гласно и с такой остротой, что даже не вовлеченные в нее
круги внимательно следили за ней. Спор вокруг учения
Либиха вышел за круг вопросов сельского хозяйства.
Больше всего изнуряла Либиха необходимость неустанно
объяснять агрономам основы земледельческой химии,
убеждать их в правильности ее новых теоретических основ.
Нужны были большое мужество и огромное терпение, чтобы
ежедневно бороться с открытым и тайным сопротивлением
практиков, боявшихся нового. Не раз он впадал в
отчаяние: «Я с сельскими хозяевами проклят судьбой носить воду
в бочку Данаид, все, что я делаю,— бесполезно; я устал*
истратил все лучшие силы, но безуспешно» [5, стр. 97]. «Ты
сохранил в себе чистое чувство,— писал он Велеру,— и
доставляешь мне все новые радости. Я же представляюсь себе
ренегатом, который отказался от своей религии и больше не
имеет никакой. Я покинул дорогу истории и в старании
принести пользу сельскому хозяйству и физиологии качу камень
Сизифа, а он вновь падает мне на голову» [10, стр. 76].
В письме П. А. Ильенкову Либих сообщал: «И у нас в
Баварии успехи в области сельского хозяйства
продвигаются до отчаяния медленно, ввиду того, что эту тяжелую и
ленивую массу (баварских землевладельцев. — Ю. М.) не
легко привести в движение, но давление все-таки
существует, и нам нельзя терять терпение, ибо мы должны
выполнить свой долг» [2, стр. 358].
Особенно остро дискуссия между Либихом и
противниками его учения велась первые десять лет после выхода в
свет его агрохимии. Окончилась она победой Либиха. В
широких слоях населения практический интерес к его учению
постепенно возрастал, но потребовалось четверть века
усилий многих людей, и в первую очередь автора нового
учения, чтобы оно получило всеобщее признание.
Как видно из всего сказанного, значение работ Юстуса
Либиха в создании основ агрономической химии
исключительно велико. В течение многих десятилетий ученый играл
роль своего рода катализатора, ускоряющего процесс изу-
107
чения химии растений и почвы. Даже его ошибки
побуждали к экспериментированию, а некоторые из них скрывали в
себе элементы предвидения, например его оценка значения
кормовых трав в питании растений азотом, «Несмотря на
массу новых фактов,— пишет историк науки Э. Мейер,—
основы либиховского учения остались в том же виде, в
каком они были заложены в замечательном сочинении
(1840) этого исследователя, где надлежащим образом в
общих чертах был выяснен процесс питания растений
атмосферными осадками и составными частями почвы. На этих
основах Либих построил свое учение о рациональном
земледелии, которое принесло уже самые богатые плоды;
разработкой его до сих пор занимаются люди науки и
практики» [20, стр. 441].
Применением искусственных удобрений в сельском
хозяйстве были созданы возможности не только для
сохранения плодородия почвы, но и для его повышения: многие
истощенные области сельскохозяйственного производства
вернулись к жизни, и количество голодных лет
уменьшилось. Начиная с 1847 г. и в течение нескольких
десятилетий в Германии не знали ни одного неурожая, грозившего
населению голодом; наоборот, урожаи из года в год
повышались. Благотворное влияние агрохимических работ Ли-
биха проявилось и в том, что они сокрушали
человеконенавистническое «учение» Мальтуса. Многие страны получили
возможность обеспечивать население питанием независимо
от ввоза продуктов из-за рубежа. В 1862 г. Либих с
законной гордостью и радостью отметил успехи своего учения
в двухтомном седьмом издании земледельческой химии,
вышедшем в Брауншвейге. Первый том назывался
«Химический процесс питания растений», второй — «Естественные
законы земледелия». В начале 1865 г. Либих писал: «С
истинной радостью приветствую я переворот, который
произошел в сельском хозяйстве» [21, стр. 36].
*^
ТРУДЫ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ химии
т исследования питания растений Либих
последовательно перешел к изучению
питания животных и людей. Такой переход
вполне закономерен, если учесть, какую
важность придавал он проблеме обеспечения
человеческого общества средствами питания.
«Нет ни одной отрасли,— писал Либих,—
которая могла бы по важности сравниться с земледелием,
производством продуктов питания людей и животных; в нем
лежит основа благосостояния, развития человеческого
общества, основа богатства государства; оно — основа всей
промышленности» [21, стр. 36].
Началом работ Либиха в области биологической химии
можно считать проведенное им совместное с Велером
«Исследование природы мочевой кислоты» (1838). Здесь
а также в последующих трудах о крови, желчи, составных
частях жидкости мышц Либих применил точные
химические методы и этим стимулировал дальнейшее развитие
данной отрасли науки. В 1842 г. сначала в Брауншвейге,
а затем в Лондоне был издан фундаментальный труд
Либиха «Органическая химия в приложении к физиологии и
патологии» (Die organische Cheme in ihrer Anwendung auf
Physiologie und' Pathologie). Здесь Либих снова выступил как
новатор, выдвинувший ряд блестящих идей и методов ис-
109
следования. Особо важной методологической особенностью
этой книги было то, что Либих сделал в ней попытку
применить принцип сохранения энергии к объяснению так
называемого животного тепла.
Таким образом, в эти первые годы экспериментального
подтверждения важнейшего закона природы — закона
сохранения и превращения энергии, Либих одним из первых
понял и поддержал идеи Роберта Майера. С этих позиций
Либих подошел к вопросам возникновения в животном
организме большого количества тепла, связи между дыханием
и теплообразованием, дыханием и цветом крови и многим
другим вопросам, остававшимся тогда невыясненными.
Основным условием жизни животных и человека
является, как подчеркивает Либих, введение в организм больших
количеств различных веществ в твердом, жидком и
растворенном виде, а также значительного количества кислорода
воздуха. В год организм взрослого человека поглощает
несколько сот килограммов кислорода и свыше тонны
остальных веществ. Отходы организма через почки и кожу
составляют значительно меньшую величину. Чем же
объяснить наблюдения физиологов, утверждающих, что в
течение суток вес тела взрослого человека почти не изменяется?
Куда девается огромное количество поглощенных веществ,
в первую очередь кислорода? Либих дал ответ на этот
вопрос.
Весь воспринятый телом кислород участвует в
окислении составных частей пищи, соединяется с ними, а затем
удаляется из организма через легкие и кожу в форме
углекислого газа и паров воды. Если принять вес крови в теле
человека (при содержании 80% воды) за 12 фунтов, то для
полного превращения углерода и водорода крови в
углекислоту и воду необходимо такое количество кислорода,
которое человек вдыхает за два-три дня. «Безразлично,— пишет
Либих,— входит ли кислород в составные части крови или
в другие материи тела, богатые углеродом и водородом;
ничто не может противоречить заключению, что за два дня
и пять часов в человеческое тело со средствами питания
должно быть введено столько углерода и водорода, сколько
необходимо, чтобы снабдить этими составными частями
12 фунтов крови. При этом предполагается, что вес тела не
изменяется, что оно сохраняет свое нормальное состояние.
Эта подача совершается через пищу...
110
В настоящее время потребление кислорода выражается
числом вдохов. Ясно, что для одного и того же
животного количество принятой пищи изменяется в зависимости
от силы и количества вдохов. Ребенок, органы дыхания
которого находятся в большей деятельности, должен
принимать пищу чаще и в сравнительно большем количестве, чем
взрослый, который может переносить голод намного легче.
Птица умирает при отсутствии пищи на третий день;
змея, которая, дыша под стеклянным колпаком, поглощает
в час едва ли так много кислорода, чтобы получившаяся
при этом углекислота была заметна, живет без пищи три
месяца и дольше. В состоянии покоя число вдохов
меньше, чем в состоянии движения и работы. Количество
пищи, необходимой в обоих случаях, должно находиться в
сказанном соотношении. Потребность в кислороде зависит
только от дыхания и движения крови, и этим объясняется
ослабляющее влияние жары в теплом климате и большая
потребность в кислороде на холодном воздухе, на котором
число и глубина вдохов увеличиваются. Взаимодействие
составных частей пищи и кислорода, разносимого по телу
циркуляцией крови, является источником животного тепла»
[5, стр. 65, 66].
Таким образом, кислород вдыхается, углекислота и
вода — продукты сгорания пищевых веществ —
выдыхаются, и при этом создается свойственное телу тепло.
Очевидно, переход венозной крови в артериальную, изменение ее
цвета обусловлено выделением углекислого газа, который
затем поступает >в атмосферу, и поглощением кислорода,
который затем соединяется с определенными составными
частями крови.
Возникающее тепло имеет огромное значение для
жизнедеятельности организма, но это не единственное
назначение питательных веществ. Если одна часть их, окисляясь,
превращается в углекислоту и воду, то другая выполняет не
менее важную роль: она служит материалом для
построения тела, благодаря ей происходит увеличение его веса,
развитие и обновление органов. В статье «Питание,
образование крови и жира в животном организме» (1842) Либих
предлагает классифицировать питательные вещества на
пластические (образующие главные составные части крови
и тела) и на создающие тепло, или респираторные.
Несмотря на упрощенность такого деления, оно в принципе
///
сохранилось в биохимии до наших дней; даже термин
«пластические составные части пищи» до сих пор употребляется
физиологами и биохимиками.
Сейчас многие из биохимических идей Либиха кажутся
очевидными и тривиальными. Иные из них встречались в
трудах его предшественников, например, Лавуазье, Р. Майе-
ра, некоторых физиологов, но никто не формулировал их
так четко, обобщенно и аргументированно, как Либих. За
ним остается заслуга создания основ учения о средствах
питания животных и человека, рассмотрения роли
разнообразных пищевых веществ в жизнедеятельности организма.
Методически биохимические исследования Либиха
аналогичны агрохимическим: он исследовал ткани животных, а
затем установил, из каких питательных веществ они могут
быть образованы.
Либих считал, что главной составной частью крови
является кровяной альбумин. Повсюду в органическом мире,
где развивается животный организм, мы встречаемся с
явлениями, зависящими от присутствия альбумина, т. е.
белка. Организм животного и человека не может создавать
альбумин из простых неорганических веществ, как это было
в случае растений. Нужно, чтобы в пище содержался
альбумин или вещество, способное перейти в него. Самым лучшим
в этом отношении видом пищи является мясо, главная часть
которого (мясной фибрин) обладает весьма сходными
свойствами с яичным белком или кровяным альбумином. В
процессе усвоения фибрин постепенно превращается в
альбумин крови. В молоке казеин имеет такое же значение, как
белок в яйцах, альбумин в крови, фибрин в мясе. В
растительной пище аналогичные азотсодержащие составные
части именуются растительным фибрином, растительным
казеином, растительным альбумином. Чем больше расти-
тельного белка в кормовом растении, тем меньше его
нужно для сохранения и увеличения веса животного.
Либих пишет, что относительно много растительных белков
содержится в семенах, горохе, чечевице, фасоли и других
частях и видах растений.
В изложении вопроса о природе и значении белков
Либих опирался не только на свои работы, но и на
классические труды голландского ученого Г. Мульдера [23] и
русского химика Н. Э. Лясковского [24], который
некоторое время работал в его лаборатории.
m
Роль белков, сахаристых веществ (углеводов) и жиров
в животном организме Либих рассматривал во взаимосвязи
с жизнедеятельностью растений. Из составных частей
атмосферы и земной коры растения создают в конечном итоге
кровь травоядных животных. С кровью и мясом травоядных
плотоядные поглощают вещества растительного
происхождения. Составные части растений, содержащие азот и серу,
принимают в организме травоядного формы и качества
мясного фибрина и животного альбумина плотоядного
животного.
Мясная пища содержит питательную составную часть
растений в концентрированном 'виде. Наряду с
пластическими питательными веществами организму необходимы и
те части пищи, которые служат как бы горючим
материалом, например крахмал, сахаристые вещества, позже
объединенные термином углеводы, и жиры.
Крахмал и жиры должны входить в состав пищи
обязательно в определенных отношениях. Крахмал и сахар в
химическом отношении проявляют большое сходство; это
доказал петербургский химик К. С. Кирхгоф еще в начале
XIX в. (он превращал крахмал в сахар под влиянием
кислот, солода и слюны).
Пластические пищевые вещества и продукты,
производящие тепло, должны входить в ежедневный рацион в
достаточном количестве и в определенных весовых
соотношениях. Это важно для сохранения веса и рабочей энергии
тела. Пластический материал может заменять в случае
недостатка «горючий материал», в ущерб веса тела, но
обратная заменяемость не имеет места, думал Либих. Обе
названные и необходимые части пищи в чистом виде
неудобоваримы. Животные, питающиеся только белком и
крахмалом, должны погибнуть. Вещества, которые обязательно
должны присутствовать при пищеварении и помогать
пластическим и теплообразующим веществам выполнять свои
функции, Либих назвал несгораемыми частями или
питательными солями крови, иначе минеральными частями
пищи. Кровь всегда содержит некоторое, но вполне
определенное количество фосфорной кислоты, калия, кальция,
магния, железа и особенно поваренной соли. Поэтому для того,
чтобы сохранить питательную ценность мяса, нужно
позаботиться, чтобы при его приготовлении не терялись
питательные соли. Питательные свойства мяса значительно воз-
3 Ю. С. Мусабеков
113
растают, если его употреблять вместе с бульоном, который
существенно содействует пищеварению. Мясной сок
содержит ряд необходимых организму растворимых веществ. Для
облегчения пищеварения при употреблении растительной
пищи нужно добавлять к ней мясной сок. Растительные
средства питания при этом используются более
рационально, поскольку якобы не требуется белка для выработки
растворимых веществ и растительные вещества почти целиком
превращаются в альбумин. Так объяснял питание
животных Либих.
Научный подход Либиха к проблемам питания
человека со временем мало изменился, его учение стало
общепризнанным. Однако теперь даже трудно представить,
какого труда стоило ему отстаивать свои взгляды, сколько
пришлось бороться с предубеждениями физиологов,
поваров, пивоваров пекарей и просто обывателей. Немецкую
кухню Либих считал достаточно целесообразной и
отвечающей научным требованиям, но требующей некоторых
улучшений. Он организовал массовые исследования жиров и
составных частей мяса, и это привело его к открытию новыу
органических веществ. Последняя экспериментальная
работа Либиха относится к этой области.
Из" органических веществ, входящих в состав мышц,
Либиха очень интересовали креатин и азотсодержащие
кислоты. Концентрация этих соединений в мышцах очень
невелика, и Либиху приходилось перерабатывать большие
количества мяса. Он писал Велеру: «Теперь я переработал
старого тощего коия и надеюсь получить столько креатина,
что смогу окончить исследование. Разложение креатина
баритом, а также анализ одного из азотсодержащих кислот
мяса закончены... Я переработал всего 102 курицы и около
300 фунтов мяса» [10, стр. 58]. В ответ на это Велер
иронизирует: «Я мысленно вижу перед собой те вонючие
жидкости, которые у тебя в лаборатории, и суп, пахнущий
кониной, который ты заставляешь варить» [10, стр. 59].
Исследование мускульных веществ привело Либиха к
изготовлению мясного экстракта. Он не предполагал
заменять им мясо (как пытались представить его
недоброжелатели), а хотел компенсировать отсутствие мяса в рационе
вегетарианцев.
Либих установил присутствие в экстракте
мясомолочной кислоты, соли которой обладали несколько иными свой-
114
ствами, чем соли обычной молочной кислоты, образующейся
при брожении. Эти наблюдения Либиха близки к стереохи-
мическим понятиям, развитым значительно позднее; они
еще раз подтверждают исключительную наблюдательность
Либиха.
Для повышения устойчивости экстракта Либих удалял
из него белок и жир, предполагая, что при употреблении
экстракта вместе с другими азотистыми продуктами
питания (хлебом, картофелем, горохом, фасолью) он до
некоторой степени заменяет мясо. Методику приготовления
мясного экстракта он описывал следующим образом: «Достаточно
получасовой варки, чтобы из мелконарубленного мяса, при
в 8—10 раз большем в сравнении с мясом количестве воды,
извлечь все питательные его составные части. До
выпаривания бульон этот должен быть вполне очищен от жира
(который может горкнуть), а само выпаривание должно
быть произведено на водяной бане. Мясной экстракт
никогда не бывает тверд и хрупок, а напротив, мягок и легко
втягивает влажность из воздуха. Вываривание мяса может
быть произведено в чистых медных котлах, для
выпаривания же должно употреблять фарфоровые сосуды» [17, т. И-
стр. 119].
Полезность мясного экстракта Либих объяснял
наличием в нем питательных солей и так называемых пряностей,
а после него Войне — присутствием веществ,
стимулирующих деятельность желудочных нервов или, по более
поздним представлениям, содержанием расщепляющих
ферментов. Так или иначе, но остается фактом, что мясной экстракт
выдержал более чем вековое испытание и стал ценным
средством питания туристов, полярников, больных и просто
любителей быстрого приготовления бульона.
Либих вложил много усилий в дело организации
промышленного изготовления мясного экстракта. Вначале его
изготовляли в мюнхенской придворной аптеке Петтенко-
фера в небольших количествах как диэтическое средство.
В 1850 г. на экстракт было переработано всего 100 кг мяса.
В 1862 г. инженер Гиберт из Гамбурга вызвался основать в
Аргентине — стране огромных мясных ресурсов —
промышленное производство, но с условием, что фабрикуемый
продукт будет именоваться «мясным экстрактом Либиха».
Ученый принял условие, но с оговоркой: качество
экстракта должно постоянно контролироваться им самим и его дру-
115
8*
гам Петтенкофером. Контроль проводился весьма
добросовестно, мясной экстракт был безупречным к пользовался
большим спросом. После кончины Либиха контроль
осуществляли другие исследователи.
Успех Гиберта привлек к нему несколько крупных
предпринимателей. Была создана компания «Fray — Bentos —
Jesellshaft Jiebert», имевшая правление в Антверпене.
Значение изготовления экстракта для экономики
южноамериканских стран станет очевидным из следующих данных:
завод компании в Уругвае ежегодно перерабатывал
100 тыс. туш скота, а в Аргентине — более 200 тыс. туш (на
Аргентинском заводе работало около 5000 рабочих).
Мясной экстракт в жестяных 50-килограммовых банках
переправляли в Антверпен, где его расфасовывали в фаянсовые
горшочки или металлические тюбики и в таком виде
поставляли для продажи.
Вскоре указанная компания была преобразована в еще
более крупное акционерное общество «Liebigs extrat of
meat» (Либиховский мясной экстракт), правление которого
находилось в Лондоне. Создавались новые завюды в Южной
Америке и Австралии. Все побочные продукты фабрикации
экстракта тщательно использовали: шкуры в засоленном
виде вывозили на выделку, сало перерабатывали в
пищевые жиры различных марок, вываренное мясо сушили и
размалывали, и оно служило прекрасным кормом для скота:
остальные отходы использовали в сельском хозяйстве в
качестве отличного удобрения. Большим спросом
пользовались консервированные бычьи языки.
Деятельности концерна благоприятствовала большая
разница в цене «а мясо в Европе и Южной Америке и
невозможность пересылки свежего мяса на далекие
расстояния. С возникновением и быстрым развитием холодильной
промышленности концерн стал жертвой непосильной
конкурентной борьбы.
Либих сделал крупный вклад в разработку проблемы
брожения .вообще, и спиртового ib частности. И здесь он
выступает не только как ученый — глава одной из двух
враждовавших между собой теорий спиртового брожения,
но и как практик, предложивший остроумный минеральный
заменитель дрожжей для приготовления теста.
Практическое применение процесс брожения нашел еще
в давние времена: в хлебопечении, при изготовлении вино-
116
градных вин, спирта, пива, ряда молочных продуктов и т. д.
Научное изучение его началось в XVIII в., когда Ван-Гель-
монт и другие ученые пришли к заключению, что брожение
сахаристых жидкостей вызывается специальным
возбудителем, или ферментом. Позже Лавуазье установил, что при
спиртовом брожении виноградный сахар распадается на
спирт и углекислый газ и определил их количественное
соотношение. В середине XIX в. сущность процесса брожения
вызвала горячую дискуссию между сторонниками взглядов
Либиха, с одной стороны, и Пастера,— с другой.
По мнению Либиха (1839), фермент спиртового
брожения представляет собой нестойкое органическое вещество,
находящееся в процессе разложения. Интенсивное
внутримолекулярное движение разлагающегося вещества
передается частицами сахара, которые в свою очередь начинают
распадаться; происходит нечто вроде химической индукции.
Эта теория без участия Либиха получила в истории науки
неправильное наименование механической;
правильнее было бы назвать ее химической теорией брожения.
Этой теории противопоставлялась система взглядов
Пастера, известная как биологическая теория брожения.
Согласно Пастеру, брожение — биологический процесс,
особая форма обмена веществ дрожжевых клеток; сбраживание
сахара происходит внутри клетки и служит ей источником
энергии. Пастер говорил, что брожение есть жизнь без
воздуха, без свободного кислорода. В период дискуссии
большинство естествоиспытателей склонилось на сторону
биологической теории, однако дальнейшее развитие
биохимии и микробиологии показало, что обе теории содержат
«рациональное зерно», причем взгляды Либиха оказались
ближе к современной каталитической теории брожения.
Пастер не отрицал возможности существования в
дрожжах особого катализатора, пробовал выделить из дрожжей
фермент или вызвать брожение в отсутствии дрожжевых
клеток. Но несовершенство техники биохимического
эксперимента того времени привело ученого к отрицательным
результатам. Виталисты воспользовались ими, чтобы считать
связь между брожением и жизнедеятельностью клеток про«
явлением жизненной силы.
Первое доказательство возможности неклеточного
брожения принадлежит М. М. Манссеиной, которая в 1871—
1872 гг. путем растирания дрожжей с горным хрусталем
117
получила сок, не содержащий целых клеток, но все же
вызывающий превращение сахара в спирт. Она же установила,
что убитые высокой температурой дрожжевые клетки не
полностью теряют способность вызывать брожение. Эти
интересные исследования Манассеиной, а также более
обстоятельные труды Бухнера, осуществленные четверть
века спустя после ее работ (1897), развеяли
виталистические тенденции в учении о брожении, возродили
правомерность идеи Либиха и послужили основой каталитической,
ферментативной теории брожения. Дальнейшие работы
показали, что фермент спиртового брожения, первоначально
названный зимазой, представляет собой смесь нескольких
ферментов. В результате трудов Л. А. Иванова, А. Н.
Лебедева, С. П. Костычева, Г. Эмбдена, О. Мейргофа, К. Ней-
берга и других выяснился механизм сложнейших
химических превращений, происходящих при брожении.
Либих считал, что практики хлебопечения меньше
согласуют свою работу с данными науки, чем работники
кулинарии. Особенно неоправданным казался ему способ
изготовления и химический состав белого хлеба, которому
многие отдают предпочтение из-за его вкусовых качеств. Белый
хлеб имеет меньше белков, чем хлеб, содержащий много
отрубей, и, следовательно, питательная ценность его ниже.
К тому же, при приготовлении теста 2—3% крахмала
разрушается вследствие брожения. Если учесть все несметное
количество хлеба, выпекаемого ежедневно, эти несколько
процентов составят весьма внушительную потерю.
Механизм процесса брожения Либих объяснил
образованием пузырьков углекислого газа, которые поднимают
тесто и делают его пористым, рыхлым, легко
перевариваемым. Отсюда Либих сделал практический вывод:
углекислоту можно вводить в тесто искусственно и тем
предотвратить потери крахмала. Вначале он предложил для этого
двууглекислый натрий и соляную кислоту; они вносились в
тесто раздельно, а затем перемешивались. Несколько позднее
Либих заменил соляную кислоту кислым фосфорнокислым
кальцием. Сухая смесь солей поступила в продажу под
названием «искусственных дрожжей». Проведя большое
количество экспериментов, Либих убедился, что при замене
дрожжей минеральными солями получаются вполне
удовлетворительные результаты: питательная ценность муки
полностью сохраняется, хлеб получается вкусным и легко-
//<S
усваиваемым. Однако, несмотря на старания многих
частных лиц и органов власти, либиховские нововведения в
хлебопечение не получили широкого распространения на
родине ученого. Но в других странах, в частности Англии и
Америке, они быстро обрели популярность. В США было
предложено вводить в тесто углекислый газ под давлением.
Способ Либиха не вытеснил применения дрожжей и до
нашего времени минеральные заменители достаточно широко
используются в домашних условиях, а особенно в
кондитерской промышленности.
Либих потрудился и в области улучшения детского
питания. Он установил, что в женском молоке молочного
сахара больше, а белков меньше, чем в коровьем. Поэтому
при замене материнского молока коровьим надо соблюдать
большую осторожность. В качестве заменителя женского
молока Либих предложил специальную детскую муку,
которая приготовляется таким способом: пшеничная мука
смешивается с солодом, а затем нагревается до 65° для осаха-
ривания крахмала муки. Если смесь разбавить таким же
количеством воды, то получится суп, получивший название
«детский». Самому Либиху детский суп причинил
немало приятных и неприятных переживаний. На
собственных внуках он испытал благоприятное действие нового
средства, но некоторых других детей оно привело к нехорошим
результатам и одно время на суп был наложен запрет.
Однако Либиху удалось доказать, что отрицательные
результаты были вызваны плохим выполнением его советов.
Описан такой случай: Либих удачно выкормил ребенка
одного ярого противника детского супа, и этот противник
превратился в ярого сторонника ученого.
В последние годы жизни Либих занимался
усовершенствованием приготовления одного из любимейших и
полезных напитко'в взрослых — кофе. В частности, он хотел
найти способ превращения кофе в устойчивый экстракт,
который был бы удобен для солдат в полевых условиях. Но
достигнутые им результаты были более чем скромными, и
сам Либих остался недовольным ими.
Разнообразие работ Юстуса Либиха в области
биологической пищевой химии свидетельствует о широте его
научных интересов, а результаты его деятельности вызывают
удивление.
•*а*
<£_ . _. —^@И> ft
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ы уже рассмотрели некоторые важные работы
Либиха, которые могут быть отнесены к
технологическим: организация производства
минеральных удобрений, мясного экстракта,
бездрожжевого изготовления теста и др. Здесь
мы коснемся ряда усовершенствований,
внесенных ученым в производство химических
продуктов и в устройство физических приборов.
Либих не был инженером в современном значении этого
слова, но, будучи высокоодаренным химиком и
естествоиспытателем, он быстро ориентировался во многих
производствах и давал советы, приводившие иногда к поразительным
экономическим эффектам. Большая часть технических
усовершенствований, предложенных Либихом, была сделана в
результате его посещений химических заводов.
Предприниматели и заводчики хорошо понимали высокую ценность
консультаций Либиха и часто ими пользовались.
Другая часть усовершенствований, предложенных
Либихом, представляет собой претворение в практику его
оригинальных лабораторных изысканий и открытий. В таких
случаях Либих выступает как основоположник новой ветви
или раздела химической технологии.
Особенно много внимания технологическим вопросам
Либих уделял после 1840 г., т. е. во вторую половину своей
120
творческой деятельности. На основании этого некоторые
биографы делят его творческую жизнь на три периода, из
которых только средний (1830—1840) считают периодом
чисто научного творчества; первый и третий периоды Ли-
бих якобы занимался главным образом практическими
задачами. Так, например, рассматривает творчество Либиха
Вальден в своей статье, проникнутой духом метафизики и
психоанализа (25]. Мы надеемся, что факты, излагаемые в
нашем повествовании, опровергнут эти взгляды.
Теоретические и прикладные исследования Либиха все время
переплетались и в разные, неподдающиеся четкому разграничению
периоды его жизни преобладали то одни, то другие. Либих
никогда не забывал высокого идеала ученого-химика: скак
можно скорей сделать результаты своей научной работы
полезными для человечества. Он не раз подчеркивал
громадную роль химии в развитии многочисленных отраслей
промышленности — металлургической, химической,
фармацевтической, пищевой, текстильной и др.
Уже в первую поездку "в Англию Либих предложил
способы усовершенствования производства кровяной соли
и берлинской лазури. Англичане любезно предоставили
ученому гостю широкую возможность ознакомления с
химической промышленностью. Либиха при посещении
заводов, как мы упоминали, удивляла отсталость многих
химических производств, даже крупных. Значительный разрыв
между теорией, излагавшейся в учебниках, и заводской
практикой — вообще характерная черта той эпохи.
Технологические процессы разрабатывались чисто эмпирически,
установленные теоретические понятия оставались
неиспользованными. Вследствие этого производство было излишне
усложнено, несовершенно и неэкономично.
Примером такого производства явилась в глазах Либиха
фабрика, вырабатывающая синий краситель — берлинскую
лазурь. В плавильном цехе завода кровяной соли стоял
такой грохот, что даже недолгое пребывание в кем вызывало
глухую боль в ушах. Это объяснялось тем, что мешалки,
погруженные в плавящуюся массу, были сильно прижаты ко
дну котлов и с трудом соскабливали железо, необходимое
для образования кровяной соли. На замечание Либиха о
шуме хозяин фабрики Мак-Интош ответил: «Чем громче
кричат мои фабричные горшки, тем больше прибыли я
получаю». Смесь растворов железного купороса и кровяной
121
соли перетекала последовательно через несколько открытых
ванн, расположенных по уступам высоко друг над другом;
большая поверхность контакта с воздухом
благоприятствовала более полному окислению продукта. Эта операция
делала условия работы в цехе особо вредным.
Либих объяснил фабриканту, что добавление к плаву
старого железа устранит шум, а несколько горстей
окислителя (хлорной извести) вполне заменят каскад.
Заводчик был ошеломлен убедительностью советов и быстро
воспользовался ими. Большой экономический эффект и
ликвидация шума были вознаграждением за его расторопность.
Либих же после этого случая стал еще более убежденным
пропагандистом содружества науки и практики, поборником
вмешательства ученых в производство. Эту мысль Либих
неуклонно проводил в своих замечательных «Письмах о
химии», переведенных на многие языки. И в ту эпоху эта
истина нашего времени 'воспринималась как новая
передовая идея.
Из технологических работ Ли'биха, использованных еще
при его жизни, можно назвать также усовершенствование
получения цианидов, которое тесно примыкает к его
рационализации производства кровяной соли. Он показал, что
выход цианистого калия можно существенно увеличить,
если синь-кали до плавления смешивать с накаленным
поташом в соотношении 8 : 3 весовых частей; при этом
осаждается железо и выделяется углекислый газ. Метод Либиха был
широко использован после 1840 г., когда в связи с
развитием серебрения путем цианирования появилась большая
потребность в цианистом калии. Развитие
гальванопластики в свою очередь повлекло за собой расцвет
художественной промышленности.
Логическим продолжением этих работ является
открытие Либихом так называемой реакции серебряного зеркала.
Ранее, исследуя альдегиды, он установил их
восстановительную (раскисляющую) способность. В щелочной среде
аммиачный раствор окиси серебра (раствор азотнокислого
серебра в присутствии избытка гидрата окиси аммония)
взаимодействует с альдегидами с выделением металлического
серебра. Последнее отлично осаждается на стекле, образуя
зеркальную поверхность. Эта реакция с легкой руки Либиха
стала одним из самых распространенных демонстрационных
опытов в средних и высших школах. Кроме того, она служит
122
чувствительным и эффектным способом обнаружения
альдегидной группы в органических соединениях.
Когда реакция серебряного зеркала была описана в
литературе (1856), мюнхенский аптекарь Штейхель
обратился к Либйху с просьбой разработать новый технический
рецепт получения зеркал. Ученый согласился, но
дополнительно провел большую экспериментальную работу, в
результате которой выяснил, что реакция протекает более
эффективно, если аммиачное серебро обрабатывать
раствором глюкозы. Ободренный успехом, Либих предложил
использовать его метод изготовления зеркал взамен прежнего,
очень вредного амальгамного способа (натирание стекла
амальгамой олова), вызывавшего многочисленные
отравления !. В 1858 г. Либих писал Клемму: «Я опять занимаюсь
фабрикацией зеркал, и благодаря некоторым улучшениям
думаю, что можно приготовить правильные зеркала любых
размеров» [10, стр. 78].
К сожалению, Либих не дожил до того времени, когда
его замечательный способ производства зеркал повсеместно
вытеснил амальгамный способ.
В этом же 1856 г. ученый разработал способ золочения
полых стеклянных тел раствором хлорного золота в
цианистом кали. К работам по серебрению и золочению тесно
примыкают иccлeдoвiaния по меднению (куприро'ванию) —
важному процессу, который был открыт Либихом и
постепенно приобрел большое значение и в практике и при
разработке теорий коррозии, катализа и др. Сам Либих
считал открытое им меднение большой коммерческой удачей.
«Меднение серебряного слоя,— писал он Клемму,— было
счастливой идеей, которая нова, и я думаю взять на нее
патент в различных странах» [10, стр. 78].
Примеров улучшения промышленных процессов >в
результате внедрения лабораторных изысканий Либиха очень
много. Так, он разработал улучшенные способы получения
йодистых солей калия и натрия; его мысль об образовании
уксусной кислоты как продукта окисления спирта
оказалась полезной в производстве уксуса. В одной из статей
1832 г. Либих писал: «Господин аптекарь Э. Мерк в
1 Из дневников Д. И. Менделеева (1861) мы узнаем, что
аналогичный амальгамный способ золочения вызвал при покрытии купола Иса-
акиевского собора смерте\ьное отравление около 120 человек.
123
Дармштадте решил, по моему предложению, организовать
производство растительных оснований (алкалоидов) и
других подобных веществ в большом масштабе». Не
преувеличивая, можно сказать, что Либих является вдохновителем
создания германской промышленности химических
препаратов и реактивов, которая до сих пор славится большим
ассортиментом и высоким качеством своей продукции.
Горячий интерес ученого к судьбам химических
производств проглядывает и в его научно-популярных книгах и
статьях. Здесь он дает остроумные и оригинальные оценки
различным отраслям химической техники, делает
прогнозы ее развития, определяет ее экономическую
целесообразность. Особо важную роль он отводит содовой,
мыловаренной, сернокислотной и свеклосахарной
промышленности.
Основой химической промышленности часто считают
производство соды из поваренной соли, пишет Либих в
«Письмах о химии». В свою очередь сода используется для
получения мыла и стекла, двух важных продуктов
технического и бытового значения. «Мыло есть масштаб
благосостояния и развития государства. Политико-экономисты,
конечно, не придадут ему такого значения; однако же будем
ли мы принимать это в шутку или серьезно, верно то, что
при сравнении между собою двух одинаково населенных
государств более богатым, зажиточным и развитым можно
считать то из них, которое расходует большее количество
мыла, потому что продажа и употребление его зависят не
от моды, не от прихотей человека, но от чувства
прекрасного, желания сохранить здоровье, наконец от
удовольствия, доставляемого чистотой» [17, т. I, стр. 148].
Франция покупала соду в Испании, где она добывалась
из морских растений и платила за нее десятки миллионов
франков. Когда наполеоновские войны нарушили
торговлю, на помощь пришел Леблан, предложивший способ
промышленного изготовления соды из поваренной соли.
Вследствие этого на соль была введена очень -высокая пошлина.
Либих возмущенно называл ее самой отвратительной и
самой противоестественной пошлиной на континенте. «Мы
видим, что в инстинкте барана или быка больше
проглядывает мудрости, нежели в распоряжениях существа,
которое однако же довольно часто считает себя образцом
доброты и разума»,— писал он [17, т. II, стр. 104].
124
Для выработки соды по методу Леблана нужна была
серная кислота, и спрос на нее сильно возрос. Стали
усиленно разрабатываться и совершенствоваться методы ее
экономичного получения. Результатом этих изысканий,
указывает Либих, явился свинцово-камерный способ
получения серной кислоты. Трудность сшивания свинцовых
пластин была преодолена применением пламени водорода с
кислородом. Большое влияние на стоимость кислоты, на-
ряду с серой, оказывала селитра: цена на калиевую
(индийскую) селитру в четыре раза превышала цену на серу.
В Англии было взято пятнадцать патентов на способы
возврата серы в производство соды, с последующим
превращением ее в серную кислоту.
Когда в южном Перу в пустыне Атакама были открыты
богатые залежи чилийской селитры, калиевая селитра была
вытеснена с рынка, и стоимость серной кислоты
значительно понизилась. С развитием производства серной кислоты
огром'ные суммы потекли в Сицилию. В Атакаме возникли
ремесла и повысилась зажиточность ее населения; серная
кислота сделала прибыльной добычу платины в России
(сборники для серной кислоты изготовлялись из платины
и каждый из них стоил 10—20 тыс. гульденов). В
Германии в производстве стекла и фарфора сода заменила
древесную золу, являющуюся полезнейшим удобрением.
Большие количества серной кислоты стали расходоваться
на отделение серебра от меди и золота; основная же масса
ее шла иа получение минеральных удобрений.
В производстве соды образуется побочный продукт —
соляная кислота. Вначале она выбрасывалась в атмосферу,
но затем кислоту стали улавливать и торговать ею и ее
многочисленными производными, особенно хлорной
известью. Едкий натр, получаемый из соды, нашел применение
при получении жидкого стекла, которое значительно
подешевело после обнаружения в Лкшсбургской степи
залежей инфузорной земли, состоящей из кремнезема. В это
время был использован либиховский способ изготовления
жидкого стекла — обработка инфузорной земли едким
натром.
Труды Либиха по созданию жидкого стекла вызвали
огромный интерес современников. В 1856 г. он писал Ве-
леру: «Сочинение о жидком стекле впутало меня в
мешающую мне переписку; со всех сторон приходят люди,
125
которые хотят сооружать заводы и требуют инструкций ь
установок» [10, стр. 74].
Ввиду дороговизны серы в ряде стран постепенно
перешли на получение' кислоты из серного колчедана.
Серная кислота вскоре стала настолько многотоннажным
продуктом, что во времена Либиха обсуждался вопрос о
получении промышленного электрического тока с
использованием цинка и серной кислоты. Либих предостерегал от
этого увлечения, доказывая гораздо большую
эффективность использования угля, например, в паровых двигателях.
Либих правильно оценил значение серной кислоты для
химической промышленности. Изучая взаимосвязь
развития отдельных химических производств в различных
странах, Либих пришел к заключению, что в целом химическая
промышленность в значительной степени основана на
серной кислоте. О степени развития химической
промышленности в любой стране можно с уверенностью судить по
расходу серной кислоты. Этот технико-экономический
прием определения уровня развития химической
промышленности стал общепринятым; им широко пользуются и в
наше время, но имя его автора стало забываться.
Жизнь оправдала большинство прогнозов Либиха и то,
что отдельные прогнозы оказались неправильными,
кажется нам вполне естественным. Когда ученый делает так
много столь далеко идущих выводов, неудивительно, что
несмотря на всю его прозорливость, отдельные из них не
находят подтверждения. К таким неудачам Либиха следует
отнести его представления о свеклосахарном производстве.
Здесь он придерживался неверной концепции о малой
перспективности развития сахарной промышленности на
основе свеклы.
Сопоставляя возможности производства сахара из
свеклы и из тростника, Либих считал, что свеклосахарное
производство может быть оправдано только повышением налогов
на тростниковый сахар. Не будучи сторонником
подобных налогов, даже если они служат подъему местной
промышленности, Либих писал: «Если мы представим себе,
что для обеспечения нас сахаром государство содержало бы
огромную теплицу, в которой разводится сахарный
тростник, с повышающимися расходами в виде налогов в 8V2
миллионов гульденов, то открытие острова, на котором буйно
растет сахарный тростник и где он может быть легко и с
126
Малыми издержками культивирован, было бы
счастливейшим событием, особенно если этот остров удовлетворял бы
нашу потребность в сахаре с экономией всех расходов на
теплицу. Каждый в отдельности имел бы прибыль при этом;
и налог в стране можно было бы тогда уменьшить с 87г
миллионов гульденов без всякого ущерба. Против этого
расчета можно возражать, утверждая, что производству
сахара из свеклы принадлежит будущее, что оно, развитое
в совершенстве, могло бы набраться достаточной силы,
чтобы уничтожить все расходы на теплицу в 8V2
миллионов гульденов, что оно тогда уплачивало бы государству
столько же налога, сколько фабриканты получали от
потребителей сахара. Это возможно, но будущее все-таки не
за сахаром из свеклы, а за сахаром из тростника»
[5, стр. 90].
Однако, ученый не всегда придерживался таких
взглядов на свеклосахарное производство. В 1828 г. на запрос
немецкого правительства о целесообразности организации
производства сахара из свеклы Либих дал положительное
заключение. Тогда же он занялся тщательным изучением
этой отрасли хозяйства.
Наличие в свекле сахарозы впервые обнаружил
Маркграф еще в 1747 г. Но это открытие не использовалось до
1801 г., когда ученик Маркграфа Ф. К. Ахард организовал
в Силезии первый небольшой завод по переработке свеклы
на сахар. Однако это производство не получило развития
из-за технических трудностей и высокой себестоимости
продукта. В период наполеоновских войн континентальная
блокада закрыла ввоз в Европу колониального сахара и
вынудила Францию, Германию и Россию приступить к
созданию свеклосахарных заводов.
В 1828 г. Либих, посетив один из таких заводов, был
восхищен высоким, для тех времен, уровнем его техники. На
заводе широко использовались паровые двигатели, даже
концентрирование сиропа осуществлялось с помощью пара.
«Чем больше я вникаю в производство сахара из красной
свеклы,— писал ученый,— тем больше я убеждаюсь, что в
химическом отношении на пути его нет никаких трудностей;
правда, я вижу внушительное предприятие...
Целесообразное расположение механизмов, большая опрятность и
быстрота работы — основные черты хорошей фабрики по
выработке сахара» [5, стр. 92]. Восторженный отзыв маститого
m
химика способствовал тому, что вскоре волизи Дармштадта
был построен свеклосахарный завод, и хотя продукция его
не выдержала конкуренции с ввозным сахаром, надежда на
избавление от иностранной зависимости не исчезла, и в
Германии было построено еще несколько заводов по
переработке свеклы.
К 1840 г. производство свекловичного сахара настолько
окрепло, что таможенный союз обложил его налогом.
Совместные усилия химиков и механиков позволили повысить
рентабельность производства свекловичного сахара,
конкурирующего с сахаром, добываемым из тростника и
ввозимым из-за границы. Либих был свидетелем этих
преобразований и вначале приветствовал их. Тем более странным
кажется его более позднее неверие в отечественную
свеклосахарную промышленность. История промышленности
многих стран умеренного климата, где свеклосахарное
производство выдвинулось как одно из самых жизнеспособных
отраслей народного хозяйства, показала несостоятельность
скептического отношения к нему Либиха.
*^ï
ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ
В ТРУДАХ ЛИБИХА
стуса Либиха можно смело назвать
химиком-мыслителем: он всегда
старался разобраться в химических
явлениях с методологических позиций
естествознания и философии. Именно
поэтому ему удавалось перебрасывать
мосты между разрозненными областями
естествознания — химией и физиологией, химией и
агрономией и другими. Во многих произведениях Либиха
встречаются интересные философские размышления; иногда он
отваживался посвящать вопросам методологии специальные
выступления. Альфред Бенрат, один из биографов Либиха,
так характеризует философскую насыщенность его
произведений: «Без основательного философского воспитания,
которому он обязан силой и гибкостью своей мысли, совсем
немыслим Либих-пиеатель, от статей которого всюду веет
философским духом» [5, стр. 6]. Вилли Гартнер в
предисловии к книге Герты Дехенд [10] справедливо говорит о
«философском оптимизме (Либиха.— Ю. М.), рожденном из
веры в прогресс человечества».
В отдельные периоды жизни Либих настолько
увлекался философией, что забрасывал занятия химией, об этом
свидетельствует следующая выдержка из письма Велера
к нему: «Поскольку ты занимаешься теперь в области
философии, то химические подробности тебе кажутся скучными
9 Ю. С. Мугабеков
129
ii мелочными; из твоих недавних высказываний следует, что
тебе совершенно безразлично, имеется ли еще один окисел
кремния или нет» [11, письмо от 3 мая 1863 г.].
Первую половину XIX в., время молодости Юстуса
Либиха, Энгельс охарактеризовал в «Анти-Дюринге» как
эпоху эмпирического естествознания, которое накопило
такую массу положительного материала, что для его каждой
отдельной области стала неустранимой необходимость
систематизации материала сообразно его внутренней связи.
Прогресс эмпирических знаний делал несостоятельным
механистическое объяснение природы, от которого столько
ждали в XVII и XVIII столетиях, и постепенно зародилось
философское течение, сторонники которого пытались
объяснить явления природы умозрительно, пользуясь только
дедукцией. Но поскольку тогда еще очень многого не знали,
пробелы зачастую заполнялись вымыслами. Так возникла
натурфилософия XIX в., под влияние которой попал и Ли-
бих, будучи студентом Эрлангенского университета.
Вкратце остановимся на этом периоде его биографии.
В 1821 г., когда Либих переехал в Эрланген, там
большой популярностью пользовались лекции Ф. В. Шеллинга
(1775—1854), видного представителя идеалистической
философии, ярого противника естественных наук, мистика и
поборника религии, который считал целью своей
философии утверждение веры в бога как верховной власти.
Шеллинга отличали необремененность знаниями естественных
наук и крайний субъективизм в оценке заслуг ученых. Как
известно, он позволял себе говорить, будто Р. Бойль и
И. Ньютон испортили физику (!), так как они исходили
из опыта, а не из единого всеобъемлющего разума. В
естествознании Шеллинг, наряду с Гегелем, был одним из
главных выразителей натурфилософских взглядов.
Шеллинг считал, что знание о мире должно основываться на
отвлеченных, спекулятивных принципах, а не на опытных
данных. «Натурфилософия заменяла неизвестные еще ей
действительные связи явлений идеальными,
фантастическими связями и замещала недостающие факты вымыслами,
пополняя действительные пробелы лишь в воображении»,—
писал Энгельс 1.
1 Ф. Энгельс Людзкг Фейербах и конец классической
немецкой философии. Госполитиздат, 1952, стр. 3'9.
130
Юный Либих тоже не избежал влияния популярной
тогда философии и одно время считал дедукцию
важнейшим методом познания. Но его трезвый ум бьистро
освободился из плена метафизических воззрений и, прочувствовав
картинную призрачность и несостоятельность
натурфилософии, Либих вернулся к естественнонаучному
материализму и резко осудил свои прежние симпатии к Шеллингу:
«Я сам провел часть своих студенческих лет в
университете,— писал он,— где блистал великий философ и
метафизик (Шеллинг.— Ю. М.), кто мог тогда уберечься от
заражения?.. Он погубил два драгоценных года моей жизни;
я не могу выразить страха и ужаса, которые охватили меня,
когда я пришел в сознание от этого опьянения» [5, стр. 5].
Либих больше не сомневался в том, что естественные науки
не могут питаться одними отвлеченными размышлениями
и считал, что они развивались и будут развиваться лишь
на основании опытов, наблюдений и их критического
осмысливания. Как естествоиспытатель, он отдавал
предпочтение индукции.
Одна из его известных философских статей была
посвящена анализу роли дедукции и индукции в естественных
науках. Либих указывал, что чистая дедукция из разума,
как ее проповедовали натурфилософы, не приводит
исследователя к цели и что ведущая роль в поисках
естественнонаучной истины принадлежит индуктивному методу. Только
в самых редких случаях удается выводить
определенные факты из общих идей. Обычно ход работы
исследователя состоит в том, что, руководствуясь данной идеей, он
ищет определенные факты и на основании их устанавливает
общие положения, из которых можно получить новые
факты, похожие на первые. Чтобы исследование на основе
дедукции или индукции было успешным, необходимо
располагать определенными начальными знаниями и идеями.
«Я занимаюсь новым вопросом о происхождении идеи в
естествознании,— писал Либих Велеру.— Я нахожу в
истории исследования природы следующее: для того чтобы
понять факты, нужно иметь в голове определенные идеи.
Тысячи людей видят явления, вызванные определенной
идеей» [11, письмо от 29 июня 1865 г.]. Для исследователя,
работающего дедуктивным методом, основными
знаниями являются уже установленные законы, почерпнутые
из специальной литературы, лекций; для приверженца
131
9*
индуктивного метода — это понимание материальных
явлений, которые он накапливает в химических, физических и
физиологических лабораториях. Для нахождения истины
методом дедукции исследователь испытывает и
экспериментирует с понятиями точно так же, как другой
исследователь — с материальными явлениями. Бесконечно проверяя,
оба отбрасывают в процессе работы все ошибочное и
находят факты, которые не были им известны. Часто идея, из
которой они исходили, оказывается неправильной, а
правильная идея возникает только при исследовании. Именно
поэтому широко распространено мнение, что всякая теория,
стимулируя работу, тем самым ведет к открытиям.
Объяснения Либиха, как можно видеть, не
безукоризненны, но он отнюдь не отвергает самого дедуктивного
метода, считая его плодотворным при наличии богатого
фактического материала, осмысливание которого позволяет
делать обобщения.
Таким образом, распространенное среди биографов
Либиха мнение, что он отвергал дедукцию и признавал
только индуктивный метод, неверно. За внешней критикой
дедукции и предпочтением индукции у Либиха (как
показывает внимательное чтение его произведений) кроется синтез
этих двух неотделимых приемов познания. Естественно, что
в период накопления научных фактов роль индукции будет
преобладать, но когда теория или гипотеза высказаны,
законы вскрыты, дедукция вступает в свои права. Либих
был очень близок именно к такому диалектическому
толкованию роли индукции и дедукции в процессе познания.
Если он и делал ударение на индукции, то это можно
объяснить тем, что его выступления небеспредметны; они были
направлены против натурфилософов, проповедников чистой
дедукции. Либих, по-видимому, невольно исходил из
положения, сформулированного китайской народной мудростью:
чтобы выпрямить кривую палку ее нужно изогну 1ь в
противоположную сторону.
В своей исследовательской работе Либих успешно
пользовался обоими методами — индукцией и дедукцией,
синтезом и анализом; в этом проявлялась стихийная диалектика
его метода. «Индукция и дедукция связаны между собой,—
указывал Энгельс,— столь же необходимым образом,
как синтез и анализ. Вместо того, чтобы односторонне
превозносить одну из них до небес за счет другой, надо ста-
132
раться применять каждую на своем месте, а этого можно
добиться лишь в том случае, если не упускать из
виду их связь между собою, их взаимное дополнение друг
друга» 1.
В письмах к Велеру, Либих не раз высказывал свои
соображения о методологии научного познания, но его друг,
не интересовавшийся философскими вопросами, как
правило, не откликался на них.
Вопросы философии и истории получили отражение в
письмах Либиха и к другому ученому — известному
химику Фридриху Мору. Здесь, в частности, интересна оценка
Либихом алхимии и иатрохимии как исторически
естественных ступеней развития химических знаний. Либих пишет
Мору: «С целью подготовки нового издания «Писем о
химии» я занялся историей алхимии и иатрохимии и открыл,
что они являются не заблуждением времени, а
естественной ступенью развития» [9, письмо от 24 декабря 1849 г.].
В другом письме ему же Либих сообщает: «Я углубился в
историю химии, возвратился к Аристотелю и открыл, что
он не так уж глуп, каким сделали его филологи. Старое
время открылось мне как неизведанный новый мир» [9, письмо
от 9 мая 1850].
Мировоззрение Либиха хорошо выявилось в его
историко-философском исследовании «Философ и
естествоиспытатель, о Фрэнсисе Бэконе Веруламском». Как известно,
английский философ Ф. Бэкон [1561 —1626] считается
основоположникам эмпирической философии; он наиболее полно
разработал индуктивный метод познания в противовес
дедуктивному, который пропагандировал Аристотель. Желая
подчеркнуть новый характер своего мышления, Бэкон
назвал свое основное произведение «Новым Органоном»
(1620 г.) в отличие от аристотельского «Органона».
Поскольку индуктивный метод способствовал развитию
естественных наук, историки и философы называли
Бэкона «отцом естествознания», ставя ему в заслугу открытие
новых путей экспериментальным наукам. Чтобы
ознакомиться с методологией исследовательских работ англичан и
составить о ней собственное мнение, Либих занялся
изучением произведений Бэкона, в частности его знаменитой
1 Ф. Энгельс. Диалектика природы. Госполитиэдат, 1952,
стр. 1180—181.
133
«Историей природы». Результаты, к которым пришел Ли-
бих, были неожиданными.
«Историю природы» Бэкона Либих назвал миром,
полным обмана. Он обнаружил, что Бэкон был не очень
сведущим человеком в области естественных наук своего
времени. Лучшие достижения их — труды Галилея, Кеплера,
Гильберта, Стевина, Гарвея и других — были ему
неизвестны или просто непонятны. Бэкон отрицает вращение Земли
вокруг Солнца, считает электрические и магнитные опыты
Гильберта обманом, но зато верит «в симпатию и
антипатию вещей» и прилагает ко всему этому надежные рецепты
получения золота. Бэкон неправильно решает вопрос о
формах движения материи: он различает 19 видов движения
и предлагает надуманную классификацию их.
Но больше всего удивило Либиха, что он не нашел у
Бэкона никаких сведений о том методе, создание которого
ему приписывали. «Знаменитый индуктивный метод
Бэкона,— пишет Либих,— представляет при ближайшем
рассмотрении имитацию приемов юристов его времени для
подбора доказательства в желаемом смысле и совершенно
непригоден для естествоиспытателя» [26, стр. 220]. По
мнению Либиха, Бэкон где-то перенял идею индукции, но не
сумел разобраться в ней. Его произведение — сочинение
новичка в естествознании, продиктованное не любовью к
науке, а скорее эгоистическим побуждением войти в доверие
к королю Якову I, который боготворил естественные
науки. Слаиа Бэкону была создана не натуралистами, потому
что ни физики, ни химики, ни врачи не могли извлечь у
него ничего полезного для себя, и поэтому к нему и не
обращались. Бэкона прославили некомпетентные дилетанты,
его авторитет укрепили философы и историки, далеко
стоящие от естествознания. Бэкон пользовался этой славой в
течение столетий совсем незаслуженно. Таково было
заключение Либиха.
Отношение Либиха к философии Бэкона хорошо
отражено в письме его к Велеру. Например, он писал: «Моя
статья о Бэконе появится в скором времени в «Allgemeine
Zeitung». Ты будешь удивлен, какой мошенник этот
человек... Метод индукции Бэкона совершенно противоположен
нашему; он герой дилетантизма. Я думаю, что его
философия проживет недолго». Через семь месяцев Либих
торжественно сообщал другу: «Философию Бэкона я так при*
134
пер к стене, что сомневаюсь, перенесет ли она мои удары»
[11, письма от 9 апреля и 8 ноября 1863 г.].
Высказывания Либиха вызвали бурю среди философов,
особенно английских, и Либих со свойственной ему
горячностью пустился в страстную полемику с ними и при этом,
по выражению Лессинга, он попал в гнездо ученых ос.
Христоф Зигварт [1830—1904], немецкий
логик-идеалист и неокантианец, взял под защиту сочинения Бэкона и
попытался представить его как умеренного философа,
оказавшего на естествознание хотя и не длительное, но
несомненное влияние. Для многих ученых-естественников
защита Зигварта представилось наивной, поскольку он пытался
поучать Либиха в его собственной области знаний.
Англичанам очень -не нравились доводы Либиха против их
национальной святыни, но большинство ученых-экспериментато-
poiB присоединилось к мнению Либиха. В самом деле, что
могли извлечь они из устаревших умозрительных
сочинений Бэкона? Например, немецкий ученый Е. О. Липпман
писал: «Произведения Бэкона относятся к
естественнонаучной кабинетной редкости. Они поражают как
исторически странный курьез, но никогда не рассматриваются как
полноценное звено в большой цепи развития познания»
[21, стр. 36].
Со временем страсти, разожженные Либихом вокруг
имени Бэкона, улеглись. Объективную оценку роли Бэкона
в истории науки дала марксистская философия. Она
показала, что Бэкон, отдавая дань времени, допустил еще
больше ошибок, чем указал Либих (преимущественно в области
социалогии). Но в целом труды Бэкона имеют
положительное значение в борьбе против средневековой схоластики.
(Это отмечали еще М. В. Ломоносов и А. И. Герцен.) Он
был выдающимся философом-материалистом эпохи
первоначального капиталистического накопления,
«родоначальником английского материализма и вообще
опытных наук новейшего времени»1.
Многие философские и методологические вопросы
Либих затронул в своих знаменитых «Письмах о химии».
Показательно, что материалистический и часто стихийно
диалектический подход к ним помогал ученому правильно
оценивать новые научные течения, отбрасывать от них
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, 1929, стр. 157.
/35
ложное и наносное. Либих боролся против многих увлечений
в естествознании и медицине, которые зачастую приводили
к заблуждениям и даже к суеверию. В этом отношении
характерно отрицательное отношение Либиха к гомеопатии,
а также к спиритизму: «Не имея правильных понятий о
силе, причине и действии; не имея практического воззрения
на сущности явлений природы; не имея основательного
физиологического и химического развития, неудивительно, что
и умные люди защищают взгляды, совершенно противные
здравому 'смыслу, и что в Германии могло появиться
учение Ганемана * и найти последователей во всех других
странах [17, т. I, стр. 16, 17].
Правильная оценка единства естествознания позволила
Либиху предвидеть развитие ее пограничных разделов:
«Сама природа составляет одно целое; поэтому и все
естественные науки находятся между собой в необходимой
связи, так что одна не может вполне развиваться без участия
всех других; но развитие отдельных частей имеет
непременным следствием, что две какие-нибудь из этих наук,
наконец, будут весьма близко соприкасаться» [17, т. I,
стр. 280]. Исследования самого Либиха во многом
способствовали развитию пограничных отраслей
естествознания — биохимии, агрохимии, учения о пище и т. д.
По свидетельству Л. Теодора, присутствовавшего на
одной из бесед Либиха с Велером о бессмертии человека,
Либих говорил, что трудно представить себе научное
объяснение вечной жизни человека: человек живет в своих
делах, а если у него нет духовной и моральной жизни, то его
индивидуальность исчезает с физиологической смертью.
К своей приближающейся физической смерти Либих
относился с трезвостью естествоиспытателя: «Я не
испытываю религиозного страха перед тем, что станет со мной
после смерти, я полностью уверен в том, что ничего
плохого не произойдет. Этому причиной, вероятно, являются
мои занятия природой и ее законами».
1 Самуэ\ь Ганеман (1775—1843), немецкий врач, основатель
гомеопатии, выдвинувший принцип «подобное лечится подобным».
Рекомендовал лечение микродозами лекарств и боролся против излишеств
современной ему аллопатии — кровопусканий, рвотных и т. п. Имел
много последователей. По своим философским воззрениям Ганеман был
последовательным виталистом, он одухотворял жизнь, болезни и свои
лекарства.
136
Либиха всегда возмущало суеверие, вера в
необъяснимые наукой силы, и недаром майнцкий архиепископ
обвинял его в еретизме. «Вера, которая видит привидения, не
принадлежит к науке, она злейший враг знания, 'потому что
знание есть смерть такой веры»,— утверждал Либих [17,
т. I стр. 26]. В его времена некоторые представители
«высшего света» увлекались спиритизмом, столоверчением и
прочей чепухой. Как-то одна дама попросила Либиха
прочитать лекцию о таинственных силах, действующих на
спиритических сеансах. Либих ответил ей, что если кто-нибудь
может прочитать об этом предмете лекцию, то это,
конечно, директор больницы для умалишенных. О спиритизме и
таинственных силах природы Либих высказывается
следующим образом: «Никто из людей благомыслящих не
допустит, чтобы посредством подобного ложного метода, а
именно вызывая явления зрения «и ощущения у людей,
страдающих слабостью нервов, было бы доказано существование
новой силы природы» [17, т. I, стр. 26]. Еще
выразительнее он изглагает свои мысли в письме к Велеру: «Я
попытался показать, что прогресс человеческого рода
существенно обусловливается его открытиями, двигающими вперед
его цивилизацию, и идеями, добытыми экспериментальным
путем, путем исследования природы. Как враги,
государство и церковь нисколько не могли помешать развитию
естествознания. Это мое мнение. Лютер без открытий
естествоиспытателей был бы предан сожжению, как Гус; с
открытием истинного вида земли упало «небо» церкви; с
уяснением явлений горения исчез «ад»; с открытием давления
воздуха потеряла почву вера в ведьм и кудеснико'в;
природа потеряла свое «хотение» вместе со «страхом пустого
пространства». Это идеи дилетанта в философии» [7, стр. 198].
Соглашаясь со многими утверждениями Либиха, мы не
можем безоговорочно принять его мировоззрение в целом.
Либих не был и не мог быть последовательным
материалистом, хотя вся конкретная деятельность его в различных
отраслях естествознания утверждала материализм,
обогащала его новым естественнонаучным содержанием. В
своих философских рассуждениях Либих отстаивал
преимущественно материалистические и стихийно диалектические
позиции; недаром он писал своему другу: «С материализмом
я раз и навсегда связан». Но в то же время, отдавая дань
эпохе и научному окружению, он допускал ряд
137
существенных отступлений от материализма. К таким
пробелам мировоззрения Либиха следует отнести следующие.
Он делал уступки витализму, считал приемлемой гипотезу о
том, что органическая жизнь занесена на нашу планету из
мирового пространства. Именно за эти ошибки Энгельс
критиковал Либиха в «Диалектике природы» 1.
Не избежал Либих и деизма, хотя активно боролся со
всякого рода суевериями. Естественно, что наиболее слабое
место у Либиха-философа — вопросы общественного
развития; он высказывался за монархический строй, не мог
полностью избежать шовинизма и т. д. Все это, повторяем,
можно рассматривать как дань эпохе. В целом ж©
многочисленные труды Юстуса Либиха настолько насыщены
философскими высказываниями, что заслуживают
самостоятельного исследования. В настоящей главе мы попытались
только вкратце коснуться наиболее важных аспектов
мировоззрения естествоиспытателя-мыслителя.
1 Ф. Энгельс. Диалектика природы. Гоополитиздат, 1941,
стр. 242, 245.
^^
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
НАУЧНАЯ ШКОЛА
стус Либих— создатель всемирно
признанной большой научной школы
химиков-исследователей. Значение его работ
в деле воспитания нового поколения
химиков вряд ли возможно переоценить.
Слава Либиха как ученого-педагога
далеко затмила аналогичную деятельность
его предшественников, учителей и современников.
До Либиха во всех немецких университетах, в том числе
и ГисенскоМо химия изучалась совместно с физикой и
считалась факультативной дисциплиной, поскольку она
дополняла естественнонаучные знания студентов. Право химии
на самостоятельное преподавание не признавалось, хотя, как
говорил Либих, химия отделилась от физики, как семя от
созревшего плода, и составила самостоятельную науку еще
во второй половине XVIII в. Но здесь, как и обычно,
потребовался значительный период времени для превращения
науки в отдельную дисциплину, преподаваемую в высшей
школе.
В «Письмах о химии» Либих писал, что было время,
когда химия подобно астрономии, физике (и математике была
не более как определенное на опыте и выраженное в
известных правилах экспериментальное искусство. Но с те*
139
пор как стали известны причины и законы, лежащие в
основании этих правил, эксперимента \ьное искусство
утратило свое значение. Если во времена алхимии столетиями в
большом почете был опыт, то после неудач искусственного
получения золота интерес к нему значительно ослаб, и
эксперимент как бы оторвался от своей научной базы. В связи с
этим многие относили химию к экспериментальному
искусству, полезному только для изготовления соды, мыла,
стекла, хорошего железа и стали, красителей для
окрашивания шелка, шерсти и хлопка, но не считали химию
естественной наукой. Даже образованность и просвещенность
связывались только со знанием классических языков, литературы
и абстрактной философии.
Наступил век натурфилософии, под влияние которой
попали все естественные и точные науки. Высказывалась
уверенность, что явления природы можно изучать при помощи
абстрактных рассуждений, не прибегая к наблюдениям и
экспериментам.
Такое презрение к эксперименту приводило к пагубному
извращению методов преподавания химии. В немецких
университетах химия, как правило, не читалась как
самостоятельный курс. Ее вели профессора медицины и
естествознания, которые излагали химию преимущественно
умозрительным методом, изредка прибегая к демострациям отдельных
опытов. Химические знания студентов университетов
находились на очень низком уровне.
Самым большим злом было 'отсутствие практического,
\абораторного обучения студентов. В немецких, да и в
других университетах не было хорошо оборудованных
химических лабораторий; существовавшие лаборатории больше
напоминали кухни аптекарей; они были заставлены горнами и
аппаратурой для металлургических и фармацевтических
процессов. Студентов обычно не допускали в лаборатории,
где экспериментировали химики со своими ассистентами.
В виде исключения ученые частным образом, за особую
плату брали к себе отдельных учеников.
Юному Либиху пришлось испытать на себе все теневые
стороны господствующей системы обучения. Поддавшись
временно влиянию натурфилософии, он вскоре
возненавидел ее, так как ее приверженцы умели лишь красиво
говорить о том, чего они не знали, и вместо подлинных знаний
создавали призраки. Вот как характеризует натурфилосо-
140
фию один из учеников Либ иха, выдающийся русский хими&
Н. Н. Зинин в своей речи «Взгляд иа современное
направление органической химии» (1847 г.): «Возьмите
натуральную философию Шеллинга, прочтите в энциклопедии
Гегеля философию естественных наук, особенно постарайтесь
вникнуть в смысл кудрявых речей их последователей
Стеффенса, Реймера и других: вы подумаете, что их книги
написаны предками астрологов, алхимиков, кабалистов, и,
что всего прискорбнее, вся эта игра слов, отличающаяся
совершенным незнанием фактов, даже часто отсутствием
здравого смысла, выдавалась и принималась за высшую
премудрость, недоступную не посвященному в таинства
философии» [27, стр. 184—185].
Испытав на себе, насколько недостаточно одного
теоретического изучения предмета и насколько 'полезно самому
проделывать то, о чем говюрилоеь в лекциях, Либ их с
первых же дней пребывания в Гисенском университете
решительно приступил к 'организации практического обучения
студентов. Здесь уместно напомнить, что Либих как
зачинатель лабораторного обучения имел предшественников: в
1748 г. М. Б. Ломоносов создал учебную и
исследовательскую лабораторию в Петербургской Академии наук;
в 1811 г. подобную лабораторию организовал в Англии
Томеон, а в 1825 г. в США — Амос. К заслугам Либиха
следует отнести то, что он сумел придать лабораторному
преподаванию химии в Гисене небывалый размах. С
горячей убежденностью Либих писал: «Источник всякой науки
есть опыт... Точно так же, как для высшей механики и
физики предполагается большой навык в математическом
анализе, так и химик, как естествоиспытатель, должен как
можно лучше ознакомиться с химическим анализом. Все свои
заключения, все результаты он выражает посредством
опытов, посредством явлений. Всякий опыт есть мысль, которая
с его помощью становится доступною для чувств.
Доказательством наших мыслей, наших заключений точно так же,
как и опровержением их, служат опыты, служат
истолкования произвольно вызванных явлений» [17, т. I, стр, 2].
Первые успехи практического изучения химии и крупные
открытия, которые Либих сделал совместно со своими
учениками, привлекали в Гисен студентов и молодых ученых из
разных городов Германии и многих зарубежных стран;
Гисен превратился в место паломничества химиков. Этому
141
во многом способствовало личное обаяние Юстуса Либиха,
его безграничная преданность науке, его вдохновенный труд.
Педагогическая деятельность Либиха — чтение лекций,
руководство лабораторными занятиями — была неразрывно
связана с научным творчеством. Вместе с учениками и
помощниками он разрабатывал новые методы исследования,
анализа, синтеза, изучал закономерности поведения и
свойства веществ, создавал новые теории, писал книги и
руководства, занимался методологическим обобщением
накопленных фактов. Такое обширное поле деятельности и было,
очевидно, главной притягательной силой для молодежи;
каждый представитель ее мог найти в нем свою долю
интересов.
О своих начавшихся лекциях Либих 12 декабря 1824 г.
сообщал Шлейермахеру: «7 ноября я, наконец, смог начать
читать лекции. Число моих слушателей мало, только 12
студентов, однако они все прилежны и внимательны, и я
радуюсь, что они смогут у меня немного научиться» [10,
стр. 28].
Лекции Либих строил по образцу лекций лучших
французских профессоров. Лекции парижских учителей навсегда
пленили немецкого студента логической ясностью языка,
математической убедительностью и блестящим
экспериментальным сопровождением. Стремясь излагать материал в
такой же строго деловой и логичной форме, Либих
критически учел недостатки лекций своих предшественников,
изобилующих изложениями их увлекательных, но
бессодержательных взглядов. Лекции Кастнера, весьма
авторитетного тогда химика, Либих охарактеризовал как
беспорядочные, нелогичные, походившие на лавку старьевщика. Сам
он всегда стремился преподнести студентам самое
существенное и старательно избегал излишней риторики.
Эксперименты, сопровождающие лекцию, проводились с целью
подчеркнуть что-либо сугубо конкретное, например
свойство вещества, характер реакции и т. д.
Лекции, которые Либих читал ежедневно с 11 час.
05 мин. до 12 час. 30 мин., пользовались большой любовью
студентов. Помимо 90 студентов-химиков, их слушали и
представители смежных курсов. За полтора часа
Либих успевал сообщить массу новых фактов и теоретических
положений; все это делалось с заразительным
воодушевлением.
142
Хорсфорд, один и1* американских учеников Либиха
поделился воспоминаниями о первой прослушанной им
лекции немецкого ученого: «То, что он говорил, я мог слушать
и видеть из формул на доске и из тех или иных слов,
которые я мог понять. Но я слишком был поглощен его манерой,
чтобы уделять много взимания тому, что он говорил.
Ростом он был на два-три дюйма «иже шести футов, стоял
совсем прямо, стараясь немного повернуть плечи, чтобы
слушатели смогли видеть и изучить результат труда
исследователя. Его стройная решительная фигура казалась выше,
чем была на самом деле. Все его движения и особенно те,
которые были связаны с демонстрацией экспериментов или
иллюстрациями, были грациозны; ничего подобного я не
видел ни у кого из лекторов. Видеть его держащим в одной
руке три стеклянных пробирки с реактивами и-такое же
число пробок, в то время как другой он переливал из
сосудов с реагентами небольшие их дозы,— все это
возбуждало во мне удивление. Во всех его движениях, было ли это
жестикуляцией или работой с аппаратом, во всем этом
имелось выражение мысли. Весь он был разумом, который
излучался через все его существо, как светили его
химические соединения через сосуды, в которых содержались.
Подробности его рассказа о химическом разложении и
соединении были ясны, выразительны и излагались без какой-либо
неточности в терминах. Иногда детали, приведенные им в
обзоре некоторых исследований и теорий, особенно его
собственных, приводили его к воодушевлению. Его большие
глаза расширялись, а лицо сияло; мимика была иногда
такой удачной и многообразной, что я мог все представить по
выражению его лица. Его записки состояли из нескольких
формул, выписанных на двух-трех кусочках бумаги, и все
же его лекции были такие систематические, как если бы он
их разрабатывал тщательно и с очень большой заботой»
[28, стр, 493].
Эмиль Эрленмейер (1825—1909) рассказывал, что как-
то на лекции Либих обратил внимание слушателей на
необходимость различать эквивалент и атом. «Вы видете,—
говорил он,— эквивалент и атом означают иногда одно и то
же, иногда кое-что разное; вы должны это хорошо
различать» [4, стр. 173]. Это замечание вызвало такой интерес
студентов, что они решили организовать химический
кружок, где можно было бы глубже разобраться во взглядах их
143
учителя. Как известно, понятия атом, эквивалент, молекула,
валентность были четко разграничены только в 1860 г. на
I Химическом конгрессе >в Карлсруэ.
Сохранились интересные записи о лекциях Либиха в
летний семестр 1834 г. студента, а впоследствии известного
медика Карла Фогта.
Учебные пособия по химии, используемые Либихом,
были, изданы позднее его учениками и нашли признание во
многих странах мира. В них хорошо отражено тогдашнее
преподавание химии в Гисене.
Новое в начальной стадии своего развития часто
вызывает недоверие. Так и стремление Либиха к
преобразованию устаревшей системы преподавания химии вызвало
непонимание и осуждение со стороны многих сотрудников
университета. Высказывалось мнение, что студентам
экспериментирование не только не нужно, но даже вредно, так
как отнимает массу драгоценного времени и отвлекает
их от обязательных занятий и экзаменов. Недоумевали,
какую пользу видел Либих в практических занятиях
студентов.
Все же ему удалось убедить правительство в
целесообразности такого нововведения. Под лабораторию Либиху
отвели пустовавшее помещение, ранее служившее казармой
для жандармерии, с конюшней в нижнем этаже. На свое
скромное жалование в 800 гульденов, ученый с трудом
придал помещению вид лаборатории, оборудовал ее и приступил
к работе с двумя практикантами. Интерес молодежи
к новой системе учебы быстро возрастал. Вскоре все места
в лаборатории были заняты на несколько семестров вперед.
Правда, размер комнаты (38 квадратных метров) сильно
ограничивал число учеников — их редко бывало больше
десяти. Позднее (1825 г.) Либих и несколько энергичных
молодых профессоров Гисенского университета превратили
эту лабораторию в особый институт, подготовлявший для
промышленности фармацевтов и химиков.
С целью разъяснить учащейся молодежи назначение
своей лаборатории Либих поместил в фармацевтическом
журнале Гейгера следующее извещение:
«Трехлетний опыт научил меня, что преподавание
практической и аналитической химии так, как оно обычно
ведется в химико-фармацевтических институтах и университетах,
во многом недостаточно, чтобы сделать молодого человека
144
хотя бы немного подготовленным и проворным в
аналитической работе. Поэтому я ввел уже в течение этого года
изменение в учебный план здешнего химико-фармацевтического
института. Ученики лаборатории посещают теперь во время
летнего семестра лекции по химии, ботанике, минералогии,
как подготовительных наук; весь же зимний семестр они
посвящают практической работе в химической лаборатории
университета, где каждый должен быть занят с утра до
вечера аналитическими1 работами. Такое преподавание
связано с еженедельными экзаменами 1.
Я имею твердое убеждение, что нельзя покинуть ни
одного института без сознания того, что ты научился чему-
то дельному, что-то впитал в себя. Тех, которые намерены
посещать институт во время нового курса, который начнется
в пасху 1828 года, я прошу своевременно известить, так как
я должен очень ограничивать число учеников из-за
недостатка мест в лаборатории. В зимний семестр 1827/1828
года все места были заняты.
Гиссен, октябрь 1827 г.».
Созданная Либихом лаборатория далеко не
соответствовала его замыслам, и средства по-прежнему оставались
ничтожными, но все же Либих был доволен ею, поскольк}'
верил, что его начинание рано или поздно будет
поддержано. Бесконечные затруднения в работе лаборатории
принуждали ученого прибегать к резким представлениям в
адрес высокопоставленных чиновников, и иногда это
помогало. Так, в результате письма Либиха канцлеру
университета тайному советнику Линде было получено
согласие на расширение лаборатории. Появились кабинет и
теплая весовая, оклад профессора немного увеличился, но
капитальный ремонт лаборатории был перенесен на
следующий год. В 1835 г. Либиху разрешили держать ассистента
с оплатой из казны. К тому времени лаборатория расши-
рилась — она занимала уже два зала, в ней было 22
рабочих места и несколько боковых помещений.
О жизни, царившей в Гисенской лаборатории,
сохранилось множество воспоминаний. Один из последних
учеников Либиха химик-аналитик Фольгардт так описал
первоначальную обстановку в Гисене. Главная лаборатория
1 Тииха коллоквиумов, теоретических собеседований,
распространенных в современных учебных химических лабораториях вузов.— Ю. М.
10 Ю. С. Муса5ек.->в
145
имела две стены с большими окнами и поэтому была очень
светлой; маленькая лаборатория, в которой работали
начинающие, напротив, была темной. Помещение старой
лаборатории служило тогда общей рабочей комнатой для
приготовления больших количеств препаратов, для перегонки,
выполнения калильных и плавильных операций, а также для
элементарных анализов. Моечная тоже входила в состав
лабораторных помещений. Многие препараты, «которые
имеет теперь каждый торговец аптечными товарами», тогда
вообще не могли быть куплены. Моечная использовалась
не только по своему прямому назначению: в ней, например,
упаривался сок рябины, нейтрализованный известью, для
выделения яблочнокислого кальция. Либих обращал особое
внимание на приготовление химических препаратов, так как
считал, что чаще встречаются химики, которые умеют
делать тонкие анализы, чем те, которые могут получить
чистый препарат.
Навес на улице тоже был .всегда занят студентами,
которые перегоняли эфир или выпаривали на углях в больших
ковшах дымящиеся жидкости. Во всей лаборатории всегда
царило оживление, которое приводило новичков в
восхищение. Многих, вновь прибывших в лабораторию крайне
удивляла странная одежда студентов. Большинство их было
одето в длинные синие халаты, за что их прозвали
«синильщиками». Голову они покрывали черным или коричневым
фетровым цилиндром, а то и просто бумажным колпаком:
это спасало от угольной пыли, поднимаемой в воздухе
мехами для раздувания огня в топках при выпаривании,
перегонке и элементарном анализе [29].
Число учеников с каждым годом возрастало и,
естественно, возникла необходимость систематизировать учебный
процесс; ведь руководств по лабораторному практикуму
тогда вообще не существовало. Либих стал проводить
практические занятия по химии следующим образом. Студенты
начинали работу с выделения каких-либо веществ,
преимущественно из природных продуктов. Затем они
знакомились с приемами элементарного анализа, со свойствами
некоторых органических тел и с их взаимными
превращениями. Только после такой подготовительной работы под
руководством ассистента, учащийся получал специальную
научную тему, которая являлась частью обширного
исследования в области органической химии, намеченного профес-
146
сором. Часть студентов работала под руководством самого
Либиха. Тогда студенты встречались с особенно большим
разнообразием тем и пользовались полной свободой их
выбора. Любому из них предоставлялось право искать свой
собственный путь. Такая самостоятельность часто
приводила к заблуждениям, но зато давала воЗхМожность
раскрыться индивидуальности будущего исследователя
наиболее полно. Профессор настаивал на самостоятельных
исследовательских работах студентов. «Ничто так не
поощряет молодых людей,— говорил он,— как увидеть свое имя в
печати. У французов совсем извращенная система. Все, что
совершается в лаборатории в Париже или в провинции,
прогуливается по свету под именем профессора. Это
обескураживает молодых людей, не говоря уже о том, что
профессору часто приходится отвечать за чужие глупости... Люди,
у меня работающие, печатают под своим именем, даже если
я им помогал» [30, стр. 674].
О своем методе обучения и подготовки исследователей
Либих в автобиографии писал: «Я давал темы и наблюдал
за их исполнением; все, таким образом, подобно радиусам
круга, сходились в одном общем центре. Никакого
руководства, в узком смысле слова, не было. Каждое утро
я принимал от каждого в отдельности отчет в том, что
сделано им накануне, равно как и о его взглядах на
интересующий в данный момент вопрос, о его намерениях,
Я соглашался с ним или возражал. Каждый вынужден
был искать собственную дорогу. Благодаря совместной
жизни, постоянному общению и взаимному участию в
работе друг друга, каждый мог учиться у всех и все у
каждого. Зимой я делал по два раза в неделю обзоры по внешним
текущим вопросам, состоящие главным образом из отчета
о собственных работах и работах моих учеников, в связи
с исследованиями других химиков... Мы работали с самого
утра и до поздней ночи; развлечений и удовольствий в Ги-
сене не было» [10, стр. 20—23]. Впрочем, эта вдохновенная
совместная работа сама по себе была большим
удовольствием. Свидетельством может служить следующий факт:
служитель лаборатории Аубель 1 вечером обычно
обращался к работающим с прощальным приветствием: «Конец
1 Генрих Аубель служил в лаборатории Либиха очень долго;
студенты любили его за хороший характер, большой практический опыт
и остроумные едкие шутки.
147
рабочего дня, господа!», но оно, как правило, не оказывало
на студентов никакого действия; еще долго Аубелю
приходилось выпроваживать их из лаборатории.
Приведем отрывок из описаний Фольгардта рабочей
обстановки Гисенской лаборатории: «Мы входим в
лабораторию... В первый момент мы в сомиении: кто из
занимающихся здесь восьми или девяти человек профессор?
Видна прекрасная голова с удивительными и
проницательными глазами,— вероятно он, хотя он кажется самым
младшим из всей компании.
Он стоит у своего рабочего стола, рядом с ним его
ученики, которые подходят часто, чтобы получить у него
совет или ответ на интересующий вопрос.
На плите в центре стоят несколько маленьких печей
с раскаленными углями, ведь газа в то время не было;
маленькие сосуды подогреваются «ад пламенем винного
спирта. Тут в большой фарфоровой чашке дымит
кипящий отвар, там перегоняется кислота из громадной
стеклянной реторты. Вдруг реторта лопнула, кислота вытекла
на раскаленные угли, и в один миг помещение наполнилось
чадом и едким дымом. Вентиляции «е было; поэтому
быстро раскрыли двери и окна, а мастер и подмастерья
выбежали на свежий воздух, покидая чад...» [31, т. I,
стр. 62, 63].
Фогт описывает интересный эпизод, связанный с
открытием Либихом безводной муравьиной кислоты:
«Входит Либих; у него в руках склянка с притертой пробкой.
— Ну-ка, обнажите руку,— говорит он Фогту и влажной
пробкой прикасается к его руке.—'Не правда ли, жжет? —
невозмутимо спрашивает Либих.— Я только что добыл
безводную муравьиную кислоту». Он прижег руки многим
студентам, а у него самого на щеке вскочил пузырь о г
брызг кислоты. Фогт получил самую большую порцию
и всю жизнь ходил с белым шрамом на руке». [30, стр. 833].
В практической подготовке химиков Либих придавал
большое значение стеклодувным работам. По
свидетельству Петтенкофера, сам Либих «был ловким стеклодувом»
Фогт вспоминает, что в Гисенской лаборатории все прихо
дилось делать 'своими руками — выдувать стеклянную
посуду, резать и сверлить пробки, даже ковать платиновые
тигли. За успехи в работе Либих торжественно дарил уче
пикам нож с платиновым клинком.
143
Либих прививал своим ученикам интерес к заводам
и фабрикам, считая, что знакомство с ними позволяет быть
в курсе запросов промышленности. «Я посетил,— пишет
он Велеру,— все важиые фабрики в районе Берга. Я
многому научился и каждый год буду совершать такие
путешествия. Нет лучшего и более удобного средства, чтобы
без напряжения быть в курсе дел фабричных
производств» [10, стр. 34].
Рабочий день студентов был заполнен до отказа. Вот
как описывает Хорсфорд свой обычный день в Гисене.
Он вставал в 5 час. 30 мин.* а в 6 час. 15 мин. уже слушал
лекцию Фрезениуса по сахарам, а в 7 час.— Коппа по
кристаллографии. В 8 час. 15 мин. приступал к
лабораторным работам, которые прерывались лекцией Либиха.
Послеобеденное время Хорсфорд посвящал чтению
химических журналов и затем до половины седьмого работал з
лаборатории. Вечерние часы тратились «а аналитические
расчеты, чтение специальной литературы « т. д. Не
случайно Хорсфорд при первом же посещении лаборатории
почувствовал, что «работать и думать — были главными
атрибутами этих комнат... Даже разговор велся здесь
полушопотом. Новичкам говорили, что вы сможете
разговаривать по-английски два или три дня, но не более. Это
говорилось без улыбки, внушая слушателям
необходимость учебы» [28, стр. 493].
Либих общался со своими учениками не только в
учебных (Помещениях. Почти каждое воскресенье многие
приглашались к нему на обед. А. В. Гофман так описал эти
чудесные дни. После обеда Либих беседовал самым
дружеским образом с каждым в отдельности о его работе.
Эти беседы в приятном обществе красивой жены Либиха
Генриетты и трех его дочерей были очень интересны,
и неполных трех часов совершенно не хватало. В пять
часов вечера гостеприимный хозяин вежливо давал понять,
что пора попрощаться, поскольку существовала реальная
опасность, что некоторые могут задержаться до чая.
Воскресные беседы были весьма благотворны, Либих обладал
чудесным даром незаметно превращать их в источник
поучения. И если в следующую неделю вдруг удавались
эксперименты и устранялись многие, ранее неразрешенные
трудности, то всем этим они были обязаны беседам за
\ютным воскресным столом.
149
Несмотря на исключительный успех новых методов
преподавания Либиха, долго ни один из университетов
многочисленных в то время немецких государств (кроме
Ганновера) не счел нужным последовать его примеру.
В частности, в Пруссии и Австрии, население которых
говорило на немецком языке, даже не пробовали организовать
лабораторный практикум в своих университетах. Причину
этого Либих видел в нежелании профессоров химии
перестраивать свою работу и в незаинтересованности
правительств. Первая причина, думал Либих, преобладает
в Австрии, вторая — в Пруссии. В статье о состоянии
химии в этих государствах Либих сделал смелое заявление:
«Пруссия —страна высокой культуры и многочисленной
интеллигенции — не имеет такого уголка, где бы ни
нашлось физиолога, геолога, врача, промышленника или
физика с присущим каждому языком. И в этой Пруссии не
существует ни одной химической лаборатории. Юношество
лишено одного из увлекательных и мощных средств
высокого умственного воспитания. Современное и будущее
поколения не имеют возможности обучаться химии. Нация
не может быть уверена в своих силах для создания
бесчисленных новых источников и средств существования,
новых промыслов, так как это возможно только благодаря
преподаванию в химической лаборатории. Вся
интеллигенция стремится к государственной деятельности.
Государство становится домом призрения для людей, которые
благодаря основательным знаниям в химии и естественных
науках могли бы стать зажиточными и полезными
гражданами. Перед изучением юриспруденции предупреждают,
что нет никакой необходимости затрачивать много
бесполезной энергии. Но юношеству не указывают пути
приложения своих сил, чтобы добыть средства к обеспеченному
будущему» [32, стр. 97].
Позднее Либих заявил, что прусское правительство
сочло его статью за личное оскорбление. Но главной
причиной отсутствия в Пруссии химических лабораторий
была, несомненно, консервативность профессоров, которые
не желали тратить сил на коренную ломку устоявшихся
старых методов преподавания, не требующих больших
затрат духовной энергии и материальных средств.
Поскольку Гисенская лаборатория не могла охватить
всех желающих учиться, большинство из них было вы-
/50
нуждено уезжать за границу, преимущественно во
Францию.
Тогда правительство пошло на крайние меры: кафедры,
управляемые пожилыми химиками старой школы, стали
укреплять молодыми учеными. При этом охотнее принимались
на работу те профессора, которые наряду с
преподавательской работой были готовы возглавить лаборатории,
например Бунзен в Бреслау, Гофман сначала в Бонне, а затем в
Берлине и другие. Число лабораторий увеличивалось, но
Гисенская продолжала занимать среди них
исключительное место.
Вскоре провинциальный немецкий университет
приобрел славу мирового центра химического образования.
Сюда съезжались учиться студенты из Франции, Англии,
России, Швеции, Голландии, Америки и из других стран.
Гей-Люссак послал в Гисен своего сьша Юлия.
Лаборатория Либиха превратилась в своего рода Мекку химиков.
Из научной школы Юстуса Либиха вышли
многочисленные творцы химии, чьи имена украшают историю науки.
Специального упоминания заслуживают следующие
воспитанники Либиха: К. Фрезениус, А. Гофман, А. Кекуле,
Э. Эрленмейер, Ш. Жерар, А. Вюрц, Я. Фольгардт,
А. Вильямсон, Г. Копи, А. Реньо, А. Штреккер, И. Ше-
рер, Т. Грэм, Дж. Муспрат, Г. Буфф, М. Петтенкофер.
Г. Билль, А. Гент, С. Джоисон, И. Хорсдорф, О. Джибс,
Г. Фелинг, Дж. Гладстон, К. Мейер. Из менее известных
учеников можно назвать Бабо, Бюхнера, Бекмана, Кнопа,
Шмидта, Полека, Мерка, Зелля, Клема, Траубе, Дольфу-
са, Портера, Руда, Смита, Уетхериля, Фаррентрапа,
Эттлинга, Брауна, Бромейса и др. О многочисленных
русских учениках Либиха рассказано в последней главе этой
книги.
Неоценимую услугу химической промышленности
оказал Либих также тем, что он первым выступил за строго
научное обучение техников и с присущей ему энергией
проводил этот принцип в жизнь. Он писал: «Я у всех лиц,
посещавших здешнюю лабораторию ради технических
целей, особенно у сыновей фабрикантов, которые посвятили
себя промышленности, находил преобладающий уклон
заняться работой в прикладной химии. С видом боязни
к тревоги следовали они обычно моему совету оставить эти
мелкие работы и заняться только методикой решения чисто
/5/
научных проблем... Я знаю многих из них, которые сейчас
стоят во главе фабрик и производств» [21, стр. 188].
Расскажем кратко о некоторых учениках Либиха,
которые выдвинулись на научное поприще под
непосредственным влиянием своего учителя.
Август Вильгельм Гофман (1818—1892), впоследствии
един из биографов Либиха, был его первым ассистентом
в Гисенской химической лаборатории; затем он стал
доктором философии, профессором химии, основоположником
производства синтетических органических красителей в
Г ермании. Начало производству красителей было
положено открытием H. Н. Зининым знаменитой реакции
восстановления ароматических нитросоединений в амины
и предложением Либиха проверить выдвинутое Эрдманом
предложение о тождестве бензидама, анилина, кристал-
лина. Внимание, которое вькзвали труды Либиха во всем
мире, (способствовало тому, что когда в Англии в 1835 г.
был основан «Royal College of chemistry», руководить им
был приглашен Гофман. Там он организовал отличную
лабораторию по образцу либихов'ской. Возвратившись
в Германию через 20 лет, Гофман стал профессором химии
в Берлинском университете. В 1861 г. он основал
Лондонское химическое общество, а в 1868 г.— Немецкое
химическое общество, записки которого («Berichte der Deutschen
chemischen Gesellschaft») сделались одним из самых
авторитетных химических журналов мира и до сих пор
пользуются большим уважением. Позднее Немецкое химическое
общество стало издавать реферативный журнал «Chemisches
Zentralblatt», сжато отражавший достижения химиков
всех стран. Без таких периодических справочников
современный химик утонул бы в океане исследовательских работ.
Другой ученик Либиха — Фридрих Август Кекуле
(1829—1896), рано выдвинувшийся крупный
химик-теоретик, способствовал своими трудами /возникновению и
развитию теории химического строения. В 1858 г. он доказал
четырехвалентность углерода (одновременно с Кольбе)
и способность его атомов соединяться друг с другом (од-
новременнно с Купером). В это время Кекуле ближе
всех химиков подошел к открытию теории химического
строения, но затем несколько отдалился от нее. В 1861 г.
А. М. Бутлеров выступил в Шпеере с докладом «О
химическом строении веществ», в котором кратко изложил
m
эту теорию, а через некоторое время после этого Кеку-
ле призывал химиков вернуться к эмпирическим формулам.
С 1864 г. Кекуле прочно встал иа позиции структурных
представлений и в 1865 т. выступил с весьма
продуктивными представлениями о строении бензола и ароматических
соединений. В этом—главная заслуга Кекуле; вместе с
Бутлеровым он является крупнейшим теоретиком
органической химии середины и второй половины XIX в. После
учебы у Либиха в Гисене, Кекуле с 1856 г. был
приват-доцентом в Гейдельберге, в 1858—1867 гг.— профессором Гент-
ского, а затем Боннского университетов, с 1886 г.—
президентом Немецкого химического общества. Кекуле — один из
организаторов I Химического конгресса в Карлсруэ,
оказавшего огромное влияние на дальнейшее развитие науки.
Вначале один, а затем с сотрудниками Кекуле выпустил четыре
тома незаконченного обширного учебника органической
химии.
Карл Ремигий Фрезениус (1818—1897) — ассистент
Либиха, а затем профессор химии -в Висбаденском
сельскохозяйственном институте, организовал там одну из лучших в
Европе химических лабораторий. Он о,дин из творцов
классической аналитической химии, автор переведенных на
многие языки руководств по качественному и количественному
анализу. В 1862 г. Фрезениус основал «Zeitschriff für
analytische Chemie» и до конца жизни оставался редактором
этого журнала, выходящего и поныне.
Среди французских учеников Либиха наиболее
знамениты Жерар и Вюрц.
Шарль Фредерик Жерар (1816—1856) — рано умерший
высокоодаренный химик, прожил очень трудную жизнь. Он
имел передовые общественные взгляды, открыто
симпатизировал революции 1848 г. Вместе с Лораном Жерар создал
теорию типов и унитарную систему, которые оказали
большую услугу химии до появления структурной теории.
Длительное время (в середине XIX в.) взгляды Жерара раз
деляли многие химики. О них высоко отзывался Карл
Маркс: «Молекулярная теория, нашедшая себе применение
в современной химии и впервые научно развитая Лораном
и Жераром, основывается именно на этом законе» 1 (законе
перехода количества в качество.— Ю. М.)-
К. Маркс, Капитал, т. I, 1953, стр. 314 (примечание).
153
Либих относился к Жерару весьма доброжелательно и
высоко ценил его дарование. В данной Жерару
характеристике он писал: «Я уверен, что он выполнит выдающиеся
работы... Основа для всяких работ по химии — это
неустанное терпение и безграничная выдержка. Я уверен, что г-н
Жерар выработает ib себе эти качества и доставит себе то
удовлетворение, которое является следствием и -наградой
за всякую тяжелую и полезную работу» [7, стр. 210].
Учитель признал за своим учеником незаурядные литературные
способности, потому именно ему передал рукопись своей
<чОрганической химии в приложении к земледелию и
физиологии» с тем, чтобы тот издал ее на французском языке.
Кстати-, издание (книги Либиха помогло Жерару попасть в
парижские научные круги.
Впоследствии Жерар перевел и издал и некоторые
другие произведения Либиха.
Либих постоянно следил за деятельностью своих
учеников и при случае давал им дельные советы. В частности,
Жерару он советовал «обуздать» свои далеко идущие
теоретические изыскания и выводы: «Прежде всего,— писал он,—
будьте осторожны со своими теоретическими воззрениями,
ибо академия—неумолимый враг теорий; она всегда была
им: пример Persoz показывает Вам, как методически человек
уничтожает себя философскими спекуляциями. Меня и еще
старшего коллегу по профессии (Берцелиуса.— Ю. М.) едва
прощают, когда мы осмеливаемся высказать какие-нибудь
теоретические взгляды; мне трудно быть услышанным.
У молодого человека еще менее надежд, что это ему удастся.
Я в свою очередь буду пользоваться всяким случаем, чтобы
быть Вам полезным, и нетрудно будет создать Вам со
временем положение. Держитесь за Дюма; его значение в
ученом мире так же велико, как его влияние в Париже. У него
прекрасный характер, и он любит себя окружать
деятельными молодыми людьми. Все это Вы можете делать, не
вызывая к себе вражды в других» [7, стр. 212]. По-видимому,
Жерар не внял этому совету учителя. Найдя в Лоране
близкого друга, он занимался совместно с ним почти одними
теоретическими вопросами. В оставшихся после смерти Жерара
бумагах была найдена готовая к печати рукопись его
знаменитого «Traité de chemie organique». Курс был издан и
способствовал широкому распространению теории типов и
унитарной системы.
154
Шарль Адольф Вюрц (1817—1884), также изучавший
химию в Гисенской лаборатории, выдвинулся затем как
один из крупнейших французских ученых второй
половины XIX в. Он прославился открытием нескольких
органических реакций, большого числа новых синтетических
веществ, как автор ряда фундаментальных трудов,
популяризатор идей Либиха и Бутлерова во Франции, как глава
большой самостоятельной школы химиков. Его переписка с
Бутлеровым (Архив АН СССР, ф. 329, оп. 1, № 143)
представляет огромный интерес для истории науки.
Из английских учеников Либиха наиболее известным
стал Александр Вильям Вильямсон (1824—1904). С 1849 г.
он возглавлял кафедру аналитической и прикладной химии
в Лондонском университетском коллеже, с 1855 г. был
преемником Грэма, также ученика Либиха. Вильямсон открыл
смешанные эфиры, подробно изучил процесс этерификации.
Свои наблюдения он толковал с позиций теории типов, но
они явились важным подкреплением структурных
представлений. Многочисленные труды Вильямсон а освещали
вопросы кинетики органохимических реакций, газового
анализа; позднее он занимался применением пара высокого
давления в технике. Примечательно, что у Вильямсона в
лаборатории прошли подготовку первые японские
химики-исследователи.
В настоящее время не 'все выяснено об американских
учениках Либиха [28], но известно, что почти все они
специализировались в области прикладной, преимущественно
агрономической и пищевой химии. Вообще учеников из
Америки у Либиха было значительно меньше, чем у Велера. По-
видимому, это объясняется тем, что во время работы в
Мюнхене Либих ограничил лабораторные занятия с
практикантами до минимума.
Хронологически первым американским учеником был
Д. Л. Смит. После разносторонних занятий он только в Ги-
сене определил свои научные интересы. Первое исследование
Смита о спермацете и продуктах окисления этого животного
вещества (воска кашалота) было подсказано Либихом и
опубликовано в 42-м томе его «Анналов». В 1852 г. Смит
занял кафедру Виргинского университета, где вел
интенсивную исследовательскую работу и опубликовал 45 статей,
Вскоре он был избран президентом американской
ассоциации «Прогрессивные представители науки».
155
Вторым американским учеником Либиха был И. Н.
Хорсфорд. В 1838 г. он начал свою деятельность
гражданским инженером, и только следуя настойчивым советам
профессора Гарвардского университета Вебстера, хорошо
знакомого с либиховской «Химией >в приложении к земледелию
и физиологии», решил поехать ;в Гисен; деньги на дорогу
собрали ему друзья. По предложению Либиха Хорсфорд
исследовал различные питательные вещества на содержание в
них азота, а также гликоль и продукты его окисления.
Благодаря прекрасной рекомендации Либиха Хорсфорда очень
хорошо приняли на родине: в 1847 г. он получил
профессуру в Рамфорде и вскоре создал там отличную
химическую лабораторию при школе, которая позднее была
названа его именем. Большое число печатных работ Хорсфорда
посвящено химии и технологии пищевых веществ. В
1861 г. вышла его книга «Теория и практика хлебоиз-
делий».
Последователем Хорсфорда стал О. В. Джиббс. В Гисен
он приехал уже со степенью доктора и занял место,
освободившееся после Хорсфорда. Джиббс общался с Либихом
реже, чем более ранние его ученики. Опубликованная в
«Анналах» в 1853 г. работа Джиббса была написана им в
Америке (он был профессором в Нью-Йоркском Коллеже о
течение 14 лет). Позднее он стал преемником лаборатории
Хорсфорда. Джиббс был основателем и президентом
национальной Академии наук, почетным членом немецкого,
английского и американского химических обществ.
Американский химик Ч. М. Уетхериль учился в Гисене с
1847 г. В следующем году он получил научную степень
доктора за диссертацию «О сернокислой окиси этила и ее
продуктах разложения водой», опубликованную в либиховских
«Анналах». По возвращении на родину Уетхериль
возглавил организованную им частную лабораторию, выпусти \
книгу о производстве уксусной кислоты. В 1864 г. его
пригласили занять кафедру во вновь созданном в восточной
Пенсильвании университете.
Последним американцем, который учился ,в Гисене, был
Д. Э. Портер. Он приехал в Германию в 1847 т. В
«Анналах» опубликованы три его статьи по прикладным
агрохимическим вопросам. Возвратившись в Америку, Портер
недолго был ассистентом Хорсфорда, а затем переехал из
Кембриджа в Браунский университет. В 1852 г. он получи \
156
кафедру аналитической и агрономической химии в Нортоне,
а с 1864 г. стал преподавать органическую химию.
Ф. А. Гент, соотечественник и ученик Либиха. Обучался
в нескольких университетах, a ib 1843 г. работал в Гисенской
лаборатории. Его .первое исследование .нового вида смолы
было выполнено то заданию Либиха и опубликовано в
«Анналах» в том же году. Гент был приглашен в Марбург
приват-доцентом по минералогии и химии. Там он выполнил
три больших работы, напечатанные Либихом в 1843—
1846 гг. В 1848 г. Гент переехал в США и создал
лабораторию аналитической химии сначала в Балтиморе, а позднее
в Филадельфии. Гент не порывал связи с Либихом и в
1851 —1852 гг. прислал для его журнала несколько статей.
Он принял предложение занять кафедру минералогии и
химии в Филадельфии (после смерти Уетхериля) и работал
там в 1872—1888 гг. Уйдя в отставку, он продолжал
научные исследования в области минеральной химии до конца
жизни. Ему принадлежит заслуга открытия 20 минералов.
Из немногих американцев, обучавшихся у Либиха в
последние двадцать лет его жизни, более других известен С. В.
Джонсон. Еще не будучи студентом, он опубликовал очерк
«О фиксации аммиака» (1847). После нескольких лет
занятий химией в США, он по совету Нортона поехал на два
года (1853—1855) .в Германию, сначала в Лейпциг, где
изучал аналитическую химию у Эрдманна, а затем в Мюнхен.
Здесь в лаборатории Либиха Джонсон исследовал золу
растений, определял содержание в почвах солей
щелочноземельных металлов. Результаты его исследования были
напечатаны в «Анналах» в 1855 г. Либих доверил Джонсону
перевод .своей полемической статьи, направленной против
Льюиса; в 1855 г. она была опубликована в «Tuckers
Country Jenteleman».
По возвращении на родину Джонсон стал профессором
аналитической химии Иель-ской научной школы, а затем
приступил к чтению курса агрохимии, который ;вел в течение
сорока лет. Джонсон автор двух известных книг «Как
выращивать урожай» и «Как подкармливать посев»,
переведенных с английского на шесть языков. В течение почти
четверти века (1877—1900) Джонсон возглавлял в штате
Коннектикут Сельскохозяйственную опытную станцию. В 1878 г.
он был избран президентом Американского химического
общества.
157
К середине XIX в. многие руководящие посты в системе
химического образования в разных странах были заняты
воспитанниками либиховской научной школы. Эта школа
длительное время готовила будущих профессоров для
многих университетов и высших учебных заведений Германии,
Франции, Англии, России, Америки и других стран. К Ли-
биху обращались с просьбами рекомендовать кандидатов на
возглавление кафедр. Обучение в Гисенской лаборатории
уже само по себе являлось отличной рекомендацией для
ученого.
А. М. Бутлеров в большой статье, посвященной памяти
своего учителя H. Н. Зинина, так характеризует научную
школу Либиха: «То было время, когда, благодаря трудам
знаменитого Юстуса Либиха, процвела гисенская
химическая школа, 'снискавшая всемирную известность и широко
распространившая и за пределы Германии свое
благотворное научное влияние. Слава этой школы со всех .сторон
влекла в нее учеников разных национальностей; сделавшись
мастерами под руководством (знаменитого мастера, ученики эти
в свою очередь делались центрами, около которых
группировались молодые научные силы. Бывшие гисенцы всюду
разносили с собою характеризовавший школу дух строго
научного исследования, бескорыстной преданности знанию
и безграничной любви к истине. Один из младших учеников
гисенской школы, уже давно и так рано утраченный
русской химией, H. Н. Соколов, говорил мне когда-то, что
известное изречение Либиха: «in Giessen gilt nur Wahrheit!» (в
Гисене признают только истину! — Ю. М.) казалось
хвастливым преувеличенным издали, но прибывшие в Гисен
скоро убеждались, что оно было лишь точным .выражением
действительности» [33, стр. 95].
После отъезда Либиха из Гисена руководоство
лабораторией перешло к его ученику Г. Биллю. В Мюнхен Либих
приехал в возрасте 49 лет. Разносторонняя напряженная
деятельность в Гисене и все затруднения, которые
приходилось преодолевать там при организации и расширении
лаборатории, не могли не сказаться на здоровье ученого.
Он чувствовал, что круг его деятельности должен быть
ограничен: «Я твердо решил,— пишет он Велеру,— не
продолжать здесь практический курс, от которого я устал и
из-за которого покинул Гисен. Я не принимаю в
лабораторию ни одного ученика, обязуясь преподавать им; но я
158
хочу разрешить нескольким молодым людям работать в
моей лаборатории и пользоваться помощью, которая
предлагается, но без того, чтобы они предъявляли мне какие-
либо требования по заданию и руководству работой.
Дорогой друг, ты поймешь меня; в течение 28 лет я налаживал
это дело, и у меня нет уже сил продолжать его дальше
Если я хочу быть где-либо полезным, то должен
ограничивать себя» [5, стр. 97].
Но (несмотря ни на что, мюнхенская лаборатория была
оборудована Либихом .превосходно. Это подтверждают
слова Бутлерова, (посетившего ее ib 1858 г.: «Лаборатория Ли-
биха в Мюнхене, ...недавно устроенная, представляет много
удобств. Здесь замечателен перегонный водяной снаряд,
получающий .воду с крыши и снабженный регулятором,
уравнивающим ее приток. Нагревание воды происходит паром,
отделяющимся из особого парового котла, помещенного
внутри самой топки. Вода в него притекает из главной части
снаряда. Замечателен еще аппарат для произведения
пустого пространства охлаждением пара. К сожалению, в
лаборатории этой мало работают, и в этом отношении она
далека от того состояния, в каком была под управлением Ли-
биха гисенская, заслужившая по справедливости
знаменитость и наделившая всю Европу своими учениками, к числу
которых принадлежит большинство лучших химиков
настоящего времени» [34, стр. 70].
Лекции Либиха в Мюнхене по-прежнему собирали очень
большую аудиторию, но и здесь сказались годы
напряженнейшей умственной работы, жизненные невзгоды,
подточившие силы ученого. Либих стал отставать от теоретических
достижений науки. «Его аудитория всегда наполнена, кроме
студентов, множеством посторонних слушателей.
Признанное всеми достоинство этих лекций заключается в
мастерском изложении, но, к сожалению, Либих обращает ныне
мало внимания на теоретическое развитие науки; он сошел
с того поприща, на котором приобрел заслуженную
знаменитость, и это необходимо должно было отразиться на
содержании его чтений»,— пишет Бутлеров [34, стр. 72]. О том
же говорит и Фольгардт — лекционный ассистент Либиха в
Гисене и Мюнхене: «Лекции Либиха этого периода
отличались не только отсутствием стержневой единой мысли, но
не были совершенными по форме, часто прерывались
паузами. Казалось, что мозг его бредит; через некоторое вре-
159
мя стройность мысли возвращалась, и он продолжал
прерванный рассказ» [29, стр. 1]. И сам Либих часто с
грустью вспоминал гисенский период своего творчества. Как бы
подытоживая свои исследовательские и педагогические за-
слуги, он говорил: «Я вошел в науку с началом развития
органической химии и свыше 30 лет имел редкое счастье
видеть вокруг себя талантливых, способных молодых химиков,
из которых многие являются теперь украшением кафедр
химии почти во всех странах Европы; с их помощью, и я
должен добавить, IB союзе с моим другом Велером иам удалось
выполнить многочисленные исследования и установить
множество фактов, которые считаются базисом сегодняшней
химии» [5, стр. 178].
В начале XX в., много лет спустя после смерти Юстуса
Либиха, было решено превратить Гисенскую лабораторию
в музей Либиха. Инициативный рабочий комитет (1909—
1910) обратился ко всем немецким химикам с призывом
помочь увековечению памяти великого химика-педагога. На
этот патриотический призыв откликнулись многие частные
лица; определенную помощь оказали правительственные
органы и даже король Эрнст Людвиг. Большую сумму для
приобретения Гисенской лаборатории внес Эмануил Мерк,
один из основателей известной немецкой фирмы по
производству реактивов и общественный деятель-меценат.
Рабочий комитет за два года работы убедился, что для полного
восстановления лаборатории требуются не только
значительные материальные затраты, но и длительное »время.
Чтобы не зависеть от нерегулярного сбора средств, было
решено создать специальное общество — «Музей Либиха»,—
членские взносы которого можно было бы затрачивать на
восстановление и содержание лаборатории Либиха.
Такое общество было основано 26 июня 1911 г. Многие
обладатели либиховских реликвий предоставили их музею.
В нем постепенно собирались растерянные с течением
времени химическая аппаратура, посуда, реактивы,
оборудование, инвентарь, книги и даже картины. Фармацевтическую
и аналитическую лаборатории удалось полностью
восстановить в прежнем виде.
Со временем музей Либиха из чисто исторического
учреждения превратился в научно-исследовательский центр,
занимающийся не только изучением научного наследства
Либиха, но и вопросами перспективного развития
химической науки в Германии.
4^
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
вой первые научные труды Либих начал
публиковать еще будучи девятнадцатилетним
студентом в 1822 г. Специальной издательско-
литературной деятельностью он занялся
только в 1831 г., когда был автором уже более
сорока статей и заметок в различных немецких
и французских журналах.
Либих был одарен ярким литературным талантом.
Вполне справедливо отметил Якоб Гримм в предисловии к
немецкому словарю, что химия, разговаривающая обычно
сухим деловым языком, у Либиха оживает. Со своей стороны,
мы можем сказать, что если его мастерство и изысканность
изложения своих мыслей покоряли современников Либиха,
то до сих пор особенности его литературного стиля служат
для нас предметом восхищения и подражания.
Но не нужно думать, что совершенство формы
достигалось Либихом легко; оно было плодом огромного труда. Он
подолгу шлифовал свои произведения, переписывал их по
нескольку раз, и не было для него более взыскательного
критика, чем он сам. Иногда литературный труд чрезмерно
утомлял ученого. «К тому еще,— жалуется он Велеру,— и'
проклятое писание книг, ввергающее меня в величайшее
отчаяние; никогда больше я книг писать не буду, если бы это
сулило мне даже горы бриллиантов» [5, стр. 175]. «Что я
11 Ю. С. Мусабеков
161
могу тебе написать кроме жалоб на изнурительную жизнь,
которая пожирается бумагой» [10, стр. 44].
В начале XIX в. в Германии не существовало чисто
химического журнала; статьи на химические темы чаще всего
печатались в медицинских и фармацевтических журналах.
Ф. Гейгер, профессор фармации в Гейдельб^рге и
редактор «Magazin für Pharmazie und die dahin einschlagenden
Wissenschaften» (Магазин фармации и относящихся сюда
наук), предложил Либиху издавать этот журнал
совместно. Либих охотно согласился: это давало ему возможность
более широко вести научную полемику, которой он так
увлекался, и, кроме того, улучшало его материальное
положение. В письме к Берцелиусу он пишет: «Недавно я
возложил на себя тяжелое бремя, объединившись с Гейгером
как соавтор в его журнале: все это из-за проклятых денег.
В малом университете, в котором я живу, царят
пошлейшие остроты; естествознание здесь знают от греческих
авторов или из сочинений Вильбранда. Иначе я должен был
бы терпеть истинный голод» [10, стр. 28].
В редакторской деятельности Либиха, как и везде,
проявляется присущая ему энергичность. В 1831 г. последние
три тома (34—36) гейгеровского журнала вышли уже с
измененным названием «Magazin für Pharmazie in Verbindung
mit einer Experimentalkritik» (Магазин фармации в
соединении с экспериментальной критикой). Этим Либих
подчеркнул свое намерение вести критический обзор помещаемого
в журнале материала.
В дальнейшем название журнала еще несколько раз
менялось. Энергии Либиха «Magazin» Гейгера обязан и тем,
что к нему присоединилось несколько других
фармацевтических журналов и круг его читателей значительно
расширился. Начиная с 37-го тома журнал слился с «Archiv des
Apothekervereins in nördlichen Deutschland» (Архив Союза
фармацевтов Северной Германии), редактируемым Бранде-
сом — обердиректором фармацевтов Северной Германии.
Объединенное издание было названо «Annalen der
Pharmazie» (Анналы фармации) и выходило ежемесячно; каждый
том состоял из трех номеров (до 1873 г. в год обычно
издавалось только по четыре тома).
Либих считал, что главная обязанность редактора
заключается в беспристрастной научной информации не
только о достижениях ученых, но и о их ошибках. Брандес
162
не разделял такого .взгляда, с 1836 г. вышел из объединения
к стал .выпускать отдельный журнал под названием «Archiv
der Pharmazie». В период 1834—1838 гг. (тома 11—77) в
объединение вошел журнал «Neues Journal der Pharmazie
Arzte, Apotheker und Chemiker» (Новый журнал фармации
врачей, аптекарей и химиков), редактируемый Б. Тромс-
дорфом, Э. Мерком и Ф. Мором. В 1837 г. Либих,
вернувшись в Гисен из поездки в Англию, выразил
неудовольствие редактированием журнала, что вызвало отставку Мора
и Мерка.
В управлении журналом .вновь произошли изменения.
Начиная с 1838 г. (с 25-го тома), в его редактировании
приняли участие Дюма в Париже и Грэм в Лондоне. В
объявлении, помещенном на четырех страницах журнала,
Либих писал, что журнал отныне приобретает
интернациональный характер и будет издаваться одновременно в Англии,
Франции и Германии. Он предполагал посвятить «Анналы»
главным образом органической химии, не пренебрегая
открытиями и в других областях химии.
Специализация журнала и особенно придание ему
характера международного научного органа было встречено
некоторыми немецкими химиками, в частности Велером,
отрицательно. В 1838 г. Велер пишет Берцелиусу: «Я был
очень огорчен, узнав, что, начиная с этого года, Либих
издает свой журнал в сотрудничестве с Дюма и Грэмом.
Я уверен, что это является уловкой в пользу издателя
и в продаже журнала; но этот союз мне кажется не только
нелепым, но и роковым, так как, кроме всего, он позорно
пренебрегает всей национальностью и унижает нас в
глазах этих французов. Либих знает мое мнение об этом.
Я постараюсь сделать так, чтобы он не менял своих
научных партнеров каждую минуту. Я также предложил
поместить свое имя на обложке журнала. Конечно, я обещал
не только одно мое имя, подобно двум другим, но и мое
действительное сотрудничество и, естественно, что без
всякой оплаты» [31, т. I, стр. 28].
Предложение Велера Либих принял с большим
удовольствием, и начиная с 26-го тома (1838), журнал стал
выходить под совместной редакцией Велера, Либиха, Дюма и
Грэма. Первая статья Велера «Разрешенная тайна
спиртового брожения», в которой он с юмором говорит о
микроскопических наблюдениях Шванна и Каньяр-Латура, очень
163
11*
понравилась Либиху. Он добавил еще несколько острот, ïî
статья появилась в 29-м томе в 1839 г.
Велер активно участвовал в жизни журнала и старался
умерить резкую критику своего друга. Так, oih просил Ли-
биха не нападать столь яростно иа Митчерлиха и добавлял:
«Ты и без того считаешься в Германии, как и во Франции,
забиякой» [10, стр. 35]. В другом письме Велер пишет: «Я
только бы желал, чтобы ты свои возражения облекал в
несколько другую, менее оскорбительную форму...
Воспринимается по-разному, если ты скажешь: ты делаешь
глупость, ты осел; или если скажешь: у меня другое мнение, и
я думаю дело обстоит так-то» [10, стр. 39]. Берцелиус
также осуждал резкость Либиха, хотя сам не отличался
большой изысканностью в выборе выражений. В одном из писем
он призывал Либиха «перестать быть химическим палачом»
[10, стр. 40].
По предложению Велера название «Annalen der
Pharmazie» было изменено на «Annalen der Chemie und Pharmazie».
Велер считал, что прежнее название не раскрывало
содержания журнала и с ;ним плохо увязывались такие работы,
как, например, исследование мочевой кислоты. «Издатель не
будет противиться, а тем самым возрастет число
подписчиков. Бунзен в Касселе не знает совсем «Annalen», так как
предполагает, что журнал имеет дело только с аптекой»,—
пишет он Либиху. Под новым названием журнал
просуществовал до самой смерти Либиха.
Особого внимания заслуживает 33-й том «Анналов»: ß
нем была помещена уже упомянутая нами переработанная
Либихом статья Велера, высмеивающая упражнения Дюма
в теории замещения.
Там же был также опубликована знаменитая статья
Либиха «Состояние химии в Австрии», подвергшая
смелой критике не отдельные работы, а деятельность
государств.
Итак, был создан химический журнал, который
благодаря в основном трудам Либиха с 40-х годов XIX столетия
стал самым авторитетным химическим органом в мире. С
помощью этого замечательного журнала Либих и Велер в
течение многих десятилетий зорко и со страстным рвением
стояли на страже прогресса химической науки. Либих с
патриотической гордостью мог повторять слова, сказанные им
еще в 1834 г.: «Немецкая химическая литература... в тече-
164
ние нескольких лет выросла в исполина, питаясь чистой и
здоровой пищей» [4, стр. 191].
Важным нововведением в «Анналы» были ежегодные
обзоры успехов химии «Jahresbericht über die Fortschritte der
Chemie» («Годовой отчет успехов химии»). Начало таким
отчетам положили выпускаемые Берцелиусом ежегодники, и
после его смерти Либих взял это важное дело в свои руки.
В составлении ежегодников приняли участие Копп, Билль,
Буфф и другие видные химики Франции, Англии, России,
Америки и других стран. Либих был лично знаком со
многими ведущими химиками, другие знали и уважали его
труды, и все одинаково считали за честь сотрудничать в
«Анналах».
Начиная с 41-го тома (1842) из редакционного состава
журнала исчезают имена Дюма и Грэма, но переводы
французских и английских статей печатаются до коица
редакторской деятельности Либиха. В 1851 г., перед отъездом из
Гисена, он попросил Коппа взять на себя управление «Ан-
налами». Имя Коппа как редактора впервые появилось на
обложке 77-го тома и сохранилось до 269-го тома (1892).
В дальнейшей судьбе «Анналов» деятельное участие
принимали многие ученики Либиха. Так, в первом после
кончины Либиха 170-м томе упоминаются младшие
редакторы — Эрленмейер и Фольгардт. С этого тома журнал стал
называться «Justus Liebig's Arinalen der Chemie und
Pharmazie» («Анналы химии и фармации Юстуса Либиха»).
Главными редакторами с 1874 г. стали Гофман и Кекуле.
После 173-го тома в журнале публиковались только статьи,
посвященные химическим вопросам, и, естественно,
название журнала сократилось: он стал называться «Justus Lie-
big's Annalen der Chemie («Анналы химии Юстуса
Либиха»), оно сохранилось до настоящего времени.
С 1878 г. ответственным редактором «Анналов» был
один Фольгардт. К этому времени во многих странах
появились свои специально химические журналы, но, несмотря
на это, поток научной продукции настолько возрос, что
пришлось ограничить прием статей. Статьи спорного
характера и статьи, ранее напечатанные в других журналах,
в «Анналы» не принимались. Исключение составляли
статьи, опубликованные в России и Италии. Из русских
химиков, которые публиковали свои исследования в
«Анналах» при Либихе и позднее, можно назвать Воскресен-
щ
ского, Зинина, Шишкова, Соколова, Лясковского,
Бородина, Бутлерова, Менделеева, Меншуткина, Вериго,
Вырубова, Мясникова и многих других. В «Анналах» печатались
также известные французские, английские, американские
ученые: Вюрц, Дюма, Лоран, Жерар, Грэм, Вильямсон, Рос-
ко, Гомберг, Торпе, Крум, Джонсон и др. Реже поступали
статьи из Швейцарии, Италии, Голландии, Австрии,
Финляндии.
В дальнейшем в редактировании и издании журнала
активное участие принимали: Р. Фиттиг, О. Баллах, А. Байер,
К. Грэбе, Т. Цинке, Р. Вильштеттер, В. Вислиценус, Г. Ви-
ланд, А. Виндаус и Г. Фишер. В шериод первой мировой
войны число ежегодно выпускаемых номеров резко
снизилось. Так, в 1913 г. их было семь, в 1914 г.— пять, в
1915 г.— четыре, а в 1916 г. вышел всего один номер.
В 1923—1939 гг. журналом руководил Виланд. Он строго
соблюдал устоявшееся направление журнала: примерно
90% материала посвящалось органической химии, изредка
появлялись статьи по неорганической химии.
К началу второй мировой войны в редакционной
коллегии остались Виланд, Виндаус и Фишер. Статьи из
воюющих и нейтральных стран в «Анналы» просачивались с
трудом. Пересылка журнала в зарубежные страны была
также чрезвычайно затруднена. Поэтому изданные во
время войны номера были превращены в фоторепродукции
некоторыми американскими и советскими библиотеками.
Число ежегодных номеров журнала и во время второй
мировой войны резко упало. В 1945 г. был опубликован
только один 557-й том.
Литературная деятельность Либиха была также весьма
плодотворной. Он опубликовал ряд фундаментальных книг
чисто научного и научно-популярного характера. Впрочем,
эти два направления тесно переплетались в книгах Либиха,
поскольку он не отделял теоретических вопросов от
необходимости быстрейшим образом доводить их до сведения
широких кругов и внедрять .в жизнь.
Особое место среди всего литературного наследия
ученого занимают его «Письма о химии» — прекрасный образец
увлекательной популярной книги и в то же время строго
научного труда. Недаром «Письма о химии» с увлечением
читали и читают не только люди, желающие познакомиться
ç химией, но и специалисты, которые находят в них много
Н6
интересного для себя. Вот что пишет Велер Либиху
относительно этой книги: «Я сидел этим зимним вечером в
своей маленькой комнате и читал твои «Химические письма»,
не могу выразить, с каким удовольствием, с какой пользой
для себя. Я хотел бы обнять тебя за отдельные идеи,
которые молнией осветили мне мозг. Еще никогда не говорилось
миру более ясно, в какой связи стоит химия с
физиологическими процессами в живой природе, с медициной, с
сельским хозяйством, промышленностью, торговлей. Эти
отношения показаны так ясно, что они понятны и ребенку;
уже одного этого достаточно, чтобы это произведение
можно было отнести к классическим... Это — настоящая
философия химии» [10, стр. 79—81].
Желание популяризировать химию появилось у Либиха
под влиянием Кота, издателя аугсбургекой «Всеобщей
газеты», который часто обращался к нему с просьбой
ознакомить читателей .с успехами науки. Либих увлекся этой
затеей и напечатал ряд статей в приложении к газете, под
заглавием «Химические письма».
Позднее (в 1844 г., в Гейдельберге) они были изданы
отдельной книгой, выдержавшей много изданий на разных
языках. В русских переводах за книгой сохранилось
название «Письма о химии», она включает 50 писем и
разделена на два тома.
Эти «Письма» —своеобразный отчет о мыслях, чаяниях^
творчестве", борьбе и победах Либиха, написанный смело,
порывисто и взволнованно.
Вначале автор знакомит читателя с химией как наукой,
определяет ее место в общей системе знаний, ее влияние на
физиологию и медицину. Живыми и красочными штрихами
обрисован исторический процесс развития химии, даны
характеристики выдающихся деятелей науки. Начиная с
пятого письма, Либих останавливается на важнейших
категориях и определениях химии, химических соединениях,
химических сил, атомистике, описывает средства и
инструменты химика. Много внимания уделено минеральной и
прикладной химии. Круг затронутых вопросов поражает
своим многообразием. Здесь переплетаются знания о химии,
физиологии, биологии, земледелии, питании людей,
философии и т. д. Этим отчасти объясняется огромнейший
интерес к «Письмам о химии», частые переиздания и перевод
их на. многие языки.
167
В России «Письма о химии» неоднократно переводились
и переиздавались. Впервые они были переведены Г. Дым-
чевичем в 1847 г. под названием «Письма о химии и ее
приложения к промышленности, физиологии и земледелию»
и изданы в Петербурге. В 1855 г. в переводе М. А.
Протопоповой был выпущен перевод с третьего (1851)
исправленного и дополненного гейдельбергского издания. Два письма
об истории химии из этого же издания были опубликованы
несколько раньше в журнале «Москвитянин». В том же году
был опубликован перевод А. Иохера под названием «Новые
письма о химии в ее приложении к промышленности, фи-*
зиологии и земледелию». На это издание последовал ряд
рецензий, ib ггом числе Н. Г. Чернышевского !. Из других
изданий наибольший интерес представляет перевод четвертого
Лейпцигского издания (1859), исправленного и
дополненного новыми письмами, посвященными сельскому
хозяйству. Это издание вышло под редакцией П. П. Алексеева
в Петербурге в 1861 г.
В Мюнхенский период Юстус Либих, будучи
президентом Академии наук, произносил многочисленные речи,
предназначенные для широкой аудитории. Ученый излагал их
простым и ясным языком, не злоупотребляя специальной
терминологией. В этих речах отчетливо сказались
философские наклонности Либиха и его любовь к истории науки.
Позднее, после смерти Либиха, эти отдельные популярные
статьи по общим вопросам были изданы М. Каръером в
виде сборника под названием «Reden und Abhandlungen»
(«Речи и статьи»).
0 фундаментальных книгах Либиха, носящих характер
классических монографий на специальные темы, мы уже
писали в предыдущих главах. Упомянем только, что общее
число статей и книг, вышедших при жизни ученого,
доходило до четырехсот названий.
1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений,
т. I, СПб., 1906, стр. 424—425.
&Ф>
ЛИБИХ И РУССКИЕ ХИМИКИ
первой половине и середине XIX в. русские
университеты, технические учебные заведения
и Министерство народного просвещения
широко практиковали длительные заграничные
командировки для подготовки и повышения
мастерства отечественных специалистов.
Преимущественным правом таких поездок
пользовались молодые люди, проявившие склонность к
научным занятиям и готовившиеся «к профессорскому
званию». Зарекомендовавшие себя западноевропейские
научные центры являлись излюбленными местами учебы и
работы русских естествоиспытателей. Химиков больше всего
привлекали Гисен, Париж, Гейдельберг и Женева, так как
там имелись хорошо оснащенные лаборатории,
.возглавляемые крупными учеными.
В Гисенской лаборатории Юстуса Либиха из русских
химиков в различное время работали А. А. Воскресенский,
H. Н. Зинин, H. Н. Соколов, А. И. Ходнев, П. А.
Ильенков, Н. Э. Ляск01вский, Ф. Ф. Бейлмптейн, Л. Н. Шишков,
А. А. Фадеев, К. Э. Шмидт. Позднее, избрав
самостоятельный творческий путь, многие из названных русских
химиков отошли от устаревших теоретических воззрений
учителя и примкнули к более прогрессивным
направлениям 40-х и особенно 50-х годов XIX в. Тем не менее
J 69
Юстус Либих
(портрет, висевший в кабинете Д. И. Менделеева)
благотворное влияние Либиха на их творческий рост не
подлежит сомнению. Многие из них на всю жизнь
сохранили теплые воспоминания о Либихе и его
замечательной лаборатории ç царившей в ней атмосферой
интернационального научного сотрудничества. В свою очередь
Либих высоко ценил своих русских учеников, поддерживал
с ними научную переписку, следил за их успехами. При
ПО
повторных поездках в Западную Европу русские химики
всегда старались побывать в Гисене или Мюнхене у своего
бывшего учителя. В 1863 г. Либих писал Ильенкову: «На
прошлой неделе г-н Соколов обрадовал меня своим
визитом, он был здоров и весел и загорел, как египтянин.
Передайте ему мой сердечный привет. С искренним приветом
преданный Вам Либих» [35, стр. 11].
Благодарность и уважение русских химиков к Либиху
проявлялось в самых различных формах. В 1830 г. он был
избран иностранным членом-корреспондентом
Петербургской Академии наук; в 1837 г. получил настойчивое
приглашение занять кафедру в Петербургском университете;
дважды он был награжден русскими орденами. После смерти
Либиха русские химики участвовали в сборе средств на
сооружение ему памятника. В своих трудах и особенно ч
учебниках они упоминали о Либихе с особой теплотой.
В кабинетах выдающихся русских ученых Д. И.
Менделеева, А. М. Бутлерова, H. Н. Зинина и других висели
портреты Либиха.
Первым русским учеником Либиха был Александр
Абрамович Воскресенский (1809—1880), названный позже
Менделеевым «дедушкой русских химиков». Он попал в
список «способнейших студентов», отобранных для поездки в
«чужие края» с целью «усовершенствования в разных
отраслях науки», и в 1836 г. уехал в Западную Европу. Следует
заметить, что русское правительство, смертельно напуганное
восстанием декабристов, принимало крутые меры против
«революционной заразы», проникающей якобы с помощью
профессоров в Россию, и держало под наблюдением каждого
командированного за границу научного работника.
Некоторые зарубежные научные центры считались
неблагонадежными; в их числе был и Гисенский университет. Поэтому,
когда Воскресенский после Берлина (где он слушал Митчер-
лиха, Розе и Магнуса) решил поработать у Либиха, русский
посланник в Германии стал чинить ему препятствия. Об
этом свидетельствует недавно обнаруженное и
опубликованное письмо Либиха к неизвестному адресату (по-видимому,
секретарю Петербургской Академии наук П. Н. Фусу):
«Прошу извинить, что обращаюсь с просьбой по делу,
которое касается одного молодого человека, господина
Воскресенского из Петербурга. Для завершения образования он
бь1д послан Педагогическим институтом в Петербурге] в
171
Германию и занимался в последнее время в Берлине; в
этом семестре он прибыл в Гисен, чтобы
совершенствоваться по органической химии. Но его
высокопревосходительство ваш русский посланник в Берлине чинит большие
препятствия к его пребыванию в Гисене, так как за Гисен-
ским университетом, к сожалению, дурная слава. Но
господин Воскресенский не будет здесь посещать лекции и
будет заниматься исключительно химией. Он ежедневно,
с утра до вечера, в лаборатории, и у него нет никаких
Других знакомств, кроме как с молодыми химиками, которые
в политике ничего не понимают и не занимаются ею. Мне
было бы, право, истинно жаль этого старательного и
даровитого молодого человека, если бы он был вынужден
оставить здесь занятия химией и искать другого места, где
ему едва ли представится такой случай работать. Я
убедительно прошу вас, милостивый государь, ходатайствовать
за этого молодого человека у царского правительства и
снискать ему разрешение продолжать здесь свои научные
занятия. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить
вам мою искреннюю благодарность за честь, которую
Академия имела намерение мне оказать. Остаюсь с искренним
уважением и почтением весь ваш д-р Юстус Либих»
[3, стр. 508]. Либиху удалось отстоять в числе своих
учеников Воскресенского; русский химик остался в Гисене
и в 1837—1838 г. выполнил под руководством Либиха
несколько превосходных работ, их краткое содержание
было опубликовано в «Анналах». Одну из этих работ —
«Рассуждение о хинной кислоте и об открытом в ней
новом теле хиноиле» — Воскресенский положил в основу
докторской диссертации, которую защищал в Петербурге
в 1839 г.
Либих весьма лестно отзывался о способностях и трудах
BoiCiKpeceiHciKorio. В вступлении к его статье о хинной
кислоте Либих пишет: «Господин Воскресенский, выдающийся
своим талантом и трудолюбием молодой химик, выполнил
описанную экспериментальную работу в Гисенской
лаборатории, так что я постоянно мог наблюдать его точность и
аккуратность». По свидетельству Менделеева, Либих считал
Воскресенского наиболее талантливым среди своих
учеников. Вот что пишет Менделеев: «И я сам лично слышал о г
Либиха (в 1860 г.) в Мюнхене отзыв о том, что среди всей
массы его учеников он считал Воскресенского наиболее та-
т
лантливым, которому все трудное давалось с легкостью,
[кто] на сомнительно(М распутий сразу выбирал лучший путь,
которого любили и верно ценили окружающие» [36,
стр. 622].
Воскресенский способствовал развитию в России
педагогических традиций своего учителя. Это несомненно одна из
его крупных заслуг. Преподавая в высших учебных
заведениях Петербурга, он подготовил плеяду замечательных
исследователей. Достаточно сказать, что его учениками были
Д. И. Менделеев, Н. Н. Бекетов, Н. Н. Соколов, А. Н. Эн-
гельгардт, Н. А. Меншуткин, П. П. Алексеев и др. С
любовью вспоминая своего учителя Менделеев пишет:
«Принадлежа к числу учеников Воскресенского, я живо помню
ту обаятельность безыскусственной простоты изложения и
то постоянное наталкивание на пользу самостоятельной
разработки научных данных, какими Воскресенский вербовал
много свежих сил в область химии. Другие говорили часто
о великих трудностях научного дела, а у Воскресенского мы
в лаборатории чаще всего слышали его любимую
поговорку: «Не боги горшки обжигают и кирпичи делают», а
потому в лабораториях, которыми заведовал Воскресенский, не
боялись приложить руки к делу науки, а старались лепить
и обжигать кирпичи, из которых слагается здание
химических знаний» [36, стр. 624]. За выдающиеся научные
заслуги Воскресенский был избран члено1М-,корреспондентом
Петербургской Академии наук
Пожалуй, наиболее прославленным русским химиком из
прошедших гисенскую школу, был Николай Николаевич Зи-
нин (1812—1880), также получивший любовное прозвище
«дедушки русских химиков». Это прозвище характеризует
двух ученых-педагогов как основоположников
самостоятельных отечественных химических школ, зародившихся в 40-х
годах прошлого столетия в России.
Зинин выехал за границу ib 1837 г. уже будучи
адъюнктом Казанского университета и пробыл там »сего три года.
Вначале он предполагал пробыть в Гисене совсем недолго,
ко первые же дни, проведенные в лаборатории Либиха,
изменили его намерение. «По окончании занятий моих в
Берлине,— пишет Зинин,— я отправился около половины
марта в Гисен, где нахожусь и теперь; слушаю лекции
экспериментальной химии у г. профессора Либиха и работаю
особенно в его лаборатории, занимаюсь преимущественно
173
анализами органических гел по его способу и
исследованием растительных кислот, получаемых из опия.
Самостоятельных работ нигде в Германии с таким успехом и в
таком числе не производят, как здесь, да и нигде нельзя с
равным удобством производить их: превосходно устроенная
лаборатория, возможность иметь за довольно умеренную
цену все материалы и мелкие снаряды (те и другие —
преимущественно для особенно предпринимаемых работ должны
быть собственные) и, сверх всего, превосходный
руководитель— творец в своей науке (органической химии),
которому бесспорно нет равного в Германии; почти все молодые
химики, ознаменовавшие себя успехами на поприще науки,
вышли из лаборатории Либиха. Все это заставило меня,
быть может, пробыть долее в Гйсене, нежели я
предполагал; во всяком случае в дальнейший путь отправлюсь не
прежде, как по окончании предпринятой работы» [27, стр.
35, 36].
В этот период Либих и его сотрудники занимались
изучением веществ, содержащих радикал бензоил, и Зинин,
следуя общему направлению работ, тоже приступил к
исследованию соединений бензойного ряда. Результаты этих работ
послужили . Зинину основой его докторской диссертации
«О соединениях бензоила и об открытых новых телах,
относящихся к бензоиловому ряду», защищенной в 1841 г. в
Петербургском университете.
Многие научные открытия Зинина были сделаны им при
изучении бензальдегида, или «масла горьких миндалей»,
вещества, к которому он пристрастился, работая у Либиха.
В те времена бензальдегид стоил очень дорого и был почти
недоступен русским лабораториям, которым царское
правительство отпускало мизерные средства. Зинин нашел
оригинальный «источник» приобретения дефицитного
вещества— таможню, где он бесплатно получал значительные
количества конфискованного горыкоминдального масла. Либих
завидовал «богатству сырьем» лаборатории Зинина.
Вернувшись на родину, Зинин вначале в Казани, а
затем в Петербурге, развил кипучую педагогическую
деятельность, выступая и как лектор, и как руководитель научных
лабораторий. Значение его творческого труда в России
аналогично значению деятельности Либиха в Германии.
Из других русских учеников Либиха следует упомянуть
профессора Московского университета Николая Эрастови-
174
ча Лясковского (1816—1871), который посвятил свои
труды наиболее сложным и ответственным в
жизнедеятельности живых существ органическим соединениям —
белковым веществам. В 1845—1846 г. Лясковокий опубликовал
в «Анналах» статьи, посвященные химическому составу
белков, а затем выпустил в России большую докторскую
монографию «Формулы протеинидов по (первоначальной)
теории Мульдера», где подверг критике теорию известного
голландского ученого Г. Мульдера о едином белковом
радикале. Выступление Лясковского вызвало оживленную
полемику; в ней принял участие и Либих, который в те
времена относился к взглядам Мульдера сочуцственно. Но
поскольку ни ему, ни Лясковскому не удалось получить
бессерного протеина, то после экспериментального
доказательства Лясковским существования связанной серы в белках
Либих отверг взгляды Мульдера, а идею белкового
радикала сравнил по абсурдности с идеей о флогистоне.
Профессор Павел Антонович Ильенков (1821—1877),
выдающийся химик-технолог и агрохимик, один из
активных пропагандистов учения Маркса в России того времени
тоже работал в либиховской лаборатории. Научная связь
этих ученых отражена в письмах Либиха к Ильенкову,
хранящихся в мемориальном музее им. К. А. Тимирязева и
недавно опубликованных |[35].
Ильенков изучал химию у Воскресенского, от которого
несомненно много слышал о Либихе. По окончании
Петербургского университета Ильенков был направлен за границу
на два с половиной года и там работал у Либиха. С
возвращением на родину он не прервал связи со своим
наставником, поскольку их обоих интересовали вопросы
агрономической химии и искусственного получения удобрений. Так,
Либиха весьма заинтересовали опыты Ильенкова с
гречихой. В отклике на опыты Ильенкова с гречихой Либих
пишет: «Распространение Ваших опытов на другие злаки
может иметь, по-моему, громадное значение, так как по
предположительному количеству миллиметров дождя,
попадающего на землю, можно приблизительно учесть урожаи...
Очень ценно было бы для меня, если бы Вы, вместо земли,
взяли торф, снабженный определенным количеством
питательных веществ... Мои мысли все время заняты Вашими
опытами, но я не могу уяснить себе влияние воды; я,
конечно, вижу, что как слишком большое, так и слишком
175
малое количество воды вредно, но какое соотношение
приносит пользу, мне пока не понятно» [2, стр. 395]. Ильенков
изучил этот вопрос и опубликовал результаты в статье
«О влиянии почвенной влаги на растительность». Либих
восторгался идеей Ильенкова приготовлять удобрение из
костей, обработанных щелочью: «Ваша идея разлагать кос*
ти не кислотой, а щелочами превосходна: собственно
говоря, как об этом раньше не догадались, ведь разложение их
таким способом так легко и просто» [2, стр. 355].
Сообщение Ильенкова об этой идее Либих напечатал в «Анналах»,
снабдив примечанием о ее важности.
В последнем из дошедших до нас писем к Ильенкову
Либих пишет: «Меня очень интересуют Ваши исследования
чернозема. Особенно интересно Ваше мнение о том, что эта
почва, благодаря присутствию фосфорной кислоты и
щелочей, становится столь приспособленной для (питания. Во
всяком случае чрезвычайно важно выбить из голов владельцев
идею о неистощимости этой почвы и довести до их сознания
необходимость ведения регулярного хозяйства. Если по
соседству с черноземом имеются значительные отложения
фосфоритов, то стоило бы выяснить их происхождение и
провести точные исследования... Мне очень хотелось
опубликовать из Вашего ажсыма то, что относится к Вашим
исследованиям чернозема, но я не решился это сделать без
Вашего разрешения, а затем я подумал, что подробная
статья об этом была бы более желательна для «Анналов».
Об этом я прошу Вас, так как все Ваши сообщения я при
ветствую» [2, стр. 358].
В 1865 г. под Москвой была открыта Петровская
земледельческая и лесная академия (впоследствии
преобразованная в Сельскохозяйственную академию имени
Тимирязева), где Ильенкову была поручена организация
химической лаборатории. Очевидно, он писал об этом Либиху,
так как в ответном послании Либиха мы читаем: «С
удовольствием узнал из Вашего письма о процветании вашей
сельскохозяйственной академии; русскому помещичьему
дворянству, если оно не хочет погибнуть, совершенно
необходимо приобретать сельскохозяйственное образование».
Ильенков переводит на русский язык и издает книгу
Либиха «Naturwissenschaftliche Briefe über die moderne
Landwirtschaft» («Естественнонаучные письма о
современном сельском хозяйстве»). Либих отмечает
прекрасно
Автограф письма Ю. Либиха к Ф. Гебелю
ное оформление книги, быстроту ее издания и выражает
желание в таком виде выпустить дешевое немецкое
издание.
Своими трудами по агрономической химии Либих оказал
несомненную услугу земледелию России. В связи с этим
в 1866 г. русское правительство .наградило его вторым
орденом (первый орден «Святой Анны» был вручен Либиху
в 1849 г.). Выражая благодарность министру
государственных имущеетв, Либих пишет, что когда его «друг и прежний
ученик» Ильенков сделал перевод книги «Химия в
приложении к земледелию», он [Либих.— Ю. М.] «выразил
сомнение насчет успешности такого предприятия... Мои
опасения оказались неосновательными и распространение книги
должно, по всей вероятности, быть рассматриваемо, как
одно из проявлений действия отмены крепостного
состояния» [там же].
Ильенков был одним из самых талантливых учеников
Либиха в области агрономической химии ,и химической
технологии. Он не только пропагандировал идеи своего учителя
в России, но и самостоятельно развивал их в оригинально л
направлении, Либих в свою очередь предпринимал шаги
для распространения научных и технических идей
Ильенкова.
В области химии взрывчатых веществ с Либихом
сотрудничали Леон Николаевич Шишков и Александр
Александрович Фадеев.
Первый из них, работая в Гисенской
лаборатории (1855), получил из гремучей ртути фульминурово-
кислый калий и из него фульминуровую (изоциануровую)
кислоту и опубликовал эту (работу в «Анналах». Продолжая
свои исследования фульминатов, Шишков в 1857 г.
доложил их Парижской Академии и результаты опубликовал
во французских журналах. Подробное описание
исследований Шишкова [37] и Фадеева [38] можно найти в
отечественной литературе, также как сведения о H. Н. Соколове
(1826—1877) [39], А. И. Ходневе (1818—1883) [40]
и Ф. Ф. Бейлынтейне (1838—1906) [41].
В заключение приведем четыре неизвестных и
неопубликованных письма Юстуса Либиха к профессору Дерпт-
ского (ныне Тартуского) университета доктору Ф. Гебелю.
Эти письма хранятся в Ленинградском архиве Академии
наук СССР.
12 IO. С. Мусабеков
/77
Из первого письма Либиха следует, что Гебель просил
советов относительно устройства и оборудования
химической лаборатории в Дерпте, а также собирался приехать
к Либиху. Содержание письма приводится полностью.
Гисен, 28 июля 1842
«Дорогой мой друг,
уезжая в Англию, спешу Вам написать несколько строк
и ответить на Ваше любезное письмо.
Не зная плана, помещения и нужд Вашей химической
мастерской (Werkstatt), для меня очень трудно и даже
невозможно дать Вам необходимый совет. По моему мнению,
было бы всего целесообразнее, не решая окончательно
вопроса о ее оборудовании, поехать в Германию и осмотреть
все, что имеется там в этом отношении. Институт подобного
рода должен служить в течение веков и должен быть
рационально оборудован. Никакие расходы, которые русское
правительство сделало бы на (Калильные печи, не являются
слишком значительными для Вашей цели, чтобы не вносить
это в смету. Прежде чем была построена здешняя
лаборатория, я ездил в Англию и Францию и осмотрел все, что
у них было в этом отношении. И еще совсем недавно его
превосходительство министр общественного просвещения в
Варшаве генерал О. К. [...] откомандировал сюда директора
тамошней высшей генеральской школы офицера
генерального штаба Франковского и местного профессора химии, чтобы
переговорить о плане моей лаборатории. Если Ваша
поездка состоится раньше, что я, конечно, не могу предвидеть,
то я охотно поделюсь с Вами своим мнением, но, как я уже
сказал, только на основе местного плана, который в какой-
то степени соответствует Вашим потребностям.
Ваш труд о лекарственных веществах будет прочитан
с большим интересом, он уже напечатан, очень желательно
его продолжение. Мое отсутствие будет длиться до конца
октября, так что Вы меня не застанете.
Г-н Гирш очень прилежен; большая и жестокая утрата,
которая его поразила, сделала его мне еще дороже. Он
воспитанный и хороший молодой человек.
С дружеским приветом всегда Ваш
д-р Либих».
17 S
Во втором письме речь идет в основном об исследовании
состава ревеня.
*Тисен, 7августа 1842
«Я как раз подробно знакомлюсь с довольно большой
и обещающей успех работой относительно ревеня (Rabar-
ber) молодого химика г-на Хойдлера. Я Вас прошу
приобрести для меня несколько фунтов настоящего русского
ревеня и прислать соответствующими путями в Гисен. Посылка
прибудет сюда достаточно рано, в середине октября, когда
начнется новый семестр. Ваши расходы я с большим
удовольствием возмещу.
Мое последнее письмо относительно лаборатории Вы
наверно недавно получили.
С сердечной привязанностью весь Ваш
д-р Либих».
В третьем, самом длинном письме, датированном 25
апреля 1845 г., Либих пишет о статьях, посланных Гебелем
для опубликования в «Анналах», о «чудесной краске,
особенно по шерсти», образец которой Либих запрашивает у
Гебеля, а также о пересылке в Дерпт некоторых книг
Либиха: «Сердечно Вам благодарен за Ваши любезные
строчки от 13 апреля и неоценимые сообщения, которые Вы
представили для моих «Анналов»... Я дал своему
книготорговцу поручение переслать Вам пятое издание труда, как
и второе издание моей «Органической химии в приложении
к земледелию». Мне очень интересны возражения д-ра
Шмальца. Он, как и другие опоненты, будет перед
публикой добиваться дешевого эффекта. Все возражения, о
которых я до сих пор слышал, означают только то, что мои
труды не поняты, и я не думаю убивать этих слабомысля-
щих и неразвитых людей». Конец письма посвящен
семейным делам.
Последнее из четырех писем послано 21 мая 1855 г. из
Гисена и начинается словами: «Уважаемый друг и коллега!
Подтверждаю получение Вашей интересной статьи, которая
будет напечатана в текущем году. За ценный вклад
в «Анналы» выражаю Вам свою сердечную благодарность».
Далее Либих делится своими сомнениями по поводу
намечаемого выезда из Гисена и рассказывает о новом издании
«Писем о химии». «Я в затруднительном положении,— пи-
179
шет он.— Если прожить 27 лет на одном месте и
привыкнуть к нему, то не легко уехать, однако, по-видимому, это
все же случится. Я только что закончил новое издание моих
«Писем о химии». Добавляем многих новых писем книга
стала почти вдвое толще прежней. В последние 6 лег в
работах по неорганической химии и физиологии я многое
написал, и врачи найдут там кое-что такое, чего они не
ожидают. Если будет возможность, я с удовольствием сделаю
все, что в моих силах, чтобы помочь Вам в Ваших научных
изысканиях. С дружеским почтением весь Ваш д-р Либих».
Многие произведения Либиха были переведены в
России. Из книг Либиха, изданных в дореволюционное и
советское время можно назвать: «Искусственные удобрения или
туки» (СПб., 1850), «Руководство к анализу органических
тел» (М., 1858), «Письма о нынешнем состоянии сельского
хозяйства» (СПб., 1861), «Химия в приложении к
земледелию и физиологии» (М.— Л., 1936) и др.
Все сказанное свидетельствует о том, что научные и
дружеские связи Юстуса Либиха с русскими химиками во
многом способствовали развитию химических,
биологических, агрономических и технических знаний в России,
Германии и других странах.
£^t
ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. В. В. Шар вин. Юстус Либих. М., 1925.
2. П. М. Лукьянов. О неизвестных ии|сымак Ю. Либиюа к
П. А. Ильенкову. Труды Ин-та истории естествознания и
техники. М., 1956, т. 12.
3. Н. А. Ф и г у р о в с к и й. Неизвестное письмо Ю. Либиха об
А. А. Воскресенском. Успехи химии, 1954, т. 23.
4. Walter Roth. Justus von Liebig. Sammlung chemischer und
chemischtechnischer Vorträge. Stuttgart, '1898, III Bd., 5 H.
5. Alfred В en rath. Justus von Liebig und seine Zeit (Die Bücher der
Volkshochschule, Bd. 26). Biefeld — Leipzig, 1921.
6. Briefe von Justus Liebig nach neuen Funden. Hrsgb. E. Berl. Giessen —
Darmstadt, 19,28.
7. В. Остваль д. Великие люди. Вятка, 1910.
8. Б. Яффе. Фридрих Велер. Успехи химии, 1939, т. 8, вып. 3.
9. Justus von Liebig und Friedrich Mohr in ihren Briefen von 1834—1870
Hrsgb. von L. W. Kahlbaum. Leipzig, 1904,
10. Hertha De с h end. Justus von Liebig in eigenen Zeugnissen und
solchen seiner Zeitgenossen. Weinheim, 1953.
11. Aus Justus Liebigs und Frieidrich Wöhlere. Briefwechsel 1829—11873.
Hrsgb. von A. W. Hoffiniann. Braunschweig, 1888, I—II B-de
(переиздано в 19l5ö г.).
12. В. Lepsius. Zur Charakteristik von Liebig und Wöhler. Berichte
der Deutsch, ehem. Gesellsch., 1932, 65.
13. Justus von Liebig und Christian Friedrich Schömbein. Briefwechsel
118.53—<1i868. Hrsgb. von G. W. A. Kahlbaum und E. Thon. Leipzig,
1900.
14. A. M. Бутлеров. Юлий Федорович Фрицше. Соч., т. III. М.,
195i8.
15. A. M. Бутлеров. Исторический очерк развития химии в
последние 40 лет. Соч., т. III. М., 1968.
16. R. Will statt er. Zeitsichr. angew. Chemie, 1932, 217, S. 217.
17. Ю. Ли б их. Письма о химии, т. I и II. СПб., 1661.
18. J. L i e b i g. Traité de chimie organique. Paris, 1841.
19. Э. Г ь e л ь т. История органической химии с древнейших времен до
нашего времени. Харьков — Киев, 1937.
"13 Ю. С. Мусабеков
181
20. Э. M е й е р. -Истории химии от древнейших времен до наших дней.
ОПб.,'1в9'9.
21. F. Honcamp. Justus von Liebig und sein Einfluss auf die
Landwirtschaft. Rostock, 1928.
22. Ю. Либих. Химия в приложении « земледелию и фивиологии.
М.—А, 1936.
23. G. J. Mulder. Versuch einer allgemeinen physio logischen Chemie,
I—II B-de. Braunschweig, 1844—1851.
24. H. Э. Лясковский. Формулы «протелянидов по
(первоначальной) теории Мулыдера. М-, 1862.
25. Р. Waiden. Justus Liebig und die Technick.
«Naturwissenschaften», 1954, 41, Nq 9.
26. J. L i e b i g. Reden und Abhandlungen. Leipzig — Heidelberg, 1'8'74.
27. H. А. Ф и г у p о в ic к и й, Ю. И. Соловьев. Николай
Николаевич Зинин. M., Î9'5>7.
28. H. S. К 1 о о s t е г. Liebig and his american pupils. Jörn, of Chem.
Education, 1956, 33, № 10.
29. Jacob Vol hand. Justus von Liebig, sein Leben und Wirken. Ann.,
1903, 328.
30. К. Фогт. Из университетских воспоминаний. Научное обозрение
118196, № 22 и 27.
31. Jacob Volhard. Justus von Liebig. Leipzig, 1909, B-de I—II.
32. I. L i e b i g. Über den Zustand der Chemie in Preussen. Ann., 1840,
Bd. 34.
33. А. П. Бородин и A. M. Бутлеров. Николай
Николаевич Зинин. Казань, 1880.
34. А. М. Бутлеров. Отчет о путешествии за границу. Соч., т. III,
1958.
35. P. M. L u k'y а п о v. Sechs unbekannte Briefe J. Liebigs an den
russischen Chemiker P. A. Il'enkov. Sitzungsberichte der Deutschen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1960, Nr. 2.
36. Д. И. M e h д e л e e в. Соч., т. 15. Л.— M., 1949.
37. H. A. Фигуровский и Ю. С. M у с а б е к о в. Выдающийся
русский химик Л. Н. Шишков. Труды Ин-та истории
естествознания и техники. М., 1954, т. 2.
38. А. Я. А в е р б у х. Александр Александрович Фадеев. Журн.
прикл. химии, 1952, т. 25.
39. Ю. С. Мусабеков. Первый русский химический журнал и его
основатели. Сб. «Материалы по истории отечественной химии».
М., 1953.
40. Н. А. Фигуровский и Ю. И. Соловьев. Алексей
Иванович Ходнев. Труды Ин-та истории естествознания и техники.
М., 1954, т. 2.
41. П. П. Алексеев. Бейлыитейн Федор Федорович. В кн.:
С. А. В е н г e р о в. Критико-биографический словарь русских
писателей и ученых, т. II, СПб., 1891.
182
ЛИТЕРАТУРА О Ю. ЛИБИХЕ
(в хронологическом порядке)
Юстус Либих. Пересказ содержания речи Добени о Либихе в
Британском обществе. (Дается без фамилии референта в разделе
«Естествоведение».) )«Ру(сский вестник», 1!857, VII, кн. 1, № 1, стр. 21—
29.
Юстус Либих (статья редакционная). Живописная русская
библиотека, 1859, т. 4, № 11, стр. 78—80.
J. С. Poggendorff s biographisch-literarisches Handwörterbuch. 1863,
I Bd., S. 1455—1460.
A. W. Hoffmann. The Li'fe-Work of Liebig (The Faraday-Lecture
for 1875). London, 1876.
Justus Liebig. Proceedings of the Royal Society (London), 1876, 24,
№ 169, p. XXVII—XXXVII.
Воспоминание о Либихе. «Русское сельское хозяйство», 1876, т. 26,
№ 7, стр. 28—60 (перевод статей Кольбе и Штомана).
Justus von Liebig und Theodor Reuning. Briefwechsel über landwirtschaft-
tliche Fragen aus den Jahren 1854—1873. Dresden, 1884.
A. W. Hoffmann. Justus von Liebig und Friedrich Wähler . Mit
einem Bruchstück einer Autobiographie Liebigs als Anhang. Leipzig,
1891.
Berzelius und Liebig. Ihre Briefe von 1831 bis 1845. Hrsgb. von J. Car-
* rier. München — Leipzig, 1893.
G. F. Knapp. Justus von Liebig nach dem Leben gezeichnet. Ann.,
1903, 328, S. 41— 61.
Adolf К о h u t. Justus von Liebig, Sein Leben und Wirken. Giessen, 1906.
W. N. С1 e m m. Liebigbrief e, Züge aus Justus von Liebigs Wirken
als Frend und als Gelehrte. «Mitt. Gesch. Med. Naturwiss.», 1906,
6, S. 19—29 u. 108—121.
Jacob Volhard. Justus von Liebig. I — II B-de, Leipzig, 1909.
А. Ладенбург. Лекции по истории развития химии от Лавуазье
до нашего времени. Одесса, 1917.
Cari G г a e b е. Geschichte der organischen Chemie. Berlin, 1920.
E. O. L i p p m a n n. Zeittafeln zur Geschichte der organischen Chemie.
Berlin, 1921.
К. И. Д e б у. Юстус Либих. «Человек и природа», 1923, № 12,
стр. 1—8.
Einige biographische Aufzeichnungen von Justus von Liebig. Eingeleitet
'and herausgegeben von. K. Esselborn. Giessen, 1926.
Л. Баржанский. Юстус Либих — революционер
сельскохозяйственной химии. «Вестник инженеров», 1928, № 6, стр. 322.
Г. Лесновськ1й. Життя й деяльшсть Юстуса Л1бЕха. Харьюв,
1929.
М. А. Блох. Биографический справочник химиков, т. I. Л., 1929,
стр. 443—449.
Th. Kunzmann. Die Bedeutung der wissenschaftlichen Tätigkeit
Friedrich Wöhlers für die Entwicklung der deutschen chemischen
Industrie. Berlin, 1930.
А. П. Модестов. Очерки по истории агрономии в
жизнеописаниях, т. 3. М.— Л-, 1930.
183 13*
M. И. Усанович. Творцы химии. Л., 1930, стр. 120—131.
К. Шорлеммер. Возникновение и развитие органической химии.
М., 1937.
Б. H. M еншу тк ин. Химия и пути ее развития. М.— Л., 1937.
Richard В1 u п с k. Justus von Liebig. Die Lebensgeschichte eines
Chemikers. Berlin, 1938.
Ludwig Hartmann. Michael Faraday und Justus Liebig. Ein
unbekannten Briefwechsel Sudhoffs Arch. Gesch. Med. u. Naturwiss.,
1940,32, S. 371—398.
Theodor H e и s s. Justus von Liebig. Vom Genius der Forschung.
Hamburg, 1942.
Johannes Valentin. Friedrich Wöhler. Stuttgart, 1949.
Emannuel Berghoff. Justus von Liebig, der Begründer der
physiologischen Chemie. Wiener klin. Wochenschr., 1954, 66, № 23, S.
401—402.
Ю. С. Мусабеков. Александр Абрамович Воскресенский.
«Вестник высшей школы», 1955, № 2, стр. 54—57.
Emet Fischer. Justus von Liebig und Wilhelm Ostwald. «Naturwiss.
Rundschau», 1955, 8, № 2, S. 49—53.
Ю. И. Соловьев. Из истории борьбы с витализмом в России в
первой половине XIX в. «Успехи современной биологии», 1955,
т. 35, вып. 3, стр. 351—365.
H. S. К 1 о о s t е г. The story of Liebig's Annal en der Chemie. «Journ.
of Chem. Education», 1957, 34, № 1, p. 27—30.
Ю. С. Мусабеков. Историческая оценка синтеза Велера.
«Вопросы истории естествознания и техники», 1957, вып. 5, стр. 66—73.
Ю. С. Мусабеков. Николай Николаевич Зинин. «Вестник
высшей школы», 1957, № 10, стр. 85—89.
Ю. С. Мусабеков. История органического синтеза в России. М.,
1958.
Н. А. Фигуровский, К. Ц. Елагина. Александр
Абрамович Воскресенский. «Труды Ин-та истории естествознания и
техники», 1958, т. 18, стр. 213—235.
Ю. С. Мусабеков. Научные контакты русских и
западноевропейских химических школ. «Уч. записки Яросл. технол. ин-та», 1959,
т. III, стр.319—342.
ТРУДЫ Ю. ЛИБИХА
1822
Einige Bemerkungen über die Bereitung und Zusammensetzung des
Brugnatellischen und Howardschen Knallsillbers. . Buchners Repert.
d. Pharm., /2,412—426.
Некоторые замечания о приготовлении и составе гремучего
серебра Бруньятели и Говарда.
Erzeugung des schweren ßalzäthers durch Behandlung oxychliorsau-
ren Kalks mit Essigsäure. Buchners Repert. d. Pharm., 13, ЪШ—3O0.
184
Получение тяжелого соляного эфира путем обработки хлорнова-
тистокислого кальция уксусной кислотой.
3. Bemerkungen über das Knallsilber und Einwirkung des Lichts auf
Schwefelkalk. Buchners Repert. d. Pharm., 13, 300—301,
Замечания о гремучем серебре и о влиянии света на сернистый
кальций.
1823
4. Über die Bereitung der Schwefelsäure. Buchners Repert. d. Pharm., 15,
199—222.
О приготовлении серной кислоты.
5. Über das Knallsilber. Buchners Repert. d. Pharm., 15, 361—391; ib.
Ann. ehim. phys., 24, 294—318.
О гремучем серебре.
6. Kunstlich kristallisirter kohlensaurer Kalk, Baryt und Strontium.
Kastners Archiv, 2, 17.
Искусственно кристаллизированные углекислый кальций, барий
и стронций.
7. Bemerkungen aus einer Abhandlung über die Verbindungen der
Metalloxyde mit Alkalien auf nassem Wege. K. Arch., 2, 57—58.
Заметки из статьи о соединении окислов металла со щелочами
мокрым путем.
8. (Et. Gay-Lussac). Analyse du fulminate d'argent. Ann. chim. phys.,
25,285—311.
(Совместно с Гей-Люссаком). Анализ фульмината серебра.
9. (Mit Gay-Lussac). Zerlegung des knallsauren Salzes. Pogg. Ann., /,
87—117.
(Совместно с Гей-Люссаком). Разложение гремучекислых солей.
10. Bereitung einiger Papier-und Malerfarben (1. Gelbe Farbe für
Papiermüller. 2. Grünfarbung des Papierzeugs. 3. Gelbe Farben zum
Illuminieren. 4. Rother flüssiger Carmin zum Illuminieren. Aus einer frief-
lischen Mitheilung aus dem Jahre 1622). K. Archiv, 3, 408—410.
Приготовление некоторых красок для бумаги и художественных
красок (1. Желтая краска для производства бумаги. 2. Зеленая
окраска бумажной массы. 3. Желтая краска для раскрашивания.
4. Светло-красный жидкий кармин для раскрашивания. Из
сообщения 1822 г.).
11. Chemische Untersuchung der Soole zu Salzhausen. K. Arch, 5,
454_462.
Химическое исследование рассолов из, Зальцхаузена.
12. Einige Bemerkungen über Wirzer's Schrift:. Das Neuste über die
Schwefelquellen zu Nendorf etc. K. Arch., 6, 91 —102.
Некоторые замечания о статье Вирцера: Новейшие сведения j>
сернистых источниках в Нендорфе и т. д.
13. Über Wöhlers Cyansäure. К. Arch., 6, 145—153.
О циановой кислоте Велера.
14. Selengehalt der böhmischen Schwefelsäure. К. Arch., 6, 154.
Содержание селена в богемской серной кислоте.
15. Über die Zerlegung des knallsauren Silbers durch Schwefelwasser-
shtoff. K. Arch., 6, 327—332.
О разложении гремучекислого серебра при помощи сероводорода,
/65
16. Über das Silicium und über Howard's angekündigtes neues
Thermometer. (Aus einem Brief an den Herausgeber.) Schweiggers Yahrbuch, 13,
118—119.
О кремнии и об объявленном новом термометре Говарда (Из
письма к редактору).
1826
17. Extrait d'une lettre de M. Liebig à Gay-Lussac sur la présence de
l'iode dans les eaux minerais. Ann. chim. phys., 31, 355.
Извлечение из письма месьё Либиха Гей-Люссаку о присутствии
йода в -минеральных водак.
18. Sur la décomposition du fulminate d'argent par l'acide hydrosuifurique.
Ann. chim. phys., 32, 316—320.
О разложении фульмината серебра сероводородной кислотой.
19. Sur la quelques cyanates. Ann. chim. phys., 33, 207—214.
О некоторых цианатах.
20. Analyse eines besonderen Doppelsalzes (Carnallit). K. Arch., 9,
316—319.
Анализ особенной двойной соли (карналлит).
21. Aus einem Briefe der Herrn Prof. Dr. Justus Liebig in Gißen an den
Dr. Schweigger-Seidel (Bestätigung von Gmelins Krokonsäure).
Schweiggers Yahrbuch, 17, 114—118.
Из гоисыма господина профессора доктора Юстуса Лйбика в Гисе-
не к доктору Швейгер-Зейделю (утверждения о кроконовой
кислоте Гмелина).
22. Analyse eines Doppelsalzes, von Schwefelsäure, Kobaltoxyd und
Kupferoxyd. Schw. Jb., 17, 495—496.
Анализ двойной соли серной кислоты, окиси кобальта и окиси
меди.
23. Über das Bromium. Schw. Jb., 18, 106—108.
.О броме.
24. Über Cyan und Knallsäure. Schw. Jb., 18, 376—381.
О циановой и гремучей кислотах.
1827
25. Lettre a M. Gay-Lussac, sur quelques combinaisons particulières.
Ann. chim. phys., 35, 68—71.
Письмо месьё Гей-Люесаку о некоторых выделенных
соединениях.
26. Über die bitteren Substanzen, welche durch Behandlung des Indigo,
der Seide und der Aloe mit Salpetersäure erzeugt wird. Pogg. Ann., 13,
191—208; то же в Ann. chim. phys., 35, 72—87; Schw. Jb., 19,
373—387.
О горьких веществах, которые можно получить путем обработки
индиго, шелка m алое (азотной кислотой.
27. über ungefärbten Indig (Indigstoff). Mag. Pharm., 18, 192—195; то
же в Ann. ichitrn. phys., 35, 269—273; Schw. Jb., 20, 60—62.
О неокрашенном индиго (вещество—индиго).
186
28. Extrait d'une note de M. Liebig, professeur de chimie à Giessen, sur
la nitrification. Ann. chim. phys., 35, 329—333.
Извлечение из заметки месье Либиха, профессора химии в Гиссе-
не, о нитрификации.
29. Nachträgliche Bemerkungen über das Brom und Biromkalium. Schw.
Jb., 19, 102—103.
Дополнительные замечания о броме и бромистом калие.
30. Doppelsalze. Über einige besondere Verbindungen (Chlorquecksilber
mit Chlorkalium, Chlorquecksilber und Iodinquecksilber, Cyanqueck-
silber und Iodkalium, Doppelcyanverbindungen u. s. w.). Schw. Jb.,
/9, 251—257.
Двойные соли. О некоторых особенных соединениях (хлористой
рггути с хлористым калюем, хлористой ртути с йодистой (ртутью,
двойные соединения циана и т. д.).
31. Neues, äußerst empfindliches Reagens auf Salpetersäure. Schw. Jb., 19,
257. e
Новый очень чувствительный реагент на азотную кислоту.
32. Über Indig- und Kohleustickstoffsäure und über die Oxyde des Chroms.
Schw. Jb., 21, 374—375.
Об индиго и углеазотной [синильной?] кислоте и об окислах хрома.
1828
33. Sur la composition de l'acide carbazotique. Ann. chim. phys., 37,
286—291.
О соединении углеазотной [?] кислоты.
34. Über die Reduction des Schwefelarseniks, nebst nachträglichen
Beobachtungen über die Kohlenstickstoffsäure. Pogg. Ann., 13, 433—
434.
О восстановлении сернистого мышьяка, а также дополнительные
наблюдения об углеазотной [?] кислоте.
35. Über die Darstellung von Salpetersäure aus der Kohlenstickstoffsäure.
Pogg. Ann., 14, 456.
О получении азотной кислоты из цианистой кислоты.
1829
36. Über einiiige Produicte, welche durch Zersetzung mehrerer Salze
vermittels Chlor erhalten werden. Pogg. Ann., 15, 541—572; то же в
Ann. chim. phys., 41, 182—205, 225—236.
О некоторых продуктах, которые можно получить путем
разложения некоторых солей хлора.
37. Neue Bereitungsart der Cyansäure. Pogg. Ann.,. 15, 158.
Новый способ "приготовления циановой кислоты
38. über Edmund Davy's schwarzen Platinniederschlag, und über die
Eigenschaft des Platinschwamms, das Wasserstoffgas zu entzünden.
Pogg. Ann.,/7, 101—114.
О черном платиновом осадке Эдмунда Дэви и о свойстве
губчатой платины воспламенять водородный газ.
39. Über die Säure, welche in dem Harn der grasfressenden vierfüßigen
Thier enthalten ist. Pogg. Ann., /7, 389—399.
О кислоте, которая содержится в моче травоядных четвероногих
животных.
187
1830
40. Sur la composition de l'acide malique. Ann. chim. phys., 43, 259—
266.
О соединении яблочной кислоты.
41. (Mit Wohler). Über die Zusammensetzung der Honigsteinsäure. Pogg.
Ann., 18, 161—164.
(Совместно с Велером). О составе мвдокаменной (меллитовой)
кислоты.
42. Methode zur Darstellung von arsenikfreiem Kobalt und Nickel. Pogg.
Ann., 18, 164—167.
Метод получения кобальта и никеля, свободных от мышьяка.
43. Über die Analyse organischer Substanzen. Pogg. Ann., 18, 357—
368.
Об анализе органических веществ.
44. Über das metallische Radical der Magnesia. Pogg. Ann., 19, 137—
138.
О металлическом радикале окиси магния.
45. Über die Zusammensetzung der Kamphersäure und des Kamphers.
Pogg. Ann., 20, 41—47.
О составе камфарной кислоты и камфары.
46. (Mit Wöhler). Untersuchungen über die Cyahsäuren. Pogg. Ann., 20,
369-400.
(Совместно с Велером). Исследования циановых кислот.
1831
47. Über einen neuen Apparat zur Analyse organischer Körper und
über die Zusammensetzung einiger organischer Substanzen
(Fünfkugelapparat). Pogg. Ann., 21, 1—43.
О новом аппарате для анализа органических веществ и о составе
некоторых органических веществ (пятишариковый аппарат).
48. Darstellung des metallischen Titans. Pogg. Ann., 21, 359—360.
Получение металлического титана.
49. Über die Darstellung von metallischen Chrom. Pogg. Ann., 21, 360.
О получении металлического хрома.
50. Über den Wassergehalt des schwefelsauren Strychnins und Brucins.
Pogg. Ann., 21, 487—490.
О содержании воды в сернокислом стрихнине и бруцине.
51. (Mit Wöhler). Vermischte chemische Bemerkungen (1. Titaneisen.
2. Basisch chromsaures Bleioxyd. 3. Kupferoxydul. 4. Eisenoxydul.
5. Manganoxydul. 6. Nickel). Pogg. Ann., 21, 578—586.
(Совместно с Велером). Смешанные химические заметки (1.
Титановое железо. 2. Основная хромовокислая окись свинца. 3.
Закись меди. 4. Закись железа. 5. Закись марганца. 6. Никель).
52. (Mit Wöhler). Über Zusammensetzung der Schwefel Weinsäure.
Pogg. Ann., 22, 486—491.
(Совместно с Велером). О составе серновинной кислоты.
53. Verhalten des Eisenoxyds zu Ammoniak in der Glühhitze, Mag.
Pharm., 33, 40—41.
Отношение окиси железа к аммиаку при температуре каления.
188
54. Bereitung des Cyanquecksilbers. Mag. Pharm., 33, 41.
Получение цианистой ртути.
55. Neue Versuche über die elementare Zusammensetzung organischer
Salzbesen. Mag. Pharm., 33, 14i3—144.
Новые опыты об элементарном составе органических соединений.
56. Über das Chlorjod, seine Anwendung zur Darstellung einer reinen Iod-
säure, und über die Benutzung der letzteren als Reagens auf
vegetabilischen Basen. Mag. Pharm., 34, 26—34.
О жлорйоде, его применение для приготовления чистой
йодноватой кислоты и об использовании последней как реагента на
растительные основания.
57. Fußnote zu Soubeiran: Über einige Erscheinungen bei der Praecipita-
tion der Eisensalze durch neutrale kohlensaure Alkalien. Mag. Pharm.,
34, 36—37.
Заметка по поводу статьи Субейрана: О некоторых явлениях при
о1са1Ж1дении солей железа с помощью нейтральных углекислых
щелочей.
58. Über das Salicin. Mag. Pharm., 34, 41—48.
О салицине.
59. Über den schweren Salzäther. Mag. Pharm., 34, 49—55.
О тяжелом соляном эфире.
60. Fußnote zu «Über die Traubensäure». Mag. Pharm., 34, 35—36.
Заметка к статье «О виноградной кислоте».
61. Über die Chlorsäure oxydirte Chlorsäure und einige chlorsäure Salze.
Mag. Pharm., 34, 124—131.
О хлорноватой кислоте, окисленной хлорноватой кислоте и о
некоторых хлорноватО'киюлык солях.
62. Über die Darstellung von Ätzkali. Mag. Pharm., 35, 17—18.
О получении едкого кали.
63. Scheidung der Bittererde, des Manganoxyduls, des Kobalt und Nickels,
des Eisenoxyduls vom Eisenoxyd, und des Bleioxyd vom Wismu-
thoxyid. Mag. Pharm., 35, 11—115.
Отделение горькой земли [магнезии], закисей марганца, кобальта
и никеля, закиси железа от окиси железа и, окиси свинца от
окиси висмута.
64. Beiträge zur pharmaceutischen Praxis von A. Duflos. Mag. Pharm.,
35,115—124.
Дополнение к фармацевтической практике А. Дюфло.
65. Basisch essigsaures Bleioxyd; von Prof. Dr. О. B. Kühn in Leipzig.
Mag. Pharm., 35, 124—126.
Основная уксуснокислая окись свинца; [статья] п|1офессвра,
доктора О. Б. Кюна в Лейпциге.
66. Einfaches Verfahren, um Iodsäure darzustellen. Mag. Pharm., 35,
-224—225.
Простой метод получения йодноватой кислоты.
67. Über die Fabrication des chlorsauren Kalis. Mag. Pharm., 35,
225—227.
Об изготовлении хлорноватокислого калия.
68. Über die Natur der Knallsäure; von Prof. Dr. О. B. Kühn in
Leipzig. Mag. Pharm., 35, 227—232.
О природе гремучей кислоты; [статья] профессора, доктора
О. Б. Кюиа в Лейпциге.
189
69. über die Darstellung einiger im Handel vorkommender Farben. Mag.
Pharm., 35, 257—258.
О получении некоторых встречающихся в продаже красок.
70. Über die Zusammensetzung des Coniins. Mag. Phanm., 36, 159—
162.
О составе кониина.
1832
71. (Mit Pf äff). Über die Zusammensetzung des Caf feins. Ann., /,
17—20.
(Совместно с Пфаффом). О составе кофеина.
72. Über die Zersetzung des Alkohols durch Chlor. Ann., /, 31—32.
О разложении спирта хлором.
72а. (Mit. Wöhler). Über die Zusammensetzung der Schwefelsteinsäure.
Ann., /, 37—43.
(Совместно с Велером). О составе тиокаменной кислоты.
73. Muster eines chemischen Styls oder Rüge hinsichtlich der Einwirkung
der Salpetersäure auf essigsaures Silber, nach den Versuchen von Dr.
Schweinsberg. Ann., /, 88—90.
Образец химического стиля или порицания в отношении
воздействия азотной кислоты на уксуснокислое серебро, по опытам
доктора Швейнсберга.
74. Über die Verbindungen, welche durch Einwirkung des Chlors auf
Alkohol, Aether, Ölbildendes Gas und Essiggeist entstehen. Ann., /,
182—230; то же в Pogg. Ann., 24, 243—294.
О соединениях, которые возникают при действии хлора на спирт,
эфир, маслородный газ и уксусный спирт.
75. Curios a (nochmals Sichweinsiberg). Ann., /, 241—242.
Курьез (еще раз о Швейнсберге).
76. Über die Theorie der bleichenden alkalischen Chlorverbindungen.
Ann., /, 317—326.
О теории белящих щелочных соединений хлора.
77. Bemerkungen zur vorhergehenden Abhandlung Thénard: Über den
Wasserstoff Schwefel, hydrothionige Säure. Ann., 2, 19—30.
Замечания к предыдущей статье Тенара: О сероводороде,
сероводородной кислоте.
78. Darstellung des Inulin. Ann., 2, 235—237.
Получение инулина.
79. Stahl. Ann., 2, 237.
Сталь.
80. Über die isomerischen Körper. Ann., 2, 304—317.
Об изомерных телах.
81. (Mit Wöhler). Untersuchungen über das Radikal der Benzoesäure.
Ann., 3, 249—282; то же в Pogg. Ann., 26, 325—343, 465—485.
(Совместно с Велером). Исследования о радикале бензойной
кислоты.
82. Über die Bildung der Blasensteine und über ihren Zusammenhang
mit anderen krankhaften Zustanden des Organismus. Ann., 3, 110—
112.
Об образовании камней в мочевом пузыре и об их связи с
другими болезненными состояниями организма.
/9Р
83. Über das Verhalten der Ameisensäure zum Quecksilberoxyd. Ann.,
3, 207—209.
Об отношении муравьиной кислоты к окиси ртути.
84. (Mit Wohler). Vermischte 'chemische Notizen. 7. Су
an-Schwefelwasserstoffsäure. 8. Naphtalinschwefelsäure. 9. Ätherbildung durch
Fluorbor. 10. Barytsuperoxyd. Pogg. Ann., 24, 167—172.
(Совместно с Велером). Смешанные химические заметки. 7. Циан-
сероводородная кислота. 8. Нафталин-серная кислота. 9.
Образование эфира при помощи фтористого бора. 10. Перекись
бария.
85. (Mit Wöhler). Vermischte chemische Bemerkungen (Chlorjod;
Jodsaures Natron; Baryt und Strontian zu scheiden; Jodsaure;
Chlorsaures Kali; Berlinerblau; Chromgelb; Schwefelbarium und
Schwefelstrontium; Cyanquecksilber; Ätzkali). Pogg. Ann., 24, 361—
366.
(Совместно с Велером). Смешанные химические заметки
(хлористый йод; йодноватокислый натр отделение окиси бария от
окиси стронция; хлорноватокислая окись калия; берлинская
лазурь; желтый хром; сернистый барий и сернистый стронций;
цианистая рт)ть; едкое кали).
1833
86. Gay-Lussac. Vollständiger Unterricht über das ' Verfahren, Silber auf
nassem Wege zu probieren. Übersetz v. Justus Liebig. Braunschweig.
Гей-Люссак. Полное обучение методу установления пробы серебра
мокрым путем. Перев. Юстуса Либиха. Брауншвейг.
87. Vorwort (ausführl. Erörterung über die Notwendigkeit der Kritik).
Ann., 5, 1—3.
Предисловие (подробное обсуждение необходимости критики).
88. Versuche über die Verbindungen von Wasserstoff und Kohlenstoff, von
Dumas, mit Anmerkung, von Liebig. Ann., 5, 5—20.
Опыты Дюма с соединениями водорода и углерода, с
примечаниями Либиха.
89. Über Acetal (Sauerstoffather), Holzgeist und Essigäther. Ann. 5,
25-37.
Об ацетале (кислородном эфире), древесном спирте и уксусном
эфире.
90. Schreiben von Liebig an Berzelius über einige
Verbindungs-Verhältnisse der Citronensäure. Ann., 5. 134—137.
Письмо Либиха к Берцелиусу о некоторых соотношениях
лимонной кислоты [до и после статьи — письмо Берцелиуса к Либиху
о том же предмете].
91. Beschreibung eines Apparats zur Bestimmung des Krystallwassers von
Salzen und anderen Körpern. Ann., 5, 139—141.
Описание аппарата для определения кристаллизационной воды в
солях и в других веществах.
92. Darstellung und Zusammensetzung der Äpfelsäure. Ann., 5, 141—149;
Pogg. Ann., 28, 195—203.
Получение и состав яблочной кислоты.
93. Über die Zersetzung organischer Körper durch Salpetersäure. Ann,
5,285—288.
О разложении органических веществ азотной кислотой.
191
94. Schnelle Bereitungsart von ausgezeichnet schönem Zinnober. Ann., 5,
289.
Быстрый способ приготовления высококачественной киновари.
95. Verfahren, um Zeichnungen oder Flecken von sogenannter unver-
löschlicher Tinte (salpetersaurem Silberoxyd) aus Zeugen zu bringen.
Ann., 5, 290.
Способы удаления с ткани отпечатков и пятен так называемых
невыгораемых чернил (азотнокислой окиси серебра).
96. Über die Zusammensetzung der Chinasäure. Ann., 6, 14—21; Pogg.
Ann., 29, 70—77.
О составе хинной кислоты.
97. Über die Zusammensetzung des Narcotins und Piperins. Ann., 6, 35—
37.
О составе наркотина и пиперина.
98. Analyse des Atropins. Ann., 6, 66.
Анализ атропина.
99. Über den Stickstoffgehalt der organischen Basen.: Ann., 6, 73—74.
О содержании азота в органических основаниях.
100. Über die Zusammensetzung der Weinphosphorsäure. Ann., 6, 149—
151.
О составе виннофосфорной кислоты.
101. Über das Kreosot und dessen Zusammensetzung. Ann., 6, 202—209.
О креозоте и о его составе.
102. Über den Mineralkermes. Ann., 7, 1—9.
О минеральном кермесе.
103. (Mit Mitscherlich). Über deren Zusammensetzung (auschließend an
Gay-Lussac und Pelouze: Über die Milchsäure). Ann., 7, 47—48.
(Совместно с Митчерлихом). О составе молочной кислоты (по
поводу статьи Гей-Люссака и Пелуза о молочной кислоте).
104. Nachtragliche Bemerkungen zu der S. 289 des V. Bandes angegebenen.
«Bereitungsart von Zinnober auf nassem Wege». Ann., 7, 49.
Дополнительные замечания к странице 289 книги Ф. Банде
«Способ приготовления киновари мокрым путем».
105. Über die Zusammensetzung des Asparamids und der Asparaginsäure.
Ann., 7, 146-^150; Pogg. Ann., 3/, 220—224.
О 'составе ашарамида (асщ&рагина) и ашараопинювай кислоты.
106. Über die Zusammensetzung der Mecon-und Metam'econsäuire
(Robiquets Parameconsäure). Ann., 7, 237—241; Pogg. Ann., 37, 168—
172.
О составе меконовой и метамеконовой (парамеконовой Робике)
кислот.
107. Über Acetal (Sauerstoffäther), Holzgeist und Essigäther. Pogg. Ann.,
27, 678.
Об: ацетале (кислородном эфире), древесном спирте и уксусном
эфире.
108. Austroickmunigeappariat, behufs der Zerlegung organischer Substanzen.
Pogg. Ann, 27, 679^681.
Сушильный аппарат для разложения органических веществ.
109. Besprechung des Lehrbuchs der Chemie von Carl Löwig. Leipziger
Literaturzeitung, Nr. 107.
Рецензия к учебнику химии Карла Левига.
192
1834
110. Über die Constitution des Äthers, seiner Verbindungen Ann., 9, 1—
39; Pogg. Ann., 31, 321—360.
О строении эфира, его соединений.
111. Nachtrag der Redaction zu Mitscherlich: Über das Benzol und
die Säuren der öl-und Talgarten. Ann., 9, 48—56.
Редакционное дополнение к работе Митчерлиха: О бензоле и о
кислотах олеиновой и стеариновой.
112. Ausführliche Fußnoten zu Dumas: Über den kunstlichen Kampher
des Terpentinöls und des Ciitronenöls, und Organisch ^chemieiche
Untersuchungen. Ann., 9, 68—72, 82—84.
Подробные замечания к спаггьям Дюма: Об искусственной
камфоре из терпентинного и лимонного масел и Химико-органические
исследования.
113. Note über die Bildung des Oxamids bei Zersetzung des Oxaläthers
durch Ammoniak. Ann., 9, 129—133.
Примечание об образовании оксамида при разложении
щавелевого эфира аммиаком.
114. Über einige Stickstoffverbindungen (Mellon). Ann., 10, 1—47.
О некоторых соединениях азота (меллон).
115. Analyse der Harnsäure. Ann., 10, 47—48.
Анализ мочевой кислоты.
116. Über die Zusammensetzung der Gerbesäure und der Gallussäuren.
Ann., 10, 172—179.
О составе дубильной и галловой кислот.
117. Bemerkungen der Redaktion zu der Abhandlung der Herren Pelletier
und Couerbe: Über die Analyse der Kockelkörner. Ann., 10, 203—
210.
Редакционные замечания к статье Пелетье и Куэрбе: Об анализе
шипов коккеля.
118. Fußnoten zu Dumas: Organisch-chemische Untersuchungen. Ann., 10,
281, 288, 292.
Замечания к статье Дюма: Химико-органические исследования.
119. Bemerkungen zu der vorstehenden Abhandlung des Herrn Dr.
Reichenbach: Über Mesit (Essiggeist) und Holzgeist, von der Redaktion.
Ann., 10, 315—323.
Редакционные замечания к предшествующей статье доктора Рей-
хенбаха: О мезите (уксуснометиловом эфире) и древесном спирте.
120. Allgemeine Bietrachtungen über die Zusaimimenisietzimg des Mercap-
tans. Ann., //, 10—14.
Общие рассуждения о составе меркаптана.
121. Über die Darstellung des Mercaptans und des Schwefelcyanäthers.
Ann, //,14—18.
О получении меркаптана и серноцианового [роданистого] эфира.
122. Nachtrag der Redaktion zu Rose: Über eine Verbindung dies
Phosphors mit Stickstoff. Ann., //, 139—150.
Редакционное дополнение к статье Розе: О соединении фосфора
с азотом.
123. Über das Verhalten des Kohlenoxyds zu Kalium. Ann., 11, 182—
189; Pogg. Ann., 33, 90—97.
Об отношении окиси углерода к калию.
193
124. Nachtrag der Redaction zu Trommsdorff: Über Santonin. Ann., //,
207—208.
Редакционное дополнение к статье Троммсдорфа: О сантонине.
125. Über die Zusammensetzung der Mallein- und PaTarmeleinsäure. Ann.,
//,276—277.
О составе малеиновой и парамалеиновой кислот.
126. Über die Scheidung der Bittererde von Kali und Natron. Ann., //,
255—256.
Об отделении горькой земли магнезии от окиси натрия и окиси
калия.
127. Nachtrag der Redaction über Arsenikgehalt des Phosphors. Ann, //,
260—263.
Редакционное дополнение к статье о содержании мышьяка в
фосфоре.
128. Über die Zusammensetzung der Hippursäure. Ann., 12, 20—24.
О составе гиппуровой кислоты.
129. Bemerkungen der Redaction zur vorhergehenden Abhandlung Peligot:
Über die Destillation des benzoesäuren Kalks. Ann., 12. 50—54.
Редакционные замечания к предшествующей статье Пелиго: О
перегонке бензойнокислого кальция.
1835
130. Über das Studium der Pharmacie in Beziehung auf die Medicin und
auf die Bildung der Pharaiac-eniben. Ann., 13, 1—9.
Об изучении фармации в связи с медициной и с образованием
фармацевтов.
131. Thatsaichen zur Geschichte des Äthers. Ann., 13, 27—39.
Факты к истории эфира.
132. Nachtrag der Redaction (Analyse der Pininsäure) zu Trommsdorff:
Zusammensetzung und Mischungsgewicht der Sylvinsäure. Ann., 13,
174.
Редакционное дополнение (Анализ пининовой кислоты) к статье
Троммсдорфа: Состав и весовое соотношение сильвиновой
кислоты.
133. Über die Producte der Oxydation des Alkohols. Ann., 14, 133—
167; Pogg. Ann., 36, ,275—308.
О продуктах окисления спирта.
134. Bemerkung über die Methode der Darstellung und Reinigung
flüchtiger, durch trockene Destillation organischer Materien erhaltene
Producte Ann., 16, 61—62.
Замечание о методе производства и очистки продуктов,
полученных путем сухой перегонки органических веществ.
135. Bemerkungen der Redaction zu Dumas: Über die Wirkung des Chlors
auf den Alkohol. Ann., 16, 166—171.
Редакционные замечания к статье Дюма: О действии хлора на
спирт.
136. Über einige Stickstoff Verbindungen. Pogg. Ann., 34, 570—6t3.
О некоторых соединениях азота.
194
Ш6
137. Über Aluminium umd Aluminiimchloirid, Thonerde uinid Thonerdesal-
ze (Für die Annalen bearbeitet aus dem Wörterbuch der Chemie von
Poggendorff lund J. Liebig). Ann., 17, 43—52.
Об алюминии и хлориде алюминия, об окиси алюминия
[глиноземе] и о солях окиси алюминия (К требованию анналов,
составленных из словаря химии Поггендорфа и Ю. Либиха).
138. Ameisensäure und ameisensaure Salze (Auszug aus dem
Handwörterbuch der Chemie von Poggendorff und J. Liebig). Ann., 17, 69—75.
Муравьиная кислота и соли муравьиной кислоты (Выдержка из
справочника химии Поггендорфа и Ю. Либиха).
139. Über das Nicotin. Ann., 18, 66—68.
О никотине.
140. Analyse des Mineralwassers des neugefaßten sogenannten untersten
Brunnens bei Homburg vor der Höhe. Ann., 18, 276—287.
Анализ минеральной воды вновь открытого так называемого
нижнего колодца в Гомбурге на возвышенности.
141. Zusammensetzung und Constitution der Mandelsäure. Ann., 18,
319—324.
Состав .и конституция миндальной кислоты.
142. Benzoesaurer Benzoylwasserstoff. Ann., 18, 324—327.
Бензойнокислый гидробензоил.
143. Darstellung eines reinen arsenik- umd eiisenfreien Antimons. Ann., 19,
22—28.
Производство чистой, свободной от мышьяка и железа сурьмы.
144. Vermischte Notizen von Pelouze and Justus Liebig (Oenanthäther;
honiigsteinsaures Silber; Stearin; Mannit; benzoesaurer
Benzoylwasserstoff; Äther usw.). Ann., 19, 241—290.
Смешаиные заметки Пелуэа :и Юстуса Либика (эфир энантювой
кислоты; меллитовокислое серебро; стеарин; маннит; бензойно-
кислый гидробензоил; эфир и т. д.).
1837
145. Anleitung zur organischer Körper. Braunschweig.
Руководство для анализа органических веществ. Брауншвейг.
146. Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie. In Verbingung
mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Dr. J. Liebig, Dr. J. C.
Poggendorff und Dr. Fr. Wöhler. Braunschweig, 1837—1866.
Справочник чистой и прикладной химии, изданный в содружестве
с несколькими учеными, редактируемый доктором Ю. Либихом,
доктором И. К. Поггендорфом и доктором Фр. Велером.
Брауншвейг.
147. On the products of the decomposition of Uric Acid. London.
О продуктах распада мочевой кислоты.
148. Note sur l'état actuel de la chimie organique par M. M. Dumas et
Liebig. Gompt. rendue, 5, 567.
Заметка месье Дюма и Либиха о современном состоянии
органической химии.
149. (Mit Wöhler). Notiz über die Bildung des Bittermandelöls. Ann., 21,
96—97.
195
(Совместно с Велером). Заметка об образовании масла горького
миндаля.
150. Über die Theorie dès Essigbildungsprocesses. Ann., 21, 113—122.
О теории процесса образования уксуса.
150а. Über die Wiedergewinnung des Iods aus Iodbädern. Ann., 21,
219M220.
О выделении йода из йойистык минеральных воя.
151. (Mit Wöhler). Über die Bildung des Bittermandelöls. Ann., 22, 1—
24.
(Совместно с Велером). Об образовании масла горького миндаля.
1.52. (Mit Wöhler) Vorschlag zur Einführung eines neuen Arzneimittels
anstatt des destillierten Kirschlorbeer-und Bittermandelwasser. Ann., 22,
24—32. (Совместно ic Велером). Предложение о шед-ении нового
лекарства вместо дестиллированной лавровишневой воды и горь-
юоминдалыной воды.
153. Bemerkungen über die Bd. XIX dieser Annalen angegebene
Methode zur Darstellung eines reinen Antimons. Ann., 22, 58—62.
Замечания о методе получения чистой сурьмы, приведенном в
XIX томе этих Анналов.
154. Wer ist idea: Entdecker des Aldehyds? Ann., 22, 2Т5—2П.
Кто открыл альдегид?
155. Über die Äthertheorie, in besonderer Rücksicht auf die
vorhergehende Abhandlung Zeise's: Über das entzündliche Platinchlorür. Ann.,
23, 12—42.
О теории эфира с учетом предыдущей статьи Цейзе: О
воспламеняющейся хлористой платине.
156. Milchsäure, die Säure des Sauerkrauts. Ann., 23, 113—116.
Молочная кислота, кислота1 квашеной капусты.
157. Zusätze zu Marsch's Verfahren, den Arsenik- zu entdecken. Ann.,
23, 223—227.
Дополнения к методу Марша определения мышьяка.
15i8. Über die Substitutionstheorie von Dumas und die Constitution des
Äthers Pogg. Ann., 40, 29(2—(304.
О теории замещения Дюма и о конституции эфира.
159. (Mit Pelouze). Über die Oenantsäure und den Oenantsäure-Äther.
Pogg. Ann., 41, 571—581.
(Совместно с Пелузом). Об энантовой кислоте и о эфире энан-
товой кислоты.
160. (Mit Dumas). Über die Zusammensetzung einiger organischer
Säuren. Pogg. Ann., 42, 445—448.
(Совместно с Дюма). О составе некоторых органических кислот.
1838
161. Zusatz zu Heller: Über die Rhodizonsäuire. Ann., 24, 14—17'.
Добавление к статье Геллера: О родизоновой кислоте.
162. Verbesserung bei der Bereitung des Amygdalins. Ann., 24, 45—46.
Усовершенствование в приготовлении амигдалина.
163. Über Laurent's Theorie der organischen Verbindungen. Ann., 25,
1—31.
О теории органических соединений Лорана.
196
164. Erläuterung der vorstehenden Notiz Robiquet und Boutron:
Geschichtliche Darstellung deir Arbeiten über die bittern Mandeln, nebst
einigen Betrachtungen über die in den Annalen der Pharmacie, Bd.
XXII, enthaltene Abhandlung von Wöhler und Liebig. Ann., 25,
190—199.
Объяснение предыдущей заметки Робике и Бутрона:
Историческое описание работ о горьком миндале, а также некоторые
рассуждения о статье Велера и Либиха, содержащейся в XXII томе
Анналов фармации.
165. Der Zustamd der Chemie in Österreich. Ann., 25, 33.9—347.
Состояние химии в Австрии.
166. Bemerkung zu vorstehender Abhandlung Regnault: Neue
Untersuchungen über die Zusammensetzung der organischer Basen. Ann., 26,
41—60.
Замечание к предыдущей статье Реньо: Новые исследования о
составе органических оснований.
167. Über die Constitution der organischen Säuren. Ann., 26, 113—189.
О конституции органических кислот.
168. Große Fußnote (Verteitigung seiner Antleitung zur Analyse) zu
Hess: Über die Wasserstoffbestimmung bei der Analyse organischer
Substanzen. Ann., 26, 192—194.
Большая заметка (Защита его руководства к анализу) по
поводу статьи Гесса: Об определении водорода при анализе
органических веществ.
169. (Mit Wöhler). Untersuchungen über die Natur der
Harnsäure. Ann., 26, 241—340.
(Совместно с Велером). Исследование природы мочевой кислоты.
170. (Mit Wöhler). Über Marcet's Xantic-Oxyd. Ann., 26, 340—344.
(Совместило с Велером). Об окисле коантина, описанном Марсе.
171. Über die eigenthümliche Zersetzung des aus jodsaurem Natron
erhaltenen Jodnatriums, beim Zusatz von Säuren. Ann., 27, 43—44.
О своеобразном резло^ении йодистого иат.рия, полученного из
йодноватокислого натра при добавлении кислот.
172. Über die Constitution der knallsauren Salze. Ann., 27, 133—134.
О конституции гремучекислой соли.
173. Fußnote, Analyse des Orcin (zu Dumas: Organisch-chemische
Untersuchungen). Ann., 27, 147.
Заметка. Анализ орцина (к статье Дюма: Химико-органические
исследования).
174. Antwort auf Herrn Robiquet's Bemerkungen. Ann-, 27, 346—350.
Ответ на замечания господина Робике.
1839
175. Amalgamierung von Zinkplatten zu Faraday'schen Säuren. Ann., 29,
111—112.
Амальгамирование цинковых пластин в фарадеевой кислоте.
176. (Mit Wöhler). Bemerkung der Redaction zu vorstehender Notiz
Fritzsche: Vorläufige Notiz. Ann., 29, 116.
(Совместно с Велером). Редакционные замечания к предыдущей
заметке Фрицше: Предварительная заметка.
197
177. Untersuchung der Mineralquellen zu Soden und Bemerkungen über
die Wirkung der Salze auf den Organismus. Ann., 30, 4—19.
Исследование минеральных источников в Зодене и замечания о
действии солей на организм.
178. Vermischte Notizen. 1. Theorie der Ätherbildung. 2. Constitution
des Äthers und seiner Verbindungen. 3. Leichte Darstellung des
reinen Salpeteräthers. 4. Vorteilhafte Darstellung des Essigäthers.
5. Zur Theorie der Essigbildung. 6. über Darstellung und Bildung
des Mellonkaliums. Ann., 30, 129—150.
Смешанные статьи. 1. Теория образования эфира. 2.
Конституция эфира и его соединений. 3. Легкое получение чистого эфира
азотной кислоты. 4. Выгодное получение эфира уксусной
кислоты. 5. О теории образования уксуса. 6. О получении и
образовании меллонового калия.
179. über die Zusammensetzung des Salicins und seiner
Zersetzungsprodukte. Ann., 30, 185—188.
О составе салицина и продуктов его разложения.
180. Über diie Zusammensetzung ides Phloiriidzins und seiner Zersetzungs-
produkte. Ann., 30, 217—223.
О составе флоридина и продуктов его разложения.
181. Über die vorstehende Notiz des Herrn Akademikers Hess in
Petersburg: Über die Constitution der Zuckersäure. Ann., 30, 313—319.
О предшествующей статье господина академика Гесса в
Петербурге: О конституции сахарной кислоты.
182. Über die Erscheinungen der Gährung, Fäulniss und Verwesung und
ihre Ursachen (Abdruck arus der im Verlage der Winterschen
Buchhandlung erscheinenden Organischen Chemie von J. Liebig). Ann.,
30, 250—287; Pogg. Ann., 48, 106—150.
О явлениях брожения, гниения и о их причине. (Оттиск из
органической химии Либиха, появившейся в издательстве книжного
магазина Винтера).
183. Über Gährung, Verwesung und Fäulniss. Nachtrag zu der
Abhandlung S. 250 d. Bds. Ann., 30, 363—368.
О брожении, гниении и тлении. Дополнение к статье на
странице 250 этого тома Анналов.
184. Bemerkungen zu vorstehender Abhandlung Berzelius: Über einige
Fragen des Tages in der organischen Chemie. Ann., 31, 35—38.
Замечания к предыдущей статье Берцелиуса: О некоторых
актуальных вопросах в органической химии.
185. Bemerkungen der Redaction zur vorstehenden Abhandlung Rose:
Über den Mineralkermes. Ann., 31', 51—5'9'.
Редакционные замечания к предыдущей статье Розе: О
минеральном кермесе.
186. Chemische Untersuchung der Mineralquelle zu Schwalheim bei
Friedberg. Ann., 31, 59—61.
Химическое исследование минерального источника в Швальгейме
близ Фридберга.
187. Zusammensetzung der Mineralquelle Nr 19 in Soden. Ann., 31,
61—62.
Состав минерального источника № 19 в Зодене.
188. Fußnote zu Berzelius: Über die Substitutionstheorie. Ann., 31,
119-120.
198
Заметка к работе Берцелиуса: О теории замещения.
189. Fußnote zu Fremy: Umwandlung von Zucker, Mannit, Milchzucker,
Dextrin usw. in Milchsäure. Ann., 37, 188—189.
Заметка по поводу статьи Фреми: Превращение сахара, маннита,
молочного сахара, декстрина и т. д. в молочную кислоту.
190. Bemerkungen zu vorstehender Abhandlung Malaguti: Einwirkung
des Chlors auf mehrere ätherartigen Substanzen und auf das Methy-
lal Ann., 32, 70—72.
Заметки к предыдущей статье Малагути: Действие хлора на
некоторые эфироподобные вещества и на метилаль. j
191. Fußnote zu Brief Berzelius an Wöhler: Über die Verbindungen,
welche durch die Einwirkung des Chlors auf Äthyloxydsalze
gebildet werden. Ann., 32, 72—73.
Заметка к письму Берцелиуса к Велеру: О соединениях, которые
образуются при действии хлора на соли окиси этила.
1840
192. Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und
Physiologie. Braunschweig.
Chemistry in its application to agriculture and physiology. London.
Traité de chimie organique. Paris.
Органическая химия в приложении к земледелию и физиолог***.
Боауншвейг, Лондон, Париж.
193. über das Studium der Naturwissenschaften und über den Zustand
der Chemie in Preußen. Braunschweig. Über den Zustand der Chenue
in Preußen. Ann., 34, 97—136.
Об изучении естественных наук и о состоянии химии в Пруссии:
Боауншвейг. О состоянии химии в Пруссии.
194. über die Zusammensetzung der Talg-, Ol- und Margarine-Säure.
Ann., 33, 1—29.
О получении стеариновой, олеиновой и маргариновой кислот.
195. Über Leinöl und Leinölfirniss. Ann., 33, 110—115.
О льняном масле и об олифе.
196. Bemerkungen zu vorstehender Berichtigung (zu Hess: Berichtigung
zu meinem Aufsatz über die Constitution der Zuckersäure). Ann.,
33, 117—125.
Замечания к предыдущему уточнению (по поводу статьи Гесса:
Уточнение к моей статье О конституции сахарной кислоты).
197. Bemerkungen zu den vorstehenden Notizen Pelouz und Millon:
Über die Zersetzung organischer Materien durch Baryt; Dumas:
Über die Einwirkung des Chlors auf den aus essigsauren Salzen en-
stehenden Kohlenwasserstoff. Ann., 33, 182—186.
Замечания к предыдущим статьям Пелуза и Миллона: О
разложении органических материй посредством окиси бария; Дюма:
О действии хлора на углеводород, получаемый из уксуснокислых
солей,
198. Bemerkungen zu vorstehenden Abhandlung Dumas: Über das Gesetz
der Substitutionen und die Theorie der Typen. Ann., 33, 301.
Замечания к предыдущей статье Дюма: О законе замещения и
теории типов.
199
199. Über Verhalten und Zusammensetzung einer Reihe von fetten
Körpern. Ann., 35, 44-^45.
О поведении и составе некоторых веществ жирного ряда.
200. Bemerkungen zu vorstehender Notiz Fritzsche: Über das Amilin, ein
neues Zersetzung-Produkt des Indigo. Ann., 36, 8c*—90.
Замечания к предыдущей статье Фрицше: Об анилине, новом
продукте разложения индиго.
1841
201. Verhalten der Fette gegen Metalloxyde; Seifen und Pflaster. Ann.,
371 249—262.
Отношение жиров к окислам металлов; мыла и пластыри.
202. Über die Darstellung und Bildung des Blutlaugensalzes. Ann., 38,
20—31.
О получении и образовании кровяной соли.
203. Methode zur Darstellung von Harnstoff. Ann., 38, 108—110.
Метод получения мочевины.
204. (Mit Redtenbacher). Über das Atomgewicht des Kohlenstoffs. Ann.
38, 113—140.
(Совместно с Редтенбахером). Об атомном весе углерода.
205. Bemerkungen zu vorstehender Abhandlung Dumas und Stass:
Untersuchungen über das wahre Atomgewicht des Kohlenstoffs. Ann.,
38, 195—216.
Замечания к предыдущей статье Дюма и Стасса: Исследования
истинного атомного веса углерода.
206. Abfertigung der Herren Dr. Gruben in Wien und Dr. С. Sprengel,
in Beziehung auf ihre Kritiken meines Werkes «Die organische
Chemie». Ann., 38, 216—256.
Ответ господину доктору Груберу в Вене и доктору К. Шпрен-
гелю по поводу их критики моего произведения «Органическая
химия».
207. Verhalten des Alloxans beim Sieden mit Wasser. Ann., 38, 357—
358.
Поведение аллоксана при кипячении с водой.
208. Über die Darstellung und Zusammensetzung der Anthranilsäure.
Ann., 33, 91-96.
О получении и составе антраниловой кислоты.
209. Über die stickstoffhaltigen Nahrungsmittel des Pflanzenreiches. Ann.,
39, 129—160; Allg. Ztg. für Chirurgie, Nr. 3.
О содержащих азот n пищевых продуктах растительного мира.
210. Fußnote zu Parnell: Über das Schwefelcyan. Ann., 39, 212.
Заметка к статье Парнелля: О сернистом циане [родане].
211. Sur les matières alimentaires azotées du régne végétal. Ann. chim.
phys., 4, 186—211.
О содержащих азот пищевых веществах растительного мира.
1842
212. Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und
Pathologie. Braunschweig.
200
Animal chemistry in its application to physiology and pathology.
London.
Органическая химия в приложении к физиологии и патологии.
Брауншвейг, Лондон.
21'3. Handbuch der Pharmacie, von Philipp Lorenz Geiger, Bd. 1, 5
Aufl., neubearbeitet von Dr. Justus Liebig. Heidelberg.
Руководство по фармации Филиппа Лоренца Гейгера. Том 1,
5-е изд., вновь обработанное Юстусом Либихом. Гейдельберг.
214. Der Lebensprocess im Thiere und die Atmosphäre. Ann., 41, 189—
219.
Жизненный процесс в мире животных и в атмосфере.
215. Die Ernährung, Blut- und Fettbildumig in Tierköxiper. Ann., 41,
241—285.
Питание, образование крови и жира в животном организме.
216. Über Darstellung und Andwendung des Cyankaliums. Ann., 41,
285—294.
О получении и применении цианистого калия.
217. Fußnote zu Graham: Über die Bereitung des chlorsauren Kalis.
Ann., 41, 307.
Заметка по поводу статьи Грэма: О приготовлении хлорновато-
кислого калия.
218. Antwort auf Hrn. Dumas Rechtfertigung wegen eines Plagiats. Ann.,
41, 351— 357.
Ответ на оправдание г-на Дюма по поводу плагиата.
219. Hlubek und die organische Chemie. Ann., 41, 358—374.
Глубек и органическая химия.
220. Analyse des Mineralwessers zu Geilnau. Ann., 42, 8fr—97.
Анализ минеральной воды в Гейльнау.
221. Chemische Untersuchung des Neubrunnen's zu Homburgs. Ann., 424
145_156.
Химическое исследование нового источника в Гомбурге.
222. Bemerkungen zu vorstehenden Versuchen de-Saussures: Über die
Ernährung der Pflanzen. Ann., 42, 291—297.
Замечания к предыдущим опытам де-Соссюра: О питании
растений.
223. Über Schleiden's vermeintliche Verwandlung der Holzfaser in Amy-
lon. Ann., 42, 306—309.
О мнимом превращении древесного волокна в амилон у Шлейдена.
224. Fußnote (mjt Abfertigung Schleiden's, der seine Organische Chemie,
angewandt auf Agricultur und Physiologie, angegriffen hatte). Ann.,
42, 306—309.
Заметка (с ответом Шлейдену, который критиковал мою Органи>
ческую xihimiHœo в приложении к земледелию и физиологии).
225. Bemerkungen zu einem Briefe des Herrn Laurent an die Redaction
des Journal de pharmacie. Ann., 42, 351—355.
Замечания по поводу письма господина Лорана редакции
Журнала фармации.
226. Fußnote zu Völckel: Untersuchungen über die Zersetzungsproducte
der Schwefelblausäure. Ann., 43, 97—99.
Заметка к статье Фелькеля: Исследование продуктов
разложения роданистой кислоты.
■J4 Ю. С. Мусабеков
201
227. Über die Gone titration d&r oirganisichen Säiiirern und leinige ihrer Salze
(Brief J. L. an den Praisidenten der Akademie des Sciences, aus den
Compt. rendus, t. VI, p. 823, 1838). Ann., 44, 57—66.
О конституции органических кислот и некоторых их солей
(Письмо Юстуса Либиха к президенту Академии наук, из журнала
Comptes rendus).
228. (Mit Wöhler). Über die Opiansäure, ein Zersetzungsproducte des
Narcotins. Ann., 44, \2b—\21.
(Совместно с Велером). Об опиановой кислоте, продукте
разложения наркотика.
1843
229. Handbuch der Chemie mit Rücksicht auf Pharmacie. 2. Teil,
Organische Chemie. 5 Auflage. Heidelberg. Die Thier-Chemie oder die
organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und
Pathologie. Zweite unveränderte Auflage. Braunschweig.
Справочник химии с учетом фармации. 2-я часть. Органическая
химия. 5-е издание. Гейдельберг.
Животная химия или органическая химия в приложении к
физиологии и патологии. Второе неизмененное издание. Брауншвейг.
230. Über die Fettbildung in Thierkörper. Ann., 45, 112—128.
Об образовании жира в организме животных.
231. Die Weckseiwirtschaft. Ann., 46, 58—97.
Севооборот.
232. Die Galle. Ann., 47, 1—16.
Желчь.
233. Analyse des Mineralwassers von Salzhausen. Ann., 48, 28—34.
Анализ минеральной воды Зальцхаузена.
234. Die Fettbildung in Thierkörper. Ann., 48, 126—147.
Образование жира в организме животных.
1844
235. Chemische Briefe (26 Briefe, zuerst veröffentlich in der
«Augsburger Allgemeinen Zeitung» in den Jahren 1841—1844). Heidelberg.
Письма о химии (26 писем, впервые напечатанных в газете
«Augsberg Allgemeinen Zeitung» fe 1Ф41—1844 г.). Гейдельберг.
236. Bemerkungen über das Verhältnis der Thier-Chemie zur Thier-Phy-
siologie. Heidelberg.
Замечания об отношении животной химии к физиологии
животных. Гейдельберг.
237. (Mit Wöhler). Über d. Mannitgehalt d. Agaric, piperatus. Ann.,
49, 243.
(Совместно с Велером). О содержании маннита в Agaric,
piperatus.
238. Über die Constitution des Harns der Menschen und der
fleischfressenden Thiere. Ann., 50, 161—196.
О конституции мочи людей и плотоядных животных.
239. Arsenfreies Antimons. Ann., 50, 293.
Свободная от мышьяка сурьма.
202
Uö. Sek eidung des Kobalts vom Nickel. Ann., $Ö, 294—É95.
Отделение кобальта от никеля.
241. Berzelius und die Probabilitätstheorien. Ann., 50, 295—335.
Берцелиус и теория вероятности.
242. Übe/ Mellon und Mellonverbindungen. Ann., 50, 337—363.
О меллоне и соединениях меллона.
243. Bemerkung zu obiger Notiz Berzelius: Über die knallsauren Salze,
Ann., 50, 429—431.
Замечание к предыдущей статье Берцелиуса: О гремучекислых
солях.
244. Über die Enstehung des Albumins in den Pflanzen. Ann., 5/, 286—
287.
Об образовании альбумина в растениях.
245. Darstellung des Schwefelcyankaliums. Ann., 5/, 288.
Получение роданистого калия.
1845
246. Neueste Fortschritte in der Chemie und ihrer Anwendung auf Agri-
cultur. Rede, gehalten bei dem öffentlichen Festmahle, welches
Professor Liebig zu Glasgow den 11 Oktober 1844 gegeben wurde. Aus
dem Englischen. Braunschweig.
Chemische Briefe. 2. Abdruck. Braunschweig.
Новейшие успехи в химии и их применение к земледелию. Речь,
произнесенная профессором Либихом на открытом банкете,
который был дан в честь Либиха в Глазгове 11 октября 1844 г.
Перев. с англ. Брауншвейг. Письма о химии. 2-е изд. Брауншвейг.
247. Fußnote zu A. W. Hof mann: Metamorphosen des Indigos. Ann.,
53,1.
Заметка к статье А. Ф. Гофманна; О превращении индиго.
248. Über die thierische Wärme (Vorgetragen in dem Verein hessischer
Ärzte in Darmstadt). Ann., 53, 63—77.
О животном тепле (Доклад, прочитанный в Обществе гисенских
врачей в Дармштадте).
249. Über die Zersetzung des Schwefel су anammoniums und die
Constitution der Schwefelblausäure. Ann., 53, 330—348.
О разложении роданистого аммония и о конституции роданистой
кислоты.
250. Vorläufige Notiz über die Identität des Leucols und Chinolins
Ann., 53, 427—428.
Предварительная заметка об идентичности лейколя и хинолина.
251. (Mit Wöhler). Cyansaures Äthyl und Methyloxyd. Ann., 54, 370—
371.
(Совместно с Велером). Циановокислый этил и окись метила.
252. Über ein neues Zersetzungsprodukt des Harnstoffs. Ann., 54, 371.
(Совместно с Велером). О новом продукте разложения мочевины.
253. Der Stickstoffgehalt des bayerschen Bieres. Ann., 54, 373—375»
О содержании азота в баварском пиве.
254. über die Fettbildung im Thierorganismus. Ann., 54, 376—383.
Об образовании жира в организме животных.
203 14*
Ш6
255. Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und
Pathologie. 3. umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage. Braun-
sichweig.
Agriculturchemie. 6. Auflage. Braunschweig.
Органическая химия в приложении к физиологии и патологии.
3-е изд., переработанное и дополненное. Брауншвейг.
Агрономическая химия, 6-е изд. Брауншвейг.
256. Herr Gerhardt und die organische Chemie. Ann., 57, 93—118.
Господин Жерар и органическая химия.
257. über Weingährung. Ann., 57, 118—125.
Овиеном! (спиртовом) брожении.
258. Über die Abwesenheit der kohlensauren Alkalien in dem Blute.
Ann., 57, 126—127.
Об отсутствии углекислых солей щелочных металлов в крови.
259. Baldriansäure und ein neuer Körper aus Käsestoff. Ann., 57, 127—
129.
Валериановая кислота и новое вещество из каоешш.
260. Über das Proteinbioxyd. Ann., 57, 129—131.
О двуокиси протеина.
261. Über den Schwefelgehalt des stickstoffhaltigen Bestandtheils der
Erbsen. Ann., 57, 131—133.
О содержании серы в составных частях гороха, содержащих азот.
262. Lettre adressée à Monsieur le Baron Liebig par M. M. Laurent et
Gerhardt. Bemerkungen dazu. Ann., 57, 388—394.
Замечания по поводу этого письма.
263. Der chemische Process der Respiration. Ann., 58, 335—348.
Химический процесс дыкаеия.
264. Über die Zusammensetzung und die medicinische Wirksamkeit des
Chinoidins". Ann., 58, 348—356.
О составе и о медицинском действии хиноидина.
265. (Mit Wöhler). Über die Einwirkung der Cyansäure auf Alkohol und
Aldehyd. Ann., 59, 291—300.
(Совместно с Велером). О действии циановой кислоты на спирг
и альдегид.
266. Über die chemische Untersuchung der soolmutterlange zu Unna.
Ann., 59, ЪЪЪ—ЪЪЪ.
О химическом исследовании рассола маточного раствора из Унна.
267. Anzeige der Entdeckung der Milchsäure im Fleisch. Phil. Mag., 30,
412.
Сообщение об открытии молочной кислоты в мясе. Это же
сообщение было опубликовано Академией наук в Париже 17 января
1847 г..
1847
268. Chemische Untersuchungen über das Fleisch und seine Zubereitung
zum Nahrungsmittel. Heidelberg.
Researches on the chemistry of food. London.
204
Химические исследования мяса и его приготовление как
продукта питания. Гейдельберг, Лондон.
269. (Mit Wöhler)- Über das Thialdin und Selenaldin, zwei künstlich
darstellbar organische Basen. Ann., 61, 1—13.
(Совместно с Велером). О тиалдине и селенальдине, двух
искусственно полученных органических основаниях.
270. Einfache Methode zur Darstellung von Schwefelcyanammonium,
Reagens auf Blausäure. Ann., 61, 126—127.
Простой метод получения роданистого аммония, редгента на
синильную кислоту.
271. Über den Übergang des phosphorsauren Kalkes in die Pflanzen. Ann.,
61, 128.
Об усвоении фосфорнокислого кальция растениями.
272. Darstellung des Mellonkaliums. Ann., 61, 262—264.
Получение меллонового калия.
273. Bemerkungen zu den vorstehenden Versuchen Polstorff: Beitrag
zum Ernährungsprocess der Pflanzen. Ann. 62, 194—198.
Замечания к предыдущим опытам Польстрофа: К вопросу о
процессе питания растений.
274. Über die Bestandteile der Flüssigkeiten des Fleisches. Ann., 62,
257—369.
, . О составных частях жидкостей мяса.
275. Analyse des Bitterwassers von Friedrichall bei Hyldburghausen im
Herzogthum Sachsen-Meiningen. Ann., 63, 127—134.
Анализ горькой воды из Фридрихгалля близ Гильдбургхаузена
в герцогстве Заксеи-Мейгаииаге'н.
276. Analyse des Pfannsteins, erhalten bei der Gewinnung des
Kochsalzes aus dem Friedrichshaller Bitterwasser. Ann., 63, 135.
Анализ накипи, полученной при добывании поваренной соли из
воды фридрихгалльского горького источника.
277. Analyse des Mineralwassers zu Liebenstein im Herzogthum
Sachsen-Meiningen. Ann., 63, 221—229.
Анализ минеральной воды из Либенштейна в герцогстве Зак-
1се1Н!-Мейн1ИН!Г'ен!.
278. Untersuchungen über einige Ursachen der Säftebewegung im thieri-
schen Organismus. Braunschweig.
Researches on the motion of the juices in the animal body. London.
Исследования о некоторых причинах движения сока в животном
организме. Брауншвейг, Лондон.
279. (Mit Reditenibaicheir). Über das Carbiothialidin. Ann., 65, 43—45.
(Совместно с Редтенбахером). О карботиалдине.
280. Über eine Scheidung des Nickels und Kobalts. Ann., 65, 244—
249.
Об отделении никеля от кобальта.
281. Über den Einfluß der Zeit auf die Bildung chemischer Verbindungen
Ann., 65, 350—352.
О влиянии времени на образование химических соединений.
282. Ein Mittel zur Entsäuerung alter abgelagerter Rheinweine. Ann., 65,
ЪЫ—ЪЬЪ.
Средство понижения кислотности старых выдержанных рейнских
вин.
m
1849
283. Ab 1849 Jahresbericht über die Fortschritte der reinen, pharmaceu-
tischen und technischen Chemie, Physik, Mineralogie und Geologie.
Gießen (—1856—Liebig und Kopp, 1857—1862—Kopp und Will,
1866—Will).
Начиная с 1849 г., издание ежегодного отчета о достижениях
чистой, фармацевтической и технической химии, физики,
минералогии и геологии. Гисен (составители отчета: до 1856 г. Либих
и Копп. 1857—1862—Копп и Виль, 1866—Виль).
284. Über die Darstellung der Bernsteiisäuire aus äpfielsaiuirem Kalk. Ann.,
70, 104—107.
О получении янтарной кислоты из яблочнокислого кальция.
285. Über die Oxydation organischer Verbindungen. Ann., 70, 311—
319.
Об окислении ооганических соединений.
286. Über die Gahrunig des äpfelsaiuren Kalks. Ann., 70, 363—366.
О брожении яблочнокислого кальция.
287. Branntwein aus dem Saft der Vogelbeeren (Sorbus aucuparia). Ann.,
7/, 120.
Водка из сока рябины (Sorbus aucuparia).
288. Über die Trennung einiger Säuren der Reihe (СН)Л04- Ann., 7/,
355_357.
Об отделении некоторых кислот ряда (СН)д04.
1850
289. Zur Beurtheilung der Selbstverbrennungen des menschlichen
Körpers. Heidelberg.
К обсуждению о тмоюкиюлительнюм процессе человеческого)
организма. Гейдельберг.
290. über das Fibrin der Muskelfaser. Ann., 73, 125—128.
О фибрине мышечных волокон.
1Я51
291. Chemische Untersuchung der Schwefelquellen Aachens. Aachen und
Leipzig. Chemische Briefe. 3. Auflage (um 7 Briefe vermehrt, zuerst
veröffentlich in der «Augsburger Allgemeinen Zeitung», 1851).
Химическое исследование сернистого источника Аахена. Аахен и
Лейпциг. Письма о химии. 3-е изд. (с добавлением 7 писем,
впервые опубликованных в газете «Augsburger Allgemeinen
Zeitung» в 1851 г.).
292. Verfahren zur Bestimmung des Blausäuregehaltes der medicinischen
Blausaure, der Bittermandel- und Kirschlorbeerwassers. Ann., 77,
102—107.
Методы определения содержания синильной кислоты в
медицинской синильной кислоте, в лавровишневой и горькоминдальной
водах.
m
293. Neues Verfahren zur Bestimmung des Sauerstoffgehaltes der
atmosphärischen Luft. Ann., 77, 107—114.
Новые методы по определению содержания кислорода в
атмосферном воздухе.
294. Untersuchung der Aachener Schwefelquellen. Ann., 79, 94—102.
Исследование сернистых источников Аахена.
295. Über die Form, in welcher der absorbirte Sauerstoff in dem Blute
enthalten ist. Ann., 79, 112—116.
О форме, в которой абсорбированый кислород содержится в
крови.
296. Über den Einfluß der Chemie auf die Landwirtschaft (aus der
dritten Auflage der Chemischen Briefe, S. 641). Ann. 79, 116—
123.
О влиянии химии на сельское хозяйство (из 3-го изд. «Писем о
химии», стр. 641).
297. Über die Beziehungen der verbrennlichen Bestandtheile der Nahrung
zu dem Lebensprocess. Ann., 79, 221, 358—369.
Об отношении горючих составных частей пищи к жизненному
процессу.
298. Reagens auf Harnstoff. Ann-, 80, 123—124.
Реагент на мочевину.
1852
299. Neue Methode den Harnstoff im Harn quantitativ zu bestimmen.
Moscou. Soc. Nat. Bull., 25, 191—193.
Новый метод качественного определения мочевины в моче. Бюлл.
Моск. об-ва испытателей природы.
300. Chlorsilber löslich in salpetersaurem Quecksilberoxyd. Ann. 81, 128.
Хлористое серебро, растворимое в азотнокислой окиси ртути.
1853
301. Über das Studium der Naturwissenschaften. Eröffnungsrede zu semen
Vorlesungen über Experimentalchemie im Wintersemester 1852/53.
München.
Об изучении естествознания. Вступительная речь к лекциям по
экспериментальной химии в зимний семестр 1852/53 г. Мюнхен.
302. Anleitung zur Analyse organischer Körper. 2. umgearbeitete und
vermehrte Auflage. Braunschweig.
Handbook of organic analysis. London.
Руководство к анализу органических тел. 2-е изд., перераб. и до-
полн. Брауншвейг, Лондон.
303. Über eine neue Methode zur Bestimmung von Kochsalz und Harnstoff
im Harn. Heidelberg.
О новом методе определения поваренной соли и мочевины в моче.
Гейдельберг. _. , -
304. über einige Harndstofferbindungen und eine neue Methode zur
Bestimmung von Kochsalz und Harnstoff im Harn. Ann., 85, 2§9--
328.
207
О некоторых соединениях мочевины и о новом методе
определения поваренной соли и мочевины в моче.
305. Über den Thierschit (Untersuchung eines Stückes von einer cannelir-
ten Säule von weißem Marmor vom Parthenon). Ann,, 86, 113—115.
О ти1р1ши(те (Исследование части каннелюровавдКои ко1\оины из
белого мрамора Парфенона). .
306. Über Kynurensäure. Ann., 86, 125—126.
О кинуреновой кислоте.
307. Darstellung von Ferrocyanwasserstoffsäure. Ann., 87, 127—128.
Получение железистосинеродистой кислоты.
308. Scheidung des Nickels vom Kobalt. Ann., 87, 128.
Отделение никеля от кобальта.
309. Pyrogallussäure im Holzessig. Ann., 87, 256.
Пирогалловая кислота в древесном уксусе.
1854
310. Über die Wirkung des Braunsteins als Entfärbungsmittel des Glases.
Ann., 90, 112—114.
О действии двуокиси марганца как средства, обесцвечивающего
стекло.
311. Eine neue Fleischbrühe für Kranke. Ann., 91, 244—246.
Новый (бульон для больных.
312. Ein Mittel zur Verbesserung und Entsäuerung des Roggenbrodes
(Hausbrold, iComisbroid). Ann., 91, 246—249.
Средство для улучшения и для уменьшения кислотности ржаного
хлеба (домашнего и армейского хлеба).
1855
313. Die Grundsätze der Agriculturchemie mit Rücksicht auf die in
England angestellten Untersuchungen. Braunschweig.
Принципы агрономической химии с учетом исследований,
проведенных в Англии. Брауншвейг.
314. Herr Dr. Е. Wolff in Hohenheim und die Agriculturchemie.
Braunschweig.
Господин доктор Вольф в Гогенгейме и агрономическая химия.
Брауншвейг.
315. Über Kiieselsäurehydnat und kieselsaures Ammoniak. Ann., 94,
373_384.
О гидрате кремневой кислоты и о кремнекислом аммонии.
316. Einfache Darstellung von Eisenoxydul, Manganoxydul und
Zinnoxydul. Ann., 95, 116—118.
Простой метод получения закиси железа, закиси марганца и
закиси олова.
317. Über Carl Mohr's volumetrische Bestimmung der Blausäure durch
Kupfersalze. Ann., 95, 118—120.
Об объемноаналитическом способе Карла Мора определения
синильной кислоты посредством солей меди.
год
318. Über die Constitution der Mellonverbindungen. Ann., 95, 257—282.
О конституции меллоновых соединений.
319. Über die Fulmiinuirsäure, eine neue Cy ansäure. Ann., 95, 282—290.
О фульминуровой кислоте, новой циановой кислоте.
1856
320. Über théorie und Praxis in der Landwirtschaft, Braunschweig.
О теории и практике в сельском хозяйстве. Браушнвейг.
321. Piriimciiples o'f agricultural chemistry, with special reference to the
late researches made in England. London.
Принципы агрономической химии с учетом сравнительных
исследований, проведенных в Англии. Лондон (см. № 313).
322. Ein Vortrag über anorganische Natur und organisches Leben. «Augs-
burger Alligeim. Zeitung», 1956, № 24 und 25.
Доклад о неорганической природе и органической жизни.
323.Auffindung des Iods in Mineralquellen. Ann., 98, 51—53.
Определение йода ib минеральном источнике.
324. Über Versilberung und Vergoldung von Glas (Aus den Berichten der
technischen Commission der Königlichen Akademie der
Wissenschaften in München). Ann., 98, 132—139.
О серебрении и золочении стекла (Из отчета технической
комиссии Королевской Академии наук в Мюнхене).
325. Untersuchung des Wassers des Rakoczy's, Pandur's und
Maxbrunnens zu Kissingen Ann., 98, 145—166.
Исследование воды источников Ракоци, Пандура и Максбрюн-
нена в Киссингене.
326. Analyse des Bitterwassers von Margentheim. Ann., 98, 350—351.
Анализ воды горького источника в Мергенгейме.
327. Analyse der Mineralquellen zu Neuhaus. Ann., 98, 351—353.
Анализ минеральных источников в Нейгаузе.
328. Darstellung jwwi ilodkaHium. Ann., 100, 339—340.
Получение йодистого калия.
1857
329. Darstellung der Pyrogallussäure. Ann., 101, 47—50.
Получение пирогалловой кислоты.
330. Über diie Darstellung des Wasserglases auf nassem Wege. Ann., 102,
101—104.
О получении жидкого стекла мокрым путем.
331. Gasbrenner aus Speckstein. Ann., 102, 180.
Газовая горелка из [минерала] стеатита (венецианского мела).
1858
332. Über die Verwandlung der Kräfte. Sammlung wissenschaftlicher Vort*
rage, gehalten zu München im Winter 185в. Braunschweig.
О превращении сил. Сборник научных докладов, читанных в
Мюнхене зимой 1858 г. Брауншвейг.
333. Über einige Eigenschaften der Ackerkrume. Ann., 105, 109—144.
Некоторые свойства пахотного слоя почвы.
ZQ9
334. Über das Verhalten des Chilisalpeters, Kochsalze» und des
schwefelsauren Ammoniaks zur Ackerkrume. Ann., 106, 185—202.
О значении чилийской селитры, поваренной соли и сернокислого
аммония для пахотного слоя почвы.
335. Über das kissinger Bitterwasser. Ann., 107, 1—6.
О воде горького источника в Киссингене.
336. Über Oxalan. Ann., 108, 126—127.
Об оксалане [амиде оксамуровой кислоты].
337. Über Kreatin und Kynurensäure im Hundeharn. Ann., 108, 354—356.
О креатине и о кинуреновой кислоте в собачьей моче.
1859
338. Naturwissenschaftliche Briefe über die moderne Landwirtschaft.
Leipzig — Heidelberg.
Chemische Briefe. 4. umgearbeitete und vermehrte Auflage (Um 5
Briefe allgemeinen und 14 agriculturchemischen Inhaltes vermehrt,
zuerst veröffentlich in der «Augsb. Allg. Ztg». 1857 u. 1858).
Leipzig — Heidelberg.
Естественно-научные письма о современном сельском хозяйстве.
Письма о химии. 4-е изд., перераб. и дополн. (С добавлением 5
писем общего и 14 хшшкоиагроиомичеокого содержания', впервые
О1ГГубЛ1И1К(0!В. В «AugS. Allg. Ztg». В 1®57 !И l86l8 ГГ.) ЛеЙП'Ц'ИР —
Гейдельберг.
339. Über die Bildung von Weinsäure aus Milchzucker. Ann., ///, 256.
Об образовании винной кислоты из молочного сахара.
340. Über die angeblich saure Reaction des Muskelfleisches. Ann., ///,
357-365.
О так называемой кислой реакции мышечной ткани.
1860
341. Über die Bildung von Weinsäure aus Milchzucker und Gummi. Ann.,
113, 1-19.
Об образовании винной кислоты из молочного сахара и камеди.
342. Über die Bildung des Oxamids aus Cyan. Ann., 113, 246—247.
Об образовании оксамида из циана.
343. Herr Dr. Dubois-Reimond und die Reaction des Muskelfleisches.
Ann., 113, ЪЫ—Ъ16.
Доктор Дюбуа-Реймон и реакция мышечной ткани.
344. Die Ökonomie der menschlichen Kraft. Akademie-Rede vom 28 März;
Reden und Abhandlungen, S. 172—185.
Экономия человеческой силы. Академическая речь 28 марта.
Сборник «Речи и статьи», стр. 172—185.
345. Wissenschaft und Leben. Einleitende Worte zur Akademiesitzung am
28 November. Reden u. Abhadlungen, S. 186—188.
Наука и жизнь. Вступительное слово на заседании Академии
28 ноября. Сборник «Речи и статьи», стр. 186—188,
г/о
1 86 1
346. Wissenschaft und Landwirtschaft. 1. Akademische Rede vom 26
März. 2. Akademische Rede vom 28 November. «Augsb. Allg. Ztg.»,
Nr. 88; Reden und Abhandlungen, S, 189—219.
Наука и сельское хозяйство. 1. Академическая речь 26 марта.
2. Академическая речь 28 ноября.
347. Über den Peru-Guano. Ann., 119, 11—16; Büchners Neues Report.,
10, 297—302.
О перуанском гуано.
1862
348. Die moderne Landwirtschaft als Beispiel der Gemeinnützigkeit der
Wissenschaft. Braunschweig.
Современное сельское хозяйство как пример общей полезности
науки. Брауншвейг.
349. Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. 7.
Auf.läge. 1. Teil: Der ich ©mische Proceß der Ernährung der Vegetabi-
Jien. 2. Teil: Naturgesetze des Feldbaues. Braunschwieg.
Химия в приложении к земледелию и физиологии. 7-е изд. 1-я
часть: Химический процесс питания растений. 2-я часть:
Естественные законы земледелия. Брауншвейг.
350. Über die Theorie der Osmose. Ann., 121, 78—80.
О теории осмоса.
351. Alloxan in leimem thierisichen Secrete. Ann., 121, 80—82.
Аллоксан — продукт секреции животного организма.
352. Die Pflanze (Aus der Theorie des Feldbaues in der nächstens
erscheinenden siebenten Auflage von Liebig's «Chemie in ihrer Anwendung
auf Agricultur»). Ann., 121, 165—^203.
Растения (Из теории земледелия, которая появится в следующем,
седьмом издании «Химия в ее приложении к земледелию»).
353. Darstellung von Jodlithium, Jodcalcium, Jodkalium, Jodnatrium. Ann.,
121, 222—225.
Получение йодистого лития, йодистого кальция, йодистого калия,
йодистого натрия.
354. Deir Boden. Aus der 7. Auflage von Liebigs «Chemie in Anwendung
auf Landwirtschaft». Ann., 121, 339—346.
Почва. Из 7-го изд. «Химия в приложении к сельскому
хозяйству» Либиха.
1863
355. Bacon von Verulam und die Methode der Naturforschung. Akademie-
Rede vom 28 März. Reden u. Abhandlungen, S. 220—254.
Бэкон Веруламский и методы исследования природы.
Академическая речь от 28 марта. Сборник «Речи и статьи».
356. Ein Philosoph und ein Naturforscher, über Francis Bacon von
Verulam. «Augsb. Allg. Ztg.», Nr 306, 310, 311.
Философ и естествоиспытатель, о Фрэнсисе Бэконе Веруламском,
Z11
357. Bemerkungen zur vorstehenden Abhandlung Bohlig: Über das
salpetrigsaure Ammoniak der Atmosphäre und dessen Entstehung. Ann.,
125, 33—40.
Замечания к предыдущей статье Болига: Об азотистокислом
атмосферном аммиаке и о его возникновении.
1864
358. Über den Feldbaubetrieb in Hohenheim und die rationelle
Behandlung der Felder. Antworten auf Gegenartikel. «Augsß. Allg. Ztg.»,
Nr. 126—127, 129—130, 183—184, 187—188 u. 191—192.
О методах полеводства в Гогенгейме и о рациональной обработке
полей. Ответы на критические статьи.
359. Die bayerische Landwirtschaft und des technische Schuhlwesen
in Bayern. Reden u. Abhandlungen, S. 27—37.
Баварское сельское хозяйство и технические учебные заведения
в Баварии. Сборник «Речи и статьи».
360. Noch ein Wort über Francis Bacon von Verulam. «Augsb. Allg.
Ztg.» Beilage, Nr. 64, 66, 67. Reden u. Abhandlungen, S. 280—295.
Еще одно слово о Фрэнсисе Бэконе Веруламском.
361. Eröffnungsworte zur feielichen Sitzung der Münchener Akademie d.
Wiss., nach dem Tode von König Max, am 23 März 1864. Reden u.
Abhandlungen, S. 330.
Вступительное слово к торжественному заседанию Мюнхенской
Академии наук после смерти короля Макса, 23 марта 1864 г.
Сборник «Речи и статьи».
362. Vegetationsversuche mit Kartoffeln (Aus der 8. Auflage von Liebigs
«Chemie in Anwendung auf Landwirtschaft»). Ann., 129, 33—43.
Методы выращивания картофеля (Из 8-го изд. «Химия в
приложении к сельскому хозяйству» Либиха).
1865
363. The natural laws of husbandry. London.
Естественные законы земледелия. Лондон.
364. Gutachten über «Utilization of sewage». Landwirtschaftliche
Zentralblatt, /, 441—448.
Мнение по поводу «Утилизации сточных вод».
365. Induction und Deduction. Akademie-Rede 28 März. Reden u.
Abhandlungen, S. 296—309.
Индукция и дедукция. Академическая речь 28 марта. Сборник
«Речи и статьи».
366. Extractum carnis. Ann., 133, 125—130.
Мясной экстракт.
367. Eine neue Suppe für Kinder. Ann., 133, 374—383.
Новый суп для детей.
Vi
1Ô6é
368. Die Entwicklung der Ideen in der Naturwissenschaft. Akademie-Rede
vom 25 Juli. Reden u. Abhandlungen, S. 310—329; Ann., 141 (1867),
114—127.
Развитие идей в естествознании. Академическая речь 25 июля.
«Речи и статьи».
369. Suppe für Säuglinge mit Nachträgen in Bezug auf ihre Bereitung und
Anwendung. Braunschweig.
Суп для грудных детей с указаниями его приготовления и
применения. Брауншвейг.
370. Nachtrag zu meiner Suppe für Säuglinge. Ann., 138, 97—108;
Buchners Neue Repert., 15, 213—223.
Добавление к моей статье О супе для грудных детей.
371. Kynurensaurer Baryt. Ann., 140, 143—144.
Кинуреновокислый барит.
372. Über den angeblichen Kochsalzgehalt des Extractum Carnis ameri-
canum. Ann 140, 249—125'3; Buchners Neue Repert, 16, 1—5.
О мнимом содержании поваренной соли в американском мясном
экстракте.
373. Über den Werth des Extractum Carnis als Lebensmittel. Buchners
Neues Repert, 15, 62—66.
О ценности мясного экстракта как продукта питания. Письмо,
направленное к издателю еженедельного, лондонского
медицинского журнала «The Lancet» (Ланцет), опубликованное аз этом
журнале 11 ноября.
1867
374. Die Seidenraupen-Krankheiten. Buchners Neues Repert., 16, 290—
298.
Болезни шелковичного червя. Из доклада в Академии 2 марта
1867 г., отпечатанного в приложении к «Allg. Zeitung» 14 марта.
375. Fußnote zu Tenner: Über den Kochsalzgeha.lt von Extractum Carnis.
Ann., 141, 266—267.
Заметка к статье Теннера: О содержании поваренной соли в
мясном экстракте.
376. Die Versilberung von Glas. Ann. SuppL, 5, 257—260.
Серебрение стекла.
1868
377. Über Wohgeschmack und leichte Verdaulichkeit des Kleienbrodes.
«Augsb. Allg. Ztg.», Nr. 6.
О хорошем вкусе и легкой перевариваемости хлеба с отрубями.
378. Über Pumper-Nickel. «Augsb. Allg. Ztg.», Nr. 11.
О пумперникеле (хлебе из непросеянной муки).
379. Eine neue Methode der Birodbereitung. «Augsb. Allg. Ztg.», Beilage
18, Nr. 12; Ann., 149 (1869), 49^-61.
Новый способ приготовления хлеба.
380. Über den Werth des Fleischextractes für Hanshaltungen. Ann., 146,
133—140; Buchers Neues Repert, 17, 3—10.
О ценности мясного экстракта для домашнего хозяйства.
213
3à1. Darstellung des Alloxans. Ann,, 147, Збб—5б9.
Получение аллоксана.
382. Malz-Extract. Buchners Neues Repert, 17, 11—13.
Солодовый экстракт.
1869
383. Über den Ernährungswerth der Speisen. Berthold Auerbachs
«Deutscher Volkskalender» auf Jahr 1869, S. 129—160.
О питательной ценности пищи. Бертольд Ауэрбах «Немецкий
народный календарь» на 1869 г.
1870
384. Über die Gährung und die Quelle der Muskelkraft. I. Die Alkohol-
gährung. II. Die Essiggährung. III. Die Quelle der'Muskelkraft. Ann.,
/53, 1_47, 137—228.
О брожении и источнике мышечной силы. I. Спиртовое брожение.
II. Уксусное брожение. III. Источник мышечной силы. Отдельно
издано в Лейпциге — Гейдельберге.
1871
385. Eröffnungsworte zur feierlichen Sitzung der Münchener Akademie d.
Wiss. nach dem Friedensschluß am 28 März 1871. Reden u.
Abhandlungen, S. 331—334.
Вступительное слово на торжественном заседании в Мюнхенской
Академии наук, посвященном заключению мира, 28 марта 1871 г.
1872
386. Zur Geschichte der Entdeckung des Chloroforms. Ann., 162, 161 —
164; Buchners. Neues Repert, 21, 608—611.
К истории открытия хлороформа.
387. Über den Kochsalzgehalt des Extractum Garnis. Ann., 162, 369 —
373.
О содержании поваренной соли в мясном экстракте.
1873
388. Fleischextract — ein Genußmittel. Reden u. Abhandlungen, S. 148—
155.
Мясной экстракт как пищевой продукт. Сборник «Речи и статьи».
«^
с
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 5
Детство и годы учения 9
ГисенЬкий период жизни 22
Мюнхенский период жизни 38
Разработка теоретических проблем химии 49
Труды по органической химии 65
Труды по минеральной (неорганической и аналитической) химии 85
Труды по агрономической химии 90
Труды по биологической химии 109
Усовершенствования в химической технологии . . . . . . .120
Философские вопросы в трудах Либиха 129
Педагогическая деятельность. Научная школа . . . 139
Литературная и издательская деятельность . . . 161
Либих и русские химики 169
Цитируемая литература 181
Литература о Ю. Либихе . . * 183
Труды Ю. Либиха 184
Мусабеков Юсуф Сулейманович
Юстус Либих
Утверждено к печати
Институтом истории естествознания и техники
Академии наук СССР
Редактор Издательства В. М. Тарасенко.
Технический редактор И. А. Макогонова
Художник Н. А. Седельников
Корректоры Л. Агапова, А. Бажанова
РИСО 9-134В. Сдано в набор 26/Х 1961 г. Подписано
к печати 6/1 1962 г. Формат 84ХЮ87з2. Печ. л. 6,75 +
+ 2 вкл. Усл. печ. л, 11,09, Уч. изд. л. 11,5
(11,3 + 0,2 вкл.). Тираж 3000 экз.
Изд. № 304. Тип. зак. № 2388.
Цена 80 коп.
Издательство АН СССР, Москва, Б-62. Подсосенский пер., 21
2-я типография Издательства АН СССР.
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10