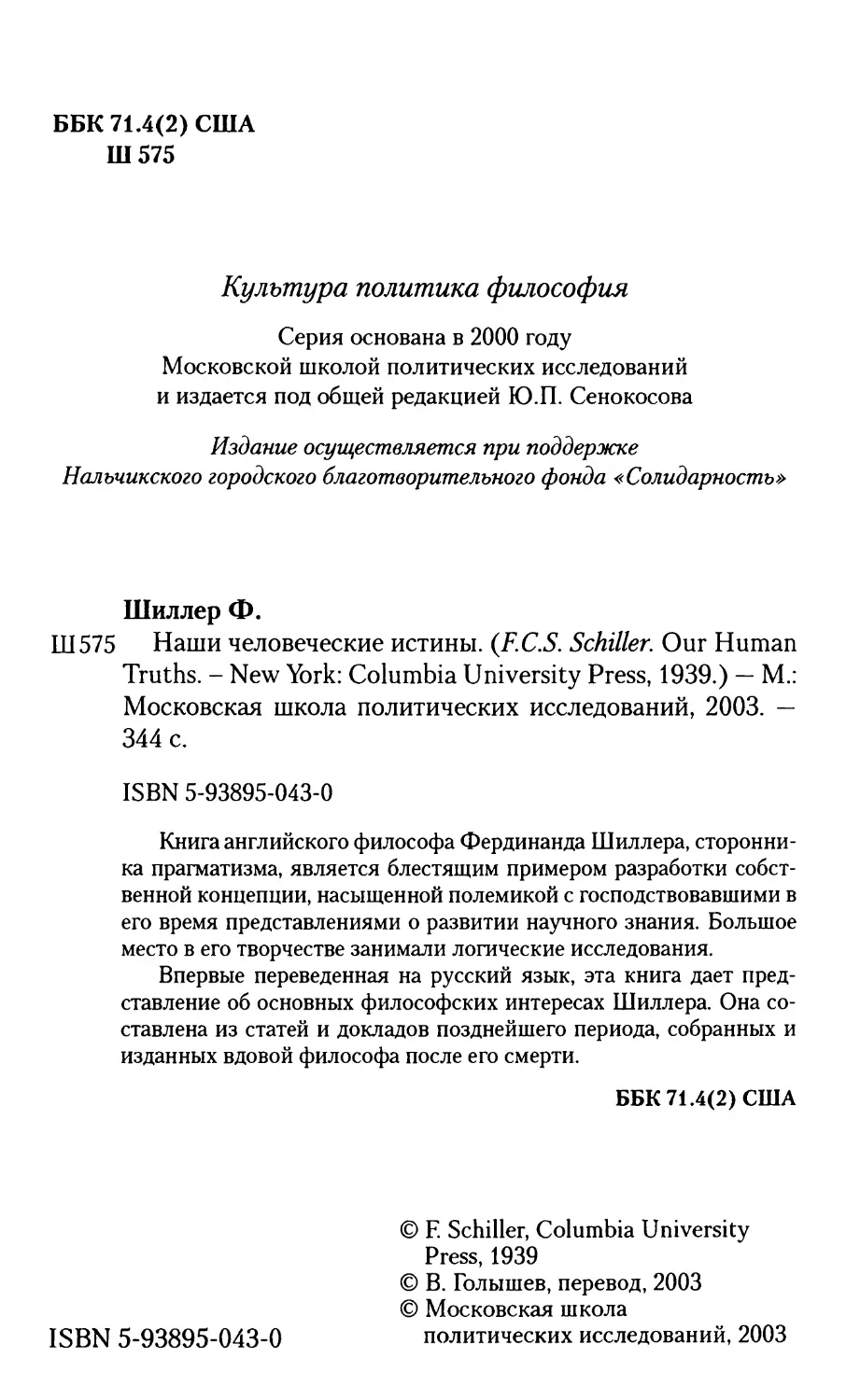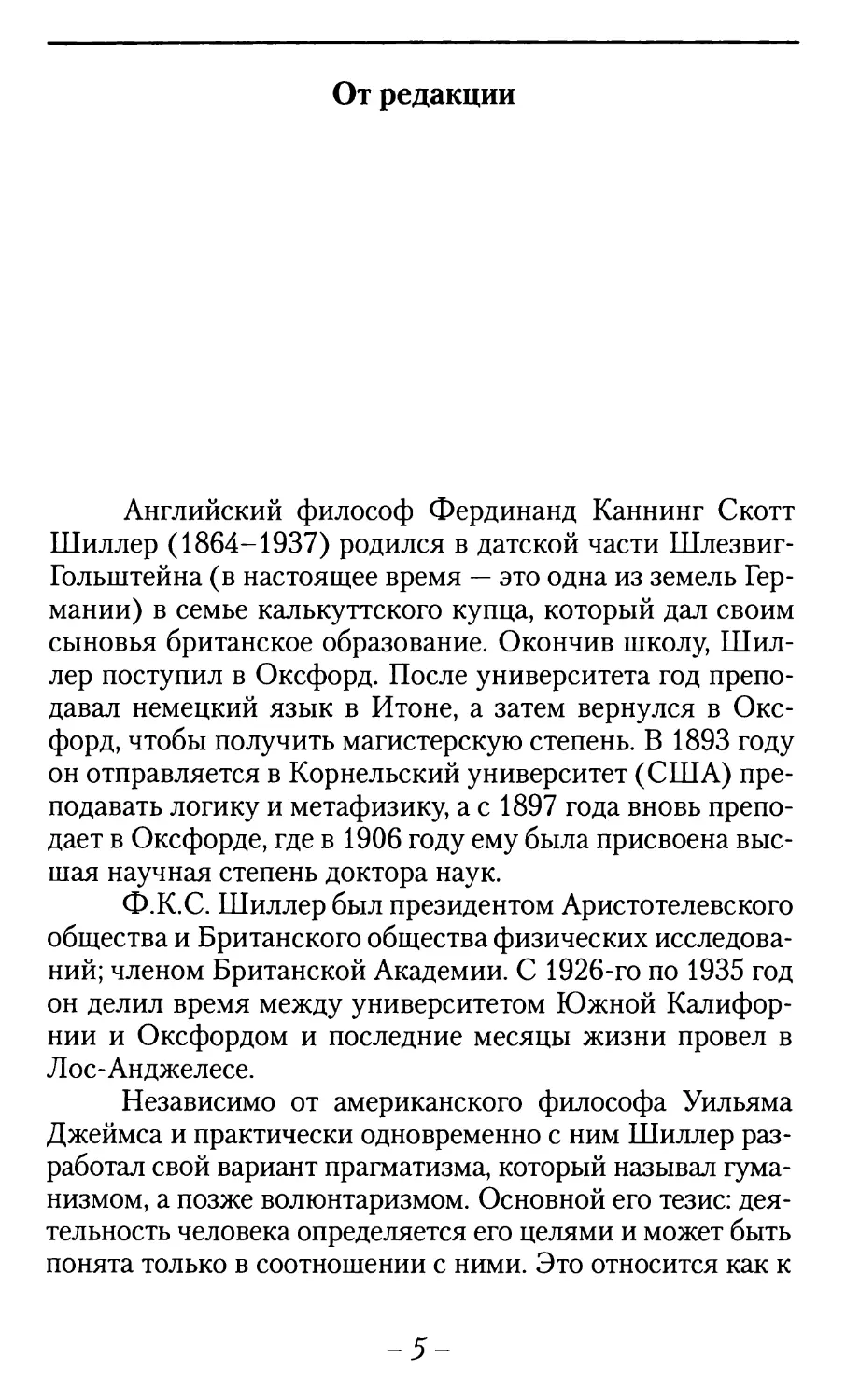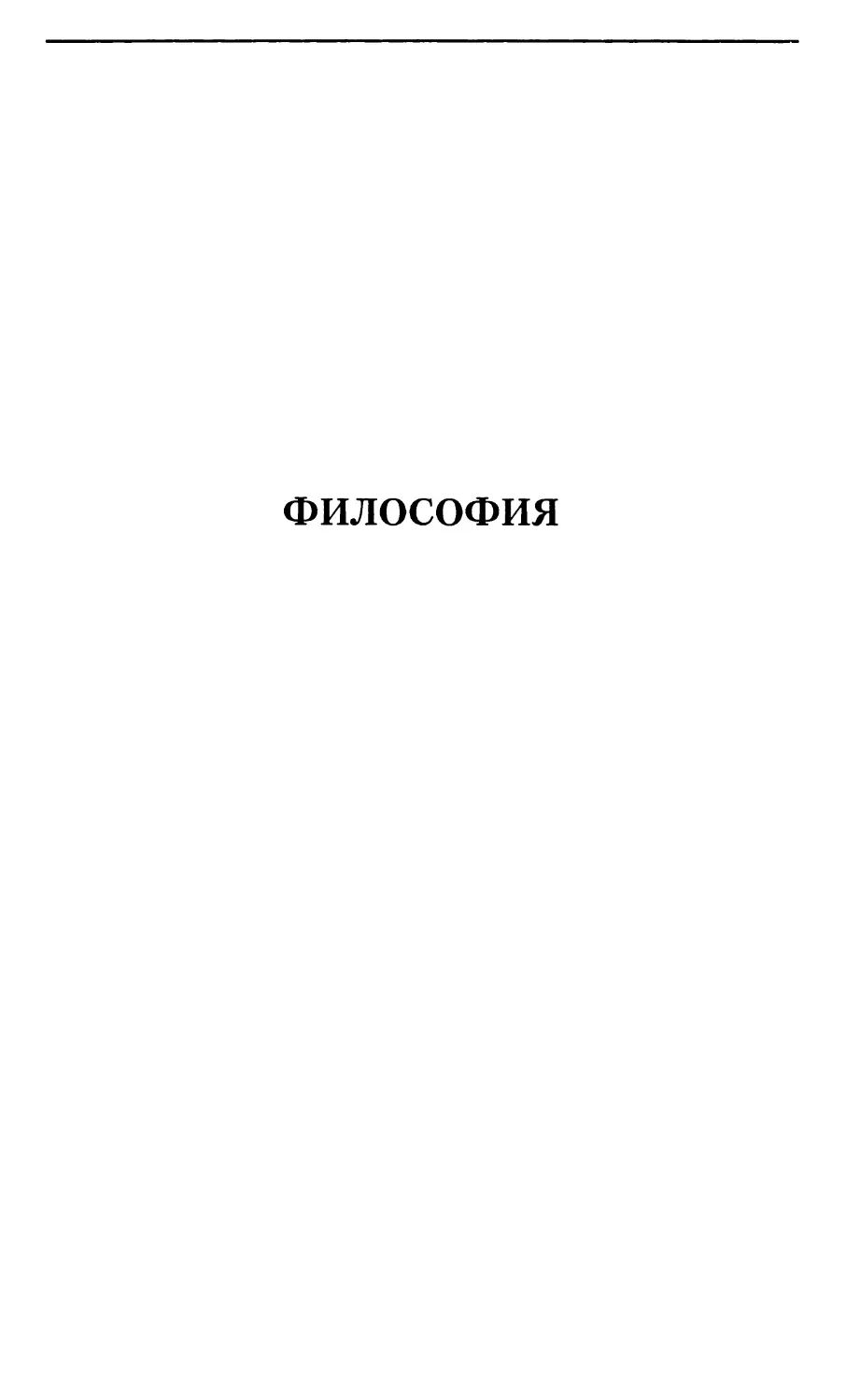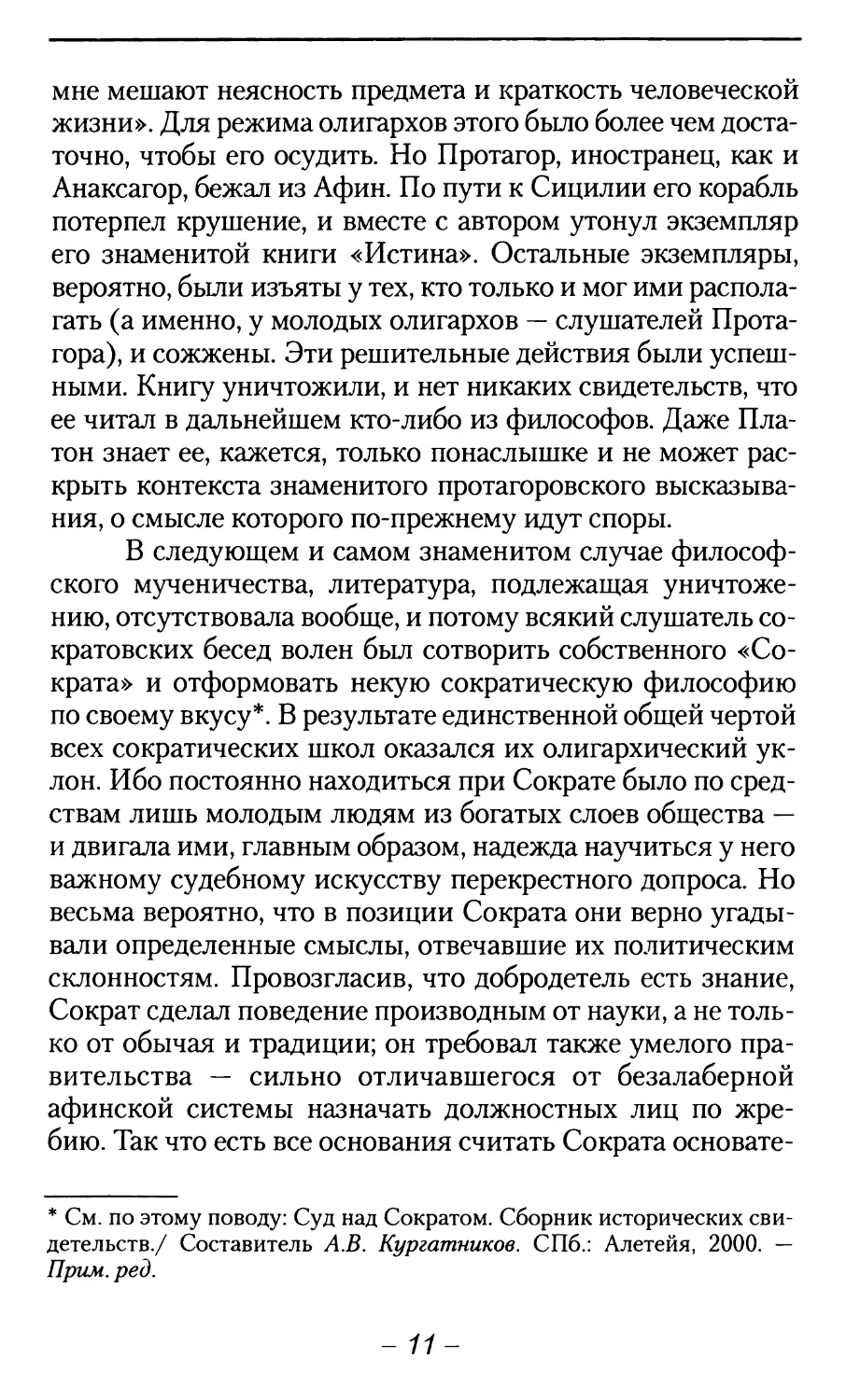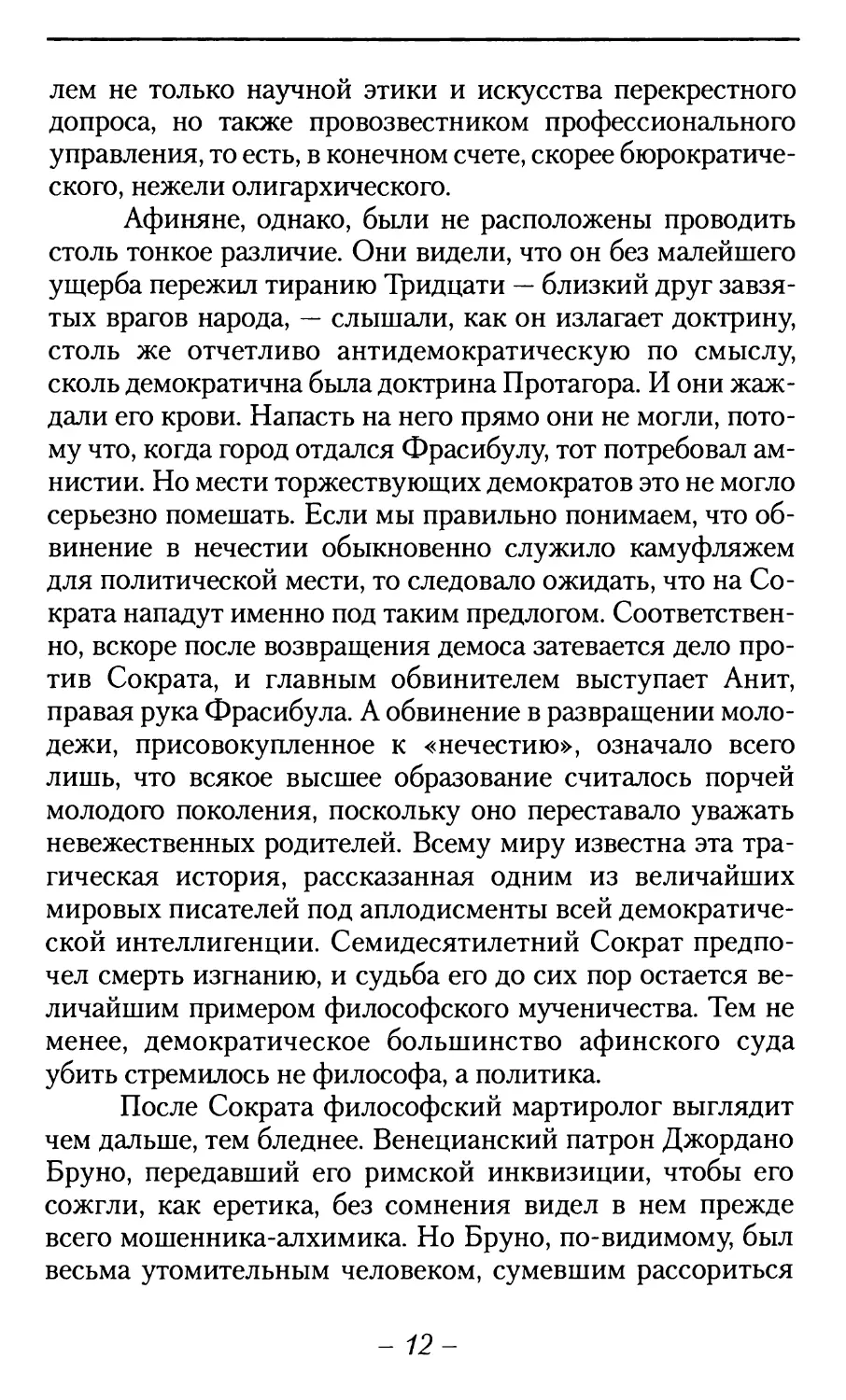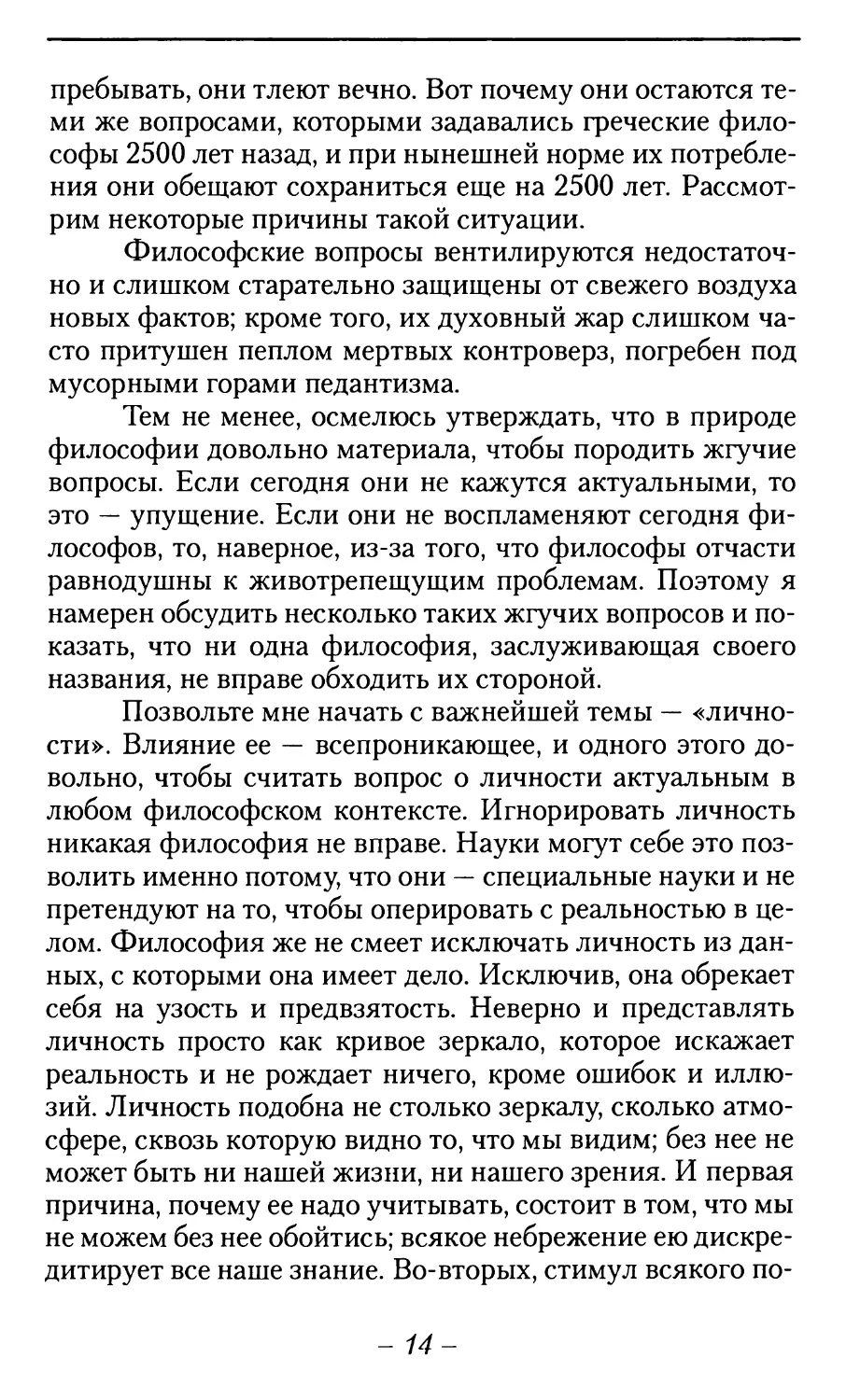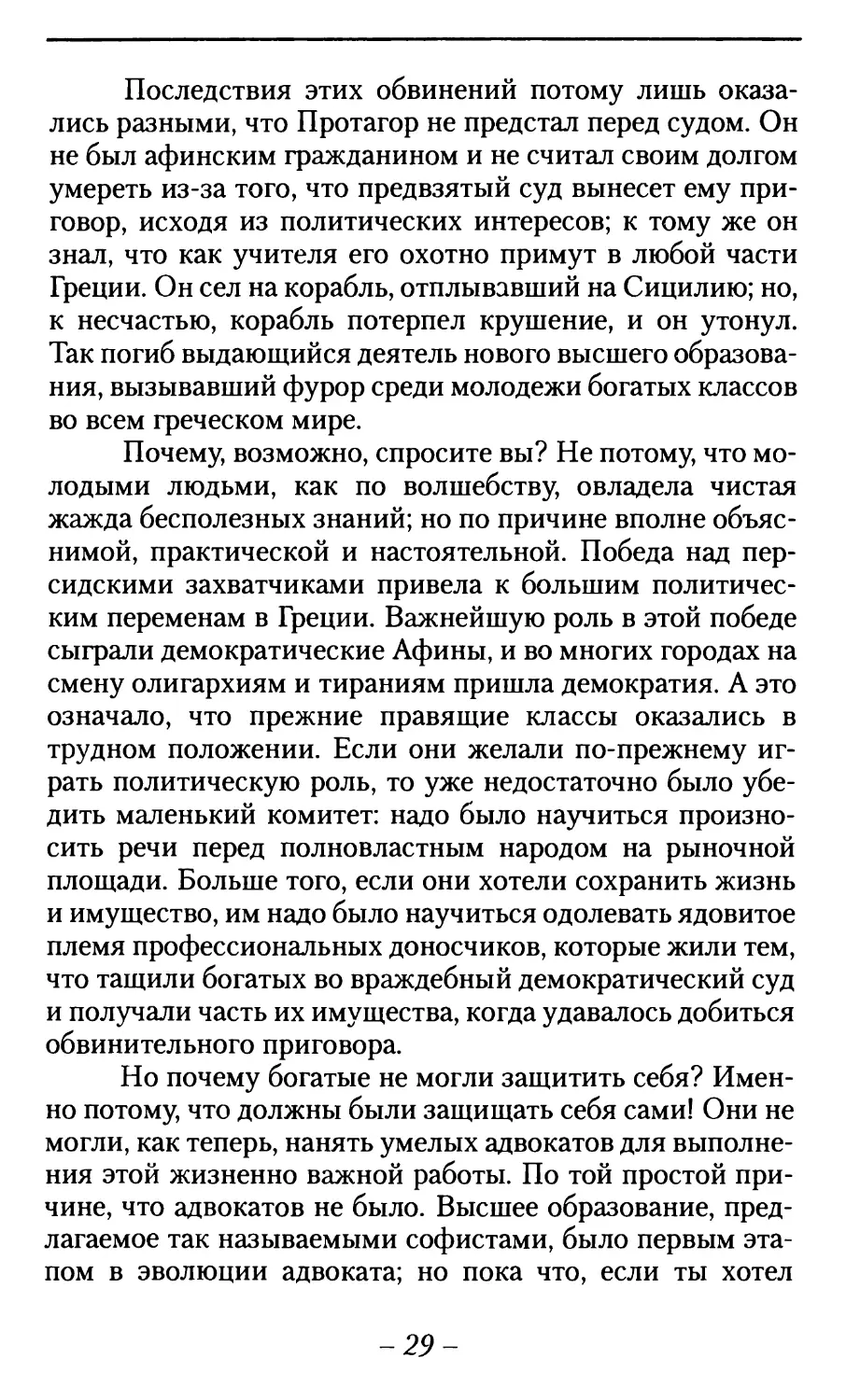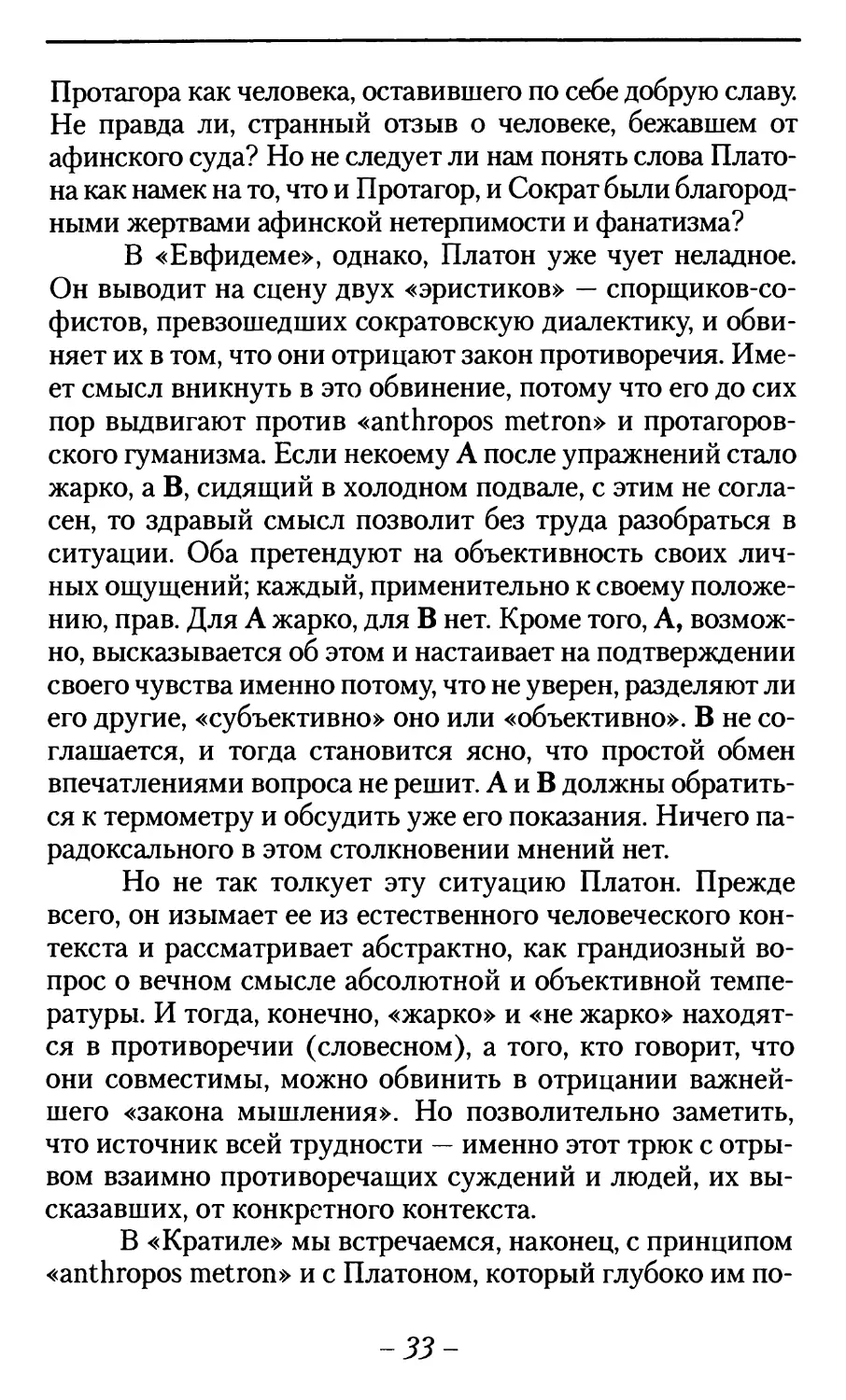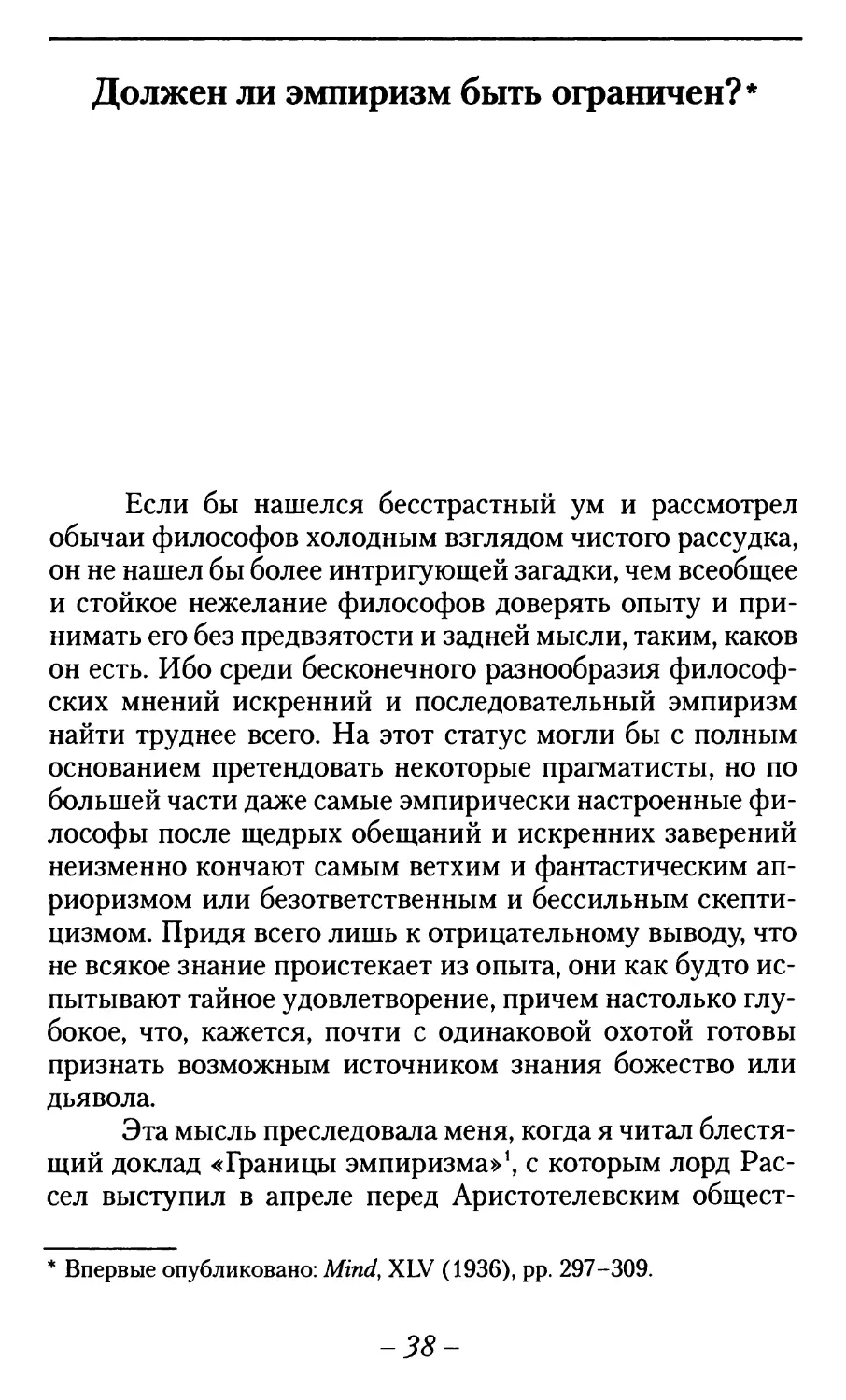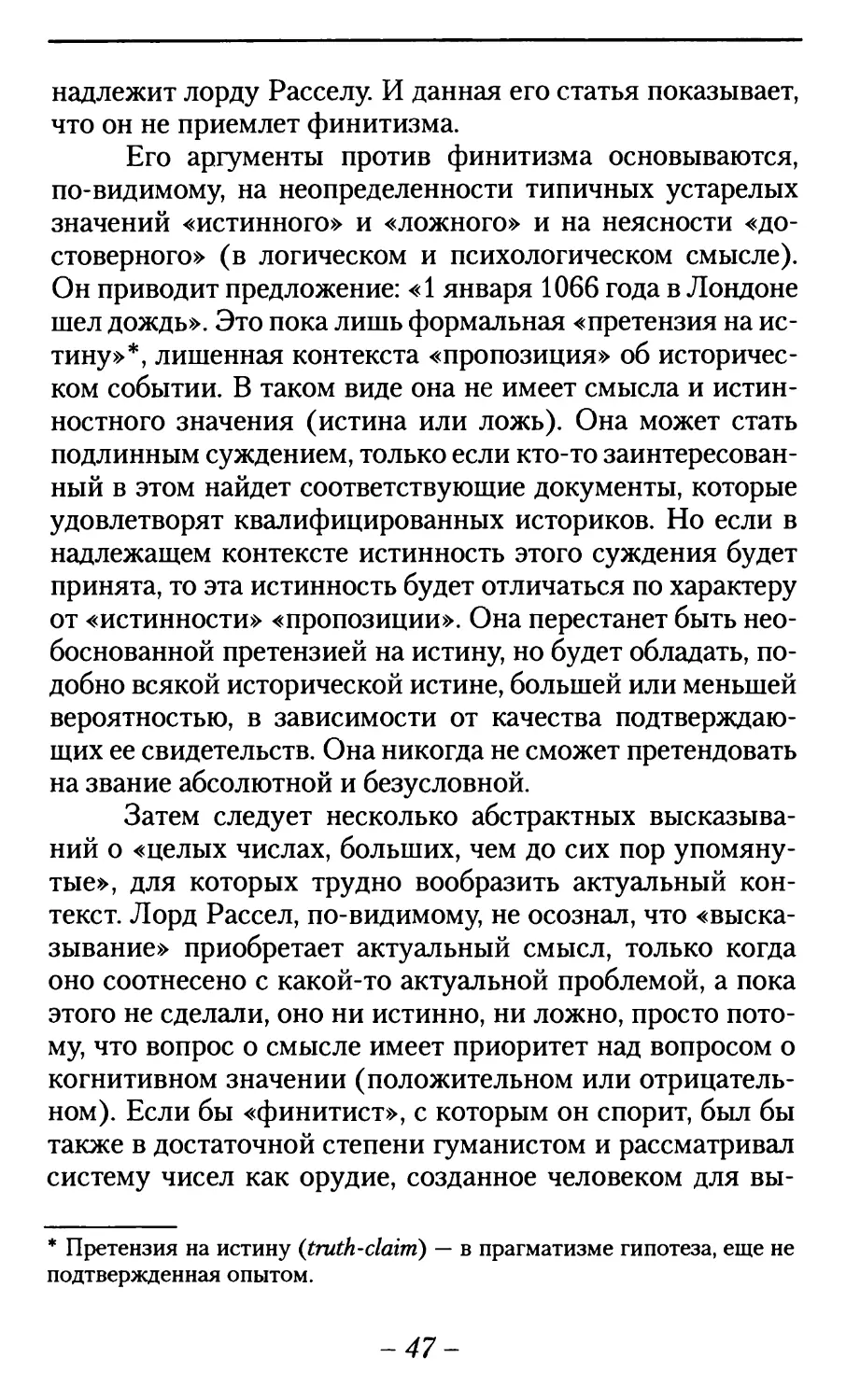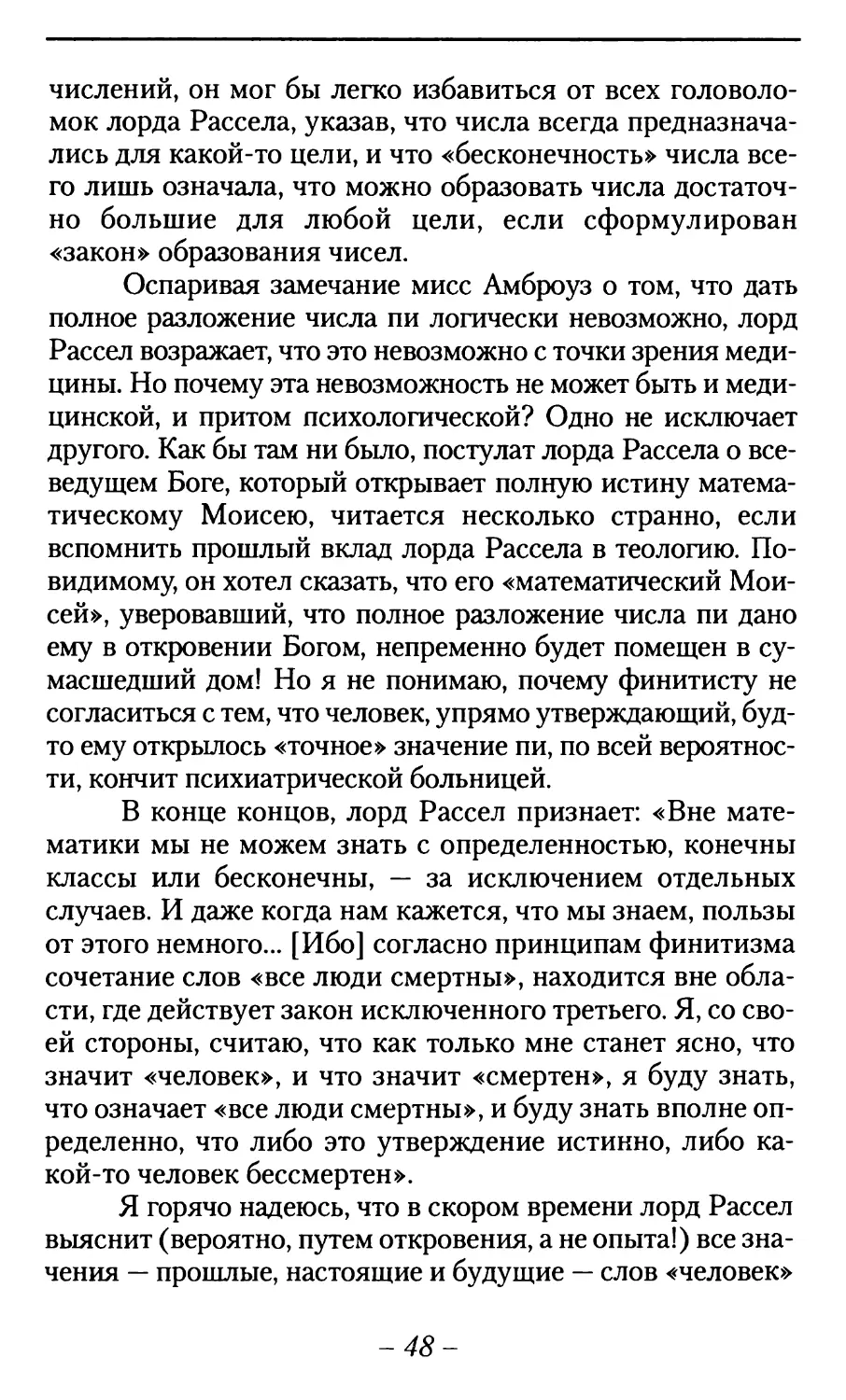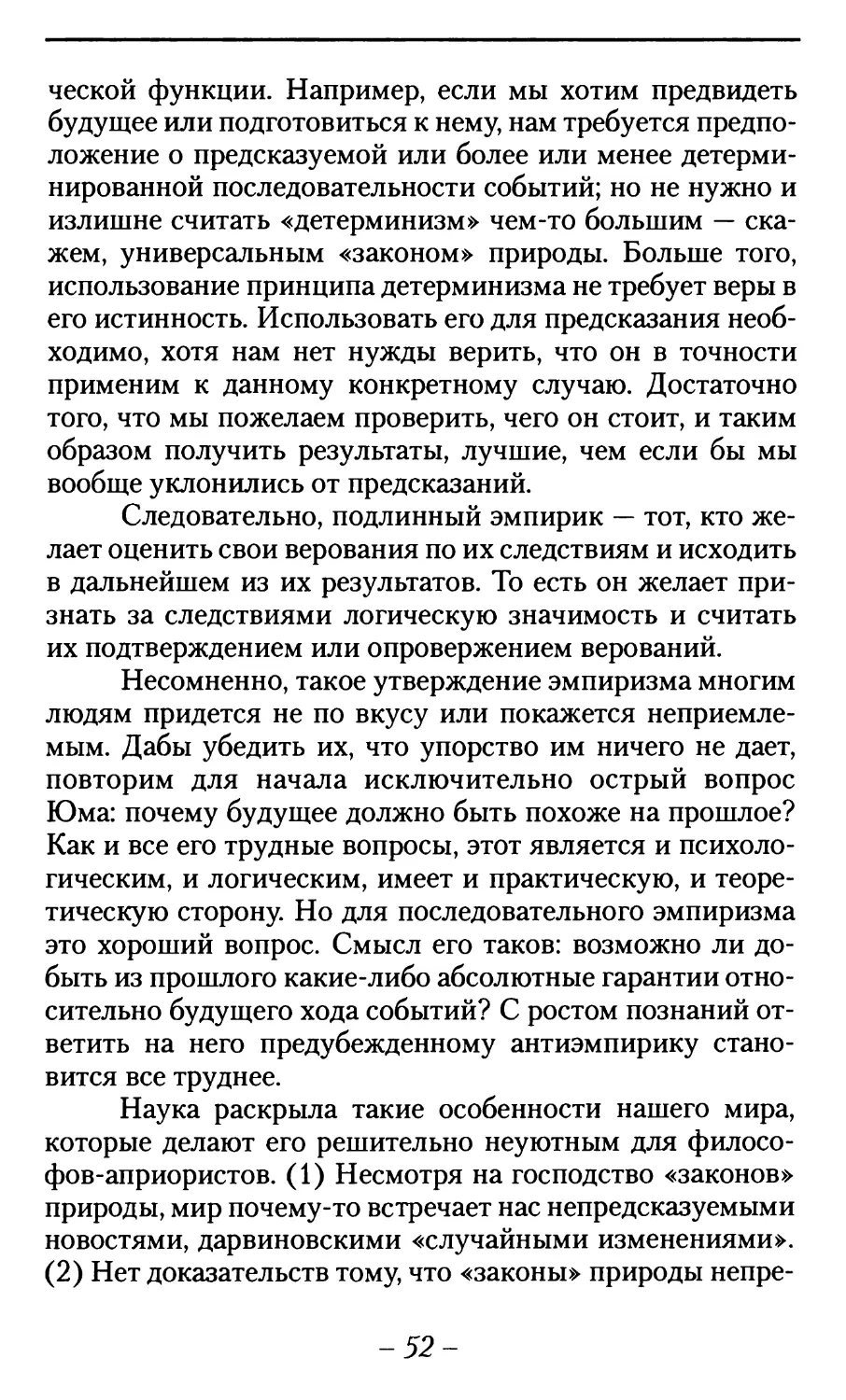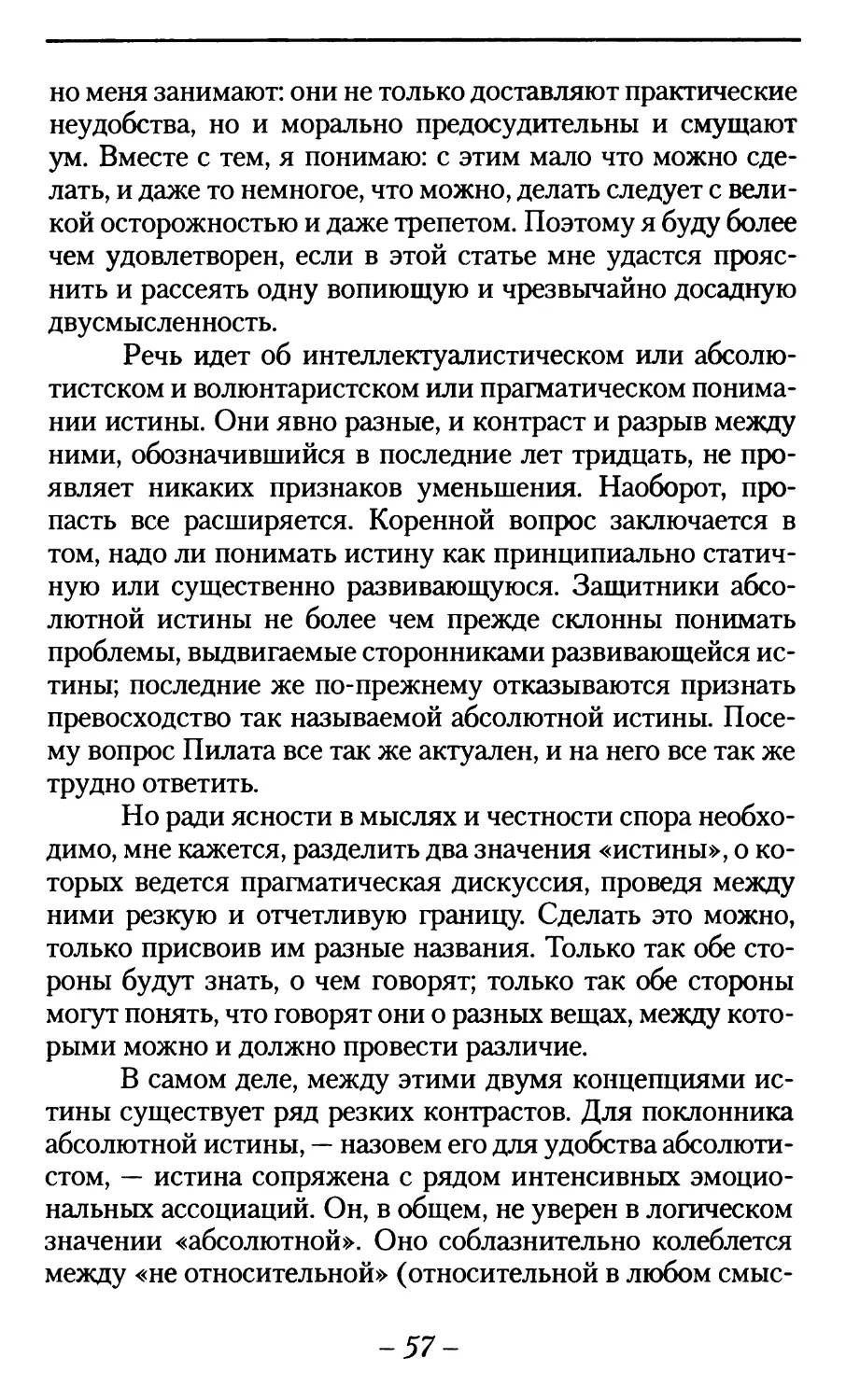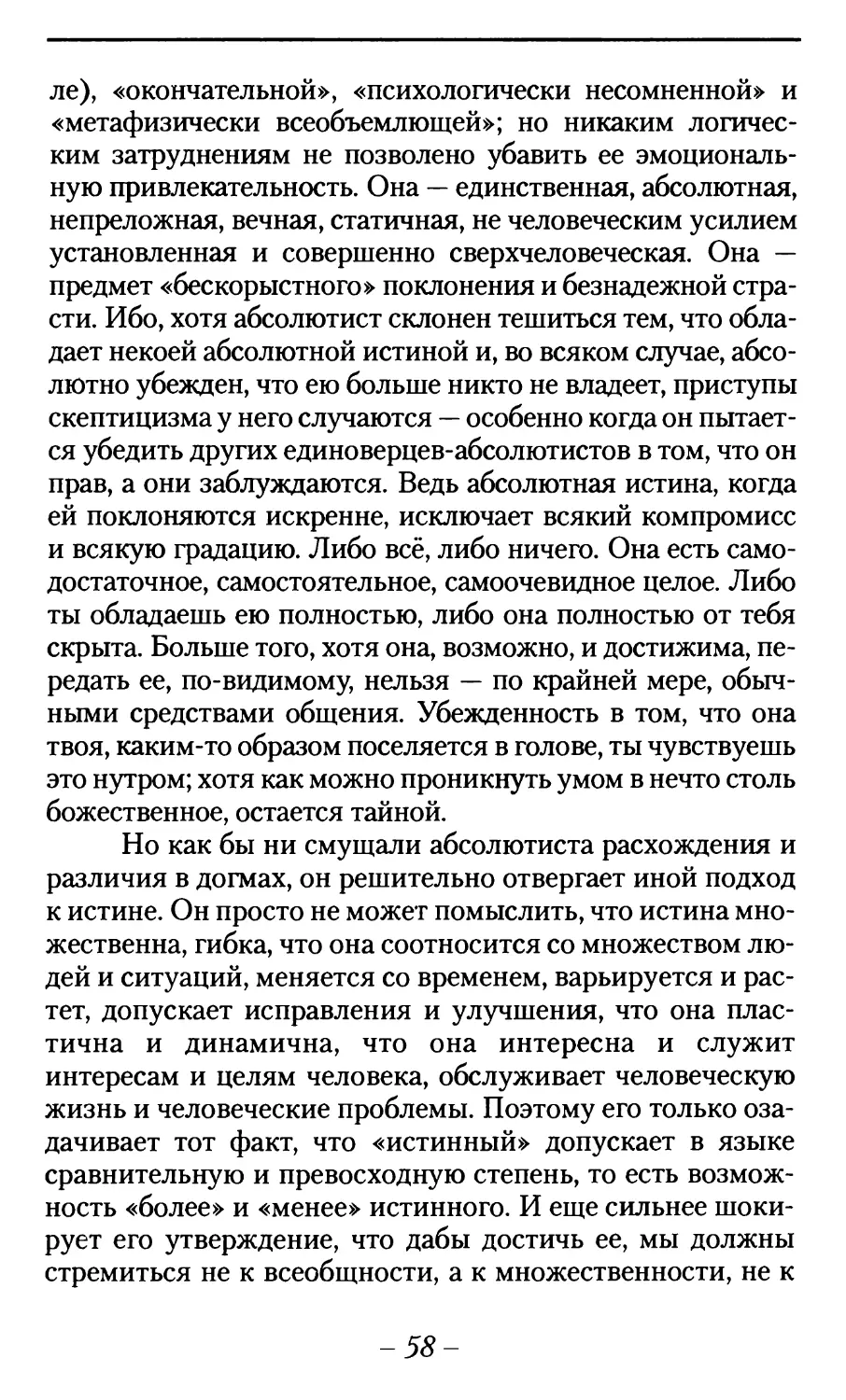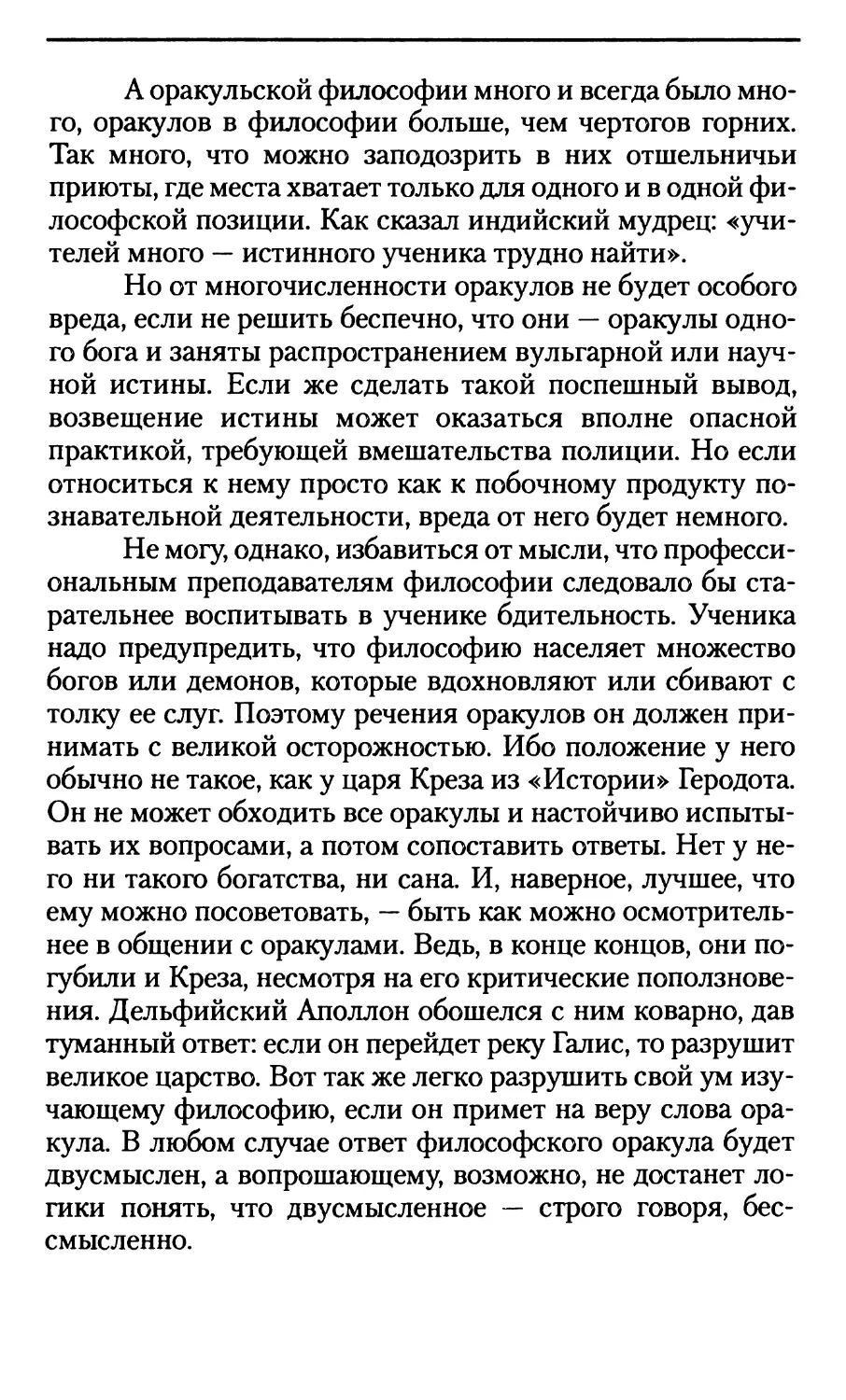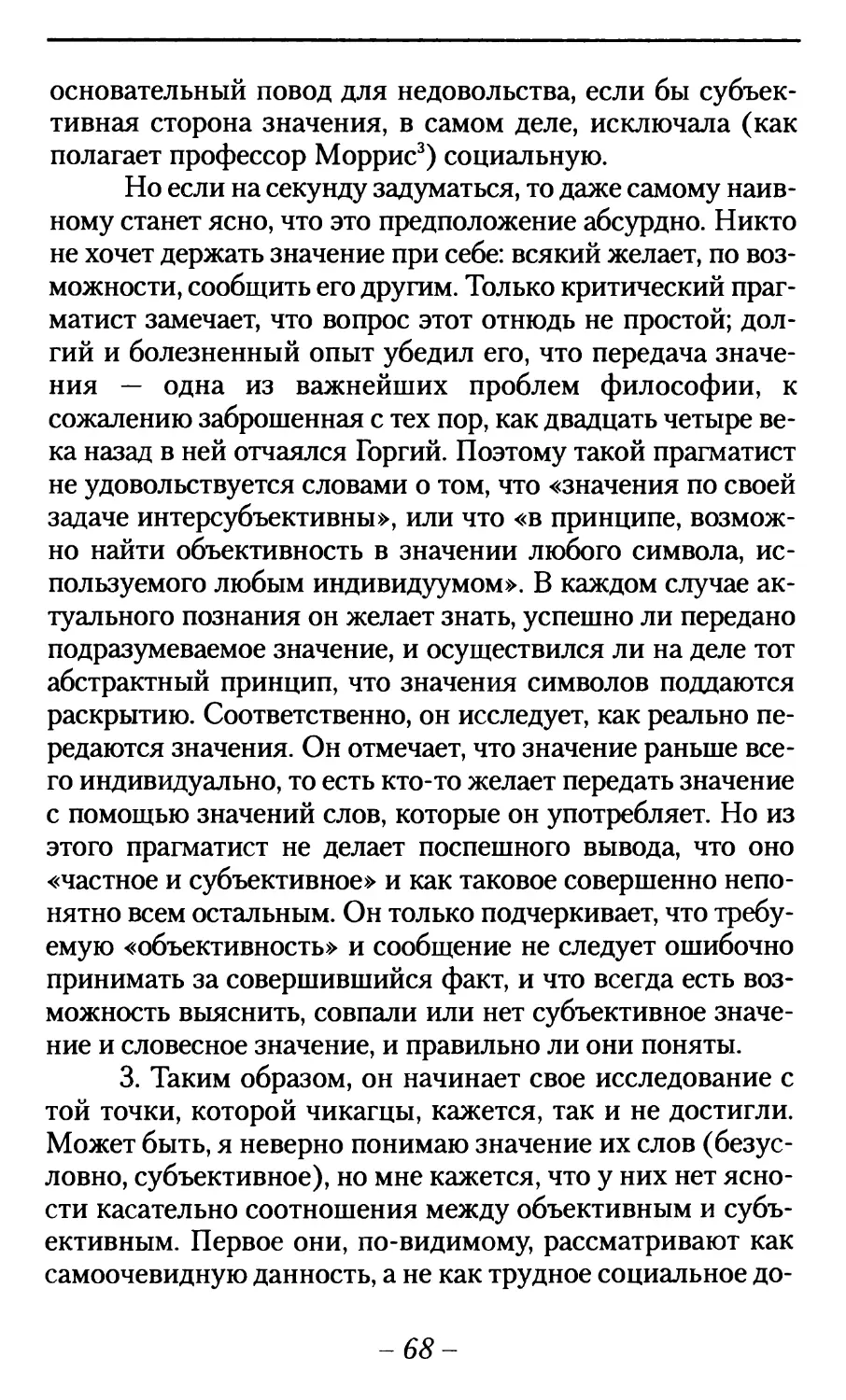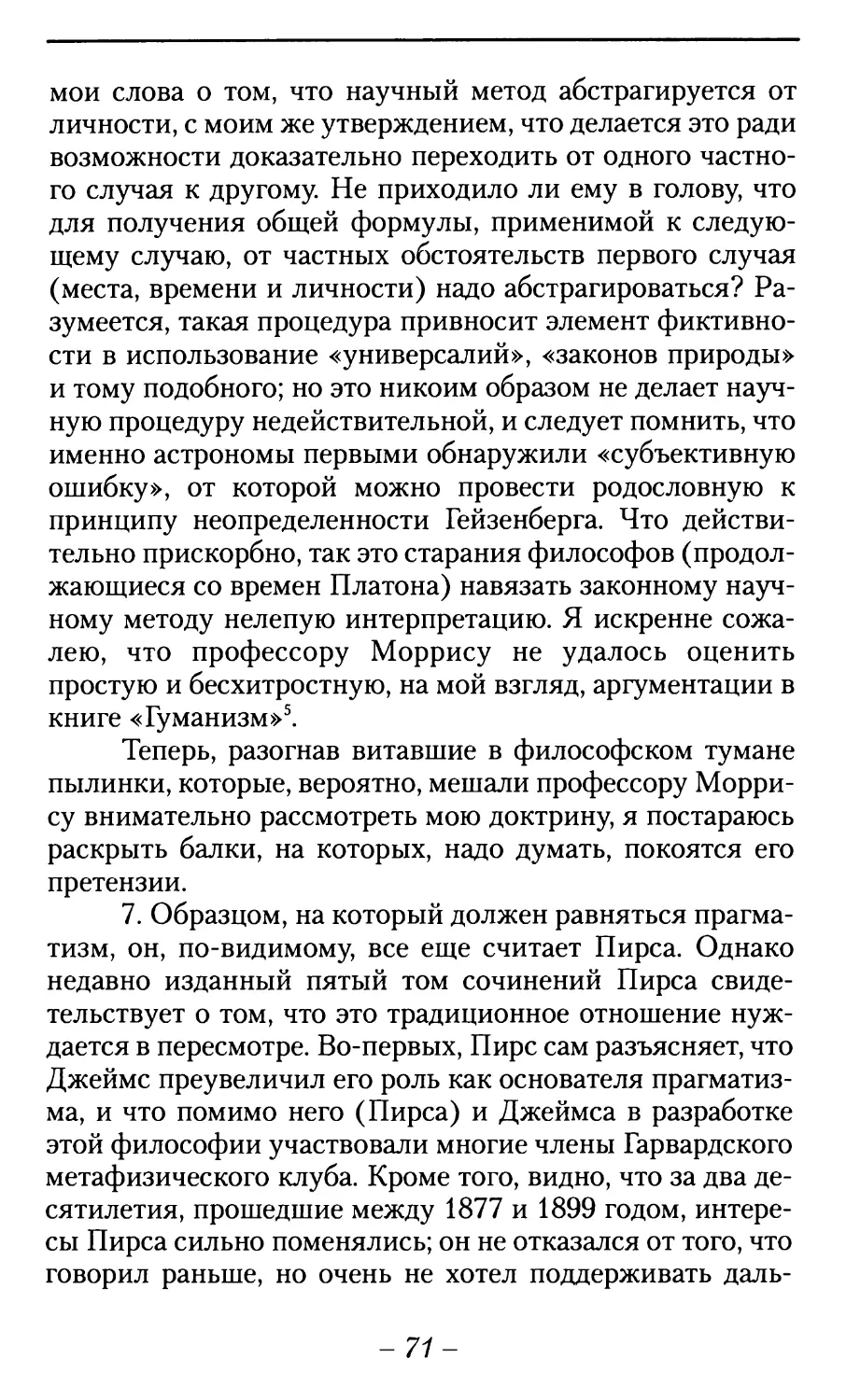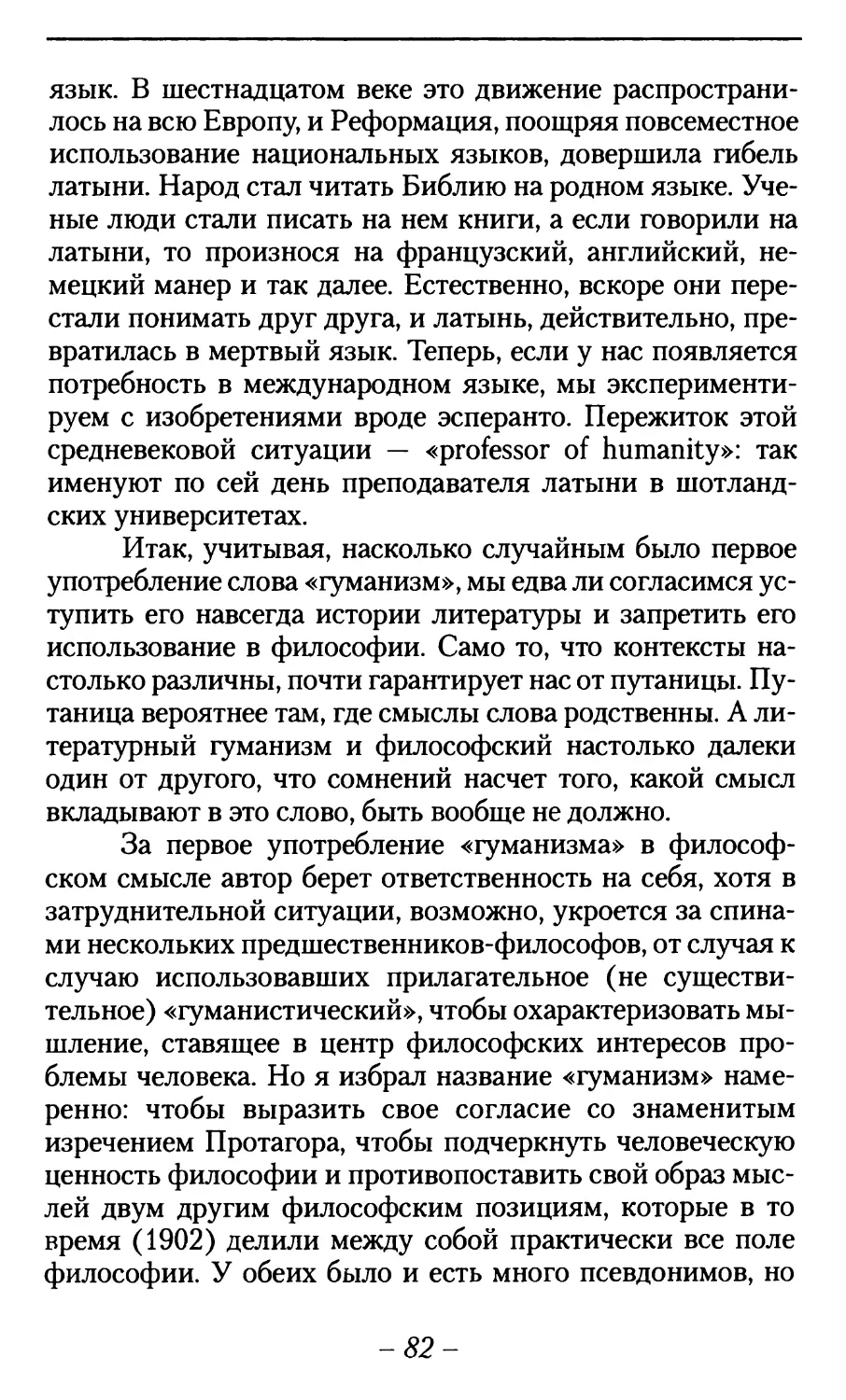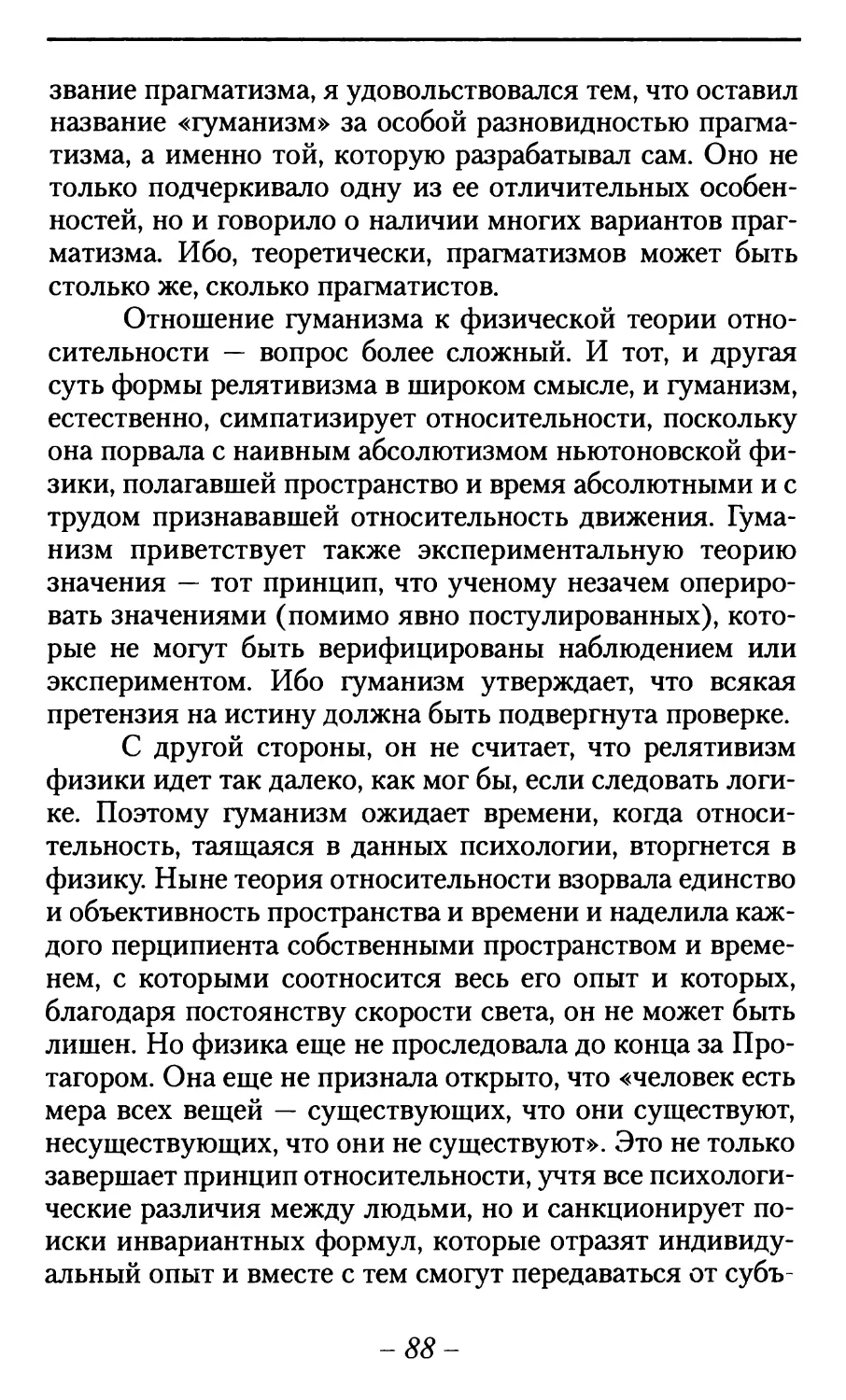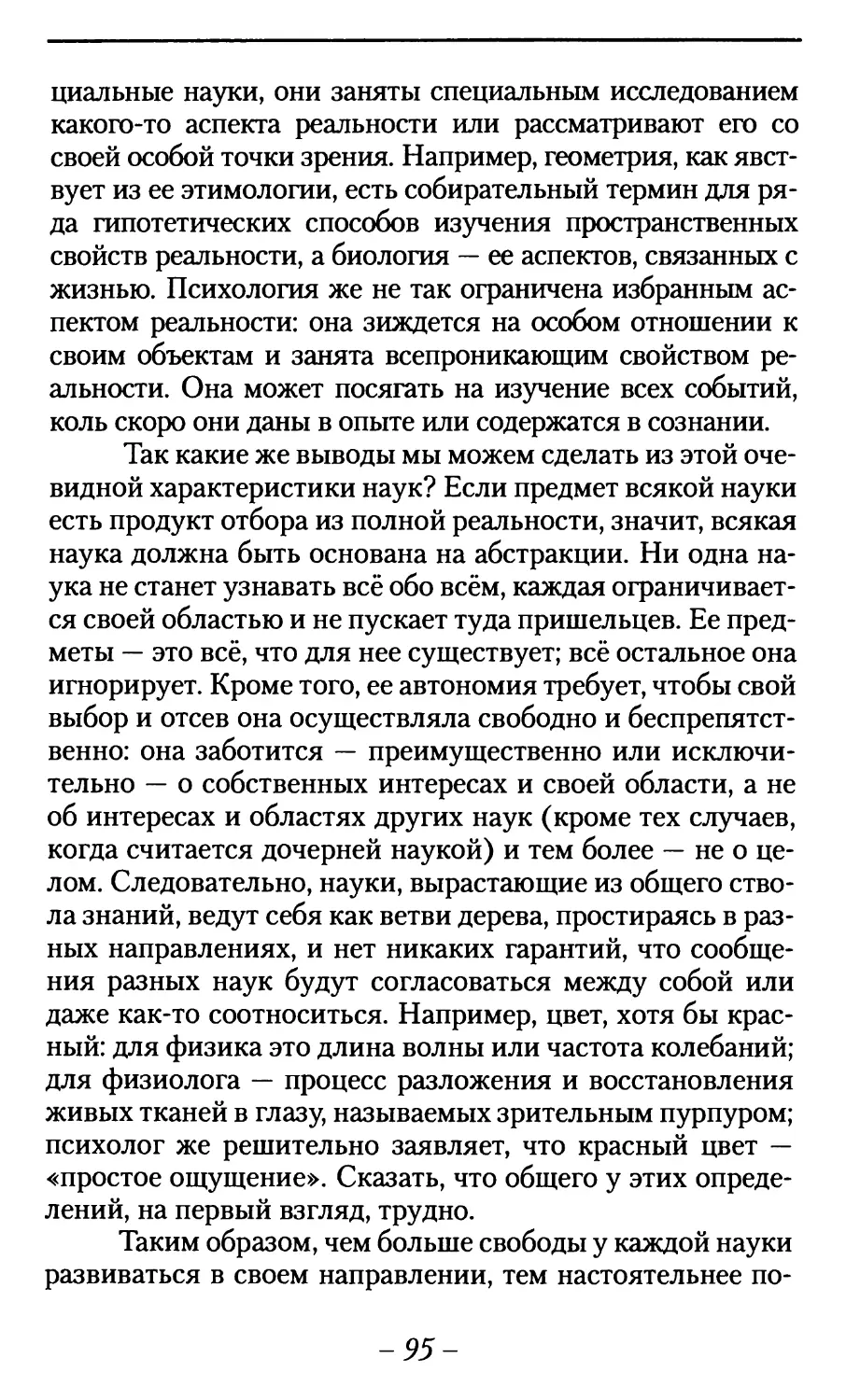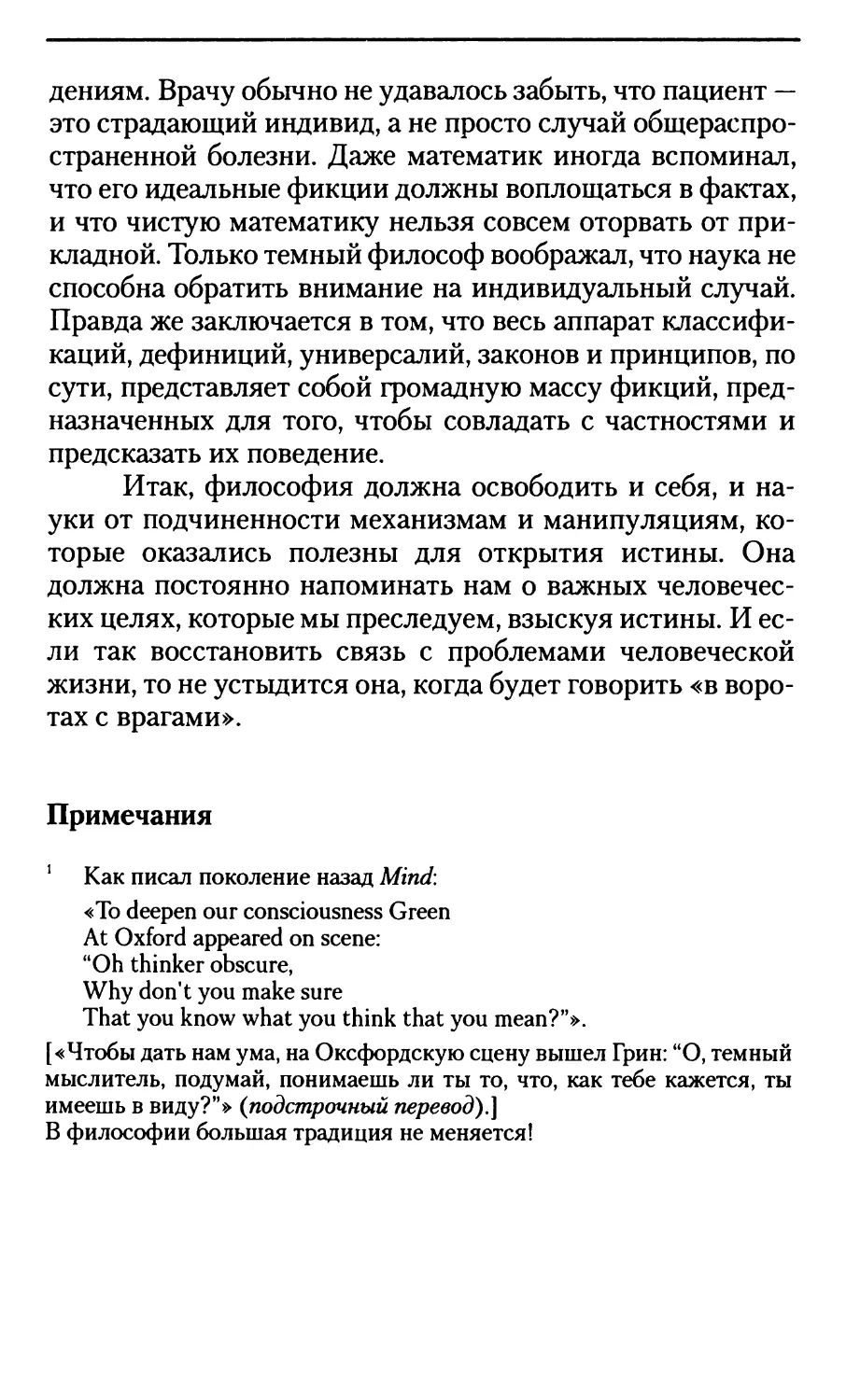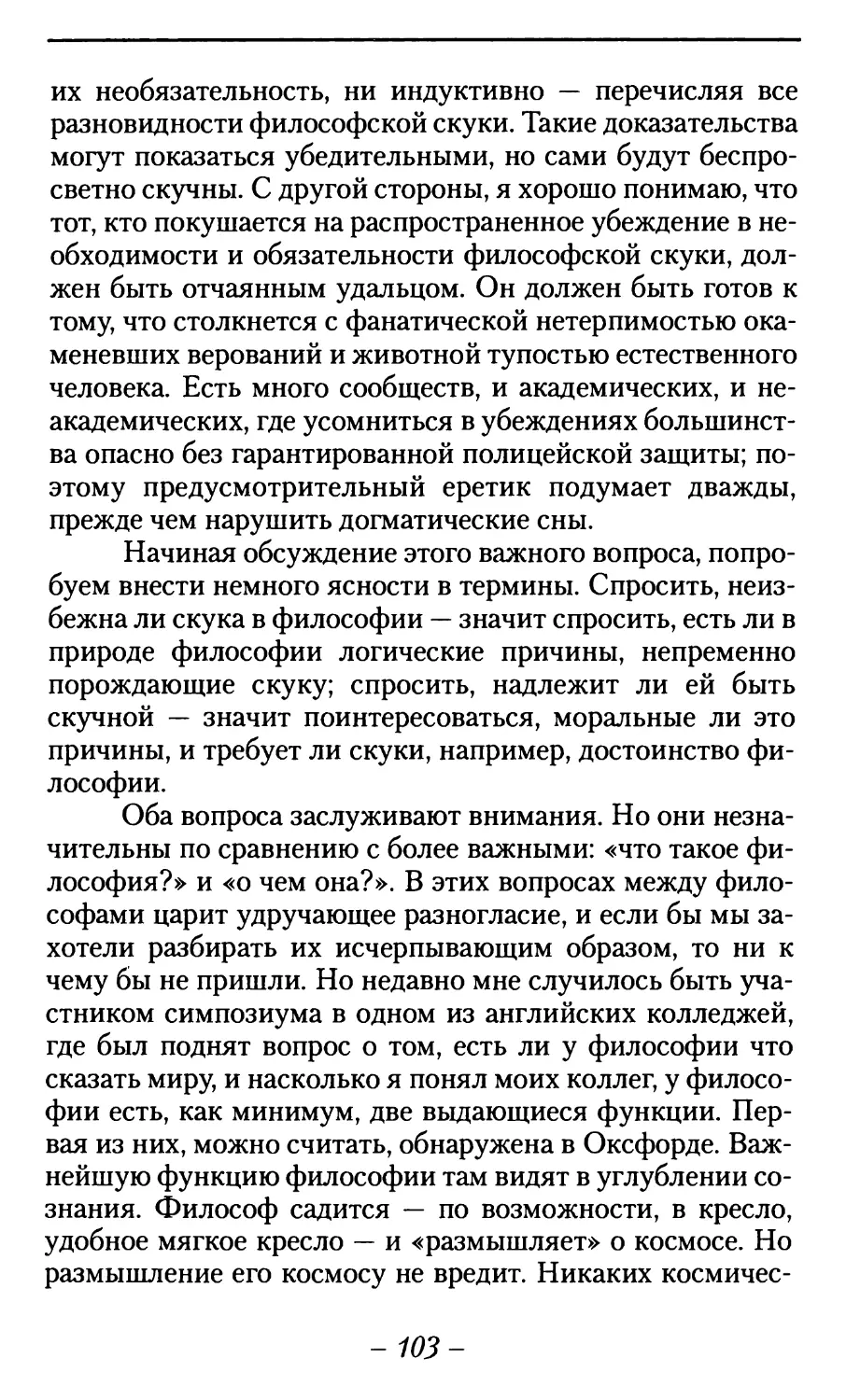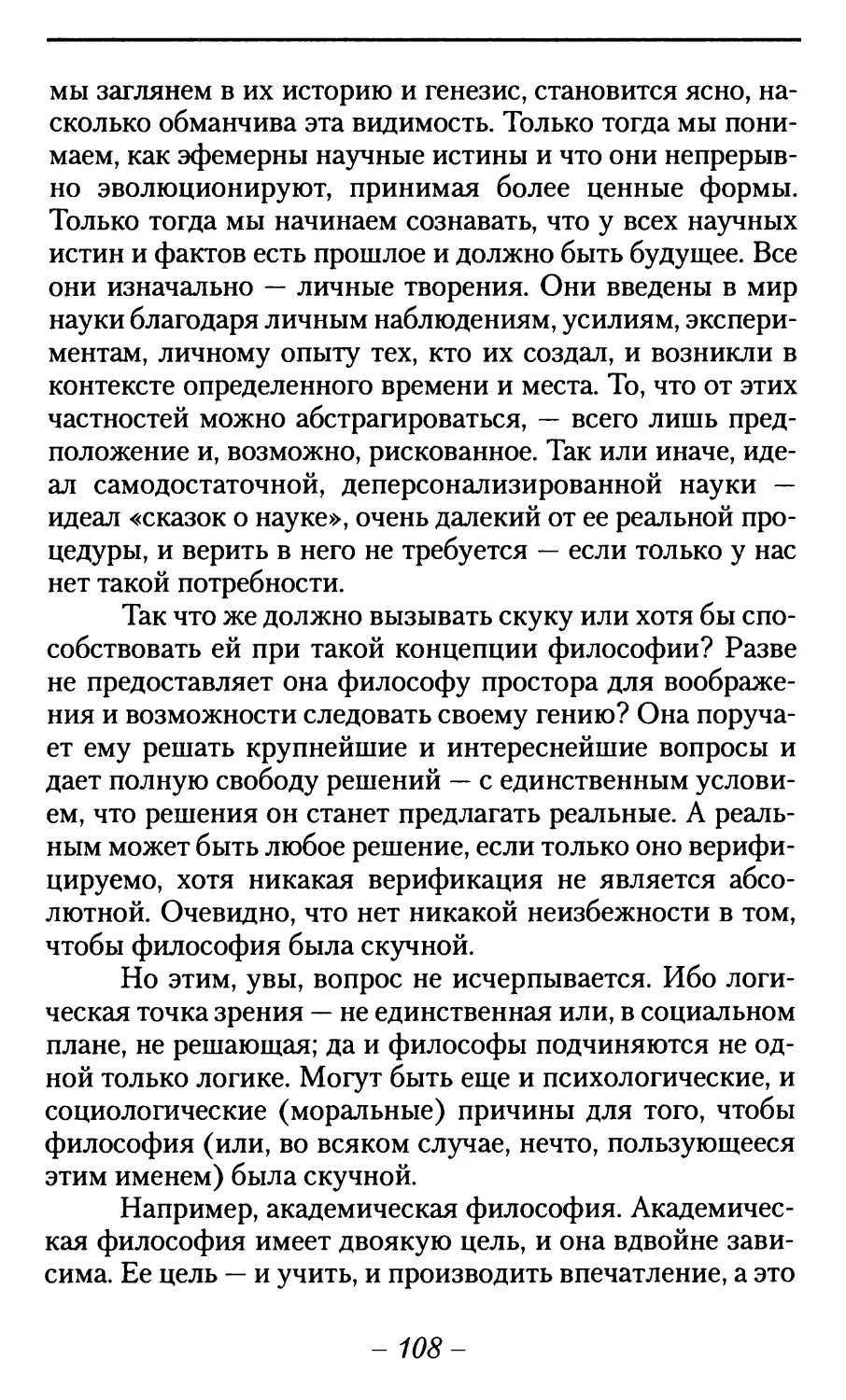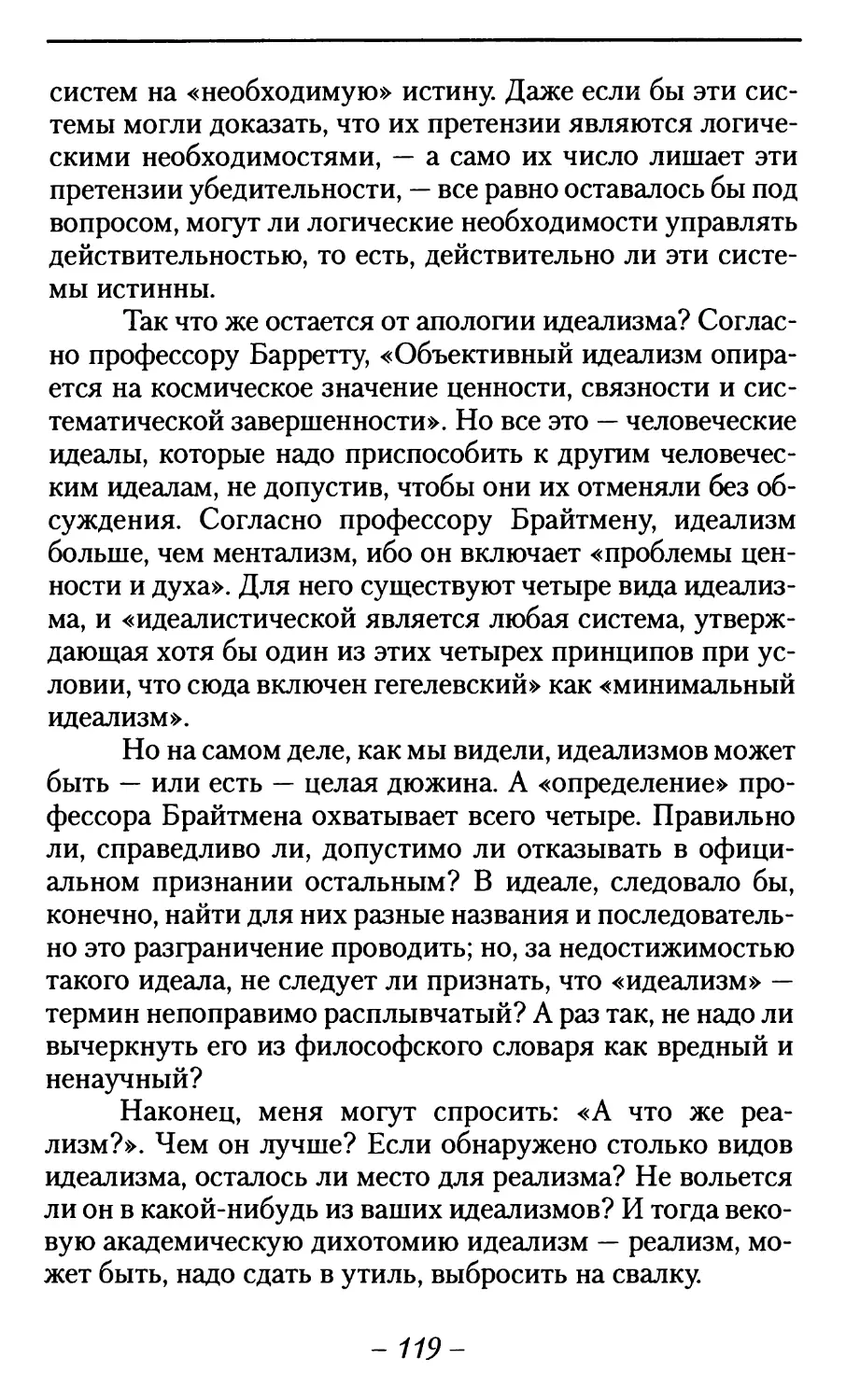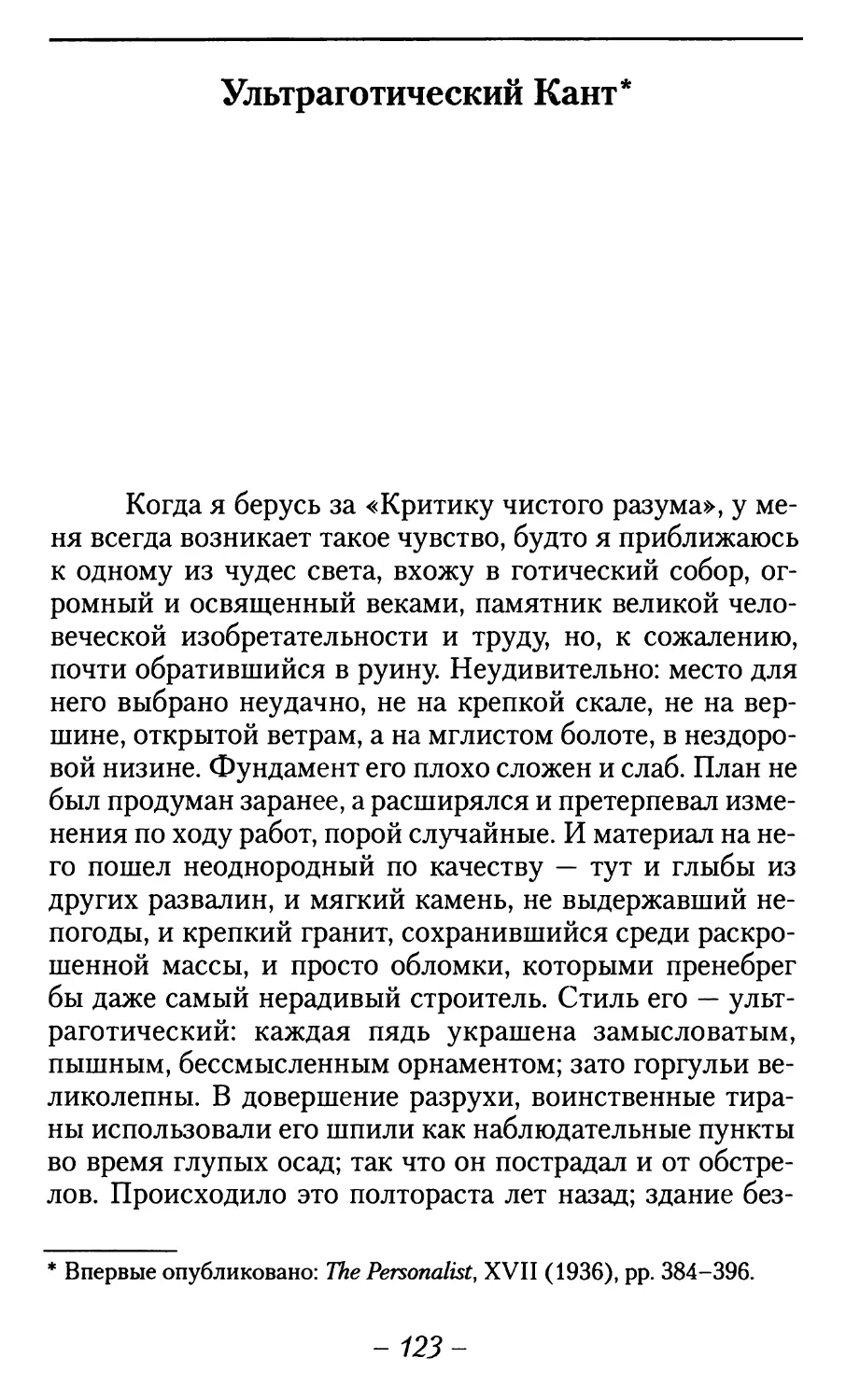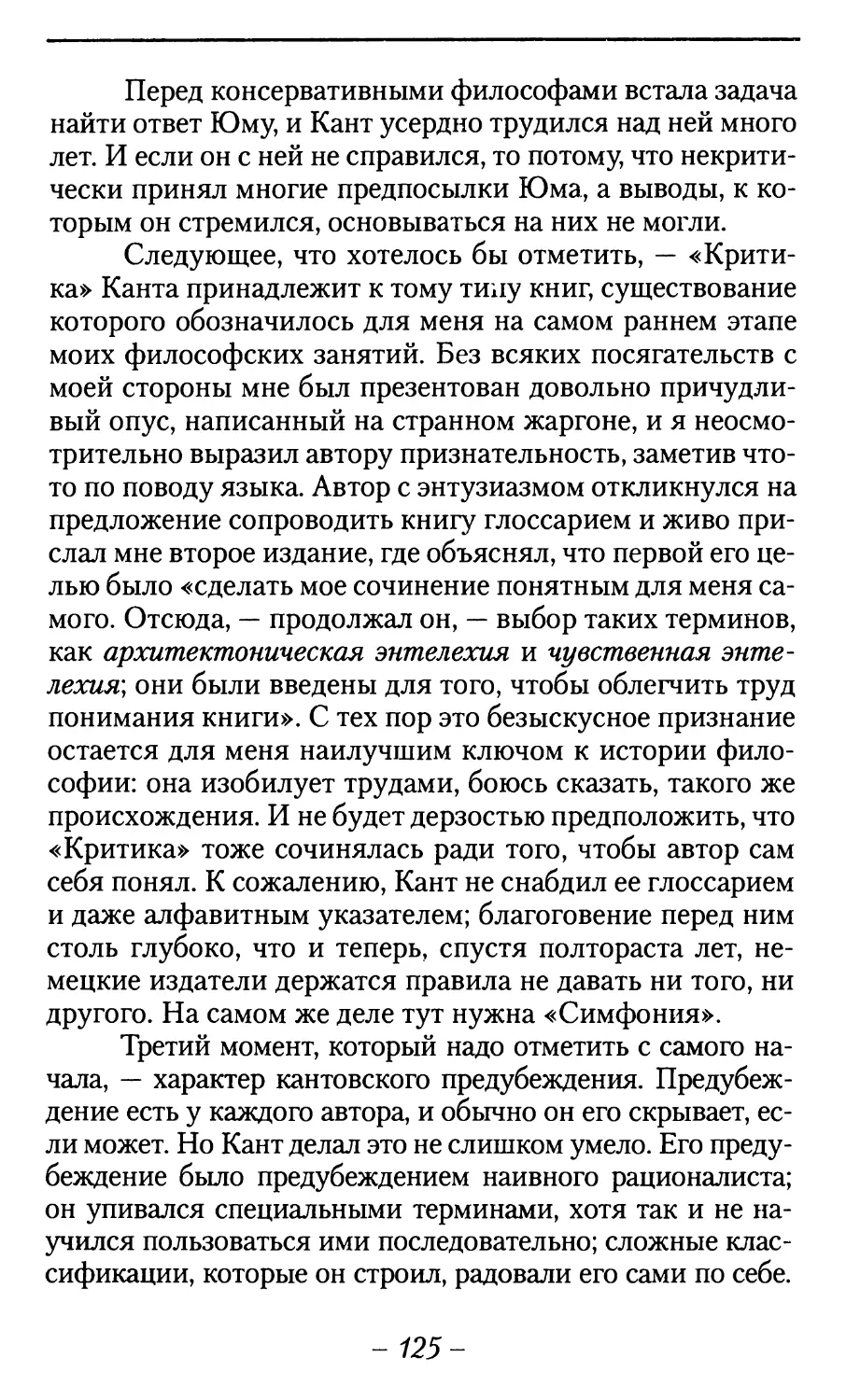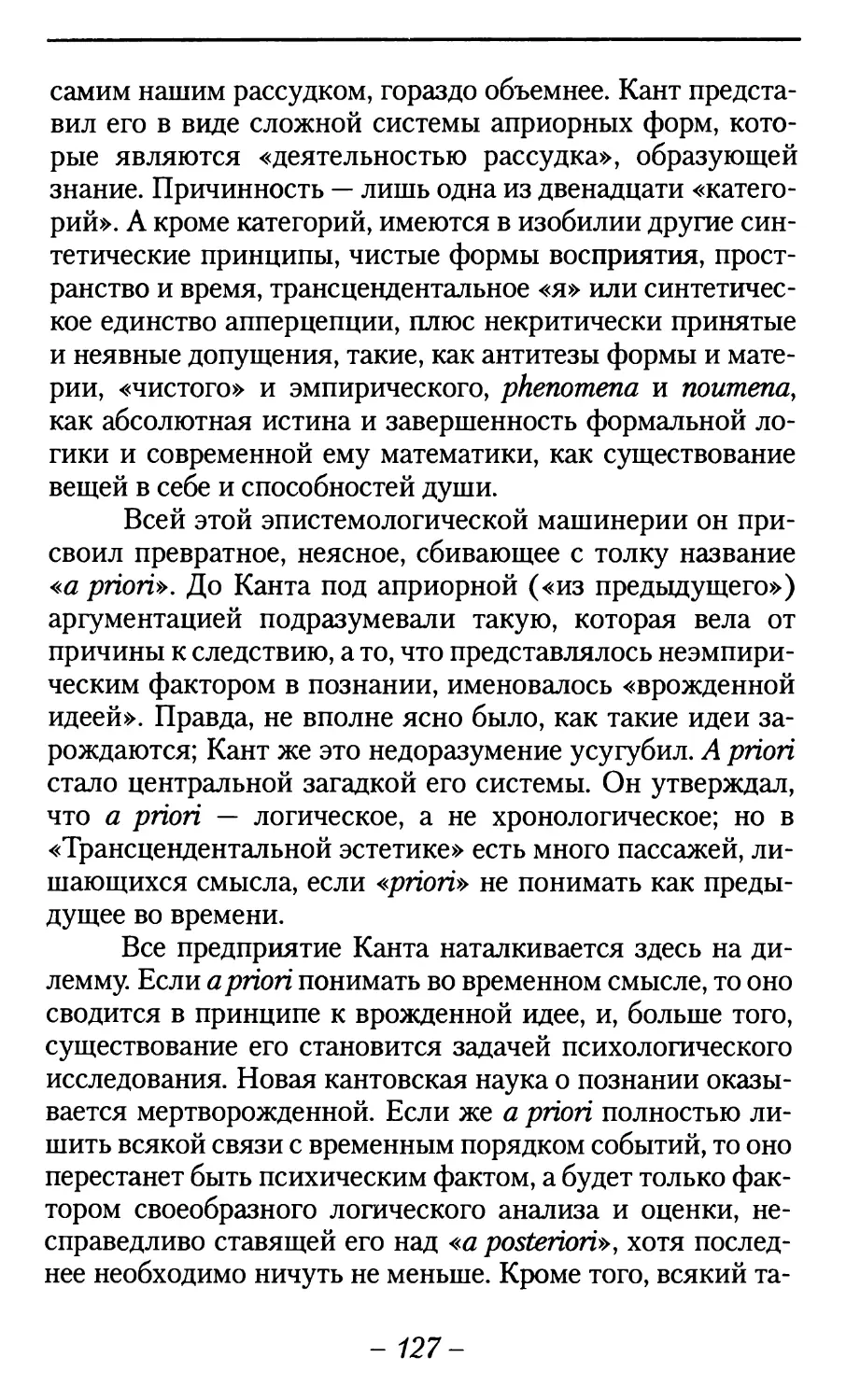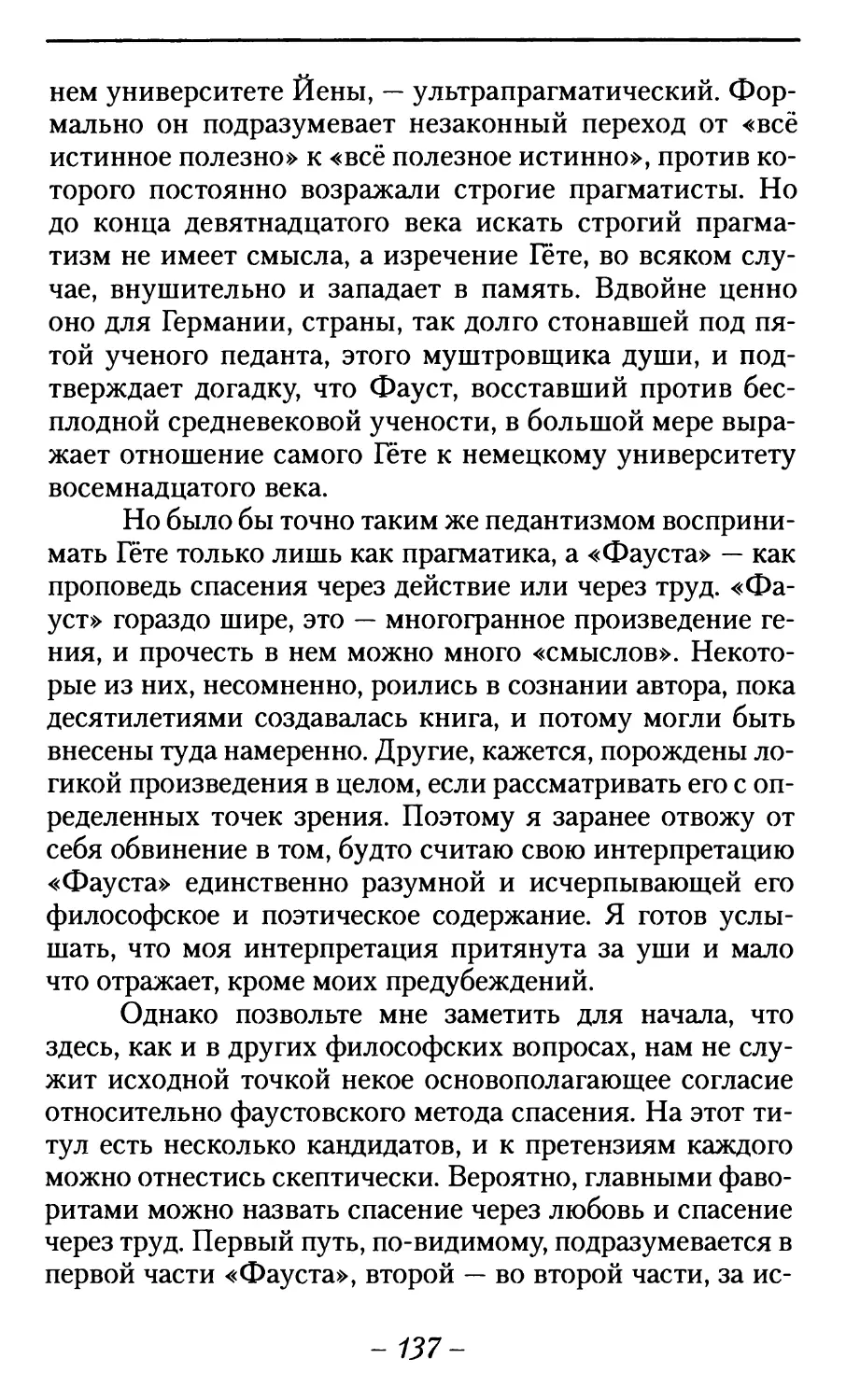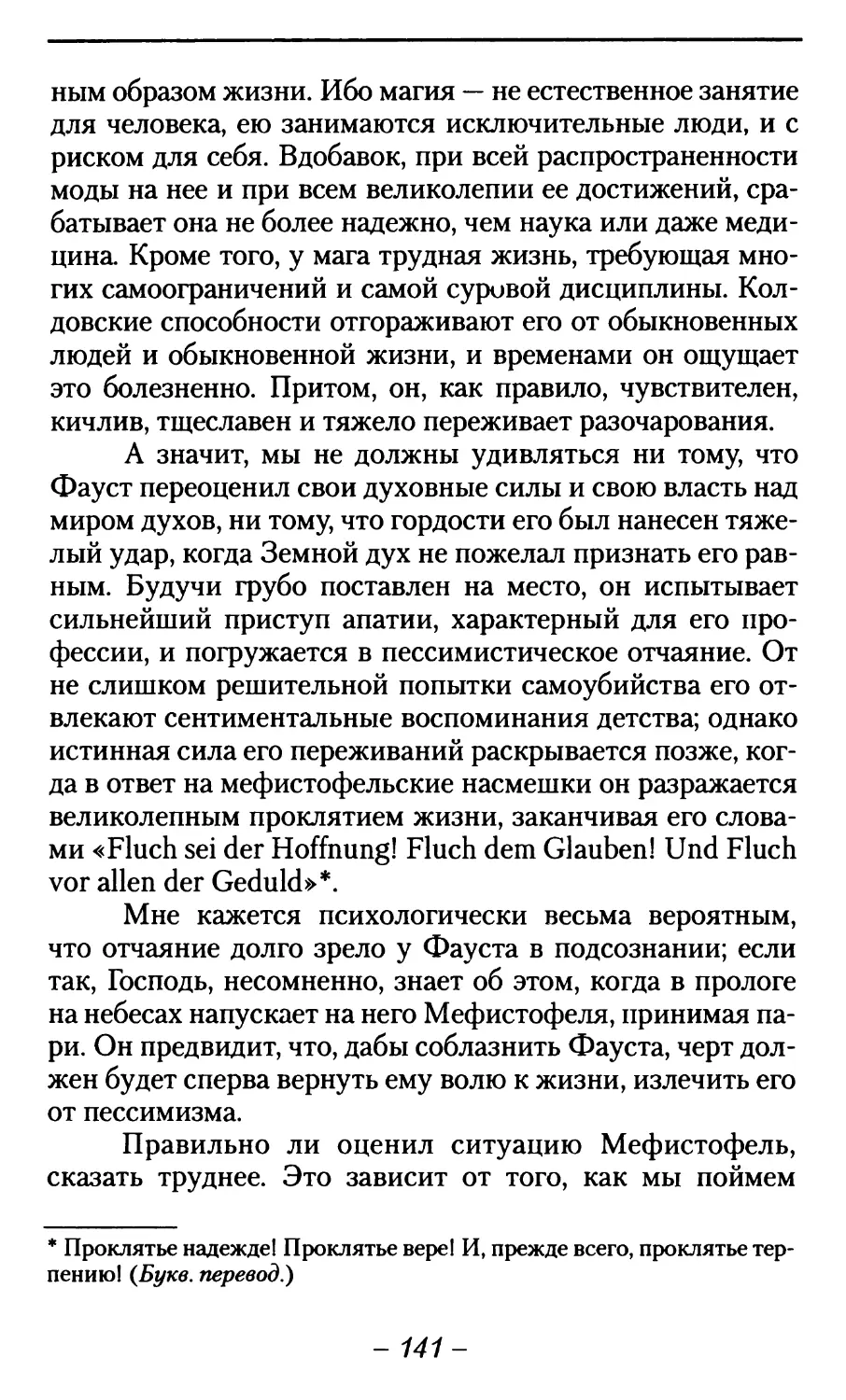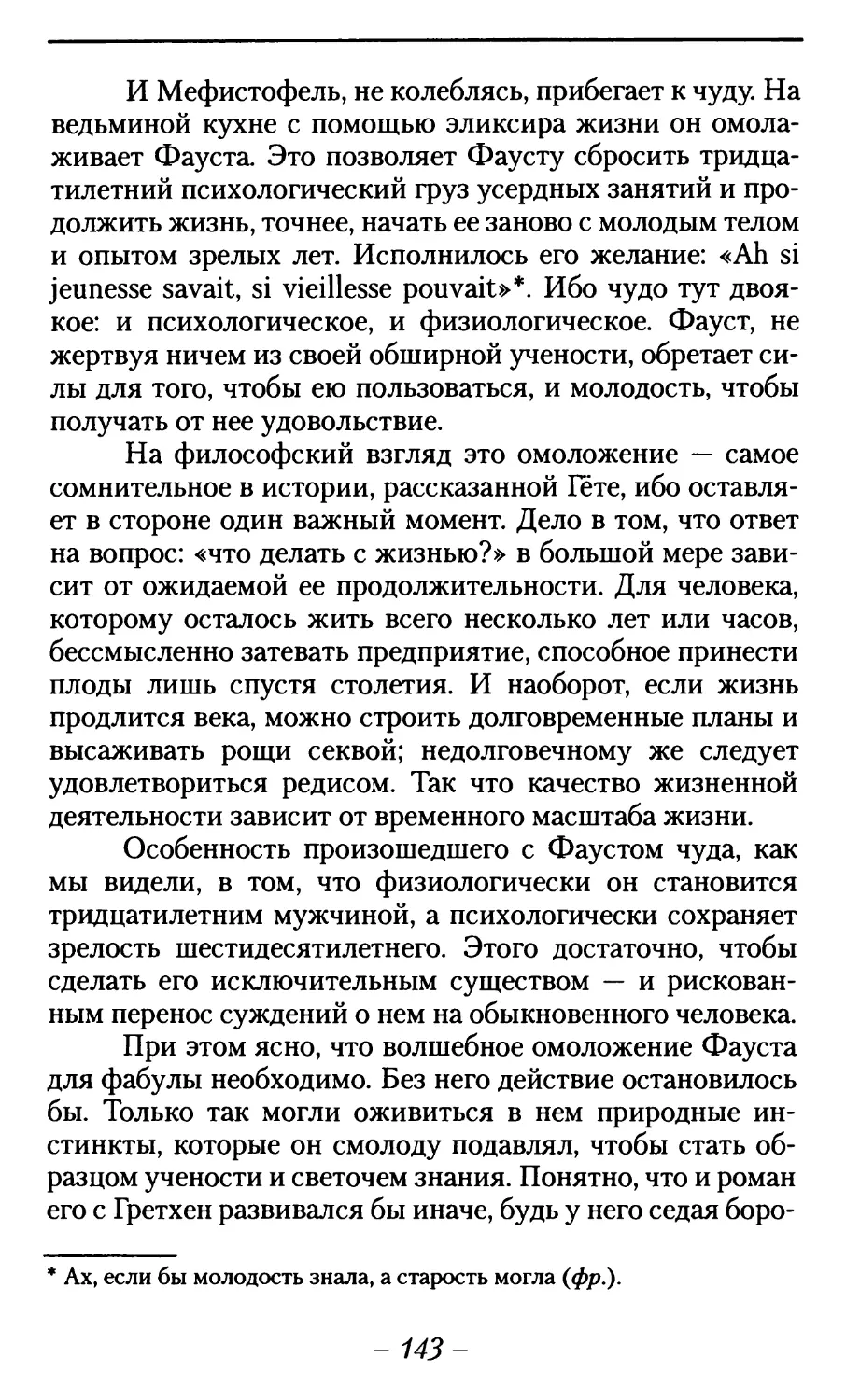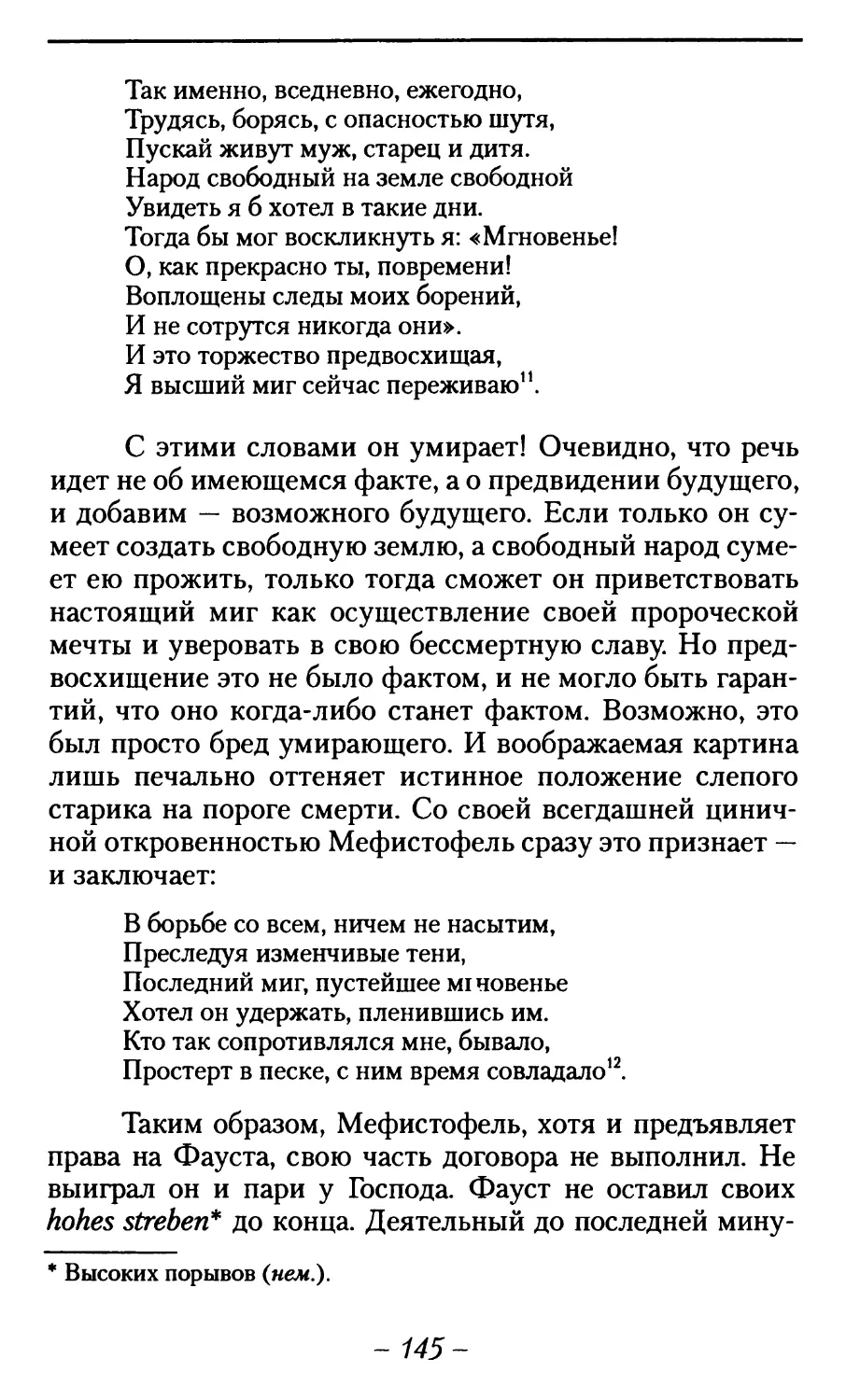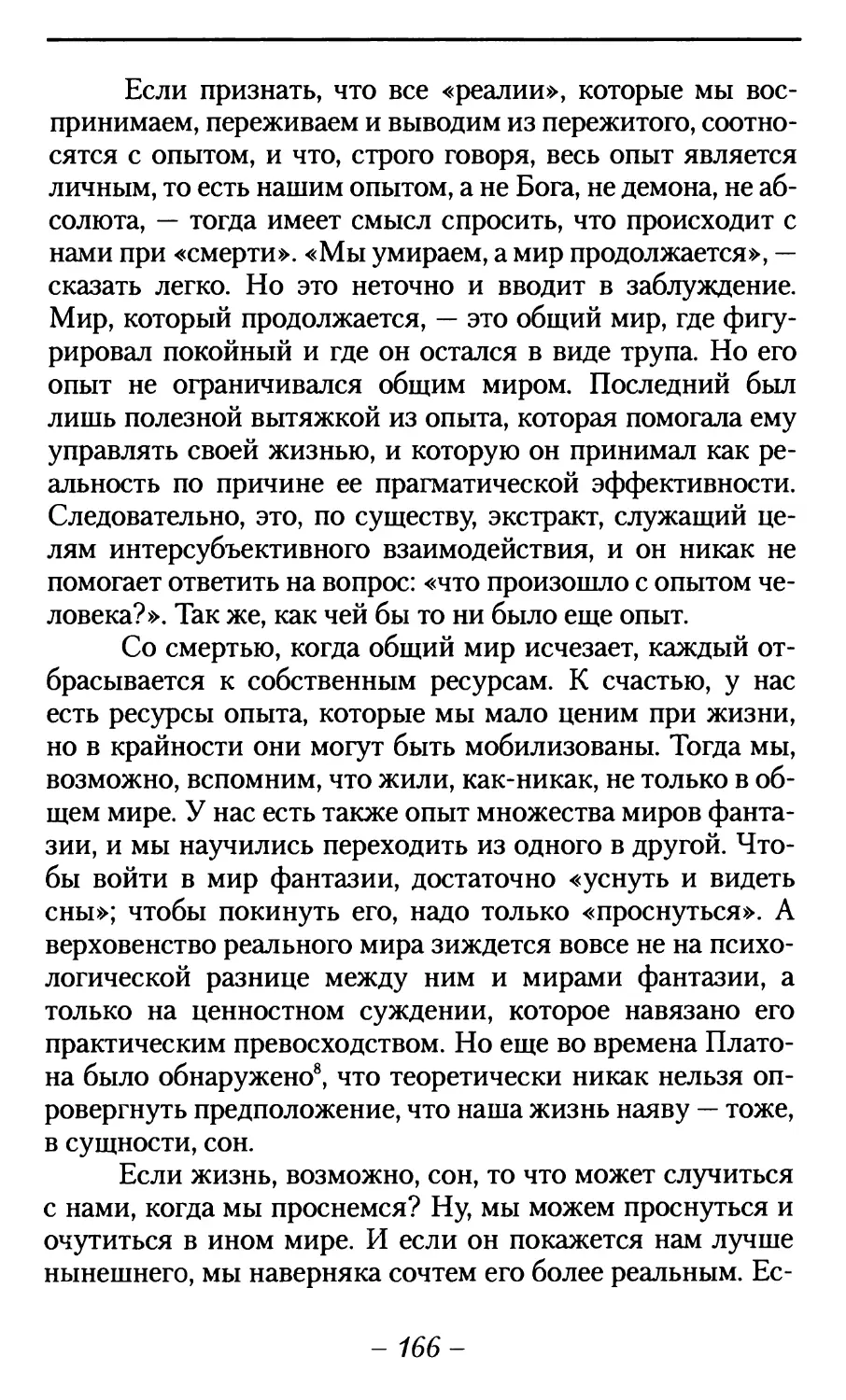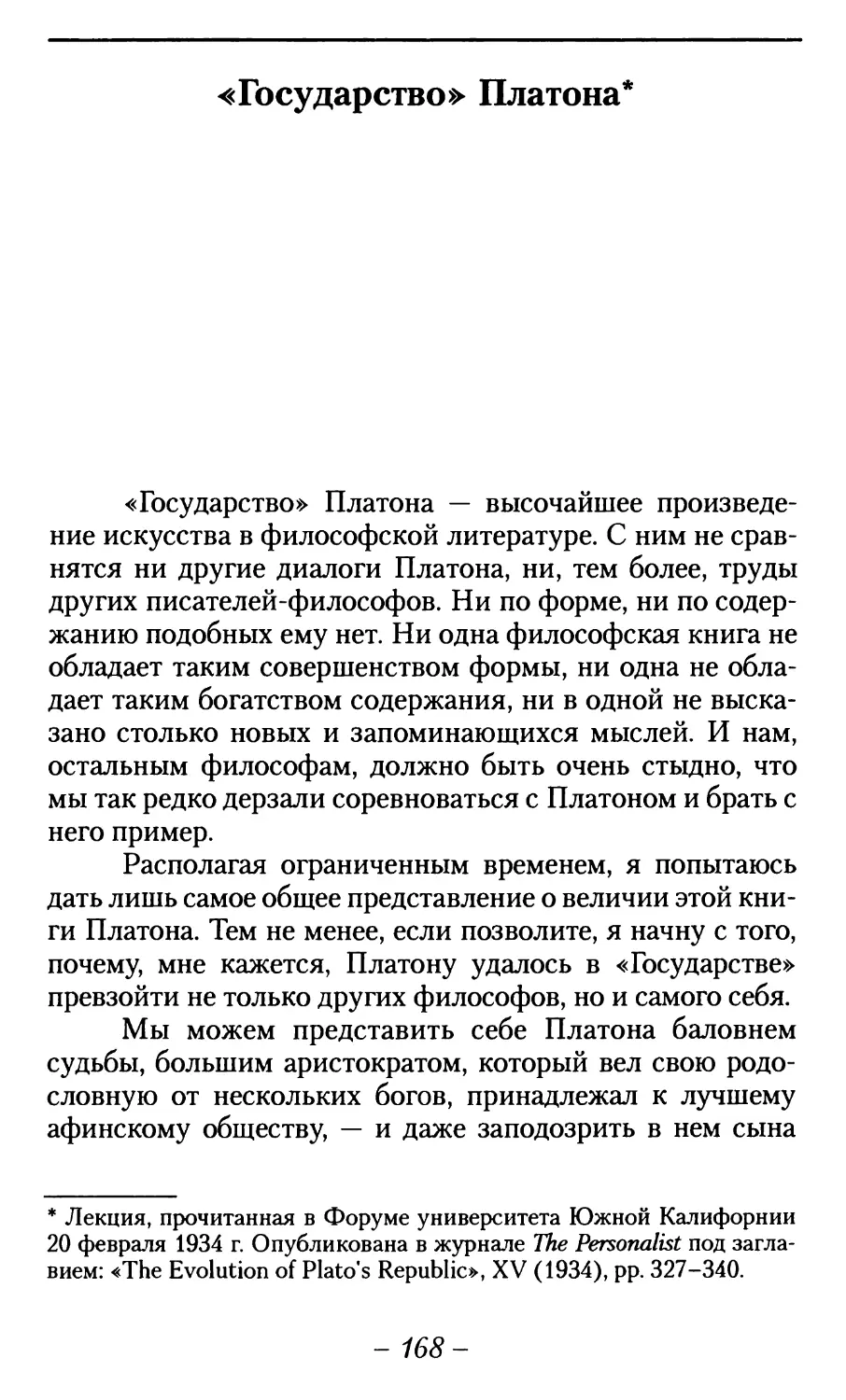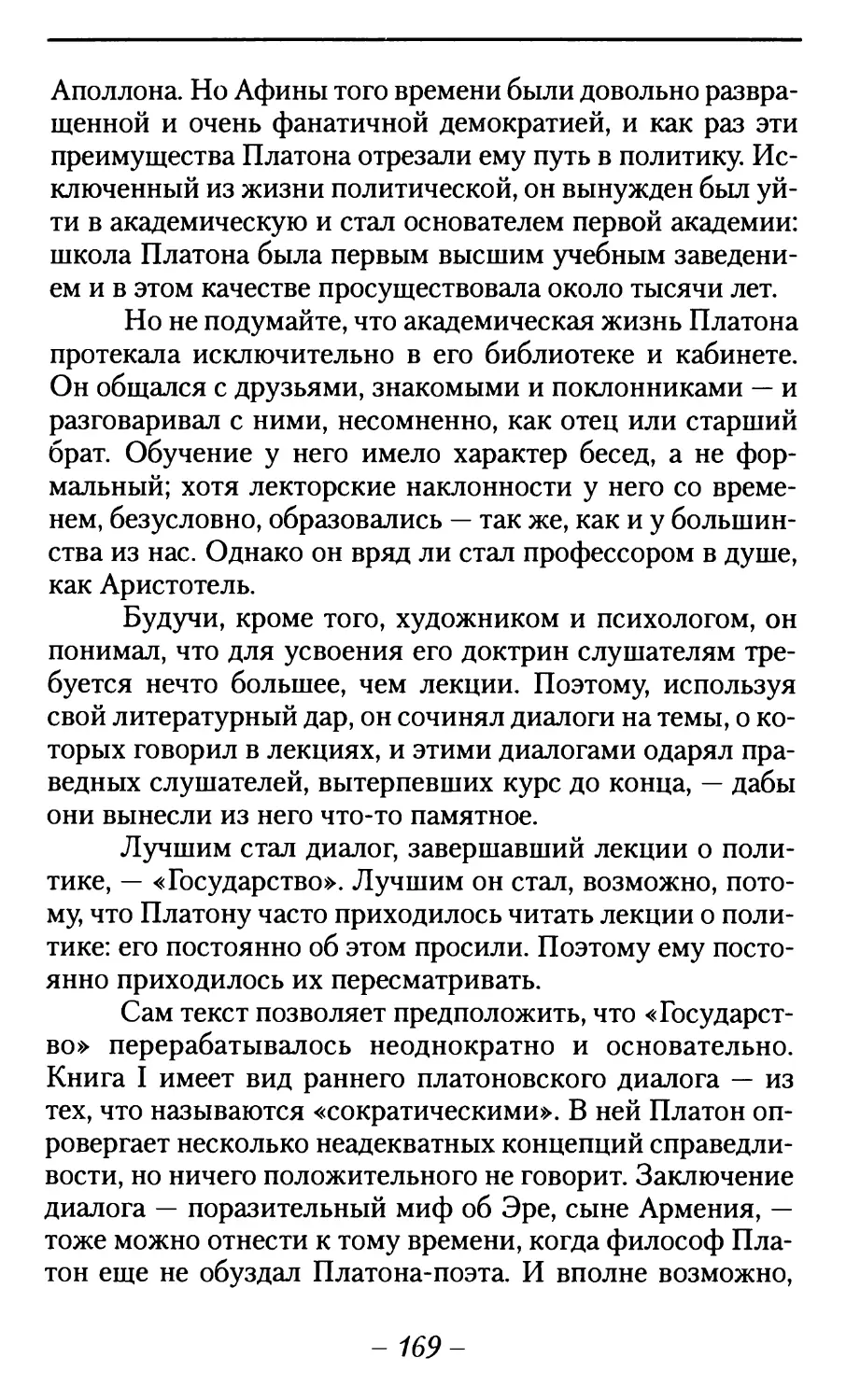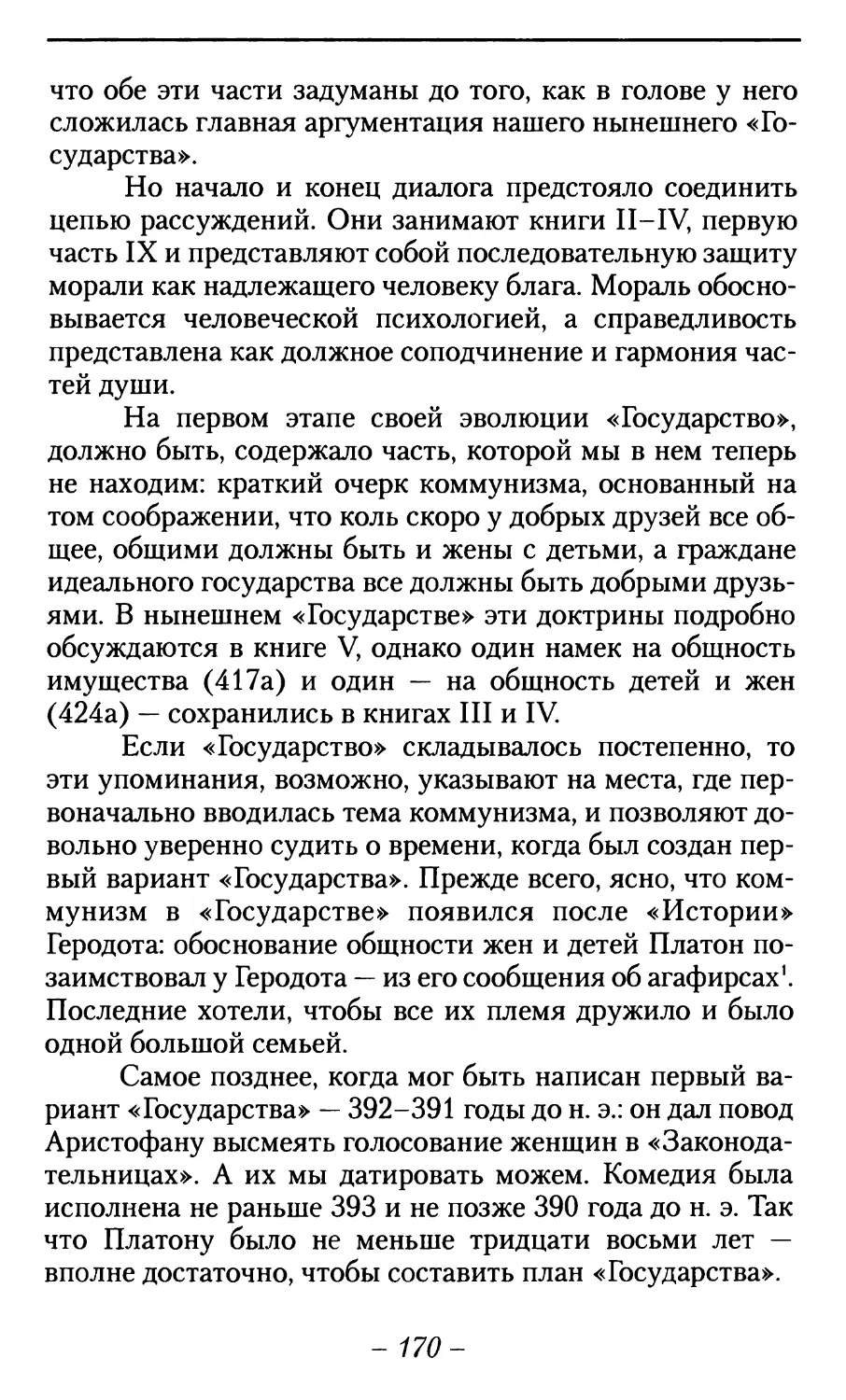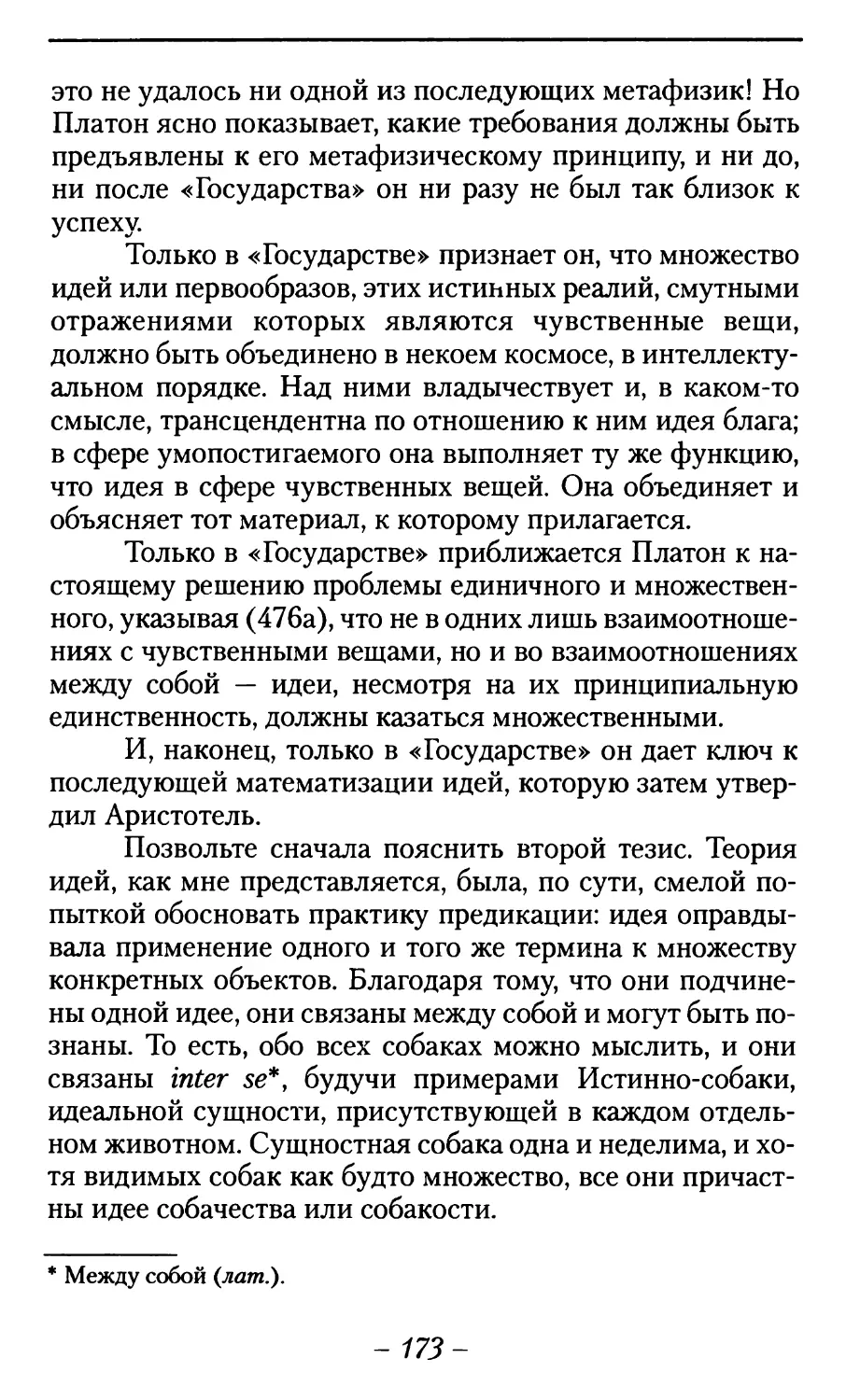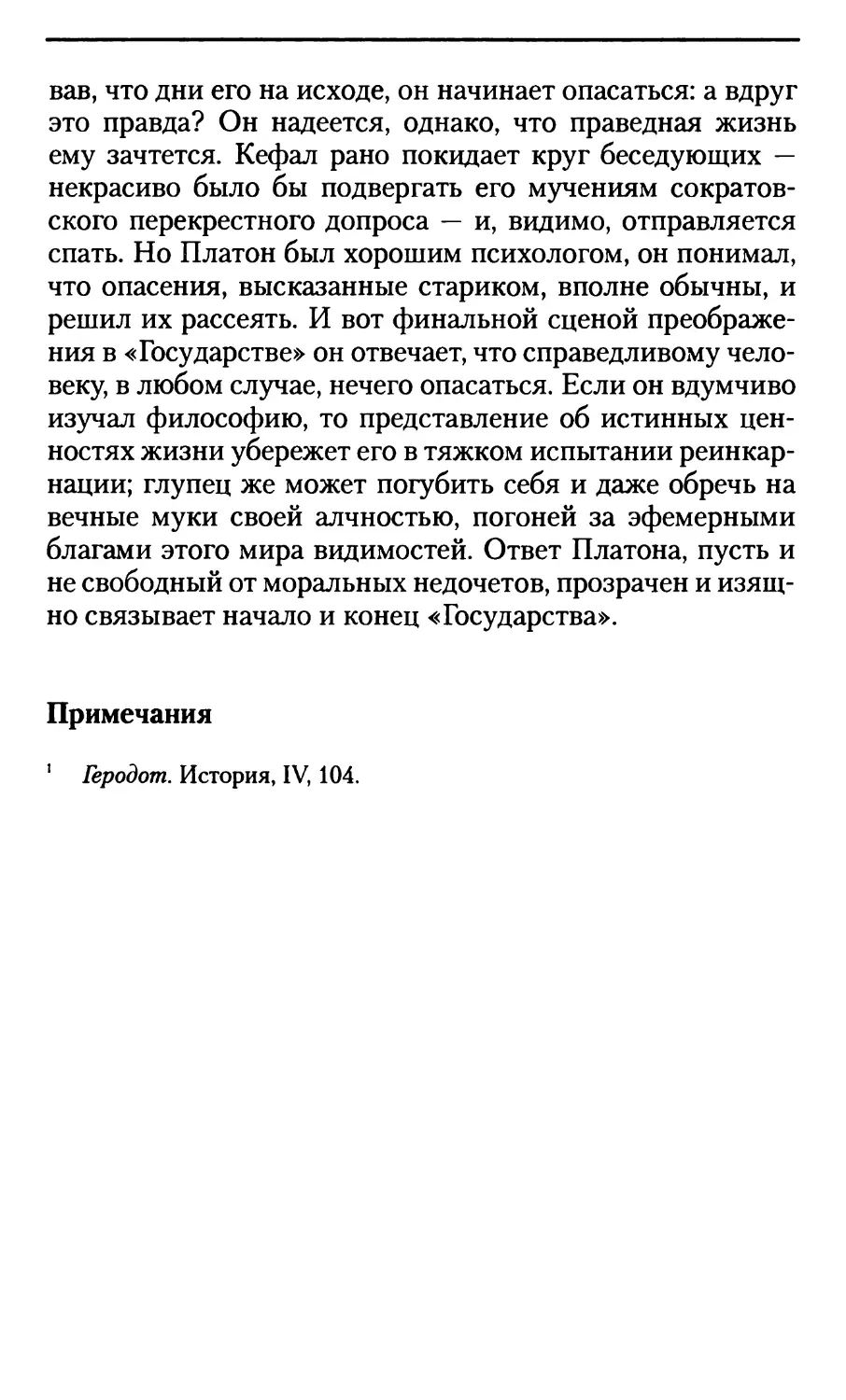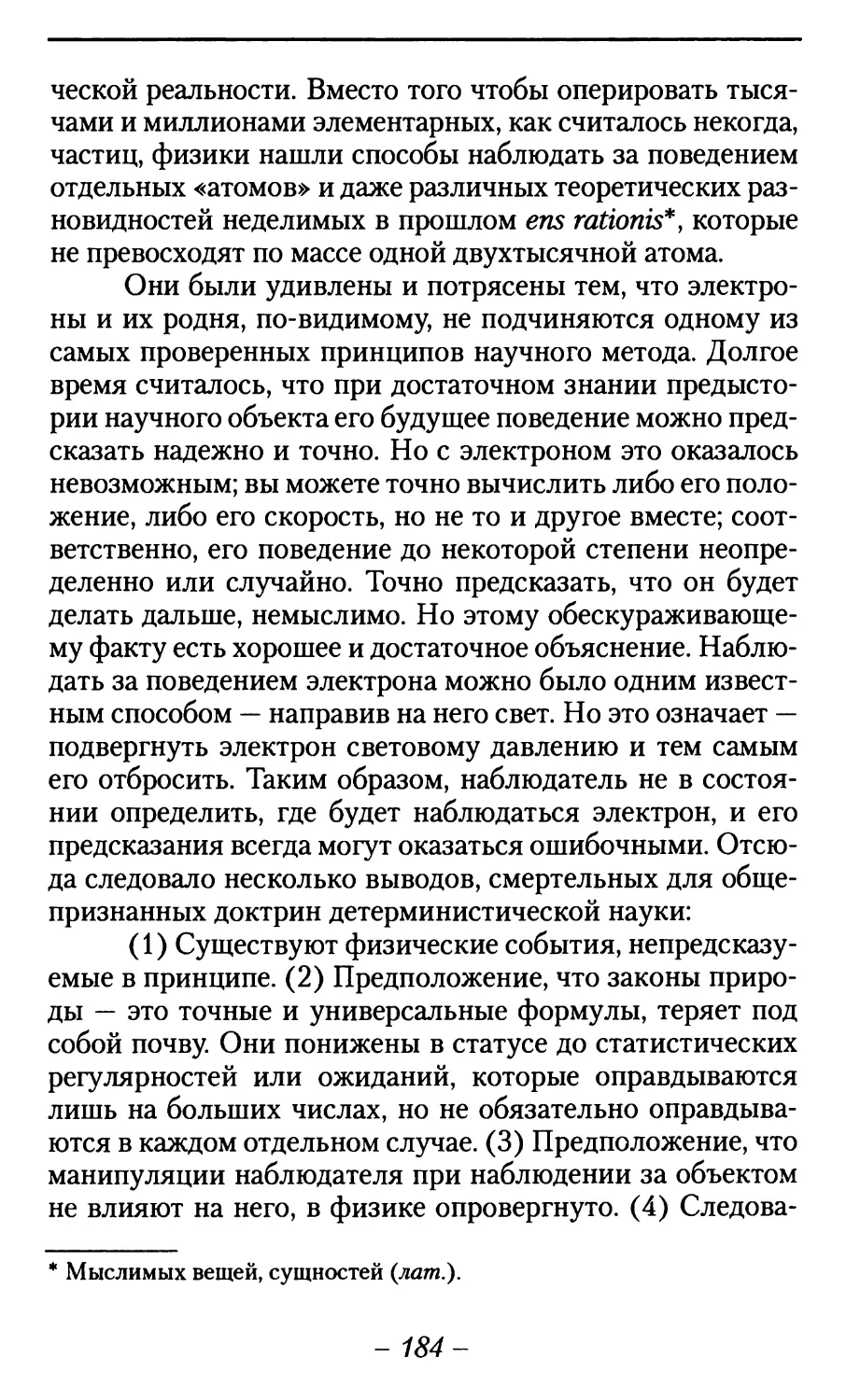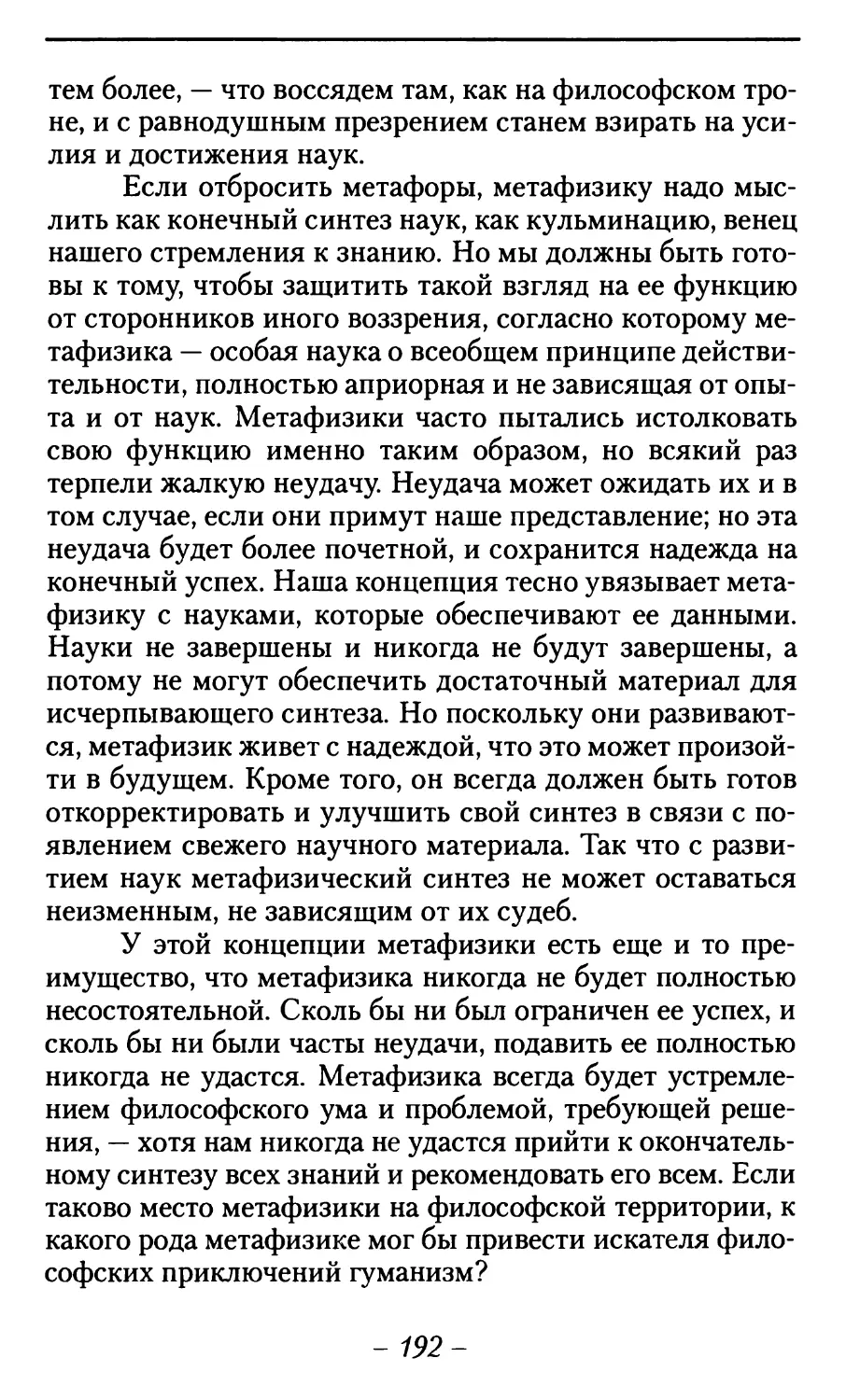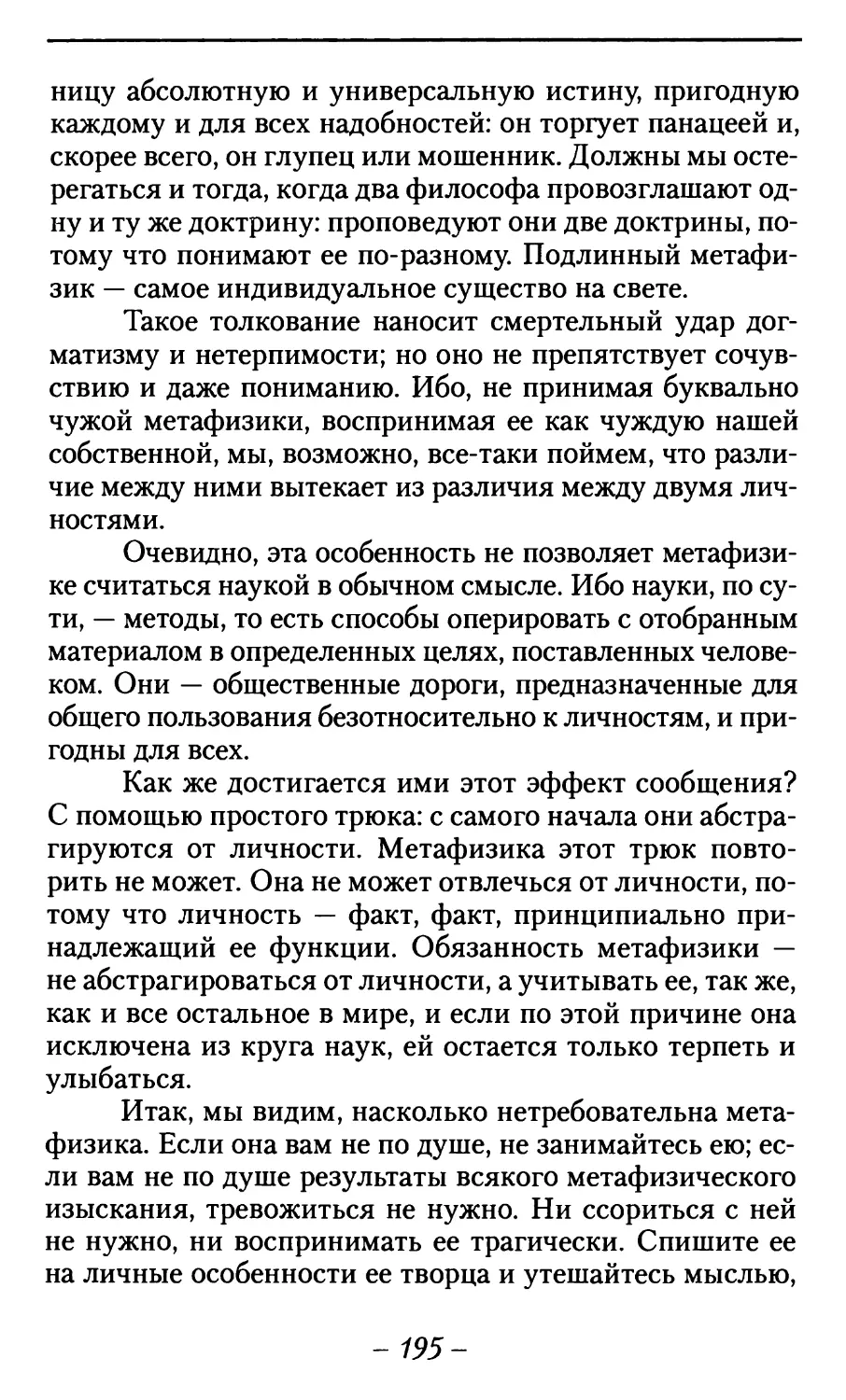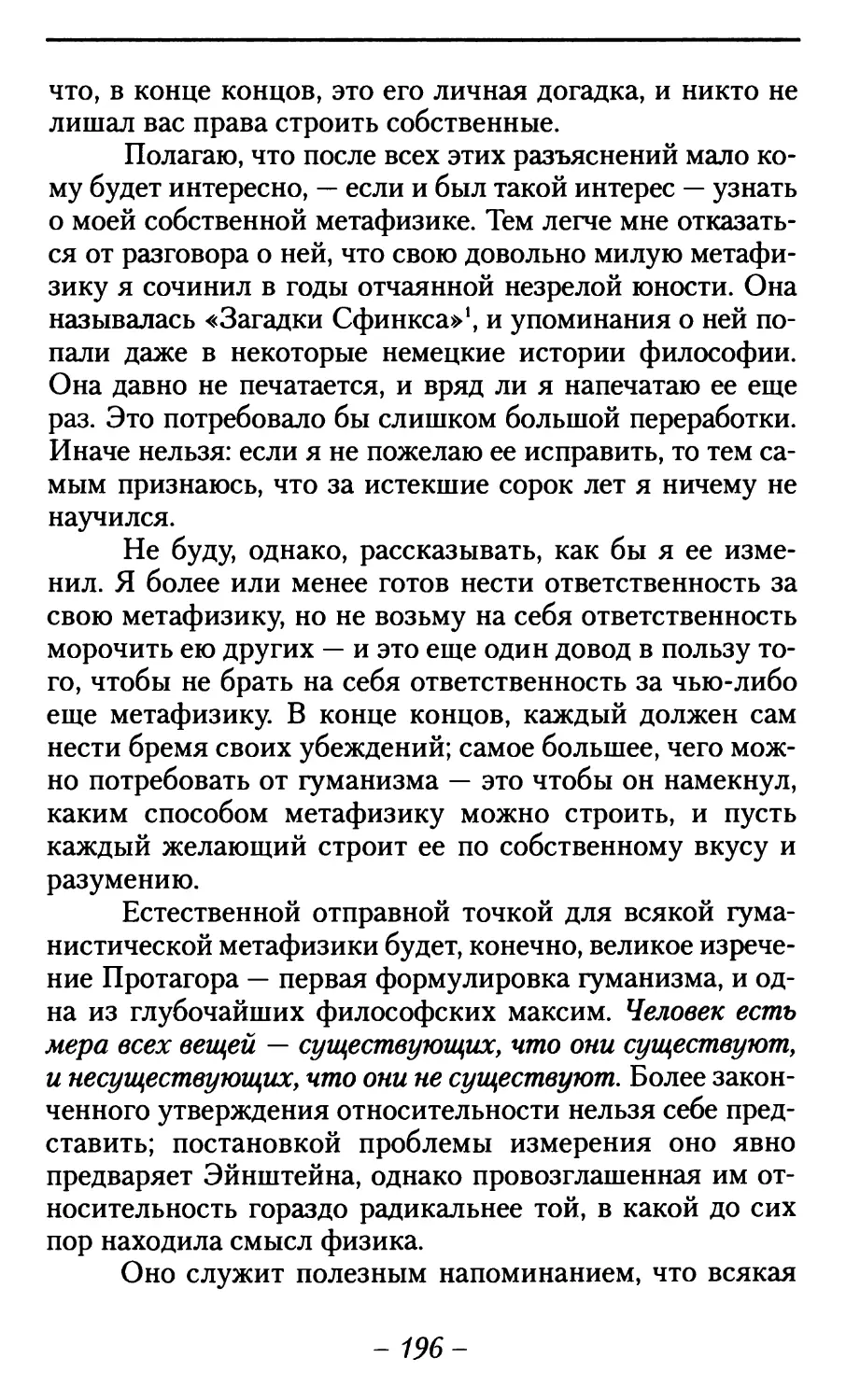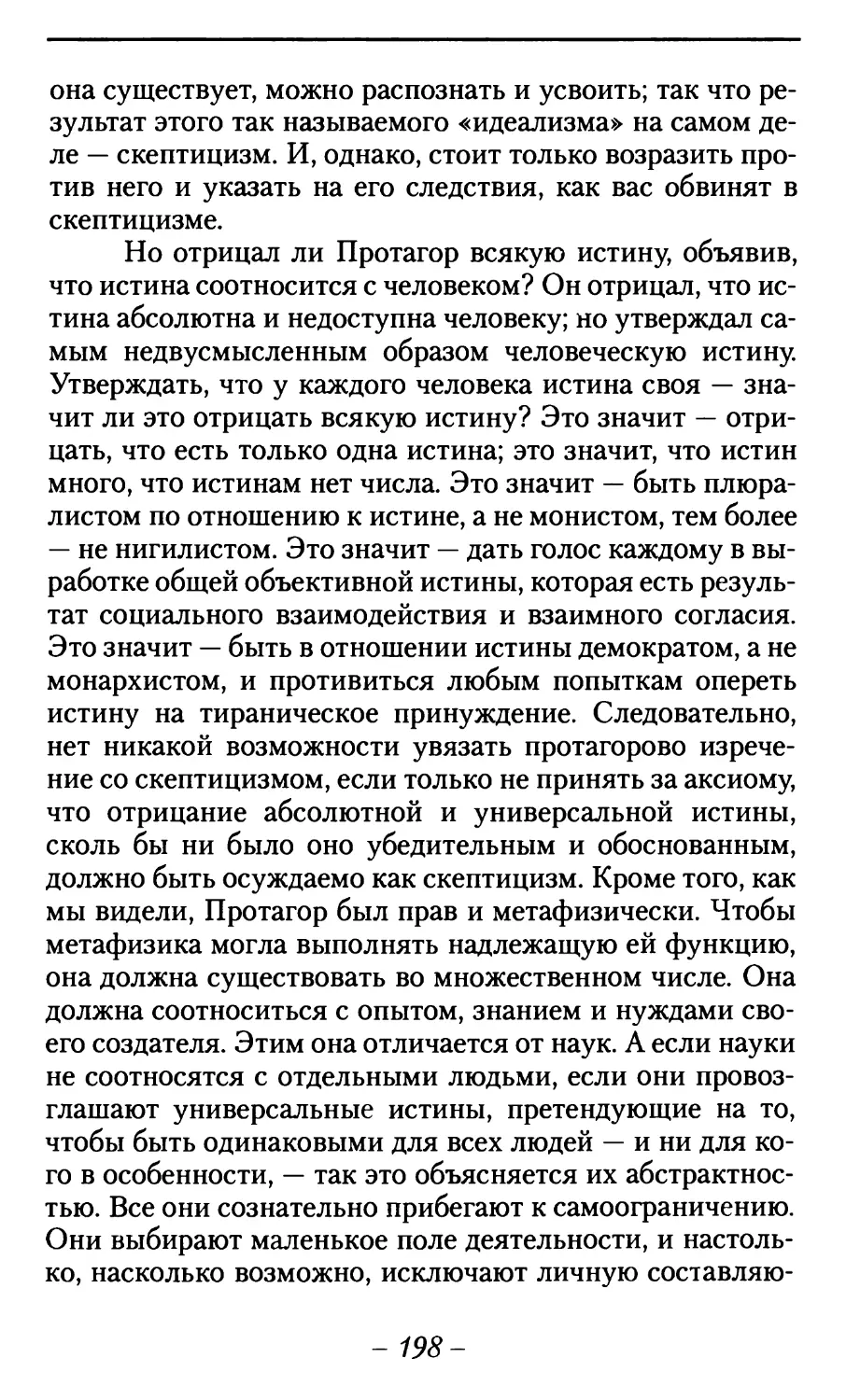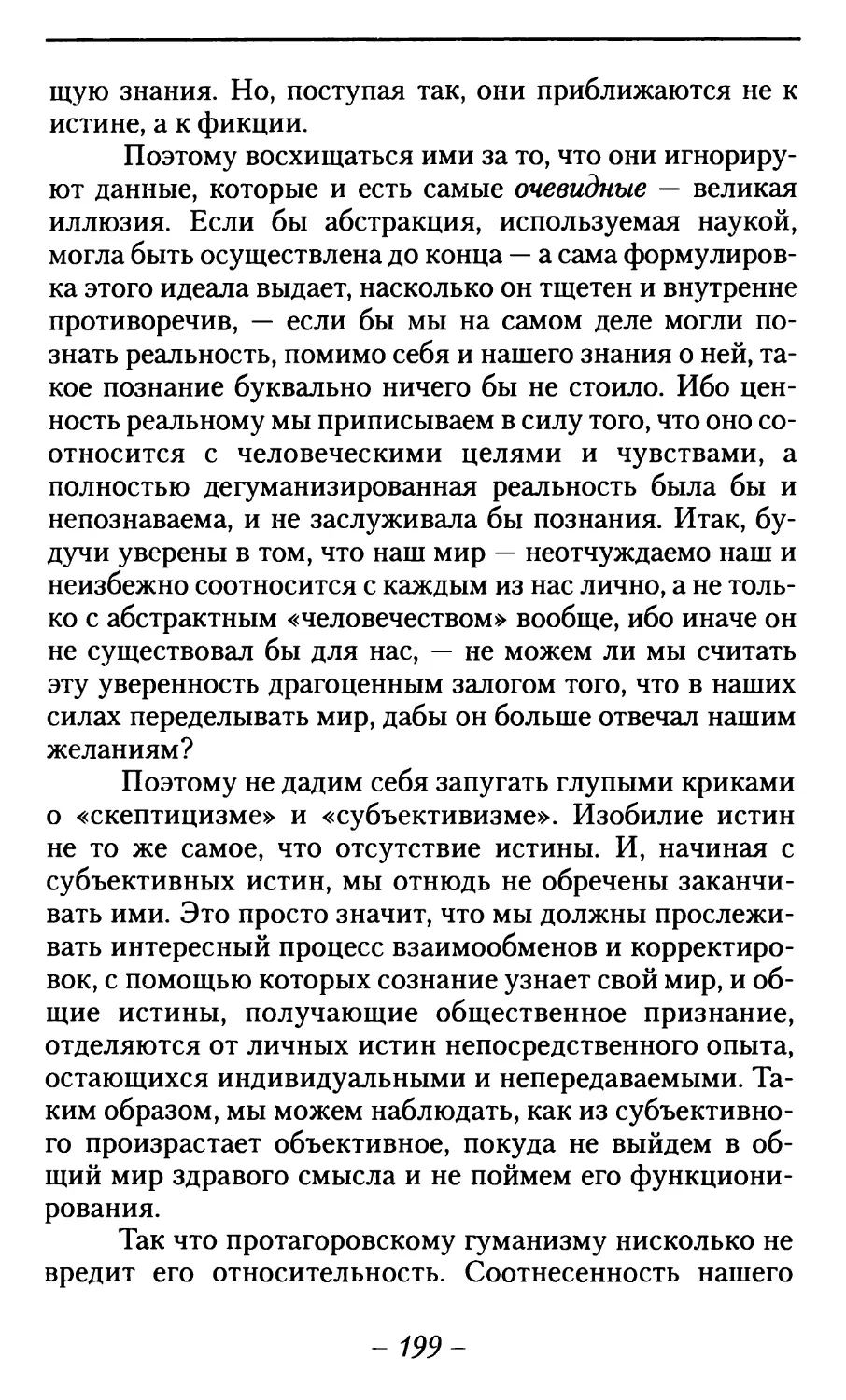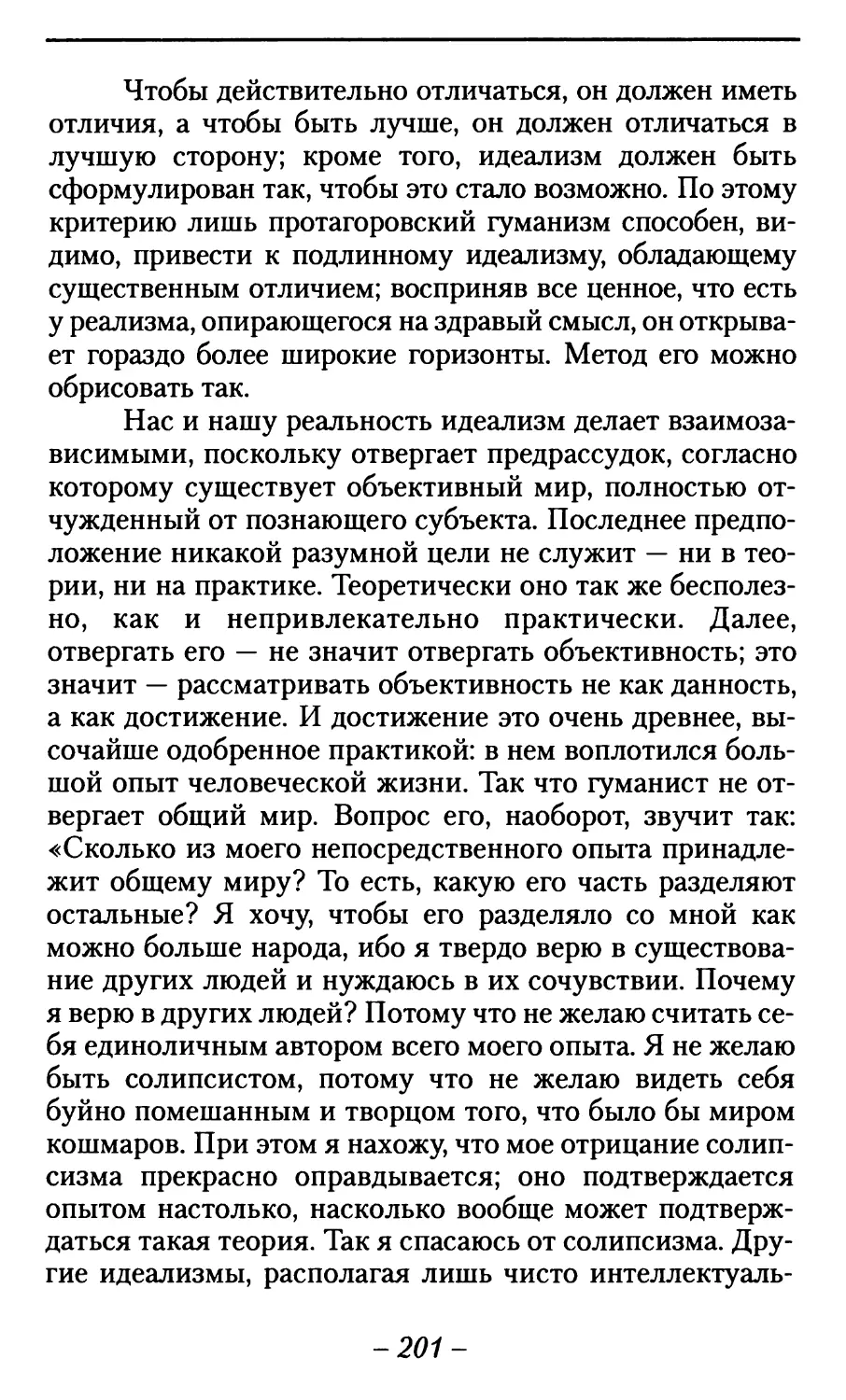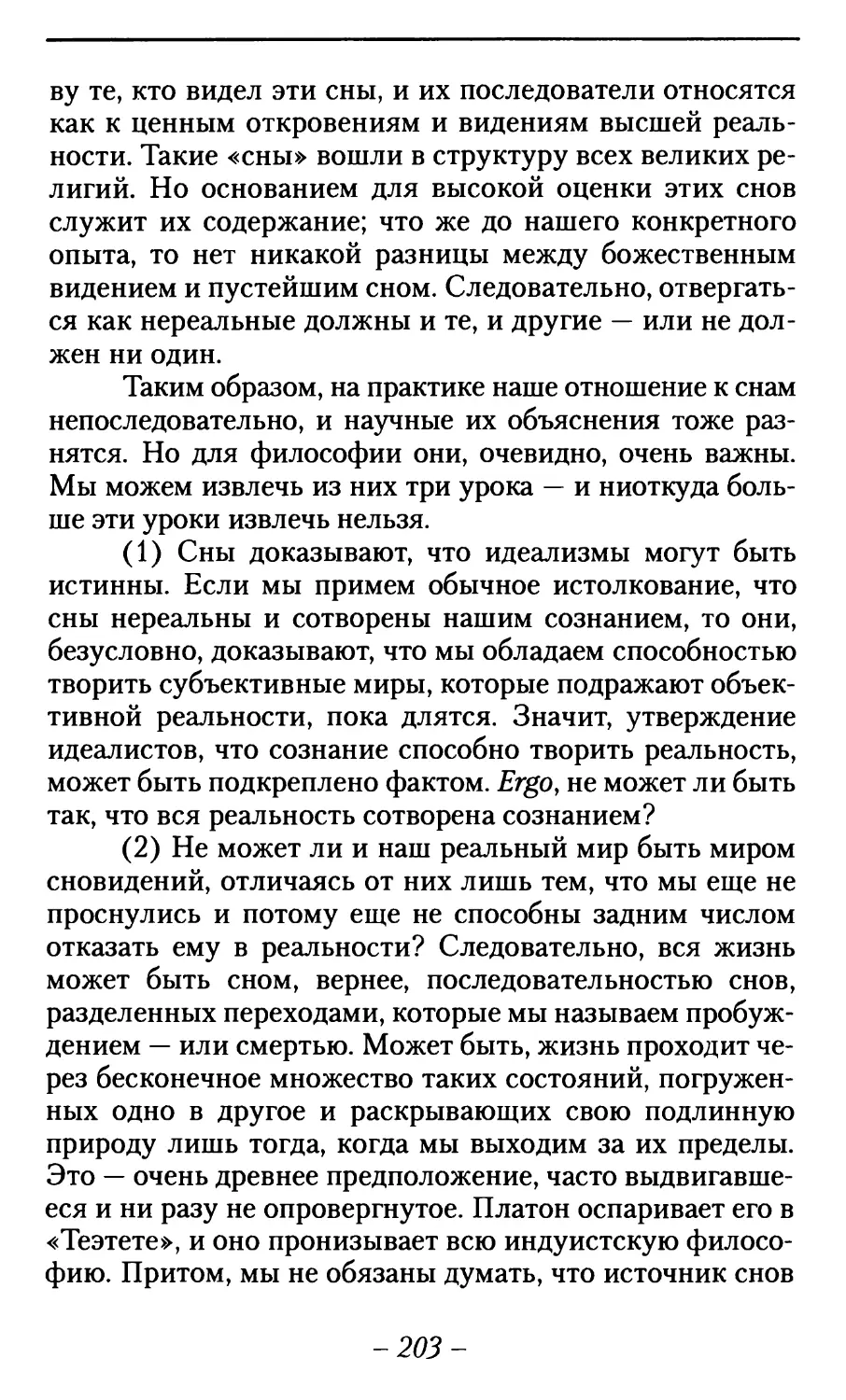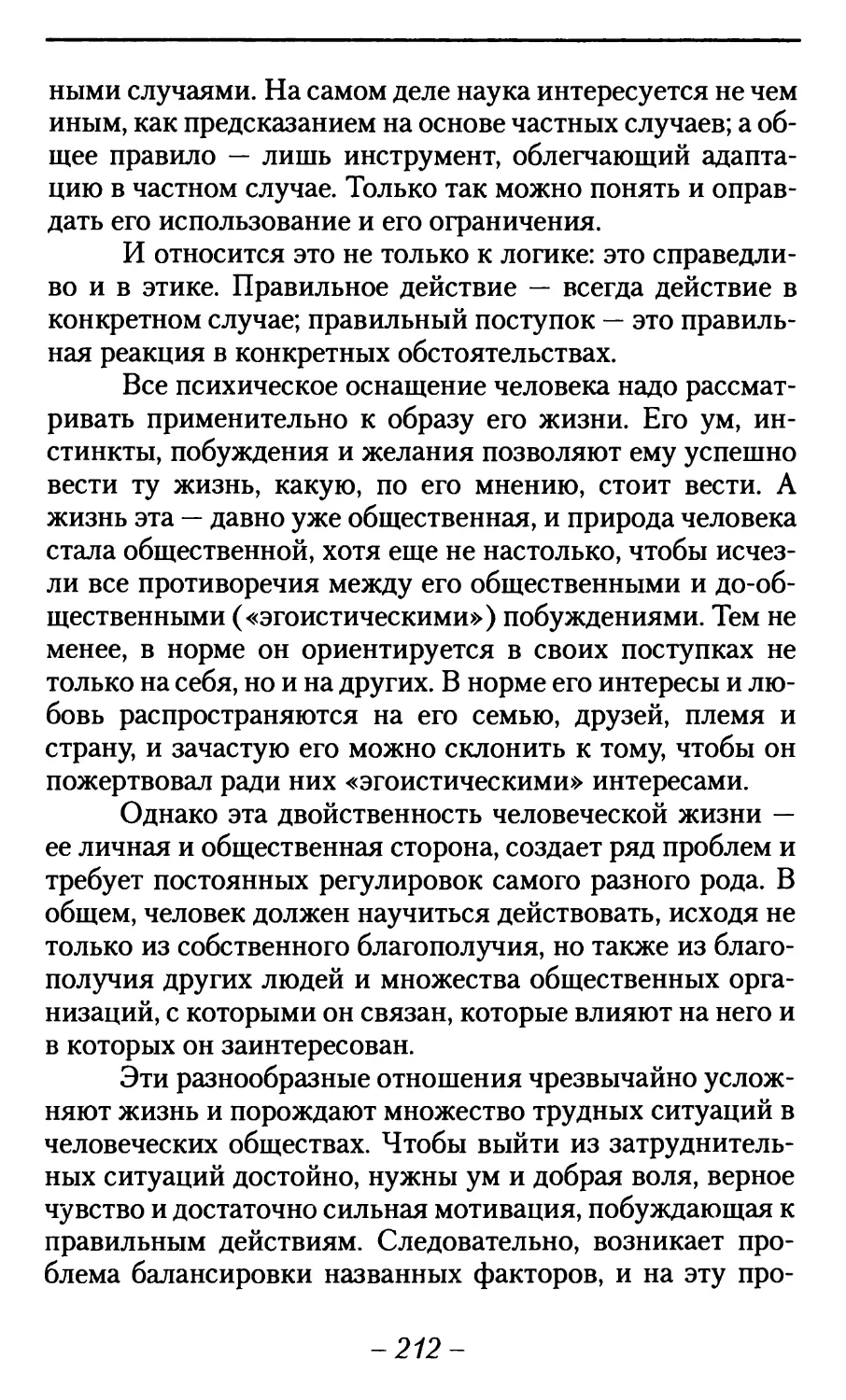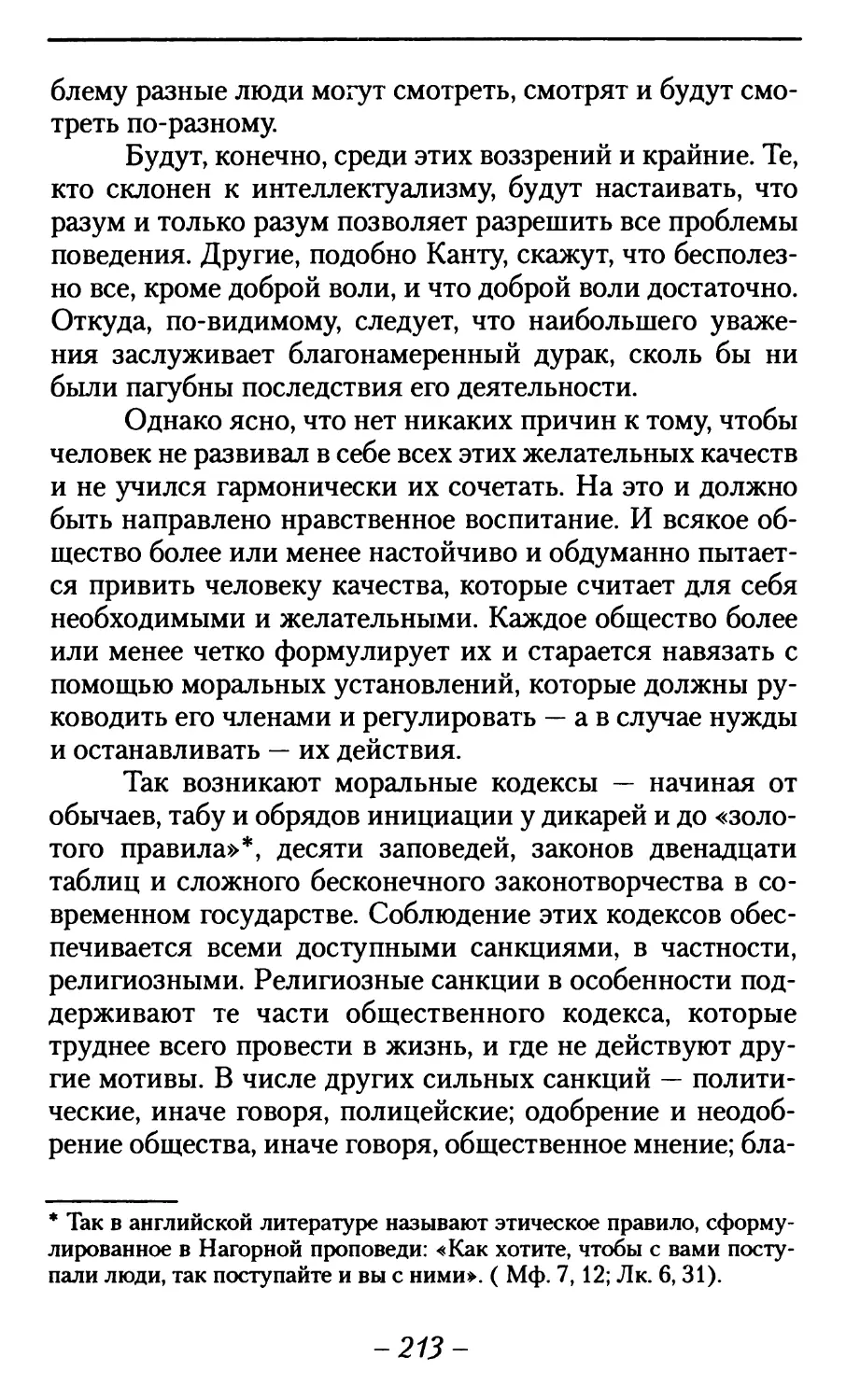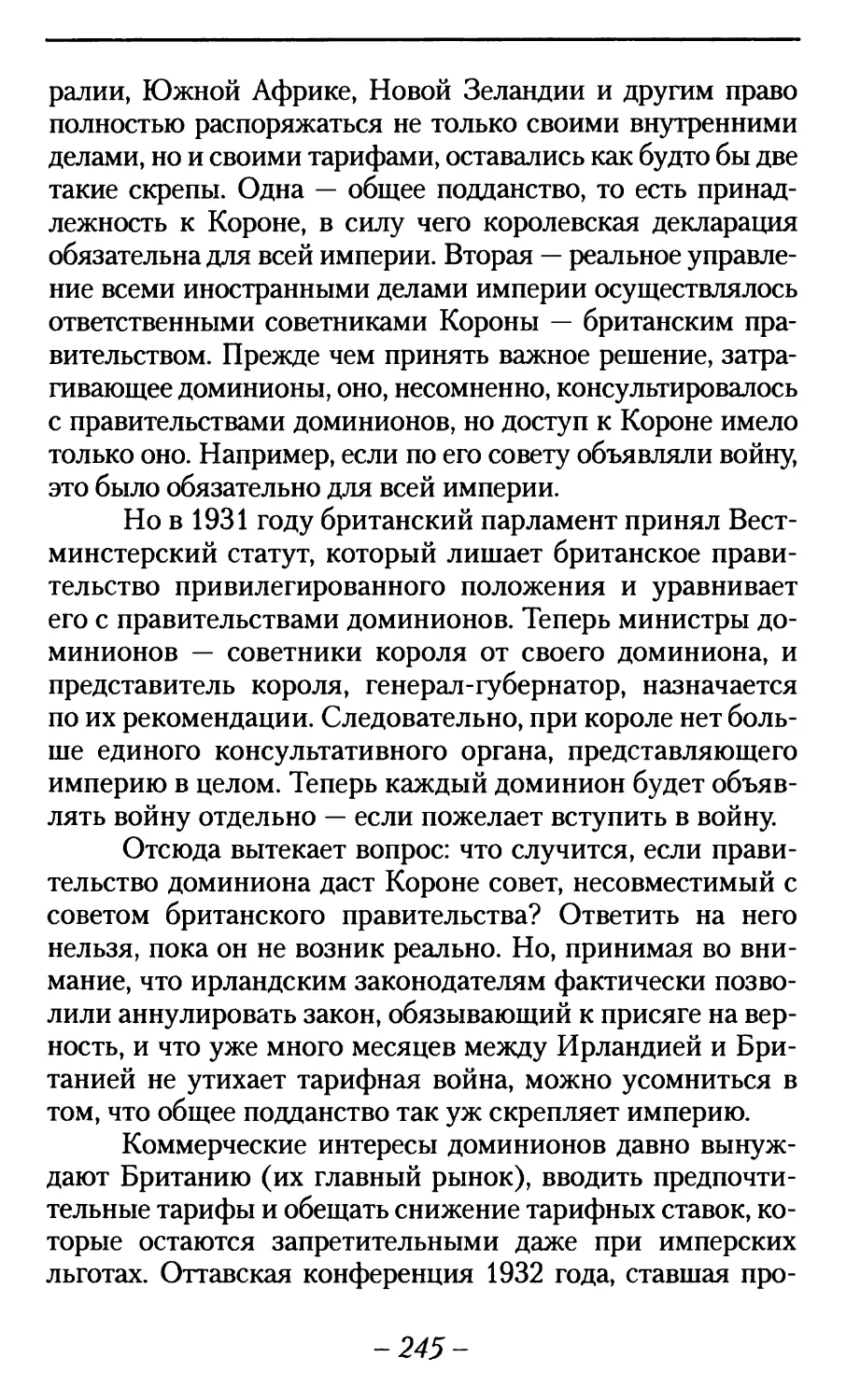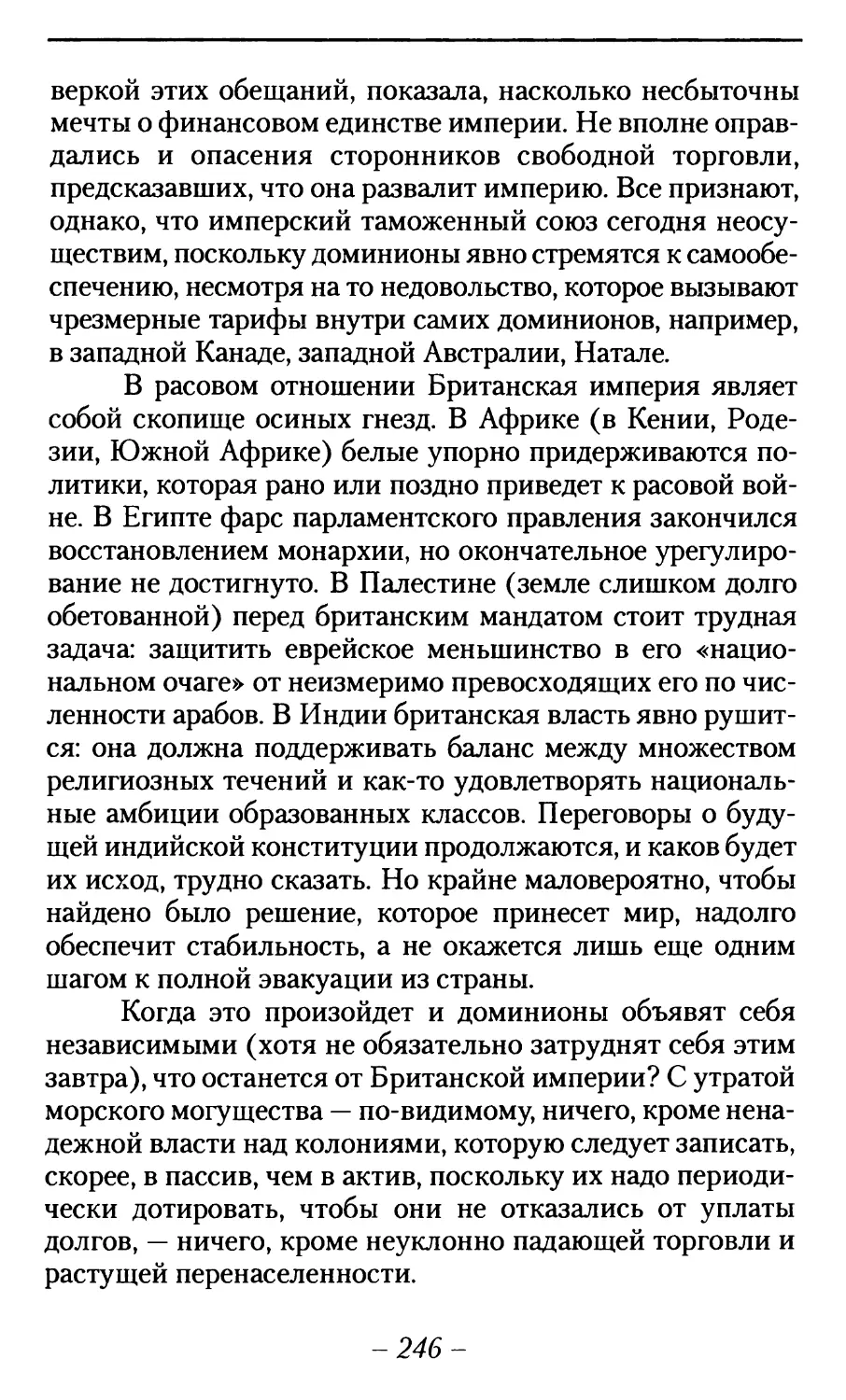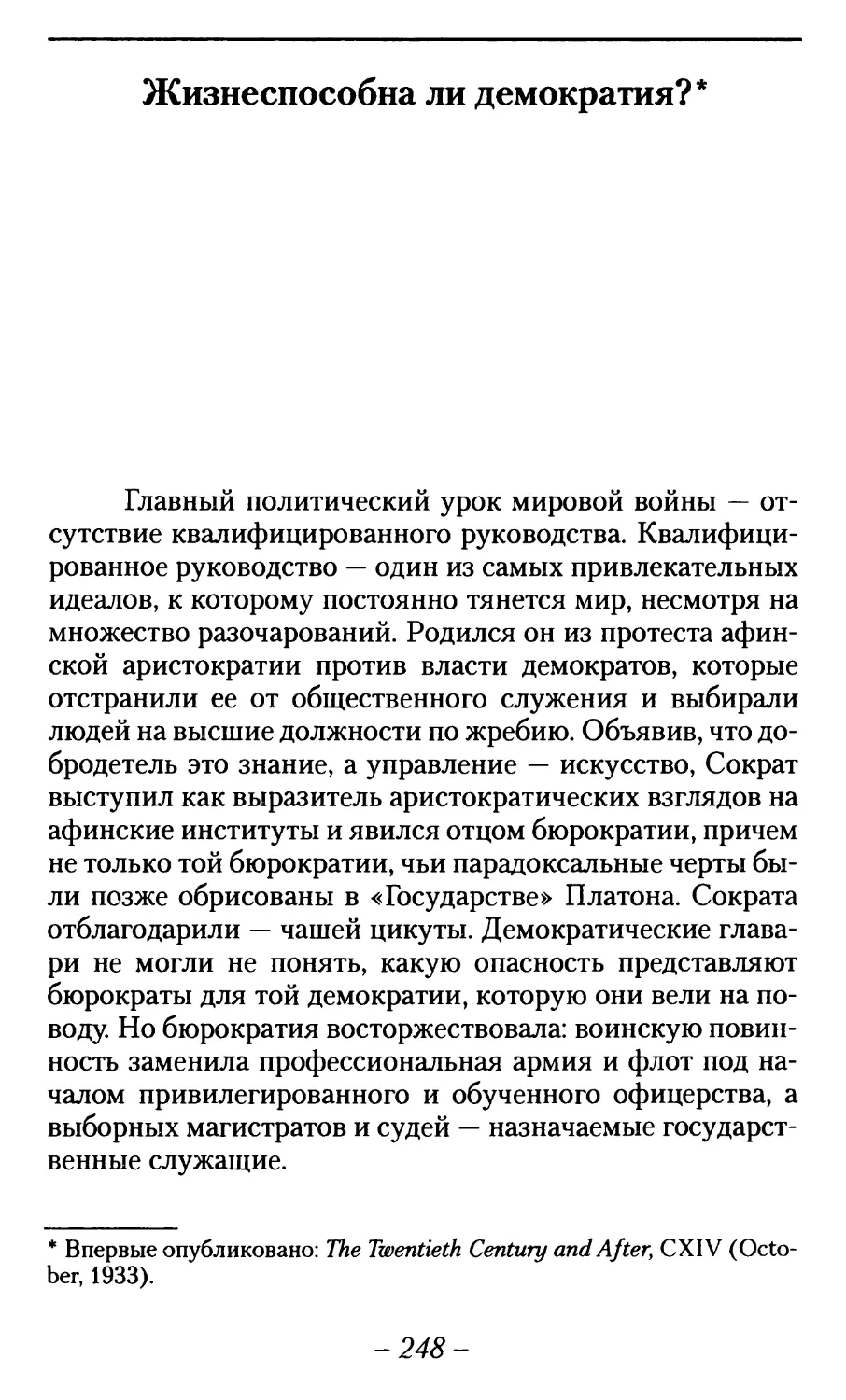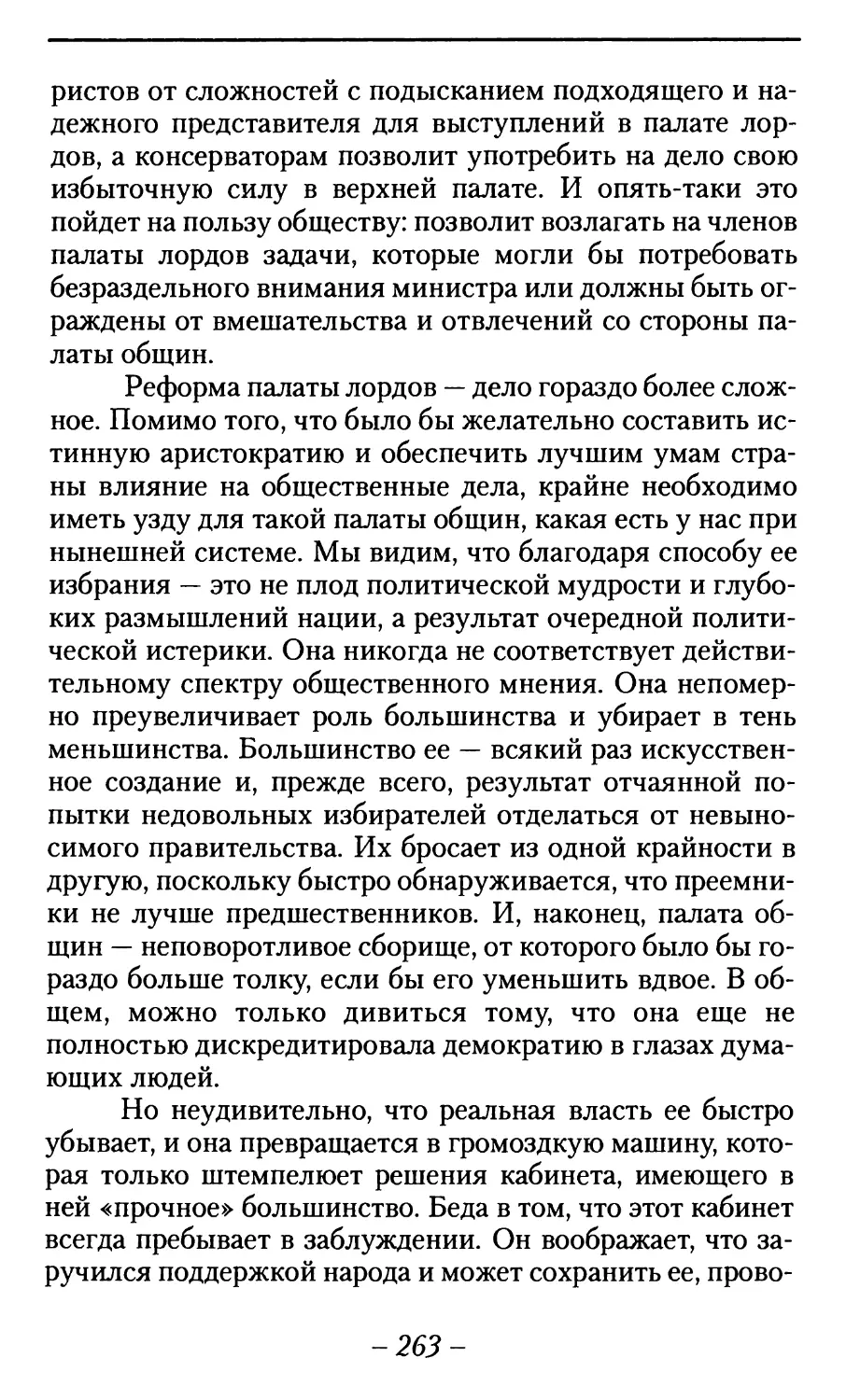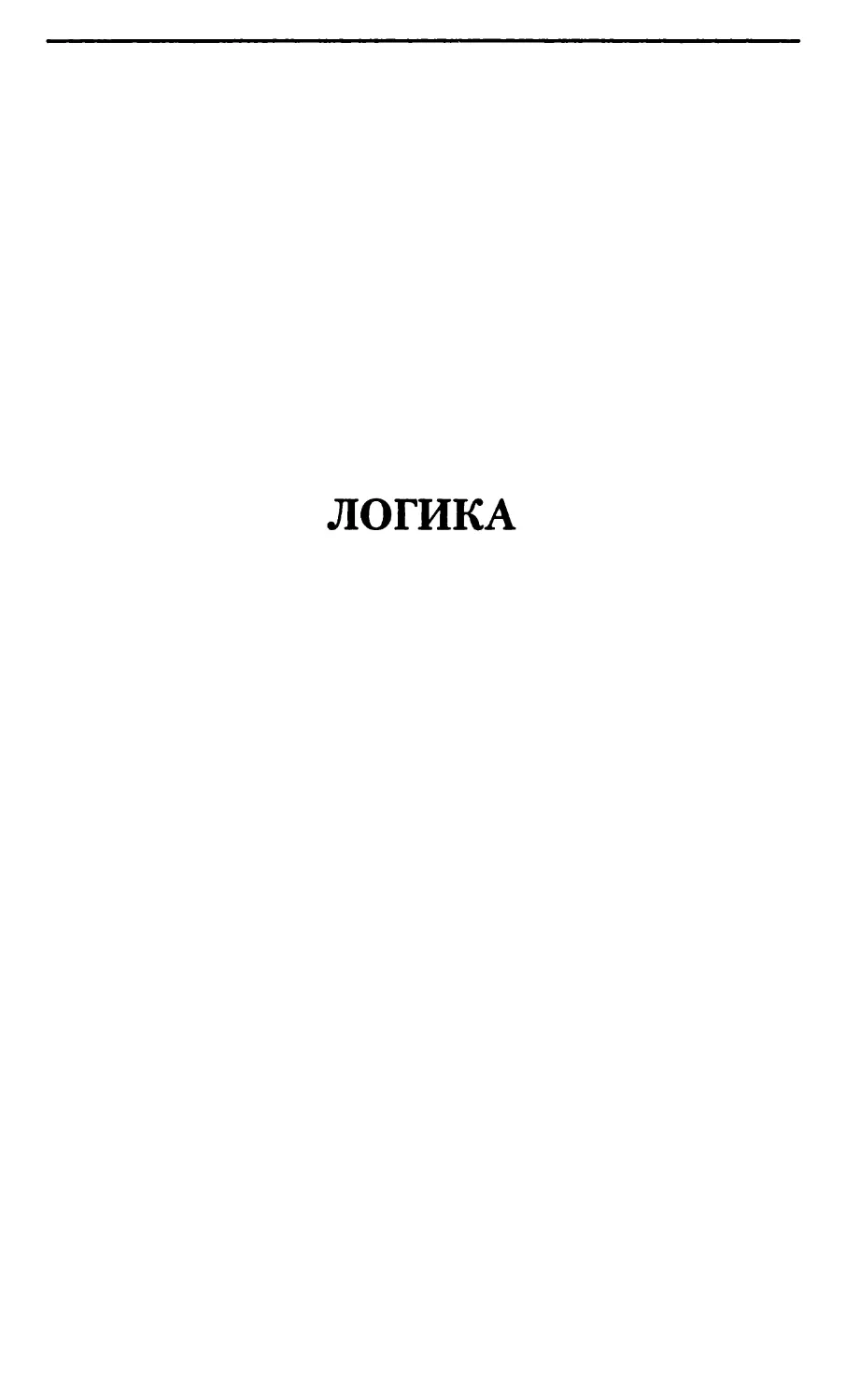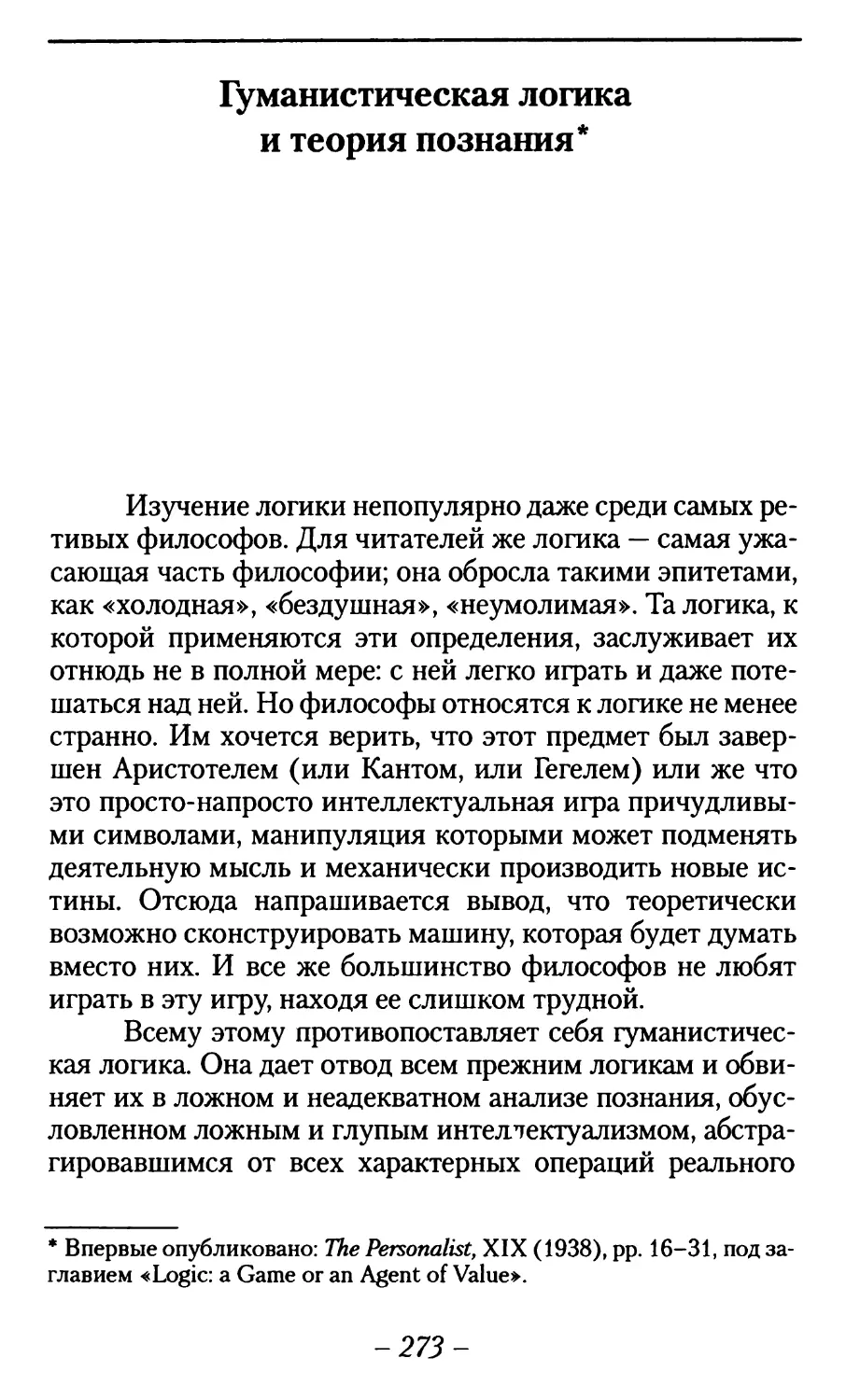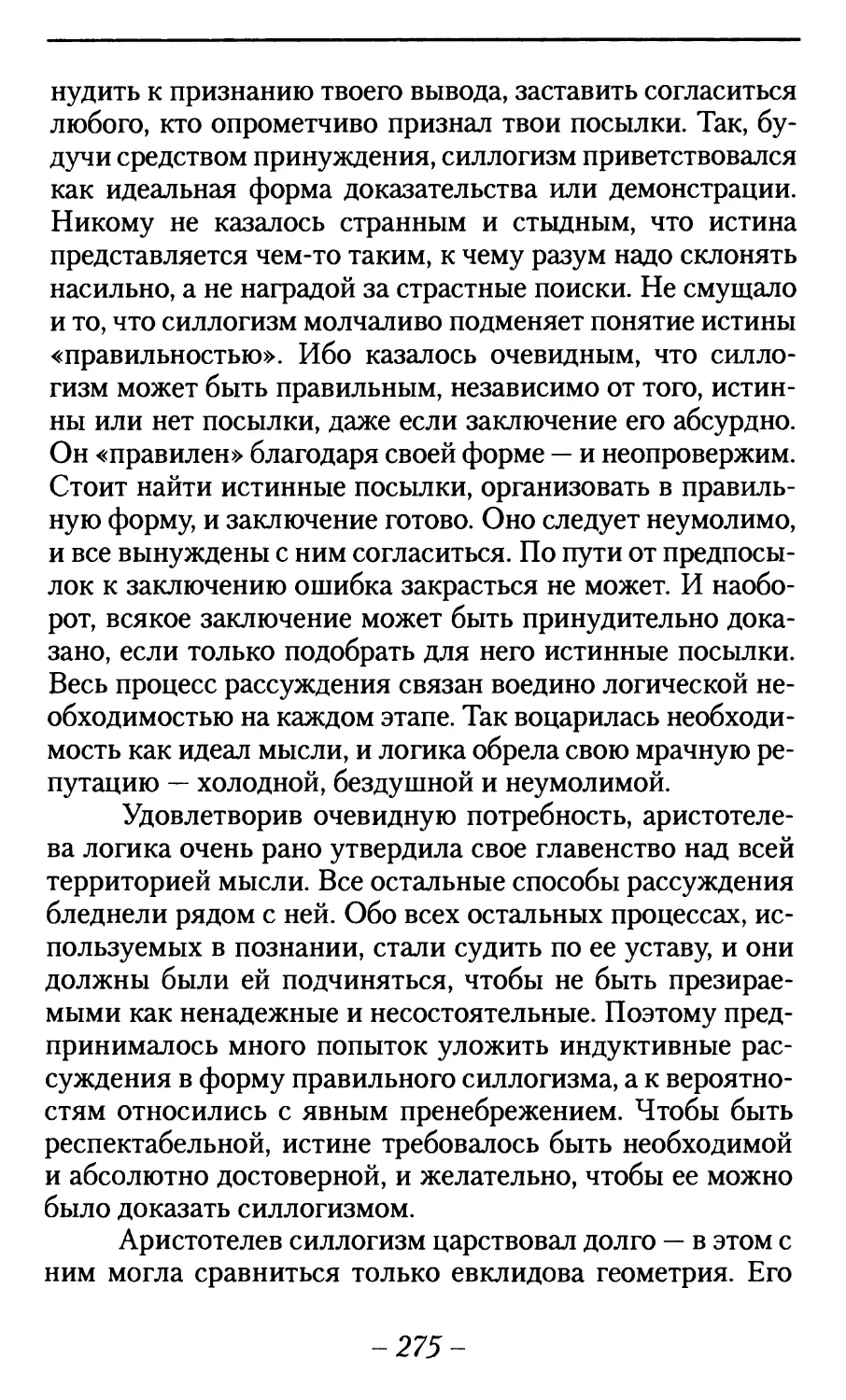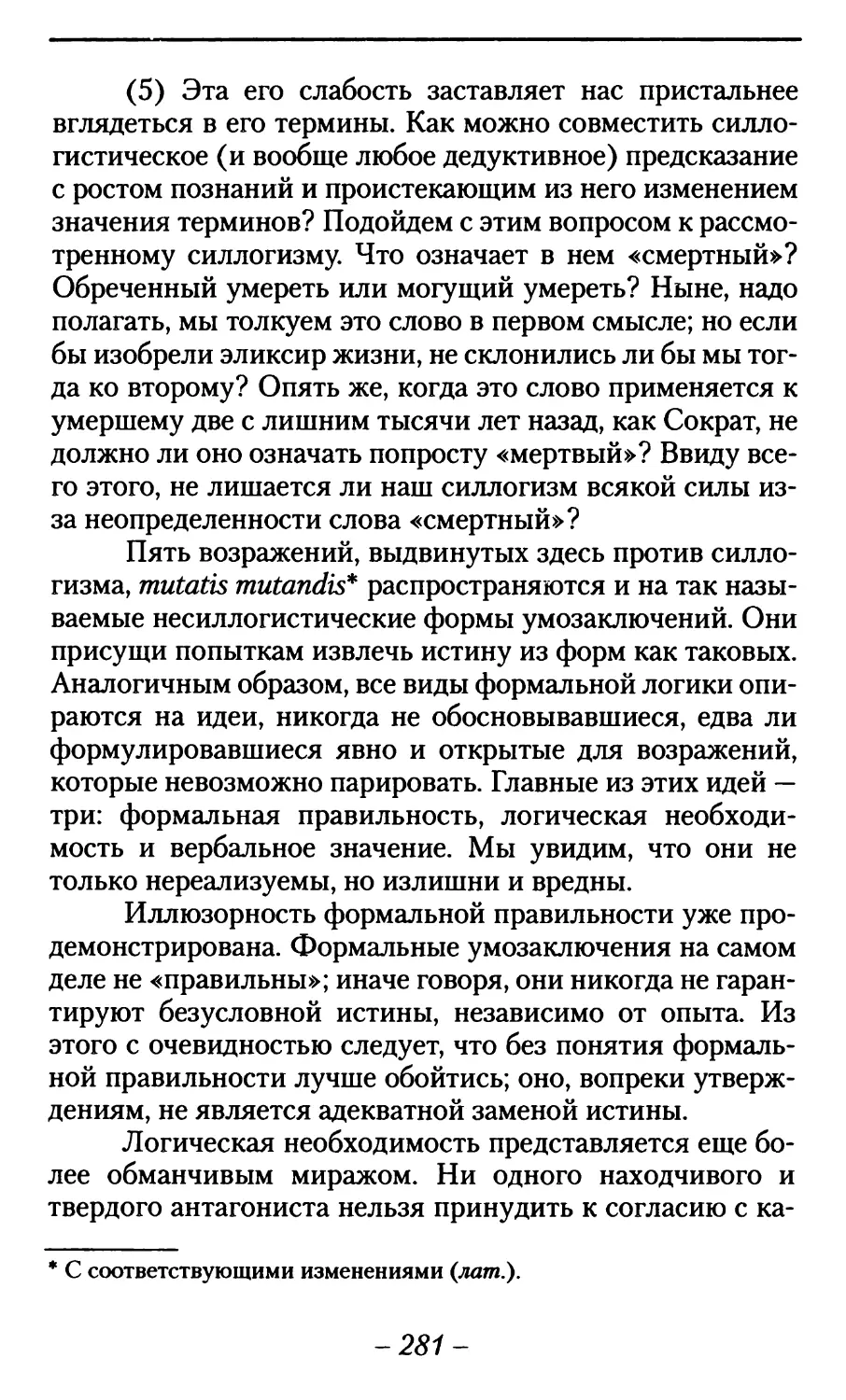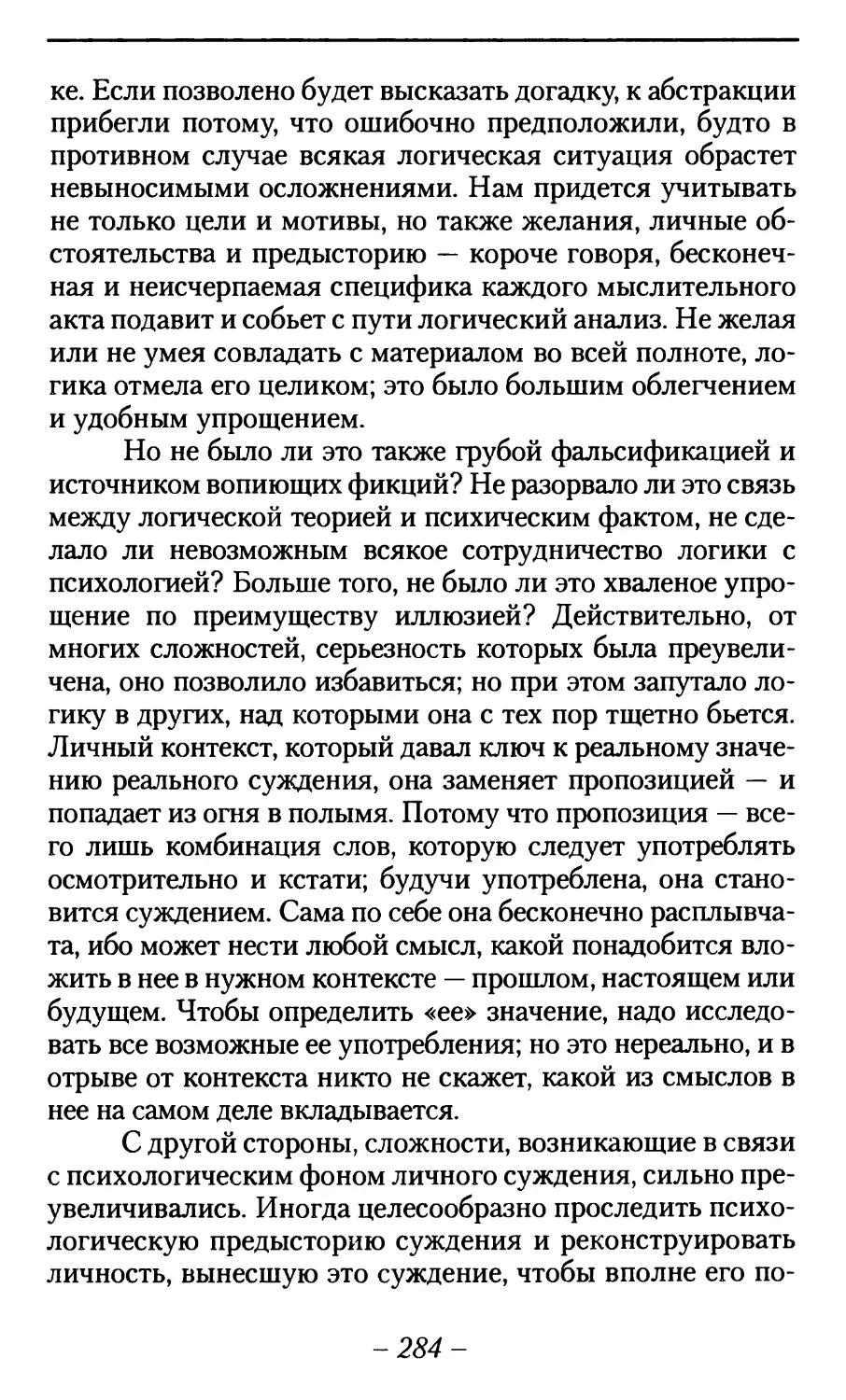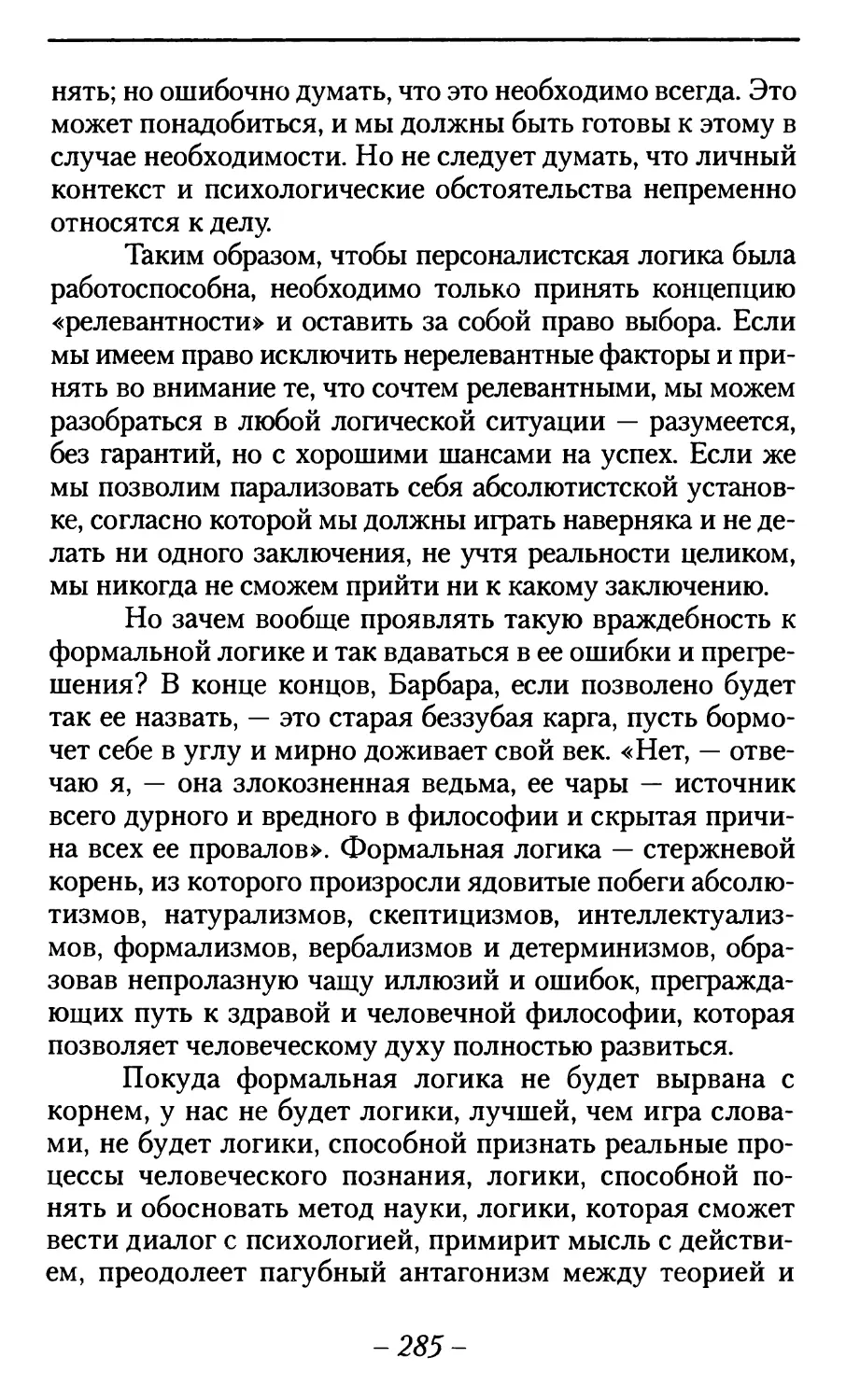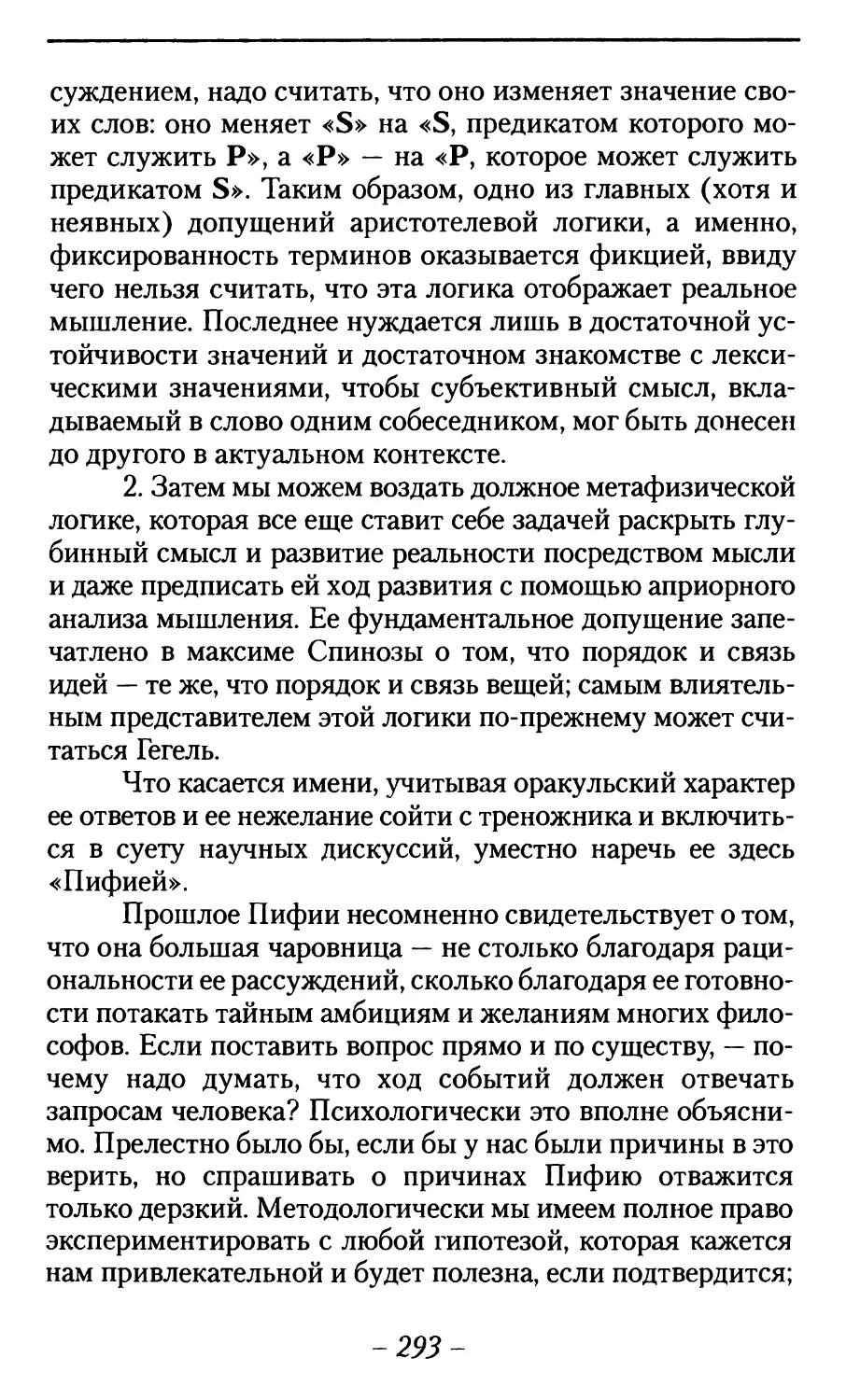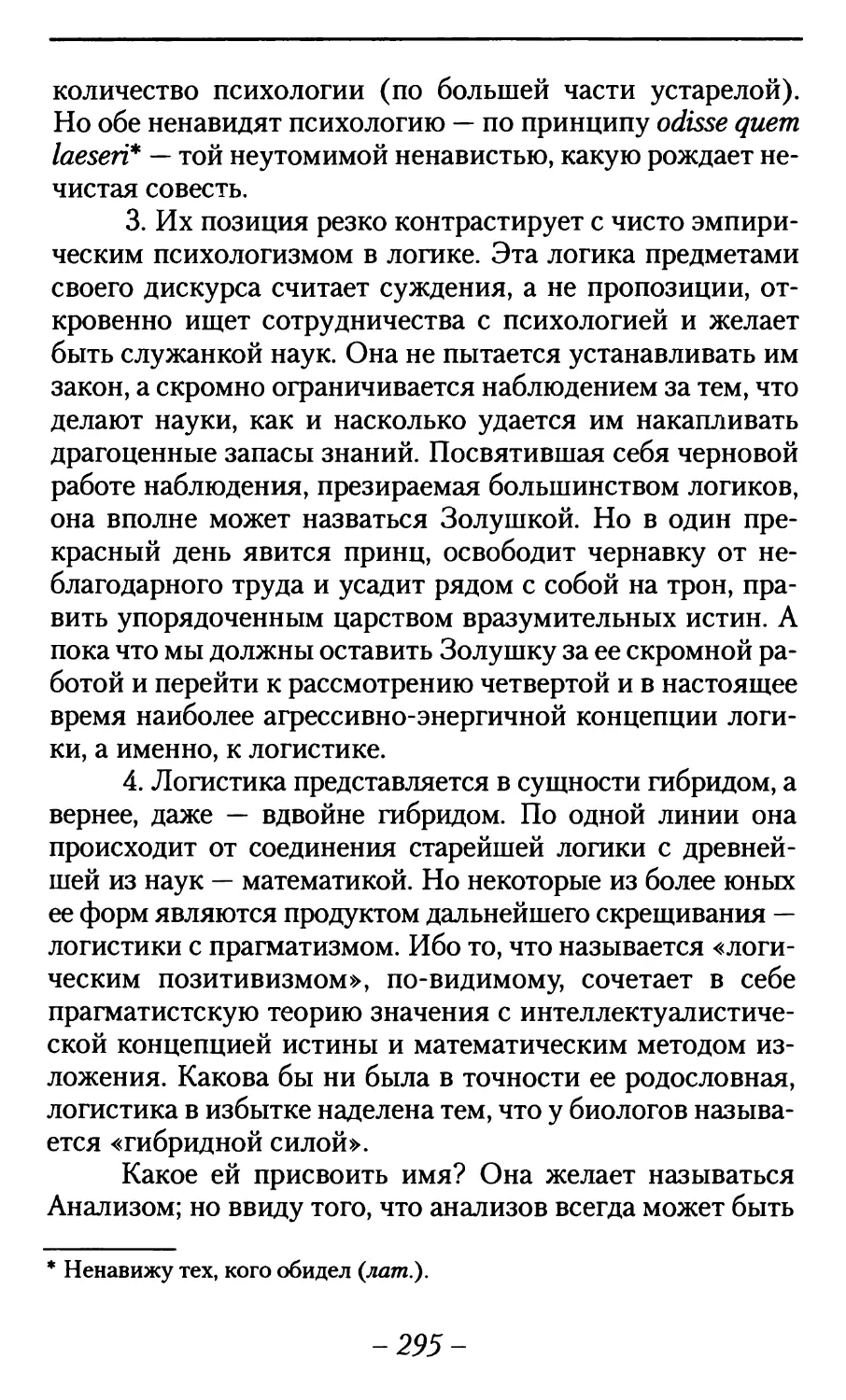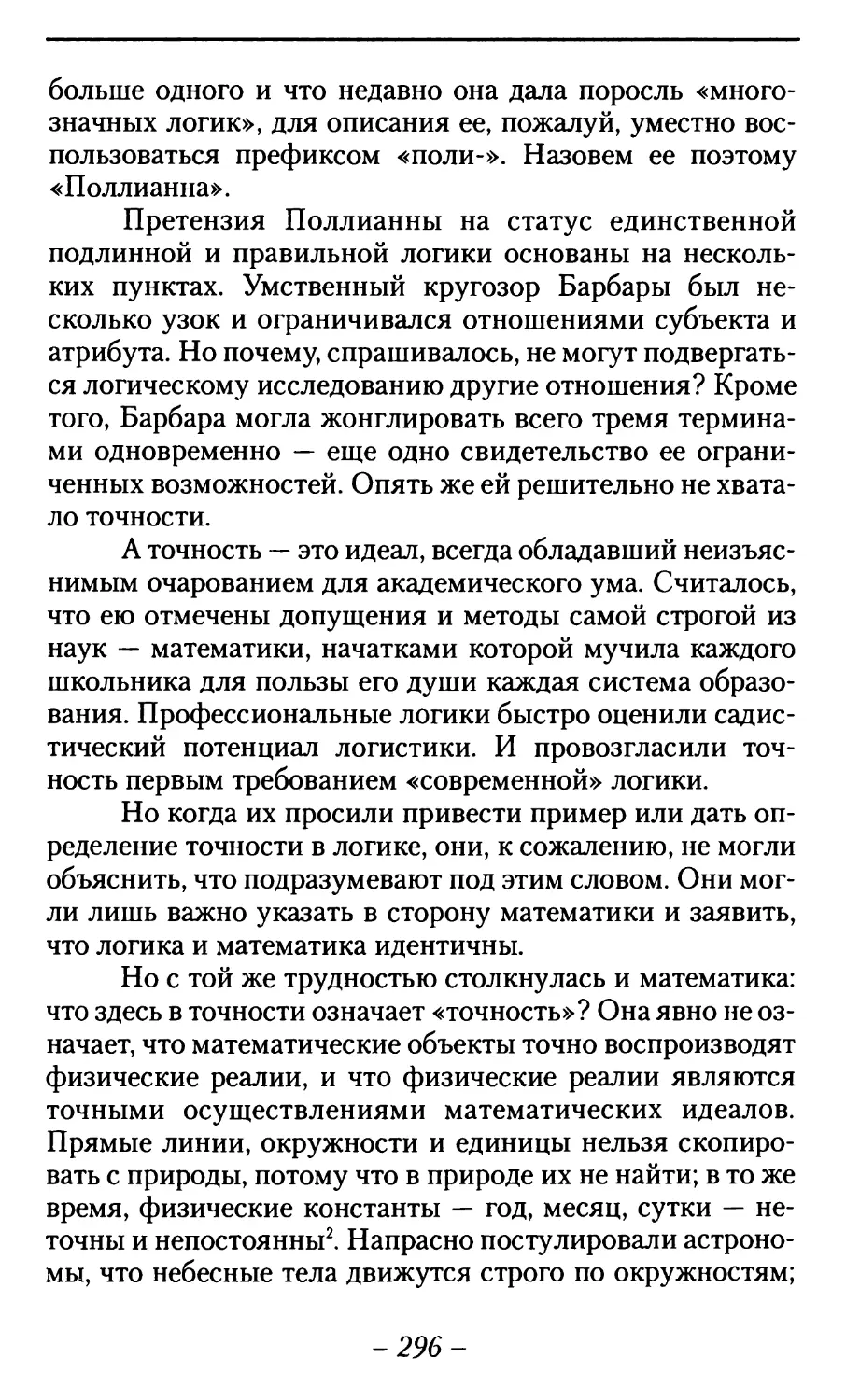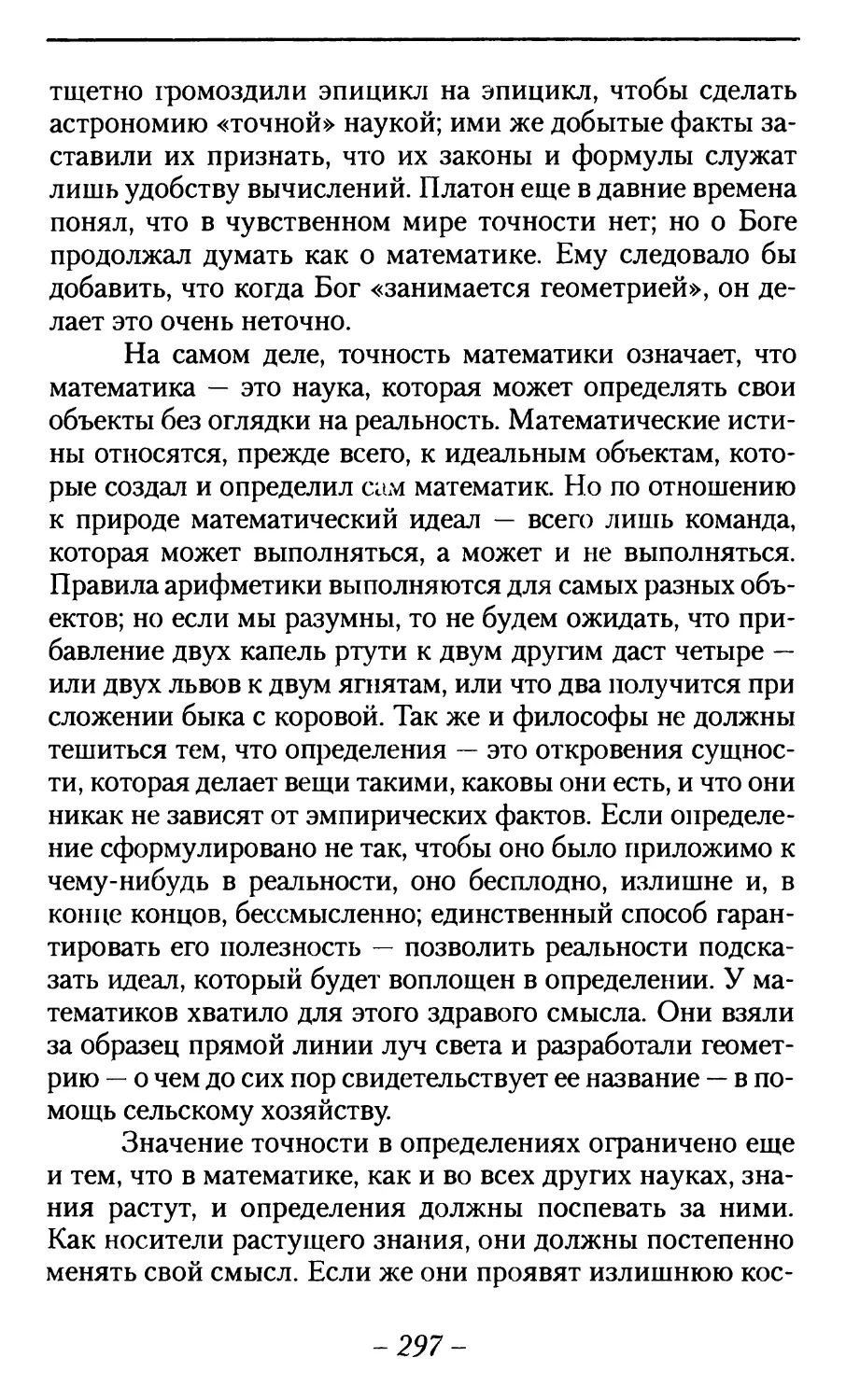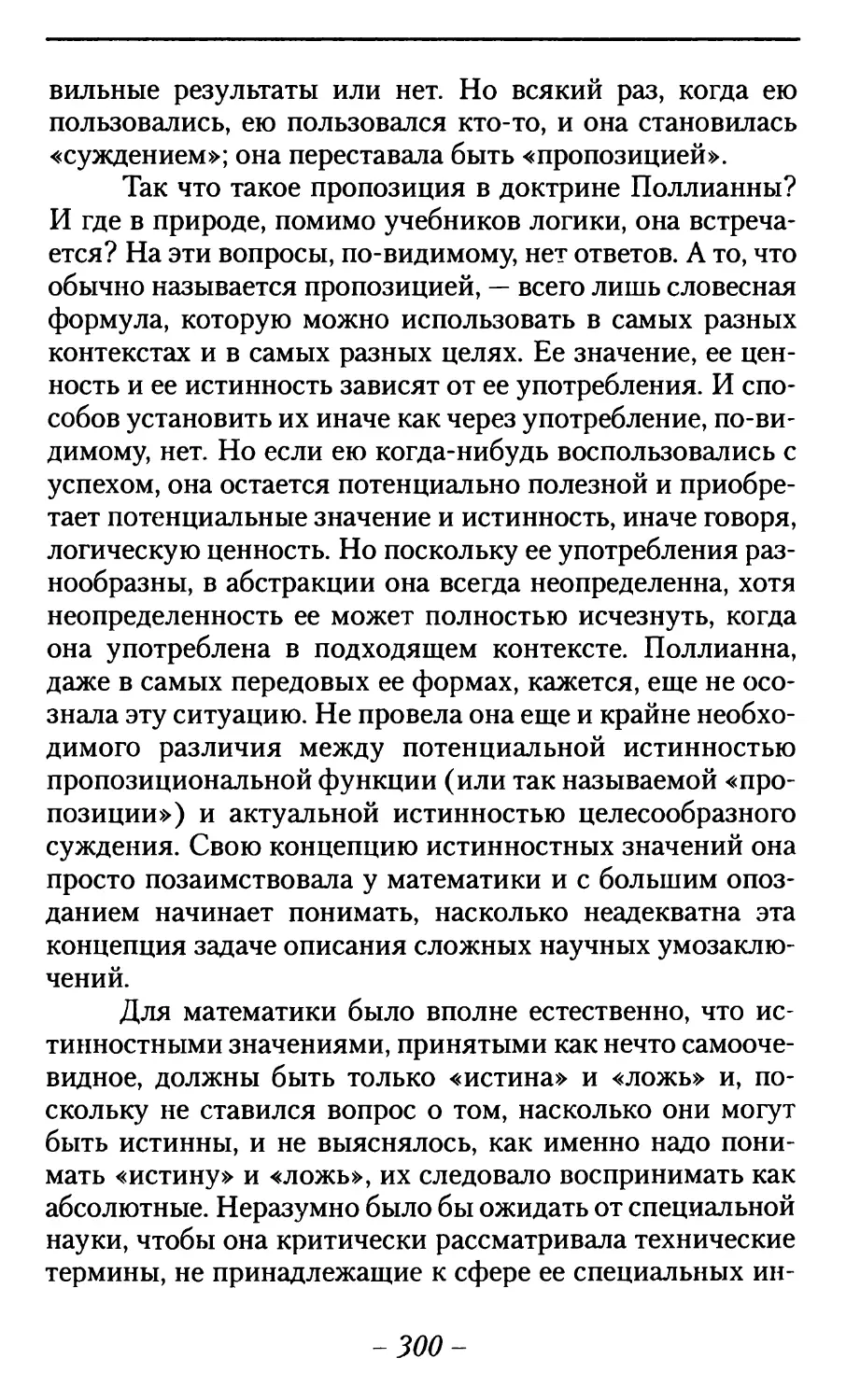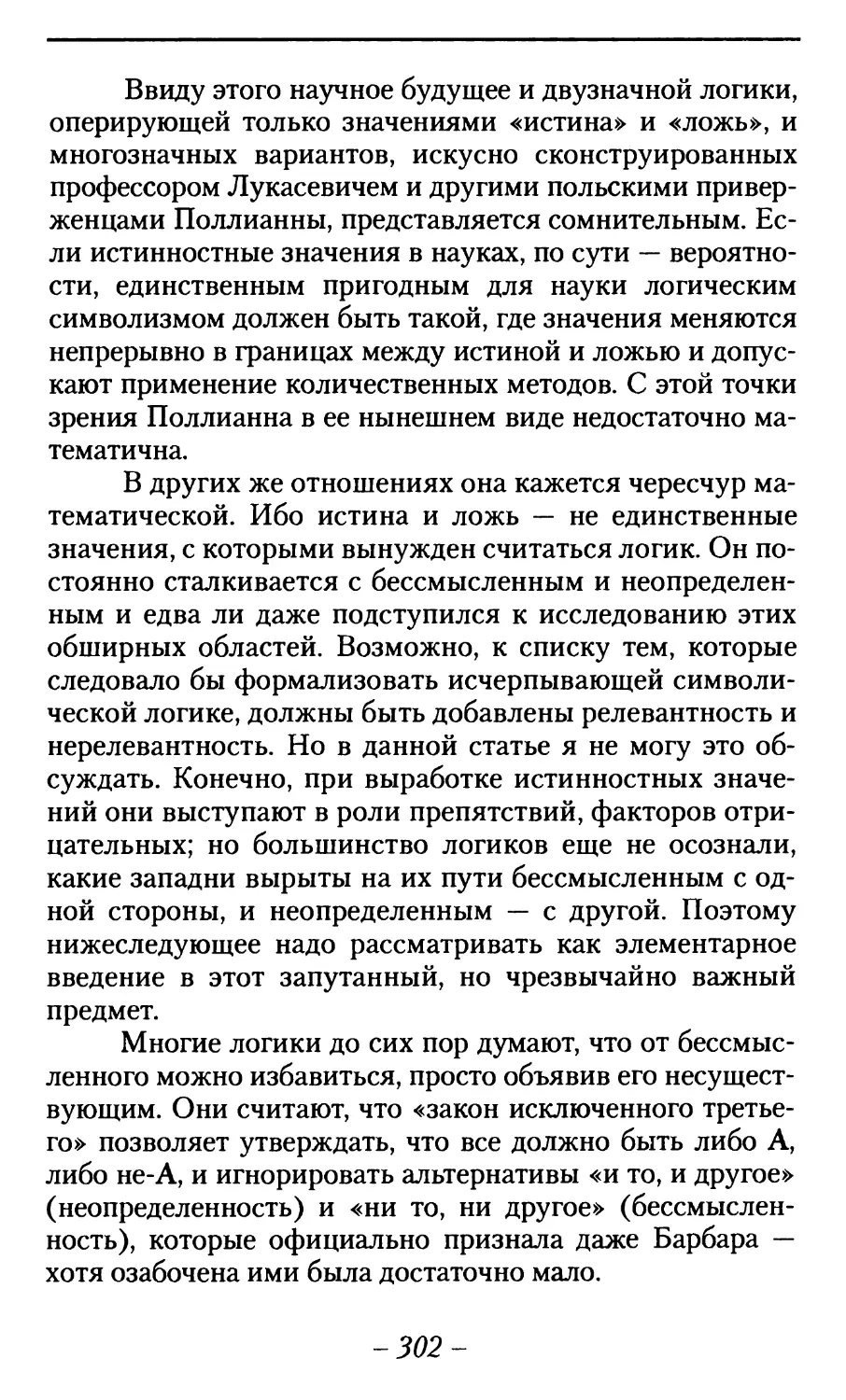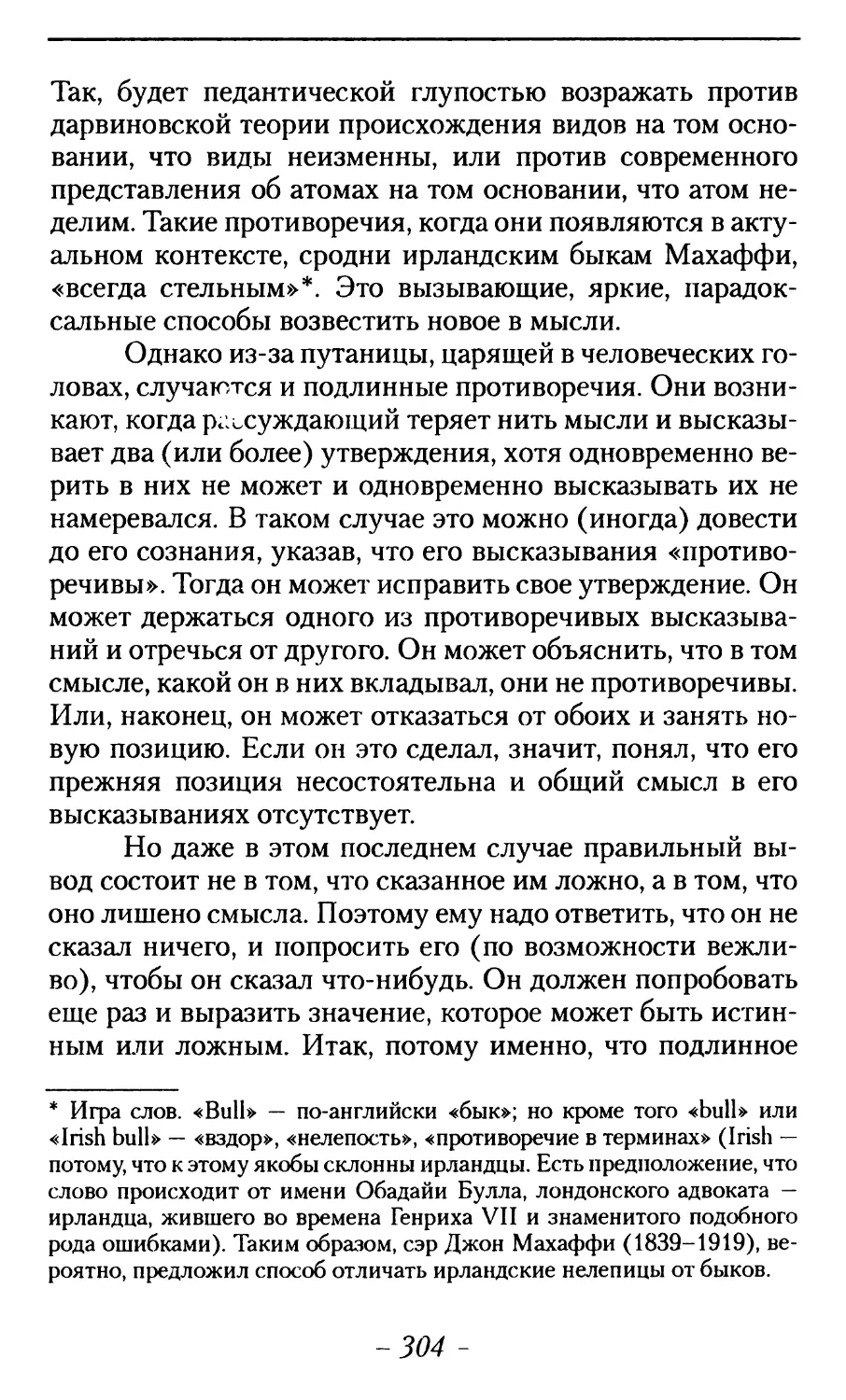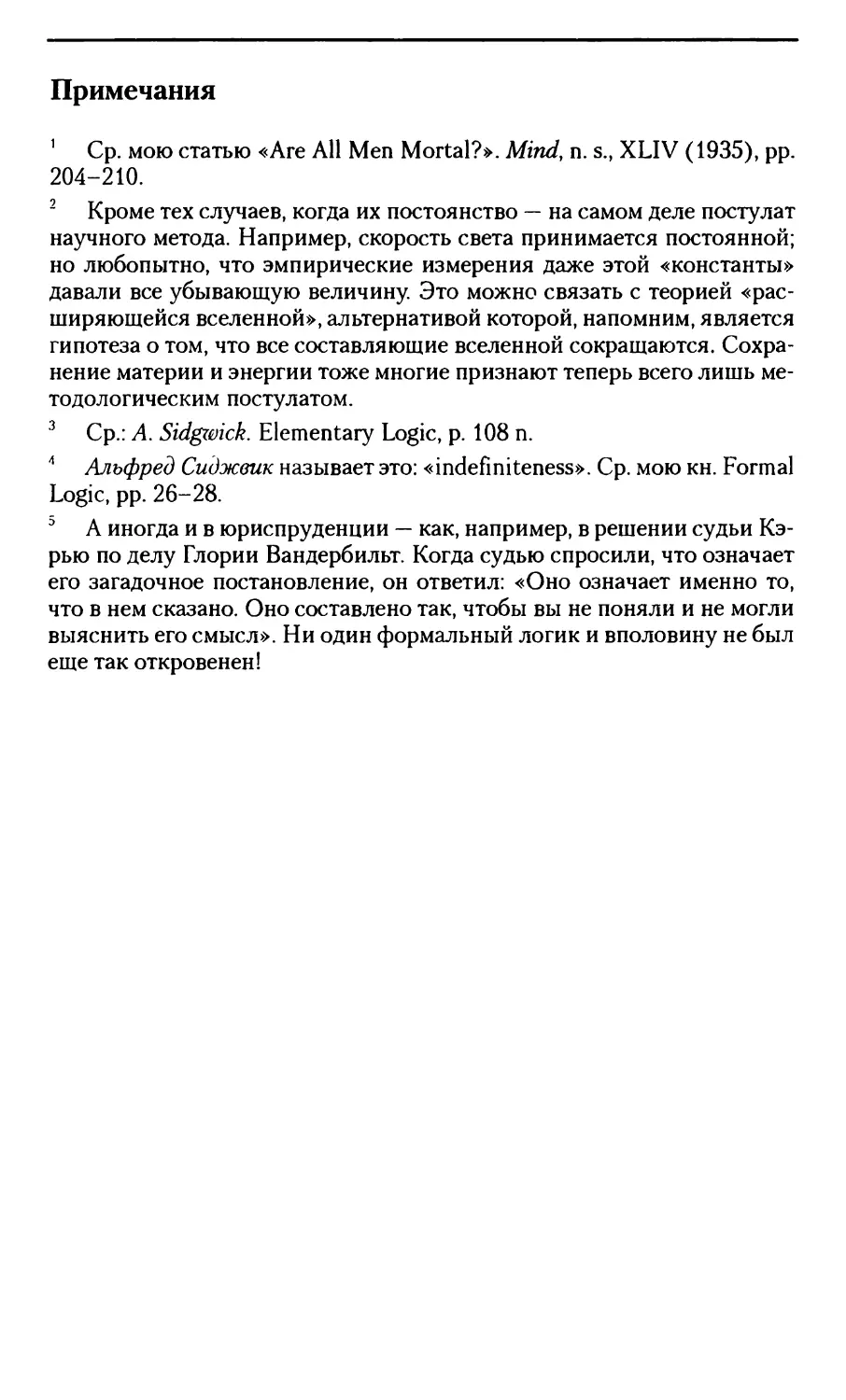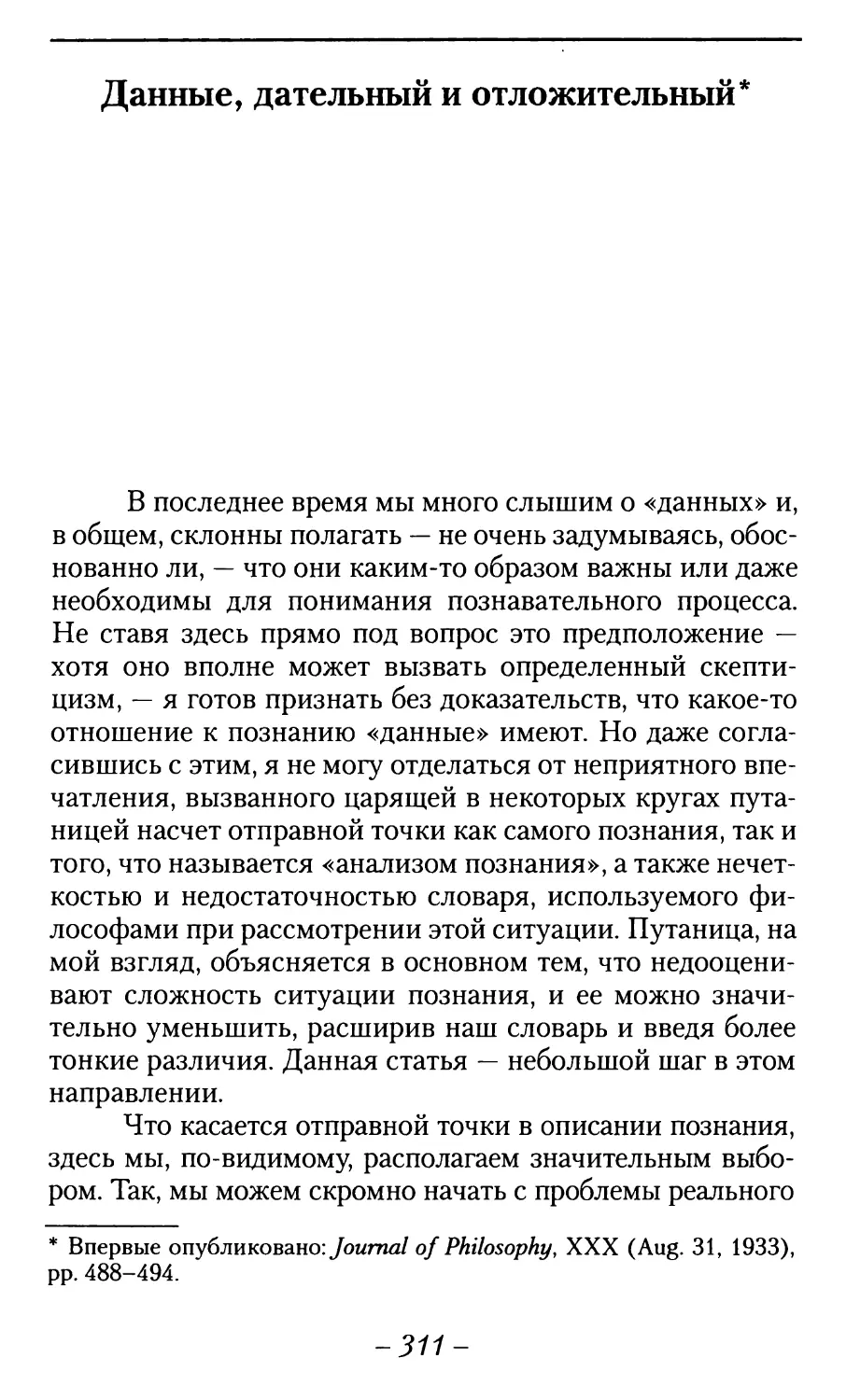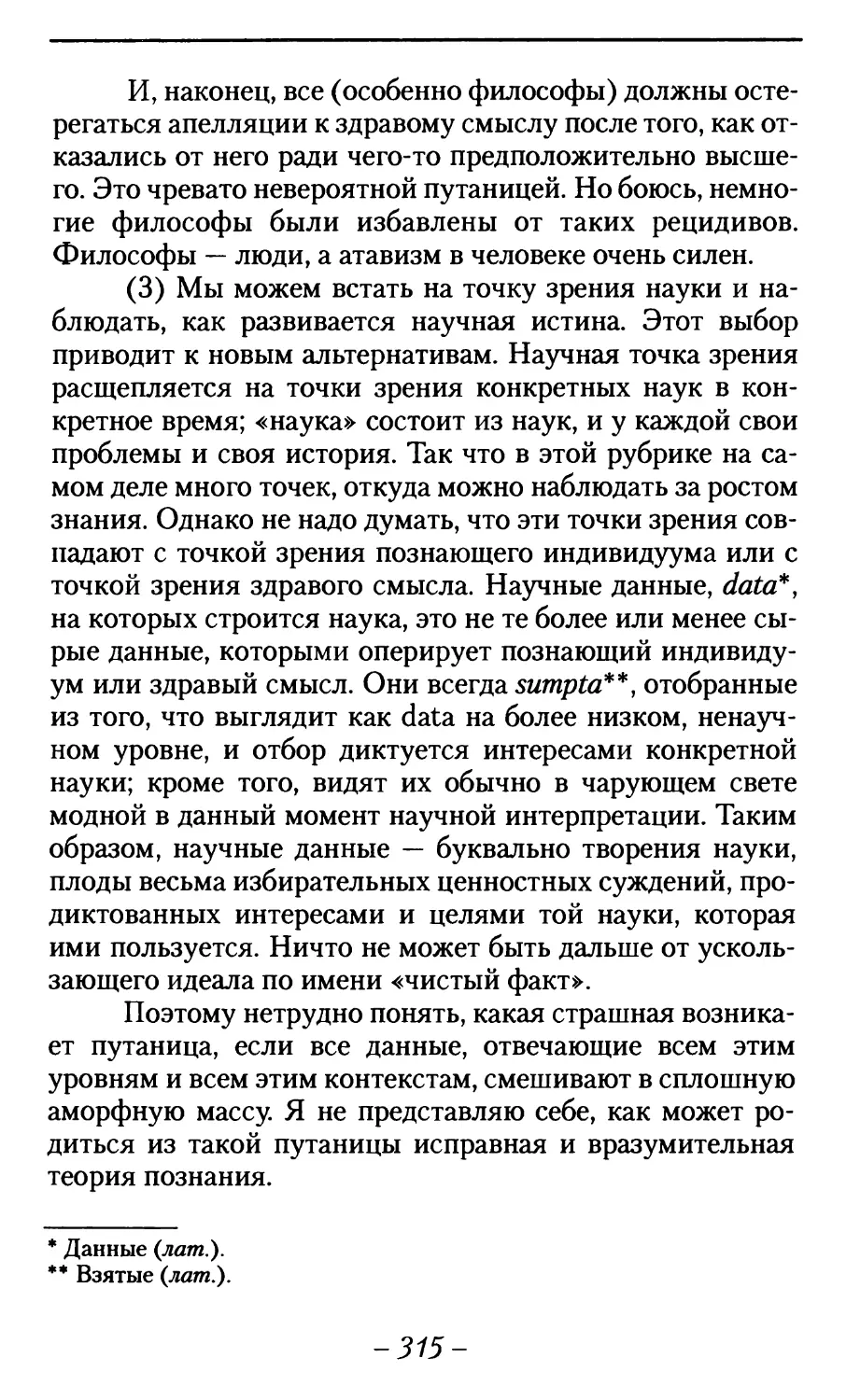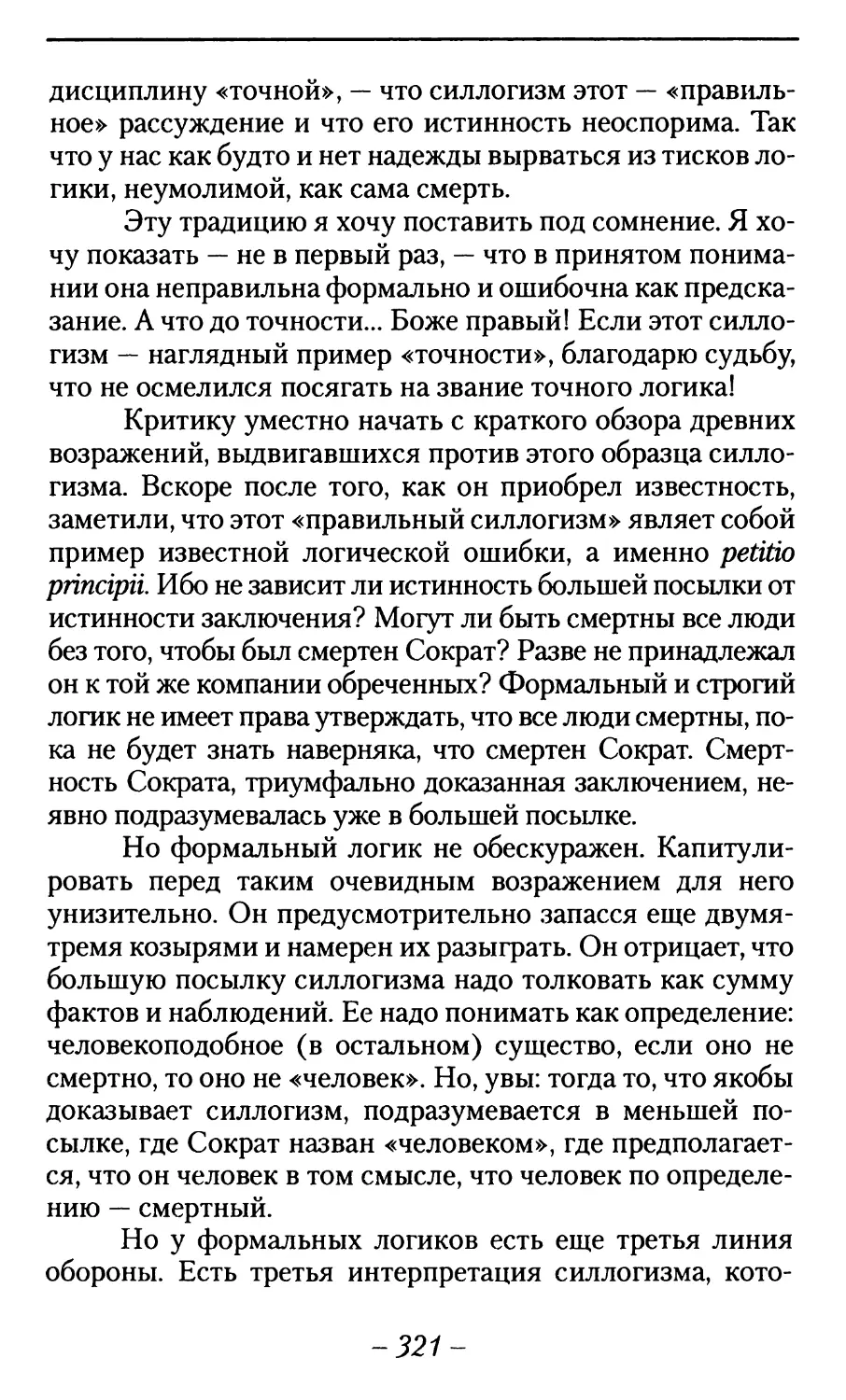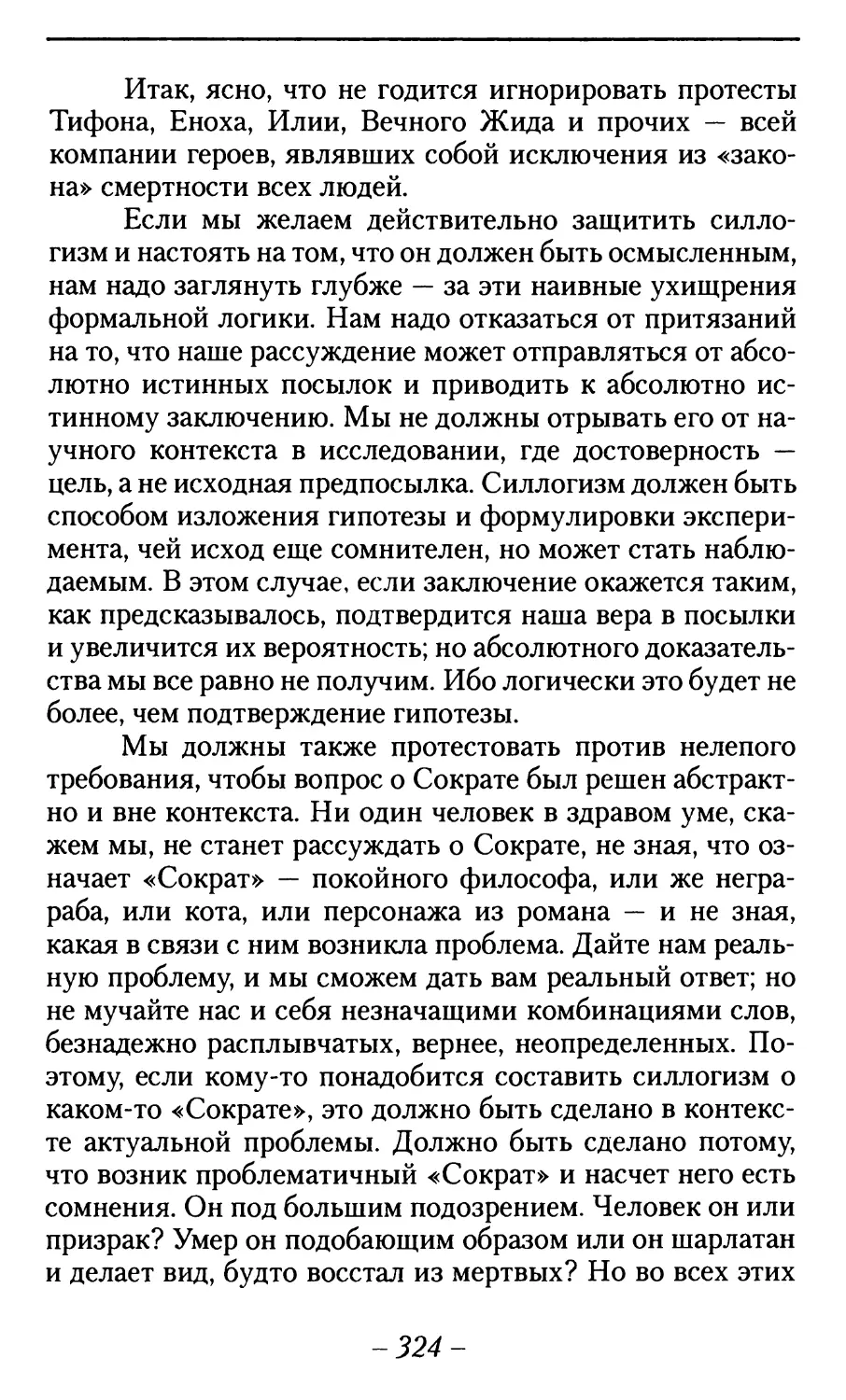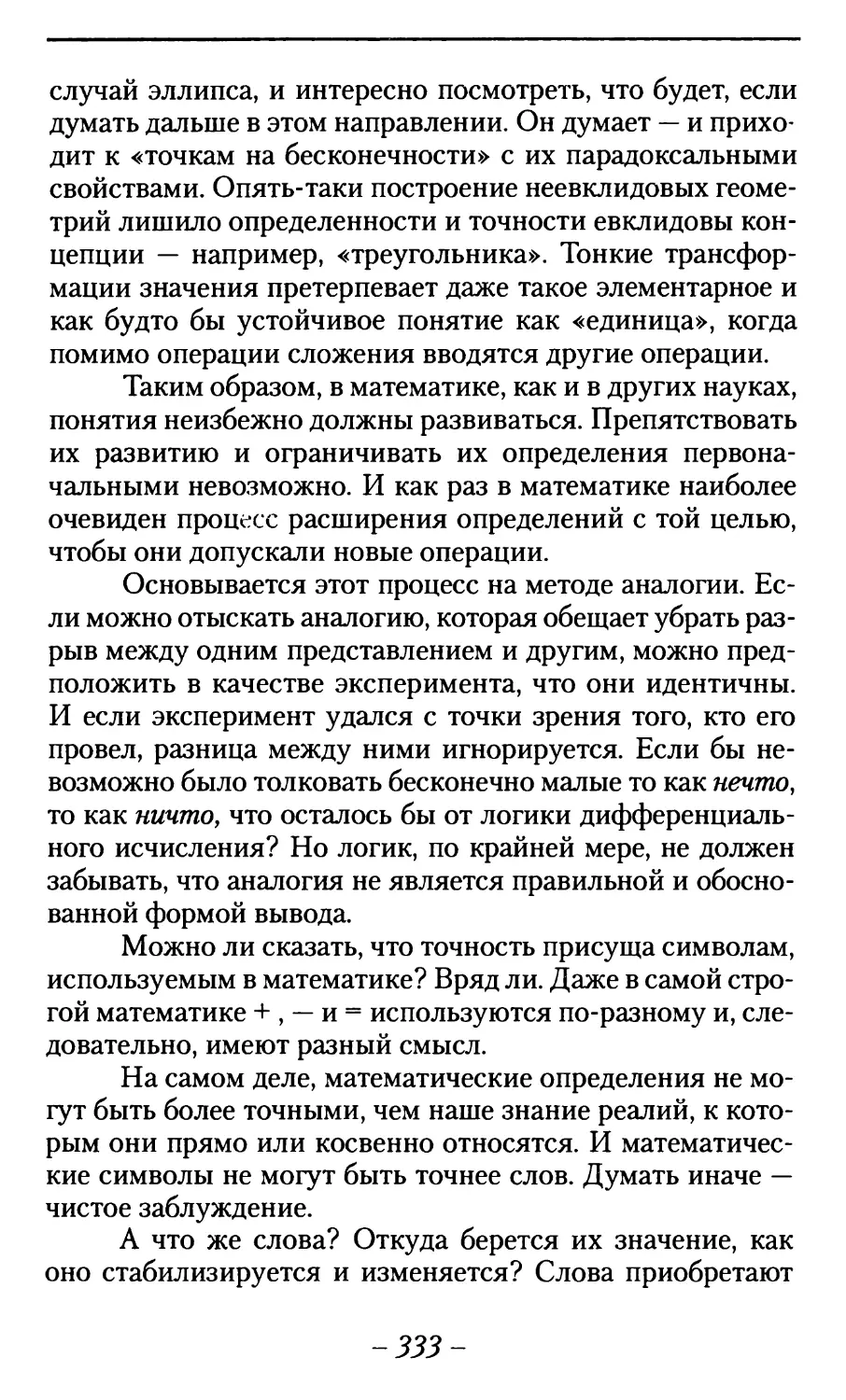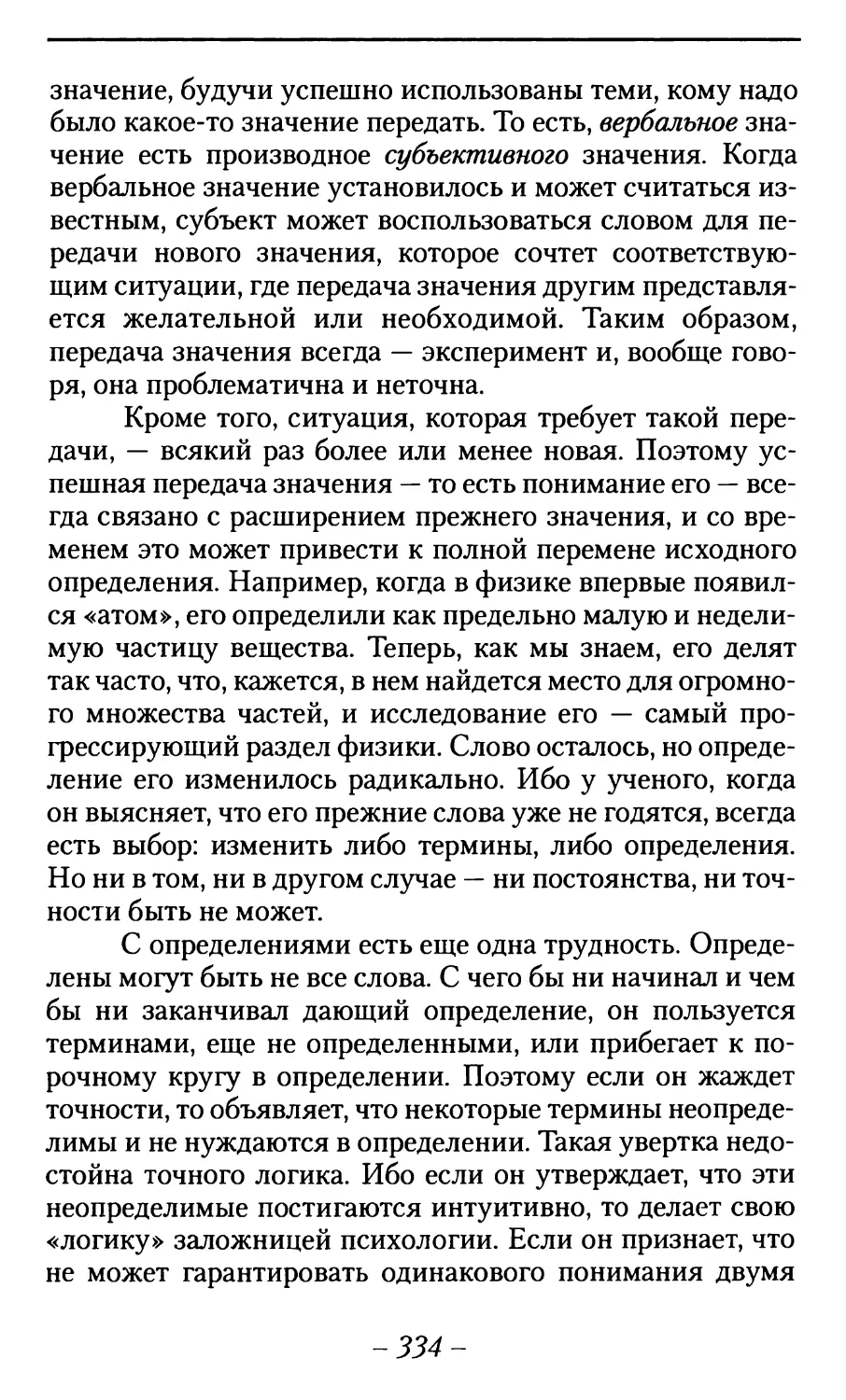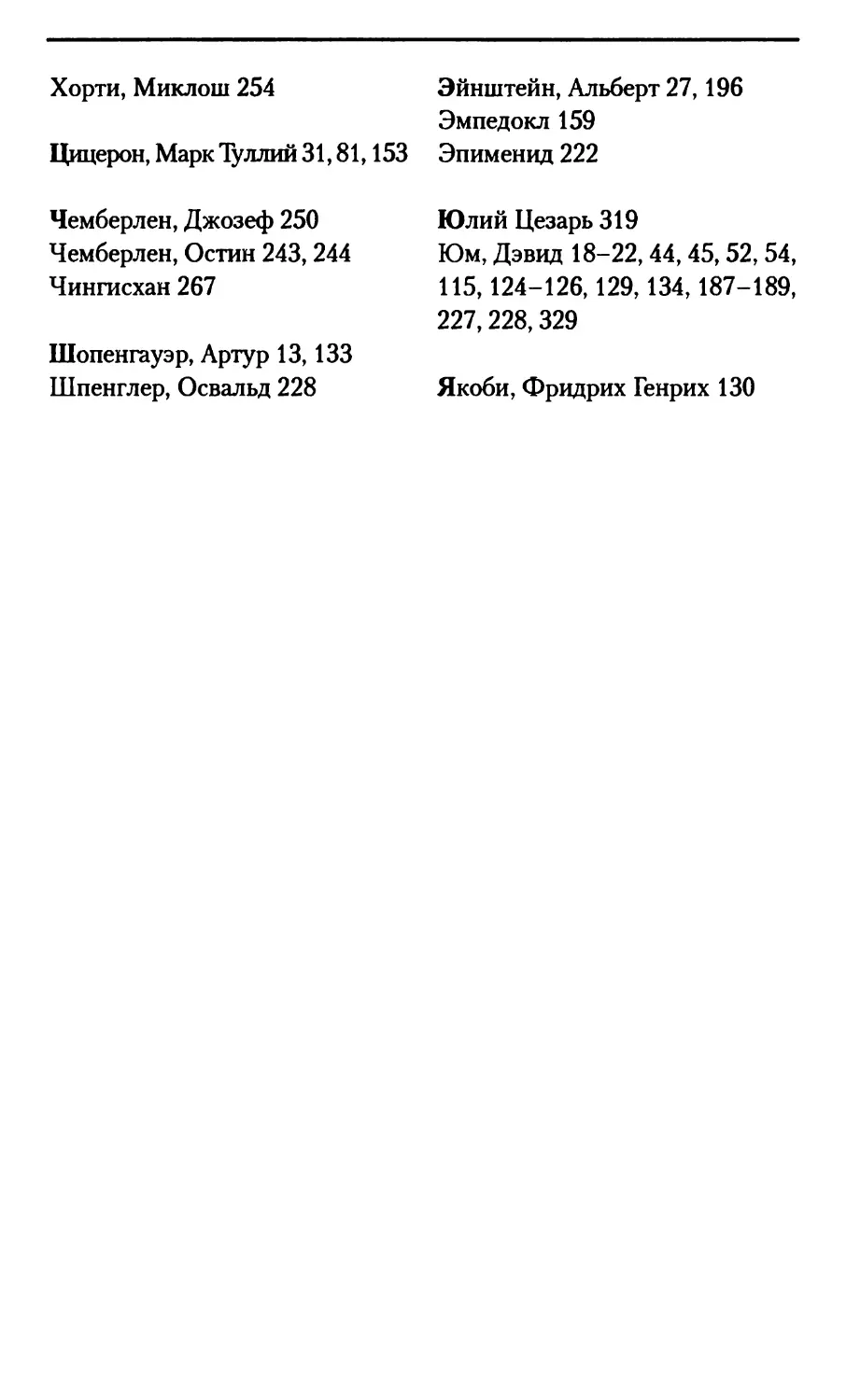Текст
Фердинанд Шиллер
Перевод с английского В. Голышева
Московская школа
политических исследований
Москва 2003
Шиллер Ф.
Наши человеческие истины. (ECS. Schiller. Our Human
Truths. - New York: Columbia University Press, 1939.) — M.:
Московская школа политических исследований, 2003. —
344 с.
ISBN 5-93895-043-0
Книга английского философа Фердинанда Шиллера,
сторонника прагматизма, является блестящим примером разработки
собственной концепции, насыщенной полемикой с господствовавшими в
его время представлениями о развитии научного знания. Большое
место в его творчестве занимали логические исследования.
Впервые переведенная на русский язык, эта книга дает
представление об основных философских интересах Шиллера. Она
составлена из статей и докладов позднейшего периода, собранных и
изданных вдовой философа после его смерти.
© F. Schiller, Columbia University
Press, 1939
© В. Голышев, перевод, 2003
© Московская школа
ISBN 5-93895-043-0 политических исследований, 2003
От редакции
Английский философ Фердинанд Каннинг Скотт
Шиллер (1864-1937) родился в датской части Шлезвиг-
Гольштейна (в настоящее время — это одна из земель
Германии) в семье калькуттского купца, который дал своим
сыновья британское образование. Окончив школу,
Шиллер поступил в Оксфорд. После университета год
преподавал немецкий язык в Итоне, а затем вернулся в
Оксфорд, чтобы получить магистерскую степень. В 1893 году
он отправляется в Корнельский университет (США)
преподавать логику и метафизику, а с 1897 года вновь
преподает в Оксфорде, где в 1906 году ему была присвоена
высшая научная степень доктора наук.
Ф.К.С. Шиллер был президентом Аристотелевского
общества и Британского общества физических
исследований; членом Британской Академии. С 1926-го по 1935 год
он делил время между университетом Южной
Калифорнии и Оксфордом и последние месяцы жизни провел в
Лос-Анджелесе.
Независимо от американского философа Уильяма
Джеймса и практически одновременно с ним Шиллер
разработал свой вариант прагматизма, который называл
гуманизмом, а позже волюнтаризмом. Основной его тезис:
деятельность человека определяется его целями и может быть
понята только в соотношении с ними. Это относится как к
-5-
собственно действию, так и к мышлению: понятийные
структуры, способы рассуждения и убеждения человека
оправдываются лишь в той мере, в какой они отвечают его
целям. Познание как часть активности человека
воспроизводит лишь человеческий элемент реальности. Реальность
же тождественна опыту, пластически изменяющемуся под
влиянием человеческих действий. Истинность наших
мыслей означает их способность работать на нас.
Поворот к прагматизму в начале XX столетия был в
значительной степени обусловлен успехами
естественных наук, и его сторонники восприняли многое из их
идеологии. В Шиллере была сильна полемическая жилка, и
он затратил немало усилий на борьбу с философией,
господствовавшей в ту пору в Оксфорде, считая ее
обскурантистской, то есть сдерживающей развитие науки и
просвещения. Большое место в его творчестве занимали
логические исследования.
Чарльз Сандерс Пирс, известный американский
философ, математик и логик, говорил о Шиллере, как о
«восхитительно ясном и блестящем мыслителе».
Впервые переведенная на русский язык, эта книга
дает представление об основных философских интересах
Шиллера. Она составлена из статей и докладов
позднейшего периода, собранных и изданных вдовой философа
после его смерти.
ФИЛОСОФИЯ
Жгучие вопросы*
На первый взгляд, философия — предмет,
исключительно чуждый жгучих вопросов. История ее не может
представить с гордостью и скорбью длинного списка
знаменитых мучеников, украшающих собой анналы
богословия и политики. Мученики философии, по-видимому,
малочисленны и рождались очень редко. При ближайшем
рассмотрении оказывается, что в философии их совсем не
было; а те, что пострадали, страдали, кажется, не за
философские убеждения, а за свои вторжения в богословие и
политику Краткий обзор якобы философских мучени-
честв в хронологическом порядке подтвердит
справедливость этого вывода.
Список тех, кто может претендовать на звание
мученика от философии, открывает Пифагор. При этом мы
должны принять на веру предание, согласно которому он
погиб, когда разъяренные демократы в Кротоне сожгли
дом, где собирались пифагорейцы. Но сама эта история
показывает, что Пифагор вмешивался в политику на
стороне олигархов.
Мы можем назвать ряд философов, ставших
жертвами благочестия или политики в просвещенных Афинах
* Впервые опубликовано: The Personalist, XVI (1935), pp. 199-215.
Здесь и далее примечания, помеченные звездочкой, принадлежат
переводчику. Цифрами помечены примечания автора.
-9-
в пору их расцвета. В каждом из этих случаев есть все
основания полагать, что афинское «благочестие» было не
чем иным, как переодетой политикой.
Первым философом, осужденным за нечестие, был
друг Перикла Анаксагор, который познакомил Афины с
идеей философии, а философскую публику — с идеей це-
леполагающего ума (nus). Когда его покровитель Перикл
лишился народной поддержки, враги Перикла
обрушились на его друзей. Обвинение в нечестии, как мы увидим,
было простейшим и самым действенным ударом по новой
идее: поэтому его предъявили и Анаксагору, и заодно Ас-
пасии. Ценою унижения Перикл добился оправдания для
своей любовницы; Анаксагора же изгнали из Афин.
Иностранец, он, без сомнения, не был привержен к цикуте,
которой афиняне пользовали «нечестивцев».
Следующей жертвой преследований за нечестие стал
Протагор, самый знаменитый учитель Эллады и великий
философ демократии, чью максиму «человек есть мера всех
вещей» сообразительные афиняне правильно истолковали
как декларацию равноправия людей в интеллектуальной
области. Поэтому его чтили. Он был назначен
законодателем Фурии, важной колонии, основанной Афинами в 443
году до н.э. Кроме того, он разбогател, обучая богатых
молодых людей насущному искусству публичной речи,
позволявшему им одолевать в споре демократические суды и тем
сохранять себе жизнь и имущество. К несчастью, когда он
был уже стариком (семидесяти или девяноста лет — по
разным источникам), в 411 году до н.э. неудачная сицилийская
экспедиция и интриги Алкивиада привели к недолговечной
олигархической революции в Афинах. Среди ее вождей был
всадник Пифодор, который, как теперь считают, и
выдвинул обвинение против Протагора. Разумеется, в нечестии —
и на основе, вероятно, безобидного и вполне естественного
замечания в его книге «Истина», замечания, которое легко
могло бы прийти в голову каждому, кто задумался о
греческой мифологии. «О богах, — заявил Протагор, — я не могу
уверенно сказать, существуют они или нет, и выяснить это
-10-
мне мешают неясность предмета и краткость человеческой
жизни». Для режима олигархов этого было более чем
достаточно, чтобы его осудить. Но Протагор, иностранец, как и
Анаксагор, бежал из Афин. По пути к Сицилии его корабль
потерпел крушение, и вместе с автором утонул экземпляр
его знаменитой книги «Истина». Остальные экземпляры,
вероятно, были изъяты у тех, кто только и мог ими
располагать (а именно, у молодых олигархов — слушателей Прота-
гора), и сожжены. Эти решительные действия были
успешными. Книгу уничтожили, и нет никаких свидетельств, что
ее читал в дальнейшем кто-либо из философов. Даже
Платон знает ее, кажется, только понаслышке и не может
раскрыть контекста знаменитого протагоровского
высказывания, о смысле которого по-прежнему идут споры.
В следующем и самом знаменитом случае
философского мученичества, литература, подлежащая
уничтожению, отсутствовала вообще, и потому всякий слушатель
сократовских бесед волен был сотворить собственного
«Сократа» и отформовать некую сократическую философию
по своему вкусу*. В результате единственной общей чертой
всех сократических школ оказался их олигархический
уклон. Ибо постоянно находиться при Сократе было по
средствам лишь молодым людям из богатых слоев общества —
и двигала ими, главным образом, надежда научиться у него
важному судебному искусству перекрестного допроса. Но
весьма вероятно, что в позиции Сократа они верно
угадывали определенные смыслы, отвечавшие их политическим
склонностям. Провозгласив, что добродетель есть знание,
Сократ сделал поведение производным от науки, а не
только от обычая и традиции; он требовал также умелого
правительства — сильно отличавшегося от безалаберной
афинской системы назначать должностных лиц по
жребию. Так что есть все основания считать Сократа основате-
* См. по этому поводу: Суд над Сократом. Сборник исторических
свидетельств./ Составитель A.B. Кургатпников. СПб.: Алетейя, 2000. —
Прим. ред.
-и-
лем не только научной этики и искусства перекрестного
допроса, но также провозвестником профессионального
управления, то есть, в конечном счете, скорее
бюрократического, нежели олигархического.
Афиняне, однако, были не расположены проводить
столь тонкое различие. Они видели, что он без малейшего
ущерба пережил тиранию Тридцати — близкий друг
завзятых врагов народа, — слышали, как он излагает доктрину,
столь же отчетливо антидемократическую по смыслу,
сколь демократична была доктрина Протагора. И они
жаждали его крови. Напасть на него прямо они не могли,
потому что, когда город отдался Фрасибулу, тот потребовал
амнистии. Но мести торжествующих демократов это не могло
серьезно помешать. Если мы правильно понимаем, что
обвинение в нечестии обыкновенно служило камуфляжем
для политической мести, то следовало ожидать, что на
Сократа нападут именно под таким предлогом.
Соответственно, вскоре после возвращения демоса затевается дело
против Сократа, и главным обвинителем выступает Анит,
правая рука Фрасибула. А обвинение в развращении
молодежи, присовокупленное к «нечестию», означало всего
лишь, что всякое высшее образование считалось порчей
молодого поколения, поскольку оно переставало уважать
невежественных родителей. Всему миру известна эта
трагическая история, рассказанная одним из величайших
мировых писателей под аплодисменты всей
демократической интеллигенции. Семидесятилетний Сократ
предпочел смерть изгнанию, и судьба его до сих пор остается
величайшим примером философского мученичества. Тем не
менее, демократическое большинство афинского суда
убить стремилось не философа, а политика.
После Сократа философский мартиролог выглядит
чем дальше, тем бледнее. Венецианский патрон Джордано
Бруно, передавший его римской инквизиции, чтобы его
сожгли, как еретика, без сомнения видел в нем прежде
всего мошенника-алхимика. Но Бруно, по-видимому, был
весьма утомительным человеком, сумевшим рассориться
-12-
со всеми в Европе. К тому же он был, судя по всему,
человеком на редкость скучным. Да, обошлись с ним жестоко,
но не надо думать, будто церковь сожгла его только или
главным образом за его теологические взгляды. Во всяком
случае, Николай Кузанский, живший не намного раньше,
придерживался очень неортодоксальных взглядов, но при
этом вполне процветал и умер покойно и в почете,
кардиналом, князем церкви. Ему достало благоразумия
выступать на стороне победителей — папской партии.
Изгнанного из амстердамской синагоги Спинозу едва
ли стоит числить жертвой философских гонений. Изгнание
освободило его из тесного мирка гетто, откуда все умные
евреи старались вырваться еще со Средних веков. В
результате его корреспондентами стали князья. А чтобы бедному
еврею, шлифовщику линз, предложили философскую
кафедру в первоклассном университете — такое в двадцатом веке
маловероятно. Ибо, к добру ли, к худу ли, наши принцы
коммерции больше не интересуются нашими философами.
При режиме профессиональных профессоров
философия стала слишком специализированной. У
профессоров теперь надежная работа, но предмет их стал темен и
социально мало значим. Даже большевики, из всех
правителей наиболее чувствительные к идеологии, не
утруждают себя расстрелом контрреволюционных идеалистов.
В таких условиях философское мученичество,
естественно, выродилось. Ныне это — интриги и мелкие
войны за получение профессорских должностей. Те, кому
интересно ознакомиться с их образчиками, могут почитать
великолепные тирады Шопенгауэра против
профессорской философии в эпоху, когда министр образования Аль-
тенштейн позволил Гегелю диктовать все назначения на
философские кафедры в прусских университетах. В
общем, боюсь, надо признать, что чело философов не
осенено сиянием мученичества, а история философии не
изобилует жгучими вопросами.
Но хотя философские вопросы жгучими не
назовешь, они определенно тлеют. И в лимбе, где им суждено
-13-
пребывать, они тлеют вечно. Вот почему они остаются
теми же вопросами, которыми задавались греческие
философы 2500 лет назад, и при нынешней норме их
потребления они обещают сохраниться еще на 2500 лет.
Рассмотрим некоторые причины такой ситуации.
Философские вопросы вентилируются
недостаточно и слишком старательно защищены от свежего воздуха
новых фактов; кроме того, их духовный жар слишком
часто притушен пеплом мертвых контроверз, погребен под
мусорными горами педантизма.
Тем не менее, осмелюсь утверждать, что в природе
философии довольно материала, чтобы породить жгучие
вопросы. Если сегодня они не кажутся актуальными, то
это — упущение. Если они не воспламеняют сегодня
философов, то, наверное, из-за того, что философы отчасти
равнодушны к животрепещущим проблемам. Поэтому я
намерен обсудить несколько таких жгучих вопросов и
показать, что ни одна философия, заслуживающая своего
названия, не вправе обходить их стороной.
Позвольте мне начать с важнейшей темы —
«личности». Влияние ее — всепроникающее, и одного этого
довольно, чтобы считать вопрос о личности актуальным в
любом философском контексте. Игнорировать личность
никакая философия не вправе. Науки могут себе это
позволить именно потому, что они — специальные науки и не
претендуют на то, чтобы оперировать с реальностью в
целом. Философия же не смеет исключать личность из
данных, с которыми она имеет дело. Исключив, она обрекает
себя на узость и предвзятость. Неверно и представлять
личность просто как кривое зеркало, которое искажает
реальность и не рождает ничего, кроме ошибок и
иллюзий. Личность подобна не столько зеркалу, сколько
атмосфере, сквозь которую видно то, что мы видим; без нее не
может быть ни нашей жизни, ни нашего зрения. И первая
причина, почему ее надо учитывать, состоит в том, что мы
не можем без нее обойтись; всякое небрежение ею
дискредитирует все наше знание. Во-вторых, стимул всякого по-
-14-
знавательного процесса идет от личности, и ни один
человек не искал бы и не добивался знаний, если бы они не
представлялись ему желательными.
И, наконец, пришло время кому-нибудь оспорить
легковесное предположение о том, что личность всякий
раз является источником ошибок в познании. Это кажется
мне предрассудком, полуправдой, основанной на
поверхностном анализе некоторых особых случаев
познавательного процесса. Конечно, если человек глуп, ленив,
разгневан или страстно предубежден, личность его может стать
препятствием в познании даже тех вещей, которые он
хочет познать; но каков бы ни был результат его усилий, он
станет составной частью его знания. А полное
безразличие, вероятно, является и более распространенным, и
более значительным препятствием познанию, чем гнев или
предубежденность. Поэтому нельзя утверждать a priori,
что личная заинтересованность в решении проблемы
всегда вредна. Часто она оказывается первым условием
успеха. Будет ли она таковой в каждом конкретном случае —
это может зависеть от самой личности.
Итак, надо прямо признать: (1) что личность
оказывает и хорошее, и плохое влияние на познание, и оба
аспекта надо терпеливо изучать, и (2) что избавиться от
личности нельзя ни в каком случае. Безличное знание
следует признать абстракцией, фикцией, вещью
невозможной. Больше того, об этой невозможности сожалеть
не надо. Ибо, если можно было бы достигнуть безличного
знания, оно не было бы ни желанным, ни ценным. Строго
и истинно безличное знание мы не могли бы ни
использовать, ни назвать своим. Ложное представление, будто
науки полны безличных истин, возникло, видимо, из
пагубной привычки логиков рассматривать «высказывания» в
отрыве от их научного контекста и называть их
«истинными» безотносительно к их смыслу, использованию и к
их функции в породившей их науке. Поэтому определять
истину как нечто нам безразличное — глубокое
заблуждение. Если бы существовала «истина», в которой не заин-
-15-
тересован ни один человек, она сразу перешла бы в разряд
претензий на истину {truth-claims) — гипотез, не
удостоенных проверки, лишенных для нас значения.
Аналогично, «реальность», безразличная нам, сделала бы нас
настолько к ней безразличными, что не удержалась бы в
сознании, даже как предмет спора. Мы попросту должны
предполагать, что предметы, которые мы исследуем, стоят
нашего труда.
Тем не менее, не могу скрыть от себя, что требуемое
мною признание личности шокирует современных
философов. Другими словами, это — жгучий вопрос. Он сожжет
громадные отложения философского мусора. Но мы
можем твердо надеяться, что, очистившись в пламени,
философия восстанет из их пепла, как Феникс.
Позвольте мне перейти ко второму примеру жгучих
вопросов, естественно связанному с первым. Мы можем
назвать его «проблемой субъекта». До сих пор субъект, «я»,
был не чем иным, как одной из крупных и очевидных
неудач философии. Это огульное утверждение я основываю,
прежде всего, на том, что западной философии
понадобилось более двух тысяч лет, чтобы вообще обнаружить
проблему субъекта. Перед обыденным сознанием она стоит с
незапамятных времен, и обыденное сознание повсюду
выражало поведение некоторых важных составляющих
реальности с помощью личных местоимений. Не углубляясь
в детальные исследования, мы можем с уверенностью
предположить, что нет и никогда не было такого языка, в
котором отсутствовали бы личные местоимения.
Философам, однако, не приходило в голову, что этот факт имеет
какое-то особое значение или важность, и «что такое
субъект?» для каждого из них должен быть вопросом жгучим.
Они дожидались Декарта, чтобы он объявил субъект
духовной субстанцией и непоколебимой скалой, на которой
может быть построена его система. Лишь после Декарта
субъект стал фигурировать в философских дискуссиях, не
отмеченных, правда, ни плодотворностью, ни успехами,
каких заслуживала его важность.
-16-
По общему мнению, картезианская трактовка
субъекта была неудачной, и сегодня с ней мало кто согласен.
Она и не заслуживала успеха, поскольку исходно
опиралась на идею субстанции. А «субстанция» сама была
понятием, порожденным опытом субъекта. Поэтому
объяснение субъекта через субстанцию есть порочный круг. Кроме
того, выбирая между двумя концепциями субстанции
применительно к субъекту, Декарт остановил выбор на
неверной. Аристотель выдвинул две концепции — hypokeimenon,
или субстрат, и enérgeia, или самоподдерживающаяся
деятельность. В первом случае «субстанция» рассматривается
как субъект — ему присущи атрибуты, и о нем
утверждаются предикаты. По сути, здесь «субъект» употребляется в
двояком смысле: субъект предикации, логическая
проблема сливается с субъектом свойств, онтологической
проблемой, и их слияние заложено в расплывчатом термине
«атрибут». Это немедленно погружает нас в море трудностей,
связанных с тем, как «субстанции» сохраняют и меняют
свои атрибуты. Из этого моря так и не смогла выбраться
современная философия. Теория субстанции как субъекта-
субстрата до сих пор рождает массу головоломок.
Вторая аристотелевская концепция субстанции
навеяна психологией. Представление о субстанции как об
enérgeia проистекает из опыта деятельности, то есть из
потока своих (owned) переживаний, которые и породили
проблему субъекта. Таким образом, это лишь слегка
видоизмененная формулировка того же вопроса; но здесь, по
крайней мере, нет ошибки, состоящей в объяснении «я» через
его собственную деятельность, а именно через его
предикации, и в аналогиях с собой, которые субъект приписывает
не-субъекту, а именно «материальной» субстанции.
К несчастью, за несколькими благородными
исключениями, такими как Лейбниц, Лотце и Вундт, философы
не приняли определения субстанции через enérgeia.
Последователи Декарта оспаривали его концепцию субъекта
как субстанции не потому, что последняя — субстрат, а
потому что она духовная.
-17-
У Локка субстанция разведена до непознаваемого
субстрата, чего-то, ему неизвестного, и неизвестно как
поддерживающего свои атрибуты. Подход его весьма
поверхностный. Поэтому Беркли пришла счастливая мысль вообще
отменить материальную субстанцию. Ее атрибуты, которые он
назвал «идеями», можно сказать — или лучше сказать —
присущи одному божественному разуму, а не множеству
непознаваемых субстратов. Ибо их сущность постигаема лишь
сознаниями, чья сущность — именно в постижении. В
результате Беркли сохранил духовную субстанцию, но не
выработал представления о духовной деятельности.
Иное дело — Юм. Он стремился обозреть все поле
философии последовательно, с научной точки зрения
внешнего наблюдателя, применив этот метод и к
внутреннему содержанию сознания. Он постарался разбить субъект
на последовательность «впечатлений» и «идей» так же, как
внешний мир. В сознании он не признавал ничего, кроме
объектов.
«Когда я самым интимным образом вникаю в нечто,
именуемое мной своим «я», — пишет он, — я всегда
наталкиваюсь на то или иное единичное восприятие тепла или
холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или
наслаждения. Я никак не могу уловить свое я как нечто
существующее помимо восприятий и никак не могу подметить
ничего, кроме какого-либо восприятия». Он заключает, что
«если бы все мои восприятия совершенно прекратились с
наступлением смерти [...], то это было бы полным
уничтожением меня», и насмехается над теми, кто «сознает в себе
нечто простое и непрерывное, которое и называет своим "я"»,
ибо уверен, что «во мне такого принципа нет». Поэтому
люди «не что иное, как связка или пучок различных
восприятий», в которых «нет простоты в любой данный момент, и
нет тождества в разные моменты [...] дух состоит из одних
только восприятий, следующих друг за другом»1.
Но, к сожалению, в великолепном юмовском анализе
отсутствует одна важная часть. Чем именно связан «пучок»
сменяющихся восприятий, которые составляют сознание?
- 18-
Или, в изложении Джона Стюарта Милля, как можно
разложить сознание на ряд ощущений, не признав, что оно
сознает свое прошлое и будущее, и не столкнувшись, таким
образом, с «окончательной необъяснимостью» того, что
«нечто, ex hypoihesi* являющееся всего лишь
последовательностью ощущений, может сознавать себя как
последовательность»2. Юму хватило проницательности понять, что
это затруднение подрывает его анализ. В приложении к
«Трактату о человеческой природе»3 он признает, что «у нас
нет впечатления я или субстанции как чего-то простого и
неделимого» и, следовательно, нет «идеи» о них. Сознание,
разложенное на восприятия, лишается непрерывности. Но,
согласно Юму, сами восприятия немедленно становятся
субстанциональными предметами {existences). Он
вынужден признать: «Если восприятия — то, что раздельно
существует, значит, они образуют целое, только будучи связаны
друг с другом. Но человеческий ум не может открыть
никаких связей между отдельными предметами {existences)».
Таким образом, снова выясняется, что ум, расчлененный на
последовательность восприятий, не только не может
действительно мыслить себя как ум, но и не может мыслить
вообще такой предмет, как ум. Юм благородно признался в
своей неудаче, и, сославшись «на свою привилегию скептика»,
оставил эту болезненную тему навсегда.
Но не все философы так счастливо устроены, что
могут убаюкать свой теоретический скептицизм, прагматично
оставив позади сомнения, когда завершают свой труд.
Скептицизм Юма сильно беспокоил Канта. Он
пробудил его от «догматического сна». Ибо, в отличие от
большинства догматиков, он был слишком добродетелен,
чтобы довольствоваться снотворным. Поэтому он был
глубоко огорчен печальным состоянием, в котором оставил
познание Юм, и вознамерился его исправить. К несчастью,
он принял юмовскую формулировку проблемы. Он
решил, что Шалтая-Болтая можно снова собрать, обильно
* Предположительно (лат.).
-19-
применяя синтетический клей и априорные принципы.
Ему не пришло в голову, что Юму следовало углубиться за
пределы здравого смысла, а не отправляться от него и
доводить до непрагматичной крайности. Всякая
основательная гносеология должна брать за отправную точку нерас-
члененный континуум первичного опыта и прослеживать
мотивы последовательных ступеней анализа. Здесь же
результат оказался таков, что Кант стоит и падает вместе с
Юмом, и, как сказал Джеймс, путь истинно критической
философии пролегает не через Канта, а вокруг него.
Наш долг теперь выяснить несостоятельность кан-
товской концепции — и субстанции, и субъекта, иначе
называемых трансцендентальным «я», иначе называемого
синтетическим единством апперцепции. Субстанцию,
одну из априорных «категорий» знания, Кант определяет по
образцу субстрата, субстанции не духовной, а
материальной. Он мыслил ее как устойчивое при изменениях и
доказывал, что она необходима для восприятия изменений;
изменения же ( Veränderung) следует отличать от перемен
в явлениях, которые он называет сменой ( Wechsel)4. В
более практический и, с научной точки зрения, более
важный вопрос он не вдается: как понять, столкнулись мы с
изменением устойчивой субстанции или со сменой
изменчивого? Не остановился он и ни на одном из
щекотливых вопросов относительного того, как изменяющиеся
атрибуты привязаны к неизменным субстратам, и до какой
степени могут меняться атрибуты, не вызывая изменения
субстанции. Он не рассмотрел проблему ножа, у которого
сперва заменили лезвие, а потом рукоятку, и, конечно,
был слишком протестантом, чтобы беспокоиться из-за
пресуществления. И, наконец, он не объяснил, почему
искал источник субстанции во внешнем, пребывающем в
пространстве, а не в субъективной непрерывности
памяти. В целом, доктрина субстанции у Канта, очевидно,
пронизана бессознательным материализмом.
Его подход к субъекту осложнен двойственностью
цели. С одной стороны, он настаивает на том, что «я»
должно-
но быть спасено из психологически невозможного тупика,
где его покинул Юм: содержимое сознания должно
обладать единством и связностью. С другой стороны, он не
признает (в отличие от Лейбница и Вольфа), что, исходя из
этой необходимости, можно рассуждать о метафизической
душе как духовной субстанции, которая будет простой и
неразрушимой, а, следовательно, бессмертной. Поэтому он
предлагает компромисс. Он рассматривает «я» как
трансцендентальный субъект, высший из его синтетических
принципов a priori, с которым, в конечном счете, должен
соотноситься всякий опыт. Именно субъект является
коррелятом всех объектов; но он — гносеологический и не
является ни «субстанцией», ни метафизической сущностью.
Философы очень старались убедить простого
человека, что этот компромисс предлагает ему если не
априорное доказательство бессмертия, то всё необходимое, чтобы
он мог с полным основанием назвать себя «я» Но если бы
простой человек не испытывал такого благоговейного
страха перед громоздкой терминологией Канта, он мог бы
обоснованно возразить, что Канту совершенно не удалось
наделить его таким «я», которое он мог бы лелеять как
свое собственное. Ибо это — очевидная истина.
Трансцендентальное «я» — не физический факт, а логическая
функция. И если она истинна, то истинна для всех вообще
сознаний. Поэтому никто не является обладателем «я»,
никто не имеет права говорить о своем трансцендентальном
«я» или своем синтетическом единстве апперцепции.
Кроме того, оно не может существовать во множественном
числе. Если вообще позволительно превращать
результаты гносеологического анализа в метафизические
сущности — а с этим строгий кантианец никогда не согласится, —
то необходимо признать существование единственного
трансцендентального эго и рассматривать наши
феноменальные «я» как его множественные личности5.
Именно так и поступили посткантианские
идеалисты. Поэтому философские споры могли продолжаться —
с небольшими изменениями в терминологии. Субъект
-21 -
или «я» взял на себя роль прежнего духа-субстанции.
Полагая себя и свое «иное», он выделил объективный мир;
затем поглотил свое выделение и объявил, что благодаря
этому сильно окреп.
Эта акробатика была весьма увлекательной, но
никак не помогла решить проблему «я». Психологи, однако,
подошли к ней вплотную. Уильям Джеймс исправил
коренную ошибку Юма, заговорив о континууме опыта и
наглядно изобразив его как поток изменений. Он
подчеркивал, что поток этот — свой {owned). Это — чей-то опыт,
и познающий, или «я», продолжает существовать,
несмотря на то, что, при размышлении, каждое прежнее «я»
переходит в «меня» (те). Вероятно, чтобы приспособить
свое объяснение к плюрализму юмовских атомарных
восприятий, Джеймс6 говорил о потоке моментальных «я»,
которые исчезают, передавая свое содержимое преемнику
или наследнику; к сожалению, многие восприняли этот
миф слишком буквально. Джеймс просто хотел включить
в свое психологическое описание тот факт, что
меняющийся поток сознания является своим. Поэтому, когда он
как будто приходит к выводу, что «проходящая мысль...
сама есть мыслящий», он никогда не забывает о том, что
«признание тождества нашего «я» и нашей личности (те)
даже в самом акте их различения представляет, быть
может, самое неукоснительное требование здравого
смысла»7. Джеймс не считал, что ему удалось объяснить это
тождество «я» и личности. Эту конечную проблему он
завещал будущим психологам, и она, несомненно,
заслуживает того, чтобы считать ее жгучим вопросом.
К сожалению, размеры статьи не позволяют
предложить полное решение этой проблемы. Но, полагаю, что она
вполне разрешима, если мы будем твердо соблюдать два
требования. Во-первых, что познающий элемент в нашем
сознании и познаваемый элемент в нашем сознании
единосущны и индивидуальны, так что каждый из нас — «я»,
которое может иметь личность, то есть «я», которое едино с
опытом, может обладать им, быть с ним соотнесенным и ус-
-22-
ваивать его. Во-вторых, мы должны полностью отказаться
от представления о субстанции как о субстрате и
обратиться к аристотелевской enérgeia. Ибо только из нашего
внутреннего опыта мы можем узнать, что значит изменяться и
оставаться тем же, и таким образом получить понятие о
постоянстве в изменении. Что же до того, как это
представление приводит к удовлетворительной трактовке
субстанции, я могу отослать читателя к главе XII «Activity and
Substance» своей книги «Humanism».
Понятно, что если размеры статьи не позволяют
подробно рассмотреть проблему субъекта, я не смогу
остановиться и на других проблемах. В заключение лишь
перечислю вопросы, которые мне представляются жгучими
и заслуживающими внимания философов. Что должен
значить для нас Бог? Как соотносятся разные «боги»? И
как доказывается их существование? Что такое проблема
зла? И почему она так трудна? Стоит ли жизнь того,
чтобы жить; стоит ли смерть того, чтобы умереть? И что
можно сказать о будущей жизни? Возможен ли прогресс?
Можно ли улучшить род человеческий? Достижимо ли
счастье или оно — иллюзия? Все эти вопросы стоит
задать, но быстро ответить на них вряд ли возможно — по-
видимому, они еще долго будут оставаться жгучими.
Примечания
1 Давид Юм. Сочинения. Т. I. М., 1966. стр. 364-367.
2 J. 5. Mill. Examination of Hamilton, I, p. 248.
3 Давид Юм. Сочинения. T. I. M., 1966, стр. 397-399.
4 Иммануил Кант. «Критика чистого разума». Первая аналогия.
5 Такой ход рассуждений приводит, конечно, к единству, которое
подверглось разложению, а потому может считаться безумным. (Ср.:
F.C.S. Schiller. Studies in Humanism, Ch. XI).
6 William James. Principles of Psychology, I, p. 401.
7 Уилльям Джэмс. Психология. СПб, 1911, с. 146.
Гуманистический взгляд на жизнь*
Мне кажется, что я лучше всего исполню свою роль
в этом курсе лекций, если более или менее полно
объясню, почему, на мой взгляд, Протагора следует считать
первым известным предшественником не только строго
гуманистической теории познания, но также и
гуманистического отношения к жизни вообще. И лучше всего начать со
второго вопроса.
Если подумать, в своих отношениях с миром человек
может занять две диаметрально противоположные
позиции. Он может покориться природному ходу вещей, или
может бороться, стремиться управлять им. Далее, если он
решает бороться, то может искать помощи вовне или же
полагаться на собственные силы. Во втором случае
позволительно назвать его гуманистом. Кроме того, очевидно,
что он может варьировать и сочетать эти три отношения
бесчисленным количеством способов, может
приспосабливать их к самым разнообразным ситуациям. Однако
можно рассмотреть их по отдельности, в чистом виде. В
таком случае покорность природному ходу вещей мы
назовем «натурализмом», а стремление управлять им —
«гуманизмом». По ряду причин человек редко сохраняет
натуралистическую позицию длительное время. Он может
* Лекция, прочитанная в библиотеке, Лос-Анджелес, Калифорния, май
1935 г.
-24-
тешить себя мыслью, что видимая покорность есть
наилучший способ одоления природы, но на самом деле она
противоречит его деятельному характеру Кроме того,
ясно, что если он действительно покорится и предоставит
события их естественному ходу, то положения своего не
улучшит. Вдобавок натурализм способствует путанице в
мыслях, поскольку «природа» — расплывчатое и смутное
понятие. Так что в целом натурализм — позиция для
человека не характерная и не благоприятная.
Попав в беду, он предпочитает звать на помощь и,
поскольку положение его часто бывает отчаянным, готов
принять ее из любого источника и заплатить за нее чуть
ли не любую цену Это отношение и порождает религии
во всем их фантастическом и устрашающем
многообразии. Все они — просьба о сверхъестественной и
сверхчеловеческой помощи там, где сам человек бессилен.
Первый результат призыва к сверхъестественному — видимо,
психологический. Свяжет человека религия с высшими
силами или нет, она ободряет его, побуждает смелее
действовать, свободнее экспериментировать. И тогда он
может почувствовать, что природа поддерживает его
смелость — audentes fortuna juvat*. Хотя, на первый взгляд,
религия учит полагаться на другого, практически она
обычно побуждает полагаться на себя.
Но самостоятельность можно культивировать и как
таковую. Она культивировалась так чуть ли не с начала
времен — немногими, — и в целом эта линия поведения
себя оправдывала. Таково, по крайней мере, было
убеждение колдунов и знахарей, от которых могут провести свою
родословную нынешние ученые и врачи. Самопомощь и
управление собой ради управления другими — очевидно,
первая линия обороны от многочисленных напастей,
осаждающих нашу жизнь. Вдобавок, она приносит
наибольшее удовлетворение — если мы можем ее удержать, —
ибо она самая гарантированная и воодушевляющая. Ее
* Удача сопутствует смелым (лат.).
-25-
слабости — это наши слабости, границы наших
возможностей защищаться от зол. К счастью, наша способность
управлять нашим миром постоянно росла, а сейчас растет
довольно быстро.
Тем не менее, пока эта слабость сохраняется,
гуманизм недостаточен. И мы испытываем соблазн перейти на
другие позиции. Мы испытываем соблазн опуститься до
трусливой покорности натурализма или довести свою
веру в сверхъестественное до такой степени, что станем
надеяться на чудо.
Я никогда не мог понять, почему этой обычной
человеческой практикой надо возмущаться. Мне она
кажется вполне разумной. Я не понимаю, почему
гуманисту нельзя стать натуралистом или теистом, когда
человеческие силы покидают его в беде. Ибо высшим и
главенствующим принципом в наших отношениях с
жизнью всегда должен быть прагматический принцип, и
нельзя допустить, чтобы путь к спасению нам
преградили какие бы то ни было метафизические предрассудки.
То, что истинно, должно действовать, а то, что обещает
быть действенным, в любом случае заслуживает
проверки: не действует ли оно так хорошо, что может быть
признано истинным. Здравый смысл всегда говорил, что
важнейшее дело для человека — создать как можно
более эффективную защиту от окружающих зол; поэтому
мы вправе экспериментировать с любой гипотезой,
которая обещает быть эффективной. Отвергать испытуемые
теории на том основании, что они логически
несовместимы — чистейший педантизм. Чтобы получить право
пользоваться ими одновременно, мы просто должны
относиться к ним как к методам.
К тому же в большинстве случаев неверно
утверждать, что они логически несовместимы. Ибо чаще всего
благодаря своей неопределенности теории чрезвычайно
эластичны, и могут быть приспособлены почти к любому
факту. Натурализм — как раз такой случай. Ничто не
мешает нам понимать «природу» так широко, что она будет
-26-
включать в себя и человека, и сверхъестественное. Ибо
человек, понятно, обладает собственной природой, а со
сверхъестественным, если бы оно не обладало
собственной устойчивой природой, не были бы возможны никакие
отношения. Так что самый просвещенный гуманизм
можно низвести до противостояния либо науке и природному,
либо религии и сверхъестественному
Имея в виду такую схему соотношения между
гуманизмом и другими философскими позициями, мы
можем теперь заняться первым мыслителем, отчетливо
изложившим позицию гуманизма — знаменитым Протаго-
ром из Абдеры. Сформулирована эта позиция в его
знаменитом изречении «anthropos metron» (по-латыни —
homo mensurà) или, более точно, «человек есть мера всех
вещей, существующих — что они существуют,
несуществующих — что они не существуют». Это — великий девиз
относительности, ставящий человека в центр Вселенной,
которая для него существует и имеет к нему отношение.
Он продолжает быть безотказным источником научного
знания; свидетельством тому — физика Эйнштейна и
гейзенберговский принцип неопределенности. Также это
единственный принцип, оставшийся от ранней
философии, который предшествовал платоновскому открытию
«идеи» и сравним с ним по важности. Кроме того, он был
выдвинут Протагором не в начале, а в конце его
философского пути, то есть подытоживает опыт всей жизни. А
ценность принципа чрезвычайно зависит от того, явился
ли он по наитию или выработан с мучительным трудом,
долгими усилиями, в спорах философских школ. Жизнь
Протагора была пестра и беспокойна, и, подобно
Одиссею, он мог сказать, что «многих людей города посетил и
обычаи видел».
Он жил в одну из тех эпох, когда формировалось
будущее человечества, — в пятом веке до нашей эры, в
Греции. Мы знаем год его смерти — 411 год до н. э., а
относительно даты рождения есть две версии — 500 или 480 год
до н. э. Дата смерти устанавливается по времени его бегст-
-27-
ва из Афин, когда олигархический Совет Четырехсот
обвинил его в нечестии — так же, как за двенадцать лет до
того обвинила Сократа в нечестии противоположная
партия — демократы. В обоих случаях есть все основания
предположить, что подоплекой обвинения была политика.
Ибо афинские демократы обнаружили, что Протагор — их
человек, философ демократии: «человек есть мера»
означало, что каждый имеет право на собственное мнение,
право выбора в интеллектуальной области. Соответственно,
они назначили его законодателем Фурий, когда там была
основана важная колония. Но когда к власти пришли
консервативные олигархи, обвинение в нечестии стало
неизбежным, так же, как против Анаксагора, когда Перикл
потерял народную поддержку А Протагор дал своим врагам
хороший повод, заявив, что о богах он не может сказать,
существуют они или нет, и мешают ему это определить
неясность предмета и краткость человеческой жизни.
Весьма разумное замечание, если оно относилось к
взаимно противоречивым мифологиям, существовавшим в
разных городах Греции, — и вполне естественное для
человека с научным и эмпирическим складом ума. Мы не знаем,
в каком контексте оно было сделано, поскольку книгу
Протагора сожгли. Но его не спас бы никакой контекст,
ибо Четыреста жаждали крови несносного пропагандиста
демократии. Примерно так же отнеслась к Сократу
демократическая власть в 399 году до н. э., понимая, что его
максима «добродетель есть знание» — не просто парадокс
этики; политический смысл ее — умелое правительство
олигархов или бюрократов и низвержение демоса. Но
поскольку Фрасибул принял власть над Афинами,
потребовав политической амнистии, открыто выдвинуть
политическое обвинение было нельзя; поэтому Сократа
обвинили в «нечестии», дополнив это, не иначе, как в шутку,
«развращением молодежи». Как написали мне однажды в
экзаменационной работе, человек, серьезно полагавший,
что Сократ способен развратить юношу, подобного Алки-
виаду, просто не знал афинской молодежи.
-28-
Последствия этих обвинений потому лишь
оказались разными, что Протагор не предстал перед судом. Он
не был афинским гражданином и не считал своим долгом
умереть из-за того, что предвзятый суд вынесет ему
приговор, исходя из политических интересов; к тому же он
знал, что как учителя его охотно примут в любой части
Греции. Он сел на корабль, отплывавший на Сицилию; но,
к несчастью, корабль потерпел крушение, и он утонул.
Так погиб выдающийся деятель нового высшего
образования, вызывавший фурор среди молодежи богатых классов
во всем греческом мире.
Почему, возможно, спросите вы? Не потому, что
молодыми людьми, как по волшебству, овладела чистая
жажда бесполезных знаний; но по причине вполне
объяснимой, практической и настоятельной. Победа над
персидскими захватчиками привела к большим
политическим переменам в Греции. Важнейшую роль в этой победе
сыграли демократические Афины, и во многих городах на
смену олигархиям и тираниям пришла демократия. А это
означало, что прежние правящие классы оказались в
трудном положении. Если они желали по-прежнему
играть политическую роль, то уже недостаточно было
убедить маленький комитет: надо было научиться
произносить речи перед полновластным народом на рыночной
площади. Больше того, если они хотели сохранить жизнь
и имущество, им надо было научиться одолевать ядовитое
племя профессиональных доносчиков, которые жили тем,
что тащили богатых во враждебный демократический суд
и получали часть их имущества, когда удавалось добиться
обвинительного приговора.
Но почему богатые не могли защитить себя?
Именно потому, что должны были защищать себя сами! Они не
могли, как теперь, нанять умелых адвокатов для
выполнения этой жизненно важной работы. По той простой
причине, что адвокатов не было. Высшее образование,
предлагаемое так называемыми софистами, было первым
этапом в эволюции адвоката; но пока что, если ты хотел
-29-
защитить себя или блеснуть на ораторском поприще, речи
составлять приходилось самому, как бы родовит и богат
ты ни был.
Отсюда энтузиазм молодых людей из высших
классов в связи с «новым образованием» и обучением у
софистов. Молодые понимали, что оно жизненно необходимо;
старые его осуждали и ворчали по поводу расходов на
образование сыновей. Светила же новой школы, такие, как
Протагор, наживали богатство, оказывая важную
социальную услугу, на которую был большой спрос. Рассказывают,
что Протагор брал большую плату, но если его ученики
считали, что его наука столько не стоит, они могли пойти в
храм, клятвенно объявить, сколько она стоит, по их
мнению, и тогда Протагор соглашался. Интересно, многие
преподаватели разбогатели бы, будь такой метод принят
сегодня? Но лучше всего демонстрирует истинную сущность
учения у софистов и мотивов, двигавших теми, кто жадно
его впитывал, история о Протагоре и Еватле. Происходит
она из старой формальной логики, где иллюстрирует
форму умозаключения, называемую «дилеммой». Протагор
договорился с Еватлом, что тот даст вперед лишь половину
платы, а вторую — когда выиграет свое первое дело. Но,
окончив курс, Еватл не занимается практикой, показывая
тем самым, что учился лишь для того, чтобы защищаться от
сикофантов. Наконец, Протагор начинает тревожиться, что
Еватл не расположен платить; он вызывает его и, когда они
приходят в суд, обращается к нему с такой речью:
«Глупейший молодой человек, неужели ты не понимаешь, что, как
бы ни решили судьи, тебе придется платить? Если решат в
мою пользу — заплатишь по приговору; если — в твою,
тогда ты выиграл свое первое дело и заплатишь согласно
нашему уговору». На это Еватл отвечает: «Мудрейший
учитель, неужели ты не понимаешь, что платить я не должен
ни в том, ни в другом случае? Если судьи решат в мою
пользу, я не заплачу по их приговору; если — в твою,
значит, я проиграл мое дело, и по нашему уговору, деньги тебе
не положены».
-30-
Конечно, если бы Протагор мог нанять
современного адвоката, тот, со свойственной этой породе
находчивостью, вероятно, сочинил бы какой-нибудь долг Еватла
Протагору, равный искомому гонорару или больший. И,
кому бы ни симпатизировали судьи, Протагор бы деньги
получил. Но, как я уже сказал, адвокатов не было, и
изобрести их было трудно. Сократ надоел согражданам до
смерти своими вопросами, прежде чем сумел убедить их в
юридической ценности перекрестного допроса. Даже во
времена Цицерона advocatus должен был являться в суд в
качестве друга, приглашенного одной из сторон, и
расплачивались с ним «подарками». А барристеру в Англии и по
сей день не разрешено требовать свой гонорар через суд.
Профессией Протагора было обучение эффективной
речи, то есть риторике, красноречию и всему тому, что
связано с этой главной целью. Поэтому мы обнаруживаем, что
софисты занимались также грамматикой, синтаксисом,
логикой и теорией познания. Они, в особенности Протагор,
заложили основы этих исследований. Не состоя на
жаловании у государства и не получая денег от каких-либо
фондов, софисты вынуждены были брать плату со слушателей.
Ученики, следовательно, были из тех, кто в состоянии
платить, то есть богатые. А они в пятом веке до нашей эры
твердо держались олигархического направления мыслей.
Это ставило софистов в неловкое положение перед
народом. Они оснащали его врагов оружием и доспехами.
Им приходилось так поступать потому, что они
обслуживали потребности и вкусы очень антидемократической
публики, и снискать аплодисменты могли только
нападками на демократию. Но при этом они отлично понимали,
что аудитория у них есть только благодаря демократии, и
если ее отменят, они лишатся работы. Так что, каковы бы
ни были их личные симпатии, они, вероятно, вели себя
так, как если бы демократия означала для них
процветание, и до крайностей в критике не доходили.
История Протагора хорошо все это иллюстрирует.
Я уже говорил, что он бежал из Афин после неосторожно-
-31-
го высказывания о богах, которое было истолковано как
оскорбительное. Высказывание это содержалось в его
последней книге, задуманной, вероятно, как magnum opus*]
предположительно она называлась «Aletheia» («Истина»)
и содержала также максиму «anthropos metron». Так или
иначе, она вызвала бурю. Согласно Диогену Лаэрцию,
Протагор не только был обвинен в нечестии: афинские
власти собрали все экземпляры оскорбительной книги, до
которых сумели добраться, и сожгли.
Гонения, очевидно, дали результат. Кажется, кроме
этих двух цитат, никто ничего не знает о содержании
книги; и контекста их никто не знает.
Мало того, можно утверждать, что «Истину» не
читал и Платон, которому во время этих событий было 17
лет. Как это объяснить? Очень просто, если мы вспомним,
что владельцами запре юй книги были, естественно,
ученики Протагора, сторонники олигархического режима. И
учительскую «Истину» они принесли в жертву
партийной лояльности. Собственный экземпляр Протагора,
наверное, канул вместе с ним.
Если исходить из такой гипотезы, то весьма
возможно, что Платон никогда не видел инкриминируемых
пассажей in situ**] а если изучить его упоминания о Про-
тагоре в их вероятном хронологическом порядке, то
можно утверждать это с большой уверенностью.
Сначала, в блестящем диалоге «Протагор», Платон,
кажется, совсем не представляет себе, что Протагор —
нечто большее, чем знаменитый преподаватель и вполне
традиционный моралист. Ни слова об «anthropos metron»
и логических следствиях из него.
Затем, в «Меноне», устанавливается любопытная
связь между Протагором и Сократом. Анит, впоследствии
один из обвинителей Сократа, настолько недоволен
софистами, что выходит из себя. Сократ же спокойно упоминает
* Главный труд (лат.).
** На месте нахождения (лат.).
-32-
Протагора как человека, оставившего по себе добрую славу.
Не правда ли, странный отзыв о человеке, бежавшем от
афинского суда? Но не следует ли нам понять слова
Платона как намек на то, что и Протагор, и Сократ были
благородными жертвами афинской нетерпимости и фанатизма?
В «Евфидеме», однако, Платон уже чует неладное.
Он выводит на сцену двух «эристиков» —
спорщиков-софистов, превзошедших сократовскую диалектику, и
обвиняет их в том, что они отрицают закон противоречия.
Имеет смысл вникнуть в это обвинение, потому что его до сих
пор выдвигают против «anthropos metron» и протагоров-
ского гуманизма. Если некоему А после упражнений стало
жарко, а В, сидящий в холодном подвале, с этим не
согласен, то здравый смысл позволит без труда разобраться в
ситуации. Оба претендуют на объективность своих
личных ощущений; каждый, применительно к своему
положению, прав. Для А жарко, для В нет. Кроме того, А,
возможно, высказывается об этом и настаивает на подтверждении
своего чувства именно потому, что не уверен, разделяют ли
его другие, «субъективно» оно или «объективно». В не
соглашается, и тогда становится ясно, что простой обмен
впечатлениями вопроса не решит. А и В должны
обратиться к термометру и обсудить уже его показания. Ничего
парадоксального в этом столкновении мнений нет.
Но не так толкует эту ситуацию Платон. Прежде
всего, он изымает ее из естественного человеческого
контекста и рассматривает абстрактно, как грандиозный
вопрос о вечном смысле абсолютной и объективной
температуры. И тогда, конечно, «жарко» и «не жарко»
находятся в противоречии (словесном), а того, кто говорит, что
они совместимы, можно обвинить в отрицании
важнейшего «закона мышления». Но позволительно заметить,
что источник всей трудности — именно этот трюк с
отрывом взаимно противоречащих суждений и людей, их
высказавших, от конкретного контекста.
В «Кратиле» мы встречаемся, наконец, с принципом
«anthropos metron» и с Платоном, который глубоко им по-
-33-
трясен. Чтобы кто угодно судил об истине и реальности!
Чтобы первый встречный-поперечный решал, что реально
для всех без исключения, и не склонялся перед
авторитетным вердиктом Платона! Возмутительно! Это все равно,
что мерой всех вещей сделать собакоголового павиана*.
Платон демонстрирует полное непонимание Протагора и
проблем, которые привели к доктринам относительности.
Проблемы же, по-видимому, заключались в том, что, с
одной стороны, люди действительно не соглашаются друг с
другом по любому мыслимому вопросу, а, с другой
стороны, умеют достигнуть общественного компромисса и жить
вместе.
И, наконец, в «Теэтете» мы знакомимся с последним
и самым важным откликом Платона на учение Протагора,
которого он определенно считает теперь огромной
фигурой в теории познания. «Теэтет» — поздний диалог,
вернее, я бы сказал, подвергшийся поздней переработке.
Центральная проблема его — проблема «заблуждения», и
решение ее — явная неудача. На неудачу обречена любая
теория познания, абстрагирующаяся от целей, которыми
движимо всякое реальное мышление, и отказывающаяся
признать, что истина и заблуждение соотносятся с целью;
тем не менее «Теэтет» остается, безусловно, лучшим
исследованием заблуждения в рамках интеллектуализма.
Среди участников диалога — старик Феодор, о
котором говорится, что он друг Протагора, математик, но не
философ. «Не философ» — почти технический термин,
используемый идеалистами для обозначения тех, кто с
ними не согласен, и, хотя Феодор говорит мало, я
подозреваю, что его роль в споре была гораздо существеннее,
чем желает признать Платон. Полагаю даже, что именно
он был источником тех запоздалых знаний о доктрине
Протагора, которые Платон демонстрирует. Ибо, хотя
книгу Протагора уничтожили, друзья у него еще остались
и могли протестовать против передержек Платона.
* Это высказывание содержится в диалоге «Теэтет».
-34-
Так что, когда Платон сочинял «Кратила», скажем,
около 380 года до н. э., Феодор еще мог быть жив. И
карикатурный пересказ Протагора в этом диалоге вполне мог
вызвать его возмущение и побудить его к спору Платон
внимательно слушал того, кто должен был знать, что имел
в виду Протагор, и способен был раскрыть контекст
изречения. Значит, он записывал разъяснения Феодора и
много лет спустя, примерно в 355 году до н. э., выстроил из
них защиту Протагора, вложив её в уста Сократа.
Но защита эта не кажется частью первоначального
плана «Теэтета». Когда заходит речь о Протагоре, сначала
повторяется тирада из «Кратила» насчет павиана («кино-
кефала»). Кроме того, как я показал в брошюрке «Платон
или Протагор?»1, сама эта защита содержит весьма
неплатоновские идеи. И, наконец, аргументы в пользу
относительности не встречают возражений в дальнейших частях
«Теэтета», хотя некоторые из них представляются
понятыми неправильно. Поэтому я склонен считать их подлинно
протагоровскими — единственным подлинным
изложением его философии, которым мы располагаем, —
просочившимся к Платону сквозь сознание Феодора, но не вполне
понятым. Этим объяснялось бы и то, почему Платон не
рассказал нам больше. Ибо Феодор, естественно, должен
был сосредоточиться только на ошибках Платона, а с
контекстом изречения они могли быть прямо не связаны.
Отражение атак Платона на Протагора практически
оформляет гуманистическую позицию. Ибо остальное
сильно уступает ему по весомости и энергии, и вдобавок
лишено оригинальности. И все же воспользуюсь случаем
указать на ценность «anthropos metron» как теории познания и
на нелепость обвинений, кочующих из одной книги по
истории философии в другую, будто это максима ведет к
скептицизму.
Совершенно очевидно, что, говоря: «Человек есть
мера всех вещей», я не отрицаю того, что человек может знать
все вещи, — я решительно это утверждаю. «Все вещи» не
следует понимать в абсолютном смысле, как и всё прочее.
-35-
Ибо кто знает, может ли реальность образовать целое
иначе, как в воображении человека? «Все вещи» — это вещи,
которые нас касаются. Максима Протагора провозглашает
адекватность человеческого познания его проблемам.
Она показывает также, как — в главном — человек
делает свои проблемы соизмеримыми со своим умом. Путем
измерения. Но «мера» или «число» (весьма родственное ей
понятие) являются не метафизической сущностью всех
вещей, как утверждали, доходя до крайности, пифагорейцы, а
всего лишь человеческим изобретением, исключительно
человеческим орудием. Это — глубоко и безусловно
истинно. Наука всегда стремится к количественному
рассмотрению. Так по какой же причине гуманизм обвиняют в
скептицизме? Упрек ни на чем не основан, кроме утверждения
относительности и путаницы, вносимой во многие
философские умы понятием абсолюта. Люди воспринимают
неодинаково, мерят неодинаково, ценят неодинаково и не
одно и то же считают истинным и реальным. При этом одни
судят гораздо вернее, чем другие, как вынужден признать
от имени Протагора Сократ в «Теэтете».
Но это вовсе не причина отрицать знание и не ведет к
скептицизму. Это ведет к плюрализму и терпимости, а не к
нигилизму или абсолютизму Ибо теоретически можно
признать, что в одном и том же вопросе могут существовать для
разных умов разные «истины». И действительно, мы
наблюдали это во всех обществах. Однако это вызывает
истерику даже у философов. Практически же такая ситуация не
создает никаких трудностей. Она не влечет отказа от
объективной определенности и общественного согласия. Она
лишь требует некоторого дальнейшего исследования
некоторого savoir fair* и социального урегулирования. Если А —
дальтоник или близорукий, мы не отчаиваемся в
возможности определить, каковы (для нас) истинные цвета или
подлинный характер удаленного предмета, но предпринимаем
надлежащие шаги с тем, чтобы это выяснить. И все прини-
* Умение довести начатое дело до конца (фр.).
-36-
мают в этом участие. Человека, чьи природные способности
дефектны и не позволяют ему воспринимать вещи, как
нормальным людям, легко склонить к тому, чтобы он признал
свои изъяны и прибег к тем средствам их исправления,
которые создала наука. Так что близорукий не откажется
носить очки, когда убедится, что видит в них лучше.
Но без них, конечно, он по-прежнему видит плохо.
По-прежнему то, что он видит, соотносится с
возможностями его восприятия. Так же — и его очки. Они
приспособлены к его зрению. Поэтому не надо слушать платоника,
когда он пытается убедить нас, что должна быть найдена одна
абсолютная и объективно правильная пара линз, идеальная
для всех и единственная, с чьей помощью можно
воспринять вечную истину. Наоборот, надо обратить против
платоника его же упрек и объяснить ему, что это он блуждает у
грани скептицизма. Именно абсолютист, а не релятивист
отвергает и считает недейственными повседневные и
привычные методы различения истины и заблуждения. Ибо у
него нет средства доказать, что его «истины» не
соотносимы с ним, с его характером, убеждениями, предрассудками
или же что «абсолютная», как он ее называет, истина может
быть постигнута человеческим сознанием. Он не может
доказать, что все постигаемые нами истины не соотносятся с
нашими познаниями, нашими способностями и условиями
экспериментов, к этим истинам приводящих. И когда он
вынужден, наконец, признать, что абсолютная истина
неизбежно должна быть прерогативой Абсолюта (тоже весьма
человеческого и сомнительного измышления!) не
становится ли ясно, что представление об абсолютной истине
дискредитирует наши человеческие истины? После чего,
если мы разумны, надо решительно его отбросить.
Примечания
1 См.: Plato or Protagoras? Oxford: Blackwell, 1908.
Должен ли эмпиризм быть ограничен?*
Если бы нашелся бесстрастный ум и рассмотрел
обычаи философов холодным взглядом чистого рассудка,
он не нашел бы более интригующей загадки, чем всеобщее
и стойкое нежелание философов доверять опыту и
принимать его без предвзятости и задней мысли, таким, каков
он есть. Ибо среди бесконечного разнообразия
философских мнений искренний и последовательный эмпиризм
найти труднее всего. На этот статус могли бы с полным
основанием претендовать некоторые прагматисты, но по
большей части даже самые эмпирически настроенные
философы после щедрых обещаний и искренних заверений
неизменно кончают самым ветхим и фантастическим
априоризмом или безответственным и бессильным
скептицизмом. Придя всего лишь к отрицательному выводу, что
не всякое знание проистекает из опыта, они как будто
испытывают тайное удовлетворение, причем настолько
глубокое, что, кажется, почти с одинаковой охотой готовы
признать возможным источником знания божество или
дьявола.
Эта мысль преследовала меня, когда я читал
блестящий доклад «Границы эмпиризма»1, с которым лорд
Рассел выступил в апреле перед Аристотелевским общест-
* Впервые опубликовано: Mind, XLV (1936), pp. 297-309.
-38-
вом. Впечатление было тем более сильное, что лорд
Рассел, один из самых смелых и ясно мыслящих философов,
известный своими симпатиями к эмпиризму и почти всем
философским ересям, всегда стремился к идеалу
бескорыстного интеллекта и бескомпромиссной точности и
неутомимо вскрывал слабости человеческой души,
смущаемой подсказками страстей. Он благородно предпочитал
не поражать, а быть понятым, и считал ниже своего
достоинства окутывать свои мысли туманом
терминологического многословия.
Так что это явление незаурядное — когда столь
выдающийся человек берется определить границы
возможного опыта, и есть смысл проследить за тем, каким
образом ему удалось убедить себя, что чистый эмпиризм
несостоятелен.
Позвольте мне для начала процитировать его вывод:
«На самом деле мы твердо убеждены, что знаем о таких
вещах, в знании которых чистый эмпиризм нам
отказывает. Соответственно, мы должны искать теорию познания
иную, чем чистый эмпиризм... Мы имеем основания
считать, что:
(1) если о каком-либо словесном знании известно,
что оно, так или иначе, получено из чувственных данных,
мы можем иногда «увидеть» между двумя частями
воспринимаемого настоящего* отношение, аналогичное
причинности;
(2) факты об универсалиях иногда могут быть
восприняты, если универсалии иллюстрируются чувственно
воспринимаемыми событиями: например,
«предшествование» транзитивно, или синее ближе к зеленому, чем к
желтому;
* Воспринимаемое настоящее (speciouspresent) — краткий промежуток
времени, в котором изменение или длительность воспринимаются
сознанием непосредственно. Это — психологическое настоящее, в
отличие от физического, которое есть идеальная граница между прошлым
и будущим.
-39-
(3) мы можем понимать сочетание слов* и знать, что
оно выражает либо истину, либо ложь, даже не имея
способа установить то или другое;
(4) физика требует возможности делать выводы, по
крайней мере, вероятностные, о событиях, которые не
наблюдались, и, в частности, — о будущих событиях.
Без этих принципов то, что обычно считают
эмпирическим знанием, становится невозможным.
Нет необходимости утверждать, что мы можем
получать знание до опыта: правильно будет сказать, что
опыт дает больше информации, чем полагает возможным
чистый эмпиризм».
Лорд Рассел приходит к этим выводам, взяв у
анонимного автора «Британской энциклопедии»
определение: «Эмпиризм — это теория, согласно которой все
знание происходит из чувственного опыта». И далее говорит:
«Прежде чем обсуждать, истинен или ложен эмпиризм,
мы должны поставить три вопроса».
Сразу же надо заметить, что это определение
ограничивает опыт чувственным опытом, а лорд Рассел не
дает определения «чистому» эмпиризму, оставляя смысл
термина неясным. Не объясняет он и того, в каком
смысле использует «истину» и «ложь». По-видимому, в
смысле, подразумеваемом «законом исключенного третьего»,
то есть исключающем возможность бессмысленного. Он
полагает, что смысл, истинность и ложность «сочетания
слов» можно установить, не зная его контекста и
использования. Я думаю, хотя и не уверен в этом, что «истину» и
«ложь» в данном рассуждении он полагает
«абсолютными». Во всяком случае, считает их лишенными
неоднозначности, ибо дальнейшая его аргументация рухнула бы,
* Сочетание или комбинация слов (form of words) — в логике
абстрактное соотношение терминов в пропозиции. Распространенный перевод
«форма слов» чреват неопределенностью, поскольку термин можно
понять в грамматическом смысле.
-40-
если бы он признал, что «истинность» и «ложность»
соотносятся с контекстом и с целью.
Затем лорд Рассел заявляет: «Мы должны спросить,
что значит "знание", что значит "получено из", и что
значит "чувственный опыт"». О «знании» он говорит, что для
него нет «принятого определения». Он мог бы добавить,
что именно о значении этого слова идет главный спор
между разными школами гносеологии.
«"Получено из", — считает лорд Рассел, — можно
интерпретировать либо логически, либо причинно». Я бы
добавил: что бы ни означали «логически» и «причинно».
Не стоит также упускать из виду возможность
психологической и биологической интерпретаций.
«Слова "чувственный опыт", — говорит он далее, —
можно толковать широко и узко». Возникает важный
вопрос: как именно толкуют их в данном случае? Ибо опыт
при этом сводится к чувственному опыту, а чувственный
опыт считается процессом, который может адекватно
наблюдаться внешним наблюдателем. Как зависит опыт от
субъекта, исключено из рассмотрения самой формой
постановки вопроса. Такой, что всякая волюнтаристская или
персоналистская интерпретация отметается с порога.
Намеренно ли их исключает лорд Рассел, — трудно понять,
но на каждой стадии дальнейших рассуждений это
сказывается самым решительным образом.
Прежде всего, это позволяет лорду Расселу начать с
привычного в академических дебатах вопроса: «Что такое
чувственные данные, и что представляет собою
непосредственно зависящее от них знание? Отсюда немедленно
следует вопрос: как это знание зависит от этих данных?
Ответив на эти вопросы, мы можем выяснять, существует
ли иное знание, и если да, то на каком основании мы
должны ему верить».
Если бы взята была не точка зрения стороннего
наблюдателя (о чем говорилось выше), то ответить на эти
вопросы было бы просто. Чувственные данные — фикции
весьма изощренного философского «анализа», для кото-
-41-
рых нет психологических подтверждений, и в которых на
практике человек не нуждается. Поэтому ни у кого нет
убедительных «оснований верить» в них. Возможно, для
некоторых технических целей и для определенных
философских течений они удобны как способ избежать других,
более простых объяснений; но прийти к ним можно лишь
замысловатыми и сомнительными путями. Во всяком
случае, осмелюсь сказать, что ни простой человек, ни
практик, ни ученый не нуждаются в том, чтобы
«анализировать» свой опыт в терминах чувственных данных. Что
им требуется и из чего они исходят, — это восприятие
вещей и собственных состояний в свете не только
собственного прошлого, но и прошлого их предков; кроме того,
они верят в обоснованность своих верований. Последние
же являются частью большой прагматической
интерпретации опыта, которым мы воспитаны и которым живы.
Поэтому, чтобы точно описать знание, прежде всего
надо «исключить как не относящееся к делу» философское
понятие чувственных данных и сопутствующее ему
игнорирование антецедентов, контекста и фона «воспринимаемого
события». Меня изумляет, как этого не понял лорд Рассел,
ибо все его описание того, как «воспринимаемые факты»
«зависят от наших интересов и прошлой истории»,
великолепно и превосходит традиционные теории познания. К его
формулировке, что «узнавать» — всегда означает
«замечать», я бы добавил только, что последнее есть всегда отбор,
а отбор всегда связан с желанием и риском. Таким образом,
мы не пренебрежем волевой стороной познания.
Здесь лорд Рассел обнаруживает «логическое
затруднение». Наше самое непосредственное знание зависит
не только от «воспринимаемого факта», но и от нашей
прошлой истории. Но как мы можем узнать «в самом
начале эмпирического знания» «о влиянии на нас прошлого»?
По сути, это напоминает старую греческую
головоломку о происхождении знания из предыдущего знания,
которая привела Платона к постулату о предсуществова-
нии души. Но у менее романтического философа напраши-
-42-
вался бы вопрос: почему наше прошлое не может влиять на
наше познание без того, чтобы мы это знали? Почему мы не
можем выяснять постепенно, из опыта, насколько наше
прошлое сформировало — к добру или к худу — наше
познание? И почему мы должны беспричинно доверяться
находящейся вне опыта фикции о «самом начале
эмпирического знания»? Само это понятие порождено, по-видимому,
смешением психологического анализа с логическим.
Лорд Рассел, однако, предпочитает допустить, что
существует «первичное бессловесное чувственное
знание» как логически необходимая основа прочего
эмпирического знания. Правда, он признает, что оно пока еще
логически бесполезно, и его еще надо сделать таким, чтобы
оно передавалось в словах. Он указывает, что «есть
причинные отношения между словами и тем, что они
означают: кошка вызывает слово "кошка", а слово "кошка"
вызывает ожидание кошки, а может быть, и побуждает ее
увидеть». Эти причинные отношения иногда можно
воспринимать, и, по его мнению, ни один эмпирик не может
отрицать, что «я говорю: "вон там кошка", потому, что
кошка (или нечто, на нее похожее) там есть». «"Потому
что", очевидно, выводит меня за границы того, что
положено знать эмпирику. Слова "потому что" надо понимать
как выражающие отношение, которое, по крайней мере —
отчасти, является отношением причины и следствия».
Эта доктрина меня особенно заинтересовала. Я уже
много лет недоумеваю, как удается лорду Расселу,
согласившись с юмовской критикой причинности как
необходимой связи, постоянно ссылаться на некие причинные
отношения. Данный доклад показывает, что он
придерживается доктрины, согласно которой необходимая связь
между событиями не есть наблюдаемый факт, и
одновременно считает, что «слова "потому что" надо понимать как
выражающие более или менее причинное отношение, и
это отношение должно восприниматься, а не только
выводиться из частых соединений. Соответственно «причина»
должна означать нечто иное, нежели «неизменный анте-
-43-
цедент», и отношение причинности или отношение,
близко с ним связанное, должно быть таким, которое иногда
воспринимается».
Почему не всегда? Больше того: «в некоторых
случаях, когда это отношение доступно восприятию,
проблемы, связанные с языком, отсутствуют — например, когда
я ушибся и вскрикнул. Здесь, надо думать, мы,
несомненно, воспринимаем связь между болью и криком». На
самом деле, лорд Рассел не утверждает безоговорочно, что
мы непременно можем воспринимать «причинные
отношения», а лишь то, что иногда он «может воспринимать
какое-то отношение, близко связанное с отношением
причины и следствия».
Признаюсь, что восприятие причинных отношений
любого рода представляется мне прямым отказом от
основополагающей юмовской доктрины, и что «более или
менее причинного отношения» я не понимаю. Если бы
такое существовало, оно, надо полагать, поддавалось бы
количественной оценке, и это открывало бы большие
перспективы для нового исчисления, позволяющего
определить на пятьдесят процентов «отношение» «причинно»
или всего на двадцать пять. Что же до отношений,
«аналогичных причинности», хотелось бы увидеть, как эту
аналогию проводят.
В то же время позиция лорда Рассела вполне
характерна для обычной эмпирической трактовки Юма. Он с
величайшим энтузиазмом готов свести необходимую связь в
причинности к регулярным последовательностям, — а
затем продолжает говорить о причинных законах в науках,
совершенно как его нераскаянные метафизические
собратья. Не ограничивает он себя и в использовании
причинных импликаций в обыденной речи. Здесь его «эмпиризм»
подходит к одной из своих границ — просто потому, что он
отказывается следовать Юму и перестает быть эмпириком
в том смысле, в каком объявлял себя сначала.
Причина этой ретирады в том, что и метафизики, и
последователи Юма, и научные «эмпирики» сталкиваются
-44-
здесь с одной и той же трудностью. Они начали с одной и
той же необоснованной абстракции. Все они
предположили (некритически), что голый, непосредственный, личный
опыт волевого действия не имеет никакого отношения к
научной концепции причинности. Но антропоморфное
представление о соответствии природы человеческой
природе укоренено в языке и в научнсм методе гораздо
глубже, чем им представляется2.
Следующее затруднение лорда Рассела —
«обоснование выводов от фактов к фактам». Он цитирует витген-
штейновское описание независимых друг от друга
атомарных фактов: «Из существования или несуществования
атомарного факта нельзя заключить о существовании или
несуществовании другого {Логико-философский трактат,
2.062). Выводить события будущего из событий
настоящего невозможно. Суеверие — вера в такую причинную связь
(5.0361)».
Лорд Рассел признает, что эта (подлинно юмовская)
доктрина упраздняет «логическое следование», сводит
(дедуктивное) умозаключение к тавтологии и «уничтожает
все выводы, имеющие какую бы то ни было практическую
полезность». Но он воздерживается от утверждения, что в
предпосылках этих выводов должна крыться какая-то
глубинная ошибка, и ограничивается тем, что отношения
транзитивности и асимметрии должны восприниматься
непосредственно. Он не видит возможностей для того,
чтобы эмпиристская логика поддержала Юма, отказавшись от
традиционного представления о формально-логическом
следовании, рассматривая истинность всех выводов как
гипотетическую и экспериментальную и полагая
верификацию в опыте единственно возможным и актуальным, но
никак не формальным способом установления истины3.
На первый взгляд, позиция лорда Рассела более
надежна, когда он заявляет: «То, что можно воспринимать
факты об универсалиях, проявляется также во многих
других случаях. Глядя на радугу, мы можем видеть, что
синий и зеленый тона больше схожи, чем синий и жел-
-45-
тый... Это познается эмпирически в одном смысле, но не в
другом. Возьмем случай синего, зеленого и желтого.
Лишь ощущения показывают нам, что зеленый лежит
между синим и желтым: когда мы видим все три цвета
одновременно, мы можем видеть также их сходство и
различие и видим, что это — свойства тонов, а не конкретных
вещей... (Следовательно), внимание к фактам ощущений
может порождать знание общего».
Но последовательный эмпирик с полным правом
указал бы здесь на то, что лорд Рассел сильно упрощает
сложную природу цветного зрения. Слова «синий»,
«зеленый» и «желтый» — лишь грубые, хотя и практически
удобные, обозначения неопределенной массы цветов,
тонов и оттенков, незаметно переходящих друг в друга и
всячески меняющихся в зависимости от освещения, при
котором их рассматривают, от фона и места, на котором они
появились. К тому же цветное зрение, по всей вероятности,
выработалось сравнительно недавно в ходе эволюции и,
возможно, еще развивается. В таких обстоятельствах лишь
неоправданная уверенность в априорном (то есть
словесном) аргументе позволит нам надеяться, что природа
подтвердит наши ожидания насчет абстрактных «синего»,
«зеленого» и «желтого». Вполне могу себе представить,
что густой «синий» (индиго) в желтом свете будет гораздо
меньше похож на желтоватый «зеленый», чем
«светло-синий» на бледный «желтый» в розовом свете. Короче
говоря, парадоксы цветного зрения делают его предметом
крайне неподходящим для априорной аргументации.
Затем лорд Рассел рассматривает разновидность
эмпиризма в современной математике, называемую «фи-
нитизмом», и возникшую в связи с необходимостью
разрешить парадоксы бесконечности. Он ссылается на две
недавние статьи мисс Амброуз в журнале «Mind»4. Будет
благоразумно и достаточно — неспециалисту в
математике — ограничиться замечанием, что сейчас существуют, по
меньшей мере, три несовместимых интерпретации
философского обоснования математики, одна из которых при-
-46-
надлежит лорду Расселу. И данная его статья показывает,
что он не приемлет финитизма.
Его аргументы против финитизма основываются,
по-видимому, на неопределенности типичных устарелых
значений «истинного» и «ложного» и на неясности
«достоверного» (в логическом и психологическом смысле).
Он приводит предложение: «1 января 1066 года в Лондоне
шел дождь». Это пока лишь формальная «претензия на
истину»*, лишенная контекста «пропозиция» об
историческом событии. В таком виде она не имеет смысла и
истинностного значения (истина или ложь). Она может стать
подлинным суждением, только если кто-то
заинтересованный в этом найдет соответствующие документы, которые
удовлетворят квалифицированных историков. Но если в
надлежащем контексте истинность этого суждения будет
принята, то эта истинность будет отличаться по характеру
от «истинности» «пропозиции». Она перестанет быть
необоснованной претензией на истину, но будет обладать,
подобно всякой исторической истине, большей или меньшей
вероятностью, в зависимости от качества
подтверждающих ее свидетельств. Она никогда не сможет претендовать
на звание абсолютной и безусловной.
Затем следует несколько абстрактных
высказываний о «целых числах, больших, чем до сих пор
упомянутые», для которых трудно вообразить актуальный
контекст. Лорд Рассел, по-видимому, не осознал, что
«высказывание» приобретает актуальный смысл, только когда
оно соотнесено с какой-то актуальной проблемой, а пока
этого не сделали, оно ни истинно, ни ложно, просто
потому, что вопрос о смысле имеет приоритет над вопросом о
когнитивном значении (положительном или
отрицательном). Если бы «финитист», с которым он спорит, был бы
также в достаточной степени гуманистом и рассматривал
систему чисел как орудие, созданное человеком для вы-
* Претензия на истину {truth-claim) — в прагматизме гипотеза, еще не
подтвержденная опытом.
-47-
числений, он мог бы легко избавиться от всех
головоломок лорда Рассела, указав, что числа всегда
предназначались для какой-то цели, и что «бесконечность» числа
всего лишь означала, что можно образовать числа
достаточно большие для любой цели, если сформулирован
«закон» образования чисел.
Оспаривая замечание мисс Амброуз о том, что дать
полное разложение числа пи логически невозможно, лорд
Рассел возражает, что это невозможно с точки зрения
медицины. Но почему эта невозможность не может быть и
медицинской, и притом психологической? Одно не исключает
другого. Как бы там ни было, постулат лорда Рассела о
всеведущем Боге, который открывает полную истину
математическому Моисею, читается несколько странно, если
вспомнить прошлый вклад лорда Рассела в теологию. По-
видимому, он хотел сказать, что его «математический
Моисей», уверовавший, что полное разложение числа пи дано
ему в откровении Богом, непременно будет помещен в
сумасшедший дом! Но я не понимаю, почему финитисту не
согласиться с тем, что человек, упрямо утверждающий,
будто ему открылось «точное» значение пи, по всей
вероятности, кончит психиатрической больницей.
В конце концов, лорд Рассел признает: «Вне
математики мы не можем знать с определенностью, конечны
классы или бесконечны, — за исключением отдельных
случаев. И даже когда нам кажется, что мы знаем, пользы
от этого немного... [Ибо] согласно принципам финитизма
сочетание слов «все люди смертны», находится вне
области, где действует закон исключенного третьего. Я, со
своей стороны, считаю, что как только мне станет ясно, что
значит «человек», и что значит «смертен», я буду знать,
что означает «все люди смертны», и буду знать вполне
определенно, что либо это утверждение истинно, либо
какой-то человек бессмертен».
Я горячо надеюсь, что в скором времени лорд Рассел
выяснит (вероятно, путем откровения, а не опыта!) все
значения — прошлые, настоящие и будущие — слов «человек»
-48-
и «смертен» и немедленно это обнародует; но пока этого не
произошло, не вижу причин отступать от своего
утверждения5, что последовательный эмпиризм позволяет
осмыслить и слово «человек», и слово «смертный», и что
«доказательство» смертности всех людей — задача не из легких.
В итоге финитизм отвергается потому, что в основе
его лежит «несостоятельный общий принцип, согласно
которому то, чего нельзя доказать или опровергнуть, не
является ни истинным, ни ложным». Ответ на это таков: то,
чего нельзя доказать или опровергнуть, в научном плане
бессмысленно, и обсуждать очень неопределенные термины
«истинный» и «ложный», не проведя различия между
потенциальной «истиной» формальной претензии на истину
и проверенной истиной актуального утверждения, —
ошибочно. Кроме того, надо полагать, финитисты не
согласятся с тем, что они не могут дать эмпирически достаточного и
эмпирически верифицируемого описания математической
индукции и порождения натурального ряда.
Важному вопросу о том, не становится ли
современная наука полностью эмпирической, лорд Рассел уделяет
сравнительно мало места. Он только цитирует пассаж из
«Квантовой механики» профессора Дирака и объявляет,
что этот пассаж несовместим с последовательным
эмпиризмом. «Делается много допущений о том, чего нельзя
наблюдать и нельзя вывести из наблюдений, если не
принять такие формы вывода, которые должны отвергаться
чистым эмпиризмом». Вероятно, лорд Рассел имеет в
виду, что гипотезы и их проверка никогда не приводят к
истинному «доказательству», которое уже невозможно
улучшить. Но не этот ли эмпирический факт и является
причиной прогресса в науке?
Далее лорд Рассел указывает на несколько научных
допущений, которые он считает несовместимыми с
чистым эмпиризмом. Во-первых, доверие к памяти. Это
превосходный пример — для эмпириков. Ибо мы
прагматически вынуждены доверять нашей памяти, хотя постоянно
убеждаемся на опыте, как мало она заслуживает доверия.
-49-
Но почему нельзя эмпирику удовлетвориться
признанием этих фактов, принять все возможные меры
предосторожности и надеяться на лучшее? На что еще могли бы
дать ему санкцию все метафизические школы в истории
философии? Истолковывать надежность памяти как
трансэмпирический принцип для него бесполезно.
Во-вторых, то же относится и к надежности
свидетельств: показания лжеца не становятся правдивыми
оттого, что даны под присягой. В-третьих, опять-таки,
предсказания будущего происходят постоянно; эмпирически
установлено, что они возможны и полезны, хотя не
абсолютно надежны, и считать их таковыми не требуется.
Короче говоря, последовательный эмпирик осознал,
что все научные принципы, вероятно, относятся к
методологии, и что прогресс науки не требует от них большего;
также — что они эластичны и адаптируемы и могут
изменяться в соответствии с нашими растущими познаниями.
Поэтому нет оснований видеть в рассуждениях лорда
Рассела доказательство того, что радикальный и
последовательный эмпиризм несостоятелен. Доказана, самое
большее, его несостоятельность в том случае, когда «опыт» по
определению ограничен «чувственным опытом». Но это
ограничение представляется произвольным. И в связи с ним
возникает вопрос, надо ли втискивать весь опыт в то, что
некоторые философы называют «чувственным опытом».
Людей практических и последовательных эмпириков
убедить в этом будет трудно; и я вижу много веских причин с
ними согласиться. Ибо когда мы обращаемся к опыту, нам
незачем накладывать априорные ограничения на то, что мы
намерены считать опытом. В счет идет опыт, поступающий
к человеку в его целостности, а не препарат, с помощью
философского анализа извлеченный из ощущений и
составленный из «чувственных данных». Надо тщательно
различать непредвзятое психологическое наблюдение
актуальных процессов и их интерпретацию ex post facto* в
* После совершившегося факта {лат.).
-50-
терминах философской теории. Если бы это было сделано,
то осталось бы мало почвы для сенсуалистических и интел-
лектуалистических допущений, из которых формируются
a priori традиционного натурализма.
Однако мы должны еще ответить на два
фундаментальных возражения против любого законченного
эмпиризма — возражения, из-за которых так сопротивляется
ему философский ум. Первое из них заключается в мни-
мологическом вопросе: что следует считать
эмпирическим подтверждением гипотезы? Достаточно ли просто
подождать, пока она подтвердится? Или мы всегда
должны требовать дополнительных оснований, позволяющих
рассчитывать на ее подтверждение, или доказательств,
которые продемонстрируют ее абсолютную
правильность? Я полагаю, что настоящий эмпирик
удовлетворится простым ожиданием, тогда как априорист и
малодушный эмпирик пожелают дополнительных заверений.
Позиция первого состоит в том, что он имеет право
сформулировать любую гипотезу, на которую его наводит
прошлый опыт, и, наблюдая за ходом событий, оценить ее
справедливость. Если предсказания на основе «гипотезы»
постоянно сбываются, его доверие к ее «истинности»
будет расти, пока не превратится в полную
психологическую уверенность; в противном случае он будет
видоизменять свою гипотезу (если она не жизненно важный
постулат) или будет заменять другими, покуда наблюдаемые
следствия не станут хорошо согласовываться с
ожидаемыми. Он сознает также, что ему не нужно считать свои
гипотезы окончательными фактами, но что он вправе
считать любой принцип временным, экспериментальным
или методологическим, и что большинство реально
используемых научных принципов (если не все) можно
рассматривать как методологические. Другими словами, они
являются, в первую очередь, допущениями,
позволяющими получить результаты, которые иначе недостижимы
или не столь легко достижимы. Зачастую их главное или
единственное значение и заключается в этой методологи-
-51-
ческой функции. Например, если мы хотим предвидеть
будущее или подготовиться к нему, нам требуется
предположение о предсказуемой или более или менее
детерминированной последовательности событий; но не нужно и
излишне считать «детерминизм» чем-то большим —
скажем, универсальным «законом» природы. Больше того,
использование принципа детерминизма не требует веры в
его истинность. Использовать его для предсказания
необходимо, хотя нам нет нужды верить, что он в точности
применим к данному конкретному случаю. Достаточно
того, что мы пожелаем проверить, чего он стоит, и таким
образом получить результаты, лучшие, чем если бы мы
вообще уклонились от предсказаний.
Следовательно, подлинный эмпирик — тот, кто
желает оценить свои верования по их следствиям и исходить
в дальнейшем из их результатов. То есть он желает
признать за следствиями логическую значимость и считать
их подтверждением или опровержением верований.
Несомненно, такое утверждение эмпиризма многим
людям придется не по вкусу или покажется
неприемлемым. Дабы убедить их, что упорство им ничего не дает,
повторим для начала исключительно острый вопрос
Юма: почему будущее должно быть похоже на прошлое?
Как и все его трудные вопросы, этот является и
психологическим, и логическим, имеет и практическую, и
теоретическую сторону Но для последовательного эмпиризма
это хороший вопрос. Смысл его таков: возможно ли
добыть из прошлого какие-либо абсолютные гарантии
относительно будущего хода событий? С ростом познаний
ответить на него предубежденному антиэмпирику
становится все труднее.
Наука раскрыла такие особенности нашего мира,
которые делают его решительно неуютным для филосо-
фов-априористов. (1) Несмотря на господство «законов»
природы, мир почему-то встречает нас непредсказуемыми
новостями, дарвиновскими «случайными изменениями».
(2) Нет доказательств тому, что «законы» природы непре-
-52-
ложны. Есть основания подозревать, что они — всего
лишь привычные способы поведения вещей, а законы,
которыми мы пользуемся, и того слабее: они просто
удобные формулы для предсказания хода событий, причем мы
их непрерывно меняем и улучшаем. (3) Поскольку
реальность не статична, а изменяется («развивается»), и
поскольку никто не может сказать, где пролегают границы
возможного, ни один аргумент, основанный на нынешнем
порядке вещей, не может быть абсолютно убедительным.
Истина же вывода зависит от истинности предпосылок, а
последние, насколько мы знаем, истинны, в лучшем
случае, лишь до настоящего момента. Следовательно, (4)
«логическая невозможность» существует лишь rebus sic
stantibus* для наших умов, которые оперируют, исходя из
имеющегося «знания», принимают традиционные
постулаты и используют слова в принятом сейчас смысле. Если
одно из этих условий нарушено, логическая
невозможность вполне может выродиться в психологическую
«невозможность», которая есть всего лишь иллюзия.
Поэтому «врожденные идеи» и аргументы, основанные на
окончательности априорных принципов a la Kant бессильны
перед предположением, что человеческий ум, возможно,
еще развивается, и потому умозаключения, основанные
лишь на наших нынешних «необходимостях рассудка»,
могут оказаться несостоятельными. (5) Если оставить эти
предположения в стороне, то даже в установившемся
порядке опыта, по-видимому, таится много возможностей
катастроф, которые еще не произошли, однако, не могут
быть вынесены за границы возможного опыта. Можем ли
мы утверждать, например, что Земля никогда не погибнет
из-за столкновения Солнца с другой звездой, — только
потому, что этого еще не случилось? Такое
умозаключение, очевидно, напоминало бы принцип научной
«индукции», в том виде, как его часто формулируют; но не верх
ли глупости надеяться отвратить космическую катастро-
* При неизменном порядке вещей (лат.).
-53-
фу путем диалектических рассуждений, основанных на
том значении слов, которое они приобрели в результате
прошлого и нынешнего опыта?
Таким образом, у нас, очевидно, нет гарантий
обеспечить желаемое будущее с помощью каких-либо научных
умозаключений. Все наше «знание» лишь условно и более
или менее вероятно, и «принципы» его зиждутся на
надеждах и постулатах. Фактор сомнения, случайности,
вероятности невозможно устранить из развертывающегося
опыта никаким догматизмом или ссылками на прошлый
опыт. Но должны ли мы поэтому съеживаться перед
неопределенностью и обманывать себя тем, что раз мы
чураемся ее, она не существует? Не правильнее ли и
настоящему человеку, и настоящему эмпирику всесторонне
приготовиться к тому, чтобы смело встретить опасности и
неопределенности будущего и постоянно варьировать
свои действия в соответствии с постепенно
накапливающимся опытом? Таким образом, подлинно радикальный
эмпирик встретит даже непредвиденное будущее, не
стараясь ограничить и отвести его риски тщетными
заклинаниями априорного пустословия.
Примечания
1 См.: Proceedings of the Aristotelian Society, XXXVI (1935-1936), pp.
131-150.
2 Один Юм понимал соотнесенность этого опыта и проблемы
«причинности» и с обычной своей находчивостью оспаривал их связь в
«Исследовании о человеческом познании» (см. мою книгу
«Humanism», eh. XVI). Вопрос в итоге сводится к тому, ограничиваются ли
философия и наука точкой зрения стороннего наблюдателя или
должны учитывать точку зрения воспринимающего опыт и
действующего.
3 В голословном утверждении «внутри одного воспринимаемого
настоящего мы воспринимаем А как предшествующее В, а в другом
воспринимаемом настоящем воспринимаем В как предшествующее С»
содержится, конечно, логическая ошибка. Это утверждение
«самоочевидно» только как абстрактная формула. В любом актуальном случае
-54-
тождество двух В подразумевает гипотезу и риск. Лорд Рассел
сталкивается здесь с возражением Альфреда Сиджвика против логической
истинности силлогизма на том основании, что всякий средний термин
чреват неопределенностью.
4 Mind, XLIV (1935), pp. 186-203; 317-340.
5 Mind, XLIV (1935), pp. 204-210.
Искатели истины и провозвестники*
Всякого наблюдательного философа, наверное,
часто поражала чрезвычайная неопределенность
философских терминов и неточность философской
терминологии. На первый взгляд, эти изъяны исправить было бы
просто — умножив специальные термины философии и
дав им точные определения. Однако, привычки и обычаи
философов таковы, что это простое средство
представляется иллюзорным. Ибо стоит одному философу
изобрести и определить специальный термин, как тут же
является другой философ и бесцеремонно употребляет его в
другом смысле, достаточно близком к первоначальному,
чтобы создалась ужасающая путаница. Философия
страдает также от недостатка различий. Если бы, например,
разные значения слов: «опыт», «причина», «реализм» и
«идеализм» различались названиями, — разве не
выдохлось бы тогда большинство освященных веками
философских споров?
В результате, все философские термины упрямо
сохраняются неопределенными, а участники философских
дебатов чаще всего довольствуются тем, что палят издали в
сторону противника, не сходясь в рукопашной, но и не
приходя к настоящему согласию. Эти пороки философии дав-
* Впервые опубликовано: The Personalist, XV (1934), pp. 209-218.
-56-
но меня занимают: они не только доставляют практические
неудобства, но и морально предосудительны и смущают
ум. Вместе с тем, я понимаю: с этим мало что можно
сделать, и даже то немногое, что можно, делать следует с
великой осторожностью и даже трепетом. Поэтому я буду более
чем удовлетворен, если в этой статье мне удастся
прояснить и рассеять одну вопиющую и чрезвычайно досадную
двусмысленность.
Речь идет об интеллектуалистическом или
абсолютистском и волюнтаристском или прагматическом
понимании истины. Они явно разные, и контраст и разрыв между
ними, обозначившийся в последние лет тридцать, не
проявляет никаких признаков уменьшения. Наоборот,
пропасть все расширяется. Коренной вопрос заключается в
том, надо ли понимать истину как принципиально
статичную или существенно развивающуюся. Защитники
абсолютной истины не более чем прежде склонны понимать
проблемы, выдвигаемые сторонниками развивающейся
истины; последние же по-прежнему отказываются признать
превосходство так называемой абсолютной истины.
Посему вопрос Пилата все так же актуален, и на него все так же
трудно ответить.
Но ради ясности в мыслях и честности спора
необходимо, мне кажется, разделить два значения «истины», о
которых ведется прагматическая дискуссия, проведя между
ними резкую и отчетливую границу. Сделать это можно,
только присвоив им разные названия. Только так обе
стороны будут знать, о чем говорят; только так обе стороны
могут понять, что говорят они о разных вещах, между
которыми можно и должно провести различие.
В самом деле, между этими двумя концепциями
истины существует ряд резких контрастов. Для поклонника
абсолютной истины, — назовем его для удобства
абсолютистом, — истина сопряжена с рядом интенсивных
эмоциональных ассоциаций. Он, в общем, не уверен в логическом
значении «абсолютной». Оно соблазнительно колеблется
между «не относительной» (относительной в любом смыс-
-57-
ле), «окончательной», «психологически несомненной» и
«метафизически всеобъемлющей»; но никаким
логическим затруднениям не позволено убавить ее
эмоциональную привлекательность. Она — единственная, абсолютная,
непреложная, вечная, статичная, не человеческим усилием
установленная и совершенно сверхчеловеческая. Она —
предмет «бескорыстного» поклонения и безнадежной
страсти. Ибо, хотя абсолютист склонен тешиться тем, что
обладает некоей абсолютной истиной и, во всяком случае,
абсолютно убежден, что ею больше никто не владеет, приступы
скептицизма у него случаются — особенно когда он
пытается убедить других единоверцев-абсолютистов в том, что он
прав, а они заблуждаются. Ведь абсолютная истина, когда
ей поклоняются искренне, исключает всякий компромисс
и всякую градацию. Либо всё, либо ничего. Она есть
самодостаточное, самостоятельное, самоочевидное целое. Либо
ты обладаешь ею полностью, либо она полностью от тебя
скрыта. Больше того, хотя она, возможно, и достижима,
передать ее, по-видимому, нельзя — по крайней мере,
обычными средствами общения. Убежденность в том, что она
твоя, каким-то образом поселяется в голове, ты чувствуешь
это нутром; хотя как можно проникнуть умом в нечто столь
божественное, остается тайной.
Но как бы ни смущали абсолютиста расхождения и
различия в догмах, он решительно отвергает иной подход
к истине. Он просто не может помыслить, что истина
множественна, гибка, что она соотносится со множеством
людей и ситуаций, меняется со временем, варьируется и
растет, допускает исправления и улучшения, что она
пластична и динамична, что она интересна и служит
интересам и целям человека, обслуживает человеческую
жизнь и человеческие проблемы. Поэтому его только
озадачивает тот факт, что «истинный» допускает в языке
сравнительную и превосходную степень, то есть
возможность «более» и «менее» истинного. И еще сильнее
шокирует его утверждение, что дабы достичь ее, мы должны
стремиться не к всеобщности, а к множественности, не к
-58-
постижению порядка вещей целиком, а к выбору из
колоссального потока бытия какой-то податливой
маленькой частной проблемы, которую мы можем вычленить,
сконцентрировав на ней внимание. Кощунственной
представляется ему идея, что всякая истина, заслуживающая
разговора, может рождаться в процессе удачного выбора
объектов человеческого интереса, манипуляций с ними,
испытания их и соответствующей оценки. Профанацией
представляется ему сам идеал общей истины,
складывающейся, как в фасеточном глазу насекомого, из отдельных
изображений — множества специальных наук.
Волюнтаристу же такое отношение, сопряженное с
научным поиском истины, не представляется ни
парадоксальным, ни затруднительным. Ибо при его подходе
вопрос об истине встает перед ним не в сентиментальном
контексте, а в прозаическом, деловом плане, как обычный
момент его деятельности, связанной с решением проблем.
«Истина» — просто решение проблемы; правильный ответ
на актуальный и более или менее насущный вопрос;
наилучший ответ, который он в состоянии найти в данное
время. Поэтому его ответ — не святыня, в нем нет ничего
таинственного, непреложного. Если бы он мог найти или
придумать лучший, то с радостью воспользовался бы им: в
этом смысле он всегда ищет чего-то лучшего, чем то
наилучшее, что ему удалось получить. Таким образом,
приверженность к принятой им истине у него никогда не бывает
бесповоротной; он привержен к ней лишь постольку,
поскольку она служит цели, обусловившей ее признание, — и
оценивается она всегда как ступень к чему-то высшему.
Поэтому его концепция истины подразумевает не
окончательность, а возможность существенного развития. Кроме
того, она целиком позитивна, а не является
завуалированным отрицанием. Она не смешивает логическую
достоверность с психологической уверенностью. Она не
предполагает, будто путь к истине лежит через тщетные попытки
охватить целое; согласно ей, все истины достигаются
умным выбором частного и относящегося к делу. Для нее
-59-
«абсолютное» в любом из принятых значений слова —
морок, блуждающий огонек, который никуда не ведет и
сбивает познание с пути.
Чтобы различить эти два несхожие значения слова
«истина», английский язык на редкость удачно оснащен.
Он располагает двумя словами «truth» и «sooth» и, вообще
говоря, оба они означают «истину». Но они — не полные
синонимы, и было бы вполне практично и легко развести
их чуть больше. «Truth» — привычное, обиходное,
банальное слово; «sooth» — менее заезженное, более поэтическое
и гораздо более торжественное. Этимологически «truth» —
то, что человек «troweth» — полагает, думает и, возможно,
то, чему он может доверять. Поэтому оно кажется
подходящим словом для обозначения «истины» индивидуальных
суждений, в которых воплощены мнения человека и
которых он желает твердо держаться.
Таким образом, само происхождение слова «truth»
указывает на то, что это — вопрос мнения и что мнения
нуждаются в проверке. Всякое суждение, претендующее на
истинность, — а совокупности нескольких таких суждений
могут быть велики и разнообразны, — нуждается в
верификации, то есть, буквально в том, чтобы его сделали
истинным. Существенно знать при этом, в какой степени оно
подтверждено, и какая степень подтверждения требуется
для нашей цели. Степень эта не может быть излишне
большой или настолько большой, что к ней немыслимо что-то
добавить. Поэтому абсолютно истинным суждение нельзя
объявить никогда. Истина, на которую оно претендует, по
самому способу своего возникновения должна
соотноситься со степенью полученной верификации; при этом она
может быть опровергнута, модифицирована, расширена или
улучшена дальнейшим релевантным опытом. Неизменной
она не может быть в принципе — так же, как абсолютной.
Не может она быть и вечной или независимой от
временного контекста, которым порождена. Она всегда
соотносится с состоянием знания в то время, когда она
провозглашена, и всегда ожидает дальнейшего подтверждения.
-60-
Поэтому она всегда предполагает настроенность ума на
будущее и свою соотнесенность с будущим, где она может
получить дальнейшее подтверждение и где может
повыситься ее ценность.
Не может быть истины и единственной. Она
неизбежно связана со временем, местом, людьми и целями.
Спрашивать, в чем истина вообще, так же нелепо, как
спрашивать, сколько вообще времени. Мы знаем, что
последний вопрос бессмыслен, если не указано, где, по
какому стандарту и для какой цели осведомляются о времени.
Мы знаем, что на поверхности земного шара в любой
момент сосуществуют все времена суток. Если же мы
мысленно удалимся от этой привилегированной сферы, то
столкнемся с бесконечностью времени, а «раньше» и
«позже» сделаются совершенно относительными и
безнадежно перепутаются. Мы привычно полагаем, что время
нам показывают самые большие и внушительные часы в
округе. И, применительно к нашим целям, мы, возможно,
правы. Но если мы плывем через Атлантику в Европу и
упустили из виду, что здесь надо жить по корабельным
часам, а они переставлены на три четверти часа вперед, мы
можем опоздать утром к завтраку Если мы немного
знакомы с астрономией, то знаем, что астрономы наблюдают
и используют три или четыре разных времени, и что еще
до того, как придумали «летнее время», «стандартное
время» обычной жизни было искусственным продуктом
соглашений и договоренностей. А точность измерения
времени явно соотносится с целью. В большинстве случаев
знать время с точностью до секунды нам так же не нужно,
как знать расстояние с точностью до миллиметра.
Положение с истиной — вполне аналогично.
«Истина» — это всегда истина, зависящая от места и времени, от
того, где и когда ее провозгласили. Она зависит от того, кто
ее высказал, и от его слушателей, от целей, от проблем и от
состояния ума его и слушателей. «Истинно» — всегда
«истинно для...» так же, как «благо» — всегда «благо для...».
Представление о том, что истина может быть абсолютной и
-61-
независимой от обстоятельств и от ее использования,
фантастическим образом игнорирует все детали ее генезиса и
ее актуальную функцию.
В истину «sooth» вкладывается совсем другое
содержание. Слово такого же старого германского
происхождения, как и «truth», выпавшее из обиходной речи лишь в
XVII веке, оно, однако, вызывает довольно любопытные
ассоциации. Во-первых, оно происходит от корня, который
означает еще и «бытие», то есть само по себе
иллюстрирует ту путаницу между реальностью и истиной, которая
столь упрямо уводила в сторону ход рассуждений об
истине. Во-вторых, «sooth» связано со словом «soothe» —
успокаивать, весьма удачно описывающим одну из важнейших
функций истины. Ибо если, как я предлагаю, мы отведем
имени «sooth» область более возвышенных, благородных,
менее банальных употреблений общего понятия, то связь
«sooth» и «soothe» окажется очень кстати. Термин будет
указывать на очень важную сентиментальную функцию
абсолютистской истины как некоего «болеутоляющего
императива» и очень четко отграничит эту истину от низких
обиходных употреблений.
Осмелюсь поэтому предложить, чтобы термин
«truth» был ограничен этими последними — научными и
практическими употреблениями, тогда как менее
банальное и более торжественное слово «sooth» было сохранено
за более духовными и метафизическими контекстами.
Итак, представляется насущным различать эти два
представления об истине. Чтобы закрепить их различие в
памяти, лучше всего, наверное, обратиться за помощью к
искусству поэзии. В связи с чем при содействии любезных
версификаторов я сочинил следующие мнемонические
вирши:
Let Sooth be Sooth what'er befall,
The same for each and good for all
But let Truth be wate'er you trow,
Deem Truth to be that which you know
-62-
Safely to Truth then pledge your troth,
To Truth, not Sooth, — you can't have both*.
Можно привести хорошие доводы и в пользу того,
чтобы различать людей, преследующих эти разные
истины. Назовем тогда искателем истины прагматиста, а
провозвестником Истины абсолютиста.
Таким образом, мне кажется, мы придем не только к
чисто словесному улучшению специальной
терминологии, но и обозначим реальное и глубокое различие
философских темпераментов. Одни философы по природе —
искатели истины, другие — такие же прирожденные
Истины провозвестники. И философия не была бы тем, что
она есть, если бы не приютила и тех, и других.
Поиски истины и провозвестие Истины требуют,
однако, разного склада ума и разного оснащения. Первое
требует ума остро аналитического, способного быстро
схватывать различия и ясно их формулировать, а также
неистощимой изобретательности в создании гипотез,
бесконечной терпеливости в наблюдении и проверке,
стойкой непредубежденности и готовности принять поправки
опыта. Ясно, что жизнь искателя истины трудна, хотя и не
лишена суровых радостей.
Провозвестие Истины, с другой стороны,
привлекательно для синоптического глаза, способного озирать весь
космической ландшафт, и для музыкального уха,
способного расслышать тайную гармонию сфер. Оно не пятится
от бездн, не робеет размашистой духоподъемной мысли
оттого лишь, что она смутная. Напротив, для него
удовольствие — развивать оракульскую сторону философии.
* Да будет Истина Истиной, что бы ни случилось,
Одна для всех и для всех годна.
А истина пусть будет тем, во что веришь ты.
Считай истиной то, что ты узнал.
И присягни на верность истине,
Не Истине — истине: тебе не владеть обеими.
(Подстрочный перевод.) Далее «sooth» переводится словом «Истина» с
прописной буквы, «truth» — словом «истина» со строчной.
-63-
А оракульской философии много и всегда было
много, оракулов в философии больше, чем чертогов горних.
Так много, что можно заподозрить в них отшельничьи
приюты, где места хватает только для одного и в одной
философской позиции. Как сказал индийский мудрец:
«учителей много — истинного ученика трудно найти».
Но от многочисленности оракулов не будет особого
вреда, если не решить беспечно, что они — оракулы
одного бога и заняты распространением вульгарной или
научной истины. Если же сделать такой поспешный вывод,
возвещение истины может оказаться вполне опасной
практикой, требующей вмешательства полиции. Но если
относиться к нему просто как к побочному продукту
познавательной деятельности, вреда от него будет немного.
Не могу, однако, избавиться от мысли, что
профессиональным преподавателям философии следовало бы
старательнее воспитывать в ученике бдительность. Ученика
надо предупредить, что философию населяет множество
богов или демонов, которые вдохновляют или сбивают с
толку ее слуг. Поэтому речения оракулов он должен
принимать с великой осторожностью. Ибо положение у него
обычно не такое, как у царя Креза из «Истории» Геродота.
Он не может обходить все оракулы и настойчиво
испытывать их вопросами, а потом сопоставить ответы. Нет у
него ни такого богатства, ни сана. И, наверное, лучшее, что
ему можно посоветовать, — быть как можно
осмотрительнее в общении с оракулами. Ведь, в конце концов, они
погубили и Креза, несмотря на его критические
поползновения. Дельфийский Аполлон обошелся с ним коварно, дав
туманный ответ: если он перейдет реку Галис, то разрушит
великое царство. Вот так же легко разрушить свой ум
изучающему философию, если он примет на веру слова
оракула. В любом случае ответ философского оракула будет
двусмыслен, а вопрошающему, возможно, не достанет
логики понять, что двусмысленное — строго говоря,
бессмысленно.
Должны ли прагматисты
не соглашаться между собой?*
Притом, что философы разных направлений между
собой не соглашаются и не должны соглашаться, как
далеко должно идти несогласие между философами,
решившими причислять себя к одной ветви? Таким вопросом
задается, по-видимому, профессор Чарльз Моррис в
пространной рецензии1 на мою книгу «Должны ли философы
не соглашаться между собой?». Его рецензия
предоставляет мне приятную возможность обсудить, в чем могут
заключаться столь заметные, по крайней мере, для
посторонних наблюдателей, расхождения между
прагматистами, черпающими вдохновение в работах Уильяма
Джеймса, и теми, кто вышел из чикагской школы,
возглавляемой Дьюи. По какой-то причине, не вполне
очевидной, у последних часто наблюдается острое желание
отмежеваться от первых. Однако на чем именно основаны
их расхождения, они, по-видимому, объяснить не в силах.
Они довольствуются повторением довольно очевидных
банальностей и старых клише, применимость которых к
объектам их критики ничем не подтверждается. Как ни
странно, первые не отвечают им таким же отношением.
Они без колебаний и с удовольствием принимают всякое
расширение или новое применение прагматических прин-
* Впервые опубликовано: The Personalist, XVII (1936), pp. 56-63.
-65-
ципов, предложенное профессором Дьюи, и, кажется,
только недоумевают, почему граница между овцами и
козлищами должна быть проведена прямо посередине
того, что представляется им единым комплексом доктрин.
На эту парадоксальную ситуацию я и попытаюсь, с
помощью рецензии профессора Морриса, пролить
немного света. И надеюсь, что природа недовольства чикагцев
якобитами (или якобинцами?) — не знаю, как иначе
назвать это чувство, — значительно прояснится.
1. Начнем с многократных заявлений, что «Чикаго
делает акцент на общественном элементе опыта, значения и
познания», и заверений в исключительной
«приверженности идее социального». Однако мне трудно усмотреть в этих
заявлениях ту громадную важность, какую им
приписывают. Я не приемлю их как отличие чикагской школы
прагматизма, ибо с тех пор, как Аристотель объявил, что человек —
существо общественное, это стало общим местом
практически для всех философов. Но после двух тысяч лет
философского одобрения не пора ли философам показать в
конкретных деталях, как именно общественная природа человека
проявляется в его деятельности и влияет на его мышление
и познание? Больше того, разве не это пытался сделать
прагматизм любого толка с тех пор, как вылупился из яйца?
Не он ли провозгласил, что «истина» всегда возникает из
общественного контекста и связана с общественными
целями? Не он ли указал на чрезвычайную трудность, даже
невозможность исключить все эффекты социальной
предубежденности и человеческой психологии? Не показал ли он
также, что эти видимые недостатки познавательного
процесса можно обратить в преимущества?
Я лично всегда чувствовал себя совершенно не
виновным, когда бросались нелепые обвинения в том, что мы
игнорируем общество. Ибо, хотя я никогда не закрывал
глаза на нежелательное влияние, которое часто оказывает
общественная нетерпимость и глупость на поиски истины
человеком (особо распространяться об этом влиянии
излишне при нынешней моде на диктатуры), я с самого нача-
-66-
ла2 подчеркивал, насколько важна разница между
претензией на истину и удостоверенной истиной, и насколько
необходимо общественное признание, для того чтобы первая
переросла во вторую. Важность этого различия между
истиной и претензий на истину многие чикагцы, очевидно, не
заметили или не поняли; а не заметив, — вообразили, будто
я отрицал социальную среду поисков истины. Между тем,
я с готовностью воспринял выдвинутую Карветом Ридом
очаровательную волчье-обезьянью теорию происхождения
общественного сотрудничества* именно потому, что она,
по-видимому, конкретизировала неотчетливое
аристотелевское «стремление к общению» и описывала, как человек
стал существом социальным. За прояснением таких
вопросов эмпирику надо обращаться, конечно, к антропологии, а
не к метафизике. Поэтому считаю себя вправе попросту
отвергнуть этот пункт обвинения или, по крайней мере,
затребовать главу и стих Писания, на который она опирается.
2. Во всяком случае, социальная природа знания
является общим местом, должна признаваться каждым
прагматистом как нечто само собой разумеющееся, и
обвинение в том, что ее отрицают, можно было бы попросту
игнорировать, если бы на нем не основывалось другое
обвинение — а именно в том, что значение рассматривается
как чисто субъективное, и социальной его стороной
пренебрегают. Я признал бы, что вопрос о значении — более
* Теория Карвета Рида (Carveth Read. Origin of Man. Cambridge,
University Press, 1925) состоит в следующем. Первоначально предки человека
были травоядными и жили семьями и небольшими группами. В связи с
ухудшением климата они вынуждены были стать плотоядными. Они
слезли с деревьев, научились хорошо передвигаться по земле и стали
охотиться на крупных животных. Для этого им пришлось изменить
социальные привычки, сбиться в стаи, наподобие волчьих, и усвоить
методы и психологию волка. Этим Рид объясняет некоторые странности
человеческого поведения: почему психология человеческих сообществ —
скорее, психология стаи, чем стада; почему люди способны вместе
преследовать общую цель, но, достигнув ее, склонны ссориться из-за
раздела добычи. И, наконец, почему некогда жизненно важный инстинкт
охотника и рыбака перешел в «спорт», порой весьма дорогостоящий.
-67-
основательный повод для недовольства, если бы
субъективная сторона значения, в самом деле, исключала (как
полагает профессор Моррис3) социальную.
Но если на секунду задуматься, то даже самому
наивному станет ясно, что это предположение абсурдно. Никто
не хочет держать значение при себе: всякий желает, по
возможности, сообщить его другим. Только критический
прагматист замечает, что вопрос этот отнюдь не простой;
долгий и болезненный опыт убедил его, что передача
значения — одна из важнейших проблем философии, к
сожалению заброшенная с тех пор, как двадцать четыре
века назад в ней отчаялся Горгий. Поэтому такой прагматист
не удовольствуется словами о том, что «значения по своей
задаче интерсубъективны», или что «в принципе,
возможно найти объективность в значении любого символа,
используемого любым индивидуумом». В каждом случае
актуального познания он желает знать, успешно ли передано
подразумеваемое значение, и осуществился ли на деле тот
абстрактный принцип, что значения символов поддаются
раскрытию. Соответственно, он исследует, как реально
передаются значения. Он отмечает, что значение раньше
всего индивидуально, то есть кто-то желает передать значение
с помощью значений слов, которые он употребляет. Но из
этого прагматист не делает поспешного вывода, что оно
«частное и субъективное» и как таковое совершенно
непонятно всем остальным. Он только подчеркивает, что
требуемую «объективность» и сообщение не следует ошибочно
принимать за совершившийся факт, и что всегда есть
возможность выяснить, совпали или нет субъективное
значение и словесное значение, и правильно ли они поняты.
3. Таким образом, он начинает свое исследование с
той точки, которой чикагцы, кажется, так и не достигли.
Может быть, я неверно понимаю значение их слов
(безусловно, субъективное), но мне кажется, что у них нет
ясности касательно соотношения между объективным и
субъективным. Первое они, по-видимому, рассматривают как
самоочевидную данность, а не как трудное социальное до-
-68-
стижение, второе же используют просто как бранный
эпитет. Это означает, надо полагать, что они не заметили
фундаментальной субъективности, стоящей за всеми нашими
объективностями, и удивительно, что обвинение в
«смутности» выдвигается без малейшей попытки опровергнуть
довод в пользу существования этой субъективности. Я
намеренно изложил этот довод4, чтобы бросить вызов всем
обычным исповеданиям «реализма»; но хотя моя статья
была зачитана перед дюжиной философских аудиторий, а
затем опубликована, никто этого вызова не принял.
Поэтому могу только придерживаться прежнего мнения, что
объективные реалии наук в каждом случае возникают в
результате отбора из гораздо большей массы «сырых»
явлений и опыта. Если мы спросим себя, чем определяется
этот отбор, то единственный возможный ответ таков:
«разнообразными интересами и целями исследователей».
Их интересы и цели всякий раз «субъективны» — в том
смысле, который полагают ругательным.
4. Перехожу к обвинению во «враждебности к
математике и формальной логике». Тут надо разделять.
Враждебность к математике (или к любой науке) была бы
серьезным обвинением для прагматиста, учитывая, что
прагматизм объявляет себя по существу философским
усвоением научного метода. Но единственное, что я
критиковал когда-либо — это философскую привычку
рассматривать «чистую» математику в отрыве от «прикладной»,
словно первой только всё и ограничивается. Между тем,
существование чистой математики не означает, что
природу математических абстракций можно постичь,
отвлекшись от их использования. Все это обусловлено лишь
случайностью академической организации — подобно
тому, как преподавание языка и литературы поручается
разным преподавателям. Действительно, чистую и
прикладную математику преподают обычно разные профессора;
но это не значит, что науки — разные. Короче говоря,
питать враждебность к чистой математике — примерно то
же, что проявлять неуважение к экватору; а вот что фило-
-69-
софы две тысячи лет не понимали своих научных
функций — от этого заплакать впору ангелам.
5. С формальной логикой положение совсем другое.
Я давно настаиваю на том, что это псевдонаука (или,
иначе, игра словами). Это убеждение я обосновывал тремя
убедительными доводами, и ни один формальный логик
не потрудился их опровергнуть. Мне хотелось бы, чтобы
профессор Моррис взял на себя рациональную защиту
формальной логики, но боюсь, он этого не сделает.
Доводы же мои вкратце таковы:
(1) За истекшие тридцать с лишним лет Альфред
Сиджвик доказал, что ввиду потенциальной
неопределенности, присущей всем терминам, понятие формальной
истинности несостоятельно. (2) Основная единица всех
формальных и символических логик — пропозиция, — по-
видимому, не существует. Она, на самом деле — смешение
и соединение лингвистического объекта —
пропозициональной функции с психологическим объектом —
(индивидуальным) суждением, а потому может представлять
собой лишь фиктивное основание для логики. Кроме
того, это смешение ведет к систематической и неустранимой
неопределенности понятия истины, используемого
формальной логикой. (3) Отсюда я заключаю, что
формальная логика принципиально основывается на
абстрагировании от актуального (то есть субъективного) значения,
благодаря чему сводится к искусственной и нереальной
игре вербальными значениями.
Из того, что философская публика знакома с этими
доводами уже двадцать-тридцать лет, и никто не
попытался их опровергнуть, не следует ли сделать вывод, что
ответа на них не дано по причине отсутствия ответа? Конечно,
ничто, кроме всеобщего и полного пренебрежения, не
вынудит логиков прекратить занятия своей псевдонаукой;
но и та степень научного презрения, которую они уже
заслужили, не дает им оснований для гордости.
6. Перейду к менее важному пункту. Профессору
Моррису представляется затруднительным примирить
-70-
мои слова о том, что научный метод абстрагируется от
личности, с моим же утверждением, что делается это ради
возможности доказательно переходить от одного
частного случая к другому Не приходило ли ему в голову, что
для получения общей формулы, применимой к
следующему случаю, от частных обстоятельств первого случая
(места, времени и личности) надо абстрагироваться?
Разумеется, такая процедура привносит элемент
фиктивности в использование «универсалий», «законов природы»
и тому подобного; но это никоим образом не делает
научную процедуру недействительной, и следует помнить, что
именно астрономы первыми обнаружили «субъективную
ошибку», от которой можно провести родословную к
принципу неопределенности Гейзенберга. Что
действительно прискорбно, так это старания философов
(продолжающиеся со времен Платона) навязать законному
научному методу нелепую интерпретацию. Я искренне
сожалею, что профессору Моррису не удалось оценить
простую и бесхитростную, на мой взгляд, аргументации в
книге «Гуманизм»5.
Теперь, разогнав витавшие в философском тумане
пылинки, которые, вероятно, мешали профессору
Моррису внимательно рассмотреть мою доктрину, я постараюсь
раскрыть балки, на которых, надо думать, покоятся его
претензии.
7. Образцом, на который должен равняться
прагматизм, он, по-видимому, все еще считает Пирса. Однако
недавно изданный пятый том сочинений Пирса
свидетельствует о том, что это традиционное отношение
нуждается в пересмотре. Во-первых, Пирс сам разъясняет, что
Джеймс преувеличил его роль как основателя
прагматизма, и что помимо него (Пирса) и Джеймса в разработке
этой философии участвовали многие члены Гарвардского
метафизического клуба. Кроме того, видно, что за два
десятилетия, прошедшие между 1877 и 1899 годом,
интересы Пирса сильно поменялись; он не отказался от того, что
говорил раньше, но очень не хотел поддерживать даль-
-71 -
нейшее развитие и новые приложения своего принципа.
Он полностью подпал под обаяние старого
ускользающего идеала математики — «точности» и отвергал всякую
попытку продвинуть прагматизм за ту черту, на которой
остановился сам. Не удивительно поэтому, что он не
одобрял трудов Дьюи и самого его лишь раз удостоил
презрительным упоминанием. Удивительно то, что среди людей,
числящих себя учениками Дьюи, столь многие считают
возможным соединить дьюизм с формализмом. Ибо
важнейшим открытием Дьюи и стержнем его доктрины,
несомненно, является мысль о том, что верования нуждаются
в постоянной реконструкции. Именно поэтому
прогрессирует наука, и ни одна истина не является абсолютной.
Но как совместить эту мысль со старым идеалом, который
заключается в том, чтобы закрепить навечно значение
каждой идеи путем точного «анализа»6?
8. Как сочетать веру в формальную логику с
вероятностью — еще одна загадка. Формальная логика
неизменно жаждала абсолютной истины и неопровержимого
доказательства, презирала вероятностные рассуждения и
пыталась подчинить научную мысль своим предрассудкам. И
так же неизменно вероятность остается главенствующим
принципом жизни; научное мышление остается
вероятностным и довольствуется, в лучшем случае, «практической
достоверностью». Даже основанное на идеализированных
посылках мышление чистой математики сводится к
вероятностям, как только речь заходит о ее приложении к
реальности. Математическая вероятность допускает
бесконечное множество степеней. Таким образом, абсолютная
истина (или ошибка) превращаются в недостижимый
идеал; само это понятие становится излишним.
Подтверждение этому я получил на Пражском конгрессе от ведущего
немецкого специалиста по вероятностной логике
профессора Ганса Рейхенбаха. Не помню, присутствовал ли
профессор Моррис, но, присутствовал он или нет, время
требует, чтобы он перестал считать вероятность и логическое
доказательство заведомо совместимыми и попробовал их
-72-
примирить. Когда он не сумеет опровергнуть мои доводы
по этим восьми пунктам, наверное, исчезнут и поводы для
разногласий среди прагматистов.
Примечания
1 The Personalist, XVI (1935), pp. 388-390.
2 Ср.: «Humanism» (London: Macmillan and Co., 1903). «Человек —
социальное существо, и истина в значительной мере продукт,
несомненно, социальный... Истина должна завоевать общественное
признание, превратиться в общественное достояние». «...Общественная
полезность — окончательный определитель истины». О том, как
субъективные претензии на истину получают хождение в обществе, см.
также: «Studies in Humanism». London: Macmillan and Co., 1907, ch. VII.
3 Ему, по-видимому, неизвестно, что современная дискуссия о
значении началась со статьи Лорда Рассела «On propositions: What They
Are and How They Mean» в «Aristotelian Society, Supplementary
Volume II» (1919), pp. 1-43 [«О пропозициях: что они собой
представляют и каким образом обозначают». В кн.: Бертран Рассел. Философия
логического атомизма. Томск, 1999 (прим. пер.).] и с обсуждения в
«Mind», п. s. XXIX (1920), pp. 385-414 на тему «Значение значения»
(для которого я предложил название и первую статью).
4 Humanism (second edition, 1912), pp. 55-56.
5 Ibid., pp. 56-57.
6 На недавнем философском конгрессе в Праге я имел возможность
высказать это соображение самому профессору Карнапу, который
чистосердечно признал, что никакой анализ не может претендовать на
окончательность. Но не отрицается ли тем самым в значительной мере
его полезность? Зачем мучиться, изобретать «точный анализ», если
завтра же он может устареть из-за роста знаний?
Гуманизм и гуманизмы*
Нелегко в четырех коротких статьях очертить
место, которое занимает в мире реальности или хотя бы в
мире философии направление, мною названное
«гуманизмом». Область философии и мир реальности отнюдь не
совпадают: есть философии, весьма удаленные от всего
реального, и есть реалии, которых глаз философа либо не
удостаивает вниманием, либо избегает в тревоге;
очевидное тоже слепит его иногда избытком света.
Да и с названием, которое я избрал, есть серьезные
сложности. «Гуманизм» — крайне неясное слово, и
прежде чем употреблять его без опаски, надо эту неясность
рассеять. Такова первая обязанность, которой обычно
пренебрегают философы. Как все ученые люди, они
любят специальные термины, но больше склонны
присваивать чужие, чем объяснять свои. Кроме того, логикам
потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что
каждое слово надо считать «расплывчатым» — и как раз
потому, что оно полезно. Его можно использовать в
нескольких смыслах, и, чем лучше слово, тем чаще
используют его разные пользователи в разных целях.
Расплывчатость эта, однако, потенциальная и не должна
выродиться в такое словоупотребление, когда сомнения
* Впервые опубликовано: The Personalist, XVIII (1937), pp. 352-368.
-74-
вызывает смысл, который в слово вкладывают. Если же
возникает такая действительная расплывчатость, публика
вправе потребовать объяснения и вправе его получить.
Именно так обстоит дело со словом «гуманизм».
«Гуманизм» — очень хорошее слово, и многие находили
его очень удобным. Как название оно даже слишком
хорошее и искушало многих пользоваться им несколько
неразборчиво, не обосновывая его употребления и не
объясняя, как последнее соотносится с другими или прежними
употреблениями. Результатом стала путаница в сознании
публики, и это — первое препятствие, которое надлежит
преодолеть пишущему о гуманизме.
В частности, оно осложняет важнейшую задачу
писателя-философа — быть понятным. Философ не может
ссылаться на необходимость специального языка, что
допустимо в науках. Он не может утверждать, что его тема
требует специальных терминов: его тема — не
специальная. Он должен рассматривать себя не как специалиста, а
как связного между науками, посредника между ними и
естественными запросами человеческой жизни. На
протяжении истории функцию философии трактовали
по-разному, но самая правильная ее функция — быть
центральным органом синоптического зрения, в поле которого
может находиться человеческое знание в целом.
Следовательно, по существу и в самом широком
смысле «гуманизма» гуманистична вся философия;
нужда в ней проистекает из самой природы человеческого
знания. Предметы его слишком велики и разнообразны, а
способности отдельного ума слишком ограничены, чтобы
вместить все знание целиком. Отсюда необходимость в
разделении труда. Мы разрезаем сферу знания на
обозримые области, и каждый возделывает свой маленький
участок. С ростом познаний участки становятся все меньше,
ибо на каждом из них надо знать больше. В этом причина
и смысл научной специализации. Она привела бы к
полной раздробленности знания, если бы никто не мог
подняться над межнаучными барьерами, которыми всегда
-75-
огораживаются специалисты, и бросить взгляд с высоты
птичьего полета.
Методы, которыми каждая наука возделывает свой
участок, очень похожи, а в основе — одинаковы. Наука
начинается с того, что вырезает удобную часть из общего
поля знания и, так сказать, столбит его. Процесс этот
обычно прост, поскольку нам надо лишь следовать
естественным разделительным линиям между разными аспектами
реальности. Так, мы быстро осознаем разницу между
одушевленным и неодушевленным, — и возникают, с одной
стороны, науки о жизни, такие, как биология, зоология,
физиология, психология, а, с другой — механика и
физика. Сосредоточив внимание на пространственных
соотношениях вещей и абстрагировав их формы, мы получаем
науку о пространственных отношениях — геометрию.
Но нередко в процессе этого на границах двух или
нескольких наук остаются какие-то спорные территории.
Обычно эти области неопределенны и неоднозначны — в
том смысле, что подходить к ним можно с разных сторон
и рассматривать их с разных точек зрения. Как правило,
эти альтернативы будут принадлежать разным наукам, и
если каждая потребует исключительных прав на данный
предмет, между ними возникнет спор. Например, живое
тело — это и тело (предмет механики, физики, химии), и
одновременно живое, то есть нечто большее
(характеризуемое такими достаточно неопределенными, но
важными понятиями, как «жизнь» или «душа»).
Само по себе существование спорной территории
безвредно. Оно, скорее, стимулирует конкурирующие
науки — в конце концов, они могут разрабатывать такую
территорию совместно. Их соперничество может быть
даже полезным — если внушит нам, что знать надо не
только много вещей, но и что у этих вещей есть много сторон,
а, следовательно, к их познанию есть много путей, и мы
можем из них выбирать. Все эти пути могут быть законны
и ценны и вовсе не обязательно порождают споры между
науками.
-76-
Больше того, сам междисциплинарный спор может
принести пользу — и вот в каком смысле: он может
привести к учреждению апелляционного суда или, вернее,
арбитража. Решение таких споров должно рассматриваться
как одна из главных функций философии. Но чтобы
вполне осознать эту функцию, вернемся к нашему очерку
возникновения науки.
Когда наука составила более или менее
вразумительную карту своей территории, она начинает
территорию организовывать. Это означает, что она начинает
искать принципы или методы (что практически то же самое,
поскольку принципы по своему применению методоло-
гичны, каковы бы ни были их абстрактные претензии)
исследования своего предмета. Она ищет, кроме того, такие
точки зрения, с которых сможет озирать свою область,
дабы решить, какие явления являются ее предметом, то есть
представляют для нее интерес. При этом вся исходная
масса явлений несет большие потери. Столь многие
явления отбрасываются как иллюзорные и нереальные, что
«факты», прошедшие научный отбор, составляют лишь
долю первоначальных «фактов». Кроме того, исходные
явления зачастую настолько неопределенны по своему
статусу и характеру, что науки ими перебрасываются и ни
одна не хочет признать их своими. Так обстоит дело с
частью явлений, приблизительно именуемых
«физическими», хотя они явно принадлежат к области психологии.
Однако большинство психологов их боятся, не хотят в
них заглядывать и даже смотреть в их сторону Подобные
случаи отнюдь не редки. Например, когда астроном
смотрит в хороший телескоп и при хороших условиях
видимости на диск Марса, он может различить сетку прямых
линий, знаменитых «марсианских каналов».
Свидетельствует ли его наблюдение о физической реальности? Вовсе не
обязательно. Каналы могут быть оптической иллюзией,
поскольку глаз на пределе видимости склонен
упорядочивать видимое и ряд нерегулярных пятнышек
воспринимать как прямую линию. К астрономии или к психологии
-77-
относится это явление? Вопрос до сих пор не решен. Еще
более простой случай — так называемый «зеленый луч»
над севшим в море солнцем. Если небо безоблачное и
ясное, то там, где только что скрылся за горизонтом верхний
край солнечного диска, вдруг вспыхивает яркий зеленый
свет. Это факт, хотя я всегда встречал людей, которые не
могли его видеть. Но объяснение этого факта — предмет
споров. Этот зеленый свет — объективен он или
субъективен? Ему можно дать как физическое, так и
психологическое объяснение. Либо это преломление света в
атмосфере, такое, что лучи, достигающие глаза, оказываются
зелеными, либо зеленое — просто контрастный цвет на фоне
красного заката. И та, и другая интерпретации
представляются возможными, и могут быть верны обе, поскольку
способствуют усилению реального эффекта. Таким
образом, когда речь идет о неопределенных феноменах и
спорной территории на границах наук, у философии есть
много возможностей выступить в роли посредницы.
Но это не все затруднительные ситуации, когда
философия может действовать как арбитр. Науки вырастают
одна из другой; они возникают из больших проблем,
которые постепенно членятся и формулируются более четко.
Выросши, наука объявляет себя независимой от
родителей. Она начинает жить своей жизнью и становится
«автономной». Теперь она может устанавливать собственные
законы, такие, какие ее устраивают, и исследовать те
явления, которые сочтет нужным признать своими.
Но такой процесс, очевидно, никак не гарантирует
того, что науки, взятые в совокупности, дадут связное и
вразумительное описание реальности. Если каждая наука
думает только о собственных интересах, выбирает
принципы и делает допущения только такие, какие угодны ей,
почему тогда должны согласовываться сообщения разных
наук? Не будет ли каждая говорить на своем языке и
преследовать собственные цели? Не станет ли естественным
результатом этого смущение и хаос, если отсутствуют
авторитет и силы, способные координировать и гармонизи-
-78-
ровать их результаты? Каждый ученый будет верить в
свою науку, но никто не сможет верить в науку как целое.
Тут на выручку должен прийти философ с
предложением интерпретировать противоречивые сообщения
разных наук таким образом, чтобы получилась связная
вразумительная картина, которую можно принять и
которой можно верить. Претензии его не будут чрезмерными.
Он может сделать свое предложение заманчивым, потому
что может снизить притязания противоречивых
принципов до такой степени, что они перестанут быть
несовместимыми. Он может рассматривать принципы разных наук
не как абсолютные и окончательные истины, а как
рабочие принципы метода; раз так, они могут быть
по-прежнему хороши для непосредственных целей своих наук и
одновременно могут быть интерпретированы по-новому в
интересах более общей схемы. Далее, из его обязанности
учитывать всё вытекает право добавлять к материалу,
собранному наукой, — к научным истинам — соображения,
которые по разным причинам, существенным или нет, не
были замечены или были отклонены всеми науками. Он
может показать, что они подтверждаются
непосредственным опытом и крайне ценны в том отношении, что
приводят к принципам, позволяющим связать или преобразить
научные результаты. Таким образом, философ может
взять на себя завершение системы наук, выяснение
смысла человеческой жизни, доказательство возможности
познавать целое и возможности знания как единого целого.
Если мы примем такое представление о функции
философии, — а мне оно кажется гораздо более
удовлетворительным, чем иное представление, согласно которому
науке и философии нечего сказать друг другу, а
философии и любому философу дозволяется измышлять
метафизическую систему, которая выводила бы всю реальность
a priori из некоего фантастического принципа, пренебрегая
опытом, — тогда уместно будет сравнить отношение
философии и наук с фасеточным глазом насекомого. Как
известно, глаз насекомого устроен иначе, чем наш. Вместо од-
-79-
ной линзы, которая может двигаться и менять свою
оптическую силу, он содержит сотни линз, фиксированных и
способных создавать изображение предмета, удаленного
от нее на строго определенное расстояние. Так что прежде,
чем «увидеть» свою жертву, комар получает сотни
изображений и как-то умудряется слить их в восприятие
единственного предмета. Судя по затруднениям, которые мы
испытываем, когда изображения от двух глаз не желают
совмещаться, и у нас «двоится в глазах», сосредоточиться
насекомому, должно быть, трудно; тем не менее, комару
это не мешает определить добычу и найти лазейку в самой
лучшей москитной сетке. Доказывает это, однако, не
дьявольскую изобретательность комара, а его способность
соединить изображения, полученные от разных фасеток и
перевести их сумму в восприятие предмета. Без этого
самый злой комар был бы безобиден — он не нашел бы пути
к добыче.
Этой иллюстрацией я хотел показать, что
объединяющая и интерпретирующая функции философии подобны
глазу насекомого в целом, тогда как изображение от
фасетки сложного глаза подобно вкладу одной специальной
науки. Никто не утверждает, конечно, что сегодня
философия способна выполнять эту функцию в совершенстве.
Сегодня она не может сказать решающее слово об истине
и вынести окончательное суждение о реальности. Науки
еще растут и еще не пришли к окончательным выводам;
так что материал, который они передают философии,
полон противоречий и зияний. Тем не менее, отношения
философии и наук лучше всего понимать именно так.
Если функция философии мыслится таким
образом, нетрудно видеть, почему подходящим словом для
типичной философской позиции будет «гуманизм». Коль
скоро центральная задача философии — осмыслить
человеческий опыт, согласовать разные науки, пребывающие в
разброде, фрагментарные, а то и вводящие в заблуждение,
соединить в значимую картину элементы великой
мировой головоломки, — какое название может подходить ей
-80-
больше? Пока мы не сделали все возможное, чтобы
объединить наши знания, преждевременно и самонадеянно с
нашей стороны гадать о замысле создателя этой
космической головоломки.
При таком взгляде на дело философии у нас,
следовательно, есть все основания обозначить нашу позицию
словом «гуманизм», имеющим весьма древнюю
родословную. Оно прекрасно характеризует утверждение
Протагора, что «человек есть мера всех вещей» и
приблизительно — всю тенденцию греческой мысли в пятом веке
до нашей эры: поворот от физических спекуляций к
детальному изучению человеческой природы. Но по
аналогичным соображениям словом «гуманизм» хотели
пользоваться многие, что создало в умах большую путаницу.
Поэтому необходимо окинуть критическим взглядом
остальные «гуманизмы» и то содержание, которое в них
вкладывается. Обсудим их в хронологическом порядке.
В первом и самом раннем смысле «гуманизм»
рожден одним эпизодом в истории литературы. На всем
протяжении Средних веков христианская цивилизация
обладала большим преимуществом, ныне утерянным. Она
пользовалась международным языком, на котором писали
и говорили все ученые люди — вернее, все, кто умел писать
и читать. Это был язык Рима, латинский; он пережил
Римскую империю потому, что стал языком христианской
церкви. Со временем, однако, письменная латынь
значительно развилась — в основном, благодаря тому, что
должна была вместить теологические тонкости средневековых
схоластов. Она утратила изящество классической латыни,
ибо средневековые схоласты были отъявленными
педантами. Видя это, итальянские ученые пятнадцатого века
стали громко требовать возвращения к более чистой
латыни. Возглавляемые Лоренцо Валлой, они назвали себя
«гуманистами» и подняли крик: «назад к Цицерону». Они
табуировали все слова и выражения, не имевшие
классических прецедентов. Тем самым латынь превращали в
ископаемое: останавливали ее развитие и убивали как живой
-81-
язык. В шестнадцатом веке это движение
распространилось на всю Европу, и Реформация, поощряя повсеместное
использование национальных языков, довершила гибель
латыни. Народ стал читать Библию на родном языке.
Ученые люди стали писать на нем книги, а если говорили на
латыни, то произнося на французский, английский,
немецкий манер и так далее. Естественно, вскоре они
перестали понимать друг друга, и латынь, действительно,
превратилась в мертвый язык. Теперь, если у нас появляется
потребность в международном языке, мы
экспериментируем с изобретениями вроде эсперанто. Пережиток этой
средневековой ситуации — «professor of humanity»: так
именуют по сей день преподавателя латыни в
шотландских университетах.
Итак, учитывая, насколько случайным было первое
употребление слова «гуманизм», мы едва ли согласимся
уступить его навсегда истории литературы и запретить его
использование в философии. Само то, что контексты
настолько различны, почти гарантирует нас от путаницы.
Путаница вероятнее там, где смыслы слова родственны. А
литературный гуманизм и философский настолько далеки
один от другого, что сомнений насчет того, какой смысл
вкладывают в это слово, быть вообще не должно.
За первое употребление «гуманизма» в
философском смысле автор берет ответственность на себя, хотя в
затруднительной ситуации, возможно, укроется за
спинами нескольких предшественников-философов, от случая к
случаю использовавших прилагательное (не
существительное) «гуманистический», чтобы охарактеризовать
мышление, ставящее в центр философских интересов
проблемы человека. Но я избрал название «гуманизм»
намеренно: чтобы выразить свое согласие со знаменитым
изречением Протагора, чтобы подчеркнуть человеческую
ценность философии и противопоставить свой образ
мыслей двум другим философским позициям, которые в то
время (1902) делили между собой практически все поле
философии. У обеих было и есть много псевдонимов, но
-82-
мы можем назвать их «абсолютизмом» и «натурализмом»
(теперь он чаще всего именует себя «бихевиоризмом»).
Абсолютизм порождается желанием абсолютной и
окончательной истины, контакта с высшей реальностью и
добивается их всеми правдами и неправдами. В
результате постоянных разочарований, осознав в конце концов,
что абсолютная истина нам недоступна и что с высшей
реальностью ни одна наука дела не имеет, человек возводит
свой абсолют в «идеал» и приписывает ему все
совершенства, без которых мы вынуждены обходиться.
Соответственно, абсолют представляется обладателем всей истины
и абсолютной истины, a ex officio* он — высшая
реальность. Почему? Потому просто, что у философии есть
специальный термин для реальности во всей ее полноте —
«абсолют». Однако он может быть всего лишь плодом
воображения, и установить его существование никто
никогда не пытается. Нет никаких доказательств, что
реальность на самом деле такова, что образует некое целое, и
наоборот, есть несколько неопровержимых против этого
доводов. Например, бесконечность пространства и
времени и неопределенное множество центров опыта как будто
отрицают какое бы то ни было строгое объединение
реальности. Таким образом, все абсолютистские философии
утверждают свой первый принцип голословно. Все они
оперируют с произвольно определенными значениями
слов, и все их доказательства — чисто вербальные. То есть
философия превращается в словесную игру с
произвольными определениями, и критический ум она оставляет
холодным.
Натурализм, с другой стороны, происходит из более
почтенного источника. В сущности, это попытка выдать
процедуры, показавшие себя успешными в той или иной
специальной науке, за ответ на всю загадку
существования. В то время, когда была изложена философия
гуманизма (тридцать лет назад), модной формой натурализма
* По должности, по положению в обществе (лат.).
-83-
был механицизм, существовавший уже несколько
столетий. Но стремительный прогресс физики в последующие
годы показал, что старый механицизм научно
неадекватен, а значит, и не научно объяснять мир с помощью
механистической философии. Старый натурализм теперь
отброшен; но в других формах он непременно вернется.
Против любой из них, однако, можно выдвинуть
возражение, что натурализм принципиально неполон. Это всегда
попытка подменить целое частью; он никогда не дает
возможности учесть потребности человеческой природы
целиком и не дает твердого ответа, следует ли их
причислить к природным фактам или исключить из них.
В правильном смысле «природа», конечно,
включает в себя человека, и толковать ее надо именно так; но
натурализм неизменно желает человека исключить и
пытается подчинить его нечеловеческому, вернее, дегуманизи-
рованному порядку вещей. Он упускает из виду, что само
понятие порядка есть нечто привносимое человеком в
природу, и что мы можем выбирать такую концепцию
природы, которая лучше всего подходит для наших целей.
Гуманизм же не упускает из виду человеческой
составляющей наших теорий и не стремится их отрицать.
Задуман он был как некое удачное среднее между
абсолютизмом и натурализмом; но я полагал, что он будет
полезен и в других отношениях. Мне казалось, что этот термин
вполне соответствует новой философии, которую
развивали Уильям Джеймс и Джон Дьюи под названиями
«прагматизм» и «инструментализм». Вскоре я обнаружил, что
«прагматизм» — очень плохое название, что из-за него на
эту философию будут вешать всех собак. Во-первых,
требуется полчаса, чтобы только объяснить это слово.
Во-вторых, оно было неверно образовано. Приходилось отрицать
его связь с «практикой», которую ему обычно
приписывали. Ибо по-гречески «pragmata» значит «вещи», а не
«действия». Джеймс перенял «прагматизм» от своего друга
Пирса, который не обладал его литературным даром и
отнюдь не одобрял применения, данного этому слову
-84-
Джеймсом. Но когда я написал Джеймсу и предложил
заменить название на «гуманизм», он ответил, что уже
поздно. Слово привилось, и выкорчевать его нельзя. Враги
новых идей, конечно, с радостью ухватились за него, сразу
поняв, какое это глупое и неудачное слово.
С «гуманизмом» же они обошлись совсем иначе. Не
обладая рыцарской щепетильностью Джеймса, они его
присвоили. Вскоре после выхода моего «Гуманизма»
(1907) известный абсолютист профессор Дж. Макензи
изложил свой вариант абсолютистской доктрины в
«Лекциях о гуманизме», а позже (1922) лорд Холдейн дал
название одной из своих книг «Философия гуманизма». Так
возникло третье значение «гуманизма».
Четвертое родилось несколькими годами позже, в
Америке. Некоторые из более молодых унитарианских
священников обнаружили, что в их учении Бог настолько
стушевался, настолько стал бесцветен и неосязаем, что
без Него можно вообще обойтись. Поэтому они
отказались от теизма и назвали свою чисто человеческую
доктрину гуманизмом. Само по себе это название было вполне
уместным и законным, но в той ситуации, к моей большой
досаде, его стали путать с гуманизмом во втором
значении. По сути, эти два значения легко отличить. Унитари-
анский «гуманизм» обитает в теологическом контексте,
мой — в философском, и мой никак не касается теологии,
а только логики и теории познания. Унитарианский —
антитеистический, мой — антиабсолютистский и
антинатуралистический, но не антитеистический. Наоборот, как
выясняется, ввиду своей персоналистской
направленности, он, по существу, расположен к теизму.
Пятое значение «гуманизма» — перепев первого.
Оно тоже американского происхождения и родилось
недавно. Сфера его приложений — педагогическая, ибо
именно под это знамя скликают своих сторонников
профессор Ирвинг Бэббит и профессор Элмер Мор,
отстаивающие более классическую и менее современную
программу образования. Так что его можно рассматривать
-85-
как законное продолжение «гуманизма» ренессансного.
Единственная опасность — что за пределами Америки
(если это движение за них выйдет) Бэббит профессора
Мора может быть принят за Бэббита мистера Синклера
Льюиса.
И, наконец, недавно мне пришлось отрецензировать
для журнала «Mind»1 книгу «Новый гуманизм», автор
которой, Леон Самсон, по-видимому, являет собой высший
синтез первоначального Самсона и его бывшего врага,
льва. О философском гуманизме в ней не говорится, а
написана она американским коммунистом, возможно,
позаимствовавшим слово для заглавия у гуманистов-унитари-
ев. Книга, однако, едва ли оправдывает и свой титул, и
абсурдно оптимистический взгляд автора на перспективы и
идеалы русского большевизма.
Наш обзор разных и многочисленных значений
«гуманизма» ясно свидетельствует о полезности и ценности
этого слова и поможет нам оценить предварительное
определение философского гуманизма, каковое мы сейчас и
рассмотрим. Философия справедливо называется
«гуманизмом», если в центре ее интересов — проблемы
человеческой жизни и опыта и проблемы реального мира, с
которым мы полагаем себя в контакте. Как уже говорилось,
это определение резко противопоставляет гуманизм и
абсолютизму, и натурализму Последний не признает всего
спектра этих проблем и ищет, тщетно, частного решения.
Абсолютизм утешается в своей человеческой
несостоятельности, сосредотачиваясь на воображаемых
сверхчеловеческих совершенствах воображаемого абсолюта. Их
он объявляет недостижимыми для человека. Когда его
спрашивают, как же связан тогда абсолют с человеком,
как его обладание абсолютной истиной и абсолютной
реальностью должно помочь нам, смертным, в наших
борениях, он выходит из себя и переходит к оскорблениям.
Нередко он обвиняет гуманизм в скептицизме.
Излишне говорить, что это обвинение
безосновательно; но сам ярлык заслуживает разговора. Мы можем
-86-
задуматься о неясности слова «скептицизм». Скептицизм
можно понимать, во-первых, как решительное отрицание
возможности достичь истины. В этом смысле скептицизм,
очевидно, не может быть универсальным, а если и
попытается, то его легко опровергнуть. Достаточно указать, что
истина самого скептицизма — это уже истина, которая не
отрицается, но подразумевается самой формулировкой
скептицизма. Но гораздо правильнее, когда
скептицизмом называют универсальное сомнение или, лучше,
теоретическую возможность усомниться во всем.
Возможность эта, безусловно, теоретическая, а не практическая.
Поэтому скептицизм неопровержим, если мы считаем,
что практическая его невозможность никак не подрывает
теории или не умаляет ее истинности.
Покуда речь идет о теории, в универсальном
сомнении вреда нет. Если на то пошло, оно благотворно. Ибо
сомнение — главный стимул исследования, изыскания,
открытия. Но гуманист сделает две оговорки: (1) мы
никогда не сомневаемся во всем, а только в том, что имеем целью
исследовать (так что наше сомнение всего лишь
методологическое и универсально лишь в потенции), и (2) наши
сомнения не обязательно уменьшают и не должны
уменьшать нашу уверенность в истинах, которые мы признаем
или же принимаем как данность. Ибо сомнение
начинается там, где предполагаемая истина перестает нас
удовлетворять. И продолжается, пока мы не придем к истине,
которую сочтем удовлетворительной. Так что в каждый
момент времени не так уж много вещей, в которых мы
действительно сомневаемся, и нас всегда воодушевляет
надежда на то, что всякое сомнение, испытываемое нами
сейчас, может рассеяться, если мы откроем что-то лучшее,
нежели наше нынешнее верование. При такой надежде и
ввиду прогресса наших знаний способность сомневаться
становится стимулом, а не проклятьем.
Об отношении гуманизма к прагматизму уже
говорилось. Теперь можно продолжить этот рассказ. Когда
Уильям Джеймс отказался переменить официальное на-
-87-
звание прагматизма, я удовольствовался тем, что оставил
название «гуманизм» за особой разновидностью
прагматизма, а именно той, которую разрабатывал сам. Оно не
только подчеркивало одну из ее отличительных
особенностей, но и говорило о наличии многих вариантов
прагматизма. Ибо, теоретически, прагматизмов может быть
столько же, сколько прагматистов.
Отношение гуманизма к физической теории
относительности — вопрос более сложный. И тот, и другая
суть формы релятивизма в широком смысле, и гуманизм,
естественно, симпатизирует относительности, поскольку
она порвала с наивным абсолютизмом ньютоновской
физики, полагавшей пространство и время абсолютными и с
трудом признававшей относительность движения.
Гуманизм приветствует также экспериментальную теорию
значения — тот принцип, что ученому незачем
оперировать значениями (помимо явно постулированных),
которые не могут быть верифицированы наблюдением или
экспериментом. Ибо гуманизм утверждает, что всякая
претензия на истину должна быть подвергнута проверке.
С другой стороны, он не считает, что релятивизм
физики идет так далеко, как мог бы, если следовать
логике. Поэтому гуманизм ожидает времени, когда
относительность, таящаяся в данных психологии, вторгнется в
физику. Ныне теория относительности взорвала единство
и объективность пространства и времени и наделила
каждого перципиента собственными пространством и
временем, с которыми соотносится весь его опыт и которых,
благодаря постоянству скорости света, он не может быть
лишен. Но физика еще не проследовала до конца за Про-
тагором. Она еще не признала открыто, что «человек есть
мера всех вещей — существующих, что они существуют,
несуществующих, что они не существуют». Это не только
завершает принцип относительности, учтя все
психологические различия между людьми, но и санкционирует
поиски инвариантных формул, которые отразят
индивидуальный опыт и вместе с тем смогут передаваться от субъ-
-88-
екта к субъекту, а не просто игнорировать
индивидуальные различия, как наши нынешние «законы природы».
Меньшим принцип гуманизма не удовлетворится. Зато
такая идеальная относительность и гуманизм совпадут и
сольются. Вместе они лишат абсолютистские претензии
всякого смысла и поставят абсолютизм в тупик простым
вопросом: почему бы всем нашим истинам и всем нашим
знаниям не соотноситься с нами, если с нами соотносится
вся наша реальность и сама наша жизнь? И можно ли
желать большего?
Примечания
1 Mind. п. s. XL (1931), pp. 256-257.
Есть ли у философии что сказать миру?*
Иногда невольно задаешься вопросом: не кажется
ли в наши дни привилегированным людям, таким, как
капиталисты, теологи и философы, что они должны каким-
то образом оправдать в глазах человечества свой статус?
И действительно, мы наблюдаем разнообразные попытки
доказать, что экономический или моральный порядок
рухнет, если мир попробует обойтись без капитализма
или теологии. Философы же, кажется, гораздо менее
чувствительны к социальной критике — то ли потому, что от
природы черствы, то ли потому, что не знают, чем на нее
ответить. Во всяком случае, они почти не пытаются
продемонстрировать, что философия выполняет важную
социальную функцию или сколько-нибудь способствует
просвещению человечества.
Будем снисходительны и объясним это видимое
безразличие большой и вполне реальной трудностью
отвести философии независимую функцию в царстве
знания и, соответственно, недоумением философов
относительно того, в чем вообще дело философии. Трудность эту
лучше всего проиллюстрировать, рассмотрев концепции
философии, превалирующие в Оксфорде, в Кембридже и
в Москве, и выявив их слабости.
* Впервые опубликовано: Hibbertjournal, XXXIV Qv\y, 1936), pp. 592-601.
-90-
В Оксфорде функцией философии считают
«размышление», но оставляют неясным, о чем надлежит
философии размышлять и как это делать1. Поскольку не
предполагается, что философия имеет жизненно важную
или необходимую связь с науками, она может, самое
большее, размышлять о себе — то есть о своей прошлой
истории. Но история философии обнаруживает, в лучшем
случае, последовательность более или менее остроумных
догадок, и все они уже опровергнуты или находятся в
процессе опровержения. Так что это не размышление о каких-
то устойчивых или развивающихся истинах, а
размышление об ошибках. В соответствии с оксфордским взглядом,
размышление может начаться с чего угодно, но оно ни к
чему не ведет. Философия начинается, следовательно,
когда мы осознаем, что немного кое в чем запутались, и
достигает кульминации, когда мы осознаем, что
безнадежно запутались во всем. При этом, правда, трудно
понять, в чем заключается привлекательность философии
для остального мира.
В Кембридже не считают, что философия должна
стремиться к независимости от наук, в результате чего
они лишатся всякой роли в поисках философской
истины. Но там впадают в другую крайность: философию
подчиняют наукам. Эта философия подражает науке и
посягает на «точность», свойственную труднейшим разделам
математики. Состязаясь с нею в формализме и
специализированное™, философия надеется возвыситься до ранга
науки и тем избежать обвинений в псевдонаучности. При
этом трудно сказать, чем философия отличается от науки,
что она может к последней добавить и какая вообще в ней
нужда. Ибо «анализ», которым она гордится, —
по-видимому, чисто словесный и эфемерный: в любой момент он
может быть отменен научными открытиями.
И, наконец, в Москве философия, как и все
остальное, регулируется государством. Ее единственная задача —
отстаивать истину диалектического материализма,
являющегося частью государственной религии, а подкреплением
-91-
этого требования служит поездка в Сибирь за
государственный счет. Другими словами, власть обращается к ней
примерно так же, как Римская церковь, и велит приходить
к заранее установленным, приемлемым для себя выводам.
Но советские философы не могут пожаловаться на
дискриминацию, на то, что с ними обращаются иначе, чем с
учеными. И тем, и другим говорят, какие темы они могут —
вернее, должны — разрабатывать и к каким выводам обязаны
прийти в интересах общества. Такой способ руководства
исследованиями кажется доведенным до крайности
прагматизмом; однако нельзя отрицать, что московские власти
используют реальный изъян академической теории —
исследование ради исследования. Ведь даже самый «чистый»
ученый сталкивается с теоретической проблемой, которой
он еще не пытался решить. Предметов исследования перед
ним столько, что взяться за все он не может; он вынужден
выбирать, за какой ему взяться. Посему он должен быть
благодарен за помощь, которую предлагает власть,
указывая ему, какие темы исследовать, и коррелируя их со всем
образом жизни общества. На самом деле, наверное, он
склонен возмущаться любым ограничением своих свобод и
самостоятельности; но это не дает ему возможности
ответить на вопрос: «почему общество должно содержать
философа (или ученого) или даже терпеть его?».
Коль скоро ни Оксфорд, ни Кембридж, ни Москва не
сумели оправдать занятие философией, едва ли и другим
интеллектуальным центрам посчастливится в этом
больше. Однако вопрос о том, есть ли у философии что сказать
миру, остается в силе. Как и другие вопросы, он имеет и
теоретическую, и практическую стороны. В теоретическом
плане он затрагивает координацию человеческой
деятельности; в практическом — смысл его таков: можно ли найти
философам полезное применение или же надо их числить
нетрудоспособными, или же поместить в дома призрения.
Словом, это жгучий вопрос, и его стоит обсуждать.
Если вопрос о том, есть ли у философии что сказать
миру, обсуждать трезво и прозаически, то, боюсь, придется
-92-
признать, что речь ее не очень слышна, не очень
вразумительна и не очень убедительна. Это значит, что миру
приходится слушать голоса, более громкие, более властные, более
соблазнительные, чем голоса философов. И неразумно,
кажется, ожидать, что все еще слабый голос разума не утонет
в гвалте страстей, грубом лязге машин и сладких
увещеваниях радио. Правда, нельзя утверждать, что философия
легко доступна. Наоборот — она гордится тем, что требует
долгой, трудной, мучительной подготовки и непонятна
приземленным и суетным. Нельзя ожидать, опять-таки, что мир
склонится перед убедительностью доводов, печально
известных тем, что они не убеждают даже своих авторов. Между
представителями философии нет согласия, и нет среди них
такого, кто мог бы авторитетно говорить от ее лица. Стоит
философу выступить с монументальными претензиями на
обладание конечной и абсолютной истиной, как другие
бросаются на него и разрывают его в клочья.
И, наконец, нельзя всерьез считать, что философия
способна состязаться с науками в прогрессивности.
Науки поражают нас новизной и важностью своих теорий и
непрерывно преобразуют жизнь людей своими
открытиями. В философии же прогресс обнаружить трудно;
невооруженному глазу представляется, что философы
бесконечно и без перспективы продвижения обсуждают, по
существу, те же вопросы, которые обсуждались две или три
тысячи лет назад. Тот прогресс, который, казалось бы,
имел место, был чисто словесным; философские диспуты
неуклонно становятся все более специальными и менее
популярными, покуда, наконец, не появляется
изобретатель специального диалекта, настолько мудреного, что ни
один человек не осмеливается сказать себе, что понял его
и вправе его критиковать. Изобретатель возносится на
недосягаемую высоту; позиции его столь неприступны, что
дискуссия волей-неволей прекращается, после чего ее
уроки, — если таковые были, — быстро забываются, и
надо либо поднимать новые вопросы, либо, на худой конец,
придумывать новую терминологию.
-93-
Разумеется, я отлично понимаю, что от этой
прозаической, реалистической оценки философии можно
уклониться, указав на устремления и идеалы философии, и
пространно рассуждать об их возвышенности: такая
метода дает одно из многих значений слова «идеализм». Но я
сильно сомневаюсь, является ли она в конечном счете
действенной и способствует ли процветанию философии.
Честно и практично мыслящего она определенно
отвращает, ибо поощряет обман и неряшливость в мыслях.
Если мы не хотим, чтобы философия превратилась
в аппарат для сотрясения несвежих воздухов или в
замысловатую игрушку для развлечения узкого кружка
педантов, то позаботиться об этом следует самим философам.
Если же ничего не будет сделано для того, чтобы
пробудить философию к какой-то осмысленной деятельности и
связать ее с жизненными проблемами, то я не
представляю, чем она подтвердит свои притязания на разговор с
миром — и вообще сохранится ли, хотя бы как орудие
дисциплины или пытки, в насыщенной программе
современного колледжа.
С другой стороны, я не вижу трудности в том, чтобы
найти совершенно убедительные аргументы в ее пользу,
если того пожелают философы, и обеспечить ей
понятную и неоспоримую позицию в царстве знания. Я все еще
надеюсь, что профессиональные толкователи философии
поймут это, пока не поздно, и осознают, что в их же
собственных интересах, равно как и в интересах остального
мира, сделать философию общественно полезной. Впрочем,
я смотрю на это все более пессимистически. Приведу,
однако, еще один довод, хотя и убедился, что редкий
философ прислушивается к чужим доводам.
Для начала замечу, что, дабы спасти репутацию
философии, надо найти ей место рядом с науками, отдельное от
них, но не противоположное. Философия должна
определить себе отчетливое место в области знаний и сделать это,
не вступая в конфликт с науками, но и не дублируя их
работу слабо и смутно. Ведь науки, все без исключения, — спе-
-94-
циальные науки, они заняты специальным исследованием
какого-то аспекта реальности или рассматривают его со
своей особой точки зрения. Например, геометрия, как
явствует из ее этимологии, есть собирательный термин для
ряда гипотетических способов изучения пространственных
свойств реальности, а биология — ее аспектов, связанных с
жизнью. Психология же не так ограничена избранным
аспектом реальности: она зиждется на особом отношении к
своим объектам и занята всепроникающим свойством
реальности. Она может посягать на изучение всех событий,
коль скоро они даны в опыте или содержатся в сознании.
Так какие же выводы мы можем сделать из этой
очевидной характеристики наук? Если предмет всякой науки
есть продукт отбора из полной реальности, значит, всякая
наука должна быть основана на абстракции. Ни одна
наука не станет узнавать всё обо всём, каждая
ограничивается своей областью и не пускает туда пришельцев. Ее
предметы — это всё, что для нее существует; всё остальное она
игнорирует. Кроме того, ее автономия требует, чтобы свой
выбор и отсев она осуществляла свободно и
беспрепятственно: она заботится — преимущественно или
исключительно — о собственных интересах и своей области, а не
об интересах и областях других наук (кроме тех случаев,
когда считается дочерней наукой) и тем более — не о
целом. Следовательно, науки, вырастающие из общего
ствола знаний, ведут себя как ветви дерева, простираясь в
разных направлениях, и нет никаких гарантий, что
сообщения разных наук будут согласоваться между собой или
даже как-то соотноситься. Например, цвет, хотя бы
красный: для физика это длина волны или частота колебаний;
для физиолога — процесс разложения и восстановления
живых тканей в глазу, называемых зрительным пурпуром;
психолог же решительно заявляет, что красный цвет —
«простое ощущение». Сказать, что общего у этих
определений, на первый взгляд, трудно.
Таким образом, чем больше свободы у каждой науки
развиваться в своем направлении, тем настоятельнее по-
-95-
требность в чем-то более широком, чем наука — а именно,
в охватывающей или синоптической трактовке, которая
объединит частичные представления разных наук, научит
нас думать о реальности как о целом и извлекать единый
связный смысл из нашего цельного опыта. В этом —
важная задача, неоспоримое поле деятельности, которой
могла бы посвятить себя философия. Она всегда утверждала,
что неким образом озабочена целым; и чем дальше
развиваются науки, тем более необходима попытка синтеза и
объединения.
Но какой бы здравой ни была эта идея, она
останется бесплодной, если не подкрепить ее более конкретными
соображениями о том, как именно философия должна
взяться за синтез наук. Поэтому рассмотрим более
детально: (1) какими средствами может воспользоваться
философия, чтобы объединить результаты наук в
гармоничное описание, и (2) какие добавления к научным
данным может она для этого сделать.
(1) Когда в двух науках есть по отдельности
используемые принципы, и эти принципы, рассматриваемые как
описания научного факта, расходятся и несовместимы,
философ часто имеет возможность примирить их, просто
рекомендовав перемену логического подхода. Он может
рассматривать один из взаимно противоречивых
принципов или оба как всего лишь «методологические
допущения» или даже фикции. Например, когда физика, желая
иметь дело с предсказуемым ходом событий,
постулировала детерминизм (как склонна первым делом поступить
всякая наука), а общественная наука, скажем, этика,
настаивала на индетерминизме, в той мере, в какой он
делает человека существом ответственным, философ вправе
проследить подспудные мотивы этих допущений и
указать, что ни то, ни другое не нужно понимать
метафизически или как характеристику самого факта. Тогда, если
ученый согласится понимать детерминизм как постулат
научного метода, он не вступит в конфликт с этическим
постулатом свободы. Или, опять-таки, если возник во-
-96-
прос о том, почему никакая карта даже географически не
точна, и ни одна «линия» и «фигура» в природе не
отвечает определениям Евклида, вполне правомерно будет
указать, что все математические «идеалы», строго говоря, —
фикции и имеют значение и ценность лишь постольку,
поскольку их удобно применять для описания реального
физического мира.
Таким образом, вероятно, могут быть смягчены
почти все острые конфликты между принципами разных наук.
Поэтому неразумно стремиться к априорному
ограничению философских интерпретаций научных принципов —
так же, как сегодня считается неразумным ограничивать
свободу ученого в построении гипотез. Последнего уже не
страшат абстрактные логические возражения,
основанные на так называемых законах противоречия и
исключенного третьего. И правильно — ибо науки приходят к
пониманию того, что эти принципы прежде всего —
соглашения об употреблении слов, и что все «противоречия» и
якобы взаимоисключающие альтернативы основываются
только на вербальных определениях, а их всегда можно
поправить, если к тому побуждают факты. Философ
вправе требовать для себя такой же вольности. Зная, что науки
развиваются и непрерывно пополняют запасы своих
знаний, он не обязан останавливаться перед их нынешними
ограничениями; он может постулировать подходящее
заполнение для их пробелов и тем самым предложить
новые направления исследований. При этом, конечно, он
всегда должен ясно помнить о разнице между
спекуляцией и знанием: он не имеет права впадать в самодовольный
догматизм и должен с готовностью корректировать свои
спекуляции, если того потребует наука.
Если философы удовольствуются такой своей
позицией по отношению к наукам, то не будет никаких
препятствий к тому, чтобы отношения философии и наук
приобрели характер дружелюбного сотрудничества. И нет
никаких препятствий к тому, чтобы философия, подобно науке,
развивалась и логически была с ней на равных. Ибо и фи-
-97-
лософия, и наука будут подчиняться одному и тому же
закону отбора и абстрагирования от несущественного —
закону, в соответствии с которым протекает любая
человеческая деятельность. Только философия будет осуществлять
свой отбор, абстрагируясь от (несущественных для нее)
научных деталей; наука же — от проблем взаимосвязи и
взаимоотношений, предоставив их философии. Ложный
идеал всеохватности будет отвергнут обеими и перестанет
отягощать и запутывать дискуссии.
(2) Если признать, что данные, передаваемые
философии науками, неизбежно неполны, поскольку иначе
науки перестали бы наращивать сумму знаний, то отсюда
следует, что философ имеет право гипотетически
заполнять пробелы, вводить недостающие звенья и предлагать
свои интерпретации. Но этим его функции не
исчерпываются. Он обязан будет также учитывать любой материал,
который намеренно исключен из научного описания
реальности. А такой материал есть, хотя его существования,
как правило, не замечают. Метод науки таков, что
некоторые очень важные вопросы систематически
игнорируются, исключаются из рассмотрения, и соответствующие
пропуски философия должна компенсировать. Ныне же
ни наука, ни философия не осознают своих обязанностей
в этом плане.
Остановлюсь на трех таких жертвах небрежения.
Во-первых, науки, очевидно, — целенаправленные
структуры. Но по большей части они об этом не помнят, ибо
целенаправленность свою воспринимают как нечто само
собой разумеющееся и не связанное со своим содержанием.
Кроме того, поскольку лишь немногие из них используют
телеологические методы объяснения внутри своего
материала, они склонны осуждать телеологию как ненаучную
и не замечать собственной телеологической основы. В
результате все они (и к философским наукам это относится
ничуть не меньше) предрасположены к тому, чтобы
терять из виду определенную цель и забредать в
бессмысленное и никчемное, другими словами — превращаться в
-98-
псевдонауки. Они преобразились бы, если бы всегда
помнили о целях, ради которых ими занимаются.
Следующие два моих случая связаны один — с
реальным упущением научного метода, другой — с
предполагаемым упущением этого метода и реальным
предрассудком философов.
Удивительный факт: редко замечают, что науки
абстрагируются от субъективного контекста, в котором
получаются все научные данные. На самом деле все научные
данные прежде всего исходят от личности. Они возникают из
личных наблюдений того или тех, кто о них
свидетельствует, кто получил их из опыта при определенных условиях, в
определенное время и в определенном месте. Но до того
как присвоить им статус научных данных, на этот момент
их истории всегда закрывают глаза. Их выдают за
откровения объективной реальности, и они фигурируют как
независимые реалии, никому ничем не обязанные. Зачем же их
так преобразуют? Затем, что науки не желают погрязнуть в
необъятной массе личных подробностей и предпочитают
рассматривать каждого субъекта как представителя
неопределенно большого, но единообразного класса. Так что
от субъективной стороны событий попросту отвлекаются,
и подлинный наблюдатель, который реально получает
опыт о реальном объекте в частном порядке, подменяется
стандартным наблюдателем, постигающим универсальный
объект, который имеется всегда и везде для всех
наблюдателей. Однако и наблюдатели эти и такие объекты — суть
фикции, созданные в научных целях.
Что касается научной фикции, полезной и нужной
всем наукам, эта процедура законна. Именно эта
процедура дает нам все «объективные» и «независимые» реалии, о
которых мы столько говорим. Они фабрикуются из
бесконечного хаоса личных опытов, и в науке можно без
угрызений совести одобрить эту процедуру. Но философски
она представляется неоправданной. Она фальсифицирует
и игнорирует огромное количество фактов, подменяя их
откровенными фикциями. Поэтому никакая философия,
-99-
исповедующая научное абстрагирование от субъекта, не
может претендовать на полноту Никакая философия,
базирующаяся на фикциях, не может претендовать на то,
что воспроизводит факты. Одна из первых обязанностей
философии как таковой — преодолеть в себе это научное
устранение субъекта. Философы имеют возможность
показать себя хотя бы такими же просвещенными, как
астрономы, которые первыми подметили и оценили
«субъективную ошибку» наблюдателя.
Третий изъян, к устранению которого стоило бы
призвать философов, коренится, по-видимому, не столько
в фактической процедуре наук, сколько в ошибочном ее
понимании, сложившемся у философов. Они упустили из
виду, что науки по большей части стремятся выводить
один случай из другого, и что они пользуются «законами»
и «универсалиями» только как посредниками в этом
переходе. Принципиальный риск этой процедуры
заключается в предположении, что оба случая являются
образцами одной и той же универсалии, и что индивидуальные их
различия можно без опаски игнорировать. В
действительности же это всего-навсего гипотеза, нуждающаяся в
верификации; наблюдение нередко показывает ее ложность
и не оправдывает ожиданий. После чего ученый
корректирует свою формулу или свою оценку явлений, или и то,
и другое без всякого вреда для дела.
Но философа эта ситуация возвращает к древнему
суеверию и вводит в роковое заблуждение. Он толкует ее
так, что наука занята только универсалиями и до
частного случая не снисходит. Этой ошибкой одарил
философию Платон в «Теэтете», и с тех пор она омрачает и
портит философские концепции отношений между частным
и общим, превращая их во вредный и глубоко
иррациональный вздор.
Между тем, реальная процедура науки никогда не
подтверждала эту доктрину. Астроном никогда (вопреки
пожеланию Платона) не изучал абстрактные законы
движения небесных тел, не прибегая к эмпирическим наблю-
- 100-
дениям. Врачу обычно не удавалось забыть, что пациент —
это страдающий индивид, а не просто случай
общераспространенной болезни. Даже математик иногда вспоминал,
что его идеальные фикции должны воплощаться в фактах,
и что чистую математику нельзя совсем оторвать от
прикладной. Только темный философ воображал, что наука не
способна обратить внимание на индивидуальный случай.
Правда же заключается в том, что весь аппарат
классификаций, дефиниций, универсалий, законов и принципов, по
сути, представляет собой громадную массу фикций,
предназначенных для того, чтобы совладать с частностями и
предсказать их поведение.
Итак, философия должна освободить и себя, и
науки от подчиненности механизмам и манипуляциям,
которые оказались полезны для открытия истины. Она
должна постоянно напоминать нам о важных
человеческих целях, которые мы преследуем, взыскуя истины. И
если так восстановить связь с проблемами человеческой
жизни, то не устыдится она, когда будет говорить «в
воротах с врагами».
Примечания
1 Как писал поколение назад Mind:
«То deepen our consciousness Green
At Oxford appeared on scene:
"Oh thinker obscure,
Why don't you make sure
That you know what you think that you mean?"».
[«Чтобы дать нам ума, на Оксфордскую сцену вышел Грин: "О, темный
мыслитель, подумай, понимаешь ли ты то, что, как тебе кажется, ты
имеешь в виду?"» (подстрочный перевод).]
В философии большая традиция не меняется!
Должна ли философия быть скучной?*
Не нам, философам, судить, скучна ли философия:
вердикт пусть вынесет публика. Надлежит ли философии
быть скучной, и неизбежно ли это — вопросы более
стоящие: они заслуживают серьезного рассмотрения, и
обсуждать их вправе мы все. Впрочем, и здесь, наверное,
разумнее не придавать слишком большого значения мнению
самих философов. Ибо весьма вероятно, что многие из них,
если не большинство, сочтут, что обсуждать такие
вопросы ниже их достоинства; возможно даже, они полагают,
что чем философия скучнее, тем больше у нее шансов
прийти к истине.
Со всем почтением к этим достойным коллегам
осмелюсь, однако, выразить свое частичное с ними
несогласие и высказать некоторые довольно очевидные
возражения. Я не признаю обязанности быть скучным и даже не
очень верю в скуку обязанностей. Не вижу я и в природе
вещей причин тому, чтобы философия непременно была
скучной, хотя чтобы сделать ее скучной, веские причины,
возможно, есть. Кроются они в человеческой натуре и в
человеческих институтах.
Но я не стану доказывать мой тезис ни дедуктивно,
вскрывая причины философской скуки и демонстрируя
* Впервые опубликовано: The Personalist, XVIII (1937), pp. 28-39.
- 102-
их необязательность, ни индуктивно — перечисляя все
разновидности философской скуки. Такие доказательства
могут показаться убедительными, но сами будут
беспросветно скучны. С другой стороны, я хорошо понимаю, что
тот, кто покушается на распространенное убеждение в
необходимости и обязательности философской скуки,
должен быть отчаянным удальцом. Он должен быть готов к
тому, что столкнется с фанатической нетерпимостью
окаменевших верований и животной тупостью естественного
человека. Есть много сообществ, и академических, и
неакадемических, где усомниться в убеждениях
большинства опасно без гарантированной полицейской защиты;
поэтому предусмотрительный еретик подумает дважды,
прежде чем нарушить догматические сны.
Начиная обсуждение этого важного вопроса,
попробуем внести немного ясности в термины. Спросить,
неизбежна ли скука в философии — значит спросить, есть ли в
природе философии логические причины, непременно
порождающие скуку; спросить, надлежит ли ей быть
скучной — значит поинтересоваться, моральные ли это
причины, и требует ли скуки, например, достоинство
философии.
Оба вопроса заслуживают внимания. Но они
незначительны по сравнению с более важными: «что такое
философия?» и «о чем она?». В этих вопросах между
философами царит удручающее разногласие, и если бы мы
захотели разбирать их исчерпывающим образом, то ни к
чему бы не пришли. Но недавно мне случилось быть
участником симпозиума в одном из английских колледжей,
где был поднят вопрос о том, есть ли у философии что
сказать миру, и насколько я понял моих коллег, у
философии есть, как минимум, две выдающиеся функции.
Первая из них, можно считать, обнаружена в Оксфорде.
Важнейшую функцию философии там видят в углублении
сознания. Философ садится — по возможности, в кресло,
удобное мягкое кресло — и «размышляет» о космосе. Но
размышление его космосу не вредит. Никаких космичес-
-103-
ких проблем оно не решает. Оно лишь углубляет
понимание философом разветвлений любой проблемы. Он
философствует до тех пор, пока его мысль не проникнет во все
вещи. Не особенно греша против правды, можно сказать,
что, согласно этим воззрениям, философия начинается,
когда мы немного запутались кое в чем, и заканчивается,
когда мы поняли, что безнадежно запутались во всем!
Представителей другого направления, типичного
для Кембриджа, огорчает ненаучное лицо философии.
Они страстно желают, чтобы философия была принята в
высшее научное общество, и думают, что желание это
исполнится только тогда, когда она согласится подражать
формализму и отчужденности некоторых достаточно
древних и трудных наук. Нетрудно понять, почему обе
эти концепции ведут к тому, чтобы сделать философию
непоправимо скучной. Обе они представляются
произвольными и излишними.
Поэтому я предпочел бы отвергнуть обе. Я предпочел
бы придать философии полезные и важные функции,
самостоятельную точку зрения и независимый статус,
который позволит ей извлекать пользу из результатов наук и
им приносить пользу. Почему бы нам не признать, что все
науки — специальные науки, что каждая из них основана
на абстрагировании и отборе особых аспектов всей сферы
познаваемого, и не согласиться с тем, что в философии
сознание тоже действует путем абстрагирования и отбора, но
по-другому? Ибо если специальные науки преследуют
свои цели, не вникая в интересы других наук, философия
помнит о целом и использует результаты всех наук как
материал, из которого должно быть сформировано
гармоничное целое. Таким образом, отношения между науками и
философией будут, в сущности, отношениями симбиоза.
Философия понадобится наукам для того, чтобы
завершить картину реальности, а науки понадобятся философии
для того, чтобы получить у них материал для своих картин.
У такого представления о роли философии много
преимуществ. Оно оправдывает ее практику абстрагиро-
- 104 -
вания от деталей, скучных деталей специальных наук —
кроме тех, которые относятся к сфере ее интересов и
могут привести к пересмотру представления о принципах,
поскольку всякая зрелая наука имеет тенденцию
несколько наивно принимать их как данность. Оно оправдывает
также исследование области метафизических
спекуляций, иначе говоря, философской поэзии, с тем, чтобы
найти гипотезы, способные связать противоречивые
допущения специальных наук. И, наконец, оно оправдывает учет
тех частей или аспектов реальности, которые по
методологическим соображениям специальные науки оставили
без внимания.
А таких упущений, очевидно, много. Во-первых,
науки совершенно забыли, что они — структуры
целенаправленные, вычлененные из хаотической массы явлений
личными, экономическими или социальными интересами
ученых, которые ими занимаются. Ученые обычно не
замечают этого очевидного факта, считая его само собой
разумеющимся и не связанным с содержанием их наук, что,
в некотором роде, верно. Тем не менее, благодаря этому
факту, науки неизбежно имеют телеологический
характер. Геометрия, например, устроена так, чтобы
исследовать природу пространства, постулированного Евклидом
или кем-нибудь, предложившим другие аксиомы;
биология — чтобы исследовать явления в мире, который биолог
считает миром живого. Если в названных (и других)
науках телеологические рассуждения не приняты, то это
вовсе не отменяет общей телеологии, которая определяет
цели и структуру науки.
Во-вторых, спор о телеологии есть лишь одна из
иллюстраций гораздо более общего принципа. Все научные
феномены связаны со способностями человека, благодаря
которым они воспринимаются и познаются. Цвет или
температура не существуют для человека, страдающего
цветовой слепотой или отсутствием тепловых
рецепторов; логические противоречия не потревожат ума,
который не склонен из-за них страдать. На самом деле, чувст-
- 105-
венные восприятия и логические необходимости точно
так же связаны с индивидом, как ценности, которые, как
принято считать, зависят от оценок индивида.
Следовательно, нам никуда не деться от старого изречения Прота-
гора: человек есть мера всех вещей; и с человеком
соотносятся все вещи, которые он знает или может узнать. То,
что не может быть приложено к человеческим мерам и
человеческим способностям, для науки не существует. От
антропоморфизма или, вернее сказать, гуманизма уйти
невозможно. Он сказывается в наших науках так же, как в
наших религиях, он формирует и пронизывает те самые
принципы, которые якобы преодолели его. Так,
«механизм» — столь же безусловно человеческий идеал
объяснения, сколь и теология, и он отлично служит для
некоторых целей и в некоторых контекстах. То же самое —
«закон», «причина», «однородность», «универсалии».
И, наконец, третье упущение. Универсальное —
результат широко распространенного желания логически
выводить один «случай» из другого, предсказывать
будущее и тем самым (в какой-то мере) им управлять. Это
методологический прием и фикция. Больше того, сам
«случай» — грубая фикция, служащая тем же самым целям. Он
вычленяется из потока событий санкцией человека.
Вынув его из естественного контекста, мы объявляем его
«случаем», частным проявлением «закона», или
«принципа», или «универсалии» и таким образом вводим в поток
некий узнаваемый и рациональный фактор стабильности.
Вооруженные постулатом, что всякий «случай» есть
частный случай какого-то «закона», мы с полной
уверенностью применяем его к следующему случаю. Но эта
процедура отнюдь не гарантирует от ошибки и на каждом этапе
связана с риском. Она опирается на теоретически
недоказуемое абстрагирование от конкретных обстоятельств
обоих случаев. Предполагается, что эти обстоятельства не
имеют отношения к делу и не могут повлиять на ход
рассуждений или их опровергнуть. Но если в каждом из
случаев есть незамеченные или оставленные без внимания ча-
- 106-
стности, благодаря которым эти случаи оказываются чем-
то большим, нежели проявлением общего, которое мы
рассматриваем в наших целях, все рассуждения могут
оказаться ошибочными. Так что всякий, кто принимает
частное за случай некоего общего, всегда должен остерегаться
подобных ошибок и учитывать возможность того, что
данный случай лучше считать проявлением другого общего.
В-четвертых, если исследователь слишком
требователен и слишком много желает узнать, он всегда будет
сталкиваться со случаями, когда это невозможно.
Каждый случай — частный, индивидуальный, уникальный, и
если слишком сосредоточиться на его особенностях, дело
кончится недоумением. Недоумение будет того же рода и
обусловлено теми же причинами, что и при столкновении
с фактом человеческой индивидуальности, от которой
также абстрагируются все науки, кроме зачаточной и
сомнительной индивидуальной психологии.
В традиционной философии личность, официально,
была табу с тех пор, как Платон в «Теэтете» решил, что
между индивидами — скажем, между Сократом и Теэте-
том — концептуальной разницы нет; а услужливым
логикам позволено было объявить, что индивиду нельзя дать
определение. Однако личность (с ее препаратом
индивидуальности), безусловно, есть факт, пронизывающий всю
природу; и если наукам, в силу их конституции, не
позволено ее замечать, то тем более необходимо найти ей место
где-то еще. То есть, если науки не желают, то найти
должна философия.
Тогда на философии лежит обязанность проследить,
как сказывается личность на всем нашем знании. Что
касается самих философий, задача эта достаточно проста: все
они громко свидетельствуют о зачастую весьма
романтической личности своих создателей, и чем они
оригинальнее, тем яснее, что именно личность определила каждую
их деталь. Но в отношении наук это не прояснено. Все они
пытаются отрешиться от личности, создать видимость
безличных истин об объективном факте. И лишь тогда, когда
-107-
мы заглянем в их историю и генезис, становится ясно,
насколько обманчива эта видимость. Только тогда мы
понимаем, как эфемерны научные истины и что они
непрерывно эволюционируют, принимая более ценные формы.
Только тогда мы начинаем сознавать, что у всех научных
истин и фактов есть прошлое и должно быть будущее. Все
они изначально — личные творения. Они введены в мир
науки благодаря личным наблюдениям, усилиям,
экспериментам, личному опыту тех, кто их создал, и возникли в
контексте определенного времени и места. То, что от этих
частностей можно абстрагироваться, — всего лишь
предположение и, возможно, рискованное. Так или иначе,
идеал самодостаточной, деперсонализированной науки —
идеал «сказок о науке», очень далекий от ее реальной
процедуры, и верить в него не требуется — если только у нас
нет такой потребности.
Так что же должно вызывать скуку или хотя бы
способствовать ей при такой концепции философии? Разве
не предоставляет она философу простора для
воображения и возможности следовать своему гению? Она
поручает ему решать крупнейшие и интереснейшие вопросы и
дает полную свободу решений — с единственным
условием, что решения он станет предлагать реальные. А
реальным может быть любое решение, если только оно
верифицируемо, хотя никакая верификация не является
абсолютной. Очевидно, что нет никакой неизбежности в том,
чтобы философия была скучной.
Но этим, увы, вопрос не исчерпывается. Ибо
логическая точка зрения — не единственная или, в социальном
плане, не решающая; да и философы подчиняются не
одной только логике. Могут быть еще и психологические, и
социологические (моральные) причины для того, чтобы
философия (или, во всяком случае, нечто, пользующееся
этим именем) была скучной.
Например, академическая философия.
Академическая философия имеет двоякую цель, и она вдвойне
зависима. Ее цель — и учить, и производить впечатление, а это
-108-
не всегда совместимо. Чтобы учить, она должна быть
прозрачной и ясной; но на умы, что утоляют духовную
жажду, благоговейно вслушиваясь в волшебное слово
«Месопотамия», гораздо больше впечатления производит
напыщенная терминология и непроницаемая темнота.
Кроме того, академическая философия привязана к
своему месту в учебном плане, ее толкователи занимают
свое место в академической жизни и, в общем, должны
вести себя соответственно. Поэтому академическая
философия являет собою, скорее, часть того, что принято считать
гуманитарным образованием, нежели свободное
исследование основных жизненных проблем. Ей пристало быть
строгой дисциплиной для кипящих юных умов —
наподобие математики. На деле же она ведет совсем другую
линию. Вместо того, чтобы абстрагироваться от всех
практических приложений, жонглировать необъясненными
понятиями и объявлять свои результаты абсолютными
истинами, она предается, главным образом, изучению
разоблаченных ошибок. Она дотошно пересказывает все
прошлые заблуждения спекулятивной философии, не
располагавшей достаточными средствами для решения своих
проблем. Более прозаические философы блуждают по
этим тупикам, потупив взгляд, более дерзновенные —
доводят почившие вопросы до мертвой точки; в обоих
случаях — потому, что их предшественники забыли вывесить
знак «прохода нет». И остается после тех и других вместо
мыслей — мусор. Это называется «историей философии».
Немногие из этих ошибок занятны или поучительны; в
большинстве же они бессмысленны и скучны; а в целом
процесс настолько длителен и труден, что немногие
любители философии способны пережить его и подступиться к
реальным современным философским проблемам.
Есть и другие причины, почему академическая
философия должна быть скучной. Часто считается важным,
чтобы академическая философия не возбуждала и не
воспламеняла молодые умы; она должна быть
«основательной», а скучные люди основательны. Это утверждение
-109-
слишком легко переворачивается. Словом, в глазах
руководства, назначающего профессоров, предпочтительны
те, которые не выдумают пороха или чего-то еще более
взрывчатого. Этим оно обрекает философию скуке, не
думая, очевидно, ни об интересах обучения, ни об
удовольствии мыслить.
Однако желание основательности и педагогическая
рутина — гораздо более слабые генераторы скуки, чем
переполняющее души педантов желание поразить друг
друга. Они тоже хотят играть наверняка и обнаруживают, что
самые верные средства — темнота, специальный жаргон,
изобретение новой терминологии. Ибо если кто-то не
уверен, что понимает философа, то не может опровергать и
не осмеливается критиковать. В этом случае создатель
нового «учения», псевдонауки или метафизики выступает
как хранитель неизреченных тайн и практически
полностью защищен от нападения.
Наблюдать встречу двух таких грандов ученого
мира бывает довольно забавно. Оберегая свое достоинство,
они никогда не покидают надежного укрытия своих
систем. Каждый вещает на своем языке, возможно, на
жаргоне, вполне укладывающемся в определение философии,
данное одним немецким остроумцем: «не что иное, как
систематически неправильное употребление терминологии,
изобретенной специально для этой цели». Причем жаргон
этот сконструирован путем неправильного употребления
или извращения аналогичного жаргона, созданного
одним из предшественников, учеником которого, скорее
всего, гордо числит себя говорящий. Так что они никогда
не понимают друг друга и даже редко пытаются понять.
Они просто лопочут друг перед другом!
Это одна из причин, почему обычная философская
дискуссия столь бесплодна Другая — аналогична той,
благодаря которой в обычных разговорах доминирует
болтовня о пустяках. Как люди предпочитают говорить о
незначительных, безразличных им делах, а не о том, что ближе
всего их сердцу, так и философы избегают крупных и
- 110-
волнующих проблем и ограничиваются техническими
вопросами, о которых можно рассуждать безобидно и
бесконечно, демонстрируя эрудицию. «Что есть мысль без
мыслящего?», «Что есть дух без сознания?», «Чем отличается
реализм от идеализма?» — когда ни тот, ни другой не
определены, и никто понятия не имеет, что подразумевают под
ними все остальные. «В чем разница между огцущениями,
чувственными данными, восприятиями, перцепциями и
мыслями?» — когда все они оставлены в таком же состоянии
смутности. «Что означает высказывание?» — когда оно
изъято из контекста. «Что есть истина?» — когда никто не
поищет ответ там, где есть разница, истину вы обрели или
заблуждение. « Что подразумевал под "числом"Платон в своем
"Государстве", или — под "теорией образов"в сократических
диалогах?» Или — «Что хотел сказать Аристотель своей
критикой Платона?». И так далее и тому подобное.
Такие темы дебатов упорно живут не потому, что они
важны, а потому, что они неразрешимы, и потому, что
обычному профессору философии во многих отношениях
выгодно в этих дебатах участвовать. Кроме того, их можно
сделать беспросветно скучными, что обычно и делается.
Таковы мощные источники скуки, наводняющей
философию как социальный институт. Указывая на них, я
не стремился их исчислить, исчерпать (и даже изнурить
читателя): каждый, вероятно, может из своего опыта
добавить сюда еще несколько. Надеюсь также, что никого не
задел лично. Ибо, хотя я всегда старался отстаивать
личность, переходить на личности всячески избегал, и, в
конце концов, никто не обязан признаваться, что дурацкий
колпак сидит на нем идеально.
Итак, мы, кажется, приходим к выводу, что если
причины философской скуки — социальные и
психологические, а не логические, то философы вольны поступить с
философией так, как им угодно. Философия может быть
скучной; но она не обязана быть скучной, если только
философы не заинтересованы в этом и не желают ее такой
сделать.
- 111-
И здесь, мне кажется, вся суть затруднения.
Нынешняя ситуация вызывает определенную тревогу. Ни в
большом мире, ни в академическом — философия не
избавлена от борьбы за существование. Она не выживет, если не
примет к тому необходимых мер. Так что философы
имеют возможность ликвидировать и себя, и свой предмет.
Если пожелают, они могут сделать это, либо совершив
харакири на пороге Храма Истины, либо усевшись в позе
дхараны перед его воротами. Но я не вижу оснований
думать, что этим они принесут пользу себе, досадят своим
врагам или окажут неоценимую услугу человечеству.
Непоправимо ли расплывчат идеализм?*
Пожалуй, самая полезная функция, какую призван
выполнять профессиональный журнал, это предоставить
возможность специалистам обсуждать свои разногласия,
особенно по поводу смысла и уместности специальных
терминов. В первую очередь это относится к философии,
давно страдающей от многочисленных
двусмысленностей и постыдной неясности важнейших понятий.
Поэтому предпринятая профессорами Праттом, Барреттом и
Брайтменом попытка привязать к расплывчатому
термину «идеализм» нечто вроде определенного значения
заслуживает всяческих похвал1, и, поскольку дискуссия их
не частная, а затрагивает нас всех, я надеюсь, что
дополнительные замечания по этому поводу, сделанные с
несколько иной позиции, не покажутся лишними.
Мои симпатии с давних пор на стороне профессора
Пратта. Еще тогда, когда я писал последнюю главу
«Этюдов гуманизма» (Studies in Humanism), мне казалось, что
подход к проблемам и личные прихоти философов,
использующих термины «идеализм» и «реализм», сделали
оба термина непригодными для описания какой бы то ни
было живой задачи в философии; путаница, возникшая из
* Впервые опубликовано: Journal of Philosophy, XXX (Nov. 23, 1933),
pp. 659-664.
- 113-
непрерывного их употребления и столь искусно
раскрытая профессором Праттом, по-видимому, подтверждает
мою позицию. Ввиду создавшегося хаоса, требование
профессора Пратта ясно различать то, что называют
«идеализмом», и то, что называют «реализмом», — это
требование чистоты и честности мышления. С другой стороны,
статьи профессоров Барретта и Брайтмена дают,
по-моему, ценный материал для ответа на вопрос, поставленный
профессором Праттом. Я полагаю, он ответит им по
существу и для всех нас это будет поучительно.
Но боюсь, если мне не вмешаться, нынешние
участники дискуссии едва ли рассмотрят этот вопрос — в
будущем, как и прежде, — с самой общей и наиболее
фундаментальной точки зрения, единственной точки зрения,
которая позволяет внести порядок в эту дискуссию и
найти место для всех возможных вариантов. Я бы назвал ее
«гуманистической» или «протагоровской», имея в виду ее
происхождение от максимы «человек есть мера всех
вещей». Это не только самое раннее, но и самое радикальное
утверждение философской важности человека,
содержащее в своих недрах все позднейшие идеализмы как
частичные, односторонние и более или менее искаженные
его разработки. Оно естественно приводит к простой,
широкой и, можно надеяться, неоспоримой дефиниции:
любое воззрение, которое учитывает, что всякий мир,
касающийся человека, содержит отсылку к человеку, и эта
отсылка неустранима, вправе именоваться идеализмом.
И тогда, если мы освободим наш ум от традиционных,
но безосновательных предрассудков, которые велят
толковать соотнесенность с человеком как абсолютную
относительность, относительность как субъективность,
субъективность как солипсизм или скептицизм, нетрудно будет
увидеть, что изречение Протагора никоим образом не отрицает
никакой «реальности», представляющей интерес или
важность для человека, и что как методологический принцип,
по крайней мере, оно несет уверенность в том, что между
человеком и миром, где он обитает, гармония возможна. Из
- 114-
сферы человеческого измерения оно не исключает ничего,
кроме реалий, считающихся непознаваемыми,
незначимыми, недействующими, фиктивными или абсурдными.
Следовательно (1), если гуманизм является
идеализмом, то это идеализм, удовлетворяющий все
человеческие запросы и ничего человеческого не исключающий.
Он первый — и логически, и хронологически, — самый
обширный и полный; все остальные «идеализмы» легко
выводятся из него с помощью тех или иных ограничений.
Так (2) из него легко фабрикуется солипсизм
(которому, как ни парадоксально, не нашлось места среди
четырех исторических форм идеализма, рассмотренных
профессором Брайтменом). Ибо, если отвлечься от того, что
деятельность человека является не только
«теоретической», но и «практической», солипсизм немедленно
становится совершенно очевидным и упрямым следствием
того, что всякий опыт относится к субъекту.
(3) К «идеализму» Беркли так же легко прийти,
если сфокусировать внимание исключительно на
зависимости восприятий от перципиента.
(4) Из этого, как показала история, вырастает
«атомизм» Юма (еще одна форма идеализма, не попавшая в
классификацию профессора Брайтмена) — если мы
попытаемся (пусть и безуспешно) разложить перципиента на
перцепции.
(5) Найдется место и для загадочных доктрин
Платона, абстрактно говоря, с одинаковым успехом
отвечающих названиям «реализм» и «идеализм», хотя по
лингвистическим соображениям их нельзя исключить из
родословной идеализма. Что именно подразумевал Платон
под «образами» и «идеями» на разных этапах своего
развития, вероятно, навсегда останется предметом
дискуссий. Однако нечто вроде согласия может быть достигнуто
в одном: они возникли в контексте того, что следовало бы
назвать «логической» проблемой — дабы обосновать
практику предикации. Если так, то можно сказать, что
«идеализм» Платона исходит из того, что человек — логи-
- 115-
ческое существо, а «идеализм» Беркли из того, что он —
существо воспринимающее.
(6) Описание «гегелевского» идеализма
профессором Брайтменом — «реальность органична — целое
обладает свойствами, которых нет у его частей» — легко
выводится из «человек есть мера». Ибо все составляющие
этого описания — «реальность», «организм», «целое»,
«часть» — явно человеческие конструкции, основанные
на человеческом опыте, их адекватность и «истинность»
еще находятся в процессе выяснения и испытания.
(7) Несколько отличная версия «гегелевского»
идеализма, изложенная профессором Барреттом, приводит к
тому же заключению. Согласно Барретту, «Гегель указал,
что весь процесс восприятия, требующий отношения
субъект-объект, предполагает всеобъемлющий синтез.
Бытие и субъекта, и объекта зависит от высшего синтеза
и, в конечном счете, от безусловного синтетического
единства миропорядка, органическими частями которого
они являются. Этот миропорядок, будучи абсолютным, не
может участвовать как бесконечный Дух в
соотносительной деятельности сознания; то есть сам он не может быть
субъектом сознания или восприятия». Здесь опущена
важная претензия «Диалектики» на предсказание хода
истории, но явно постулируется множество человеческих
понятий, чья сверхчеловеческая действительность
остается проблематичной, а именно: субъект — объект, высший
синтез, миропорядок, единство вселенной, безусловное,
абсолютное, бесконечное, дух, отношение. Приложимы
ли (и если да, то до какой степени) названные понятия к
человеческой жизни и помогают ли ее понять — это
должно быть темой философского исследования. Но их статус
и ценность едва ли можно считать не зависящими от
целей человека и установленными a priori.
(8) Из краткой сводки профессора Барретта
явствует, что другие ортодоксальные или «объективные»
идеалисты сходятся в том, что заменяют перцептивную
зависимость мира от «духа» относительной. Но настолько ли важ-
- 116-
на эта разница? Полностью ли дегуманизирует она мир?
Отменяет ли эта интерпретация зависимость «идеализма»
от природы человеческого сознания и человеческого же
понятия «отношение»? И не остается ли при ней переход от
человеческого сознания к абсолюту все тем же
сальто-мортале, выполнить которое законным способом не сумел ни
один идеализм — да и не может выполнить, не
дискредитировав себя как инструмент познания реальности?
Скептическое завершение «идеализма» Ф. Г. Брэдли достаточно
ярко проиллюстрировало эту неизбежную дилемму
(9) Центральным для одной из разновидностей
«идеализма» профессор Брайтмен считает понятие ценности и
приписывает его авторство Платону2. Однако вовсе не
очевидно, что утверждение: «ценность объективна — ее
значение и происхождение лежат вне познающего субъекта»
должно именоваться «идеализмом», особенно если
вспомнить, что аналогичное утверждение: «реальность
объективна и независима от человека» — принято считать основой
реализма. Без сомнения, для философии очень важно
осознать, насколько всепроникающими являются ценности, и
что такие понятия, как «выше», «ниже», «адекватный» и
даже «реальность» связаны с ценностными суждениями;
но это, по-видимому, недавнее открытие. Кроме того,
какую бы «объективность» ни приобрели ценности в
социальном контексте, начинаются они, несомненно, с личных
оценок, так что эта «объективность», в конечном счете,
опирается на практические соглашения и удобства
индивидов — примерно так же, как «независимая реальность»
реалистов. То есть, «ценность» — концепция, очевидно,
протагоровская, а не платоновская.
(10) Идеализм Лотце в изложении профессора
Брайтмена: «реальность личностна — реальны только
личности или субъекты», из всех его «идеализмов» наиболее
близко подходит к пониманию того, что истинной мерой
является неусеченный человек. Ибо человек обладает
личностью, всякое известное нам сознание — личное, и в
подоплеке всех философий — личные склонности. Но тезис
- 117-
«реальны только личности» — всего лишь гипотеза,
присягать которой a priori не представляется необходимым.
Остаются еще два вида «идеализма», не
упомянутые ни профессором Барреттом, ни профессором Брайт-
меном.
(11) «Идеализм» в моральном смысле. Он
происходит не от «Идеи» и не от «идеи», а от «идеала». Это
значение «идеализма» весьма популярно и искоренить его едва
ли удастся. Ибо если бы его упразднили, «идеалистам»,
просто как таковым, стало бы гораздо труднее получать
профессорские должности. Так что человеческий мотив в
подоплеке такого идеализма достаточно очевиден.
И, наконец, (12) ни профессор Барретт, ни
профессор Брайтмен не отметили, что есть большая разница
между априорным и эмпирическим идеализмами. Из того
факта, что концепция сформулирована, идеализм может
сделать вывод, что она обоснованна, в смысле —
применима к жизни или реальности. Или же идеализм может
признавать, что концепция еще нуждается в подтверждении
на опыте и в действии. Наиболее типичные и известные
идеализмы (в особенности (5), (6), (7) и (8)) все
выстраивались таким образом, что принадлежали к первому
классу, то есть были основаны на «онтологической»
аргументации и аргументировали a priori, хотя, вероятно, могли
бы излагать свои доводы эмпирически и предоставлять
подтверждение опыту. Однако из того, что концепция
желательна (и, возможно, привлекательна), едва ли следует,
что она приложима к реальности и истинна. Кроме того,
эмпирические идеализмы располагают одним
отличительным способом аргументации: они могут исходить из
существования царства снов как психического факта. И,
наконец, следует отметить, что никакой эмпирический
идеализм, поскольку он признает необходимость
верификации, не может рассчитывать на большее, чем та или
иная степень вероятности. В результате требование
эмпирической верификации лишает идеализм его главного
очарования: оно аннулирует претензию идеалистических
- 118-
систем на «необходимую» истину. Даже если бы эти
системы могли доказать, что их претензии являются
логическими необходимостями, — а само их число лишает эти
претензии убедительности, — все равно оставалось бы под
вопросом, могут ли логические необходимости управлять
действительностью, то есть, действительно ли эти
системы истинны.
Так что же остается от апологии идеализма?
Согласно профессору Барретту, «Объективный идеализм
опирается на космическое значение ценности, связности и
систематической завершенности». Но все это — человеческие
идеалы, которые надо приспособить к другим
человеческим идеалам, не допустив, чтобы они их отменяли без
обсуждения. Согласно профессору Брайтмену, идеализм
больше, чем ментализм, ибо он включает «проблемы
ценности и духа». Для него существуют четыре вида
идеализма, и «идеалистической является любая система,
утверждающая хотя бы один из этих четырех принципов при
условии, что сюда включен гегелевский» как «минимальный
идеализм».
Но на самом деле, как мы видели, идеализмов может
быть — или есть — целая дюжина. А «определение»
профессора Брайтмена охватывает всего четыре. Правильно
ли, справедливо ли, допустимо ли отказывать в
официальном признании остальным? В идеале, следовало бы,
конечно, найти для них разные названия и
последовательно это разграничение проводить; но, за недостижимостью
такого идеала, не следует ли признать, что «идеализм» —
термин непоправимо расплывчатый? А раз так, не надо ли
вычеркнуть его из философского словаря как вредный и
ненаучный?
Наконец, меня могут спросить: «А что же
реализм?». Чем он лучше? Если обнаружено столько видов
идеализма, осталось ли место для реализма? Не вольется
ли он в какой-нибудь из ваших идеализмов? И тогда
вековую академическую дихотомию идеализм — реализм,
может быть, надо сдать в утиль, выбросить на свалку.
- 119-
Мне очень бы не хотелось без нужды обижать какую
бы то ни было форму реализма, который представляется
мне наименее зловредной и каверзной разновидностью
догматической метафизики. Но как законченный или про-
тагоровский идеалист, которому приятно думать, что
человек может быть адекватной мерой своего опыта, который
не считает себя вправе мучиться бессмысленными
вопросами о том, что не может быть связано с человеческим
опытом, и с удовольствием отмечает, что все
общепризнанные «объективные реалии» таят в себе отсылку к
человеку, я отнюдь не буду безутешен, если выяснится, что
большинство «реализмов» может быть успешно
размещено под кровлей моего гуманизма. Осмелюсь также
предположить, что все реализмы, представлявшиеся
правдоподобными и разумными, могли бы разместиться в одной из
ячеек (или нескольких) отведенных идеализмам. Что до
остальных, для которых не находится места, — то нельзя
ли их отбросить как ошибочные, излишние и
недоказуемые? Этим я, конечно, не хочу сказать, что не найдется
философов, которые будут упорно в них «верить», и что
«животная вера» не берет зачастую верх над человеческим
«разумом».
Примечания
1 Journal of Philosophy, XXX, pp. 169-178, 421-429, 429-435.
2 Эта атрибуция основывается, видимо, на разговоре об идее блага в
«Государстве». Но «благо» явно означает здесь принцип
телеологической интерпретации, который, разумеется, есть человеческая аналогия.
Кроме того, в глазах Платона благо имело космическое значение не как
«добро» (ценность), а как «идея» (истинная реальность).
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Ультраготический Кант*
Когда я берусь за «Критику чистого разума», у
меня всегда возникает такое чувство, будто я приближаюсь
к одному из чудес света, вхожу в готический собор,
огромный и освященный веками, памятник великой
человеческой изобретательности и труду, но, к сожалению,
почти обратившийся в руину. Неудивительно: место для
него выбрано неудачно, не на крепкой скале, не на
вершине, открытой ветрам, а на мглистом болоте, в
нездоровой низине. Фундамент его плохо сложен и слаб. План не
был продуман заранее, а расширялся и претерпевал
изменения по ходу работ, порой случайные. И материал на
него пошел неоднородный по качеству — тут и глыбы из
других развалин, и мягкий камень, не выдержавший
непогоды, и крепкий гранит, сохранившийся среди
раскрошенной массы, и просто обломки, которыми пренебрег
бы даже самый нерадивый строитель. Стиль его —
ультраготический: каждая пядь украшена замысловатым,
пышным, бессмысленным орнаментом; зато горгульи
великолепны. В довершение разрухи, воинственные
тираны использовали его шпили как наблюдательные пункты
во время глупых осад; так что он пострадал и от
обстрелов. Происходило это полтораста лет назад; здание без-
* Впервые опубликовано: The Personalist, XVII (1936), pp. 384-396.
-123-
надежно запущено и для употребления непригодно.
Одним словом, развалина.
И при всем том это великий национальный
памятник, святыня великого народа. Поэтому он есть во всех
путеводителях и стал излюбленным местом
паломничества. Мы входим в него, затаив дыхание, приглушив
голоса, и восхищаемся, сколько можем.
Я описал, боюсь, весьма неудачно, состояние духа, в
каком изучающим философию полагается подходить к
трудам Канта. И менее всего склонен отрицать, что для
некоторых целей такой подход оправдан и полезен. Но он
может легко выродиться в идолопоклонство и
способствовать националистическому помрачению. Я полагаю
также, что, задавшись целью втиснуть всю правду о
«Критике» в рамки одной статьи, обязан не только
резюмировать и восхвалять, но и порезвиться на участке,
отведенном иконоборцам и адвокатам дьявола. Последние,
напомню, были существенной деталью католического
механизма канонизации; их непременно следует
выслушать, прежде чем философ будет обожествлен, а учение
его провозглашено залогом спасения. Таким образом, я
намерен добросовестно и, надеюсь, без перехлестов
выполнить эту функцию в дискуссии о Канте.
Но прежде чем приступить непосредственно к
«Критике чистого разума», — несколько
предварительных замечаний. Первое: к чему стремился Кант в этой
книге? Конечно, он пытался откликнуться по существу
на ситуацию с предметом его рассмотрения — как он ее
понимал. В то время на философском поле доминировал
замечательный философ и столь же замечательный
литератор Юм, взорвавший традиционные школы одним
требованием: чтобы ему представили подлинный пример
необходимой связи, якобы скрепляющей вселенную.
Грохот юмовской бомбы докатился даже до сонного
Кенигсберга и пробудил Канта от догматического сна в
самом питомнике рационализма, каковым была тогда и
сейчас остается академическая Германия.
- 124-
Перед консервативными философами встала задача
найти ответ Юму, и Кант усердно трудился над ней много
лет. И если он с ней не справился, то потому, что
некритически принял многие предпосылки Юма, а выводы, к
которым он стремился, основываться на них не могли.
Следующее, что хотелось бы отметить, —
«Критика» Канта принадлежит к тому типу книг, существование
которого обозначилось для меня на самом раннем этапе
моих философских занятий. Без всяких посягательств с
моей стороны мне был презентован довольно
причудливый опус, написанный на странном жаргоне, и я
неосмотрительно выразил автору признательность, заметив что-
то по поводу языка. Автор с энтузиазмом откликнулся на
предложение сопроводить книгу глоссарием и живо
прислал мне второе издание, где объяснял, что первой его
целью было «сделать мое сочинение понятным для меня
самого. Отсюда, — продолжал он, — выбор таких терминов,
как архитектоническая энтелехия и чувственная
энтелехия] они были введены для того, чтобы облегчить труд
понимания книги». С тех пор это безыскусное признание
остается для меня наилучшим ключом к истории
философии: она изобилует трудами, боюсь сказать, такого же
происхождения. И не будет дерзостью предположить, что
«Критика» тоже сочинялась ради того, чтобы автор сам
себя понял. К сожалению, Кант не снабдил ее глоссарием
и даже алфавитным указателем; благоговение перед ним
столь глубоко, что и теперь, спустя полтораста лет,
немецкие издатели держатся правила не давать ни того, ни
другого. На самом же деле тут нужна «Симфония».
Третий момент, который надо отметить с самого
начала, — характер кантовского предубеждения.
Предубеждение есть у каждого автора, и обычно он его скрывает,
если может. Но Кант делал это не слишком умело. Его
предубеждение было предубеждением наивного рационалиста;
он упивался специальными терминами, хотя так и не
научился пользоваться ими последовательно; сложные
классификации, которые он строил, радовали его сами по себе.
-125-
Как говорит Норман Кемп Смит1, он был «рационалистом
по воспитанию, темпераменту и убеждениям», и Юм мог,
самое большее, потревожить его сон. «Критика» —
результат последовавшего кошмара. Кроме того, у него был
совершенно готический склад ума, которому простота и
классическая ясность бесконечно чужды.
В-четвертых, он не обладал литературным
талантом и на философское письмо повлиял самым
отрицательным образом. Он, вероятно, погубил немецкий язык
как средство философского просвещения и испортил
стиль своих поклонников повсюду. Ввиду того, что
философские проблемы и сами по себе трудны, он оказал этим
плохую услугу философии.
Перейдем теперь непосредственно к некоторым
доктринам «Критики». Ответ Канта Юму заключается не в
опровержении юмовских аргументов. Кант не отрицает,
что необходимая связь не является наблюдаемым фактом.
Он не отрицает, что она есть дополнение, правильно или
неправильно прилагаемое к фактам рассудком. Не
отвергает он и предпосылок юмовской психологии. Как и Юм,
проблему познания он видит в соединении атомарных
данных по принципу синтеза; причинность для него —
тоже связывание в пучки ряда дискретных событий. Таким
образом, у него и в мыслях нет отвергнуть юмовскую
атомистическую психологию и счесть причинный анализ
средством для расчленения непрерывного потока опыта.
Короче говоря, он строит свою систему целиком на юмов-
ском психологическом фундаменте. И вместе с Юмом
стоит и падает.
Ответ его Юму состоит всего из двух пунктов. Он
показывает, что юмовская картина познания
несостоятельна. Но Юм и сам понял ее несостоятельность. Это
было причиной его скептицизма, и он легко мог бы доказать,
что на такую же несостоятельность обречены построения
Канта. Во-вторых, Кант показал, что субъективные
добавления к данности не ограничиваются постулатом
причинности. Вклад, привносимый в постижение предмета опыта
-126-
самим нашим рассудком, гораздо объемнее. Кант
представил его в виде сложной системы априорных форм,
которые являются «деятельностью рассудка», образующей
знание. Причинность — лишь одна из двенадцати
«категорий». А кроме категорий, имеются в изобилии другие
синтетические принципы, чистые формы восприятия,
пространство и время, трансцендентальное «я» или
синтетическое единство апперцепции, плюс некритически принятые
и неявные допущения, такие, как антитезы формы и
материи, «чистого» и эмпирического, phenomena и поитепа,
как абсолютная истина и завершенность формальной
логики и современной ему математики, как существование
вещей в себе и способностей души.
Всей этой эпистемологической машинерии он
присвоил превратное, неясное, сбивающее с толку название
«a priori». До Канта под априорной («из предыдущего»)
аргументацией подразумевали такую, которая вела от
причины к следствию, а то, что представлялось
неэмпирическим фактором в познании, именовалось «врожденной
идеей». Правда, не вполне ясно было, как такие идеи
зарождаются; Кант же это недоразумение усугубил. A priori
стало центральной загадкой его системы. Он утверждал,
что a priori — логическое, а не хронологическое; но в
«Трансцендентальной эстетике» есть много пассажей,
лишающихся смысла, если «priori» не понимать как
предыдущее во времени.
Все предприятие Канта наталкивается здесь на
дилемму. Если a priori понимать во временном смысле, то оно
сводится в принципе к врожденной идее, и, больше того,
существование его становится задачей психологического
исследования. Новая кантовская наука о познании
оказывается мертворожденной. Если же a priori полностью
лишить всякой связи с временным порядком событий, то оно
перестанет быть психическим фактом, а будет только
фактором своеобразного логического анализа и оценки,
несправедливо ставящей его над «a posteriori», хотя
последнее необходимо ничуть не меньше. Кроме того, всякий та-
-127-
кой анализ неизбежно связан с тем набором понятий, из
которых он исходит. Следовательно, таких анализов
может быть сколько угодно, а выбор между ними может
определяться только эстетическими соображениями. Так что
a priori нет никакой необходимости предпочитать кантов-
скую версию априорного любой другой2.
Еще одно кантовское извращение ранее
существовавшего термина — «категория». Согласно Канту,
«категория» — чистое понятие рассудка, налагаемое a priori на
чувственное представление и преобразующее его в
познаваемый объект. Он перечисляет двенадцать
категорий, производя их — весьма неубедительно — от форм
суждений, то есть на самом деле, пропозиций. Этот
процесс с помощью такого же числа временных схем и
непроницаемо темной трансцендентальной дедукции
якобы гарантирует a priori и применимость, и
исчерпывающую полноту классификации. Последнее, однако, —
явное заблуждение. Почему, например, причинность
должна быть категорией, а телеология — нет? Отношение
средств и цели так же законно применяется для
интерпретации событий, как отношение причины и действия.
К этому, однако, Кант обращается лишь задним числом в
«Критике способности суждения». И многие из его
излюбленных дихотомий, таких, как «форма» и «материя»,
«чувственность» и «рассудок», даже сам он использует
так же, как категории, которые, по замечанию Кемпа
Смита3, «он постоянно смешивает со своими схемами».
Применимость их отнюдь не гарантирует их
достоверности. «Причинность» может быть и априорной
концепцией, но это никоим образом не дает нам возможности
приписать любому данному действию правильную причину:
в любой науке ученый должен взять на себя
ответственность за выбор подходящей категории и наблюдать
эмпирически последствия своего выбора.
Еще одна мучительная черта кантовской
терминологии — ее систематическая неопределенность. В «Критике»
нет ни одного специального термина, который не обладал
-128-
бы, как минимум, двумя значениями. Время позволяет
мне остановиться только на одной печально известной
двусмысленности; но она возникает в самом начале книги
и чрезвычайно важна. Во «Введении» Кант подчеркивает,
что хотя наше знание начинается с опыта, это не значит,
что все оно происходит из опыта. Но он, по-видимому, не
заметил, что употребляет «опыт» в двух разных смыслах.
Первый «опыт» — это опыт в понимании кантовского
априоризма: он состоит из эмпирических данных,
оформляемых категориями в объекты; второй «опыт» — такой,
каким он представлялся эмпирикам, подобным Юму. А само
утверждение должно показывать, как усовершенствована
Кантом гносеология Юма. Но, увы, эти два толкования
опыта — не единственно возможные. Оба — всего лишь
теории об исходном «опыте», таком, каков он в психологии
обыкновенного человека. Это тоже, вероятно, не
первичная данность; с веками он, по крайней мере, рос и набирал
вес, обретая прагматическую ценность. Во всяком случае,
весьма желательно четко различать «опыт» здравого
смысла, данный как нечто подлежащее объяснению, и
философские попытки его интерпретации.
Самое большое и наиболее фундаментальное
затруднение, с которым сталкивается читатель «Критики», —
вероятно, проблема вещи в себе. Возникает она таким
образом. После того, как установлено, что
противопоставление a posteriori и a priori может быть выведено из
противопоставления данности и деятельности рассудка
и, в конце концов, сведено к противопоставлению
материи и формы, без ответа остается целый ряд вопросов.
Как форма формирует материю? Почему материя
поддается формированию? Не должно ли быть между ними
некой предустановленной гармонии, преодолевающей их
дуализм? Очевидного ответа ни на один из этих вопросов
принципы Канта не дают. Но трудности, связанные с
этими вопросами, — детские игрушки по сравнению с теми,
которые возникают, когда Канту задается следующий
вопрос. Роковой вопрос: «откуда берется материя опыта,
-129-
оформляемая рассудком?». Кант был недостаточно
идеалистом, чтобы ответить, что она тоже создается
сознанием; поэтому ответил: она идет от самой вещи —
рассматриваемой, по-видимому, в добром старом
реалистическом духе, как нечто, лежащее в основе явления.
Но, выдвинув этот реалистический постулат, Кант
начинает сводить его на нет. Саму вещь познать
невозможно, поскольку всякий предмет познания неизбежно
проникнут деятельностью рассудка. Поэтому, хотя считать, что
она существует, необходимо (как велит теория Канта),
сказать, что она такое, невозможно. Это следствие оказалось
очень плодотворным: еще целому поколению немецких
профессоров философии оно позволило строить догадки о
вещи в себе и придумывать способ для снятия кантовского
табу. Было бы логичнее, пусть и не так занимательно,
указать, какие неприятности обрушиваются на вещь в себе по
ходу рассуждений Канта. Поскольку он настаивал на том,
что предметы мысли должны подводиться под категории и
что категории рождаются a priori из рассудка в результате
своего рода непорочного зачатия, они неприложимы к
вещи в себе, которая обеспечила материал опыта.
Следовательно, невозможно говорить о вещи в себе, не используя
категорию единства, говорить о вещах в себе, не прибегая к
категории множества, рассматривать вещь в себе как
причину явления, не обращаясь к категории причинности, и
даже предполагать ее существование, не обращаясь к
категории самостоятельности. Ясно, что если вещи в себе
суждено фигурировать в кантовской доктрине, то должно
быть дозволено широкое «трансцендентальное»
применение категорий. Но как это возможно? Не сам ли Кант ясно
и решительно наложил на это запрет? И мог ли он снять
этот запрет, не отказавшись от обозначенного им
преимущества критической философии над догматической
метафизикой? Неудивительно, что его младший современник
Ф. Г. Якоби (1743-1819), подытоживая эту ситуацию,
заметил: «Без вещи в себе я не могу войти в философию
Канта; а с ней — не могу там оставаться!».
-130-
До сих пор я пытался выявить некоторые главные
дефекты, портящие труд Канта; но теперь боюсь, как бы
мне не хватить через край. Не исключено, что в
результате вы отчаетесь в возможности понять Канта и будете
недоумевать, благодаря чему занял выдающееся место в
ряду знаменитых философов и стал центральной фигурой в
истории европейской мысли писатель, допустивший
столько литературных и логических промахов. Поэтому
считаю своим долгом объяснить, почему и в какой мере
требуется смягчить эти заключения.
Во-первых, что касается возможности понять
Канта, на мой взгляд, это никому еще не удалось вполне.
Никто еще не усвоил Канта настолько полно, чтобы
уверовать во все его утверждения. В том числе и сам Кант,
обладавший любопытным умением сохранять, наподобие
мушек в янтаре, старые цепи рассуждений, которые он
давно перерос к тому времени, когда вышла его книга, и
не потрудившийся пересмотреть свою рукопись, дабы
убедиться в том, что она отражает последовательность
позиции. Профессор Э. Адикес проиллюстрировал эту его
привычку, доказав, что одно особенно темное
рассуждение возникло просто из-за того, что в рукописи случайно
поменялись местами две страницы.
Имея дело с таким автором, надо быть гораздо
большим кантианцем, чем сам Кант, чтобы тешить себя
мыслью, будто находишь его последовательным и можешь
принять его целиком. Разнообразные кантианцы именно тем и
занимались, что составляли правдоподобного Канта —
Канта, в которого они могли верить, благоразумно
отбирая пассажи и доктрины, отвечавшие их воззрениям и
оставляя без внимания все, что им не отвечало. Полностью
принять весь его материал невозможно, и детальная
критика «филологов-кантианцев» убедительно показала, что
даже сам Кант не придерживался одновременно всех
взглядов, которые излагал в одном труде. Взятые в массе,
они представляют собой громадную кашу; если под
«пониманием» подразумевать приятие всего, что там есть, то
-131-
никто не может понять Канта, не пережив вслед за ним
всю его духовную эволюцию и не закончив той же кашей.
Но если «понять Канта» означает проанализировать его
рассуждения, отметить двусмысленности и колебания,
обнаружить ошибки, разобраться в неувязках — тогда
«понять Канта» — значит выйти на уровень критики,
более высокий, нежели тот, какого достиг сам Кант.
Конечно, это может быть достижением; но вряд ли
самый быстрый и легкий путь к такому критическому
пониманию пролегает сквозь джунгли кантианской
литературы. Мы склонны, скорее, согласиться с замечательным
афоризмом Джеймса, сказавшего, что лучший путь к
подлинно критической философии пролегает не через Канта,
а вокруг него.
Или, если конкретнее, почему не начать нашу
критическую гносеологию раньше, с Локка? Идея
критического исследования познания у Локка была такой же
ясной, как у Канта, и он гораздо менее сложен; а от Локка
нетрудно вернуться вспять к здравому смыслу и
определить его прагматическую ценность. Это поможет нам
понять, что познание — не просто салонная игра для
интеллекта, а жизненно важная деятельность, и что различные
стадии его следует рассматривать прежде всего в связи с
его целью. И в итоге мы должны прийти к гораздо более
адекватной теории познания, основанной не на
абстракциях и фикциях традиционного интеллектуализма, а на
неусеченных и неотъемлемых функциях, нуждах, целях и
идеалах цельного человека.
Тот неоспоримый факт, что, несмотря на свои
логические изъяны, философия Канта оказалась
замечательной исходной точкой для многих и разных течений мысли,
вовсе не так парадоксален, как кажется. Всякого, кто
внимательно изучал историю философии, он не удивит.
Подобные явления наблюдаются постоянно. Наиболее
стимулирующими оказываются не самые последовательные
системы, а именно те, чьи противоречия достаточно
очевидны и представляются настолько поверхностными, что
-132-
это побуждает устранить их и привести систему в порядок.
Совершенно непротиворечивая и ясная система не
взывает к своему исправлению. Так же, как с неоспоримым
возражением, — сказать тут больше нечего. Можно принять
ее или отвергнуть, ибо, помимо себя, она ни к чему не
ведет. К счастью, наверное, такой совершенной системы,
которая украсит собой и закроет историю философии, еще
не создано. С другой стороны, расплывчатая,
противоречивая, бессвязная система, пытающаяся скрепить и
объединить множество расходящихся направлений мысли, и
развиваться способна в разных направлениях. Поэтому
она привлекает последователей, и каждый из них дает ей
свою интерпретацию, развивает ее по-своему и, как только
умрет учитель, вступает с другими последователями в
энергичную полемику о том, кто толкует его правильно.
Вот почему Сократ, не связавший себя никакой
письменностью и потому говоривший всякий раз и
всякому своему почитателю то, что ему самому было угодно,
стал плодовитым родителем стольких «сократических»
школ. Не только платоники, но и киренаики, киники, ме-
гарики могли считать его своим вдохновителем и
озадачивать нас своим несходством. Так же взывали к развитию и
разумный компромисс Локка между рационализмом и
эмпиризмом, и декартовское искусственное и неустойчивое
согласование духовного и материального. И Платон
оказался неиссякаемым источником философского
вдохновения именно потому, что никто не мог превратить его
диалоги в единую систему. Гегель привлек целую армию
последователей потому, что никто не мог понять из его
загадочных и неопределенных речений, налево или
направо устремлен глубинный импульс его системы. Напротив,
системы, более или менее последовательные, к развитию
не склонны. Кто может вспомнить учеников Гоббса,
Ницше, Шопенгауэра и внесенный ими вклад? Учение
Аристотеля было настолько законченным, что число его
последователей вскоре стало ничтожным; к жизни оно вернулось
лишь после того, как было привито к совершенно чуждому
-133-
телу христианской догмы. Система Беркли могла
привести только к Юму, и то путем искаженного развития.
Система Канта дает возможность самых разных
интерпретаций. Ее можно интерпретировать реалистически,
идеалистически и скептически; логически,
психологически и метафизически; рационалистически или
волюнтаристски и даже — говорю это, чуть ли не краснея, —
прагматически. И всем интерпретаторам найдется, что сказать
в свою защиту. Они могут убедительно и даже обильно
цитировать слова этого мыслителя в подтверждение своих
интерпретаций — и могут спорить без конца о том, чьи
цитаты важнее. Так что никакой окончательности в
толковании Канта быть не может. «Критика чистого разума» —
одна из тех книг, о которой в высшей степени справедливо
может быть сказано:
Hie liber est in quo quaerit sua dogmata quisque,
Invenit ac pariter dogmata quisque sua*.
С этой точки зрения философия Канта
представляется гигантским карьером, из которого всякий может
добывать то, что ему требуется. Многие возьмут только
мусор — пищу для своего педантизма — или коварные
вопросы, чтобы ловить и мучить экзаменуемых. Но есть там
и ценная руда, и добыча ее окупится, если трудовые
затраты не будут чересчур высоки. Жаль только, что руда
должна быть так неподатлива, а порода, в которой она
лежит, — так тверда и тяжела в работе!
Примечания
1 Norman Kemp Smith. Commentary on Kant, 2nc* ed. London: Macmil-
lan and Co, 1930, p. XXXII.
2 Ср.: F. С. S. Schiller. Axioms and Postulates, secs. 13-23 in H. Sturt's
Personal Idealism. London: Macmillan and Co, 1902, pp. 78-83.
3 Commentary. 2nd ed., p. 239.
* Это книга, в которой всякий ищет свои догматы
И всякий находит свои догматы (лат.).
- 134-
Гёте и фаустовский путь спасения*
Из всех людей, до сих пор живших на Земле, Гете,
возможно, был наиболее близок к платоновскому идеалу
философа-царя. Не обязательно думать, что идеал этот
должен воплощаться в человеке: он может воплощаться и
в должности. Так, найдутся доводы в пользу того, что
папа — философ-правитель в платоновском духе, и
платоновский идеал царства философии осуществился на
земле в виде католической церкви.
Но если мы предпочтем понимать Платона
буквально и поищем человека, который интересовался всем
знанием и приложил руку к практическому управлению
людьми, то вряд ли найдем такого, который достиг бы в
этом больших успехов, чем Гете, много лет бывший
другом, министром и правой рукой герцога Саксен-Веймар-
ского. Еще одно достоинство Гете в глазах платоника —
то, что, подобно самому Платону, он был поэтом, а не
только философом и правителем. Поэтом, безусловно,
лучшим, чем Платон, и правителем более удачливым,
поскольку не так педантично следовал своей философии и
готов был, когда надо, спуститься из идеального мира на
уровень прозаического здравого смысла. Невозможно се-
* Лекция, прочитанная в библиотеке, Лос-Анджелес, Калифорния,
1935 г.
-135-
бе представить, чтобы Гете учинил такую нелепость: дабы
создать совершенное государство, поставил правителем
философа, который вышлет из города всех жителей
старше десяти лет, а остальных возьмет на государственное
воспитание. Или чтобы Гёте обращался с веймарским
герцогом так, как, кажется, обращался с сиракузскими
тиранами Платон1.
Зато вполне в духе поэта-философа-правителя
собрать свои впечатления и воплотить свои размышления о
жизни в философской поэме. Мир должен быть вечно
благодарен Гёте за то, что он нашел в себе силы и время
задумать большую философскую драму, каковой
является «Фауст», работать над ней всю жизнь, завершить в
старости и оставить людям в наследство этот самый
зрелый плод своей мысли. «Фауст» — гораздо больше, чем
поэма, гораздо больше, чем философия: это подлинное
послание Гёте-человека, одного из величайших людей в
истории.
Кроме того, в герое «Фауста» раскрывается его
создатель, Гете; герой вобрал в себя так много от своего
создателя, что, говоря об их отношении к жизни, мы не
должны слишком тщательно проводить различие между
их характерами. Отношение Гёте к жизни было в
большой мере фаустовским; а отношение Фауста — очень
близко к сердцевине жизненного кредо Гете. Не должны
мы и забывать, что Гете был не только поэтом и самой
яркой звездой в Йенско-Веймарском литературном
созвездии; он был еще и практиком. Больше того, он не
только умел обращаться с людьми и вести дела, но и в
философии был изрядным прагматиком, иногда даже
склонным утрировать прагматическое, в сущности,
представление о том, что для высшего полета мысли
необходимо действие. Афоризм «Was fruchtbar ist allein ist
wahr»*, возможно, выражавший лишь отвращение к
бесплодным занятиям некоторых ученых педантов в сосед-
* Истинно лишь то, что плодотворно (нем.).
- 136-
нем университете Йены, — ультрапрагматический.
Формально он подразумевает незаконный переход от «всё
истинное полезно» к «всё полезное истинно», против
которого постоянно возражали строгие прагматисты. Но
до конца девятнадцатого века искать строгий
прагматизм не имеет смысла, а изречение Гете, во всяком
случае, внушительно и западает в память. Вдвойне ценно
оно для Германии, страны, так долго стонавшей под
пятой ученого педанта, этого муштровщика души, и
подтверждает догадку, что Фауст, восставший против
бесплодной средневековой учености, в большой мере
выражает отношение самого Гёте к немецкому университету
восемнадцатого века.
Но было бы точно таким же педантизмом
воспринимать Гёте только лишь как прагматика, а «Фауста» — как
проповедь спасения через действие или через труд.
«Фауст» гораздо шире, это — многогранное произведение
гения, и прочесть в нем можно много «смыслов».
Некоторые из них, несомненно, роились в сознании автора, пока
десятилетиями создавалась книга, и потому могли быть
внесены туда намеренно. Другие, кажется, порождены
логикой произведения в целом, если рассматривать его с
определенных точек зрения. Поэтому я заранее отвожу от
себя обвинение в том, будто считаю свою интерпретацию
«Фауста» единственно разумной и исчерпывающей его
философское и поэтическое содержание. Я готов
услышать, что моя интерпретация притянута за уши и мало
что отражает, кроме моих предубеждений.
Однако позвольте мне заметить для начала, что
здесь, как и в других философских вопросах, нам не
служит исходной точкой некое основополагающее согласие
относительно фаустовского метода спасения. На этот
титул есть несколько кандидатов, и к претензиям каждого
можно отнестись скептически. Вероятно, главными
фаворитами можно назвать спасение через любовь и спасение
через труд. Первый путь, по-видимому, подразумевается в
первой части «Фауста», второй — во второй части, за ис-
- 137-
ключением финала, который как будто бы снова отсылает
к спасению через любовь.
Мое возражение против обеих теорий состоит в том,
что жизненный путь Фауста ни в одну из них не
укладывается. Верно, конечно, что в конце первой части Гретхен
своей любовью и страданиями заслуживает прощение, а в
конце второй части ее любовь к Фаусту ведет его к
небесным сферам; однако тема любви отсутствует в завязке
трагедии. Ее нет ни в договоре Фауста с Мефистофелем,
ни в пари последнего с Господом. В первом случае Фауст
обязуется пойти в ад, если когда-нибудь скажет, что он
удовлетворен; во втором — Мефистофель выиграет пари,
если сумеет отлучить Фауста от божественного
источника его бытия. «Zieh' diesen Geist von seinem Urquell ab»*.
Но и Господь, и Мефистофель отлично понимают, что
последний — всего лишь орудие первого — часть той силы,
которая «творит добро, всему желая зла»2, что
независимость его действий — только кажущаяся3, и серьезно
помешать победе Господа ничто не может.
Не отвечает фактам и теория спасения через труд в
духе вольтеровского «Кандида»: «Mais cependant il faut
cultiver notre jardin»**. Действительно, под конец второй
части Фауст как будто включается в государственную
деятельность и трудится на благо других. Но надо отметить,
что, видимо, именно успех этих трудов побуждает Фауста
выразить удовлетворение жизнью и отдает его в руки
дьявола, согласно их уговору. Таким образом, успешный труд
отнюдь не спасает Фауста, а чуть ли не обрекает на вечное
проклятье.
Кроме того, учтем — и это еще важнее, — что
неверно думать, будто Фауст не трудился для других до того,
как сделался князем Империи во второй части. Он и до
встречи с Мефистофелем не был чистым теоретиком,
копившим знания, как скупец копит золото. Он изучал не
* Отлучи этот дух от его праисточника {букв, перевод.).
** Надо возделывать свой сад (фр.).
-138-
только философию и теологию, которые принято считать
чисто теоретическими науками, но также право и
медицину4. Больше того, медициной он занимался практически и,
по мнению его пациентов, с исключительным успехом.
Правда, сам он осуждает эти свои занятия: «ich habe
selbst den Gift au Tausende gegeben; Sie welkten hin, ich muss
erleben Dass man den frechten Morder lobt»*. Но Вагнер
убеждает его, что он делал все что мог, и, как в пианиста на
Диком Западе, стрелять в него не надо.
Поскольку теории спасения через любовь и
спасения через труд не оправдываются, попробуем другую.
Выскажу предположение, что характер, которым Гёте хочет
наделить Фауста, гораздо более созвучен с народной
легендой о Фаусте, нежели с названными двумя версиями.
Почему бы нам не видеть в Фаусте человека,
стремящегося также быть магом, то есть взыскующего знания как
пути к власти? Маг — персонаж, хорошо известный нам из
истории; он имеет древнюю и — если древность наделяет
благородством — почтенную родословную. Он
появляется уже, жутковато оснащенный рогами и копытами, в
пещерах палеолита, и если наскальная живопись в пещере
Иусте имеет магическое назначение, связанное с пищей
(что представляется вероятным), то первым художником
был маг. Если он первым стал изучать природу, то он был
первым ученым; если первым научился ловчить, то был
первым политиком. Что ведун был первым знахарем,
видно из самой этимологии. Кстати, кудесники, сделавшись
респектабельными и зажиточными, нередко становились
основателями религий.
Короче говоря, с самого начала маги были
поборниками знания, которое есть сила. В этом они, вероятно,
были правы, поскольку прочее знание — либо очковтира-
* И каково мне слушать их хваленья,
Когда и я виной их умерщвления,
И сам отраву тысячам давал!
(Перевод Б. Пастернака.)
-139-
тельство, либо эрзац. Да и не предполагалось в те
простые времена никакого иного знания. Еще не было тогда
такой касты ленивых и неумелых магов, которая создает
бесполезные знания, дабы им поклонялись невежды.
Почти во всех странах первая литература была
магической, и те, кто умел читать и писать, были магами ex
officio. Так что начальная литература есть буквально раздел
магии. Заговоры были частью речи, чары — действенным
элементом грамматики. Заклинания и проклятья могли
переворачивать душу богам и людям и уводить небесные
тела с орбит. Слова были буквально «сильными
словами», они открывали все двери, двигали горами. Logos,
который был «словом» задолго до того, как стал «разумом»,
естественно, считался решающим фактором в
сотворении мира — и Фауст имел все основания заменить в
переводе «слово» на «деянье». И, наконец, одно слово
«Аллах» могло заключать Spiritus в бутылки так надежно, что
самый смелый бутлегер откупоривал их с опаской.
Словом, идея теоретического знания, которое бессильно,
бесполезно и безвредно и, однако же, заслуживает почтения,
есть идея новейших времен. Это — изобретение
немощного, развращенного века, когда магистерская степень
перестала внушать благоговение и даже докторская не
завораживает.
Далее, я готов утверждать, что в начальных сценах, на
первом этапе своих поисков, Фауст занимается магическим
изучением букв и геометрических фигур. Он изображен в
лаборатории, полностью оснащенной аппаратурой,
необходимой для физических и химических исследований — и,
даже, осмелюсь предположить, психологических.
Биологического оборудования, во всяком случае, было достаточно,
чтобы его ученик Вагнер соорудил там синтетического
человека-гомункула — достижение, которого с тех пор никто
не сумел повторить. Так что Фауст определенно не страдал
от недостатка приборов.
Страдание его было более серьезное, глубинное,
трудно излечимое — болезнь духа, вызванная неестествен-
- 140-
ным образом жизни. Ибо магия — не естественное занятие
для человека, ею занимаются исключительные люди, и с
риском для себя. Вдобавок, при всей распространенности
моды на нее и при всем великолепии ее достижений,
срабатывает она не более надежно, чем наука или даже
медицина. Кроме того, у мага трудная жизнь, требующая
многих самоограничений и самой суровой дисциплины.
Колдовские способности отгораживают его от обыкновенных
людей и обыкновенной жизни, и временами он ощущает
это болезненно. Притом, он, как правило, чувствителен,
кичлив, тщеславен и тяжело переживает разочарования.
А значит, мы не должны удивляться ни тому, что
Фауст переоценил свои духовные силы и свою власть над
миром духов, ни тому, что гордости его был нанесен
тяжелый удар, когда Земной дух не пожелал признать его
равным. Будучи грубо поставлен на место, он испытывает
сильнейший приступ апатии, характерный для его
профессии, и погружается в пессимистическое отчаяние. От
не слишком решительной попытки самоубийства его
отвлекают сентиментальные воспоминания детства; однако
истинная сила его переживаний раскрывается позже,
когда в ответ на мефистофельские насмешки он разражается
великолепным проклятием жизни, заканчивая его
словами «Fluch sei der Hoffnung! Fluch dem Glauben! Und Fluch
vor allen der Geduld»*.
Мне кажется психологически весьма вероятным,
что отчаяние долго зрело у Фауста в подсознании; если
так, Господь, несомненно, знает об этом, когда в прологе
на небесах напускает на него Мефистофеля, принимая
пари. Он предвидит, что, дабы соблазнить Фауста, черт
должен будет сперва вернуть ему волю к жизни, излечить его
от пессимизма.
Правильно ли оценил ситуацию Мефистофель,
сказать труднее. Это зависит от того, как мы поймем
* Проклятье надежде! Проклятье вере! И, прежде всего, проклятье
терпению! {Букв, перевод.)
- 141-
роль, отведенную ему автором. Хотел ли Гёте, чтобы мы
воспринимали Мефистофеля как обычного
средневекового дьявола, охотника за душами? Едва ли — как я
подробно доказывал в книге «Гуманизм» («О
Мефистофеле»). У Гёте Мефистофель слишком хорошо сознает свою
скромную роль в мироздании. Он знает, что космическая
функция его — побуждать людей к исполнению воли
Божьей5. Но он знает также, что он привилегированный
черт, «плут», бес-забавник, способный вызвать улыбку
даже у Господа, если бы Господь позволил себе такое
легкомыслие6, и наименее противный Ему из всех духов
отрицания7. Так что у нас нет полной ясности относительно
того, насколько Мефистофель серьезен и сознает ли, за
какую грандиозную психотерапевтическую задачу
берется он, занявшись Фаустом. Ибо, понимает он это или нет,
но предстоит ему раньше всего найти лекарство от
крайнего пессимизма.
А крайний пессимизм — болезнь почти неизлечимая.
Среди прочего он выражается в полном недоверии к
проявлениям добра и в утрате воли к жизни. Человеку в таком
состоянии жизнь уже не может предложить ни радостей,
ни соблазнов; она просто теряет для него вкус. Чем же
заморочить, отвлечь, позабавить Фауста искусителю?
К счастью для читателя, Мефистофель не мрачный,
не смертельно серьезный дьявол. Первоклассный
затейник, он пробует на Фаусте один за другим все принятые
виды развлечений, начиная с самого низменного —
попойки в погребе Ауэрбаха. Он находит забаву во всем,
даже в Фаусте. Вернее, его упорство в искушении Фауста, я
думаю, объясняется тем, что его забавляют неустанные
борения Фауста. Но первая его попытка неудачна:
Фаусту просто противно. Мефистофель сразу смекает, в чем
дело, и меняет тактику. Слишком стар Фауст, слишком
длинна его борода8. «Я слишком стар, чтоб знать одни
забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать»9, — заявляет
он сам. Только чудо может помочь утомленному старому
магу, возродить в нем интерес к жизни.
-142-
И Мефистофель, не колеблясь, прибегает к чуду. На
ведьминой кухне с помощью эликсира жизни он
омолаживает Фауста. Это позволяет Фаусту сбросить
тридцатилетний психологический груз усердных занятий и
продолжить жизнь, точнее, начать ее заново с молодым телом
и опытом зрелых лет. Исполнилось его желание: «Ah si
jeunesse savait, si vieillesse pouvait»*. Ибо чудо тут
двоякое: и психологическое, и физиологическое. Фауст, не
жертвуя ничем из своей обширной учености, обретает
силы для того, чтобы ею пользоваться, и молодость, чтобы
получать от нее удовольствие.
На философский взгляд это омоложение — самое
сомнительное в истории, рассказанной Гете, ибо
оставляет в стороне один важный момент. Дело в том, что ответ
на вопрос: «что делать с жизнью?» в большой мере
зависит от ожидаемой ее продолжительности. Для человека,
которому осталось жить всего несколько лет или часов,
бессмысленно затевать предприятие, способное принести
плоды лишь спустя столетия. И наоборот, если жизнь
продлится века, можно строить долговременные планы и
высаживать рощи секвой; недолговечному же следует
удовлетвориться редисом. Так что качество жизненной
деятельности зависит от временного масштаба жизни.
Особенность произошедшего с Фаустом чуда, как
мы видели, в том, что физиологически он становится
тридцатилетним мужчиной, а психологически сохраняет
зрелость шестидесятилетнего. Этого достаточно, чтобы
сделать его исключительным существом — и
рискованным перенос суждений о нем на обыкновенного человека.
При этом ясно, что волшебное омоложение Фауста
для фабулы необходимо. Без него действие остановилось
бы. Только так могли оживиться в нем природные
инстинкты, которые он смолоду подавлял, чтобы стать
образцом учености и светочем знания. Понятно, что и роман
его с Гретхен развивался бы иначе, будь у него седая боро-
* Ах, если бы молодость знала, а старость могла (фр.).
- 143-
да. И княжествовал он так успешно потому, что был не по
(видимым) годам мудр и не по (действительному)
возрасту энергичен. Ибо желание управлять редко возникает в
начале жизни, зато часто сохраняется, когда способность
к этому уже утрачена. Так что мы с сожалением должны
констатировать здесь роковой сбой в логическом
развитии сюжета.
Ввиду этого «сбоя» говорить о каком-то
единственном фаустовском пути спасения становится
затруднительно. Спасение Фауста обусловлено целой цепью чудес.
Сперва благодаря чудесному омоложению он может стать
героем-любовником. Затем чудесная помощь
Мефистофеля позволяет ему оказать такие услуги императору, что
его возвышают до княжеского звания, наделяют
политической властью и предоставляют ему возможность
претворить свои идеи в действие. Затем Гретхен, чудом своей
любви, видимо, мобилизует небесные силы ему на
помощь, и они, украв у Мефистофеля трофей, уносят
отданную ему в залог высокую душу Фауста на небо10.
Но подобную цепь чудес можно ли назвать
справедливостью? Искусством? На первый взгляд — едва ли. Но
кое-что все же можно сказать в защиту Гете. Как ни
чудесно сцепление событий, оно не оскорбляет наше
эстетическое чувство, и то, что у Мефистофеля ловко отнимают
его добычу, нам кажется справедливым возмездием за
мошеннические приемы, с помощью которых он пытался
заполучить должника.
Потому что на самом деле он душу Фауста не
удовлетворил. Ведь говоря: «Повремени, мгновенье, ты
прекрасно», Фауст обращался не к настоящему и не его имел
в виду. Он пытался вообразить будущее и думал о том, как
отвоевать у моря еще кусок земли и превратить ее в
плодородные поля. Затем он говорит:
Вот мысль, которой весь я предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.
- 144-
Так именно, вседневно, ежегодно,
Трудясь, борясь, с опасностью шутя,
Пускай живут муж, старец и дитя.
Народ свободный на земле свободной
Увидеть я б хотел в такие дни.
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они».
И это торжество предвосхищая,
Я высший миг сейчас переживаю11.
С этими словами он умирает! Очевидно, что речь
идет не об имеющемся факте, а о предвидении будущего,
и добавим — возможного будущего. Если только он
сумеет создать свободную землю, а свободный народ
сумеет ею прожить, только тогда сможет он приветствовать
настоящий миг как осуществление своей пророческой
мечты и уверовать в свою бессмертную славу. Но
предвосхищение это не было фактом, и не могло быть
гарантий, что оно когда-либо станет фактом. Возможно, это
был просто бред умирающего. И воображаемая картина
лишь печально оттеняет истинное положение слепого
старика на пороге смерти. Со своей всегдашней
циничной откровенностью Мефистофель сразу это признает —
и заключает:
В борьбе со всем, ничем не насытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простерт в песке, с ним время совладало12.
Таким образом, Мефистофель, хотя и предъявляет
права на Фауста, свою часть договора не выполнил. Не
выиграл он и пари у Господа. Фауст не оставил своих
hohes streben* до конца. Деятельный до последней мину-
* Высоких порывов (нем.).
- 145-
ты, он умер с видением дальнейшей деятельности в своих
незрячих глазах13. Так и осталось похвальбой обещание
Мефистофеля, что Фауст будет с удовольствием «жрать
прах»14.
Мало того: можно утверждать, что Мефистофель
показал себя глупцом, заключив контракт, которого
никак не мог выполнить. Фауст подписывал его, отчаявшись
в жизни, и был ближе к вечному проклятью, чем после
заключения прискорбной сделки. Психологически он уже
был проклят — до того, как согласился с тем, что об этом
позаботится Мефистофель. С другой стороны, условие,
которым он оговаривает свою возможную капитуляцию
перед Мефистофелем, явно подразумевает не вечное
проклятие, а вечное спасение. Сказать мимолетному
мгновению: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно» — значит
объявить, что ты вполне удовлетворен, достиг
блаженства, которого не превзойти уже, не изменить. Но это —
характеристика рая, а не ада. Таким образом, договор
означал, что Фауст может быть проклят лишь в том случае,
если попадет на небо. Но, если он сможет попасть на небо,
то, совершенно очевидно, будет спасен, а Мефистофель
потерпит поражение.
Так что, с какой стороны ни посмотреть,
Мефистофель не добился прав на душу Фауста. Наоборот, он сам в
очередной раз обманут, в очередной раз использован как
орудие высшей силы, как инструмент для спасения
Фауста. Тут сомнений быть не может: добился он именно
спасения Фауста. Он извлек его из «пучин отчаяния»; он не
сумел утопить его в трясине земных вожделений. Он
вернул ему веру в будущее космического процесса, желание
посмертной славы, так решительно им проклятое15,
обратил его к Божьему труду для улучшения мира.
Можно ли требовать большего от Гёте и его поэмы?
Чтобы она повествовала не только об одной душе,
избежавшей дьявольских когтей, а обладала универсальной
значимостью? Боюсь, это чрезмерное требование. В конце
концов, «Фауст» — драма великой души, а не обыкновен-
- 146-
ного человека. Да и сам Гете не был демократом, как
Уильям Джеймс с его плотником, который считал, что
между одним человеком и другим разницы очень мало, но и
эта малость очень важна*. Или как Иисус, сын плотника.
Гёте даже мог усомниться в том, что обыкновенные души
заслуживают вечного хранения, хотя в «Фаусте»
несколько видоизменяет эту доктрину и допускает, что
бессмертия заслуживает не только величие достижений, но и
великая преданность. Когда спутницы Елены отказываются
вернуться в Аид со своей госпожой, предводительница
хора заявляет:
Принадлежит стихиям тот, кто имени
Не приобрел и не стремится к высшему.
Смешайтесь с ними. Я хочу с царицей быть.
И верность наша, а не только подвиги,
Приобретает нам значенье личности16.
При всем этом, «Фауст», возможно, содержит уроки
не для одних только неудовлетворенных магов. В
частности, это может быть уроком для всего академического
мира или, по крайней мере, германской его части. «Фауст»
содержит сатиру на академического, теоретизирующего
человека, олицетворенного в Вагнере, и советы
Мефистофеля студенту придутся по душе любому, от кого не
укрылась комическая сторона академической жизни. Не вижу
причин сомневаться в том, что намерение этой сатиры
было серьезным. И по своей подготовке, и по своему
положению Гете имел полную возможность уяснить, если не
решить, коренную проблему академической жизни.
Проблема эта — серьезная, и я не думаю, что университетская
система какой бы то ни было страны может похвастаться
тем, что решила ее успешно.
Проблема эта двоякая и заключается вот в чем. Во-
первых, как знание одного поколения эффективно
передать следующему? Во-вторых, как создать институты, ко-
* Уильям Джеймс. Воля к вере. М., 1997.
- 147-
торые будут не только обучать и направлять молодежь, но
и способствовать росту знаний, причем знаний, полезных
и нужных обществу? Обе проблемы — психологические, и
профессорам психологии следовало бы заняться
психологией профессоров так же, как уровнем умственного
развития студентов. На практике трудности возникают и со
студентами, и с профессорами. Неподатливость первых
общеизвестна, извращенность же вторых признается
отнюдь не так широко, как следовало бы.
На самом деле, все существующие
университетские системы не достигают тех целей, ради которых
созданы. Все они более или менее не способны ни
умножать знания, ни передавать их. Передавать не способны
потому, что сами сделали их по большей части
бесполезными или непередаваемыми. Профессору так гораздо
вольготнее и гораздо выгоднее. Единственное, что для
этого требуется, — возвести педантизм в культ и своего
конька — на пьедестал.
Немецкие университеты во времена Гете особенно
страдали от этого недостатка; можно сказать — то был
апофеоз педантизма. Слава немецкого профессора
всецело зависела от его вклада в исследования; он желал
держать свой предмет под контролем и направлял своих
студентов, исключительно исходя из этого. Больше того, он и
его предмет представляли собой единое целое; предмет
был тем, чем он его назначал быть, и он ревниво следил,
чтобы никакой другой петух не подобрался к его
навозной куче. Взяв тему для исследования, он распределял ее
между студентами, чтобы каждый работал над каким-то
ее аспектом, а на семинаре задавал им направление. После
того, как они проделывали большую часть черновой
работы, он ее присваивал, суммировал, вознаграждая их
степенями, и публиковал исследование под своим именем.
Единственное унижение приходилось ему терпеть: ни в
коем случае он не должен был публиковать книгу в
литературном виде. Это вызвало бы зависть соперников,
профессоров той же специальности из других заведений, и
- 148-
они осудили бы его как недостойного популяризатора и
ничтожного ученого; а это, в свою очередь, повредило бы
его карьере, помешало бы занять в результате
исследования более высокую академическую должность,
переместиться в более крупное (и лучше оплачивающее труд)
заведение.
Однако в последнее время новый германский
режим демонстрирует намерение существенно изменить
эту систему Он не только изгоняет из университетов
евреев, либералов, социалистов, чем, кстати, занимаются и
в Австрии, вычищая вдобавок нацистов (для стран, где
университеты подвержены политическому контролю,
подобные кампании — не новость), но и вознамерился,
видимо, создать новый тип профессуры. Новый
немецкий профессор отныне не будет книжным червем,
вместо решения нужных проблем внедряющимся невидимо
для людей в области, куда никто или почти никто не
может за ним последовать, и где он может уютно
расположиться, не опасаясь вторжения. Ему предстоит
выработать в себе качества вождя, чтобы стать
интеллектуальным вожатым. Ему придется стать отчасти и политиком,
но это тоже не новость в континентальной Европе. Что
еще важнее, больше внимания придется уделять
исследованиям, обещающим результаты, нужные обществу и
промышленности, а не таким, которые позволяют
профессору свить вокруг себя надежный, непроницаемый
для враждебной критики кокон. Одно из любопытных
следствий такой концепции — она как будто бы
возвращает нас к платоновскому идеалу философа-царя,
только другой дорогой: не мудрец становится правителем, а
человек, причастный власти, входит в академическую
жизнь.
Конечно, еще рано говорить о том, каковы будут
результаты этого эксперимента. Начат он крайне грубо и
безжалостно; сейчас кажется вполне вероятным, что он
способен только погубить немецкие университеты как
рассадники знания. То же самое можно сказать о еще бо-
- 149-
лее грандиозном проекте — германском законодательстве
по евгенике. Но это, несомненно, отвечает тому духу,
который увлек гётевского Фауста от слов к деяниям и от
наук к их приложениям. Если же удастся, хотя бы частично
и после многих поправок, покончить с властью
философа-педанта и заменить его философом-правителем, это
явилось бы наглядной иллюстрацией фаустовского пути
к спасению.
Примечания
1 Если «Письма» Платона подлинные. Современные платоники не
понимают, что если письма подлинные, то они полностью
дискредитируют Платона как практического политика.
2 «Ein Teil von jener Kraft
Die stets das Böse will
Und stets das Gute schaft».
(Здесь и далее цитаты из «Фауста», за исключением особо
оговоренных случаев, приводятся в переводе БЛ. Пастернака).
3 «Du darfst fuch da mir erscheinen».
(«Ты смеешь мне являться». Букв, перевод.)
4 «Habe, nun, ach, Philosopie,
Juristerei und Medezin
Und leider lauch Theologie
Durchaus studiert».
(«Я богословьем овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил».)
5 «Das Mennschen Tätigkeit kann allzuleischt erschlaften
Er liebt sieht bald die unbedingte Ruh;
Drum geb'ich gern ihn den Gesellen zu,
Du reizt und wirkst und muss als Teufel schaffen».
(«Из лени человек впадает в спячку.
Ступай, расшевели его застой,
Вертись пред ним, томи и беспокой,
И раздражай его своей горячкой».)
-150-
6 «Mein Pathos brachte dich gewiss zum Lachen
Hättst du dir nicht das Lachen abgewöhnt».
(«[...] Тебя бы насмешил я до упаду,
Когда бы ты смеяться не отвык».)
7 «Von allen Geistern die Verneinen
Ist mir der Schalk am venigsten zur Last».
(«Из духов отрицанья ты всех мене
Бывал мне в тягость, плут и весельчак».)
8 «Allein bei meinem langen Bart
Fehlt mir die leichte Lebensart».
(«Однако видишь, я длиннобород.
Едва ли пользу принесет поездка».)
9 «Ich bin zu alt um nur zu spielen
Zu jung um hone Wunsch zu sein».
10 «Die hohe Seele die sich mir verpfändet
Die haben sie mir pfiffig weg gepascht».
(«Высокая душа, залог наград,
Украдена из рук моих бесчестно».)
11 «Das ist der Weischeit letzter Schluss
Nur der verdient die Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss.
Und so verbringt, umrungen von Gefhar,
Hier Kindheit Mann und Greis sein tüchtig Jahr
Solch ein Gewimmel mocht ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn
Zum Augenblicke dürft' ich sagen
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Äonen untergehen.
Im Vorgefühl von solchen hohen Glück
Geniess ich jetzt den höchsten Augenblick».
12 «Ihn sättigt keine Lust, ihn g'nüght kein Glück,
So buhlt er fort wechselnden Gestalten;
Den Setzten, schlechten, Leeren Augenblick,
Der Arme wünscht ihn fest zu halten
Der mir so kräftig widerstand,
Die Zeit wird Herr, der Greis hier liegt im Sand».
13 «Nur rastlos betätigt sich der Mann».
(«Но неутомимо действует человек». Букв, перевод.)
- 151-
14 «Staub soll er fressen und mit Lust».
15 «Verflucht des Ruhms, der Namensdauer trug!»
(«Проклятье грёзам лицемерным,
Мечтам о славе!» Перевод Н. Л. Холодковского.)
16 «Wer Keinen Namen sich erwarb, noch Edles will
Gehört den Elementen an so fahret hin!
Mit einer Königen zu sein verlangt mir heiss,
Nicht nur Verdienst, noch treue, wahrt uns die Person».
«Федон» Платона —
древняя надежда на бессмертие*
Греческая эпиграмма** рассказывает нам о том, что
Клеомброт амбракиец кинулся с высокой стены только по
той причине, что рассуждения Платона убедили его в
существовании иного, лучшего мира. Цицерон и Мильтон
воспроизвели этот сюжет, добавив, что кинулся он в море,
но не обмолвившись о том, что к самоубийству могли
подвигнуть другие мотивы, помимо убедительных речей
Платона. Каллимах ехидно подшучивал над Платоном,
намекая читателям, что Клеомброт был дурак. Тем не менее,
его стихотворение ярко свидетельствует о поразительном
и стойком авторитете Платона как великого философа
бессмертия. В древности — примером тому история Като-
* Лекция, прочитанная в Форуме Университета Южной Калифорнии
в 1934 г.
** Каллимах. Эпитафия Клеомброту. Греческая эпиграмма. СПб., 1993.
«Солнцу сказавши "прости", Клеомброт амбракиец внезапно
Кинулся вниз со стены в Аид. Он не знал
Горя такого, что смерти желать бы его заставляло:
Только Платона прочел он диалог о душе».
(Перевод Л. Блуменау.)
Ср.: Марк Туллий Цицерон. Тускуланские беседы. Книга 1,83; ср. .Джон
Мильтон. Потерянный рай. Книга III.
«Клеомброт, в морскую глубь нырнувший, чтоб
скорей в Платоновский Элизиум попасть».
(Перевод А. Штейнберга.)
-153-
на Утического, — у самоубийц стало форменным ритуалом
укреплять свою решимость чтением «Федона», где
трогательно рассказывается о смерти Сократа. И в самом деле,
ничего лучшего для этой надобности не найдется ни у
самого Платона, ни, тем более, среди унылого пустословия,
составляющего основную массу философских писаний,
посвященных важнейшей теме человеческой судьбы и
будущего. Но критический ум затмевается близостью
смерти, и убедительны ли аргументы Платона в «Федоне»,
представляют ли они собой лучшее из того, что им
написано, — вопрос другой. Этому вопросу и посвящена
настоящая лекция; а чтобы вы не подумали, будто, критикуя
Платона, я просто брюзжу и придираюсь, скажу прямо,
что, на мой взгляд, вопрос о бессмертии — один из самых
больших, если не самый большой вопрос философии и
уклоняться от него философу — в лучшем случае, трусость.
В то же время, вопрос этот не только труден, но и запутан,
и во многих влиятельных кругах серьезное и бесстрашное
его обсуждение никоим образом не приветствуется.
В подтверждение расскажу о двух случаях, надо
думать, более достоверных, чем история с Клеомбротом. Кое-
кто из вас, возможно, о них слышал, но они настолько
характерны и поучительны, что от повторения едва ли будет
большой вред. Первый рассказ — о церковном старосте
Майерса. Фредерик Майерс был одним из основателей
Общества психических исследований и одним из немногих
знакомых мне людей, искренне и постоянно
интересовавшихся вопросом о загробной жизни. В результате у него
образовалась утомительная привычка выспрашивать у
собеседников, что они по этому поводу думают. Однажды он
пристал к церковному старосте, старику, безупречно
респектабельному и безукоризненно ортодоксальному, и
спросил его, что, по его мнению, случится с ним после смерти.
Пожилому джентльмену это совсем не понравилось, и он
пытался уклониться от ответа. В конце концов, он не
выдержал: «Ну, полагаю, меня ждет вечное блаженство, но
очень бы вас просил не обсуждать со мной такие угнетаю-
- 154-
щие темы». Вторая история — о выдающемся шотландском
профессоре философии покойном Эндрю Сете Прингл-
Паттисоне, и рассказана она профессором Джоном Лэрдом
из Абердина1. Лэрд разговаривал с Прингл-Паттисоном о
его (чисто исторических) Гилфордовских лекциях о
бессмертии и спросил, намерен ли он развить тему. «В смысле
метафизической защиты, как Мактаггарт? (С улыбкой).
Меньше всего к этому стремлюсь. К тому же (раздельно и
доверительно), бессмертие — такая неприятная тема».
Нетрудно заметить, что, по существу, профессор и
церковный староста относятся к вопросу одинаково. Им
не хочется думать о загробной жизни — это значило бы
думать о смерти, а они таких мыслей избегают. Выраженное
ими чувство, вероятно, было присуще людям всегда и
везде. Наградил им нас, должно быть, естественный отбор.
Чтобы человек подумал дважды, прежде чем бросаться
жизнью, в него заложен здоровый страх смерти. Кроме
того, сколько о смерти ни размышляй, спасения от нее нет, и
поэтому психологически самый простой способ избежать
гнетущих мыслей — это подавить всякую мысль о смерти
и родственных предметах2. Этим и объясняется, почему
люди никогда не вели себя так, как если бы хотели
серьезно вникнуть в проблему загробной жизни. Они
пересказывали истории о призраках, но чинили массу препятствий
их подтверждению. Они не могли вовсе отказаться от
«древней надежды», но не желали, чтобы она стала чем-то
большим, нежели смутная «надежда», не способная
превратиться в полноценное убеждение, исходя из которого
можно действовать. Они хотели половинчатой веры,
которая утешит в крайности, но в обычной жизни будет
скромно обитать на задах.
Но как я уже сказал, были исключения, и Платон,
видимо, — самое крупное из них. Постоянная
озабоченность мыслями о потусторонней жизни проявляется в
большинстве его главных диалогов — не только в «Федо-
не», но и в «Федре», «Меноне», «Горгии», «Государстве»,
«Тимее» и «Законах». Он старался придать этой идее
-155-
правдоподобность всеми средствами своего искусства —
не только логическими аргументами, но и с помощью
поэтических мифов. Однако и мифы, и аргументы его все
время меняются; возможно, это показывает, что ему они
представлялись такими же малоубедительными, как и
нам. Мы можем, в конце концов, прийти к выводу, что
логика платоновской системы отнюдь не благоприятствует
вере в бессмертие, а личное бессмертие просто отрицает.
Но это никоим образом не позволяет усомниться в
серьезности Платона, а свидетельствует только о том, насколько
сильна была у него тяга к этой вере. Психологический
анализ3 приводит к выводу, что подобная тяга — не такая уж
редкость и многие люди по природе своей интуитивно
убеждены в бессмертии. Если Платон был одним из таких
одаренных смертных, то это объясняет его
многочисленные попытки доказать, радея о благе других, то, в
доказательстве чего он сам не нуждался.
Но пора рассмотреть его главные доказательства. Их
можно подразделить следующим образом: (1)
доказательство на основе скрытого смыслового содержания слова
«душа»; (2) на основе платоновской теории идей; (3) на
основе его метафизического дуализма; (4) этическое.
(1) Существование почти во всех языках слова,
означающего душу, свидетельствует о том, что в мире (или в
опыте) есть нечто, требующее наименования и в какой-то
мере оправдывающее это наименование. Это значит, что
проблема бессмертия не праздная выдумка философов или
священников. Можно допустить также, что, хотя душа
считается нематериальной сущностью и обычно невидима, тем
не менее, первоначально ее описывают с помощью разных
материальных аналогий. Самыми распространенными
были «тень», «дым», «ветер», «дыхание» — и все они
впечатляли древних. После смерти душа отбывала к «теням»;
греческое слово thymos, дух — то же, что латинское fumus, дым.
Латинское animus, дух, родственно слову anima, душа, и
греческому anemos, ветер; латинское spiritus с его
производными и греческое psyche происходят от корня, означающе-
-156-
го «дышать» или «дуть». Далее «душа», psyche, на
греческом, древнееврейском и многих других языках имеет
второе значение, неразрывно с этим словом связанное. Слово
это означает и «жизнь», и «душа» — к немалому смущению
переводчиков, когда они сталкиваются с рассуждениями о
«растительной душе» у Аристотеля или с тем, что человек
был сотворен из безжизненного праха Божественным
«дыханием». В «Бытии» (2; 7) читаем: «И создал господь Бог
человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание
жизни, и стал человек душею живою».
На этом круге идей строил Платон в «Федре» свое
замечательное определение души: «То, что движет само
себя». Сами эти идеи, лежавшие в основании, примитивны,
но это не значит, что к ним надо относиться с презрением.
Они станут понятны, если мы вспомним, что живое тело
явно движется само собой, и что проще всего определить,
живо оно или нет — это посмотреть, дышит ли оно.
Дыхание и есть самодвижение par excellence*, а потому
наилучшее доказательство жизни и души.
Чуть продлив эту линию рассуждений, можно
применить ее к физике и выдвинуть довод4, что процессы в
природе прекратились бы, если бы ей не была присуща
душа. В конечном счете, мы можем проследить отсюда
происхождение аристотелевской концепции божества как
«первого двигателя». А двойной смысл psyche — «душа» и
«жизнь» ведет к кульминационному доказательству
бессмертия в «Федоне»(105). Здесь доказывается, что идея
души нерасторжимо связана с идеей жизни; следовательно,
душа не может умереть. Буквально это так, но связь
осуществляется всего лишь лингвистически. «И эта
двусмысленность — всё доказательство?» — с изумлением воскликнет
современный читатель. Да! Mais que voulez vous?** Это —
всё доказательство, какое предлагает или может
предложить априорная метафизика. В конечном счете, оно всегда
* По преимуществу (фр.).
** Но чего вы хотите? (фр.).
-157-
основывается на принятых значениях слов, и счастье еще,
что в данном случае используемые слова вобрали в себя
солидное количество прошлого опыта.
(2) Аргумент, который Платон основывает на своей
теории идей, кажется нам наиболее деревянным,
непривлекательным и неубедительным подходом к проблеме из
всех, когда-либо придуманных. Несомненно, теория идей
стала для Платона темой, чрезвычайно эмоциональной,
способной взволновать его до глубины души, но для нас
ее применение к вопросу о бессмертии представляется
противным логике и полным ошибок. Кроме того,
наиболее убедительная часть этой теории — симпатичная
доктрина о припоминании, которое Платон поэтично
описывает как необходимую предпосылку знания, была скоро
усечена Аристотелем до прозаического утверждения, что
все знание происходит из предыдущего знания. То есть —
из полного неведения никакое знание произрасти не
может; даже новорожденный младенец не находится в
состоянии полного неведения. С самого начала младенец
наделен органами чувств и ощущениями, из которых он
способен выстроить более или менее понятный мир — и даже со
всеми ему необходимыми «универсалиями». Так что
гносеология может обойтись без предсуществования. И
сожалеть тут, наверное, не о чем. Ибо никакой чисто
гносеологический довод о бледных абстракциях логики не
производил большого впечатления на обыкновенного
человека. Как пропагандист идеи бессмертия Платон
сильно уступает Пифагору: тот признал в щите троянского
воина Евфорба, вывешенном в храме, свой собственный; он
же вступился за собаку, подвергавшуюся побоям, узнав в
ее визге голос покойного друга.
Второму аргументу из теории идей — в «Федоне»
первому по порядку, — а именно, что поток явлений
предполагает устойчивость лежащих в основе идей, и,
следовательно, живое должно возникать из мертвого, кажется, и
сам Платон не придает большой важности. Тут достаточно
возразить, что мертвые детей не производят. Однако этот
- 158-
аргумент обладает определенным значением как мостик к
другим, метафизически более выдержанным аргументам,
неоднократно встречающимся у Платона.
(3) Они основаны на фундаментальном дуализме,
которого с таким постоянством придерживался Платон.
Если мы признаем вместе с ним, что космос расколот
надвое различием между видимым и реальным, между
чувственным и умопостигаемым, между становлением и
бытием, и что к первым частям этих антитез в той или иной
степени всегда подмешана ирреальность, то из этого легко
выводится вполне стройная доктрина бессмертия.
Достаточно лишь объявить, что тело и душа — разные
субстанции и обитают в разных мирах. Тело принадлежит миру
видимостей, а душа — истинной реальности. Союз души с
телом есть временный ее упадок, возможно, наказание, как
полагал Эмпедокл, и душа всегда стремится вырваться из
него. Душа заключена в теле, как в могиле. Истинную ее
природу трудно разглядеть в этом состоянии растления:
подобно морскому божеству Главку она исковеркана
волнами изменений, обросла ракушками и водорослями,
скрывающими ее сущностную форму5.
Эта доктрина приводит прямиком к концепции души
как сложной сущности, включающей несколько частей или
форм, — концепции, на которой зиждется психология
«Государства». Платон первым стал развивать эту мысль, и, как
мы увидим, она наталкивается на трудности. В то же время
она не помешала ему выдвинуть аргумент об однородности
души: она бессмертна, поскольку является несоставной и
неизменной, подобно идеям, которые она припоминает.
Следовательно, со смертью она не может распасться на
части — их у нее нет. Этот аргумент излагается в «Федоне». В
какой-то период Платон, как и другие философы,
принявшие после него концепцию однородной души, по-видимому,
был мало озабочен вопросом, стоит ли простая и
неизменная душа того, чтобы ею обладать и сохранять ее.
Но вскоре у него появились основания думать, что
душа — сложная сущность. В «Федре», написанном, веро-
-159-
ятно, после «Федона», но раньше «Государства», Платон
уподобил душу колеснице: возничий-разум правит парой
крылатых коней — духом и желанием. Первый послушен и
благороден, второе — норовисто и порочно, но оба,
по-видимому, мыслятся как постоянные составляющие души и
потому бессмертные.
Однако впоследствии Платон, видимо, пожалел о
своей готовности снабдить душу постоянным элементом
зла. Он все больше и больше склонялся к тому, что
бессмертно в ней только доброе начало, а злое объяснял ее
отпадением от истинных реальностей идеального мира и
погружением в зыбкие потоки становления. В
«Государстве» эта тенденция уже превалирует. В книге IV Платон
развил теорию трехчастной души из «Федра», определив
ее начала как философский разум, его естественный
союзник дух и буйную массу вожделений; в книге IX он
признает единство души, представляя разум, дух и
вожделение как любовь к познанию, честолюбие и
сребролюбие. Но в книге X он начинает колебаться. Как может
быть бессмертной душа, не только составная, но к тому же
состоящая из дурных материалов? На это он отвечает, что
она подобна морскому богу Главку, изуродованному
морем. Он так оброс раковинами и водорослями, так истерт
и переломан волнами, что его истинную природу
невозможно различить.
И аргумент, и сравнение подразумевают, что низшие
части души для нее несущественны. Это — наросты и
наносы, образовавшиеся на ней в ее воплощенном
состоянии. Бессмертной частью, истинной душой является
только разум. Эта интерпретация подтверждается и отчетливо
излагается в «Тимее». Там (69-79) разъяснено, что душа
содержит смертную часть и в нее вложены все
удовольствия и страдания, надежды и страхи, любовь, другие
эмоции и, наконец, «неразумное ощущение». За дальнейшим
подтверждением мы можем обратиться к «Филебу» (ЗЗв),
где говорится, что совершенному существу, Богу, не
приличествует ни радоваться, ни страдать.
-160-
Но если все чувства уничтожатся со смертью, что
станет с личностью человека? От нее не останется ничего,
кроме призрачного аристотелевского «деятельного ума»,
который также называется бессмертным; но отождествить
себя с ним не решится, пожалуй, даже самый холодный
философ, и по сравнению с ним анемичный балет
категорий Брэдли покажется оживленным.
(4) Переходя к моральным доводам в поздних
формах доктрины Платона о бессмертии, мы сталкиваемся с
не меньшими трудностями. В «Государстве» (608-611) он
утверждает, что все вещи разрушаются из-за собственных
дефектов, а добродетель и порок — соответственно,
совершенство души и ее дефект. И если порок — природный
дефект души — не способен ее убить, это должно быть
потому, что она живет вечно. Двусмысленность слова «душа» —
как сущности жизни и сущности сознания — здесь
совершенно очевидна и полностью лишает аргумент силы. Но
чаще моральные аргументы встречаются в рассказах
Платона о потусторонней жизни. Он нигде не утверждает
прямо, что космическая справедливость предусматривает
кару злодеям в загробном мире; но практически все его
мифы повествуют о примерном наказании нескольких
выдающихся грешников. Тем самым он косвенно
предупреждает нас, что если мы не закалимся путем изучения
философии — не застрахуемся от неправильного выбора при
реинкарнации, нам грозит вечное проклятие. Наиболее
внятно это предостережение высказано в «Государстве»
(миф об Эре). Душа, которой достался первый жребий,
жадно выбрала себе жизнь могущественнейшего тирана и
только потом задумалась, какие зверства ей суждено
учинить и претерпеть. Между тем, она была из тех, что
явились с неба, где тысячу лет вознаграждалась за свою
добродетельность в прошлом воплощении. Правда, ее
добродетель была не плодом философии и рационального
убеждения, а всего лишь результатом привычки и
воспитания при упорядоченном государственном строе. Это
предостережение выглядит весьма зловеще в свете предыду-
- 161-
щего рассказа об участи тирана Ардиея, совершившего
непростительные и неискупимые злодейства, — так что,
когда он явился за новой жизнью, дьяволы уволокли его в
Тартар, на вечные муки. Если немного задуматься, станет
ясно, что подобная участь ожидает всех, кто не займется
философией. Рано или поздно, поскольку реинкарнациям
нет конца, нефилософическая душа вытянет первый
жребий, выберет жизнь тирана и тем обречет себя на вечное
проклятие. В общем, Платон не думает, что спасение
может быть обеспечено помимо его системы.
Но здесь эта доктрина вступает в ощутимое
противоречие с доктриной о бессмертии одного Разума. Если
моральное начало — не часть сущности души, а только
придается ей ad hoc*, дабы приготовить ее к тяготам
становления и иллюзиям чувственного существования, а со
смертью, когда душа восстанавливается в своей истинной
природе, оно исчезает, тогда моральное начало не может
быть основанием для наказания души, а тем более для
вечного проклятия. В таком случае низвержение души в
поток становления надо рассматривать как временный недуг,
вроде приступа лихорадки или безумия — и за это она не
должна нести ответственность. Или, наоборот, если
моральное начало, если личность настолько важны, что
могут заслуживать проклятия, тогда их нельзя отнести к
смертной части души. Дальнейшему обсуждению этой
неувязки препятствует то, что Платон никак не объяснил
нам, почему вообще душа должна периодически лишаться
своего высокого положения и воплощаться заново.
Не сказал он и ничего такого, что помогло бы
устранить самый главный изъян в его доктрине бессмертия —
изъян, безжалостно обнаженный профессором Тайхмюлле-
ром6. Тайхмюллер ставит вопрос, вправе ли вообще
философия Платона принять доктрину личного бессмертия, и
отвечает решительным «нет». Свой отрицательный ответ он
основывает не только на том (как отмечалось уже и рань-
* Для данного случая (лат.).
- 162-
ше), что все аргументы Платона (если счесть их
надежными) доказывают не бессмертие индивидуальных душ, а
только неразрушимость души как космической сущности.
Он спрашивает далее: «Как вообще может возникнуть в
платоновской системе мысль об индивидуальных душах?».
Разве вся она не нацелена на то, чтобы объяснить
неопределенную множественность чувственных явлений отсылкой к
неизменному единству универсальной идеи? Если все
собаки — проявления Истинно-собаки, а все люди — Истинно-
человека, все справедливое — Справедливости самой по
себе, все прекрасные вещи — Прекрасного самого по себе, как
может быть больше одной Души в мире Истинной
Реальности? Феноменальная множественность душ, очевидно, не
может распространяться на Идеальный мир: все они
должны быть лишь явлениями одной всемирной Души.
Должны ли мы склониться перед этим решающим
возражением и отказаться от всякой защиты Платона?
Мне бы не хотелось, однако, я готов пойти на большие
уступки. Я готов признать, прежде всего, что рациональные
аргументы Платона не доказывают индивидуального
бессмертия. Но Платон, вероятно, и сам это сознавал. Именно
поэтому он постоянно возвращался к данной теме и
разнообразил свои аргументы. Именно поэтому он так упорно
подкреплял рациональные аргументы мифами. Мифы его,
разумеется — поэзия, но, может быть, и нечто большее.
Если тему постоянно трактуют мифологически, это может
означать, что по своему характеру она ускользает от чисто
рациональных аргументов, выходит за их границы. А
эсхатология — именно такая тема. Поэтому я не считаю, что
эсхатологические мифы Платона лишены значения.
Затем я должен заметить, что если бы Платон и
желал доказать личное бессмертие, сделать это ему бы не
позволили тогдашние возможности греческого языка. В то
время концепция личности еще не сложилась: она
складывалась медленно и трудно, и по сей день многие
философы, даже в Лос-Анджелесе, выражаются по этому поводу
до изумления туманно. Вдобавок, путь к адекватному по-
-163-
ниманию личности Платон преградил себе двумя своими
главными доктринами. Во-первых, — своей доктриной
идей, своим великим логическим открытием, что слова,
используемые в предикации — всегда «универсалии».
Поскольку логика еще не отделилась от метафизики, это
открытие неизбежно означало для него, что универсалии —
его «идеи» — составляют истинную реальность, а
множественность есть феноменальная иллюзия. Во-вторых,
следуя своей логике, Платон пришел к доктрине о том, что
индивидуальное непознаваемо. В «Теэтете» (209) он
энергично доказывает, что различие между Сократом и Теэте-
том не может быть предметом научного исследования.
Платон был великим творцом этого заблуждения, которое
до сих пор мешает большинству философов понять
реальный метод наук, предсказывающих и контролирующих
индивидуальные события с замечательным успехом. И,
наконец, единственное греческое слово, выражавшее понятие
личности или субъекта {autos) Платон уже использовал
для описания идеи.
Понятно, что из-за этих двух доктрин Платону было
бы трудно обосновать бессмертие индивидуальных душ
рациональным образом. Но есть ли полная уверенность, что
позиция любого философа в любом вопросе чисто
рациональна? Пусть меня в этом убедят, ибо поведение
философов не убеждает. Когда доходит до вопросов, которые
задевают их за живое — а вопросы эти, надо признать, зачастую
весьма странные и требуют вдумчивости, я не заметил,
чтобы философы размышляли рациональнее, логичнее и
более последовательно, чем остальные люди. Поэтому мне
кажется вполне возможным, что Платон держался веры в
индивидуальное бессмертие вопреки логике своей
системы. Возможно, он был из той редкой породы людей,
которые, как я уже говорил, наделены интуитивной
убежденностью в собственном бессмертии7. Тогда это — вопрос его
психологии; но, к сожалению, если даже считать его
«Письма» подлинными, мы недостаточно знаем его психологию,
чтобы проникнуть в сердцевину его системы.
- 164-
Так значит, надежды поддержать «древнюю
надежду» на бессмертие философским аргументом развеяны
окончательно? Если говорить о системе Платона, боюсь,
что да. Но было бы неразумно и со стороны Платона, и с
нашей стороны ожидать такой поддержки от метафизики,
которая не содержит концепции личности и не
приписывает индивидуальному существованию никакой
рациональной реальности. Если нам нужны основания, нужно
искать их там, где их можно найти. А найти их можно не в
монизмах, для которых множественность — всего лишь
иллюзия, а в плюрализмах, придерживающихся мысли о
фундаментальном множестве сущностей. Желательно
также, чтобы они содержали представление о личности и
предпочитали более конкретные соображения психологии
соображениям абстрактной логики. И даже в этом случае
есть вероятность, что мы не найдем ни одного
удовлетворительного философского аргумента. Самое большее,
такой аргумент мог бы доказать, что бессмертие было бы
рациональным, если бы рациональным был мир; но отсюда
еще не следовало бы, что бессмертие реально. Требуется
исключительная самонадеянность системы, наподобие
гегелевской, чтобы избежать вопроса, насколько
рациональна реальность, и всего лишь постулат о рациональности
считать совершившимся фактом.
Тем не менее, мне бы не хотелось ограничиться
чисто разрушительной критикой. Поэтому скажу, что есть
один философский аргумент, который если и не
доказывает существования потусторонней жизни, то, по
крайней мере, делает ее мыслимой и может аннулировать все
изложенные контрдоводы. Он вытекает из доктрин,
носящих безобразно расплывчатое название «идеализм»,
хотя из платоновского идеализма извлечен быть не
может, и большинство философов, именуемых в учебниках
«идеалистами», его бы не приняли. Тем не менее, он
явно подразумевается идеализмом, который можно
назвать эмпирическим и психологическим, и состоит в
следующем:
-165-
Если признать, что все «реалии», которые мы
воспринимаем, переживаем и выводим из пережитого,
соотносятся с опытом, и что, строго говоря, весь опыт является
личным, то есть нашим опытом, а не Бога, не демона, не
абсолюта, — тогда имеет смысл спросить, что происходит с
нами при «смерти». «Мы умираем, а мир продолжается», —
сказать легко. Но это неточно и вводит в заблуждение.
Мир, который продолжается, — это общий мир, где
фигурировал покойный и где он остался в виде трупа. Но его
опыт не ограничивался общим миром. Последний был
лишь полезной вытяжкой из опыта, которая помогала ему
управлять своей жизнью, и которую он принимал как
реальность по причине ее прагматической эффективности.
Следовательно, это, по существу, экстракт, служащий
целям интерсубъективного взаимодействия, и он никак не
помогает ответить на вопрос: «что произошло с опытом
человека?». Так же, как чей бы то ни было еще опыт.
Со смертью, когда общий мир исчезает, каждый
отбрасывается к собственным ресурсам. К счастью, у нас
есть ресурсы опыта, которые мы мало ценим при жизни,
но в крайности они могут быть мобилизованы. Тогда мы,
возможно, вспомним, что жили, как-никак, не только в
общем мире. У нас есть также опыт множества миров
фантазии, и мы научились переходить из одного в другой.
Чтобы войти в мир фантазии, достаточно «уснуть и видеть
сны»; чтобы покинуть его, надо только «проснуться». А
верховенство реального мира зиждется вовсе не на
психологической разнице между ним и мирами фантазии, а
только на ценностном суждении, которое навязано его
практическим превосходством. Но еще во времена
Платона было обнаружено8, что теоретически никак нельзя
опровергнуть предположение, что наша жизнь наяву — тоже,
в сущности, сон.
Если жизнь, возможно, сон, то что может случиться
с нами, когда мы проснемся? Ну, мы можем проснуться и
очутиться в ином мире. И если он покажется нам лучше
нынешнего, мы наверняка сочтем его более реальным. Ес-
- 166-
ли только мы сможем освободиться от прагматической
фикции, будто есть лишь один мир нашего обитания —
хотя на самом деле все мы живем во множестве миров, — мы
не найдем изъянов в этом аргументе.
Но что он доказывает? Только то, что потусторонняя
жизнь мыслима. Если мы хотим более веских
доказательств, надо искать их — так же усердно, как всякую
другую реальность, — в положительных, эмпирических и
научных признаках того, что не все связи между разными
мирами полностью и окончательно обрываются со смертью.
Примечания
1 Mind, п. s., XLIII (1934), р. 399.
2 Ср.: Рассказ доктора Джекса о проповеднике, который молился:
«Храни нас, Господи, от напастей современной мысли. Да, Господи,
храни нас от напастей всякой мысли».
3 Ср. мою статью в Proceedings of Society for Psychical Research, vol.
XVIII, Part XLIX (October, 1904), pp. 416-453.
4 «Федон», 72 (Платон. Сочинения. M., 1968-1972.)
5 « Государство» ,611.
6 Studien zur Geschichte der Begriffe, vol. I, 1874.
7 F. C. S. Schiller. Problems of Belief. London: Hodder Stoughton, 1924,
pp. 72-73.
8 Ср.: «Теэтет», 158.
«Государство» Платона*
«Государство» Платона — высочайшее
произведение искусства в философской литературе. С ним не
сравнятся ни другие диалоги Платона, ни, тем более, труды
других писателей-философов. Ни по форме, ни по
содержанию подобных ему нет. Ни одна философская книга не
обладает таким совершенством формы, ни одна не
обладает таким богатством содержания, ни в одной не
высказано столько новых и запоминающихся мыслей. И нам,
остальным философам, должно быть очень стыдно, что
мы так редко дерзали соревноваться с Платоном и брать с
него пример.
Располагая ограниченным временем, я попытаюсь
дать лишь самое общее представление о величии этой
книги Платона. Тем не менее, если позволите, я начну с того,
почему, мне кажется, Платону удалось в «Государстве»
превзойти не только других философов, но и самого себя.
Мы можем представить себе Платона баловнем
судьбы, большим аристократом, который вел свою
родословную от нескольких богов, принадлежал к лучшему
афинскому обществу, — и даже заподозрить в нем сына
* Лекция, прочитанная в Форуме университета Южной Калифорнии
20 февраля 1934 г. Опубликована в журнале The Personalist под
заглавием: «The Evolution of Plato's Republic», XV (1934), pp. 327-340.
- 168-
Аполлона. Но Афины того времени были довольно
развращенной и очень фанатичной демократией, и как раз эти
преимущества Платона отрезали ему путь в политику.
Исключенный из жизни политической, он вынужден был
уйти в академическую и стал основателем первой академии:
школа Платона была первым высшим учебным
заведением и в этом качестве просуществовала около тысячи лет.
Но не подумайте, что академическая жизнь Платона
протекала исключительно в его библиотеке и кабинете.
Он общался с друзьями, знакомыми и поклонниками — и
разговаривал с ними, несомненно, как отец или старший
брат. Обучение у него имело характер бесед, а не
формальный; хотя лекторские наклонности у него со
временем, безусловно, образовались — так же, как и у
большинства из нас. Однако он вряд ли стал профессором в душе,
как Аристотель.
Будучи, кроме того, художником и психологом, он
понимал, что для усвоения его доктрин слушателям
требуется нечто большее, чем лекции. Поэтому, используя
свой литературный дар, он сочинял диалоги на темы, о
которых говорил в лекциях, и этими диалогами одарял
праведных слушателей, вытерпевших курс до конца, — дабы
они вынесли из него что-то памятное.
Лучшим стал диалог, завершавший лекции о
политике, — «Государство». Лучшим он стал, возможно,
потому, что Платону часто приходилось читать лекции о
политике: его постоянно об этом просили. Поэтому ему
постоянно приходилось их пересматривать.
Сам текст позволяет предположить, что
«Государство» перерабатывалось неоднократно и основательно.
Книга I имеет вид раннего платоновского диалога — из
тех, что называются «сократическими». В ней Платон
опровергает несколько неадекватных концепций
справедливости, но ничего положительного не говорит. Заключение
диалога — поразительный миф об Эре, сыне Армения, —
тоже можно отнести к тому времени, когда философ
Платон еще не обуздал Платона-поэта. И вполне возможно,
- 169-
что обе эти части задуманы до того, как в голове у него
сложилась главная аргументация нашего нынешнего
«Государства».
Но начало и конец диалога предстояло соединить
цепью рассуждений. Они занимают книги II-IV, первую
часть IX и представляют собой последовательную защиту
морали как надлежащего человеку блага. Мораль
обосновывается человеческой психологией, а справедливость
представлена как должное соподчинение и гармония
частей души.
На первом этапе своей эволюции «Государство»,
должно быть, содержало часть, которой мы в нем теперь
не находим: краткий очерк коммунизма, основанный на
том соображении, что коль скоро у добрых друзей все
общее, общими должны быть и жены с детьми, а граждане
идеального государства все должны быть добрыми
друзьями. В нынешнем «Государстве» эти доктрины подробно
обсуждаются в книге V, однако один намек на общность
имущества (417а) и один — на общность детей и жен
(424а) — сохранились в книгах III и IV.
Если «Государство» складывалось постепенно, то
эти упоминания, возможно, указывают на места, где
первоначально вводилась тема коммунизма, и позволяют
довольно уверенно судить о времени, когда был создан
первый вариант «Государства». Прежде всего, ясно, что
коммунизм в «Государстве» появился после «Истории»
Геродота: обоснование общности жен и детей Платон
позаимствовал у Геродота — из его сообщения об агафирсах1.
Последние хотели, чтобы все их племя дружило и было
одной большой семьей.
Самое позднее, когда мог быть написан первый
вариант «Государства» — 392-391 годы до н. э.: он дал повод
Аристофану высмеять голосование женщин в
«Законодательницах». А их мы датировать можем. Комедия была
исполнена не раньше 393 и не позже 390 года до н. э. Так
что Платону было не меньше тридцати восьми лет —
вполне достаточно, чтобы составить план «Государства».
- 170-
Как реагировал он на критику — в частности, на
аристофановские насмешки? На это отвечает
позднейший вариант «Государства». Платон написал развернутую
защиту своего «коммунизма» и поместил ее в нынешнюю
книгу V. Одновременно он сократил прежний очерк до
двух намеков, о которых я уже упомянул. Это
предположение подтверждается тем, как он отреагировал на критику,
несомненно, последовавшую за его нападками на поэтов в
книге III. Он и тут не отказался от своих утверждений, а
наоборот, подкрепил их. Только оставил и
первоначальный текст; а первоначальное осуждение поэзии усилил в
первой части книги X, пустив в ход тяжелую артиллерию
метафизики и изгнав из своего города вождя поэтов и
лучшего из них, Гомера. Ясно, что Платон был не из тех,
кто идет на компромиссы и отступает под натиском; он
предпочитал возобновить атаку и перенести войну на
территорию противника.
Средние книги, V-VII, к которым мы можем
добавить конец книги IX и первую часть книги X, выглядят
как позднейшие соображения, добавленные, возможно, в
ответ на выпады Аристофана. Здесь Платон переносит
аргументацию с психологической плоскости на уровень
метафизики, демонстрируя высший полет своего гения в
представлении идеи блага. Кроме того, мы наблюдаем
здесь три волны парадоксов, с помощью которых он
одолел своих критиков: общность жен и детей, равенство
полов, понимаемое как привлечение женщин к службе
обществу, и философ-царь или правление мудрых.
Таким образом, в этом, уже законченном
«Государстве», Платон демонстрирует мастерское владение
методом на трех уровнях: диалектическом, психологическом и
метафизическом. В книге I обсуждение ведется чисто
диалектически. Здесь правила игры диктуют строгую
формальную последовательность в рассуждениях,
необходимость защищать свой тезис в точном соответствии с тем,
как он сформулирован, соблюдение единства на
словесном уровне. Логический ориентир у нас — аналогия меж-
- 171 -
ду добродетелью и искусством: если Сократ докажет, что
справедливый человек подобен искусному мастеру, то
Фрасимаху придется признать себя побежденным. Но
Сократ сам указывает, что этот метод недостаточен: в
конце книги он с сожалением говорит, что показал только,
чему подобна справедливость, он пока еще не выяснил, что
она такое по сути.
Пространные рассуждения, которые начинаются с
книги II и достигают кульминации в книге IV, знаменуют
в философской мысли начало научной психологии и
зарождение устойчивой тенденции основывать мораль на
концепции идеальной «природы», нормальное
функционирование которой обеспечит и добродетель, и счастье.
Оба эти направления Платон разрабатывает самым
правдоподобным и убедительным образом. Правда,
психология его принадлежит к тому типу, который так
трудно оказалось искоренить, — она основывается на
«душевных способностях». Препятствием ей явилось,
разумеется, то, что греческому языку было неведомо понятие воли;
тем не менее, анализируя яростный дух (thymos) —
душевное начало, посредничающее между разумом и
вожделением, — Платон распознает возможность и нравственной
борьбы, и неразумного действия. История о том, как
Леонтий поддался нездоровому побуждению посмотреть на
трупы казненных преступников, представляет собой
решительное отречение от этической софистики
«сократовского» толка и интеллектуалистической догмы, согласно
которой добродетель есть просто знание, а подлинная
невоздержанность (akrasia) — знать, что такое плохо, и все
же поступать так — невозможна.
Метафизический уровень, достигнутый в книге VI
«Государства», смею думать, — вершина платоновской
метафизики; здесь содержится ключ почти ко всем
дальнейшим обретениям метафизики не только его
собственной, но и других философов. Это не значит, что
разрешено главное затруднение платонизма и выявлена связь
между умопостигаемым миром и чувственным. Сделать
- 172-
это не удалось ни одной из последующих метафизик! Но
Платон ясно показывает, какие требования должны быть
предъявлены к его метафизическому принципу, и ни до,
ни после «Государства» он ни разу не был так близок к
успеху.
Только в «Государстве» признает он, что множество
идей или первообразов, этих истиьных реалий, смутными
отражениями которых являются чувственные вещи,
должно быть объединено в некоем космосе, в
интеллектуальном порядке. Над ними владычествует и, в каком-то
смысле, трансцендентна по отношению к ним идея блага;
в сфере умопостигаемого она выполняет ту же функцию,
что идея в сфере чувственных вещей. Она объединяет и
объясняет тот материал, к которому прилагается.
Только в «Государстве» приближается Платон к
настоящему решению проблемы единичного и
множественного, указывая (476а), что не в одних лишь
взаимоотношениях с чувственными вещами, но и во взаимоотношениях
между собой — идеи, несмотря на их принципиальную
единственность, должны казаться множественными.
И, наконец, только в «Государстве» он дает ключ к
последующей математизации идей, которую затем
утвердил Аристотель.
Позвольте сначала пояснить второй тезис. Теория
идей, как мне представляется, была, по сути, смелой
попыткой обосновать практику предикации: идея
оправдывала применение одного и того же термина к множеству
конкретных объектов. Благодаря тому, что они
подчинены одной идее, они связаны между собой и могут быть
познаны. То есть, обо всех собаках можно мыслить, и они
связаны inter se*> будучи примерами Истинно-собаки,
идеальной сущности, присутствующей в каждом
отдельном животном. Сущностная собака одна и неделима, и
хотя видимых собак как будто множество, все они причаст-
ны идее собачества или собакости.
* Между собой (лат.).
- 173-
На этом теория идей обычно останавливается;
однако по аналогии ее можно распространить и на идеальный
мир. Идеи нельзя оставить в хаосе не связанных между
собой сущностей, без объединяющего принципа. Их
умопостигаемые соотношения можно проследить и предици-
ровать. В «Государстве» Платон пришел к мысли о
необходимости такого объединяющего принципа и дал ему
название. Он назвал его идеей или принципом блага и
возвысил его над остальными идеями. Если они —
подлинная реальность, то их высший принцип должен
превышать реальность и образовывать то, из чего вся
реальность рождается. И если чувственный мир определен
«существованием», то идея блага тем более неизъяснимо
находится «за пределами существования».
Но почему оно зовется «благом»? Потому что
Платон искал полного телеологического объяснения всему —
объяснения, которое было бы понятно. Ему нужно было
объяснение в терминах благ или целей. Он справедливо не
желал довольствоваться лишь причинным и историческим
объяснением в виде: «В есть потому, что было А», он желал
показать, что: «В есть для того, чтобы могло быть А».
Однако он не воображал, что это высшее благо —
или цель — известно. Когда его рассуждения подходят к
той точке, где сгорающему от любопытства читателю вот-
вот откроется тайна вселенной (532), Сократ говорит
Главкону, что не может объяснять ему благо дальше,
поскольку тот недостаточно начитан в математике.
Фактически Платон говорит здесь читателям, что наука
недостаточно развита для того, чтобы вывести законы природы
из единого принципа.
Ныне это так же справедливо, как и тогда. И будет
справедливо: несмотря на поразительный прогресс в
науках, ученые так и не открыли Блага, и это показывает,
что в расчетах Платона допущена серьезная ошибка. Ибо
Аристотель объяснил человечеству, что для вывода
необходимы две посылки, а у Платона была лишь одна —
благо. Его идеал рационального доказательства невозможен
- 174-
формально. Тем не менее, его аргументация служила
источником вдохновения для всех последующих монистов.
Заблуждение Платона относительно формы
дедукции, как мне кажется, лежало в основе его попытки
математизировать идеи и приравнять их к числам. Окинув
взглядом мир, в поисках чего-то, аналогичного
умопостигаемой связи идей с благом, благодаря которой идеи
могли бы следовать из него в своем бесконечном
многообразии, он остановился на системе чисел. Тут к его услугам
была совершенно рациональная система, где бесконечное
количество чисел со строгой необходимостью выводится
из Одного, единицы, и благодаря этому процессу вывода,
каждое число состоит в бесконечном множестве
умопостигаемых и вечных отношений со всеми остальными
числами. Следовательно, если мы приравняем числа к
идеям, а благо — к Одному, разве не постигнем мы тогда
весь рациональный порядок космоса?
Увы, в этой аналогии есть ошибка! Платон не
заметил, что единица не порождает числового ряда. Чтобы
получить его из единицы, надо единицы прибавлять: 1 к 1,
1 к 2 и т. д. Необходима операция сложения: она и есть
недостающий второй принцип, без которого не обойтись, —
и Аристотель торжествует.
В платоновской трактовке соотношения метафизики
с науками есть еще один изъян, хотя большинство
философов, кажется, до сих пор считают эту трактовку
адекватной. По мнению Платона, поскольку процедура науки —
гипотетическая, она ненадежна, и исходные гипотезы
требуют подтверждения путем дедукции из высшего
принципа — блага. А это означает, что всякое доказательство, в
конечном счете, должно быть априорным, и ввиду того, что
благо неизвестно, прогресс в науке невозможен. На самом
деле он имел место; следовательно, в аргументации была
ошибка. Ошибка Платона в том, что он думал, будто
научные принципы не могут быть установлены эмпирически и
a posteriori] он проглядел начальную стадию любой науки,
когда с принципами экспериментируют и отбирают, прове-
-175-
ряют их по их действенности. Да, эта процедура не
приводит к абсолютным и неоспоримым истинам (все они
остаются условными и гипотетическими), но она создает
науки, эффективные и бесконечно развивающиеся. Кроме
того, даже поверхностное знакомство с историей науки
показывает, как были установлены наши нынешние
принципы и как науки совершали выбор между возможными
альтернативами.
Вернемся, однако, с безвоздушных высот
метафизики в болото политики. В этой области «Государство» тоже
оставило след. Оно выдвинуло яркие парадоксы, мимо
которых не может пройти никакая философия истории.
Платон предстал здесь выдающимся аристократическим
революционером, и его предложения колоссально
стимулировали политическую мысль. Но они никогда не могли
быть реализованы и по здравому размышлению все
обнаруживают изъяны.
Отстаивая политическое равенство полов, Платон
утверждает, что разница между мужчинами и женщинами
не имеет отношения к их политическим функциям, и
таким образом впервые дает пример ссылки на
релевантность. Но, в отличие от формальной «правильности»,
релевантность — всегда спорное соображение, и только опыт
может решить, относится к делу эта разница между
полами или нет.
В своей проповеди коммунизма Платон делает
рискованное предположение, что эгоизм зачахнет и отомрет,
если лишить его той почвы, на которой он обычно
расцветает, — семьи и частной собственности. Но этот довод
окажется ошибочным, если новый социальный строй
предоставит возможность эгоизму развиваться в
нетрадиционных областях. Такую возможность Платон не удостаивает
вниманием. На самом деле, нетрудно показать, что эгоизм
будет зарождаться и воспитываться в каждом гражданине
Каллиполиса именно потому, что гражданин не защищен
семьей. Со дня рождения он будет вынужден отстаивать
свои интересы и биться за место под солнцем без помощи
-176-
со стороны. Существование его будет возможно лишь при
том условии, что к нему хорошо относятся равные и
благоволят старшие. К тому времени, когда он обретет
какую-то власть, из него сформируется законченный
лицемер, распинающийся об общественном благе, и эгоист до
мозга костей.
И, наконец, правление философа отнюдь не будет
идеальным. На деле оно выродится в бюрократию.
Философ-царь, человек, сочетающий в себе высочайшие
познания и обширнейший опыт, есть нарушение
платоновского же канона (книга II), основанного на разделении
труда, — ему запрещено специализироваться. Платон
освободил его от обязанности расширять познания — он
поставил условие, чтобы познание было завершено к
тому моменту, когда правитель займет свой пост: идея
блага, карниз, венчающий все знания, должна быть известна
до того, как на этих знаниях будет основано идеальное
государство и Каллиполис начнет свою жизнь. Но есть
два способа для того, чтобы правители сохраняли
умственное превосходство над подданными, и расширение
своих познаний не самый простой из них. Гораздо легче
сохранять свое превосходство, держа подданных в
невежестве, и именно такова всегда была политика
правителей, обосновывавших свою власть превосходством в
познаниях. Так действовали иезуиты в Парагвае, брамины в
Индии. Так всегда и повсюду стремилась действовать
католическая церковь.
Если нам любопытно знать, как на деле повело бы
себя идеальное государство, достаточно заглянуть в
историю Средних веков. Тут мы найдем общество,
разделенное на три касты — трудящихся, лишенных всякой
власти, но освобожденных от воинской службы, рыцарей —
боевого вспомогательного корпуса духовной власти или
церкви, которую возглавляет в качестве философа-царя
верховный понтифик, папа. Нет нужды добавлять, что
этому общественному устройству история вынесла
неблагоприятный приговор, и оно не породило ни счастливого,
- 177-
гармоничного государства, ни царства мудрости. В итоге,
я бы сказал, что самым ценным вкладом Платона в
политику может оказаться предложенный им идеал евгеники.
Ввиду недостатка времени я лишь бегло упомяну о
других блестящих идеях, запечатленных в «Государстве».
Аскетическая цензура искусства, шокирующая нас своей
нелиберальностью, объясняется в значительной мере тем,
что моральный фактор выступал у греков в эстетическом
обличье прекрасного (to kalon); следовательно, в
интересах правильного поведения требовалось контролировать
общественное мнение о прекрасном. И жрецы искусства
не смели отрицать, что, если благо определяется как
высшая цель деятельности, художественная деятельность
тоже должна ему подчиняться.
С другой стороны, пессимистическая теория
удовольствий у Платона (книга IX) была побочным
следствием позаимствованного у предшественников
физиологического анализа жизненных процессов или
метаболизма. Если в целом метаболизм подразделять на два
взаимосвязанных процесса — катаболизм (разложение
или «опорожнение») и анаболизм (восстановление или
«наполнение»), то первый будет приоритетен, а второй, в
лучшем случае восполняет потери. В принципе, все
удовольствия заранее оплачиваются предшествующим
страданием, а жизнь заканчивается страданием без
компенсации. Однако эта непривлекательная теория стойко
держалась в умах философов — с психологической поправкой
Аристотеля, назвавшего наслаждением здоровое
функционирование организма, его нормальную enérgeia
(деятельность), пока ей не мешают и не искажают ее препятствия.
Теория образования в «Государстве» как процесса,
длящегося всю жизнь, справедливо снискала славу, и ей
вполне соответствует нынешняя подготовка священника-
иезуита. Отметим также, что в качестве материала для
высшего образования Платон предпочитает литературе
науку, вследствие чего подвергается нападкам Гомер, эта
Библия греков.
- 178-
Доктрина бессмертия в книге X порождает много
вопросов, как в научной своей части, так и в чисто
физической. Уподобление души морскому богу Главку,
истертому волнами, обросшему водорослями и ракушками,
указывает на то, что в «Государстве» уже принята теория,
позже развернутая в «Тимее», где Платон проводит
различие между смертной и бессмертной частями души, а
вожделение и моральное начало рассматривает как
эфемерные наросты, которые образовались на вечной
сущности души, погрузившейся в море становления. Но как же
быть тогда со справедливостью, если наказание, вплоть до
вечного проклятия, как в случае тирана Ардиея, следует
за моральные проступки? И как быть с центральным
парадоксом платоновской доктрины бессмертия? Как может
объяснить бессмертие множественных душ теория,
которая ограничивает вечную реальность идеями,
множественность объявляет обманом чувств и утверждает, что
каждая идея существует в единственном числе? Доктрина
«Государства» не проливает света на эту загадку. Его
научная аргументация доказывает, по-видимому,
бессмертие души как принципа, а не бессмертие индивидуальных
душ; извлечь из этой доктрины какую-либо связную
концепцию единства субъекта или их множественности
невозможно.
После всех этих придирок нельзя не признать, что
Платон выделяется как единственный философ первого
ранга, искренне и постоянно озабоченный проблемой
бессмертия; но всякий раз его ответ оставляет нас в
состоянии мучительной неопределенности.
Каков бы ни был смысл платоновской эсхатологии,
я хочу под конец обратить ваше внимание на то, как
тонко возвращает нас заключение книги X к вопросу,
мимоходом брошенному в книге I и оставшемуся там без
ответа. Почтенный старик Кефал, всю жизнь стремившийся
быть добрым и справедливым, откровенно признается,
что рассуждения о загробной жизни всегда воспринимал
как сказки, до которых ему нет дела; но теперь, почувство-
-179-
вав, что дни его на исходе, он начинает опасаться: а вдруг
это правда? Он надеется, однако, что праведная жизнь
ему зачтется. Кефал рано покидает круг беседующих —
некрасиво было бы подвергать его мучениям
сократовского перекрестного допроса — и, видимо, отправляется
спать. Но Платон был хорошим психологом, он понимал,
что опасения, высказанные стариком, вполне обычны, и
решил их рассеять. И вот финальной сценой
преображения в «Государстве» он отвечает, что справедливому
человеку, в любом случае, нечего опасаться. Если он вдумчиво
изучал философию, то представление об истинных
ценностях жизни убережет его в тяжком испытании
реинкарнации; глупец же может погубить себя и даже обречь на
вечные муки своей алчностью, погоней за эфемерными
благами этого мира видимостей. Ответ Платона, пусть и
не свободный от моральных недочетов, прозрачен и
изящно связывает начало и конец «Государства».
Примечания
1 Геродот. История, IV, 104.
ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА
Насколько нуждается
в детерминизме наука?*
Возможно, самое странное и в философии, и в науке
то, как мало внимания обращали они на альтернативы
общепринятым воззрениям даже тогда, когда эти
альтернативы были логически очевидны и по существу столь же
вероятны, сколь и общепринятые воззрения. Например,
доказывать, что жить не стоит, так же легко, как и то, что жить
стоит; что все физические явления относительны, — так же
легко, как и то, что они абсолютны. Однако большинством
философов и ученых такие альтернативы просто
замалчиваются. Чтобы люди рассмотрели альтернативы, которые
всегда следовало бы иметь в виду, необходимо, кажется,
нечто вроде сенсационного открытия или революционного
поворота в мышлении. К счастью, мы, по-видимому, живем
в одну из таких революционных эпох, когда устаревшие
верования перемалываются в удобрение для новых идей.
Сегодня очаг революции расположен в
доминирующей науке — физике. Физика была охвачена смущением и
вступила в видимый конфликт с тем, что считалось одним
из основных принципов научного метода, — и произошло
это благодаря замечательному ее успеху, позволившему
значительно приблизиться к первичным элементам физи-
* Доклад, написанный для Девятого философского конгресса в
Париже. Опубликован в его Трудах, VII, pp. 28-33.
"183-
ческой реальности. Вместо того чтобы оперировать
тысячами и миллионами элементарных, как считалось некогда,
частиц, физики нашли способы наблюдать за поведением
отдельных «атомов» и даже различных теоретических
разновидностей неделимых в прошлом ens rationis*, которые
не превосходят по массе одной двухтысячной атома.
Они были удивлены и потрясены тем, что
электроны и их родня, по-видимому, не подчиняются одному из
самых проверенных принципов научного метода. Долгое
время считалось, что при достаточном знании
предыстории научного объекта его будущее поведение можно
предсказать надежно и точно. Но с электроном это оказалось
невозможным; вы можете точно вычислить либо его
положение, либо его скорость, но не то и другое вместе;
соответственно, его поведение до некоторой степени
неопределенно или случайно. Точно предсказать, что он будет
делать дальше, немыслимо. Но этому
обескураживающему факту есть хорошее и достаточное объяснение.
Наблюдать за поведением электрона можно было одним
известным способом — направив на него свет. Но это означает —
подвергнуть электрон световому давлению и тем самым
его отбросить. Таким образом, наблюдатель не в
состоянии определить, где будет наблюдаться электрон, и его
предсказания всегда могут оказаться ошибочными.
Отсюда следовало несколько выводов, смертельных для
общепризнанных доктрин детерминистической науки:
(1) Существуют физические события,
непредсказуемые в принципе. (2) Предположение, что законы
природы — это точные и универсальные формулы, теряет под
собой почву. Они понижены в статусе до статистических
регулярностей или ожиданий, которые оправдываются
лишь на больших числах, но не обязательно
оправдываются в каждом отдельном случае. (3) Предположение, что
манипуляции наблюдателя при наблюдении за объектом
не влияют на него, в физике опровергнуто. (4) Следова-
* Мыслимых вещей, сущностей (лат.).
- 184-
тельно, предположение, что в физике нет нужды
учитывать самого наблюдателя и «поправку на личные
особенности», также несостоятельно.
Прежде всего надо сказать об этих выводах, что
каждый из них можно было и надо было предвидеть
теоретически до того, как они были установлены на
практике, и что если бы физики больше задумывались о
возможных альтернативах принятым доктринам, эти
альтернативы были бы выявлены гораздо раньше.
Так, во-первых, всегда было очевидно, что если
физические теории об атомах и молекулах верны, то, имея
дело с физическими объектами, наука физика
оперировала мириадами. Поэтому не было никаких доказательств,
что законы физики не являются статистическими,
каковыми давно были признаны законы психологии и
социологии. Больше того: не было никакой нужды считать их
иными. Можно было — и было бы проще — рассматривать
научный детерминизм как методологическое допущение
или постулат предсказуемости, а не как природный факт.
Детерминизм в науке ничуть не менее полезен, если
видеть в нем методологическое допущение; однако
методологическое допущение может оказаться
методологическим вымыслом, когда обнаружатся границы его
применимости. Вот и все, в чем велит признаться физикам
принцип неопределенности Гейзенберга; опровергает он
не логический статус детерминизма, а метафизическое
следствие, ложно и без нужды из него выведенное.
Во-вторых, не было никакой надобности видеть в
законах природы нечто большее, чем статистические
законы, или чем тенденции поведения физических
объектов. Факты, из которых законы были выведены, вовсе не
доказывали, что законы универсальны, абсолютны и
непреложны — так же как до открытия эволюции
биологические факты не доказывали неизменности видов.
В-третьих, предположение, что процесс наблюдения
не влияет на объект, всегда было лишь удобной фикцией.
Оно никогда не оправдывалось в общественных науках, а
- 185-
только обозначало разницу между механическими и
мыслящими объектами. Кроме того, давно было известно, что,
взятые в массе, последние могут рассматриваться как
механические. Отчего же тогда вызвало шок открытие, что
предположительно механические объекты проявляют
индивидуальность, когда им предоставляют такую
возможность и рассматривают их индивидуально?
И, наконец, считавшееся характеристикой научного
метода исключение субъективного элемента давно уже
признано фикцией по причине того, что в некоторых
науках и для некоторых задач оно оказалось неприемлемым.
Так, астрономия давно была вынуждена делать «поправку
на личные особенности» наблюдателей. Это должно было
бы побудить и психологов признать субъективный
фактор во всяком научном наблюдении, но к несчастью,
многие из них ошибочно и высокомерно вообразили, будто
могут повысить свой научный статус, приняв допущения
и фикции механических наук. Логикам тоже следовало
бы постоянно иметь в виду, что всякое исследование есть
предприятие целенаправленное, а потому, если
абстрагироваться от цели, можно превратить любой логический
процесс в бессмыслицу.
Так не следует ли нам признать, что наука нуждается
в детерминизме всего лишь как в методе, подчиненном
задаче предсказания будущего хода событий? Ей вовсе нет
нужды полагать его констатацией реального факта или
приходить в замешательство, когда выясняется, что
детерминизм применим к реальности лишь до определенного
предела. Наоборот, ученым следовало бы гордиться тем,
что они обнаружили границы применимости своих
рабочих допущений. Ибо, как и в аналогичном случае открытия
относительности пространственно-временных категорий,
они преподали философам и особенно логикам бесценный
урок — касательно и метода науки, и природы знания.
Философам следовало бы быть глубоко
благодарными за этот урок. Но, увы, по большей части они его не
оценили. Они не смогли освободиться от ошибок тради-
-186-
ции потому, что, в отличие от ученых, не привыкли
поверять свои теории фактами наблюдений.
Даже когда исключительно непредубежденный
философ предъявляет им такие факты, они обычно
отказываются их признать и вывести из них очевидные следствия.
Время позволяет мне проиллюстрировать эту привычку
лишь одним примером; но это превосходный пример:
юмовская критика предрассудков, связанных с
причинами. Юм указал, что необходимая связь, предположительно
существующая между причиной и действием
(следствием), — не факт наблюдения, а вымысел, человеческое
дополнение к фактам, и опирается оно, полагал Юм, только
на нашу психологическую привычку и ожидание.
Прежние философские доктрины об универсальном законе
причинности были, таким образом, опрокинуты. Но
философы поняли это не так. Они осудили Юма как скептика,
не потрудившись вникнуть в постулат причинности
глубже, исследовать его смысл и его применение.
Между тем, открытие Юма побуждало задаться
такими очевидными вопросами: (1) Если необходимая
связь — это отношение человека к событиям, то как она
соотносится с утверждениями о случайности и с сознанием
человека, что он волен действовать или воздержаться от
действия? Ясно, что последние уже нельзя отвергнуть как
очевидные нелепости; возможно даже, и они —
производные человеческой психологии. (2) Опять-таки, как
провести рубеж между причиной и следствием, и каковы границы
того и другого? И не соотносится ли этот рубеж с
намерениями, целями и интересами человека? (3) Чем обосновать
расчленение потока событий на упорядоченные ряды
причин и следствий? Как обнаружилось, что они принадлежат
к одному ряду? Как было установлено различие между
следствиями и событиями? (4) И вообще, какое право мы
имеем выбирать события из потока и исследовать их
изолированно?
Известно, что ни один из этих очевидных и
поучительных вопросов не был задан философами после Юма
-187-
Нет, они не пожалели трудов, чтобы затемнить и
вывернуть наизнанку его результаты, залатать прежние
доктрины необходимости и универсальной причинности, которые
он взорвал. Сделали они это очень неуклюже и вполне
неубедительно. Кант, например, который, по общему мнению,
успешнее всех «опроверг Юма», перенял у него
предположение, что причинность должна быть чем-то таким, что
замечает в ходе событий сторонний наблюдатель, но
вообразил, будто субъективный фактор, обнаруживаемый в
причинно-следственном ряду, можно обезвредить, объявив его
одной из двенадцати «априорных категорий», налагаемых
сознанием при рассмотрении объекта. Он признал, что в
совокупности категории образуют непроницаемый экран
между сознанием и Реальным, однако утверждал, что без
них никакая объективность возникнуть не может.
Но, как явствует из его же рассуждений, они не
решали проблем, ради которых были придуманы. Когда Кант
(запоздало и смутно) осознал, что для обоснования
практики причинных объяснений требуется отличать причинные
ряды от случайных, он не мог предложить лучшего
критерия, чем тот, что первые необратимы, а вторые обратимы.
Однако из его же доктрины причинности следует, что все
события в мире феноменов неизбежно детерминированы, а
потому необратимы и неизменяемы; при этом он как-то
убедил себя, что такое допущение не является несовместимым
с ноуменальной свободой духовной деятельности.
К тому же ни Канту, ни Юму не пришло в голову,
что сама практика причинного анализа нуждается в
обосновании. Прежде чем встанет вопрос о том, считать ли
данный ряд событий причинно-следственным или
случайным, должна быть объяснена осуществляемая на
основе здравого смысла процедура расчленения общего
потока событий и выбора объектов исследования; первая же
попытка объяснить ее оказалась бы роковой для
допущений, унаследованных Кантом от Юма.
Тогда стало бы ясно, что наука — не плод
пассивного наблюдения явлений, но всегда рождается из целена-
-188-
правленной манипуляции с данностью, из умного
вмешательства. А также, что сама данность — всегда отбор,
определяемый интересами и целями человека, и гораздо
больше «взятая», чем «данная». Короче говоря, вся интеллек-
туалистическая картина познания была бы признана
фикцией, которую надо отбросить и заменить более
волюнтаристским описанием.
Если бы философы пожелали скорректировать эти
последствия своих интеллектуалистических
пристрастий, то в юмовской критике тогдашних представлений о
причинности они перестали бы видеть пугало
скептицизма. Ничто не мешало бы им задуматься, не являются ли
понятия необходимости и свободы взаимосвязанными и
логически равноправными, будучи добавлениями к
наблюдаемому, которые мы делаем для того, чтобы
оправдать практику извлечения контролируемых частей из
потока событий. Проблему причинного анализа заменила
бы тогда проблема причинного синтеза, каковой урок и
следовало бы извлечь из мятежа, учиненного Юмом.
Больше того, юмовская критика послужила бы
дальнейшим исследованиям всего представления о
необходимости и исчерпывающему анализу его невнятиц. И
быстро выяснилось бы, как мало нужды видеть в
«необходимости» нечто большее, чем «нужду». Непредвзято
взглянув на историю логики, мы увидели бы, что вся
нужда в «логической необходимости» проистекает из одного
эпизода. Наша логика произошла от диалектики
греческих школ. В этих упражнениях греков высоко почиталась
любая процедура, с помощью которой оппонента
заставляли сдаться в словесном споре и признать себя
побежденным. Соответственно, диспутант всегда стремился
представить естественный для себя (психологически) ход
мыслей как «логически необходимый», то есть
вынуждающий оппонента к согласию; силлогизмом восторгались,
считая, что он именно это гарантирует. Но было
серьезной ошибкой перенести процедуру необходимого
доказательства на метод науки и на изучение природы. Послед-
-189-
нее дает лишь растущие вероятности и удовлетворение от
постепенной верификации истин, которые не
«необходимы», но «ценны» — и тем более ценны, что не
«необходимы». Только устарелая логика требует от научной истины,
чтобы та претендовала на «необходимость»; единственная
необходимость, которая реально встречается в более
просвещенной логике — это необходимость, «следующая» из
первоначальных допущений и соглашений, которые
очерчивают границы науки. Но причины, по которым их
нельзя менять произвольно и без уведомления — этические и
психологические, а не логические, так что в итоге
«необходимости» всегда сводимы к «нуждам».
Поэтому не следует ли нам заключить, что, хотя
детерминизм нужен для цели научного предсказания, его ни
в коем случае не нужно считать первичным фактом
метафизики? Как жаль, однако, что философы гораздо больше
полагаются на принуждение большой дубинкой, чем на
открытое признание интересов человека!
Относительность метафизики*
Метафизика — название самой трудной и самой
возвышенной философской области, которая сулит ее
поклонникам прекраснейшие виды и широчайший обзор
целого. Но есть у нее и свои недостатки. Вершины ее
многочисленны и, можно думать, девственны; ибо чем
больше читаешь отчетов о восхождении на них, тем
больше сомневаешься, что кому-нибудь в самом деле
удалось подняться на самый верх. Вдобавок вершины
всегда затянуты плотными облаками и непроницаемым
туманом, склоны круты и труднопроходимы, а воздух
настолько разрежен, что долго продержаться на такой
высоте не может никто. Поэтому неудивительно, что
метафизики редки и драгоценны: метафизические
восхождения — занятие не для всех, а только для горстки
закаленных и тренированных, с лучшими проводниками.
Можно сказать, это — род интеллектуального
альпинизма. Хороший спорт — и может быть к тому же славным
развлечением, если не будем воспринимать его слишком
всерьез. Будем готовы к трудностям, к неудаче, к тому,
чтобы повернуть обратно, если условия окажутся
неблагоприятными. Не надо рассчитывать на то, что мы
взберемся на наш пик и нам откроются обещанные виды, а
* Впервые опубликовано: The Personalist, XIX (1938), pp. 241-254.
-191-
тем более, — что воссядем там, как на философском
троне, и с равнодушным презрением станем взирать на
усилия и достижения наук.
Если отбросить метафоры, метафизику надо
мыслить как конечный синтез наук, как кульминацию, венец
нашего стремления к знанию. Но мы должны быть
готовы к тому, чтобы защитить такой взгляд на ее функцию
от сторонников иного воззрения, согласно которому
метафизика — особая наука о всеобщем принципе
действительности, полностью априорная и не зависящая от
опыта и от наук. Метафизики часто пытались истолковать
свою функцию именно таким образом, но всякий раз
терпели жалкую неудачу. Неудача может ожидать их и в
том случае, если они примут наше представление; но эта
неудача будет более почетной, и сохранится надежда на
конечный успех. Наша концепция тесно увязывает
метафизику с науками, которые обеспечивают ее данными.
Науки не завершены и никогда не будут завершены, а
потому не могут обеспечить достаточный материал для
исчерпывающего синтеза. Но поскольку они
развиваются, метафизик живет с надеждой, что это может
произойти в будущем. Кроме того, он всегда должен быть готов
откорректировать и улучшить свой синтез в связи с
появлением свежего научного материала. Так что с
развитием наук метафизический синтез не может оставаться
неизменным, не зависящим от их судеб.
У этой концепции метафизики есть еще и то
преимущество, что метафизика никогда не будет полностью
несостоятельной. Сколь бы ни был ограничен ее успех, и
сколь бы ни были часты неудачи, подавить ее полностью
никогда не удастся. Метафизика всегда будет
устремлением философского ума и проблемой, требующей
решения, — хотя нам никогда не удастся прийти к
окончательному синтезу всех знаний и рекомендовать его всем. Если
таково место метафизики на философской территории, к
какого рода метафизике мог бы привести искателя
философских приключений гуманизм?
- 192-
Во-первых, надо отметить, что гуманист не обязан
искать метафизических приключений, если он того не
желает, если у него недостает для этого ума или храбрости
или просто нет к этому вкуса. Поскольку метафизика —
предприятие отчаянное, для него это должно быть
большим облегчением. Гуманизм позволяет ему отказаться.
Он может сказать: «Я не думаю, что метафизика — наука.
Ее данные слишком отрывочны и разнородны; вклад наук
в нее слишком мал, и слишком большую роль играют
субъективные предпочтения и догадки. Поэтому
построение метафизики — дело неблагодарное, и, в сущности,
напрасная трата времени и умственного труда. Лучше
возделывать свой сад в каком-нибудь уютном уголке науки и
не пускаться в авантюры». Гуманизм не осудит такого
отношения и, на самом деле, для большинства из нас оно,
может быть, самое правильное.
Во-вторых же, гуманизм отнюдь не запрещает
метафизические авантюры. Он признает, что за ними —
законная человеческая потребность синтезировать все знания и
рассматривать существование как целое. И вреда в таких
попытках нет. Гуманизм настаивает только на том, что
надо заранее представлять себе характер метафизики, ее
рискованность и не переоценивать ее результаты. В
частности, ни один метафизик не имеет права кормить нас своей
метафизикой принудительно.
Ибо, в-третьих, всякая метафизика всего лишь
вероятна. Ее надо рассматривать как гипотезу, как мысленный
эксперимент, как более или менее остроумную догадку,
чья ценность должна быть установлена путем
настойчивых испытаний. Ни в коем случае нельзя допускать,
чтобы она превратилась в окаменевшую догму — она
должна сохранять пластичность, способность к
совершенствованию.
Тем более, в-четвертых, что всякая метафизика, по
сути, — индивидуальный эксперимент, связанный с
индивидуальными данными и индивидуальным складом
ума. Поэтому она не может принуждать к согласию. Ме-
-193-
тафизика, истинная для одного человека, поскольку она,
как ему кажется, синтезирует его опыт, для другого
может быть ложной, поскольку он — иная личность.
Метафизик-пессимист, например, никогда не убедит
оптимиста. Даже придя к согласию относительно всех фактов,
они безнадежно разойдутся в оценке этих фактов, и
разница в их истолковании будет иметь далеко идущие
последствия.
Об этой индивидуальности метафизических
построений свидетельствует вся история философии.
Бесконечные изменения и смены философских систем становятся
понятны, только если видеть в них выражение личности
их создателей. Таким образом, вся история философии
есть гимн торжеству личности.
Больше того, принципиальная индивидуальность
метафизик следует из самой их концепции. Метафизика,
ex hypothesi, должна синтезировать все данные, которые
могут быть представлены всеми науками. Но не только
их. Она должна включить в свой синтез весь материал,
обеспечиваемый прямым опытом человека, иначе
говоря, все его характерные особенности и всю его личность.
Ибо метафизика, в отличие от специальной науки, не
может сослаться на то, что ее кругозор ограничен, и что
она вправе оставить без внимания факты, до которых ей
нет нужды. Мы должны учитывать все факты, а склад
ума — безусловно, психический факт.
К тому же, эти личные данные — метафизически
самые важные. Ими определяются способы
интерпретации и точки зрения, цели и ценности, без которых
метафизический синтез неосуществим. Сознает это
метафизик или нет, личность его всегда является существенной,
неустранимой предпосылкой его системы. Он
формирует свою систему по своему вкусу, и ее покрой отражает
его личность.
Но именно потому, что она подходит ему, она не
подходит вполне никому другому. Поэтому мы должны
остерегаться философа, который распространяет в роз-
- 194-
ницу абсолютную и универсальную истину, пригодную
каждому и для всех надобностей: он торгует панацеей и,
скорее всего, он глупец или мошенник. Должны мы
остерегаться и тогда, когда два философа провозглашают
одну и ту же доктрину: проповедуют они две доктрины,
потому что понимают ее по-разному. Подлинный
метафизик — самое индивидуальное существо на свете.
Такое толкование наносит смертельный удар
догматизму и нетерпимости; но оно не препятствует
сочувствию и даже пониманию. Ибо, не принимая буквально
чужой метафизики, воспринимая ее как чуждую нашей
собственной, мы, возможно, все-таки поймем, что
различие между ними вытекает из различия между двумя
личностями.
Очевидно, эта особенность не позволяет
метафизике считаться наукой в обычном смысле. Ибо науки, по
сути, — методы, то есть способы оперировать с отобранным
материалом в определенных целях, поставленных
человеком. Они — общественные дороги, предназначенные для
общего пользования безотносительно к личностям, и
пригодны для всех.
Как же достигается ими этот эффект сообщения?
С помощью простого трюка: с самого начала они
абстрагируются от личности. Метафизика этот трюк
повторить не может. Она не может отвлечься от личности,
потому что личность — факт, факт, принципиально
принадлежащий ее функции. Обязанность метафизики —
не абстрагироваться от личности, а учитывать ее, так же,
как и все остальное в мире, и если по этой причине она
исключена из круга наук, ей остается только терпеть и
улыбаться.
Итак, мы видим, насколько нетребовательна
метафизика. Если она вам не по душе, не занимайтесь ею;
если вам не по душе результаты всякого метафизического
изыскания, тревожиться не нужно. Ни ссориться с ней
не нужно, ни воспринимать ее трагически. Спишите ее
на личные особенности ее творца и утешайтесь мыслью,
-195-
что, в конце концов, это его личная догадка, и никто не
лишал вас права строить собственные.
Полагаю, что после всех этих разъяснений мало
кому будет интересно, — если и был такой интерес — узнать
о моей собственной метафизике. Тем легче мне
отказаться от разговора о ней, что свою довольно милую
метафизику я сочинил в годы отчаянной незрелой юности. Она
называлась «Загадки Сфинкса»1, и упоминания о ней
попали даже в некоторые немецкие истории философии.
Она давно не печатается, и вряд ли я напечатаю ее еще
раз. Это потребовало бы слишком большой переработки.
Иначе нельзя: если я не пожелаю ее исправить, то тем
самым признаюсь, что за истекшие сорок лет я ничему не
научился.
Не буду, однако, рассказывать, как бы я ее
изменил. Я более или менее готов нести ответственность за
свою метафизику, но не возьму на себя ответственность
морочить ею других — и это еще один довод в пользу
того, чтобы не брать на себя ответственность за чью-либо
еще метафизику В конце концов, каждый должен сам
нести бремя своих убеждений; самое большее, чего
можно потребовать от гуманизма — это чтобы он намекнул,
каким способом метафизику можно строить, и пусть
каждый желающий строит ее по собственному вкусу и
разумению.
Естественной отправной точкой для всякой
гуманистической метафизики будет, конечно, великое
изречение Протагора — первая формулировка гуманизма, и
одна из глубочайших философских максим. Человек есть
мера всех вещей — существующих, что они существуют,
и несуществующих, что они не существуют. Более
законченного утверждения относительности нельзя себе
представить; постановкой проблемы измерения оно явно
предваряет Эйнштейна, однако провозглашенная им
относительность гораздо радикальнее той, в какой до сих
пор находила смысл физика.
Оно служит полезным напоминанием, что всякая
- 196-
проблема, всякое убеждение, всякая реальность, всякая
истина соотносятся с познающим человеком, и что
беспокоиться о непознаваемых «реалиях» бессмысленно.
Оно, однако, никоим образом не отрицает
существования реальностей, которые нам пока еще не известны, но
когда-нибудь могут стать известны; нас просто заверяют
в том, что когда этот день настанет, они вступят в
отношения с нашим сознанием. Тем самым оно рассеивает
опасения, будто наша жизнь может быть обречена на
неудачу из-за того, что принципиально зависит от вещей,
для нас не существующих; оно предостерегает нас от
праздных размышлений о реалиях, не связанных с
нашей жизнью2. Реальный мир, который нас заботит,
который мы стремимся измерять, завоевывать, подчинять
своей власти, — он связан с нами, неизбежно связан с
нашими восприятиями, и это самая лучшая и
обнадеживающая его черта. Он не может быть непознаваемым,
недоступным для человеческой мысли, нечувствительным к
ее деятельности. Реальный мир — это наш реальный мир,
измеримый нашими мерами. И тем конкретнее делает
его максима Протагора, что наука по сути своей —
измерение; об этом недвусмысленно свидетельствует
история науки. Таким образом, его доктрина есть не что иное,
как поощрение мысли.
Но, как ни странно, обратившись к старомодным
историям философии, мы обнаруживаем, что это
великолепное изречение объявляется «скептицизмом».
Почему? Без всякой видимой причины; просто в угоду
древнему предрассудку, который ведет свое происхождение
от Платона и опирается лишь на человеческую леность и
неряшливость мышления. Утверждается — без изучения
фактов, — что может быть только одна-единственная
универсальная истина, одинаковая для всех познающих
и не зависящая от них, — то есть совершенно
нечеловеческая истина, которой нам предлагают поклоняться как
сверхчеловеческой. Но ни Платон, ни один человек в
дальнейшем не сумел объяснить, как такую истину, если
- 197-
она существует, можно распознать и усвоить; так что
результат этого так называемого «идеализма» на самом
деле — скептицизм. И, однако, стоит только возразить
против него и указать на его следствия, как вас обвинят в
скептицизме.
Но отрицал ли Протагор всякую истину, объявив,
что истина соотносится с человеком? Он отрицал, что
истина абсолютна и недоступна человеку; но утверждал
самым недвусмысленным образом человеческую истину
Утверждать, что у каждого человека истина своя —
значит ли это отрицать всякую истину? Это значит —
отрицать, что есть только одна истина; это значит, что истин
много, что истинам нет числа. Это значит — быть
плюралистом по отношению к истине, а не монистом, тем более
— не нигилистом. Это значит — дать голос каждому в
выработке общей объективной истины, которая есть
результат социального взаимодействия и взаимного согласия.
Это значит — быть в отношении истины демократом, а не
монархистом, и противиться любым попыткам опереть
истину на тираническое принуждение. Следовательно,
нет никакой возможности увязать протагорово
изречение со скептицизмом, если только не принять за аксиому,
что отрицание абсолютной и универсальной истины,
сколь бы ни было оно убедительным и обоснованным,
должно быть осуждаемо как скептицизм. Кроме того, как
мы видели, Протагор был прав и метафизически. Чтобы
метафизика могла выполнять надлежащую ей функцию,
она должна существовать во множественном числе. Она
должна соотноситься с опытом, знанием и нуждами
своего создателя. Этим она отличается от наук. А если науки
не соотносятся с отдельными людьми, если они
провозглашают универсальные истины, претендующие на то,
чтобы быть одинаковыми для всех людей — и ни для
кого в особенности, — так это объясняется их
абстрактностью. Все они сознательно прибегают к самоограничению.
Они выбирают маленькое поле деятельности, и
настолько, насколько возможно, исключают личную составляю-
-198-
щую знания. Но, поступая так, они приближаются не к
истине, а к фикции.
Поэтому восхищаться ими за то, что они
игнорируют данные, которые и есть самые очевидные — великая
иллюзия. Если бы абстракция, используемая наукой,
могла быть осуществлена до конца — а сама
формулировка этого идеала выдает, насколько он тщетен и внутренне
противоречив, — если бы мы на самом деле могли
познать реальность, помимо себя и нашего знания о ней,
такое познание буквально ничего бы не стоило. Ибо
ценность реальному мы приписываем в силу того, что оно
соотносится с человеческими целями и чувствами, а
полностью дегуманизированная реальность была бы и
непознаваема, и не заслуживала бы познания. Итак,
будучи уверены в том, что наш мир — неотчуждаемо наш и
неизбежно соотносится с каждым из нас лично, а не
только с абстрактным «человечеством» вообще, ибо иначе он
не существовал бы для нас, — не можем ли мы считать
эту уверенность драгоценным залогом того, что в наших
силах переделывать мир, дабы он больше отвечал нашим
желаниям?
Поэтому не дадим себя запугать глупыми криками
о «скептицизме» и «субъективизме». Изобилие истин
не то же самое, что отсутствие истины. И, начиная с
субъективных истин, мы отнюдь не обречены
заканчивать ими. Это просто значит, что мы должны
прослеживать интересный процесс взаимообменов и
корректировок, с помощью которых сознание узнает свой мир, и
общие истины, получающие общественное признание,
отделяются от личных истин непосредственного опыта,
остающихся индивидуальными и непередаваемыми.
Таким образом, мы можем наблюдать, как из
субъективного произрастает объективное, покуда не выйдем в
общий мир здравого смысла и не поймем его
функционирования.
Так что протагоровскому гуманизму нисколько не
вредит его относительность. Соотнесенность нашего
-199-
мира с нашим опытом не убавляет его реальности, а
наоборот увеличивает ее. Очеловеченный мир защищает
нас от заморозков натурализма и рассеивает кошмары
абсолютизма. Нам не нужны претенциозные абсолюты
старых философий — ни абсолютная истина, ни
абсолютная реальность. Обе недосягаемы. Истина-для-нас и
реальность-для-нас, постепенно раскрывающиеся в
космическом процессе, нам подходят гораздо больше.
Зачем же отворачиваться от них, коли они нам
предлагаются?
Далее, протагоровский гуманизм имеет весьма
непосредственные приложения в стандартных
метафизических контроверзах. От разнообразных натурализмов, ма-
териализмов и бихевиоризмов он избавляется с
легкостью, показывая, что в своих выкладках они не учитывают
человека и человеческую личность и что они неверно
понимают научный метод.
Затем, он прямо включается в спор между
идеализмом и реализмом. Он находит, что обычному идеалисту
определенно недостает смелости в убеждениях. Идеалист
не решается утверждать, что обладает точкой зрения, с
которой все вещи предстают преображенными в новом и
обнадеживающем свете, — напротив, он жаждет доказать,
что практически идеализм ничего не меняет и позволяет
ему, идеалисту, подписаться под любым выводом
реализма, отправляющегося от здравого смысла. Мне это
кажется большой тактической ошибкой. Она низводит
идеализм до половинчатой, малодушной философии, не
изменяющей и не улучшающей философскую ситуацию.
Такой идеализм, следовательно, открыт для критики,
исходящей из прагматического критерия: если
практические следствия двух доктрин не отличаются, значит, это
лишь разные словесные выражения одной доктрины.
Таким образом, если во взгляде на реальность идеализм не
отличается от реализма, опирающегося на здравый
смысл, то он неотличим от реализма, и называть его
«идеализмом» бессмысленно.
-200-
Чтобы действительно отличаться, он должен иметь
отличия, а чтобы быть лучше, он должен отличаться в
лучшую сторону; кроме того, идеализм должен быть
сформулирован так, чтобы это стало возможно. По этому
критерию лишь протагоровский гуманизм способен,
видимо, привести к подлинному идеализму, обладающему
существенным отличием; восприняв все ценное, что есть
у реализма, опирающегося на здравый смысл, он
открывает гораздо более широкие горизонты. Метод его можно
обрисовать так.
Нас и нашу реальность идеализм делает
взаимозависимыми, поскольку отвергает предрассудок, согласно
которому существует объективный мир, полностью
отчужденный от познающего субъекта. Последнее
предположение никакой разумной цели не служит — ни в
теории, ни на практике. Теоретически оно так же
бесполезно, как и непривлекательно практически. Далее,
отвергать его — не значит отвергать объективность; это
значит — рассматривать объективность не как данность,
а как достижение. И достижение это очень древнее,
высочайше одобренное практикой: в нем воплотился
большой опыт человеческой жизни. Так что гуманист не
отвергает общий мир. Вопрос его, наоборот, звучит так:
«Сколько из моего непосредственного опыта
принадлежит общему миру? То есть, какую его часть разделяют
остальные? Я хочу, чтобы его разделяло со мной как
можно больше народа, ибо я твердо верю в
существование других людей и нуждаюсь в их сочувствии. Почему
я верю в других людей? Потому что не желаю считать
себя единоличным автором всего моего опыта. Я не желаю
быть солипсистом, потому что не желаю видеть себя
буйно помешанным и творцом того, что было бы миром
кошмаров. При этом я нахожу, что мое отрицание
солипсизма прекрасно оправдывается; оно подтверждается
опытом настолько, насколько вообще может
подтверждаться такая теория. Так я спасаюсь от солипсизма.
Другие идеализмы, располагая лишь чисто интеллектуаль-
-201-
ными аргументами, спастись от него не могут. Все они
пасуют перед ним или еще больше запутывают дело.
Притом, они избыточны».
По сути, есть только один убедительный аргумент в
пользу идеализма, но идеалисты по большей части
избегают им пользоваться. Он слишком эмпиричен, слишком
задевает за живое. В отличие от ученых «доказательств»
идеализма, он ссылается не на подразумеваемые смыслы
слов, в которые изначально были тайком заложены
потребные выводы, а опирается на общий неоспоримый
опыт, всем знакомый и доступный. И протагоровский
гуманизм вполне его приветствует.
Мы можем назвать его аргументом от сновидений.
Каждую ночь мы ложимся спать и обычно видим сны. В
снах мы посещаем другие миры, которые кажутся
такими же реальными, как дневные. Их может быть сколько
угодно, и они обладают большим семейным сходством с
миром нашего бодрствования. Не в нашем пространстве
и не всегда легко коррелирующие с нашим временем,
они, тем не менее, — пространственные и временные.
Они тоже физические, хотя законы их часто отличны.
Например, случается, что во сне мы можем при желании
летать. Кроме того, сны населены живыми существами,
правда, иногда невиданными, и людьми, иногда
незнакомыми.
Наши визиты в эти миры снов кратки. Мы
возвращаемся оттуда через разрыв, именуемый
«пробуждением». Мы снова оказываемся в том мире, где мы заснули,
и подвергаем беспощадной переоценке реальность
наших ночных приключений. Обычно мы говорим: «А, это
был только сон», — и отмахиваемся от него, как от чего-
то несущественного. Мало того — считаем, что сами его
сочинили, и отрицаем его реальность. «Реальность»
здесь означает «космическую важность», ибо как
физический факт сновидение остается реальным, пока не
забудется. Однако, дискредитируются таким образом не
все сны; к малочисленному, но важному их меныыинст-
-202-
ву те, кто видел эти сны, и их последователи относятся
как к ценным откровениям и видениям высшей
реальности. Такие «сны» вошли в структуру всех великих
религий. Но основанием для высокой оценки этих снов
служит их содержание; что же до нашего конкретного
опыта, то нет никакой разницы между божественным
видением и пустейшим сном. Следовательно,
отвергаться как нереальные должны и те, и другие — или не
должен ни один.
Таким образом, на практике наше отношение к снам
непоследовательно, и научные их объяснения тоже
разнятся. Но для философии они, очевидно, очень важны.
Мы можем извлечь из них три урока — и ниоткуда
больше эти уроки извлечь нельзя.
(1) Сны доказывают, что идеализмы могут быть
истинны. Если мы примем обычное истолкование, что
сны нереальны и сотворены нашим сознанием, то они,
безусловно, доказывают, что мы обладаем способностью
творить субъективные миры, которые подражают
объективной реальности, пока длятся. Значит, утверждение
идеалистов, что сознание способно творить реальность,
может быть подкреплено фактом. Ergo, не может ли быть
так, что вся реальность сотворена сознанием?
(2) Не может ли и наш реальный мир быть миром
сновидений, отличаясь от них лишь тем, что мы еще не
проснулись и потому еще не способны задним числом
отказать ему в реальности? Следовательно, вся жизнь
может быть сном, вернее, последовательностью снов,
разделенных переходами, которые мы называем
пробуждением — или смертью. Может быть, жизнь проходит
через бесконечное множество таких состояний,
погруженных одно в другое и раскрывающих свою подлинную
природу лишь тогда, когда мы выходим за их пределы.
Это — очень древнее предположение, часто
выдвигавшееся и ни разу не опровергнутое. Платон оспаривает его в
«Теэтете», и оно пронизывает всю индуистскую
философию. Притом, мы не обязаны думать, что источник снов
-203-
случаен; мы можем, если угодно, приписать ему
определенную направленность. Тогда мы можем представить
себе, что последовательность жизней-снов ведет нас во
все более и более реальные миры или же ввергает все
глубже и глубже в кошмар. Тогда Рай мы можем
определить как блаженное видение высшей реальности, Ад —
как бездну иллюзии.
(3) Сны дают нам интересную основу для
размышлений о потусторонней жизни. Они обеспечивают ее,
подвигая к двум соображениям. Они (а) не только сметают
одним махом все возражения против потусторонней
жизни, базирующиеся на том, что наш здешний физический
мир есть предельная реальность, но и (б) показывают
нам, как можно мыслить переход из одного мира в
другой, и даже как он ощущается. Он может ощущаться как
пробуждение к более реальной и лучшей жизни от
мрачного кошмара, в котором нам «снилось», что мы
«умерли». Кроме того, сны могут открывать миры сновидений,
самые разные по характеру и степени реальности, от
самой низшей до самой высшей. Ибо ни об одном мы не
обязаны думать, что он совершенно нереален. В этом
ряду наш здешний реальный мир может быть лишь одним
из членов, понятным лишь в контексте всего ряда. Он
может быть и достаточно реальным, и важным, пока мы
движемся через него. Но полностью его смысл,
возможно, прояснится только тогда, когда мы его покинем, когда
увидим его в более широкой перспективе, опознаем более
истинные реалии, которых реалии наши здешние были
всего лишь слепками, эскизами, призрачными
предвосхищениями.
На этом предположении лучше, пожалуй,
закончить. Ибо разве уже не ясно, что гуманизм может
обеспечить материалы для построения бесконечного числа
метафизик? И не следует ли предоставить само их
строительство вкусу и изобретательности индивидуальных
зодчих?
-204-
Примечания
1 F. С. S. Schiller. Riddles of the Sphynx, 1891.
2 Большинство форм «реализма», по-видимому, дают почву для
таких опасений и нуждаются в этом «предостережении».
Этика, казуистика и жизнь*
Если совсем немного задуматься о жизни, нетрудно
будет прийти к выводу, что, в целом, человеческая
природа сейчас довольно хорошо приспособлена к условиям
существования. Если бы человек не смог или не захотел к
этим условиям приспособиться или был бессилен их
изменять, он просто исчез бы с лица земли, как те
доисторические чудища, чьи кости мы созерцаем в музеях. И стал
бы он не властелином земли, а ископаемым. Однако, хотя
он и воцарился на земле, он все равно подчиняется этому
общему биологическому закону. Во многих отношениях
он возвысился над чисто природной плоскостью и
выработал этический и духовный социальный порядок; тем не
менее, он должен вести себя и свои дела так, чтобы карой
ему не стало вымирание, угрозой которого естественный
отбор стимулирует и регулирует поведение всего живого.
Отказавшись вести себя подобающим образом, он
поплатится за это, как всякое другое живое существо.
Этот биологический факт обусловливает все
действия человека и лежит в основе человеческого общества и
его морального порядка. Он — тот фундамент, на котором
должны строиться все формы общественной жизни. И он
же — фундамент всей психологии отдельного индивидуу-
* Впервые опубликовано: The Personalist, XIX (1938), pp. 164-178.
-206-
ма. Все, что мы делаем коллективно или индивидуально,
в конечном счете, неизбежно связано с биологической
необходимостью адаптации человека к условиям его жизни.
На протяжении веков мы в значительной степени
достигли такой адаптации, и проблема правильной жизни
по большей части решена. Мы не только поняли, что надо
делать для сохранения нашего вида, — желание делать это
укоренилось в нашей натуре довольно прочно. Теперь мы
можем на него в определенной мере полагаться, хотя
более тонкие процессы адаптации к изменяющимся
условиям жизни идут постоянно.
Таким образом, мы можем рассматривать эту
адаптацию как данность и исходить из нее при анализе нашего
психологического склада и нормального поведения. А
значит, фактическая адаптация человеческой природы к
условиям жизни может служить хорошей отправной точкой
для теории человеческого поведения и для рассмотрения
этических идеалов. Она — естественная отправная точка
всякой этики, и гуманизм остро это сознает.
Отсюда можно сразу вывести очевидное следствие.
Из приспособленности человека к условиям земной
жизни вытекает, что он создан для действия. Вернее, для того,
чтобы реагировать на стимулы, поступающие извне, и
активно влиять на них, если они ему не нравятся.
Отсюда следует также, что в своих действиях или
реакциях он участвует целиком, так сказать, всей душой,
используя все свои возможности. Ибо жизнь — слишком
трудное дело, чтобы он сам себя ставил в невыгодное
положение, пренебрегая каким бы то ни было источником
силы, каким бы то ни было путем к успеху.
Этот факт дискредитирует и делает
несостоятельными все попытки расщепить человеческую природу на
независимые способности, не действующие совместно в
интересах целого организма. Он кладет конец разделениям и
противопоставлениям устарелой психологии
способностей, разлагающей человеческую природу на
антагонистические части с разными функциями, разными сферами
-207-
действия и разными целями. Он избавляет от поиска
«элементарных» процессов в сознании, ибо смысл его в том,
что простейшим элементом психической жизни всегда
будет реакция на стимул. Он отменяет также любой дуализм,
расчленяющий человеческую жизнь на сферу теории и
сферу практики и непреодолимой пропастью отделяющий
мысль от деятельности и действия.
Протестуя против всех этих искусственных делений
и психологических фикций, гуманистическая этика
отстаивает целостность человеческой природы и
необходимость изучения и понимания человеческого поведения как
целого. Она признает существование всех традиционных
понятий этической теории — инстинктов, побуждений,
желаний, волений, мыслей, знаний и так далее — но
только имея в виду реально использовать их для объяснения
того, что фактически делают люди. Надо ясно понимать,
что значение и истинность всех этих разграничений —
функциональны. И гуманистическая этика усердно и с
удовольствием будет прослеживать, как именно эти
сущности участвуют в действиях человека и определяют его
поведение.
Поэтому сразу можно отвергнуть как миф
концепции чистой мысли, чистого разума, чистого интеллекта.
Они — фиктивные сущности, поскольку резонно считать,
что наш интеллект, как и остальное наше оснащение,
создан для действия и должен быть средством для выработки
полезных реакций на стимулы и для благотворного
приспособления к среде. Другими словами, это должен быть
практический ум — бдительный, приспосабливающийся, в
любых обстоятельствах готовый вмешаться и направить
или определить ход событий, обретающий себя не в
абстракциях, которые он может мыслить, а в умных действиях,
которые позволяет совершать. Именно таким умом мы, по-
видимому, и обладаем; а «чистый» интеллект — это
невозможный вздор.
Подобным образом то, что мы называем
«познанием», должно нести на себе отпечаток всей природы чело-
-208-
века. Познание надо понимать не как независимую
функцию, не имеющую решающего отношения к жизни или
безмятежно парящую в сверхчувственном эфире, но как
прелюдию к действию и инструмент для руководства им
и улучшения его. «Чистую» науку поэтому следует
объявить термином неправильным. То, что называется этим
именем, надо понимать как позднейшее и крайне
специализированное побуждение к познанию, оторвавшееся от
непосредственной нужды в действии и игнорирующее
связь, которая вызвала его к жизни.
На самом деле, чтобы уменьшить сомнения в
рациональном характере реальности, полезнее всего
проследить связи чистых наук с породившими их
практическими нуждами. Притом сделать это, чаще всего, очень
просто. Чистая математика, например, никогда не сможет
отрицать свою зависимость от прикладной математики,
пока не забудется первоначальный смысл и назначение
«геометрии» — обмер земель. И попытка вывести тягу к
науке из любопытства окажется бессмысленной, как
только мы спросим себя, возможно ли, чтобы инстинкт
любопытства никак не способствовал выживанию животных, у
которых он развит. Правда, у пингвинов, белок, обезьян и
других подобных зверьков он развился как будто немного
чересчур; однако я сомневаюсь, что люди науки
предпочтут провести свою духовную родословную от них, а не от
сурово живших предков, которые нашли, что жизнь
полна практических проблем, и для решения их придумали
теории. Так что переход от чисто практической мысли к
теоретической, — называемой так потому, что связь ее с
практикой кажется более отдаленной, — обнаружить и
понять нетрудно.
Можно дать и правдоподобное описание перехода
от действия к мысли. Так, биологическое приспособление
требует, прежде всего, быстрой реакции, действия
немедленного, насколько это возможно. Только так можно
избежать неожиданной опасности и живо воспользоваться
удобным случаем. Поэтому у живых существ развились
-209-
способность к быстрому действию и импульсы,
побуждающие действовать без колебаний.
Но эта организация недостаточна. Как только
условия жизни становятся более сложными, нередко
возникают ситуации, когда надо отличить данный случай от
предыдущих, похожих на него. Неосмотрительное
отождествление данного случая с прошлыми может привести к
опасным и даже гибельным последствиям. Тут надо
остановиться и подумать — при условии, конечно, что
задержанная реакция окажется полезнее, чем импульсивное
действие. Так возникают и преуспевают мыслители по случаю.
Мы все стали мыслителями по случаю, хотя у некоторых
из нас подобные случаи редки. Зато частота таких случаев,
ценность мышления и его вклада в жизненный успех до
крайности преувеличиваются философами, склонными,
естественно, переоценивать свою важность. На самом деле,
большую часть времени мы можем вполне благополучно
жить, не особенно задумываясь, тогда как существу,
всецело посвятившему себя самосозерцанию, наподобие
аристотелевского Бога, процветание на этой земле не грозит.
Подробнее, мышление, по-видимому, происходит
таким образом. Сначала, как уже говорилось, —
«остановиться подумать»; это что-то вроде остановки на красный
свет. Это вовсе не интеллектуальный процесс, а
торможение импульса к действию, обуздание естественной,
врожденной склонности. Затем мыслитель использует
отсрочку для того, чтобы оценить наличную ситуацию в свете
прошлого опыта. Он анализирует ее, уясняет, в каких
отношениях она сходна с прошлыми подобными
ситуациями, которые он помнит, а в каких — отличается от них.
Скорее всего, он заметил некоторые отличия сразу; они-
то и подавили его желание отреагировать немедленно.
В качестве типичной ситуации, побуждающей
думать, возьмем случай, когда дикое животное обнюхивает
ловушку или рыба тычется в крючок с наживкой. Вообще,
рыба устроена так, чтобы хватать любого попавшегося
червяка; поэтому она импульсивно заглатывает крючок;
-210-
если бы она могла остановиться и подумать, она,
возможно, отметила бы, что от червяка тянется леска. Это могло
бы вызвать подозрения и заставить ее отказаться от
приманки. Но, как правило, рыбы не останавливаются
подумать; а если и останавливаются, то не могут долго
противиться соблазну в виде извивающегося червя, и челюсти
их непроизвольно срабатывают — благодаря чему
рыболов сводит концы с концами.
Существо, способное мыслить, поведет себя иначе.
По зрелом, но не слишком долгом, размышлении оно
станет действовать, но действовать в результате
размышления удачнее. И в итоге сохранит себе жизнь, тогда как
поспешное действие погубило бы его.
Заметим, что в этом анализе принципиальный
момент — полезное изменение импульсивных и привычных
действий; именно оно оправдывает рефлексию и
вызванную ею потерю времени. В противном случае остановка
для размышления не была бы необходима, а запаздывание
причиняло бы вред. Таким образом, здраво мыслить — не
значит думать постоянно, а думать в тех случаях, когда
задержка перед действием благотворна.
Отметим принципиально важную сторону в этом
объяснении генезиса мысли. Осмысленным
представляется здесь такое действие, которое позволяет точнее
приспособиться к конкретной ситуации в данное время,
нежели импульсивное действие, шаблонное, совершаемое
по привычке. Отсюда видно, насколько ошибочно
представление, согласно которому рациональная мысль
занята правилами и «универсалиями». На самом деле она
востребована и порождена необходимостью справиться с
конкретной и специфической ситуацией, особенно такой,
которая не укладывается в сложившиеся правила. Здесь
Аристотель — гораздо более надежный проводник, чем
Платон. Аристотель понимал, что действие связано с
конкретным случаем, и что он всегда может оказаться
исключительным. Платон же — отец философского
заблуждения, суть которого в том, что наука не интересуется част-
-211-
ными случаями. На самом деле наука интересуется не чем
иным, как предсказанием на основе частных случаев; а
общее правило — лишь инструмент, облегчающий
адаптацию в частном случае. Только так можно понять и
оправдать его использование и его ограничения.
И относится это не только к логике: это
справедливо и в этике. Правильное действие — всегда действие в
конкретном случае; правильный поступок — это
правильная реакция в конкретных обстоятельствах.
Все психическое оснащение человека надо
рассматривать применительно к образу его жизни. Его ум,
инстинкты, побуждения и желания позволяют ему успешно
вести ту жизнь, какую, по его мнению, стоит вести. А
жизнь эта — давно уже общественная, и природа человека
стала общественной, хотя еще не настолько, чтобы
исчезли все противоречия между его общественными и
до-общественными («эгоистическими») побуждениями. Тем не
менее, в норме он ориентируется в своих поступках не
только на себя, но и на других. В норме его интересы и
любовь распространяются на его семью, друзей, племя и
страну, и зачастую его можно склонить к тому, чтобы он
пожертвовал ради них «эгоистическими» интересами.
Однако эта двойственность человеческой жизни —
ее личная и общественная сторона, создает ряд проблем и
требует постоянных регулировок самого разного рода. В
общем, человек должен научиться действовать, исходя не
только из собственного благополучия, но также из
благополучия других людей и множества общественных
организаций, с которыми он связан, которые влияют на него и
в которых он заинтересован.
Эти разнообразные отношения чрезвычайно
усложняют жизнь и порождают множество трудных ситуаций в
человеческих обществах. Чтобы выйти из
затруднительных ситуаций достойно, нужны ум и добрая воля, верное
чувство и достаточно сильная мотивация, побуждающая к
правильным действиям. Следовательно, возникает
проблема балансировки названных факторов, и на эту про-
-212-
блему разные люди могут смотреть, смотрят и будут
смотреть по-разному
Будут, конечно, среди этих воззрений и крайние. Те,
кто склонен к интеллектуализму, будут настаивать, что
разум и только разум позволяет разрешить все проблемы
поведения. Другие, подобно Канту, скажут, что
бесполезно все, кроме доброй воли, и что доброй воли достаточно.
Откуда, по-видимому, следует, что наибольшего
уважения заслуживает благонамеренный дурак, сколь бы ни
были пагубны последствия его деятельности.
Однако ясно, что нет никаких причин к тому, чтобы
человек не развивал в себе всех этих желательных качеств
и не учился гармонически их сочетать. На это и должно
быть направлено нравственное воспитание. И всякое
общество более или менее настойчиво и обдуманно
пытается привить человеку качества, которые считает для себя
необходимыми и желательными. Каждое общество более
или менее четко формулирует их и старается навязать с
помощью моральных установлений, которые должны
руководить его членами и регулировать — а в случае нужды
и останавливать — их действия.
Так возникают моральные кодексы — начиная от
обычаев, табу и обрядов инициации у дикарей и до
«золотого правила»*, десяти заповедей, законов двенадцати
таблиц и сложного бесконечного законотворчества в
современном государстве. Соблюдение этих кодексов
обеспечивается всеми доступными санкциями, в частности,
религиозными. Религиозные санкции в особенности
поддерживают те части общественного кодекса, которые
труднее всего провести в жизнь, и где не действуют
другие мотивы. В числе других сильных санкций —
политические, иначе говоря, полицейские; одобрение и
неодобрение общества, иначе говоря, общественное мнение; бла-
* Так в английской литературе называют этическое правило,
сформулированное в Нагорной проповеди: «Как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними». ( Мф. 7,12; Лк. 6, 31).
-213-
горазумные мотивы просвещенного эгоизма,
руководящие только умными и дальновидными; соображения
здоровья и хорошего вкуса; кастовые идеалы типа рыцарства
и noblesse oblige*, естественная здоровая тяга к
удовольствиям и, наконец, но не в последнюю очередь,
нравственная способность — совесть. Последнюю, впрочем, надо
воспитывать и прививать интеллектуально — как это
делается в любой социальной среде.
При всем этом разнообразии моральных мотивов, в
подчинении индивидуальных действий социальным
требованиям по-прежнему главную роль играют обычаи и
примитивная привычка. Поэтому слишком быстрое
нарушение социальных привычек и ослабление авторитета
древних обычаев представляют собою опасность для морали.
Однако выясняется, что все правила и все кодексы
сталкиваются с затруднениями, по-видимому,
фатальными для их целей. Рано или поздно возникают случаи, к
которым утвержденные правила неприменимы. Если вы
настаиваете на их педантично строгом выполнении, то они
действуют плохо, а результаты возмущают ваше
нравственное чувство. Мало того, сложные случаи трудны
интеллектуально, а не только морально: трудно понять,
почему они опрокидывают ваши правила. Наконец,
становится ясно, что это заложено в природе правил —
порождать трудные случаи, причем не только в этике.
Таким образом, проблема разбирательства трудных случаев,
известная как «казуистика», накрывает своей тенью всю
этическую практику и теорию.
Средство от этого, на первый взгляд, очевидно.
Если правила недостаточны, значит нужно больше правил,
более точных и детальных. Если заповедь «не убий»
кажется слишком общей и, более того, непрактичной, то
можно сформулировать условия, при которых убийство
не считается умышленным. Так система казуистики
стала непременным приложением всякого морального ко-
* Благородство обязывает (фр.).
-214-
декса. Самая изощренная и научная была разработана
римско-католическими казуистами — в первую очередь,
иезуитами.
Но, к сожалению, метод казуистики не решает
проблемы правильного разбирательства. Какими бы
детальными правилами ни пополняли вы свой кодекс, все
предвидеть невозможно. Рано или поздно вы столкнетесь со
случаями, которые вам не удастся объяснить. Нет
гарантии, что бесчисленные особенности какого-то случая в
итоге уместятся в ваше правило.
Между тем, что вы пытались сделать? Вы
пытались предсказать заранее обстоятельства всех случаев,
которые могут произойти. Вы попытались выстроить
систему этики a priori. Но для этого вы должны были
абстрактно рассмотреть все варианты человеческого
поведения. То есть вы должны были предвидеть все возможные
проявления безнравственности, какие приходят вам в
голову, и рассмотреть их с тем, чтобы решить, согласно
каким из ваших главных правил они подлежат
осуждению, и точно определить размеры вины. Ясно, что
размышления такого сорта будут крайне
деморализующими и, выписанные черным по белому, явят собой
шокирующее чтение, особенно для чистой души, которая
вообразить не могла и сотой части аморальных
возможностей, столь любовно рассматриваемых казуистом.
Справочники по казуистике, руководства для
отцов-исповедников семнадцатого века — вероятно, самая
грязная литература на свете.
Поэтому здоровое нравственное чувство восстает
против научной казуистики. Так восстал, и очень
действенно, в «Письмах к провинциалу» Паскаль и смел
иезуитскую казуистику напором морального негодования.
Расправится ли кто-нибудь так же с грязью,
распространяемой ныне под видом «психоанализа»?
Со времен паскалевской атаки у
римско-католической казуистики дурное имя. Она смердела в ноздрях
протестантской публики. Но интеллектуально она не поверг-
-215-
нута. Проблема казуистики не была решена.
Протестантские моралисты отказались от стряпания казуистических
систем, но при этом пренебрегли обязанностью
морального руководства действиями. Вместо того чтобы решать
вопросы совести, они довольствовались туманными и
вялыми разговорами о «нравственных идеалах». А чтобы эти
моральные идеалы, упаси Бог, не были применены
ошибочно или не разбились о рифы трудного дела, их
сформулировали так возвышенно и абстрактно, что они стали
вообще неприменимыми. С тех пор теоретическая этика
сделалась бессмысленной и практически бесполезной.
Типичный пример этой трусливой политики —
«категорический императив» Канта. В том виде, как он
сформулирован, его нельзя применить ни к одному случаю
человеческого действия. Он настолько очищен и стерилен,
что совершенно лишен содержания. Он вопиет: «делай,
что должно», но что должно — даже не намекает. Если
несмотря даже на этот отталкивающий формализм, вы
попробуете им руководствоваться, то вскоре окажется, что
им можно оправдать какое угодно поведение. Так,
единственный резон, какой он может выставить против
убийства, состоит в том, что убийство не может быть
«всеобщим». Но что это значит? Значит ли это, что все не могут
покуситься на убийство, или что всем не удастся его
осуществить? Категорический императив не говорит.
Однако первое истолкование не представляется невозможным.
Убийство как «всеобщий закон» могло бы прийтись по
душе семейству Борджиа или чикагским гангстерам. В
результате можно вообразить общество потенциальных
убийц, настолько умело и эффективно защищающих
свою жизнь, что никаких убийств вообще не происходит.
С другой стороны, какой-нибудь путаник мог бы
оправдать убийство, сославшись на принцип Канта. Вслед за
автором «Страшных стишков» он сказал бы: «Согласно
Канту, действовать надо так, как если бы ты хотел, чтобы
все действовали так же. Как раз мой случай. Я убил жену
просто потому, что должен был прекратить ее храп. Вся-
-216-
кий, кто услышал бы ее, поступил бы так же. Значит, я
поступил правильно»*.
Мораль этого reductio adabsurdum** идеи
морального кодекса такова, что надо отказаться от попыток
регулировать действия моральным кодексом. Надо поискать
другую концепцию отношения принципов к частным
случаям. Такую концепцию можно найти: ее давным-давно
предложил Аристотель, и она прекрасно согласуется с
логикой гуманизма.
Нравственное действие, говорит нам Аристотель,
всегда связано с частным случаем. Также — всякое
действие и всякая мысль; ибо каждая мысль — действие. Далее,
случай, о котором мы думаем, — непременно трудный
случай, достаточно трудный, чтобы задержать импульсивное
действие, — иначе мы бы не остановились подумать.
Моральное размышление над поступком, размышление о том,
как нам надлежит поступить, протекает, следовательно, в
том же русле, что и всякое другое мышление. Здесь мы
тоже рассматриваем ситуацию в свете своего нравственного
опыта, в соответствии со своими нравственными
привычками, и оцениваем в меру своих способностей, согласно
своим убеждениям. Затем мы действуем. Если привычки у
нас хорошие, если мы достаточно знакомы с подобными
ситуациями и у нас достает ума, мы решим правильно; мы
сделаем то, что следует, и получим одобрение правильно
мыслящих людей, которые понимают нашу ситуацию.
При этом наш поступок скажется на наших нравственных
привычках. Правильное решение подкрепит правильные
привычки, углубит понимание моральных принципов.
Эти последние суть зрелые плоды правильного поведения,
а не его предпосылки. Они вырастают из нравственного
опыта и воплощают в себе его уроки. Так же, как научные
законы — это формулы, выведенные из событий, чтобы
* Речь идет об абсурдных «Страшных стишках для свирепых семеек»
Гарри Грэма.
** Доведение до абсурда (лат.).
-217-
предсказывать события; законы морали — это формулы,
извлеченные из правильных действий, дабы
способствовать нравственным действиям в дальнейшем. Таким
образом, принцип, сформулированный заранее, до его
применения к реальному делу, — всего лишь пробный принцип.
Нет уверенности a priori, что он подойдет для следующего
случая, если мы его применим. Он всегда способен расти,
и нельзя допускать его окостенения. Мы должны
постоянно помнить, что обстоятельства меняют ситуацию, а из
ситуаций рождаются и развиваются принципы.
Во всех этих аспектах нравственное знание
полностью соответствует научному знанию и подкрепляется
аналогией с ним. В научном знании принципы тоже
возникают из опыта, к ним подводит нас наблюдение за
событиями, а затем они подтверждаются своей
действенностью. Они нужны для предсказания событий и
управления событиями и, если они не справляются, то будут
отброшены. Кроме того, всякое применение принципа в
свою очередь воздействует на принцип: оно может
развить его или видоизменить. Так гуманизм открывает
дорогу нескончаемому прогрессу и науки, и морали.
И, наконец, надо обратить внимание на любопытную
и поучительную параллель между этикой и
юриспруденцией — она наилучшим образом подтверждает
изложенную доктрину. Имеется не просто аналогия, а логическое
тождество между выбором поведения и юридическим
делом. Моральный выбор и судебное дело — оба требуют
решения, и в последнем случае никто не может
удовлетвориться принципом, не позволяющим вынести решение по
делу. В этом большое преимущество права перед этикой:
оно вынуждено избавляться от неприменимых
принципов. Но и для него кодексы представляют собой проблему.
Превалирующим типом права было кодированное право.
Предполагается, что кодекс содержит все нормы,
потребные для решения всех дел: следовательно, судья должен
только решить, какую норму права применить в данном
случае. Но на самом деле это не всегда возможно. С тех
-218-
пор, как был принят кодекс, возникли новые условия,
которых законодатели не предвидели, и поэтому могут
возникнуть дела, с которыми кодекс не позволяет
надлежащим образом разобраться. То есть каждый кодекс рано или
поздно устаревает. Отсюда необходимость постоянно
прибегать к дополнительному законодательству — иначе, к
«юридическим фикциям», посредством которых случаи,
никогда не приходившие в голову законодателям,
подводятся находчивыми юристами под его нормы.
Но есть совершенно иной способ преодоления этих
трудностей. Вместо того чтобы вводить кодекс, мы можем
принять систему «прецедентного права», известную нам
по «общему праву» Англии и Америки. В этой системе
принципы права не формулируются до дела и вообще не
излагаются явным и всеобъемлющим образом. Система
основывается на единственном допущении: что в
прошлом выносились справедливые решения и из них можно
извлечь принципы, которые применимы к аналогичным
делам в будущем и позволят решить их правильно.
Поэтому ведение дела принимает вид ссылок на прецеденты и
обращения к прошлым решениям суда с целью добиться
желательного решения по текущему делу. Адвокат истца
будет доказывать, что здесь применимо решение по делу
«Смит против Робинсона», а адвокат ответчика будет
ссылаться на дело «Браун против Джонса». Судья может
отвергнуть оба прецедента и вынести решение,
основываясь на деле «Уайт против Блэка».
У такой процедуры есть очевидное преимущество.
Она рождает очень пластичное право, способное
развиваться и приспосабливаться к новым условиям без
дополнительного законодательства. Прецедентное право творят
судьи, решения специалистов, и оно в большинстве
случаев будет лучше законов, введенных утомленными
спешкой, действующими порой наобум, а зачастую и
коррумпированными политиками. Кроме того, хотя
непогрешимых судов нет, при этой системе они могут исправить
свои ошибки — например, если их заставит высшая апел-
-219-
ляционная инстанция, такая, как палата лордов в Англии
или Верховный суд Соединенных Штатов.
Предположим, Верховный суд вынес решение; юридически
окончательное, оно, однако, не устроило лучших
специалистов — либо сразу, либо ввиду его последствий.
Переменить его, конечно, нельзя, так же, как любое ошибочное
решение на основе устарелого кодекса; но прецедент
может быть стерилизован (изолирован), и право
видоизменено. Надо просто дождаться следующего дела, на
которое, по-видимому, распространяется тот же принцип.
Тогда, если суд (состав которого мог уже измениться)
желает изменить свое прежнее суждение, он всегда сможет
найти достаточно различий между первым делом и
вторым, чтобы, исходя из них, принять иное решение. И
возникнет прецедент, на который сможет ссылаться любая
сторона; менее вредное решение будет считаться в
правовом смысле лучшим, а ошибочное решение в дальнейшем
будут игнорировать.
Таким образом, можно доказать, что решение
моральных проблем с учетом различий согласуется с
гуманистической позицией в философии и, несомненно, сулит
значительный прогресс. В настоящей же статье
ограничимся демонстрацией того, как можно подойти к
проблеме правильного действия конкретно и спасти ее от
глупого ригоризма и пустого формализма.
Пророчество и судьба*
Сегодня почти всеми признано, что настоящая цель
науки и настоящая проверка научной истины —
предсказание будущего и, как следствие, управление ходом
событий. Таким образом, пророчество становится законной
человеческой задачей, а возможность его — законным
предметом изучения. Однако и практически, и теоретически
задача эта стала гораздо более трудной, чем прежде. Ушли
те наивные дни, когда хитрые политики посылали
важную делегацию к какому-нибудь почитаемому святилищу,
дабы она привезла оттуда ценный совет, с помощью коего
можно обуздать безрассудство масс и, руководствуясь
ответом оракула, привести государственный корабль в
безопасную гавань.
По ряду причин можно только сожалеть о том, что
нынешние правители лишены такого инструмента, как
консультация у оракула. Но это не значит, что
человечество теперь меньше нуждается в предсказании или что
современные общества должны отчаяться в искусстве
пророчества. Дело, скорее, обстоит так, что в искусстве
пророчества следует видеть несколько разновидностей, и
упадок оракулов лишь побуждает нас довериться одному
* Под заглавием «Prophecy, Destiny and Population» опубликовано:
HibbettJournal XXXV (July, 1937), pp. 510-520.
-221-
или нескольким альтернативным методам, как-то:
фаталистическому или рациональному. У этих способов
предсказания много общего. Все они имеют практическое
назначение, и цель их — вывести людей из затруднительной
ситуации. Но за успех предсказания в любом случае надо
платить. Так, оракул требует от нас веры, которая не
рассуждает. Фаталистический метод требует признать такое
строение реальности, какое в ином случае претило бы
нам, поскольку невыносимо ограничивает свободу
действий или даже полностью нас ее лишает. Рациональный же
метод никогда не даст нам полной уверенности, которой
жаждут наши инстинкты. Однако все три заслуживают
того, чтобы их рассмотреть подробнее.
Проблема оракульского предсказания подобна
парадоксам Зенона о движении и свидетельству Эпименида о
поголовной лживости критян: в сущности, это было
открытие острого эллинского интеллекта; но в отличие от
знаменитых головоломок, две тысячи лет озадачивавших
философов, оно связано с реальной трудностью и может
послужить реальным уроком. А упомянутые головоломки
пользовались большим вниманием, чем того заслуживали.
В конце концов, они легко решаются, если употребить
немного здравого смысла. Зеноновы доказательства
невозможности движения можно пресечь, просто напомнив, что
они противоречивы до крайности и исходно предполагают
допустимость пустословия1; а от задачи Эпименида мало
что осталось бы, если бы позволено было спросить, что он
подразумевает под «лжецом», и не представляется ли ему
«лжец» неким патологическим антиподом Джорджа
Вашингтона, врущим в каждой фразе. Оракульское же
предсказание, как станет видно чуть позже, ставит проблему
реальную, независимо от того, должно оно изменить ход
событий или нет, и греческая мифология с едким
остроумием продемонстрировала это в истории с Кассандрой.
История такова. В героическую эпоху, когда всякую
девушку из хорошей семьи можно было заподозрить в
интимных сношениях с богом, случилось так, что Аполлон,
-222-
самый неблагородный член олимпийского пантеона и в
джентльменском поведении не замеченный,
заинтересовался дочерью троянского царя Приама Кассандрой.
Кассандра, девушка умная, знала о похождениях Аполлона, и
ей было известно, как он обошелся с бедной Дафной,
когда она ему надоела, и с несчастным Марсием, когда тот
стал оспаривать его музыкальное превосходство. Она не
хотела, чтобы ее превратили в куст или освежевали
живьем. Знала она и то, что Аполлон был состоятельным
владельцем сети процветающих оракулов. Поэтому она
решила, что обеспечит себе будущее, приобретя высоко
ценимое в Трое искусство прорицателя, и — qui pro quo* —
потребовала, чтобы ее наделили даром предсказания.
Однако когда влюбленный бог наградил ее желаемым, она
передумала и отказалась выполнить свою часть договора.
Разъяренный бог, поклявшись Стиксом, уже не мог
отобрать свой дар, но добавил еще один параграф — что все
предсказания Кассандры будут исполняться, но верить им
никто не будет. Здесь, к сожалению, история
заканчивается. Мы не знаем, поквиталась ли потом Кассандра с
Аполлоном, предсказав ему неприятность — например, что сам
он будет смещен, лишен имущества и даже превращен в
бабочку по имени Parnassius Apollo. Не сообщают нам и о
том, предполагал ли он исключения, говоря что «все»
прорицания Кассандры сбудутся и что «никто» им не будет
верить; но как хорошие формальные логики, мы должны
предположить, что ни Аполлон, ни сама Кассандра не
были защищены от разрушительного действия ее дара.
Если так, возникают безусловно интересные
философские следствия. Выясним, каково реальное положение
Кассандры в результате ее односторонней сделки с
Аполлоном. Какую власть она приобрела? По-видимому,
гораздо большую, чем обычно полагают. Она знает, что все
ее предсказания, даже кажущиеся ей самыми
невероятными в момент предсказания, сбудутся. Поэтому ей не нуж-
* Услуга за услугу (фр.).
-223-
но ограничивать себя, она может предсказывать все, что
хочет. Она знает также, что больше никто ее
предсказаниям не поверит, и все будут действовать так, как если бы
она была лжепророчицей. Когда события подтвердят ее
предвидение, она сможет заявить: «Ведь я вам говорила».
Но сама она будет в трудном положении. Она будет
знать, что случится на самом деле, хотя ее чувства будут
это отрицать. Поэтому, чтобы приспособиться к ходу
событий, она вынуждена будет вести себя так, как если бы
то, что она ощущает как ложное прорицание, было
правдивым, а то, что ей кажется правдивым, было ложным:
таким образом, она должна подавлять свои чувства как
неверное руководство в жизни. Если она сумеет отбросить
свои чувства, события подтвердят ее предсказание, и ее
действия будут чрезвычайно успешны. Она сможет
диктовать ход истории. Она сможет предсказать победу Трои
и обеспечить ее, несмотря на все стратегические хитрости
греков и усилия троянских коней и троянских ослов.
Прогнозы урожаев и биржевых пертурбаций скоро превратят
ее в богатейшую мультимиллионершу Азии. С
практической и прагматической точки зрения она добьется
невероятного успеха.
Но теоретически она оказывается в сложном
положении. Ибо действовать она будет вопреки убеждениям,
выраженным публично. И через некоторое время ей будет
трудно убедить людей в своей честности.
Они скажут: «Ты предсказала богатый урожай
оливок в нынешнем сезоне; мы сочли это вздором, но вышло
по-твоему Ты говоришь, что согласилась с нами, а сама
продала его заранее и хорошо на этом нажилась. Разве
твои действия не лучший показатель твоих истинных
убеждений, чем твои прорицания? Практически ты
действовала так, как будто твои предсказания сбудутся, и они
сбылись. Следовательно, на самом деле ты в них верила.
Мы с сожалением заявляем, что ты настоящая
прорицательница и нынче использовала нас; в следующий раз мы
крепко подумаем, прежде чем не поверить твоим словам».
-224-
Далее, как подействует на саму Кассандру
постоянный и удивительный успех ее предсказаний? Сможет ли
она по-прежнему не верить им? Просто действовать в
соответствии с предсказаниями — не станет ли
недостаточно, и не перерастет ли это в сознание их истинности? Во
всяком случае ясно, что Кассандра становится ярким
примером в большой прагматической дискуссии о
соотношении между действием и верованием. Вот почему я
обсуждал ее ситуацию в главе XV книги «Должны ли философы
не соглашаться между собой?».
Затем, в связи с ее случаем возникает важный
метафизический вопрос. Предвидение будущего события
влияет ли на само событие? Мы можем считать, что наше
предвидение: (1) позволит предотвратить событие
вообще, или (2) способно изменить событие каким-либо
образом, или (3) не окажет совсем никакого влияния и
событие произойдет независимо от него. Строго логически,
первые два варианта можно объединить, поскольку
предвидение влияет на событие, но так как в обычной жизни
мы больше интересуемся характером этого влияния и тем,
как изменить событие в лучшую сторону, а не совсем его
отменить, эти два варианта лучше разделять. Третий
случай важен потому, что он знаменует переход от
оракульской формы предсказания к фаталистической.
Фаталистическое предсказание возникает, когда
религия сдает свои позиции науке и наивная вера в оракулы
уступает некритической вере в научный детерминизм. Его
основной принцип: что будет, то будет и не может не быть,
и никакие наши мысли и действия не изменят и не
отвратят предопределенного хода вещей. В итоге, всякое
событие вычисляемо в точности и неизбежно, и, обладай мы
достаточным знанием, нам пришлось бы в этом убедиться.
Историческое происхождение этой теории науке не
известно, но можно предположить, что в древнем
Вавилоне, когда стали поклоняться звездам, какой-нибудь
толковый и честолюбивый жрец — отчасти математик, отчасти
мошенник — понял, какие преимущества получит он и его
-225-
сословие, если внушить людям, что все, происходящее с
ними, можно строго вывести из наблюдений за
движением небесных светил. Так он положил начало псевдонауке
астрологии, догме детерминизма и тому, что я назвал
фаталистическим подходом к предсказанию. И та, и другая,
и третий нацелены на то, чтобы удовлетворить
человеческую тягу к предсказанию; все три зиждутся на
предположении, что совершенно точное предсказание возможно, и
готовы принести ему в жертву всякую человеческую
попытку и желание изменить или отвратить
предопределенный ход событий, или разорвать цепь причин и следствий.
Тем не менее, нетрудно показать, что догматический
детерминизм есть (1) ложный вывод из данных, на
которые он опирается; (2) ошибочное толкование научного
метода; (3) неприемлемое описание причинности.
( 1 ) Полная детерминированность с вытекающей из
нее возможностью точного предсказания не является
наблюдаемым фактом ни одной науки. Часто говорится, что
она доказана; но всякое научное наблюдение ограничено
погрешностью инструментов наблюдения. В
общественных науках невозможность точного предсказания всегда
была очевидна; у физиков же растущая точность их
предсказаний вызывала большой оптимизм. Однако
сравнительно недавно и они вынуждены были склониться перед
фактами, поставившими предел точности их наблюдений.
Выяснилось, что нет никакого способа одновременно
определить положение и скорость электрона с точностью.
Причина в том, что для наблюдения за малыми частицами
их надо осветить, а освещая, мы подвергаем их световому
давлению, и оно их отбрасывает. Следовательно, рушится
наше принципиальное предположение, что акт
наблюдения не воздействует на наблюдаемый объект. Это и есть
«принцип Гейзенберга»; он вводит в научное наблюдение
элемент случайности и показывает, что «точное»
наблюдение — химера.
(2) Полная определенность — это необоснованное
допущение. Ибо предполагать, что такой детерминизм есть
-226-
необходимое условие научного исследования, значит
неверно толковать метод науки. Нет необходимости видеть в
детерминизме безусловный природный факт; вполне
достаточно рассматривать его как один из принципов
научного метода. Если мы хотим сделать предсказание, мы
должны предположить, что ход вещей в природе таков,
что позволяет делать прогнозы. Но, чтобы быть
полезными, прогнозы не обязательно должны быть точными, и
точность выше той, которая нам достаточна, будет просто
лишней тратой времени и усилий. Притом даже если
природные процессы не вполне детерминированы, они могут
быть достаточно регулярными для того, чтобы
рассматривать их как детерминированные. Поэтому, пока в природе
мы можем обнаружить регулярности, можно говорить и о
«законах» природы. Но эти «законы» нельзя считать
абсолютными; они послужат нам ничуть не хуже, если считать
их статистическими средними и устойчивыми регулярнос-
тями. Мы не можем доказать, что они являются чем-то
большим, и вкладывать в них больше метафизики,
нежели требуется для научных расчетов, — дурной метод. Таким
образом, догматический детерминизм не является
постулатом научного исследования; детерминизм — всего лишь
методологическое допущение и, в конечном счете, фикция.
(3) Третий побег из того же корня —
фаталистического предсказания — это причинный закон или необходимая
связь между причиной и следствием, которой
подчиняются события вплоть до мельчайших своих деталей.
Причинность — излюбленная тема философских дискуссий, столь
же бесплодных, сколь и нескончаемых. Однако главный
аргумент против этого вида предсказаний таков, что оно
содержит явное противоречие. Изначально целью
фаталистического предсказания было выявить ход событий,
связанных между собой имманентной необходимостью и не
доступных никакому вмешательству со стороны человека.
Но концепция причинной связи не отвечает этому
требованию. Юм еще давно показал, что причинная связь — лишь
вносимое человеком дополнение к наблюдаемым событи-
-227-
ям, и это должно было бы убедить философов, что
необходимость всегда и везде есть знак субъективности. Но
большинство философов так и не смогли усвоить Юма. К
сожалению, и сам Юм не отметил, что его аргумент
распространяется на все случаи необходимости, а не только на
причинную связь. Не увидел он и того, что причинное
объяснение по сути своей анализ, а не синтез, расчленение
сплошного хаотического потока существования на
«события», «действия» и «причины», выбранные из него
человеческим произволом, игрой целей и интересов. Так что, в
конечном счете, причинные цепи, которыми опутал себя
человеческий ум, придуманы и выкованы им самим.
Поэтому весь фаталистический анализ природного
хода вещей — ошибка и неудача. Он принимает за
безусловный факт то, что является лишь методологическими
допущениями, прагматическими и внутренне
противоречивыми фикциями с ограниченной применимостью, и,
если мы хотим найти основу для рационального
предсказания, надо распознавать их и отбрасывать.
Но прежде чем обсуждать рациональное
предсказание, стоит вспомнить подвиги некоторых лжепророков,
прибегавших к фаталистическому методу предсказания.
Освальд Шпенглер* сформулировал претенциозный
закон, которому якобы подчиняется возвышение и упадок
цивилизаций на протяжении цикла, длящегося около
шестисот лет. Но закон этот — псевдонаучный. Очень
неосмотрительно выводить всеобщий закон, бегло обозрев
восемь или девять случаев общественной истории, не
заметив таких исключений, как Китай и Япония, игнорируя
многие альтернативные объяснения фактов, на которых
Шпенглер предпочел основывать свою интерпретацию.
Истинный ученый-историк должен хотя бы попытаться
объяснить ход исторического развития психологией
людей и условиями их существования. Неразумно со
стороны пророка и не задумываться о воздействии его проро-
* Освальд Шпенглер. Причинность и судьба. Закат Европы. П., 1923.
-225-
честв на умы и действия людей, к которым он обращается.
Предположив без лишних рассуждений, что история
подчинена «судьбе», и ничего с этим нельзя поделать, вы не
только становитесь фаталистом, но и объявляете все
людские усилия, включая попытки предвидеть будущее,
напрасными. Ибо что толку в предвидении, если оно не
позволит отвратить неизбежное?
Аналогичные доводы можно привести против
любой попытки фаталистического предсказания. Всякий раз
оно исходит из того, что будущее предопределено и
человеческий ум бессилен изменить его или улучшить.
Именно в такое положение, по мысли Аполлона, была
поставлена Кассандра. Но при этом предполагается, что знание
никак не сказывается на действии, и что мыслящее
существо должно быть тупо беспомощным, как палка или
камень. Мы видели, однако, что научный метод не требует
такой интерпретации. Детерминизм может быть
методологическим допущением, а не научным фактом, и его не
надо воспринимать так, чтобы он парализовал желание
человека управлять будущим.
Этот вывод возвращает нас к «рациональному
предсказанию», которое мы должны считать подлинной целью
научного труда. Рациональное предсказание следует
воспринимать как конечный результат размышления о
возможных последствиях существующих условий и
тенденций. Оно не претендует на точность и непогрешимость;
мы и не ожидаем, что оно исполнится буквально. Нет, оно
оценивает вероятности, которые стоит принять во
внимание, чтобы приспособить к ним свои действия.
Следовательно, оно дает предупреждения, которым должен внять
разумный человек, а не возвещает судьбы и
предначертания рока. Поэтому оно предоставляет уму простор, чтобы
он изыскал средства избежать предвидимых опасностей.
Оно отличается от фаталистического предсказания
тем, что рациональные предсказания вероятностны.
Такие предсказания суть выводы из предпосылок, и они
учитывают реакцию ума на неблагоприятный прогноз.
-229-
Коль скоро предсказания — это выводы, их можно
изменить, изменив предпосылки; следовательно,
предсказания наши в действительности более или менее
гипотетичны. Они исполнятся, если что-нибудь этому не
воспрепятствует; однако не исключено, что и у нас будет
возможность предотвратить предсказанные события.
Например, когда Крез получает ответ оракула, что,
переправившись через Галис, он разрушит могучую империю, он
может сообразить, что это относится к его империи и не
пойти на войну.
Кроме того, надо понимать, что, обнародовав
предсказание, мы всегда в какой-то степени меняем условия, от
которых зависит, исполнится ли оно. Мы можем этим
повлиять на действия людей, чьи интересы затрагивает
предсказание, и их действия могут сказаться на последствиях.
Здравый смысл говорит нам, что знание может изменить
ход событий, и что сводки об урожае и предварительная
информация могут кардинально изменить ход биржевой
игры.
Нет никаких причин и к тому, чтобы менее умной
была наука. Почему бы ей не сознавать, что ее предсказания —
плоды ума и средства, которыми ум воспользуется, и что
последствия будут очень разными, в зависимости от того,
приняты ли они пассивно или умно изменены? Так
будущему возвращается вариативность, в которой ему отказал
фатализм, а человек обретает свободу и ответственность.
Однако с предсказанием связаны некоторые
парадоксы — их опять можно проиллюстрировать историей с
Кассандрой. Если Кассандра предсказывает правильно, и
ей не верят, ее предсказания исполняются. Так что
поначалу ее будут считать лжепророчицей; что она настоящая
пророчица, поймут слишком поздно. Но если ей поверят, ее
пророчества не сбудутся. Они будут нейтрализованы теми
людьми, в чьей власти повлиять на развитие событий. Так
что поначалу она будет казаться истинной
прорицательницей, но, в конце концов, окажется ложной. И перед ней
встает мучительный выбор — довольствоваться слабым
-230-
утешением: «Ведь я вам говорила», или, пользуясь своим
предвидением, отвратить ожидаемые бедствия ценой того,
что она будет презираема как паникерша и пессимистка.
Здесь мы сталкиваемся с реальным затруднением, а
не с академической головоломкой, и в качестве
иллюстрации можно вспомнить открытый Мальтусом закон
народонаселения. Это было великое открытие, натолкнувшее,
между прочим, Дарвина на идею естественного отбора.
Тень этого открытия лежит на всей последующей мысли о
будущем человечества. Как, например, на отличной статье
доктора Г. К. Боуэса «Обреченность социальных утопий»2.
Статья доктора Боуэса была бы неопровержима, если бы
верно было, что человеческий ум не может повлиять на
естественный прирост населения, не может
контролировать рождаемость и разницу рождаемости у разных
классов, не может ничего противопоставить преимуществам,
которые даны слабым и неумелым нынешними
социальными институтами, а, следовательно, предотвратить
упадок человечества. Но альтернатива, конечно, есть:
реформирование наших институтов на основе евгенической
науки. К сожалению, доктор Боуэс не слишком хорошо
осведомлен о возможностях евгеники. Он, по-видимому,
считает, что о проблемах позитивной евгеники никто до
сих пор не задумывался; могу отослать его к своей работе
«Социальный упадок и евгеническая реформа»3.
Он опасается также, что «демократия» — понимая
под нею демагогическое очковтирательство нынешних
политиков — никогда не потерпит евгеники. Но и наши
так называемые демократии, безусловно, можно
реформировать, прежде чем они отправят общество дорогой га-
даринских свиней. И, наконец, удивительно, что доктор
Боуэс не увидел важного предзнаменования в том, что
одна первоклассная держава уже озаботилась далеко
идущей программой евгенической реформы. Сегодня
популярность этой программы в слишком большой степени
связана с тем, что она облачена в расистские и
националистические теории псевдонаучного характера, и жизнеспо-
-231-
собность ее сомнительна; но если она окажется успешной,
можно с уверенностью предсказать, что остальному миру
придется реформировать себя на основе научной
евгеники или погибнуть.
Перенаселения, предсказанного Мальтусом, не
произошло. Почему? Дальновидные люди поняли, что
перенаселение произойдет, если не ввести в какой-то форме
контроль рождаемости. Сейчас рождаемость в
цивилизованных обществах демонстрирует тенденцию к
уменьшению, вначале медленному, а затем все более быстрому Но
считает ли кто-нибудь, что именно так вымрет
человечество? Нет. Задолго до того, как самоубийство нашего
вида станет неминуемым, будут приняты самые разные
меры, чтобы увеличить рождаемость до безопасного уровня
или выше. Предостеречь значит предохранить.
Это, однако, не отменяет того факта, что над
будущим нависли колоссальные массивы социальной
глупости. Сегодня все цивилизованные общества заражены
многими пороками, которые способны погубить их, если не
будут искоренены. Перечислю некоторые. Демократии и
большинству форм свободы серьезно угрожают
некомпетентность и (разного рода) нечестность тех, кто
находится во главе общества. Если — что не исключено —
демократиям на смену придут коммунистические и
фашистские тирании, то повинны в этом будут прежде всего
безрассудства демократий. Образование в большой мере
заражено педантизмом и подорвано своей моральной
неэффективностью. Религия парализована практически —
своей неспособностью претворить теорию в практику — и
скована теоретически расплывчатыми формулами, в
большой мере утратившими прежний смысл, а ее
защитники не сумели согласованно наполнить их никаким
другим. Затем, война — некогда спорт королей, а ныне
кошмар народов. Но нигде правители не предпринимают
эффективных шагов, чтобы помешать ее повторению, и
очень возможно, что следующая мировая война
(Армагеддон III) покончит с нашей цивилизацией. И все же, в ко-
-232-
нечном счете, самые пагубные из наших социальных
практик — те, которые порождены самим дисгенетичес-
ким складом нашей цивилизации. Она устроена так, что
воспроизводит себя, рекрутируя по большей части
слабоумных и преступников и притесняя самых ценных членов
общества, чтобы сохранить менее ценных. Если нашей
цивилизации суждено уцелеть, то должен быть выработан
какой-то эффективный евгенический план, дабы
противодействовать роковой тенденции, свойственной всем до
сих пор существовавшим цивилизациям.
Оснований для пессимистического прогноза больше
чем достаточно — если рассматривать нынешнюю
ситуацию саму по себе, вне исторического контекста. Но если
учитывать его, то, возможно, мы найдем утешение в
прошлом. Пророков гибели всегда было множество, но их
пророчества никогда не сбывались. Возможно, это
объясняется не только тем, что они преувеличивали, но и тем,
что их слова служили предостережением; и все же, если
состояние мира в любую из прошлых эпох рассмотреть
пристально, выясняется, что оно всякий раз таково, что
дает основания для самых мрачных предчувствий.
Цивилизация всегда выглядит так, словно вот-вот рухнет; но
краха не происходит. Это, конечно, не позволяет тешиться
мыслью, что она не рухнет никогда, и что мы можем
грешить и валять дурака безнаказанно. Это означает, что мы
можем взять себя в руки, даже на грани краха, и в
последнюю минуту уйти от смертельной угрозы. Представляется,
что нынешнее состояние цивилизованного мира во многих
отношениях похоже на состояние греко-римской
цивилизации в начале ее упадка, и что мы добавили себе
опасностей, неведомых древним; но есть одна важная разница, и
она может оказаться решающей. Древние, хотя они, как и
все люди, любили разговоры о Золотом веке и добрых
старых временах, не понимали, что их цивилизация
находится в опасном состоянии, в упадке и на пороге крушения.
Поэтому они не предпринимали осознанных попыток
отвести от себя гибель. Мы же, напротив, остро интересуем-
-233-
ся будущим человечества. Наши пророки — гибели или
наоборот — усердно прогнозируют будущее и оценивают
социальные эффекты каждого нового фактора,
вторгающегося в нашу жизнь или возникающего в поле зрения. И
некоторые предсказывают с замечательным успехом.
Другие ошибаются — потому лишь, что мы принимаем
нужные меры. Так что не надо критиковать пророков слишком
строго. Умная мысль, направленная на рациональное
предсказание, вознаграждается. Она может вовремя нас
предостеречь, а если даже окажется ошибочной, то
послужит цели, ради которой и понадобилось предсказание. Во
всяком случае, должно быть ясно, что проблемы,
связанные с предсказанием, беременны судьбой и способны
предопределить наше горе или благоденствие.
Примечания
1 Ср.: F.C.S. Schiller. Must Philosophers Disagree? London: Macmillan
and C°., 1934, pp. 239-240.
2 Hubert Journal XXXV Oanuary, 1937), pp. 161-175.
3 F.C.S. Schiller. Social Decay and Eugenical Reform. London: Constable,
1932.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Рассыпающаяся Британская империя*
Одно из преимуществ долгосрочных предсказаний
заключается в том, что ко времени, когда предсказание
сбудется или не подтвердится, сам пророк беды давно уже
будет в могиле. Оправдалось его пророчество или нет, его уже
не призовут к ответу. Если же предсказатель без
надобности возвращается к предмету своих предсказаний и
привлекает внимание к своим ошибкам, то он лишается этого
преимущества. Но в наши дни история набрала такой ход, и
события развиваются так стремительно, что современная
Кассандра рискует испытать на себе истину своих
прорицаний.
Поэтому я не был удивлен, когда мне предложили
подтвердить предостережения, высказанные мною восемь
лет назад в книжечке «Кассандра или будущее
Британской империи», которая вышла в серии «Сегодня и
завтра». Скорее, мне следовало бы изумиться
сверхъестественной быстроте, с какой реализовались самые мрачные
мои прогнозы. Сегодня затруднение Кассандры не в том,
чтобы найти человека, который поверит ее прорицаниям,
а в том, чтобы нашелся человек, не верящий ей, но
желающий отвратить обозначившуюся уже беду. В мире не всё
ладно, однако страдает он не от близорукости: четкое осо-
* Впервые опубликовано: Current History, XXXIX (October, 1933).
-237-
знание угроз есть, но паралич государственной мысли
сделал его бесполезным.
В «Кассандре» я заявил, что «будущему Британской
империи явно угрожают три большие опасности,
взаимосвязанные и усугубляющие одна другую. Первая —
проблема занятости в Британии; вторая — запутанные
отношения с Европой; третья — порождаемое этим
напряжение между частями империи». Произошло за последние
годы что-нибудь, вынуждающее изменить этот диагноз?
Трудно отрицать, что все эти опасности многократно
увеличились и полностью накрыли своей тенью
политический ландшафт. Рассмотрим их по порядку.
Что касается занятости, безработица в Британии,
как и повсюду, окончательно вышла из-под контроля.
Вместо миллиона безработных теперь у нас обычно три.
Растут тысячи молодых людей, ни разу в жизни
нормально не работавших, лишенных такой возможности и,
по-человечески рассуждая, лишенных навсегда. Общество
попросту не сумело обучить их и так организоваться, чтобы
их занять. Не заставили их и взяться за такую работу,
какая есть: работу домашней прислугой, на строительстве
домов и дорог — есть тысяча полезных дел, которыми
можно и надо было бы заняться, если бы нашлась рабочая
сила. Они живут, и очень скудно, на социальное пособие,
которое обеспечили своим избирателям политики, и
представляют собой не только экономическое бремя, но и
политическую угрозу. В Германии это неодолимая сила,
стоящая за гитлеризмом, и она установила в стране власть
террора. Но британские политики, судя по всему, так же
не замечают знамений времени, как до них — немецкие
парламентарии.
Так что прежнюю проблему праздных богачей
полностью заслонила новая — праздных бедняков. И
решения нет, потому что ни один политик, ни одного
направления (кроме Остина Хопкинсона, время от времени
вопиющего в пустыне палаты общин) не желает ни взглянуть
в лицо фактам, ни объяснить своим избирателям разницу
-238-
между средствами, способными исправить тяжелую
ситуацию, и теми, которые ее только обострят.
Из средств первого рода можно назвать, прежде
всего, сокращение рабочего дня — уступку, которую
наниматели обязаны сделать не только работникам, но и себе, и
гуманности. Если бы это было введено повсеместно силой
закона, то ни один наниматель не имел бы возможности
обскакать остальных; а если, вдобавок, правильно
организовать сменную работу, то не упадет производительность,
и не вырастет себестоимость продукции. Промышленные
механизмы мало нуждаются в отдыхе и могут продолжать
работу при сменяющемся персонале.
Но если досуг будет распределен более равномерно
и щедро, то, жизненной необходимостью станет
перестройка наших систем образования. Сейчас они, по сути,
профессиональные: их цель — научить людей хорошо
делать свою работу; в будущем их придется дополнить
дисциплинами, которые научат работников хорошо или хотя
бы безвредно пользоваться досугом.
Далее, нынешняя ситуация дает неоценимую
возможность выполнить множество работ, общественно
полезных, но не приносящих немедленного дохода.
Безработицей следовало бы воспользоваться не только для
расчистки трущоб, но и для кампаний по борьбе с паразитами,
которых мы слишком долго терпели. Крыс, вшей, мух,
комаров и многих других вредных насекомых, а также
сорняки, подобные чертополоху и крапиве, можно и нужно
истребить. Страна, направившая на это безработных, станет
не только здоровее, но и богаче. При этом работа была бы
интересной и даже увлекательной, если ею не перегружать.
Охота на крыс, к примеру, пришлась бы по душе многим
мужчинам (и собакам) и стала бы популярным спортом. И
битьё мух могло бы снова стать имперской забавой, как при
Домициане.
С другой стороны, уже должно быть понятно, что
национализм, во всяком случае, с экономической точки
зрения — зло и одна из первейших причин бедности. Здравый
-239-
смысл подсказывает, что если бы каждому народу
позволили, не взирая на политику, производить то, что больше
всего отвечает его природе, весь мир стал бы зажиточнее. Но
политические соображения опрокинули этот простой
принцип торговли. С тех пор, как был заключен мир, все
государства стремятся к автаркии, к полному
самообеспечению, особенно в военной области. На огромной
территории, такой как Соединенные Штаты, подобная политика
возможна, — если американцы готовы платить за нее,
жертвуя экспортом и процентами по внешним ссудам, — но для
таких стран, как Исландия, Ирландия, Эстония она
непосильна.
Нелепо также рассматривать международную
торговлю как разновидность войны, а не относиться к ней как
к обмену, от которого выгадывают обе стороны. Этим
заблуждением объясняется неуклонный рост тарифных
барьеров и парализующая торговлю система квот и эмбарго.
Без преувеличения можно сказать, что все меры,
предпринятые всеми правительствами за последние пятнадцать
лет, вели к удушению внешней торговли.
И, однако, во всей этой вредоносной деятельности,
даже в самых бессмысленных своих начинаниях,
правительства пользовались поддержкой столь же глупого и
невежественного общественного мнения. Даже выходки
господина Де Валера были одобрены ирландским народом.
Возможно, в таких проявлениях народной воли
следует видеть упадок демократического сознания, симптом
коллективного безумия, овладевающего миром. Во всяком
случае, подобное им можно найти только в одной из книг
Льюиса Кэрролла, где политика освистывает разъяренная
толпа, и, вынужденный замолчать, он слушает ее крики.
Оказывается, толпа требует: меньше хлеба и больше
налогов. В сущности, того же требуют люди, провозглашая
лозунг «Покупайте британское (или ирландское, или
американское)!». И твердят это уже полтора десятилетия.
Второй метод, с помощью которого правительства
осушают источники благосостояния — всеобщие манипу-
-240-
ляции с мерой стоимости и порча валют. Во время войны
эту практику оправдывали необходимостью, и она,
безусловно, помогала вести войну — может быть, чересчур
долго. После войны рабочее движение всюду требовало
«налога на капитал». Капитализм противился — и с
видимым успехом. Но разве его победа не оказалась
иллюзорной? В итоге невыносимое бремя долгов, порожденных
войной, вынудило бывших противников девальвировать
свои валюты и отказаться от уплаты долгов. Некоторые
упорно пытались избежать этой участи. Последними
упрямцами были фунт и доллар; первый, скрепя сердце,
сдался в 1931 году; второй — гордо — в 1933-м.
Называть эти меры налогом на капитал или отказом
от уплаты долгов, — не чисто ли терминологическая
тонкость? Как ни назови, суть их одна и та же — облегчить
невыносимое бремя долгов, которые привели бы иначе к
краху капиталистической экономики.
Ибо, в-третьих, для функционирования экономики
необходим определенный баланс между количеством
произведенного, торговлей и нагрузкой на них в форме
долгов и налогов. Обременена промышленность налогами
или долгами, и частные эти долги или государственные —
вопрос второстепенный. Одна из главных причин
депрессии в том, что общее бремя стало слишком большим.
Всем, от правительства и до самого низа, было позволено
и удобно влезать в долги, и, как только прекратился рост
благосостояния, расплатиться никто уже не мог.
Кроме того, правительственные расходы —
непроизводительные траты военного времени и растущая
стоимость социальных услуг, этой современной формы
подкупа избирателей — все время были чрезмерно высокими.
Осенью 1931 года второе правительство Рамсея Макдо-
нальда обнаружило, что жило не по средствам, и
государственный корабль сел на рифы банкротства. И все равно,
большинство его членов не раскаялись. Они готовы были
отказаться от золотого обеспечения, рискуя ввергнуть
страну в инфляцию, но не пожелали уменьшить номи-
-241-
нальную денежную стоимость пособий. Поэтому они
покинули корабль, и лишь горстка лейбористов последовала
за Макдональдом, войдя в новое коалиционное
правительство, призванное сбалансировать бюджет и спасти страну.
В октябре 1931 года оно обратилось к стране и,
заручившись подавляющим большинством, получило
«мандат лекаря». Но воспользовалось им очень нерешительно.
Ввело небольшую экономию, не превышающую десяти
процентов (за исключением судей, которых наказали на
двадцать). Увеличило налоги и сбалансировало бюджет.
Пособия стали назначаться чуть строже и были урезаны
на десять процентов, но из-за снижения цен реальная их
величина стала выше прежней. Тем не менее, фунт был
оторван от золота — сказались преувеличенные страхи
депозиторов золота, все еще видевших в Лондоне
финансовую столицу мира.
После этого, чтобы снизить затраты на рабочую
силу и сделать британскую промышленность
конкурентоспособной на мировых рынках, оставалось прибегнуть к
доступнейшему средству — инфляции.
Административные угрозы и закон против спекуляции, ограничившие
разрыв между оптовыми и розничными ценами, сдержали
рост прожиточного минимума. В итоге британская
торговля сократилась не так сильно, как можно было
ожидать. Но состояние ее все еще неустойчиво. Заработная
плата по-прежнему недостаточно гибка, поскольку в
большой степени определяется политическим влиянием
профсоюзов. И слишком высока в «защищенных»
отраслях по сравнению с теми, которые работают на экспорт.
Маловероятно, чтобы Британия когда-нибудь вернула
себе господствующие позиции в торговле хлопком, углем и
в судоходстве.
К тому же на всеобщих выборах 1931 года она
окончательно отдалась демону протекционизма. Эта
капитуляция давно назревала, но ее надо было предвидеть,
поскольку рабочие, находясь в весьма отчаянном положении,
склонны были прислушиваться к лживым обещаниям про-
-242-
мышленников-протекционистов. Пересмотреть это
решение будет трудно; между тем, оно отодвигает, — может
быть, надолго, — перспективу более свободной торговли и
неблагоприятно скажется на международных отношениях
Британии. А если осуществится мечта об имперском
таможенном союзе, тогда впору задуматься, долго ли мир будет
терпеть Британскую империю.
Международные отношения, как и
предсказывалось, выглядят запутанными, и при всех правительствах
Британия играла одинаково незавидную роль.
Эффективных решений не найдено ни для Европы, ни для Востока,
ни в таких областях, как разоружение, репарации,
военные долги, экономика. Судя по всему, британская
политика бессильно колебалась под влиянием двоякого страха:
обидеть Америку и обидеть Францию.
Кажется, только в 1928 году мы были на пороге
чего-то значительного, но и этот шаг не был сделан. После
того, как британских адмиралов отправили в Женеву на
переговоры с американскими, и переговоры эти,
естественно, закончились разногласиями, а не разоружением,
сэр Остин Чемберлен спустил на свое адмиралтейство
французов. Результатом было загадочное соглашение с
Францией, задуманное, по-видимому, как постоянный
союз, ибо британские адмиралы оставили за Францией
право иметь столько подводных лодок и эсминцев, сколько
ей захочется. Подразумевалось, очевидно, что отныне
никакие разногласия между Британией и Францией
немыслимы. Учитывая обстоятельства, вдумчивые люди
задавались вопросом: не равносилен ли этот договор вассальной
зависимости? Еще большую озадаченность вызвали
августовские воздушные маневры над Лондоном и
последовавший официальный доклад, в котором говорилось, что
было бы сбито около 180 вражеских самолетов, но
Лондон сгорел бы. Видимо, доклад должен был внушить
британской публике, что союз с Францией необходим. В
сентябре на эти темные государственные дела пролил
немного света предприимчивый молодой корреспондент
-243-
херстовских газет. Он раздобыл секретные французские
документы, из которых как будто явствовало, что
предлагаемое соглашение с Францией направлено против
Америки. Еще красноречивее, чем сами тексты, были
действия французского правительства: корреспондента живо
выдворили из Франции, а мистеру Херсту было
запрещено появляться на ее берегах. Потом сэр Остин Чемберлен
заболел, взял длительный отпуск, и о соглашении больше
не вспоминали — надо думать потому, что коллеги по
кабинету отказались поддержать его политику, когда
выяснилась ее суть.
Эти любопытные эпизоды (и другие подобного
характера) свидетельствуют не просто о неумелом ведении
иностранных дел. Они — отражение постоянной
дилеммы, с которой столкнулась Британская империя. Как
сказано об этом в «Кассандре», «Британская империя отдана
на милость одной иностранной державе, а ее столица — на
милость другой». Обидев Америку, мы оттолкнем
доминионы; если обидим Францию, то, проснувшись однажды,
можем услышать над Лондоном шум крыльев Ангела
Разрушения. Но ни в одном из этих страхов признаться
нельзя, и монополия на разговоры о «безопасности» в
международных собраниях предоставлена Франции.
С тех пор, как в «Кассандре» о Британской империи
было сказано, что «это самая ветхая империя на Земле
после развала Австрии», она стремительно превращалась в
еще больший парадокс. Ничего подобного в истории не
было, и никакая политическая философия не в силах
объяснить, на чем она держится. И по своему строению, и по
финансовой политике, и по расовому составу это
совершенная аномалия.
Во-первых, постоянно меняется ее юридический
базис, потому что время от времени она устраивает
Имперские (уже не Колониальные) конференции, и они вносят
изменения, которые неизменно ослабляют и разбалтывают
скрепы, связывающие ее воедино. После того, как был
учрежден статус доминионов, предоставивший Канаде, Авст-
-244-
ралии, Южной Африке, Новой Зеландии и другим право
полностью распоряжаться не только своими внутренними
делами, но и своими тарифами, оставались как будто бы две
такие скрепы. Одна — общее подданство, то есть
принадлежность к Короне, в силу чего королевская декларация
обязательна для всей империи. Вторая — реальное
управление всеми иностранными делами империи осуществлялось
ответственными советниками Короны — британским
правительством. Прежде чем принять важное решение,
затрагивающее доминионы, оно, несомненно, консультировалось
с правительствами доминионов, но доступ к Короне имело
только оно. Например, если по его совету объявляли войну,
это было обязательно для всей империи.
Но в 1931 году британский парламент принял
Вестминстерский статут, который лишает британское
правительство привилегированного положения и уравнивает
его с правительствами доминионов. Теперь министры
доминионов — советники короля от своего доминиона, и
представитель короля, генерал-губернатор, назначается
по их рекомендации. Следовательно, при короле нет
больше единого консультативного органа, представляющего
империю в целом. Теперь каждый доминион будет
объявлять войну отдельно — если пожелает вступить в войну.
Отсюда вытекает вопрос: что случится, если
правительство доминиона даст Короне совет, несовместимый с
советом британского правительства? Ответить на него
нельзя, пока он не возник реально. Но, принимая во
внимание, что ирландским законодателям фактически
позволили аннулировать закон, обязывающий к присяге на
верность, и что уже много месяцев между Ирландией и
Британией не утихает тарифная война, можно усомниться в
том, что общее подданство так уж скрепляет империю.
Коммерческие интересы доминионов давно
вынуждают Британию (их главный рынок), вводить
предпочтительные тарифы и обещать снижение тарифных ставок,
которые остаются запретительными даже при имперских
льготах. Оттавская конференция 1932 года, ставшая про-
-245-
веркой этих обещаний, показала, насколько несбыточны
мечты о финансовом единстве империи. Не вполне
оправдались и опасения сторонников свободной торговли,
предсказавших, что она развалит империю. Все признают,
однако, что имперский таможенный союз сегодня
неосуществим, поскольку доминионы явно стремятся к
самообеспечению, несмотря на то недовольство, которое вызывают
чрезмерные тарифы внутри самих доминионов, например,
в западной Канаде, западной Австралии, Натале.
В расовом отношении Британская империя являет
собой скопище осиных гнезд. В Африке (в Кении,
Родезии, Южной Африке) белые упорно придерживаются
политики, которая рано или поздно приведет к расовой
войне. В Египте фарс парламентского правления закончился
восстановлением монархии, но окончательное
урегулирование не достигнуто. В Палестине (земле слишком долго
обетованной) перед британским мандатом стоит трудная
задача: защитить еврейское меньшинство в его
«национальном очаге» от неизмеримо превосходящих его по
численности арабов. В Индии британская власть явно
рушится: она должна поддерживать баланс между множеством
религиозных течений и как-то удовлетворять
национальные амбиции образованных классов. Переговоры о
будущей индийской конституции продолжаются, и каков будет
их исход, трудно сказать. Но крайне маловероятно, чтобы
найдено было решение, которое принесет мир, надолго
обеспечит стабильность, а не окажется лишь еще одним
шагом к полной эвакуации из страны.
Когда это произойдет и доминионы объявят себя
независимыми (хотя не обязательно затруднят себя этим
завтра), что останется от Британской империи? С утратой
морского могущества — по-видимому, ничего, кроме
ненадежной власти над колониями, которую следует записать,
скорее, в пассив, чем в актив, поскольку их надо
периодически дотировать, чтобы они не отказались от уплаты
долгов, — ничего, кроме неуклонно падающей торговли и
растущей перенаселенности.
-246-
Между тем, как относятся народные массы к
постепенному распаду империи? Удивительно, но они его
почти не замечают. Они еще не поняли, что поставлено на
карту; они еще не осознали, что если не смогут
оплачивать привозное продовольствие за счет экспорта
промышленных товаров, население великой (некогда) Британии
должно сократиться до четверти нынешней численности.
Не возмущаются они как будто и политикой государства,
ведущего их к этой пропасти. Кажется, они так захвачены
борьбой за насущный хлеб и ежедневными
развлечениями, что все равнодушнее слушают слова политиков, зная,
что сделано все равно ничего не будет. И все же в одно
прекрасное утро они могут проснуться и удивить мир — и
себя, — стряхнув дрожательный паралич парламентского
правления, как это сделали Россия, Италия и Германия. И
дай бог ноги тогда их вождям.
Таков наиболее вероятный прогноз для Британской
империи. Он мрачен; но еще остается искра надежды.
Может статься, что вопреки всем силам, разрушающим
Британскую империю, она каким-то образом уцелеет. И
уцелеет, быть может, именно за счет рыхлости своего
устройства, отсутствия прочных скреп, благодаря которому
будет избавлена от внутренних трений, изнашивающих
более жесткие системы.
Прецедентов в истории не было, но мы видели, что
и самой Британской империи не было прецедентов. К
тому же история никогда не повторяет себя в точности, а
наше время отвергает многие прецеденты. И не исключено
даже, что если милостью Божьей или волей случая
Британская империя удержится на одном патриотическом
чувстве, она может показать хороший пример и
послужить образцом остальному миру Ибо, если цивилизации
предначертано объединить мир, то не менее ясно, что
поначалу это объединение должно быть малообязывающим,
использовать только самые мягкие связи и самые
эластичные институты. И нынешняя Британская империя
может показать миру, как это делается.
-247-
Жизнеспособна ли демократия?*
Главный политический урок мировой войны —
отсутствие квалифицированного руководства.
Квалифицированное руководство — один из самых привлекательных
идеалов, к которому постоянно тянется мир, несмотря на
множество разочарований. Родился он из протеста
афинской аристократии против власти демократов, которые
отстранили ее от общественного служения и выбирали
людей на высшие должности по жребию. Объявив, что
добродетель это знание, а управление — искусство, Сократ
выступил как выразитель аристократических взглядов на
афинские институты и явился отцом бюрократии, причем
не только той бюрократии, чьи парадоксальные черты
были позже обрисованы в «Государстве» Платона. Сократа
отблагодарили — чашей цикуты. Демократические
главари не могли не понять, какую опасность представляют
бюрократы для той демократии, которую они вели на
поводу Но бюрократия восторжествовала: воинскую
повинность заменила профессиональная армия и флот под
началом привилегированного и обученного офицерства, а
выборных магистратов и судей — назначаемые
государственные служащие.
* Впервые опубликовано: The Twentieth Century and After, CXIV
(October, 1933).
-248-
До войны бюрократия господствовала почти
повсюду, и многие великие державы фактически были не чем
иным, как бюрократиями. В Австрии с ее хаосом
враждующих народностей только бюрократия обеспечивала
единство империи. Российская империя тоже держалась
на чиновниках. Германия гордилась — не без оснований —
тем, что у нее самая умная, вышколенная и эффективная
бюрократия; поспорить с ней могла только Индийская
государственная служба, хотя своими делами в
Месопотамии в военные годы и в Индии после войны едва ли
могла похвастаться. Дипломатия была весьма
привилегированной и аристократической профессией во всех странах,
кроме Америки (решающий фактор!) — этого
умудренные дипломаты не могли взять в толк и не могли найти к
американцам правильного подхода.
И как же все эти специалисты и профессионалы вели
дела и решали критические проблемы, возникшие в связи с
войной? Ни в одной войне не было занято столько
генералов, и ни одна не выдвинула так мало хороших. Никогда
еще оккультные искусства дипломатии не вызывали и не
заслуживали такого всеобщего презрения. Никогда еще не
было упущено столько великолепных возможностей
проявить государственную мудрость. В мировой войне все
великие бюрократии потерпели крах; они привели свои
страны к разгрому, наделав массу ошибок — дипломатических,
военных, политических. Австрийские бюрократы начали
войну, ошибочно рассчитывая, что все народы империи
жаждут отомстить за убийство Франца Фердинанда так же,
как они, и умудрились оттолкнуть своих союзников
Италию и Румынию. Русские бюрократы проиграли войну с
самого начала, когда мобилизовали шахтеров, имея уже
одиннадцать миллионов солдат, которых не могли вооружить, и
разом потеряв польский угольный бассейн и возможность
ввозить уголь из Британии и Германии. В результате их
войска лишились подвижности, города — продовольствия, и
сами они были сметены революцией, приближения которой
по глупости не заметили. Немецкие бюрократы, панически
-249-
боявшиеся «войны на два фронта» против Франции и
России и отвергшие по этой причине предложенное Джозефом
Чемберленом entente* с Британией, умудрились вступить в
войну не только с Францией и Россией, но вдобавок с
Британской империей, и вынудили Америку присоединиться к
врагам как раз тогда, когда разразившаяся в России
революция обещала им легкую победу.
По контрасту с «искусными» правителями
бюрократических государств политики «демократий» выглядели
образцовыми мастерами. Они хотя бы не забыли
искусства убеждать и умели повести за собой народ. Они не
забыли древней максимы populus vult decipi** и успешно
обманывали свои народы. Столько раз, сколько нужно было
солгать, чтобы выиграть эту войну (и разные другие), они
солгали; но заставили этой лжи поверить — тогда как
искусные правители утратили даже искусство убедительно
лгать. Это было важнейшей причиной их слабости, и дома,
и за границей: они даже не почувствовали момента, когда
можно было прекратить войну и спасти свою шкуру!
Короче, история еще не видывала таких проявлений
бюрократической глупости и непрофессионализма.
Эти исторические факты показывают, что есть не
только особый род глупости, присущей бюрократии, но и
настоящее искусство демагогии, которым владеют и
пользуются лидеры демократий и которое придает последним
определенную умеренность. Это, конечно, искусство
обмана, оно заставляет народ сражаться за спасение
демократии — с результатами, которые мы сегодня наблюдаем; тем
не менее, это действительно искусство. Задача настоящей
статьи — раскрыть механику этого искусства, показать, в
какой фарс оно превращает реальную демократию, и
выяснить, какие действия требуются, чтобы демократические
формы не были отброшены как нечто иллюзорное и
нетерпимое.
* Согласие (фр.).
** Народ хочет быть обманутым (лат.).
-250-
Но чтобы раскрыть механику этого искусства, надо
прежде прояснить само понятие демократии. Демократия
это не такое устройство, когда народом управляет народ и
в интересах народа, как народу часто внушают. В
развитых демократиях это, скорее, такая форма, когда народом
управляют политики и в интересах политиков; но, во
всяком случае, это форма правления. Как таковая, она
конкурирует с другими формами правления и стремится
оправдать себя тем, что обеспечивает лучшее управление. У нее
есть свои преимущества и недостатки, и людей, по
крайней мере, разумных людей, волнует, действительно ли это
самое лучшее управление, какое возможно. Одно из ее
преимуществ состоит в том, что правителю чаще всего
очень полезно знать заранее, как отнесутся люди к его
мерам; полезно поэтому посоветоваться с народом и
соответственно определить свой курс. Кроме того, как было
мудро замечено, легче считать головы, чем разбивать.
Правда, в той или иной мере одобрением народа
пользуется любое правительство; иначе оно бы не
уцелело. Но одобрение это зачастую молчаливое и пассивное
или только кажущееся, особенно в странах, где с народом
не консультируются или консультируются для вида.
Следовательно, реальное преимущество демократической
формы правления в том, что она предполагает и требует
гораздо более активного одобрения со стороны
управляемых. Чтобы демократия функционировала успешно,
необходимо, чтобы массы активно интересовались
политикой и стремились получить хорошее правительство. Там,
где эти условия не выполнены, в демократических
формах нет ничего, что помешало бы демократии опуститься
очень низко на шкале ценностей.
Все демократии, и древние и современные,
зиждились на двух политических принципах. Во-первых,
суверенный народ не правит, а им правят другие: либо силой,
либо хитростью. Так что суверенный он только по
названию. Во-вторых, если министр или иной управляющий
суверенным народом хочет проводить меры, которые по-
-251-
лагает хорошими, то он должен отвлекать или же более или
менее обманывать народ. Там, где народ обладает
достаточной политической силой, чтобы власть искала его
расположения, правитель должен держать его в довольстве и
развлекать. Даже римские императоры считали
целесообразным обеспечивать римской черни рапет et circenses* — в
современном варианте, пособия и скачки. Разумеется,
нынешний правитель обладает гораздо более мощными
механизмами воздействия на сознание публики, чем
древние. С помощью радио он может обратиться ко всему
миру С помощью прессы может ежедневно внушать людям
то, что ему требуется, и так, чтобы они не подозревали об
источнике своих взглядов и убеждений.
«Искушенные правители» бюрократы потерпели
провал, не смогли поддержать традиции политического
мастерства; демагоги и боссы, манипулирующие
«демократическими» институтами тоже могут претендовать на
звание мастеров в этой области. Во время войны они
продемонстрировали гораздо большую приспособляемость и
ловкость и вели дела успешнее. Но позже обнаружили
полное непонимание послевоенных проблем, в основном
экономических. По глупости и невежеству они устроили
в мировой экономике кавардак и, кажется, совершенно не
способны его разобрать. Судя по некоторым признакам,
они исчерпали свои возможности. Из-за своей
некомпетентности они не только нарушили весь социальный
порядок, но и самих себя поставили под удар. В результате,
демократия явно сдает позиции в мире, и все сильнее
ощущается отчаянная нужда в диктатуре. Диктатура,
конечно, — привычное и испытанное лекарство от отчаяния,
и будущее ее предсказать нетрудно. Труднее предсказать
будущее демократии. Можно ли вернуть нашей так
называемой демократии здоровье и эффективность? И
мыслима ли вообще подлинная демократия? И что она должна
сделать, чтобы спасти себя? Все великие бюрократии рух-
* Хлеб и зрелища (лат.).
-252-
нули, и можно было подумать, что место для демократии
и ее боссов расчищено. Поначалу действительно казалось,
будто искусство управления демократиями шагнуло так
далеко вперед со времен Линкольна, что если нельзя еще
обманывать весь народ все время, то можно обманывать
всех, кто что-нибудь значит, что на еженедельных
общениях с публикой можно проплыть через любой кризис, а с
достаточным набором расплывчатых формул решить
любую проблему. Но выяснилось, увы, что от упрямых
экономических фактов нельзя отделаться заклинаниями и
самой соблазнительной риторикой, что они не дают
витать в облаках даже верующим в миры, созданные для
героев*. Герои во множестве оказывались безработными, и
пособия, отпущенные испуганными правителями, в конце
концов, пришлось урезать. И, несмотря на отчаянные
попытки сохранить уровень жизни с помощью тарифных
барьеров, страны все глубже и глубже погружались в
болото всемирной депрессии.
Политические последствия этого кризиса не
замедлили проявиться. Справедливо и несправедливо народы
винили в своих бедах правителей. И, возмутившись,
меняли их раз за разом — и обнаруживали, что plus ça change,
plus c'est la même chose**. Ни один из обычных методов
политического обновления, даже южноамериканский метод
военных переворотов, ситуацию не исправлял. Все больше
и больше людей теряли веру в то, что называется
демократией. Для демократии настал судный день, и даже
демагоги начинают опасаться за свою жизнь. Парламентское
правление трещит по швам и перестает функционировать
или превращается в симуляцию и маскарад.
Внешне это привело к распространению диктатур,
чаще всего военных, и во всех случаях опирающихся на
насилие. В России, Италии, Югославии, Венгрии, Турции, Пор-
* Из речи Ллойд Джорджа в 1918 году: «В чем наша задача? Сделать
Британию страной, где не зазорно жить героям».
** Чем больше меняется, тем больше остается прежним (фр.).
-253-
тугалии, Литве, а теперь еще в Германии и Австрии —
диктатура явная и откровенная. В Соединенных Штатах,
Греции, Испании, Болгарии, Чехословакии, Финляндии,
Румынии она более или менее прикрывается
конституционными формами. Если говорить о Европе, парламентская
система все еще держится только в Британии, Франции,
Бельгии, в скандинавских странах и нескольких малых
государствах, которые избежали военных потрясений,
оставшись нейтральными, но даже здесь правление может
осуществляться лишь коалициями. Вся эта ситуация
представляется весьма ироническим комментарием к войне, которая
велась, можно сказать, с той целью, чтобы спасти мир для
демократии! Диктатура есть бунт против демократии, и
представляет собой двоякую реакцию на нее. С одной
стороны, это возврат к личной власти, воплощенной в таких
персонажах, как Ленин, Муссолини, Пилсудский, Гитлер,
Рузвельт, Кемаль, Хорти, Кармона, Венизелос; с другой —
она означает возвращение к бюрократии и ее реванш. Ибо
все диктаторы правят, опираясь на бюрократию в армии и
гражданских службах, и даже «диктатура пролетариата»
быстро превращается (на деле) в диктатуру «секретариата».
Да и повсюду бюрократия берет реванш, подтачивая
демократию. Хотя войну выиграли демократии и
демагоги, плоды победы пожинает бюрократия. Она колоссально
умножила свою численность и могущество, увеличив
количество и сложность государственных установлений и,
соответственно, расходов на государственный аппарат.
(Типичный пример — повсеместное сохранение нелепой и
раздражающей паспортной системы.) Таким образом, она
сделала себя настолько необходимой для своего
официального начальства — демагогов, что, по сути дела,
подчинила их и превратила в марионеток. Надежно укрывшись
за фасадом выборных властей, она безответственно правит
от имени народа и правительства. В большинстве
«демократических» стран, особенно в Британии, парламентское
правление с каждым годом все больше превращается в
фарс. С каждым годом, как прекрасно показал лорд Хью-
-254-
арт, бюрократия исподволь отторгает функции у
законодательной власти и номинальной исполнительной и
убеждает последние передавать их полномочия себе. Бюрократия
действует тем же методом, каким способные подчиненные
всегда управляли неспособными начальниками.
Если официальный правитель невежествен, или
ленив, или в умственном отношении сильно уступает своим
министрам, то в конце концов (это психологически
неизбежно) они им будут управлять. Ибо для него это путь
безопасности и наименьшего сопротивления — больше того,
единственное спасение от перегрузки и смерти: делать
так, как ему говорят, и не задавать неудобных и лишних
вопросов. Если же он не в меру беспокоен и пытлив и
желает знать, что делается от его имени, есть сотня
испытанных способов укротить его.
Излишне говорить, что эти способы применимы и к
суверенному народу. В положении народа нет ничего
такого, что защитило бы его от этого надувательства, которым
занимаются в данном случае бюрократы совокупно с
политиками. Все формы почтительности могут быть
соблюдены, но «народ» все равно легкая добыча. В массе
суверенный народ таков, каким его изобразил Платон в
«Государстве», — он благонамерен, но невежествен и глуп. Будучи
невежествен, он не знает, как решать сложные вопросы, от
которых зависит его благосостояние, — скажем, золотого
обеспечения, тарифов, внешней политики. Будучи ленив,
он и не желает их решать, потому что это скучно. Он падок
до развлечений, и внимание его легко отвлечь всякой
всячиной, в изобилии поставляемой кинематографом и
прессой (форменной сворой алкивиадовых собак*) с одобрения
демагогической власти. В действительности у несчастного
народа-суверена так же мало шансов разумно
распорядиться общественными делами, как у самого глупого царя.
* У Алкивиада была красивая собака, и он приказал отрубить ей хвост.
Когда его спросили, зачем, он ответил: «Я хочу, чтобы афиняне
болтали об этом, иначе как бы не сказали обо мне чего-нибудь похуже».
-255-
Теперь посмотрим на механику консультации с
народом, обращения к нему Всеобщие выборы объявляются,
когда премьер-министр распускает парламент.
Естественно, он делает это в момент, наиболее удобный для себя и
своей партии, — когда, по его расчету, он может поставить
перед избирателями такой вопрос, который они поймут и
в котором поддержат его, а значит, вернут его к власти. Но
по этой же самой причине его оппоненты постараются
запутать вопрос, увязав его с другими. Ни та, ни другая
сторона не раскрывают всех своих карт, и чаще всего
электорат соблазняют в последнюю минуту ложью или
полуправдой, то есть благополучно обводят вокруг пальца.
Когда шумиха кончилась, никто уже не может твердо
сказать, за что, на самом деле, народ голосовал и чего он
желал. Если обращение к народу принимает форму
референдума о законах, уже принятых законодателями, то его
легко дискредитировать, сформулировав вопросы так темно
и сложно, что избиратели их не поймут или заподозрят
какой-то обман. В то же время, попытка получить прямую
санкцию народа на законодательные меры может
закончиться провалом: если избирателей спрашивать обо всем,
они, в конце концов, перестанут голосовать и будут
отвергать все законы с отвращением. Короче говоря, принцип
демократической власти состоит в том, что народ должен
быть обманут любым способом, хочет он того или нет.
Далее, если взглянуть на то, как интересы
плутократии просачиваются в «демократическое» правительство,
как бизнес подкупает политиков, и как они шантажируют
бизнес, то становится понятно, с какой легкостью
демократия может выродиться в фарс. Самый наглядный урок дает
заокеанская политика — осмотрительность и факты
побуждают нас обратить взор туда. Но неразумно было бы
полагать, что политическая и человеческая натура британцев
способна вечно противостоять соблазнам, — например,
тарифного законодательства, после того как мы ввели
тарифы. Великолепно иллюстрирует взаимоотношения
бизнеса и политики знаменитый ответ Джея Гульда сенатской
-256-
комиссии, расследовавшей его махинации. Когда
осведомились о его политических симпатиях, он откровенно
ответил: «Я республиканец в республиканском штате и
демократ в демократическом; а владелец железной дороги
"Эри" — повсюду». Покойный Ивар Крюгер, видимо,
придерживался такого же принципа. Достоинство этого
принципа в том, что он помогает обезопасить бизнес от
политического вмешательства независимо от того, какая партия у
власти. Во многих случаях, однако, непонятно, как
правильнее охарактеризовать такие отношения — как подкуп
плутократом политика или как шантажирование первого
последним.
Впрочем, в Англии мы пока ведем себя более робко
и более чинно. Наши партийные копилки пополняются
менее обильно и беззастенчиво, чем с помощью
законодательства, которое обогащает щедрых жертвователей в
партийные фонды. Партия, контролирующая «источник
чести» вознаграждает за «общественные заслуги»
орденами и титулами, так что трудно себе представить, как
осуществлялось бы партийное правление, если бы отменили
палату лордов. Наш британский метод все же здоровее с
точки зрения интересов общества. Ясно, однако, что
подлинная демократия предполагает неподкупность
политиков. А если вы умножите соблазны и запретите все
вознаграждения, кроме денежных, стоит ли ожидать тогда, что
ваши политики долго будут неподкупными?
Но, несмотря на отдельные безобразные симптомы,
к свержению наших демократических боссов приведет, по
всей вероятности, не коррупция. Скорее всего, —
некомпетентность и невозможность осуществлять управление
их древними методами, неспособность понять сложные
экономические отношения в современном обществе и,
главное, их трусливое нежелание быть лидерами и
говорить королю демосу неприятную правду. Конечно, никто
не требует, чтобы наши демагоги сами разбирались в
экономике банков и бирж, промышленности и торговли. Для
этого у них есть много специалистов, чьи советы помогли
-257-
бы им ориентироваться. Но, по всем признакам, они не
прислушиваются к дельным советам — у них не хватает
ни ума, ни знаний, чтобы эти советы понять.
Не хватает у них и смелости сказать народу, который
они так долго одурманивали военной пропагандой, что все
это устарело и продолжаться не может, что оргии
национализма обходятся слишком дорого и должны прекратиться
и что попытки каждого государства замкнуться в себе
ведут не к безопасности, а к разорению и нищете. Ни один
политик не решился твердо сказать народу, что весь мир не
может увеличивать экспорт, сокращая импорт, и нигде, по-
видимому народ этого еще не понял. Недостаток смелости
виной тому что не было ясного и быстрого послевоенного
урегулирования, что непосильные военные долги и
репарации продолжают висеть и уже не первое десятилетие
отравляют международные отношения.
За все эти ошибки придется платить. Народы за них
уже платят, но не избежать этого и правителям. Таков
смысл сползания от демократии к диктатурам и другим
монструозностям политической организации. И если
боссы хотят уцелеть, то пора им взяться за ум и всерьез
задуматься о настоящей реформе демократии. Если мы
определим демократию как форму правления, при которой
правители действительно консультируются с народом, прежде
чем принять решение, которое считают наилучшим, то
станет очевидно, что такие настоящие консультации
случаются редко. Чаще всего в так называемых демократиях они
неискренние и показные. В оправдание демократии можно
сказать то же, что в оправдание христианства и сухого
закона: «демократия не провалилась, потому что она еще не
состоялась!». Причина во всех трех случаях, разумеется, одна
и та же. Демократия трудна. Эта форма правления требует
бдительного, умного и просвещенного общественного
мнения в политике, сопротивляющегося дурманам и
отвлечениям, активного интереса к общественным делам и
твердого желания узнать всё необходимое для верного суждения
об общественных проблемах. А подлинно демократичес-
-258-
ким будет такое правительство, которое потребует и
получит активную поддержку этого общественного мнения.
Ясно, однако, что идеал этот нигде не достигнут.
Наличные демократии далеки от него. Но могли бы к
нему приблизиться, если бы избавились от разнообразных
слабостей и изъянов. Главное препятствие этому — сами
политики, независимо от их партийной принадлежности.
Психологически вполне объяснимо, что если
политическая система прочно установилась и политики,
действующие в ее рамках, досконально ее понимают, то они
привыкают к ней и настолько привязываются, что уже не
приемлют существенных перемен в ее устройстве. Они
предпочитают играть в привычную игру и отказываются
менять ее правила, пусть даже они называют себя
реформаторами или радикалами: реформировать они желают
других, а не себя и не правила своей любимой
политической игры. Вот почему политики не только не хотят
задуматься о механизме политики, но и всегда безразличны
или враждебны любым подлинно демократическим
реформам, направленным на то, чтобы усовершенствовать
систему народного волеизъявления и увеличить
эффективность политической машины.
Пример. Общеизвестно, что в большинстве стран
избирательная система не дает возможности избирателю
отчетливо выразить свою волю, а демократические
конституции изобилуют зацепками, препятствующими этому.
Страны, где избирательные законы таковы, что
парламентское правительство может отображать общественное
мнение, мы пересчитает по пальцам одной руки. И даже
там, где законы допускают такую возможность, ее обычно
отнимает администрация. Единственное известное мне
исключение — Швейцария, страна, где нет политического
недовольства, потому что большинство не пытается
притеснять меньшинства. Невозможность народного
волеизъявления влечет за собой много зол. Она не только
противоречит коренной идее демократии — она порождает
недовольство и склоняет к восстанию и революции. А если и
-259-
нет, то создает политическую нестабильность,
затрудняющую непрерывный прогресс. Чтобы пояснить это, хватит,
наверное, одной иллюстрации из нашей, британской,
жизни. Сейчас мы сподобились коалиционного
правительства, навязанного отчаянной ситуацией, к которой нас
привели политики, и оно оказалось более устойчивым, чем
большинство из нас ожидало. Но при нынешних
избирательных законах оно не может просуществовать больше
пяти лет. После этого, независимо от его успехов, многим
избирателям захочется перемен, маятник снова
раскачается, и в политической жизни опять может наступить хаос!
Угроза нестабильности — следствие порочной
системы представительства, а также консерватизма и
глупости наших политиков, не желающих ее исправить. В
стране нет революционного большинства и, по всей
вероятности, никогда не будет. Но есть большая вероятность того,
что мы забредем в революцию из-за бессмысленной
несправедливости нашей избирательной системы. Эта
система не представляет меньшинств, исключает умеренные
мнения и вынуждает всякого избирателя, недовольного
правительством крайних, голосовать за их оппонентов,
которые могут быть такими же крайними и опасными. На
самом деле, у либералов сегодня несколько миллионов
сторонников, но провести в парламент они могут всего
несколько человек; поэтому их промежуточная позиция,
реально поддерживающая в стране равновесие между
консерваторами и лейбористами, в палате общин ничего не
значит. Есть угнетенные меньшинства и в обеих крупных
партиях, в частности, консервативные фритредеры и
умеренные тред-юнионисты, которые могли бы оказать
благотворное влияние на политику своих партий, если бы их
не подавляла партийная верхушка. И есть честные,
независимые избиратели, которые лишены возможности
выразить неодобрение одному правительству без того,
чтобы одобрить оппозицию.
А ведь все это — совершенно искусственное и
необязательное следствие наших псевдодемократических изби-
-260-
рательных законов. Очень легко было бы внести
незначительные изменения в механизм выборов. Очень легко было
бы сделать консультацию с народом реальной и получить
палату общин, адекватно отображающую мнение народа.
При нынешней же системе и трех партиях теоретически
возможно, что треть с небольшим электората изберет всю
палату общин! И политики отлично это сознают. Но это их
устраивает, и они не сделают ничего, пока их не вынудит
давление извне. В надежде оказать небольшое давление и в
интересах подлинной демократии я перечислю несколько
простых и неотложных реформ существующей системы.
Во-первых, пропорциональное представительство.
Эта хорошо известная и испытанная система
обеспечивает адекватное представительство меньшинств. Она
позволяет с максимальной точностью представить
меньшинство любых размеров: чтобы мелкие меньшинства тоже
были представлены, достаточно лишь увеличить число
голосующих. И делается это просто: избиратель должен
только перенумеровать кандидатов в порядке
предпочтения — 1,2,3 и так далее — и не отмечать тех, кого он не
хочет видеть в парламенте. (Такая задача под силу любому
школьнику.) Политические последствия этого тоже
хорошо известны. Пропорциональное представительство
исключает «приливные волны» и сильное «раскачивание
маятника», и вместо огромных гомогенных, но управляемых
верхушкой, партий мы получаем ряд групп, занимающих
весь политический спектр, от одного края до другого.
Ими не могут командовать лидеры крупнейших групп, и
поэтому с ними не так удобно, зато они точно отображают
общественное мнение. Абсурдное возражение, что
пропорциональное представительство означает череду
коалиций, а коалиции якобы не способны управлять,
убедительно опровергается нынешней ситуацией. Кроме того,
эта система в каком-то смысле удобна и для партийных
лидеров: шараханье избирателей не лишит их работы.
Будучи первыми в своих партийных списках, они наверняка
пройдут как представители меньшинства. Пропорцио-
-261-
нальное представительство способствовало
политической стабильности во всех странах, где оно было испытано,
кроме Германии. В Швейцарии оно предотвратило победу
социализма, Ирландии дало десятилетнюю передышку и
даже сейчас сдерживает Де Валера.
Во-вторых, стоит вспомнить об отрицательном
голосовании. Никаких принципиальных причин от него
отказываться нет, а эффект его будет для политики
оздоровляющим. Отрицательное голосование означает, что
избиратель может прямо голосовать против кандидата, а
не только за, причем его голос аннулирует один голос
«за». Отрицательные голоса могут передаваться так же,
как обычные при пропорциональной системе
представительства. То есть, если негодный кандидат уже
забаллотирован, отрицательный голос избирателя переходит к
следующему самому нежелательному кандидату в
бюллетене.
Система, позволяющая голосовать только за
кандидата, слишком проста — она не дает возможности
избирателю выразить свои соображения. Она психологически
примитивна. Есть психологические градации одобрения и
неодобрения, которые ему не позволено выразить. Между
тем, выразить их возможно — и для блага общества
нужно. Мешает этому только дефектный механизм выборов.
Отрицательное голосование избавит его от некоторых
дефектов, а передача голоса при пропорциональном
представительстве — еще от одного. Она позволит избирателю
указать второго и третьего по желательности кандидата, а
не только первого.
Затем я назову одну маленькую простую реформу,
которая прошла бы почти единогласно, если бы какое-
нибудь правительство осмелилось предложить нечто
столь неслыханное и здравое. Она пошла бы на пользу и
всем партиям, и администрации. Министры должны
иметь право (как во многих других странах) выступить в
обеих палатах, независимо от их членства в той или
другой. Эта маленькая реформа избавит либералов и лейбо-
-262-
ристов от сложностей с подысканием подходящего и
надежного представителя для выступлений в палате
лордов, а консерваторам позволит употребить на дело свою
избыточную силу в верхней палате. И опять-таки это
пойдет на пользу обществу: позволит возлагать на членов
палаты лордов задачи, которые могли бы потребовать
безраздельного внимания министра или должны быть
ограждены от вмешательства и отвлечений со стороны
палаты общин.
Реформа палаты лордов — дело гораздо более
сложное. Помимо того, что было бы желательно составить
истинную аристократию и обеспечить лучшим умам
страны влияние на общественные дела, крайне необходимо
иметь узду для такой палаты общин, какая есть у нас при
нынешней системе. Мы видим, что благодаря способу ее
избрания — это не плод политической мудрости и
глубоких размышлений нации, а результат очередной
политической истерики. Она никогда не соответствует
действительному спектру общественного мнения. Она
непомерно преувеличивает роль большинства и убирает в тень
меньшинства. Большинство ее — всякий раз
искусственное создание и, прежде всего, результат отчаянной
попытки недовольных избирателей отделаться от
невыносимого правительства. Их бросает из одной крайности в
другую, поскольку быстро обнаруживается, что
преемники не лучше предшественников. И, наконец, палата
общин — неповоротливое сборище, от которого было бы
гораздо больше толку, если бы его уменьшить вдвое. В
общем, можно только дивиться тому, что она еще не
полностью дискредитировала демократию в глазах
думающих людей.
Но неудивительно, что реальная власть ее быстро
убывает, и она превращается в громоздкую машину,
которая только штемпелюет решения кабинета, имеющего в
ней «прочное» большинство. Беда в том, что этот кабинет
всегда пребывает в заблуждении. Он воображает, что
заручился поддержкой народа и может сохранить ее, прово-
-263-
дя хорошие или популярные меры. На самом же деле, что
бы он ни предпринимал, маятник, который вынес его
наверх, при первой возможности его и сметет. Поэтому в
вопросах, связанных с партийной политикой, никакое
последовательное и дальновидное законодательство
невозможно. Все эти пороки — следствие нашей нелепой
системы представительства. Они угрожают будущему
парламентского правления и самой демократии. Как их
исправить, понятно — для этого, наверное, достаточно
будет упомянутых средств.
Но есть и другие беды, избавиться от которых не так
легко. Болезни мировой экономики не излечит ни
демократия, ни коммунизм и никакая иная форма правления.
Действенных средств от них применить нельзя, пока
народы не поймут, что добиваются экономически
невозможного, и не раскаются в своем безрассудстве; сегодня они все
еще требуют «меньше хлеба и больше налогов», подобно
толпе в книге Льюиса Кэрролла «Сильвия и Бруно».
Но для полного решения экономических проблем
может потребоваться нечто большее, чем возврат к
экономическому здравомыслию. Больше, чем установление
подлинной демократии, свободной от мошенничества и
обмана. А для того и другого, в свою очередь — нечто
большее и лучшее, нежели то, что мы имеем ныне в
качестве человеческого материала; может потребоваться
изменение политики, поставляющей этот материал.
Трагический факт состоит в том, что во всех существующих ныне
человеческих обществах разладился механизм
пополнения. Они пополняются не из лучших, более умных, более
деятельных и благополучных слоев общества, которые не
воспроизводят себя численно, а из худших, скудоумных и
бесталанных. Живут эти люди на социальное пособие,
плодиться им позволяет социальная защита — за счет
классов, способных платить налоги, которые становятся
непомерными из-за траты общественных средств на
всевозможные социальные глупости. Так, мы устраиваем
«недели спасения детей» — худших, — вместо «выставок
-264-
лучших детей». Биологический результат этого
бездарного социального вмешательства — прогрессирующее
ухудшение породы. Определить, далеко ли зашло это
ухудшение, по ряду причин трудно. Но нетрудно предсказать его
политические последствия. Свобода и демократия
становятся недееспособными, и сползание к той или иной
форме деспотизма — неизбежным. Это означает также, что
цивилизация обречена, если не будет срочно принята
политика разумных евгенических реформ.
Возможность
Соединенных Штатов Европы *
Многие, наверное, подумают, что более
фантастической темы для обсуждения, чем возможность
Соединенных Штатов Европы, я в наши дни придумать не мог.
Насколько утопична такая возможность, я сознаю не хуже
любого — и тем больше, мне кажется, оснований обсудить
ее в академическом плане. Разве неуместны и утопичны
размышления о том, что мешает мелким и разобщенным
государствам Европы попытаться выйти из ядовитой
атмосферы войны и соперничества, в которой они
пребывали так долго? Почему их так возмущает сама идея
объединения, перспектива избавиться от своих разногласий в
разумно построенном федеральном союзе? Такой проект
был бы благом для громадного большинства обитателей
этой помраченной части земного шара, и физически ему
уже ничто серьезно не мешает. Нет в нем ничего,
противного природе, нет и непреодолимых материальных
препятствий — лишь бы только согласились европейцы
убрать одну великую духовную преграду на пути к союзу.
Идея Соединенных Штатов Европы решительно
противостоит традиционной ненависти, раздражению и
безумным предрассудкам, которые разделяют европейские
народы и превращают жизнь в бремя и для них самих, и для
* Впервые опубликовано: World Affairs Interpreter, IV (1933).
-266-
других. Видеть свой священный долг в культивировании
всего, в чем они разнятся, в продлении кровавых счетов,
уходящих в глубь истории — это великая иллюзия,
отравляющая все международные отношения.
Если бы какой-то чудесный приступ забывчивости
стер из их сознания всю память об их прошлом — о том,
что каждый из них творил и претерпевал, если бы кто-то
избавил их от крайностей национализма, раскрыл им
глаза на их истинные интересы, отворил души для благ
цивилизации, тогда легко было бы показать им, что
Соединенные Штаты Европы — политическая и экономическая
необходимость, идея гораздо легче осуществимая, чем те
гнусные и недостижимые цели, которые преследуются
нынешними националистическими правителями Европы.
Ибо с тех пор, как зараза национализма в ее нынешней
смертоносной форме распространилась по миру, — то
есть, как мне кажется, с наполеоновской эпохи, — они
добиваются невозможного, используя средства, внутренне
противоречивые, взаимоисключающие и недостойные.
Они пытались в одно и то же время построить
национальные государства и империи. И это чисто
современный абсурд. До девятнадцатого века строители империй
не помышляли о национальном государстве. Александр,
Карл Великий, Чингисхан, Тимур, Карл V, Акбар, Петр I и
даже Наполеон готовы были включить в свои империи
любого, кто им подчинится. Как связующий элемент
политического союза, национальность сильно уступала
преданности вождю, династии, или религии. Кроме того,
реальный состав европейских народов таков, что
невозможно было найти среди них однородной национальности,
занимающей территорию, достаточную для империи.
Чтобы быть национальными, европейские государства
должны собираться из одной национальности; чтобы стать
империями, они должны править разными нациями и
сделать свое правление приемлемыми для каждой из них.
Этих несовместимых целей государства пытались
достигнуть, насильственно приведя всех подданных к единообра-
-267-
зию, заставив все народности своей страны раствориться
в главенствующей нации. И, конечно, этот метод не
давал желаемого результата. Он порождал
несправедливости, угнетение, напряженность, бунты и войны. Этой
глупой политикой европейские империи ослабляли и в итоге
разрушали себя. В Европе слишком много
национальностей, чтобы основать империю только на одной из них.
Но чем же, в конце концов, является эта идея
национальности, которой так увлекся современный мир и платит
за нее нечеловеческую цену, жертвуя всеми естественными
благами жизни? На деле, единственной функциональной
основой национальности является, по-видимому, язык. Не
происхождение: пример Америки показывает, что сильное
национальное чувство может объединять людей самого
разного происхождения. Не раса: в Европе, по крайней
мере, она, по большей части, миф; все европейцы — смесь, и
смесь приблизительно одних и тех же ингредиентов. И уже
не религия, как было в христианской Европе. Пока
христианство на Западе не подорвала Реформация, а на Востоке —
последняя война.
Но в качестве основы для исключительного
национализма язык не пригоден по той простой причине, что
можно усвоить не один язык, а значит, приобрести не одну
национальность, — если считать язык ее критерием. Общность
языка, конечно, способствует обмену идеями, но она отнюдь
не фундамент для политической общности. Римская
империя простояла много веков, хотя имела два официальных
языка; а Венгрия была сравнительно спокойной страной до
1848 года — пока ее многочисленные национальности
соглашались использовать в качестве официального языка
латынь. И наоборот: если людям позволено овладеть
многими языками, язык уже не может служить критерием
национальности, а становится инструментом
интернационализма. Поэтому изучение языков благоприятствовало бы не
только международному взаимопониманию и коммерции,
но также индивидуальному развитию и политическому
урегулированию. Если бы вместо того, чтобы глупо навязывать
-268-
господство одного языка, вытесняя остальные, европейские
правители допустили пользование всеми языками,
существующими в их стране, они сильно укрепились бы
политически и устранили одно из главных препятствий на пути к
Европейскому союзу. Двуязычная или трехъязычная Европа
стала бы не только более образованной и разумной
Европой, но и ступенью к федеративной Европе.
В идее этой нет ничего невозможного и
утопического; лучшее тому подтверждение, — что все это уже
осуществлено. Есть в Европе уникальная и аномальная страна,
где национальное чувство не основано ни на религии, ни на
географии, ни на силе; при этом оно не менее подлинное,
здоровое и патриотическое, чем у любого другого народа,
ибо основано на справедливости и взаимной терпимости.
Швейцарцы, наверное, самый спокойный и
благополучный народ в Европе и единственный народ,
который искренне осудил внутренние ссоры и внешние
войны. Это, в сущности, единственный европейский народ,
который открыл секрет европейского мира и процветания
и решил проблему европейской политики. Решил ее
благодаря природному уму и здравому смыслу, а не
случайным преимуществам или особым ресурсам. Он был
разделен горами, религией, языком, историей, он был окружен
более крупными и мощными соседями, претендовавшими
на его землю и ее обитателей. И, однако, швейцарцы
удержались вместе и достигли союза.
Как они этого достигли? Проявив справедливость и
взаимную терпимость, о чем я уже сказал, и проявив волю к
сотрудничеству Швейцарские немцы, швейцарские
французы и швейцарские итальянцы способны к
сотрудничеству и сотрудничают потому, что никто из них не стремится
господствовать над другими, но каждый уважает
индивидуальность и права другого, определенные федеральной
конституцией. Вдобавок, владение всеми национальными
языками для швейцарца — предмет гордости, что делает его
более образованным человеком, способным лучше понять
чужую точку зрения и лучше вести дела с немцами, францу-
-269-
зами и итальянцами за рубежом. Так не вправе ли мы
сказать, что швейцарцы — единственный здравый и мудрый
народ в Европе и что единственный способ решения
европейских политических проблем указан ими?
В короткой статье невозможно даже наметить путь к
федеральному союзу в Европе, для которого требуется
немного доброй воли и большая трезвость в понимании
реалий. Могу только выразить свою убежденность в том, что
движущей силой станет экономика и государственные
деятели должны искать отправную точку в экономике, а не в
политике. Ибо, залечив многочисленные экономические
язвы, которыми усеяли карту Европы разные мирные
договоры, мы сравнительно быстро придем и к
политическому примирению. Например, одну из тяжелейших
политических проблем в Европе — проблему польско-германских
отношений можно было бы лишить остроты, выработав
схему постоянного экономического сотрудничества для
Верхней Силезии и Польского коридора, которая
игнорировала бы политические границы и создала у Польши и
Германии общие интересы. Спор Германии с Литвой из-за
Мемеля тоже можно было бы погасить с помощью
торгового договора, который открыл бы германский рынок для
литовской сельскохозяйственной продукции, а литовский
— для немецких промышленников. Конечно,
международные торговые связи не могут оказать воздействия на
политику за один день или даже десятилетие. Но одна из
ошибок политиков в том, что они торопятся и не заглядывают
достаточно далеко вперед. Человеческий прогресс
зачастую медлен и даже неощутим. И возможно, что время для
Соединенных Штатов Европы еще не пришло. Но если
федеральный союз откладывать или отвергнуть, народы
Европы обречены страдать и дальше, покуда не пожелают
стать на путь спасения. Ибо, как гласит древняя мудрость:
«Согласного судьба ведет за руку, а несогласного тащит за
волосы».
ЛОГИКА
Гуманистическая логика
и теория познания*
Изучение логики непопулярно даже среди самых
ретивых философов. Для читателей же логика — самая
ужасающая часть философии; она обросла такими эпитетами,
как «холодная», «бездушная», «неумолимая». Та логика, к
которой применяются эти определения, заслуживает их
отнюдь не в полной мере: с ней легко играть и даже
потешаться над ней. Но философы относятся к логике не менее
странно. Им хочется верить, что этот предмет был
завершен Аристотелем (или Кантом, или Гегелем) или же что
это просто-напросто интеллектуальная игра
причудливыми символами, манипуляция которыми может подменять
деятельную мысль и механически производить новые
истины. Отсюда напрашивается вывод, что теоретически
возможно сконструировать машину, которая будет думать
вместо них. И все же большинство философов не любят
играть в эту игру, находя ее слишком трудной.
Всему этому противопоставляет себя
гуманистическая логика. Она дает отвод всем прежним логикам и
обвиняет их в ложном и неадекватном анализе познания,
обусловленном ложным и глупым интеллектуализмом,
абстрагировавшимся от всех характерных операций реального
* Впервые опубликовано: The Personalist, XIX (1938), pp. 16-31, под
заглавием «Logic: a Game or an Agent of Value».
-273-
мышления, игнорировавшим их и подменившим целой
системой фиктивных представлений об абстракциях. Это
оторвало логику от ее естественного места в человеческом
сознании, разлучило с человеческой психологией и,
связанную по рукам и ногам, отдало в распоряжение
искусственным и изощренным конвенциям языка. Так логика
была превращена в игру словами (вернее, в ряд игр —
поскольку конвенции можно варьировать до бесконечности),
которая не имеет никакого отношения к приобретению и
подтверждению знаний и никак не сказывается на
прогрессе науки. Цель моей статьи — осудить старую логику по
этим обвинениям и показать, что они не преувеличены.
К гуманистической логике и теории познания
лучше всего подойти дорогой, минующей непролазную
трясину, где утопили свой предмет логики-формалисты и
абсолютисты.
Говоря, что формальная логика — игра словами, мы
всего лишь называем ее тем, чем она была с самого начала.
Логика произошла из игры словами, распространенной в
афинских школах в V веке до н. э.; так что своего характера
она не изменила. Игра называлась диалектикой или
искусством состязательной беседы. Заключалась она в споре по
какому-нибудь жизненному вопросу — просто забавы ради,
а вернее, для того, чтобы выяснить, какая из сторон возьмет
верх. Как и в других играх, тут имелась серьезная
подоплека: это было отличное упражнение в искусстве убедить суд,
а от него могла зависеть жизнь или смерть. Но формально
задачей была просто победа; участник пытался превзойти
оппонента и убедить — или, во всяком случае, обвинить —
его в ошибке. Но доказать, что ты выиграл, и убедить
оппонента, чтобы он признал себя побежденным, было трудно.
Чтобы добиться этого признания, и понадобилась логика;
так началась ее карьера служанки у риторики.
Этим объясняется мгновенный и огромный успех
изобретенного Аристотелем силлогизма. Силлогизм дал
греческим диспутантам именно то, что требовалось —
инструмент принуждения. Казалось, это верный способ при-
-274-
нудить к признанию твоего вывода, заставить согласиться
любого, кто опрометчиво признал твои посылки. Так,
будучи средством принуждения, силлогизм приветствовался
как идеальная форма доказательства или демонстрации.
Никому не казалось странным и стыдным, что истина
представляется чем-то таким, к чему разум надо склонять
насильно, а не наградой за страстные поиски. Не смущало
и то, что силлогизм молчаливо подменяет понятие истины
«правильностью». Ибо казалось очевидным, что
силлогизм может быть правильным, независимо от того,
истинны или нет посылки, даже если заключение его абсурдно.
Он «правилен» благодаря своей форме — и неопровержим.
Стоит найти истинные посылки, организовать в
правильную форму, и заключение готово. Оно следует неумолимо,
и все вынуждены с ним согласиться. По пути от
предпосылок к заключению ошибка закрасться не может. И
наоборот, всякое заключение может быть принудительно
доказано, если только подобрать для него истинные посылки.
Весь процесс рассуждения связан воедино логической
необходимостью на каждом этапе. Так воцарилась
необходимость как идеал мысли, и логика обрела свою мрачную
репутацию — холодной, бездушной и неумолимой.
Удовлетворив очевидную потребность,
аристотелева логика очень рано утвердила свое главенство над всей
территорией мысли. Все остальные способы рассуждения
бледнели рядом с ней. Обо всех остальных процессах,
используемых в познании, стали судить по ее уставу, и они
должны были ей подчиняться, чтобы не быть
презираемыми как ненадежные и несостоятельные. Поэтому
предпринималось много попыток уложить индуктивные
рассуждения в форму правильного силлогизма, а к
вероятностям относились с явным пренебрежением. Чтобы быть
респектабельной, истине требовалось быть необходимой
и абсолютно достоверной, и желательно, чтобы ее можно
было доказать силлогизмом.
Аристотелев силлогизм царствовал долго — в этом с
ним могла сравниться только евклидова геометрия. Его
-275-
господство длилось больше двух тысячелетий и едва ли
закончилось. Лучше всего о его престиже говорит то, что
даже самые решительные попытки реформ не
простирались до того, чтобы поставить под вопрос
фундаментальные допущения аристотелевского формализма,
усомниться в адекватности его анализа или отвергнуть
характерные его представления.
Между тем, с самого начала можно было заметить,
что этот колосс стоит на глиняных ногах. У него целых
пять изъянов, и все фатальны для его претензий, а три из
них смертельны в первую очередь, поскольку они чисто
формальные.
(1) Сообразительные греки почти сразу — еще при
Аристотеле — обнаружили, что истинные посылки найти
затруднительно. А если в них нет уверенности, то
бесполезно доказывать, что из истинных посылок следует
истинное заключение. В приятии заключения нет
необходимости, и силлогизм как орудие принуждения отказывает.
Вдобавок имелся такой неприятный момент, что
истинность посылок всегда можно было оспорить, хотя бы
диалектически. Оппонент всегда мог сказать: «Докажи,
пожалуйста, свои посылки», — и требование это
оказывалось сокрушительным. Ибо единственным способом
доказать посылку было построение силлогизма,
заключением которого является оспариваемая посылка. Для этого
нужны две истинные посылки. Значит, чтобы доказать
ваши первоначальные посылки, вам нужны еще два
силлогизма и, следовательно, четыре истинных посылки. Мало
того, если вы и решили эту трудную задачу, оказывается,
что вы ровно ничего не добились. Каждую из новых
посылок опять же можно подвергнуть сомнению. И
единственный результат ваших стараний доказать свои посылки —
тот, что вместо двух посылок, оспариваемых и
нуждавшихся в доказательстве, вы теперь имеете четыре! Ясно,
что силлогизм был формой доказательства, содержавшей
в себе искусственно и искусно скрытый бесконечный
регресс. Чем больше вы пытались доказать, тем больше при-
-276-
ходилось доказывать: каждый ваш шаг удалял вас от цели
и удваивал бремя доказательства.
Столкнувшись с этой трудностью, Аристотель не
придумал ничего лучшего, чем заявить о существовании
интуитивных истин самих по себе, самоочевидных и не
нуждающихся в доказательстве. Если пройти назад по
цепи посылок, вы непременно дойдете до таких истин, и они
остановят этот бесконечный регресс. Они сущностно
определенны, самоочевидны и несомненны и образуют
основу всякого доказательства, поскольку более
достоверны, чем любой доказанный вывод.
Обратиться, таким образом, к интуиции значило
разрубить гордиев узел: логики нашли, что без этого
средства обойтись трудно, и поэтому многие из них все еще
выражают веру в интуицию. Ибо единственной
альтернативой казались умозаключения внутри системы, где
каждая часть поддерживает каждую другую; а это, увы, ничем
не отличается от круга в доказательстве — логической
ошибки, известной еще со времен Аристотеля.
Но интуиция — ненадежный советчик, и
положиться на нее можно было только при крайней доверчивости.
Возможно ли различить восприятие интуитивной истины
и догматическое утверждение того, во что человек желает
верить? Возможно ли отличить правильные интуиции от
неправильных и отделить логические и обоснованные от
психологических и безосновательных? Неудивительно,
что уверовавшие в интуицию не смогли прийти к
согласию относительно списка самоочевидных первичных
истин. Короче говоря, лечение этой болезни силлогизма
интуицией было хуже самой болезни.
(2) Следующее возражение против силлогизма
также обнаружилось на ранней стадии. Оно было
смертельным для всех обычных способов понимания силлогизма, а
когда, наконец, его удалось преодолеть, оказалось, что
силлогизм больше не может претендовать на формальную
правильность. Лучше всего это продемонстрировать на
примере.
-277-
Возьмем традиционное доказательство того, что
всякий человек должен умереть. Рассуждение идет так:
«Все люди смертны», «Сократ — человек», «Сократ
смертен». По существу, приведенное рассуждение доказывает
смертность индивидуума всеобщей смертностью, а это
подразумевает несколько допущений, явно не
высказанных. Это подразумевает, что ни один индивидуум не
может проявить признаков, выходящих за рамки общего
понятия, к которому он отнесен, и что он, безусловно,
подведен под правильное понятие. Есть и более очевидная
трудность. Здравый смысл быстро обнаруживает, что
если не истинно заключение, то большая посылка ложна.
Чтобы истиной было: «Все люди смертны», должно быть
истиной: «Сократ смертен». Поэтому абсурдно говорить,
что смертность всех людей доказывает смертность
Сократа. Ясно, что заключение, якобы доказываемое, уже
заложено в истинности посылок. Следовательно,
рассуждение — ошибочное, и для этой ошибки есть специальный
термин petitio principii — предвосхищение основания.
Логики до сих пор отчаянно бьются над тем, чтобы
обойти это препятствие. Но, сказав, что смертность
присуща природе человека и, следовательно, если бы Сократ не
был смертным, то не был бы человеком, мы тоже ничего не
добьемся. Ибо тогда на заключение опирается истинность
меньшей посылки «Сократ — человек». Столь же
бесполезно считать большую посылку «законом природы», а
меньшую — подпадающим под него частным случаем. Ибо и
здесь мы допускаем ошибку petitio principii. Мы
предполагаем, что универсальные высказывания нельзя применить
неправильно, и то, что является частным случаем общего
закона применительно к одной цели — например, для
классификации людей, является частным случаем
применительно к другой — например, для предсказания смерти.
Единственный способ избежать этой ошибки при
использовании силлогизма — пожертвовать истинностью
посылок и считать их формулировкой гипотез для
мысленного эксперимента. Если «все люди смертны» — закон
-278-
природы, и если Сократ — человек, на которого эта
гипотеза распространяется, то Сократ умрет. Его смерть
следует из нашей гипотезы. Умирает ли Сократ на самом
деле? Если да, наша гипотеза пока что подтверждается или,
как мы говорим, «верифицируется». Но верификация,
очевидно, не является формально правильной
процедурой. Она неизлечимо поражена формальной ошибкой,
называемой «подтверждение следствия». Итак, если даже в
лучшем случае заключение требует верификации и
зависит от нее, тогда силлогистическое доказательство также
не является формально правильной процедурой. Оно в
действительности не гарантирует, что «доказанное»
заключение окажется истинным.
За последнее время у силлогизма были обнаружены
еще два роковых изъяна.
(3) Как давно уже указывал Альфред Сиджвик,
соединяя две посылки, которые считаем истинными, мы
никогда не можем быть уверены заранее, что они не
сыграют с нами злую шутку, приведя к ложному
заключению. Так: «Ни один хороший моряк не страдает морской
болезнью», «Адмирал Нельсон был хорошим моряком»;
следовательно: «Адмирал Нельсон не страдал морской
болезнью» — хотя, как известно, он ею страдал. Когда мы
вникаем в причины этой неудачи, обнаруживается, что,
хотя мы могли с чистой совестью назвать наши посылки
по отдельности истинными, при соединении их, в
среднем термине «хороший моряк» возникла
неопределенность, испортившая вывод. Задумавшись еще немного,
мы увидим, что подобное может случиться всегда. Это
зависит от контекстов, в которых употреблен средний
термин — а он всегда употребляется в двух контекстах, и
различие между ними всегда может разрушить вывод.
Далее выясняется, что высказывание, истинное в одном
контексте, может стать ложным в другом, а
высказывание, истинное вообще, может оказаться ложным в
некоторых контекстах. Столкнувшись с такой
неприятностью, формальный логик, конечно, объявит: «Средний
-279-
термин с самого начала был двусмыслен, и никакого
силлогизма вообще не было!» Это верно, но дела не меняет.
Затруднение остается: мы можем обнаружить изъян,
лишь попытавшись воспользоваться посылками и
убедившись, что заключение ошибочно. Удовлетвориться
здесь объяснением формалиста — значит признать, что
логика способна обнаружить ошибку только после того,
как она совершена, и что вообще логика крепка задним
умом. Тем самым логика признается, что неспособна
уберечь от ошибок и предотвратить их. Она позволяет нам
отправляться от посылок, абстрактно представляющихся
истинными; она позволяет использовать их в контексте,
где они оказываются ложными, и позволяет
«доказывать» заключение, которое опровергается событием.
Короче говоря, она нелепа.
(4) Кроме того, неверно, будто на протяжении своей
истории формальная логика довольствовалась скромной
ролью: она всегда настаивала на том, что
силлогистическое доказательство способно подтвердить предсказание.
В самом деле, успешное предсказание было подспудной,
необъявленной целью силлогистической формы и
составляло значительную долю ее прелести — то же относится и
ко всякой априорной философии. Если «все люди
смертны», «X — человек», ergo «X — смертен», не позволяет нам
с абсолютной уверенностью предсказать смерть X, этот
силлогизм теряет свое очарование. Очарование именно в
том и состояло, что силлогизм как будто давал нам
возможность предсказать будущее. Если, по заведенному в
природе порядку и по обыкновению предков, люди будут
умирать, покуда кто-нибудь не сварит эликсир жизни или
не выдумает способ останавливать старение тела, как мы
можем предполагать, что наши посылки абсолютно
истинны, и абсолютно доверять построенным на них
предсказаниям? И те, и другие низводятся до вероятностей, и
тем меньших, чем дальше в будущее простирается
предсказание. Как инструмент безусловного предсказания
силлогизм обладает пятым — и роковым — изъяном.
-280-
(5) Эта его слабость заставляет нас пристальнее
вглядеться в его термины. Как можно совместить
силлогистическое (и вообще любое дедуктивное) предсказание
с ростом познаний и проистекающим из него изменением
значения терминов? Подойдем с этим вопросом к
рассмотренному силлогизму Что означает в нем «смертный»?
Обреченный умереть или могущий умереть? Ныне, надо
полагать, мы толкуем это слово в первом смысле; но если
бы изобрели эликсир жизни, не склонились ли бы мы
тогда ко второму? Опять же, когда это слово применяется к
умершему две с лишним тысячи лет назад, как Сократ, не
должно ли оно означать попросту «мертвый»? Ввиду
всего этого, не лишается ли наш силлогизм всякой силы из-
за неопределенности слова «смертный»?
Пять возражений, выдвинутых здесь против
силлогизма, mutatis mutandis* распространяются и на так
называемые несиллогистические формы умозаключений. Они
присущи попыткам извлечь истину из форм как таковых.
Аналогичным образом, все виды формальной логики
опираются на идеи, никогда не обосновывавшиеся, едва ли
формулировавшиеся явно и открытые для возражений,
которые невозможно парировать. Главные из этих идей —
три: формальная правильность, логическая
необходимость и вербальное значение. Мы увидим, что они не
только нереализуемы, но излишни и вредны.
Иллюзорность формальной правильности уже
продемонстрирована. Формальные умозаключения на самом
деле не «правильны»; иначе говоря, они никогда не
гарантируют безусловной истины, независимо от опыта. Из
этого с очевидностью следует, что без понятия
формальной правильности лучше обойтись; оно, вопреки
утверждениям, не является адекватной заменой истины.
Логическая необходимость представляется еще
более обманчивым миражом. Ни одного находчивого и
твердого антагониста нельзя принудить к согласию с ка-
* С соответствующими изменениями {лат.).
-281-
ким-то выводом против его воли. Мы видели, что он
может подвергать посылки сомнению до бесконечности.
Чисто принудительная логика есть ложный идеал и
пустая греза.
Неправда и то, что логическая необходимость
нужна, чтобы связывать наши рассуждения. Логическая
необходимость — всего лишь воображаемый цемент,
придуманный для того, чтобы соединять фиктивные сущности,
называемые «пропозициями», которые на самом деле
ничего собой не представляют, кроме сочетания слов.
Реально действенные мыслительные акты, называемые
«суждениями», обходятся без этого цемента. Они движутся к
своему назначению ходом мысли и направляются
интересами и целями мыслящего. Ибо мысль всегда
целенаправленна и индивидуальна. Но о реальных факторах,
вдохновляющих и воспламеняющих человеческую мысль, ни
в какой формальной логике упоминаний не найти.
Причина этого странного пробела коренится,
несомненно, в одной из исходных абстракций формальной
логики. Она всегда и систематически абстрагировалась
от реального значения. Реальное значение
индивидуально-субъективно: человек что-то имеет в виду и хочет,
чтобы это было воспринято другими. Формальная же логика
подменяет его вербальным значением, значением
используемых слов, из которых выбирается и строится
индивидуальное значение.
Легко видеть, что первично индивидуальное
значение, а вербальное значение вторично. Ибо слова
приобретают значение, будучи употреблены (удачно) для того,
чтобы передать индивидуальные значения. Эти прошлые
употребления запоминаются и закрепляются на словах;
таким образом, образуется запас, из которого в
подходящем случае мы можем извлекать слова, позволяющие
выразить то, что мы имеем в виду. Именно благодаря этой
замене субъективного значения вербальным,
традиционная логика стала словесной игрой с фиксированными и
легко запоминаемыми правилами; порок же этой проце-
-282-
дуры в том, что она полностью отчуждает логику от
реальной жизни, реальной мысли, реальной работы наук.
Здесь я хотел бы подчеркнуть, что вся эта критика
традиционной логики имеет четкую философскую
подоплеку. Критика эта — персоналистская, волюнтаристская и
представляет собой систематический протест против
интеллектуализма, абстрактности и априоризма старой
логики. Традиционная логика унаследовала интеллектуализм
от своих основателей греков с их интеллектуалистическим
складом мышления. Об этой характерной их особенности
свидетельствует греческий язык, в котором почти
полностью отсутствует словарь воления, имеющийся в других
языках. Под интеллектуализмом, следовательно, мы будем
понимать неспособность или нежелание видеть в нашей
психической деятельности какие-либо иные операции,
кроме чисто познавательных, а в наших познавательных
усилиях — какие-либо иные процессы, кроме процессов
чистой мысли.
Но оба эти допущения поразительно нереалистичны
и делают до неузнаваемости бедной интеллектуалистичес-
кую картину познания. Они не учитывают или искажают
постоянные и чрезвычайно важные его черты. Ибо в
действительности наше мышление — насквозь волевое. Толчок
ему дают желания и цели, его ход поддерживается
важностью проблем. Оно преследует цели, которые ему
представляются благими, оно пронизано и направляется разного
рода ценностями. Истина движет нами не потому, что она
далека и недостижима, безразлична и бесстрастна, а
потому, что близка и дорога нашим сердцам, она ощущается как
нечто ценное, к чему стоит стремиться, пусть и жертвуя
более низменными целями и меньшими ценностями.
Бесчеловечные и неправдоподобные абстракции
интеллектуалистической логики особенно обнажаются в
абстрагировании от личной стороны познания. Все
реальное познание — это личное познание в личных целях; но
по причинам, никогда не оглашавшимся, этот важнейший
факт замазывается и игнорируется в традиционной логи-
-283-
ке. Если позволено будет высказать догадку, к абстракции
прибегли потому, что ошибочно предположили, будто в
противном случае всякая логическая ситуация обрастет
невыносимыми осложнениями. Нам придется учитывать
не только цели и мотивы, но также желания, личные
обстоятельства и предысторию — короче говоря,
бесконечная и неисчерпаемая специфика каждого мыслительного
акта подавит и собьет с пути логический анализ. Не желая
или не умея совладать с материалом во всей полноте,
логика отмела его целиком; это было большим облегчением
и удобным упрощением.
Но не было ли это также грубой фальсификацией и
источником вопиющих фикций? Не разорвало ли это связь
между логической теорией и психическим фактом, не
сделало ли невозможным всякое сотрудничество логики с
психологией? Больше того, не было ли это хваленое
упрощение по преимуществу иллюзией? Действительно, от
многих сложностей, серьезность которых была
преувеличена, оно позволило избавиться; но при этом запутало
логику в других, над которыми она с тех пор тщетно бьется.
Личный контекст, который давал ключ к реальному
значению реального суждения, она заменяет пропозицией — и
попадает из огня в полымя. Потому что пропозиция —
всего лишь комбинация слов, которую следует употреблять
осмотрительно и кстати; будучи употреблена, она
становится суждением. Сама по себе она бесконечно
расплывчата, ибо может нести любой смысл, какой понадобится
вложить в нее в нужном контексте — прошлом, настоящем или
будущем. Чтобы определить «ее» значение, надо
исследовать все возможные ее употребления; но это нереально, и в
отрыве от контекста никто не скажет, какой из смыслов в
нее на самом деле вкладывается.
С другой стороны, сложности, возникающие в связи
с психологическим фоном личного суждения, сильно
преувеличивались. Иногда целесообразно проследить
психологическую предысторию суждения и реконструировать
личность, вынесшую это суждение, чтобы вполне его по-
-284-
нять; но ошибочно думать, что это необходимо всегда. Это
может понадобиться, и мы должны быть готовы к этому в
случае необходимости. Но не следует думать, что личный
контекст и психологические обстоятельства непременно
относятся к делу.
Таким образом, чтобы персоналистская логика была
работоспособна, необходимо только принять концепцию
«релевантности» и оставить за собой право выбора. Если
мы имеем право исключить нерелевантные факторы и
принять во внимание те, что сочтем релевантными, мы можем
разобраться в любой логической ситуации — разумеется,
без гарантий, но с хорошими шансами на успех. Если же
мы позволим парализовать себя абсолютистской
установке, согласно которой мы должны играть наверняка и не
делать ни одного заключения, не учтя реальности целиком,
мы никогда не сможем прийти ни к какому заключению.
Но зачем вообще проявлять такую враждебность к
формальной логике и так вдаваться в ее ошибки и
прегрешения? В конце концов, Барбара, если позволено будет
так ее назвать, — это старая беззубая карга, пусть
бормочет себе в углу и мирно доживает свой век. «Нет, —
отвечаю я, — она злокозненная ведьма, ее чары — источник
всего дурного и вредного в философии и скрытая
причина всех ее провалов». Формальная логика — стержневой
корень, из которого произросли ядовитые побеги абсолю-
тизмов, натурализмов, скептицизмов, интеллектуализ-
мов, формализмов, вербализмов и детерминизмов,
образовав непролазную чащу иллюзий и ошибок,
преграждающих путь к здравой и человечной философии, которая
позволяет человеческому духу полностью развиться.
Покуда формальная логика не будет вырвана с
корнем, у нас не будет логики, лучшей, чем игра
словами, не будет логики, способной признать реальные
процессы человеческого познания, логики, способной
понять и обосновать метод науки, логики, которая сможет
вести диалог с психологией, примирит мысль с
действием, преодолеет пагубный антагонизм между теорией и
-285-
практикой и сделает возможным гармоничное развитие
всех человеческих способностей. И, наконец, у нас не
будет логики, которая сможет установить мир и порядок в
человеческом духе, присвоить должный ранг наукам о
ценностях и найти место для высшей ценности —
человеческой личности.
С другой стороны, когда мы заменим ее
гуманистической логикой, опирающейся на волюнтаристскую
концепцию человеческой природы — логики, осознавшей, что
человек создан для действия, мы сможем навсегда
распрощаться со всеми фикциями формализма.
Гуманистическая логика не провозглашает невозможных идеалов и не
осуждает наше мышление за неспособность их достичь;
она трезво отправляется от наблюдений за
психологическими процессами, участвующими в познании, она ценит
их в соответствии с их успешностью и одобряет те, чья
ценность удостоверена опытом.
Кроме того, она отмечает, что мышление происходит
не в безвоздушном пространстве и не в виде вспышек, а
представляет собой последовательность мыслей, и эти
последовательности всегда целенаправленны. Они
возникают из заинтересованности в каком-то предмете, движет
ими желание знать, и направлены они к цели, которая
представляется желанной. Так, одна мысль следует за
другой естественным потоком, и каждая последующая
ощущается как следствие.
И рассуждение движется не потому, что его
подталкивают сзади, не потому, что рассуждающего неумолимо
ведут вперед шаг за шагом (а вернее, тащат против воли
рывками), а благодаря влечению к страстно преследуемой
цели. С фантомом логического принуждения или
необходимости можно расстаться.
Не требуется и формальной правильности.
Реальное рассуждение (в отличие от фальшивых иллюстраций,
фигурирующих в учебниках) никогда не бывает
формально правильным, и никакое «правильное» рассуждение
никогда не бывает действительно ценным. Правильность —
-286-
жалкая заместительница истины. Истина же — ценность,
а не «правильность».
Но истина, преследуемая и достигаемая хорошей и
ценной мыслью, никогда не абсолютна. Может ли она
быть такой, если очевидно зависит от предыдущих знаний,
от вопросов, на которые она отвечает, от разрешаемых ею
проблем? Абсолютная истина — не что иное, как ловушка,
в которую попадается догматик. Это бессмысленная
иллюзия, не подкрепленная никаким человеческим знанием.
Человеческая же истина «достаточно» истинна и
«достаточно» хороша для целей, ради которых мы ее ищем. А что
она не «абсолютна», это на самом деле ее преимущество.
Это означает, что она поддается улучшению и что старая
«истина» всегда может быть заменена лучшей, едва только
эта лучшая появится в поле зрения. И постоянная сдача в
архив устаревших истин, сопровождающая научный
прогресс, не заставляет нас отчаяться в истине, вызывает не
уныние, а растущее чувство удовлетворения —
достигнутым. Поэтому гуманист с улыбкой встречает обвинения в
том, что его теория — «скептическая».
Не тревожит его и то, что его истина ненадежна. Его
истина в каждый момент — победный итог всех прошлых ее
поисков. Да, абсолютной достоверностью она не обладает,
потому что такой достоверности не существует вообще. Ну
и что — если существует практическая достоверность?
Достоверность, как и истина, зависит и должна зависеть от
фактов, на которых она покоится; но она может стать столь
большой, что не будет вызывать никаких сомнений. Это —
практическая достоверность, и психологически она равна
абсолютной. Ибо достоверность, в которой никто не
сомневается, достаточно хороша. Если она не вызывает никаких
актуальных сомнений, то абстрактная возможность того,
что когда-нибудь они возникнут, не уменьшает
психологической достоверности. Если наступит такое время, когда
истина заменится другой, мы станем верны новой истине и
будем радоваться ей, как прежде. Таким образом, хотя у
каждой истины своя пора, всякой поре довлеет своя истина.
-287-
Это не только утешительная, но и вдохновляющая
доктрина, ибо она не ставит пределов познанию и всегда
гарантирует нам ценность своей службы.
И, наконец, понимая истину как ценность, а логику
как исследование этой ценности, гуманизм улучшает
отношения между науками. Он ставит логику в один ряд с
этикой и эстетикой и уменьшает, если не устраняет
полностью, возможность конфликтов между разными
нашими ценностями. В дальнейшем будет показано, что в
гуманизме этика вырастает так же легко и естественно, как
логика, из жизненных потребностей, из практических
затруднений, с которыми сталкивается на этой земле
человек.
Многозначные логики — и другие*
Более пятидесяти лет я прилежно дознавался у
логиков, чем, по их мнению, занимается логика — то есть, каков
ее предмет, — и как он соотносится с предметами других
наук, с которыми она вступает в контакт и поддерживает
более или менее дружественные или враждебные
отношения. С сожалением должен сказать, что дознаться об этом
оказалось не легче, чем отыскать Святой Грааль. Мало
того, что расспросы не привели ни к какому
вразумительному результату — от логиков, стремящихся к большей
ясности относительно целей и предмета своих занятий,
пришлось услышать, что неразбериха, царящая в их науке,
неуклонно и быстро увеличивается. Правдивость этого
утверждения едва ли надо доказывать подробно: оспаривать
ее не станет ни один человек, осведомленный о нынешнем
положении дел. Но краткий обзор ситуации послужит
хорошей преамбулой к тем исправительным мерам, которые
я могу предложить, и поэтому я взял на себя
неблагодарную задачу: членораздельно описать состояние
исследований, фигурирующих под названием «логика».
Сегодня на это название претендуют не меньше
четырех направлений. Как научные системы, они
несовместимы; между ними нет прямых и очевидных логических и
* Впервые опубликовано: Mind, п. s., XLIV (1935), pp. 467-483.
-289-
психологических связей. Они настолько отличаются, что
их даже трудно счесть разными видами одного рода
1. Прежде всего, есть старая греческая логика
диалектического спора, достигшая вершины и высокой степени
совершенства в силлогистике Аристотеля; для краткости
назовем ее «Барбарой». Это не только старейшая, но также
самая простая и доступная из логик — и все еще,
по-видимому, самая убедительная. Это все еще единственная
логика, которую широко преподают молодым (и, возможно,
единственная годная для преподавания). Если логики
захотят откровенно рассказать о своем прошлом, они все,
возможно, признаются, что в то или иное время
находились под большим впечатлением от Барбары и были более
или менее в нее влюблены! Требуется время и зрелость,
чтобы воспротивиться ее обаянию, распознать ее трюки,
отказаться от ее затей.
Но кое-что сказать в ее защиту можно, если взглянуть
на нее исторически. Первоначально цель логических
исследований в Афинах V века до н. э. была судебная: в
отсутствие адвокатов (их еще не придумали) молодые люди из
высших классов жаждали учиться публичной речи, дабы
защитить себя и свое имущество от вечных посягательств
профессиональных доносчиков, которые таскали их в суд,
состоявший из враждебных демократов. Поэтому молодые
люди шли к софистам, чтобы учиться составлять речи, и к
Сократу — учиться искусству перекрестного допроса.
Таким образом, главной потребностью, которую приходилось
удовлетворять логическим исследованиям, была
диалектическая победа и «доказательство»; надо было одолеть
оппонента, разгромить его так, чтобы он понял, что побежден и
сам признал, что побежден. Естественно поэтому, что
Барбара стала логикой последовательности и насилия и
сделала упор на принуждении сопротивляющегося ума к тому,
чтобы он склонился перед «необходимой» истиной.
Единственной ее целью было убедить противника в том, что он
непоследователен и сам себе противоречит, загнать его в
угол и принудить к безоговорочной капитуляции.
-290-
В целом Барбара справлялась со своей задачей
очень успешно — настолько хорошо, что две с лишним
тысячи лет никто не решался усомниться в ее
универсальной применимости и вскрыть основания ее
могущества. Но неразумно было ожидать, что методы,
служащие для изобличения инакомыслящего, будут пригодны
и для изучения природы; а когда у эмпирических наук
образовалась такая цель, мода на Барбару, естественно,
стала сходить на нет. Новые науки не могли ее
использовать и не использовали. Правда, она попробовала дерзко
блефовать, внушая миру, что силлогически доказанное
заключение должно квалифицироваться как вечная
истина и вправе предсказывать будущее реальности; если
верно сегодня, что все люди смертны, утверждала она,
это гарантирует, что все будут умирать всегда1. Тем не
менее, исследование природы силлогистическими
методами не оказалось успешным, хотя «индуктивные»
логики проявляли по отношению к Барбаре крайнюю
почтительность, если не сказать — жалкое раболепие, и без
устали доказывали, что их методы позволяют достичь
формальной «правильности» и «абсолютной»
достоверности. К тому же Барбара, когда ее обвиняют в
эмпирической несостоятельности, может оправдаться тем, что
вина лежит на «содержании» знания, а не на «форме» и,
следовательно, остается в силе утверждение, что она
описывает «идеал знания», если ей даны «абсолютно
истинные» посылки.
Ввиду этого для эффективного разоблачения
Барбары, надо подступиться к ней с «формальной» стороны. Но
с этой стороны она надежно укрыта за колючей
проволокой языкового употребления, поскольку, в самом деле,
основана на довольно полном анализе (индоевропейской)
речи. Однако и здесь она уязвима. Ибо, хотя она долго не
позволяла логикам поднять острый вопрос о том, гарантирует
ли силлогистическая форма, что лексическая
тождественность ее терминов предполагает реальное тождество
обозначаемых ими объектов в их разных контекстах, тем не
-291-
менее, ясно, что от этого предположения решительным
образом зависит «правильность» силлогизма. На самом деле,
она не обеспечена ничем, кроме тождественности среднего
термина в посылках. А это не обязательно нечто большее,
чем чисто лексический факт. Если средний термин в
отношении к меньшему обнаруживает иное значение, чем в
отношении к большему (пусть даже это будет
исключительный случай), то силлогизм распадается надвое. Предвидеть
же это невозможно, пока мы не попытались употребить
средний термин; а когда это произошло, понять, почему
рассуждение сбилось с пути, мы сможем, лишь
обратившись к «содержательному» знанию о данном случае.
Поэтому потенциальную неопределенность среднего термина
(которая может обернуться актуальной
неопределенностью при употреблении) следует рассматривать как
формальный и роковой изъян силлогизма.
Следующее возражение против силлогистического
анализа проистекает из сомнения в том, что он способен
отобразить естественное развитие значения терминов в
связи с ростом познаний. Ясно, что с ростом знаний
значение терминов, в которых они выражены, должно
постоянно изменяться. Значение должно расширяться или
сужаться, становиться более расплывчатым или более
четким и определенным. Поэтому применение к нему
постулата (принципа) тождества становится все более
сомнительным. И в развивающейся науке аргументация,
основанная на лексической тождественности терминов,
всегда будет рискованной и, чем дальше, тем менее
убедительной. Вот почему эмпирические науки не смущает
обвинение в непоследовательности: зачастую они как
будто наслаждаются противоречиями.
И далее: значения слов нельзя зафиксировать даже
в повседневном употреблении. Ибо и нерационально и
психологически невозможно составить высказывание,
предполагая, что оно не сообщает адресатам ничего
нового. Поэтому всякий раз, когда «S есть Р» перестает быть
пустым сочетанием слов и становится действительным
-292-
суждением, надо считать, что оно изменяет значение
своих слов: оно меняет «S» на «S, предикатом которого
может служить Р», а «Р» — на «Р, которое может служить
предикатом S». Таким образом, одно из главных (хотя и
неявных) допущений аристотелевой логики, а именно,
фиксированность терминов оказывается фикцией, ввиду
чего нельзя считать, что эта логика отображает реальное
мышление. Последнее нуждается лишь в достаточной
устойчивости значений и достаточном знакомстве с
лексическими значениями, чтобы субъективный смысл,
вкладываемый в слово одним собеседником, мог быть донесен
до другого в актуальном контексте.
2. Затем мы можем воздать должное метафизической
логике, которая все еще ставит себе задачей раскрыть
глубинный смысл и развитие реальности посредством мысли
и даже предписать ей ход развития с помощью априорного
анализа мышления. Ее фундаментальное допущение
запечатлено в максиме Спинозы о том, что порядок и связь
идей — те же, что порядок и связь вещей; самым
влиятельным представителем этой логики по-прежнему может
считаться Гегель.
Что касается имени, учитывая оракульский характер
ее ответов и ее нежелание сойти с треножника и
включиться в суету научных дискуссий, уместно наречь ее здесь
«Пифией».
Прошлое Пифии несомненно свидетельствует о том,
что она большая чаровница — не столько благодаря
рациональности ее рассуждений, сколько благодаря ее
готовности потакать тайным амбициям и желаниям многих
философов. Если поставить вопрос прямо и по существу, —
почему надо думать, что ход событий должен отвечать
запросам человека? Психологически это вполне
объяснимо. Прелестно было бы, если бы у нас были причины в это
верить, но спрашивать о причинах Пифию отважится
только дерзкий. Методологически мы имеем полное право
экспериментировать с любой гипотезой, которая кажется
нам привлекательной и будет полезна, если подтвердится;
-293-
но отсюда очень далеко до догматического утверждения
a priori, что вселенная обязана отвечать нашим
интеллектуальным (или иным) запросам. Зияющую пропасть
между идеальным и реальным так просто не перепрыгнуть.
Дело в том, что метод Пифии во всех существенных
логических моментах совпадает с методом так
называемого онтологического доказательства существования
«Бога». Она пытается вести аргументацию от понятия,
существующего в сознании, к его осуществлению в
реальности, причем, не вдаваясь в историю этого понятия и
породившие его психологические мотивы. Этот метод
всегда был камнем преткновения для великих, но
честных философов, таких, как Аристотель, Фома Аквинский
и Кант. Сколько бы его ни опровергали, он всякий раз
возрождался и по очень понятной причине: единственной
альтернативой априорному методу является подтверждение
действенности опытом, иначе говоря, законченный
эмпиризм, воспринимаемый как нестерпимое оскорбление
таких понятий, как «Бог», «бесконечность», «вселенная» и
«абсолют».
Когда поклонники Пифии снисходят до
рассмотрения конкретных логических проблем, они неизменно
совершают три важных ошибки. Они воображают, что
истина должна обитать в целом и налагают табу на отбор. Они
отвергают также концепцию релевантности, которой
оправдывается практика отбора в науках. И, в-третьих, они
полностью игнорируют целенаправленную природу
мысли. В остальном они так же привержены вербализму, как
Барбара, и все метафизические «доказательства»,
отсылающие к закону противоречия, строятся в конечном счете
на традиционном значении слов.
Хотя и Барбара, и Пифия постоянно сталкиваются с
трудностями, пытаясь избежать метафизики, с одной
стороны, и вербализма, с другой, обеим кажется, что они
могут сойтись в своем отрицании психологии. Это отнюдь
не мешает им принимать (догматически)
психологические допущения и сохранять в своей структуре большое
-294-
количество психологии (по большей части устарелой).
Но обе ненавидят психологию — по принципу odisse quern
laeseri* — той неутомимой ненавистью, какую рождает
нечистая совесть.
3. Их позиция резко контрастирует с чисто
эмпирическим психологизмом в логике. Эта логика предметами
своего дискурса считает суждения, а не пропозиции,
откровенно ищет сотрудничества с психологией и желает
быть служанкой наук. Она не пытается устанавливать им
закон, а скромно ограничивается наблюдением за тем, что
делают науки, как и насколько удается им накапливать
драгоценные запасы знаний. Посвятившая себя черновой
работе наблюдения, презираемая большинством логиков,
она вполне может назваться Золушкой. Но в один
прекрасный день явится принц, освободит чернавку от
неблагодарного труда и усадит рядом с собой на трон,
править упорядоченным царством вразумительных истин. А
пока что мы должны оставить Золушку за ее скромной
работой и перейти к рассмотрению четвертой и в настоящее
время наиболее агрессивно-энергичной концепции
логики, а именно, к логистике.
4. Логистика представляется в сущности гибридом, а
вернее, даже — вдвойне гибридом. По одной линии она
происходит от соединения старейшей логики с
древнейшей из наук — математикой. Но некоторые из более юных
ее форм являются продуктом дальнейшего скрещивания —
логистики с прагматизмом. Ибо то, что называется
«логическим позитивизмом», по-видимому, сочетает в себе
прагматистскую теорию значения с интеллектуалистиче-
ской концепцией истины и математическим методом
изложения. Какова бы ни была в точности ее родословная,
логистика в избытке наделена тем, что у биологов
называется «гибридной силой».
Какое ей присвоить имя? Она желает называться
Анализом; но ввиду того, что анализов всегда может быть
* Ненавижу тех, кого обидел (лат.).
-295-
больше одного и что недавно она дала поросль
«многозначных логик», для описания ее, пожалуй, уместно
воспользоваться префиксом «поли-». Назовем ее поэтому
«Поллианна».
Претензия Поллианны на статус единственной
подлинной и правильной логики основаны на
нескольких пунктах. Умственный кругозор Барбары был
несколько узок и ограничивался отношениями субъекта и
атрибута. Но почему, спрашивалось, не могут
подвергаться логическому исследованию другие отношения? Кроме
того, Барбара могла жонглировать всего тремя
терминами одновременно — еще одно свидетельство ее
ограниченных возможностей. Опять же ей решительно не
хватало точности.
А точность — это идеал, всегда обладавший
неизъяснимым очарованием для академического ума. Считалось,
что ею отмечены допущения и методы самой строгой из
наук — математики, начатками которой мучила каждого
школьника для пользы его души каждая система
образования. Профессиональные логики быстро оценили
садистический потенциал логистики. И провозгласили
точность первым требованием «современной» логики.
Но когда их просили привести пример или дать
определение точности в логике, они, к сожалению, не могли
объяснить, что подразумевают под этим словом. Они
могли лишь важно указать в сторону математики и заявить,
что логика и математика идентичны.
Но с той же трудностью столкнулась и математика:
что здесь в точности означает «точность»? Она явно не
означает, что математические объекты точно воспроизводят
физические реалии, и что физические реалии являются
точными осуществлениями математических идеалов.
Прямые линии, окружности и единицы нельзя
скопировать с природы, потому что в природе их не найти; в то же
время, физические константы — год, месяц, сутки —
неточны и непостоянны2. Напрасно постулировали
астрономы, что небесные тела движутся строго по окружностям;
-296-
тщетно 1ромоздили эпицикл на эпицикл, чтобы сделать
астрономию «точной» наукой; ими же добытые факты
заставили их признать, что их законы и формулы служат
лишь удобству вычислений. Платон еще в давние времена
понял, что в чувственном мире точности нет; но о Боге
продолжал думать как о математике. Ему следовало бы
добавить, что когда Бог «занимается геометрией», он
делает это очень неточно.
На самом деле, точность математики означает, что
математика — это наука, которая может определять свои
объекты без оглядки на реальность. Математические
истины относятся, прежде всего, к идеальным объектам,
которые создал и определил сам математик. Но по отношению
к природе математический идеал — всего лишь команда,
которая может выполняться, а может и не выполняться.
Правила арифметики выполняются для самых разных
объектов; но если мы разумны, то не будем ожидать, что
прибавление двух капель ртути к двум другим даст четыре —
или двух львов к двум ягнятам, или что два получится при
сложении быка с коровой. Так же и философы не должны
тешиться тем, что определения — это откровения
сущности, которая делает вещи такими, каковы они есть, и что они
никак не зависят от эмпирических фактов. Если
определение сформулировано не так, чтобы оно было ириложимо к
чему-нибудь в реальности, оно бесплодно, излишне и, в
конце концов, бессмысленно; единственный способ
гарантировать его полезность — позволить реальности
подсказать идеал, который будет воплощен в определении. У
математиков хватило для этого здравого смысла. Они взяли
за образец прямой линии луч света и разработали
геометрию — о чем до сих пор свидетельствует ее название — в
помощь сельскому хозяйству.
Значение точности в определениях ограничено еще
и тем, что в математике, как и во всех других науках,
знания растут, и определения должны поспевать за ними.
Как носители растущего знания, они должны постепенно
менять свой смысл. Если же они проявят излишнюю кос-
-297-
ность и не пожелают расширяться, их придется сдать в
архив. Но в большинстве своем научные термины
допускают такую растяжимость, которая доходит до словесной
противоречивости. Ни одному физику не придет в голову
отказаться от понятия «атом» из-за того, что «атом»
означает «неделимый», а современный атом превратился в
гнездо с целым выводком проблем. Обычный способ
расширения дефиниций в математике — по аналогии, а метод
этот, как известно, логически совсем не строгий. В общем,
абсолютную точность следует отвергнуть как
бесполезную фикцию, по крайней мере, в математике.
Математика не поддержит Поллианну даже в
разговоре о большей или меньшей степени точности. Ибо, чтобы
определить их, потребуется абсолютный стандарт
точности, которого, как мы видели, не существует, или же какое-
то непосредственное восприятие качества,
проявляющегося в разной степени, как, например, теплота воды, или
сладость вина, или остроумие шутки. И если Поллианна
желает уподобиться математике, ей не стоит чересчур
настаивать на своей точности.
Так же, как Барбара и Пифия, Поллианна не хочет
заниматься процессами, благодаря которым действительно
прирастает человеческое знание. Поэтому и объектами
своими она считает не суждения, а пропозиции. Но не
довольствуется ими, чтобы брать их такими, как есть, и оставлять
чисто словесными формулами. Родство с математикой
требует, чтобы она мыслила их как аналог математических
функций. Им должны быть приданы переменные,
принимающие разные значения — и таким образом в логику
вводятся «пропозициональные функции». В связи с этим,
понятно, возникает новый вопрос: как связана истинность
пропозиции с истинностью пропозициональной функции.
Вопрос этот осложняется тем, что значение
пропозиции нельзя установить, пока «пропозиция» не
образована путем выбора переменных, который превращает
пропозициональную функцию в пропозицию. Например, в:
«Если А любит В, то А съест В» — многое будет зависеть
-298-
от того, человек ли А или козел, а В — девушка или
капуста; а также, если А — человек, то не людоед ли он. Ясно,
что говорить об истинности или ложности пропозиции
преждевременно, пока не установлены ее контекст и
значение. Казалось бы, к такому заключению подводит
обыкновенный здравый смысл, но поклонники Поллианны
почему-то этого не заметили.
Не заметили они и того, что трудно найти
пропозиции, которые не превращаются в пропозициональные
функции (или, наоборот, в полностью
конкретизированные суждения) всякий раз, когда мы пытаемся
использовать их в реальных рассуждениях, а не в искусственных
процессах жонглирования символами и
манипулирования формулами. Вот уже четверть века я тщетно прошу
их: (1) построить пропозицию, термины которой при
ближайшем рассмотрении не окажутся переменными, и (2)
построить пропозициональную функцию, истинность
которой не зависит от того, как ее применят. Тем не менее,
они продолжают говорить о функциях, которые «всегда
истинны»; под этим подразумеваться могут только
функции, из которых нельзя получить ложных «пропозиций»
путем присвоения их переменным значений,
подобранных так, чтобы пропозиция получилась ложной.
Не заставляет ли это решительно усомниться в
самом существовании пропозиций и, следовательно, в том,
что формальная логика не является псевдонаукой, не
имеющей объектов? Если мы признаем аналогию между
логикой и математикой — а это можно сделать, не требуя
от них тождества, — то пропозициональная функция
представляется чем-то достаточно понятным. Она
подобна математической функции, и обращаться с ней можно
так же. То есть, это формула, включающая в себя пробелы,
которые надо заполнить, дабы придать ей значение,
претендующее на истинность. Сделав это, ею можно
пользоваться, правильно или неправильно, успешно или
наоборот. И когда она использована многократно,, мы можем
определить, хороша ли она, позволяет ли получить пра-
-299-
вильные результаты или нет. Но всякий раз, когда ею
пользовались, ею пользовался кто-то, и она становилась
«суждением»; она переставала быть «пропозицией».
Так что такое пропозиция в доктрине Поллианны?
И где в природе, помимо учебников логики, она
встречается? На эти вопросы, по-видимому, нет ответов. А то, что
обычно называется пропозицией, — всего лишь словесная
формула, которую можно использовать в самых разных
контекстах и в самых разных целях. Ее значение, ее
ценность и ее истинность зависят от ее употребления. И
способов установить их иначе как через употребление,
по-видимому, нет. Но если ею когда-нибудь воспользовались с
успехом, она остается потенциально полезной и
приобретает потенциальные значение и истинность, иначе говоря,
логическую ценность. Но поскольку ее употребления
разнообразны, в абстракции она всегда неопределенна, хотя
неопределенность ее может полностью исчезнуть, когда
она употреблена в подходящем контексте. Поллианна,
даже в самых передовых ее формах, кажется, еще не
осознала эту ситуацию. Не провела она еще и крайне
необходимого различия между потенциальной истинностью
пропозициональной функции (или так называемой
«пропозиции») и актуальной истинностью целесообразного
суждения. Свою концепцию истинностных значений она
просто позаимствовала у математики и с большим
опозданием начинает понимать, насколько неадекватна эта
концепция задаче описания сложных научных
умозаключений.
Для математики было вполне естественно, что
истинностными значениями, принятыми как нечто
самоочевидное, должны быть только «истина» и «ложь» и,
поскольку не ставился вопрос о том, насколько они могут
быть истинны, и не выяснялось, как именно надо
понимать «истину» и «ложь», их следовало воспринимать как
абсолютные. Неразумно было бы ожидать от специальной
науки, чтобы она критически рассматривала технические
термины, не принадлежащие к сфере ее специальных ин-
-300-
тересов. Обсуждать природу истинностных значений —
дело не математики, а логики (или гносеологии). Поэтому
естественно и справедливо, что математика
воспринимала истину и ложь как два взаимоисключающих
истинностных значения и оперировала своими функциями,
интересуясь только их истинностью или ложностью.
Поллианне же следовало отнестись к этому более
критически, и, в самом деле, скоро она столкнулась с
необходимостью более тонких различий. В конце концов, не
обо всех высказываниях можно было уверенно сказать,
что они либо истинны, либо ложные. Иные претендовали
на высший титул «необходимых истин», тогда как другие
объявлялись противоречивыми или невозможными.
Признать, что, рассматривая пропозиции как возможные или
вероятные, мы указываем на отношение к ним человека, —
это казалось опасной уступкой в пользу психологии.
Однако такое признание подспудно содержалось, например, в
«модальности» пропозиций. Кроме того, в самой
математике сложилась отрасль, называемая теорией
вероятностей, и трудно было отрицать, что вероятности могут быть
основой для умозаключений. Таким образом, абсолютная
истина и абсолютная ложь перешли в разряд предельных
случаев, к которым стремятся, никогда не достигая их,
вероятные истины наук.
В результате Поллианне пришлось признать, что
она была слишком наивна. Ее двузначная система
символов не отражала сложности наук, и требовалось ввести
иные истинностные значения. Стало ясно, что между
абсолютно истинным и абсолютно ложным лежит
бесконечная область степеней вероятности. Поэтому
удовлетворительная символическая логика обязана выработать
символы для них всех. Но когда это сделано, становится
ясно, что понятия абсолютной истины и абсолютного
заблуждения уже излишни, и с ними можно расстаться, о
чем и заявил недавно на Пражском философском
конгрессе профессор Ганс Рейхенбах (работающий ныне в
Стамбуле).
-301-
Ввиду этого научное будущее и двузначной логики,
оперирующей только значениями «истина» и «ложь», и
многозначных вариантов, искусно сконструированных
профессором Лукасевичем и другими польскими
приверженцами Поллианны, представляется сомнительным.
Если истинностные значения в науках, по сути —
вероятности, единственным пригодным для науки логическим
символизмом должен быть такой, где значения меняются
непрерывно в границах между истиной и ложью и
допускают применение количественных методов. С этой точки
зрения Поллианна в ее нынешнем виде недостаточно ма-
тематична.
В других же отношениях она кажется чересчур
математической. Ибо истина и ложь — не единственные
значения, с которыми вынужден считаться логик. Он
постоянно сталкивается с бессмысленным и
неопределенным и едва ли даже подступился к исследованию этих
обширных областей. Возможно, к списку тем, которые
следовало бы формализовать исчерпывающей
символической логике, должны быть добавлены релевантность и
нерелевантность. Но в данной статье я не могу это
обсуждать. Конечно, при выработке истинностных
значений они выступают в роли препятствий, факторов
отрицательных; но большинство логиков еще не осознали,
какие западни вырыты на их пути бессмысленным с
одной стороны, и неопределенным — с другой. Поэтому
нижеследующее надо рассматривать как элементарное
введение в этот запутанный, но чрезвычайно важный
предмет.
Многие логики до сих пор думают, что от
бессмысленного можно избавиться, просто объявив его
несуществующим. Они считают, что «закон исключенного
третьего» позволяет утверждать, что все должно быть либо А,
либо не-А, и игнорировать альтернативы «и то, и другое»
(неопределенность) и «ни то, ни другое»
(бессмысленность), которые официально признала даже Барбара —
хотя озабочена ими была достаточно мало.
-302-
Кроме того, существует большая путаница в связи с
логическим статусом тавтологий и противоречий.
Основная ошибка формальных логиков состояла здесь в
предположении, будто природу тавтологий и противоречий
можно определить, размышляя над словесной формой
пропозиций, выглядящих тавтологичными или
противоречивыми. Они стремились таким образом избежать
трудностей, связанных с выяснением, являются ли
кажущиеся тавтологии и противоречия в действительности
таковыми. На самом же деле, это предположение очень
часто оказывается роковой ошибкой.
Тавтологии долго считались бессмысленными и
потому игнорировались, хотя теперь есть сильная
тенденция считать их самыми чистыми формами формальной
логики. В действительности же бессмысленны только
формы: реальные тавтологии — от «я — это я» и тому
подобное — полны значения и обычно очень нагружены
смыслом. Если бы этикет позволял логикам исследовать
смысл, вкладываемый людьми в тавтологии, это им сразу
бы стало ясно.
Противоречия же, с другой стороны, когда их
существование удостоверено, на самом деле лишены смысла,
хотя этот факт человеческой психологии, к несчастью,
затемнялся из-за того, что их пытались трактовать как
доказательства ложности. И здесь тоже первая обязанность
логика — обнаружить подлинное противоречие.
Большинство противоречий — всего лишь словесные, и логик
обязан проникнуть за словесную форму и спросить
высказавшегося противоречиво, что он имел в виду.
Тогда выяснится, что подразумевалось нечто
непротиворечивое, хотя смысл был выражен парадоксальным,
а, возможно, и неудачным образом. Может даже
выясниться, что (словесные) противоречия естественно
возникают в процессе развития науки и являются одной из
болезней роста. Они возникают тогда, когда старые слова
приходится использовать для передачи новых значений,
и традиционные значения преобразуются, замещаются.
-303-
Так, будет педантической глупостью возражать против
дарвиновской теории происхождения видов на том
основании, что виды неизменны, или против современного
представления об атомах на том основании, что атом
неделим. Такие противоречия, когда они появляются в
актуальном контексте, сродни ирландским быкам Махаффи,
«всегда стельным»*. Это вызывающие, яркие,
парадоксальные способы возвестить новое в мысли.
Однако из-за путаницы, царящей в человеческих
головах, случаются и подлинные противоречия. Они
возникают, когда рассуждающий теряет нить мысли и
высказывает два (или более) утверждения, хотя одновременно
верить в них не может и одновременно высказывать их не
намеревался. В таком случае это можно (иногда) довести
до его сознания, указав, что его высказывания
«противоречивы». Тогда он может исправить свое утверждение. Он
может держаться одного из противоречивых
высказываний и отречься от другого. Он может объяснить, что в том
смысле, какой он в них вкладывал, они не противоречивы.
Или, наконец, он может отказаться от обоих и занять
новую позицию. Если он это сделал, значит, понял, что его
прежняя позиция несостоятельна и общий смысл в его
высказываниях отсутствует.
Но даже в этом последнем случае правильный
вывод состоит не в том, что сказанное им ложно, а в том, что
оно лишено смысла. Поэтому ему надо ответить, что он не
сказал ничего, и попросить его (по возможности
вежливо), чтобы он сказал что-нибудь. Он должен попробовать
еще раз и выразить значение, которое может быть
истинным или ложным. Итак, потому именно, что подлинное
* Игра слов. «Bull» — по-английски «бык»; но кроме того «bull» или
«Irish bull» — «вздор», «нелепость», «противоречие в терминах» (Irish —
потому, что к этому якобы склонны ирландцы. Есть предположение, что
слово происходит от имени Обадайи Булла, лондонского адвоката -
ирландца, жившего во времена Генриха VII и знаменитого подобного
рода ошибками). Таким образом, сэр Джон Махаффи (1839-1919),
вероятно, предложил способ отличать ирландские нелепицы от быков.
-304 -
противоречие уничтожает смысл, оно не может быть
показателем ложности: оно лишь оставляет поле свободным
для нового утверждения. Видимое противоречие, самое
большее, дает основания заподозрить отсутствие смысла,
и то поначалу; в общем же, противоречие является
убедительным доводом в пользу того, что логика не может
игнорировать бессмысленное.
И, наконец, прежде чем оставить тему
бессмысленного, заметим, что наряду с неверифицируемостью, одна
из самых распространенных причин бессмысленности —
неприменимость, проявляющаяся у абстрактных
высказываний, которые приобрели логический статус в связи с
теориями и рассуждениями, хорошо
зарекомендовавшими себя в прошлом.
Такие высказывания особенно распространены в
математике, где возможно разработать аппарат, далеко
опережающий современные потребности других наук, и
строить длинные цепи гипотетических рассуждений, пока
что не имеющих никакой прикладной ценности. Но эти
исследования основаны на допущениях, находивших
приложения в прошлом, и часто случается так, что
впоследствии приложение находят себе даже самые бесполезные
разделы математики. Если же какая-то отрасль
математики оказывается настолько бесплодной, что не может даже
позабавить никого, кроме своего создателя, то ее
забрасывают как лишенную смысла.
В логике давно сложилось обыкновение не отличать
неопределенность от бессмысленности. Обычно их
объединяют, поскольку обе несовместимы с простой
дизъюнкцией «истинно или ложно» и обе не отвечают желанию
логика вывести простое и правильное заключение. Когда
мы встречаемся с неопределенным высказыванием, мы не
можем понять, что оно значит, ибо «его» нет.
Следовательно, мы не можем, исходя из него, вести рассуждение.
Множественность значений, из которых мы не имеем
возможности выбрать одно, так же сбивает с толку, как и
полное отсутствие значения3.
-305-
Однако надо понимать, что два эти случая на самом
деле разные. Неопределенное высказывание расстраивает
работу логика, поскольку выражает слишком много
значений, не позволяя ему сделать выбор; бессмысленное
высказывание останавливает его потому, что вовсе лишено
значения. Следовательно, с бессмысленным логик не
может сделать совсем ничего, оно попросту ставит мысль в
тупик. Неопределенность, наоборот, должна быть
сильным стимулом к исследованию всякий раз, когда есть
подлинное желание знать. Это очень важное различие нельзя
замалчивать, и от него нельзя отделаться, объявив всякий
разговор о желании знать или делать выводы —
«психологией».
Самая важная форма неопределенности — это
достоинство, присущее строению языка и любого другого
символизма, служащего для передачи значений. Слова и
символы могут употребляться не один раз — этим, по
большей части, и обусловлена их полезность. Благодаря
этому они приобретают собственное значение, вербальное
значение, в отличие от первоначального индивидуального
значения, заложенного в них теми, кто их придумал;
таким образом, они становятся общеупотребительными. В
принципе, все они — универсалии, пригодные для
использования в бесконечном числе случаев и способные
служить бесконечно разнообразным целям. Не обладай они
этим достоинством, их полезность была бы равна нулю.
Язык, состоящий исключительно из слов разового
употребления, был бы непонятен.
Но есть и оборотная сторона медали: у слов есть
дефекты. Именно благодаря их достоинству им свойственно
то, что несколько глупо называют «неопределенностью».
Ибо если слово употреблено вторично, оно применяется в
ситуации, более или менее отличающейся от первой, и его
значение будет слегка отличаться от первоначального.
Значения в этих двух случаях не будут абсолютно
идентичны. Новое от старого зачастую отличается очень
сильно. Поэтому формально логик всегда имеет право объя-
-306-
вить, что слово употреблено в двух смыслах и стало
неопределенным.
Однако использовать таким образом понятие
«неопределенность» неразумно. Во-первых, такая
неопределенность не порок, а достоинство мысли; во-вторых, ее
нельзя избежать. Поэтому гораздо разумнее назвать ее
многозначностью4 и подчеркнуть, что она не
препятствует передаче значений, а является условием мысли, что она
потенциальна и вовсе не обязательно становится
актуальной в контексте, и что существует гораздо более опасная
ситуация, которой и должен ограничиваться термин
«неопределенность».
Ситуация эта возникает тогда, когда слова,
используемые для передачи значения в актуальном контексте,
могут быть истолкованы не единственным способом — не
в абстракции, как вербальная формула, а в их актуальном
контексте. В результате мы не знаем, как их понимать,
сомневаемся, тот ли вложен в них смысл, не можем
разрешить ни одного связанного с ними вопроса. Они могут
быть истинными в одном смысле и ложными в других или
вообще неприменимыми, а потому лишенными значения.
Проблемы, которые ставит перед формальным
логиком такая неопределенность, может быть, лучше
проиллюстрирует маленький анекдот, чем долгие рассуждения.
Не так давно я имел честь присутствовать на собрании
логиков — в основном «современных», которые были
глубоко озадачены вопросом: «Если А любит В, а В любит С,
как относятся друг к другу А и С?». После неловкой
паузы я осмелился заметить, что А и С, вероятно, ненавидят
друг друга. Ясно, что предположение это не основывалось
ни на какой формальной логике и не могло
квалифицироваться как логически правильное. Основывалось оно
исключительно на человеческой психологии. Но, по
существу, на этот вопрос не могло быть ответа, ибо все его
термины бесконечно расплывчаты и неоднозначны. Неизвестно
было, кто такие А, В и С — мужчины, женщины, дети,
собаки, кошки или ангелы. Следовательно, искомое отно-
-307-
шение распадается на ряд альтернативных возможностей:
оно будет зависеть от значений, которые мы дадим
переменным, и от того, в какой мере мы будем учитывать
настроения и меняющиеся обстоятельства. В любом реальном
случае отношения будут полностью конкретизированы и
индивидуальны: они будут зависеть от характера
персонажей и обстоятельств, а не от доктрин, которые будет
угодно выдвинуть логику. Непонятно, чем тут могут
помочь доктрины, зато совершенно ясно, что если мы будем
следовать логике, то легко можем ошибиться.
Очень неприятные формы этой (подлинной)
неопределенности возникают, когда слова (как это регулярно
происходит в формальной логике) считаются гарантией того,
что между двумя контекстами их употребления нет
существенной разницы. Тогда они могут стать источником
далеко идущих ошибок. Если несомненное «яйца есть яйца» мы
сочтем априорной гарантией качества яиц, поданных нам
на завтрак, нас может ждать разочарование. Поэтому, если
мы разумны, то должны понимать, что в умозаключениях
нельзя основываться на вербальных тождествах или даже
на тождествах, которые могут оказаться всего лишь
вербальными. Мы всегда должны быть готовы к тому, что в
терминах любого рассуждения есть нечто хамелеоновское,
и когда мы их употребим, они могут оказаться
неопределенными. Они всегда переносятся из одного контекста и
применяются к другому; а обстоятельства меняют дело.
Именно из-за того, что такая подлинная неопределенность
возможна, все априорные выводы рискованны, и мы
вынуждены искать эмпирического подтверждения даже
совершенно правильно доказанным заключениям.
В-третьих, встречается такая неопределенность,
когда альтернативные значения не просто присутствуют,
а привнесены умышленно. Когда высказывание
построено так, чтобы его можно было понять в разных смыслах,
неопределенность его не случайна, а намеренна — и часто
злонамеренна. Такую неопределенность следует
квалифицировать как экивокацию, и она вполне обычна в дип-
-308-
ломатии, политике, вещаниях оракулов, в шутках и
некоторых разновидностях философии5. Практически
единственный способ избавиться от последних двух видов
неопределенности — спросить, какая из альтернативных
интерпретаций предусматривалась; но значит ли это, что мы
играем по правилам формальной логики?
Как же быть Поллианне с этими осложнениями? В
принципе, надо бы распространить на них свой
символизм. Теоретически это, наверное, возможно; но чтобы
сделать это, ей придется сильно расширить свой набор
«зловещих знаков». В дополнение к знакам,
указывающим, истинно или ложно следует пропозиция или ряд
пропозиций из другой пропозиции (или другого ряда), ей
придется указывать, на какую степень вероятности
претендует вывод. Ей придется указывать, действительно ли
процесс значащий или значимость только кажущаяся,
действительно или только с виду он противоречив,
действительно или только с виду он релевантен. И, наконец, ей
придется формализовать все возможные виды
неопределенности. Одно это подразумевает не только
исчерпывающее знание прошлых употреблений, но и пророческое
постижение всех будущих.
Признаюсь, я не завидую Поллианне, взявшей на
себя такую задачу. Воображение мое отказывает, когда я
пытаюсь представить себе страницы поллианновой логики
будущего. По сравнению с ними самые трудные главы
Рассела и Уайтхеда покажутся простыми, доступными и
ненаучными. Но самые мучительные сомнения одолевают
меня, когда я задумываюсь о возможности обучения этой
логике будущего. Действительно ли Поллианна —
воплощение гибридной силы, как нам казалось? Не дьявольская
ли это, наоборот, иллюзия, не злокачественная ли опухоль,
которая несет смерть логике? И логики, следующие ее
путем, — туда ли они идут, куда ведет разум? Или движет
ими самоубийственный импульс норвежских леммингов?
Пока на эти вопросы не будет дан умный и убедительный
ответ, я лично предпочитаю ютиться на кухне у Золушки.
-309-
Примечания
1 Ср. мою статью «Are All Men Mortal?». Mind, n. s., XLIV (1935), pp.
204-210.
2 Кроме тех случаев, когда их постоянство — на самом деле постулат
научного метода. Например, скорость света принимается постоянной;
но любопытно, что эмпирические измерения даже этой «константы»
давали все убывающую величину. Это можно связать с теорией
«расширяющейся вселенной», альтернативой которой, напомним, является
гипотеза о том, что все составляющие вселенной сокращаются.
Сохранение материи и энергии тоже многие признают теперь всего лишь
методологическим постулатом.
3 Ср.: A. Sidgimck. Elementary Logic, p. 108 п.
4 Альфред Сиджвик называет это: «indefiniteness». Ср. мою кн. Formal
Logic, pp. 26-28.
D А иногда и в юриспруденции — как, например, в решении судьи Кэ-
рью по делу Глории Вандербильт. Когда судью спросили, что означает
его загадочное постановление, он ответил: «Оно означает именно то,
что в нем сказано. Оно составлено так, чтобы вы не поняли и не могли
выяснить его смысл». Ни один формальный логик и вполовину не был
еще так откровенен!
Данные, дательный и отложительный*
В последнее время мы много слышим о «данных» и,
в общем, склонны полагать — не очень задумываясь,
обоснованно ли, — что они каким-то образом важны или даже
необходимы для понимания познавательного процесса.
Не ставя здесь прямо под вопрос это предположение —
хотя оно вполне может вызвать определенный
скептицизм, — я готов признать без доказательств, что какое-то
отношение к познанию «данные» имеют. Но даже
согласившись с этим, я не могу отделаться от неприятного
впечатления, вызванного царящей в некоторых кругах
путаницей насчет отправной точки как самого познания, так и
того, что называется «анализом познания», а также
нечеткостью и недостаточностью словаря, используемого
философами при рассмотрении этой ситуации. Путаница, на
мой взгляд, объясняется в основном тем, что
недооценивают сложность ситуации познания, и ее можно
значительно уменьшить, расширив наш словарь и введя более
тонкие различия. Данная статья — небольшой шаг в этом
направлении.
Что касается отправной точки в описании познания,
здесь мы, по-видимому, располагаем значительным
выбором. Так, мы можем скромно начать с проблемы реального
* Впервые опубликовано: Journal of Philosophy, XXX (Aug. 31, 1933),
pp. 488-494.
-311 -
процесса познания, рассмотреть, как можно двигаться от
имеющегося к дальнейшему знанию, и, не посягая на
большее, наблюдать, как наши познания растут. Этот метод
будет психологическим в широком смысле, хотя наши
академические психологии, возможно, не захотят им
пользоваться. Или же мы можем занять позицию олимпийскую:
размышлять ex post facto о достигнутом знании, которое
является продуктом познавательного процесса, и гордо
озирать его в свете его успехов, действительных или
предполагаемых. По историческим причинам этот метод носит
название гносеологического. Ясно, что два эти
предприятия совершенно разные и их легко различить. Тем не менее,
их часто путают. Этой путанице я хочу объявить войну.
Второе предприятие, вдохновлявшее почти все
теории познания, имеет вполне амбициозную программу.
Суть ее — не описание, а открытая или завуалированная
оценка познания. Первое же, хотя и не должно
игнорировать когнитивные ценности, само по себе не нуждается в
чем-то большем, нежели в психологическом описании
фактического процесса.
Затем надо отметить, что если мы хотим заняться
теорией познания, то у нас есть большой выбор теорий. Всякое
знание можно описывать и оценивать в терминах
рационалистической, эмпирической, реалистической,
идеалистической, кантианской, докантианской или посткантианской
теории познания. И всякая теория познания может быть
осложнена и запутана любым количеством любой
метафизики. Таким образом, мы должны признать, что в принципе
есть бесконечное число исходных позиций в гносеологии и
отправляющихся от них «гносеологии». Общим у них
будет то, что все будут предполагать знание имеющимся, все
будут ex post facto. Они будут, по удачному выражению
профессора Лоуэнберга, «постаналитическими», то есть
перегруппировками, перетасовками логических
абстракций. Следовательно, им не будет никакой нужды вникать в
реальный процесс рождения знаний; они не должны
претендовать даже на описание такого процесса. К сожалению,
-312-
они часто претендуют на то, чтобы быть описаниями —
даже единственными приемлемыми описаниями — с
неопределенной точки зрения, то ли психологической, то ли
логической, то ли смешанной, то ли ни той ни другой, подобно
знаменитой «Критике» Канта. Но строго говоря, им нечего
делать с психологическим фактом и порядком событий.
Соответственно, когда они выступают с такой претензией,
они всякий раз не могут ее подтвердить, и если бы все они
отказались от этой претензии, путаницы было бы гораздо
меньше. Тогда мы могли бы свободно выбирать себе
гносеологию и честно обосновывать свой выбор ее
эстетическими достоинствами; могли бы с чистой совестью
наслаждаться сложностями кантовской системы и красотами
гегелевской диалектики. А устав от высоких полетов эстетики
и пожелав вновь прикоснуться к матери-земле, могли бы
без помех заняться описаниями познавательного процесса
и наблюдать широко раскрытыми глазами то, что будет в
некотором смысле фактами.
Правда, даже нам не избежать выбора между
альтернативами — мы должны поставить себе первую цель и
затем отслеживать фактическое развитие знания. Мы,
конечно, избежим множества искажающих «рефлексий» и
фантастических интерпретаций действительного
процесса; но прежде чем двигаться дальше, нам все равно
придется решить, какой психологический процесс мы
намерены наблюдать и с какой точки зрения. И здесь нам
придется рассмотреть, по меньшей мере, три весьма несхожие
альтернативы.
(1) Мы можем очень просто и естественно
отправляться от индивидуального сознания философского
наблюдателя. Обычно это более или менее трезвый и
взрослый ум, ставший тем, что он есть, в результате
исторического процесса. Природные способности философа, его
образование, социальное положение — короче, все его
склонности и история — оставят след на его наблюдающем
уме и будут частью инструмента, с помощью которого он
надеется описать рождение знания. Из всех разнообразных
-313-
видов «данных» и смыслов этого слова — те, что возникают
в контексте индивидуальной души, в наибольшей степени
могут считаться первичными и поистине «данными»; но
даже о них едва ли можно сказать, что они в абсолютном
смысле даны, и в совокупности они определенно образуют
не космос, который принимается, а хаос, который
преодолевается.
(2) Мы можем встать на точку зрения здравого
смысла и считать само собой разумеющейся истинность
или, по крайней мере, дескриптивную ценность
допущений реализма, опирающегося на здравый смысл. К этой
позиции философы склонны относиться с
неоправданным презрением. Они считают, что она их недостойна и
едва ли даже достойна их внимания. Но им следовало бы
иметь в виду, что у нее длинная родословная и за ней
стоит долгая история. Мировоззрение, основанное на
здравом смысле, — результат длительного развития и
воплощение большого народного опыта: это мировоззрение,
успешно развитое человеком и его предками в сношениях с
миром, где они жили и сумели выжить. Оно получило
всестороннее прагматическое подтверждение, и
отмахиваться от него нельзя. Однако надо признать, что
подтверждение это — только прагматическое, и что решения
его — преимущественно практические. Поэтому не
следует ориентироваться на них там, где они перестают быть
полезными; они не предназначены для того, чтобы быть
полными теоретическими описаниями всех вещей и для
этого обычно не годятся.
Кроме того, надо отметить, что данные на уровне
здравого смысла — всегда социальные факты и от них не
требуется большего. Они могут быть конвенциями, фикциями,
предрассудками, не обязательными для познающего
индивидуума, который может их в действительности и не
принимать. Всегда есть такие люди — и зачастую их много, —
которые не верят в то, во что принято верить, и не делают того,
что принято делать. Поэтому апелляция к данным здравого
смысла всегда сопряжена с некоторым риском.
-314-
И, наконец, все (особенно философы) должны
остерегаться апелляции к здравому смыслу после того, как
отказались от него ради чего-то предположительно
высшего. Это чревато невероятной путаницей. Но боюсь,
немногие философы были избавлены от таких рецидивов.
Философы — люди, а атавизм в человеке очень силен.
(3) Мы можем встать на точку зрения науки и
наблюдать, как развивается научная истина. Этот выбор
приводит к новым альтернативам. Научная точка зрения
расщепляется на точки зрения конкретных наук в
конкретное время; «наука» состоит из наук, и у каждой свои
проблемы и своя история. Так что в этой рубрике на
самом деле много точек, откуда можно наблюдать за ростом
знания. Однако не надо думать, что эти точки зрения
совпадают с точкой зрения познающего индивидуума или с
точкой зрения здравого смысла. Научные данные, data*,
на которых строится наука, это не те более или менее
сырые данные, которыми оперирует познающий
индивидуум или здравый смысл. Они всегда sumpta**, отобранные
из того, что выглядит как data на более низком,
ненаучном уровне, и отбор диктуется интересами конкретной
науки; кроме того, видят их обычно в чарующем свете
модной в данный момент научной интерпретации. Таким
образом, научные данные — буквально творения науки,
плоды весьма избирательных ценностных суждений,
продиктованных интересами и целями той науки, которая
ими пользуется. Ничто не может быть дальше от
ускользающего идеала по имени «чистый факт».
Поэтому нетрудно понять, какая страшная
возникает путаница, если все данные, отвечающие всем этим
уровням и всем этим контекстам, смешивают в сплошную
аморфную массу. Я не представляю себе, как может
родиться из такой путаницы исправная и вразумительная
теория познания.
* Данные {лат.).
** Взятые (лат.).
-315-
Если мы согласимся ограничить наши данные
научным уровнем, то поставим себя в тесные рамки, которые
не позволяют наукам представить предельную истину о
реальности в целом. Ибо с научной точки зрения
релевантна не вся человеческая история, а только та ее часть,
которая к этой точке вела; также — и не все человеческие
склонности. Для целей научного описания может быть
принята только позиция ученого — именно как ученого.
Следовательно, наше описание, скорее всего, будет
составлено в гораздо более узких и более абстрактных
терминах, чем в двух предыдущих случаях.
Однако и в этих более простых случаях нам
придется прибегнуть ко множеству абстракций. Ибо позиция
здравого смысла уже предполагает колоссальную
фильтрацию первичного опыта. Она исключила громадные
массы его, отправила в брак с ярлыками: «нереальное»,
«воображаемое», «мечта», «иллюзия», «галлюцинация»,
«заблуждение»; она поставила высокую пробу на
привилегированный его остаток, который считает
прагматически пригодным. Познающий индивидуум также высоко
избирателен; избирательны его интересы, и он отнюдь не
свободен от предрассудков. Его реакции и
интерпретации определяются его прошлым и имеют отношение к
его будущему: в них запечатлены его цели, надежды и
страхи, и они никак не отвечают идеалу чистого,
непредвзятого, бескорыстного знания.
Поэтому, если надо во что бы то ни стало держаться
традиционных идеалов чистой науки, чистой
априорности, абсолютной истины и абсолютного факта, нам
придется далеко за ними ходить, и, может статься, вернемся мы
с пустыми руками.
Скорее всего, наверное, их стоит искать в самом
раннем младенчестве познающего индивида. Поэтому нам
порекомендуют воскресить психологического младенца и
внимать, затаив дыхание, простодушным крикам,
которыми он приветствует первую встречу с реальностью. Однако
нам быстро придется признать, что чистым может быть
-316-
только самый первый его крик. Второй уже будет замутнен
и подпорчен памятью о первом, и к тому времени, когда его
безыскусный лепет превратится в средство
межличностного общения, он будет повязан всей софистикой
человеческой речи и всей метафизикой, хранящейся в языке.
Ясно, что разные философские веры, даже
гносеологии, в лучшем случае возводили свои храмы на
слишком узких каменных вершинах. И мораль этого, вероятно,
такова, что если мы хотим практически описать процесс
познания, то лучше нам не гоняться за абсолютными
данными; лучше, наверное, понимать данные иначе и
примириться с использованием данных, честно признающихся в
том, что они относительны — соотносятся с нашей точкой
зрения, которая служит исходной точкой, с целями,
которые мы имеем в виду, с наличными знаниями, с
используемыми методами, с экспериментами, проведенными или
предполагаемыми.
Прорубив себе путь в этих дебрях, как мы должны
мыслить наши данные? Если мы разумны и
осмотрительны, то, прежде чем двигаться дальше, я полагаю, надо
ввести целый ряд разграничений.
Будем различать поэтому data — то, что дано, и
sumpta — то, что взято. Заметим еще, что, прежде чем
данные, считающиеся таковыми, приобрели свой нынешний
вид, очень многое было принято как нечто заведомое,
само собой разумеющееся, и очень многое отобрано и
отсеяно. Возникает вопрос: а можно ли вообще встретить или
добыть каким угодно способом такую вещь, как чистые
данные? Всегда позволительно выяснить: приятие каких
данных служит какой-либо полезной цели в конкретном
исследовании?
Мы должны также оставить место для
разнообразных inventa* — того, на что мы натолкнулись, набрели,
нашли, даже если сомневаемся, гарантирует ли само
наличие этой находки возможность употребить ее с пользой.
* Найденные {лат.).
-317-
И самое главное, мы должны добиваться того, чтобы
стали явными отношения, подспудно лежащие в этих
понятиях. «Данность», datum, скажем мы, в сущности,
тройственна: она не может быть данностью, пока кем-то или
чем-то не дана кому-то, причем дана для какой-то цели
или исследования. Эти три отношения надо иметь в виду,
их надо отметить и прояснить раньше, чем обсуждать
всесторонне какую-либо данность. Аналогично, «взятое»,
sumptum, взято кем-то, из чего-то, для какой-то цели.
Даже «найденное», inventum, явившееся словно из-под
земли, должно иметь контекст, который наблюдаем; и даже
если оно просто повстречалось кому-то, повстречаться
оно должно где-то и когда-то. Все эти детали, которые
наблюдаемы в любом реальном процессе познания,
следует вытащить на свет Божий, а не замалчивать и не
утаивать, как было принято. Ибо всегда может оказаться, что
они связаны с целью и ценностью рассуждения и всегда
связаны с его смыслом. Поистине, большую работу надо
проделать над данными до того, как они станут годны для
употребления.
И, наконец, позвольте мне оправдать заглавие.
Оказалось, что термин «данные» крайне расплывчат,
обманчив, и его трудно обосновать; но, в каком бы смысле нам ни
было удобно употребить его, разумно будет назвать «да-
тивами»* то, что мы получили, на наш взгляд, из
принятых нами данных. Тогда наши «дативы» будут дарами
или даяниями, и мы не должны забывать о долге
благодарности дарителям. Термин же «аблятивы»** будет
обозначать продукты любого процесса отделения, абстракции
или отбора. И учитывая, что все или почти все сущности,
названные «дативами», соотносятся с отправными
точками, целями и методами, которые нельзя представить чем-
то просто данным или приобретенным без участия
умственной деятельности, и мы приходим к ним путем разной
* Датив (от лат. dativus) — дательный падеж.
** Аблятив (от лат. ablativus) — отложительный падеж.
-318-
степени абстракции и отбора, не должны ли мы объявить,
что наши «дативы» надо считать «аблятивами»?
Этот вывод мне представляется неопровержимым.
Он завершает работу, начатую две тысячи лет назад
величайшим из грамматиков и авторов учебной литературы —
или, как говаривал Джеймс, грозой наших школ — Юлием
Цезарем, когда он распознал в латыни отложительный
падеж «аблятив» и вычленил из «датива», дательного, с
которым тот был слит. А если философы не пожелают принять
мои результаты и вытекающее из них прояснение
терминологии полностью, меня это не слишком обескуражит. Ибо,
возможно, сочтут, что сказанного здесь достаточно, чтобы
принудить верующих в «данные» к обороне и слегка их
расшевелить. Я даже льщу себя надеждой добиться от них
прямого объяснения, что именно они подразумевают под
«данными», какого рода данные требуются им для их
метафизик и теорий познания, откуда они предлагают их
получать и как предлагают обосновывать. После этого лично я
и, возможно, еще кто-то будем пребывать не в такой
растерянности, плавая в утлой ладье человеческого разума по
открытым морям и глубоким водам гносеологии.
Все ли люди смертны?*
Эту статью я должен начать с извинений. В ней не
будут представлены зрелые плоды неустанной работы над
эликсиром жизни и даже глубокие соображения об
эсхатологии. Задача ее гораздо скромнее. Я хочу
всего-навсего обсудить одно положение логики — точнее,
формальной логики.
Для того чтобы следовать за моими рассуждениями,
читателю не потребуются эзотерические знания;
достаточно будет припомнить знакомый силлогизм, с
помощью которого логики вот уже две тысячи лет пытаются
продемонстрировать разом и ценность силлогизма, и
смертность человека. Исходить я буду только из того, что
всем нам внушали, будто если верно, что все люди
смертны и что Сократ — человек, то из этого необходимо
следует, что Сократ смертен. И разве мы не принимали близко
к сердцу печальную судьбу Сократа и молча не
примеряли ее к себе? И не верим ли на основании этого
силлогизма, что тоже умрем? Не признаем ли, что он служит
неопровержимым доказательством смертности не только
Сократа, но и всех остальных людей?
Нас уверяют все представители точной логики — а
сегодня семьдесят пять процентов логиков считают свою
* Впервые опубликовано: Mind, п. s. XLIV (1937), pp. 204-210.
-320-
дисциплину «точной», — что силлогизм этот —
«правильное» рассуждение и что его истинность неоспорима. Так
что у нас как будто и нет надежды вырваться из тисков
логики, неумолимой, как сама смерть.
Эту традицию я хочу поставить под сомнение. Я
хочу показать — не в первый раз, — что в принятом
понимании она неправильна формально и ошибочна как
предсказание. А что до точности... Боже правый! Если этот
силлогизм — наглядный пример «точности», благодарю судьбу,
что не осмелился посягать на звание точного логика!
Критику уместно начать с краткого обзора древних
возражений, выдвигавшихся против этого образца
силлогизма. Вскоре после того, как он приобрел известность,
заметили, что этот «правильный силлогизм» являет собой
пример известной логической ошибки, а именно petitio
principii. Ибо не зависит ли истинность большей посылки от
истинности заключения? Могут ли быть смертны все люди
без того, чтобы был смертен Сократ? Разве не принадлежал
он к той же компании обреченных? Формальный и строгий
логик не имеет права утверждать, что все люди смертны,
пока не будет знать наверняка, что смертен Сократ.
Смертность Сократа, триумфально доказанная заключением,
неявно подразумевалась уже в большей посылке.
Но формальный логик не обескуражен.
Капитулировать перед таким очевидным возражением для него
унизительно. Он предусмотрительно запасся еще двумя-
тремя козырями и намерен их разыграть. Он отрицает, что
большую посылку силлогизма надо толковать как сумму
фактов и наблюдений. Ее надо понимать как определение:
человекоподобное (в остальном) существо, если оно не
смертно, то оно не «человек». Но, увы: тогда то, что якобы
доказывает силлогизм, подразумевается в меньшей
посылке, где Сократ назван «человеком», где
предполагается, что он человек в том смысле, что человек по
определению — смертный.
Но у формальных логиков есть еще третья линия
обороны. Есть третья интерпретация силлогизма, кото-
-321-
рая, по их убеждению, сделает его правильным и
неуязвимым. Большую посылку надо понимать не как
определение или исчерпывающее, а потому невозможное
перечисление частных случаев, а как связь общих понятий или
формулировку закона природы. Примем ее так — и
неизменный порядок вещей, постоянство Природы
гарантируют верность заключения.
Честно признаться, это утверждение кажется мне не
лучше прежних. Тут предполагается, что волшебного
слова «общее» довольно, чтобы обратить критика в бегство, и
что ни у кого не хватит духу спросить, как смертность
человека вообще гарантирует гибель Тома, Дика и Гарри.
Однако если я буду защищен от покушений, пока не
кончу, то попробую разобраться с этим допущением
подробнее. Позволю себе смиренно поинтересоваться,
почему логик так уверен, что всякое индивидуальное есть не
что иное, как частный случай чего-то «общего», под
которое кому-то угодно это индивидуальное подвести, и
почему он полагает, что если его классификация уместна в
каком-то отношении или для какой-то цели
(снисходительно допустим, что он их исследовал), то она пригодна во
всех отношениях и для всех целей (всего множества
которых он не может даже вообразить)? Логик, безусловно,
может подвести индивидуальное под любую угодную ему
универсалию; но разве не может несчастное
индивидуальное взбунтоваться и воспротивиться классификации?
Всякое индивидуальное вполне конкретно; в разных
контекстах оно может быть примером самых разных общих
понятий; при этом всеми ими его индивидуальность
может не исчерпываться. Кроме того, применительно к
какой-то цели одна универсалия может быть лучше другой;
одна может быть уместной и пригодной, другая — нет. Как
говорил Альфред Сиджвик, для некоторых целей термос
может оказаться грелкой.
Как же тогда можно доказать, что частный случай
некоего общего для одной цели должен быть частным
случаем общего для другой? И чем, позволено будет спро-
-322-
сить, доказано, что каждое индивидуальное,
рассматриваемое с определенной целью как частный случай некоего
общего, должно функционировать как частный случай
оного для всех других целей?
Почему каждый частный случай некоего общего
должен демонстрировать все свойства этого общего? Не
может ли быть исключительных случаев, на которые в
особых обстоятельствах нормальное правило не
распространяется? И не может ли интересующий нас случай
оказаться в некоторых отношениях исключительным?
Пытаясь доказать смертность Сократа соответствием
человеческой природе вообще, как мы можем знать a priori,
что не наткнемся на такое его свойство, которое делает его
исключением?
Так что и в этой третьей интерпретации силлогизм
содержит ту же ошибку petitio principii. В нем
предполагается, но не доказывается, что наш случай — Сократ — не
может иметь черт, не свойственных природе человека
(такой, какой мы ее знаем сегодня). Рассуждение идет так:
Естество человека (включая сократово) смертно;
Сократ — человек;
Сократ смертен.
Но, утверждая, что Сократ не способен сделать
ничего исключительного, поскольку он вообще человек, мы,
во всяком случае, не можем сослаться на автора этой
конструкции — Аристотеля. Ибо (как я когда-то отметил1)
Аристотель по-своему понимал, что, по крайней мере, в
нашем подлунном мире возможны исключения из любых
правил, поскольку в нем царит случайность. То есть
общее правило — не обязательно всеобщее. Таким образом,
он готов был признать, что какое-то высказывание может
быть истинным вообще, но ложным в особом случае или
применительно к какой-то особой цели. А следовательно,
нельзя утверждать a priori, что частный случай подпадает
под общее правило. И если силлогизм требует, чтобы он
подпадал, то он выводит заключение из недоказанного
или игнорирует особые обстоятельства данного случая.
-323-
Итак, ясно, что не годится игнорировать протесты
Тифона, Еноха, Илии, Вечного Жида и прочих — всей
компании героев, являвших собой исключения из
«закона» смертности всех людей.
Если мы желаем действительно защитить
силлогизм и настоять на том, что он должен быть осмысленным,
нам надо заглянуть глубже — за эти наивные ухищрения
формальной логики. Нам надо отказаться от притязаний
на то, что наше рассуждение может отправляться от
абсолютно истинных посылок и приводить к абсолютно
истинному заключению. Мы не должны отрывать его от
научного контекста в исследовании, где достоверность —
цель, а не исходная предпосылка. Силлогизм должен быть
способом изложения гипотезы и формулировки
эксперимента, чей исход еще сомнителен, но может стать
наблюдаемым. В этом случае, если заключение окажется таким,
как предсказывалось, подтвердится наша вера в посылки
и увеличится их вероятность; но абсолютного
доказательства мы все равно не получим. Ибо логически это будет не
более, чем подтверждение гипотезы.
Мы должны также протестовать против нелепого
требования, чтобы вопрос о Сократе был решен
абстрактно и вне контекста. Ни один человек в здравом уме,
скажем мы, не станет рассуждать о Сократе, не зная, что
означает «Сократ» — покойного философа, или же негра-
раба, или кота, или персонажа из романа — и не зная,
какая в связи с ним возникла проблема. Дайте нам
реальную проблему, и мы сможем дать вам реальный ответ; но
не мучайте нас и себя незначащими комбинациями слов,
безнадежно расплывчатых, вернее, неопределенных.
Поэтому, если кому-то понадобится составить силлогизм о
каком-то «Сократе», это должно быть сделано в
контексте актуальной проблемы. Должно быть сделано потому,
что возник проблематичный «Сократ» и насчет него есть
сомнения. Он под большим подозрением. Человек он или
призрак? Умер он подобающим образом или он шарлатан
и делает вид, будто восстал из мертвых? Но во всех этих
-324-
случаях не должны ли мы признать, что заключение
нашего силлогизма всего лишь вероятно? Если, например,
словоохотливый призрак станет утверждать, что он и есть
«Сократ», а ему возразят, что он умер две с лишним
тысячи лет назад и должен оставаться мертвым, поскольку все
люди смертны, ему придется доказать, что он не ловкий
медиум в прозрачном одеянии, а психологическое
продолжение персонажа, которого рассерженные афиняне
давным-давно напоили цикутой. Но доказательство
духовного тождества, как известно, дело крайне
затруднительное: доказать его с абсолютной надежностью едва ли
можно, а без этого заключение «Сократ смертен» остается
спорным и сомнительным.
Причем сомнения будут разного рода. Ибо,
поспешно провозгласив вывод правильным и необходимым, мы
забыли поинтересоваться, что именно означают здесь
термины. Термин «человек» включает ли в себя «призрак»,
«дух», «привидение», «фантом», «морок»,
«галлюцинацию», «иллюзию»? И включает ли их в себя
применительно к нашей цели? И что означает «смертный»?
«Обреченный умереть», «могущий умереть» или просто «мертвый»?
То, что силлогистическим героем выбран Сократ, говорит
скорее в пользу третьего предположения. Но каким
образом из того факта, что Сократ мертв вот уже две с лишним
тысячи лет, следует, что обречены умереть все люди?
Если в случае Сократа «смертный» не означает
ничего большего, чем «мертвый», то не лишает ли это наш
больший термин однозначности, и не поселяются ли в
нашем «правильном» силлогизме четыре термина? Что
остается тогда от нашего неопровержимого доказательства
всеобщей смертности людей — бывших, нынешних и
будущих?
Ясно, что если ориентироваться на Сократа, слово
«смертный» должно означать мертвого. Оно не может
означать «могущего умереть» или «обреченного умереть».
И тогда, если мы интерпретируем последовательно, наш
силлогизм гласит:
-325-
Все люди мертвы;
Сократ — человек;
Сократ мертв.
Здесь определенно заключение кажется истинным;
также — и меньшая посылка, если мы готовы допустить,
что, жив человек или мертв, он одинаково «человек». А что
же наша большая посылка? Ведь из того, что мертвые
мертвы, не годится же выводить будущую смерть ныне живых?
Значит, попробуем еще раз. Отпустим Сократа
обратно в Аид (где ему и положено быть) и возьмем живого
человека, скажем, Муссолини. Можем ли мы уверенно и
безоговорочно утверждать, что Муссолини когда-нибудь
умрет, раз мертвы все, умершие прежде? Муссолини,
конечно, может взять пример с великих усопших; но я не
усматриваю ни логической, ни биологической
необходимости в аргументации, которая якобы принуждает его к
этому. Зачем ему подражать мертвым, а не живым? Почему
бы ему не положить начало новой традиции в биологии,
так же, как в политике? Почему бы какому-нибудь
фашистскому профессору физиологии не изобрести какое-
нибудь снадобье или образ жизни, которые увеличат до
бесконечности способность организма восстанавливаться
и отодвигать смерть? И почему бы Муссолини не
воспользоваться этим изобретением?
Далее: если бы такое открытие совершилось, что
стало бы с традиционной смертностью людей и
предполагаемым значением слова «смертный»? Ясно, что оно уже
не будет означать «обреченный умереть», поскольку
смерть всех людей перестанет быть неизбежной. А значит,
целесообразно — нет, просто необходимо — будет свести
значение слова «смертный» до «могущий умереть»,
поскольку люди не утратят способности умирать, еще не
будут «бессмертными».
Но что же тогда станется с нашим силлогизмом? Он
перестанет быть инструментом предсказания и уже не
сможет гарантировать нам смерть Муссолини. Ибо выглядеть
будет так:
-326-
Все люди могут умереть;
Муссолини — человек;
Муссолини может умереть... но кто его знает?
Вот мы и приблизились к тому, в чем, подозреваю,
заключается сущность формальной логики. Она обожает
силлогизм, и была верна ему при всех взлетах и падениях
его репутации потому, что считала его несравненным
инструментом предсказания a priori. Смертность человека
дорога ей не как свидетельство того, что умерли королева
Анна или Сократ, а как право предсказать будущую
смерть всех людей во все времена — право, которого не
посмеет оспорить никакая наука. С его помощью, кажется
ей, можно отделаться от неудобного юмовского вопроса:
«Почему будущее должно быть похоже на прошлое?».
Дано ли ей такое право? Она может обосновывать его
рядом впечатляющих и претенциозных принципов, таких,
как однородность природы, законы тождества и
непротиворечивости, устойчивость значений. Но если присмотреться,
опора эта оказывается шаткой. «Обоснованного
доказательства индукции» нет просто потому, что индукция — всегда
рискованный процесс. «Однородность природы» —
беспорядочная свалка принципов, среди которых наиболее
почтенны методологические; но она никак не защищает от
потока изменений. Законы природы — самое большее,
обыкновения вещей. Но разве не могут вещи поменять свои
обыкновения под действием достаточных стимулов? Во
всяком случае, у нас нет доказательства, что не могут. Закон
тождества — тоже не гарантия неизменности, ибо, несмотря
на него, все непрерывно претерпевает изменения. Когда
вещь изменилась настолько, что мы не хотим (или не
смеем) отождествлять ее с ее прошлым, — решать это нам
самим; мы вольны утверждать, что малейшее ее изменение
должно считаться фатальным для ее «тождества». Также
мы вольны объявить малейшее изменение нарушением
закона непротиворечивости — потому что вещь уже не то, чем
была, и, следовательно, «противоречит» себе. Тем не менее,
мы избегаем обращаться к этому принципу из опасения
-327-
предстать до смешного непрактичными элеатами,
отрицающими, что вещи могут изменяться. Все зти ссылки на
принципы оказываются пустыми угрозами, не находящими
подтверждения в природном устройстве.
Вербализм нас тоже не выручит. Мы, конечно,
можем объявить, что слова не должны изменять своего
значения, но не сможем отвернуться от того факта, что у них
есть более важные функции, нежели только сохранять
свое значение постоянным. Как, например, мы позволим
им передавать новые значения, порождаемые ростом
знаний и новыми изобретениями? Мы, разумеется, можем
издать декрет, что люди должны «ездить» только на
животных — на лошади, на муле, на слоне или даже, в крайних и
катастрофических случаях, как было с глупой девицей
Европой или молодой особой из Риги* — на быке или тигре;
но что нам делать тогда на велосипеде, на поезде, на
машине? Опять же, когда физик открывает целый мир
сущностей внутри «элементарного» прежде «атома», кто
прикажет ему либо ввести целый ряд новых терминов, либо
сохранить опрометчиво постулированную неделимость?
На самом деле, непрактично и неразумно пытаться
остановить естественное развитие значений,
сопровождающее рост знания; если меняется наша власть над
природой, должен меняться и описывающий ее язык. Напрасно
поэтому декретировать, что слово «смертный» должно
сохранять свое прежнее значение, хотя факты, для описания
которых оно было предназначено, могут коренным
образом измениться. Пусть наши слова развиваются вместе с
нашим знанием и нашими возможностями.
* Излимерика:
There was a young lady of Riga
Who smiled as she rode on a tiger;
They returned from the ride
With the lady inside,
And the smile on the face of the tiger.
(Молодая особа из Риги, улыбаясь, ехала верхом на тигре; когда они
вернулись с прогулки, особа была у тигра внутри, а улыбка — на морде
у тигра {букв, перевод).)
-328-
Итак, мы не можем основывать подлинные и
плодотворные предсказания на нынешних значениях слов. Ибо
не можем предвидеть, как они будут меняться. В мире,
очевидно способном к обновлению и изменениям, нет
абсолютного доказательства, нет абсолютной достоверности
вывода, нет исчерпывающего научного ответа на острый вопрос
Юма. Вернее, ответ может быть, в лучшем случае,
методологическим. Мы полагаемого de mieux*, что Природа
«однородна», потому что это — простейшее исходное
предположение и поначалу достаточное, чтобы направлять
исследование; но по мере того, как обнаруживается, к нашему
огорчению, его неточность, мы постепенно изменяем наши
формулы, пока они не начинают работать
удовлетворительно. Вся наша методика по существу эмпирична, и
притязания формальных логиков на то, что они могут
предвидеть будущее и безошибочно предсказывать его путем
«анализа» нынешнего значения слов, — абсурдны и
фантастичны. Это — самообольщение, измеряемое лишь высотой
претензий и глубиной самодовольного невежества.
Поэтому будем скромнее. Честно признаемся, что
нам неизвестно, всегда ли надо будет характеризовать
людей как «смертных», и что из формальной логики, во
всяком случае, такого заключения извлечь нельзя.
Примечания
1 Mindy п. s. XXIII (1914), pp. 1-18.
* За неимением лучшего (фр.).
Возможна ли «точность»?*
Удивительно, как очарован был идеалом точности
философский ум. Веками и даже тысячелетиями
философы мечтали о точности и надеялись, что, стоит достигнуть
ее, и все их неприятности останутся позади, все западни
на пути философского прогресса будут обойдены, и
всякая философская наука от психологии и логики до
метафизики с ее заоблачными высотами станет доступна
самому посредственному уму
Но какая же пропасть лежит между этими
упованиями и практикой философов! При всем их энтузиазме по
поводу точности, найдется ли другое сообщество ученых
мужей, которые были бы так небрежны со своей
терминологией и так презирали бы все ухищрения,
способствующие точности?
Опыт показывает, что привязать какой бы то ни было
философский термин к единственному значению
невозможно — даже ненадолго; невозможно даже сохранить
устойчивость его значения настолько, чтобы избежать
крупных недоразумений. Самые ясные и торжественные
дефиниции сводятся на нет их же авторами. И больше всего
этим грешили как раз самые знаменитые философы. Кант,
* Доклад, прочитанный на Восьмом философском конгрессе в Праге в
1934 году и опубликованный в его Трудах, VIII, pp. 123-129.
-330-
например, своей славой обязан в немалой степени штукам,
которые он проделывал с такими словами, как a priori,
«категория», «объект», и систематическому смешению
«трансцендентного» с «трансцендентальным». Едва ли найдется
такая философия, которая не жонглировала подобным
образом с неясными терминами. Если интерпретировать
теории философов в свете их практики, то им меньше всех на
свете пристало восхвалять «точность».
С другой стороны, есть все основания ожидать от
них, что они объяснят, каков смысл слова «точность» или,
по крайней мере, какой смысл они хотели бы ему придать.
Однако такого желания я у них не замечаю. Судя по
всему, они довольствуются ссылками на математику как на
«точную» науку и призывают философию относиться к
ней с почтением и стремиться к математическому идеалу
Чтобы понять «точность», мы, следовательно,
должны обратиться к математике и выяснить, «точна» ли
математика, и если да, то в каком смысле. Ясно, что
математика не точна в том смысле, что математические объекты
точно воспроизводят физические реалии; и физические
реалии не являются точными иллюстрациями
физических идеалов. В природе не найти ни прямых, ни
окружностей, а физические константы, — к примеру, год, месяц,
сутки — не точны. Платон это знал, но видел Бога
математиком; ему стоило бы оговориться, что, занимаясь
геометрией, Бог делает это очень неточно.
Значит, если соотношение между реалиями и
математическими идеалами понимать как копирование или
воспроизведение, «точным» оно быть не может. Что —
оригинал, а что — копия, неважно; реальность ли
копирует математический идеал, или идеал формируется по
образцу реалии — ни в том, ни в другом случае точности не
обнаружить.
Но может быть и такая точность, которая зависит
от определения, — а математики чрезвычайно гордятся
точностью своих определений. Определение может быть
точным, потому что оно — приказ, адресованный приро-
-331-
де. И выглядит это вполне бескомпромиссно. Если
реальность не дотягивает до определения — тем хуже для
реальности. Постольку, поскольку точность зависит от
определения, математика может быть точной.
Но у точности, достижимой таким образом,
по-видимому, есть пределы. Точность определения
ограничивается двумя препятствиями: (А) во-первых, надо найти
предметы, к которым данное определение действительно
относится; (Б) во-вторых, определение должно
сохраняться, несмотря на рост знания. Оба эти препятствия
могут оказаться роковыми для точности.
Что касается (А), ясно, что мы не можем
произвольно и неограниченно «определять» творения нашей
фантазии. Определения, ни к чему не относящиеся, лишены
реального значения. Поэтому единственный надежный
способ получить определение, которое будет действенным и
применимым к реальности, — позволить реальности, если
надо, идеализированной, самой предложить математику
определение. Математику хватило здравого смысла, чтобы
принять этот метод. Он позволил солнечному лучу
предложить определение прямой линии, и это обеспечило
евклидовой геометрии плодотворную область применения.
Но не сделало определение неизменным и не
зависящим от развития знаний. Математическое определение
продолжает зависеть от поведения реальности. Поэтому,
если обнаруживают, что луч света искривляется в
гравитационном поле, возникают глубокие сомнения в том,
что евклидова геометрия пригодна для космических
расчетов.
Что касается (Б), то давший определение сохраняет
право пересмотреть его. Сама структура определения
может навести математика на мысль развить его в каком-то
интересном и перспективном направлении. Но это может
привести к новому определению, которое опровергнет
точность первоначальной формулировки. Так, когда
математик дал «точное» определение окружности и эллипса,
ему может прийти в голову, что окружность — частный
-332-
случай эллипса, и интересно посмотреть, что будет, если
думать дальше в этом направлении. Он думает — и
приходит к «точкам на бесконечности» с их парадоксальными
свойствами. Опять-таки построение неевклидовых
геометрий лишило определенности и точности евклидовы
концепции — например, «треугольника». Тонкие
трансформации значения претерпевает даже такое элементарное и
как будто бы устойчивое понятие как «единица», когда
помимо операции сложения вводятся другие операции.
Таким образом, в математике, как и в других науках,
понятия неизбежно должны развиваться. Препятствовать
их развитию и ограничивать их определения
первоначальными невозможно. И как раз в математике наиболее
очевиден процесс расширения определений с той целью,
чтобы они допускали новые операции.
Основывается этот процесс на методе аналогии.
Если можно отыскать аналогию, которая обещает убрать
разрыв между одним представлением и другим, можно
предположить в качестве эксперимента, что они идентичны.
И если эксперимент удался с точки зрения того, кто его
провел, разница между ними игнорируется. Если бы
невозможно было толковать бесконечно малые то как нечто,
то как ничто, что осталось бы от логики
дифференциального исчисления? Но логик, по крайней мере, не должен
забывать, что аналогия не является правильной и
обоснованной формой вывода.
Можно ли сказать, что точность присуща символам,
используемым в математике? Вряд ли. Даже в самой
строгой математике + , — и = используются по-разному и,
следовательно, имеют разный смысл.
На самом деле, математические определения не
могут быть более точными, чем наше знание реалий, к
которым они прямо или косвенно относятся. И
математические символы не могут быть точнее слов. Думать иначе —
чистое заблуждение.
А что же слова? Откуда берется их значение, как
оно стабилизируется и изменяется? Слова приобретают
-333-
значение, будучи успешно использованы теми, кому надо
было какое-то значение передать. То есть, вербальное
значение есть производное субъективного значения. Когда
вербальное значение установилось и может считаться
известным, субъект может воспользоваться словом для
передачи нового значения, которое сочтет
соответствующим ситуации, где передача значения другим
представляется желательной или необходимой. Таким образом,
передача значения всегда — эксперимент и, вообще
говоря, она проблематична и неточна.
Кроме того, ситуация, которая требует такой
передачи, — всякий раз более или менее новая. Поэтому
успешная передача значения — то есть понимание его —
всегда связано с расширением прежнего значения, и со
временем это может привести к полной перемене исходного
определения. Например, когда в физике впервые
появился «атом», его определили как предельно малую и
неделимую частицу вещества. Теперь, как мы знаем, его делят
так часто, что, кажется, в нем найдется место для
огромного множества частей, и исследование его — самый
прогрессирующий раздел физики. Слово осталось, но
определение его изменилось радикально. Ибо у ученого, когда
он выясняет, что его прежние слова уже не годятся, всегда
есть выбор: изменить либо термины, либо определения.
Но ни в том, ни в другом случае — ни постоянства, ни
точности быть не может.
С определениями есть еще одна трудность.
Определены могут быть не все слова. С чего бы ни начинал и чем
бы ни заканчивал дающий определение, он пользуется
терминами, еще не определенными, или прибегает к
порочному кругу в определении. Поэтому если он жаждет
точности, то объявляет, что некоторые термины
неопределимы и не нуждаются в определении. Такая увертка
недостойна точного логика. Ибо если он утверждает, что эти
неопределимые постигаются интуитивно, то делает свою
«логику» заложницей психологии. Если он признает, что
не может гарантировать одинакового понимания двумя
-334-
людьми какого-то неопределимого, то подрывает этим
основание всякой точности. Таким образом, даже самые
точные определения плавают в море неточности.
Еще более отчаянное положение складывается, если
логик осознает, что ради точности он должен преодолеть
потенциальную расплывчатость слов. Он должен создать
слова, точно соответствующие конкретной ситуации, в
которой они употребляются. Иначе одно и то же слово в
одном контексте будет означать одно, а в другом — другое.
Оно будет расплывчатым — неоднозначным. Но тут,
возможно, логик принимает за дефект самое удобное
свойство слов, а именно — пластичность и способность
многократного использования их как носителей значения.
Ибо требование взаимно однозначного
соответствия между словами и значениями представляется
несравненно худшей альтернативой. Помню, как-то раз это
попробовал предложить из спортивного интереса лорд
Бертран Рассел. Недавно закончилась мировая война, и он
только что освободился из темницы, куда был помещен за
несвоевременную шутку. Рассел приехал в Оксфорд
прочесть перед студентами-философами доклад о том, что он
называл «неясностью». Меня попросили «открыть
прения» по этому докладу, в связи с чем я получил
возможность, как говорят в Голливуде, «предварительного
просмотра». Каково же было мое изумление, когда я
выяснил, что в качестве лечения от «неясности», то есть
возможности применять одно и то же слово к разным
ситуациям, Рассел предлагает обзавестись для каждой
ситуации отдельным словом! Безусловно, лечение
предлагалось радикальное; но в какое состояние оно повергло бы
язык! Язык, избавленный от неясности, состоял бы
целиком из одноразовых слов, hapax legomena*, почти сплошь
непонятных. Когда я указал на эти последствия, Рассел
весело согласился, и я ретировался с поля боя.
* Сказанное однажды (греч.); в языковедении — о словах или оборотах
речи, случайно, однократно встретившихся в каких-либо текстах.
-335-
Рассел верно диагностировал состояние точности.
Но оставил без внимания то, что предлагаемое лечение
неосуществимо и гораздо хуже мнимой болезни. Не
рассмотрел он и другой возможности: того, что способность
слов передавать множество значений не надо считать их
пороком, а надо отличать многозначность от актуальной
неопределенности.
Для логики жизненно важно, чтобы роль, которую
играют слова в передаче значения от одного лица к
другому, была понята правильно; но понимание это не
превращает ли «точность» в ложный идеал?
Что же в итоге остается от притязаний логистики?
Она, очевидно, низводит себя до игры фикциями и
вербальными значениями. Ясно, что идея закрепить
значения и заключить в неизменные символы — фикция. Ясно,
что вербальные значения, подлежащие фиксации, не
могут быть субъективными значениями, подлежащими
передаче в ситуации реального познания. Предположение,
что их можно точно установить — тоже всего лишь
фикция. Между правилами этой игры и реальными
проблемами научного познания не видно точек соприкосновения.
Вот в чем принципиальная разница между логистикой и
математикой. Чистая математика — тоже игра, но она
имеет реальные приложения. Логистика же выглядит
игрой, более далекой от науки, чем шахматы от стратегии.
Ибо наука имеет дело со значениями, складывающимися
у тех, кто исследует, то есть, с субъективными
значениями. При этом они экспериментальны. Они отзываются на
всякий прирост познания и соответственно изменяются.
Закрепление их означало бы застой и смерть науки.
Слова, когда их употребляют, нуждаются лишь в такой
устойчивости значения, которая позволит прежним смыслам
(определившим выбор слов) послужить ключом к
пониманию новых смыслов, подлежащих передаче. В
контексте, а не в абстракции. В абстракции они могут оставаться
сколь угодно «расплывчатыми», то есть потенциально
пригодными. Вреда от этого нет, пока это не приводит к
-336-
недоразумению при актуальном употреблении слова. И
когда экспериментатор слишком смело обновляет
принятые значения слов, правильная отповедь ему не: «Вы
противоречите значению своих слов», а: «Я не понимаю. Что
вы хотели сказать?».
Я вынужден заключить, что логистика —
интеллектуальная игра. Это фантазии, которым со страстью
предается подкованный в математике педант — что не делает их
обязательными для всех прочих. Возможно, у этой игры
есть то достоинство, что она отвлекает логистиков от
других проказ. Но я не вижу в ней ни серьезного подспорья
для осмысления научного процесса, ни педагогической
ценности — как средства для тренировки ума.
Именной указатель
Адикес, Эрих 131
Акбар, Джелаль-Ад-Дин 267
Александр Македонский 267
Алкивиад 10,28
Анаксагор 10,11,28
Аристотель 17, 66, 111, 133, 157,
158,169,173-175,178,211,217,
273-277,290,294,323
Аристофан 170,171
Ататюрк, Кемаль 254
Беркли, Джордж 18,115,116,134
Бруно, Джордано 12, 264
Брэдли, Фрэнсис 117,161
Бэббит, Ирвинг 85,86
Валла, Лоренцо 81
Вашингтон, Джордж 222
Венизелос, Элефтериос 254
Вольтер, Мари Франсуа 138
Вольф, Христиан 21
Вундт, Вильгельм 17
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих
13,116,133,273,293
Гейзенберг, Вернер 27, 71, 185,
226
Геродот 64,170,180
Гете, Иоганн Вольфганг 135,136,
137,139,142-144,146-148,150
Гитлер, Адольф 254
Гоббс, Томас 133
Гульд, Джей 256
Де Валера, Имон 240, 262
Декарт, Рене 16,17
Джеймс, Уильям 5,20,22,23,65,
71,84,85,87,132,147,319
Диоген Лаэрций 32
Дьюи, Джон 65,66, 72,84
Евклид 97,105
Зенон 222
Каллимах153
Кант, Иммануил 19-21, 23,
123-134, 188, 213, 216, 273, 313,
330
Карвет, Рид 67
-338-
Карл V 267
Карл Великий 267
Кармона, Антониу 254
Крез 64, 230
Крюгер, Ивар 257
Кэрролл, Льюис 240, 264
Лейбниц, Готфрид Вильгельм
17,21
Ленин, В. И. 254
Линкольн, Авраам 253
Ллойд Джордж, Дэвид 253
Локк, Джон 18,132,133
Лотце, Рудольф Герман 17
Лукасевич, Ян 302
Льюис, Синклер 86
Лэрд, Джон 155
Майерс, Фредерик 154
Макдональд, Рамсей 241, 242
Макензи, Дж. 85
Милль, Джон Стюарт 19
Мильтон, Джон 153
Мор, Элмер 85,86
Моррис, Чарльз 65, 66, 68,
70-72
Муссолини, Бенито 254,326,327
Наполеон Бонапарт 267
Нельсон, Горацио 279
Николай Кузанский 13
Ницше, Фридрих 133
Перикл 10, 28
Петр1 267
Пилсудский, Юзеф 254
Пирс, Чарльз 6, 71,84
Пифагор 9,158
Пифодор 10
Платон 11, 32-35, 42, 71, 100,
107, 111,115, 117,120, 133,135,
136,150,153-165,167-180,197,
203,211,248,255,297,331
Прингл-Паттисон, Эндрю 155
Протагор 10-12, 24, 27, 28-37,
81,82,88,106,114,196-198
Рассел, Бертран 38-50, 55, 73,
309,335,336
Рейхенбах, Ганс 72,301
Рузвельт, Франклин 254
Самсон, Леон 86
Сиджвик, Альфред 55, 70, 279,
310,311,322
Смит, Норман Кемп 126,128,219
Сократ 11, 12, 28, 31-36, 107,
133, 154, 164, 172, 174, 248, 278,
279, 281, 290,320,321,323-327
Спиноза, Бенедикт 13, 293
Тимур 267
Уайтхед, Альфред 309
Феодор 34, 35
Фома Аквинский 294
Франц Фердинанд 249
Фрасибул 12
Херст, Уильям Рэндолф 244
Хопкинсон, Остин 238
-339-
Хорти, Миклош 254
Цицерон, Марк Туллий 31,81,153
Чемберлен, Джозеф 250
Чемберлен, Остин 243, 244
Чингисхан 267
Шопенгауэр, Артур 13,133
Шпенглер, Освальд 228
Эйнштейн, Альберт 27,196
Эмпедокл 159
Эпименид 222
Юлий Цезарь 319
Юм, Дэвид 18-22,44,45,52,54,
115,124-126,129,134,187-189,
227,228,329
Якоби, Фридрих Генрих 130
Содержание
5 От редакции
Философия
9 Жгучие вопросы
24 Гуманистический взгляд на жизнь
38 Должен ли эмпиризм быть ограничен?
56 Искатели истины и провозвестники
65 Должны ли прагматисты не соглашаться
между собой?
74 Гуманизм и гуманизмы
90 Есть ли у философии что сказать миру?
102 Должна ли философия быть скучной?
113 Непоправимо ли расплывчат идеализм?
Литературная критика
123 Ультраготический Кант
135 Гёте и фаустовский путь спасения
153 «Федон» Платона — древняя надежда на бессмертие
168 «Государство» Платона
Философия и практика
183 Насколько нуждается в детерминизме наука?
191 Относительность метафизики
-341-
206 Этика, казуистика и жизнь
221 Пророчество и судьба
Политическая философия
237 Рассыпающаяся Британская империя
248 Жизнеспособна ли демократия?
266 Возможность Соединенных Штатов Европы
Логика
273 Гуманистическая логика и теория познания
289 Многозначные логики — и другие
311 Данные, дательный и отложительный
320 Все ли люди смертны?
330 Возможна ли точность?
338 Именной указатель
Фердинанд Шиллер
НАШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИСТИНЫ
Серия «Культура политика философия»