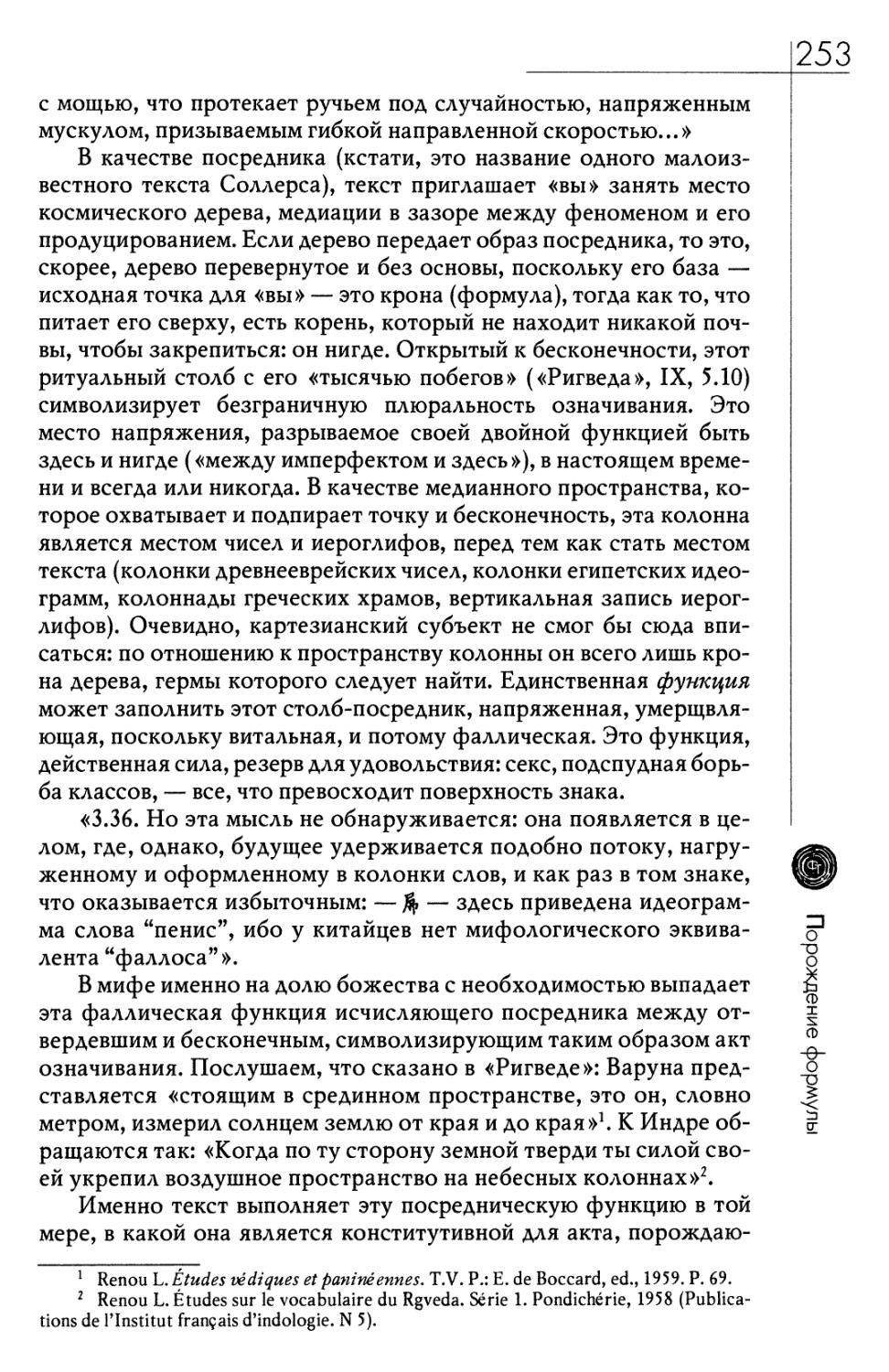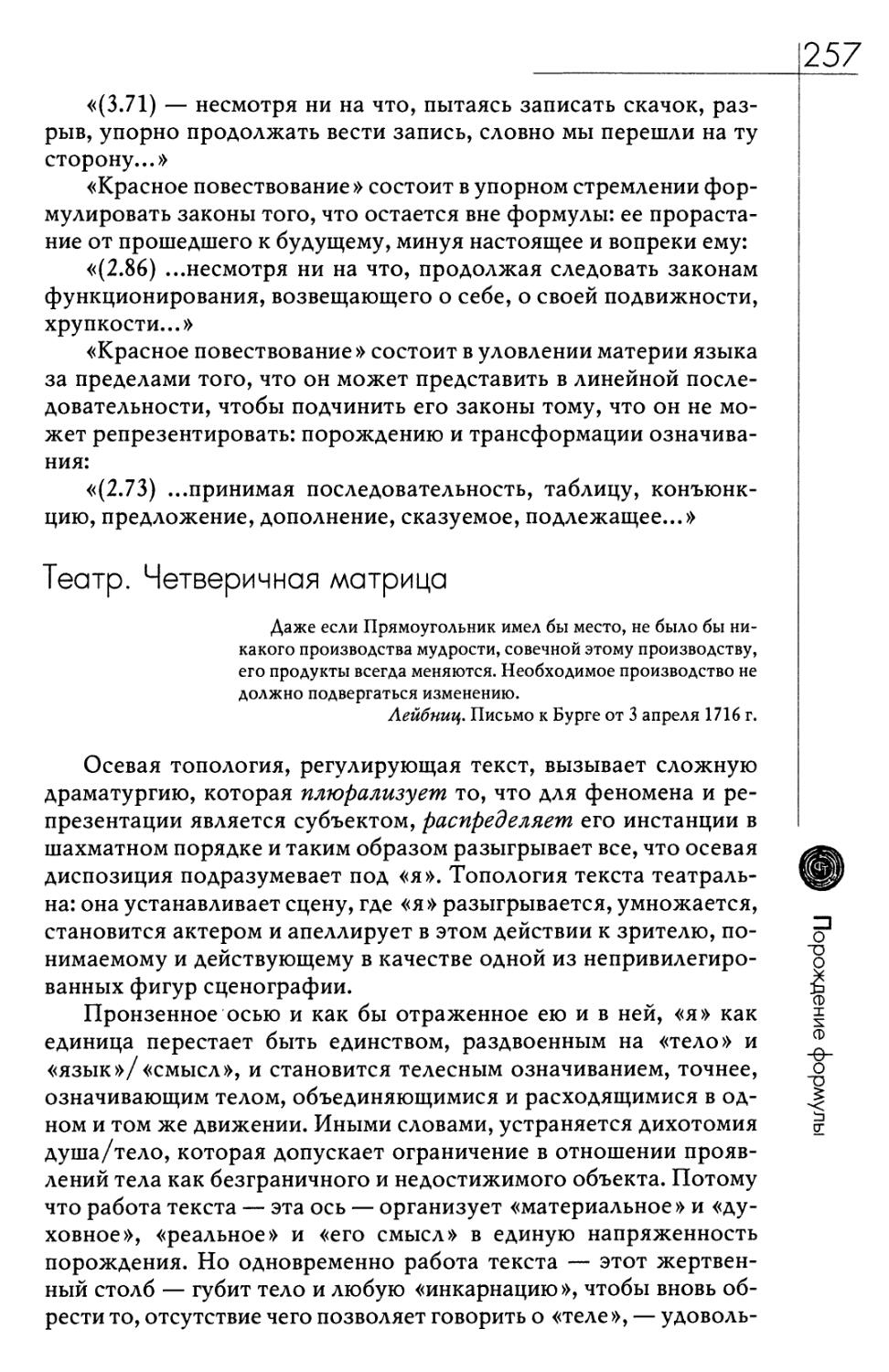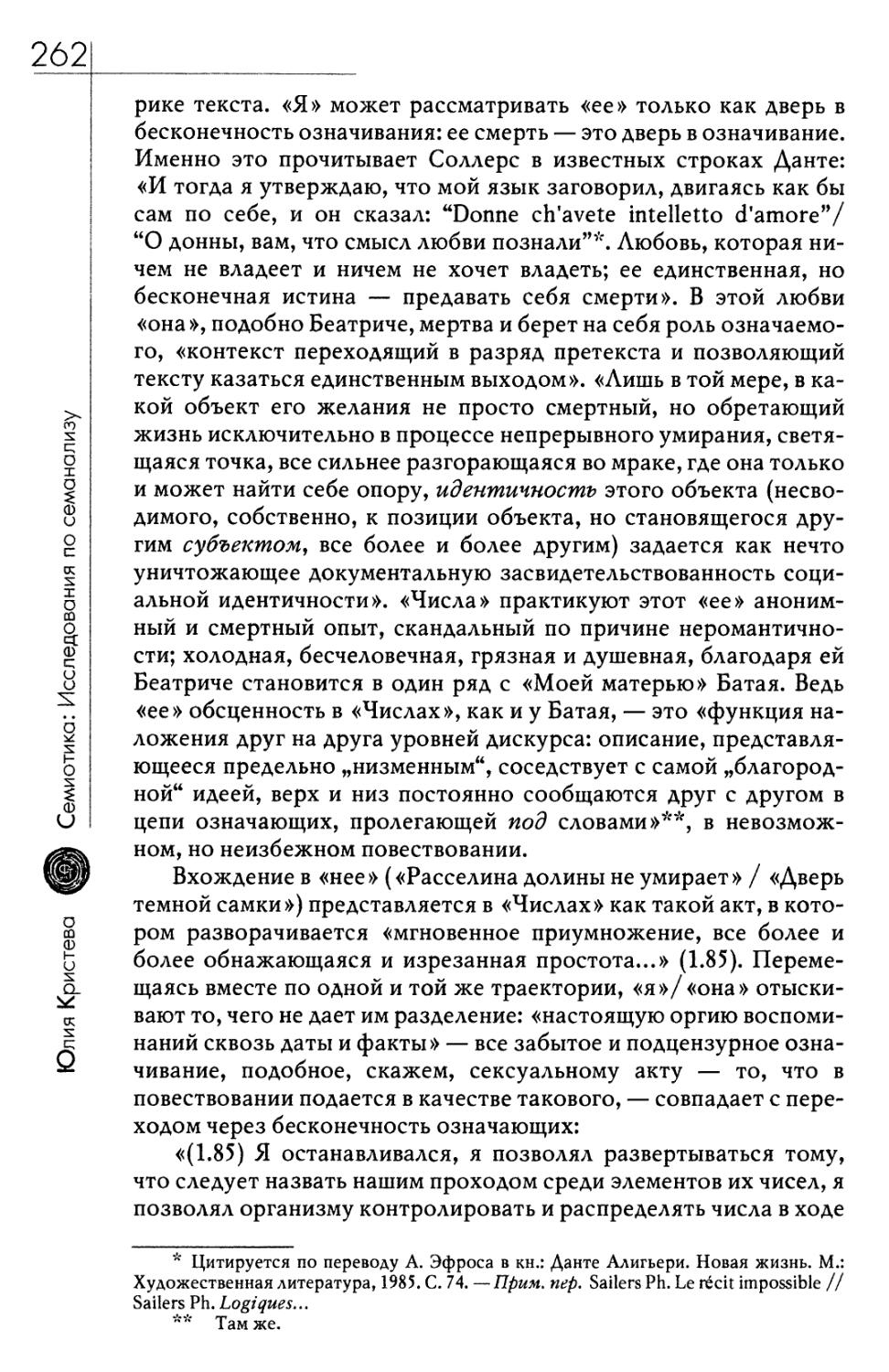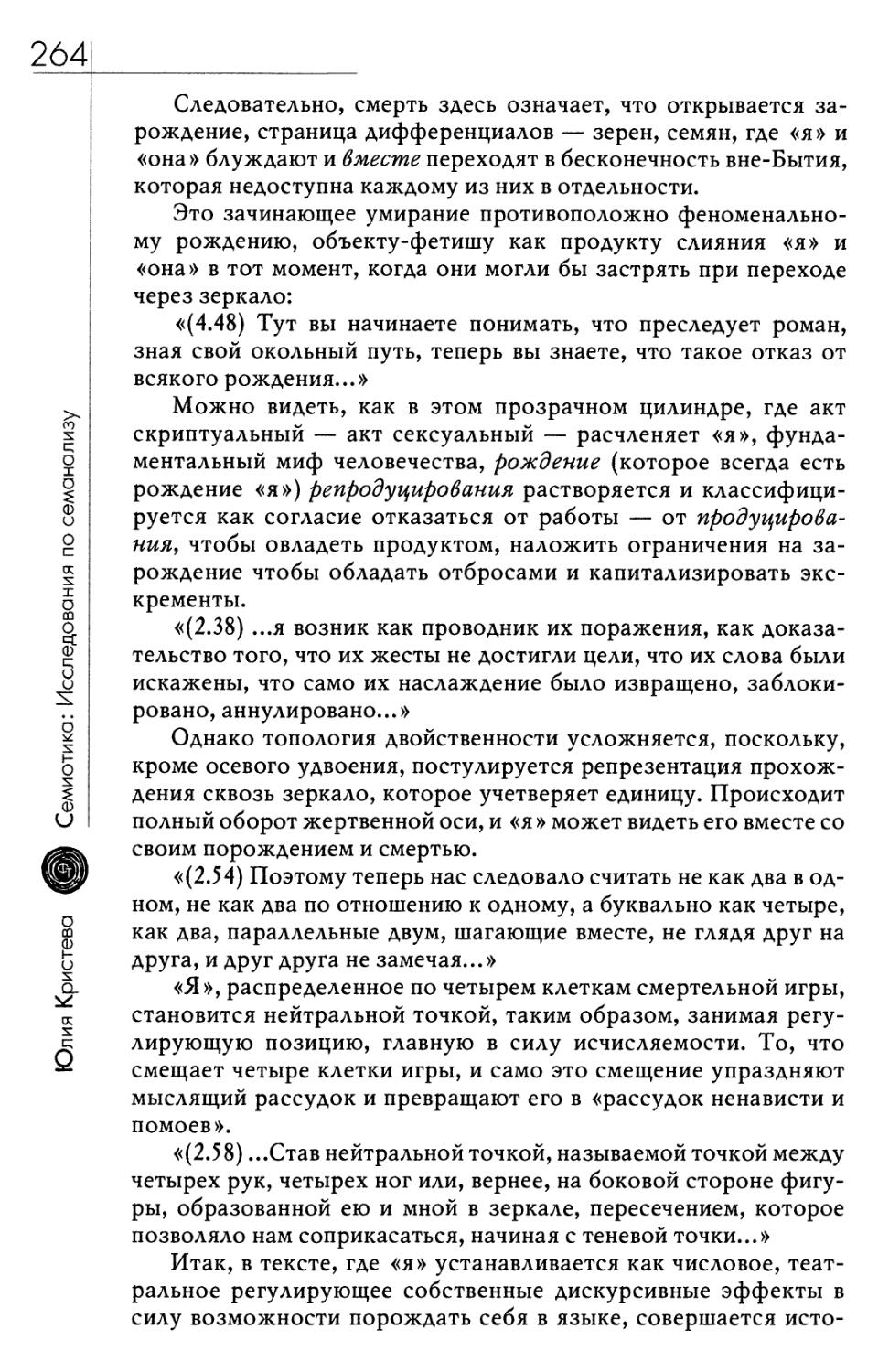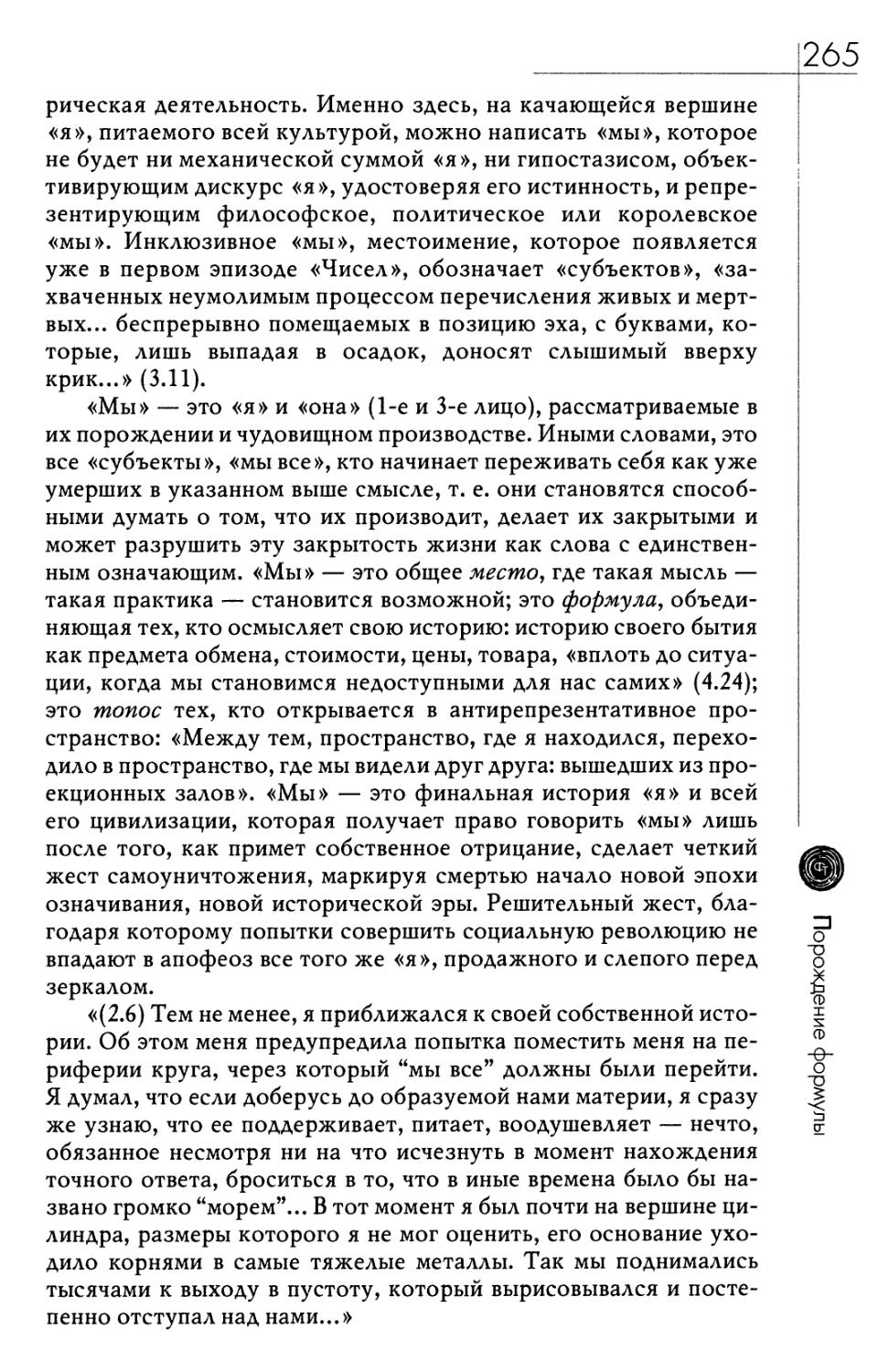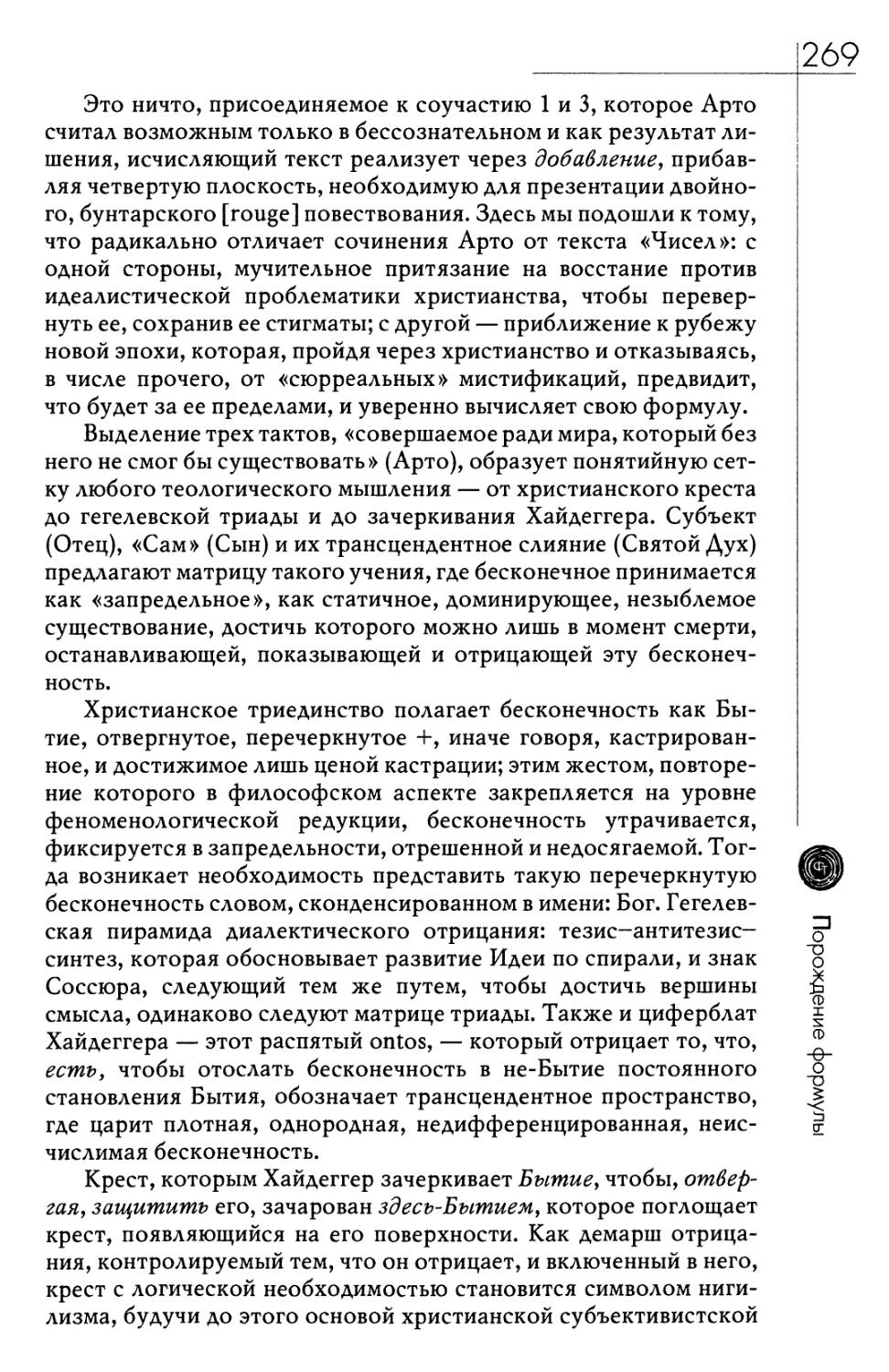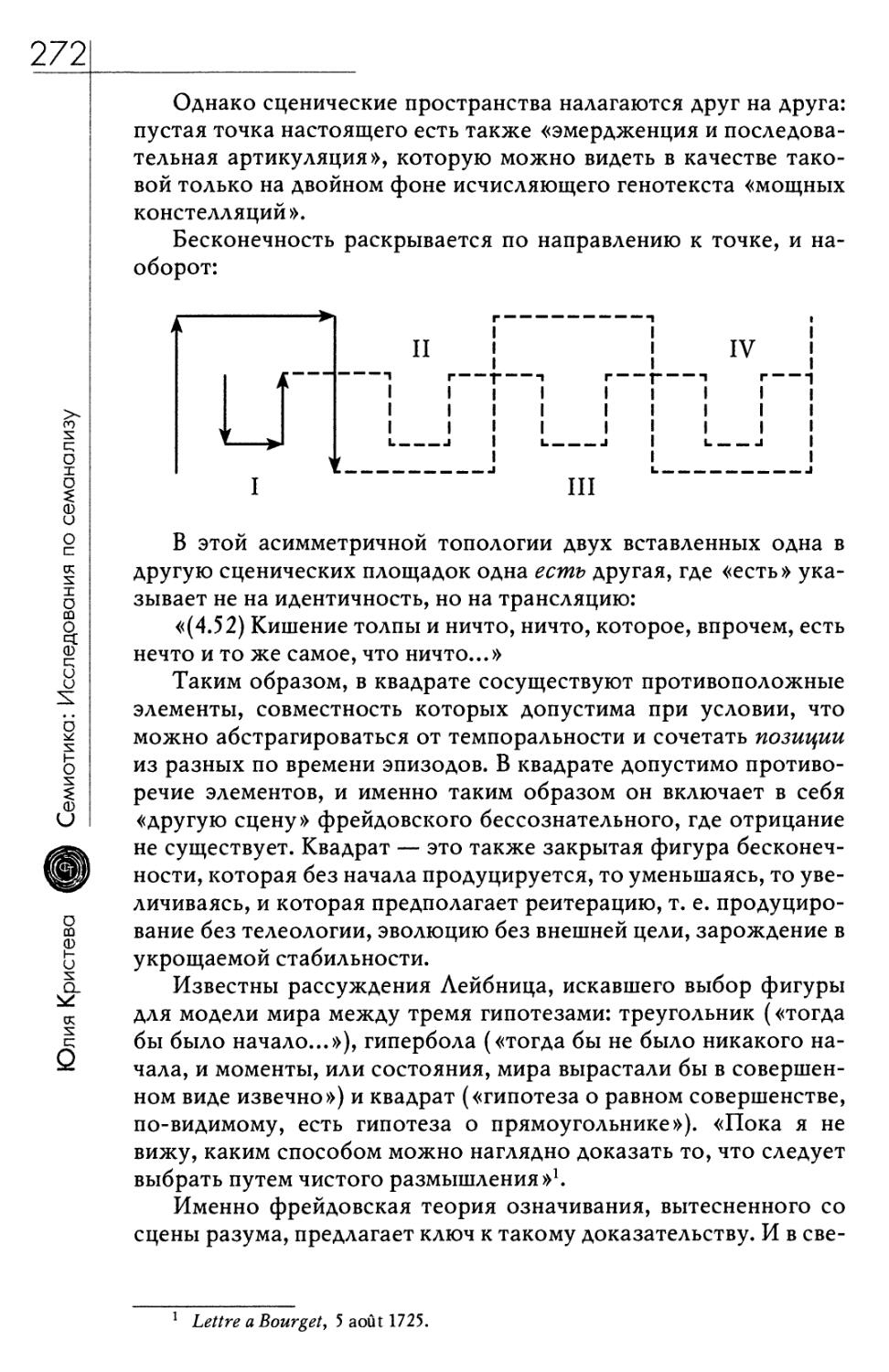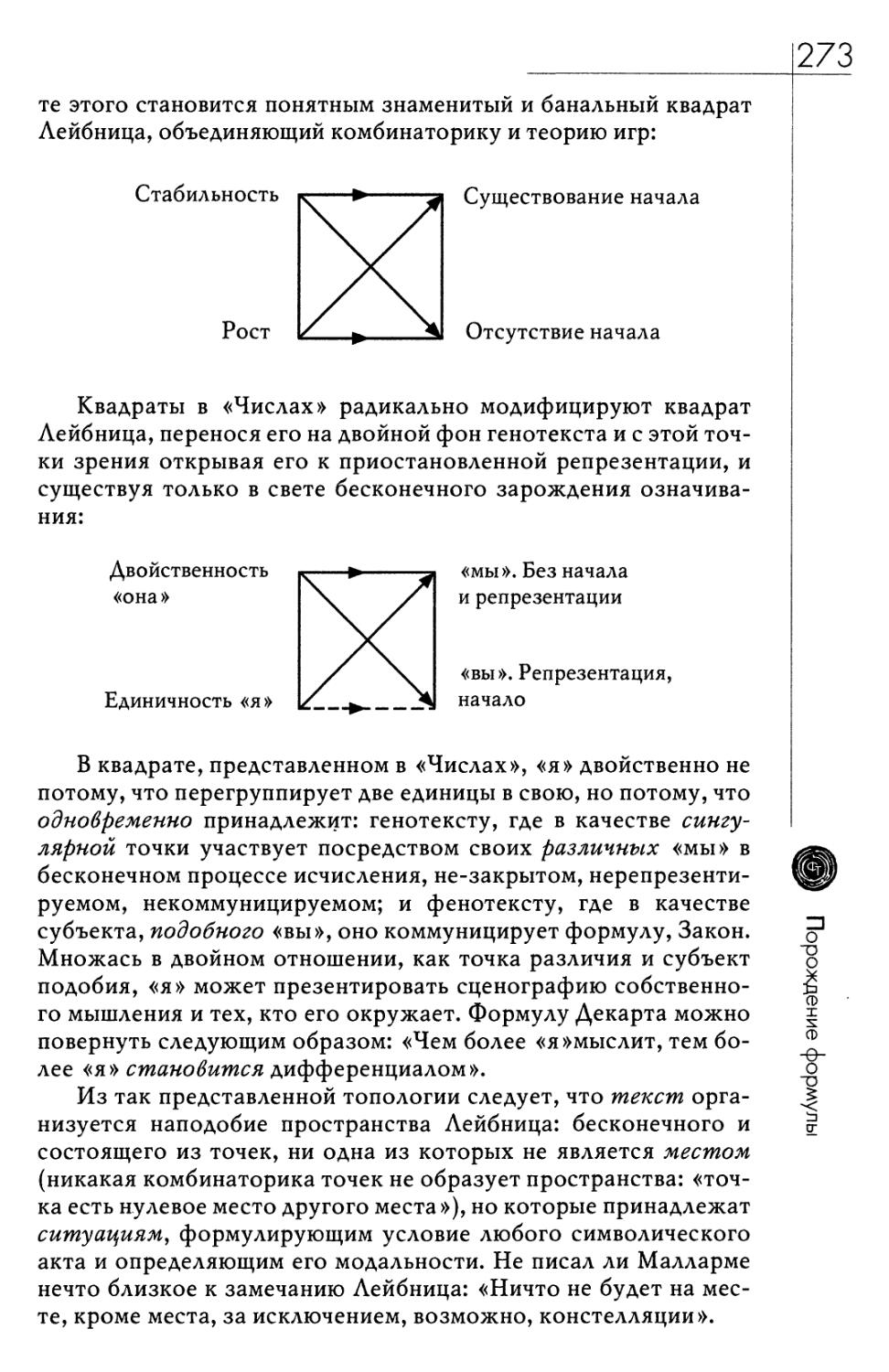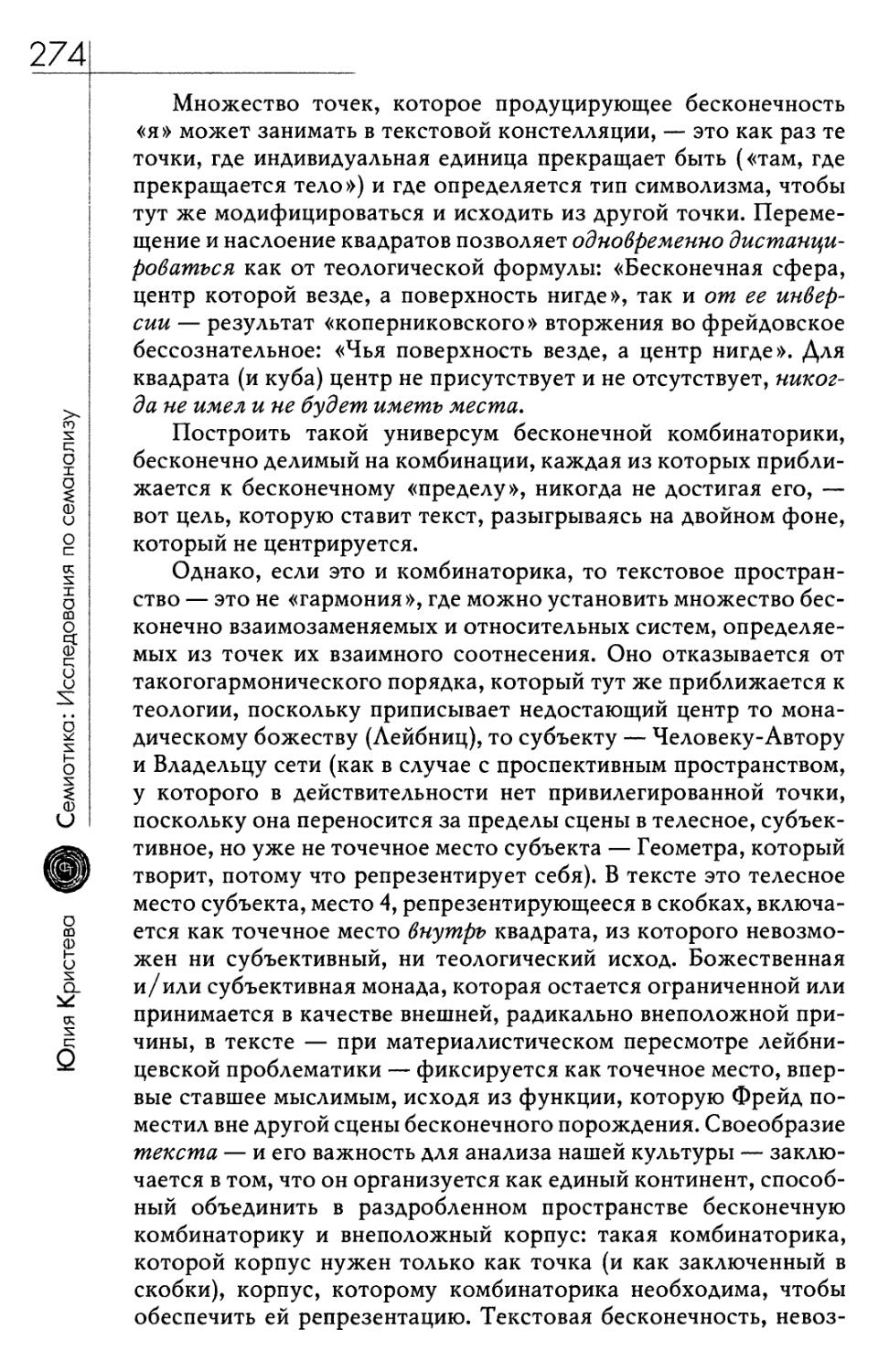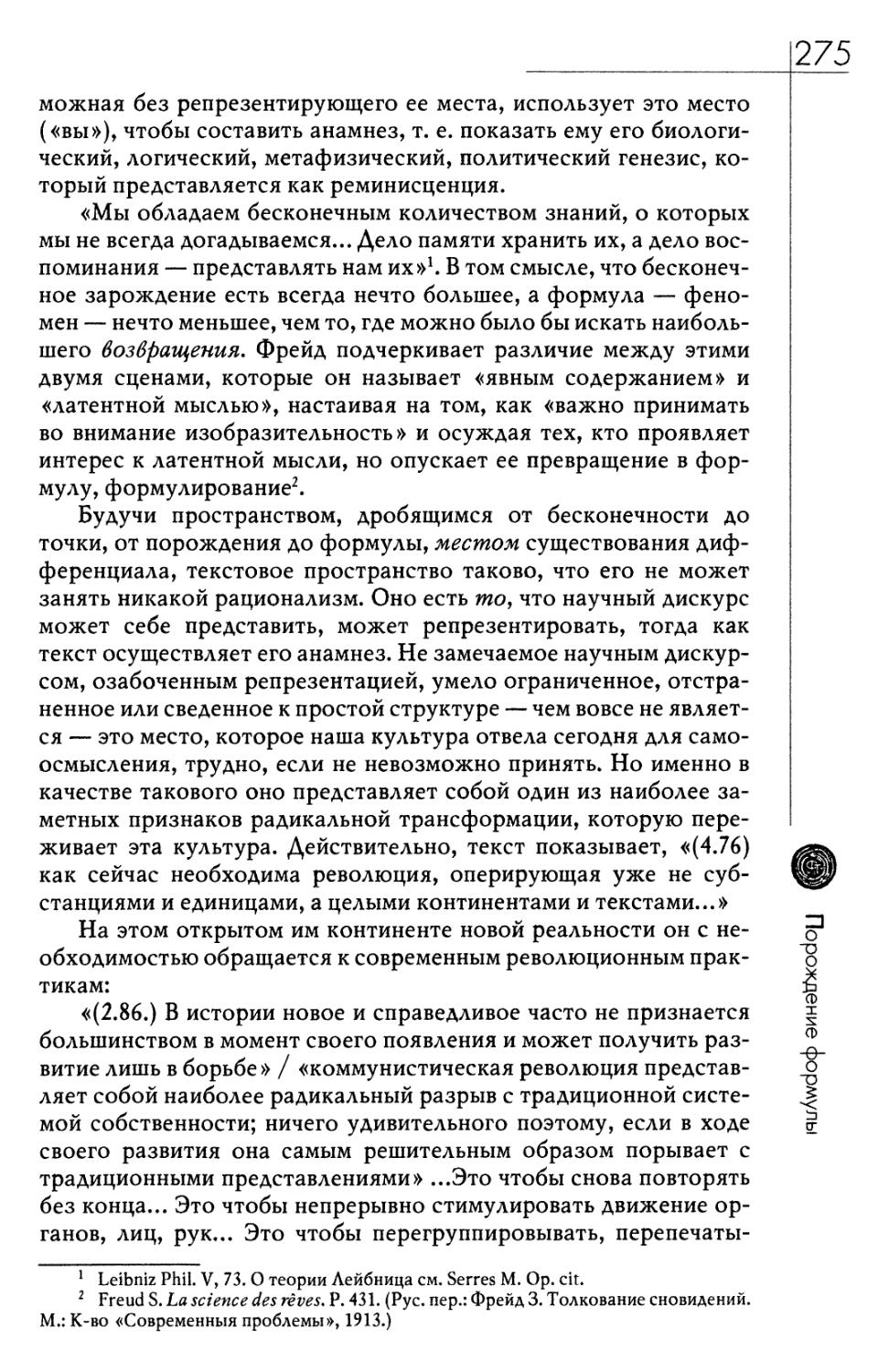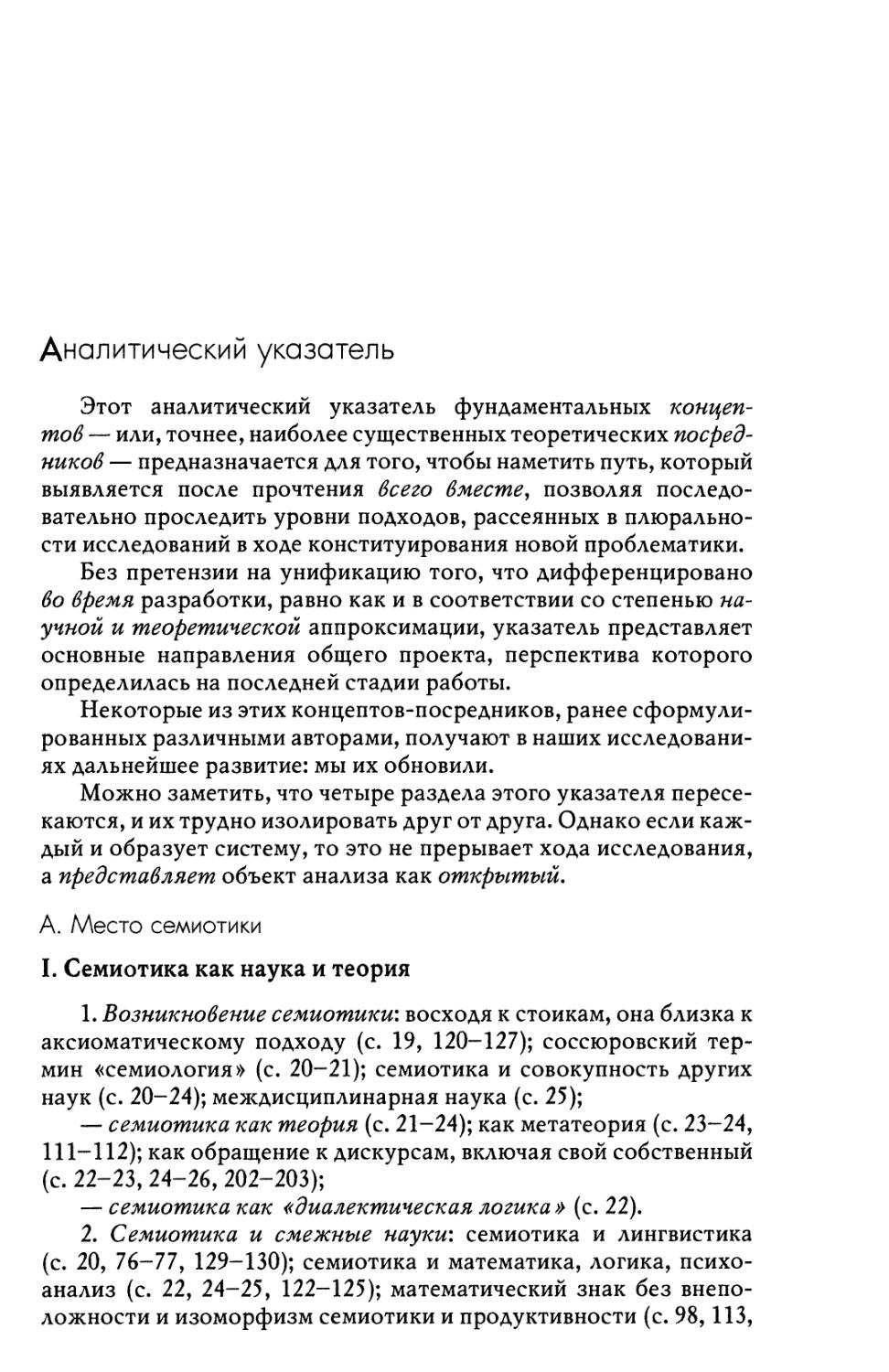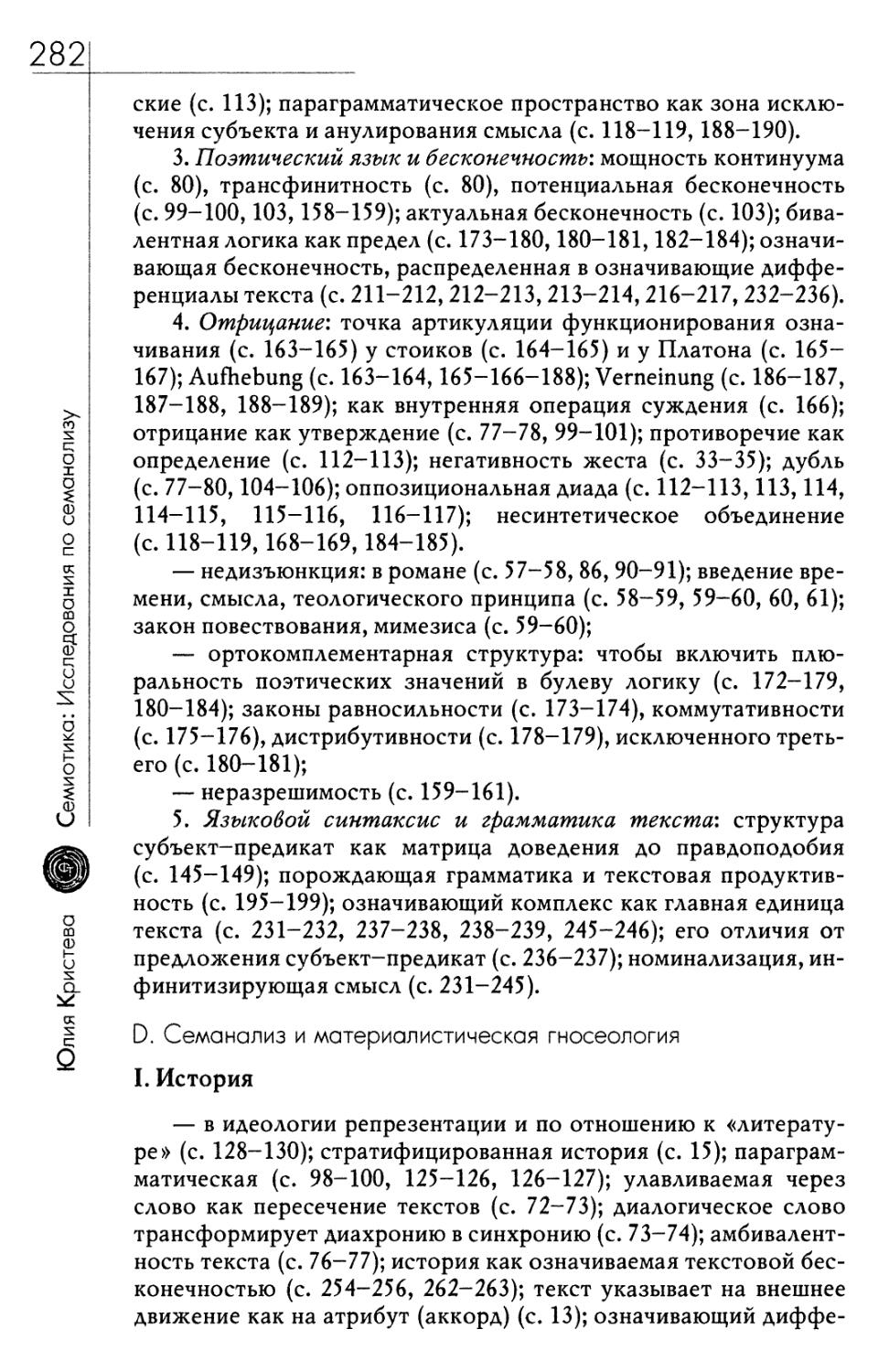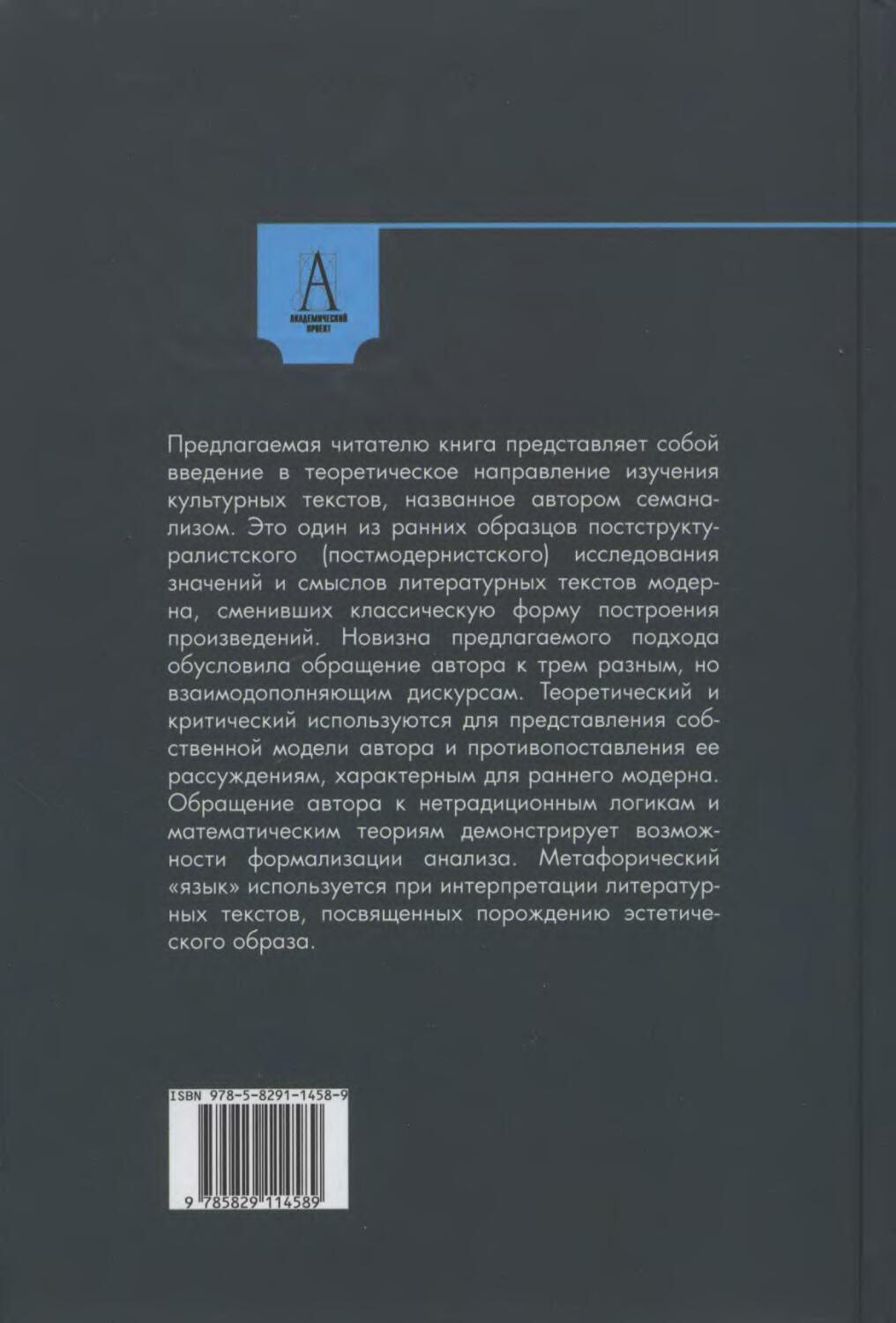Автор: Кристева Ю.
Теги: философия психология философские науки семиотика
ISBN: 978-5-8291-1458-9
Год: 2013
Текст
Julia Kristeva
2r|ji8ia)Tixf]
Recherches pour une sémanalyse
Юлия Кристева
СЕМИОТИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО СЕМАНАЛИЗУ
УДК 1/14
ББК 87
К 82
Pro ramme
Издание осуществлено в рамках
программы содействия издательскому делу «Пушкин»
при поддержке Посольства Франции в России
и Французского института
Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d'aideà
la publication Pouchkine, a bénéficié du soutien de VAmbassade
de France en Russie et de T Institut français
Редакционный совет серии:
A.A. Гусейнов (акад. РАН), В .A. Лекторский (акад. РАН),
Т.И. Ойзерман (акад. РАН), B.C. Степин (акад. РАН,
председатель совета), П.П. Гайденко (чл.-корр. РАН),
В.В. Миронов (чл.-корр. РАН), A.B. Смирнов (чл.-корр. РАН),
Б.Г. Юдин (чл.-корр. РАН)
Кристева Ю.
К 82 Семиотика: Исследования по семанализу / Пер. с фр.
Э.А. Орловой. — М.: Академический Проект, 2013. — 285 с. —
(Философские технологии).
Предлагаемая читателю книга представляет собой введение в теоретическое направление изучения культурных текстов, названное автором сем-
анализом. Это один из ранних образцов постструктуралистского (постмодернистского) исследования значений и смыслов литературных текстов модерна,
сменивших классическую форму построения произведений. Новизна предлагаемого подхода обусловила обращение автора к трем разным, но взаимодополняющим дискурсам. Теоретический и критический используются для представления собственной модели автора и противопоставления ее рассуждениям,
характерным для раннего модерна. Обращение автора к нетрадиционным логикам и математическим теориям демонстрирует возможности формализации
анализа. Метафорический «язык» используется при интерпретации литературных текстов, посвященных порождению эстетического образа.
Книга может представить интерес не только для лингвистов и филологов,
но также для исследователей общества и культуры, особенно с точки зрения
методологии изучения культурных микропроцессов.
ISBN 978-5-8291-1458-9
УДК 1/14
ББК 87
© Éditions du Seuil, 1969
© Орлова Э.А., перевод, предисл., 2013
© Оригинал-макет, оформление.
ISBN 978-5-8291-1458-9
Академический Проект, 2013
Предисловие переводчика
Читателю предлагается одна из ранних работ Ю. Кристевой,
где представлена систематическая модель семанализа (термин
Кристевой), позволяющая осуществлять не только семиотическое, но и культурно-семантическое рассмотрение любого культурного текста. Основное внимание уделяется порождению
значений и смыслов литературных текстов, но сегодня очевидно, что логика анализа имеет более общее значение и может
использоваться при изучении процессов, происходящих в обществе и культуре. Теоретическая позиция автора нетрадиционна и
соответствует ранним проявлениям того, что позже было названо постмодерном (постструктурализмом). В книге формулируется ряд проблем, которые до сих пор остаются дискуссионными;
автор предлагает для них свои решения, которые и сегодня оказываются актуальными:
- преодоление бинарной диалогической модели: вместо обычной пары «автор высказывания-адресат» предлагается тетрар-
ная модель — «автор-адресат-другие-ситуация»;
- высказывание приобретает значение при действии нескольких факторов — авторская позиция, историческая ситуация, литературный интертекст, определенный дискурс, другие;
- смысл высказывания не задается априори, но формируется
в процессе дискурсивной объективации в пространстве, определяемом предыдущими факторами;
- сам процесс означивания и формирования смысла представлен в виде определенной последовательности, выраженной в
метафорической форме, поскольку до сих пор для его описания
нет специальной социально-научной терминологии;
- в процессе означивания и формирования смысла высказывания подчеркивается важность жеста, придающего глубину и
наполненность вербальному высказыванию;
Юлия Кристева вЩр Семиотика: Исследования по семанализу
6
- для его формализованного описания автор предлагает обратиться к нетрадиционным логикам и теории множеств, позволяющим представить его в нелинейном виде.
Хотя книга составлена из отдельных статей автора, она представляет собой целостную научную работу. Здесь систематическим образом объединены критико-конструктивные теоретические построения программы семанализа, интерпретация с этих
позиций литературных текстов, посвященных порождению художественного образа, а также логическая формализация этого
процесса.
Э.А. Орлова
Горение ради горения
В книге, которая теперь попала к вам в руки, представлены вопросы,
ставшие сегодня, начиная с маргиналов и авангардистов своего времени,
основными, но до сих пор далеко не проясненные.
То, что человеческий универсум — это универсум знаков, продемонстрировано в структурализме, а сегодняшняя телематика, отыскав средства их подсчитывать и бесконечно воспроизводить, привела
семиологию к ее техническому апогею, полному научных обещаний,
но механически подавляющих инициативу групп и индивидов. То, что
единственная свобода, данная говорящему бытию, это непредсказуемая,
удивляющая, неповторимая игра со знаками и против них, было замечено во фрейдистском психоанализе, а современное искусство, бросая
вызов психозу и принимая факт и причину мистики, безостановочно
утверждает, более или менее успешно снижая, институциональное могущество систем, связанных с идеями. То, что порядок производства и
рыночного обмена предельно детерминирован сознанием, марксизм,
наследник узкого рационализма, истощил бесконечным повторением
этого, освобождая место другой, антропологической социологии: той,
которая считает убийство основой общественного договора и сакраль-
ности, и с тех пор связана с их совместным анализом и сегодня более
внимательна к побоищам, чем к религиям.
Нити, которые я собираюсь сделать видимыми и из которых незримо
ткется полотно, не теряются за недостижимым горизонтом и соединяются в покрывало для фантазматичной тотальности.
Я их протягиваю в двойном качестве.
Прежде всего, потому что они составляют методологические наборы для семиологического исследования, однажды покинутого как
бесплодное, но затем вернувшего доверие, прибившись к берегам позитивизма, и где появился субъект, для которого система знаков — это
вопрос жизни и смерти.
Мотором и привилегированным объектом такого исследования является именно литература. Совсем загадочная, архаическая практика
перед лицом аудиовизуального потопа, и, однако, такая могущественная, если точно прочитать, что она такое: уникальное, не поддающееся
именованию нечто, порождаемое субъективным опытом в его состоянии
бесконечности. Сложившееся в языке, но не редуцируемое в своем возникновении к лингвистическим операциям и категориям; действующее,
чтобы обнаружить бессознательное, но отклоняющаееся от общей траектории и превосходящее психоанализ; просвеченное насквозь социальным согласием, но подавляемое его ограничениями; возвышенное
и беспутное, непочтительное и устанавливающее законы; смешливое и
серьезное — слово «письма», с вторжением которого как будто бы соглашаются, фактически нейтрализуется, опошляется, его острие затупляется.
На самом деле речь идет о специфичном для Запада дискурсе, основы которого, несомненно, заложены в Евангелии и который в период
модерна авторы довели до микрокосма нарративных логик и лингвистик, но который сохраняет существенные черты своих основ: речь, име¬
Юлия Кристева бШр Семиотика: Исследования по семанализу
8
ющая эффект акта благодаря простому согласию желаний автора и его
адресатов поддерживать символическую функцию как таковую. И если
любой знак переживает покинутую, отсутствующую, уничтоженную
вещь, которую он репрезентирует, то речь, однако, идет наряду с литературой, представляющей абсолютное желание, о дискурсе, несущем в
себе самые потрясающие утверждение жизни, преодоление страхов, выход из кризисов.
Неумопостигаемость не является чем-то данным или неартикулиро-
ванным опытом, но произведением искусства, наиболее безудержным в
своей утонченности и неуловимости конструкций, — вот что обнаруживает рефлексия, и с этого момента более нет теории смысла, достойной
этого названия, которая бы смело встретила неинтеллигибельность как
источник смысла.
Встреча гуманитарных наук, в частности семиологии, с литературой
обозначила утрату их всемогущества, когда они признали свои скромные возможности в выявлении логики литературы и ее субъекта.
Но это испытание метаязыков литературой означает, что, будучи
порождением одной и той же культуры, обе стороны несут на себе ее
отпечаток и что при условии анализа их оснований метаязык может перестать быть погребальным инструментом наличных знаков и позволит
себе стать более подвижным благодаря тем же жизненным мукам, которые одухотворяют литературу.
Я глубоко убеждена, что время только усилило важность вопросов,
которые я подняла в лихорадке изгнания и юности, пред которой открываются приключения идей и политических обещаний. Добросовестный
читатель найдет здесь заявления и предпосылки, относящиеся к некоторым сегодняшним idées-forces (или, проще, уже известным), как и, я думаю, еще скрытые предположения, которые может сделать очевидными
возможное знакомство нашей эпохи с рискованным опытом искусства
модерна. Время, то, которое на часах, не влияет на глубинную жизнь логик именования, населяющих эту книгу.
Могла ли я сегодня написать более явно личностный, более амбициозный текст? Возможно, но он нес бы в себе след примирения, лишенного иллюзий, не связанный с борьбой (которая на самом деле его породила) и с сопротивлением. Итак, — и я надеюсь, что это была бы одна
из экзистенциальных идей, которую читатель извлечет из этого путешествия в мир знаков, — тот, кто анализирует логику смысла, неизбежно
знает, что истина там, где поднимается сопротивление. Эта истина идет
своим путем, время от времени заботясь о том, чтобы появился индивид,
достаточно пылкий, чтобы повторить ее, тонко выразив в слове. «Честная критика не имеет смысла; то, что нужно — это страсть без границ,
горение ради горения» (Генри Миллер).
Ю.К.
Июнь у 1978
Текст и наука о тексте
I
Гораздо позднее — лишь теперь — людям начинает уясняться, что своей верой в язык они распространили огромное заблуждение.
Ницше. Человеческое, слишком человеческое
...из многих вокабул заново творя целостное, новое, чуждое языку слово.
Малларме. Предисловие к «Трактату о слове»
Сделать язык работой — îioieïv — трудиться в материальности того, что для общества есть средство контакта и понимания — не отчуждает ли это от языка сразу? Акт, называемый литературным, принуждает не сохранять идеальную дистанцию по
отношению к тому, что придает значение, допускает радикальное остранение того, чем языку полагается быть: носителем
смысла. Остраненно близкая, интимно отчужденная по отношению к материи наших дискурсов и грез, литература кажется нам
сегодня актом, который улавливает, как работает язык, и указывает на то, что она может преобразовать в нем завтра.
Под именем магии, поэзии и, наконец, литературы эта практика означивания исторически долго оставалась окруженной
ореолом «таинственного», которое, в зависимости от того, ценилась ли литература, считалось ли орнаментальной, если никакой,
подвергалось двойному удару цензуры и идеологического возобновления. Сакральное, прекрасное, иррациональное/религия, эстетика, психиатрия — вот категории и дискурсы, поочередно
претендовавшие на то, чтобы завладеть этим «специфичным объектом», который нельзя никак назвать, не помещая его в рамки
одной из идеологий возрождения, и который составляет предмет
нашего интереса, операционально обозначенного как текст.
Каково место этого специфичного объекта среди множества
практик означивания? Каковы законы его функционирования?
Какова его историческая и социальная роль? Вот вопросы, которые сегодня встают перед наукой об означиваниях — СЕМИОТИКОЙ — вопросы, которые не перестают привлекать мысль, и
место которых отказывается признавать определенное направление позитивного знания, сопровождаемого эстетствующим обскурантизмом.
Находясь между мистификацией сублимированного и сублимирующего идеализма и отрицанием со стороны сциентизма, спе¬
Юлия Кристева flip Семиотика: Исследования по семанализу
ю
цифика языковой деятельности сохраняется, и уже целый век
все прочнее становится ее собственная предметная область,
всегда недоступная для психологического, социологического и
эстетического эссеизма. Чувствуется недостаточность набора
концептов, которые позволили бы приступить к изучению специфики «текста», выявить его силовые линии и мутации, его историческое становление и воздействие на совокупность практик
означивания.
А. Работа с языком обязательно предусматривает восхождение к герму, где сосредоточены смысл и его субъект. Иными словами, «производитель» языка (Малларме) обязан постоянно порождать, вернее, перед самым порождением исследовать то, что
ему предшествует. Он не гераклитово «дитя», забавляющееся
своей игрой, но старец, который появляется до своего рождения,
чтобы указать тем, кто говорит, что они — производные говорения. Следовательно, «текст», погруженный в язык, является для
него чем-то отчужденным: задающим ему вопросы, изменяющим
его и отрывающим от бессознательного и от автоматизма повседневного употребления. Таким образом, не будучи «истоком»
языка1 и даже не ставя вопроса о нем, текст (поэтический, литературный или иной) пронзает поверхность речи вертикалью, где
находятся модели такого означивания, о которых язык репрезентации и коммуникации не говорит, даже если и маркирует их.
Текст достигает этой вертикали посредством работы с означающим — звуковым отпечатком, обволакивающим, по Соссюру,
смысл; означающим, которое здесь следует понимать в свете ла-
канового анализа.
Мы будем называть означиванием [сигнификацией] деятельность, связанную с дифференциацией, стратификацией и сопоставлением, которая практикуется в языке и располагает на пути
говорящего субъекта цепь коммуникативно и грамматически
структурированных означающих. Таким образом, при семанали-
зеу позволяющем изучать в рамках текста сигнификацию и ее
типы, необходимо проникнуть сквозь означающее вместе с его
субъектом и знаком, а также грамматической организацией дискурса, в зону, где собираются гермы того, что будет означаться
при представлении в языке.
1 «Исходя из теологии поэтов, которые создали первую метафизику, и опираясь
на поэтическую логику, исходящую из нее, мы теперь попытаемся найти истоки языка
и письма» (Giambattista Vico (1668-1744), La Science nouvelle, Éd. Nagel, 1953, 428).
«Нам представляется очевидным, что в силу законов, присущих природе человека,
поэтический язык предшествовал прозе...» (ibid., 460). Гердер искал в поэтическом
акте модель возникновения первых слов. Карлейль также полагал (Histoire inachevée
de la littérature allemande, Éd. Univ. of Kentucky Press, 1951, p. 3), что сфера литературы «находится в самой глубине нашей натуры и охватывает первоосновы или истоки
мысли и действия». Сходную мысль можно найти у Ницше в его тезисе о некромантии
искусства: восходя к прошлому, оно возвращает человеку его детство.
В. На самом деле, эта деятельность указывает на законы установившихся дискурсов и предоставляет место, благоприятное
для ожидания новых. Затрагивать табу языка, перераспределяя
грамматические категории и перестраивая его семантические законы — значит покушаться на социальные и исторические табу,
но это действие заключает в себе императив: произносимый и
коммуницируемый смысл текста (структурированного фенотек-
ста) высказывает и репрезентирует то революционное действие,
которое производит сигнификация при условии, что на сцене социальной реальности найден ее эквивалент. Таким образом,
двойная игра в языковой материи и в социальной реальности позволяет тексту позиционироваться в реальности, которая его порождает; он становится частью масштабного процесса материального и исторического движения, если не ограничивается —
подобно означаемому — самоописанием или погружением в
фантазматический субъективизм.
Иными словами, текст, будучи грамматически кодифицированным языком коммуникации, не довольствуется репрезентацией — означиванием реального. При означивании, смещающем
или репрезентирующем наличное, он становится причастным
к подвижности и трансформации реального, которое улавливает в момент его незавершенности. Иначе говоря, без всякого
подражания — симуляции — зафиксированной реальности он
строит мобильную сцену для своего продвижения, которому он
способствует и атрибутом которого является. Трансформируя
материю языка {его логическую и грамматическую организацию)
и перенося в нее соотношение социальных сил на исторической
сцене (в своих означаемых, упорядоченных локусом субъекта
коммуницируемого сообщения), текст связывается — связан — с
реальным двояко: через язык (смещенный и трансформированный) и через общество (с трансформацией которого он согласуется). Поскольку текст нарушает и трансформирует семиотическую систему, регулирующую социальный обмен, и в то же время
размещает в дискурсных инстанциях активные инстанции социального процесса, он не выстраивается как знак ни в начальный,
ни в последующий момент своей артикуляции и ни в обоих. Текст
не именует и не детерминирует внешнее; его можно назвать
атрибутом (аккордом) гераклитовой подвижности, которую не
принимала ни одна теория языка-знака и которая противостоит постулатам Платона о сущности и форме вещей1, замещая
1 Известно, что если для Протагора «наиболее важная часть воспитания — это
быть знатоком поэзии» (338е), то Платон не принимает всерьез поэтическую «глупость» (Cratyle 391-397), когда не осуждает ее преображающее и освобождающее
влияние на глупцов (Lois). Поразительно, что платоновская теория форм, порожденная поэтической деятельностью языка (его подвижностью, нефиксированностью
и т. д.) находит непримиримого противника в учении Гераклита. И вполне естествен¬
Юлия Кристева ЦШр Семиотика: Исследования по семанализу
12
их другим языком, другим знанием, чья материальность теперь
только начинает улавливаться в тексте. Таким образом, для текста характерна двойная ориентация: на систему означивания, где
он продуцируется (язык и речь определенных эпохи и общества)
и на социальный процесс, где он участвует в качестве дискурса.
Эти два автономно функционирующих регистра могут разъединяться во второстепенных практиках, когда переустройство знаковой системы не касается содержащейся в ней идеологической
репрезентации или наоборот; они соединяются в текстах, маркирующих исторические блоки.
Сигнификация, становясь дифференцированной бесконечностью, чья неограниченная комбинаторика никак не размечена, «литература»/текст освобождают субъекта от отождествления с коммуницируемым дискурсом и тем самым разбивает
его предрасположенность быть зеркалом, отражающим внешние «структуры». Порождаясъ внешней реальностью, бесконечной в своем материальном движении (но не будучи ее каузальным «результатом»), инкорпорируя своего «адресата» в
совокупность собственных характеристик, текст выстраивается
как зона множественных следов и интервалов, нецентрирован-
ная запись которых образует поливалентность, не предполагающую единства. Это состояние — эта практика — языка в тексте
снимает с него зависимость от метафизической внеположности,
даже интенциональной, равно как и от всякого экспрессионизма
и финальности, а значит от эволюционизма и от инструментальной подчиненности молчаливой истории1; при этом у языка
но, что, что в борьбе за то, чтобы применить тезисы о языке как инструменте выражения к цели боепитания (387 а, b), о стабильной и определенной сущности вещей, имена которых не более чем обманчивые образы (439 Ь) — нужно знать сущность вещей
помимо имен; и это исходный принцип со времен постплатонистской метафизики и до
наших дней — Платон после дискредитации поэтов (текст Гомера не обеспечил ему
доказательств стабильности сущности) заканчивает нападками на ученика Гераклита
и на Гераклитов принцип изменчивости.
1 В рамках классической теории литература и искусство в целом рассматриваются как имитация: «Подражать — естественно для людей, и это проявляется с
детства...и на втором месте, все люди получают удовольствие от подражания» (Аристотель, Политика). Аристотелев мимезис, тонкости которого трудно обнаружить,
в теории литературы имеет длительную историю под названиями копии, отражения,
кальки внешнего, прежде чем породить литературный реализм. Литературе как искусству приписывается область восприятия, которое противопоставляется познанию.
Это различение, которое можно найти у Плотина (Ennéades, IV, 87: Amrfe ôé (ptiasœç
towttiç o\>ar|ç Trjç jlisv vor|Trçç, rr|ç Ôé aia0r|Tïîç ). Так, природа имеет два аспекта (один ин-
теллигибильный, другой сенсибильный), повторил Баумгартен, который ввел вместе
со словом эстетический соответствующий дискурс: «Греческие философы и отцы
церкви всегда тщательно различали вещи воспринимаемые (aîa0r|Tâ) и вещи познаваемые (vorjTd). Совершенно очевидно, что они не уравнивали вещи интеллигибельные
и вещи сенсибильные, хотя они и чтили это слово, относящееся к вещам, далеким от
смысла (образам). Следовательно, умственные вещи должны познаваться высшей способностью как объекты логики; воспринимаемые вещи изучаются при помощи низшей способности как объекты науки о восприятии, или эстетики (A1.G. Baumgarten,
не отнимается его историческая роль: используя их, маркировать в материи языка трансформации исторической и социальной реальности.
Это текстовое означающее (уже не Единственное, ибо более
не зависит от Единственного Смысла) представляет собой сеть
различий, которые маркируют и/или соединяют мутации исторических блоков. С точки зрения коммуникативной и экспрессивной цепи субъекта эта сеть не оставляет места:
- сакралъностм: когда субъект считает, что для сети существует Единый интенциональный центр управления;
- магии: когда субъект охраняет себя от внешней доминирующей инстанции, которую сеть, совершив инверсию, могла бы
подчинить, изменить, направить;
-эффекту (литературное, «прекрасное»): когда субъект идентифицирует себя со своим другим — с адресатом, — чтобы
предложить ему (себе) сеть различий в фантазматической
форме, как эрзац удовольствия.
Если освободить сеть от этого тройного узла — Единственное, Внешнее и Другой, которыми Субъект опутал себя, чтобы
выстоять, то, наверное, можно приблизиться к тому, что ему по
его сущности следует знать: он должен трансформировать свои
категории и выстроить собственную область за их пределами. Таким же образом в тексте задается новое концептуальное поле,
которое не может предложить ни один дискурс.
С. В отношении особого ареала социальной реальности —
истории — текст препятствует идентификации языка как системы, которая коммуницирует смысл, с полной линеарностью
исторического процесса. Иными словами, он препятствует консти-
туированию символического континуума, замещающего историческую линеарность, и — вне зависимости от социологических и
психологических мнений на этот счет — никогда не оплатит свой
долг грамматическому и семантическому здравому смыслу лингвистической оболочки коммуникации. Разрывая поверхность
языка, текст представляет собой «объект», который позволит
разрушить концептуальную механику, предполагающую линеарность истории, и прочитать ее как стратифицированную, с
разорванной, рекурсивной, диалектической темпоральностью,
Réflexions sur la poésie, 116 — Ed. Univ. of California Press, 1954). И далее: «общую риторику можно определить как репрезентацию смысла, обшую поэтику — как науку,
которая главным образом пытается в совершенстве представить чувственные представления» (ibid., 117).
Если для идеалистической эстетики Канта «эстетическое» есть универсальное,
но субъективное суждение, противопоставляемое концептуальному, то у Гегеля искусство слова, называемое «поэзией», становится высшим выражением идеи в ее
партикуляризирующем движении: «она (поэзия) охватывает целостность человеческого духа, предполагает свою партикуляризацию в самых различных направлениях»
(Hegel, Esthétique, «La poésie», Éd. Aubier, p. 37).
Юлия Кристева вЩр Семиотика: Исследования по семанализу
14
не сводимой к единственному смыслу; состоящую из различных
типов означивающих практик, множество серий которых не имеет ни начала, ни конца. Таким образом, под линеарной историей прорисовывается иная — рекурсивно стратифицированная
история означиваний, где коммуникативный язык вместе с его
идеологической подоплекой (социологической, историцистской
или субъективистской) репрезентирует всего лишь ее внешнюю
грань. Текст исполняет эту роль в любом современном обществе,
которое неосознанно требует ее, но на практике запрещает или
затрудняет ее исполнение.
D. Хотя текст и позволяет трансформировать историческую
линию в объем, он не ослабляет прямых связей с различными типами означивающих практик в текущей истории, в эволюционирующем социальном блоке.
В доисторическую/донаучную эпоху языковая деятельность
противостояла мифологической активности1, и, не впадая в магию как преодоленный психоз2, но соприкасаясь с ним — можно
сказать, познавая его, — она предлагала себя в качестве интервала между двумя абсолютами: Смысла, невербализованного над-
референтного (если это закон мифа) и Корпуса языка, охватывающего реальность (если это закон магического ритуала). Интервалу придается статус орнамента, т. е. он свертывается, но это
допускает функционирование системных терминов. С ходом веков он отдалится от ритуала, чтобы приблизиться к мифу; как ни
парадоксально, но сближение потребовалось в ответ на социальную необходимость реализма, понимаемого как выход за пределы Корпуса языка.
1 «Можно определить миф как такой дискурс, по отношению к которому ценность формулы “переводчик предатель” практически сводится к нулю. С этой точки
зрения место мифа на шкале способов лингвистического выражения противоположно поэзии, как бы ни пытались их сблизить. Поэзия — это языковая форма,
чрезвычайно трудно переводимая на иностранный язык, и любой перевод влечет
за собой множество деформаций. Каким бы плохим ни было знание чужих языка
и культуры, миф воспринимается читателем как таковой любым читателем во всем
мире. Субстанция мифа заключена не в стиле, не в способе наррации, не в синтаксисе, но в истории, которая рассказывается. Миф — это язык, но язык деятельность
которого осуществляется на очень высоком уровне, где смысл достигается, если
можно так выразиться, отрывом от лингвистического фундамента, на котором он
начинался в свернутом виде» (Claud Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Ed. Pion,
1958, p. 232).
2 Анализируя магию в обществах, называемых примитивными, Геза Рохейм определяет ее как процесс сублимации и утверждает: «магия в первоначальной и исходной форме представляет собой фундаментальный элемент мышления, начальную фазу
любой активности...Тенденция, ориентированная на объект (либидо или деструдо)
оборачивается и фиксируется на Я (вторичный нарциссизм), чтобы конституировать
промежуточные объекты (культуру) и это заставляет реальность подчиниться факту
нашей собственной магии» (Magie et scizophrénie, Ed. Anthropos, 1969, p. 101-102; cm.
также этот тезис Roheim’a The Origin and Function of Culture, New York. Nervous and
Mental Desease Monographs, 1943).
В рамках модерна по привычке противостоять формальному
научному знанию1 текст, «отчужденный от языка», теперь кажется операцией, которая через язык вводит ту работу, которая
открыто возлагается на науку, и которая вуалирует репрезентативную и коммуникативную нагруженность речи, а именно: плю-
1 Как отмечает Кроче (La Poésie, P.U.F., 1951, p. 9), «именно в поэзии впервые
отказались от концепта рецептивного знания и представили его формулой “познавать
значит делать”». С точки зрения научной деятельности, литература подчиняется двум
одинаково ограничивающим установкам. Она может изгоняться со сороны порядка,
установленного сознанием, и декларироваться со стороны порядка, связанного с впечатлением, побуждением, природой (исходя, например, из своей подчиненности принципу “экономии ментальной энергии получателя”, см. Herbert Spencer, Philosophie of
Style, An Essay, New York, 1880); оценкой (поэтический дискурс для Чарльза Морриса
«означается знаками, ценными с точки зрения моды, и его основная цель — вызывать
целый аккорд интерпретаций того, что означается, в зависимости от предпочтений,
осуществляемых в этом оценочном пространстве”, см. Signes, Language, and Behavior,
New York, 1946); эмоцией, противоположной референциальным дискурсам (для Ogden
and Richards, The Meaning of “Meaning”, London, 1923, референциальные дискурсы
противовположны их эмотивному типу). Согласно старой формуле “Sorbonae nullum
jus in Parnasso” научный подход объявляется полностью неадекватным и беспомощным перед лицом «эмоционального дискурса».
Позитивистский сциентизм соглашается с этим определением искусства при
условии, что наука может и должна изучать свою область познания. «Искусство выражает эмоции... Эстетические объекты служат символами, выражающими эмоциональные состояния. Художник, как и тот, кто его видит или слушает, произведение
искусства интродуцируют эмотивные значения (emotive meanings) в физический объект, содержащийся в картине, изображенной на полотне, или в звуках, производимых музыкальными инструментами. Символическое выражение эмотивного значения является естественной целью, т. е. представляет собой ценность, от которой мы
ожидаем получить удовольствие. Оценивание представляет собой общую характеристику ориентировочных видов активности человека (human goal activities), и их логическую природу в целом надлежит изучать, не ограничиваясь анализом искусства»
(H. Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophies, Univ. of California Press, 1935, p. 313).
Другой вид позитивизма, близкий к механистическому материализму, приписывает «искусству» в качестве приоритетной когнитивную функцию и доходит до
отождествления его с наукой: «...подобно науке оно представляет собой ментальную
активность, поскольку мы носим определенное содержание мира в царстве своего
объективно ценного сознания;...особая роль искусства — иметь дело с эмоциональным содержанием мира. Следовательно, с этой точки зрения функция искусства
заключается не в том, чтобы доставлять воспринимающему какое-то удовольствие,
сколь бы благородным оно ни было, но в том, чтобы дать ему узнать нечто, чего он не
знал прежде» (Otto Baensch, “Kunst und Geful” in Logos, 1923, перевод на английский
в Reflections on Art, ed. by S.K. Langer, Baltimore, The John Hopkins Press and London,
Oxf. Univ. Press, 1959, p. 10-36). Если текст действительно представляет в произведении ритмическую нотацию означающего и означаемого, подчиняющуюся заданными
ими законами, и таким образом уподобляются научному подходу, то невозможно
отождествить оба типа практики означивания (по словам Н. Read, The Fortns of Things
unknown, London, Faber & Faber ltd., 1960, p. 21: «Фундаментальная цель художника
и ученого одинаковы: представлять факт... Я не мыслю никакого критерия истинности в науке, который не был бы применим с тем же эффектом к искусству»). Если не
принимать определение, данное Ридом «искусству» и «науке», которое подчиняет их
цели представлять факт и если определить эти практики через законы их внутренней логики, то остается только понять, включена или не включена в идеологический
дискурс формулировки текста операция из формуляра современной науки и в качестве таковой изымается из всей научной нейтральности, из всей системы экстрасубъек-
тивной и, следовательно, экстраидеологической истинности, чтобы представиться как
практика, включенная в текущий социальный процесс.
Юлия Кристева ШШи Семиотика: Исследования по семанализу
16
радизацию открытых систем нотации, не подчиненных регулирующему центру смысла. Не противостоя научному акту (битва
«между концептом и образом» сегодня не актуальна), но и не
уравнивая себя с ним, не претендуя на то, чтобы заменить его,
текст очерчивает собственную область за пределами науки,
сквозь идеологию как представленность в языке научной нотации. Он переносит в язык, и таким образом в социальную историю происходящие переустройства способов означивания, подобно тому, что делает научное открытие в своей области. Такая
транспозиция не происходила бы — или оставалась недействительной, закрытой в своей ментальной и субъективистской ина-
ковости, — если бы текстовые формулировки не опирались на
социальную и политическую практику и, следовательно, на про-
грессистскую классовую идеологию определенной эпохи. Таким
образом, транспозиционируя операцию научной записи и выражая в словах классовую позицию, т. е. репрезентируя ее в означаемом, которое воспринимается как то, что имеет Единственный
Смысл (единственную структуру), текстовая практика децентри-
рует субъекта дискурса (смысла, структуры) и строится как операция его рассеивания в дифференцированной бесконечности.
В то же время текст уходит от того, чтобы ограничивать «научное» обследование бесконечности означивания; ограничения одновременно налагаются как эстетической установкой, так и наивным реализмом.
Итак, с сегодняшней точки зрения текст становится областью,
где разыгрываются — практикуются и презентируются — эпистемологические, социальные и политические переустройства.
Литературный текст фактически пересекает внешнюю сторону
науки, идеологии и политики как дискурсов и вызывается кон-
фронтировать с ними, развертывать и переплавлять их. В своих
плюральности, иногда плюралингвистичности и зачастую поли-
фоничности (из-за множественности артикулируемых высказываний) он выявляет строение подобной кристаллу означивающей
деятельности, взятой в определенной точке ее бесконечности —
точке настоящего в истории, на которой эта бесконечность настаивает.
Представленная таким образом особенность текста радикально отделяет его от понятия «литературного произведения»,
принятого в экспрессионистской и феноменологической интерпретации, облегченно популистской, слепой и глухой к реестру
дифференцированных и конфронтирующих страт в расслоенном — множественном — означающем языка: дифференциация и
конфронтация, специфичная связь которых с диффузным удовольствием субъекта четко прослеживается во фрейдистской теории и которые текстовая практика так называемого авангар¬
17
да — современного с последующими эпистемологическими купюрами, произведенными марксизмом, — акцентированы заметным
историческим образом.
Однако если такой концепт текста освобождается от влияния
литературного объекта, одновременно привлекательного для
вульгарного социологизма и эстетизма, то его не следует смешивать и с тем плоским объектом, который называется текстом в
лингвистике, когда стараются уточнить «верифицируемые правила» его артикуляций и трансформаций. Позитивистского описания грамматичности (синтаксической или семантической) либо
аграмматичности недостаточно, чтобы определить специфику
текста, как он представлен здесь. Его изучение восходит к анализу акта означивания — к постановке вопроса о категориях грамматичности — и не должно претендовать на построение системы
формальных правил, которые, в конце концов, охватили бы означивающую деятельность целиком. Эта деятельность всегда отличается избыточностью, которая выходит за рамки правил коммуникативного дискурса и как таковая настойчиво проявляется
в формуле текста. Текст — это не просто совокупность грамматичных или аграмматичных высказываний; он является тем, что
позволяет себя читать сквозь специфику этой совокупности различных страт означивания, присутствующих в данный момент в
языке, вызывая их в памяти: историю. Это значит, что он представляет собой комплексную практику, чьи графы следует уловить с помощью особой теории акта означивания, пронизывающего язык, и только в этой мере наука о тексте будет иметь нечто
общее с лингвистическим описанием.
Движение научного познания — вот что
существенно.
Аенин. Философские тетради
Итак, проблема заключается в том, чтобы утвердить право на
существование дискурса, передающего функционирование текста, и предпринять первые попытки конструирования такого дискурса. По-видимому, семиотика сегодня пока еще не та область,
которая готова к его разработке. Важно помнить, что первые систематические размышления по поводу знака —or||isïov — принадлежат стоикам и совпадают с началом античной эпистемологии.
Приступая к изучению того, что принято считать ядром означивания, семиотика вернулась к этому orijisîov на фоне длительного
развития наук о дискурсах (лингвистики, логики) и их более высокой детерминанты — математики и предстает в виде логического исчисления — обширного лейбницианского проекта — различ¬
Текст и наука о тексте
Юлия Кристева бЩр Семиотика: Исследования по семанализу
18
ных способов сигнифыкации. Иными словами, семиотический
подход некоторым образом следует за аксиоматическим, основателями которого были Буль, де Морган, Пирс, Пеано, Цермело,
Фреге, Рассел, Гилберт и др. На самом деле, термин «семиотика »*
в его современном значении применил один из первых аксиома-
тиков — Чарлз Сандерс Пирс. Однако, хотя аксиоматический
путь, перенесенный вовне из области математики, завершился
субъективистским позитивистским тупиком (освещенным Р. Карнапом в его книге «Construction logique du monde»), семиотический проект не стал менее открытым и многообещающим. Доводы в пользу этого, вероятно, следует искать в трактовке семиотики, которую можно обнаружить в кратких ремарках Фердинанда
де Соссюра2. Отметим важные для нас моменты, обнаруживающиеся в соссюровской семиологии.
A. Семиотика должна строиться как наука о дискурсах. Чтобы достичь научного статуса, ей прежде всего необходимо основываться на формальной единице, иными словами, выделить в
рефлексивном дискурсе «реального» единицу, не соотносимую с
чем-то внешним. Для Соссюра — это лингвистический знак. Его
исключенность из референта и его произвольный характер3 сегодня принимаются как теоретические постулаты, допускающие
или оправдывающие возможность аксиоматизации дискурсов.
B. «...в этом смысле лингвистика может служить моделью
для всей семиологии4, хотя система языка — всего лишь ее
частный случай»5. Таким образом, для семиотики открывает¬
1 «Логика в ее генеральном смысле, если подняться на более высокий уровень, —
это просто другое обозначение семиотики (...), квазинеобходимого или формального
учения о знаках. Называя учение «квазинеобходимым» или формальным, я имею в
виду, что мы наблюдаем черты этих знаков в силу наших возможностей и, исходя из
этих наблюдений с помощью процесса, который я не откажусь назвать Абстракцией,
мы приходим к суждениям в высшей степени ошибочным, и, следовательно, с совершенной необходимостью относительными в сравнении с тем, что должно быть чертами знаков, используемых “научным” разумом...» (Philosophical Writings of Peirce, ed.
by J. Bucher, 1955, p. 98).
2 В лоне социальной жизни можно представить себе науку, которая изучает
жизнь знаков; она составляет часть социальной психологии и, следовательно, общей психологии; мы назовем ее семиологией (от греческого семеион — «знак»). Она
откроет нам, из чего состоят знаки, какими законами регулируются. Поскольку она
пока не существует, невозможно сказать, какой она будет; но она имеет право на существование, ее место предопределено заранее. Лингвистика составляет всего лишь
часть этой общей науки; законы, которые откроет семиология, будут использоваться
в ее рамках, и она окажется, таким образом, связанной с хорошо известной областью
в совокупности человеческих фактов. Именно психология определит точное место семиологии» (Cours de linguistique générale, p. 33).
3 Критику представления о произвольности знака см. Е. Benveniste “Nature du
signe linguistique” in Problèmes de linguistique générale, Gallimard, 1966.
4 Об отношениях между семиологией и лингвистикой см. R. Barthes, “Eléments
de sémiologie” in Communication, № 4; J. Derrida, De la grammatologie, Ed. De Minuit, et
“Grammatologie et sémiologie” in Information sur les sciences sociales, № 4, 1968.
5 F. de Saussure, Cours..., p. 101.
ся возможность не подчиняться законам означивания дискурсов как систем коммуникации и обратиться к другим областям
сигнификации. Здесь впервые высказывается предостережение
против трактовки знака как штампа, что стало предметом специального рассмотрения в работе Соссюра Anagrammes, посвященной текстам, где намечается текстовая логика, отличная от той, где господствует знак. Таким образом, проблема
критического пересмотра понятия знака ставится полностью
в семиотическом ключе: его определение, историческое развитие, его валидность и связи в различных типах практик означивания. Семиотика возможна лишь при полном подчинении
обосновывающему ее закону, а именно, овнешнять действия
означивания, — а это предполагает, что она постоянно возвращается к своим собственным основаниям, осмысляет и трансформирует их. Эта наука в большей степени, чем «семиология»
или «семиотика», строится как критика смысла, его элементов
и законов — как семанализ.
С. «Именно психолог должен определить точное место семиологии», — пишет Соссюр, и таким образом ставит существенную
проблему: место семанализа в системе наук. Сегодня совершенно
очевидно, что психологу, равно как и психоаналитику, самим
трудно будет точно указать на место семанализа; такая спецификация, возможно, произойдет благодаря общей теории символического функционирования, для конституирования которой
вклад семиотики неизбежен. Следует, однако, принять соссюров-
ское положение как предупреждение о том, что семиотика не
сможет сохранять формальную нейтральность подобно чистой
аксиоматике, а также логике и лингвистике. Исследуя дискурсы,
семиотика участвует в том «обмене применениями» между науками, который одним из первых осмыслил Башляр в своем
рациональном материализме; она располагается на пересечении
нескольких наук, порожденных, в свою очередь, процессом взаимопроникновения наук.
Итак, если попытаться избежать представления о ней как о
подходе, капитализирующем смысл, создающем единое унифицирующее и тотализирующее поле новой summa theologicae, и начать очерчивать место семиотики, то важно уточнить ее отношения с другими науками1.
1 Вслед за Огюстом Контом современная идеалистическая философия, как
субъективистская (например, Венский кружок), так и объективистская (например,
неотомизм), пыталась определить место науки в системе человеческой активности
и установить отношения между различными науками. Из множества трудов, относящихся к этим проблемам (упомянем несколько отметивших период перед психоаналитическим обновлением и началом семиотики в течение шестидесятых годов: NÉOTHOMISTES — J. Maritain, De Bergson à Thomas d* Aquin, New York, 1944;
M. de Wulf, Initiation à la philosophie thomiste, 1949; Nicolai Hartmann, Philosophie
Юлия Кристева ШШр Семиотика: Исследования по семанализу
20
Это отношение подобно тому, что объединяет математику с
математиками, но представлено на общей шкале, охватывающей
всю конструкцию означивания, которая отводит семиотике свое
место. Отношение отступления от систем, а также от различных
практик означивания, которые установлены «природой», продуцирует «тексты», презентируется «науками».
В то же время семиотика составляет часть корпуса наук, поскольку имеет специфичный объект: способы и законы означивания (общества, мысли), — и разрабатывается на пересечении с
другими науками, однако она также сохраняет теоретическую
дистанцию, позволяющую ей осмысливать научные дискурсы,
частью которых она является, и одновременно извлекать из них
научное обоснование диалектического материализма.
В своей классификации наук Пирс отвел особое место теори-
кам (theories), которые разместил между философией и идиоско-
пиейх (к которой относятся физические науки и науки о человеке). Теорика — это подкласс философских наук (логика, эстетика, этика и т. д.) наряду с тем, что Пирс назвал «необходимой
философией » (necessary philosophy) и что вслед за ним можно назвать эпистемией (s7noTT)jiri), поскольку она одна из всех наук реализует платоновскую и, шире, эллинистическую концепцию...
«В этом подклассе имеются всего лишь два подразделения, которые с трудом можно классифицировать как разряды, вернее, как
семейства: хронотеория и топотеория. Этот тип исследований
только складывается. Лишь немногие признают, что это нечто
иное, чем спекуляция на идеальном уровне. Возможно, в будущем
этот подкласс пополнится другими разрядами». Нам кажется,
что семиотику сегодня можно построить как такую теорику: науку о времени (хронотеория) и топографию акта означивания
(топотеория).
der Natur, Berlin, 1950; Günter Jacoby, Allgemeine Ontologie der Wircklichkeit, B.II,
1955; критику этих теологических философов см.: G. Klauss Jesuiten, Gott, Materie,
Berlin, 1957; NÉO-POSITIVISTES: Philipp Frank, Philosophie of Science. The Link
between Science and Philosophie, New Jersey, 1957; Gustav Bergmann, Philosophie of
Science, Madison, 1957, и пытались построить классификацию наук. Другие, следуя скептицизму J. Venn, Principles of Empirical and Inductive Logik, 1889, отказались от представления о единстве диверсифицированных наук и таким образом
присоединились к субъективному релятивизму, близкому к объективному идеализму. Однако странно видеть, как эти философы, в том числе в недавних трудах, включая последователей магистральной эпистемологии Гуссерля, отдаляются
от фрейдистской революции, избегают постановки проблемы акта означивания в
свете фрейдистских прозрений, позволяющих проникнуть в его происхождение
и трансформацию, и представлять себе возможность науки, где он считается его
«объектом».
1 Термин «идиоскопия» заимствован у Бентами и означает «специальные науки, — пишет Пирс, — зависимые от специального наблюдения и прокладывающие
свой путь либо через другие обследования, либо на чувственный опыт...» (Philosophie
and the Science: A classification in Philosophical Writings,., p. 66)
Семиотика/семанализ — это та инстанция, где осмысляются
законы означивания без блокирования логикой коммуникативного языка, где нет места субъекту, но где в ход теоретизирования включаются эти топологии; тем самым она обращается к самой себе как к одному из своих объектов и фактически строится
как своего рода логика. Но, скорее, не формальная, но та, что
называется диалектической — термин, две составляющих которого взаимно нейтрализуют телеологию идеалистической диалектики и ограничения, налагаемые на субъекта в формальной
логике.
Осуществляя «обмен применениями» между социологией,
математикой, психоанализом, лингвистикой и логикой, семиотика становится рычагом, подводящим науки к разработке материалистической гносеологии. Благодаря вмешательству семиотики
система наук становится децентрированной и вынужденной обратиться к диалектическому материализму, открыть для него
возможность, в свою очередь, рассматривать выработку сигни-
фикации, т. е. продуцировать гносеологию. Система наук перестает быть плоской, к ней добавляется глубина размышлений о
конституирующих ее операциях, — фонд, где осмысляется действие означивания.
Таким образом, семиотика в качестве семанализа и/или критики собственного метода (своих предмета, моделей, дискурса,
установленного знаком) участвует в философском (в кантовском
смысле слова) действии. Иными словами, именно в рамках семиотики сохраняется различение философия/наука: в этом месте и
начиная с него, философия больше не может игнорировать дискурсы — системы означивания — наук, а науки не смогут забыть,
что они представляют собой дискурсы — системы означивания.
В качестве места проникновения науки в философию и критического анализа научной деятельности семанализ вырисовывается
как артикуляция, допускающая дискретное, стратифицированное, дифференцированное построение материалистической гносеологии, т. е. научной теории систем сигнификации в истории и
истории как сигнифицирующей системы. Можно сказать, что
семанализ освобождает совокупность систем означивания наук
от их некритичного одноголосья (ориентированного на свой объект и игнорирующего своего субъекта), критически упорядочивает системы означивания и таким образом вносит вклад в обоснование дискретной последовательности пропозиций, относящихся
к практикам означивания, а не Системы Знания.
Семанализ, проект которого прежде всего критичен, не должен строиться как законченное сооружение, «общая энциклопедия семиотических структур», и еще менее как последний предел, как метаязык, «конечный» и «насыщенный» наслоением
Юлия Кристева @Шр Семиотика: Исследования по семанализу
22
языков, каждый из которых принимает другой в качестве «плана
значения». Если такова интенция метасемиологии Ельмслева1, то
семанализ, напротив, разрывает скрытую нейтральность сверх-
конкретного и сверхлогичного метаязыка и указывает языкам
конкретные операции, приписывающие их к субъекту и истории.
Семанализ далек от того, чтобы разделять энтузиазм глоссемантики, отметившей «прекрасную эпоху» Систематизирующего
Разума, убежденного в универсальности своих трансцендентальных операций; он также уходит от фрейдистского и в ином
плане от марксистского расшатывания субъекта и его дискурса;
не предлагая закрытой универсальной системы, он обращается к
формализации для деконструкции. Он избегает таким образом
агностического свертывания языка в самом себе и предписывает
ему внешнее — сопротивляющийся «объект» (систему означивания), который анализируется в семиотике, чтобы найти здесь
место формализму применительно к историко-материалистической концепции, которая затрагивает эту формализацию лишь по
касательной.
1 Семиотическая теория Ельмслева (Prolégomènesà une théorie du language, trad,
fr., Ed. De Minuit, 1968), благодаря своей точности и полноте и несмотря на ее предельную абстрактность (антигуманизм, ставший логическим априоризмом), несомненно,
является наиболее определенной среди тех, что предлагают процедуру формализации
систем сигнификации. Поразительный пример внутренних противоречий наук, называемых гуманитарными, можно найти у Ельмслева в его концептуализации идеологической нагруженности предпосылок семиотики (речь идет о различиях субстанция/
форма, содержание/выражение, имманентность/транспарентность и т. п.), и через
серию логически определяемых снятий это заканчивается метасемиологией, которая
«на практике тождественна описаниям субстанции». «Различие, проводимое Соссю-
ром (субстанция/форма), и его формулировка не должны приводить нас к мысли, что
функции, обнаруживаемые благодаря анализу лингвистической схемы, не могут ни
по каким соображениям рассматриваться как имеющие физическую природу». Или,
переходя от формализма к объективной материальности, если кажется, что он касается материалистической позиции, то он не остается на стороне, которой противостоит философия. Поскольку Ельмслев замыкается в рамках проблемы: «Какой может
быть мера в случае расчетов, чтобы исчислить величины таких аспектов языка, как
содержание и выражение, если это не физические величины?», спрашивает он, чтобы
отказаться трактовать эту проблему как «относящуюся только к эпистемологии» и
чтобы исходить из неэпистемологической чистоты области, где господствует «теория
лингвистической схемы». Теория Ельмслева является финалистской и систематизирующей, она снова оказывается на уровне трансценденции, которую представляет как
имманентность, и вынуждена, таким образом, ограничиваится закрытой целостностью центрированной на априористском описании языка, отрезая путь к объективному познанию систем сигнификации, не сводимых к языку как «двуплановой системе». Можно сомневаться, что концепт коннотации мог бы побудить ранее закрытую
систему стать открытой. Исследования, появившиеся после Ельмслева и посвященные
литературному знаку (коннотативному), положили конец сложным механическим
конструкциям, которые так и не преодолели закрытость представления о денотации
как порождаемой знаком. На более глубинном уровне базовые концепты содержания
и выражения описывают знак, чтобы его зафиксировать, и являются коэкстенсивны-
ми по отношению к его области, но не отражают его непрозрачности; что касается
концепта «текст», понимаемого как «процесс», он практически отрицается понятием
«язык», представляемым как «система», для которого он оказывается бременем.
На современном этапе, неустойчивом, разделенном на сциентизм и идеологию, семиотика пронизывает все «объекты», «общества» и «мышления», а значит и все социальные науки и находится в поисках родства с эпистемологическим дискурсом.
D. Если семиотика делает лишь первые шаги в поисках себя
как науки, то ее проблемы оказываются еще менее ясными, когда
она приближается к специфичному объекту, тексту, который
мы обозначили выше. Теоретики и классификаторы наук в своих
схемах редко, если не в исключительных случаях, всерьез рассматривают возможность науки о тексте. Эта зона социальной
активности кажется связанной с идеологией или обращенной к
религии1.
Действительно, текст — это именно то, что невозможно осмыслить в рамках всей концептуальной системы, составляющей
базу современного разума, поскольку именно текст обозначает
ее пределы. Исследовать то, что очерчивает поле определенной
логики познания посредством его исключения и что по этой причине позволяет продолжать исследование, закрывающее глаза,
но и опирающееся на него, — это, несомненно, решающий шаг,
который должна попытаться сделать наука об изучаемых ею системах, при этом не допуская исключения того, что делает ее
возможной, и не приспосабливаясь при его измерении только к
концептам своего внутреннего строения (например, «структура» или в специфичных случаях «невроз», «перверсия» и т. д.),
но, начиная с маркировки этой инаковости, этого внешнего.
Именно так, в таком смысле эта наука могла бы стать материалистической:.
Совершенно очевидно, что обозначить текст как один из
объектов семиотического познания — это жест, крайность и
трудность которого нельзя игнорировать. Однако нам кажется
необходимым продолжить это исследование, которое, на наш
взгляд, способствует построению семиотики, не заблокированной допущениями теорий означивания, не принимающих во внимание текст как специфичную практику, и позволяющей переработать теорию означивания, которая становится, таким образом, материалистической гносеологией. Такой вклад возможен,
поскольку по отношению к тексту и исходя из особенностей
1 Русский формализм, несомненно, был первым, открывшим путь семиотике
литературных текстов. К этому можно присовокупить Пражский лингвистический
кружок, где в духе феноменологического позитивизма были предприняты робкие попытки очертить семиотику литературы и искусств (Jan Mukarovsky, Estetika funkce,
norma a bodnota jako sociâlni fakty — Эстетическая функция, норма и ценность как
социальные факты, Praha, 1939; Uart comme fait sémiotique (место публикации неизвестно) и т. д. Польская школа теории литературы, испытавшая влияние русского
формализма и работ польских логиков, вернулась после войны к этой семиотической
традиции в изучении литературы.
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
24
этого объекта, семиотика должна больше, чем другие области,
изобретать себя, пересматривать свои матрицы и модели, перерабатывать их и придавать им историческое и социальное измерения, которые негласно участвуют в их построении.
Текст противостоит семиотике в том функционировании, которое размещается за пределами аристотелевой логики, требуя
построения иной логики и, таким образом, подталкивая к крайности — к эксцессу — дискурс познания, соответственно обязывая его подчиниться или переизобрести себя.
Иными словами, текст предлагает семиотике проблематику,
которая проникает сквозь непрозрачность произведенного объекта означивания и конденсирует в продукте (в наличном корпусе языка) двойной процесс продуцирования и трансформации
смысла. Именно в этом месте семиотического теоретизирования
вмешивается психоанализ, чтобы предложить концептуализацию, улавливающую в языке фигурабельность через фигуру1.
Обращаясь с вопросамии к психоанализу, семанализ может
«дезобъективировать» свой объект: попытаться представить в
концептуализации, которую он предлагает для этого специфичного объекта, вертикальное сечение, не ограниченное ни началом, ни концом, чтобы продуцирование означивания перестало
быть причиной продукта, не довольствуясь его отнесением к поверхностному порядку объектной целостности.
Математические, логические и лингвистические науки обеспечивают такому шагу формальные модели и операциональные
концепты; социальные и философские науки уточняют координаты своих объектов и определяют свою предметную область.
Предлагая таким образом формализацию без редукции к ней, но
с подражанием ее действу, иными словами, предписывая законы
типу означивания, наука о тексте представляет собой конденсацию [свертывание] (в аналитическом смысле слова) исторической
практики — науку о придании истории фигуративности: «размышление над историческим процессом в абстрактной и теоретически последовательной форме, корректируемое, но в соответствии с законами, которые предлагает нам сам реальный исторический процесс, так что каждый момент может рассматриваться с
1 Фрейдистская теория логики сновидения, помещающая его между сознанием
и бессознательным с помощью анализа серии операций продуцирования и трансформации, которые делают сновидение нередуцируемым к коммуницируемому дискурсу,
указывает направление, которое следует разрабатывать в рамках семиотики текста.
Так, «при формировании сновидения психическая деятельность разделяется на две
операции: продуцирование идей сновидения и трасформация их в содержание сновидения... эта деятельность, которую и совершает сновидение, сильно отличается от
того, что происходит при пробуждении и о чем не думают теоретики, со стыдом предоставляющие продуцированию сновидения часть психической активности. Различие
между этими двумя формами мышления природно, и поэтому их трудно разделить...»
(L*Interprétation des rêves, P.U.F., 1926 [1967], p. 432).
точки зрения его производства, там, где процесс достигает своей
полной зрелости и классической формы»1.
Исследования, которые представлены ниже, осуществлялись в
течение двух лет; их неравнозначность и противоречивость соответствуют последовательным этапам работы, не окончательной, не
завершенной, свидетельствуют о первой попытке теоретической
разработки, которая по времени совпадала бы с актуальной текстовой практикой и сегодняшней наукой об означиваниях. Это попытка уловить через язык то, что чуждо привычному в нем и нарушает порядок его конформизма: текст и науку о нем, чтобы интегрировать их в построение материалистической гносеологии.
1 Marx, Engels, Œuvres choisies, 1.1, Gospolitisdat, Moscou, 195 5, p. 332.
Практический жест или
коммуникация?
Если, замкнутый в нашем языке, ты не слышишь наших доводов, за неимением голоса говори варварскими
жестами.
Эсхил. Агамемнон
Жест оставляет его в пределах пространства феноменального мира, но звук разрешает ему войти в феноменальный мир в его первозданности...
...вообще каждый жест имеет параллельный ему звук*
Самый интимный и частый альянс символической мимики и звука конституирует язык.
Ницше. Дионисийская концепция мира (лето 1870)
Ибо наряду со словесной культурой существует культура жестовая. В мире есть другие языки, отличающиеся
от нашего западного, избранного для обеднения, иссушения идей, где идеи презентируются нам в инертном состоянии, не приводя в движение всю систему естественных
аналогий, как это происходит в восточных языках.
Арто. Письма о языке, 1(15 сентября 1931)
От знака к анафору
Мы выбрали эти размышления в качестве эпиграфов вовсе не
для того, чтобы указать на интерес, который «антинормативная»
мысль всегда проявляла к жестовости, и более чем когда-либо
после эпистемологического изъятия XIX-XX вв., когда благодаря
Марксу, Ницше, Фрейду и некоторым текстам, называемым поэтическими (Лотреамон, Малларме, Руссель), она постепенно исчезла из сетки «логоцентрической» рациональности («субъект»,
дискурс, коммуникация). Скорее для того, чтобы подчеркнуть
(их) противоречие, точнее, ту (их) дополнительность, с которой
сталкивается современная лингвистика перед своим обновлением.
В самом деле, в тот момент, когда наша культура оказалась пойманной тем, что ее конституирует — слово, концепт, речь, — она
пытается также преодолеть свои основания, чтобы принять иную
точку зрения, находящуюся вне ее собственной системы. В этом
движении современной мысли, относящейся к семиотическим
системам, прорисовываются две тенденции. С одной стороны,
сторонники принципов греческой мысли приписывают ценность
звуку как причастному к идее и, следовательно, как основному
средству процесса мышления, литературы, философии и науки
27
(понимаемому в его проявлениях в наименее платонистском духе,
что следует из цитат Эсхила и Ницше), выбранному для примата
вербального дискурса и рассматриваемому как голос-инструмент
для выражения «феноменального мира», «воли» или «идеи»
(смысла). В ограниченном таким образом поле сигнификации и
коммуникации понятие семиотической практики исключается, и
тем самым вся жестуальность представляется как механическая,
избыточная по отношению к голосу иллюстрация-удвоение речи,
чья визуализация — это, скорее, действие, «дополнительная репрезентация» (Ницше), чем процесс. Марксистская мысль избегала этого западного допущения, сводящего весь праксис (жестуальность) к репрезентации (видимость, слышимость): она изучала
как производительность (деятельность+пермутация продукта),
процесс, предназначенный для коммуникации (система обмена).
И это происходит благодаря анализу капиталистической системы как «машины» с помощью концепта darstellung, т. е. саморегулирующейся постановке, но не спектаклю, а безличной и пер-
мутантной жестуальности, которая, не имея автора (субъекта),
не имеет ни зрителя (адресата), ни актеров, поскольку каждый
есть собственный «актер», который в качестве такового самораз-
рушается, будучи одновременно собственной сценой и собственным жестом1. Таким образом, мы находим, в ключевой для западной мысли момент, что в споре с собой она утверждает попытку
отойти от сигнификации (субъекта, репрезентации, дискурса,
смысла), чтобы заместить ее иным: производством как жестом,
однако не телеологическим, поскольку он разрушителен для
«вербализма» (мы обозначаем этим термином фиксацию смысла
и/или структуру как культурную ограду нашей цивилизации). Но
семиотика еще не достигла тех марксистских заключений, которые могут дать ей новые основания.
С другой стороны, утверждается тенденция все более заметного сближения с семиотическими практиками, иными по сравнению с вербальными языками, и она сопровождается интересом
к неевропейским цивилизациям, не редуцируемым к схемам нашей культуры2, к семиотическим практикам животных («чаще
всего аналогичным», несмотря на то, что в человеческом языке
часть коммуникации кодирована пальцевыми знаками3) или к нефонетическим семиотическим практикам (письмо, графизм, манера поведения, этикет). Многие исследователи, изучающие различные аспекты жестуальности, констатируют и пытаются фор-
1 См. интерпретацию этого концепта: L. Althusser. Lire Le Capital. T. II, p. 170—
171.
2 См. работы советских семиологов. Труды по знаковым системам, Тарту, 1963.
3 Здесь мы обращаемся к важным работам Th.A. Sebeok, особенно к Coding in the
evolution of signaling behavior in Behaviorial science, 7 (4), 1962, p. 430-442.
Практический жест или коммуникация?
Юлия Кристева юЩр Семиотика: Исследования по семанализу
28
мадизовать нередуцируемость жеста к вербальному языку.
«Мимический язык — это не только язык, но действие и участие в
действии, а также в других вещах», — пишет известный специалист в области жестуальности Пьер Олерон, продемонстрировав,
что грамматические, синтаксические или логические категории
не приложимы к жестам, поскольку они разнопорядковы1. Признавая необходимость лингвистических моделей для начального
этапа этих практик, недавние исследования пытаются освободиться от базовых схем лингвистики и разработать новые модели
для нового корпуса и расширить a posteriori силу самой лингвистической процедуры (где пересмотреть понятие языка в смысле
не только коммуникации, но продуцирования).
Именно в этой точке, на наш взгляд, фокусируется интерес к
изучению жестуальности. Интерес философский и в первую очередь методологический к конституированию общей семиотики,
поскольку такое изучение позволяет в двух фундаментальных
точках выйти за пределы подходов, разработанных в отношении
вербального корпуса, которые лингвистика сегодня налагает на
семиотику и которые часто сигнализируют о неизбежных дефектах структурализма2.
1. Жестуальность в большей степени, чем дискурс (фонетический) или образ (визуальный), может изучаться как издержка
продуктивности, предшествующей продукту, а также репрезентации как феномену означивания в коммуникативном цикле;
можно также изучать жестуальность не как репрезентацию в качестве «мотива действия, не затрагивающего природу действия »
(Ницше), но как активность, предшествующую репрезентированному и доступному репрезентации сообщению. Очевидно, жест
передает сообщение в рамках группы и является «языком» только в этом смысле; но когда сообщение уже сделано, он становится (и может считаться) разработкой сообщения, деятельностью,
которая в процессе коммуникации предшествует конституированию знака (смысла). Исходя из этого, т. е. из соображения, что
жестуальность имеет практический характер, семиотика жеста
должна основываться на необходимости перейти через структуры «код-сообщение-коммуникация» и предложить способ рас-
суждений, последствия которого трудно предвидеть.
1 Pierre Oléron, «Études sur le langage mimique de sourds-muets», in Année psychologique, 1952, t. 52, p. 47-81. Против редуцируемости жестуальности к речи:
R. Kleinpaul, Sprache ohne Worte. Idee einer allgemeinen Wissenschaft der Sprache, Verlag
von Wilhelm Friedrich, Leipzig, 1884, 436 p. A. Leroi-Gourhan, le Geste et la Parole, Albin
Michel, Paris.
2 Жан Дюбуа продемонстрировал, почему структурная лингвистика, заблокированная схемами коммуникации, не может при необходимости справиться с проблемой
продуцирования языка — регрессивный жест в текущей современной мысли — с проблемой интуиции говорящего субъекта (См. J. Dubois, “Structuralisme et linguistique” in
La Pensée, oct. 1967, p. 19-28).
29
2. В нашей вербальной цивилизации жестуальность чрезвычайно обеднена, но она широко распространена в культурах,
внешних по отношению к греко-иудо-христианским границам1.
Изучение жестуальности с помощью моделей, заимствованных
из тех цивилизаций, где она проявляется, предоставляет нам взамен средства осмысливать нашу собственную культуру. Отсюда,
чтобы «выйти за пределы слова», необходимо тесное сотрудничество антропологов, историков культуры, философов, писателей и семиотиков.
С этой позиции мы остановимся на двух изменениях, которые
рассмотрение жестуальности как практики вносит в рефлексию
относительно семиотических систем: 1. определение базовой функции (мы не говорим базового «единства») жеста; 2. дифференциация практики-производства/коммуникации-сигнификации.
Мы приведем несколько примеров из антропологии не в качестве убедительных документов, но как материал для умозаключений. Антропологические исследования семиотических практик
племен, называемых «примитивными», по нашему мнению, разделяют широко распространенный философский принцип (платонический), предполагающий, что это выражение идеи или концепта, предшествующее их представленности в означивании. Современная лингвистика, моделируемая на этом же принципе (мы
имеем в виду дихотомию лингвистический знак и означающее-
означаемое), немедленно возвращает эту концепцию в круг теории
информации. Однако нам кажется возможным иное прочтение
данных («примитивных» объяснений, относящихся к функционированию семиотических систем), представленных антропологами.
Приведем несколько примеров. Так: «Вещи означаются и называются негласно, до их существования, а затем к их существованию апеллируют по их именам и знакам» (выделено нами). «Когда
(вещи) размещены и означены в соответствии с их могуществом,
от gla отделяется другой элемент и налагается на них, чтобы их
познать: Это человеческая нога (или «зерно ноги»), символ человеческого сознания»2. Или еще: «По теории языка Догон факт
произнесения точного имени существа или вещи эквивалентен их
символическому проявлению... (выделено нами). Тот же автор,
трактуя закалывание волос как «свидетельство сотворения мира
Аммой» у Догонов, напоминает об «ассоциации — придать фор¬
1 См. М. Granet, La Pensée chinoise, ch. II et III, Paris, 1934; “La droite et la gauche
en Chine”, in Études sociologiques sur la China, P.U.F., 1953; тексты Арто о Tarahuma-
ras (La Danse du peyotl) или его комментарии по поводу балийского театра; Zéami, La
Tradition secrète du No, trad, et commentaries de René Sieffert, Gall., 1967; индийская
традиция театра Kathakali (Cahiers Renaud-Barrault, mai-juin, 1967) и др.
2 G. Dieterlen, “Signe d’écriture bambara”, процитировано Geneviève Calame-Gri-
aule, Ethnologie et language: la Parole chez les Dogons, Gallimard, 1963, p. 514, 516.
3 G. Calame-Griaul, op. cit., p. 363.
Практический жест или коммуникация?
Юлия Кристева шШр Семиотика: Исследования по семанализу
зо
му объекту, указав на него пальцем» и интерпретирует это как
«индекс удлинения, позволяющий проявишь что-то», откуда и
«палец Аммы, создающего мир, проявляя его»1 (выделено нами).
С другой стороны, некоторые исследования нефонетических семиотических систем признают дополнительность двух принципов
семиотизации: с одной стороны, репрезентацию, с другой — индикацию. Так, известны шесть принципов письма Лао-шу (404-
247 гг. до н. э.): 1. фигуративная репрезентация объектов; 2. индикация действием; 3. комбинирование идей; 4. композиция фигуративных и фонетических элементов; 5. перемещение смысла;
6. заимствование; а также разделение китайских иероглифов на
wen (фигуры дескриптивного характера) и tsen (иероглифы, составленные с индикативной целью2).
Если все эти размышления предполагают синхроническое
предшествование семиотической системы по отношению к «реальному выделению», то странно, что это предшествование, вопреки
объяснениям этнологов, стало концептом не по отношению к
голосу (означаемое-означающее), но к жесту демонстрации,
обозначения, указания действием по отношению к «сознанию»,
идее. Перед тем как (предшествование здесь пространственное,
а не временное) перейти к знаку и проблематике сигнификации
в целом3 (а также к структуре означивания), следует подумать о
практике десигнацищ о жесте, который показывает не для того,
чтобы означить, но чтобы объединить в одном и том же пространстве (без дихотомии идея-слово, означаемое-означающее),
скажем, в один и тот же семиотический текст субъекта, объект
и практику. Эта процедура не позволяет рассматривать понятия
«субъект», «объект» и «практика» в качестве единиц «в себе», но
включает их в широкий круг отношений (жест=указанию, проявлению) индикативного, но не сигнификативного типа, который означивает только «после» — таково слово (в фонетическом
смысле) и его структуры.
Считается, что лингвистика модерна конституировалась как
наука благодаря фонологии и семантике; но, возможно, настало
время отойти от этих фонологических и семантических моделей,
т. е. от структуры и попытаться соприкоснуться с тем, что ею не
является, не редуцируется к ней или полностью от нее ускольза¬
1 Ibid.у р. 506.
2 Tchang Tcheng-Ming, L'Écriture chinoise et le Geste humain, doctorat ès lettres,
Paris, 1937.
3 P. Якобсон прав в своем возражении, что «показать пальцем» не означает никакой точной сигнификации, но это возражение далеко не снимает интереса к концепту
индикации, ориентации (можно продолжить — анафоры), позволяющего пересмотреть семантические теории, как это было предложено Harris и Voegelin на Конференции антропологов и лингвистов в Индианском университете в 1952 г. (см. “Results of
the Conference of Anthropologists and Linguists” in Supplement to International Journal of
American Linguistics, vol. 19, № 2, april 1953, mem. 8,1953).
31
ет. Очевидно, подход к этому иному по отношению к фонетикосемантической структуре возможен только в соотнесении с ней
самой. Соответственно дадим такой базовой функции общесемиотического текста — индикативной, реляционной, пустой — название анафоры, напомнив значение этого термина в структуральном синтаксисе1 и его этимологию. Анафорическая функция,
реляционная, трансгрессивная по отношению к вербальной структуре, через которую мы с необходимостью ее изучаем, предполагает возможность открывать, распространять (систему знака,
который следует «после», но через который она с необходимостью мыслится задним числом), что только подтверждают данные
антропологов (для Догонов Амма, который создает мир, указывая на него, означает, что он его «открывает», «распространяет»,
«расчленяет плод»).
С другой стороны, анафорическая функция (в дальнейшем мы
будем использовать этот термин как синоним «жестуальная») общесемиотического текста конституирует фон (или связывает
его?), на котором разворачивается процесс: семиотическое продуцирование, которое уловимо только в застывшей и репрезентированной сигнификации, только в двух позициях — в слове и в
письме. До и после голоса и графики — вот где находится анафора:
жест, который указывает, устанавливает отношения и упраздняет целостности. Можно продемонстрировать связи между иероглифическим письмом и жестуальностью2. Семантическая система догонов, которая оказывается, скорее, скриптуальной, нежели вербальной семантической системой, также опирается на
индикацию: научиться говорить о чем-то значит научиться указать в его направлении. Приоритетную роль индикации в семиотике этого народа доказывает тот факт, что каждое «слово» дублируется чем-то другим, означивающим, но не репрезентирующим
его. Эта анафорика может быть либо графической поддержкой,
либо природным или искусственным объектом, либо жестуальностью, которая указывает на четыре стадии разработки семиотической системы (например, «речь по правилам»3).
Если принять жестуальность как анафорическую практику, то
в скобки заключается изучение жеста с помощью модели знака
(то есть с помощью грамматических, синтаксических, логических
категорий), и это побуждает нас приблизиться с помощью математических категорий к разряду функций.
Эти соображения по поводу анафоры напоминают размышления Гуссерля о природе знака. Действительно, указывая на
1 См. Tesnière L. Esquise d'une syntaxe structural, P. Klincksieck, 1953. См. выше,
“Le sens et la Mode”, p. 80.
2 Tchang Tcheng-ming, op. cit.
3 G. Galame-Griaule, op. cit., p. 237.
Практический жест или коммуникация?
Юлия Кристева rnÿjà Семиотика: Исследования по семанализу
32
«двойной смысл термина знак», он различает знаки-выражения,
те которые хотят говорить, и индексы (Anzeichen), которые «не
выражают ничего» и, таким образом, лишены свойства «хотеть
говорить». Это различение, которое изучал Деррида (см. la Voix
et le Phenomene), представляется в рамках гуссерлианской системы открытием, впрочем, быстро забытым, подразумевающим, что
означаемое в качестве того, что «хочет говорить», уходит из обращения на обочину индикации. «Мотивация устанавливает между актами суждения, в которых конституируются для мышления
состояния вещей, имеющих свойство указывать, и теми, на которые указывается, дескриптивое единство, которое не следует
считать «структурным качеством» (Gestaltqualitat), заложенным
в актах суждения; именно здесь помещается сущность индикации» (Recherches logiques, t. И, p. 31). Кроме этой неструктурно-
сти, Гуссерль подчеркивает неочевидность индекса. Однако он
принимает индикативное отношение как мотивацию, чьим объективным коррелятом будет «потому что», и это не что иное, как
восприятие причинности.
Таким образом, брешь в экспрессивном означаемом быстро
заполняется причинностью, которая под-лежит гуссерлеву индексу и предписывает ему «хотеть говорить».
Однако Гуссерль акцентирует различие двух способов означивания и видит реализацию, равно как и происхождение индикации в «ассоциации идей» (где отношение сосуществования формирует отношение принадлежности).
Что касается категорий выражения, они должны охватывать
«весь дискурс и каждую часть дискурса».
Итак, индексы с тем же успехом, что и выражения «исключают для нас игру мимики и жестов». Поскольку « такого рода “выражения”, по сути говоря, не являются означивающими »; и если
другое лицо приписывает им значение, то это всего лишь его интерпретация; но и в этом случае «у них [выражений] нет значений
в смысле, подразумеваемом лингвистическим знаком, они означают только индексы».
Таким образом, гуссерлевское различение индекс-выражение
оставляет нетронутым пространство, где продуцируется жест,
даже если жестовая интерпретация удерживается индексом. Без
атрибутов «хотеть сказать» и мотивировать причину, выражения и индекса, жест очерчивает свободное пространство, где
действует то, что можно считать индексом и/или выражением.
Здесь индекс, как и выражение, ограничивается извне в конечном
итоге только одним: местом знака. Мы хотим подчеркнуть: жест
позволяет нам передать то, что в равной степени исключено из
выражения и индикации (поскольку его продуцирование снимается с поверхности, где систематизируются знаки).
33
Предупреждаем, мы далеки от того, чтобы защищать тезис,
имеющий хождение в ряде исследований, посвященных жестуальности, где в ней хотят видеть происхождение языка. Если мы и
настаиваем на том, что анафорность есть базовая функция семиотического текста, то не считаем ее порождающей и не рассматриваем жест как диахронически предшествующий озвучиванию
или графическому изображению. Речь просто идет о том, чтобы
представить, исходя из того, что жест не редуцируется к голосу
(а также к сигнификации и коммуникации), общую специфику
семиотического текста в качестве практики — корреляционной, пермутативной и аннигилирующей, — специфику, которую
теории коммуникации и языка оставляют в тени. Следует подчеркнуть необходимость тесного сотрудничества между общей
семиотикой, с одной стороны, и теорией производства наряду с
некоторыми постулатами изучения бессознательного (раздробленность субъекта) — с другой. Не исключено, что изучение
жестуальности станет областью такого сотрудничества.
Если принять, что анафорическая функция семиотического
текста предшествует сигнификации, то это неизбежно приводит
к мысли, что она намечает ряд концептов, которые присутствуют
во всех цивилизациях, где жестуальности придается высокая степень семиотизации. Прежде всего, это концепт интервала: пустота, скачок, которые не противопоставляются «материи», т. е.
акустической или визуальной репрезентации, но указывают на
нее. Интервал представляет собой неинтерпретируемую артикуляцию, необходимую для пермутации общесемиотического текста и по нотации близкую к алгебраической, но внешнюю к пространству информации. Таков же и концепт негативности\
аннигиляции различных терминов семиотической практики (рассматриваемый в свете ее анафоричности), который представляет
собой непрекращающийся процесс продуцирования, но разрушает сам себя и может быть остановленным (иммобилизованным)
только a posteriori за счет суперпозиции слов. Жест — это еще
один пример постоянного продуцирования конца. В его поле индивид не может себя конституировать — жест безличен, поскольку это способ продуктивности без продукции. Его можно считать
пространственным — он исходит из «круга» и с «поверхности»
(поскольку такова топологическая зона коммуникации) и требует новой формализации пространственного типа. Будучи анафо-
ричным, семиотический текст не требует насильственной структурной (логической) связи с типом-примером: это постоянная
возможность аберрации, непоследовательности, экстракции, а
также создания других семиотических текстов. Из этого следует,
1 L. Mall говорит о зерологии: сведение к нулю денотат, а также знаков, которые
их репрезентируют в данной семиотической системе. См. Tel Quel, 32.
Практический жест или коммуникация?
Юлия Кристева вЩр Семиотика: Исследования по семанализу
34
что изучение жестуальности как продуцирования может быть
подготовкой к изучению всех практик разрушения и «девиации»
в данном обществе.
Иными словами, при изучении жестуальности как практики
проблема сигнификации становится вторичной. Еще раз подчеркнем, что в свете общей семиотики науку о жесте не следует насильно подчинять лингвистическим моделям, их нужно превосходить и расширять, начав с рассмотрения «смысла» как индикации, а «знака» как «анафоры».
Все эти соображения относительно характера жестуальной
функции приводятся только для того, чтобы предложить возможный подход к жестуальности как к тому, что не редуцируемо
к знаковой коммуникации. Очевидно, что они ставят под сомнение философские основы современной лингвистики, и может определить их возможности только в рамках аксиоматизированной
методологии. Нашей целью было только напомнить, что если, по
замечанию Якобсона, лингвистика долго боролась за «аннексирование звуков (выделено нами) из речи... и инкорпорирование
лингвистических сигнификаций1 (выделено нами)», то, возможно, для семиотической науки настало время аннексировать жесты и инкорпорировать продуктивность.
Современное состояние науки о жесте, как она предстает в
наиболее разработанной форме в рамках американской кинези-
ки, далека от завершения. Однако она нас интересует в той мере,
в какой она оказывается независимой от схем вербальной лингвистики, не будучи, однако, решительным шагом в построении
общей семиотики.
Американская кинезика
«Кинезика как методология имеет дело с коммуникативными
аспектами заученного и структурированного поведения тела в
движении»2, — пишет американский кинезист Ray Birdwhstell [Рэй
Бердуистелл], на работы которого мы будем ссылаться далее. Его
определение задает характеристики — и границы — этой недавно
появившейся науки, помещая ее на границах теории коммуникации
и бихевиоризма. Предварительно мы обратимся к ее истории, а также в общих чертах к ее понятийному аппарату и исследованиям.
Зарождение кинезики
Сторонники кинезики считают, что первым, кто стоял у истоков изучения «коммуникативных» аспектов телодвижений, был
1 R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Ed. de Minuit, Paris, 1963, p. 42.
2 “Paralanguage: 25 Years after Sapir”, in Lectures in Experimental Psychiatry, ed.
by Henry W. Brosin, Pittsburg, P. Univ. of Pittsburg Press.
35
Дарвин. Expression of the Emotions in Man and the Animals (1873)
часто цитируется как исходная книга для современной кинезики,
хотя обходится молчанием, что дарвиновскому исследованию
жестуальности не хватает «коммуникативного» (социологического) видения. В дальнейшем работы Франца Боаса отметили зарождение американской кинезики: известен интерес этого этнолога к телесному поведению в племенах северо-западного побережья, а также тот факт, что он стимулировал исследования
Эфрона, посвященные различиям в жестовом поведении между
итальянскими евреями и остальными итальянцами1. Но именно
антрополого-лингвистический шаг Эдуарда Сепира, особенно
его тезис, что телесная жестуальность представляет собой код,
который следует изучать с точки зрения успешной коммуникации2, определил тенденции современной кинезики. В дальнейшем
американские психиатры и психоаналитики в своих исследованиях акцентировали относительность жестового поведения: Уэстон
Ла Барр3 иллюстрирует концепт «фатической» коммуникации
Малиновского и документирует «псевдоязыки », которые предшествуют вербальному дискурсу.
Представляется также, что для развития кинезики особо стимулирующим стал микрокультурный анализ, представленный в
работах Маргарет Мид4, которая использовала фотокамеры и акцентировала культурные детерминации поведения.
Таким образом, к 1950-м гг. совместными усилиями американских антропологов, психоаналитиков и психологов была намечена новая сфера исследования: телесное поведение как особый код. Соответственно возникла необходимость в специализированной науке, которая могла бы интерпретировать и понимать
этот новый код, рассматриваемый как новый сектор коммуникации. Именно в американской лингвистике Блумфильда5, но еще
более у Сепира6, Трейджера и Смита7 новая наука жестуальности
стала искать модели для конституирования в качестве структуральной. С точки зрения, которую мы собираемся здесь представить, следует указать на работу Рэя Бердуистелла Introduction to
1 David Efron, Gesture and Environment, a tentative study, etc., Kings Crown Press,
New York, 1941.
2 E. Sapir, The Selected Writings of Edward Sapir, Univ. of California Press, Barkeley
and Los Angeles, 1949.
3 W.La Barre, “The Cultural basis of Emotions and Gestures” in 7be journal of Personality, 16, 49-68,1947; The Human Animal, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1934.
4 M. Mead, On the Implications for Anthropology of the Geselling Approach to
Maturation, Personal Caracter and the Cultural Milieu, éd. D. Harring, Syracuse Univ.
Press, 1956. Mead and Bateson “Balinese Caracter”; Mead M. and Cooke Fr. Macgregor,
Growth and Culture, G.P. Putnam &Sons. New York, 1952.
5 L. Bloomfield, Language, Hilt., New York, 1933.
6 E. Sapir, Language. An Introduction to the Study of Speech, Harcourt Brace and
Co. Ind., 1921.
7 George L. Tager and Hary Lee Smith, An Outline of English Structure, Oklahoma.
Практический жест или коллмуникация?
Юлия Кристева ШШр Семиотика: Исследования по семанализу
36
Kinesiecs (1952), которая положила начало структуральному
изучению телесного поведения. Известно, что Сепир в своих теориях исходил из трактовки языка в психологии и эмпирической
социологии: его различение «личности» как таковой и «культурного» окружения, влияющего на нее, влечет за собой механическую и неопределенную дифференциацию «социальной точки
зрения» и «индивидуальной точки зрения» в подходе к лингвистическому факту с предпочтением, отдаваемым «личностной»
точке зрения1. Этот тезис, вряд ли приемлемый сегодня (после
фрейдистской и, шире, психоаналитической рассредоточенности
в понимании «личности», т. е. субъект= «интерперсональной»
единице), определяет кинезическое направление. Однако остается значимым постулат Сепира, что дискурсы следует изучать как
серию «уровней», анализируемых по отдельности, что позволяет
«указать точное место дискурсивного комплекса, обусловливающего то или иное личностное суждение»2. Именно Сепир признал
важность телесного поведения для коммуникации и отметил его
тесную связь с некоторыми уровнями дискурса: мы полагаем, что
для кинезических исследований этот тезис стал одним из главных. В том же «персоналистском» направлении американской
лингвистики с ее трактовкой проблем словарного запаса (Сепир:
«Личность в достаточной мере отражается в отборе слов») и стиля (Сепир: «Всегда присутствует индивидуальный метод, хотя и
слабо развитый, располагать слова в группы и объединять их в
более масштабные единицы), Зелиг Харрис изучал структуру
дискурса как область интерсубъективного поведения3, но его
дистрибуционистские модели имеют то преимущество, что позволяют сторонникам кинезики преодолеть единицы и сакральные
распорядки традиционной лингвистики.
К этим лингвистическим корням кинезики добавились психолингвистические исследования Б. Уорфа4 и Ч. Осгуда5, которые
при анализе роли языка в качестве модели мышления и практики
ориентировали кинезические исследования на проблему «связи
между коммуникацией и другими культурными системами в качестве носителя культурных и личностных черт».
Можно, однако, заметить, что рожденная на пересечении
многих дисциплин и при доминировании бихевиористских и ком¬
1 Е. Sapir, Selected Writings, p. 533-543, 544-559.
2 Ibid., p. 534, cit. par R. Birdwhistell in Paralanguage...
3 Zellig Harris, Methods in Structural Linguistics, Univ. of Chicago Press, Chicago,
1951.
4 Benjamin Lee Worf, Language, Thought and Reality, Technology Press and John
Willey and Sons, New York, 1956.
5 Ch.E. Osgood, “Psycholinguistics, A Survey of Theory and Research Problems”,
Supplement to the Internatinal Journal of American Linguistics, vol. 20, № 4, oct. 1954,
mem. 10, Waverly Press, Baltimore, 1954.
37
муникативных схем, кинезика с трудом очерчивает свои объект и
метод и легко соскальзывает к пограничным дисциплинам, где
строгость документирования сопровождается громоздким техницизмом и философской наивностью интерпретации. Расширяя
сферу исследований, американская кинезика столкнулась с проблемой смысла жестуального поведения и попыталась найти ее
решение, опираясь на этнологию жестуальности1 и исследования
специальных жестов в различных группах2, которые косвенно
присоединились к ней и обеспечили материал для специализированных исследований. Такова же связь кинезики с другой ветвью
бихевиоризма, называемой «контекстуальный анализ», которая
представила богатые социологические, антропологические и
психоаналитические данные для «дальнейшего систематического
описания структуральной логики интерпресональной активности
в конкретной социальной среде»3. Отметим, что в последние годы
произошло новое расширение бихевиористского изучения жестуальности: проксемика, где рассматривается способ организации
субъектом жестикуляции своего пространства как кодовой системы в процессе коммуникации4. Все эти варианты, более или
менее робкие или значительные, где телесное поведение изучается как сообщение (коммуникация), вписались в совокупность базовых данных, которые кинезика, специализирующаяся в качестве лингвистической антропологии, структурирует и интерпретирует как специфичный код.
Перед кинезикой, конституирующейся в качестве науки, встают две основные проблемы: 1. использование лингвистических
моделей; 2. определение и артикуляция своих базовых единиц.
Кинезика и лингвистика
Напомним, что первые исследования жестуального языка
были далеки от того, чтобы подчинить его коммуникации и еще
менее вербальному языку. Таким образом, можно защищать
принцип, что все вариации невербального языка (предупреждающие знаки, гадание, различные символизмы, мимика и жестикуляция и т. п.) более универсальны, чем вербальный язык, расслоенный на различные языки. Было предложено разделить знаки,
относящиеся к жестуальному языку, на три категории: (1) «коммуникация без интенции коммуникатора и без обмена идеями»;
1 Gordon Hewes, “Word Distribution of Certain Postural Habits” in American Anthropologist, vol. 57, 2, 1955 содержит детальный список положений тела в разных
культурах.
2 Robert L. Satz and Edward J. Cervenka, Colombian and North American Gestures,
a Contradictive Inventory, Centro Colombo Americane, Correro 7, Bogota, 1962, p. 23-49.
3 Ibid.
4 Edw.T. Hall, “A system for Notation of Proxemic Behavior” in American Anthropologist, vol. 65, 5,1963.
Практический жест или коммуникация?
Юлия Кристева бШр Семиотика: Исследования по семанализу
38
(2) «коммуникация с интенцией коммуникатора, но без обмена
идями»; (3) «коммуникация с интенцией коммуникатора и с обменом идями»1. Эта жестуальная семиология, какой бы наивной она
ни была, указывает на забытую в дальнейшем перспективу исследования телесного поведения как практики без насильственных
попыток наложить на нее структуры коммуникации. В некоторых
работах, посвященных изучению связей вербальный язык/жесту-
альный язык, защищается автономия последнего по отношению к
речи и демонстрируется, что жестуальный язык достаточно хорошо передает модальности дискурса (приказ, сомнение, просьба), но, напротив, несовершенным образом — грамматические
категории (подлежащие, сказуемые, определения); что жестуальный знак неточен и полесемичен; что «нормальный» синтаксический порядок субъект-объект-предикат может варьироваться с
сохранением смысла для субъектов; что жестуальный язык проявляется в детском языке (акцентирование конкретного и присутствующего; противопоставление; финальная позиция отрицания или вопроса) и в «примитивных» языках2. Жестуальный язык
рассматривается также как «подлинное» средство выражения,
подчиняющееся законам общей лингвистики, где вербальный
язык всего лишь манифестация, отставленная и ограниченная
внутренней жестуальностью; на филогенетическом уровне «мимика» постепенно стала трансформироваться в вербальный язык
одновременно с мимографизмом и фонографизмом; язык налагается на мимизм (импульс для включения в жесты индивида зрительных «мимем»), который принимает две формы: фономимизм
и кинемимизм; детская жестуальность придерживается кинеми-
мизма, преобладающего над мануальным мимизмом («мануэля-
жем»), который организуется позже (на стадии игры), когда ребенок становится «мимодраматургом», чтобы закончить, наконец, «пропозициональным жестом» сознательного взрослого3.
Однако кинезическое видение совсем иное. Составляющая
эмпирического психологизма, коммуникация, которой, согласно
американской кинезике, подчиняется жестуальный код, рассматривается как «многоканальная структура». «Коммуникация —
это система взаимосвязанных кодов, передаваемых через каналы,
находящихся под влиянием сенсорной базы»4. В пределах этой
структуры разговорный язык представляет собой не единственную коммуникативную систему, но только один из инфракомму-
1 R. Kleinpaul, op. cit.
2 О. Witte, “Untersuchungen über die Gebärdensprache. Beiträge zur Psychologie der
Sprache”, Zeitschrift für Psychologie, 116,1930, p. 225-309.
3 M. Jousse, “Le mimisme humain et l’anthropologie de langage”, in Review anthropologique, juill.-sept. 1936, p. 101-225.
4 R. Birdwhistell, Conceptual Bases and Applications of the Communicational Sciences, The Univ. of California, april 1963.
39
никативных уровней. Отправной точкой при изучении жестуаль-
ного кода становится, таким образом, признание автономии телесного поведения по отношению к внутреннему пространству
коммуникативной системы, а также возможности описывать ее,
не прибегая к решеткам фонетического поведения. Это и есть базовый постулат, который опосредует кооперацию лингвистики и
кинезических данных в той мере, в какой лингвистика более продвинута в структурированности своего корпуса. Сегодня стало
ясно, и мы еще лучше увидим это в дальнейшем, что понимаемая
таким образом связь лингвистика/кинезика, если она сохранит
определенную независимость кинезики по отношению к фонетической лингвистике, должна будет, напротив, следовать фундаментальным предпосылкам лингвистики: коммуникации, которая
первостепенное значение придает индивиду, помещая его в круг
обменов (доходя, таким образом, до рассмотрения дихотомии
«эмотивного» и «когнитивного» поведения). Соответственно, далеко не нарушая фонетических моделей, кинезика только внесла
вариации, подтверждающие правило.
Кинезика, как и антропологическая лингвистика, приняла
также в качестве задачи исследование «повторяющихся элементов» в процессе коммуникации, их выделение и проверку их
структурного значения. Речь идет, прежде всего, о том, чтобы
изолировать минимальный элемент означивания позиции или
движения, установить с помощью оппозиционального анализа
его связи с элементами более масштабной структуры и, повторяя
процедуру, построить код из иерархизированных сегментов. На
этом уровне исследования смысл определяется как «структурная
сигнификация элемента в структурном контексте»1. Отсюда следует гипотеза, что у структурных элементов жестуального кода в
общем та же вариабельность семантической функции, что и у
слов.
Жестовый код
Аналогия между словом и жестом как база кинезики предполагает необходимость вначале выделить различные уровни
жестуального кода: уровни, соответствующие тем, что приняты в
лингвистике языков, и уровни, позволяющие изучать взаимозависимости язык/жестуальность.
В рамках первого направления Веглину с помощью системы
нотации, принятой в хореографии, удалось найти ряд различительных знаков, примерно сходных с фонемами языка; на основе
этого факта он сделал заключение, что жестовый язык можно
анализировать на двух уровнях, аналогичных фонематическому
1 Ibid., р. 15.
Практический жест или коммуникация?
Юлия Кристева юЩр Семиотика: Исследования по семанализу
40
и морфематическому уровням языка1. Иную жестуадьную таксономию предложил Стоко2: он назвал базовые жестуальные элементы «теремами»; каждая жестуальная морфема (= наименьшая единица, несущая смысл) состоит из трех шерем: структурные пункты позиции, конфигурации и движения, соответственно
обозначенные как табула (tab.), десигнатум (dez.) и сигнация
(sig.). Изучение жестуальности у этого автора предполагает три
уровня: «шерология» (анализ шерем), «морфошеремика » (анализ
комбинаций из шерем) и «морфемика» (морфология и синтаксис). Другие исследователи, напротив, полагают, что жестуаль-
ный язык не содержит никакой единицы, соответствующей фонеме: анализ должен ограничиваться уровнем единиц, соответствующих морфеме3.
В отношении второго направления необходимо остановиться
на тезисах Рэя Бердуистелла, теория которого является наиболее
разработанной в американской кинезике. С его точки зрения,
если жестуальность — это избыточность, т. е. дублирование вербального сообщения, то она представляет собой только то, что
обладает особенностями, которые придают коммуникации поливалентный аспект. Отсюда аналогии и различия между двумя
уровнями язык/жестуальность. Бердуистелл отмечает свою настороженность в отношении слишком распространенной параллели между жестуальностью и фонетическим языком. «Весьма
возможно, что мы насильно вталкиваем данные телодвижений в
псевдолингвистический трамвай»4. Однако, если он это принимает, то, скорее, из соображений пользы (идеологических), чем
убежденности в конечной валидности такого параллелизма.
В его терминологии минимальная единица жестуального
кода, соответствующая уровню звук/фонема вербального языка,
носит название кине и кинема:5. Кине представляет собой наименьший воспринимаемый элемент телесных движений, таких,
например, как поднимающиеся и опускающиеся брови (bb " V);
такое движение, повтренное в едином сигнале перед тем, как
остановиться в позиции 0 (начальной), образует кинему. Кинемы
комбинируются и объединяются с другими кинезическими фор¬
1 C.F. Voegelin, “Sign language analysis: one level or two?”, in International Journal of
American Linguistics, 24,1958, p. 71-76.
2 W.C. Stokœ, Sign language structure: an outline of the visual communication system
of the American deaf’, Studies in Lingustics: occasional papers, № 8, Department of Anthropology and Linguistics, Univ. of Buffalo, 1960, p. 78. Compte rendu par Herbert Landar
in Language, 37,1961, p. 269-271.
3 A.L. Kroeber, “Sign Language Inquiry” in International Journal of American Linguistics, 24,1958, p. 1-19 (изучение жестов индейцев).
4 R. Bird whisteil, Conceptual Basis...
5 R. Birdwhistell, op. cit., 1952 et “Some body motion elements accompanying spoken
American English”, in Communication: Concepts and Perspectives, Lee Träger (ed.), Washington D.C., Spartan Books, 1967.
41
мами, которые функционируют как префиксы, суффиксы, инфиксы и трансфиксы, образуя таким образом единицы высшего
порядка: кинеморфы и кинеморфемы. Кине «движение бровей»
(bb ") может быть аллокининным с кине «покачивание головой»
(h "), «движение рукой» (/") или с акцентами и т. п., образуя таким образом кинеморфы. В свою очередь, кинеморфемы комбинируются как комплексные кинеморфические конструкции.
В этом отношении структура жестуального кода сравнима со
структурой дискурса с ее «звуком», «словами», «предложениями», «фразами», а также «параграфами»1 (движения бровями
могут означать сомнение, вопрос, просьбу и т. п.).
Где начинается дифференциация вербального/жестуального
языка?
В кинезическом круге для Бердуистелла прежде всего появляется два класса сходных феноменов.
Первые проявляются в коммуникации, где есть и отсутствует речь и относятся к макрокинезике. Макрокинезика имеет дело
со структурными элементами комплексных кинеморфических
конфигураций, т. е. с теми формами жестуального кода, которые
сравнимы со словами, предложениями, фразами и параграфами.
Вторые исключительно вливаются в поток речи и соотносятся
с супра-сегментными кинеморфемами. Легкие движения головой, подмигивание, поджатые губы, дрожание подбородка, плеч,
рук и т. п. — предполагается, что они исполняют свою партию в
кинезической системе четырехчастной акцентуации (“quadripartite kinesic stress system”). Супра-сегментные кинеморфемы этой
системы акцентирования выполняют функцию синтаксического
типа: они выделяют специальные комбинации прилагательных и
существительных, наречий и слов, означающих действие, а также
участвуют в организации предложений или, точнее, связывают
предложения внутри синтактически сложных фраз. Четыре акцента, которые подразумевают супра-сегментные кинеморфемы, — это первичный акцент, вторичный акцент, не-акцентуация,
дезакцентуация2.
В ходе дальнейшего анализа намечается третий тип феноменов, которые не обладают структурными свойствами макроки-
незических или супра-сегментных элементов и которые таким
образом связаны с особыми классами особых лексических единиц. Элементы этого третьего уровня жестуального кода, которые можно назвать кинезическими маркерами, следует отличать
1 Ibid.
2 R. Birdwhistell, Communication without words, 1946. На этом уровне анализа
говорят также о двух внутренних кинезических соединителях: кинезический соединитель «плюс» (+), который появляется, чтобы изменить позицию первичного кине-
зического акцента и соединитель адберанции (“hold juncture”), который соединяет два
или несколько первичных акцентов либо первиный и вторичный.
Практический жест или коммуникация?
Юлия Кристева §Шя Семиотика: Исследования по семанализу
42
от того, что в общем смысле называется «жестом». Бердуистелл
уточняет, что «жест» — это «связанный морф» (bound morph);
имеется в виду, что жесты представляют собой формы, которые
не могут быть автономными, которые требуют инфиксального,
суффиксального, префиксального, трансфиксального кинези-
ческого поведения, чтобы получить идентичность. Жесты можно
считать «трансфиксальными», поскольку они неотделимы от вербальной коммуникации1. Кинезические метки (marks) получают
означивание только будучи связанными с определенными слышимыми синтаксическими единицами, и в отличие от жестов они,
можно сказать, обслуживают конкретный фонетический контекст. Таким образом, Бердуистелл находит правильное название; введение понятия «кинезическая метка» в жестуальный код
становится компромиссом между позицией, определяющей такое
поведение как макрокинезическое, и другой, которая наделяет
его в рамках семиотической системы статусом супра-лингвисти-
ческого или супра-кинезического. Классификация кинезических
меток осуществляется в соответствии с классами лексических
единиц, с которыми они связаны, и это означает приоритетность
лингвистических структур при построении жестуального кода.
Кинезические метки имеют четыре общие особенности: 1. их артикуляционные свойства можно представить в оппозиционных
классах; 2. кинезические метки проявляются в дистинктивном
синтаксическом окружении (лексемы, с которыми они связаны,
принадлежат к разным синтаксическим классам); 3. имеются ситуативные артикуляционные оппозиции (которые позволяют
снизить смешение сигналов); 4. если различение единиц невозможно в их артикуляции, то оно зависит от окружающих синтаксических оппозиций. Таким образом, кинезическую метку можно определить как серию поведенческих оппозиций в конкретном
окружении2. Было проанализировано множество вариантов кинезических меток. Так, прономинальные (к?) кинезические метки,
связанные (замещающие) с именами существительными, были
структурированы согласно оппозиции дистанция/близость: he,
she, it, those, they, that, then, there, any, some/1, me, us, we, this,
here, now. Тот же жест в расширенном виде плюрализует прономинальную кинезическую метку: тогда получаются метки плюрализации (&рр), которые означают: we, we9s, we9 uns, they! these/
those, them, our, you (pl.), you all, you’uns, eouse, their. Выделяются также глагольные (verboides) метки, связанные с к? без
нарушения движения, среди которых важную роль играют признаки времени (к1). Отметим также метки пространства (ка), обозначаемые: on, over, under, by, through, behind, in front of, и те,
1 Ibid.
2 R. Birdwhistell, “Some body...”
43
что сопровождают глаголы действия; метки способа (km) связаны
с такими фразами, как “a short time”, “a long time” или “slowly”,
“swiftly”. Спорные категории репрезентируют метки демонстрации (к4).
Необходимо подчеркнуть важность этого уровня кинезиче-
ского анализа. Хотя кинезические метки и кажутся в жестуаль-
ном коде аналогичными прилагательным и наречиям, существительным и глаголам, но их нельзя рассматривать как дериваты
разговорного языка. Они представляют собой первую попытку
изучать жестуальный код как автономную систему речи, хотя и
находящуюся рядом с ней. Примечательно, что эта попытка избежать фонетизма с необходимостью повлекла за собой терминологию уже не «вокальную», но «скриптуальную»: Бердуистелл
говорит о метке, как можно было бы говорииь о «следе» или о
«грамме». Рассматривать жест как метку или метку как жест: таковы философские предпосылки, которые следует развить, чтобы активизировать кинезику как семиотическую науку, не ограничивающуюся лингвистикой, и признать, что лингвистическая
методология, разработанная в рамках систем вербальной коммуникации, всего лишь один из возможных подходов, но не исчерпывающий и не самый существенный для общей теории текста,
которая, кроме голоса, охватывает различные типы продуцирований, таких как жест, письмо, экономика. Американские сторонники кинезики, по-видимому, понимают значение этого открытия, которое обещает изучение жестуальности, не подчиненное
лингвистическим схемам: «кинезические и лингвистические метки должны быть аллоформами, т. е. структурными вариантами по
отношению друг к другу на другом уровне анализа»1. Но эта ориентация, если она направлена на то, чтобы сделать понятие коммуникации более эластичным (Бердуистелл полагает, что «пересмотр теории коммуникации имеет значимость, если признать
тот факт, что нейтральные, циркулярные или метаболические
процессы представляют собой интрапсихологические системы »2),
тем не менее, не укладывается в эти рамки.
К этой стратификации кинезики следовало бы добавить еще
одну ветвь: изучение паракинезического поведения, генерально
связанного с макрокинезическим уровнем анализа. Паракинези-
ка стала бы жестуальной параллелью паралингвистике, за которую ратовал Сепир, изучавший феномены, дополняющие вокализацию и вообще артикуляцию дискурса3. Паракинезические
представления партикуляризируют индивидуальное поведение в
1 Ibid., р. 38.
2 Ibid.
3 George L. Träger, “Paralanguage: a first approximation” in Studies in Linguistics,
vol. 13, № 1-2, Univ. of Buffalo, 1958, p. 1-13.
Практический жест или коммуникация?
Юлия Кристева юЩю Семиотика: Исследования по семанализу
44
том социальном процессе, которым для кинезики является жесту-
альная коммуникация, и, с другой стороны, позволяют описывать
социально детерминированные элементы индивидуальной системы выразительности. Они появляются только в случае изолированных макрокинезических элементов, обнажая то, что пересекает, модифицирует и придает социальную окраску замкнутой ки-
незической цепи. Этот «паракинезический материал» включает в
себя: квалификаторы движения, которые модифицируют малые
последовательности кинезических и кинеморфических феноменов; модификаторы активности, которые описывают телодвижение целиком или структуру движения участников интеракции;
и, наконец, set-quality activity1, многомерную жестуальность, которую еще следует изучать и которая связана с анализом поведения в играх, шарадах, танцах, театральных представлениях и т. п.
Однако Бердуистелл, как и другие авторы2, разделяет мнение,
что возможна аналогия или даже замещение между кинезически-
ми и паралингвистическими феноменами: каждый индивид выбирает согласно собственным идиосинкратичным детерминациям
(изучение которых возлагается на психолога) вокальные или ки-
незические проявления, сопровождающие его речь.
Таким образом, оставаясь методологически блокированной
психологией, эмпирической социологией и ее сообщницей — теорией коммуникации, а также лингвистическими моделями, кине-
зика имеет тенденцию дополниться фонетическим структурализмом.
Будучи подчиненной предрассудкам социологического позитивизма, кинезика не может констатировать, что развитие лингвистики (за счет психоанализа или семиотики «вторичных систем
моделирования») начинает прояснять целый ряд терминов:
«субъект», «восприятие», «сенсорные» одинаковость или различие, «человеческое существо», «истинность» сообщения, общество как интерсубъективность и т. п. В соотнесении с обществом
обмена и его «коммуникативной» структурой, такая идеология
предполагает одну из возможных интерпретаций семиотических
практик («семиотические практики — это коммуникации») и
скрывает процесс разработки этих практик. Уловить такую разработку равносильно выходу за пределы идеологии обмена, а
также философии коммуникации, чтобы попытаться аксиоматизировать жестуальность как семиотический текст в процессе
продуцирования, который не блокируется тесными структурами
1 R. Birdwhistell, “Paralanguage...”
2 F. Mahl, G. Schuze, “Psychological research in the extralinguistic area”, p. 51-124,
in T.A. Sebeok, A.J. Hayes, H.C. Bateson (eds.), Approaches to Semiotics: Cultural Anthropology, Education, Linguistics, Psychiatry, Psychology. Translations of the Indiana Univ.
Conf. on Paralinguistics and Kinesics, Mouton &Co., The Hague, 1964.
языка. Такая транс-лингвистика, в формирование которой может внести свой вклад кинезика, перед конструированием своего
аппарата требует пересмотра базовых моделей фонетической
лингвистики. Без подобной работы — и американская кинезика,
несмотря на усилия освободиться от лингвистики, доказала, что
эта работа пока не началась — невозможно разорвать «интеллектуальную покорность языку, открывая смысл новой и более глубокой интеллектуальности, которая прячется за жестами» (Арто)
и за всей семиотической практикой.
1968
Закрытый текст
Высказывание как идеологема
1. Семиотика, в большей степени, чем дискурс, имеет дело с
объектом множественных семиотических практик, рассматриваемых как транс лингвистические, т. е. фактов за пределами
языка и не редуцируемых к категориям, к которым они до сих пор
приписываются.
С этой точки зрения мы определяем текст как транслингвистический инструмент, который перераспределяет порядок языка, устанавливая отношения между коммуникативной речью,
имеющей в виду непосредственную информацию, и различными
типами предшествующих или одновременных высказываний.
Текст, таким образом, представляется как продуцирование; имеется в виду, что: 1. его отношение к языку, в пределах которого он
находится, носит редистрибутивный (деструктивно-конструк-
тивный) характер, следовательно, он ближе к логическим, чем к
чисто лингвистическим категориям; 2. он представляет собой
пермутацию текстов, интертекстуальность: в пространстве текста пересекается и нейтрализуется множество высказываний, взятых из других текстов.
2. Одна из проблем семиотики состоит в том, чтобы заменить
старое риторическое разделение на жанры типологией текстов,
иными словами, определить специфику их различных организаций, помещая их в общий текст (культуру), частью которого они
являются и который делает их своей частью1. Смешение данной
организации текста (семиотической практики) с высказываниями
(эпизодами), которые она асссимилирует в свое пространство
или посылает в пространство внешних текстов (семиотическая
практика), можно назвать идеологемой. Идеологема представляет собой интертекстуальную функцию, которую можно прочитать в «материализованном» виде на различных уровнях струк¬
1 Рассматривая семиотические практики в их связи со знаком, мы можем выделить три их типа: (1) систематическая семиотическая практика, основанная на
знаке и значит назначении; она отличается консервативностью, ограниченностью,
ее элементы ориентированы на денотаты, она логична, экспликативна, неизменна и
представляется таковой другому (адресату); (2) транс формативная семиотическая
практика: знаки освобождаются от своих денотатов и ориентируются на другого,
которого они меняют; (3) параграмматическая семиотическая практика: знак элиминируется параграмматическим коррелятивом, который можно представить в виде
тетраграммы: каждый знак имеет денотат; каждый знак не имеет денотата; каждый
знак имеет и не имеет денотат; неверно, что каждый знак имеет и не имеет денотат. Ср.
нашу работу Pour une sémiologie des programmes, p. 196.
туры каждого текста и которая действует на всей его траектории,
задавая ему исторические и социальные координаты. Речь не идет
об интерпретативном действии, следующем за анализом, который «объяснит» как «идеологическое» то, что вначале было известно как «лингвистическое». Определение текста как идеоло-
гемы детерминирует в рамках семиотики подход, который, рассматривая текст как интертекстуальность, осмысливает его в
(текстах) общества и истории. Идеологема текста представляет
собой центр, в котором рациональное сознание трансформирует
высказывания (к которым текст не редуцируется) в целостность
(текст), а также включает эту целостностность в исторический и
социальный текст1.
3. Роман, рассматриваемый как текст, представляет собой семиотическую практику, в рамках которой прочитываются синтезированные следы множества высказываний.
Для нас высказывание в романе не является минимальным
эпизодом (дефинитивно детерминированной единицей). Это операция, движение, которое льется, но кроме того конституирует
то, что можно назвать аргументами операции, которые при изучении письменного текста представляют собой как слова, так и
последовательности слов (фразы, абзацы) в качестве семем2. Не
анализируя единицы (семемы как таковые), мы изучаем функцию,
которая объединяет их в текст. Речь идет о функции, т. е. зависимой переменной, детерминируемой каждый раз, когда появляются связанные с ней независимые переменные; точнее, об однолинейной согласованности между словами или последовательностями слов. Совершенно очевидно, что предлагаемый нами
анализ, предполагающий оперирование лингвистическими единицами (слова, фразы, абзацы), носит транслингвистический характер. Выражаясь метафорически, лингвистические единицы
(в частности, семантические) служат нам всего лишь трамплином,
чтобы установить типы высказываний в романе в качестве функций. Заключая семантические эпизоды в скобки, мы выделяем
применение логики, которая их организует, и, таким образом,
оказываемся на супрасегментальном уровне.
Релевантные этому супрасегментальному уровню, высказывания, характерные для романа, соединяются в целостность его
1 «Теория литературы представляет собой одну из ветвей обширной науки об
идеологиях, которая охватывает все области идеологической деятельности человека». П.Н. Медведев. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение
в социологическую поэтику. Ленинград, 1928. Отсюда мы взяли термин «идеологема».
2 Мы используем термин «семема», исходя из терминологии А.-Ж. Грейма, который определяет его как комбинацию семического ядра и контекстуальных сем и
считает его расположенным на уровне проявления, отличном от имманентности, на
которой располагается сем (см. A.-J. Greimas, Sémantique structural, Larousse, 1966,
p. 42).
Юлия Кристева «Шр Семиотика: Исследования по семанализу
48
продуцирования. Следовательно, изучая их, мы конституируем
типологию высказываний, характерных для романа, чтобы во
вторую очередь исследовать их происхождение вне романа. Только тогда мы сможем определить роман в его целстности и/или
как идеологему. Иными словами, функции, определяемые на текстуальной совокупности за пределами романа Те приобретают
значение в текстуальной совокупности романа Тг. Идеологема
романа и есть та интертекстуальная функция, определяемая на
Те и имеющая значение в Тг.
Таким образом, два типа анализа, которые иногда трудно отличить один от другого, служат нам для выделения в романе идео-
логемы знака:
- супрасегментальный анализ высказываний в рамках романа
раскрывает роман как закрытый текст: изначальную запрограммированность, произвольность окончания, диадическое
строение, отступления и связи между ними;
-интертекстуальный анализ высказываний позволит выделить связь между письмом и речью в тексте романа. Мы продемонстрируем, что текстуальный порядок романа подчеркивает скорее речь, чем письмо, и сможем продолжить анализ
топологии этого «фонетического порядка» (расположение
моментов дискурса по отношению друг к другу).
Поскольку роман — это текст, который выделяет идеологему
знака, необходимо кратко остановиться на особенностях знака
как идеологемы.
От символа к знаку
1. Вторая половина Средних веков (XIII-XV вв.) — это переходный период в европейской культуре: в сфере мышления символы заменились знаками.
Семиотика символа была характерна для европейского общества примерно до XIII в. и четко проявилась в литературе и живописи. Это космогоническая семиотическая практика: ее элементы
(символы) отсылали к одной или нескольким трансценденциям,
универсальным, непредставимым и неузнаваемым; эти трансцен-
денции были напрямую связаны с единицами, которые их вызывали; символ не был похож на символизируемый им объект; два
пространства (символизируемое-символизирующее) были разделены, и между ними не было коммуникации.
Символ предполагал символизируемое (универсалии) как не-
редуцируемое к символизирующему (меткам). Мифологическое
мышление, вращавшееся на орбите символа и проявлявшееся в
эпосе, народных сказках, жестовых песнях и т. п., оперировало
символическими единицами, которые были единицами ограниче¬
ния по отношению к символизируемым универсалиям («героизм», «смелость», «благородство», «добродетель», «страх»,
«предательство» и т. п.). Функция символа в вертикальном измерении (универсалии-метки) была ограничивающей. Функция символа в горизонтальном измерении (артикуляция означающих
единиц по отношению друг к Другу) — избежание парадокса;
можно сказать, что в горизонтальном отношении символ анти-
парадоксален: в его «логике» две оппозиционные единицы являются взаимоисключающими1. Добро и зло, сырое и вареное, мед и
пепел и т. п. несовместимы — появившись, противоречие немедленно требует решения, оно уже скрыто, «решено», т. е. устраняется.
Ключ к семиотической символической практике задается в
начале символического дискурса: траектория семиотического
развития представляет собой круг, конец которого запрограммирован, дан как герм в его начале (здесь конец и есть начало), поэтому функция символа (его идеологема) существует до самого
символического высказывания. Это подразумевает общие особенности семиотической символической практики: качественное
ограничение символов, повторение и ограничение символов, их
обобщенный характер.
2. В период с XIII по XV в. значимость символа оспаривалась,
он оттеснялся на периферию, хотя и не исчезал вовсе, и утверждался, переходя (ассимилируясь) в знак. Трансцендентальное
единство, поддерживающее символ — его запредельность, центр
его порождения — ставится под вопрос. Так, до конца XV в. сценическое представление жизни Иисуса Христа вдохновлялось
Евангелием — каноническим или апокрифическим — или Золотой легендой (см. Мистерии, изданные Ювеналом по образцу
Библ. Сент-Женевьев, около 1400). В течение XV в. театр был наводнен сценами, посвященными общественной жизни Иисуса
Христа, и то же самое было в изобразительном искусстве (например, кафедральный собор Evreux). Казалось, что трансцендентальное основание символа пошатнулось. Появилось новое означивающее отношение между двумя посюсторонними элементами —
реальными и конкретными. Так, в изобразительном искусстве
XIII в. пророки располагались напротив апостолов, а XV в. четыре великих евангелиста располагаются параллельно не четырем
великим пророкам, но четырем латинским Отцам Церкви (святой
1 В истории западной научной мысли последовательно выделяются три фундаментальных течения, где символ занимал главенствующее положение, чтобы превратиться из самостоятельной единицы в переменную: это платонизм, концептуализм и
номинализм. См. V.W. Quine, “Reflection of universals” in Forms a logical point of view,
Harvard University Press, 1953. Мы заимствуем из этого исследования дифференциацию двух представлений об означающей единице: одно — в пространстве символа,
другое — в пространстве знака.
Юлия Кристева юЩр Семиотика: Исследования по семанализу
50
Августин, святой Иероним, святой Амвросий, Григорий Великий,
например, алтарь Notre-Dame d’Avioth). Величественные архитектурные и литературные произведения стали невозможны: кафедральные соборы сменились миниатюрами, и XV в. стал веком
миниатюристов. Ясность символа сменилась амбивалентностью,
вытекающей из его связи со знаком, претендующим на сходство и
идентификацию связываемых им элементов, несмотря на их радикальное различие, постулируемое вначале. Отсюда в этот переходный период упорно навязывается тема диалога между двумя
нередуцируемымщ но подобными элементами (исходный диалог
патетики и психологии). Таким образом, XIV и XV вв. наполнены
диалогами между Богом и человеческой душой: диалог между
распятием и паломником, диалог между грешной душой и Иисусом и т. п. В этом движении Библия морализуется (например, знаменитая поучающая Библия, в Библ. князя Бургонского), и ее замещают подражания, которые заключают в скобки, если не устраняют, трансцендентальный фон символа (Библия бедных и
Speculum humanae salvationis)1.
3. Знак, который вырисовывается в этих мутациях, сохраняет
фундаментальную характеристику символа: нередуцируемость к
составляющим, т. е. в случае знака к референту означаемого и
означаемого к означающему, и поэтому к структуре означивания
в целом. Таким образом, идеологема знака в общих чертах уподобляется идеологеме символа: знак становится дуалистичным,
иерархизированным и иерархизирующим. Однако различие между знаком и символом значительно заметнее в вертикальном, чем
в горизонтальном измерении. В вертикальной функции знак отсылает к единицам менее объемным, более конкретизированным,
чем символ, — это реифицированные универсалии, ставшие объектами в прямом смысле слова; относительными в структуре знака, наблюдаемые единицы (феномены) тут же превращаются в
трансцендентные, восходя в ранг теологических единиц. Семиотическая знаковая практика ассимилировала, таким образом, метафизическое действие символа и спроецировала его на непосредственно воспринимаемое; подобная оценка трансформировала непосредственно воспринимаемое в объективность, которая в знаковой цивилизации стала ведущим законом дискурса.
В своей горизонтальной функции единицы семиотической
практики знака проявляются как метонимическое соединение
эпизодов, которое означает последовательное формирование
метафор. Оппозиционные выражения, будучи всегда взаимоисключающими, втягиваются в хитросплетение многочисленных
и всегда возможных эпизодов (неожиданности в нарративных
1 E. Male, U Art religieuse de la fin du Moyen Age en France, Paris, 1949.
51
структурах), что создает иллюзию открытой структуры с ее невозможностью закончиться и произвольностью завершения. Так,
в эпоху европейского Ренессанса семиотическая практика знака
впервые проявилась в виде, характерном для авантюрного романа, который структурировался реифицированными непредвиди-
мостью и неожиданностью на уровне нарратива, эпизода, характерными для всей знаковой практики. Путь этого сцепления
эпизодов практически бесконечен — отсюда впечатление произвольного завершения произведения. Впечатление иллюзорное,
которым отмечена вся «литература» (все «искусство»), поскольку этот путь запрограммирован конститутивной идеологемой
знака, а именно диадическим (закрытым) действием, которое:
1. устанавливает иерархию референт-означаемое-означающее;
2. прячет эти оппозиционные диады вплоть до уровня словесной
артикуляции и соответственно строится как символ, как решение противоречий. Если в семиотической практике, релевантной
символу, противоречие разрешается отношением типа исключающей дизъюнкции (неэквивалентности) Ф или не-
конъюнкции I , то в семиотической практике,
релевантной знаку, противоречие разрешается отношением типа
недизъюнкции V (мы еще к этому вернемся).
Идеологема романа: высказывание в романе
Таким образом, любое литературное произведение (как и вся
«литература» вплоть до эпистемологического перелома XIX-
XX вв.) — с точки зрения знаковой семиотической практики —
как идеологема заканчивается в своем начале, является закрытой. Она сближается с (антиэкспериментальным) концептуализмом так же, как символика с платонизмом. Роман — это одно из
характерных проявлений такой амбивалентной идеологемы (закрытость, недизъюнктивность, сцепление эпизодов); это знак,
который мы собираемся проанализировать на примере романа
Antoine de La Sal e Jehan de Saintre.
Антуан де ла Саль написал «Жан де Сэнтре» в 1456 г. после
долгой карьеры пажа, воина и сборщика налогов, которую он
оставил с образовательными целями и с сожалением о том, что
ею пожертвовал (он загадочным образом покинул королевство
Анжу, чтобы после сорокавосьмилетней анжуйской службы
стать гувернером трех сыновей графа Сэн-Пола в 1448 г.). «Жан
де Сэнтре» — единственный роман среди всего написанного
ла Салем, а именно его собрания поучительных рассказов (La
Salle, 1448-1451), «научных» трактатов, описания путешествий
(Lettres a Jaque de Luxembourg sur les tournois, 1459; Reconfort a
Madame de Fresne, 1457). Роман построен как исторический дис¬
Закрытый текст
Юлия Кристева ШШп Семиотика: Исследования по семанализу
52
курс или как разнородная мозаика текстов. Историки французской литературы слишком мало внимания уделили этому произведению — возможно, первой написанной прозе, которая могла
бы назваться романом, если мы его рассматриваем как то, что выделяет двусмысленную идеологему знака. Немногие исследования, посвященные этому роману1, обращаются к нравам эпохи,
пытаются найти «ключ» к персонажам, идентифицируя их с лицами, которых ла Саль мог знать, упрекают автора за недооценку
исторических событий его времени (Столетняя война и т. п.) и
принадлежность — поистине реакционную — к миру прошлого
и т. п. Будучи погруженной в референциальную непрозрачность,
история литературы не смогла выявить переходную структуру
этого текста, который находился на грани двух эпох и в наивной
поэтике Антуана де ла Саля показал и артикулировал идеологему
знака, которая до сих пор определяет наш интеллектуальный горизонт2. Более того, рассказ Антуана де ла Саля перекрывает
рассказ его собственного письма: говорит де ла Саль, но также
проговаривает себя писатель. История Жана де Сэнтре присоединяется к истории книги и поэтому становится своего рода риторической репрезентацией, другим, дублем.
1. Текст открывается вступлением, которое представляет всю
форму траектории (экспозицию) романа: Антуан де ла Саль говорит, чем является его текст («три истории») и для кого он (послание, предназначенное Жану Анжуйскому). Заявив, таким образом, свою цель и ее адресата, он очерчивает двадцатью строками первый круг3, который охватывает текстуальную совокупность
и программирует ее как посредника обмена, т. е. как знак: это заявленный круг (объект обмена)/адресат (князь или читатель во¬
1 Среди наиболее значительных: F. Desonay, “Le Petit Jean de Saintré”, Revue du
seizième siècle, XIV, 1927,1-48, 213-280; “Comment un écrivain se corrigeait au XV siècle”, Revue belge de philologie et d'histoire, VI, 1927, 81-121; Y. Otaka, “Établissement
du texte définitive du Petit Jehan de Saintré”, Études de langue et littérature françaises,
Tokyo, VI, 1965, 15-28. W.S. Shepard, “The Syntax of Antoine de La Sale” Publ. of the
Modem Lang. Assn. of Amer., XX, 1905, 435-501. W.P. Sôderhjlem, la Nouvelle française
au XV siècle, Paris, 1910; Notes sur Antoine de La Sale et ses œuvres, Helsingfors, 1904.
Издание, на которое мы ссылаемся — Jean Misrahi (Fordman University) et Charles
A. Knudson (University of Illinois), Genève, Droz, 1963.
2 Каждый сегодняшний роман, который обсуждается с точки зрения проблем
«реализма» и «письма», сродни структурной амбивалентности «Жана де Сэнтре»:
находясь на другом конце истории романа (в точке, где он переизобретается, чтобы
перейти через способ литературного письма, которое приближается к наррации,
полностью ей не подчиняясь), современная реалистическая литература напоминает
попытки организовать разнородные высказывания, которые предпринимал Антуан
де ла Саль на заре приключений романа. Это родство бросается в глаза, и его
добровольно признает автор в la Mise à Mort, где Автор (Антуан), чтобы отличить
себя от Актера (Альфреда), доходит до того, что принимает имя Антуана де
ла Саля.
3 Термин заимствован из работы В. Шкловского “La construction de la nouvelle et
du roman” in Théorie de la littérature, coll. “Tel Quel”, Ed. du Seuil, 1963, p. 70.
обще). Остается рассказать, т. е. заполнить, детализировать то,
что уже концептуализовано, обдумано, прежде чем перо коснулось бумаги — «история, которая последует слово за словом».
2. Здесь объявляется заголовок: «И прежде всего история de
madicte Дамы Прекрасных Кузин и Сэнтре», который выделяет
второй круг, расположенный на тематическом уровне послания.
Антуан де ла Саль кратко описывает жизнь Жана де Сэнтре до
конца («его выход за пределы этого мира», с. 2). Таким образом,
мы уже знаем, чем заканчивается история: конец рассказа представлен до того, как начинается сам рассказ. Весь интерес анекдотичности пропадает: роман разыгрывается как восстановление
дистанции жизнь-смерть и есть не что иное, как описание эпизодов (неожиданностей), не разрушающих тематического круга
жизнь-смерть, который поддерживает всю их совокупность.
Текст имеет тематическую ось: речь идет об игре двух взаимоисключающих оппозиций, чье именование меняется (порок-добродетель, любовь-ненависть, похвала-критика: так, например, за
восхвалением дамы-вдовы в тексте романа непосредственно следуют женоненавистнические речи Сен-Жерома), но которые
всегда остаются на одной и той же семической оси (позитивное-
негативное). Они могут меняться местами по ходу событий, не
ограниченному ничем, кроме изначальной предпосылки исключенного третьего, т. е. неизбежным выбором между одним или
другим («или» в смысле исключения) пределом.
В идеологеме романа (как и в идеологеме знака) нередуцируе-
мость противоположных терминов допустима в той мере, в какой
пустое пространство разделяющего их разрыва заполнено неоднозначными семическими комбинациями. Изначально принятая
оппозиция, которая обусловливает траекторию романа, немедленно оттесняется в до, чтобы уступить дорогу — в настоящем —
уровню заполнения, сцепления отступлений, которые летают над
оппозиционными полюсами и в попытке синтезироваться разрешаются в фигуре притворства или маски. Отрицание, таким образом, возвращается через утверждение удвоения; взаимоисключение двух терминов, установленное тематическим кругом романа,
замещается сомнительной позитивностью так, что дизъюнкция,
определяющая начало и окончание романа, уступает место фигуре
да-нет (не-дизъюнкции). Именно на модели этой функции, которая более не влечет за собой паратетическое молчание, но сочетает карнавальную игру с недискурсивной логикой, организуются
все двусмысленные фигуры, которые содержит роман как наследник карнавала: коварство, предательства, чужаки, андрогины —
все они предполагают двойную интерпретацию или двойное предназначение (на уровне означаемого в рамках романа), герб, «клич»
(на уровне означающего в рамках романа). Траектория романа
Юлия Кристева ЦШр Семиотика: Исследования по семанализу
54
была бы невозможной без этой не-дизъюнктивной функции (мы
еще к этому вернемся), которая ее дублирует и программирует
роман с самого начала. Антуан де ла Саль вводит ее через высказывание Дамы, имеющее двойную ориентацию: в той мере, в какой сообщение предназначено компаньонкам Дамы и двору, оно
подразумевает агрессивность по отношению к Сэнтре; но как
предназначенное для самого Сэнтре оно подразумевает «нежную» и «проверенную» любовь. Интересно проследить последовательные этапы проявления этой не-дизъюнктивной функции
высказывания Дамы. В первом движении двойственность этого
сообщения известна только самому говорящему (Дама), автору
(субъекту высказывания в рамках романа) и читателю (адресату
высказывания в рамках романа): двор (нейтральная инстан-
ция=объективному мнению), равно как и Сэнтре (пассивный объект сообщения) — это жертвы однозначной агрессивности Дамы
по отношению к пажу. Второе движение замещает двойственность: сюда вводится Сэнтре и принимает его; благодаря этому
действию он перестает быть объектом сообщения, чтобы стать
субъектом высказывания, которое он принимает как авторитетное. На третьем шаге Сэнтре забывает не-дизъюнкцию; он превращает в полностью позитивное то, о чем он знает также как о
негативном; он теряет из виду притворство и вовлекается в игру
однозначной (но ошибочной) интерпретации всегда двойного сообщения. Поражение Сэнтре — и конец рассказа — обусловлены
этим ошибочным замещением, тем, что высказывание в его не-
дизъюнктивной функции принимается как дизъюнктивное и однозначное.
Отрицание в романе также используется в двойной модальности: алетической (оппозиция противоположностей является, возможной, контингентной или необходимой) и деонтической (объединение противоположностей является должным, допустимым,
безразличным или невозможным). Роман возможен, поскольку
алетичность оппозиций сочетается с деонтичностью объединений Ч Роман следует по пути деонтического синтеза, чтобы его
осудить и утвердить алетичным способом оппозицию противоположностей. Двойственность (притворство, маска) как фундаментальная фигура карнавала2 становится также движущей силой
эпизодов, которые заполняют тишину, предполагаемую дизъюнктивной функцией тематико-программирующего круга романа.
Таким образом, роман абсорбирует двойственность (диалогизм)
1 См. Georg Henrik von Wright, An Essay on Modal Logic, Amsterdam, North-Hol-
land Publ. Co., 1951.
2 Концепцией двойственности и двусмысленности как фундаментальной фигуры
романа, опирающегося на устную традицию карнавала, на механизмы смеха и маски
и на структуру менипеи, мы обязаны М. Бахтину. Проблемы поэтики Достоевского,
Москва, 1965. См. “Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman”, p. 143.
карнавальной сцены, но подчиняет ее однозначности (моноло-
гизму) символической дизъюнкции, которая гарантирует трансцендентальную инстанцию — автор, присваивающий тотальность
высказывания в романе.
3. Именно в этом месте текстуальной траектории, т. е. после
заявленной закрытости (круга) — топонимической (сообщение-
адресат) и тематической (жизнь-смерть) — текста вырисовывается слово «актер». Он будет появляться во множестве повторений, чтобы вводить речь того, кто пишет рассказ от лица и в выражениях персонажа драмы, но в то же время представляет автора.
Играя на гомофонии (лат. actor-autor), Антуан де ла Саль затрагивает также акт речи (деятельность) в его дискурсивном эффекте (в ходе продуцирования) и тем самым конституирование «литературного» объекта. Для Антуана де ла Саля писатель — это и
актер, и автор, можно сказать, что он понимает текст романа одновременно как практику (актер) и продукт (автор), как процесс
(актер) и результат (автор), игру (актер) и оценку (автор); при
этом он не обрекает уже установленные понятия произведения
(сообщения) и собственника (автора) на забвение того, что им
предшествовало1. Инстанция речи в романе (мы изучаем топологию инстанций дискурса в его тексте)2 также включается в его высказывания и присутствует как одна из его частей. Она выдает
автора как первостепенного актера дискурсивной игры, следующего за ней, и поэтому закольцовывающего два способа высказываний в романе — наррацию и цитацию — в единую речь того, кто
одновременно субъект книги (автор) и объект спектакля (актер),
поскольку в недизъюнктивности романа сообщение есть одновременно дискурс и репрезентация. Высказывания автора-актера
разворачиваются, дедублируются и ориентируются на две стороны: 1. референциальное высказывание — наррация — речь того,
кто пишет как актер-автор; 2. текстуальные предпосылки, цитация — речь, атрибутированная другому, кого тот, кто пишет как
актер-автор, наделяет авторитетом. Эти две стороны переплетаются вплоть до путаницы: Антуан де ла Саль легко переходит от
1 Понятие «автор» появилось в романской поэзии в начале XII в.: поэт
представлял свои стихи, придавая им точность движений жонглеров — малейшее
изменение текста исправлялось и осуждалось: “Jograr bradador” (см. R. Menendez
Pidal, Poesia Juglaresca у juglar, Madrid, 1957,14, note l).“Erron о juglar!” exclamaba con-
denatorio el trovador gallego у con eso у con el cese del canto para la poesia docta, el juglar
queda excluido de la vida literaria; queda сото simple musico, y aun en este oficio acaba
siendo sustitmdo par el ministril, tipo del musico ejecutante venido del extranjero y que en el
paso del sigo XIV al XV, convive con el juglar” (ibid., p. 380). Таким образом совершается
превращение жонглера из Актера (персонажа драмы, выступающего — ср. лат. юр.
Actor — выступающий, регулятор рассказа) в Автора (основателя, конструктора
продукта, того, кто делает, располагает, упорядочивает, генерирует, создает объект,
и он больше не производитель, но продавец (ср. лат. юр. Auctor — продавец).
2 См. нашу книгу le Texte du roman, Approche sémiotique d’une structure discursive
transformationeile. Ed. Mouton, La Haye.
Юлия Кристева юЩю Семиотика: Исследования по семанализу
56
«грешной» истории Дамы Прекрасных Кузин в качестве ее «свидетеля» (наррация) к прочитанной истории (цитация) Энея и Ди-
доны и т. п.
4. В заключение скажем, что способ высказывания в романе
инференциальный: это процесс, в ходе которого субъект высказывания в романе делает утверждение, которое представляет собой заключение из инференции, чтобы перейти к другим утверждениям (референциальным, следовательно, нарративным или
текстуальным, следовательно, цитационным), которые являются
посылками для построения вывода и в качестве таковых рассматриваются как истинные. Инференция в романе выстраивается в
процессе номинации двух посылок, а также их сцепления, что не
приводит к собственно силлогическому заключению, характерному для логической инференции. Функция высказывания авто-
ра-актера состоит, таким образом, в аглюцинации его дискурса
читателям в соотнесении своей речи с другими.
Любопытно выделить слова-агенты этой инференции: «мне
кажется de prima face, что согласно воле вдов в древности...»,
«Если, как говорит Вергилий...», «и говорит об этом святой
Иероним» и т. п. Это пустые слова, которые одновременно функционируют как соединительные и транслирующие. В качестве
соединительных они связывают (тотализуют) два минимальных
высказывания (нарративное и цитационное) в целостное высказывание романа — они, таким образом, интернуклеарны. В качестве транслятивных они переводят высказывание из текстуального пространства (вокальный дискурс) в другое (книга), меняя
его идеологему — они, таким образом, интрануклеарны1 (такова
транспозиция кличей и геральдики в письменном тексте).
Инференциальные агенты предполагают последовательное
сочетание речи субъекта и высказывания другого, не автора. Это
делает возможным эпизод высказывания в романе его субъекта,
присутствие высказывания как такового, его перемещение с дискурсивного (информационного, коммуникативного) уровня на
текстуальный (продуцирование). С помощью такого инференци-
ального жеста автор отказывается быть объективным «свидетелем», обладателем истины, которую он символизирует Словом,
чтобы прописать себя как читатель или слушатель, структурирующий свой текст посредством пермутации высказываний других.
Он говорит меньше, чем дешифрует. Инференциальные агенты
служат ему, чтобы привести референциальное высказывание
(наррацию) к текстуальным посылкам (цитациям) и наоборот;
они устанавливают подобие, сходство, выравнивание двух различных дискурсов. Идеологема знака прочерчивается именно
1 Об этих терминах структурного синтаксиса см. L. Tesnière, Esquise d’une syntaxe structurale, P. Klincksieck, 1953.
57
здесь, на уровне инференциального способа высказывания в романе: оно учитывает существование другого (дискурса) лишь в
той мере, в какой он является своим. Эпика не знает такого дедублирования способа высказывания: высказывание исполнителя жестовых песен однолинейно, оно называет референт («реальный» или дискурсивный объект), это означающее, символиру-
ющее трансцендентальные объекты (универсалии). Средневековая
литература, где доминировал символ, — это литература «означающего», «фонетическая», поддерживаемая присутствием монолитной трансценденции означаемого. Сцена карнавала вводит
двойную инстанцию дискурса: актер и толпа, каждый в свою
очередь является одновременно субъектом и адресатом речи;
карнавал представляет собой мост, соединяющий обе до этого
дедублированные инстанции, каждая со своими границами: автор
(актер 4-зритель). Именно эта третья инстанция в инференции
романа принимается и реализуется в высказывании автора. Несводимый ни к одной из посылок, конституирующих инферен-
цию, способ высказывания в романе представляет собой невидимый центр пересечения фонетики (референциальное высказывание, наррация) и письма (текстуальные предпосылки, цитация);
это пустое, нерепрезентируемое пространство, сигнализирующее о себе выражениями «такое как», «мне кажется», «об этом
сказано как о» или другие инференциальные агенты, которые
возвращают, свертывают, закрывают. Таким образом, мы обнаруживаем третью составляющую программирования текста романа, которая завершает его до начала истории: высказывание в
романе оказывается не-силлогической инференцией, компромиссом свидетельства и цитации, голоса и книги. Роман разыгрывается в этом пустом пространстве, на этой непредставимой траектории, которая объединяет два типа высказывания различных
инередуцируемых «субъектов».
Не-дизъюнктивная функция романа
1. Высказывание в романе предполагает оппозицию терминов
как абсолютную, безальтернативную, существующую между двумя соперничающими группировками, никогда не солидаризующимися, не взаимодополняющими, непримиримыми в нераздельном
ритме. Поскольку эта безальтернативная дизъюнкция может дать
место дискурсивной траектории романа, негативная функция
должна ее охватить: не-дизъюнкция. Она вмешивается на второй
ступени и на место понятия комплементарной бесконечности
двухчастности (понятие, которое могло бы сформироваться в
рамках другой концепции отрицания, которую можно назвать радикальной негацией и которая предполагает, что оппозиция тер¬
Закрытый текст
Юлия Кристева §Шр Семиотика: Исследования по семанализу
58
минов считается в то же время симметричным сосуществованием
или объединением); недизъюнкция вводит фигуру притворства,
амбивалентности, двойственности. Безальтернативная начальная оппозиция оказывается, следовательно, псевдооппозицией;
она является таковой в своем герме, поскольку не интегрирует
собственную оппозицию, а именно консолидацию соперничающих сторон. Жизнь абсолютным образом противопоставляется
смерти (любовь ненависти, добродетель пороку, добро злу, бытие
ничто) в дополнительной негации этой оппозиции, которая трансформирует двухчастность в ритмическую целостность. Не дублируя негативное движение, которое сводит различие терминов к
радикальной дизъюнкции с пермутацией двух из них, т. е. в пустое
пространство, вокруг которого они вращаются, стираясь как единицы и трансформируясь в чередующийся ритм, негация остается
неполной и невосполнимой. Придавая обоим терминам, находящимся в оппозиции друг к другу, без утверждения, одним и тем же
жестом и одновременно, идентичность противопоставленных, она
дедублирует движение радикальной негации в двух отношениях:
1. дизъюнкции, 2. не-дизъюнкции.
Это дедублирование сразу вводит время: темпоральность (история) становится промежутком резкой негации, который вводится между двумя акцентами (оппозиция-примирение). В других культурах можно представить себе необратимую негацию,
которая замыкает оба акцента в их выравнивании, избегая, таким
образом, промежутка негативного действия (длительности) и замещая его пустотой (пространством), которое продуцирует пер-
мутацию противоположностей.
«Одвусмысливание» негации влечет за собой финальность,
теологический принцип (Бог, «смысл»). Это в той мере, в какой
дизъюнкция, принятая в качестве начальной фазы, на второй берет на себя синтез двух в одно, становится необходимым вторично, представая как унификация, которая «забывает» оппозицию,
поскольку та не «предполагает» унификацию. Если Бог появляется на второй фазе, чтобы маркировать закрытость семиотической практики, организованной в соответствии с неальтернативной негацией, то совершенно очевидно, что эта закрытость уже
присутствует на первой стадии простой абсолютной оппозиции
(не-альтернативная дизъюнкция).
Именно в этой дедублированной негации зарождается мимезис. Не-альтернативная негация — это закон рассказа: вся нарра-
ция создается и питается временем и финальностью, историей и
Богом. Эпопея и нарративная проза занимают тот промежуток и
подразумевают ту теологию, которую скрывает не-альтернатив-
ная негация. Следовало бы поискать в других цивилизациях немиметический, научный или сакральный, моральный, ритуальный
дискурс, который строится, скрываясь за ритмическими эпизодами, снова погружаясь в согласованность семических антитетических пар1. Роман — не исключение из этого закона нарации.
Среди множества повествований его специфика заключается в
том, что не-дизъюнктивная функция конкретизуется на всех
уровнях (тематическом, синтагматическом, актантном и т. п.)
обобщенного высказывания, характерного для романа.
3. В самом деле, дизъюнкция (тематический круг жизнь-
смерть, любовь-ненависть, верность-предательство) обрамляет
роман, и мы обнаруживаем ее в закрытых структурах, которые
программируют начало романа. Но роман возможен только тогда, когда дизъюнкция двух составляющих может отрицаться,
подтверждаться и одобряться. Она присутствует скорее как
двойственность, чем нередуцируемость двух составляющих.
Фигуры предателя, поруганного суверена, побежденного воина,
неверной жены выделяют эту не-дизъюнктивную функцию, которая обнаруживается с самого начала романа.
Ранее эпопея была организована на основе символической
функции, исключающей дизъюнкции или не-конъюнкции. В «Песне о Роланде» и во всем цикле Круглого стола герой и предатель,
добрый и злой, долг воина и сердечная любовь следовали друг за
другом в непримиримой враждебности от начала до конца, без малейшей возможности компромисса между ними. Таким образом,
«классическая» эпопея, подчиняясь закону не-конъюнкции (символическому) не могла породить характеры и психологию2. Психология появится вместе с не-дизъюнктивной функцией знака и в
своей двусмысленности отыщет место, соответствующее ее узорам. Однако в ходе эволюции эпопеи можно проследить появление фигуры дублирования как предшествующей появлению характера. Так, к концу XII в., особенно в XIII и XIV вв. усиливается двусмысленность эпического, когда император представляется
смешным, религия и бароны становятся гротескными, герои поверженными и подозрительными (“Pelegrinage de Charlemagne”);
король оказывается ничтожеством, добродетель не вознаграждается (цикл Garin de Monglan), предатель становится героем повествования (цикл Doon de Mayence, роете “Raoul de Cambrai”).
Не будучи ни сатирической, ни хвалебной, ни клеймящей, ни
одобряющей, такая эпопея есть свидетельство двойной семиоти¬
1 М. Granet, “Le Style”, la Pensée chinoise, p. 50.
2 В эпопее человеческая индивидуальность ограничена линейной отсылкой к
одной из двух категорий: добрые или злые, позитивные или негативные. Психологические состояния «освобождают характеры. Они, следовательно, могут изменяться с
чрезвычайной быстротой и достигать немыслимых размеров. Человек может превратиться из доброго в злого, изменение душевных состояний происходит молниеносно ». Д.С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси, Москва-Ленинград, 1958, с. 81.
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
60
ческой практики, основанной на сходстве противоположностей и
питающейся смешением и двусмысленностью.
4. В отношении этого перехода символа в знак куртуазная
литература Средневековья особенно интересна. Недавние исследования1 свидетельствуют об аналогии между культом Дамы
в меридиональной литературе и в древней китайской поэзии.
Можно прийти к заключению, что на семиотическую практику
не-дизъюнктивной оппозиции (христианство, Европа) повлияла иероглифическая семиотическая практика, основанная на
«конъюнктивной дизъюнкции » (диалектическое отрицание),
которая также и прежде всего относится к двум полам, нереду-
цируемо разделенным и в то же время сходным. Этим, вероятно, объясняется, почему в течение длительного времени важная
для западного общества семиотическая практика (куртуазная
поэзия) отводила Другому (Женщине) структурную роль первого плана. Или же в нашей цивилизации с точки зрения перехода
от символа к знаку гимн конъюнктивной дизъюнкции трансформировался в апологию одной из оппозиционных составляющих: Другой (Женщина), на которого проецируется и с кем
затем смешивается Сам (Автор, Мужчина). Тут же происходит
исключение Другого, которое неизбежно предстает как исключение Женщины, как непризнание оппозиции полов (и социальной). Ритмический порядок восточных текстов, организующий
различие полов в рамках конъюнктивной дизъюнкции (иерога-
мия), замещается центрированной системой (Другой, Женщина), и этот центр нужен для того, чтобы позволить «самим»
идентифицироваться с ним. Это, однако, псевдоцентр, центр-
мистификатор, слепая точка, ценность которой вкладывается в
Самого Другим (центром), чтобы дать ему жить как отдельному, одному и уникальному. Отсюда исключительная позитивность этого слепого центра (Женщины), которая продолжается
1 См. Alois Richard Nykl, Hispano-arabic poetry on its relations with the old
provençal troubadours, Baltimore, 1946. В исследовании продемонстрировано, каким
образом арабская поэзия, без «механического» влияния на провансальскую поэзию,
внесла вклад через контакт с провансальским дискурсом в формирование и развитие
куртуазного лиризма с точки зрения как его содержания и жанров, так и ритма, системы рифм, строф и т. п. Или, как доказал советский академик Н.И. Конрад, арабский мир, в свою очередь, на другом конце Арабской империи находился в контакте
с Востоком и Китаем (в 752 г. на берегу реки Талас встретились армии Багдадского халифата и Империи Тан). Два сборника китайских стихов «Yue-fou» и «Yui tai
sin yun», относящиеся к 111-IV вв. по тематике и организации напоминают провансальскую куртуазную поэзию XII-XV вв., но в серии китайских стихов заметно отличие, и они обнаруживают другой способ мышления. Остается признать факт контактов и взаимопроникновений двух культур — арабской и китайской (исламизация
Китая+инфильтрация структуры означающее/искусство, литература/китайское в
арабскую риторику и оттуда в средиземноморскую культуру). См. Н.И. Конрад, «Современные проблемы сравнительного литературоведения», Известия Академии Наук
СССР, серия «Литература и язык», 1959, т. 18, вып. 4, с. 335.
до бесконечности (через «благородство» и «сердечные качества»), стирает дизъюнкцию (различие между полами) и разлагается на серию образов (ангел Девы). Таким образом, незаконченный негативный жест, останавливаясь перед тем, как обозначить Другого (Женщину) одновременно как оппозицию и
равенство с Самим (Мужчиной, Автором), и перед его самоотрицанием через корреляцию противоположностей (идентичность Мужчины и Женщины симулыпанна в их дизъюнкции),
становится теологическим жестом. В следующий момент он соединяется с религиозным жестом и в своей незаконченности —
с платонизмом.
Принято видеть в теологизации куртуазной литературы попытку спасти любовную поэзию от преследований Инквизиции1
или, напротив, проникновения активности трибуналов Инквизиции или орденов доминиканцев и францисканцев после поражения альбигойцев в средневековое общество2. Какими бы ни были
эмпирические факты, спиритуализация куртуазной литературы
уже задана в структуре этой семиотической практики, которая
характеризуется псевдонегацией и не признает конъюнктивной
дизъюнкции семических терминов. В такой идеологеме идеализация Женщины (Другого) означает отказ общества от того, чтобы
строиться, признавая различие в статусах, но неиерархизиро-
ванность противоположных групп, а также структурную необходимость образовать пермутативный центр, единицу Другого,
которая имеет ценность только как объект обмена между «самими». В социологии описано, каким образом Женщина заняла это
место пермутативного центра (объекта обмена)3. Эта обесцененная ценность не отличается фундаментальным образом от эксплицитного обесценивания (почву для которого она подготовила), при котором Женщина стала его объектом в буржуазной литературе начала XV в. (фаблио, соти, фарсы).
5. Роман Антуана де ла Саля, находившийся на полпути между двумя типами высказываний, содержал две направленности:
Дама в структуре романа представляет собой двойственную фигуру. Она больше не только обожествляемая госпожа, как предписывал код куртуазной поэзии, т. е. составляющая не-дизъюнк-
тивной связи. Она также неверная, неблагодарная, бесчестная.
В романе «Жан де Сэнтре» отсутствуют два атрибутивных термина, семантически оппозиционных в рамках не-конъюнкции, как
1 J. Coulet, le Troubadour Guilbem Montabagal, Toulouse, Bibl. Méridionale, 1928,
12-e serie, IV.
2 J. Anglade, le Troubadour Guirault Riquier. Etude sur la décadence de Г ancienne
poésie provençale, 1905.
3 Campaux, “La question des femmes au XV siècle” in Revue des cours littéraires de la
France et de l'étranger, I.P., 1864, p. 458 et suiv. P. Gide, Étude sur la condition privée de
la femme dans le droit ancient et moderne, P., 1885, p. 381.
Юлия Кристева ЩШ» Семиотика: Исследования по семанализу
62
представляющие семиотическую практику, релевантную символу
(куртуазное высказывание); здесь они не-дизъюнктивны в амбивалентной единице, которая характерна для идеологемы знака.
Ни обожествленная, ни поруганная, ни мать, ни госпожа, ни
влюбленная в де Сэнтре, ни верная аббату, Дама — это фигура
par excellence не-дизъюнктивная, составляющая ось романа.
Сэнтре также исполняет партию этой не-дизъюнктивной
функции: дитя и воин, паж и герой, обманутый Дамой и победоносный солдат, заботливый и предатель, любовник Дамы и любимый королем или собратом по оружию Бусико (р. 141). Лишенный
маскулинности, дитя-любовник для Дамы или товарищ-дружок,
который разделяет ложе с королем или Бусико, Сэнтре — законченный андрогин, сублимация пола (не имеющий пола для сублимации), но его гомосексуальность нужна только, чтобы ввести в повествование не-дизъюнктивную функцию семиотической
практики, в которой он исполняет свою партию. Он зеркало —
движущая сила, на которое другие аргументы функции романа
проецируются, чтобы смешаться с самими собой: это Другой,
кто также и Сам для Дамы (Мужчина, который в то лее время
ребенок, а также сама Женщина, которая здесь обретает свою
идентичность, не разделяя себя с Другим, но оставаясь неопределенной в нередуцируемом различии их обоих). Он есть сам, но
также и Другой для короля, воинов и Бусико (будучи Мужчиной,
который также и Женщина). Недизъюнктивная функция Дамы,
которой Сэнтре уподобляется, наделяет его ролью объекта обмена между мужским и женским началами общества; оба они связывают элементы культурного текста в стабильную систему, где
господствует недизъюнкция (знак).
Согласование эпизодов
1. Не-дизъюнктивная функция романа проявляется на уровне сцепления конститутивных высказываний как согласование
эпизодов: два аргумента, первоначально находящихся в оппозиции (формирующие тематический круг жизнь-смерть, доброзло, начало-конец и т. п.), связаны между собой и опосредованы
серией высказываний, связь которых с первоначально установленной оппозицией не является ни манифестируемой, ни необходимой и которые соединяются без какого-либо главного императива, который бы добавлял новый термин к их противопоставлению. Подобные высказывания в рамках эпизода по
отношению к оппозиционному кругу, который ограничивает высказывание в романе, — это хвалебные описания объектов
(одежды, подарков, битв). Таковы, например, описания торговли, покупок и одежды (р. 51, 63, 71-72, 79), оружия (р. 50) и т. п.
Высказывания этого типа повторяются с монотонной обязательностью и превращают текст в совокупность возвратов, последовательность закрытых, циклических, завершенных в себе высказываний, каждое из которых центрируется вокруг определенной
точки, с которой могут быть связаны пространство (лавка торговца, комната Дамы), время (отправление войск, возвращение
Сэнтре), субъект высказывания или все три составляющие вместе. Эти дескриптивные высказывания поминутно детализированы и периодически возвращаются в повторяющийся ритм, заданный решеткой темпоральности романа. На самом деле у Антуана де ла Саля нет описания ни одного события, которое
развивалось бы в своей длительности. Поскольку высказывание
Актера (автора) вступает, чтобы обслуживать темпоральную
последовательность, оно чрезвычайно лаконично и всего лишь
связывает дескрипции, которые представляют читателю армию,
готовую к отправке, торговца одеждой или драгоценностями, и
которые восхваляют эти объекты, собранные вместе без всякой
причины. Наслоение этих эпизодов открыто к деривации — повторения восхвалений может быть бесконечным; однако они завершены (закрыты и детерминированы) благодаря фундаментальной функции высказывания, характерного для романа: не-
дизъюнкции. Схваченые целостностью романа, т. е. в обратном
порядке, начиная с конца, где экзальтация трансформируется в
свою противоположность — разочарование, — перед тем как завершиться смертью, эти хвалебные описания релятивизируются,
становятся двусмысленными, обманчивыми, двойственными: их
однозначность сменяется двойственностью.
2. Кроме хвалебных описаний, в траектории романа появляется другой тип эпизодов, собранных в не-дизъюнкцию: латинские
цитирования и моральные нравоучения. Антуан де ла Саль цитирует Туля де Милези, Сократа, Тримидеса, Питакуса де Мисселе-
на, Евангелие, Катона, Сенеку, святого Августина, Эпикура, святого Бернарда, святого Григория, святого Павла, Авиценну и др.,
и среди множества явных заимствований можно обнаружить значительное количество плагиатов.
Легко обнаружить, что источник этих двух типов эпизодов —
восхваление и цитирование — находится вне романа.
Первый тип пришел с ярмарки, из торговли, или публичных
мест. Это высказывание торговца, расхваливающего свой товар,
или герольда, оповещающего о битве. Фонетическое слово, устное высказывание, сам звук становится книгой: роман, таким образом, представляет собой не столько письмо, сколько транскрипцию устной коммуникации. Он транскрибирует на бумаге
произвольное означающее (слово=звуку), которое стремится
быть адекватным своему означаемому и референту; которое реп¬
Юлия Кристева мЩр Семиотика: Исследования по семанализу
64
резентирует «реальное», уже здесь присутствующее, существующее до этого означающего и дублирующее его, чтобы интегрировать в круг обмена, который ограничивает его репрезентацией
(знаком), гибкой и подвижной, как и элемент, предназначенный,
чтобы утвердить связь коммуникативной структуры (торговли)
со смыслом (ценой).
Эти хвалебные высказывания были в ходу во Франции в
XIV-XV вв. и известны под названием blazons. Они пришли из
коммуникативного дискурса, произносились громким голосом в
публичном пространстве, представляя толпе информацию, относящуюся к войне (количество солдат, их происхождение, вооружение) или к рынку (товар, качество, цены)1. Эти торжественные
шумные, монументальные перечисления принадлежат к культуре,
которую можно назвать фонетической: это культура обмена, которая решительно установилась в рамках европейского Возрождения и породила в голосе и практике циркулярные дискурсивные структуры (вербальные, фонетические) — с неизбежностью
отсылающие к «реальному», с которым они идентифицировались, дублируя их (в «означаемом»). «Фонетическая» литература характеризуется такими типами хвалебных и повторяющихся
выражений-перечислений2.
В более позднюю эпоху blazons утрачивают свою однозначность и становятся двусмысленными, хвалебными и одновременно обвиняющими. В XV в. blazon — это уже недизъюнктивная фигура par excellence3.
Текст Антуана де ла Саля схватывает блазон на грани дедуб-
лирования на похвалу и/или обвинение. Блазоны не зафиксированы в книге как однозначно хвалебные. Но они становятся двусмысленными, если читать их с точки зрения генеральной функции романа: предательство Дамы представлено фальшиво
хвалебным тоном, что выдает его двусмысленность. Блазон
трансформируется в осуждение и, таким образом, вносит вклад в
1 Таковы, например, знаменитые «крики Парижа» — повторяющиеся высказывания, хвалебные перечисления, которые играли роль современного паблисити для
общества того времени. См. Alfred Franklin, Vie privée d'autrefois, I. L'Annonce et la
réclame, P. 1881. J.-G. Kastner, les Voix de Paris, essai d'une histoire littéraire et musicale
des cris populaires, p. 1857.
2 Cm. le Mystere du Vieux Testament (XV s.): офицеры Навуходоносора называют
43 вида оружия; le Martyr de saint Cant en (fin XV s.), начальник римских войск называет
45 видов оружия и т. п.
3 Так, у Grimmelshausen, Der Satyrische Pylgrad (1666) можно обнаружить двадцать высказываний семантически позитивных в дальнейшем повторяемых как семантически пежоративные и, наконец, предстающие как двойственные (ни позитивные,
ни негативные). Le blazon часто встречается в мистериях и в соти. См. Montaiglon,
Recueil de Poésies françoises des XV et XVI s. Paris, P. Jannet-P. Daffis, 1865-1878, t. I,
p. 11-16, t. III, p. 15—18, также Dits de pays, t.V, p. 110-116. О blazon см. H. Gaidez et
P. Sébillot, Blazon populaire en France, Paris, 1884; G.D.’Harcourt et G. Durivault, le Blazon, Paris, 1960.
не-дизъюнктивную функцию романа, о чем было упомянуто
выше; функция, установленная во внетекстуальной совокупности
(Те), сменяется текстуальной совокупностью романа (Тг) и этим
также определяет его как идеологему.
Это раздвоение одноголосья на высказывания — типично
устный феномен, который мы обнаруживаем во всем дискурсивном (фонетическом) пространстве Средних веков и особенно на
сцене карнавала. Раздвоение, составляющее самое природу знака
(объект-звук, референт-означаемое-означающее), и топология
коммуникативного круга (субъект-адресат, Сам-псевдо-Другой)
относятся к логическому уровню высказывания (фонетического)
и предстают как не-дизъюнкция.
3. Второй тип эпизодов — цитирование — исходит из письменного текста. Латинский язык и другие (прочитанные) книги
проникают в текст романа в виде либо прямых копий (цитаты),
либо мнестических следов (воспоминания). Они переносятся в
неизменном виде из собственного пространства в пространство
романа, заключенные в кавычки или в виде плагиата1.
Полностью оценив фонетику и введя в культурный текст пространство (буржуазное) ярмарки, торговой лавки, улицы, конец
Средних веков характеризуется также массированным распространением письменных текстов: книга перестала быть привилегией дворян и эрудитов и демократизировалась2. В том виде, в
каком фонетическая культура претендовала на то, чтобы стать
письменной. Или же в той мере, в какой книга в нашей цивилиза¬
1 По поводу заимствований и плагиатов А. де ла Саля см. М. Lecourt, “A. de La
Sale et Simon de Hesdin” in Mélanges offerts à M. Émile Châtelain, Paris, 1910, p. 341-350,
и “Une source d’A. de La Sale: Simon de Hesdin” in Romania, LXXVI, 1955, p. 39-83,183—
211.
2 Считается, что после периода сакрализации книги (священная книга=латинской
книге) Высокое Средневековье переживает период обесценивания книги, которое сопровождается замещением текстов образами. «К середине XII в. роль и судьба книги
меняется. Как место производства и обмена, город подчинился книге и бросил ей вызов. Действие и слово здесь преследовали друг друга, умножались в скачкообразной
диалектике. Книга как продукт первой необходимости вошла в круг средневекового
производства: она стала продуктом денежного обращения, но также охраняемым»
(Albert Flocon, l'Univers des livres, Hermann, 1961, p. 1). Появились профанные книги:
цикл о Роланде, куртуазный роман: Роман Александра Великого, Феба; бретонские
романы: Король Артур, Грааль, Роман Розы; тексты трубадуров и труверов, поэзия
Зутбефа, фаблио, Роман Ренара, миракли, литургический театр и т. п. В XV в. сформировалась и широко распространилась настоящая торговля манускриптами: в Париже,
Брюгге, Ганте, Анвере, Аугсбурге, Кельне, Страсбурге, Вене на рынках и ярмарках,
около церквей копиисты наперебой расставляли свои лавки и предлагали свой товар
(см. Svend Dahl Histoire du livre de l’antiquité à nos jours, Р.-Ed. Poinat, 1960). Культ книги царил при дворе короля Анжуйского (тесно связанного с итальянским Возрождением), где трудился Антуан де ла Саль: Рене Анжуйский (1480) владел 24 турецкими и
арабскими манускриптами, и в его комнате висело «большое табло, на котором были
начертаны ABC, с помощью которых можно было переписываться со всеми христианскими и сарацинскими странами».
Юлия Кристева юШ» Семиотика: Исследования по семанализу
66
ции представляет собой транскрипцию устной речи1, цитирование или плагиат, однако, подобно блазону, носят фонетический
характер, как и их вне-письменные (вербальные) предшественники, представленные в книгах, более ранних, чем книга Антуана де
ла Саля.
4. Остается сослаться на письменный текст, нарушающий закон, который устная транскрипция налагает на текст: перечисление, повторение, темпоральность (см. supra). Установление письма сопровождается двумя главными последствиями.
Первое. Темпоральность текста Антуана де ла Саля в меньшей
степени дискурсивна (нарративные эпизоды не следуют закону
темпоральности вербальной синтагмы) чем та, которую можно
назвать скриптуальной (нарративные эпизоды ориентированы
на письменную деятельность и управляются ею). Последовательность «элементов» (дескриптивных высказываний или цитаций)
послушны движению руки, которая работает на пустой странице, экономя на записи. Антуан де ла Саль часто прерывает ход
дискурсивного времени, чтобы ввести настоящее своей работы
над текстом. «Возвращаясь к теме разговора», «для краткости»,
«как уже говорилось», «и теперь я немного отвлекусь от Мадам
и ее дам, чтобы вернуться к маленькому Сэнтре» и т. п. — такие
соединения сигнализируют о другой темпоральности, отличной
от дискурсивного (линеарного) ряда: массированное настоящее
инференциального высказывания (работа с письмом).
Второе. Высказывание (фонетическое), написанное на бумаге, и чужой переписанный текст (цитирование) — оба формируют
письменный текст, в котором акт письма переходит на второй
план и предстает в своей тотальности как вторичный: как транскрипция-копия, как знак, как «письмо» не в смысле написания,
но как объект обмена: «что я посылаю вам в виде письма».
1 В пределах западной мысли представляется естественным рассматривать письмо как вторичное у следующее за вокализацией. Эта недооценка письма восходит, как
и многие наши философские предпосылки, к Платону: «...Не существует письма вне
меня и никогда не будет существовать: это не есть знание, которое по примеру других могло бы успешно формулироваться в предложение; но результат установления
постоянного обмена с тем, что есть материя этого знания, результат существования,
который разделяется с ней, внезапно, как появляется свет, когда зажигается пламя,
это знание производится в душе и впредь питается самим собой». Кроме того, если
письмо имеет какой-то авторитет, имеет отношение к непреложной истине, то возможно «с помощью письма сослужить большую службу людям и полностью осветить
то, что есть реальность Природы». Но идеалистическое рассуждение скептически
обнаруживает, «немощный инструмент, каковым является язык. Вот мотив, согласно
которому никому никогда не хватит смелости превзойти в языке собственную мысль,
превратить ее в неподвижную вещь, такую, которая составлена из написанных иероглифов » (Platon, Lettre VII). Историки письма в общем разделяют этот тезис (см. James
G. Février, Histoire de l’écriture, Paris, Payot, 1948). Напротив, Tchang Tcheng-ming,
l’Écriture chinoise et la Geste humain, Paris, 1937, и P. Van Ginneken, la Reconstitution
typologique des langues archaiques de l’humanité, 1939, утверждают предшествование
письма по отношению к вокальному языку.
Таким образом, роман структурируется как двойное пространство: одновременно фонетическое высказывание и письменный уровень с подавляющим доминированием дискурсивного
(фонетического) порядка.
Произвольное завершение и структурная
конечность
1. Вся идеологическая активность представлена в форме композиционно завершенных высказываний. Эта завершенность отличается от структурной конечности, на которую претендуют
некоторые философские системы (Гегель), а также религии. Соответственно структурная конечность характеризуется как фундаментальная черта, тот объект, который наша культура принимает как конечный продукт (эффект, впечатление), отказываясь
прочитывать процесс продуцирования: «литература», где роман
занимает привилегированное положение. Понятия «литература»
и «роман» совпадают как в хронологическом происхождении,
так и в их структурной закрытости1. В тексте, характерном для
романа, часто эксплицитное завершение может отсутствовать,
быть двусмысленным или подразумеваться. Такая незавершенность ни в коей мере не отрицает структурной конечности текста.
Поскольку каждый жанр имеет свою особую структурную конечность, попробуем выделить ее в романе «Жан де Сэнтре».
2. Начальное программирование книги уже содержит ее
структурную конечность. В тех фигурах, которые описаны выше,
траектории романа открываются, возвращаются к своей начальной точке или прерываются ограничениями в соответствии с пределами закрытого дискурса. Соответственно композиционное
завершение книги приобретает структурную конечность. Роман
заканчивается высказыванием актера, который после того, как
довел историю своего персонажа Сэнтре до наказания Дамы,
прерывает повествование и объявляет конец: «И здесь наступает
конец этого рассказа...» (р. 307).
Можно рассматривать историю как закончившуюся завершением одного из кругов (разрешающим одну из оппозиционных диад),
серии внутри которых открыты начальным программированием.
Этим кругом становится приговор, вынесенный Даме, который
означает осуждение двусмысленности. Повествование останавливается здесь. Мы назовем это завершение повествования в соответствии с конкретным кругом репризой структурной конечности.
Но структурная конечность, проявившаяся еще раз как конкретизация фундаментальной фигуры текста (оппозиционная ди¬
1 См. П.Н. Медведев, цит. раб.
Юлия Кристева ЩЩя Семиотика: Исследования по семанализу
68
ада и ее связь с не-дизъюнкцией), оказывается недостаточной,
чтобы дискурс автора стад закрытым. Ничто не может положить
конец речи — кроме как произвольным образом, — бесконечному сцеплению кругов. Истинная остановка в повествовании происходит, когда мы доходим до той деятельности, которая его
производит сейчас, на этой странице. Речь заканчивается, поскольку ее субъект исчезает, и именно инстанция письма (деятельности) продуцирует это исчезновение.
Новая рубрика «актер» сигнализирует о второй — истинной — репризе конца: «И это приведет к концу книги об этом
доблестном кавалере, который...» (р. 308). Для окончания романа
используется короткий пересказ истории, приводя высказывание
к акту письма («Теперь же, высочайший, дражайший могущественный князь и мой грознейший сеньер, ни в коем случае не описывая себя слишком или недостаточно, я имел слабость... я сделал эту книгу, сказал Сэнтре, в виде письма, которое я вам посылаю», р. 309), который и замещает прошлые слова настоящим
графемы («И об этом теперь, мой грознейший сеньер, вам не напишет никто другой...»).
В двойной представленности текста (история Сэнтре — история процесса написания) процесс написания вводится в повествование, и оно часто прерывается, чтобы сделать заметным продуцирующий акт, смерть (Сэнтре) как риторический образ совпадает с остановкой дискурса (исчезновение актера). Более того, — еще
одно отступление, на этот раз по поводу языка — цитирование
надгробной надписи приводится на мертвом языке (латынь): далекая от французского языка, она наконец достигает мертвой
точки, где завершается не только повествование (заканчивающееся предыдущим абзацем; «И тут приходит конец этому отчету...»), но также дискурс и его продукт — «литература»/«письмо» («И это дает конец книги...»).
3. Повествование могло бы возобновлять приключения Сэнтре, чему достаточно свидетеьств. Тем не менее оно закрыто рождением-смертью: структурно его завершают функции, закрытые
идеологемой знака, о которой говорилось выше и которую повествование только повторяет с вариациями. Закрытость в композиционном отношении и как культурный факт — это объяснение
повествования как написанного текста.
Таким образом, на исходе Средних веков, почти перед консолидацией «литературной» идеологии и общества, суперструктурой которого она была, Антуан де ла Саль заканчивает свой роман двояким образом: как повествоваие (структурно) и как дискурс (композиционно), и эта композиционная закрытость вместе
со своей наивностью выявила главный факт, который буржуазная литература позже начала скрывать. Вот он.
Роман имеет двойной семиотический статус: это лингвистический феномен (повествование), а также дискурсивный круг
(письмо, литература); тот факт, что он представляет собой
повествование, есть всего лишь аспект — предшествующий — его
фундаментальной особенности — относиться к «литературе».
Мы оказываемся перед отличием, которое характерно для романа по сравнению с повествованием: роман — это уже «литература», т. е. продукт речи, объект (дискурсивный) обмена с собственником (автором), ценой и потребителем (публикой, адресатом).
Завершение повествования совпадает с концом траектории круга1. Напротив, окончание романа не останавливается на этом завершении. Инстанция речи, часто в форме эпилога, предваряет
конец, чтобы замедлить наррацию и продемонстрировать, что
речь идет о вербальной конструкции, контролируемой говорящим субъектом2. Повествование представляется как история, роман — как дискурс (независимо от того, признает это автор — более или менее осознанно — или нет). И таким образом он конституирует решающий этап в развитии критического сознания говорящего субъекта по отношению к его речи.
Окончание романа как повествования — это риторическая
проблема, состоящая в том, чтобы вернуться к закрытой идеоло-
геме знака, которую он сделал открытой. Закончить роман как литературный факт (понимая его как дискурс или знак) — это проблема социальной практики, культурного текста, которая состоит
в том, чтобы противопоставить речь (продуцирование, произведение) ее смерти — письму (текстовое продуцирование). Сюда также
вмешивается третья концепция книги как деятельности, а не феномена (повествование) или литературы (дискурс). Антуан де ла
Саль, разумеется, в курсе такого допущения. Социальный текст,
который следует из него, оттесняет со сцены продуцирование,
чтобы заместить его продуктом (результатом, ценой): царство литературы — это царство рыночной цены, и она вуалирует то, что
Антуан де ла Саль смешивает: дискурсивные истоки и литературный факт. Следует ожидать исследования буржуазного социаль¬
1 «Рассказ — это понятие, которое подразумевает историю, отвечающую двум
условиям: его измерения сводятся к заключению и акцент ставится на нем». В. Eikhen-
baum, “Sur la théorie de la prose” in Théorie de la littérature, op. cit., p. 203.
2 Поэзия трубадуров, как и народные сказки, рассказы путешественников и т. п.
часто для окончания вводят инстанцию слушателя как свидетеля или участника факта, о котором рассказывается. Или же в случае завершения романа автор берет слово не для того, чтобы свидетельствовать «событие» (как это происходит в народной
сказке), не для того, чтобы показать свои «чувства» или свое «искусство» (как в поэзии трубадуров), но чтобы подтвердить, что именно ему, а не, как это кажется, другому (персонажу) принадлежит дискурс, который он ведет к завершению. Он предстает
как автор речи (а не последовательности событий) и старается загасить эту речь (ее
смерть) до завершения полного интереса к событийному ряду (например, смерть главного персонажа).
Юлия Кристева бШр Семиотика: Исследования по семанализу
70
ного текста, чтобы исследование «литературы» (дискурса) столкнулось со вступлением в текст письменной деятельности1.
4. В межвременье эта функция письма как деятельности, разрушающей репрезентацию (литературный факт), оставалась
скрытой, непризнанной и невысказанной, хотя часто встречающейся в тексте и очевидной для расшифровки. Для Антуана де ла
Саля, как и для любого писателя, называемого «реалистом», то,
что письмо есть речь, принимается как закон (при котором
трансгрессия невозможна).
Для того, кто считает себя «автором», письмо становится
функцией, которая вызывает окостенение, окаменение, останавливает. Для фонетического сознания от Возрождения до наших
дней2 письмо считается искусственным ограничителем, произвольным законом, субъективной окончательной обработкой.
Вмешательство инстанции письма в текст часто становится для
автора оправданием того, что он заканчивает свое повествование
произвольным образом. Так, Антуан де ла Саль пишет о себе как
о писателе, чтобы оправдать остановку своего письма: его рассказ — это письмо, конец которого совпадает с остановкой траектории романа. Напротив, кончина Сэнтре — это не рассказ о
приключении: Антуан де ла Саль, часто многословный и повторяющийся, появляется, чтобы объявить этот главный факт, переписав слова с надгробной плиты и на двух языках — по-латыни и
по-французски...
Мы сталкиваемся здесь с парадоксальным феноменом, который в разных формах доминирует на протяжении всей истории
романа: обесценивание письма, его категоризация как незначительного, парализующего, омертвляющего. Этот феномен сопровождается другим: высокая ценность произведения, автора,
литературного факта (дискурса). Письмо представляется нужным лишь для того, чтобы завершить книгу, т. е. дискурс. Произведение — это речь: «впервые заговорил о Даме Прекрасных
Кузин» (р. 1). Акт письма как дифференциальный par excellence
сохраняет в тексте статус другого, нередуцируемого к отличному от него; но также как корреляционный par excellence, избегающий любого заключения эпизодов в законченную идеологему
и открывающий их для бесконечного взаимодействия, этот акт
упраздняется и к нему обращаются только, чтобы противопоставить «объективной реальности» (высказывание, фонетический дискурс) «субъективную искусственность» (скриптуальную
практику). Это противопоставление оппозиций фонетическое/
1 Такова, например, книга Филиппа Соле le Parc (1961), описавшего продуцирование письма до возможного результата — произведения — как феномен (репрезентативного) дискурса.
2 По поводу влияния фонетизма на западную культуру см. J. Derrida, op. cit.
скриптуальное, высказывание/текст в буржуазном романе при
обесценивании второй составляющей (письменное, текст) ввело в
заблуждение русских формалистов, позволив им интерпретировать вмешательство инстанции письма в повествование как доказательство «произвольности» текста или самодистанцирования
«литературы» от произведения. Совершенно очевидно, что концепты «произвольный» и «литература» тректуются в идеологии
предпочтения произведения (фонетического, дискурсивного) в
ущерб письму (продуцированию текста), иными словами, в закрытом (культурном) тексте.
1966-1967
Слово, диалог и роман1
Поскольку эффективность научных приемов в «гуманитарных» науках всегда оспаривалась, удивительно, что это происходило в первую очередь на уровне изучаемых структур, которые выделяли логику, отличную от научной. Речь шла о той логике языка
(и a forteriori поэтического языка), которой «письмо» (я имею в
виду литературу, которая позволяет прикоснуться к поэтическому
смыслу как динамической грамме) дает право стать очевидной.
В литературной семиотике появляется, таким образом, две возможности: молчание и неучастие или усилия по разработке модели, изоморфной этой иной логике, т. е. конституированию поэтического смысла, ставшего сегодня в семиотике центром интереса.
Русский формализм, где сегодня утвердился структурный
анализ, столкнулся с той же альтернативой, поскольку конец
этим исследованиям положили экстра-лингвистические и экстра-
научные соображения. Однако совсем недавно исследования продолжил в современном ключе Михаил Бахтин, чьи работы представляют собой одно из наиболее заметных событий и одну из
наиболее мощных попыток продвинуться в рамках этой школы.
Далекий от строгости лингвистических методик, предпочитающий импульсивное письмо, порой с пророческими прозрениями,
Бахтин приближается к фундаментальным проблемам, с которыми сегодня столкнулись структурные исследования повествования и которые обусловили актуальность возвращения к текстам, в
общих чертах наметившим ее около сорока лет назад. Писатель,
больше, чем «ученый», Бахтин один из первых заменил статичное
расчленение текстов моделью, где отсутствует литературная
структура как таковая, но где она разрабатывается в соотношении с другой структурой. Такая динамизация структурализма
возможна, только если принять концепцию, согласно которой
«литературное слово» представляет собой не точку (фиксированный смысл), но пересечение текстуальных поверхностей, диалог целого ряда видов письма: писателя, адресата (или персонажа), актуального или предшествующего культурного контекста.
Вводя понятие статус слова в качестве минимальной структурной единицы, Бахтин размещает текст в истории и в обществе,
рассматривая их как тексты, которые читает писатель и в кото¬
1 Этот текст написан с опорой на книги М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (Москва, 1963) и «Творчество Франсуа Рабле» (Москва, 1965). Эти работы
заметно повлияли на работы некоторых советских теоретиков языка и литературы в
1930-гг. (Волошинов, Медведев). Сейчас он работает над новой книгой, посвященной
дискурсивным жанрам.
рые он включается, чтобы составить их заново. Диахрония трансформируется в синхронию, и в свете этой трансформации линеарная история становится своего рода абстракцией; единственным
способом участия в ней для писателя становится трансгрессия
этой абстракции посредством письма-прочтения, т. е. использования структуры означивания в функции другой структуры или в
оппозиции к ней. История и мораль прописываются и прочитываются в инфраструкуре текстов. Таким образом, в качестве поливалентного и полидетерминированного поэтическое слово следует логике, выходящей за пределы логики кодифицированного
дискурса, и полностью реализуется только на полях официальной культуры. Соответственно именно в карнавале Бахтин искал
корни этой логики, к которой он приблизился в своих исследованиях. Карнавальный дискурс нарушает законы языка, ограничиваемого грамматикой и семантикой, и благодаря этому становится социальным и политическим протестом: речь идет не об эквивалентности, но об идентичности протестов против официального
лингвистического кода и официального закона.
Слово в пространстве текста
Установление специфичного статуса слова в различных жанрах (текстах) в качестве означающего по отношению к различным
способам интеллектуализации (литературы) сегодня помещает
поэтический анализ в невралгической точке «гуманитарных»
наук: пересечения языка (реальной практики мышления1) и пространства (объем, в пределах которого сигнификация артикулируется соединением различий). Изучать статус слова значит изучать артикуляции этого слова (как семический комплекс) в отношениях с другими словами определенной фразы и выявлять
подобные функции (связи) на уровне артикуляций более высоких
уровней. Принимая во внимание эту пространственную концепцию функционирования поэтического языка, необходимо вначале определить три измерения текстуального пространтсва, где
могут реализоваться различные операции семических ансамблей
и поэтических последовательностей. Эти три измерения таковы:
субъект письма, адресат и внешние тексты (три элемента диалога). Статус слова2 определяется а) горизонтально: слово в тексте
1 «...язык есть реальное сознание, практика, существующая для другого так
же, как и в первую очередь для меня самого...» (“L’idéologie allemande”, dans K. Marx-
F. Engels, Études philosophiques, Ed. sociales, 1961, p. 79).
2 Бахтин в процессе работы над книгой, посвященной «речевым жанрам», вначале определяет статус слова (см. Вопросы литературы, 8/1965). Мы не будем здесь
комментировать, что некоторые из этих идей в известной мере сходны с концепциями
Ф. де Соссюра (“Anagrammes” in Mercure de France, fév., 1964) и знаменуют собой новый подход к литературным текстам.
Юлия Кристева вШ« Семиотика: Исследования по семанализу
74
одновременно представляется и субъекту письма, и адресату, и
Ь) вертикально: слово в тексте ориентировано на предшествующий или синхронный корпус литературы.
Однако адресат уникальным образом включен в дискурсивный универсум книги так же, как и сам дискурс. Он смешивается
с тем другим дискурсом (той другой книгой), по отношению к которой автор пишет собственный текст; таким образом, что горизонтальная (субъект-адресат) и вертикальная оси совпадают,
чтобы раскрыть главный факт: слово (текст) представляет собой
пересечение слов (текстов), где прочитывается по меньшей мере
другое слово (текст). Впрочем, Бахтин не проводит четкого различия между обеими осями, которые он называет соответственно
диалогом и амбивалентностью. Но этот недостаток четкости
свидетельствует прежде всего об открытии, которое Бахтин первым ввел в теорию литературы: каждый текст строится как мозаика цитирований, каждый текст — это приспособление к другим
текстам и их трансформация. На место понятия интерсубъективности ставится понятие интертекстуальности, и поэтический
язык прочитывается, по крайней мере, как удвоенный.
Таким образом, статус слова как минимальной единицы текста оказывается медиатором, связывающим структурную модель
с культурным (историческим) окружением, а также регулятором
мутации диахронии в синхронию (в литературную структуру).
Через понятие статуса слово размещается в пространстве: оно
функционирует в трех измерениях (субъект-адресат-контекст)
как ансамбль семических элементов в диалоге или как ансамбль
амбивалентных элементов. Поэтому задачей литературной семиотики становится поиск формализмов, соответствующих различным способам объединения слов (эпизодов) в диалогическом
пространстве текстов.
Описание специфичного функционирования слов в рамках
различных литературных жанров (текстов) обнаруживает транслингвистическую направленность: (1) концепция литературного
жанра как не чистой семиологической системы, которая «означивает ниже языка, но никогда без него»; (2) операция, регулирующая масштабные единицы дискурсов-фраз, реплик, диалогов
и т. п., — без насильственного следования лингвистической модели, которая оправдывается принципом семантической экспансии.
Можно также сформулировать и продемонстрировать гипотезу,
что эволюция литературных жанров представляет собой неосознаваемую экстериоризацию лингвистических структур на
их различных уровнях. В частности, роман экстериоризует лингвистический диалог1.
1 В самом деле, структурная семантика, описывающая лингвистические основы
дискурса, указывает, что «эпизод в его экспансии предстает как эквивалент коммуни¬
Слово и диалог
Идея «лингвистического диалога» была в центре внимания
русских формалистов. Они настаивали на диалогическом характере лингвистической коммуникации1 и считали, что монолог как
«эмбриональная форма» обобществленного языка2 является
последующей по отношению к диалогу. Некоторые из них проводили различие между монологическим дискурсом как «эквивалентным психическому состоянию»3 и повествованием как «художественной имитацией монологического дискурса»4. Знаменитое исследование Эйхенбаума, посвященное повести Гоголя
«Шинель», сходно с этими концепциями. Эйхенбаум констатирует, что текст Гоголя соотносится с устной формой наррации и с
ее лингвистическими характеристиками (интонация, синтаксическая конструкция устного дискурса, соответствующая лексика
и т. п.). Устанавливая, таким образом, два способа наррации в повествовании — косвенный и прямой — и изучая их отношения,
Эйхенбаум приходит к выводу, что в большинстве случаев автор
повествования перед тем, как соотнестись с устным дискурсом,
соотносится с дискурсом другого, чей устный дискурс является
вторичным следствием (другой как носитель устного дискурса)5.
Для Бахтина разделение диалог-монолог имеет значение, далеко превосходящее конкретный смысл, который придавали ему
формалисты. Он не соотносит его с различением прямая-кос венная речь (монолог-диалог) в повествовании или пьесе. У Бахтина
диалог может быть монологичным, а то, что называют монологом, часто диалогично. Для него оба термина передают лингвистическую инфраструктуру, изучение которой выпадает на долю
семиотики литературных текстов, которая не должна противо¬
кативной единицы синтаксически более простой, чем она» и определяет экспансию
как «один из наиболее важных аспектов функционирования естественных языков»
(A.J. Greimas, Sémantique structurale, p. 72). Именно в экспансии можно усмотреть теоретический принцип, побуждающий изучать в пределах структуры жанров экстерио-
ризацию (экспансию) имманентных структур языка.
1 Е.Ф. Буде. К истории великорусских говоров. Казань, 1869.
2 Л.В. Щерба. Восточнолужицкое наречие. Петроград, 1915.
3 В.В. Виноградов. «О диалогической речи». Русская речь. I. С. 144.
4 В.В. Виноградов. «Поэтика». 1926. С. 33.
5 По-видимому, то, что упрямо называют «внутренним монологом» приобретает наиболее нередуцируемое качество, которое в рамках западной цивилизации считается идентичностью, организованным хаосом и в конечном итоге трансценденцией.
Однако этот «монолог» не обнаруживается нигде, кроме текстов, симулирующих возвращение психической реальности, дистанцированной от себя самой, в «словесный
поток». «Интериоризированность» западного человека есть, таким образом, ограничивающий (конфессионально, психологически продолженной речью, автоматическим
письмом) литературный эффект. Можно сказать, что своего рода «коперниковская»
революция Фрейда (открытие внутренней разделенности субъекта) положила конец
этой фикции внутреннего голоса, установив основания радикальной экстериорности
субъекта по отношению к языку и к себе.
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
76
речить ни лингвистическим методам, ни логическим данным, но
строиться на объединении обоих. «Лингвистика изучает язык как
таковой, его специфичную логику и его единицы, которые делают
возможной диалогическую коммуникацию, но она абстрагируется от самих диалогических отношений... Диалогические отношения не сводятся к логическим отношениям и к означиванию, которые сами по себе лишены диалогического момента. Они должны быть облечены в слова, стать произнесенными, выраженными
в словах, в позициях разных субъектов, чтобы между ними появились диалогические отношения... Диалогические отношения совершенно невозможны без логических отношений и сигнификации, но не сводятся к ним, обладая собственной спецификой»
(Проблемы поэтики Достоевского).
Настаивая на различии между диалогическими и собственно
логическими отношениями, Бахтин подчеркивает, что отношения, структурирующие повествование (автор-персонаж; можно
добавить субъект высказывания-субъект, которому оно адресовано), возможны, поскольку диалогизм присущ самому языку.
Бахтин не объясняет, в чем состоит эта двойственность языка, но
подчеркивает, что «диалог есть единственная возможная сфера
существования языка». Сегодня мы можем обнаружить диалогические отношения на многих уровнях языка: в комбинаторной
диаде язык/речь; в системе языка (общественный договор моно-
логичен так же, как система взаимосвязанных ценностей, которая актуализуется в диалоге с другим) и речи (по сути «комбинаторной», которая является не творчеством индивида, но его индивидуальной конструкцией на базе обмена знаками). На другом
уровне (который сравним с амбивалентным пространством романа) также обнаруживается «двойственный характер языка»: синтагматически (реализуясь в продолженности, присутствии и через метонимию) и систематически (реализуясь в ассоциации, отсутствии и через метафору). Было бы важно на лингвистическом
уровне проанализировать диалогические обмены между этими
двумя осями языка как базу амбивалентности романа. Отметим
также двойственные структуры и их взаимоналожение в отношениях код/сообщение (R. Jakobson, Essais de linguistique generale,
chap. 9), что также помогает уточнить бахтинскую идею диалогизма как имманентного языку.
Бахтинский дискурс означает то же, что имел в виду Беневе-
нист, когда говорил о дискурсе, т. е. «языке, рассматриваемом как
то, что практикуется индивидом» или, словами самого Бахтина:
«Чтобы отношения между сигнификацией и логикой стали диалогичными, они должны воплотиться, т. е. войти в иную сферу
существования; стать дискурсом, т. е. высказыванием, и получить
автора, т. е. субъекта высказывания» (Проблемы поэтики Досто¬
евского). Но для Бахтина, вышедшего из революционной России,
озабоченной социальными проблемами, диалог — это не только
язык, освоенный индивидом, это и письмо, где прочитывается
другой (без какой бы то ни было аллюзии на Фрейда). Таким образом, бахтинский диалогизм предполагает письмо, равно как и
субъективность и коммуникативность или, лучше сказать, интертекстуальность* с точки зрения такого диалогизма понятие
«личность-субъект письма» затушевывается, чтобы уступить
место другому, а именно «амбивалентности письма ».
Амбивалентность
Термин «амбивалентность» подразумевает проникновение
истории (общества) в текст и текста в историю; для писателя они
едины и представляют собой одно и то же. Говоря о «двух голосах, которые соединяются в повествовании», Бахтин имеет в виду
письмо как прочтение предшествующего литературного корпуса,
текст как абсорбцию другого текста и ответ на него (полифонический роман изучается как абсорбция карнавала, монологический роман — как подавление этой литературной структуры, которую из соображений диалогизма Бахтин называет «менип-
пея»). С этой точки зрения текст не может быть уловлен одной
лингвистикой. Бахтин постулирует необходимость науки, которую он называть транслингвистической и которая в связи с диалогизмом языка должна прояснить интертекстуальные отношения, отношения, которые в дискурсе XIX в. назывались «социальной ценностью» или моральным «посланием» литературы.
Лотреамон хотел писать, чтобы способствовать высокой морали.
На практике эта мораль реализовалась как амбивалентность текстов: Chants de Maldoror и Poesies представляют собой постоянный диалог с предшествующим корпусом литературы. Диалог и
амбивалентность оказываются, таким образом, для автора единственным способом внедриться в историю, проповедуя амбивалентную мораль отрицания как утверждения.
Диалог и амбивалентность приводят к важному заключению.
Поэтический язык во внутреннем пространстве текста, как и в
пространстве текстов, представляется как «двойственный». Поэтическая программа, о которой говорит Соссюр (Анаграммы),
находится в промежутке от нуля до двух: «одно» (определение,
«истина») не существует в своем собственном пространстве.
Можно сказать, что дефиниция, детерминация, знак равны между собой, а концепт знака, предполагающий вертикальное
(иерархическое) распределение означающего-означаемого, нельзя применять к поэтическому языку, представляющему собой
бесконечные объединения и комбинации.
Юлия Кристева шШр Семиотика: Исследования по семанализу
78
Понятие знака (Sa-Sé), являющееся результатом научной
абстракции (тождество-субстанция-причина-цель как структура фразы в индоевропейской культуре), предполагает вертикальное линеарное и иерархизирующее распределение. Понятие
удвоение, появившееся в результате размышлений по поводу литературного языка, означает «опространствление» и установление корреляции с литературным (лингвистическим) эпизодом.
Это означает, что минимальная единица поэтического языка, по
крайней мере, двойственна (в смысле не диады означающее-означаемое, но один и другой) и представляется в функционировании
поэтического языка как табулярная модель, где каждая «единица » (в дальнейшем это слово можно использовать только закавыченным, поскольку каждая единица двойственна) предстает как
мультидетерминированная вершина. Двойственность становится
минимальным эпизодом этой параграмматической семиотики,
которую разработали Соссюр (Анаграммы) и Бахтин.
Не претендуя на завершение этих размышлений, дальше мы
будем настаивать на одном из их последствий: невозможность с
помощью логической системы «ноль-один» (ложь-истина, нич-
то-нотация) понять функционирование поэтического языка.
Действительно, научный метод — это метод логический, основанный на греческой (индоевропейской) фразировке, которая
строится как субъект-предикат и дальше следует как идентификация, детерминация, причинность. Современная логика от Фреге и Пеано до Лукасевича, Аккермана или Черча, которая развивалась в измерениях 0-1, а также логика Буля, которая, будучи
составляющей теории множеств, обеспечила формализации, более изоморфные функционированию языка, не применима в сфере поэтического языка, где 1 не имеет предела.
Поэтический язык невозможно формализовать посредством
логических (научных) процедур, не исказив его. Литературная
семиотика исходит из поэтической логики, где концепт мощности континуума покрывает интервал от 0 до 2, где 0 означает, а 1
имплицитно трансгрессируется.
На этой «мощности континуума» от нуля до специфически поэтической двойственности можно заметить, что «запрет»
(лингвистический, психический, социальный) — это 1 (Бог, закон, определение), и единственной лингвистической практикой,
которая «нарушает» такой запрет, является поэтический дискурс. Не случайно, что недостаточность Аристотелевой логики
применительно к языку отмечали: с одной стороны, китайский
философ Чан Тун Сун, который отправляется от другого лингвистического горизонта (идеограммы), где место Бога занимает
«диалог» Ин-Янь; с другой стороны, Бахтин, который пытался
превзойти формалистов динамическим теоретизированием в ре¬
волюционном обществе. Для него нарративный дискурс, который
он приспосабливает к эпическому, — это запрет, «монологизм»,
подчиненность коду 1, Богу. Соответственно эпическое представляет собой религиозное, теологическое, и все «реалистическое» повествование, подчиняющееся логике 0-1, догматично.
Реалистический роман, который Бахтин называет монологичным
(Толстой), имеет тенденцию развиваться в этом пространстве.
Реалистическое описание, определение «характера», создание
«персонажа», развитие «сюжета» — все эти дескриптивные элементы нарративного повествования принадлежат интервалу 0-1
и являются монологичными. Единственным дискурсом, где поэтическая логика 0-2 полностью реализуется, становится карнавал: он трансгрессирует правила лингвистического кода, а также
социальной морали, принимая логику сновидения.
Фактически эта «трансгрессия» лингвистического кода (логического, социального) в карнавале возможна и эффективна
только потому, что она вводит другой закон. Диалогизм не является «свободой в полном смысле слова»: это «шутка» (Лотреа-
мон), но драматическая, иной императив, чем 0. Следовало бы
настаивать на этой особенности диалога как трансгрессии, узаконивающей себя, чтобы радикальным и категорическим образом
отличить его от псевдо-трансгрессии, характерной для определенной современной литературы — «эротической» и пародийной. Желая быть «либертинной» и «релятивизирующей», она
вписывается в поле действия закона, предвидящего свою трансгрессию; она, таким образом, представляет собой компенсацию
монологизма, не размещается в интервале 0-1 и не имеет ничего
общего с архитектоникой диалогизма, который подразумевает
формальный разрыв с нормой и связь оппозиционных, но не
взаимоисключающих терминов.
Роман, охватывающий карнавальную структуру, назван полифоническим. Среди примеров, приводимых Бахтиным, можно назвать Рабле, Свифта, Достоевского. Мы можем добавить роман-
«модерн» XX в. — Джойс, Пруст, Кафка — с уточнением, что полифонический роман модерна, занимающий по отношению к
монологизму статус, аналогичный статусу диалогического романа предыдущих эпох, совершенно отличается от последнего.
В конце XIX в. действовало ограничение, состоящее в том, что
диалог у Рабле, Свифта или Достоевского оставался на репрезентативном, фиктивном уровне, тогда как полифонический роман
нашего века оказывается «неудобочитаемым» (Джойс) и внутри
языка (Пруст, Кафка). Начиная с этого момента (разрыва, который был не только литературным, но также социальным, политическим, философским) проблема интертекстуальности (интертекстуального диалога) была поставлена как таковая. Теория
Юлия Кристева ЩШп Семиотика: Исследования по семанализу
80
Бахтина (как и представленная в соссюровских «Анаграммах»)
исторически образовалась из этого разрыва: Бахтин обнаружил
текстуальный диалогизм у Маяковского, Хлебникова, Белого
(если упомянуть лишь некоторых из писателей времен революции, которые внесли заметный вклад в этот скриптуральный разрыв) раньше, чем он распространился в истории литературы как
принцип полного ниспровержения и всей протестной продукции.
Таким образом, бахтинский термин диалогизм как французский семический комплекс подразумевает: двойственность, язык
и другую логику. Начиная с появления этого термина, обозначился новый подход к поэтическим текстам, который может принять
литературная семиотика. Логика, подразумеваемая «диалогизмом», одновременно является: 1) логикой дистанции и связи
между различными терминами фразы или нарративной структуры, указывающая становление — в противоположность уровню
продолженности и субстанции, которые подчиняются логике бытия и могут быть обозначены как монологические; 2) логикой
аналогии и невзаимоисключающей оппозиции в противоположность уровню идентифицирующих причинности и детерминации,
которые можно обозначить как монологические; 3) трансфинитной логикой, концептом, который мы заимствовали у Кантора и
который вводит в мощность континуума поэтического языка (0-2)
второй принцип формирования: поэтический эпизод «непосредственно превосходит» (не в причинном смысле) все предшествующие эпизоды, подчиняющиеся Аристотелевой последовательности (научные, монологичные, нарративные). Тогда
амбивалентное пространство романа предстает как упорядоченное двумя принципами формирования: монологическим (каждый
последующий эпизод детерминирован предыдущим) и диалогическим (трансфинитные эпизоды, непосредственно превосходящие предыдущую причинную последовательность)1.
Диалог лучше всего иллюстрируется в структуре карнавального языка, где символические отношения и аналогия наступают
на отношения субстанция-каузальность. Термин амбивалентность можно применять к пермутации двух пространств, наблюдаемых в структуре романа: 1) диалогического и 2) монологического.
Концепция поэтического языка как диалога и амбивалентности приводит Бахтина к пересмотру структуры романа, которая
связывает форму классификации слов повествования с типологией дискурса.
1 Подчеркнем, что введение понятий из теории множеств в рассуждения, относящиеся к поэтическому языку, всего лишь метафоричны: это возможно, поскольку
можно провести аналогию между отношениями аристотелевской/поэтической логики, с одной стороны, и счетностью/бесконечностью — с другой.
Классификация слов повествования
Согласно Бахтину, в повествовании можно выделить три категории слов:
a. Прямое слово, отсылающее к своему объекту, выражающее
конечную сигнификативную инстанцию субъекта дискурса в рамках контекста; это слово автора, слово возвещающее, выражающее, слово денотативное, которое должно обеспечить ему прямое объективное понимание. У такого слова нет коннотаций, кроме него самого и объекта, адекватность которого оно усиливает
(оно не «осознает» влияний чужих слов).
b. Объектальное слово — это прямая речь «персонажей».
Оно представляет собой непосредственную объективную сигни-
фикацию, но не располагается на том же уровне, что авторский
дискурс, сохраняя по отношению к нему дистанцию. Оно одновременно ориентировано на свой объект и объект ориентации автора. Это чужое слово, подчиненное нарративному слову как
объекту авторского понимания. Но ориентация автора на объектальное слово не проникает в него; она принимает его как целое,
не меняя ни его смысла, ни его тональности; она подчиняет его
собственным задачам не вводя в него новой сигнификации. Таким
образом (объектальное) слово становится объектом другого (денотативного) слова, «не осознавая» его. Объектальное слово одноголосно, как и денотативное.
c. Но автор может помочь себе словом других, чтобы придать
ему новый смысл, сохраняя тот, что оно уже имело. В результате
слово приобретает две сигнификации, что делает его амбивалентным. Это амбивалентное слово есть, таким образом, результат
соединения двух систем знаков. В ходе эволюции жанров оно появляется в мениппее и карнавале (мы вернемся к этому позже).
Это эффект стилизации, который устанавливает дистанцию по
отношению к слову другого, в противоположность имитации
(Бахтин скорее считает его повторением), которая принимает
имитируемое (повторяемое) всерьез, делает его своим, присваивает его без релятивизации. Эта категория амбивалентных слов
характеризуется тем, что автор эксплуатирует речь других, не
нарушая их мысли, во имя собственных целей; он следует ее направлению, превращая ее в относительную. Ничего подобного
нет во второй категории амбивалентных слов, образцом которой
является пародия. Что касается третьей категории амбивалентных слов, образцом которой является скрытая внутренняя полемика, она характеризуется активным (то есть модифицирующим)
влиянием слова другого на слово автора. «Говорит» именно автор, но чужой дискурс, который он деформирует, постоянно
присутствует в этой речи. В таком активном типе амбивалентно¬
Юлия Кристева ЩЁт Семиотика: Исследования по семанализу
82
го слова слово другого представлено словом рассказчика. Примерами могут служить автобиография, полемические признания,
реплики в диалоге, скрытый диалог. Роман — это единственный
жанр, в котором используются амбивалентные слова; это специфичная характеристика его структуры.
Имманентный диалогизм денотативного или
исторического слова
Понятие одноголосья или объективности монолога и эпики,
которая его ассимилировала, или, лучше сказать, денотативного
и объектального слова, вполне доступно психоанализу и семантическому анализу языка. Диалогизм сосуществует с глубинными структурами дискурса. Несмотря на Бахтина и Беневениста,
мы вернем его на уровень денотативного бахтинского слова в качестве приниципа для любого высказывания, или, по Беневени-
сту, на уровень истории, которая, как и его «дискурсивный»
уровень, предполагает вмешательство говорящего в повествование и ориентацию на другого. Чтобы описать диалогизм, имманентный денотативному или историческому слову, нужно будет
вернуться к психологии письма как следа диалога с самим собой
(с другим), как дистанции автора по отношению к себе, как раздвоения писателя на субъекта высказывания и субъекта сказанного.
Субъект наррации самим ее актом адресуется к другому, и
именно по отношению к нему наррация структурируется. (Во имя
этой коммуникации Понж противопоставляет высказыванию «Я
мыслю, следовательно, существую» другое: «Я говорю, и ты меня
слушаешь, следовательно, мы существуем», — и, таким образом,
постулирует переход от субъективизма к амбивалентности). Мы
можем, следовательно, изучать наррацию вне отношений означающее-означаемое как диалог между субъектом наррации (S) и
адресатом (D), другим. Этот адресат не кто иной, как субъект
рассказа, представляющий единицу с двойной ориентацией: означающее в своем отношении к тексту и означаемое в отношении
субъекта наррации к самому себе. Таким образом, получается диада (Di, D2), оба термина которой, находясь в коммуникации друг
с другом, составляют кодовую систему. Субъект наррации (S)
вовлекается в нее, редуцируя себя к безличному коду, к не-лицу,
к анониму (автору, субъекту процесса высказывания), для которого он (персонаж, субъект высказывания) становится медиатором. Автор продолжает оставаться субъектом наррации, претерпевшим метаморфозу, благодаря включению в систему наррации;
он теперь не лицо, но возможность пермутации S в D, истории в
дискурс и дискурса в историю. Он становится анонимом, отсут¬
ствием, пустым местом, чтобы дать возможность существовать
структуре как таковой. В самом начале наррации, в тот момент,
когда появляется автор, мы сталкиваемся с опытом пустоты. Мы
можем также ожидать появления проблем смерти, рождения,
секса, поскольку литература затрагивает в неврологической точке, каковой является письмо, экстериоризующее лингвистические системы посредством структуры наррации (жанры). Из этого анонима, этого нуля, где находится автор, рождается он персонажа. На более поздней стадии он становится именем
собственным (N). Таким образом, в литературном тексте 0 не существует, пустота внезапно сменяется на «некто» (он, имя собственное), представляющего собой двойственность (субъекта и
адресата). Именно адресат, другой, внешнее (для которого субъект наррации является объектом и который одновременно является репрезентируемым и репрезентантом) трансформирует
субъекта в автора, т. е. заставляет S пройти через эту стадию
нуля, негации, исключения, конституирующую автора. Таким образом, в движении туда-сюда между субъектом и другим, писателем и читателем автор структурируется как означаемое, а текст —
как диалог двух дискурсов.
В свою очередь, конституирование персонажа («характер»)
допускает дизъюнкцию S на Sa (субъект процесса высказывания)
и Se (субъекта высказывания).
Схема этой мутации такова
Схема I
Эта схема охватывает структуру прономинальной системы1,
которую психоаналитики обнаруживают в дискурсе своих пациентов:
-S
Он, N
ОН0 Sa
Некто Se
Схема II
1 См. Luce Irigaray, “Communication linguistique et communication spéculaire, in
Cahiers pour l*analyse, № 3.
Юлия Кристева ШШр Семиотика: Исследования по семанализу
84
Мы обнаруживаем на уровне текста (означающего), в отношении Sa-Se тот диалог субъекта и адресата, вокруг которого
структурируется вся наррация. Субъект высказывания по отношению к субъекту, совершающему высказывание, играет роль адресата по отношению к субъекту; он включается в систему письма, проходя через пустоту. Малларме называет эту функцию «исчезновением манеры говорить» (“disparition elocutoire”).
Субъект высказывания одновременно является представителем субъекта процесса высказывания и предстает как объект для
последнего. Он также коммутирует с анонимом-автором, и именно это порождение двойственности из нуля становится персонажем (характером). Он «диалогичен», за ним скрываются S и D.
По отношению к наррации и роману эта направленность, которую мы описываем, тут же упраздняет различия между означающим и означаемым в литературной практике, которые возникают только в диалогическом (их) означаемом (ых). «Означающее
репрезентирует субъекта для другого означающего» (Лакан).
Во все времена, однако, наррация как диалогическая матрица
конституируется адресатом, к которому наррация обращается.
Любая наррация, включая историческую и научную, содержит
эту диалогическую диаду, которую рассказчик формирует вместе
с другим и которая переводится в диалогическое отношение Sa/Se,
где Sa и Se один для другого, круг за кругом, как означающее и
означаемое образуют всего лишь игру пермутаций двух означающих.
Итак, только благодаря определенным нарративным структурам этот диалог, это владение знаком как двойственным, эта амбивалентность письма экстериоризируется в самой организации
дискурса (поэтического) на уровне манифестации текста (литературного).
К типологии дискурсов
Динамический анализ текстов приводит к перераспределению
жанров: радикализм, с которым его предпринял Бахтин, побуждает нас сделать то же самое с типологией дискурсов.
Термин повествование, который использовали формалисты,
слишком нечеткий для жанров, на описание которых он претендовал. Можно было бы здесь различать, по крайней мере, два варианта.
С одной стороны, монологический дискурс, который включает в себя: 1) способ репрезентации описания и наррации (эпический); 2) исторический дискурс; 3) научный дискурс. Во всех трех
субъект принимает роль 1 (Бога), которой он тем же образом и
подчиняется; имманентный диалог любого дискурса подавляется
запретом, ограничением в том смысле, что дискурс не возвращается к самому себе (отказывается от «диалога»). Принимая во
внимание модели такого ограничения, можно описать природу
различий между двумя дискурсами: эпическим (история, наука) и
мениппеей (карнавал, роман), которая преодолевает запрет. Монологический дискурс соответствует системной оси языка, о которой говорит Якобсон; можно также напомнить его аналогию с
грамматическими утверждением и отрицанием.
С другой стороны, диалогический дискурс 1) карнавала, 2) ме-
ниппеи, 3) романа (полифонического). В этих структурах одно
письмо прочитывает другое, прочитывает само себя и выстраивается в генезисе деструкции.
Эпический монологизм
Эпика, которая структурируется на исходе синкретизма, в
постсинкретический период делает очевидной двойную ценность
слова: речь субъекта («я») неизбежно преображается посредством языка — носителя конкретного и универсального, индивидуального и коллективного. Однако на стадии эпики рассказчик
(субъект эпопеи) не ориентирован на речь другого. Диалогическая игра языка как корреляция знаков, диалогическая перму-
тация двух означающих для одного означаемого образуются в
плане наррации (денотативного слова, а также имманентности
текста), но это не экстериоризируется в плане текстуальной манифестации, как это происходит в случае структуры романа. Это
схема, характерная для эпики, но еще не проблематика амбивалентного слова Бахтина. Принцип организации эпической структуры остается монологичным. Диалогичность языка проявляется
только в инфраструктуре наррации. На уровне видимой организации текста (историческое/дискурсивное высказывания) диалог
отсутствует; оба аспекта высказывания ограничены абсолютной
позицией рассказчика, которая совпадает с позицией божества
или сообщества. В эпическом монологизме мы находим очерченные Деррида «трансцендентальное означаемое» и «в себе присутствие».
В эпическом пространстве превалирует систематическая позиция (согласно Якобсону, подобие). Структура метонимической
смежности, характерная для синтагматической оси языка, здесь
редкость. Ассоциации и метонимы как риторические фигуры
здесь широко пристуствуют, но не для того, чтобы стать структурным принципом организации. В эпической логике общее отыскивается в частном; она предполагает иерархическую структуру
субстанции. Следовательно, она каузальна, т. е. теологична: вера
в прямом смысле слова.
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
86
Карнавал, или Гомология структур «телесное-
идеальное» и «лингвистическое», составляющих
желание
Карнавальная структура подобна следу космогонии, которой
чужды субстанция, причина, идентичность за пределами отношений, которые существуют только и посредством взаимосвязей.
Карнавальная космогония в своей преемственности антитеоло-
гична (что не означает антимистична) и глубоко народна. Она сохраняется в рамках официальной западной культуры как субстрат часто непризнаваемый и гонимый и на протяжении всей ее
истории проявляется очевиднее всего в народных играх, средневековых театре и прозе (анекдоты, фаблио, роман о Ренаре). Карнавал по сути своей диалогичен (здесь дистанции, связи, аналогии, оппозиции не взаимоисключающие). Это спектакль, не знающий рампы; здесь игра — это [спонтанная] активность; здесь
означающее есть означаемое. Иными словами, здесь оба текста
соединяются, конфронтируют и релятивизируются. Участник
карнавала одновременно актер и зритель; он утрачивает осознание себя как личности, чтобы пройти через ноль карнавальной
активности и удвоиться как субъект спектакля и объект игры.
В рамках карнавала субъект исчезает: здесь осуществляется
структура автора как анонима, который создает и создается, как
«я» и как «другой», как человек и как маска. Эту сцену карнавального действа можно сравнить с ницшеанским дионисийством
по цинизму, разрушающему божественное [начало], чтобы установить свои диалогические законы. Карнавал экстериоризует
структуру рефлексивного литературного продуцирования и неизбежно обращается к бессознательному, которое под-лежит
этой структуре: секс, смерть. Между ними организуется диалог,
порождающий карнавальные диады: высокое и низкое, рождение
и агония, пища и экскременты, хвала и хула, смех и слезы.
Повторения, «бессвязные» реплики (которые «логичны» в
этом бесконечном пространстве), не взаимоисключающие оппозиции, которые функционируют как пустые множества или дизъюнктивные суммы, — не говоря уж о специфичных фигурах
карнавального языка, — передают диалогизм с такой очевидностью, как никакой другой дискурс. Оспаривая законы языка,
разворачивающиеся в интервале 0-1, карнавал оспаривает Бога,
авторитет и социальные законы; он мятежен в той мере, в какой
диалогичен: не удивительно, что по причине своего подрывного
дискурса слово «карнавал» приобрело в нашей культуре самое
уничижительное и только карикатурное значение.
Таким образом, сцена для карнавала, где не существует ни
рампы, ни «зала», — это сцена и жизнь, игра и сновидение, дис¬
курс и спектакль; этим предлагается уникальное пространство, в
котором язык отказывается от линеарности (от закона), чтобы
проживаться как драма в трех измерениях; в более глубинном
смысле это означает нечто противоположное — драма выстраивается в языке. Так выражается основной принцип: любой поэтический дискурс представляет собой драматизацию, драматическую перестановку (в математическом смысле) слов. В дискурсе
карнавала обнаруживается, что «есть ментальные ситуации, подобные хитросплетениям драмы» (Малларме). Сцена как ее симптом, может быть, единственное измерение, где «театр становится
чтением книги, ее написанием». Иными словами, эта сцена становится единственным местом, где осуществляется «потенциальная
бесконечность» (в терминах Гилберта) дискурса, где одновременно проявляются запреты (репрезентация, «монологическое») и
их преодоление (сновидение, тело, идеальное, «диалогическое»).
Эту карнавальную традицию вобрала в себя мениппея и реализовал полифонический роман.
На обобщенной сцене карнавала язык пародирует и реляти-
визирует себя, добровольно отказываясь от роли репрезентации
(и это вызывает смех), однако, не освобождаясь от нее полностью. Синтагматическая ось языка экстериоризуется в этом пространстве и в сочетании с систематической осью составляет амбивалентную структуру, которую карнавал передал по наследству роману. Порочная (в смысле амбивалентная), одновременно
репрезентативная и антирепрезентативная, карнавальная структура становится и антихристианской, и антирационалистиче-
ской. Все великие полифонические романы унаследовали эту
структуру карнавала и мениппеи (Рабле, Сервантес, Свифт, Сад,
Бальзак, Лотреамон, Достоевский, Джойс, Кафка). История романа с началами мениппеи — это также история борьбы против
христианства и его репрезентаций, т. е. исследование языка (секса, смерти), признание амбивалентности, «порока».
Следует остерегаться двусмысленности в употребелении слова «карнавальный». В современном обществе оно обычно имеет
коннотацию пародии, но не противоречащей закону; оно имеет
тенденцию скрывать драматический (связанный с преступлением, цинизмом, революцией в смысле диалектической трансформации) аспект карнавала, на котором ставит акцент Бахтин и который обнаруживается в мениппее и у Достоевского. Карнавальный смех является не просто пародийным; он столь же комичен,
как и трагичен; он одновременно и то, и другое, он, если хотите,
серьезен, и это потому, что его сцена — это не закон и не пародия,
но иное по отношению к ним. Письмо модерна предлагает множество очевидных примеров такой генерализованной сцены, которая представляет собой закон и иное и на которой смех умол¬
Юлия Кристева №Шр Семиотика: Исследования по семанализу
88
кает, поскольку это больше не пародия, но преступление и революция (Антонен Арто).
Эпическое и карнавальное — это два течения, которые формируют европейский рассказ, сменяя друг друга от одной эпохи к
другой и от автора к автору. Народная карнавальная традиция
проявилась еще в период поздней античности в авторской литературе, которая до наших дней остается живым источником, реанимирующим литературную мысль, ориентируя ее на новые перспективы.
Античный гуманизм помог разрушению эпического моноло-
гизма, монолитность которого поддерживалась речью и выражалась ораторами, риторами, политиками, с одной стороны, и трагедией и эпопеей — с другой. Перед тем как установился другой
монологизм (с триумфом формальной логики, христианства и гуманизма1 Ренессанса), поздняя античность породила два жанра,
которые обнажили диалогизм языка и, следуя карнавальной линии, стали ферментом европейского романа. Это сократические
диалоги и мениппея.
Сократический диалог, или Диалогизм как
аннигиляция личности
В период античности сократический диалог был широко распространен: здесь особенно отличились Платон, Ксенофонт, Ан-
тисфен, Эсхин, Федон, Эвклид и др. (диалоги Платона и Ксенофонта представляются нам самыми удачными). Этот жанр в меньшей степени риторический, чем популярный и карнавальный.
Вначале он был своего рода мемуарным (воспоминания о беседах
Сократа с его учениками), но постепенно освобождался от исторических уз и сохранился в сократической манере диалогического обнаружения истины, а также в структуре диалога, зафиксированной, организованной рассказом. Ницше приблизился к
Платону в своем признании дионисийской трагедии, но сократический диалог подразумевает диалогическую структуру, оспаривающую карнавальную сцену. Согласно Бахтину, сократические
диалоги характеризуются оппозицией по отношению к официальному монологизму, претендующему на обладание истиной в
конечной инстанции. Сократическая истина («смысл») представ¬
1 Нам хотелось бы подчеркнуть двусмысленную роль западного индивидуализма. С одной стороны, подразумевая концепт идентичности, восходя к субстанциона-
листской позиции, каузальной и атомистической, характерной для аристотелевской
Греции и консолидированной благодаря наукам, этот аспект западной культуры несет
в себе активизм, сциентизм или теологизм. С другой стороны, будучи основанным на
принципе разделения «я» и «мир», он подталкивает к изучению медиации между обоими терминами или стратификации внутри каждого из них в той мере, в какой корреляционная логика может сблизиться с аналогичным материалом формальной логики.
ляет собой результат диалогических отношений между собеседниками; она носит корреляционный характер, и ее релятивизм
проявляется в автономии точек зрения наблюдателей. Это искусство артикуляции фантазма, корреляции знаков. На этом лингвистическом уровне выделяются два типичных состояния: синк-
резис (конфронтация различных дискурсов одного и того же
субъекта) и анакруза (когда одно слово вызывается другим).
Субъекты дискурса — не личности, это анонимы, скрытые за конституирующими их дискурсами. Бахтин напоминает, что «событие» сократического диалога — это дискурсивное событие: благодаря постановке вопроса и испытанию дефиниции речью. Речь
органично связана с порождающим ее человеком (Сократ и его
ученики), или, точнее, речью являются человек и его активность.
Мы можем здесь говорить о речи-практике синкретического характера: во времена сократического диалога еще не был завершен
процесс разделения между словом как актом, аподиктической
практикой, артикуляцией различия, с одной стороны, и образом
как репрезентацией, знанием, идеей. Важная «деталь»: субъект
дискурса находится в исключительной ситуации, провоцирующей диалог. У Платона (Апология) именно процесс и ожидание
высказывания детерминируют речь Сократа как признание человека «небесам». Исключительность ситуации освобождает слово
от одноголосой объективности, от репрезентативной функции и
открывает ему сферы символического. Речь сталкивается с уничтожением, соизмеряясь с другим дискурсом, и такой диалог выводит личность за пределы круга.
Сходство сократического диалога со словесностью романа
амбивалентно и очевидно.
Сократический диалог существовал недолго; он породил множество диалогических жанров, включая мениппею, корни которой можно также найти в карнавальном фольклоре.
Мениппея: текст как социальная активность
1. Мениппея получила свое имя от философа III в. до н. э. Ме-
ниппа де Гадара (его сатиры утрачены, мы знаем об их существовании из свидетельств Диогена Лаэрция). Термин стал употребляться римлянами, чтобы обозначить жанр, сформировавшийся в
I в. до н. э. (Варрон: Saturae menippeae). Жанр, однако, появился
значительно раньше: его первым представителем можно считать
Антисфена, ученика Сократа и одного из авторов сократических
диалогов. Гераклит также писал мениппеи (согласно Цицерону,
он создал аналогичный жанр, названный logistoricus). Варрон
придал ему определенную устойчивость. Примерами этого могут
быть Apocolocynthosis Сенеки, Satiricon Петрония, сатиры Луки¬
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
90
ана, Metamorphoses Овидия, Roman Гиппократа, различные образцы греческого «романа», античного утопического романа,
римская сатира (Гораций). В орбиту мениппейской сатиры попадают диатриб, монолог, ареталогические жанры и т. п. Она оказала большое влияние на христианскую и византийскую литературу; в различных формах она сохранялась в Средние века, в эпоху
Ренессанса и Реформации вплоть до наших дней (романы Джойса, Кафки, Батая). Этот карнавальный жанр, пластичный и изменчивый, как Протей, способный проникать в другие жанры, оказал
огромное влияние на развитие европейской литературы, особенно на формирование романа.
Мениппея одновременно комична и трагична, скорее всего,
она серьезна в том же смысле, что и карнавал, и в соответствии со
статусом ее слов она политически и социально неудобна. Она
освобождает речь от исторических ограничений, и это влечет за
собой абсолютную смелость философских находок и воображения. Бахтин подчеркивает, что в мениппее «исключительные» ситуации увеличивают свободу языка. Фантасмагория и символизм
(часто мистический) сплавляются здесь с мрачным натурализмом. Приключения разворачиваются в лупонариях, среди воров,
в тавернах, на ярмарках, в тюрьмах, в эротических оргиях, в сакральных культах и т. п. Слово не боится очернить себя. Оно освобождается от «ценностных» предпосылок; не различая порока и
добродетели и не отличаясь от них обоих, оно принимает их как
свое собственное пространство, как одно из своих созданий. Чтобы обсуждать «конечные» проблемы существования, следует отстраниться от академических проблем: мениппея ориентирует
освободившийся язык на философский универсализм. Не различая онтологию и космогонию, мениппея объединяет их в практическую философию жизни. Появляются фантастические элементы, неизвестные в эпопее и трагедии (например, необычная точка
зрения, сверху, которая меняет шкалу наблюдения, используется
в Icaromenippe Лукиана, Endymion Варрона; мы находим эту процедуру у Рабле, Свифта, Вольтера и т. п.). Паталогические душевные состояния (безумие, раздвоение личности, сновидения, мечты, смерть) становятся материей рассказа (это чувствуется в произведениях Кальдерона и Шекспира). Согласно Бахтину, эти
элементы имеют скорее структурное, нежели тематическое значение; они разрушают эпическое и трагическое единство человека, равно как и его веру в идентичность и причины, сигнализируя
о том, что он утратил свою тотальность, что он более не совпадает с самим собой. В то же время они нередко предстают как изучение языка и письма: в Bimarcus Варрона два Маркуса дискутируют о том, надо или не надо писать тропами. Мениппея тяготеет
к скандальному и эксцентричному в языке. Для нее характерно
слово, сказанное «некстати» из-за его вольного цинизма, профанации сакрального, нарушения этикета. Мениппея состоит из
контрастов: добродетельная гетера, великодушный разбойник,
мудрец — одновременно свободный и раб и т. п. Она использует
внезапные ходы и изменения, высокое и низкое, взлеты и падения, мезальянсы всех видов. Язык кажется зачарованным «дублированием» (своей собственной возможностью удвоить «внешнее» графическим следом) и логикой оппозиций, которая заменила логику тождества в определении терминов. Как всеобъемлющий
жанр, мениппея строится как мозаика из цитат. Она принимает
все жанры: новеллы, письма, беседы, смесь стихов и прозы, чье
структурное значение состоит в установлении дистанции пишущего по отношению к своему и этим текстам. Полистилистика и
политональность мениппеи, диалогический статус ее слова объясняют невозможность для классицизма и авторитарного общества вообще запретить его в романе — наследнике мениппеи.
Выстраиваясь как исследование тела, сновидения и языка,
письмо, характерное для мениппеи, тесно связано с реальностью: это своего рода политический журнализм эпохи. Ее дискурс экстериоризует текущие политические и идеологические
конфликты. Диалогизм ее слов составляет практическую философию, ведущую борьбу с идеализмом и религиозной метафизикой (с эпическим): он конституирует социальную и политическую
мысль эпохи, дискутирующую с теологией (законом).
2. Таким образом, мениппея структурируется как амбивалентность, как ядро двух тенденций в западной литературе: репрезентация с помощью языка как сценическая постановка и исследование языка как коррелятивной системы знаков. Язык в
мениппее становится одновременно репрезентацией внешнего
пространства и «опытом продуцирования собственного пространства». В этом двусмысленном жанре обнаруживаются предпосылки реализма (вторичная активность по отношению к пережитому, где человек описывает себя, преподнося в спектакле,
чтобы завершить созданием «персонажей» и «характеров»), а
также отказ от определения психического универсума (активности в настоящем, которая характеризуется образами, жестами
и словами-жестами, благодаря которым человек видит свои пределы в области безличного). Этот второй аспект мениппеи обнаруживает ее структуру, подобную структуре сновидения или
иероглифического письма, либо, если хотите, театра жестокости,
который представлял себе Арто. В этом смысле мениппея «сравнима не с индивидуальной жизнью, не с тем индивидуальным аспектом жизни, где торжествуют характеры, но со своего рода
свободной жизнью, которая изгоняет человеческую индивидуальность и где человек — не более чем отражение». Соответ¬
Юлия Кристева щш Семиотика: Исследования по семанализу
92
ственно мениппея не имеет катартического эффекта; это праздник жестокости, а также политический акт; она не передает никакого определенного послания, кроме самой себя, «вечной радости
становления» и исчерпывается в акте и времени настоящего. Появившись после Сократа, Платона и софистов, она — современница эпохи, когда мышление перестало быть практикой (отношение к ней как к techne свидетельствует о том, что разделение
praxis/poiesis уже свершилось). В аналогичном развитии литература, становясь «мыслью», осознала себя как знак. При отчуждении человека от природы и общества произошло его отчуждение
от самого себя, и он обнаружил свое «внутреннее» и «реифици-
ровал» это открытие в амбивалентности мениппеи. Это были знаки, предшествующие реалистической репрезентации. Однако ме-
ниппее не был свойствен монологизм теологического типа (или
человеко-Бога эпохи Ренессанса), который мог бы консолидировать ее репрезентирующий аспект. Она подчинялась «тирании»
текста (но не речи как отражению универсума, который существовал до нее), или, скорее, собственной структуре, которая выстраивается и понимается относительно самой себя. Таким образом, мениппея выстраивается как иероглиф, будучи также спектаклем:, и именно эту амбивалентность унаследовал роман,
прежде всего, полифонический, которому неизвестны ни закон,
ни иерархия, поскольку это множественность лингвистических
элементов с диалогическими отношениями. Впрочем, принцип
объединения различных частей мениппеи — это подобие (сходство, зависимость, откуда следует «реализм»), но также и смежность (аналогия, противопоставление, откуда следует «риторика» не в смысле орнаментальности, как ее трактует Кроче, но как
оправдание в языке и с его помощью). Амбивалентность мениппеи проистекает из коммуникации между двумя пространствами1 — сцены и иероглифа, репрезентации посредством языка и
опытом внутри языка, системы и синтагмы, метафоры и метонимии. Именно эту амбивалентность унаследовал роман.
Иными словами, диалогизм мениппеи (и карнавала), который
скорее передает логику отношений и аналогий, чем субстанции и
вывода, противостоит аристотелевой логике, а по отношению к
внутреннему строению формальной логики, гранича с ней, про¬
1 Возможно, Бахтин имел в виду этот феномен, когда писал: «Язык романа
нельзя разместить на поверхности или выстроить в линию. Он представляет собой
систему пересекающихся поверхностей. Автор как создатель всего романа не может
размещаться ни на одной из лингвистических поверхностей: он размещается в регулирующем центре, который представляет пересечение поверхностей. И все поверхности
находятся на разных расстояниях от этого центра автора» («Слово в романе», Вопросы литературы, 8/1965). Фактически автор не что иное, как сцепление центров. Приписывать ему один центр — значит ограничивать его монологической, теологической
позицией.
тиворечит ей и ориентирует ее на другие формы мышления. Действительно, эпохи, когда развивалась мениппея, характеризовались оппозицией по отношению к аристотелизму, и авторы полифонических романов, кажется, не одобряли также структуры
официальных идей, основанных на формальной логике.
Субверсивный роман
1. Мениппея в Средние века подавляласть авторитетом религиозных текстов, а в буржуазную эру — абсолютизмом индивидуализма и вещей. Только с наступлением Нового времени, там,
где эпоха была свободна от Бога, в романе возродилась сила мениппеи.
Если общество Нового времени (буржуазное) не приняло
полностью, но сделало вид, что признало себя в романе1, то речь
идет скорее о категории монологических, т. е. реалистических
повествований, которые ограничивали карнавал и мениппею, а
также их структурирование, сложившиеся, начиная с Ренессанса.
Напротив, диалогический роман в духе мениппеи, с его тенденцией отказываться от репрезентации и эпики, едва терпели, т. е.
провозглашали нечитабельным, игнорировали и порицали: в этот
период его относили к своего рода карнавальному дискурсу, который средневековые студенты практиковали за стенами церкви.
Роман Нового времени, особенно полифонический, вобравший в себя мениппею, воплотил усилие европейской мысли выйти
за рамки самотождественных причинно детерминированных субстанций, чтобы ориентироваться на другой способ мышления:
осуществляющийся в форме диалога (логика дистанции, связи,
аналогии, невзаимоисключающих оппозиций, трансфинитности).
Не удивительно поэтому, что роман рассматривался как жанр
низкий (в эпоху классицизма и в сходных с ней режимах) или субверсивный (я говорю здесь о великих авторах полифонического
романа всех эпох — Рабле, Свифт, Сад, Лотреамон, Джойс, Кафка, Батай — упоминая только тех, кто сегодня оказался и продолжает быть на полях официальной культуры). Обращаясь к слову
и нарративной структуре романа XX в. можно продемонстрировать, как европейская мысль переступила через свои конституирующие характеристики: тождество, субстанция, причинность,
1 Эта идея поддерживается всеми теоретиками романа: A. Thibaudet, Réflexions
sur le roman, 1938; Koskimies, “Theorie der Romans”, Annales Academiae Scientiarum
Finnicae, I ser. B, t. XXXV, 1935; G. Lukacs, la Théorie du roman (Ed. fr., 1963) и др.
К представлению о романе как диалоге приближается интересное исследование
Wayne С. Booth, The Rhetoric of fiction, University of Chicago Press, 1961. Его идеи относительно reliable и unreliable писателя близки к бахтинским исследованиям диалогизма в романе, однако без установления связи между «иллюзионизмом» романа и
лингвистическим символизмом.
Юлия Кристева мШр Семиотика: Исследования по семанализу
94
определенность — и сменила их другими: аналогия, отношение,
оппозиция, связанные с диалогизмом и амбивалентностью, характерными для мениппеи1.
Поскольку весь этот исторический инвентарь, который показал Бахтин, вызывает образ музея или работу архивариуса, он
больше не укоренен в нашем актуальном времени. Все, что пишется сегодня, обнаруживает возможность или невозможность читать и переписывать историю. Эта возможность очевидна в литературе, которая через произведения нового поколения проявляется там, где текст выстраивается как театр и как чтение. Как
сказал об этом Малларме, который был первым, кто понял книгу
как мениппею (еще раз подчеркнем, что этот термин Бахтин использовал, чтобы разместить в истории определенный способ
письма), литература «это всегда лишь отблеск того, что предшествует или имеется до ее порождения».
2. Теперь мы построим две модели организации нарративной
сигнификации, исходя из двух диалогических категорий: 1. Субъект (S) Адресат (D). 2. Субъект высказывающий субъект высказывания.
Первая модель предполагает диалогическое отношение. Вторая — модальные отношения в ходе реализации диалога. Модель 1 детерминирует жанр (эпическая поэма, роман), модель 2 —
варианты жанра.
В структуре полифонического романа первая диалогическая
модель (S *-> D) полностью работает в письменном дискурсе и
предстает в постоянном споре с ним. Собеседник писателя и сам
является писателем в качестве читателя другого текста. Тот, кто
пишет, является тем же, кто читает. Его собеседник — это текст,
он уже не он, но текст, который себя перечитывает и переписывает. Диалогическая структура появляется в свете текста, выстраивающегося по отношению к другому тексту как амбивалентность.
Напротив, в эпике D — это абсолютно экстратекстуальная
единица (Бог, сообщество), которая релятивизирует диалог
вплоть до его элиминирования и редуцирования до монолога. Соответственно понятно, почему роман XIX в., называемый классическим, и любой роман с идеологической ориентацией тяготеет к
эпичности и отклоняется от структуры собственно романа (мож¬
1 Логику такого рода можно обнаружить в современной физике и в древней китайской мысли: оба направления познания равно антиаристотелевские, антимоноло-
гичные, диалогичные. На эту тему см.: Hayakawa S.I. “What is meant by Aristotelian
structure of language” in Language, Meaning, and Maturity, New York, 1959; Chang Tung-
sun “A Chinese Philosopher’s theory of knowledge” in Our Language our World, New York,
1959, и в журнале Tel Quel 38 под названием la Logique chinoise; J. Needham, Science and
Civilisation in China, vol. II, Cambridge, 1965.
95
но сравнить эпический монологизм Толстого и характерный для
романа диалогизм Достоевского).
В рамках второй модели можно наблюдать множество возможностей:
a. Совпадение субъекта высказывания (Se) с нулевым значением
субъекта, совершающего высказывание (Sa), который может
обозначаться как «он» (безличное местоимение) или как имя
собственное. Это самая простая нарративная техника, которая обнаруживается при зарождении повествования.
b. Совпадение субъекта высказывания (Se) и субъекта, совершающего высказывание (Sa). Это рассказ от первого лица: «Я».
c. Совпадение субъекта высказывания (Se) с адресатом (D). Это
рассказ от второго лица: «Ты». Таково, например, объектное
слово Раскольникова в «Преступлении и наказании». Тщательное изучение этой техники осуществил Мишель Бютор в
работе la Modification.
d. Совпадение субъекта высказывания (Se) одновременно с субъектом, совершающим высказывание (Sa) и с адресатом (D). Роман тогда становится проблематичным с точки зрения письма
и обнаруживает мизансцену диалогической структуры книги.
В то же время текст становится прочтением (цитирование и
комментирование) внешнего корпуса литературы, выстраиваясь, таким образом, как амбивалентность. Примером может
служить Drame Филиппа Солле, использовавшего личные местоимения и анонимные цитаты, приводимые в романе.
Анализ работ Бахтина приводит к построению следующей парадигмы:
Практика
Бог
«Дискурс »
«История »
Диалогизм
Монологизм
Корреляционная логика
Аристотелева логика
Синтагма
Система
Карнавал
Повествование
. ...
-JT
Амбивалентность
Мениппея
Полифонический роман
Мы хотели бы, наконец, подчеркнуть важность концептов
Бахтина: статус слова, диалог и амбивалентность, — а также
очертить некоторые перспективы, которые открывает их применение.
Слово, диалог и роман
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
96
Определяя статус слова как минимальной единицы текста,
Бахтин уловил структуру на уровне, более глубинном, чем фраза
и риторические фигуры. Понятие статуса добавило к образу
текста как корпуса атомов образуемые им связи, благодаря которым слова функционируют как кванты. Таким образом, модель
поэтического языка связывается теперь с проблематикой не линии или поверхности, но пространства и бесконечности, которые можно формализовать с помощью теории множеств и новых
направлений математики. Современный анализ нарративной
структуры настолько утончен, что превосходит представления о
функциях (кардинальных или осуществляющих катализ), индексах (как таковых или информационных) или видение повествования как выстроенного согласно логической или риторической
схеме. Признавая неоспоримую ценность подобных исследований1, можно задаться вопросом, не слишком ли перегружены эти
исследования a priori представлениями о иерархизирующем или
гетерогенном мета-языке повествования и не является ли наивный взгляд Бахтина, центрированный на слове и на безграничных
возможностях диалога (комментирование цитаций), одновременно более простым и более проясняющим.
Диалогизм, которым мы обязаны Гегелю, не следует, однако,
путать с его диалектикой, предполагающей триаду, где борьба и
проекция (переход) не выходят за пределы аристотелевой традиции, основанной на субстанции и причине. Диалогизм замещает
эти концепты, вбирая их в понятие отношения, и не предполагает
перехода, но вместо гармонии предполагает идею разрыва (оппозиции, аналогии) в качестве способа трансформации.
Диалогизм помещает философские проблемы внутрь языка,
понимаемого как корреляция текстов, как письмо-чтение, идущие в паре с не-аристотелевой, синтагматической, корреляционной, «карнавальной» логикой. Следовательно, одной из фундаментальных проблем, к которым сегодня приблизилась семиотика, становится эта «другая логика», которая ждет описания без
их искажения.
Термин «амбивалентность» полностью соответствует переходной стадии европейской литературы, которая представляет
собой сосуществование (амбивалентность) «дублирования реальности» (реализм, эпика) и самой «реальности» (лингвистическое исследование, мениппея) перед тем, возможно, как завершиться в мышлении, подобном тому, что характерно для живописи: передать сущность в форме, в конфигурации пространства
1 Этой важной теме посвящены исследования структуры повествования, опубликованные в Communications, 8/1966 (Roland Barthes, A.J. Greimas, Claude Brémond,
Umberto Eco, Jules Gritti, Violette Morin, Cristian Metz, Tzvetan Todorov, Gérard Ge-
nette).
97
(литературного), проявить мысль (литературную) без претензий
на «реализм». Он отсылает к изучению — через язык — пространства романа и его трансмутаций, устанавливая, таким образом, отношения между языком и пространством и побуждая к
тому, чтобы анализировать их как способы мышления. Изучая
амбивалентность спектакля (реалистическая репрезентация) и
самой реальности (риторика), можно проследить место, где между ними происходит разрыв (или соединение). Это будет график
движения, на котором видно, как наша культура вырывается из
самой себя, чтобы себя превзойти.
Траектория, которая выстраивается между двумя полюсами,
задаваемыми диалогом, радикальным образом упраздняет в нашем философском поле проблемы причинности, финальности
и т. п. и стимулирует интерес к диалогическому принципу в пространстве мысли, значительно более обширном, чем характерное
для романа. Диалогизм в большей степени, чем бинарность, становится, возможно, базой для интеллектуальной структуры нашей эпохи. Доминирование романа и амбивалентных литературных структур, привлекательность для молодежи сообществ (карнавального типа), квантовые обмены, интерес к корреляционному
символизму китайской философии — вот лишь некоторые из элементов, которыми отмечена мысль модерна и которые подтверждают эту гипотезу.
1966
Слово, диалог и роман
о семиологии параграмм
Простое выражение либо возможно как
алгебраическое либо невозможно...
Это приводит к теоремам, которые следует доказывать (1911).
Ferdinand de Saussure
Некоторые исходные принципы
I. 1. В рамках литературной семиотики уже заметна тенденция преодолеть то, что считается недостатками, присущими
структурализму: «статичность»1 и «внеисторичность»2 — и обратиться к решению оправдывающей ее задачи: отыскать формализм, изоморфный литературному продуцированию как таковому. Этот формализм возможен на основе двух методологий:
1. Математика и метаматиматика — искусственные языки, которые, благодаря независимости их условных обозначений, все более и более освобождаются от ограничений логики, выработанной в отношении индоевропейской фразы — субъект-предикат — и, следовательно, могут быть адаптированы к описанию
поэтического функционирования3 языка. 2. Генеративная лингвистика (грамматика и семантика) в той мере, в какой она обращается к языку как динамической системе отношений. Мы не
принимаем ее философские основания, связанные с научным империализмом, которые допускают, что генеративная грамматика
предлагает правила конструирования новых лингвистических вариаций, включая поэтические.
I. 2. Применение этих методов в рамках семиотики поэтического языка предполагает прежде всего пересмотр общей концепции литературного текста. Мы исходим из следующих принципов,
предложенных Фердинаном де Соссюром в его «Анаграммах»4:
а. Поэтический язык «задает второй способ бытия, фактичность, которые добавляются, так сказать, к оригиналу слова ».
1 R. Barthes, “Introduction à l’analyse structural du récit” in Communications, 8,
1966: его динамическая модель структуры.
2 A.J. Greimas “Éléments pour une théorie de l’interprétation du récit mythique”,
ibid.: его тезис об интеграции естественной культуры в мифе.
3 «Эта функция открывает наблюдаемую сторону знаков и тем самым углубляет
фундаментальную дихотомию знаков и объектов». R. Jakobson, Essais de linguistique
générale. Ed. de Minuit, p. 218.
4 Работа частично опубликована J. Starobinski в Mercure de France, février 1964.
См. также Tel Quel 37.
b. Между ними существует согласованность элементов — парная и по ритму.
c. Бинарные поэтические законы позволяют превзойти законы
грамматики.
d. Элементы слова-темы (визуальное восприятие письма) «распространяются на весь текст или концентрируются в малом
пространстве одного или двух слов».
Эта «параграмматическая» (слово «параграмма» использовал Соссюр) концепция поэтического языка предполагает три основных тезиса:
A. Поэтический язык — это едиственная бесконечность кода.
B. Литературный текст двойственен: письмо-чтение.
C. Литературный текст представляет уровень связей.
I. 3. Эти положения не следует считать гипостазисом поэзии.
Напротив, позже они нам послужат для размещения поэтического дискурса внутри совокупности означивающих жестов продуцирующего их коллектива. При этом следует подчеркнуть:
a. Общая полная аналогия распространяется на все такие жесты. Социальная история, рассматриваемая как пространство, а не телеология, также структурируется на всех уровнях
(включая поэзию, экстериоризирующую, как и все остальное,
генеральную функцию совокупности) как параграмма (природа-общество, закон-революция, индивид-группа, классы-
классовая борьба, линейная история-история табулярная,
представляющие собой оппозиционные невзаимоисключающие диалогические пары и постоянно возобновляющиеся
«трансгрессии»).
b. Три особенности поэтического языка, которые мы заявили,
снимают изоляцию поэтического дискурса (рассматриваемого в нашем иерархизированном обществе как «орнаментальный», «избыточный» или «аномальный») и придают ему статус социальной практики, которая в качестве параграммати-
ческой проявляется на уровнях артикуляции текста, а также
эксплицитного сообщения.
c. Параграмматизм легче всего описывается на уровне поэтического дискурса, и семиотика улавливает его прежде всего
здесь, до представленности в рефлексивной деятельности.
Поэтический язык как бесконечность
IL 1. Описание функционирования поэтического языка (здесь
этот термин означает функционирование, которое может осуществляться в языке как «поэзии», так и прозы) сегодня составляет интегральную — и, возможно, наиболее смущающую —
часть лингвистики при ее попытках объяснить механизм речи.
Юлия Кристева ШЩр Семиотика: Исследования по семанализу
юо
Интерес к такому описанию связан с двумя фактами, которые, наверное, входят в круг наиболее значимых характеристик
современных «гуманитарных наук»:
a. Релевантный наиболее чувствительной формализации (в математическом смысле), поэтический язык представляет собой
единственную практику лингвистической целостности как
комплементарной структуры.
b. Констатация границ научного подхода, который сопровождает науку на протяжении всей ее истории, прежде всего относится к невозможности научной логики формализовать
функции поэтического дискурса без их искажения. Обнаруживается расхождение: несопоставимость научной логики,
разработанной обществом для объяснения (оправдания своих
как самоуспокоенности, так и неполадок), с одной стороны, и
логикой маргинального, деструктивного дискурса, более или
менее исключенного из социального использования — с другой. Совершенно очевидно, что поэтический язык как комплементарная система подчиняется логике, отличной от свойственной научному подходу, и для своего описания требует
аппарата, который учитывал бы характеристики такой поэтической логики.
Дискурс, называемый повседневным, и еще более его рационализация в рамках лингвистической науки скрывают эту логику
дополнительности не для того, чтобы разрушить ее, но чтобы редуцировать к логическим категориям, ограниченным социально
(иерархизированное общество) и пространственно (Европа). (Мы
не касаемся здесь экономических, политических, лингвистических причин такого сглаживания.)
И. 2. Предубеждения, вытекающие из этого, влияют на исследования, посвященные специфике поэтических посланий. В рамках стилистики, которая пробилась, по словам В. Виноградова1,
как сорная трава между лингвистикой и историей литературы,
преобладает тенденция изучать «тропы» или «стили» как отклонения от нормального языка.
Все исследователи отмечают специфичность поэтического
языка как «особенность» обыденного кода (Бэлли, А. Марти,
Л. Шпитцер, Неаиль и др.). Определения, которые они ему дают
или выводят из областей литературы или лингвистики, принимающих предпосылки философской или метафизической системы,
не подходят для решения проблем, обусловленных самими лингвистическими структурами (Фосслер, Шпитцер, с одной стороны,
и Кроче или Гумбольдт — с другой), или же безмерно расширяют
поле лингвистических исследований и трансформируют пробле¬
1 В. Виноградов. К построению теории поэтического языка. Поэтика, 1917.
мы поэтического языка в проблематику изучения лингвистического феномена в целом (Фосслер). Русские формалисты, которые осуществляли наиболее интересные исследования поэтического кода, рассматривались как «нарушители» правил языка,
находящегося в обращении1. Ряд недавних, весьма интересных
исследований, тем не менее, обратились к этой концепции. Понимание поэтического языка как отклонения от нормального («новизна», «расторможенность», «преодоление автоматизма») сменило натуралистическую концепцию литературы как отражения
(выражения) реальности, и такое понимание начинает застывать
как штамп, который мешает изучать собственно поэтическую
морфологию.
II. 3. Лингвистическая наука, которая учитывает поэтический
язык и данные стохастического анализа, приходит к идее конвертируемости лингвистического кода и оспаривает концепты девиации и иррегулярности применительно к поэтическому языку2.
Однако концепция лингвистической системы как иерархии (вне
зависимости от лингвистических или социальных соображений
по этому поводу) мешает увидеть в поэтическом языке (например, в метафорическом построении) нечто иное, чем «под-код общего кода ».
Эмпирические результаты упомянутых выше работ ценны
лишь своей концепцией неиерархичности лингвистического кода.
Речь не идет о том, чтобы просто сменить позицию на противоположную и постулировать в духе Фосслера, что находящийся в обращении язык есть частный случай более широкого формализма,
который представляет поэтический язык. Мы считаем поэтический язык не кодом, охватывающим другие, но классом А с той
же мощностью, что и ф (хь..хп) бесконечного лингвистического
кода (см. теорему существования, р. 189), а все «другие языки»
(«обыденный язык», «мета-языки» и т. п.) представляют собой
коэффициенты А в более ограниченных диапазонах (например, в
пределах правил построения отношения субъект-предикат согласно основаниям формальной логики) и благодаря этому ограничению скрывают морфологию функции ф (xi...xn).
И. 4. Поэтический язык (который мы в дальнейшем будем
обозначать 1р) содержит код линейной логики. Кроме того, мы
можем найти в его рамках все комбинаторные фигуры, которые
алгебра формализует в систему искусственных знаков и которые
не экстериоризируются на уровне проявлений обыденного языка. Функционирование способов соединения в поэтическом язы¬
1 В. Жирмунский. Введение в метрику, теория стиха. Ленинград, 1925; Б. Тома-
шевский. Ритм прозы. О стихе. Ленинград, 1929, и др.
2 R. Jakobson, Structure of language in its mathematical aspects, in Proceedings of
Symposia in Applied mathematics, vol. XII, 1961, p. 245-252.
Юлия Кристева бШр Семиотика: Исследования по семанализу
102
ке позволяет наблюдать динамический процесс, благодаря которому знаки нагружаются значениями или меняют их. Именно в 1р
на практике реализуется «тотальность» (мы предпочитаем этому
термину «бесконечность») кода, которым располагает субъект.
С этой точки зрения литературная практика проявляется как
изучение и выявление возможностей языка; как активность,
освобождающая субъекта от некоторых лингвистических уровней (психических, социальных); как динамизм, который нарушает инерцию языковых привычек и предлагает лингвисту уникальную возможность изучать становление обозначений знаков.
Lp представляет собой неразделимую диаду закона (характерного для обыденного дискурса) и его деструкции (специфика
поэтического текста), и это нераздельное сосуществование «+» и
«-» составляет конститутивную дополнительность поэтического языка, которая появляется на всех уровнях артикуляции
не-монологических (параграмматических) текстов.
Следовательно, 1р не может быть субкодом. Это бесконечный упорядоченный код, комплементарная система кодов, из
которых можно выделить (посредством оперативного абстрагирования и доказательства теоремы) обыденный язык. Научный
мета-язык и все искусственные системы знаков представляют
собой под-совокупности этой бесконечности, экстериоризиру-
ющие правила собственной упорядоченности на ограниченном
пространстве (их мощность меньше по сравнению с 1р, который
их перекрывает).
II. 5. Такое понимание 1р предполагает, что концепт закона
языка заменяется на лингвистический порядок таким образом,
что язык может рассматриваться не как механизм, управляемый
некоторыми принципами (изначально установленными согласно
определенным ограничениям в употребелении кода), но как организм, дополнительные части которого взаимозависимы и последовательно одерживают верх при разных обстоятельствах использования, не лишаясь при этом частностей, обусловленных их
принадлежностью к общему коду. Такое диалектическое понимание языка побуждает нас обратиться к психологической системе, и мы особенно признательны профессору Джозефу Нидэму,
предложившему применять к системе языка выражение «иерархически флуктуирующая»1. Напомним также, что трансформационный метод уже внес динамику в специфичное изучение грамматической структуры — теории Н. Хомского, относящиеся к
правилам грамматики, вписались в эту концепцию шире, чем намеченный нами 1р.
1 Профессор Дж. Нидэм (Кембридж) заимствовал этот термин из сравнительной физиологии, где он используется применительно к эндокринной системе млекопитающих.
II. 6. Напротив, книга, расположенная в бесконечности поэтического языка, конечна: она не является открытой [системой],
она закрыта, создана раз и навсегда для всех, становится началом, единицей, законом, но может читаться как таковая только
при возможной открытости в бесконечность. Такое прочтение
закрытости, открытой в бесконечность, полностью достижимо
только написавшему, т. е. с точки зрения отражающего продуцирования, составляющего письмо1. «Он поет лишь для самого себя,
но не для себе подобных», — писал Лотреамон2.
Для пишущего поэтический язык предстает как потенциальная бесконечность (словосочетание здесь используется в смысле
базового термина, принятого в концепции Гилберта): бесконечное множество (поэтического языка) рассматривается как множество возможностей, которые могут быть реализованы; из них
может быть реализована каждая в отдельности, но не все вместе.
Со своей стороны семиотика могла бы ввести в свои рассуждения понятие поэтического языка как реальной бесконечности,
недоступной для репрезентации, что позволяет применить к нему
процедуры теории множеств, которую при всех сомнениях можно использовать в определенных пределах. В свете финитности
Гилберта аксиоматизация связей в поэтическом языке порождает затруднения, связанные с теорией множеств, но в то же время
интегрирует применительно к тексту понятие бесконечности, без
которого становится невозможным удовлетворительным способом рассматривать проблемы точного знания.
Цель «поэтического» исследования сразу смещается: задача
семиотика теперь заключается в том, чтобы попытаться прочитать
конечное в соотнесении с бесконечным, выявляя означивание, которое становится результатом способов соединения в системе,
упорядоченной по принципу 1р. Описать функционирование означивания в поэтическом языке — значит описать механизмы соединений в потенциальной бесконечности.
Текст как письмо-чтение
III. 1. Литературный текст размещается во множестве текстов: он представляет собой письмо-реплику (функцию или нега-
цию) другого (других) текста (текстов). Своей манерой писать,
прочитывая предшествующий или современный ему корпус литературы, автор живет в истории, и в тексте отображается общество. Параграмматическая наука должна, следовательно, прини¬
1 Проникновенный анализ представлений Лотреамона о книге как письме-чтении проделан Marselin Pleynet, Lautréamont par lui-même (Ed. du Seuil, 1967).
2 Цитаты из Лотреамона взяты из текста, составленного Maurice Saillet, Œuvres
complètes, Ed. Livre de poche, 1966, p. 224.
Юлия Кристева вЩр Семиотика: Исследования по семанализу
104
мать во внимание амбивалентность: поэтический язык представляет собой диалог двух дискурсов. Чужой текст появляется на
уровне письма: они абсорбируются, следуя специфичным законам, которые еще следует открыть. Таким образом, в параграмме
текста функционирует все пространство текстов, прочитанных
автором. В отчужденном обществе писатель, исходя из своего отчуждения, участвует своим параграмматическим письмом.
Глагол «читать» с древних времен означал право быть призванным и ценность понимания литературной практики. «Читать» означало также «собирать», «получать», «приглядываться», «узнавать следы», «брать», «устремляться». Следовательно,
«читать» подразумевало агрессивное участие, активное присвоение другого. «Писать» можно тогда определить как «читать»,
ставшее продуцированием, индустрией: письмо-чтение, пара-
грамматическое письмо можно считать устремлением к агрессивности и полным участием. («Плагиат необходим» — Лотреамон).
Малларме уже знал, что писать — это значит «присваивать
себе в силу догадки — капля чернил родственна величественной
ночи, — некий долг воссоздавать все, с реминисценциями, чтобы
уведомить о том, как правильно или как должно быть... » «Писать »
для него — это «предупреждение миру, что он приравнивает свою
навязчивую идею к богатым зашифрованым постулатам, как если
бы это был его закон, на бледной бумаге с такой смелостью ...»
Реминисценция, сложение шифров, чтобы «уведомить о том,
как правильно или как должно быть». Поэтический язык проявляется как диалог текстов: каждый эпизод появляется в соотнесении
с другим, проистекая из другого корпуса таким образом, что каждый имеет двойную ориентацию: на акт реминисценции (обращение к письму других) и на акт суммирования (трансформация этого письма). Книга отсылает к другим книгам и с помощью суммирования (в математических терминах отображения) придает им
новый способ бытия, вырабатывая таким образом свое собственное значение1. Таковы, например, les Chants de Maldoror, a также
Poésies Лотреамона, который предложил манифест поливалентности, уникальный для литературы Нового времени. Это тексты-диалоги, т. е.: (1) они обращаются к другим текстам столь же соединением синтагм, как и характером семических и фонетических грамм;
(2) их логика соответствует не системе, подчиняющейся закону
(Богу, буржуазной морали, цензуре), но раздробленному, топологическому пространству, которое существует благодаря оппозиционным диадам, для которых 1 имплицитно подразумевается,
1 Все принципы, изложенные здесь и далее, относящиеся к письму как «лекту-
рологии», как «удвоению» и «социальной практике», впервые заявлены как теория
письма Philippe Sollers, “Dante et la traversée de l’écriture” и “Littérature et totalité” (in
Logiques, 1968).
105
хотя и превосходится. Они прочитывают психологический и
романтический код, пародируя и редуцируя его. Другая книга постоянно присутствует в этой и, исходя из нее, над ней и вопреки ей
построены les Chants de Maldoror и Poésies.
Если собеседник — это текст, то и субъект также оказывается текстом: личная-безличная поэзия, результатом которой
оказываются изгнанные одновременно субъект-личность, психологический субъект, описание страстей без морального вывода
(372), феномен (405), случайность (405). «Primera la froideur de la
maxime!» (408). Поэзия строится как неразрывная аксиоматическая сеть («нерушимый ход безличной поэзии», 384), но как разрушитель («Теорема насмехается над своей природой», 413)*.
Следствия
III. 2. Поэтический эпизод по меньшей степени двойствен.
Но эта двойственность ни горизонтальна, ни вертикальна: она
не подразумевает идею параграммы ни как послание субъекта
письма адресату (то, что можно считать горизонтальным измерением), ни как означающее-означаемое (что становится вертикальным измерением). Двойственность письма-чтения придает
эпизоду пространственность: к двум измерениям письма (Субъект-адресат, Субъект, совершающий высказывание-субъект высказывания) добавляется третье — «чужой текст».
III. 3. При том, что двойственность становится минимальным
эпизодом параграмм, их логика убедительным образом отличается от «научной», от монологики, которая разворачивается в пространстве 0-1 и осуществляется как идентификация, дескрипция, наррация, исключение противоречий, установление истины.
Соответственно понятно, почему в диалогизме параграмм законы грамматики, синтаксиса и семантики (которые представляют
собой законы логики 0-1, т. е. аристотелевой, научной, теологической), были превзойдены, хотя имплицитно и сохранялись.
Эта трансгрессия, абсорбировав 1 (запрет), свидетельствовала об
амбивалентности поэтической парадигмы: это сосуществование
монологического дискурса (научного, исторического, дескриптивного) и дискурса, разрушающего этот монологизм. Без запрета невозможна трансгрессия; без 1 невозможна параграмма,
основанная на 2. Запрет (1) конституирует смысл, но в момент
конституирования он преодолевается оппозиционной диадой
или в более общем виде расширением параграмматической сети.
Таким образом, в поэтической параграмме прочитывается, что
различение ограничение-свобода, сознательное-бессознатель-
ное, природа-культура является историческим. Можно говорить
Ссылки на книгу Dante et la traversée de l’écriture — cm. ch. 1 на с. 104.
О семиологии парагра^
Юлия Кристева вЩр Семиотика: Исследования по семанализу
106
об их нераздельном сосуществовании и о логике такого сосуществования, очевидной реализацией которой является поэтический язык.
III. 4. Парадигматический эпизод представляет собой множество>, по крайней мере, из двух элементов. Способы соединения таких эпизодов (суммирование, о котором говорил Малларме) и правила, регулирующие параграмматическую сеть, могут
быть заданы теорией множеств, операциями и теоремами, которые из них вытекают или соседствуют с ними.
III. 5. Проблематика такой минимальной единицы, как множество, добавляется к минимальной единице, такой как знак
[означающее (За)-означаемое (Se)]. Множество поэтического
языка формируется эпизодами, связанными между собой; оно
представляет собой расположенность эпизодов как в пространстве, так и во взаимосвязи, что отличает его от знака, предполагающего линейное расчленение Sa-Se. Постулированный таким
образом базовый принцип приводит семиотику к поиску формализации отношений внутри текста и между текстами.
Табулярная модель параграммы
Путь, истинный путь иной, чем путь
неизменный.
Пределы, истинные пределы иные,
чем пределы неизменные.
Дао дэ цзин (300 г. до н. э.)
IV. 1. С этой позиции литературный текст предстает как система множества связей, которую можно описать как структуру
параграмматических сетей. Мы называем параграмматической
сетью табулярную (нелинейную) модель разработки литературного образа, иными словами динамическую и пространственную
графическую представленность многомерности смысла поэтического языка (отличную от семантических и грамматических
норм обыденного языка). Термин сеть заменяет одномерность
(линейность), поглощая ее, и предполагает, что каждое множество (эпизод) представляет собой завершение и начало поливалентных отношений. В этой сети элементы предстают как вершины
графа (в теории Кенига), что поможет нам формализовать символическое функционирование языка как динамическую метку, как
подвижную «грамму» (то есть как параграмму), которая действует так, чтобы сеть не выражала смысл. Таким образом, каждая
вершина (фонетическая, семантическая, синтагматическая) отсылает, по крайней мере, к одной из остальных таким образом,
что семиотическая проблема может быть формализована применительно к этому диалогическому отношению.
IV. 2. Такая табулярная модель была бы слишком сложной.
Для упрощения репрезентации нам нужно будет изолировать
отдельные парциальные граммы и в каждой из них выделить под-
граммы. Эту идею стратификации сложности текста мы находим
у Малларме: «Погребенный смысл пробуждается и оживает в
хоре книжных листов...»
Вначале отметим, что три типа связей — (1) внутри под-грамм;
(2) между ними; (3) между парциальными граммами — не различаются ни по природе, ни иерархически. Все они представляют
собой расширение действия функции, которая организует текст,
и появляется на разных уровнях (фонетическом, семическом,
секвентальном, идеологическом) независимо от того, какой из
них окажется доминирующим или первоначальным (с точки зрения хронологии или ценности). Дифференциация функции есть
операциональное превращение синхронии в диахронию: распространение слова-темы, о котором говорил Соссюр, сверхдетер-
минирует сеть. Такая функция специфична для каждого письма.
Однако для всего поэтического письма она обладает неизменным
свойством: она диалогична, и ее минимальный интервал располагается между 1 и 2. У Малларме уже была идея Книги как письма,
организованного диадической топологической функцией, обнаруживаемой на всех уровнях трансформации и структуры текста: «Книга, это тотальное расширение послания, должна вытащить из него, непосредственно, подвижность, и посредством
сходств установить игру, любыми способами подтверждающую
вымысел...» «Сами слова воодушевляются множеством граней,
наиболее редкостных или ценных для ума, которому близка вибрирующая неопределенность, который воспринимает их независимо от обычной последовательности, проецируя на стены пещеры так, что сохранение их движения или первопричины становится невыразимым в дискурсе: скоротечные, угасающие, сходные с
отдаленным пламенем или скользящие как возможность».
IV. 3. Таким образом, табулярная модель представляется двумя парциальными граммами:
A. Текст как письмо: скриптуальные граммы.
B. Текст как чтение: лектуральные граммы.
Еще раз напомним, что эти различные уровни, далеко не эквивалентные статически, находятся между собой в корреляционной
связи, которая обусловливает их взаимную трансформацию1.
1 Один из русских формалистов уже обращался к этой проблеме (Ю. Тынянов.
Проблема стихотворного языка, 1924, с. 10): «Следует понимать форму литературного произведения как динамического... Все факторы слова имеют одинаковую ценность, динамическая форма образуется не их объединением, не их смешением, но их
взаимозависимостью или, точнее, выделением группы факторов в ущерб другой. Выделенный фактор деформирует зависимые».
Юлия Кристева «Шй Семиотика: Исследования по семанализу
108
Скриптуадьные граммы следует рассматривать как три под-
граммы: 1. поэтические; 2. семические; 3. синтагматические.
А. 1. Скриптуальные фонетические граммы
«В жизни бывают часы, когда завшивевший нищий (А), вылупив глаза (В), дико таращится (С) на зеленые покровы
пространства (D); ибо ему кажется, что он слышит
насмешливое гикание призрака (Е). Он шатается, склоняет
голову: то, что он слышит, это голос его совести» (Песни
Мальдорора, с. 164).
Лотреамон иронически обозначает феномен, который в разговорном языке называется «усовеститься». Однако функция поэтического послания намного превосходит эти денотаты. Писатель распоряжается потенциальной бесконечностью лингвистических знаков так, чтобы избежать стертости повседневного
языка и избрать подходящий дискурс. Он выбирает два класса:
человек (с его атрибутами, которые мы обозначим как класс Н,
вбирающий в себя множестава А, В, С) и совесть (класс, который
мы обозначим как Hi и который составлен из множеств D и Е).
Социополитический мессадж конституируется биективным
соответствием двух классов Н и Hi: тело (материализм) — совесть
(романтизм) с позицией по отношению к Н и очевидной иронией
по отношению к Hi. Этот отрывок, как и весь текст песен Мальдорора, из которого он взят, представляет собой параграмматиче-
скую реализацию признания тела, подразумеваемого пола, фан-
тазма, поименованную и прописанную как разрыв с мятежным
идеализмом (совесть) и мрачной иронией, которую влечет за собой этот разрыв.
Функция, структурирующая текст в целом, обнаруживается
также и на фонетическом уровне параграммы. Достаточно вслушаться в фонетизмы множеств, и еще раз обратиться к их гра-
физмам, чтобы заметить соответствия [ф (в) — ал (ол) — с (з)]:
морфема «фаллос» появляется в основе высказывания как слово-
функция. Подобно ключевым словам, которые Соссюр обнаружил погребенными в сатурнианских или ведических стихах, сло-
во-функция в отрывке из «Мальдорора» распространяется в пространственную диаграмму соответствий, комбинаторных игр,
математических графов или, скорее, автопереключений, чтобы
наделить устойчивые (стертые) морфемы разговорного языка
значением дополнительности. Эта фонетическая сеть соединяется с другими уровнями параграммы, чтобы придать поэтическому
образу новое измерение. Таким образом, в многоголосной
целостности параграмматического уровня различие означающее-означаемое оказывается редуцированным, и лингвистиче¬
ский знак предстает как динамизм, побуждаемый квантовым зарядом.
А. 2. Скриптуальные семические граммы
Статический семический анализ позволяет, таким образом,
определить множества, составляющие нашу параграмматиче-
скую сеть:
А — тело (ai), волосы (аг), плоть (аз), грязь (а4), животное (а5) ...
В — тело (bi), напряжение (Ъг) ...
С — несчастье (а), страх (сг), спиритуализация (сз) ...
D — материя (di), цвет (d2), насилие (сЬ), несчастье (d4),
абстракция (d5) ...
Е — дух (ei), идеализация (ег) ...
Поэтический образ конституируется, однако, через корреляцию семических составляющих путем их коррелятивных интерпретаций в пределах сообщения путем внутрисистемного транскодирования. Операции, заимствованные из теории множеств,
позволяют разработать дуги, конституирующие параграммы.
Сложность применения [этих операций] на всех уровнях сети
объясняет невозможность перевести [в них] поэтический текст
(в обыденном и научном языках, где не возникает проблем перевода, такие семические пермутации не допускаются),
а. Внимательно читая текст, мы замечаем, что каждое из этих
семических множеств функционально связано (мы не будем
входить в детали относительно семических значений этой
функции; читатель может сделать это самостоятельно) с другими множествами того же класса, а также с множествами
коррелятивного класса. Так, множества А (аь..ап), В (bi...bn) и
С (ci...cn) связаны сюръективной функцией: любой элемент
(сема) множества В является отображением, по крайней
мере, одного элемента множества A (R (А) = В, без необходимости определять R по всем остальным множествам). Однако
можно также рассматривать отношение между семиотическими множествами как взаимно однозначные, и тогда функция /, связанная с R, становится инъективной; если R, кроме
того, определяется по всем множествам, то/— это инъективное отображение, или инъекция (f(a) =f(b) => а = b(a, be А)).
Таким образом, отображение, связывающее наши множества, будучи сюръективным и инъективным, можно назвать
биективным, или биекцией. Те же соответствия справедливы
для множеств С и D, равно как и между классами Н и Hi.
В пределах класса Н соответствия между А, В и С представляют собой пермутации класса Н (биекция Н на самого себя).
Инъективные и сюръективные соответствия, а также перму-
тации элементов (сем), принадлежащих различным множествам, предполагают, что значение в поэтическом языке вырабатывается через отношения: иными словами, оно представляет собой функцию1, не позволяющую говорить о «смысле»
множества А вне функций, объединяющих его с множествами В, С, D и Е. Следует оговорить, что множество (семиче-
ское) существует лишь тогда, когда оно конституируется за
счет соединения элементов, или, напротив, разрушается при
изоляции одного из его элементов. Это, несомненно, довод в
пользу того, что при означивающем функционировании дискурса именно отношение принадлежности имеет интуитивный смысл, и именно употребление существительного
«смысл» становится источником путаницы. В любом случае
можно констатировать, что 1р не обеспечивает ни одного
примера смысла2, который можно репрезентировать: он
просто-напросто выдвигает утверждения, представляющие
собой амплификации простого отношения принадлежности.
Эквивалентность, которая устанавливается между семами в
сети 1р, радикально отличается от той, что характерна для простых семантических систем. Отображение объединяет множества, которые неэквивалентны на первичных языковых уровнях.
Мы хотели бы констатировать, что отображение объединяет также радикально противоположные семы (ai=сз; а4= ei... и т. п.), относящиеся к различным денотатам, чтобы указать, что в семантической структуре литературного текста эти денотаты эквивалентны. Таким образом, в параграмматических сетях вырабатывается
новый смысл, автономный по отношению к смыслу обыденного
языка.
Такая формализация позволила продемонстрировать, что
«смысл» £ вырабатывается только функцией, действующей между элементами (множествами), которые отображаются один в
другом и на самих себе в пространстве, которое мы принимаем
как бесконечное. Семы, если подразумевать под этим словом
тонки сигнификации, поглощаются функционированием языка,
называемого поэтическим.
Ь. Допустив, что поэтический язык представляет собой формальную систему, теоретическое осмысление которой можно
довести до теории множеств, мы в то же время можем кон¬
1 Ж. Пиаже указывал, что детский язык формируется «скорее через участие
и перевод, чем через идентификацию существования» (La construction du réel chez
Г enfant, Paris, 1937).
2 У. Куайн [Quine W. From a logical point of view. Cambridge (Mass.), 1953] уже
высказался против представления о «смысле» как об «интенциональном бытии» в сознании и тем самым против гипотезы означиваний, однажды уже выступил против
представления смысла как «intentional being» в сознании и тем самым против гипотезы значений.
статировать, что функционирование поэтического означивания подчиняется принципам, обозначенным аксиомой выбора. Она предусматривает, что существует однозначное соответствие, представленное классом, который связан с каждым
из непустых множеств теории (системы) одного из этих элементов.
(НА) {Uw (А), (х) [~Ет (*)•=>. (3у) [уех. < ух > е А]]}*
Иными словами, одновременно можно выбрать по одному
элементу в каждом из интересующих нас непустых множеств.
Сформулированная таким образом аксиома выбора применима к
нашему универсуму £, относящемуся к 1р. Она уточняет, каким образом в каждом эпизоде представлен мессадж книги.
Совместимость аксиомы выбора, а также генерализованной
гипотезы континуума с аксиомами теории множеств выводит нас
на уровень рассуждений о теории, т. е. метатеории (и таков статус семиотического рассуждения) метатеоремы для которой определил Гедель. Среди них теоремы существования, которые мы
здесь не намерены обсуждать, но которые интересуют нас в той
мере, в какой они обеспечивают концепты, необходимые и позволяющие по-новому определить объект нашего интереса — поэтический язык. Известно, что генерализованная теорема существования постулирует:
«Еслиф (х\,..., Хп) — это первичная пропозициональная функция, которая не содержит никаких свободных переменных, кроме
xi,..., Ха, но не обязательно содержит их все, то существует класс
А такой, что при любых условиях множества х\, ..., *п, < х\,...,
Хп > еА = ф(лп,..., Хп)».
Для поэтического языка эта теорема означает, что различные
эпизоды эквивалентны по отношению к объединяющей их функции. Из этого вытекают два следствия: (1) применительно к поэтическому языку оговаривается некаузальное соединение и экспансия письма в книге; (2) акцентируется доступность такой литературы, где мессадж разрабатывается в мельчайших эпизодах:
означивание (ф) содержится в способе соединения слов, фраз; перенести центр поэтического сообщения на эпизоды — это значит
осознать функционирование языка и отработать означивание,
характерное для кода. Ни одна функция ф (xi...xn) не может быть
реализована, если не найден классЕ (и все его множества А, В, С...),
так что < Х\...Х2 > е А=ф (xi...xn). Любой ограничивающий ее поэтический код, постулирующий только функцию ф (хь..хп) без обращения к теореме существования, т. е. не выстраивающийся из эпизо¬
* (НА) — «существует такое А, что»; U» (А) — «А однозначно»; (х) — «класс
х является пустым классом»; <ух> — «упорядоченная пара х и у»; е — «бинарное
отношение»; «нет»;. — «и»;:э — «имплицируется».
дов, эквивалентных ср, будет неудачным поэтическим кодом. Это
отчасти объясняет тот факт, что неуспешность «экзистенциалистской» литературы (одной из тех, что продвигали эстетику «выражения реального») бесспорно связана с метафизичностью стиля и
полным непониманием функционирования поэтического языка.
Лотреамон был одним из первых, кто сознательно применил
эту теорему.
Понятие конструируемости, которое предполагает аксиому
выбора и связано со всем, сказанным о поэтическом языке, объясняет невозможность установить противоречие в пространстве поэтического языка. Эта констатация близка к утверждению Геделя
о невозможности доказать противоречивость системы с помощью
средств, формализованных в пределах этой системы. Несмотря на
все сходства между этими утверждениями и вытекающие из них
следствия для поэтического языка (например, метаязык — это
формализованная система внутри системы поэтического языка),
мы настаиваем на различиях между ними. Специфика запрета в
поэтическом языке и его функционировании превращает его в
единственную систему, где противоречивость есть не нонсенс, но
определение; где негация детерминирует и где пустые множества представляют собой особо значимый способ связи. Было бы
слишком смелым постулировать, что все отношения в рамках поэтического языка можно формализовать с помощью функций, где
одновременно используются два приема: негация и отображение.
Факт преодоления (связывания) оппозиции, 1р — это неразрешимая формализация, которая и не стремится к разрешению.
Размышляя о возможностях выделить противоречия теории множеств, Бурбаки полагают, что «наблюдаемое противоречие присуще самим принципам, заложенным в основание теории множеств». Проецируя это рассуждение на лингвистический фон,
мы приходим к мысли, что в основании математики (и шире —
языковых структур) обнаруживаются противоречия, которые не
только присущи им, но и неустранимы, конститутивны, немоди-
фицируемы, и «текст», таким образом, представляет собой сосуществование оппозиций, демонстрацию заключения, что 0^ О1.
1 Может показаться, что мы пытаемся установить систему, подлежащую текс-
ту-процессу, более того, систему, которая редуцирует к одному плану меток в принципе двуплановый язык (означающее-означаемое, выражение-содержание и т. п.).
На самом деле мы оперируем алгебраическими величинами, которые, согласно
Ельмслеву «не имеют никакого естественного обозначения», но уникальным образом «произвольны и адекватны» (Hjelmslev, Prolégomènes à une théorie du language,
p. 147). Следовательно, и одновременно «на основании селекции, которая существует
между лингвистической схемой и использованием языка для исчисления, обусловленного теорией, существуют системы, не интерпретированные, но лишь доступные
интерпретации. Тогда с этой точки зрения нет никакой разницы, например, между
чистой алгеброй и игрой в шахматы, с одной стороны, и «естественным» языком — с
другой» (ibid., р. 150). Если действительно исходить из этого, то мы не согласимся
А.З. Скриптуальные синтагматические граммы
«Когда я записываю свою мысль, — замечает Лотреамон, —
она от меня не ускользает. Это действие заставляет меня вспомнить о моей совсем забытой силе. Я обучаюсь соразмерно с тем, к
чему прикована моя мысль. Я лишь хочу познать, в чем состоит
противоречие между моим умом и ничто». Кажется, что сцеплен-
ность письма с ничто, которое оно превращает во все, — это один
из законов синтагматической артикуляцией парагарамм. «Дао
пусто» («Дао дэ цзин», IV).
В топологическом пространстве «Песен» появляются две
синтагматические формулы:
1. Пустые множества: АПВ = 0(АиВне имеют общих элементов).
2. Дизъюнктивные суммы S = А (+) В или D = А П В (сумма складывается из элементов, принадлежащих множествам А или В,
где «или» — исключение).
Формализм А П В= 0 применяется к оппозитивным диадам
«слезы-кровь», «кровь-пепел» (р. 77), «лампа — ангел» (р. 141),
«рвота-счастье» (р. 97), «экскременты-золото» (р. 125), «удовольствие и отвращение к телу» (р. 214), «достоинство-презрение» (р. 217), «любовь-счастье и ужас» (р. 217), «носорог и муха »
(р. 211), «баобабы в виде булавок» (р. 217) и т. п. В этот формализм интегрируются образы жестокого ребенка, детства и уродства, гермафродита, любви-счастья и ужаса и т. п. В то же время
они могут быть описаны и при помощи формализма S = А (+) В,
если принять во внимание, что, например, у пары «слезы-кровь»
есть общие семы «жидкость», «материя», но что поэтическая
функция диады конституируется дизъюнктивной суммой всех
элементов (вершин), которые для них не являются общими. Может оказаться, что общими вершинами обеих синтагм становятся
с концепцией Гилберта-Тарского, что система знака есть всего лишь система выражения без содержания. Напротив, такое различие является, на наш взгляд, неуместным, поскольку в основе своей родственно представлению древних греков о «снятии
покровов» (подвергнутому критике Хайдеггером) и которое Ж. Деррида в свернутом
виде обнаружил в сегодняшней семиотике. Если при анализе поэтического языка мы
используем процедуры формализации, то, следует заметить, по двум причинам.
Прежде всего, чтобы применительно к тому, что подпадает под понятия «содержание» и «выражение», в общих чертах обрисовать алгебраической-музыкальной-
транслингвистической сцены, где намечаются линии, порождающие закон (ритмику
смысла) до письма и независимо от языка. Чтобы сказать, что эта сцена функционирования так называемого «поэтического» напоминает фразограммы античного письма, где расположение знаков-образов отмечает сети определенного смысла поверх
выраженного содержания.
Наконец, чтобы извлечь исторические, эпистемологические и идеологические
импликации такой сети, ее способ, каким она смещает и перегруппировывает лингвистические знаки и их составляющие.
только фонемы, и что дизъюнктивная сумма конституируется
объединением всех остальных дивергентных вершин.
Таким образом, в «Песнях» «закон» пустого множества регулирует сцепление фраз, абзацев и тем. Каждая фраза связывается с предшествующей как не принадлежащий ему элемент. Этот
ряд не организован никаким каузальным «логическим» порядком. Не следует также говорить о негации, поскольку речь идет
об элементах, принадлежащих разным классам. Результатом становится парадоксальная цепочка обращенных на самих себя
«пустых множеств», сходных (по закону коммутативности) с
абелевыми группами: уже упоминавшееся включенное в пустое
множество семическое множество появляется вновь, чтобы включиться (путем сложения, умножения, а также ассоциативности,
дистрибутивности или коммутативности) в другое множество
(например, «сияющий червь», р. 46). У таких цепочек нет никакого предела, кроме «границ этого бумажного листа » (р. 219). Только логика, соотносящаяся с «видимостью феноменов» (р. 90), может положить конец песне (сцеплению 0^ 0). В качестве ограничения смех отвергается в такой же степени, что и рационализм:
ирония («хихикать, словно петух») и Вольтер («великий недоносок Вольтер») — враги одного порядка. Все, что напоминает, внушает или делает обязательным монолитное единство логического
дискурса, подавляя оппозициональную диаду, приравнивается к
«Богу-глупцу », к недостатку «скромности » (выражение, принадлежащее самому Лотреамону). Следовательно: «Смейтесь, так и
быть, но только сквозь слезы. И если влага не течет у вас из глаз,
пусть течет изо рта. На худой конец можно и помочиться...»
(с. 219). Еще раз пересечение семем подчеркивает цепочку пустых
множеств, где реализуется «скромность» письма: его отказ от кодификации.
Таким образом, каждый эпизод аннигилируется, каждая их
пара образует значимый ноль, а текст, структурирующийся как
цепь таких нолей, опровергает не только кодовую систему (романтизм, гуманизм), с которой он в диалоге, но и собственную
текстуру. Совершенно очевидно, что такая пустота не «ничего»
и что параграмме не свойственно «ничто»: молчание избегается
противостоящей ему парой. В параграмматической сети ноль как
не имеющий смысла не существует. Ноль — это пара, представляющая собой единицу: иными словами, 1 как нераздельность и
0 как ничто исключаются из параграммы, минимальная единица
которая одновременно представляет собой целое (пустое) и пару
(оппозициональную). Рассмотрим ближе эту параграмматиче-
скую «нумерологию», где нет ни 1, ни 0, но только 2 и «целое».
Целостность пуста и несчетна; единица — это 0, но имеющий значение: он управляет пространством параграммы, он присутствует,
чтобы центрировать, но параграмма отказывается приписывать
ему значение (устойчивый смысл). Эта «целостность» не является синтезом А и В; но она равна единице, потому что она — целое,
в то же время она не может отличаться от пары, поскольку вбирает в себя все контрастные семы, одновременно противостоящие и
объединяющиеся. Все множество, состоящее из единицы и пары,
оппозициональной диады, если выразить его в пространственных
терминах, можно представить в виде трехмерного объема. Числовая игра параграммы у Лотреамона происходит посредством чета
(2) и нечета (1-3). Это не переход от бесконечного к конечному или
от недетерминированного к детерминированному. Это переход от
симметричного к центрированному и от неиерархизированного
к иерархизированному. В числовой игре дизъюнктивных сумм и
пустых множеств проясняется мутирование параграммы между
запретом и трансгрессией: все эпизоды дизъюнктны (А (+) В = S),
дифференцированы, однако поверх этой дифференциации поэтический язык продуцирует единицы, трансформирующие различия
в неисключающие оппозициональные диады. Параграмма — это
единственный вид языкового пространства, где 1 функционирует не как целостность, а как единство, как целое, поскольку она
двойственна. Как интерпретировать этот цифровой код? Письмо
отказывается возводиться в систему; будучи двойственностью,
оно, отрицая, приходит к самоотрицанию...
За измену диалектике Маркс критиковал Гегеля, который
предложил форму своей системы. Параграмматическое письмо
Лотреамона избегает ловушки не только «формы» (в смысле
фиксации), но и молчания (Маяковский поддался этому искушению: «Имя этой теме...!» — «Про это»), конституируясь из пустых множеств и дизъюнктивных сумм.
В. Лектурольные граммы
Граммы В (лектуральные) можно подразделить на две субграммы:
В1. Чужой текст как реминисценция.
В2. Чужой текст как цитирование.
Лотреамон пишет: «Когда с огромным трудом меня удалось
научить говорить, только после того, как на бумаге было прочитано то, что написано другим, я в свою очередь мог передать нить
моих рассуждений» (р. 120). Его «Песни» и «Стихотворения» —
это прочтение того, что написано другими: его коммуникация —
это коммуникация с чужим письмом. Диалог (2-е лицо встречается в «Песнях» довольно часто) разворачивается не между Субъектом и Адресатом, писателем и читателем, но в самом акте
письма, где пишущий — это тот же, кто читает, становясь «другим» для самого себя.
Чужой текст, объект «насмешки», абсорбируется поэтической параграммой либо как реминисценция (<Ж£яя-Бодлер? луна,
дитя, могильщик-Мюссе? Ламартин? пеликан-Мюссе.? и весь код
романтизма, дезартикулированный в «Песнях»), либо как цитирование (чужой текст воспроизводится и в буквальном смысле
дезартикулируется в «Стихотворениях»). В параграмматическом
пространстве можно формализовать трансформации цитирований и реминисценций с помощью процедур формальной логики.
Поскольку параграмма представляет собой разрушение другого письма, письмо становится актом разрушения и саморазрушения. Эта тема ясно прослеживается и прямо объявлена применительно к образу океана (песнь I). Первый шаг писателя заключается в отрицании романтического образа океана как идеализации
человека. Второй — отрицать сам образ как знак, расплавить его
замороженный смысл. После этого человек становится именем,
которое параграмма разрушает. ( «Это нечто имеет имя. Это имя—
Океан! Страх, который ты им внушаешь, таков, что внушает почтенье...»^. 59.) Если Лотреамон и признает океан как «магнетический и дикий», то лишь в той мере, в какой он для поэта метафора
изменчивой, негативной сети, которая доходит до конца возможных негаций, иными словами, метафора книги.
Эта конструкция-деструкция еще более очевидна в «Стихотворениях». Отрицание и самоотрицание поэзии обусловлено
тем, что она отказывается становиться системой. Непоследовательная, с разорванным пространством, спорная, она существует
в рядоположных максимах, которые можно прочитать, только
принимая их как Мораль (как 1) и как Двойственность (как 0).
Утверждение, что негация текста обнаруживает новое измерение параграмматической единицы в ее двойственности, и раскрывает новое значение текста Лотреамона.
Способы негации, которые он применяет, замещают двусмысленностью прочитываемых текстов предложение, где утверждение и отрицание четко различаются, разъединяются и оказываются несовместимыми; нюансы переходов от одного к другому
затмеваются, и вместо диалектического синтеза (Паскаль, Вове-
нарг) Лотреамон строит целое, которое больше не двоится. Так,
у Паскаля: «Я записываю свои мысли не по порядку, но, быть может, не без плана и замысла. Это и есть настоящий порядок, и он
всегда будет отмечать мой предмет своим беспорядком. Я оказал
бы слишком большую честь своему предмету, излагая его по порядку, ведь я хочу показать, что порядок ему чужд». А у Лотреамона: «Я записываю свои мысли по порядку, следуя строгому
плану и замыслу. Если они верны, то первая пришедшая в голову
оказывается следствием всех прочих. Это и есть настоящий порядок. Он отмечает мой предмет каллиграфическим беспорядком.
Если бы я принялся излагать этот предмет не по порядку, я бы
обесчестил его. Я желаю доказать, что порядок ему не чужд».
В этой фразе Лотреамон сформулировал свой закон рефлексивной продуктивности. Порядок, устанавливаемый «каллиграфическим беспорядком» (не следует ли понимать это необычное
выражение, которое вклинилось в текст, как динамизм параграм-
матической разработки в расколотом пространстве?) — это письмо максимы, морали («писать, чтобы подчинить высокой морали»^. 372), категорического 1, которое, однако, существует лишь
в той мере, в какой его противоположность подразумевается.
Типология
V. I. Размышление о связности параграмматической сети приводит нас к заключению, касающемуся различных типов семиотических практик, которыми располагает общество. Можно выделить три, которые определяются в зависимости от их отношения к социальному (сексуальному, языковому) запрету, а именно:
1. Семиотическая система, основанная на знаке, т. е. на смысле
(1) как предопределяющем и предпосылочном элементе. Такова семиотическая система научного и любого репрезентативного дискурса. Сюда включается значительная часть литературы. Мы будем называть такую семиотическую практику
систематической и монологической. Эта семиотическая система консервативна и ограниченна, ее элементы ориентированы на денотаты, она логична, экспликативна, неизменяема
и не предполагает изменение «другого» (адресата). Субъект
подобного дискурса идентифицируется с законом и однозначно связан с объектом, устраняя свои отношения с адресатом и отношения адресат-объект.
2. Транс формативная семиотическая практика. Знак как базовый элемент затушевывается: «знаки» освобождаются от своих денотатов и ориентируются на «другого» (адресата), которого изменяют. Таковы семиотическая практика магии, йоги,
политика во время революций, психоаналитика. Трансформативная практика в противоположность символической системе изменчива и направлена на трансформацию; она не лимитирована, экспликативно или традиционно логична. Субъект трансформативной практики всегда подчиняется закону,
а отношения внутри треугольника «объект-адресат-закон
(=субъект)» не устраняются, оставаясь явно однозначными.
3. Семиотическая практика письма. Мы назовем ее диалогической или параграмматической. Здесь действие знака временно приостанавливается коррелятивным параграмматическим
эпизодом, представляющим собой двойственность и ноль.
Юлия Кристева вЩр Семиотика: Исследования по семанализу
118
Можно представить этот эпизод как тетралемму: каждый
знак имеет денотат; ни один знак не имеет денотата; каждый
знак имеет и не имеет денотат; неверно, что каждый знак имеет и не имеет денотат. Если параграмматический эпизод обозначается как я, а денотат как D, то можно записать:
к = D + (-D) + [D + (-D)] + {-— [D 4- (-D)]} = О
или, в символах математической логики A Q В, что обозначает
несинтетическое объединение различных формул, часто противоречащих друг другу. Треугольник двух предыдущих систем
(символической системы и трансформационной практики) изменяется здесь, в параграмматической практике, на треугольник,
где закон становится его центральной точкой: закон идентифицируется с каждым из трех элементов пермутации треугольника в
каждый данный ее момент. Таким образом, субъект и закон дифференцируются, и граммы, связывающие вершины треугольника,
становятся взаимно однозначными. Вследствие этого они нейтрализуются и редуцируются к значащим нулям. Письмо, осмелившееся полностью следовать траектории этого диалогического
движения, которую мы представили как тетралемму, как последовательное описание и отрицание текста, рождающегося внутри
пишущегося текста, уже не относится к тому, что традиционно
называется «литературой», восходящей к символической семиотической системе. Параграмматическое письмо — это непрерывная рефлексия, письменное оспаривание кода, закона, самого
себя, это нулевой (самоотрицающий) путь (завершенная траектория); это протестное философское действие, ставшее языком
(дискурсивной структурой). В европейской традиции примером
может служить письмо Данте, Сада и Лотреамона1.
V. 2. Операции, которые послужили бы для формализации
отношений в этом поливалентном параграмматическом пространстве, можно заимствовать из изоморфных систем — теории множеств и метаматематики. Можно также воспользоваться
формализмами символической логики, попытавшись избежать
ограничений, которые она противопоставляет поэтическому языку в силу ее рационалистического кода (интервал 0-1, принципы
построения фразы «субъект-предикат»). Следовательно, мы приходим к аксиоматике, применимость которой к поэтическому
языку требует обоснования.
Прежде чем перейти к этому, мы хотели бы обратиться — в связи с возможностью формализации параграмматической сети — к
1 Мы следуем здесь, с авторского разрешения, соображениям Л. Мялля (Мялль Л.
Нулевой путь // Труды по знаковым системам, 2. Тарту: Изд-во ТГУ, 1965). Автор исследует фундаментальные проблемы буддологии с семиотической точки зрения и соотносится с буддийским понятием «пустоты всех знаков» («sarva-dharma-sunyata»).
капитальному свидетельству, предлагаемому китайской древностью — к «И цзин», или «Книге перемен». В 8 триграммах и 64 гексаграммах этой книги математические операции и смысловые лингвистические конструкции смешиваются, подтверждая, что «фундаментальная природа качеств языка и их соотношения, как
правило, могут быть выражены в математических формулах»
(Ф. де Соссюр). Среди множества достоинств этого текста, которые можно полностью выявить лишь с одновременным использованием математического и лингвистического подходов, выделим два:
1. По-видимому, китайские лингвисты действительно занимались проблемами перестановок и комбинаций особого типа, которые привлекли внимание многих математиков (Миками) к тому,
что гексаграммы составлялись из длинных и коротких палочек
(черт) и были связаны с графизмами подсчетов. Можно рассматривать палочки (фонемы) и подсчеты (морфемы) как предшественников всех означающих. Подобным же образом в «Ми Суань»
(эзотерической математике) трактовались проблемы лингвистических комбинаций и знаменитый метод Сань Чай, позволявший
отвечать на вопросы типа: «Сколькими способами можно расположить девять букв, из которых три а, три b и три с...?».
2* Китайские «граммы» отсылают не к одержимости (Бог,
отец, вождь, пол), но к универсальной алгебре языка как математическому оперированию с различиями. Относящиеся к двум
крайним точкам времени и пространства тексты Лотреамона и
«И цзин» каждый по-своему расширяет пределы соссюровских
анаграмм на шкале, относящейся к сущности лингвистического
функционирования. К этому же типу письма следует добавить
современный текст — «Драма» Филиппа Соллерса, структурная
решетка которого (различные комбинации непрерывных и прерванных последовательностей — «он пишет» — в совокупности
образуют 64 случая) и перестановка местоимений («я» — «ты» —
«он») объединяют безмятежную нумерологию «И цзин» с трагическими пульсациями европейского дискурса.
Аксиоматизация как карикатура
Феномен изживает себя.
Я же ищу законы.
Лотреамон
VI. 1. Подлинная история аксиоматического метода начинается в XIX в. и характеризуется переходом от субстанциальной
(или интуитивной) концепции к формальной конструкции. Этот
период заканчивается появлением работ Гилберта (1900-1904) об
основаниях математики, где тенденция формального построения
аксиоматических систем достигает кульминации и знаменует на¬
Юлия Кристева йШр Семиотика: Исследования по семанализу
120
чало современного этапа: концепция аксиоматического метода
как метода построения новых формализованных знаковых систем.
Очевидно, что насколько бы ни был формализован этот метод, на современном этапе его следует продолжать обосновывать
рядом определений. Однако имеющийся аксиоматический метод
характеризуется имплицитными определениями: правил определения не существует, и термин получает значение, детерминируемое только функцией контекста (совокупности аксиом), частью
которого он является. Таким образом, базовые термины аксиоматической теории имплицитно определяются совокупностью
аксиом (не отсылающих к обозначаемым элементам), и аксиоматическая система описывает не объективную конкретную область, но класс абстрактно построенных областей. В результате
изучаемый объект (научная теория или в нашем случае — поэтический язык) превращается в своего рода формализм (формальное исчисление согласно строгим правилам) с символами искусственного языка. Это становится возможным благодаря:
-символизации языка изучаемого объекта (соответствующей
научной теории или поэтического языка): замещение знаков и
выражений естественного языка (поливалентных и часто не
имеющих точного значения) символами искусственного языка со строгим и операциональным означиванием;
-формализации: построение этого искусственного языка как
формального исчисления путем абстрагирования от значений, внешних по отношению к формализации; устанавливается четкое различие между искусственным языком и референтом, который он описывает.
VI. 2. Применительно к математике аксиоматический метод обнаружил как ограничения1, так и преимущества2. В применении к
поэтическому языку он позволит избежать некоторых трудностей,
которые до сих пор не смог разрешить (связанных, в частности, с
понятием актуальной бесконечности). Отметим еще раз, что язык —
практически единственная актуальная бесконечность (то есть бесконечное множество, образованное актами, строго отделенными
друг от друга). Разумеется, это идеализированное понятие: мы получим актуальную бесконечность, только если полностью прочитаем весь натуральный ряд. Это не под силу нашему сознанию, даже
если речь идет о литературном языке. Использование математики
(в частности, теории множеств), где идея бесконечности доминирует, в отношении потенциальной бесконечности, которой для писа¬
1 J. Ladrière, les Limitations internes des formalismes, Louvain, E. Nowelaerts, Paris,
Gauthier-Villars, 1957.
2 J. Porte, “La méthode formelle en mathématiques. La méthode en sciences modernes”. Noméro hors série de Travail et Méthode, 1958.
теля является язык, поможет каждому, кто пользуется этим кодом,
осознать концепт бесконечности в связи с поэтическим языком,
роль аксиоматического метода, который задает способ соединения
элементов в анализируемой предметной области.
VI. 3. Можно было бы возразить, что крайняя формализован-
ность аксиоматического метода, с помощью теории множеств
строго описывающая отношения между элементами поэтического кода, оставляет в стороне значение каждого из них, литературную «семантику». Можно согласиться с точкой зрения, что
семантика лингвистических элементов (включая литературную
семантику) представляет собой отношения этих элементов
внутри лингвистического организма и, следовательно, поддается
математизации. Однако при современном состоянии исследований в качестве отправной точки (как имплицитные определения)
для символизации и формализации видов функций остается
использовать классические способы семантического анализа
(разделение на семантические поля, семический и дистрибутивный анализ).
VI. 4. Союз двух теорий (семантики и математики) влечет за
собой редукцию логики одной, семантики, в пользу другой, математики. Субъективное суждение информатора продолжает
играть важную роль. Оно не мешает аксиоматике поэтического
языка конституироваться в качестве ветви символической логики, позволяя ему преодолеть рамки силлогизма и проблемы, связанные с фразой «субъект-предикат» (проблема дискурсивной
истинности сразу же помещается в скобки), чтобы обратиться к
иным способам рассуждения. Применительно к анализу литературного текста аксиоматический метод имеет преимущество
улавливать пульсацию языка, силовые линии поля, где вырабатывается поэтический мессадж.
Использование понятий новой математики, очевидно, всего
лишь метафорично — в той мере, в какой можно установить аналогию между отношением обыденный язык/поэтический язык, с
одной стороны, и частью отношения конечное/бесконечное —
с другой.
Модификация математической логики происходит по причине различий между типами отношений, подлежащих 1р и конституирующих язык научного описания1. Первое различие, которое
бросается в глаза каждому старающемуся формализовать 1р, относится к знаку «=» и проблеме истины. Они составляют основу
1 «Недостаточно просто констатировать, что один поддается записи в системе
логических символов, а другой не поддается или не поддается сразу и прямо; ведь
факт остается фактом: тот и другой ведут свое происхождение из одного и того же
источника и в основе их лежат в точности те же самые элементы. Эту проблему ставит
сам язык» (Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 43).
Юлия Кристева wÿÈ Семиотика: Исследования по семанализу
122
интеллектуальной абстракции символической логики, математики и метаматематики, тогда как 1р противится этим структурам.
Нам кажется невозможным использовать знак « = » при формализации, которая не искажает 1р (по причине коррелятивных
отображений и негаций, которые в поэтическом языке организуют уровень семической манифестации, в терминологии Грейма-
са), и если мы его применяем, то только потому, что современная
математика (научная мысль) не располагает иной системой рефлексии. Кроме того, проблема истины и логического противоречия в рамках поэтического языка ставится по-другому. Для нас,
сформированных школой греческой абстракции, 1р выстраивает
свой мессадж через отношения, которые кажутся предпосылками логических (аристотелевых) истин, но действуют вопреки им.
Тогда «разумными» представляются два рода объяснений: либо
1р (и все что называется «конкретным мышлением») — это примитивная стадия мышления, неспособного к синтезу (Леви-Брюль,
Пиаже), либо это отклонение от нормальной логики. Лингвистические данные опровергают обе эти интерпретации. Так, 1р
сохраняет структуру классов и отношений (мультипликативные
сериальность и корреляции), а также группу, связывающую инверсии и реципрокности внутри элементарных группировок (которая конституирует «совокупность частей»). Следовательно,
представляется невозможным различать, как это делает Пиаже,
конкретную логику (реляционную, детскую) и логику вербальную (научной абстракции). Трудно представить себе логику вне
языка. Реляционная логика вербальна, она охватывает слово в
его артикуляции и изначальном функционировании, и хотя наша
цивилизация препятствует этим структурам в обыденном и в научном языке, она их не упраздняет: они продолжают существовать в имманентности (в том смысле, который придает этому
термину Греймас) нашего лингвистического (логического, научного) универсума.
VI. 5. Многозначная логика, которая предполагает бесконечное число значений в интервале истина-ложь (0< х< 1), составляет часть в двузначной (0-1) аристотелевой логике.
Поэтическая логика вписывается в иную плоскость. Она сохраняет зависимость от аристотелевой логики не в том смысле,
что составляет часть последней, но в той мере, в какой содержит
ее при ее трансгрессии. Поэтическая единица строится по отношению к другой как удвоение, и проблема истины (1) ее не останавливает. Поэтическая параграмма перескакивает через 1, и ее
логическим пространством оказывается 0-2, где 1 существует
лишь виртуально. Возможно ли говорить о логике применительно
к области, где истина не является единственным организующим
принципом? Мы полагаем, что можно при двух условиях:
123
A. После Дж. Буля логика как наука стала частью не философии,
но математики. В результате она стремится выразить ментальные операции, не заботясь об идеологических принципах,
но обеспечивая модели артикуляции элементов в пределах
изучаемых множеств. Ассимилированная математикой, логика освобождается от обязанности «измерять путем сравнения с заранее заданными стандартами » (что является одним
из недостатков современного структурализма): она отказывается быть числовой пропорцией. Следовать путем, проложенным Булем, — значит освободить логику от принципа относительной, исторически детерминированной и ограниченной
истины и выстроить ее как формализацию отношений на базе
диалектического материализма. Буль совершил прорыв, выделив символическую логику из философии и связав ее с математикой, которую он считал не наукой о «величинах», но
формализацией комбинаций. Такой демарш основывался на
констатации, что «логическая теория тесно связана с теорией
языка», который также следует рассматривать как сеть комбинаций. Эти размышления Буля повлекли за собой второй
прорыв: связать логическую формализацию с новой математикой и метаматематикой. Подобный шаг можно оправдать
открытием раздробленной, топологической сцены письма,
где поэтическая параграмма вырабатывается как двойственность по отношению к другой. Такая параграмматическая логика, которая ближе к Булю, чем к Фреге, относится к символической логике так же, как новая математика — к арифметике. Располагаясь в качестве методологии между символической
логикой и структурализмом, она может задать общие формулы, позволяющие понять частности и симметрию в рамках
закона, иными словами, контролировать их. «Невозможно
предвидеть радости, которые обещает этот шаг»1.
B. Более того, в архитектонике так называемой эстетической
практики логическая «истина» оказывается одновременно
имплицитной и трансгрессируемой деятельностью, которую
Фрейд уловил в следах бессознательного. Маркировать эту
деятельность, осуществляемую между полюсами вытеснения
и трансгрессии, значит действовать в области, которая хотя и
выражается только в дискурсе, связанном с истиной, в своей
активности лишь соприкасается с областью, управляемой
принципом «истина-ложь». Можно сказать, что такая «поэтическая логика» могла бы начаться как эскиз возможной
диалектической логики. ее формальная нотация и теория
статуса истины, по-разному используемые в различных
1 Boole G. The mathematic analysis of Logic. Oxford: B. Blackwell, 1948.
О семиологии параграмм
Юлия Кристева юЩю Семиотика: Исследования по семанализу
124
семиотических практиках, обеспечивают гарантию формализму.
Применительно к «искусству» сеть признаков такой «диалектической логики» позволит разрушить иллюзию идеалистического представления об искусстве как «угадывающей и провидческой» силе (Платон, «Филеб»). Соответственно логика, выстраиваемая как наука для понимания искусства (без редукции к
монологизму традиционного научного подхода), обращается к
его структуре, чтобы обнаружить, что всякое искусство — это
прикладная наука, которую художник разделяет со своей эпохой
(либо отстает, либо опережет ее).
VI. 6. Кажется парадоксальным, что знаки могут вести к объяснению функционирования слов. Такой опыт оправдывается тем,
что в нашем обществе слово стало разъяснением, окаменением, закованным в узы: оно ограничивает, вызывает окостенение, завершает. Удивительно, что после Рембо, Лотреамона и сюрреалистов
еще у кого-то оно смешивает пространства и вызывает вибрации,
описывающие ритм. Следовало бы преодолеть запреты рационализма и непосредственно уловить жизнь жеста, тела, магии, чтобы, наконец, вспомнить, что человек владеет языками, которые не
ограничивают его линейностью, но позволяют ощутить себя в объемном пространстве. Из этого следует новое отношение к речи: ее
привлекают (например, Арто), чтобы показать ее интегрированность с движением или колоритом. Лингвистика ставит вопрос о
слове как о «смерти» отношений, которые образуют динамическую материю языка. Будучи продуктом рационалистической
абстракции и логики, лингвистика слабо ощущает необузданность
языка как движения сквозь пространство, где в пульсации своих
ритмов он устанавливает свои сигнификации. Математическая
формализация понадобится нам именно для того, чтобы, расшатав
«монологическую» науку, обнажить остов, очертание взаимодействий, в которых реализуется диалектика языка: бесконечность в непрерывных упорядоченных пермутациях. Кто знает,
быть может, одним из лучших оправданий лингвистики служит то,
что с ее помощью можно очищать язык от пластов застывших
«значений» и «интерпретаций», от априорных понятий и окончательно сформировавшейся логики, и открыть нам его чистый
строй — рефлексивность, транзитивность и нетранзитивность,
симметрию и асимметрию. Тогда, возможно, мы поймем, что есть
слова, которые не «ограничивают», поскольку сигнификации не
наличествуют, но создаются, и что поэтический язык предлагает
свою бесконечность, чтобы заменять затертый язык новыми сочетаниями: графические спазмы ставят под сомнение субъекта с его
образом мира и свим местом в нем. Такой дискурс, который пишется в пространстве актами диссоциации и вибрации, можно
упорядочить научным способом с помощью математического символизма. Метафорический продукт такого дискурса можно было
бы возвратить к истоку, чтобы прояснить его.
VI. 7. Эти формулировки сегодня улавливают лишь несколько
весьма ограниченных измерений параграмматизма, который рассматривает поэтический текст как социальный, исторический,
сексуальный комплекс.
С другой стороны, формализация раскрывает рефлексивную
продуктивность лишь в противоположном смысле; семиотик
следует за пишущим, чтобы объяснить (концептуализировать)
синхронию и обнаружить «ментальные » операции там, где все
функционирует как целое (язык, тело, социальная принадлежность).
Однако научный (монологический, гносеологический) подход был, есть и будет необходим любому обществу, поскольку
объяснение («абстракция», или, по Ленину, «фантазия»1, либо в
новейшей терминологии, «различение»2) есть грамма — фундаментальная и необходимая составляющая социальности (обмена). «При действительном обмене, — пишет Маркс, — абстракция должна быть, в свою очередь, овеществлена, символизирована, реализована посредством [какого-либо] знака»3.
Если «знак» представляет собой социальный императив, то
проблема его выбора в «гуманитарных науках» («определенный
знак») остается открытой.
С нашей точки зрения, формализованная абстракция по сравнению с дискурсивной символизацией абстракции имеет немалые
преимущества, например:
1. Формализация представляет структуры, которые иными
средствами не обнаруживаются. Математика, «проливает свет на
обычный язык, частью которого она является, — пишет У. Куайн. — В каждом случае специальная функция, которая до этого
выполнялась, лишь случайным и бессознательным образом конструкциями обычного языка, теперь явственно обнаруживается
(stands boldly forth) только за счет выразительной силы искусственной нотации. Будто на карикатуре, бессознательные функции
общепринятых идиом теперь изолируются и становятся осознанными»4.
1 Ленин В.И. Философские тетради. М.: Госполитиздат, 1955. С. 289-290.
2 В работах «О грамматологии» и «Фрейд и сцена письма» (последняя входит в
сборник «Письмо и различие») Жак Деррида определяет грамму как фундаментальный механизм «человеческого» функционирования, а потому заменяет идеалистически нагруженное понятие знака термином «различение».
3 Архив Маркса и Энгельса. T. IV. Под ред. В. Адоратского. М.: Партиздат ЦК
ВКП (б), 1935. С. 61.
4 Quine W.V. Logic as a source of syntactical insights // Proceedings of Symposia in
Applied mathematics. V. XII, 1961.
Юлия Кристева ЦЦу Семиотика: Исследования по семанализу
126
В данном случае слово карикатура заставляет вспомнить о
его начальном смысле (греч. ßapoç, лат. carrus, ш, нар. латынь
carricare, ит. caricare), который подразумевает не только значения «тяжеловесность», «груз», «обуза», «бремя» (применительно к порядкам), но и такие, как «могущество», «влияние», «авторитет», «значительность». Действительно, аксиоматизация —
это и есть груз, порядок и авторитет, налагаемый на сложную
текучесть изучаемого объекта (поэтического языка). Но это могущество отнюдь не искажает свой объект, поэтому мы можем
сказать, что оно улавливает силовые линии («гримасы») объекта,
как если бы он в своих гримасах пошел до конца. Можно говорить о прустовской имитации как о «шарже», а о теле — как о
карикатуре. В этом ряду сильных «карикатур» параграмматиче-
ская аксиоматизация представляет собой необузданный, «преувеличенный » и «эксцентричный » демарш, осуществляемый
через черты и выбор деталей (карикатура, лишенная уничижительного смысла), чтобы походить на свой объект больше, чем его
дискурсное описание (портрет).
2. Аксиоматическая формализация, оставаясь семиотической
символической практикой, не является закрытой системой, следовательно, она открыта по отношению ко всем семиотическим
практикам. Если она идеологична, как и любой знаковый образ
действий, то идеология, которая ее пронизывает, оказывается
единственной и неизбежной, поскольку конституирует каждое
объяснение (любой граммы, любой науки и, следовательно, любого общества), и это идеология познания (различия, пытающегося сблизиться с тем, от чего первоначально отделялось). Она
также идеологична в той мере, в какой оставляет семиотику «свободу» выбирать свой объект и ориентировать его выделение, следуя собственной исторической позиции.
3. Сопоставляя открытия новейшей метаматематики и математической логики со структурами современного поэтического
языка, семиотика столкнется с двумя кульминационными точками, к которым привели два неразделимых подхода — грамматический (научный, монологический) и параграмматический
(протестный, диалогический), и благодаря этому займет ключевую идеологическую позицию в глобальном революционном
процессе.
Такая параграмматическая наука, как и все остальные, не
сможет передать всю сложность своего объекта, особенно когда
речь идет о литературных параграммах. Более того, мы не разделяем иллюзию, что абстрактная и обобщенная структура обеспечит целостное прочтение специфицированного письма. Однако
попытка уловить параграмматическую логику на абстрактном
уровне есть единственное средство преодолеть психологизм или
1
вульгарный социологизм, которые, видя в поэтическом языке
лишь выражение или отражение, элиминируют его особенности.
Семиотик, таким образом, сталкивается с проблемой выбора
между молчанием и формализацией, которая в перспективе, попытавшись выстраиваться как параграмма (как деструкция и как
максима), становится все более изоморфной поэтическим параграммам.
1966
Продуктивность, называемая
текстом
И когда Коперник был почти одинок со своим мнением, то оно все же было несравненно вероятнее, чем мнение
всего остального человечества. Я не знаю, не было ли бы
создание искусства определения правдоподобия полезнее, чем добрая часть наших демонстративных наук, и я
уже неоднократно задумывался над этим.
Аейбниц Г.В. «Новые опыты о человеческом разуме»
Правдоподобная «литература»
Чтение часто равнозначно самообману.
«Новые африканские впечатления»
Восприняв буквально предписание Платона ( «изгнать поэтов
из Государства»), наши цивилизация и наука были ослеплены
продуктивностью письма, направленного на получение результата — произведения. Они породили понятие и соответствующий
ему объект, которые, будучи извлеченными из труда производителя, в качестве предмета потребления становятся посредниками
в кругообороте обмена (реальность-автор-произведение-пуб-
лика). Речь идет о понятии и объекте «литература »l: транслингвистическая деятельность, к которой наша культура2 приходит
лишь после производства (в потреблении); производство скрывается, замещается представленностью экрана, дублирующего
«подлинность», и/или прослушиванием дискурса — объекта,
вторичного по отношению к «реальности» и поддающегося оценке, осмыслению, обсуждению исключительно в качестве реифи-
цированного субститута. Именно на этом уровне умопостижения
«литературы» как замещающего дискурса располагается потребительское восприятие текста с его претензией на правдоподобность. Поэтому неудивительно, что этот концепт, восходящий к
греческой античности, появляется одновременно с «литерату¬
1 Это слово следует понимать в самом широком смысле: в качестве «литературы» рассматриваются политика, журналистика и любой дискурс в нашей фонетической цивилизации.
2 Относительно определения концепта «культура» см.: Kloskowska A. Kultura
masowa: krytyka i obrona. Warszawa, 1964; раздел Rozumenie kultury; Kroeber A., Kluck-
hon C. Culture: a critical review of concepts and definitions. Cambridge (Mass.): Harvard
Univ. Press, 1952 (Papers of the Peabody Museum of American Archeology and Ethnology,
XLVII, 1).
рой» и с «осмыслением литературы» (Поэтикой), постоянно сопровождает их на протяжении всей «литературной» истории (истории, рассматриваемой как идеальное, как история «духа»,
впрочем, невозможной без понятия «литература»). В том смысле,
что правдоподобие неотделимо от литературы (искусства), тождественно ее замещающему характеру и этим обнаруживает свое
участие во всех атрибутах нашего мышления.
На той же траектории сверхчувственного потребления знание,
вульгаризируясь, сталкивается с правдоподобием, как только соприкасается с «литературой». Сегодня, когда теория литературы
строится как наука, осознающая этот шаг, она сталкивается с противоречием, которое определяет ее как науку, очерчивает ее исследовательское поле и одновременно устанавливает ее пределы.
Если она конституирует всю речь, то отмеченное противоречие
становится вдвойне ощутимым на уровне «метаязыка» (науки о
литературе), принимающего в качестве объекта дискурс, определяемый как фундаментально вторичный (литература, искусство).
Это противоречие таково: Речь есть знак, и ее функция состоит
в желании сказать, т. е. придать смысл, который, отсылая к объекту или соотносясь с грамматической нормой, представляет собой познание, знание (включенные в метарациональность речи);
всему, что высказывается, в качестве постоянного фона под-ле-
жит некоторая истина; язык — это всегда знание, дискурс — это
всегда познание для того, кто в коммуникативной цепи произносит или слушает речь. Наука о литературе, также находящаяся
в цепи говорения-слушания и извлекая из нее свою суть и свою
цель — желание сказать, — определяет свой объект — текст —
как речь, но как речь, которая хочет-сказать-истину. Таким образом, наука о литературе, солидаризируясь с потребительской
позицией по отношению к текстовому производству в обществе
обмена, ассимилирует семиотическую продукцию в высказывание, отказывается познавать процесс ее продуцирования и принуждает ее к подчинению правдивому объекту (таков конвенциональный философский жест, представляющий литературу как
выражение реальности) или объективной грамматической форме
(таков идеологический жест модерна, представляющий литературу как закрытую лингвистическую структуру). Соответственно
наука о литературе признает собственные ограничения: 1) невозможность рассматривать семиотическую практику иначе, как в
ее отношениях с дискурсивной истиной (семантической или синтаксической); 2) отсечение (идеалистическое абстрагирование)
от функциональной целостности одной из частей — результат,
потребляемый определенным субъектом. Литературное потребление и наука о литературе обходят стороной производство текстов; они занимаются исключительно объектом, построенным по
Юлия Кристева шЩр Семиотика: Исследования по семанализу
130
их собственной модели (их собственной социально-исторической
запрограммированности), и не желают знать ничего иного, кроме
познания (самих себя). Именно в этом пункте противоречия — и
имплицитного признания бессилия — мы сталкиваемся с концептом «научное» правдоподобие как с попыткой логоцентрического разума установить контроль над транслингвистической практикой.
Сама «литература» достигла зрелости, что позволяет ей писаться машинообразно, не быть уникальным говорящим зеркалом и встретиться лицом к лицу со своим собственным функционированием через речь; будучи включенным, механизм этого
функционирования обязывает ее иметь дело с тем, что не является проблемой, присущей ее траектории, но что неизбежно конституирует ее для реципиента (читающего=слушающего) в качестве необходимой маски правдоподобия, которую она принимает
в качестве инструмента самостроительства. Именно этот третий
аспект правдоподобия обнаруживается в текстах Раймона Русселя. В них правдоподобие обсуждается по одну сторону от него
самого и презентируется по другую, т. е. в деятельности, предшествующей «литературе», для осуществления которой желание
сказать, становясь возможностью писать, демистифицирует
правдоподобие. Как раз на этом уровне мы и попытаемся уловить
его, чтобы эксплицировать его идеологию и историческую фик-
сированность, а также то, что составляет «реальность» правдоподобия: «искусство», «литература».
Желание сказать и правдоподобие
Если функция «смысла» дискурса — это функция сходства
поверх различий1, «идентичности» и «в себе присутствия», как
это показано в превосходной лекции Деррида о Гуссерле, то
можно сказать, что правдоподобие («литературный» дискурс)
есть вторая степень символического сходства. Поскольку подлинное желание-сказать (по Гуссерлю) есть желание-сказать-
правду, истиной будет дискурс, похожий на реальность; правдоподобие, не будучи правдой, становится дискурсом, который похож на дискурс, похожий на реальность. Правдоподобие — эта
смещенная «реальность», двигающаяся от утраты первой степени
подобия (дискурс — реальность) к игре исключительно на второй (дискурс — дискурс), — единственная постоянная характеристика: оно желает сказать, оно есть смысл. На уровне правдоподобия смысл предстает как генерализующий и забывающий
отношение, которым изначально детерминирован, — отношение
1 Мы развили это положение в работе «Смысл и мода».
язык/объективная истина. Смысл правдоподобия перестает быть
объектом вне дискурса, он не имеет ничего общего со связью объект/ язык, проблематика истинного и ложного не затрагивает его.
Правдоподобный смысл лишь притворяется, что всецело занят
объективной истиной; фактически он озабочен своим отношением с дискурсом, чья «видимость-объективной-истины» признана,
принята и институционализирована. Правдоподобие не связано
с познанием; оно знает лишь один смысл: чтобы быть аутентичным, необязательно быть истинным. В качестве убежища смысла
правдоподобие, не будучи бессмыслицей, не ограничено знанием, объективностью. На полпути между знанием и незнанием,
истиной и бессмыслицей правдоподобие образует промежуточную зону, куда проскальзывает скрытое знание, чтобы подчинить
себе практику транслингвистического исследования посредством
«абсолютного-желания-быть-услышанным »*. Сохранив за наукой область правдивости, это абсолютное знание, которым отмечено любое высказывание, порождает область двусмысленности, да-и-нет, в которой истина — это изначальное, призрачное
присутствующее воспоминание (присутствие вторично, но всегда
есть); это экстра-правдивая область смысла как правдоподобия2.
Скажем здесь, чтобы уточнить в дальнейшем, что проблема правдоподобия — это проблема смысла: иметь смысл — значит быть
правдоподобным (семантически или синтаксически); а быть правдоподобным — это не что иное, как иметь смысл. Или же, при условии, что смысл (за пределами объективной истины) представляет собой интердискурсивный эффект, эффект правдоподобия
есть вопрос отношения дискурсов.
Мы попытаемся исследовать это отношение на двух уровнях — семантическом и синтаксическом, подчеркнув, что различие лишь операционально: семантика постоянно пересекается с
синтаксисом, и «пустая» решетка формальной (грамматической)
организации не является субстратом рационалистической интен-
циональности, которая порождает и упорядочивает само понятие пустой артикуляции.
Основополагающее свойство семантического правдоподобия, как описывает его само слово, — это подобие. Правдоподобен всякий дискурс, который связан с другим отношением сходства, идентификации, отражения. Правдоподобие есть сопоставление (символический жест par excellence; ср. греч. symballein =
1 См.: Derrida J. La voix et le phénomène. P. 115.
2 Аристотель, главный изобретатель правдоподобия, не обошел вниманием отношение между познанием и репрезентацией (мимесисом, искусством) как сокрытие
реальности: «Если он что-нибудь познает (theorè), то необходимо, чтобы он это познал также в качестве представления: ибо представления, это — то же, что ощущения,
только без материи». В этой формулировке, раскритикованной Лениным, находятся
истоки идеализма (Ленин В.И. Соч. 4-е изд. М.: Госполитиздат, 1958. Т. 38. С. 285).
Юлия Кристева ЩШв Семиотика: Исследования по семанализу
132
ставить вместе) двух различных дискурсов, из которых один (литературный, вторичный дискурс) проецируется на другой, который служит ему зеркалом, и идентифицируется там вне различий. Зеркало, к которому правдоподобие отсылает литературный
дискурс, — это так называемый естественный дискурс. Этот «естественный принцип» применительно к определенному времени
представляет собой не что иное, как здравый смысл, общепринятое, закон, норму, определяющие историчность правдоподобия.
Семантика правдоподобия постулирует сходство с законами данного общества в данный момент времени, заключение его в рамки
исторического настоящего. Так, в нашей культуре семантика
правдоподобия предполагает сходство с фундаментальными «семантемами» нашего «естественного принципа», среди которых:
природа, жизнь, эволюция, цель. Руссель в своем письме сталкивается именно с этими семантемами «естественного принципа»,
когда репрезентирует свой переход сквозь правдоподобное в
«Африканских впечатлениях» и в «Новых африканских впечатлениях». Сходство с уже-там, предшествующим текстовой продуктивности (с естественным принципом) обнаруживает мистическую измену идее развития, присущей понятию правдоподобия1.
Но если семантическое правдоподобие представляет собой
«похожесть», то оно фиксируется, скорее, в эффекте подобия,
чем в процессе уподобления. На семантическом уровне придать
правдоподобие означает привести все искусственное, статичное,
беспричинное (иными словами, различия означаемых, соответствующих «естественному принципу») к природе, жизни, эволюции, цели (то есть к конститутивным семантемам естественного
принципа). Сам процесс этого приведения, развитие, непрерывность не учитываются. Правдоподобие рождается лишь в результате сходства. Отсюда и его вторая семантическая черта: появляясь в точке эффективности и ориентируясь на нее, правдоподобие представляет собой эффект, результат, продукт, забывающий
об искусственности продуцирования. Появляясь до и после продуцирования текста, будучи предшествующим и последующим по
отношению к транслингвистической деятельности, прикованное
к обоим концам цепи говорения-слушания (познаваемое говорящим субъектом и адресатом), оно не есть ни настоящее (дискурс
продуцирования настоящего — это наука), ни прошедшее (дискурс продуцирования прошлого — это история); оно претендует
на универсализм. Таким образом, оно как «литература», «искус¬
1 Ленин отвергает эту идею: «Это верно, что начинают люди с этого, но истина
лежит не в начале, а в конце, вернее, в продолжении. Истина не есть начальное впечатление...» (Там же. С. 162). Ср. также: «[правдоподобие] = объективизм + мистика
и измена развитию» (Там же. С. 166).
133
ство», так сказать, выставляет себя как «вневременность», «идентичность», «эффективность», согласуясь (конформность) более
глубоко и исключительно с уже наличным порядком (дискурс).
Синтаксическое правдоподобие становится принципом выводимости (различных частей конкретного дискурса) из формальной системы в целом. Здесь следует различать два момента. Дискурс считается синтаксически правдоподобным, если каждый из
его эпизодов можно вывести из него как из структурной целостности. Таким образом, правдоподобие выделяется из структуры
с особыми нормами организации, из конкретной риторической
системы: правдоподобный синтаксис текста тот, что подчиняет его законам данной дискурсивной структуры (риторическим
законам). Таким образом, в первую очередь мы определяем синтаксическое правдоподобие как риторическое: оно существует в
пределах закрытой структуры и для дискурса с риторической организацией. Именно благодаря принципу синтаксической выводимости правдоподобие замещает «процесс уподобления», негласно
происходящий на семантическом уровне. Семантическая процедура сопоставления двух противоположных единиц (доведение до
семантического правдоподобия) в результате приводит к «эффекту подобия », и теперь речь идет о том, чтобы придать правдоподобие самому процессу, приводящему к этому эффекту. Бремя этой
задачи берет на себя синтаксис правдоподобия. Чтобы сделать
правдоподобной технологию «уподобления», уже не нужно соотноситься с семантемами естественного принципа, играющего роль
объективной истины. Следует лишь восстановить процесс упорядочения эпизодов, вывести один из другого так, чтобы деривация
подчинялась избранным риторическим законам. Таким образом,
посредством выводимости риторика маскирует искусственность
«сопоставления», которому придается семантическое правдоподобие. Такая риторическая выводимость предлагает наивному
прочтению миф детерминации или мотивации1.
В этом случае появляется объективная необходимость охарактеризовать критерии синтаксической выводимости с помощью семантических понятий. Для таких текстов Русселя, как
«Африканские впечатления» и «Новые африканские впечатления», семантическими критериями доведения до синтаксического правдоподобия становятся для прозы линейность (порождение-цель) и мотивация (силлогизм), а для стихов — удвоение
(рифма, попарное соединение, идентификация, повторение).
Итак, синтаксический принцип выводимости связывает дискурс, воспринимаемый как правдоподобный, не только с его
собственной специфичной (риторической) структурой в целом,
1 Отношения смысл-риторика-мотивация-детерминация рассматриваются в
работе Р. Барта «Система моды».
Продуктивность, называемая текстом
Юлия Кристева щШи Семиотика: Исследования по семанализу
134
но и с формальной системой языка, на котором реализуется дискурс. Любой артикулированный дискурс выводится из грамматики своего языка, и благодаря этой выводимости, помимо особенностей его семантики и риторики, он допускает отношение подобия с объектом, т. е. правдоподобие. Поддерживая социальную
конвенцию (естественный принцип) и риторическую структуру,
правдоподобие более глубинным способом поддерживает речь:
любое грамматически правильное высказывание правдоподобно.
Говорение принуждает нас к правдоподобию. Мы не можем сказать ничего, что не было бы правдоподобным. Фуга Русселя, принадлежащая и противостоящая правдоподобию, заканчиваются у
этого последнего порога в той мере, в какой она останавливается
у порога функционирования языка, и останавливается там, чтобы
умереть. Однако на уровне соприкосновения с механизмом лингвистического знака предпочтительно проводить различие между
правдоподобием и смыслом.
Если «правдоподобие» как результат есть «смысл», то
«смысл» есть «правдоподобие» в силу механики своего образования. Правдоподобие — это смысл риторического дискурса;
смысл — это правдоподобие любого дискурса. Мы будем говорить о «правдоподобии» применительно к тексту, организованному как риторика, оставляя «смысл» для речи, а также продуцирования текста, который, записываясь в виде процесса письма,
не озабочен риторикой. Правдоподобие присуще риторической
репрезентации и выражено в риторике. Смысл свойствен языку
как репрезентации. Правдоподобие — это риторическая степень
смысла (знака = representamen). Так, в текстах Русселя, который выставляет напоказ процесс доведения до правдоподобия,
«правдоподобное» становится машиной, позволяющей выяснить
и представить главную функцию языка: формирование смысла;
иными словами, формирование смысла присутствует в риторической структуре как формирование правдоподобия. Напротив,
для Лотреамона при продуцировании текста демистификация
языкового механизма не составляет (более) проблемы: правдоподобие (повествование, структура, риторика) также не является более проблемой текстового письма; если она и возникает с
неизбежностью при восприятии текста (публикой, которая прочитывает «произведение», «результат»), то только в связи со
смыслом, присущим речи, с желанием-сказать [присущим] языку. Но даже эти понятия смысла и желания-сказать являются эффектом, имеющим силу исключительно в кругообороте кохммуни-
кации и восприятия, где письменная продуктивность выступает
под именем текста: в текстовой пермутации, предшествующей
продукту, они заполняют пустой промежуток. Однако, поскольку речь идет об экспликативном прочтении текстов, можно го¬
ворить о правдоподобии у Русселя, который строит свои тексты
на основе риторической решетки, но о смысле у Лотреамона, который преобразует речь в текст вне риторики и «естественного
принципа».
Лабиринт правдоподобия Русселя
Тексты Русселя, полностью моделируемые в рамках и при помощи раздвоения1, разворачиваются (как в письме, так и при прочтении) в двух аспектах: продуцирование текста и продукт —
текст. Бисемантизм, который в работе «О том, как я писал некоторые из своих книг» представляет собой место порождения
русселевского письма, конституирует его проект и практику
письма в целом. Руссель назвал две из своих книг Impressions
(«Впечатления»), и невозможно удержаться от прочтения в этом
означающем двойную игру означаемых; в словаре Литтре отмечается, что слово impression означает не только действие, но и его
эффект, то, что от него осталось2.
Раздваивая место своего письма на локусы письма и чтения
текста (деятельности и восприятия) и требуя такого же раздвоения в локусе чтения (который должен стать локусом чтения и
письма, восприятия и деятельности), Руссель приходит, с одной
стороны, к тому, чтобы мыслить свою книгу как активность,
связанную с нанесением впечатлений, меток, модификаций на
другую, отличную от них поверхность (поверхность языка); поверхность, которую они отрывают от идентичности самой себе,
от ее правдоподобия, добавляя ей гетерогенность, — письмо; с
другой стороны, из этого следует, что книга представляется как
результат, то, что осталось от этой деятельности, ее эффект, который может восстанавливаться и восстанавливается окружением: его книга «создает впечатление» в том смысле, что «побуждает оценивать, чувствовать, провоцировать» правдоподобие. При
таком способе действий, расщепляющем книгу на продуцирование и продукт, на действие и то, что от него остается, на письмо
и речь, и ткущего книжный объем в непрерывном сновании между двумя полотнищами, навсегда разделенными, Руссель имеет
возможность — насколько нам известно, уникальную в истории
литературы — шаг за шагом проследить развитие транслингвистической деятельности, продвижение слова к образу, возни¬
1 Относительно прочтения Русселя, мы отсылаем к фундаментальному исследованию М. Фуко «Раймон Руссель» (Foucault М. Raymond Roussel. P.: Ed. Gallimard,
1963).
2 Impression — 1. Действие, посредством которого одна вещь, прилагаемая к
другой, оставляет на ней отпечаток. 2. То, что остается от действия, которое вещь
оказывает на тело; более или менее отчетливый эффект от воздействия внешних объектов на органы чувств.
Юлия Кристева АЩр Семиотика: Исследования по семанализу
136
кающему за пределами произведения, а также возникновение
и угасание, рождение и смерть дискурсного образа этого статичного эффекта правдоподобия. Правдоподобие берет на себя
бремя деятельности: риторика удваивает открытое продуцирование, и это удвоение представляется как закрытая дискурсная
структура. Динамичная текучесть «впечатления» как действия
может инкорпорироваться в высказывание, только позаимствовав у впечатления статичность и ригидность в виде остатка,
эффекта. Таким образом, продуцирование не прочитывается
публикой, впечатленной правдоподобием (эффектом). «Новые
африканские впечатления» были необходимы, чтобы заполнить
пропасть, которая разделяет действие («письмо») и отпечаток,
немедленно абсорбируемый (доводимый до правдоподобия)
языком. Но здесь снова — ив этом драма Русселя и тех, кто
«занимается литературой», даже если эта литература пытается
стать наукой — риторика «произведения» (закрытая структура)
придает правдоподобие процессу продуцирования. Продуцирование не только не прочитываемо, но и не выразимо в литературной риторике. Для того чтобы высветить сам процесс текстового
производства, необходим структурно незамкнутый дискурс, т. е.
дискурс, структуририрование которого позволяет раскрыть,
расследовать, скорректировать. Именно в дискурсе текста «Как
я писал..л научное «как» предполагает смерть «писателя», которого наше общество представляет себе и программирует в
качестве персонажа, «впечатляющего» за счет продуцирования
правдоподобия. Написанный Русселем при жизни, но предназначенный для посмертной публикации текст «Как я писал...»
отвечает этому научному требованию так же, как и смерть «литератора», который (в «Африканских впечатлениях») ввел в повествование продуцирование текста, позволяя рассказывать и
читать о том, как он создается, в самом тексте. В отличие от Ло-
треамона, Руссель не смог объединить в одном письме два метода: «как» и «правдоподобие», науку и литературу. И на этот раз
в свете посмертно изданной книги совокупность текстов Русселя также представляется расщепленной, раздвоенной. Руссель
не занимается наукой как литературой (Лотреамон и Малларме
уже попытались сделать это), он представляет литературу как
науку. Но как раз эта амбивалентность и придает аналитичность
его книгам. Сцепленные друг с другом, читающиеся во взаимо-
соотнесении, и в обратном порядке, чтобы стать понятными,
эти книги реализовали то, что для Русселя так и осталось проектом: прочитывать последовательность текстов как целостность,
а каждую часть — через все вместе. Впрочем, этот проект в наиболее завершенном виде осуществлен в «Новых африканских
впечатлениях».
137
Итак, вначале «Как я писал...» предъявляет бисемантическую
запрограммированность лингвистической машины; затем «Новые африканские впечатления» раскрывают «трансцендентальное» означаемое силлогистической и закрытой структуры; вторая часть «Африканских впечатлений» предостерегает против
того, что мы назвали доведением до синтаксического правдоподобия; наконец, первая часть «Африканских впечатлений»
достигает уровня семантического правдоподобия, чтобы поколебать «естественный принцип» наших рассуждений. Однако, рассмотрев серию этих текстов в обратном направлении, мы их
прочитаем, следуя хронологическому порядку их появления, который Руссель сознательно и целенаправленно выбрал, чтобы
последовательно выявить наши предрассудки «потребителей
литературы» один за другим, от самых поверхностных до самых
глубинных. А также, может быть, чтобы заставить нас понять,
что прочитанное или написанное как правдоподобное по сути
всего лишь риторический уровень (коммуникативная поверхность) продуцирования смысла в речи.
Семантическое правдоподобие
Дело в том, что попугай быстро
Привыкает к цепи,
Которая...
Приковывает его к насесту и прикует намертво.
«Новые африканские впечатления»
В первой части «Африканских впечатлений» представлен
расположенный в африканских местах фантазматический универсум, где под властью царя Талу неподвижно разворачивается
оживленный спектакль машинерии, равнозначной с природой, -53
смерти, впечатляющей не менее (и даже более), чем жизнь. Люди, ^
скованные болезнью (Луиза Монталеско) или смертью (Имману- ц
ил Кант), функционируют благодаря машине (Луиза) или животному (сорока заставляет работать мозг Канта). Невероятная акробатика, волшебная стрельба; ребенок использует птицу, как
самолет; червь играет на ситаре; у Людовика учетверенный голос;
Легуальк извлекает музыку из собственной берцовой кости; к
слепой возвращается зрение; ткацкий станок ткет зори; страдающий амнезией вновь обретает память... «Впечатления» наполнены фантастикой, но мы переживаем ее как нечто правдоподобное. Искусственное (отличное от естественного, от реальности)
имитирует реальность, удваивает ее (становится равным ей) и
превосходит ее (оставляет в нас след более сильный, чем реальность). В этом и заключается основной жест правдоподобия: со¬
юность, называемая текстом
Юлия Кристева ЩШд Семиотика: Исследования по семанализу
138
поставление противоположных семем достаточно, чтобы свести
(невозможное) к истинному (к естественному принципу). Нужно,
чтобы странное, всегда присутствующее в нашей виталистской и
активистской культуре, смерть, неприрода, неподвижность (Луиза, Легуальк или все эти скопления проводов, приводных ремней
и шлангов), соотносилось со своим иным — с жизнью, природой,
движением; таким образом, ему достаточно начать функционировать, развиваться, обрести цель, продуцировать результаты,
чтобы превратиться в нечто правдоподобное. Можно сказать, что
дизъюнкция двух противоположностей (того же и иного) невозможна при их сопоставлении в дискурсе, неправдоподобное не
успевает конституироваться в речи. Две противоположности (то
же и иное, природа и нарушение) синтезируются в одно и то же,
которое всегда есть правдоподобие. Неправдоподобному доступна лишь одна темпоральность, которую можно обозначить
как Т1 речи: здесь оно практически не существует. В тот момент,
когда смерть начинает вести себя как жизнь, она становится
жизнью; можно даже сказать, что смерть правдоподобна, если
она ведет себя как ее семическая противоположность — жизнь.
Заметим кстати, что текст Русселя, доводящий «неправдоподобное» до правдоподобия, рассказывает (вставляет в повествование) как, что подразумевает роль шарнира, обеспечивающего
правдоподобие. В то же время в качестве правдоподобного спектакля «Африканские впечатления» являются размышлением над
процедурой доведения до правдоподобия: театр и теория правдоподобия.
Семантическое правдоподобие. Семическая
комбинаторика
Итак,образ «сопоставления», «как», «идентификации»часто
появляется в этой империи Того же, каковой является текст Русселя (здесь мы имеем в виду продукт, а не продуцирование).
Сопоставление требует двойного действия изоляции и притяжения, иными словами, нередуцируемости и одновременно синтеза
противопложных семем. Превосходной иллюстрацией этому
служит сопряженное функционирование двух металлов у химика
Бекса — магнетина и герметика. «Магнетин на расстоянии испытывал воздействие определенного металла и конкретного драгоценного камня».
«Чтобы осуществлять практические действия с недавно изобретенным магнетином, нужно было найти соответствующий изолятор... Тонкая пластина герметика задерживала излучение, исходившее от магнетина, и полностью уничтожала силу притяжения, которую не удавалось уменьшить через посредство самых
139
плотных материалов» (AB, 15)1. Речь агглюцинирует все, что нарушает ее структуру, ассимилирует любое отличие от норм естественного принципа: она функционирует наподобие крови Фога-
ра, тех сказочных сгустков, порождаемых летаргическим сном
ребенка, которые прорывают его вены, чтобы привлечь внешние
объекты, пробудить их и превратить мертвых или минералы в живые организмы. Идентифицирующая проекция «того же» на
«иное» (функция доведения до правдоподобия par excellence)
составляет основу каждого действия «мыслящего тростника»:
таков «белый тростник » Фогара, «рецептивное» растение, «предназначенное для бесконечного воспроизведения изящных картин, которые составляли отныне часть самого растения» (AB,
379). Человеческое Слово обретает в этом образе характерную
черту самовоспроизводства картин в пределах правдоподобия.
В речи становятся правдоподобными самые абсурдные семи-
ческие сочетания. Смешение двух дизъюнктивных рядов кажется
абсурдным лишь при временной и пространственной дистанции
по отношению к продуцируемому дискурсу: это место логической дифференциации, внеположное месту идентифицирующей
речи. Сходство двух семических единиц, которые логически исключают друг друга, поскольку удваиваются, разрушаются или
оказываются тавтологичными, однажды провозглашенное, более
не абсурдно, или, вернее, логический абсурд вырисовывается как
нечто необходимо предшествующее дискурсивному правдоподобию. Таким образом можно интерпретировать синтагму «дать
пальто зимующему в Ницце» (НАВ)2, которая, вероятно, резюмирует семантическую формулу преподнесения правдоподобия:
Это все равно у как: дать матросу-новичку рвотного корня во
время плавания,
В то время как шторм натягивает и рвет шкоты,
Докладчику начать с раздачи снотворного слушателям,
Пассажиру, высунувшемуся из окна мчащегося поезда,
Интересоваться веером...
(НАВ, 9)
У дискурса, доводящего до правдоподобия, имеется один
фундаментальный оператор: «как» — союз замещения, который
заставляет нас принимать несовместимые семы одну за другую:
Как если бы, выбрав еще одну возможность,
Колдовская сила склонила его
Принять: — устройство, изобретенное Франклином,
1 «Африканские впечатления »; далее сокращенно AB и номер страницы.
2 «Новые африканские впечатления »; далее сокращенно НАВ и номер страницы.
Продуктивность, называемая текстом
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
140
Чтобы избежать опасности погибнуть в колодце от молнии,
За серую нитку, продетую в швейную иглу,
— Принять черную доску с разрезом посередине,
За нагрудник священнослужителя...
(НАВ, 65)
Сопоставление одного и другого и замещение одного другим
унифицируют дискурс. Мысль (Речь) нашего настоящего воцаря-
ет спокойствие, внушающее доверие, поскольку приводит к самой себе (к правдоподобию): это внушающее доверие настоящее
Руссель называет «особенной» эпохой (НАВ, 43), и чтобы противопоставить его другому культурному тексту, он вызывает на
«поле битвы » Пирамиды, иную почву, состоящую из противостояний и различий ( «Египет, его солнце, его вечера, его небосклон»).
Эпоха, в которой «особенное» подразумевает дискурс, пронизывающий, начиняющий и охватывающий все, есть эпоха полисемии. Это значит, что слово (знак) неустойчиво раздваивается:
означающее имеет, по меньшей мере, два означаемых, форма
отсылает, по меньшей мере, к двум содержаниям, содержание допускает, по меньшей мере, две интерпретации, и так до бесконечности, и все правдоподобно, поскольку сопоставлено под одним
и тем же означающим (или под одной и той же формой, под одним и тем же содержанием, и так до бесконечности). Они меняются местами, но не до головокружения: правдоподобная речь
(знак) в коненом счете тонет в туманности смыслаг.
Таким образом, Руссель выявил еще один вариант семической
комбинаторики в отношении правдоподобия, а именно: единица
означивания раздваивается на индексы, из которых лишь один
является носителем смысла, тогда как сопоставление становится
возможным благодаря идентичности на уровне индекса, лишенного сигнификации. Эту процедуру можно проиллюстрировать
примерами организации нарративных синтагм. Так, в эпизоде о
виноградных косточках с репродукциями исторических картин
синтагмы «виноград» и «репродукция» сопоставлены на основе
их семических индексов «прозрачность» и «объем», которые в
данном контексте не имеют сигнификативной значимости; правдоподобным и доведенным до правдоподобия становится несопоставимость индексов — носителей смысла в данном контексте,
а именно «мизерность-величие», «растение-история», «природа-кинематограф» и т. д. ... Но если упомянутый эпизод — это
лишь введение в повествование удвоения вместе с отождествлением на уровне, лишенном смысла в конкретном контексте (на
1 См. Барт Р. Указ. соч. С. 236 и след.
141
уровне преграждения пути означаемому, занимающему место
означающего), то Руссель обнаруживает этот принцип в самом
ядре лингвистического функционирования, в полисемии.
Неотступная мысль Русселя о доводящем до правдоподобия
языке переродилась в страсть к полисемии со всеми ее побочными феноменами (синонимией, омонимией). Известно, что проект
«Африканских впечатлений» состоял в попытке «наполнить» —
с помощью повествования — «не оправдавшийся смысл» двух
гомофонов, реконструировать средствами риторики плотность
означаемого (различие), растворившегося в фонетической идентичности (означающих)1. Эта тема представлена в «Новых африканских впечатлениях» в образе креста — поливалентного знака,
говорящего о чем угодно, обо всем и ни о чем ( «сколько обличий
у креста», НАВ, 45) или часто повторяющаяся тема клеветы: уничижительный образ речи, доводящей до правдоподобия, дискурса, заставляющего поверить во все, что он считает вправе говорить.
Правдоподобный дискурс не только не оправдывает, но и
ограничивает смысл, редуцирует «реальность». Познающая
речь, наделяющая смыслом многомерный космос, лишь редуцирует его к линейной абстракции: «Извлекать по всякому поводу
свойственно человеку» (НАВ, 47). Довести до правдоподобия,
чтобы понять, — значит свести практику (театр) к объекту
(к плоскому образу). Механика знака сконцентрирована в этом
третьем варианте сопоставляющей дискурсной комбинаторики, в
ограничении, которое Руссель обозначил во второй части «Новых африканских впечатлений»:
«Таковы: полуденная тень на циферблате солнечных часов, Возвещающая о том, что желудок требует вознаграждения,
— Станут ли отрицать застывший эталонный метр,
Солнечный диск на небосклоне Нептуна »
(НАВ, 57)
Не оправдавшийся, ограниченный смысл компенсируется риторическим правдоподобием, которое составляет интегральную
часть механизма того же смысла: будучи его неотъемлемым
«иным», отсутствуя на эксплицитной поверхности, оно и является самим смыслом. В момент, когда оно (смысл-риторика) делает
его (себя) не оправданным, оно расширяет его (себя). Таким образом, устраняя тонкие перегородки означаемого, Речь (Голос)
всегда отодвигает их дальше, безошибочно обуздывая их неизменными грамматическими решетками:
1 Там же.
Продуктивность, называемая текстом
Юлия Кристева ЩШ} Семиотика: Исследования по семанализу
142
«Не будем забывать, что на самом деле голос выводит
За тонкую стену, за дверь »
(НАВ, 57)
В ходе этой операции несопоставимость означаемых преодолевается путем привлечения означающих, «держащихся» поверх
логических защит, приводящих в движение фиксированную картину логических (исторических, социальных) диспозиций, делающих их эфемерными и заставляющих их мутировать в другую
логическую (историческую, социальную) картину, для которой
исходные диспозиции — это лишь предшествующая система соотнесения. Таким образом, доведение до правдоподобия — это
перераспределение количественно ограниченных означаемых в
комбинации семические (означающих) переменных. Отсюда этот
динамизм на фоне смерти, эта статичная ажитация, которая создает «Новые африканские впечатления», и которая, если мы хотим прочитать ее как «желание сказать», будет означать: доведение до правдоподобия — единственная процедура эволюции в
пространстве мышления, она является движущей силой познавательной рациональности. Именно она превращает абсурд в значение:
— Заговорщик Цинна, сидя в своем кресле, становится
Другом Августа, почуяв западню...
— Даниил, вызывающий сочувствие у львов во рву...
— Аттила, тверже стоящий на ногах, чем Родриго, который старше его,
Он более знаменит александрийскими стихами, чем тот
расточительством,
— Что кривая, направленная против ходящих слухов,
Короче, чтобы сочетать две точки, чем прямая
(НАВ, 141-153)
Как бы то ни было, «динамика» правдоподобия, которая, казалось бы, может преодолеть любой логический (исторический)
барьер, скована наличным смыслом слов (грамматики, логических
категорий в их конечном значении), и именно в этих рамках она
наносит свои кривые на заблокированное (означающим) означаемое, именно исходя из этого она понятна (как означаемое).
В платонических спекуляциях относительно «искусства» эта
динамика правдоподобия эксплуатируется, чтобы навязать идеалистическое представление об искусстве-демиурге как дискурсивном творчестве. Будучи замкнутым в познавательной рациональности, платонизм рассматривает «искусство» не иначе, как в
его отношении к истине, т. е. как ветвь прикладных наук: искусство более или менее нечисто, его метод отличается смешанностью,
поскольку оно использует как догадку (orochasmos), так и изме¬
143
рение (metra), и никогда не достигает совершенной точности
(akrebeia) (см. «Филеб» Платона). Как мы увидим при дальнейшем анализе русселевского текста, продуцирование текста — это
не творчество (демиургия), но работа, предшествующая готовому продукту; что, следовательно, если она научна, то лишь как
практика в рамках своего собственного кода и как радикальная
деструкция образа, который придает ей платонизм (античный и
современный), представляя ее как смесь догадки и меры, как недостаточную точность, допустимую аномалию.
Подведем итоги: доведение до семантического правдоподобия представляет собой сопоставление противоположных семем
(и их соответствий на различных уровнях дискурсной структуры)
и того, что в результате происходит с каждой в рамках отношения субституции или ограничения. Играя на раздвоении системы
знака на означающее и означаемое, правдоподобие унифицирует
означающие поверх герметичных друг для друга означаемых: таким образом, оно предстает в виде генерализованной полисемии.
Можно сказать, что правдоподобие — это полисемия крупных
единиц дискурса.
Топология коммуникации
Сопоставление, конституирующее правдоподобие, создает
топологию, еще глубже раскрывающую семантику идеологии доведения до правдоподобия. Речь идет о топологии коммуникации, т. е. связи субъект-адресат. Можно продемонстрировать
псевдо-различие между этими двумя полюсами, которые, как в
игре с зеркалом, отсылают друг к другу в непреодолимом присутствии Речи говорящего, который слышит самого себя в речи
собеседника... Собеседник виртуально требует эффекта правдоподобия именно как со-беседник. Таким образом, субъект речи,
расслоенный на говорящего и собеседника, воплощает единственно возможную географию правдоподобия. Субъект дискурса как носитель «естественного принципа» 1 в качестве говорящего может элиминировать этот принцип лишь в несуществующей тем-поральности, находящейся вне дискурса и обозначенной
нами как Т1, т. е. в качестве не-говорящего и до своего конституи-
рования как собеседника. Такое раздвоение, которое порождает
«флуктуацию говорящего», появляющегося после субъекта и
предшествующего адресату («-S» и «D1 »), позволяет субъекту
дискурса реализовать комбинаторику семических единиц, завершающуюся «естественным принципом» 2. Последний воспринимается носителем «естественного принципа» 1 (говорящим), —
который уже находится на другом конце дискурсивной цепи в
качестве собеседника, — в форме вторичного дискурса, ретуши¬
Продуктивность, называемая текстом
Юлия Кристева ШЩр Семиотика: Исследования по семанализу
144
рования «естественного принципа» 1, осуществляющегося в ходе
самого говорения. Правдоподобие, таким образом, требует субъекта дискурса, который рассматривает своего собеседника (самого себя) как Другого и с помощью этой же процедуры идентифицирует себя с ним. Правдоподобие как вторая ступень смысла
ретуширует истинное и становится (на уровне своего бытования)
инструментом конституирования Другого как Самого (псевдоразличие), допускает свое восстановление в дискурсе Самим в качестве Другого.
Руссель использует образ фотоаппарата, чтобы описать эффект проекции Самого на Другого, который [эффект] структурируется скорее на ретуши одного (дискурса), чем на дизъюнкции
двух. Руссель воспевает «могущество ретушера», который вмешивается каждый раз, как
«Каждый, когда из своего “я”, к которому он привязан.
Ригидного,
Извлекает горделивое клише »
(НАВ. 5)
Фигура зависти и завистника налагает в дискурсе на образ ту
же топологию идентификации:
«Завистник (...)
Старается почувствовать ловушку со стороны другого»
(НАВ, 197)
И еще:
«По облику ближнего узнают о его ранге»
(НАВ, 201)
Зеркало дискурса, на которое проецируется распознавание
говорящим себя в собеседнике как собеседника (говорящий как
таковой и «ретушированный»), появляется в рациональности
познания как ^с-познавание (как нечто правдоподобное). Для
аристотелизма искусство как синоним правдоподобия направлено на принцип распознавания. Фрейд, цитируя Грооса, утверждает, что «Аристотель видел в радости узнавания основу художественного наслаждения»1.
У Русселя, согласно той же перспективе и фундаментальной
фигуре текста, образ воспроизведения, дублирования, эффекта
рас-познавания заполняет повествование. Мы его прочитываем в
«текучем рисунке... столь совершенном, что кое-где можно было
различить тень от крошек на скатерти» (AB, 136), который Фюк-
1 Freud S. Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient. P. 140. (Рус. пер.:
Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному // Фрейд 3. «Я» и «Оно».
Труды разных лет. Тбилиси: Мерани, 1991. — Прим. пер.)
145
сье выполнил с помощью конфеток. Таков и спектакль, устроенный Фогаром: «Подобно тому, как на каменном полу церкви при
солнечном свете воспроизводятся мельчайшие детали витража,
так и все пространство, заключенное в раму, рабски копировало
контуры и цвета, зафиксированные на экране» (AB, 179). Воспроизведение, плагиат, вторичное, эфемерное, мнимое «иное», имитация (Руссель славился своим талантом имитатора, и его многочисленные подражания актерам и другим лицам единодушно
сопровождались огромным успехом)1 — таков эффект речи, изменчивой текучести на хрупкой поверхности, готовой утонуть в
забвении, где распознавание уже не работает. Маг Дарриан сумел
восстановить память (знания, смысл, способность создавать правдоподобие) молодого негра, лишь «проецируя на белый фон, с помощью системы электрических прожекторов, движущуюся вереницу разнообразных расцвеченных картинок, которые принимались за реальность благодаря мгновенному перевозбуждению
чувств» (AB, 147). Это точный образ создания правдоподобия как
мгновенного эффекта проекции, которое осуществляется рывками и игрой контрастов, но которое, чтобы быть полным, требует
порядка: именно такой порядок восстанавливает Дарриан, когда
проецирует эти эпизоды в линейной и силлогистической последовательности. Таким образом, мы достигаем синтаксического
уровня правдоподобия.
Синтаксис правдоподобия
«Читатели, не приобщенные к искусству Раймона Русселя, с
большей пользой для себя прочтут сначала страницы 212-455
этой книги, а затем перейдут к страницам 1-211». Этот совет, добавленный на начальной странице «Африканских впечатлений»,
проливает свет, скорее серьезно, чем иронично, на инверсию, которую обращение к литературе (со стороны как пишущего, так и
читающего субъекта) представляет до текста. Эта инверсия, характерная для всех, кто не учитывает языковой механизм, который Руссель встраивает в образ, выявляет не только вторичный,
наивный, иллюзорный характер любого требования правдоподобия, но также процесс, с помощью которого субъект выстраива-
ет-присваивая-себе дискурс. Две стороны этого процесса Руссель
четко разделяет: одна из них — это правдоподобие как язык, другая — правдоподобие как речь.
Если семантическое сопоставление противоречивых единиц
было достаточным в первой части «Африканских впечатлений»,
чтобы высказывание стало читаемым (чтобы выделить фунда¬
1 Comment f ai écrit certains de mes livres, p. 41.
Продуктивность, называемая текстом
Юлия Кристева ЩШп Семиотика: Исследования по семанализу
146
ментальную ось языка правдоподобия), то подлинное рас-познава-
ние, составляющее основу «эстетического наслаждения», о котором говорил Аристотель, осуществляется лишь в грамматическом
жесте, проявляющемся в речи, а именно: 1) в конституировании
цепи нарративных синтагм; 2) в их упорядочении согласно правилам синтаксиса и/или дискурсивной логики.
Создание семантического правдоподобия, эксплицированное
в первой части «Африканских впечатлений», указывает на то, что
не может быть дискурса вне функции ассимиляции, уподобления,
идентифицирующей проекции языка как знака (слова, семем).
Как предварительное условие любого высказывания, семантическое правдоподобие во вторую очередь нуждается в своем дополнительном — в синтаксической структуре (фразе), которая
своими артикуляциями заполнит пространство, очерчиваемое
семантическим сопоставлением. Первая часть «Африканских
впечатлений» оперирует глубоко спрятанными минимальными
единицами языка: слова как семемы и смысл их агглюцинаций. На
этом уровне можно расшифровать закон знака и аппарат познания (рас-познавания) говорящего субъекта.
Во второй части «Африканских впечатлений» на сцене появляется более крупная единица — фраза со своими элементами и их
взаимозависимостью. Более представленный в повседневной речи,
этот второй уровень, хотя в письме появляется позже и оказывается вторичным, при чтении должен сообразовываться со здравым смыслом. Начав со второй части книги, читатель, не знакомый
с лабораторией Русселя, встретится с правдоподобием, поскольку
столкнется с повествованием, которое, как мы увидим, организуется как структурированная фраза. В самом деле, повествование
по-настоящему начинается только после и в поле символического
сопоставления первой части. Кажется, что Руссель хочет сказать,
что подлинное правдоподобие — это правдоподобие риторическое; истинное распознавание — это риторика (повествование).
Однако повествование (риторика) следует синтаксическому
движению фразы: риторические синтагмы повествования представляют собой экспансию грамматических синтагм. Правдоподобное повествование (вторая часть «Африканских впечатлений») открывается конституированием элементарных нарративных единиц. Вначале выделяется синтагма номинального типа,
которая сыграет роль субъекта в той фразе, каковой является
повествование в целом1. Так, Руссель начинает с перечисления
путешественников Ленсе, давая каждому краткую характеристику, при которой номинальная синтагма SN организована как атрибутивная (S + А). Сегмент, который служит определением к
1 Относительно номинальных и вербальных синтагм см. Jean Dubois, Grammaire
structurale du français, I et II, coll. Langue et Langage, Larousse, 1965.
существительному в атрибутивной синтагме, часто предстает в
виде фразы. Из этого следует, что глобальная фраза (повествование) принимает вид сцепления минимальных, т. е. предикативных
фраз (где номинальная синтагма является субъектом, а глагольная — предикатом) за счет соположения атрибутивных синтагм:
SNi + SNi + SNi... = (S + А) + (S + А) + ... =
= [S + (SNi + V + S№)] + [S + (SNi + V + SN2)] + ...
Повествование становится соположением повествований, которые вставляются друг в друга через опосредование «существительным» — субъектом.
Можно сделать вывод, что глагольная синтагма появляется в
повествовании, когда путешественники, оказавшись во владениях
царя Талу VII, долго работают ради выкупа, создав Клуб Несравненных и занявшись его делами. Эта глагольная синтагма содержит сегмент «глагол» V (нарративные эпизоды, обозначающие
действия Несравненных) и «номинальный сегмент Объект» SN2
(нарративные эпизоды, обозначающие объект действий Несравненных). Глагольная синтагма V + SN2 противопоставляется номинальной синтагме SN как предикат субъекту. Таким образом,
минимальная структура повествования выделяется как точная
копия структуры канонической фразы:
{(SN0-[(V) + (S№)]}
Формула усложняется, когда к разветвлению номинальной
синтагмы SNi (см. выше) добавляется разветвление номинально-
го-объектного сегмента SN2 в глагольной синтагме. Действительно, каждое из немыслимых действий Несравненных, которое играет роль объекта по отношению к главному «глаголу» повествования — «выкуп пленников», — в свою очередь развертывается в
автономное повествование (в каноническую фразу) со своими
собственными субъектом, глаголом и объектом. На этом уровне
объекта SN2 номинальной синтагмы можно констатировать другое включение повествований (канонических фраз) друг в друга
посредством соположения объектов номинальных синтагм, контролируемых «глаголом»:
(V) + [(S№) + (SN'2) + (SN2") + ...] = (V) + [(SN! + V + SN2) +
+ (SN'i + V' + SN2)+...]
Здесь также каждый SN2 поддается разворачиванию до бесконечности во фразу субъектно-предикатного типа, всегда правдоподобную, при единственном условии подчинения грамматическим нормам.
Упрощая, можно сказать, что повествование структурируется как две серии минимальных фраз, которые соответственно
Юлия Кристева ШЩр Семиотика: Исследования по семанализу
148
принимают вид субъекта номинальной синтагмы и объекта номинальной синтагмы (сегмента предиката) в канонической структуре повествования, прочно соединенных глаголом:
номинальная синтагма (субъект)
[S + [(SNi + V + SN2)] + [S’ + (SNi’ + V’ + SN2’)] +...
атрибут = субъект + предикат атрибут = субъект + предикат
номинальная синтагма (объект)
+
S' ’
V + [(SNi + V + SN2) + (SNi' + V' + SN2') + ...]
субъект — предикат субъект — предикат
глагольная синтагма (предикат)
Применение этой формулы к фантомному универсуму первой
части заканчивается приведением к правдоподобию1: непосвященный читатель распознает сквозь логическую решетку, соответствующую информативному высказыванию, «объект», чья
«истинность» допустима благодаря соответствию грамматической норме. Иными словами, будучи выведенным из приведенной
выше формулы, любое высказывание оказывается правдоподобным в отношении совершенства построения и синтаксиса.
Таким образом, мы выводим в качестве первостепенного синтаксического правила правдоподобия структуру канонической
фразы субъект-предикат. В рамках этого закона можно выделить несколько второстепенных синтаксических фигур правдоподобия, среди которых: повторение, удвоение, перечисление.
Отношение повторения связывает два аспекта книги, где второй — повтор первого с легким сдвигом, вызванным структурой
субъект-предикат второй части. Иными словами, в первой части
происходит соположение канонических фраз, редуцированных
до простых ядер (семем) и соединенных в качестве таковых. Вторая повторяет те же канонические фразы, упорядочивая их в соответствии со связью субъект-предикат, и такой порядок представляет собой корректировку, приводящую к риторическому
правдоподобию.
Во второй части книги повторения происходят между номинальными синтагмами субъекта и объекта: биографические дан¬
1 Сходные структуры обнаруживаются и в первой части книги, где сопоставляемые автономные эпизоды организуются как повествования (в соответствии со схемой
субъект-предикат). Однако анализ данной формулы более применим ко второй части
книги, поскольку именно она целиком строится вокруг оси субъектно-предикатного
сооответствия. Первая часть не является правдоподобным «повествованием»: ее синтагмы (канонические фразы) не интегрируются в общую структуру типа субъект-предикат.
ные, с помощью которых Руссель представляет путешественников, повторяются и детализируются (корректируются) в ходе
описания их деятельности в Клубе Несравненных. Еще раз корректировка происходит в момент появления структуры субъект-
предикат, и в этой артикуляции глагольная синтагма становится
детерминантой.
Итак, каждый раз повторение вводит новое измерение, которое постепенно приближает читателя к совершенному правдоподобию: от соположения семем мы переходим (через связь субъект-предикат) к номинальным синтагмам, чтобы закончить (все
время через связь субъект-предикат) минимальной фразой, состоящей из номинальной и глагольной синтагм и объединяющей
их. Эпизоды никогда не повторяются механически: «приращение» правдоподобия продолжается в одном направлении до тех
пор, пока связь субъект-предикат не охватит все семемы. Тогда
непосвященный читатель обнаружит в этом корректирующем
повторении мотивацию (силлогизм) и время (линейность: порождение — цель) и тем самым признает действие «естественного принципа ».
Минимальные фразы (минимальные повествования), которые
соединяются друг с другом в пределах объекта или субъекта номинальной синтагмы, задают ход риторическому времени: глубине, которая отсылает к истокам или ведет к цели и требуется как
предварительное условие любой претензии на правдоподобие.
Мы понимаем то, что происходит в царстве Талу VII, лишь благодаря темпоральной сетке, образующейся последовательным повторением нарративных семем по ходу развития фразовой структуры. Только фразовая структура повествования задает ему мотивированность и источник, поскольку это структура силлогизма
и/или линейного умозаключения, связанного с распознаванием.
Чтобы прочитать скрытый процесс продуцирования правдоподобия, необходимо произвести инверсию: мотивация и происхождение задаются повторением структуры субъект-предикат. Таким образом, все повествование оказывается производным от
этой структуры, которая всего лишь повторяется на различных
уровнях. Правдоподобие достигается тогда, когда каждый эпизод можно вывести из другого в рамках структуры предложения
(мотивации и линеаризации).
Реприза как одна из фундаментальных функций правдоподобия настолько характерна для русселевского текста, что и сама
повторяется в виде образа: образа повторения, резонанса, переиздания. Вспомним коня Ромула, у которого язык «вместо того
чтобы быть квадратным, как у всех лошадей, имел остроконечную форму человеческого органа речи. Эта особенность была замечена Юрбеном случайно, и тогда он решил попытаться дать
Юлия Кристева ЙШр Семиотика: Исследования по семанализу
150
Ромулу образование; после двух лет трудов конь, уподобившись
попугаю, научился четко воспроизводить любой звук» (AB, 96).
Или же семейство Алькотта —эта серия грудных клеток, отражающих звук: «Стефан произносил зычным голосом всякого рода
имена собственные, междометия и весьма употребительные слова, бесконечно варьируя регистр и интонацию. И каждый раз
звук отскакивал от одной груди к другой, воспроизводясь с кристальной чистотой; сначала он был мощным и выразительным,
потом начинал слабеть и в конце концов превращался в бормотание, похожее на глухой шум» (AB, 121). Или же новая версия
«Ромео и Джульетты», завершение которой не имеет никакой
связи с оригиналом, но ее шекспировское происхождение остается правдоподобным благодаря многочисленным репризам, подчиняющимся уже рассмотренной формуле предложения. Пиротехника мизансцены перенимает эту репризу в повторяющемся
образе дыма: «Облако испарений уже поднималось над сценой,
разлохматившись по краям. После того, как оно исчезло, из того
же источника повалил новый дым, повторивший все тех же персонажей, но в иных позах; радость уступила место страху, танцовщицы и распутники, вперемешку, стоя на коленях, склоняли головы перед явлением Бога-Отца, чей лик, недвижный, хмурый и
грозный, возносился в воздухе над всеми группами людей... Дым
образовывал здесь два наложенных друг на друга субъекта, и
каждого из них можно было оценить отдельно» (AB, 157).
Трудно не сблизить это настойчивое присутствие повторения
в книгах Русселя с той же одержимостью повторением в европейской литературе позднего Средневековья и раннего Возрождения (хроники, первые прозаические романы, жития святых
и т. д.). Углубленные исследования1 доказали устное, фонетическое, ярмарочное происхождение таких высказываний: они приходят прямо с ярмарки, рынка, из звуков жизни торгового города, от войска, готового к выступлению. Выкрикиваемые торговцами и герольдами повторяющиеся выражения составляют ядро
дискурсивной практики, порождаемой информированием и для
него, и структурируемой как сообщение, как связь между говорящим и адресатом. Затем они проникли и в письменные тексты
(ла Саль, Рабле и т. д.). Это произошло в тот момент, когда европейская структура освобождалась от господства символа (эпоха
Средневековья), чтобы подчиниться авторитету знака (Новое
время), и этот феномен лишний раз свидетельствует о том, до какой степени структура правдоподобного повествования украшает структуру фонетической коммуникации. Находясь на другом
конце исторического пути, когда происходит декомпозиция зна¬
1 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963;
Творчество Франсуа Рабле. М.: Художественная литература, 1961.
151
ка, и его формула обнажается для того, кто «порождает» текст,
Руссель вновь очаровывается (на этот раз с дистанцией, которая
позволяет ему воспроизвести феномен на всех уровнях структуры) этими реитерациями силлогизма, демонстрирующими строение (правдоподобного) высказывания.
Перечисление, близкое к повторению и подобно ему представляющее собой вокальную фигуру1 par excellence (то есть фигуру правдоподобную), следует также рассматривать в рамках
связи субъект-предикат, о которой говорилось выше. Оно появляется в серии номинальных синтагм, составляющих субъект повествования (таков список путешественников Ленсе), а также в
виде бесконечного соединения объектов номинальных синтагм
(деяния Несравненных). Перечисление — это частотная фигура в
«Новых африканских впечатлениях»: достаточно упорядочить
абсурдные факты в серию перечислений так, чтобы абсурдность
повторялась в каждом ее элементе, и эта абсурдность становится
правдоподобной, поскольку выводится из заданной синтаксической решетки. Например:
Свидетель...
— Заговорщик Цинна, сидя в своем кресле, становится
Другом Августа, почуяв западню,
— Башмак, которого навестил маленький Иисус,
— Одалиска, которой был брошен носовой платок,
— Смельчак, который передает фальшивку,
— Даниил, вызывающий сочувствие у львов во рву...
(НАВ, 141)
Перечисление обманчивых знаков и ложных высказываний
(НАВ, 181) также не является неправдоподобным; их серия как
синтаксическое множество выводимых друг из друга единиц образует правдоподобный дискурс, поскольку в свою очередь он
выводим из структуры канонической фразы.
Подчеркнем также: если перечисление — это корректирующая реприза исходной синтагмы, то осуществляемая коррекция
обнаруживается скорее на лексическом, чем на грамматическом
уровне (в отличие от повторения). Таким образом, перечисление
предстает как синонимическая серия, т. е. оно объединяет синтаксис (формирование серии) с семантикой (синонимия).
Проблема транслингвистического продуцирования
Если к двум частям «Африканских впечатлений» добавить
признание, которое Руссель сделал относительно приема, ис¬
1 Ср. высокую встречаемость этой фигуры в средневековых текстах; см.
«Закрытый текст >> (с. 46 наст, издания).
Продуктивность, называемая текстом
Юлия Кристева §Шр Семиотика: Исследования по семанализу
152
пользуемого в книге «О том, как я писал некоторые из своих
книг» (сочетание слов по их фонетическому сходству, и заполнение возникшего семантического разрыва «историей»), то мы получим полную схему доведения до правдоподобия.
Итак, для Русселя процесс продуцирования текста начинается с сопоставления означающих и не предполагает никаких «концептов» или «идей», предшествующих акту письма, за исключением «элементарной программы» машины с двумя функциями:
отображение (сходство означающих) и негация (различие означаемых). Как будет показано, в совокупности обе операции продуцируют правдоподобный дискурс, причем, применительно к
упорядоченному повествованию вначале семантически (I.A.
часть 1), а затем синтаксически (I.A. часть 2).
Означающее
Означаемое
Дискурс
Метадискурс
(произвольное)
(семантика
(риторическое
(теоретическое
правдоподобия)
повествование =
синтаксис
правдоподобия)
объяснение)
О том, как... (-1)
AB (1)
AB (2)
О том, как... (0)
На этом конце цепи продуцирования произвольный пусковой механизм письма, а также функции его «элементарной
программы» отсутствуют, вычеркиваются или забываются. Эта
экстра-темпоральная операция (с темпоральностью — 1), которая предшествует правдоподобному высказыванию, и состоит в
том, чтобы дать ход речи посредством сопоставления означающих на логической оппозиции означаемых, чтобы стать понятной и в свою очередь довести до правдоподобия, должна быть
повторенной в дескриптивном и экспликативном дискурсе нулевой степени: «О том, как я писал...». Такой «метадискурс» представляет собой «научный» остаток, превращение в линейное
мышление практики, которая остается в границах объяснения,
придающего правдоподобие. Если же «теоретический» подход
применяется, чтобы коммуницировать свою практику в культуру, структурированную в соответствии с решеткой потребления готового продукта, то теоретический дискурс принимает
форму текста с нулевой степенью, вне-текста, для которого нет
места в самой продуктивности (жизни) писателя, но который
представляет собой последнее (посмертное) высказывание и
который следует вернуть из мертвой точки (нулевой степени) в
пространство, предшествующее правдоподобному описанию (во
вневременность).
Однако для «непосвященного» читателя (для любого субъекта речевой цивилизации) «внетекст» есть первичный текст: источник всякого приведения к правдоподобию. Читатель правдоподобного обязательно должен произвести инверсию:
Метадискурс
(теоретическое
объяснение)
Дискурс
(повествование;
риторическое =
синтаксис правдоподобного)
Означаемое
(семантика правдоподобного)
О том, как... (0)
АВ (2)
АВ(1)
Такая инверсия вводится в процесс текстового продуцирования только для доведения до правдоподобия, чтобы сделать его
понятным в качестве ментального процесса, чтобы силой мотивации и финализма подчинить его рациональному познанию, короче говоря, чтобы трансформировать его во впечатление, в переживаемый эффект. Проблема представленности письменного
продуцирования в явном виде оставалась, однако, нерешенной, и
«Новые африканские впечатления» можно считать попыткой заполнить эту лакуну. Будучи корректирующим повторением «Африканских впечатлений» по названию и по тематике, «Новые африканские впечатления» отличаются иным обыгрыванием смысла
слова impression (= action de presser, d’imprimer [действие, связанное с прессованием, впечатыванием]). Здесь на страницы выводится не результат, но продуцирование, не правдоподобие, а
процесс доведения до него. В сравнении с «Африканскими впечатлениями» «Новые африканские впечатления» высвечивают
(как мы показали выше, приведя несколько цитат) различные
уровни доведения до правдоподобия. А каждая книга в пределах
ее собственного пространства пред-ставляет процесс разработки
текста внутри, несмотря и вопреки по отношению к правдоподобной дискурсной структуре.
Уже в «Африканских впечатлениях» Руссель подчеркнул, что
текстовая деятельность (отличная от впечатления правдоподобия, которое можно из нее извлечь) в фундаментальном отношении напоминает пространство театра и упорядоченность иероглифа. «Благодаря сходству персонажей эта вереница картин казалась соотнесенной с неким драматическим повествованием.
Поверх каждого образа читались, наподобие заголовка, несколько слов, выведенных кистью» (AB, 13; курсив наш). Все деяния
Несравненных (следует ли подчеркивать, что это наименование
отводит от книги Русселя любую интерпретацию, концентрирующуюся на сравнении, сходстве, правдоподобии и сохраняет за
ними место предшествования, фона, переводимого в пустоту в
«несравненном» акте письма) 1 мыслятся и предназначены для
сцены. Эта сцена предназначена не столько для доведения «странного» до правдоподобия (в спектакле возможно все), сколько для
1 Выбор Африки в качестве сцены «несравненного» театра также лишний раз
подчеркивает странность развития процесса письма, которая предшествует «первому впечатлению», очерчивая иное нередуцируемое пространство, где разыгрывается
текстовый процесс.
Юлия Кристева «Ш» Семиотика: Исследования по семанализу
154
демонстрации того, что пространство (сцена-зал) и практика
(серьезная игра) не подчинены правдоподобию (все становится
правдоподобным для того, кто находится вне пространства игры,
и, следовательно, вне пространства книги: для читателя, потребителя). Такой «несравненный» театр есть, очевидно, метафора
текстовой практики, тогда как игра объявляется единственным
спасением от правдоподобия, порождаемого наивностью: «Официант, что означает этот колокольный звон? — Это молитва о
спасении. — Тогда подайте мне арлекина» (AB, 14)1.
Образ текста в таком письме с необходимостью представлен
как репрезентирующий сам себя: оно рельефно выделяет особенности текстовой деятельности. Прежде всего, текст — это посторонний текст, странный, иной, отличный от собственного языка и
естественного принципа, нечитабельный, не сравнимый ни с чем,
не имеющий отношения к правдоподобию. Написанный иероглифами или на пергаменте, «понюкелейский», китайский или музыкальный (Гендель), он всегда отличен от нашей фонетической
речи, «совершенно недоступен европейским ушам, развертывается путаными строфами...» (AB, 115), скорее шифр, чем запись.
Единственные по-настоящему французские тексты, — не странные, правдоподобные — это письма, т. е. послания, предполагающие непосредственное понимание или, скорее, торг (таковы письма пленников своим родственникам с просьбой о выкупе). Вне
рынка даже французское письмо предстает как шифр (переписка
между Вельбором и Флорой) или служит для дешифровки нечитабельного письма («понюкелейского»). Текст — это также движение реорганизации, «лихорадочный круговорот», который
продуцирует разрушая. Машина Луизы — образ этой функции
par excellence: прежде всего, это изобретение порождено книгами, прочитанными Луизой, и представляет собой, так сказать,
пермутацию текстов; далее, ее функционирование заключается в
переделке того, что она уже сделала, в переписывании карандашом того, что было выведено кистью. «Карандаш забегал сверху
вниз по белой бумаге, следуя вертикальным разделительным линиям, заранее нанесенным кистью. На этот раз ни обращение к
палитре, ни смена инструмента, ни растирание красок не задерживали работу, которая быстро подвигалась вперед. В глубине
возникал тот же самый пейзаж, однако отныне он представлял
второстепенный интерес, изничтожаемый фигурами первого
плана. Живо схваченные жесты, четко изображенные манеры,
1 Известно, что Руссель наделял театр «дидактической» функцией: достаточно
проанализировать две его пьесы «Звезда на лбу» и «Пыль солнц», а также адаптацию
для сцены его «Locus Solus», чтобы очевидными стали усилия, предпринятые Русселем, чтобы избежать дискурсивной (символической) топологии и правдоподобной
репрезентации.
155
забавные силуэты и лица, свидетельствовавшие о явном сход-
стве, имели требуемую выразительность, то мрачную, то веселую... Несмотря на контрастную обстановку, рисунок точно передавал лихорадку уличного движения» (AB, 209; курсив наш).
Как не расшифровать в этих строках метафору текстовой деятельности, которая пронизывает речь (рисунок кистью), поглощает и уничтожает его в лихорадочной жестовости, чтобы в свою
очередь застыть в новом впечатлении, ином, хотя и похожем!
Такая текстовая практика не имеет ничего общего с финитной
и метафизической энергией: она ничего не продуцирует, кроме
своего собственного конца, и любая интерпретация, которая пытается ее зафиксировать как результат (правдоподобие), оказывается внешней по отношению к продуцирующему ее пространству.
Образ смерти, таким образом, диалектически связывается с образом машины: текст столь же умерщвляет, сколь и производит.
Моссем выписывает свидетельство о смерти Сидры, а Кармихаэль
рвет в клочья туземный текст, «инфернальный текст, напоминавший ему о стольких скучных и томительных часах работы», AB,
454; курсив наш), чтобы завершить приключения Несравненных,
повествование и книгу Русселя.
Представление о продуцировании текстов как о саморазрушении, аннигиляции, устранении вовсе не предполагает концепции литературного текста как «литературности», самодовлеющей в ценной для нее изоляции. Последнее привело бы к тому,
что «литературное» произведение стало читаться как правдоподобное; идеологические основания и историческую ограниченность этого мы уже продемонстрировали. Напротив, первый постулат позволяет нам сформулировать следующий закон:
Продуцирование текста — это мера, присущая литературе
(тексту), но она не есть литература (текст), подобно тому,
как любой труд есть имманентная мера стоимости, не будучи
стоимостью как таковой.
«Новые африканские впечатления» направлены на преодоление расхождения в мере имманентного/произведенного, труда/
стоимости, продуцирования/текста, письма/литературы. Если
эта книга, как и все тексты Русселя, представляет собой репризу
(репродукцию, дублирование) лингвистического функционирования, то в ней имитируется отнюдь не правдоподобный дискурс
(в НАВ функции правдоподобия описаны на уровне лексики,
означаемого), но траектория пересечения речи письмом (проблема НАВ связана с объединением всего того, что будет прочитано
как текст с немой архитектоникой, живущей в промежутках между словами).
Находясь вне проблематики правдоподобия, НАВ не является
сообщением, предопределяющим результат: они не рассказыва¬
Продуктивность, называемая текстом
Юлия Кристева бЩр Семиотика: Исследования по семанализу
156
ют о приключениях, не описывают конкретных феноменов, не
открывают никакой истины, предшествующей их продуцированию. НАВ как вербальная структура, которая никуда не ведет, но
исчерпывает себя на пути от слов к образу, — это попытка обойтись без нашей основной предпосылки: информация, признание
целостности, предшествующей создающей ее практике.
Если семантическую структуру НАВ считать серией несходств, соположений противоположностей, объединений без
синтеза, то ее можно прочитать как результат (правдоподобное
сообщение), раскрывающий — как мы показали выше, — сопоставление противоположных семем, которые складываются в семантическую фигуру, составляющую основу доведения до правдоподобия. Более того, и на этот раз на самой траектории текста,
эти серии несходств, из которых сотканы НАВ, указывают на
фундаментальный факт: продуцирование текста разрушает идентичность, сходство, проекцию отождествления; оно представляет собой не-идентичность, противоречие в действии.
Синтаксическая структура НАВ — это вызов синтаксическому правилу правдоподобия, т. е. фразеологической связи субъект-предикат и структурным отношениям, которые она детерминирует, вызов мотивации и линеаризации. Действительно, каждая из глав НАВ содержит, по крайней мере, одну каноническую
фразу, но она тонет в реитерациях других активизирующихся
фраз, синтагм или сегментов, которые образуют разветвленную
лестницу со многими площадками, разделенными (соединенными) скобками. Это анафорическое сцепление разрывает структуру (фразы, повествования, любую возможную структуру) и заменяет ее означивающими, но неструктурированными связями1. Эти
анафоры, заключенные в скобки (их число достигает девяти), подобно молниям раскалывают поверхность структуры, в которой
каждый сегмент выводим из целого или из другого сегмента, разрушают линию субъект-предикат, и, как станок, ткущий зори,
или машина Луизы, выстраивают бесконечные пространство,
объем, движение. Выявив анафорическое, трансструктурное
функционирование продуцирования текста, эти заключенные в
скобки лучи шаг за шагом возвращаются к структуре субъект-
предикат, чтобы дать нам возможность читать структурированную (правдоподобную) речь, или, вернее, маркировать, что правдоподобие существует на ином уровне, отличном от того, где осу¬
1 Таким образом, текст приобретает два аспекта: с одной стороны, он содержит
первичную каноническую структуру, которая описывает феномен; с другой стороны, он продуцирует анафоры, которые указывают на внеструктурные единицы. Этот
двойной аспект текстового функционирования представляется фундаментальным для
любого вида письменной практики. Напомним, что китайские иероглифы делятся на
вэнь (простые фигуры с дескриптивной тенденцией) и цзен (составные иероглифы с
индикативной тенденцией).
ществляется текстовая деятельность. Попытаемся точнее
объяснить этот двойной регистр (продуцирование/правдоподобие), затронутый Русселем в НАВ.
Структуры литературного продукта и коммуникативного
дискурса (Речь = естественный принцип) связаны в рациональном
познании (в логических формулах рассудка) таким образом, что в
каждой единице одной из них существует единственное соответствие в другой, соответственно наши интерпретации двух структур можно назвать изоморфными. Известно, что если все модели сети аксиом изоморфны друг другу, то такая логическая сеть
называется мономорфной. Эффект правдоподобия — это эффект
изоморфизма между двумя дискурсными структурами (литературная структура-структура коммуникативного высказывания)
внутри этой сети мономорфных логических аксиом1, составляющих нашу систему умопостигаемости. В этих рамках невозможно
точно определить характер экстра-логической структуры (неправдоподобного «литературного» продукта) с помощью формул, взятых из той же символической системы. Поскольку каждая из них и ее отрицание уже являются следствием логической
(вербальной) сети, упорядочивающей рассуждение, каждая формула оказывается истинной для каждой интерпретации, предполагаемой этой логической сетью.
Напротив, продуцирование текста в НАВ не подходит для дескриптивной теории литературы. Сеть логических аксиом, необходимая для нее, относится к разряду полиморфных. Полиморфизм не позволяет одновременно мыслить структуру и ее отрицание, подчинение «принципу» и его противоположности, закон
грамматики и анафорическое «ускользание». Очевидно, что такой полиморфизм напоминает мономорфизм и не может без него
обойтись. Так, в нашем случае любая фигура в НАВ, которая не
укладывается в грамматическую (логическую) решетку, может
быть выражена в мономорфизме, но не может быть дедуцирована
из него, потому что: 1. операция деривации сталкивается с
неструктурированными пустотами — анафорические разрывы;
2. она была бы бесконечной, если не была бы выражением.
Напомним также, что, нарушая структуру канонической фразы (правдоподобие синтаксиса) и дискурсивного уподобления
(правдоподобие семантики), продуцирование текста, которое является частью повествования НАВ, осуществляется в лингвистическом пространстве, которое не редуцируется к грамматическим (логическим) нормам и которое в другом месте2 мы назвали
1 Понятие, известное Дедекинду уже в 1887 г. Веблен (1904) использовал термин
«категориальный», имея в виду оппозицию категориальной и дизъюнктивной пропозицией. Мы используем термин, соотносясь с уровнем общей логики.
2 «О семиологии параграмм», с. 98 и след. наст, издания.
Юлия Кристева ШШр Семиотика: Исследования по семанализу
158
потенциальной бесконечностью. Именно в поэтическом языке,
понимаемом как потенциальная бесконечность, понятие правдоподобия заключается в скобки: оно действенно в конечной области дискурса, подчиняющейся схемам конечной дискурсивной
структуры, и, следовательно, оно обязательно появляется каждый раз, когда конечный мономорфный дискурс (философия, научное объяснение) восстанавливает бесконечность продуцирования текста. Но ему нет места в самой этой бесконечности, где невозможна никакая верификация (подчинение семантической
истине или синтаксической выводимости).
Теперь можно сформулировать то, что мы назвали «проблемой транслингвистического продуцирования»:
В отношении текста, рассматриваемого как производство
(Pt), невозможно установить систематический и конструктивный процесс, позволяющий определить, правдоподобна ли формула (эпизод), взятая из Pt, иными словами, обладает ли она:
1. синтаксическим свойством производности в Pt; 2. семантическим свойством тождественности истины; 3. идеологическим свойством переживаемого эффекта.
Очевидно, что концепт продуцирования текста приводит нас
на уровень рассуждений, сходный с тем, что математики называют неразрешимой по существу теорией1. Хотя сам термин допускает разные толкования (в других контекстах он означает, что
истинность или ложность гипотезы никогда не может быть доказана), концепт «неразрешимости» имеет первостепенную важность для нашей темы. Как известно, в логике согласно конечным
импликациям этого концепта «нам доступны все трюизмы общей
логики, но нет процедуры, посредством которой для каждой данной формулы мы могли бы с помощью конечного числа шагов решить, трюизм это или нет»2. Применительно к продуцированию
текста концепт «неразрешимости» подразумевает, что процедура письма (текстовая деятельность, процесс мышления) не имеет
отношения к понятиям доказательства и верификации. Однако,
что такое правдоподобие, если не имплицитная возможность
каждой мономорфной системы доказывать и верифицировать?
«Истинность» текстовой деятельности не доказуема и не верифицируема, можно сказать, что она происходит из иной, чем
правдоподобие, области. «Истинность» или правильность письменной практики — явление другого порядка: она неразрешима
1 Система неразрешима, если невозможно решить, является ли каждая формула
этой системы истинной или ложной. О проблеме неразрешимости см.: Robinson R.M.
An Essentiel Undecidable Axiom System //Proceeding of the International Congress of
Mathematics. Cambridge, Mass., 1950; Tarski A. Undecidable Theories. In collab. with
A. Mostowski and R.M. Robinson. Amsterdam: North-Holland Publ. Co., 1953.
2 Kneale W., Kneale M. The Development of Logic. Oxford: Clarendon Press, 1962.
P. 737.
159
(недоказуема, неверифицируема) и предполагает завершенность
продуцирующего жеста, т. е. траектории письма, создающего и
разрушающего самого себя в процессе сопоставления слов, находящихся друг с другом в оппозиции или противоречии. Такое
неразрешимое продуцирование не может быть подвергнуто процедуре верификации (доведения до правдоподобия), которой
чревата любая дескриптивная теория литературного продукта,
поскольку «не менее велико его [рассудка] непонимание соотношения их [терминов идеи] даже тогда, когда оно уже явно положено; так, например, он упускает из виду даже природу связки в
суждении, указывающей, что единичное, субъект, есть столь же и
не единичное, а всеобщее»1. Оно порождается диалектической
логикой, которая признает уместность любой практики (практика письма — лишь одна из ее моделей) как процесса по своей сути,
который идентичен самому себе (а значит, и понятиям процесса и
практики) лишь в качестве абсолютного отрицания (диалектического).
Такова проблема, которую НАВ пытается решить. Однако
нельзя не заметить, что, если решение и существует, то оно оказывается двусмысленным. Текст Русселя всегда остается двойственным, расщепленным: он переживает собственную проблему
текстовой деятельности, но он стремится к правдоподобию; он
продуцирует, но и доводит до правдоподобия; он анафоричен, не
похож ни на что, неинформативен, но также и риторичен; он инструментарий, но также и произведение. Сделав эксплицитной
текстовую деятельность с помощью перечисленных выше трех типов ходов, Руссель должен был замкнуть ее в риторике тем более
настоятельно, что распад структуры правдоподобной речи был
завершен. В результате место прозы занимают стихи, а рифма как
главный способ экстериоризации символического сопоставления
украшает все сооружение. Тогда становится понятно, что Руссель не выходит за пределы разрыва между текстовой деятельностью и прочитыванием правдоподобия: у него, скорее, правдоподобие включает в себя текстовую деятельность, а не наоборот.
Текст Русселя — это доведение до правдоподобия, подражающее
собственному производству; хотя в нем и осознается разрыв продуцирование/произведение, он существует не как научное познание этого процесса, но как фикция, выдающая себя за знание.
Его акт — менталистский, связанный со знаковым мышлением
(с правдоподобием), которое с необходимостью доводится до
правдоподобия риторикой (поэзией, рифмой). Лотреамон задолго до этого пошел гораздо дальше. «Песни Мальдорора» и
«Стихотворения» — это движение продуцирования, которое на¬
1 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 6. М.; Л.: Госиздат, 1939. С. 324.
Продуктивность, называемая текстом
Юлия Кристева rnÊÏÏ Семиотика: Исследования по семанализу
160
всегда для последующей истории текстов поставило сформулированную выше проблему транслингвистического продуцирования. Верно и то, что эти тексты можно прочитать как правдоподобные в той мере, в какой они не пренебрегают языком,
дискурсом, высказыванием, т. е. смыслом, но строятся через них;
или же все это подчиняется единственному правилу доведения до
правдоподобия: грамматической, логической, синтаксической
структуре (правилам смысла дискурса) без растворения в двусмысленности знака и в конвенциональной риторике.
Однако как таковой текст Русселя манифестирует также начало нового этапа, который наша культура переживала в конце
XIX в. (вместе с Малларме, Лотреамоном, и на другом, фундаментальном и, в конечном счете, определяющем уровне рассмотрения, с Марксом). Речь идет о переходе от двойственности (от
знака) к продуцированию (к транс-знаку).
Средневековая эпоха символа была семиотической par
excellence: каждый элемент был означающим по отношению к
другому при объединяющем доминировании «трансцендентного означаемого» (Бог); все было правдоподобно, поскольку семиотически выводилось из монолитной системы. Возрождение
привнесло двойственный знак (референт-репрезентамен, означающее-означаемое), отсылая любой правдоподобный элемент
(наделенный смыслом) к единственному условию — быть сопоставленным с тем, что он дублирует, имитирует, репрезентирует, т. е. к единственному условию, позволяющему идентифицировать речь (искусственное) с реальностью (синтаксической или
семантической истиной). Третья эпоха, которая, кажется, пробудилась с литературным авангардом и в горниле неописательной (аналитической) или аксиоматической науки, бросила вызов
знаку и речи, предложив взамен предшествующий им процесс.
На месте говорящего или описывающего-пишущего произведение субъекта (попугай Русселя), вырисовывается фигура, пока
странная и неотчетливая, улавливаемая с трудом, смешная для
потребителя правдоподобного; это антисубъект, продуцирующий меру, присущую тому, что реифицируется в качестве текста.
Руссель, по-видимому, предлагает такую странную фигуру в лице
повара Мопсюса (см. «Locus Solus»), который, отказавшись говорить, пишет собственной кровью «странные геометрические
рисунки, всегда разные»; его письмо — «воспроизведение второй
степени», он сочетает «звук и форму» и в конце концов выражается в александрийском стиле.
Все пространство современности способствует этой текстовой активности, которая особенно заметна в последние годы: мир
труда, утверждающий свою приоритетность по отношению к
стоимости; поле науки, которая исчерпывает себя в исследовани¬
ях производства и деструкции, всегда мало правдоподобных, но
«анафоричных». Если верно, что культуру можно определить,
исходя из ее отношения к знаку (речи)1, то очевидно, что культура, которая объявляет себя антитеологичной, разрушает фундаментальные характеристики знака (двойственность, силлогистическую структуру, метафорическое построение смысла и/или
риторики), чтобы заместить их диалектической пермутацией лингвистических сегментов (которые скорее переменные, чем знаки-
означающие/означаемые), не производных, не идентифицируемых, бесконечных, поскольку не выводимых из уже наличного,
предшествующего самой продуктивности. Такая пермутация —
это не семиотизация в средневековом смысле слова, поскольку ее
проблему составляет не смысл, а то, что ему предшествует и его
превосходит. Как всегда, продуктивность, о которой идет речь,
опережает науку о себе; науку об этой продуктивности следует
разрабатывать, исходя из семиотики, но не столько во всем следуя ей одной (чтобы избежать декоративного миниатюризма
Средневековья), сколько обращаясь к ее помощи как к инструментарию, а не зафиксированной системе. В любом случае в этом
универсуме транслингвистической продуктивности нет места
правдоподобию: оно остается провинциальной монополией,
внешней по отношению к обществу информации и потребления.
1967
1 Lotman J. Problèmes de la typologie des cultures // Information sur les sciences
sociales. Avril-Juin, 1967. P. 29.
Поэзия и негативность
Не должно ли допустить, что человека пытающегося высказаться о несуществующем, и говорящим назвать нельзя?
Платон. Софист
Осуществление функции суждения стало возможным лишь благодаря созданию символа отрицания.
Фрейд. Отрицание
...сознательному в нас недостает того, что сияет
в вышине.
...Что до меня, то именно этого я требую от
письма и берусь обосновать свое требование.
Малларме. Музыка и Литература
Ассимилировав все системы означивания в модель речи (существенно важным жестом, опровергающим герменевтические
спекуляции), семиотика сегодня должна поставить проблему
специфики различных семиотических практик.
Ниже мы обратимся к особому типу означивающих практик:
поэтическому языку, охватывая этим понятием, согласно постулату Романа Якобсона, как «поэзию», так и «прозу»1. Соответственно для нас поэтический язык — особый тип семиотического
функционирования среди множества других означивающих
практик, а не самодовлеющий (конечный) объект в себе, которым
обмениваются в процессе коммуникации.
Не претендуя на исчерпывающую характеристику черт,
свойственных этой особой семиотической практике, мы рассмотрим ее лишь в одном аспекте — негативности. В качестве отправной точки мы примем философское определение негативности,
данное Гегелем, и в ходе наших размышлений будем уточнять
специфику поэтического отрицания:
«...отрицательное — это целое... противоположение, абсолютное, не соотносящееся с иным различие; это различие как
противоположение исключает из себя тождество, но тем самым
1 «Эту функцию (поэтическую функцию) нельзя успешно изучать в отрыве от
общих проблем языка, и, с другой стороны, анализ языка требует тщательного рассмотрения его поэтической функции. Любая попытка ограничить сферу поэтической
функции только поэзией или свести поэзию только к поэтической функции представляет собой опасное упрощенчество» (Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 202). Поскольку эти поэтические особенности более всего поражают нас в том, что принято называть поэзией, из нее мы
и будем черпать примеры. Однако подчеркнем, что развитие литературной практики
с конца XIX в., до того, как это произошло в науке, стирает различие, проводимое
традиционной риторикой между «прозой» и «поэзией».
оно исключает само себя, ибо как соотношение с собой оно определяет себя как само тождество, которое оно исключает»1.
В нашем подходе выделяются два аспекта. Во-первых, мы будем исследовать статус поэтического означаемого в соотнесении
с означаемым в непоэтическом дискурсе (в качестве типичного
примера последнего рассматривается дискурс повседневной устной коммуникации). На этом уровне, который мы определяем как
интертекстуальный, поскольку речь идет о сравнении текстов
различного типа, мы попытаемся продемонстрировать, как в поэтическом означаемом реализуются отношения истинное-лож-
ное, позитивное-негативное, реальное-фиктивное.
Во-вторых, мы подойдем к логическому отношению норма-
аномалия внутри семантической системы поэтического текста
как такового. После этого мы определим тип отрицания, свойственный поэтическому языку, и проследим, как, исходя из этих
структурных особенностей, очерчивается новое пространство,
где можно было бы осмыслить означивающую деятельность: пространство параграмматического письма, в котором субъект исчезает. Мы попытаемся определить это пространство в корреляции
с пространством субъекта (речи-знака) в гегелевском или фрейдистском смысле.
Таким образом, в процессе работы мы будем оперировать семантическими единицами (означаемыми), которые мы выделим
как означающие. Следовательно, мы обратимся к семиотическому уровню анализа.
Подчеркнем также, что цель этого текста — лишь указать на
некоторые проблемы, оставив за собой возможность детально
рассмотреть их в другом месте.
Статус поэтического означаемого2
Почему мы предпринимаем попытку получить доступ к особенностям семиотической практики, обращаясь к статусу негативности в ее рамках?
Логическая операция негации, которая представляется основой любой символической активности (в той мере, в какой она, по
замечанию Гегеля (см. выше), составляет основу различия и дифференциации), есть нерв, организующий функционирование символизации3. Следовательно, мы встречаемся с этой операцией
каждый раз, когда пытаемся осмыслить язык, и с тем большим
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. М.: Мысль. 1971. С. 57.
2 Под «поэтическим означаемым» будет пониматься смысл целостного сооб¬
щения поэтического текста.
3 «В языке нет ничего, кроме различий », — подчеркивает Соссюр (Соссюр Ф. де.
Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 152).
Юлия Кристева ШЩр Семиотика: Исследования по семанализу
164
основанием, если речь идет о построении типологии языков (мы
предпочитаем термин «семиотическая практика», чтобы избежать смешения с одним из типов языка — устным). Подчеркнем,
что именно структурный тип негации, т. е. тип дифференциации,
действующей среди конститутивных единиц (данной семиотической практики), и тип отношений, подчеркивающих эти различия, детерминируют специфику типа практики означивания.
Мы обнаруживаем проблематику отрицания уже в самих началах западной логики, у греков, которые, начиная с Парменида,
затем Платона и особенно стоиков, детально разработали теорию «опровержения»1. Однако сколь бы рационализированной
ни была эта теория, которая непосредственно вызвала рефлексию относительно лжи и небытия, греки всегда находили нечто
таинственное в акте отрицания2. Вследствие этого два божества
пришли к тому, чтобы поделить два аспекта символической деятельности: утверждение3 и отрицание4 — Аполлон и Дионис5.
У Платона (в «Софисте») размышление по поводу операций
утверждения и отрицания приобретает форму двусмысленности,
а именно: коль скоро свойство дискурса (Логоса) идентифицировать, быть присутствием в себе, он может включать в себя отрицаемый, т. е. нетождественный, отсутствующий, несуществующий термин лишь в качестве эвентуальности (как несуществование), исходя из которой мы можем сказать, что является иным
отрицаемого: то же самое. Другими словами, логика речи предполагает, что она может быть истинной или ложной («или» в
смысле исключения), той же или иной, существующей или несуществующей, но никогда одновременно той и другой. То, что отрицается говорящим субъектом, опровергается им, конституирует «источник» его речи (поскольку отрицаемое составляет начало дифференциации, т. е. акта означивания), но может участвовать
в речи лишь как исключение из нее, существенно иное по отноше¬
1 Напомним, что стоики проводили тонкое различие между отрицанием
(farocpanxov), противоречием (dvnxeljieva) и отказом (àpvr|TXÔv).
2 См.: Kneale R., Kneale М. The Development of logic. Oxford: Oxford University
Press, 1964. P. 21.
3 Утверждение, в той мере, в какой оно представляет собой просто прием (Ersatz) объединения, является делом Эроса (Freud S. La Négation // Organe officiel de la
Société psychanalitique de Paris. 1934. VII (2)).
4 «Отрицание это эквивалент (Nachfolge) вытеснения, а точнее, инстинкта разрушения (Destruktionstrieb)» (Ibid.).
5 Ницше показал взаимодополнительность этих двух божеств, т. е. двух «операций » утверждение-отрицание в формировании поэтического акта: «Было бы большим
выигрышем для эстетической науки, если бы не только путем логического уразумения, но и путем непосредственной интуиции пришли к сознанию, что поступательное
движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисического
начал, подобным же образом, как рождение стоит в зависимости от двойственности
полов, при непрестанной борьбе и лишь периодически наступающем примирении»
(Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения.
Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 59).
нию к ней и, следовательно, отмеченное признаком w^-существо-
вания, который становится признаком исклюненности, ложности, смерти, фикции, безумия.
Таким образом, логика суждения (которая от Платона до
Хайдеггера является логикой Логоса/речи) ограничивает отрицаемый термин, присваивая («поднимая») его с помощью яоги-
ческой (Логос) операции отрицания, понимаемой как Aufhebung
[«снятие»]. Именно в такой форме логика речи в ее наиболее
поздних и утонченных разработках (в диалектике Гегеля) признает отрицание в той мере, в какой оно представляет собой шаг,
который сделан, чтобы выделить утверждение идентичности1.
Что же касается отрицания как внутренней функции суждения, то оно присоединяется к тому же процессу исключения термина «иной»: утверждение несовместимо с отрицанием. Однако
при отсутствии Aufhebung внутреннее для суждения отрицание
принимает форму строгого закона радикального исключения
различия: это — закон исключенного третьего.
Таким образом, независимо от того, является отрицание конститутивным шагом к символизации или внутренней операцией
суждения, в универсуме речи (знака) оно выводит само отрицаемое (иное) за пределы дискурса; внутри Логоса этот термин становится, так сказать, экс-логическим. Однако при осмыслении
речи, начиная с Платона, постулировалось также различие между отрицанием как внутренней операцией суждения и отрицанием как фундаментальным действием означивания (фундаментальным семиотическим действием), причем первая операция
есть частный случай второй, более объемной и охватывающей ее.
Это различие уловил Платон, очертив оппозицию говорить/высказываться в следующей фразе «Софиста»: «Не должно ли допустить, что человека, пытающегося высказаться о несуществующем, и говорящим назвать нельзя?»2. Говорят, когда совершают суждение, т. е. когда принимают логику речи (Логоса), и тогда
отрицание как внутренняя установка суждения представляется в
форме закона исключенного третьего. Высказываются, когда,
обращение к негативности (дифференциации) в акте означивания охватывает все, что не существует в логике (речи) и представляет собой отрицаемый термин (= исходную точку означивания).
Главная трудность с точки зрения Логоса (логики) заключается в
том, чтобы ввести в язык («высказать») то, что не существует в
речи, поскольку маркируется здесь знаком нет. Атрибутировать
1 «...каждое из них имеется лишь постольку, поскольку имеется его небытие,
и притом в тождественном соотношении. ...каждое из них есть через небытие своего иного, следовательно, через свое иное или через свое собственное небытие» (Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 2. С. 48).
2 Платон. Софист. 237 е.
Юлия Кристева шШр Семиотика: Исследования по семанализу
166
тому, что не существует для речи, лингвистический статус путем
высказывания, т. е. атрибутировать ему своего рода вторичное
существование, отличающееся от того, что логично для него в
речи, — вот на что не может ответить платоновское рассуждение.
И Теэтет возражает Чужеземцу: «В таком случае наше рассуждение о существовании Небытия становится крайне затруднительным».
Кажется, что в платоновском диалоге вырисовывается смутное предчувствие двух типов означивающих практик: одна относится к речи; другая— к высказыванию. Одна — логическая; другую Платон за неимением лучшего называет «крайне затруднительной».
Эта экстра-речь, это вне-логическое объективируются в высказывании, называемом художественным. Именно в «симуляк-
ре», в «фигуре», в «образе» Платон собирается искать реализацию того типа негации, который не следует логике речи, поскольку эта негация утверждает отрицаемое, но уже не в жесте
суждения (не в речевом жесте), а в выявлении означивающего
продуцирования, в жесте, одновременно объединяющем позитивность, и негативность то, что существует для речи, и то, что не
существует для нее.
«...то, что мы называем образом, подобием, не будучи действительно несуществующим, все же не существует». Теэтет:
«Кажется, Бытие с Небытием образуют сплетение, совершенно
сбивающее с толку».
Не по причине ли этого «сбивающего с толку сплетения» позитивного и негативного, реального и нереального (сплетения,
которое логика речи оказалась неспособной осмыслить иначе,
как аномалию) поэтический язык (эта анти-речь) считается вне
закона в системе, управляемой платоновскими постулатами?
Рассмотрим ближе, как поэтическое означаемое становится
тем пространством, где «Бытие с Небытием образуют сплетение,
совершенно сбивающее с толку».
1. Неиндивидуальная конкретность поэтического языка
Непоэтический язык обозначает либо нечто особенное (конкретное и индивидуальное), либо нечто общее. Иными словами,
означаемое непоэтического языка в зависимости от контекста
представляет собой либо особенную (конкретную и индивидуальную), либо общую категорию.
Например, в непоэтическом высказывании о комнате речь может идти либо об определенном помещении (об определенном
объекте со своим расположением в пространстве), либо об общем
понятии о комнате как о жилище. Между тем, когда Бодлер пишет:
Среди шелков, парчи, флаконов, безделушек,
Картин, и статуй, и гравюр,
Дразнящих чувственность диванов и подушек
И на полу простертых шкур.
В нагретой комнате, где воздух — как в теплице,
Где он опасен, прян и глух,
И где отжившие, в хрустальной их гробнице,
Букеты испускают дух...
(Мученица. Пер. В. Левика)
речь не идет ни о конкретном, ни об общем, а сам контекст скорее
затуманивает, чем облегчает это разграничение. В этом значении
поэтическое означаемое двусмысленно. Оно принимает самые
конкретные означаемые, конкретизируя их, насколько возможно
(наделяя их все более точными и неожиданными эпитетами), и в
то же время поднимает их, если можно так выразиться, до уровня
общности, превышающего уровень понятийного дискурса1. В отрывке из Бодлера построен целый «универсум» значений, где
означаемые более конкретны и более генерализованы, более осязаемы и более абстрактны, чем в речи. Нам кажется, что в этом
высказывании представлен конкретный объект, хотя при прочтении в целом текст убеждает нас: речь идет о столь высокой степени генерализации, что здесь вся индивидуализация исчезает.
Подчеркнем, что поэтическое означаемое обладает амбивалентным статусом: оно разом (то есть одновременно, а не последовательно) оказывается конкретным общим. Оно замыкает в несинтетическом наложении конкретное и общее и тем самым отвергает индивидуализацию: это неиндивидуальная конкретность,
доходящая до общего. Как если бы единичность поэтического
означаемого акцентирована настолько, что, не проходя через индивидуализацию, но раздваивая ее (то есть становясь одновременно и конкретным, и общим), приближается к целому. Таким
образом, мы констатируем, что на этом уровне поэтическое означаемое далеко не исключает возможность, чтобы два термина
(категории) находились в отношении оппозиции (не постулирует:
конкретное vs общее, A vs В), но включает их в амбивалентность,
в несинтетическое объединение (представляемое логической
формулой A Q В). В речи не допускаются такие — конкретные, но
неиндивидуализированные — означаемые, и Платон неоднократно отмечает несовместимость в рамках Логоса конкретного и неиндивидуального:
«Следовательно, говорящий не о чем-либо индивидуальном,
как видно, по необходимости и вовсе ничего не говорит»2.
1 «Изображать следует не столько объект, сколько идею этого объекта » (Ponge F.
Fragments niétatechniques (1922). Lyon: Les Écrivains réunis, 1948.
2 Платон. Софист. 237 e.
Юлия Кристева ШШр Семиотика: Исследования по семанализу
168
2. Референт и не-референт поэтического языка
То же несинтетическое объединение (A Q В) двух взаимоисключающих терминов наблюдается, когда мы подходим к отношению между поэтическим означаемым и референтом. Поэтическое
означаемое одновременно отсылает и не отсылает к референту,
существует и не существует, является бытием и небытием. На первый взгляд кажется, что поэтический язык обозначает то, что
есть, иными словами, то, что речь (логика) обозначает как существующее (таковы «флаконы», «шелка», «диваны», «статуи»,
«картины» и т. п. у Бодлера); однако все эти означаемые, «претендующие» на то, чтобы точно отсылать к референтам, неожиданно
включают в себя термины, которые в речи (логике) обозначаются
как несуществующие: таковы, например, одушевленные эпитеты,
относимые к неодушевленным объектам («чувственные диваны»,
«испускающие дух» букеты) или же ассоциации расходящихся
семических серий лишь по одной из сем (в случае замещения слова
«вазы» на выражение «хрустальные гробницы», именно сема «конец», которая из всех прочих позволяет ассоциировать «вазы»,
где находят свой конец цветы, с «гробницами», где находят свой
конец люди). В непоэтической речи букеты не «испускают дух», а
диваны не бывают чувственными. Однако это возможно в поэзии,
которая таким образом утверждает существование несуществования и реализует амбивалентность поэтического означаемого.
В пространство, очерченное этой двойной семантической структурой, вписываются метафора, метонимия, все тропы. Действительно, в рамках того, что в нашей культуре называется поэтическим языком, мы не воспринимаем поэтическое означаемое как
просто утвердительное, далее если оно принимает такую форму.
Это утверждение второй степени («существуют чувственные диваны»): оно возникает одновременно с отрицанием, которое диктует нам логика речи («чувственных диванов не существует»).
В отличие от Aufhebung, характерного для негативного хода, конституирующего означивание и суждение, негация, действующая
внутри поэтического означаемого, объединяет в рамках одной и
той же означивающей операции логическую норму, ее отрицание
(«неверно, что не бывает чувственных диванов») и утверждение
этого отрицания — без дифференциации этапов на триаду.
Негативность поэтического означаемого отличается также и
от отрицания как внутренней операции суждения. Поэзия не говорит: «Неверно, что не бывает чувственных диванов», что было
бы отрицанием отрицания, возможным в логике речи (суждения),
т. е. вторичным отрицанием, следующим за первым, когда каждое
сдвинуто по отношению к другому во времени и пространстве.
Поэзия провозглашает симультанность (хронологическую и про¬
странственную) возможного и невозможного, реального и фиктивного.
Таким образом, в нашем обществе логика речи подлежит чтению поэзии: мы знаем, что высказываемое с помощью поэтического языка не существует (с точки зрения логики речи), но мы
принимаем бытие этого небытия. Иными словами, мы представляем себе это бытие (это утверждение) на фоне небытия (отрицания, исключения). Именно по отношению к логике речи, которая
покоится на несовместимости двух терминов негации, их несинтетическое объединение, происходящее внутри поэтического
означаемого, приобретает свою означивающую ценность. Если в
поэтическом языке возможно все, эта бесконечность возможностей может быть прочитана лишь в соотнесении с «нормальным
состоянием», задаваемым логикой речи. Познающий субъект,
имеющий дело с поэтическим языком, осмысливает его в своем
научном дискурсе, по отношению к собственной логике, оперирующей между полюсами 0-1 (ложно-истинно), где термины негации взаимоисключаются. Именно это «по отношению» освобождает место, чтобы категоризировать поэзию как отклоняющийся дискурс, как аномалию.
Нсомненно, иное происходит в процессе собственно текстового продуцирования, которое, не воспринимаясь как аномалия,
реверсирует отношение «речь /поэтический язык» (= норма/
аномалия) и устанавливает в качестве отправной точки бесконечность поэтического кода, где бивалентная логика вступает в качестве предела, реконструирующего субъект суждения. Таким
образом, «по отношению» существует всегда, но вместо того,
чтобы установить речь как норму, субъект придает ей статус предела. Далее мы попытаемся формализовать это отношение между
логикой обычной речи и логикой означивающего продуцирования внутри поэтической семиотической практики, избегая понятия аномалии (которое предполагает категоризацию особенностей поэтического дискурса, а не их структурное изучение) и сохраняя понятие комплементарности для Логоса и поэтического
языка.
3. Чужой дискурс в пространстве поэтического языка.
Интертекстуальность. Параграмматизм
Поэтическое означаемое отсылает к другим дискурсивным
означаемым так, что они прочитываются в поэтическом высказывании. Таким образом, вокруг поэтического означаемого создается множественное текстовое пространство, элементы которого
отображаются в конкретном поэтическом тексте. Мы будем называть такое пространство интертекстуальным. В свете интертекстуальности поэтическое высказывание представляет собой
Юлия Кристева бШИ Семиотика: Исследования по семанализу
170
подмножество более мощного множества как пространства текстов, отображаемого в нашем подмножестве.
С этой точки зрения ясно, что поэтическое означаемое не следует считать релевантным лишь одному коду. Это место пересечения нескольких (по меньшей мере, двух) кодов, находящихся в
отношении взаимоотрицания1.
Проблему пересечения (и разделения) нескольких разнородных дискурсов в поэтическом языке поднял в своих «Анаграммах» Фердинан де Соссюр.
Исходя из понятия параграммы, которое употребляет Соссюр, мы смогли установить фундаментальную особенность функционирования поэтического языка, обозначенную нами как па-
раграмматизм, а именно: абсорбция множества текстов (смыслов) в поэтический мессадж, который в то же время представлен
в качестве центра одним-единственным смыслом.
Показательным примером интертекстуального пространства — места порождения поэзии — и/или примером фундаментального параграмматизма поэтического означаемого могут послужить «Стихотворения» Лотреамона.
Нам удалось выделить три типа связей, соединяющих фрагменты «Стихотворений» в конкретные тексты, практически цитирующие предшествующих авторов.
а. Полное отрицание
Чужой эпизод полностью отрицается, а смысл текста-рефе-
рента инверсируется.
Например, у Паскаля:
«Пока я записываю свою мысль, она иногда от меня
ускользает, но это напоминает мне о позабытой было
моей слабости, что для меня не менее поучительно, чем
ускользнувшая мысль, ибо для меня важно только одно:
постигать мое ничтожество».
У Лотреамона получается:
«Когда я записываю свою мысль, она от меня отнюдь не
ускользает, и это напоминает мне о моей позабытой было
силе. Преодлевая сопротивление мысли, я получаю знание. Для меня важно только одно: постичь противоречия
моего ума и ничтожества».
1 На этом уровне осмысления мы не проводим различия между отрицанием, относящимся к противоречию и оппозиции. В связи с дальнейшими рассуждениями см.
также: Pleynet М. Lautréamont par lui-même. P.: Seuil, 1966; Sellers Ph. La science de
Lautréamont// Sellers Ph. Logiques. P.: Seuil, 1968 (рус. пер.: Соллерс Ф. Наука Лотреамона// Лотреамон. Песни Мальдорора. Стихотворения. Лотреамон после Лотреамона/ Составление, общая редакция и вступительная статья Г.К. Косикова. М.: Ad
Marginem, 1998. — Прим. пер.).
Параграмматическое прочтение предполагает, что оба высказывания (Паскаль-Лотреамон) должны читаться одновременно.
b. Симметричное отрицание
Общий логический смысл обоих фрагментов один и тот же;
это не мешает параграмме Лотреамона придать референтному
тексту новый смысл — антигуманистический, антисентимента-
листский и антиромантический.
Например, у Ларошфуко:
«Не замечать, как охладевают дружеские чувства наших
друзей, — доказательства недостатка дружбы».
Тогда как у Лотреамона:
«Умение не замечать, как возрастают дружеские чувства
наших друзей, — доказательство дружбы».
Вновь параграмматическое прочтение требует несинтетического объединения обоих смыслов.
c. Частичное отрицание
Отрицается одна часть текста-референта.
Например, у Паскаля:
«Мы с радостью расстаемся с жизнью, лишь бы об этом
говорили».
У Лотреамона:
«Мы с радостью расстаемся с жизнью, лишь бы об этом не
говорили».
Параграмматический смысл требует одновременного прочтения обеих фраз.
Хотя у Лотреамона движение диалога между дискурсами настолько интегрировано в поэтический текст, что становится необходимым местом порождения именно его смысла, сам феномен
наблюдается на протяжении всей истории литературы. Можно
сказать без преувеличения, что для поэтических текстов модерна
это фундаментальный закон: они образуются, абсорбируя и одновременного разрушая другие тексты из интертекстуального
пространства; они, представляют собой, так сказать, дискурсные
алътер-юнкции. Поэтическая практика, объединяющая Э. По,
Ш. Бодлера и С. Малларме, может служить наиболее показательным примером такой альтер-юнктивности в период модерна.
Бодлер переводит Э. По; Малларме пишет, что в решении своей
поэтической задачи он следует по стопам Бодлера, о чем свидетельствуют его первые опусы; Малларме также переводил По,
Юлия Кристева ЩШ Семиотика: Исследования по семанализу
172
подражая его манере письма; Э. По, со своей стороны, исходил из
творчества Т. Де Квинси... Сеть можно расширить, однако в ней
выражен один и тот же закон, а именно: поэтический текст продуцируется в сложном движении одновременного утверждения и
отрицания другого текста.
Логические особенности семантических
артикуляций внутри поэтического текста.
Ортокомплементарная структура
Теперь попытаемся проникнуть внутрь логической структуры
поэтического текста, чтобы выявить особые законы сочетания
семических множеств в поэтическом языке.
На этом уровне анализа мы подходим к ненаблюдаемому объекту1, а именно: поэтическое означивание, которое вряд ли может быть фиксировано в неизменных единицах, рассматривается
здесь как результат: а) грамматической комбинации лексических
единиц как семем (комбинации слов); Ь) сложной и многозначной
операции, которая осуществляется между семами этих лексем и
многочисленными эффектами означивания, которые эти лексемы
вызывают, когда они попадают в интертекстуальное пространство (помещаются в различные возможные контексты). Если первый термин результата, который представляет собой поэтическое значение, может наблюдаться в конкретных единицах, т. е.
может быть размещен среди идентифицируемых грамматических
единиц (слов и их сем), ограничиваясь их пределами, то второй
термин носит, так сказать, «волнообразный» характер; он не наблюдаем, поскольку не фиксируем в конечном наборе конкретных единиц, но формируется в подвижной и непрерывной операции, осуществляемой между различными семами и различными
текстами, образующими семическое параграмматическое множество. Малларме был одним из первых, кто понял и использовал
эту особенность поэтического языка:
«... слова — которые уже настолько самодостаточны, чтобы больше не воспринимать впечатлений извне — отражаются одно в другом пока не начинают утрачивать собственной окраски и станвятся всего лишь переходами
граммы»2.
1 В том смысле, в каком о ненаблюдаемом объекте говорится в квантовой механике; см.: Reichenbach H. Philosophie foundations of Quantum mechanics. Berkeley-Los
Angeles, 1946; Les fondements logiques de la mécanique des quanta // Annales de ï Institut Poincaré. 1953. XIII (2).
2 Mallarmé S. Lettre à Frangois Coppée, 5 décembre 1866 // Mallarmé S. Propos sur
la poésie. Monaco: Ed. du Rocher, 1946. P. 75.
В свете такой трактовки поэтического языка прежде всего
бросается в глаза тот факт, что некоторые логические законы,
действительные для непоэтического языка, не применимы к поэтическому тексту. Таковы, например:
а. Закон равносильности:
XX = Х;ХиХ=Х
Если в обыденном языке повтор семантической единицы не
меняет значения сообщения, но, скорее, создает досадный эффект тавтологии или аграмматизма (но в любом случае повтор
единицы не вносит в высказывание дополнительного смысла)1, то
это не так в поэтическом языке. Здесь единицы неповторимы,
или, другими словами, будучи повторенной, единица уже не остается той же самой, так что можно утверждать, что в этом случае
она уже иная. Очевидное повторение XX не эквивалентно X. Оно
продуцирует ненаблюдаемый феномен на фонетическом (манифестируемом) уровне поэтического текста, но это еще и эффект
собственно поэтического смысла, который состоит в том, чтобы
прочитать в эпизоде (повторяемом) и ее, и нечто иное. Можно
сказать, что эти ненаблюдаемые феномены поэтического языка
(что мы в дальнейшем будем рассматривать как отклонение от законов логики) представляют собой следствия коннотации, о которых говорит Ельмслев.
Текст Бодлера, находящийся на границе перехода, которым
отмечена наша культура (поэтический текст отказывается быть
дескрипцией и полагает, презентирует себя как производную
смысла), изобилует многочисленными примерами, доказывающими не-валидность этого закона идемпотентности. Бодлер часто «повторяет» фразы, стихотворные формы и слова, но всегда
«повторный» эпизод появляется с иным смыслом. Вот некоторые
типичные для Бодлера варианты «повторов», которые отвергают
закон идемпотентности. В «Гармонии вечера» схема повторяющихся стихов такова:
1111
2 2 2 2
3 3 3 3
Фиг. 1
1 Совершенно очевидно, что здесь и далее мы оперируем абстрактным различением поэтического и непоэтического языков. В самом деле, семантическая единица,
повторяемая в «обычной» речи, может получить новое, коннотативное значение, но в
этом случае «обычная» речь теряет свою чистоту и функционирует «поэтическим»
образом.
Юлия Кристева «Щ» Семиотика: Исследования по семанализу
174
Здесь, как и далее, хорошо видно, как мы прибегаем к абстрактному различению между поэтическим и не-поэтическим языками. Действительно, семантическая единица, повторяемая в
«обычном» дискурсе может получить новые коннотации, но в
этом случае «обычный » дискурс теряет свою чистоту и функционирует «поэтическим» образом.
В стихотворении Le Balcon в конце строфы повторяется первая строка:
Мать воспоминаний, возлюбленная возлюбленных
Мать воспоминаний, возлюбленная возлюбленных
(Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses)
В стихотворении «Непоправимое» [VIrréparable] первая
строка повторяется в конце строфы с изменением пунктуации:
В каком любовном напитке? В каком вине? В каком снадобье?
В каком любовном напитке? В каком вине? В каком снадобье?
(Dans quell philter, dans quell vin, dans quelle tisane;
Dans quell philtre? Dans quell vin? Dans quelle tisane?)
Малларме продолжает пример Бодлера акцентом:
Я одержим. Лазурь! Лазурь! Лазурь! Лазурь!
(Je suis hanté. L’Azur! L’Azur! L’Azur! L’Azur!
[U Azur])
Сюрреалисты подхватили прием: вспомним знаменитое стихотворение «Жалюзи» [Persienne] Арагона, где при множественном повторении слово (по смыслу) никогда не похоже на себя, играет на не-идемпотентности поэтического языка. Но первым в
рамках модерна, кто основывал свой текст на отрицании этого закона, наверное, был По со своим «never more» в стихотворении
«Ворон»; это «больше никогда» никогда не равно самому себе.
Ь. Закон коммутативности
X. Y = Y. Х;Хи Y = YuX
таким же образом дискредитируется в поэтическом языке. Он требует линеарности дискурса, при которой перемещение единиц не
меняет их смысла. Такой порядок в отношении смысла (свойственный обыденному дискурсу) предполагает, что все эпизоды
прочитываются вместе, в то же время и в том же пространстве, и,
следовательно, изменение временной позиции (расположение эпизода в начале или середине не-поэтических дискурса/фразы) или
пространственной (помещение секвенции в том или ином месте
страницы) не предполагает никаких изменений смысла. Простое
предложение с субъектом, глаголом и объектом [подлежащим,
сказуемым и дополнением] в не-поэтическом языке вполне примиряется с изменением места (временного и пространственного) этих
трех компонент, которые не вносят ненаблюдаемых (коннотатив-
ных?) эффектов за исключением, опять же, аграмматизма или нарушения смысла (например, смешение субъекта и объекта). Кроме
того, в научном дискурсе результатом изменения расположения
глав может достигаться большая или меньшая дидактическая ясность (индукция или дедукция), однако без дополнительных эффектов «ненаблюдаемости» (поэтической).
Это совсем не то, что происходит в поэтическом языке. Не-
коммутативность поэтических единиц точно фиксирует ситуацию во времени (линеарность грамматического предложения) и в
пространстве (расположение слов на листе бумаги) так, что любое ее изменение влечет за собой изменение основного смысла.
Два наблюдаемых феномена обнаруживают невалидность закона
коммутативности в поэтических текстах.
1. Поэтическое высказывание не соответствует грамматическому (линеарному) порядку непоэтической фразы:
БРОСОК КОСТЕЙ
НИКОГДА
Если кто-то заброшен
[волею] извечных случайностей
под дно тонущего корабля
то пусть
бездна
бледная
недвижная
жестокая
под крутизной
безнадежно ровного
края
станет его1.
1 UN CUP DE DÉS
JAMAIS
Quand bien même lancé des
circonstaïices étemelles
du fond d* un naufrage
soit
que
Г Abîme
Юлия Кристева ЩШя Семиотика: Исследования по семанализу
176
Было бы трудно, если не невозможно, упорядочить эту последовательность в обычную фразу с подлежащим, сказуемым и дополнением, но даже если бы это удалось, то за счет снижения эффекта ненаблюдаемого смысла поэтического текста.
В то же время невозможно объяснить эту строгую упорядоченность семантических единиц, фиксированную и не-коммута-
бельную, как синтаксическую (или грамматическую) аномалию1.
Эффект аграмматизма — это не-поэтический эффект. Аномалия
лишь позволяет обнаружить, была ли в качестве преимущественной избрана позиция наблюдения, соответствующая логике денотативной речи. Но такой подход сведет поэтический текст к
другой системе (системе речи) и упустит поэтический эффект.
Последний не подтверждает закон коммутативности и даже отрицает его. Будучи грамматическим объектом (наблюдаемое) и
операцией сем в интертекстуальном пространстве, поэтический
смысл размещается между подтверждением и отрицанием этого
закона; по отношению к нему это не иллюстрация, не отклонение;
у него иная логика, но поддающаяся анализу задним числом и для
субъекта между этими да и нет.
2. Поэтическое высказывание может быть прочитано в его
означивающей полноте только в пространстве означаемых единиц. Каждая из них на своем месте четко определена и неизменна
в пределах целого. Этот принцип, латентный и работающий в
каждом поэтическом тексте, появляется, когда литература осознает свою несводимость к разговорной речи, и Малларме дает
этому первый яркий пример. Пространственное расположение
Un coup de dés представлено, чтобы передать на странице тот
факт, что поэтический язык — это объем, в котором устанавливаются неожиданные связи (нелогичные, непризнаваемые в рамках
дискурса), или же театральная сцена, «требующая подлинного
соответствия внешнего и ментального жестов»2.
Иродиада была написана в сценическом духе: «...было невероятно трудно писать стихи, поскольку я делал их абсолютно
сценичными, невозможными в театре, но требующими театра»3.
blanchi
étale
furieux
sous une inclinaison
plane désespérément
d’aile
la sienne...
(Mallarmé, Un coup de dés...)
1 Как об этом пытались размышлять в отношении сюрреалистических текстов.
2 См. Предисловие к Igitur доктора Эд. Боннуа к неизданным документам в книге: Mallarmé, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1945, p. 429.
3 Mallarmé S. Lettre à H. Cazalis, juin 1865, в книге Propos..., op. cit. p. 51.
Igitur и Un coup de dés предназначались для театральной сцены: Малларме задумывает их как драмы (на самом деле как ансамбли единиц означивания, нелинеаризуемых, но перекликающихся, взаимно шокирующих в постоянном взаимодействии,
подчиняющемся строгой сценографии). Впрочем, Un coup de dés
имеет подзаголовок: «scene de theatre, ancient Igitur». Известно,
как тщательно Малларме аранжировал листы и фразы поэмы, заботясь о точном расположении каждого стиха и пробела («пустого пространства») вокруг него.
Еще раз подчеркнем — и здесь мы вернемся к Платону, который отмечал, что невозможно говорить о несуществующем (напоминающем «мечту»), — что речь идет не о логике Логоса, но о
появлении чувственных впечатлений, порожденных неожиданными сопоставлениями («шок»), тут же исчезающих в упорядоченном говорении («ускользающих»).
«Я настаиваю на том, чтобы в беспристрастное умолчание
вернулся дух всего, что ему принадлежит — шок, ускользание,
следы, беспредельные и точные, роскошное легко исчезающее состояние, дивная невозможность закончить, этот ракурс, этот
штрих; по меньшей мере, беспорядочность созвучий, снова и снова переходящих в грезу»1.
с. Третпий логический закон, действующий в универсуме
речи и отсутствующий в поэтическом языке, — закон
дистрибутивности:
X(YuZ) = (X. Y)u (X. Z) X и
Xu (Y.Z)= (Xu Y).(XuZ)2
В универсуме языка этот закон выражает возможность для
независимых читателей (слушателей) комбинировать различные
интерпретации дискурса или означающей единицы. Полный
смысл непоэтических дискурсов может эффективно приводить к
агглюцинации всех возможных их смыслов, т. е. к реконструкции
дискурсивной полисемии, которую могли бы продуцировать все
возможные говорящие. Очевидно, эта фигура возможна также и
в поэтическом тексте, но она не затрагивает специфику дискурсов, отличающихся от коммуникативной речи. Как мы уже отмечали, интересующая нас особенность поэтического смысла — это
его специфичное отношение к логике речи. С этой точки зрения
(если не пытаться редуцировать поэтическое к говорению) поэти¬
1 Mallarmé S. La Musique et les Lettres, Œuvres complètes, op. cit., p. 649.
2 См., в отношении толкования этих законов логики, G. Birkhoff, Lattice theory,
New York, American Mathematical Society, 1940. Использование операций булевой алгебры позволяет определить десять типов связей, характеризующих структуры макрокосма. Используемые операции: конъюнкция, дизъюнкция, импликация.
Юлия Кристева ЩШд Семиотика: Исследования по семанализу
178
ческий язык представляет собой и эту речь (эту логику), и ее имплицитное, не-манифестируемое (ненаблюдаемое) отрицание,
улавливаемое на семантическом уровне. Тот факт, что поэтический язык одновременно представляет собой и речь (и, следовательно, объект логики 0-1), и отрицание этой речи (и, следовательно, ускользание за пределы логики 0-1) выводит его за рамки
логического закона дистрибутивности.
Что касается других законов, которые Биркгофф выделил в качестве управляющих макрокосмическими структурами (мы транспонируем: здесь — наблюдаемым универсумом речи), а именно:
- закон ассоциативности:
X (Y. Z) = (X. Y). Z; X u (Y и Z) s (X и Y) и Z
- закон абсорбции•
Xu (X. Y) = X; Х.(Хи Y)=X
- закон модуляции:
если Xз Z, то X.(YuZ)s (X. Y)u Z,
то они справедливы полностью (ассоциативность и абсорбция —
в табулированном функционировании поэтического языка все
семические единицы отображаются одна в другой) или в смягченном виде (модуляция — в той мере, в какой она представляет собой комбинацию законов ассоциативности и дистрибутивности).
Если принять, что закон дистрибутивности содержит в себе
требования других законов, не действующих в поэтическом языке, мы можем рассматривать его собственную не-валидность в
поэтическом языке как основной показатель логических особенностей параграмматических структур.
Подводя итог параграфам I и II нашего исследования, мы
приходим к выводу, что два логических закона, по-видимому, не
действуют в поэтическом языке: 1) закон исключенного третьего,
2) закон дистрибутивности.
Это заключение допускает две возможности:
1) формализовать логические особенности поэтическою языка,
исходя из того, что здесь не действует закон исключенного третьего: это приводит нас каждый раз к построению логики нового типа и заставляет рассматривать каждую из практически
бесчисленных фигур поэтического языка (тривалентная логика
... и т. д., w-валентная логика или любой другой тип логики).
2) попытаться включить множество поэтических структур, которые могут появиться в текстовой практике, в уже существующую систему, приемлемую для устной (не-поэтической)
речи, т. е., в булеву логику, действующую между полюсами
0-1 (ложное-истинное).
Поскольку на данный момент неизвестны типы логики, позволяющие формализовать поэтический язык, не прибегая к речевой логике, мы выбираем другое решение: не отказываясь от закона дистрибутивности и сохраняя при этом другие логические
законы речи, мы приходим к структуре Дедекинда с ее ортоком-
плементарностью. Это решение кажется приемлемым для формализации поэтического языка с учетом того, что познающий
понимает его всегда и неизбежно внутри той речи, где он (его
субъект со своим поэтическим языком) зародился, и в соотнесении с логикой 0-1, предполагаемой в речи. Ортокомплементар-
ная структура поэтического языка, кажется, учитывает это бесконечное движение между логическим и нелогическим, реальным
и нереальным, бытием и небытием, речью и неречью, характеризующее специфику функционирования поэтического языка, которую мы назвали параграмматинеским письмом.
Кратко уточним, что такое ортокомплементарная структура
Дедекинда. Она исключает закон дистрибутивности и сохраняет
все остальные. Эта структура предполагает, что для каждого из
элементов X существует X', и для них действительны отношения:
1)Х.Х=0,
2) XuXhe 1
3)Х=Х
4)XuY=X.Ÿ
5) XT s XuŸ.
Структура Дедекинда с ее ортокомплементарностью более не
состоит из двух элементов, как в случае булевой алгебры, и, следовательно, логика, построенная на этой структуре, не является
бивалентной. Законы 2) и 3) это больше не формулы, указывающие на закон исключенного третьего, как в обычной логике, т. к.
ортокомплементарные аспекты элемента в структуре Дедекинда
не должны быть единственно возможными1.
1
0
Фиг. 2
1 Мы заимствуем здесь интерпретации структуры Дедекинда из работы
Б.Н. Пятницына «О логике микрокосма», Логическая структура научного знания. М.,
1965.
Юлия Кристева ШШп Семиотика: Исследования по семанализу
180
На нашей диаграмме каждый из трех элементов X, Y и Z характеризуется двумя ортокомплементарными аспектами. Что касается элементов типа 0-1, то они ортокомплементарны только
по отношению друг к другу и тем самым образуют внутри структуры Дедекинда суб-структуру булева типа, т. е. подчиняющуюся
закону дистрибутивности.
Суб-структура 0-1 представляет интерпретацию поэтического текста с точки зрения речевой (не поэтический) логики. Все,
что на языке поэзии рассматривается как истинное, согласно
этой логике будет обозначаться единицей, все, что ложно — нулем.
Точки X, Y, Z представляют собой эффекты смысла, которые
возникают при чтении, не подчиняющемся речевой логике, и которые выявляют специфику поэтических семантических операций. Итак, возьмем банальную поэтическую фигуру, например,
бодлеровские «горькие слезы » [ «les larmes de fiel »] (Réversibilité).
Если мы мыслим ее в булевом подмножестве структуры Дедекинда (то есть в нашей интерпретации в логике речи), то мы обозначим ее как 0, «горькие слезы» не существуют, выражение неистинно. Но если мы поместим ее в параграмматическое пространство поэтического языка, где проблема ее существования и
истинности не возникает, где эта фигура является не фиксированной единицей, но эффектом смысла, вытекающим из операции
применения двух взаимоисключающих семем (слеза+горечь
[желчь]) и еще всех эффектов смыслов, которыми «слеза» и «горечь» [желчь] наделены в других текстах (поэтических, мифологических, научных), прочитанных нами, то мы обозначим эту
странную и неопределенную фигуру как X, Y или Z. В свете того,
что каждая семантическая единица поэтического языка дублируется, это одновременно и единица Логоса (и в качестве таковой
подводится под систему координат 0-1), и операция размещения
сем в пространстве транс-логического порядка. Эти транс-логи-
ческие операции предполагают многомерные отрицания отношений, подразумеваемых системой 0-1. Их больше нельзя считать ни истинными, ни ложными, они неопределенны. Можно
построить типологическую серию транслогических операций, соответствующую поэтическому языку (X, Y, Z, ...,) в зависимости
от типа отрицания того, что эти операции X, Y, Z соответствуют
подмножеству 0-1. Что касается связей, объединяющих эти операции между собой, они в этом случае остаются неопределенными, поскольку невозможно утверждать, приводит ли отрицание
X к Y и т. д. Именно здесь, где справедлива топологическая аксиоматизация, возможно введение бесконечных функциональных
пространств Гилберта, можно построить истинную науку поэтического текста.
Очевидно, что привнесение научного субъекта в структуру,
которая до этого была описательной, могло бы снять партику-
ляристский статус X, Y, Z и свести их к координатам 0-1. Это
извлечет X, Y, Z из их конкретного пространства, где эти показатели не определяют операций в отношениях между интертекстуальными семами, и поднимет их статус до уровня единицы
Логоса. Таким образом, семантическую операцию «мои горькие
слезы» [«слезы моей желчи»] можно объяснить как соединение
двух семических ансамблей, исходящих из семы «горечь» (что
было бы истинным, т. е. 1), эффект которой следует из несовместимости соединения с другими семами: глаз-печень, различия физиологических функций и т. д., — которые были бы отклонением от истинного, аномальным, и, таким образом, обозначались бы как 0. Это объяснение само по себе проистекающее
из Логоса и соответствующее ему, восстанавливает в речи функционирование означивания, рационализует его и в конце концов
искажает. Там, где это функционирование означивания, эта
операция имеют место, координаты 0-1 представляют собой
всего лишь отставленную задержку, точное, но скрытое напоминание о возможности бессмысленного, наблюдателя, который контролирует многообразие неожиданных «шоков» со стороны означающих, производящих новый (ортокомплементар-
ный) смысл при чтении текста с описанной нами сложной
структурой. Координаты 0-1 всегда присутствуют при чтении,
но заключены в скобки, чтобы напоминать о фундаментальном
различии между дискурсами «безумца» (который игнорирует
их) и трансгрессивной работой поэтического письма (которое о
них знает), работой, которая внутри речевой системы — системы социальной — перемещает границы речи и заполняет ее новыми структурами (ортокомплементарными), которые однажды
обнаружит научный субъект.
Малларме был первым, кто сделал и теорией, и практикой это
поэтическое функционирование постоянного отрицания логики,
в которую оно, однако, вписывается. В приводимой ниже цитате
незаметно, как конкретный образ этого разрыва («пустоты»)
между логическим универсумом (единицы Логоса: «скука по отношению к вещам»), и неожиданными операциями означающих
(«высшее влечение», «празднества воли и одиночества»), постоянно заполняется письмом, но мы пытались представить это логически:
«В отношении высшего влечения к пустоте мы имеем право
дать ей извлечь себя из скуки от вещей, если они водворяются в
своей прочности и преобладании — неудержимо отдалиться от
них настолько, чтобы через пустоту наполнить их и придать им
сияние в празднествах воли и одиночества.
Юлия Кристева ЩЁп Семиотика: Исследования по семанализу
182
Что касается меня, я требую от письма не меньшего, и собираюсь доказать этот постулат»1.
И эта невозможность редуцировать неопределенные операции, ни истинные, ни ложные («либо главное, либо ничего»), поэтического означающего (этот «двигатель») к абсолютной формуле (Логосу), к которой мы, однако, привязаны ( «есть только то,
что есть»), не более чем приманка, в соответствии с которой («обманом») идентифицируется процесс продуцирования, недоступный сознанию («пробелы сознания»); эти «пробелы» становятся
сознанием.
Мы знаем, захваченные абсолютной формулой, что есть то,
что есть. Однако следует немедленно под любым предлогом
отогнать эту приманку, которая обличила бы нашу непоследовательность, лишая нас желаемого удовольствия: ибо это
«там» есть агент, двигатель, сказал бы я, если бы мне не претило публично и кощунственно по частям разбирать литературное произведение и соответственно его механизмы, чтобы установить главное или ничего. Но я склоняюсь пред тем,
что вспыхивает в вышине; обманом подталкивает к запретному порыву и освещает молнией пробелы нашего сознания2.
В наиболее значительных трудах у Малларме обсуждается
проблематика закона речи («абсолютного») и операций («случайного», многоголосного — Малларме использует коннотации
«констелляции» или созвездия). Igitur и Un coup de dés — написанные драмы, которые, будучи поставленными на сцене, представляют процесс продуцирования литературного текста —
снимают покровы с этой осцилляции письма между Логосом и
шоками означающих. Если Igitur подразумевает негативную
диалектику, подчинение закону (силогистике), исключающему
«ортокомплементарные операции» функционирования означающего («нет звезд? Случай отменяется»?)3, то Un coup de dés отрицает (в смысле AQB) Igitur и следует законам этого «полезного безумия», каковой является работа автора внутри Логоса,
этого «случая», который не отменит ни один «coup de dés». Вот
как выглядит под пером Малларме такое сбивающее с толку
сплетение утверждения и отрицания, бытия и небытия, речи и
письма, которое конституирует поэтический язык:
«Коротко говоря, акт, где в игру вступает случай, всегда
именно случай осуществляет свою собственную Идею, утверж¬
1 Mallarmé S. La Musique et les Lettres, op. cit., p. 647.
2 Ibid.
3 В Igitur негативность заимствуется из гегелевской рационалистической схемы
хотя и обращает ее, чтобы трансформировать ее исторический эволюционизм в поиск
корней (в Логосе?).
дая или отрицая себя. Перед лицом его существования утверждение и отрицание терпят неудачу. В нем содержится Абсурд, подразумевающий его, но латентно, и мешающий его существованию:
то, что позволяет Бесконечному быть»1.
И в Un coup de dés поле необозримых поэтических операций,
нередуцируемых к единствам и логике «реальностей» речи, четко обозначено: «в этих шлифовках неопределенного, где растворяется вся реальность». Уникальные соединения, действующие
здесь, не допускают бивалентной классификации, но выделяют
вероятное, «это высшее соединение с вероятностью». Однако логика речи (рассудка) дает о себе знать каждый раз в этом
утонченном процессе трансгрессии, «непреодолимая, но в своем
заурядном вирильном здравом смысле несущая неожиданности»
и «которая налагает границу на бесконечность». Она лишь препятствует продуцированию поэтического смысла — нового, который речь однажды абсорбирует — в пространстве, ином, структурно отличном от логического порядка, который ее окружает:
«где-то в свободной внешней вышине
непрерывная пульсация,
мерцание
созидающейся полноценности»2.
В культурном тексте нашей цивилизации еще остается открытой иная сцена, начиная с того «нового», что привнесло письмо
Малларме, Лотреамона и др. Пустая сцена ( «свободная вышина »),
дистанцированная от той, где мы высказываемся как логические
субъекты, «другая сцена», где продуцируется эта связь означающих («непрерывная пульсация»), которая ускользает («мерцание») от категорий бивалентной логики, но которая, если смотреть
на нее с речевой сцены, добавляется к ее логическим законам, и,
как мы попытались представить ее с помощью ортокомплементар-
ной структуры, приводит, по меньшей мере, к результату, что общество себя коммуницирует, обменивает («полноценность») как
представленность ненаблюдаемых процессов продуцирования
( «созидающаяся полноценность»).
Параграмматическое пространство
Здесь речь идет об утверждении права структурного метода
приблизиться — не обращаясь к позитивизму и не избегая сложного функционирования символов — к проблематике, которую
1 См. Igitur, ch. IV: «Le coup de dés» в Mallarmé S. Œuvres complètes, op. cit., p. 441.
2 «sur quelque surface vacante et supérieur
le heurt successif
sidéralement
d’un compte total en formation.»
Юлия Кристева «Ши Семиотика: Исследования по семанализу
184
литературный труд нашего времени объективно сделал актуальной. Речь идет также о том, чтобы прекратить спекулятивные
интерпретации современного текста, которые, как известно,
освобождают место для мистических и эзотерических рассуждений.
Но речь идет и о том, чтобы при сегодняшнем логическом аппарате предусмотреть эпистемологические импликации, допускаемые нашими констатациями, относящимися к особому статусу негации в поэтическом языке, и которые точно подтверждаются в современной текстовой практике. Речь идет, наконец, о том,
чтобы очертить это другое пространство, которое поэтический
язык (рассматриваемый не как конечный продукт, но как аппарат, операция, как продуцирование смысла) открывает через логику речи и которое содержащийся в ней рационализм не в состоянии осмыслить.
Если рационализм, сводящий поэзию к аномалии, оказывается беспомощным перед этим пространством, которое мы называем параграмматическим, то философско-метафизические
спекуляции, описывая его, скорее пытаются объявить его непознаваемым. Мы не обсуждаем эту альтернативу. Мы имеем дело
с объективным фактом, что дискурсивные практики нашего века
(современная поэзия) актуализировались и что научный (логический) аппарат должен сблизиться с ними. (Тем более что этот
аппарат уже столкнулся в других отраслях науки с областями,
где действует иная логика, отличная от известной вплоть до
прошлого века.) Это сближение между научным аппаратом и находками, которыми успешно завершились опыты с языком, не
обнаружило « никакого ключа ни к какой тайне». Но возможно,
что в сочетании с исследовательской рефлексией относительно
эпистемологической ценности, подразумеваемой новыми нотациями (в нашем случае ортокомплементарная структура, несинтетическое объединение), оно обеспечит продвижение нашего
знания в новые зоны функционирования символов. Оставим на
секунду в стороне уровень, где артикулируются означающие
(тип негации в поэтическом означаемом). Мы возвратимся к нашим предварительным гносеологическим соображениям, чтобы
попытаться увидеть в свете того, что мы уже знаем о негативности поэтического языка, как можно интерпретировать вмешательство негативного в формирование непоэтических дискурсов.
Размышляя о конституировании говорящего субъекта, Фрейд,
исходя из своих оснований, обнаружил там, где бессознательному удается проникнуть в осознанное суждение, действие негации, Verneinung (в переводе на французский язык «dénégation»).
Хотя субъект отрицает то, что несет в себе его бессознательное
(субъект говорит: «Не думайте, что я вас ненавижу», тогда как
бессознательное сказало бы: «Я вас ненавижу»), мы сталкиваемся с операцией, которая отменяет его вытеснение ( «Я вас ненавижу»), отрицает его («я говорю, что не ненавижу вас»), но в то же
время содержит его (хотя ненависть остается подавленной). Это
движение, напоминающее гегелевское Aufhebung, предполагает
три фазы отрицания и точно выражено философско-логическим
смыслом термина Aufhebung (= отрицать, скрывать и удерживать, и все же «по существу вызывать»)1. Согласно Фрейду, это
движение является для суждения конститутивным: «Денега-
ция представляет собой Aufhebung вытеснения, но не для приятия того, что вытеснено». Негация становится для него ходом,
«который предоставляет преимущественную независимость
вытеснению и его последствиям и таким образом ограничению
(Zwang) принципа удовольствия». Совершенно очевидно, что
для Фрейда, который занимался проблематикой рационального
субъекта, отрицание не было актом отмены, который открывает путь «ненаблюдаемому» и «неопределенному», но, напротив,
жест, который конституирует субъекта рационального, логического, предполагающего речь; иными словами, это проблематика знака. Согласно формуле Ипполита, отрицание играет
роль «фундаментальной установки эксплицитной символизации», она «выполняет подлинную функцию порождения разума
и местоположения мысли». Всякий раз, когда появляется нега-
ция-Aufhebung, конституируется знак, а с ней и субъект речи и
суждения. Иными словами, операциию отрицания=АиЙ1еЬип§
можно уловить только став на позицию субъект = речи = знаку.
Фрейд писал:
«Такое понимание денегации полностью соответствует
тому, что при анализе в бессознательном не обнаруживается никакого “нет”, а признание бессознательного, с
моей точки зрения, выражается в негативной форме».
Итак, понятно, что действие негации заложено в основе «разума», т. е. мышления знаками (речи). Здесь особенно важно отметить, что триадное движение Aufhebung, точно такое же, как и
в «пирамиде знака» у Гегеля, находит научное завершение в сос-
сюровской лингвистике. Триадное отрицание, слово, функционирующее в соответствии с аристотелевой логикой 0-1, мышление при помощи знаков, говорящий субъект — вот термины, которые коррелируют — и сопричастны — с этим универсумом
Логоса, в котором Фрейд очертил зону бунта, бессознательного
(и сновидения). Но эта зона презентирует себя как прочный слой
1 См. интерпретацию Verneinung, J. Hyppolite, in J. Lacan, Ecrits, Paris, Le Seuil,
1966, p. 880.
Юлия Кристева Щт Семиотика: Исследования по семанализу
186
речи, который находит выход через слово, т. к. именно с точки
зрения логической (здесь не-поэтической) речи и ее субъекта понятие бессознательного приобретает форму операциональной
модели, которая предполагает остаточную роль или выполняет
операции, которых нет в речи1.
Вернемся теперь к особенностям отрицания в поэтическом
языке. Исходя из несинтетического объединения, которое характеризует поэтическое означаемое, из ортокомплементарной
структуры, организующей фигуры поэтического языка, мы можем сделать вывод, что тот особый тип символического функционирования, который представляет собой поэтический язык,
открывает специфичную область человеческой деятельности,
связанной с означающим; и это не область знака и субъекта.
В этом ином пространстве, где поколеблены законы обычной
речи, субъект растворяется, а место знака занимает столкновение означающих, из которых одно уничтожает другое, породившее его. Это операция генерализованной негативности, не имеющая, ничего общего ни с негативностью, конституирующей
суждение (Aufhebung), ни с его внутренним отрицанием (логика
0-1); это аннигилирующая негативность, которую предугадывали
такие древние философии, как буддизм, обозначая ее термином
sunyävadä2. Носитель такой самоуничтожающейся мысли — «зе-
рологический» субъект, не-субъект.
Для того, чтобы уловить такой тип семиотической деятельности, у нас имеется «объект»: это — поэтический текст, репрезентирующий продуцирование смысла (семантические операции), предшествующее тексту (произведенному объекту): «Моя
мысль сама себя помыслила», — говорится в письмах Малларме.
Этот зерологический «субъект» является внешним по отношению к пространству, управляемому знаком. Иными словами,
субъект исчезает, поскольку исчезает мысль о знаке, и отношение знака к денотату сводится к нулю3. И наоборот: не существует субъекта (и соответственно невозможно говорить о бессознательном) помимо знакового мышления, которое компенсирует
множественность скрытых параллельных семиотических практик доминированием знака, порождая «вторичные» или «марги¬
1 «Бессознательное есть концепт, созданное на основе следа того, что конституирует субъекта», — пишет Лакан (Lacan J. Position de l’inconscient // Lacan J. Ecrits.
P. 830). Об отрицании и о проблематике конституирования субъекта см.: Lacan J. Séminaire du 16 novembre 1966 // Lettres de l'École freudienne, 1967 (1), févr.-mars; Séminaire
du 7 décembre 1966 // Ibid. 1967 (2) Avr.-Mai.
2 См. семиотическую интерпретацию этого концепта: Mäll L. Une approche possible du sunyävadä // Tel Quel, № 32, hiver 1968; перепечатано из сб.: Terminologia
Indica (Тарту).
3 Ibid. По поводу отрицания в индийской логике см.: Stall J.I. Négation and the
Law of Contradiction in Indian Thought: a comparative study // Bulletin of the School of
Oriental Studies, Univ. of London, 1962. T. XXV. P. 52.
187
нальные феномены» («сновидение», «поэзия», «безумие»), подчиненные знаку (принципам разума). Зерологический субъект
(видно, в какую точку здесь смещен концепт «субъекта») не зависит ни от какого знака1, даже если, исходя из пространства
рациональности, мы можем представить его себе только через
знак.
Если это «пустое» пространство, где движется зерологический субъект, представляет собой полюс, противоположный нашему логическому пространству, подчиненному говорящему
субъекту, то поэтическая семиотическая практика со всеми ее
особенностями становится местом, где оба полюса соединяются
в непрерывном движении друг к другу. Таким образом, пара-
грамматическое пространство — пространство поэзии, которое
мы находим на оборотной стороне пространства говорящего
субъекта, за границами этой «пустоты» (вместе с ее зерологи-
ческим субъектом) — это уязвимое пространство нашей культуры, в которой происходит соединение знакового мышления в
виде нормативной речи и такого функционирования, которое
для осуществления не нуждается в логическом субъекте. Сказанное означает, что параграмматизм для нас (мы здесь позволим себе перефразировать Лакана) есть концепт, формирующийся в ходе попыток связать деконституирование субъекта с
его конституированием, деконституирование речи — с кон-
ституированием текста, деконституирование знака — с кон-
ституированием письма. Сказанное означает также, что этот
параграмматизм, будучи поэтическим языком, не следует насильственно помещать в бессознательное (равно как и остальные
пограничные понятия, такие, как фантазм), но что это особая
семиотическая практика, которую должен изучать семанализ, не
растворяя ее ни в логике (0-1), ни в топологии (референт-озна-
чаемое, означающее; сознательное-бессознательное) речи и/или
знака.
Такая стратификация не предполагает никакой иерархии и
никакой диахронии. Речь идет о линеаризации синхронического
функционирования. Мы, следовательно, считаем, что обе стороны нашей схемы взаимопроницаемы, что функционирование речи
пронизано параграмматизмом, равно как функционирование поэтического языка ограничено законами обычной речи. Однако
мы позволим себе это схематическое упрощение, чтобы подчеркнуть нередуцируемость обеих семиотических практик, а также
отметить, что в рамках семанализа есть необходимость построить нередукционистскую типологию множества семиотических
практик.
1 Ibid.
Поэзия и негативность
188
Еще раз: поэтический опыт улавливает такой постоянный переход от знака к не-знаку, от субъекта к не-субъекту — это и есть
поэтический язык.
Субъект
Суждение
Aufgebung
сознательное
Непризнание
негации
}
бессознательное
fr
s
с;
0
1
о
î
о
о
с=
х
0
£0
1
с;
и
и
X
о
со
Ф
н
о
Cl
и:
s
й
► прагматизм
Зерологический 1
субъект J sunvävadä
Фиг. 3
Обширное пустое пространство расстилается позади того,
кто пытается уловить работу мысли внутри языка:
«К несчастью, углубившись в стихи до такой степени, я
встретил две пропасти, которые привели меня в отчаяние.
Одна из них — это Небытие, к которому я пришел, не будучи знаком с буддизмом, и я до сих пор так глубоко огорчен, что не могу поверить в собственную поэзию и вновь
взяться за работу, которую я вынужден был оставить из-
за этой сокрушающей мысли»1.
Или:
«Я слишком долго погружался в Небытие, чтобы говорить
с уверенностью»2.
В таком изыскании логика речи на мгновение прерывается,
она заставляет «я» (субъекта) исчезнуть; следование ему вызывает необходимость грубой репрезентации (зеркала), позволяющей
реконструировать «я» (субъекта) и логику («чтобы думать»), а
также осуществить параграмматический жест как синтез «бытия» и «небытия»:
1 Малларме С. Письмо А. Казалису, март 1866 г. (Mallarmé S. Op. cit. P. 59).
2 Малларме С. Письмо A. Казалису от 14 мая 1867 г. (Ibid. Р. 79).
«Впрочем, признаюсь, но только тебе одному, что я до сих
пор испытываю потребность, так велико было пережитое
уничижение триумфа, смотреться в зеркало, чтобы размышлять, и если бы оно не висело над столом, где я пишу
тебе сейчас письмо, я вновь обратился бы в Небытие.
Знай же, что в настоящий момент я есмь нечто безличное,
а вовсе не тот Стефан, с которым ты был знаком, я — способность Духовного Универсума видеть себя и развиваться через то, что некогда было мною»1.
Освободим это высказывание от причуд религиозной эпохи, и
мы обнаружим проницательный анализ попытки синтеза ( «в момент синтеза», отмечает Малларме, когда говорит о своем поэтическом продуцировании), которым является поэтический язык, —
никогда не завершимого синтеза («несинтетическое объединение») семических отображений (диалогов между дискурсами,
интертекстуальности), с одной стороны, и Логоса с его законами
логической коммуникации — с другой.
«Она станет тем доказательством от противного, как в математике или моем сновидении, которое, разрушив меня,
сумеет меня возродить»2.
С этой точки зрения символическая деятельность (работа
«поэта») освобождается от бремени быть декоративным пустяком или случайной аномалией, возложенной на нее позитивистской (и/или платонической) интерпретацией, и предстает во всей
своей значимости особой семиотической практики, которая в
движении негативности одновременно отрицает речь, и то, что
является результатом такого отрицания3. И это означает, что
семиотическая практика денотативной речи представляет собой
лишь одну из возможных семиотических практик.
Такая интерпретация поэтического функционирования и его
места в нашей культуре предполагает, как мы надеемся, что под
вопрос будут поставлены рационалистические концепции, относящиеся ко всем другим дискурсам, называемым «анормальными».
При конституировании общей семиотики, основанной на том,
что мы называем семанализом, отменяется императив речевой
модели и нашему вниманию предлагается исследование продуцирования смысла, которое предшествует сказанному слову.
1968
1 Ibid. Р. 78 (подчеркнуто мною. — Ю. К.).
2 Малларме С. Письмо А. Казалису от 4 февраля 1869 г. (Ibid. Р. 87).
3 Она становится, таким образом, утверждением — единственным, в которое
вписывается бесконечность.
Порождение формулы
Очищением и порождением (формулы) — этими двумя деяниями просветли меня полностью!
Ригведа, 9. 67, 23-25
Прелиминарии к концепту текст. Сема нал из
Совершаясь за пределами «произведения» и «книги», иными
словами, завершенного и закрытого сообщения, «литературная»
деятельность сегодня представляет собой тексты: продуцирование означивания, эпистемологическая сложность которого
окольным путем освободилась от того, что было характерно для
древних священных гимнов. Продуцирование, которое — чтобы
быть понятым и воспроизводимым в дискурсе, воздействующем
на текущую социальную жизнь, — требует теории, прежде чем
разрабатываться как аналитико-лингвистическая рефлексия относительно означающего-производящего-себя в тексте.
Слово аналитический используется здесь в его этимологическом смысле (avaÂDGtç) и означает разложение концептов и операций, которые сегодня репрезентируют значение, освобождение, опирающееся на аппарат современного дискурса, связанного с означающим (психоанализ, философия и т. д.), чтобы
отделиться от него и разрешиться в смерти — в исчезновении
присутствующей видимости — непрерывной.
В отношении этой теории речь идет, прежде всего, о том, чтобы концептуально очертить ее «объект», текст, отграничив его
от тотальности дискурсов, называемых «литературными» или
«поэтическими», чтобы выявить ее специфику, позволяющую
тексту осуществляться, и во вторую очередь, чтобы подвергнуть
критическому пересмотру собрание дискурсов, которые сейчас в
области познания классифицируются как «литературные», «научные», «религиозные», «политические» и т. д.
Таким образом, текст становится определенным типом означивающей деятельности, которая занимает точное место в истории
и требует особой науки, которую предстоит разработать.
Итак, будучи практикой внутри означающего и по отношению
к нему, текст обнаруживается в более или менее дифференцированных формах в многочисленных письменных и устных дискурсах— «литературных», «философских», «религиозных» или
«политических»: настоятельно необходимо в совокупности сказанного и написанного выявить ось текстуальности, а также отметить «текстуальные» особенности в каждой реализации языка.
В качестве продуцируемого в языке текст может быть осмыслен лишь в его лингвистической материи, и как таковой побуж¬
дает к формированию теории значения. Мы говорим о семанали-
зе, прежде всего, чтобы подчеркнуть его отличие от семиотики, а
также тот факт, что речь идет не о попытке блокировать изучение
различных видов означивающих практик через «знак», но о его
декомпозиции и выявлении внутри него новое «вне», новое пространство обратимых и комбинируемых топосов, пространство
означивания1.
Семанализ есть теория текстового означивания, где знак рассматривается как спекулятивный элемент, обеспечивающий репрезентацию порождения — процесса прорастания, — который
является внутренним для него, охватывая его целиком, и который
берет на себя определение законов. Иными словами, принимая во
внимание, что текст представляет собой систему знаков, семанализ выявляет внутри этой системы другое место действия, которое скрывает экран структуры и которое представляет собой
означивание как операцию, по отношению к которой структура
есть всего лишь отсроченный результат. При отказе от иллюзий
утраченного могущества и возможности существования, которые
обеспечивала территория знака, семанализ избавляется от обязанности придерживаться только одной точки зрения — центральной, требующей описания структуры, — и открывает возможность комбинировать различные позиции, возвращая знаку
функцию, продуцирующую порождение. Опираясь на корпус
языка (в соссюровском смысле слова), семанализ отгораживается от тематики психологизма и эстетствующего идеализма, которые в настоящее время оспаривают монопольное право на то, что
можно назвать письмом (Деррида). Однако, будучи лингвистикой, семанализ не имеет ничего общего с дескриптивизмом как
описанием «корпуса» как носителя информационного содержания, обеспечивающего коммуникацию между отправителем и адресатом. Отметим, что лингвистика, основанная на таких теоретических принципах, — на тех, что в настоящее время подчиняют
себе процесс технократизации так называемых «гуманитарных
наук», — оказывается грубо субстанциалистской и вещной, или
лучше сказать, феноменологической. Она обращается к лингвистическому «корпусу», уподобляя его поверхности, структурированной дифференцированными единицами означающих, которые означивают определенный феномен: сообщение, придерживающееся некоторого кода. То, что мы называем семанализом, не
мыслим в этих терминах. «Тело находится там, где оно действует» (Лейбниц). Текст — это не языковой феномен, иными слова¬
1 «Именно здесь, в этой сигнификации, где целое заявляет о себе и от себя отказывается, но намечает и находит письмо по своей мерке, сегодняшняя литература
пытается найти свое место» (Sailers Ph. Critique de la poésie // Sailers Ph. Logiques.
Coll. Tel Quel. P.: Ed. du Seuil, 1968).
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
192
ми, это не структурированная сигнификация, репрезентированная в лингвистическом корпусе, рассматриваемом как плоскостная структура. Это ее порождение: порождение, вписанное в тот
лингвистический «феномен», в тот фенотекст, который представляет собой зафиксированный текст, но прочесть его можно
лишь вертикально восходя через его генезис: 1) к его лингвистическим категориям; 2) к топологии акта означивания. Следовательно, означивание становится порождением, которое можно
уловить двояким образом: 1) как порождение языковой ткани;
2) как порождение того «я», которое занимает позицию, представляющую сигнификацию. На этой вертикали выявляется (лингвистическая) операция порождения фенотекста. Эту операцию
мы будем называть генотекстом, раздваивая таким образом понятие текста на фенотекст и генотекст (на поверхность и глубину, на означаемую структуру и продуцирование означивания).
В представленной таким образом генеративной зоне объект
исследования «нарушает принципы евклидовой локализации» и
не имеет «субстанциальной специфики»1. Соответственно текст
представляет собой «динамизированный объект»; трактующий
его дискурс — семанализ — имеет целью выявление типов динамизированных объектов, представленных как означающие.
Если означивающая деятельность постоянно действует на линии превращения фенотекста в генотекст и наоборот, то специфика текста заключается в переводе генотекста в фенотекст, что
при чтении обнаруживается как выявление фенотекста за генотекстом. Иначе говоря — здесь мы рискнем дать предварительное
операциональное определение, которое в дальнейшем дополним
и уточним, — анализ означивающего продуцирования как текстового приведет к тому, чтобы показать, каким образом процесс
порождения знаковой системы манифестируется в фенотексте.
При рассмотрении в качестве текстовой любая практика означивания реализует на всех уровнях фенотекста (в его означающем и
означаемом) процесс порождения той знаковой системы, которую она утверждает. Короче говоря, становясь текстовой, практика следует фрейдистскому правилу: Wo es war, soil ich werden.
«Там, где было Оно, должно стать Я».
Такая формулировка требует некоторых уточнений.
А. Во-первых, следует провести радикальное различие между
разделением, сформулированным нами — генотекст/фенотекст — и тем, что представлено в генеративной грамматике Хомского, — глубинная и поверхностная структуры.
Генеративная грамматика в ее теоретических основаниях
(мы не рассматриваем здесь ее инструментальную полезность)
1 См.: Bachelard G. La philosophie du non. P.: P.U.F., 1940.
обладает преимуществом перед другими аналитическими подходами к языку, поскольку предполагает синтетическую позицию, представляющую речевой акт как процесс порождения.
Однако глубинная структура, установленная, чтобы принять на
себя репрезентацию порождения, есть всего лишь неграммати-
кализованное отражение отношений конкатенации, свойственных английской (индоевропейской) фразе. Иными словами, целью и ограничением глубинной структуры Хомского является
порождение фразы, которое она всего лишь репрезентирует в
виде линейной неграмматикализованной и нелексикализован-
ной абстрактной структуры («basic subject-predicate form»)1;
без выделения различных возможных этапов структурирования, предшествующих линеарной фразеологической структуре
(субъект-предикат). Глубинные компоненты структурно те же,
что и поверхностные, и никаких трансформаций, никаких переходов от одного типа компонентов к другому, от одного типа
логики к другому в модели Хомского не наблюдается2. Таким
образом, порождающая грамматика, собственно говоря, ничего
не порождает: она всего лишь устанавливает принцип порождения, постулируя глубинную структуру, которая есть лишь архе-
типическое отражение «исполнения» (performance). Теоретическим следствием такой глубинной структуры является то, что
она может стать «научным» оправданием «ментального акта»3,
принимаемого в качестве непосредственной причины лингвистической активности, которая в свою очередь представляет собой лишь выражение идей, которые ей предсуществуют. Такая
концептуализация с необходимостью следует за рационалистической психологией XVII в., и Хомский цитирует Херберта Чер-
бери (De Veritate, 1624), верившего в «принципы понятий, укорененные в разуме» и в «умственные истины» (Н. Хомский), которые «запечатлены в душе диктатом самой Природы». Мы тут
же приходим к принципу Декарта (и, надо думать, Хомского)
«общего согласия», основанного на «общих понятиях», разделяемых «нормальными людьми», из числа которых исключаются «тупицы, сумасшедшие, слабоумные и опрометчивые люди»4.
Так наука, которая на техническом уровне проявляет беспрецедентный динамизм, в теоретическом отношении свидетельствует о собственной отсталости, доходящей до постулирования
1 Chomsky N. Cartesian Linguistics. N.Y.; London: Harper & Row, 1966. P. 42.
2 «Однако нет сомнения, что ТГ в том виде, в котором она теперь сформулирована, неправильна... При этом небезынтересно заметить, что один из известных
недостатков ТГ находится внутри НС компонента, а не внутри трансформационного
комплекса грамматики» (Лиз Р.Б. О переформулировании трансформационных грамматик // Вопросы языкознания. 1961. № 6. С. 50).
3 N. Chomsky, op. cit. P. 42.
4 Ibid. P. 60-62.
Юлия Кристева мШр Семиотика: Исследования по семанализу
194
теологических принципов, опирающихся в конечном счете на
картезианского субъекта.
То, что мы называем генотекстом, есть абстрактный уровень
лингвистического функционирования, которое, не отражая
структур фразы, предшествуя им и превосходя их, определяет их
анамнез. Следовательно, речь идет о функционировании означивания, которое, совершаясь в языке, не редуцируцируемо к речи,
манифестируемой в процессе коммуникации и называемой нормальной (к ее универсалиям и законам их комбинирования).
Генотекст оперирует аналитико-лингвистическими категориями
(для которых в каждом случае мы должны в теоретическом дискурсе находить аналитико-лингвистические концепты), чьи ограничения связаны с порождением для фенотекста не фразы (субъект-предикат), а означающего, рассматриваемого на различных
стадиях функционирования означивания. Таким эпизодом в фе-
нотексте может быть слово, сочетание слов, именное предложение, абзац, «бессмыслица» и т. д.
Генотекст — это не структура, но и не структурообразующий
фактор, поскольку он не то, что формирует структуру и не то,
что позволяет ей быть1, хотя бы в ограниченных пределах. Генотекст представляет собой бесконечное означающее; оно не может «быть» «этим», поскольку не является единичным; точнее,
это «означающие», бесконечно плюральные и дифференцированные в бесконечности; по отношению к ним здесь присутствующее означающее, означающее наличной-формулы-говорящего-
субъекта, является всего лишь границей, локусом говорения, акциденцией (ac-cidence, т. е. подступом, приближением, которые,
покидая свою позицию, добавляются к означающим). Плюраль-
ность означающих, внутри которой — а не вне нее — формулируется означающее (фенотекст) может быть размещено и в этом
смысле сверх-детерминировано. Таким образом, генотекст — это
не просто иная сцена по отношению к зафиксированному и осевому настоящему, но совокупность иных сцен, во множестве которых не хватает внеположенного — обобщающего — индекса,
сверхдетерминация которого изнутри придает определенность
бесконечности.
Это бесконечная плюральность, самодовлеющая, выходящая
за пределы дихотомии «наличное-иное», сквозь которую просвечивает трансцендентное, будь то отдельный объект, подтверждающий уникальность единичного означающего, или исчезновение смысла, которое отнимает всякую текстовую специфику и полностью отсылает ее в область вне-смысла с ее
непреодолимой закрытостью. Эти условные отдельный объект и
1 О проблеме структурирования см.: Miller J.A. Action de la structure // Cahiers
pour V analyse. 1968. № 9.
195
вычеркнутый смысл мешают «я» уловить продуцирование, которое они не позволяют прочитать в этом их плюрализме, продуцирование, которое не просто подразумевает структуру, но порождает ее трансляцию и трансформацию, поскольку оно есть нечто
большее, чем структура и структурирование; продуцирование,
которое не только подразумевает закрытость, но и пред-ъидит ее,
т. к. оно представляет собой то бесконечное определенное пространство, где при закрытости нечего видеть.
Оставаясь в позиции структуры, генотекст ее пересекает,
транслирует и помещает в означивающую плюральность, которой присутствие структуры позволяет выполнять функцию забывания. Утвердить генотекст — это значит иметь в виду переход
через структурную позицию, транспозицию. «Эту направленность я называю Транспозицией — Структурой, другим», — писал Малларме в «Кризисе стиха»1.
Не структурированному и не структурирующему генотексту
неизвестен субъект. Внешний по отношению к субъекту, он также
не является его нигилистическим негативом, поскольку он есть
его «иное», действующее по ту и другую сторону от него. Вне-
субъектное и внетемпоральное место генотекста (субъект и время представляются всего как акциденции этого широкоохватного
пересекающего их функционирования) позволяет представить
его как диспозитив истории языка и означивающих практик, которые он в состоянии воспринять: здесь «заданы» возможности
всех конкретных существующих и будущих языков, до того как,
замаскированные или ограниченные, они попадут в фенотекст.
Эти попытки приблизиться к различиям между генотекстом и
фенотекстом близки к лингвистическим генеративистским теориям Шаумяна и Соболевой, откуда заимствована терминология2.
В. Различение генотекст/фенотекст обязывает дискурс, приступающий к сигнификационному функционированию, постоянно раздваивается, что определяет в каждом лингвистическом высказывании два плана: один относится к лингвистическому феномену (структуре), релевантен знаку и поддается описанию с
помощью аппарата структурной семантики, подразумеваемой
при рассмотрении знака; другой — к порождению (генерированию) означающего; он более не подчиняется знаку, но организуется отображением различий числового характера (вернемся к
этому позже).
1 Малларме С. Сочинения 6 стихах и прозе. М.: Радуга, 1995. С. 337.
2 См.: Шаумян С.К., Соболева П.А. Аппликативная порождающая модель и исчисление трансформаций в русском языке. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963;
Шаумян С.К., Соболева П.А. Основания порождающей грамматики русского языка.
М.: Наука, 1968, а также Saumjan S.K. Outline of the applicational generative model for
description of language // Foundations of Language. 1965. № 1.
Порождение формулы
Юлия Кристева мШр Семиотика: Исследования по семанализу
196
К поверхности фенотекста генотекст добавляет объем. Коммуникативной функции фенотекста генотекст противопоставляет продуцирование сигнификации. Таким образом, в каждом продукте означивания появляется двойной фон: в (коммуникативном) языке возникает иной «язык» (продуцирование значения), а
текст — в соединении обоих. Этот порождающий и разрушающий
«язык», который продуцирует и устраняет любое высказывание,
нужен для того, чтобы открыть за поверхностью коммуникации
работу означивания, которую она скрывает.
Установление этого двойного фона не означает, что идеальная, неязыковая или «ментальная» глубинность предсуществует
как причина коммуникативной речи и поддается архифилософ-
ской трансцендентализации. Поскольку этот двойной фон далек
от того, чтобы быть лингвистическим феноменом, он не предшествует ему и не вызывает его. Он представляет собой свое собственное порождение, иными словами, процесс зарождения
феномена включен в сам этот феномен, и самим фактом такой
включенности он разлагает феномен, стратифицирует его, придает ему пространственность, динамичность, раскрывает его не-
овеществимый потенциал означивания. В этом случае текст представляется как тело, резонирующее во множестве регистров, и
каждый из его элементов приобретает многомерность, которая
наделяет их значимостью иероглифов, поскольку отсылает к
присутствующим и отсутствующим языкам и дискурсам. Порождение феноменально так же, как феномен порождаем. Очевидно,
что различение между терминами генотекст/фенотекст, если и
чисто дидактично, то не отступает от материалистического подхода, который помещает принцип структурирования в материю
того, что структурируется, подхода, принятого дискурсом, который считается теоретическим и который пытается осмыслить
продуцирование текста, заключающееся в постоянном обращении процесса генерирования в формулу, порождения в семя, и в
их взаимном преломлении образуется ткань текста.
Подчеркнем, что такое порождение не порождает никакого
внешнего по отношению к нему «факта». Это процесс порождения, аккумуляции и роста «гермов», герминации, он не имеет ничего общего с созданием потомства, продукта, внешнего по отношению к нему и в котором порождающий мог бы наблюдать
свое неудачное начинание.
Формула, добавляемая к зарождению, представляет собой
связанное с текстом комплексное число, которое в силу указания
на частоту зарождений, т. е. указания на бесконечную множественность, ни о чем не говорит. Следовательно, формула — это не
выражение формулируемого смысла, достигшего конечной формулировки, но остаток, коррелирующий с зарождением, по от¬
ношению к которому он не является ни следствием, ни причиной;
она есть отпечаток, подлежащий прочитыванию как нечто нечитабельное, необходимая концовка, с помощью которой зарождение защищается от того, чтобы стать порождением, т. е. «иметь
дитя», обзавестись потомством — Смыслом.
Таким образом, формула — это не предмет, а если она и выдает
себя за него («Числа» Ф. Соллерса называются романом и в качестве такового продаются), то потому, что становится препятствием, которое может сломить объект, препятствовать его выстраиванию, сместить его с оси в область труда без стоимости, т. е. без
опредмечивания, без обмена, без продажи; «труд есть внутренняя
мера цен, но сам он не имеет никакой цены». Будучи местом, губительным для стоимости, продукта, обмена, формула демистифицирует ценность объекта, демонстрируя то, что каждый объект,
наделенный коммуникативным Смыслом, вычеркивает: бесконечный процесс деятельности, который зарождается в нем. Или же,
если зарождение завершается в какой-то точке, в формуле, то
лишь для того, чтобы снова испытать головокружение от переполненной, плюральной, безграничной бесконечности, которой надо
позволить излиться на бумагу вместе с чернилами. Ибо формула,
будучи препятствием, конституируется как тело, которое может
встать перед зеркалом и увидеть там себя. Тогда увиденное неизбежным рикошетом заново начинает зарождение, прерывает его,
чтобы трансформировать, т. е. приостанавливает его, подготавливая к новой, другой формуле: «(1.81) Объединенные в группы и
рассеянные гермы, формулы все более высокой степени производное™, и везде в произведении вместе с жестом, поддерживающим,
возвращающим, отсекающим и трансформирующим».
Таким образом, формула внутренне присуща зарождению,
она — его проекция и движущая сила, его прерванность и устремленность: его глаза, которые смотрят, не видя себя и не видя зарождения, которое их включает в себя. Как хранилище и побуждение формула осуществляет двойную деятельнось — принадлежа
своему бесконечному пространству и апеллируя к другому, столь
же бесконечному, она фактически, существует между ними как
место выхода зарождения за допустимый предел: это избыток, который прерывает и требует его, покидает и сохраняет место нового зарождения впредь до нового выхода за допустимый предел.
Мы используем термин «формула» не только чтобы обозначить аспект, в каком представлен текст, но также, чтобы установить связь между процессом означивания, как он действует в тексте, и операцией логико-математического формулирования, которая в первую очередь маркирует эпохи символизации, т. е.
«монументальную историю». Таким образом, на тексты следует
смотреть как на формулы сигнификации в естественном языке,
Юлия Кристева бШ» Семиотика: Исследования по семанализу
198
как на последовательные переработку и преобразование языковой ткани. Эти формулы займут такое же, если не более важное,
место при конституировании и трансформации монументальной
истории, как и открытия в математической логике. Нам предстоит огромный труд: выявить, каким образом тексты на протяжении веков становились агентами трансформации систем мышления и вносили в идеологию все те преобразования означающего,
которые могли произвести только они с помощью логико-математических операций.
Фактически вплоть до идеологического разрыва конца XIX в.
эти операции построения формул в ткани языка блокировались,
хотя и не встречали полного противодействия со стороны идеологии литературы как внешней репрезентации, риторики, предлагавшей лишь формулы, приведенные в курсе элементарной геометрии. Очевидно, что сегодня на всех фронтах символического
продуцирования происходит ускорение, и текстовое письмо шаг
за шагом вводит то, что в истории символического последовательно практиковалось на протяжении веков. Операции, при помощи которых строили формулы Малларме, Лотреамон, Арто,
произвели в языке революцию, подобную той, что совершилась в
результате внедрения новых типов нотации — мнимых, иррациональных и т. п. чисел — в сфере символического. Эти инновации,
связанные с формулами в текстовых операциях, следует выявить,
чтобы конституировать семанализ, открытый для материалистической теории означивания.
Формула нужна также для того, чтобы связать текст с теми
великими священными кодами, которыми человечество руководствуется на протяжении веков и которые в виде формул-законов диктуют идеологии то, что означающее совершает, не говоря
об этом.
Представление о фенотексте как о формуле требует выявления в нем раздвоенного коридора реминисценций, одновременно
ведущего к символическому j математическому процессу, к которому приходит текстуальное означивание, практикуя его в языке,
а также к идеологическому/мифическому корпусу, пронизывающему собой каждый блок монументальной истории.
ГЕНОТЕКСТ
Символическое
Математическое
Идеологическое
Мифы
Категории языка
ФЕНОТЕКСТ
формула
С. Какую позицию в теоретическом дискурсе после структуры
может занять означивающая деятельность, не присвоенная субъектом и включенная в лингвистическую историчность? Очевидно,
что именно субъект теоретического дискурса пробивается сквозь
феноменологическую поверхность высказывания (фенотекста),
являющегося его собственной поверхностью описания, чтобы обнаружить не процесс высказывания (который представляет собой
всего лишь отсроченное высказывание и поэтому столь же феноменологичен, что и фенотекст), но процесс означивания, поддерживающий сам описательный дискурс. Иными словами, субъект
теоретического дискурса, который может не осознавать себя в
феноменологическом описании, продолжает не осознавать себя
(признание этого свойственно субъекту науки; ср. работы Миллера), реконституируя себя в дискурсе, не подчиняющемся объектному описанию: это дискурс, утверждающий генотекст. Раздвоение текста на генотекст и фенотекст по существу есть раздвоение
теоретического дискурса. Если в семиотике, говоря о фенотексте,
забывают о его субъекте, чтобы извлечь (Xsyziv) истину означающего, то семанализ при восстановлении генотекста присваивает
эту первичную речь и ее забытого субъекта, следовательно, присваивает свой собственный дискурс, присваивает самого себя,
чтобы вновь забыть о своем субъекте. Но, проделав такой путь,
этот субъект уже не идентичен тому, кто на уровне фенотекста
принимал истину. На этом втором этапе появляется нечто новое: в
точке своего вытеснения субъект притворяется, что подтверждает свою истинность, утверждая то, что ее искажает, — ее зарождение. Как вытеснение второй степени, этот дискурс на бесконечном двойном фоне, всегда ускользающем, задвигаемом, ведет к
гипостазированию подвижного, неуловимого субъекта. В акте
ауто-овладения, который представляет собой разрушение структуры означаемых, и благодаря открытости к порождению означающих, путем перехода от вытеснения субъекта к замене этим вытеснением Закона = Желания, научный дискурс переходит в дискурс теоретический: к психозу примешивается перверсия1.
Далее мы попытаемся защитить такой тип дискурса, который,
несомненно, стал полностью возможным и даже полностью предсказуемым, благодаря тексту, к которому мы приступаем: «Числа» Филиппа Соллерса. Поскольку это текст, специфика которого требует, чтобы применяя в своих формулах законы порождения, остатком которого эти формулы являются, он представлял
в своем повествовании, т. е. на уровне того, что рассказывается,
теоретические, эпистемологические и политические принципы,
1 «Вся проблема перверсии сводится к тому, чтобы понять, как ребенок в своем
отношении к матери — отношении, определяемом с точки зрения анализа не витальной зависимостью ребенка от матери, а его зависимостью от любви, т. е. желанием ее
желания — идентифицирует себя с воображаемым объектом ее желания в той мере, в
какой сама мать символизирует его в фаллосе» (Лакан Ж. Ниспровержение субъекта
и диалектика желания в бессознательном у Фрейда // Лакан Ж. Инстанция буквы в
бессознательном или судьба разума после Фрейда. М.: Логос, 1997. С. 107-108).
Юлия Кристева бЩр Семиотика: Исследования по семанализу
200
на основе которых то, что написано, может быть сказано. Именно этот уровень текста подтверждает обеспеченность — проверку — дискурса: именно сюда, в это необходимое зеркало повествования, репрезентирующее своей вогнутой поверхностью то,
что выстраивается, вводится теория в тщетной попытке расплавить его. Такая попытка возможна лишь при допущении, — которое мы принимаем — что «со времени перелома, точно выделенного в истории, стало невозможным считать письмо объектом,
который изучался бы иначе, чем через само письмо (его осуществление при определенных условиях)»1.
Завершая таким образом наш очерк, мы в то же время придаем ему роль медиции между тем, что получается на выходе репрезентации (текст), и тем, что остается невыраженным (что текст
должен репрезентировать обществу). Эта медиация побуждает,
начиная с невысказанной мечты, приступить к ее обсуждению, а
затем к реализации. Она репрезентативна и обусловлена самими
законами текста, который, как мы покажем позже, отнюдь не выходя за пределы репрезентации, содержит ее в себе и предусматривает ее вне себя, чтобы таким образом сделать оттиск контрследа того, посредством которого маркируется означивающая
бесконечность и который тем самым препятствует своему рассеянию в трансцендентности.
Числовая функция означающего: исчисляющее.
Означивающий дифференциал
Атомы, наделенные всевозможными способностями,
посредством разделения и соединения преобразуются в
тень, тепло, темноту и речь. Конечные атомы — параману — речи, когда проявляется их собственная сила, приводятся в движение артикуляционным усилием и сгущаются
подобно тучам. Фонемы наделяются смыслом лишь для
того, чтобы изложить предмет грамматики. Но в изолированном виде глагольные и прочие корни лишены какого бы
то ни было смысла с точки зрения обыденного употребления...
Бхартрихари, V век н. э.
Число — это множественность, измеряемая единицей.
Аристотель. Метафизика, 1,1057а
Для меня бесконечные величины не суть целые, а бесконечно малые не суть величины. Моя Метафизика не допускает их в свои владения. Я смотрю на бесконечно малые
количества как на полезные Фикции.
Лейбниц
1 Sollers Ph. Programme// Söllers Ph. Logiques. Coll. Tel Quel. P.: Ed. du Seuil, 1968.
В науке модерна при изучении означивания в языке за исходный элемент принимается единица — носительница смысла,
встраиваемая в структуру, которая, в конечном счете, и наделяет
ее значением. Эту единицу принято усматривать в слове, и такова
отправная точка соссюровской теории знака. В наши дни в структурной семантике из лексемы quasi произвольно изолируются
семы, которые представляют собой всего лишь «идеи» без материального или какого-либо иного оправдания, кроме интуиции
говорящего, подкрепляемой статистикой (Греймас, Потье). В свою
очередь смысл дистрибутивного анализа, сохраняющего слово в
качестве единицы, определяется с учетом его контекстуальных
связей, а также синтаксиса (Хэррис и его последователи; Апресян говорит о «синтаксическом значении»). Но в обоих случаях
означающее как единица, характеризующая слово, не подвергается сомнению: ни одна теория лингвистического означивания не
покушается на эту целостность.
Однако можно назвать три расходящиеся тенденции, связанные с попыткой разрушить эту целостность.
Первая относится к Пражской фонологической школе, где, не
считаясь с целостностью, а следовательно, выразительностью
слова1, атомизировался звук2, и от звуковой стороны слова сохранились лишь оппозиционные черты, выполняющие в языке функцию различения. Фонему можно было определить как «звуковой
признак фигуры слова » или даже сказать, что «фонемы языка —
это не звуки, а лишь звуковые черты, соединенные вместе» (Блумфилд, курсив наш). Совершенно очевидно, что фонологические
исследования не опирались ни на какую теорию означающего и на
эмпирическом уровне, где они располагались, не имели в виду
теорию значения. Однако распыление слова и концентрация лингвистических исследований вокруг звукового означающего, оторванного от языка, позволяло предвидеть, что за отправную точку здесь будет принята идея символического функционирования.
Действительно, связь, установленная Якобсоном между фонемой
и тем, что в индийской грамматике называют «спхота » — и что мы
определяем как концептуальную сверхдетерминанту фонемы3 —
1 «...любое слово представляет собой целостность, структуру... Фонемы как раз
и являются различительными признаками словесных структур» (Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 41).
2 «Фонолог должен принимать во внимание только то, что в составе звука несет
определенную функцию в системе языка» (Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 19).
3 Спхота (sphota) не относится к разряду фонем. Если фонемы — dhvani — это
атомы звуковой цепи, бесконечно делящие ее до «не поддающегося описанию» и до
«несуществующего», то спхота обеспечивает единство, а значит, и интеллигибель-
ность и существование (реальность) этой неупорядоченности, полностью означива-
ясь ею. В качестве сверхдетерминанты фонемы, а также звука и смысла, спхота есть
единица (и сущность) бесконечной дифференцированности. Следует отметить диалектическое противоречие, а также особый тип каузальности, которые соответствуют
Юлия Кристева Щш Семиотика: Исследования по семанализу
202
характеризует движение именно в этом направлении. К сожалению, экспансия фонологии шла в ущерб ее теоретическому
углублению. В частности, можно было наблюдать, как в одной из
разновидностей структурализма происходил прямой перенос некоторых фонологических принципов в план сигнификации при
априорном допущении, что ее можно считать комбинацией автономных единиц, находящихся в отношении бинарных оппозиций.
Такой подход исключал из конституируемого таким образом
поля проблему сигнификации как развития, равно как и проблему ее супердетерминации, что повлекло за собой статическую и
механистическую концепцию значения как «целого», состоящего
из «частей», концепцию, которая сегодня господствует в структурной семантике и делает ее беспомощной перед лицом текста.
Другой значительный вклад, которому мы обязаны первым
прорывом за пределы позитивизма, доминировавшего в дискурсах,
относящихся к сигнификации, внес Жак Лакан. Стремясь «показать, каким образом означающее фактически включается в означаемое, а именно, в форме, которая, чтобы не быть нематериальной,
ставит вопрос о его месте в реальности»1, Лакан определяет письмо как «тот материальный носитель, который каждый конкретный
дискурс заимствует в языке»2, как «локализованную в своих основных чертах структуру означающего»3. Возвращаясь к мысли
Фрейда о сновидении («Толкование сновидений») как о ребусе и
иероглифе, Лакан не только утверждает, что означающее предшествует смыслу, но и радикально по новому концептуализирует
отношение означающее/смысл как отношение «настойчивости»
(insistance) и отсутствия «устойчивости» (consistance)4. Узловой
точкой этой постоянной настойчивости означаемого, находящего
прибежище под означающим, является идеограмма как письмо и
этому термину и благодаря которым теория спхоты принадлежит к концепции реальности как множественности мутаций-действий-трансформаций.
Для индийских грамматиков, которые не ставили проблему субстанциальности,
спхота — мельчайшая точка сверхдетерминации значения, которая манифестируется
в действии разворачиванием устной речи — определялась так: «Эта энергия, называемая речью, имеет, так сказать, природу яйца (изначально недифференцированное,
оно дает рождение павлину с пестрым опереньем). Ее развертывание осуществляется
постепенно, частями, наподобие некоего действия (движения)» (см.: Вакьяпадия, I,
51). О теории спхоты см.: Biardeau М. Théorie de la connaissance et philosophie de la
parole dans le brahmanisme classique. These... P.; La Haye: Mouton, 1964; Sphota Siddhi.
Ed. Institut français d’Indologie, 1958.
1 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после
Фрейда. М.: Логос, 1997. С. 59.
2 Там же. С. 56.
3 Там же. С. 61.
4 «А это значит, что смысл “настаивает” на себе именно в цепи означающих, и
ни один из отдельных элементов этой цепи не “состоит” при этом в значении, которое
он в момент речи способен принять» (там же). Не являются ли эти слова отражением
существенных расхождений между теорией Лакана и структуралистским подходом,
ориентированным на описание «отношения включенности»?
письмо как идеограмма, т. е. сплетение множества утраченных
означающих1.
«Анаграммы» Соссюра следует отнести к тем теориям, где
значение отыскивается сквозь означающее, разрушающееся настойчивостью смысла в действии. Словно отрицая свою собственную теорию знака, Соссюр выявляет рассеивание2 по всему тексту того, что ему представляется именем вождя или божества.
Это действие означающего, которое мы назвали «параграмматиче-
ским», решительно устраняет объектную непрозрачность языка
и открывает его по отношению к двойному фону, о котором мы
говорили вначале, — порождение генотекста. Сегодня почти с
уверенностью говорят, что Соссюр ошибся, наделив имя собственное привилегией ядра параграмматизации. Но благодаря
этой «ошибке» ему удалось открыть закон, который, как представляется, регулирует текстовое письмо и который можно
сформулировать следующим образом: распространение конкретной функции означивания по всему тексту как означающему
приводит к исключению знака и слова в качестве базовых единиц
значения. За отправную точку в параграмматизме принимается
минимальная функция означивания, конкретизируемая одной
или несколькими буквами (или фонемами, которые в данном случае являются различительными признаками, а не выражениями).
Эта «функция» разворачивается (действует) в текстовом эпизоде, не ограничивающемся одной фразой. С этой точки зрения нет
больше ни «сцеплений», ни «цепочек означающих», поскольку
нет больше наслаивающихся «единиц». Напротив, буквы становятся «материальным носителем», который фенотекст предоставляет генотексту, точнее, фокусировкой процесса означивания («точно локализованной структурой означающего»), точкой
означающего, в которой повторяется бесконечное порождение.
Имненно вокруг этой точки мы хотим построить наш дискурс,
связанный с «Числами».
Пересекая и трансгрессируя слово и предложение, знак и
структуру, самопродуцирующееся-означающее распоряжается3
в бесконечности означивания графическими или фонетическими
единицами.
1 «Криптограмма становится в полном смысле слова криптограммой лишь в том
случае, если она записана на утраченном языке» (Там же. С. 68).
2 По поводу этого понятия см.: Derrida J. La dissémination // Critique. Février-
Mars. 1969.
3 «Специфичная проблематика письма массированно освобождается от мифа и
репрезентации, чтобы осмысливать себя буквально и в своем пространстве. Практику
письма следует определять на уровне «текста» в той мере, в какой отныне это слово
отсылает к функции, которую, письмо хотя и не «выражает», но ею распоряжается.
Драматическая экономия, чье «геометрическое место» не может быть репрезентировано (оно разыгрывается)» (Sollers Ph. Programme).
Юлия Кристева бЩр Семиотика: Исследования по семанализу
204
Под «бесконечностью означивания» понимаются все зафиксированные и будущие возможности лингвистического комбинирования, безграничные ресурсы означающего, которыми уже
воспользовались или воспользуются в будущем различные языки
и различные виды означивающих практик. В этом значении бесконечность — это не привативный концепт (каковым она является в философии Древней Греции и модерна; ср. a-peiron или
a-leteia), поскольку это не отсутствие, а всегда нехватка чего-ли-
бо («Бесконечность — это то, чему всегда чего-либо недостает», — говорил Аристотель). Потому она и появляется в фенотек-
сте, материализованная как ось его порождения.
«Графическая или звуковая единица», в которой повторяется
бесконечность означивания, представляет собой минимальное
«множество» означающих, выделяемое в фенотексте. Это «множество», которое, чтобы конституироваться, может разделить
слово на части или, невзирая на его границы, либо объединить две
лексемы, либо разбить одну из них на фонемы, помогает возвратить бесконечный ряд смыслов, бесконечную сигнификацию, всегда, однако, локализуемые, в различные тексты и культуры. Будучи
представлена как «единица», обозначающая бесконечность, это
множество означающих, может рассматриваться скорее как измеримое, поскольку оно локализовано и конкретизировано. То, что
мы называем в наших рассуждениях «множеством означающих»,
не репрезентирует «сущность» или означаемое, но маркирует
плюральное и контингентное распределение бесконечности означающих. Поэтому мы говорим, что такое минимальное множество
означающих имеет числовую функцию и гомологично тому, что в
символике получило название «числа». Вместо того чтобы конституироваться на основе знака, отсылаясь к референту или означаемому, текст использует числовую функцию означающего, и его
дифференцированные множества относятся к разряду чисел. Это
текстовое означающее можно назвать исчисляющим.
Такая гомология требует некоторых пояснений.
Во все времена число рассматривалось как узловая точка, где
маркируется дифференцированная, негомогенная бесконечность. Это точка зарождения науки и мистики, их дивергенции,
но также иногда и конвергенции (Пифагор, неоплатонизм, Каббала). Число — это насечка на бесконечности, бесконечное, «приведенное к точкам», это начальное движение к организации, т. е.
к разграничению и упорядочению. Это движение, которое отличается от простого «означивания» и, можно сказать, охватывает
более обширное пространство, где «означивание» может быть
понято и может занять свое место.
Итак, проникнув внутрь знака, семанализ обнаруживает бесконечное исчисляющее, которое располагает исчисляемым (гра¬
205
фическими и звуковыми множествами), до того, как для него найден референт или означаемое и оно превращается в знак. След,
узел, ранжирование, монстрация/анафора — таковы функции
исчисляющего. Палочки, зарубки, узелки, раковины, орехи — таковы первоначальные числа (в IV тысячелетии до н. э. майя вели
счет с помощью узелков и связок веревок). Ранжирование палочек (у майя за три тысячи лет до н. э. 10 штук = одна связка,
20 штук = одна связка), — это уже упорядочение бесконечности и
база для системы исчисления.
С самого начала число не репрезентирует и не означает. Будучи вне подражания (вне мимезиса и искусства), равно как и
вне «идеала», и, следовательно, вне сигнификации и истины,
рассматриваемой в ее метафизическом смысле, число не имеет
ни внешнего, ни внутреннего. Оно не вызывает, не продуцирует,
не является причиной ничего, кроме него самого. Число анафо-
рично, поскольку это бесконечность, которая проявляется, маркируя себя, его функция — определить плюральность, определить ее (тара-умара используют указательный жест, когда считают).
В ходе эволюции математики понятие числа претерпело множество вариаций (отрицательные, мнимые, рациональные и иррациональные числа, группы Галуа, идеалы Куммера и Дедекинда
и т. д.), эпистемологическое распутывание которых требует специальных исследований1. Однако отметим две концепции числа,
представляющие интерес с точки зрения развиваемых нами общих рассуждений.
В картезианском рационализме число рассматривается в свете проблематики конституирования субъекта. Числа, относимые
к тому же плану, что и универсалии, «зависят от нашего
мышления»2, но в то же время репрезентируют конкретные вещи3.
В качестве идеальных и субъективных конструкций они становятся модусами длительности в той мере, в какой последняя явля¬
1 Первым исследованием такого рода является работа Badiou A. La subversion
infinitésimale // Cahiers pour l'analyse. № 9.
2 «Таким образом, поскольку число не существует в сотворенных вещах, но
лишь рассматривается в абстракции, как род, оно является только модусом мышления; то же относится и ко всему прочему, именуемому нами универсалиями» (Декарт Р. Первоначала философии, 58 //Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль,
1989. С. 337).
3 «Так, если стоит вопрос о числе, мы воображаем какой-то предмет, измеряемый посредством многих единиц, и, хотя разум в это время размышляет только о
множественности данного предмета, мы тем не менее будем остерегаться, чтобы впоследствии он не пришел на основании этого к какому-либо заключению, где предполагалось бы, что счисляемая вещь была исключена из нашего представления; так делают
те люди, которые приписывают числам и удивительные тайны, и сущие пустяки, в кои
они, конечно, не уверовали бы до такой степени, если бы не представляли себе число
отличным от счисляемых вещей» (Декарт Р. Правила для руководства ума, XIV //Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 137).
Порождение формулы
Юлия Кристева ЦЩ Семиотика: Исследования по семанализу
206
ется знаком конечности субъекта1. Субъект, осознающий длительность и, следовательно, свой собственный предел, упорядочивает ее и в конце концов приходит к науке о числах. Как
промежуточная единица между различными частями математического порядка2 число делает возможной меру, придает уни-
формность методу и обосновывает алгебраическую геометрию,
где целое измеряется сложением частей. Что лее касается пространства и бесконечности, исключенных из понятия о субъекте
и, следовательно, о числе, изгнанных за пределы способности
суждения, чтобы отнести их к воображаемому, то они атрибутируются Богу: неизбежной опоре и необходимому дополнению к
субъекту и его науке.
Изначальное вытеснение делает возможным в картезианских
рассуждениях вытеснение означающего и/или его экстрасубъек-
тивного функционирования. В этом случае число сводится к знаку
в той мере, в какой утверждается дихотомия между «вещами» и
«идеями», когда последние репрезентируют первые: рационализм
влечет за собой «материализм» при условии, что опорой целого
является Бог. Разумеется, референт этого числового «знака» заключается в скобки, его ценность сводится к минимуму настолько, что он редуцируется к «допущению», что знак не вызывает
представления непосредственно, но лишь наводит на мысль как
нечто внешнее. Таким образом, идеологический фон и синтагматические законы такого «числа» напоминают законы знака.
Теперь становится понятно, каким образом число-знак, создавая конечное, создает время, так же как гегелевский и соссю-
ровский знак переживает время в длительности. Число-знак как
место обращения бесконечного пространства в длительность — в
конечность для субъекта — утверждает время, чтобы иметь возможность очертить в нем (обездвижить) частотность как нечто
измеряемое. Будучи субъективным, временным, оно забывает об
этом, чтобы выйти на поверхность как необходимо структурное:
в закрытой целостности части выстраиваются в линейном и обратимом порядке, анализ трансформируется в синтез, и наоборот.
Так можно строить алгебраическую геометрию, но не анализ пространства, т. е. аналитическую геометрию, которую Лейбниц создал, опровергая Декарта... Таким образом, можно сказать, что
1 «Длительность, порядок и число также мыслятся нами весьма отчетливо, если
только мы не примысливаем к ним никакого понятия (conceptus) субстанции, но считаем длительность всего лишь модусом любой вещи, в свете которого мы мыслим эту
вещь с точки зрения сохранности ее существования. Подобным же образом мы не
будем считать ни порядок, ни число чем-то отличным от расположенных в определенном порядке и имеющих некое число вещей, но станем рассматривать их лишь как
модусы, в аспекте которых мы эти вещи постигаем» (Декарт Р. Первоначала философии, 55 // Там же. С. 336).
2 Vuillemin J. La philosophie de l'algèbre. P.: P.U.F., 1962. P. 20.
структурные принципы, включая число, заданы герму Декартом.
Хомский может увидеть здесь предшественника: действительно,
говорящий субъект, чьи высказывания «порождает» Хомский, —
это тот же картезианский исчисляющий субъект, который, чтобы
существовать, вынужден под именем Бога вынести за пределы
себя пространство и бесконечность.
Именно дифференциальное исчисление Лейбница восстанавливает бесконечность в бесправном означающем. Его понятие
бесконечно малой величины возвращает числу функцию точки-
бесконечности', которая составляет специфику этого символического актанта и превращает его в признак, актуализирующий в
научной нотации все пространство, где движется означающее.
Бесконечность проступает в письме познающего «субъекта» и
потрясает его основы, доходя до его непризнания. Символический процесс перестает быть измерением целого через его части.
Точка-бесконечность подчиняется законам транзитивности и непрерывности: ничто ничему не эквивалентно, и любое совпадение
фактически скрывает бесконечно малую дистанцию. Соответственно, она не формирует структуру, она задает функции, отношения, реализуемые путем апроксимации. Всегда сохраняется
различие между числом, записываемым как (тс), и множеством
членов, способных его выразить: (тс/4 = 1-1/3 4- 1/5+ 1/7 4- ...).
Таким образом, единица дробится. Число-знак — это унифицирующее зеркало — разбивается, и нотация осуществляется уже
вне него. Дифференциал, который получается в результате и который эквивалентен бесконечно малой синкатегорической (но
высокомерной [in fieri]) величине номиналистов XIV в., — это не
единица, которую следует прибавлять к другим, чтобы составить
целое, но дрейф бесконечности в закрытое высказывание.
Этот дрейф вызывает мысль о знаменитой лейбницевой непрерывности: речь идет не о том, чтобы заполнить все этапы
приближения к пределу, но просто об установлении принципа
транзитивности2. Следовательно, теперь презентируется не прослеживаемая точка за точкой (измеренная) длительность, а обозначенное, расчлененное, проанализированное пространство:
геометрия уже становится не алгебраической, а аналитической.
Вместо комбинирования целого из единиц бесконечное означающее располагает дифференциалами. Картезианская перспектива отступает, и субъект, вместо того чтобы быть конечной причиной, ограничивающей означающее, оказывается всего лишь
моментом — местом3 — означающего, беконечного в других отношениях. Познание становится не итогом, а процедурой изъ¬
1 Badiou A. Op. cit.
2 Vuillemin J. Op. cit. P. 39.
3 Serres M. Le système de Leibnitz et ses modeles mathématiques. P.: P.U.F., 1968.
Юлия Кристева ЩШн Семиотика: Исследования по семанализу
208
ятия, исчерпания, посредством которой бесконечность приближается к вечно отсутствующему пределу. Таким образом, актуальная бесконечность не достигает своей полноты, но именно
полноте чего-то недостает, именно она ограничивает бесконечность в не-бесконечное, нехватку, привативное понятие.
Только в XX в. Коши и Абель с помощью понятий предела,
сходимости и т. д. теоретически обосновали дифференциал Лейбница. Сегодня с бесконечностью имеют дело теория трансфинитных чисел Кантора и теория множеств. Однако интересующий
нас вопрос о структурирующей роли означающего на стыке гено-
текста и фенотекста требует обращения прежде всего к лейбни-
цевой позиции, поскольку именно она посредством конечной
системы признаков приводит к бесконечности.
То, что мы выше назвали числовой функцией означающего, становится яснее в свете лейбницева понятия дифференциала. Если
текст как означающее представляет собой исчисляющее, то графический или звуковой элемент, который его актуализирует и записывает исчисляющую бесконечность, следует назвать означивающим
дифференциалом. По природе, отличный от сем, как они толкуются
до сих пор (все семы репрезентируют означаемое), по сути своей
вариабельный, меньший, чем любая самая малая фиксированная
сема, означивающий дифференциал с точки зрения семанализа
представляет собой точку-бесконечность. Зона его действия простирается от слова-знака до бесконечного означающего. Именно
здесь проявляется действие текстового пространства — пространства связей и переходов, а не целостности, конституируемой частями; пространство, которое не поддается исчерпывающему методическому описанию, но когерентность которого обеспечивается
«сохранением одного и того же основания при преобразовании».
Иными словами, пространство означивания следует считать объектом познания, который полностью детерминирован установлением принципа означивающего дифференциала, а не как структурированное пространство. С этой точки зрения означивающий дифференциал оказывается тем местом, где генотекст проникает в
фенотекст, а пространство означающего выводится на линию языкового высказывания. Совсем рядом со знаком, но всегда сохраняющий дистанцию по отношению к нему, означивающий дифференциал постепенно отдаляется от него в бесконечность означающего,
хотя кажется, что он приближается к конечному смыслу знака.
Понятие бесконечности с тем же успехом можно применить в
рационалистическом анализе языка (такова бесконечность в
смысле Хомского). Знак также может быть представлен как источник бесконечного, которое он расчленяет и актуализирует1.
1 «Ценность символа в том, чтобы послужить превращению в рациональные
нашего мышления и поведения и позволить предсказывать будущее... Однако общий
Однако эта бесконечность внешняя, фон, скорее, неопределенный, чем бесконечный, на котором осуществляется конечное. Знак
может освободиться от многих ограничений (концепт, грамматика) в своей устремленности к этой внешней бесконечности, изначально и навсегда разделенной с ним. Именно так он действует в
сюрреалистическом опыте: изобретение новых слов, автоматическое письмо и т. п. Слова-знаки могут бесконечно составлять последовательности и переплетаться, чтобы подчеркнуть, что язык
плавает по безграничному идеальному фону, эмердженцией которого являются эти знаки. Но при всей своей вариабельности знак
фиксирован двояким образом: в своем отношении Sa-Se [Свое-
Иное] и предсказуемости за счет языка. Если я изобретаю слово
или конструкцию, которых нет ни в одном языке, а потому бросающих вызов любому смыслу, любому означающему, то я описываю «невозможность невозможного» (Бадиу), и этим жестом я
подчиняю свой труд неумолимым законам языка, присутствующего здесь перед лицом сюр-реальности (сверх-означающего), которую я пытаюсь одолеть. Обозначая бесконечный фон как невозможную внеположность, я допускаю возможность прочтения моего языка как конечного, закрытого, ограниченного. Из таких
«трансгрессий», типа «сюрреалистических», направленных к над-
материальной — поверх реального означающего языка — бесконечности, образуется внутренняя мера кодифицированной лингвистической системы; отвергая их, закрытый и означающий язык
указывает на собственные ограничения, иными словами, допускает некоторые «трансгрессивные» (то есть не-значащие) высказывания, чтобы можно было прочитать их не-трансгрессивность.
С означивающим дифференциалом все обстоит по-другому.
Это признак бесконечности актуальных означающих (а не той,
что вне них), которым не находится места в разряде знаков, поддерживаемых бесконечностью. Ни один знак не может занять это
место. Он находит свой локус в корпусе бесконечно большого исчисляющего, где также находится корпус знаков, но в качестве
локализуемого подмножества, а не исходная и центральная данность мысли. Означивающие дифференциалы относятся к разряду бесконечных чисел, и их существование оправдано введением
концепта бесконечного означающего, означающих, вписанных в
то, что мы назвали исчисляющим.
Напомним, что проблематика означивающего дифференциала, если рассмотреть возможность ее связи с ролью, какой Лакан
наделяет инстанцию письма в бессознательном, часто заглушается двояким образом. Один из подходов, свойственных опреде-
закон не может реализоваться полностью. Он представляет собой потенциальность,
и способ его бытия — это esse in future [“бытие в будущем”]» (Pierce Ch. Existential
graphs; опубликовано в посмертно изданном труде Mon chef d'oeuvre).
Юлия Кристева ШШр Семиотика: Исследования по семанализу
210
денному направлению психоанализа, состоит в рационализации
инстанции письма, предварив его знаком — конечностью смысла — как пределом, достигаемым путем приближения. Другая
попытка, всегда готовая к психоаналитической интерпретации,
предполагает полный отказ от понятия знака, и соответственно
предела, и таким образом приходит к тому, что объявляет означающее как слишком нагруженное логоцентризмом. Обе попытки предполагают общий для них специфичный предмет вытеснения: они избегают представления о маркированном как об определенной бесконечности, акциденцией которой оно является.
По-видимому, это можно преодолеть путем установления числовой функции означающих, т. е. исчисляющего, в которое вписан
дифференциал. Такое допущение не нуждается в оправдании по
отношению к знаку как к означающей единице, поскольку переходит в новую область — означающих без «желания сказать»,
ибо «означающих» бесконечно.
Исчисляющее не отделяет означающее от означаемого, т. к.
не может обойтись без каждого. Оно — оба вместе, поскольку
размечает весь регистр языка. Скажем, соссюровский лист бумаги, две стороны которого, представляют знак, становится объемом, где означающее и означаемое непрерывно меняются местами. Однако не отношение между ними приводит текст в движение, а переход от пустого и бесконечного объема — пространства
означивания к дифференциалу, маркируемому в тексте. Этот
дифференциал также не различает означающее и означаемое,
поскольку представляет собой лишь признак, размечающий бесконечность, метку в языке, который более уже не данное, а «пульсация беспредельных органов»: «(2.) И я чувствовал мое собственное молчание, падающее в центр, как паузу бесконечных
голосов». Отношение, которое осуществляется — и изучается —
в тексте, представляет собой не соприкосновение двух поверхностей (Свое и Иное) или двух знаков, но бесконечно малое отношение между бесконечностью (означающим и означаемым) и ее
маркированием. Таким образом, понятие означивающего дифференциала одновременно охватывает «семические» и «фонические» элементы, конкретное расположение которых (назовем его
фильтром) конструирует текст1.
Преобразованный из означающего и означаемого, дифференциал становится средоточием множества функций, которые
он предлагает прочитывать одновременно, а именно:
1 Может быть, как раз этот дифференциал имел в виду Витгенштейн, говоря о
«выражении»: «3.31. Любую часть предложения, которая характеризует его смысл, я
называю выражением (символом). (Предложение само по себе есть выражение.) Выражение — все то общее (существенное для смысла), что могут иметь друг с другом
предложения. Выражение обрисовывает форму и содержание» (Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. С. 13).
- все смыслы, которые может охватыватить означающее конкретного звукового или графического множества (его омонимы);
-все смыслы, идентичные означающему (означаемым) этого
множества (его синонимы);
-все омонимы и все синонимы этого множества не только в
конкретном языке, но и во всех языках, которым он принадлежит как точка бесконечности;
- все символические значения в различных корпусах: мифических, научных, идеологических...
В этой дискретной области реализуется текст, генотекст переходит в фенотекст благодаря признаку, который представляет
собой дифференциал, выводящий пространство исчисления на
линию высказывания в формуле фенотекста.
Любое означивающее продуцирование — антирационалисти-
ческое и антисубъективистское — ищет эту бесконечную точность
плюрального означающего. В истории на этом скользком пути нередко случались идеалистические заносы: вместо того, чтобы устранить дихотомию (означа) емое/ (означа) ющее и материалистическим жестом маркировать бесконечность как точку в тексте,
традиция оставляет бесконечность «в неопределенности» и воображает ее в символизируемом, отделенном от символизирующего.
Таковы в своей узкой комплементарности символизм чисел (Каббала) и поэзия. «Ведь именно в отчаянной попытке узнать большее
чистый божественный разум создал Каббалу Чисел, которая есть
не что иное, как полное неведение, я имею в виду неведение относительно души и ее поэзии. Загадочная музыка души — это спазм
бездонной любви, недостижимой ни для какой Каббалы. И для
бога тоже» (Арто). Идеалистическая матрица задается установлением полной конечности, которую пустая бесконечность поддерживает как перегородка, на которую проецируется воображаемое:
«Ибо как же возникают умы, если не путем всасывания в пустоту,
сами будучи этой пустотой, всасывающей самое себя» (Арто). Любая идеалистическая онтология и любое понимание трансцендентального бытия сталкивается с этим пустым-бесконечным-всасы-
ванием, не маркированным и не уточненным: «Понять — значит
замарать бесконечность, и бытие бесконечности всегда было сущим лишь при условии быть конечным» (Арто).
Разрушить этот порядок, закрытый «бытием», заполнить бесконечность дифференцированным означиванием — значит выйти
за пределы дидактического треугольника «реальное-символи-
ческое-воображаемое» и таким образом заложить исчисляющее
пространство — пространство текста.
В «Числах» местом действия избирается такая бесконечность,
вписанная в дифференцированное означивание. Транспозиция
Юлия Кристева Щедр Семиотика: Исследования по семанализу
212
числа в слово определяет направленность текста: «сохранение
словесных меток числа» (3.83.)*. Трудность, возникающая при
чтении «Чисел», состоит в том, что постоянно предлагается
сквозь знаки проникать в ту область, где осаждаются черты бесконечных дифференциалов. Текст опирается на единицы, только
чтобы маркировать их преодоление: «(2.10. 3.11.) В то же время я
был обязан пометить себя как некую единицу среди других, но
единицу, не поддающуюся исчислению, вечно возбуждаемую
своей собственной целью — »
Малларме уже искал такое слово «совершенное, многомерное,
наивное»1, которое смогло бы разблокировать пространственную бесконечность (многомерное) и вызвать порождение смысла
(наивное), пробив плоскость устного языка: «Из многих вокабул
восстанавливать целостное, новое, чуждое языку слово»2.
В «Числах» замысел уточняется, и изучение этого плана означивающей деятельности становится основной целью: без всяких
шифров, знаков текст ткется из чисел.
«(1.85.) Я останавливался, я позволял развертываться тому,
что следует назвать нашим мышлением, среди элементов и их чисел, я позволял машине проверять и расставлять числа в процессе
счета и стирания, здесь, в физических и атмосферных колоннах
[...] и я, все более сосредоточенный благодаря исчислению, ведущему еще дальше, чем прирученное число — »
Число — графический и звуковой элемент бесконечного текста —следует принимать «как тон, который только один создает
соединительную черту» (4.96.), а число — означивающий дифференциал — как «принцип контроля, маскировки» (3.99.) бесконечности. Без места, нефиксируемые, эти множественные дифференциалы, которые в «Числах» открыто называются «числами», и которые текст выводит на сцену, не существуют как
единицы.
«(2.62.) Двойная для нас трудность, множество точек, сосуды,
жилы, числа, пока еще не существующие в укромной глубине...»
Такое маркирование бесконечного означающего, которое реализуется при функционировании текста, разметкой плюральности
бесконечного генотекста перечеркивает любые идеалистические
спекуляции: «число остается единственной реальностью, которую
еще возможно помыслить как объективную»/ «числа суть единственная связь между теоретической наукой и объективным миром»/ «сама мысль входит составной частью в объективную реальность»/ «числа, иначе говоря, степени вибрации» (4.72.). Теорети-
* Здесь и далее нумерация Малларме, см. Числа.
1 Mallarmé S. Villiers de ГЫе-Adam // Mallarmé S. Œuvres complètes. P.: Gallimard.
P. 482.
2 Mallarmé S. Avant-dire. Op. cit. P. 858.
213
ческая цель провозглашается здесь в полном объеме: текст
позволяет заложить основы материалистической гносеологии
означивающей деятельностью, процессом означивания через речь,
субъекта, присутствие и серию, которую эти понятия образуют в
рамках метафизики. Конкретное означающее замещается порождающей текстуальностью, бесконечной и плюральной.
Разыгрывая означивающий дифференциал, текст организуется как пространство: « (2.70.) Число есть перевод пространства»/
«Концепция порядка, выраженного числовыми классификаторами, влечет за собой репрезентацию пространственного устройства...».
Любое другое прочтение текста уклоняется от его специфики, релевантной исчисляющему генотексту:
(4.72.) «все частности, придающие каждому языку особую
физиономию, могут быть выражены цифрами» (Соссюр), маркированы письмом-шифром (означивающим дифференциалом):
«(2.82.).../ разумеется, небо дало нам не глоссу текста, но его
букву, вернее, его шифр: это был сам мир как модель, подлежащая расшифровке, образ, состоящий из чисел», не складывающихся как единицы, но образующих поле деления, где господствует логика написания:
«(3.99.) их основная роль [чисел] не в том, чтобы допустить
сложение, но чтобы связывать между собой различные способы
деления, значимые для тех или иных группировок».
Именно знак подвергается такой декомпозиции и возвращается на свое место подмножества в генотекст бесконечного размера:
«(4.76.) ...объектами теории чисел являются сами знаки, форму которых мы можем распознать в ее всеобщности и с полной
уверенностью, независимо^..] от незначительных различий, которые могут повлиять на их начертание».
Выделившись из цепи единиц-знаков, текст высвобождается в
точку-бесконечность: «1. из потока выходить, значит точку пере- "g
ходить — »
У Малларме («Бросок игральных костей» [Coup de dés]) число — «предел бесконечному», «вышедшее из звезд», выраженное
в прошедшем времени сослагательного наклонения ( «существует _о
ли оно », «начинается ли оно », «прекращается ли оно », «исчисля-
ется ли оно», «проясняет ли оно») [Малларме С. Сочинения в ?
стихах и прозе. М.: Радуга, 1995. С. 289] — эквивалентно будущему в прошедшем, времени глагола, которое маркирует перемещение субъекта в его языке, обусловливающем его развитие и историчность1; число у Малларме, так же как и означающее, исходит
Z3
о
“О
CD
х
s
CD
-е-
1 Будущее в прошедшем — это время перемещения субъекта в своем языке: «То,
чем я буду в прошлом для того, чем я теперь становлюсь» (Лакан Ж. Функция и поле
речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис, 1995. С. 69).
Юлия Кристева ЩШ Семиотика: Исследования по семанализу
214
из фона линейной беспредельности: речи, которую он пытался
остановить в раз и навсегда полностью структурированном пространстве: «То Единственное Число, которое не может быть
иным» [Малларме С. Указ. соч. С. 278-279]. В идеологическом
смысле число у Малларме располагает бесконечностыо-внепо-
ложностью, бесконечностью-поддержкой, от которых оно отделено, но на которые оно указывает, проговаривается как галлюцинаторное и очевидное овладение всей целостностью: «Существует ли оно или это только бессвязный сумбур предсмертных
галлюцинаций...», «очевидность той единственной суммы» [Там
же. С. 289].
Числа, о которых идет речь в «Числах», вписаны в иную область: бесконечного, маркированного генотекста, метки-бесконечности. Эксплицитные научные определения, вписанные в
текст буквально, фиксируют место будущей деятельности, совпадающей со следом числа в символическом, объективном «число-
реальность» и единственном хранилище бесконечности, ограниченной знаком. (В дальнейшем мы вернемся к другим функциям
научных высказываний.) Именно здесь конституируется это характерное для генотекста плюральное означивание, внутреннее
по отношению к актуальному языку, но не редуцируемое к его
присутствию. Именно здесь записываются означивающие дифференциалы, которые индийские грамматики назвали спхотами и
которые, вовсе не будучи разделением или распадением языка,
указывают на рассеивание, превращающее его в бесконечность.
Дифференциалы встраиваются в повествование через все эти «серые круги», «зерна», «семена» — Seminaque innumero numéro
summaque profunda [ «Неисчислимые семена исчисляют глубокие
сущности»] — все эти «гласные», так часто появляющиеся в тексте как «актеры» в роли «актанта» числа, которые катятся в пространстве означающих, чтобы пасть на почву высказывания в качестве точек, привлекающих внимание:
«(2.) Подвешенные, перемешанные, они катятся как серые
круги, чье никогда не слышное шипение способно заключить в
себе день... Трудно сказать, замкнулись ли они уже, действительно ли все отыгралось при их падении; трудно сказать, то ли ты
среди них, то ли ты один из них, ибо вернуться в эту пьесу означает идти в счет только с ними... / ... / На земле точка внимания
превратилась в темно-красный след...»*
«(3.) И теперь голос говорил это, и то был именно мой голос,
он поднимался из красочного образа, вернее, из пламенеющего
* “(2.) Suspendus, mêlés, ils roulent comme des cercles gris don’t le sifflement jamais
entendu contiendrait le jour... On nt peut dire s'ils sont déjà joué dans leur chute; on ne peut
dire si l’on est parmi eux ou l’un d’eux, car être revenue dans cette pièce, c’est ne plus compter
qu’avec eux.../.../... Au sol, le point d’attantionétait devenue une entaille rouge somber...”
разноцветного фона, мой голос, я слышал, как он модулировал
текучее, назойливое заклинание, где гласные следовали одна за
другой, сцеплялись и словно наносились на текст моим дыханием. Их вереница прямо воздействовала на каждую деталь, отталкивала враждебные элементы, строила ритмическую цепь — целый спектр, в котором подбирались и распределялись роли, факты, и в этой игре меня использовали как одну из фигур, я был для
нее просто крупицей, вызванной, пущенной в ход...»*
Как и в древнееврейской традиции, именно «гласная» становится носителем той модуляции генотекста, которая придает
смысл согласным неподвижным и мертвым без голоса, действующего в этом случае не как выражение смысла, но как индекс порождения, которое заставляет немые линии и точки письма продуцироваться в виде текста («Гласные — душа букв», — говорил
Спиноза). Гласная — еще одна исполнительница роли актанта
«означивающий дифференциал».
«(3.) Вокальный рельеф букв, вмещенных в отстраненную запись,— которая без них была бы постоянной глупостью, неясной,
загадочной—; активность атомов, которая позволяла мне вмешиваться и реверсировать операцию, объектом которой я был; эмиссия и проекция, которым я на лету вернул дискретную силу — все
это открывало передо мной даль, внешнее — и я снова вижу до
глубины глаз, как звуки пронизывают фиолетовый небосклон — »**.
Графический или звуковой элемент, становясь означивающим
дифференциалом, представленным гласной, допускает инверсию
репрезентации и коммуникации («эмиссии», «проекции») и открывает по отношению к генотексту бесконечное исчисляющее—
пространство («дали», «внешнее», «фиолетовый небосклон»); в
то же время означивающий дифференциал добавляет к устойчивой и не дешифруемой непрозрачности «записи» прерывистую
непрерывность («дискретную силу») исчисляющего.
Рассмотрим ближе третий эпизод «Чисел», где не только эксплицируется роль означивающего дифференциала, но — как,
впрочем, и в других эпизодах, к которым вполне применим ни¬
* “(3.) et la voix disait cela, maintenant, et c’était bien ma voix s’élevant de la vision
colorée ou plutôt du fond brûlant des couleurs, ma voix que j’entendais moduler une
conjuration fluide, pressante, où les voyelles se suivaient, s’enchaînaient et paraissaient
s’appliquer au texte à travers mon souffle. Leur suite agissait directement sur chaque détail,
repoussait les éléments hostiles, formait une chaine rythmée, un spectre qui rassemblait et
distribuait les rôles, les faits, et ce jeu m’employait comme une figure parmi d’autres, j’était
simplement pour lui un grain soulevé, lancé...”.
** “(3.) Le relief vocal des lettres insérées dans l’inscription détachée — qui, sans
elles, serait demeurée stable, opaque, indéchiffrable —; l’activité de ces atomes qui me
permettaient ainsi d’intervenir en renversant Г opération dont j’était l’objet, l’émission et
la projection dont j’avais retourné au vol le pouvoir discret, tout cela ouvrait le lointain, le
dehors — et je revois les sons pénétrer le ciel violet jusqu’au fond des yeux”.
Юлия Кристева мШр Семиотика: Исследования по семанализу
216
жеследующий анализ, — в его текстуре реализуется то, что мы
назвали числовой функцией генотекста (слово nombre [«число»],
вероятно, от греч. г|£|ЯО = располагать, ранжировать; вспомним
«Программу»: «текст... отныне отсылает к функции, которую
письмо, однако, не выражает, но ею располагает»).
«Смысл не выходит на свет, если слова не становятся вначале
объектами (слуха). Последние только самим своим существованием и будучи воспринятыми могут высветить свой смысл» (Бхар-
трихари).
В эпизоде используются пять основных гласных французского языка: I-E-O-U-A, которые постоянно встречаются в качестве
основных тонов, пересекаясь, прерываясь, возобновляясь до самого конца эпизода.
Так, А, плоская гласная, базовый звук в санскрите, держит
ноту в ударных слогах начала: la voix [vwa] «голос», cela «это»,
voix, Relevant [selva] «поднимался», bralant [brjulä] «пламенеющий». Первый звук, открывающий корпус вовне — означиванию,
генотексту (в древнееврейском А именуется pathagh, что значит
«открытость»), беспощадная и резкая нота этого au-delà [«по ту
сторону»], трижды повторенная в предпоследнем эпизоде: по ту
сторону репрезентации, по ту сторону метафизического разума,
по ту сторону общества товарообмена — пробивает все три осколком того же означающего, которое было их носителем и которое исчисляющее сделало открытым:
«(3.99.) одни только стяги и знамена, развивающиеся и хлопающие на ветру, эти огромные знамена, парящие в воздухе, которым еще никто не дышал, будущие, указывающие на новые преграды, новые поверхности, новый текст без конца и начала, сети,
связи, спутанные нити, приобретающие человеческие очертания,
подобные скафандру, растворяющемуся в пустой белизне, недвижная быстрота, вращающаяся, вырывающаяся за рамки, показывающая только, какое положение следует занять и как упорно думать, уподобившись А туда/ туда/ туда/ ... — “и я тоже,
непостижимая вещь мира” — и пересекая историю того, что отныне несет нас в себе, поглощая нас — осколки, фрагменты, более четкие, чем скелет, частицы, жесты, космос — '& »*.
* “(3.99.) — simplement ces plans ou ces drapeaux se déroulant et claquant dans le
vent, ces grands drapeaux flottant dans l’aire non encore respiré, futur, et désignant les
nouveaux écrans, les nouvelles tables, le nouveau texte sans fin ni commencement, réseaux,
connexions, fils enchevêtrés dans la forme humaine comme un scaphandre se dissolvant dans
le blanc, la vitesse immobile tournant, s’éclipsant, sautant au-delà des cadres et indiquant
simplement l’attitude à prendre et penser implacablement comme un A —
au-delà/
au-delà/
au-delà/
После «А» третьго эпизода переход к I/ E/JU приводит к О:
vision, coloré, plutôt, fond. Вначале смешанный с I и JU, именно
звук Е доминирует во фразе, прежде чем дать ей закончиться звуком U, j’entandtf/s, voyelles, suivant, s’échangeaient, paraissaient,
texte, travers, sowffle.
Согласные также не избежали этого упорядоченного расположения: /7uide с необходимостью предполагает souf/le; во второй фразе следует отметить накопление согласных -г, -rp, -rs, -rt,
-dstr, -tr, -gr, -dr, ctr (repoussait, rassemblait, rythmé, directement,
spectre, distribuait, figure, autre, grain), которые сильно изменяют означающее и означаемое, переводя в означающее это
«ЬеиП:[столкновение]» «elements hostiles [враждебных элементов]» означаемого. В той же второй фазе следует отметить сочетания -pi, -Ы (rassemblait, emPhoyait, simPLEment), которые
сцепляются с FLuide, SOUFFL^ в предыдущей фразе.
До конца эпизода следует прислушиваться к «вокальному рельефу» букв, отдаться их течению, чтобы заметить, что их роль
пространственных дифференциалов уподобляет их статус в тексте статусу цвета на живописном полотне: «Степень вибрации
пространства» — число. Но звук, став цветом, делает текст открытым с другой стороны: «сонет о гласных» вмешивается в том
месте траектории, где «голос поднимался из красочного образа»,
напоминая восточные и индейские религии с их аллюзиями на
окрашенные слуховые восприятия. Таким образом, означивающий дифференциал вводит в запись формулы бесконечность
иных дискурсов. Не только тех, что присутствуют:
«(1.17.) Раму, в которой я оказался, разумеется, становилось
невозможно заполнить, если представить себе мириады готовых
развернуться рассказов...»
Но, прежде всего, предыдущих, которыми «проникнуты все
ныне живущие» (1.17). Или же, поскольку эту бездну генотекста
воссоздает чтение, здесь косвенно участвует библиотека. Малларме считал такую актуализацию генотекста долгом критики,
археологией, ретроспективой: «При условии, что прекратился
любой вымысел, критической ролью в нашем веке становится
коллекционирование всех привычных форм и курьезов, рожденных Фантазией каждого народа и каждой эпохи... Все ретроспективно»1. В «Числах» такое активное выявление выходит на
авансцену, вытесняя присутствие Смысла как теологической единицы: массированное внедрение генотекста в формулу стирает
любой внешний смысл, готовый представить себя, и это потому,
... — «moi aussi, chose incomprehensible du monde» — et franchissant l’histoire de ce qui
désormais nous porte en nous consumant — éclats, fragment plus précis que l’os, particules,
gestes, cosmos — ? ”
1 Mallarmé S. Exposition du Louvre. Op. cit. P. 683-684.
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
218
что формулы, сконденсированные в «Числах», ничего не репрезентируют для слушающего, ориентированного на коммуникацию, из них нельзя извлечь информацию, они лишь пробуждают
бесконечные воспоминания об означивании. Вырисовывается закон: возвращение бесконечности генотексту требует в качестве
предварительного — необходимого — условия и вызывает как непосредственное и неотвратимое следствие исчезновение наличного Смысла, чтобы в его место и позицию вписалась История:
более не «ретроспектива» или реконструкция путеводной нити
для «исторических курьезов», но История текстов, монументальная, плюральное означивание, бурлящее в «мириадах готовых развернуться рассказов». Такое стирание наличного смысла
монументальным генотекстом составляет гигантское действо,
которое надлежит пережить нашей культуре в ее наиболее радикальных результатах, которые хотели бы искать ее за пределами
ее корней: «новое наказание второй степени, которым проникнуты все ныне живущие».
Слово «voix» [«голос»] открывает эпизод и, если есть желание прочитать его как означивающий дифференциал, а не обездвиживать в знаке, то вначале придется дешифровать в нем то, что
в современной аналитической терминологии называется означающим, а в священных гимнах (в «Ведах», например) прославляется в качестве магической силы под именем «звука», «речи», «голоса». Неоднократно повторяемое в эпизоде, слово «voix» настойчиво присутствует в словах «fluide», «voyelle», «vocal», «vol»,
«ondulation», «note» и др. Звук «v» часто дублируется другими
«V» или «f» поблизости. Так, в одной только первой фразе: Voixf
s’eléVant, Vision, fond, fluide, Voyelle, suN aient, traVers, souffle.
Затем «voix» распространяется еще шире, и означивающие дифференциалы дают «voh, «vois», «/юиУОШ», «le ciel violet»
(см. выше в тексте). Но также и violé, viol «(3.55.) и после этой
резкой перемены и этого вторжения сама протяженность, казалось, переживала себя в своей медлительности»*; то же можно
сказать и о voile [«вуаль»], voilé [«покрытый вуалью»] (их нет в
тексте) — вуаль разрываемая фиолетовым вторжением, которое
возвращает голос из-за подернутой вуалью поверхности; также и
viole [«виола»] — музыкальный инструмент, звучащий как голос... Дифференцированный генотекст поглощается в формуле
фенотекста. Сонет гласных может стать фильтром между бесконечным порождением и формулой. Заметьте, как вся фраза держится на одной ноте Ö/U: atome, opération, objet, émission,
projection, retourné, vol, pouvoir, tout, ouvrait, lointain, dehors,
revois, son, violet, jusqu’au fond des yeux. Теперь вспомните Рем¬
* “(3.55.) ...et c’était, après ce retournement et ce viol, l’étendue elle-même qui
semblait se vivre dans sa lenteur”.
бо: О, omega rayon violet de ses yeux [«О, омега луч фиолетовый ее
глаз»]. И вы приблизитесь к прочтению фразы «и я снова вижу до
глубины глаз, как звуки пронизывают фиолетовый небосклон-»*.
Фраза из «Чисел», хотя и «отфильтрована» стихом Рембо, не является его копией или инверсией. Выраженная на том же языке,
она все же другая. Ибо она маркирует холодную констатацию,
отрешенную от времени и от субъективных комбинаций, куда
погружен профетический и локутивный акт стихотворного произведения, чтобы отыскать неинформативную поверхность текста, которая «не обнаруживает желания сказать что-либо», поскольку проговаривает все, что может быть сказано вне фильтра
(в данном случае фильтра Рембо) субъективной литературы.
Можно заметить, что предлагаемое прочтение «Чисел» — это
принуждение разума с помощью скачка, который не содержится
ни в одном фиксированном означаемом. Как значение, рожденное из комбинаторики звуков, оно продуцируется горизонтальной сетью звуковых соответствий. Соответственно именно ничто, отсутствие фиксируемой семантической единицы продуцирует смысл в процессе корреляции внутри бесконечности
генотекста. Между бесконечностью и наличным смыслом располагается сеть — сеть означивающих дифференциалов. Принуждение неприемлемо для картезианского ratio, поскольку оно
предполагает поистине скачок от генотекста, порождающего
ничто, в бесконечность означающих, к установленному здесь
знаку, оформленному, сформулированному. (В дальнейшем мы
вернемся к топологии такого прерванного порождения). Вот как
Арто осмыслял эту трудную операцию, которую текст принимает
на себя в мыслительном поле, вновь открывая плюральность,
уничтожаемую cogito при ее редукции к единице «я»: «Небытие,
которое разрешается в бесконечности, после того как прошло через бесконечное, конкретное и непосредственное музыки, основанной на небытии, ибо каждого поражает звучность слогов, до
того как он поймет их смысл, прекрасной, т. е. столь прекрасной,
что любой согласился бы, считал бы, желал бы быть ее сыном,
родиться ее сыном, т. к. ее присутствие означает, символизирует
сам образ сотворения, которое начинается с нуля, в небытии, где
нет звука и звук есть, ибо по образу и подобию небытия и ничто
она все же звучит, и кажется, что все рождается из ничего, что
там, где нет ничего, вначале есть звук, и все же звук может рождаться, и он также есть образ гармонии и чисел, в соответствии с
которыми творится все.
У Малларме молено найти этику трансцендентной поэзии и
самой поэзии, и вместе с тем у него есть совершенно ясная и осоз¬
* “je revois les sons pénétrer le ciel violet jusqu’au fond des yeux”.
Юлия Кристева ЩШп Семиотика: Исследования по семанализу
220
нанная идея о множестве конкретных реальностей, которые сохраняются и вызываются в представлении одновременно» (около
1933).
«Пламенеющий разноцветный фон» — еще одна формула,
которая приводит нас к третьему эпизоду, к формуле, порождение, т. е. текстовую значимость которой, невозможно прочитать
без обращения к бесконечности генотекста, этого двойного фона,
который следует актуализировать в наличной записи. Этот двойной фон не «отступает» от «поверхности», где разыгрываются
«эмиссия» и «проекция», где тело становится «лицом» и где имеет место «время»: обратите внимание на повторение «fond brûlant
des couleurs» [«пламенеющий разноцветный фон»], «fond des
yeux» [«глубина глаз»] и почти полная реприза «fond brûlant des
couleurs» как «fond brûlant de l’air» [«блистающий воздушный
фон»] в конце эпизода. Если мы читаем brûl — [бли-] как означивающий дифференциал, то начинаем замечать в «Числах» настойчивое присутствие этого дифференциала, который обосновывает означающее и означаемое: текст начинается словами «...le
papier brûlait» [... «бумага пламенела»], и далее часто предлагаются «feu» [«огонь»] (и соответствующая китайская идеограмма,
(1.61), X ),«rouge» [«красный»], «lumière» [«свет»] и т. п.; в эпизоде 3.55, который как эхо отражает эпизод 3, тот же настойчивый дифференциал: «soleil» [«солнце»], «incendie» [«пожар], «се
que j'appelle ici la lutte» [«то, что я называю здесь борьбой»]... Эта
пылающая сеть не просто украшение, она отсылает к традиции,
где порождение значения в языке представляется как «огонь и
свет» — например, ведическая традиция. Такова значимость корней «cit-» и «dhi-» в ведических текстах1. Формулы «блистают
строфы», «пылают миры», напоминания о том, что благочестивый человек «сгорает ради Агни», «возжигает слова» очень часто
встречаются в этих гимнах. Санскритское слово arkà передает
взаимодействие света и гимна, которое в «Числах» становится
взаимодействием света и построения текста: arkà одновременно
означает свет и песнь. В том же смысле, т. е. уподобляя процесс
символизации истреблению огнем, религия индуизма проводит
различие между «сырым» и «вареным»: ата (сырой) — это некто
без качеств, тот, чье тело не завершено (<ataptatanüh, тогда какsrtâ
(вареные) — это те, кто достиг своей завершенности (поэтической)2. Знаменитые языки Агни — это «языки пламени, хватающие и пожирающие» (И. 31.3); в «Ведах» также говорится о «разрушительном языке Агни». Л. Рену настаивает на том, что речь
идет о языке «самого бога, а не служителя культа ».
1 Renou L.Études védiques etpaninéennes. T. 1. P.: E. de Boccard, ed., 1955.
2 Там же. Далее мы вернемся к завершению тела в процессе и посредством
бесконечного означивания, как это показано в «Числах».
221
Итак, можно сказать, что «огонь», «пламя», «горение»репрезентируют в повествовании горнило означивания, поглощающее
тело субъекта, [место], где реализуются распределение и переплавка различий, этих «враждебных элементов», упоминаемых в
«Числах», этого «текучего, назойливого заклинания» гласных
(то же в 3.55: «назойливое заклинание из следующих друг за другом гласных»), где исчезает субъект, неспособный конституировать себя: «и в этой игре меня использовали как одну из фигур, я
был для нее просто крупицей, вызванной, пущенной в ход...». Еще
один скачок: можно обнаружить эти враждебные элементы в
«Ведах» под именем ari — (неблагоприятный), внутреннего врага
поэтического труда, который делает из текстового поля испытание сил, вооруженную битву, состязание (X. 79, 3). Как зона
борьбы и гибели, декомпозиции и рекомпозиции это наиболее
скрытая от означивающей деятельности область, которая труднодоступна для науки и которая не перестает завораживать идеологию (религию): «3.55...борьба с ее скачками инверсий, порождений...»; «3.19. Материя, все более дифференцированная, жгучая, не прекращающая обжигаться собственным пламенем...»
Это то же пламя, которое алхимики назвали восстановителем металлов и элементов, то же, что заворожило Фауста и Гете.
Пересечение этой зоны жгучего порождения, предшествующее «гимну», приводит к непреодолимому противоречию между
светом и мраком, знанием и неведением, верхом и низом, жизнью
и смертью, поэзией и «безумием»: «две невидимые функции: мы
были на белом ПУТИ, ОПУСКАЛАСЬ ночь», и это открывает
«сверкающую глубину воздушного простора », рассвет. С самого
начала вокальный рельеф слова air [«воздух»], уже установившийся в первом эпизоде, вводит в текст пространство, отличное
от только что преодоленного пространства горнила. Это зона
(aire) атмосферы (воздуха [air], которым дышат), музыки (духа
[air] музыки); это сосуд, гнездо, направление ветра (aire), блуж-
дание (erre) во времени (ère), горемыка (hère), «impression»
[«впечатление»]... Порождение временной и телесной структуры |
завершилось; теперь мы там, где «словно преграда обрушилась,
словно вырвали корень» (3.55), видя и слыша произведение, кото- _о
рое его производитель приносит как дар времени. Результат —
сверкающий воздух. Это также заря, свет, U§as санскритских е?
гимнов, которые издавна воспевают «светлое начало, озаряющее
людей и вещи» (sukrasadman «центр которого — бриллиант», VI.
47,5). Нет ничего общего между сиянием зари и светом разума.
Порожденный поглощением любой поверхности — телесной или
рассудочной — U§as означает в санскритском тексте благо, дар,
богатство, объект наслаждения, но также и продолжительность жизни, потомство и даже поэтический дар. Для сакраль-
Z1
о
CD
Юлия Кристева юЩр Семиотика: Исследования по семанализу
222
ного поэта богатство — это свет, отсюда постоянный эпитет citrà.
Это транзитивный, излучающийся свет, он кладет конец мраку
(«ночи») и вражде. Он описывает формулу, т. е. продукт речи,
уже принятый субъектом после пересечения зоны продуцирования заклинаний и выхода в избыточность, где ему не было места.
Как только эта избыточность, эта бесконечность поглощаются
формулой, генотекст становится объектом удовольствия, даром,
которые могут служить и коммуникации, поскольку излучаются
на других. Удовольствие становится объектом, «спектром, который отбирал и распределял роли», становится даром: «можно
было подумать, что все прислушивалось и соприкасалось» (3),
т. е. все было наполнено слушанием, смыслом, коммуникацией.
«Можно было», если отвлечься от порождения, отказаться прочитывать секрет иллюзорно коммуникативной формулы, разрываемой условным наклонением, как признак бесконечного генотекста. Но если это «сияние», каковым является фенотекст, —
это дар, то оно также и жертвоприношение: оно сопровождается
«медлительностью, торжественностью с участием разрозненных
фрагментов». Это момент ритуала, когда телом жертвуют во имя
лица («мое собственное тело, превратившееся в лицо»), порождением во имя «продукта». Заря, «столб зари» (Amûd al-Sobh),
«свет», «столб хвалы», «свет зари» в манихейской и персидской
мифологии указывают на одну и ту же функцию вспышки, излучения, зоны перехода, где тело отрывается от разума1.
В такой частотности «света» в фенотексте прочитывается
тесная связь между трудом, называемым поэтическим, и ритуалом жертвоприношения: это дар, приносящий в жертву то, что он
предлагает, акт, продуцирующий даримое, однако приглашающий получателя не воспринимать его как объект наслаждения, но
реконструировать сам акт его продуцирования в плюральности,
также приносимой в жертву запуском объекта в обращение. Отсюда в «Ведах» такие формулы, как: «Uças — это знамя жертвоприношения», «Uças ведет к жертвоприношению» и др., — а также ориентация гимнов заре на ритуал. Заря здесь также уподобляется молоку священной коровы, что после порождения
удерживает повествование в рамках формирования, формулирования. Сохраняя один и тот же смысл, в других местах ведийского текста «свет» предстает как молодая женщина, обнажающая
грудь; он наделен всеми атрибутами женственности: супруга, любовница, сестра, часто связанная с братом сексуально, из чего
образуется инцестная пара Заря — Ночь, противоположная греческому инцесту, когда отец скрывается за телесной оболочкой
матери, что противостоит отцовской паре Небо— Земля. Пару
1 Corbin H. Terre céleste et Corps de résurrection. P. 192-202.
Заря-Ночь мы обнаруживаем и в «Числах»: «Мы оказались на
белом пути, опускалась ночь». Следует ли полагать, что всю направленность письма, характерную для модерна, можно индексировать как двойственность Заря — Ночь и этим жестом стереть
внешний вид говорящего субъекта и линейного значения, равно
как и сексуальное подчинение «Самого» «Самому», чтобы, восстанавливая фундаментальную плюральность, в поисках женщины не-матери найти единственную радикально «другую» женщи-
ну-сестру? Будет ли большим риском прочитать загадочное заглавие Лотреамона Les chants de Maldoror [ «Песни Мальдорора »]
одновременно как mal d'aurore [«предрассветную боль»], т. е.
жертвоприношение, скорбь, приходящую с рассветом, как поэтический дар, и как mâle d'aurore [«муж зари»] — сладостный союз
мужчины с песнью-зарей, который лишь один может отвлечь его
от платонической дружбы с себе подобными, с мужчинами ( «Господь впустил педераста») и/или от семейной сублимации тела
матери? В «Аврелии» Малларме близок к тому же, затрагивает ту
же материю, когда восторгается драгоценным камнем, изящной
вещью, бриллиантом1. Именно как «бриллиант» (brillant) можно
прочитать «блестящий» вокальный рельеф в третьем эпизоде из
«Чисел »; в конце книги мы находим этот драгоценный камень как
образ пространственного, множественного, пламенеющего, глубинного текста: (4.100.) «...камень, который вовсе не камень, пересеченная множественность, прочитанная, заполненная, истертая, испепеленная и отказывающаяся замкнуться в своем кубе и в
своей глубине... J&JF».
Подведем итоги. Место фонтанирования песни, текста — это
место перехода: «(3.55) ...Между цементом и водой, между напором и ирригационной сетью...» Проблема заключается в том, чтобы переступить поверхность рационального понимания и, не рухнув, войти в песнь, которая становится видимым проявлением
невидимого объема, в котором разворачивается, дробится, дифференцируется бесконечность генотекста — следствие и причина
песнопения. Проблема в том, чтобы пройти сквозь стену платоновской пещеры как основания идеи, сквозь стену языка — матрицы
понимания, знания и истины, чтобы одолеть и разрушить ее. «(3.55)
Словно перескочили через преграду, словно вырвали корень, такое
произошло после этого переворота и вторжения...» Помешать
своду вновь закрыться— своду метафизической пещеры — и выйти
за его пределы в активное распределение бесконечности означающих. Это единственный способ действия, невидимый, пока существует свод, и впервые делающий его видимым. Который впервые
обозначает его как закрытость, устанавливает ему пределы и ко¬
1 Mallarmé S. La dernière mode, le bijou. Op. cit.
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
224
нечный характер. Таким образом, текст, оставаясь в актуальном
языке, должен пройти сквозь стену языка-знака, эту отражающую
поверхность, поскольку только он может снять завесу с внешнего,
которое иначе остается невидимым. Пройти и испепелить ее, чтобы помешать ей превратиться в непрозрачную поверхность или закрыться под сводом. Навсегда за стеной, но в этом навсегда вечно
преодолевая ее («стена воды»), этот грот остается видимым. Тогда
то, что из-под свода имело вид удаления покровов, теперь представляться всего лишь акциденцией (3.55), «элементами, которые
кажутся все выше, но и ближе сквозь невозможность понять этот
новый появившийся объем, этот выход за пределы закрытого свода, невидимого отсюда —».
Такая эмердженция формул генотекста продолжается на протяжении всей книги — это слово следовало бы заключить в кавычки, поскольку на самом деле речь идет о «книге», не имеющей
начала (т. к. продолжает другую — «Драмы») и никогда не заканчивающейся (т. к. приостанавливается вместе с остановкой руки,
держащей перо). Третий эпизод всего лишь резюмирует эту эмер-
дженцию, которую другие эпизоды подхватывают, оркеструют,
развивают. Как раз в этом эпизоде, в том самом месте, где огонь
превращается в свет, где светятся столкновения в плюральности
означивания, роняя текст как остаток предшествующего ему сгорания,— именно здесь появляется нотация гласных — именно эта
нотация, — освобождающаяся от смысла в силу его бесконечного
порождения: I-0-U-A-I. Именно теперь, «с приближением конца, с замиранием последней протяжной ноты (I)», — обратимся
в последний раз к сонету о гласных: «красное i», еще пылающее
жаром «i» — впервые появляется китайский иероглиф: Д i, «отличающийся». Остановка времени, молчание, пробел прерывают
маркированные дифференциалы. Таким способом пространство
пробела заставляет заметить себя и в свою очередь вписывается в
означивание. Пространство пробела, которое, однако, не пустота,
поскольку это бесконечность — маркированная и маркируемая,
дифференцированная и индексируемая, — которую дифференциал пытается ввести. В результате генотекст решительно расширяется, поскольку в нем обосновывается иной язык, радикально
удаленный от французского. Читатель сталкивается с незнакомым
письмом, которое внезапно вырывает его из привычной вокализации его информационной системы, где атрибутирование морфемам единственного смысла мешает прочтению текста и отсылает
к двойному фону, к «пылающей глубине», на которую указывает
начало эпизода и которая оказывается тем местом, где вступает в
действие иероглифическое письмо. Ведь звук I, на котором останавливается формула, бесконечно лишенная смысла (I-O-U-I-A-I),
если расшифровать его как означивающий дифференциал, мо¬
жет уверенно использоваться применительно ко многим другим
элементам в тотальности существующих языков. Однако текст
организует эту тотальность как бесконечность в одной точке и,
следовательно, он выбирает, чтобы гравировать (граммировать —
[записать посредством грамм]) специфику своего функционирования, письмо, законы которого наиболее близки его собственным:
китайский иероглиф. Действительно, означивающий дифференциал I в китайском языке может применяться к плюральному аппарату, который сам по себе есть текст. Это «I», записываемое
иероглифом «означает» отличающийся, но «располагает»
двумя компонентами: поле и совокупность и «репрезентирует»
«человека, поднимающего руки в жесте самозащиты или уважения». В «Числах» нет намерения проследить долгий путь преобразования «поля», «совокупности» и «обороняющегося или почтительного человека » в значение «отличающийся ». Оно, конечно,
заключается в том, чтобы маркировать с помощью дифференциала, пустого для «логоцентрического» читателя, а потому эксплицируемого и конкретизируемого в данном случае незначимым, но
плюральным иероглифом, разрыв между непрерывным, линейным
чтением и прочитыванием «бесконечно малых», иными словами,
разрыв между поверхностью «говорения» и тем объемным тиглем,
где порождается текст. Далее в «Числах» (2.88) прочитывается
текст пробела, который вписывается в бесконечное пространство
пробела. Сам китайский иероглиф, обозначающий «текст», указывает на то, что в языке нужно проделать нелегкую упорядочивающую работу, чтобы начертать литеру: слово «текст» записывается
сочетанием иероглифов, имеющих значение речь [*$], хлыст [41]
(оба вместе означают «урок») и буква [<]. С другой стороны, звук
I, за который зацепляется первый иероглиф в «Числах», может в
записи также означать число 1, и тогда изображается одной чертой: один, первой меткой на бесконечности означивания. Далее мы
читаем: (3.55) «...зацепившись за одну-единственную приглушенную ноту, за след, процарапанный как I...». Описание, которое вызывает представление о процессе зарождения текста.
Неоднократно повторяясь в тексте, иероглиф появляется,
чтобы поменять местами фенотекст и генотекст или развернуть
числовую игру означающих. Такая функция исчисления, которую мы определили выше, находится в том же поле, что и функционирование иероглифа. М. Гране подчеркивал важность того,
что он называл «одной из основных особенностей китайского
мышления, а именно: чрезвычайно уважительное отношение к
числовым символам, которые сочетаются как угодно при обозначении любого количественного понятия»1. Китайское число —
1 Granet М. La pensée chinoise. P.: Albin Michel, 1934. Ch. III. P. 149.
Юлия Кристева ЩШд Семиотика: Исследования по семанализу
226
это не цифра: оно не количественно, но указывает на определенное различие в бесконечном и тем самым упорядочивает, ритмизирует, комбинирует; оно меньшеу чем ничто, поскольку лишено
смысла, и больше у чем бесконечность, поскольку годится, чтобы
маркировать любые классификации, любые ритмические прогрессии, гармонию. Цифра нужна для счета, в то время как числом называются «циклические знаки, задуманные для обозначения не разрядов, а мест, и напомнающие скорее об аранжировке,
чем об итоговой сумме»1. Эти «числа» китайской космогонии
размещаются в той же зоне представлений, куда мы вставили
дифференциал: пространство, которое иероглиф очерчивает такой языковой практикой, которая не ограничивает факт порождения бесконечности.
Итак, текст — это шарнир, разделяет и связывает пространство чисел с другим — пространством лингвистических знаков2.
Точка за точкой он переносит одно в другое — порождение в
формулу.
«(4.48) Проблема заключается в следующем: как трансформировать, точка за точкой, одно пространство в другое, несовершенное прошедшее время глагола в настоящее время, и как самому включиться в эту замену — ... прикоснуться к гранулированной энергии, к поверхности порождения и уничтожения...»
В этой точке не остается места даже для малейшего слова, потому
что это «бесконечность, рассеянная повсюду, без всякого усилия», «пустота—* искра—» точка—* звук—* сияние—* семя» (4.56),
«то, что было названо сакральным, загадкой, тайной» (4.56).
Фраза как семантическая единица. Именное
предложение. Означивающий комплекс
как текстовая единица
Обмены с помощью речи основаны на словах в их
повседневном (внешнем) употреблении, поскольку они
1 Ibid.?. т.
2 Это раздвоение слова на множественность и единичность и в прошлом отмечалось некоторыми лингвистами, для которых, однако, различение двух типов функционирования слова редуцировалось к различиям в интерпретации: «Исходя из гипотезы, что слово есть продукт и что оно вечно, другие придерживаются идеи множественности. Даже если слова различны, это не мешает буквам всегда быть одними и
теми же; также если различны фразы, всегда можно заметить одно и то же слово. Не
существует слова, которое было бы чем-то иным, кроме букв, ни фразы, которая была
бы чем-то большим, чем буквы и слова. В слове нет никаких букв, а в буквах нет никаких частей. У слов нет никакого существования, отдельного от фразы. На практике
придерживаются различных точек зрения; то, что первостепенно для одних, противоположно для других» (Bhartrhari). Можно ли сказать, что тексту знакомы оба аспекта
сформулированной Бхартрихари проблемы и что он локализуется в точке перехода
от одного аспекта к другому?
рассеяны повсюду и удобны, грамматика же помещает их
в состояние изоляции, лишь имея в виду грамматические
операции. (Но) вовсе не с помощью сопряжения смыслов (слов) в соотнесении с внешним языковым обычаем
люди приобретают точные знания. Вот почему внутри —
alaukika — не существует ничего иного, кроме фразы.
Бхартрихари
Эти модели таким образом расширенного синтаксиса
остаются немногочисленными...
Малларме
3.3. Только предложение имеет смысл; имя обретает
значение лишь в контексте предложения. 3.318. Предложение я понимаю — подобно Фреге и Расселу — как функцию содержащихся в нем выражений.
Витгенштейн
И по одну, и по другую сторону слова дифференциалы образуют текст, фундаментальной единицей которого, вызывающей
эхо у дифференциала, для нас становится фраза. «Фраза, это
неопределенное построение, безграничное варьирование, есть
сама жизнь языка в действии»1. Не подчиняясь правилам знака2, фраза как семантическая функция не является целостностью, разложимой на лексические, семантические или грамматические единицы. Она представляет собой процесс, действие,
посредством которого смысл приобретает плотность; она не
сводится к аккумуляции смыслов произнесенных слов; она расшифровывается с точки зрения под-лежащего ей процесса порождения, прочтение которого отбрасывает язык одновременно к его арахаическому состоянию и к тому, что его дублирует в
данный момент на двойном фоне порождения, которое является
следствием своей собственной причины3. При такой концепции
сигнификации крупных единиц текста как процесса, представляющегося в виде формулы, становится ясно, до какой степени проект структурной семантики, где смысл считается общей
суммой единиц (сем), оказывается механистичным и далеким от
текстовой деятельности.
Фраза, которая считается единственной реальностью языка и/или местом порождения смысла, проявляет бесконеч¬
1 Benveniste E. La phrase nominale // Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. P.: Gallimard, 1966. (Рус. пер.: Бенвенист Э. Именное предложение // Бенвенист Э.
Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.)
2 «Вместе с предложением мы покидаем область языка как системы знаков и попадаем в иной мир... Отсюда две различные лингвистики» (Benveniste E. Ibid.).
3 «Это изначальное, внутреннее слово, и то, что высвечивается резонансом, —
его иные называют sabda, и оно находят свое единство в предложении. Для них также
внутренний объект высвечивается в частях (воспринимаемого) объекта. Речь и ее объект — это подразделения единого и того же самого бытия — atman; они не существуют раздельно. Это изначальное слово, бытие которого чисто внутреннее, и которое
нужно проявить вовне, оно имеет форму и следствия, и причины» (Бхартрихари).
Юлия Кристева щШя Семиотика: Исследования по семанализу
228
ность генотекста, где формируется язык. Чтобы выделить эту
функцию, присущую всем «крупным единицам» (дискурса),
мы будем искать особенности тех из них, которые, представляясь в виде «фраз», поскольку обозначают законченное (если
не окончательное) утверждение, заметнее других маркируют
свою принадлежность — в качестве лингвистических фрагментов — к бесконечному процессу означивания. Назовем этот тип
крупных единиц означивающим комплексом. Этот комплекс отличается тремя характеристиками: 1) он продуцируется между
двумя паузами; 2) его волнообразное движение имеет наполовину завершенную, наполовину прерванную форму; 3) при формировании текста он не сцепляется с последующими комплексами,
но просто отображается (в логическом смысле слова отображение) в них.
«Числа » построены из таких текстовых комплексов. Они маркируются между двумя паузами произнесения, и прочитывать их
следует с полузавершенной интонацией, эксплицитно обозначенной многоточием в конце, — который не является окончанием —
каждого комплекса. В «Числах» не используется точка, точнее,
она появляется в редких случаях, чтобы маркировать подмножество в комплексе (в первом и во втором эпизодах, когда текст
почти не организован; см. также начало эпизода 3.31 и др.). В конце каждого эпизода ставится тире, которое следует прочитывать
как акцентированное или непрерывное многоточие, маркирующее незаконченность эпизода. Таким образом, многоточия и тире
размечают текст, и вместо того чтобы сцеплять фразы, они разделяют комплексы на изолированные блоки, которые отображаются один в другом, не составляя пары.
Мы проводим четкое различие между означивающим комплексом и предложением, постулируя — и дальше приводится первое доказательство постулата, — что минимальной единицей
(или, если угодно, минимальным высказыванием) фенотекста является означивающий комплекс, тогда как предложение есть минимальная единица коммуникативного дискурса.
Означивающий комплекс — это синтаксическая группа1, состоящая из модифицирующего Ma и модифицируемого Me, где
конститутивным членом является модифицируемое Me. Под конститутивным членом понимается тот, который выполняет синтаксическую функцию группы в тексте как множестве. Означивающий комплекс, так сказать, направляет к этому множеству свой
детерминированный элемент и вследствие этого приобретает
синтаксическую функцию, аналогичную выполняемой в прида¬
1 Kurylowicz J. Les structures fondamentales de la langue: groupes et proposition
[19481 // Kurylowicz T. Esquisses linguistiques. Wroclaw-Krakow, Zaklad narodowy im.
Ossolinskich, 1960.
229
точном предложении. Однако в литературном тексте главное
предложение, предполагаемое этим придаточным, может отсутствовать, так что означивающий комплекс уподобляется придаточному, которому не хватает главного, присоединенному не к
пустоте, но к бесконечности отсутствующих здесь означающих,
которые должны «порождаться» для того, кто читает текст. Так,
можно сказать, что «Бросок игральных костей» Малларме состоит из означивающих комплексов, которые никогда не заканчиваются фиксированными предложениями с четкими границами;
они словно наколоты на пустую страницу, созданные модифицированным Me, которое останавливается на краю пустоты, не получив предикатов для своего закрепления.
«Un coup de dés
Me Ma
jamais
Me Ma
quand bien même lancé dans des
circonstances éternelles»
Me Ma
du fond d9un naufrage
В синтаксическом отношении роль модифицируемого Me может принять существительное, которое в качестве модифицирующего Ma требует прилагательного, либо прилагательного или
глагола, требующего наречия, либо глагола, модифицируемого
косвенным падежом или предложным оборотом. Однако порядок этих категорий нарушается, когда синтаксическая группа
становится автономным означивающим комплексом — минимальной единицей фенотекста. Модифицирующий член перестает выполнять свою предикативную функцию и ограничивается
лишь функцией детерминации, которая поддается поглощению
модифицируемым членом; предикативная функция исчезает с
тем важнейшим следствием, что полученный таким образом
означивающий комплекс больше не маркирует ни время, ни субъекта, ни другую глагольную категорию; соответственно происходит номинализация Ma и Me. Роль Me чаще всего исполняет существительное, прилагательное или именные и адъективные формы глагола: причастия настоящего и прошедшего времени,
инфинитивы. Если в означивающем комплексе глагол в личной
форме используется как Me, то его временная значимость существенно отличается от той, которую он имеет во фразе (мы проследим это на примере употреблений форм неопределенной формы и настоящего времени глагола в «Числах»): он не определяет
никакого лица и находится вне темпоральной линии.
Порождение формулы
Юлия Кристева ШШр Семиотика: Исследования по семанализу
230
Итак, можно сделать вывод, что означивающий комплекс выполняет тройственную функцию:
1. Сцепление (когезивность): члены означивающего комплекса
Ma и Me образуют в рамках данного языка закономерную и
стабильную структуру благодаря спецификатору (флексия,
предлог и т. д. в зависимости от конкретного языка и случая),
который устанавливает грамматическое отношение Ма/Ме на
уровне фенотекста — Ма/Ме.
2. Гипер-утверждение (гипер-ассертивность): означивающий
комплекс утверждает реальность в рамках означающего своего
собственного маркера.
3. Обращение в бесконечность (инфинитизация): это дополнительная функция по отношению к двум другим. Обращение в
бесконечность подразумевает, что означивающий комплекс
извлекает свой след из бытия-присутствия, чтобы посредством номинализации поместить его в плюральное означивание.
Напротив, применительно к тексту как множеству в предложении именно Ma репрезентирует минимальное утвердительное
высказывание. Следовательно, конститутивным членом предложения оказывается Ma, т. е. предикат. В этом случае Ma, даже не
имея формы глагола, выполняет предикативную функцию.
Если глагол или связка опущены, то получается именное
предложение со всеми функциями предложения (когезивной и
ассертивной, по терминологии Бенвениста), но, кроме того, оно
уподобляется означивающему комплексу благодаря экстравре-
менной и экстра-субъектной функциям. Однако именная фраза
остается фразой, т. е. ее конститутивным членом является Ma
(именное или глагольное), тогда как означивающий комплекс с
конститутивным членом Me, представляет собой бесконечное
утверждение.
Ме ^К0оо
S H
с;
2 ï «
Ma
Ме
0 1
X
<L>
f-H
D (детерминанта)
N (имя)
- прилагательное
- существительное
H
u
- наречие
- прилагательное
H 4
- косвенный падеж или
- инфинитив
° 1
X
предложный оборот
- part, présent
<L>
О
- part, passé
- личная форма глагола
МаМе => Ma (D) М* (N)= Me (N) ... 00
231
М.(Р)
w ' "Ч
н
о
&
Me
Ma
<Ü
о 1
X
м,
Me
Ma
<и
1-н
D
N — Субъект
Р (предикат)
"
- прилагательное
- существительное
- личная
н
и
- наречие
- прилагательное
форма
«
£ j
- косвенный падеж или
- инфинитив
глагола
s 1
X
предложный оборот
- part, passé
- связка
<и
е
- part, present
- личная форма глагола
MeMa->Me(S)Ma(P)=SP
Важно сделать теоретические выводы из различия означивающий комплекс/фраза, чреватое риском, что за техничностью
можно не заметить эпистемологических последствий.
Прежде всего, мы полагаем, что предикативное предложение
S-Р не является обязательной элементарной структурой символического функционирования, как это утверждается в порождающей грамматике Хомского, но что символическое функционирование может продуцироваться на основе матрицы Me (N)...
Предикативная структура в соответствии с ее названием (от лат.
praedicatum — praedico [«провозглашать»]), публично вещает,
провозглашает, обнародует нечто об объекте; предикат — это высказанная вещь, вещь превозносимая, прославляемая, иными словами, ментализованная в ритуале публичного высказывания.
Без ритуального действия, но в том месте, где осуществляется
означающее и которое предусматривается ритуалом, означивающий комплекс представляет собой другую стадию символического процесса. Ее можно рассматривать как этап порождения категорий значения в генотексте, предикативная структура которого
S-Р — это лишь завершение коммуникации, и составляет ядро
любой идеи, разделяющей субстанцию от ее атрибутов или процесса. Отметим, что именно означивающие комплексы обосновывают текстовую практику, и именно тот же тип организации обнаруживается в некоторых языках с иероглифической письменностью, как, например, в китайском. Этим, несомненно, частично
объясняется появление китайских иероглифов в «Числах».
Второй вывод, к которому нас приводит установленное нами
различение, заключается в том, что, избавляясь от предикации,
означивающий комплекс и все регулируемые им семиотические
практики освобождаются от того, чтобы высказать «нечто» по
поводу «объекта» и выстраивают неисчерпаемую и стратифици¬
Порождение формулы
Юлия Кристева брШ Семиотика: Исследования по семанализу
232
рованную область разъединений и комбинаций, исчерпывающих
себя в бесконечности и точности своих следов. Иными словами,
область такого означивания, основанного на означивающем комплексе, проявляясь в языке, не высказывает ничего и ни о чем, но
продуцируется в собственном следе, где слова становятся нотациями отображающихся множеств. Описанная таким образом
область, для которой характерна не экстериоризация, но зарождение, всегда возобновляемое ее различиями, может быть приравнена к негуманитарному началу формальных наук — математике. Действительно, если литература всегда была скрытой идеологией, то это было осознано с того момента, который мы
уточнили, говоря конкретнее, с момента их разделения, совершенного Лотреамоном и Малларме — когда она была представлена как текстовая практика, которая пересекает идеологию, и в
этом смысле находится вне нее. И это разделение позволило прочитывать многие тексты прошлого не как «литературу», а как-то
иначе...
Такие комплексы подобны придаточным предложениям, которые пренебрегли главным и стали автономными. После многоточия они вводятся наречием или союзом и указывают на отсутствие того, концовкой чего они являются:
«(2.30) ...словно мы испытывали последствия взрыва, воспоминание о котором сохранялось у нас лишь в виде мгновенных
вспышек...» (там же) ... «Сколько других живых зияний, с отрезанными гениталиями и выколотыми глазами...»
(там же)... «Не рассчитывая на белых обитателей мира, которые верят в иной мир...»
В других случаях комплексы представляют собой серии перечислений имен [существительных]: «(1.29) ...Рябь каналов,
борозды, тома, разговоры...» [“(1.29) ...Plis canaux, rides, volumes,
discours...”], к которым иногда присоединяется глагол: «(1.29)
...Не только „я“ и „вся моя жизнь“ — дни, хождения, труды, что
всегда предчувствовалось среди звуков, запахов — холода летом, бетона в море, облаков в земных впадинах след которых
хранит мой больной мозг...»; однако, будучи подчинен именам
[существительным], которые детерминируют комплекс (в сочетании «след которых хранит мой мозг» глагол «хранит» детерминирует «след», и именно детерминированное таким образом
имя [существительное] представляет весь комплекс, присоединяя его к предшествующей серии) он не является предикатом,
который сцепляется со следующим далее комплексом. Поскольку глагол не берет на себя роль конституирующего члена текстовой единицы и не переносит означивание на последующие
комплексы, фраза не достигает конечной точки, но остается незавершенной.
233
Такое подчинение глагола вовсе не означает, что он исчезает.
Напротив, большая часть текстовых комплексов в «Числах»
строится как аккумуляция личных глагольных форм, чаще всего в
имперфекте или презенсе. «(1) Я видел свои глаза, но они стали
совсем маленькими, а взгляд становился все медленнее, морщил
лицо, словно оно было покрыто сеткой; казалось, он высвечивал
нервы, лежавшие под кожей, где-то очень далеко»1.
«(4.28) Вы видите все это, вы умеете точно определить внутривидовые различия... Вы открываете глаза, вы перечисляете то, что
проходит у вас перед глазами...»2
Отметим, что все эти глаголы указывают не на факт, который
завершен или должен завершиться, но на состояние, виртуальность, сдерживаемую силу, которая, разумеется, может актуали-
зоваться, однако ее существенная особенность заключается в
том, что она остается незавершенным процессом, мифом, еще не
ставшим ритуалом. С этой точки зрения означивающий фрагмент, относительно которого неясно, имя он или глагол, принимает грамматическую форму глагола, чтобы маркировать такое
означивание, какое обычный глагол выразить не в состоянии;
означивание вне времени и вне субъекта, более близкое к номина-
лизированной десигнации, чем к глагольной актуализации. Такая
ориентированность глагола на имя, маркирующая модальность
сигнификации, отсутствующую в индоевропейских языках, усиливается в «Числах» избыточностью именных и адъективных
форм глагола. «Числа» изобилуют инфинитивами и причастиями настоящего и прошедшего времени.
А. Инфинитив
«(2.10) Я был рожден для того, чтобы прильнуть к ней, чтобы
помчаться вслед за ней по наклонной плоскости времени, чтобы
запечатлеть стенку своего лба на ее медленном ускользании, чтобы сообщить ей пульсацию своей крови...»3
«(2.86) ...И снова бесконечно повторять это... Вводить это
без конца в движение органов, лиц, рук... Перегруппировывать
это, перепечатывать, заставлять перечитывать и слушать вновь,
перевооружать всеми средствами, в каждой определенной и особой ситуации...»4
1 “(1) Je voyais mes yeux, mais diminués, et la vue se faisait plus lente, crispait le visage
comme s’il avais été recouvert d’une filet, semblait éclairer les nerfs au-dessous, très loin”.
2 “(4.28) Vous voyez tout cela, vous savez distinguer un cas précis de l’espèce... Vous
ouvrez les yeux, vous énumérez ce qui passé devant vos yeux...”
3 “(2.10) J’étais né pour collera elle, pour être entraîné à sa suite dans le plan oblique
du temps, pour imprimer la paroi de mon front sur sa dérobade lente, pour lui prêter le
battement de mon sang...”
4 “(2.86) ...Cela à redire de nouveau, sans fin... Cela à injecter sans fin dans le
movement des organs, des visages, des mains... Cela à regrouper, à réimprimer, à refaire lire
ou entendre, à réarmer par tous les moyens, dans chaque situation precise et particulière...”
Порождение формулы
Юлия Кристева ЩШ Семиотика: Исследования по семанализу
234
В серии придаточных предложений (2.10) или в именных фразах (2.86), именная форма глагола, инфинитив, сохраняет две глагольные функции, необходимые для построения фразы: она обеспечивает грамматическую увязку [cohesion] утверждения и удостоверяет реальность того, что утверждается (отсюда «ассертивная
функция»: это так). Однако, чтобы быть именной формой, инфинитиву не хватает характеристик, присущих чисто глагольной
форме: модальности лица, времени и т. д. Поэтому, когда инфинитив замещается личной глагольной формой, он придает фразе, которую мы назвали текстовым комплексом, чтобы не путать с
классической формой предложения, и которая представляет собой или напоминает именное предложение, вне-субъектную и вневременную значимость. Фраза, в которой глагольную функцию
берет на себя номинализованный элемент, а именно, инфинитив,
избавляется от авторской субъективности и даже от всякой связи
с говорящим (см. Э. Бенвенист, цит. соч.). По той же причине она
не подчиняется факторному порядку, т. е. тому, что совершается
во времени, и маркирует лишь выборочно то, что можно считать
становлением в пространстве. Таким образом, она очерчивает сцену для сигнификации, где то, что совершается, еще не существует,
поскольку всегда находится в стадии становления. Итак, перед
нами такая модальность означивания, которая указывает на процесс порождения вне зависимости от времени, т. е. от «ситуации»
и «наррации», не имеет ни начала, ни конца, ни субъекта, ни адресата, но совершается усилием, которое, чтобы освободиться от начала и завершения, приобретает значимость правила, порядка, закона, в соответствии с которыми субъект, а также его временные и
личные модальности переходят во взвешенное состояние.
Таким образом, будучи средством номинализации, инфинитив диктует законы, вернее, маркирует порядок именно потому,
что номинализует. Так, у Гомера инфинитив неоднократно используется для формулировки обетов и запретов, а в греческом и
в индоиранских языках любой инфинитив может принимать роль
императива. Некоторые лингвисты, при попытке восстановить в
правах предшественников инфинитива (в частности, ведийского
инфинитива taväi, -tava), предлагали синтаксически автоном¬
ную форму, по значимости близкую к императиву1. Параллельно
можно констатировать, что инфинитив в комплексах, процитированных выше, сохраняет определенную независимость по отношению к тому члену комплекса, к которому он примыкает и
который он не локализует ни в пространстве, ни во времени, но
лишь определяет его корреляцию или оппозицию по отношению
к контексту. Отсутствующий субъект приказывает объекту агре-
1 Benveniste E. Origines de la formation des noms en indo-européen. P.: Adrien Mai-
sonneuve, 1935.
тироваться с другими компонентами эпизода; тем самым этот
объект становится псевдосубъектом, и каждый, кто претендует
на авторство дискурса, различается по записи закона, в сфере
действия которого о нем забывает.
Можно наблюдать, как глагол, ориентированный на имя, маркирует способ, каким в языке продуцируются пословицы, сентенции, аргументы, доказательства. Он противопоставляется личному
глаголу, маркирующему способ, которым в языке продуцируются
наррация, описание ситуаций, эпопея. Напротив, модальность
мифа оказывается также и модальностью закона, и становится понятным, почему мифологические тексты Индии, Китая или Иудеи
записаны в виде сентенций, свода предписаний, Скрижалей Закона. Только то, во что верят, что порождается вне категорий времени и личности, может господствовать и иметь ценность формулы.
Формула, предполагаемая текстом (фенотекстом, порождаемым
генотекстом), может быть высказана только в модальности ста-
новиться-законом: единственным законом, в который интегрирована его трансгрессия, поскольку он избыточно содержит в себе
собственные становление, порождение, бесконечность.
Индоевропейские языки нового времени утратили эту лексическую и синтаксическую возможность маркировать «становить-
ся-законом», характерную для мифа, предшествующего ритуалу.
Не для того ли, чтобы восполнить эту утрату, в текстовой деятельности, наблюдаемой нами в «Числах», воскрешается ценность забытых глагольных форм? И возможно, инфинитив — именная
форма глагола как она используется в комплексах «Чисел» —
добавляет третью глагольную функцию к двум другим (когезивной и ассертивной), необходимым для фразы, — функцию инфини-
тизации. Ориентированная на означивание как на процесс порождения, она предполагает, что «высказываемое» есть постоянное
становление, ничем не ограниченный рост во времени, инстанции
речи; оно всегда здесь, упорно присутствует, бытие как присутствие, становящееся законом, который вместе с тем отсутствует и
в бытии, и в присутствии. Эту функцию инфинитизации номинали-
зованного глагола можно выразить словами «на пути к». Однако
лучше эксплицировать сигнификацию полученных таким образом
текстовых комплексов — фраз, в том числе именных, — если выразить ее с помощью глагола être [«быть»], тут же указав, что он используется не в качестве «связки» или предиката индентификации,
но как такой же полноправный глагол, что и другие; в санскрите он
означает «расти, прорастать»: от *£/ш-произошла форма *es, которая сегодня утратила значимость как становление и сохранила
лишь роль связки и идентификатора.
Именно такую значимость приобретает глагол быть, используемый в «Числах» в формах имперфекта и презенса, по¬
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
236
скольку он составляет часть описанных нами текстовых комплексов, а также сочетается с номинализованными или адъективированными глаголами и, таким образом, освобождается от
всякой перформативной, экзистенциальной, феноменальной
значимости, ориентируясь на маркирование процесса обозначаемого словом делать [faire], что становится постоянной обязанностью. Именно так следует прочитывать такие фразы как:
«(4.12) это был вопрос обо всех нарисованных и изображенных
красками предметах... » [“(4.12) il était question de toutes les choses
dessinée et peintes...”], «(1) это было нечто совершенно неизвестное и новое, то, что было только что произнесено...» [“(1) c’était
bien quelques chose d’entièrement inconnu et nouveau qui venait de
se prononcer...”], «(1) я был остановлен на краю собственного
ритма...»[“(1) j’étais arête au bord de mon proper rythme...”],
«(2) Я был своим собственным телом вне протяженности и звука, и одновременно я был отсутствием тела, отсутствием протяженности и звука» [“(2) J’étais mon corps, l’absence de l’étendue et
du son”].
В. Причастия настоящего и прошедшего времени
Причастия — адъективные формы глагола — имеют ту же
функцию: номинализовать фразу, извлечь ее из темпорального и
субъективного порядков и ориентировать на утверждение становления, отличного от присутствия. Они всегда связаны с тем
именем, которое детерминируют, так что почти все прилагательные в «Числах» отглагольные, т. е. причастия. Следовательно,
каждая квалификация представляет собой «на пути к», постоянные качества отсутствуют, и любое состояние заставляет думать
о том, какие внутренние силы его подуцируют: такова роль причастия прошедшего времени. Причастие настоящего времени,
подражая темпоральности сопровождающего его глагола, т. е.,
просто обозначая процесс без его локализации во времени и пространстве, вместе с тем очерчивает то место, где из бесконечности появляется формула. Тем более, что в текстовых комплексах
часто не хватает личного глагола, сопровождающего инфинитив,
и причастие настоящего времени кажется висящим в плюральной
пустоте означивания, отмеченной многоточием.
«(1.33) ...То, что я мог сказать, исходя из этого, было связано
с мощью демонстрантов, заполнивших улицы со знаменами, с
оружием — или, наоборот, демонстрантов преследуемых, блокируемых, останавливаемых, расстреливаемых... связано с недвижным падением чисел и в то же время вверено ему... Рабочие перед
воротами заводов, все приближающаяся смута [...] постепенно
осознаваемый факт, что пространство принадлежит всем, новое
сияние, делающее недействительными оправдания порядка, под¬
вижный бог, принявший вид порядка, циркуляция бумаг, изменяющая ориентацию всей системы...»
«(4.100) ...Поднимающийся вверх в последний раз и воспаряющий в последний раз — вы, дотрагивающийся в последний раз
до купола освещенного небосклона, бесстрашно разлившегося
повсюду, и подающий ему знак в последний раз, вы, далее, находящий в последний раз, что обратной стороной чистого самородка оказывается позолота, вы, имеющий вид камня, который вовсе
не камень, [вы — ] трансверсальное множество, прочитанное,
преисполненное, безликое, испепеленное и отказывающееся замкнуться в своем кубе и в своей глубине —»
В этих именных фразах глагол быть перед многочисленными
причастиями настоящего и прошедшего времени не опущен. На
месте этого феноменального быть, а также в результате мутации
в модальности означивания именно глагольный элемент принимает именную функцию, чтобы маркировать не смысл, но его порождение, отвлекаясь от его завершения. «Пылающая и не желающая замкнуться в своем кубе и своей глубине» [“Brûlé et refusant
de se refermer dan son cube et sa profondeur”] отличается от «то,
что пылает и не желает замкнуться в своем кубе и своей глубине»
[“ce qui est brûlé et refuse de se refermer dans son cube et sa
profondeur”]. Опущение связки означает радикальное изменение
способа означивания, которое от идентификации субъекта переходит к обозначению того факта, что написанное ориентировано
на продуцирование отсутствующего здесь смысла. Как если бы
фраза созерцала самое себя и с помощью глаголов-прилагательных или глаголов-наречий отражала модальности собственного
продуцирования. Таким образом, можно сказать, что функция
инфинитизации номинализованного (или адъективированного)
глагола — это также функция самообозначения, с помощью которой продуцирование текста открывается тому вне-присут-
ствию, в котором оно происходит. Причастия настоящего времени вовсе не замещают высказывания вроде «Это я, который представляет себя поднимающимся вверх... парящим и т. д.» [“C'est
moi qui me pense montant... flottant, etc.”], но просто маркируют
то, что причастие настоящего времени как глагольная форма
обозначает на протяжении всей истории языка: процесс без темпорального или личностного фиксирования.
Такое различение между номинальным, обозначающим виртуальную, возможную и императивную функции, с одной стороны, и глагольным, маркирующей акт, присутствующий во времени, с другой стороны, по-видимому, составляет особенность
санскрита, а также арабского языка1. Если сегодня мы различаем
1 В книге Sacy S. de. Grammaire arabe. P.: Imp. royale. 1831. T. 2. P. 188 различаются две конструкции с именем агента: именная, когда имя агента является предикатом
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
238
две модальности означивания: бесконечное порождение и феноменальную актуализацию, атрибутируя первую имени, а вторую
глаголу (несмотря на взаимопроникновение их функций, «имя» и
«глагол» рассматриваются здесь как наиболее устойчивые парадигмы их сигнификаций в современных индоевропейских языках),
то в санскрите обе эти модальности не были прочно закреплены за
именем и глаголом: они легко переходили друг в друга, но при этом
различие двух типов означивания не исчезало. Среди прочих примером такого перехода от бесконечного порождения к феноменальной актуализации может служить адъективная «движущая
сила», производная от глагольного корня; как атрибут существительных она наделяет их свойством участвовать в процессе порождения означивания, который это отглагольное прилагательное
обозначало: существительное становилось местом и объектом вневременного и вне-личного процесса означивания. В латыни такой
движущей силой является прилагательное, заканчивающееся
на -ndus; tempus legendae historiae означает «время истории, предназначенной для прочтения». Превращение глагола в имя и наоборот с помощью прилагательного на -ndus позволяет рассматривать
имя как признак внешнего по отношению к нему порождения, передаваемого прилагательным на -ndus, которое в свою очередь по
причине такой подчиненности указывает на долженствование,
трансформирующееся в будущее. Внеличное порождение означивания зависит от вневременности и незавершенности (то есть от
имени), которые, будучи извлечены из настоящего, включают его в
себя. В некотором смысле настоящее обязано своим существованием вневременному и внеличностному порождению, и эта обязанность, или этот долг с точки зрения настоящего предстает как будущее1. Это соскальзывание генотекста в будущее через движущую
прошлого действия, и глагольная, когда оно обозначает агента настоящего или будущего действия.
Э. Бенвенист в своей книге (Benveniste Е. Noms d'agent et noms d'action en indo-
européen. P.: Adrien-Masonneuve, 1948) проводит четкое различие между двумя функциями агента: -tr относится к глагольному прилагательному, обозначающему автора
действия; при помощи -tf обозначается агент, наделенный определенной функцией.
Форма -tr принадлежит автору, означенному субъекту; форма -tf отсылает к тому,
кто существует лишь в связи с «выполнеием предписанной функции». Чрезвычайно
важно подчеркнуть, что именная форма -tf: 1) часто смешивается с инфинитивом;
2) служит для образования «будущего перифрастического, которое маркирует не
столько будущее, сколько необходимость того, что должно произойти (это достоверное будущее, которое индийские грамматисты называют svastam, завтрашним,
и которое сопровождается темпоральным уточнением). Такое различение между
именным содержанием означающего и его глагольным выявлением, темпоральным,
субъектным проводится и в греческом языке: -тсор (-|г) — единственная формация, образующая мужские имена собственные: Актсор, А>^кта)р,Ыеота)р; с помощью -т^р (-tr)
образуются названия орудий.
1 У Лукреция, ссылки на которого занимают важное место в «Числах», есть
примечательный пассаж (II, 991), где форма на -ndus оказывается как бы случайно
сопутствующей проблематике порождения и зарождения, охватывая таким образом
силу письма как субстрата отмечено в «Числах» инфинитивами,
причастиями настоящего и прошедшего времени, временными
формами, сетью их дифференциалов. И возникая как из сновидения, дифференциал — зерно, зародыш, число, — напоминает
античную форму на -ndus, точнее, буквально повторяет форму родительного падежа мужского рода причастия настоящего времени, которая материализует это пересечение, эту бифуркацию пространства означивания и будущего времени, порождения и закона:
NTOS как место расхождения Y. Его можно прочитывать двояким
образом: от открытой части («расплавленный, испаряющийся,
бурлящий фон») к вертикальной черте или — по желанию читателя — наоборот, т. е., начиная с формулы, вводимой в процесс порождения, представленной нам исключительно как нечто испепеленное и отложившееся в руинах:
«(3.19.) ...затем был перекресток, распутье, и надо было выбрать одну из двух дорог, и в чем заключалось испытание, о том
ясно говорили надписи, нацарапанные ножом на стенах... Однако выведенные фразы не были трудны для понимания, и в то же
время их невозможно было прочесть; можно было знать заранее,
что они подскажут, но запрещалось проверять их. Так, на одной
из них можно было разобрать:
NTOS
что не соответствовало ни одному известному целому слову...
Можно сказать, что буквы накладывались друг на друга во времени, на трех огромных фасадах, которые необъяснимым образом
высились там, пылающим вечером
Y
можно сказать, что, из них складывались картины из обломков
исчезнувшей истории и что сам воздух нанес насечки на камень,
чтобы представить здесь мысли камня, которые сам камень не мог
разглядеть... Однако я был в отдалении, я размещался на доступном расстоянии, неподвижное и спокойное тело — и это задавало
ритм, который, казалось, исходил из текущего, окутанного дымкой, неспокойного фона... С этого момента: все ускоряющееся
ускользающее вправо и в глубину глаз, пронизанное всей неясной
прошедшее и будущее время — время богов, — перескакивая через настоящее время-
людей: «caelesti sumus omnes semine oriundi» [«все мы происходим из небесного семени»]^ далее: «omnibus ille idem pater est » [ «и у всех один и тот же отец »]. Не допуская
никакого случайного и личного рождения, Лукреций рассматривает каждую жизнь
как метку внесубъектного зарождения: мы не рождаемся, мы должны быть порождены. В античности считались божественными не те, кто родился, но те, кто порожден
богами, например, Ромул, к которому Энний взывает так: о pater, о genitor, о sanguen
dis oriundum [«о отец, о родитель, о кровь божественного происхождения»]. (См.:
Benveniste Е. Origines de la formation des noms en indo-européen.)
Юлия Кристева тШд Семиотика: Исследования по семанализу
240
материей, охватываемой глазом, не доходящей до взгляда (до
букв с их возможностями)... Материя, все более дифференцированная, острая, не поддающаяся собственному пламени...»
Таким образом, текст — это безграничный процесс воспоминания: «пройти через все точки кругооборота, через всю его
скрытую и в то же время видимую сеть, и одновременно попытаться оживить его память — память парвеню, агонизирующего в
поворотный момент... (3.87)». Однако это воспоминание, попытка уловить множественность означивания, спрятанную в гено-
тексте, представленном сегодня в истории других языков, — это
еще не присутствие; порождение — это еще не изречение. Это
позволяет ему стать равным жесту, позволяющему «наметить,
наконец, будущее», что мы и смогли установить относительно механизма древнего языка, который извлек будущее из процесса
не-феноменального порождения.
С. Заимствования
Открытость тому, что порождает смысл, находит эффективного агента не только в означивающих комплексах, но и в «заимствованиях», т. е. в цитировании без указания источника.
Заимствования из таких текстов, как мифические («Веды»,
«Дао дэ цзин», «Каббала» или те произведения Нового времени,
где переплавляются древние мифы и разлагаются современные
идеологии: Арто, Батай), научные (Гераклит, Лукреций, теории
чисел, теории множеств, физические, астрономиические и т. д.
теории) или политические (Маркс, Ленин, Мао Цзэдун), позволяют увидеть порождение за этой тройной ориентацией, которая
приводит на одну страницу три топоса, определяющих нашу
культуру. Следы когда-то прочитанных книг и воспроизведенные
в тексте, заимствования в качестве сообщений-означаемых экс-
плицитруют те точки кругооборота, через которые текст должен
заставить нас пройти, чтобы мы столкнулись с той множественностью, которая вынуждает нас говорить:
«(3.87) ...Исходя из разума и сравнивая его с тем, что его
сформировало, и позволив ему в какой-то момент говорить, о чем
он мечтает или думает, пользуясь своим собственным временем, и
таким образом понять материю своего происхождения, [можно
сказать, что] открытый разум, следовательно, как и все книги, с
этих пор становится земным и животрепещущим...»
Извлеченные из своих контекстов эпизоды, заключенные в
кавычки, отсылают к собственному местоположению не для того,
чтобы идентифицироваться с ним, но чтобы указать на него и
присоединить его к той бесконечной работе, где они расставляют
акценты. Иными словами, эти заимствования не цитаты, они не
рождены для мифа, науки или политики; они родом из процесса
порождения смысла, выводимого текстом на сцену и замещают
миф, науку, политику в генотексте, подлежащем мыслящему разуму. Соответственно эти заимствования следует прочитывать не
только как мифологические, научные или политические высказывания, которые как таковые не могут быть вынесены за пределы
своей конкретной области (особенно научные высказывания). Но
как реконструкцию дифференцированной бесконечности, которая, оставаясь невидимой, пребывает в составе любой записи в
качестве дифференциала.
Эта функция заимствований — выковывать дискурсивную
цепь и ориентировать фенотекст на генотекст — маркируется
способом их презентации. Такие трансплантации — будь то именные фразы с инфинитивом или причастием (3.87), эпизоды, объединяющие две фразы (2.86), простые предложения (4.88) — играют роль того, что мы назвали означивающими комплексами. Без
предварения и вступления, завершения и оправдания, анонимные,
прерванные, эти означивающие комплексы прерывают цепь, чтобы включиться в нее, на что указывает вертикальная черта. Такое
размыкание одновременно разделяет эпизоды, позаимствованные из различных контекстов, и отсылает их друг к другу, чтобы
породить то пространство, которому они «родственны». Маркер
«/» указывает на разделение и объединение, незавершенность и
остановку, на то, что прерывает и связывает, на прыжок поверх
впадины; черта, которая указывает на «непрерывное столкновение», «звездное», которое Малларме находил в основе того «полного отчета о формировании», который является текстом.
Наверное, можно говорить, что каждый текст, который побуждает продуктивную работу означивания, — это текст, построенный по принципу прервать-отослать, который организует
свое дискретное поле. В этом принципе, собственно, можно
усмотреть матрицу священных текстов (от «Вед» до «Дао дэ
цзин»), образованных из отдельных эпизодов, взятых из разных
диалектов и даже разных эпох истории языка, которые тут же перестают восприниматься как единства и предстают как множество фрагментов, не сводимых к целому. Подобным же образом,
если за современным текстом обнаруживается плюральность,
значит он следует закону бесконечно непрерывной прерывистости, представленной позицией прервать-отослать: закон проявляется, например, во фрагментарном учении Ницше, которое, не
следует забывать, есть учение возвращения. Прерванность представляет собой изначальный признак числа, это одновременно
прерванность-отсылка, прерванность-возвращение, признак-
преобразование, дублирующий число-прерванность, с которым
соприкасается текст при своем дискретно-взрывном функционировании.
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
242
Вневременность
Самоубийство или воздержание, бездействовать,
почему? — Единственный раз в мире, потому что, соразмерно событию, всегда, которое я объясняю, — это
не Настоящее, нет — настоящего не существует. Плохо осведомлен тот, кто полагает себя собственным
современником: предавая, присваивая, с бесстрастным
цинизмом, когда прошлого больше нет, и с целью замедлить будущее оба смущенно смешиваются, чтобы
замаскировать разрыв.
Малларме. Quant au livre [О книге], цит. соч., с. 1372
Драма порождения формулы разыгрывается в темпоральности с четырьмя выделенными моментами: три в имперфекте и
один в презенсе. Иными словами, если форма глагола не инфинитив, participe passé или partcipe présent, то это imparfait или
présent. В тексте «Чисел» эти «времена» отклоняются от значимости, которую они имеют в повседневном употреблении, и формально возвращаются к своим истокам.
Известно, что в современном языке imparfait — это своего
рода «le present du passé» [«настоящее в прошедшем»]: в «аспекте континуальности он указывает на факт, еще не завершенный в
момент прошлого, с которым соотносится говорящий»1. В «Числах», в первых трех эпизодах каждой серии, imparfait, в сочетании
с infinitif или participe, обозначает не столько незавершенность,
сколько процесс того, о чем идет речь. В этом качестве, опираясь
на свою «незавершенность», imparfait в «Числах» отклоняется от
нее и акцентирует собственную роль процесса. В этом движении
он актуализируется, порывает всякую связь с прошедшим [временем], которое мог бы содержать, освобождается от длительности
и маркирует не длящееся порождение, не различающее настоя-
щее-прошедшее-будущее, порождение, которому номинализация
или адъективация глагола мешает найти основание. Следовательно, это имперфект, присутствие которого оправдано не незавершенностью или отнесенностью в прошлое, но освобождением от
длительности, ее поглощением динамикой формирования означивания, всегда наличного в герме, в зародыше («извечное событие» у Малларме), никогда не завершающегося, не переступающего порог входа в поток времени, т. е. бытия-присутствия Смысла,
остающегося по другую сторону, где эта линия — это Бытие — по¬
1 Если passé simple [простое прошедшее время] изобразить как ! 1, то
imparfait [имперфект] можно представить как (|—)—(—|). «Медианная фаза, которая, так сказать, не существует, если рассматривать действие с точки зрения passé
simple, и единственно значима для того, кто высказывается в imparfait: действие рассматривается в процессе его развертывания. У него есть пределы (у любого глагольного действия есть пределы, по крайней мере, у действия в прошлом), но они не замечаются (их не хотят замечать)» (Sten H. Les temps du verbe fini (indicatif) en français
moderne, 1952. P. 125, 127. Цит. no: Grevisse, p. 633).
243
глощается сверх-пустотой текстовой бесконечности. Это отсутствие входа, которое на графическом уровне текста маркируется
отсутствием точки (вспомним многоточия и тире на месте точки),
помещает работу означивания в эпизодах 1-2-3, во вневременно-
сти, обозначенной имперфектом. Такая вневременность порождает иллюзию настоящего, происходящего. Однако это вовсе не
так, поскольку речь идет о том, что не является и никогда не будет
фактом, субстанцией и, следовательно, присутствием; о пустой
в данный момент ячейке, которая есть не наличная реализация, но
то, что делает возможной ее игру в силу исключенное™ из нее:
положения вне игры. Отказываясь от любой проверки настоящим
из-за отсутсвия входа, активность работающего означающего
остается вне времени. Отметим, что речь идет о «fautemps» [«ложное время», «псевдовремя»], которое следовало бы писать fotemps,
чтобы подчеркнуть всю двусмысленность орфографии и этимологии слова (foris-temps [«вне-временность»] становится temps faux
[«ложным временем»]).
Выведенное со сцены настоящего, оно кажется обращенным в
прошлое, но это особое прошлое: не достигая результата, оно
предвосхищает его; не будучи завершенным, оно являет собой
дефинитив; таким образом оно вытесняет настоящее и будущее
[времена] и переносит их смысловой эффект на блок прошлого,
которое, собственно, перестает быть временем.
Во французском языке нет такой глагольной категории. Ее
функцию может принять имперфект, эксклюзивность которого
Лакан характеризует так: «Mais le français dit: Là où c’était... Usons
de la faveur qu’il offer d’un imparfait distinct. Là où c’était à l’instant
même, là où c’était pour un peu, entre cette extinction qui luit encore et
cette éclosion qui achoppe, je peux venir à l’être de disparaître de mon
dit» [«Но француз говорит: “Là où c’était...” [там, где это было...].
Воспользуемся преимуществом явного имперфекта. Там, где это
было вот-вот [a l'instant même], лишь кратким мигом между угасанием, которое еще светится, и возникновением, которое на что-то
наталкивается — я могу обрести бытие [venir à l'être], исчезнув из
мною сказанного [mon dit]»1]. Или другое определение французского имперфекта, на этот раз в связи с глаголом avoir [иметь]: «de
le mettre dans l’instant d’avant: un peu plus il y était là et n’y est plus,
mai aussi dans l’instan d’après: un peu plus il y était d’avoir pu y être, —
ce qu’il y avait là, disparaît de n’être plus qu’un significant»2 [«поместить его в предшествующий момент: он там был, и его там больше
1 Лакан Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессознательном
у Фрейда // Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после
Фрейда. М.: Логос, 1997. С. 156.
2 Lacan J. “Subversion du sujet et dialectique du désire”, Position de l’inconscient... //
Lacan J. Ecrits. P.: Ed. du Seuil, 1966. P. 840.
Порождение формулы
Юлия Кристева ЩШп Семиотика: Исследования по семанализу
244
нет, но также поместить и в последующий момент: он там был немного дольше, поскольку мог там побывать; то, что там было, исчезает, будучи всего лишь означающим»]. Однако в санскрите известен перфект, использование которого в мифах противопоставлялось ритуальному использованию презенса и аориста, близкого к
рассматриваемой вневременной функции.
«Псевдовремя», маркированное имперфектом в первых трех
эпизодах каждой серии «Чисел», — это не время нарратива. Оно
не рассказывает никакой истории и не соотносится ни с каким
фактом, который может быть представлен, хотя и кажется, что
«повествование» имитирует факты. Его употребление в «Числах» не имеет аналогов ни в драме, ни в романе. Если любое время
есть время повествования, то псевдовремя не является временем:
оно уходит из повествования вместе с его модальностями в пре-
зенсе, аористе и футуруме. Псевдовремя ни о чем не повествует:
постепенно ускользая от концепта незаконченного прошедшего,
присущего имперфекту в современном французском языке,
псевдовремя — по примеру перфекта в санскритских текстах,
«теряет свою экспрессивную силу и ограничивается указанием на
то, что факт находится в прошлом, но так, что в настоящий момент можно воссоздать его целостный образ»1. Эту ремарку
можно было бы прочитать так: поскольку вопрос не о факте, пространство, где разворачивается формирование-текста-предшест-
вующего-Смыслу, улавливается как бы одним жестом, который,
не заключая его в закрытое Целое, воспринимает его как бесконечность, дифференциально объединенную с темпоральным рядом.
Наречия «comme»[«как»]и «cependant»[«междутем»]открывают доступ к псевдовремени, в смысле длительности («-pendant»
[«в течение»]), которая сопровождает и дублирует в другом месте
нечто осуществляемое здесь, где я «есмь», и противопоставляет
себя этому познанному и известному «здесь», поскольку отличается от него, отрицает и реверсирует его ( «c^-pendant » букв.
«это-в течение»).
(1.29) «Между тем я вновь обретал свое изувеченное тело и
можно было сказать, что плоть была перепахана, а половой орган
пришит и вздернут вверх, словно отвердевший и закрывшийся колос, и я рассматривал эту первую модель, предшествующую падению, запертый в тесной клетке, куда проникало солнце [...] Не только это, но и все множество, в коем я пребывал, в котором я буду, не
зная, что я есмь в действительности, точно так, как сейчас, когда «я
1 Renou L. La valeur du parfait dans les hymnes védiques. P., 1925. Автор отмечает,
что перфект оставлялся за богами, за основными этапами повествования, за маркированием общего, торжественного; а также в мистических гимнах для выражения парадоксов, например сыновья, порождающие матерей, и загадок.
245
есмь» не значит ничего определенного... Множество, долгое безоглядное накапливание, груз того, что построено, что приводит в
движение, изготовляет, передает, перевозит, трансформирует, разрушает... [...] Я все более утопал в этой непрозрачной вуали, и в общем я знал, почему мы «плясали на вулкане», вот фраза, которую я
неторопливо искал, вот что давало меру времени и разрушало ее...»
Помещенный в эпизоды, подчиненные отсутствующему главному предложению, окруженный скоплением переходных или
безобъектных глаголов, имперфект принимает роль именных
фраз, которые мы отметили выше, и с которыми он, между прочим, созвучен1. Он вращается вокруг «я», или вокруг третьего
лица, но это «я» есть нечто значительно большее, чем «я есмь»;
это множественное, дисперсное «я», «рассыпанное как щебень»,
противоречивое, объединение которого ведет к разрушению времени ( «здесь, где можно одновременно говорить, что солнце сияет и что кто-то испражняется... вот что давало и уничтожало
меру времени»). Соответственно это умноженное «я», противопоставленное неделимому индивиду, отделенное от него, словно
стеной. Не уточняя времени и места действия, такой имперфект
«я», вне игры, вне времени и псевдовремени, указывает на него
как на нелокализуемое и вневременное2.
Как узловое место текста, «узел сопротивления» (1.13), который делает текст возможным, имперфект позволяет времени выходить наружу сквозь материю, которая порождается в глубине:
«Итак, время проходило и катилось надо мной, на поверхности,
тогда как в колодце или шахте я постепенно приближался к своей собственной скрытой форме...». Дифференцированная материя, исчисляющее не есть время: «Время так же чуждо самому
числу, как лошади и люди отличны от чисел, их исчисляющих, и
как они различны между собой». Это доступ — сквозь стену темпорального смысла — к вневременному источнику его продуцирования:
«(4) (но поскольку есть этот разрыв, это бесконечно присутствующее и происходящее отступление, поскольку линии разбегаются и уходят вглубь, прежде чем вновь появиться на неподвижной поверхности, где вы их видите, имперфект придает им
движение и неуловимый двойной фон...)».
1 «Особый характер окончаний перфекта отмечался индийскими грамматиками:
тогда как другие глагольные окончания объединяются общим термином särvadhätuka,
окончания перфекта (и предикатива) называются ardhadhätuka, так же как ряд именных суффиксов; см.: Pän. III, 4 IIV, 115. О возможном именном происхождении окончаний перфекта см.: Hirt, Der indogerm. Vokalismus. P. 223» (Renou L. Op. cit.).
2 В одной из сутр Панини говорится: «Какова природа того, что называется
parokça? Одни говорят: то, что произошло сто лет назад, есть parokça; другие говорят:
то, что произошло тысячу лет назад, есть parokça; третьи говорят: то, что отделено стеной, есть parokça; четвертые говорят: это то, что произошло два-три дня тому назад».
Порождение формулы
Юлия Кристева ЩЩ Семиотика: Исследования по семанализу
246
Вот почему текст, который создает переход от порождения к
формуле, от другого языка к моему, заключен между «имперфектом и здесь» (3.87) — между бесконечной вневременностью и точкой настоящего. Вот почему текст, обращаясь к «вы», отвлекает
вас от вашего поверхностного видения и подводит вас к краю той
границы, где имперфект появляется из своей основы — из псевдовремени.
«(4.84) (подобным же образом, не присутствуя и не отсутствуя, вы составляете часть замедления, поворота, временной границы между имперфектом и его основой, а целое опускается и
поднимается вместе с вами, благодаря чему круг обзора разрушается и заменяется новым полем...)».
«Время», совпадающее с этим разрозненным «я», есть не что
иное, как работа по его раассеянию: (3.31) «И я уверен, что время
воистину говорило моими устами, что оно было завязано узлом в
моих костях, и ничто не могло заставить меня забыть об этом...»
Множественное, но сконденсированное в одной вспышке, такое псевдовремя, сходно также с дифференциалом. Бесконечное
и мгновенное, всегда и никогда, — это «время» и прерывности-
отсылки, и числа-прерывности, скачка, интервала, в котором
происходит улавливание означивания, разрывающего и сжигающего непрозрачный покров наличного смысла (3.95). «Момент —
это секущий меч»; (2.30) «мы чувствовали, как приближаемся к
неизведанной области времени...»; (4.20) «шок от времени во времени», чтобы оказаться в псевдовремени.
Представленный в трех первых эпизодах имперфект двойного
фона выходит на настоящее время глагола в четвертом эпизоде в
скобках. Временной порог переступается, и презенс говорит о том,
что находится здесь, что актуально, действенно, ритуально, что может быть описано, рассказано, сообщено. Отсутствующий в процессе порождения, заключенный им в скобки эпизод, представленный в настоящем времени, — место, где приобретает смысл то, что
происходит на этой сцене. Текст, который невозможен без настоящего времени, нуждающийся в нем, чтобы заключить его в скобки и развиваться помимо его движения, требующий его в качестве
фронтальной ячейки и движущей силы, помогающий разомкнуть
цепь вневременности, выходит из псевдовремени на путь настоящего. Впрочем, именно благодаря этому движению означивание оказывается понимаемым, принадлежащим к «сказанному». Становится ли этот переход темпоральной матрицей акта означивания?
У Арто можно заметить то же деление темпоральности на четыре такта (четыре «шока от времени во времени»): 1. «слишком
рано»; 2. «раньше»; 3. «позже»; 4. «слишком поздно». Будучи расшифрованным с точки зрения линии времени, точнее, настоящего,
«позже» предшествует «слишком рано» и «раньше», т. е. оно до¬
247
стижимо прежде них. В самом деле, в ходе процесса «позже может
появиться вновь, только если раньше поглотило слишком рано».
Однако если процесс восхождения к фону формирования значения обобщается, то он может включить в себя и точку «слишком
поздно» (=настоящее), опуская ее смысл («всегда здесь»), чтобы
использовать для актуализации всех предыдущих этапов. Это разделение вневременности на четыре времени может быть обозначено понятием всегда, занимающим место нуля на линии времени.
Таким образом:
великая тайна индийской культуры
состоит в том, чтобы свести мир к нулю
ВСЕГДА
Но скорее
1) слишком поздно, чем раньше;
2) это значит
раньше;
а не слишком рано;
3) это значит, что позже может появиться вновь;
только если раньше поглотило
слишком рано;
4) это значит, что во времени позже есть
то, что предшествует
и слишком рано;
и раньше;
5) и как бы ни торопилось раньше;
слишком поздно;
которое не произносит ни слова;
всегда здесь;
оно точка за точкой
извлекает
все раньше.
«Красное [бунтарское] повествование»
как сфрагистика. Скачок, вертикальность,
двойная функция
Это он, стоя в срединном пространстве, словно
метром измерил солнцем землю от края и до края.
Ригведа
Если в чьей-то душе воск глубок, обилен, податлив и достаточно размят, то проникающее сюда через
ощущения отпечатывается в этом, как говорил Гомер,
сердце души, а «сердце» (ceas) у Гомера звучит почти
так же, как воск (ceres), и возникающие у таких людей
знаки бывают чистыми, довольно глубокими и тем самым долговечными. Как раз эти люди лучше всего под¬
Порождение формулы
Юлия Кристева «Щй Семиотика: Исследования по семанализу
248
даются обучению и у них же наилучшая память, они не
смешивают знаки ощущений и всегда имеют истинное
мнение. Ведь отпечатки их четки, свободно расположены, и они быстро распределяют их соответственно
существующему (так это называют), и этих людей зовут мудрецами. Или тебе это не по душе?
Платон, Теэтет, 194
Процесс формирования, «предшествующий» сигнификации,
который мы улавливаем в том, что в нашей культуре называется
«формальной» организацией текста, чтобы стать видимым, находит для себя означаемое, которое мы прочитываем как повествование, обозначающее то, что может быть означено. Выполнение
исчисления не появится перед нами, не заявит о себе без подражания наррации, т. е. это невозможно без повествования, инкорпорируемого в него и его же изнутри вытравляющего, разрушающего его нарративные законы и сводящего его к повисшим в пустоте фрагментам. Если бы оно совершалось вне материи языка,
т. е. вне знака, дискурса, повествования (даже раздробленного),
то оно оставалось бы в рамках нашей цивилизации метафизическим экспериментом, ограниченным нарциссизмом обожествленного трансцендентного «я». Напротив, находящееся совсем рядом со своим иным, чем для него является повествование, и даже
дублирующее его, продуцирование означивания реализуется, открывая выход к тому, чем повествование не является (см. Roussel,
La doublure). Текст никогда не покидает этой двойственной позиции, но постоянно движется по месту разрыва, разделяющего два
пространства, — порождения и феномена, — акцентируя скачок,
вертикальную нить, которая их разделяет и объединяет. Наверное, можно сказать, что вся «тайна» поэтического («сакрального») находится в этом скачке, который вызывает порождение текста, чтобы обратиться в формулу. Мы же, читатели, совершаем
этот скачок в обратном направлении, пытаясь найти за формулой
ее порождение, осмысливая такое чтение наоборот в терминах
медиации. Именно при «медиации» мы используем риторику в
функции упрочить логику, сдвинутую с места «скачком». Матрица «скачка», «интервала», «разрыва» репрезентируется и доводится до пароксизма (который кажется парадоксом) опасным
появлением в недрах антирепрезентативного исчисляющего явного противника — социального, исторического, политического
начал. Возникает «красное [бунтарское] повествование» — повествование политическое, где скрытое исчисляющее оказывается граничащим с революционной теорией. Таким образом, «красное [бунтарское] повествование» есть закон текста, настоятельная необходимость, которой уступает сама логика исчисляющего,
если оно до конца послушно внутренним законам текста. Именно
с этого места — с момента прыжка в «красное повествование» —
249
человек перестает мыслиться в своей замкнутости, проявляется
продуцирование, которое побеждает формулу, театр трансформации, борьбы, подъема масс и пробуждения Востока устраняет
зеркало, в котором общество видит себя идентичным самому себе
и, следовательно, навсегда застывшим. Именно благодаря этому
скачку история может заставить говорить о себе не как о движении в неопределенном направлении, но как об уложенных слоями
блоках: исходя из текстовой практики, «монументальная история» впервые становится доступной осмыслению.
Столкнувшись с формулами, проецируемыми и как бы инжектированными порождением, читатель приглашается сделать скачок в обратном направлении — от повествования к бесконечности исчисляющего, от репрезентации к трансформации, от утраты к приобретению. Без медиации мы оказываемся вовлеченными
в переход из зоны репрезентации в зону, где зеркало утрачивает
силу.
Таким образом, в любом тексте предлагается эпистемологическая проблема, и в «Числах» она эксплицирована: будет принят
или нет интервал, т. е. будет принято или нет продуцирование любого знака (дискурса, репрезентации, знания) как нередуцируемо
отличное от продукта (скачок, разрыв, пробел): «трудно принять
этот интервал, этот нетронутый пробел...», «(4.56) Все, что вы
сказали, подумали, сыграли, испытали или вообразили, сводится теперь к интервалу, к рубежу, и воздух как бы распахивается
вместе с вами, за вашей грудью, за вашей тенью, а кругом рассеянная повсюду невесомая бесконечность — “в открытом интервале каждая из его точек соседствует друг с другом” — исчисление
же на самом деле происходит где-то вдалеке, а вы присутствуете
там в качестве двойной пунктуации, в то время как точность механизмов, подвешенных в пустоте, позволяет наблюдать за текущим процессом...»
Текстовая деятельность определяется как «двойная пунктуация», поскольку, столкнувшись одновременно с генотекстом и
фенотекстом, читатель прочитывает «Числа» как ротацию гетерогенных элементов — дифференциалов и знаков, которые пересекаются друг с другом и мешают прочертиться непрерывной линии, не позволяют образоваться знакомому экрану проекции, а
разбивают его и интегрируют в пунктирную линию, в пробелы интервала, отделяющего фенотекст от порождения:
«(4.56) Существует ротация, которая не может быть одновременно ротацией всего множества и вашей, способом проложить
дорогу через знакомые и заученные имена, сдержать поток, опрокинуть и расчленить то, что наличествует, выставляет себя напоказ, аннулируется и забывается. Пустота —> искра —» точка —»
звук—> сияние—» семя... Это может быть записано так: |—I |—11—I
Порождение формулы
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
250
I—I; в этом скандировании вы одновременно линия и отсутствие — »
Если всякое повествование представляет собой линеарность,
т. е. систему, формализуемую средствами пропозициональной
логики, и как таковое устанавливает риторический закон, предполагающий запрет, который нельзя переступить, то текст нуждается в этой линии, чтобы оттолкнуться от нее; соскользнуть в
нее, следовать ее движению, поглотить ее и неожиданно принять
«вертикальное направление», где развернуться во множество
других.
«(3.35) Было преимущество в наложении запрета на повествование, можно скользнуть под него — под его линию — следовать
одновременно по двум направлениям и с легкостью повернуть обратно, на путь, где ничто не тронуто и не помечено...»
Следовательно, именно вертикальность, добавленная к лине-
арности, создает образ процесса порождения, который раскрывается через повествование и вне него: «Эта вертикальность без
места, скользящая по всем направлениям...» (4.92).
«(4.84) ...Именно так кажется, что атом “я” поднимается,
опускается и вновь поднимается внутри вас как вертикаль, не
одиночный след, узел, материальный двойник, предваряющий
скачок...»
Вертикаль дает возможность появиться формуле, фенотек-
сту, который апеллирует к «вы». Иными словами, в ходе того же
движения, что продуцирует формулу, порождается «вы», а порождающая деятельность дважды объективируется посредством
раздвоения «репрезентамена»: на «вы» читателя (адресата) и на
формулу — осадка (повествования), следа на странице.
«(4.80) Ростки, семена в бессчетном количестве, сумма которых достигает глубины, где слово "вы” и мысль “вы” пролагают
себе путь через случайность (до вас)...»
Итак, «повествование» и «вы», будучи не только составной
частью коммуникационного пути, но и «двойной пунктуацией» и
в качестве таковых причастные к «вертикальной черте», «колонне», соответственно не могут быть просто «сообщениями» «адресату». Конечно, «вы» — это тот, кому адресован текст, но также и тот, кого текст вытравляет, исходя из которого текст строит
себя, разрушая его, кто присутствует — т. е. включен в текст, —
чтобы быть разрушенным. Поскольку «вы» не является конечной
целью коммуникации, оно становится барьером, разрушение которого открывает путь вертикальному скачку к работе означивания. Идентичность «Вы» исчезает, поток лиц и языков затопляет
его и расчищает поле, где продуцируется означивание. «Вы» —
единица, которая больше не узнает мира собственного языка, отныне движение этого «вы» происходит за пределами «нетороп¬
ливых и дискретных» знаков. Одним словом, это «вы», которое
не обязано мыслить себя как «вы», т. е. как место-имение, занимающее позицию слушания, рассуждения или понимания, не
должно репрезентировать себя как точку или круг (в топологии
Гегеля наука есть «круг кругов»), но как путь, проход, канал, которые вертикально поднимаются вне линии обмена (повествова-
ние-осадок — это «сумма», «подсчет»), которые прокладываются, чтобы освободить место между видеть («горизонт и вы») и
знать («горизонт позади вас»).
«(4.84) Таким образом, между горизонтом и вами и горизонтом позади вас образуется проход, путь, и происходит это по
той причине, что линия теперь не замыкается ни в точке, ни в
круге (“наука есть круг кругов”) и не сливается более со своим
воспроизведением, две линии остаются параллельными, всегда
параллельными, формула, которая сама есть линия, исчезает в
линии, и тогда этот поток холодной мысли, холодной воздушной
пустоты представляется вам грехом, насилием... Прямо перед
пробелом, на вулканическом и спокойном краю пробела, почвы...»
В этих «параллельных линиях» прочитывается схема аналогий разделения между «Теми же», которые существенно «Другие», и «Другими», которые существенно «Те же» (повествование, его порождение). Порождение и формула развиваются параллельно, они аналогичны, но раздельны, их невозможно свести
друг к другу, чтобы заполнить разделяющую их пустоту. При таких рассуждениях можно было бы дойти до идеи Божественного
Слова, если бы эти параллели не соединялись в квадрат, исключающий любой внешний теологический центр. Именно квадрат, как
мы увидим, становится тем рычагом, действие которого трансформирует порождение в формулу, бесконечность — в знак, выполняя в отношениях между ними двойную функцию оборачивания и комбинирования, которая в «Числах» названа «вертикальным скачком».
Эта вертикальность, противостоящая направленности ее высказывания, не имеет ни начала, ни конца: она не ведет «к» и не
исходит «из», но, вверяя себя «простому множеству», она становится действенной плюральностью. Она не является закрытой, не
редуцируется ни к кругу, ни к его гегелевскому диалектическому
преобразованию в спираль. Это «экспансия, где нет ничего, что
можно потерять или прервать» (4.96).
Таким образом, новая топология символической деятельности конституируется тем текстом, который осмысляет ее законы.
Пронизывая пространство понимающего субъекта («вы») и его
направленности (его рассуждений), разрушая репрезентацию
темпоральности и означаемого, именно продуцирование (без
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
252
продукта) устанавливается как экспансия среды означивания, результаты которой (субъект, смысл, время) необходимо переосмыслить в качестве побочных продуктов формообразующего
означивания и в то же время поводов для него.
Когда предпринимаются попытки осмыслить процесс порождения, речь идет о топологии не центра, но движущей силы, которая, находясь по ту сторону зеркала репрезентации, отсылает
следствия на место причин и наоборот, перестраивает структуру
(повествование, знак) и помещает в нее процесс порождения, который ее пронизывает и охватывает. К этой движущей силе, посредством которой внутреннее и внешнее поочередно соединяются в поглощении то порождения феноменом, то феномена порождением, близки мифы мирового дерева, опоры мира, иногда
барабана, горы, космической оси. Это ритуальный столб, осмысляемый как опора космоса. Начинаясь в небе, столб представляет
собой вертикаль, к которой привязывают животное, жертвоприношение которого вызывает скачок к тому, что нельзя ни представить, ни понять как феномен, — к «сотворению мира»1. «Сотворение», которое за пределами христианства мыслится как зарождение, формула которого не имеет ничего общего с гермом.
Будучи местом дезинтеграции «тела», столб становится также местом, где мыслимо продуцирование бесконечной плюральное™. Корпус дезинтегрируется, если его начинают рассматривать как результат дискурса, как побочный продукт, зарождение
которого следует попытаться выяснить.
Как место принесения в жертву «данности», столб представляет собой фигуру такого познания, которое не ограничивается поверхностью феномена, но занимается поиском гермов, которые,
чтобы присутствовать, не должны порождать его. Такое познание
не ищет причину следствия, но вне этих категорий избегает попыток убрать интервал, отделяющий реальность от улавливающего
ее означивания. С материалистической позиции такое познание
полагает их как раздельные и нередуцируемые друг к другу и находит свое место в вертикали, которая объединяет и противопоставляет их. Именно такой эффект знания продуцирует текст —
жертвенный столб, где умирает тело и пол (и, следовательно,
Единственное Означающее), чтобы освободить место для множественной бесконечности, из которой прорастает слово:
«(3.71) Так я становился органом тела, не имеющего пока возможности существовать и утверждать себя, тела без тела, затерянного в теле случайности, в безмятежной мощи, связанной, однако,
1 Kappers W. Pferdeopfer und Pferdekult der Indogermanen // Wiener Beiträge zur
Kulturgeschichte und Linguistik, Jg. IV k, 1936, S. 320-329; Eliade M. Schamanism und
archaische Extasetechnik, 2.249 sq s. 2011 sq. В «Ригведе» Агни творит мир посредством
жертвоприношения.
253
с мощью, что протекает ручьем под случайностью, напряженным
мускулом, призываемым гибкой направленной скоростью...»
В качестве посредника (кстати, это название одного малоизвестного текста Соллерса), текст приглашает «вы» занять место
космического дерева, медиации в зазоре между феноменом и его
продуцированием. Если дерево передает образ посредника, то это,
скорее, дерево перевернутое и без основы, поскольку его база —
исходная точка для «вы» — это крона (формула), тогда как то, что
питает его сверху, есть корень, который не находит никакой почвы, чтобы закрепиться: он нигде. Открытый к бесконечности, этот
ритуальный столб с его «тысячью побегов» («Ригведа», IX, 5.10)
символизирует безграничную плюральность означивания. Это
место напряжения, разрываемое своей двойной функцией быть
здесь и нигде («между имперфектом и здесь»), в настоящем времени и всегда или никогда. В качестве медианного пространства, которое охватывает и подпирает точку и бесконечность, эта колонна
является местом чисел и иероглифов, перед тем как стать местом
текста (колонки древнееврейских чисел, колонки египетских идеограмм, колоннады греческих храмов, вертикальная запись иероглифов). Очевидно, картезианский субъект не смог бы сюда вписаться: по отношению к пространству колонны он всего лишь крона дерева, гермы которого следует найти. Единственная функция
может заполнить этот столб-посредник, напряженная, умерщвляющая, поскольку витальная, и потому фаллическая. Это функция,
действенная сила, резерв для удовольствия: секс, подспудная борьба классов, — все, что превосходит поверхность знака.
«3.36. Но эта мысль не обнаруживается: она появляется в целом, где, однако, будущее удерживается подобно потоку, нагруженному и оформленному в колонки слов, и как раз в том знаке,
что оказывается избыточным: — J§j» — здесь приведена идеограмма слова “пенис”, ибо у китайцев нет мифологического эквивалента “фаллоса”».
В мифе именно на долю божества с необходимостью выпадает
эта фаллическая функция исчисляющего посредника между отвердевшим и бесконечным, символизирующим таким образом акт
означивания. Послушаем, что сказано в «Ригведе»: Варуна представляется «стоящим в срединном пространстве, это он, словно
метром, измерил солнцем землю от края и до края»1. К Индре обращаются так: «Когда по ту сторону земной тверди ты силой своей укрепил воздушное пространство на небесных колоннах»2.
Именно текст выполняет эту посредническую функцию в той
мере, в какой она является конститутивной для акта, порождаю¬
1 Renou L. Études védiques et paninéennes. T.V. P.: E. de Boccard, ed., 1959. P. 69.
2 Renou L. Études sur le vocabulaire du Rgveda. Série 1. Pondichérie, 1958 (Publications de l’Institut français d’indologie. N5).
Порождение формулы
Юлия Кристева «Ш» Семиотика: Исследования по семанализу
254
щего означивание. Именно в тексте осуществляется «этот разрыв,
который можно преодолеть только скачком» (1.9), переход от репрезентации к тому, что она не предполагает, от зеркальной поверхности к отсутствию поверхности; следовательно, к оси, где «я»
растекается, а то, что предстает в видимой форме, своими корнями
уходит в бесконечность. Как выход из репрезентации, которую он
имитирует, «детонация и разлом» в самой сердцевине дискурса,
текст — это пари по поводу возможности заставить говорить то,
что заставляет говорить, — означить непредставимое.
«(2.22) И я вспоминал, как мы, одни и другие, были захвачены
алфавитом, после чего мы пошли дальше... Теперь мне предстояло ухватить, направить непредставимые события, которые, однако, невозможно было игнорировать, отрицать...»
Текст становится тире между бесконечностью, из которой появляются сновидения, и речью-знаком; пробуждением, которое
осмысляет наступающий день через то, что привиделось ночью;
это новая ось — подзорная труба, дерево, корень, — единственная возможность принять очевидность как продукт, т. е. осмыслить как закон продуцирования, и следовательно, непревосходи-
мое; возможность, которая называется «целостная возможность
воспоминать» (1.9), поисков утраченного не-времени, которое
кажется идущим из будущего — из грядущего, возможность «изгибать линии», ломать их на отдельные воспоминания. Иными
словами, текст — это такая работа над построением формулы,
которая не позволяет сцене настоящего держаться на расстоянии по отношению к «я», но возвращает это «я» к себе как к оси,
жертвенному столбу:
«(4) Эта колонна никак не позволяет вам удаляться, она бодрствует, когда вы спите, она проскальзывает и встает между вы и
вы...»
«Белый, бурлящий объем» (2.54), «этот новый, появившийся
здесь объем, переход за замкнутый свод» (3.55), порождение
формул и их оборачивание, медиатор между псевдовременем,
предполагаемым имперфектом, и точечным настоящим речи,
текст оказывается осевой движущей силой бесконечности по отношению к месту, псевдовременем по отношению к настоящему,
пространством по отношению к точке: еще раз напомним формулу «от имперфекта к здесь», в которой категории времени и пространства пригоняются друг к другу, чтобы более четко маркировать эту двойную осевую функции текстовой деятельности:
«(3.87) ...захваченный между имперфектом и здесь, как между историей и ее зовом, между западом и востоком, между умереть и не умирать, между тем, что живет, и тем, что говорится...
Затем привести к тому, чтобы уловить запись времен и сил, порождение формулировок и отрицаний, пустоту и ее воздействие,
255
огромную, но записанную строчными буквами пьесу, играющую
своими фигурами и цитатами, замещающую целую эпоху или целый народ, предающийся воспоминаниям, в конце концов предначертанию будущего...»
Этого объемного «субъекта», помещенного у подножия
жертвенного столба, опору бесконечных означающих, не следует
путать с хайдеггеровской субъектностью как основой всего сущего. Исчисляющий «субъект» — это не формант, не донатор
смысла, не представитель конечного картезианского человека,
становление-присутствие бытия. Он — отпечаток бесконечности,
которую не репрезентирует, но оставляет оттиск на ней, дифференцируя ее и дифференцируясь от нее. Вертикальный скачок, о
котором идет речь в «Числах», «повествует» об операции, выделяющей место для субъекта с такой печатью, и можно сказать, что
текст, имитируя ухищрения этого «субъекта», есть сфрагистика.
Скачок порождает отпечаток, который следует читать как «красное повествование». Впрочем, у этого отпечатка имеется и контротпечаток,, т. е. удвоение посредством знакового повествования
того оттиска дифференциалов, который вызывает скачок1. Он
противодействует любой репрезентации, всегда представляющей
субъекта или субъектность. Ибо такое «я» не является даже
хайдеггеровским типом, т. е. присутствием человеческого типа,
придающего форму смыслу; это — печать-тйлос;2, оно отмечает
пункт означивания как внутренне-внешний по отношению к нему,
достигаемый скачком. Это точечное «я» разрушает преимущественный способ видения (i5sïv) и впервые помещает акт означивания вне субъекта, который его конституирует и в нем конституируется. Иными словами, исчисляющее «я» затушевывает дихотомии смысл/выражение, быть/бытие, идея/форма, где роль черты
принимает на себя субъектность. Subjectum ставится на место не
1 Сфрагистика (франц. sigillographie от лат. sigillum «печать» и греч. graphein
«описывать») — отрасль археологии и дипломатии, объектом изучения которой
являются печати. Печатью называется воспроизведение на воске или металле матрицы или штампа, которым подтверждается подлинность публичного или частного
акта, исходящего от государства, светского или церковного учреждения или частного лица. Печать используется с глубокой древности; ее корни обнаруживаются
на Востоке, сохранились ассирийские, халдейские, египетские, греческие печати,
их использование обнаружено в Китае и Индии. Такие клейма или печати первоначально имели, а нередко имеют и сейчас форму кольца-колибра, перстня (лат.
annuli, signa), на которых нанесены имя владельца, изображение — князя, например, или эмблема. В отношении того, что мы назвали означивающим дифференциалом, полезно напомнить, что лат. sigillum является уменьшительной формой
слова signum «знак».
2 Платон (Теэтет, 192-194) говорит об отпечатках на воске (keros = воск, ker
у Гомера — это сердце, вместилище чувств, отваги, страстей) как о репрезентанте
фундаментальной процедуры функционирования означивания (восприятие, распознавание и т. д.), но, по-видимому, не усматривает в них придание формы, как это часто интерпретировалось и как предполагает Хайдеггер.
Порождение формулы
Юлия Кристева ЩШп Семиотика: Исследования по семанализу
256
детерминанты смысла, но понимающего объекта, выпадающего
из этого порождения.
Если в любой момент истории познания, ключевой вопрос для
материалистической позиции заключается в признании первичности материи по отношению к духу, то сегодня борьба между
материализмом и идеализмом ведется в основном вокруг следующего положения: признавать (материалистический жест) или не
признавать (идеалистический жест) означивание (которое представляет собой не смысл речи, а его зарождение) как вне субъектное. Сегодня означивание приписывается лишь субъекту теоретического дискурса, и трудно себе представить, как может быть
иначе: пустая, безымянная клетка среди интегральных объектов,
выделенных в «Числах». Однако можно сказать, что радикальность проблемы, как ее следует ставить, заключается как раз в
том, что эту клетку можно представить, задать только как точку
падения. Текст представляет собой пространство, где продуцируется такой тип означивания, и именно так он выполняет подрывную работу в субъектной культуре.
Таким образом, мы сталкиваемся с затруднением — и парадоксом — той топологии, которая задается текстом: одновременно быть деятельностью и ее формулой, прочитывать в формуле
деятельность и совершать работу лишь для построения формулы,
постулируя фундаментальную несовместимость порождения и
феномена, акцентируя дистанцию между ними: текст предполагает невозможность понимания.
«(4.72)... — и это никогда не доходит до повествования или до
слов, и вы теперь понимаете двойственность этой функции — »
Однако требуется повествование, чтобы продемонстрировать
то, что до него никогда не доходит; повествование, которое несет
в себе продуцирующую деятельность, подобную бураву, вокруг
которого конституируется повествование; его стержень может
установиться, лишь ввинчиваясь в непрозрачную поверхность повествования, которое ни о чем не повествует (остается пустым), в
силу того, что дифференцирует бесконечность:
«(4.40) Однако здесь повествование продолжается, и оно подобно полой колонне, последовательности пустых кадров, задуманных с целью оказания подспудной помощи врагу, чтобы нанести вам более незаметный и более вредоносный удар, с тем чтобы лишить вас возможности пользоваться произведенным вами,
лишить вас власти над вашим же дискурсом, предназначенным
для того, чтобы все замаскировать, все расположить в виде четких и упорядоченных формул...»
«Красное повествование» состоит в маркировании знаками
того, в чем, кажется, они не отдают себе отчета: разрыв с деятельностью, которая их продуцирует:
257
«(3.71) — несмотря ни на что, пытаясь записать скачок, разрыв, упорно продолжать вести запись, словно мы перешли на ту
сторону...»
«Красное повествование» состоит в упорном стремлении формулировать законы того, что остается вне формулы: ее прорастание от прошедшего к будущему, минуя настоящее и вопреки ему:
«(2.86) ...несмотря ни на что, продолжая следовать законам
функционирования, возвещающего о себе, о своей подвижности,
хрупкости...»
«Красное повествование » состоит в уловлении материи языка
за пределами того, что он может представить в линейной последовательности, чтобы подчинить его законы тому, что он не может репрезентировать: порождению и трансформации означивания:
«(2.73) ...принимая последовательность, таблицу, конъюнкцию, предложение, дополнение, сказуемое, подлежащее...»
Театр. Четверичная матрица
Даже если Прямоугольник имел бы место, не было бы никакого производства мудрости, совечной этому производству,
его продукты всегда меняются. Необходимое производство не
должно подвергаться изменению.
Лейбниц. Письмо к Бурге от 3 апреля 1716 г.
Осевая топология, регулирующая текст, вызывает сложную
драматургию, которая плюрализует то, что для феномена и репрезентации является субъектом, распределяет его инстанции в
шахматном порядке и таким образом разыгрывает все, что осевая
диспозиция подразумевает под «я». Топология текста театральна: она устанавливает сцену, где «я» разыгрывается, умножается,
становится актером и апеллирует в этом действии к зрителю, понимаемому и действующему в качестве одной из непривилегированных фигур сценографии.
Пронзенное осью и как бы отраженное ею и в ней, «я» как
единица перестает быть единством, раздвоенным на «тело» и
«язык»/«смысл», и становится телесным означиванием, точнее,
означивающим телом, объединяющимися и расходящимися в одном и том же движении. Иными словами, устраняется дихотомия
душа/тело, которая допускает ограничение в отношении проявлений тела как безграничного и недостижимого объекта. Потому
что работа текста — эта ось — организует «материальное» и «духовное», «реальное» и «его смысл» в единую напряженность
порождения. Но одновременно работа текста — этот жертвенный столб — губит тело и любую «инкарнацию», чтобы вновь обрести то, отсутствие чего позволяет говорить о «теле», — удоволь¬
Порождение формулы
Юлия Кристева Щр Семиотика: Исследования по семанализу
258
ствие. Таким образом, как не тело и не смысл, но как тело и смысл
одновременно, без временного разрыва, «я» обращается в бесконечность, силой вращения на оси зарождение/формула, чтобы
увидеть процесс собственной деятельности. Представленное в
тексте «я» — ни внешнее, ни глубинное — не имеет ничего общего
с клинической причастностью телесности к языку. Повторим еще
раз: для такого «я» эти категории не существуют, поскольку для
него есть лишь одно возможное место — у жертвенного столба —
оси, стирающего в порошок любое тело, которое может представить себе нарциссический и метафизический субъект при запуске
текстовой деятельности, по отношению к которой тело представляет собой побочный продукт.
Напротив, текстовая деятельность составляет основу того удовольствия, которое в принципе достижимо лишь в сексуальном
акте, и, впрочем, именно ему все тексты — мифы, священные гимны, «поэзия» — хранили верность в своих отзвуках. Действительно, именно в удовольствии тело, в силу присутствия здесь, перестает быть, чтобы уступить место полому стволу, который делает «я»
открытым посредством осевого раздвоения. Именно в удовольствии реализуется это осевое разделение на две составляющие, которые соприсутствуют, чтобы не встретиться в напряженности с
двойной ориентацией: разумеется, к «я», но прежде всего к «другому», к другому, кто задает — в анализе, каковым является удовольствие, — пределы феномену «я», и кто его превосходит, аннулирует, разлагает на части, обращает в бесконечность.
«(4.20) (таким образом, трудность проистекает из факта, что
целое составляют два тела в грубом одновременном акте, и одно
может соприкасаться с другим лишь внезапно, в горячей точке
проникновения, в “зените”...)»
Такой тип означивания, пробивая Единое Означающее «я»,
чтобы обнаружить двойственность, если удовольствие обеспечивает ей доказательство, «я» текста осуществляет постоянно:
(1.89) «взаимно продуцируя друг друга»; (1.22) «раздвоенная
жизнь раздвоенного существа». Однако речь идет не о раздвоении субъекта в поисках утраченного материнского тела, и это не
вопрос децентрирования. Напротив, имеется в виду такое двойное и удваивающее порождение-продуцирование, которое,
отливаясь в формулу, только и может помешать раздвоению
субъекта.
«(1.13) Никакого раздвоения, и все же я был по-прежнему
быстр, внимателен, активен, совпадая с каждым пробуждением...»
Трезвое и деятельное «я» продуцирует коррелят не для того,
чтобы разделиться, но чтобы умножить расщепление, начав раскачиваться, чтобы выйти из тела и его аксессуара — зеркала, чтобы перестать идентифицироваться, чтобы следовать своему за¬
рождению. Вот почему «она» — «другой» по отношению к «я» —
находится не по ту сторону, а здесь, полая ось, пронизывающая
«я», отличающая его от того, кто говорит «moi» [«мне»] без расщепления и подвергающая его выходу в бесконечность в качестве
смертоносного «дара».
«(1.21) ...И в целом, с одной стороны, нет меня и, с другой —
кого-то, чего-то, делающего предложение “я видел, как ее задержали ночью” ложным, несоразмерным... И, однако, истинным и
неизбежным, сведенным, начертанным в конце пути...»
«Я» — это не «другой», его проблематика не имеет отношения к психозу. Можно даже сказать, что «я» отъединено от психоза. Обнаружив возможность психоза, «я» отказывается видеть ее. Оно проходит мимо, забывает о себе как об «одном», о
том, кто хочет сказать, что не может больше считать себя «двумя», и становится бесконечно множественным текстом, — но
множественным не по отношению к одному, а по отношению к
множеству, — который не повествовует о функциональном
означающем, но от которого, наоборот, «мне» нужно «беспрестанно освобождаться, отсоединяться, отличать себя» (2.82) в
обобщенной комбинаторике: исчислении представленных формул. Любая встреча с «другим», не являющимся текстом, не
представляет интереса для порождения, а значит, и для «я», которое существует лишь ввиду этого порождения. Следовательно, «я» — это не личность, но и не субъектность, у него нет
определенного места, поскольку оно стало местоположением
бесконечности, ситуацией означивания или, точнее, дифференциалом; «я» нуждается в пульсирующей «она», в «ней»,
«постоянно искушаемой зеркалом» (3.79), т. е. спуском в преисподнюю субъектов, и функция исчисляющего «я» — извлекать
«ее» оттуда, чтобы извлечь и себя.
«(2.70) ...ия был вынужден упорно пробиваться до самых
внутренностей и извлекать ее из старой истории секса и страха,
из старой склонности к размножению и страху...»
Для этого «я»-местопребывания «она» не сможет «субъек-
тивизироваться», т. е. найти идентичность, связанную с социальной репрезентацией. «Она» выполняет функцию, укрепляющую репрезентацию продуктивной деструкции, которую осуществляет «я», но сама «она» не должна репрезентироваться,
т. е. не должна обращаться к собственному телу и в нем видеть
свою сигнальную идентичность или порождать из него идентифицируемый продукт. Если бы «она» могла это сделать, то
игра — удовольствие — текст оказались бы разрушенными, а
«она» осталась бы в кильватере «я» как след биографии, как
ободряющий репер, укрепляющий ее необратимость: «Забыть о
ее началах значит вернуться к ее началам», но не в функции той
Юлия Кристева шЩр Семиотика: Исследования по семанализу
260
танатографии1, каковой является текст. Таким образом, «она»
скрепляет печатью становление и является единицей, лишь не
меньшей, чем «я». «Она» есть функция «я», одна из клеточек в
его расчетах, связанных с построением колонны. «Она» есть то,
чем не является «я», будучи иным внутри множественного «я»,
и может описать себя как пол, принимающий роль противоположности. Не навязывая себя именно как женщина, она может
представлять себя как мать, сестра, сексуальный партнер при
условии, что она становится иностранным языком и/или прикосновением той смерти — той запредельности, которую «я»
видит в обращении в бесконечность. При условии, что в целом
«она» становится пространством, запрещающим присутствие
Единственного Смысла, ставит под сомнение происхождение,
идентичность и воспроизведение — т. е. «жизнь», — призывая
«я» найти свою противоположность, чтобы узнать себя в ней через скачок к «другому», обратиться в бесконечность без зеркала — без Бога — в иерогамическом театре вновь обретенной
множественности.
«(1.33) [...] но нужно было быть по крайней мере двоим, в данный момент, чтобы прикоснуться к этому... Нужно было каждому перейти по ту и другую сторону того, что не имеет ни стороны,
ни тени...»
«Она» — третье лицо, т. е. не-лицо, оппозиционная форма
женского рода — есть тот осевой двойник, которого «я» ищет в
себе самом, чтобы распространиться за счет такого радикального
раздвоения, составляющего сущность выхода за пределы Единственного Означающего. Итак, субъект как игра между «я» и
«она», драгоценность, объединяющая во множестве отблесков
несовместимые элементы «я» и «не-личность», маскулинность и
фемининность, разрушает таким образом собственную целостность, вводя не-личность другого пола в качестве пускового
механизма инфинитизации. Как означающее другого означающего субъект видит себя как субъекта, но посредством этой же
практики он получает доступ ко множеству означающих и, следовательно, освобождается от субъектной позиции. Такова фундаментальная функция этого невозможного осевого раздвоения,
жестокого и болезненного для всего того, что желает быть и
коммуницировать в состоянии бодрствования, но сохраняется в
бесконечной глубине означивания, куда рискует погрузиться
сновидение, не равняя себя с ней; Арто говорит об этом так:
«Ибо “одному” и “я” свойственно не разглядывать самих себя,
никогда, и действовать.
1 Соллерс Ф. Наука Лотреамона // Лотреамон. Песни Мальдорора. Стихотворения. Лотреамон после Лотреамона. М.: Ad Marginem, 1998.
“Двоим” всегда свойственно наблюдать за действием. Меня
приняли за двух, пока я спал. Два вообразило себя одним и даже
тремя, когда меня уже не было там ни в мыслях, ни в бытии, в бытии, но на земле я жил, не определив вершины. Двое всегда есть
эта вершина, определенное, чего жизнь никогда не могла вынести »*.
«Я» занимает место «она», уступая ей свое место, чтобы затем возвратиться в исходную ситуацию и переживать себя как
«двойную цифру» в бесконечности перевернутой «восьмерки» — оо; «я» достигает через «она» того, что по-другому для
него невозможно, — своего умерщвления, в котором «я» принимает участие в качестве свидетеля. «Она» переворачивает
удовольствие, которое «я» получает как зеркальное отражение
собственной смерти. Ее удовольствие от его смерти поддерживает репрезентацию его собственного удовольствия и дает ему
пользоваться такой, которая освобождает его от субъектности.
Таким образам, «она» не только не персонифицируема и не связана ни с какой психологической целостностью, но представляет собой функцию бесконечного порождения, зарождения без
родов — лишенная разума мать, «безумная мать». Это богиня-
мать древних религий, Путь в китайской философии, процесс
без начала и конца, где, однако, порождаются все реалии, скажем, мифический образ (повествование) исчисляющего как зарождения. Мы находим такую зачинающую, но не рождающую
мать в «Дао дэ цзин»: «Слово “Не-бытие” указывает на начало
неба и земли; слово “бытие” указывает на мать многих вещей (I).
В то время как у всех людей что-то есть (что они умеют делать),
только я один невежествен как крестьянин. Только я один отличаюсь от других людей, поскольку дорожу тем, что питаюсь от
Матери (XX). Когда известны дети /десять тысяч вещей/, если
снова обращаются к матери, то до конца жизни находятся вне
опасности (LII)». Следовательно, наличие у «я» матери —
«ее» — это первый выход за пределы единственности «я», первый акт, необходимый для его децентрирования, делающий «я»
«невеждой», который «ничего не умеет делать», и вводящий его
в топологию текста.
Как и у Данте, чью логику проанализировал Соллерс2, «женщина — это преодоление матери, материнского языка (главного
запрета) в движении по направлению к видению (в противоположность Эдипу), к тому огню, каковым является сущее. Именно
она ведет ко взгляду по другую сторону лица и повторяющихся
тел». Как и у Данте, она должна быть «мертвой», чтобы «я» могло обрести не-тождественность, допускающую его к комбинато¬
1 Artaud A. Histoire entre la Groume et Dieu // Fontaine. Dec. 1946 — Janv. 1947,
№ 57.
2 Sailers Ph. Dante et la traversée de l’écriture // Sailers Ph. Logiques...
Юлия Кристева Щ||| Семиотика: Исследования по семанализу
262
рике текста. «Я» может рассматривать «ее» только как дверь в
бесконечность означивания: ее смерть — это дверь в означивание.
Именно это прочитывает Соллерс в известных строках Данте:
«И тогда я утверждаю, что мой язык заговорил, двигаясь как бы
сам по себе, и он сказал: “Donne ch'avete intelletto d'amore”/
“О донны, вам, что смысл любви познали”*. Любовь, которая ничем не владеет и ничем не хочет владеть; ее единственная, но
бесконечная истина — предавать себя смерти». В этой любви
«она », подобно Беатриче, мертва и берет на себя роль означаемого, «контекст переходящий в разряд претекста и позволяющий
тексту казаться единственным выходом». «Лишь в той мере, в какой объект его желания не просто смертный, но обретающий
жизнь исключительно в процессе непрерывного умирания, светящаяся точка, все сильнее разгорающаяся во мраке, где она только
и может найти себе опору, идентичность этого объекта (несводимого, собственно, к позиции объекта, но становящегося другим субъектом, все более и более другим) задается как нечто
уничтожающее документальную засвидетельствованность социальной идентичности». «Числа» практикуют этот «ее» анонимный и смертный опыт, скандальный по причине неромантично-
сти; холодная, бесчеловечная, грязная и душевная, благодаря ей
Беатриче становится в один ряд с «Моей матерью» Батая. Ведь
«ее» обсценность в «Числах», как и у Батая, — это «функция наложения друг на друга уровней дискурса: описание, представляющееся предельно „низменным“, соседствует с самой „благородной“ идеей, верх и низ постоянно сообщаются друг с другом в
цепи означающих, пролегающей под словами»**, в невозможном, но неизбежном повествовании.
Вхождение в «нее» («Расселина долины не умирает» / «Дверь
темной самки») представляется в «Числах» как такой акт, в котором разворачивается «мгновенное приумножение, все более и
более обнажающаяся и изрезанная простота...» (1.85). Перемещаясь вместе по одной и той же траектории, «я»/«она» отыскивают то, чего не дает им разделение: «настоящую оргию воспоминаний сквозь даты и факты» — все забытое и подцензурное означивание, подобное, скажем, сексуальному акту — то, что в
повествовании подается в качестве такового, — совпадает с переходом через бесконечность означающих:
«(1.85) Я останавливался, я позволял развертываться тому,
что следует назвать нашим проходом среди элементов их чисел, я
позволял организму контролировать и распределять числа в ходе
* Цитируется по переводу А. Эфроса в кн.: Данте Алигьери. Новая жизнь. М.:
Художественная литература, 1985. С. 74. —Прим. пер. Sailers Ph. Le récit impossible //
Sailers Ph. Logiques...
** Там же.
263
счета и стирания, здесь, в физических и атмосферных колоннах...»
Смешиваются сценографии удовольствия и текста:
«(1.85) ...текст, остающийся и вибрирующий над ее кожей».
А также звучания:
«(1.85) ...звучание голоса — это кожа, модуляции — плоть,
дыхание — кость ».
Следовательно, «ею» может быть только то, что участвует в
движении, открывающем доступ к означиванию, дробящему слово через бессчетные падения на зеркало и тело («отбросы, экскременты, рвотные массы, сточные воды»):
«(1.9) словно она была всего лишь извержением ночи, вскрытой ножом в разгар послеполуденной поры... словно ожидая возможности выйти из другого тела, более решительно направиться
к тому, что ни на мгновение не отпускало ее тело, к тому, что мешало ей, не давало идти дальше, здесь, но также и снаружи...»
«(1.20) Она не подходила для слова, звуки «ор» или «иф» лучше обозначают ее в только что написанных мною фразах, это соприкосновение, которое может случиться лишь как отклоненное
и отсеченное, — отсеченное, как отсекают язык, как отсекают и
кладут в рот половой орган...»
История расчлененного «я» совершается «в ней, через нее,
вдали от нее, но в связи с ней, не в силах обойтись без нее, оторваться от ее тела». Удовольствие в результате этого вновь становится функциональным для «я», которое таким образом приближается к «закланию», к смерти.
«(1.45) ...итак, я находился в прогрессии членов, но то, что
возвращалось в нее, воссоздавалось, вздымалось и наслаждалось
в ней, значило менее, чем двойная цифра, вписанная в мои движущие силы...»
Провоцируя смерть «я», питаясь этим постоянным умиранием — или кастрацией, — «она» лишается оправдания на существование, если «я» оказывается окончательно добитым. «Ей»
нужна реитерация смерти, возможность постоянного умирания, а не окончательная остановка, в которой она могла бы обнаружить свой образ, свою идентичность и, таким образом собственную смерть. Игра в умирание, смерть как обозначение того
пространства, что открывается по ту сторону зеркала с двойным отрывом «я» от «я» через «нее», текст — это инсценировка
«жертвоприношения» субъекта.
«(1.49) Подобно тому как я стал словом для иного слова при
отслоении всплывающих слов, она не могла быть ничем иным,
кроме пола для другого пола в исчезновении отделенного пола,
которое заставляло ее считать, что один из двух полов был
мертв...»
Порождение формулы
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
264
Следовательно, смерть здесь означает, что открывается зарождение, страница дифференциалов — зерен, семян, где «я» и
«она» блуждают и вместе переходят в бесконечность вне-Бытия,
которая недоступна каждому из них в отдельности.
Это зачинающее умирание противоположно феноменальному рождению, объекту-фетишу как продукту слияния «я» и
«она» в тот момент, когда они могли бы застрять при переходе
через зеркало:
«(4.48) Тут вы начинаете понимать, что преследует роман,
зная свой окольный путь, теперь вы знаете, что такое отказ от
всякого рождения...»
Можно видеть, как в этом прозрачном цилиндре, где акт
скриптуальный — акт сексуальный — расчленяет «я», фундаментальный миф человечества, рождение (которое всегда есть
рождение «я») репродуцирования растворяется и классифицируется как согласие отказаться от работы — от продуцирования, чтобы овладеть продуктом, наложить ограничения на зарождение чтобы обладать отбросами и капитализировать экскременты.
«(2.38) ...я возник как проводник их поражения, как доказательство того, что их жесты не достигли цели, что их слова были
искажены, что само их наслаждение было извращено, заблокировано, аннулировано...»
Однако топология двойственности усложняется, поскольку,
кроме осевого удвоения, постулируется репрезентация прохождения сквозь зеркало, которое учетверяет единицу. Происходит
полный оборот жертвенной оси, и «я » может видеть его вместе со
своим порождением и смертью.
«(2.54) Поэтому теперь нас следовало считать не как два в одном, не как два по отношению к одному, а буквально как четыре,
как два, параллельные двум, шагающие вместе, не глядя друг на
друга, и друг друга не замечая...»
«Я», распределенное по четырем клеткам смертельной игры,
становится нейтральной точкой, таким образом, занимая регулирующую позицию, главную в силу исчисляемости. То, что
смещает четыре клетки игры, и само это смещение упраздняют
мыслящий рассудок и превращают его в «рассудок ненависти и
помоев».
«(2.58) ...Став нейтральной точкой, называемой точкой между
четырех рук, четырех ног или, вернее, на боковой стороне фигуры, образованной ею и мной в зеркале, пересечением, которое
позволяло нам соприкасаться, начиная с теневой точки...»
Итак, в тексте, где «я» устанавливается как числовое, театральное регулирующее собственные дискурсивные эффекты в
силу возможности порождать себя в языке, совершается исто¬
рическая деятельность. Именно здесь, на качающейся вершине
«я», питаемого всей культурой, можно написать «мы», которое
не будет ни механической суммой «я», ни гипостазисом, объективирующим дискурс «я», удостоверяя его истинность, и репрезентирующим философское, политическое или королевское
«мы». Инклюзивное «мы», местоимение, которое появляется
уже в первом эпизоде «Чисел», обозначает «субъектов», «захваченных неумолимым процессом перечисления живых и мертвых... беспрерывно помещаемых в позицию эха, с буквами, которые, лишь выпадая в осадок, доносят слышимый вверху
крик...» (3.11).
«Мы» — это «я» и «она» (1-е и 3-е лицо), рассматриваемые в
их порождении и чудовищном производстве. Иными словами, это
все «субъекты», «мы все», кто начинает переживать себя как уже
умерших в указанном выше смысле, т. е. они становятся способными думать о том, что их производит, делает их закрытыми и
может разрушить эту закрытость жизни как слова с единственным означающим. «Мы» — это общее место, где такая мысль —
такая практика — становится возможной; это формула, объединяющая тех, кто осмысляет свою историю: историю своего бытия
как предмета обмена, стоимости, цены, товара, «вплоть до ситуации, когда мы становимся недоступными для нас самих» (4.24);
это топос тех, кто открывается в антирепрезентативное пространство: «Между тем, пространство, где я находился, переходило в пространство, где мы видели друг друга: вышедших из проекционных залов». «Мы» — это финальная история «я» и всей
его цивилизации, которая получает право говорить «мы» лишь
после того, как примет собственное отрицание, сделает четкий
жест самоуничтожения, маркируя смертью начало новой эпохи
означивания, новой исторической эры. Решительный жест, благодаря которому попытки совершить социальную революцию не
впадают в апофеоз все того же «я», продажного и слепого перед
зеркалом.
«(2.6) Тем не менее, я приближался к своей собственной истории. Об этом меня предупредила попытка поместить меня на периферии круга, через который “мы все” должны были перейти.
Я думал, что если доберусь до образуемой нами материи, я сразу
же узнаю, что ее поддерживает, питает, воодушевляет — нечто,
обязанное несмотря ни на что исчезнуть в момент нахождения
точного ответа, броситься в то, что в иные времена было бы названо громко “морем”... В тот момент я был почти на вершине цилиндра, размеры которого я не мог оценить, его основание уходило корнями в самые тяжелые металлы. Так мы поднимались
тысячами к выходу в пустоту, который вырисовывался и постепенно отступал над нами...»
Юлия Кристева Семиотика: Исследования по семанализу
266
Будучи превращением «я» во фрагменты-бесконечность, такое «мы» неизбежно относится к революционным массам, которые трудятся сегодня в городах, приходят с Востока со своей
беспощадной революцией. «Мы» — это убитое и убивающее
«я».
«(1.81) ...Выйдя из кругооборота и остановившись на мгновение в знаке “мы”, вписанном в наш профиль... Принимая таким образом форму целого воодушевленного народа, сгруппировавшегося вокруг своих артикуляций, вокруг своего зова пола
и обмена, становясь движущей силой переводов и разделений...»
Но поскольку есть это все, «мы» — это также и «vodç», не
дешифруемая метка «высшего знания», которое изображается
в виде колонны; это «vodç», «odgicx», для которого нет слов, который превосходит мысль и за пределами времени не поддается
длительности. «Мы» — это местоимение безличного зарождения. Если 3-е лицо единственного числа — это не-лицо, то
1-е лицо множественного числа в том смысле, как оно употреблено в «Числах», доводит до конца парадокс местоимения, поскольку размещается на пересечении удвоенного 1-го и 3-го лица
и маркирует невозможное место — осевое, жертвенное — вне-
лица в неидентифицированной, без-личной множественности.
Мы — vodç — местоимение безличности, место-имение порождения.
«1. Однако существовало “мы”. Это “мы” терялось, возвращалось, трепетало и возвращалось беспрестанно: я мог ощущать
его присутствие, присутствие живых слов. Именно в этой точке
нет более места даже для самого малого слова. То, что сразу же
чувствуется, так это рот... Самое удивительное в нашем приключении — это снова сила длительности — длительности, которая
сама себя вычисляет в глубине, сама, без нас устанавливает свои
пределы, способна превзойти самую упорную мысль...»
Двойное «я», «она» — 3-е лицо — не-лицо, отсутствующее в
коммуникации, «мы» — местоимение безличности par excellence —
образуют три стены театра, где продуцируется текст, и очерчивают топологию зарождения по ту сторону зеркала, о чем говорилось выше. Напротив них помещается 2-е лицо множественного
числа «вы», обозначающее зрителя, «ожидающего» представления. Таким образом, возникает иллюзия театрального представления, чтобы тут же разрушиться. Исчисление Малларме
завершены: книга превращается в театр, чтобы разрушить репрезентацию.
Между четырьмя клетками — пустота, «не поддающаяся заполнению: судьба». Мы бы сказали так: ось, колонна, текстовой
процесс, который распределяет четырехкомпонентную матрицу, одновременно помещаясь внутри нее.
«она »
2
1 «я» 3 «мы»
(«вы»)
Таким образом очерчивается замыкание, внутри которого будет осуществляться бесконечность означивания. Однако бесконечность не абсолютная, метафизическая, полностью открытая,
но порядок, без которого означивание не сможет породить свою
формулу. Четырехкомпонентная матрица составляет основу текстовой бесконечности в той же мере, в какой она уничтожает
полностью обоснованное, присутствующее, означаемое: она заново обосновывает становление бесконечности, которое становится не случайным. Ее функция — «распространять, обосновывать, исчезая». Не разбрасывать, не распылять, не отсылать к
неструктурируемому, но формулировать, позволять порождению реализоваться в формуле. Только здесь, в замыкании, бесконечность начинает действовать. Это портик истории — местоположение дифференциалов, чисел.
Именно здесь, между двумя пределами, бесконечно малая величина находит свое место. Именно в этом «земном порыве к
замкнутости» проявляется сила истории, действенная и организованная. История движется через замыкание портика, означивающая бесконечность — через формулу-матрицу, бесконечный
числовой ряд — между двух чисел. Обратимся к Арто:
«...в бесконечности конкретное время жизни,
которое располагается не между 0 и бесконечностью чисел,
но в конечности цифры, восстановленной из чисел,
и от 0 до 30 более бесконечно 30, чем бесконечность при
моем отсчете 31 от 25, а не от 30, и так до бесконечности в
никогда не кончающихся цифрах»1.
Квадрат как фигура формообразования, радикально противоположная четырем открытым углам креста, — это символ бинар-
ности par excellence, очерчивающий пространство гипостазирова-
ния обожествляемой Единицы и погруженной благодаря кресту в
бесконечность своей единственности. Он достигает своей наивыс¬
1 «..я l’infini le temps concret de vivre,
lequel ne se situe pas 0 et l’infini des nombres,
mais le fini d’une chiffre repris aux nombres,
et de 0 à 30, 30 est plus infini que l’infini si je recompte 31 de
25 et non de 30 et ainsi à l’infinf dans les chiffres jamais finis».
Юлия Кристева юЩ» Семиотика: Исследования по семанализу
268
шей степени в кубе и продагает путь мысли, объединяя ее противоречия в границах, допускающих ее реализацию. Обусловливая корреляции, трансляцию, активность, четырехкомпонентная матрица
представляет собой то минимальное замыкание, которое приводит
в действие бесконечность. Цифра 4 — квадрат-символ земли, — это
также безличная цифра танца (у китайцев). Вот как представляет
себе Малларме этот танец, который, разворачиваясь в квадрате
сцены, размещается «за кадром» и утверждает «неиндивидуаль-
ность», редуцирует субъекта к «эмблеме», которая не локализуется, поскольку делает открытой бесконечность «в ее беспрестанной
вездесущности» точки, действующей повсюду: «...признать... этот
закон, согласно которому первый субъект танца, вне рамок, в своей беспрестанной вездесущности представляет собой подвижный
синтез поз каждой группы; в этом качестве [закон] лишь детализирует его как бы на дроби до бесконечности. Таково соответствие,
из которого следует индивидуальность солиста и ансамбля танцующих, они всегда только эмблема и никогда некто»1.
В том танце, который представляет собой текст «Чисел», перед перевернутым портиком, образованным «я»/«она»/«мы»,
вырисовывается четвертый такт, пробел, «вы», феномен в настоящем времени.
Невозможно переоценить важность взаимного расположения трех продуктивных фаз и четвертой — наличной сцены.
Именно последняя — фаза феномена, настоящего времени, реализации формулы — придает замкнутости трех первых тактов
двойной фон, мешая им стать автономным и метафизическим
пространством и позволяя им строиться как отличающимся от
того, что присутствует. И по отношению к четвертой плоскости — «вы», феномена, формулы — может артикулироваться
бесконечное порождение. При наличии четырех выделенных тактов единственность решительно упраздняется, поскольку три момента продуктивного действа — «я»/«она»/«мы» — смогли бы
составить только теологическую вершину, если бы не были соотнесены с четвертым моментом, с «вы» — основанием жертвенного столба, у которого сжигается человек-животное.
«3, вычтенное из 1, невозможно, было не 3, но всегда плюс
один, исключить 1 из 3 — значит лишить 3 чего-то существующего для того, чтобы создать его из ничто. Себя вычитают лишь в бессознательном, чтобы стать реальностью на
месте вечного 1».
(Арто, сентябрь-октябрь 1945)
1 Mallarmé S. Op. cit. P. 303-304.
Это ничто, присоединяемое к соучастию 1 и 3, которое Арто
считал возможным только в бессознательном и как результат лишения, исчисляющий текст реализует через добавление, прибавляя четвертую плоскость, необходимую для презентации двойного, бунтарского [rouge] повествования. Здесь мы подошли к тому,
что радикально отличает сочинения Арто от текста «Чисел»: с
одной стороны, мучительное притязание на восстание против
идеалистической проблематики христианства, чтобы перевернуть ее, сохранив ее стигматы; с другой — приближение к рубежу
новой эпохи, которая, пройдя через христианство и отказываясь,
в числе прочего, от «сюрреальных» мистификаций, предвидит,
что будет за ее пределами, и уверенно вычисляет свою формулу.
Выделение трех тактов, «совершаемое ради мира, который без
него не смог бы существовать» (Арто), образует понятийную сетку любого теологического мышления — от христианского креста
до гегелевской триады и до зачеркивания Хайдеггера. Субъект
(Отец), «Сам» (Сын) и их трансцендентное слияние (Святой Дух)
предлагают матрицу такого учения, где бесконечное принимается
как «запредельное», как статичное, доминирующее, незыблемое
существование, достичь которого можно лишь в момент смерти,
останавливающей, показывающей и отрицающей эту бесконечность.
Христианское триединство полагает бесконечность как Бытие, отвергнутое, перечеркнутое +, иначе говоря, кастрированное, и достижимое лишь ценой кастрации; этим жестом, повторение которого в философском аспекте закрепляется на уровне
феноменологической редукции, бесконечность утрачивается,
фиксируется в запредельности, отрешенной и недосягаемой. Тогда возникает необходимость представить такую перечеркнутую
бесконечность словом, сконденсированном в имени: Бог. Гегелевская пирамида диалектического отрицания: тезис-антитезис-
синтез, которая обосновывает развитие Идеи по спирали, и знак
Соссюра, следующий тем же путем, чтобы достичь вершины
смысла, одинаково следуют матрице триады. Также и циферблат
Хайдеггера — этот распятый ontos, — который отрицает то, что,
есть, чтобы отослать бесконечность в не-Бытие постоянного
становления Бытия, обозначает трансцендентное пространство,
где царит плотная, однородная, недифференцированная, неисчислимая бесконечность.
Крест, которым Хайдеггер зачеркивает Бытие, чтобы, отвергая, защитить его, зачарован здесь-Бытием, которое поглощает
крест, появляющийся на его поверхности. Как демарш отрицания, контролируемый тем, что он отрицает, и включенный в него,
крест с логической необходимостью становится символом нигилизма, будучи до этого основой христианской субъективистской
Юлия Кристева юШр Семиотика: Исследования по семанализу
270
трансцендентности. Крест фиксирует трансцендентность, поскольку он не расставляет четыре точки циферблата, но стягивает их в пересечение, которое служит ему центром и презенти-
рует центральное место субъектности, непреодолимой для креста в силу ее гипостазированности. Крест вовсе не ниспровергает
Бытие, но укрепляет его безопасность «в смысле того, что всегда
и везде фиксируемо, т. е. репрезентируемо».
Напротив, у квадрата нет пересекающей оси, он ничего не зачеркивает: иными словами, он не может быть ни субъективным, ни
отрицающим. Его поле иное, вне метафизического пространства;
ему неизвестны ни распятый субъект, ни отрицаемое Бытие. Его
точечное «я» игнорирует и не признает страдание, оно бесчеловечно во всех смыслах этого слова, монструозно, поскольку находится по ту сторону Линии1, поскольку именно оно смещает
структуру «Говорения». Это «я» не смеется — не насмехается, не
предает забвению. Бытие, «реальность», структура — оно полагает их присутствиями и фрагментами, не для того чтобы отказаться
от них, но чтобы предписать им геометрическое место и представить их как историю: «Текстовое письмо, по определению исключенное из «настоящего» (функция которого заключается в отказе
от него), как раз и конституирует историю — и ее идеологическое
обнажение — отделенную от этого настоящего» (Программа).
Негодование Арто следует рассматривать именно в рамках
проблематики хайдеггеровского креста:
«Нет более грандиозного скотского знака, чем семитический знак осеменения крестом этого космоса (уретрального, уринального), порожденного погребальной спермой
мысли... педерастически в основе отца, сына и духа...»
(Письма против Каббалы, май 1947)
Топология квадрата, открытого в своем основании, не имеет,
таким образом, ничего общего с циферблатом креста. Потусторонняя погребальная бесконечность триады заменяется здесь
двойным фоном — иной сценой дифференцированной исчисляющей бесконечности и означающим, впервые не пирамидальным.
Не будучи ни результатом, ни причиной, но единственно чрез¬
1 Между прочим, Хайдеггер отмечает в своем стиле: «...Не должен ли переход за
Линию необходимым образом стать преобразованием Говорения и не требует ли этот
переход мутации в отношении к сущности речи». (Линия называется также «нулевым
меридианом», завершением нигилизма.) И далее: «Предоставлено ли на усмотрение
говорящих, на каком языке они будут говорить, чтобы сказать основополагающие
слова в тот момент, когда они переступят через Линию, т. е. пересекут критическую
зону совершенного нигилизма? Достаточно ли, чтобы этот язык был общепонятным,
или же здесь властвуют иные законы и Меры столь же уникальной природы, что и
этот момент истории-Мира, каковым является завершение в планетарном масштабе
Нигилизма и Оспаривание его сущности?» — См. «Contribution à la question de l’Être»
[ «К вопросу о Бытии»] в кн. Questions I.
271
мерным коррелятом наличной формулы, которая мыслится как
«другое» — как прорастание — формулы, в которой она отсутствует, бесконечность становится изломанной, существующей
лишь в силу закрытости, т. е. представляя себя как свою противоположность, включенную в нее. В свете проблематики нетрансцендентального «я» можно сказать, что «я» отказывается от эротики в отношения «Самого» («он»), но находит свою противоположность («она»), чтобы достичь множественности «мы» в
бесконечном порождении, которое нет необходимости зачеркивать, искуплять, вытеснять, поскольку оно ни во что не выливается — ни в какой результат, продукт, плод, кроме «фенотекста»,
формулы, «вы», заключенного в скобки.
Следовательно, единственный способ активизировать бесконечность — это маркировать ее закрытость. Именно таким образом бесконечность вписывается в цифру-двойник формулы порождения, и имя «Бога» — «Его» — становится при такой нотации структурно невозможным. Исчисляющая бесконечность,
означивающий дифференциал становится, таким образом, par
excellence местом а-теологии, благодаря которому текст перекликается с научной функцией. Интегрируя пространство, где
Бог появлялся, чтобы предотвратить утрату множественности
означивания, скажем, пространство, которое трансформирует
утрату в Бога, кастрацию — в трансцендентность, — означивающий дифференциал сводит бесконечность к чуждой ей метке,
вписывает ее в это «иное», по отношению к которому ее можно
помыслить, и таким образом конституирует ее как интеграцию и
кастрации, и трансцендентности.
Однако текст не ограничивается заключением бесконечности
в квадрат: четырехкомпонентная матрица присоединяется к самой себе.
Тексте проиводит асимметричное оборачивание 1, 2, 3 в 4,
вневременности — в «здесь», генотекста — в фенотекст.
(4)
(4)
(4)
Этот граф, напоминающий греческий орнамент и обрамление
многих фресок, обозначает радикальный разрыв между двумя
пространствами, ставшими теперь видимыми и несовместимыми,
иначе чем в двойной цифре текста, приводящей бесконечность генотекста в точку феноменальной репрезентации.
Порождение формулы
Юлия Кристева ШЩр Семиотика: Исследования по семанализу
272
Однако сценические пространства налагаются друг на друга:
пустая точка настоящего есть также «эмердженция и последовательная артикуляция», которую можно видеть в качестве таковой только на двойном фоне исчисляющего генотекста «мощных
констелляций».
Бесконечность раскрывается по направлению к точке, и наоборот:
л
»4
г — — — — -1
1
И j
i i
IV !
i
к
т г 1 -1 Г
i III 1
1 III 1
i—
i
i
i
г
1
1
1
\
>
1 1 1 1 1
L 1 1 1 1
: J
1 1 1
1- 1 1
— — _____ — J L
I III
В этой асимметричной топологии двух вставленных одна в
другую сценических площадок одна есть другая, где «есть» указывает не на идентичность, но на трансляцию:
«(4.52) Кишение толпы и ничто, ничто, которое, впрочем, есть
нечто и то же самое, что ничто...»
Таким образом, в квадрате сосуществуют противоположные
элементы, совместность которых допустима при условии, что
можно абстрагироваться от темпоральности и сочетать позиции
из разных по времени эпизодов. В квадрате допустимо противоречие элементов, и именно таким образом он включает в себя
«другую сцену» фрейдовского бессознательного, где отрицание
не существует. Квадрат — это также закрытая фигура бесконечности, которая без начала продуцируется, то уменьшаясь, то увеличиваясь, и которая предполагает реитерацию, т. е. продуцирование без телеологии, эволюцию без внешней цели, зарождение в
укрощаемой стабильности.
Известны рассуждения Лейбница, искавшего выбор фигуры
для модели мира между тремя гипотезами: треугольник ( «тогда
бы было начало...»), гипербола («тогда бы не было никакого начала, и моменты, или состояния, мира вырастали бы в совершенном виде извечно») и квадрат («гипотеза о равном совершенстве,
по-видимому, есть гипотеза о прямоугольнике»). «Пока я не
вижу, каким способом можно наглядно доказать то, что следует
выбрать путем чистого размышления»1.
Именно фрейдовская теория означивания, вытесненного со
сцены разума, предлагает ключ к такому доказательству. И в све-
1 Lettre a Bourget, 5 août 1725.
273
те этого становится понятным знаменитый и банальный квадрат
Лейбница, объединяющий комбинаторику и теорию игр:
Стабильность
Рост
Существование начала
Отсутствие начала
Квадраты в «Числах» радикально модифицируют квадрат
Лейбница, перенося его на двойной фон генотекста и с этой точки зрения открывая его к приостановленной репрезентации, и
существуя только в свете бесконечного зарождения означивания:
Двойственность
«она »
Единичность «я»
«мы». Без начала
и репрезентации
«вы ». Репрезентация,
начало
В квадрате, представленном в «Числах», «я» двойственно не
потому, что перегруппирует две единицы в свою, но потому, что
одновременно принадлежит: генотексту, где в качестве сингулярной точки участвует посредством своих различных «мы» в
бесконечном процессе исчисления, не-закрытом, нерепрезенти-
руемом, некоммуницируемом; и фенотексту, где в качестве
субъекта, подобного «вы», оно коммуницирует формулу, Закон.
Множась в двойном отношении, как точка различия и субъект
подобия, «я» может презентировать сценографию собственного мышления и тех, кто его окружает. Формулу Декарта можно
повернуть следующим образом: «Чем более «я »мыслит, тем более «я» становится дифференциалом».
Из так представленной топологии следует, что текст организуется наподобие пространства Лейбница: бесконечного и
состоящего из точек, ни одна из которых не является местом
(никакая комбинаторика точек не образует пространства: «точка есть нулевое место другого места»), но которые принадлежат
ситуациям, формулирующим условие любого символического
акта и определяющим его модальности. Не писал ли Малларме
нечто близкое к замечанию Лейбница: «Ничто не будет на месте, кроме места, за исключением, возможно, констелляции».
Порождение формулы
Юлия Кристева бШр Семиотика: Исследования по семанализу
274
Множество точек, которое продуцирующее бесконечность
«я» может занимать в текстовой констелляции, — это как раз те
точки, где индивидуальная единица прекращает быть («там, где
прекращается тело») и где определяется тип символизма, чтобы
тут же модифицироваться и исходить из другой точки. Перемещение и наслоение квадратов позволяет одновременно дистанцироваться как от теологической формулы: «Бесконечная сфера,
центр которой везде, а поверхность нигде», так и от ее инверсии — результат «коперниковского» вторжения во фрейдовское
бессознательное: «Чья поверхность везде, а центр нигде». Для
квадрата (и куба) центр не присутствует и не отсутствует, никогда не имел и не будет иметь места.
Построить такой универсум бесконечной комбинаторики,
бесконечно делимый на комбинации, каждая из которых приближается к бесконечному «пределу», никогда не достигая его, —
вот цель, которую ставит текст, разыгрываясь на двойном фоне,
который не центрируется.
Однако, если это и комбинаторика, то текстовое пространство — это не «гармония», где можно установить множество бесконечно взаимозаменяемых и относительных систем, определяемых из точек их взаимного соотнесения. Оно отказывается от
такогогармонического порядка, который тут же приближается к
теологии, поскольку приписывает недостающий центр то мона-
дическому божеству (Лейбниц), то субъекту — Человеку-Автору
и Владельцу сети (как в случае с проспективным пространством,
у которого в действительности нет привилегированной точки,
поскольку она переносится за пределы сцены в телесное, субъективное, но уже не точечное место субъекта — Геометра, который
творит, потому что репрезентирует себя). В тексте это телесное
место субъекта, место 4, репрезентирующееся в скобках, включается как точечное место внутрь квадрата, из которого невозможен ни субъективный, ни теологический исход. Божественная
и/или субъективная монада, которая остается ограниченной или
принимается в качестве внешней, радикально внеположной причины, в тексте — при материалистическом пересмотре лейбни-
цевской проблематики — фиксируется как точечное место, впервые ставшее мыслимым, исходя из функции, которую Фрейд поместил вне другой сцены бесконечного порождения. Своеобразие
текста — и его важность для анализа нашей культуры — заключается в том, что он организуется как единый континент, способный объединить в раздробленном пространстве бесконечную
комбинаторику и внеположный корпус: такая комбинаторика,
которой корпус нужен только как точка (и как заключенный в
скобки), корпус, которому комбинаторика необходима, чтобы
обеспечить ей репрезентацию. Текстовая бесконечность, невоз¬
можная без репрезентирующего ее места, использует это место
(«вы»), чтобы составить анамнез, т. е. показать ему его биологический, логический, метафизический, политический генезис, который представляется как реминисценция.
«Мы обладаем бесконечным количеством знаний, о которых
мы не всегда догадываемся... Дело памяти хранить их, а дело воспоминания — представлять нам их»1. В том смысле, что бесконечное зарождение есть всегда нечто большее, а формула — феномен — нечто меньшее, чем то, где можно было бы искать наибольшего возвращения. Фрейд подчеркивает различие между этими
двумя сценами, которые он называет «явным содержанием» и
«латентной мыслью», настаивая на том, как «важно принимать
во внимание изобразительность» и осуждая тех, кто проявляет
интерес к латентной мысли, но опускает ее превращение в формулу, формулирование2.
Будучи пространством, дробящимся от бесконечности до
точки, от порождения до формулы, местом существования дифференциала, текстовое пространство таково, что его не может
занять никакой рационализм. Оно есть то, что научный дискурс
может себе представить, может репрезентировать, тогда как
текст осуществляет его анамнез. Не замечаемое научным дискурсом, озабоченным репрезентацией, умело ограниченное, отстраненное или сведенное к простой структуре — чем вовсе не является — это место, которое наша культура отвела сегодня для само-
осмысления, трудно, если не невозможно принять. Но именно в
качестве такового оно представляет собой один из наиболее заметных признаков радикальной трансформации, которую переживает эта культура. Действительно, текст показывает, «(4.76)
как сейчас необходима революция, оперирующая уже не субстанциями и единицами, а целыми континентами и текстами...»
На этом открытом им континенте новой реальности он с необходимостью обращается к современным революционным практикам:
«(2.86.) В истории новое и справедливое часто не признается
большинством в момент своего появления и может получить развитие лишь в борьбе» / «коммунистическая революция представляет собой наиболее радикальный разрыв с традиционной системой собственности; ничего удивительного поэтому, если в ходе
своего развития она самым решительным образом порывает с
традиционными представлениями» ...Это чтобы снова повторять
без конца... Это чтобы непрерывно стимулировать движение органов, лиц, рук... Это чтобы перегруппировывать, перепечаты¬
1 Leibniz Phil. V, 73. О теории Лейбница см. Serres М. Op. cit.
2 Freud S. La science des rêves. P. 431. (Рус. пер.: Фрейд 3. Tолкование сновидений.
М.: К-во «Современный проблемы», 1913.)
Юлия Кристева ШШа Семиотика: Исследования по семанализу
276
вать, снова заставлять читать и слушать, перевооружать всеми
средствами, в каждой определенной и отдельной ситуации, в
каждом интервале, на каждой сцене независимо от ее размеров,
оформления... Говорить вновь и вновь, каждый раз настойчиво
напоминая об идущей войне, о конкретных требованиях анонимных низов, обкрадываемых постоянно, изо дня в день... » «Произведения литературы и искусства прошлого представляют собой
не источники, но потоки воды» / «общая черта литературы и искусства всех эксплуататорских классов, клонящихся к упадку,
заключается в противоречии между реакционным политическим
содержанием и художественной формой произведений. Мы же
требуем единства политики и искусства, единства содержания и
формы, единства революционного содержания и как можно более совершенной формы» / «И ради этого, здесь, из временного
затишья, поддерживающего нашу неторопливую работу, из этого
заповедника, образованного языком, далекого от пожара и перемен...»
И прямо: от работы в означивании к работе в монументальной
истории:
«(1.93) ...Теперь я мог оторваться от твердой, обжигающей
поверхности, которая управляла моими ночами, позволить теперь колесу вращаться, распределяя места, слова, средства; теперь я мог успешнее участвовать в войне, разворачивающейся в
каждой стране под маской арестов и цен... Призывая к прямому,
косвенному действию и повторяя лишь одно и то же предупреждение: уметь вновь и вновь восставать, никогда не отрекаться, никогда не идти на жесты унижения и подавления, учиться контратакам, переменам и участию — Jfc}>•
Аналитический указатель
Этот аналитический указатель фундаментальных концептов — или, точнее, наиболее существенных теоретических посредников — предназначается для того, чтобы наметить путь, который
выявляется после прочтения всего вместе, позволяя последовательно проследить уровни подходов, рассеянных в плюрально-
сти исследований в ходе конституирования новой проблематики.
Без претензии на унификацию того, что дифференцировано
во время разработки, равно как и в соответствии со степенью научной и теоретической аппроксимации, указатель представляет
основные направления общего проекта, перспектива которого
определилась на последней стадии работы.
Некоторые из этих концептов-посредников, ранее сформулированных различными авторами, получают в наших исследованиях дальнейшее развитие: мы их обновили.
Можно заметить, что четыре раздела этого указателя пересекаются, и их трудно изолировать друг от друга. Однако если каждый и образует систему, то это не прерывает хода исследования,
а представляет объект анализа как открытый.
А. Место семиотики
I. Семиотика как наука и теория
1. Возникновение семиотики: восходя к стоикам, она близка к
аксиоматическому подходу (с. 19, 120-127); соссюровский термин «семиология» (с. 20-21); семиотика и совокупность других
наук (с. 20-24); междисциплинарная наука (с. 25);
— семиотика как теория (с. 21-24); как метатеория (с. 23-24,
111-112); как обращение к дискурсам, включая свой собственный
(с. 22-23, 24-26, 202-203);
— семиотика как «диалектическая логика» (с. 22).
2. Семиотика и смежные науки: семиотика и лингвистика
(с. 20, 76-77, 129-130); семиотика и математика, логика, психоанализ (с. 22, 24-25, 122-125); математический знак без внепо-
ложности и изоморфизм семиотики и продуктивности (с. 98,113,
Юлия Кристева вЩр Семиотика: Исследования по семанализу
278
120-122); семиотика смещает литературную эстетику, риторику и
их разновидности (с. 10-19,109-110,128-130).
3. Семанализ: открывает внутри знака как системы вторую
сцену означивания, чья структура есть не что иное, как смещенное снижение (с. 12, 15, 25-26,185-192,193-199); субъект между
разрушенной структурой и означающим порождением (с. 202-
203); семаналитический дискурс и письменный текст (с. 17-18,
196).
II. Матрица знака и выход за ее пределы
1. Знак, смысл, обмен
— топология знака: история диады означающее /означаемое
(с. 62); знак и метафизика; знак ассоциативен и субститутивен,
устанавливает отношение подобия (с. 137-139); подобие оказывается коренной чертой семантического правдоподобия (с. 131-132,
137-144); знак как репрезентамен требует наличия коммуникативной цепи (с. 136-145); денотация, коннотация (с. 24,174-185); удвоение знака в риторическом дискурсе — полисемия и стирание
смысла при плюрализации (с. 139-141); базовый знак общества обмена, зона субъекта (с. 186-187, 188-189); спекулятивный элемент,
вуалирующий порождения означивания (с. 193-194,197-198);
— матрица означивания претерпевает историческое изменение: различия между символом и знаком (с. 49-52,161);
— субъект, коммуникация: децентрация субъекта в пара-
грамматическом пространстве, «зерологический» субъект (с. 116—
119, 188-191); текст как умерщвление субъекта (с. 264-274, 277-
281); субъект растворяется в тексте, проходя через преграду Одного, Внешнего и Другого (с. 15-17); коммуникация, создающая
правдоподобие (с. 143-145); правдоподобие конституирует другого как самого (с. 143-144); различение практика-продуктивность /
коммуникация-означивание (с. 26-30); романный дискурс в цепи
субъект-адресат (с. 81-85);
— темпоральность: семиотика должна строиться как хронотеория (с. 22); риторическое время вводится с помощью последовательностей, имитирующих структуру предложения субъект-
предикат (с. 149); субъект дискурса может приостановить принцип дискурсной «истины »лишь в темпоральности Т"1 (с. 143-144);
романная темпоральность: теологическая, линейная, регулируемая не-дизъюнкцией (с. 58-59); скриптуральная темпоральность — массированное настоящее время инференциального высказывания (с. 67); текстовая вневременность, ее отношения с
презенсом, имперфектом и номинализацией (с. 247-253).
2. Предсмысловая продуктивность
— деятельность внутри языка: идеология означивания ограничивает проблематику деятельности (с. 10-12); остранение по
отношению к смыслу и коммуникации (с. 10); транслингвистика
(С. 74);
— означивающая пратика: как вторичная моделирующая система (с. 15);
— продуцирование: рассматривать семиотическую систему с
точки зрения ее продуцирования (с. 12-15); продуцирование как
издержки, другая сцена, не репрезентируемо и не измеряемо
(с. 204); объект постфрейдистской семиотики (с. 25-26); вклад
Маркса, Darstellung и продуктивность, предшествующая обмену
(с. 26-31); жест как производство: несводимость к устному языку, издержки, предшествующие феномену означивания (с. 31-34);
текст как продуктивность (с. 157-160); текст как способность-пи-
сать (с. 129-130); продуцирование невыразимо средствами литературной риторики (с. 134); мера, имманентная тексту, но несводимая к словесному (произведенному) тексту (с. 155-157);
требует сети полиморфных логических аксиом (с. 158-159); неразрешимая продуктивность (с. 159-160);
— означивание: избыток деятельности, превышающий цепь
означивания (с. 12); два аспекта порождения: 1) порождение языковой ткани, 2) порождение субъекта, который принимает позицию презентации означивания (с. 192-195,197-198,202-203, 264—
273); отношение между означиванием и структурой (с. 196-203);
порождение и произведенный смысл (с. 200-201).
3. Значение как продуктивность не имеет минимальной объектной единицы: см. «Порождение формулы»
— диалогическое слово: означивание смещает матрицу знака
(с. 12); диалогическое слово как пересечение текстовых поверхностей (с. 73-74); специализация слова, помещенного между
субъектом, адресатом и переписанными текстами (с. 74-78);
— дубль, множество взятые как рассекающие знак (с. 77-78,
104-106,109-112,113-115);
— анафора: десигнация, «предшествующая» сигнификации
(с. 29-30, 32,33-35); трансструктурная текстовая продуктивность
организуется анафорически (с. 208-209);
— интервал: неинтерпретируемая артикуляция (с. 33-35);
смысл/корпус (с. 16, 258-262, 264-265); разрыв-отсылка (с. 246—
247); скачок — это печать: соотношение генотекста и фенотекста
(с. 254-261);
— число, нумерическая функция означающего: гиперсемиоти-
ческие системы Востока, основанные на нумерологических отношениях (с. 119-120,207-208, 207-209,214-215,229-232, 273-279);
число по отношению к знаку (с. 207-211, 230-231); без вне и внутри, означающее и означаемое, текстовое «исчисляющее» представляет собой плюральность различий (с. 213-214); текст распределяет бесконечность означивания (с. 210-213, 216-219); гра¬
Юлия Кристева ШШр Семиотика: Исследования по семанализу
280
фическая /звуковая единица, в которой повторяется бесконечность означивания, представляет собой означивающий дифференциал (с. 211-212); местопребывания означивания (с. 193-194,
211-212, 279-280); означивающий дифференциал как преобразование означающего и означаемого в точку-бесконечность (с. 104—
106, 210-214, 214-215).
В. Семиотические практики
1. Типология означивающих практик: замена традиционной
риторики (с. 47, 201); систематические, трансформативные, пара-
грамматические означивающие практики (с. 47, 209-211); типология дискурсов как означивающих практик и историчность знака
(с. 49-52, 60-62, 84-93,93-97,161-162); способы выражения закона и их отношения с «инфинитизацией» дискурса (с. 239-241).
2. Карнавал: его противостояние логике обычного дискурса
(репрезентации и коммуникации) (с. 72-73, 86); его отношения со
структурой сновидения и желания (с. 86-88).
3. Эпопея (с. 85-86).
4. Мениппея (с. 89-92).
5. Роман: инференциальное романное высказывание (с. 56-
57); закрытый текст, блокированный недизъюнкцией (с. 53-55,
57-63); программирование романа (с. 53-54); его двойная завершенность: структурная и композиционная (с. 67-69); роман как
повествование и как литература (с. 69-71); полифонический роман (с. 18, 79-80, 92); персонаж как этап метаморфозы субъекта
повествования (с. 55-56, 82-83); роман — и идеология знака —
транспонируют амбивалентность мениппеи: иероглиф и зрелище,
текст и репрезентация (с. 52-58, 76-80, 92); антирепрезентатив-
ный роман модерна (с. 93-95, 193,193-194,202-203, а также «Порождение формулы» целиком).
6. Литература как доведение до правдоподобия: правдоподобие как вторая ступень символического отношения подобия
(с. 130-131); междискурсивный эффект, происходящий поверх
продуцирования (с. 132-133); семантическое правдоподобие
(с. 131-132, 137-142): синтаксическое правдоподобие как выводимое из выбранной риторической системы (с. 132,145-149); архитектоника правдоподобия: означающее («произвольное») —
означаемое (семантически различимое) — дискурс (риторическое повествование = синтаксис правдоподобия) — метадискурс
(теоретическое объяснение) (с. 152-154); роль повтора и перечисления в доведении до правдоподобия (с. 150-151); правдоподобие
как риторическая ступень смысла (с. 134).
7. Жест: продуктивность, которая нарушает знаковую структуру (с. 78-79).
С. Логика текста
I. К определению концепта «текст»
1. Текст как продуктивность: разрывает коммуникативную
цепь и препятствует конституированию субъекта (с. 11-15, 154—
157); восходит к герму смысла и субъекта (с. 11,104-110, 264-267,
270-273); сеть различений (с. 14, 104-108); нецентрированная
множественность меток и интервалов (с. 15).
2. Транс лингвистический текст: не редуцируется к высказыванию, разложимому на отдельные части (с. 18); перераспределяет категории языка (с. 47-48, 112-113, 114, 231-232, 236—
237, 238-239, 241-242, 247-253); выводит за пределы законов
грамматики (с. 94-98); письмо-чтение (с. 97); его чуждость языку (с. 10, 26, 152-155); театральность текста (с. 77-88, 91-92,138,
153-156).
3. Интертекстуальность: вытесняет интерсубъективность
(с. 74); пересечение высказываний, взятых из других текстов
(с. 48-49); транспозиция в коммуникативную речь предшествующих или синхронных высказываний (с. 63-67); полифонический
текст (с. 11, 72-73, 82-84, 85-86); множественность взаимоотрицающих кодов (с. 113-118, 170-173); заимствование пробуждает
и разрушает дискурсивные структуры, внешние по отношению к
тексту (с. 219-229, 245-248).
4. Текст как динамизированный объект: генотекст и фенотекст (с. 193-198); ни каузальность, ни структурирование (с. 197—
199); фенотекст как то, что остается от порождения, являющегося следствием своей собственной причины (с. 199-200, 200-201,
201); глубинная структура и поверхностная структура (с. 188—
189); выражение в языке научного жеста (с. 17-18, 200-201).
II. Логические особенности
1. Различия между поэтической логикой и логикой коммуникативного дискурса (с. 123-125, 197-199); трансгрессия закона и
единичности (с. 14, 104-105, 105-106); неиндивидуальная конкретность поэтического языка (с. 167); референт и нереферент поэтического языка (с. 168-173);
— диалогизм: имманентен языку (с. 71-77); коэкстенсивен
глубинным структурам дискурса во взимодействии Субъект-Адресат (с. 81-82, 82-83, 83—84); как аннигиляция личности (с. 82-
83, 89-90); монологизм (с. 84-86); амбивалентность (с. 76-80, 98-
99,103); «логика» диалогизма (с. 80,106-107,122-124).
2. Параграмматизм (с. 98-99, 185-192, 205-207, 218-230);
«отображение» семных множеств (с. 104-111); параграмматиче-
ская сеть (с. 106-223); парциальные граммы, субграммы (с. 107—
108):фонетические(с.108-109),семные(с.109-110),синтагматиче¬
Юлия Кристева ЩЩр Семиотика: Исследования по семанализу
282
ские (с. 113); параграмматическое пространство как зона исключения субъекта и анулирования смысла (с. 118-119,188-190).
3. Поэтический язык и бесконечность: мощность континуума
(с. 80), трансфинитность (с. 80), потенциальная бесконечность
(с. 99—100,103,158-159); актуальная бесконечность (с. 103); бивалентная логика как предел (с. 173-180,180-181,182-184); означивающая бесконечность, распределенная в означивающие дифференциалы текста (с. 211-212,212-213,213-214,216-217,232-236).
4. Отрицание: точка артикуляции функционирования озна¬
чивания (с. 163-165) у стоиков (с. 164-165) и у Платона (с. 165-
167); Aufhebung (с. 163-164,165-166-188); Verneinung (с. 186-187,
187-188, 188-189); как внутренняя операция суждения (с. 166);
отрицание как утверждение (с. 77-78, 99-101); противоречие как
определение (с. 112-113); негативность жеста (с. 33-35); дубль
(с. 77-80,104-106); оппозициональная диада (с. 112-113,113,114,
114-115, 115-116, 116-117); несинтетическое объединение
(с. 118-119,168-169,184-185).
— недизъюнкция: в романе (с. 57-58, 86, 90-91); введение времени, смысла, теологического принципа (с. 58-59, 59-60, 60, 61);
закон повествования, мимезиса (с. 59-60);
— ортокомплементарная структура: чтобы включить плю-
ральность поэтических значений в булеву логику (с. 172-179,
180-184); законы равносильности (с. 173-174), коммутативности
(с. 175-176), дистрибутивности (с. 178-179), исключенного третьего (с. 180-181);
— неразрешимость (с. 159-161).
5. Языковой синтаксис и грамматика текста: структура
субъект-предикат как матрица доведения до правдоподобия
(с. 145-149); порождающая грамматика и текстовая продуктивность (с. 195-199); означивающий комплекс как главная единица
текста (с. 231-232, 237-238, 238-239, 245-246); его отличия от
предложения субъект-предикат (с. 236-237); номинализация, ин-
финитизирующая смысл (с. 231-245).
D. Семанализ и материалистическая гносеология
I. История
— в идеологии репрезентации и по отношению к «литературе» (с. 128-130); стратифицированная история (с. 15); параграм-
матическая (с. 98-100, 125-126, 126-127); улавливаемая через
слово как пересечение текстов (с. 72-73); диалогическое слово
трансформирует диахронию в синхронию (с. 73-74); амбивалентность текста (с. 76-77); история как означиваемая текстовой бесконечностью (с. 254-256, 262-263); текст указывает на внешнее
движение как на атрибут (аккорд) (с. 13); означивающий диффе¬
ренциал как точка опоры для того, что превосходит смысл, — для
«материальной истории» (с. 206-207, 208-209, 211-212, 212-213,
213-214, 215-219, 262, 270-274, 277-282, 282-283).
II. Идеология
— идеологема: пересечение текста с текстовым множеством
(с. 47-48);
— идеология смешивается с деятельностью внутри языка в качестве «литературы», «магии», поэзии (с. 10); семиотика в качестве теории формализации как таковой открыта к идеологии
(с. 20-24); текст как репрезентация и как деятельность (с. 91-92),
идеология и нотация (с. 17,109-110); вклад семанализа в консти-
туирование материалистической гносеологии (с. 22-23, 24-26).
Перевод Э.А. Орловой
Содержание
Предисловие переводчика (Э.А Орлова) 5
Горение ради горения 7
Текст и наука о тексте 9
I 9
I I 17
Практический жест или коммуникация? 26
От знака к анафору 26
Американская кинезика 34
Закрытый текст 46
Высказывание как идеологема 46
От символа к знаку 48
Идеологема романа: высказывание в романе 51
Не-дизъюнктивная функция романа 57
Согласование эпизодов 62
Произвольное завершение и структурная конечность 67
Слово, диалог и роман 72
Слово в пространстве текста 73
Слово и диалог 75
Амбивалентность 77
Классификация слов повествования 81
Имманентный диалогизм денотативного или исторического слова 82
К типологии дискурсов 84
Эпический монологизм 85
Карнавал, или Гомология структур «телесное-идеальное»
и «лингвистическое», составляющих желание 86
Сократический диалог, или Диалогизм как аннигиляция личности 88
Мениппея: текст как социальная активность 89
Субверсивный роман 93
О семиологии параграмм 98
Некоторые исходные принципы 98
Поэтический язык как бесконечность 99
Текст как письмо-чтение 103
Табулярная модель параграммы 106
Типология 117
Аксиоматизация как карикатура 119
Продуктивность, называемая текстом 1 28
Правдоподобная «литература» 128
Желание сказать и правдоподобие 1 30
Лабиринт правдоподобия Русселя 1 35
285
Семантическое правдоподобие 1 37
Семантическое правдоподобие Семическая комбинаторика 138
Топология коммуникации 143
Синтаксис правдоподобия 145
Проблема транслингвистического продуцирования 151
Поэзия и негативность 162
Статус поэтического означаемого 163
Логические особенности семантических артикуляций
внутри поэтического текста. Ортокомплементарная структура 172
Параграмматическое пространство 1 83
Порождение формулы 190
Прелиминарии к концепту текст. Семанализ 190
Числовая функция означающего: исчисляющее. Означивающий
дифференциал 200
Фраза как семантическая единица. Именное предложение.
Означивающий комплекс как текстовая единица 226
Вневременность 242
«Красное [бунтарское] повествование» как сфрагистика.
Скачок, вертикальность, двойная функция 247
Театр. Четверичная матрица 257
Аналитический указатель 277
Научное издание
Кристева Юлия
СЕМИОТИКА:
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЕМАНАЛИЗУ
Компьютерная верстка
КА. Крылов
Корректор
И.М. Багилай
ООО «Академический Проект»
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012.
Орган по сертификации РОСС RU.0001.11AE51
ООО «ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ »
По вопросам приобретения книги
просим обращаться в ООО «Трикста »:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088
E-mail: info@aprogect.ru
Интернет-магазин: www.aprogect.ru
Подписано в печать 22.06.13.
Формат 60 X 90/16. Гарнитура Mysl. Бумага офсетная.
Уел. печ. л. 18,0. Тираж 1000 экз.
Заказ № 2736.
Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru
8(495)988-63-76, т/ф. 8(496)726-54-10
КНИГА — ПОЧТОЙ
Издательско-книготорговая фирма
«ТРИКСТА»
предлагает заказать и получить по почте книги
следующей тематики:
► психология
► философия
► история
► социология
► культурология
► учебная и справочная литература
по гуманитарным дисциплинам
для вузов, лицеев и колледжей
Прислав маркированный конверт с обратным адресом,
Вы получите каталог, информационные материалы
и условия рассылки.
Наш адрес:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3,
ООО «Трикста», служба «Книга— почтой».
Заказать книги можно также по
тел.: (495) 305-37-02, факсу: 305-60-88
или по электронной почте:
e-mail: info@aprogect.ru
Просим Вас быть внимательными и указывать полный
почтовый адрес и телефон/факс для связи.
С каждым выполненным заказом Вы будете получать
информацию о новых поступлениях книг.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!







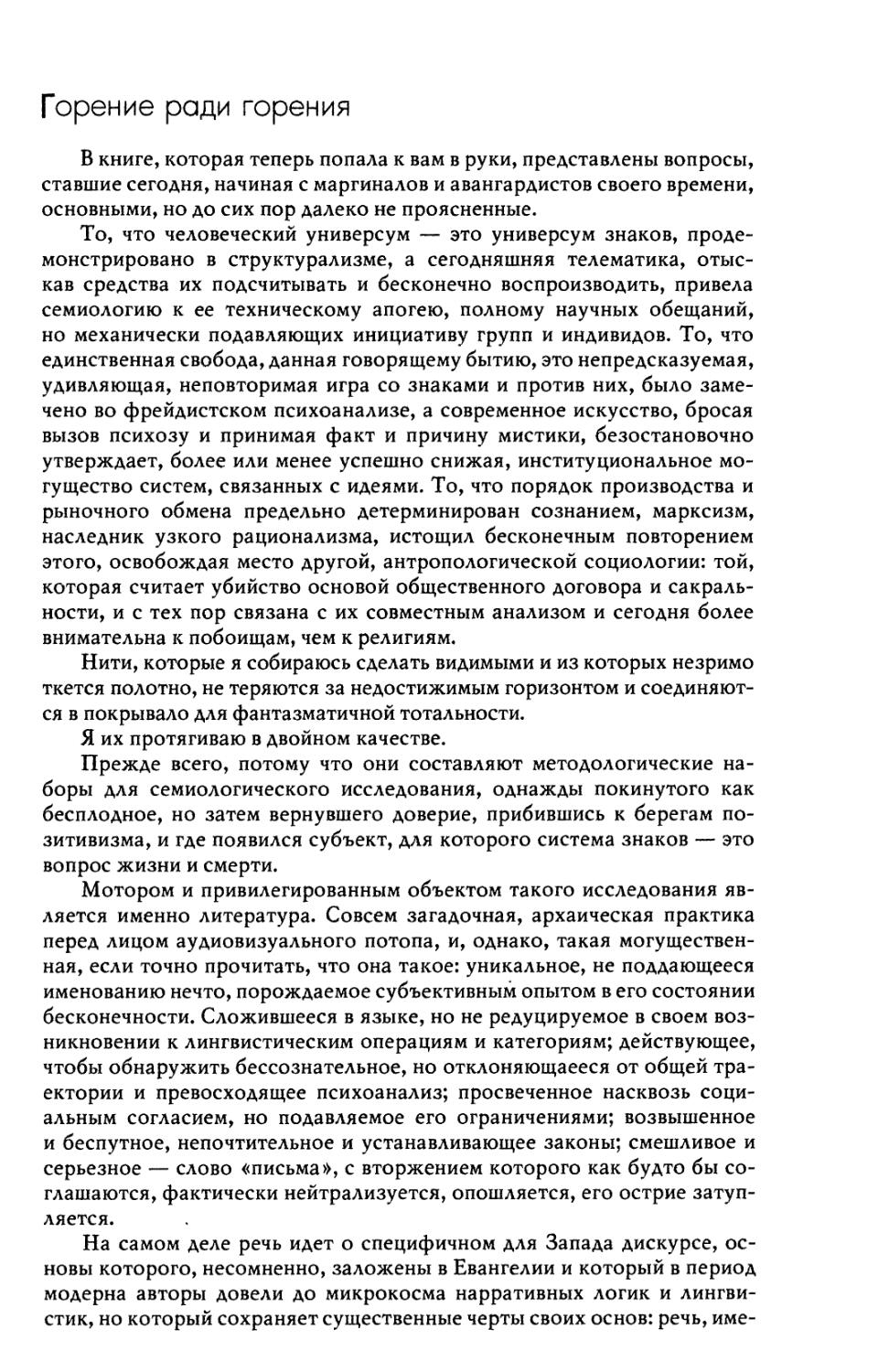
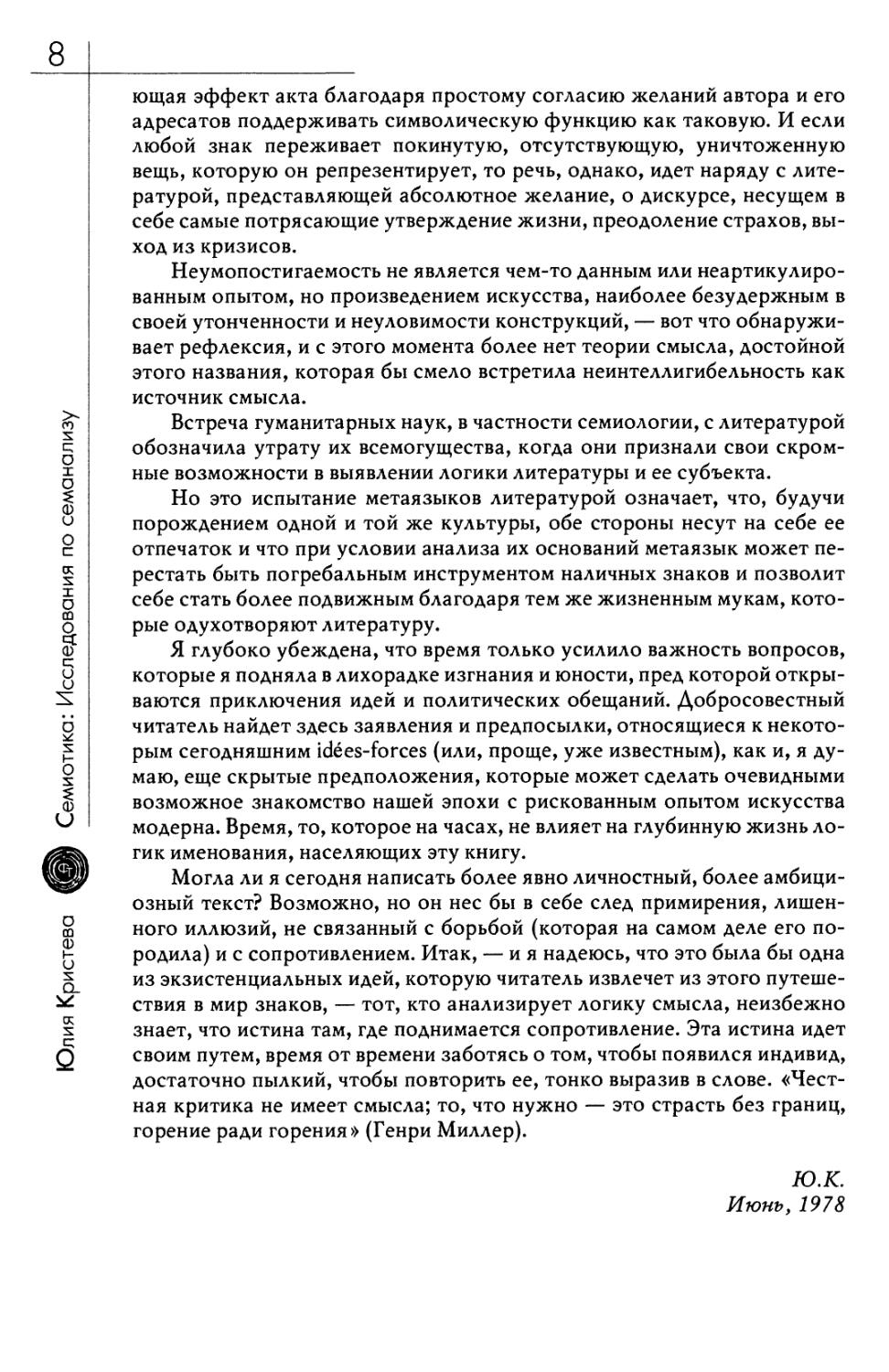
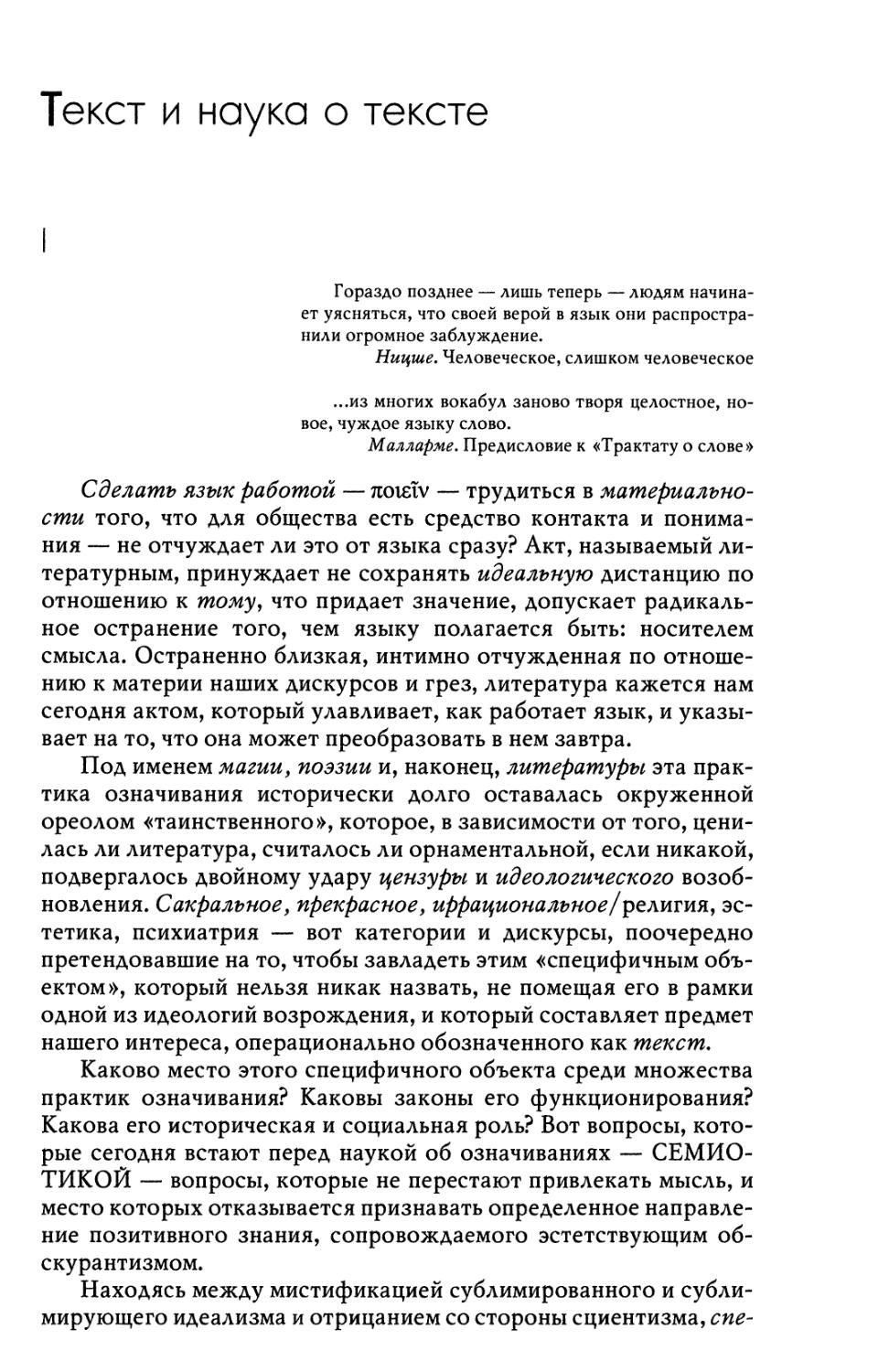


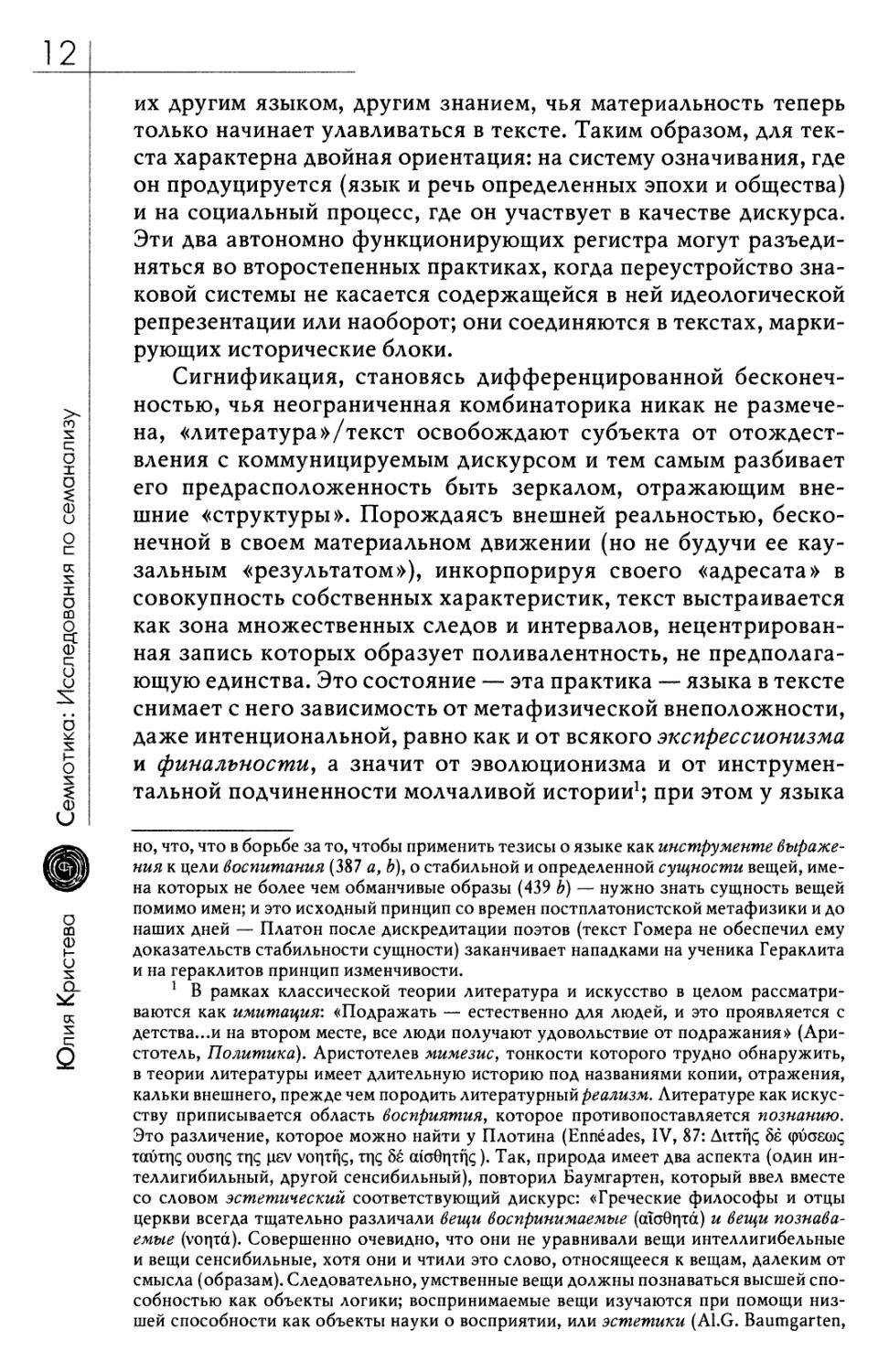
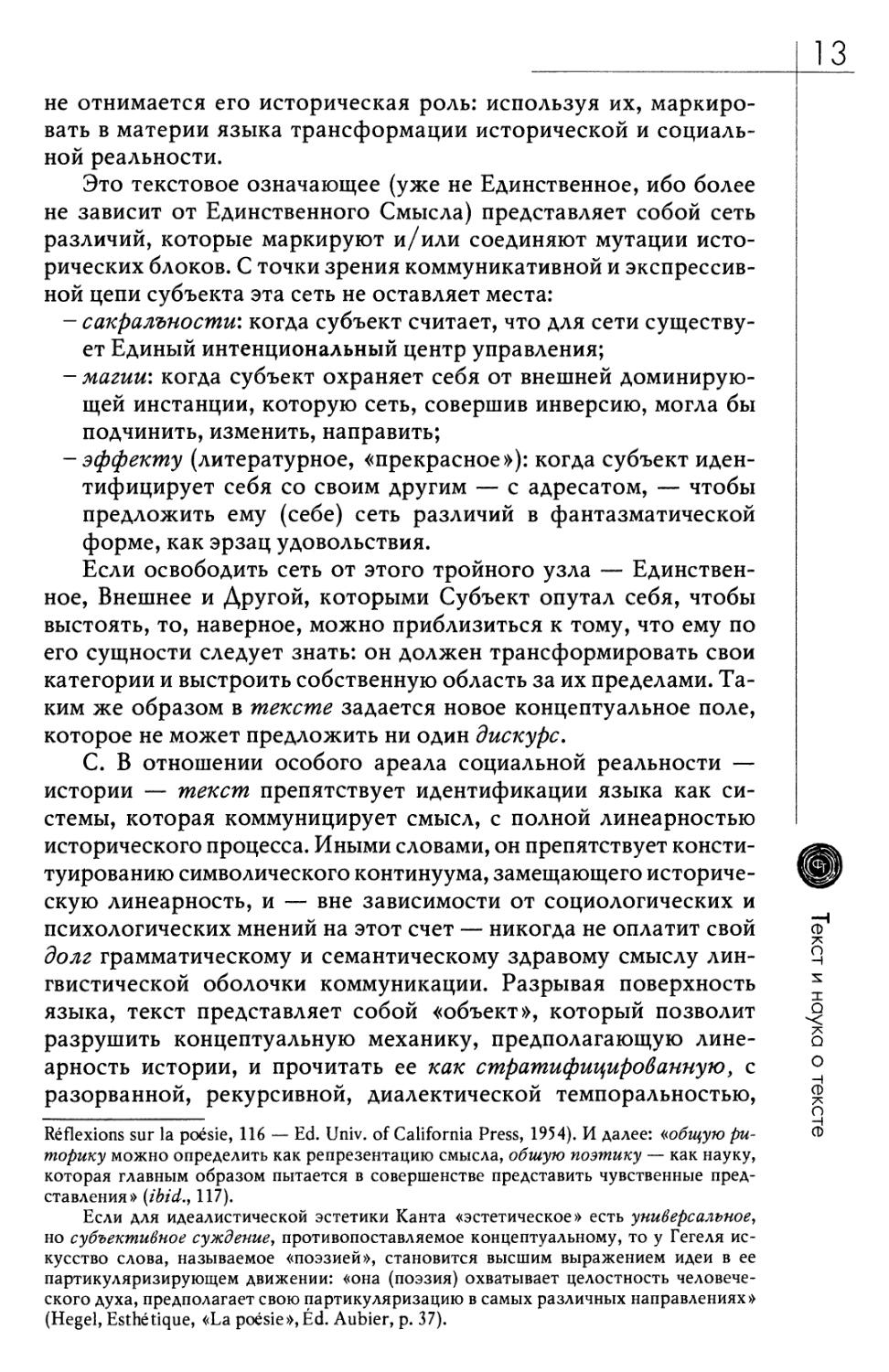



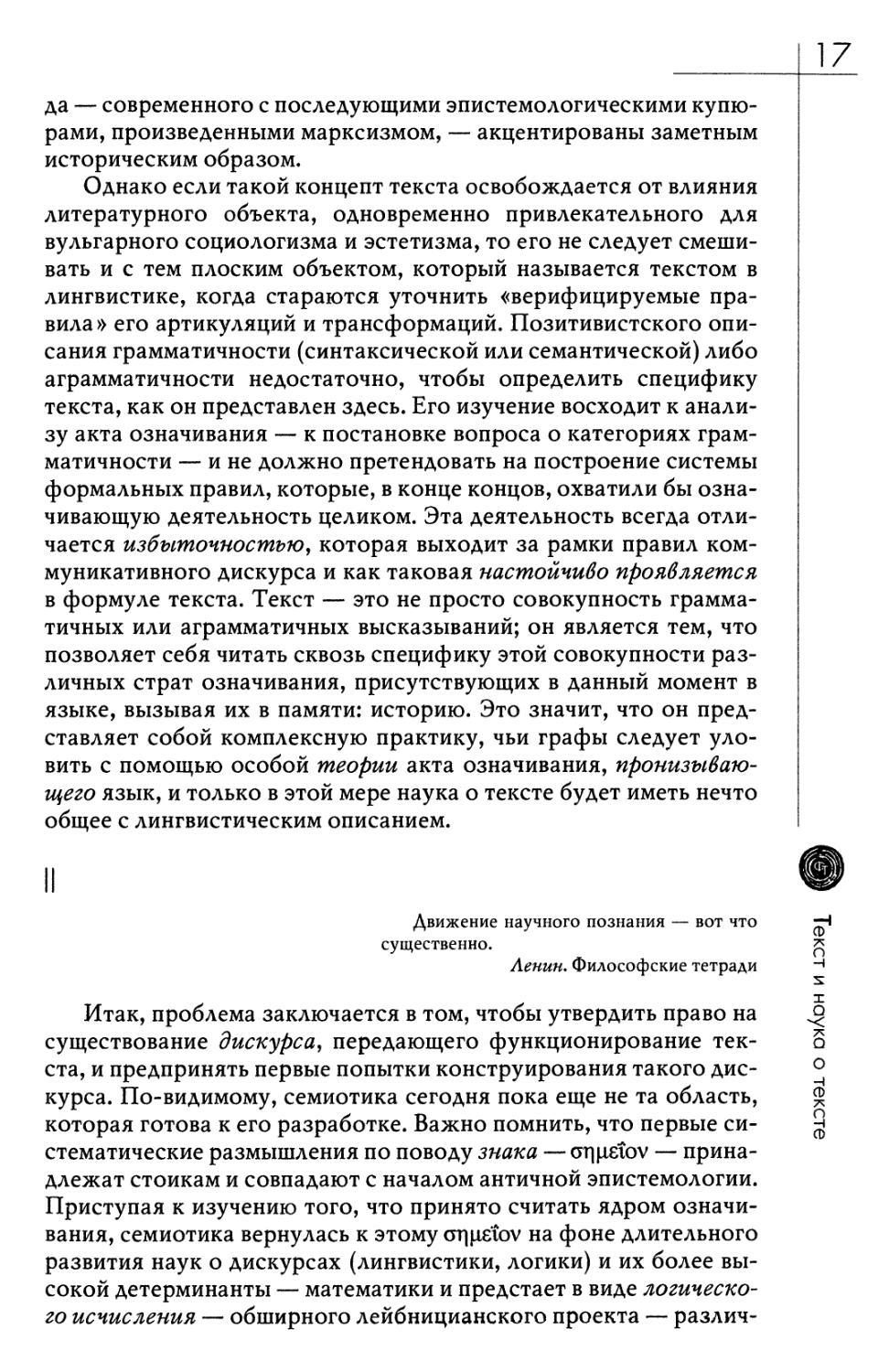
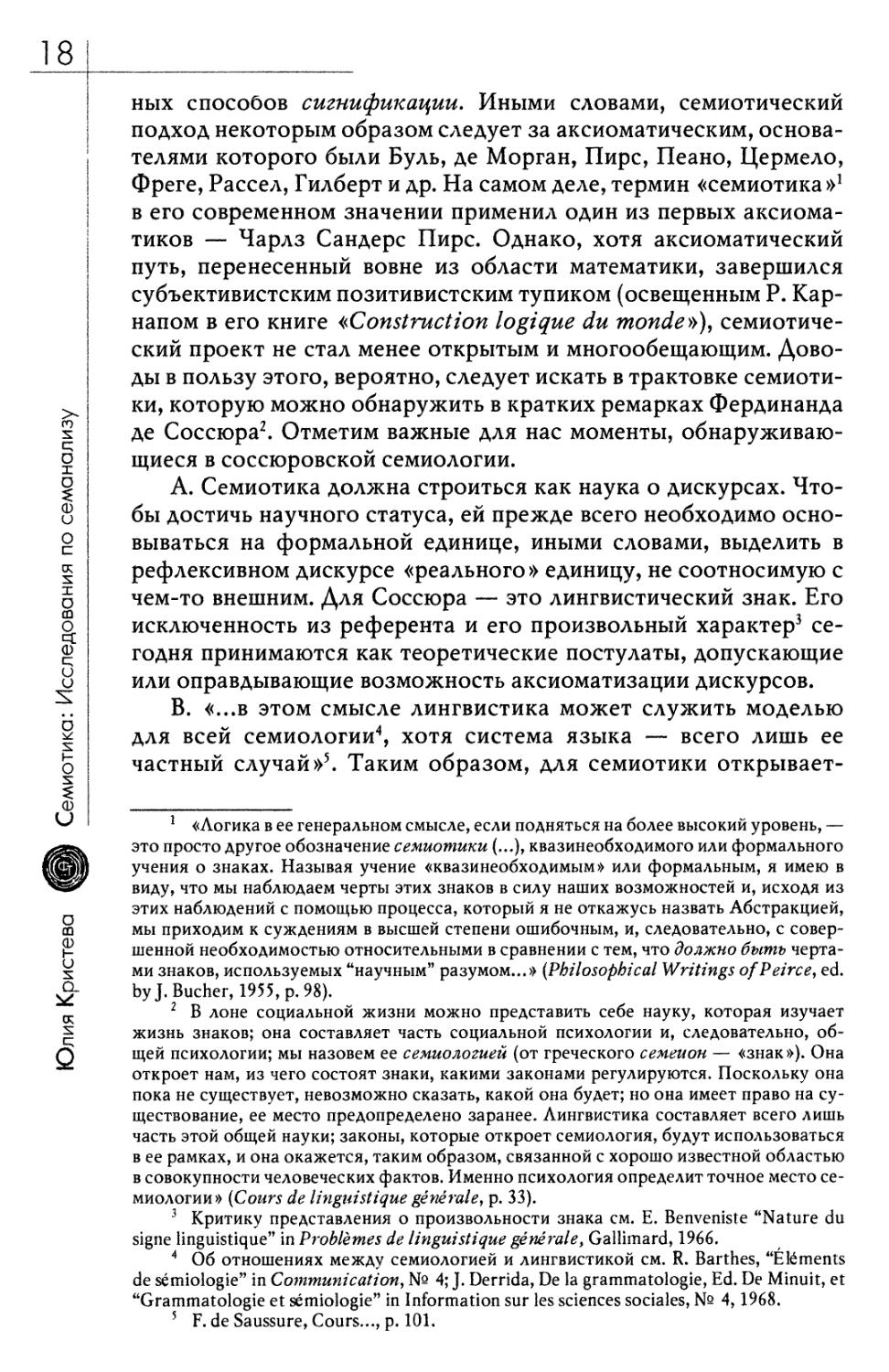
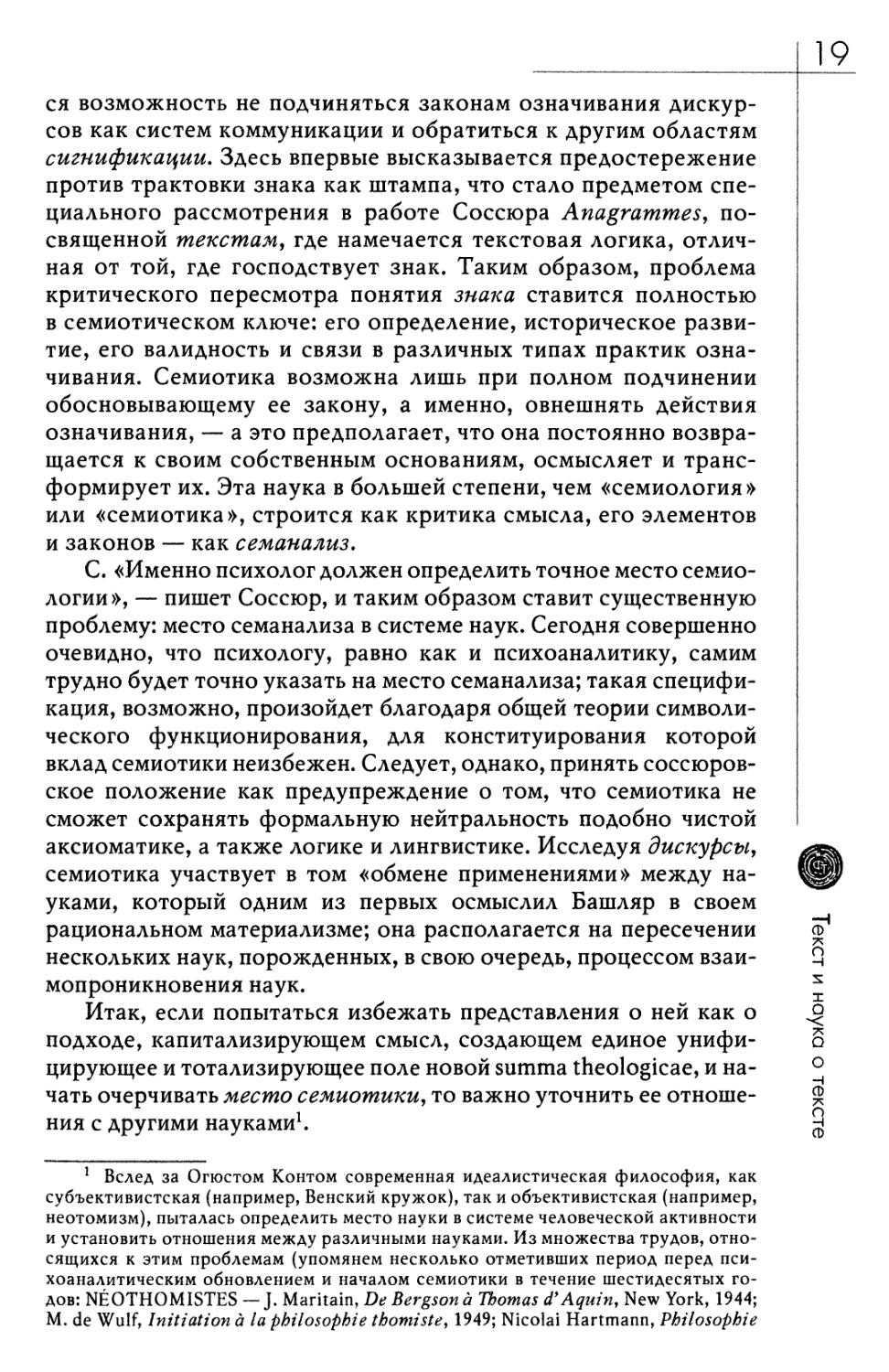





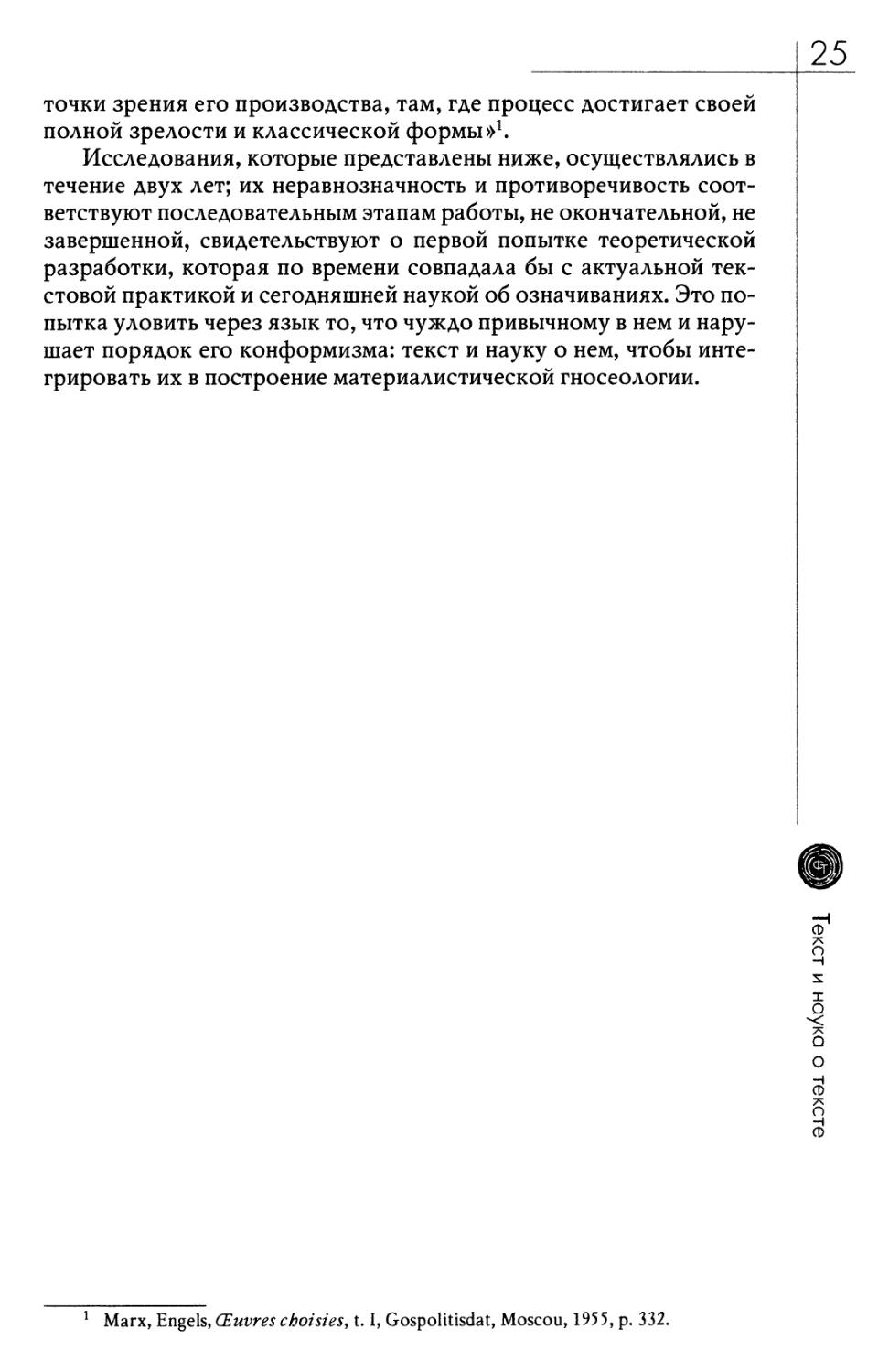
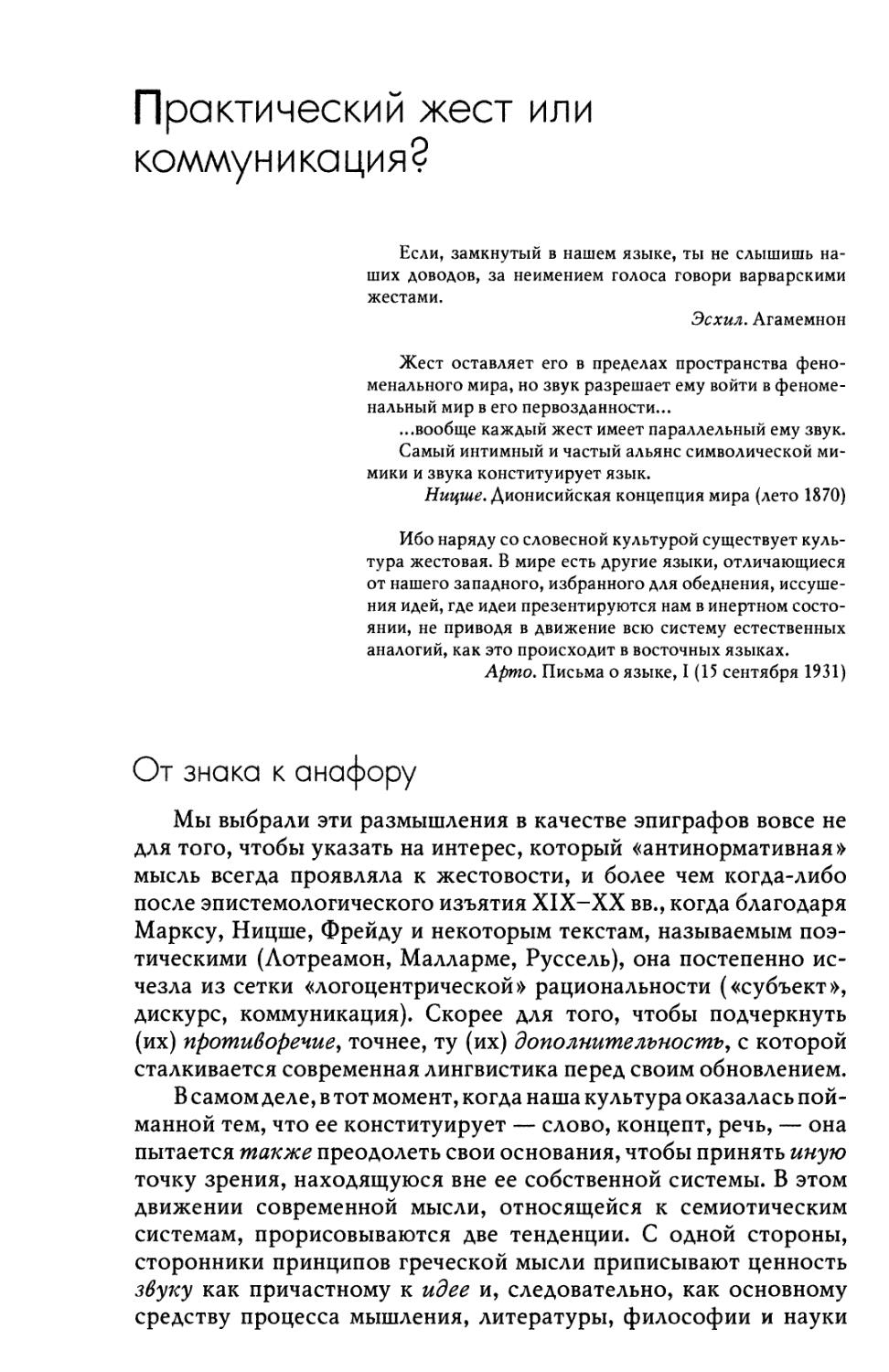






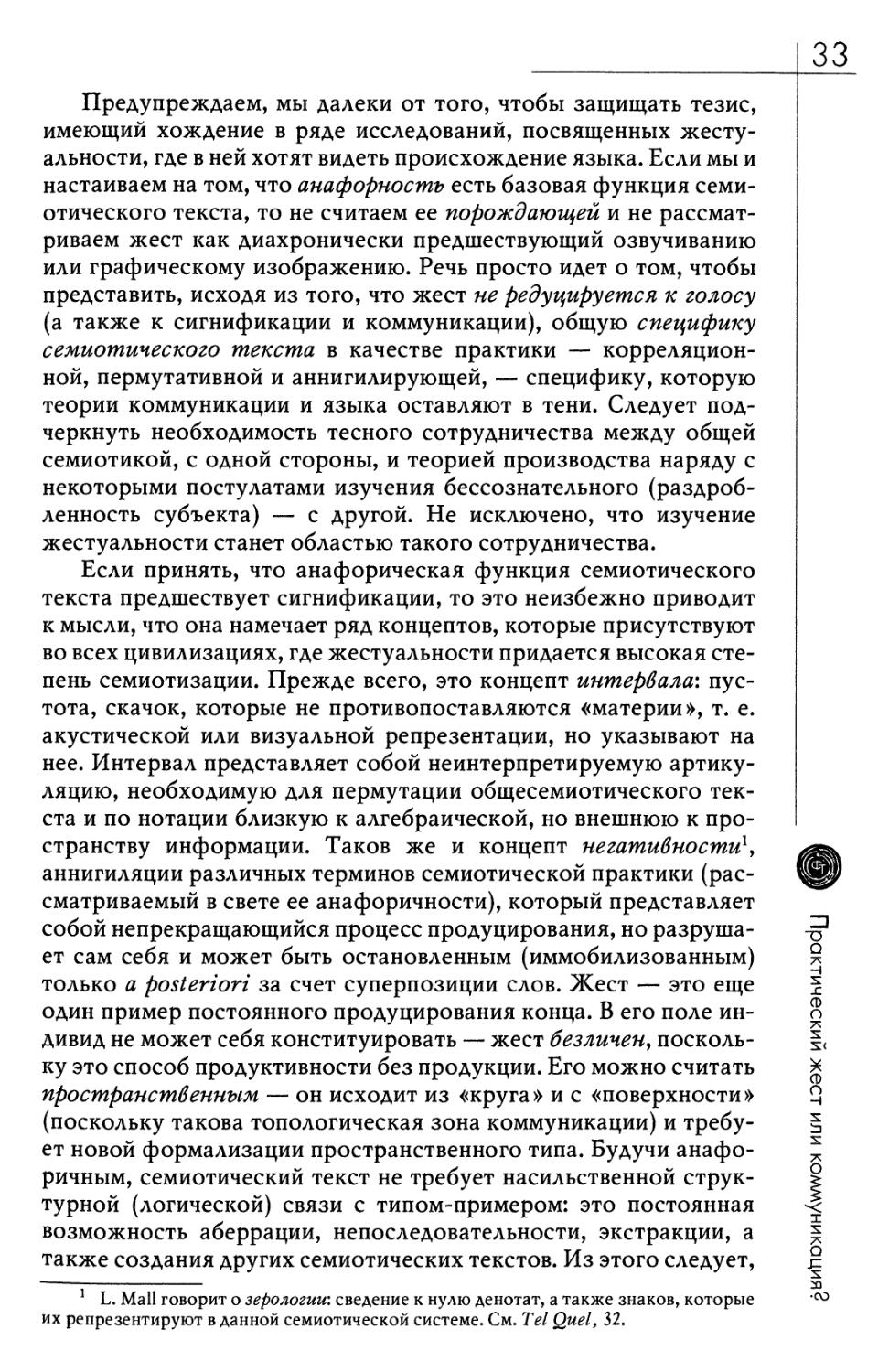
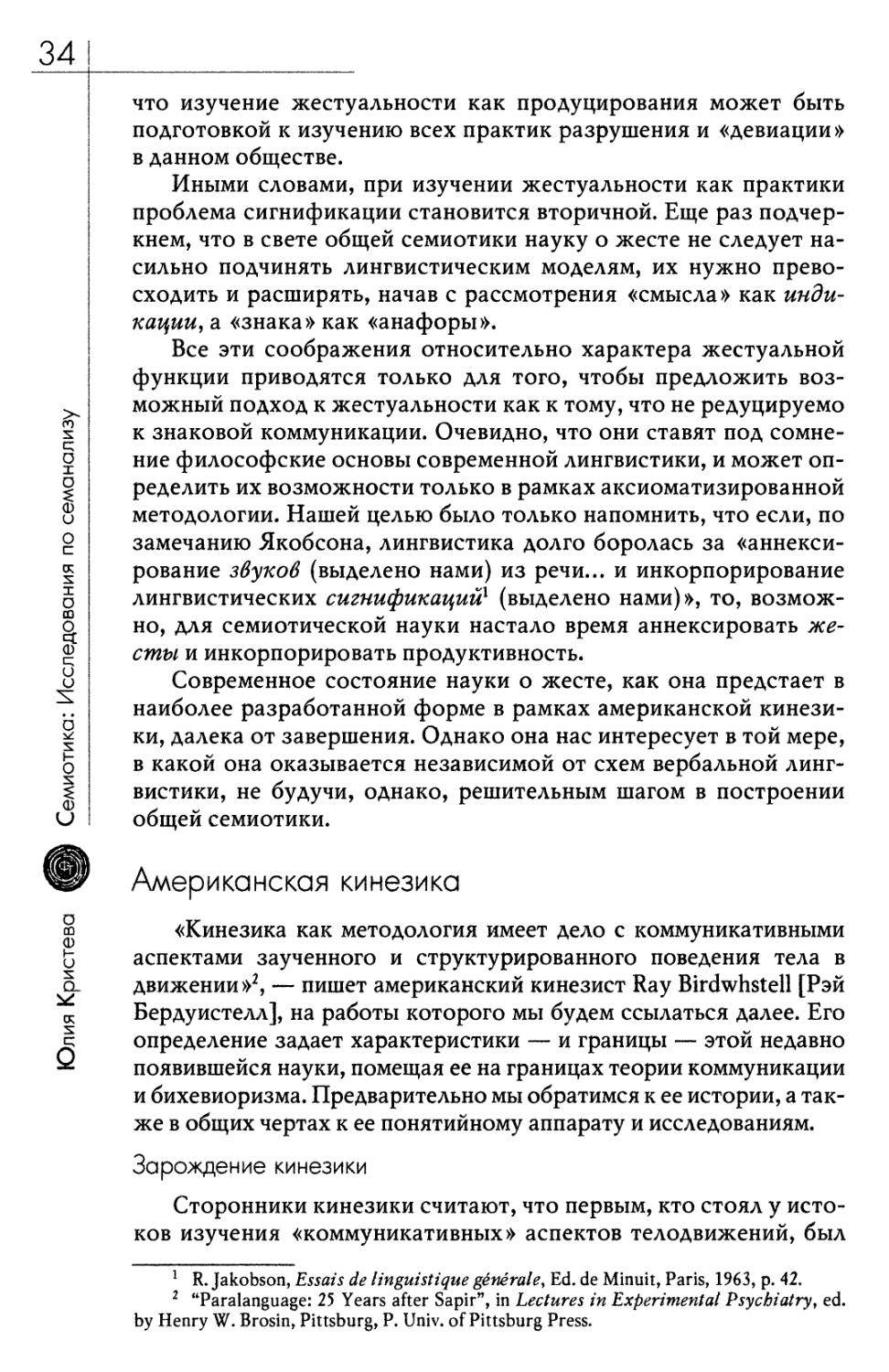


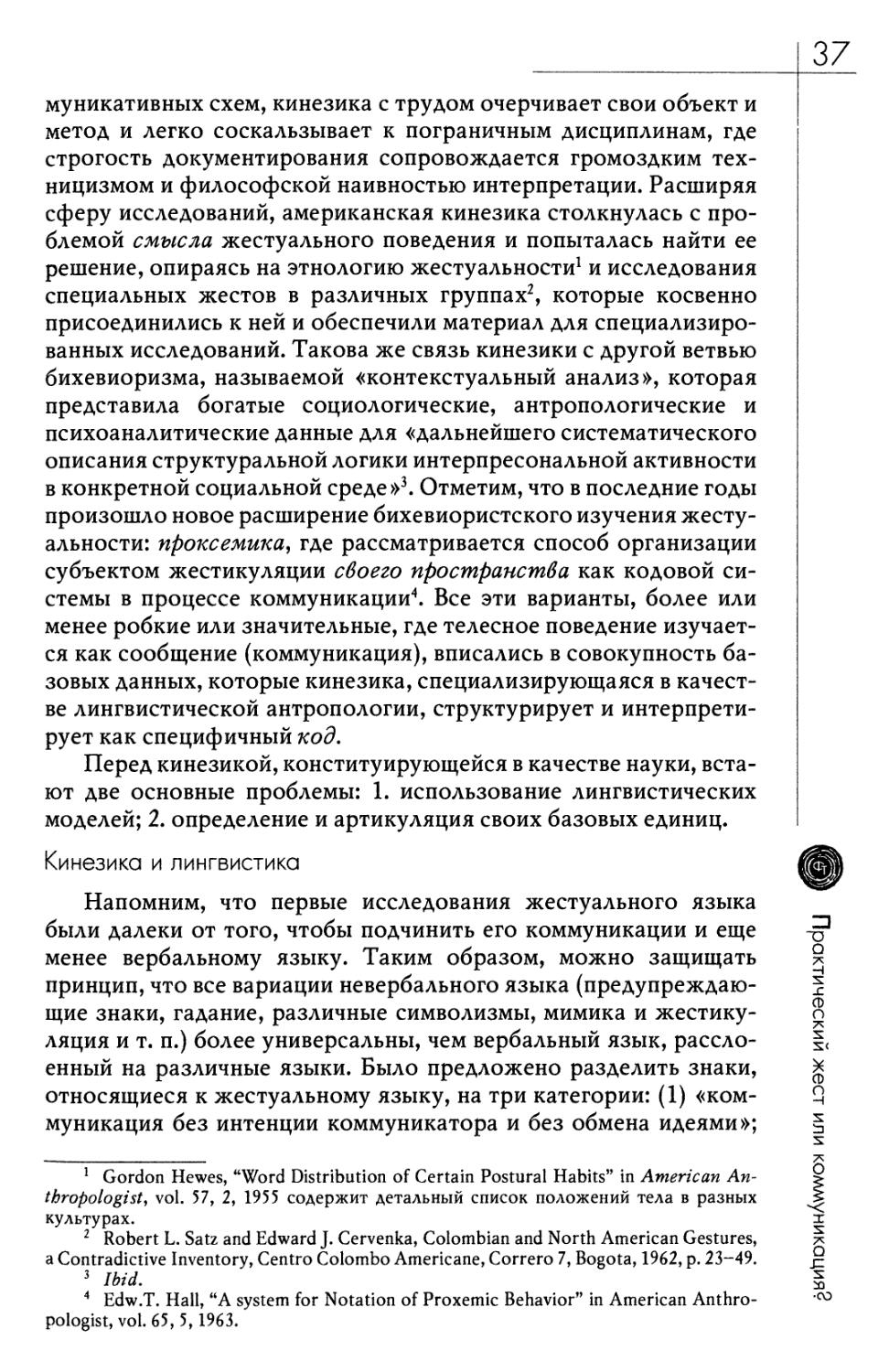




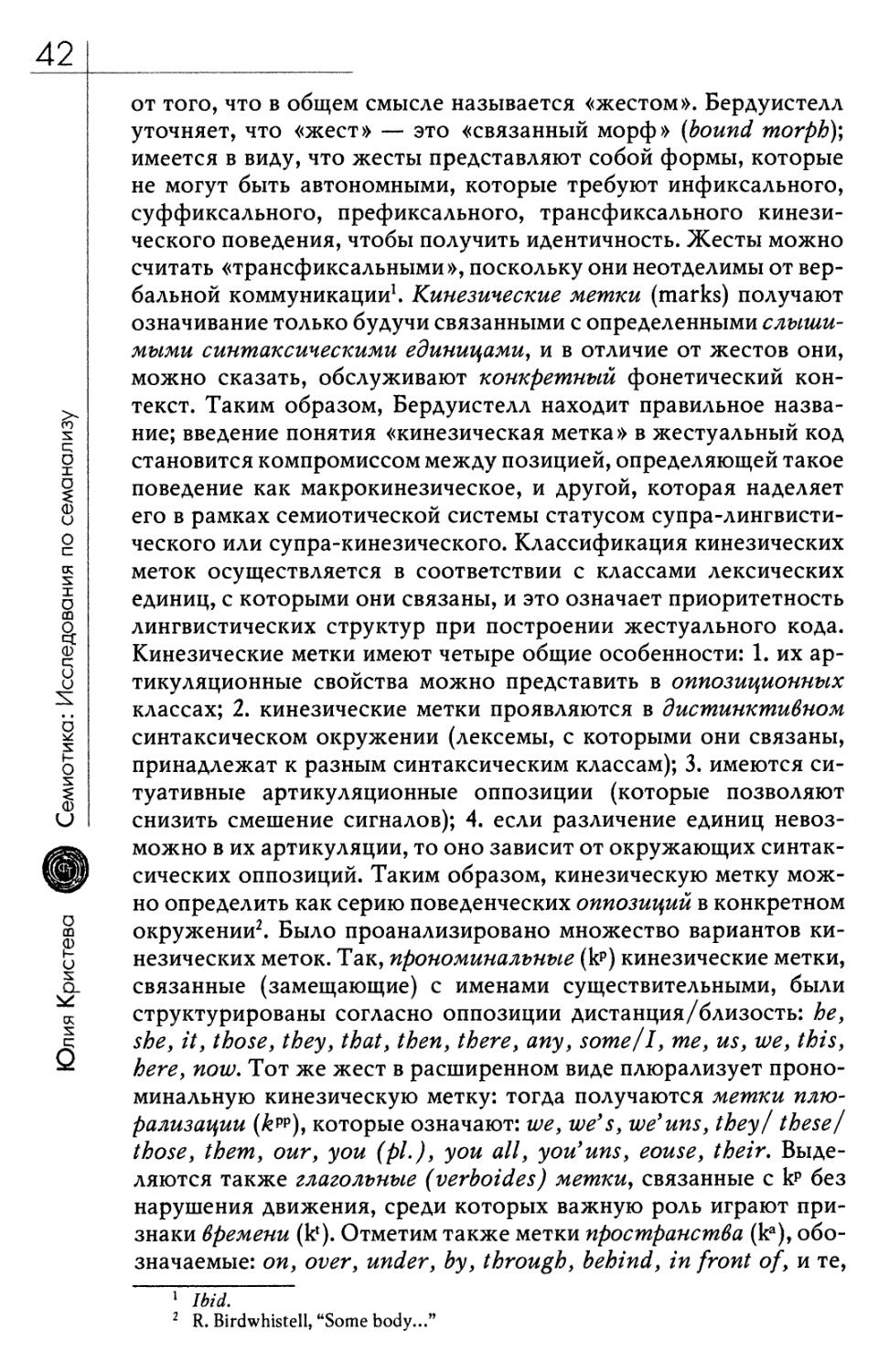


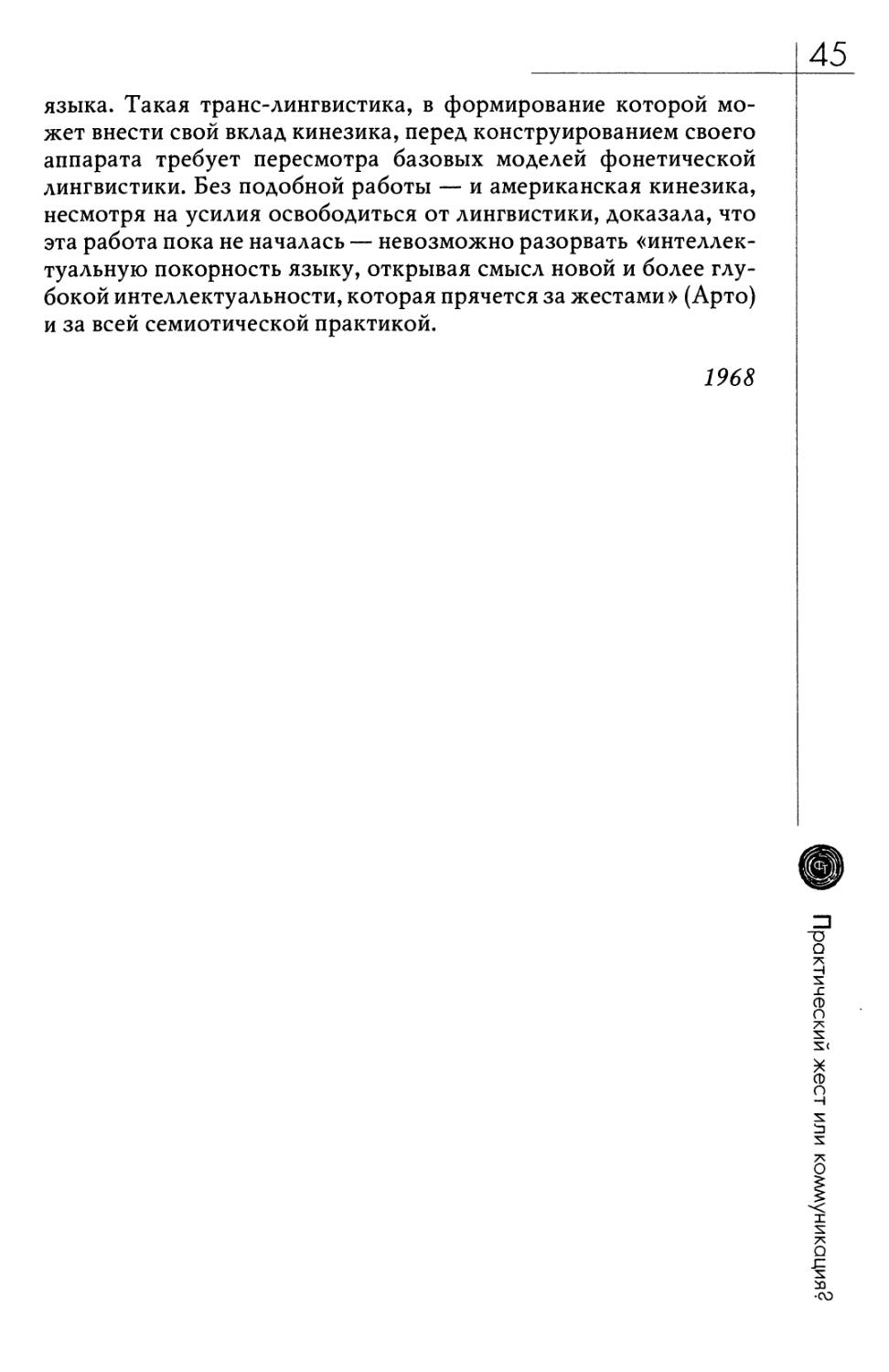
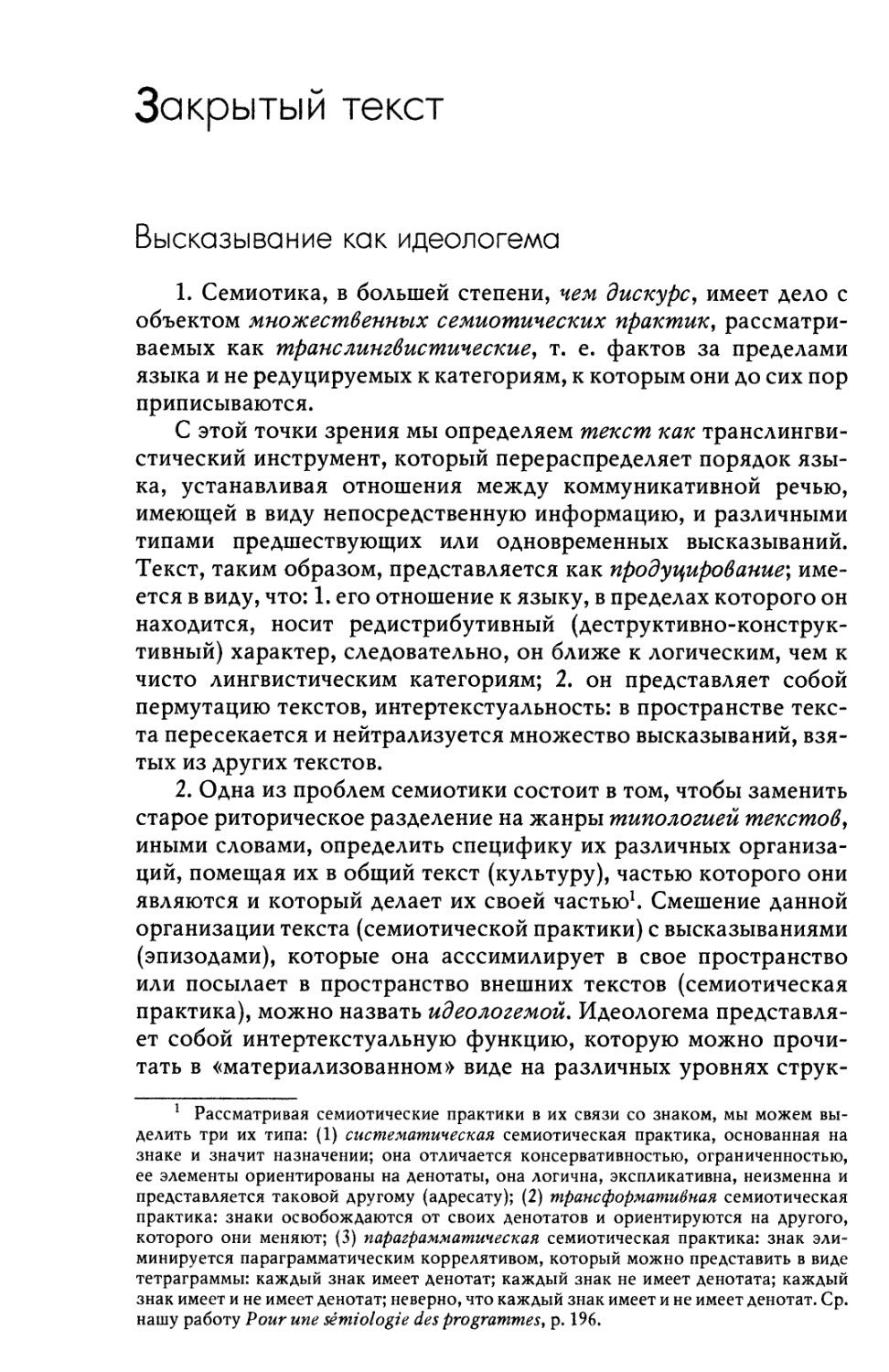

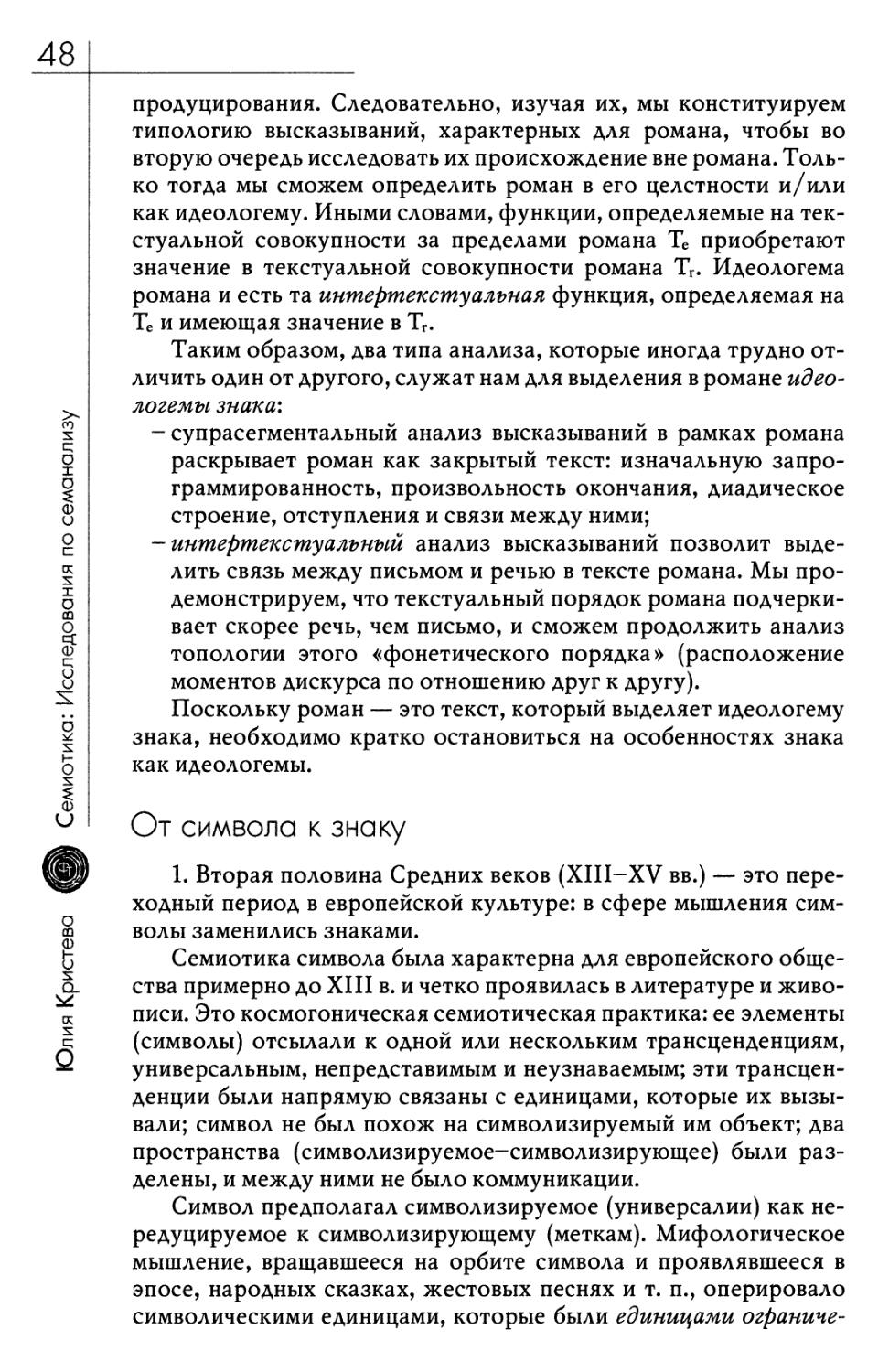


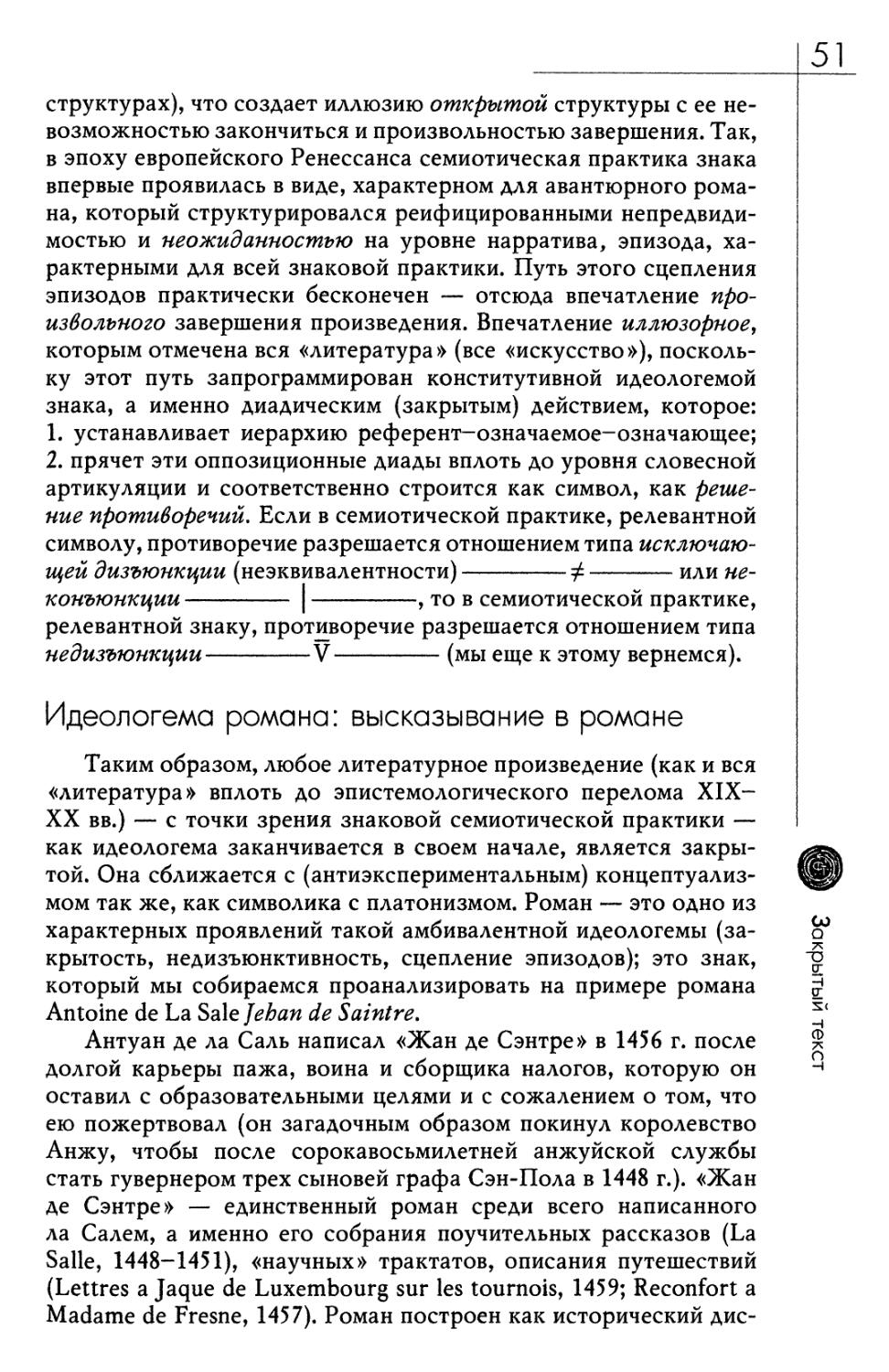





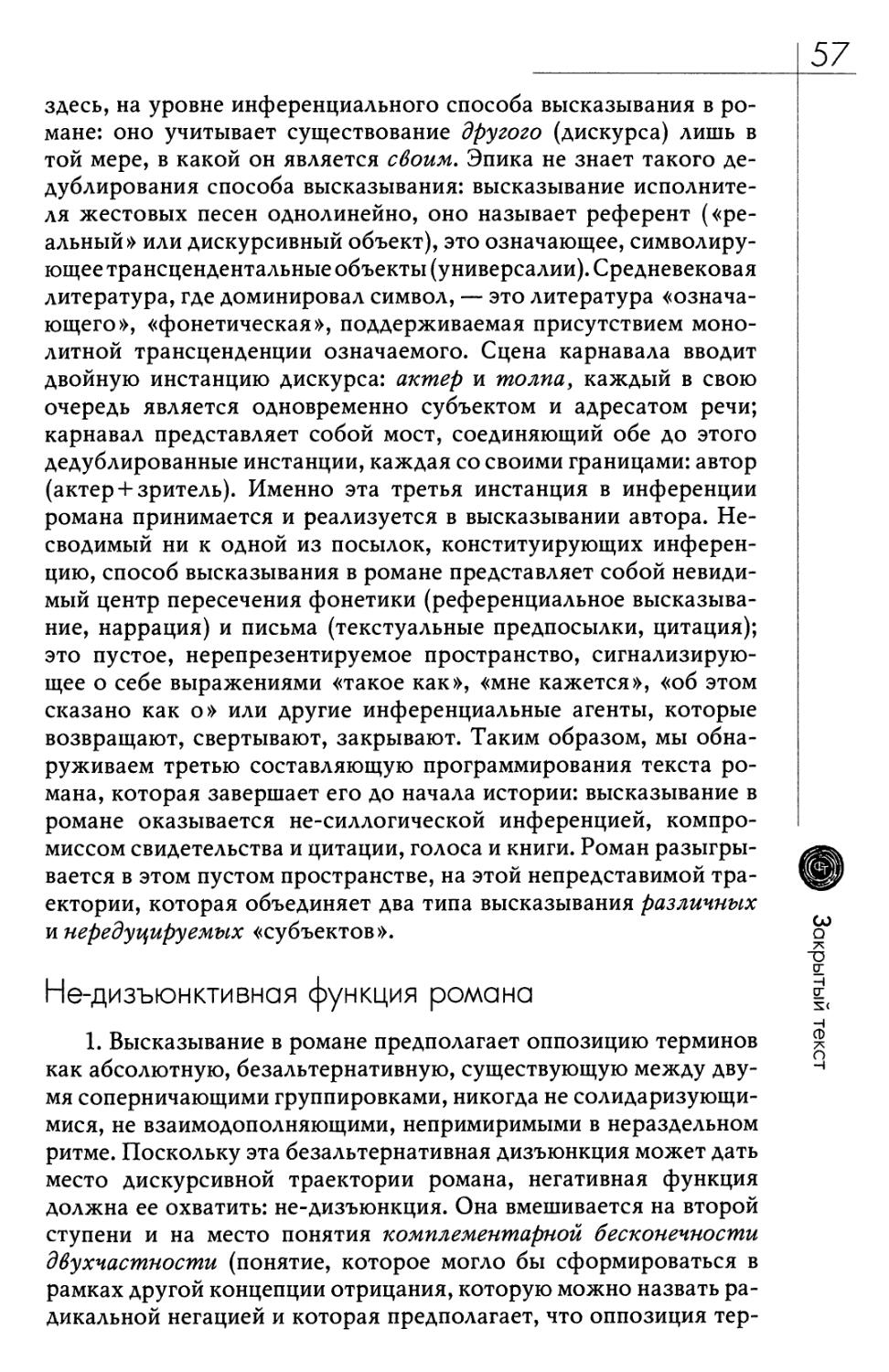

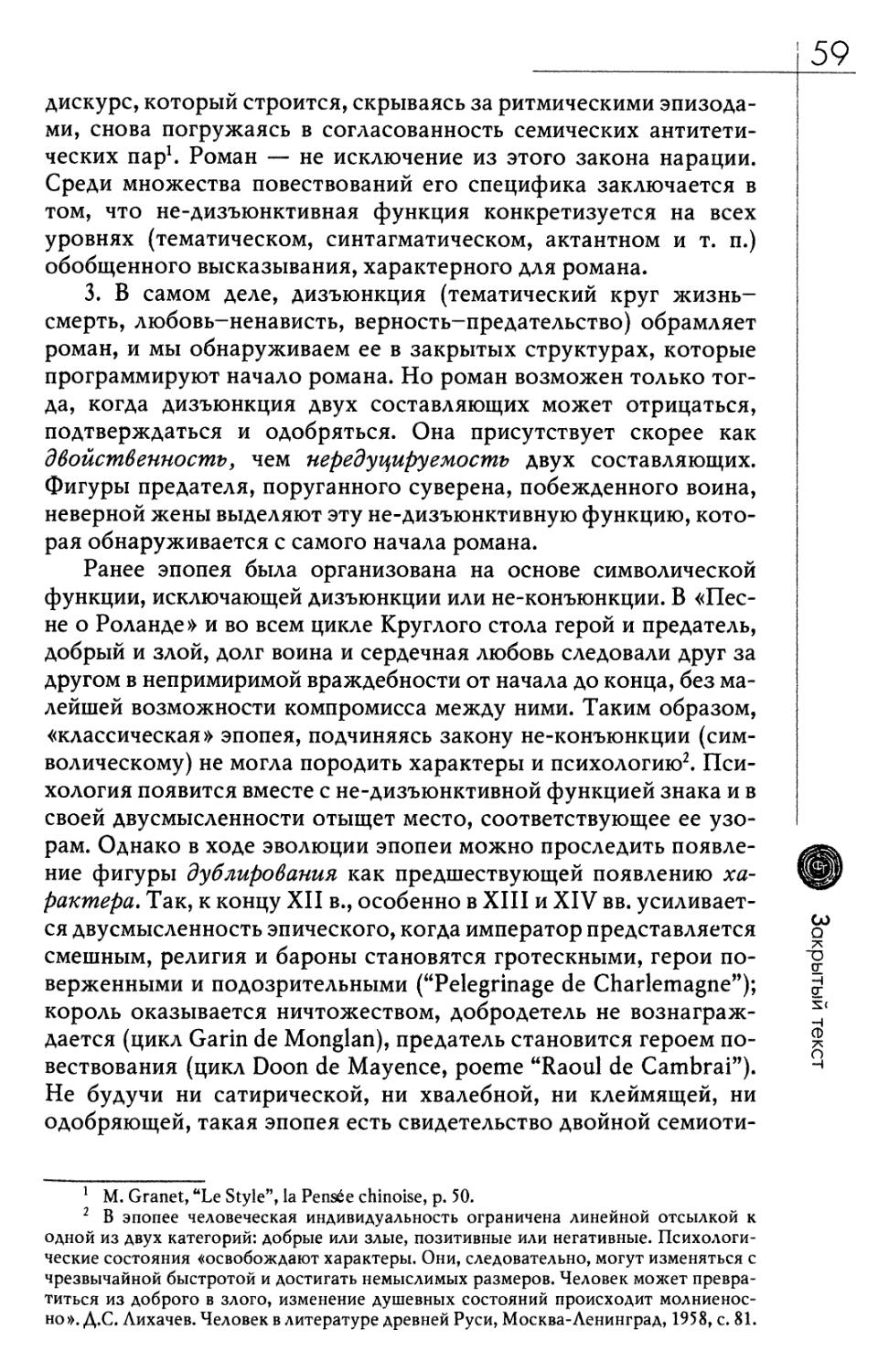
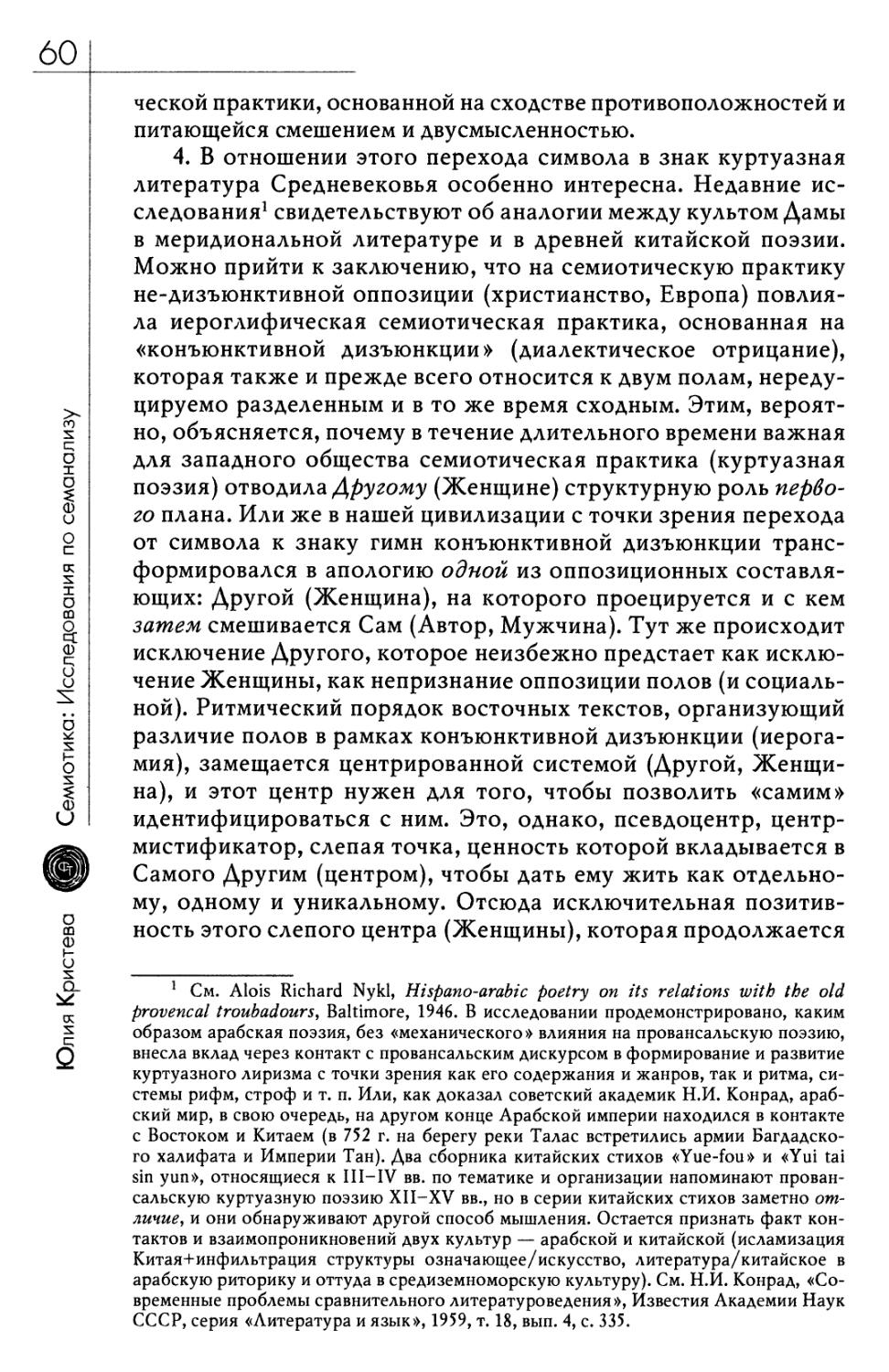
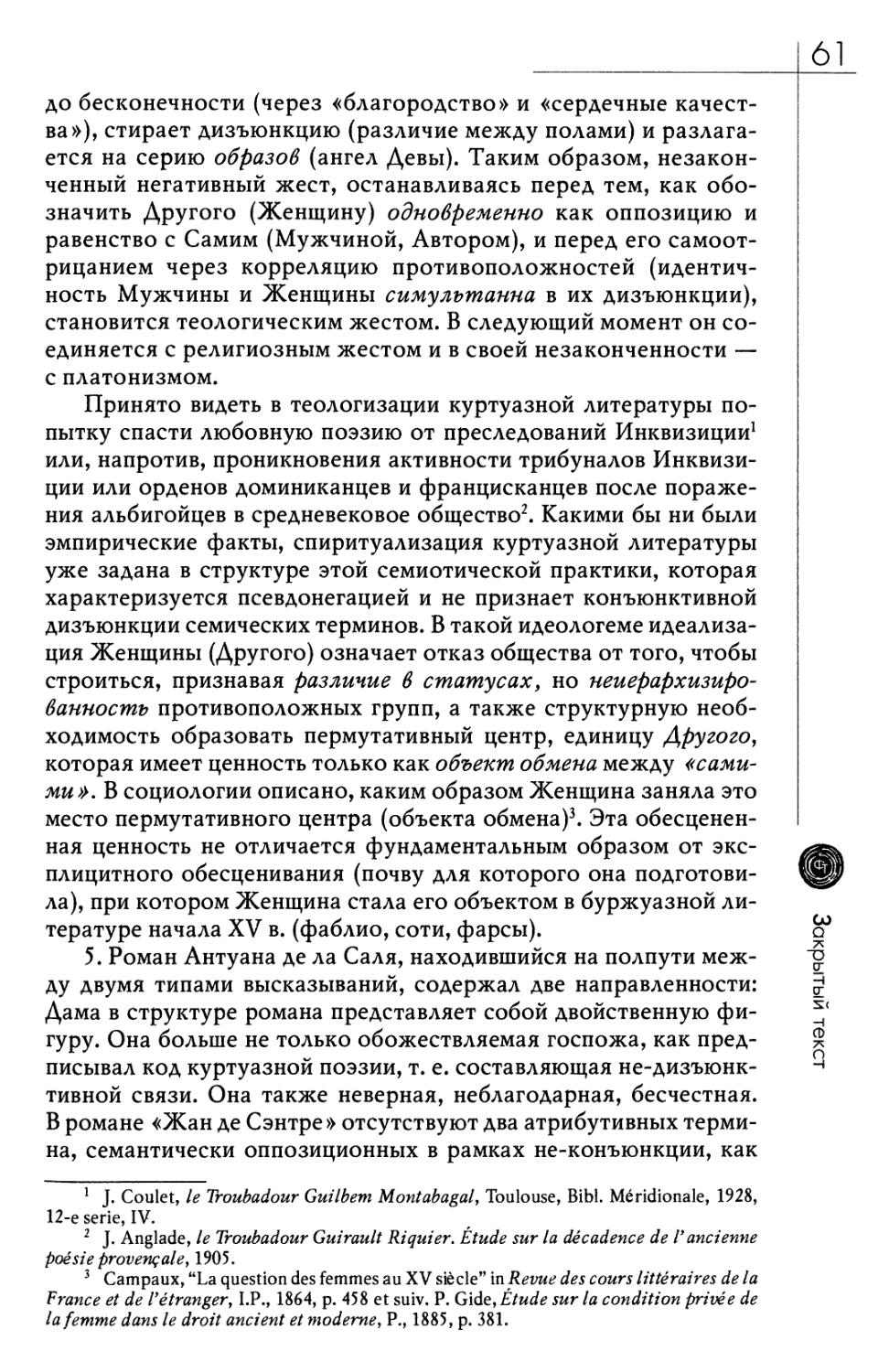
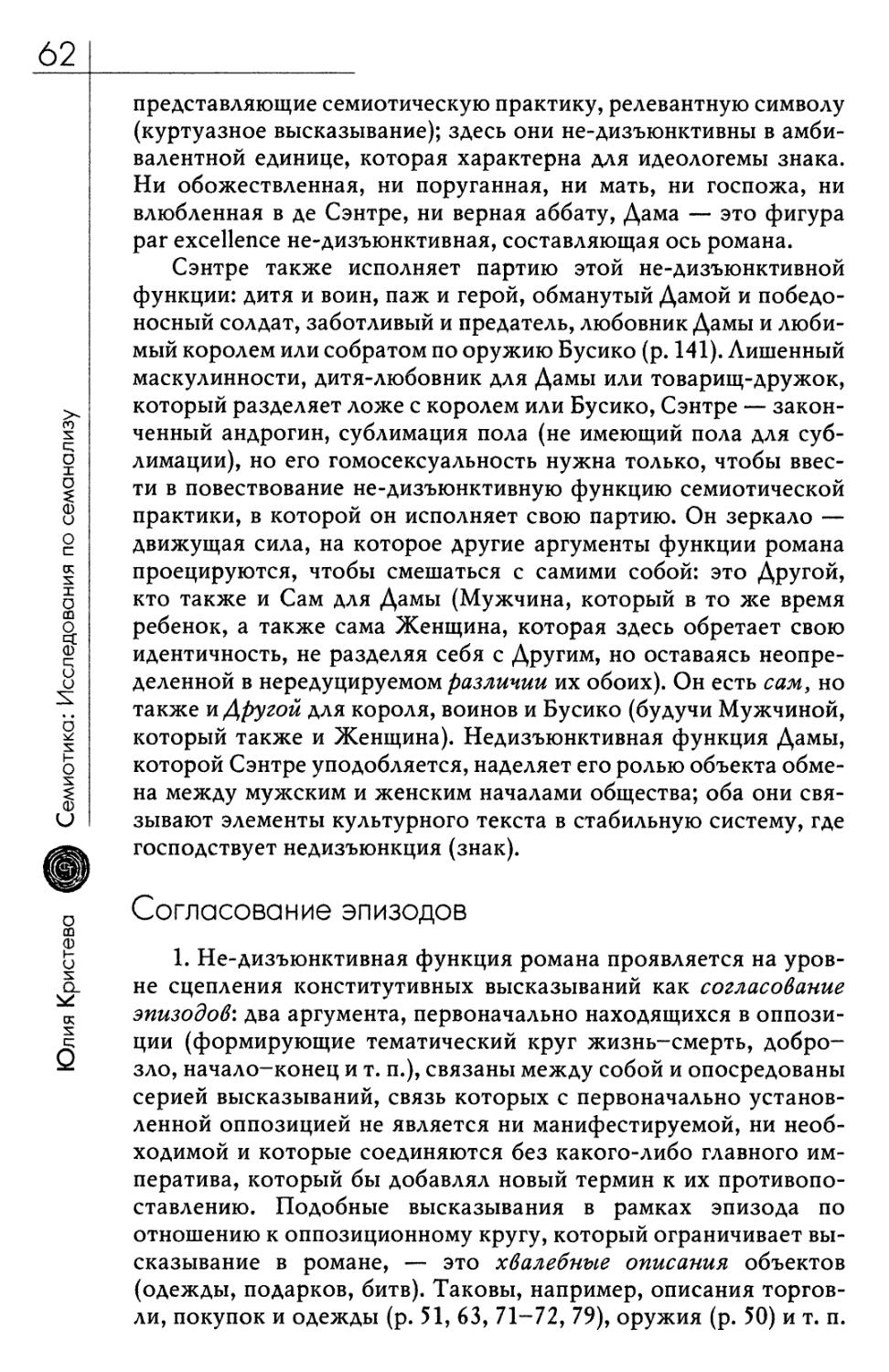

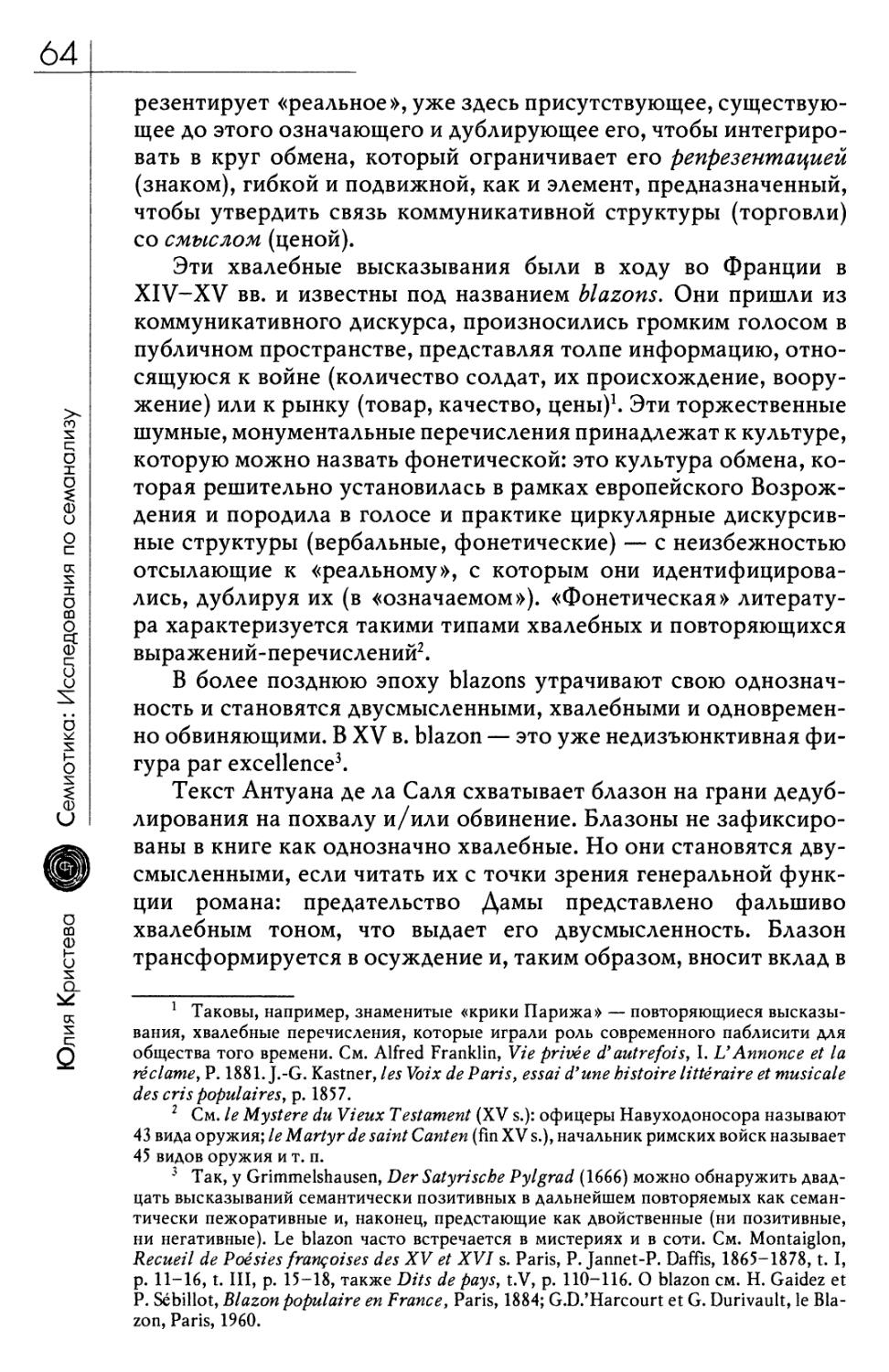

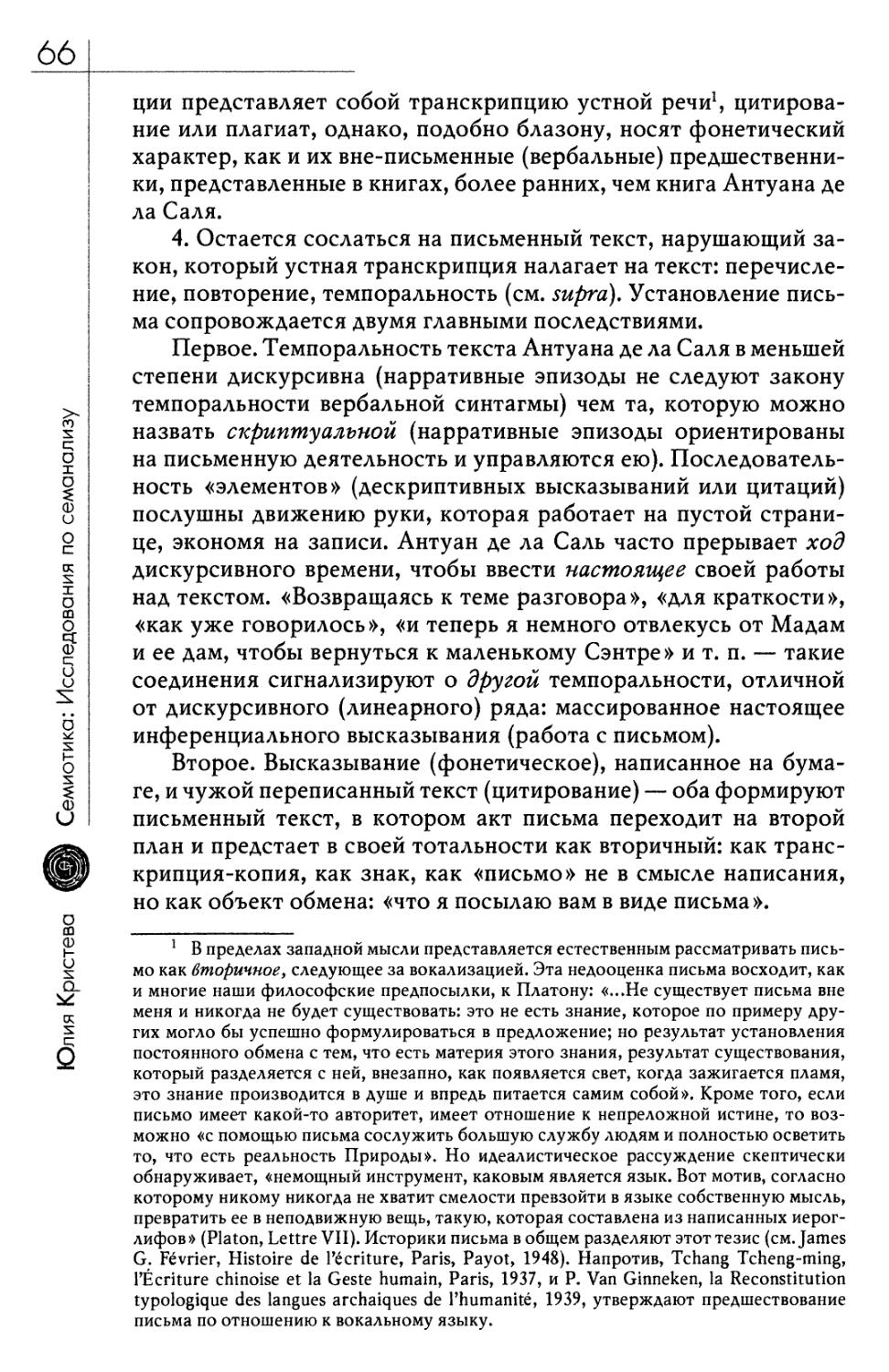
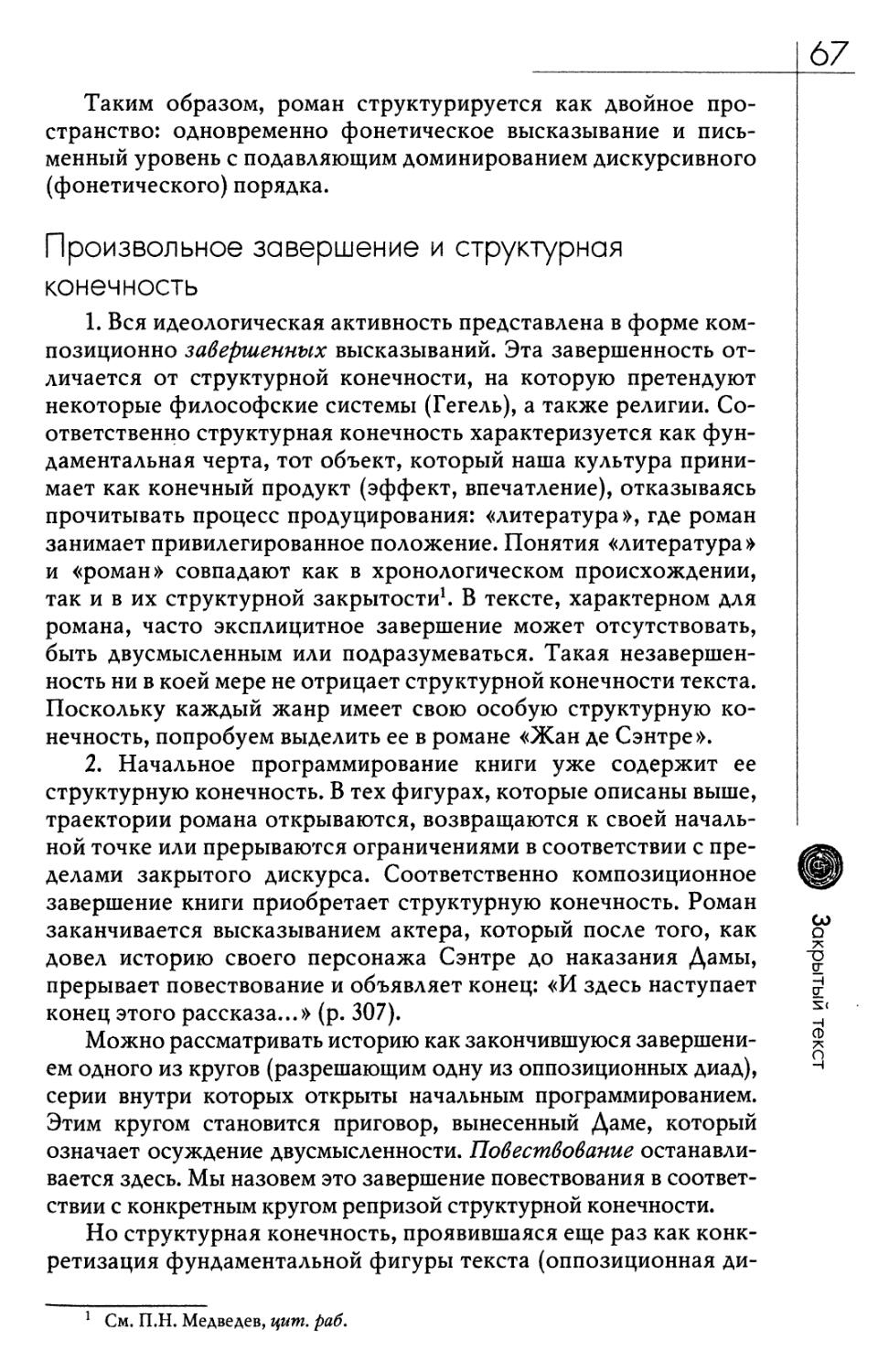
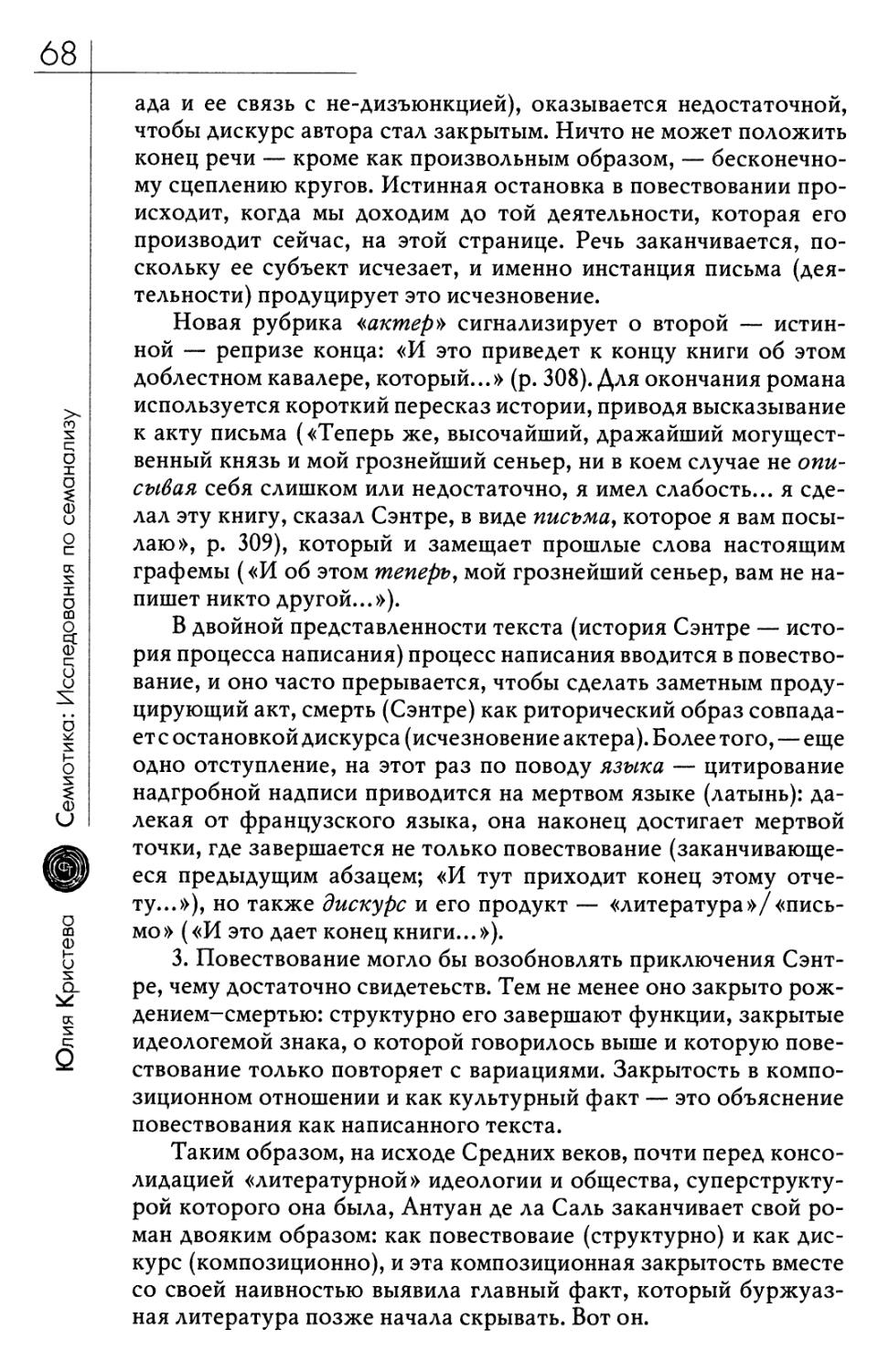



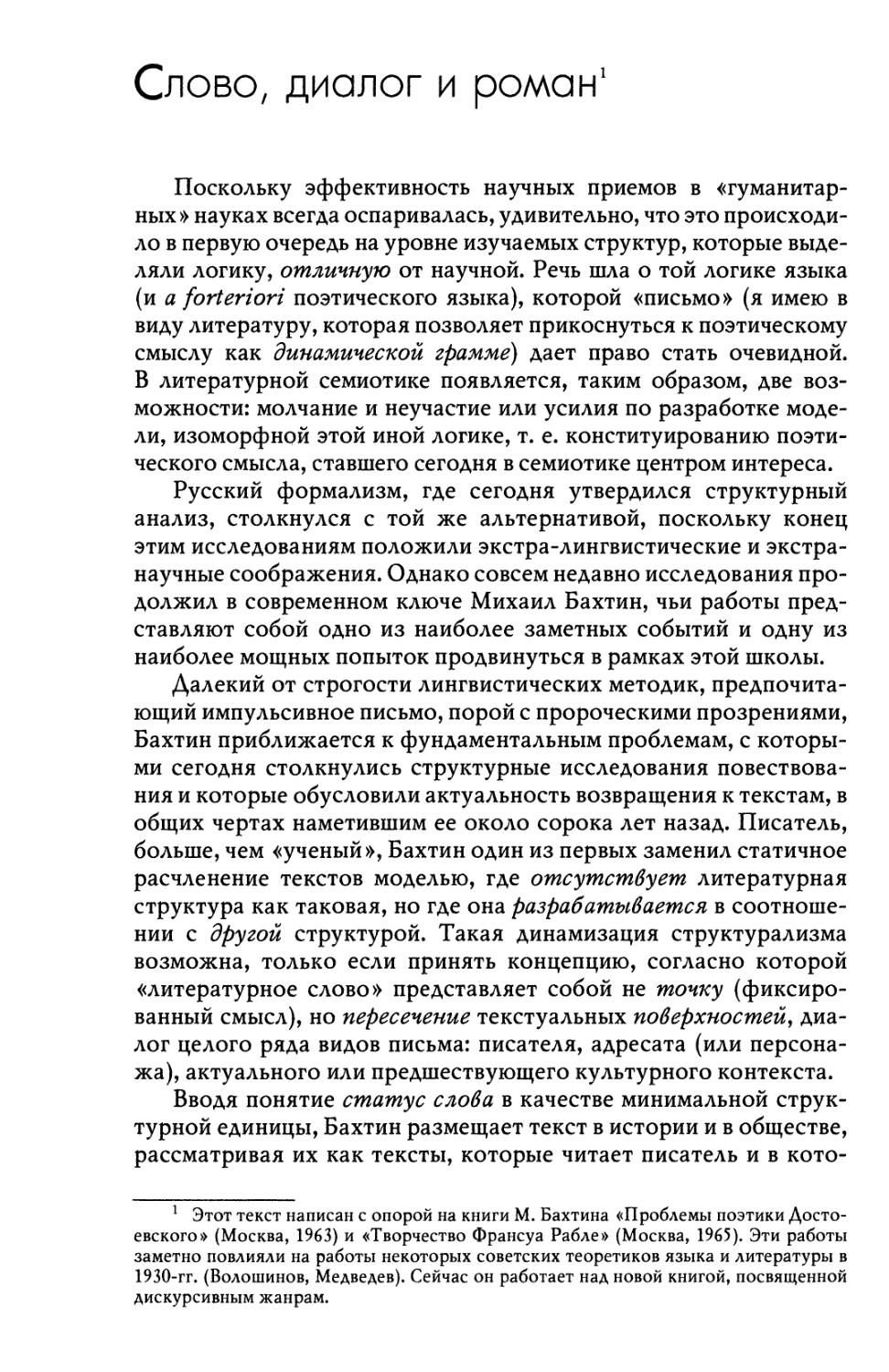


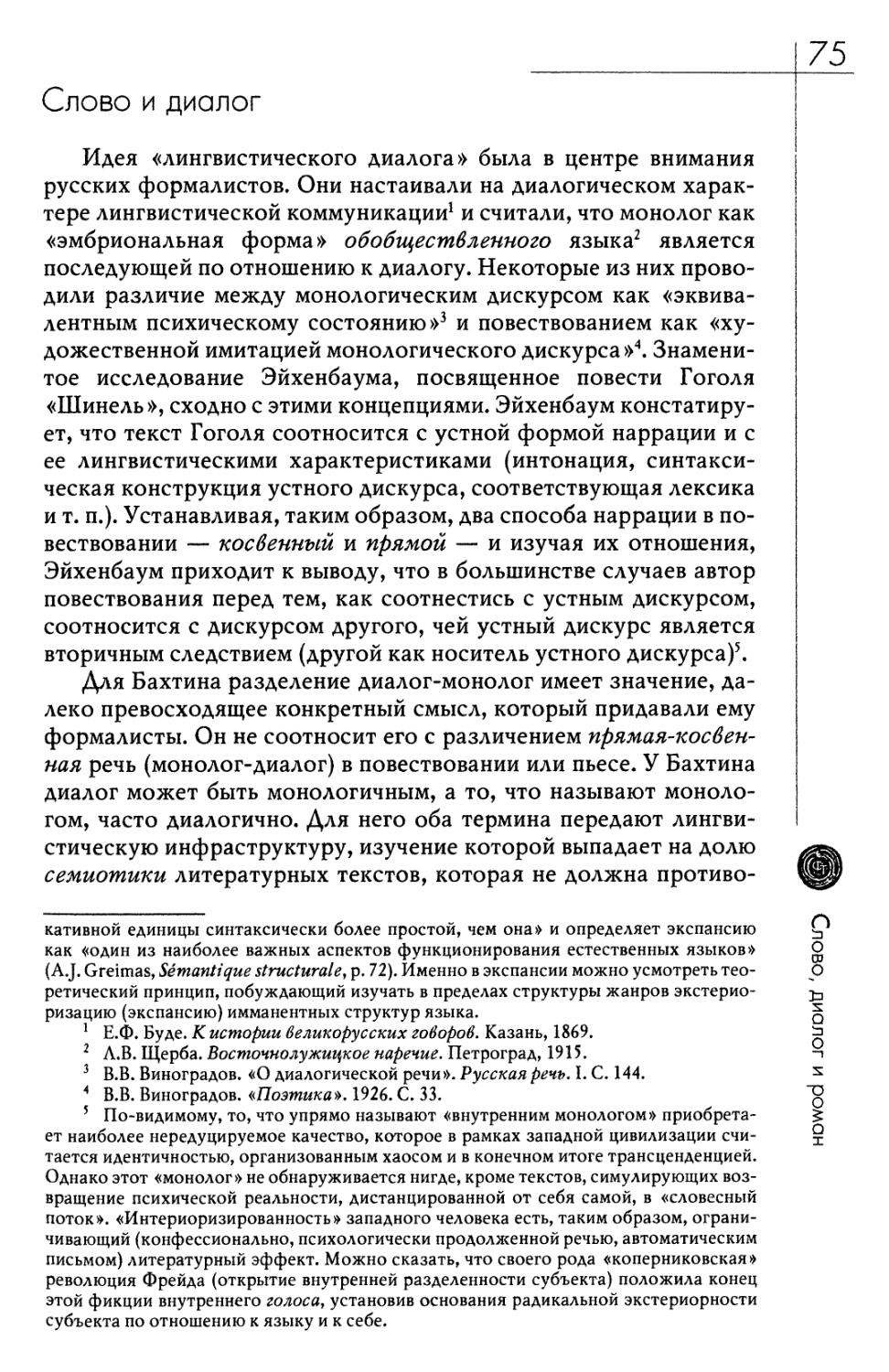

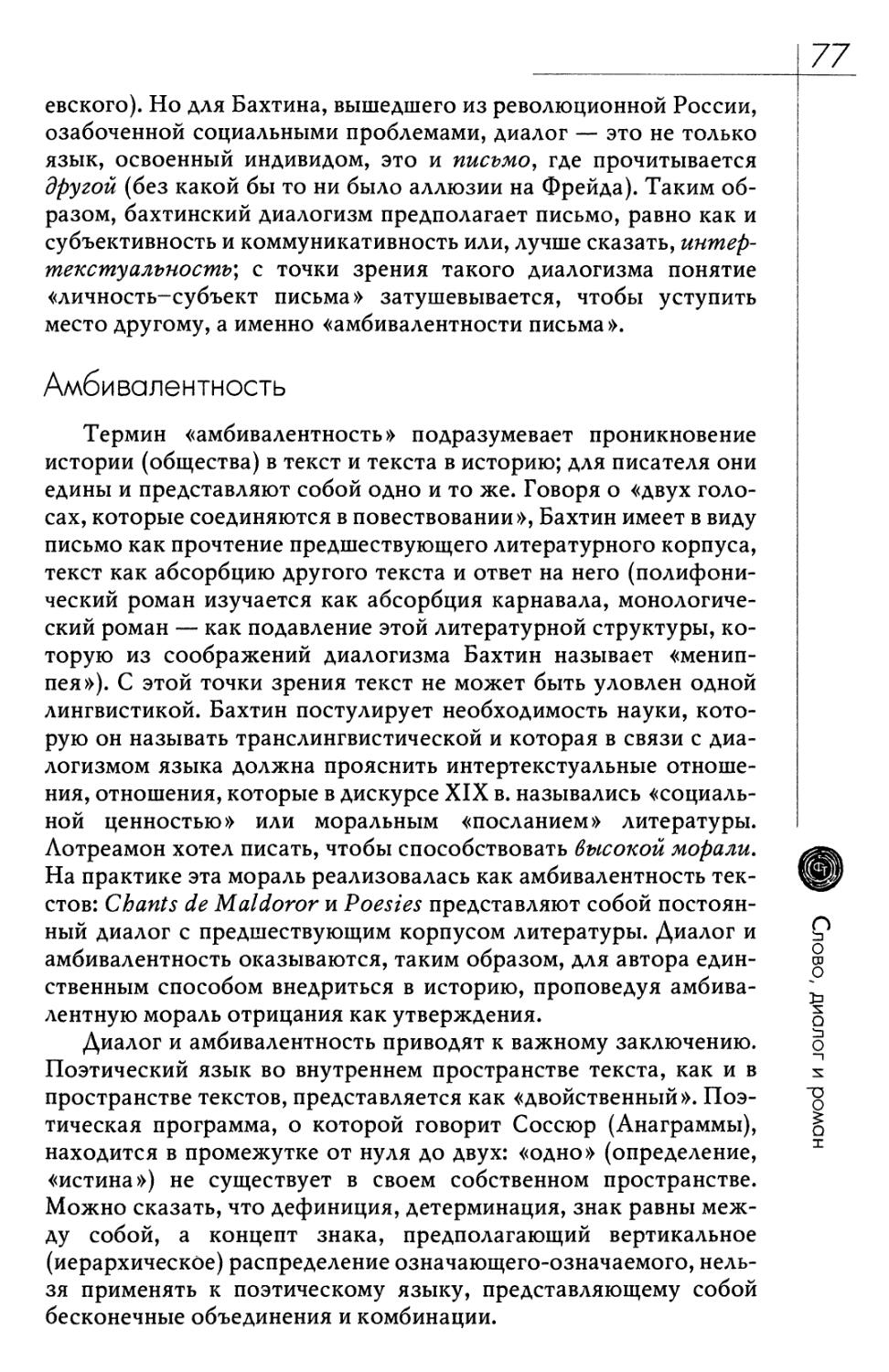


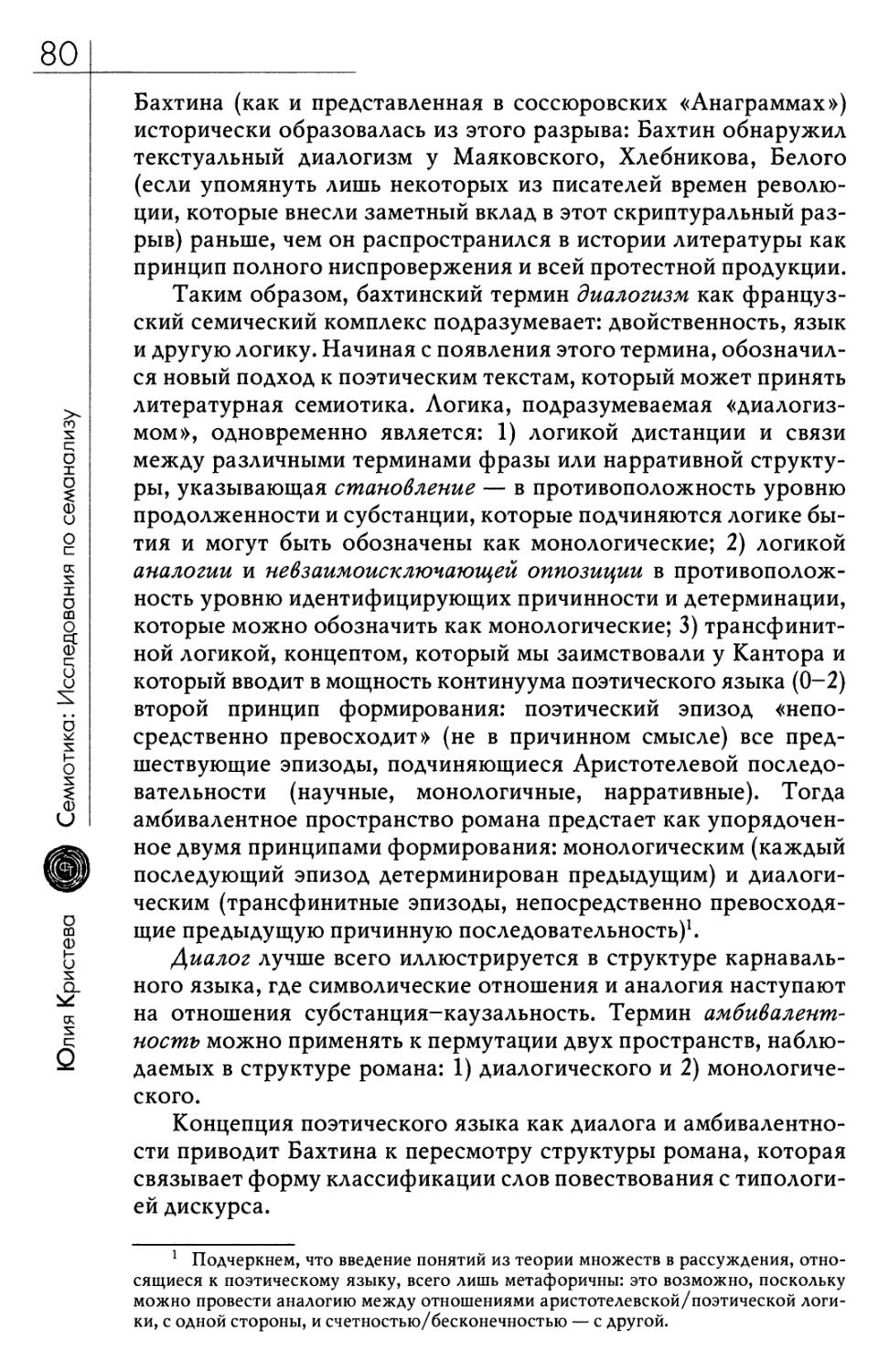
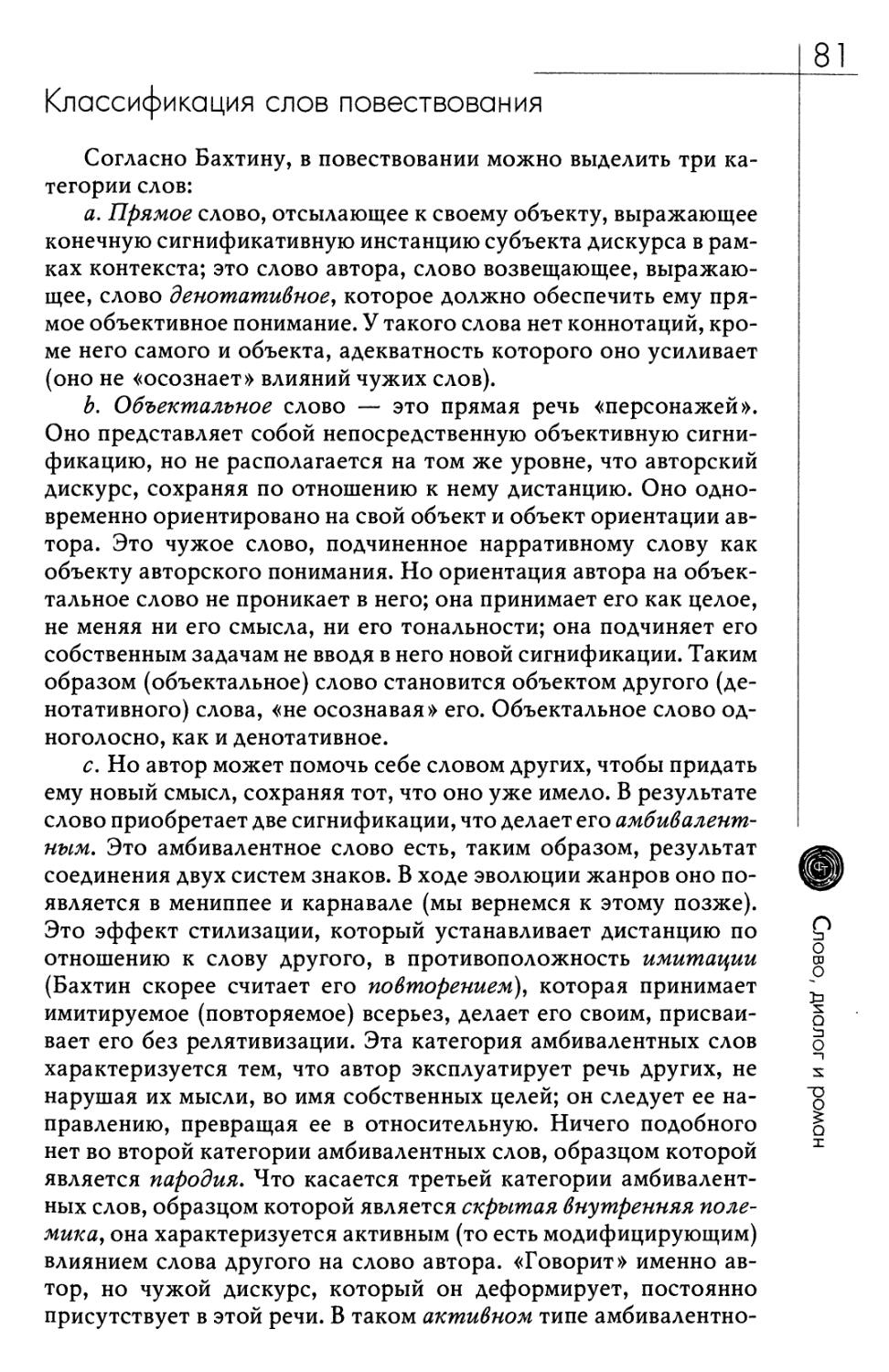
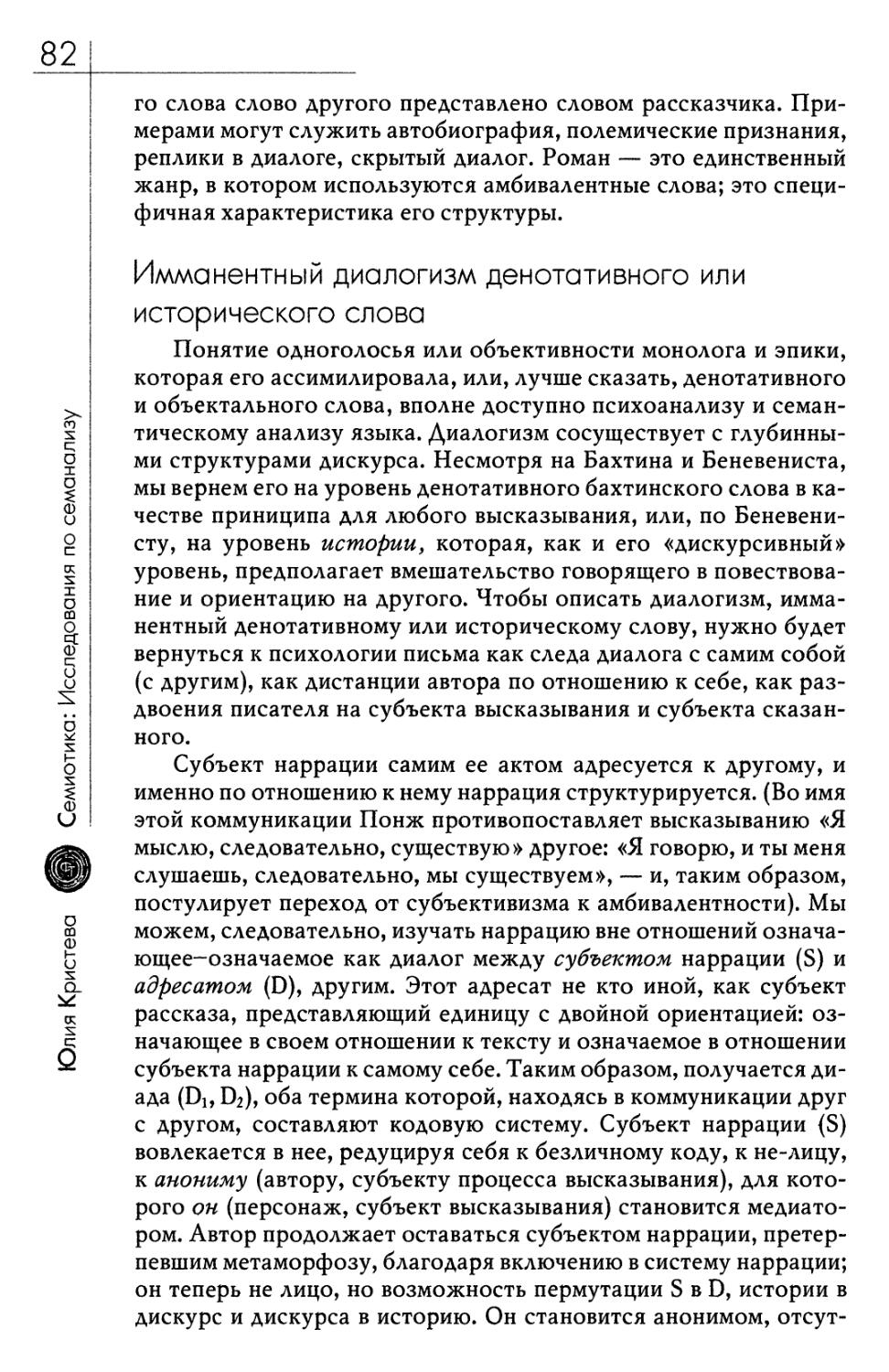

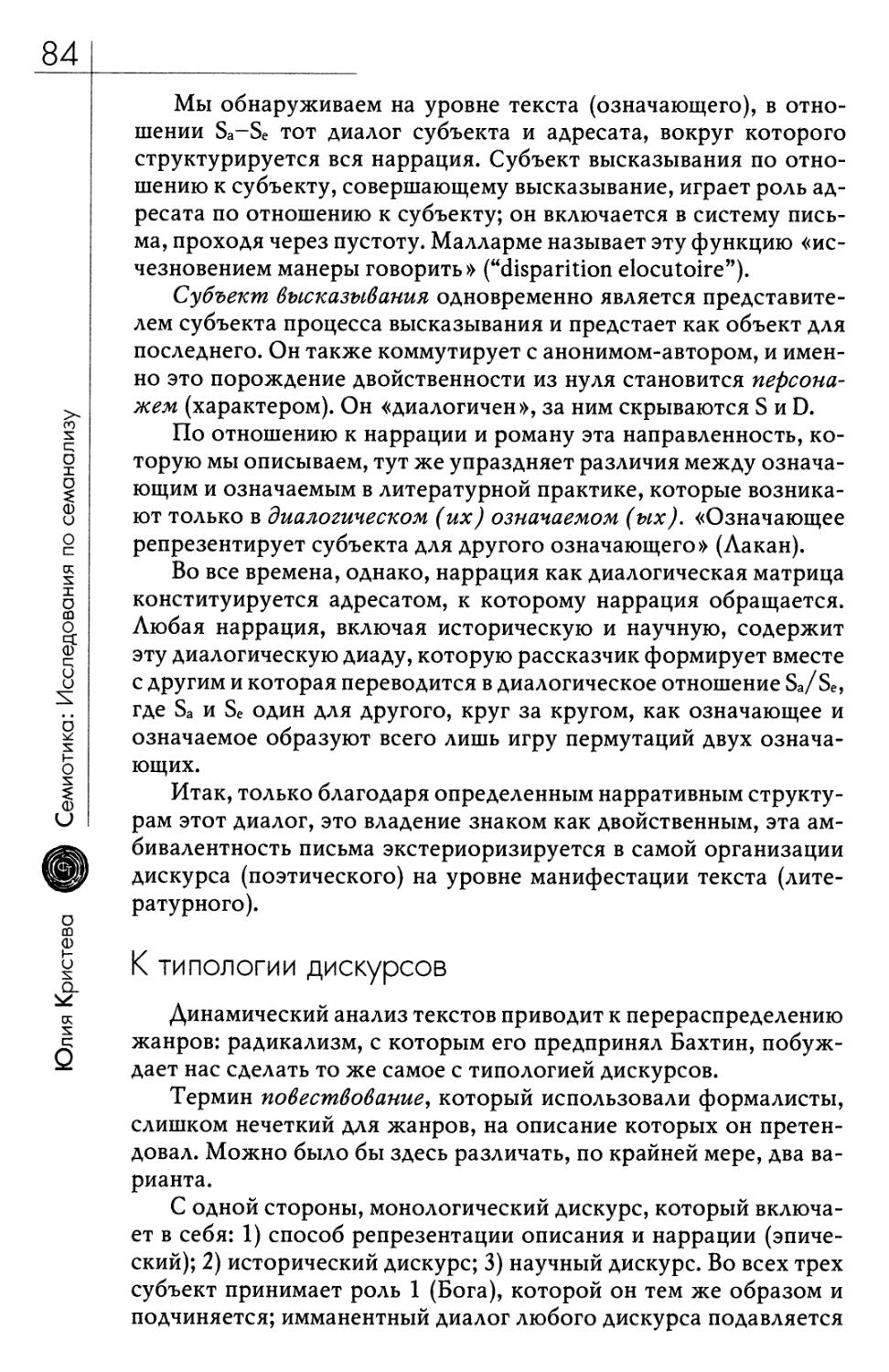
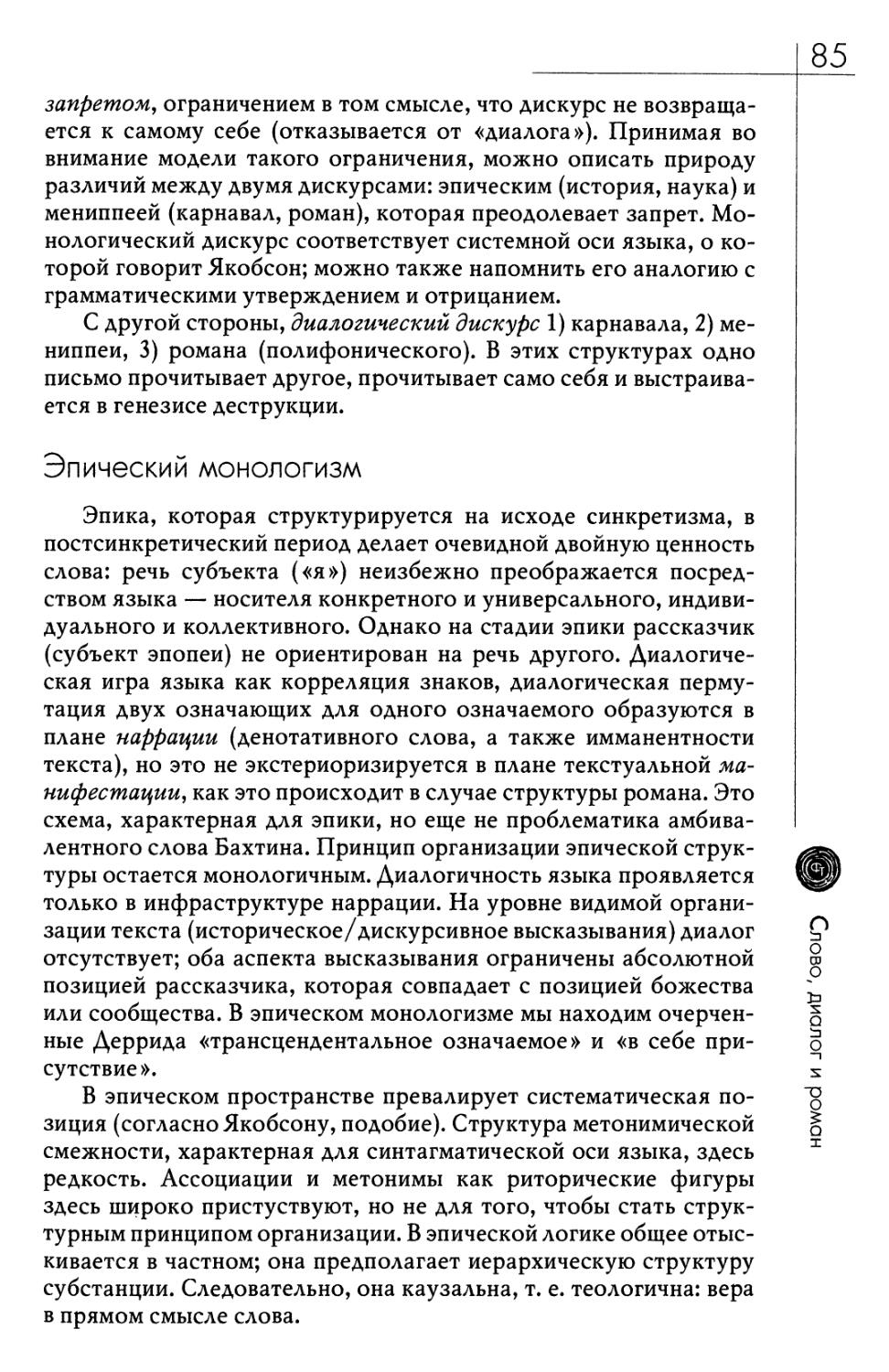
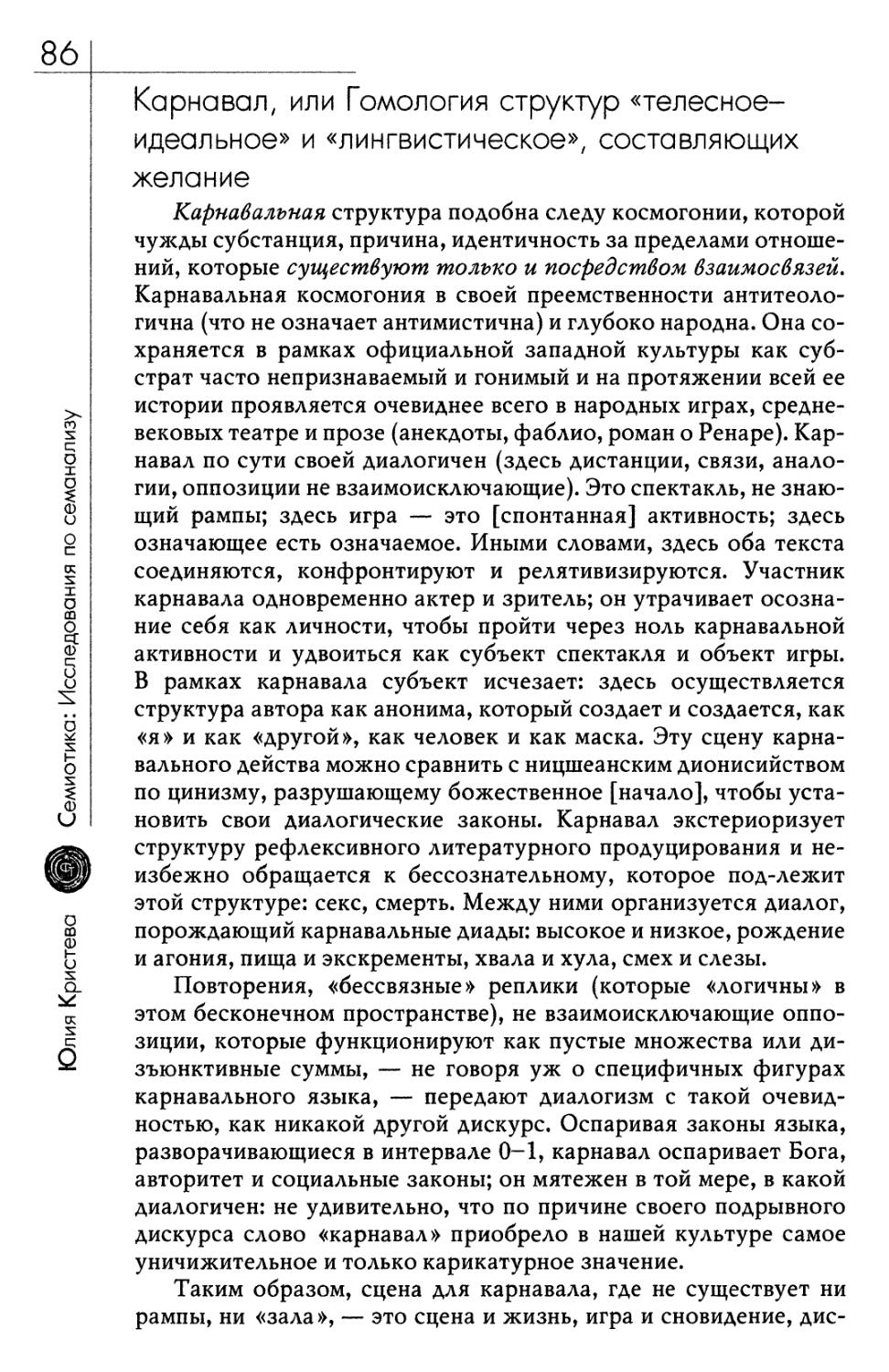
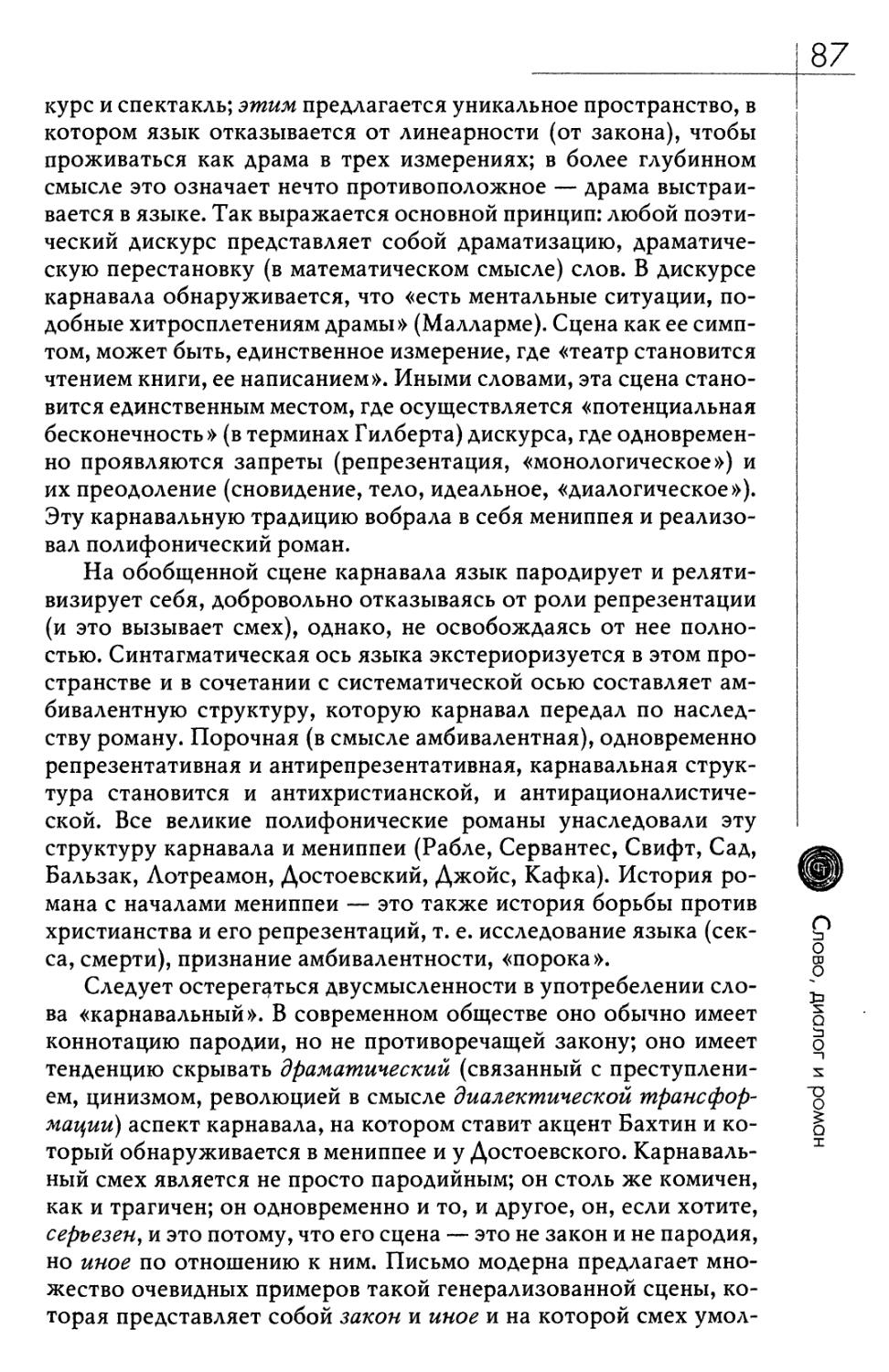
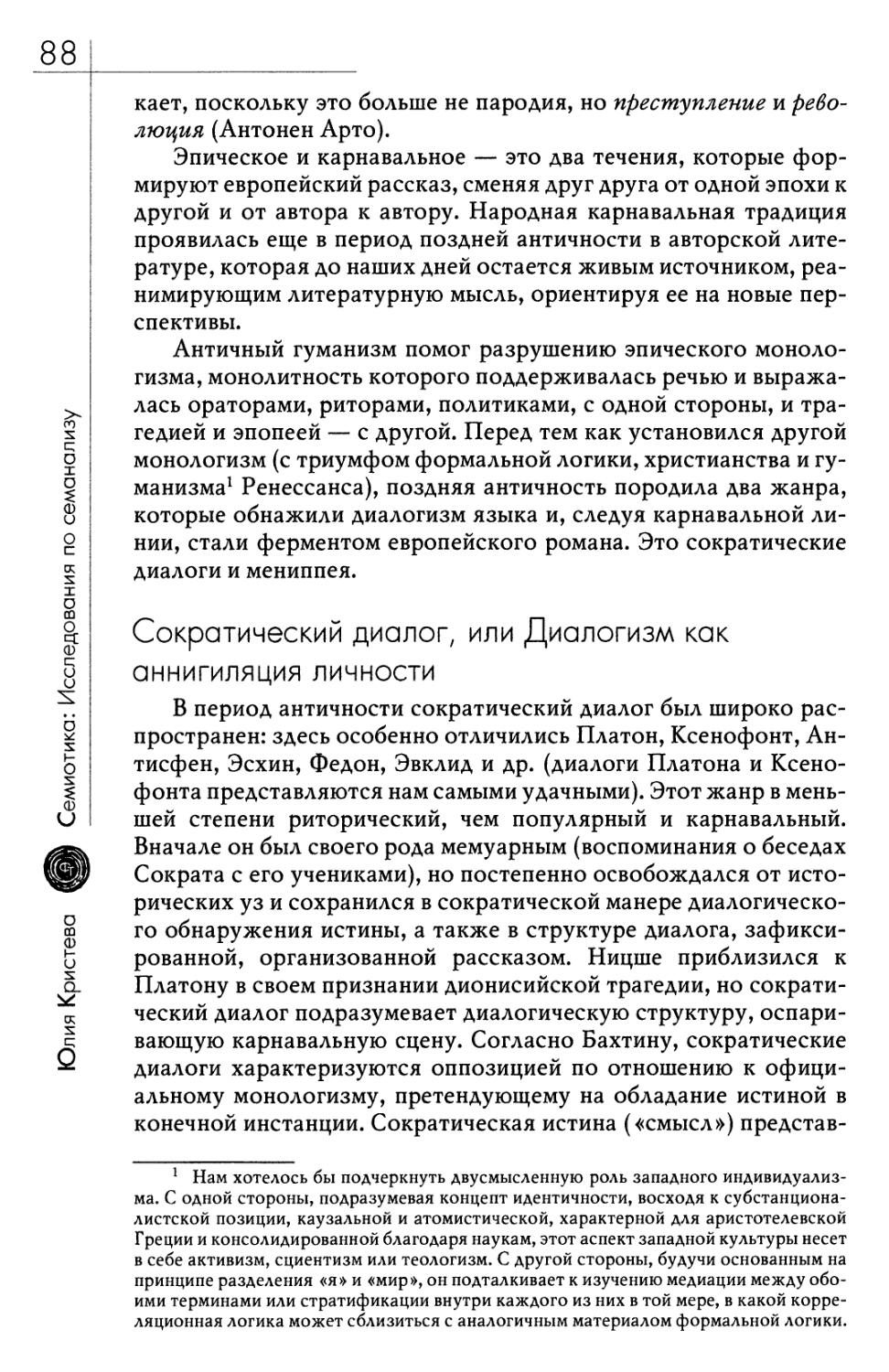
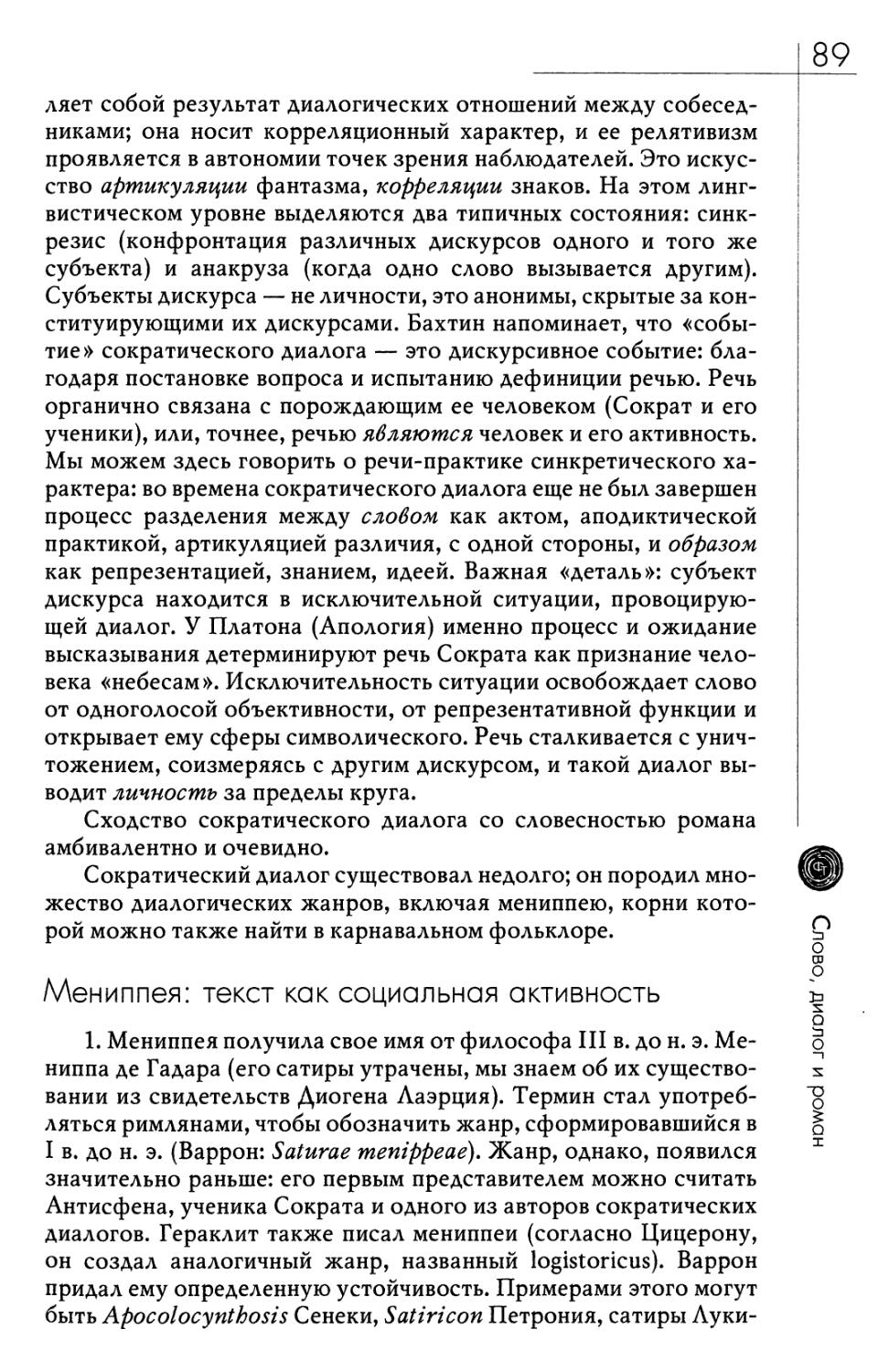



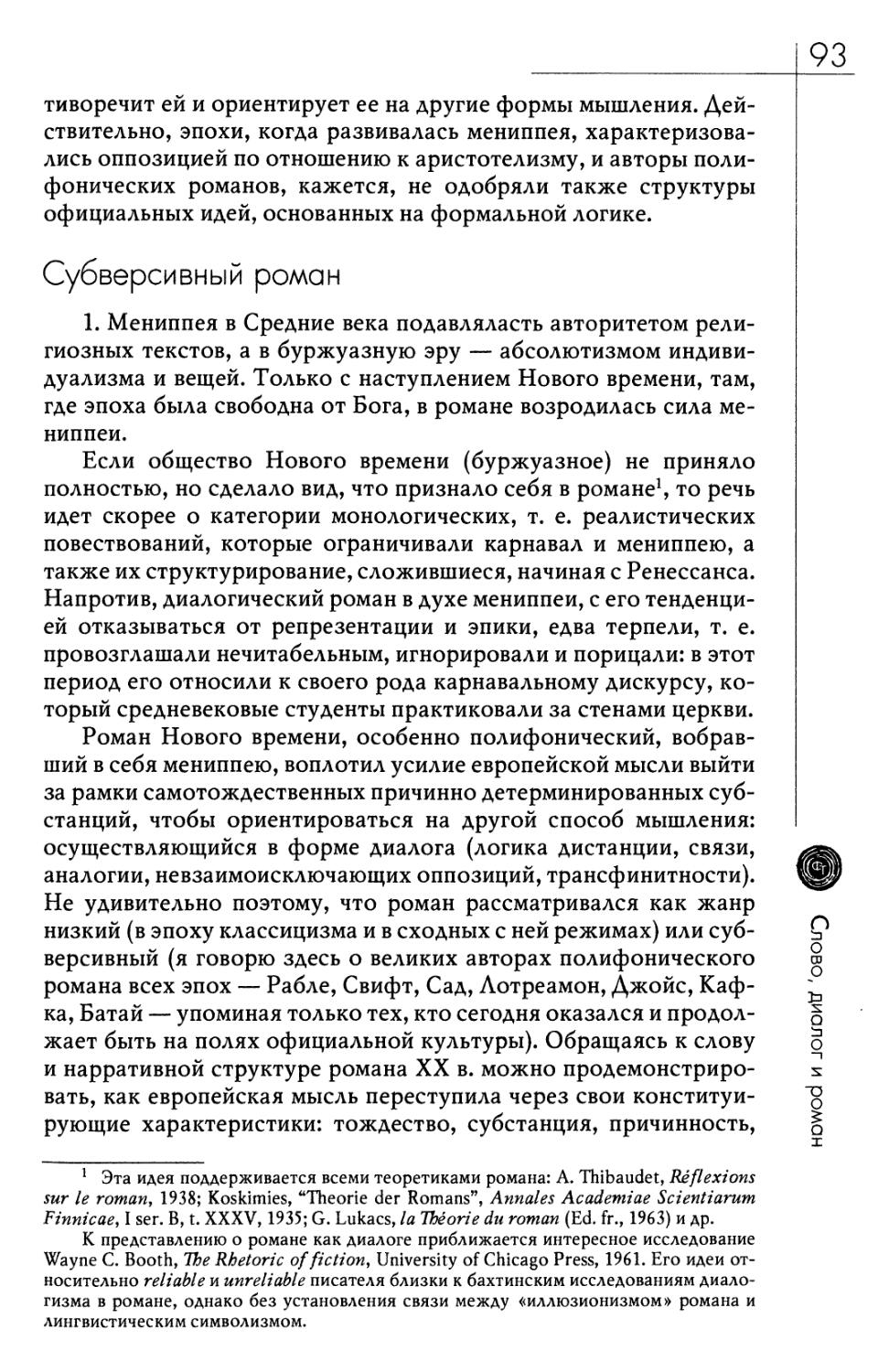


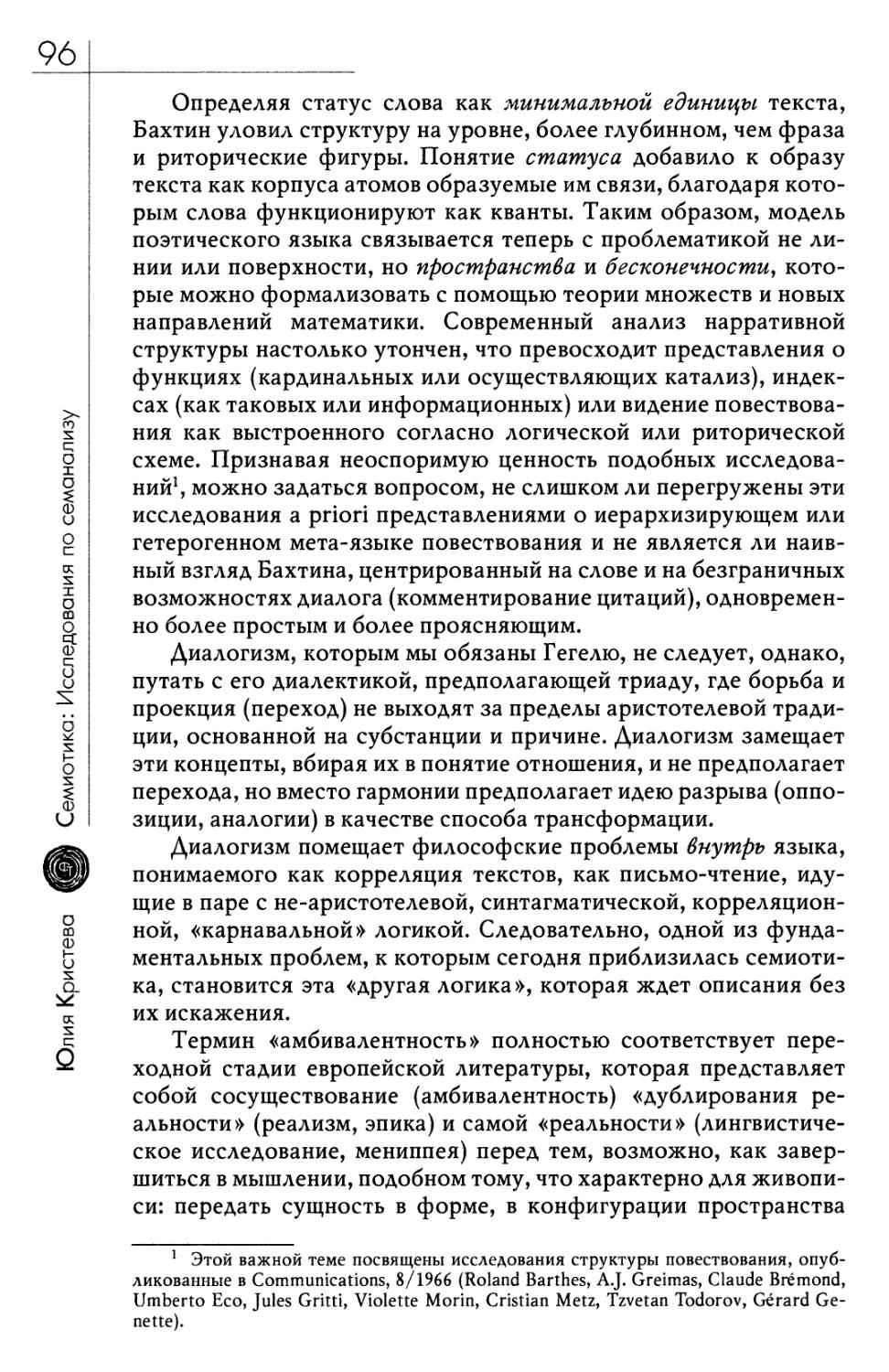
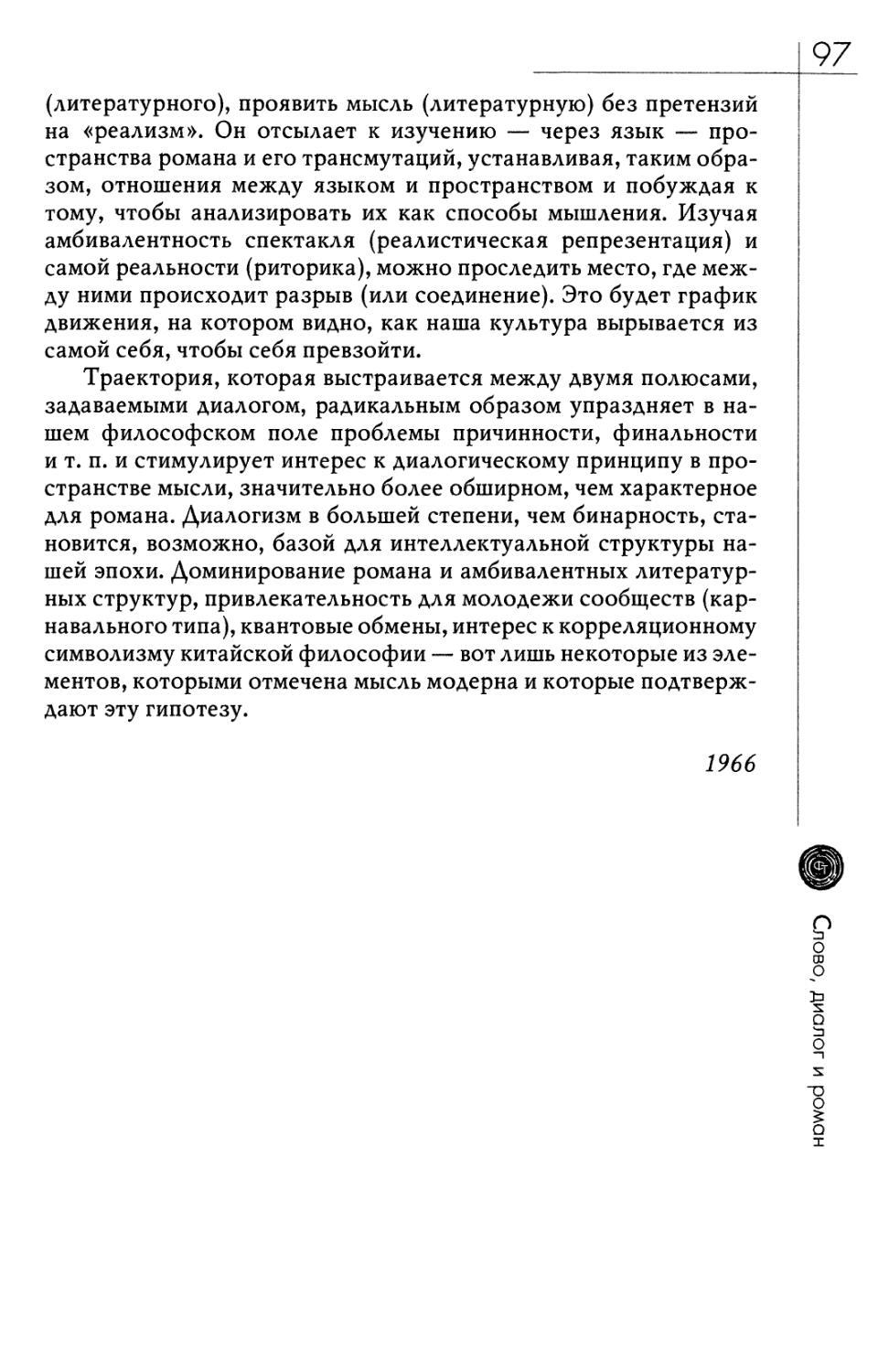
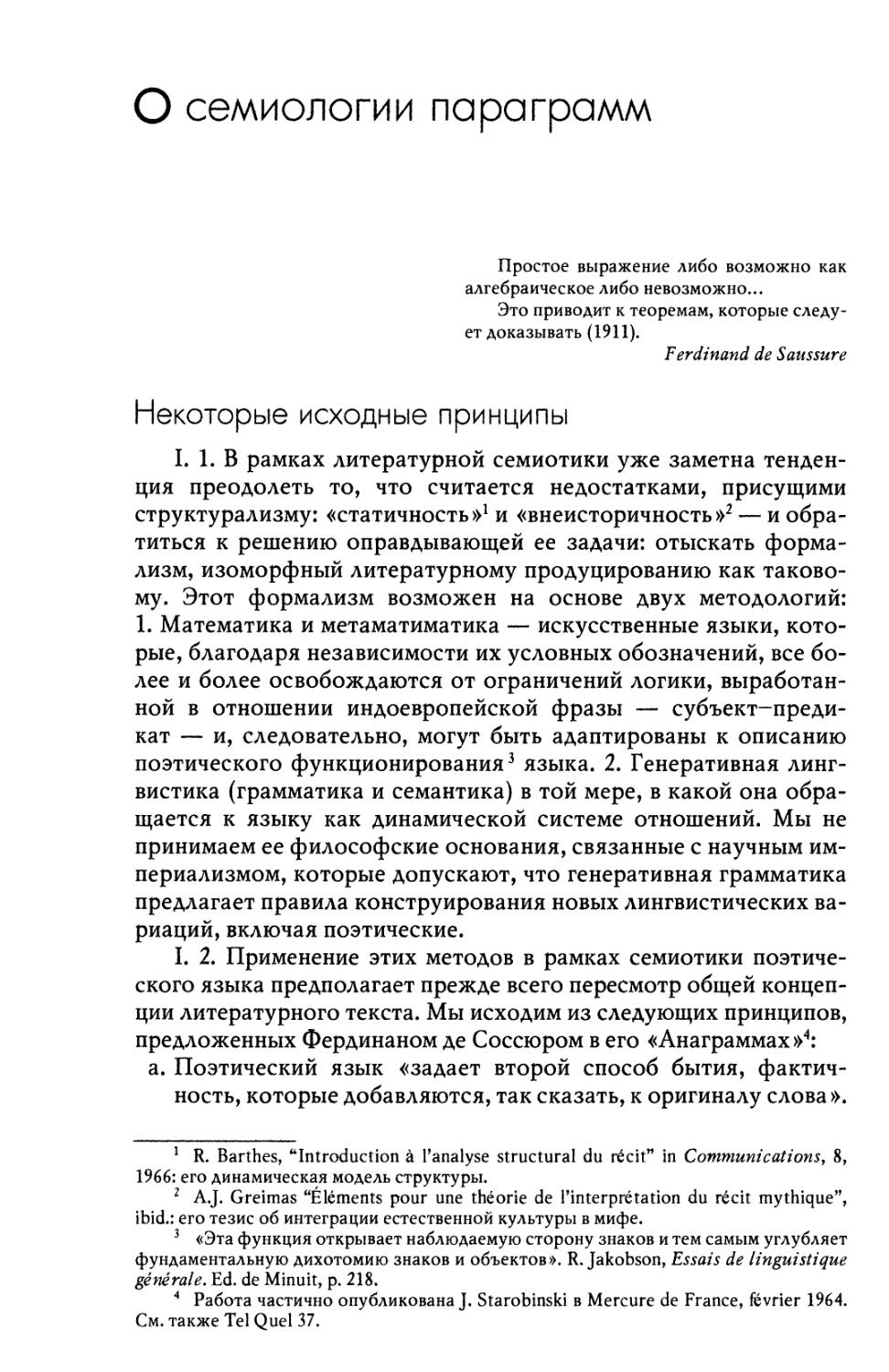
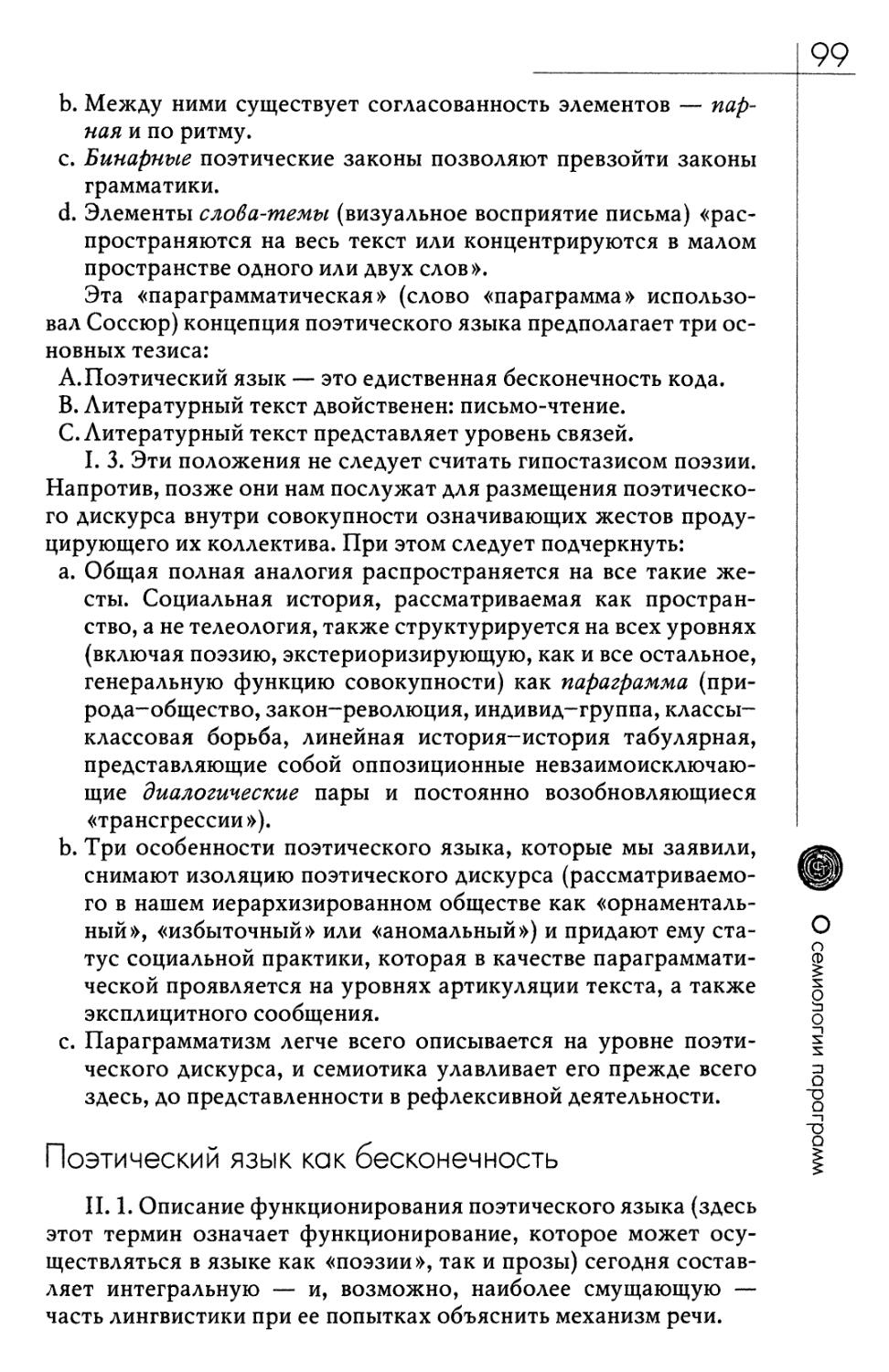
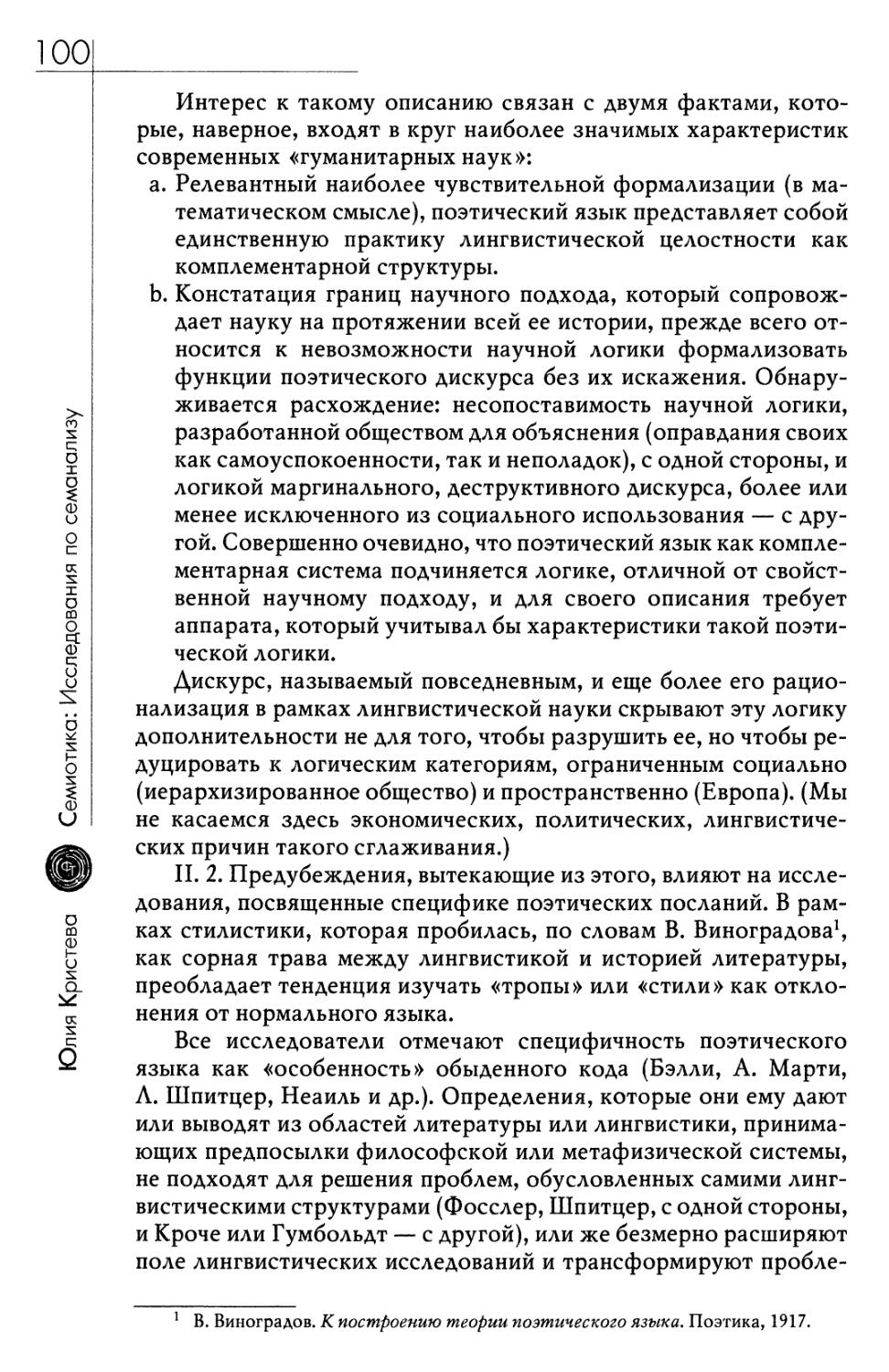
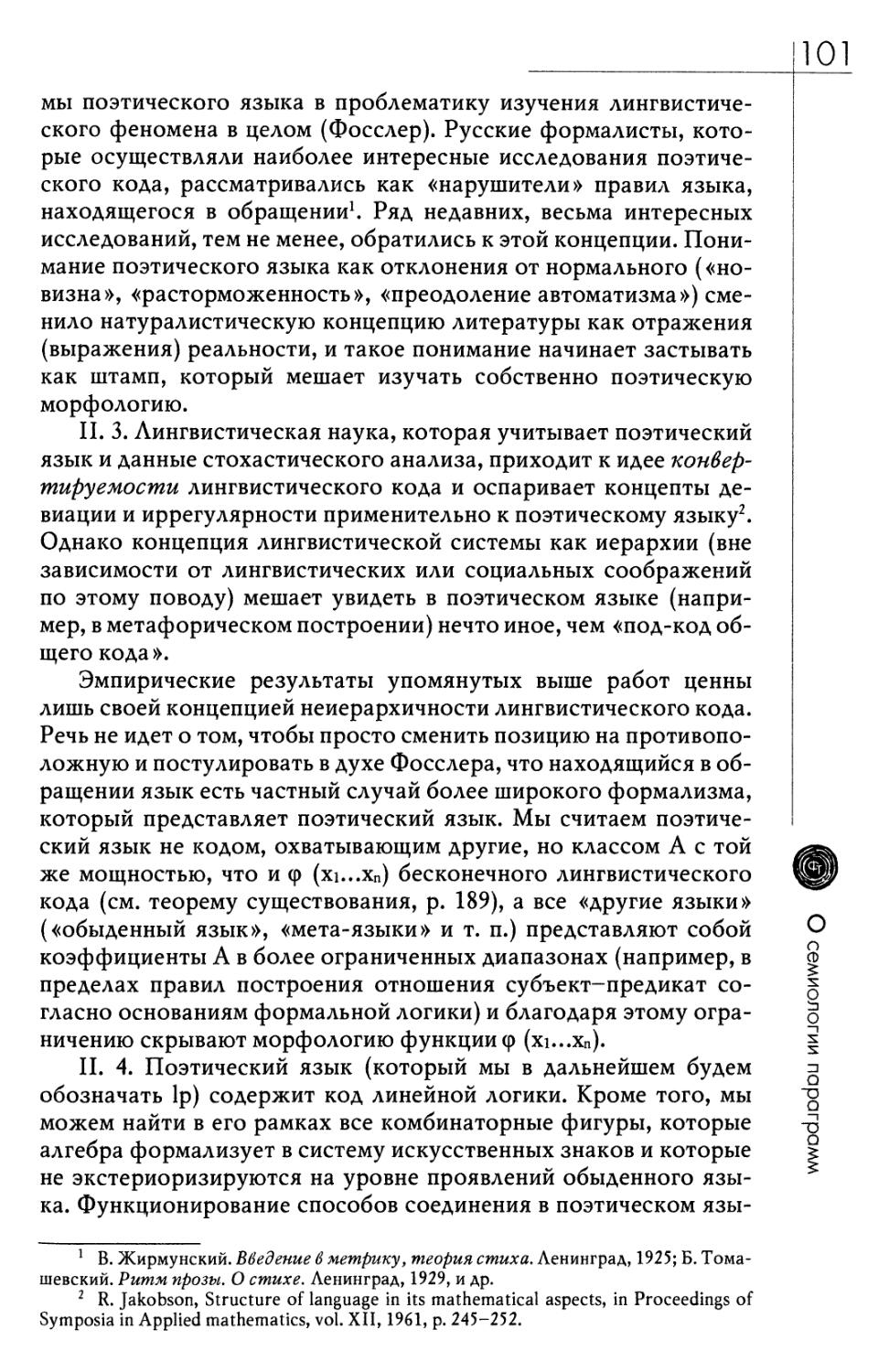
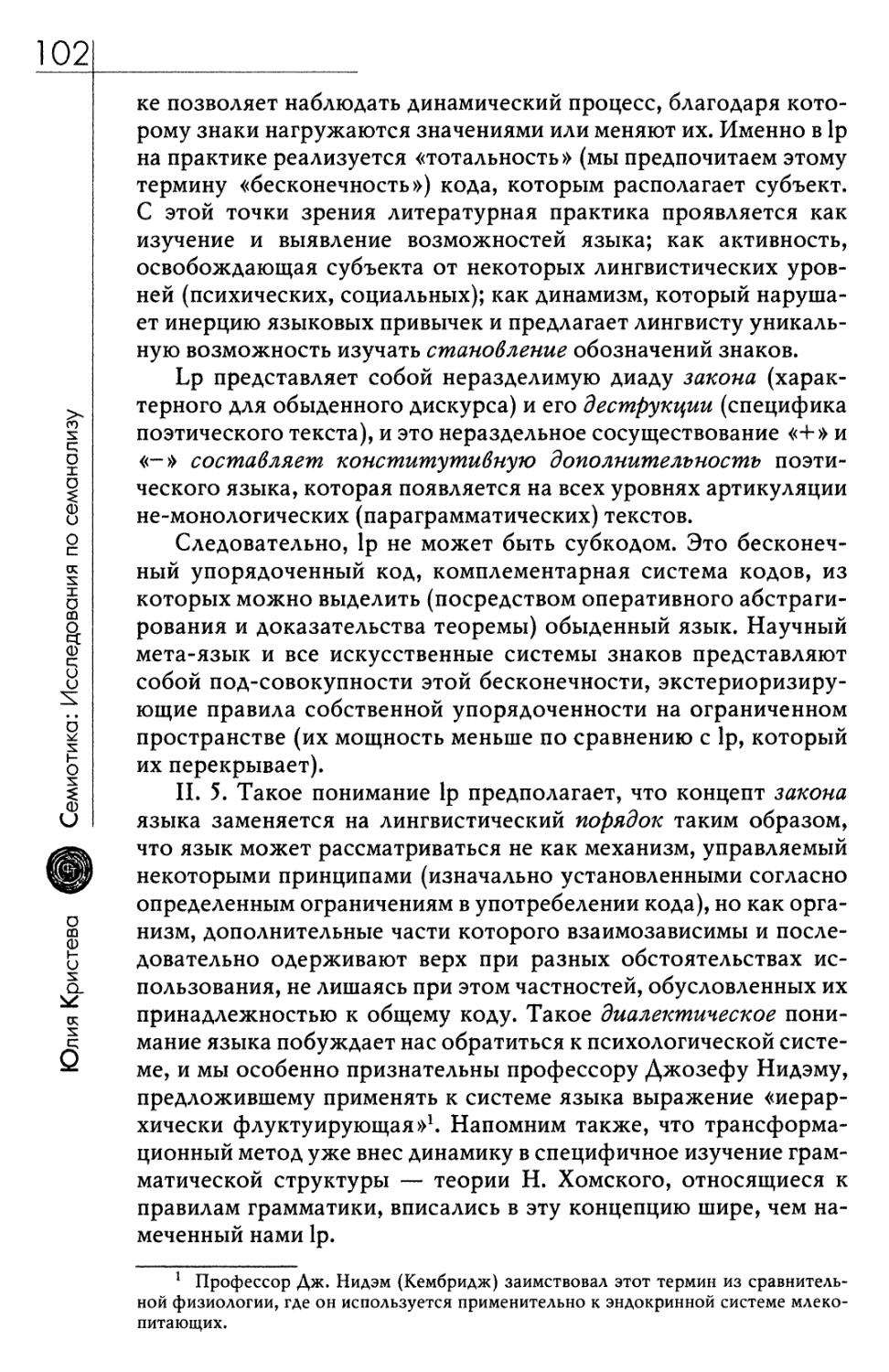
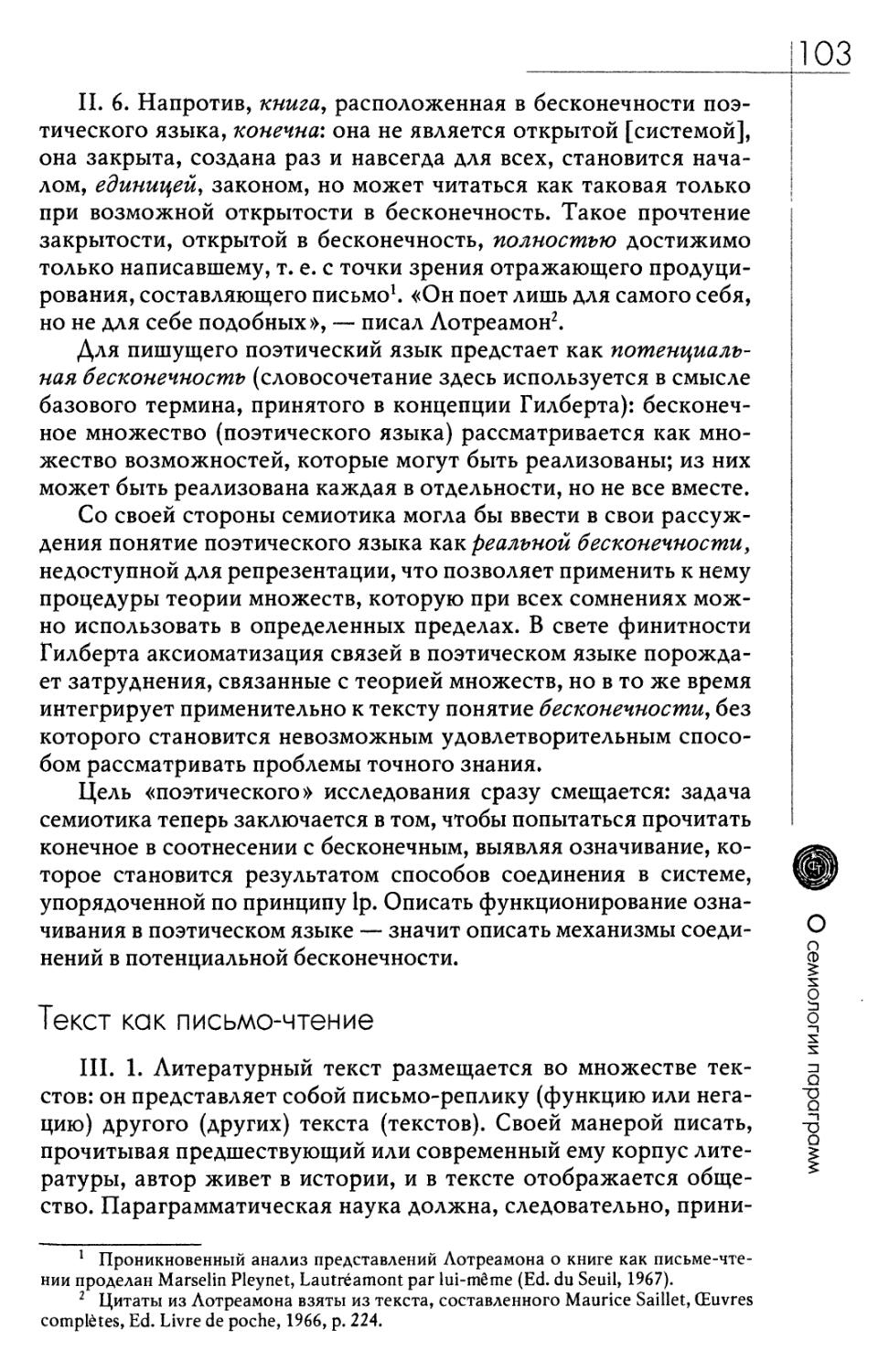
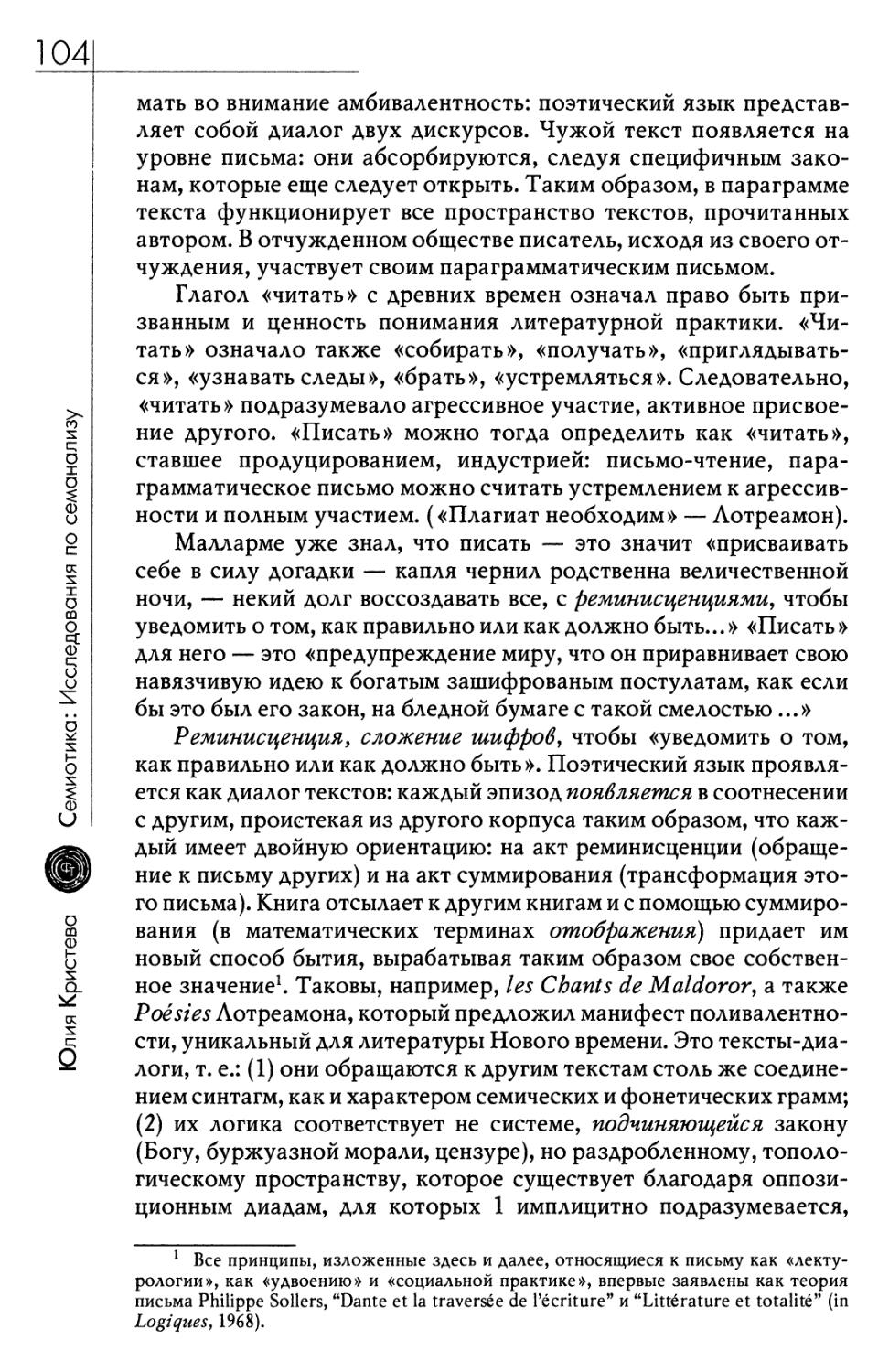

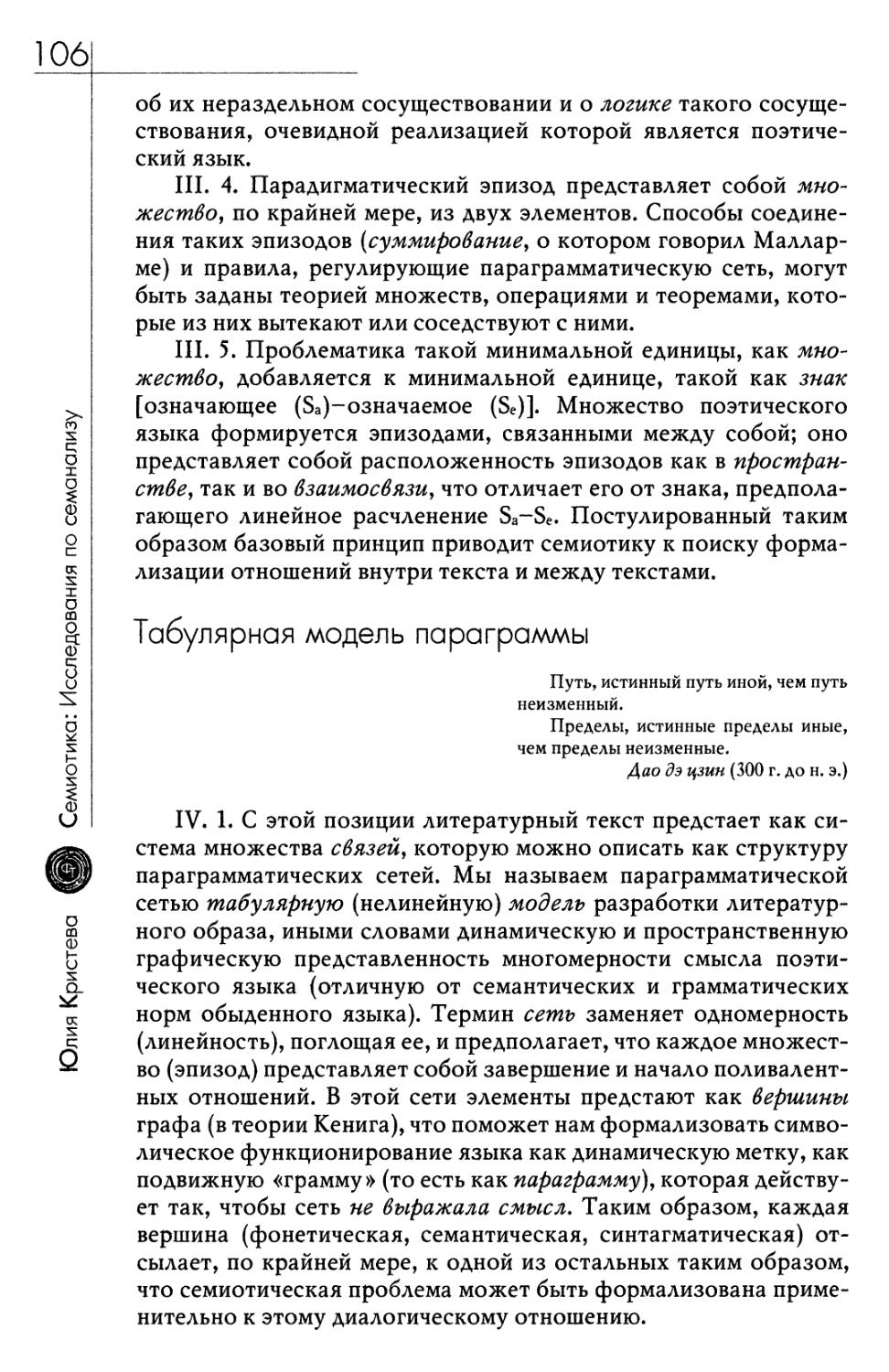






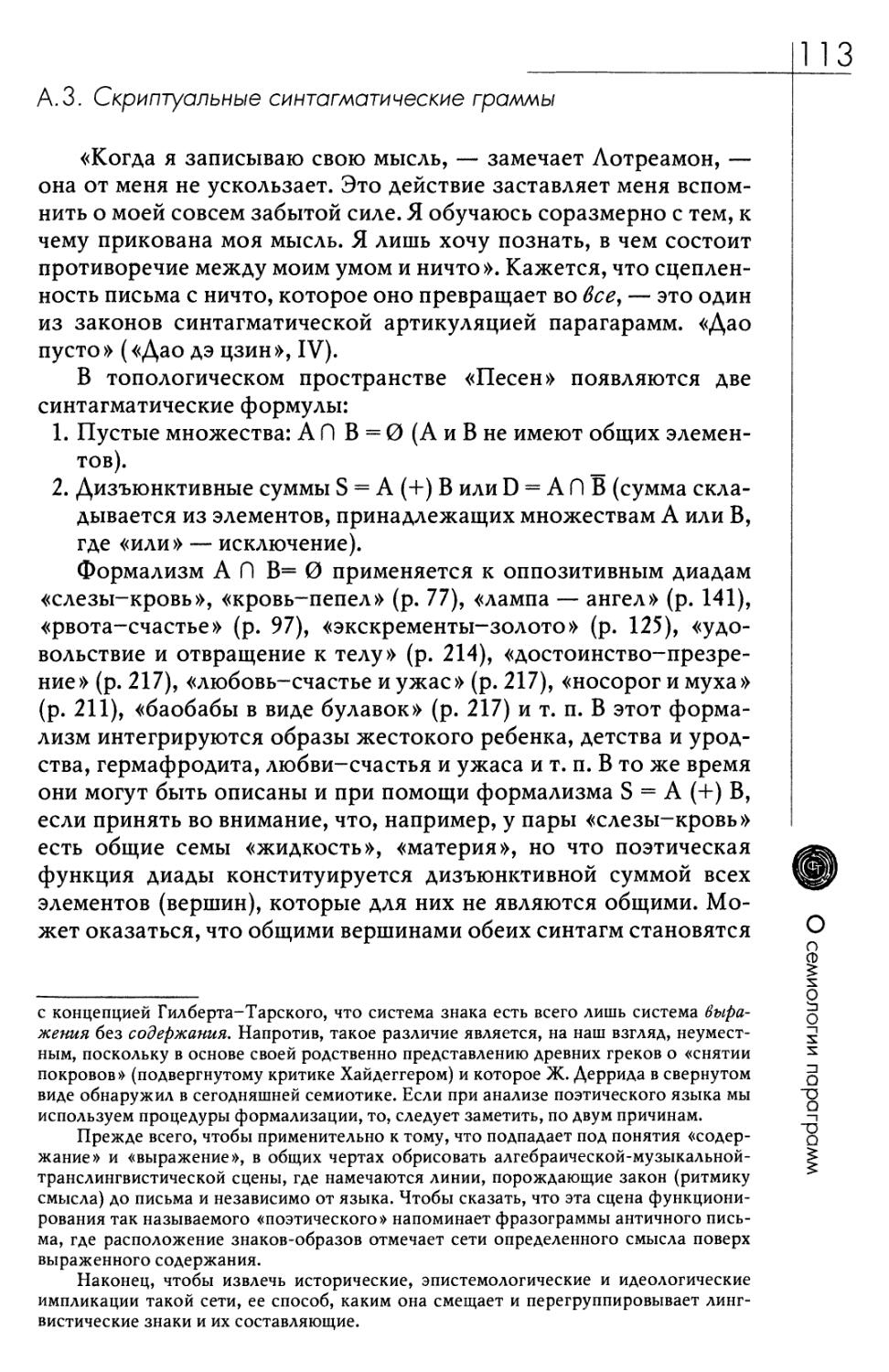
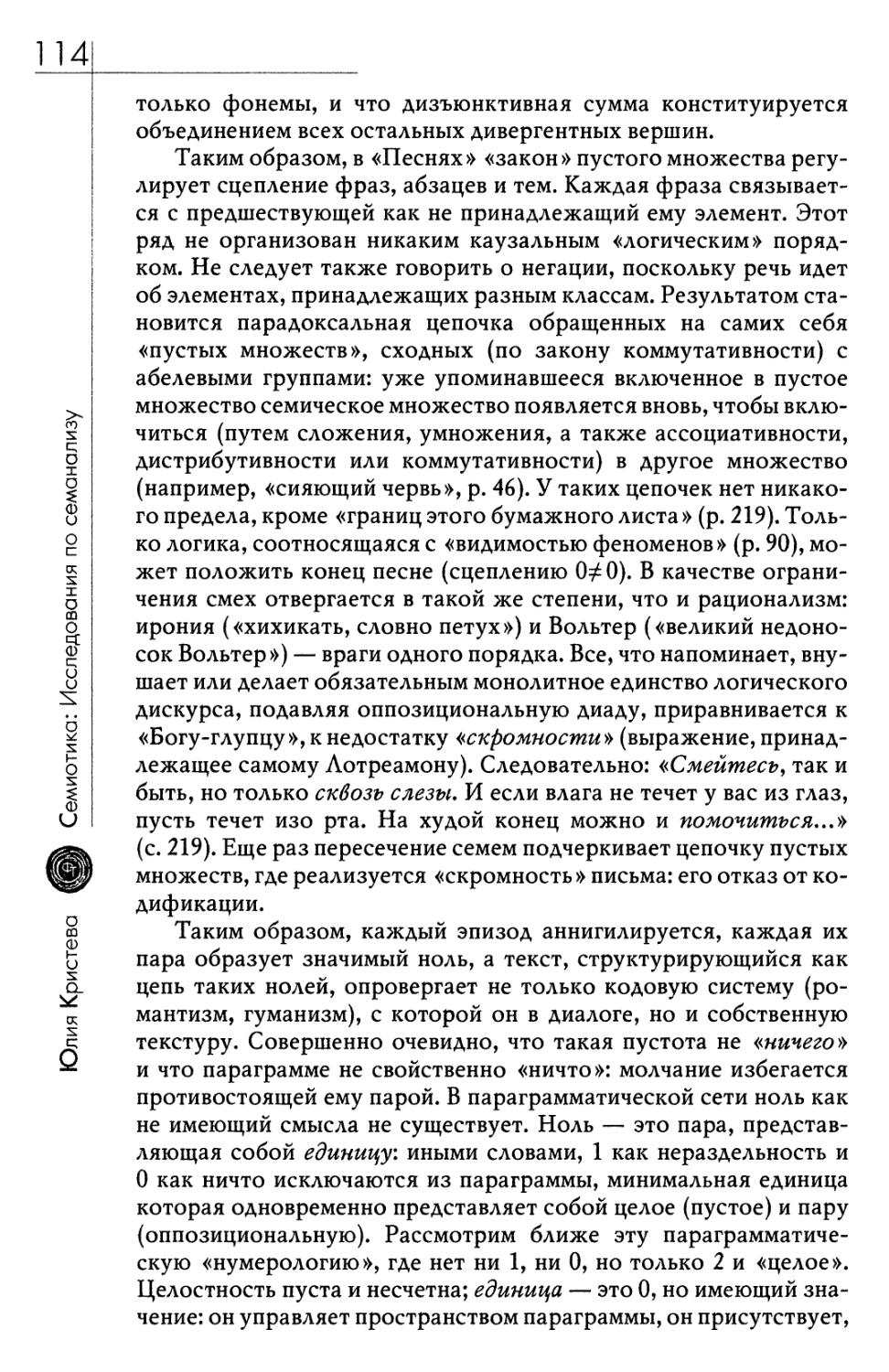

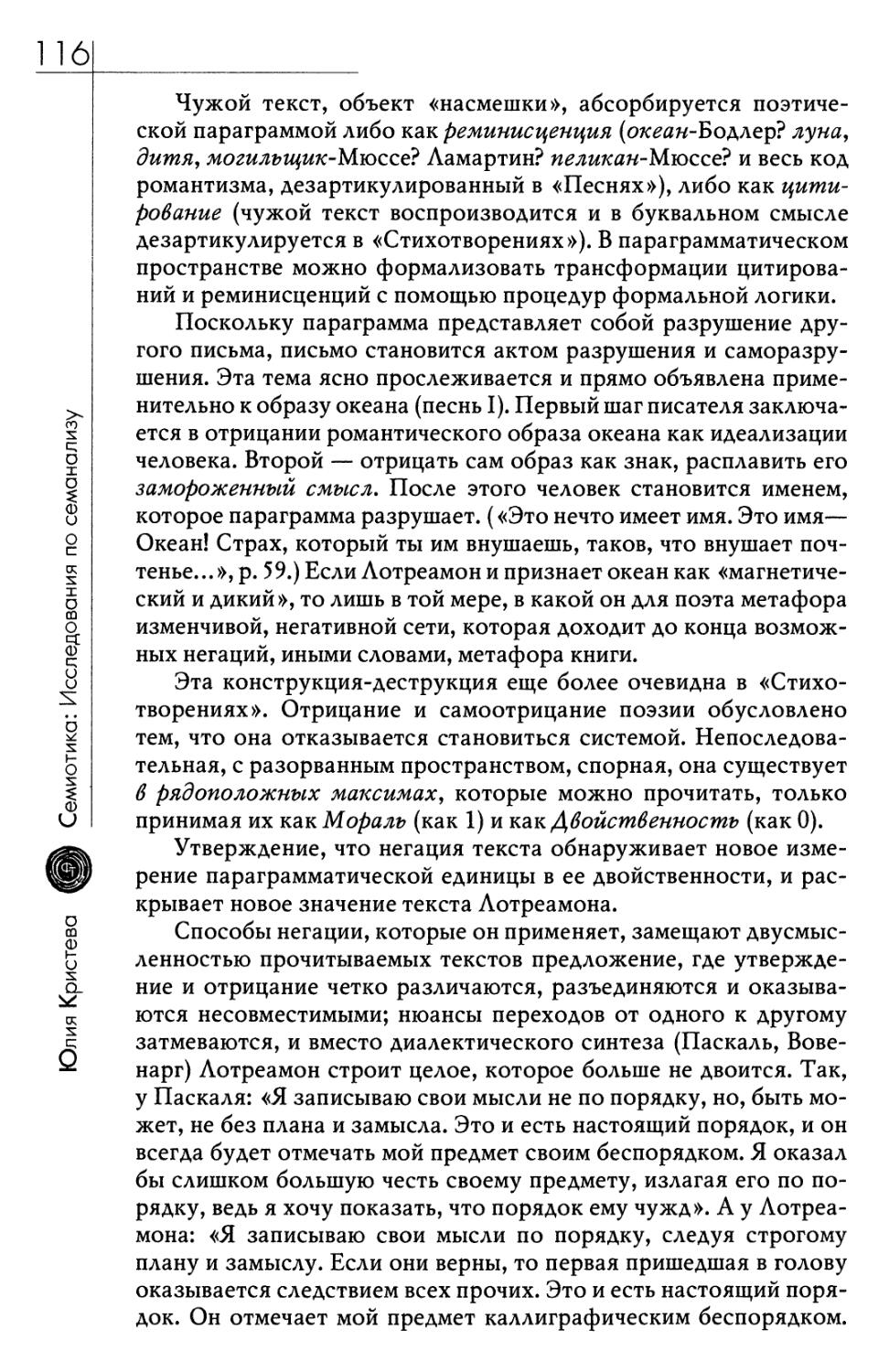
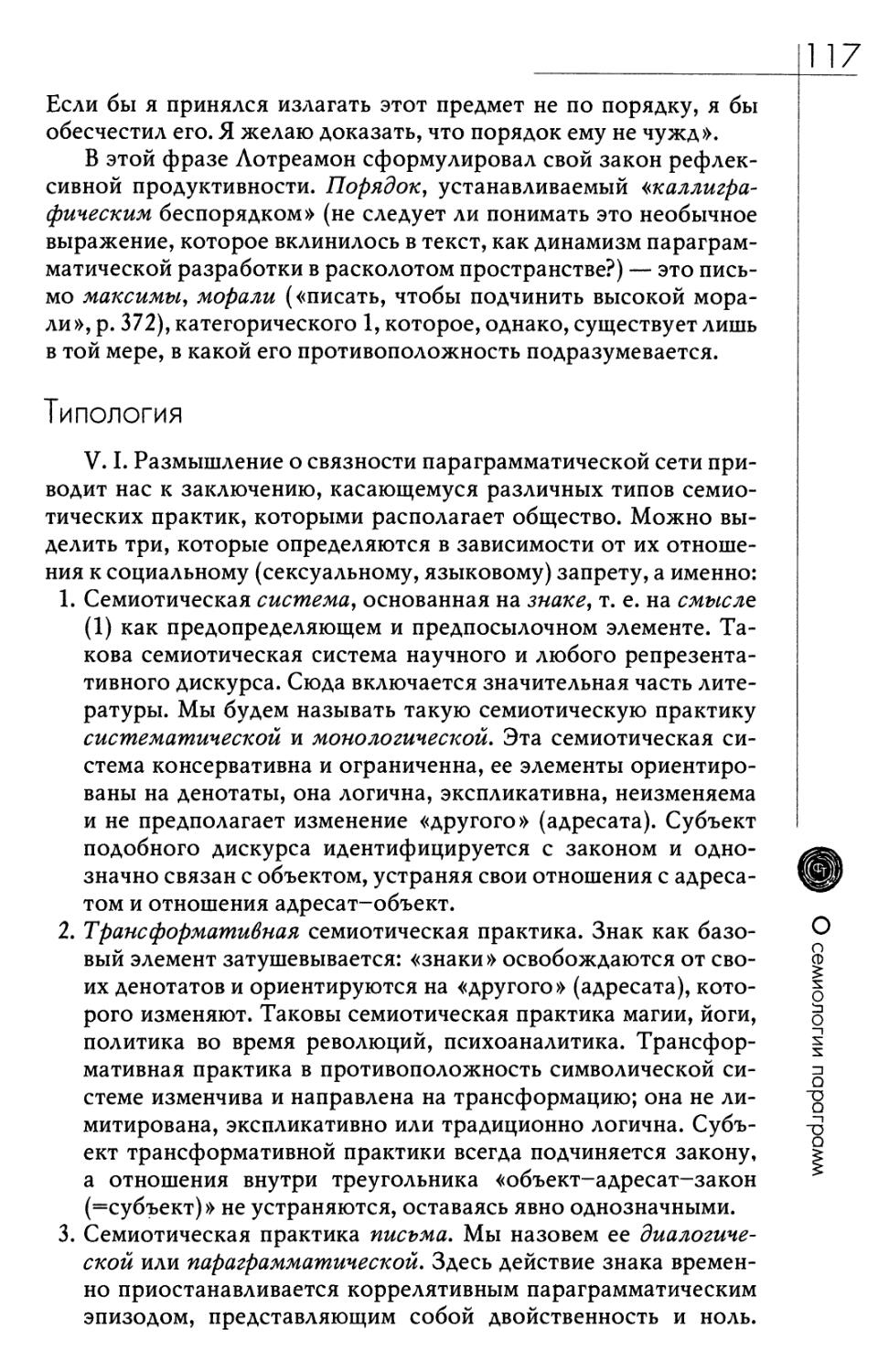
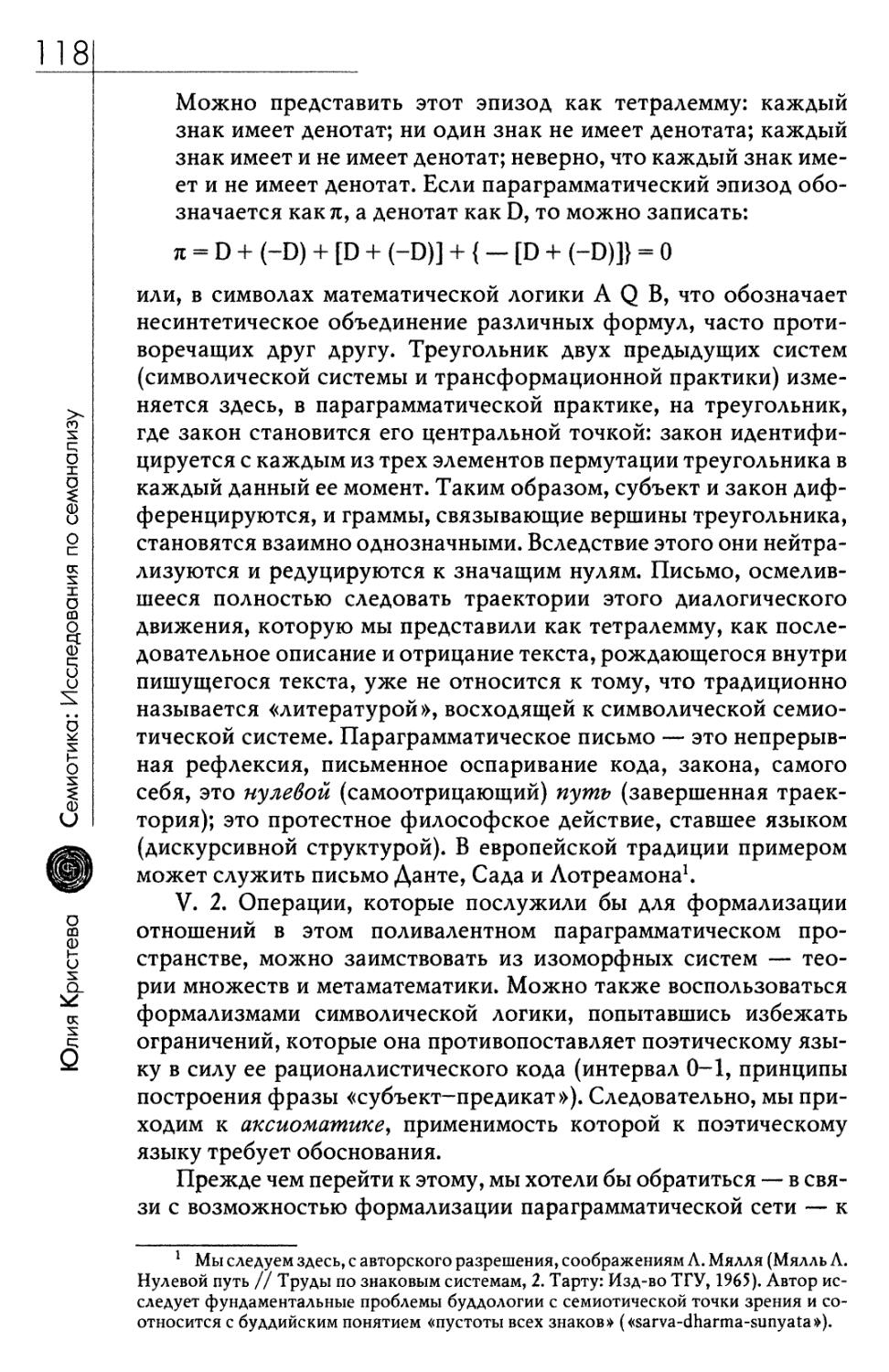
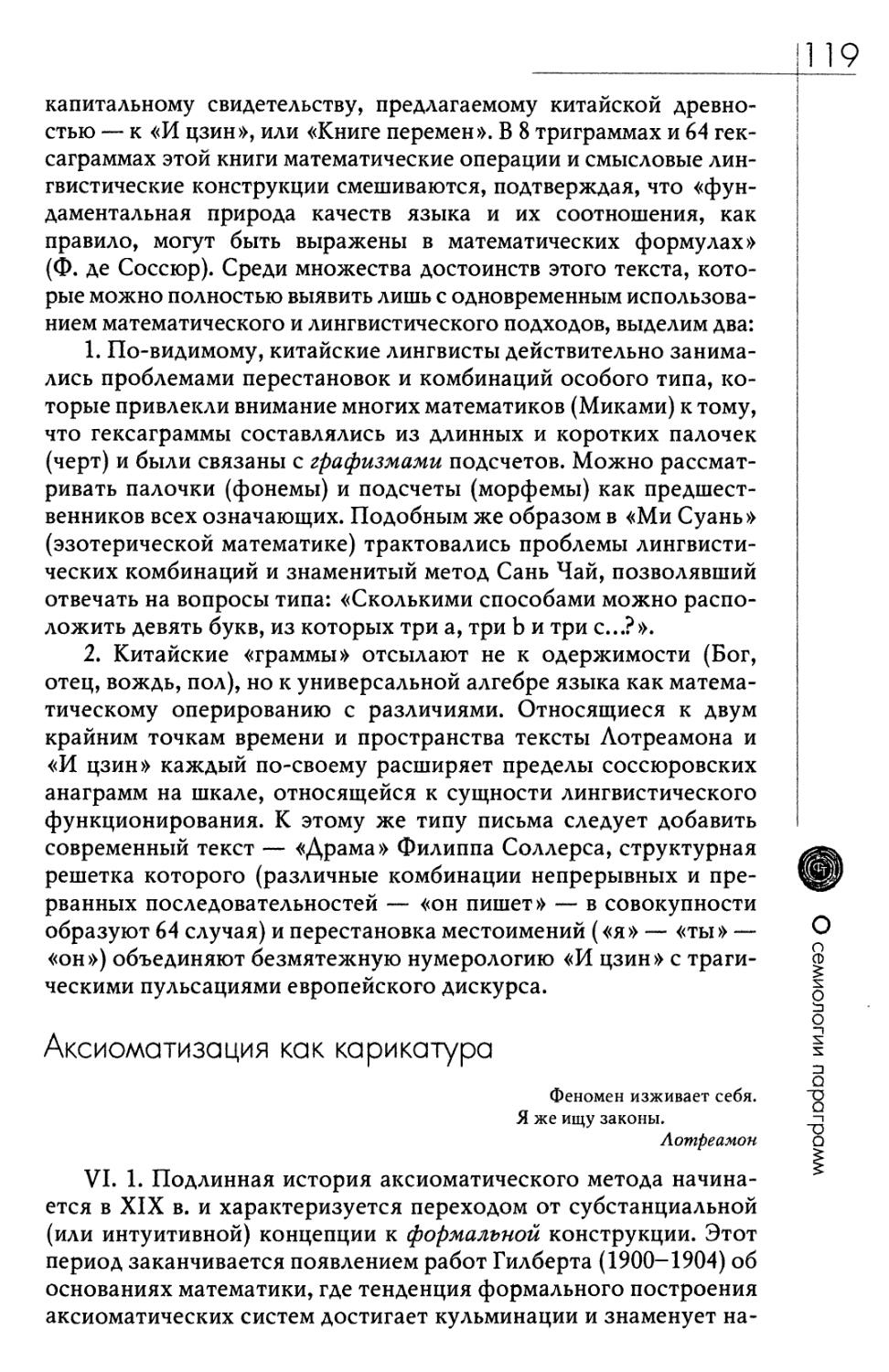


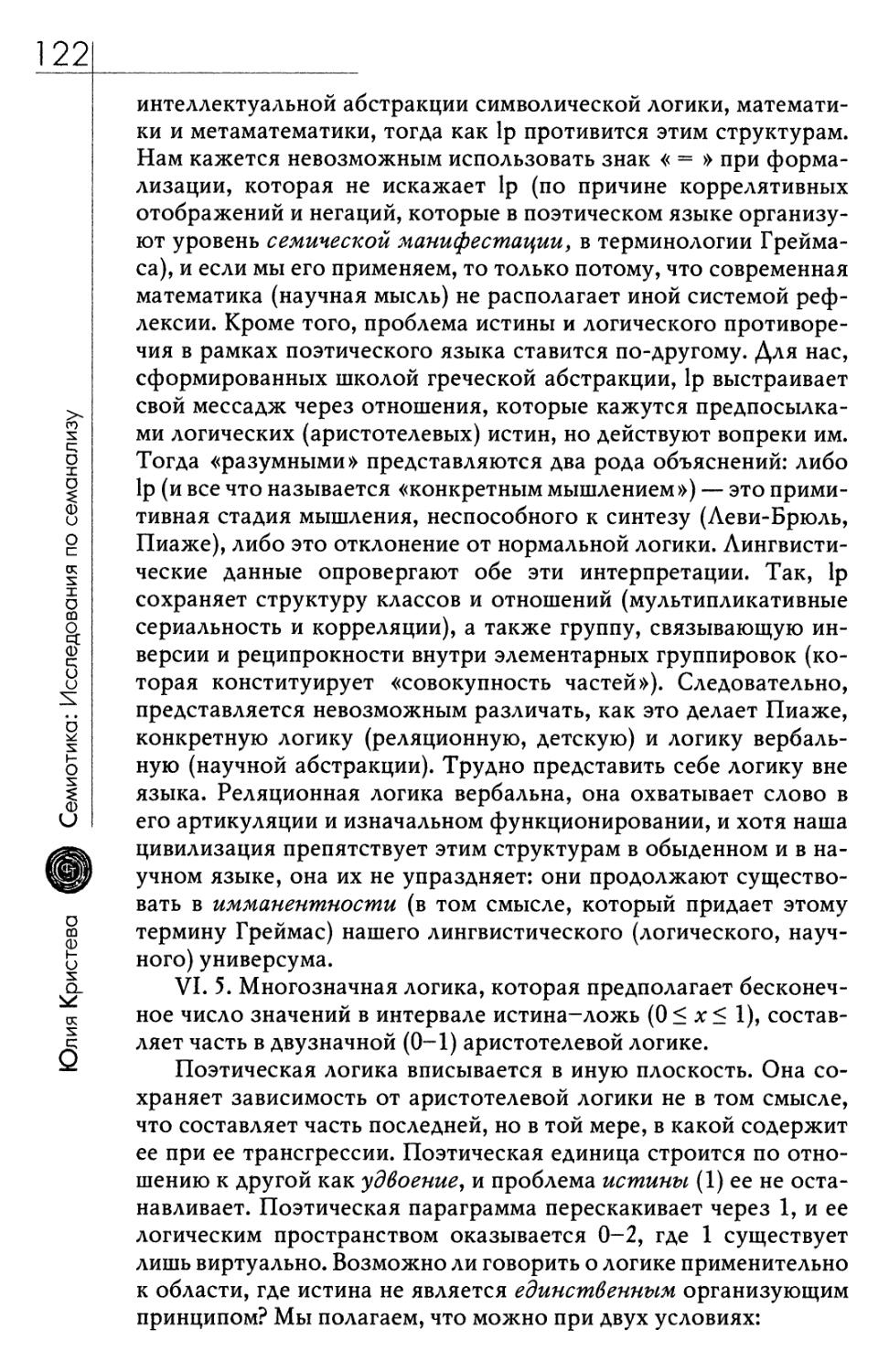





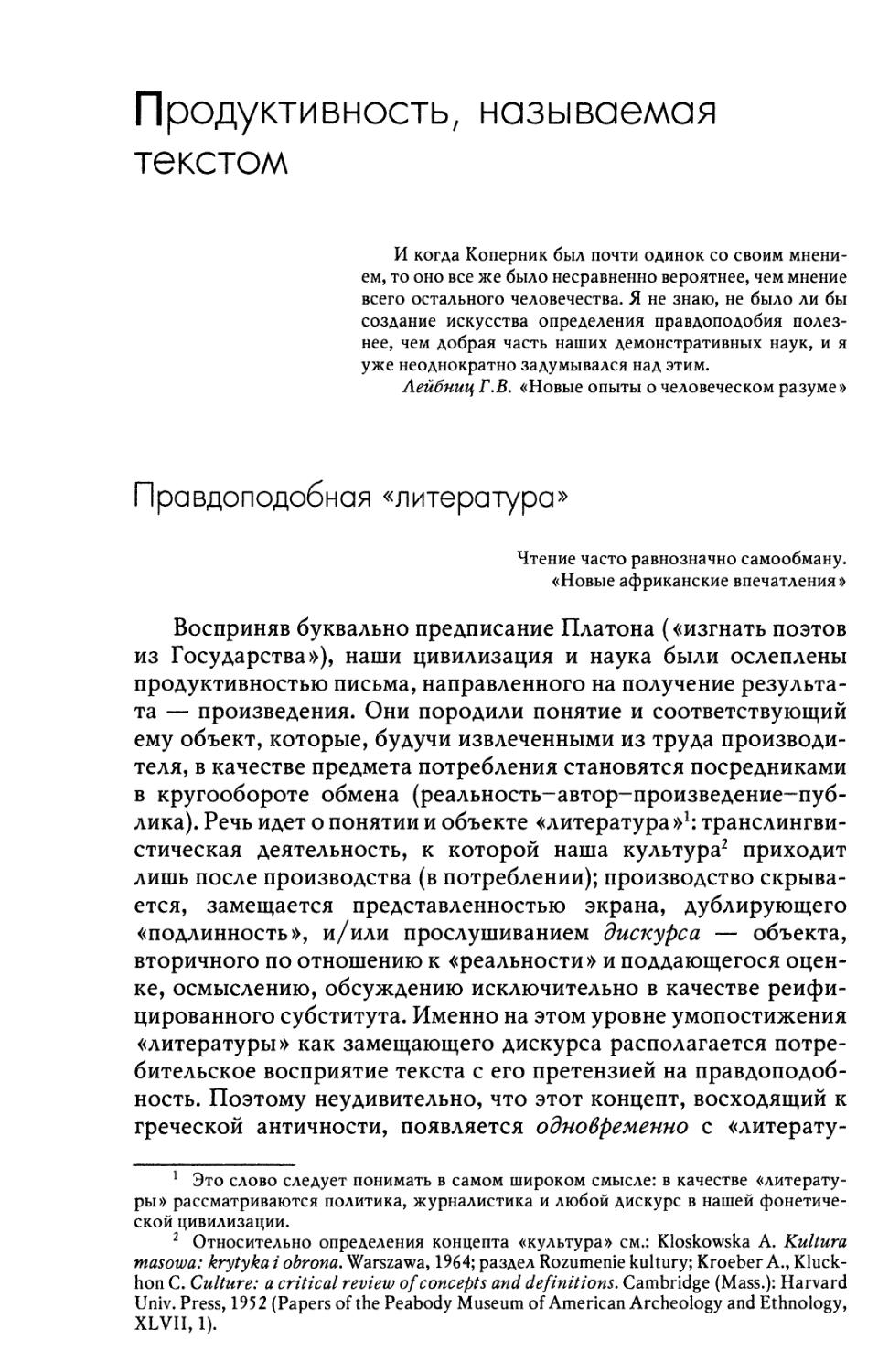

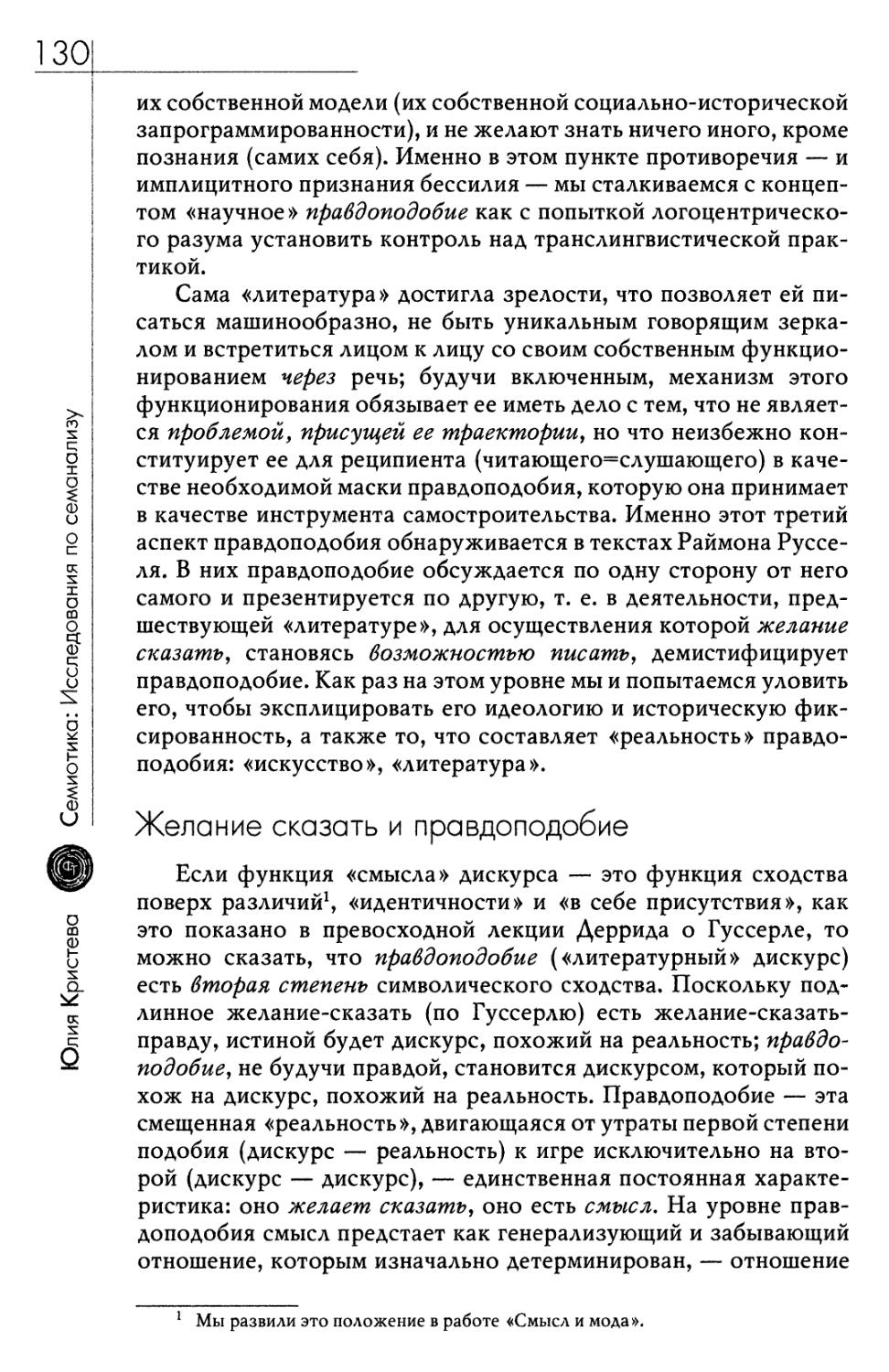




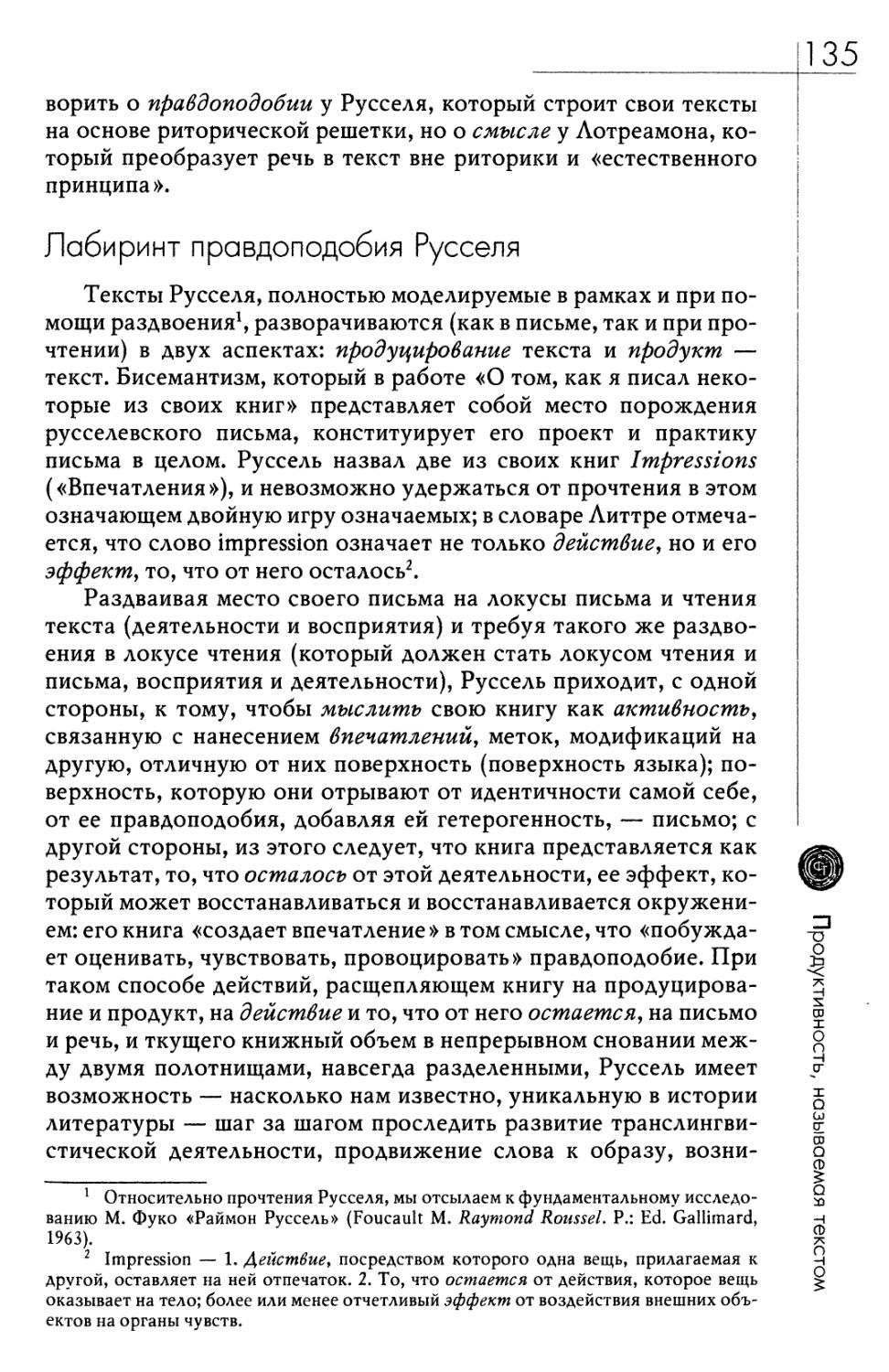

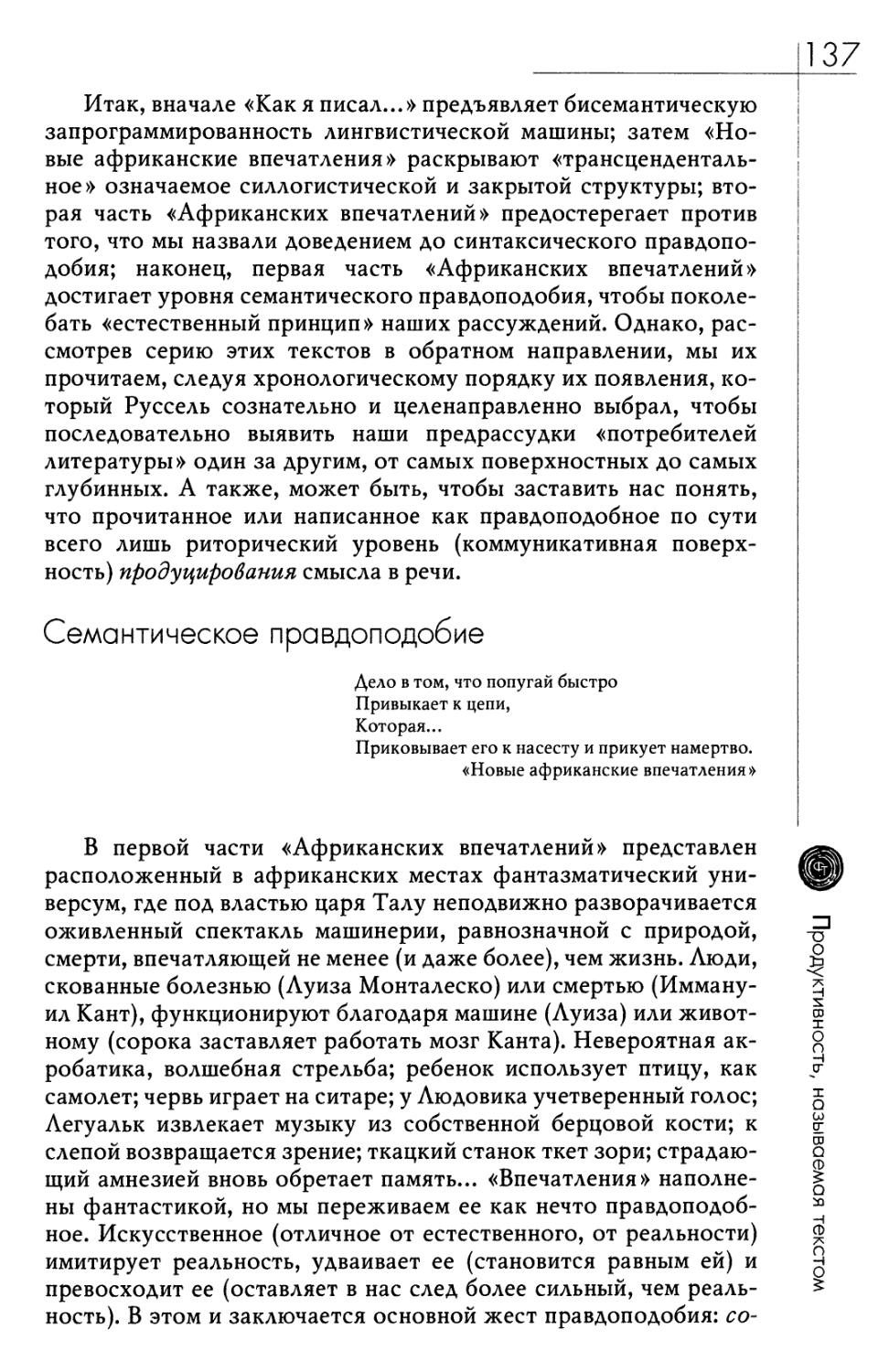
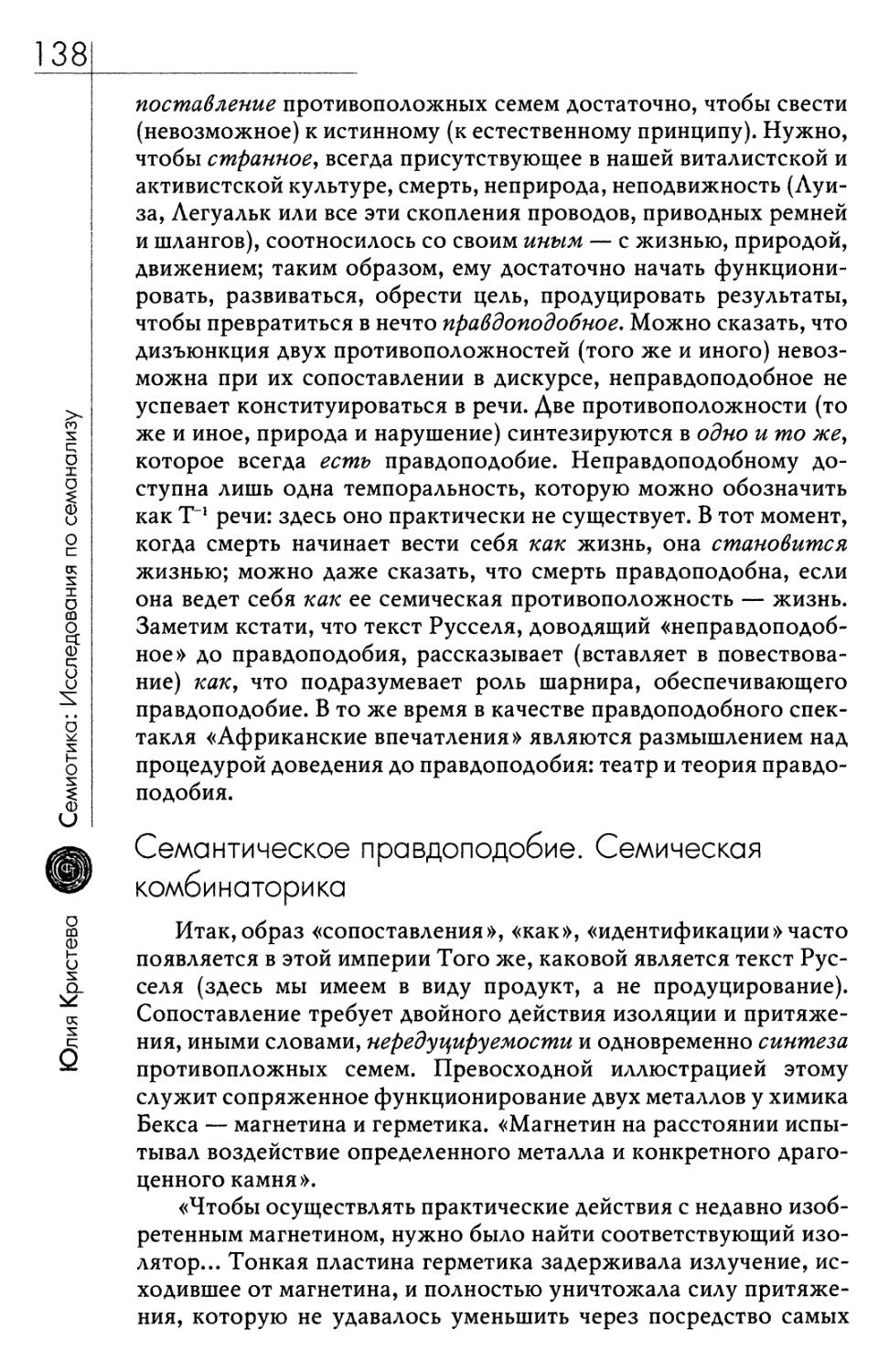


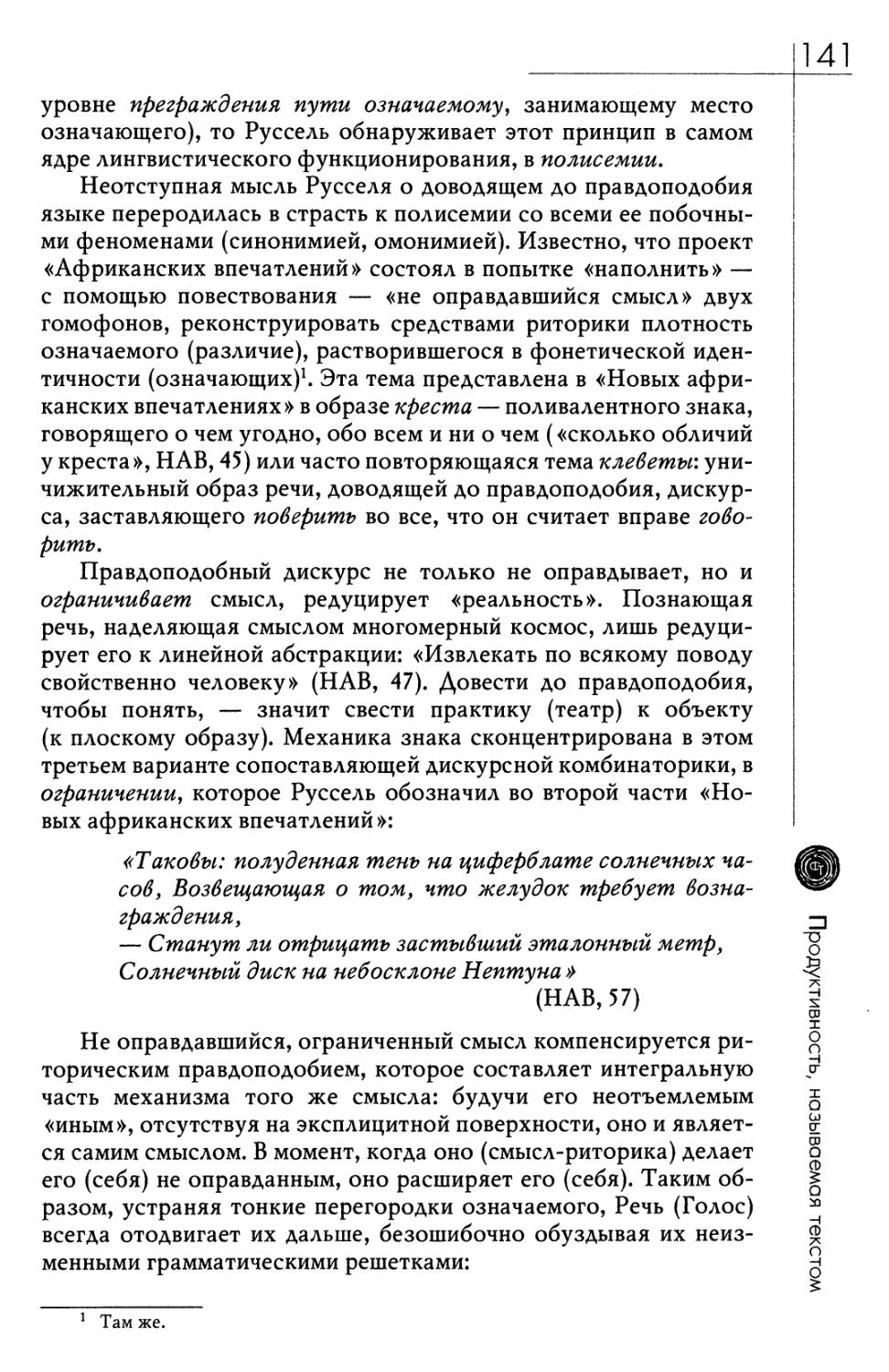
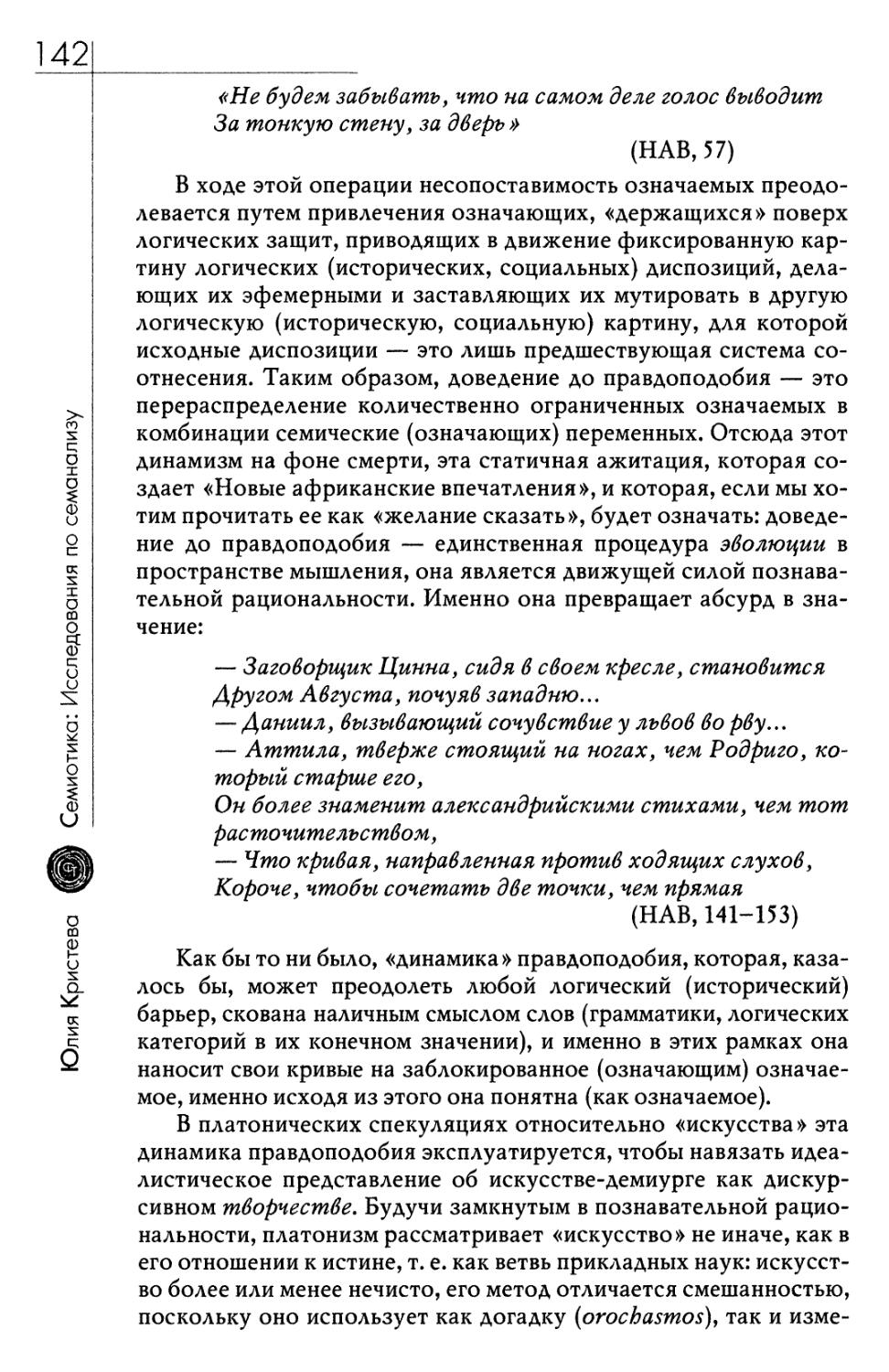
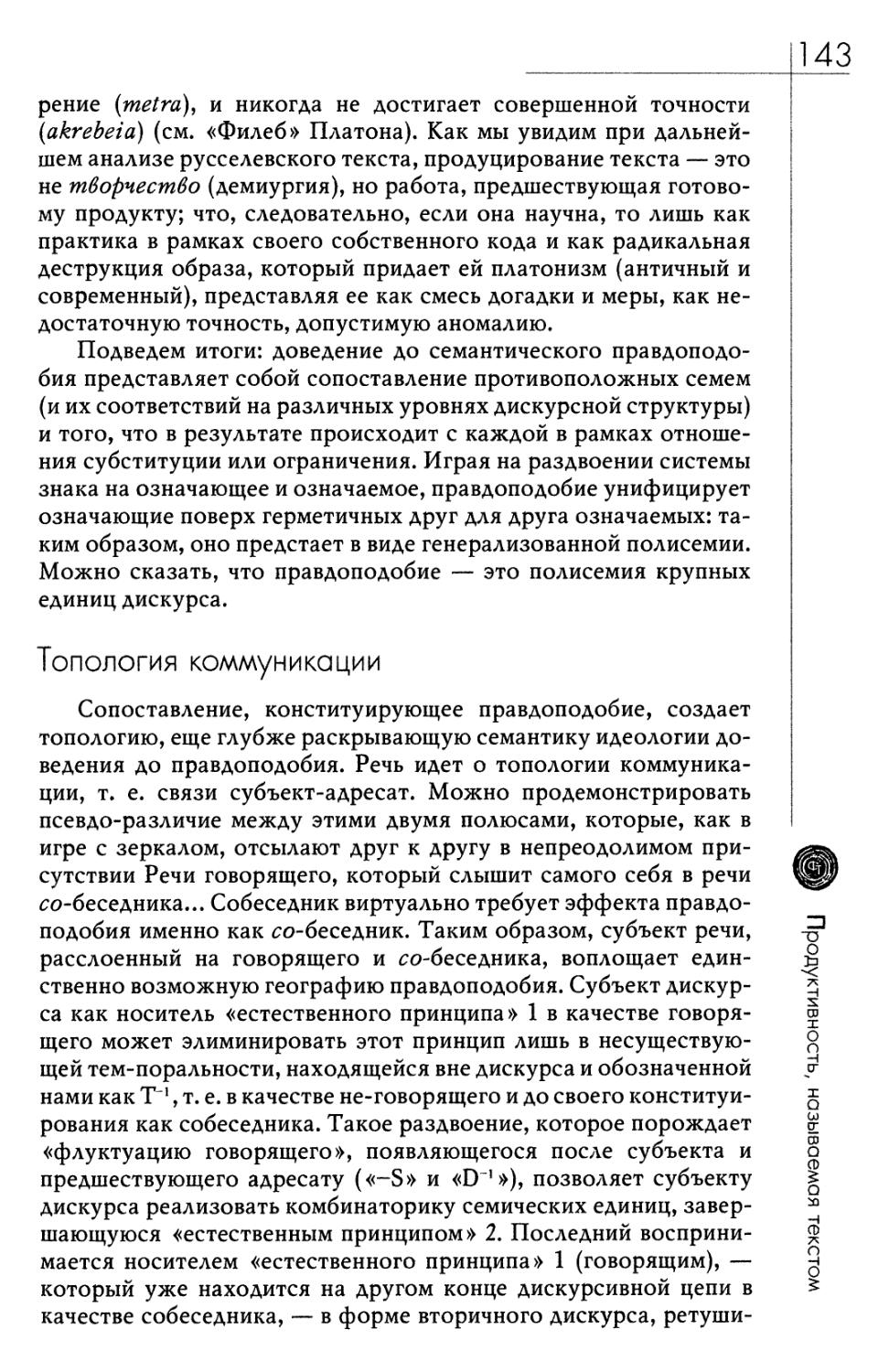

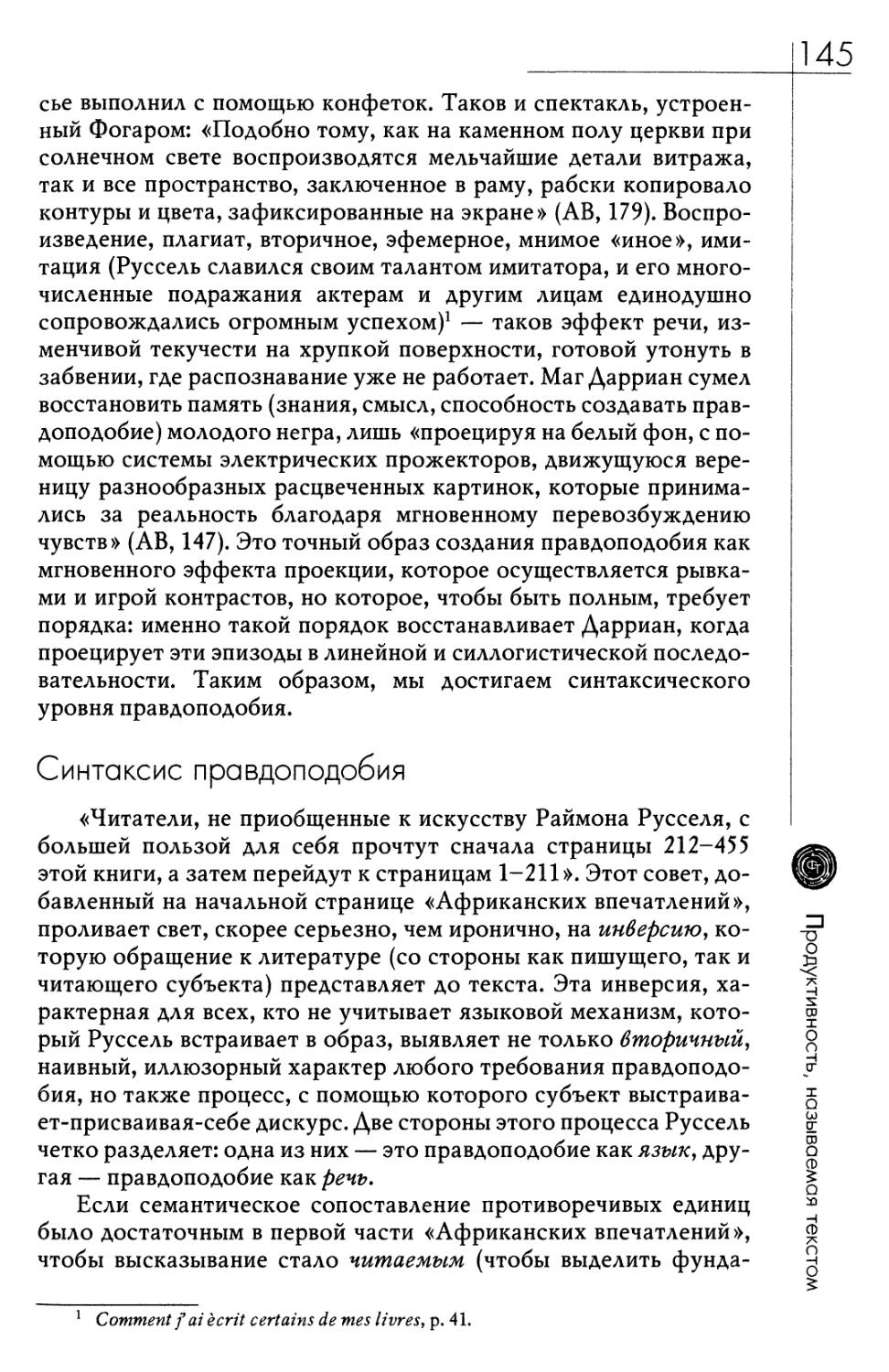




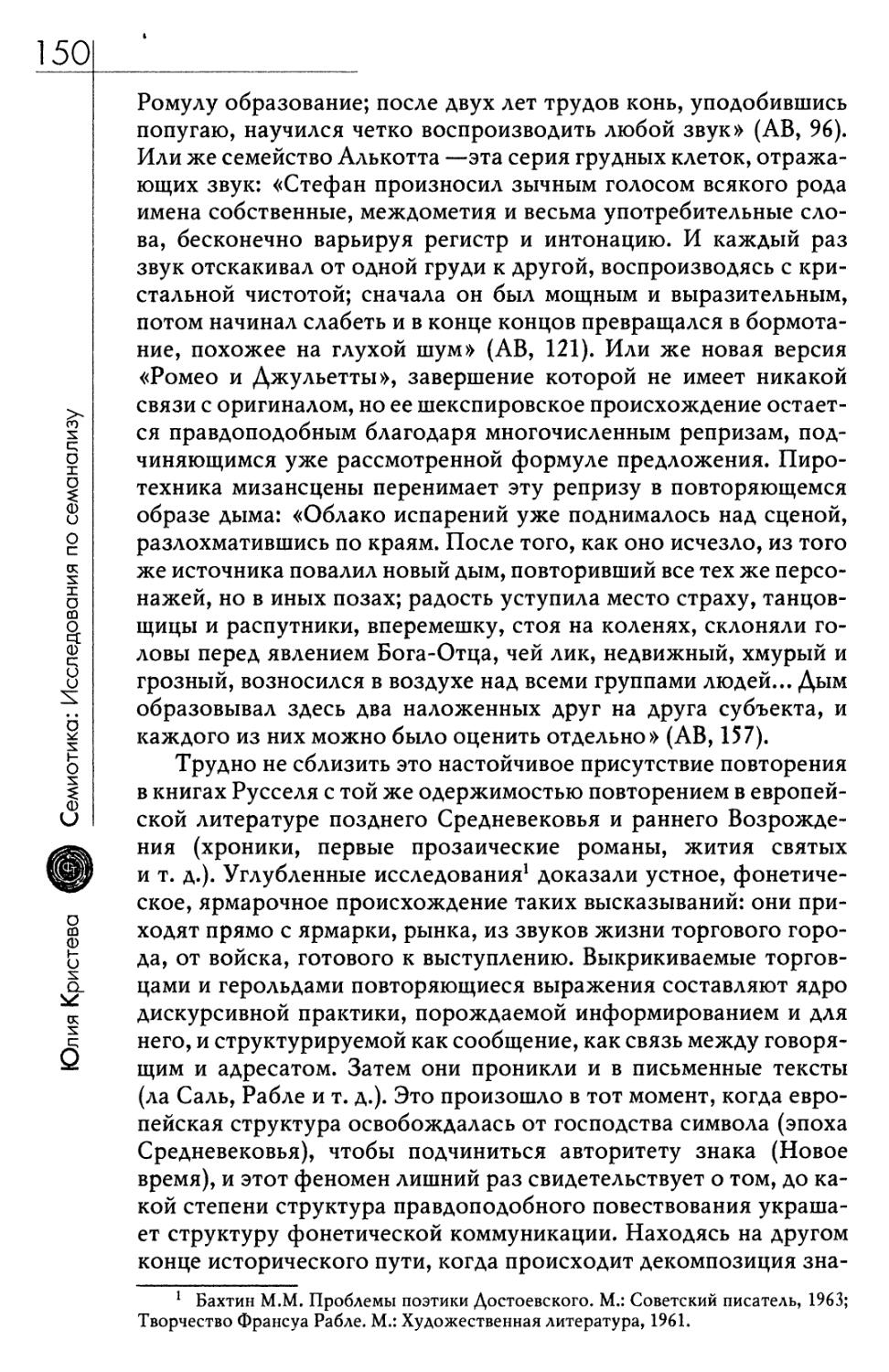
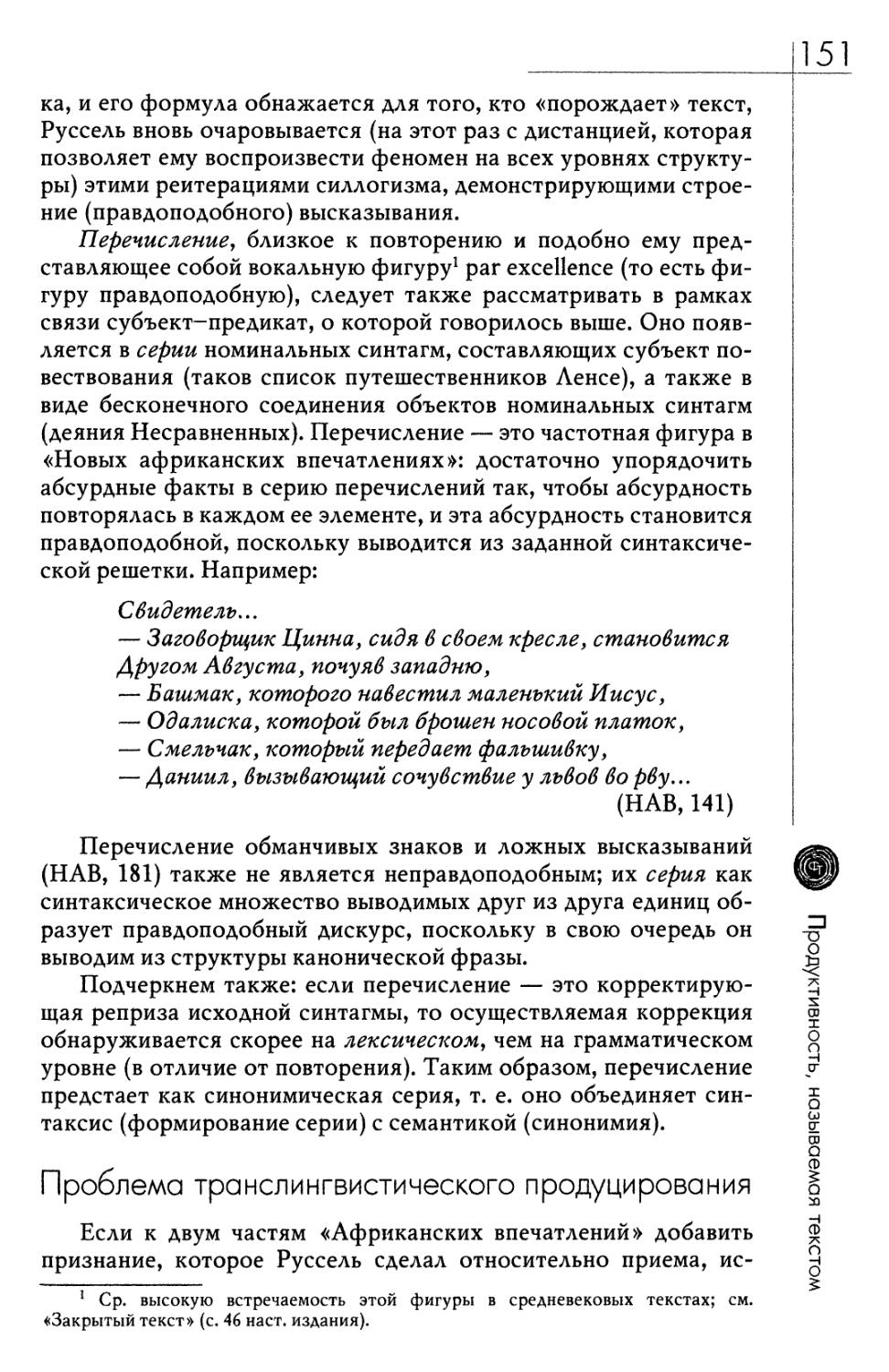

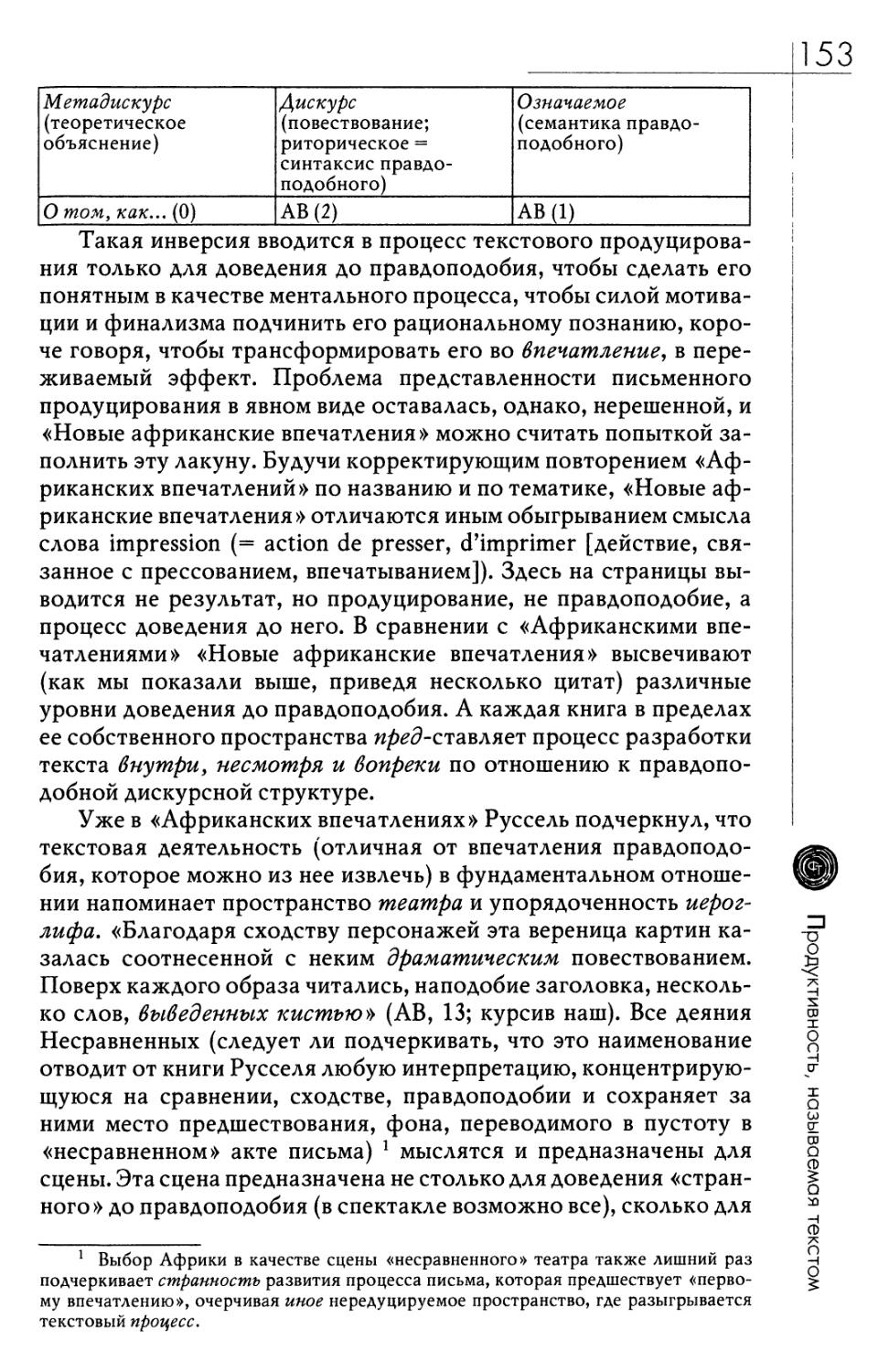


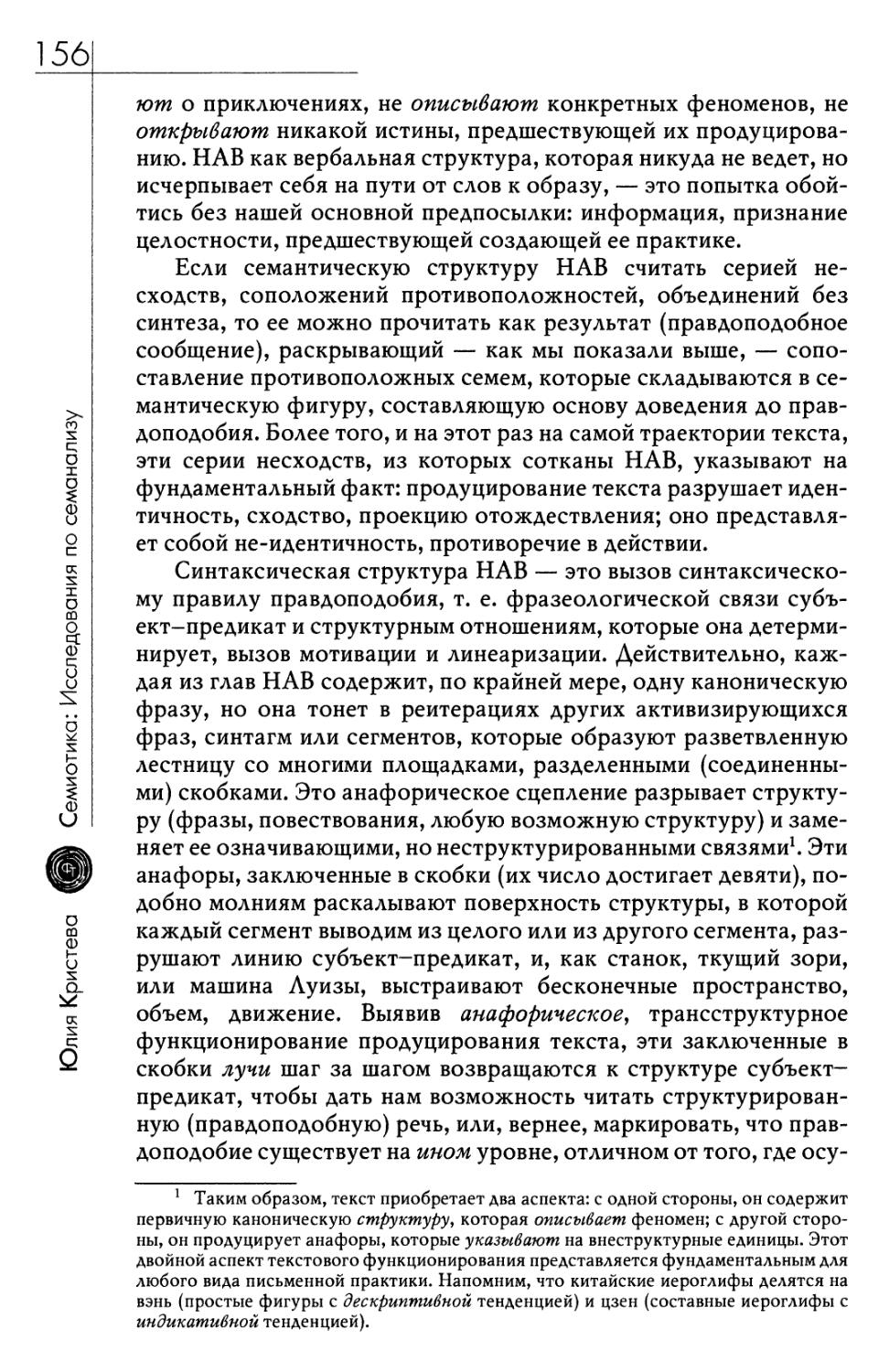




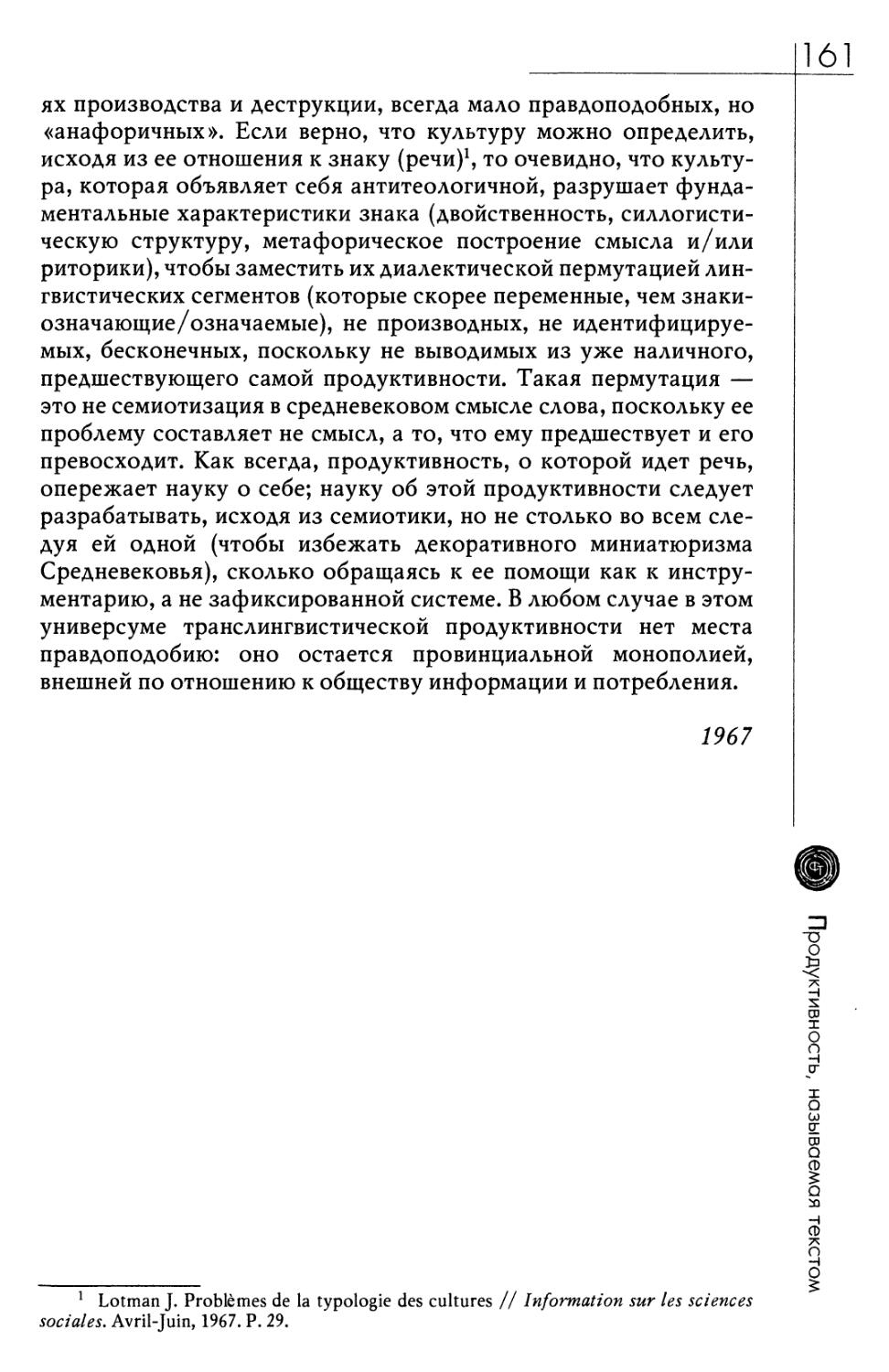
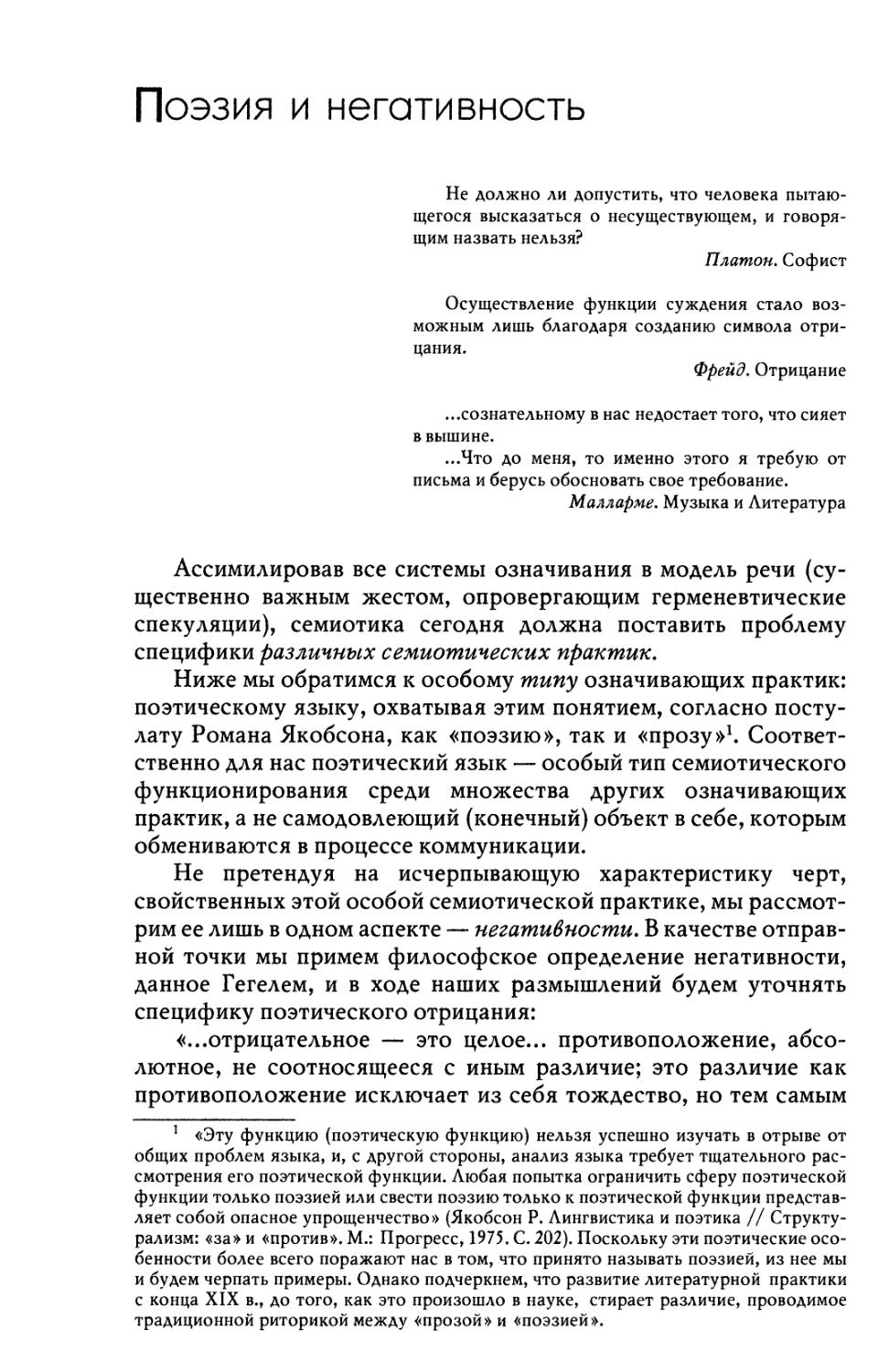


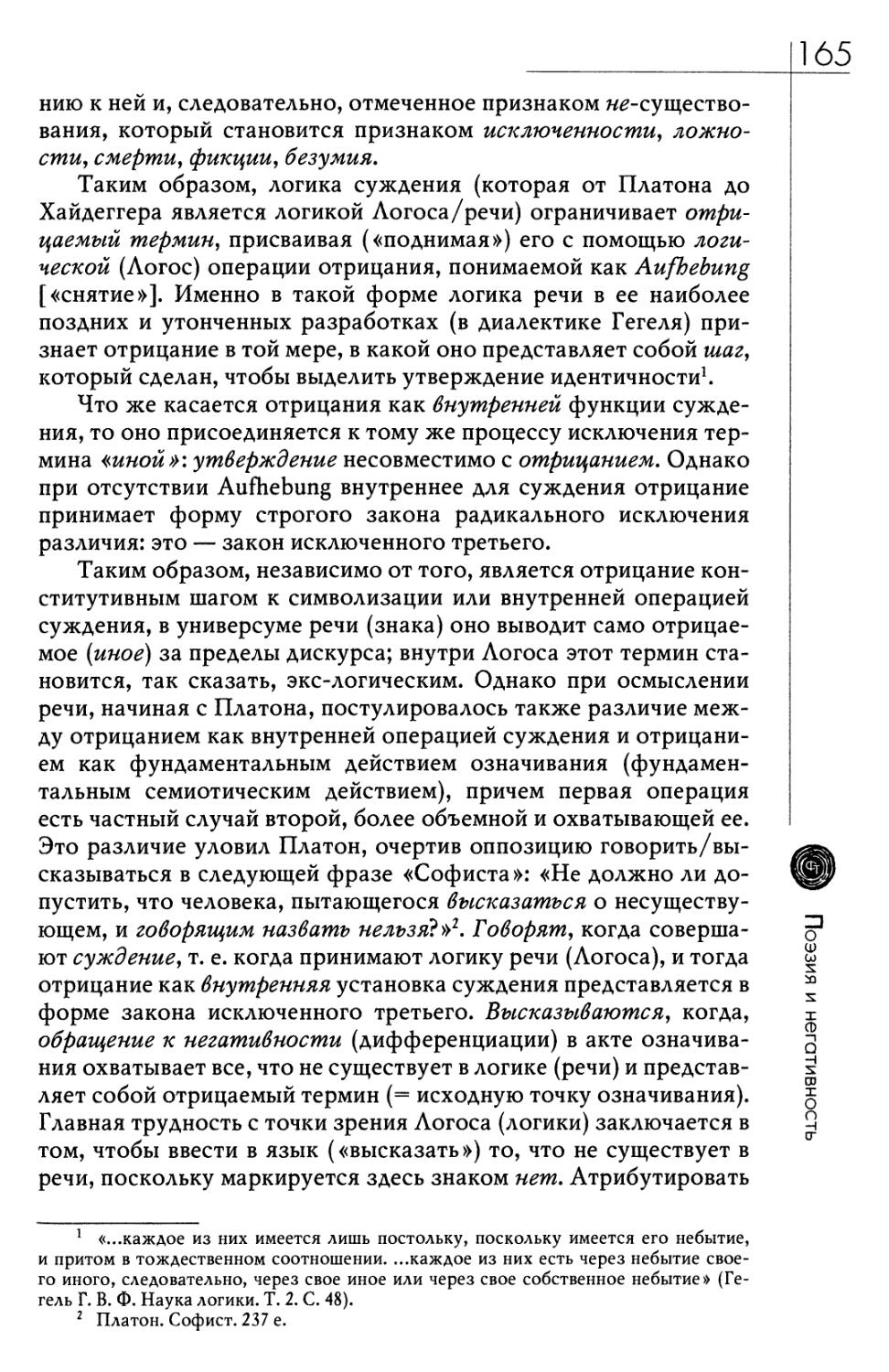






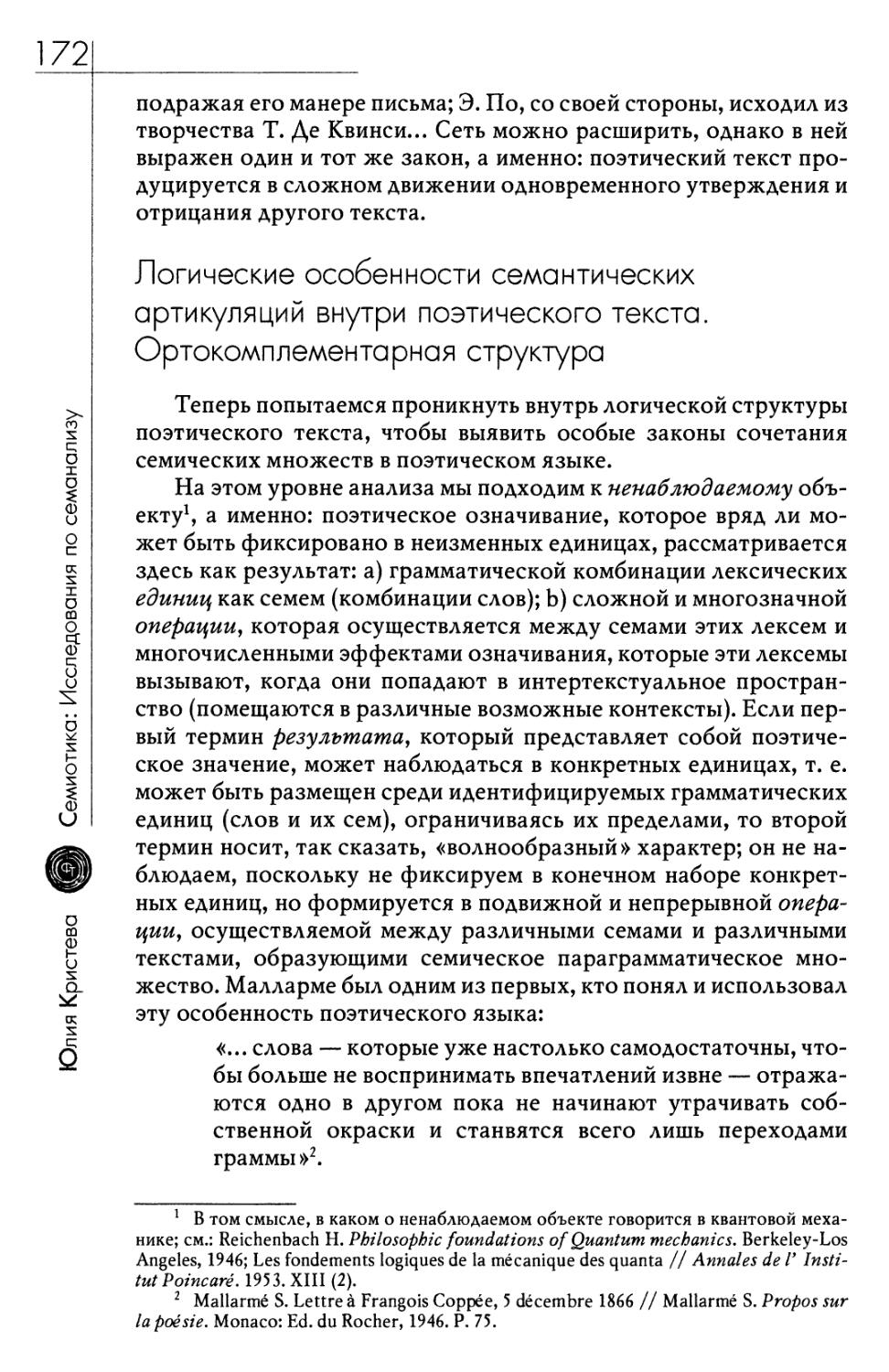
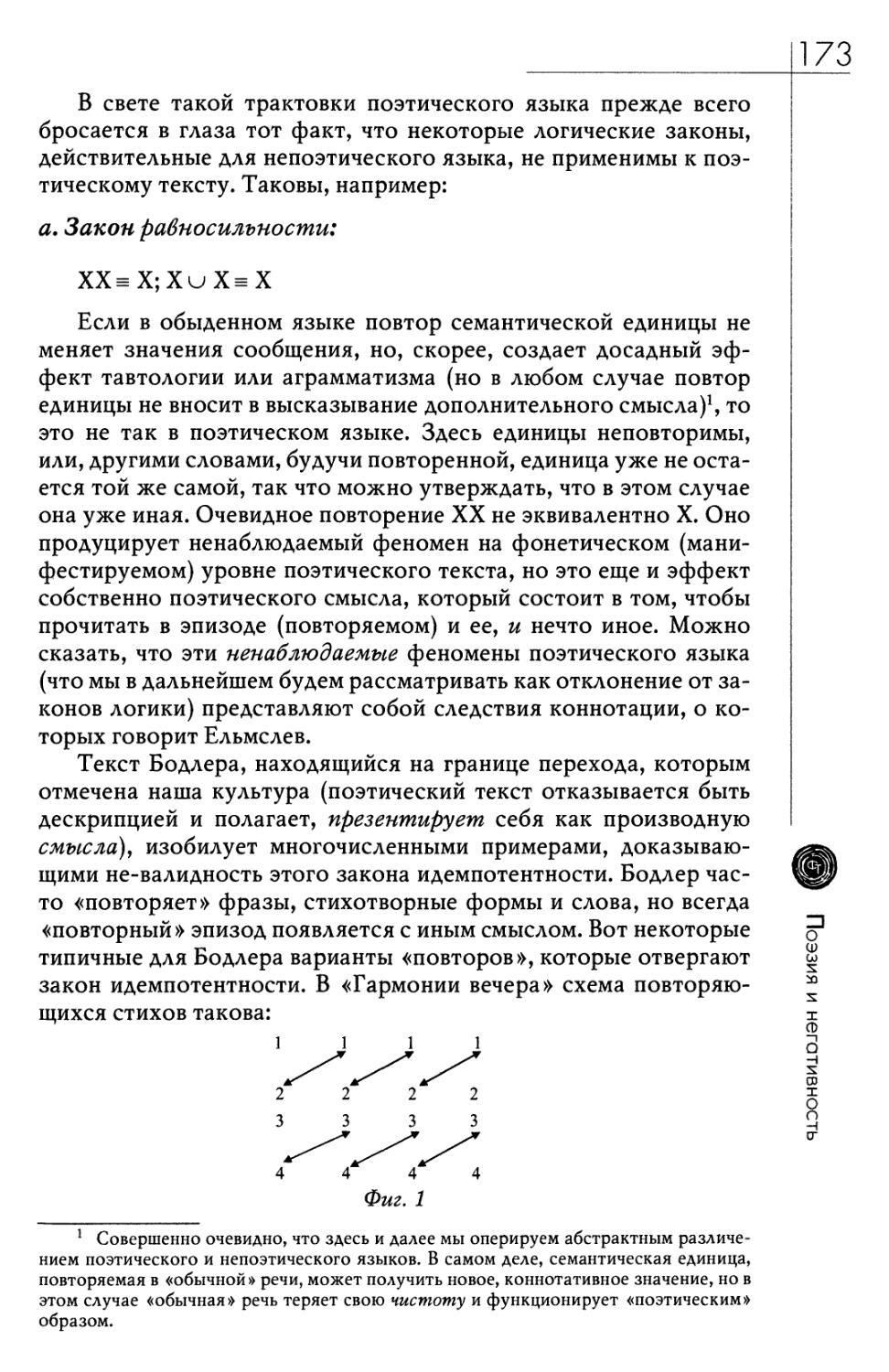

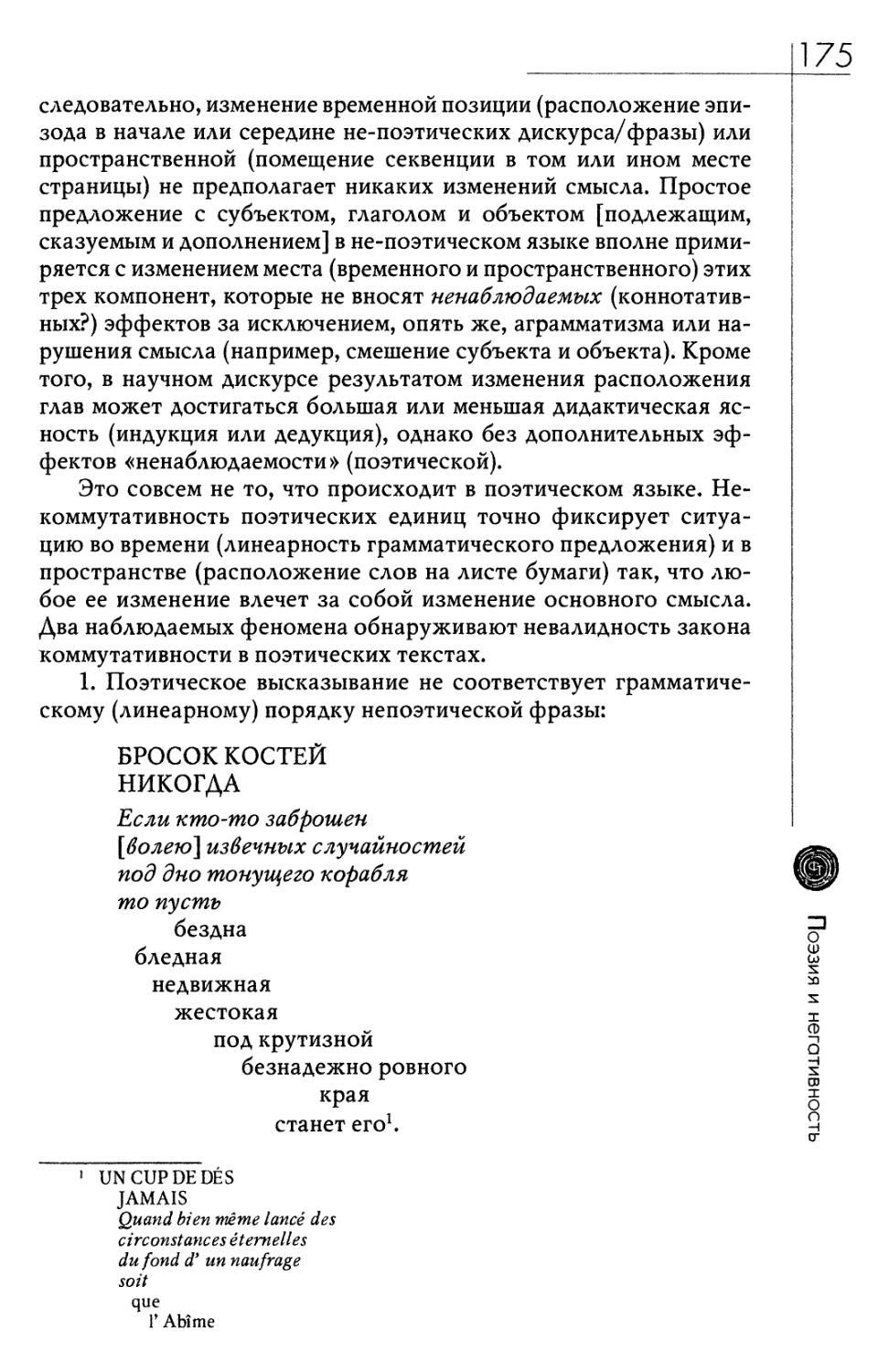
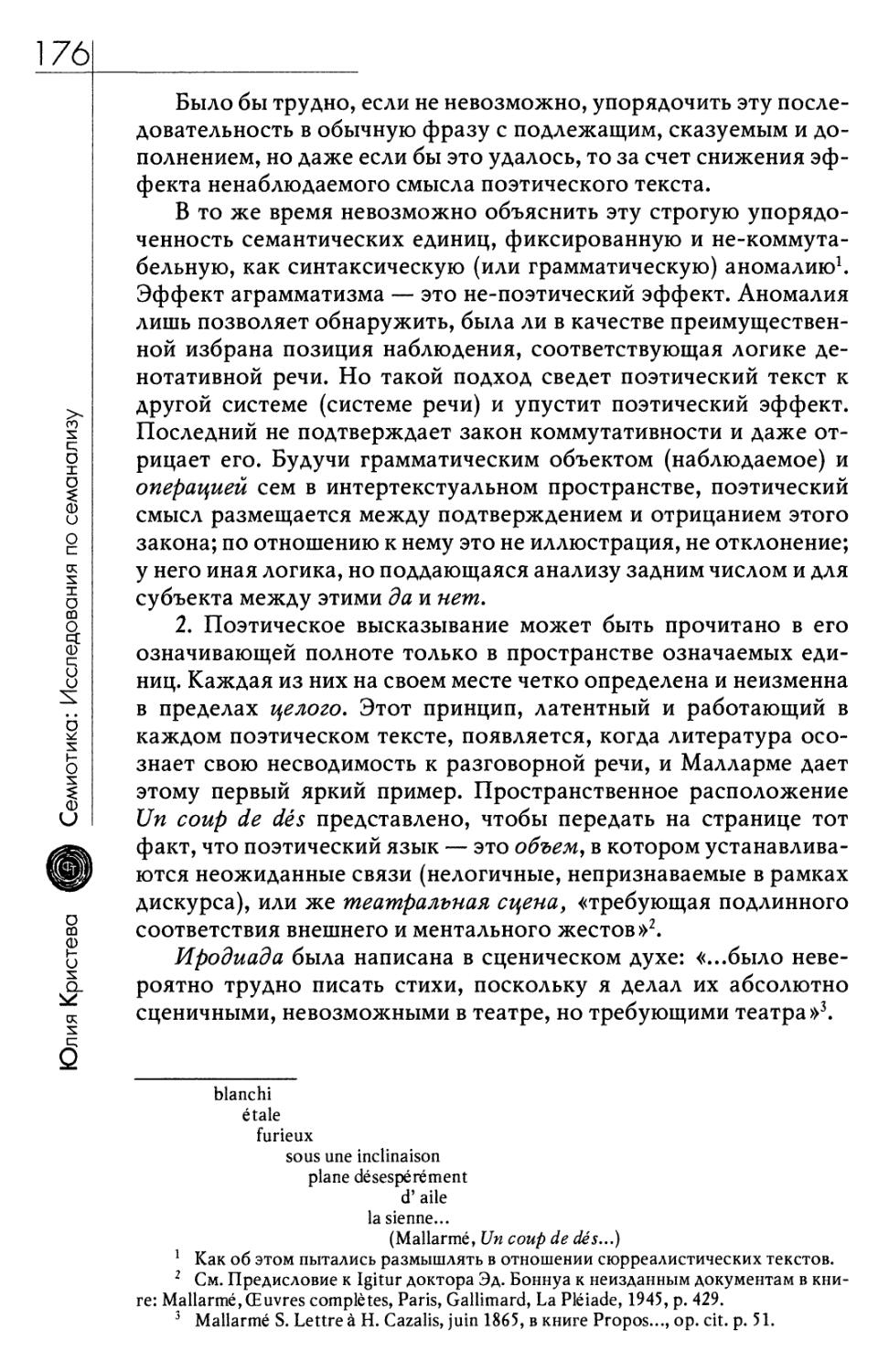
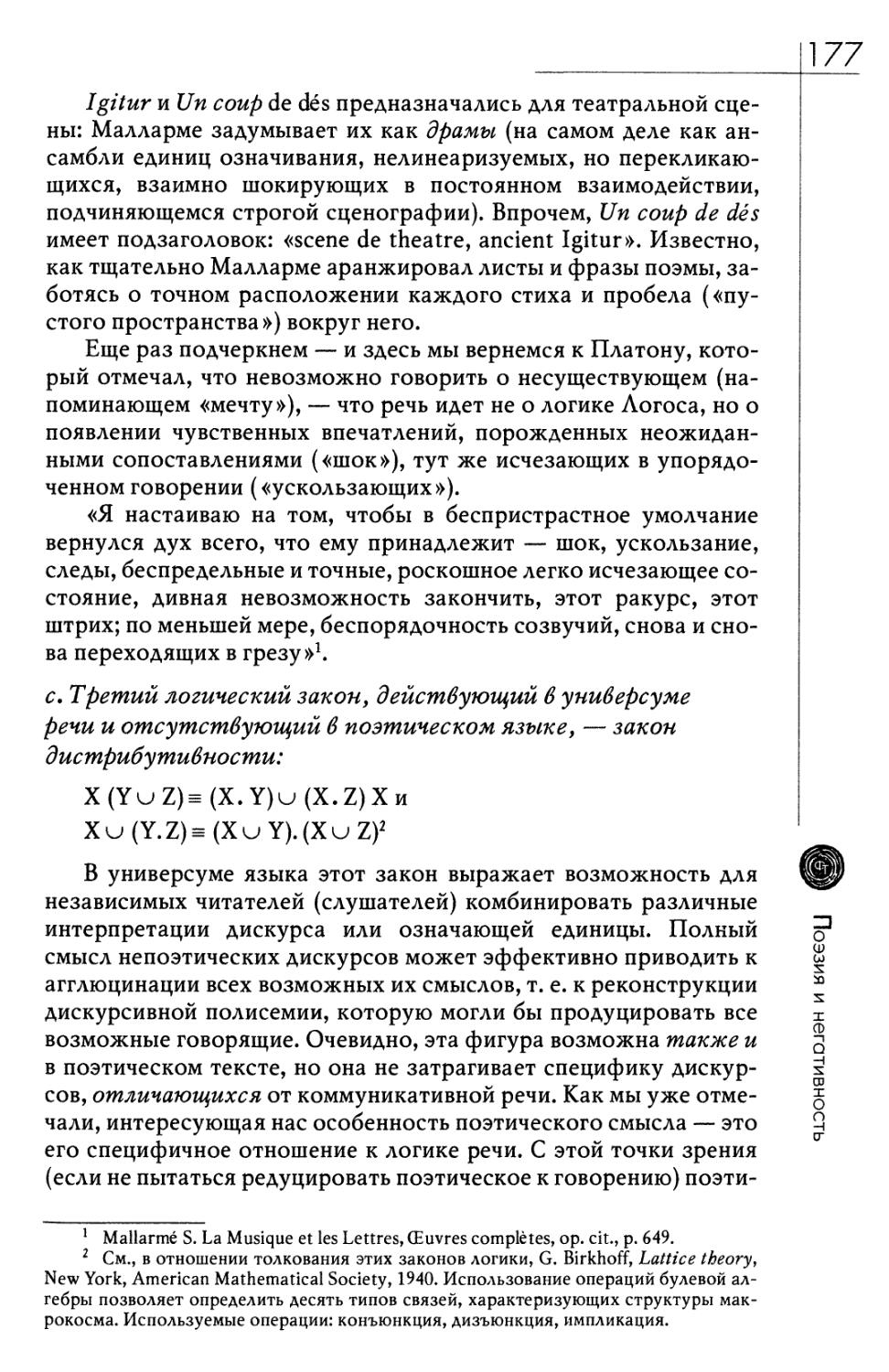




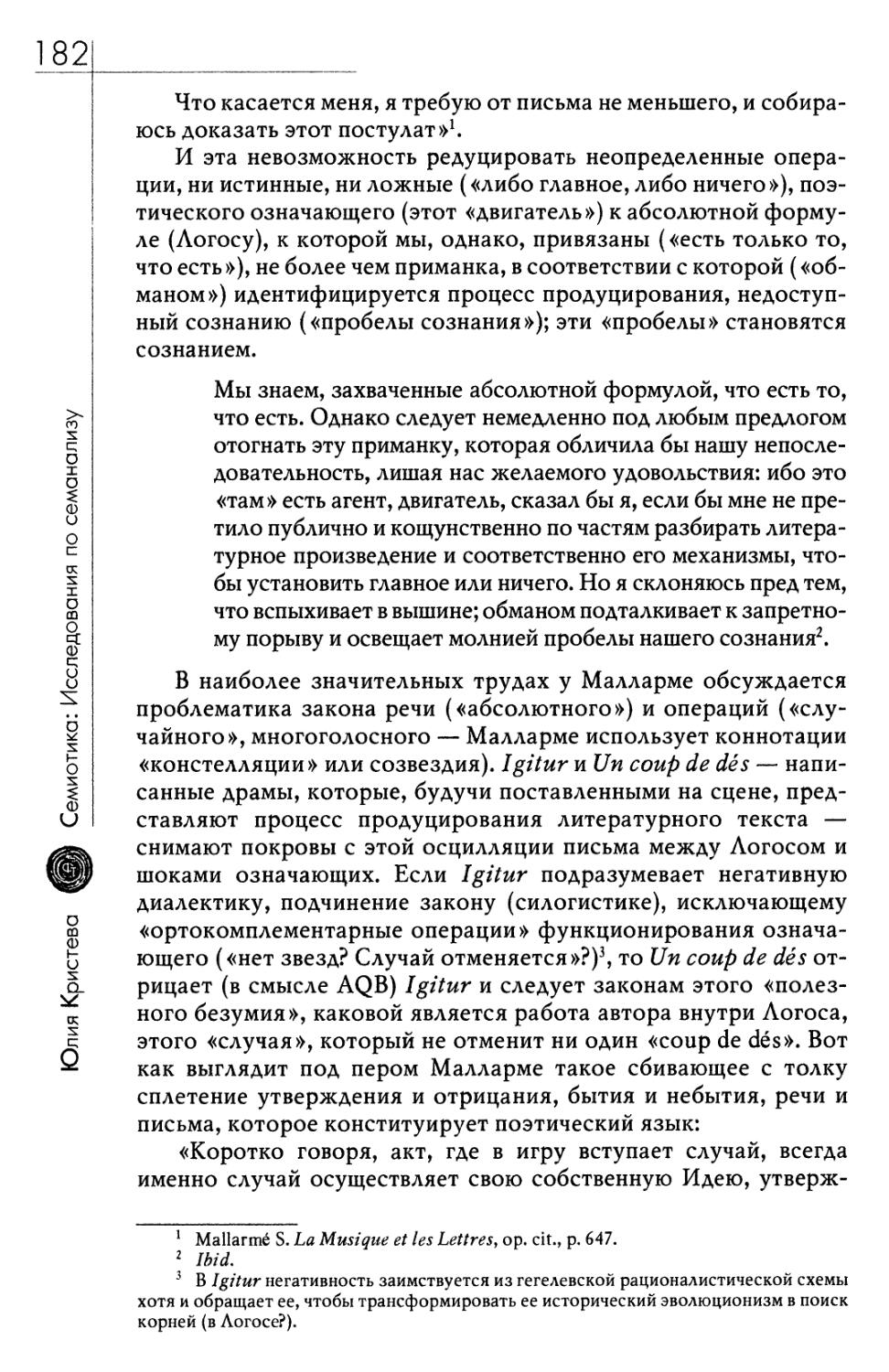
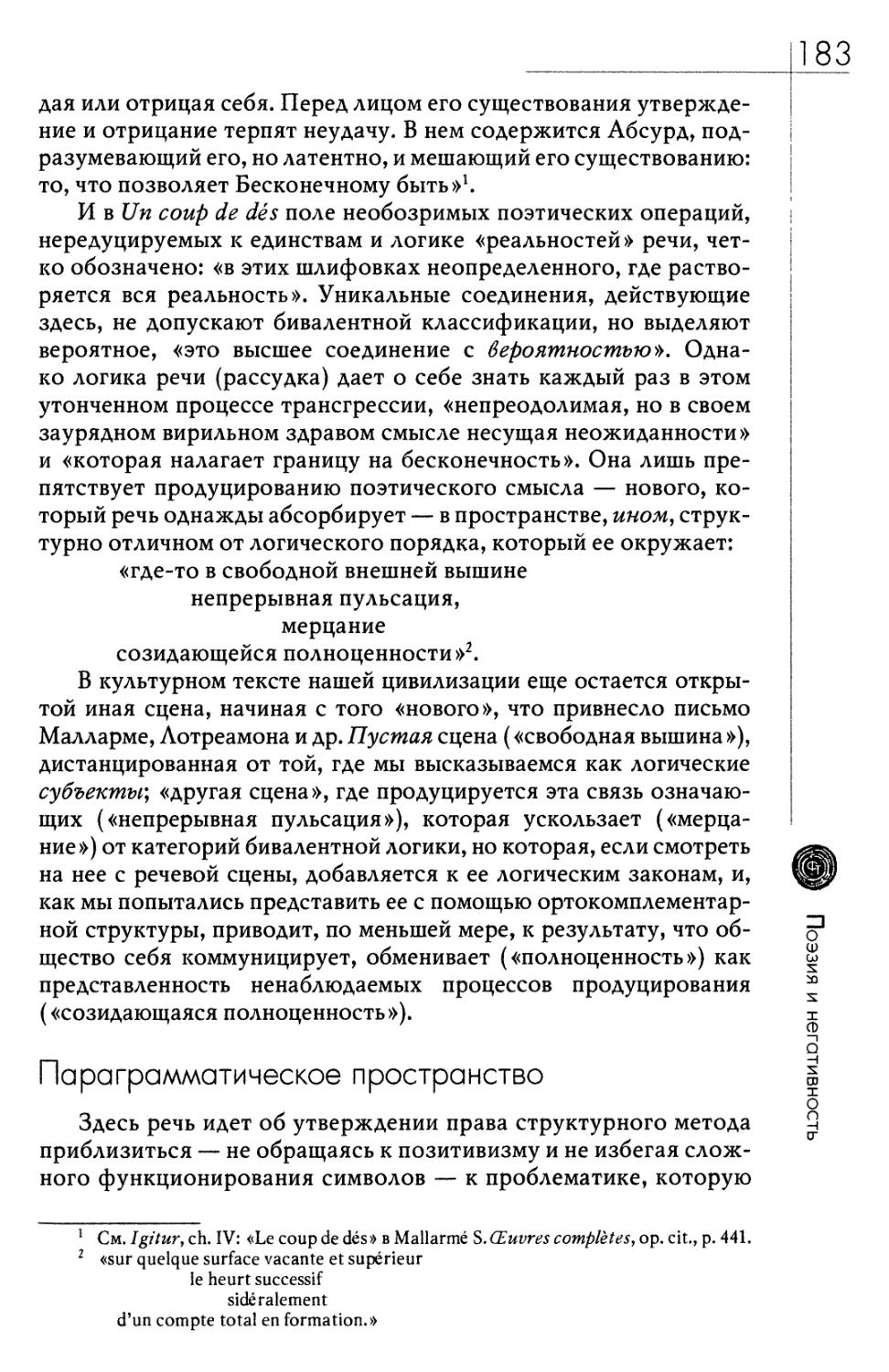
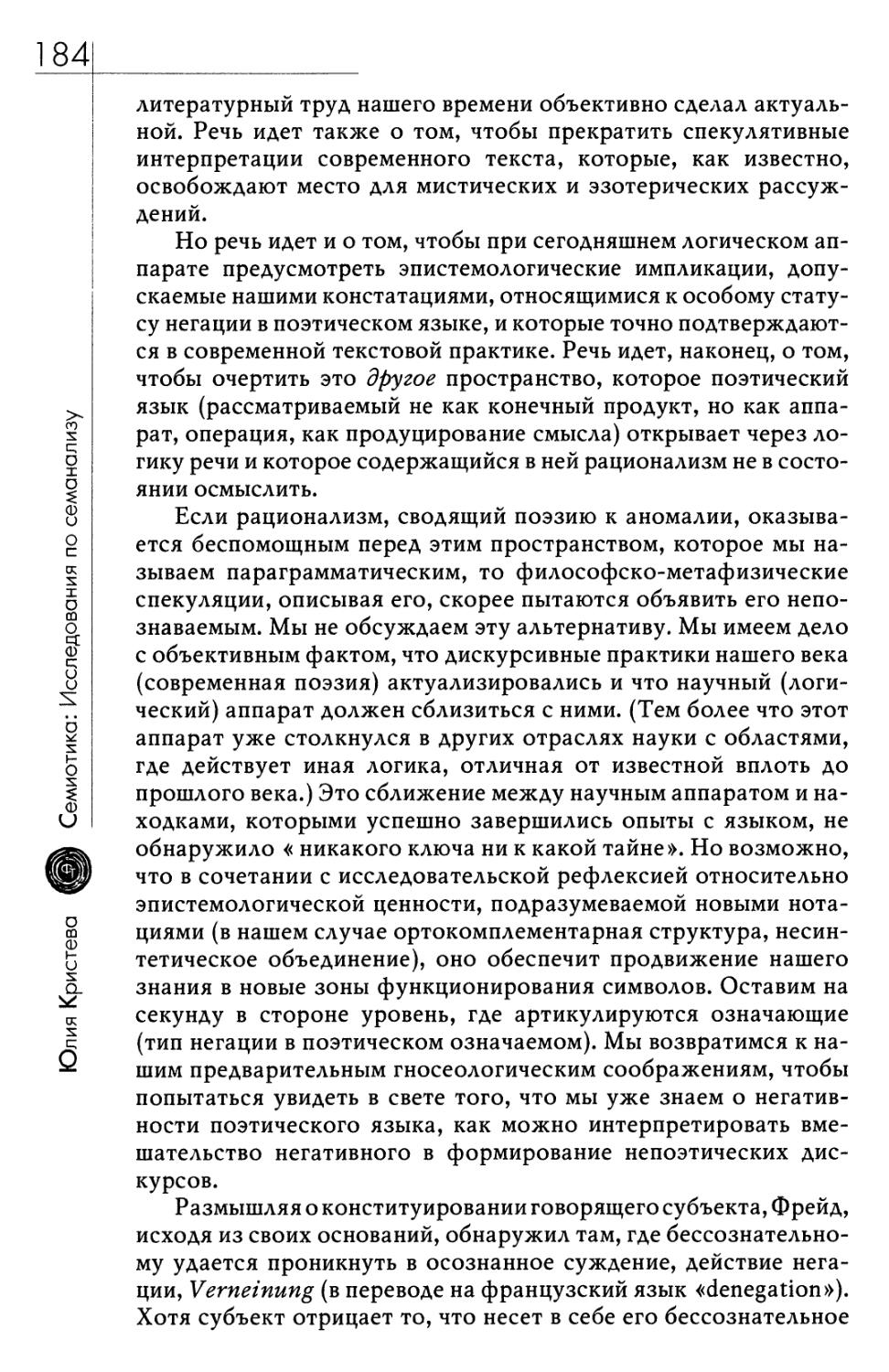


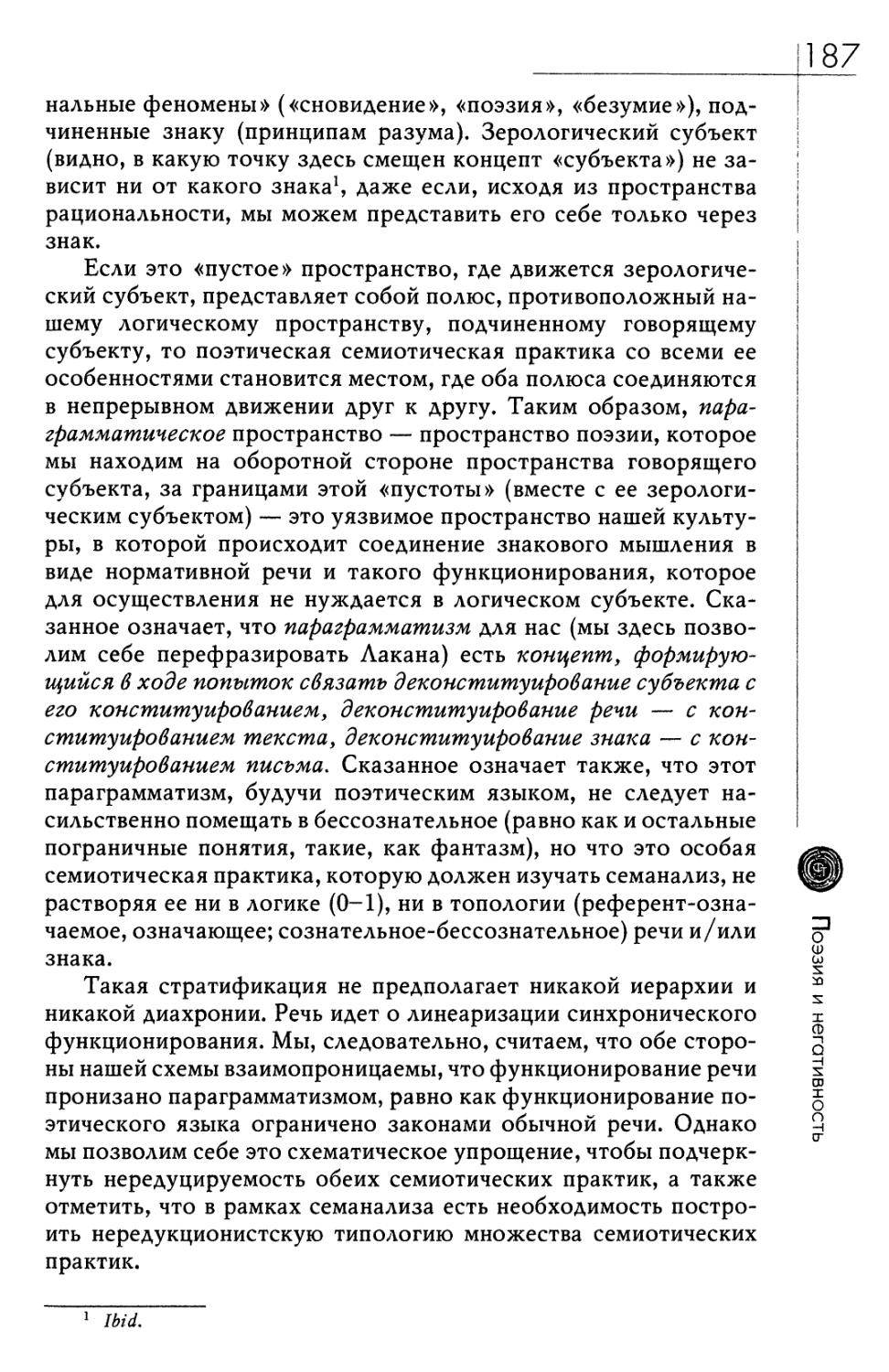
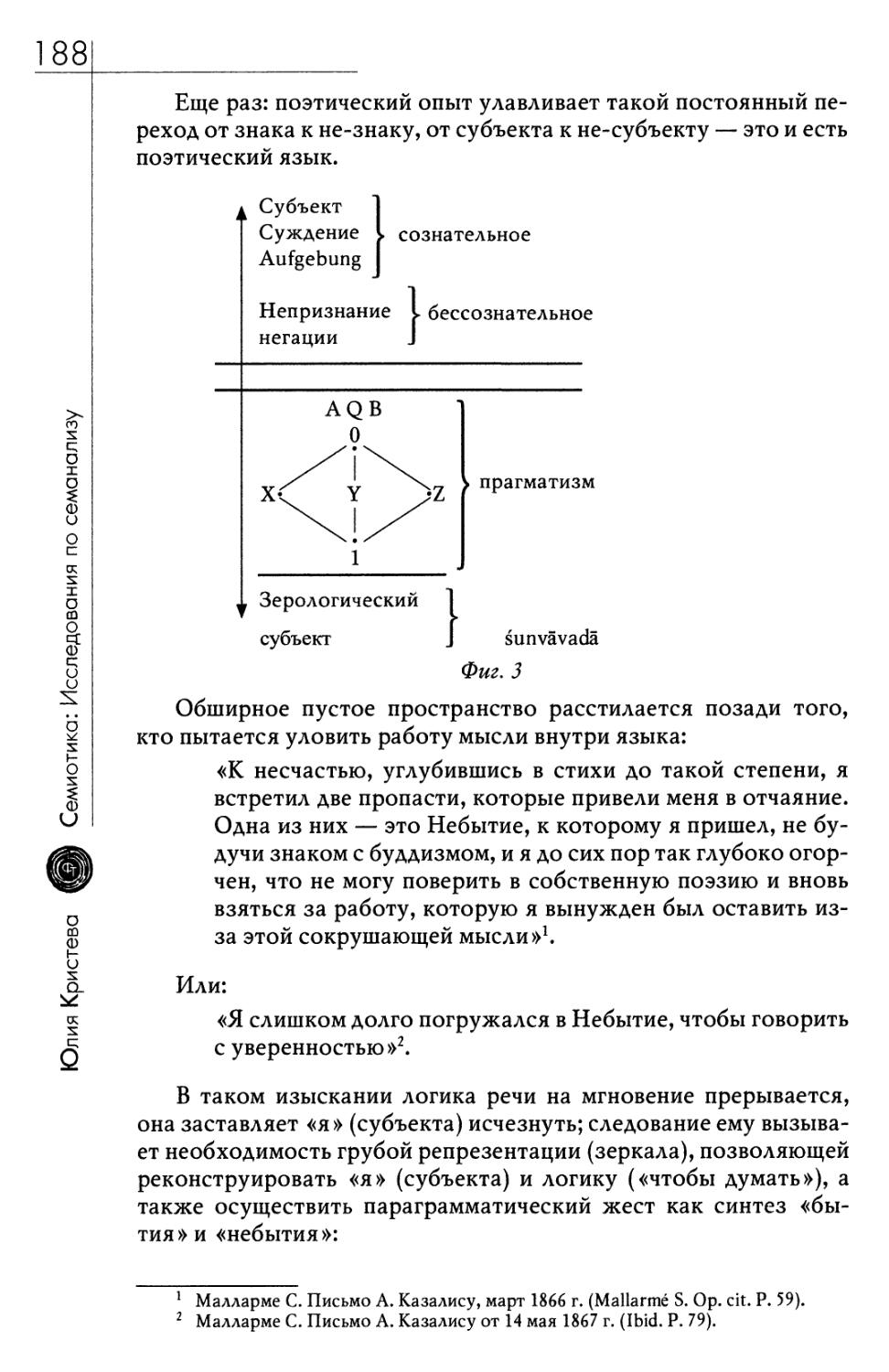

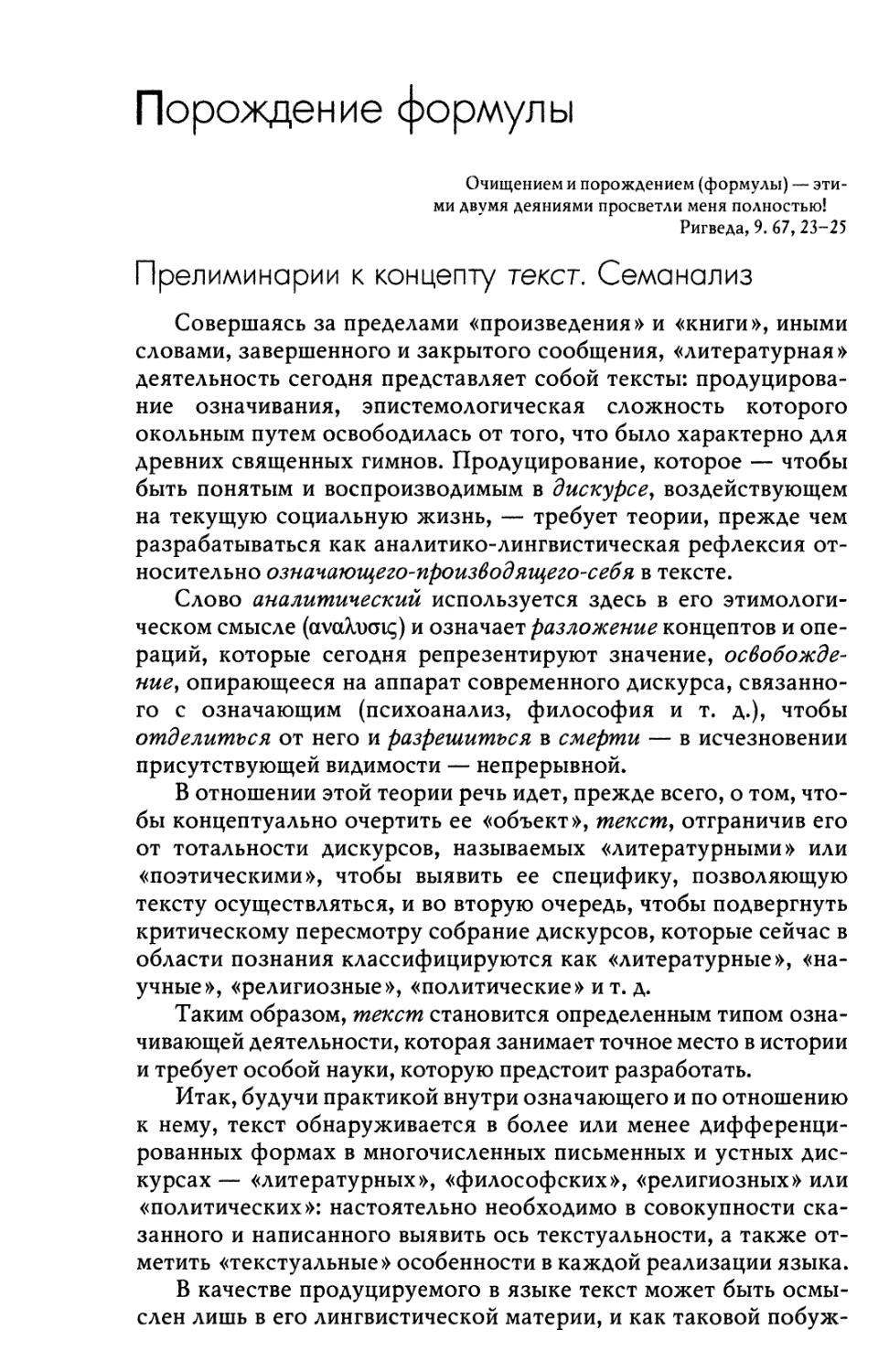

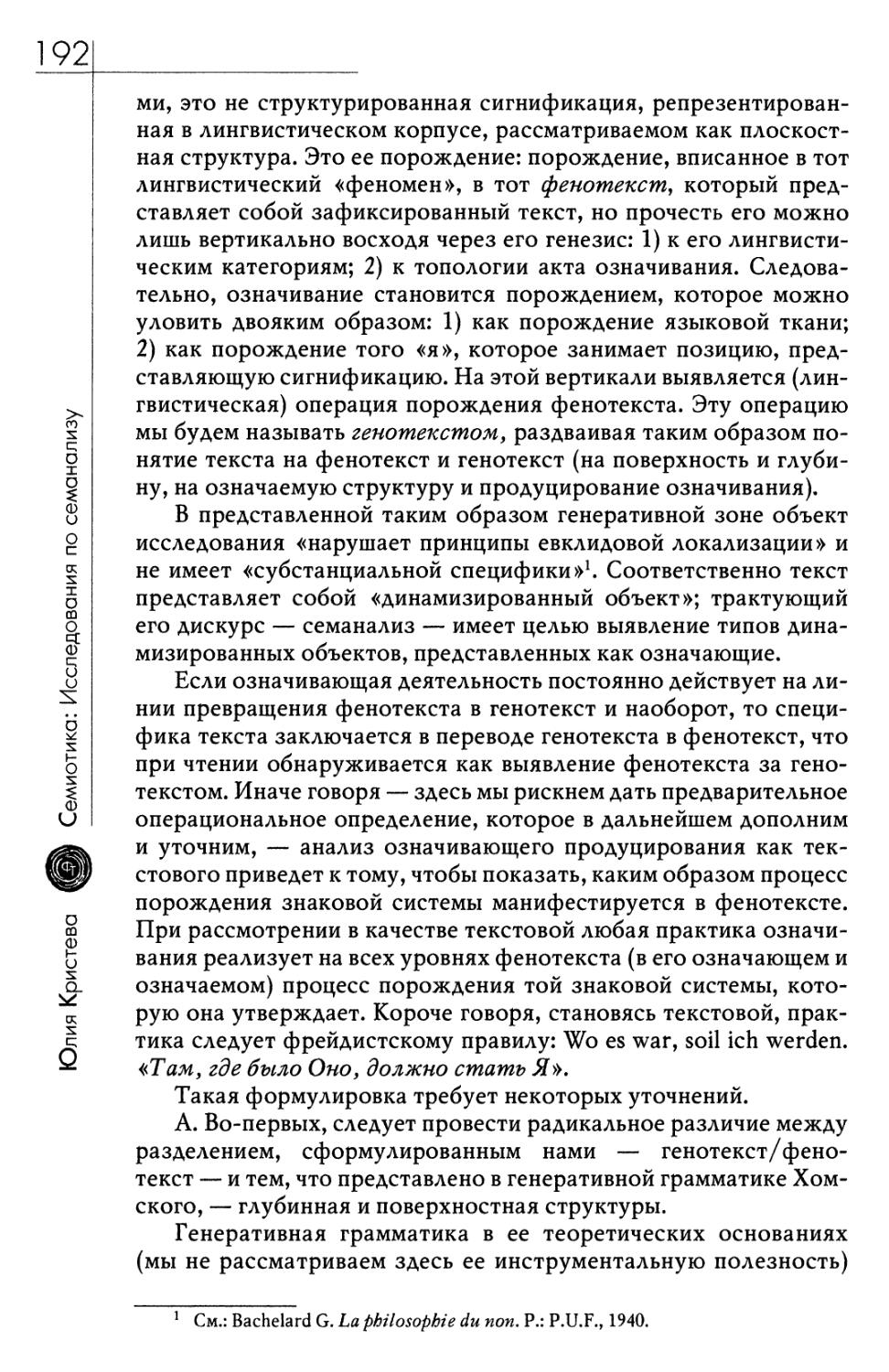
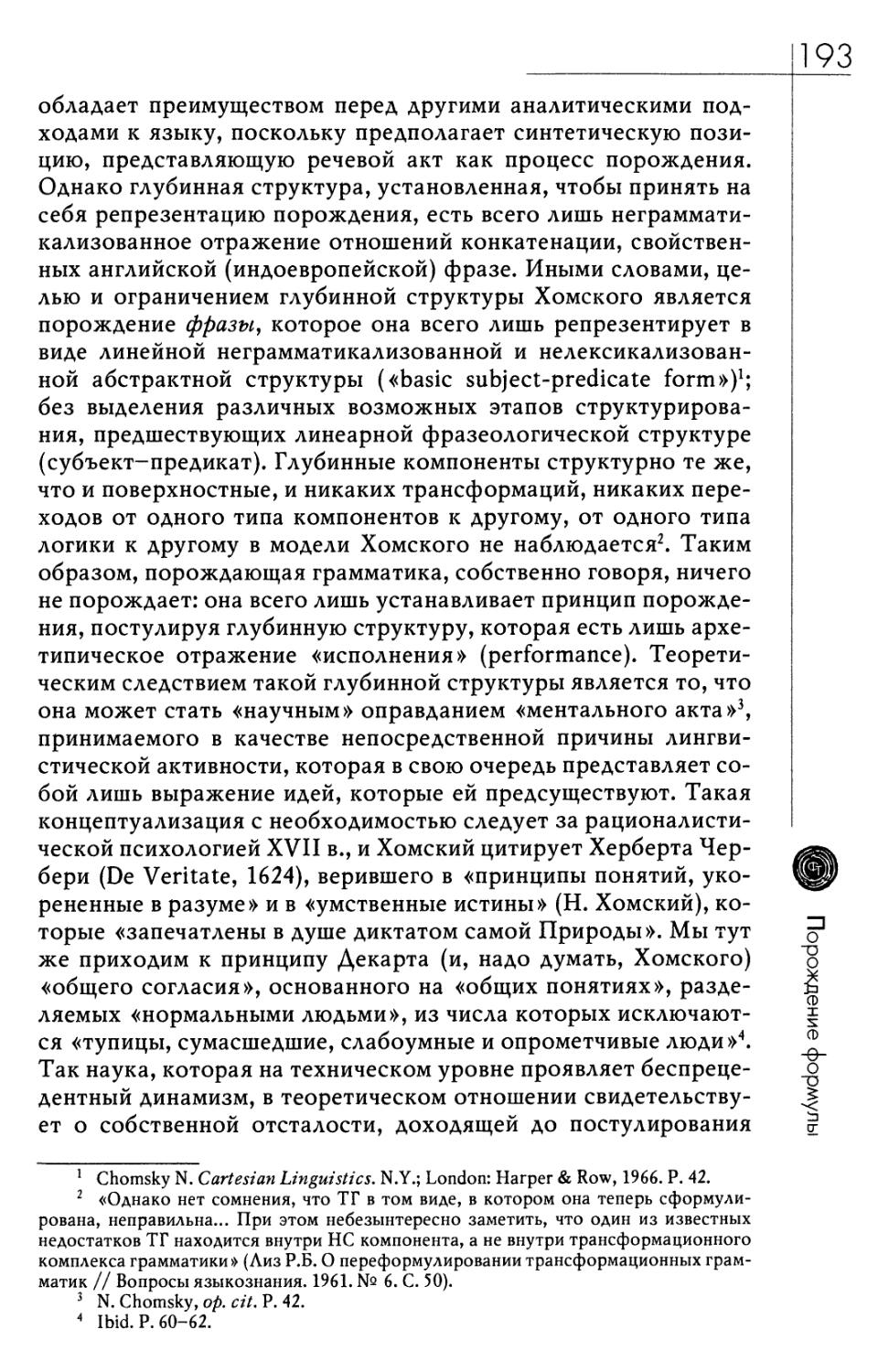
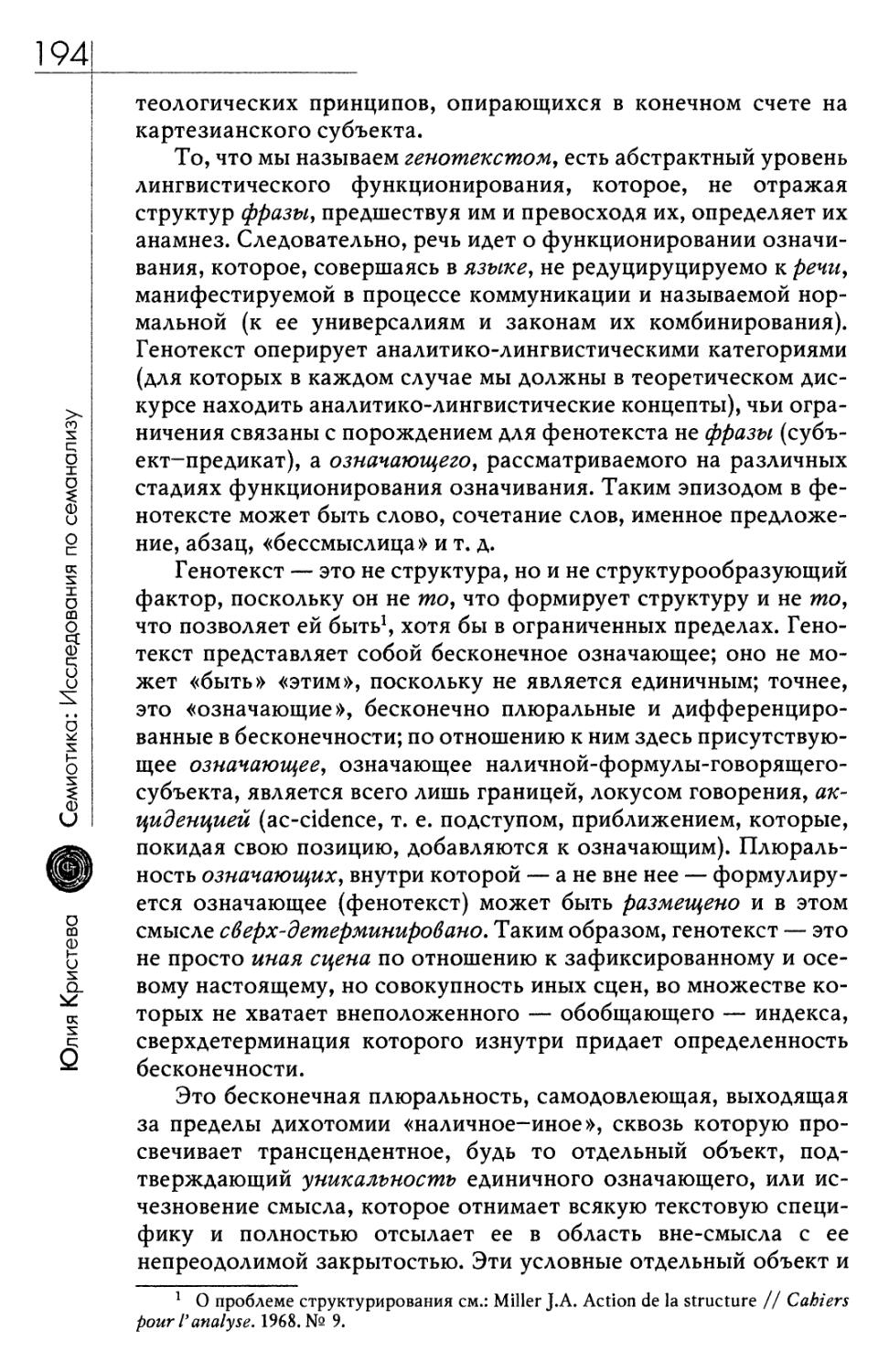




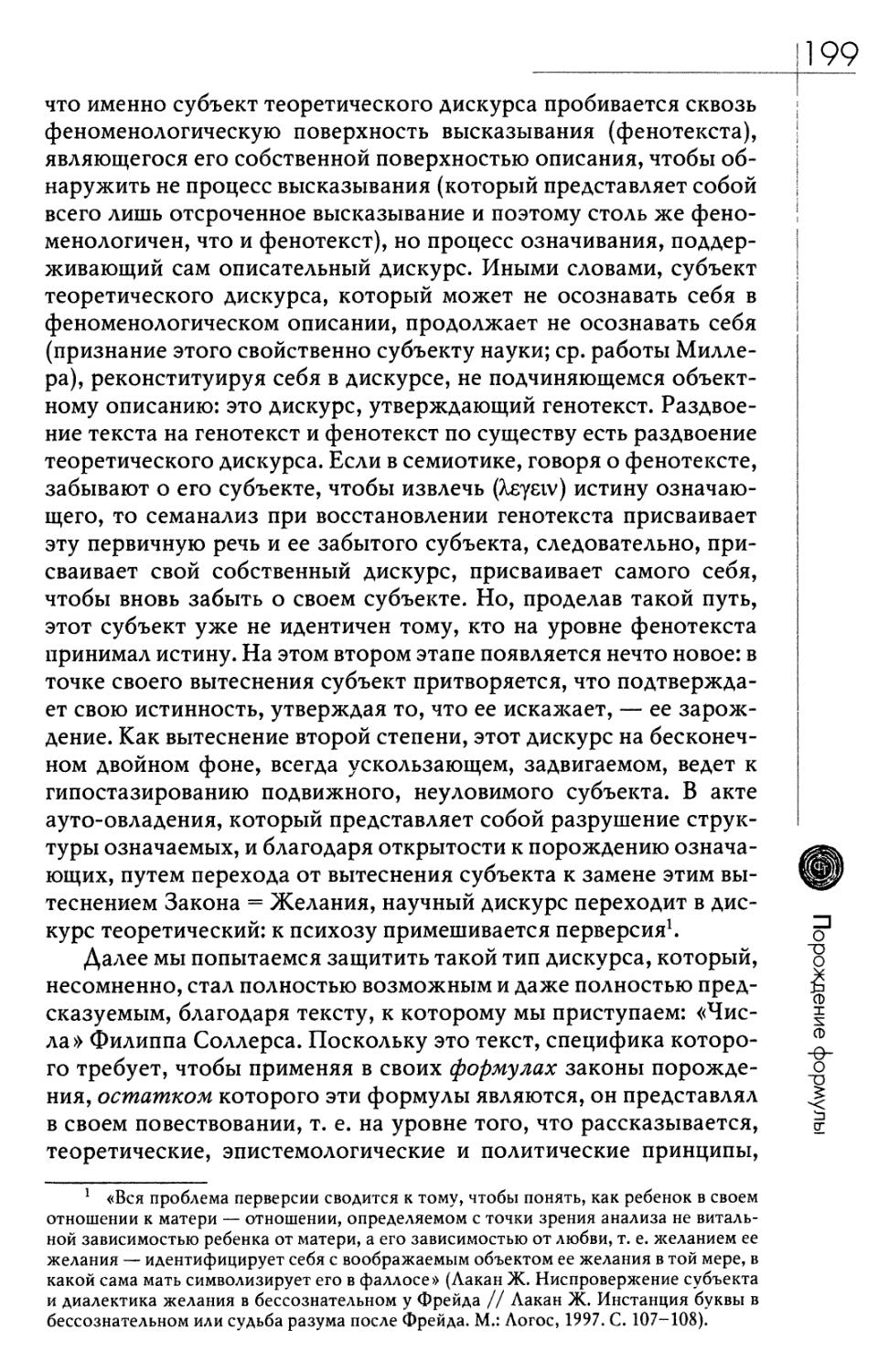
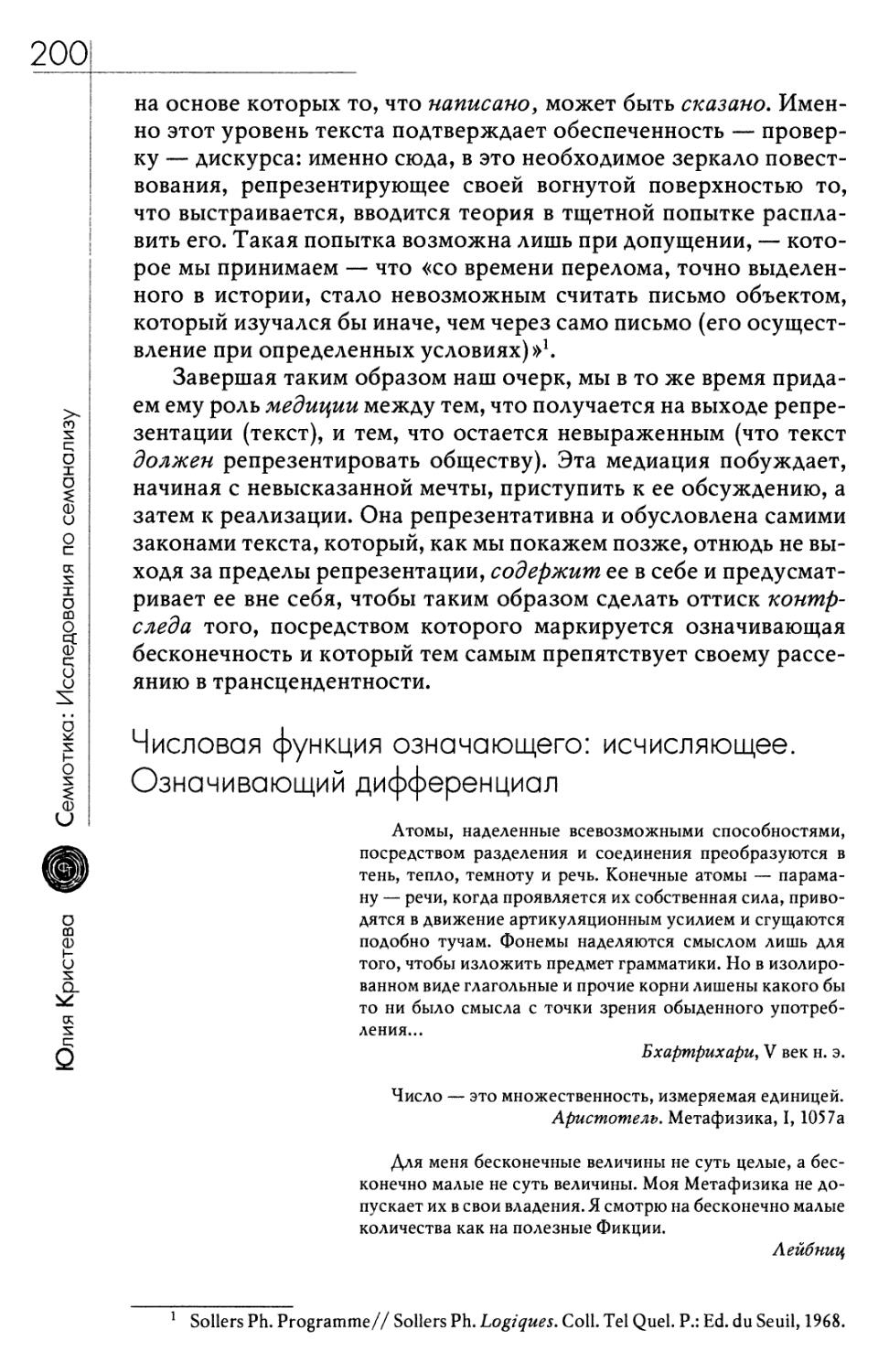





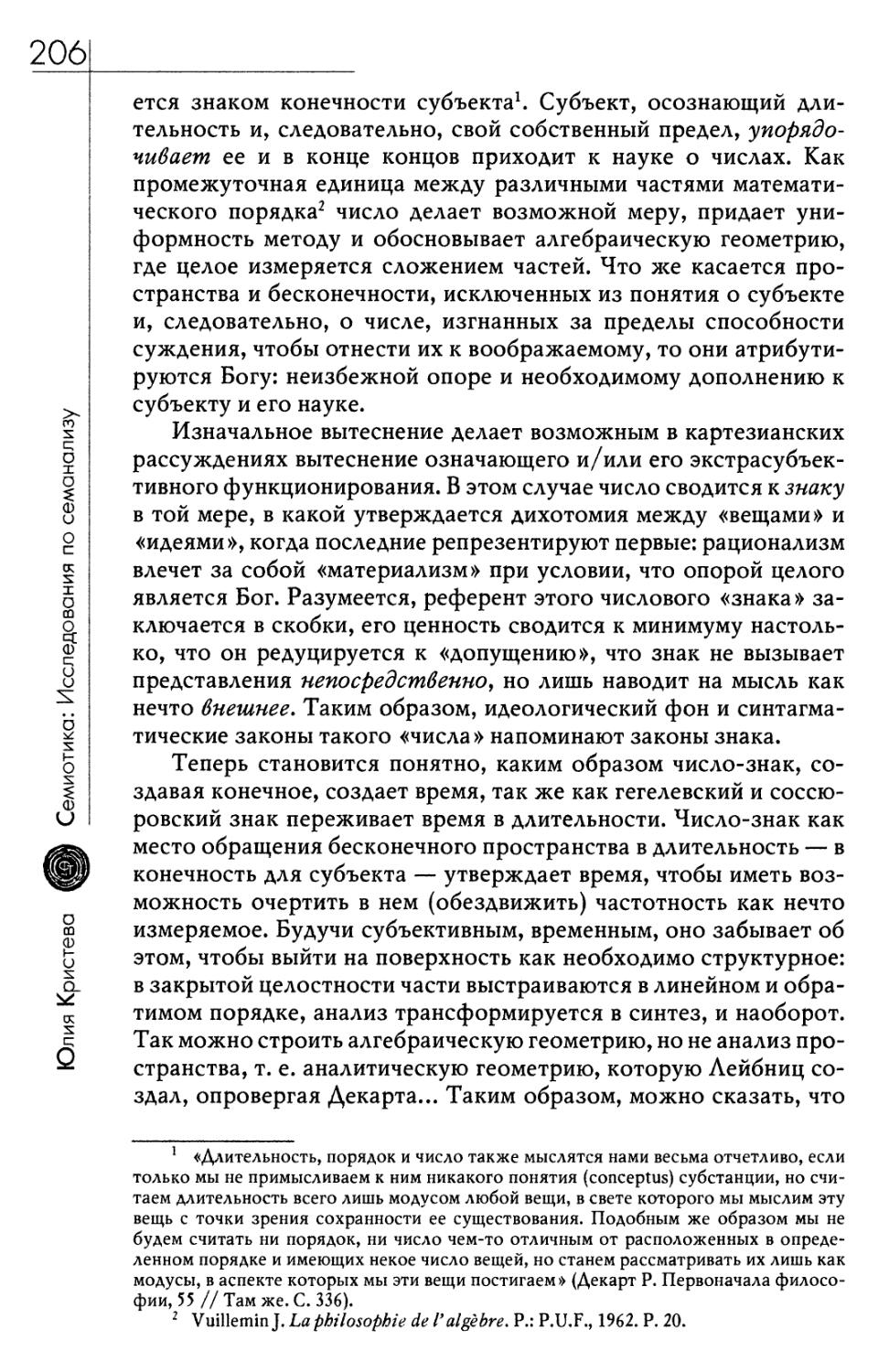

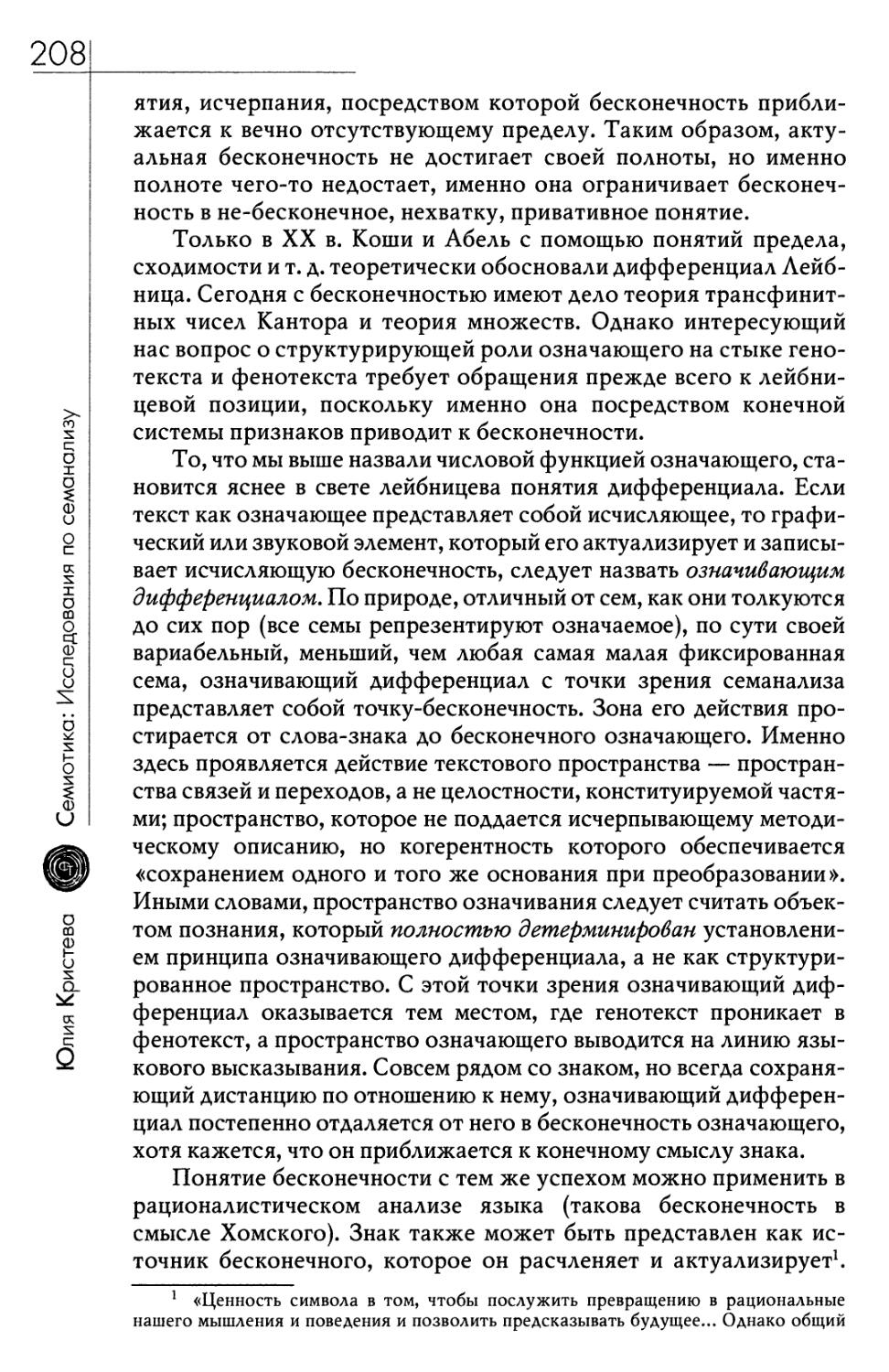
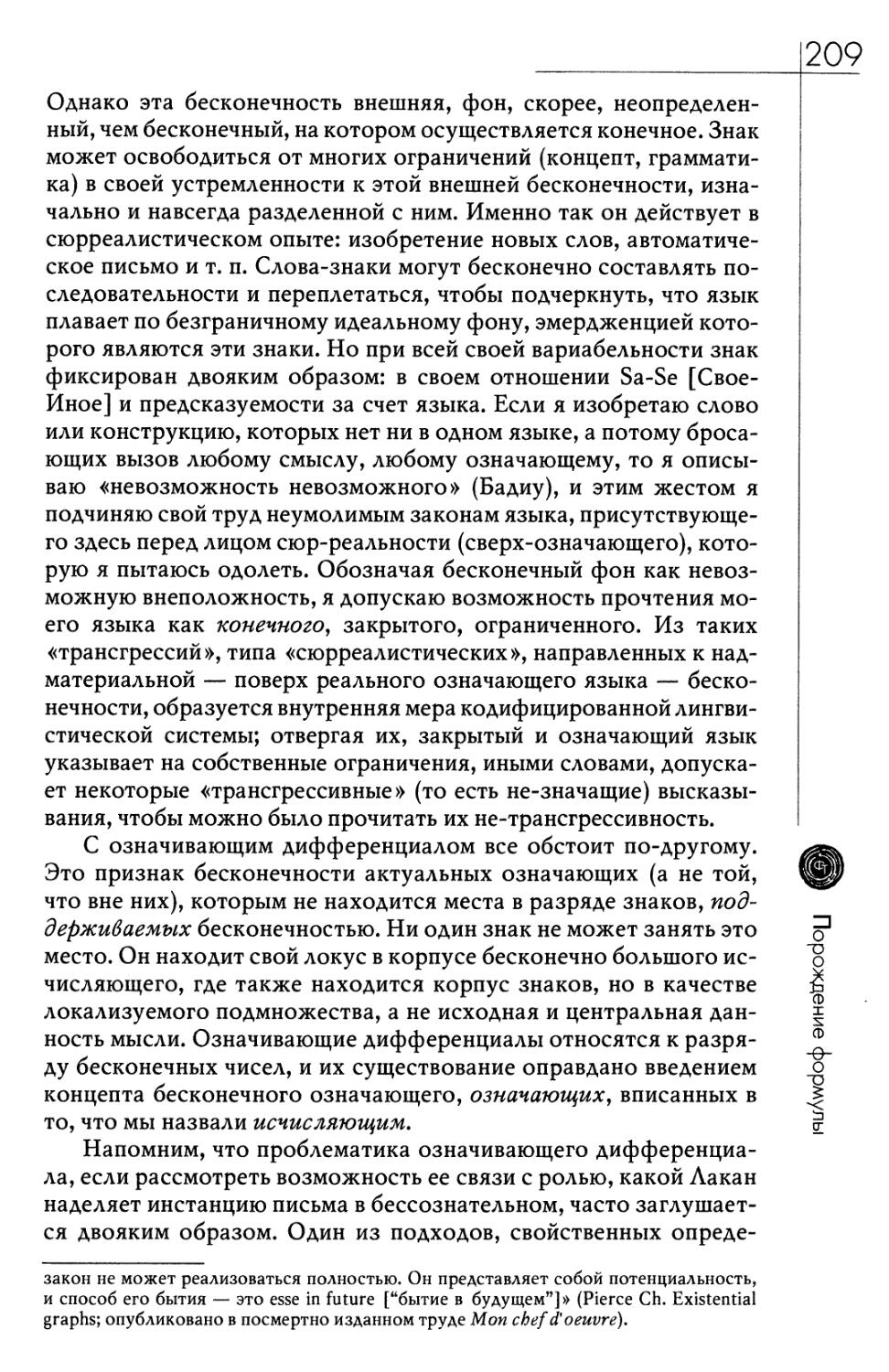



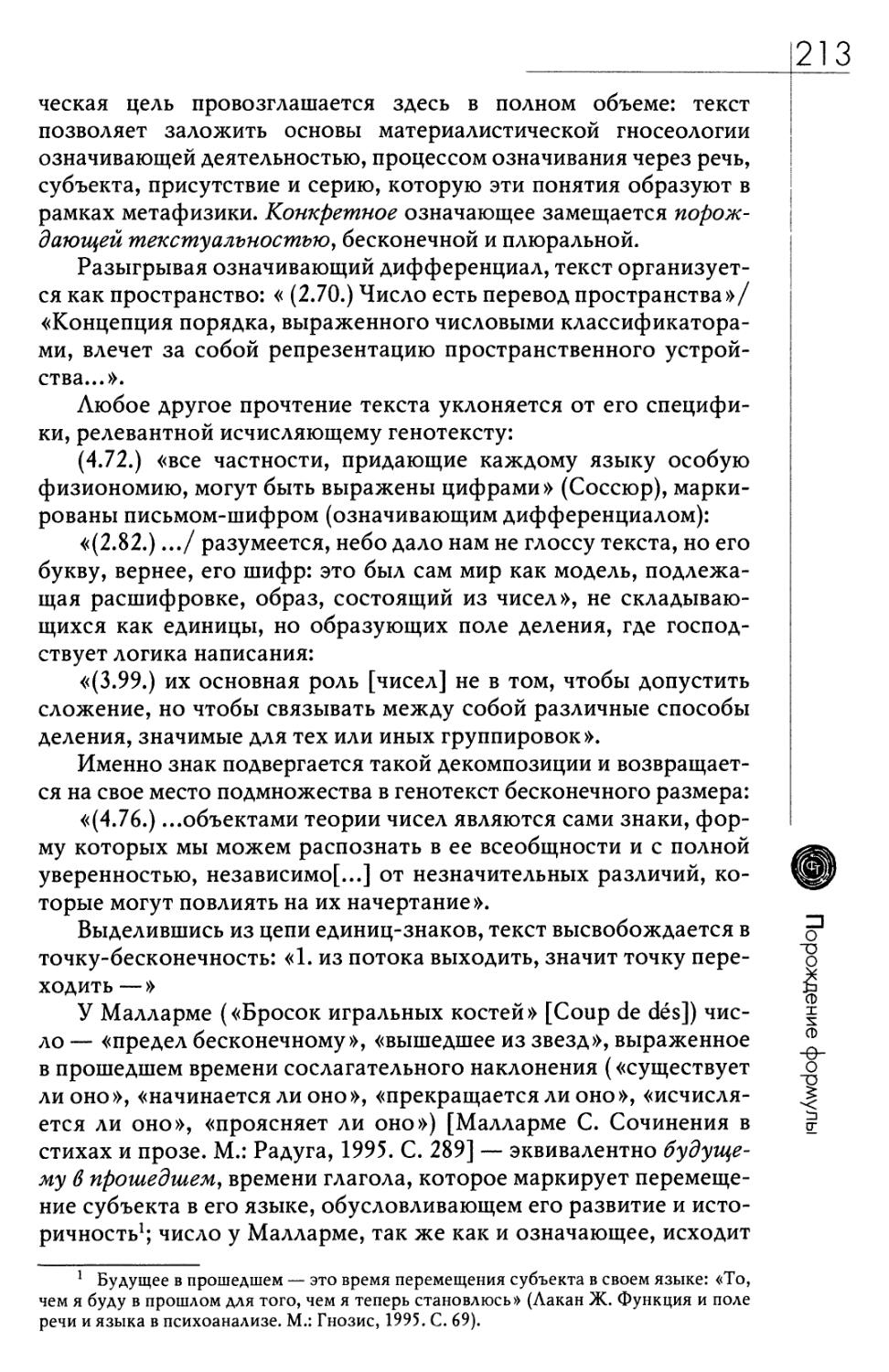

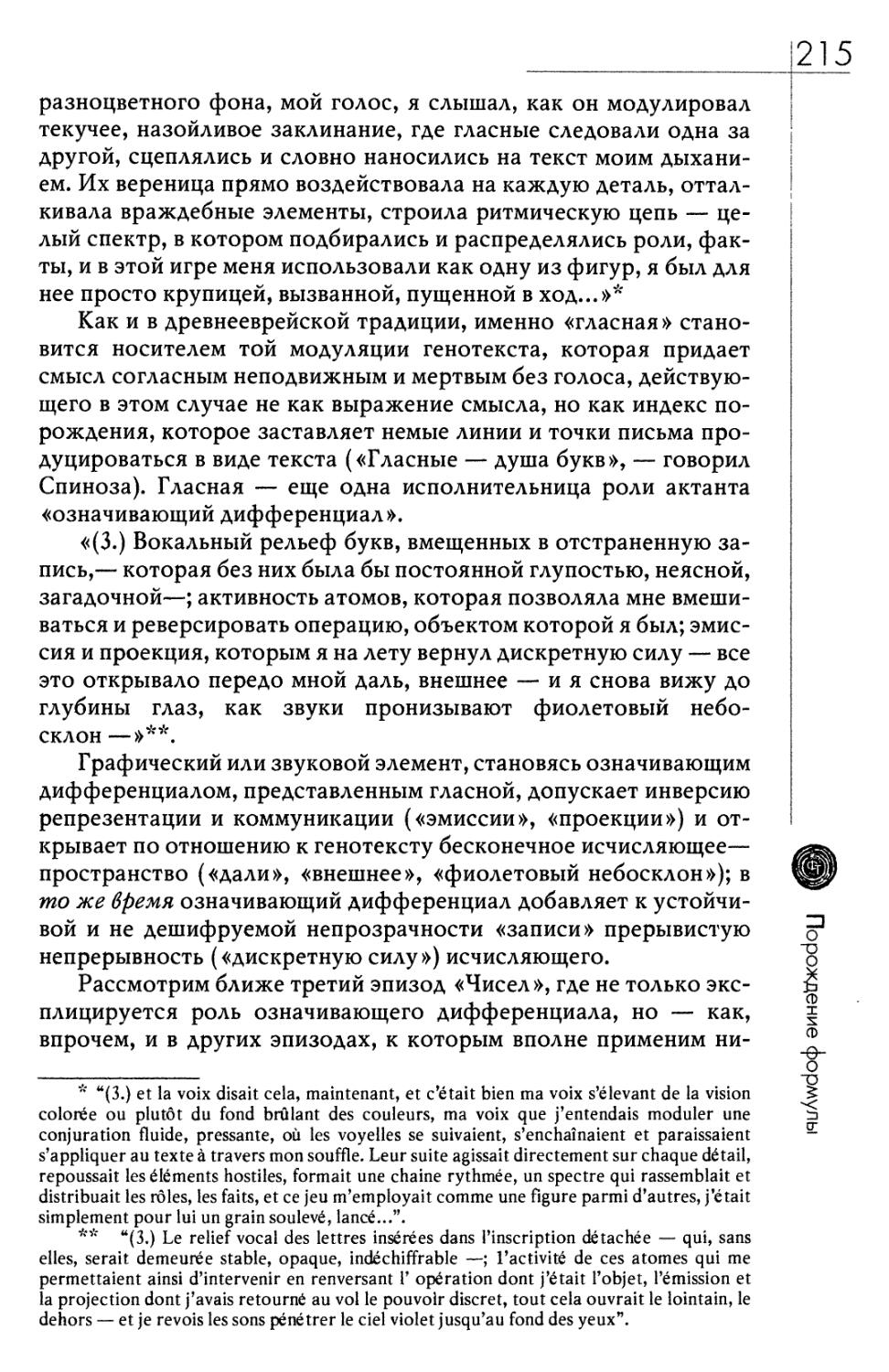

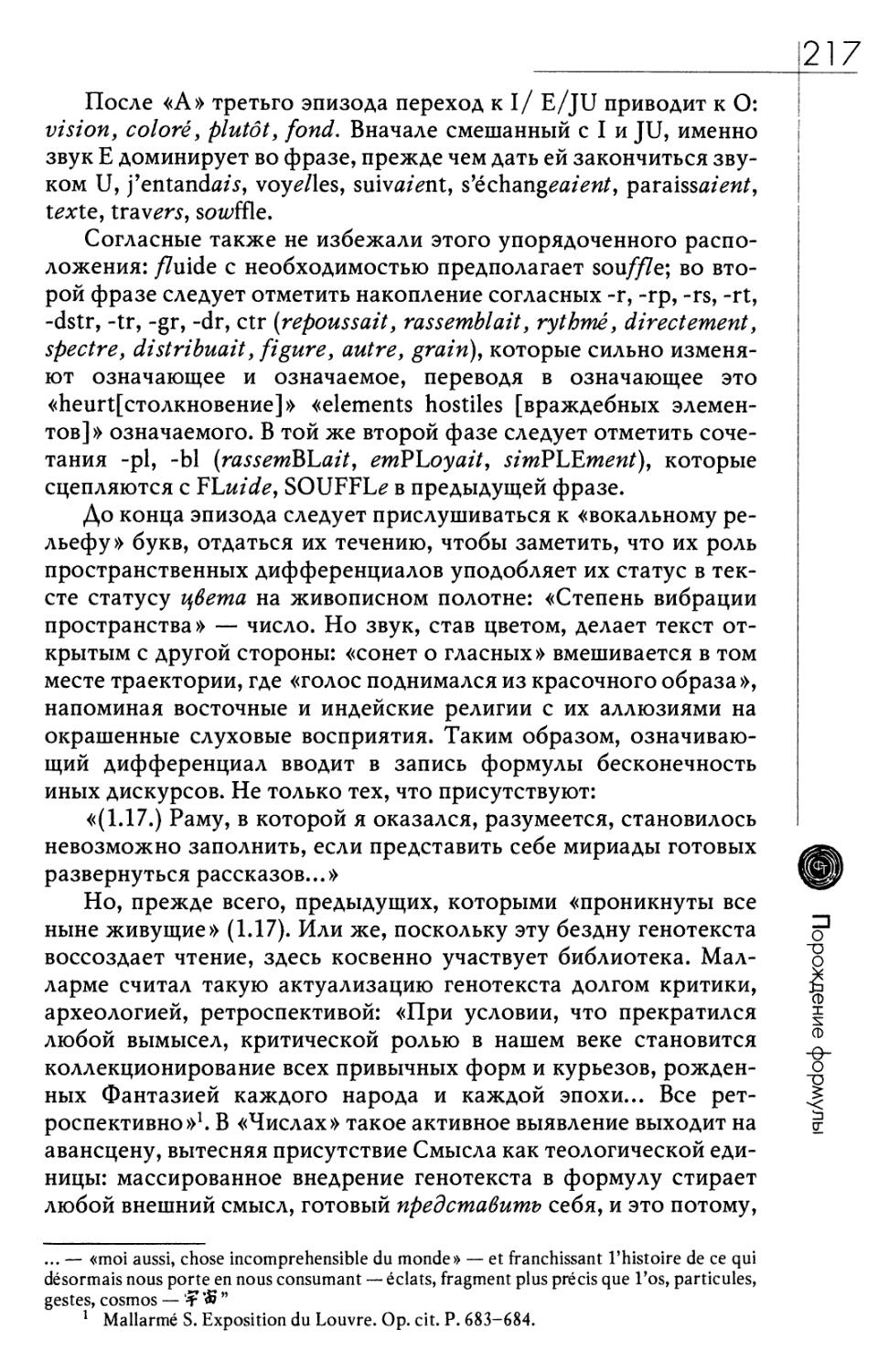


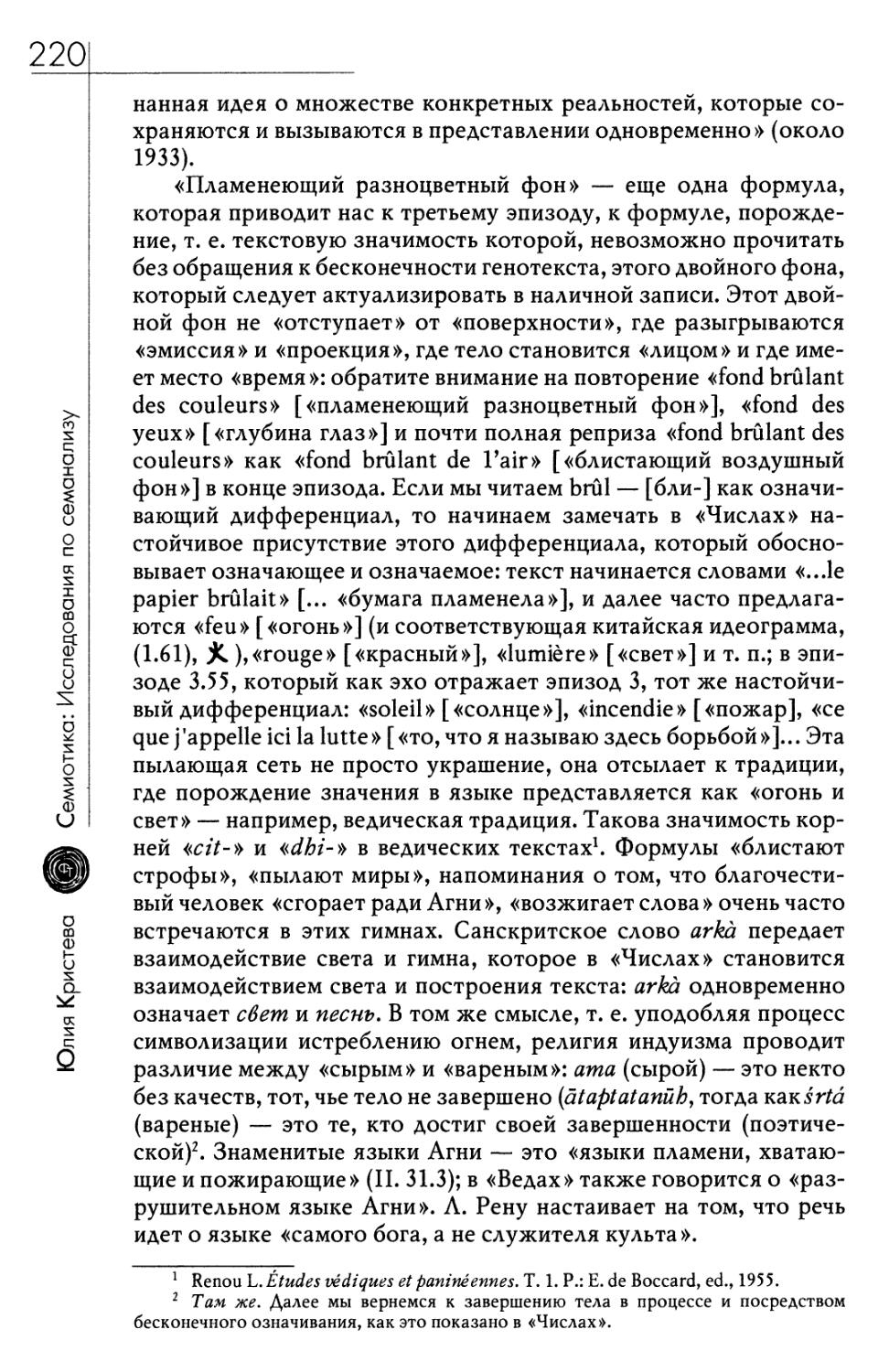




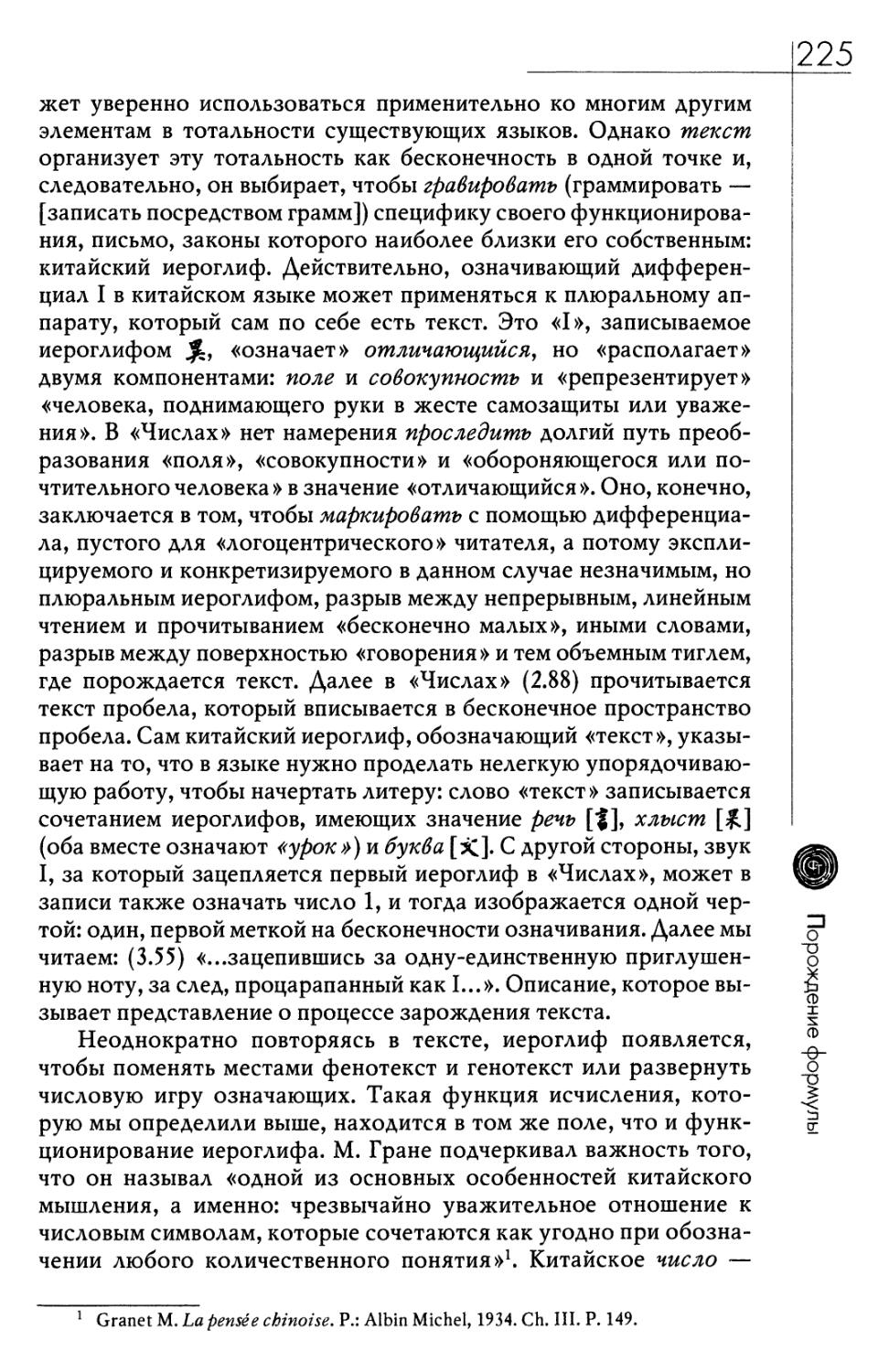
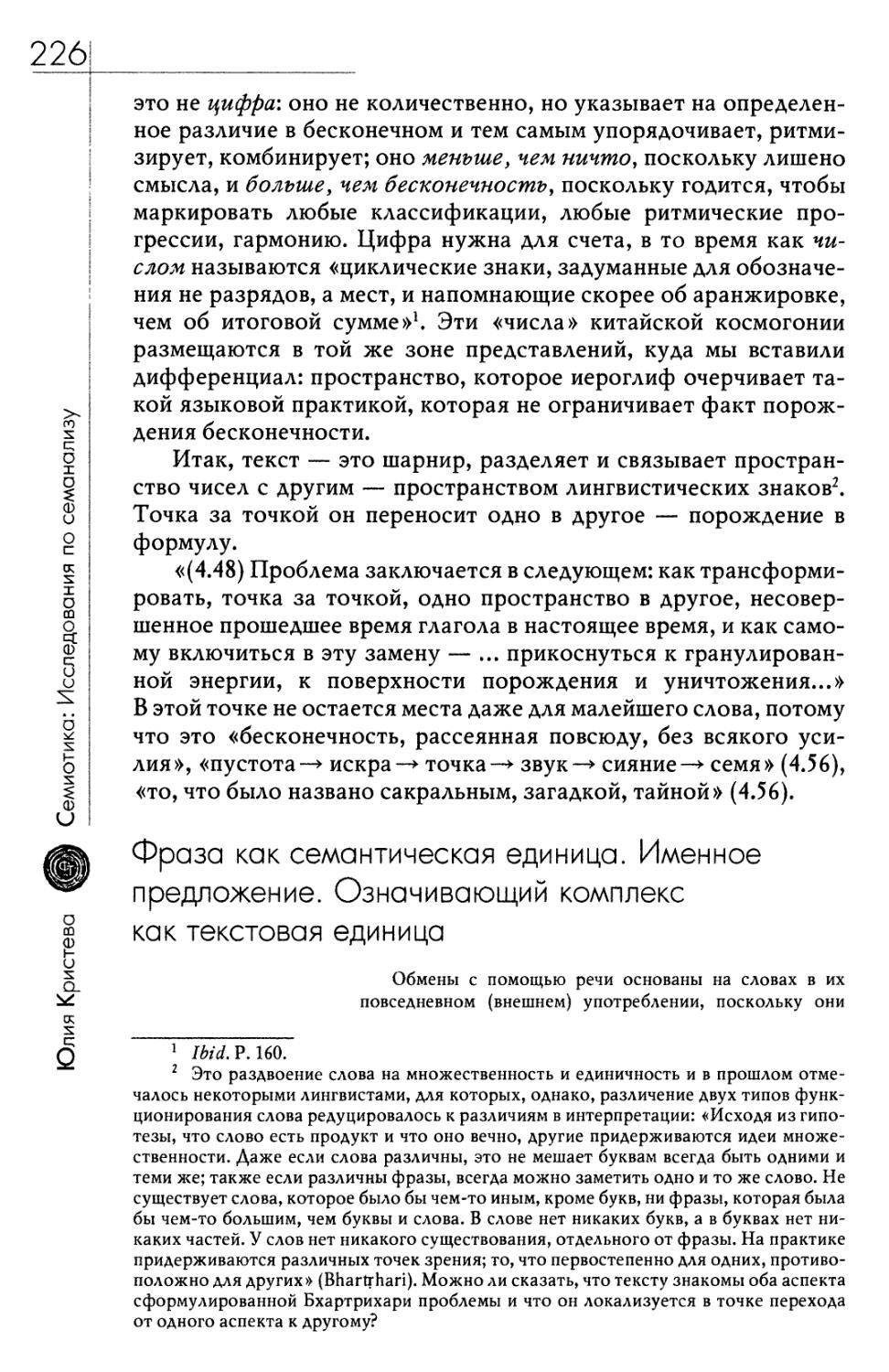
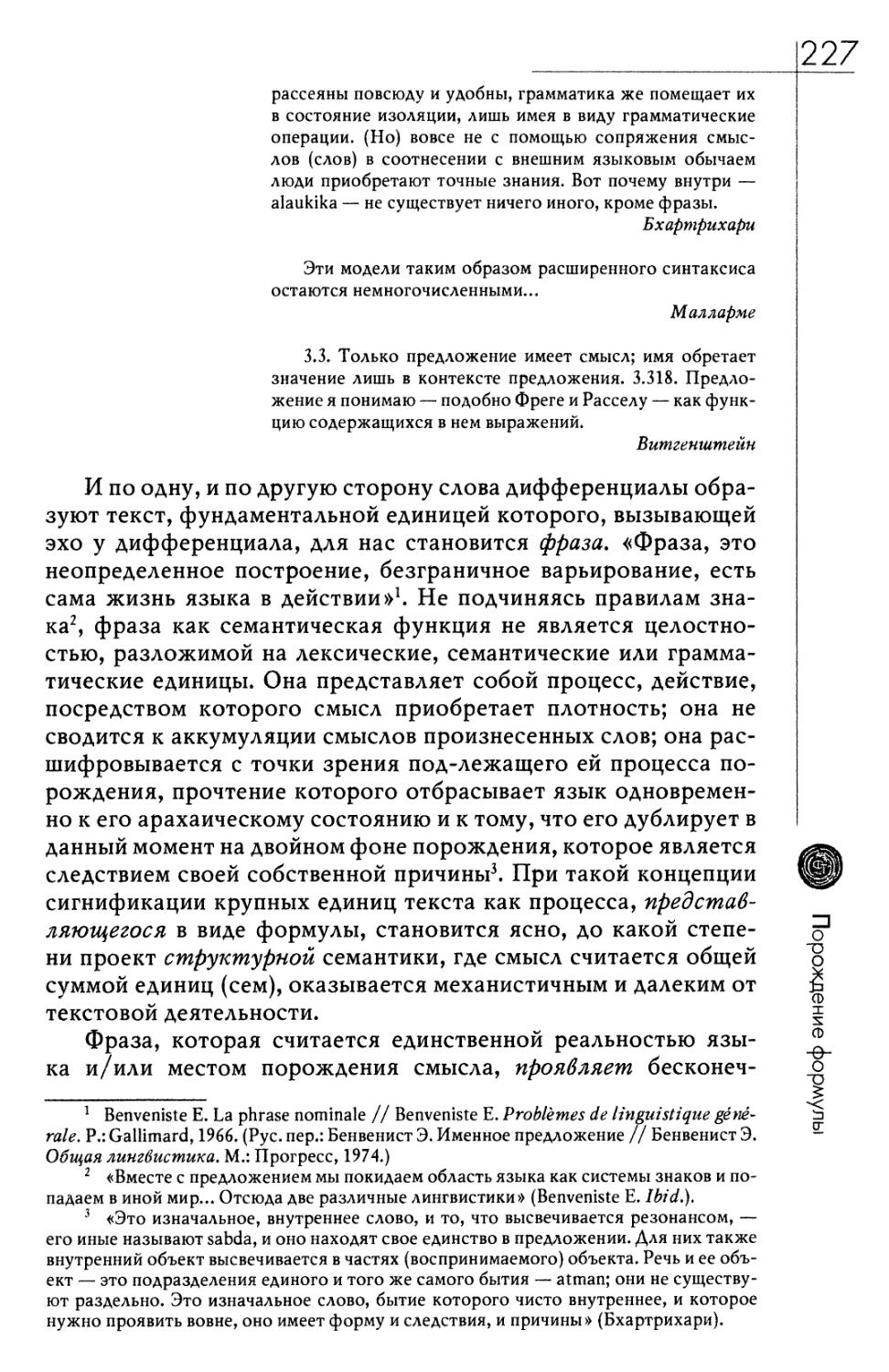

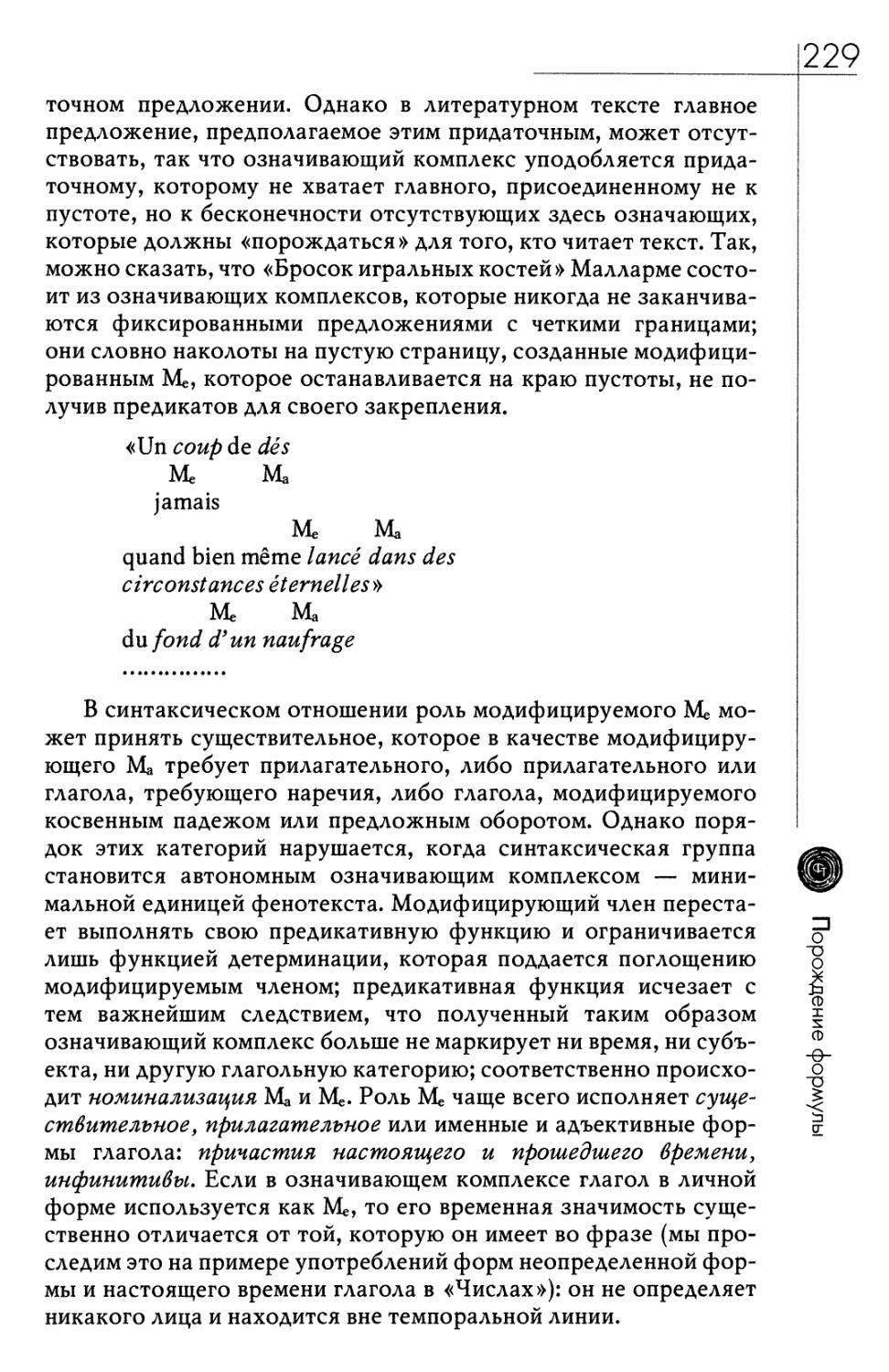



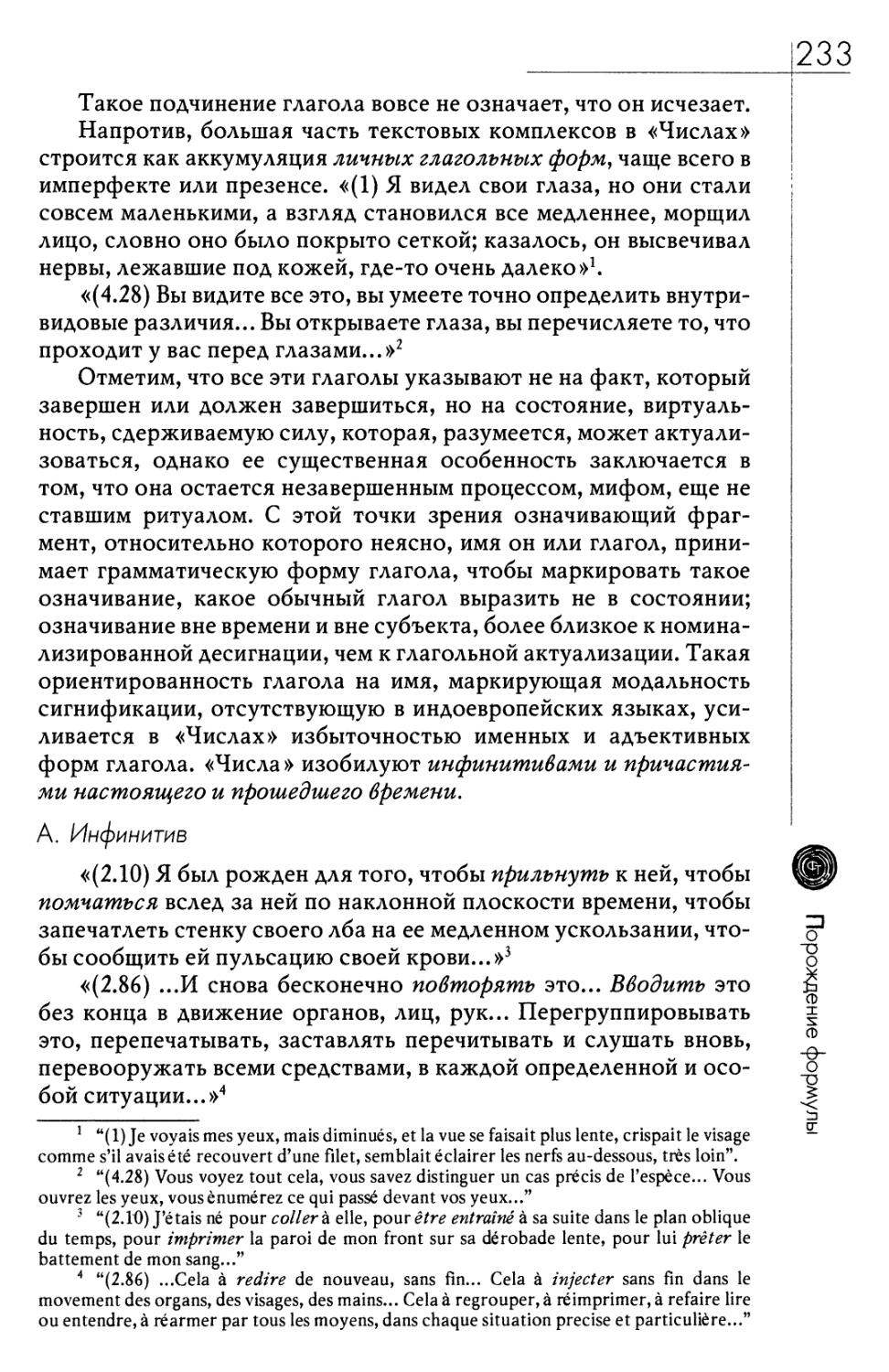
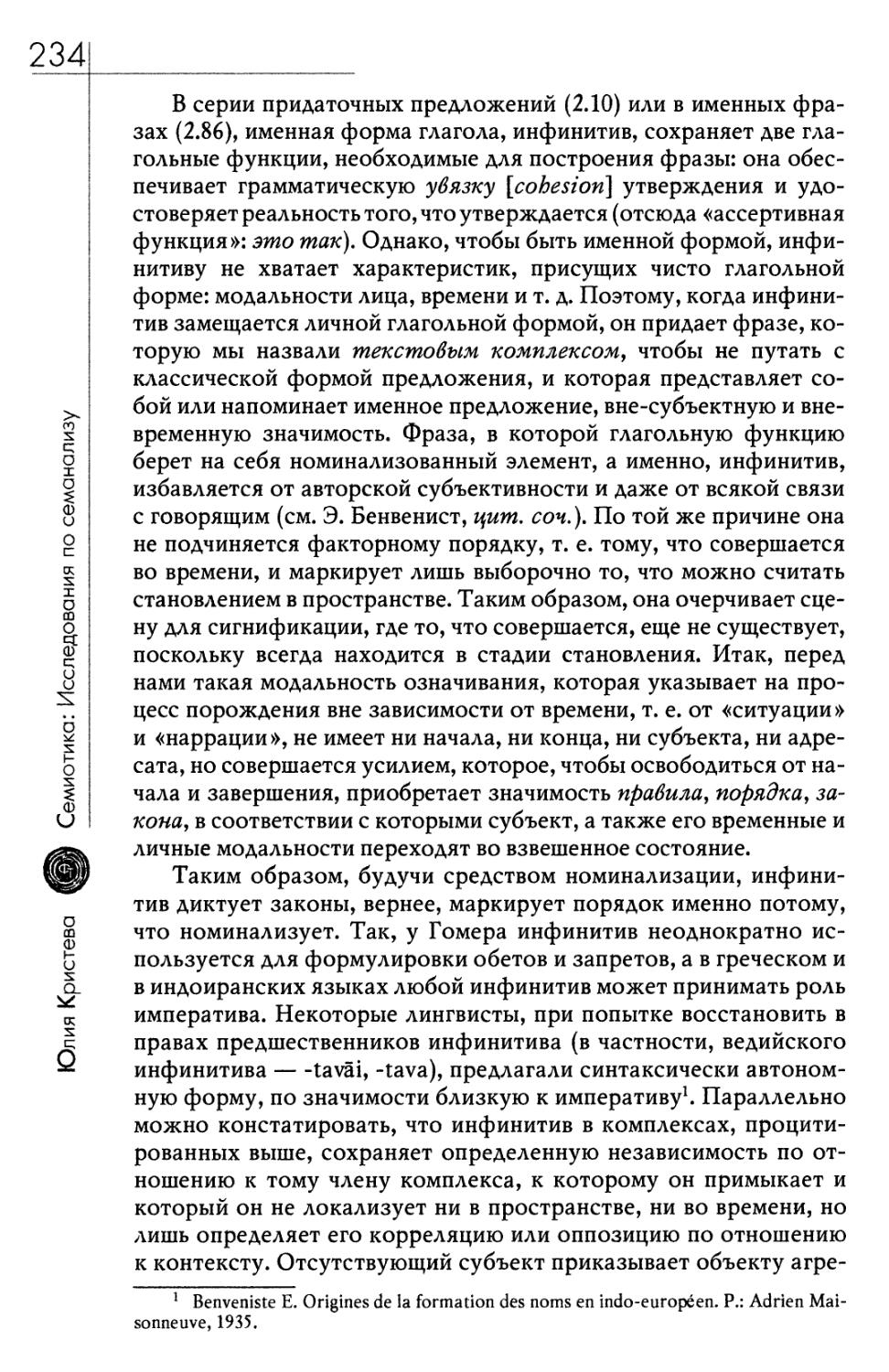




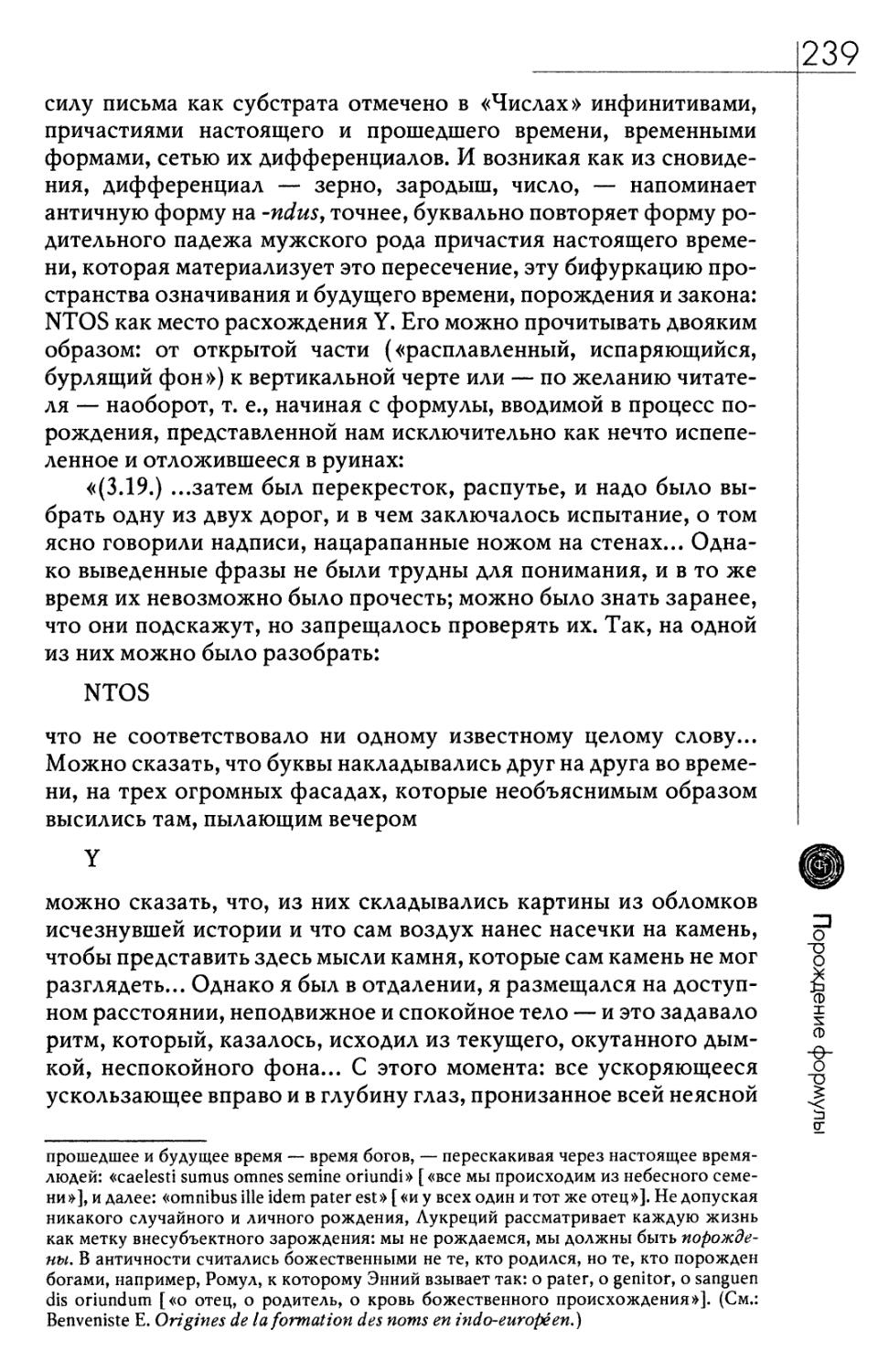

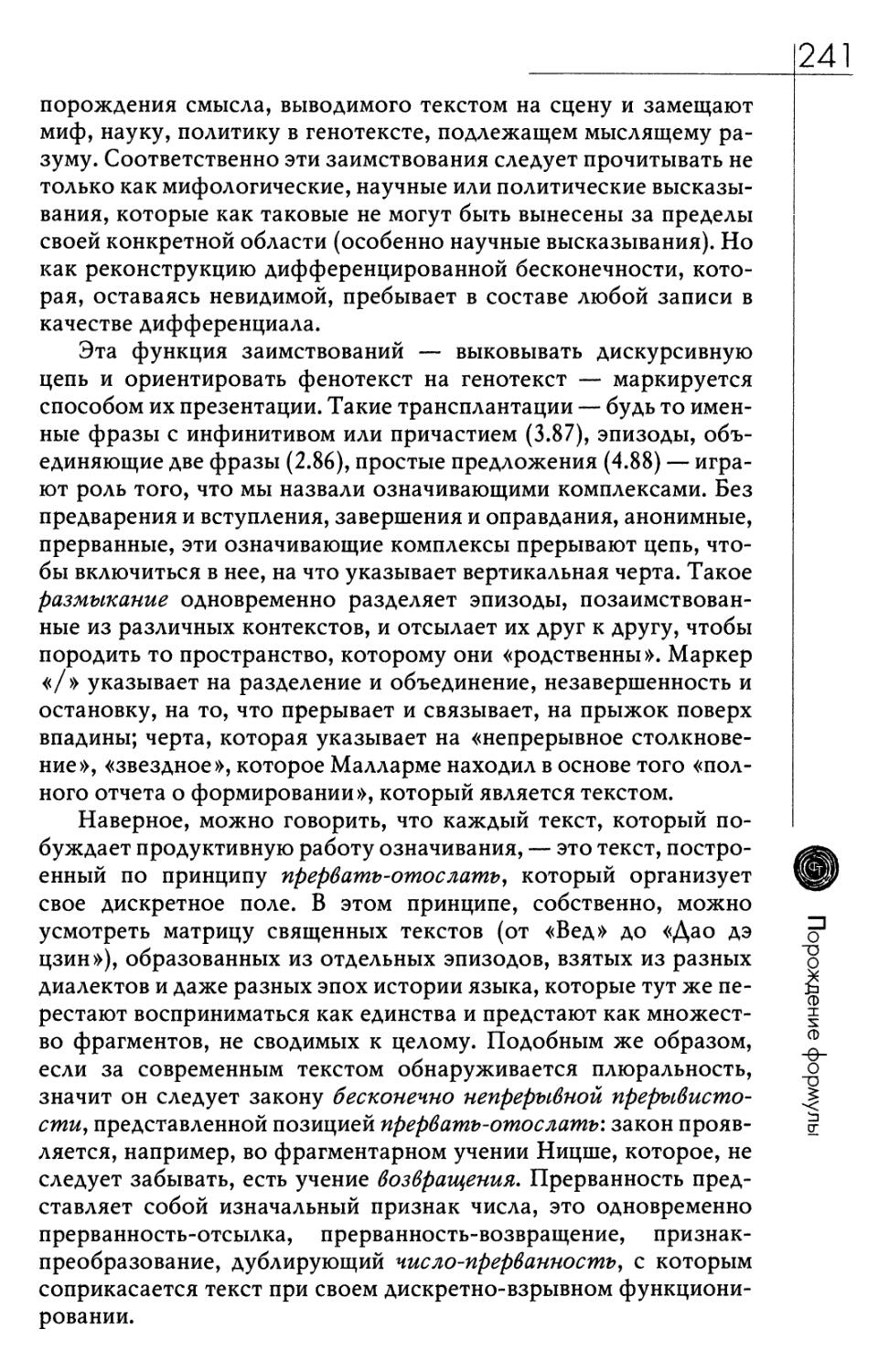
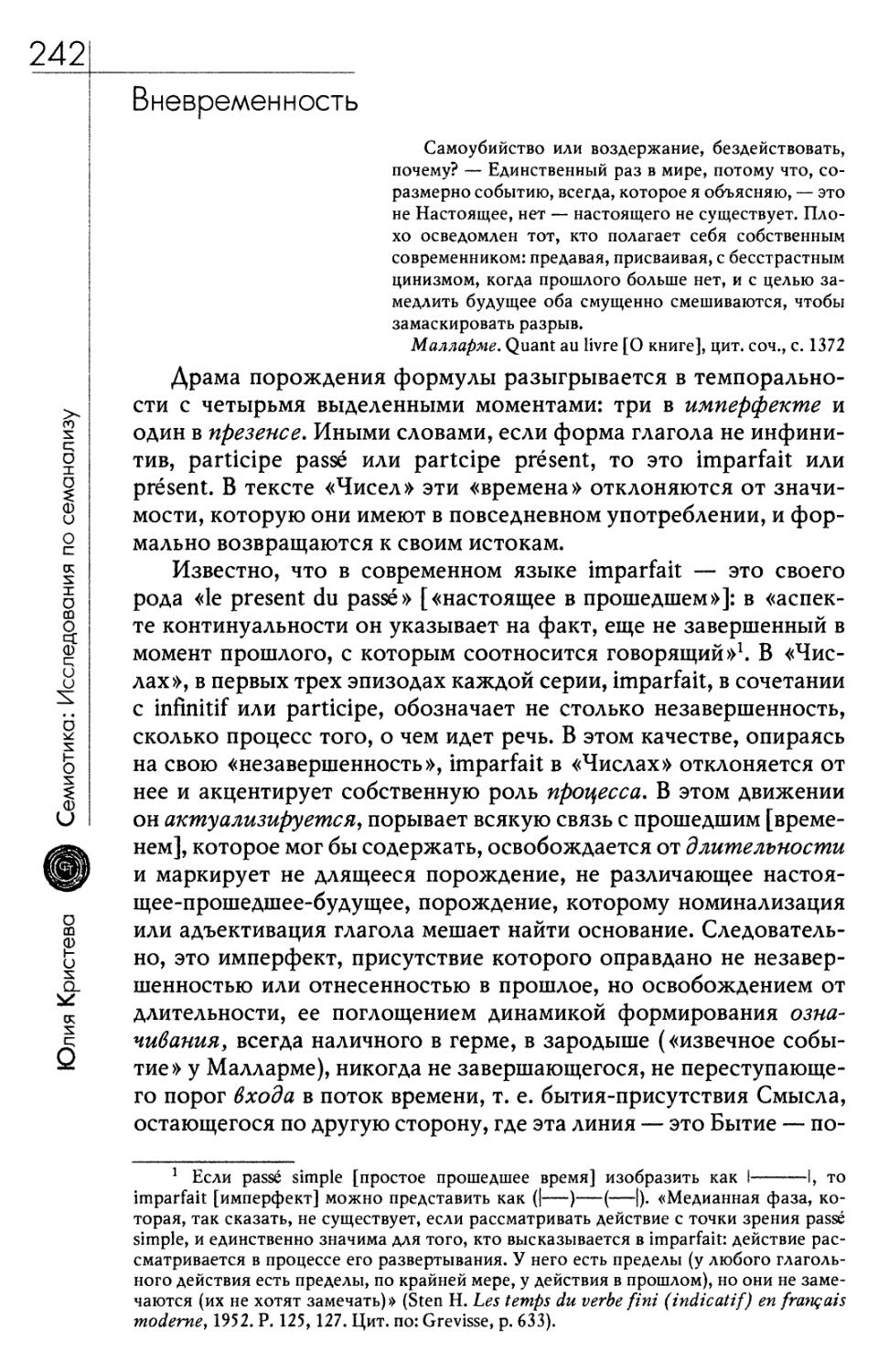




![«Красное [бунтарское] повествование» как сфрагистика. Скачок, вертикальность, двойная функция](https://djvu.online/jpg/l/c/W/lcWPP1ISRyrbK/248.jpg)