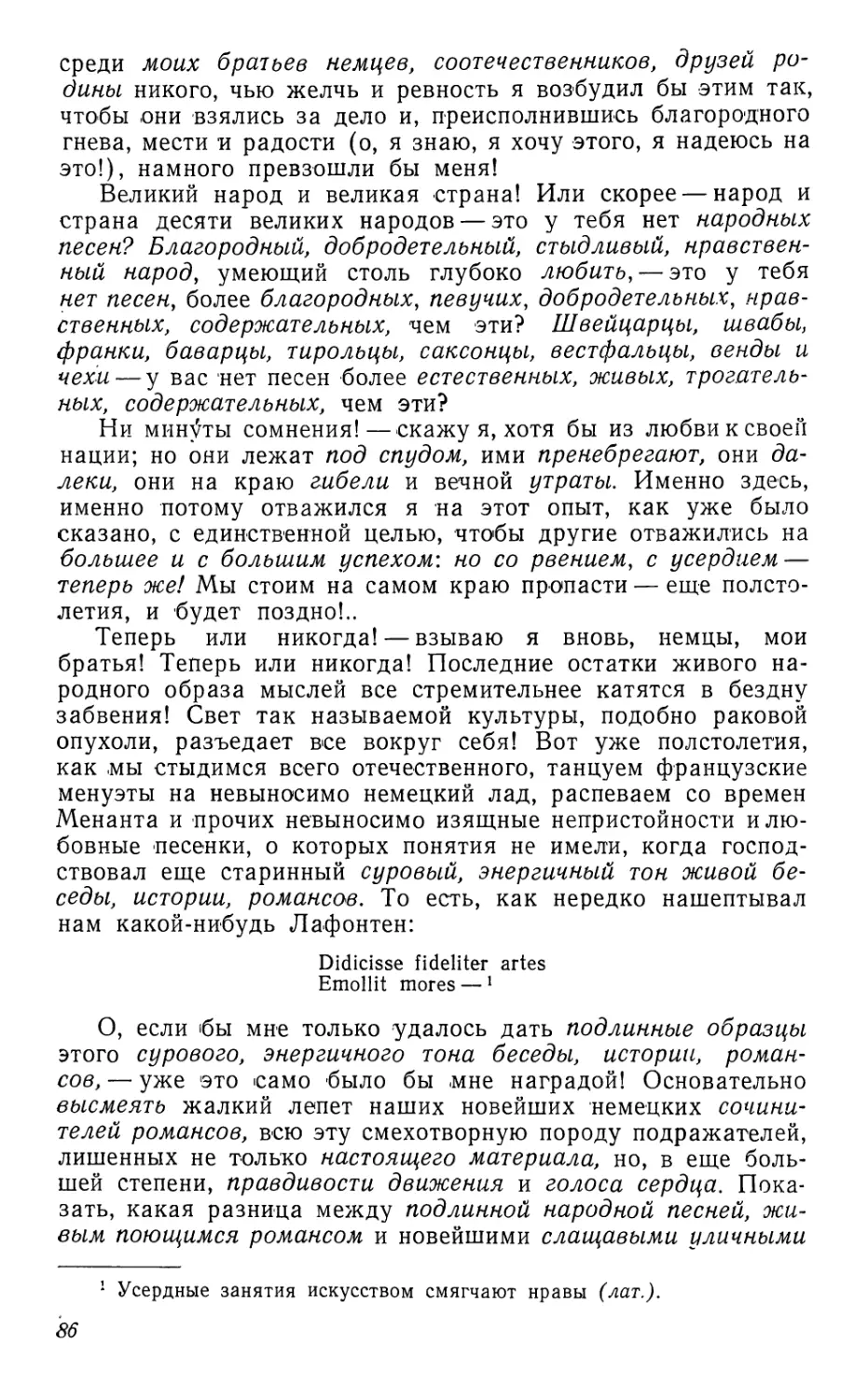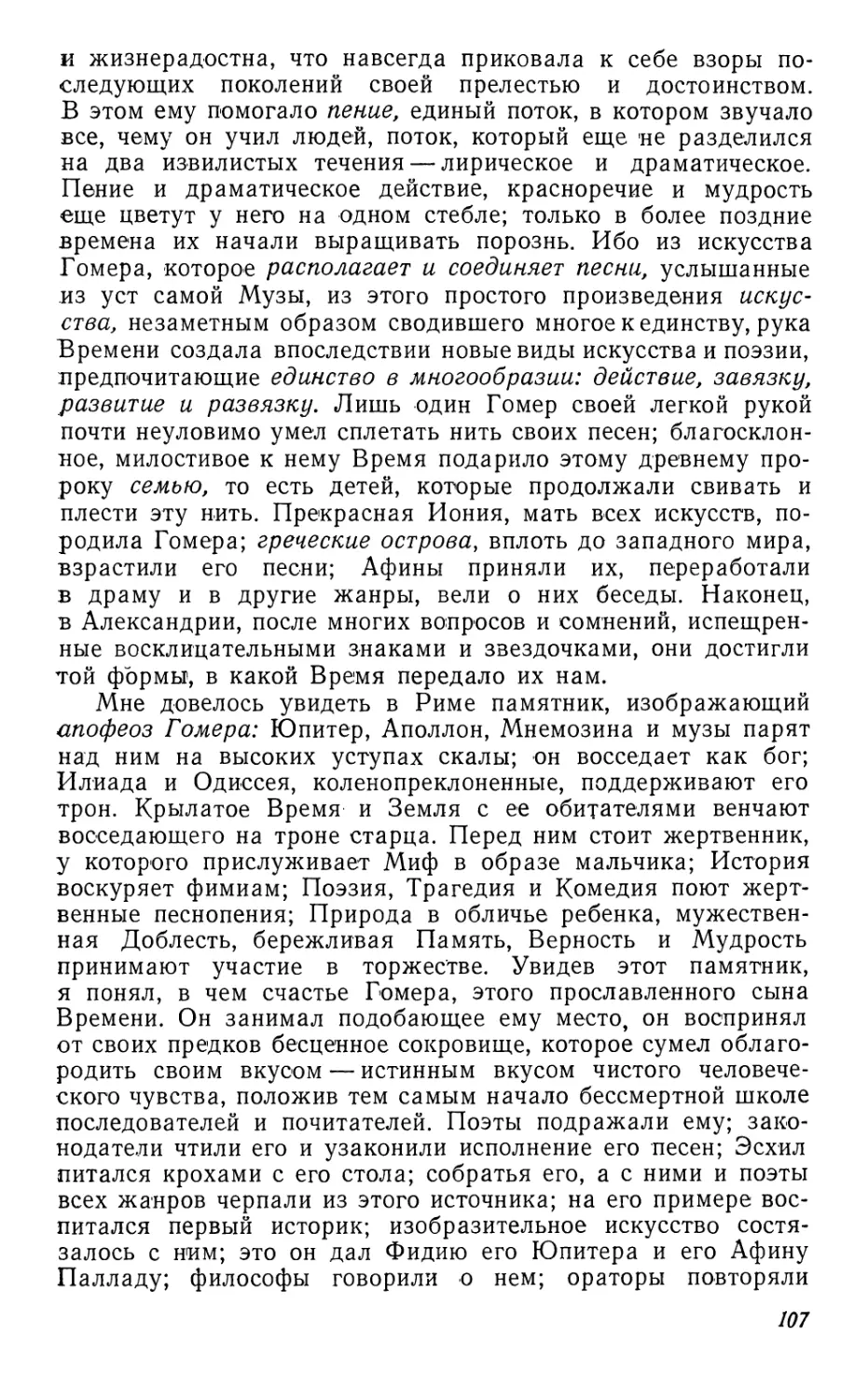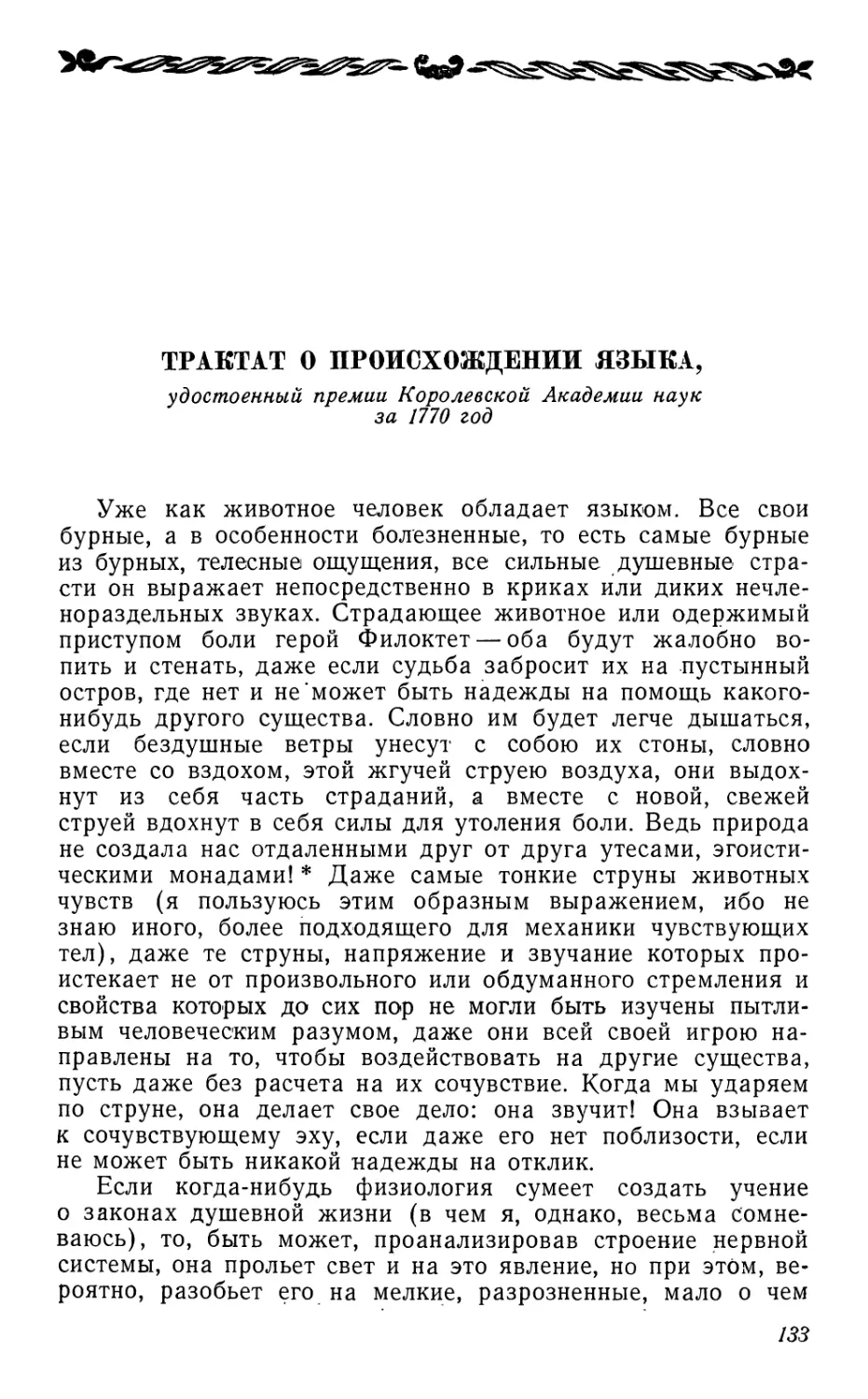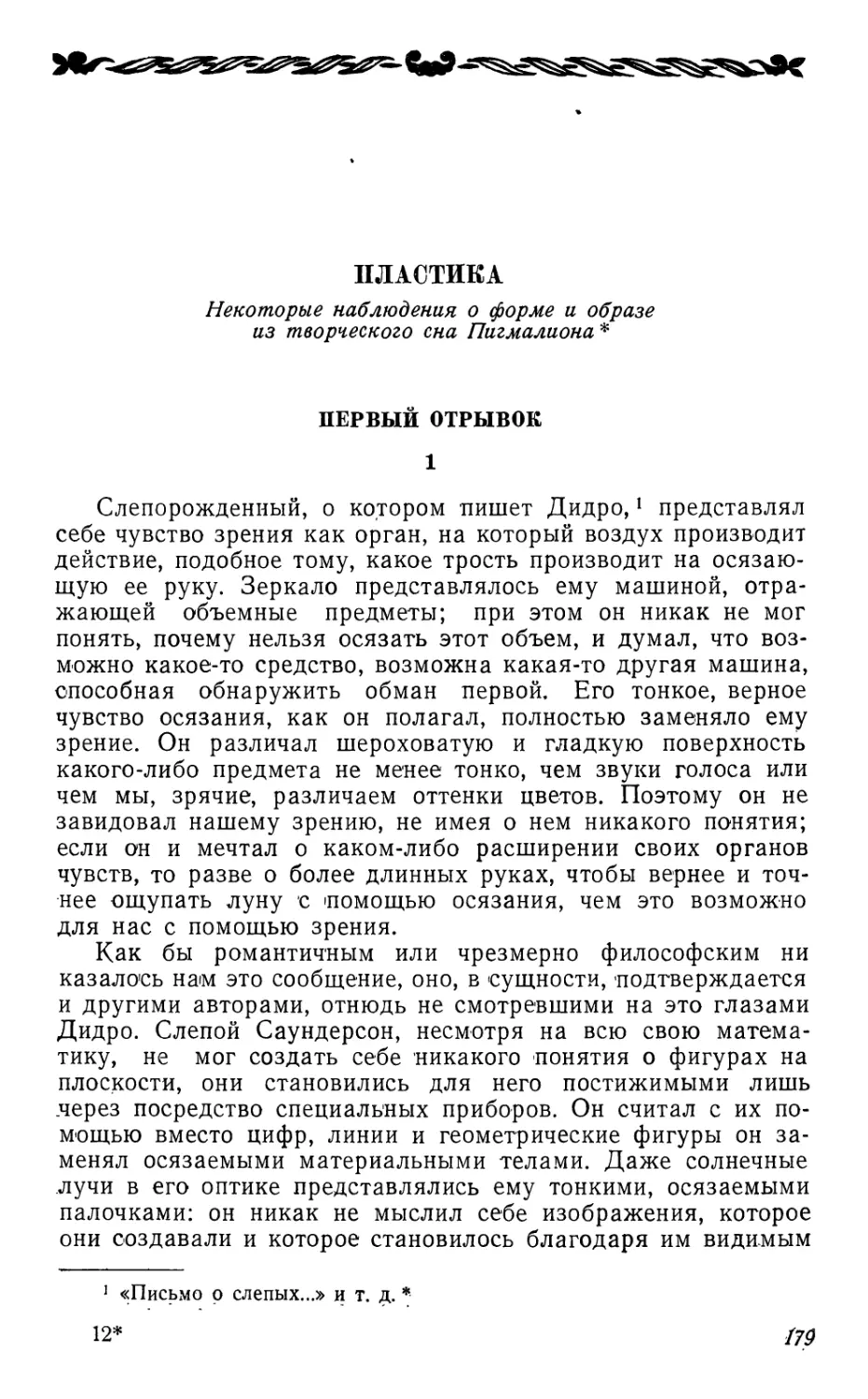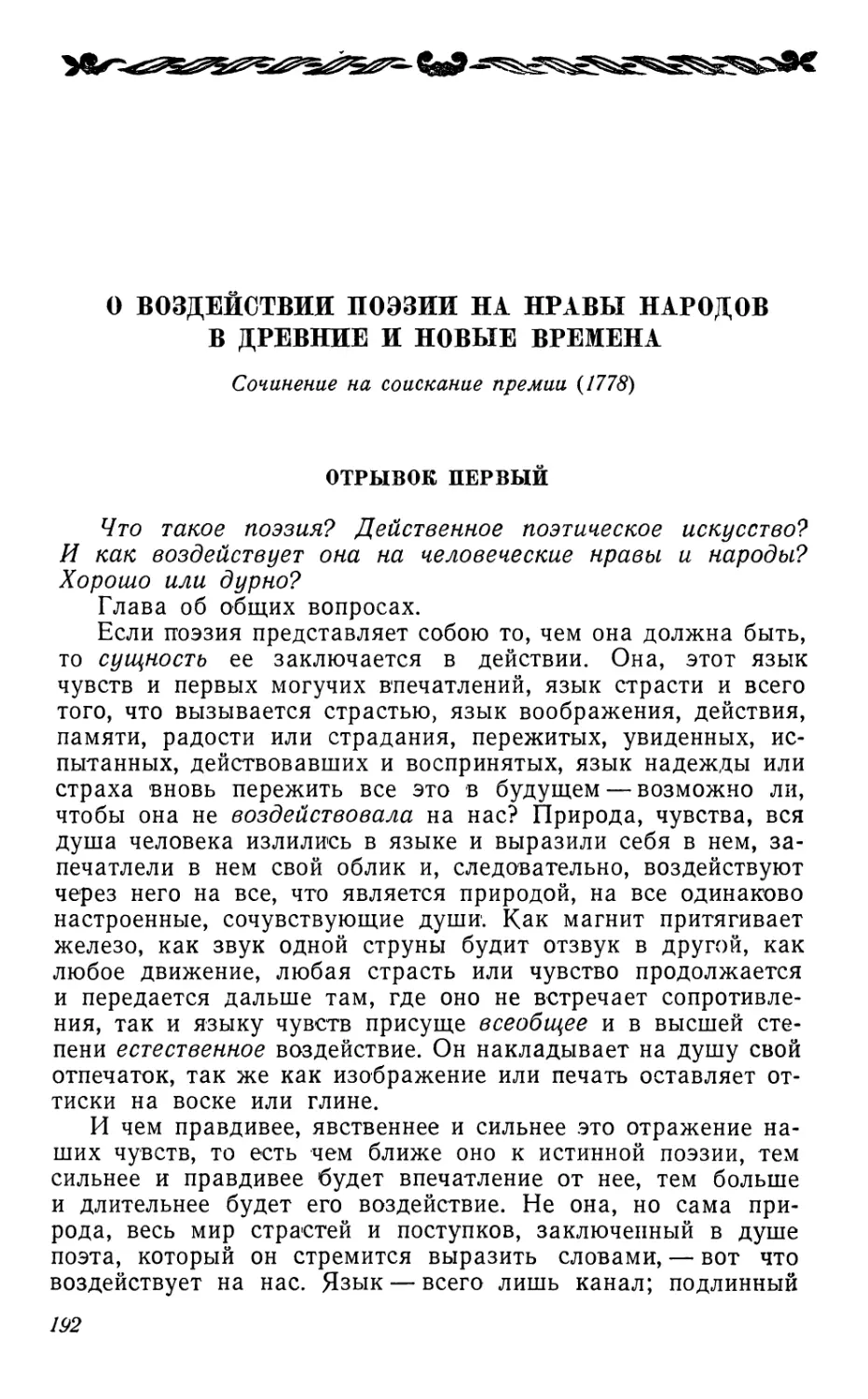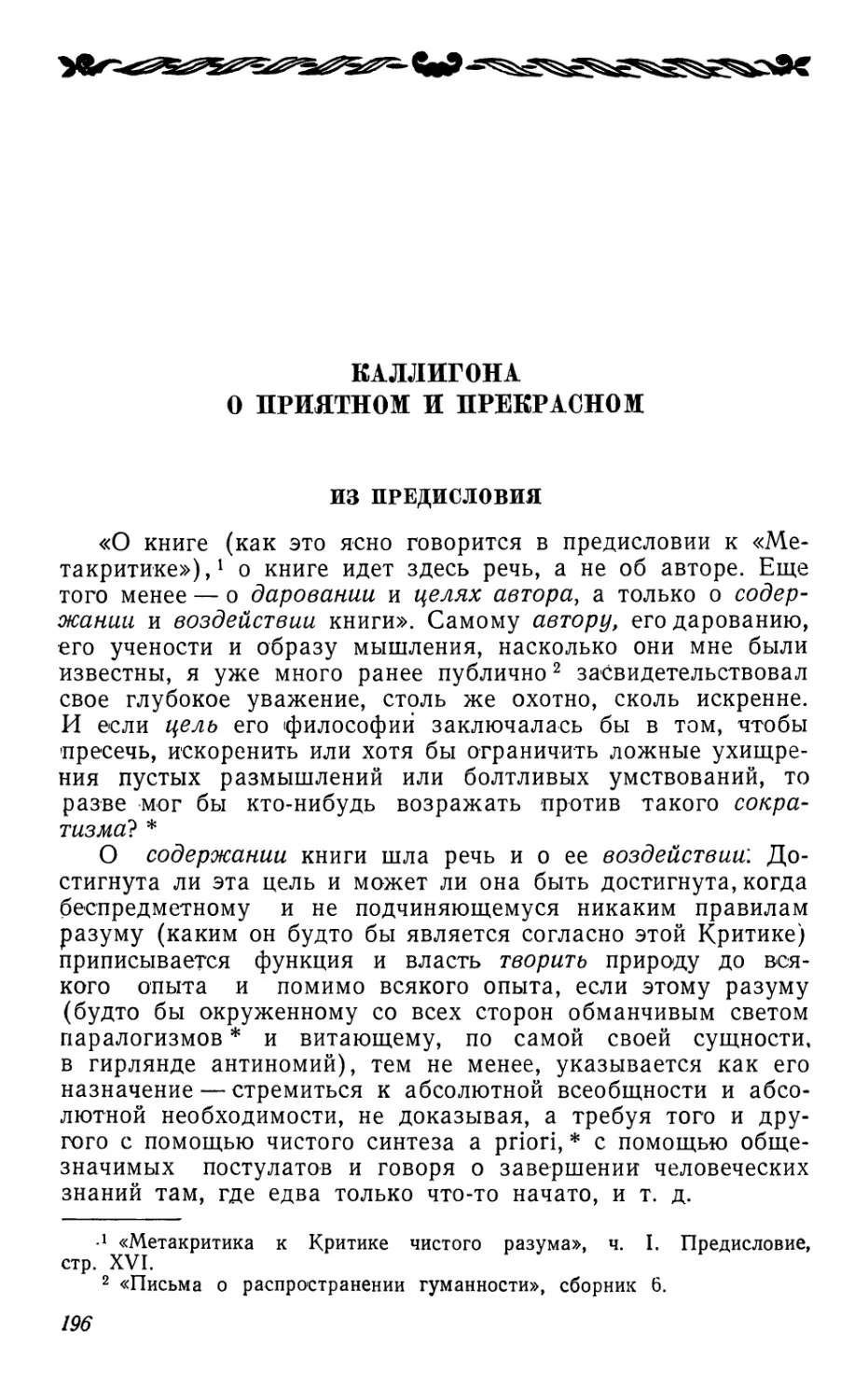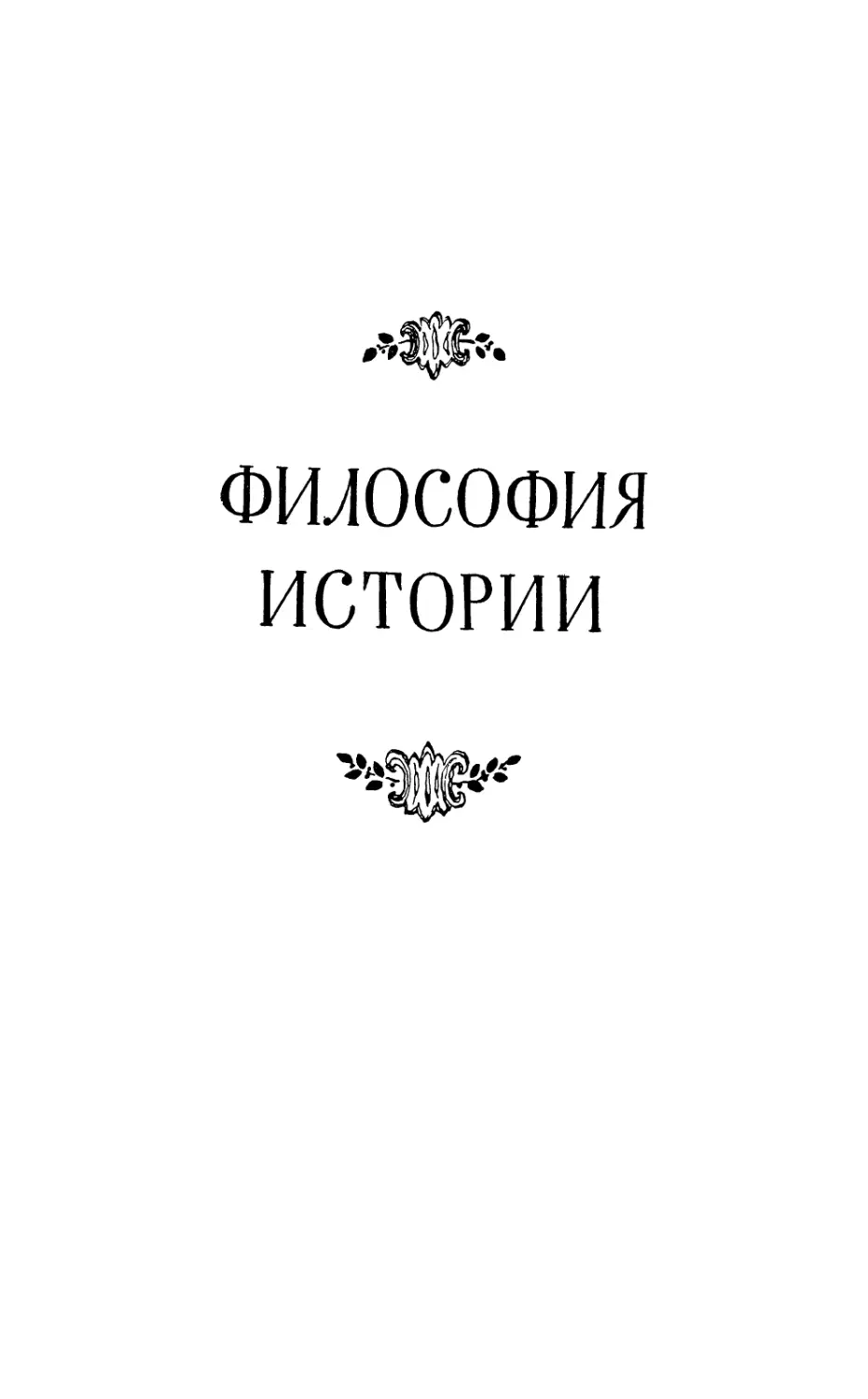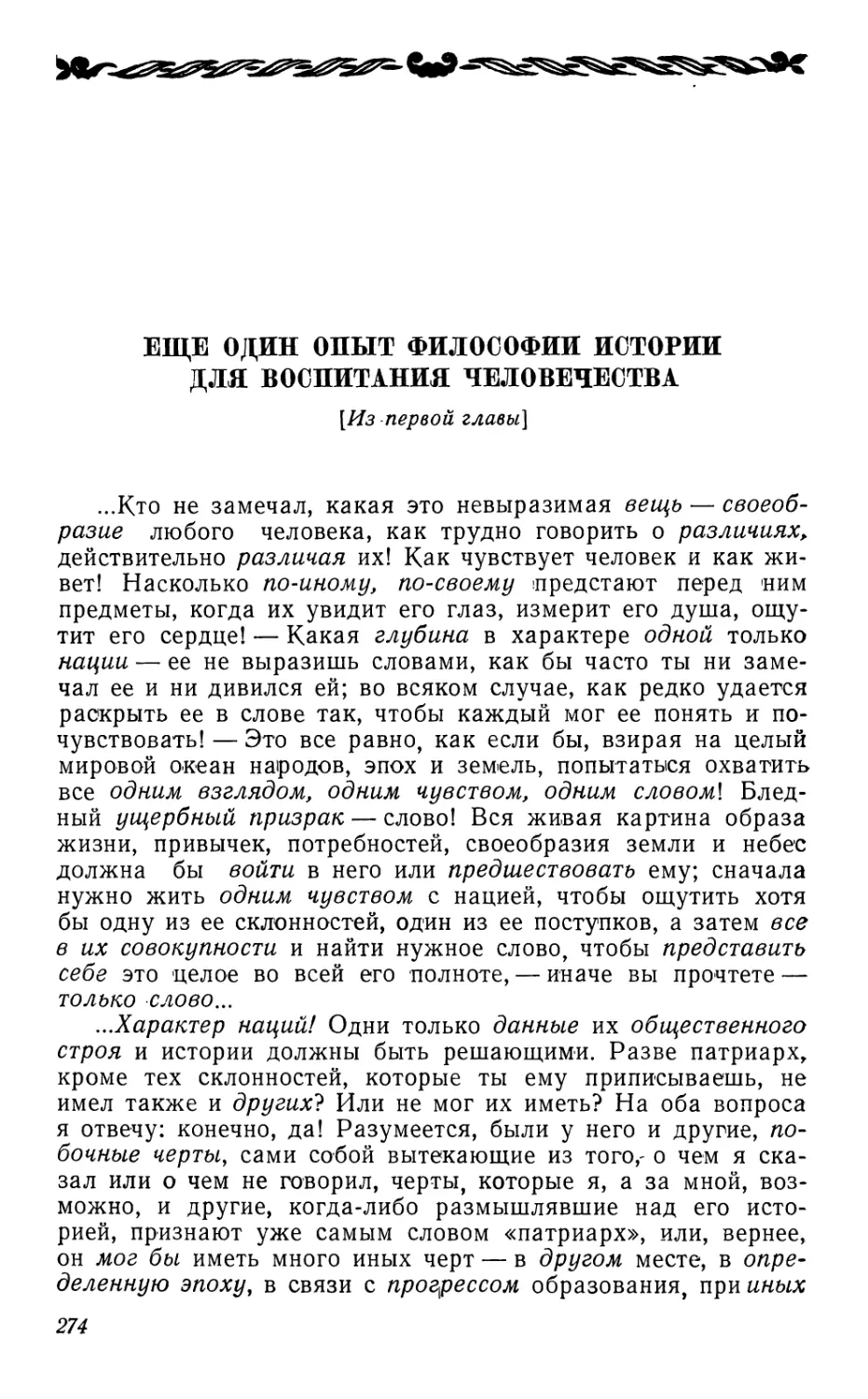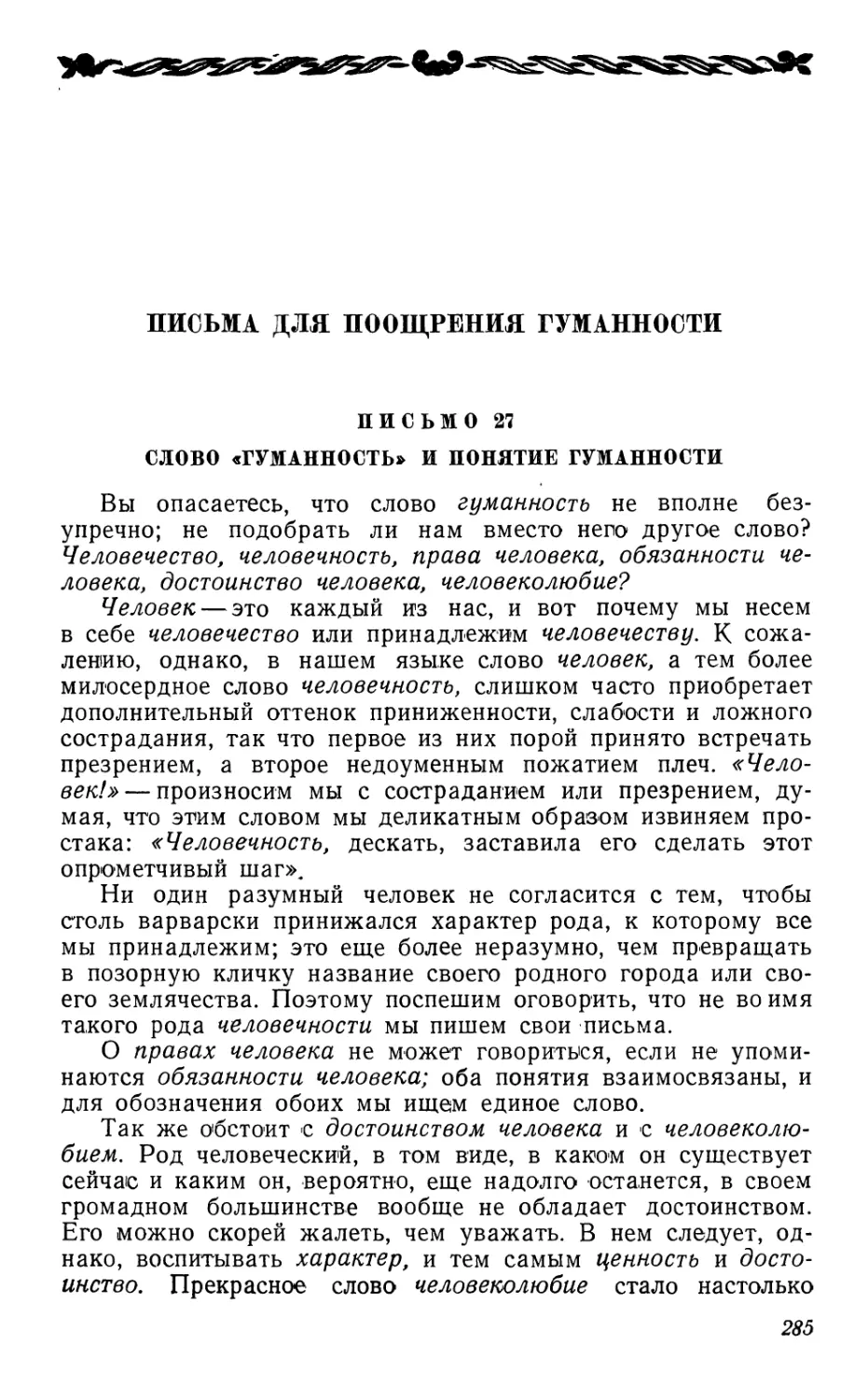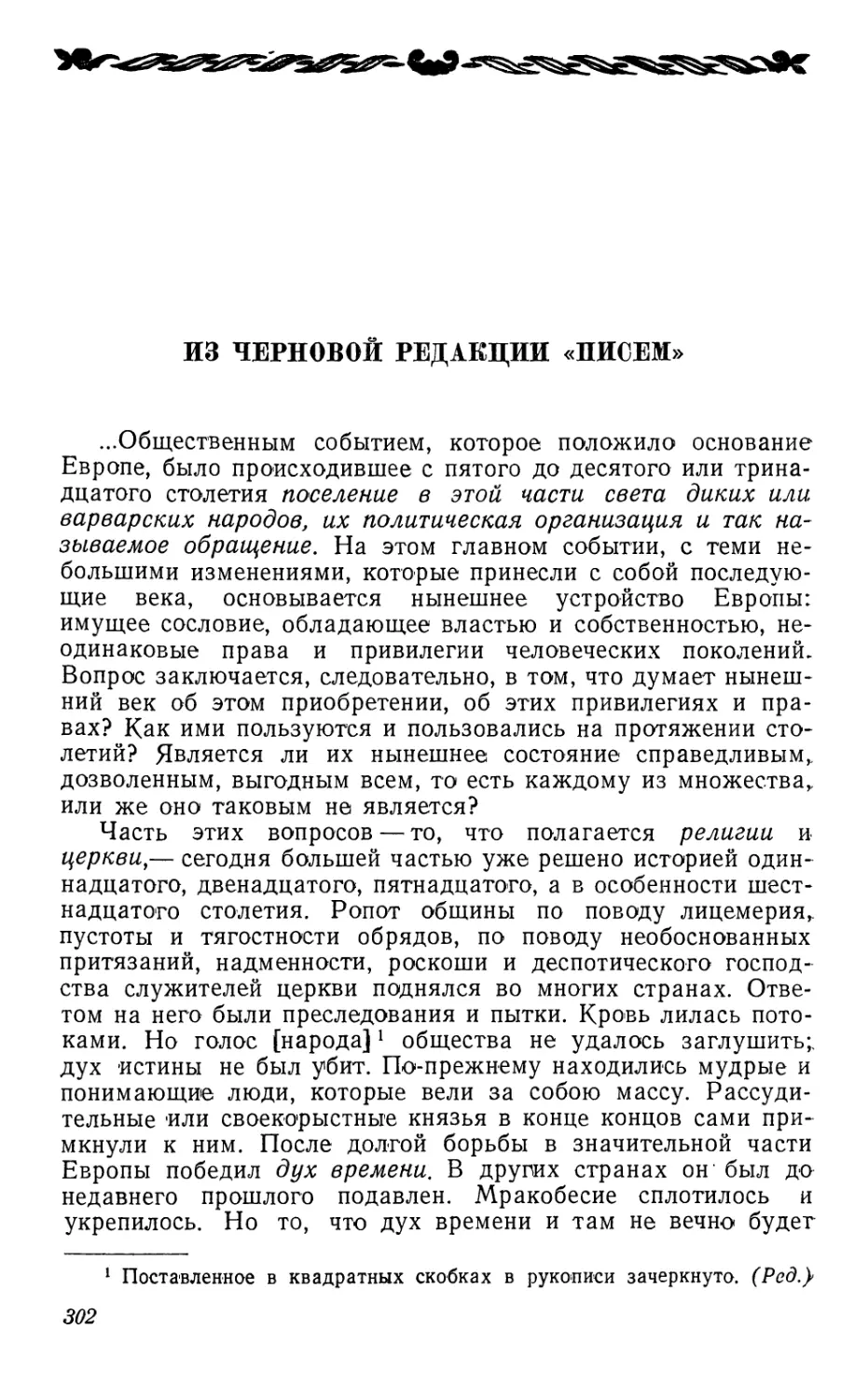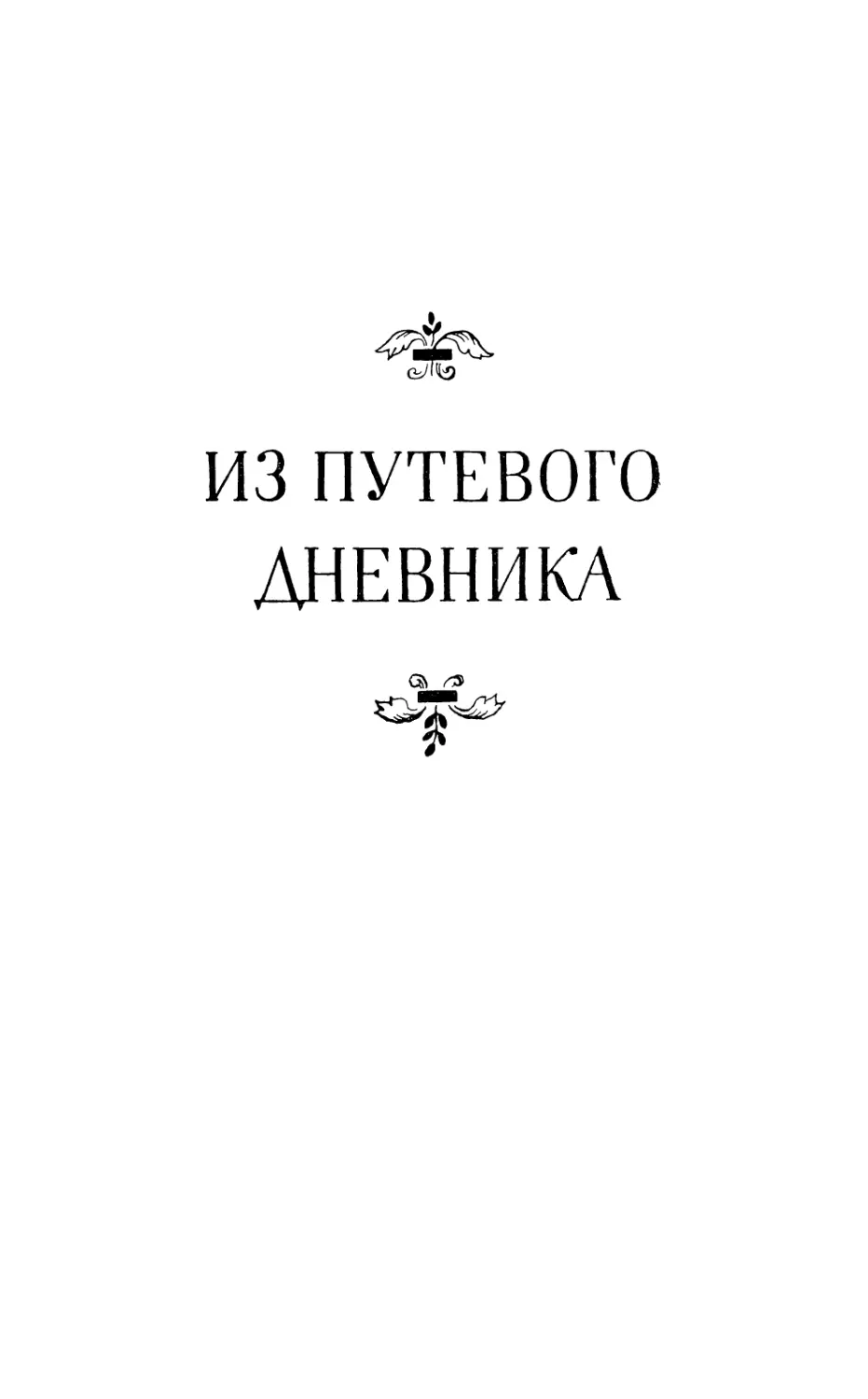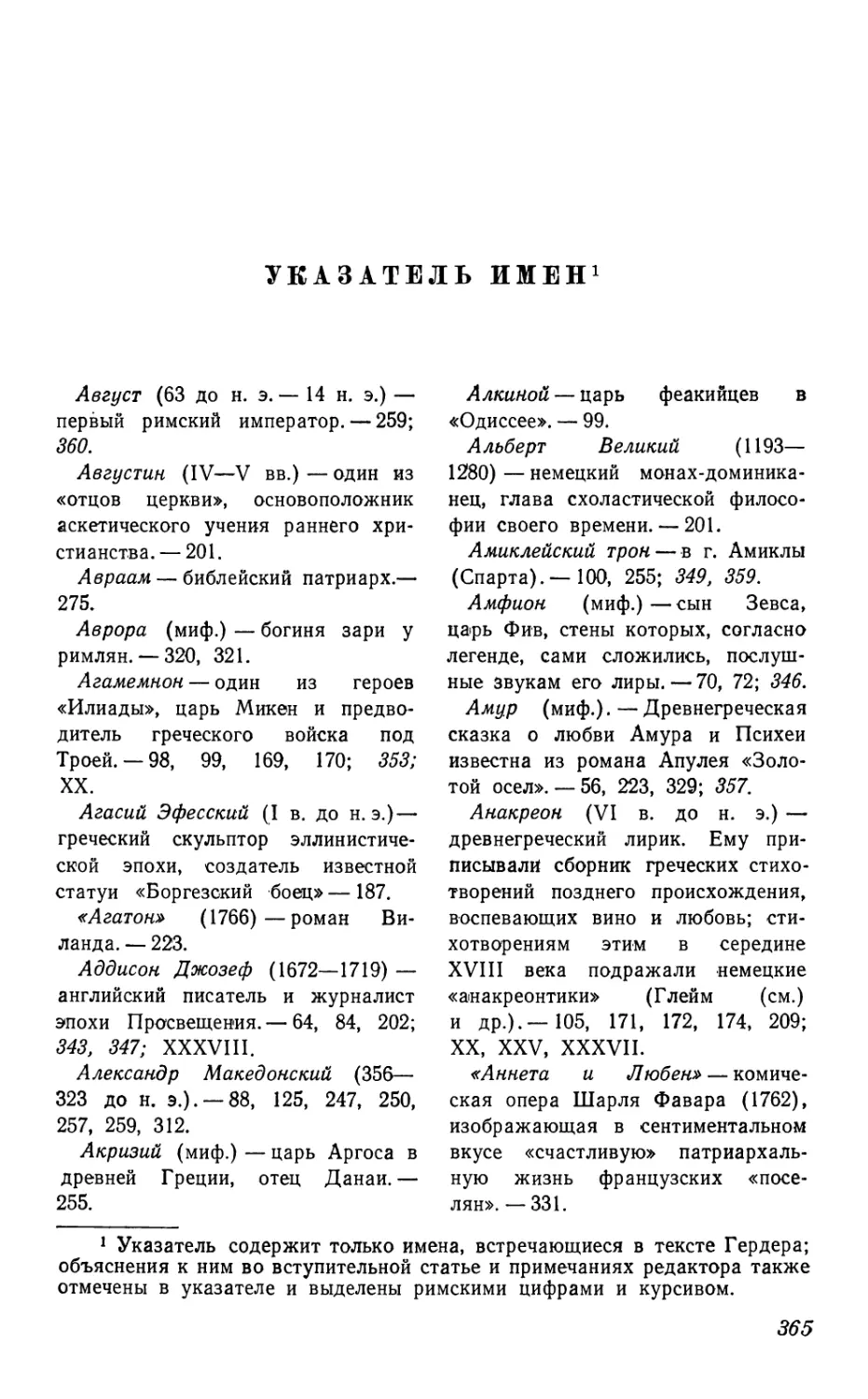Текст
ПАМЯТНИКИ
МИРОВОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И КРИТИЧЕСКОЙ
мысли
ИОГАНН ГОТФРИА
ГЕРДЕР
ИЗБРАННЫЕ
СОЧИНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА.ЛЕНИНГРАД
1959
Составитель В. M. Жирмунский
Переводы под редакцией
В. М. Жирмунского и И, А Си г а л
Вступительная статья и примечания
В, М. Жирмунского
Оформление художника
И. В, В ар з ар
в. м.
жирмунскии
жизнь
и творчество
ГЕРЛЕРА
ι
Значение Гердера для развития европейской исторической, в част-
ности — историко-литературной, мысли XIX века до сих пор оценена
недостаточно. Уже современники, под односторонним впечатлением поле-
мики старика Гердера с ведущими течениями современной ему литера-
туры и философии, с классицизмом Гете и Шиллера, с Кантом и моло-
дыми романтиками, стали забывать об огромной роли самого Гердера
в зарождении и развитии этих течений. Плохую услугу Гердеру оказали
и редакторы его посмертного собрания сочинений (1805), которые, желая
по-своему «реабилитировать» покойного, подвергли сглаживающей лите-
ратурной обработке его наиболее яркие, в идейном отношении нередко
революционные, высказывания. Точно так же новейшая буржуазная кри-
тика (в особенности немецкая) охотно выискивала в идейном наследии
Гердера по преимуществу его реакционные элементы. С этой точки зрения ,
Гердера изображали прежде всего как иррационалиста, врага Про-
свещения XVIII века и критика культуры; в его указаниях на противо-
речия буржуазного прогресса усматривали отрицание исторического
прогресса вообще и в его признании индивидуального своеобразия нацио-
нальных, культур— предвосхищение реакционных теорий о самостоятельно«
сти развития своеобразных и замкнутых культурных миров. Подобно
«легенде о Лессинге», разоблаченной Мерингом, эта легенда о Гердере
должна быть отвергнута как фальсификация исторического образа великого
немецкого гуманиста и демократа, который при всех противоречиях своего
исторического мировоззрения остается воспитанником передовой европей-
ской буржуазно-демократической мысли кануна Французской революции.
По сравнению с философией буржуазного Просвещения существенно
новым в историческом мировоззрении Гердера было понимание историчег
ского и национального своеобразия «времен и народов». Национальной
культурой данного народа, в свою очередь, обусловлены его язык, искус-
ство и поэзия как выражение его сознания и национального характера»
Поэтому для искусства и поэзии не существует единого идеала пре-
красного, обязательного для всех времен и народов (как это полагала
рационалистическая эстетика классицизма XVII—XVIII веков), но мно-
жество исторически обусловленных типов художественного совершенства.
VU
Исторический универсализм Гердера отрицает существование «классиче-
ских» народов как единственных носителей культуры и искусства. Античным
(«классическим») литературам Гердер противопоставлял поэзию Востока,
рыцарского средневековья, народов «севера» (кельтов, германцев), сла-
вян и прибалтийских народов, наконец, за пределами европейской куль-
туры,— песни первобытных, «диких» народов: американских индейцев,
гренландских эскимосов и т. п.
В то же время искусство не является для Гердера привилегией
«образованных», иными словами — господствующих, классов современного
европейского общества. В своих высших достижениях подлинно нацио-
нальное искусство всегда является народным, то есть выражением мыслей
и чувств всего народа. Открытие Гердером «народной поэзии» связано
с его критикой современной ему рассудочной цивилизации классового об-
щества и искусства господствующих классов в его сословной ограничен-
ности. Следуя в этом вопросе за Руссо, Гердер ищет непосредственного
выражения «природы» и подлинного «чувства» в остатках первобытной
культуры и в творчестве патриархальных народных масс, не тронутых
разлагающим влиянием современной цивилизации. Этим он положил на-
чало включению фольклорного и этнографического материала в историю
литературы.
В основе этих новых идей Гердера лежит широкий третьесословныи
демократизм передового мыслителя периода буржуазного Просвещения,
выступающего в качестве защитника и идеолога угнетенных народных
масс. Современная немецкая демократическая критика справедливо ука-
зала на политический радикализм Гердера и на его демократические со-
циальные симпатии. Профессор Вольфганг Штейнитц называет Гердера
«самым сознательным и ярким представителем демократических и нацио-
нальных интересов немецкого бюргерства конца XVIII века».1 Выхо-
дец из социальных низов этого бюргерства, из широких масс тру-
дового народа, Гердер на всю жизнь сохранил ненависть к феодальному
абсолютизму, к личному режиму «просвещенных» и непросвещенных по-
велителей немецкого народа, от которых так часто страдало его чувство
независимости и человеческое достоинство, к социальным привилегиям и
претензиям высшего класса и к его верхушечной цивилизации, воспитан-
ной на подражании иноземным образцам, французской придворной и дво-
рянской литературе. Он осуждал завоевательную политику европейских
государей и остро ненавидел казарменный военный режим прусского госу-
дарства. Будучи сам по рождению пруссаком, он разделял со многими
передовыми умами Германии (Лессингом, Винкельманом, Клопштоком)
критическое отношение к военной славе «великого Фридриха» и записал
в своем путевом дневнике 1769 года: «Земли короля прусского не будут
счастливы, пока они не будут разделены по-братски».
«Философ и плебей, вступите в союз, чтобы быть полезными», — пи*
сал молодой Гердер в 1765 году, намечая этими словами будущую
грамму своей собственной деятельности.
1 W о 1 f g a π g S t e i n i t z. Deutsche Volkslieder demokratischen
Charakters aus sechs Jahrhunderten, Bd. I, Berlin, 1954, S. 29.
VIII
Именно этой демократической идеологией Гердера объясняются его
глубокие симпатии к «простому», то есть трудовому, народу, а также
к угнетенным нациям, к славянским и балтийским народам, с которыми-
он ближе познакомился в годы своего пасторства в Риге (1764—1769)V
к «дикарям» как объекту эксплуатации «цивилизованных» европейцев, и
его убеждение, что поэзия — общечеловеческий дар, который принадлежит
всем классам общества, а не только образованным его верхам, и всем.;
народам, большим и малым, «диким» и цивилизованным.
Однако в то же время этот природный общечеловеческий дар может,,
по мнению Гердера, развиваться только в благоприятных социально-поли-
тических условиях. «Работа подавляет душу, — пишет Гердер, — жажда
наживы отравляет вкус; голод и нужда повергают в прах и топчут все,
что было в человеке благородного». «Свобода и человечность — вот тот
небесный эфир, в котором вырастает прекрасное и доброе и без которого
оно разрушается и погибает». В рассуждении «О причинах упадка хоро-
шего вкуса у народов, у которых он прежде расцветал» (1775) Гердер
доказывает эту мысль на примере поэзии древних греков и римлян,,
итальянского Ренессанса и Франции времен Людовика XIV. Подлинную-
поэзию создает свобода, а не покровительство знатных. «Придворная,
поэзия» способна только «прикрывать оковы гирляндами из поэтических,
цветов». «Никакой Тиртей не последует за нашими братьями, которых,
продали в Америку солдатами, и никакой Гомер не воспоет этот печаль-
ный поход. Если религия, народ, отечество угнетены и сами понятия эти
стали туманными, то и арфа поэта может звучать только туманно и при-
глушенно».
Круг литературных симпатий и интересов Гердера необычайно ши-
рок — он охватывает, по крайней, мере по заданию, всю мировую лите-
ратуру, развитие которой представляется ему теснейшим образом связан-
ным с общим единым процессом мировой истории. Исключительности,
априорных эстетических оценок явлений искусства и поэзии он противо-
поставляет широкое историко-сравнительное изучение их генезиса и раз-
вития. По справедливому замечанию А. Н. Пыпина, «именно Гердер по-
ложил первые основания по построению всеобщей истории сравнитель-
ной литературы и исследованию поэзии во всех ее формах и судьбах». *■
Иоганн Готфрид Гердер (1744—1803)л родился в Восточной Пруссии,,
в местечке Морунген, насчитывавшем в то время до тысячи восьмисот
жителей, в семье 'бедного причетника лютеранской церкви, одновременно
звонаря, певчего и сельского учителя. Детство и юность Гердера прошли*
в обстановке бедности и лишений: с трудом ему удалось получить образо-
вание, зарабатывая средства на пропитание и учение мелкими услугами:
в доме своего наставника. Благодаря случайной помощи военного хирурга
квартировавшего в Морунгене русского полка, который обратил внимание
VA. H; Пыпин. Гердер. — «Вестник Европы», 1890, кн. 4, стр.651.
/X
на талантливого юношу, Гердеру удалось попасть в Кенигсберг, получить
должность надзирателя в школе и одновременно поступить студентом на
богословский факультет университета. Изучение богословия и пасторская
служба были в то время единственной интеллигентной профессией, до«
етупной в Германии для выходца из бедной мещанской семьи. Гердер
впоследствии нередко страдал от противоречия между своей профессией
и складом своего мировоззрения и идейных интересов. Его отношение
к религии в разное время жизни колебалось между гуманистическим сво-
бодомыслием историка и поэтической «религией сердца» и неизменно на-
ходилось в конфликте с протестантской ортодоксией и официальным по^
ложением Гердера как «служителя культа». В своей профессии Гердер
больше всего ценил возможность проповедовать и воспитывать свою
паству, в особенности школьную молодежь: это был один из немногих
видов Практической деятельности, который был открыт для бюргера в
Германии того времени. Его церковные · проповеди, которые позднее,
в Веймаре, так восхитили Шиллера своей простотой и человечностью,
казались этому последнему «практической философией, примененной к част-
ностям жизни бюргера, которую можно было бы ждать с таким же
основанием в мусульманской мечети, как в христианской церкви». Тем
не менее известный внешний налет богословской фразеологии, подсказан-
ный профессиональными навыками, наличествует у Гердера, в особенности
в его поздних сочинениях.
Обучаясь на богословском факультете, Гердер уже в Кенигсберге
интересуется преимущественно философией и литературой. Его мировоз*
зрение слагается в эту пору под влиянием университетских лекций Канта*
чтения Руссо и личной дружбы с философом-пиетистом Гаманном.
Гердер познакомился с Кантом в то время, когда молодой кенигс*
•бергский магистр еще не был создателем законченной философской си*
стемы. В 60-х годах Кант находился под сильным влиянием английского
эмпиризма, в частности — скептической философии Юма. Лекции Канта и
личное общение с ним заронили © юноше Гердере скептическое отношение
к господствовавшему в Германии догматическому рационализму школы
Лейбница и Вольфа и этим дали толчок его самостоятельному философ-
скому развитию. В области эстетики Кант в то время также придержи-
вался идей английского эмпиризма, рассматривавшего проблемы искус-
ства на основе психологии художественного восприятия — точка зрения,
к которой примыкает позднее и молодой Гердер. Кант был ученым с энщь
клопедическими знаниями и интересами, охватывавшими, помимо филосо-
.фии, различные области естественных наук, географию, психологию, антро-
пологию и эстетику. В области естественных наук он прославился в осо-
бенности своей «Всеобщей естественной историей и теорией неба» (1755)\
в которой развитие солнечной системы объясняется на основе закона все-
мирного тяготения (так называемая «теория Канта-^-Лапласа»). «Дайте
мне материю, и я покажу вам, как из нее должен возникнуть мир», —*
писал молодой ученый в этом сочинении. Кант увлекался английской ли*
тературой и Руссо, на которого неоднократно ссылался в своих сочине-
ниях. Его лекции были свободны от школьного педантизма и гелертер-
ства, отличались остроумием и живостью, и даже в специальных фило-
-софеких сочинениях того времени он подражал изящной манере англий-
ских эссеистов. «С тем же настроением ума, — писал впоследствии Гер-
дер^ — с каким он рассматривал произведения Лейбница, Вольфа, Баум-
гартена, Крузиуса, Юма и изучал естественные законы по Кеплеру, по
Ньютону и по другим сочинениям ρ физике, он относился к появлявшимся
в то время произведениям Руссо, к его «Эмилю» и «Элоизе», как и ко
всем открытиям в сфере естественных наук; он оценивал эти труды по
достоинству, но постоянно возвращался к беспристрастному изучению
природы и к нравственным достоинствам человека. История человече-
ства и различных народов, естественная история, изучение природы, мате-
матика и собственный опыт были теми источниками, из которых он черпал
воодушевление для своих лекций и для своей беседы...» В своем путевом
дневнике 1769 года Гердер мечтает о «живом преподавании» естествен-
ных наук и философии, которое строилось бы «из результата всех опыт-
ных знаний»; такое преподавание «было бы в духе Канта: это были бы
божественные лекции».
Канту обязан Гердер знакомством с сочинениями Руссо, оказавшими
на его развитие решающее влияние. «Руссоизм» как общеевропейское ум-
. ответное движение был связа« с кризисом -идеологии буржуазного Про-
свещения накануне первой французской революции. Французская рево-
люция раскрыла в классической форме противоречия нового буржуазного
общества. Она показала, что царство разума, возвещенное великими про-
светителями XVIII века, на самом деле является царством собственниче-
ского эгоизма и капиталистической эксплуатации, и тем самым вызвала
реакцию против просветительской идеологии, выражением которой явился
романтизм начала XIX века. Но эта реакция подготовлялась уже в годы,
непосредственно предшествовавшие Французской революции, в недрах са-
мого просветительского движения. В передовых странах Западной Европы
еще до наступления революционного кризиса во Франции противоречия
буржуазного общества выступают достаточно отчетливо. Просветитель-
ский оптимизм разума уже поколеблен, идеи буржуазного прогресса вы-
зывают недоверие широких демократических масс, которым этот прогресс
„угрожает новыми, более тяжелыми формами эксплуатации. Родиной этих
«предромантических» течений со второй трети XVIII века является
Англия — страна, уже проделавшая в XVII веке буржуазную революцию.
Во Франции в середине XVIII века с революционной критикой буржуаз-
ной цивилизации выступает Руссо: его обращенная в прошлое утоп-ия.
блаженного первобытного («природного») состояния человечества соеди-
няет разоблачение классового общества, основанного на собственности и
на порабощении человека человеком, с сентиментальной идеализацией
патриархальной простоты нравов и культурной отсталости, «природы» и
«чувства» в противоположность разуму и рассудочной цивилизации.
В отличие от предреволюционной Франции, в Германии, еще не созрев-
шей в XVIII веке для буржуазной революции, при отсутствии предпо*
сылок для широкого общественного движения третьего сословия полити-
чески революционные элементы учения Руссо отступают на задний план.
Немецкие руссоисты периода «бури и натиска» следуют за Руссо
в его критике противоречий буржуазной цивилизации, но вместе с тем
XI
и в идеализации патриархального общества, «простого народа», в сенти-
ментальном «народничестве», в общем противопоставлении природы и не-
посредственного чувства культуре и разуму. Молодой Гердер прошел через
период «руссоизма», который помог оформлению его демократических
симпатий, направив его интерес на изучение первобытной культуры и на-
родного творчества. Следуя Руссо, Гердер в области литературы высту-
пает с критикой книжной словесности «образованного общества» как про-
дукта верхушечной цивилизации, оторванной от широких народных масс,
и с программой обновления немецкой национальной литературы путем
обращения к ее народным истокам. Вместе с тем, подобно другим немец-
ким руссоистам, Гердер соединял с этими передовыми демократическими
идеями и симпатиями некоторые черты иррационализма и «культурного
пессимизма», которые особенно ярко выступают в первый период его дея-
тельности, когда он является ведущим идеологом литературы «бури- и*
натиска». Однако эти элементы мировоззрения молодого Гердера и его
соратников не дают права рассматривать его учение только как реакцию·
против Просвещения, как это широко принято в немецком буржуазном
литературоведении. Философия Гердера, как и литература «бури и на-
тиска», представляет немецкий вариант предреволюционной третьесослов»
ной идеологии, укладывающийся в рамки буржуазного Просвещения как
общеевропейского движения и, несмотря на некоторые черты иррациона-
лизма, характерные для мелкобуржуазного развития Германии XVIII века,,
проникнута в целом критическим духом эпохи Просвещения, его револю-
ционным гуманизмом и антифеодальными тенденциями.
Руссоизму в его немецкой интерпретации было родственно и учение
Гаманна, кенигсбергского философа, друга и учителя Гердера, которого
современники, в том числе и Гете, считали родоначальником литератур-
ного движения периода «бури и натиска». И.-Г. Гаманн (1730—1788)\
в противоположность своему земляку Канту, не был академическим ученым
и создателем системы. Его мировоззрение тесно связано с особенностями
его оригинальной личности и является своего рода «философией жизни»,,
изложенной в форме отрывочных заметок, афоризмов, притч и прорица-
ний. Гаманн ведет последовательную борьбу против немецкого рациона-
лизма как системы отвлеченного знания. По примеру английских эмпири*
ков, он ищет в объективном мире, постигаемом чувственным опытом,,
источник познания действительности. Но понятие опыта у Гаманна мисти-
фицировано и лишено интеллектуальных элементов: под «опытом» он по-
нимает религиозно окрашенную интуицию, которую обозначает словом
«вера». Истина для Гаманна — не вывод из логических умозаключений,
а факт действительности, непосредственно обнаруживаемый интуитивным
восприятием. Отвлеченное рассудочное знание обедняет, с его точки зрения,
полноту действительности, раскрывающуюся непосредственному чувству.
«Между непосредственным ощущением и доказательством такая же раз-
ница, как между животным и его скелетом». Отсюда обращение от мета-
физической дедукции к историческому опыту как источнику познания дей-
ствительности. Абстрактному рационалистическому идеалу всеобщей
«естественной религии», основанной на разуме, которую проповедовали
просветители-деисты, Гаманн противопоставляет конкретные историче-
XII
•ские формы религий. «Если правда, что евангелия возникли в Палестине
•в эпоху римского владычества и записаны были не литераторами, то
характер их письма является подлинным доказательством того, кто были
составители, где и когда были составлены эти книги». Тем самым, помимо
своего желания, Гаманн прокладывает путь к пониманию религии как
исторического явления и так называемых «священных книг» как истори-
ческого памятника, в чем Гердер явился его продолжателем.
Историческое значение интуитивизма Гаманна в перспективе разви-
тия немецкой философской мысли XVIII века заключается не в его поло-
жительном содержании, носящем отпечаток религиозных настроений не-
мецкого пиетизма, а в его критических элементах, направленных против
.абстрактного рационализма раннего немецкого Просвещения, в раскрытии
противоречий объективной действительности и, тем самым, в подготовке
диалектического метода классического немецкого идеализма. Этим объ-
ясняется та высокая оценка роли Гаманна в развитии немецкой философ-
ской мысли, которую мы находим у Гегеля и Гете, в особенности в годы
молодости этого последнего.
Интуитивизм Гаманна носит эмоциональный характер. Холодной рас^
судочыости он противопоставляет напряженное, страстное чувство цело*
стной личности. «Сердце, лишенное страстей и аффектов, подобно голове
без понятий, без мозга. Я сомневаюсь, чтобы христианству нужны были
такие сердца и головы». Носителем интуитивного познания творческой
-личности является, по Гаманну, поэтический гений. Гаманн первый пере-
носит на немецкую почву учение английского поэта Юнга об «оригиналь-
ном творчестве» природного гения, которое имело основополагающее зна-
чение для литературных теорий немецких «бурных гениев» (см. ниже,
стр. XLII).
Эмоциональный момент имеет особенно важное значение в эстетике
Гаманна, изложенной наиболее полно в афоризмах его брошюры «Кар-
манная эстетика («Aesthetica in nuce»). Рапсодия в кабалистической прозе»
-(1762). В поэзии Гаманн усматривает выражение интуитивного восприя-
тия действительности, непосредственного, сильного чувства. Поэзия гово-
рит языком вдохновения и страсти, чувственным и образным. «Чувства
л страсти говорят образами и понимают только образы. В образах заклю-
чается весь клад человеческого знания и счастия». Поэтому язык перво-
бытного человека, чувственный и образный, Гаманн называет поэзией;
в первобытном сознании он открывает начало иррациональное, лежащее,
по его мнению, в основе всякой поэзии, и тем дает толчок аналогичным
размышлениям молодого Гердера. «Поэзия, — пишет Гаманн, — родной
язык человеческого рода, подобно тому как садоводство древнее земле-
делия, живопись — письма, пение — декламации, притча — умозаключения,
■обмен — торговли. Глубоким сном был покой наших предков, и движение
их — безумной пляской. Семь дней они сидели молча, удивляясь и созер-
цая, и открывали уста свои для крылатых слов».
Не будучи ни поэтом, ни литературным критиком, Гаманн как фило-
соф живейшим образом интересовался вопросами языка и поэзии. Его
мысли о первобытной культуре, о народном творчестве, о происхождении
-языка, о поэзии библии и Шекспира, которого он читал.с Гердером, имели
XIII
на последнего огромное влияние. Освобожденные от мистифицирующей
религиозной оболочки, характерной для немецкого иррационализма, его
высказывания об историческом опыте как основе познания действитель-
ности, об эмоциональных основах художественного творчества, о творче-
ском своеобразии «оригинальной личности» оказали существенное влия-
ние на дальнейшее идейное развитие периода «бури и натиска».
По окончании Кенигсбергского университета Гердер с 1764 да
1769 года был пастором и учителем в. Риге. Рига в то время только не-
давно присоединена была к Русскому государству и еще сохраняла, как
старый ганзейский город, остатки своего «республиканского» самоуправ-
ления. Гердер вошел здесь в круг образованного и политически независи-
мого немецкого бюргерства, положение которого отличалось в выгодную
сторону от приниженности бюргера, в немецких феодальных княжествах.
Вместе с тем, он был сочувственным зрителем тяжелого положения мест-
ного латышского и эстонского населения Прибалтики, закрепощенных не-
мецкими помещиками крестьянских масс. Со службой в Риге связано было
и знакомство Гердера с Россией, живой интерес к ее истории, в частно-
сти — к личности Петра I, который навсегда остался для него примером
монарха-«просветителя». В Риге впервые развернулся его необыкновенный
талант проповедника, воспитателя молодежи, учителя жизни, каким он
неоднократно выступал впоследствии и в личном общении и в литературе.
Здесь же были напечатаны и его первые литературные работы («Фраг-
менты о новой немецкой литературе» — 1767—1768, «Критические леса» —?
1769), которыми он сразу заслужил широкую известность как самостоя-
тельный продолжатель Лессинга, критически пересматривающий наследие
передовой литературной мысли немецкого Просвещения.
Неудовлетворенность своим служебным положением и религиозные
сомнения заставляют Гердера бросить Ригу и отправиться в путешествие
за границу. Дневник его морского путешествия из Риги в Нант (1769)')
ярко рисует духовный облик молодого «штюрмера», его первый выход
в жизнь. За ним — долгие годы кабинетного существования, пасторской и
учительской лямки; он чувствует преждевременную усталость от груза
ненужного, отвлеченного знания и мечтает о жизненном опыте, об эмпи-
рических знаниях, о практической деятельности. Ему тяжело, что он рас-
тратил даром столько лет «своей человеческой жизни». «Я мог бы насла-
диться жизнью, приобрести основательные, реальные знания, научился бы
применять на деле то, что изучил. Я не превратился бы в чернильницу
для ученой писанины, не стал бы словарем наук и искусств, которых не
видал и не понимаю; я не был бы набитым книгами и бумагами шкафом,
которому место разве что в кабинете ученого...» «Когда же я, наконец,
сумею истребить в себе все, чему учился, чтобы самому находить все,
о чем я думаю, что изучаю, во что верю!» Эти записи юношеского днев-
ника Гердера справедливо сопоставляли с первым монологом «Фауста»
Гете, который возник в 1773—1775 годах из тех же предпосылок чувства
жизни и мировоззрения «бурного гения», и, может быть, не без влияния
постоянных бесед между Гердером и его учеником.
Характерны мечты молодого Гердера о практической деятельности.
Он видит себя реформатором Лифляндии, «вторым Цвингли, Кальвином,.
XIV
Лютером», который «уничтожает варварство, борется с невежеством-,,
распространяет свободу и культуру». «Благородный юноша! И это Bice-
дремлет в душе твоей, но неосуществленным и заглохшим! Узость твоего
воспитания, рабство твоей родины, мелочность интересов века, непостоян-
ство жизненного пути -— все это ограничило и принизило тебя так, что ты
не узнаешь самого себя». Из провинциальной узости немецких отношений
он стремится к более широкому полю культурно-просветительной деятель-
ности в России, которую после пяти лет, проведенных в Риге, он рас-
сматривает как свою вторую родину. Обольщенный «просветительными»
планами Екатерины II, он мечтает написать и посвятить ей книгу «Об
истинной культуре народа, и в особенности России».
Впечатления морского путешествия, «у мачты корабля, среди без^
брежного океана», открывают перед Гердером перспективу философско-
исторических обобщений, касающихся своеобразия народов и культур.
Греция представляется ему приморской колонией: поэтому она не могла
иметь такую же «мифологию», как египтяне или арабы «среди песчаных
пустынь». Орфея и «Одиссею» надо читать среди моря. Могила короля
Олафа у скалистых берегов Швеции, «окутанная туманами и облаками,
омываемая волнами», вызывает в его воображении картину «сумрака и
волшебства его эпохи». «Отсюда некогда выходили в море готы, морские
разбойники, викинги и норманны! Здесь раздавались песни скальдов,
здесь они творили чудеса! Здесь сражались Лодброги и Скилле! Это были
совсем иные времена! Здесь, в этих сумрачных, унылых краях, я буду
читать их песни и слышать их, словно сам я на море; здесь я прочув-
ствую их глубже, чем Нерон свою «Героиду» во время пожара Рима...»
С этими поэтическими картинами первобытной культуры резко кон-
трастируют страницы дневника, посвященные современной Франции, непо-
средственной цели путешествия молодого Гердера. Франция предста-
вляется немецкому критику как страна дряхлеющей верхушечной цивили-
зации, живущая «на развалинах прошлого». Век Людовика XIV миновал,
прошло время Монтескье, Вольтера и Руссо, теперь наступило царство
эпигонов, «энциклопедий», «словарей», «песенок и комедий». Французская
культура и литература живут «общественными условностями», в них ца-
рит «монархический дух» и «придворный тон». Поверхностная «галант-
ность» и «холодный здравый смысл» заменяют непосредственное чувство,,
вместо «гения» всюду царит хороший «вкус». «Истинный смех так же вы-
мер во французской комедии, как истинная страсть (аффект} — в их тра-
гедии». «Я прослушал целые пьесы, в которых не было ни одного нечле-
нораздельного возгласа природы и страсти, звучащего искренне».
Эта резкая критика, напоминающая пламенные обличения Руссо, на-
правленные против дворянско-буржуазной цивилизации старой Франции,
подсказана Гердеру не столько национальным антагонизмом, сколько
демократическими симпатиями и антипатиями молодой немецкой литера-
туры. Великие французские просветители XVIII века Монтескье, Вольтер,
в особенности Дидро и Руссо, оказали, несмотря на эту полемику, решаю-
щее влияние на мировоззрение немецкого критика. В Париже он по-
знакомился с Дидро, которого он называет «лучшим философом Фран-
ции», С сочувствием он отмечает его опыты в области реформы драмы
XV
■и в дневнике объявляет себя его последователем. «Наступит ли время,
когда разрушат монастыри и амвоны и очистят театр, чтобы создать в нем
^подлинную иллюзию, чтобы можно было отличить благопристойную коме-
дию от всякой иной?..» «О, если б я мог хоть чем-нибудь содействовать
этому! По крайней мере я хотел бы поддержать голос Дидро!» Однако
общий итог впечатлений Гердера от пребывания во Франции остается не-
благоприятным, как о том свидетельствуют письма к немецким друзьям:
«Все, что составляет вкус и роскошь в искусствах и учреждениях, сосре-
доточено в Париже; но так как вкус есть только самое поверхностное по-
нятие о красоте, а роскошь — только призрак красоты, нередко восполняю-
щий ее отсутствие, то Франция никак не может вполне меня удовлетворить,
и она мне поистине надоела».
Позднейшие высказывания Гердера о Франции, в особенности о фран-
цузской литературе, остаются неизменными вплоть до революции, которая
впервые одушевила его глубокими симпатиями к французскому народу.
До тех пор он заявлял неоднократно, что «в настоящее время ни одна
страна не бедна так поэзией, как Франция». «Французские поэты — под-
ражатели, сочинители слов и фраз, и Парнас, который их венчает, — это
интрига. Какой узкий Парнас!» «Их поэзия — столичная или городская
дама: народ имеет другой дух, наслаждается и утешается другими пес-
нями, чем те, которые фабрикуются в новейших bureaux d'esprit.l Он все
еще живет, по крайней мере в южных провинциях, на лоне благодетель-
ной природы, с песнями, плясками и весельем своих предков».
Отстаивая национальную самобытность немецкой литературы и куль-
туры, Гердер неоднократно с ожесточением выступал против «галлома-
нии», против «французского воспитания» немецкого дворянства, которое
«разобщило в Германии отдельные сословия и классы нации», против
презрения к родному языку и литературе, которое превратило немецкий
язык в «язык для прислуги».
Из Франции Гердер мечтал отправиться в Англию и Данию, мечтал
и о поездке в Португалию, Испанию и Италию, но недостаток средств
заставил его в том же году через Голландию и Бельгию вернуться в Гер-
манию. Здесь, чтобы осуществить свой план заграничного путешествия, он
принял предложение эйтинского двора сопровождать наследного принца
в качестве воспитателя. Но уже в дороге Гердер вынужден был рас-
статься с принцем: его независимый характер мало подходил для при-
дворной должности.
В конце 1770 года, находясь в Страсбурге, Гердер случайно позна-
комился с молодым Гете, тогда студентом Страсбургского университета,
который вскоре сделался его пламенным учеником и последователем. Гер-
дер был на пять лет старше Гете и имел уже вполне сложившееся миро-
воззрение и литературные взгляды. Новые идеи, всецело владевшие его
сознанием, он проповедовал с вдохновением, настойчивостью и авторите-
том, подвергая беспощадной критике старомодные вкусы своего ученика
и высмеивая его авторское самомнение. Гете целиком подчинился обая-
нию этой проповеди. «Я буду бороться с тобою, как Яков с ангелом,
1 Бюро остроумия (франц.).
XVI
пока ты меня не благословишь», — пишет он своему учителю в одном из
писем того времени. Гердер посвящает молодого Гете в круг идей и пе-
реживаний новой литературной эпохи. Он проповедует ему учение Руссо
о природе и чувстве, его критику сословной цивилизации, противопоста-
вляя рассудочному интеллектуализму отвлеченного мышления непосред-
ственное, напряженное, страстное чувство, полноту переживания целостной
личности. Он учит его, что истинная поэзия есть выражение непосредствен-
ного чувства, что оригинальный поэт не должен подчиняться правилам,
и на место книжной словесности образованного общества выдвигает
народную поэзию, подлинную и близкую природе во всех ее много-
образных исторических проявлениях. Под влиянием Гердера Гете изучает
Шекспира, переводит песни Оссиана, учится по-новому понимать Гомера
и библию как произведения патриархального народного творчества, соби-
рает и записывает народные песни. По словам Гете, Гердер первый на-
учил его понимать, что «поэзия вообще есть дар, свойственный всему
миру и всем народам, à не частная наследственная собственность некото-
рых тонких и образованных людей» («Поэзия и правда», кн. X). Несо-
мненно, что идейная близость с Гердером заложила основу мировоззре-
ния молодого Гете и надолго определила общее направление его лите-
рдтурного творчества.
Манифестом нового литературного направления, возглавляемого Гер-
дером и молодым Гете, явился изданный Гердером сборник статей «О не-
мецком характере и искусстве» («Von deutscher Art und Kunst», 1773)\
посвященный вопросам немецкой национальной культуры и литературы.
Здесь были напечатаны статьи Гердера о Шекспире и ρ народных песнях,
статья Гете «О немецком зодчестве», написанная под влиянием Гердера,
и историческая статья Юстуса Мезера, знатока средневековой немецкой
истории и поклонника старой немецкой народной культуры.
Гердер в это время (1771—1776} служил придворным пастором
в Бюккебурге, резиденции князя Шаумбург-Липпе, правителя одного из
самых незначительных карликовых княжеств феодальной Германии. Он
тяготился жизнью в этом крошечном городке, умственным одиночеством,
зависимостью от патриархального деспотизма «просвещенного» монарха,
который нанял его на службу и дал ему кусок хлеба, чтобы украсить
свой двор одним из корифеев немецкой литературы, но сам интересовался
только военными упражнениями своей карикатурной маленькой «армии».
Материальная нужда и невозможность в тогдашних немецких условиях
жить на литературный заработок заставили его, как в те же годы Лес-
синга и Гете, пожертвовать своей независимостью. Он был уже несколько
лет обручен с Каролиной Флаксланд, сентиментальной, девушкой, литера-
турно образованной, его восторженной поклонницей, с которой он позна-
комился в Дармштадте и которая стала теперь его женой (1773), Пере-
лиска с Каролиной лучше всего отражает душевный мир Гердера, его
недовольство собой и окружающим, усиление религиозных настроений,
отразившееся на его сочинениях бюккебургского периода, и всю сенти-
ментальную атмосферу эпохи. После смерти Гердера Каролина явилась
редактором собрания его сочинений и автором его первой, богато доку-
ментированной письмами и несколько иконописной биографии.
II Зак. 291. Гердер Х\Г//
Гердеру удалось покинуть Бюккебург только благодаря содействию
Гете, который вскоре после своего переезда в Веймар сумел, преодолев
решительное. сопротивление всего веймарского духовенства, исполненного
недоверия к «свободомыслящему пастору», добиться приглашения своего
учителя на должность суперинтенданта (главы церковного ведомства)?
маленького герцогства. До конца своей жизни Гердер оставался в Вей-
маре на этой должности, хотя временами испытывал и здесь острое недо-
вольство своим положением и несколько раз предпринимал неудачные
попытки переменить его на светскую должность — профессора в одном из
многочисленных маленьких немецких университетов.
В 80-х годах Гердер опять сближается с Гете и, как он, отходит от
крайностей мятежного индивидуализма «бури и натиска». Вместе с Гете
он изучает и сочувственно комментирует Спинозу. Отражением этих бе-
сед является философский диалог Гер дера «Бог!» (1787). Пантеистиче-
ский материализм Спинозы служит основой для учения о тождестве
бытия (как высшего понятия философии Гердера) и бога. Гердер хочет
следовать «путями Спинозы», «исследуя законы самой природы и не за-
ботясь о частных целях божества». Природа как одушевленная материя
представляется ему царством активно действующих сил. История чело-
вечества является закономерным продолжением развития природы. «Бог,
которого я ищу в истории, — пишет Гердер, — должен быть тем же, что
и в природе: ибо человек — лишь часть целого, с которым его история
так же тесно связана, как гусеница связана с коконом, в котором она жй--
вет. И в ней должны действовать те же природные законы, заложенные
в существе вещей».
Подобно Гете, Гердер в это время углубляется в изучение естествен-
ных наук, и его завершающие исторические труды объединяют природу и
человеческое общество единой идеей развития. С другой стороны, Гердер
выдвигает столь существенную для веймарского классицизма идею воспи-
тания человеческой личности в духе гуманизма, ориентированного на на-
следие античности, и Гете, изобразивший своего старого учителя в поэме
«Таинства» (1785) в образе мудрого наставника Гумануса, сочувственно
принимает его мысли, изложенные в завершающем философском обзоре
развития природы и человеческого общества («Идеи о философии исто*
рии человечества», 1784—1791)\ Гете писал в это время Гердеру из Итаг
лии: «Что бы я ни получил от тебя и где бы ни получил, я всегда буду
доволен; мы сходимся в наших воззрениях так близко, как только воз-
можно при сохранении нашей обоюдной независимости, а всего ближе мы
сходимся в главных пунктах» (17 мая 1787 г.)\
Однако вскоре после возвращения Гете из Италии (1788) начинаются
идейные расхождения, усугубленные сложными личными отношениями.
Демократические симпатии Гердера, еще раз ярко проявившиеся в его
сочувственном отношении к Французской революции, подают повод для
резких разногласий. С особой враждебностью Гердер относится к абстракт-
ному интеллектуализму философии своего старого учителя Канта, сло-
жившейся в это время в самостоятельную и законченную систему («Кри-
тика чистого разума», 1781), в особенности — к его эстетике («Критика
способности суждения», 1791): против Канта направлены последние фило-
XVIII г :
софекие сочинения Гердера — «Метакритика» (1799) и «Каллигона»· (1800),
в ' которых его полемика достигает исключительной резкости. Отсюда
отрицательное отношение Гердера и к кантианской эстетике Шиллера с ее
тенденцией противопоставления искусства действительности. Хотя Гете й
не разделял кантианских увлечений Шиллера и в этом смысле стоял
ближе к своему учителю, однако дружба и сотрудничество Гете и Шил-
лера явились новой причиной для расхождения Гердера с Гете.
В то же время, в соответствии со своим историческим универсализ-
мом, Гердер не признавал исключительности классицистического напра-
вления, все более укреплявшегося в Веймаре. Столкновение с Шиллером
по поводу статьи «Идуна» (1796)\ в которой Гердер рекомендовал немец-
ким поэтам пользоваться скандинавской мифологией, более близкой гер-
манским народам, чем мифология античная, послужило поводом для
ухода Гердера из шиллеровского журнала «Оры», объединявшего веймар-
ских классиков. В Гете-классике Гердер видит прежде всего мастера
формы, безучастного к содержанию изображаемого и потому готового
жертвовать моралью ради красоты. В борьбе с формалистическими тен-
денциями в эстетике веймарских классиков Гердер все более становится
на точку зрения узкой морализации. В «Письмах для поощрения гуман-
ности» он прямо нападает на Гете, обвиняя его в эстетическом амора-
лизме. «Форма в эстетическом произведении — еще не все, — пропове-
дует Гердер, — к тому же не следует навязывать народу чуждые ему
формы». «Пощадите невинность нашей нации, если даже вы считаете ее
глупой невинностью!» «Каждый народ имеет свой круг приличия, выра-
женный в его нравственных понятиях и чувствах, из которого его не
должна вырывать никакая заимствованная у других народов вольность
поведения». «Было бы очень не по-немецки, если бы слово «мораль» сде-
лалось у нас предметом насмешки».
Эти литературные позиции старика Гердера оттолкнули от него и мо-
лодых романтиков, из которых братья Шлегели, воспитанные на Канте
и Гете, были в то же время обязаны Гердеру историзмом своих взглядов и
широкой универсальностью своих. поэтических вкусов. Только в Жан-Поле
Рихтере, сентиментальном демократе, Гердер еще раз находит ученика,
связанного, как и он сам, с литературными традициями «бури и натиска»
и настроенного враждебно к классицизму Гете и Шиллера. Последние
годы жизни Гердера в Веймаре были отравлены личными столкновениями
с герцогом, от которого он находился в материальной зависимости, и
систематической бессильной оппозицией против торжествующих принципов
веймарского классицизма.
В £воих первых критических статьях молодой Гердер выступает как
ученик и продолжатель Лессинга. «Фрагменты о новой немецкой литера»·
туре» (1767—1768)/ задуманы как продолжение и критический комментарий
к «Литературным письмам» Лессинга, «Критические леса» (1769)" начи-
наются разбором «Лаокоона» с критическими поправками к эстетическим
теориям его автора.
II* XIX
В «Лаокооне» (1765}; Лессинг, следуя общей тенденции эстетики ра-
ционализма к разграничению задач искусств и поэтических жанров, по-
ставил вопрос о «границах живописи и поэзии». Сравнение известной ста-
туи Лаокоона с рассказом на ту же тему в «Энеиде» Вергилия служит
исходным моментом для решения этого вопроса,, образцы античного искус-
ства и поэзии — каноническими примерами, на которые ориентируются
эстетическое суждение и оценка.
По определению Лессинга, живопись «действует в пространстве»,
то есть изображает предметы, сосуществующие в пространстве; по-
эзия, которая «действует с помощью членораздельных звуков», разви-
вается во временной последовательности. Ссылаясь на примеры из Гомера
(щит Ахилла, лук Пандара, скипетр Агамемнона и др.), Лессинг показы-
вает, что в своем изображении предметов, в соответствии с необходимыми
законами искусства, античные поэты превращают сосуществующее в про-
странстве в последовательное во времени (так, Гомер рассказывает об
изготовлении щита или лука, в результате чего «картина» заменяется
«своего рода историей предмета»). Книга Лессинга направлена против не-
мецкой описательной поэзии середины XVIII века: Лессинг выступает
против статических описаний, получивших широкое распространение в ран-
ней немецкой бюргерской литературе этого времени, по существу выдви-
гая новый идеал активной поэзии, поэзии действия.
Уточняя основное определение Лессинга, Гердер указывает в первом
«Леске», что отношение живописи к ее материалу (формам и краскам)
иное, чем поэзии, в которой чувственный материал (звук) не является
средством самостоятельного воздействия, а выступает лишь как носитель
значения. Действие поэзии не ограничено длительностью или последова-
тельностью звучания слов: оно основано на «силе» (Kraft), присущей сло-
вам, которая «хотя и передается через наш слух, но воздействует непо-
средственно на душу». Поэзия через смысл слов воздействует на «низ-
»шие душевные способности», то есть на чувство и воображение, особенно
fia последнее; благодаря «фантазии» мы воссоздаем поэтическое произ-
ведение как целое, как картину для нашего воображения. Эта важней-
шая сторона поэзии, «действие на душу», «энергия», была упущена
Лессингом. Между тем простая последовательность во времени («сукцес-
сивность») без силы недостаточна, чтобы создать действие. Если же Го-
мер изображал щит Ахилла или выстрел Пандара как последовательность
во времени, то это потому, что таков общий характер его эпического ис-
кусства, основанного на поступательном развитии действия. Из того, что
Гомер изображает поступательное' движение действия, заявляет Гердер·,
не следует, что поэзия всегда изображает только поступательное движе-
ние, как думал Лессинг. Гердер противопоставляет этому выводу Лес-
синга свою сравнительно-историческую точку зрения. Существуют антич-
ные поэты (Пиндар, Анакреон) с другим идеалом художественной кра-
хоты, чем Гомер, существуют также поэты эпические (Оссиан, Мильтон,
Длопшток), творчество которых отклоняется от этого идеала. Но и у са-
мого Гомера целью поступательного развития всегда является сила, энер-
гия, отнюдь не временная «последовательность» как таковая. Описание
щита Ахилла или лука Пандара должно заставить, нас. почувствовать
XX
их «мощь»: мы должны «вздрогнуть», когда стрела Панд ар а попадет
в цель.
Гердер различает два вида искусств: одни, подобно живописи, создают
предметы (нем. Werke, ср. греч. ergon— «вещь»), другие, как поэ-
зия, действуют с помощью «энергии» (нем. Energie — греч. energeia). Поэ-
зию он причисляет к «энергическим» (то есть динамическим) искус-
ствам. «Действия, страсть, чувство! И я люблю их в стихах больше всего;
и всего сильнее ненавижу мертвую, неподвижную описательность», — за-
являет Гердер в связи с поставленной Лессингом проблемой «описатель-
ной поэзии». Это требование чувственной насыщенности, динамики, «силы»
или «энергии» в поэтическом произведении свидетельствует о преодоле-
нии Гердером эстетики рационализма и становится ведущим для лите-
ратуры периода «бури и натиска».
Второй и третий сборники «Критических лесов» посвящены полемике;
которую Гердер одновременно с Лессингом ведет против филолога-
классика Клотца и его школы как против представителей антиисторичен
ской, формально-эстетизирующей интерпретации памятников античного
искусства и поэзии. Клотцу как толкователю античности Гердер
противопоставляет в дальнейшем историческую точку зрения Винкель-
мана.
Четвертый «Лесок», оставшийся ненапечатанным, возвращается к об^
щим вопросам эстетики, уже поднятым в первом «Леске».
Художественный вкус, — так утверждает Гердер в полемике с гос-
подствующим в Германии эстетическим рационализмом, — это понятие
историческое, которое не дано заранее в готовом и неизменном виде. Ой
развивается вместе с развитием человеческой души от первоначальной;
бессознательной и инстинктивной' жизни к сознанию и разуму. Различи*
вкуса зависят от различий человеческой психики, обусловленных различной
географической и социальной средой, «Природа человеческая не вполне
одинакова в различных частях света. Различно сплетение струн ощущения;
различен мир предметов и звуков, которые пробуждают первые колеба«?
ния той или1 иной еще спящей струны; различны силы, которые по-разному
настраивают струны и Как будто сохраняют навеки тот тон, на который
они настроены». Ссылаться на одинаковый для всех людей «природный
разум» (sens comOiun), говорит Гердер, при этом невозможно: он раз-
личен у гренландца и готтентота, у земледельца и ученого. Обществен--
ная среда и воспитание усугубляют эти различия. «Два человека, даже
при одинаковых природных данных, становятся совершенно разными,
людьми, если один из них с юности приучил свое зрение к китайской кра-
е, à другой — к греческой, если один настроил свой слух на африкан-
^Чэбезьянью музыку, а другой — на итальянское благозвучие». Поэтому
Жстве существуют различные вкусы, которые зависят «от времени,
©τ;:обычаев, от народов». «Музыка сурового, воинственного народа, вдох-
новляющая энтузиазмом и безумием, зовущая в бой на смерть, рождаю-
щая дифирамбы и песни Тиртеев, не похожа на мягкое сладострастие
лидийских флейт, которые только вздыхают и воркуют, согревая душу гре-
зами любви и виня...» «Греческий, готический, мавританский вкус в зод-
честве и ваянии, в мифологии и поэзии» так же мало сходны между
XXI
собой. Художественный вкус, говорит Гердер, — это «Протей, меняющий
свой вид в различных частях света вместе с воздухом, который он вдыхает».
Гердер не отрицает общечеловеческого идеала прекрасного, но это
не должен быть, по его мнению, узкий местный и национальный идеал,
подсказанный «прирожденным или внушенным упрямством», «привязан-
ностью к совершенствам своего прихода». Его идеал красоты универсален
и должен охватить «все времена и все народы, все искусства и все раз-
личия вкусов». «Область вкуса, — заявляет Гердер, — так же бесконечна,
как история человечества». Впоследствии Гердер попытается обосновать
этот эстетический универсализм таким же универсальным пониманием
человеческой истории; здесь он является эстетической предпосылкой для
сравнительно-исторического рассмотрения искусства и литературы.
В построении эстетики Гердер следует в основном за английскими
эмпириками-сенсуалистами. При этом он подходит к искусству генетиче-
ски, выводя его из ощущений: живопись —из зрения, музыку — из слуха,
ваяние («пластику») — из осязания. Последнее положение представляет
оригинальную сторону концепции Гердера, которую он развил впослед-
ствии в специальном трактате «Пластика» (1778), сохранившемся в не-
скольких черновых редакциях. Гердер полагает, что зрение дает только
восприятие линий и красок на плоскости, тогда как представления о, «те-
лесном пространстве», объеме предметов даются осязанием. Поэтому все,
что связано с красотою формы, тела, является представлением не зритель-
ным, а осязательным и должно быть объяснено исходя из осязания. Гер-
дер неоднократно говорит о зрении как о самом ясном, поверхностном и
холодном чувстве. «Зрение — самое холодное и философское из чувств; оно
видит предметы перед собой и всегда один рядом с другим». Слух и,
в особенности, осязание гораздо глубже и непосредственнее соприкасаются
С вещами. В «Пластике» Гердер заявляет: «Горе любовнику, который
в безмятежном спокойствии издалека взирает на свою возлюбленную,
словно на плоскую поверхность картины, и довольствуется этим! Горе
тому ваятелю Аполлона или Геркулеса, который никогда не сжимал
в объятиях стана, подобного Аполлону, никогда не чувствовал на ощупь,
хотя бы во сне, грудь и спину Геркулеса». Скульптура греков, по сло-
вам Гердера, — это «классические творения их чувствующей руки, как
их писания являются созданием тонко чувствующего человеческого вкуса».
Это сенсуалистическое отношение к осязанию как эстетическому выраже-
нию наиболее непосредственного, чувственного, интуитивного восприятия
действительности восприняли от Гердера молодой Гете и «бурные гении».
Гете пишет в 1771 году: «Зрение — самое холодное из чувств, оно дает
только знание. Поэтому я утверждаю, что нежное сердце не может лю-
бить только то, что нравится зрению... Зрение — лишь подготовительная
ступень для других чувств». Молодой Гете неоднократно сравнивает себя
как поэта-творца с ваятелем, который физически ощущает творческую
силу «в кончиках пальцев».
Понятие красоты, которое служило основанием для рационалистиче-
ской эстетики, для Гердера не начало, а конец исследования: оно возни-
кает в результате длительного и сложного исторического развития. Исто-
рия развития чувств должна служить руководящей нитью для истор'ии
XXII
развития искусств, а в этой последней отражается история человечества.
Вопросы эти в незаконченной рукописи четвертого «Леска» остались не-
разработанными. Наиболее существенное значение имели мысли Гердера
о происхождении музыки и ее первоначальной связи с поэзией и танцем:
музыка происходит, по Гер деру, из первобытного языка, языка «певучего»,
служившего выражением сильных аффектов первобытного человека и со-
провождавшегося мимикой и жестами, из которых, в свою очередь, раз-
вивается пляска как «видимая музыка», искусство жестов. Этот круг во-
просов первобытного языка и поэзии подробнее разработан Гердером в его
«Фрагментах».
Более ранние по времени «Фрагменты о новой немецкой литературе»
(1767—176.8) примыкают по своим темам к «Письмам о новой литературе»
Лессинга и посвящены проблеме создания немецкой национальной лите-
ратуры. Следуя за Гаманном, Гердер в первом сборнике начинает с во-
просов языка, в которых он ищет ответа на вопрос о сущности и проис-
хождении поэзии.
Язык, по Гердеру, не есть механическое орудие литературного твор-
чества: это форма всякой человеческой мысли, определяющая в изве-
стном смысле самое ее содержание и в то же время определяемая им.
«Язык — это обширная область ставших видимыми мыслей». Границы че*
ловеческого мышления определяются языком: поэтому теория познания
должна опираться на изучение языка, — указание, которое Гердер впо-
следствии выдвинет в «Метакритике», выступая против «Критики чистого
разума» Канта. Национальные языки, слагающиеся «в соответствии с нра-
вами и характером мышления народов», определяют своими особенностями
своеобразие соответствующих национальных литератур: потому что «лите-
ратура вырастает в языке, как и язык в литературе».
В развитии языка Гердер различает несколько этапов, которые он
сравнивает с возрастами человеческой жизни. Однако более существен-
ным, чем этот «роман о возрастах языка», как называет его сам автор,
является принципиальное противопоставление двух основных ступеней
языкового развития — языка первобытных и языка цивилизованных наро-
дов. Первый является выражением непосредственного чувства, аффектов
страсти, радости, удивления, владевших душою первобытного человека.
Это язык чувственно-конкретный, образный, певучий и ритмический, обыч-
но сопровождаемый жестами, богатый восклицаниями, свободный в своем
синтаксическом построении, но еще бедный абстрактными понятиями. Та-
| сих пор язык истинной поэзии: Гердер повторяет вслед за Гаман-
Щ поэзия древнее прозы; она возникла, когда еще не было писа-
телей и- книг. «Все народы дали блестящие образцы поэзии еще до того,
как проза отделилась от нее, развилась и достигла совершенства».
Язык народов цивилизованных — это язык рассудка, прозы. Вместо
красоты и богатства для него характерны логическая правильность, оби-
лие отвлеченных понятий, строгое разграничение синонимов, большим
числом которых всегда отличается язык первобытный и язык поэтический,
XXIII
правильный синтаксический строй, отражающий движение логической
мысли. «Правильность языка уменьшает его богатство». Таким правиль-
ным, но бедным и однообразным, «книжным» языком является, по мне-
нию Гердера, современный французский язык. «Его называют языком
рассудка», и он, действительно, является «красивым книжным языком,
языком для чтения. Но для поэтического гения этот язык рассудка стал
истинным проклятием». Таким образом, рассматривая язык чувства (поэ-
зию) и язык разума (прозу) как две исторически закономерные стадии"
развития языка, Гер дер, тем не менее, видит во второй стадии явление
старческого упадка человеческой цивилизации. Поэтому молодая немец-
кая поэзия не должна брать пример с французской. Учение Гердера ука-
зывало немецкой поэзии путь от установившегося в философии немецкого
рационализма понимания слова лишь как знака отвлеченного понятия
к раскрытию и использованию эмоциональности и образности слова, на
чем и будет строиться поэзия «бури и натиска», и прежде всего —моло-
дого Гете.
* Вопросы происхождения языка продолжали занимать Гердера и вне
зависимости от проблем современной литературы. В 1770 году он пишет
специальное исследование на эту тему на конкурс, объявленный прусскойг
Академией наук («О происхождении языка», 1772). Выступая против
господствовавшей в то время богословской теории «божественного» про-
исхождения - человеческой речи, незадолго до Гердера возрожденной.
в трудах пастора Зюсмильха и поддерживавшейся Гаманном, Гердер-*
одновременно полемизирует и против рационалистического учения просве-.
тителей о происхождении языка путем «общественного договора». Обе
теории исходят из представления о языке как о готовом, уже сложившемся
явлении и в. этом-; смысле одинаково неисторичны> Тердер рассматривает
язык как неотъемлемое свойство человеческого сознания, но, вместе с тем,·
подходит к нему исторически. Уже во второй редакции «Фрагментов»,
подготовленной к печати в 1768 году, он писал по поводу теории Зюс-
мильха: «Если бы язык во всем своем совершенстве, порядке и красоте
явился из земли, как Паллада из головы Юпитера, — ослеплённый его
блеском, я бы, не колеблясь, отступил, преклонил колено и признал его
божественным явлением, сошедшим с Олимпа». «Но разве в различив:
языков не содержится тысяча признаков, миллион указаний, что народы
именно с помощью языка постепенно учились мыслить и с помощью мыш-
ления говорить?» Поэтому своей задачей Гердер считает объяснение про-
исхождения языка «из развития мышления как продукта душевных,
способностей человека». Вместе с тем, Гердер полемизирует и с третье«
современной ему теорией происхождения языкам-с механистическим ма-
териализмом Кондильяка, выводящим язык из животных криков. Речь че-
ловека, действительно, заключает в себе элементы животных криков;
являющихся примитивным выражением аффекта во всяком животном орга-"
низме, но она становится языком (мы сказали бы — приобретает новое:
качество) только с развитием сознания, которое выделяет отдельные
явления звучащей природы и воспроизводит их в членораздельном слове;
Дальнейшее развитие языка от его первоначальной «поэтической», то есть
конкретно-чувственной, эмоциональной и образной формы к образованию
XXIV
общих понятий и абстракции неотделимо от развития человеческого»
разума и культуры, и именно это обстоятельство, по мнению Гердераг
является лучшим доказательством человеческой природы языка.
Несмотря на ошибки, связанные с уровнем исторических познанийг
в XVIII веке, Гердер является создателем первой исторической теории-
языка. Его учение о связи развития языка с развитием мышленияг
обусловленным в конечном счете развитием человеческого общества, легло
в основу философии языка Вильгельма Гумбольдта, Штейнталя и По-
тебни. В учении о двух этапах развития языка и связанной с ним тео-
рии происхождения поэзии Гердер явился учителем обоих основателей,
исторического языкознания XIX века Вильгельма Гумбольдта и Якоб»
Гримма, а в русской науке дальнейшим развитием этих идей является
лингвистическая поэтика Потебни, с ее теорией поэзии и прозы как двуг
последовательных стадий познания действительности — образной и рацио-
нальной.
Вторая и третья части «Фрагментов» рассматривают современную*
немецкую литературу в сопоставлении с ее образцами. Сравнивая немец-
ких «псалмопевцев» с библией, Клопштока с Гомером, Гесснера с Oeov
Критом, Глейма с Анакреоном- и т. д., Гердер доказывает невозможность
для современного поэта подражать художественным образцам других, так
называемых «классических», литератур. Поэзия связана со всей совокуп-
ностью породивших ее особенностей, духовной культуры данного народа;
поэтому она может развиваться органически лишь в определенных исто-
рических условиях, ее Породивших. Справедливые жалобы на отсутствие'
в Германии «оригинальных поэтов, гениев, изобретателей» Гердер объ-^
ясняет подражательным характером современной ему немецкой поэзии';
С этой точки зрения особенно интересны замечания Гердера о «свя-
щенной» библейской поэзии и ее немецких подражателях. Природа Во-
стока, исторические условия развития еврейского народа, его верования,;
его «национальная мифология», порожденная всеми этими условиями,,
определили особенности древнееврейской поэзии. Немецкий поэт, подра-
жающий библии, может только механически воспроизводить утративший*
для него живое содержание арсенал ее поэтических образов. Когда биб-
лейский поэт говорит о «снегах Ливана» или о «приятных виноградни-
ках Кармеля», это образы характерные, которые подсказывает ему природа:
его страны. Для немецкого поэта это пустые слова, лишь наполовину по^:
нятные. «Встававшие над морем страшные грозы, проходившие над их
страной в Аравию, были для них гремящими конями, сквозь тучи несу-
щими колесницу Иеговы». Современные поэты могли бы скорее воспевать;
электрическую искру, чем повторять эти библейские образы. Гердер срав-
||^^ «национальную мифологию» древних евреев с аналогичными поэ-
^р воззрениями на природу других первобытных народов. Еслш
в- библейской поэзии радуга служит подножием «престола господня», то·
в поэзии скальдов это — пламенный мост, по которому великаны пытались-
штурмовать* небо. «Было бы интересно и полезно, — пишет Гердер, -^
еобрать, сравнить и объяснить национальные предрассудки различных на-
родов». Современный поэт, который хочет следовать вкусу своего соб-
ственного народа, должен изучать «фантазии и предания» своих предков,.
XXV
как это делали в свое время Лопе де Вега, Пульчи, Ариосто и Тассо.
Английские баллады, песни трубадуров, испанские романсы, поэзия древ-
-них скальдов имеют такое же право на внимание исследователя «нацио-
нальных песен», как латышские «дайны», украинские «думы» или песни
Ήepyaнцeιв и североамериканских индейцев. «Среди скифов и славян, вен-
дов и чехов, русских, шведов и поляков еще сохранились эти следы,
•оставленные их предками». Так намечает Гердер будущую универсальную
программу своего сборника «Народные песни».
К историческому и сравнительному изучению библейской поэзии Гер-
дер неоднократно возвращается на протяжении всей своей жизни. «Биб-
лию нужно читать по-человечески, это —· книга, написанная людьми и
для людей», — так заявляет свободомыслящий пастор-гуманист в начале
«своих «Писем об изучении богословия» (1780). «Ветхий завет написан
ъа древнем, простом, сельском и поэтическом, не философском и не
абстрактном языке евреев; сохраняйте эту точку зрения и по отношению
к духу содержания. Станьте пастухом с пастухами, земледельцем —
*с земледельческим народом, с жителями Востока — уроженцем Востока,
-если вы хотите насладиться этими произведениями в атмосфере их про-
исхождения». Предшественником Гердера в этой области был англича-
лин Лоут, который в книге «О священной поэзии евреев» (Robert
Lowth. De sacra poesi hebraeorum, 1753) рассматривает библию Как
художественное произведение, сопоставляя ее «красоты» с классическим
искусством Гомера. Но Гердер привносит в свое рассмотрение библейской
поэзии историческую точку зрения, которой не было у Лоута. В книге
«О духе еврейской поэзии» (1782—1783) Гердер рассматривает ветхий за-
вет как национальную поэзию древних евреев, народа патриархального,
жак «поэзию пастушескую и земледельческую». Характер языка, мифоло-
гические представления о природе, исторические предания древних ев-
реев объясняют национальные и исторические особенности этой поэзии.
Ее народный характер Гердер неоднократно подчеркивает в многочислен-
ных переводах и комментариях к ним. Так, он рассматривает «Песню
песней» (1778) как собрание старинных песен о любви, считая существо-
вание подобных песен засвидетельствованным «у всех народов в их перво-
начальной простоте». Он высказывает сомнение в том, чтобы все эти
песни действительно были написаны самим царем Соломоном, и видит
β них «верное выражение вкусов и понятий о любви, господствовавших
во времена Соломона и уже никогда более не существовавших у еврей-
ского народа». Героиня этих любовных песен — девушка из народа, «бед-
ная, чистая деревенская девушка», «полевая голубка в лоне простоты и
бедности». «Низкая, сельская обстановка, сад и поле составляют душу
этой замечательной песни. Посадите на ее место королеву в золотом зале,
и все пропало». От переводчика Гердер требует сохранения исторического
si национального (Своеобразия этой «первобытной песни любви». «Каждая
песнь и каждая строка должны по мере возможности сохранить свое осо-
бое благоухание, свой особый отпечаток; их не следует ни украшать, ни
обновлять и не следует отрывать их от их места, от их времени, от их
родины». Сам Гердер переводит ряд отрывков из «Песни песней» свобод-
ными стихами; одновременно он дает историю немецких переводов этого
XXVI
произведения, с особой похвалой отмечая перевод Лютера, неподражае-
мый по своей безыскусственной простоте и силе, и печатает для сравне-
ния стихотворное переложение «Песни песней», принадлежащее неизве-
стному немецкому поэту XIII—XIV веков и выдержанное в манере средне-
вековых миннезингеров.
В своих суждениях об античной поэзии и ее подражателях автор
«Фрагментов» также становится на историческую и сравнительную точку
зрения. Историк греческой литературы, по его мнению, должен не только,
тсак Винкельман в своей «Истории искусства древности», исследовать
«происхождение, рост, изменения и упадок этой литературы, вместе с раз-
личиями стилей, обусловленными местом, временем и особенностями
поэтов»; он должен также показать отличия поэзии греков от поэзии дру-
гих народов, вызванные климатом, общественным строем, правлением,
образом жизни, религией, языком и искусством, отметить «ее индивиду-
альные, национальные и местные красоты». Подобно тому как осада Трои
и поход аргонавтов были, по мнению Гер дера, поэтическим отражением
подлинных исторических событий, так Олимп или Скамандр дали мате-
риал для мифологических образов, и поэтическая фантазия греков «пре-
вратила крепкого крестьянина-батрака в Геркулеса, героя, полубога».
Оды Пиндара, восхваляя победителя, рассказывают о его городе, семье
и предках. «Его мифология — это история его родины, родного города,
семейная и родовая гордость его героя, источник события, которое он
воспевает».
Подчеркивая таким образом национальное своеобразие и местные
корни древнегреческой, как и ветхозаветной поэзии, Гердер решительно
возражает против укрепившегося со времен Возрождения отношения
к греческой культуре и литературе как к единственному и всеобщему
образцу для всех времен и народов. Мы привыкли, говорит он, смотреть
иа весь мир глазами греков и все негреческое считать варварским. Между
тем «новейшие открытия и известия об арабах, шотландцах, американ-
ских индейцах и скандинавах, китайцах и гренландцах» должны были
показать нам всю неправильность этой точки зрения. Существуют на-
роды, которые «создали сокровищницы мысли, не будучи рабами или
колониями греческой литературы». «Оссиан, поставленный рядом с Гоме-
|ром, скальд рядом с Пиндаром — отнюдь не неравные фигуры...»
Этим убеждением Гердера объясняется его двойственное отношение
le Винкельману. Он почитает его как своего предшественника, сумевшего
«глазами грека» взглянуть на греческое искусство, и хотел бы по его
образцу написать историю греческой литературы. Вместе с тем, он ставит
■ему в вину, что о других народах Винкельман судит как грек, вместо
1чзго чтобы «на египтянина посмотреть глазами египтянина», постаравшись
«стать современником и земляком» всех тех негреческих народов, о ко-
торых он лишет. С другой стороны, Гердер возражает против мнения
Винкельмана, будто древние греки никакому другому народу не обязаны
своей культурой и своим искусством. Вслед за Гаманном Гердер хочет
Спуститься через «продырявленный колодец» греческой культуры к ее
подлинным источникам на Востоке, прежде всего —в Египте. Следует,
однако, напомнить, что в XVIII веке не были еще прочтены ни египет-
XX VII
ские иероглифы, ни вавилонская клинопись и что археология еще не от-
крыла многочисленные известные нам в настоящее время памятники
древней культуры народов Ближнего Востока. Поэтому значение библии
как исторического источника Гердер видит именно в том, что она пред-
ставляет ныне единственный дошедший до нас остаток культуры более
древней, чем греческая, без которого греки были бы для нас «первыми,
единственными, всем вообще». Возражая против искусственной изоляци»
Греции у Винкельмана, Гердер высказывает мысль о существовании тес-
ной культурной связи и взаимной зависимости между историческими на-
родами, о непрерывности «цепи» культурного предания, определяющей
историческое развитие науки и искусства.
Последняя часть «Фрагментов» (III), посвященная латинской лите-
ратуре, ставит наиболее широко вопрос о подражании «классическим»
образцам. По мнению Гер дера, все новоевропейские литературы, и немец-
кая в особенности, испытали сильнейшее латинское влияние. Латиниза-
ция древних германцев была связана с их порабощением и лишила их
надолго культурной самостоятельности. Возрождение классической древ-
ности в XVI веке имело по преимуществу «римское направление». Ла-
тынь сделалась в Германии языком ученых; родной язык остался «наре-
чием матерей, женщин и необразованных». Латинские классические
школы явились рассадником чисто словесного образования, подавляющего»
всякое самостоятельное дарование. «Проклятие, лежащее на чтении древ-
них, заключается в том, что мы учимся только словам», «выискиваем
эстетические правила и примеры», — «короче говоря, рассматриваем мы-
сли и слова независимо, друг от друга». «О проклятое слово: классиче-
ский!— восклицает Гердер. — Оно сделало для нас Цицерона классичет
ским школьным оратором, Горация и Вергилия — классическими поэтами.
Цезаря — педагогом и Ливия — фразером; оно отделило выражение ох
мысли и мысль от производящего, ее события; оно приучило нас делать
упражнения по Горацию и стремиться пр-евзойти его на его родном языке.
Это слово оттеснило всякое истинное образование, которое относилось бы
к древним, как к живым образцам, оно породило людей, похваляющихся
тем, что они знатоки древних, артисты, но не стремящихся при этом κ бо^
лее высоким целям; это слово похоронило не одного гения под кучей слов»
наполнило его голову хаосом чуждых ему выражений, взвалило на него,
как жернов, груз мертвого языка и отняло у отечества много цветущих
плодовых деревьев».
Между тем хорошо известно, что римляне «стояли на другой ступени
культуры, чем мы», и что «наша литература имеет не только другую
окраску, но и другое строение, чем древнеримская». «Поэтому нет ника-
ких оснований гордиться, если скажут о немецком поэте, что он второй
Гораций, об ораторе — что он говорит как Цицерон, о дидактическом
поэте — что он новый Лукреций, об историке — что он второй Ливии, но
было, бы великой, редкой и завидной славой для немцев, если бы можно
было сказать о них: так написал бы Гораций, Цицерон, Лукреций, Ли-
вии, если бы они писали об этом предмете на данной ступени культуры*
в данное время, для данных целей, для понятий этого народа и на его
XXVIII
языке». В таком случае оригинальное и национальное творчество явилось
бы, по мнению Гердера, подлинным творческим подражанием древним.
Борясь против латинского и французского влияния в современной ему
немецкой литературе, Гердер неоднократно указывает немецким писате-
лям на памятники старинной немецкой поэзии XVI—XVII веков (поэти-
ческие произведения классического средневековья он считал устаревшими
по языку), на Лютера, «пробудившего и расковавшего немецкий язык,
этого спящего великана». Язык немецких писателей XVI века казался
ему по глубине чувства и внутренней силе более национальным, чем со-
временный «образованный и украшенный язык», утративший черты «готи-
ческого величия», которые были присущи ему во времена Лютера. Тем
самым Гердер натолкнул и молодого Гете на чтение Ганса Сакса и не-
мецкой бюргерской литературы XVI века. Но основной источник обновле-
ния немецкой национальной литературы Гердер усматривал в народной
поэзии.
Народной поэзии Гердер посвятил статью «Извлечения из переписки
об Оссиане и песнях древних народов», напечатанную впервые в сбор-
нике «О немецком характере и искусстве» (1773).
«Поэмы Оссиана» (1760—1765) представляли гениальную подделку шот-
ландского школьного учителя Джемса Макферсона, который, заимствовав
из фольклорной традиции лишь отдельные имена героев и незначитель-
ные сюжетные подробности, выдал свое сочинение за шотландскую на-
циональную эпопею III века, сохранившуюся в устной народной традиции
и переведенную им на английский язык (ритмической прозой) с кельт-
ского (гаэльского) языка шотландских горцев. Величественный горный
пейзаж «Песен Оссиана», возвышенные и благородные чувства героев,
лирическая окраска повествования, мрачная и меланхолическая,-^ все это
соответствовало сентиментальным вкусам эпохи и было восторженно при-
нято большинством современников (в том числе и Гер дером) как отли-
чительные черты искусства «северного Гомера». В «Рассуждении о поэ-
мах Оссиана» доктора Блэра, сопровождавшем английское издание и
немецкий перевод, говорилось в духе английского предромантизма об осо-
бенностях языка и поэзии первобытных народов, полных свободного не-
посредственного чувства, страсти и фантазии — образных и музыкальных.
Для Гердера существование «Песен Оссиана» было прежде всего дока-
зательством, что способность к поэтическому творчеству есть общее до-
стояние всех народов, не только народов «классических», но также «ди-
ких» народов Севера, и что может существовать идеал прекрасного в поэ-
зии, отличный от древних греков и Гомера.
Перевод Оссиана на немецкий язык, сделанный поэтом М, Дэнисом
античными гекзаметрами в манере Клопштока (1768), послужил для Гер-
дера поводом для рассуждения о характере и стиле народной поэзии.
Подобно Гомеру, Оссиан для Гердера — народный певец; изданные Мак-
;4>ерсоном под его именем поэтические. произведения—это «песни народа
необразованного, но одаренного непосредственным чувством,, песни, крто-
XXIX
рые долгие годы жили в устной традиции, передаваемой от отца к. сыну»^
Привлекая для сравнения с Оссианом немецкие народные песни, англий-
ские баллады из сборника Перси, отрывки из скандинавской «Эдды» иг
скальдов, народные песни латышей, лапландцев и североамериканских:
индейцев, Гердер ставит вопрос о народной поэзии в перспективу широ-
кого сравнительно-исторического изучения. Как и в развитии языка, он·
различает в истории поэзии две стадии, связанные с общим ходом раз-
вития человеческой культуры.
Песни диких народов, или, как говорит Гердер, народов «живых» ис
«свободных», должны быть дикими, то есть живыми, свободными, чув-
ственными, полными лирического движения. Это не мертвые, «бумажные»
сгихи, но стихи живые, предназначенные для пения и пляски, управляе-
мые движением ритма и мелодии, насыщенные «присутствием живых об-
разов». Гердер особенно подчеркивает значение ритмического и музы-
кального элемента в народной песне, «живого движения,„ мелодии, языка·
жестов, пантомимы»: народная песня нередко имеет драматический ха-
рактер, превращается в «движущуюся, действующую, живую сцену»-
«Песни диких народов рассказывают о подлинно существующих пред-
метах, действиях, происшествиях, об окружающем живом мире. Как бо-
гаты и многообразны при этом обстоятельства, черты действительности^
отдельные подробности! И все это они видели собственными глазами, все
это снова возникает в их душе!» Отсюда в развитии песни — резкие
скачки и неожиданные переходы, нарушающие непрерывную логическую«
последовательность мысли. «Между отдельными частями песни суще-
ствует такая же связь, как между деревьями и кустами в лесу, между
скалами и пещерами в пустыне, между отдельными сценами самого про-
исшествия». Эту отрывочность, эти «скачки и переходы (Sprünge und
Würfe)» Гердер считает характерным стилистическим признаком народной
песни.
Для того чтобы понять особенность народной песни в ее местном^
национальном своеобразии, необходимо перенестись в ту. историческую и
географическую обстановку, которой она обязана своим происхождением.
По примеру англичанина Вуда, автора «Опыта об оригинальном гении и:
сочинениях Гомера» (1768), который посетил развалины Трои с Гомером:
в руках, Гердер мечтает о путешествии в горную Шотландию, где роди-
лась поэзия Оссиана. «Там я услышу живые песни живого народа, испьь
гаю их непосредственное действие, увижу места, которые живут в сти-
хах, сумею изучить остатки этого древнего мира, сохранившиеся в обы-
чаях народа!» Он вспоминает и свое морское путешествие, когда «перед
лицом совсем иной, живой и творческой природы, между бездной моря и
небесами», окруженный «изо дня в день все той же бескрайной стихией»,,
он, как Вуд; читал Оссиана и скальдов, проезжая мимо берегов Сканди-
навии и Англии. «Вуд с томиком Гомера — на - развалинах Трои, арго-
навты, Одиссеи, Лузиады — под развевающимся парусом, подле громыхаю*
щего штурвала, история Утала и Нинатомы — в виду: острова, на котором
она произошла! По крайней мере на меня, человека непосредственного-
чувства, столь непосредственные переживания оказывают глубокое
воздействие».
XXX
Расцвету подлинной народной поэзии Гердер противопоставляет упа-
док книжной поэзии современного цивилизованного общества, рассудоч-
ной, оторванной от жизни и потому лишенной творческой силы. «Мьв
почти уже не видим и не чувствуем, мы только думаем и рассуждаем».
«Мы стали... работать, следуя правилам, которые гений лишь в редких
случаях признал бы правилами природы; сочинять стихи о предметах, по>
поводу которых ничего нельзя ни подумать, ни почувствовать, ни вообра-
зить; выдумывать страсти, которые нам неведомы, подражать душевным:
свойствам, которыми мы не обладаем, — и, наконец, все стало фальши-
вым, ничтожным, искусственным».
Ожидая возрождения современной литературы от соприкосновений
с живой стихией народной поэзии, Гердер предлагает французам, англи-
чанам, немцам начать собирание народных песен. И у немецкого народа
сохранилось немало стихотворений, подобных английским балладам из-
сборника Перси. «Во многих провинциях нашей страны я слышал народные
песни, областные песни, крестьянские песни, которые по живости и ритмич-
ности, по наивности и силе языка отнюдь не уступают многим из названных:
мною песен. Но кто же их собирает, кто обращает на jaux внимание — на
улицах и в переулках, на рыбных базарах, кто прислушивается к хоровым
песням неграмотного сельского люда?»
С призывом начать работу собирания Гердер обращается к друзьямг
во всех немецких землях, уча их «не стыдиться» этих песен и ссылаясь
на пример английских и шотландских собирателей.
Дальнейшее развитие эти мысли Гердера получают в статье «О сход-
стве средневековой английской и немецкой поэзии», напечатанной в «Не-
мецком музее» 1777 года. Статья эта является первой из серии неиздан-
ных предисловий к ранней, рукописной редакции сборника «Народных:
песен» (1773). Как нередко случалось у Гердера, рукописные варианты
статьи проводят мысль автора гораздо более решительно и резко; в пе-
чатной редакции многие положения смягчены во избежание полемики.
Гердер начинает с призыва к изучению средневековой литературы за-
падноевропейских народов, образующей единое целое, порожденное «ду-
хом рыцарства», но также народных преданий, сказок и «мифологии» как.
отражения народных верований. Все великие национальные литературы,.
говорит Гердер, имеют национальную традицию, уходящую в народное
прошлое. В Англии Чосер, Спенсер, Шекспир черпали из источников «на-
родной веры», из «старых песен», которые впоследствии были собраны·
Перси и другими. Только современная немецкая литература оторвалась
оЩ-своего прошлого и имеет целиком подражательный характер. «У нас
вШПвырастает a priori, наша поэзия и классическое образование падают
нам с неба». «Тот, кто вздумал бы сейчас поинтересоваться простым на-
родом, его похлебкой из сказок, поверий, песен, грубого языка, — каким:
бы он показался варваром!» Между тем «если у нас не будет народаг
то не будет ни публики, ни нации, ни языка, ни поэзии, которую мы
могли бы назвать своей, которая живет и творит в нас самих». Такая
литература существует только «для кабинетных ученых и брюзгливых^
рецензентов», но лишена опоры «на немецкой земле/».
XXXI
Указывая современной литературе путь к национальному прошлому,
к народным истокам национального творчества, Гердер в то же время
выступает против исключительного господства классических канонов вкуса
# правил поэзии, извлеченных из древнегреческих образцов. «Ведь и
греки были некогда, если хотите, дикарями, и даже в лучшую пору их
расцвета в них сохранилось гораздо больше природного, чем может обна-
ружить прищуренный глаз схолиаста или классициста». Гомер в своих
етеснях рассказывал древние народные сказания, его гекзаметр — напев
греческих народных романсов. Боевые песни Тиртея — это греческие бал-
лады, Арион и Орфей — «благородные греческие шаманы», трагедия и
комедия развились из народных хоров и плясок. Сапфо поет о любви,
как современная литовская девушка из народа. Таким образом, за на-
циональным своеобразием народной поэзии для Гердера открываются ее
общечеловеческие свойства как определенной ступени развития поэтиче-
ской мысли, одинаково исторически обязательной и для «классических» и
новоевропейских народов и для народов первобытных, не затронутых
влиянием европейской цивилизации.
О Гомере как о народном певце Гердер, развивая мысли англичанина
Вуда, говорит более подробно в предисловии к печатному изданию своих
народных песен (1779). «Величайший певец греков, Гомер, является одно-
временно величайшим народным поэтом. Созданное им величественное
целое — не эпопея» (то есть не поэма «классического» стиля), «а эпос,
сказка, предание, живая история народа. Он не усаживался на бархат-
ные подушки, чтобы написать героическую поэму в дважды двадцать че-
тыре песни, согласно правилам Аристотеля, или, по воле музы, сверх
этих правил,— нет, он пел то, что слышал, изображал то, что видел и
непосредственно воспринял; его рапсодии оставались не в книжных лав-
ках и не на лоскутках бумаги, а в ушах и сердцах живых певцов и слу-
шателей, от которых они и были затем собраны и, наконец, дошли до
нас, обремененные целым грузом примечаний и предрассудков». Этот
взгляд на Гомера как на народного певца патриархального общества
оказал влияние на молодого Гете: его Вертер восхищается при чтении
«Одиссеи» «великолепными и гордыми женихами Пенелопы, которые сами
убивали быков и свиней, резали и жарили их», или вспоминает те пат-
риархальные времена, когда дочери царей приходили черпать воду из
колодца. Карамзин, посетивший Гердера в Веймаре в 1789 году и гово-
ривший с ним о подражании греческой поэзии, отразил в своих записях
эту точку зрения Гердера и его школы: «Гомер у них Гомер: та же не-
искусственность, благородная простота в языке, которая была душою
древних времен, когда царевны ходили по воду и цари знали счет своим
баранам».! Значительно позже, в статье «Гомер — любимец времени»,
напечатанной в «Орах» Шиллера (1795), Гердер особенно подчеркивает
как признак народности искусства Гомера предполагаемое им наличие
вариантов, связанных с устной традицией песни. «Так повсюду на свете
варьируются народные песни; каждая местность вносит в них свои изме-
нения». Эти взгляды Гердера на Гомера, несомненно, оказали значитель-
1 «Письма русского путешественника» (Веймар, 20 июля 1789 года).
XXXII
ное влияние на теорию Ф. Вольфа, рассматривающую «Илиаду» как свод,
безыменных песен народных певцов (F. W о 1 f. Prolegomena ad Home-
rum, 1795). Ими вдохновлялся и близкий Гердеру Фосс в своих известных
переводах «Одиссеи» (1781} и «Илиады» (1793).
Статья Гердера заканчивается и на этот раз призывом к собиранию
и изучению народных песен. Прежде всего—в широком, универсальном
масштабе. «Народоведение необыкновенно расширило карту человечества:
насколько больше мы знаем народов, чем греки и римляне!» Но знания
эти чрезвычайно поверхностны. Европейские путешественники, пишет
Гердер в рукописной редакции статьи, интересуются лишь внешним видом
дикарей и «несущественными сторонами их внешнего быта», а больше
всего думают о том, «какими средствами можно было бы получше по:
работить их, эксплуатировать, подвергать: мучениям, командовать
ими и окончательно испортить». Гердер высмеивает англичанина Чем-
берлена, напечатавшего перевод молитвы «Отче наш» на ста пятидесяти.
двух языках. В той же рукописной редакции он пишет: «Возьмите па-
сторский парик этого благочестивого человека и измерьте с его помощьк>
головы всем тиграм, львам и слонам, а потом закажите с дих гравюры
в этой благочестивой позе—великолепная естественная история вселен-
ной». Между тем лучшим источником для более глубокого знакомства
с дикими или малокультурными народами являются их песни. Эти песни —
«архив народов, сокровищница их науки и религии, их теогонии и космо-
гонии, деяний отцов и событий их истории, отпечаток их сердца, картина
их домашней жизни в радости и горе, на брачном ложе и на смертном
одре». «Воинственный народ воспевает подвиги, нежный воспевал любовь.
Сметливый народ слагает загадки, народ, обладающий воображением, —
аллегории, притчи, живые картины. Народ с. кипучими страстями может
выражать только страсти, точно так же как народ, окруженный опасно-
стями, создает себе грозных богов». Гердер ставит перед собой задачу
создания «естественной истории народов», правдивой, неприкрашенной к
в то же время не приниженной «в угоду религии и классическому вкусу»
(рукописный вариант). «А между тем даже в Европе целый ряд наций
остается еще не изученным и не описанным в этом отношении. Эстонцы
и латыши, венды и славяне, поляки и русские, фризы и пруссы — их
песни этого рода собраны не так, как песни исландцев, датчан, шведовг
не говоря уже об англичанах, эрсах и бриттах или о южных народах».
Но особенно существенной национальной задачей Гердер и здесь счи-
тает собирание немецких народных песен. Он обращается к немецкому
народу с пламенным призывом: «Великая империя, империя десяти на-
родов, Германия! У тебя нет своего Шекспира, но неужели у тебя нет и
песен предков, которыми ты могла бы гордиться?» «Итак, примитесь за
дело, братья мои, и покажите нашей нации, что она собой представляет
и чем она «е является, как она мыслила и чувствовала или как она
мыслит и чувствует сейчас...»
Одновременно с опубликованием статьи об Оссиане Гердер присту-
пает к осуществлению своего замысла издать. сборник народных песен.
Первая редакция этого сборника под названием «Старинные народные
песни» была сдана в печать в 1:773 году. Она состояла в основной
III Зак. 291. Гердер XXX.Il/
Ή3 немецких и английских песен и баллад. Последние были заимствованы
Ή3 сборника Перси «Памятники старинной английской поэзии» (1765)) и
•приведены в английском оригинале ив переводе Гердера. Старинные
английские баллады, опубликованные Перси, как видно из многочислен-
ных указаний в статьях, впервые пробудили у Гердера интерес к народ-
ной старине, как и вообще влияние английской предромантической кри-
тики (Томаса Уортона, Херда и других)' сыграло существенную роль
ъ формировании его интереса к средневековой поэзии. Рукописи Гердера
-содержат большое число переводов из Перси, которые не попали в печат-
ные сборники. Кроме того, первая редакция «Народных песен» заключала
ряд переводов из Шекспира — не только лирических отрывков (вроде
лесенок Офелии, Дездемоны, Ариэля и др.), но также трагических моно-
логов из «Гамлета», «Отелло», «Лира» и др., со статьей о .задачах худо-
жественного перевода Шекспира («Можно ли переводить Шекспира?»}.
Последняя часть сборника, озаглавленная «Северные песни», предста-
вляла, по замыслу автора, «выход к песням чужих народов». Здесь были
литовские, латышские и эстонские песни, лапландская и две гренланд-
ские (то есть эскимосские) и пять переводов древнеисландской эддическои
поэзии и песен скальдов. Каждая часть открывалась предисловием и
заключала объяснительные примечания к отдельным песням.
Под влиянием полемики, вызванной статьей об «Оссиане и песнях древ-
них народов», Гердер взял свою рукопись из типографии. Его сму-
тили резкие нападки литературных староверов и личных недоброжелате-
лей: так, философ Зульцер, намекая на пасторскую должность Гердера,
язвительно иронизировал по поводу «нового типа богословов», галантных
и остроумных, «для которых народные песни, распеваемые на улицах и
рыбных базарах, столь же интересны, как религиозные догматы». Тем не
менее, Гердер продолжал работать над своим сборником и выпустил его
в свет в значительно расширенном виде в 1778—1779 годах под заглавием
«Народные песни». Во вторам, посмертном издании 1807 года, осуще-
ствленном женою Гердера и его душеприказчиком Иоганном Мюллером,
сборник получил укрепившееся за ним в дальнейшем название: «Голоса
народов в песнях». Заглавие это было отчасти подсказано самим Гер-
дером: он незадолго до смерти писал о своем сборнике как о «живом
голосе народов, более того — самого человечества». Состав посмертного
издания несколько расширен, и песни расположены по народам, что также
отчасти было подсказано указаниями самого Гердера.
По своему содержанию «Народные песни» .Гердера свидетельствуют
о широком универсализме его понимания народной поэзии. Сборник "со-
держит немецкие песни, но не в очень большом числе — отчасти из устных
записей (главным образом сделанных молодым Гете в Эльзасе), отчасти
из старинных письменных источников.. В качестве древнейшего образца
немецкой песни помещена модернизованная версия древненемецкой
«Песни о Людвиге», воспевающей победу западнофранкского короля Лю-
довика III над норманнами (881 год).
Английские баллады взяты из-Перси, английские песни—из того же
Перси, а также из Шекспира, шотландские — из сборников Рамзея (1724).
Для переводов с испанского Гердер изучил испанский язык;, ряд роман-
XXXIV
сов мавританского цикла переведены им из исторического романа Пе-
реса де Ита «Гражданские войны Гранады» (1595-7-1604) и из испанского
«Кансьонеро». Несколько старинных и новых французских и итальянских
песен введены были главным образом для соблюдения «справедливости»
и по отношению к этим народам.
Отрывки из «Оссиана» переведены Гердером размерами свободных
стихов Клопштока, которые, по его мнению, были наиболее подходящей
формой для передачи вольных ритмов народной поэзии. Творчество древ-
них скандинавов представлено мифологическими песнями «Эдды» (в том
числе знаменитой «Волуспа», содержащей космогонию и эсхатологию
древних исландцев} и героической поэзией скальдов. Интерес к этому
искусству германского Севера был пробужден в Европе появлением фран-
цузской книги Поля Малле «Введение в историю Дании» (1755)\ Жене-
вец Малле был профессором французской литературы в Копенгагене,
изучил скандинавские языки и, пользуясь латинскими исследованиями
скандинавских ученых XVII века (Бартолина, Вормиуса, Резениуса и др.)\
приобрел довольно широкое знакомство с памятниками древнесеверной
поэзии. В своем «Введении» он рассказывает о происхождении сканди-
навских народов, об их религиозных верованиях, нравах, обычаях и
поэтическом творчестве. Особенное внимание современников вызвали опу-
бликованные Малле в отдельном томе источники его «Истории», заклю-
чавшие французский перевод мифологической части младшей (прозаиче-
ской) «Эдды», краткое переложение остальных частей этого памятника,
пересказ песен старшей (поэтической)) «Эдды» и переводы отдельных от-
рывков из исландских скальдов. Книга Малле вызвала в Англии живей-
ший отклик в предромантической критике и ряд поэтических обработок
древнескандинавских образцов (Перси, Грея и др.). Вместе с «Оссианом»
Макферсона она определила представление современников о поэзии наро-
дов Севера, отличной от греческого идеала красоты.
В Германии с «рунической» поэзией «Эдды» и скальдов первый по-
знакомил читателя Герстенберг в своих «Письмах о литературных досто-
примечательностях», более известных, по месту издания, : под названием
«Шлезвигские литературные письма» (1766—1767). Герстенберг выступил
и с самостоятельным произведением на скандинавскую тему «Поэма
скальда» (1767). Вслед за ним Клопшток, мечтая о воскрешении поэзии
древнегерманских «бардов», вводит в свои оды скандинавскую мифоло-
гию вместо греческой. Одновременно с Гердером те же отрывки из «Эдды»
и скальдов переводит австрийский «бард» Синед (переводчик «Оссиана»
М. Дэнис)\ Гердер, который неоднократно в своих критических статьях
говорит о «скальдической» поэзии скандинавского Севера, как и боль-
шинство вышеназванных писателей, не знал древнеисландского; однако
он не довольствуется французскими переводами Малле, которые считает
«не соответствующими духу оригинала», и обращается к его источникам.
Позднее в статье «Идуна» (1796), вызвавшей столкновение с Шиллером, он
вслед за Клопштоком рекомендует немецким поэтам скандинавскую мифоло-
гию и поэзию как создание родственного немцам германского народа.
От Герстенберга как знатока скандинавских языков Гердер пытался
получить для своего сборника переводы старинных датских баллад,
Ш* XXXV
с которыми Герстенберг в свое время также познакомил читателя своих
«Литературных писем». Не получив желательного ответа, он сам переводит
по первоисточнику несколько баллад, которые, несмотря на недостаточ-
ное знание Гердером языка, принадлежат к числу его лучших переводов.
Из античных писателей Гер дер (выбрал по преимуществу образцы,
представлявшиеся ему остатками народной песни, — греческие «сколии»
(застольные песни) Атенея, отрывки из песенок Сапфо, свадебную хоро-
вую песню («Гименей») Катулла и немногие другие.
Совершенно новым для немецкой литературы было обращение Гер-
дера к поэзии славянских народов. Он знакомит своего читателя с эпи-
ческими песнями "южных славян по переводу итальянского аббата
де Фортиса (1774), послужившему впоследствии важнейшим источником
для известной подделки Мериме («Гусли», 1826). Рядом с его собствен-
ными переводами выделяется замечательный перевод знаменитой песни
об Асанагинице, сделанный для него молодым Гете. Гердер дает в соб-
ственном стихотворном переложении отрывок о Любуше и крестьянском
короле Пржемысле из латинского перевода чешской хроники Вацлава
Гаека (1541)\ Не увенчалась успехом его попытка раздобыть русские
песни. Зато широко представлена в сборнике народная поэзия Прибал-
тики— песни литовцев, латышей и эстов, с которыми Гердер, как уроже-
нец Восточной Пруссии и рижский пастор, успел познакомиться частью
по собственным впечатлениям и этнографическим описаниям, частью с по-
мощью Гаманна. На «литовские дайны, или песенки, распеваемые там
простыми девушками», обратил внимание уже Лессинг в своих «Лите-
ратурных письмах», похвалив их «наивное остроумие и изящную про-
стоту». «Из них вы могли бы узнать, что поэты рождаются во всех
странах света и что живые чувства не являются привилегией цивилизован-
ных народов». Это высказывание Лессинга, столь близкое идеям самого
Гердера, последний цитирует в своем сборнике, как и наблюдение
своего учителя Гаманна, сопоставлявшего гекзаметр, Гомера с монотон-
ными размерами слышанных им при поездке через, Курляндию и Лиф-
ляндию народных песен. Для демократической идеологии Гердера осо-
бенно характерно опубликование в сборнике эстонской народной песни,
обличающей жестокости и насилия, совершаемые немецкими помещиками
в Прибалтике над их эстонскими крепостными («Жалоба крепостных на
своих тиранов»).
Из этнографической литературы заимствовал Гердер образцы фольк-
лора народов «дальнего севера» (гренландских эскимосов и лапландцев);
и колониального юга (жителей Перу). Лапландская песня («Поездка
к .милой»), была уже известна в обработке, поэта-сентименталиста
К.-Э. Клейста, которую Лессинг похвалил за «безыскусственность и прав-
дивость», вместе с тем подчеркнув, что «подражания такого мастера
всегда являются улучшениями». Намекая на это высказывание Лессинга,
Гердер писал своей невесте (1771): «За эту лапландскую песенку я охотно
отдал бы десяток клейстовских подражаний. Не удивляйтесь, что лап-
ландский юноша, который не знает ни грамоты, ни школы и почти что
не знает бога, поет лучше, чем майор Клейст, Ведь лапландец импрови-
зировал свою песню, когда скользил со своими оленями по снегу,
XXXVI
и время тянулось так долго, пока он ехал к озеру Орра, где жила его воз-
любленная; Клейст же подражал ему по книге».
Необходимо отметить, что в этом отделе народные песни тесно свя-
заны у Гердера с бытовым материалом этнографического характера: он
приводит песни свадебные, похоронные, рабочие, цитирует загадки и по-
словицы, сообщает отдельные замечания об особенностях бытования и
музыкального исполнения песни.
Наконец, сборник содержит некоторое число песен известных авторов,
в особенности немецких. Среди последних имеются стихотворения Лютера
и старинных поэтов XVII века, высоко ценимых ГерДером (Опиц, Симон
Дах, Рист и др.), а также его современников, испытавших на себе влия-
ние народной поэзии, как Матиас Клаудиус и Гете (баллада «Рыбак»)'.
В противоположность расположению по национальностям, принятому
позднее издателями «Голосов народов», первое издание «Народных песен»
дает материал в пестром смешении, следуя принципу художественной
группировки. В ряде случаев заметно стремление провести одинаковую
тему через песни разных народов с сопоставительной целью. Так, для
немецкой баллады о ревнивом юноше, убивающем неверную возлюблен-
ную, Гердер находит испанские параллели в романсах о Заиде; рядом
с литовскими и эстонскими свадебными песнями он ставит такую же
песню из Анакреона, за отрывками песенок Сапфо следуют сходные от-
рывки латышских народных песен. «Греческие песни, —иронически сооб-
щает Гердер в примечании, — примешаны, чтобы утешить нежные греческие
души, напуганные варварским характером предшествующих и последую-
щих». Точно так же похоронная песня из Оссиана («Дартула») сопоста-
вляется с гренландской, эстонская «военная песня» — с немецкой, мифоло-
гические песни «Эдды» — с перуанской песней, обращенной к «богине
дождя». Желая показать общечеловеческий характер основных тем поэ-
зии всех народов и, вместе с тем, их национально-историческое своеобра-
зие, Гердер делает первый шаг к сравнительному изучению сюжетов и
стиля народной поэзии.
Почти все переводы в сборнике сделаны самим Гердером. Имея как
оригинальный поэт очень скромное и мало самостоятельное поэтическое
дарование, Гердер как переводчик сумел сохранить все особенности на-
родной поэзии, о которых он так часто говорит в своих статьях, — лири-
ческую отрывочность, повторения, традиционные эпитеты и образную
символику, свободное движение ритма, а в переводах с германских язы-
ков (английского, датского)' вместо обычных ямбов и хореев книжной
поэзии — построенный на счете ударений акцентный стих, характерный и
для немецкой народной песни. Все это вместе он понимает как «песенный
тон», которому придает особенно важное значение при переводе. Сущ-
ность народной песни, пишет Гердер в предисловии к своему сборнику,
заключается «в мелодическом движении страсти или чувства», в особом,
присущем ей «тоне» или «лирической мелодии», в которой «душа песни»--
основа ее воздействия. Отсюда — важнейший принцип перевода Гердера:
установка на эмоциональный колорит песни, на ее лирический, музыкаль-
ный «тон». «В переводе самое трудное передать тон, песенную интонацию
чужого языка — об этом красноречиво свидетельствуют сотни потерпев-
IV Зак. 291. Гердер XXXVII
ших крушение песен и лирические обломки, прибитые к берегам нашего и
других языков». «Поэтому главная задача при составлении- этого сбор-
ника заключалась в том, чтобы правильно уловить и сохранить тон и ме-
лодию каждой песни».
Переводы Гер дера оказали этим своим принципом непосредственное
влияние на развитие немецкой лирики, опирающейся на народную песен-
ную и балладную традицию. Так, Гете подражает его «Дочерям лесного
царя», переводу датской баллады «Рыцарь Олаф», в своей известной'бал-
ладе «Лесной царь» (1782). Учениками Гердера являются и немецкие ро-
мантики (Август Шлегель, Рюккерт и др.), которые, переводя английских,
итальянских, ; испанских, восточных поэтов, довели до совершенства
основную тенденцию переводов Гердера в передаче ритмического и сти-
листического своеобразия подлинника.
«Народным песням» Гер дер предпослал свидетельства своих пред-
шественников, ранее него с похвалой отзывавшихся о народном творче-
стве, —Moнтеня, Филиппа Сиднея (современника Шекспира)', критика
Аддисона (из статьи о старинной английской балладе «Охота на Чи-
виоте»^, Лютера и Лессинга, а также вступительную статью, написанную
более сдержанно, чем комментарии к первому, рукописному сборнику, но
с обычными для него широкими сравнительно-историческими сопоставле-
ниями.
Гердер начинает с утверждения, что «поэзия, и в особенности песня,
была вначале целиком народной, то есть легкой, простой, идущей от са-
мих предметов, и создавалась на языке масс, а также самой природы,
богатой и ощутимой для всех». Он указывает также на роль хорового
начала в первобытной поэзии, которой, как всякой песне, «нужно ухо
слушателя и хор голосов и душ». В легендах о происхождении греческой
поэзии, в песнях «народного поэта» Гомера, в хорах греческих трагедий,
в одах Пиндара Гердер прослеживает отражения народного песенного
творчества. Говоря о поэтах латинских, он отмечает, что у Катулла и
Лукреция «немало от древней песни, хотя это и трудно обнаружить».
Обзор немецкой поэзии охватывает древнейшие памятники, миннезанг и
мейстерзанг, народные песни современной записи, исторические песни и
моральную дидактику. Как параллели приводятся английские, испанские,
итальянские материалы, напечатанные в сборнике, причем Данте име-
нуется «величайшим итальянским народным поэтом». Остальное предста-
влено «скорее как материал для поэзии, чем сама поэзия», как «скромные
полевые цветы».
Таким образом, созданное Гердером понятие «народной песни» (Volks-
lied) имело широкое, но еще расплывчатое содержание. С одной сто-
роны, это песни первобытных, «диких» народов, соответствующие' опре-
деленной ступени развития человеческого общества, сохранившие природ-
ную простоту, чувственную яркость, непосредственную эмоциональность:
такова поэзия древних греков, германцев и кельтов, перекликающаяся
с песнями современных «дикарей». С другой стороны, сюда входит фольк-
лор современных европейских народов, творчество «патриархальных»
народных масс, сохранившее, по мнению Гердера, ту же простоту и не-
посредственность чувства, в противоположность «книжной» поэзии гос-
XXXVIII
подствующих классов цивилизованного европейского общества,; ; Отчет-
ливо выступают в обоих случаях демократические симпатии и антипатии
молодого Гердера: «грубые песни» трудового народа, полные истинного
поэтического чувства, он противопоставляет утонченным «классическим»
вкусам высших классов европейского общества, «людей благородных, об-
разованных, пресыщенных», «варварские звуки национальных преданий»
диких народов—«классическим образцам» литературы, созданной верху-
шечной европейской цивилизацией. Однако в самом широком понимании
в народную поэзию входит все то, что в книжной литературе сохранило
черты народности, является выражением национального характера и тем
.самым, в противоположность узкосословной литературе, противопоста-
вляющей себя народным песням, — подлинной поэзией «природы и чув-
ства», доступной и понятной всему народу.
Мысли Гердера о народной поэзии, изложенные с подлинным лири-
ческим вдохновением и пафосом в ряде статей и подкрепленные прекрас-
ными переводами из всех литератур, имели огромное влияние на совре-
менников. Под влиянием Гердера молодой Гете уже в Страсбурге запи-
сывает народные песни и посылает их своему учителю для его сборника.
«Итак, я привез из Эльзаса двенадцать песен,—-пишет он Гердеру
в 1771 году, — которые я поймал во время своих скитаний от самых
старых бабушек. Какая удача! — потому что внучки их поют только:
«Люблю одну Йемену!..» Я предназначал их вам одному,, так что даже
лучшие мои друзья, несмотря на все просьбы, не могли получить копии».
«Сестра моя перепишет для вас имеющиеся у нас мелодии (между про-
чим, это—старые мелодии, какими бог их сотворил)». Записи молодого
Гете, сохранившиеся в рукописи и лишь отчасти использованные Гер де-
ром, по своей точности являются действительно первым опытом вполне
научного воспроизведения устного поэтического фольклора. Ряд лириче-
ских стихотворений Гете, относящихся к тому же времени, является по-
дражанием народной песне; в числе прочих — «Степная розочка» .(«Heiden-
röslein», 1771), также посланная Гердеру, который принял ее за подлин-
ную анонимную народную песню, в качестве народной песни напечатал
в своем сборнике и комментировал в статье об Оссиане. С Гете начи-
нается обновление немецкой лирики влиянием народной песни и баллады,
сыгравшее такую важную роль в период романтизма (Брентано, Уланд,
Эйхендорф, Шамиссо, Вильгельм Мюллер и другие), и до «Книги песен»
Гейне включительно.
Большое впечатление статьи Гердера произвели также на Бюргера.
„В.сэрей статье, озаглавленной «Сердечное излияние о народной поэзии»
Бюргер, подобно Гердеру, жалуется на господство в Германии
гш)эзии, которая непонятна народу, потому что изображает «чу-
в^ра в чужеземном костюме»; Немецкая поэзия должна вернуться
к природе. и черпать свое вдохновение из народной песни. Бюргер при-
слушивается ;«к волшебному звуку баллад и уличных песен под липами
деревни, на :лугу, где сушат белье, за прялкой на крестьянских посидел-
ках». Современный лирический и лиро-эпический поэт должен писать бал-
лады и народные песни. «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Фингал» и «Те-
мора» Оссиана, «Неистовый Роланд». Ариосто и «Королева фей» Спен-
IV* XXXIX
сера когда-то были для своих народов такими же «балладами, роман-
сами, народными песнями». Бюргер выступает-с переводами и обработ-
ками английских баллад из сборника Перси. Его собственные баллады
(«Ленора» и др.) написаны под влиянием этих английских образцов.
Статьи Гердера и Бюргера вызвали резкую оппозицию со стороны
сторонников старых, классических литературных вкусов. Среди прочих
книгопродавец Николаи, когда-то друг молодого Лессинга, узкий рацио-
налист и фанатик вульгарного «просветительства», выступил с пародией
на модное увлечение народной поэзией, пропагандируемой Гердером' и
его соратниками. Николаи напечатал сборник немецких народных песен
под заглавием «Изящный маленький альманах» (1777), в котором он на-
меренно воспроизводит вульгаризмы старинных лубочных изданий и ли-
стовок, их грамматические ошибки и старомодную орфографию, и снаб-
жает этот сборник восторженным предисловием от имени сапожника
«доброго старого времени», пародируя стиль «сердечных излияний» бур-
ных гениев. Несмотря на чисто полемическую цель, публикация Николаи,
помимо желания автора, оказалась весьма ценным вкладом в немецкую
фольклористику, так как она содержит ряд подлинных народных песен,
не сохранившихся в более ранних печатных изданиях. Однако Гердер,
боявшийся всякой печатной полемики, был напуган этими выступлениями
и в последнем предисловии к «Народным песням» (1778]), как уже было
сказано, значительно понизил общий тон своих собственных высказываний.
Собирание народных песен, начатое Гердером, продолжали роман-
тики, давшие первое обширное собрание немецких песен по печатным и
устным источникам (сборник Арнима и Брентано «Волшебный рог маль-
чика», 1805—1807), а вслед за ними, более точно и полно, — вышедшая
из романтизма научная фольклористика. Выдвинутое Гердером противо-
поставление «народной» и «книжной» поэзии, несмотря на расплывчатую
-интерпретацию им этих понятий в духе руссоизма XVIII века, впервые
указало на значение творчества народных масс и поставило проблему его
исторического изучения в свете общих вопросов происхождения поэзии.
Переводческая деятельность Гердера не ограничивается материалом,
включенным в «Народные песни». Значительное число переводов, не при-
годившихся для сборника, осталось в рукописи и частью было опублико-
вано Гердером в различных журналах. С 1785 года Гердер издает свои
переводы и подражания различным писателям в сборниках «Разбросан-
ные листки» (1785—1797), сопровождая их статьями, посвященными раз-
личным вопросам античной, средневековой, восточной литературы. Здесь
он открывает новые области «народной» в его понимании, или «нацио-
нальной», поэзии. С 1780 года он переводит элегическими двустишиями
поэтов греческой антологии. Эти переводы натолкнули Гете на его анто-
логические стихотворения 80-х годов. Гердер переводит оды Горация раз-
мерами подлинника. По латинскому переводу Георга Гентиуса он знако-
мится с «Гюлистаном» персидского поэта Саади, в котором находит
«прекраснейшие изречения библии как бы в новом облачении». Не зная
размера подлинника, он переводит «шпрухи» Саади элегическими дву-
стишиями греческой антологии, присоединяя к ним отрывки из арабской и
индийской дидактической поэзии. Перевод «Сакунталы» Калидасы,
XL
сделанный Георгом Форстером, выдающимся немецким просветителем-рево-
люционером (1791), вызывает восторженный отклик Гердера. «Это настоя-
щий восточный цветок, самый прекрасный в своем роде,—-пишет он
Форстеру, — такие цветы появляются лишь один раз в течение двух ты-
сяч лет». В обширной рецензии на это издание («Письма о восточной
драме») Гердер развивает свою высокую оценку любовной драмы Кали-
дасы; он сравнивает ее с «Песней песен» и ридит в ней образец «драма-:
тической эпопеи», сходной по форме с произведениями старинной англий-
ской и испанской драмы и, подобно последним, выпадающей из правил
Аристотеля, которые «не являются законом для всех стран и эпох».
Позднее, уже после смерти Форстера, Гердер печатает новое издание его
перевода (1803). Хотя переводы Гердера из восточных поэтов и окра-
шены в известной степени моралистическими пристрастиями» характер-
ными для его позднего творчества, они и в этом случае указали совре-
менникам новый путь. Гердер положил начало художественному освоению
классической восточной поэзии, включению поэтического наследия Востока
в рамки «мировой литературы». Гете в «Западно-восточном диване», Рюк-
керт как переводчик персидских и арабских поэтов, Фридрих Шлегель,
открывший для романтиков Индию, следовали дальше по тому же. пути.
Ближе всего к тематике «Народных песен» примыкает «Сид», работа
последних лет жизни Гердера (1802—1803), представляющая цикл роман-
сов о знаменитом герое испанского народного эпоса. Для своего «Сида»
Гердер вынужден был воспользоваться французским источником — про-
заическим пересказом испанских романсов в французской «Библиотеке
романов» (1773), которому переводчик придал характер связной биогра-
фии испанского рыцаря; однако, чтобы получить представление о стиле
испанских народных романсов, Гердер перечитал в оригинале имевшиеся
в его распоряжении испанские песенники, которыми он пользовался и
раньше для своих «Народных песен». В своей поэтической обработке он
усилил элемент просветительского гуманизма и морализации, наличество-
вавший уже в его французском источнике. Отчасти благодаря этой мо-
дернизации гердеровский «Сид» пользовался в немецкой литературе боль-
шой популярностью и прочно вошел в состав ее классического наследия.
В русской литературе он был известен в отрывках, переложенных Жу-
ковским и Катениным; в советское время он был переведен полностью
В. А. Зоргенфреем и выпущен в руководимом А. М. Горьким издатель-
стве «Всемирная литература» (П., 1922).
■ : Статья Гердера о Шекспире также появилась в сборнике «О немец-
ком характере и искусстве» (1773). Одновременно Гердер с целью дока-
зать возможность перевода Шекспира на немецкий язык подготовил для
первой редакции «Народных песен» (1773) стихотворные переводы луч-
ших и труднейших отрывков своего любимого поэта.
Со. времен Лессинга вопрос о создании национальной немецкой
драмы был связан в Германии с борьбой против французского класси-
V Зак. 291. Гердер 'XLI
цизма и с возрождением Шекспира. Точка зрения Гердера, однако, и
в этом вопросе существенно отличается от взглядов Лессинга. Если Лес-
синг в своей оценке Шекспира (в 17-м «Литературном письме», 1759),
исходя из цели трагедии, доказывал, что Шекспир достигает цели лучше,
чем французы, несмотря на нарушение классических «правил», то в ос-
новном он стоит еще на почве эстетики классицизма, поскольку он при-
знает существование общего для всех времен и народов закона трагиче-
ского искусства, сформулированного Аристотелем. Лишь как дополнение
к этой основной мысли Лессинг вводит новое для того времени указание, что
содержание шекспировских трагедий более соответствует немецкому на-
циональному вкусу, нежели «боязливая» французская сцена: «в наших
трагедиях мы хотим больше видеть и думать»; «великое, страшное, мелан-
холическое сильнее действует на нас, чем изящное, нежное, влюбленное»;
«мы скорее устаем от большой простоты, чем от чрезмерной сложности».
Новые импульсы в постановку вопроса о Шекспире принесла англий-
ская предромантическая критика. Для поэта Эдуарда Юнга, наиболее
ярко отразившего ее точку зрения в своих «Мыслях об оригинальном
творчестве» (1759), Шекспир — оригинальный гений, следовавший при-
роде, а не правилам искусства. Гений отличается от разума,, как вол-
шебник от хорошего строителя: он творит невидимыми средствами там,
где этот последний употребляет обычные орудия. Гений может нарушать
правила, чтобы достигнуть самого высокого, «ибо правила — только ко-
стыли, необходимая помощь больному, но препона для здорового». Шек-
спир был человеком неученым но «кто знает, если бы οή больше читал, он,
может быть, думал бы меньше». «Он изучал книгу природы и книгу че-
ловечества», поэтому он «не потомок древних, а брат их, равный им при
всех своих ошибках». Бен Джонсон, подражавший древним, был ученее
Шекспира, но, несмотря на свою ученость, он остался только подража-
телем.
Идеи английского предромантизма проникли в Германию через по-
средство Гаманна и Герстенберга. Первый развил учение Юнга об ориги-
нальном творчестве и тем заложил основы эстетики «бурных гениев», для
которых Шекспир явился высшим образцом «оригинального гения», по-
слушного лишь внушению природы и собственного творческого дарова-
ния. С другой стороны, Герстенберг в своем «Опыте о произведениях
Шекспира и его гении», напечатанном в шлезвигских «Литературных
письмах», выступает против традиционной критики Шекспира с точки зре-
ния образцов и правил греческой драмы. «Драма Шекспира — не драма
древних, следовательно она не терпит такого сравнения». Если исходить
из принятой по греческому образцу классификации жанров, «трагедии
Шекспира — не трагедии, его комедии — не комедии». Но Герстенберг на-
ходит у Шекспира более существенные достижения: универсализм поэти-
ческого кругозора, который охватывает «человека, вселенную, все на
свете»; реализм в воспроизведении многообразия человеческой жизни и
характеров: «изображение нравов, тщательное и верное подражание истин-
ным и вымышленным характерам, смелые картины духовной и физиче-
ской жизни», «живые образы нравственной природы человека».
XLII
Статья Гердера первоначально предназначалась для «Литературных
писем» Герстенберга и развивает эти мысли. В противоположность Лес-
сингу, Гердер подходит к вопросу о Шекспире и античной трагедии
с точки зрения генетической и историко-ср а внительной: отправляясь от
проблемы происхождения трагедии, он доказывает, что трагедии Софокла
и Шекспира, возникнув в разных исторических условиях, представляют
разные и вполне равноценные типы художественного совершенства.
Греческая трагедия развилась из дифирамба, мимической пляски хора
в честь бога Диониса, и сохранила, несмотря на последующие осложне-
ния, первоначально присущую ей простоту формы. Единство места опре-
деляется наличием неподвижного фона действия — храма или дворца;
единство времени — постоянным присутствием хора на сцене; простота и
единство действия — простотой мифологической фабулы. «Искусственный
характер их правил совсем не был искусством, был самой природой».
В настоящее время изменились все условия развития искусства —
нравы, политический строй, национальные предания и верования, язык и
музыка. Поэтому подражание греческим образцам неизбежно превра-
щается в механическое заимствование. При внешнем сходстве с драмой
Софокла французская классическая форма является лишь механической
копией греческой — «куклой», «манекеном», «обезьяной»: «потому что
по своей внутренней сущности она не имеет ничего общего с той, дру-
гой,— ни в действии, ни в нравах, ни в языке, ни в цели, ни в чем
вообще, — а тогда что пользы в столь точном соблюдении внешнего
сходства?»
Шекспировская трагедия возникла при новых, более сложных обще^
ственных условиях. Шекспир взял действительность, какой он нашел ее,
и творческой силой создал из нее «одно чудесное целое». Вместо антич-
ного хора Шекспир нашел «государственные действия и кукольный театр»
и из этой «плохой глины» вылепил свои дивные творения. Вместо про-
стоты античного общества он нашел многообразие сословий, жизненных
навыков, мнений, языков и народов: «...и вот он создал одно великолеп-
ное целое из всех этих людей и сословий, народов и наречий, королей и
шутов, шутов и королей!»
Поэтому простое «единство действия» греческой драмы заменяется
у Шекспира единством «события», «происшествия», охватывающего мно-
жество характеров, ситуаций, «целый мир драматической истории, вели-
чественный и глубокий, как природа». При «кажущейся беспорядочности
и разбросанности плана», — говорит Гердер в рукописном варианте ста-
тьи, создается «единое целое, грандиозная, живая иллюзия». При само-
стоятельном развитии характеров, всегда «цельных и индивидуальных»,
каждый из них для поэта служит «одновременно и целью и средством,
будучи целью действия, в то же время является участником целого». При
наличии разнообразнейших эпизодов все они участвуют в развитии глав-
ного действия. Так на примере Шекспира Гердер раскрывает более глуг
бокое, диалектическое понимание художественного единства: вместо един-
ства формального,, рационалистического, соответствующего, эстетическим
принципам французского классицизма, драма Шекспира представляет
сложное в своем многообразии и противоречивое художественное целое,,
V* ХШГ
отражающее сложность и противоречивость объективной исторической
действительности. Художественное произведение понимается Гердером как
организм, в котором каждый орган имеет самостоятельное значение и,
вместе с тем, подчинен единству и внутреннему назначению целого. При
этом единство шекспировской драмы воспринимается им преимущественно
как единство эмоционального колорита, как то «основное чувство, которое
царит в каждой пьесе, пронизывая ее как мировая душа». Его лириче-
ские пересказы «Лира», «Отелло», «Гамлета» представляют образец ин-
туитивной поэтической критики, которая стремится прежде всего передать
этот эмоциональный колорит пьесы.
Особенно важное значение приобретает при этом вопрос о единстве
времени и места в классической трагедии. Теория единства времени и места
у французских классиков, по существу, не столько, означала требование
внешнего сценического правдоподобия, сколько выражала абстрактно-ло-
гический характер душевного конфликта драмы, развивающегося как бы
вне времени и места. Реализм Гердера сказался è новом понимании
места и времени как индивидуальной характеристики действия и, тем са-
мым, как необходимого элемента художественного, впечатления. Дворцо-
вая терраса в Эльсиноре, морозная ночь и разговор стражи в «Гам-
лете» так же существенны для этой индивидуальной характеристики дей-
ствия, как: картина степи и гроза в «Лире», как лес в сцене убийства
Банко в «Макбете» и т. п. «Индивидуальность каждой пьесы как особого
мироздания» определяет, по Гердеру, «условия места, времени и творчества».
Таким образом, с Шекспиром возникает новое искусство,, глубоко
отличное от греческого, созданное «величайшим поэтом северного челове-
чества». Если Аристотель кодифицировал правила греческой трагедии, то
современный Аристотель должен формулировать те новые принципы, на
которых строится трагедия Шекспира.
Статья заканчивается призывом к немецкому поэту по примеру Шек-
спира создать национальную трагедию из «рыцарских времен». Призыв
этот обращен к молодому Гете, тогда уже автору исторической драмы из
прошлого Германии, «Гец фон Берлихинген», написанной по образцу исто-
рических хроник Шекспира и известной Гердеру в ее рукописной редак-
ции (1772). Молодой Гете в речи «Ко дню Шекспира» (1771) и его друг,
«бурный гений» Ленц, в своих «Замечаниях о театре» (1774) следуют прин-
ципам Гердера, его историко-генетическому методу и его общей оценке
творчества английского драматурга. Как переводчик Шекспира, пытаю-
щийся передать художественное своеобразие его стиля, романтик Август
Шлегель является также продолжателем Гердера. В своих «Лекциях о дра-
матическом искусстве и литературе» (1809—1811) он пользуется, как Гер-
дер, сравнительно-историческим сопоставлением для описания, на основе
анализа их генезиса, важнейших, с его точки зрения равноправных, типов
европейской драматургии (драмы греков, Шекспира и испанцев) и для
полемики против «ложного» и «подражательного» искусства французского
классицизма. Однако Шлегель и романтики, в противоположность Гер-
деру и его современникам, видят в Шекспире не «природного гения»,, не-
знакомого с правилами искусства. Они усматривают в его творчестве об-
разец высокого мастерства, сознательно пользующегося приемами своего
XLIV
искусства, но искусства своеобразного, имеющего особые законы, отлич-
ные от законов искусства классического. Август Шлегель, таким образом,
пытается выступить как бы в роли «Аристотеля» шекспировской драмы:,
осуществляя и в этом отношении задачу, поставленную Гердером.
Литературные взгляды молодого Гердера опираются на историческую
концепцию, к систематическому изложению которой он приступал неодно-
кратно. Уже в рукописной редакции «Фрагментов» Он выдвигает задачу
создания «всеобщей истории человеческого рода». В «Путевом дневнике»
его восторженному воображению рисуется обширный план такой истории.
«Какой это был бы труд о роде людском, о человеческом духе, мировой
культуре, обо всех странах, эпохах, народах!..» Его история охватит на-
роды Азии, Египет, Финикию, Грецию, Рим, культуру северных народов,
христианство, крестовые походы, «христианско-языческое возрождение
наук», век господства Франции, английский, голландский, немецкий харак^
теры, цивилизацию Китая и Японии, «естественную историю» народов Аме-
рики и т. д. «Какая великая тема, — восклицает Гердер, — всеобщая
история мировой культуры!»
Вместе с тем, в «Путевом дневнике» уже намечен важнейший прин-
цип философии истории Гердера — признание индивидуального своеобра-
зия народов и исторических эпох, их безусловной самостоятельной цен-
ности. «Человеческий род во все века, лишь в каждом по-особенному,
имеет целью человеческое счастье», — заявляет он уже здесь,1 в полном
соответствии с позднейшими высказываниями в «Идеях».
Основные мысли философии истории Гердера, в особенности, как она
сложилась окончательно в период «Идей», подготовлены французскими и
английскими историками эпохи Просвещения (Монтескье, Вольтер, Юм
и др.), которых он цитирует неоднократно. Эпоха Просвещения выдвинула
идею единства исторического процесса и прогресса в истории; на место
старой религиозной концепции истории как осуществления плана «боже-
ственного спасения» рода человеческого она поставила вопрос о законо
мерности общественного развития и ее материальных факторах — в наив-
ной форме так называемого «географического материализма» (учение
Монтескье о зависимости общественного устройства от «климата»,
то есть от совокупности физико-географических фактороз). Однако в то
же время в своей революционной критике устоев современного феодаль-
ного общества великие просветители менее всего были склонны признавать
перед судом разума самостоятельное значение исторического прошлого,
в особенности «варварского» средневековья, с наследием которого они
боролись. «Все прежние формы общества, и государства, — говорит Эн^
гельс, — все традиционные представления были признаны неразумными и
отброшены, как старый хлам; мир до сих пор руководился одними пред-
рассудками, и все его прошлое достойно лишь сожаления и презрения».1
1 Φ ρ ,и д ρ и χ Энгельс. Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 17.
XLV
Точно так же национальное своеобразие, тесно связанное с историческим
прошлым народа, растворялось для просветителей" XVIII века в абстракт-
ном идеале общечеловеческого единства.
Молодой Гердер в своих ранних исторических трудах, опираясь на
Руссо, выступает против теории буржуазного прогресса, рассматривающей
историю человечества как единый, прямой путь развития к цивилизации
и просвещению, высшей ступенью которого является современная бур-
жуазная цивилизация. Эта историческая концепция наиболее полно изло-
жена им в трактате «Еще один опыт философии истории для воспитания
человечества» (1774)\ Она основана на острой критике современного со-
стояния европейского общества, на моральном и социальном разоблаче-
нии противоречий современной классовой цивилизации, господствующего
общественного и политического строя с позиций писателя-демократа, за-
щитника интересов широких народных масс. Просвещение и прогресс,
учит Гердер вслед за Руссо, еще не означают свободу и счастье челове-
чества. Усовершенствования техники служат «одному или немногим», а че-
ловек превращается в машину, неспособную радоваться жизни, действо-
вать, жить по-человечески благородно, творить добро. «Страх и деньги»
сделались главными пружинами общественной жизни, исчезли религия,
честь, свобода духа, человеческое счастье. Люди живут в «постыдных
цепях» страха и стыда, роскоши и подобострастия. Они настолько рас-
слаблены, что потеряли способность не только сопротивляться, но даже
возражать. «Бедный город! Измученная деревня!» ч
С таким же моральным негодованием Гердер обличает порабощение
европейцами целых народов, сопутствующее прогрессу «философии» и «про-
свещения»: с едким сарказмом он говорит об «умиротворении» Ирландии,
о жестоком истреблении шотландских горцев, которые могут, во всяком
случае, утешать себя тем, что их отпра(вляют на виселицу «в штанах»,
о печальной судьбе дикарей в европейских колониях, «которые пристрасти-
лись к нашей водке и излишествам и тем самым созрели для нашей веры».
Выступая против философии истории буржуазного Просвещения,
Гердер зло иронизирует над «романами» о «всеобщем прогрессивном улуч-
шении этого мира», согласно которым все в истории развивается «по ни-
точке и каждый следующий человек и каждое последующее поколение»
совершенствуются «в наилучшей прогрессии», в соответствии с идеалом
самого философа, устанавливающего в ней единолично «показатели
добродетели и счастья»; причем он сам всегда является «последним, выс-
шим звеном, на котором все заканчивается». Для Гердера в органической
природе каждое явление одновременно и цель и средство, звено цепи, но
в то же время самостоятельное звено, и для себя — средоточие своего су-
ществования; так и в историческом процессе каждый этап имеет само-
стоятельное значение, содержит «свой идеал добродетели и счастья»,
соответствующий разнообразным модификациям исторической жизни. За-
дача историка состоит в том, чтобы понять и объяснить индивидуальные
факты исторической жизни, своеобразие отдельных культурных миров,
а не в том, чтобы предписывать прошлому наш собственный односторон-
ний и ограниченный идеал. С этой точки зрения Гердер возражает про-
тив односторонне преувеличенной оценки античности, берет под защиту
XLVI
средневековье как своеобразный этап исторического прошлого и обруши-
вается с резкой критикой на современное Просвещение и «бумажную ци-
вилизацию», которые, в соответствии с учением о возрастах человечества,
быть может свидетельствуют лишь о старческом упадке. Его концепция
исторического процесса еще не сложилась окончательно, но мотивы куль-
турного пессимизма, связанные с резкой критикой противоречий буржуаз-
ной цивилизации, окрашивают его высказывания, в особенности там, где
они имеют полемическую тенденцию.
Этот пессимизм в критике современной культуры преодолевается Гер-
дером в его исторической философии веймарского периода, изложенной
в «Идеях о философии истории человечества» (1784—1791). Здесь общей
целью исторического процесса, в соответствии с учением немецкого клас-
сицизма, является осуществление идеи гуманности, то есть всестороннего
развития человеческой личности на пути к «разуму, свободе и справедли-
вости». Этот новый гуманизм Гердера предполагает в известном смысле
возвращение к оптимизму философии истории буржуазного Просвещения,
к вере в исторический прогресс, однако без односторонней переоценки со-
временной буржуазной цивилизации как последней цели исторического
развития. «Не пустая мечта, — говорит Гердер, — надеяться, что всюду,
где живут люди, когда-нибудь будут жить разумные, справедливые и сча-
стливые люди — счастливые не своим личным, но общим разумом всего
братского рода человеческого».
Развитие человечества рассматривается Гердером как единый про-
цесс, являющийся частью процесса мирового развития. В первых частях
своего труда Гердер пытался обобщить достижения естественных наук
своего времени. Он начинает свою историю с картины строения миро-
здания, с «места нашей земли как звезды среди других звезд». За об-
зором строения земли в многообразии ее климатических различий, объ-
ясняемых физико-географическими условиями, дается краткий очерк, ра-
стительного и животного царства, их различий в разных климатических
поясах, за которым следует рассмотрение физического и Духовного орга-
низма человека и его обусловленности окружающей природой. Многообра-
зие природных условий по-прежнему выдвигается Гердером как опреде-
ляющий фактор культурных различий. Так, «на море развивается зрение,
в пустыне — слух». «Пастух смотрит на природу иными глазами, чем
рыболов или охотник». «Сравните гренландскую мифологию с индийской,
лапландскую с японской... какая всеобъемлющая география поэтической
души! У брахмана вряд ли возник бы какой-нибудь образ, если бы ему
прочитали и объяснили «Волуспу» исландцев; а исландцу так же чужды
были бы «Веды».
Тем не менее, Гердер утверждает единство всего человеческого рода
и решительно возражает против деления человечества на расы, различные
по своему происхождению и неизменные по своим признакам: все физиче-
ские и духовные свойства человека изменяемы и варьируют под влиянием
новой физической или социальной среды, и даже природные условия все
более изменяются под воздействием человеческой культуры.
Подобно тому как природа образует ряд «восходящих форм и сил»,
от неорганического мира к растению и животному и, наконец, к человеку,
XLVII
так и развитие человечества представляется Гердеру как «единое посту-
пательное движение», проходящее через ряд ступеней. Он начинает исто-
рию человечества с диких народов, переходит к древнейшим дальневос-
точным культурам (Китай, Тибет, Индия), к народам классического Во-
стока, наконец к Греции и Риму; истоки средневековой истории он ищет
в воздействии христианства на народы северной Европы, к которым, кроме
германцев, причисляет кельтов, финнов, литовцев и славян. В последней
книге — краткий пробег через средние века и Возрождение, который об-
рывается на пороге современности.
В этом едином процессе, согласно учению Гердера, каждый отдель-
ный этап — одновременно и цель и средство, не только служит переход-
ным звеном к последующему, но в то же время имеет самостоятельное
значение: чтобы на земле могло осуществиться все, что может на ней
осуществиться по условиям места и времени и по прирожденному или
сложившемуся характеру данного народа. «Каждый народ имеет, в. себе
масштаб своего совершенства, несравнимый с другими». Конечные цели
человеческого развития — гуманность (человечность) и счастье — могут
быть достигнуты «в определенном месте, в определенной степени, как то,
а не иное звено в цепи культурного развития, проходящего через всю ис-
торию человечества». Таким образом, Гердер приходит к своеобразному
синтезу учения об историческом прогрессе и концепции самостоятельных
в своем развитии культурных миров.
Поэтому Гердер по-прежнему относится враждебно ко всяким попыт-
кам оценки истории человечества с точки зрения одностороннего идеала
совершенства, хотя бы это был идеал современной европейской, цивили-
зации,. Он возражает против «претензий» европейцев судить обо всех на-
родах с точки зрения своих культурных достижений. Дикарь в узком и
ограниченном кругу своей жизни, умеющий, однако, самостоятельно поль-
зоваться своим природным разумом и немногочисленными орудиями, со-
зданными его трудом, по мнению Гердера представляет «как человек про-
тив человека» гораздо более высокую ступень развития, чем «современная
ученая машина, которая стоит на высоком помосте, выстроенном чужими
руками, — трудом всего человечества». Он оплакивает истребление и по-
рабощение европейцами колониальных народов во имя «высшей культуры»,
символом которой являются «меч, крест и спиртные напитки». Он прояв-
ляет особые симпатии к тем историческим народам, самостоятельное на-
циональное развитие которых было подавлено завоевателями,—а кель-
там, .финнам, литовцам, славянам. С негодованием говорит он о граби-
тельском захвате рыцарями Тевтонского ордена литовских и славянских
земель. «Человечество содрогается от зрелища крови, которая проливалась
здесь в долгих свирепых войнах, пока древние пруссы не были почти
совсем истреблены, а куры и латыши обращены в рабство, лод игом кото-
рого они томятся и поныне».
С необыкновенной симпатией Гердер описывает мирную, патриар-
хальную жизнь славянских земледельческих племен, трудолюбивых, госте-
приимных, человечных, которые именно благодаря своему миролюбию сде-
лались жертвой хищных соседей. Завоевательные войны немцев против
славян были вызваны, по мнению Гердера, «торговыми выгодами», хотя
XL VIII
они и велись «под предлогом христианской религии». «В целых провинциях
славяне были истреблены или превращены в крепостных, а их земли по-
делены между епископами и дворянами». Не удивительна поэтому их
ожесточенная ненависть к своим «христианским господам и грабителям».
Гердер предрекает близкое возрождение освобожденных от рабства сла-
вянских народов, «некогда трудолюбивых и счастливых», на всем протя-
жении их прекрасной родины,- «от Адриатического моря до Карпатских
гор, от Дона до Мульды». Как ранее в «Народных песнях», он призывает
к собиранию и изучению славянских народных обычаев, песен и преда-
ний, которые послужат созданию «истории этих народов в целом, как того
требует общая картина человечества». Пророчества Гердера о будущем
славянских народов и его призыв были с энтузиазмом подхвачены
в XIX веке деятелями славянского «национального возрождения», в осо-
бенности чехами (Челяковский, Шафарик, Коллар и др.), которые в борьбе
за национальную культуру и политическое освобождение своего народа
неоднократно ссылались на Гердера. Коллар в поэме «Дочь славы» назы-
вает Гердера в ряду друзей славянства и посвящает его памяти два со-
нета. «Ты, наперекор обычаю, был первым защитником славян и воздал
им высокую хвалу, за это прими от нас почет и благодарность».
Не менее отчетливо проявляется гуманистический универсализм Гер-
дера в его резко отрицательном отношении ко всяким проявлениям на-
ционального шовинизма в современной ему немецкой литературе. Не
в меру «патриотических» немецких историков он всячески предостерегает
от того, чтобы считать своих соотечественников избранным народом. Он
готов признать достоинства древних германцев, «но считать их из-за того
избранным народом божьим в Европе, которому, вследствие его прирож-
денного благородства, будто бы принадлежит весь мир и которому пред-
назначены служить другие народы,:—это было бы неблагородной горды-
ней варваров».
Несмотря на некоторый налет морализации и традиционной богослов-
ской фразеологии в рассуждениях о «божественном плане мироздания»,
Гердер решительно возражает против телеологического истолкования
исторического процесса, в особенности против христианской телеологии.
В философском трактате «Бог!» он, вместе с Гете, выступает как спино-
зист против «конечных целей» в философии природы. В «Идеях» он заяв-
ляет: «Философия конечных целей не принесла естественной истории ни-
какой пользы; напротив, она лишь питала своих сторонников обманчивыми
иллюзиями вместо научного исследования; насколько больше дает история
человечества с ее сложным переплетением тысячи целей!» Он ирони-
зирует над теми, кто полагает, что падение Рима «имело целью» распро-
странение по всему миру христианской религии. Несмотря на все мое
уважение к. последней, — заявляет Гердер, — я не склонен думать, что
хотя бы один придорожный камень был заранее воздвигнут в Риме Для
этой цели. Его отношение к христианству — двойственное. Моральное уче-
ние Христа представляется Гердеру чисто человеческой проповедью гу-
манноети, с которой «сын человеческий» пришел к бедным и страдающим,
к угнетенным, к сиротам и рабам, к грешникам и мытарям. «Поэтому пер-
вые христианские общины назывались язычниками сборищами нищих».
XLIX
В дальнейшем учение Христа превращается в «веру в Христа», в «бес-
смысленное поклонение его личности и кресту». «Детское послушание сде-
лалось первой христианской добродетелью», возник «отказ от разума и
вместо личного суждения — авторитет чужого мнения». Гуманистическое
мировоззрение Гердера диктует ему обвинительный акт против христиан-
ской церкви. Эта церковь держалась «благочестивым обманом — ложных
чудес, мученичеств, даров и декреталий», ее история являет собою пе-
чальное зрелище низких измен и отвратительных преступлений, религиоз-
ный фанатизм и нетерпимость приводят к кровавому истреблению ересей,
культ святых и реликвий создает новую мифологию, монашество пропо-
ведует противоестественный аскетизм, чуждый первоначальному христиан-
ству, «потому что Христос не был монахом, Мария не была монахиней».
Отсюда — существенный пересмотр прежней оценки средневековой исто-
рии, в которой Гердер отмечает теперь враждебные развитию гуманности
начала — владычество церкви и феодальное порабощение.
Дополнением к «Идеям» служат «Письма для поощрения гуманности»
(1793—1797)\ Первая серия писем была задумана как продолжение
«Идей», охватывающее новейшую историю Европы. В первоначальной,
рукописной редакции 1792 года в центре внимания Гердера стоят полити-
ческие вопросы, поставленные французской буржуазной революцией,. Де-
мократические симпатии Гердера диктуют ему сочувственное отношение
к революции, которую он рассматривает как величайшее событие миро-
вой истории со времен переселения народов и Реформации. Реформация
положила начало уничтожению одного из устоев средневекового феодаль-
ного общества — «владычества попов», которое имеет так же мало прав
на существование в будущем, «как почтенное сословие древних друидов
в их сумрачных рощах». Но до сих пор сохранился гнет княжеских дво-
ров и дворян-помещиков, образующих «государство в государстве», кото-
рое будет уничтожено Французской революцией как главное препятствие
для развития гуманности. Французская революция — это начало пробуж-
дения угнетенного народа. «О народе, друзья мои, мы думаем скорее
с сожалением и грустью, чем с гордостью и уверенностью. Долгие столе-
тия оставался он без воспитания, обманутый, угнетенный и заброшенный.
Он спит мертвым сном, а если он проснется в горячке, то кто же не за-
трепещет в страхе перед его лихорадочной яростью?..» Великий историче-
ский пример Франции кажется Гердеру поучительным и для немцев, и он
задает себе вопрос, как разовьются события во Франции, будет ли объ-
явлена республика и полностью уничтожены злоупотребления королев-
ской власти, каково будет положение церкви при народном правлении, как
отзовется оно на положении литературы, которая впервые будет при-
звана служить всему народу. Если во французские дела вмешаются
иностранные государства, Франция должна показать первый пример спра-
ведливой войны, вызванной не стремлением к завоеванию, но защитой
свободы.
Дальнейшее углубление Французской революции не заставило Гердера,
в отличие от многих других идеологов немецкого бюргерства того вре-
мени, усомниться в правоте ее конечных целей, но сделало для него не-
возможными, по условиям его служебного положения в Веймаре, прямые
высказывания на острые политические темы. В печатной редакции «Пи-
сем» проблемы политические уступают место педагогическим — мораль-
ного и общественного воспитания, распространения «гуманности» приме-
рами из современности и исторического прошлого. «Письма» превращаются
в собрание таких примеров; они заключают материалы, взятые из жизни
исторических деятелей, из классических и современных писателей, из исто-
рии философии и искусства, которые сопровождаются морализующим
комментарием. Мы находим здесь извлечения из автобиографии Франк-
лина и писем Фридриха II, из сочинений Марка Аврелия и Лейбница, рас-
суждения о жизни Уриеля Акосты и веротерпимости, о «Диалогах масо-
нов» Лессинга («Эрнст и Фальк»)4 и о морали Гомера и т. л.
Ряд писем посвящен вопросам искусства и литературы. О греческой
скульптуре Гердер говорит как о «школе гуманности» и находит в ней
идеальные типы человечности в различных возрастах, состояниях, харак-
терах, воплощенные в индивидуальных образах античной мифологии
(письма №№ 63—76). Эти письма перекликаются с аналогичными выска-
зываниями веймарских классиков и вызвали их сочувственный отзыв.
В письмах №№ 81—90 (1796J дается краткий очерк истории литера-
туры христианских народов от средних веков до современности — своего
рода конспект истории мировой литературы. Тема эта была уже намечена
в «Путевом дневнике» рядом с программой всемирной истории. «Какая
огромная задача — изучить литературу в ее происхождении, развитии,
в ее изменениях до настоящего времени!..» — восклицает Гердер. Привыч-
ная ограниченная перспектива европейского литературного развития дол-
жна быть раздвинута до подлинно универсальной. «Сколько веков лите-
ратуры могло быть прожито, о которых мы не знаем! Финикийский, или
египетский, или китайский, или арабский, или эфиопский! Об этом мы ни-
чего не знаем и должны начинать с Моисея» (то есть с библии)". В пре-
дисловии к печатному изданию «Народных песен» (1778) намечены ос-
новные этапы развития мировой литературы. Более широко эта тема раз-
работана в обширном сочинении на премию баварской Академии наук
«О влиянии поэзии на нравы народов старого и нового времени» (1778).
Взаимодействие литературы и общества («нравов»)) показано здесь в ши-
рокой перспективе от зарождения поэзии до наших дней. Древние евреи
(поэзия библии) представляют Восток; затем следуют Греция и Рим. Для
характеристики литературы христианского средневековья использована
новая книга Томаса Уортона, одного из видных представителей англий-
ского предромантизма, «История английской поэзии от XII до конца
XVI века» (т. I, 1774); следуя за обширной вступительной статьей к этой
книге, представляющей своего рода апологию средневековой поэзии (статья
называлась «О происхождении романтической поэзии европейского средне-
вековья»), Гердер ищет истоки этой поэзии в смешении северных культур
(кельтских и германских народов}, подвергшихся христианизации, с араб-
скими влияниями. Далее рассматриваются Возрождение в Италии, француз-
ский классицизм и новые течения английской и немецкой литературы.
По своим общим идейным тенденциям это сочинение перекликается
с одновременными работами Гердера о народной песне и с первым очер-
ком его философии истории (1774J. Высокую оценку получает народная
LI
поэзия, везде подчеркиваются народные корни литературы, определившие
ее национальное своеобразие (у евреев, у греков и римлян, у германцев и
арабов, у англичан во времена Спенсера и Шекспира). С симпатией го-
ворит Гердер и о средневековой «рыцарской» поэзии с ее любовью к чу-
десному, к приключениям, с ее героическими песнями, сказаниями и «ро-
мансами»; проникнутыми духом «чести и любви», тогда как книжная
литература Возрождения рассматривается как начало старческого упадка
поэзии, когда «ученые стали писать для ученых, педанты для педантов»
и поэзия потеряла силу действия на народные массы, обреченные на вар-
варство и невежество.
В «Письмах для поощрения гуманности» в тех же исторических рам-
ках средневековой и новой литературы исторические и эстетические оценки
Гердера столь же существенно изменились, как и в «Идеях». Он говорит
теперь о поэзии средневекового рыцарства как об искусстве, «возникшем
при дворах, взлелеянном знатными и созданном только для развлечения».
Основные тенденции средневековой романтики —; «любовь, храбрость и
благочестие» — превращаются в его глазах в «простую любовную галант-
ность, преувеличенное понятие о рыцарской доблести, преувеличенное
благочестие». Художественная сторона средневековой поэзии отнюдь не
свидетельствует, по мнению Гердера, о наилучшем вкусе. Возрождение
античности означает возвращение к «здравому рассудку и сердцу, к пра-
вильному направлению философии и жизни, к здоровому уму и гуманно-
сти». «Без возрождения античности не могли бы возникнуть ни филосо-
фия и красноречие, ни критика, искусство и поэзия нового времени;
Европа и посейчас оставалась бы в сумерках и жила бы приключениями
рыцарских романов». В занятии древними Гердер видит «учение и ди-
сциплину», необходимые, чтобы держаться в границах «истинного, доброго
и прекрасного». Такое учение не подавляет национального характера, но
«воспитывает его в направлении гуманности». Искусство древних служит
образцом «простоты и достоинства, изящества и смысла»; их поэзия от-
личается «соответствием частей, слагающихся в благозвучное целое».
Точно так же Гердер отмечает благотворное влияние Реформации на раз-
витие новой литературы: без протестантского «свободомыслия» не были бы
возможны Шекспир или Мильтон.
Несмотря на эту изменившуюся оценку литературного прошлого евро-
пейских народов, значительно приближающую просветительский гуманизм
Гердера к точке зрения веймарских классиков, Гердер сохраняет и в этой
книге тот универсализм поэтических интересов и симпатий, который
всегда определял его понимание истории и литературы. Поэзия, говорит
Гердер в «Письмах», — это «орудие, продукт и цвет культуры и гуман-
ности народов и эпох», «цвет человеческого духа, человеческих нравов*
можно даже сказать — идеал нашего способа представления, язык, вы-
ражающий общее желание и стремление человечества». Повторяется лю-
бимое сравнение Гердера: поэзия — «Протей среди народов, меняющий
свой облик в соответствии с языком, обычаями, привычками, темперамен-
том и климатом и даже произношением народов». Во все времена и
у всех народов поэзия. служила выражением «всей совокупности пороков
и добродетелей нации, зеркалом ее мнений, выражением высшего, к чему
ш
она стремится». Борясь за национальный характер немецкой литературы,
Гердер неизменно понимает национальное как часть общечеловеческого.
«Никакая любовь к нашей нации, — заявляет он, — не должна помешать
нам всюду видеть добро, которое может полностью осуществиться только
в ;величии поступательного движения времени».
Однако в «Письмах» не исчезли и современные общественные темы —
по крайней мере такие, которые писатель-демократ мог ставить перед своим
читателем, не опасаясь прямого вмешательства политической цензуры.
Гердер по-прежнему глубоко озабочен судьбами немецкого народа
в условиях его политической и культурной раздробленности, отсутствия
национального единства, полной оторванности «так называемых высших
сословий», воспитанных на чужом языке и на чужеземных нравах и пред-
ставлениях, от порабощенных и презираемых народных масс. Вопрос этот
поставлен на примерах из исторического развития других народов
в статье «Есть ли у нас еще публика и отечество древних?» (приложе-
ние к письму № 57), которая представляет переработку юношеских раз-
мышлений Гердера на ту же тему, опубликованных в Риге в 1765 году.
Он выступает с патриотическим планом духовного объединения немец-
кого народа путем деятельного участия его лучших людей в распростра-
нении гуманности и просвещения (письмо № 6). В то же время Гердер
обличает кровавые завоевательные войны, проповедуя идею вечного мира
между народами (№№ 118—120). Он разоблачает и осуждает жестокую
колониальную политику европейских государств, бесчеловечное порабо-
щение негров (стихотворные негритянские «идиллии», № 114). «Назовите
. мне страну, — пишет Гердер, — куда бы пришли европейцы и не запят-
нали себя на веки вечные перед беззащитным доверчивым человече-
ством своими притеснениями, несправедливыми войнами, алчностью, об-
маном, гнетом, болезнями и пагубными дарами! Наша часть света должна
была бы называться не самой мудрой на земле, а самой дерзкой, назой-
ливой, торгашеской; не культурулнесла она этим народам, а уничтожение
зачатков их собственной культуры/>де и как только возможно».
Тема колониализма затронута Гердером еще раз в журнале «Адра-
стея», который он издавал в последние годы своей жизни как продол-
жение «Писем» (1801—1804), в замечательном разговоре между европей-
цем и азиатом («Разговоры об обращении индусов в христианство
нашими европейцами», 1802). Индус («азиат») отстаивает свои националь-
ные воззрения, свои обычаи, свою культуру и религию, к которым «евро-
пеец», убежденный в превосходстве и исключительности христианской
цивилизации, относится с высокомерным презрением. «Скажите, — говорит
индус,— вы все еще не отучились обращать в свою веру народы, кото-
рьге вы порабощаете, обираете, грабите и убиваете, у которых вы отняли
землю и государство, которым ваши обычаи кажутся отвратительными?
Что, если бы кто-нибудь пришел в вашу страну и с нахальным видом
объявил нелепостью все для вас самое святое — ваши законы, религию,
мудрость, государственное устройство и т. д., — как бы вы поступили
с ним?».— «Это совсем другое дело, — отвечает европеец. —* У нас есть
сила, корабли, деньги, пушки, культура».
LUI
Диалог переносит в область современной политики основную идею
исторического мировоззрения Гердера — признание права каждого народа
на свою национальную культуру как на своеобразную и равноправную
форму проявления общечеловеческого.
8
В отличие от классиков немецкой идеалистической философии, Гер-
дер не был систематиком, и самый характер его мыслей, выраженных,
в особенности в более ранние годы, в эмоциональной, отрывочной и афо-
ристической форме, противился последовательному, систематическому
изложению. Только в последние годы своей жизни, в полемике с философ-
ским идеализмом Канта, получившим широкое распространение в Герма-
нии конца XVIII — начала XIX века, он вынужден был предпринять
попытку систематического изложения своих общефилософских и эстетиче-
ских взглядов. Однако и в этом случае полемическая цель наложила
печать на способ изложения его философской теории, как всегда у Гер-
дера, гораздо более отчетливо представленной в своих основных идейных
тенденциях, чем в частностях их разработки.
Гердер выступает против теоретической ^философии Канта, изложен-
ной в его «Критике чистого разума» (1781), в своей книге «Рассудок и
опыт. Метакритика к критике чистого разума» (1799) и суммирует еще
раз свои основные возражения в вводной главе к эстетическому трактату
*Каллигона» (1800). Его полемика, отличающаяся большой принципиаль-
ностью и последовательностью, направлена против субъективного идеа-
лизма в философии Канта, против его априорных спекуляций и его схо-
ластической терминологии. Гердер называет Канта создателем «царства
'бесконечных умственных химер, слепого созерцания, фантастических вы-
мыслов, пустых книжных слов, так называемых трансцендентальных идей
и спекуляций». «Чистый разум» Канта — это «пустой разум». Разум
нельзя рассматривать в «чистом» виде, изолированно от других душевных
сил и способностей человека, от единства представления и воображения,
мышления и моральной оценки, представляющих разные аспекты дея-
тельности и «применения» единого активного человеческого сознания
(«души» человека).
Гердер возражает против философии, рассекающей сознание чело-
века на отдельные способности, а объективный мир — на «явления» и
«вещи в себе». Он отрицает «априорные суждения чистого разума» Канта
как спекулятивную «метафизическую иллюзию». Пространство и время
для него, в отличие от Канта, не «формы созерцания», а свойства самих
предметов. Теории познания (гносеологии) Канта он противопоставляет
свою теорию бытия (онтологию). Бытие (Dasein), как уже раньше в диа-
логе «Бог!», — это исходное понятие его философии. Протяженность, дли-
тельность, сила — основные свойства самого бытия, которые человек по-
знает через зрение, слух и осязание. Причинность, также в отличие от
Канта, для него не «категория разума», а отражение в нашем разуме
«становления», присущего всякому бытию.
LJV
Мышление совершается в слове, поэтому теория слова и этимология
слов (часто в практике Гердера основанные на произвольных сближениях)
являются для него важнейшим источником для истории человеческого мы-
шления («души» человека).
Таким образом, в полемике против идеализма Канта Гердер зани-
мает позиции, близкие по своим гносеологическим тенденциям к философ-
скому материализму; однако существенным и принципиальным отличием
остается характер его онтологии: понятие бытия сохраняет, как и в его
истолковании спинозизма, пантеистическую, в ряде случаев виталистиче-
скую окраску, которая еще усиливается благодаря привычной для Гер-
дера богословской фразеологии.
В меньшей степени это относится к замечательному, в свое время
недостаточно оцененному эстетическому трактату Гердера «Каллигона»,
в котором он выступает против формалистической и субъективно-идеали-
стической концепции искусства и прекрасного, изложенной Кантом в его
«Критике способности суждения» (1791).
Для Канта искусство основано на незаинтересованном созерцании;
в нем отсутствует элемент познания и моральной оценки; художественное
наслаждение сравнивается с игрой; произведению искусства присуща
форма целесообразности без представления о цели; прекрасное достав-
ляет наслаждение «помимо понятия», то есть помимо своего содержания,
как чистая форма.
Гердер с горячностью опровергает всю эту систему эстетических по-
ложений Канта. Всякое искусство, учит Гердер, имеет цель; оно роди-
лось из потребностей человека, находящегося в обществе, и служит для
удовлетворения этих потребностей. «Без потребностей и цели, а следо-
вательно, без пользы, не бывает никакого дела, тем более немыслимо ни-
какое истинно прекрасное искусство». «Человек никогда не достиг бы пре-
красного, если бы оно не было ему полезно, более того—необходимо;
вполне бесполезное прекрасное вообще немыслимо в кругу природы и че-
ловечества». Отвергая теорию искусства как игры, демократ Гердер видит
в ней проявление паразитической идеологии высших классов общества.
«Природа, — заявляет он, — не знает ни прирожденных патрициев, кото-
рые могли бы заниматься только искусствами игры, ни прирожденных
холопов, которые обязаны были бы заниматься только рабскими искус-
ствами» (artes illiberales, то есть «несвободные искусства» ·>— подразуме-
ваются ремесла). «Она не знает искусства, которое было бы только игрой,
если оно достигает своей цели, ибо никакое искусство не позволяет играть
с собою... И кто имел бы право считать себя рожденным для того, чтобы
насильственным образом возлагать на других работу и тяготы, а самому,
как свободному, — играть искусством?»
Искусство в понимании Гердера глубоко содержательно и потому не
может существовать «без понятия», ограничиваясь пустой формой. «Форма
без содержания — это пустой горшок, разбитый черепок». Всякая форма
есть выражение «существенного присущего ей содержания (wesenhafter.
Inhalt). «Форму всему органическому дает дух, без него оно было бы
мертвым изображением, трупом». Произведение искусства обращено
LV
к жизненной действительности, которую оно отображает и обобщает; оно
дает нам «созерцание общего в особенном». Это обобщение Гердер пони-
мает как типизацию или идеализацию: сближение «типа» или «идеи» с нор-
мой, идеалом, имманентным данному предмету, связывает это/положение
Гердера с объективным идеализмом веймарских классиков.
Разделению познания, морали и эстетики, характерному для Канта,
Гердер противопоставляет единство истины, добра и красоты. Высшая за-
дача искусства — в воспитании человека к человечности, в духе тех идеа-
лов гуманности, которые Гердер проповедовал в это же время в своих
исторических трудах. «Искусство и муз'ы существуют для того, чтобы вос-
питывать в человеке человека — иначе они только пустой хлам»; необхо-
димо, «чтобы человек ради достойных целей и правильными путями стре-
мился в области изящного и прекрасного к истинному и доброму, любил
его и следовал ему». Как всегда в позднем творчестве Гердера, в этом
идеале гуманности особенно подчеркиваются этические черты. «Прекрас-
ный образ» выступает для Гердера как «символ нравственного», как вы-
ражение «благородной и чистой человечности».
В отличие от абстрактной и априорной эстетики Канта, теория ис-
кусства Гердера, как и прежние его эстетические труды, остается тесно
связанной, с одной стороны, с психологией художественного восприятия,
с другой — с историей общества: он и здесь настаивает на «различии
вкусов» у разных народов, как и понятий их о прекрасном, различии не
произвольном и субъективном, а исторически обусловленном особенно-
стями природы, народной жизни и национальной художественной тради-
ции. В этой конкретной исторической сфере, связывающей искусство
с жизнью народа, с его общественными потребностями и культурным раз-
витием, должна, по мысли Гердера, строиться эстетика, освобожденная
от априорных мудрствований «критико-идеалистической трансценденталь-
ной философии» Канта.
Эстетические теории Гердера были недостаточно оценены его
современниками в пору почти безраздельного господства в Германии
кантианской философии; они остались нераскрытыми и непонятыми и его
исследователями в немецком буржуазном литературоведении второй поло-
вины XIX века, принадлежавшими по преимуществу к лагерю неокан-
тианцев (Рудольф Гайм, Кроненберг, Кюнеман и др.)· Между тем
в своей критической части они представляют большой 'интерес и сохра-
нили свою актуальность и поныне — в борьбе против формализма немец-
кой идеалистической эстетики, в особенности в современной демокра-
тической Германии, где они получили в настоящее время заслуженную
оценку. Менее значительными представляются положительные эстетиче-
ские идеи Гердера (в частности, его понимание типического), во многом
приближающиеся к объективному идеализму веймарских классиков и,
как уже было сказано, не свободные от груза морализма. Однако и здесь:
как отличительные черты Гердера выступают его широкий универсализм
и историзм, понимание национального и исторического в рамках обще-
человеческого, за которое он боролся на всем протяжении своего твор-
ческого пути.
LVI
9
Философия истории Гердера, в той окончательной форме, какую она
получила в «Идеях», имела огромное влияние на развитие" европейской
исторической мысли, вплоть до философии истории Гегеля с ее всемирно-
историческими обобщениями. Опираясь на формулированную философией
Просвещения идею прогрессивного развития общества как единого исто-
рического процесса, Гердер осложняет и обогащает ее исторической кон-
цепцией, учитывающей, наряду с общими тенденциями развития, своеоб-
разие национальных культур и исторических эпох как качественно само-
стоятельных ступеней в широкой перспективе мировой истории. Несмотря
на идеализм его общей теории, характерный для немецкой мысли
XVIII века, он пытается по-своему понять это своеобразие из материаль-
ных условий развития культуры. Идея «гуманности» как конечной цели
исторического процесса, сохраняя расплывчатость третьесословных идеа-
лов кануна Французской революции, придает его философии истории эле-
мент демократической и революционной утопии, характерный для передо-
вой исторической мысли эпохи Просвещения. Не случайно поэтому то
глубокое впечатление, которое, как отмечают советские исследователи, исто-
рическая философия Гердера произвела на Радищева, крупнейшего пред-
ставителя русской ,демократической и революционной мысли XVIII века.
«Нет сомнения в том, что именно историческая концепция Гердера, его
стремление охватить всю мировую историю единством своего понимания
человеческой культуры, глубокое понимание мировой культуры, чуждое
шовинистических черт и в то же время ценящее понятие о национальном
достоинстве всех народов,—все это импонировало Радищеву, так же как
постоянно выражаемая Гердером ненависть к тиранам, к рабству, к угне-
тению, его гуманизм, его связь с просветительским движением».1
Было уже указано на значение Гердера в фольклористике и языко-
знании. Не менее значительно его влияние на эстетику и историю литера-
туры. Противопоставив нормативным эстетическим принципам классиче-
ской поэтики свой генетический метод и сравнительно-историческую точку
зрения, Гердер положил начало рассмотрению литературных явлений как
выражения духовной культуры народов в определенных условиях истори-
ческого развития. Литературный универсализм Гете, который привел его
к идее «мировой литературы» (Weltliteratur), был воспитан в школе Гер-
дера. Этот универсализм литературных интересов, и вкусов проявляется
у Гете не только в его откликах на выдающиеся явления современных
западноевропейских литератур, за которыми в. последний период своей
жизни он следил в своих многочисленных рецензиях в журнале «Искус-
ство и древности», но и в его одновременном интересе к немецкой нацио-
нальной старине, к поэзии Востока (персов, арабов, китайцев), в особен-
ности к народному творчеству — к немецкой песне, сербскому эпосу,
испанским романсам, новогреческим песням. При этом, как и у Гердера,
1 Г р. Гуковский. Очерки по истории русской литературы
общественной мысли XVIII в., Л., 1938, стр. 164—165.
L VII
изучение чужой литературы в большинстве случаев не ограничивается
у Гете познавательным интересом, но непосредственно сопровождается
попыткой творческого освоения оригинала, соревнования, подражания.
Вслед за Гердером и Гете немецкие романтики раздвигают гори-
зонты литературы. Август Шлегель переводит и комментирует Шекспира^.
Данте, итальянскую поэзию эпохи Возрождения, испанцев, в особенности;
Кальдерона, читает лекции о «Нибелунгах», Тик переводит Сервантеса,,
пьесы· старинной^ английского театра, немецких миннезингеров, Фридрих
Шлегель открывает философию и поэзию Индии. Немецкому националь-
ному прошлому и народной поэзии посвящены работы гейдельбергских
романтиков Арнима и Брентано («Волшебный рог мальчика», 1805) и при-
мыкающие к этому направлению «Народные сказки» братьев Гримм.
(1812). Гриммы, ученики романтшшв, обращаются, подобно Гердеру,.
к изучению языка, поэзии, мифологии, права.германских народов как,
памятников, выражающих «дух народа» (Volksgeist).
По справедливому замечанию Меринга, «без «Народных песен» Гер-
дера нет Уланда и «Волшебного рога мальчика» Арнима, нет Шлегеля и
Тика, не было бы немецкого Шекспира и немецкого Сервантеса».!
В своих лекциях по истории литературы братья Шлегели делают по-
пытку, вслед за Гердером, охватить развитие мировой литературы как
единый исторический процесс, в котором поэтическое своеобразие наро-
дов и эпох объясняется историческими особенностями культурного разви-
тия. Однако в «Лекциях по истории драматического искусства и литера-
туры» (1809—1811) Августа Шлегеля над проблемами культурно-истори-
ческими начинают доминировать формально-эстетические, а в «Истории
древней и новой литературы» Фридриха Шлегеля (1815) уже выступает
реакционная церковно-католическая тенденция. Гейне правильно отметил
различие, существующее в этом отношении между Шлегелем и Герде-
ром. Работы Гердера представляются ему, «пожалуй, лучшим обзором
литературы всех народов. Ибо Гер дер не восседал, подобно литературному
великому инквизитору, судьей над различными народами, осуждая или
оправдывая их, .смотря по степени их религиозности. Нет, Гердер рас-
сматривал человечество как великую арфу в руках великого мастера,
каждый народ казался ему по-своему настроенной струной этой исполин-
ской арфы и он понимал универсальную гармонию ее различных звуков». г
Но особенно важное значение имела деятельность Гердера в разви-
тии идеи народности, столь существенной для европейской демократиче-
ской мысли с конца XVIII века. Критика ограниченности современной
европейской цивилизации на ее новом, буржуазном этапе, подсказанная,
как у Руссо, широким третьесословным демократизмом, приводит Гер-
дера к преодолению господствовавшего узкосословного понимания куль-
туры и литературы и к открытию «народной поэзии»,, творчества широ-
ких народных масс, в. котором он увидел основу подлинно народной и тем
1 Франц Меринг. Литературно-критические статьи, т. I, М., 1934,.
стр. 517.
2 Г. Гейне. Романтическая школа, кн. II, гл. I (Собрание сочинений,
т. VII, изд. «Academia», 1936, стр. 211).
LVIII
-самым подлинно национальной культуры. Идею народности Гердер вы-
двигает в своей борьбе за национальную самобытность немецкой литера-
туры. При этом национальное своеобразие не оторвано в его предста-
влении от универсального, «человеческого» и только в нем находит свое
место и оправдание. Отсюда — ненависть Гердера ко всякому националь-
ному шовинизму, его симпатии к угнетенным народам, связавшие впослед-
ствии его имя и идеи с национально-освободительными движениями
XIX века, прежде всего с борьбой славянских народов за национальное
возрождение. Высказывания Гердера по этим вопросам не потеряли своей
актуальности и поныне. Они позволяют измерить все расстояние, отде-
ляющее великого немецкого гуманиста, демократа и патриота, воспитан-
ника передовой европейской мысли кануна буржуазной революции, от
реакционного буржуазного национализма наших дней.
ЛИТЕРАТУРАИНАРОДНОЕТВОРЧЕСТВО
ШЕКСПИР
Если порой в моем воображении встает потрясающая кар-
тина: «Человек сидит на вершине скалы; у ног его бушует
буря, непогода, разбиваются волны; но голова его озарена
небесным сиянием!» — то это Шекспир! Правда, добавим,—
внизу, у самого подножия его скалистого престола, слышится
рокот людских толп, которые объясняют его, оправдывают,
судят, спасают, боготворят, осыпают клеветой, переводят и
поносят,— сам же он их не слышит!
Какие горы книг — целая библиотека!—уже написаны
о нем, в его защиту и против него! — и право же, у меня нет
ни малейшей охоты умножать их число. Мне хотелось бы, на-
против, чтобы в тесном кружке, где будут прочитаны
эти строки, никому более не пришло в голову писать о нем
•ни за, ни против, — ни оправдывать его, ни клеветать на него;
но объяснить, почувствовать, каков он на самом деле, ис-
пользовать— и, по возможности, открыть его нам, немцам.
О, если бы эти страницы хоть немного способствовали тому!
Самые смелые противники Шекспира с насмешкой обви-
няли его — каждый на свой лад! —в том что, если он и
великий поэт, то, во всяком случае, плохой драматург, а если
к хороший драматург, то уж конечно не такой классический
трагик, как Софокл, Еврипид, Корнель и Вольтер, исчер-
павшие всю меру высокого и прекрасного в этом искусстве.
Самые же смелые защитники Шекспира по большей части
довольствовались тем, что оправдывали и спасали его от
этого обвинения: взвешивали и мерили его красоты только
степенью отклонения от правил, выпрашивали ему, как пре-
ступнику, отпущение грехов, а затем превозносили до небес
его величие, снисходительно пожимая плечами на промахи.
Так обстоит дело и поныне с его новейшими издателями и.
комментаторами, — я надеюсь, быть может хоть эти страниц^?
1* 8
изменят, такой взгляд на вещи и прольют более полный и
яркий свет на его облик.
Но не льщу ли я себя чересчур смелой надеждой? Не бу-
дет ли это дерзостью, если вспомнить, сколько великих людей
уже писало о нем? Не думаю. Если мне удастся показать,
что обе стороны основывались лишь на предубеждении, на
обманчивой видимости, и снять тем самым пелену с глаз или
хотя бы повернуть портрет более выгодным образом, ничего
не изменив ни в нем, ни в самих глазах, — тогда, быть может,
моя эпоха или даже простая случайность будут причиной
того, что я нашел нужный угол зрения и указал на него чита-
телю: «Встань и взгляни отсюда! Иначе ты увидишь всего
лишь карикатуру!» В самом деле, какая унылая участь, ка-
кое поистине адское занятие — только и делать, что сматы-
вать и разматывать огромный клубок учености, не подвигаясь
ни на шаг вперед!
Слова драма, трагедия, комедия пришли к нам из Греции,
и, подобно тому как письменная культура проложила себе
путь на небольшом клочке пространства лишь опираясь на
традицию, так из недр этой традиции, вместе с языком, нам
достался некий свод правил, казалось, неотделимый от самого
учения. Так же, как воспитание ребенка не может совер-
шаться и не совершается через посредство разума, а только
с помощью наглядного восприятия, впечатлений, через боже-
ственное откровение привычки и примера, так и целые
народы — истинные дети, более чем дети во всем, чему они
учатся. Не бывает, чтобы зерно произрастало без оболочки,
и даже если эта оболочка ни на что не может пригодиться,
без нее не получить зерна. Именно так обстоит дело с грече*
ской и северной драмой.
В Греции драма возникла таким путем, какого не могло
быть на Севере. В Греции она была тем, чем не может быть
на Севере. Значит, и на Севере она не то и не может быть
тем, чем была в Греции. Значит, драма Софокла и драма
Шекспира в каком-то смысле не имеют ничего общего, кроме
названия. Я попытаюсь доказать эти положения, исходя из
самой Греции, — быть может, именно таким способом мне
удастся раскрыть природу северной драмы и величайшего
из драматургов Севера — Шекспира. Мы увидим, что одна
родилась от другой, но вместе с тем пережила такие изме-
нения, что перестала быть сама собой.
Греческая трагедия произошла как бы из одного явле-
ния— импровизированного дифирамба, мимической пляски,
хора. Затем она разрослась и преобразовалась: Эсхил ввел
двух, актеров вместо одного, создал понятие главного дей*
ствующего лица и ограничил роль хора. Софокл добавил
третье лицо, изобрел театральную сцену — возникнув таким
образом, греческая трагедия не вдруг достигла своих высот,
стала мастерским созданием человеческого духа, вершиной
поэтического искусства, которую так высоко почитает Ари-
стотель *1 и которой мы, действительно, не можем вдоволь
налюбоваться в творениях Софокла и Еврипида.
Вместе с тем, однако, нельзя не заметить, что это проис-
хождение объясняет многое из того, на что до сих пор взи-
рали как на мертвые догмы, совершенно не понимая его зна-
чения. Простота фабулы, трезвость нравов, последовательно
выдержанная выразительность, как бы приподнятая на ко-
турнах, * музыка, устройство сцены, единство времени и
места — все это, без всякого волшебства или искусства, было
так естественно и, по существу, заложено в самом происхо-
ждении греческой трагедии, что она была немыслима без
облагораживания. Все это составляло оболочку, внутри кото-
рой созревал плод.
Обратимся к младенчеству этой эпохи: простота фабулы
была, действительно, так тесно связана с тем, что называ-
лось деяниями прошлого, республики, отечества, религии,
подвигами героев, что поэту приходилось с усилием выиски-
вать в этом наивном величии отдельные части, вносить в него
драматические начало, середину и конец, а не выделять их
насильственно, коверкая или сплетая в единое целое множе-
ство разрозненных событий. Тому, кто читал когда-нибудь
Эсхила и Софокла, это не покажется непонятным. В самом
деле, у первого из них — что иное представляет собой тра-
гедия, как не аллегорически-мифологическую, полуэпическую
картину, почти без всякой последовательности явлений, сю-
жета, чувств или даже, как говорили древние, — всего лишь
хор, перемежающийся незначительным действием? Разве про-
стота фабулы стоила здесь какого-либо труда или искусства?
А в большинстве пьес Софокла разве дело обстояло иначе?
Его «Филоктет», «Аякс», «Эдип в изгнании» * и т. д. — как
еще видна в них односложная простота их происхождения,
как еще близки они к драматической картине среди хора.
Сомнений нет, таков генезис греческой сцены.
А теперь посмотрим, как много следует из этого простого
наблюдения. Всего-навсего: «Искусственный характер их пра-
вил совсем не был искусством — был самой природой!»
Единство фабулы было единством действия, совершавшегося
перед глазами зрителей, действия, которое и не могло быть
* Знак * отсылает читателя к примечаниям составителя в конце
книги; цифрами отмечены примечания самого Гердера и переводы ино-
язычных текстов, приводимые под строкой.
иначе, как единым, по условиям своего времени, страны, ре-
лигии и нравов. Единство места действительно было един-
ством места, ибо одно-единственное краткое торжественное
действие совершалось только в одном месте — в храме, во
дворце, как бы на городской площади отечества: таким оно
было сначала, мимическим и повествовательным подража-
нием, введенным в хор; потом к этогйу прибавились явления,
сцены, но все это совершалось, конечно, еще в одном месте,
где хор был связующим звеном, где по самой природе вещей
сцена ни на минуту не могла оставаться пустой и т. д. Нужно ли
после этого доказывать, что единство времени естественным
образом вытекало из всего остального и сопутствовало ему?
Все это было заложено в самой природе вещей, так что поэт
при всем своем искусстве ничего иного и не мог создать!
Итак, совершенно очевидно, искусство древних поэтов шло
в направлении, прямо противоположном тому, которое им так
крикливо навязывают в наши дни. Я думаю, что они отнюдь
не упрощали, но усложняли: Эсхил усложнил хор, Софокл —
Эсхила; достаточно сравнить самые искусные пьесы Софокла
и его величайший шедевр — «Эдипа в Фивах»* с «Проме-
теем» ■* или с дошедшими до нас свидетельствами о древнем
дифирамбе, чтобы увидеть, какое поразительное искусство
ему удалось внести в драму. Однако это искусство никогда
не заключалось в том, чтобы создать из множества нечто еди-
ное, но, напротив, — из единого множество, чудесный лаби-
ринт сцен; при этом главной его заботой было — в самом за-
путанном месте этого лабиринта обмануть зрителей види-
мостью прежнего единства, так плавно, так' незаметно
развернуть клубок их чувств, словно он все еще оставался
таким же простым и цельным, как породившее его дифирамби-
ческое чувство. Вдобавок он разукрасил сцену и, сохранив
хоры, превратил их в передышки, в паузы действия, поддер-
живающие каждым своим словом впечатление целого, ожида-
ние и видимость предстоящего, как уже свершившегося
(между тем как у поучительного Еврипида * театр утратил
все это, едва успев сформироваться). Короче говоря, он сумел
придать действию известный объем*—то, о чем так много
говорят и что так искаженно толкуют.
Насколько Аристотель, сумевший оценить это искусство
его гения, был во всем почти полной противоположностью
тому, что угодно было сделать из него в новейшее время, —
это должно быть ясно всякому, ικτο читал его непредвзято
и с точки зрения его эпохи. Именно то обстоятельство, что,
покинув Феспида и Эсхила, он целиком обратился к слож-
ному творчеству Софокла, что он исходил как раз из этого
новшества, полагая в нем сущность нового поэтического
жанра, что его сокровенной мыслью было—показать в Со-
фокле второго Гомера и даже подчеркнуть его преимущества
перед первым; то, что он не упустил ни одного самого незна-
чительного обстоятельства, которое подтвердило бы его пони-
мание действия как имеющего определенный объем,—"все'это
показывает, что великий муж рассуждал в духе своей вели-
-кой эпохи и менее всего повинен в тех узких ребяческих глу-
постях, из которых впоследствии, прикрываясь его именем,
пытались выстроить бумажные подмостки нашей сцены. В за-
мечательной главе о сущности фабулы он совершенно оче-
видно «не признает и не знает других правил, кроме кру-
гозора зрителей, души, иллюзии!» и ясно говорит, что объем
-фабулы и ее границы, а тем более характер или время и
место ее построения, не могут быть определены правилами.
О, если бы Аристотель воскрес и увидел воочию ложное, не-
лепое, применение своих правил к драме совершенно другого
рода! — Но вернемся к спокойному, непредвзятому исследо-
ванию.
Как все меняется на свете, так должна была измениться
и природа, которая, собственно, создала греческую драму.
Государственный строй, нравы, состояние республик, тради-
ции героического века, верования, даже музыка, выразитель-
ность, мера иллюзии — все изменилось: тем самым исчез и
материал для фабул, то, что служило толчком для обработки,
поводом для цели.
Правда, можно было обратиться к глубокой древности или
даже чужое, заимствованное у других народов, облечь в при-
вычный наряд, но все это не производило уже того впечат-
ления, а следовательно, лишено было души, следовательно
(к чему играть словами?), это уже было нечто совсем иное:
кукла, манекен, обезьяна, статуя, в которой только самые фа-
натические умы могли усмотреть демона, вдохнувшего в нее
жизнь! Обратимся же сразу к новейшим европейским афи-
нянам (ибо римляне были чересчур глупы, или чересчур умны,
или чересчур дики и необузданны, чтобы создать театр, пол-
ностью подражающий греческому) — и тогда это станет, как
нам кажется, совершенно очевидным. :
Едва ли можно было задумать и осуществить более со-
вершенный манекен греческого театра, чем это было сделано
во Франции. Я имею в виду не столько так называемые теат-
ральные правила, приписываемые бедняге Аристотелю, -—
единство времени, места, действия, связь между сценами,
правдоподобие обстановки и т. п., — я хочу спросить со всей
серьезностью, может ли что-нибудь на свете быть лучше
гладких классических изделий Корнеля, Расина и Вольтера,
лучше этой вереницы изящных сцен, диалогов, стихов, рифм,
таких размеренных, благопристойных, блестящих? Автор на-
стоящей статьи: склонен усомниться в таком, предположении,
а все почитатели Вольтера и французов, в особенности же
сами эта благородные афиняне, решительно отвергнут его —
как они уже нередко делали, делают и будут делать: «Лучше
этого ничего нет! ничего не может быть!» И действительно,
с общепринятой точки зрения эти люди, водворившие на под-
мостках манекен, — правы, и они будут с каждым днем все
более утверждаться в своей правоте, чем более люди будут
сходить с ума по этим внешне блестящим вещам и подра-
жать им, уподобляясь обезьянам, во всех европейских
странах!
И все же вас не покидает гнетущее, непреодолимое чув-
ство: «Это не греческая трагедия! по своим целям, действию,
характеру, сущности — не греческая драма!» И самый ревно-
стный почитатель французов, если только он почувствовал
греков, не станет возражать против этого. Я совсем не соби-
раюсь исследовать, «действительно ли они настолько соблю-
дали правила своего Аристотеля, как утверждают сами, в чем
Лессинг не так давно возбудил самые ужасные сомнения, *
вопреки их громогласным притязаниям». Но даже если до-
пустить это, у них совсем другая драма. Почему? Потому что
ло своей внутренней сущности она не имеет ничего общего
с той, другой, — ни в действии, ни в нравах, ни в языке, ни
в цели, ни в чем вообще — а тогда что пользы в столь точ-
ном соблюдении внешнего сходства? Неужели кто-нибудь по-
верит, что герой великого Корнеля — это римский или фран-
цузский герой? Это герои в духе испанской драмы или
Сенеки! * Галантные герои, наделенные фантастической отва-
гой, великодушные, влюбленные, жестокие, то есть драмати-
ческие фикции, которые повсюду за пределами театра пока-
зались бы глупцами и, по крайней мере для Франции, уже
в ту пору были наполовину чужими, сейчас же в большинстве
пьес они совсем чужие!
Расин говорит языком чувства, — конечно, если принять
это положение, то выше его ничего нет! Но — я не знаю, где
и когда чувство говорит таким языком? Это изображение
чувства из третьих рук; но это никогда или очень редко жи-
вые, непосредственные, неприкрашенные движения души, ищу-
щие слов и находящие их! Изящный стих Вольтера, с его
содержанием, покроем, образами, блеском, остроумием, фило-
софией — разве это не прекрасный стих? Конечно! Прекрас-
нее и вообразить нельзя, и будь я француз, я отчаялся бы со-
чинить после Вольтера хотя бы один стих! Но прекрасен он
или нет, это не театральный стих! стих, который для любой
драмы (кроме французской), для ее действия, языка, нра-
вов, страстей, задач всегда будет простым школьным сочи-
нением, ложью и галиматьей! Наконец, какова цель всего
этого? Отнюдь не греческая, не трагическая цель! Поставить
на сцене изящную пьесу (даже если в ней содержится пре-
8
красное действие), в которой учтивые, нарядные господа и
дамы декламировали бы красивые речи, излагая в красивых
стихах прекраснейшую и полезнейшую философию; вставить
их в рамку сюжета, который создает видимость представле-
ния и тем самым приковывает к себе интерес; наконец, дать
разыграть все это нескольким хорошо обученным господам
и дамам, которые действительно уделяют много внимания
декламации, ходульным сентенциям и внешним проявлениям
чувства, успеху и одобрению публики, — все это, быть может,
наилучшее средство для чтения вслух, для упражнения в вы-
разительности, позах и поведении, для изображения добрых
или даже героических нравов, — наконец, это целая акаде-
мия национальной мудрости и приличий на все случаи жизни
и даже смерти (не говоря уже о других, побочных целях!).
Прелестно, поучительно, назидательно, превосходно, — но во
всем этом нет и следа той цели, которую ставил перед собой
греческий театр!
Какова же была эта цель? Аристотель сказал о ней, —
и об этом достаточно долго спорили, — это не более и не Ме-
нее, как стремление вызвать известное потрясение сердца,
волнение души в известной степени и в известном смысле,
короче говоря, создать особого рода иллюзию, какой, по-
истине, еще не достигала, да и не достигнет, никакая фран-
цузская пьеса. А следовательно (какой бы прекрасной и по-
лезной она ни была), это не греческая драма, не трагедия
Софокла! Может быть, она похожа на нее — как манекен, не
более; но манекену недостает души, жизни, естественности,
правды — то есть всего, что необходимо для душевного воз-
действия, а тем самым недостает цели и средств для дости-
жения этой цели — как же он может быть той же самой
вещью?
Это не значит, что мы решаем здесь вопрос о ценности
той или другой: речь идет пока еще только о различии, кото-
рое, после всего вышеизложенного, кажется мне бесспорным.
А теперь предоставляю вам самим судить, можно ли «напо-
ловину правдивое копирование иных времен, нравов, деяний,
предпринятое с похвальной целью приспособить их к двух-
часовому представлению на -подмостках», ставить наравне
или даже выше подражания, которое в известном смысле
было высшим проявлением национальной сущности? Может ли
произ.ведение, которое, как целое, в сущности не ставит
перед собой никакой задачи (от этого упрека всякий фран-
цуз предпочтет либо отвертеться, либо отшутиться), —ведь,
по признанию лучших философов, крохи добра мы подби-
раем лишь в отдельных частностях, — может ли оно быть
поставлено наравне с важным для всей страны учреждением,
заключавшим в самых мелких обстоятельствах силу воздей-
ствия, высочайшее, глубокое воспитательное значение? Мы
уже сейчас предали забвению большинство искуснейших пьес
Корнеля, — не настанет ли время, когда на Кребильона и
Вольтера мы будем тоже взирать с удивлением, как смотрим
сейчас на «Астрею» господина д'Юрфе и на всех «Клелий» и
«Аспазий» * рыцарской эпохи. «Сколько ума, сколько муд-
рости! Сколько изобретательности и труда! Сколь многому
можно было бы у них научиться — жаль только, что все это
заключено в «Астрее» и «Клелий». Все их искусство в це-
лом лишено естественности, фантастично, отвратительно! —
О, если бы мы уже были в этом грядущем веке — по ощуще-
нию правды! Вся французская драма превратилась бы
в сборник изящных стихов, сентенций, сентиментов — а вели-
кий Софокл остался бы непоколебленным в своем величии!
А теперь представим себе народ, который, в отличие от
обезьяны, не довольствуясь ореховой скорлупой, предпочел
бы — не будем рассуждать, по каким причинам— создать
свою собственную драму? В этом случае, как мне кажется,
первый вопрос опять же будет: когда? где? при каких обстоя-
тельствах? из чего он будет ее создавать? И не нужно дока*
зывать, что решение может явиться и явится только как ответ
«а эти вопросы. Если он берет свою драму не из хора, не из
дифирамба, то в ней не может быть ничего хорового, дифи-
рамбического. Если у него не будет перед глазами такой же
простоты исторических фактов, традиции, семейных, государ-
ственных и религиозных отношений — тогда, конечно, ничего
этого не будет и в драме. Такой народ создаст свою драму,
-по возможности, согласно своей истории, духу времени, нра-
вам, мнениям, языку, национальным предрассудкам, тради-
циям и пристрастиям, он создаст ее хотя бы даже из масле-
ничных представлений и кукольного театра (совсем как
благородные греки из хора)—и созданное будет драмой,
если только оно достигнет у этого народа цели, которую ста-
вит перед собой драма. Как видите, мы подошли вплотную к
toto divisis ab orbe Britannis l
и к их великому Шекспиру.
Ни один pullulas Aristotelis 2 не станет отрицать^ что, в ту
пору и в предшествующий .период Англия не была "Грецией, #
ждать от нее греческой драмы, возникшей естественным
путем (мы 'не говорим о подражаниях!),—все равно что тре-
бовать, чтобы овца родила льва. Наш первый и последний
вопрос будет: «Какова почва? Из чего она возникла? Что на
1 «Отделенным от всего мира британцам» (лаг.). — Вергилий.
Эклоги, I, ст. 67.
2 Птенец (то есть ученик) Аристотеля (лат.).
10
ней посеяно? Что на ней может родиться?» О, небо, как все
это далеко от Греции! История, традиция, нравы, религия,
дух времени, народа, чувства, языка — как все это далеко от
Греции! Плохо ли, хорошо ли знает читатель обе эпохи, он ни
на мгновение не смешает их, потому что нет в них никакого
сходства. Ну, а если бы в эту эпоху, изменившуюся к луч-
шему или к худшему, в какой-то момент нашелся гений, по-
черпнувший из своего материала драматическое произведе-
ние, столь же естественное, величественное и оригинальное,
как греки из своего, — и это произведение достигло бы совер-
шенно иными путями той же цели и было, по крайней мере,
само по себе гораздо более сложным в своей простоте и про-
стым в своей сложности, то есть (согласно любому метафи-
зическому определению) было бы совершенным как целое,—
тогда каким глупцом был бы тот, кто стал бы сравнивать
или, тем более, осуждать его за то, что это произведение не
есть лервое? Да ведь вся его сущность, достоинство и совер-
шенство как раз и заключаются в том, что оно не есть первое,
что из почвы времени выросло иное растение.
Перед Шекспиром, вокруг 'него были отечественные обы-
чаи, деяния, склонности, исторические традиции, которым
менее всего была присуща простота, составляющая основу
греческой драмы. А так как первая аксиома метафизики
гласит, что из ничего не может ничего возникнуть, то на свете,
рели верить философам, не было бы и не могло бы возник-
нуть 'Не только греческой, но и вообще никакой драмы, ибо,
помимо нее, ведь нет ничего! Но, как известно, гений — это
нечто большее, чем философия, а творец — совсем не то, что
аналитик: вот почему простому смертному, одаренному бо-
жественной силой, суждено было с помощью прямо проти-
воположного материала, совершенно по-иному обработан-
ного, вызвать то же самое действие — страх и сострадание!*
и притом в такой степени, какая едва ли была достижима для
того первого материала и той первой обработки! Именно эта
первичность, новизна, своеобразие обнаруживают всю мо-
гучую, самобытную силу его призвания!
До Шекспира не было хора; но были государственные
действия * и кукольный театр; и вот из них-то, из этой плохой
глины, он вылепил изумительное создание, которое мы в'идим
перед собой, которое живет и дышит! Перед ним был харак-
тер его народа и его родины, тоже лишенный простоты, слож-
ное сочетание разных сословий, убеждений, народов, различ-
ных образов жизни, различной речи — бесполезно было бы
сожалеть о прежнем; и вот он создал одно великолепное це-
лое из всех этих людей и сословий, народов и наречий, королей
и шутов, шутов и королей! Перед ήημ была 'история, фабула,
действие — и дух их тоже не был прост: и Шекспир взял исто-
рию такой, как она предстала перед ним, и силой своего
творческого гения соединил самые различные вещи в одно
чудесное целое, которое мы могли бы назвать если не дей-
ствием в греческом смысле слова, то действом, * как это
называли в средние века, или же, на языке нового времени,
происшествием (événement), великим событием. * О Аристо-
тель! Если бы ты воскрес, ты поставил бы этого нового Со-
фокла наравне с Гомером!'Ты создал бы о нем одном особую
теорию, которую еще не удосужились создать его соотече-
ственники— Хом ή Херд, Поп и Джонсон!* Ты с радостью
убедился бы, что из любого раздела твоей поэтики — дей-
ствия, характера, мысли, выражения, сценической обстановки,
как из двух углов треугольника, можно провести линии, ко-
торые пересекутся в одной точке, — и этой точкой, этой вер-
шиной будет цель трагедии, ее совершенство! Ты сказал бы
Софоклу: разрисуй престольную икону этого алтаря, а ты,
о северный бард, покрой все стены греческого храма своими
бессмертными фресками!
Позвольте мне продолжить мое толкование в духе воль-
ной рапсодии: ибо Шекспир мне 'ближе, чем грек. Если у по-
следнего господствует единство какого-либо действия, то
первый воссоздает событие, происшествие как целое. Если
у одного господствует общий тон в обрисовке характеров, то
у другого — столько характеров, сословий, различий в образе
жизни, сколько возможно и необходимо, чтобы составить
главное звучание его оркестра. Если певучая, плавная речь
грека доносится как. бы из небесного эфира, то Шекспир го-
ворит на языке всех возрастов, людей и характеров, он пере-
водит со всех языков, на которых изъясняется природа. Как же
можно, идя столь различными путями, быть любимцами
одного божества? И если один изображает, учит, волнует,
воспитывает греков, то другой учит, волнует и воспитывает
жителей Севера! Когда я читаю его, для меня исчезают ак-
теры, театр, кулисы! Я вижу одни лишь уносимые ураганом
времени листы великой книги бытия, провидения, вселенной,
отдельные отпечатки народов, сословий, человеческих душ!
И все эти разнообразные, обособленно действующие ма-
шины— то же, чем являемся и мы в руках творца: слепые
в своем неведении орудия для создания единой и целостной
театральной картины, величественного по своим масштабам
события, которое только поэт может охватить своим взором.
Можно ли 'представить себе более великого певца северного
человечества, да еще в ту эпоху!
Стань перед его сценой, как перед морем событий, где
волна набегает на волну. Явления природы сменяют друг друга,
взаимодействуют, какими бы обособленными они-ни казались;
они порождают и разрушают друг друга, чтобы свершился
замысел создателя, который соединил их в кажущемся опья-
12
нении и беспорядке — темные маленькие символы в солнеч*
ной системе божественной теодицеи, *
Лир, этот порывистый, пылкий, благородный в самой
слабости старец, вот он стоит у карты своего королевства,
раздает короны, раздирает на части земли, —уже при пер-
вом своем появлении он таит в себе семена всей судьбы
своей, которые дадут в будущем такие раковые всходы.
Взгляните на этого великодушного расточителя, столь тороп-
ливого й безжалостного, на этого по-детски наивного отца —
таким он вскоре предстанет перед нами во дворе замка своих
дочерей,—вот он просит, молит, протягивает руку за подая-
нием, проклинает, благословляет и — о боже! — уже предчув-
ствует близкое безумие! Вот он перед нами с непокрытой голо-
вой, под ударами молнии и грома, низверженный до уровня са*
мого низкого класса людей, в обществе одного только своего
шута, в пещере помешанного нищего, призывающий на свою
голову с небес безумие! —А вот он во всем 'невесомом вели-
чии своей нищеты и одиночества; и, наконец, вот он в минуту
просветления, озаренный последним лучом надежды, вапых-
нувшим на миг, чтобы затем навек, навек угаснуть! Вот он,
пленный, со своей мертвой спасительницей на руках, со своим
ребенком, своей дочерью, простившей ему все, все! Вот он
умирает, упав на ее труп, а вслед за старым королем уми-
рает старый слуга, — боже! — какая смена времен, обстоя-
тельств, бури, непогоды, целых эпох! И ©се это не просто сю-
жет, или даже, если угодно, не героическое и государственное
действо, с начала и до конца построенное >по строгим пра-
вилам вашего Аристотеля; нет, подойди поближе и почув-
ствуй дух человеческий, указавший каждому лицу, каждому
возрасту, каждому характеру, даже самым незначительным,
их место в общей картине. Два престарелых отца и все их
дети, такие разные! У одного из них сын, столь несчастный,
и вместе с тем питающий столь глубокую признательность
к обманутому отцу, и другой сын — проявляющий такую гнус-
ную (Неблагодарность <по отношению к самому снисходитель-
ному из отцов и так гнусно удачливый! А тот, другой отец —
как он ведет себя по отношению к дочерям! И они — по отно-
шению к нему! Их мужья, женихи и все их пособники
в счастье и несчастье! Слепой Глостер, ведомый за руку не-
узнанным сыном, и безумный Лир у ног изгнанной им до-
Цери! И вот, наконец, поворотный момент в их судьбе, когда
Глостер умирает под деревом и в ту же минуту раздается
звук трубы; все побочные обстоятельства, движущие пру-
жины действия, характеры и ситуации — все пущено в ход,
все развивается, превращаясь наконец в единое целое, в ко-
тором Неразрывно слиты и обрели свое место отцы и дети,
короли и шуты, нищета и горе, где всюду, во всех разроз-
ненных сценах пульсирует душа события, где смена места,
13
времени, обстоятельств и, можно сказать, даже языческая
вера в судьбу и светила, пронизывающая все действие, так
неразрывно связаны с этим целым, что я не решился бы что-
нибудь изменить, переставить, перенести из других пьес сюда
или отсюда в другие пьесы.
И это, по-вашему, не драма? Шекспир — не драматург?
Он, способный охватить рукой сотню сцен одного мирового
события, взглядом овоим внести в них порядок, наполнить их
единым живительным дыханием души и приковать к себе
наше внимание, — нет, не »внимание, а сердце, все наши стра-
сти, всю душу, с начала до конца; если же этого мало, то
пусть засвидетельствует отец наш Аристотель: «Живые су-
щества должны иметь легко обозримую величину», * —
а здесь — о 1небо!—как глубоко, от ©сей души прочувство-
вано ή доведено до конца событие во всей его полноте! Це-
лый мир драматической истории, величественный и глубокий,
как сама природа; но творец дал нам глаза, чтобы видеть, и
указал, откуда созерцать эту глубину и этот простор!
А в Отелло, в этом мавре, какой мир, какая целостность!
Это живая летопись страсти благородного и несчастного че*
ловека, ее (возникновения, развития, бурного взрыва, печаль*
ного конца. И какая полнота и согласованность в движении
отдельных колесиков этого механизма! Этот Яго, этот дьявол
в образе человека, как он смотрит на мир, как он играет
всеми окружающими! И как расставлена вокруг него вся эта
группа — Кассио и Родриго, Отелло и Дездемона, все эти
характеры, так легко вспыхивающие от его дьявольского
пламени, все поочередно попадающие в орбиту его действия;
как он пускает в ход любые средства — и все стремительно
катится к печальному концу.
Если ангелу небесного провидения дано взвешивать и со-
размерять человеческие страсти, группировать между собой
души и характеры, подсказывать людям поводы для поступ-
ков, которые кажутся им свободными, а затем вести их по
своему замыслу с помощью этой мнимой свободы на поводу
у судьбы, — то здесь созидал, чертил, обдумывал, направлял
человеческий дух.
Не стоило бы даже и упоминать о том, что время и место
так же тесно связаны с действием, как ядро и оболочка
плода; и все же как раз об этом спорят громче всего. Если
Шекспиру удалось поистине божественной хваткой вместить
в одно событие целый мир разнороднейших явлений, то, ко-
нечно, именно правдивость его событий требовала от него
каждый раз идеального воспроизведения времени и места,
необходимых для полноты иллюзии. Неужели найдется хоть
кто-нибудь, кто относится безразлично к такой малости
в своей жизни, как время и место, особенно в такие моменты,
14
которые волнуют, воспитывают, преобразуют всю нашу
душу, — в юности, в минуты страсти, во всех решающих по-
ступках, от которых зависит наша жизнь или смерть! Разве
не время и место, не совокупность внешних обстоятельств при-
дают всей историй устойчивость, длительность, реальное суще-
ствование? И разве кто-нибудь, будь то ребенок, юноша, влюб-
ленный, зрелый муж, позволит похитить у себя хоть одну
подробность внешней обстановки, все эти «как»?, «где?»,
«когда?», без которых (Представления его души будут такими
неполными! В этом и заключается как раз величайшее ма-
стерство Шекспира, 'потому что он был всегда слугой при-
роды, и ничем более. Когда он обдумывал события своей
драмы, когда он ворочал их в своем уме, то вместе с ними
всплывали каждый раз обстоятельства места и времени!
Из всех возможных мест и эпох каждый раз, как будто
повинуясь железному закону необходимости, выступает
именно такое время и то место, которые наиболее сильным
и идеальным образом отвечают чувству, наполняющему
действие; именно такие обстоятельства, которые, при всей
рвоей смелости и необычности, более всего способны
поддержать иллюзию истинности, а смена времени и места,
которой так свободно распоряжается поэт, громче всего
возглашает: «Это не поэт! Это творец! Это история все-
ленной!»
Когда, например, поэт вынашивал в душе, как свое творе-
ние, страшное цареубийство, именуемое трагедией о Мак-
бете, а ты был настолько наивен, любезный читатель, что не
почувствовал место и обстановку каждой сцены, — тогда горе
увядшему листу в твоей руке, Шекспир! Тогда ты, читатель,
ничего не испытал ни в сцене прорицания ведьм в степи при
вспышках молнии и ударах грома, ни: при появлении окро-
вавленного воина, принесшего" весть королю о подвигах
Макбета, ты не заметил, как послание к нему .короля преры-
вается пророчеством ведьм и затем переплетается в его мозгу
с их приветствием. Ты не видел, как блуждает по замку
с письмом в руках, запечатлевшим этот приговор судьбы,
его жена, — о, как по-иному, как ужасно ей суждено будет
впоследствии блуждать! Ты не вдыхал в 'последний раз
вместе с кротким -королем ласкающий вечерний воздух у дома,
где ласточка спокойно вьет гнездо, тогда как ты, король, —
вот что невидимо таится в этой драме! — стоишь на пороге
могилы» Дом, полный радостной суматохи перед приемом
гостя, — и Макбет, замышляющий убийство! Ночная сцена
Банко с факелом и мечом, подготовляющая все, что будет
дальше! Кинжал! Жуткое видение кинжала! Удар коло-
кола— и не успело свершиться задуманное, — стук в дверь!
Все обнаружено, сбегаются люди! Пробежим мысленным
взором все другие возможности времени и места — могло ли
15
все это произойти в действительности иначе, в другой обета*
новке, и достигнуть при этом своей цели?
Сцена убийства Банко в лесу; ночное пиршество и тень
Банко—и вновь поляна ведьм (ибо ©се предначертанные
роком злодеяния Макбета свершились!). А потом пещера,
заклятие, пророчество, неистовство и отчаяние! Гибель детей
Макдуфа, вырванных из-под крыла одинокой матери, и два
изгнанника в лесу, и, наконец, зловещая фигура леди Мак-
бет, блуждающей по замку; и поразительное свершение про-
рочества— двинувшийся на замок лес, гибель Макбета от
меча того, кто не был рожден женщиной! Мне пришлось бы
перечислить все, все решительно сцены, чтобы назвать то
идеальное место, где разыгрывается это неизъяснимое целое,
этот мир рока, цареубийства и волшебства, который является
душой этой пьесы и наполняет жизнью ее всю, вплоть до
мельчайших обстоятельств времени и места, до ее кажущихся
противоречий, сливая все в нашей душе в единое, неразрыв-
ное и жуткое целое, — и все-таки я ничего бы не сказал.
Индивидуальность каждой пьесы, как особого мирозда-
ния, воплощенная в условиях времени, места и творчества,
пронизывает все пьесы. Лесс'инг подробно рассмотрел неко-
торые черты «Гамлета» в сравнении с театральной царицей
«Семирамидой».* — До какой степени эта драма Шекспира
с начала до конца исполнена местного духа! Двор замка и
лютый холод, смена караула и ночные рассказы, одни верят,
другие не верят — звезда—и вот он появляется! Разве най-
дется хоть кто-нибудь, кто не почувствовал бы, как есте-
ственно каждое слово, каждое обстоятельство, и как оно
подготовляет все дальнейшее! Пойдем дальше. Как исчер-
пывающе показаны все повадки призраков — и людей, видя-
щих призрак! Крик летуха и барабанный бой, безмолвный
знак и близкий холм, слово и молчание — какая обстановка,
какое глубокое постижение истины! А молитва пораженного
ужасом короля, и Гамлет, бредущий в смятении мимо него
в комнату матери! Вот он рисует ей портрет отца! А вот —
другое явление! Он у могилы своей Офелии. Этот трогатель-
ный good fellow 1 в отношениях с Горацио, Офелией, Лаэр-
том, Фортинбрасом! Юношеская игра в действие, которая
проходит через всю пьесу и почти до самаго конца так и не
превращается в действие!—Для того, кто хоть на мгновение
почувствует или станет искать здесь театральные подмостки,
а на них — вереницу связных пристойных диалогов, для того
не существовало ни Шекспира, ни Софокла, ни вообще под-
линного поэта.
О, если бы у меня нашлись слова, чтобы выразить то
особенное, главенствующее чувство, которое царит в каждой
1 Добрый парень (англ.).
16
пьесе и наполняет ее, подобно мировой душе! Какую неотъем-
лемую часть пьесы составляют в «Отелло» ночные поиски
и сказочная любовь, переезд по морю, буря и бушующая
страсть Отелло, способ убийства, вызвавший столько на-
смешек, Дездемона, раздевающаяся под звуки печальной пе-
сенки и завывания ветра, да и самый характер греха и
страсти — появление Отелло, речь, обращенная к ночному
светильнику, и т. д. — о, если бы возможно было облечь все
это в слова так же искренне и живо, как оно сливается в еди-
ный мир трагического происшествия,—ήο это невозможно.
Ведь самую жалкую картину -с ее красками нельзя описать
или воссоздать при помощи слов, — как же можно передать
ощущение живого мира во всех его сценах, обстоятельствах,
волшебных чарах природы? Прочти «Лира» и «Ричардов»,
«Цезаря» и «Генрихов», все что угодно, мой читатель, даже
фантастические 'пьесы и дивертисменты, в особенности же
«Ромео», эту сладостную пьесу о любви, которая вместе
с тем в каждой точке своего действия — роман, и место, и
греза, и поэма, — прочти все это, попробуй что-нибудь вынуть,
заменить или, чего доброго, упростить на манер французских
подмостков, — и живой мир во всей своей подлинности и са-
мобытности превратится в эти самые подмостки: недурная за-
мена, недурное превращение! Лиши растение его родной
почвы, соков, силы, индивидуальных свойств — и ты лишишь
его дыхания, души: это будет только подобие живого тво-
рения.
Итак, Шекспир истинный брат Софокла именно там, где
он, по всей видимости, столь не похож на него, по внутрен-
ней же своей сущности вполне ему подобен. Если всякая ил-
люзия возникает лишь благодаря такому достоверному, прав-
дивому и творческому воссозданию истории, если без этого
не только недостижима иллюзия, но не осталось бы ни од-
ного элемента шекспировской драмы и драматического духа
(или все, что я написал здесь, ни к чему) : тогда мы видим,
что весь мир 'Служит телесной оболочкой этому великому
духу, все явления природы — члены этого тела, а каждый ха-
рактер, каждый особый склад мышления образует черты
этого духа, — целое же можно было-бы назвать тем исполин-
ским божеством, которому Спиноза дал имя «Пан! Вселен-
ная!» * Софокл оставался верен природе, обрабатывая одно
действие, протекавшее в одном месте и в одно время: Шек-
спир мог. сохранить ей верность, только промчав свое миро-
вое событие и человеческую судьбу сквозь все эпохи и места,
где они... словом, где они совершились: смилуйся же, господи,
над легкомысленным французом, явившимся к последнему
акту шекспировской пьесы в надежде проглотить здесь кон-
центрированную порцию трогательности. Есть немало фран-
цузских пьес, где это, по-видимому, вполне возможно, потому
2 Зак. 291. Гердер /7
что все в них зарифмовано и инсценировано специально для
театра; но здесь он уйдет несолоно хлебавши. Здесь он уже
пропустил мировое событие: он видит лишь его заключитель-
ные, наихудшие последствия — люди мрут как мухи, — и он
уходит, издеваясь: Шекспир вызывает у него чувство досады,
а его драма представляется величайшей глупостью, какая
только может быть.
Вообще же весь этот клубок вопросов о времени и ме-
сте давно был бы распутан, если бы какой-нибудь философ-
ский ум, размышляющий над драмой, дал себе труд спро-
сить: «А что же, собственно, такое — время и место?» Если
это всего только' подмостки театра и отрезок времени, необ-
ходимый для театрального дивертисмента, тогда никто на
свете, кроме французов, не соблюдает единства места, поло-
женной меры времени и сцен. Греки, хотя им и удавалось
создать такую полную иллюзию, о какой мы даже понятия
не имеем, меньше всего думали об этом: сцена их была це-
ликом рассчитана на публичный характер театрального пред-
ставления, перед которым они испытывали подлинный свя-
щенный трепет. Да и может ли возникнуть какая бы то ни
было иллюзия у человека, после каждого явления смотря-
щего на часы, — а может ли, мол, все это совершиться в по-
ложенный промежуток времени? — у человека, получающего
истинное наслаждение главным образом от того, что поэт не
обсчитал его ни на одну минуту, показав на подмостках
ровно столько, сколько зритель может пройти за это время
черепашьим шагом своей каждодневной жизни, — о, что это
за жалкое существо, способное черпать в подобном сознании
свою высшую радость, и что это за поэт, стремящийся к по-
добной цели и кичащийся потом всем этим хламом правил:
«Сколько изящных пьес и с каким искусством удалось мне
втиснуть и всунуть в заданный срок театрального представ-
ления, на узком заданном пространстве сценической коробки,
-именуемой: французским1 театром! Как удалось мне вы-
равнять и подогнать друг к другу сцены! Как ловко сшить и
склеить их!» Жалкий церемониймейстер! Театральный са-
вояр,* а не творческая личность! Поэт, бог драмы! Часы на
башне не* отбивают тебе положенный срок, ты сам творишь
границы времени и пространства, и если ты способен
создать целый мир, который существует лишь во времени и
пространстве, тогда ты найдешь в нем самом меру его вре-
мени и пространства; в тот мир ты должен ввести зачарован-
ных зрителей, внушив им эту меру,, или ты будешь тем, о чем
я уже сказал выше, — то есть чем угодно, только не драма-
тургом.
18
Нужно ли доказывать, что, в сущности, пространство
и время сами по себе—ничто, что это самое относительное
понятие для бытия, действия, страсти, последовательности
мьгслей и меры внимания как в душе, так и вне ее пределов?
Скажи-ка по совести, благонамеренный зритель, поверяю-
щий по стрелке часов каждый акт драмы, неужели не было
в твоей жизни таких минут, когда часы казались мгновениями,
а дни часами, или, наоборот, — часы превращались в дни,
а бессонные ночи — в годы? Неужели не было в твоей жизни
таких положений, когда душа, внезапно покинув тебя, уно-
силась словно на крыльях в романтическую комнату твоей
возлюбленной, или припадала к застывшему трупу, или скло-
нялась под бременем унизительной нужды, или же, напро-
тив, снова воспарив над миром и временем, пересекала необо-
зримые пространства и страны света и, забывая все окру-
жающее, летела к небесам или погружалась в душу,
в сердце того, чье бытие ты ощутил так ясно? Ну, а если это
возможно даже в твоем сонном, неповоротливом существова-
нии, подобном жизни дерева или червяка, когда столько кор-
лей приковывают тебя к одной неподвижной и мертвой точке
земной поверхности и каждое движение твоего неуклюжего
тела служит тебе, как улитке, мерилом твоего ползанья,—
перенесись мысленно хоть на мгновение в иной, поэтический
мир или хотя бы в мир сновидений! Случалось ли тебе по-
чувствовать, как исчезают во сне время и место; какие это,
следовательно, несущественные вещи, какие тени по сравне-
нию с деятельностью человеческой души и ее последствиями;
как от нее одной зависит создать себе мир, пространство и
меру времени, именно там и таким способом, как она сама
пожелает? А если ты испытал это хоть раз в жизни, если,
пробудившись через какие-нибудь четверть часа, ты под впе-
чатлением своих снов готов был поклясться, что спал, грезил
и действовал целые ночи напролет, — неужели сон Маго-
мета * хоть 'на мгновение показался бы тебе бессмысленным
вздором? И разве 'первая и единственная обязанность всякого
гения, всякого поэта, в особенности же драматического, не
заключается именно в том, чтобы погрузить тебя в подобное
сновидение? А теперь представь себе, какие миры ты смеши-
ваешь между собой, показывая поэту часы или свою гости-
ную, дабы он учил тебя грезить по этим часам и в этой го-
.стиной?
Его пространство и его Бремя заключены в развитии изо-
бражаемого им происшествия, in ordine successivorum и
jsimultaneorum 1 его собственного мира. Как и куда он увле-
кает тебя? Не все ли равно, — лишь бы он увлек тебя туда,
в свой мир! Быстро ли, медленно ли течет у него время,—
1 В порядке последовательности и единовременности (лат.).
2* 19
он сам определяет его ход, навязывает его тебе, мерит его
своей мерой — и опять же — какой -великий мастер Шекспир и
в этом! Как медленно, неповоротливо начинаются у него
происшествия в созданной им природе, как в подлинной при-
роде: ибо он воспроизводит последнюю, лишь ^в уменьшенном
масштабе. С каким усилием приходят в движение все пру-
жины действия! Но с какой быстротой начинают затем че-
редоваться сцены! Речи становятся ©сё короче, души, страсть,
самое действие летят словно на крыльях! Какая мощь в этом
беге, в этих отдельных, мимоходом брошенных репликах —
ведь ни у кого уже нет времени! И напоследок, когда чи-
татель целиком подпал под власть иллюзии, когда он чув-
ствует себя затерянным в этой бездне мира и страстей, как
смело нагромождает он события! Лир, умирающий вслед за
Корделией, Кент—за Лиром! Это как бы конец мира, день
Страшного суда, все рушится и гибнет, свернулся небесный
покров, горы низвергаются; мера времени канула в веч-
ность. — Конечно, не для веселого, резвого потомка галлов,
прибежавшего свеженьким и бодреньким к пятому акту,
чтобы справиться то своим карманным часам — сколько че-
ловек успели умереть и за какой промежуток времени? Но,
боже мой, если это считать критикой, театром, иллюзией, —
то что же тогда критика, иллюзия, театр? Что значат все эти
пустые слова?
И вот здесь-то, собственно, и (начинается самая суть моего
исследования: «Каким образом, с помощью какого искусства,
какими творческими средствами Шекспиру удавалось пре-
вратить какой-нибудь ничтожный романс, новеллу, сказку
в живое целое? Какие законы нашего исторического, фи-
лософского, драматического искусства заключены в каждом
его шаге, в каждом художественном приеме?» Какой предмет
для исследования! Сколько материала для построения нашей
истории, для философии человеческой души, для драмы! —
Но я не состою членом наших исторических, философских
академий и академий изящных искусств, где размышляют
о чем угодно, только не об этом! Даже соотечественники
Шекспира об этом не думают. В каких только исторических
ошибках не обвиняли его комментаторы! Хотя бы этот
толстяк Уорбертон — какие прекрасные исторические кар-
тины он ставил ему в вину! Да и автор новейшего «Опыта
о Шекспире» * — удалось ли ему раскрыть мою любимую
мысль, которую я более всего искал в его сочинении: «Ка-
ким образом создавал Шекспир свои драмы из романсов и
новелл?» Ему даже не пришло в голову задуматься над этим,
так же, впрочем, как и лорду Хому, этому Аристотелю бри-
та нокого С офокл а.
20
Теперь одно лишь беглое замечание по поводу обычной
классификации пьес Шекспира. Совсем недавно одному
автору, несомненно глубоко прочувствовавшему Шекспира,1
взбрело на ум изобразить этого достойнейшего рыболова,
этого седобородого, морщинистого придворного с слезящи-
мися глазами и с plentiful lack of wit,2 этого младенца По-
лония*— Аристотелем нашего поэта — и всерьез предложить
в качестве классификации его пьес всю вереницу -als и
-cals, которыми пересыпана его болтовня. Сомневаюсь!
Правда, Шекспир был достаточно коварен, чтобы вкладывать
по преимуществу в уста младенцев и шутов пустые locos com-
munes,3 всяческие моральные сентенции и классификации,
применимые в сотне случаев, подходящие ко всем и ни к од-
ному из них в частности. Что же касается нового Стобея и
«собраний цветов красноречия», или cornu copiae4 шекспи-
ровской мудрости, какие англичане уже частью завели у себя
и мы, немцы, тоже собирались было завести, — от этого
более всего проку было бы таким вот Полониям и Ланчело-
там Гоббо, арлекинам и шутам, слабоумным Ричардам или
спесивым королям-рыцарям, * ибо всякая здравая, цельная
человеческая натура говорит у Шекспира ровно столько,
сколько необходимо. Впрочем, и здесь я готов усомниться:
Полоний, по-видимому, всего лишь престарелый младенец,
который готов признать облако верблюдом, а верблюда
виолончелью, который когда-то в юности играл Юлия Цезаря
и был хорошим актером, и был убит Брутом, и знает, ко-
нечно, почему
Day is Day, Night — Night and Time is Time,5
то есть и здесь запускает целый волчок театральных слов.
Но кто же станет строить на этом какие-то выводы? Да и что
мы стали бы делать с подобной классификацией? Трагедия,
комедия, история, пастораль, историческая трагедия и исто-
рическая пастораль, пасторальная комедия и трагикомиче-
ская пастораль, и если придумать еще хоть сотню комбинаций
из всех этих определений, чего мы \в конце концов достигнем?
Все равно ни одна из этих пьес не будет и не должна быть
греческой трагедией, комедией и пасторалью. Любая пьеса
является в самом широком смысле «историей», которая
приобретает только в большей или меньшей степени оттенки
трагедии, комедии и т. «п. Но краски так постепенно, так не-
определенно расплываются и переходят в бесконечность, что
в конце концов каждая пьеса остается и должна остаться
1 «Письма о достопримечательностях литературы», сборник второй.
2 Полным отсутствием остроумия (англ.). См. «Гамлет» Шекспира.
3 Общие места (лат.).
4 Рог изобилия (лат.).
5 «День это день, ночь —ночь, время — время» («Гамлет», II, 2).
21
тем, что она и есть на самом деле: историей, героическим и
государственным действием, как понимали в средние века,
или (за исключением нескольких Plays- и Divertissements'1
в собственном смысле) законченным, имеющим определен-
ный объем изображением мирового события, человеческой
судьбы.
Гораздо .прискорбнее и существеннее то, что и этот вели-
кий творец истории и мировой души все более устаревает, что
речи, нравы, особенности каждой эпохи вянут и опадают, как
осенняя листва, ih мы оставили уже так далеко позади себя
эти величественные обломки рыцарской натуры, что даже
Гаррик, этот ангел-хранитель его могилы, воскресивший
его для потомства, вынужден многое менять, выпускать, уро-
довать; и все так быстро старится и меняет свое направление,
что недалек, быть может, тот час, когда и его драмы будут
непригодны для живой постановки и превратятся в обломки
исполина или 'пирамиды, которым все дивятся и которых
никто не понимает. Я счастлив, что живу еще в такое время,
когда способен понять его и когда ты, о друг мой, узнавший
и почувствовавший себя в этих строках, ты, кого я не раз
заключал в «свои объятия перед его священным портретом,
можешь еще лелеять сладостную, достойную тебя мечту
воздвигнуть ему памятник из наших рыцарских времен, * на
нашем языке, в нашем несчастном, выродившемся отечестве.
Я завидую твоей мечте, и — пусть не остывают твои благо-
родные и истинно немецкие творческие усилия, пока они не
будут увенчаны. И если даже тебе будет суждено свыше
увидеть позднее, как покачнется почва под твоим зданием, и
глазеющая чернь будет осыпать его насмешками, и уцелев-
шая от ударов времени пирамида не в силах будет воскре-
сить дух древнего Египта,—твое творение пребудет в веках,
и преданный 'потомок, разыскав твою могилу, начертает на
ней благоговейною рукой -слова о жизни всех достойных мира
ееп>:
Voluit! quiescit!2
1 Пьес и дивертисментов (англ.).
2- Он стремился, он -опочил! (лат.).
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПЕРЕПИСКИ
OB ОССИАНЕ И О ПЕСНЯХ
ДРЕВНИХ НАРОДОВ
И я, подобно вам, восхищаюсь переводом Оссиановых
поэм на наш язык для нашего народа, восхищаюсь не менее,
чем если бы это было оригинальное эпическое произведение.
Поэт, который в такой степени обладает возвышенностью, не-
винностью и простотой, энергией и одухотворенностью, свой-
ственными человеческой жизни, должен — если мы in faece
Romulil не будем вовсе отрицать влияния, оказываемого
хорошими книгами,—безусловно воздействовать на людей и
трогать сердца, желающие тоже поселиться под кровлей бед-
ной шотландской хижины и в домах своих торжественно отме-
тить такой же праздник кущей. *
К тому же, перевод Дэниса обнаруживает столько усер-
дия и вкуса, — с одной стороны, такую вдохновенность обра-
зов, с другой—такую мощь немецкого языка, — что я готов
тотчас же причислить его к любимым книгам моей библио-
теки и поздравить Германию с рождением нового барда, ко-
торого шотландский бард лишь пробудил к жизни. Однако
я прошу вас, — вас, который прежде так упорно сомневался
в истинности и подлинности шотландского Оссиана, — послу-
шайте, как я, бывший некогда его защитником, теперь выра-
жаю отнюдь не упрямое сомнение, но твердую уверенность,
что, несмотря на все усердие и вкус, проявленные Дэнисом,
на вдохновенность и мощь немецкого перевода, наш Оссиан
ни в какой мере не является уже больше истинным Оссианом.
Здесь у меня нет возможности привести необходимые дока-
зательства; поэтому я должен ограничиться утверждением,
высказав его с такой же безапелляционностью, с какой турец-
кий муфтий пишет свою «фетву». * Ниже вместо муфтия
я ставлю собственную подпись.
Мои доводы против немецкого Оссиана не являются, как
Среди гущи римского народа (лат.). — Цицерон.
23
вы благосклонно полагаете, лишь упрямым отрицанием не-
мецкого гекзаметра вообще; ибо неужели вы считали бы
меня человеком восприимчивым к поэзии и гармонии, если бы
я не умел чувствовать, например, гекзаметра Клейста или
Клопштока? Но в самом деле, раз уж вы сами заговорили об
этом, возможен ли клопштоковский гекзаметр у Оссиана? —
О нет, hinc illae lacrimae.1 Если бы господин Д. попытался
и внутренним слухом вникнуть в своеобразную поэтическую
манеру Оссиана — ведь он так краток, мощен, мужествен, так
отрывист в своих образах и чувствах, а поэтическая манера
Клопштока — такая живописная, как нельзя более способ-
ная излить всю полноту чувств, и подобно тому, как волны
этого потока, мерно вздымаясь, опускаются и снова встают,
так и слова, фразы льются, у него плавным потоком... Какое
различие! Во что же может превратиться Оссиан, изложен-
ный гекзаметром Клопштока, манерой Клопштока? Я, пожа-
луй, не знаю двух других столь же различных поэтов, — и
это даже в том случае, если рассматривать Оссиана как эпи-
ческого поэта.
Но ведь Оссиан вовсе таковым не является; именно это,
только это я и хотел вам сказать; о предыдущем, насколько
я знаю, уже писало такое издание, как «Критическая библио-
тека», * и тема эта ко мне не относится. Я только хотел на-
помнить вам, что стихотворения Оссиана представляют со-
бою песни, песни народа, необразованного, но одаренного
непосредственным чувством, песни, которые долгие годы жили
в устной традиции, передаваемой от отца к сыну. Разве они
были облечены в нашу прекрасную эпическую форму, разве
они были бы мыслимы в такой форме? — Друг мой, если
прежде, опровергая ваши упорные сомнения в подлинности
Оссиана, я ссылался более всего на внутреннюю убежден-
ность, на самый дух этих песен, гласящий неопровержимо:
«Нет, Макферсон не мог сочинить подобные песни! Ничего
похожего в нашем столетии сочинить нельзя!» — то теперь
я с точно такой же внутренней убежденностью громко воскли-
цаю: «Нет, петь это, 'право же, нельзя! Не могли бы дикие
горцы долгие годы хранить в памяти и передавать от поколе-
ния к поколению такие песни! А значит, это не тот Оссиан,
который пел, которого хранили в памяти!» Что вы мо-
жете возразить на этот мой довод, продиктованный внутрен-
ней убежденностью? В ближайшее время я, быть может,
напишу вам на эту тему немало страниц.
Никогда бы я не подумал, что вы будете так упорно
отстаивать вашего немецкого Оссиана! Вы полагаете, что,
расчленяя и сопоставляя, вы принудите меня согласиться
1 Вот откуда слезы (лат.). — Теренций.
24
с тем, что он «ничуть не хуже английского»! Но что может
дать такое расчленение в случае, когда необходимо мгновен-
ное, 'Непосредственное чувство? Чего только не докажешь
холодным анализом! И, при всем том, он никак не заменит
первоначальной непосредственности переживания. Подумали
ли вы и на этот раз об ощущении, которое вы испытывали
ежедневно, на каждом шагу, — о том, что «пропуск одного
слова, прибавление другого, повторение или перифраза треть-
его, а также изменение интонации, взгляда, тембра голоса —
неминуемо влекут за собой изменение общего тона?» Я все
еще не хочу пока говорить о содержании. Но тон? Но краски?
Но мгновенное ощущение своеобразия места, цели всего про-
изведения? И разве не на этом основана вся красота стихо-
творения, весь дух и вся сила языка? Так вот, если даже со-
гласиться с вами, что наш Оссиан как поэтическое произве-
дение не хуже или, пожалуй, даже лучше английского, то
придется тотчас же признать, что он уже более не тот древ-
ний б^ард Оссиан, — именно потому, что он столь прекрасное
поэтическое произведение. Это-то я и хочу вам сказать.
Возьмите любую из старинных песен, которые встречаются
у Шекспира или в английских сборниках этого рода, и отни-
мите у нее свойственные лирической песне благозвучие,
рифму, порядок слов, таинственное движение мелодии; пусть
останется одно только содержание, которое будет слово
в слово переведено на другой язык. Перемешайте нотные
знаки на листе партитуры Перголезе или буквы на странице
книги—разве это не то же самое? Что бы сталось со смыс-
лом этой страницы? Что бы сталось с Перголезе? У меня
как раз под руками песенка из Шекспировой «Двенадцатой
ночи», которую напевает герцог, чахнущий от любви, соби-
раясь покинуть этот мир:
...ту песню, что вчера,
Старинную, бесхитростную песню;
Она мою тоску смягчила больше,
Чем легкий звон и деланные речи
Проворных и вертлявых наших дней.
...старая, простая.
Вязальщицы, работая на солнце,
И девушки, плетя костями нити,
Поют ее; она во всем правдива
И тешится невинностью любви,
Как старина.1
Что же, разве подобная похвала не вызывает в вас такого
же желания услышать эту песню, какое испытывал и сам
влюбленный рыцарь? За дело! Переведите-ка эту песенку
гекзаметрами Дэниса:
1 Шекспир. Двенадцатая ночь, акт II, сцена 4 [перевод М, Лозин-
ского].
25
ПЕСНЯ
Прилетай, прилетай, смерть,
Пусть меня обовьют пеленой;
Угасай, угасай, твердь,
Я убит бессердечной красой.
Мой саван тисовой листвой
Изукрасьте.
Я встречу смертный жребий свой,
Как счастье.
Без цветов, без цветов, так,
Только в черном гробу схороня,
Без друзей, без друзей, в мрак,
Не простясь, опустите меня.
В могиле дайте мне лежать
Уединенной,
Чтоб не пришел над ней рыдать
Влюбленный.1
Не может быть мне другом тот, кто ничего бы не почув-
ствовал, прочтя эту песню, и в особенности услышав ее в жи-
вом исполнении, — такую наивную и простодушную. Однако,
если бы она была переведена (надо сказать, что Виланд* не
перевел ее, как и большинство песен этого рода!), если бы
она была переведена тем едва ли не.единственным поэтом,*
которого я считаю способным на это, создателем «Песни
скальда», и надгробия Аспазии, и греческой песенки жнецов,
и сладостной «Нении на смерть перепелки», и «Юной небес-
ной жницы», и «Сердечного страха доброго священника»,—
тем поэтом, который столь многообразен и в своем много-
образии умеет быть столь совершенным,— насколько же иначе
будет выражен внутренний смысл, дух этой песни, если он
воспроизведет не ее внешние черты, материальные, выражен-
ные в форме, звучании, интонации, мелодии, но все то непо-
стижимое, неопределимое, что вместе с песнею струится нам
прямо в душу! Перелистайте от нгачала до конца весь сбор-
ник Перси «Reliques of ancient Poetry»,2 переведите все, что
вам придется по душе и как угодно красиво, пренебрегая,
однако, общим тоном песни, и посмотрите, что у вас полу-
чится!
Вы ведь знаете прелестный, трогательный романс «Генрих
и Кэтрин», отсутствие коего в «Reliques» Перси весьма меня
удивляет:
In ancient times in Britain Isle
Lord Henry was well knowne.
[В Британии лорд Генрих был
Известен в старину.] .
1 Шекспир. Двенадцатая ночь, акт II, сцена 4 [перевод М. Лозин^
ского]; ; ■
δ «Памятники древней поэзии» (англ.).
26
Некий английский учитель, по имени Самуэль Бишоп,
весело провел свои ferlas poeticas: 1 он издал «Carmina
Anglicana elegiaci plerumque argumenti (я выписываю для
вас целиком ©се это высокоторжественное название) latine
reddita»,2 и среди этих «Carminibus Anglicanis latine redditis»
есть и наш романс elegiaci argumenti,3 a значит, воспроизве-
денный elegiaco versu,4 безукоризненным по своей версифи-
кации и фразеологии:
Angliacos inter proceres innotuit olim
Henricus priscoe nobilitatis honos.
[Средь благородных родов Британского архипелага
Генрих, дворянства краса, некогда был знаменит.]
Где же наш романс? Чтобы убедиться в том, что Оссиана
постигла такая же участь, загляните в прекрасный перевод
«Теморы», исполненный Макферланом. Автор его — шотлан-
дец, он сам слышал, как поет Оссиан,— значит, несомненно
и чувствует его поэзию! Вы только посмотрите, во что пре-
вратился под пером добросовестного, усердного латиниста
тот трогательный эпизод, когда убит Оскар, и поэт, внезапно
обрывая свой рассказ, обращается к его возлюбленной.
В «Новой библиотеке изящных искусств» (т. 9, № 2, стр. 344)
напечатаны рядом переводы Макферлана и Дэниса из Мак-
ферсона. Можете перелистать и убедиться!..
Возражения ваши странны. Вы соглашаетесь со мной в от-
ношении того, что вам угодно называть древними готическими
песнями, — рифмованных стихов, рома'нсов, сонетов и тому
подобных изысканно-литературных или даже затейливых
стансов; но в отношении древних безыскусственных песен
диких, варварских народов... Диких, варварских народов?
У меня едва поднимается рука, чтобы написать ваши слова.
Значит, ваш Оссиан и благородный, великий его Фингал так-
таки прямо и принадлежат к дикому, нецивилизованному
народу? И если бы даже все это было идеализацией, — не-
ужели народ, способный к подобной идеализации, народ,
который находит душевную отраду и высокое наслаждение,
ночные сновидения и прообраз дня в таких картинах и по-
вествованиях, неужели этот народ — дикий? Куда только не
заводит нас стремление во что бы то ни стало отстоять
излюбленную свою теорию!
Знайте же: чем более диким, то есть чем более живым,
чем более свободным в своей деятельности является народ
1 Поэтические дни отдыха (лат.).
2 «Английские стихотворения, преимущественно элегического содержа-
ния, переложенные по-латыни» (лат.).
5 Элегического содержания (лат.).
4 Элегическим стихом (лат.).
27
(вот что означает это слово, только и всего!), тем более ди-
кими, то есть живыми, свободными, чувственными, лириче-
скими и исполненными действия, должны быть и песни его,
если только у него вообще есть песни. Чем дальше народ от
искусственного, ученого образа мыслей, искусственного, уче-
ного языка и книжности, тем меньше мысли его подходят для
бумаги, для того чтобы быть мертвыми, книжными виршами:
от лирического, полного жизни, как бы плясового, начала
песни, от присутствия живых образов, от связи и внутренней
необходимости содержания, от живых ощущений, от симме-
трии слов, отдельных слогов, порою даже букв, от движения
мелодии и от множества других вещей, связанных с живым
миром, составляющих устную песню народа и исчезающих
вместе с нею, — от всего этого, именно и только от этого,
зависит сущность, назначение этих песен, вся их чудодей-
ственная сила, их свойство — неизменно быть выражением
восторга, энергии и радости народной, переходящим от поко-
ления к поколению! Эти песни — стрелы неистового бога
Аполлона^ которыми он пронзает сердце и к которым (прико-
вывает души и память! И тем дольше живет песня, чем силь-
нее, чем непосредственнее и живее все эти ее свойства, про-
буждающие души людей и дарующие ей победу над всемогу-
щим временем, над переменчивостью человеческих вкусов. —
К чему я веду это рассуждение?
Нет сомнений, что скандинавы были народом более диким
и суровым, нежели мягкие, одухотворенные шотландцы, ка-
кими они являются нам повсюду у Оссиана; я не знаю ни
одного стихотворения скандинавов, в котором звучали бы
нежные чувства: они тяжело шагают по скалам, по льду, по
оледенелой земле, и если говорить о свойственной Оссиану
обработке и культуре, то у скандинавов ничего похожего не
найдется. Но прочитайте их стихотворения у Ворма, Барто-
лина, Перингскьольда и Верелия: какая верность ритма,
с какою точностью каждый слог непосредственно соответ-
ствует требованиям слуха! Одинаковые начальные слоги,,
симметрично расположенные в стихе, — словно удары, отби-
вающие ритм походного марша воинственной дружины.
Одинаковые начальные буквы * как бы служат сигналом, они
звучат гулко, как щит, приставленный к губам воина-барда.
Перекликающиеся двустишия и отдельные строки; одинако-
вые гласные; слоги с созвучными согласными: вся эта рит-
мика стиха так искусна, так стремительна, так точна, что
нам, книжникам, нелегко разобраться в ней глазами. Однако
не думайте, что ритмика эта была так же трудна для тех
живых народов, которые ее не читали, но слышали, с младен-
чества слышали и сами пели, — ведь на ней воспитывался
их слух. Нет ничего более сильного и устойчивого, быстрого
и тонкого, чем привычка слуха! Однажды укоренившись, она
28
живет чрезвычайно долго. Приобретенная в детстве вместе
с первым лепетом, она сохраняется во всей своей первона-
чальной жизненности; сочетаясь со всеми впечатлениями
живой действительности, она возвращается обогащенной и
непобедимо сильной. Я мог бы привести вам множество уди-
вительных примеров из области музыки, песни и речи, если
бы стал заниматься психологическими разысканиями.
Не думайте, что я преувеличиваю. Из ста тридцати шести
размеров поэзии скальдов я тщательно изучил лишь один,
песенный, по Ворму (ибо просодия скальдов, * содержащаяся
во второй части «Эдды», еще, насколько мне известно, не
издана). Й можете ли вы себе представить: в строфе из
восьми строк метр определяют не только парные двустишия,
но в каждом двустишии перекликаются три начальные буквы,
три созвучных слова и звука, которые так расставлены, что
вся строфа по своей просодии становится как бы сплетением
рун, — а ведь это всё были реальные звуки живой песни, от-
мечавшие такт и обращенные к памяти, все они сталкивались,
перекликались, сливались ,воедино!.. Сделайте сами опыт,
изучите предсмертную песнь Рагнара Лодброга * в рунах
Ворма, а потом прочтите тонкий, изящный перевод, сделан-
ный на немецкий язык совсем в другом тоне и другом раз-
мере,— это не что иное, как искаженная гравюра с прекрас-
ной картины! Пусть теперь кто-нибудь возьмет и сделает из
боевого гимна валькирий, из таинственной беседы Одина
у врат ада, из страшного суда богов «Эдды» * красивую
героическую песнь в гекзаметрах или красивое стихотворение
3 греческом размере, как поступил господин Дэнис с беседой
Гауля и Морни, Фингала и Роскраны, * или из надгробной
песни Эвинда Скальдаспиллера * ,над телом Хакона элегию
в стиле «Могилы Красных щитов» Клопштока, * как бы от-
неслись к этому отец Один и старый Скальдаспиллер?
А о том, что ритмика скальдов не была ограничена Ислан-
дией и Скандинавией, вы можете судить по Хиккесу и дру-
гим, из новейших работ — по комментарию к «Complaint of
conscience» в «Reliques» Перси (часть 2, т. 3, стр. 277), где
приводится немало сходных примеров из англосаксонского. *
Но мало этого. Посмотрите поэмы Оссиана. Песни бардов
ео всеми их особенностями в высшей степени схожи с песнями
другого народа, который живет на земле, поет и действует
в наши дни; поэтому я, без всяких иллюзий и предрассудков,
увидел в истории этого народа немало черт, живо напоми-
нающих историю Оссиана и его отцов. Я имею в виду пять
народов Северной Америки: * плачи -и походные песни, песни
■боевые и надгробные, исторические гимны, восхваляющие
предков и обращенные к ним, — все это общее для бардов
Оссиана и для североамериканских дикарей; исключение
составляют индейские песни мести и пыток, а также те песни
29
чувствительных каледонцев, * которые они окрашивали;
«кровью нежных чувств». Посмотрите-ка, что пишут все путе-
шественники — Шарлевуа и Лафито, Роже и Кэдуоллэдер
Кольден — о том, какое впечатление производили на чуже-
земцев звучание, ритм, мощь этих песен. Посмотрите, какую
здесь роль, — по единодушному мнению всех слышавших, —
играют живое движение, мелодия, язык жестов, пантомима.
Заметьте, что явное сходство песен обоих народов признано
теми путешественниками, которые знали шотландцев и по-
долгу жили с американцами, например капитаном Тимбер-
лейком. Теперь сделайте 'необходимые выводы. В переводах
Даниса мы крепко и прочно стоим 1на земле, и хотя мы слы-
шим содержание, переданное хорошим поэтическим языком,
но нет здесь ни одного звука, ηή одной интонации, которые
позволили бы нам говорить об аналогии с творчеством других
диких народов, ни единого дуновения с холмов Каледонии,
которое бы нас подняло, окрылило, донесло бы до нас живое
звучание этих песен: мы сидим, мы читаем, мы крепко и
прочно прилеплены к земле.
Когда в душе моей еще жила мечта о поездке в Англию...
О друг мой, вы не можете представ'ить себе, какие надежды
я в то время возлагал на этих шотландцев! Бросить хотя бы
один взгляд, так думалось мне, на зрелище общественной
жизни и духа английского народа, чтобы прояснить те не-
ясные и запутанные представления об истории, философии,
политике и своеобразных особенностях этой удивительной
нации, которые обычно складываются в голове иностранца!
А затем совсем иное зрелище — к шотландцам! К Макфер-
сону! Там я услышу живые песни живого народа, испытаю
их непосредственное действие, увижу места, которые живут
в стихах, сумею изучить остатки этого древнего мира, сохра-
нившиеся в обычаях народа! На время превратиться в древ-
него каледонца, а затем — назад в Англию, чтобы глубже и
лучше изучить памятники ее литературы, ее художественные
цроизведения, собранные отовсюду, и особенности ее нацио-
нального характера... С какой радостью лелеял я этот замы-
сел! И как переводчик я бы тоже попытал удачи на иных
путях, на которые Дэнис... не вступил. Собственно' говоря,
мимо Дэниса прошли даже образцы древнего языка, опубли-
кованные Макферсоном. *
Вы смеетесь над моим увлечением дикарями примерна
так, как Вольтер смеялся над Руссо, говоря, что ему будто бы
очень нравится ходить на четвереньках; не думайте, что увле-
чение это заставляет меня в какой бы то ни было степени
презирать преимущества нашей морали и цивилизации.
Предназначение рода людского — в смене сцен, культуры и
нравов. Горе человеку, если ему не по душе та сцена, где он
30
должен выступать, действовать, жить, ήο горе и тому фило-
софу, изучающему человечество и нравы, которому его сцена
кажется единственной, а каждая предшествующая непре-
менно представляется плохой! 'Если все разнообразные сцены
составляют отдельные эпизоды развивающейся драмы, то
в каждой из них обнаруживается иная, в высшей степени
примечательная, сторона человечества. Итак, смотрите, как
бы в следующий раз я не вздумал докучать вам рассужде-
ниями о психологии, извлеченной из поэм Оссиана. По край-
ней мере, замысел ее живет в глубине моей души, и если бы
я захотел изложить здесь свои соображения, вы прочитали
бы немало удивительного!
Но сейчас речь не о том. Знаете ли, почему я испытываю
подобные чувства к песням дикарей, и в особенности
к Оссиану? Оссиана я 'первоначально прочел при обстоятель-
ствах, которые вряд ли обычны для большинства читателей,
всегда рассеянных, погруженных в житейские дела, заботы
и развлечения и привыкших к легкому и занимательному
чтению. Вы знаете о моем морском путешествии, * но вы не
можете себе воочию представить, что испытывает человек во
время такого долгого морского пути. Подумайте только: вне-
запно вы оказались оторванным от привычных дел, от суто-
локи и предрассудков гражданского общества, от покойного
кресла ученого, от мягкой софы и салонных бесед, лишенным
развлечений, библиотек, ученых и неученых газет, на малень-
кой деревянной палубе, качающейся под ногами посреди
безбрежного моря, в крохотном государстве, подчиняющемся
законам более строгим, чем республика Ликурга, * перед
лицом совсем иной, живой и творческой природы, между
бездной моря и небесами; вы окружены изо дня в день все
той же бескрайней стихией, и лишь порой взор ваш остана-
вливается на очертаниях новых, далеких берегов, нового
облака, на пейзаже этого идеального мира, — а в руках вы
держите книгу песен и деяний древних скальдов, и душа ваша
переполнена ими, и вы плывете мимо тех мест, где все это
происходило: то мимо утесов Олафа,* о которых создано
столько чудесных легенд, то мимо одинокого острова, отде-
ленного от материка плугом знаменитой волшебницы Асы, *
погонявшей четверку мощных волов, у которых во лбу свер-
кали звезды («Морские брызги, подобно ливню, поднимались
к небесам, и всюду, куда оборачивались волы, влачившие
тяжкий плуг, над головами их сверкали восемь звезд»),
проезжаете <мимо песчаных отмелей, где некогда мчались по
океану с песнею и мечом скальды и викинги на своих «конях
пояса земли»* (кораблях), мимо далеких берегов, видевших
подвиги Фингала и слышавших исполненные тооки песни
Оссиана, где вас овевает тот самый ветер, окружает тот са-
мый мир, то самое безмолвие, — поверьте мне, там скальды
31
и барды читаются иначе, нежели за профессорской кафедрой.
Вуд с томиком Гомера—на развалинах Трои,* аргонавты,
Одиссеи, Лузиады — под развевающимся парусом, подле гро-
мыхающего штурвала, история Утала и Нинатомы * — в виду
острова, на котором она произошла! По крайней мере на
меня, человека непосредственного чувства, столь непосред-
ственные переживания оказывают глубокое воздействие. И до
сих пор еще живут во мне ощущения той ночи, когда я, «а
палубе разбитого корабля, * выброшенного на мель теперь
утихшей бурей, читал о Фингале и ожидал рассвета, а вокруг
меня плескалось море и веял полуночный ветер... Простите
моему старческому воображению — оно ищет поддержки
у впечатлений такого рода, как у старых знакомцев, как
у близких друзей.
Но и это- еще не причина моего увлечения, в котором вы
упрекаете меня; ибо в таком случае оно было бы всего лишь
субъективной ослепленностью, всего лишь морским виде-
нием, которое предстало предо мной. Знайте же, что я и сам
имел возможность наблюдать живые остатки этих древних,
диких песен, ритмов, плясок у живых народов, * которых
нравы наши не окончательно лишили их языка, песен и обы-
чаев, либо заменив их чем-то весьма уродливым, либо не
заменив ничем. Знайте же: почти всякий раз, как я слышал
такую древнюю песню, слышал ее дикие звуки, я стоял не-
подвижно, как тот француз Марсель: * «Que de choses dans
un menuet!» l Или вернее: что выиграли такие народы, отдав
песни свои в обмен на уродливый менуэт или на рифмован-
ные вирши, ничем не отличающиеся от такого менуэта?
Вам известны обе латышские песенки, которые Лессинг
привел в своих «Письмах о литературе», взяв их у Руиха; вы
понимаете, какой чувственно-ощутимый ритм языка должен
был лежать в их основе. Позвольте мне теперь привести две
перуанские песни >из Гарсиласо де ла Вега, * которые я -пере-
вел, соблюдая, по мере возможности, смысл, звучание и ритм.
Но вы тотчас же увидите сами, в какой степени они под-
даются переводу.
Первая из них — вечерняя серенада влюбленного:
Под напев мой, девушка,
Спи, тревог не зная,
Ровно в полночь, девушка,
Разбужу тебя я.
Можно ли оказать что-нибудь более нежное своей люби-
мой?
Вторая песня — просто картина, вымысел их мифологии
о громе и молнии. В облаках обитает нимфа с кувшином
в руках, и обязанность ее — в нужное время давать земле
1 «Сколько прекрасного в менуэте!» (франц.).
32
дождь. Если она забудет об этом, если земля начинает из-
немогать от засухи, йриходит брат ее и разбивает кувшин.
Тогда гремит гром, сверкает молния и в то же время падает
на землю дождь. Если вам по душе этот миф о грозе, кото-
рая разражается в пору засухи и дарит землю дождем, если
он кажется вам чувственно-наглядным й образным, тогда
послушайте эту песню или, если угодно, молитву, обращен-
ную к нимфе:
О богиня,
Дочерь неба,
Был кувшин твой
Полон влаги,
Но твоим
Разбит он 'братом,
Так что буря
Загремела,
С грозным громом
Засверкала.
О богиня,
Дочерь неба,
И теперь ты
Дождь даришь нам,
Дождь целебный!
А нередко
Ты бросаешь
Хлопья снега,
Град на землю/ *
Эту силу
Дух вселенной,
Дух вселенной,
Виракоха,
Дал богине,
Дщери неба.
Я привел эту песенку отнюдь не как образец глубокомыс-
лия. Вы ведь знаете, какой дурной славой пользуются глу-
пые перуанцы. Я имею в виду симметрию в ритме, напев-
ность, и в этом отношении переложение мое — лишь бледная
и слабая копия.
Вам известна «Песня лапландца» в переложении Клей-
ста? * Разумеется, перо этого славного поэта не. могло не
приукрасить оригинал. А если я предложу вашему вниманию
самого этого грубого лапландца? Хотя бы из третьих рук,
потому что Шеффера у меня здесь нет:
О солнце, сиянье твое озарило озеро Орра!
Я залез бы на верхушку сосны, если бы мог увидеть озеро Орра!
Я бы залез на нее, на верхушку, если бы мог увидеть мой любимый
цветок, мою милую!
Я обкорнал бы ее, я обрезал бы все ее ветви, зеленые ветви...
Если бы были у меня крылья, чтобы к тебе полететь, крылья вороны,
Я помчался бы за облаками вслед к озеру Орра!
Но нет у меня крыльев! Утиные крылья! Утиные лапы!
Гусиные лапы, как весла, несущие меня к тебе!
О, ты долго ждала, так много дней, прекрасных дней,
3 Зак. 291. Гердер 33
Меня ждали твои ласковые глаза, твое нежное сердце!
Что кршче сплетенных жил, тяжелых железных цепей?
Так нас с тобою связала любовь, владычица разума и воли!
Ибо валя влюбленного юноши подобна порыву ветра,
Мысли влюбленного — бесконечные мысли!
Если бы я следовал за ними, я бы сбился с пути.
Потому мне одно остается — следовать верной дорогой.
Как сказано, я взял ее из третьих рук, эту лапландскую
песенку; и все-таки — как естественно, как страстно мечтает
молодой влюбленный лапландец, которому путь его кажется
бесконечно долгим и для которого все, что он видит, — и
солнце, и верхушки сосны, и облако, и ворона, и гусиные
лапы, — все имеет прямое отношение к озеру Орра и к его
девушке; который с такой непосредственностью и страстью
говорит о стремительном или медленном своем движении,
о порывах своей души, о мыслях, опередивших его самого,
о желании найти кратчайшую дорогу! Que de choses dans
an menuet! A ведь я даю вам всего лишь какие-то жалкие,
косноязычные остатки!
Я хотел сообщить вам еще одну лапландскую любовную
песню — «К оленю»; но листок, на котором она записана,
куда-то запропастился, а искать мне его недосуг. Зато при-
веду старинную, очень страшную, шотландскую песню, кото-
рую мне легче отстаивать, потому что я перевел ее непосред-
ственно с оригинала. Это — разговор матери с сыном, и
в Шотландии, насколько я знаю, она сопровождается трога-
тельным народным напевом, для которого текст представляет
немалые возможности.
«Чьей кровию меч ты свой так обагрил,
Эдвард, Эдвард?
Чьей кровию меч ты свой так обагрил?
Зачем ты глядишь так сурово?»
«То сокола я, рассердяся, убил,
Мать моя, мать!
То сокола я, раасердяся, убил,
И негде добыть мне другою!»
«У сокола кровь так красна не бежит,
Эдвард, Эдвард!
У сокола кровь так красна не бежит,
Твой меч окровавлен краснее!»
«Мой конь красно-бурый был мною убит,,
Мать моя, мать!
Мой конь красно-бурый был мною убит,
Тоскую по добром коне я!»
«Конь стар у тебя, эта кровь не его,
Эдвард, Эдвард!
Конь стар у тебя, эта кровь не его,
Не то <в твоем сумрачном взоре!»
«Отца я сейчас заколол моего,
Мать моя, мать!
34.
Отца я сейчас заколол моего,
И лютое жжет меня горе!»
«А грех чем тяжелый искупишь ты свой,
Эдвард, Эдвард?
А грех чем тяжелый искупишь ты свой?
Чем сымешь ты с совести ношу?»
«Я сяду в ладью непогодой морской,
Мать моя, мать!
Я сяду в ладью непогодой морской
И ветру все парусы брошу!»
«А с башней что будет и с домом твоим,
Эдвард, Эдвард!
А с башней что будет и с домом твоим,
Ладья когда в море отчалит?»
«Пусть ветер и буря гуляют по ним,
Мать моя, мать!
Пусть ветер и буря гуляют по ним,
Доколе их в прах не повалят!»
«Что ж будет с твоими с детьми и с женой,
Эдвард, Эдвард?
Что ж будет с твоими с детьми и с женой
В их горькой, беспомощной доле?»
«Пусть по миру ходят за хлебом с сумой,
Мать моя, мать!
Пусть по миру ходят за хлебом с сумой,
Я с ними не свижуся боле!»
«А матери что ты оставишь своей,
Эдвард, Эдвард?
А матери что ты оставишь своей,
Тебя что у груди качала?»
«Проклятье тебе до скончания дней,
Мать моя, мать!
Проклятье тебе до скончания дней,
Тебе, что мне грех нашептала!» 1
Может ли народная песня в более жутких красках изо-
бразить братоубийство Каина? А какое впечатление должны
производить ритмы этой песни в живом исполнении?
А сколько, сколько таких песен у народа! Но письму моему
не следует превращаться в трактат, и т. д.
Наконец-то вы стали со вниманием прислушиваться
к моим доводам и просите меня привести еще несколько по-
добных народных песен; но я по-прежнему проявляю упор-
ство по отношению к вам. Я не могу, например, примириться
с одним из возражений, содержащихся в вашем предпослед-
нем письме: «У господина Д. тоже так много лирических
мест, и они так красивы!»
Лирические места у него есть, и они, действительно, кра-
сивы. Но сколько у него таких лирических мест? И благо-
1 [Перевод А. К. Толстого].
3* 35
даря чему они красивы? Что представляет собою в ориги-
нале все остальное, все то, что у Д.— не' лирика? Разве та
почва поэмы, на .«которой оды являются у него отдельными
цветами, разве эта почва — гекзаметр? Да и потом — как и
благодаря чему они красивы? Благодаря римским и грече-
ским размерам и их изящной упорядоченности? Но ведь
именно потому-то я и утверждаю, что они перестали быть
прекрасными песнями барда Оссиана. Макферсон почти по
поводу каждого такого эпизода не может удержаться от
восклицаний о дикости или нежности, торжественности или
воинственности ритма, мелодии, размера, которые ведь и об-
разуют душу песни! Между тем я должен признаться, что
в большинстве случаев я не могу понять выбора тех или иных
римских или греческих размеров; а если говорить об общем
тоне этих песен диких народов, то я считаю, что римские и
греческие размеры к ним вообще неприменимы. Я не хочу
соревноваться с господином Д.; он превосходно владеет поэ-
тическим стилем и языком, — но я хотел бы увидеть у него
хотя бы один отрывок, который, будучи переведен в другом
размере, не оказался бы так же хорош, то есть так же укра-
шен, как все остальное. Во многих случаях господин Д., ска-
жем прямо, делает дурной выбор.
Чтобы в этом убедиться, посмотрите третий том. Здесь
какой-то критик, видимо, посоветовал ему почаще пользо-
ваться размерами, которые применяли скальды, — поглядите,
как переводчик злоупотребляет ими!
Дивная многострунная золотая арфа, из которой персты
датчанина-скальда умеют извлекать всевозможные волшеб-
ные, мощные, поэтичные, сказочные созвучия — и в то же
время мелодии люб-ви, дружбы, восторга,— арфа эта в руках
переводчика превратилась в простой деревянный бара-
бан. Жаль только, что вследствие этого оказались изуродо-
ваны прекрасные «Песни Сельмы» и сладостная «Карик-
тура». В первом томе переводчик прямо-таки придумал це-
лую рифмованную кантату, написанную по всей форме; и,
так <как его хватает разве только на пару -сносных рифм, то
весь эпизод оказывается ниже всякой критики.
Насколько иначе Клопшток и в этом отношении работал
над языком! Обычно такой многоречивый, обстоятельный,
как поэт этот краток, мощен, порывист в «Битве Германа», *
как стремился он вдохнуть в это произведение древнегерман-
ский дух! Какая же проза сравнится с этими его гекзамет-
рами! Какие лирические размеры сравнятся с этими его
метрами, — а ведь обычно и он пишет плавно струящимися
греческими строфами! Если в его «бардите» немного от
драмы, то, по крайней мере, β этом «бардите» присутствует
лирическое начало, а в этой лирике хотя бы словесный строй
так драматичен, так соответствует немецкому духу! Про-
36
чтите, например, этот отрывок, отличающийся благородством
и простотой:
Во мху, у тихого ручья... и т. д. —
и многие, многие другие, да, собственно говоря, почти всё...
Прочтите это, а потом покажите мне что-либо у Дэниса, на-
поминающее по тону поэзию бардов. Клопштоку пришлось
от многого отказаться, многое менять в своих привычках, —
разве этот пример не поучителен? Вы недавно писали мне,
восхваляя Дэнисовы размеры, что, когда вы читали его
«Фингала и Роскрану», вам вспомнились «Герман и Тус-
нельда» . Клопштока (из «Бременских сообщений») ; * тем
хуже; ибо новый тон Клопштока, тон поэзии бардов, не со-
всем тот, что в «Германе и Туснельде». Несомненно, не
я один чувствую в новейших творениях Клопштока эту но-
вую, более мужественную интонацию бардов; и, не пускаясь
в рассуждения о том, что лучше и что хуже, я с годами ра-
достно двигаюсь ©перед вместе с поэтом и с природой, и
я горд тем, что слышу голос германских бардов в его
Твое ль отечество, глупец...
и во всех его последних вещах, где так краток, так драма-
тичен диалог и так стремительны мысли.
Темы нашей переписки разветвились так широко, что я
уже не знаю, за какую нить ухватиться, чтобы продолжать раз-
витие мысли. Возьмусь за тот конец, что попадется в руки.
Замечания ваши «О драматическом в старинных песнях»
такого рода пришлись мне по душе: я всегда считал это ха-
рактерной чертой древних, до которой нам так же далеко,
как застывшему, мертвому полотну, на котором запечатлено
одно лишь мгновение, до развивающейся живой сцены, пол-
ной действия. Первое — это наши оды; второе — лирические
песни древних, в особенности—диких народов. Все их речи
и стихи исполнены действия. Прочитайте, например, у Шар-
левуа хотя бы импровизированную речь эскимоса о войне и
о мире; все в ней — образ,'каждая строфа — сцена! Сколько
действия в «Поездке Одина в ад», в «Песне валькирий за
пряжей», в «Заклинании Хервор», * а у Оссиана — на ка-
ждой странице, в каждой вещи! Чтобы вы снова не сказали,
будто я вам многое называю, не приводя никаких доказа-
тельств, я начну выплачивать вам мой долг с того, что при-
ложу к письму две поэмы из названных выше, — тем более
что у меня сейчас нет больше времени писать. Я мог бы их
подновить для вас, улучшить и украсить: но тогда они пере-
стали бы быть тем, чем являются сейчас, а ведь и мне и вам
важен именно этот зеленоватый налет старины, покрываю-
щий бронзу статуи, именно этот неясный, однообразный, се-
верный характер древних песен.
37
ПОЕЗДКА
ОДИНА В АД
Вот поднялся Один,
Владыка людей!
Он вывел коня
И вниз поскакал,
К вратам преисподней.
Там встретил его
Адский пес.
Была его грудь
Забрызгана кровью.
В пасти разверстой
Торчали клыки,
И слюна клокотала.
И пасть он раскрыл
И залаял при виде
Владыки людей, —
И лаял долго.
И .скакал Один дальше,
И земля колебалась,
И приехал он вскоре
К высокому замку,
И через большие
Врата преисподней
Подъехал к могиле
Пророчицы вещей.
И пропел он волшебный,
Пробуждающий мертвых,
Надгробный напев.
И, на север взглянув,
Начертал он руны
И, творя заклинанья,
Призывал к ответу.
И вот наконец
Поднялась о-на в гневе,
И так зазвучал
Ее мертвый голос·
«Кто этот муж?
Я не знаю его!
Он дерзко хочет
Покой мой нарушить.
Я лежала, покрыта
Снегом и льдом,
Поливаема ливнем
И хладной росою,
Лежала так долго!»
«Я странник безвестный,
Дружинника сын.
Ты должна мне -поведать
Об адском царстве.
А тебе расскажу я
О мире моем.
38
Это кресло златое
Для кого стоит здесь?
Это ложе златое
Кого ожидает?»
«Для Бальдра, * — видишь -
Стоит напиток,
Медовый напиток,
Щитом прикрытый.
Будут вскоре боги
Оплакивать Бальдра.
Говорить не хочу я,
Дай мне уснуть!»
«О нет, не время!
Ответствуй, дева,
Я спрашивать буду,
Пока все не узнаю!
Скажи, кто Бальдру
Смерть принесет?
Кто сына Один а
Жизни лишит?»
«Ему имя — Ходр,
Он младшему брату
Смерть принесет,
Он сына Один а
ЖИЗНИ Л1ИШИТ.
Говорить не хочу я,
Дай мне уснуть!»
«О нет, не время!
Ответствуй, дева,
Я спрашивать буду,
Пока все ве узнаю.
Скажи, кто ж воздаст
Отмщение Ходру,
Кто же предаст
Смерти убийцу?»
«На западе Ринда
Одину в ночь
Сына родит,
И, едва родившись,
За меч он возьмется,
О,н рук не омоет,
Кудрей не расчешет,
Пока не предаст
Смерти убийцу.
Не хочу говорить я,
Дай мне уснуть!»
«О «ет, не время!
Ответствуй, дева,
Я спрашивать буду,
Пока все не узнаю.
Кто эти девы,
Что молча там плачут
39
И в отчаянье к небу
Покрывало бросают?
Еще это поведай,
До тех пор не уснешь ты!»
«О нет, ты не странник,
Как мнила я прежде:
Ты Один сам,
Людей повелитель».
«А ты, я знаю,
Не вещая дева,
Не пророчица ты,
Но могучая- матерь
Трех великанов».
«Прочь, Один! Вернись
Обратно! Ступай!
Вернись и скаж-и, —
Никому из людей
Не дано вопрошать,
Как ты это делал,
Пока волк Фенрир *
Не расторгнет узы,
Не погибнут боги,
Не распадется мир
И ночь не придет».
ПЕСНЯ ВАЛЬКИРИЙ ЗА ПРЯЖЕЙ*
(богини судьбы перед битвой — о предстоящей смерти
графа Рандвера и победе короля)
Вокруг темнеют
Тучи -стрел!
Они предвещают
Грозную бурю.
Из туч этих кровь
Струится на землю!
О сестры смерти,
На копьях вздымайте
Кроваво-красную
Пряжу судьбы!
Да погибнет Рандвер!
Ткут они пряжу
Из кишок людских!
Головами людей
Увешана пряжа,
Кровавые копья
Пронзают их,
Сжимают в руках они
Луки и стрелы
И ткут мечами
Пряжу победы.
Пришли они, ткут они,
Ткут мечами,
Хильда, Гьортримуль,
40
Сангрида, Свипулъ.
Не зайдет еще солнце,
Как щиты разлетятся,
И прорвутся кольчуги,
И обрушится меч
На гудящие шлемы.
«Мы ткем, мы ткем
Боевую пряжу!
Прежде сын короля
Носил этот меч!
Вперед! Вперед!
К боевой дружине,
Там наши друзья
Оружием блещут.
Мы ткем, мы ткем
Боевую пряжу!
Вперед! Вперед!
К королю поближе!
Гудр, Гон дула!»
И вот уже щит их
Кроваво-красный
Короля укрывает.
«Мы ткем, мы ткем
Боевую пряжу!
Вперед! Туда,
Где грохочет оружье,
Где бьются герои!
Мы охраним
Короля от смерти!
Валькирии властны
Над смертью и жизнью.
Да будет править
Отныне миром
Народ пустыни!
Король могучий,
Тебе предрекаю:
Близится в стрелах
Грозная смерть!
Погиб твой враг!
Предается Ирландия
Скорби великой,
И будет в сынах ее
Жить она вечно!
Соткана пряжа!
Поле сражения
Залито кровью!
И по многим странам
Пройдет война!
Как страшно ныне
Смотреть вокруг!
Кровавые тучи
По небу мчатся!'
41
Ах, кровью воинов
Пропитается воздух,
Пока не исполнятся
Пророчества наши.
Пойте, о сестры,
Хвалу королю
И песни победы!
И хвалу нам, сестрам,
И нашей песне!
И кто их услышит,
Песни сраженья,
Пусть он выучит их
И споет их дружине».
И скачут на конях
По воздуху, к небу, —
Обнажив мечи,
Прочь отсюда.
Стремился ли я когда-нибудь к тому, чтобы »выдавать эти
стихотворения скальдов за образец, по которому во всех от-
ношениях должны равняться новейшие стихи? Нимало.
Пусть они однообразны, пусть сухи, пусть превосходят их
творения других народов, пусть они считаются всего лишь
леснями северных мейстерзингеров или improvisatori,l — то,
что я стремлюсь доказать, они доказывают. Дух, которым
они наполнены, их грубый, наивный, но величественный, вол-
шебный, торжественный характер, глубокое впечатление,
производимое каждым столь энергично произнесенным сло-
вом, вольная стремительность, усиливающая это впечатле-
ние, — только это я хотел показать, говоря о творчестве
древних народов. Я привел эти две поэмы не в качестве
курьеза или образца, но как пример ήχ подлинной природы.
Позвольте же мне вести речь именно об этом.
Из описаний путешественников вы знаете, с какой силой
и определенностью всегда изъясняются дикари. Предмет,
о котором они хотят сказать, видят они чувственно ясно и
живо; цель, ради которой они высказываются, ощущают они
непосредственно и точно. Их не уводят в стороны никакие
туманные понятия, неопределенные мысли и рассудочная
буквенная символика (для выражения всего этого в их
языке даже нет слов — они почти не знают абстрактных по-
нятий!); не испорченные искусственными тонкостями, раб-
ским подобострастием, трусливым и лицемерным политикан-
ством, путаными предрассуждениями, они блаженны в своем
незнании всего, что только расслабляет дух, и без остатка
выражают всю свою мысль в слове, и слово у них полностью
соответствует мысли. Они либо молчат, либо, испытывая по-
1 Импровизаторов (итал.).
42
требность высказаться, говорят е непреднамеренной опреде-
ленностью, уверенностью и красотой, коим ученые европейцы
неизменно отдают дань восхищения, — но подражать не мо-
гут. Наши педанты, которым нужно -предварительно все вы-
писать и затвердить наизусть, чтобы затем, заикаясь, про-
шамкать свою речь по предписанной методе; наши школьные
учителя, пономари, недоучки, аптекари и все прочие, вку-
сившие от учености и обогатившиеся лишь тем, что научи-
лись . говорить как шекспировские Ланчелоты, стражники и
могильщики — невнятно и неопределенно, так, словно у них
в предсмертном бреду путаются мысли, — эти учены-е мужи, что
они б сравнении с дикарями? Тот, кто захочет найти в на-
шем обществе следы этой твердости, пусть ищет их не
здесь: неиспорченные "дети, женщины, простые люди с при-
родным разумом, сформировавшимся не в метафизических
диспутах, а в активной деятельности, — вот единственные
лучшие ораторы нашего времени, если то, о чем я говорил,
называется красноречием.
А в древние времена именно поэты, скальды, ученые
лучше всех умели сочетать эту уверенность и твердость речи
с достоинством, благозвучием, красотой; и так как они умели
приводить к единению душу и уста, которые при этом не
только не вступали в борьбу, но взаимно поддерживали друг
друга, то и возникли эти кажущиеся нам чуть ли не чудом
творения аэдов, певцов, бардов, менестрелей* — величайших
поэтов древнейших времен. Рапсодии Гомера и песни Ос-
сиана были в равной степени 'импровизацией, ибо в ту пору
ничего, кроме импровизации, и не существовало; по этому
пути позднее пошли менестрели, и хотя у них уже далеко не
было прежней силы, они все-таки шли тем же путем, но по-
том явилось искусство и уничтожило природу. Мы стали
с малолетства мучиться над чужими языками, подсчитывая
звуки, чуждые слуху нашему и нашей природе; работать,
следуя правилам, которые гений лишь в редких случаях
признал бы правилами природы; сочинять стихи о предме-
тах, по поводу которых ничего нельзя ни подумать,, ни почув-
ствовать, ни вообразить; выдумывать страсти, которые нам
неведомы; подражать душевным свойствам, которыми мы не
обладаем, — и, наконец, все стало фальшивым, ничтожным,
искусственным. Даже те, кто умнее других, стали путаться,
утратили твердость глаза и руки, уверенность мысли и вы-
ражения, а вместе с тем — истинную жизненность, правди-
вость, убедительность. Все было утрачено. Поэзия, которая
искони была самой стремительной и уверенной дочерью че-
ловеческой души, стала шататься, хромать и спотыкаться;
стихи превратились в гимназические упражнения. И понятно,
раз именно это свойственно нашему времени, мы и в древ-
ней поэзии восхищаемся не столько природой, сколько
43
искусством, находя в ней то слишком много, то слишком
мало — в зависимости от наших сегодняшних представлений
и потребностей, забывая о том, что в ней поет, — о духе при-
роды. Я уверен — если бы воскресли Гомер и Оссиан, если
бы они услышали, как их читают и превозносят, они были
бы несказанно изумлены тем, что им приписывают и чего и:<
лишают, что по их поводу сочиняют и чего в то же время
в них не чувствуют.
Правда, строй наших душ теперь совсем иной: в течение
многих поколений он изменился, как и воспитание, которое
мы проходим с малолетства. Мы почти уже не видим и не
чувствуем, мы только думаем и рассуждаем; мы творим поэ-
зию не об окружающей нас живой жизни, находясь в самой
ее гуще и отдаваясь бурному потоку предметов и непосред-
ственных ощущений, — нет, мы искусственно сочиняем либо
тему, либо способ ее воплощения, либо! и то и другое вместе,
и все это сочиняем уже так давно, так часто, с таких ранних
лет, что едва ли мы еще способны к свободному развитию,
ибо как хромому снова научиться ходить? Вот почему боль-
шинству наших новых поэтических произведений недостает
твердости, определенности, законченности формы, которые
может им придать только первый набросок, отнюдь не по-
следующий расчет с помощью циркуля и линейки. При всем
нашем поэтическом усердии мы показались бы столь же бес-
помощными Гомеру и Оссиану, как беспомощный школьник,
царапающий ученические рисунки, — какому-нибудь Ра-
фаэлю или Апеллесу, один только штрих которого выдает
в нем гений великого художника. И т. д.
Я отнюдь не хотел разговорами о первом наброске сти-
хотворения, как я писал в предыдущем письме, хотя бы в ма-
лейшей степени брать под защиту торопливость и бес-
помощность наших юных стихоплетов. Ибо главный их по-
рок, сразу бросающийся в глаза,—это именно неопределен-
ность, нетвердость мысли и слова, незнание того, что они хо-
тят или должны сказать. Но если человек этого не знает,
могут ли ему помочь последующие исправления? Никакая
обработка не превратит вертел в. мраморную статую Апол-
лона!
Думается мне, что, имея в виду нынешнее состояние на-
шего поэтического искусства, мы можем различить два ос-
новных случая. Если поэт сознает, что преобладающими чер-
тами его дарования являются способность представления и
мысли или что именно эти черты необходимы для избранных
им предмета и поэтического жанра, он должен тогда предва-
рительно так всесторонне обдумать и этот предмет и содер-
жание своего стихотворения, так ясно и отчетливо охватить
44
мыслью и расположить свой материал, чтобы каждое слово
как бы заранее врезалось Б его сознание; и тогда его стихо-
творение будет прямым и полным отпечатком его мысли.
Если же задуманное им произведение требует свободного
излияния страсти и чувства и если именно эти душевные
силы представляют основную и 'самую действенную пружину
его дарования, без чего поэт не может творить, тогда, охва-
ченный творческим огнем, он всецело отдается счастливой
минуте вдохновения, пишет и чарует мир.
К первому типу поэтов относятся Мильтон, Галлер,
Клейст и другие: они долго обдумывали, ничего не записы-
вая; но'сказанное ими однажды уже не нуждалось в изме-
нениях. Мильтон, который ночами складывал в душе немно-
гие стихи, как складывают мозаичную картину, и затем рано
поутру диктовал их переписчице; Галлер, по стихотворениям
которого ясно видно, сколь они обдуманны и немногословны;
Лессинг, который, как мне кажется, в последний период
творчества принадлежал к числу подобных поэтов, —все они
создавали в уме вполне законченные вещи, которые произ-
водят если не мгновенное, то глубокое и устойчивое впечат-
ление. Ко второму типу принадлежат, например, Клопшток
в его самых вдохновенных строфах; Глейм, в стихотворениях
которого так чувствуется первый набросок; Я'коби, стихи ко-
торого представляют собою сладостное излияние минутного
состояния духа, а также другие, дошедшие впоследствии
в этой манере до преувеличений и полной небрежности. Рам-
лер, думается мне, хочет объединить эти два типа, хотя, без
сомнения, первый, рассудочный, выступает у него несрав-
ненно более явственно. Виланд пытается их примирить, хотя
он все же в гораздо большей степени черпает материал своей
поэзии из глубин собственного сердца, в котором для него
сосредоточен весь мир; Герстенберг тоже ищет возможности
их связать, — да и вообще всякий истинный талант в той или
иной степени соединяет эти два вида творчества; ибо, хотя
эти пути и кажутся на первый взгляд противоположными,
хотя никакой гениальный поэт и не в состоянии. с налету
овладеть творческими приемами другого гения, — в конце
концов оба они сходятся. Как бы ни созревал замысел
поэта, — вследствие ли длительного и углубленного обдумы-
вания или мгновенного и сильного ощущения, — в момент
творчества и то и другое становится импровизацией, иначе
говоря — приобретает твердость, истинность, живость и уве-
ренность им'провизации; это я и хотел вам сказать, только
это. Какие можно извлечь отсюда великие, плодотворные
истины касательно воспитания, образования, обучения! Да и
вообще, какие психологические и практические выводы можно
сделать из этого гармонического или дисгармонического со-
отношения двух сторон нашей душевной жизни — познания
45
и ощущения! Однако вы ожидаете от меня другого ·—обещан^
ного психологического рассуждения по поводу Оссиана.
Впрочем, я не отклоняюсь от темы. Поэтическое творче-
ство древних и диких народов порождено непосредствен-
ной действительностью, непосредственной взволнованностью
чувств и воображения, и в то же время в нем все же содер-
жится множество неожиданных переходов и скачков; много-
численные наблюдения навели меня на мысли, которые
я представляю здесь вашему любезному вниманию. Прежде
всего — неужели надо полагать, что подобного рода прерыви-
стость изложения, подобные неожиданные переходы и
скачки, — называйте это как угодно, — представляют собою
(как нам внушают ученые и знатоки искусства) своего рода
китайскую грамоту для непосредственного переживания и
воображения, то есть для души народа: ведь последняя и
есть почти что исключительно непосредственное переживание
и воображение? Вам известны упреки по адресу церковных
песен Клопштока, которые неизменно делались критиками,
заботившимися, по их словам, о добрых христианах. Посмо-
трим, справедливы ли эти упреки.
Итак, прежде всею я должен вам сказать на основании
многих наблюдений и авторитетных указаний, что ни одно
произведение на свете не знает такой прерывистости изло-
жения, таких неожиданных переходов и скачков, как песни
народа; и особенно их много в таких песнях народа, кото-
рые задуманы, созданы, рождены непосредственно в народ-
ной среде и которые народ поэтому поет и всегда будет петь
с таким увлечением и жаром. Например, я знаю одну охот-
ничью песнь (не стану приводить ее полностью, потому что
самое лучшее и выразительное в ней связано со звучанием к
мелодией охотничьего рога); при всей ее наивиости и просто-
народности, в каждом ее стихе столько неожиданных пере-
ходов и скачков диалога, что это, несомненно, показалось
бы удивительным в современном стихотворении и наш не-
мощный критик обвинил бы такую вещь в невнятности, чрез-
мерной смелости и нестройности.
Охотник поздно вечером поставил сеть и, трубя в рог
«а ночь темным-темна» (эти слова как бы являются припе-
вом охотничьего рога), заманивает в лес дичь, прячущуюся:
посреди лоля; и вот, когда «ночь темным-темна», навстречу
охотнику выходит девица-красавица, и начинается следую-
щий диалог:
«Куда, откуда, дикий зверь?
А ночь темным-темна!
Я охотник, тебя я поймаю теперь!
А ночь темным-ггемна!»
«Ты охотник, меня не поймаешь ты!
А ночь темным-темна!»
Прыжок мой высок, и травы густы.
46
А ночь темным-темна1»
«Прыжок твой высок, но тебе не успеть,
Все равно ты ко мне попадешься в сеть!
А ночь темным-темна!»
И далее, внезапно, без всякой подготовки, вопрос:
Что на правой руке ее, взгляни?
И точно так же внезапно, без всякой подготовки — ответ:
Попалась я в сеть... и т. д.
Что на левой ноге ее, взгляни?
Я знаю, мои окончились дни.
И в таком же духе продолжаются неожиданные переходы, и
это — в простонародной, наивной охотничьей песне. Най-
дется ли человек, который не поймет ее, который именно-
в этой прерывистости, в этих перебоях не угадает поэтиче-
ской души песни?
Все старинные песни подтверждают справедливость моей
мысли! Все — лапландские и эстонские, латышские и поль-
ские, шотландские и немецкие. Во всех известных мне пес-
нях одно и то же — чем они древнее, чем народнее, чем жи-
вее, тем в них больше смелости, тем больше неожиданных,
переходов и скачков. Если вас не убеждают приведенные
мною песни скальдов, лапландские и шотландские песни, по-
слушайте еще одну — из сборника Перси «Reliques»; я вы-
брал самую что ни на есть простонародную: у нашего на-
рода подобных песен не менее сотни — и песен и сказаний.
Это всего только «Sweet Williams Ghost»,1 и все же как
мало удалось мне сохранить в переводе свойственный ей на-
лет старины, ее торжественный простонародный характер:.
У дома Ганны в час ночной
Стоял печальный дух,
Гремел замком, стучал замком
И жаловался вслух.
«Кто там? Отец ли мой Филипп?
Вернулся ль брат домой?
Иль из Шотландии Вильгельм,
Жених любимый мой?»
«О нет, не твой отец Филипп,
Не брат пришел домой.
То из Шотландии к тебе
Жених вернулся твой.
Внемли, любимая моя,
Внемли моей мольбе
И клятву верности верни,
Что я давал тебе».
«Дух милого Вильяма» (англ.).
«Тебе я клятву не верну
И не внемлю мольбе,
Пока ты, милый, не придешь
В объятия ко мне».
«Могу ли я теперь прийти
В объятия твои?
Увы, уж я не человек,
И смерть — в моей любви.
Внемли, любимая моя,
Внемли моей мольбе
И клятву верности верни,
Что я давал тебе».
«Тебе я клятву не верну
И не внемлю мольбе,
Ты обручальное кольцо
Наденешь в церкви мне».
«В земле близ церкви я лежу,
Увы, я тлен и прах!
Ах, Ганна, это призрак, дух
К тебе пришел впотьмах».
И отворила дверь она
Тр епещущей рукой :
«Свободен ты от клятвы, дух,
Ступай, найди покой».
Одевшись наскоро, пошла
Она за духом вслед,
Морозной ночью шла она,
Все шла за духом вслед.
«Найдется ли в дому твоем
Местечко для меня?
Найду ли ложе там, Вильгельм,
Я около тебя?»
«Нет, FaflHa, нет в дому моем
Местечка для тебя.
Мой тесен гроб, не лечь тебе
В нем около меня».
Но вот забрезжила заря
И закричал петух.
«Увы, пришел разлуки час»,—
Промолвил скорбный дух.
Вздохнул он тяжко и умолк,
Настала тишина,
И он исчез, исчез во мгле,—
И Ганна вновь одна.
«Не уходи, любимый мой!
Услышь, услышь мой глас!»
И наземь рухнула она,
И взор ее погас. *
48
/Скажите, может ли быть поэтическое произведение более
смелым по замыслу, более отрывистым и в то же время более
естественным, общепонятным, народным? Говорю — «народ*
HbiM»j ибо, в связи с обычаями жениховства, почитайте ю-Нра*
вах дикарей, например североамериканских индейцев, и мне
не нужно будет объяснять вам все значение сюжета о по-
явлении мертвого жениха.,. Но отложим продолжение да сле-
дующего письма.
Вы полагаете, что и у нас, немцев, немало стихотворений,
подобнйх приведенной мною шотландской балладе; й не
только так полагаю —я твердо знаю это. Во многих провин-
циях нашей страны я слышал народные песни, областные
песни, крестьянские песни, которые по живости и ритмичности,
по наивности и силе языка отнюдь не уступают многим из
названных мною песен. Но кто же их собирает, кто обращает
на них внимание — на улицах и в переулках, на рыбных ба-
зарах, кто прислушивается к хоровым песням неграмотного
сельского люда, к песням, в которых нередко нет ни правиль-
ного размера, ни звучных рифм? Кто станет их собирать и
печатать на потребу нашим критикам, которые так искусно
умеют считать слоги и скандировать размеры? Не лучше ли
для времяпрепровождения почитать наших новых поэтов,
изданных с таким изяществом? Пусть французы собирают
свои старинные chansons! 1 Пусть англичане публикуют вели-
колепные издания своих старинных songs,2 баллад и роман-
сов! Пусть в Германии один только Лессинг печется об эпи-
граммах Логау, о Скультетусе * и о песнях бардов! Ведь
новые (поэты лучше изданы, и читать их приятнее; доста-
точно того, что мы еще иногда печатаем некоторые вещи
Опитца, Флеминга и Грифиуса. А остатки древних истинно
народных произведений пусть погибают, вытесняемые так на-
зываемой культурой, с каждым днем распространяющейся
все шире, погибают, как уже погибло немало этих сокровищ.
У нас ведь есть метафизика, и догматика, и акты, и мы спо-
койно можем предаваться своим сновидениям.
И все же, поверьте мне, — если бы каждый из нас по-
искал у себя, в своей провинции, в своих областных песнях,
то нашлись бы, наверно, среди них такие, которые могли бы
составить книгу, равную половине сборника Перси «Reliques»,
а то, пожалуй, по ценности и приближающуюся к этому
сборнику! Сколько раз, читая Перси, в особенности лучшие
шотландские песни, я вспоминал немецкие нравы, немецкие
песни, часть которых я слышал сам! Если у вас есть друзья
1 Песни (франц.).
2 Песен (англ.).
4 Зак. 291. Гер дер 49
в Эльзасе, в Швейцарии, во Франконии, в Тироле, в Швабии,
попросите их... впрочем, прежде всего необходимо, чтобы
ваши друзья не стыдились этих песен; ведь отважные англи-
чане, например, не хотели стыдиться и не стыдились своего
народного творчества. Я помню даже, что слышал однажды
отголоски мелодии той песни, которую я вам прежде привел:
«Прилетай, прилетай, смерть!»; а совсем недавно я слышал
песню нищенки, очень разнородную по содержанию, полную
внезапных переходов и скачков, — ее старинный лирический
напев звучал бесконечно грустно. Певица, сама воплощение
нищеты, заунывно, словно творя молитву, повествовала о го-
рестях своей жизни и дошла до< куплета, где «смерть ее одо-
левает» и ей (не знаю, обычай ли это или устойчивая мета-
фора) «связывает ноги»; наконец приходят четыре или шесть
человек, которые под погребальный звон колоколов уносят ее
от дома и друзей к могиле,—
А когда отгремели колокола,
Я друзьями уже позабыта была!
Не правда ли, как элегичны, как трогательны эти строки?
Будучи уверен, что мое письмо не попадет в руки кому-
либо из тех брюзгливых господ, которые тотчас начинают
фыркать, чуть только заметят устарелую рифму или выраже-
ние, будучи уверен, что вы, как и я, повсюду ищете скорее
природу, чем искусство, я, не колеблясь, в качестве примера
выписываю для вас из сборника плохих песен, * распеваемых
мастеровыми, томительно-грустную песенку, которая превзо-
шла бы многие новейшие стихотворения, если бы к ней хоть
слегка прикоснулся какой-нибудь Глейм, или Рамлер, или
Герстенберг:
Забвения не нахожу во |Сне,
Услады нет мне в яствах и вине,—
Все из-за той, что всех дороже мне.
Мне незнаком· беспечный, легкий смех,
. С друзьями я не ведаю утех, —
Все из-за той, что мне дороже всех.
Я одинок, не мил мне белый свет,
Бреду, не зная счастья юных лет, —
Все из-за той, которой краше нет.
Хотя надежда зыбка, словно тень,
Одной надеждой жив я каждый день,
Не то бы я избрал могилы сень.
Разве не прекрасен этот размер, не энергичен этот язык,
не глубоко прочувствован слог? Поверьте, нашлось бы не-
50
мало вещей подобного рода, если бы только было кому по-
искать!
Так, например, есть у нас неисчислимое множество новых
басен. И все же, что скажете вы об этой старинной басне,
написанной в архаической манере, старинным слогом:
КУКУШКА И СОЛОВЕЙ
В лесу кукушка с соловьем
Однажды спорили о том,
Чье мелодичней пенье.
». И в состязанье, наконец,
Кукушка и лесной певец
Должны решить сомненья.
Кукушка молвит соловью:
«Пожалуй, выберем судью,
Который нас рассудит.
Осел отменно длинноух,
И у него хороший слух, —
Судить он строго будет».
Осел назначен был судьей,
И соловью сказал он: «Пой!»
И тот запел красиво.
Послушав, произнес осел:
«Я в этом пенье не нашел
Ни смысла, ни мотива».
Тогда кукушка, клюв раскрыв,
Заголосила свой мотив:
«Ку-ку! Ку-ку!» — на ветке.
Осел на заключенье скор,
И он выносит приговор
Решительный и меткий:
«Ты пел неплохо, соловей,
Но где тебе тягаться с ней?
'В кукушке — что за сила!
Ведь в этом деле я мастак,
И потому решаю так:
Кукушка победила».
Что скажете вы об этой басне? Не кажется ли вам, что
лучше написать десять таких, чем все .....окне басни? * Не
требуйте, чтобы я сообщил присовокупленную к ней мо-
раль,— она новее и явно слабее. К тому же, каждый и сам
вполне может извлечь для себя необходимую мораль и из
всей басни и из отдельных ее частей. Господа, которые так
благонамеренно тревожатся о том, чтобы все это было до-
ступно пониманию всяких важных титулованных особ, —
Осел отменно длинноух
И у него хороший слух!
4* 5!
-Господа, которые едва только увидят слог сколько-нибудь
сжатый и живой, тотчас из тупости и невежества начинают
.вопить: «Да ведь здесь нет греческой ясности, цицероновского
красноречия, аршинных немецко-латинских периодов, испол-
ненных намеков, образов, мыслей... а в остальном, разу-
меется...» Одним словом:
Подумав, произнес осел:
«Я в этом пенье не нашел
Ни смысла, ни мотива...
Но где тебе тягаться с ней?
В кукушке — что за сила!»
Какие только толкования не мог бы еще придумать чело-
век, хорошо знающий свет! Но если посмотреть на эту басню
с той стороны, которая нас занимает, — какой уверенный и
глубокий рассказ! Никакой наигранной веселости, — и все же
как много веселья, силы и меткости в каждом слове... Однако
бог троицу любит. Поскольку в наши дни так много говорят
о песнях для детей, не хотите ли послушать старинную немец-
кую песенку такого рода? В ней, правда, нет никакой поту-
сторонней мудрости и морали, которыми нынче так докучают
детям, — это всего-навсего —
ПЕСЕНКА-БАСНЯ
Мальчик розу увидал,
Розу в чистом поле.
«Как цветочек свеж и ал!»
В восхищенье мальчик встал,
Смолкнув поневоле.
Роза — аленький цветок,
Роза в чистом поле.
Воспроизвожу по памяти; в дальнейшем этот детский при-
пев повторяется после каждой строфы;
Мальчик: «Я сорву тебя,
Роза в чистом поле!»
Роза: «Уколю тебя,
Чтобы помнил ты меня,
Не забыл о боли».
Роза — аленький цветок,
Роза в чистом поле.
Но сорвал мальчишка злой
Розу в чистом поле.
Та колола, как иглой,
Но смирилася с судьбой,
Позабыв о воле.
Роза — аленький цветок,
Роза в чистом поле.
Разве это не детский тон? И еще я должен вам расска-
зать об одном изменении в живом песенном исполнении.
«Затакт» играет немалую роль в ритмике народных песен:
52
по старинным немецким и английским песням можно видеть,:
какое значение придавали ему менестрели» В немецких на-
родных песнях, как и в английских, таковым обычна
является артикль — неясный звук «the» в обоих родах
(de Knabe), «'s» вместо «das» («'s Röslein»), и вместо «ein»
неясное «а», да и вообще все случаи в песнях подобного
рода, когда употребляется значок ', так называемый апо-
строф. Таким способом существительное приобретает значи-
тельно большую вещественность и индивидуализованность:
'Knabe sprach,
* 'Röslein sprach...
Наконец, позвольте закончить это рассуждение еще одним
соображением. Заменили ли вы, что мы, немцы, страдаем от
того, что в нашем стихосложении нет элизий * или что мы их
делать не желаем; от этого страдают и быстрые рифмован-
ные шуточные стихи, и, по противоположным причинам, поэ-
тические места, выражающие бурную, трагическую страсть;
в первом случае я прежде всего имею в виду легкомысленные
песенки, во втором — энергичные и сжатые белые стихи.
Наши предшественники часто использовали элизии, даже
иногда слишком часто. Англичане, как правило, элидируют
артикли, гласные звуки при малозначительных словах, ча-
стицы и т. п. В этом смысле свойства обоих языков одина-
ковы. Нам в высшей степени докучают наши назойливые
артикли, частицы и т. п.; они мешают развитию мысли или
страсти, — но какой немец отважится на элизию? Ведь наши
критики-педанты только и делают, что считают слоги и скан-
дируют стихи. Но вы,— ведь вы не критик-педант,— надеюсь,
вы, по крайней мере, не станете возражать, если я по своему
усмотрению буду пользоваться апострофом.
Итак, вы возвращаете меня к прерванной теме: «Каким
образом народы, которые кажутся нам наивными, обрели
привычку к подобного рода смелым скачкам и неожиданным
переходам?» Привычкой все легко объяснить; к чему не при-
выкает человек, если он мало что видел и знает? Благодаря
привычке лачуга может показаться нам дворцом, а крутая
скала—отлогою дорогой. Но ведь надо объяснить, как на-
роды, далекие от цивилизации, пришли к этому? Почему по-
любился им такой способ выражения, как свойственный их
собственной природе? Таков вопрос, ответ же на него
весьма краток: потому, что эти скачки и переходы свой-
ственны воображению, которое (не может развиваться в более
тесной сфере.
Песни диких народов рассказывают о подлинно суще-
ствующих предметах, действиях, происшествиях, об окру-
53
жающем их живом мире. Как богаты и многообразны при этом
обстоятельства, черты действительности, отдельные подроб-
ности! И все это они видели собственными глазами, все это
снова возникает в их душе! Отсюда — скачки и переходы!
Между отдельными частями песни существует такая же
связь, как между деревьями и кустами в лесу, между ска-
лами и пещерами в пустыне, между отдельными сценами
самого происшествия. Когда гренландец рассказывает о ловле
тюленей, он не просто говорит — он живописует словами и
жестами каждое обстоятельство, каждое движение; ибо все
они — части общей картины, встающей в его душе. Его хвала
покойнику или плач об умершем — это не. восхваление, не жа-
лоба; он живописует, и сама жизнь умершего, во всей своей
отрывочности запечатленная воображением, должна говорить
о себе и предаваться стенаниям. Не могу не привести здесь
отрывок такого рода. Принято скачки и переходы в подобных
песнях считать проявлением восточного пыла, воодушевле-
нием, свойственным пророческому духу, или чертами искус-
ственного беспорядка, характерного для оды; на основании
этих скачков и переходов ученые критики сочинили превос-
ходнейшую теорию о плане оды и ее скачках. Вот почему
я хочу предоставить слово холодному гренландцу, который
живет почти что у самого полюса и которому неведомы ни
пыл, ни пророческий дух, ни одическая теория, и говорит он
во всю силу своего живописного воображения. Друзья покой-
ного и ?!-все, кто сопровождает мертвое тело, сидят в доме
скорби, сжав голову руками, упираясь локтями в колени;
женщины закрыли лицо ладонями, они рыдают и плачут
в тишине; и отец, или сын, или другой самый близкий родст-
венник начинает воющим голосом:
«Горе мне! Увы, мне приходится взирать на место, где ты сидел, и
которое ныне опустело·! Твоя мать вотще пытается высушить одежду
твою!
Посмотри! Радость моя ушла во мглу и скрылась в пещере!
Доселе я выходил вечером тебе навстречу и радовался; я простирал
взор и ожидал твоего возвращения.
И вот ты возвращался! Ты возвращался, отважно гребя вместе со
старым,и и малыми.
Никогда не возвращался ты с моря без добычи: челнок твой всегда
был нагружен тюленями или птицами.
Мать твоя разводила огонь в очаге и варила пищу. И, сварив то,
что было добыто тобою, твоя мать всем раздавала пищу, и я тоже брал
себе KycOK.
Ты издали различал красный вымпел шлюпки, и ты восклицал: «Это
Ларе» (купец).
Ты бежал на берег и поддерживал нос шлюпки.
Потом ты приносил своих тюленей, с которых мать твоя снимала
сало, и за это ты получал наконечники для стрел и рубашки.
Но теперь этого больше нет. Когда я думаю об этом, внутренности
мои содрогаются.
54
О, если бы я мог плакать, как плачут другие, тогда бы горе мое
утихло!
Что я могу пожелать тебе? Теперь и я тоже стремлюсь к смерти, но
кто накормит жену мою и моих малых детей?
Я еще поживу немного; но радость моя будет отныне в том, чтобы
держаться вдалеке ото всего, в чем люди находят усладу».
Гренландец соблюдает самые тонкие законы элегии, кото-
рая ведь тоже
Уходит в сторону, но сохраняет стройность...
Кто научил его этим законам? И не точно так же ли об-
стоит дело с законами оды, песни? Если они вообще присущи
природе воображения, нужно ли кого бы то ни было им обу-
чать? Может ли не понять их любой человек, обладающий
воображением? Ими полны все песнопения ветхого завета,*
песни, элегии, предсказания пророков, — а ведь это все никак
не назовешь поэтическими'упражнениями!
Даже общее место, отвлеченную истину живой народ спо-
собен трактовать в песне только так — с такой же живостью
и смелостью; он ничего не понимает в рассуждениях догма-
тической учености и, без сомнения, уснет, если вы попытаетесь
толковать ему о них. Посмотрите, например, в уже много-
кратно упомянутом выше сборнике Перси «Reliques» — ста-
ринные морализующие песни — «Му heart to me a kingdom
is»l и другие; в своем лирическом движении они срывают
лишь цветы морали; они не являют воображению и памяти
йи видимых предметов, ни связного повествования и действия,
но первому служат мудрым практическим наставлением,
а второй — симметричностью построения, музыкальностью
припева и множеством иных сторон. Вот вам пример разви-
тия общей мысли — «Любви нельзя противостоять». Как бы
стал развивать этот тезис современный аналитический и дог-
матический ум! А послушайте старинного певца:
Над страшным обрывом,
Под черной тучей,
Под потоком бурливым, '
Над горной кручей,
Под бездонной пучиной
Громыхающих вод,
Над скалистой вершиной
Любовь пройдет.
Где в утесах, в пещерах
Й дракон не клубится,
Где в расщелинах серых
Не живут зверь и птица,
Где резвящихся мошек
Не виден полет,—
Везде, торжествуя,
Любовь пройдет.
1 «Сердце мое —мое царство» (англ.).
Вольно вам смеяться:
Амур — дитя!
Его яе бояться
И гнать, шутя!
Через горные склоны,
Сквозь пламя и лед,
Сквозь замки и препоны
Любовь пройдет!
Пусть орел вам покорен,
Царь вольных птиц!
Пусть дракон и пантера
Падают ниц!
Пусть к стопам вашим львица
Смиренно падет,—
Любовь не смирится
И всюду пройдет.
Можно ли было развить эту мысль более ощутимо, более
мощно и сильно? Сколько здесь размаха! Какое разнообра-
зие и какая смена образов! Пусть самый что ни на есть глу-
пый человек услышит ее раза три подряд — он ее запомнит и
будет петь с восторгом, с наслаждением. Но попробуйте ска-
зать ему то же самое в однообразной догматической форме,
в аккуратно размеренных строфах, и вы увидите, что душа
его дремлет.
Все наши старинные церковные песнопения полны таких,
же скачков и инверсий. * Среди них наиболее яркие и мощ-
ные вышли из-под пера нашего Лютера. Какие неожиданные
повороты в песнях Клопштока могут сравниться с перехо-
дами, которые встречаются в Лютеровых гимнах — «Наш
бог — нерушимая крепость»,* «Хвала тебе, Иисус Христос!»,
«Христос в предсмертных муках» и других! Как мощны эти
переходы и инверсии! О нет, они — не ошибки малоопытной
музы, каковыми мы великодушно их почитаем. Они в высшей
степени свойственны всем старинным песням этого рода,
свойственны первобытному, нерасслабленному, свободному и
мужественному языку. Они порождены естественной силой
воображения, и народ, обладая более ярким чувственным вос-
приятием и фантазией, чем анализирующий их ученый, зная их
с юности и как бы сформировавшись под их влиянием, вос-
принимает их столь непосредственно и с таким сочувствием,,
что я не могу не удивляться нашему нелепому стремле-
нию исправлять эти песни, изгонять их с величайшим усер-
дием и ставить на их место усыпляющие стихотворные
строчки с искусственными словами-затычками и вялыми
рифмами. Можно подумать, что самая многочисленная и до-
стойная уважения часть нашей публики, которая называется
народом и ради которой песни подвергаются подобным испра-
влениям, чувствует хотя бы одно из тех прекрасных правил,
на которых основаны эти исправления, и что народ будет
56
лучше чувствовать, воспринимать и запоминать поучения,
преподнесенные ему в сухой, усыпляющей, догматической
форме, в унылой веренице мертвых, нагоняющих сон рифмо-
ванных строчек, нежели воспримет силу поучений и поступ-
ков, ворвавшихся в пламенных образах в его душу и сердце.
Надеюсь, вы не подумаете, что я собираюсь писать здесь
апологию песен Клопштока! Охотно верю, что и они не
всегда представляют собой песни народа и часто воспе-
вают не предмет в его целостности, но отдельные малозначи-
тельные черты предметов, не долг, не подвиг, не образы,
рожденные в недрах человеческого сердца в их целостности,,
но скорее тончайшие оттенки, нередко и неуловимые полу-
тона ощущений, и что, стало быть, певцом этих песен может
быть лишь человек, характер которого созвучен подобным
представлениям и воспитан для них. И все же — то, что мно-
гие говорят 'Против Кло'пштока, и в еще большей степени тог
что они ему противопоставляют, так сухо, так убого, свиде-
тельствует о таком незнании человеческой души, что я готов
поручиться: если ребенок выучит самую смелую песню Клоть
штока, полную неожиданных скачков и инверсий, и несколько?
раз споет ее, она навсегда запечатлеется в его сердце и бу-
дет значить для него больше, чем самая правильная песня»
где не выпущено ни одной соединительной частицы и ни од-
ного звена, необходимого для последовательного развития
мысли. Боже, какой сухой и черствой многие люди предста-
вляют себе человеческую душу, душу ребенка! О, если бы
я когда-нибудь попытал силы в сочинении песен подобного
рода, она была бы для меня великим, недостижимым идеа-
лом! Наполнить юношескую, детскую душу, вложить в нее
те единственные песни, которые на всю жизнь останутся
в ней, определят ее строй, послужат ей вечным голосом, зо-
вущим к подвигам или к успокоению, к доблести и утешению,,
подобно тому как в душе древних, диких народов живут
песни о войнах, о героях, о предках, — о, какая это прекрас-
ная цель! И какие удивительные слова нужно найти для ее
достижения! А много ли мы знаем настоящих попыток со-
здать такие произведения? Зато у нас немало рифмованных
молитв, нравоучительных виршей!
Когда я вспоминаю, как Лютер начинает свой гимн
в честь мучеников, сожженных за веру:
Развеян пепел тот везде,
Никто уже не в силах
Ни утопить его в воде,
Ни закопать в могилах.
Врагов клеймит позором он,—
Его не уничтожат,
И тех, кто злобно умерщвлен,
Теперь никто не может
К молчанию принудить...
57
или как он заключает:
У них бесстыжие сердца,
Так пусть их тешат ложью.
А мы благодарим творца,—
Прекрасно слово божье!
Уже кончается мороз,
И на пороге лето,
И зацветают ветви роз...
И тот, кто начал это,
Закончит непременно... —
мне хочется спросить: сколько наших новейших поэтов, со-
чинителей песен, создали подобные строфы (я имею в виду
не содержание их, но характер)? А сколько таких поэтов
исправляли Лютера?
Вы тоже сокрушаетесь о том, что мы употребляем ро-
мансы, этот столь благородный и торжественный род поэзии,
лишь для низменно-комических или неправдоподобных сюже-
тов,— употребление, скорее заслуживающее названия зло-
употребления. Разумеется, я сокрушаюсь вместе с вам;и; на-
сколько более истинно, глубоко и длительно то наслаждение,
которое доставляет нам нежный или трогательный романс
старой Англии или провансальцев, чем новейший немецкий
романс, исполненный низменных, затрепанных, вульгарных
острот и каламбуров! Однако еще удивительнее, что мы зна-
комы с жанром романса только в этом его новейшем обличий.
Глейм так прекрасно воспел свою Марианну... * Я го-
ворю— он прекрасно воспел ее, потому что его стихотворе-
ние, собственно говоря, от начала до конца повторяет старин-
ный французский романс, который вы можете, если вам это
до сих пор было неизвестно, найти, как мне кажется, в но-
вом сборнике «Choix de Romances anciennes et modernes».} За-
тем ему стали подражать. Другие два его стихотворения
имели уклон в сторону комического; неуклюжие подражатели
по уши погрузились в эту комическую стихию. И вот у нас
теперь множество поделок подобного рода, и все они — на^
один манер, все — в мнимо-романсном жанре, все так пошлы,
что не заслуживают вторичного чтения, так что вскоре у нас
опять не останется романсов, кроме тех, что сочинил Глейм.
К сказанному необходимо добавить, что немногие перевод-
ные романсы, которые существуют на нашем языке, переве-
дены из рук вон плохо (приведу вам в пример только «Пре-
красную Роземунду»» и «Альканзора и Зайду», * причем
последний обладает тем преимуществом, что два раза был
Сборник старых и новых романсов (франц.).
переведен отвратительнейшим образом); тон задан, наши
поэты продолжают распевать в том же духе, и таким образом
они проходят мимо той пользы, которую этот жанр поэзии
мог бы принести всей нашей эпохе; а ведь он мог бы способ-
ствовать тому, чтобы наши лирические песнопения, оды и
песни и т. п. стали немного наивнее, мог бы приучить нас
к более простым предметам и к более благородной их обра-
ботке, мог бы освободить нас от пристрастия к излишним
украшениям, которые теперь стали у нас чуть ли не законом.
Посмотрите, в какой искусственной, перегруженной готи-
ческой ^манере пишут современные англичане так называемые
философские и пиндарические оды, те самые оды Грея, Экен-
сайда, Мэсона, которые признаются у них совершенством,
хотя ни их размер, ни содержание, ни форма ни в малейшей
степени не способны произвести то впечатление, какое мы
ждем от оды. Посмотрите, в какой искусственной Горациевой
манере погрязли во многих случаях и наши немецкие поэты!
Оссиан, песни диких народов, песни скальдов, романсы,
областные песни могли бы вывести нас на лучший путь, если
бы мы захотели научиться у них чему-нибудь большему, чем
только форме, внешним приемам, языку. Однако, на беду
нашу, мы начинаем именно с внешней стороны и дальше нее
не идем, — а из этого снова не будет толку. Ошибаюсь ли
я, а может быть, и прав, полагая, что лучшие лирические
произведения, — и те, которые созданы у нас теперь, и те,
что достались нам в наследство от минувших веков, — соот-
ветствуют по своему тону этой мужественной, сильной, твер-
дой немецкой манере или приближаются к ней? Если это так,
какой огромный шаг вперед сделала бы наша поэзия,
если бы число таких произведений умножилось!
О СХОДСТВЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ
АНГЛИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ
И О ПРОЧЕМ, ОТСЮДА СЛЕДУЮЩЕМ
Если даже выделить древних бриттов * сразу же как осо-
бый народ, со своим языком и своей поэтической традицией,
как его изображают история и уцелевшие остатки валлийской
поэзии, то относительно англосаксов нам известно, что они
были по происхождению немцами; таким образом, основное
племя этой нации было немецким по языку и по складу мыш-
ления. Кроме бриттов, с которыми они смешались, из-за моря
хлынули вскоре орды датчан; это были всё те же немцы,,
только из более северного племени. Позднее нагрянули нор-
манны, перевернувшие всю Англию и, в свою очередь, навя-
завшие ей свои северные, но преобразованные югом обычаи.
Итак, северный, германский склад мышления трижды про-
никал в эту культуру — через посредство трех народов, на
протяжении трех разных эпох, тремя последовательными сту-
пенями. И разве не стала Англия, в процессе этого троекрат-
ного смешения,, подлинной сердцевиной северного языка и
поэзии?
Какой указующий перст и для Германии из этой седой
древности! Значит, необъятная сокровищница англосаксон-
ского языка в Англии тоже наше достояние, а поскольку
англосаксы переселились туда еще за несколько столетий до
мнимого собирателя и истребителя песен наших бардов,
Карла Великого, * — как? — неужели все, что там есть, это
только поповская писанина? Неужели в огромном, еще не
изученном запасе не найдется более отрывков, указаний,
путеводных нитей! Да, наконец, и без того, как полезно было
бы для нас, немцев, изучение этого языка, поэзии и лите-
ратуры!
Но где вы найдете для таких занятий поводы и поощре-
ния извне? Как мы отстали в подобного рода делах от англи-
чан! Наши Паркеры, Сельдены, Спельманы, Уэлоки, Хик-
60
кесы — где они> где они ныне? Штусу не удалось осуществить
свой план общедоступного издания англосаксов. Англосак-
сонский словарь Линденброга так и остался ненапечатанным,
и сколько еще предстоит поработать нам, немцам, над дре-
вом нашего собственного языка, прежде чем заняться род-
ственными побегами, ища среди них следы своего достояния!
Как много лежит еще в императорской библиотеке такого,
что известно лишь по названию! И сколько еще пройдет вре-
мени, пока нам будет хоть какой-нибудь прок от того, что
в жилах стольких европейских государей струится немецкая
кровь!, ,
Херд* объяснил в некоторых отношениях правильно, хотя
отнюдь не исчерпывающе, происхождение и характер средне-
вековой рыцарской поэзии, исходя из тогдашнего состояния
Европы. Это был феодальный строй, породивший затем эпоху
рыцарства и столь правдиво изображенный в предисловии
к нашей Книге героических сказаний* — оно выдержано це-
ликом в сказочном тоне и разукрашено рассказами о велика-
нах, карликах, чудовищах и драконах. Я не знаю пока ни
одного исторического труда, где этот строй был бы рас-
смотрен применительно к немецкой поэзии, обычаям, складу
мышления и где прослеживалось бы параллельно его разви-
тие в других странах. Впрочем, ведь у нас и нет еще истории
немецкого языка и поэзии! А среди многочисленных немец-
ких академий и обществ — как мало таких, которые дают
себе труд — хотя бы путем постановки дельных вопросов —
прояснить отдельные места и проложить новые пути.
Я знаю, конечно, какая тяжелая подготовительная работа
уже проделана нами, в особенности в области права, дипло-
матии, истории; но всю эту работу еще только предстоит
освоить и вдохнуть в нее жизнь.
Вся наша средневековая история ограничивается патоло-
гией, и притом большей частью — патологией головы, то есть
императора и нескольких имперских сословий. Физиология
же всего организма нации — вот это совсем другое дело!
И в каком отношении к ней находятся склад мышления, обра-
зование, нравы, поэтическая декламация, язык? Какой не-
объятный океан открывается тут перед нашими мореплавате-
лями, и сколько на нем прекрасных островков и неизведан-
ных земель! У нас нет еще своего Ла Кюрн де Сент-Палэ,
который рассказал бы о нашем рыцарстве, ни Уортона, ко-
торый описал бы нашу средневековую поэзию. Гольдаст,
Шильтер, Шатц, Опитц, Экард указали нам правильный
путь — но не более. Рукописи Фреера затерялись; немного-
численные богатые библиотеки разорены и растасканы; когда
же наконец все эти сокровища будут собраны воедино и где
тот человек, тот юноша, который, быть может, трудится
в тиши над тем, чтобы увенчать ими богиню нашего отечества,
тем самым открыв их взорам народа? Конечно, будь только
у нас в средние века Шекспир и Спенсер, не заставили бы
себя ждать также Теобальд и Элтон, Уортон и Джонсон, но
в том-то и вопрос — почему у нас не было своих Шекспиров и
Спенсеров?
По Европе пронеслось романтическое веяние; но как оно
отразилось в Германии? Можно ли доказать, что у нее были
также свои любимые герои, оригинальные сюжеты, нацио-
нальная и детская мифология и что всему этому она при-
дала свой особенный отпечаток? Парсифаль, Мелюзина,
Магелона, король Артур, рыцари Круглого Стола, сказания
о Роланде — чужое достояние;* неужели же немцы испокон
веков были обречены только переводить и подражать? В на-
ших героических сказаниях воспевается Дитрих, * но его вос-
певают и все скандинавские народы; насколько далеко
в глубь веков уходит образ этого героя в немецкой или ро-
манской поэзии? Принадлежит ли он нам так же, как Ро-
ланд, Артур, Фингал, Ахилл, Эней — другим народам? Еще
в битве при Гастингсе англосаксы иели о 'королевиче Горне, *
сказание о нем и поныне лежит в Гарлеевском собрании
в Оксфорде: откуда оно пришло, в какой степени оно наше?
Я был бы бесконечно рад трудам какого-нибудь молодого
ученого в этой области; пусть его музой будет, одновременно
с критической мыслью, терпимое отношение ко всем обычаям,
эпохам, ко всяком образу мышления, а его спутниками —
библиотеки Рима, Оксфорда, Вены, Санкт-Галлена, Эску-
риала и др. О дух аредневекового рыцарства, в каком бы ты
реял тогда чертоге!
То же нужно сказать и о простых народных сказаниях,
сказках и мифологии. В известной мере они — результат ве-
рований народа, его чувственного миросозерцания, сил и по-
рывов, когда ΟΉ греэит, потому что не знает, верит, потому
что не видит, когда он творит всей своей цельной, наивной
душой: поистине величественная тема для историка человече-
ства, поэта, теоретика поэзии, философа! Одни и те же ска-
зания, принесенные северными народами, захлестнули ряд
стран на много веков, но в каждой стране и в каждую эпоху
они принимали новую форму. Как это надо понимать приме-
нительно к Германии? Где возникли самые общие для всех
и самые особенные народные сказания? Как они кочевали, как
распространялись, как дробились? Германия в целом и от-
дельные ее провинции обнаруживают здесь черты самого
поразительного сходства и различия: провинции, где еще ца-
рит дух и тон Эдды * с ее чудовищами, колдунами, велика-
нами, валькириями; и наряду с этим другие провинции, где
царят сказки более кроткие, почти в духе «Метаморфоз» Ови-
дия, приключения более мирные, облеченные в изящную
форму. Старинная вендская,* швабская, саксонская, гол-
62
штинская мифология, в той мере, в какой она еще продол^
жает жить в народных сказаниях и песнях, — если ее добро*
совестно записать, окинуть ясным и проницательным взором,,
плодотворно обработать, — какая это была бы сокровищница
для поэта и оратора своего народа, для моралиста и фило-
софа!
Если и в этом у Англии и Германии много общего, — на-
сколько мы могли бы продвинуться, использовав, подобна
британцам, эту народную мудрость и эти сказания, и тогда
наша поэзия была бы построена на этой основе, подобна
тому как у них Чосер, Спенсер и Шекспир черпали, строили,
твориЛи из народных верований. Где же наши Чосеры, Спен-
серы и Шекспиры? Насколько уступают им наши мейстерзин-
геры! * А там, где и у них содержатся крупицы золота, —кто
собирал их, кого они интересуют? А между тем какое сход-
ство между обеими нациями в этих главных золотоносных
жилах их поэзии, какое сходство во всем, вплоть до оборотов
речи, рифм, излюбленных размеров, одинаковых представ-
лений;— это знает всякий, кому знакомы рыцарские повести,,
баллады, сказки обоих народов. Весь тон этих поэтических
произведений настолько единообразен, что нередко можно
перевести их слово в слово, сохранив каждый оборот, каж-
дую инверсию. Во всех европейских странах духу рыцарства
свойствен один .и тот же словарь, а отсюда и общий тон са-
мого повествования, в балладах, романсах — повсюду одни и
те же основные и служебные слова, одинаковые падежные
окончания и вольности в размере, в отбрасывании опреде-
ленных звуков и слогов; даже излюбленные образы, роман-
тические растения и травы, звери и птицы — там и здесь одни
и те же. Кто изучал с этой точки зрения Шекспира и читал
о Спенсере хотя бы Уортона и, вместе с тем, знаком хотя бы
с самыми плохими романсами и песнями нашего народа, мо-
жет привести тому достаточно примеров и доказательств, да
и сам я мог бы доказать это на примере всех жанров и клас-
сов поэтических произведений.
Совершенно очевидно, какую массу наблюдений, касаю-
щихся образования обоих языков, и по поводу их писателей
дало бы такое сопоставление, если бы какое-нибудь обще-
ство любителей словесности или какая-нибудь академия
изящной литературы удостоила заинтересоваться такою ма-
лостью. Здесь не время и не место для этого.
Скажу только следующее: если бы мы удосужились хотя
бы собрать вещи, из которых можно было бы извлечь подоб-
ного рода наблюдения или полезные выводы! Но где найти
такое собрание? Англичане — с какой жадностью собирали
они свои старинные песни и мелодии, издавали и переизда-
вали их, пользовались ими, и перечитывали их! Рамзей,
Перси и другие были встречены- всеобщим одобрением,
63
новейшие их поэты Шенстон, Мэсон, Маллет сумели, хотя бы
с некоторой непринужденностью и изяществом, почувство-
вать й передать эту манеру; Драйден, Поп, Аддисон, Свифт
использовали ее каждый на свой лад; более старые поэты —
Чосер, Спенсер, Шекспир, Мильтон — жили в подобного рода
песнях; другие благородные умы — Филипп Сидней, Сель-
дей—и сколько еще можно было бы назвать —собирали
их, хвалили, восхищались ими; из этих семян выросло все
лучшее, что есть в лирической, драматической, мифологиче-
ской, эпической поэзии британцев; а мы — мы, сытые и пре-
сыщенные классики-немцы, — что мы делали? Попробуйте-
ка напечатать в Германии песни вроде тех, какие частично из-
дали Рамзей, Перси и другие, и послушайте, что скажут наши
уверенные в своем хорошем классическом вкусе критики!
Правда, у нас нет недостатка в благих пожеланиях са-
мого общего характера. Когда не так давно промчался бар-
дический вихрь * — как много кричали тогда ö песнях, кото-
рые будто бы собрал великий Карл! Как их хвалили (со-
вершенно не зйая их), как им подражали, пели их, как легко
думали отыскать их — словно они были переданы из рук
в руки, как надеялись найти в них не более, не менее как
немецкого Оссиана, и т. д. Как все это завидно выглядит из-
дали! Если бы вдруг в Тироле или в Баварии появился свой
Макферсон и спел нам такого же вот немецкого Оссиана,—
куда ни шло, пожалуй, мы дали бы себя увлечь. Но язык
этих песен неизбежно оказался бы похож на собрание Шиль-
тера. Эти песни пришлось бы сначала разобрать по складам,
как живое пение барда, ибо до Отфрида язык еще не подчи-
нялся никакой дисциплине; 'пришлось бы изучить их, как
волшебное отражение минувших эпох, в зеркале глоссато-
ров — ведь без этого они так же неспособны творить чудеса
в наших храмах, как евангелие Вульфилы. * Сколько поклон-
ников и апостолов при этом круто повернулись бы к ним
спиной, говоря: «Я не знаю вас! Я представлял себе этакого
классического Оссиана!»
Разве я не прав, разве не имели мы в точности тому при-
мера? Когда был найден манесотвский кодекс, * какая сокро-
вищница немецкого языка, поэзии, любви и радости открылась
нам в этих поэтах швабской эпохи! Если бы даже Шепфлин
и Бодмер не имели никаких других заслуг, то уже одна эта
находка, а что касается последнего, то его труды и проявлен-
ное им рвение сделали бы их имена драгоценными для нации.
А между тем разве это собрание старинных отечественных
стихов произвело то впечатление, какого следовало ожи-
дать? Будь наш Бодмер каким-нибудь аббатом Мийо, кото-
рому угодно было превратить кропотливый труд Ла Кюрн
де Сент-Палэ в сжатую «Историю поэзии трубадуров»,—■
тогда, быть может, он имел бы больший успех, чем сейчас,
64
когда он открыл нам самую сокровищницу, рассчитывая, что
мы без особых усилий проглотим этот кусочек швабского
наречия. Он ошибался: ведь мы должны отказаться от своего
классического языка и выучиться совсем другой немецкой
речи ради того, чтобы прочесть любовные стихи нескольких
лирических поэтов, — нет,.это уже чересчур!.И вот стихи эти
стали известны народу только благодаря нескольким подра-
жаниям Глейма, немногие другие — благодаря переводам.
Самая же сокровищница по-прежнему остается мало кому
известной, почти никем не читается, почти не используется.
Итак, от более древних эпох у нас совсем не осталось
живой'поэтической традиции, на которой могла бы вырасти
наша новая поэзия, как побег на древе нации, между тем
как другие народы на протяжении столетий развивались и
складывались на собственной национальной почве, на основе
вкусов и верований народа, на основе того, что осталось от
старых времен. Благодаря этому их поэзия и язык стали на-
циональными, голос народа изучается и ценится, и вещи эти
приобрели у них гораздо более широкий круг читателей, чем
у нас. Нам, бедным немцам, испокон веков суждено было ни-
когда не принадлежать самим себе: мы всегда законодатели
и слуги других наций, вершители их судеб и купленные ими,
истекающие кровью рабы:
Иордан, По и Тибр,
Как часто струили вы немецкую кровь
И немецкие души.
Не удивительно, что, как и всему остальному, немецким пес-
ням суждено было стать
Воплем, эхом
От тростников Иордана и до Тибра,
До Темзы и Сены,
и таким же должен был стать и немецкий дух:
Наемником, глодающим жадно
То, что растоптано ногой другого. *
Прекрасная тучная маслина, сладкая виноградная лоза и
смоковница зачахли, как сухой терновник. Где же их красота,
где их плоды^ их сила, тучность и сладость? * Их растоптали
и продолжают топтать в чужих странах.
Высокий, благородный язык! Великий, могучий народ! Он
дал всей Европе обычаи, законы, изобретения, правителей,—
и вся Европа правит им! Кто счел нужным воспользоваться
нашим собственным достоянием, воспитывать себя на нем?
У нас все вырастает a priori, наша поэзия и кдассическое
образование падают нам с неба. Когда в прошлом веке
задались целью преобразовать язык и поэзию —да если
бы главной целью было искоренить последние остатки
5 Зак. 29). Гердер £5
национального духа, разве можно было бы сделать это более
добросовестно и успешно, чем это сделано сейчас? А ныне,
когда мы мним себя на вершине почета и преклонения со
стороны других народов; ныне, когда французы, которым мы
так долго подражали, — слава тебе господи! — в свою оче-
редь подражают нам и пожирают тем самым собственные
свой отбросы; ныне, когда мы дожили до такого счастья,
что при дворах немецких государей начинают уже читать
/по складам по-немецки и называть одно-два немецких
имени, — боже, что мы теперь за люди! Тот, кто вздумал бы
сейчас поинтересоваться простым народом, его похлебкой из
сказок, поверий, песен, грубого языка, — каким бы он пока-
зался варваром! На фоне нашей классической поэзии, счи-
тающей по пальцам слоги, он выглядел бы "как сова среди
красивых пестрых певчих птиц!
И все же незыблемо и бесспорно, что та часть литера-
туры, которая имеет отношение к народу, должна быть на-
родной, или она будет мыльным пузырем в классическом
духе. Незыблемо и бесспорно, что если у нас не будет на-
рода, то не будет ни публики, ни нации, ни языка, ни поэ-
зии, которую мы могли бы назвать своей, которая бы жила
и творила в нас самих. Тогда мы вечно будем писать для
кабинетных ученых и брюзгливых рецензентов, из их уст и
желудка мы будем получать обратно все написанное нами,
будем сочинять романсы, оды, эпопеи, церковные и кухонные
песни, которых никто не понимает, никто не хочет, никто не
чувствует. Наша классическая литература — это райская
птичка, такая же пестрая, такая же благовоспитанная, она
вся — полет, высота, она порхает, не касаясь нашей немецкой
земли.
Несколько иначе обстоит с этим у других наций! Какие
песни поместил, например, Перси в своих «Reliques», которые
я не решился бы показать нашей образованной ГерманииГ
Нам они показались бы невыносимыми, для них — ничуть.
Это ведь старинные национальные песни, которые распевает
и распевал народ, откуда можно, следовательно, узнать его-
склад мышления, язык его- чувств. Эту вот песенку знал
чуть ли не сам Шекспир, из той он заимствовал несколько*
строк, и т. д. С бережным снисхождением мы переносимся
в отдаленные эпохи, погружаемся в мышление народа, чи-
таем, слушаем, порой улыбаемся, радуемся или учимся
вместе с ним. Повсюду нам ясно видно, из каких грубых, ма-
леньких, ничтожных зернышек вырос великолепный лес их
национальной поэзии, из каких соков нации выросли Спенсер
и Шекспир.
Великая империя, империя десяти народов, Германия!
У тебя нет своего Шекспира, но неужели у тебя нет и песен
предков, которыми ты могла бы гордиться? Швейцарцы*
66
швабы, франки, баварцы, вестфальцы, саксы, венды, пруссй—
неужели у вас всех вместе взятых ничего нет? Неужели глас
отцов ваших умолк и затерялся во прахе? Народ мужествен-
ных, нравов, благородной доблести, неужели язык не сохра-
нил отпечатка твоей былой души?
Нет сомнений, он существовал в прошлом, этот отпеча-
ток, он сохранился, быть может, и сейчас; но он покрыт
слоем мусора, его не знают; его презирают. Еще в недавние
времена нам публично поднесли целое блюдо такого му-
сора, * чтобы нация не приохотилась к чему-нибудь лучшему,
как будто этот мусор — золото, которое мы несем в себе и
которым не пренебрег сам великий Вергилий во внутренно-
стях Энния. * Нам нужно только взяться за дело, восприни-
мать, искать, прежде чем мы все окончательно не станем
образованными классиками, не будем распевать французские
песни, танцевать французские менуэты и дружно писать
гекзаметры и оды в духе Горация. Свет так называемой
культуры стремится озарить каждый сокровенный уголок,
а такие памятники старины лежат только в сокровенных
уголках.
Итак, примитесь за дело, братья мои, и покажите нашей
нации, что она собой представляет и чем она не является, как
она мыслила и чувствовала или как она мыслит и чувствует
сейчас. Сколько великолепных произведений обнаружили
англичане в своих поисках — правда, созданных не для
бумаги и едва ли пригодных для чтения, но зато полных жи-
вого духа, родившихся в самой гуще народа, живущих и дей-
ствующих среди них самих. Кто не слыхал, не читал о чуде-
сах бардов и скальдов, о впечатлении, производимом труба-
дурами, менестрелями или мейстерзингерами? Как внимал им
народ, чем была для него эта песня и что он сам видел в ней!
Как благоговейно хранил он эти песни и рассказы, а вместе
с ними — язык, образ мыслей, обычаи, подвиги, хранил и
взращивал для будущего. В них слышался хоть и наивный,
но могучий, трогательный, правдивый голос, подступавший
прямо к сердцу, в них были движение и действие, сильные
акценты или острые стрелы для открытой, опьяненной исти-
ной души. А вы, новейшие сочинители романсов, псалмов и
од, способны ли вы на это? Умеете ли вы и сумеете ли когда-
нибудь произвести такое впечатление? По-вашему, мы все
должны спокойно дремать в кресле, играть в куклы или, под-
хватив ваши стихотворные безделушки, развесить их у себя
в кабинете в изящных позолоченных классических рамах.
Если бы Бюргер, так глубоко постигший язык и сердце
этого взволнованного народного чувства, подарил нас
в один прекрасный день немецкой героической поэмой или
драмой, такой же могучей и стремительной, как эти неболь-
шие песни: о немцы, неужели вы не сбежались бы, чтобы
5* 67
внимать ему и изумляться? А он может подарить нам такую
поэму: его романсы, песни, даже его перевод Гомера, ·* полны
-подобных акцентов, а у всех народов эпопея и даже драма
выросли только из народных сказаний, романса и песни. Бо-
лее того, не лучше ли было бы для нас, если бы даже исто-
рики наши и ораторы обрели, или, вернее, сохранили, простое,
сильное, неторопливое, но целеустремленное движение немец-
кого духа в делах и речи; я говорю·—сохранили, ибо оно уже
присутствует в старых хрониках, речах и сочинениях. Ведь
милую сердцу мораль и утонченную прагматическую фило-
софию любой Макиавелли сумеет выискать себе сам. И, на-
конец, даже наше воспитание было бы более немецким, более
богатым подобного рода материалами, сильнее и непосред-
ственнее воздействовало бы на чувства и занимало жизнен-
ные силы; мне сдается, что наши предки возрадовались бы
в гробу и благословили новый мир своих истинных сынов.
Наконец (подтвердим и здесь на деле слова Клопштока:
Ни одна страна не была
Справедливей тебя к другим странам!),
отсюда открылся бы путь и к песням других народов, столь
малознакомых и доступных нам только в песнях.
Народоведение необыкновенно расширило карту челове-
чества: насколько больше мы знаем народов, чем греки и
римляне! Но как мы их знаем? По внешнему ли виду, по
карикатурным гравюркам, с чужих слов, которые ничуть не
лучше этих гравюр? Или изнутри, их собственную душу че-
рез их чувства, речи, дела? Так должно было бы быть — но
как это редко бывает! Прагматический историк и путеше-
ственник описывает, рисует, изображает: но изображает
обычно так, как видит, из собственной головы, односторонне,
с точки зрения образованного человека, — следовательно, он
лжет, сам того не желая.
Против этого есть одно-единственное, легкое и очевидное,
средство. Все нецивилизованные народы поют к действуют;
они поют о том, что совершают, воспевая свои действия. Их
песни — это архив народов, сокровищница их науки и рели-
гии, их теогонии и космогонии, деяний отцов и .событий их
истории, отпечаток их сердца, картина их домашней жизни
в радости и горе, на брачном ложе и на смертном одре. В на-
граду за множество гнетущих их бедствий и взамен всех так
называемых благодеяний цивилизации, которыми наслаж-
даемся мы, природа даровала им одно утешение: вольнолю-
бие, досуг, опьянение и — песню. В ней они воплощают себя,
выступают такими, каковы они есть. Воинственный народ
воспевает подвиги; нежный воспевал любовь. Сметливый на-
род слагает загадки, народ, обладающий воображением, —
аллегории, притчи, живые картины. Народ с кипучими;стра-
68
стями может выражать только страсти, точно так же как на-
род, окруженный опасностями, создает себе грозных богов.
Небольшой сборник таких песен, записанных из уст народа,
о самых выдающихся предметах и событиях его жизни, на
его родном языке, правильно понятых, объясненных и сопро-
вождаемых мелодиями, — насколько он оживил бы те раз-
делы в описаниях всевозможных путешествий, которые более
всего привлекают знатока человеческих нравов, — «об образе
мысли и обычаях народа, о его знаниях и языке, об игре и
пляске, музыке и мифологии. Обо всем этом мы получили
бы гораздо лучшее представление, чем нам дает сейчас бол-
товня путешественников или записанный на туземном наре-
чии... «Отче наш»! Подобно тому, как естествознание описы-
вает растения и животных, так и народы отразили бы себя
сами в этих песнях. Мы получили бы наглядное представле-
ние обо всем, и, благодаря сходству или различиям в языке,
содержании, интонации этих песен, в особенности же —
в космогонических представлениях и истории предков, как
много и с какой достоверностью можно было бы умозаклю-
чить о происхождении, распространении, смешении этих на-
родов!
А между тем даже в Европе целый ряд наций остается
еще не изученным и не описанным в этом отношении.
Эстонцы и латыши, венды и славяне, поляки и русские,
фризы и пруссы — их песни этого рода собраны не так, как
песни исландцев, датчан, шведов, не говоря уже об англи-
чанах, эрсах * и бриттах или о южных народах. А между тем
среди них имеется так много лиц, призванных по долгу
службы изучать язык, нравы, образ мышления, древние по-
верья и обычаи своего народа! Другим же нациям они дали·
бы тем самым в руки живую грамматику, наилучший сло-
варь и естественную историю своего народа. Но только они
должны дать ее такой, как она есть на самом деле, на ее
древнем языке и с достаточными пояснениями, не ухудшая
и не высмеивая, не приукрашивая и не облагораживая ее, и,
по возможности, с мелодиями и со всем, что относится
к жизни народа. Если им это ни к чему, то другим это может
пригодиться.
Лессинг высказал свое мнение о двух литовских песнях,
Клейст написал подражание песне лапландцев и каннибалов,
а Герстенберг перевел такие чудесные вещи древних дат-
чан! * Какая обильная жатва могла бы еще последовать за
этим! — Если считать вместе с Лейбницем, что человеческий
ум и сметливость нигде не проявляют себя ярче, чем в игре,
тогда, поистине, человеческое сердце и воображение нигде
не проявляются ярче, чем в природных песнях таких народов.
Когда слушаешь их, сердце раскрывается, а ведь сколь
69
многое в нашем искусственном мире закрывает и замуровы-
вает его!
Наконец, и для правил поэтики, заимствованных нами по
большей части у греков и римлян, могут оказаться небеспо-
лезны образцы и сборники подобного рода. Ведь и греки
были некогда, если хотите, дикарями, и даже в лучшую пору
их расцвета в них сохранилось гораздо больше природного,
чем может обнаружить прищуренный глаз схолиаста * и
классициста. Совсем недавно Вуд еще раз показал это у Го-
мера: он пел на основе древних сказаний, а гекзаметр его
был не чем иным, как напевом греческого романса. Боевые
песни Тиртея — это греческие баллады, а Орфей, Арион, Ам-
фион, если только они существовали, были благородными
греческими шаманами. Древняя комедия родилась из на-
смешливых песен и ряженья, сопровождаемого опьянением и
пляской; трегедия — из хоров и дифирамбов, то есть из древ-
них лирических народных сказаний и мифов. Если госпожа
Сапфо воспевает любовь так же, как какая-нибудь литов-
ская девушка, тогда, действительно, правила ее поэзии дол-
жны быть истинны, тогда они — само естество любви и со-
храняют свою силу даже на краю света. Если Тиртей и ис-
ландец запевают одинаковую боевую песнь, тогда ее голос
правдив и понятен, даже на краю света. Но если налицо су-
щественное несовпадение, если нам хотят навязать в каче-
стве божественного или природного закона национальные
формы или, тем более, ученые суждения о продуктах твор-
чества какого-нибудь одного уголка земли, — неужели не
дозволено будет нам отличать икону богоматери от осла, не-
сущего на своей спине эту икону?
ПОСВЯЩЕНИЕ К «НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ»
Вам, что сокрыты во мгле и, познав человечества душу,
Зрите деянья людей, тайные помыслы их;
Вам, клеймящим злодея, когда он уверен в успехе,
И преступленье, когда близко к победе оно;
Вам, усмиряющим спесь, заставляющим страсти безумца
Скрыться в недрах его воспламененной души;
Вам, обличающим зло и под сенью могильной, дарящим
Всем, онемевшим от мук, слово, дыхание, крик,—
Вам посвящаю я голоса народов в их песнях,
Тайное горе людей, скрытую горечь обид,
Стоны, которых никто не слышит, и тяжкие вздохи
Тех, которым никто, сжалясь, руки не подаст;
С вашей помощью пусть они в сердца проникают,
Пусть они грудь гордеца, словно кинжалы, пронзят,
Чтобы со страхом и злобой себя он узнал, проклиная,
И Немезиды постиг над богохульником власть.
Дерзкий, в безумье своем презрел он страдания смертных,
Мысля, что сам — божество и вознесен над землей.
Пусть он погибнет! Но я посвящаю вам также надежды,
И утешенья любви, и жизнерадостный смех,
И беззлобный укор, и веселую шутку народа
Над суетою сует и над гордынею злой;
Вам посвящаю .восторг, единящий влюбленные души,
За гробовою доской их сочетающий вновь;
Вам — и мечтанья невесты и материнские слезы,
Все, что немеет в груди, что несказанно в словах:
Ибо вы не напрасно в душу свою заглянули,—
Ласково палец прижат к вашим замолкшим устам.
71
[О НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ]
...Не подлежит сомнению, что поэзия, и в особенности
песня, была вначале целиком народной, то есть легкой, про-
стой, идущей от самих предметов, и создавалась на языке
масс, а также самой природы, богатой и ощутимой для всех.
Песня требует массы, созвучия многих: ей нужно ухо слуша-
теля и хор голосов и душ. Она никогда не могла бы возник-
нуть как искусство букв и слогов, как картина, в которой
краски на полотне смешаны, чтобы развлечь лениво разва-
лившегося в креслах читателя, — или, во всяком случае, не
стала бы тем, чем она является для всех народов. Весь мир
и все языки, в особенности древнейший, седой Восток, оста-
вили нам .множество следов этого происхождения, — но
нужно ли приводить и перечислять их?
О том же свидетельствуют имена и голоса древнейших
греческих поэтов. Лин и Орфей, Фантасия и Гермес, Мусей
и Амфион, * имена и сведения, легендарные и подлинные,
показывают, чем была тогда поэзия, откуда она возникла,
в чем продолжала жить. Она жила в ушах народа, на устах
живых певцов, на струнах их арфы; она воспевала историю,
события, тайны, чудеса и знамения; она была подобна
цветку, раскрывавшему своеобразие каждого народа, его
языка и страны, его дел и предрассудков, страстей и дерза-
ний, его музыки и его души. Можно сколько угодно считать
вымыслом то, что рассказывается об аэдах, странствующих
греческих певцах: и все же на дне сосуда останется крупица
истины, находящая себе подтверждение и у других народов,
в другие эпохи. Самое -благородное и самое живое в грече-
ской поэзии выросло именно отсюда.
Величайший певец греков, Гомер, является одновременно
величайшим народным поэтом. Созданное им величественное
целое — не эпопея, a «epos»,* сказка, предание, живая исто-
72
рия народа. Он не усаживался на бархатные подушки, чтобы
написать героическую поэму в дважды двадцать четыре
песни, согласно правилам Аристотеля, или, по воле музы,
сверх этих правил, — нет, он пел то, что слышал, изображал
то, что видел и непосредственно воспринял; его рапсодии:
оставались не в книжных лавках и не на лоскутках бумаги,,
а в ушах и в сердце живых певцов и слушателей, от которых
они и были затем собраны и, наконец, дошли до нас, обре-
мененные целым грузом примечаний и предрассудков. Стих
Гомера, всеобъемлющий, как лазурный небосвод, и столь же-
щедрьщ и доступный всем, кто живет под его покровом,—
это совсем не школьный, искусственный гекзаметр, а метр'
греков, который весь 'был уже заложен в их чистом, тонком
слухе, в их звучном языке, и только ждал того, чтобы, по-
добно мягкой глине, принять очертания богов и героев. Бес-
конечно и неутомимо изливался он мягкими волнами, ниспа-
дал своеобразными эпитетами и каденциями, которые так
любит слух народа. Именно они, этот тяжкий крест самых
знаменитых переводчиков и эпических поэтов, составляют
душу его гармонии, мягкое изголовье, на которое склоняется
в сладкой дреме наша голова, и глаза смыкаются с каждой
заключительной строкой, чтобы с каждой новой строкой про-
буждаться с новыми силами для созерцания, пробуждаться,,
не боясь трудного, далекого пути. Всякая высокопарность,,
всякая искусственная вычурность, всякие словесные лаби-
ринты чужды простому певцу, он поет, чтобы быть услышан-
ным, и поэтому всегда понятен: образы встают перед нашим.
взором по мере того, как его серебристые звуки вливаются
в наше ухо; те и другие сплетаются в дивной пляске — это и
есть поступь его музы, чья божественная природа сказы-
вается и в том, что она готова служить самым малым мира
сего, даже детям. О сокровенных и милых сердцу вещах не
принято спорить на рыночной площади; но, думается мне,
Гомер никогда не являлся тому, кто представляет себе этога
милого нашему сердцу странника не иначе, как в быстро
несущейся колеснице, а в плавном течении его речи слышит
лишь трескотню так называемой героической поэзии. Нет,
поступь его нетороплива, а дух его является нам так, как
явился на родину Улисс: лишь тот может стать ему близким,
кто не стыдится и не отрекается от этого смиренного образа.
Гесиод и Орфей — в своем роде то же самое. Разумеется,,
я не считаю подлинными песнями древнего Орфея то, что ему
приписывают; это, без сомнения, не что иное, как позднейшие
копии старинных песен и сказаний, обновленные шесть, семь,
а может быть и сто раз; но то, что они восходят к древним
песням и сказаниям, чьи смутные следы еще проступают
в них, — это, если я не обманываюсь, очевидно. Да и у Ге-
сиода, далеко превосходящего Орфея в отношении своей
7S
подлинности, встречаются не принадлежащие ему стихи; и
все же повсюду в них слышится древний, всеми почитаемый
народный певец, простодушный пастух, пасущий свои стада
у подножия Геликона и получивший там от муз дар сладост-
ных песен и поучений. * О, если бы м'не удалось перевести
на наш язык что-нибудь из этих золотых даров и преданий
старины, из этих благороднейших народных песен так, чтобы
они хоть сколько-нибудь остались тем, что они есть на самом
деле! Гомер, Гесиод, Орфей, я вижу ваши тени там, передо
мной, среди толпы на блаженных островах, и слышу отзвук
ваших песен; но нет у меня челна, который перенес бы вас
в мою страну, в мой язык. Плеск волн морских, разделяю-
щих нас, заглушает звуки арфы, а ветер относит ваши песни
назад, туда, где они никогда не умолкнут под амарантовой
листвой, в вечных плясках и празднествах.
То же нужно сказать и о греческом хоре, из которого
возникла их высокая, единственная в своем роде драма; его
отблески все еще вспыхивают в ней, в особенности у Эсхила
и Софокла, подобно священному пламени жертвенного
костра. Без сомнения, это и есть идеал греческой народной
песни; но кому удастся схватить ее образы, уловить их в зву-
ках и сделать достоянием нашего языка? Так же обстоит и
с песнями Пиндара, — они, насколько мне известно, не суще-
ствуют на нашем языке, а может быть и в нашем слухе,
в сколько-нибудь сходном отражении. Мы стоим среди этого
потока, подобно Танталу: поток звуков проносится мимо, и
золотые плоды ускользают от нашего прикосновения.
Итак, раз уж мне не дано было коснуться самого высо-
кого в этом роде поэзии, я удовольствовался тем, что привел
лишь несколько образцов маленьких песенок, застольных пе-
сен и легких напевов. Я потихоньку бреду берегом, предоста-
вив другим морские глубины.
Что до римлян, то давно уже утрачены те древние песни
праотцев, которые они распевали на пиршествах'в пору сво-
его расцвета, черпая в них доблесть и любовь к отчизне.
У Катулла и Лукреция таится еще немало от древней песни,
но это трудно обнаружить.
Старые песни отцов церкви до известной степени увекове-
чены. В мрачную пору, в темных храмах, они звучали латин-
скими хоралами, пока не обрели новую жизнь в языке почти
всех стран Европы и продолжают жить поныне там и сям,
хотя и в ином обличье. Некоторые из них имеются на нашем
языке в очень старых переводах, любопытных, но, собственно,
сюда не относящихся.
Поскольку я совсем не собираюсь говорить об утраченных
•бардах, а о поэзии скальдов лишь в начале второй книги,
я обращусь теперь к немецким поэмам и народным песням.
Из них древнейшая, по-видимому, — «Песнь о короле Люд-
74
виге», которую я пытаюсь передать здесь, сохранив, по воз-
можности, ее краткость и быстрый темп. Она интересна уже
-сама по себе, как песнь, возникшая в 882 году, и не менее
лримечательна по своему внутреннему характеру. Отрывки
из Отфрида, в особенности1 строфы из' предисловия: «Люд-
виг Смелый», в какой-то мере примыкают к ней. «Песнь об
Анно», один из перлов в венце нашего Опитца, * сюда не
относится — это скорее ода, чем народная песня.
Унылой и мутной чередой текли для Германии столетия.
Там и сям уцелели отдельные голоса народные, какая-нибудь
песня,, пословица, рифма; но по большей части они погрязли
в топком иле, и волны вновь уносят их в пучину вод. Если
исключить латинские стихи или рифмованные хроники, не
имеющие отношения к моей задаче, м'не до сих пор мало
попадалось на глаза такого, что могло бы сравниться с луч-
шими вещами англичан, испанцев или северных народов... Во
многих немецких хрониках встречаются старинные немецкие
плясовые и народные песни, и многие из них содержат пре-
восходные места и строфы. Я привожу здесь все, что только
оказалось в моем распоряжении, ибо то, что не понадобилось
мне, может понадобиться другому, в особенности же будет
небезразлично тому, кто решится когда-нибудь (и дай бог,
чтобы скоро!) приняться за историю немецкой песни и поэ-
зии...
Во время религиозных волнений' XVI века песнями сра-
жались не хуже, чем писаниями, особенно если они затраги-
вали князей и общественные дела. Передо мной лежит пе-
чатный сборник таких песен, большей частью касающихся
отношений между. Саксонией и Брауншвейгом 1542 и 1545 го-
дов, а также между Саксонией и императором в 1547 году.
Составитель собрал, по-видимому, лишь то, что появилось по
этому поводу в его родном крае: значительная часть собран-
ного была ранее напечатана в· Лейпциге и Эрфурте. Это уже
немало; в других местах имеются, вероятно, другие песни на
ту же тему. По этой массе песен, появившихся в течение двух
лет по поводу двух событий, можно судить, бедна ли была
ими Германия. Если бы только они были столь же хороши
по. качеству, насколько они. претендуют на правдивость и
простосердечие! Для всех песен указаны мелодии, и ссылки
на них содержат, в свою очередь, названия широко известных
народных песен: по большей части новая песня даже целиком
сохраняет «тон», то есть мелодию, прежней. То же самое
нередко наблюдается и в отношении между светскими и ду-
ховными песнями, поэтому не удивительно, если над духов-
ными песнями зачастую стоит название весьма светской
мелодии, например «Любовь живет с любовью...» и т. п. По-
рой это доходит до грубых пародий, которые теперь оскорб-
ляют наше чувство, тогда как прежде этого не бывало, ибо
75
таков был обычай. Например, в названном сборнике новая
песня «Охотник»—> духовная, а ссылка на мелодию «Задумал
охотник погоню» намекает, хоть и не слишком деликатно, но,
во всяком случае, -без задней мысли, на Гавриила и деву
Марию. Многие модуляции старых церковных песен берут
свое начало из таких мелодий, и, не зная их, нельзя, соб-
ственно, дать историю церковного пения. Большей частью
в таких народных песнях духовное и светское начала ели*
ваются — образчики этого есть и в старинных песенниках.
Лютер, сочинявший превосходные духовные песни, написал
и «новую песню о двух мучениках веры Христовой из Брюс-
селя, сожженных софистами в городе Левей». * Песня эта
много раз печаталась отдельно и в старинных песенниках.
Я включил бы ее в свой сборник или привел где-нибудь
отдельные строфы, если бы она не отличалась так резка
от общего тона. Известна его пародия * «Теперь мы прого-
няем смерть», встречающаяся также в старых песенниках...
Рассказы и отдельные отрывки из библии перелагались сти-
хами на манер светских сказаний; искусство мейстерзинге-
ров добросовестно сохранило эту манеру и под конец весьма
недобросовестно ее испортило.
Я не стану говорить здесь о последних и об их более
благородных предтечах, о миннезингерах. * Они были и одно-
временно не были народными певцами — смотря по тому, как
толковать это понятие. Быть народным певцом совсем не зна-
чит происходить из черни или петь для черни; точно так же
как благороднейшую поэзию нисколько не унизит то, что она
раздается в устах народа. Народ — не уличная чернь. Чернь
никогда не поет и не творит поэзию, она только горланит и
коверкает. Не приходится отрицать, что в период швабской
династии * поэзия приобрела большой размах: она охваты-
вала всех — от императора до горожанина, от ремесленника
до князя. Пели на мотив уже известных мелодий, и если они:
были хороши, их использовали много раз. Любовь, как будет
показано ниже, не была единственным содержанием этих пе-
сен; и звучали они не в ученой аудитории и не в тесной гор-
нице. Отрывок хроники, который будет приложен к ним,,
также свидетельствует о том, насколько живучи были эти
песни, как широко они были тогда распространены, быть мо-
жет больше, чем чтения, которые устраивают наши нынешние
поэты и с которыми обычно сравнивают кружок слушателей
песен. Конечно, повсюду и всегда хорошее встречается редко.
Без сомнения, на одну хорошую мелодию приходилось десять
или пятьдесят негодных, которых, впрочем, никто и не по-
вторял,— они сами собой умирали на устах певца; в конце
концов все это благородное искусство превратилось в такое
жалкое ремесло и.старье, что нужна была большая охота и
любовь к этому делу, чтобы почувствовать или заподозрить
76
в нем хоть что-нибудь от тех далеких, первоначальных
времен.
Как бы.то ни было, и одни и другие, миннезингеры и мей-
стерзингеры, не входили в мой план по той простой причине,
что их язык и манера не кажутся нам достаточно лиричными.
Я мог бы привести некоторое число очень ценных, частично
ненапечатанных вещей, но чтобы они могли звучать для нас
и были нам понятны, мне,пришлось бы прежде всего изме-
нить строфический размер, а следовательно, мелодию и об-
щий характер, а это означало бы с точки зрения моего об-
щего, плана изуродовать- их. Итак, пускай уж лучше они
подождут до другого раза...
Романтических и любовных песен «имеется великое множе-
ство—-частью это бродячие песни, иногда напечатанные здесь
или там, особенно много—в Нюрнберге. Поэзии в них мало,
они часто повторяют друг друга, хотя и не совсем лишены
нежности и остроумных оборотов. Но для того чтобы выде-
лить крупицу золота из этого поношенного старья, пришлось
бы сжечь его, и лишь немногое можно было бы дать целиком.
Известную песню: «Любовь живет с любовью...» — песню
о верном страже; имеющуюся в Манессовском сборнике, хотя
и написанную другим размером, песню о дочери султана;
любовный спор: песню о трех розах, о сема желаниях и дру-
гие * можно было бы, пожалуй, привести, в отрывках, а также
познакомить с некоторыми песнями, послужившими образцом
для других благодаря своим знаменитым в те времена мело-
диям. Но раз уж кое-кому угодно было выступить с громо-
гласными тирадами против народных песен вообще, притом
в несколько неуместном и новом тоне, * то мне не хотелось
бы оказаться тем, кто подбросит им горсточку сена и не-
сколько невинных листочков, которые они подхватили бы на
свои премудрые рога. Я предпочел бы дать им несколько
французских песенок — пускай нацепят их вместо веночков.
Я в особенности придерживался полузабытых г немецких
поэтов и их отдельных хороших стихов. По сравнению со
своими тремя просвещенными соседками—Англией, Фран-
цией, Италией — Германия выделяется еще и тем, что
оставляет в забвении лучшие умы своего прошлого и таким
образом пренебрегает собственными богатствами. Все три на-
званные нации весьма гордятся своим прошлым, у них есть
сборники, антологии всех своих стихотворцев подряд; мы же
в настоящее время заняты только сами собой, то есть живем
от одной книжной ярмарки к другой, и даже самые громкие
крикуны обнаруживают такое невежество в области немец-
кой и всякой вообще литературы, что остается, право, только
диву даваться и разводить руками в изумлении...
Вообще всякому, кто способен отличить сегодняшний день
истории от вчерашнего, ясно, что лирическая поэзия, или,
77
как выражаются эти господа, оригинальные немецкие 'песни*
не были жизненным нервом нашего народа, первым цветком
его поэтического венка. Правдивость и честная назидатель-
ность испокон веков составляли наш характер как в жизниг
так и в литературе и в поэзии. Мы обнаруживаем это в лю-
бом столетии, от которого дошли до нас история, хроника,,
пословицы, стишки, рассказы, изречения и т. п., — но очень
мало 'песен, в особенности таких, которые можно было бы
предложить читателю сегодня. Все равно по каким причинам,,
внутренним или внешним (как обычно—по тем и другим),,
немецкая арфа испокон веков звучала глухо, а голос народа
был низким и недостаточно живым. Можно было бы подо-
брать немалое число поучительных к назидательныхстихов,,
■найдя для этого хорошие или, во всяком случае, сносные
отрывки даже из. плохих поэтов; но подлинная песня либо·
совсем заглохла, либо, если только не хочешь преподносить
■читателю сорняки и навоз, чересчур жалка и убога, чтобы
стать наравне со сборником Перси. Увы, я уже. говорил
■в 'первой части, что на это у меня никогда не хватало реши-
мости и мужества.
Общий вид моего сборника ясно показывает, что я исхо-
дил, собственно, из английских народных песен и возвра-
щаюсь к ним вновь. Когда, более десяти лет назад мне по-
пались под руку «Reliques of ahcient Poetry»,1 отдельные вещи
так восхитили меня, что я пытался 'перевести их, * мысленно·
желая, чтобы нечто подобное было и на нашем языке, столь
удивительно похожем на английский по своему ритму и ли-
рической выразительности. Я совсем не собирался печатать
эти переводы (по. крайней мере, 'переводил я не для того) —
следовательно, я отнюдь не намеревался смутить ими клас-
сическое деломудрие. нашего языка и лирического величия,.
!или, как остроумно выразился некий критик, показать «в ка-
честве своей манеры полное'отсутствие правильности». Если:
считать, что этим вещам надлежит. остаться тем, чем они
были в подлиннике, то в них и не должно было быть большей
правильности (если уж употреблять здесь это неподходя-
щее слово!); иначе я дал бы совсем новые или другие вещи.
Там, где в подлиннике было больше правильности, я старался
передать ее; но не колеблясь жертвовал ею, если она меняла
основной тон песни и, таким образам, была здесь неуместна.
Всякий волен переводить, украшать, шлифовать, растягивать^
идеализировать их как угодно, так что невозможно будет
узнать подлинник; такова будет его манера, не моя, а чи-
татель волен выбирать между нами. Так же обстоит дела
с песнями из Шекспира. Я перевел их более десяти лет назад»
1 «Памятники древней поэзии» (англ:).
78
отнюдь не собираясь предупредить другого, лучшего перевод*
чика или подражать ему. Я переводил для себя, и только
жалкая шумиха, поднятая вокруг народных песен, когда каж-
дый гонялся за собственной тенью, побудила меня в пылу
раздражения просто и без всяких притязаний показать, что
я понимаю под народной и ненародной песней и т. п.
По этой же причине я изменил и весь тон этой части,.
,включив в нее некоторые произведения, которые действи-
тельно не принадлежат к числу народных песен и никогда не
■станут ими (этого мне не нужно доказывать!). Увы! Я убе-
дился ,на примере первой части, каким жалким выглядит
-полевой цветок, когда он пересажен на клумбу белой бумаги*
■а почтеннейшая 'публика снисходительно рассматривает его,
•как будто это цветок садовый, вырывает по одному его ле-
пестки и подносит их к глазам, — как он сам решительно
воспротивился бы этому! Ведь единственное представление
о песне, как и о чтении, сводится обычно к следующему: все,,
что есть, существует для парада; никто и не думает о наив-
ной потребности и нужде. Итак, в этой части я старался, по
возможности, щадить благовоспитанных читателей и крити-
ков и привел всего лишь две или три из английских баллад,
•не более, да и то выбрал преимущественно исторические
-вещи, ценность которых уже не подлежит сомнению, напри-
мер о Перси, * Мэррее и т. п. От прочих, намеченных imhok>„
я отказался из сострадания к любителям правильной поэзии:
•ведь все это — презренные рассказы о фантастических при-
ключениях и смертоубийствах,да к тому же я перевел бы их
в своей собственной, то есть совершенно неправильной, ма-
нере.
Из испанского я также дал всего лишь несколько образ-
цов, ибо ничего не может быть труднее, чем перевод простого
■испанского романса. Попробуйте-ка перевести на наш язык
длинную историческую поэму, где каждая вторая строка
оканчивается на -аг, так великолепно раскатисто звучащее
•на испанском. * Впрочем, повторяю, что в отношении ро-
манса и песни здесь многому остается поучиться — быть мо-
жет, там еще цветет для нас целый сад Гесперид. После
итальянского я не знаю другого нового, языка, который сви-
вал бы столь прелестные лирические венки, как язык Иберии*
к тому же еще более звучный, чем итальянский...
Из итальянского я привожу лишь несколько песен.
Итальянские новеллы были уже обработаны великими масте-
рами Боккаччо и Пульчи, Ариосто и Скандиано так, что они
предстали перед нами во всем своем блеске. Их величайшим
народным поэтом в известной мере до сих пор остается
Данте, но, по сути дела, он уже не лирик.
Что еще содержится в этом сборнике, видно из самой
книги и из оглавления. Она появится в свет под скромным
79
заглавием «Народные песни», то есть скорее как материал
для поэзии, чем как сама поэзия. В отношении многого я уже
не помню, где оно напечатано и откуда я его взял, а то, что
я не указываю имени автора песен или названия их родины,
как и вообще имени собирателя этого скромного букета,—
это, право, не такой уж грех, почтеннейший господин патер!
Я ведь не требую себе ни словечка похвалы или благодарно-
-сти за все то хорошее, что в них есть, каким бы разным ме-
стам и эпохам оно ни принадлежало, — еще менее я склонен
отвергать слова упрека или критики от
дикого медведя,
Бредущего от улья с медом, —
или от голубей и лебедей самого Аполлона. Единственное мое
желание — чтоб задумались, что же я хотел дать; и прислу-
шались, почему я дал то, а не другое. По-моему, это не вели-
кая премудрость и не искусство—принимать за классиче-
скую чеканную .монету то, что является лишь материалом для
/просвещенных сочинений, то есть руду, добытую из недр ма-
тери-земли, или видеть в скромном полевом цветке венец,
достойный царя Соломона или какого-нибудь критика лири-
ческой 'поэзии, пожалуй еще более величественного, чем этот
премудрый царь. .
Наконец, не могу не остановиться в двух словах на том,
-что я считаю сущностью песни. Ее единственное и главное
достоинство я полагаю не в сочетании приятных красок, сли-
вающихся в пеструю картину, и не в блеске внешней отделки;
эти достоинства присущи только определенному виду песен,
который я не считаю ни первым, ни единственным, а скорее
назвал бы стишками для кабинета или будуара, сонетами,
мадригалами и т. п., нежели песней в строгом смысле слова.
Существо песни — в напеве, а не в картине, ее совершенство
определяется мелодическим движением страсти.или чувства,
которое можно было бы обозначить метким старинным сло-
вом: лад. Если песня лишена его, если она не обладает своей
тональностью, поэтической модуляцией, не выдерживает хода
м развития этой .модуляции, — то сколько картин, какое соче-
тание приятных красок она 'ни заключала бы в себе, это уже
гне песня. Или, если модуляция эта чем-либо нарушена, если
чуждая рука, в пылу усердия, внесет в нее. какие-нибудь
/исправления (тут—живописную композицию в качестве
вставки, там — приятный эпитет как подкраску и т. п.), так
что на мгновение мы перестанем слышать, живую интонацию
;певца, мелодию песни, и у нас останется на зубах лишь
красивое, но жесткое и несъедобное зерно красок; тогда про-
щай всякое пение, прощай песня и радость! И напротив, если
в песне есть лад, благозвучная, строго соблюдаемая лириче-
ская мелодия, то даже при не очень значительном содержа-
ло
нии «песня останется, ее будут петь. Рано или поздно вместо
плохого содержания возьмут хорошее и будут строить дальше
на этой основе; но душа песни, поэтическая тональность, ме-
лодия останутся. Если в песне с хорошей мелодией имеются
отдельны-е заметные погрешности, они исчезнут; плохих строф
не станут петь; но самый дух песни, то, что единственно
воздействует на душу и побуждает ее влиться в общий хор,—
этот дух бесамертен и всегда будет действовать. Песни нужно
слышать, а не видеть, слышать внутренним слухом души,
который не отсчитывает, не взвешивает, не отмеривает от-
дельные -слоги, а прислушивается к отзвуку и плывет дальше
вместе с ним. Малейшее препятствие, малейший камень, будь
это даже алмаз, вызывает в нашей душе отвращение. Малей-
шее исправление, навязывающее нам себя, вместо того чтобы
показать певца, натягивающее сотню певцов и тысячи песен
на одну колодку, о которой они понятия не имели, каким
бы желанным ни было это исправление для всех мастеров и
подмастерий этого ремесла, сколько бы они ни извлекли от-
сюда, как принято говорить, полезного,—для певцов и детей
песни —
Портной над ними подшутил,
Оставив ножниц след,
И вот природы дивных сил
Как будто вовсе нет... *
И в переводе самое трудное передать тон, песенную интона-
цию чужого языка, — об этом красноречиво свидетельствуют
сотни потерпевших крушение песен и лирические обломки,
прибитые к берегам нашего и других языков. Нередко слу-
чается, что невозможно передать самое песню, как она
поется на родном языке; тогда единственное средство — пра-
вильно 'поняв ее, передать, как она звучит в нас самих, так,
как мы ее запомнили. Всякое колебание между двумя язы-
ками и двумя способами петь невыносимо; слух, сразу же
уловив его, преисполняется ненависти к хромому посреднику,
не умеющему ни говорить, ни молчать. Поэтому главная за-
дача при составлении этого сборника заключалась в том,
чтобы правильно уловить -и сохранить тон и мелодию каждой
песни; другой .вогпрос — всюду ли это удалось. По крайней
мере, пусть это соображение послужит хотя бы оправданием
содержания некоторых вещей; не самое содержание, а тон,
мелодия были целью сборника. Если они удались, если про-
звучат на нашем языке хорошо и чисто, то в какой-нибудь
новой песне найдется и соответствующее содержание, пусть
даже от прежней в ней не останется ни слова. Но и тогда все
же лучше давать новые песни, нежели исправленные, то есть
исковерканные, старые. Создавая новую песню, мы полно-
властные хозяева содержания, если только нас одушевляет
мелодия старой песни; при исправлении же мы большей
б Зак. 291. Гердер #/
частью вообще не слышим никакой мелодии, только штопаем
да латаем; поэтому я и не менял ничего или почти ничего
в старых песнях.
Таково мое мнение о сущности песни, высказанное не
в ущерб другим мнениям; а теперь всякому молокососу
предоставляется право кудахтать, сколько душе угодно, о ме-
лодии песни, как до сих пор он кудахтал о ее отрывочности.
Я не собираюсь здесь ни опровергать, ни теоретизировать, а
хочу лишь сказать то, что может помочь пользоваться этим
сборником и понять его содержание.
[ИЗ СТАРОГО ПРЕДИСЛОВИЯ
К СБОРНИКУ НАРОДНЫХ ПЕСЕН]
...Итак, нам остается, по-видимому, самое незначитель-
ное — оглядеться, не сохранилось ли вокруг нас каких-ни-
будь остатков народных песен, продолжающих жить еще и
поныне или живших в недалеком прошлом и еще доступных
нашему пониманию, присмотреться к этим песням и заняться
их собиранием. Быть может, искорка немецкого националь-
ного духа, почти угасшая под грудой пепла и тлена...
Но, возразят мне, что тут можно найти? Грубые песни
грубого народа! Варварские звуки, похлебку из националь-
ных преданий — чего тут можно ждать для славы нации, для
воспитания и развития человеческого духа; наконец, ока-
жется ли здесь просто что-нибудь достойное печати и сохра-
нения для потомства?
Людям благородным, образованным, пресыщенным, кото-
рые произносят столь решительный и неумолимый приговор,
я приведу в ответ лишь пример всех соседних наций. Без со-
мнения, галльский и английский народ, а северные народы
в еще большей степени — были всего-навсего народом! Наро-
дом, как и немецкий народ! И все же если бы, например,
бритты, которые, как я подагаю, не менее благородны и об-
разованны и в большей степени могут гордиться классиче-
скими образцами древней и новой литературы, нежели мы,
поистине бедньге немцы (вопреки всей нашей новомодной
юношеской национальной гордости, не имеющей ни силы, ни
веса!), — если бы, говорю я, они поторопили-сь отвернуться
с презрением, только на основании заглавия, от того, чего
они даже не успели разглядеть и прочесть, — тогда их Рам-
зей и Перси не издавались бы столько раз; скорее всего,
подобно нам, возвышенным и пресыщенным немцам, они во-
обще не стали бы собирать песни. А теперь я призову в сви-
детели всякого чувствительного человека, или, для этих песен
6* 83
даже лучше, — всякую чувствительную женщину: действи-
тельно ли у Рамзея или в «Reliques of ancient Poetry» Перси
не найдется ничего достойного быть напечатанным и сохра-
ненным для 'потомства?. Напротив, я полагаю, там есть вещи,
которые —не стыжусь признать!—не имеют себе равных
в современной поэзии этого рода — равных по наивности,
трогательности, способности действовать 'на чувство, по своим
интонациям, по тем отзвукам, которые они находят в глубоко
взволнованной душе! Не говорю уже о второстепенных кра-
сотах, порождаемых силой воображения. Стоит только срав-
нить новейшие опыты в этом духе даже настоящих поэтов,
Шенстона, Мэсона, Маллета и других, с их древними гру-
быми образцами, — и мы сразу же увидим огромную разницу.
Там все исполнено пения и звуков, простоты и впечатляющей
силы: здесь — всегда лишь отдельная картинка в стихах, ви-
сящая изящно и бесцельно на стене кабинета.
А если представить себе эти песни, отрешившись от запи-
сей на бумаге, в их окружении, в их эпоху, в живом взволно-
ванном восприятии народа, — все, о чем так подробно рас-
сказывают нам истории старого времени о древних бардах
и даже средневековые истории—о впечатлении, которое про-
изводили их менестрели и мейстерзингеры, — то здесь, мне
кажется, можно еще почувствовать слабый отзвук всего
этого! Величайшие певцы и любимцы муз, Чосер и Спенсер,
Шекспир и Мильтон, Филипп Сидней и Сельдей, — да к чему
перечислять их, и можно ли всех перечислить? — все они
были энтузиастами старинных песен, и нетрудно было бы до-
казать, что лирический, мифологический, драматический и
эпический элементы, составляющие национальное отличие анг-
лийской поэзии, возникли из этого древнего наследия старин-
ных певцов и поэтов. Относительно Чосера, Спенсера и Шек-
спира это не нуждается в доказательстве, но любовь к этим
вещам и подражание им простираются вплоть до Драйдена,
Аддисона, Попа—этих последних, уже почти чрезмерно
хрупких, отпрысков английской поэзии. Современные шот-
ландцы, как и наши немцы, пытались воскресить эти памят-
ники прошлого беспомощными подражаниями, детским лепе-
том — это уже другой вопрос, но ценность и внутреннее со-
держание их остаются бесспорными. По языку, по тону и
содержанию эти старинные песни представляют подлинное
мышление своего племени, или как бы самый ствол, сердце*
вину нации. Кто .мало или совсем ничего не видит в них,
показывает тем самым, что не имеет с ней ничего общего.
Кто пренебрегает ими и не чувствует их, тот показывает, что
он так погряз в пустом подражательстве всему иностранному,
так запутался в невесомой мишуре чужеземного маскарада,
что разучился ценить и ощущать все то, что составляет тело
нации. Следовательно, он — искусственно привитый аамор-
ский побег или одиноко реющий в воздухе, оторвавшийся от
ветки листок, то есть виртуоз для всех времен, скроенный по
новейшему вкусу! Мыслитель!
Подобно тому как англичане превосходят нас националь-
ным богатством, так же точно они превзошли нас своей на-
циональной справедливостью и терпимостью к старине. Ка-
кие жалкие песни включил, решился включить, например,
Перси в свои «Reliques», и, в частности, во второй раздел
первого тома! Песни, которые я, конечно, не отважился бы
напечатать в нашей образованной Германии, даже если бы
они объясняли, истолковывали многое в истории древних
времен (а ведь сколько времени в этом одном находили
вкус!). Их песни, слава богу, ничего не объясняют и не истол-
ковывают: но для них достаточно было того, что их Шекспир
тоже знал такую песню, привел из нее хотя бы одну строчку,
как безмолвный промежуток в ;пении и хаосе страстей. Только
под благотворным влиянием такой терпимости, такого почте-
ния к предкам и умения с любовью переноситься в неученую
старину мог вырасти из маленьких ростков и побегов целый
лес старинных поэтических произведений, под сенью которых
с волнением и радостью ищут приюта даже чужеземные,
лишь отдаленно родственные соседи.
Правда, современный английский собиратель располагает
большими преимуществами. Частично это — более ранние
сборники: у него под рукой были богатые материалы, щед-
рые дары библиотек, рукописи и т. п., и, что важнее всего,
образ мыслей нации был сам по себе национальным: народ
составлял столь значительную часть нации, что уже на само
это слово взирали без краски стыда, без отвращения или
удивления; ученый писал и собирал не только (увы, как
у нас!) для ученых, притом для наихудшей их разновидно-
сти — для кабинетных ученых, совершенно не знающих на-
рода, для педантов, рецензентов,— а для нации, для народа,
для единого целого, именуемого отечеством! Таких ученых
у нас, немцев, нет еще и в помине (сколько бы мы ни бол-
тали, ни распевали и ни писали об этом), да и не будет,
может быть, никогда. Но, продолжив это сопоставление,
я коснулся бы чересчур больных и чувствительных мест! По-
этому я останавливаюсь и скажу только, что это всего лишь
предисловие к попытке подобного рода собрания немецких
народных песен, какие уже имеются у наших братьев и пред-
шественников, ставящих себя так высоко над нами, у англи-
чан, и собраны у них, действительно, лучше, богаче и полнее.
Я выступаю перед вами в своей бедности лишь для того,
чтобы пробудить других, более богаты* сограждан, другие
земли, местности, библиотеки, провинции! Я протягиваю при-
горшню воды, сам почти стыдясь этого, и сравниваю ее с бо-
гатой и обильной трапезой соседа: неужели не найдется
85
среди моих братьев немцев, соотечественников, друзей ро-
дины никого, чью желчь и ревность я возбудил бы этим так,
чтобы они взялись за дело и, преисполнившись благородного
гнева, мести и радости (о, я знаю, я хочу этого, я надеюсь на
это!), намного превзошли бы меня!
Великий народ и великая страна! Или скорее — народ и
страна десяти великих народов — это у тебя нет народных
песен? Благородный, добродетельный, стыдливый, нравствен-
ный народ, умеющий столь глубоко любить, — это у тебя
нет песен, более благородных, певучих, добродетельных, нрав-
ственных, содержательных, чем эти? Швейцарцы, швабы,
франки, баварцы, тирольцы, саксонцы, вестфальцы, венды и
чехи — у вас нет песен более естественных, живых, трогатель-
ных, содержательных, чем эти?
Ни минуты сомнения!—скажу я, хотя бы из любви к своей
нации; но они лежат под спудом, ими пренебрегают, они да-
леки, они на краю гибели и вечной утраты. Именно здесь,
именно потому отважился я на этот опыт, как уже было
сказано, с единственной целью, чтобы другие отважились на
большее и с большим успехом: но со рвением, с усердием —
теперь же! Мы стоим на самом краю пропасти—еще полсто-
летия, и будет поздно!..
Теперь или никогда! — взываю я вновь, немцы, мои
братья! Теперь или никогда! Последние остатки живого на-
родного образа мыслей все стремительнее катятся в бездну
забвения! Свет так называемой культуры, подобно раковой
опухоли, разъедает все вокруг себя! Вот уже полстолетия,
как .мы стыдимся всего отечественного, танцуем французские
менуэты на невыносимо немецкий лад, распеваем со времен
Менанта и прочих невыносимо изящные непристойности и лю-
бовные песенки, о которых понятия не имели, когда господ-
ствовал еще старинный суровый, энергичный тон живой бе-
седы, истории, романсов. То есть, как нередко нашептывал
нам какой-нибудь Лафонтен:
Didicisse fideliter artes
Emollit mores — 1
О, если бы мне только удалось дать подлинные образцы
этого сурового, энергичного тона беседы, истории, роман-
сов,— уже это само было бы мне наградой! Основательно
высмеять жалкий лепет наших новейших немецких сочини-
телей романсов, всю эту смехотворную породу подражателей,
лишенных не только настоящего материала, но, в еще боль-
шей степени, правдивости движения и голоса сердца. Пока-
зать, какая разница между подлинной народной песней, жи-
вым поющимся романсом и новейшими слащавыми уличными
1 Усердные занятия искусством смягчают нравы (лат.).
86
песенками, которые вытряхивают вам на голову целый ворох
старых рифм, смехотворных, калечащих язык оборотов, мчат
перед вами целую кавалькаду трагикомедий и комикотраге-
дий и еще раз портят этим немецкую поэзию и язык. Я не
даю здесь никаких подражаний — почему? Потому что под-
линный тон романсов выходит за пределы нашей эпохи: но я
и не осуждаю их (даже английские из перевода моего друга),
хотя это и вполне соответствовало бы новейшему идеалу на-
шей поэзии. И пусть этот обломок античного бюста сохранит
свою священную ржавчину и плесень, если только он не ста-
нет от этого неузнаваемым! Но если вы, юные глупцы, не
сможете воспроизвести ничего, кроме этой ржавчины и пле-
сени, если ваш резец не проникнет глубже этой поверхно-
сти— сломайте, уничтожьте ваши инструменты или воспойте
нам предметы нашего времени так же естественно, с такой
же благородной краткостью, силой, движением, как это де-
лали народные песни в свое время!...
ГОМЕР-ЛЮБИМЕЦ ВРЕМЕНИ
Когда Фалеса спросили, что, по его мнению, мудрее всего
на свете, он ответил: «Время, ибо оно все создало».
Именно поэтому греки давали богу Времени (Кроносу)
самые почетные и прекрасные имена. Его называли Отцом
всего сущего, Провозвестником истины, Пробным, граниль-
ным камнем мысли, Лучшим советчиком смертных; они про-
славляли его умение все смягчать, направлять, сглаживать,
умение непрестанно проливать свет на все неведомое и оста-
влять в тени все уже известное.
И еще можно сказать с помощью другой аллегории, что
смертные живут в непрестанной борьбе с этим древним богом,
что иные из его детей приписывают себе деяния, коих они не
совершали и кои совершил и мог совершить только он один;
можно сказать наконец, что порою он пользуется своей
властью, чтобы нежданно увенчать некоторых счастливцев
величайшей славой.
Кому неизвестны эти сказочные имена древности, каждое
из которых как будто вмещает в себе достижения целых
столетий? Тааут, Теут, * Тот, Гермес, Орфей; им приписывали
создание едва ли не всех искусств и наук, которые сделали
человека человеком. Как эти, так и многие другие имена древ-
ности, словно всевидящие звезды, сияют на темном небо-
своде — великие созвездия древних времен.
С событиями и деяниями происходит то же, что и с изо-
бретениями — все они рождены одним лишь Временем, но мы
предпочитаем приписывать их отдельным людям. Так, напри-
мер, утверждают, будто Ромул и Нума, приступая к жертво-
приношениям и закладывая стены Рима, уже'предвидели все,
что в них 'произойдет, хотя события эти совершились и стали
известны всему миру только по воле Времени. Утверждают
также, будто Александр, совершая свой поход в Азию,
88
закладывая Александрию, Вавилон и другие города, уже
тогда имел в виду все то, что в действительности многамуд-
рое Время придумывало на 'протяжении многих веков под
давлением множества различных обстоятельств, все то, что
с таким трудом осуществили его бесчисленные руки. То же
можно сказать и о Юлии Цезаре, Магомете ή многих других
законодателях, основателях религий и исторических деятелях,
особенно о тех, которые умерли в молодости, не завершив
своего дела. Даже созданные человеком произведения искус-
ства— порождены его душой, его усердием, его желаниями...
Впрочем, лучше пусть за (меня говорят примеры, и я поде-
люсь своими мыслями о некоторых счастливейших любимцах
Времени. Я 'просто последую за ходом Времени и изложу
свои соображения в том 'порядке, в каком они у меня заро-
ждались.
1
СОЗДАНЫ ЛИ «ИЛИАДА» И «ОДИССЕЯ» ОДНИМ ПОЭТОМ?
В детстве, когда творения Гомера еще казались мне только
сказками, я простодушно спросил: «Разве „Илиаду" и „Одис-
сею" сочинил один и тот же Гомер?» И я услышал в ответ:
«Конечно, только там он был .молод, а здесь стар; там. 'было
солнце восходящее, а здесь — заходящее». Я согласился;
только о'браз восходящего и заходящего солнца (которым,
по моему мнению, со времен Лонгина пользуются не совсем
правильно) я истолковал по-своему. «Илиада» с той поры
стала для меня в географическом отношении тем миром, где
солнце восходит, а «Одиссея» — тем миром, где оно заходит.
Как бывает, говорил я, на небесах, так и на земле; здесь как
и там. Восточный Гомер и Гомер западный; оба они должны
мирно уживаться во мне. Если бы я захотел перечислить
различия обеих поэм и содержащихся в них вещей, их внут-
ренней сущности и внешней композиции, мне пришлось бы
написать целую книгу. И все равно мне, вероятно, ска-
зали бы: «Ты грезишь».1 Думается мне, что каждая из
этих поэм имеет свой особенный воздух, свое небо, свою осо-
бую совокупность образов, рисующих вышний мир, землю
и преисподнюю. Один из них — это наш Гомер восточного
мира, другой — западного мира, ибо он сам так разделил
свой мир.
1 Мне хотелось бы, чтобы кто-либо другой выполнил то, чего не мог
выполнить я сам, то есть дал описание внешних и внутренних различий
«Илиады и «Одиссеи». Это было бы приятное и полезное сочинение, ко-
торое, однако, потребовало бы надлежащих знаний, полной беспристра-
стности и способности к живому восприятию.
89
2
ОГРОМНЫЙ ОХВАТ ВЕЩЕЙ В ПОЭМАХ ГОМЕРА
Читая Гомера во второй раз, я пытался, отвлекшись от
^всяких теорий и правил, живо представить себе содержание
поэм и был поражен их богатством, порядком в показе дей-
ствующих лиц ή, наконец, грандиозной картиной целого, от-
раженной даже в мельчайших его частях. Я понял, почему
греки впоследствии обожествили Гомера, объявив его поэмы
энциклопедией всех человеческих знаний. Действительно,
в его творениях раскрыт перед нами целый мир характеров
и размышлений о небе и земле. Есть ли такая область чело-
веческих знаний, которой не коснулся бы Гомер? Он — родо-
начальник древнейшей космогонии и мировой истории, грече-
ской географии, генеалогии, красноречия, 'поэзии ή многих
наук. Как же удалось Гомеру, спрашивал я себя, столь ши-
роко охватить все сущее и, вместе с тем, так точно описать
отдельные предметы? Ведь ему знакомы не только Олимп и
царство теней, но и земля: Итака, Троя, каждый залив и каж-
дая долина Греции, где он знает земли, реки, народы; многие
из них он характеризует так точно, словно видел их воочию,
и становится ясным, что, слагая свои песни, он намеренно
■стремился к той универсальности охвата и восприятия окру-
жающего мира, которая определялась кругозором греков.
И этот древний род не должен остаться без внимания, что-то
нужно сказать и о том народе, о том городе, и о том событии,
и о такой-то 'местности. Кажется, все, что было интересно
грекам, нашло отражение в этих поэмах; и если для чего-
нибудь уже совсем не оставалось места, оно все же в конце
концов находилось либо на щите Ахилла, либо при описании
игрищ в честь Патрокла, либо где-нибудь на краю земли.
И все, о чем бы он ни писал, — как то, чего он касается
мимоходом, так и то, что он описывает с исчерпывающей 'пол-
нотой, — все это так хорошо уместилось, что мне остается
только позавидовать древнему певцу. Убедитесь в этом сами,
перечитав «Илиаду» и «Одиссею» с этой точки зрения: вы
будете поражены богатством, стройностью и соразмерностью
всех подобных упоминаний.1
— Как? — спрашивал я.— И этот всеобъемлющий, все так
точно упорядочивший разум принадлежал одному певцу?
Очевидно, в этом он — единственный; ибо по сравнению с ним
творения Гесиода и всех остальных 'певцов тех древних вре-
мен представляют собой только беспорядочную груду необра-
1 Рейман составил с этой целью так называемую «Илиаду по Го-
меру»; правильнее было бы назвать его работу «Новой Илиадой», если по-
думать о том, что при расположении Гомеровых песен греки стремились
создать своего рода греческую энциклопедию и карту мира.
90
ботанного материала. А между тем Гомер самый древний
поэт, и эти более бедные, незрелые певцы жили после него.
Я читал превосходное исследование Блэкуэлла,1 о котором
можно сказать, что он первый проникся величием Гомера и
его времени; многое из того, о чем он пишет, удовлетворило
меня — но не все. То же »можно сказать и о более позднем
исследовании Вуда,2 несмотря на то, что он, если можно так
выразиться, еще больше приблизился к родине Гомера. Итак,
я довольствовался тем, что 'благоговел перед источниками
этих стихов, как 'перед скрытыми в священной дали источни-
ками Нила, не имея возможности приблизиться к ним.
ГОМЕР КАК ПЕВЕЦ
Теперь коснемся песенного характера Гомера, ибо для него
это основа всего. Ведь песни его были созданы не для чте-
ния; их пели, их нужно было слышать.3 Этим определено
все строение гекзаметра, переменчивое, поступательное дви-
жение его образов и звуков. Об этом свидетельствуют частое
повторение отдельных слов и эпитетов, повторяющиеся стихи
ή полустишия, плавное течение мыслей, соединенных множе-
ством частиц, которые нам кажутся излишними, хотя именно
■они придавали живому исполнению осанку и стремительность,
ή, наконец, самый характер облекающих содержание сво
бодных периодов. Гекзаметр был создан для певца. Певец не
мог, не смел запнуться или умолкнуть; пение влекло его за
собой. Именно эти легкие и однотонные окончания стихов без
труда располагали к дальнейшему развитию образа или по-
вествования; множество повторяющихся выражений и стихов
давали 'певцу время подумать, что будет дальше, услаждая
1 Исследование Блэкуэлла о жизни и произведениях Гомера пере-
ведено Фоссом, Лейпциг, 1776.
2 Вуд об оригинальном гении Гомера, 1773.
3 Мы не можем заняться здесь исследованием возраста греческой
письменности. Она пришла из Финикии и, по-видимому, распространилась
сперва в Ионии; следует, однако, подумать о том, какие трудности должна
•была представить полная и точная запись таких произведений, как «Илиада»
й «Одиссея», — с помощью букв, из которых некоторые вошли в греческий
алфавит сравнительно поздно. Искусство рапсодов скорее противодей-
ствовало, чем способствовало развитию письменной литературы: как кни-
гопечатание погубило искусство переписчиков корана, константинополь-
ских калл игр а|фов, которые поэтому были противниками этого нового
изобретения, так введение письменности постепенно погубило искусство
певцов. Появилась проза, из гекзаметра возник прозаический период;
людские предания были доверены буквам; умолкли голоса муз, которые
прежде, на правах дочерей Мнемозины, одни хранили и распространяли
среди людей сокровища человеческой памяти. Книги стали могилой
эпоса.
91
тем временем слух 'собрания. Отдельные строки могли ме-
няться местами, можно было снова и снова повторять бесчис-
ленные, мелкие подробности; и тот, кто пропел несколько пе-
сен «Илиады», мог в той же манере исполнить всю Троянскую
войну. Певец двигался и парил в очень свободной стихии.*
Хорошо было Гомеру, который мог пополнять, сочиняя, и
сочинять во время исполнения; хорошо было его последова-
телям— гомеридам: родник героического гекзаметра струился
у них, не иссякая. Но насколько точно сохранялись эти песни
в исполнении рапсодов? Пусть они самым добросовестным
образом заучивали своего Гомера и благоговейно повторяли
каждое слово; легкость стиха и самого рассказа звала к из-
менениям. То здесь, то там можно было вставить строку;
при схожем начальном и конечном звучании стиха это напра-
шивалось само собою. Кроме того, разве греческий язык оста-
вался одним и тем же на всем побережье, на всех островах,
во всех землях и городах, где на протяжении столетий пели
Гомера? Разве певец, выступая в Азии, на Архипелаге, в древ-
ней Греции и в Великой Греции, не должен был то здесь, то
там приспособляться к уху народа и, следовательно, вносить-
какие-то изменения, если он хотел, чтобы его понимали и
чтобы его слушали с восторгом? Всякий, кому приходилось
говорить в собрании перед живыми слушателями, знает, ка-
кие это. накладывает обязательства: здесь нельзя сказать
всего, что можно сказать там, а если можно, то другими
словами. И так как рапсод стремился к полному единению
со своим'и слушателями и жаждал перелить в их души ра-
дость и вдохновение, навеянные Гомеровой музой, прибегая
с этой целью даже к мимическому искусству,, то каждому, кто
представляет себе живость, свойственную некогда грекам
в исполнении, рассказе и импровизации вымышленных исто-
рий, 1 станет ясно, что невозможно представить себе механи-
ческое повторение затверженных наизусть стихов, якобы
передававшихся всеми народами Греции в течение многих
веков без всяких изменений. Едва ли вообще можно дважды
рассказать теми же словами одну и ту же историю, в осо-
бенности— в пылу красноречия; хотя пение и размер дер-
жали певца в строгих рамка>х, эти рамки не были все же
1 Эта живость в изложении, рассказе, импровизации известна и сейчас
по многим описаниям путешествий как характерная черта греческого
народа. В те давние поэтические времена она отличала греков в несрав-
ненно большей степени, чем сейчас. «Я часто восхищался, — пишет Вуд
(стр. 49), — живой драматической декламацией итальянских и восточных
поэтов, выступающих под открытым небом, восхищался каждым предме-
том, который они описывают и показывают в вымышленной сцене, туг
же созданной их воображением, используя при этом особенности окру-
жающей природы для характеристики описываемого предмета и тем
самым связывая стихи с местом, где они их читают». Смотрите также
Г ю и. Литературные путешествия по Греции (стр. 426).
92
настолько узки, чтобы превратить его в говорящую машину,
неизменно повторяющую одни и те же звуки. Мы от природы
склонны всегда вносить в заученное нечто свое; мы от при-
роды склонны под влиянием данного мгновения, данного часа,
данного круга слушателей привносить в него 'нечто свое, пусть
даже неподходящее или ненужное. Так повсюду на свете
варьируются народные песни; каждая местность вносит в них
свои изменения. Даже наши протяжные церковные песнопе-
ния не свободны от добавлений, от вставки отдельных слов
и сердечных излияний, несмотря на то, что народ выучил их
наизусть. Поэтому глубоко заблуждается тот, кто думает,
будто мы имеем дело с первоначальным текстом Гомера, в том
виде, в каком он струился из уст самого поэта.
4
ГОМЕР ВИЛЛУАЗОНА. ИЗУЧЕНИЕ ГОМЕРА В ИТАЛИИ
«Илиада» Виллуазона явилась для меня великим и не-
жданным откровением.1 Как я 'был поражен богатством кри-
тических суждений у греков! Здесь я натолкнулся и на то же
сомнение, какое было в юности у меня самого: созданы ли
«Илиада» и «Одиссея» одним и тем же Гомером? Целая секта
греческих критиков, прозванная «разделителями» (chorizon-
"tes), утверждала, что «Илиада» и «Одиссея» — творения раз-
ных поэтов.
В комментариях Виллуазона к Гомеру я обнаружил мысль
о том, что песни Гомера 'представляют собой своеобразную
энциклопедию всего, что достойно познания, — мысль, вполне
отвечающую всем 'свидетельствам древних.
Наконец, я был почти 'испуган той свободой, с какой ве-
ками считали возможным и даже нужным обращаться -с тек-
стом Гомера.2
Виллуазонов Гомер впервые попал мне в руки в Италии, *
тде меня окружали памятники греческого искусства, тем са-
мым и Гомер. Ибо как северная осень заставляет нас обра-
титься к Оссиану, так греческие древности, сами обычаи и
пейзаж Великой Греции влекут нас к Гомеру, как если бы
в них кое-где еще парил его дух. В этих бесценных остатках
1 «Homeri Ilias», edit. Villoison, Venet, 178®. Издание этого сокро-
вища древности — заслуга вполне достаточная, чтобы увековечить имя
Виллуазона. Но как хотелось бы, чтобы этот неутомимый исследователь
дополнил свою «Илиаду» «Одиссеей», а именно ученым путешествием по
Греции, и тем самым пролил свет на всю греческую литературу.
2 Тот, кто захочет узнать причины этого и в то же время прочесть
богатую мыслями и связно изложенную историю толкования Гомера,
пусть прочтет введение Вольфа к его изданию Гомера «Homeri et Home-
ridarum opéra et reliquiae», Halle, 1794; он найдет там великолепные до-
гадки, весьма заслуживающие дальнейшего исследования.
93
древних времен мне открылись три особенности, весьма
облегчившие для меня понимание Гомера:
1. Правда, простота и великолепие греческих образов
у Гомера в их прекрасном поступательном движении и раз-
витии.
2. Различные эпохи искусства и поэзии Греции, в которых
один стиль последовательно формировался из другого.
3. Величие и значение греческой школы в науке и
искусстве.
О ПРАВДЕ, ПРОСТОТЕ И ВЕЛИКОЛЕПИИ
ГРЕЧЕСКИХ ОБРАЗОВ У ГОМЕРА
В ИХ ПРЕКРАСНОМ ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ
Непередаваемо впечатление, которое производит на нас
правда и простота мысли в искусстве греков. Они никогда не
стремились сказать слишком много; поэтому они выражали
свои мысли цельно, наглядно и полно. Они достигли этого и
в изобразительном искусстве и в своих песнях. В светлом
мире Гомера все имеет телесную форму, его боги и люди
такие же реальные существа, какими стали бы греческие ста-
туи, если бы они ожили. Присущие им гармония их тело-
сложения и правдивость каждой позы облагораживают точна
так же и образы его .песен. Винкельман прав, утверждая, что
северяне говорят образами, в то время как греки, и только
греки, создают образы в языке.
Я наслаждался чарующей прелестью произведений искус-
ства, осматривая Ватикан, Капитолий и т. д., искусно осве-
щенные факелами. Ожили боги и герои, и глаза мои увидели
то, о чем так много было написано, о чем, как в тумане^
писал и я сам, — шествие греческой эпопеи, твердую и плав-
ную поступь ее событий и действующих лиц. Я говорил себе:
так шествовал у Гомера Аполло«, так на Олимпе восседал
Зевс, когда перед ним предстала Фетида; а вот голова цар-
ственной Юноны. Вот так шествовала Диана, а так — во-
площение материнства Деметра; так появлялась воинственная
Паллада. Вот голова божественно прекрасного Ахилла,
а там — хитроумного Улисса, вот так взирал на Юпитера
Аякс, так вынес он тело Патрокла.
Все возвышенные творения греческого искусства лучшей
его поры отличает трезвая простота прекрасного поступатель-
ного движения, исполненного величавого спокойствия и
правды. Повсюду изображается длительное действие, кото-
рому что-то предшествовало и за которым что-то еще после-
дует и которое в своем поступательном движении достигло»
нужной точки — как бы высшего момента эпоса, схваченного
и увековеченного искусством.
94
Так проник мне в душу ритм древнегреческой поэзии;.
рассказывая, она пела и изображала. В живой устной речи
нельзя было задерживаться ни на одном образе, ни на одной,
черте образа дольше, чем того требовало наглядное восприя-
тие слушателя. Каждая деталь выступала в том месте, где
она рисовалась в душе слушателя как часть целостного
образа. Ничто не могло быть опущено, пока цель эта не была
достигнута; зато потом уже нельзя было задерживаться на
этом образе ни на одно лишнее мгновение: внутреннее око по-
раженного слушателя торопило и требовало продолжения.
Отсюда великолепное, неторопливое развитие событий у Го-
мера; отсюда и то, что при всех повторениях, несмотря на.
кажущуюся слабость связей, у него нет ничего лишнего. От-
сюда и мнимая легкость перевода Гомера; на самом же деле
он (как и все поэты, которые не писали, а пели) почти непе-
реводим. 1 И это потому, что гармония стиха не является-
кормилом его речи, а лишь ее веслом. Наглядное развитие
событий, нарастающее с каждой новой подробностью посту-
пательное движение повествования — именно это и есть у Го-
мера самое главное, за чем забываешь даже гармонию стиха
и.почти негодуешь, когда тебе.не вовремя напомнят о ней
как о чем-то особом. У древних певцов иначе и быть не
могло, так как в противном случае гармония лишь осла-
била бы впечатление от эпоса в целом. Нужно было свободно
располагать временем, чтобы все описать и чтобы слушатель.,.,
уносимый на крыльях песни, мог наслаждаться медленным №
в то же время стремительным движением.
6
О ПЕРЕХОДЕ ГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА
ОТ ОДНОГО СТИЛЯ К ДРУГОМУ В ПРИМЕНЕНИИ
К ГОМЕРУ И ДРУГИМ ПЕВЦАМ ДРЕВНОСТИ
В наглядном ходе развития греческого искусства я нашел-:
объяснение того, почему из всех певцов, живших до Гомера,,
одновременно с ним и после него, только он один достиг вер-
шины, на которой, по представлению греков, он оставался,
единственным. Он достиг ее как художник, потому что Время:
благоприятствовало ему как своему любимцу.
Многие певцы и до него воспевали космогонию и теого-
нию, деяния богов, подвиги титанов и героев — Геркулеса,.
1 Если какой-нибудь из культурных европейских языков может и.
имеет основание стремиться во всех подробностях передать греческие,
художественные образы в их поступательном движении, то это немецкий
язык; но даже и здесь это никогда не удается полностью. Геркулесов,
подвиг, который совершил Фосс как переводчик Гомера, пользуется все-
общим признанием и уважением.
■95>
аргонавтов, Тезея и др., должно быть и Троянскую войну и
возвращение греческих вождей; некоторые из этих песен не-
сомненно были превосходны. Однако «Илиада» и «Одиссея»
существуют только благодаря Гомеру. Греческое искусство
ясно показывает, как это произошло.
Вначале грубое и несовершенное, позднее не свободное от
резкостей и шероховатостей, оно в конце концов достигло
вершины, которую принято называть возвышенным, боже-
ственным или героическим стилем. Какой удивительный путь
оно прошло: от фигур на ларце Кипсела * до украшений на
Пропилеях и до Фидиевой Паллады, от изображений Дедала
до Юпитера Олимпийца. Песня проделала тот же путь еще
раньше; из грубых сказаний о богах и героях она стала эпо-
сом в Гомеровом стиле. Тот, кто захочет в этом убедиться,
пусть сравнит Гомера и Гесиода или хотя бы только описание
щита Ахилла у Гомера и щита Геркулеса в сказании Гесиода;
между ними такая же разница, как между творениями Фи-
дия и какой-нибудь древней скульптурой в Кампании.
Сама сущность искусства требует четких очертаний и зна-
чимой цели; искусство стремится к изяществу, полноте и
единству. Незаметно трудится оно над тем, чтобы убрать
лишнее и в то же время придать мощь необходимому, изо-
бразив его с предельной простотой — величественно, до-
стойно, приятно и изящно. Подобно тому как из изобрази-
тельных искусств неизбежно должны были исчезнуть
оскаленные черепа — уродливые образы смерти и мучений,
все чудовищное в человеческих страстях, — так и песня, со-
ревнуясь с изобразительным искусством как искусство для
слуха, должна была с течением времени отбросить чудовищ-
ные образы титанов, буйные и дикие приключения героиче-
ских походов и рыцарских деяний или, во всяком случае,
придать им более моральный характер. Наиболее ранним
образцом в этом смысле является Гомер. Конечно, и он знает
эту грубую мифологию древних времен, но он пользуется ею
чрезвычайно скупо и целесообразно. Лишь мимоходом вкла-
дывает он ее в уста своих богов и героев, перенося ее в опи-
сания неистовых боевых схваток на край земли, либо она
служит просто способом выражения. В собственных же его
образах нет ничего уродливого, они чисто божественные и
чисто человеческие.
Посмотрим же, как могли возникнуть таким путем, без ка-
ких либо правил и указаний Аристотеля, очертания Гомеро-
вой эпопеи, ее идея и осуществление. Ведь все сказания
о богах и героях уходят своими истоками, в не обработанной
еще форме, в глубину веков. Они либо связаны между собой
и зависят друг от друга, либо расходятся, не имея общей
цели, и теряются в неизмеримых просторах. По-видимому,
таковы и были древние греческие сказания, теогонии и космо-
96
гонии, Гераклиды и Тезеиды, песни об аргонавтах и Киприи,
и даже Троянская война и скитания ее героев по огромному,
безбрежному морю были, вероятно, такими же неписаными
сказаниями и рассказами о приключениях. Но однажды
счастливому певцу (кто бы ни был этот певец) неизбежно
должно было прийти на ум придать этой бесконечности
очертания, а событиям — форму, и притом сделать это самым
простым способом; к этому его побуждали многие причины
и обстоятельства.
Во-первых. Не все моменты какого-либо события или
длинного приключения могли с одинаковой силой заинтере-
совать и развлечь слушателя. Только наиболее увлекательные
песни собирали внимательную толпу; только они вызывали
растущий интерес и приковывали внимание. Поэтому такие
песни исполнялись чаще других, и вполне понятно, что певец
старался совершенствовать именно их, как наиболее удачный
момент в развитии главного действия.
Во-вторых. То, что сказано о событиях, относится и к ге^
роям. Один нравился меньше, другой — больше, и с ним было
связано больше примечательных событий. Таким образом, он
становился главным героем особенно любимого сказания; его
жизнь служила темой для главного действия.
В третьих. Самому певцу было удобно и приятно свя-
зывать несколько разных песен в одно целое. Тогда одна
песнь указывала на другую, последующая вытекала из пре-
дыдущей. После той песни должна была следовать именно
эта. Единство главного действия не только помогало памяти
певца, оно раздвигало границы душевного мира слушателя и
приковывало его внимание. Из одного восхитительного ла-
биринта он попадал в другой, с одной вершины переходил
на другую. А раз уж узел песни был завязан, слушатель
непременно хотел видеть его развязанным. И певец должен
был развязать этот узел, если только он был мастером своего
дела.
В четвертых. Такая взаимосвязь прочно скрепляла песни
между собой. Когда одна вплотную примыкала к другой и
напоминала о ней, то все они лучше удерживались в памяти.
Задуманная развязка действия была как бы осью вращаю-
щегося колеса или выпуклостью посередине щита (ompha-
los),1 объединяющей все его части и служащей им прочной
поддержкой.
Проверим эти мысли на Гомере, сравнив его с другими
поэтами.
До нас дошла поэма, приписываемая Орфею: * она воспе-
вает поездку аргонавтов. Певец Орфей рассказывает сво-
ему ученику Мусею о знаменитом плавании, в котором
1 Буквально: пупок (середина) (греч.).
7 Зак. 291. Гердер 97
он участвовал, и последовательно описывает свое путешествие.
Если не следить по карте, то отдельные части поэмы можно
опускать или вновь вставлять, — в конце концов, мы все
равно вернемся вместе с Орфеем к нему на родину.
«Илиада» построена совершенно иначе. Уже девять лет
длится Троянская война, а певец только эпизодически упо-
минает о прошедших годах. Его поэма прямо вводит в дей-
ствие и с ним вместе в ряд других побочных действий, кото-
рые вначале поверхностно, а чем ближе к развязке, тем более
тесно связаны друг с другом. И даже после развяжи мы все
еще стремимся узнать, что станется с героем, которому не
раз уже была предсказана близкая гибель.
Подобно тому :как в «Илиаде» выдвинут на перзый план
величайший из греческих героев, осаждавших Трою, и взят
самый важный период его жизни, так в «Одиссее» из всех
возвращающихся героев выбран самый хитроумный, тот, кто
изведал больше всех и, следовательно, лучше всех мог рас-
сказать о себе. Об Агамемноне, Менелае и других мы слы-
шим только эпизодически — то тут, то там — и только то, что
мы должны услышать. Вокруг Улисса сплетается и вьется
венок, объединяющий все рассказы этого западного мира,
притом так красиво, так мудро, что слушателю небезраз-
лично, ведет ли рассказ поэт или Улисс, говорит ли Эйдо-
тея, Цирцея или Тиресий. Одно вытекает из другого, все
продумано и искусно связано.
7
О СВЯЗИ ОТДЕЛЬНЫХ ПЕСЕН У ГОМЕРА
Гомер самым непринужденным и свободным образом свя-
зывал воедино несколько песен, так как такой характер
имело рапсодическое построение. Посмотрим, как он этого
достигает.
Древнегреческий певец, аэд (aoidos), не делал перерывов
во время исполнения; рапсод соединяет между собою от-
дельные песни (rhaptei aoiden, aoidas). 1 Отсюда возникло
самое слово рапсод, и в этом, рядом с живостью исполнения
(hypokrisis), заключалось его искусство. Этим сказано все и
в отношении Гомера.
Если спросить, где кончается «Илиада» Гомера, то ответ
будет такой: где угодно. Каждая из ее песен как была, так
и осталась независимой от остальных. Если захочешь остано-
виться на том месте, где Ахилл перестает гневаться (ибо
начало обещает рассказать только о его гневе)—остано-
1 Соединяет песни (греч.).
98
вись. Но другие именно здесь воспылают желанием увидеть
Ахилла в гневе еще более сильном, но уже не на Агамемнона,
а на Гектора и троянцев, увидеть, как он оплакивает Пат-
рокла и готовится отомстить за него; и эти слушатели будут
трепетать за Гектора. Цикл песен, которые они хотели бы услы-
шать, начинается именно здесь. Так обстоит и с другими пес-
нями. Если не хочешь читать о ночной разведке Улисса —
пропусти Долонию. Если тебе кажется, что описание воин-
ских игр на могиле Патрокла слишком растянуто, так пусть
он покоится мирно без этой подобающей ему чести, которая
одна лишь могла умиротворить сердце Ахилла. Вполне воз-
можно, что тот 'или иной рапсод пропускал ту или иную
рапсодию; он пел то одно, то другое, повинуясь желанию
слушателей; однако очевидно, что все песни связаны одним
узлом, объединены одной мыслью, одним звучанием.
Так же и в «Одиссее». Если нас привлекает Итака или
Менелай, двор Алкиноя, Полифем или божественный свино-
пас, * обиталище Цирцеи или царство мертвых—каждая
песнь нам доступна независимо от остальных. Но в «Одиссее»
все они превосходно расположены, как в художественной
коллекции.
Если спросить, почему отдельные песни «Илиады» так
слабо связаны между собой, что вступление не содержит ни-
какого намека на содержание всех последующих песен, то
ответ будет таков: именно потому, что «Илиада» представляет
собой пример рапсодического построения. Певец присоединял
к гневу Ахилла все то, что было следствием этого гнева, и
все, что уместно было к нему присоединить; однако гнев
Ахилла был и остался объединяющим центром (omphalos,
umbilicus) всех песен и сказаний. Вступление «Одиссеи» как
будто содержит более четкое указание; однако начальные
строки и здесь возвещают далеко не все последующие собы-
тия. Даже о главной цели рассказа, о возвращении Улисса
в Итаку и обо всем, что там произошло, в них не содержится
никакого упоминания.
Как далеки мы от духа древних времен и древних певцов,
когда пытаемся судить об этих двух столь роскошно и легко
сплетенных венках древности, об «Илиаде» и «Одиссее», по
правилам, которые новый вкус придумал для совершенно не-
ведомого Гомеру жанра так называемой героической поэмы
(эпопеи), позволяющего нам подходить с одной и той же
меркой к произведениям, не имеющим между собой почти
ничего общего: к «Энеиде», Дантовой «Божественной коме-
дии», к творениям Ариосто, Тассо, Мильтона, Клопштока.
Виланда и даже к «Генриаде» и «Араукане»!.. «Илиада» и
«Одиссея» Гомера — два живых войска, то один, то другой
отряд которых действует самостоятельно, но, в общем, они
7* 99
продвигаются как хорошо построенные и хорошо организо-
ванные войска.
Независимо от обстоятельств, при которых из отдельных
песен и сказаний сложились связанные между собою песни
(rhaphai aoidon),1 скажем, что вообще вкус греков был мягче
и снисходительнее в том, что они понимали под объединением
и связанностью как в искусстве, так и в философии. Взгля-
ните на их возвышенные рельефы, на их скульптурные
группы, на их картины. Фигуры не громоздятся одна на
другую, не устремляются к небу в виде треугольника или
языка пламени; они мирно расположены одна подле другой.
Глаз зрителя должен отдыхать и наслаждаться ими спо-
койно. Они сопоставляются и объединяются в душе. Греки
еще ничего не знали о сокращении перспективы. Прочтите
у Гомера описание щита Ахилла, рассказ Павсания об ами-
клейском и олимпийском тронах * и все остальные места, где
говорится о связывании множества в единое целое\ прочтите
«Картины» Фмлострата, и вы увидите повсюду такое же легкое
и свободное сопоставление, как в «Илиаде» и «Одиссее»; бо-
лее того, исходя из наших понятий, мы порой даже будем
жаловаться на недостаток единства, хотя среди всех других
народов Востока и Запада именно греки так неподражаемо
выделяются своим пониманием подлинной и прекрасной про-
стоты. И это была не мертвая, механическая простота, а на-
стоящее единство и простота мысли, глубокое и длительное
ощущение. Этому принципу греки следовали в своих эпиче-
ских, в лирических и драматических стихах; даже в изрече-
ниях, диалогах и эпиграммах они сохраняют это спокойное,
последовательное сопоставление.
Теперь покажем вкратце, как благотворно было влияние
школы Гомера на искусство Греции во все последующие вре-
.мена.
8
ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ШКОЛЫ ГОМЕРА В ГРЕЦИИ
Я уже говорил, что греческое искусство ясно показывает
значение и влияние того, что называется школой. Часто ка-
кой-нибудь памятник древности выполнен посредственно, од-
нако его идея величественна, поэтому и его воздействие бу-
дет таким же. Подобному памятнику нельзя отказать во вни-
мании; в нем воплощается правило Поликлета. * Греки строго
соблюдали это правило искусства, оно давало им уверен-
ность; они не блуждали, подобно людям нового времени, ко-
торые считают, что им все дозволено.
Песенным характером своих творений Гомер заложил
1 Швы песен (грея.).
WO
в Греции основу подлинной школы, процветание которой
длилось вплоть до очень поздних времен. Греческий стиль
в изобразительном искусстве, в поэзии и философии почти
всем обязан Гомеру и гомеридам.1
Существовал еще орфический стиль, который долго со-
хранялся в таинствах посвященных. До нас дошли только
поздние образцы в виде гимнов и фрагментов, но вряд ли
кто-нибудь из нас захочет променять стиль Гомера на орфи-
ческий и пожелает, чтобы последний нашел всеобщее рас-
пространение.
Другие образчики древнейшего греческого образа мысли
мы находим у Гесиода; лишь очень немногие из них мы пред-
почли бы чистым образам Гомера, его ясному и мудрому
мышлению.
Дело в том, что Гомер изменил древний стиль, он как бы
низвел небо на землю и, отказавшись от устаревших, не-
правдоподобных сюжетов прошлых веков, сделал все свои
образы чисто человеческими. Из древних героических собы-
тий он выбрал самые поздние, те, которые представляли ин-
терес для всей Греции. Из героев он отобрал самый цвегг
самого храброго и самого хитрого. Таким образом, он заро-
нил в свои поэмы семена, из которых вырос пышный, цве-
тущий сад, весь целиком в границах человеческого. Вокруг
его Ахилла объединились Греция и Троя — тысячи человече-
ских судеб и характеров; благодаря его Улиссу мы увидели
карту западного мира во всех его ландшафтах, а на ней —
изображение разнообразных форм общественной жизни и
сцен домашнего быта.
Меня могут спросить: неужели все это воспел уже сам
Гомер? Могу ли я поручиться, что каждая подробность каж-
дого стиха непосредственно восходит к великому родона-
чальнику? На эти вопросы я мог бы ответить только следую-
щее: если даже сам он обо всем этом еще и не пел, то все
равно он был родоначальником этих песен. Там, где имеет
место эпигенез, * то есть живой и равномерный рост всех сил
и всех органов, там, как об это свидетельствует сама при-
рода, должен был существовать живой зародыш, создание
природы и искусства, развитию которого охотно способство-
вали все элементы. Создав произведение эпического искус-
ства, Гомер посеял такое зерно. Школа гомеридов, его семья,
взрастила это дерево; своим пением они как бы пересажи-
вали его побеги, и благодаря ветру и солнцу и множеству
рук, которые над ним трудились, может быть прививали и
подрезали его и ухаживали за ним, это дерево приняло тот
1 В статье, озаглавленной «Иония», я надеюсь показать, почему этот
стиль, называемый гомеровской поэзией, должен был заслонить более
древний, хотя и он сохранился в более поздние времена не во всех
жанрах.
101
вид, какой оно имеет сейчас и, вероятно (если не считать не-
которых улучшений), будет иметь всегда, покуда существует
человеческая культура. *
9
О КРУГОЗОРЕ ГОМЕРА
Каждому, кто хорошо знаком с содержанием «Илиады»
и «Одиссеи» и, вместе с тем, не упускает из виду и другие
произведения, приписываемые Гомеру, ясно, что школа гоме-
ридов создала целый цикл, своего рода энциклопедию боже-
ственных и человеческих достойных познания вещей, входив-
ших в кругозор того времени. К числу таких произведений
относится прежде всего «Маргит». Подобно тому как впо-
следствии в Афинах после четырех трагедий героического
содержания исполнялась в заключение комедия, — так, ве-
роятно, и «Маргит» должен был повторить в игривой и коми-
ческой манере то, что в «Илиаде» показано было в цар-
ственном, а в «Одиссее» — в бытовом стиле. Таким образом
«Маргит» как бы завершал весь цикл. Завистливая судьба
похитила у нас эту в высшей степени интересную поэму, о ко-
торой часто упоминает и Аристотель; однако причину ее
гибели нетрудно понять. Представление о смешном в челове-
ческих обычаях изменяется быстрее, чем то, о чем повествует
«Одиссея» или «Илиада»: образы богов и героев, страны,
острова, чудеса природы, государства, народы живут долго,
в то время как смешное, завися от вкуса времени, легко те-
ряет свою силу и перестает волновать последующие поко-
ления.
Хотя для нас и утрачена значительная часть того круга
предметов, который представлялся Гомеру достойным 'позна-
ния, все же достаточно приглядеться с вниманием к самим
«Илиаде» и «Одиссее», включая даже то, что нам представ-
ляется совсем ненужным, и нам станет ясно, что у древних
греков действительно существовала идея о таком круге пред-
метов, которые в те времена почитались достойными по-
знания. 1
1 Чтобы избежать недоразумения, обращаю внимание на то, что
речь идет здесь не о том мифологическом или эпическом цикле, то есть
не о замкнутом круге древних поэтов и поэтических сказаний, который
установили александрийцы; этот отбор и порядок были продиктованы, как
мне представляется, чисто библиотечными и литературными соображе-
ниями. Мы говорим здесь о круге вещей, которые считаются достойными
познания в зависимости от определенного образа мысли и угла зрения.
Такой круг существует у всех, эпических поэтов; у каждого из них он
соответствует духу времени. Он есть у Гомера, у Данте, у Ариосто,
у Мильтона и у других. Он складывается без ведома поэта, ибо каждый
из них несет в себе целый мир (космос) и стремится отразить его в своей
поэме. В те времена живое пение а форме эпического повествования
102
Вспомним с этой £€лью перечень греческих кораблей,
стран и племен; изображения «а щите Ахилла и все обрам-
ления «Одиссеи»; проследим сравнения, характеры, обычаи,
положения, государственное устройство восточного и запад-
ного мира в обеих поэмах; а затем обратимся к содержанию
песен других прославленных киклических поэтов, * из кото-
рых каждый, по мере сил, дополнял Гомера там, где считал
нужным. Все это, как мне кажется, подтверждает вполне
естественную мысль, что созидающее Время постепенно ото-
брало ряд наиболее почитаемых песен, которые считались и
на самом деле были наиболее совершенными, с тем чтобы
включить их в своего рода энциклопедию, то есть в круг ве-
щей, достойных познания с точки зрения людей того времени.
Песни (эпос), притом песни в этой именно форме, были в то
время единственной и к тому же приятной формой поучения,
в них старались поэтому вложить все, что знали и что счи-
тали заслуживающим познания- Если бы творения всех кик-
лических поэтов Греции дошли до нас (а мы не знаем ни
одного), то мы могли бы составить себе представление о раз-
личиях вкуса как у последователей Гомера, так и у певцов,
не принадлежавших к его школе, и наблюдать изменения и
развитие их взгляда на круг вещей, достойных познания; те-
перь нам известны лишь немногие драгоценные произведения,
а часто — лишь фрагменты, связанные с именем Гомера и
его школы, но и они свидетельствуют о том же.
До нас дошла, например, «Война мышей и лягушек», ко-
торую приписывают Гомеру. Кому бы она ни принадлежала,
она сразу же напоминает не только отдельные игры и шутки
(paignia), приписываемые этому доброму прародителю, но
и свойственную ему легкую, жизнерадостную манеру, в ко-
торой он описывает богов и людей. Итак, «Илиада» .и «Одис-
сея» дополнялись в Гомеровой школе превосходным третьим
звеном — «Войной мышей и лягушек»: присущий этому про-
изведению взгляд на человеческую жизнь с не меньшим осно-
ванием можно считать во вкусе Гомера, чем взгляд, кото-
рый мы находим в «Илиаде» и «Одиссее». «Война мышей и
лягушек» послужила образцом для множества подражаний
в манере Гомера: война пауков, журавлей, цикады, коза
(все они впоследствии также приписывались Гомеру); ве-
роятно, можно не сомневаться, что и впредь у нее не будет
заменяло собою все книги; оно было единственным поучающим искусством,
так как остальные виды поэзии, например комедия, трагедия и проч.,
еще не были известны. Поэтому приходилось невольно вкладывать в эти
любимые песни все, что только интересовало людей как на земле, так и
на небе. Это было в природе вещей, было делом вечнотворящего Времени.
Когда же Гомеру суждено было стать героем поэтов, любимейшим среди
певцов, то к нему, как к Юпитеру Олимпийцу или к Афине Палладе,
устремилось все, что могло сделать его творения еще более совершенными.
103
недостатка в веселых подражателях. Вообще Гомеру, как
никакому другому поэту, присуща в обеих поэмах некая
спокойная рассудительность и простодушное жизнерадостное
наслаждение собственным существованием. Эта беспечная
радость была, по-видимому, наследием, которое отец гоме-
ридов завещал своей семье. Вот почему из его поэм и из его
образа мысли греки могли черпать и непрестанно черпали
присущий им здравый смысл и веселый нрав.
Свидетельством тому служат и гомеровские гимны. *
Разве важно, создан ли тот или иной гимн самим Гомером?
Гомер, быть может, не создал ни одного из них: но все они
исходят от него, поскольку на них лежит отпечаток его
образа мыслей. Дайте нам в дополнение к известным три-
дцати двум или тридцати четырем гимнам гомеридов, несом-
ненно служившим своего рода свободным прологом к песням,
еще такое же количество гимнов этой школы (орфическая
школа насчитывает их восемьдесят шесть), и у нас был бы
еще один цикл гимнов школы Гомера, более прекрасных и
действенных, чем цикл орфических гимнов.
Естественно, что не все даже главные произведения Гоме-
ровой школы сохранились в памяти человечества в своей
первоначальной свежести. Может быть, их было слишком
много; может быть, «Илиада» и «Одиссея» вытеснили осталь-
ные. Они погибли так же, как некогда погибли песни более
древних и грубых поэтов. Скрижали человеческой памяти
вмещают немногое; Время склонилось над ними и непре-
рывно что-то дописывает, вычеркивает и изменяет. Эти скри-
жали должны хранить только то, что более всего достойно
познания, только самое замечательное. Возблагодарим их за
то, что они сохранили для нас такие творения Гомера, как
«Илиада» и «Одиссея». Мы должны быть довольны, что
вместе с ними дошли до нас и некоторые гимны этой школы;
из школы Гесиода и Орфея сохранились только немногие
отрывки (от последней, может быть, — только* отзвуки отзву-
ков); но все же мы можем сравнивать и благодаря сравне-
нию сделать вывод, что школа Гомера основала на веки веч-
ные истинный хороший и верный вкус.
10
ЗАСЛУГИ ЛИКУРГА, СОЛОНА И ПИСИСТРАТИДОВ
ПЕРЕД ГОМЕРОМ
Несомненно, мы многим обязаны Ликургу и Солону —
двум величайшим законодателям Греции — за то, что они, со
своей стороны, помогли сохранить для нас Гомера; но они
делали это не для нас: этого требовали их собственные убе-
ждения и цели их законодательства. Ни один правитель,
104
•ни один мудрец в Греции не имел желания быть варваром;
они отнюдь 'не считали, что варварским'и народами легче
управлять, чем образованными; слава греков выросла на
почве их культуры; их стремление отличаться от варваров
было и осталось их заслугой в глазах потомков.
Точно так же нужно воздать хвалу Писистрату и Гип-
парху за то, что они продолжали идти путем Солона и ввели
исполнение песен Гомера во время Панафиней; однако
все же заслуги этих великих мужей — Ликурга и Солонаг
Писистрата и Гиппарха — преувеличивать не следует.
Ликург перенес поэмы Гомера из Азии в свой город. Не-
известно, как он это сделал, — в записи или устами живых
певцов? Во всяком случае, в Лакедемоне гомеровская поэзия
никогда не процветала.
Три столетия спустя Солон принес поэмы Гомера
в Афины; он приказал, чтобы они пелись поочередно, то есть
чтобы один певец сменял другого. Если бы в поэмах Го-
мера не было внутренней связи, то вряд ли Солон, которого*
мы знаем по его собственным поэмам, мог бы ее внести. По-
этому не следует верить, будто он создал «Илиаду» и «Одис-
сею»; он только расположил рапсодии (сколько их было
тогда)в том порядке, в каком их следовало исполнять пуб-
лично, и позаботился о соблюдении певцами этого порядка.
Его заслуга в сохранении Гомера была чисто государствен-
ная.
Такова же была заслуга Писистрата и Гиппарха. Не
думаю, чтобы у этих, впрочем весьма заслуженных, мужей
были поэтические заслуги перед Гомером и чтобы они могли
внести в его творения то, чего в них не было. Как правители,,
они приводили в порядок и регулировали. Предположим
даже, что для этого дела они призвали себе на помощь совет,
составленный из всех мудрецов того времени; ведь мы знаем
Симонида, Анакреона, Ономакрита и других по их собствен-
ным творениям. К тому времени дух, который создал
«Илиаду» и «Одиссею», давно уже исчез; вряд ли они могли
создать то, чего не было; но то, что уже существовало, они
могли охватить взором, подвергнуть редакции, пересмотреть
и упорядочить (diaskeuazein).'
Вся история толкований Гомера в последующие времена
говорит о том, как редко считались потомки с этой редак-
ционной работой; таким образом, бессмертная заслуга этих
великих людей — Солона, Писистрата и Гиппарха — заклю-
чается в том, что о(ни спасли поэмы Гомера от гибели, сохра-
нив их под плащом Паллады в том виде, в каком они полу-
чили их. В дальнейшем их не только пели каждые пять лег
во время Панафиней; в Афинах, на родине греческой письмен-
ности, поэмы эти в письменном виде попали в руки поэтов,,
софистов, ораторов, государственных деятелей и философов;
105
они стали классической книгой, которую изучали в школах
(тогда столь немногочисленных), и — более того — классиче-
ской книгой для всех образованных людей, дороживших
художественным исполнением поэзии и прозы.
11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, если я не ошибаюсь, слава Гомера была связана
с тремя моментами, и все они находились во власти Вре-
мени. Повторим эти моменты в трех словах: эпос, пение, рап-
содия.
Эпос был живым словом, голосом прошлого. Из седой
древности он вызывал образы и сказания, которые росли и
возносились все выше и выше на крыльях Времени. То, что
Вергилий говорит о своей Молве:
Nobilitate viget, yiresque adquirit eundo;
Parva quidem primo: mox^sese attollit in auras
Ingrediturque solo et caput inter nubila condit...l
в еще большей степени относится к тому божественному го-
лосу, который, прорицая и умудряя, звучал из глубин древ-
ности и был услышан позднейшими поколениями. Муза па-
мяти вдохновила своего певца, чтобы он проникся этим го-
лосом, облагородил его и сделал по-человечески доступным
людям. Разве узнали бы себя Ахилл и Улисс в поэмах Го-
мера? Едва ли. Их образы, унесенные на крыльях Времени,
в полете живого слова и песни стали такими героическими,
божественными и великими, что теперь в них воплощаются
совсем иные существа, чем те, какими были они в земной
жизни.
Эпос принадлежит детству человечества. Суеверный чело-
век слышит голоса древнего мира и создает в мечтах чудес-
ные, высокие образы. То, что глазам нашим представляется
в трезвом и прозаическом виде, в звучащем слове, переда-
ваясь из поколения в поколение, вырастает и дополняется,
вознесенное опьяняющей силой вдохновения. В этом смысле
Гомер нашел именно то, что нужно. Посланец древнего мира,
юн, как мудрец своего времени, умел для всего найти форму,
которая была так хорошо задумана, легко обозрима, стройна
1 Скоростью самой жива, набирает в движении силы,
Раньше от страха мала, потом восходит до неба,
Шествует по земле, а главу между облаков кроет.
(«Энеида», кн. IV, ст. 175—177,
перев. В. Брюсова и С. Соловьева).
106
и жизнерадостна, что навсегда приковала к себе взоры по-
следующих поколений своей прелестью и достоинством.
В этом ему помогало пение, единый поток, в котором звучало
все, чему он учил людей, поток, который еще не разделился
на два извилистых течения — лирическое и драматическое.
Пение и драматическое действие, красноречие и мудрость
еще цветут у него на одном стебле; только в более поздние
времена их начали выращивать порознь. Ибо из искусства
Гомера, которое располагает и соединяет песни, услышанные
из уст самой Музы, из этого простого произведения искус-
ства, незаметным образом сводившего многое к единству, рука
Времени создала впоследствии новые виды искусства и поэзии,
предпочитающие единство в многообразии: действие, завязку,
развитие и развязку. Лишь один Гомер своей легкой рукой
почти неуловимо умел сплетать нить своих песен; благосклон-
ное, милостивое к нему Время подарило этому древнему про-
року семью, то есть детей, которые продолжали свивать и
плести эту нить. Прекрасная Иония, мать всех искусств, по-
родила Гомера; греческие острова, вплоть до западного мира,
взрастили его песни; Афины приняли их, переработали
в драму и в другие жанры, вели о них беседы. Наконец,
в Александрии, после многих вопросов и сомнений, испещрен-
ные восклицательными знаками и звездочками, они достигли
той формы, в какой Время передало их нам.
Мне довелось увидеть в Риме памятник, изображающий
апофеоз Гомера: Юпитер, Аполлон, Мнемозина и музы парят
над ним на высоких уступах скалы; он восседает как бог;
Илиада и Одиссея, коленопреклоненные, поддерживают его
трон. Крылатое Время и Земля с ее обитателями венчают
восседающего на троне старца. Перед ним стоит жертвенник,
у которого прислуживает Миф в образе мальчика; История
воскуряет фимиам; Поэзия, Трагедия и Комедия поют жерт-
венные песнопения; Природа в обличье ребенка, мужествен-
ная Доблесть, бережливая Память, Верность и Мудрость
принимают участие в торжестве. Увидев этот памятник,
я понял, в чем счастье Гомера, этого прославленного сына
Времени. Он занимал подобающее ему место, он воспринял
от своих предков бесценное сокровище, которое сумел облаго-
родить своим вкусом — истинным вкусом чистого человече-
ского чувства, положив тем самым начало бессмертной школе
последователей и почитателей. Поэты подражали ему; зако-
нодатели чтили его и узаконили исполнение его песен; Эсхил
питался крохами с его стола; собратья его, а с ними и поэты
всех жанров черпали из этого источника; на его примере вос-
питался первый историк; изобразительное искусство состя-
залось с ηήμ; это он дал Фидию его Юпитера и его Афину
Палладу; философы говорили о нем; ораторы повторяли
107
его слова — пока наконец не распространились среди народов
литература и культура, великим первоисточником которой
был он. Его живое слово (epos) разнеслось повсюду на
крыльях Времени, оно было торжественно увековечено
в Афинах, в храме Паллады, оно продолжает звучать со
скалы Кекропа, проникая в души людей» О Гомере можно
сказать, что словом своим он сковал летящее Время; оно
добровольно согласилось надеть эти путы из цветов и в бла-
годарность увенчало его вечной славой.
СРАВНЕНИЕ ПОЭЗИИ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ
ДРЕВНИХ И НОВЫХ ВРЕМЕН
Поэзия народов подобна Протею; она изменяет свой вид
в.зависимости от языка, нравов, обычаев, от темперамента и
климата, даже от произношения этих народов.
Подобно тому, как переселяются народы, как смеши-
ваются и изменяются их языки, как новые явления приводят
в движение людей, как их склонности принимают иное на-
правление, а занятия обретают новую цель,.как при создании
понятий и образов на них воздействуют иные образцы, как
даже язык, этот небольшой орган, двигается по-иному и на
иной тон настраивается ухо, — точно так же изменяется и
поэтическое искусство, не только у различных наций, но и
у одного и того же народа. У греков поэзия времен Гомера
даже по своему 'содержанию была иной, чём во времена Лон-
тина. Совершенно по-разному думали о поэзии римлянин и
монах, араб и крестоносец, или ученый после возрождения
древности и поэт и народ в разные времена у разных наций.
Уже само это слово наполнено настолько отвлеченным,
всеохватывающим содержанием, что, если его не подкрепить
отчетливыми, конкретными примерами, оно, подобно при-
зраку, развеется в облаках. Весьма бессодержателен поэтому
спор о преимуществах древних или новых писателей, * при
котором мыслилось нечто малоопределенное.
Он стал еще более бессодержательным благодаря тому,
что для сравнения либо вовсе не было критерия, либо при-
нимался ложный критерий. Ибо что должно было здесь опре-
делить уровень? Искусство поэзии как объект? Сколько было
утонченных определений высшего совершенства в каждом из
родов и видов, в зависимости от места и времени, от цели и
средств, сколько попыток беспристрастно применять такие
определения при каждом сравнении! Или следовало· рассмат-
ривать искусство поэта в зависимости от субъекта, насколько
109
один отличался по сравнению с другим .природным дарова-
нием, более благоприятными условиями жизни, большим
усердием в использовании того, что ему предшествовало или
окружало его, более благородной целью, более разумным
употреблением своих сил, чтобы достигнуть этой цели; какое
новое море сравнений! Сколько критериев для оценки поэтов
одной нации или различных народов будет представлено,,
столько же будет проделано напрасного труда. Каждый оце-
нивает и определяет их в соответствии со своими излюблен-
ными представлениями, тем способом, каким он с ними по-
знакомился, ΉΟ тому воздействию, которое тот или иной из
них на него оказал. Образованный человек носит в себе как
свой собственный идеал совершенства, так и свой собствен-
ный критерий его достижения, который он неохотно согла-
сится переменить на другой.
Поэтому ни один народ не следует упрекать за то, что
он предпочитает своих поэтов всем прочим и не променяет
их ни на каких других; это ведь его поэты. На его языке они
мыслили, в кругу его предметов действовало их воображение.
Они чувствовали потребности нации, которая их воспитала,,
и пришли ей на помощь. Почему же этой нации не испыты-
вать одинаковые с ними чувства, если их тесно связывает
сродство языка, мыслей, потребностей и восприятий?
Итальянцы, французы и англичане пристрастны, когда
возносят своих поэтов, часто при этом несправедливо пре-
зирая другие народы; только немец поддался соблазну непо-
мерной переоценки заслуг других народов, в особенности
англичан и французов, и одновременного пренебрежения
к самому себе. Правда, скажем, Юнгу (не говоря уже о Шек-
спире, Мильтоне, Томсоне, Фильдинге, Голдсмите, Стерне)
я бы не отказал в том несколько, быть может, преувеличен-
ном уважении, которым он у нас пользуется, ибо оно осно-
вано на переводе Эберта, не только обладающем всеми до-
стоинствами оригинала, но еще смягчающем и как бы при-
водящем в порядок крайности английского подлинника
гармонической структурой прозы, а также обильными при-
мечаниями морального содержания, заимствованными у дру-
гих наций. Однако в других случаях немцы вполне заслужили
упрек за вялое равнодушие, с которым они в школах и при
воспитании юношеств-а принижают и даже вообще забывают
лучших поэтов собственной нации, как это никогда не делает
ни один соседний народ. Кто же будет формировать наш
вкус, наш стиль, кто определит и упорядочит наш язык, если
не лучшие писатели нашей нации? Наконец, как может раз-
виться патриотизм и любовь к своему отечеству, если не
благодаря его языку, благодаря тем прекрасным мыслям и
чувствам, которые на нем выражены, которые в нем залог
жены подобно сокровищу? Безусловно, после тысячелетнего
110
существования нашего языка мы бы не блуждали все еще
в сомнениях относительно многих оборотов речи, если бы мы
с юности знакомились с нашими лучшими писателями и из-
брали их в качестве своих наставников.
В то же время никакая любовь к своему народу не должна
нам препятствовать повсюду видеть благо, которое может
быть достигнуто только постепенно в великом ходе времен и
народов. Некий султан радовался тому, что в его· государстве
много религий, и каждая на свой лад почитает господа: ему
при этом представлялся как бы прекрасный пестрый луг, на
котором цветут разнообразные цветы. Также и с поэзией раз-
ных времен и народов на нашем земном шаре: во все времена
и на всех языках она была выражением недостатков нации
и ее совершенств, зеркалом ее воззрений, выражением выс-
шего, к чему она стремилась (oratio sensitiva animi perfecta).l
Сопоставление друг с другом этих картин (более или менее
совершенных идеалов, истинных и ложных) доставляет по-
учительное удовольствие. В этой галерее различных образов
мысли, стремлений и желаний мы узнаем народы и эпохи, ко-
нечно, глубже, чем рассматривая обманчивый и безотрадный
путь их политической и военной истории. В этой последней
мы редко узнаем о народе что-либо кроме того, как он раз-
решал собою править и как давал себя убивать. Зато в пер-
вой мы видим, как он мыслил, чего желал и к чему стре-
мился, как он радовался и куда вел(и народ его учители или
его собственные склонности. Правда, нам еще недостает мно-
гих дополнительных данных для такого обозрения души на-
родов. Если не считать греков и римлян, то над средне-
вековьем, из которого у нас, европейцев, все и произошло,
висят еще темные облака. Слабый «Опыт об итальянских
поэтах» Мейнгарта не доведен даже до Тассо, не говоря уже
о том, что у других народов нет вообще ничего подобного.
«Опыт об испанских поэтах» умер вместе с ученым знатоком
этой литературы, издателем Веласкеза, Диецом.
Тремя путями можно составить себе представление об
этом обильном цветами и плодами поле человеческой мысли,
и каждый из них был уже испробован.
Популярный сборник образцов Эшенбурга, в соответствии
с его теорией, избирает путь родов и видов; путь, поучитель-
ный для юношества при наличии опытного наставника: ибо
часто наименование, которое обозначает весьма различные
вещи, может повести его по совершенно ошибочному пути.
Творения Гомера, Вергилия, Ариосто, Мильтона, Клопштока
одинаково носят название эпопеи, а между тем они даже по
заложенному в них пониманию искусства, не говоря уже
о духе, которым они вдохновлены, являются совершенно
Совершенная чувственная речь души (лат.).
Ut
различными произведениями. Софокл, Корнель и Шекспир
как авторы трагедий только по имени имеют нечто общее.
Гений их театральных представлений совершенно различен.
И так во всех родах поэтического искусства, вплоть до эпи-
граммы.
Другие классифицировали поэтов по роду чувств, о чем
особенно много тонких и превосходных мыслей высказал
Шиллер. ! Однако как легко переходит одно чувство в другое!
Какой поэт остается настолько верным одному роду чувств.,
чтобы это могло определить его характер, тем более в раз-
личных произведениях? Часто его струны используют многие,
даже все тоны, которые повышаются как раз благодаря дис-
гармонии. Мир чувств есть царство духов, часто царство
атомов; только рука творца способна строить из них образы.
Третий, если можно так выразиться, натуральный метод —
оставить каждый цветок на своем месте, и притом целиком,
как он есть, рассматривать растение от корня до верхушки
в соответствии с временем и видом. Самый смиренный гений
ненавидит распределение по рангам и сравнение. Он предпо-
читает скорей быть первым в деревне, чем вторым после
Цезаря. Лишайник, мох, папоротник или пышнейшая гвоз-
дика — все цветет на своем месте в божественном порядке.
Можно классифицировать поэтическое искусство одно-
временно субъективно и объективно, в соответствии с предме-
тами, которые оно изображает, и по тем чувствам, которые
вызываются изображенными предметами; эта правильная и
полезная точка зрения представляется верной и для характе-
ристики отдельных поэтов, например Гомера и Оссиана,
Томсона и Клейста и др.
Так, Гомер рассказывает истории прошлого, не принимая
в них особенно заметного участия; Оссиан воспевает их из
глубины своего израненного сердца, своих печально-веселых
воспоминаний. Томсон описывает времена года так, как их
дает природа; Клейст поет свою весну, с часто врывающи-
мися мыслями о себе и своих друзьях, как рапсодию картин,
одухотворенных чувством. Между тем и это различие лишь
очень слабо определяет поэта и эпоху поэтического творче-
ства: ибо и Гомер принимает участие в своих объектах как
грек, как рассказчик, как это делали в средние века певцы
баллад и рассказчики фаблио, * как это делают в новое
время Ариосто и Спенсер, Сервантес и Виланд. Дальнейшее
выходило бы за рамки его профессии и помешало бы его
рассказу. Однако в расстановке и характеристике своих обра-
зов и Гомер в высшей степени человечен. Там, где он нам
таким не кажется, все дело в различии образа мысли у раз-
ных эпох, и это очень легко объяснимо. Я бы отважился
1 См. «Оры», ноябрь, декабрь 1795; январь 1796 *.
112
раскрыть у греков любые, чисто человеческие воззрения,
достигающие высот прекрасного по своей гармонии и выра-
зительности, но только на своем месте ив свое время. По-
этика Аристотеля непревзойденным образом классифициро-
вала сюжеты, характеры, страсти, воззрения.
Во все времена человек оставался тем же; только вы-
ражал он себя по-разному, в зависимости от условий, в кото-
рых он жил. Поэзия греков и римлян очень разнообразна
в своих желаниях и жалобах и в описаниях, полных веселья
и радости. Так же разнообразна и поэзия монахов, арабов,
новейших поэтов. Большое различие, которое создалось
между странами Запада и Востока, между греками и нами,
создано не новыми категориями, а смешением народов, рели-
гий и языков, наконец поступательным развитием человече-
ских нравов, изобретений, знаний и опыта. Это различие
вряд ли может быть выражено одним словом. Если, говоря
о некоторых новых поэтах, я употребляю термин рефлекти-
рующий поэт, * то и это не совсем правильно, ибо рефлекти-
рующий поэт, в сущности, вообще не поэт.
Основа поэзии — сила воображения и чувство, область
души. Идеал блаженства, красоты и достоинства, который
дремлет в твоем сердце, пробуждает она словами и образами.
Она есть совершеннейшее выражение языка, ощущений и
чувств. Ни один поэт не в силах уйти от закона, который
в ней заключен. Он показывает, что у него есть и чего не
могло быть.
Нельзя также разделять в ней зрение и слух. Поэзия не
является чистой живописью или скульптурой, которая может
представить картину как она есть, без дальнего умысла. Она
есть речь и обладает умыслом. Она воздействует на внутрен-
нее чувство, а не на внешний взор художника. А к этому
внутреннему чувству у всякого образованного или стремяще-
гося к образованию человека принадлежат душевный мир и
моральная природа его, а следовательно, у поэта — разумный
и человечный умысел. Речь содержит в себе нечто бесконеч-
ное-, она производит глубокое впечатление, которое именно
поэзия усиливает своим гармоническим искусством. Поэтому
поэт №икогда не согласится быть только живописцем. Он
художник благодаря своей проникновенной речи, которая
живописует или изображает объект на духовном, моральном,
как бы бесконечном фоне, в мире чувств, в человеческой
душе.
Не должно ли поэтому, как и здесь, во всех развиваю-
щихся природных явлениях с необходимостью наличествовать
движение вперед? Я в этом нисколько не сомневаюсь (если
только правильно понимать это движение). По языку и нра-
вам мы никогда не станем греками и римлянами; да мы
этого и не хотим. Но не стремится ли все больше и больше
8 Зак. 291. Гердер ИЗ
дух поэзии, сквозь все колебания и крайности, в которых он
до сих пор периодически проявлял себя у разных народов,
в разные эпохи, отбросить всякую грубость чувства, как и
всякие ложные украшения, и отыскать то, что является средо-
точием всех человеческих усилий, а именно настоящую, це^
лостную, моральную природу человека, философию жизни?
Это представляется мне, при сравнении эпох, весьма вероят-
ным. Даже во времена величайшей безвкусицы мы можем,
в согласии с великими законами природы, сказать: Tendimus
in Arcadiam, tendimus!1 Путь наш лежит в страну простоты,
истины и морального совершенства.
1 Мы стремимся в Аркадию, мы стремимся! (лат.).
ЯЗЫК
и
поэзия
О НОВЕЙШЕЙ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Первый сборник фрагментов
Приложение к «Письмам о новейшей
немецкой литературе»
1767 год
Язык —это и орудие науки и одна из ее составных частей;
тот, кто пишет о литературе какой-нибудь страны, не должен
оставлять без внимания язык этой литературы.
Невозможно представить себе народ, у которого не
было бы поэтического языка, но были бы великие поэты, не
было бы гибкого языка, но были бы великие прозаики, не бы-
ло бы точного языка, но были бы великие мыслители. А если
уж язык развит недостаточно, то великим умам, рожден-
ным, чтобы преодолевать препятствия- на своем пути, прихо-
дится творить самим, разрушая одно и созидая другое;
тот же, кто неуверенно следует по этой дороге, обречен на
муки и никогда не сможет сказать: «Смотрите, это создал я».
Так познавайте же ваш язык, критики искусства, старайтесь
сделать его пригодным для поэзии, для философии и для
прозы. Таким образом вы расчистите почву, на которой будет
воздвигнуто здание. И более того: писателя вы снабдите ору-
диями труда, поэту скуете громовые стрелы, оратору начи-
стите до блеска, доспехи, а мыслителю наточите меч.
Но язык — это более чем орудие. В философии слова
тесно связаны с идеями, а в литературной критике от вы-
ражения зависит многое. Язык учит нас ясно мыслить,
а ясные, живые мысли заставляют искать четкие и яркие
слова; няньки, которые учат нас говорить, — вот наши пер-
вые учители логики. . :
Дух языка — это, следовательно, также и дух литературы
всякого народа. В древности язык, как говорит Исократ, был
укротителем дикарей, и к этому надо добавить: он был также
воспитателем каждого народа в создании наук. Греки и рим-
ляне — как только1 не трудились они над своими языками!
А среди арабов, называвших грамматику солью всех наук,
было столько ученых-критиков, что некий раввин смог нагру-
117
зить словарями шестьдесят верблюдов, как об этом с истинно
арабской точностью сообщает один арабский писатель.
Вы не можете, следовательно, составить себе представле-
ние о литературе любого народа без языка этой литературы,
через язык вы можете познать литературу, с вашей помощью
они оба улучшат друг друга, ибо совершенствуются они почти
что одновременно.
У нас еще не было ни одного философа-языковеда, кото-
рый сделал бы так много для нашего языка, как Михаэлис, *
доказавший на ряде примеров в изданной Академией ра-
боте, 1 «что языки оказывают влияние на мнения, а мнения —
на языки и что они могут исправлять друг друга». Нижесле-
дующие положения заслуживают, быть может, изучения и
более подробного доказательства.
«В какой мере естественный образ мышления немцев
влияет на их язык, а язык — включая его отдельные эле-
менты, его ритм и произношение — на их литературу? В ка-
кой 'степени могут нам что-либо объяснить особенности их
жизненных условий и их органов речи? В какой мере их бо-
гатство и бедность, по свидетельству истории, могли происте-
кать от образа их мышления и жизни? В какой мере можно
этимологию слов их языка определять воззрениями, которые
были свойственны только им или разделялись также другими
народами? В какой мере возможна параллель между прави-
лами языка и законами их мышления и что это дает для
объяснения идиоматических выражений? * Какие револю-
ционные изменения претерпел немецкий язык в своей основе?
И насколько пригоден он ныне для поэзии, прозы и филосо-
фии?» Великая задача! Ибо если спрашивается: «В какой
мере?..» — то тут уж нельзя отделаться единичными приме-
рами, что, пожалуй, нечто подобное могло бы произойти, но
необходимо привести доказательства, целые собрания приме-
ров, которые содержали бы обобщения и философские наблю-
дения, восходящие к основополагающим принципам.
В самом деле, как мало еще занимались до сих пор фи-
лософией нашего языка! У Брейтингера, Бодмера, Бедикера,
Гейнце, Эста, Клопштока мы находим лишь отрывочные за-
мечания, а из многочисленных «немецких обществ» *' лишь
два или три показали, что они в состоянии создать что-либо
подобное. Я могу назвать несколько «Писем о литературе»,
в которых содержатся полезные наблюдения в этой области,
и мне пришло в голову собрать их, добавив к ним свои мы-
сли об этом предмете, ибо при нынешнем состоянии нашей
философской науки о немецком языке не стыдно заняться
хотя бы только изготовлением кирпичей для того здания,
о возведении которого думать еще преждевременно...
1 См! «Письма о литературе», IV, 366.
118
О РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТАХ ЯЗЫКА *
Не один лишь человек меняется в различных возрастах,—
нет, время меняет все. Весь род человеческий и даже мертвая
природа, любой народ и любая семья подчиняются одним
и тем же законам изменения: от плохого к хорошему, от хоро-
шего к превосходному, от превосходного к худшему и к пло-
хому— такой круговорот совершает все на свете. Такова же
участь всякого искусства и всякой науки: они зарождаются,
зреют, цветут и отцветают. Такова же участь и языка. Как
мало это понимают до сих пор, как часто путают границы
возрастов, — видно из тех планов, которые мы еще частенько
строим, пытаясь искусственно превратить одну ступень в дру-
гую: мы стараемся до срока вырастить юношеский пушок на
губе подростка, навязать легкомысленному юноше серьез-
ность мужчины и вернуть старца к навсегда утраченной
юности. Что же касается языка, то мы требуем, чтобы он
обладал добродетелями всех возрастов сразу. Тщетные уси-
лия! И как много принесли бы они вреда, если бы не природ-
ная слабость и беспомощность всех подобных противоесте-
ственных попыток! Ведь юный старец так же несносен, как
мальчик, похожий на взрослого, а желание быть сразу всем
на свете порождает только неполноценных ублюдков.
Подобно ребенку, язык в пору своего детства издает лишь
односложные, хриплые' и пронзительные звуки. Народ, нахо-
дящийся в диком, первобытном состоянии, ка<к ребенок, тара-
щит глаза на все окружающие его предметы; страх, боязнь,
а затем и удивление — вот те чувства, на которые пока что
способны и тот и другой; и языком этих чувств являются
звуки и жесты. Человеческие органы еще не приспособлены
к речи, и потому они издают пронзительные звуки с резкими
акцентами; звуки и жесты являются выразителями чувств
и страстей, а поэтому они сильны и необузданны. Такая речь
обращена к глазу и к уху, к чувствам и к страстям; люди эти
способны на более сильные страсти, потому что они ведут
жизнь, в которой царят опасности, смерть и дикость; поэтому
они лучше нас понимают язык аффекта — ведь наши сведения
об этой эпохе мы черпаем из позднейших сообщений и выво-
дов; подобно тому как наша память не может дать нам
представлений о самой ранней поре нашего детства, так мы
не можем получить представление о той эпохе развития
языка, когда человек еще не говорил, а только издавал звуки,
когда он больше чувствовал, чем думал, а следовательно,
совершенно не знал письма.
Но по мере того, как изменялся ребенок или народ, изме-
нялся вместе с ним и язык. Ужас, испуг и изумление посте-
пенно исчезали, так как человек все больше познавал окру-
жающие его предметы; знакомясь с ними, он давал этим
119
предметам имена — имена, которые являлись слепком с при-
роды, по возможности ее звуковой копией. Если речь шла
о зримых предметах, приходилось, чтобы быть понятым, в зна-
чительной степени прибегать еще к 'помощи жестов, и вообще
весь его словарь носил еще чувственный характер. Его органы
речи становились более гибкими, а акценты — менее крича-
щими. Люди, в сущности говоря, пели, как это и поныне еще
наблюдается у многих народов и наблюдалось, по единодуш-
ному свидетельству всех древних историков, у их предков.
Они пользовались пантомимой, прибегая к помощи жестов и
телодвижений. В то время грамматические связи еще не были
упорядочены и формы речи не подчинялись правилам.
Но ребенок вырос в юношу; дикость превратилась в спо-
койствие гражданского существования, образ жизни и мыслей
утратил свой буйный пламень, и слух теперь ласкало нежное
журчание певучей речи, подобной речи Нестора у Гомера.
В языке появились понятия, не имевшие чувственного ха-
рактера, но, как нетрудно предположить, этим понятиям
давали уже знакомые чувственные имена; поэтому первые
языки были, по всей вероятности, богаты образами и мета-
форами.
Этот юношеский возраст языка был поэтическим возра-
стом, когда пели уже в обыденной жизни, а поэту остава-
лось только, усиливая акценты языка, придавать им предна- '
значенную для слуха ритмичную форму. Язык был чувствен-
ным, богатым смелыми образами, он выражал страсти, не был
скован устойчивыми связями, периоды речи свободно распа-
дались на части: смотрите, вот таков поэтический язык, поэти-
ческий период! Эта лучшая пора юности языка была эпохой
поэтов; аэды и рапсоды пели теперь свои песни, и так как
в то время еще не было писателей, то они увековечивали
в этих песнях наиболее достопримечательные деяния. Они
учили людей своими песнопениями, в которых мы находим
в те времена и картины победоносных битв, и басни, и нраво-
учения, и законы, и мифологию. Что у греков это было
именно так, доказывают названия не дошедших до нас книг
древнейших писателей, а что так было у всех народов
вообще, мы знаем из древнейших свидетельств.
Чем старше становится юноша, чем больше формируется
его'характер под воздействием зрелого опыта и граждан-
ственности, тем больше он мужает и перестает быть юношей.
Язык в зрелом возрасте — это уже больше не поэзия, а худо-
жественная проза. Всякая высшая ступень предвещает даль-
нейший спад, и если какую-то пору в жизни языка мы считаем
наиболее поэтичной, то, значит, пройдя ее, поэзия должна
снова клониться к упадку. Чем больше она становится искус-
ством, тем дальше отходит от природы. Чем более замкнутым
становится образ жизни, скованной гражданским устрой-
120
ством, чем меньше страсти управляют миром, тем больше
поэзия утрачивает то, что являлось до тех пор ее предметом.
Чем искусственнее становятся речевые периоды; чем чаще
устраняются инверсии, чем больше появляется обиходных
и абстрактных слов, чем больше правил получает язык, тем
он становится, правда, совершеннее, но тем больше теряет от
этого истинная поэзия.
Так родился закругленный прозаический период; опыт и
наблюдения сделали эту эпоху, в лучший ее момент, временем
художественной прозы, которая уже не расточала богатства
юности, сдерживала своеволие идиоматизмов, не отказываясь
в. то же время от них окончательно, ограничила свободу ин-
версии, не накладывая на себя, однако, оковы философской
конструкции предложения, перестроила поэтический ритм,
снизив его до уровня прозаического благозвучия, и сковала
ранее свободное расположение слов рамками закругленного
периода. Так наступил зрелый возраст языка.
Преклонный возраст не признает красоты, для него суще-
ствует только правильность. Но эта последняя лишила язык
его богатства, подобно тому как спартанские нравы изгнали
аттическое сладострастие. Чем больше оков накладывают
грамматисты на инверсии, чем больше различий между сино-
нимами устанавливает философ, чем больше синонимов он
старается отбросить, чем более онзаменяет переносные значе-
ния прямыми, тем меньше, правда, грешит язык, но тем
больше он теряет свое очарование. Чужеземец не видел
в Спарте беспорядка, но он не видел там и развлечений. Так
наступила философская пора в жизни языка.
Но вот, наконец, я могу перевести дух и подойти поближе
к нашему языку. Само собой понятно, что разные возрасты
языка, подобно возрастам человека, не могут существовать
одновременно. Если язык более всего пригоден для поэзии, то
он не может быть в такой же мере философским языком.
Так же как красота не совпадает с совершенством, так не
совпадают во времени самый красивый язык и самый совер-
шенный; художественная проза, эта средняя величина, — вот,
бесспорно, самое удобное место, с которого можно двигаться
и в том и в другом направлении.
Здесь особенно ясно выступает ошибочность излюбленной
мысли всех этих новоявленных «исправителей языка»: «Пока
язык был только наречием чувственного народа, он оставался
замкнутым и несовершенным; совершенство же принесли ему
мышление, философия, изящные искусства и науки».1 Да, фи-
лософское совершенство они ему, действительно, принесли,
1 Брейтингер. Критическая поэтика (вся 2-я часть).
m
но все несчастье состоит в том, что изящной словесности
нужно нечто иное—ей нужна красота, а она-то как раз
и была утрачена благодаря этому совершенству.
Это помогает нам разрешить сомнения одного человека,
знающего толк в языке.1 «Не знаю, правда ли это, — пишет
он, — что у всех отличившихся в изящной словесности наро-
дов поэзия, как неоднократно заявляли авторы многих книг,
достигла известных вершин раньше, чем проза». Конечно,
правы все древние писатели (о чем, однако, редко вспоминают
в новейших книгах), что поэзия достигла своей вершины еще
задолго до возникновения прозы и что затем проза вытеснила
поэзию, которой никогда уже более не удавалось подняться
на прежнюю высоту. У всех народов первыми писателями
были поэты, и эти первые поэты были неподражаемы; в эпох^
художественной прозы в стихах развивается только искусство;
но, устремившись ввысь, это искусство отрывается от земли,
пока не иссякают его силы и пока оно наконец не теряется
где-то в безвоздушном пространстве поэтических хитросплете-
ний. В более поздние времена мы имеем дело уже только с вер-
сифицированной философией или посредственной поэзией. Все
это придает совсем особое освещение хорошей статье, в кото-
рой рассматривается вопрос — как можно возвысить поэти-
ческий стиль над прозаическим? 2 Ее основной тезис гласит:
«Ни один народ не отличился ни в прозе, ни в поэзии, если
он не проводил весьма четкой границы между поэтическим
и прозаическим языком». Между тем свидетельства древних
писателей и философское изучение развития языка в связи
с нравами приводят нас к выводу, что все народы дали блестя-
щие образцы поэзии еще до того, как проза отделилась от нее,
развилась и достигла совершенства. Когда язык перешел от
состояния дикости к периоду гражданского мира и спокой-
ствия, он заметно отличался от языка прозы; его оживляли
сильные образные слова, * творческое богатство и изобилие,
смелые инверсии, простые частицы, звонкий ритм и вырази-
тельная декламация — все это накладывало на него отпеча-
ток чувственной силы и поднимало его на уровень поэти-
ческого языка. Но с появлением прозы, которая у Геродота
распадалась в своих периодах, еще лишенных полета и пол-
ноты, язык стал совершенствоваться в своем развитии, тем
самым он все дальше отходил от чувственной красоты.
В угоду точности выражения стали перефразировать образ-
ные слова, отбирать, уточнять и классифицировать синонимы,
смягчать идиоматизмы; в языке, как и в государстве, силу
закона .приобрело международное право: вступая в общение,
1 «Сочинения Клопштока о поэтическом языке» («Письма о литера-
туре», ч. III). *
2 «Письма о литературе», ч. III, 105.
122
языки уподоблялись друг другу. Слова, как и члены об-
щества, разделились на знать, чернь и среднее сословие;
поэтические эпитеты превратились в прозаические сравнения,
а сравнения — в примеры. Язык страстей стал языком здра-
вого смысла и в конце концов — язьжом рассудка. Итак, уже
в истоках своих поэзия и проза отличаются друг от друга.
Я мог бы назвать еще десяток авторов, которые не заме-
тили этой совершенно естественной метемпсихозы * языков
и которые не в состоянии перенестись из своего окружения
в другие времена, чтобы иметь возможность судить о ранних
эпохах и отживших свой век языках. Но все это не имеет
прямого отношения к моей книге, и я отлично понимаю, что
в этой работе я все равно не смогу полностью пролить свет
на истину, защитив ее с помощью убедительных доводов от
тех возражений, которые обычно выдвигаются с точки зрения
нашего времени...
...Зульцер * говорит: «Было бы весьма полезно иметь уни-
версальную философскую грамматику, по правилам которой
можно было бы судить о совершенстве народного языка;
с этими правилами можно было бы сравнить те, которые при-
няты в данном языке, чтобы улучшить или дополнить их».
К этому рецензент «Писем о литературе» добавляет:!
«Не знаю, насколько полезно будет такое сравнение для
изящной словесности. Существующие языки имеют каждый
свои особенности, которыми прекрасно умеет пользоваться
хороший писатель. Из лишнего или неправильного в своем
языке он нередко может извлечь красоты, которых недостает
философскому языку. Приведем только один пример: фило-
софская грамматика отвергла бы, вероятно, различие рода
у неодушевленных предметов как излишнее, а между тем
французские и немецкие поэты неохотно согласились бы
лишиться тех красот, которые можно извлечь из этого ненуж-
ного различия. Некоторые языки различают роды даже в гла-
гольном спряжении, и это является особым украшением их
литературы». Замечание, которое неоднократно придется по-
вторять в этом фрагменте.
Если мы вообще выполним мудрое предложение Зульцера,
как и другое2 — «чтобы не становился писателем тот, кто не
знает древних», — то мы лишимся всех оригинальных писате-
лей. Идиоматизмы — это исконные красоты языка, подобные
тем священным масличным деревьям вокруг афинской Акаде-
мии, которые были посвящены ее покровительнице, богине
Минерве. Плоды их запрещено было отправлять за пределы
1 «Письма о литературе», ч. IV, стр. 230.
2 Там же, стр. 222.
123
Аттики, они лишь служили наградой победителям состязаний
на Панафинейских празднествах. И даже когда спартанские
воины смели все на своем пути, и тогда богиня не позволила^,
чтобы руки чужеземных варваров коснулись этой священной
рощи. Точно так же и идиоматизмы — ни один сосед не может
похитить с помощью перевода эти священные красоты, охра-
няемые богиней — покровительницей языка. Красоты эти во-
шли в самую душу языка, и всякая попытка вырвать их оттуда
неизбежно приведет к их разрушению; сквозь одежды языка
проглядывают эти прелести, как грудь Фрины — сквозь
прозрачный шелк или сквозь влажные одежды, облегающие
тело древних статуй. Почему британцы так любят все капризы
своей манеры письма? Именно потому, что эти капризы не
поддаются переводу и представляют собою священные идио-
матизмы. Почему неизменной любовью всей нации пользуются
Шекспир и автор «Гудибраса», Свифт и Фильдинг? Потому
что они заглянули в тайники языка, широко использовали его
идиоматические выражения и свойственный ему юмор, соче-
тая их в должных пропорциях. Почему англичане так рьяно
защищают своего Шекспира, даже тогда, когда он уходит
в область кончетти * и игры слов? Именно -кончетти и игра
слов, которые он постоянно сочетает, — это и есть те плоды,
которые не поддаются пересадке в другой климат. Поэту так
удалось соединить эти особенности языка с особенностями
своего ума, что кажется, будто они были созданы друг для
друга, а если язык и оказывает иногда робкое сопротивление,
то это не более чем подсказанная любовью притворная
сдержанность юной красавицы, целомудрие которой лишь
удваивает ее привлекательность.
,.,Надо отдать справедливость швейцарцам * — они поистине
сумели сберечь у себя зерно немецкого языка. Так же как
старинные моды и обычаи дольше удержались в их стране,
защищенной от чужеземного влияния Альпами и национальной
гордостью гельветов, так и их язык остался более верен ста-
ринной немецкой простоте. Спору нет, кое в чем они действи-
тельно перестарались, что лучше всего видно на примере
Арлекина, и осмеянию их также подвергали немало, однако
имеются у них и хорошие стороны, которые еще не оценены
по достоинству. Готшедианцы тщательно собрали в своих па-
сквилях и яркие образные слова и инверсии швейцарцев, но
теперь, когда пыл полемики прошел, нужен уже не смех,
а трезвая оценка. Если бы у патриарха Бодмера не было
иных заслуг, кроме издания сборника щвабской поэзии, то
и этого было бы достаточно. Вспомним, какими похвалами
осыпали Рамлера и Лессинга за издание произведений Jloraiy,
а ведь старинная швабская поэзия, как мне думается, куда
поучительнее, чем Логау, по крайней мере в отношении языка!
Швейцарцам, правда, следовало бы больше потрудиться над
124
тем; чтобы показать читателю, проверить и критически про-
комментировать идиоматические выражения. Сами-то они их,
вероятно, понимают, но ведь если читатель прочтет немецкий
текст, напечатанный латинским шрифтом, то швейцарцем он
от этого еще не станет!
...Следует собрать побольше идиоматических выражений
из времен мейстерзингеров, Опитца и Логау, Лютера и др.,
но особенно тщательно нужно учиться у Клопштока, этого
гения языковых красот и ошибок, который направил свои
творческие дерзания и на немецкий язык, распространив, по-
жалуй впервые в Германии, этот дух свободы. Да, это под-
линный гений, великий даже в своей эксцентричности, и он,
этот новый Александр Македонский, не мог не чувствовать,
как тесен ему был тогдашний немецкий язык...
«Правильность языка уменьшает его богатство».1 Чтобы
наглядно убедиться в том, насколько справедливо это замеча-
ние, нужно обратиться к древнейшим языкам — еврейскому
или же арабскому—и сравнить богатства, которыми рас-
полагают эти языки и наш собственный. Эти богатства так же
отличаются друг от друга, как и хозяйство их стран и
нашей страны. Там копили скот и рабов, мй же копим зо-
лото и домашнюю утварь, и это отражено в сравниваемых
языках. \ -■,-■'
Их язык богат обозначениями различных пород скота,
в нем встречаются всевозможные слова, связанные с миром
природы. В единственной дошедшей до нас небольшой книге
древних евреев * имеется двести пятьдесят ботанических
выражений, которые наш язык в состоянии передать, но
до сих пор не сумел это сделать,2 так как kaloi k'agathoi3
нашего гражданского мира меньше всего интересуются тем,
что известно каждому пастуху, и так как представители на-
шей натурфилософии живут среди книг, обращаясь вечно за
помощью к латыни, Наши певцы природы и наша пасту-
шеская поэзия не могут поэтому срывать цветы этих расте-
ний, и если бы даже последние имели немецкие названия, то,
не пользуясь широкой известностью, они не имели бы никакой
ценности для поэзии. Ведь наши стихи больше не пишутся
для пастухов и посвящаются не им, а городским музам,
и язык наш сузился до масштабов книжного языка. С другой
стороны, еще Лейбниц отмечал, что наш язык — это язык
охоты и горного промысла,— точнее, как мне кажется, был
1 «Письма о литературе», XV, 181.
2 См. «Рассуждение о влиянии мнений» Михаэлиса.
3 «Прекрасные и добрые» (греч.) — идеал человеческого совершенства
у античных писателей.
125
прежде таковым: ведь многие из подобных слов частью уста-
рели, а частью считаются специальными и профессионала
ными терминами, ибо наш нынешний образ жизни не опре-
деляется уже ни охотой, ни горным промыслом.
Итак, нас интересует больше домашняя обстановка;
в устном и книжном торговом обращении мы пользуемся хо-
довой разменной монетой—специальными терминами, гра-
жданскими и бытовыми выражениями, в то время как древ-
ние народы рассчитывались золотыми слитками. Они гово-
рили образами, а мы, в лучшем случае, с помощью образов,
и образный язык наших поэтов описательной школы относится
к языку древнейших писателей так же, как пример к аллего-
рии или как аллегория к образному выражению. Прочитайте
Гомера, а затем Клопштока! Когда Гомер говорит, он уже
тем самым живописует, изображая живую природу и обще-
ственный мир; Клопшток говорит для того, чтобы живописать,
и, стремясь к нов'изне, он изображает совсем иной мир — мир
души и мыслей, тогда как Гомер облекал их в телесный об-
раз, говоря: «Пусть они сами скажут за себя!»
В хозяйстве Востока большое значение имело обилие ра-
бов, и это же можно сказать о языке этих народов. Творцы
языков, которые, без сомнения, были чем угодно, только не
философами, выражали естественным образом с помощью
нового слова то, что они еще не умели подвести под какое-
нибудь другое, уже известное понятие. Так возникли сино-
нимы, доставляющие столь большие преимущества поэту
и столько же неприятностей философствующему граммати-
сту. В распоряжении арабского поэта находится пятьсот слов,
означающих «лев» и выражающих различные состояния
этого животного (например, «молодой лев», «голодный лев»
и т. п.); поэтому он может живописать с помощью одного
слова й, сопоставляя образы, набросанные одним штрихом,
сказать гораздо больше, чем мы, поскольку мы показываем
подобные различия, выражая их с помощью уточняющих
эпитетов, У восточных народов два перепевающихся хора
могут почти полностью повторять друг друга; достаточно од-
ного оборота или даже слова, чтобы придать новизну ка-
кому-нибудь изречению или образу. При этом меняется ко-
лорит, и эта перемена ласкает слух восточного человека.
А наш язык, связанный своими «почти-синонимами», вынуж-
ден передавать повторения либо без вариаций (ив этом слу-
чае они превращаются в раздражающие слух тавтологии),
либо с искажениями, отклоняясь, как нередко случается
в немецком переводе библии, от основной идеи изображае-
мого. Причины этих пороков коренятся в самом различии
языков, и избежать их трудно.
Подобные соображения, как мне кажется, позволяют нам
понять замечание нашего ясновидящего филолога-ориента-
126
листа, 1 «что наше ухо не выносит этих тавтологий, когда-то
ласкавших слух восточного человека». Тавтологии всегда
отвратительны, и уж во всяком случае они не могут доста-
вить никакого удовольствия, но в том-то и дело, что для
восточного человека это не были тавтологии, и когда один
хор пояснял или уточнял слова другого или обновлял нари-
сованную им картину своими вариациями, то это было
приятно и для глаза и для уха. Думаю, что такой ученый,
как, Михаэлис, согласится, что в языке подлинника редко
встречаются повторения в полном смысле слова; тогда как
немецкие переводы ими действительно изобилуют, особенно
псалмы Крамера: * в них perpetuae tautologiae, Europae invi-
sae, auros laedentes, prudentioribus stomachaturis, dormitaturis
reliquis,2
...Но мои замечания увели меня слишком далеко в сто-
рону от той мысли, что грамматика и прочие мудрствования
о языке уменьшили его богатство, «К чему так много праздно-
шатающихся рабов? Они ведь только мешают друг другу!» —
воскликнул в недоумении экономный философ и прогнал од-
них, а другим указал точно их занятие, чтобы они не ходили
без дела. Но оставим сравнения: научившись подчинять друг
другу и классифицировать понятия, стали выражать с по-
мощью определения (adjectivum, participium, adverbium)3 то,
для чего ранее употребляли особое слово. Оставались еще
синонимы. Тогда философ попытался установить неуловимые
различия между ними, чтобы употреблять их как новые слова
с самостоятельными значениями. На немецком языке я могу
в качестве примеров привести Вольфа и Баумгартена. Пер-
вый из них, стремясь в своих немецких сочинениях точно
определить значение синонимов, относящихся к области фи-
лософии, значительно сократил их число. В еще большей
степени это относится к Баумгартену: прочитайте его «Мета-
физику» и обратите внимание на приведенные им в сносках
немецкие слова: в них философия дает работу и определен-
ные должности большинству «праздношатающихся» синони-
мов. Но такой язык — это только язык философии. И пусть
Зульцер, этот воскресший Баумгартен, определяет в своих
работах по эстетике значение слов: «приятный», «прекрас-
ный», «изящный», «прелестный», «привлекательный» — он за-
служит этим благодарность всего света. Пусть другие также
пойдут по пути Баумгартена, пусть, например, Кант в своих
«Наблюдениях над прекрасным и возвышенным» * отмечает
неуловимые различия между почти равнозначными словами.
1 Михаэлис. Предисловие к Лоуту. Лекции, I. *
2 Постоянные тавтологии, невиданные в Европе, оскорбляющие слух,
раздражающие более сведущих и наводящие сон на остальных (лат.).
3 Прилагательное, причастие, наречие (лат.).
127
Их труд пойдет на пользу немецкой философии и философ-
ского языка, но не искусства слова вообще.
Всех слов тебе все равно не определить, мудрствующий
филолог! А прочие ты, верно, захочешь выбросить? Но захо-
чет ли их выбросить обиходный язык? О нет! Так далеко не
простирается твоя власть, и еще менее тебе подвластно цар-
ство поэтов. Поэт будет вне себя от ярости, если ты лишишь
его синонимов, — ведь он живет их изобилием. Ну, а если
все-таки ты определишь их? Допустим эту возможность (хотя
сделать это ты не в состоянии), —тогда художественной
прозе и поэзии придет конец: все превратится в четки для
отсчитывания искусственных терминов. Какое все же счастье
для поэта и какое несчастье для мыслителя, что не философы
изобрели язык и что совершенствовали его в большинстве
случаев поэты!
Итак, наш язык ограничил синонимы и старается вместо
рабов накапливать золото и монеты, Да будет мне дозволено
сравнить с монетами слова, обозначающие абстрактные по-
нятия. И те и другие чеканятся произвольно, и когда они
вводятся в обращение, то их ценность устанавливается
также произвольно; более крупные хранятся как клады, бо-
лее мелкие становятся разменной монетой. И в этом смысле
наша поэзия также оказывается в проигрыше: так как в ней
исчезают воображаемые ценности и сохраняют свою силу
только естественные, то абстрактные слова получают значе-
ние для поэзии лишь в той мере, в какой они доступны для
чувственного изображения. Итак, поэзия ничего не выиграла
и ничего не может выиграть от общения С нашими филосо-
фами. Как древние не могли бы передать во всех оттенках
наш язык, этот язык книги и кафедры, так и мы не можем
повторять их на своем языке...
Основной закон соединения слов для выражения закон-
ченной мысли следующий: 1 «Пусть несколько понятий, кото-
рые должны вместе составить одну мысль, следуют в том по-
рядке, который наиболее соответствует доступности мысли и
данной цели говорящего. Так как в тысяче случаев цель го-
ворящего будет одна и та же, то появится определенный об-
щий порядок конструкции. Но в сотне случаев говорящий
будет иметь перёд собой какую-то особую цель, и тогда
в наилучшем положении окажется язык, движения которого
не будут скованы слишком тесной одеждой и который сможет
изменять свой порядок слов в соответствии с этой целью».
Представьте себе два ума, непосредственно сообщающих
друг другу свои мысли, и только мысли, В этом, случае
1 «Письма о литературе», ч. XVII, стр. 184.
128
порядок мыслей одного будет одновременно порядком вос-
приятия этих мыслей другим. Первый из них сообщает свои
мысли точно в таком порядке, в каком он черпает их из
своего внутреннего мира или из окружающих предметов.
Спокойный ум, лишь повторяющий мысли другого ума, идет
протоптанной тропой соединения понятий; он сначала указы-
вает предмет, а затем сообщает свое суждение о нем. В этом
случае построение периода имеет настолько регулярный ха-
рактер, что, согласно выражению арабской просодии, каждое
слово представляет собою столб или колонну, стоящую на
предназначенном для них месте.
Посмотрите на философский язык. Если бы язык был вы-
думан философом, то в нем не было бы инверсий; если бы
создан был всеобщий язык, то каждый его знак обязательно
имел бы свое определенное место и свой порядковый номер,
как в нашей десятичной системе счисления. Но поскольку
у нас нет еще чисто философского языка, который был бы
изобретен для одних лишь мыслителей, то давайте возьмем
язык, которым больше всего пользуются в философии, — ла-.
тинский, и рассмотрим его именно в том виде, в каком он
существует в философских книгах, когда на нем преподно-
сятся научные выводы и сухие доказательства. Каков же он
тогда? Обычно это язык без инверсий.
А теперь представьте себе два чувственных существа, из
которых одно говорит,' а другое слушает. Для первого источ-
ником понятий служат его собственные глаза, и всякий пред-
мет он может видеть с разных точек зрения; он указывает
на'этот предмет другому и делать это может опять-таки по-
разному. Посмотрите на него как на знак этих предметов,
и вы определите 'источник инверсий. Чем больше внимание,
чувство, аффект говорящего сосредоточены на той точке,
к которой прикованы его глаза, тем больше захочет он на-
править и взор своего собеседника именно в эту сторону, за-
хочет осветить ее в первую очередь, осветить самым ярким
светом. Здесь-то и таится источник инверсий. Приведу при-
мер. «Беги от змеи!» — кричит мне человек, который думает
прежде всего о моем бегстве, а я как раз не помышляю о нем.
«От змеи беги!» — кричит другой, ибо он хочет только од-
ного: как можно быстрее указать мне на змею — а за бег-
ством моим дело не станет, как только я услышу о ней. *
«Он украл у меня деньги» (а не кто-либо другой); «Деньги
он у меня украл» (а не кольцо); «У меня он украл деньги»
(а не у кого-либо другого); «Украл он у меня деньги» (а не
взял взаймы) — каких только поворотов мысли не выражает
инверсия при помощи этих вариаций!
Итак, если инверсия проистекает из чувственного внима-
ния, то язык народа, еще целиком чувственного, несомненно
не отличался правильностью и был чрезвычайно изменчивым.
9 Зак. 291. Гердер /29
Такой народ говорил о предметах так, как они попадались
ему на глаза; грамматическая конструкция еще не была
введена. Так и поныне полны инверсий языки диких наро-
дов и все древние исконные языки, носящие на себе отпеча-
ток первоначального чувственного образа жизни. Жесты и
акценты приходят на помощь, чтобы сделать понятным этот
хаос слов. О древних языках всё еще говорят, будто они со-
творены были богом или философом и вышли из их головы
в полном вооружении, как Паллада из головы Юпитера. На
самом деле все, что прекрасно в древнейших языках, появи-
лось в них позднее; только мы не знаем их ранней, бесфор-
менной поры, и потому нам кажется, что уже с самого на-
чала они представали во всем своем блеске. Вспомните ту
остроумную игру, в которой Эйлер на основании теории ве-
роятности усмотрел мудрый расчет. Разве этот расчет был уже
с самого начала? Нет, было только нагромождение случайно-
стей, ряд попыток, превративших наконец игру в искусство.
Как только известные слова стали связываться с опреде-
ленными предметами (чему, в частности способствовали пер-
вые песни), беспорядок и хаос понемногу исчезли; старались
установить порядок слов, который был бы наиболее доступен
обучающемуся; метрический размер должен был укрепить
этот порядок, который, таким образом, превратился в обра-
зец, в предустановление, хотя и не стал законом или прави-
лом; а ведь, как известно, все народы, прежде чем получить
законы, живут согласно обычаям. Обычаи входят в при-
вычку, а потому в привычку вошел и определенный порядок
слов, но в нарушении его еще не видели греха.
Наконец, с появлением книжного языка этот порядок при-
обрел почти что авторитет закона. Теперь уже отпало дей-
ствие, которое ранее разъясняло инверсию, «ибо жесты и тон
голоса помогают говорящему полностью выразить свою
мысль, в то время как в книге все это отпадает».1 Поэтому,
чтобы быть понятным читателю, нужно было обязательно
соблюдать определенный порядок. Однако последний был
еще весьма свободным, как о том свидетельствуют произве-
дения древнейших греческих и римских писателей, чьи пере-
становки не могут быть переданы ни на одном новом языке.
Определенный порядок слов устанавливали до тех пор„
пока наконец не смастерили прозаический период, следовав-
ший порядку мыслей, как они порождаются человеческим
разумом, но в то же время с учетом специфики слуха и зре-
ния. Тем самым структура такого периода определяется по-
следовательностью образов, которые могут встать перед гла-
зами, идей, которые представляет себе разум, и звуков*
которые могут ласкать наш слух. Чистый разум, не считаю-
1 «Письма о литературе», ч. XVII, стр. 186.
130
щийся ни с глазом, ни с ухом, признает только порядок идей,
и поэтому он не знает инверсий. Таков логический период.
Он отбрасывает всякие изменения порядка слов, ибо только
простое является для него ясным, а всякая инверсия допу-
скает пусть небольшую, но все-таки возможность какого-то
двойного смысла высказывания.
А теперь, после всего сказанного, подвергнем исследова-
нию новые языки. Чем больше каждый из них обработан
грамматистами и философами, тем тяжелее его оковы; чем
ближе он к своему первоначальному состоянию, тем большей
свободой он пользуется. Чем больше в нем жизни, тем
больше инверсий; чем более он опускается до уровня мерт-
вого книжного языка, тем их меньше. Все это можно дока-
зать на примере французского языка. Дидро жалуется, что
средневековые грамматисты, формировавшие французский
язык, наложили на него оковы, в которых он и поныне, то-
мится. Именно усвоенная французским языком однообраз-
ная походка и служит, быть может, причиной того, что его
называют языком рассудка, что он является таким красивым
книжным языком, языком для чтения. Но для поэтического
гения этот язык рассудка стал истинным проклятием, а
в устной речи, чтобы не волочить за собою ноги, этот кра-
сивый книжный язык должен был усвоить неуверенную,
скользящую походку, которая делает этот галантный язык
изнеженным и слабосильным и совершенно непригодным
для возвышенной декламации. Если о наших современных
языках говорят, что «многие мысли они не в состоянии выра-
зить сочетанием слов и только из контекста можно угадать
их значение»,1 то это несовершенство относится прежде
всего к французскому языку.
Утверждают, что язык этот есть язык рассудка, ибо его
порядок слов всего более соответствует метафизическому
ряду. Пусть так — более соответствует! Но соответствовать
ему на самом деле он никогда не будет, да и вообще ни
один человеческий язык, язык чувственных существ, не может
вполне соответствовать разуму, ибо любой язык, в том числе
французский, имеет свою нефилософскую сторону. И чтобы
разом покончить с этими рассуждениями, скажу, что француз-
ский порядок слов хуже нашего, ибо движения нашего языка
не скованы тесной одеждой и он может изменять порядок
слов в соответствии с любой задачей. Совершенства не может
достигнуть ни один язык, не может он достигнуть и полной
поэтической красоты. И потому он останавливается на пере-
путье и ищет... «удобств».2 А к ним относятся и инверсии.
1 «Письма о литературе», ч. XVII, стр. 185.
2 Да будет мне дозволено прибегнуть к этому слову, употребление
которого, если я не ошибаюсь, обосновал один наш классический писа-
тель, * автор «Философских сочинений».
9* 131
Достигнув этой степени «удобства», язык стал гибким
орудием в руках поэта, прозаика и философа; двум первым
инверсии пошли на пользу, и если третий не страдает от
них, то они могут и должны сохраниться.
Да, но ведь нужно еще доказать, что они приносят пользу!
Ведь француз вообще отрицает, что они дают свободу и до-
полнительные средства. А тут нужно еще доказать, что они
не вредят мыслителю, иначе придется во имя большей вы-
годы пожертвовать меньшей. Итак, я попытаюсь это дока-
зать.
Начну с самого легкого. Наше ухо требует такого пе-
риода, который ласкал бы его, не был однообразен и не по-
вторялся слишком часто. Может ли этого достигнуть речь,
лишенная инверсии? Едва ли! Один период, выразив мысль,
заканчивается так же, как другой: эти однообразные каден-
ции терзают гордый слух, и мы чувствуем, что языку так же
нужна инверсия, как живописи—диспропорция, а музыке —
диссонанс. Во французском языке, правда, сохранилось еще
много инверсий, и все же слух греков уловил бы в поэзии
и обычной прозе французов значительную монотонность, ко-
торая в прозаических конструкциях даже подчас заставляет
вспомнить построения нашего канцелярского стиля.
Можно было бы в конце концов примириться и с этим —
однако инверсия совершенно необходима писателю, который
пишет для глаза, для воображения и хочет посредством
воображения пробудить внимание, чувство, а зачастую и
страсть. Он рисует воображению картину, где каждое слово
прекрасно только на своем месте. А порядок, подсказанный
фантазией, конечно, не порядок холодного рассудка.
Одна инверсия служит для того, чтобы пробудить внима-
ние, другая —чтобы его задержать; первая ошеломляет, вто-
рая волнует всю нашу душу; первая нападает внезапно из
засады, вторая выходит в ратном строю на поле брани, где
каждое слово на своем месте попадает в цель. Благодаря
этому проза приобретает резвость, а поэзия — боевой пыл.
И резвые французы достигли того, что создали резвую прозу,
годную для житейского обихода, а инверсии, которые разре-
шают себе наши лучшие поэты, — это одно из проявлений
немецкой свободы...1
«Письма о литературе», ч. XVI, стр. 21.
ТРАКТАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЯЗЫКА,
удостоенный премии Королевской Академии наук
за 1770 год
Уже как животное человек обладает языком. Все свои
бурные, а в особенности болезненные, то есть самые бурные
из бурных, телесные ощущения, все сильные душевные стра-
сти он выражает непосредственно в криках или диких нечле-
нораздельных звуках. Страдающее животное или одержимый
приступом боли герой Филоктет — оба будут жалобно во-
пить и стенать, даже если судьба забросит их на пустынный
остров, где нет и не может быть надежды на помощь какого-
нибудь другого существа. Словно им будет легче дышаться,
если бездушные ветры унесут с собою их стоны, словно
вместе со вздохом, этой жгучей струею воздуха, они выдох-
нут из себя часть страданий, а вместе с новой, свежей
струей вдохнут в себя силы для утоления боли. Ведь природа
не создала нас отдаленными друг от друга утесами, эгоисти-
ческими монадами! * Даже самые тонкие струны животных
чувств (я пользуюсь этим образным выражением, ибо не
знаю иного, более подходящего для механики чувствующих
тел), даже те струны, напряжение и звучание которых про-
истекает не от произвольного или обдуманного стремления и
свойства которых до сих пор не могли быть изучены пытли-
вым человеческим разумом, даже они всей своей игрою на-
правлены на то, чтобы воздействовать на другие существа,
пусть даже без расчета на их сочувствие. Когда мы ударяем
по струне, она делает свое дело: она звучит! Она взывает
к сочувствующему эху, если даже его нет поблизости, если
не может быть никакой надежды на отклик.
Если когда-нибудь физиология сумеет создать учение
о законах душевной жизни (в чем я, однако, весьма Сомне-
ваюсь), то, быть может, проанализировав строение нервной
системы, она прольет свет и на это явление, но при этом, ве-
роятно, разобьет его на мелкие, разрозненные, мало о чем
133
говорящие части. А пока примем в целом как совершенно
очевидный закон природы: «Перед нами— чувствующее су-
щество, которое не может скрыть в себе ни одно из своих
живых чувств ив первый же миг, невольно, непреднамеренно,
выражает их в звуках». Последним материнским прикоснове-
нием творческой руки природы была заповедь всем ее созда-
ниям: «Чувствовать не только для себя, но в звуках выражать
свое чувство!» И так как этот последний творческий отпечаток
был одинаков для всех существ одной породы, то заповедь
эта превратилась в благословение: «Передавай свои ощуще-
ния в звуках всему роду своему одинаково, чтобы они были
сочувственно услышаны всеми и каждым!» А теперь попро-
буй-ка прикоснуться к этому слабому, чувствительному со-
зданию. Каким бы оно ни казалось одиноким, подверженным
любому разрушительному дуновению враждебных бурь этой
вселенной, на самом деле оно не одиноко: оно находится
в союзе со всей природой! Да, струны его нежны, но при-
рода скрыла в них такие звуки, которые при малейшем при-
косновении способны разбудить другие столь же хрупкие
создания и заронить в далеком сердце как бы по незримой
цепочке искру сочувствия к никогда не виданному ранее су-
ществу. Эти вздохи, эти звуки — не что иное, как язык; су-
ществует язык чувств, как закон самой природы.
То, что первоначально у человека и у оюивотных был
общий язык, подтверждается теперь лишь некоторыми остат-
ками этого состояния, но и они доказывают это совершенно
неоспоримо. Пусть наш искусственный язык вытеснил язык
природы, пусть наша гражданская жизнь и общественная
благовоспитанность иссушили, ввели в русло или отвели
в сторону потоки страстей, но в момент наивысшего напря-
жения, где бы и когда бы он ни настал, наше чувство вновь
вступает в свои права и непосредственно прорывается в ак-
центах родного языка. Внезапный порыв бурных страстей,
припадок тоски и горя, радости или веселья, оставляющий
глубокий след в душе, всепоглощающее чувство мести, от-
чаяния, ярости, страха, ужаса и т. п. — все они властно заяв-
ляют о себе, и каждое из них — по-своему. У звуков есть
столько оттенков, сколько различных чувств таится в нашей
природе. Итак, я обращаю внимание на то, что чем меньше
человеческая природа обнаруживает родства с тем или иным
видом животного, чем больше различий у них в строении
нервной системы, тем менее понятен нам природный язык
данного животного. Принадлежа к наземным тварям, мы по-
нимаем их лучше, чем водяных, а среди наземных мы лучше
понимаем домашних животных, чем лесных зверей, и, нако-
нец, среди домашних —лучше всего тех, которые нам наи-
более близки. Но в этом последнем случае играют, правда,
также большую роль общение и привычка. Совершенно есте-
134
ственно, что араб, составляющий одно целое со своим конем,
понимает его более, нежели человек, который впервые
в жизни сел в седло, и он может разговаривать с ним почти
так же свободно, как Гектор в «Илиаде» разговаривает со
своими конями. * Араб, живя в пустыне и не видя вокруг
себя ни одного живого существа, кроме своего верблюда,
хорошо знает его природу и лучше понимает крик пролетаю-
щих птиц, чем мы, обитатели городов. Охотник знает голос
серны, как лапландец —голос своего оленя. Все это само со-
бой разумеется и не является исключением. Собственно го-
воря, этот природный язык служ'ит как бы родным языком
для каждого животного вида в отдельности, и точно так же
человек имеет свой собственный язык.
Звуки эти, правда, весьма простые, и когда их произносят
или выписывают на листе бумаги в виде междометий, то
самые противоположные чувства получают почти одинаковое
выражение. Бледное «ах!» — звук и любовной неги и смер-
тельного отчаяния, пламенное «о!» обозначает и приступ вне-
запной радости, и припадок гнева, и нарастающее восхище-
ние, и нахлынувшую скорбь. Но разве назначение этих зву-
ков в том, чтобы их изображали на бумаге как междометия?
Слезы, наполняющие эти скорбные, погасшие, жаждущие уте-
шения глаза, — как они трогательны на лице страдающего че-
ловека! А 'попробуйте взять эту слезу отдельно, и перед вами
окажется лишь холодная капля воды! Посмотрите на нее
в микроскоп — даже не хочется знать, во что она превра-
тится тогда! А этот изнемогающий, едва слышный вздох,
так трогательно умирающий на сведенных болью устах? От-
делите его от живой оболочки, и он будет не чем иным, как
простым движением воздуха. Так может ли по-иному об-
стоять дело со звуками наших чувств? Связанные живой
нитью со всей картиной творящей природы, сопровождаемые
множеством других явлений, они трогают нас и кажутся зна-
чительными, но, Отделенные от всего этого, вырванные из це-
лого, лишенные жизни, они превращаются в бессодержатель-
ные значки. Живой голос природы становится произвольно
■выдуманной и нарисованной буквой... Их, правда, мало, этих
звуков языка, но ведь и у чувствующей природы, когда о'на
испытывает физическое страдание, меньше основных видов
ощущений, чем это утверждают наши психологи, перечисляю-
щие действительные и выдуманные ими страсти. Каждое
чувство подобно ленте, которая тем прочнее связывает, чем
меньше она распадается на отдельные нити: звуки говорят
не много, но с большой силой. Слышим ли мы стоны раненой
души или раненого тела, вызван этот вопль страхом или
болью, поцелуй или слеза сопровождают это нежное «ах»,
льнущее к груди возлюбленной, — язык не был создан для
135
того, чтобы выразить все эти различия. Он должен был
только звать нас к картине, которая говорит сама за себя,
должен был звучать, но не изображать! Вообще, как об этом
говорит в известной притче * Сократ, боль и сладострастие
граничат друг с другом; природа связала концы различных
чувств, так что· же еще остается языку чувств, как не пока-
зывать точки их соприкосновения?..
Теперь я могу сделать выводы из сказанного.
Во всех первобытных языках слышатся еще остатки этих
природных звуков, хотя они и не являются главными нитями
человеческой речи. Они не корни языка в собственном смысле
слова, а соки, которые оживляют эти корни.
Утонченная метафизическая речь, придуманная в более
поздние времена и представляющая собою отдаленного по-
томка своей дикой прародительницы не менее, чем в четвер-
том колене, речь, которую после многих тысячелетий вырож-
дения пытались в течение нескольких веков утончить, циви-
лизовать и облагородить, такая речь, дитя рассудка и обще-
ства, не может знать ничего или знает очень мало о детских
годах своей праматери. Однако древние, дикие языки носят
на себе тем больше следов далекого прошлого, чем ближе
они к своему первоисточнику. Я не могу пока еще ничего
сказать о работе человека над формированием языка и рас-
сматриваю всего лишь сырой материал. Для меня пока еще
существуют не слова, а звуки для выражающих чувства
слов. Но посмотрите внимательно! Как много следов этих
звуков можно увидеть в названных языках, в их междоме-
тиях, в корнях их имен и глаголов! Древнейшие восточные
языки изобилуют восклицаниями, которые у нас, более
поздних народов, либо совсем отсутствуют, либо встречают
лишь глухое, бесчувственное непонимание. В их элегиях слы-
шатся звуки, напоминающие надгробные рыдания и вопли
диких народов, как бы продолжающие междометия природ-
ного языка, а в их хвалебных псалмах — крики радости и
повторяющиеся возгласы, которые Шоу объясняет из причи-
таний плакальщиц, а мы превратили в торжественную бес-
смыслицу. Стремительное движение их стихов, как и песен
других древних народов, проникнуто тем тоном, который и
поныне еще оживляет военные и религиозные пляски, печаль-
ные и радостные песни всех дикарей, где бы они ни жили —
у подножия Кордильер или в запорошенной снегом стране
ирокезов, в Бразилии или на Караибских островах. Корни
их простейших, самых исконных и действующих глаголов
уходят в конце концов в те первые, природные возгласы,
которые лишь позднее подверглись обработке. Потому этот
внутренний живой тон языков всех древних и диких народов
всегда оказывается недоступным для уст -чужеземца.
136
'Большинство этих явлений я сумею объяснить в их взаимо-
связи лишь позднее. Но об одном скажу сейчас. Один из за-
щитников учения о божественном происхождении языка 1 ви-
дит чудесный перст божий в том, что звуки всех известных
нам языков можно изобразить с помощью каких-нибудь двух
десятков букв. Однако факт этот неверен, и выводы из нега
сделаны еще более неверные. Ни один из живых, звучащих
языков не поддается полностью изображению с помощью
букв, а тем более — двух десятков; об этом свидетельствуют
все языки без исключения. Наши органы речи обладают чрез-
вычайно богатыми возможностями артикуляции, каждый звук
может произноситься очень различно; поэтому, в частности,,
как справедливо указал г-н Ламберт во второй части своего
«Органона», у нас гораздо меньше букв, чем звуков, и буквы
дают лишь приблизительное изображение звуков. А ведь он
показал это на примере Германии, литературный язык кото-
рой не включает богатых звуковых различий диалектов! Что
же сказать тогда о языках, которые сами представляют со-
бою не что иное, как такой живой диалект! Откуда берутся
все своеобразия и странности орфографии, как не из нашего
неумения писать так, как мы говорим! Звуки какого живого
языка можно познать из книжных букв? И какой мертвый
язык можно воскресить с их помощью? Итак, чем более
живым является язык, чем меньше люди думали том, как
обозначать его с помощью букв, чем ближе он к изначаль-
ным, полным, еще не дифференцированным природным зву-
кам, тем меньше поддается он письменному выражению,
в особенности письменному выражению при помощи двух
десятков букв, и зачастую он совершенно непроизносим для:
иностранца.
...Итак, самый факт неверен, и выводы сделаны еще бо-
лее неверные. Мы приходим не к божественному, а как раз
наоборот — к животному происхождению языка.
...Так как наши природные звуки предназначены для вы-
ражения страстей, то вполне естественно, что они стано-
вятся также основой всякого воздействия на чувства! Назо-
вите мне человека, в сердце которого не проникнет это «ах»,
слетающее с уст измученной, содрогающейся жертвы, или
чье-то предсмертное хрипение, или даже стон страдающего
всем телом животного! Назовите мне имя этого бесчувствен-
ного варвара! Чем гармоничнее связаны между собою живот-
ные при помощи нежных, чувствительных струн, тем больше
сочувствия вызывают они друг, у друга: их нервы напря-
гаются одновременно, одновременно и в такт бьются их
сердца, они невольно и как бы машинально сострадают друг
1 Зюсмильх. Доказательство божественного происхождения языка,.
Берлин, 1766, стр. 21.
13Т
йругу. И какой душевной закалкой должен отличаться чело-
век, который в такую минуту остается глух и бессердечен,
сколько силы требуется ему, чтобы закрыть все поры своей
чувствительности! Дидро1 высказывает предположение, что
слепорожденный не столь чувствителен к стонам страдаю-
щего животного, как зрячий; я же думаю, что в некото-
рых случаях происходит как раз обратное. Конечно, верно,
что от него непроницаемой завесой скрыта трогательная кар-
тина страданий несчастной дрожащей твари, но все факты
говорят о том, что именно благодаря этой завесе слух не так
рассеивается, значительно обостряется и сильнее схватывает
звуки. В тиши и мраке своей вечной ночи он вслушивается
в каждый жалобный стон, и тот, как острая стрела, вон-
зается ему в самое сердце! А если к тому же, он еще при-
бегнет к помощи осязания, ощупает руками содрогающееся
тело, почувствует, как страдает этот надломленный механизм,
тогда ужас и боль охватят его члены. Надлом и разрушение
сочувственно отзовутся в нем самом, как смертный стон.
Вот каковы узы этого природного языка!
Европейцев, при всех достоинствах и недостатках их куль-
турного развития, всегда и повсюду трогали до глубины
души грубые звуки, которыми дикари выражают свои страда-
ния и жалобы. Лери, вспоминая о путешествии в Бразилию,
рассказывает о том, как нечленораздельные выкрики, в ко-
торых американские туземцы выражали свою приветливость
ή сердечную любовь, вызвали у его спутников слезы умиле-
ния. Шарлевуа и другие не находят слов, чтобы выразить то
страшное впечатление, которое производят североамерикан-
ские боевые и магические песни. Если в дальнейшем у нас
будет случай поговорить о том, несколько эти природные
звуки оживляли древнюю поэзию и музыку, то мы сумеем
также дать философское объяснение того воздействия кото-
рое оказывали, например, древнейшая греческая песня и та-
нец и древнегреческий театр и вообще оказывают музыка,
поэзия и танец на всех дикарей. И даже мы, хотя разум у нас
зачастую вытесняет чувство, а искусственный светский язык
заменяет звуки природы, разве мы не приближаемся к этому
языку природы, подражая ему громовыми раскатами красно-
речия, могучими ударами поэзии или волшебством театраль-
ного действия? Какие силы способны творить чудеса среди
собравшегося народа, пронзать сердца и увлекать за собою
души? Духовные речи и метафизика? Метафоры и фигуры?
Мастерство и холодные доводы? Многого можно добиться
этими средствами, но не всего, не слепого опьянения. А эта
высшая точка слепого опьянения — какими силами она дости-
гается? Совсем, совсем другими! Это звуки, жесты, простые
1 «Письмо о слепых в назидание зрячим».
J38
ритмы мелодии, внезапный поворот, приглушенный голос —
да разве все перечислишь? На детей, на народ с его непо-
средственным чувственным восприятием, на женщин, на лю-
дей, одаренных тонкой чувствительностью, на больных, оди-
ноких и несчастных они подействуют во сто крат сильнее,
чем подействовала бы сама истина, если бы с небес прозву-
чал ее тихий и нежный голос. Эти слова, этот тон, этот обо-
рот речи в каком-нибудь страшном романсе и т. п., которые
мы слышали впервые в детские годы, проникли к нам в душу,
а с ними вместе — великое множество оттенков: трепета, тор-
жества, страха, испуга, радости. Прозвучало слово, и сразу
же, словно толпа призраков из гроба, встают они в нашей
душе во всем своем мрачном величии. Они бросают свою тень
на чистый, ясный смысл этого слова, который может быть
понятен только без них. Слово исчезло, продолжает звучать
лишь тон сопровождавшего его ощущения. Мрачное чувство
одолевает нас, и даже самых легкомысленных бросает
в дрожь от страха — не перед мыслями, а перед слогами,
перед звуками детства. В том-то и заключались чары ора-
тора или поэта, что они снова сделали нас детьми. Не на раз-
думье, не на рассуждении покоилось это действие, а на про-
стом законе природы; «Звук нашего чувства должен на-
строить на такой же лад сочувствующее нам существо!»
Итак, если мы назовем эти непосредственные звуки чувств
языком, то я считаю его происхождение совершенно есте-
ственным. Оно носит не только не сверхчеловеческий, но, на-
против, явно животный характер. Здесь действует природный
закон чувствительного механизма.
Не скрою, однако, своего удивления по поводу того, что
философам, то есть людям, ищущим отчетливых понятий,
могла вообще прийти в голову мысль выводить происхожде-
ние языка из этих вызванных ощущениями криков. Разве не
ясно, что язык является чем-то совсем иным? Ведь все жи-
вотные, за исключением немой рыбы, выражают свои ощу-
щения в звуках, но никакое животное, будь то даже самое
совершенное, не имеет ни малейшего начала человеческого
языка в собственном смысле. Можно придавать этим крикам
любую форму, организовывать и облагораживать их как
угодно, но если к ним не присоединится разум, который по-
желает использовать эти звуки в определенных целях, то я
не вижу, каким образом на основе описанного выше закона
природы может возникнуть наш произвольный, человеческий
язык. Малые дети, подобно животным, выражают в звуках
свои ощущения, но разве они не учатся от взрослых людей
совсем иному языку?.. *
...Так как люди являются единственными известными нам
существами, обладающими даром речи, и именно этим они
139
отличаются от всех животных, то где же еще мы найдем
более верную дорогу к истине, как не в наших наблюдениях
над различиями между животными и людьми?
...Когда речь идет об одном небольшом клочке земли, на
котором человек трудится, пользуясь его плодами, то чувства
человека по своей остроте уступают чувствам животного, жи-
вущего на том же клочке, «но именно поэтому обладают пре-
имуществом большей свободы: раз они предназначаются не
для одной точки, то они становятся более универсальными,,
направленными на весь мир.
Если человек не обладает такой силой представления, ко-
торая концентрируется на изготовлении ячейки пчелиных со-
тов или паутины и, следовательно, уступает в этом смысле
животному в умении, то именно поэтому его кругозор шире.
Нет такого труда, в котором бы он достигал подобного совер-
шенства, но зато перед ним открываются широкие просторы,
чтобы пробовать свои силы и совершенствоваться во многих
областях. Каждая мысль его не есть .непосредственное созда-
ние природы, но именно поэтому она является его собствен-
ным созданием.
Хотя, таким образом, должен отпасть инстинкт, который
не был результатом слепого предопределения, а вытекал из
самой организации чувств и сферы представлений животного,
однако именно благодаря этому человек приобретает боль-
шую ясность восприятия. Он не падает, споткнувшись, как
слепой, и не остается лежать, где упал, он свободно стоит на
ногах, может сам искать себе сферу своего кругозора, может
охватить взглядом даже самого себя. Это уже не безупречный
механизм, заведенный руками природы. Он сам становится
для себя целью постоянной работы над собою.
Назовите как хотите всю эту расстановку сил человека:
разумом, рассудком, самосознанием и т. п. Для меня все
эти слова одинаково пригодны, лишь бы только вы не пони-
мали под ними какие-то обособленные силы или простое уве-
личение степени обычных животных сил. Это единая, целост-
ная организация всех человеческих сил вместе взятых, единое
хозяйство его чувственной и познающей, его познающей и во-
левой природы. Или, вернее, это единственная положительная
сила мышления, связанная с определенной телесной органи-
зацией, сила, которая у человека именуется разумом, а у жи-
вотных становится умением, которая у человека именуется
свободой, а у животных становится инстинктом. И различие
здесь не в степени или в количестве приложенной силы,
а в совершенно особом, своеобразном направлении и разви-
тии всех' сил. Можно быть последователем Лейбница или
Локка, можно быть Серчем или Леоваллем, идеалистом или
140
материалистом, но, договорившись о значении слов, »нельзя
Бе -признать, на основании всего сказанного, особого, свое-
образного характера человеческой природы, который состоит
именно в этом и ή·η в чем ином...
Если представить себе человека в присущем ему состоянии
-сознательности- и эту сознательность (рефлексию) действую-
щей свободно, то он уже создал язык. Ибо что такое рефлек-
сия и что такое язык?
Сознание характерно для человека и является существен-
ным свойством человеческого рода, как и язык и самостоя-
тельное его изобретение.
Иными словами, создание языка является для человека
столь же естественным, как и то, что он вообще является че-
ловеком! Давайте же раскроем оба эти понятия: рефлексия
ή язык.
Свою способность к рефлексии человек доказывает тогда,
когда сила его души действует столь свободно, что в целом
океане ощущений, который с грохотом катит свои волны
сквозь все его чувства, она спосо-бна, если можно так выра-
зиться, выделить и удержать какую-то одну волну, обратить
внимание именно на -нее и осознать это внимание. Он доказы-
вает свою способность к рефлексии, когда, созерцая неясные
образы, проплывающие, как сновидение, в его восприятии, он
может, в минуту бодрствования сосредоточиться и добро-
вольно задержаться на одном из них, подвергнув его ясному,
спокойному наблюдению и выделив приметы, подтверждаю-
щие, что ;перед ним находится именно данный -предмет, а не
какой-либо иной. Он доказывает, следовательно, свою спо-
собность к рефлексии, когда он может не только легко и сво-
бодно узнать все особенности, но и признать для самого себя
одну или несколько из них отличительными особенностями.
Из первого акта этого признания рождается отчетливое по-
нятие. Это—-первое суждение души.
Но чем было вызвано это признание? Одной приметой,
которую он должен был выделить и которая, будучи осознана,
ясно встала перед ним. В до'брый час! Давайте же крикнем
ему «heureka!» ! Эта первая осознанная примета была словом
души! Вместе с ним сотворен был язык человека!
Допустим, что перед его 'взором предстанет образ овцы.
Человек смотрит 'на нее не так, как другие животные. Не как
голодный, почуявший добычу волк и кровожадный лев, ко-
торые при этом только чуют и предвкушают пищу. Чувствен-
ность одолевает их! Инстинкт бросает их на овечку! Он
смотрит на овцу и не как охваченный вожделением баран,
1 «Эврика!» — «Найдено!» (грен.).
141
который чувствует в ней лишь предмет своего наслаждения
и которого, следовательно, тоже одолевает чувственность й
инстинкт бросает на овечку! Он смотрит на нее не как всякое
другое животное, для которого овца является светло-темным
пятном, безразлично плывущим мимо его взора, ибо ин-
стинкт обращает его внимание на что-то другое. Нет, человек
смотрит на овцу совсем иначе! Когда у него появляется по-
требность познакомиться с ней, ему не мешают никакие
инстинкты, чувственность не гонит его к ней и не удерживает
в отдалении от нее. Овца стоит перед ним точно такая, какой
он воспринимает ее своими чувствами: белая, кроткая, покры-
тая шерстью. Его душа учится сознавать и ищет примету.
И вот овца блеет. Примета найдена. В действие вступила
внутреннее чувство. Это блеяние, оказавшее самое сильное
впечатление на душу, победившее все остальные свойства,
которые 'были обнаружены зрением или осязанием, вырвав-
шееся вперед и 'глубже всего проникшее в душу, остается
в ней. Но вот овца вновь появляется перед человеком. Белая,
кроткая, покрытая шерстью. Душа смотрит, осязает, размы-
шляет, ищет »примету. Овца блеет, и тогда душа вновь узнает
ее. «Ага, — говорит ей внутреннее чувство, — так это опять
ты, Блеющая!» Она узнала ее по-человечески, ибо узнала и
назвала ее со всей отчетливостью, с помощью 'приметы.
А если бы не так отчетливо? Тогда не было бы восприятия,,
ибо раз нет чувственности и инстинкта, толкающего к овце,,
то нет, тем самым, той единственной живой и ясной силы, ко-
торая способна восполнить этот недостаток отчетливости. Ну,
а если была бы непосредственная отчетливость, без приметы?
Но так не может воспринимать внешний мир ни одно чув-
ственное существо, ибо оно должно постоянно подавлять -и даже
уничтожать другие посторонние чувства и постоянно позна-
вать разницу между двумя предметами при 'помощи третьего.
Итак, следовательно, с помощью приметы? А чем же это
«было иным, как не внутренним словом-приметой? Звук блея-
ния, воспринятый душой человека как характерный признак
овцы, стал, благодаря осознанию, именем овцы, даже если
язык еще никогда ранее не пытался пролепетать это имя.
Человек узнал овцу по блеянию: оно стало схваченным при-
знаком, заставлявшим душу отчетливо вспоминать об опре-
деленном понятии. Так что же это, как не слово? И что же
такое язык человека вообще, как не собрание подобных слов?
И даже если бы ему никогда не пришлось сообщать это по-
нятие другому существу, то есть даже если бы он никогда
не захотел или не мог передать ему собственным языком это
блеяние как осознанную им примету, все равно в глубине
души он повторил это блеяние, когда выбрал звук его как
памятный знак и снова повторял его при узнавании. Так
был изобретен язык! Это произошло столь же естественным
142
и необходимым для человека образом, сколь естественно то^
что человек является человеком.
Большинство писавших о происхождении языка искали
его истоки не в той единственной области, где они могли быть,
найдены, и многие поэтому, мучась неясными сомнениями, за-
давали себе вопрос: «Не следует ли искать их где-нибудь,
в человеческой душе?» Их искали .в лучшей способности-
артикуляции, свойственной органам речи человека, словно и:
орангутанг мог бы создать язык, если бы обладал такими же
органами. Их »искали в звуках, 'порождаемых страстью,
словно не все животные могут издавать эти звуки. А разве*
какое-нибудь животное создало из них язык? Был выдвинут
принцип подражания природе — следовательно, и ее звукам,,
словно "можно что-либо построить -на подобной слепой наклон-
ности и словно обезьяна, отличающаяся именно такой на-
клонностью, или дрозд, так хорошо подражающий звукам»,
создали язык. Наконец, большинство выдвигало предположе-
ние о существовании простого соглашения, договора. Реши-
тельнее всех -против этого возражал Руссо. И действительно,,
можно ли придумать более темное, более запутанное понятие,,
чем естественный договор в отношении языка? Эти разнооб-
разные ложные взгляды, высказывавшиеся сторонниками
человеческого происхождения языка, привели в 'конце концов*
к тому, что почти повсеместно возобладала противоположная
точка зрения, но я 'надеюсь, что это· (положение не сохранится.
Дело -не в строении рта человека,-не оно создает язык, ибо даже-
будучи. весь век свой немым, человек, оставаясь человеком,
мыслил, и язык тем самым покоился в его душе! Дело не в поро-
ждаемых чувством криках, ибо язык был сотворен не одушевлен-
ной машиной, а сознающим существом! Не в принципе подража-
ния, заложенном в душе! Возможные случаи подражания
природе — не более как одно из средств для единственной-
цели, которая будет пояснена в дальнейшем. И уж меньше
всего может идти речь о сговоре, о добровольном соглаше-
нии общества: ведь даже дикарь, одинокий дикарь, * живу-
щий в лесу, и тот должен был бы создать себе язык, даже
если бы он и не говорил на нем никогда. Язык явился резуль-
татом соглашения, которое душа его заключила сама с собою,
и это соглашение было столь же неизбежно, как то, что чело-
век был человеком. Если другим непонятно, как душа чело-
века могла создать язык, то (мне непонятно, как душа че-
ловека могла быть тем, чем она является, и в силу одного
этого не создать себе по необходимости язык, независимо от
помощи органов речи или человеческого общества...
Итак, мы установили тот оптический фокус, в котором из
небесной искры Прометея возгорелся огонь человеческой
души: вместе с первой приметой появился язык. Но каким
образом первые приметы стали элементами языка?
143::
ЗВУКИ
Пример со слепым, * которому Чизлдин1 вернул зрение,
показывает, как медленно развивается это чувство, с каким
трудом душа приобретает понятия пространства, формы и
цвета, 'сколько попыток должно 'быть 'предпринято и какое
искусство измерения должно быть достигнуто, чтобы со всей
•отчетливостью пользоваться подобными приметами. Итак,
зрение не было наиболее подходящим чувством для языка.
К тому же зрительные восприятия были холодны и немы.
С другой стороны, восприятия более грубых чувств были
слишком неясными и слишком сливались друг с другом, так
что, согласно самой природе, либо ничто вообще, либо только
.слух мог стать нашим первым учителем языка.
Вернемся к примеру с овцой. На единой большой картине
природы образ этого животного предстает перед взором со
всеми своими подробностями, очертаниями и красками. Как
много надо при этом различать и с каким трудом! Все при-
меты искусно переплелись друг с другом, стоят рядом, и все
же не поддаются выражению при помощи речи! Кто может
словами передать образы предметов, звуками передать кра-
ски? Человек ощупывает овцу рукою: осязание дает ему
более надежные и полные ощущения — и в то же время слиш-
ком полные, смутные и неотделимые друг от друга. Кто же
может высказать то, что он осязает? Но прислушайся: овца
'бЛеет! И вот с этого красочного полотна, на котором так
трудно отделить одно от другого, сама собою срывается одна
примета, глубоко и отчетливо проникая в душу. «Ага! — го-
ворит несовершеннолетний ученик, как тот прозревший сле-
пой у Чизлдина,—теперь-то я тебя всегда узнаю —ты ведь
блеешь!» Горлица воркует! Собака лает! Вот три слоза,
появившиеся в результате опыта вместе с тремя отчетливыми
понятиями: последние становятся достоянием его логики,
а первые входят в его словарь. Разум и язык сделали сообща
свой первый робкий шаг, « природа встретила их на пол-
пути—с помощью слуха. Она заставила примету не только
прозвучать, но и проникнуть в глубину души! Раздался звук!
Душа уловила его, и вот в ней зазвучало слово!
Итак, человек, как существо, наделенное слухом и внима-
нием, самой природой создан для языка, и даже слепой или
немой, если только он не глух и не бесчувствен, должен был
бы, как это очевидно, создать язык. Поселите его удобно и
спокойно на каком-нибудь одиноком острове, и природа от-
кроется ему через слух: ему покажется, что с ним говорят ты-
1 Philos. Transact. Abridgment. См. также «Анатомию» Чизлдина,
«Оптику» Смита-Кэстнера, «Естественную историю» Бюффона, «Энцикло-
педию» и слово «aveugle» в десяти маленьких (французских словарях.
144
сячи существ, которых он <не может увидеть, и если даже уста
И очи его останутся навеки замкнуты, душа 'не останется
совсем безъязыкой. Листва деревьев принесет прохладу бед-
ному отшельнику, струящийся у ног ручеек убаюкает его,
а св'истящий ветерок освежит его лицо. Блеющая овца даст ему
молоко, журчащий 'поток — воду, а шелестящее дерева —
плоды. У него будет достаточно интереса, чтобы знать своих
благодетелей, и достаточно потребности, чтобы даже без
помощи гл:аз и языка называть их в своей душе. Дерево
будет называться «Шелестящим», ветерок — «Свистящим»,
а поток — «Журчащим»! И вот уже составлен маленький
словарь, а органы речи наложат на него свою печать.
Но как малы и необычны должны быть те представления,
которые этот калека будет связывать с подобными зву-
ками! 1
Предоставьте человеку полную свободу ощущений. Пусть
он видит, и осязает, и чувствует сразу все существа, чыи речи
слышит его ухо. О, небо! Какая это широкая аудитория для
изучения понятий и языка! Не придется тогда с помощью опер-
ных машин спускать Меркурия и Аполлона с облаков — вся
многозвучная божественная природа станет для человека му-
зой-вдохновительницей и учительницей языка! Она проведет
мимо -него все свои создания, у каждого будет на языке его
имя, которое они сообщат своему земному богу, как его вас-
салы и слуги. Словно дань, они впишут в книгу его владыче-
ства свои слова-приметы, чтобы в будущем, услышав эти име-
на, он вспоминал их, звал к себе и наслаждался ими. Я опра-
шиваю вас, была ли -мысль о том, что «именно разум, давший
человеку власть над природой, явился отцом живого языка,
который он перенял у звучащих существ, (превратив их звуки
в отличительные .приметы», была ли эта прозаическая мысль,
спрашиваю я, когда-либо облечена в более благородную и
прекрасную форму, чем в словах, сказанных в истинно во-
сточном духе: «Господь бог привел всех животных полевых и
всех птиц небесных к человеку, чтобы видеть, как он наречет
их, ή чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и
было имя ей». * Можно ли было в духе восточной поэзии
яснее, чем в этих словах, выразить мысль, что человек сам
себе создал язык, сотворил его из' звуков живой природы,
превращенных в приметы, осознанные его могучим разумом!
А именно это я и хочу доказать.
Если бы язык был сотворен ангелом или небесным духом,
то все строение языка являлось бы отпечатком образа мышле-
1 Дидро во всем своем письме «О глухих и немых» почти не ка-
сается этого основного вопроса, останавливаясь лишь на инверсиях и на
сотне других мелочей.
10 Зак. 291. Гердер 145
ния этого духа. И откуда бы мог еще сложиться образ ангела
перед моим взором, как не из его а'нгельских, неземных черт?
Но разве мы видим это где-нибудь в нашем языке? И вся
постройка, и план, и даже фундамент этого дворца выдают
его человеческую природу!
В каком языке небесные, духовные лонятия, то есть такие
понятия, которые наш мыслящий дух выдвигает на первый
пла(н, действительно занимают 'первое место? Разве различ-
ные виды подлежащего, notiones communes,l эти зерна по-
знания, точки, вокруг которых все вертится и к которым все
возвращается, — разве они, эти живые точки, составляют
основные элементы языка? Подлежащее должно было бы,
естественным образом, предшествовать сказуемому, а простое
подлежащее — сложному, действующее — действию, сущест-
венное и известное — 'неизвестному и случайному. Да, к каким
только заключениям ни приходишь на основании рассужде-
ний, однако в наших «первичных языках мы -наблюдаем как
раз обратное. Здесь обнаруживается не небесный дух, а вни-
мающее, прислушивающееся существо. Ибо глаголы являются
первоосновами языка.
Звучащие глаголы? Действия, а не то, что действует?
Сказуемые, а не "подлежащие? Быть может, -небесный дух и
испытал бы при этом чувство стыда, но человек, это чувствен-
ное создание, — ни в коем случае. Ибо что же еще, мы уже
видели, способно было взволновать его более глубоко, как не
эти звучащие действия? И чем же, следовательно, является
весь строй языка, как не формой развития его собственного
духа, историей его собственных открытий? Божественное про-
исхождение языка не объясняет ничего и не оставляет ника-
ких возможностей для объяснения; это, как Бэкон сказал
в другом случае, — священная весталка: она посвящена богу,
но бесплодна, -набожна, но бесполезна·!
.. Итак, первый словарь был составлен из звуков всего мира.
В звучании каждого существа слышалось его имя, »месте
с которым душа человека запечатлевала и образ данного
предмета, связывая мысль о .нем с его отличительным при-
знаком. Что же удивляться, если эти звучащие междометия
стали первыми словами, и потому, например, восточные языки
полны глаголов, составляющих основные корни языка. *
Мысль о самом предмете стояла еще на распутье между дей-
ствующим и действием, и звук должен был обозначить пред-
мет, который этот звук издавал. Поэтому имена появились из
глаголов, а не глаголы из имен. Ребенок 'называет овцу не
овцой, а блеющим животным, то есть превращает меж-
дометие в глагол. Этот факт объясняется постепенностью
1 Общие понятия (лат.).
U6
развития человеческого восприятия, а не логикой высшего
духа.
Все древние, дикие языки носят на себе отчетливые следы
такого происхождения, и в философском словаре древних во-
сточных языков любое корневое слово в сочетании со всей
семьей родственных слов, в случае их здравого истолкования
и верного освещения их истории, составило бы настоящею
летопись движения человеческого духа, историю его раз-
вития, а такой словарь в целом явился бы блестящим под-
тверждением творческих способностей человеческой души.
Явился бы он таким же подтверждением божественного
происхождения языка и обучения языку? В этом я сомне-
ваюсь.
Когда вся природа звучит, то чувственному человеку ка-
жется, вполне естественно, что она живет, говорит, действует.
Дикарь, глядя на высокое дерево с его великолепной верхуш-
кой, восхищался, что вершина шелестела. Вот оно, творящее
божество! И, преклонив колена, дикарь 'начинает молиться!
В этом вы видите историю чувственного человека, таинствен-
ную нить превращения глаголов в имена и самый легкий луть
в сторону абстракции. Североамериканским дикарям, 'напри-
мер, до сих пор еще все представляется одушевленным —
каждый предмет имеет своего гения или духа. А что у греков
и у древних восточных народов дело обстояло точно таким
же образом, это подтверждают их древнейшие словари и
грамматики — настоящий Пантеон, каким <и казалась при-
рода творцу языка, истинное царство живых, действующих
существ!
Но когда человек стал соотносить ©се с самим собой,
когда ему стало казаться, что все говорит с ним, когда и на
самом деле вое действовало или на «пользу, или во вред ему,
когда, наконец, он сам стал участвовать в этих действиях или
противиться им, любил »или ненавидел, и все представлял
себе тто-человечески, то отпечаток этого человеческого должен
был отразиться и на первых именах! И они выражали любовь
или -ненависть, проклятие или 'благословение, покорность или
противоборство! В частности эти чувства породили артикли.
Благодаря последним все предметы очеловечились, олицетво-
рились, стали существами женского или мужского пола.
Всюду появлялись боги или богини, действующие существа,
злые или добрые! Бушующий ураган или ласковый эфир, про-
зрачный источник или могучий океан — вся ήχ мифология
содержится в глаголах и именах, этой золотоносной жиле древ-
них языков, и древнейший словарь был таким звучащим Пан-
теоном, огромном местом сборища обоих полов, каким-при-
рода представлялась -первому творцу языка. Таким образом,
язык древ'них диких народов, тюдобно их мифологии, может
10* Н7
служить руководством для изучения причудливых путей чело-
веческой фантазии и человеческих страстей. Всякая семья
слов окружает основное чувственное понятие, подобно ку-
старнику, разросшемуся вокруг священного дуба, и на дубе
этом все еще видны -следы того впечатления, которое живу-
щая в нем дриада производила на ее создателя. Все чувства
срастаются в нем в единое целое. То, что движется,, — живет,
то, что звучит, — разговаривает, и так как оно может звучать
либо на 'пользу тебе, либо во вред, то оно может быть либо
твоим другом, либо врагом. Это бог или богиня — ими дви-
жут страсти, как и тобою!..
...Таким образом, приобретает живой, наглядный смысл то,
что так часто утверждали древние и так бессмысленно, повто-
ряли в 'новое время, а именно, что «'поэзия древнее прозы»! *
В самом деле, чем был первоначальный язык, как не собра-
нием элементов поэзии? Он был подражанием звучащей, дей-
ствующей, двигающейся природе! Он был составлен из вос-
клицаний всех существ и оживлен междометиями, рожден-
ными из чувств человека! Этот .природный язык наделенных
разумом существ был облечен в звуки и образы действия
страстей и живого творчества! Его словарь был словарем
души и являлся одновременно мифологией и чудесной эпо-
пеей действий и речей всех существ! Иными словами — поэти-
ческим вымыслом, полным страсти и интереса! Так что же
это такое, как «не поэзия?
Далее. Согласно традиции древности, первым языком че-
ловеческого рода было пение, и многие наивные любители
музыки полагали, что этому пению люди научились у птиц.
Но мало ли что полагают! Мне понятно, откуда берется мело-
дия в больших и внушительных курантах с целым механиз-
мом зубчатых колес, тугих -пружин и тяжелых гирь, но как
можно посадить в такой футляр человека на заре его суще-
ствования, с его чувствительными пружинами, с его потреб-
ностями, сильньими чувствами и почти слепо скованным вни-
манием, наконец с его еще не развитой глоткой, и требовать
от него, чтобы он, передразнивая соловья, учился у этой
птицы пению, а тем самым и языку? Сколько бы ни «писалось
об этом во многих историях музыки и поэзии, это остается
для меня непонятным. Конечно, можно было бы себе пред-
ставить язык, основанный на музыкальных звуках (до такой
мысли дошел, например, Лейбниц!),1 но для первых людей,
для людей природы, такой слишком искусный и тонкий язык
был невозможен. У всех живых существ каждый предмет
имеет свой особый голос и язык, соответствующий этому го-
лосу. Язык любви — это сладкое пение в соловьином гнезде.
1 «Философские труды», изданные Распе, стр. 232.
Ί48
рычание в пещере льва, похотливый крик зверя в лесной чаще
и отчаянное мяуканье кошки в темном углу. Каждый вид
животных говорит на своем языке, говорит не для человека,
а для себя, и для него этот язык столь же приятен, как 'песни
Петрарки, посвященные его возлюбленной Лауре! Итак, на-
сколько невероятно, что соловей поет, чтобы дать, как это
воображают 'некоторые, образец пения человеку, столь неве-
роятно и то, что человек, желая создать себе язык, повторял
соловьиные трели. И как чудовищно представление о таком
человеке-соловье, живущем в пещере или охотящемся
в лесу!
Следовательно, если первым языком человека было пение,
то пение это было для него настолько же естественно и на-
столько соответствовало его органам и природным инстинк-
там, насколько, пение соловья—естественно для этой птицы,
которую можно было бы назвать летающей глоткой. Именно
таким и был наш звучащий язык. Кондильяк, Руссо и другие
были уже на полпути к этой .мысли, когда они выводили
просодию и 'песенный характер древнейших языков из кри-
ков, порождаемых чувством. И действительно, чувство, без
сомнения, оживляло и возвышало первые звуки; но из одних
только звуков, рождаемых чувством, никогда не мог возник-
нуть человеческий язык, каким все же было это пение. Таким
образом, здесь еще не хватало чего-то, что О'пределило его
появление, а именно называния каждого существа по имени
в соответствии с его языком. Вся природа пела и звучала, и
пение человека представляло собою целый хор из всех этих
голосов, поскольку их требовал его разум, схватывали его
чувства и могли выразить его органы. Это было пение, но не
Ήecня соловья, не 'музыкальный язык Лейбница и не простой
крик, рождаемый чувствами животного, а изображение языка
всех существ в рамках естественной гаммы человеческого
голоса!
- Даже позднее, когда язык стал более правильным, едино-
образным и упорядоченным, он все еще оставался своего рода
пением, как это доказывает акцентирование в языках многих
диких народов, а то, что из этого пения, впоследствии усовер-
шенствованного и облагороженного, произошли древнейшая
поэзия и музыка, теперь уже доказано многими. Английский
философ, * занявшийся уже в нашем столетии вопросом о по-
добном -происхождении поэзии и музыки, мог бы ближе всех
подойти к истине, если бы он не оставил дух языка вне пре-
делов исследования и не был бы так верен своей системе,
которая ограничивается изучением поэзии и музыки в точке
их соприкосновения (то есть там, где ни та, ни другая не
могут проявить себя в полной мере), а не исследует происхо-
ждение обеих из целостной природы человека. Заметим
149
также, что так как лучшие памятники древней поэзии яв-
ляются остатками этой эпохи песенного языка, то в древней-
ших стихах, в греческих трагедиях и образцах ораторского
искусства 'было вычитано огромное количество мест, якобы
свидетельствующих об ошибках, злоупотреблениях и безвку-
сице. А как много мог бы сказать по этому поводу философ,
который, отправившись к диким племенам, еще живущим
в наше время, научился бы у них тому, как надо читать эти
памятники! А то ведь обычно видят только обратную сторону
узора, вытканного на ковре! Disiecti membra poetae!l Но я
боюсь потеряться в необозримых 'просторах этого огромного
поля, если увлекусь частными замечаниями по вопросу
о языке. Итак, вернемся на дорогу, по которой только что
созданный язык делал свои первые шаги!
Нам понятно, как из звуков, превращенных разумом
в приметы, возникали слова, но ведь не все предметы звучат.
Откуда же душа брала для них слова-приметы, которыми
она могла бы их называть? Откуда появилось у человека
искусство превращать в звуки то, что не было звуками? Что
общего имеют цвет или округлость с теми названиями,
которые они породили, как овца порождает слово «блея-
ние»?..
...Как же мог человек, предоставленный своим собствен-
ным силам, создать язык в тех случаях, когда его звуки не
подсказывались звуками природы? В какой связи находятся
зрение и слух, цвет ή слово, запах и звук?
Они существуют не сами по себе в предметах как каче-
ства этих предметов. Они являются в нас самих как чув-
ственные ощущения, и разве как таковые не сливаются все
воедино? Мы представляем собою одно мыслящее sensorium
commune,2 лишь испытывающее прикосновение с различных
сторон. И это объясняет все. . ;
В основе всякого восприятия лежит чувство, которое свя-
зывает самые разнообразные ощущения столь тесными, креп-
кими, невыразимыми узами, что из этой связи рождаются
самые удивительные явления. Мне известен не один пример,
когда некоторые люди (может 'быть, конечно, под влиянием
какого-либо полученного в детстве впечатления), под непо-
средственным, мгновенным наплывом чувств, обязательно
связывали с одним каким-нибудь звуком какой-нибудь один
цвет, с одним определенным явлением — одно какое-то неяс-
ное чувство, при этом не имеющее, с точки зрения холодного
рассудка, никакого родства с этим явлением. Да и кто же
1 Разорванные члены поэта (лат.). — Г о ρ а ци й, Сатиры, I, 3, 103—
104. ;
2 Общее чувствилище (лат.).
150
может сравнивать звук и цвет, явление и чувство? Мы часто,
связываем таким образом самые различные ощущения, од-
нако замечаем это лишь при наплыве чувств, лишающем нас
обычного равновесия, в состоянии болезненного бреда или
в тех случаях, когда они становятся особенно заметны.
Обычно бег наших мыслей совершается так быстро, волны
йаших ощущений с таким неясным шумом сливаются друг
с другом, в нашу душу сразу входит так много разного, что
перед лицом большинства идей мы словно дремлем на берегу
журчащего источника и хотя слышим при этом шум каждой
волны, но слышим его так смутно, что сон в конце концов
лишает нас всякого отчетливого чувства. Если-бы мы могли
на миг остановить цепь наших мыслей и посмотреть, как. со-
единяется каждое звено, — какие удивительные вещи пред-
стали бы нашему взору, какие странные аналогии самых
различных чувств, которыми зачастую руководствуется
в своих действиях наша душа! Нам показалось бы, что все
мы — существа, хоть и наделенные разумом, но в то же
время подобные тому роду сумасшедших, в голове которых
мысли разумные, но ассоциации самые непонятные и неле-
пые!
У чувственных существ, ощущающих одновременно при
помощи различных чувств, подобное скопление идей неиз-
бежно, и'бо чем же являются все эти различные чувства как
не разновидностями представлений одной положительной
душевной силы? Мы различаем их, но опять-таки при помощи
ощущений, то есть различаем разновидности представлений
при помощи разновидностей представлений. С большим тру-
дом мы приобретаем способность разделять их в употреблении,
но в известной мере они все еще действуют сообща. Всякое
разделение ощущений человека, которое проводят Бюффон,
Кондильяк и Бонне, — это не более как абстракции: ведь
философу нужно бросить одну нить ощущений, чтобы просле-
дить другую, в -природе же все эти нити составляют единую
ткань! Чем менее ясны наши чувства, тем более вливается
одно в другое; чем меньше мы научились пользоваться од-
ними чувствами без других, пользоваться умело и созна-
тельно, тем меньше в них ясности! Об этом не следует забы-
вать, говоря о первых шагах языка. Ему помогла ребяческая
неопытность рода людского!
Человек вошел в (мир. Какой океан обрушился на него
сразу своими бурными волнами! С каким трудом учился он
различать, учился познавать свои ощущения, с каким трудом
овладевал умением пользоваться каждым из них в отдельно-
ности! Зрение — это самое холодное ощущение, и если бы оно-
всегда -было таким холодным, далеким и отчетливым, каким
оно стало для нас теперь благодаря »многолетнему упражне-
151
нию, то как могли бы люди превращать зримое в слышимое?
Но природа позаботилась о том, чтобы проложить более ко-
роткую дорогу, ибо даже зрение, как об этом свидетель-
ствуют дети и прозревшие слепые, вначале было лишь осяза-
нием. Большинство зримых предметов движется; многие из
них звучат при движении, а если этого не происходит, то они
в своем первоначальном состоянии находятся как будто
ближе к глазу и, следовательно, будучи расположены в непо-
средственной -близости от него, могут быть осязаемы. Осяза-
ние же очень близко к слуху, и его обозначения, например
«твердый», «грубый», «мягкий», «пушистый», «бархатистый»,
«волосатый», «жесткий», «гладкий», «ровный», «щетинистый»
и т.: п., которые, как это мы видим, не проникают в глубину
и относятся лишь к поверхности предметов, издают как бы
осязаемые звуки; душа, обуреваемая целым потоком ощу-
щений,, почувствовала потребность создать слово, и, устре-
мившись за ним, она, возможно, схватила слово, подсказан-
ное соседним, родственным чувством. Так появились слова
для всех чувств и даже для этого, для самого холодного.
Молния, например, не звучит. Эта вестница полуночи только
Разверзнет гневно небеса и землю,
И раньше, чем воскликнем мы: — «Смотри!» —
Ее уже поглотит бездна мрака,*
а потому, если ее нужно выразить в слове, то последнее,
естественно, создается при посредстве другого чувства, и уху
передается испытываемое глазом ощущение ошеломляющей
внезапности: «Blitz!» l Слова «Duft», «Ton», «süß», «bitter»,
«sauer»2 и т. п. — все эти слова издают как бы осязаемые
звуки, * ибо чем же были первоначально все чувства, как не
чувством осязания? А то, что осязание, как и всякое чувство
вообще, выражается в звуке, это мы уже приняли в первом
разделе данной работы как непосредственный естественный
закон чувствующего механизма, и нет необходимости снова
возвращаться к этому вопросу.
Таким образом, все трудности сводятся к следующим
двум уже доказанным, бесспорным положениям;.
1. Поскольку всякое восприятие является не чем иным,
как одной из разновидностей душевных представлений, то
душе достаточно лишь иметь отчетливое представление, а
с ним вместе примету, с приметой же она получит и внутрен-
ний язык.
2.Так как всякое ощущение, особенно в пору детских лет
1 «Молния!» (нем).
2 «Запах», «тон», «сладкий», «горький», «кислый» (нем.).
152
человечества, является не чем иным, как одной из разновид-
ностей чувства души, а всякое чувство, в силу закона ощу-
щений животного организма, имеет свой непосредственный
звук, то достаточно лишь довести это чувство до состояния
той отчетливости, которой отличается примета, и тогда по-
явится слово для внешнего языка...
...Поступательное развитие языка благодаря разуму и
разума благодаря языку становится наиболее очевидным,
когда язык уже совершил несколько шагов, когда в нем уже
существуют явления искусства, например стихи, когда уже
изобретено письмо, когда один за другим появляются и раз-
виваются различные виды и способы письма. Тогда уже не
может быть сделан ни один шаг, не может быть создано ни
одно новое слово, не может 'быть введена в оборот ни одна
удачная форма, без того чтобы на всем этом не лежал отпеча-
ток человеческой души. Тогда стихи приносят в язык ритмы,
отбор наиболее ярких слов и красок, движение и тюлет обра-
зов, история — различия во времени, точность выражения, и,
наконец, ораторы — окончательную закругленность речевого
периода. Но так как ранее, до этого вклада, в языке ничего
подобного не было, но все могло вноситься и вносилось в него
лишь душою человека, то где же можно установить границы
этого развития, этого плодоносного творчества? О каком мо-
менте .можно сказать: именно тогда, а никак не раньше на-
чала действовать душа человека? И если она сумела сотво-
рить самое утонченное и самое трудное, то разве ей не
под силу было и самое легкое? Если она сумела свершить,
то разве она не в состоянии была сделать первые попытки,
не в состоянии была начать? (Ибо чем же иным было
начало, как не созданием одного-единственного слова
как знака разума, и душа, слепая и немая в своей глу-
бине, должна была это сделать, коль скоро она обладала
разумом.
Все сказанное 1мною доказывает, как мне кажется, доста-
точно ясно, что язык мог быть изобретен людьми. С внутрен-
ней стороны это доказывается особенностями души человека,
а с внешней — организацией языка, а также аналогичными
особенностями всех языков у всех народов — как в отноше-
нии их составных элементов; так и во всем великом поступа-
тельном развитии языка в связи с развитием разума.
Поэтому тот, кто не отказывает человеку в разуме или,
по крайней мере, знает, что такое разум (а это, собственно
говоря, одно и то же), кто размышлял когда-либо с фило-
софской точки зрения над элементами языка, кто окинул,
к тому же, оком наблюдателя особенности языков нашей
земли и их историю, у того ни на миг не появится со-
мнений, если даже я не прибавлю ни слова к сказанному
выше.
153
Рождение языка в душе человека демонстрировалось здесь
столь же очевидным образом, как при любом другом фило-
софском доказательстве, а внешние аналогии всех времен,
языков и народов придают этому доказательству такую сте-
пень вероятности, какая возможна лишь в отношении бес-
спорных исторических «фактов...
ЭСТЕТИКА
И
ТЕОРИЯ
ИСКУССТВА
КРИТИЧЕСКИЕ ЛЕСА,
или
РАЗМЫШЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НАУКИ
О ПРЕКРАСНОМ И ИСКУССТВА,
ПО ДАННЫМ НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕРВЫЙ ЛЕСОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ «ЛАОКООНУ»
ГОСПОДИНА ЛЕССИНГА
...Ничто вообще не дает нам права предполагать, что фи-
лософ, который намеревается раскрыть различие между 'поэ-
тическим и изобразительным искусством, тем самым берется
полностью разъяснить всю сущность поэтического искусства.
Господин Лессинг, сравнивая поэзию с живописью, показы-
вает нам, чем поэзия отличается от живописи; но чтобы
увидеть, что же она представляет собою, в чем ее основная
сущность, надо было бы поставить ее для сравнения рядом
со всеми родственными искусствами и науками, как-то: с му-
зыкой, танцем и ораторским искусством, и с философской
точки зрения разобраться в этих различиях.
«Живопись действует в пространстве; поэзия — во времени;
первая — посредством фигур и красок; вторая — посредством
членораздельных звуков. Следовательно, тела составляют
предмет живописи, действия составляют -предмет поэзии».
Итак, господин Лессинг дошел в своих рассуждениях до
этого вывода. Что, если философствующий музыкант продол-
жит его мысли: подчиняются ли поэзия и музыка одним и тем
же законам, поскольку они обе действуют во времени? Как
поступает первая, когда она воспевает действие? А знаток ри-
торики, в свою очередь, продолжит: всякая речь может описы-
вать действие — как же поступает поэзия? И как это происхо-
дит во всех ее видах и разновидностях? И, наконец, только
совокупность всех этих теорий дает нам сущность поэзии.
Но и при настоящем одностороннем сравнении (мне все
время кажется, что в определении существа поэзии чего-то
не хватает. Я снова обращаюсь к Лессингу там, где он обе-
щает объяснить ^предмет из его первопричины.
157
Он кончает словами: «Если справедливо, что живопись
в своих подражаниях действительности употребляет приемы
и средства, совершенно отличные от приемов и средств поэ-
зии, а именно: живопись — тела и краски, взятые в простран-
стве, поэзия—членораздельные звуки, воспринимаемые во
времени; если бесспорно, что средства выражения должны
находиться в тесной связи с выражаемым, то отсюда следует,
что знаки выражения, располагаемые друг подле друга,
должны обозначать только такие предметы или такие
их части, которые и в действительности расположены друг
подле друга; наоборот, знаки выражения, следующие друг за
другом, могут обозначать только такие предметы или такие их
части, которые и в действительности следуют друг за другом.
Предметы, которые сами сосуществуют или части которых
существуют друг 'подле друга, называются телами. Следова-
тельно, тела с их видимыми свойствами и составляют пред-
мет живописи.
Предметы, которые сами или части которых следуют одни
за другими, называются действиями. Итак, действия соста-
вляют собственно предмет поэзии». *
Быть -может, вся эта цепь умозаключений «была бы неоспо-
рима, если бы она исходила из прочного исходного положе-
ния; итак, вернемся к нему снова: «Если справедливо, что
живопись в своих подражаниях действительности употребляет
приемы и средства, совершенно отличные от приемов и
средств поэзии»,—это во всяком случае справедливо!
«А именно: живопись — тела и краски, взятые в простран-
стве, 'поэзия — членораздельные звуки, воспринимаемые во
времени...» Уже не столь определенно! — ибо членораздель-
ные звуки для поэзии не то, что тела и краски для живописи!
«Если бесспорно, что средства выражения должны нахо-
диться в тесной связи с тем, что они выражают...» Именно
здесь всякое сравнение отпадает. Членораздельные звуки
в поэзии как раз не находятся в столь тесной связи с тем,
что они обозначают, как тела и краски в живописи. Могут ли
два столь отличных друг от друга предмета дать нечто третье,
первооснову для определения различия, для определения
сущности обоих искусств?
Знаки, которыми 'пользуется живопись, естественны; связь
знаков с обозначаемым предметом основана на свойствах
самого изображаемого предмета. Средства выражения поэзии
произвольны; членораздельные звуки не имеют ничего общего
с предметом, который они обозначают; это лишь общеприня-
тые условные знаки. По природе своей, как .мы видим, они
совершенно отличны друг от друга, и tertium comparationis l
исчезает.
1 Общий признак сравниваемые предметов (лат.).
158
Живопись целиком действует в пространстве, через сосу-
ществование, с помощью знаков, которые показывают 'пред-
мет естественным образом. В поэзии же последовательность
не является тем, чем в живописи—сосуществование в про-
странстве. То, что в живописи основано на сосуществовании
друг подле друга предметов или их частей, никак не основано
в поэзии на 'последовательности членораздельных звуков. По-
следовательность употребляемых ею знаков это лишь conditio
sine qua non l и, тем самым, лишь известное ограничение;
тогда как сосуществование знаков, которыми пользуется жи-
вопись, составляет природу этого искусства и основу живо-
писной красоты. Хотя поэзия воздействует посредством сле-
дующих друг за другом звуков, то есть слов, все же эта
последовательность звуков, или следующих друг за другом
слов, 'не является основным средством ее воздействия.
Чтобы яснее подчеркнуть эту разницу, необходимо сопо-
ставить друг с другом два искусства, воздействующие есте^
ственными средствами выражения: живо'пись и (музыку. Здесь
я могу с уверенностью сказать: живопись воздействует исклю-
чительно с помощью пространства, также как музыка—с'по-
мощью времени, В одной из них основой прекрасного является
сосуществование красок и фигур друг подле друга, в другой —
основой благозвучия является последовательность звуков.
В одном случае удовольствие, вызываемое искусством, его воз-
действие основано на зрительном впечатлении от сосуществую-
щих предметов: в другом случае средством музыкального воз-
действия является последовательность, связь и смена звуков.
Итак, я продолжаю свою мысль: живопись вызывает в нас пред-
ставления о последовательности во времени лишь с помощью
иллюзии; поэтому ей не следует возводить это побочное дей-
ствие в главное, пытаясь воздействовать, как 'подобает живо-
писи, красками и, вместе с тем, во временной последователь-
ности: иначе исчезнет сама сущность этого искусства и про-
падет все вызываемое им впечатление. Свидетельством этому
являются опыты с клавиатурой красок.* И напротив —му-
зыка, действующая исключительно с помощью временной
■последовательности, вовсе и не должна ставить себе основной
целью музыкальное изображение предметов, сосуществующих
в пространстве, как это часто делают неумелые дилетанты.
Пусть первая не выходит за рамки сосуществующего, а вто-
рая— за рамки временной последовательности, так как и то
и другое является их.' естественным средством выражения.
Но в области поэзии дело обстоит иначе. Здесь естествен-
ные знаки выражения, как-то: буквы, звуки, их последова-
тельность, никак или почти никак не определяют собой поэти-
ческого воздействия: здесь главное —смысл, по произволь-
Непременное условие (лат.).
159
ному согласию вложенный в слова, душа, которая живет
в членораздельных звуках. Последовательность звуков не
является для поэзии столь основополагающей, как для живо-
писи сосуществование красок; потому что «средства выраже-
ния» не находятся в одном и том же соотношении «с обозна-
чаемым ими предметом.
Основа эта достаточно шаткая: каково же будет само зда-
ние? Прежде чем перейти ко второму, попытаемся иным об-
разом укрепить 'первое. Живопись действует в пространстве
и посредством искусственного изображения этого простран-
ства. Музыка и все энергические искусства * действуют не
только во временной последовательности, но и через нее, по-
средством искусственного чередования звуков во времени.
Нельзя ли свести и сущность поэзии к подобному основному
понятию, поскольку ее воздействие на нашу душу совер-
шается также с 'помощью произвольных знаков, через смысл,
вложенный в слова? Назовем средство этого воздействия си-
лой; и, подобно тому как в метафизике существуют три основ-
ных понятия: пространство, время и сила, и как все матема-
тические науки могут быть сведены к одному из этих поня-
тий,—так и мы попытаемся в теории изящных наук и
искусств высказать следующее положение: искусства, кото-
рые создают предметы, воздействуют в пространстве; искус-
ства, которые действуют с 'помощью энергии, — во времени;
цзящные науки, * или, вернее, единственная изящная наука,
поэзия, воздействует посредством силы. Посредством силы,
которая присуща словам, силы, которая хотя и передается
через наш слух, но воздействует непосредственно на душу.
Именно эта сила и есть сущность поэзии, а отнюдь не сосу-
ществование или последовательность во времени.
Теперь встает вопрос: какими -предметами может сильнее
-всего тронуть душу человека эта поэтическая сила — предме-
тами, сосуществующими в пространстве или следующими друг
за другом во времени? Или, чтобы выразиться нагляднее:
в какой среде сила поэзии действует свободнее — в простран-
стве или во времени?
Она действует в пространстве — тем, что вся речь имеет
чувственный характер. В любом ее знаке следует восприни-
мать не самый знак, а тот смысл, который ему -присущ; душа
воспринимает не слова как носители силы, — но самую силу,
то есть смысл слов. Это — первый способ наглядного позна-
ния. Но вместе с тем она также дает душе как бы зрительное
представление каждого предмета, то есть собирает воедино
множество отдельных признаков, чтобы создать этим сразу
же полное впечатление -предмета, представляя его взору на-
шего воображения и вызывая иллюзию видимого образа.
Это — второй способ наглядного познания, составляющий
сущность поэзии. Первый способ присущ всякой живой речи,
160
если только она не сводится к пустым словесным упражне-
ниям или философствованию; второй свойствен лишь одной
поэзии и составляет ее сущность, чувственное совершенство
речи. Поэтому можно сказать, что первая существенная сто-
рона, поэзии есть действительно живопись своего рода, то
есть чувственное представление.
Она действует и во времени: ибо она — речь. И не потому
только, что речь является, во-первых, естественным выраже-
нием страстей, душевных движений — это еще только окраина
поэзии; но главным образом потому, что она воздействует на
душу 'быстрой и частой сменой представлений, воздействует
как энергическое начало отчасти этим разнообразием, отчасти
всем своим целым, которое оно воздвигает во времени. Пер-
вое сближает ее с другими видами речи; 'последнее же—ее
способность чередовать представления, как бы создавая из
них мелодию, образующую целое, отдельные части которого
проявляются лишь постепенно, а общее совершенство воздей-
ствует энергически, — все это превращает поэзию в музыку
души, как называли ее древние греки; и об этой второй по-
следовательности господин Лессинг не упо<мянул ни разу.
Ни одна из этих сторон, взятая в отдельности, не соста-
вляет всей ее сущности. Ни энергия, ее музыкальное на-
чало,—ибо оно не может проявиться, если не будет иметь
предпосылок в чувственном характере представлений, кото-
рые она живописует нашей душе. Но и не живописное ее на-
чало, ибо, действуя энергически, она именно через последова-
тельность создает в душе понятие чувственно совершенного
целого: только взяв обе эти стороны в совокупности, я могу
сказать, что сущность поэзии—это сила, которая, исходя из
пространства (из предметов, которые она чувственным обра-
зом воспроизводит), действует во времени (последователь-
ностью многих отдельных частей, создающих единое поэтиче-
ское целое), короче — чувственно совершенная речь.
После этих предварительных замечаний вернемся снова
к господину Лессингу. У него главным предметом поэзии
являются действия. Но только он один «может вывести это
понятие из своего понятия последовательности; признаюсь от-
кровенно, мне это не удалось!
«Предметы, которые сами или части которых следуют
одни за другими, называются действиями».
Как? Я представляю себе сколько угодно следующих друг
за другом предметов, и все же они остаются телами, неоду-
шевленными предметами; 'последовательность сама по себе не
превращает их в действия. Время летит перед моим взором,
мгновения сменяют друг друга — разве тем самым я вижу
действие? Различные явления природы предстают перед
моими глазами: разрозненные, безжизненные, следуют они
друг за другом — разве тем самым я вижу действие? Никогда
И Зак. 291. Гердер /£/
клавиатура красок патера Кастеля о ее последовательной
гаммой цветов, даже если они о'бразуют собою волнистые или
змеевидные линии, не даст нам действия; никогда мелодиче-
ская цепь звуков не станет последовательностью действий.
Итак, я утверждаю, что предметы или части предметов, сле-
дующие одни за другими, не могут в силу одного этого назы-
ваться действиями; точно так же я не считаю, что поэзия,,
только потому, что она дает нам ряд последовательных пред-
ставлений, имеет своим предметом действия.
Понятие последовательности — только одна сторона дей-
ствия: эта последовательность должна быть движима си-
лой— тем самым она становится действием. Я представляю
себе существо, действующее во временной последователь-
ности, представляю себе изменения, которые следуют одно за
другим, вызванные силой какой-то субстанции: так создается
действие. И если действия составляют предмет поэзии, то
я готов побиться об заклад, что этот предмет невозможно
объяснить, исходя из сухого понятия последовательности:
сила — вот средоточие сферы поэзии.
Это и есть та сила, которая живет внутри слова, волшеб-
ная сила, воздействующая на мою душу через воображение
или воспоминание: она-то и есть сущность поэзии. Читатель
видит, что мы вернулись к тому, с чего начали, а именно —
что 'поэзия воздействует посредством произвольных знаков,
что в этом произвольном, в смысле слов, и заключается вся
сила поэзии, а отнюдь не в последовательности звучаний и
слов, не в звуках, поскольку они являются только естествен-
ными звуками.
Между тем господин Лессинг выводит все свои заклю-
чения из этой последовательности звучаний и слов; только
значительно позже ему приходит в голову, что знаки 'поэзии
произвольны; * но и тогда он не задумывается над тем, что
значит его положение: «Поэзия действует посредством произ-
вольных знаков»!
Ибо как он отвечает на это возражение: «Описание ма-
териальных предметов * нарушает иллюзию, создание кото-
рой 'Представляет главную задачу поэзии, и хотя речь сама
по себе может описывать тела, однако это не дело поэзии,
как чувственно совершенной речи».
Кажется, теперь дело подвинулось. Именно потому, что-
поэзия не может 'быть достаточно живописной при описании
материальных тел, она не должна заниматься их описанием.
Не 'потому только, чтобы не стать живописью, и не потому,.
что ее описания даются в последовательности звуков; не по-
тому, что пространство—сфера художника, а сферой поэта
является время, — причина, по-моему, совсем не в этом. Как.
уже было сказано, поэту недостаточно одной последователь-
ности звуков; он не 'пользуется ими как естественными зна-
162
ками. Но если сила покинет его, если своими образами, неза-
висимо от созвучий, он не может вызвать в душе иллюзию, —
да, тогда можно «сказать, что поэт погиб, останется только
живописец слов, толкователь символических имен. А то, что
она не всегда удачно применяется, — это ясно из его соб-
ственного примера. *
Если конечной целью Галлера в его «Альпах» было по-
казать нам в стихах генциан и его голубого брата, а также
похожие и не похожие на них растения, то он, действительно,
теряет из виду цель поэта создать иллюзию, и я как читатель
теряю свою цель поддаться этой иллюзии; это, и ничто дру-
гое, является тогда причиной. Но если от поэмы Галлера
я 'перейду к учебнику ботаники — каким образом я озна-
комлюсь с генцианом и его братьями? Как иначе, чем по-
средством последовательных во времени звуков, посредством
слов? Ботаник поведет меня от одной части к другой; он
постарается разъяснить мне связь между этими частями; он
попытается воссоздать в моем воображении это растение, по
частям и целиком, разумеется, то, что можно сразу охватить
взглядом; одним слово;м, он сделает все то, чего, по мнению
господина Лессинга, не должен делать поэт. Пойму ли я его?
Вопрос не в том, пойму ли я его слова, он должен уяснить
мне все, в известном смысле вызвать у меня иллюзию. Но
если он не достигнет этого, если я представлю себе только
отдельные детали, но не увижу наглядно все целое, тогда я
могу применить все те правила, которые дает г-н Лессинг
для 'поэта, и к составителю учебника ботаники. Я скажу ему
совершенно серьезно:
«Каким образом достигаем мы * ясного представления
о какой-либо вещи, существующей в пространстве, о каком-
либо растении? Сначала мы рассматриваем 'порознь ее ча-
сти, потом связь этих частей и, наконец, целое. Чувства
наши совершают эти различные операции с такой удивитель-
ной быстротой, что операции эти сливаются для нас как бы
в одну, и эта быстрота безусловно необходима. — Допустим,
что автор, преподаватель ботаники, может в самом стройном
порядке вести нас от одной части к другой; допустим, что он
сумеет с предельной ясностью показать нам связь этих ча-
стей,— сколько же времени потребуется ему? То, что глаз
охватывал сразу, автор должен показывать нам медленно, по
частям, и нередко случается, что при восприятии последней
части мы уже совершенно забываем о первой. А между тем
лишь по этим частям должны мы составлять себе представле-
ние о целом. Для глаза рассматриваемые части остаются
постоянно на виду, и он может не раз обозревать их снова
и снова; для слуха же раз 'прослушанное уже исчезает, если
только не сохранится в памяти. Но допустим, что прослушан-
ное удержалось в памяти полностью. Какой труд, какое
11* /В&
напряжение нужны для того, чтобы снова оживить эти впе-
чатления в прежнем порядке, хотя бы и не так быстро, как
раньше, и, наконец, добиться приблизительного представления
о целом! — Эти строки могут быть прочтены с большим успе-
хом, когда держишь в руках описываемый цветок; сами же
по себе они не производят никакого или очень слабое впе-
чатление».
Так говорит г-н Лессинг поэту, и почему бы мне не обра-
титься с такими же словами к преподавателю ботаники, ко-
торый захочет научить меня одними лишь словами? Я не
вижу никакой разницы между этими двумя случаями: тот же
самый предмет — материальное тело, те же средства для его
описания — слова, те же трудности в этих средствах — после-
довательный характер речи, составляющих ее слов. Следова-
тельно, это наставление вполне подходит и к нему, так же как
к любому другому сочинителю, пользующемуся при описа-
ниях словами.
Следовательно, причина лежит вне области поэзии, ибо
положение «Последовательность препятствует описанию пред-
метов» относится к любому виду речи, поскольку всякая речь
хочет не только сделать определенный предмет понятным как
слово, но и показать его наглядно как материальный предмет.
Следовательно, и положение это не является в собствен-
ном смысле законом, и, во всяком случае, не высшим зако-
ном, но лишь побочным понятием, из которого нельзя сделать
никаких или только очень незначительные выводы. Вся моя
цепь умозаключений исходит из двух основных положений:
во-первых, последовательность в созвучиях не является ни
главным, ни естественным средством воздействия поэзии;
лишь сила, которая произвольно наполняет эти созвучия и
подчиняется совсем иным законам, чем последовательность
звуков, воздействует на душу человека. Во-вторых, последо-
вательность звуков присуща не одной поэзии, но свойственна
всякой речи, и, следовательно, по своей внутренней сущности
мало что может определить или изменить в ней. И если
г-н Лессинг берет в своей книге последовательность как основ-
ную причину различия между -поэзией и живописью, следует
ли ожидать правильного решения вопроса об их границах?
Для того чтобы вступить на более плодотворный путь, чем
позволяет это сухое побочное понятие, г-н Лессинг совершает
скачок, который я не собираюсь проделывать вслед за ним.
«Поэзия описывает * с помощью последовательных звуков,
значит она описывает последовательность во времени, зна-
чит предметом ее служат 'последовательности, и ничего кроме
последовательностей. Последовательности являются дей-
ствиями, значит...» — и после этого «значит» идет то, что
угодно г-ну Лессингу; но откуда он это берет?
164
Понятие действия он увидел в 'последовательности; и от-
того, что поэзия описывает с помощью последовательных зву-
ков, он заключил, что она описывает лишь предметы в их
временной последовательности. — Но где же тут цепь умоза-
ключений? Допустим, что последовательность звуков в поэ-
зии— это то же, что в живописи сосуществование красок:
каково тогда соотношение между этой последовательностью
и 'последовательностью описываемых предметов? Насколько
они следуют друг за другом? Как можно здесь думать о срав-
нении? И еще того лучше — как можно выводить одно из
другого? — И если даже поэзия описывает последовательности,
почему они должны 'быть непременно действиями и т. д.? При
наличии подобного разрыва разграничение вряд ли может
быть правильным.
Вряд ли верно говорить и о живописи: «Ее сущность в том,
чтобы изображать тела». Во всяком случае, я знаю более
очевидные примеры последовательных действий в живописи,
чем тот, который приводит господин Лессинг: драпировку, *
которая в своих ниспадающих складках объединяет два
мгновения.
Но еще менее правильно это в отношении поэзии, где из
последовательности звуков не вытекает еще ничего или почти
ничего. Из этого не следует, что она не должна описывать
тела: ибо -если последовательные созвучия не могут дать пред-
ставление о сосуществующих предметах, то я не вижу, как
может какая-либо речь, воспринимаемая нами только на слух,
вызвать наглядное узнавание, так как образы, сказал бы я,
нельзя услышать. И я не понимаю, как может речь вызывать
связные образные понятия; потому что последовательные
звуки не связаны друг с другом. И, наконец, я не понимаю,
как из многочисленных частичных понятий может сложиться
в душе нечто целое: например, ода, доказательство, трагедия;
потому что вся последовательность звуков не .может создать
подобного целого: «для слуха же, во всяком случае, раз про-
слушанное уже исчезает». Отсюда можно вывести все или
ничего.
Еще меньше следует из этих положений «несостоятель-
ность всей описательной поэзии»,* непоэтичность всякой
живописующей поэзии. Еще меньше — что сущность поэзии
есть поступательное движение, что поэзия может использо-
вать только одно-единственное свойство тел, что единство
живописующих эпитетов является для нее законом.
Из этого нельзя заключить даже то, что «понять и объ-
яснить возвышенную манеру Гомера * можно, только основы-
ваясь на этих положениях».
Я многое отвергаю у г-на Лессинга, по сути дела — все
основное; но это не значит, что я отвергаю все те вещи,
165
о которых он говорит, основываясь на своих выводах. — Раз-
решите мне 'начать с Гомера.
«Я нахожу, * что Гомер не изображает ничего, кроме по-
следовательных действий, и все тела, все отдельные предметы
он рисует лишь в меру участия их в действии, притом обык-
новенно не более как одной чертой. Если же особые обстоя-
тельства и заставляют его останавливать более длительно
наше внимание на каком-нибудь материальном предмете, то
при помощи бесчисленных приемов он умеет разбить изобра-
жение этого предмета на целый ряд моментов, в каждом из
которых /предмет является в новом виде».
Прекрасно! Замечательно! Поистине это — художествен-
ная манера Гомера! Но выбрал ли Гомер эту манеру, потому
что хотел описывать с помощью последовательных звуков,
отчаявшись в возможности иным способом изображать мате-
риальные предметы? Или, быть может, он опасался, как бы
при самом стройном расположении частей, при самой ясной
их связи, — эти части, отчетливо видимые только для глаза,
■все. же не 'потерялись бы при 'восприятии на слух, несмотря
на все усилия поэта? Что Гомер именно поэтому развернул
описание своих предметов как ряд последовательных момен-
тов,— вот что ни разу не приходило мне в голову, когда я
читал Гомера!
Когда, например, его Геба * собирает перед нашими гла-
зами часть за частью колесницу Юноны, разве поэт избегает
соблазна изобразить сосуществующее последовательными
звуками? Я вижу колеса, оси, кузов, дышла, сиденье, сбрую и
поводья, но не в собранном виде, а лишь по мере того, как
Геба постепенно собирает их. Сначала поэт неторопливо пере-
числяет мне колеса, и даже не только колеса, а части их,
медные спицы и золотые ободья, шины из меди и серебряную
ступицу и т. д., потом уже оси и затем только сиденье, и .все
по частям; и прежде чем он дойдет до последнего предмета,
я уже наверняка забуду первый. Колесница собрана, и теперь
воображение может охватить одним взглядом всю картину,
вспоминая и отдельные ее части, например медные спицы и
золотые ободья, шины из меди и т. д., наглядно представляя
себе все это. Итак, я не вижу, что же, собственно, сделал
Гомер, чтобы, так сказать, ослабить воздействие последова-
тельных звуков и посредством бесчисленных приемов показать
нам сосуществующее? Может быть, все дело здесь в очень
ясном понятии сосуществующего, во всех его частях: «Какой
труд, .* какое напряжение нужны для того, чтобы все за-
медленные впечатления снова вызвать в воображении
в прежнем порядке, перечувствовать их все, хотя бы и не так
быстро, как раньше, и, наконец, добиться приблизительного
представления о целом»? Если лоэт имел в виду понятие
целого, когда он разлагал это целое на отдельные части»
166
чтобы затем показать его нам составленным из всех этих ча
стей,—тогда я замечу, что труд его был столь же напрасен,
как труд Брокеса, когда тот изображал растения. Само со-
бирание частей, действия Гебы, не принимаются в расчет;
постепенно, одно за другим составлять то, что должно быть
показано и воспринято сразу, таково его намерение: у обоих
оно одинаково, и даже у Гомера, благодаря собиранию от-
дельных частей, действие еще более замедлено.
«Не только там, * однако, где Гомер соединяет со своими
описаниями особые намерения, но даже и в тех случаях, где
дело идет просто об известной картине, он искусно развивает
эту картину при помощи какого-нибудь повествования, и,
таким образом, части определенного предмета, которые мы
привыкли видеть в действительности соединенными вместе,
одна подле другой, столь же естественно в его рассказе пред-
ставляются нашему воображению последовательно одна за
другой, и картина слагается по мере рассказа. Так, напри-
мер, он хочет изобразить нам лук Пандара...», но как может
г-н Лессинг здесь, по поводу гомеровского описания, прово-
дить параллель между последовательностью звуков и сосуще-
ствованием отдельных частей, между частями объекта и ча-
стями человеческой речи? Когда Гомер, желая описать нам
лук Пандара, сначала ведет нас на охоту за серной, из рогов
которой сделан лук, показывает нам сперва скалу, где ее
подстрелил Пандар, и только затем измеряет длину между
рогами серны, после этого отдает их в обработку и показы-
вает нам ряд этапов работы художника, — кто может ска-
зать, что Гомер хотел приблизить этим последовательность
своего описания к природе сосуществующих предметов так,
чтобы отдельные части лука, о которых он говорит, могли
идти в ногу с потоком речи? Вместо того чтобы сблизиться
■благодаря этим художественным приемам Гомера, я вижу,
как они отдаляются друг от друга, распыляясь среди мно-
жества посторонних черт (охота, серна, место, где охотник
подстерег серну, место, где она была ранена, вид убитой
серны, мастерская художника), они как бы запрятаны среди
них; и если бы Гомер со всей своей историей этого лука ста-
вил себе цель наглядно 'показать мне сразу все отдельные его
части, то это значило бы, что он избрал самый для того не-
удачный путь. Во всяком случае, мое воображение отдало
себя во власть этого рассказа, чтобы видеть, как был изго-
товлен лук для Пандара, но представить его себе потом как
целое во всех его частях, отбросив все посторонние излишние
черты рассказа, — какой труд, какая работа!
«Гомер описывает щит Ахилла, * употребляя на его опи-
сание более сотни великолепных стихов, и притом с таким
подробным и точным указанием материала, из которого
он сделан, его формы, наконец всех фигур, изображенных
167
на его огромной поверхности, что новейшим художникам было
не трудно сделать его рисунок, сходный до последних мело-
чей с поэтическим его описанием. Он описывает щит не как
вещь, уже совсем готовую, но как вещь создающуюся. Сле-
довательно, он и здесь пользуется описанным выше художе-
ственным приемом, а именно: превращает сосуществующее
в пространстве в раскрывающееся во времени и из скучного
живописания предмета создает оживленную картину дей-
ствия». Тонкое замечание! Полная противоположность Верги-
лию. * Но выбрал ли Гомер это созидание щита, чтобы с по-
мощью последовательного во времени дать сосуществование
в пространстве? Хотел ли он показать «многие черты, *
изображающие различные части и качества в пространстве,
как они следуют друг за другом столь стремительно, что мы
их как будто слышим одновременно»; было ли его целью
превратить этим рассказом о созидании щита пространство
во временную последовательность и дать нам с ее помощью
впечатление целого, которое мы можем себе наглядно пред-
ставить лишь в пространстве? Если на эти вопросы ответить
утвердительно, то, сознаюсь в слабости своей памяти, мне не
удалось достичь этой цели. Пусть на щите будет десять или
менее картин, пусть я следил за их постепенным созида-
нием, — я дивлюсь этому произведению, но я не чувствую
в себе доверчивого удивления очевидца, у которого перед
глазами стоит теперь весь щит и для которого последователь·
ность во времени превратилась в сосуществующее в простран-
стве. Только в голове богоподобного художника этот щит, со
всеми изображениями на нем, составляет одно живописное
целое; я же должен снова и снова обойти щит, чтобы с. ка-
ждым последовательным словесным описанием вспомнить ис-
чезнувшую из моей памяти картину, и все же — куда они все
девались в ту минуту, когда я захочу наконец составить из
•них целый щит? То, что я видел, как щит создавался, ничем
не помогло мне при этом и не может ничем помочь, разве
только отвлечет меня еще дальше; последовательность стано-
вления была и остается неразрешимым узлом.
Язык Гомера так превосходен, что лучше его быть не мо-
жет: каждое слово создает образ, — не говоря об отношениях
между ними, — быстрый в своем беге, как Диана; для того ли
оно служит, это быстрое движение, чтобы уменьшить, уничто-
жить препятствия, создаваемые пространством, и тем самым
создать иллюзию материального предмета, тела в простран-
стве? Но этого не может достигнуть никакая речь. Вряд ли
Гомер остался верен своей поступательной манере лишь по
этой причине; вряд ли именно поэтому выбрал для каждого
предмета лишь одну черту, и конечно уж не для того он изо-
бражает предметы в постепенном становлении, «чтобы описа-
ние отдельных частей каждого предмета шло наравне с тече*
168
нием живой речи». Никакая речь недочет этого достигнуть —
еще менее к тому стремится речь поэта; в особенности же
первого из поэтов. Вся его манера показывает, что он посту-
пает "подобным способом не для того, чтобы показать нам по-
следовательным описанием частей картину целого, все равно
какого,—совсем нет: он перечисляет отдельные части, потому
что этот целостный образ не был для него существенным.
Я никоим образом не хотел 'бы дать словам господина
Леееинга ложное толкование:-по существу вопроса я с ним
одного мнения, меня смущают лишь его выводы и заключения
касательно исходной причины. Если кому-нибудь это различие
покажется незначительным, то для меня это не важно; другим·
оно может показаться существенным.
Гомер всегда должен сохранять поступательное движение*
в описании действий, ибо он должен двигаться в описании их,
ибо все эти отдельные поступки являются частями его общего
действия, ибо он — эпический поэт. Поэтому м'не нужно знать
о 'колеснице Юноны, о скипетре Агамемнона или о луке Пан-
дара лишь то, что, вплетаясь в общий ход действия, должно
воздействовать на мою душу. Именно поэтому я выслушиваю
историю лука,—совсем не для того, чтобы о(на заменила мне·
картину, но для того, чтобы у меня заранее сложилось пред-
ставление о его мощи, о крепости его рогов, силе тетивы?
стрелы, ее полета. Когда же наконец Пандар берет в руки
лук, натягивает тетиву и, накладывая стрелу, спускает ее, —
горе Менелаю, в которого попадет стрела подобного лука; мы
уже знаем его силу! Следовательно, господин Леосинг не
имеет основания утверждать, что для Гомера во всей истории
этого лука важно было описание его внешнего вида, и только
лишь вида. Менее всего — именно это: прочность, мощь этого
лука — они, а не внешний вид его, существенны для поэмы;
они, а не какие-либо иные свойства, должны энергически воз-
действовать на нас, с тем чтобы позже, когда Пандар натянет
лук, когда зазвенит тетива и стрела попадет в цель, мы тем
сильнее почувствовали эту стрелу. Только ради этой энергии,,
кото-рая образует главный элемент во всякой поэме, Гомер1
позволяет себе перенестись с поля битвы на охоту и сочинить
историю лука: »ибо я не вижу иного способа создать это пред-
ставление во всей его силе, как с помощью рассказа. Из опи-
сания мы можем лишь узнать, как выглядел лук, каков его
внешний вид: из внешнего вида мы узнаем его величину и
отсюда лишь может заключить о его мощи; из истории же мы-
непосредственно узнаем обо всем этом, и если энергическому
художнику, поэту, важна лишь эта мощь, зачем ему взвали-
вать на себя другие задачи? Пусть живописец рисует кар-
тины, внешний образ; поэт, напротив, будет вызывать пред-
ставление о силе, энергии. Так именно действует Гомер с на-
чала до конца описания; конечно, не в той одежде, в которую
16»
облек его господин Лесеинг, описывая выстрел Пандара^;
у него звучит не энергический образ (что является главной
целью поэта!), а лишь последовательное описание; при этом
последовательность звуков создает у нас (не зрительную ил-
люзию, а каждый из них воздействует энергически, так что
мы вздрагиваем, когда этот лук наконец стреляет.
То же можно сказать и о скипетре Агамемнона: * я совсем
не считаю историю его созидания «художественным приемом,
давшим поэту возможность остановить наше внимание на од-
ном предмете, не пускаясь в холодное описание его частей».
Его скипетр — это древний, царский, божественный скипетр!
Именно такое представление должно у нас возникнуть; все
прочие художественные .приемы и аллегории меня не интере-
суют.
. Описывается колесница Юноны. Почему? Конечно, потому,
что без. помощи поэта я не могу увидеть эту колесницу, по
тому, что я должен сначала узнать ее, чтобы (Представить
себе образ божественной колесницы. Почему ее собирают на
наших глазах? Конечно, потому, что мы не сможем предста-
вить себе божественную колесницу, если она не предстанет
перед нами сначала в ©иде отдельных своих частей, собирае-
мых постепенно. Ее собирают на наших глазах, чтобы пока-
зать все совершенство этой божественной колесницы, вну-
треннюю ценность всех ее отдельных частей, ее искусное со-
оружение, а совсем не для того, чтобы последовательно собрать
эти части, поскольку невозможно увидеть их одновременно.
Собирание здесь не художественный прием, не какое-нибудь
qtrid pro quo,] которое должно дать нам картину целого; со-
брать по частям цельный образ не является целью поэта; но
в самом постепенном созидании заключается энергия речи;
только и всего. При описании каждой части мы должны вос-
кликнуть: «Великолепно! Божественно! Царственно!» Если
эти понятия получают в нашей душе чувственно совершенный
образ, тогда мне не нужно целое с его отдельными частями:
это может быть интересно для какого-нибудь кучера. Колес-
ница собрана, энергия достигла своей цели. Я восклицаю еще
раз: «Великолепно! Божественно! Царственно!» — и даю по-
водья в руки Юноне и Минерве.
Щит Ахилла создается под руками Вулкана: почему он
создается? Конечно, потому, что он должен быть создан!
Ахиллу необходимо оружие: Фетида молит об этом Вулкана;
он обещает, встает, начинает работу— почему бы ему не ра-
ботать? На протяжении всей поэмы Гомера боги деятельны:
их появление чередуется с появлением людей; но вот настала
ночь; действие приостановилось; мы так давно не видели
Вулкана, с тех самых пор, как он предстал перед нами в виде
1 Одно вместо другого (лат.).
170
Хромого виночерпия богов; Ахилл потерял свое оружие вместе
с Патроклом, и вот Фетида идет к Вулкану, Вулкан может
зшвать оружие, и щит начинает создаваться! Вся эта сцена
входит в действие поэмы, в ход всей эпопеи, она не является
лишней фигурой в поэме, особенностью художественного
метода Гомера. В становлении, в создании щита заключена
вся сила энергии, весь замысел поэта. В каждой фигуре, кото-
рую вырезает Вулкан, я восхищаюсь творящим божеством,
ъ каждом описании размеров и поверхности щита я узнаю
мощь оружия, которое делают для Ахилла и которого захва-
ченный интересом читатель ждет не менее нетерпеливо, чем
Фетида.
Короче, я пе З'наю у Гомера последовательных перечисле-
ний, которые присутствуют лишь как художественные 'приемы,
присутствуют по необходимости, ради картины, ради описа-
ния; они составляют самую сущность его поэмы, плоть и
кровь эпического действия. В каждой черте его становления
должна быть заключена энергия,— это цель Гомера; всякая
иная гипотеза о художественных приемах, об иносказаниях,
помогающие избежать сосуществующее при опиеаййи, иска-
зила бы общий тон произведений Гомера. Я знаю, что это
серьезный упрек, что самое большое препятствие силе поэта—
это неумение настроиться на его тон; тем не менее я не сни-
маю своего упрека. Кто видит в собирании колесницы Юноны
и в истории лука и скипетра или в ковке щита всего лишь
художественный прием, способ избегнуть материального об-
раза, тот не понимает, что такое действие поэмы, на него
энергия Гомера не произвела никакого впечатления. Когда
Гомеру нужно дать телесный образ, он описывает его, хотя
бы это был Ферсит; * он далек от всяких художественных
приемов, от всякой поэтической хитрости и коварства; посту-
пательное движение — вот душа его эпоса.
Но Гомер .все же не единственный.поэт; после -него были
Тиртей, Анакреон, Пиндар, Эсхил и др. Его epos, * его раз-
вивающийся рассказ все более и более превращался в mêlas,
fc своего рода песнопение, а затем в eîdos, в картину —жанры;
которые все же оставались поэзией. Песнопевец (melopoios)
ά лирический живописец (eidôpoios) — Анакреон и Пиндар —
противостоят, следовательно, поэту-историку (epopoios) — Го-
меру.
Гомер творит, повествуя: «И случилось», «И стало»,, по-
этому у него все может быть действием и должно устрем-
ляться к действию. К этому стремится энергия его музы;
удивительные, трогательные происшествия — вот его мир; он
владеет магическим словом творца: «И стало!» Анакреон в-и-
?ает между пением и рассказом; его рассказ превращается
171
в песенку; его песенка — в эпос (epos) бога любви. Он может
употреблять оборот «было», или «я хочу», или «ты должен»,—
достаточно, если его melos звучит восторгом и радостью:
жизнерадостное ощущение — вот энергия, муза каждого его
стихотворения.
Пиндар замышляет дать большую лирическую картину, on
воздвигает здание оды, подобное лабиринту, которое приоб-
ретает энергическую цельность именно благодаря кажущимся
отступлениям, множеству побочных образов, данных по-раз-
ному, где ни одна часть не существует сама по себе, но под-
чинена стройному целому: это eîdos, поэтическая картина, где
всюду видно уже не искусство, а художник: «Я пою!»
Как же можно тут сравнивать? Идеальная цельность Го-
мера, Анакреона, Пиндара — как они различны! Как непо-
хожи творения, которые они создают! Первый хочет лишь од-
ного: творить; он повествует, он завораживает, вся цельность
события — его создание; это поэт древних времен. Второй не
хочет говорить словами: сама радость звучит в его песнях;
его цельность — это выражение нежного чувства. Третий го-
ворит сам, чтобы его услышали: цельность его од — это зда-
ние, построенное симметрично и с высоким искусством. И
если каждый из них может достигнуть цели по-своему, мо-
жет показать мне все свое целое в совершенном виде и этим
созерцанием вызвать у меня иллюзию, — чего же мне еше
желать?
Уже давно принята сама по себе невинная гипотеза, по
которой всякое законченное произведение любого поэтиче-
ского жанра рассматривается как своего рода картина, зда-
ние или художественное изделие, где все части служат одной
главной цели, подчинены целому и действуют вместе с ним.
Для всех этой главной целью является поэтическая иллюзия,
но у каждого на свой лад. Возвышенная волшебная иллю-
зия, которой очаровывает меня эпопея, это не то легкое сла-
достное чувство, которым наполняет меня песня Анакреона,
и не трагический аффект, в который повергает меня траге-
дия. Между тем каждая по-своему стремится создать иллю-
зию и своими особыми средствами, наиболее совершенным
образом наглядно представить нам нечто, будь то эпическое
действие, или трагическое событие, или анакреонтическое
чувство, или законченное целое образов Пиндара, или — но
обо всем этом нужно судить, не выходя за его пределы, ис-
ходя из его собственных средств и целей.
Значит, нельзя оценивать оду Пиндара как эпопею, в ко-
торой отсутствует поступательное движение; песню — как
картину, которой недостает четких очертаний; назидательное
стихотворение — как басню, а басню — как описательную
поэзию. Если мы не будем спорить о словах «поэзия, поэма»,
то у каждого указанного нами стихотворного жанра будет
172
свой собственный идеал — у одного более высокий, трудный,
значительный, чем у других; но у каждого — свой собствен-
ный. Я не стал бы выводить из одного жанра законы для
другого или вообще для всей поэзии.
Значит, если «Гомер не изображает ничего, * кроме по-
следовательных действий, и все тела, все отдельные предметы
рисует лишь в меру участия .их в действии, притом обыкно-
венно не более, 'как одной чертой», то этим он, по-видимому,
удовлетворяет своему эпическому идеалу. Однако, может
быть, у Оссиана, Мильтона, Клопштока уже совсем другой
идеал, и они. не «изображают каждой чертой последователь-
ное движение, их муза выбрала себе иной -путь? И, может
быть, эта последовательность действий составляет лишь эпи-
ческую манеру, свойственную Гомеру, и даже не является
манерой, свойственной жанру его поэзии вообще? Критик
должен произнести здесь робкое «может быть»; гений решает
могучим языком примера.
Еще в меньшей степени я имею право сделать из прак-
тики Гомера тот вывод, что «Гомер не изображает ничего,
кроме последовательных действий», и сделать отсюда за-
ключение, будто «поэзия ие изображает ничего, кроме после-
довательных действий, — следовательно, действия и состав-
ляют предмет поэзии». Если я замечаю у Гомера,1 что «он
рисует все отдельные предметы лишь через их участие в дей-
ствии и обычно одной какой-нибудь чертой», * то нельзя
сразу же безоговорочно утверждать: «Значит, поэзия изо-
бражает предметы косвенно, намеком, через действия; зна-
чит, в своих последовательных изображениях поэзия может
использовать только одно какое-нибудь свойство тела»; и все
прочее, вытекающее отсюда, как-то: правила о единстве
украшающих эпитетов, о лаконизме в описаниях материаль-
ных предметов и т. д. То, что эти правила не вытекают из
основного свойства поэзии, например из последовательности
ее созвучий, откуда их выводит господин Лессинг, это уже
доказано. Показано и то, что даже если все они встречаются
в произведениях Гомера, как это полагает господин Лессинг,
то вытекают они не из временной последовательности поэ-
зии вообще, но из непосредственной эпической задачи Гомера.
Почему же этот эпический тон Гомера должен без всякого
1 Все предметы, которые должны участвовать в действии, наделены
в поэме Гомера столькими чертами, сколько должно участвовать в дей-
ствии. Гомер редко ограничивается одной чертой; даже если это всего
лишь камень, орудие, лук и т. д., он всегда, обстоятельно и не торопясь,
приведет столько разных свойств этого предмета, сколько нужно для эпи-
ческой ^энергии. Если же он описывает вещь лишь одной чертой, то
большей частью эта черта общего характера и не имеет значения для
данного случая; это, один из обычных эпитетов, которыми он обозначает
предметы, часто встречающиеся в его стихах.
173
исключения задавать тон всей поэзии, служить для нее прин-
ципом и законом, как это делается у господина Лессинга?
Я содрогаюсь при мысли, какую кровавую расправу
должны учинить среди древних и новых поэтов следующие
положения: «Действия составляют собственно предмет поэ-
зии: * поэзия изображает тела, ,яо лишь косвенно, намеком,
через действия, каждую вещь лишь через одно какое-нибудь
свойство» и т. д. Господину Лессингу незачем было поизна-
ваться, что его навела на эти мысли практика Гомера: эта
видно по каждой из них, согласно им одному лишь Гомеру
удается сохранить — и то еле-еле — звание поэта. От Тиртея
до Глейма и от Глейма назад до Анакреона; от Оссиана до
Мильтона и от Клопштока до Вергилия, всюду полный раз-
гром— устрашающая пустота. Не говоря уже о догматиче-
ской поэзии, об описательных и -идиллических поэтах.
Господин Лессинг выступил против некоторых из них я
должен был, исходя из своих принципов, выступить против,
многих других. «Подробное изображение * материальных
предметов, если только не употреблен указанный выше прием
Гомера, при помощи которого сосуществующее превращается
в последовательно образующееся» (выше мы указали, чта
Гомер и не подозревал о подобном художественном приеме*
да и что мог бы дать для такой высокой цели художествен-
ный прием как таковой?), «по мнению лучших знатоков всех
времен, является пустой забавой, для которой нужно мало
или совсем не нужно гения». В числе этих тончайших знато^
ков он называет Горация, Попа, Клейста, Мармонтеля; на
мне кажется, что они высказываются по этому поводу от-
нюдь не в такой общей и неопределенной форме. Гораций
в указанной цитате 1 не считает поэтическими бездарностями
тех, кто описывает рощу, алтарь, ручей, поток и т. п., но тех,
кто изображает их в неподходящем месте.
Часто глубоко и важно у нас начинанье, — но тут же
Тот ли, другой ли нашит украшеньем пустым и бесцельным
Яркий лоскут: то роща описана с храмом Дианы,
То говорливый ручей, излучисто в травах текущих,
Рейна теченье иль радуга яркая в небе дождливом,
Но ведь не к месту все это!..
Поп называл чисто описательные стихи — угощением, со-
стоящим из одних только соусов, но этим он не хотел ска-
зать, что «каждое подробное описание материальных пред-
метов», созданное без применения художественного приема
Гомера, является пустой забавой без участия гения. Госпо-
дин фон Клейст хотел, как мне кажется, положить в основу
своей «Весны» ,некий сюжет (мы видим определенный план
1 Гораций. Послание к Пизонам. — «Об искусстве поэзии», ст. 14
и след.
174
уже в том, что его стихотворение—не беспорядочная масса
картин, вырванных наудачу из бесконечного пространства
возрожденного мира, но, если верить одной критической
статье, — своего рода прогулка, во время которой различные
предметы описываются в их естественном порядке, как они
представляются нашим глазам); повторяю, он хотел поло-
жить в основу сюжет, отнюдь не собираясь отбросить по-
дробное описание материальных предметов, как пустую за-
баву. И, наконец, Мармонтель требует, правда, от идиллии
больше морали и меньше реальных картин: но превратится
ли благодаря этому идиллия в смену чувств, лишь скупо пе-
реплетенных описаниями, и если так, то станет ли она «по-
следовательным рядом действий, где предметы должны быть
изображены лишь одной какой-либо чертой», — этого я не
знаю, а по господину Лессингу она, в противном случае, пе-
рестанет быть поэзией.
Действия, страсть, чувство! И я люблю их в стихах
больше всего; и всего сильнее ненавижу я мертвую, непо-
движную описательность, в особенности если она занимает
страницы, листы, целые поэмы; но не той смертельной нена-
вистью, которая готова изгнать всякое отдельное подробное
описание, когда оно изображается как сосуществующее, не
той смертельной ненавистью, которая оставляет каждому
материальному предмету лишь один эпитет, чтобы приоб-
щить его к действию; и совсем не потому, что поэзия всегда
описывает с помощью последовательности звуков, или по-
тому, что Гомер делает то или иное так, а не иначе—нет,
не поэтому.
Если я чему-либо научился у Гомера, то это тому, что
поэзия действует энергически: не с намерением создать окон-
чательной черточкой какое-либо творение, картину, образ
(хотя бы и последовательные), но уже в самый момент энер-
гического воздействия ощущается и возникает вся ее сила.
Я научился у Гомера тому, что поэзия никогда не воздей^
ствует через слух, через звуки на мою память, чтобы я удер-
жал отдельную черту из ряда последовательных описаний,
но через мое воображение: и именно исходя из этого, а не
из чего-либо другого следует оценивать ее воздействие. Вот
с какой стороны я противопоставляю ее живописи и весьма
сожалею, что господин Лессинг .не обратил внимания на эта
главное отличие сущности поэзии — «воздействие ее на нашу
душу, энергию».
Живопись воздействует не только из пространства, та
есть через предметы: она воздействует и в пространстве —
свойствами этих тел, которые она приспособляет к своим це-
лям. Значит, дело не только в том, что предметы живописи
17S
не существуют иначе, как в зримой форме; эта зримая форма
и является тем свойством предметов, посредством которого
живопись воздействует на нас. Поэзия же, если она не воз-
действует через пространство, то есть показывая сосуще-
ствующее, через краски и очертания, то это не значит еще,
что она не может воздействовать из пространства, то есть
изображать предметы в их зримой форме. Средства выраже-
ния поэзии тут ни при чем, она воздействует смыслом, а не
последовательными звуками слов.
Живопись воздействует красками и формами на зрение;
поэзия — значением слов на наши низшие душевные силы,*
в особенности на воображение. И так как его деятельность
обычно может быть названа наглядным представлением, то
и поэзия, поскольку она делает нам какое-либо понятие или
образ наглядным, может быть названа живописцем вообра-
жения; и целостность поэмы — это целостность произведения
искусства.
Но если живопись создает единое произведение, которое
во время работы над ним еще ничто, а после завершения —
все, и притом это все заключается именно в целостной кар-
тине,— то поэзия, напротив, воздействует энергически, то есть
уже во время работы над нею душа должна ощущать
все, а не так, чтобы восприятие начиналось лишь после тою,
как закончится энергическое воздействие, и происходило пу-
тем мысленного повторения последовательно пройденных
моментов. Если я ничего не почувствовал в процессе самого
описания красоты, то мне ничего не даст и заключительная
картина.
Живопись стремится создать иллюзию для глаз, поэзия—
для воображения; но опять же не буквально, не так, чтобы
я узнал данный предмет в ее описании, а чтобы я предста-
вил его себе с точки зрения той цели, ради которой мне его
показывает поэт. Следовательно, характер иллюзии в разных
поэтических жанрах различен; в живописи же она только
двоякого рода — либо это иллюзия красоты, либо иллюзия
истины. Исходя из этих намерений, и следует оценивать про-
изведение искусства и энергическое дарование поэта.
Итак, художник творит с помощью образов целостную
картину, создавая иллюзию для глаза; поэт же воздействует
духовной силой слов, в самом процессе их временной после-
довательности создавая полную иллюзию для души. Если кто-
нибудь сумеет сравнить друг с другом краску и слово, тече-
ние времени и один миг, форму и силу — пусть сравнивает.
Многое в этом направлении уже наметил некий проница-
тельный англичанин,1 написавший диалог в духе Шефтс-
1 Д ж. Г а р ρ и с. Рассуждения об искусстве: о музыке, живописи и
поэзии; о чувстве блаженства.
176
бери — об искусстве вообще, и другой — о музыке, живо-
писи и поэзии. Жаль только, что вместо того, чтобы ограни-
читься определением различий между этими тремя искус-
ствами, он занялся пустой затеей — определить преимущество
одного вида перед другим. Такое разделение по рангам ме-
жду совершенно различными вещами сводится к учениче-
скому состязанию вроде того, какое имело место несколько
лет назад, когда живопись, музыка, поэзия и театральное
искусство должны были торжественно и церемонно оспари-
вать друг у друга первенство, под наблюдением некоего ма-
гистра философии.1
Посмотрим же, какие различия находит в них Гаррис. *
Вначале он довольно четко проводит границы между искус-
ствами, создающими какой-либо предмет, и искусствами,
воздействующими с помощью энергии. Первые — это те, ко-
торые действуют посредством сосуществующих частей, как
статуя или картина; вторые действуют во временной после-
довательности, например танец, музыка. Итак, центральный
момент· сочинения Лессинга, в котором сходятся все лучи,
уже был дан у Аристотеля. Если воздействие какого-либо ис-
кусства заключается в энергии, то совершенство этого искус-
ства может быть осознано лишь во временной длительности;
если же оно создает какую-либо вещь, то совершенство его
становится зримым не во время творчества, но лишь по за-
вершении его.
Живопись, музыка и поэзия — все они мимичны, подража-
тельны, но различны в средствах подражания; живопись
пользуется при подражании формами и красками; музыка—
движением и звуками; живопись и музыка — естественными,
поэзия — искусственными и произвольно создаваемыми сред-
ствами. Это различие наиподробнейшим образом проанали-
зировал автор «Философских сочинений». *
У каждого искусства — свой предмет. У живописи —
вещи и события, которые могут быть выражены формами и
красками; материальные тела; движения души, которые про-
являются в телесном облике; поступки и события, чья закон-
ченность основывается на быстрой и наглядной последова-
тельности каких-то изменений; действия, которые в самом
процессе изменения остаются теми же по форме, действия,
которые сосредоточены в одном мгновении; скорее известные,
чем неизвестные действия. Из этого ясно, что, рассмотренный
с такой точки зрения, «Лаокооп» Лессинга не является за-
конченным, так как он написан вообще скорее для поэта, чем
для живописца*
1 «Состязание живописи, музыки, поэзии и театрального искусства» —
речи, произнесенные под наблюдением Вольфганга Людвига Грефенхана,
магистра философии, Байрейт, 1746.
12 Зак. 291. Гердер JJJ
Предметом музыки являются вещи и события, которые по
преимуществу могут быть выражены движением и звуками;
это — всевозможные движения, звуки, голоса, страсти, выра-
жающиеся в звуках, и т. п.
Предметом поэзии служат все перечисленные выше пред-
меты обоих искусств. Прежде всего — поскольку они воспро-
изводятся с помощью естественных средств. Нетрудно было
заметить, что в этом поэзия должна уступать живописи, ибо
-все сводится к тому, что слова — это не краски, а уста — не
кисть. И здесь мне непонятно, как поэзия может сравняться
с музыкой в использовании естественных звуков; короче го-
воря, сравнение не удалось. Значащие слова как произволь-
ные, условные знаки — вот что должно было, собственно го-
воря, стать опорной точкой сравнения.
В предметах, собственно относящихся к живописи (то
есть таких, которые характеризуются красками, формами,
позами, — чья законченность не зависит от последовательно-
сти событий,—во всяком случае от быстрой, бросающейся
в глаза последовательности, — где все самые различные при-
входящие обстоятельства совпадают в одном неделимом мо-
менте времени), — во всех этих предметах поэт уступает жи-
вописцу; прежде всего потому, что первый подражает с по-
мощью произвольных знаков, последний — с помощью самой
природы; последний показывает все в одно и то же мгнове-
ние, как это бывает в природе; первый же лишь частями,
расчленяя этот момент и, следовательно, делая это скучно
или непонятно.
Существуют, однако, предметы, свойственные поэзии: дей-
ствия, развивающиеся во времени, которые не могут быть
соединены в одном, наиболее выразительном, моменте, как
того требует живопись; нравы, страсти, ощущения и харак-
теры сами по себе, которые лучше всего проявляются в речи.
Здесь живопись полностью уступает поэзии, не выдерживая
никакого сравнения с нею.
Гаррис переходит затем к вопросу о границах между поэ-
зией и музыкой, куда я не хочу за ним следовать. Здесь мне
хочется пожелать поэзии еще одного Лессинга. Он внима-
тельнее рассмотрит нравственное, духовное воздействие поэ-
зии— еще одна нетронутая струна, которой я не хочу ка-
саться. Я хотел лишь обратить внимание моих читателей на
автора, который обсуждает тот же предмет, что и Лессинг,
кое в чем пошел дальше него и был достаточно проницате-
лен, чтобы коротко и ясно исчерпать свою тему, если бы
вместо того, чтобы пускаться в пустые споры о преимуще-
ствах того или иного искусства, он обратил внимание лишь
на различия между ними, затем на их границы и, наконец»
на законы.,,
ПЛАСТИКА
Некоторые наблюдения о форме и образе
из творческого сна Пигмалиона *
ПЕРВЫЙ ОТРЫВОК
1
Слепорожденный, о котором пишет Дидро,1 представлял
себе чувство зрения как орган, на который воздух производит
действие, подобное тому, какое трость производит на осязаю-
щую ее руку. Зеркало представлялось ему машиной, отра-
жающей объемные предметы; при этом он никак не мог
понять, почему нельзя осязать этот объем, и думал, что воз-
можно какое-то средство, возможна какая-то другая машина,
способная обнаружить обман первой. Его тонкое, верное
чувство осязания, как он полагал, полностью заменяло ему
зрение. Он различал шероховатую и гладкую поверхность
какого-либо предмета не менее тонко, чем звуки голоса или
чем мы, зрячие, различаем оттенки цветов. Поэтому он не
завидовал нашему зрению, не имея о нем никакого понятия;
если он и мечтал о каком-либо расширении своих органов
чувств, то разве о более длинных руках, чтобы вернее и точ-
нее ощупать луну с 'помощью осязания, чем это возможно
для нас с помощью зрения.
Как бы романтичным или чрезмерно философским ни
казалось нам это сообщение, оно, в сущности, подтверждается
и другими авторами, отнюдь не смотревшими на это глазами
Дидро. Слепой Саундерсон, несмотря на всю свою матема-
тику, не мог создать себе никакого понятия о фигурах на
плоскости, они становились для него постижимыми лишь
.через посредство специальных приборов. Он считал с их по-
мощью вместо цифр, линии и геометрические фигуры он за-
менял осязаемыми материальными телами. Даже солнечные
лучи в его оптике представлялись ему тонкими, осязаемыми
палочками: он никак не мыслил себе изображения, которое
они создавали и которое становилось благодаря им видимым
1 «Письмо ρ слепых...» и т. д. *
12*
на плоскости, он принимал его как вспомогательное понятие,
идущее от незнакомого ему чувства, принадлежащее другому
миру. Самое трудное в геометрии, объем тела, ему было
легче всего доказать теоретически; то, что зрячим кажется
самым наглядным и легким, — фигуры на плоскости, — было
для него самым трудным; он должен был основываться на
незнакомых, не прочувствованных им понятиях, обращаться
к зрячим, как если бы они были слепыми. Ему было легко
представить себе куб в виде шести сходящихся вершинами
пирамид; но представить себе восьмиугольник на плоскости
он мог лишь с помощью объемного восьмиугольника.
Это различие между зрением и осязанием, понятиями
плоскости и объема становится особенно заметным на при-
мере того слепого, которому Чизлдин вернул зрение. * Еще
будучи слепым, при созревшей катаракте, он мог различать
свет и темноту, а при ярком освещении и цвета — черный,
белый, ярко-красный; но его зрение было, в сущности, осяза-
нием. К его закрытым глазам приближались тела, а не свой-
ства, присущие плоскости, не цвета. Наконец ему сняли
'бельмо, и зрением он ничего не узнал из того, что восприни-
мал раньше осязанием. Он не увидел пространства и не мог
отличить друг от друга совершенно различные предметы;
перед ним стояла, или, вернее, на нем лежала, большая таб-
лица с картинками. Его приучали различать, с помощью зре-
ния познавать осязаемое, превращать плоские фигуры в тела
и тела в фигуры; он учился и снова забывал. «Это — кошка!
Это — собака! — говорил он. — Хорошо, теперь я знаю вас,
и вы от меня уже не ускользнете». Но они еще частенько
ускользали от него, пока его глаз не привык представлять
себе фигуры в пространстве в виде букв, обозначающих преж-
ние осязательные ощущения, быстро соотносить их друг
с другом и тем самым как бы читать окружающие предметы.
«Мы думали, что он сразу же понимает, что изображено на
картинах, которые ему показывали; но оказалось, что мы
ошибались, потому что ровно через два месяца после того,
как ему сняли бельмо, он вдруг сделал открытие, что на них
изображены тела, возвышения и углубления. До тех пор он
представлял их себе лишь как пеструю поверхность, но и
позднее был немало удивлен, обнаружив, что картины были
на ощупь совсем не такими, <как на вид, « что части, выгля-
девшие благодаря распределению света и тени шерохова-
тыми и неровными, оказывались на ощупь такими же
гладкими, как и остальная поверхность. Тогда он задал
вопрос: какое же из двух чувств является обманщиком —
зрение или осязание? — Ему показали портрет его отца, по-
мещенный в брелоке от часов·, и спросили, что это такое? Он
нашел сходство, но чрезвычайно удивился, что такое боль-
шое лицо можно изобразить на столь малом пространстве;
180
это показалось ему столь же невозможным, как поместить
четверик в осьмину. — Сначала он вообще не мог выносить
яркого света, и все, что он видел, казалось ему очень боль-
шим; но при виде вещей большего размера ранее увиденные
казались ему меньше, и он не мог 'представить себе никаких
иных линий, кроме тех границ, которые он видел. Он гово-
рил: «Я знаю, что комната, в которой я нахожусь, составляет
часть дома». Но он не мог понять, что весь дом выглядит
больше комнаты. Он не знал очертаний предметов и не мог
отличить одной вещи от другой, хотя бы они были совер-
шенно различны и по форме и по размеру; когда же ему на-
зывали эти предметы, которые он знал раньше на ощупь, он
внимательно рассматривал их, чтобы узнать их снова. Но так
как ему приходилось знакомиться сразу с чересчур большим
числом новых вещей, то он снова забывал некоторые из них,
и так, по его словам, он знакомился в один день с тысячью
предметов, которые снова позабывал...» и т. д.1
О чем говорят нам эти удивительные наблюдения?
О чем-то* с чем мы бы сталкивались ежедневно, если бы
только обратили на это внимание; о том, что зрение показы-
вает нам лишь образы, и только осязание — объемные тела;
что формы познаются только при помощи осязания, а с по-
мощью зрения мы познаем лишь плоскость, притом не те-
лесную, а видимую световую плоскость. Это положение по-
кажется многим парадоксальным, кое-кому — избитым; но
как бы то ни было, оно справедливо, и из него можно сде-
лать далеко идущие выводы.
Что может свет нарисовать в наших глазах? То, что
обычно рисуют, — картины. Как на белую стену темного по-
мещения, так падает на сетчатку глаза пучок лучей от всего,
что перед ним находится, и рисует на ней лишь то, что перед
ним стоит, — плоскость, на которой расположено рядом
разнообразное множество видимых предметов. Показать
глазу предметы, расположенные друг за другом, или объем-
ные, массивные вещи как таковые, столь же невозможно, как
нарисовать любовника, скрытого за тяжелой драпировкой,
или крестьянина, распевающего песни внутри ветряной мель-
ницы.
Расстилающийся передо мной ландшафт со всеми его
деталями — разве он не картина, не плоскость? Этот спу-
скающийся небосклон и этот лес, теряющийся на горизонте,
это широкое поле и эта река поближе, обрамленная берегами,
1 «Оптика» Смита.
181
все богатство пейзажа — это картина, доска, протяженность,
где одно находится рядом с другим. Я вижу каждый предмет
ровно настолько, насколько могу видеть самого себя в зер-
кале, то есть свои очертания, свою переднюю сторону; о том,
что я представляю собой нечто большее, я должен узнать
•при помощи других чувств или заключить об этом из по-
нятий.
Что же удивительного в том, что слепые, которым вернули
зрение, не видят ничего, кроме картинной галереи, рас-
крашенной плоскости вплотную вперед собой? Ведь и мы сами
не видели бы ничего другого, если бы не узнавали об этом
другом иными путями. Ребенок видит небо- и колыбель, луну
и кормилицу рядом друг с другом, он тянется к луне так же,
как к своей кормилице, потому что для него все это — кар-
тинки на одной плоскости. При внезапном пробуждении,
прежде чем мы соберемся с мыслями, в ночных сумерках
лес и деревья, близкое и далекое, 'Представляются нам как бы
на одной плоскости, близкими великанами или далекими
карликами и движущимися на нас призраками, пока мы не
проснемся и не придем в себя. Тогда только мы замечаем,
как, уже по привычке, мы учимся видеть у других наших
чувств, в особенности у осязания. Тело, если мы не устано-
вили, что оно тело, при помощи осязания или не пришли
к заключению, на основании сходства, что оно имеет объем,
всегда будет оставаться для нас рукояткой Сатурна, * повяз-
кой Юпитера,* то есть феноменом, явлением. Офтальмит, *
наделенный тысячью глаз, но лишенный осязающей руки,
остался бы навеки в пещере Платона * и не имел бы поня-
тия ни об одном свойстве объемного тела как такового.
Ибо что такое все свойства тела, как не отношение между
этими телами и нашим телом, нашим чувством? Что такое
непроницаемость, твердость, мягкость, гладкость, форма,
очертания, выпуклость? Об этом не может дать никакого жи-
вого, телесного понятия ни мой глаз с помощью света, ни
моя душа посредством самостоятельного мышления. Этим по-
нятием не обладает ни птица, ни лошадь, ни рыба, оно при-
суще лишь человеку, ибо, наряду с его разумом, у него есть
ощупывающая, осязающая предмет рука. А там, где у него
нет ее, где нет возможности удостовериться в свойствах
объемного тела путем телесного осязания, там ему остается
строить умозаключения и догадки, воображать и выдумывать,
ничего, собственно, толком не зная. Чем больше он осязает
предметы как таковые, имеет их, обладает ими, вместо того
чтобы глазеть на них или воображать, тем живее будет его
чувство. Это и будет, как показывает само слово, понятие
вещи. *
Загляните в детскую, и вы увидите, как маленький чело-
век, набирающийся опыта, трогает, хватает, берет в руки, взве-
182
шивает, ощупывает, измеряет с помощью рук и ног, чтобы
ясно и четко составить себе самые трудные, первые и наибо-
лее необходимые понятия о предметах, формах, величине,
объеме, расстоянии и т. п. Ни слова, ни поучения не могут
дать их ребенку; только опыт, испытание, проверка. За не-
сколько минут он научится большему и воспримет все живее,
ярче, правильнее, сильнее, чем при разглядывании или сло-
весном объяснении, пусть даже в течение тысячелетий. Здесь,
беспрерывно связывая чувства зрения и осязания, проверяя,
расширяя, возвышая и укрепляя одно другим, он формирует
свои первые суждения. Через промахи и ошибочные выводы
приходит он к истине, и чем основательнее он мыслил и
учился мыслить, тем более прочный фундамент он заложил,
быть может, для самых сложных суждений своей жизни.
Поистине, это 'первый музей для физико-математического
обучения!
Ведь проверенной истиной является то, что слепой, когда
его ничто не отвлекает, составляет себе при помощи осяза-
ния гораздо более полное представление о свойствах пред-
мета, нежели зрячий, легко скользящий по нему взглядом
вслед за солнечным лучом. Своим ограниченным, смутным,
но бесконечно более гибким чувством, своей привычкой мед-
ленно, методически, точно и уверенно добывать представле-
ния на ощупь, он сможет гораздо тоньше судить о форме и
живой реальности вещей, чем тот, мимо кого все это скользит
подобно тени. Мы знаем о слепых, лепивших из воска лучше,
чем зрячие, и мне никогда не приходилось слышать, чтобы
недостающее чувство не заменялось другим, например зре-
ние — осязанием, восприятие цвета — рельефностью образов.
Значит, справедлива мысль: «Тело, которое видит глаз,—
это всего лишь плоскость; плоскость, которую осязают
пальцы,^—уже тело».
Но так как мы с детства привыкли пользоваться нашими
органами чувств одновременно и во взаимосвязи, чувства
наши переплетаются и сочетаются друг с другом, в особен-
ности самые основные и самые отчетливые из чувств — ося-
зание и зрение. Трудные понятия, которые мы приобретаем
ощупью, медленно и с усилием, сопровождаются зрительны-
ми идеями: они поясняют нам то, что мы осязали вслепую,
и таким образом мы привыкаем схватывать одним взглядом
то, что вначале лишь медленно постигали осязанием. Когда
тело касалось нашей руки, образ его одновременно проникал
нам в глаза; душа соединяла то и другое, и тогда более быст-
рое зрительное представление опережало медленное осяза-
тельное. Мы думаем, что види-м там, где -мы только осязаем
и должны осязать; и под конец'видим так много итак быстро,
что уже ничего не осязаем и не можем осязать, тогда как
это чувство должно быть основой и проверкой предыдущего.
183
Во всех этих случаях зрение является лишь сокращенной
формулой осязания. Выпуклая форма стала фигурой на пло-
скости, статуя — плоской гравюрой. Зрение — это соя, осяза-
ние — это действительность.
То, что это справедливо, доказывают нам случаи, когда
свидетельства обоих чувств расходятся, и выступает новый
посредник или новая формула, которые должны объединить
их. Например, когда погруженная в воду палка кажется
сломанной, и мы пытаемся схватить ее не в том месте; здесь
речь идет, пожалуй, не об обмане чувств — и'бо мне незачем
было хватать рукой зрительное изображение как таковое.
Таким образом, то, что я видел, было истинной, подлинной
картиной на подлинной плоскости; лишь то, за чем я потя-
нулся, было ложным; потому что кто же станет хватать ру-
кой картину на плоскости? — Но так как наше зрение и ося-
зание воспитывались вместе, как сестры, и каждое из них
с юных лет привыкло помогать другому, а порою даже брать
всю работу на себя, и здесь случилось то же, и одна сестра
потеряла из виду другую. До сих пор они совершали свои
опыты на твердой земле; теперь они встретились в воде,
в другой стихии преломления лучей, где им еще никогда не
приходилось действовать сообща. Водяной был бы, вероят-
но, более удачлив.
Еще один пример из вышеупомянутой истории. «Слепой
Чизлдина видел в картине только раскрашенную доску; вы-
делив и узнав на ней отдельные фигуры, он попытался схва-
тить их рукой, как объемные тела». Это кажется странным,
но это вполне естественно и случается нередко. Ребенок,
с его непривычным глазом, гораздо чаще, чем мы думаем,
видит раскрашенную доску вместо картины; пока фигуры
кажутся ему приклеенными к доске, он не может объяснить
себе вон эту тень, вон ту полосу; он только глазеет. Но вот
фигуры начинают оживать; кажется, будто они выступают
вперед, становятся выпуклыми. Видишь, как они стоят перед
тобою, хочется схватить их рукой, сон становится действи-
тельностью. Наивысшая любовь и восхищение достигают
того же эффекта, что и невежество, и в этом как раз победа
художника! Благодаря его волшебному обману зрение
должно стать осязанием, подобно тому как у него осязание
стало зрением.
е
Я полагаю, что мне не нужно больше нагромождать при-
меры для доказательства положения, которое и так оче-
видно: «Для зрения существуют одни лишь плоскости, кар-
тины, фигуры, расположенные в одном плане, тела же и
формы тел связаны с осязанием». Посмотрим же, почему мы
184
так долго останавливались на этом рассуждении и что дает
нам это различие.
Мне кажется, очень многое. Ибо основной закон и огра-
ничение сферы воздействия двух различных и переплетаю-
щихся чувств никогда не являются пустым, чисто умозритель-
ным размышлением. Если бы все наши понятия в области
науки и искусства были сведены к своим истокам или если бы
их можно было свести к ним, тогда обособились бы связи
и связались бы различия, которые остаются неупорядочен-
ными в великом переплетении всех вещей, именуемом
жизнью. Так как все наши понятия исходят из человека или
относятся к нему, то именно здесь, вблизи этого центра и
его способа размышлять и действовать, следует искать источ-
ник величайших заблуждений и самой очевидной истины, или
его не найти нигде. Я остановлюсь здесь только на двух
чувствах и на одном 'понятии — понятии красоты.
Слово красота * происходит от слов «созерцать» и «ка-
заться», и легче всего ее можно познать и оценить через со-
зерцание, через прекрасную видимость. Нет ничего более
быстрого, более ясного, более ослепительного, чем солнечный
луч и наш глаз, летящий на его крыльях; весь внешний мир
в его сосуществовании сразу же открывается нашему
взгляду. И раз этот мир не исчезает, подобно звуку, но
остается и как бы сам зовет к созерцанию, раз тонкий сол-
нечный луч так чудесно окрашивает и так четко обрисовы-
вает все вокруг, — что удивительного в том, что наша наука
о душевной жизни охотнее всего черпает названия из этого
чувства? Ее познание — это зрение; ее высшее наслажде-
ние — красота.
Не приходится отрицать, что с этой высоты можно обо-
зреть многое, и многое из этого множества может стать очень
ясным, светлым и четким. Зрение — это самое искусное, са-
мое философское чувство. Оно оттачивается и проверяется
тончайшими упражнениями, выводами, сравнениями, оно рас-
секает солнечным лучом. Если бы мы, пользуясь только од-
ним этим чувством, построили феноменологию прекрасного и
истинного, то это было бы уже очень много.
Однако это было бы еще далеко не все, и как раз до са-
мого основного, простого, первичного мы бы не дошли. Чув-
ство зрения действует на плоскости, оно играет и скользит по
поверхности картин и красок; но сверх того перед ним
столько многообразного и сложного, что с одной его по-
мощью, пожалуй, не доберешься до сути. Оно опирается на
другие чувства и заимствует у них: их вспомогательные по-
нятия составляют ту основу, которую оно только озаряет
своим светом. Если вместо того, чтобы проникнуть в предста-
вления других чувств и с самого начала ощутить, ощупать
очертания и формы, я буду только смотреть на них, то вся
185
моя теория прекрасного и истинного, почерпнутая лишь из
чувства зрения, повиснет в воздухе, как мыльный пузырь.
Выводить теорию прекрасных форм из законов оптики—это
то же, что выводить теорию музыки из вкусовых ощущений.
«Красный цвет, — говорил наш слепой, — теперь я понимаю
его; он напоминает звук трубы». Именно в таком духе напи-
саны многие сочинения по эстетике, .они переносят понятия,
присущие одним чувствам, в область других, так что в конце
концов перестаешь что-либо понимать.
Обычно изящные искусства классифицируют соответ-
ственно двум главным чувствам: зрению и слуху; и первому
отдают все, что только хотят, но не то, что оно само требует:
плоскости, формы, краски, фигуры, статуи, подмостки,
прыжки, костюмы. То, что статуи можно видеть,-—в этом
никто не сомневается; но можно ли сразу же, одним зрением,
определить, что такое прекрасная форма? Может ли это по-
нятие признать в зрении свой источник и своего главного
судью? Это не только сомнительно, это невозможно. Пусть
существо, целиком обратившееся в зрение, будь это даже сам
Аргус с его сотнею глаз, сто лет подряд глядит на какую-
нибудь статую, рассматривая ее со всех сторон; если это су-
щество не имеет рук, которые могут осязать или, по крайней
мере, ощупать себя самое, то птичий глаз, даже самый
острый, вооруженный сверх того клювом, когтями, крыльями*
все равно будет видеть эту вещь лишь с птичьего полета.
Объем, угол, форму, выпуклость — с помощью зрения я не
могу познать их как таковые, в их телесной реальности, а тем
более — самую сущность этого искусства, прекрасную форму,
прекрасное сложение, которое не есть цвет, не есть игра
пропорций, симметрии, света и тени, но являет собою воспро-
изведенную, осязаемую правду. Прекрасная линия, постоянно
меняющая здесь свой путь и ни разу насильственно не пре-
рванная, линия, которая без противоестественных изгибов
обрисовывает прекрасные и роскошные очертания тела и без-
остановочно, постоянно стремясь вперед, образует плавную
выпуклость, расплывчато-нежную, очаровательную телес-
ность, не знающую ни плоскости, ни углов; эта линия не мо-
жет превратиться в плоскость, доступную одному лишь зре-
нию,— в картину или гравюру; иначе она лишится главного,
что в ней есть. Зрение разрушает прекрасную статую, а не
создает ее: оно превращает ее в углы и плоскости, и хорошо
еще, если ее прекраснейшая задушевная сущность, ее пол-
нота и округлость ее форм не превратятся в сплошные углы
отражения; совершенно очевидно, что зрение никак не может
называться матерью этого искусства.
Взгляните на любителя скульптуры, как он, опустив го-
лову, бродит вокруг статуи. Чего только он не делает, чтобы
превратить свое зрение в осязание, чтобы видеть так, как
186
если б он ощупывал ее в темноте! Он бродит вокруг нее,
ищет успокоения и не находит его: здесь нет одной опреде-
ленной точки зрения, с которой ее можно рассматривать, как
картину; ему мало и тысячи таких точек, ибо с любой непо-
движной точки живое превращается в плоскую картину и
прекрасное выпуклое изображение рассыпается на жалкие
многоугольники. Поэтому он все время находится в движе-
нии: его глаз становится рукою, световые лучи—пальцами,
или, вернее, его душа обладает еще более чувствительными
пальцами, чем рука и световой луч, способными схватить и
вобрать в себя образ из рук и души его создателя. Она вос-
приняла его! Иллюзия возникла: образ ожил, и она чув-
ствует, что он живет; и вот она говорит о нем не как о зри-
мом, а словно об осязаемом. Холодное описание статуи
дает о ней такое же слабое представление, как живо-
писное изображение музыки; лучше оставь ее и пройди
мимо.
Если я способен простить кому-либо восторг, то лишь лю-
бителю искусства, художнику: потому что без такого во-
сторга не было бы ни знатока, ни художника. Жалкий про-
стак, сидящий перед своей натурой и видящий лишь ровную
и плоскую поверхность, бедняга, стоящий перед живым че-
ловеком и видящий в нем лишь красочную Балитру, — это
пачкун, а не художник. Для того чтобы фигуры выступали
из холста, росли, оживали, говорили, действовали, они дол-
жны явиться такими и самому художнику, такими он должен
почувствовать их. Фидий, который изваял Громовержца, про-
читав о нем у Гомера, когда с головы Юпитера, с его кудрей,
на него сошла способность приблизиться к божеству и объять
его во всем величии и любви; Аполлоний Несторид, который
создал Геркулеса, почувствовав этого покорителя гигантов
в своей груди, в своих бедрах, в руках, во всем теле; Агасий,
когда он сотворил своего бойца, ощупывая все его мускулы
и воплощая его во всей силе; если им не дозволено говорить
с восторгом, то кому же еще? Они высказались своими тво-
рениями и умолкли; знаток искусства чувствует, творит вслед
за ними и, запинаясь, лепечет обо всем, что его захватило
в море жизни. Вообще чем ближе мы подходим к какому-
либо предмету, тем живее становится наша речь, и чем жи-
вее мы чувствуем его издалека, тем тягостнее кажется нам
разделяющее нас пространство и тем более мы стремимся
к нему.
Горе любовнику, который в безмятежном спокойствии из-
далека взирает на свою возлюбленную, словно на плоскую
поверхность картины, и довольствуется этим! Горе тому
ваятелю Аполлона или Геркулеса, кто никогда не сжи-
мал в своих объятиях стана, подобного Аполлону, никогда
не чувствовал на ощупь, хотя бы во сне, грудь и спину
187
Геркулеса! Поистине из ничего может быть создано лишь ни-
что, и бесчувственный солнечный луч никогда не станет теп-
лой созидающей рукой.
Если вообще дозволено говорить о творчестве и философ-
ствовать об искусстве, то философия должна быть, по край-
ней мере, точной и по возможности восходить к простейшим
основным понятиям. Когда еще было в моде философство-
вать об изящных искусствах, я долго и безуспешно искал то
понятие, которое, собственно, разделяет прекрасные формы
и краски, ваяние и живопись, — и не нашел его.1 Везде и
всюду я видел, что живопись и ваяние рассматриваются вме-
сте и прекрасное в них понимается как нечто единое, твори-
мое и воспринимаемое одним чувством, одним органом души,
а потому и действует одинаковым образом, в одном
пространстве, через одни и те же естественные чувства,
только в одном случае — в виде выпуклых форм, в другом
случае — на плоскости. Должен признаться, я мало что
в этом понял. Ведь два искусства, действующие в одной
сфере ощущений, должны иметь с субъективной стороны
одни и те же законы истинного и прекрасного, ибо они вхо-
дят в одну и ту же дверь, так же 'как они и вышли из одной
и той же двери и существуют для восприятия одним и тем
же чувством. Значит, живопись должна, насколько возможно,
быть скульптурной, а скульптура — живописной, и это
должно быть прекрасно; ведь они служат одному чувству,
воздействуют на одну сторону души; и все же это глубочай*
шее заблуждение! Я исследовал оба искусства и нашел, что
ни один закон, никакое отдельное наблюдение, никакую осо-
бенность воздействия, производимого одним из них, нельзя
без поправок или ограничения отнести к другому. Я нашел,
что как раз (все то, что наиболее свойственно одному искус-
ству и тем самым производит наиболее сильное впечатление,
как присущее ему одному, совершенно неприменимо к дру-
гому, а будучи перенесено на него, производит самое ужас-
ное воздействие. Я нашел разительные примеры этого на
практике, но еще более разительные в теории и философии
этих искусств, которые нередко пишутся людьми невеже-
ственными в искусстве и науке; здесь все странным образом
перепутано, и оба искусства рассматриваются не как сестры,
родные или сводные, но большей частью как удвоение еди-
ного, и всякая мелочь, всякая безделица, обнаруженная
1 Мысли Фальконета * об искусстве ваяния являются очень удачным
этюдом художника, отнюдь не ставящего своей целью философски раз-
граничить рамки обоих искусств.
188
в одном, непременно приписывается и другому. Отсюда эти
жалкие высказывания критики, эти скудные запреты и огра-
ничения в искусстве, эта кисло-сладкая болтовня о прекрас-
ном вообще, которая развращает начинающих художников,
вызывает чувство тошноты у мастера и которую толпа по-
вторяет везде и всюду с видом знатока, словно мудрые от-
кровения. И вот наконец я добрался до своего понятия, ко-
торое показалось мне настолько истинным, соответствующим
природе наших ощущений, обоих искусств и сотне удиви-
тельных наблюдений, что оно самым тонким образом, как
подлинный рубеж в самом субъекте, разделяет оба -искус-
ства, производимое ими впечатление и их законы. Я обрел
точку, с которой увидел наконец, что свойственно или чуждо
тому и другому искусству, что является его силой или по-
требностью, мечтой или действительностью, и мне показа-
лось, будто у меня появился новый орган, способный робко,
смутно, издалека ощутить природу прекрасного, где — но я
болтаю слишком много и преждевременно. Вот краткий на-
бросок того, как, по-моему, соотносятся искусства, вопло-
щающие красоту.
У нас есть чувство, воспринимающее отдельные части це-
лого, находящиеся вне нас, одну рядом с другой; чувство,
воспринимающее их одну за другой; и третье, охватывающее
их слитно одну в другой: это зрение, слух и осязание.
Части одна рядом с другой образуют плоскость; части
одна за другой в наиболее простом и чистом виде — это
звуки. Части, существующие одновременно рядом, около и
внутри друг друга, — тела или формы. Значит, в нас суще-
ствуют чувства, воспринимающие плоскости, звуки и формы;
если же речь идет о прекрасном, то три рода чувств для трех
видов красоты, которые следует отличать друг от друга,
как-то: плоскость, звук, тело. И если существуют искусства,
каждое из которых действует в одном из этих видов, то мы
можем определить их область одновременно с внешней и
с внутренней стороны — как плоскость, звук, тело и как зре-
ние, слух, осязание. Это границы, поставленные им самой
природой, а не какие-либо условные ограничения; следова-
тельно, никакие условные ограничения не могут изменить их,
иначе природа отомстит за себя. Музыка, пытающаяся живо-
писать, или живопись, пытающаяся звучать, или скульптура,
пользующаяся красками, или живопись, высеченная
в камне, — это выродки, производящие ложное впечатление
или вовсе никакого. И все три искусства относятся друг
к другу как плоскость, звук, тело или как пространство,
время и сила — три величайших средства всеобъемлющего
творения, которыми оно все охватывает, все объемлет.
Сделаем сразу же один-два вывода о том, как соотносятся
между собою картина и живопись в целом.
189
Если последняя является искусством для глаза и если
правда, что глаз воспринимает только плоскости и все лишь
как плоскость, как картину, то, значит, произведение худож-
ника, tabula, tavola, tableau,1—-картина на доске, на кото-
рой творение художника запечатлено как сновидение, где
все основано лишь на видимости, на сосуществовании рядом
друг с другом. Отсюда и должны исходить и к этому сво-
диться замысел и расположение, единство и многообразие
(и все прочие навязшие в зубах термины), и сколько бы ни
было написано об этом глав и томов, это совершенно оче-
видно для самого художника, если он исходит из наипростей-
шего принципа, из природы своего искусства. Она одна яв-
ляется для него непререкаемым законом, иного он не должен
знать; она одна для него божество, которому он поклоняется.
И если он искренне, добросовестно подходит к своему творе-
нию, то вся эта философия в самой своей основе и сути
должна показаться ему чрезвычайно простой, а болтовня во-
круг нее — совершенно ненужной.
Ваяние созидает слитно, объединяя одно с другим и ро-
ждая единое живое творение, исполненное души, которое су-
ществует, и существует надолго. Оно не может изображать
сумерки и утреннюю зарю, молнию и гром, ручей и пламя,
все то, чего не может коснуться осязающая рука; но почему
в этом должно быть отказано живописи? У нее другие за-
коны, другая власть и другое призвание; ее задача изобра-
зить огромную картину природы во всем многообразии ее
явлений, во всей ее прекрасной и великой зримости; и, с ка-
ким волшебством она это делает! Как глупы те, кто прези-
рает, недооценивает пейзажную живопись, куски природы,
взятые из могучей взаимосвязи мироздания, те, кто незаслу-
женно унижает художника или, чего доброго, с важной ми-
ной запрещает художнику писать пейзажи. Как же это, жи-
вописец — и не должен быть живописцем? Изображающий
не должен изображать? Кистью он обязан вытачивать статуи
или водить по струнам красками, как это угодно их истинно
античному вкусу. Изображать картину мироздания кажется
им недостаточно благородным; как будто небо и земля не
прекраснее и не значительнее, чем жалкий калека, ползаю-
щий между ними; а между тем его изображение пытаются
во что бы то ни стало навязать художнику как единственно
достойный предмет живописи.
Ваяние создает прекрасные формы, оно сливает воедино^
и изображает; поэтому неизбежным образом оно воссоздает
лишь то, что заслуживает изображения к стоит особняком
в своей законченности. Оно не может выиграть от располо-
жения вещей друг с другом рядом, так, чтобы одна помогала
1 Картина (лат., итал., франц.).
190
другой и все вместе благодаря этому выглядело не так уж
плохо, ибо в нем единство является всем и все является еди-
ным. Если предмет недостоин изображения, безжизнен, плох,
ничего не говорит нам, — жаль резца и мрамора! Конечно,
не стоило бы труда изображать жабу или лягушку, скалу
или матрац, если только они не служат дополнительными
деталями для какого-нибудь более высокого творения и, сле-
довательно, не претендуют на главное место. Там, где трепе-
щет живая душа, одухотворяя прекрасное тело, где искус-
ство стремится изобразить тело, оживленное душой, богов,
людей и благородных животных, — пусть оно изображает их,
и их оно действительно изображало. Тот же, кто, руковод-
ствуясь высокими и строгими идеалами, в свою очередь на-
вязывает этот закон художникам, живописцам великой кар-
тины мироздания, пусть он ощупает свою собственную го-
лову и подумает, в каком виде можно было бы изобразить
его самого.
Наконец, ваяние — это правда, живопись — сновидение;
одно создает изображение, другая — волшебство рассказа.
Какое различие! И как мало соприкасаются они в своих осно-
вах! Статуя может обнять меня, я могу опуститься перед
нею на колени, стать ее другом и спутником, она существует,
она тут. Прекраснейшая живопись — это всего лишь роман,
иллюзия, сновидение. Она может заставить меня воспарить,
на минуты стать реальной и, словно'ангел, одетый светом,
увлечь меня за собой; но это будет впечатление совсем иного
рода. Световой луч ускользает, остается отблеск, картина,
мысль, краска. Я не могу представить себе теоретика, кото-
рый считал бы оба эти искусства покоящимися на одном
основании — и оставался бы человеком.,.
О ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЭЗИИ НА НРАВЫ НАРОДОВ
В ДРЕВНИЕ И НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Сочинение на соискание премии (1778)
ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ
Что такое поэзия? Действенное поэтическое искусство?
И как воздействует она на человеческие нравы и народы?
Хорошо или дурно?
Глава об общих вопросах.
Если поэзия представляет собою то, чем она должна быть,
то сущность ее заключается в действии. Она, этот язык
чувств и первых могучих впечатлений, язык страсти и всего
того, что вызывается страстью, язык воображения, действия,
памяти, радости или страдания, пережитых, увиденных, ис-
пытанных, действовавших и воспринятых, язык надежды или
страха вновь пережить все это в будущем — возможно ли,
чтобы она не воздействовала на нас? Природа, чувства, вся
душа человека излились в языке и выразили себя в нем, за-
печатлели в нем свой облик и, следовательно, воздействуют
через него на все, что является природой, на все одинаково
настроенные, сочувствующие души. Как магнит притягивает
железо, как звук одной струны будит отзвук в другой, как
любое движение, любая страсть или чувство продолжается
и передается дальше там, где оно не встречает сопротивле-
ния, так и языку чувств присуще всеобщее и в высшей сте-
пени естественное воздействие. Он накладывает на душу свой
отпечаток, так же как изображение или печать оставляет от-
тиски на воске или глине.
И чем правдивее, явственнее и сильнее это отражение на-
ших чувств, то есть чем ближе оно к истинной поэзии, тем
сильнее и правдивее будет впечатление от нее, тем больше
и длительнее будет его воздействие. Не она, но сама при-
рода, весь мир страстей и поступков, заключенный в душе
поэта, который он стремится выразить словами, — вот что
воздействует на нас. Язык — всего лишь канал; подлинный
192
поэт — всего лишь переводчик, или, вернее, посредник между
природой и душой, сердцем своих братьев.
То; :что воздействовало на поэта, и так же, как оно на
него .воздействовало, продолжает оказывать свое действие —
и не с помощью его собственных сия, произвольно выбран-
ных, пришитых, как заплаты, условных, но с помощью приг
родных сил. И чем более люди способны ощутить или хотя
бы смутно предчувствовать эти силы, чем более они способны
видеть- то, что совершается в природе, и слышать то, что воз-
вещает им посланец мироздания, тем сильнее действует поэ-
зия в них самих. И сразу же она начинает воздействовать
через, их посредство дальше. Чем больше она воздействует
на толпу людей, которые получают эти впечатления одновре-
менно и сообщают их друг другу, подобно отраженным сол-
нечным лучам, тем более струится из нее тепла и света; вера
поэта может стать верой всего народа, претвориться в по-
ступки, нравы, характеры, стать их бедствием или блажен-
ством.
Немало выдающихся умов пыталось определить, в каком
состоянии и в какую эпоху род человеческий и человеческое
общество более всего восприимчивы и способны понять этот
язык природы, ее чувства и страсти. И все х высказались за
детство и юность нашего человеческого рода, за первую сту^
пень образующегося общества. Пока человек живет среди
окружающей его природы, полностью соприкасаясь с нею,
чувствуя себя младенцем этой живой, могучей, многоликой
матери, прильнув к ее груди или радуясь первым забавам
вместе со своими братьями, ее творениями и родственными
побегами одного и того же древа жизни; чем более непосред-
ственно он воздействует на них и поддается их непосред-
ственному воздействию, ничего не подразделяя, не изучая, не
украшая и не теоретизируя; чем свободнее и божественнее
может он выразить словами все воспринятое им, полностью
передать всю картину своих поступков и воздействовать с по-
мощью своей врожденной, а не привнесенной извне силы;
наконец, чем достовернее и правдивее воспринимают . это
окружающие, воспринимают так, как он это им преподнес,
настраиваются на его лад и подвергаются поэтическому
1 Я.хочу прежде всего и в особенности назвать Блэкуэлла* — «Иссле-
дование о жизни и произведениях Гомера» (немецкий перевод — Лейп-
циг, 1776), Вуда — «Опыты об оригинальном гении Гомера» (немецкий
перевод — Франкфурт, 1773), Блэра — «Исследование об Оссиане»
(предисловие к переводу Дэниса), потому что большинство новейших
авторов черпало, из этих источников, те же, в свою очередь, собирали
зерна- своих наиболее удачных наблюдений у самых древних. Если, кто-
либо понял это положение неверно, то есть в том смысле, будто в про-
свещенных государствах не может жить и развиваться поэт, то следует
рассеять это недоразумение, не искажая, однако, исторической правды и
не изменяя ей.
13 Зак. 291. Гердер J93
воздействию так, как хочет этого сам поэт, а не они, его слу-
шатели,— тем больше тогда поэзия живет и действует, и это
как раз бывает во времена природной дикости или на пер-
вых ступенях общественного развития. В дальнейшем, чем
больше искусство занимает место природы и придуманные
людьми законы заменяют непосредственное чувство, — в
условиях, когда люди ничего не значат или постоянно скры-
вают свою истинную сущность, когда они калечат чувства и
тело, чтобы не ощущать свою связь с природой или не дать
ей воздействовать на других, — возможна ли тут поэзия, воз-
можен ли искренний действенный язык природы? Ложь не
трогает; искусственность, насилие и лицемерие не могут про*
будить восторг, как ночь и .мрак не могут освещать. Сочи-
няйте (в буквальном смысле слова), продолжайте сочинять;
сочините себе природу, чувства, поступки, нравы, язык; вели-
кая матерь истины и любви взирает на ваши забавы, смеясь
или скорбя. Истинная поэзия мертва, небесный огонь угас,
и от его воздействия осталась лишь кучка пепла.
Так вот какова поэзия и каким путем она воздействует на
нас; но что же она вызывает? Как она порождает нравы?
И каковы они, хороши или дурны?
Мне кажется, ответить на этот вопрос в общей форме со-
вершенно невозможно. Все дары бога в природе хороши, хо-
рош и величайший из всех даров, ее живой язык. Чувства,
воображение, поступки, страсть, все, что выражает и изобра-
жает поэзия, — все это прекрасно; поэтому нельзя назвать
дурным и ее влияние на других, если оно происходит в гар-
монии и согласии. Но так как все в мире, — и как раз самое
благородное чаще всего, — служит предметом злоупотребле-
ний, то и поэзия, этот благородный, восхитительный бальзам,
составленный из самых сокровенных сил мироздания, может
превратиться в сладостный яд, в опьяняющее, смертельное
сладострастие. Saecli incommoda, pessimi poetae.l Дело тут
не столько в самой вещи, сколько в злоупотреблении ею; и
следовательно, поскольку все это целиком в руках самих лю-
дей, нужно особенно тщательно указать границы, точнее —
оградить область злоупотреблений, предостерегая от них.
Итак, без дальнейших метафизических рассуждений о том,
что такое поэзия, влияние, эпоха, добро и зло, откроем книгу:
пусть она решает, доказывает, учит и предостерегает нас...
...Книгопечатание принесло много хорошего; но оно на-
несло немалый ущерб поэтическому творчеству, его непосред-
ственному воздействию. Некогда стихи звучали в кругу жи-
вых людей, под звуки арфы, оживляемые голосом, душой
1 Дурные времена, плохие поэты (лат.).
№
и сердцем певца или поэта; теперь они оказались красива
напечатанными черным по белому, на листках, сделанных из
тряпок. Теперь они попадали в руки любезному благосклон-
ному читателю в любое время; он читал их небрежным и
рассеянным взглядом, пробегая, просматривая, не задумы-
ваясь. Если правда, что живое присутствие, внимание, ду-
шевное настроение так несказанно много значат и важнее
всего для восприятия поэзии; если действительно существует
большая разница между тем, услышишь или прочитаешь,
слышишь сам от поэта или его истолкователя, боже-
ственного рапсода, или же только смутно представляешь
себе все это, скандируя слоги; если ко всему уже сказанному
прибавить этот новый обычай во всем его масштабе, — то
как много выиграла поэзия в качестве искусства и как много
утратила в своем непосредственном воздействии! Теперь
поэт стал писать, раньше он пел\ писать медленно, для того
чтобы его читали, тогда как раньше он подбирал акценты,
чтобы живым звучанием затронуть сердца. Теперь он ста-
рался писать понятно-, точки и запятые, рифмы и периоды
должны были заменить, определить и заполнить все то, что
раньше в тысячу раз многообразнее, лучше и ярче выражал
живой голос самого певца. И, наконец, теперь он писал ради
славного классического наследия, ради бумажной вечности,
тогда как прежде певец или рапсод пел только для настоя-
щего момента, но в этот один момент он достигал такой сте-
пени воздействия, что сердце и память заменяли собою биб-
лиотеки на целые столетия.
Музыка стала самостоятельным искусством, отделилась
от поэзии. И хотя, несомненно, благодаря этому обе они вы-
играли как искусства, но все же, мне кажется, кое-что они
утратили с точки зрения своего воздействия. Чувства, кото-
рые музыка одна способна выразить, она передает лишь
смутно и неясно, и если не прибегать к помощи художествен-
ного чувства, то многое в ней останется для нас книгой за
семью печатями, и мы не могли бы долго мириться с такой
неясностью. Поэзия, лишенная звуков и пения, обречена
была стать со временем словесным мусором, естествозна-
нием, философией, учением о нравах, сухой мудростью и уче-
достью...
13*
КАЛЛИГОНА
О ПРИЯТНОМ И ПРЕКРАСНОМ
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ
«О книге (как это ясно говорится в предисловии к «Me-
такритике»),1 о книге идет здесь речь, а не об авторе. Еще
того менее — о даровании и целях автора, а только о содер-
жании и воздействии книги». Самому автору, его дарованию,
его учености и образу мышления, насколько они мне были
известны, я уже много ранее публично2 засвидетельствовал
свое глубокое уважение, столь же охотно, сколь искренне.
И если цель его философии заключалась бы в том, чтобы
•пресечь, искоренить или хотя бы ограничить ложные ухищре-
ния пустых размышлений или болтливых умствований, то
разве мог бы кто-нибудь возражать против такого сокра-
тившая *
О содержании книги шла речь и о ее воздействии: До-
стигнута ли эта цель и может ли она быть достигнута, когда
беспредметному и не подчиняющемуся никаким правилам
разуму (каким он будто бы является согласно этой Критике)
приписывается функция и власть творить природу до вся-
кого опыта и помимо всякого опыта, если этому разуму
(будто бы окруженному со всех сторон обманчивым светом
паралогизмов * и витающему, по самой своей сущности,
в гирлянде антиномий), тем не менее, указывается как его
назначение — стремиться к абсолютной всеобщности и абсо-
лютной необходимости, не доказывая, а требуя того и дру-
гого с помощью чистого синтеза a priori, * с помощью обще-
значимых постулатов и говоря о завершении человеческих
знаний там, где едва только что-то начато, и т. д.
1 «Метакритика к Критике чистого разума», ч. I. Предисловие,
стр. XVI.
2 «Письма о распространении гуманности», сборник 6.
196
Вот о чем должна была идти речь по поводу труда,
в завершении которого предлагалось участвовать всякому,1
труда, который всем и каждому навязывал эту совместную
работу.2 А кто не пожелал бы помочь совершенствованию
чистого всеобщего разума всех разумных существ на все
грядущие времена?..
...С тем же правом и в силу той же обязанности, которая
заставила меня добавить к «Критике пустого разума» свою
«Метакритику», я дополняю теперь «Критику способности су-
ждения» своей «Каллигоной», так же мало беспокоясь о том,
как ее примут: ибо человек, хотя бы в малой степени озабо-
ченный этим вопросом, никогда не написал бы «Метакритики».
С тем же правом: ибо слово критика вызывает нас на
критику, а слова способность суждения — на суждение; оба
они никому не отданы ни в собственность, ни в аренду.
В силу той же обязанности: ибо что такое критический
идеализм в его применении к суждениям вкуса, какие прин-
ципы он устанавливает, какие понятия о прекрасном, об
изящных искусствах и науках, об их ценности и применении,
в общем и в частном, он берет за общеобязательную основу,
что он говорит о возвышенном, об идеале, о нравственно-
прекрасном — все это как раз и должна показать «Калли-
гона»» Наскучив, однако, возражать против утверждений,
большей частью даже не заслуживающих полемики, она из-
бегала ее, насколько могла. По возможности ее избегнет и
читатель, ибо из таких принципов, как «лишенное понятия,
целесообразное без цели, эстетическое общее чувство и т. п.»
ничего не извлечешь. Разве это не печально, что философия,
именующая себя единственно возможной, приходит к необхо-
димости отнять у нашего ощущения все понятия, у суждения
вкуса — все основания для суждения, у искусств, имеющих
дело с прекрасным, — всякую цель, тем самым превращая
эти искусства в развлекательную или скучную обезьянью
игру, а самую критику — в общеобязательное диктаторское
суждение, лишенное причины и основания? Тем самым кри-
тике и философии приходит конец...
...Больше тридцати лет тому назад я знал одного юно-
шу, * который слушал самого основоположника критиче-
ской философии, и притом в годы его расцвета и мужествен-
ной зрелости, слушал все его лекции подряд, а некоторые по-
вторно. 3 Юноша был восхищен диалектическим умом своего
1 См. заключительную часть «Критики чистого разума» и Введение.
2 См. «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» и т. д.
3 В 1762—1765 годах появились: «Ложные ухищрения в четырех сил-
логистических фигурах»; «Единственно возможное основание для доказа-
тельства бытия бога»; «Опыт введения в фило.софию понятия отрицатель-
ных величин»; «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышен-
ного» и т. д.
197
учителя, его политической, а также и научной проница-
тельностью, его красноречием, эрудицией и памятью; оратор
всегда свободно владел речью, его лекции были остроумным
собеседованием с самим собой, приятным разговором.
Вскоре, однако, юноша заметил, что когда он отдавался
этим грациям красноречия, его как бы обволакивала тонкая
диалектическая словесная сеть, внутри которой он сам утра-
чивал способность мыслить. Тогда он строго-настрого взял
себе за правило после каждой лекции все, что он выслуши-
вал со вниманием, излагать своим собственным языком, не
повторяя излюбленных словечек и оборотов своего учителя,
напротив — тщательно избегая их. Для этой цели он сочетал
слушание курса со столь же тщательным чтением наиболее
авторитетных писателей древних и новых времен и добился
этим, как ему казалось, умения на известное время прони-
кать в душу каждого писателя как в собственный дом, сво-
бодно и с толком пользуясь всей его домашней утварью, пе-
реселяться во все эпохи и в разнообразнейшие мыслительные
системы, сохраняя, однако, возможность выбраться оттуда и
оставаться наедине со своими собственными мыслями.
В этих упражнениях его особенно укрепили Платон, Бэкон,
Шефтсбери, Лейбниц. Таким образом, никогда он не чув-
ствовал себя более свободным и независимым от системы
своего учителя, как в то время, когда он почтительно пре-
клонялся перед его умом и проницательностью. Юнг дает та-
кой же совет подражать древним в их собственном духе, уда-
ляясь от их образцов. *
Кто захочет, пусть последует этому совету. Тем самым он
почувствует себя свободным, помолодевшим, господином
своего духовного мира, своего пера и языка. Тот же, кто, на-
против, даже в обыденном разговоре не может понять ни
одного суждения, пока не переведет его с явным трудом на
язык критической философии и затем уже подаст от себя
«трансцендентально-критически», тот, кто даже с господом
богом и с собственной женой разговаривает не .иначе, как
«трансцендентально-критически», тот, конечно, будет парали-
зован в словах, в мыслях, и уж во всяком случае парализо-
ван в своем жизненном поведении. Какой же бог, какой свя-
той поможет ему вновь овладеть своими членами?
Было бы прекрасным признаком неубывающей юноше-
ской силы основоположника критической философии, если
бы он сам, пережив возникшие помимо и против его воли
воздействия своей системы, отрекся от них, публично заявив
о злоупотреблениях, ею вызванных, и объяснив, что его пер-
воначальной целью было «устранить бесполезную умствен-
ную спекуляцию, а отнюдь не насаждать ее терний с по-
мощью по видимости законченного, а по существу никогда
не кончающегося трансцендентализма». Ведь лучшие намере-
J98
ния могут потерпеть неудачу, но откровенное признание этой
неудачи обнаруживает в отважившемся на него больше ве*
•личия, чем сама его система и его намерения.
А всех критико-идеалистических трансцендентальных фи-
лософов мы хотели бы затем поселить в одном городе, где,
отделенные от земнородных (ибо сами они не были никем
рождены), они пекли бы себе идеальный хлеб и выносили об
этом хлебе идеалистические суждения вкуса, свободные от
всякого объекта и понятия, где они творили бы себе свои
собственные идеалистические миры и, «доколе будет суще-
ствовать бог», идеалистически устраивали бы их в соответ-
ствии со своим учением о морали, праве и добродетели и со
своими «лично-предметными» законами о браке, но главным
образом — чтобы они совершенствовались с помощью взаим-
ной критики. Без прибывающих новообращенных юношей их
аристофановское птичье государство * вскоре стало бы со-
вершенным. Ilicet.1
Мы же хотим без «трансцендентального вкуса, принципы
которого живут в сверхчувственном субстрате человечества,
в абсолютно бессознательном», здесь, на этом свете, созна-
тельно формировать наш вкус, 'познавать законы и аналогии
природы и пользоваться искусством и наукой о прекрасном
не для игры или идолопоклонства, но с радостной серьез-
ностью для воспитания человечества.
О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛОВАМИ:
ПРИЯТНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ,
ИНТЕРЕС, ОЧАРОВАНИЕ И УМИЛЕНИЕ,
ПОНЯТИЕ, ФОРМА, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ,
СОВЕРШЕНСТВО, ВСЕОБЩАЯ НОРМА,
А ТАКЖЕ —
ОБЩЕЕ ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО
Доколе же зрелые 1мужи будут играть словами, а юноши
восхищаться этой словесной игрой? Что означают слова:
приятное, прекрасное, целесообразное, нравящееся, или слова:
интерес, форма, понятие, общее чувство, известно всем. Лю-
бая нация обнаружила бы отсутствие культуры, если бы для
нее эти слова имели неопределенный смысл или допускали
произвольное истолкование.
1. Приятным (как известно каждому) называется то, что
охотно принимается. * Большей частью мы употребляем это
Кончено (лат.).
199
слово по поводу даров, по поводу того, что нам достается
в качестве подарка.1 ......
Ощущение, событие или известие мы тогда в особенности
называем приятными, если они для нас неожиданны, но бла-
готворны, приемлемы. Кто же станет сомневаться, что и по-
лезное, равно как и прекрасное, также может быть нам
приятным? Даже независимо от своей красоты нам весьма
приятна, например, картина, если она вышла из-под, кисти
хорошего художника и напоминает нам о приятном. Эти по-
нятия не противоречат друг другу, а только отличаются друг
от друга. В ряде случаев они не только могут сосуществовать,
но в наиболее 'приятных предметах и реально совмещаются.
Поэтому в этом слове, как и в тысяче других, субъективное
и объективное значение слились воедино, и, краткости ради,
объекту стали приписывать то, что, как всякий понимает,
присуще только ощущающему субъекту. Обычно говорят:
«О, какой приятный вечер! Какая приятная музыка!» — и эти
слова понятны всякому. Наконец, в более узком смысле слова,
с точки зрения техники искусства, слово приятный означает
манеру и трактовку, которые отличаются не только от не-
приятного, но также и от возвышенного, бурного, веселого
и т. п. Эти реально живущие в языке значения слов, принятые
всеми культурными народами, не следует ни запутывать, ни
терять: ибо, согласно понятиям самой Критики, вкус и искус-
ство относятся к общему чувству.
2. О прекрасном и о красоте говорилось с тех самых пор,
как появилась речь; всегда этими словами выражались не
только 'понятия, но также и убеждения и образ жизни, чув-
ство и способность суждения говорящего. У греков (чтобы не
восходить к более древним народам) прекрасное (to kalon)
обозначало то, что блещет красотой и одновременно возбу-
ждает своим блеском и внешним видом: солнце, золото,
статная фигура, блестящее мужество и слава, выдающиеся
подвиги. Отсюда часто встречающиеся у греков поговорки:
прекрасное трудно, прекрасного немного, прекраснейшее —
это превосходнейшее, высшее. Прекрасное и высокое, пре-
красное и достойное у них сочетались; kalos k'agathos2 было
всегда у них на устах. Так как у них идея прекрасного брала
свое начало от блеска, славы и совершенства, его название
только и могло сочетаться с силой и стремлением, а не с вя-
лым наслаждением или бесполезной мягкостью. Став более
изощренным, язык греков также не отступал от своего благо-
родного источника. В идее прекрасного сохранились значе-
1 Слова gratus, gratia и т. д. у р<имлян происходят от добровольно
оказанного и благодарно принятого благодеяния. Отсюда же идет и гре-
ческое слово charis, как это показывает происхождение и дальнейшее раз-
витие этого понятия в словах и формах.
2 Прекрасное и добродетельное (греч.).
200
нйя: достойное и прославленное, как у римлян в слове pul-
chrum,l имеющем смысл: honestum,2 decens,3 décorum.4
Изящные искусства не означали у греков того, что они значат
для Критики, а именно—праздной игры. Наиболее благород-
ными из искусств считались у них как раз самые трудные,
они учили превосходнейшему и сами принадлежали к нему*
Для нас также не должен быть, утрачен этот смысл слова
прекрасное (schön): ибо этого требует также и наш язык. То,
что блещет красотой, достойное и 'благородное в мыслях,
в облике и в поступках, — только это для нас и прекрасно. *
С тех тюр, как Платон учил в своей философии о прекрас-
ном я добром (kalon k'agathon), оба эти понятия переплелись
еще теснее. Прекрасное было для него воплощением доброго
и истинного. Его Сократ только в разговоре с Гиппием тол-
кает собеседника то в одну сторону, то в другую своим вопро-
сом: «Что такое прекрасное?», в конце концов вооружая его
лишь той истиной, что найти прекрасное трудно. Перед дру-
гими собеседниками он высказывается ясней. Его прекрасное
(он ведь должен был пользоваться этим словом соответ-
ственно его греческому значению)—это устойчивое в самой
вещи, ее внутренний образ, по отношению к которому внеш-
ний был лишь изменчивой , грезой. В душах человеческих
справедливое, прекрасное и доброе были для него одним и
тем же. Он порицал разделение этих понятий как софисти-
ческий фокус. Всегда, о друзья, должен быть дорог нам его
разговор с Федром. * Клен на Илисе, под которым он про-
исходил, останется для нас навсегда священным деревом,
à молитва Сократа в конце беседы —нашей молитвой: «Доб-
рый Пан и вы, прочие боги этого святого места! Сделайте так,
чтобы мой внутренний мир был прекрасен и чтобы мой внеш-
ний мир гармонически сочетался с внутренним. Богат только
тот, кто мудр. Уделите мне лишь столько денег, сколько
нужно человеку умеренному. Стоит ли нам просить еще
о чем-нибудь, о друзья? Мне же достаточно и этой молитвы».
В школе Платона сохранилось это благородное понятие
прекрасного, пока наконец его не сделали чрезмерно утон-
ченным. Следы его, однако, бесспорны даже во времена
мрачной схоластики, где мы нередко с приятным удивлением
наталкиваемся на них, притом в самых неожиданных местах.
У Августина и Боэция, у Эригены, Фомы Аквинского, Аль-
берта Великого, у Таулера и других это понятие о прекрас-
ном проступает сквозь темные и светлые облака, пока на-
конец в эпоху возрождения наук, вместе с греческим
ι Красивое, прекрасное (лат.).
2 Честное, добродетельное, достойное, красивое (лат.).
3 Пристойное, подобающее, красивое (лат.).
4 Приличие, пристойность; красивое, изящное (лат.).
201
Платоном, оно снова не восходит, подобно утренней звезде.
Спасибо этим платоникам! * Спасибо всем поборникам пре-
красного и доброго в ту эпоху! Именно их увлечение этим
понятием помогло Европе пробиться к свету.
Раньше других этим факелом была озарена итальянская
поэзия, в которой истинное, прекрасное к доброе засияло еди-
ным трехцветным лучом. Стихи Данте, Петрарки и столь
многих других блистают еще ή сейчас этим светом. Даже
философы, прежде других Кампанелла, закладывали фунда-
мент своей науки в излюбленной тогда форме этой святой
троицы: истины, добра и красоты. И ни один обширный,
а тем более ни один проницательный ум, искавший за много-
образием единство, за словами — дело, за видимостью —
правду, не пытался разделить этот союз трех существенней-
ших тенденций нашего бытия.
Наиболее светская нация Европы рассматривала понятие
прекрасного большей частью как приятное, по-светски, под-
час играючи. Между тем было бы несправедливо отрицать
остроумие или проницательность, которые обнаруживаются
в исследованиях многих французских писателей также и по
поводу этого понятия, например у Дидро, Руссо, Монтескье,
а до них у Круза, де Пуйи и др. Число их изящных критиков
почти не поддается определению. Самый язык их есть кри-
тика, критика прекрасного в тончайших различиях понятий
и слов.
Наши западные соседи, островитяне, — хотя и редко ока-
зывались мастерами в создании изящных искусств, а по ча-
сти вкуса к этим искусствам были скорей покупателями и
временными владельцами, чем настоящими собственниками,
зато в области философии прекрасного, в применении пре-
красного к морали стремились следовать благородным пред-
ставлениям греков. Кроме их великих поэтов и мыслителей-
стихотворцев, которые, подобно Шекспиру, Мильтону, Попу,
Юнгу и др., часто в немногих строчках излагали целую тео-
рию, мы должны помнить и о тех уроках, которые нам пре-
подали Шефтсбери и Аддисон, Джонсон, Кэмберлэнд, Херд,
Уортон, Уэбб, Спенс, наряду с их ближайшими соседями: *
Блэкуэллом, Гаррисом, Хомом, Смитом, Битти. Благодаря
Лессингу, Эшенбургу, Гарве, Бланкенбургу и другим боль-
шая часть этой английской критики стала для нас настолько
своей, что мы начали рассматривать и свою собственную
критику, привитую на британское древо, как новое самостоя*
тельно расцветающее растение, — как вдруг критическая фи-
лософия показала нам, что до ее появления мы были
совершенно лишены всяких основных принципов критики
прекрасного, что, вопреки Дюреру и обоим Хагедорнам, во-
преки Галлеру, Клопштоку, Лессингу, Мендельсону, Кест-
неру, Баумгартену, Зульцеру, Энгелю, Гарве, Гемстергейсу,
202
Менгсу, Винкельману и другим, мы понятия не имели о на-
стоящей критике суждений вкуса, покуда критическая фило-
софия не открыла нам, что «суждение вкуса должно быть
эстетическим; что удовольствие от добра не есть прекрасное;
что прекрасным является предмет наслаждения, свободный
от всякого интереса; что красота есть то, что познается без
понятия, как предмет необходимого наслаждения». Этими
игральными фишками расплачиваются в Германии начиная
с 1790 года. Полноценная монета, которая со времен Гомера
и Платона служила у всех культурных народов Европы для
оценки природы прекрасного, была дискредитирована.
Ojnegîste ton theon _
Nun us anaidef, ei theon kaiein se dei.
Die de, to kratun gar nyn nomizetai theos...l
Но перейдем скорее к следующему параграфу, который
должен разъяснить настоящий.
3. Интерес. Начиная с преувеличенных утверждений Гель-
веция, * это слово, как некогда voluptas,2 возбуждает опасе-
ния, которые могли бы совершенно исчезнуть, если бы мы
воспользовались возможно более определенным немецким
словом своекорыстие (Eigennutz). Будучи свободным от вся-
кого своекорыстия, я могу быть полезным себе, и, напротив,
при наличии своекорыстия могу причинять себе и другим·
большой вред. С пользой для себя добродетель вполне со-
вместима; со своекорыстием — никогда. Если бы, наконец,
своекорыстие стало основой критики всего истинного, доб-
рого и прекрасного — короче, к понятию красоты слово «свое-
корыстие» вообще не имеет отношения. Тот, кто ощущает
превосходное качество произведения искусства, не будет
спрашивать: «Сколько оно стоит?» ήο воскликнет: «Оно не-
оценимо!» Если бы, однако, кто-нибудь воспылал такой го-
рячей любовью к произведению искусства, что даже (мы бе-
рем крайний случай) похитил бы его; если бы кто-либо на-
столько увлекся красотой женщины, что соблазнил бы ее, —
в этом случае его чувство красоты идет одним путем, его
глупость или преступление — другим. Там его будет обсу-
ждать критик, здесь будет судить судья; оба не имеют друг
с другом ничего общего. *
Интерес, однако, присущ красоте. Более того, только бла-
годаря ей возбуждает интерес все доброе. Ибо что означает
это слово? Интерес — это quod mea interest, то, что меня ка-
сается. Если вещь не касается меня, — как могу я находить
в ней наслаждение? Чтобы понравиться, поэт, художник, даже
1 О бесстыдство, являющееся ныне величайшим божеством, если бо-
жеством тебя надлежит называть. Да, надлежит, ибо сила ныне считается
божеством (греч.).
2 Наслаждение, сластолюбие (лат.).
203
сама природа должны сначала нас заинтересовать; иначе
все, что они -нам преподносят, пройдет мимо нас как безвкус-
ное кушанье, как блюдо из ореховой скорлупы.
Интерес есть душа не только добра и истины, но и душа
красоты. Отнимите у нее то, чем она привлекает к себе и
удерживает возле себя, или, что то же самое, чем она об-
щается с нами, усваивается нами: зачем она мне тогда? При-
дайте ей интерес, и сказка матушки Гусыни * понравится
больше, чем скучная героида. *
Интерес к прекрасному; бывает ли более чистый интерес?
Что по сравнению с ним холодное своекорыстие, философ-
ская гордость, пышное себялюбие? Благодаря той сущности,
которая, приобщая меня к себе, выводит меня за пределы
моего «я», я забываю о самом себе. Свободный от жалкого
возвращения к самому себе, я переполнен идеей, которая воз-
вышает меня надо мной самим и занимает все мои силы;
напротив, все неинтересное оставляет меня холодным, и если
даже я допускаю его, оно убивает «меня своей скукой.
Поэтому ни одно прекрасное создание искусства или при-
роды не должно для нас быть лишенным интереса, в том
точном смьгсле этого слова, в котором его употребляют все
культурные народы и который совершенно исключает всякое
позор'ное, недостойное искусства побочное понятие своекоры-
стия, наживы и т. п. Зачем же нам, немцам, запутывать и
искажать общий язык народов, которые ранее нас занима-
лись критикой, язык, который является общепринятым?
И смеем ли мы это делать? Ведь сложное и тонкое понятие,
которое стало обозначаться словами интерес, интересное
и т. п., никак не связано с мыслью о своекорыстии или
о процентах* и т. п., и было бы весьма удивительно, если
бы можно было сопоставлять его с такими вещами, либо, что
еще хуже, спутать с ними.
4. Чувственно-приятное и трогательное. * «Чистое сужде-
ние вкуса должно быть независимо от чувственно-приятного
и трогательного».
Как возможен вкус без вкуса, ощущение прекрасного без
чувственно-приятного и трогательного? Если еще, к тому же,
то, что в суждении вкуса зависит от очарования и умиления,
противостоит чистому суждению вкуса и отвергается как не-
чистое, как эмпирическое, то куда же мы придем с этим но-
вым антихудожественным языком искусства?
Самое тонкое и самое чистое в области интересного на-
зывается прелестью; это punctum saliens l действия красоты.
Если она для меня не имеет очарования, горе ей, безжиз-
ненной! Если я не ощущаю ее очарования, горе мне, бес-
чувственному!
1 Выдающаяся точка, центральный пункт (лат.).
204
То, что мы называем грацией, a в ее высшей форме —
чувственной прелестью, греки называют charis, римляне ■—
venustas; они говорили об этом с особой нежностью. Они
считали, что как раз эта гирька на весах наслаждения и дает
тот перевес, к которому стремится как искусство, так и есте-
ственное удовольствие, charis. Скупые на похвалу этой выс-
шей цели искусства, они рассматривали чувственную пре-
лесть как один' из самых чистых божественных даров, как ту
-именно небесную грацию, которая даже не обнаруживает
себя обычному глазу смертных. Она скрыта в поясе, и 'при-
знаком ее служит спокойствие, полное собственного достоин-
ства. Она сообщает простоту чувства, она удерживает и со-
храняет священную радость. Эта грация — отличительное
достояние небесной Афродиты. Чтобы объявить ее пеной на
поверхности, чтобы средоточие чистейшего наслаждения про-
возгласить эмпиризмом, от которого нужно оберегать сужде-
ния вкуса, следует учредить трибунал, на котором, правда,
могут и будут царить не грации, а те, кто неспособен к оча-
рованию и умилению.
Примеры чувственно-приятного и трогательного, которые
приводит Критика,1 например «зеленый цвет муравы, про-
стой тон скрипки (о котором еще неизвестно, имеет ли он
форму), краски, иллюминирующие контуры рисунка, одежды
на статуях, колоннады зданий, золотая рама картины», —
ниже всякой критики. Ведь если чувственная прелесть (в том
смысле, как это слово употребляется и как оно должно
остаться в искусстве)— высшая точка даже не самого рисунка,
но чего-то почти неуловимого в рисунке, духа картины, кра-
соты в живом движении, в момент ее высшего очарования, ее
раскрытия; если трогательное, как здесь об этом может идти
речь, не что иное, как ощущение прекрасного в момент его
наиболее чистого познания и приобщения к нему, — каким
же образом критическое суждение вкуса должно стать .неза-
висимым от этого мгновения, представляющего источник и
существо всего прекрасного, так, чтобы можно было судить
a priori «без очарования <и умиления»? Конечно, без всякого
очарования и с неприятны-м умилением для сознания всякого
понимающего. Для нас, друзья, в наших действиях и сужде-
ниях, никогда не будет нежеланной прелесть, которая была
так невыразимо дорога всем художникам, мудрецам « поэ-
там древних и новых времен. Ничего так не избегали они
в искусстве и в речи, как вялости и отсутствия грации, как
отказа от чувственной прелести и умиления.
5. Понятие. Форма целесообразности. Форма.
Что такое понятие, знает всякий. Всякий подразумевает
под этим и называет этим именем представление о предмете,
1 См. «Критику способности суждения», ч. 13.
205
то, что я в нем усваиваю в процессе познания. В зависимости
от воспринимающих органов, от самого предмета, от позна-
вательной способности, понятие оказывается смутным или
ясным, многообъемлющим или скудным, живым или бледным
и вялым; так или иначе какая-то ясность, какая-то сила, ка-
кая-то живость в нем все-таки должны быть, в противном
случае это не было бы понятие. Игра со словом идея, свой-
ственная другим языкам, чужда нашему немецкому слову
Begriff (понятие). Впрочем, область представлений человече-
ской души отмечена в языке как у греков, так и у народов
нового времени такими ясными отличиями, что все культур-
ные народы Европы не только могут объясняться по поводу
психологических предметов, но во всех науках в известной мере
как бы продолжают развивать одну-единственную науку:
так понятен, так естествен был, за исключением немногих
различий, психологический язык, принятый Платоном и Ари-
стотелем, Декартом и Лейбницем, Локком и Кондильяком,
Когда мы теперь вдруг слышим о «суждениях вкуса, ево-
бодных от всяких понятий, ибо от понятий нет перехода к чув-
ству удовольствия или неудовольствия»,1 то оказывается, что
об этом мы понятия не имели. Неужели, — спрашиваем мы
друг друга, — в человеческой природе существуют не только
чувство удовольствия и неудовольствия, но даже суждения,
эстетические суждения вкуса, свободные от понятия, свобод-
ные от всяких понятий? Не опустились ли мы до уровня
устриц и клещей, хотя и среди них нам кажется почти не-
мыслимым чувство без какого-либо представления, каким бы
оно ни было смутным? И неужели можно хотя бы усо-
мниться в переходе от понятий к чувствам удовольствия и
неудовольствия или от вторых к первым, не говоря уже об
отрицании подобного перехода как немыслимого, если на са-
мом деле между этими чувствами и понятиями, которые во-
обще можно отделить лишь с помощью абстракции, мы в лю-
бое мгновение сознаем самую непосредственную связь? Даже
мечтатель никогда не погружается так глубоко в темные
бездны своей души, чтобы иметь чувства, свободные от вся-
ких понятий, тем более — чтобы без понятий выносить су-
ждения. А если бы эту свободу от понятий он возвел в кри-
терий и постулат, чтобы именно поэтому его личные ощу-
щения и 'суждения вкуса обязательно получили всеобщую
значимость, то от него потребуется всего лишь одно малень-
кое чудо — без помощи понятий сообщить всем и каждому
об этой своей способности высказывать суждения о вкусе
без помощи понятий.
Для всех друзей прекрасного, даже при самом глубоком
1 См. «Критику», § 6.
206
ощущении, понятие красоты остается священным и дорогим.
Греки считали его даже понятием всех понятий, глубочай-
шим выражением единства и энергии нашей души, ее спо-
собности глубочайшим образом усваивать правду и добро.
Когда наш разум мыслит себе свои наиболее ясные понятия,
он должен построить их как некое целое; тем самым он тво-
рит себе идею, образ красоты. Если наша воля будет на-
правлена на добро, ее гостеприимно встретит образ красоты,
облеченный в свои 'побуждения, эти главные чары, которые
исходят от самого объекта, формируют и образуют его.
Всякое ощущение, как мы видели, организовано так,
чтобы выделить одно из многого и освоить его вместе со
многим; в противном случае оно не было бы органическим
ощущением человеческой души. Уже с помощью осязающей
руки в каждой поверхности, в каждой линии какого-нибудь
тела душа ощущает целое, имеющее части; только так наша
фантазия наполняется живыми, различимыми понятиями, из
которых ни одно не может существовать без какой-то степени
удовольствия или неудовольствия. Для глаза^ и уха выде-
ляются даже собственные средства, каждое из которых в со-
ответствии со строением органа обладает способностью не-
разрывно сочетать многое в едином-, следовательно, благодаря
этому закону прекрасного, самим ощущениям противостоял
не просто сырой материал для понятий, запутанный и бес-
форменный, но материал отмеренный и взвешенный самой
природой с помощью неизменной для нас меры, вполне по-
нятной чувству.
Таким образом, при самом запутанном ощущении, как мы
могли бы думать, будто мы блуждаем в лишенном понятий
Тартаре, и при этом — что мы когда-нибудь пробьемся оттуда
.к свету единого понятия? Ведь если нет от понятия никакого
перехода к чувству удовольствия >и неудовольствия, то и от
этих чувств нет перехода к понятиям. Железные ворота были
бы заперты, перед нами оказалась бы неодолимая пропасть.
Спасибо природе, которая во всем 'поступает прямо противо-
положно тому, что постулирует Критика. В разумно чувствую-
щем существе нельзя даже и помыслить ни одного чувства
без понятия, ни одного утвердительного или отрицательного
суждения без чувства соответствия или несоответствия, а тем
самым без некоторого чувства приятного и неприятного.
«Форма целесообразности предмета, поскольку она вос-
принимается без представления о цели».1
Возможно ли такое восприятие? А если возможно, яв-
ляется ли оно чувством красоты?
Там, где целесообразное в форме предмета восприни-
мается; так живо, что это восприятие доставляет мне удо-
См. «Критику», § 11. . : : ;
207
вольствие, там я должен представить себе цель, в противном
случае и форма целесообразного исчезает. Это пустая игра
мысли, будто может существовать «целесообразность даже и
без цели», будто я могу поставить или устранить подобную
цель только ради наглядности (как бы в шутку). Только тот
может это делать, для кого целесообразность всей природы,
а тем самым и разум — только шутка.
Но если бы я даже мог это сделать, какое это имеет от-
ношение к понятию, где речь идет о такой цели, которая воз-
действует на меня в предмете, к понятию красоты? Ведь по-
следнее не может одновременно действовать и не действо-
вать; если оно действительно наполняет меня, что мне за
дело до того, что еще имел в виду автор, какую цель пресле-
дует произведение по отношению к другим людям? Я на-
слаждаюсь существенной целью, я живу духом произведения.
Духом, а не мертвой формой, ибо без духа всякая форма
лишь черепок. Дух сотворил форму и наполняет ее; его.при-
сутствие ощущается в ней; он одухотворяет. Выпиливайте и
нащупывайте, сколько хотите, целесообразную форму без
представления цели, без силы и без духа; вы будете только
рыться в опилках, лепить из холодной глины. Словами
«форма без понятия прекрасного», игрою противоречий вроде
«форма целесообразности без цели» начинается в Критике
бесконечная болтовня, полная пустых слов, противоречий и
тавтологий, которые, к несчастью, вызвали к жизни такие же
пустые произведения. «Что вы там делаете, вы, занятые
люди?» — «Мы выпиливаем формы, формы целесообразности
без цели, из ничего, ни для чего. Эта пустота называется
у нас чистой формой, выражением чистой объективности без
объекта и даже без примеси единой искры субъективности:
ибо эта субъективность оказалась бы еще, пожалуй, гением,
а это слово стало бранной кличкой в мире критических су-
ждений вкуса». С тех пор как благодаря им наступил день,
дух удалился оттуда; но «суждения вкуса, свободные от по-
нятия и цели», остались. Они судят не о произведении духа,
но о формах, о лишенных объекта, чисто греческих формах!
Мудрый Аристотель! О, если бы ты увидел, как, наряду
со многими другими твоими словами, злоупотребляют и этим
словом! Форма была для тебя самой сущностью вещи
(entelecheia, aition tu einai),1 в которой другие условия ее
существования, материя, действующая причина, цель, сходи-
лись как в центральной точке; здесь же они коренным обра-
зом и неизбежно разделены суждением произвольным и
безапелляционным. Установление целесообразного без цели,
суждения без понятия — таковы лозунги критического вкуса.
6. Совершенство. Многие объясняли красоту как чувст-
1 Энтелехия, причина существующего (греч.)*1
208
венное выражение совершенства; Критика отбрасывает это
объяснение. «Формальное в представлении о вещи, то есть.
гармония многообразного в едином (независимо от того, чем
оно должно быть), само по себе никак не дает познать объек-
тивную целесообразность; ибо, поскольку абстрагируются от
этого единого как от цели (от того, чем должна быть вещь),
то остается только субъективная целесообразность представ-
лений в душе созерцающего, которая, правда, дает извест-
ную целесообразность состояния представлений в субъекте и,
тем самым, удовлетворенность его по поводу того, что ему
удается схватить данную форму в воображении, но не дает
совершенства какого-либо объекта, который здесь не мыс-
лится через понятие цели. Так, например, если бы я, увидев
в лесу лужайку, вокруг которой в кружок стоят деревья, при
этом не представил себе какую-либо цель,—скажем, ту, что
эта лужайка могла бы служить площадкой для сельских
плясок, — то благодаря одной ее форме ни в малейшей мере
не могло бы возникнуть понятие совершенства. Представить
себе формальную объективную целесообразность, то есть
одну только форму совершенства (без всякой материи и по-
нятия о том, чему эта форма должна соответствовать),—
в этом заключено истинное противоречие».l A восприятие
формы целесообразности без всякого представления о цели—
разве это меньшее противоречие?
Ни один философ никогда не утверждал, что гармония
единого со многим, «независимо от того, чем оно окажется»,
дает возможность познать объективную целесообразность, ибо
когда не ясно ни это единое, ни гармония с этим единым, то
нет ни самого единого, ни гармонии; мы разговариваем как
во сне. Именно определенное единое придает гармонии поня-
тие целеустремленности в объекте, при этом единое есть цель,
форма (to aition, entelecheia), есть и будет душой целого, ко-
торая не нуждается ни в какой посторонней цели, кроме са-
мой себя. Бели зеленая лесная лужайка прекрасна сама по
себе, то есть представляет собой редкую гармонию многого
в едином, то эта гармония останется в ней, будут ли на ней
закусывать или плясать, и если этого не будут делать люди,
то это сделают феи и дриады. Эта прекрасная глушь,
площадка под сенью дерева, представляет собою katagogion2
Анакреона и Бафила, который приветливо манит путника.
Создана ли она природой или ее сделали человеческие
руки, —» теперь это место принадлежит мне; я усаживаюсь
здесь, ибо в этом месте я нахожу гармонию в единстве, ко-
торая радует меня, которая дает мне наслаждение. Пусть
1 См. «Критику», § 15,
? Заезжий дом, гостиница (греч.).
14 Зак. 291. Гердер 209
другие судят о ней, как им угодно, — в этом месте остается
дух природы, который придает ему жизнь.
Пойдем далее. Ни один разумный философ не превратит
объективную гармонию вещи в красоту без субъективного
представления того, кто считает ее красивой. Сама по себе
вещь есть то, что она есть, совершенная в своей сущности
или несовершенная; для меня она прекрасна или безобразна
в зависимости от того, познаю или почувствую я в ней это
совершенное или несовершенное. Для другого пусть она бу-
дет тем, чем она может быть для него.
Формула. философов, что красота есть изображение, то
есть чувственное, ощутимое выражение совершенства, не со-
держит, следовательно, в себе не только ничего противоречи-
вого, напротив, она является истинной, ясной и отчетливой,
охраняет от заблуждений и ведет по надежному пути; все че-
тыре момента Критики являются по сравнению с ней че-
тырьмя распадающимися в воздухе колесами. Существен-
ность вещи, внутренняя устойчивость и единство, будь то
в самой вещи или в ее составных частях, должна наличество-
вать в объекте, даже в содержании прекрасного сновидения.
Во-вторых, необходимо изображать, то есть реально выра-
жать, ощутимо показывать. Это изображение, его живое вы-
ражение должно, в-третьих, гармонировать с моими орга-
нами, как и с моей способностью восприятия и представле-
ния; в противном случае самое прекрасное не будет для
меня прекрасным; эти три момента необходимы каждому
объекту и каждому восприятию прекрасного.
Впрочем, в какой степени я ощущаю живо и ясно, зави-
сит как от свойств самого объекта, так и от моего собствен-
ного состояния; здесь существует целая лестница с бесконеч-
ным числом ступеней и различий. Все »преимущества вместе
взятые редко содержатся в объекте и в субъекте; в зависи-
мости от нашей организации многие из них ограничивают
друг друга; например, живость ограничивает ясность, глу-
бина— объем* Однако, поскольку и здесь имеет место ком-
пенсация, то степень не должна нас вводить в заблуждение
относительно самой вещи. И если Критика совершенно не
хочет считать «эстетическими» путаные понятия и основан-
ное на них объективное суждение, «ибо в противном случае
мы будем иметь рассудок, который выносит суждения в чув-
ственной форме, или чувство, которое представляет свои
объекты с помощью понятий», то предоставим ей ее восприя-
тие формы «целесообразного в предмете, свободного от вся-
ких понятий», и возблагодарим природу, на самом деле дав-
шую нам рассудок, который выносит суждения чувственно,
то есть согласно восприятиям чувств, и чувства, представ-
ляющие нам объект в понятиях, с которыми глубочайшее
удовольствие или неудовольствие не только могут быть свя-
210
заны, но и действительно бывают связаны в любое мгнове-
ние, как мы все это знаем и чувствуем. Разве не отврати-
тельно, что философия, которая должна истолковывать при-
роду, осмеливается противоречить опыту каждого, менять
язык, соответствующий общим убеждениям, в там числе и
убеждениям древнейших времен, и отрицать противолежа-
щие углы, которые не могут существовать друг без друга,
на том основании, что они лежат друг 'Против друга?
7. «Необходимое наслаждение, свободное от понятия.
Всеобщая норма и общее чувство прекрасного». Каждый че-
ловек с тонкими чувствами сталкивается и сталкивался
с тем, что у полуцивилизованных или у отсталых народов
реже всего можно найти чистое чувство прекрасного и на-
слаждение собственно прекрасным, не говоря уже о возвы-
шенно прекрасном. Поэтому истинный художник работает не
для общего вкуса и никогда не гордится успехом у толпы*
Он стыдится похвалы глупцов, и одобрение, поощрение од*
ного истинного ценителя для него важней, чем мнение мно-
гих или даже всех. Но, по существу, он работает даже не для
этого знатока, а для самого себя. Идея, которая родилась
у него, которая его движет и воодушевляет, — выразить ее —
вот его забота; видеть ее выраженной — вот его награда. Он
не хочет кричать о том, чего хочет толпа. Еще меньше хочет
он предписывать суждение знатоку и затыкать ему рот посту-
латом: «Так должно быть!» Ведь этим он уничтожил бы воз-
можность любого свободного высказывания и лишил бы са-
мого себя всякого поучительного поощрения. Тиран в обла-
сти вкуса (это всем нам известно) —самая нелепая фигура
из всех, которые когда-либо освещало солнце.
В этом вопросе не только сходятся все эпохи, но на этом
основан также всякий прогресс искусства, всякая культура
прекрасного. Если бы одному судье в области вкуса было
разрешено выносить свое вето или «быть по сему», превра-
щать его в норму на все времена и говорить об «общезначи-
мости и внутренней необходимости как о последнем моменте
красоты, свободной от понятия», — поистине, тогда мы и
сейчас еще стояли бы перед статуями Дедала и перед повоз*
кой Феспида. * Все, что является искусством, требует упраж*
нения, а значит и свободного пути для упражнения. Любые
задатки человечества нуждаются в воспитании, но прежде
всего —самый нежный росток нашей природы: чувство й
искусство прекрасного. Поэтому против нормализующих ти-
ранов вкуса все, даже самые спокойные, поднимают бунт илй>
по меньшей мере, вооружаются тайной насмешкой. Мы видим
тот вред, который эти тираны насаждают среди невежествен^
ной толпы. Именно потому, коль скоро мы уверены в своем
собственном вкусе, мы возвращаемся к самим себе, утверждай*
что «в делах вкуса никто не должен нам говорить „быть
14* 211
по сему"; мы должны чувствовать, хотя бы нам нельзя было
высказать то, что мы чувствуем. Суждение вкуса свободно».
Впрочем, как ни мало в вопросах чувства прекрасного
зависит от высказываний, как ни мало, по существу, говорят
эти высказывания другому, — кто же зачастую не пробовал
этого средства? Толпа обычно повторяет чужие слова. Мни-
мые знатоки и полузнайки путаются в этих словах, а тупица
следует за ними. Наконец, приходит законодатель и утвер-
ждает, предписывая, что считать образцовым. За ним сле-
дует толпа наглых приверженцев, которые доказывают то,
чего они сами не понимают и что вообще недоказуемо.
С этих пор прощай, навсегда прощай, традиция хорошего
вкуса: «общеобязательное суждение, образцовый нормаль-
ный вкус» одного человека стали господствующими!
Не так мыслили древние мудрецы; они не говорили, что
«прекрасное есть то, что без понятия нравится всем. Красота
есть то, что без понятия познается как предмет необходимого
наслаждения», они стремились отыскать понятия, очистить
их, все прочнее и прочнее внедрять их, пусть среди немногих.
Ученики же критической школы являются единственными,
которые то, что должно с необходимостью, а значит, также
и всякому нравиться, познают без понятия и объявляют об-
щеобязательным, а если их заповедям не следуют, они упор-
ствуют и гневаются. И все это вследствие критической
способности суждения, в силу ее общеобязательных посту-
латов...
...Как же вообще стала возможна подобная философия,
полная беспочвенных предпосылок и соблазнительных посту-
латов? И как возникла она? Нет ничего более ясного: содер-
жание и выводы из критических трудов сами предоставляют
нам об этом нужные сведения.1
«Критики чистого in практического разума» были уже на-
писаны. Первая из них не оставила чувству никаких пред-
метов, кроме пустых созерцаний пространства и времени
(«трансцендентальная эстетика»), не оставила рассудку ни-
чего., кроме пустых, плохо упорядоченных полок с катего-
риями, не имеющими самостоятельного значения и все-таки
являющимися формой человеческого рассудка («трансцен-
дентальная аналитика»); наконец, разуму, который вообще
оказался свободным от канонов, оставались лишь «парало-
гизмы, тезисы и антитезисы, в конечном счете — измышлен-
ный идеал», которые сами себя упраздняли. Тем самым обра-
довалась великая пустота, в которой, однако, все силы и
формы понятий, даже идей и самого идеала, должны были
■был? очерчены и нанесены навеки общезначимым образом,
так, чтобы при этом не упустить ,ни йоты. -
,·■■ ; * См, Предисловие и Введение к «Критике способности суждения»:
Ш
И все-таки философ чувствовал радость я страдание;
куда же их было деть? Для царства понятий они не подхо-
дили; ни с одним из его бесплотных призраков они не имели
ничего общего и не могли соединиться с ними даже в веч-
ности. У «критического трансцендентального рассудка» была
иная забота, чем воспринимать чувственные предметы с чувт
ством удовольствия или неудовольствия; он не подходил ни
к какому чувству, никакое чувство не подходило к нему, он
вечно накладывал свои формы на «ничто», на пространство
и время. «Критически-трансцендентальный разум» имеет со-
всем иное назначение, чем упорядочивать с удовольствием
и любовью восприятия рассудка; подобно охотнику Ориону,
гонится он за вселенной, за пределами мироздания. Но как
все-таки быть с удовольствием и неудовольствием? Философа
они могли интересовать, лишь поскольку он. о них «выносит
суждение». Пусть ощущение остается на своем месте...
...То, что эта вымученная, пустая, необоснованная, вред-
ная теория, критика без всякой критики, никогда бы не воз-
никла при сколько-нибудь серьезном изучении прекрасного
как в его предметах, так и в ощущении последнего, не тре-
бует доказательств. На якобы незаполненном месте она по-
явилась a priori — игра остроумия и острословия, бесцельно
целесообразная и целесообразно бесцельная.
ПОЭЗИЯ И КРАСНОРЕЧИЕ
...Какими бы мелкими оказались оратор и поэт, если бы
забавную игру они превратили в дело всей своей жизни!
И как плохо устроена была бы человеческая природа, если бы
она нуждалась в подобной игре! Рассудок должен был бы
обманывать воображение, воображение—рассудок, а об-
манщиком, вводящим в заблуждение их обоих, был бы пред-
ставитель так называемого «изящного красноречия». Вот он
проделывает свой фокус сверху вниз: это красноречие; а те-
перь он проделывает другой фокус -снизу вверх: это назы-
вается поэзией.
Так как эта словесная игра нужна критической школе не-
посредственно для основных понятий ее эстетического су-
ждения обо всех древних, новых и новейших, как она их
называет — словесных искусствах, причем ранее господство-
вавшая критика, от Аристотеля до Лессинга, третируется ею
как невежественное школярство, которому не хватало истин-
ных принципов, — то стоит рассмотреть, в чем видели пред-
шественники по науке и творчеству сущность красноречия
и поэзии, произведений говорящей музы.
Мы подхватим нить там, где мы ее выпустили- из рук,
у истоков искусств, и поговорим сначала ■'
213
1. О ПОЭЗИИ КАК О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ
«Поэзия, — говорит один писатель, — родной язык чело-
веческого рода, подобно тому как садоводство древнее зем-
леделия, живопись — письма, пение — декламации, притчи —
умозаключений, обмен —торговли».
«Чувства и страсти говорят только образами и -понимают
только образы. В образах заключено все сокровище челове-
ческого познания и счастья». !
То, что здесь сказано в отрывочной форме, разъяснили
как с исторической, так и с философской точки зрения Дюбо,
Гоге, Кондильяк и многие другие. Начало человеческой речи
в звуках, жестах, в выражении чувств и мыслей с помощью
образов и знаков, не могло быть не чем иным, как своего
рода примитивной поэзией, и так все еще обстоит дело у всех
первобытных народов мира.
Когда этот человеческий язык, полный образов и страсти,
богатый звуками и жестами, постепенно стал все более и бо-
лее связным и упорядоченным, то был введен, в соответствии
с диапазоном голоса и мысли, род мелодического размера,
при котором жестикуляция еще долго подкрепляла акцент
и заменяла знаки препинания. Мы с вами, с детства изучавшие
язык с помощью букв или даже по буквам, мы, слышащие
слова так, как они написаны, как их организует грамма-
тика, — мы произносим и слышим буквы и слоги. Но не так
слышали неграмотные первобытные люди. Прерывисто или не-
прерывно, подобно потоку, текли спокойно или бушевали их
речи. Речь простого народа, в особенности в состоянии аф-
фекта, доказывает это ежедневно. Если этот поток звуков
приостанавливался, если его приходилось вести ή направ-
лять, то каким образом это делалось -прежде всего и 'преиму-
щественно? Путем рассказывания. На то, что стоит передо
мною, я указываю пальцем. То, что происходит во мне, я вы-
ражаю звуками и жестами. Но то, что отсутствует или не-
когда ^случилось, требует, чтобы быть воспринятым, связной
упорядоченной речи. Так появился эпос. 2
1. Эпос природной человеческой речи.
Этот эпос не мог воплотиться иначе, чем того требовали
ухо и фантазия слушателей и чем его создавали язык и фан-
тазия рассказчика. Человек природы описывает то, что он
видит, и так, как он в,идит, — живо, сильно, необычайно.
В беспорядке или в порядке, как он сам видел и слышал, он
это и передает. Так располагаются образы не только во всех
языках дикарей, но также и в языках греков и римлян, не-
1 «Крестовые походы филолога», iCTp. 163. *
* Эпосом у Гомера называется слово, дело, история, рассказ. Так же
немецкое слово Wort (слово) происходит от werden (делаться, стано-
виться), скандинавское tal (taie) и т. д.*
214
взирая на большую культуру, которой он,и достигли. Как их
отражают чувства, так их перечисляет нам и 'поэт, в· особен-
ности Гомер, который в этом пункте, в появлении и исчезно-
вении образов, почти непревзойденно «следует природе. Его
рассказ описывает картины черта за чертой, сцена за сце-
ной; таковы же у него и люди, которые стоят перед нами
живые, так, как они говорили и действовали. Муза точно пе-
ресказывает их слова, ничего не изменяя даже там, где
слова эти повторяются. Если бы она превращала их в игру,
разве можно было бы ей верить? Так же, как образы и речи,
выступают и события. Поле битвы под Троей, с его героями
и приключениями, .проходит у нас перед глазам«, сцена за
сценой. Кто осуществляет это спокойное, поступательное дви-
жение? Язык, и ή нем разум поэта. Он расположил сцены,
взор нашего воображения закрепляет их, наше чувство сле-
дует за ними, как если бы мы видели воплощенную и оду-
хотворенную правду. У Оссиана, у всех поэтов живого по-
вествования мы увидим то же самое, в соответствии с язы-
ком, эпохой и нравами1.
Именно благодаря этому повествовательная поэзия, хотя
она и имела характер истории, вступила на путь отделения
от того, что позднее стали называть историей, поскольку она
ведь не .просто пересказывала подряд то, что произошло,
а стремилась воплотить и одухотворенно изобразить, как это
происходило, каким образом оно только и могло произойти
в данной ситуации. Будучи поэзией, она создает, она творит
(gignit, créât, condit, poiei). Поэтому Аристотель и считает ее
в большей степени философской, чем историю; она ведь не
только поверхностно приводит факты из памяти и для памяти,
но заставляет их с внутренней правдивостью происходить, то
есть возникать, развиваться, завершаться, и 'придает закон-
ченную форму этой внутренней правде нашей души. Само на-
звание ее показывает, что в этом ее характер. Поэт — это
созидатель, творец; тот, кто не умеет творить, — не поэт.
Все правила, которые Аристотель остроумно извлек из
шедевров, созданных его народом, возникли отсюда и к этому
сводятся; то, что он говорит о фабуле в целом, о ее объеме
и выражении, ее действии, об убеждениях, характерах и стра-
стях, о вероятном и чудесном в ней, исходит исключительно
из понятия о том живом изображении mimesis, которое
приводит в движение все наши душевные силы, поскольку
оно заставляет минувшее возникнуть перед нами и показы-
вает нам его с внутренней правдивостью. Тот, кто знает силу
внутренней пластичности нашей души, как она умеет пере-
плавить рассудок и чувства, разум и страсти, тот будет
больше уважать и бояться ее, чем если он будет, «забавляясь,
играть» ее идеями. А кто в поэзии всех народов мира не на-
ходит ничего, кроме этой забавной игры идеями, — ну что ж,
215
пусть продолжает играть! С' разумным разговаривает ра-
зум поэта: ибо поэзия есть речь (logos).
«Но как же так? А Гомеровы боги, а его Калипсо?
А Дантов ад и чистилище? А столь многочисленные авантюр-
ные, героические и рыцарские истории? А Ариосто? А все
царство фей? А Шекспиров Калибан или Ариэль? Разве это
не забавные фантазии?» Плохо, если бы они не были ими;
но плохо было бы также, если бы они только забавляли. Мы
отрицаем не то, что эти фантазии приятно разыгрывают пе-
ред нами, а то, что разумный поэт придумал и применил
хотя бы одну из них только как игру. Гомеровы боги для его
мира* были так же существенны и необходимы, как движу-
щие силы — для мира телесного. Что бы и как бы ни должно
было произойти с поэтом, ничто не происходило в его мире
без решения и воздействия Олимпа. Гомеровский волшебный
остров в западном море так неотъемлемо принадлежал
к карте странствий его героев, потому что он находился тогда
на карте мира, необходимый для целей гомеровской песни.
Тем же были для сурового Данте его небесные и адские
круги. В авантюрных рыцарских романах, правда, многое
было игрой. Но то, что было в них только игрой, даЕно умер-
ло; оно нами не читается или читается с величайшей скукой.
Зато кого не радовали'и не поучали правдивые образы
Ариостовых Donne, i Cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie,
l'audaci imprese? l Кто не жил, кто не мыслил и не чувство-
вал в царстве пери, фей и духов, когда их создавал гениальный
и глубокомысленный поэт? То, что в этом мире проис-
ходило и через него было высказано, только и могло проис-
ходить в этом мире и быть высказанным через него. Так и в
скандинавской, греческой и всякой иной мифологии, так и в ка-
ждом круге особых своеобразных чувств. Вымыслы и сказки,
аллегории и символы — это формы языка художника, в них
он запечатлевает мысли, ими он пробуждает или описывает
чувства. Эпопеи Гомера, Данте, Мильтона — это энциклопе-
дии и вселенные, рожденные из сердца и духа их создателей;
они намечают карту их внутреннего и внешнего мира.
Так, Шекспир создавал свою карту в своем необычайном
театре мира и природы, на вершинах которого парит Ариэль,
а в лунной долине спит Титания. В наиболее сказочной из
его пьес его Тезей, который сам является вымышленным
драматическим персонажем, 'произносит следующие слова:
...Не верю
Смешным я басням и волшебным сказкам.
У всех влюбленных, как у сумасшедших,
Кипят мозги: воображенье их
'Всегда сильней холодного рассудка.
1 Дамы, кавалеры, оружие, любовь, учтивость, смелые подвиги
(итал.).*
216
Поэта взор в возвышенном безумье
Блуждает между небом .и землей,
Когда творит воображенье формы
Неведомых вещей, перо поэта,
Их воплотив, воздушному «ничто»
Дает и обиталище и имя.
Да, пылкая фантазия так часто
Играет...
На что Ипполита, сама такое же порождение драматического
вымысла, отвечает:
Не говори; в событьях этой ночи
Есть не одна игра воображенья.
Как сразу изменились чувства их!
Мне кажется, что правда в этом есть.
Но все-таки как странно и чудесно!-1
Тот самый гений, который в· своем роде является высшим
разумом, нарочно показывает то, чего до нею и кроме него
не видел никто; его мир есть мир внутренней правды. Как
только он станет играть, забавляя ради игры или играя ради
забавы, он теряет свои волосы, подобно тому иудейскому
Геркулесу: * hidit, infelix, misère ludit,2 он больше не творец,
он игрок.
О всяком деле судят 'по его действию; так и вся история
человечества свидетельствуете том, как много сделала изобра-
зительно-'повествовательная поэзия, конечно не только для
того, чтобы рассудку, «играя, доставлять пищу и оживлять
его понятия с помощью воображения», но для того,
чтобы обуздывать и упорядочивать фантазию, чтобы давать
направление всем силам и склонностям человеческой при-
роды. Охватывая события в целом, обрисовывая характеры,
высказывая убеждения, раскрывая причины в следствиях,
обучая на собственном примере изображать все с величай-
шим своеобразием, она, как указывает Геродот, не только
придала форму древнейшей истории; она создала историю;
но еще раньше, творя формы богов и героев, она очистила
представления дикарей и популярные .народные сказки от
гигантов, титанов, чудовищ, горгон. Она подчинила законам
разнузданную фантазию невежественных людей, которая
нигде не находит предела, и удержала ее в определенных
границах. Позднее эпическая поэзия дала пространство и
форму драматическому искусству; вся древность рассма-
тривает поэмы Гомера как источник всех греческих изящ-
ных искусств. Даже ораторы и философы черпали из это-
го источника; художники нашли в Гомере свою мастер-
скую.
1 Шекспир. Сон в летнюю ночь, д. V, явл. 1 (перевод Т. Л, Щеп-
киной-Куперник).
2 Он играет, несчастный, плоха играет (лат.).
217
В более поздние времена повествовательная поэзия (на-
зывалась ли она эпопеей, или романом, или романсами) ока-
зала влияние, не всегда, правда, столь решающее и значи-
тельное, но все же неизменно заметное, на образование и
преобразование наций. Поэма Данте создала всю итальян-
скую поэзию; роман Сервантеса ниспроверг укоренившийся
образ мысли рыцарских романов, точно так же, как «Гуди-
брас» Бэтлера в· большей степени подорвал мечтательность
британцев, чем длительные богословско-философские дедук-
ции. Если бы каждый народ в нужное время имел своего
Гомера, который обладал бы достаточной силой, чтобы при-
дать грубым образам его фантазии разумные формы, размер
и цель, как далеко шагнул бы сразу этот народ в своем ду-
ховном развитии! Ибо что может сделать в отдельных слу-
чаях простая, часто даже необработанная героическая песнь,
романс,—это показывает история народов.
Ни с одним родом поэаии так не играют, -как с романом.
Тем не менее самое возникновение наших романов из забы-
тых героических и рыцарских времен показывает и доказы-
вает на деле не только глубокие основания поэзии в челове-
ческой душе, но также и ее огромное внутреннее воздействие
на последнюю. Какой укромнейший тайник сердца и души
остался скрытым от романов Ричардсона, Филдинга, Стерна,
Фридриха Рихтера? Разве вы не жили в ^каждом из этих ро-
манов как в своем собственном доме? Разве обманывают
рассудок с помощью воображения, когда изображают чело-
веческое сердце и человеческую жизнь одновременно- изнутри
и снаружи так, что читатель живет в изображаемом вместе
с тем, что в нем изображено? Почитайте статью Дидро,
посвященную памяти Ричардсона; почитайте предисловие
Руссок«Элоизе»илито, что говорит Фенелон о поэзии. Да и
кому не подсказывало это его собственное сердце, кто сам не
живет, кто сам не формируется в царстве истинной поэзии?
Времена эпопеи гнева, крови и ,мести, а тем более празд-
ных рыцарских и героических походов (будем надеяться)
■прошли. И так как теперь предстоит добыть иное золотое
руно, разрушить иную Трою, так как для поэзии наступили
времена, о которых Вергилий писал:
Alter erit tum Tiphys et altéra quae vehat Argo
Delectos heroas, erunt etiam altéra bella,
Atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles...l —
то именно теперь ей меньше всего пристало играть.
* Явится Тифис другой и Арго, везший героев
Избранных; боле того, и войны новые будут,
И на троянцев опять Ахилл пошлется великий...
(Вергилий, Эклоги, IV, ст. 34—36, перевод С. Ше рейнского).
218
2, ПОЭЗИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧУВСТВА
О том, что поэзия, которая выражает чувства, не должна
играть чувствами, говорит уже самое ее наименование. Для
чувства священно каждое слово, каждый акцент, каждый
взгляд; ничто так ;не противно ему, как игра с самим собою
там, где оно по-настоящему искренне, как злоупотребление
его образом, словно карнавальной личиной.
Настоящее чувство породило первую поэзию этого рода,
как это показывают простодушные песни всех первобытных
народов. Их чувство призывает на помощь все истинное, что
только может дать им природа: образы, интонацию, звуки,
жесты. Язык звуков, поскольку он выражает страсть, совер-
шенно лишен всякого лицемерия; он высказывает то, что ему
нужно сказать каждому чувствительному сердцу, с вырази-
тельнейшей многозначительностью. Так же искренне связаны
с ним слова и жесты; он непроизвольно призывает их сопут-
ствовать ему. Самая сущность природы, необходимая гармо-
ния— вот что связывает их всех. Нет ничего отвратительней,
чем когда эта связь распадается, бестолково осуществленная
в жужжащем звоне фальшивых нитей, где песня слабеет и
лжет, где чувство играет и лицемерит.
Как серьезны были древнейшие гимны и хоры! Все, что
произносилось на греческой сцене, произносилось с подлин-
ным чувством. Даже песни Пиндара, хоть они и кажутся
необузданной игрой воображения, — как сильно и свято об-
ращались они к сердцу! Каждая из них была создана для
своего города, своей провинции, своего героя и полубога,
своего собственного· рода музыки и рода победы. Со стро-
гими и великолепными зданиями сравнивал их сам поэт.
Драматическая форма более всего показывает внутрен-
нюю правду поэзии, ибо она сама как раз и является ее вы-
сочайшим, многообразным и наиболее концентрированным
выражением. Она дает зрелища, в которых согласно преда-
нию все, на самом же деле ничто не является игрой для уха
и души, все является действием, все должно быть мотивиро-
вано. Именно это и означают слова действие, акт, драма, *
performance 1 и др. Они требуют этого неукоснительно. Кто
думает, что на этих подмостках можно играть с идеями на-
шего воображения или с нашими чувствами, кто, в качестве
критика, выносит суждение играючи, тот не стоит даже дере-
вянного Пульчинеллы, потому что и этот ведь настроен
вполне серьезно, когда кукла колотит куклу.
По-видимому, вся путаница происходит от недоразумений
с многозначным словом игра (Spiel), которое, собственно, озна-
Исполнение (англ.).
219
чает не что иное, как легкое движение.г На легкие движения
нашего тела это значение было перенесено с других, и как
раз при самых трудных движениях борцы, фехтовальщики,
охотники превращали труднейшее в легкое, то есть в игру.2
Кому более подходили эти легкие движения, чем мимиче-
ским актерам и музыкантам? Поэтому они пользовались сло-
вом игра тем охотнее, чем быстрее и легче они изображали
трудные вещи.3
Это слово перешло даже на легкие движения сложных
художественных механизмов. Техническими . выражениями.
стали: игра оратора, игра страстей, мимическая игра, игра
боевых машин, пушек и бомб (le jeu des machines, des pas-
sions, de l'action, des bombes и т. д.).
В этом смысле поэт, действительно, играет и вводит в игру
страсти, характеры, жесты, ибо то, что он в своем энергиче-
ском искусстве труднейшее осуществляет легчайшим спосо-
бом, является для этого искусства делом чести. Если неверен
ход колес, возникает заминка в одном месте, в другом й
повсюду. Горе тогда плохому поэту с его неудачной игрой!
В такой же мере поэт играет нашими мыслями и стра-
стями, то есть они находятся у него в руках, в его воле их
возбуждать, сдерживать, преобразовывать, заставить исчез-
нуть и т. п. — все это силами его гения, в меру его искус-
ства. Если у него нет гения, если он нарушил свою меру, —
плоха его игра.
Но поскольку с каждым легким движением, независимо
от того, сами ли мы его производим или видим и слышим, со-
пряжено одинаковое движение наших духовных сил, то слово
«игра» приняло значение привлекательного движения или со-
бытия, и это значение распространилось на рассказ о нем
или его изображение.4 Посмотреть игры, послушать рассказы
о прошлом собирается народ. Эпос рапсодов, хоры и дифи-
рамбы, из которых вырос греческий театр, притягивали к себе
народ, как игра.
Тут легковерный зевака, пожалуй, подумает, что игра
предназначена только ему на забаву, то есть для времяпре-
провождения. А тот, что понаглей, додумается еще по своему
1 Так мы говорим: ветерок, солнечные лучи, краски, огонек играют,
2 Отсюда идут такие выражения наших предков, как: играть мечом,
играть в кости, кулачная игра; отсюда происходят немецкие слова
Federspiel (соколиная охота, ручной сокол), Windspiel (гончая собака)>
Jagdspiel (охота), Türnierspiel (карусель) и др.
3 Saitenspiel (игра на струнном инструменте), Gebärdenspiel (пантомима),
Possenspiel (фарс), Gaukelspiel (фиглярство), Schauspiel (пьеса) и др.
4 Spei (рассказ), fabulatio (вымысел), sermo (речь), historia (исто-
рия), doctrina (поучение), spillan, narrare (рассказывать)^.praedicare (про-
поведовать), nunciare (возвещать) (см. Вахтер, Зомнер и др.), Beispiel
(пример), Widerspiel (противоположность), Gegenspiel (противополож-
ность) , Larspiel (проповедь), Gettspiel, Gospel (Evangelium — слово божье).
220
усмотрению предписывать правила этому, зрелищу — сколько,
например, плачущий должен плакать, сколько певцу петь или
хору славить богов: ведь они для него играют.
Как бы, однако, было низко, если бы тот, кто дает пред-
ставление со всей серьезностью и по всем правилам искус-
ства, вздумал приспособляться ко вкусам такого зеваки. Уже
в этом одном видно злоупотребление словом «игра». Пред-
ставление дается перед народом, он может, созерцая его, раз-
влекаться, учиться и т. п., но он не может ради собственного
удовольствия навязывать свои законы действию, имеющему
основание в самом себе. При каждом состязании или кар-
тежной игре зрители могут сколько угодно судить, размыш-
лять, чувствовать, надеяться, бояться и мечтать, состязаю-
щиеся или игроки играют для себя, а не для них.
Наконец, существовали потешные, даже потешные и же-
стокие, пьесы, которые действительно давались для народа,
и народ своими выкриками и требованиями даже участвовал
б игре. Бывали шарлатанские пьесы, которыми дурачили и
вводили в заблуждение народ, которыми его (как говорит
наш язык) разыгрывали; это, например, различные чудесные
представления и фиглярство. В этой области мы не станем
взращивать изящные искусства, хотя бы даже для развле-
чения. Каждая порядочная, а тем более благородная, игра
есть борьба по правилам, между свободными, владеющими
своим разумом лицами, честная и равная. Всякий обман
в игре ненавистен и неблагороден.
«Но как же, разве поэт не должен обманывать? Разве на-
род не стремится быть обманутым?» От обмена ведет про-
исхождение обман, * и, разумеется, поэт меня обманывает,
когда он переносит меня в свой род мышления, в свое дей-
ствие и чувство; я обмениваю свой чувства на его чувства
или заставляю их дремать, пока он действует. Я забываю
самого себя. За изобразительно-повествующим поэтом я сле-
дую добровольно всюду, куда он меня ведет; я вижу, слышу,
мыслю то, что он заставляет меня видеть, слышать, мыслить.
Если он это не способен сделать, — он не поэт. То же проис-
ходит с выражением его чувств; благодаря силе, заложенной
в самом выражении, я чувствую вместе с ним. Наконец, дра-
матическое представление, забавляет ли оно меня только как
игра или, играя, доставляет пищу моему рассудку, — в обоих
случаях оно безусловно не достигает своей особой драмати-
ческой цели. Я должен забыть самого себя, забыть даже
свое время и свое пространство, на крыльях поэзии я -должен
•быть перенесен в ее время, в ее пространство. От декораций
этот обман не зависит; * ибо исторически я це забываю, что
я нахожусь перед сценой театра, и было бы смешно, если-бы
французская трагедия своими искусными приемами или даже
словами пыталась уверить меня, что я ..нахожусь» не
221
сценой, а соизволил очутиться в каком-либо ином месте.
В силу самого действия, следовательно, духовно, я должен
существовать там, куда меня заставил 'переселиться поэт;
ему подчиняется мое воображение, мое чувство, а не моя
особа, — да и зачем она ему? Если он задумает другой об-
ман, — скажем, если он захочет лишить меня рассудка, чтобы
я поверил в то, что, согласно его собственному представле-
нию, не заслуживает веры; если он будет мне воспевать чув-
ства, которые каждое мгновение будут напоминать, что в них
нет правды, что все это одна игра, — то я выражу мои поня-
тия прежде всего тем, что объявлю его игру пустым кри-
вляньем, его поэзию — пачкотней, которая не может осуще-
ствить того, что хочет, и сама не знает, что ей нужно.
«Зачем, — говорит Лессинг,— нужна трудная работа дра-
матической формы? Зачем строить театр, переодевать муж-
чин и женщин, изнурять память, созывать всех в одно местог
если я сумею добиться своим произведением и постановкой
лишь некоторых из тех душевных волнений, какие может
вызвать примерно также и хороший рассказ? А ведь его ка-
ждый может прочесть дома, в своем углу. Только произведе-
ние в драматической форме может возбуждать сострадание
и страх. По крайней мере, вряд ли в другой форме эти
страсти могут быть возбуждены в такой сильной степени; и,
тем не (менее, охотнее стремятся возбудить с ее помощью все-
другие страсти, чем эти; тем не менее эту форму стремятся
использовать для любых других целей, чем для той, к кото-
рой она отлично приспособлена».1 Мы не простим ей подоб-
ного баловства; ибо в каждой форме критика должна быть
направлена на тот главный пункт, который присущ именно*
этой форме. Мы знаем Софокла, нам известен Шекспир.
Так же и в комедии. Глупцы обыденной жизни, скучные
дураки, показывают нам довольно часто свою скучную игру;
но изысканные дураки и глупцы, выводимые в театре, должны
не просто играть перед нами. Мы хотим не только, зевая, по-
смеиваться над ними, мы хотели бы изучить на их примере
то, что мы нигде в другом месте не сможем изучить. Харак-
теристика человеческих нравов -— где она выступает в более-
откровенной и развитой форме, чем в театре? Здесь она и
должна выступить, именно для этого и служит театр нравов.
Наконец, если говорить об язобразителъпо-повествователь^
ной поэзии, с ее более широкой ареной человеческих дей-
ствий, то игра, которая остается только игрой, ей также абсо-
лютно противопоказана. Для чего охватывала она небо,
1 Лессинг. Гамбургская драматургия, статья 80.
222
землю и даже самый Орк? Поскольку она не исключает ни
истории, ни романа (как в самой истории многое сочиняется,,
то есть преподносится и интерпретируется с точки зрения
данной эпохи, нации, партии, политики, так и она может мно-
гое сочинять на темы истории: этим она воскрешает умер-
ших), поскольку роман, как наиболее обширное эпическое
сочинение, развивается, восходя от самой небольшой идил-
лии или сказки до творений Фильдинга и Ричардсона, до Ага-
тона и Оберона, Вильгельма Мейстера и т. п. и снова опу-
скаясь до сказки и Эзоповой басни, можем ли мы отважиться
только ради игры проникнуть в это царство Цирцеи, которое
не имеет пределов и не может их иметь, не захватив с собой
Гермесовой «моли»? *
Эта «моли» — серьезная критика, которая нигде, в том
числе и в романе, не допускает игры, остающейся только
игрой, все равно — с фантазией или с чувствами, но повсюду
в образах, созданных поэтом, хочет видеть перед собой доб-
ровольно и преднамеренно выполняемое изречение великой
богини: «Это была я, вот что я такое теперь, пока я не стану
иной». Только в подобных изображениях поэтический дар
действительно превращается в поэтическое искусство, только
благодаря им сказка становится эпопеей, тогда как без них
вся мировая история превращается в сказку.
И так как в этой области все так причудливо переплелось
и в Апулеевом «Золотом осле» погребена, подобно превос-
ходно обработанному камню, история Амура и Психеи, * ме-
жду тем как на многих превосходно обработанных камнях
изображен лишь осел Силена; как необходимо здесь прикос-
новение Паллады, которое открыло бы нам глаза, чтобы от-
личить ложь от истины! Критика должна суровыми прави-
лами изгнать из всякой поэзии чисто занимательную празд-
ную игру, а не поднимать ее на щит, как свою существенную-
конечную цель.
Даже шутливый талант требует серьезности, ибо шутка
является самым нежным цветком человеческой культуры. Так
как мы уже достаточно далеко отошли от эпохи Рабле, не
говоря уже о временах Фишарта, то как раз смех1 и шутка
требуют к себе самого серьезного отношения. Писатель, про-
славившийся в шутливом жанре, может быстро пережить
свою славу, как это показывают многочисленные примеры..
1 В Критике смех объясняется «аффектом внезапного превращения:
напряженного ожидания в ничто». Однако смех не есть аффект, он не
обязательно разражается внезапно и не всегда должен следовать за
напряженным ожиданием. Смешное geloion бывает столь разнородно,,
что для объяснения его во всех тонкостях не хватило бы целого словаря.
Оно изменяется, становится более утонченным или более грубым в раз-
ные эпохи у разных народов. Критика, по-видимому, находит смешным,
только шутки и шванки, да и вообще высшим видом шутливой игры для
нее могли бы, по-видимому, считаться «вежливые разговоры» Свифта. *
223-
Его манера приедается, и возникает потребность в иной ма-
нере. Разве несравненный юмор самого Стерна не был почти
утомителен? Шутка Горация, Сервантеса, Свифта, Галиани
лишь порхает над материей; более тонкая шутка умеет пре-
вращаться даже в полнейшую серьезность.
Каждый жанр изложения, будь то поэзия или проза,
требует воспитания. Почему слово «поэт» так упало в своем
значении? Потому что под этим словом понимают скучного
версификатора и забавника (a gleeman, joculator).* Самое
гадкое из искусств — это Г art d'ennuyer,1 игра, которая вызы-
вает зевоту. Если в ряде случаев поэзия стала именно такой
игрой, если почти в каждом жанре притупились наиболее
острые формы и самые остроумные обороты мысли сдела-
лись предметом злоупотреблений,—следует ли в подобных не-
доносках видеть образцы для воспитания человека? Невос-
питанный не может воспитывать других, бесчувственный не
может волновать. Но послушайте или почитайте истинных
поэтов и посмотрите на ту массу наставлений, утешений, фи-
лософии и мудрости, которым они, как из рога изобилия,
осыпают весь мир, чтобы служить для глубочайшего внутрен-
него самовоспитания, посмотрите на вечно живые образы
истины, красоты и добра, которые они создают для всего
человечества!..
Искусство быть скучным (франц.).
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИИ
ИДЕИ О ФИЛОСОФИИ
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ВСЕ СОЗДАНИЯ НА ЗЕМЛЕ ОБРАЗУЮТ
ВОСХОДЯЩИЙ РЯД ФОРМ И СИЛ ♦
1. От камня к кристаллу, от кристалла к металлам, далее
к растительному миру, от растений к животным, от них к че-
ловеку — всюду мы видели, как совершенствовалась форма
их организации, как вместе с ней все разнообразнее станови-
лись силы и инстинктивные стремления созданий природы и
как наконец все они объединились в образе человека, на-
сколько он мог их всех охватить. На человеке развитие оста-
навливается; мы не знаем создания выше его, которое было
бы многообразнее и искуснее организовано: это высшая
форма организации, достижимая на земле.
2. На протяжении этого ряда живых существ, насколько
позволяет их индивидуальное предназначение, мы наблюдали
господство сходной основной формы, которая, бесконечно из-
меняясь, все больше приближалась к человеческому облику.
-В неодушевленной глубине, в царстве растений и простейших
организмов, она еще не была заметна; в организме более
совершенных существ она становилась яснее, число разно-
видностей сокращалось, и наконец она растворилась и сли-
лась в человеке.
3. Мы видели, как к нему приближались не только внеш-
ние формы, но также силы и инстинктивные стремления.
Начавшись с питания и размножения у растений, сила
инстинкта привела к искусству насекомых, к домашней
и материнской заботливости птиц и наземных животных —
наконец, к человекоподобным мыслям и к самостоятельно
приобретенным навыкам, пока все не объединилось в разуме^
свободе и гуманности человека.
4. Для каждого создания, в зависимости от целей при-
роды, которым оно должно служить, была предусмотрена и
продолжительность его существования. Растение быстро от-
цветает; для дерева требуется более медленный рост» H асе-
15* Зак. 29h Гердер 227
.-комоё, которое появляется на свет вместе со своим искус-
ством и размножается рано и обильно', исчезает быстро; жи-
вотным, которые растут медленно, производят меньше потом-
ства или должны вести как бы разумный семейный образ
жизни, — им дана более долгая, а человеку — сравнительно
самая долгая жизнь. Однако природа заботилась здесь не
только об отдельном существе, но о сохранении целого вида,
а также тех видов, которые стоят над ним. Поэтому самые
низкие слои царства природы не только густо заселены, но
там, где это не противоречит целям природы, и жизнь их
продолжается дольше. Море, этот неисчерпаемый источник
жизни, дольше всего сохраняет своих обитателей, одаренных
стойкой жизненной силой; и амфибии, наполовину жители
воды, близки к ним продолжительностью своего существова-
ния. Жители воздуха, менее обремененные земною пищей,
которая постепенно огрубляет обитателей суши, живут, в об-
щем, дольше их. Таким образом, воздух и вода предста-
вляются огромным резервуаром живых существ, которые за-
тем/ уже в более короткие сроки, уничтожаются и погло-
щаются землею. ■■'.-
5. Чем существо организованнее, тем больше в его строе-
нии участвуют низшие царства природы. Это многообразие
начинается под землей, и оно все усиливается в растениях,
животных, вплоть До самого многообразного существа—че^
ловека. Его кровь и его многоименные составные части пред-
ставляют собой как бы сгусток всего мира: известь и земля,
соли и кислоты, масло и вода, силы роста, раздражения и
ощущения в нем органически слиты и взаимно пере-
плетены.
Мы должны либо рассматривать эти явления как игру
природы (а разумная природа никогда не" тешится бессмыс-
ленной игрой), или нам приходится признать и царство не-
видимых сил, в котором царят такие же тесные связи к
плавные переходы, какие мы наблюдали во внешних образо-
ваниях. Чем больше мы познаем природу, тем больше мы
замечаем в ней. эти внутренние силы—.даже и в самых низ-
ших созданиях: мхах, губках и т. п. В животном, которое
почти неистощимо воспроизводит само себя, в мышце, кото-
рая сокращается быстро и разнообразно под влиянием вну-
треннего раздражения, наличие их неоспоримо, — и, таким
образом, все исполнено всемогущей органически-действующей
силы. Мы не знаем, ни где она начинается, ни где кончается;
ибо где во вселенной есть действие, там и сила; где про-
является жизнь, там есть и внутренняя жизнь. Итак, в незри-
мом царстве творений несомненно существует не только взаи-
мосвязь, но и восходящий ряд сил, ибо мы видим их
проявление в зримом 'мире, в организованных формах...
'228
ХОТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ
В САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМАХ,
ОН ВСЮДУ ПРИНАДЛЕЖИТ К ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОРОДЕ *
Если в природе на одном дереве не бывает двух одинако-.
вых листьев, то тем более это относится к двум человеческим'
лицам и двум человеческим организмам» На какое бесконеч-
ное разнообразие способно искусное.строение нашего тела!
Его плотные части переходят в столь мелкие, сложно пере-:
плетающиеся волокна, что глаз не может их различить. Они
скреплены веществом, чей тонкий состав недоступен изобрел
тательной науке; но эти части — еще далеко не главное, что
в нас есть: это всего лишь сосуды, оболочки и носители
огромной массы разнообразных живых соков, благодаря ко-
торым мы питаемся и живем. «Нет человека, — говорит Гал-
лер, 1 — вполне сходного с другим по своему внутреннему
строению; в миллионах миллионов случаев он отличается от
других расположением своих нервов и жил, так что почти
невозможно выбрать из разнообразия этих мелких частиц то,
в чем они совпадают». Если даже глаз исследователя обна-
руживает при анализе эти бесчисленные отличия, то на-;
сколько больше их должно быть в невидимых силах столь
искусно построенного организма! Каждый человек оказы-
вается в конце концов целым миром; правда, снаружи это
довольно похожие явления, но внутри он — особое существо,
не, соизмеримое ни с каким другим.
Человек—не независимая субстанция, он находится во
взаимосвязи со всеми стихиями природы: он живет возду-
хом, а также всевозможными детищами земли, пищей и
питьем; он перерабатывает огонь, впитывает свет и отравляет
воздух; во сне и наяву, в покое и в движении способствует
он видоизменению вселенной — так неужели же она не. ви-
доизменяет его? Мало сравнивать его с всасывающей губкой,
с тлеющим трутом; неизмеримая гармония, живая сущ-
ность—вот что он такое, и на него воздействует гармония
всех окружающих его сил.
Весь жизненный 'путь человека — сплошное превращение;
каждый возраст — отдельный его эпизод, и так весь род че->
ловеческий находится в состоянии непрерывной метамор-
фозы. Одни цветы осыпаются и увядают, появляются новые
побеги и почки; огромное дерево несет одновременно все вре-.
мена года на своей кроне. Если, согласно подсчетам одних
лишь кожных испарений, тело восьмидесятилетнего старика
полностью обновлялось по меньшей мере двадцать четыре
1 Предисловие к «Общей естественной истории» Бюффона;.ч. 3..;.
229
раза,1 то кто же может проследить смену материи и ее форм
во всем человеческом царстве на земле со всеми причинами
этих изменений? Ведь ни одна точка на нашей многообразной
планете, ни одна волна в потоке времени не походит на дру-
гую. Жители Германии несколько столетий тому назад были
патагонцами, * а теперь они уже не те; жители будущих
климатов не будут походить на нас. Углубимся в те времена,
когда все на земле было, по-видимому, совсем иным, напри-
мер в те времена, когда слоны водились в Сибири и Север-
ной Америке, когда еще живы были огромные животные,
кости которых находят на реке Огайо, и т. п. Если тогда
в этих местностях и жили люди, то как они были непохожи
на тех, которые живут там теперь! Так история человече-
ства становится ареной превращений, которые может охва-
тить в целом лишь тот, чьим дыханием проникнуты все эти
создания и кто радуется и чувствует в них себя. Он воздвигает
и разрушает, совершенствует формы и изменяет их, преобра-
зуя мир вокруг них. Странник на земле, быстро преходящий
мотылек-однодневка, он может только дивиться чудесам это-
го великого духа на столь узком пространстве, радоваться
форме, которая дана ему в сонме других, преклоняться и ис-
чезать вместе с этой формой. «И я был в Аркадии!»* — та-
кова надгробная надпись всех живущих в бесконечно меняю-
щемся, вновь возрождающемся мироздании.
Но поскольку человеческий разум в любом многообразии
ищет единства, а его прообраз, разум божественный, сочетал
на земле бесчисленнейшие различия с единством, то и мы мо-
жем вернуться из необъятного мира изменений к самому про-
стому положению: весь род человеческий на земле принадле-
жит к одной и той же породе...
Мне хотелось бы, наконец, чтобы те деления, в которые
пытаются втиснуть род человеческий из »похвального усердия
к научным обобщениям, не переступали определенных гра-
ниц. Так, те четыре или пять разновидностей, которые сперва
были установлены по месту жительства или даже по цвету
кожи, некоторые люди рискнули назвать расами; я не вижу
для этого оснований. Раса подразумевает разницу происхо-
ждения, а ее или вовсе не было, или в каждом из этих поя-
сов и при любом цвете кожи оказываются объединенными
самые различные расы. Ибо всякий народ есть народ; у него
свой национальный склад, как и свой язык. Правда, каждая
страна света накладывает на одних свою печать, а на дру-
гих—только слабый налет, но это не нарушает исконного
образа нации. Это распространяется даже на отдельные
семьи, и переходы эти переменчивы и неуловимы. Короче го-
1 По Бернульи, см. Галлер, Физиология, т. VIII, кн. 30, где можно
найти массу замечаний об изменениях человеческой жизни. 1
230
воря, на земле нет ни четырех или пяти рас, ни взаимно
исключающих друг друга разновидностей. Различия цвета
кожи переходят одни в другие; формы различаются по про-
исхождению; а в целом все это — лишь оттенки одной боль-
шой картины, которая простирается через все земные про-
странства и времена. Она входит поэтому не столько в систе-
матическую естественную историю, сколько в физико-геогра-
фическую историю человечества...
СИЛА ВООБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ВСЮДУ НОСИТ
ОРГАНИЧЕСКИЙ И КЛИМАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР,
НО ОНА ВСЮДУ УПРАВЛЯЕТСЯ ТРАДИЦИЕЙ *
1 ...Всюду мир фантазии отражает климат и характер
народов. Сравните гренландскую мифологию .с индийской,
лапландскую с японской, перуанскую с негритянской: какая
всеобъемлющая география поэтической души! У брахмана
вряд ли возник бы какой-нибудь образ, если бы ему прочи-
тали и объяснили Волуспу* исландцев; а исландцу так же
чужды были бы Веды. * Характер представлений каждой на-
ции глубоко запечатлелся в ней, потому что он ей принадле-
жит, связан с ее небом и ее землей, возник из ее образа
жизни, унаследован ею от отцов и дедов. То, чему особенно
удивляется чужеземец, для них кажется самым понятным;
там, где он смеется, они остаются серьезными. Индийцы го-
ворят, что судьба человека начертана в его мозгу, тонкие из-
вилины которого изображают непостижимые письмена из
книги судеб; нередко самые произвольные национальные по-
нятия и взгляды являются такими рисунками в мозгу, впле-
тенными в него линиями, неразрывно сросшимися с телом
и душой.
2. Как это происходит? Может быть, каждый член этих
людских стад изобретает себе мифологию и любит ее как
свою собственность? Никоим образом. Он ничего в ней не
изобрел; он ее унаследовал. Если бы он создал ее собствен-
ным домыслом, то собственный домысел мог бы также при-
вести его от дурного к лучшему; но этого нет. Добрицхофер 1
доказывал однажды целому сборищу отважных и умных
абипонов, * как смешон их ужас перед колдуном, грозившим
превратиться в тигра, когти которого они, казалось, уже чув-
ствовали на -себе. «Ежедневно, — сказал он, — вы убиваете
в поле настоящих тигров, не испытывая никакого ужаса; по-
чему же вы так трусливо бледнеете перед, вымышленным,
которого здесь нет?» На это один мужественный абипон ска-
зал: «Вы, отцы, не имеете еще настоящего понятия о наших
1 Д обр ицхофер. История абипонов, ч. 1.
231
делах, Тигров в ополе мы не боимся, потому что мы ихзидим::
там мы убиваем их без труда. Искусственные же тигры наво-:
дят на нас страх именно потому, что мы их не видим и не
можем убить». Мне кажется, что в этом вся суть. Если бы
все. наши представления были такими же ясными, как зри-
тельные, если !бы у нас не было иных образов фантазии,
кроме тех, которые мы выводим из зримых предметов и. мо-:
жем сравнивать с ними, — тогда источник обмана и заблу-
ждения хоть и не был бы совсем прегражден, по крайней
•мере его было бы легко обнаружить. Но на деле большинство
образов народной фантазии — детища слуха и устного рас-
сказа. С любопытством внимало несведущее дитя тем сказа-
ниям, которые, подобно материнскому молоку, подобно празд-
ничному вину отцов, вливались в его душу и питали ее. Они,
казалось, объясняли ему то, что он видел: юношу они знако-
мили с образом жизни его рода и со славой его отцов; муж-
чину ойй посвящали в его призвание со всеми национальными и
климатическими особенностями и становились неразрывно
связанными со всей его жизнью. Гренландец или тунгус всю
жизнь действительно видят то* о чем они, собственно говоря,'
только слышали в детстве, и они верят в это, как в увиден-
ную истину. Отсюда ужасные обычаи многих отдаленных на-
родов во время лунных и солнечных затмений; отсюда их
боязливая вера в духов воздуха, моря, всех стихий природы.
Там, где в природе есть какое-либо движение, где какой-ни-
будь предмет кажется живым и изменяется, а глаз не ула-
вливает причин этого изменения, там ухо слышит голоса и
речи, которые объясняют ему загадку видимого через невиди-
мое; сила воображения напрягается и удовлетворяется по-
своему, то есть через фантазии. Вообще слух — самое робкое,
самое боязливое из чувств; он воспринимает живо, но смутно;
он не способен связывать свои ощущения, сравнивать их
с .полной ясностью, потому что его объекты проходят мимо
оглушающим 'потоком. Предназначенный будить душу, он
редко бывает в состоянии удовлетворить ее четкими сведе-
ниями без помощи других оргайов чувств, особенно глаза.
3. Из этого видно, у каких народов сила воображения
должна быть особенно напряженной: именно у тех, которые
любят уединение, которые обитают в диких местностях, в пу-
стынях, среди скал, на берегах бурного моря* у подножия
огнедышащих гор или в других местах земного шара, полных
чудес и движения. С древних времен Аравийская пустыня
была матерью возвышенных вымыслов, и те, кто предавался
им, в большинстве случаев были одинокие люди, изумленные
созерцатели. В уединении открылся Магомету его коран;
его возбужденная фантазия возносила его на небо и пока-
зывала ему ангелов, блаженных и все миры. Никогда его
душа не бывает пламеннее, чем когда он рисует молнию
232
в одинокой ночи, день великого возмездия и другие неизме-
римые предметы.
Где и куда не распространилось суеверие шаманов? От
Гренландии и трех частей Лапландии, через погруженные
в ночь берега Ледовитого океана, в глубь Татарии, в Америку
и почти по всей этой части света. Всюду мы видим колдунов,
и везде ужасы природы составляют тот мир, в котором они
живут. Более трех четвертей земного шара разделяет эту
веру, ибо и в Европе большинство народностей финского и
славянского происхождения еще привержены волшебствам
культа природы, а суеверие негров — то же шаманство, сло-
жившееся в соответствии с их духом и климатом. В странах
азиатской культуры оно, правда, вытеснено более рассудоч-
ными и искусственными религиями и государственными уста-
новлениями; однако оно проявляется там, где это воз-
можно,—в уединении и у простого народа — и, наконец,
снова полновластно царит на некоторых островах Тихого
океана. Итак, культ природы обошел весь земной шар, и его
вымыслы цепляются за всякое могучее и страшное явление
природы, 'перед которым останавливается человеческое бесси-
лие. В древние времена это была религия почти всех наро-
дов на земле.
4. О том, что большое влияние оказывает при этом образ
жизни и национальный склад каждого народа, почти не стоит
упоминать. Пастух смотрит на природу иными глазами, чем
рыболов или охотник; и в каждом поясе земли эти промыслы
тоже различаются, как и национальные характеры. Меня, на-
пример, поражало в мифологии такого северного народа, как
камчадалы, какое-то дерзкое сладострастие, которого скорее
можно бы ожидать от южного народа. Однако их климат и
их сложившийся характер дают, ключ и-к этой аномалий.
В их холодной стране есть огнедышащие горы и горячие
источники; там борются леденящий холод и кипящий жар;
их чувственные нравы, как и их грубые мифологические
шутки, являются естественным продуктом того и другого. То
же можно сказать о сказках болтливых, всегда возбужден-
ных негров, в которых нет ни начала, ни конца; то же о сжа-
той, сухой мифологии североамериканских индейцев; то же
о цветистой фантазии индусов, которая, как и они сами, ды-
шит сладострастным покоем рая. Их боги купаются в молоч-
ных и сахарных морях, их богмни живут на прохладных пру-
дах, в венчиках благоухающих цветов. Короче говоря, мифо-
логия каждого народа — отпечаток того, как он смотрел на
природу, в особенности же —находил ли он в ней, сообразно
своему климату и характеру, больше хорошего или дурного,
И как он пытался объяснить себе одно через другое. Итак,
даже в самых диких местностях и в самых безобразных своих
чертах она является философской попыткой человеческой
233
души, которая, прежде чем проснуться, видит сны и охотно
пребывает в состоянии детства.
5. Обычно на ангекоков, * колдунов, магов, шаманов и
жрецов смотрят как на виновников этих заблуждений народа
и считают, что всё объяснили, назвав их обманщиками.
В большинстве случаев так оно и есть;, но никогда не надо
забывать, что они тоже народ и тоже обмануты старинными
легендами. Они родились и воспитывались в самой гуще фан-
тазий своего народа; их посвящение совершалось через пост,
уединение, напряжение фантазии, изнурение тела и души.
Никто не становился колдуном, пока ему не являлся его дух,
так что сперва должно было совершиться в его душе то, что
он потом всю жизнь совершает для других,, вновь и вновь
вызывая сходное напряжение мыслей и утомление тела. Са-
мых трезвых путешественников невольно поражали зрелища
этого рода, потому что они видели такие результаты силы
фантазии, которые они вряд ли считали возможными и часто
не могли себе объяснить. Вообще фантазия — все еще самая
неисследованная и, быть может, не поддающаяся исследова-
нию сила человеческой души, она связана со всем строением
тела, в особенности с мозгом и нервами, о чем свидетель-
ствуют многие странные заболевания; она представляется не
только связью и основой всех тончайших душевных сил, но
и связующей нитью между духом и телом. Это — как бы цве-
ток, вырастающий из всего чувственного организма, которым
в дальнейшем пользуются мыслительные способности. По-
этому она неизбежно первой передается детям от родителей,
что опять-таки подтверждается многими случаями противо-
естественного характера, а также неоспоримым сходством
внешнего и внутреннего склада даже в самых случайных чер*
тах. Долго спорили о том, существуют ли врожденные идеи; *
в том смысле, как понимали это слово, их, конечно, нет; если
же понимать это как предрасположение к восприятию, соеди-
нению и развитию определенных идей и образов, то, по-ви-
димому, ничто не говорит против них, а все за них. Если сын
может унаследовать шестипалую руку, а семья человека-дико-
браза в Англии — его нечеловеческие наросты, если внешние
формы головы и лица часто передаются совершенно очевид-
ным образом, то разве не было бы чудом, если бы строение
мозга не передавалось и не наследовалось в своих тончай*
ших органических складках? Среди многих народов свиреп-
ствуют болезни воображения, о которых мы и понятия не
имеем: все родичи больного щадят его недуг, потому что они
сами чувствуют к нему родовое предрасположение. Среди от-
важных и здоровых абипонов царит периодическое безумие,
о котором сам безумный в промежутках ничего не помнит:
он здоров, как прежде; лишь душа его, как они говорят, не
находится при нем. У некоторых народов, чтобы дать выход
m
этому недугу, установлены празднества сновидений, когда
сновидцу разрешается делать все, что ему повелевает дух.
Вообще сны обладают чудесной властью над всеми фантази-
рующими народами; сновидениями были, вероятно, и первые
музы, матери вымысла и поэзии. Они внушали людям такие
образы и предметы, которых не видел ничей глаз, но кото-
рых жаждала человеческая душа. Например, разве не есте-
ственно, что любимые умершие являлись во сне оставшимся
в живых и что те, кто так долго жил с нами наяву, теперь
хотели жить с нами, по крайней мере, как тени в сновиде-
ниях?
История народов покажет, как провидение использовало
дар воображения, через который оно могло так сильно, чисто
и естественно влиять на людей; но как это было отврати-
тельно, когда им злоупотребляли обман или деспотизм, за-
ставляя служить своим целя-м весь еще не укрощенный океай
человеческих фантазий и снов.
Великий дух земли, каким взглядом взираешь ты на все
призрачные образы и сновидения, которые мечутся по на-
шему круглому земному шару! Ибо сами мы — только тени,
и наше воображение создает одни призрачные сны. Подобно
тому как 'мы не способны дышать абсолютно чистым возду-
хом, так нашей сложной, созданной из праха оболочке еще
недоступен чистый разум. Однако даже среди всех заблужде-
ний фантазии человечество постепенно возвышается до него.
Оно любит образы, потому что они дают ему впечатления
о вещах, оно и в самом густом тумане видит и ищет лучи
истины. Счастлив же среди многих тот, кто за ограниченный
срок своей жизни переходит по мере сил своих от фантазий
к сущности, вырастая из ребенка в мужчину, и с этой целью
странствует ясным умом по истории своих собратьев. Душа
обретает благородную широту, когда решится вырваться из
узкого круга, в котором замкнули нас климат и воспитание,
и, пребывая среди других народов, узнает, по крайней мере,
то, от чего нам можно отказаться. В том, что мы долго счи-
тали существенным и важным, обнаруживается много та-
кого, без чего вполне можно обойтись. Представления, кото-
рые мы признавали общими принципами человеческого ра-
зума, исчезают вместе с климатом той или иной местности,
как перед мореплавателем исчезает суша, превращаясь в об-
лака. То, что одна нация считает необходимым для своего
круга понятий, о том другая никогда и не помышляла или
даже видит в этом вред. Так блуждаем мы на земле по ла-
биринту человеческих фантазий; но где же центр этого ла-
биринта, к которому возвращают нас все скитания, подобно
тому как преломленные лучи возвращаются к солнцу? — Вот
в чем вопрос.
235
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗУМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВСЮДУ ВЫРОС
ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДАННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ;
НО ОН ВСЮДУ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТОМ НАРОДНОГО ГЕНИЯ,
СЫНОМ ТРАДИЦИИ И ПРИВЫЧКИ*
Мы привыкли делить народы земли на охотников, рыбо-
ловов, скотоводов и земледельцев и в зависимости от этого
деления определять не только степень их культуры, но и са-
мую культуру как необходимое следствие того или иного
образа жизни. Превосходно — если бы только каждый образ
жизни сам был вполне определенным, но они меняются почти
в каждом поясе земного шара и обычно так тесно перепле-
таются между собой, что применение четкой классификации
становится чрезвычайно затруднительным. Гренландец, ко-
торый забивает кита, охотится за оленем, убивает тюленя, —
рыболов и охотник; но совсем не такой, как негр, который
ловит рыбу, или арауканец, охотящийся в пустынях Анд. Бе-
дуин и монгол, лапландец и перуанец—пастухи; но насколько
они отличаются, друг от друга, если один пасет верблюдов,
другой — лошадей, третий — оленей, четвертый — альпак и
лам!* Земледелец в Ундах и в Японии так же не похожи
друг на друга, как английский и китайский купец.
По-видимому, потребность сама по себе тоже не способна
создать культуру, даже если у народа достаточно сил, ожи-
дающих своего развития; ибо как только лень человека при-
мирится с нуждой и от обоих родится дитя, которое он на-
зывает довольством, человек застывает в своем состоянии, и
его очень трудно побудить к совершенствованию. По-види-
мому, дело заключается в других действующих причинах,
которые так или иначе определяют образ жизни народа;
здесь же мы примем их как данные и исследуем, какие в них
проявляются активные душевные силы.
Люди, питающиеся корнями, травами и плодами, долго
остаются праздными и ограниченными в своих способностях,
если этому не помешают особые движущие силы культуры.
Рожденные в прекрасном климате, дети мирного народа,
они ведут мирный образ жизни. Да и к чему им враждовать,
если богатая природа дарует им все без труда? Зато их
искусства и изобретения удовлетворяют только их ежеднев-.
ные потребности. Островитяне, которых природа питала пло-
дами, в особенности благотворным плодом хлебного дерева^
одевая их корой и ветвями под прекрасным небом, вели ти-
хую, счастливую жизнь. Рассказывают, что птицы садились
на плечи жителей Марианских островов, и никто не мешал
им петь. Лука и стрел они не знали; ибо никакой дикий
зверь не заставлял их защищать свою жизнь. Огонь тоже
был им: незнаком; мягкий климат позволял им превосходно
обходиться без него. Сходное положение было и.на Каро-
236
Линских и других блаженных островах Южного моря; лишь
на некоторых из них общественная культура поднялась уже
выше и по ряду причин соединила разные искусства и ре-
месла. Там, где климат становится суровее, людям приход
дитея прибегать к более суровому и разнообразному образу
жизни. Житель Новой Голландии * преследует своего кен-
гуру и опоссума, он стреляет птиц, ловит рыб, ест корни
яма-, * Он объединяет столько образов жизни, сколько тре-
бует сфера его скудного достатка, пока наконец она, так ска-
зать, округляется, и тогда он живет в ней по-своему счаст-
ливо. Так обстоит дело с. новокаледонцами и новозеланд-
цами, не исключая и несчастных жителей Огненной земли, *
У них -были челны из древесной коры, лук и стрелы, кор-
зины и сумки, огонь и хижины, одежда и мотыги, то есть
начатки всех искусств, при помощи которых наиболее разви-
тые народы земли достигли высокого уровня культуры;
только у них, под тяжестью гнетущего холода, среди пустын-
ной скалистой местности, все это оставалось в самом гру-
зом, зачаточном состоянии. Калифорнийцы проявляют ровно
столько разума, сколько дает и требует их страна и их об-
раз жизни. То же относится к жителям Лабрадора и ко всем
народам на скудных окраинах земли. Всюду они примири-
лись с нуждой и в своей вынужденной деятельности живут
счастливо по унаследованной привычке. Они презирают все,
что выходит за пределы их потребностей; эскимос очень
ловко гребет на море, но плавать он еще не научился.
На великих материках нашего земного шара люди и жи-
вотные находятся в более тесном соседстве; благодаря та-
кому соседству человеческий ум мог работать в более разно-
образных направлениях. Конечно, жителям многочисленных
болот Америки приходилось довольствоваться змеями и яще-
рицами, игуаном, армадиллом и аллигатором; но большин-
ство народов занималось более благородной охотой. Каких
способностей недостает жителю Северной или Южной Аме-
рики для его жизненного призвания? Он знает зверей, за
которыми охотится, их жилища, образ жизни и повадки и
вооружается против них силой, хитростью и опытом. Маль-
чик воспитывается для славы охотника, как в Гренландии
он прославится как ловец тюленей; он слышит разговоры,
песни, рассказы о выдающихся подвигах, которые ему изоб-
ражают также и жестами и воодушевляющими танцами.
С детства учится он изготовлять орудия и пользоваться ими;
он играет с оружием и презирает женщин; ибо чем уже жиз-
ненная сфера и чем определеннее то дело, в котором хотят
дойти до совершенства, тем вернее оно достигается. Никто
не мешает пылкому юноше в его стремлениях; напротив, все
додстрекает и поощряет его, потому что он живет на глазах
у своего народа, сохраняя положение и занятия своих предков,
237
Если бы кто-нибудь вздумал составить книгу, в которой
было бы собрано все известное об искусствах и умениях раз-
ных народов, то он обнаружил бы, что они различны по всей
нашей земле и расцветают каждое на своем месте. Здесь
негр бросается в волны прибоя, в которые не решился бы
погрузиться ни один европеец; там он взбирается на деревья,
где наш глаз с трудом за ним следит. Здесь рыболов делает
свое дело так искусно, словно он заговаривает рыб; там са-
моед встречается с белым медведем и меряется с ним си-
лами; негр свободно одолеет двух львов, если он сочетает
силу с хитростью; готтентот идет на носорога и бегемот ai;
обитатель Канарских островов карабкается на самые крутые
скалы, по которым он скачет, как серна; сильная мужеподоб-
ная женщина Тибета переносит чужеземца через высочайшие
горы земного шара. Потомство Прометея,* которое было со-
ставлено из частей и инстинктов всевозможных животных,
в разных местах превзошло их всех в искусствах и умениях,
которым оно научилось от них же.
Не подлежит сомнению, что большую часть своих искусств
люди переняли у животных и у природы. Почему житель Ма-
рианских островов одевается в древесную кору, а американ-
ский индеец и папуас украшают себя перьями? Потому что
первый живет среди деревьев и от них получает свою пищу,
а для американца и папуаса пестрые птицы его страны —
самое прекрасное, что он видит. Охотник одевается, как его
дичь, и строит, как его бобер; другие народы висят на де-
ревьях, как птицы, или строят на земле свои хижины в виде
гнезд. Клюв птицы послужил человеку прообразом для копья
и стрел, как форма рыбы — для его искусственно плавающей
лодки. От змеи он научился пагубному искусству отравлять
свое оружие; а чрезвычайно распространенный обычай рас·
крашивать тело тоже был подражанием примеру животных
и птиц. «Неужели, — думал ohl—они так чудесно убраны,
так пестро разукрашены, а я один должен расхаживать
с одноцветной, бледной кожей, потому что мой климат и моя
лень не терпят никаких покровов?» И вот он начал симме-
трично татуировать и раскрашивать свое тело; даже народы,
имеющие одежды, не хотели уступить быку его рога, птице
гребешок, медведю хвост и подражали им. Жители Северной
Америки с благодарностью рассказывают, что маис им при-
несла птица; и большая часть природных лекарств явно
заимствована у животных. Конечно, для всего этого требо-
вался чувственный склад ума вольных детей природы, ко-
торые, живя вместе с этими созданиями, еще не считали себя
так бесконечно выше их. Европейцам в других частях света
трудно было даже найти то, чем туземцы пользовались еже-
дневно; после долгих попыток им все-таки приходилось на*
сильно вырывать или выспрашивать у туземцев эту тайну*
238
Но человек шагнул еще гораздо дальше, приманив жи-
вотных и в конце концов поработив их; бросается в глаза
огромная разница между соседними народами, живущими
с этими помощниками или без них. Чем объяснить, что да-
лекая Америка ко времени ее открытия так сильно отстала
от большей части Старого Света и что европейцы могли об-
ращаться с туземцами как со стадом беззащитных овец?
Дело было не только в физической силе, как это и теперь
еще доказывает пример бесчисленных лесных народов; по
росту, быстроте бега, проворству и ловкости, взятые один на
один, они превосходят большинство народов, оспаривающих
друг у друга их землю. Дело было и не в силе ума, насколько
она требуется для одного человека: американский индеец
умел заботиться о себе и счастливо жил с женой и детьми.
Значит, дело было в умений, в оружии, во взаимной связи
между людьми, а больше всего — в прирученных животных.
Будь у американца хотя бы только лошадь, перед чьим воин-
ственным величием он трепетал, будь у него свирепые псы,
которых испанцы натравливали на него как наемников его
католического величества, какими 'были они сами, тогда за-
воевание обошлось бы дороже и народам-наездникам было
бы, по крайней мере, открыто отступление в свои горы, пу-
стыни и равнины. Еще и теперь, по рассказам всех путеше-
ственников, лошадь определяет основное различие между
американскими племенами. Наездники Северной, а особенно
Южной Америки так сильно отличаются от бедных, порабо-
щенных обитателей Мексики и Перу, что их трудно считать
братьями — жителями одного и того же «пояса земли. Они
не только сохранили свою свободу, но и стали более муже-
ственными телом и душой людьми, чем, вероятно, были при
открытии их страны. Конь, которого поработители их братьев
сами привели к ним как бессознательное орудие судьбы,
быть может когда-нибудь станет освободителем всей этой
части света, подобно тому как другие прирученные живот-
ные, которых завезли к ним, частично уже стали для них
средствами для более удобной жизни и, вероятно, когда-ни-
будь станут вспомогательными орудиями развития самостоя-
тельной культуры западного мира. Но все это скрыто в ру-
ках судьбы, а руки ее сделали так и такова была природа
этой части света, что они долго не знали ни лошади и осла,
ни собаки и коровы, ни овцы й козы, ни свиньи, ни кошки*
ни верблюда. У них было меньше пород животных, потому что
их страна была меньше, была отделена от Старого Света и
в значительной своей части, вероятно, позднее поднялась со
дна морского, чем остальные части света; поэтому им уда-
лрсь приручить меньше животных. Альпака и лама, перу-
вианская'овца в Мексике, Перу и Чили были единственными
поддающимися приручению и .прирученными животными;
и даже европейцы со всем своим разумом не смогли приба-
вить -к ним ни одного нового, и им не удалось превратить кики
<или -паги, тапира или аи в полезное домашнее животное.
В Старом же Свете, напротив, как много прирученных жи-
вотных! И какое большое значение они имели для деятель-
ного ума человека! Без верблюда и лошади аравийская и
африканская пустыни были бы непроходимы; овца и коза
стали подспорьем домашнему хозяйству людей, крупный ро-
гатый скот и осел — земледелию и торговле народов. В пер-
вобытном состоянии человек жил дружелюбно и общительно
с этими животными; он бережно обращался с ними и пони-
мал, чем он им обязан. Так живет араб и монгол со своим
конем, пастух со своей овцой, охотник со своей собакой, пе-
руанец со своей ламой.1 Человеческое обращение, как всем
известно, идет на пользу этим помощникам человеческого
быта; они учатся понимать и любить человека; в них разви-
ваются способности и склонности, о которых не знает ни
дикое, ни порабощенное человеком животное, утратившее
в тупом ожирении или в истощенном состоянии даже силы и
инстинкты своей породы. Таким образом, в определенном
кругу люди и. животные развивались совместно; практиче-
ский ум людей укреплялся и расширялся благодаря живот-
ным, а способности животных —благодаря людям. Когда чи-
таешь о собаках камчадалов, то затрудняешься сказать, кто
же из них разумнее — собака или камчадал?
В этой сфере и останавливается первоначальный деятель-
ный разум человека; всем народам, привыкшим к ней, трудно
было ее покинуть; особенно боялся каждый из них порабо-
щающей власти земледелия. Хотя в Северной Америке есть
прекрасные пастбища и каждый народ любит и защищает
свою собственность и хотя многие, благодаря европейцам,
узнали цену деньгам, спирту и кое-каким удобствам, все же
обработку полей, выращивание маиса и некоторых садовых
плодов, а также все заботы о своей хижине они предоста-
вляют одним женщинам; воинственный охотник не может
решиться стать садовником, пастухом или земледельцем.
Деятельная, свободная жизнь среди природы дороже всего
так называемому дикарю; окружая его опасностями, она
пробуждает его силы, мужество, решительность и награждает
его зато здоровьем в жизни, независимым спокойствием
в своей хижине, уважением и почетом среди своего племени.
Большего он не желает, в большем не нуждается. Да и ка-
кое еще благополучие могло бы принести ему другое состоя-
1 Прочитайте например, у Уллоа («Сообщения из Америки», ч. 1,
стр. 131) о детской радости, с которой перуанец посвящает ламу на
службу себе. Обращение других народов со своими животными доста«
точно известно из описаний путешествий.
240
ние, удобств, которого он не знает и тяготы которого ему
невыносимы? Стоит прочитать некоторые неприкрашенные
речи тех, кого мы называем дикарями: разве можно отказать
им в здравом смысле и природной честности? И в этом со-
стоянии человеческому образу придана такая форма, какую
ей можно было здесь придать, хотя и грубой рукой и для
ограниченных целей, а именно — для уравновешенного до-
вольства и спокойного расставания с этой жизнью после мно-
гих лет устойчивого, длительного здоровья. Бедуин и1 абипон
хорошо чувствуют себя в своем положении; первого страшит
жизнь городов, а последний заранее содрогается перед цер-
ковным погребением после смерти: у них такое чувство, как
будто в обоих случаях они были бы заживо догребены.
Даже там, где введено было земледелие, стоило немало
труда прикрепить людей к определенному клочку земли и
ввести «мое» и «твое». Некоторые народности маленьких, бо-
лее или менее культурных, негритянских королевств до сих
пор не имеют об этом понятия: земля, по их словам, принад-
лежит всем. Они ежегодно делят пашню между собой и об-
рабатывают ее без особого труда; когда урожай собран,
земля снова принадлежит сама себе. Вообще ни один образ
жизни не произвел в сознании людей столько изменений, как
земледелие на огражденном участке земли. * Вызвав к жизни
ремесла и искусства, местечки и города и, следовательно, за-
коны и цивилизацию, оно в то же время неизбежно должно
было открыть путь тому ужасному деспотизму, который, зная,
что он найдет каждого на своем поле, в конце концов стал
предписывать каждому, что именно он должен делать и чем
быть на этом клочке земли. Теперь уже не земля принадле-
жала человеку, а человек земле. В результате отсутствия
упражнения вскоре утратилось даже ощущение действовав-
ших прежде сил: погрязнув в рабстве и трусости, порабощен-
ный перешел от трудолюбивой скудости к изнеженной ро-
скоши. Вот почему по всей земле обитатель палатки смотрит
на жителя хижины как на связанное вьючное животное, как
на жалкого выродка человеческой породы. Самая суровая
нужда кажется ему удовольствием, пока она скрашивается
и вознаграждается самоопределением и свободой; а все ла-
комства превращаются в яд, если они размягчают душу и
похищают у смертного создания единственное наслаждение
его бренной жизни — достоинство и свободу.
Но пусть никто не подумает, что я хочу обесценить образ
жизни, который провидение избрало как одно из важнейших
средств, чтобы подготовить людей к гражданскому обществу:
ведь я тоже ем хлеб земли. Только нужно отдать справед-
ливость и другим образам жизни, которые, согласно строе-
нию нашей земли, так же предназначены быть воспитателями
человечества, как и жизнь земледельцев. Вообще лишь
16 Зак. 291. Гердер 241
ничтожная часть обитателей земли обрабатывает поля по на-
шему способу, и природа сама указала им возможность иной
жизни. Многочисленные народности, живущие кореньями, ри-
сом, плодами деревьев, охотой в воде, в воздухе и на земле,
бесчисленные кочевники, хотя и покупающие сейчас хлеб
у своих соседей или понемногу сеющие его сами, а также
те народы, которые обрабатывают землю без собственности
на нее или руками своих женщин и рабов,— все это 'по-на-
стоящему еще не земледельцы. Какая же незначительная
часть земли остается на долю этого искусственного образа
жизни! Но природа или повсюду достигает своей.цели, или
она не достигла ее нигде. Практический разум людей должен
был расцвести во всех своих разновидностях и принести
плоды; поэтому самой разнообразной породе и была дана
такая разнообразная земля.
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА
ВСЮДУ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ БЛАГОМ,
СЛЕДОВАТЕЛЬНО — КЛИМАТИЧЕСКИМ И ОРГАНИЧЕСКИМ
ДЕТИЩЕМ УПРАЖНЕНИЯ, ТРАДИЦИИ И ПРИВЫЧКИ *
Уже само слово благополучие указывает, что человек не-
способен к чистому благу или блаженству и сам не может
его создать для себя; он только получает его как сын случая,
который поместил его туда или сюда и в зависимости от
страны, времени, организма, условий, в которых он живет,
определил и его способность к наслаждению, характер и
меру его радостей и горестей. Безрассудно гордым было бы
утверждение, что обитатели всех стран света должны стать
европейцами, чтобы жить счастливо: разве мы сами были бы
тем, что мы есть, вне Европы? Тот, кто поместил нас сюда,
других посадил в другое место и дал им такое же право на-
слаждаться земной жизнью. Поскольку благополучие — это
внутреннее состояние, то мерило и определение его находится
не вовне, а в груди каждого отдельного существа. Никто дру-
гой не имеет права навязывать «мне свое чувство, потому что
он не наделен (властью передать мне характер своих ощуще-
ний и превратить мое бытие в свое. Не станем же из горде-
ливой лени или из привычного самовозвеличения устанавли-
вать образ и меру человеческого благополучия ниже или
выше, чем определил создатель, ибо он один знал, для чего
должны быть смертные на нашей земле..,
...Если на земле можно найти благополучие, то оно есть
в каждом чувствующем существе; оно должно быть в нем
от природы, и помогающее ему искусство тоже должно стать
242
в нем природой на радость ему. В каждом человеке заложена
мера его блаженства; он несет в себе форму, для которой он
создан и в чьих чистых очертаниях он только и может стать
счастливым. Именно для того природа исчерпала на земле
все человеческие формы, чтобы для каждой из них в свое
время и на своем месте у нее было особое наслаждение, ко-
торым она обольщает смертного на протяжении ©сей его
жизни...
ХОТЯ ЧЕЛОВЕК ВООБРАЖАЕТ,
ЧТО ОН ВСЕ ПРОИЗВОДИТ ИЗ САМОГО СЕБЯ,
ОДНАКО В РАЗВИТИИ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОН СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ДРУГИХ *
...Подобно тому ка-к человек не рождается физически из
себя самого, так же мало он является самородком в поль-
зовании своими духовными силами. Не только зачатки на-
ших внутренних способностей носят врожденный характер,
как и строение нашего тела, но и дальнейший рост его зави-
сит от судьбы, которая поместила нас здесь или там и окру-
жила нас вспомогательными средствами для развития соот-
ветственно времени и возрасту. Глаз должен научиться ви-
деть, а ухо — слышать; а насколько искусственно усваивается
важнейшее орудие наших мыслей, язык, — это ни для кого
не тайна. Очевидно, природа устроила весь наш механизм,
а также особенности и продолжительность возрастов нашей
ж-изни, в расчете на эту постороннюю помощь. Мозг детей
мягок и еще прикреплен ,к черепу; медленно вырабатывает
он свои извилины и лишь с годами становится плотнее; по-
степенно он затвердевает и уже не принимает новых отпечат-
ков. Таковы же члены тела и чувства ребенка: первые нежны
и .приспособлены к подражанию; вторые впитывают все, что
они видят и слышат, с необыкновенно живым вниманием и
внутренней жизнеспособностью. Итак, человек — это искус-
ственная машина, правда одаренная врожденными склонно-
стями и полнотой жизни; но эта машина не управляется сама
собой, и самый способный человек должен научиться управ-
лять ею. Разум—агрегат наблюдений и навыков нашей
души, итог человеческого воспитания, которое воспитуемый
в конце концов сам на себе завершает, следуя данным извне
образцам, словно посторонний художник.
. В этом—основной принцип истории человечества, без ко-
торого этой истории не было бы вовсе. Если бы человек все
извлекал из себя самого и развивал это без связи с внеш-
ними предметами, то, правда, была бы возможна история
человека, но не людей, не всего рода человеческого. Но наш
16* 243
специфический характер заключается именно в том, что, ро-
жденные почти без инстинктов, мы только путем упражнения
в течение всей жизни воспитываемся до уровня человечности,
и на этом основывается наша способность как к совершен-
ствованию, так и к порче и разложению. Потому-то и исто-
рия человечества обязательно должна быть единым целым,
то есть цепью общения и воспитывающей традиции от пер-
вою до последнего звена...
Тут же нам открываются .и принципы этой философии,
простые и неоспоримые, как сама естественная история че-
ловека; они называются традицией и органическими силами.
Всякое воспитание может осуществляться только через по-
дражание ή упражнение, то есть через переход прототипа
в копию; а как лучше назвать это, если не преданием и тра-
дицией? Но у подражающего должны быть силы, чтобы вос-
принять то, что ему передается или может быть передано, и
превратить его в свою природу, подобно пище, которою он
живет. От кого, что и сколько он воспринимает, как он это
усваивает, использует .и применяет, — все это зависит только
от его собственных сил; тем самым воспитание человеческого
рода становится в двойном смысле генетическим и органиче-
ским: генетическим через передачу, органическим через при-
нятие и применение переданного. Мы можем при желании
дать этому второму рождению человека, проходящему сквозь
всю его жизнь, название, связанное либо с обработкой
земли — «культура», * либо с образом света — «просвеще·
ние». Эта цепь культуры и просвещения охватывает всю
землю, от края до края. И калифорниец и обитатель Огнен-
ной Земли учились делать лук и стрелы и пользоваться ими;
своему языку и своим понятиям, своим искусствам и навы-
кам они учились, как учимся и мы; так что они действитель-
но становились культурными и просвещенными, хотя и на
низшей ступени. Разница между просвещенными и непросве-
щенными, культурными и некультурными народами заклю-
чается не в специфике, а только в степени. Общая картина
народов заключает в себе бесконечное множество оттенков,
которые меняются в зависимости от времени и места. Зна-
чит, и здесь, как во всякой картине, все зависит от того, под
каким углом зрения рассматривать ее фигуры. Если мы бу-
дем исходить из понятия европейской культуры, то ее можно,
конечно, найти только (В Европе; а если мы еще установим
произвольные различия между культурой и просвещением
(хотя по-настоящему одно не может существовать без дру-
того), то мы еще дальше уйдем в заоблачный мир. Если же
остаться на земле и рассмотреть в самых общих чертах то,
244
что сама природа, лучше всего знающая цель и характер
своего создания, поставила перед нашими глазами ка,к обра-
зование человека, то оно окажется не чем иным, как тради-
цией воспитания, ведущей к какой-нибудь определенной форме
человеческого благополучия и образа жизни. Она всеобъем-
люща, как само человечество, и даже зачастую бывает дей-
ственнее всего среди дикарей, хотя и в более узкой сфере.
Если человек остается среди людей, то он не может избежать
этой развивающей или уродующей культуры: традиция ов-
ладевает им, формирует его мозг и развивает члены его
тела. Какова эта традиция и насколько эти последние под-
даются воздействию, — таким становится человек, такой об-
лик он и принимает. Даже дети, попавшие в среду зверей,
если только они до того жили »некоторое время с людьми,
приносили с собой человеческую культуру, что видно из
большинства известных примеров; напротив, ребенок, кото-
рый с рождения был бы отдан волчице, явился бы един-
ственным человеком на земле, не затронутым культурой...
...Всем созданиям бога свойственно одно: хотя все они
принадлежат к одному необозримому целому, однако ка-
ждое из них само по себе тоже представляет собой единое
целое и носит божественную печать своего предназначения.
Так обстоит дело с растением и с животным; неужели же
к человеку и его предназначению это не относится? Неужели
тысячи были1 произведены только ради одного, все предыду-
щие поколения — ради последнего, и, наконец, все индиви-
дуумы— только для своего рода, то есть для образа, абст-
рактного имени? Так премудрый не играет нами; он не сочи-
няет отвлеченных, призрачных фантазий; в каждом своем
детище он любит и ощущает себя отцовским чувством, словно
это создание у «его единственное в мире. Все его средства —
это цели, все его цели —средства к более высоким целям,
в которых бесконечный открывается, наполняя собою все.
То, что представляет собой каждый человек и чем он может
стать, — это и должно быть целью рода человеческого. Что
же это такое? Человечность и благополучие: в определен-
ном месте, в определенной степени, как то, а не иное звено
в цепи развития, 'проходящей через все человечество. Где и
кем ты родился, о человек, там ты и есть, тем ты должен
быть; не отрывайся от этой цепи и не пренебрегай ею;
а крепче ухватись за 'нее! Только сохраняя эту связь в том,
что ты принимаешь и даешь, то есть в обоих -случаях —
в -своем деятельном становлении, только в этом для тебя
жизнь и покой...
245
ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ - ЭТО ПОРЯДОК,
УСТАНОВЛЕННЫЙ СРЕДИ ЛЮДЕЙ/
ЧАЩЕ ВСЕГО ПО УНАСЛЕДОВАННОЙ ТРАДИЦИИ *
Естественное состояние человека — это общество: в нем
он рождается и воспитывается, к нему ведет его пробуждаю-
щееся сличение прекрасной юности; и самые нежные челове-
ческие имена — отец, дитя, брат, сестра, любимый, друг, кор-
милец, ©се это —узы естественного права, имеющиеся во вся-
ком первобытном человеческом обществе. На них основаны
самые древние формы правления среди людей — семейный
уклад, без которого наш род не может существовать, законы,
'продиктованные природой и ею же самой в достаточной мере
ограниченные. Назовем их первой ступенью естественной
формы правления-, они же останутся самой высшей и по-
следней.
На этом природа закончила фундамент общества и пре-
доставила разуму или потребности человека возводить на
ней более высокие здания. Всюду на земле, где отдельные
племена и роды менее нуждаются друг в друге, они меньше
интересуются друг другом и, следовательно, не думают
о крупных политических учреждениях. Так обстоит дело на
побережье — у рыболовов, на пастбищах — у скотоводов,
в лесах — у охотников; там, где у них кончается родитель-
ское и домашнее управление, дальнейшие связи между
людьми основываются обычно лишь на договоре или пору-
чении. Например, охотничье племя отправляется на охоту;
если ему нужен вождь, то это должен быть охотничий вождь,
и оно выбирает для этого самого умелого, которому подчи-
няется по свободному выбору и для целей своего общего дела.
У всех животных, живущих стадами, есть такие вожаки. При
передвижениях, обороне, нападении, да и при всяком общем
занятии массы, необходим подобный король на час. Назовем
это второй ступенью естественного управления; она встре-
чается у всех народов, следующих· только своим потребно-
стям и живущих, как мы называем, в естественном состоя-
нии. Даже избранные народом судьи принадлежат к этой
ступени правления, умнейшие и лучшие избираются на свою
должность для выполнения определенного дела, и вместе
с этим делом кончается и их власть.
Насколько отличается третья ступень, наследственное
управление людьми! Где тут прекращаются законы природы
или где они начинаются? То, что спорящие «выбирали судъею
самого справедливого и самого умного человека, это было
в порядке вещей; а если он оправдывал их ожидания, то мог
оставаться судьей хоть до глубокой старости. Но вот старик
умирает; почему же судьей должен стать его сын? Ведь то,
что его породил умнейший и справедливейший отец, — это
246
еще не основание: ведь он не мог заложить в него ни свою
мудрость, ни справедливость. И еще меньше, по сути дела,
народ обязан признавать сына на том основании, что он
когда-то за его личные качества избрал судьей его отца:
ведь сьгн — это совсем не отец. А если (бы народ и пожелал
установить в пользу всех еще не рожденных закон, обя-
зующий признавать -права сына, и от имени их будущего
разума заключил бы на вечные времена договор, согласно
которому каждый еще не рожденный член этого рода должен
быть по рождению судьей, вождем и пастырем народа, то
есть самым храбрым, самым справедливым, самым умным из
всего народа, и поэтому все должны почитать его.таковым
из-за его происхождения,—то 'было бы трудно согласовать
наследственный договор такого рода — не скажу с правом, но
хотя бы с разумом. Природа распределяет свои благородней-
шие дары не по семейному принципу; право крови, согласно
которому один нерожденный по праву рождения будет иметь
право господствовать над другим нерожденным, когда оба
будут рождены, — это для меня одна из самых темных фор-
мул человеческого языка.
Должны существовать другие причины, по которым было
введено наследственное управление среди людей, и история
о них не умалчивает. Кто дал Германии, кто дал просвещен-
ной Европе их правительства? Война. Орды варваров напали
на эту часть света; их вожди и знать поделили между собой
земли и людей. Отсюда возникли княжества и ленные вла-
дения; отсюда возникла крепостная зависимость порабощен-
ных народов. Завоеватели владели всем, а те изменения,
которые со временем -происходили в этом владении, вызыва-
лись опять-таки переворотами, войной, соглашениями между
власть имущими, то есть всегда правом сильного. История
шествует этим царственным путем, а факты истории неоспо-
римы. Что подчинило мир Риму, Грецию и Восток — Але-
ксандру? Что возвышало, а затем разрушало все великие мо-
нархии вплоть до Сезостриса и легендарной Семирамиды?
Война. Насильственный захват заменял право и становился
им лишь в дальнейшем, за давностью, или, как говорят наши
политики, по молчаливому соглашению. Но «молчаливое со-
глашение» в данном случае означает только, что сильный бе-
рет то, что хочет, а слабый отдает или терпит то, чего он не
в силах изменить. Таким образом, право наследственного
управления, как и почти всякого другого наследственного
владения, держится на цепи традиций, первый столб кото-
рой был вбит удачей или силой и которая развертывалась
дальше, кое-где с добротой и мудростью, но чаще опять-
таки благодаря удаче или превосходству силы. Преемники
■и наследники получали, родоначальник брал; тому, кто
имел, давалось все больше, чтобы у него было изобилие, —
247
это не нуждается в дальнейшем разъяснении. Такое (положе-
ние — естественное следствие вышеуказанного первоначаль-
ного овладения землями и людьми...
ДАЛЬНЕЙШИЕ МЫСЛИ ПО ФИЛОСОФИИ
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА*
...В чем же заключается основной закон, который мы на-
блюдали во всех крупных исторических явлениях? Мне ка-
жется, в том, чтобы на нашей земле всюду появилось то, что
может на ней появиться, отчасти в зависимости от располо-
жения и потребностей данного места, отчасти от условий и
обстоятельств времени, отчасти от врожденного или развив-
шегося характера народов. Поставьте живые человеческие
силы в определенные условия пространства и времени на
земле, и тогда произойдут все изменения человеческой исто-
рии. Здесь кристаллизуются монархии и государства, там
они распадаются и принимают новые формы. Здесь из коче-
вой орды образуется Вавилон, там среди преследуемого при-
брежного народа — Тир. Тут в Африке возникает Египет,
там среди Аравийской пустыни — Иудейское государство. И
все это в одном и том же поясе земного шара, в близком со-
седстве друг с другом. Лишь эпохи, лишь места и националь-
ные характеры, короче говоря, все взаимодействие живых
сил в их определенной индивидуальности, оказывают решаю-
щее влияние как на все создания природы, так и на все со-
бытия в человеческом мире. Осветим же этот господствую-
щий закон мироздания так, как он этого заслуживает.
1. Живые человеческие силы — вот главная пружина исто-
рии человечества; а так как человек берет начало из опреде-
ленного рода и внутри его, то тем самым его развитие, вос-
питание и образ мыслей определяются генетически. Отсюда
те поразительные национальные характеры, которые нало-
жили такую глубокую печать на самые древние народы и
с полной очевидностью проявляются во всей их деятельности
на земле. Как источник заимствует состав, свойства и вкус
той почвы, в которой он возник, так древний характер наро-
дов произошел из родовых черт, из местности, образа жизни
и воспитания, из прежних занятий и действий, свойственных
этому народу. Нравы отцов глубоко внедрялись и станови-
лись истинным образцом всего рода. Иллюстрацией может
служить образ мыслей евреев, который нам особенно хо-
рошо известен из книг и примеров их поведения: в стране
отцов, как и посреди других наций, они остались тем, чем
были, и даже при смешении с другими народами их черты
можно узнать на протяжении нескольких поколений. То же
самое было и есть у всех народов древнего мира — египтян,
248
китайцев, арабов, индусов и т. д. Чем более замкнуто они
жили и даже чем сильнее их притесняли, тем тверже стано-
вился их характер; так что если бы каждая нация остава-
лась на своем месте, то на землю можно бы смотреть как на
сад, в котором цветут здесь одно человеческое национальное
растение, а там другое, каждое со своими собственными фор-
мами и со своим складом; здесь одна, а там другая порода
животных ведет образ жизни, соответствующий ее потребно-
стям и характеру.
Но поскольку люди — не растения, вросшие корнями
в землю, то со временем они могли и должны были менять
местожительство, часто вследствие таких суровых случайно-
стей, -как голод, землетрясение, война и т. п., и в другой мест-
ности устраивали себе жизнь, более или менее отличную от
прежней. Ибо хотя они с упорством, почти равным инстинкту
животных, сохраняли обычаи своих предков и даже давали
своим новым горам, рекам, городам и общественным учре-
ждениям названия своей старой родины, все же, цри значи-
тельной перемене воздуха и почвы, сохранять вечное подо-
бие во всем было невозможно. И переселенный народ начи-
нал строить себе улей -или муравейник по-своему. Строение
складывалось из идей их старой родины и их новой страны,
и в большинстве случаев это новое устройство выражало
юношеский расцвет народов. Так финикияне, пришедшие
с берегов Красного моря, устроились на побережье Среди-
земного; так хотел устроить израильтян Моисей; так случи-
лось со многими азиатскими народами. Ведь почти каждому
народу на земле рано или поздно, хотя бы один только раз,
довелось странствовать в течение долгого или короткого вре-
мени. Нетрудно понять, что большое значение при этом имело
время, когда совершалось это переселение, обстоятельства,
вызвавшие его, продолжительность пути, характер культуры,
с которой народ покидал родину, соответствие или противо-
действие, с которыми ему пришлось встретиться на своей но-
вой земле, и т. д. Поэтому даже у несмешанных народов
историческое летосчисление уже по одним только географо-
политическим причинам становится настолько запутанным,
что требуется не поддающийся гипотезам ум, чтобы не по-
терять нить. Особенно легко ускользает она, если какой-ни-
будь народ становится нашим любимцем и мы презираем
все остальные. Историк человечества должен быть нелице-
приятен, как создатель нашего рода или как гений земли,
и должен судить совершенно бесстрастно. Естествоиспы-
тателю, который хочет изучить и упорядочить все клас-
сы своего царства, одинаково ценны роза и чертополох, во-
нючка, ленивец или слон; он больше всего исследует то, на
чем он больше учится. Природа же подарила сынам челове-
ческим всю землю и дала зародиться на ней всему, чему
249
только позволяли зародиться место, время и сила. Все, что
может существовать, существует; все, что может возникнуть,
возникнет, если не сегодня, то завтра. Год природы долог,
цветы ее растений столь же многообразны, как они сами и
как элементы, питающие их. В Индии, Египте, Китае со-
вершилось то, что уже больше никогда и нигде не совер-
шится на земле; точно так же в Ханаане, Греции, Риме,
Карфагене. Закон необходимости и согласованности, который
слагается из сил, места и времени, всюду (приносит равные
плоды.
2. Если главное значение имеет то, к какому времени и
месту относится возникновение какого-нибудь государства,
из каких частей оно состояло и какие внешние условия его
окружали, то в этих особенностях, как мы видим, заложены
в значительной степени и судьбы этого государства. Мо-
нархия, созданная кочевниками, отражающая и в своей по-
литике их образ жизни, вряд ли может быть долговечной; она
разрушает и порабощает, пока сама не будет разрушена;
захват ее столицы, а иногда просто смерть царя, кладет ко-
нец всей ее разбойничьей драме. Так было с Вавилоном и
Ниневией, с Персеполем и Экбатаной; так и сейчас обстоит
дело в Персии. Господству Великих моголов в Индии*
почти уже наступил конец; наступит он и для господства ту-
рок, пока они будут оставаться халдеями, то есть чужезем-
ными захватчиками, и не подведут под свою власть более
нравственную основу. Пусть дерево достигает небес и осе-
няет целые страны света; если у него нет корней в земле, его
может уничтожить порыв ветра. Оно падает благодаря ковар-
ству одного-единственного вероломного раба или топору сме-
лого сатрапа. Древняя и новая истории Азии полны таких
переворотов, и поэтому теория государства находит в них
мало поучительного. Деспоты свергаются с престола, и дес-
поты возводятся на него; государство держится личностью
монарха, его шатром, его короной; кто ею овладеет, тот и
становится новым отцом народа, то есть предводителем по-
бедившей разбойничьей банды. Навуходоносор был грозой
всей Передней Азии, а уже при втором наследнике его не-
укрепленное государство было повергнуто в прах. Три битвы
Александра положили конец огромному Персидскому цар-
ству.
Другое дело те государства, которые выросли из собст-
венных корней и опираются на самих себя; они могут быть
побеждены, но нация остается. Таков Китай; известно, какого
труда стоило завоевателям ввести там всего один-единствен-
ный обычай — монгольскую стрижку волос. То же относится
к брахманам и иудеям, которых уже один дух их обрядности
навсегда отделяет от всех народов на земле. Так Египет
долго противился смешению с другими народами. А как
250
трудно было истребить финикиян — только потому, что они
были ιΒ этом месте коренными жителями! Если бы Киру уда-
лось основать государство, подобно Яо, Кришне, Моисею, то
оно, хотя бы и разрушенное, продолжало бы жить во всех
своих частях.
Этим объясняется, почему древние государства обращали
такое внимание на формирование нравов путем воспитания;
ведь от этой мощной пружины зависела вся их внутренняя
устойчивость. Новейшие государства зиждутся я а золоте или
на механическом государственном искусстве, тогда как те
опирались на весь образ мыслей нации с самого детства;
а так как для детства нет более действенной силы, чем рели-
гия, то большинство древних, особенно азиатских государств
были ε большей или меньшей степени теократическими.
Я знаю, как ненавистно это название, которому большей
частью приписывают все зло, когда-либо угнетавшее челове-
чество; я и не собираюсь выступать в защиту ни одного из
его злоупотреблений. Но правда и то, что этот образ прав-
ления не только подходил, но и <был необходимым для дет-
ства человечества, иначе он, конечно, не распространился бы
так далеко и не держался бы так долго. Он господствовал
от Египта до Китая, почти во всех странах земного шара, так
что Греция была первой страной, постепенно отделившей
свое законодательство от религии. А/ так как политическое
воздействие всякой религии бывает особенно сильно, если ее
предмет, ее боги и герои со всеми своими подвигами были
местного происхождения, то мы видим, что всякая древняя
нация, глубоко укоренившаяся в земле, даже свою космого-
нию и мифологию присваивала той стране, в которой она
жила. Одни лишь израильтяне тем и отличаются от всех
своих соседей, что они не приписывают своей стране ни со-
творение мира, ни сотворение человека. Их законодатель был
просвещенный чужеземец, который не дошел до страны их
будущих -владений; их предки жили в другом месте, и их
закон был обнародован за пределами их страны. Вероятно,
это впоследствии способствовало тому, что евреи так хо-
рошо уживались вне своей родины, как почти ни одна из
древних наций. Брахман, * сиамец не могут жить вне своей
страны; а поскольку еврей Моисеева закона по-настоящему
продукт Палестины, то вне Палестины не должно бы суще-
ствовать ни одного еврея.
3. Наконец, во всем поясе земного шара, который мы
обошли, мы видим, как непрочно всякое дело рук человече-
ских и как даже самый лучший способ правления становится
людям в тягость через несколько поколений. Растение цветет
и увядает, отцы ваши умерли и гниют, ваш храм разрушается,
нет больше ни шатра твоего оракула, -ни скрижалей твоего
закона; даже сам язык, вечная связь между людьми, и тот
251
ветшает. И что же — неужели созданный людьми государст-
венный строй, политическое или религиозное управление, ко-
торое может быть построено только на основе всего этого, —
•неужели же оно должно или может длиться вечно? В таком
случае на крылья времени были бы наложены цепи, и вра-
щающийся земной шар превратился бы в неподвижную
льдину над пропастью. Что бы мы »подумали, если бы в наше
время царь Соломон на одном только празднестве совершил
жертвоприношение из двадцати двух тысяч быков· и ста два-
дцати тысяч овец или если бы царица Савская пришла к нему
в гости со своими загадками?·* Что бы мы сказали о всей
египетской мудрости, если бы в великолепнейшем храме нам
показывали быка Аписа, священную кошку и священного
козла? То же относится к тягостным обычаям брахманов,
суевериям парсов, * пустым притязаниям евреев, нелепой гор-
дости китайцев и вообще ко всему, что где бы то ни было
опирается на допотопные человеческие установления трехты-
сячелетней давности. Пусть учение Зороастра было похваль-
ной попыткой объяснить мировое зло и поощрить его совре-
менников к служению свету; но чем является эта теодицея
теперь, хотя бы в глазах магометанина? Переселение душ
у брахманов можно считать юношеской мечтой человеческого
воображения, которая стремится устроить судьбу бессмерт-
ных душ в пределах видимого мира и к этой благонамерен-
ной иллюзии пристегивает моральные понятия; но во что же
она превратилась, как не в бессмысленный священный закон
с тысячью .придатков в виде обычаев и уставов? Традиция —
сама по себе превосходное, необходимое людям установле-
ние природы, но когда она начинает сковывать всякую силу
'мысли и в практике государственного устройства и в препо-
давании, препятствовать всякому прогрессу человеческого ра-
зума и совершенствованию в зависимости от новых обстоя-
тельств и времени, то она становится настоящим духовным
опиумом как для государств, так и для сект и для отдельных
людей. Великая Азия, мать всякого просвещения на нашей
населенной планете, много отведала этого сладкого яда и
дала отведать другим. В ней спят великие государства и
секты, как, по преданию, святой Иоанн спит в своем гробу;
он тихо дышит, но он умер уже почти две тысячи лет назад
и дремлет в ожидании, когда придет избавитель, который
разбудит его.
ИСКУССТВО У ГРЕКОВ *
...Народ с подобным складом ума должен был и во вся-
ком житейском искусстве подниматься от необходимого
к прекрасному и привлекательному; и греки довели это почти
до высшей точки во всем, с чем они имели дело. Их религия
252
требовала изображений и храмов, их государственный
строй— памятников и общественных зданий; их климат и
образ жизни, их трудолюбие, любовь к роскоши, тщеславие
и т. д. делали для них необходимыми произведения искусства.
Гений красоты подсказал им эти творения, единственные
в истории человечества, и помог их завершить; и хотя вели-
чайшие чудеса этого рода давно разрушены, мы всё еще вос-
хищаемся и любим их развалины и обломки.
1. То, что религия весьма способствовала развитию искус-
ства у греков, видно из перечня созданных ими художествен-
ных произведений у Павсания, Плиния или в любом сборнике,
в котором говорится об остатках этих произведений; и в этом
есть сходство со всей историей народов и человечества. По-
всюду людям хотелось увидеть предмет своего поклонения,
и там, где это не запрещалось законом или самой религией,
они стремились его представить или изобразить. Даже негри-
тянские народы наглядно воплощают бога своего в фетише,
а о греках известно, что у них в древности изображением
богов служил камень или особым образом отмеченная дере-
вянная колода. Такое убожество не могло удовлетворить
столь трудолюбивый народ; колода превратилась в герму
или статую, а так как нация делилась на множество мелких
племен и народностей, то вполне естественно, что* каждая
из них старалась разукрасить изображение своего домашнего
и племенного божества. Несколько удачных опытов древних
Дедалов и, вероятно, также знакомство с произведениями
искусства соседей пробудили дух соревнования, и вско,ре уже
целый ряд племен и городов могли созерцать своего бога,
величайшую святыню своей местности, в более приемлемом
облике. Древнее искусство вырастало и, так сказать, училось
ходить преимущественно на таких изображениях богов,1
поэтому-то все народы, которым было запрещено изображать
божество, никогда не поднялись сколько-нибудь высоко
в.изобразительном искусстве.
Но поскольку греки познали своих богов через песню и
поэзию, в которых эти боги жили в великолепных образах,
то разве не естественно, что изобразительное искусство
с самых ранних времен было дочерью поэзии и как бы впи-
тывало эти великие образы через ΉeΉиe своей матери? От
поэтов художник узнавал историю богов и в то же время
учился способу их изображения; древнейшее искусство не
гнушалось самых страшных картин именно потому, что их
воспевал поэт.2 С течением времени стали склоняться к более
1 См. Винкельман. История искусства, ч. 1, гл. И; Г е й н е. Испра-
вления и дополнения к этой последней в немецких записках Геттинген-
ского общества, ч. 1, стр. 221 и след.
2 См. Гейне о ларце Кипсела и др.
253
привлекательным образам, потому что сама поэзия станови-
лась более привлекательной; так Гомер стал отцом прекрас-
ного искусства греков, потому что он был отцом их прекрас-
ной поэзии. Он внушил Фидию возвышенную идею его
Юпитера, за которым последовали другие творения этого
ваятеля богов. В соответствии с родством между богами
в рассказах поэтов, в их изображениях тоже стали про-
являться более определенные характеры и даже черты семей-
ного сходства, пока наконец принятая поэтами традиция не
сложилась в целый кодекс образов богов во всем мире
искусства. Ни один народ древности не мог бы иметь искус-
ства греков, если бы у него не было и греческой мифологии
и поэзии и если бы он не пришел к своей культуре теми же
путями, как греки. Другого такого народа в истории не было»
и поэтому греки стоят обособленно со своим гомеровским
искусством.
Всем этим объясняются идеальные творения греческого
искусства, которые родились не из глубокой философии
художников и не из идеального природного телосложения
этой наций, а по причинам, изложенным нами выше. Без со-
мнения, благоприятным обстоятельством было то, что греки
в целом были красивым народом, хотя эту красоту нельзя
распространять на каждого отдельного грека как на идеаль-
ный художественный образ. У них, как и везде, богатая фор-
мами природа не допускала помех тысячекратному изменению
человеческих форм, и, «согласно Гиппократу, среди прекрас-
ных греко-в, как и повсюду, тоже встречались обезобра-
живающие болезни и недостатки. Но даже если и допу-
стить ©се это и принять во внимание всякие счастливые
обстоятельства, при которых художник мог возвысить пре-
красного юношу до Аполлона, а какую-нибудь Фрину или
Лаису — до богини красоты, то все же этим еще не объяс-
няются принятые художниками и возведенные в правило
идеальные образы богов. Голова Юпитера, вероятно,: так же
не могла бы существовать в человеческой природе, как гоме-
ровский Юпитер никогда не жил в нашем реальном мире.
Великий анатомист-рисовалыцик Кампер 1 ясно показал, на
каких вымышленных правилах основывается своими фор-
мами греческий художественный идеал; к этим -правилам
можно было прийти только через описания поэтов >и в целях
благоговейного поклонения. Итак, если вы желаете вызвать
к жизни новую Грецию в изображениях богов, то попытай-
тесь вернуть какому-нибудь народу эти поэтико-мифологи-
ческие суеверия во всей их природной непосредственности,
вместе со всем, что с ними связано. Постранствуйте по Гре-
ции, полюбуйтесь ее храмами и священными рощами, и вы
1 Мелкие работы Кампера, стр. 18 и след.
254
откажетесь даже от мысли пожелать какому-нибудь народу
достигнуть вершин греческого искусства, если этот народ ни-
чего не знает о 'подобной религии, то есть о таком же живом
суеверии, населявшем каждый город, каждое местечко и уго-
лок унаследованными от предков священными обитателями.
2. Сюда же относятся все греческие героические сказания,
в особенности те, которые касались родоначальников пле-
мени; они тоже прошли через душу поэтов и жили, по край-
ней мере отчасти, в вечных песнях; художник, изображавший
этих родоначальников, воссоздавал рассказы о них в духе
этой своеобразной поэтической религии, вызывая у предста-
вителей своего племени радость и гордость своими предками.
Это подтверждает история древнейшего искусства и обзор
художественных произведений греков. Гробницы, щиты,
алтари, священные престолы и храмы хранили память
о предках, и они-то у многих племен и занимали работающих
художников с древнейших времен. Все воинственные народы
в мире разрисовывали и украшали свои щиты; греки пошли
дальше: они вырезали, отливали и изображали на них вос-
поминания о своих отцах. Отсюда ранние упоминания о рабо-
тах Вулкана у очень древних поэтов; отсюда у Гесиода* щит
Геркулеса с подвигами Персея. Наряду со щитами, изобра-
жения такого рода делались на алтарях греков или на дру-
гих семейных памятниках, как показывает ларец Кипсела, *
фигуры которого были вполне во вкусе Гесиодова щита.
Барельефы такого содержания создавались еще со времен
Дедала, а так как многие храмы богов были первоначально
надгробными -памятниками,.1 то в них так тесно сближалась
память о предках, героях и богах, что она почти сливалась
в одно общее поклонение и, во всяком случае, в один общий
стимул для искусства. Отсюда изображение древней истории
героев на одежде богов, по сторонам тронов и алтарей; от-
сюда и памятники усопшим на рыночных площадях в городах
или гермы * и колонны на гробницах. Добавим еще бессчет-
ное количество произведений искусства, приносимых в дар
храмам богов от семей, родов или частных лиц в память или
во исполнение благодарственного обета и, согласно приня-
тому обычаю, часто украшенных эпизодами из истории рода
или героев; какой другой народ мог бы похвалиться таким
мощным рычагом для развития разнообразнейшего искус-
ства? Наши картинные галереи с портретами забытых пред-
ков по сравнению с этим просто ничто, тогда как Греция
была полна сказаний и песен и священных мест, связанных
с ее божественными и героическими предками. Все было
1 Как, например, храм Паллады в Ларисе был надгробным памят-
ником Акризию, храм Минервы Полиады в Афинах — Эрихтонию, Амик-
лейский трон *■—Гиацинту и т. д.
255
проникнуто смелой идеей, что боги — это родственные им, но
более совершенные люди, а герои — как бы младшие боги;
и это представление было 'создано их поэтами.
К такой родовой и отечественной славе, содействовавшей
искусству, я причисляю также греческие игры. Они были
учреждены героями и в то же время служили празднествами
в их память, то есть они были одновременно религиозными
обрядами и полезными как для искусства, так и для поэзии
обычаями. Не только потому, что юноши, часто обнаженные,
упражнялись в разного рода состязаниях и1 в ловкости1 и при
этом становились живыми моделями для художника; но
больше потому, что благодаря этим упражнениям их тело
становилось способно к прекрасному подражанию и эти
юношеские победы поддерживали в них деятельную память
о семейной, родовой и героической славе. Из Пиндара и из
истории мы знаем, как высоко ценились победы такого рода
по всей Греции и с каким ревностным пылом их добивались.
Весь город победителя становился знаменит; боги и герои
древности нисходили к роду победителя. На этом основана
экономика од Пиндара — произведений искусства, ценность
которых он поднял выше ценности статуй. На этом основыва-
лась и честь надгробного памятника или статуи, которые по-
бедитель имел право получить (по большей части только
в идеале). Благодаря такому удачному соревнованию с пред-
ками-героями, он как бы сам становился богом и возвышался
над людьми. Где теперь возможны подобные игры с подоб-
ным значением и с такими результатами?
3. Государственный строй у греков также содействовал
развитию искусства —не столько потому, что это были рес-
публики, сколько потому, что эти республики нуждались в
художниках для больших работ. Греция была разделена на
множество государств, и независимо от того, управлялись ли
они царями или архо'нтами, * искусство всегда находило в них
пропитание. Их цари тоже были греками, и потребность
в искусстве, вытекавшая из религии или родовых преданий,
была и их потребностью; часто они были даже верховными
жрецами. Поэтому с древних времен главное убранство их
дворцов составляли ценности, принесенные в дар их сороди-
чами или дружественными им героями, как о том рассказы-
вает еще Гомер. Однако республиканский образ правления,
который с течением времени повсюду утвердился в Греции,
значительно расширил область применения искусства.
В жизни общины оказались необходимыми постройки для на-
родных собраний, для государственного казначейства, для
совместных упражнений и увеселений; так, например, воз-
никли в Афинах роскошные гимназии, театры и галереи,
Одеон и Пританей, Пникс и др. Поскольку в греческих рес-
публиках все совершалось от имени народа или города,
256
то никакие раеходы богов-покровителей или на возвеличение
их имен не казались чрезмерными; отдельные же граждане,
даже самые знатные, довольствовались более скромными жи-
лищами. Это общее стремление делать все для целого, хотя бы
только по видимости, было душой греческих государств; его,
без сомнения, имел в виду Винкельман, когда он восхвалял
свободу греческих республик как золотой век искусства;*
роскошь и величие не были распределены в них так, как
в новейшие времена, но сосредоточивались в том, что имело
отношение к государству. Подобными идеями о славе Перикл
льстил народу и сделал для искусства больше, чем сделали
бы десять афинских царей. Все, что он строил, было в высо-
ком стиле, потому нто оно принадлежало богам и вечному
городу; и, несомненно, немногие греческие города и острова
воздвигли бы подобные здания, создали бы подобные тво-
рения искусства, если бы они ие были отдельными друг от
друга, состязающимися в славе реапубликами. А поскольку,
кроме того, в демократических республиках вождь народа
должен был угождать народу, то мог ли он выбрать более
удачное применение расходов, чем то, которое наряду с убла-
готворением богов-покровителей бросалось в глаза народу и
кормило множество людей?
Никто не сомневается в том, что эти расходы имели и
такие последствия, которые человечество предпочитает оста-
влять в тени. Жестокость, с которой афиняне расправлялись
с побежденными и даже своими колониями, грабежи и
войны, в которых 'непрерывно принимали участие государства
Греции, тяжелые повинности, которые должны были выпол-
нять для государства даже его собственные граждане, и еще
многое другое — все это делает греческие государства не
слишком привлекательными; но даже эти тяготы служили
общественному искусству. Храмы были обычно сзященны и
для врагов; но при превратностях судьбы и разрушенные не-
приятелем храмы восставали из пепла еще более прекрас-
ными. После победы над персами за счет их ограбления были
выстроены еще более прекрасные Афины, и почти при всех
удачных войнах из той части добычи, которая доставалась
государству, кое-что уделялось тому или иному искусству.
Даже в более поздние времена, несмотря на все разрушения,
произведенные римлянами, Афины благодаря статуям и зда-
ниям все еще поддерживали славу своего имени; многие им-
ператоры, цари, герои и богатые частные лица стремились
сохранить и украсить город, который они признавали ма-
терью хорошего вкуса. Поэтому мы видим, что греческое
искусство не умерло и под македонским владычеством,
а лишь переменило свое место. И в чужих краях греческие
цари оставались греками и любили греческое искусство. Так,
Александр и некоторые его преемники построили в Африке
17 Зак, 291. Гер дер 257
и Азии великолепные города; Рим и другие народы тоже учи-
лись у греков, когда 'пора искусства на их родине уже мино-
вала; ибо .повсюду на земле было только одно греческое
искусство и архитектура.
4. Наконец, и природные условия Греции благоприятство-
вали изящным искусствам — не столько телосложением са-
мих людей, которое больше зависит от племенных особенно-
стей, чем от климата, сколько местоположением, удобным
для добывания материалов искусства и для установки худо-
жественных произведений. В их распоряжении был прекрас-
ный паросский и другие сорта мрамора, которые имелись
в стране; слоновую кость, бронзу и все, в чем они еще нужда-
лись для искусства, предоставляла им торговля, в центре ко-
торой они находились. Эта торговля до некоторой степени
шла навстречу зарождению у них искусства, поскольку они
могли получать из Малой Азии, Финикии и других стран та-
кие драгоценные предметы, которых они сами еще не умели
вырабатывать. Таким образом, зачатки их художественных
дарований были рано вызваны к жизни, и это еще потому,
что их близость к Малой Азии, их колонии в Великой Гре-
ции * и т. д. пробуждали в них вкус к роскоши и довольству,
который не мог не содействовать искусству. Живой характер
греков был далек от того, чтобы тратить свой труд на бес-
полезные пирамиды; отдельные небольшие города и государ-
ства никогда и не могли бы впасть в такое чудовищное рас-
точительство. Даже в наиболее грандиозных своих творениях,
за исключением, может быть, одного лишь колосса на острове
Родос,* они соблюдали прекрасную меру, в которой величие
сочетается с изяществом. Этому также немало способство-
вало их лучезарное небо, под которым всегда находилось
место для стольких непокрытых статуй, алтарей и храмов,
в особенности же для прекрасной колонны, которая могла
стоять под ним в своей стройной прелести вместо мертвой
северной стены как образец пропорции, правильности и про-
стоты.
Если объединить все эти обстоятельства, то станет ясно,
почему в Ионии, Греции и Сицилии мог и в искусстве про-
явиться тот легкий и точный характер, которым отмечены
у греков все создания художественного вкуса. С помощью
одних правил его невозможно усвоить; но он проявляется
в соблюдении правил, и хотя он был первоначально вдохно-
вением счастливого гения, все же путем длительного упраж-
нения можно было превратить его в ремесло. Даже самый
плохой греческий художник — грек по своей манере; мы мо-
жем его превзойти; но мы никогда не достигнем прирожден-
ного своеобразия греческого искусства: дух этих времен уже
прошел.
25$
ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ О СУДЬБЕ РИМА
И О ЕГО ИСТОРИИ *
Рассуждения о том, что больше 'содействовало величию
Рима, — его доблесть или удача, — издавна были одним из
любимых занятий политической философии. Еще Плутарх и
некоторые греческие и римские писатели высказывали об
этом свое мнение, а в новые времена эта проблема занимала
почти каждого мыслителя, задумывавшегося над историей.
Плутарх, отдавая должное римской доблести, приписывает
решающую роль удаче; однако в этом исследовании, как и
в других своих сочинениях, он выступает как цветисто кра-
сноречивый, обаятельный грек, а не как мыслитель, пол-
ностью освещающий свою тему. Напротив, большинство рим-
лян приписывали все своей храбрости, а более поздние фило-
софы вообразили себе целый мудрый план, по которому
будто бы был заложен фундамент римского могущества, на-
чиная от закладки первого камня вплоть до широчайшего
распространения власти Рима. Между тем история ясно
показывает, что ни одна из этих систем не является правиль-
ной в своей исключительности, но что все они правильны,
если рассматривать их во взаимосвязи. Доблесть, удача и
мудрость должны были объединиться, чтобы создать то, что
было создано, и со времен Ромула мы видим союз этих трех
богинь на благо Рима. Если мы, по примеру древних, назо-
вем всю совокупность живых причин и следствий природой
или удачей, то в это понятие удачи, управляющей всем, вхо-
дит как доблесть и даже суровая жестокость римлян, так и
их ум и коварство. Исследование останется неполным, если
остановиться только на одном из этих свойств, забыв за
всеми достоинствами римлян их недостатки и пороки, за
внутренним смыслом их . деяний— внешние сопутствующие
обстоятельства, и, наконец, за их твердым и большим воен-
ным умом — те случайности, которые ум этот так часто и так
удачно использовал. Гуси, спасшие Капитолий, * были такими
же богами — покровителями Рима, как и мужество Камилла,
нерешительность Фабия или их Юпитер Статор. В мире при-
роды тесно связано все, что действует совместно и взаимно,
создавая, сохраняя или разрушая; в мире истории — то же
самое.
Какое приятное упражнение для ума — время от времени
задавать себе вопрос, что могло случиться с Римом при дру-
гих обстоятельствах, например если бы он был расположен
в другом месте, если бы его рано переместили в Вейн, если
бы Бренн взошел на Капитолий, Италия была побеждена
Александром, Рим захвачен Ганнибалом или был бы выпол-
нен совет, который он дал Антиоху. * С тем же успехом
можно спросить, как вместо Августа правил бы Цезарь,
17* 259
вместо Тиберия — Германии, какое устройство имел бы мир,
если бы не получило распространения христианство, и т. д.
Всякое подобное исследование приводит нас к такому тес-
ному сцеплению обстоятельств, что в конце концов начи-
наешь, по примеру восточных народов, рассматривать Рим
как какое-то живое существо, которое только в данных усло-
виях могло подняться на берегах Тибра словно со дна мор-
ского, постепенно вступить в борьбу на суше и на воде со
всеми народами этой части земного шара, поработить и пода-
вить их и, наконец, найти в самом себе пределы своей славы
и источник собственного разложения, как это и случилось на
самом деле. При таком подходе из истории исчезает всякий
бессмысленный произвол. В ней, как и в каждом явлении
мира природы, случайно или произвольно либо все, либо ни-
чего. Каждый исторический факт становится явлением при-
роды, и для человека он особенно достоин внимания, потому
что при этом так много зависит от него самого; и даже в том,
что находится за пределами сил человека, в непреодолимой
власти обстоятельств времени, — в порабощенной Греции,
Карфагене и Нумансии, в убийстве Сертория, Спартака и Ви-
риата, в гибели второго Помпея, Друза, Германика, Брита-
ника и др. он обнаруживает полезное зерно, хотя и в горькой
скорлупе. Это — единственный философский способ изучения
истории; ему следовали все мыслящие умы, хотя бы бес-
сознательно.
Ничто сильнее не противоречит такому беспристрастному
обсуждению, чем попытка приписать даже кровавой римской
истории некий определенный тайный замысел провидения:
например, 'будто Рим достиг такой высоты главным образом
для того, чтобы породить ораторов и поэтов, распространить
римское право и латинский язык до границ своего государ-
ства и расчистить все дороги для введения христианской ре-
лигии. Все знают, какие страшные бедствия угнетали Рим и
окружающий его мир, прежде чем могли появиться эти поэты
и ораторы; например, как дорого обошлась Сицилии речь
Цицерона против Верреса, как дорого обошлись Риму и ему
самому его речи против Каталины, его выпады против Анто-
ния и т. д. * Значит, чтобы спасти одну жемчужину, целый
корабль должен был пойти ко дну, и тысячи живых существ
погибли только для того, чтобы на их пепле выросло
несколько цветов, которые тоже будут развеяны ветром!
Чтобы окупить «Энеиду» Вергилия, мирную музу Горация и
его изящные эпистолы, должны были сперва пролиться по-
токи римской крови и должны были быть порабощены бес-
численные народы и государства; но были ли эти прекрасные
плоды вымученного «золотого века» * достойны такой цены?
Точно так же обстоит дело и с римским правом: кому не
известно, какие бедствия терпели из-за него народы, как
260
много более человечных учреждений уничтожено им в самых
различных странах? Чужие (народы подвергались суду со-
гласно обычаям, которых они -не знали; они знакомились
с пороками и с наказаниями за «их, о которых никогда не
слышали; и, наконец, все развитие этого законодательства,
пригодного только для римского государства, разве оно после
■множества насилий не исказило характер всех побежденных
наций до такой степени, что вместо их индивидуального
своеобразия в конце концов повсюду оказался один лишь
римский орел, который, выклевав у провинций глаза и по-
жрав их внутренности, прикрывал их скорбные трупы своими
слабыми крыльями? Так же и латинский язык ничего не при-
обрел от побежденных народов, и они ничего не приобрели
от него. Он подвергся порче и оз конце концов превратился
в романскую смесь, не только в провинциях, но и в са.мом
Риме. Благодаря ему и прекрасный греческий язык тоже
утратил свою чистую красоту, а те наречия многочисленных
народов, которые и для них и для нас были бы гораздо по-
лезнее испорченного римского языка, исчезли, не оставив и
следа. Что же касается христианской религии, то хотя1 я 'пре-
клоняюсь перед теми исключительньши благодеяниями, ко-
торые она принесла человечеству, однако я далек от мысли,
что хотя бы один придорожный камень в Риме был перво-
начально поставлен людьми для нее. Не ради нее Ромул
основал свой город, Помпеи и Красе не ради нее прошли .по
Иудее, и все римские 'порядки в Европе и Азии были устано-
влены отнюдь не для того, чтобы повсюду расчистить ей путь.
Рим принял христианскую религию точно так же, как прини-
мал в свое время культ Исиды и любое другое темное суеве-
рие восточного мира. Было бы даже недостойно бога, если
бы мы вообразили, что провидение не сумело выбрать для
самого прекрасного своего деяния, для насаждения истины и
добродетели, иного орудия, чем тиранические кровавые руки
римлян. Христианская религия возвысилась собственными
силами, так же как собственными силами выросла и Римская
империя, и если обе впоследствии сочетались, то от этого не
выиграла ни та, ни другая. Возник римоко-христианский ублю-
док, и многие желали бы, чтобы он никогда не появлялся.
Философия конечных целей * не принесла естественной
истории никакой пользы; напротив, она лишь питала своих
сторонников обманчивыми иллюзиями вместо научного иссле-
дования; насколько больше дает история человечества с ее
сложным переплетением тысячи целей!
Приходится отказаться и от мнения, будто в последова-
тельной смене эпох римляне существовали лишь для того,
чтобы образовать над греками на созданной человеком
картине более совершенное звено в цепи культуры. В том,
что было у греков превосходного, римляне никогда не могли
261
их превзойти; и наоборот, тому, что было присуще им самим,
они научились не у греков. Они использовали опыт всех на-
родов, с которыми имели дело, вплоть до индийцев и трогло-
дитов; ΉΟ использовали его как римляне, и нередко возни-
кает вопрос, пошло ли им это на пользу или во вред? Так же
как все другие народы существовали не ради римлян и не
для них создали свои порядки за несколько столетий до
того, — так же нельзя сказать этого о греках. Афины, как и
греческие колонии в Италии, издавали законы для себя, а не
для них, и если бы Афин не существовало, то римляне могли
бы отправиться за скрижалями законов к скифам. Кроме
того, греческие законы во многих отношениях были совер-
шеннее римских, а между тем недостатки последних распро-
странились на гораздо большую территорию. Если кое-где
они становились человечнее, то это делалось на римский лад,
потому что было бы неестественно, чтобы победители столь-
ких культурных наций не усвоили хотя бы видимость чело-
вечности, которой они так часто обманывали народы.
Итак, остается еще только одна возможность: будто про-
видение воздвигло римское государство и латинский язык как
некий мост, по которому до нас могло бы дойти хоть что-ни-
будь из сокровищ прошлого. Но в таком случае этот мост
был наихудшим из всех возможных, ибо именно его создание
лишило нас большей части этих сокровищ. Римляне разру-
шали и были разрушены; разрушители же не могут быть
теми, кто сохраняет. Они сеяли среди народов войну и раз-
доры, пока сами не стали их жертвой, и провидение не совер-
шило ради них никакого чуда. Будем же рассматривать это
явление как и всякое другое явление природы, 'причины и
следствия которого мы хотели бы свободно исследовать, не
подсовывая ему никакого провиденциального плана. Римляне
были и стали тем, чем они могли стать. В них погибло или
сохранилось все то, что могло погибнуть или сохраниться.
Время мчится вперед, а вместе с ним и дитя времени, мно-
голикое человечество. На земле цвело все, что могло цвести,
все в свое время и в своем круге; оно отцвело и снова рас-
цветает, когда придет его время. Дело провидения продол-
жает свой вечный путь по общим великим законам; к рас-
смотрению этого мы теперь и приближаемся скромными
шагами.
ФИННЫ, ЛАТЫШИ И ПРУССЫ ·
Финский народ (который сам, однако,* не знает этого назва-
ния, именуя себя «суоми», как одна из его ветвей также не
знает присвоенного ему названия — «лапландцы») еще те-
перь населяет крайний север Европы и берега Балтийского
262
моря, вплоть до Азии; в прежние времена он, вероятно, рас-
пространялся еще и дальше на юг и на восток. Кроме лап-
ландцев и финнов, к нему принадлежат в Европе ингры, *
эстонцы и ливы; далее, ему родственны зыряне, пермяки, во-
гулы, вотяки, черемисы, мордвины, кондские остяки и др.;
венгры, или мадьяры, тоже принадлежат к этой группе, что
видно из сравнения их языков. Неясно, насколько далеко
к югу распространялись некогда лапландцы и финны в Нор-
вегии и Швеции; несомненно одно — что они оттеснялись
скандинавскими германцами все дальше к северной окраине,
которую они занимают и теперь. У Балтийского и Белого мо-
рей их племена были, по-видимому, наиболее активны; там,
наряду с кое-какой меновой торговлей, они занимались и
морским разбоем; в Перми, или Биармии, их идолу Юмале
был воздвигнут варварски роскошный храм; сюда охотно
стекались северонемецкие искатели приключений менять, гра-
бить и. собирать дань. Но нигде эти народности не сумели
достигнуть зрелости самостоятельной культуры, в чем ви-
новны, вероятно, не их способности, а неблагоприятное место-
положение. Они не были воинами, как германцы, ибо даже
теперь, после долгих веков порабощения, все народные пре-
дания и песни лапландцев, финнов и эстонцев свидетель-
ствуют, что это миролюбивый народ. А так как, кроме того,
их племена обычно не поддерживали связи между собой,
а многие из них не имели никакого государственного устрой-
ства, то при вторжении других народов не могло не слу-
читься то, что случилось, а именно, что лапландцы были
оттеснены к Северному полюсу, финны, ингры, эстонцы и др.
подпали под иго рабства, а ливы были почти полностью
истреблены. Вообще судьба прибалтийских народов соста-
вляет печальную страницу в истории человечества.
Единственный народ этой группы, который проник в ряды
завоевателей, — это венгры, или мадьяры. Вероятно, они
сперва жили в стране башкир между Волгой и Яиком; * по-
том они основали между Черным морем и Волгой венгерское
королевство, которое распалось на части. Затем они подпали
под власть хозар, были расколоты на две части печенегами:
одна из них основала на персидской границе мадьярское го-
сударство, а другая двинулась семью ордами в Европу, ведя
ожесточенные войны с болгарами. Когда последние оттес-
нили их дальше, император Арнульф повел их против мора-
вов; тогда они ринулись из Паннонии в Моравию, Баварию,
Северную Италию, производя там страшные опустошения.
С огнем и мечом прошли они через Тюрингию, Саксонию,
Гессен, Швабию, Франконию и Эльзас до самой Франции, и
снова в глубь Италии, заставили германского императора
платить им позорную дань, пока наконец, благодаря чуме,
а отчасти жестоким поражениям их войска в Саксонии,
263
Швабии, Вестфалии, Германская империя оказалась от них
в 'безо'пасности и даже сама их Венгрия стала католическим
государством. Там, среди славян, немцев, валахов и других
народов, они составляют теперь незначительную часть насе-
ления, и, может быть, через несколько столетий от их языка
уже почти не останется следа.
Происхождение литовцев, куров и латышей на Балтий-
ском море в точности неизвестно; но, по всей вероятности,
они были тоже оттеснены туда, пока их уже некуда было
больше теснить. Несмотря на смешение их языка с другими,
он сохранил своеобразный характер; вероятно, это дитя очень
древней матери, быть может происходившей из дальних
стран. Зажатое между германских, славянских и финских
народностей, мирное латышское племя никуда не могло рас-
пространиться и тем более не могло развивать свою куль-
туру; в конечном счете, подобно своим соседям пруссам, оно
примечательно главным образом теми актами насилия, ко-
торые совершали над всеми этими прибрежными жителями,
с одной стороны, недавно обращенные в христианство по-
ляки, с другой — рыцари Тевтонского ордена и те, кто ему
помогал. Человечество содрогается от зрелища крови, кото-
рая проливалась здесь в долгих свирепых войнах, пока древ-
ние пруссы не были почти совсем истреблены, а куры и ла-
тыши обращены в рабство, под игом которого они томятся и
поныне. Пройдут, быть может, века, пока оно будет снято
с них, и для того, чтобы вознаградить их за ту отвратитель-
ную жестокость, с которой у этих мирных народов отнимали
их земли и свободу, им дадут из человеколюбия новую, луч-
шую свободу, чтобы они самостоятельно пользовались и рас-
полагали ею.
Мы надолго остановились на народах, вытесненных, по-
рабощенных или истребленных; познакомимся теперь с теми,
кто их вытеснил и истребил.
ГЕРМАНСКИЕ НАРОДЫ*
...Нельзя приписывать всем этим народам одинаковые
нравы или одинаковую культуру; их различное отношение
к побежденным нациям доказывает обратное. Дикие саксы
в Британии, бродячие аланы * и свевы в Испании вели себя
иначе, чем остготы в Италии или бургунды в Галлии. Пле-
мена, долгое время жившие к западу или к югу от римских
границ, рядом с колониями и торговыми центрами, были
мягче и восприимчивее, чем пришедшие из северных лесов
или с пустынных берегов; поэтому было бы слишком боль-
шой самонадеянностью, если бы, например, любая герман-
ская орда вздумала присваивать себе мифологию скандинав^
264
ских готов. Куда только не проникали эти готы и какими раз-
нообразными путями не развивалась впоследствии эта мифо-
логия! На долю отважного прагерманца, быть может, не
остается ничего, кроме его Теута или Туисто, Манна, Эрды *
и Вотана, то есть отца, героя, земли и военачальника.
Между тем мы можем, по крайней мере, братски радо-
ваться той далекой сокровищнице германской мифологии, ко-
торая сохранилась или была собрана на краю обитаемого
мира, в Исландии, и, очевидно, была обогащена сказаниями
норманнов и христианских ученых: я имею в виду северную
Эдду. Как собрание древнейших свидетельств о языке и об-
разе мыслей одного из германских племен, она в высшей сте-
пени примечательна и для нас. Сравнение мифологии этих
северян с греческой может оказаться поучительным или бес-
полезным, смотря по тому, как к этому подходить; но на-
прасно было бы ожидать среди этих скальдов Гомера или
Оссиана. Разве земля всюду производит одинаковые плоды?
И разве благороднейшие плоды этого рода не являются ре-
зультатом долго подготовлявшегося редкого стечения обстоя-
тельств в жизни народов и эпох? Будем же ценить в этих
песнях и сагах то, что мы в них находим, — своеобразный
дух суровой и смелой поэзии, сильные, чистые и искренние
чувства вместе с искусным использованием самого ядра на-
шего языка. Скажем же спасибо каждому, кто заботливой
рукой сохраняет и приносит нам эти национальные сокро-
вища, содействуя тем самым более широкому или лучшему
их использованию. Среди славных имен тех, кто содействовал
этом^ в прежние и новейшие времена, я с благодарностью и
уважением называю для истории человечества имя нашего
современника Зума. Именно он показал нам в новом блеске
это прекрасное северное сияние из Исландии; сам он и дру-
гие стараются ввести его в кругозор наших знаний для более
правильного использования. К сожалению, мы, немцы, не-
многое можем предъявить из древних сокровищ нашего
языка: песни наших бардов утрачены; *на древнем дубе на-
шего героического языка красуются, за немногими исключе-
ниями, лишь очень молодые цветы.
После того как германские племена приняли христиан-
ство, они сражались за него, как за своих королей и за свою
знать, и эту истиндую воинскую верность в полной мере
испытали на себе, кроме их собственных племен — алеманнов,
тюрингов, баваров и саксов, — бедные славяне, пруссы, куры,
ливы и эсты. К чести их надо сказать, что и против варваров,
вторгшихся позднее, они стояли живою стеной, о которую
разбилась неистовая ярость гуннов, венгров, монголов и ту-
рок. Они не только завоевали, обработали и устроили на
свой лад большую часть Европы, но и защищали и заслоняли
ее; иначе на ней не могло бы вырасти и то, что выросло.
265
Их положение среди других народов, их военный союз и. на-
циональный характер стали фундаментом культуры, свободы
и безопасности Европы; но не явились ли они в то же время
по своему политическому строю одной из причин замедлен-
ного развития этой культуры? На это ответит беспристраст-
ный свидетель — история.
СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ *
Славянские народы занимают на земле больше места, чем
в истории, отчасти «потому, что они были более отдалены от
римлян. Мы видим их сперва на Дону, позднее на Дунае, там
среди готов, здесь среди гуннов и болгар, вместе с которыми
они нередко тревожили Римскую империю, однако большей
частью только как увлекаемые ими, помогающие или служа-
щие им народы. Несмотря на отдельные совершенные ими
подвиги, славяне никогда не были предприимчивым и воин-
ственным народом, как германцы; напротив, они мирно сле-
довали за германцами, занимая покинутые теми места и
ззмли, пока в их владении не оказалась огромная террито-
рия, простирающаяся от До(на до Эльбы, от Балтийского до
Адриатического моря. Начиная от Люнебурга через Меклен-
бург, Померанию, Бранденбург, Саксонию, Лузацию, Богемию,
Моравию, Силезию, Польшу, Россию тянулись обитаемые
ими места оо эту сторону Карпатских гор, а по ту сторо-ну,
где они уже рано осели, в Валахии и Молдавии, в ре-
зультате ряда случайностей они распространялись все дальше
и дальше, пока император Ираклий не впустил их в Далма-
цию, и они основали с течением времени королевства Славо*
нию, Боснию, Сербию, Далмацию. В Паннонии они были
столь же многочисленны; из Фриуля они проникли и в юго-
восточный угол Германии, так что их область замыкалась
Штирией, Каринтией, Крайной; самое огромное пространство
в Европе, какое и теперь населяет в основном один народ.
Повсюду они оседали, овладевая землей, покинутой другими
народами, обрабатывая и используя ее как колонисты, ско-
товоды или земледельцы; и после предшествующих опусто-
шений, переселений и походов их бесшумное, трудолюбивое
присутствие было благотворно для этих земель. Они любили
сельское хозяйство, запасы скота и зерна, а также разные
домашние ремесла и всюду заводили полезную торговлю
плодами своей земли и своего труда. Вдоль Балтийского
моря, начиная от Любека, они построили приморские города,
среди которых Винета * на острове Рюгене была славянским
Амстердамом; они поддерживали связи с пруссами, курами
и латышами, что видно из языков этих народов. На Днепре
они построили Киев, на Волхове Новгород, которые вскоре
266
стали цветущими торговыми городами, соединившими Черное
море с Балтийским и поставлявшими товары Востока Север-
ной и Западной Европе. В Германий они занимались горным
делом, были знакомы с плавкой и литьем металлов, добывали
соль, ткали холст, варили мед, сажали плодовые деревья и
вели, по своему обычаю, радостную, музыкальную жизнь.
Они были щедрыми, гостеприимными до расточительности,
любителями сельской свободы, но в то же время легко подчи-
няющимися и покорными, врагами грабежа и разбоя. Все это
не оградило их от порабощения; напротив, способствовало
ему. Ибо поскольку они никогда не претендовали на мировое
господство, не имели в своей среде воинственных наследствен-
ных князей и предпочитали платить дань, лишь бы спокойно
жить на своей земле, то некоторые народы, и более всего из
числа германских, очень тяжело ■провинились перед ними.
Еще при Карле Великом начались те завоевательные
войны, целью которых явно были торговые выгоды, хотя они
и велись якобы во имя христианской религии; героическим
франкам было, конечно, удобно использовать в качестве ра-
ботников трудолюбивый народ, занимающийся сельским хо-
зяйством и торговлей, вместо того чтобы самим учиться этим
искусствам и заниматься ими. Начатое франками довершили
саксы; в целых провинциях славяне, были истреблены или
превращены в крепостных, а их земли поделены между епи-
скопами и дворянами. Их торговлю на Балтийском море раз-
рушили северные германцы; их Винету постиг печальный ко-
нец благодаря датчанам, а остатки их в Германии испытали
судьбу, которую уготовили испанцы жителям Перу. Удиви-
тельно ли, что после стольких веков тягчайшего гнета и оже-
сточения этого народа против его христианских господ и гра-
бителей их мягкий характер опустился до коварной, жестокой
и рабской пассивности? И, тем не менее, всюду, в особен-
ности же в тех странах, где они пользуются некоторой сво-
бодой, они еще сохраняют свой прежний нрав. Этот народ
стал несчастным потому, что, при своей склонности к покою
и к домашнему труду, он не сумел создать себе постоянную
военную организацию, хотя он проявил достаточно мужества
в минуты яростного сопротивления. Несчастье его заключа-
лось в том, что среди народов земного шара он оказался,
с одной стороны, рядом с германцами, с другой стороны —
его тыл не был защищен от нападения восточных татар; от
них, и даже от монголов, ему пришлось много страдать и
многое вытерпеть. Между тем колесо все изменяющего вре-
мени катится неудержимо. Народы же эти населяют преиму-
щественно такие места, которые были бы самыми прекрас-
ными в Европе, если бы они были полностью возделаны
и участвовали в торговле. А так как необходимо думать,
что законодательство и политика в Европе должны будут
267
все больше поощрять не воинственный пыл, а мирный труд
и спокойное общение между народами, то и вы, столь «из-ко
опустившиеся народы, некогда деятельные и счастливые, про-
будитесь тогда наконец от долгого праздного сна, освобо^
дитесь от цепей рабства и сможете пользоваться как своей
собственностью вашими прекрасными землями от Адриати-
ческого моря до· Карпатских гор, от Дона до Мульды и1 спра-
влять на них ваши старинные празднества мирного труда и
торговли!
Мы уже располагаем из разных источников интересными
и полезными данными по истории этих народов; следует по-
желать, чтобы пробелы в них были заполнены, чтобы со-
браны были постепенно исчезающие остатки их обычаев, пе-
сен и преданий и чтобы мы, наконец, получили историю этих
народов в целом, как того требует общая картина челове-
чества.
ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ *
...То, что исконные обитатели этой части света оказались
в настоящее время вытесненными в горы или на самые даль-
ние берега и окраины, — представляет явление, примеры ко-
торого можно найти во всех 'странах света вплоть до остро-
вов Азиатского моря. Во многих из них свой, обычно
более дикий, народ живет в горах; вероятно, это древнейшие
жители, которые были вынуждены уступить место более мо-
лодым и смелым пришельцам. Могло ли быть иначе в Европе,
где народы более, чем где-либо, теснили и изгоняли друг
друга? Список их сводится к немногим главным именам, и,
как это ни странно, в самых различных местностях мы встре-
чаем бок о бок одни и те же народности, по-видимому следо-
вавшие друг за другом. Так, кимвры шли за галлами, гер-
манцы за теми и другими, славяне за германцами, занимая
их земли. Подобно пластам земли в нашей почве, чередуются
в нашей части света пласты народностей, часто вперемешку,
но еще различимые в исходном своем положении. Исследова-
телям их нравов и языков следует использовать то время,
пока они еще отличаются друг от друга; ведь в Европе все
клонится к постепенному стиранию национальных особенно-
стей. Но только пусть при этом история человечества осте-
режется избрать один какой-либо народ своим исключитель-
ным любимцем, принижая этим другие, которым обстоятель-
ства отказали в счастье и славе. И от славян германцы
кое-чему научились; .кимвр или латыш мог -бы стать греком,
если бы он занимал другое положение среди народов. Мы мо-
жем радоваться, что римские владения заняли не гунны ил'И
булгары, а народы с такой сильной, прекрасной, благородной
внешностью, с такими целомудренными нравами, трезвым
268
умом и честным характером, какими были германцы. Но счи-
тать их из-за этого избранным народом божьим в Европе,
которому вследствие его прирожденного благородства будто
бы принадлежит мир и которому из-за этого преимущества
предназначены служить другие народы, — это было бы не-
благородной гордыней варвара. Варвар подчиняет; просве-
щенный победитель просвещает...
ГУМАННОСТЬ — ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ,
И ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ БОГ ПЕРЕДАЛ В НАШИ РУКИ
НАШУ СОБСТВЕННУЮ СУДЬБУ *
'Цель всякого предмета, если он не является просто мерт-
вым средством, должна быть заложена в нем самом. Предпо-
ложим, что мы созданы для того, чтобы, подобно магнитной
стрелке, всегда поворачивающейся к северу, вечно стремиться
в тщетном усилии к точке совершенства, лежащей вне нас,
которой нам никогда не достигнуть; тогда мы могли бы по-
жалеть, как слепую машину, не только себя, но и то суще-
ство, которое обрекло нас на участь Тантала, создав нас
исключительно для своего собственного злорадного, небо-
жественного развлечения. Если бы мы и захотели сказать
в его оправдание, что эти пустые усилия, никогда не дости-
гающие цели, создают кое-что хорошее, поддерживая в нас
вечную активность, то существо, заслуживающее подобного
оправдания, все же оставалось бы несовершенным и жесто-
ким. Ибо в активности, не достигающей цели, нет ничего
хорошего, и, поддерживая в нас иллюзию подобной цели, это
существо, по причине своей злобы или бессилия, обманывало
бы нас самым недостойным образом. Но, к счастью, природа
вещей не учит нас этой иллюзии; если мы будем рассматри-
вать человечество таким, каким мы его знаем, по законам,
которые в нем заложены, то мы не увидим в человеке ничего
более высокого, чем гуманность: ведь даже ангелов или бо-
гов мы представляем себе только как идеальных, высших
людей.
Наша природа, как мы видели, явно организована для
этой цели; для нее даны нам наши обостренные чувства и
инстинкты, наш разум и свобода, наше хрупкое и, вместе
с тем, длительное здоровье, наш язык, искусство и религия.
Во всех состояниях и обществах человек не мог иметь в виду
создать и не создал ничего иного, кроме гуманности, как
бы он ее ни понимал. Во имя этого природа так организо-
вала нас в зависимости от пола и возраста, чтобы наше дет-
ство продолжалось дольше и чтобы только при помощи вос-
питания мы могли учиться гуманности в том или другом из
ее проявлений. Во имя этого существуют на обширном
269
земном шаре всевозможные различия в образе жизни людей*
все типы общества. Будь он охотник или рыболов, пастух или
земледелец, или горожанин, в каждом общественном поло-
жении человек учился различать средства пропитания, соору-
жать жилища для себя и своей семьи; он учился превращать
одежду в украшение для обоих полов и вносить порядок
в свой домашний быт. Он изобрел разнообразные законы и
формы правления, которые все ставили себе целью, чтобы
каждый, не опасаясь нападения другого, мог развивать свои
силы и добиваться более прекрасного, более свободного на-
слаждения жизнью. Во имя этого обеспечивалась собствен-
ность и облегчались работа, искусство, торговля, общение
между людьми; были введены наказания для преступников,
награды для достойнейших, а также тысячи нравственных
правил для разных положений в общественной и домашней
жизни и даже в религии. Наконец, во имя этого велись
войны, заключались договоры, постепенно образовалось не-
что вроде военного и международного права, наряду с мно-
гочисленными узами гостеприимства и торговли, чтобы и за
пределами отечества человека берегли и уважали. Итак, все
то хорошее, что когда-либо было сделано в истории, дела-
лось во имя гуманности, а все неразумное, порочное и отвра-
тительное, совершавшееся в ней, было направлено против гу-
манности. Таким образом, человек не может представить
себе иной цели для своих земных установлений, кроме той,
которая заложена в нем самом, то есть в слабой и сильной,
низкой и благородной природе, которую дал ему его бог.
Если во всем мироздании мы познаем каждую вещь лишь
через то, что она есть и как она действует, то цель человече-
ства на земле указана нам через его природу и историю са-
мым ясным и наглядным образом.
Оглянемся на тот пояс земного шара, который мы успели
обозреть. Во всех установлениях народов от Китая до Рима,
во всем разнообразии их государственного строя, а также во
всех их военных и мирных изобретениях, при всех ужасах и
ошибках народов, основной закон природы оставался один:
«Пусть человек будет человеком, пусть он строит свою жизнь
так, как он считает наилучшим». Для этого люди овладевали
своей землей и устраивались, как могли. Из женщины и из
государства, из рабов, одежды и жилища, из пищи и увесе-
лений, из науки и искусства они извлекали все, что считали
возможным извлечь для своего или общего блага. Так по-
всюду мы видим, как люди обладали и пользовались правом
стремиться к своему идеалу гуманности, когда он был ими
осознан. Если они заблуждались или останавливались на пол-
пути унаследованной традиции, то они страдали от послед-
ствий своего заблуждения и искупали свою вину. Божество
не связывало им руки ничем, кроме их собственной сущно-
270
сти, времени, места и живущих в них сил. И оно также ни-
когда не помогало им в их ошибках чудесами, но предоста-
вляло учиться на последствиях этих ошибок и самим испра-
влять их.
Насколько прост этот естественный закон, настолько он
достоин бога, целесообразен и плодотворен по своим послед-
ствиям для человеческого рода. Для того чтобы быть тем,
что он есть, и стать тем, чем мог бы стать, он должен был
сохранить внутреннюю активность и круг свободной деятель-
ности, в котором ему не мешали бы никакие противоесте-
ственные чудеса. Вся мертвая материя, все породы живых
существ, управляемых инстинктом, со дня сотворения оста-
лись тем, чем были; человека же бог сделал богом на земле,
заложив в него принцип самостоятельной деятельности и
с самого начала заставив этот принцип действовать под влия-
нием внутренних и внешних потребностей природы человека.
Человек не мог жить и при этом сохранить себя, не учась
пользоваться разумом; а как только он начинал им пользо-
ваться, перед ним хотя и распахивались двери к тысяче за-
блуждений и неудачных опытов, однако в то же время, и
даже именно через эти заблуждения и неудачи, открывался
путь к лучшему использованию разума. Чем скорее он рас-
познаёт сво'И ошибки, чем энергичнее принимается за их
исправление, тем дальше он продвигается, тем больше разви-
вается в нем человечность; а ему нужно ее развивать, иначе
он будет целыми столетиями изнывать под тяжестью своих
собственных проступков.
Мы видим также, что природа избрала для осуществле-
ния этого закона такое обширное пространство, какое ей
-предоставляла вся область, заселенная людьми. Она дала
человеку настолько разнообразную организацию, какая была
возможна для человеческого рода на нашей земле. Она по-
местила негра рядом с обезьяной, и, начиная от ума негра
до тончайшего развития человеческого мозга, она заставила
все народы всех времен разрешать великую проблему гуман-
ности. Мимо самого необходимого, к чему влекут инстинкт и
потребность, не мог пройти почти ни один народ на земле,
а для более тонкого усовершенствования человеческой при-
роды существовали более утонченные народы, живущие в бо-
лее умеренном климате. Как и все благоустроенное и пре-
красное располагается посередине между двумя крайно-
стями, так и самая прекрасная форма разума и гуманности
должна была найти место в этой умеренной средней полосе.
И она нашла его в изобилии, согласно естественному закону
всеобщего соответствия. Ибо хотя почти всем азиатски-м
народам свойственна пассивность, которая заставляла их
рано успокаиваться на достигнутом и считать всякую уна-
следованную форму неприкосновенной и святой, но все же
271
их можно извинить, если вспомнить, какое огромное про-
странство они занимали на суше и всякие случайности, гро-
зившие им, в особенности -со стороны гор. В целом же их
первые, ранние -меры, ;направленные на развитие гуманности,
останутся, если 'принять во внимание время и место, весьма
-похвальными: и тем более нельзя недооценивать те успехи,
которых добились более активные народы на по-бережье
Средизем1ного моря. Они сбросили с себя деспотическое ярмо
старых форм правления и традиций и подтвердили этим ве-
ликий, благостный закон человеческой судьбы: то, чего со-
знательно желает и что способен своими силами осуществить
себе на благо какой-либо народ или все человечество, то и
разрешено ему самой природой, которая поставила ему
целью не деспотов и не традиции, а самую высокую форму
гуманности.
Принцип этого божественного закона природы чудесно
примиряет нас не только с обликом нашего человеческого
рода на всей земле, но и с изменениями его на протяжении
всех времен. Всюду человечество представляет собой то, что
оно могло из себя сделать, чем оно хотело и в силах было
сделаться. Если оно было довольно своим состоянием или
на великой ниве времен еще не созрели средства для его
улучшения, то оно столетиями не менялось, оставаясь тем,
чем было. Если же оно пользовалось оружием, которое дал
ему бог, — своим умом, своей силой и всеми случайными об-
стоятельствами, дарившими ему попутный ветер, то оно
искусно поднималось выше и мужественно шло по пути со-
вершенствования. Если оно этого не делало, то уже сама его
пассивность показывает, что оно еще недостаточно чувство-
вало свое несчастье: потому что всякое живое чувство не-
справедливости, в сочетании с силой и разумом, должно стать
спасительной силой. Так, например, длительное повиновение
при деспотизме основывалось отнюдь не на превосходящей
силе деспота; добровольная, доверчивая слабость угнетае-
мых, а позднее их покорная пассивность были его единствен-
ной и величайшей опорой. Ведь терпеть легче, чем исправлять
силой; поэтому многие народы не воспользовались правом,
которое предоставил им бог, наделив их божественным да-
ром разума.
Нет сомнения, что вообще все, что еще не совершилось
на земле, совершится в будущем; ибо неувядаемы права че-
ловека и силы, заложенные в него богом, неистребимы. Мы
удивляемся, как много успели сделать в своей жизненной
сфере за несколько столетий греки и римляне, ибо, хоть цель
их деятельности не всегда была безупречной, все же они до-
казали, что могут ее достигнуть. Их прообраз сияет в исто-
рии и побуждает подобных им, при равном или еще боль-
шем покровительстве судьбы, стремиться к сходным и еще
272
лучшим результатам. Вся история народов становится с этой
точки зрения школой соревнования за прекраснейший венок
гуманности -и человеческого достоинства. Столь многие 'про
славленные древние народы добились худшей цели; почему
бы нам не добиться более чистой, более благородной? Они
были людьми, как и мы; их стремление к наилучшей форме
гуманности — это и наше стремление, только применительно
к условиям нашего времени, нашей совести, нашим обязан-
ностям. То, что они могли сделать без помощи чуда, то мо-
жем и имеем право сделать и мы; божество помогает нам
только через наше усердие, наш разум, наши собственные
силы. После того как оно сотворило землю и все создания,
лишенные разума, оно создало человека и сказало ему: «Будь
моим подобием, богом на земле! Владей и господствуй! Про-
изведи все благородное и прекрасное, что ты можешь соз-
дать из своей природы; я не могу помочь тебе чудесами, по-
тому что я вложило твою человеческую судьбу в твои челове-
ческие руки; но тебе будут помогать все священные, вечные
законы природы».
ЕЩЕ ОДИН ОПЫТ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
[Из первой главы]
...Кто не замечал, какая это невыразимая вещь — своеоб-
разие любого человека, как трудно говорить о различиях,.
действительно различая их! Как чувствует человек и как жи-
вет! Насколько по-иному, по-своему шредстают перед 'ним
предметы, когда их увидит его глаз, измерит его душа, ощу-
тит его сердце! — Какая глубина в характере одной только
нации — ее не выразишь словами, как бы часто ты ни заме-
чал ее и ни дивился ей; во всяком случае, как редко удается
раскрыть ее в слове так, чтобы каждый мог ее понять и по-
чувствовать! — Это все равно, как если бы, взирая на целый
мировой океан народов, эпох и земель, попытаться охватить
все одним взглядом, одним чувством, одним словом\ Блед-
ный ущербный призрак — слово! Вся живая картина образа
жизни, привычек, потребностей, своеобразия земли и небес
должна бы войти в него или предшествовать ему; сначала
нужно жить одним чувством с нацией, чтобы ощутить хотя
бы одну из ее склонностей, один из ее поступков, а затем все
в их совокупности и найти нужное слово, чтобы представить
себе это целое во всей его полноте, — иначе вы прочтете —
только слово...
...Характер наций! Одни только данные их общественного
строя и истории должны быть решающими. Разве патриарх,
кроме тех склонностей, которые ты ему приписываешь, не
имел также и других? Или не мог их иметь? На оба вопроса
я отвечу: конечно, да! Разумеется, были у него и другие, по-
бочные черты, сами собой вытекающие из того,- о чем я ска-
зал или о чем не говорил, черты, которые я, а за мной, воз-
можно, и другие, когда-либо размышлявшие над его исто-
рией, признают уже самым словом «патриарх», или, вернее,
он мог бы иметь много иных черт — в другом месте, в опре-
деленную эпоху, в связи с прогрессом образования, при иных
274
обстоятельствах. Почему бы тогда Леониду, Цезарю и Ав-
рааму не стать светскими людьми нашего столетия? Но они
не стали — вот об этом и спроси у истории: об этом-то и идет
речь!..
Поскольку в добре человеческая природа не является
самостоятельным божеством, она всему должна выучиться,
воспитывать себя, развиваясь, продвигаться в<се дальше
в постепенной борьбе; естественно, что она воспитывается
главным образом или даже исключительно теми сторонами,
где возникают для 'нее подобные побуждения к добродетели,
к борьбе, к движению вперед. В известном отношении,
следовательно, всякое человеческое совершенство опреде-
ляется национальными особенностями, связано со своей эпо-
хой и, при ближайшем рассмотрении, индивидуально. Раз-
вить можно лишь то, для чего созданы предпосылки эпохой,
климатом, потребностями, миром и судьбой — все остальное
отвергается. Склонности или способности, пока они дремлют
в сердце, никогда не станут реальностью. Следовательно, на-
ция, при наличии, с одной стороны, самых возвышенных до-
бродетелей, может, с другой стороны, обладать недостат-
ками, составлять исключение, обнаруживать противоречия и
неясности, приводящие в изумление. Правда, подобное изу-
мление возникает лишь у того, кто выносит идеальный при-
зрак добродетели из учебников своего столетия и обладает
запасом философии ровно настолько, чтобы ничтожный кло-
чок земли показался ему земным шаром. Всякому же, кто
захочет понять сердце человека, исходя из обстоятельств его
жизни, подобные исключения и противоречия покажутся
вполне человеческими, объяснимыми: соотношением сил и
склонностей, определенной целью, которой без этого невоз-
можно достичь, то есть совсем не исключениями, а прави-
лом...
Какое право имеем мы осыпать весь мир безапелляцион-
ными похвалами и порицаниями, продиктованными приме-
ром избранного нами народа древности, на который мы гла-
зеем с восхищением, как на своего любимца? Эти римляне
могли быть такими, как никакой другой народ, поступать
так, как никто другой не поступает; на то они были рим-
лянами, стояли на вершине мира, а всюду вокруг них была
долина. Находясь на вершине, с юности воспитываемые
в римском духе, они и действовали согласно этому духу.
Что же в том удивительного? И что удивительного, если ка-
кой-нибудь маленький народ пастухов и землепашцев, живу-
щий в уединенной долине, не стал железным зверем и не вел
себя соответственно этому? И что удивительного, если этот
народ обладал со своей стороны добродетелями, которых не
было у самых благородных римлян, а благороднейший рим-
лянин на своей вершине мог, под давлением необходимости,
18* 275
хладнокровно совершать жестокости, которые не могли даже
прийти на ум пастуху в его маленькой долине? На вершине
этого колоссального механизма самопожертвование было,
к сожалению, когда пустяком, когда необходимостью, а ча-
сто (бедное человечество, на какие дела ты способно!) —
часто даже благодеянием. Тот же механизм, который делал
возможными разнузданнейшие пороки, вознес столь же вы-
соко их добродетели и позволил так широко распростра-
ниться их деятельности. Способно ли вообще человечество
в его нынешнем состоянии к чистому совершенству? Вер-
шина граничит с долиной. Рядом с благородными спартан-
цами живут бесчеловечно угнетаемые илоты. * Римский три-
умфатор, рдеющий божественным румянцем, незримо запят-
нан и кровью. Разбой, кощунство и сладострастие окружают
его колесницу. Впереди его шествует гнет. Бедность и нищета
плетутся следом. Значит, пороки и добродетели и в этом
смысле неразлучно обитают в хижине человека.
Прекрасное поэтическое искусство, окружающее избран-
ный народ мира сверхчеловеческим сиянием, — такое искус-
ство тоже полезно, ибо человека облагораживают и прекрас-
ные предрассудки. Но когда такой поэт является историком,
философом, какими считает себя большинство, когда он стре-
мится придавать всем векам ту же единственную форму сво-
его времени, часто ничтожную и слабую... Юм! Вольтер! Ро-
бертсон! Классические тени сумерек! Что вы такое присеете
истины?
Некое ученое общество нашего времени, руководствуясь
несомненно высокими соображениями, выдвинуло следую-
щий вопрос: «Какой народ в истории был наиболее счастли-
вым?» Если я правильно понимаю этот вопрос, если он не
лежит за пределами человеческого понимания, то я не знаю,
можно ли на него ответить иначе, чем следующим образом:
в определенное время и при определенных условиях каждый
народ переж-ивает подобный период, или же он никогда не
был народом. С другой стороны, если человеческая природа
и не является сосудом абсолютного, независимого, неизмен-
ного счастья, как ее определяет философ, то все же она ото-
всюду извлекает столько счастья, сколько может, подобно
мягкой глине, которая способна принимать различные формы
в разных положениях, для разных целей и при разном давле-
нии извне. Даже самый образ счастья меняется в зависимо-
сти от условий и страны, ибо что такое счастье, как ъъ сумма
«удовлетворенных желаний, достигнутых целей и мирного
преодоления потребностей», которые определяются в зависи-
мости от страны, времени и места? Таким образом, в сущно-
сти, всякое сравнение будет затруднительно. Как только из-
менилось то, что составляет внутренний смысл счастья, изме-
нилась наклонность-, как только внешние обстоятельства
и потребности воспитают и укрепят другие чувства, можно
ли сравнивать различное удовлетворение различных чувств
в различных мирах? Пастух и патриарх Востока, землепашец
и ремесленник, моряк, борец, завоеватель вселенной — как
сравнить их? В лавровом венке или в зрелище мирного
стада, в корабле с товарами и в военных трофеях не заклю-
чено ничего — все заключено в душе, которая в них нужда-
лась, к ним стремилась и наконец достигла их, не желая ни-
чего другого, кроме именно этого. Всякий народ несет в са-
мом себе средоточие своего счастья, 'подобно тому как всякий
шар имеет свой собственный центр тяжести!
Хорошо и здесь позаботилась добрая мать. Она вложила
в сердца людей многообразные склонности, сами по себе не
слишком настоятельные, так что если будут удовлетворены
лишь некоторые из них, душа сольет эти пробужденные го-
лоса в единый хор, а те, что дремлют, она почувствует, лишь
поскольку они безмолвно и незаметно поддержат звучащую
песню. Она вложила в сердца многообразные склонности,
затем часть этого многообразия разместила вокруг нас, у нас
под руками. Потом она ограничила взгляд человека, чтобы
через некоторое время, в силу привычки, этот круг стал для
него горизонтом, за который нельзя заглядывать, за которым
ничего даже не мерещится. Все, что близко моей натуре, что
может быть ею ассимилировано, является предметом моей
зависти, моих стремлений, все это может стать моим. За
этими пределами благодетельная природа вооружила меня
бесчувственностью, холодностью и слепотой. Они могут даже
превратиться в презрение и отвращение, но у нее при этом
лишь одна цель — вернуть меня к самому себе, дать мне удо-
влетворение в средоточии, которое поддерживает меня. Грек
усваивал у египтянина, а римлянин у грека ровно столько,
сколько ему нужно было для себя. Он насытился — пусть ос-
тальное падает на землю, он к нему не стремится!.. А если
в этом формировании национальных склонностей в собствен-
ный национальный идеал счастья расстояние между одним
народом и другим слишком уж разрослось (смотри, как не-
навидит египтянин пастуха, бродягу, как презирает легкомыс-
ленного грека! — как и любые два народа, склонности и сфера
счастья которых столкнулись) — тогда это зовут предрассуд-
ком, вульгарностью, ограниченным национализмом! Такой
предрассудок хорош в свое время, ибо он делает счастливым.
Он объединяет народ вокруг его средоточия, делает его
крепче в его основе, более цветущим в его искусстве, более
пылким и, следовательно, также более счастливым в его
склонностях и целях. Народ, самый невежественный и полный
суеверий, в этом отношении нередко будет первым. Время
заморских странствований и поисков счастья на чужбине —
277
это уже болезнь, опухоль, нездоровая полнота, предчувствие
смерти/..
А как же всеобщий, философский, человеколюбивый тон
нашего столетия, который так охотно удостаивает назвать
любую отдаленную нацию, любую древнейшую эпоху истории
«нашим собственным идеалом» счастья и добродетели и вы-
ступает единственным судьей их нравов, оценивая, осуждая
или поэтически превознося их со своей точки зрения? Но
разве добро не рассыпано по всей земле? Поскольку один из
обликов человечества и одна страна не в силах были охва-
тить его, оно распределяется в тысячи форм, преображается —
вечный Протей! — проходя через все части света и эпохи.
Однако, как бы оно при этом ни менялось и ни преобража-
лось, то, к чему оно стремится, не есть более высокая добро-
детель и благо отдельного человека. Человечество всегда ос-
танется человечеством — и все же становится видимым план
поступательного развития: моя великая тема!
Тот, кто отваживался до сих пор рассматривать движение
столетий, большей частью пускал в ход одну излюбленную
идею: движение к большей добродетели и счастью отдельного
человека. К этому тезису затем подтягивали или придумы-
вали факты; факты, свидетельствующие о противном, пре-
уменьшались и замалчивались; целые страницы прикрыва-
лись; слова принимались за факты, просвещение за счастье,
более многочисленные и тонкие мысли за добродетель, и та-
ким образом созданы были романы о всеобщем прогрессив-
ном совершенствовании мира, романы, в которые не верил
никто, по крайней мере не верил истинный исследователь
истории и человеческого сердца.
Другие, видевшие оборотную сторону этой мечты, но не
знавшие ничего лучшего, считали, что пороки и добродетели
меняются, как климаты, совершенства возникают и гибнут,
как весенняя листва, человеческие нравы и склонности отле-
тают, подобно листьям судьбы, — ни плана! ни прогресса!-—
вечное вращение — ткать и распускать! Труд Пенелопы! Они
бросались в водоворот, впадали в скептицизм по отношению
ко всякой добродетели, счастью и предназначению человека,
опутывали1 этим скептицизмом всю историю, религию и мо-
раль: последний крик моды новейших, в особенности фран-
цузских философов, — сомнение!1 Сомнение в сотнях форм,
однако все с ослепляющим заголовком: «Из истории мира!»
1 Добрый, честный Монтень положил этому начало; диалектик Бейль,
резонер, чьи противоречия, расположенные, в соответствии с формами его
мышления, по статьям словаря, конечно не могли быть исправлены Круза
и Лейбницем, действовал на столетие позже. А затем новейшие фило-
софы, во всем сомневающиеся, со своими собственными дерзновенными
утверждениями, — Вольтер, Юм, даже Дидро. — Это великое столетие
сомнения и бури!
278
Противоречия и бури: корабль терпит крушение на волнах,
а то, что оказывается уцелевшим из морали и философии,
вряд ли заслуживает упоминания.
Разве не может существовать явного поступательного дви-
жения и развития, но в более возвышенном смысле, чем это
представляли себе до сих пор? Ты видишь этот движущийся
поток: он возник из небольшого источника, то растет, то про-
падает, то появляется вновь, вьется и пробивает себе дорогу
все дальше и глубже, — но всегда остается водой, потоком,
каплями, только каплями, пока не обрушится в море. Что,
если так обстоит дело и с человеческим родом? Или видишь
вон то растущее дерево? Того стремящегося ввысь человека?
Он должен пройти через разные возрасты, всегда явно в по-
ступательном движении! Одно стремление непрерывно сле-
дует за другим! А между ними кажущиеся остановки, круго-
вращения, изменения! И все же каждый имеет средоточие
своего счастья в самом себе! Юноша не более счастлив, чем
невинное, довольное дитя; спокойный старец не менее счаст-
лив, чем сильный, стремительный муж! Маятник всегда па-
дает с одинаковой силой — и тогда, когда он дальше всего
отклоняется и тем сильнее стремится вниз, и тогда, когда
он медленнее всего колеблется и приближается к покою.
И все же это — вечное стремление! Никто не пребывает
только в своем возрасте, он строит на прошлом, а оно есть
лишь основа будущего и не хочет быть ничем иным, — так
говорит аналогия в природе, красноречивый первообраз боже-
ства во всех ее созданиях, так же и β человеческом роде!
Египтянин не мог бы возникнуть без людей Востока, грек ос-
новывался на тех и других, римлянин возвысился на хребте
всего мира — поистине движение вперед, прогрессивное раз-
витие, хотя никто в отдельности при этом не выигрывает! Оно
приобретает все большие масштабы! Образуется то, чем так
хвастает поверхностная история и что она так мало умеет по-
казать,— арена высшего замысла на земле! Пусть мы сей-
час ή не можем видеть окончательный замысел, это арена бо-
жества, хотя и доступная взору лишь сквозь бреши и об-
ломки отдельных сцен.
Во всяком случае, этот взгляд шире, чем та философия,
которая, разочаровавшись в добродетели, цели и божестве,
смешивает верх и низ и только там и сям останавливается на
отдельных запутанных случаях, чтобы превратить целое
в муравьиную возню, в бесцельные устремления отдельных
склонностей и сил, в хаос. Если бы мне удалось связать эти
разрозненные сцены, не перепутав их, показать, как они
соотносятся друг с другом, вырастают одна из другой, пере-
ходят одна в другую — каждая в отдельности лишь момент,
и только в своем поступательном движении — средство к опре-
деленной цели. Что за зрелище! Какое благородное применение
279
человеческой истории! Какое поощрение к надеждам, к дей*
ствиям, к вере, даже там, где ничего не видно или видно
не все! Я продолжаю...
...Я сознаю все величие, красоту и неповторимость нашего
века и при всех его недостатках всегда видел главное: «фило-
софию, распространение света, удивительную механическую
сноровку и легкость, кротость!» Как далеко ушло в этом
наше столетие со времен возрождения наук! Какими беспри^
мерно легкими средствами достигло оно вершин! Как основа-
тельно оно их укрепило и обеспечило для потомков! Я пола-
гаю, что могу добавить к этому некоторые соображенияу
вместо преувеличенно восторженной декламации, которую
можно найти в любых, в особенности во французских, мод-
ных книжках.
Воистину великое столетие как средство и как цель; без
сомнения, высочайшая вершина дерева, по сравнению со
всеми предыдущими, на которых мы стоим. Нам удалось
использовать так много соку из корней, ствола и ветвей,
сколько наши тонкие верхние ветки только могли вобрать
в себя! Мы стоим высоко над народами Востока, греками;
римлянами, а тем более средневековыми готическими варва-
рами! Значит, мы видим под собою весь мир! В известной
степени все народы и части света находятся под нашей сенью,
и если буря сотрясает две маленькие веточки в Европе, как
дрожит и истекает кровью весь мир! Была ли когда-нибудь
вся земля так всецело связана воедино столь немногочислен-
ными общими нитями, как сейчас? Когда еще имелось столько
сил и механизмов, чтобы одним нажатием, одним движением
пальца потрясти целые народы? Во главе всего этого стоят
две или три мысли!
В то же время — когда еще мир был таким просвещен-
ным, как сейчас? И он продолжает все дальше просвещаться.
Если прежде мудрость была всегда лишь узко национальной
и, следовательно, глубже проникала и прочней притягивала
к себе, то как широко расходятся сейчас ее лучи! Где только
не читают того, что пишет Вольтер! Почти весь мир уже све-
тится вольтеровской ясностью!
И все это как будто еще продолжает развиваться! Куда
только не проникают европейские «колонии и куда они еще
проникнут! Повсюду дикари, по мере того как они находят
вкус в нашей водке и наших излишествах, созревают для об-
ращения в нашу веру! Повсюду приближаются они, в особен-
ности с помощью водки и излишеств, к нашей культуре.
Вскоре все они будут, с божьей помощью, такими же людьми,
как мы! Добрыми, сильными^ счастливыми людьми!
280
Торговля и папство, сколь много вы уже способствовали
этому великому делу! Испанцы, иезуиты и голландцы: чело-
веколюбивые, бескорыстные, благородные и добродетельные!
Сколь многим обязано вам воспитание человечества!
Но если это происходит в других частях света, то почему
бы не быть этому в самой Европе? Позор для Англии, что
Ирландия столько времени оставалась дикой и варварской:
теперь в ней наведен порядок, и она счастлива. Позор для
Англии, что северные шотландцы* до сих пор ходили без
штанов: теперь они носят их, по крайней мере, с собой, на
шесте, и счастливы. Какое государство в нашем столетии
не стало великим и счастливым! Только одно лежало в цен-
тре на позор всему человечеству, без академий и земледель-
ческих обществ, носило усы и воспитывало благодаря этому
цареубийц. И вот смотри! То, что для дикой Корсики уже
сделала благородная Франция, * продолжили три пары усов:
чтобы воспитать таких людей, как мы, — добрых, сильных,
счастливых людей!
Все искусства, которыми мы занимаемся, какой высоты
они достигли! Можно ли представить себе что-нибудь выше
пресловутого искусства управления, системы, науки воспита-
ния человечества? 1 Единственная движущая пружина в на-
ших государствах — страх и деньги: ни малейшей нужды ни
в религии (слишком наивная побудительная сила), ни
в чести, ни в свободе духа, ни в человеческом счастье.
Как хорошо мы умеем схватить, как второго Протея,
единственного бога всех богов, Маммона, и как умеем видо-
изменять его! И как умеем добиться у него всего, что нам
нужно! В том — высшее счастливое искусство управления!
Взгляните на армию: прекраснейший прообраз человече-
ского общества! Как они все пестро и легко одеты, легко на-
кормлены, как они гармонично мыслят, как свободно и ловко
владеют всеми своими членами! Как они благородно дви-
жутся! Какое замечательное блестящее оружие у них в ру-
ках! Сумма добродетелей, которые они изучают на каждом
ежедневном учении, — образ высшего превосходства челове-
ческого духа и управления миром, — самоотречение!
Равновесие в Европе!* Ты ^-великое изобретение, кото-
рого не знало ни одно предшествующее столетие/ Эти госу-
дарственные тела, в форме которых, без сомнения, человече-
ство .может лучше всего развиваться, — как они трутся сей-
час друг о друга, не разрушаясь и не имея возможности ко-
гда-либо разрушить друг друга, что мы видели столько раз
на печальных примерах жалкого государственного искусства
готов; гуннов, вандалов, греков, персов, римлян, короче —
Ю м, Собрание политических сочинений и его «История».
281
всех предшествующих эпох. И как они продолжают свое бла-
городное царственное шествие, глотая эту бочку с водой, пол-
ной насекомых, чтобы только создать единообразие, мир и
безопасность. Бедный город? Измученная деревня? — Слава
нам! За восстановление покорности, мира и безопасности,
всех главных добродетелей и блаженств, — сюда, наемники!
союзники! европейское равновесие! Слава нам! Да будет и
остается в Европе вечный покой, мир, безопасность а послу-
шание.
...Обыкновенно философ именно тогда становится более
всего животным, когда он хочет самым верным путем стать
богом. Так случается и при самом достоверном его расчете
на усовершенствование мира. Если бы только все шло по ни-
точке и каждый следующий человек и каждое последующее
поколение совершенствовались бы в соответствии с его идеа-
лом, в наилучшей прогрессии, для которой он один устана-
вливал бы показатели добродетели и счастья! Тут всегда
в конце ряда оказывался бы он сам — последнее, высшее
звено, на котором все заканчивается. «Смотрите, до какой
просвещенности, добродетели и счастья дорос мир! Я, возне-
сенный на коромысле, — как золотая стрелка мировых весов:
глядите на меня!»
И мудрец не подумал о том, чему его должен бы научить
самый слабый отзвук голоса небес на земле, — о том, что, по
всей вероятности, человек всегда останется человеком по срав-
нению со всеми другими вещами, — только человеком! Ан-
гел и дьявол в человеческом образе годны для романа! Он
лишь нечто среднее между ними, упрямый и робкий, в ну-
жде— стремящийся вперед, в безделии и роскоши — обесси-
ленный, без побуждений и деятельности — совершенное ни-
что, благодаря им — постепенно развивающийся, почти во
всем — иероглиф добра и зла, примерами чего полна история.
Человек! Во всем — только орудие!
Он, этот мудрец, не подумал о том, что это таинственное
двойственное создание может, и в связи с устройством на-
шего мира почти должно, изменяться, принимая тысячи раз-
ных форм, что существуют порождения климата, условий
эпохи, а тем самым и добродетелей данного народа и дан-
ного поколения, цветы, которые подэтаж небом произрастают
и расцветают почти из ничего, а в другом месте вымирают
или блекнут самым жалким образом (такова физика исто-
рии, психологии и политики, о которой наше столетие ведь
так много уже сочиняло и размышляло), что все это может
и должно иметь место, хотя внутри, под многократно .изме-
няющейся скорлупой, может и, согласно всем человеческим
282
ожиданиям, всегда будет сохраняться одно и то же ядро
характера человека и его способности к счастью.
Он, этот мудрец, не подумал о том, что свидетельством
бесконечно большей заботы отца всего существующего было
бы, если бы все это действительно имело место, если бы в че-
ловечестве повсюду и во все времена был заложен незримый
зародыш восприимчивости к счастью и добродетели, который,
по-разному развиваясь, хотя и проявлялся бы в различных
формах, но в сущности знал бы лишь одну меру в смеше-
нии сил.
Наконец, считая себя всеведущим, он не подумал, что
у бога в отношении рода человеческого может существовать
более великий план целого, который не в состоянии охватить
взором отдельное создание именно потому, что в плане этом
ничто не сводится к чему-либо только единичному, менее
всего — к восседающему на троне философу восемнадцатого
века как к последней цели. А может быть, еще и потому, что
все сцены, где каждый отдельный актер играет только ту
роль, в которой он может стремиться к счастью и быть сча-
стливым, — все эти сцены могут составлять целое, главное
действие, о котором, правда, каждый отдельный, эгоистически
мыслящий актер ничего не подозревает, но которое прекрасно
видно зрителю, наблюдающему его с правильной точки
зрения, в спокойном ожидании последовательного развития
целого.
Взгляни на вселенную от неба до земли — что в ней сред-
ство, что цель? Разве не все является средством для милли-
она целей? Разве не все являются целью для миллиона
средств? Тысячекратно сплетается и переплетается цепь все-
могущего, всеведущего блага, но каждое звено этой цепи есть
звено на своем месте, оно связано с цепью и не видит, на чем
же, в конечном счете, держится цепь. Каждое звено мнит
себя в мечтах средоточием, видит вокруг себя лишь на-
столько, насколько оно изливает на эту точку свои лучи или
волны. — Прекрасная мечта! Но главная орбита всех этих
волн, лучей и кажущихся центров — где она, кто она, за-
чем она?
По-иному ли это все в истории человеческого рода? Разве
эти волны и эпохи не соответствуют «созидательному плану
всемогущей мудрости?» Если жилище обнаруживает вплоть
до мельчайших подробностей «план господень», то как же
может не обнаруживать его история обитателей этого жи-
лища? Там ведь только декорация, картина в одном явлении,
пейзаж! А здесь это «бесконечная драма из отдельных сцен!
Божественная эпопея, проходящая сквозь все века, части
света и человеческие поколения, тысячеликая притча, полная
великого смысла!»...
283
...Под великим древом* отца вселенной,1 которое возно-
сит свою вершину выше небес и чьи корни проникают глубже
всех миров и самого ада, — орел ли я на этом дереве? Или
ворон на его плече, который что ни день доносит его слуху
вечерний привет миров? Какая я, быть может, малая жилка
на листке этого дерева! Неприметная запятая или малая чер-
точка в книге Вселенной!..
1 Грандиозный образ скандинавской «Эдды».
ПИСЬМА ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ГУМАННОСТИ
ПИСЬМО 27
СЛОВО «ГУМАННОСТЬ* И ПОНЯТИЕ ГУМАННОСТИ
Вы опасаетесь, что слово гуманность не вполне без-
упречно; не подобрать ли нам вместо нега другое слово?
Человечество, человечность, права человека, обязанности че-
ловека, достоинство человека, человеколюбие?
Человек — это каждый из нас, и вот почему мы несем
в себе человечество или принадлежим человечеству. К сожа-
лению, однако, в нашем языке слово человек, а тем более
милосердное слово человечность, слишком часто приобретает
дополнительный оттенок приниженности, слабости и ложного
сострадания, так что первое из них порой принято встречать
презрением, а второе недоуменным пожатием плеч. «Чело-
век!»— произносим мы с состраданием или презрением, ду-
мая, что этим словом мы деликатным образом извиняем про-
стака: «Человечность, дескать, заставила его сделать этот
опрометчивый шаг»^
Ни один разумный человек не согласится с тем, чтобы
столь варварски принижался характер рода, к которому все
мы принадлежим; это еще более неразумно, чем превращать
в позорную кличку название своего родного города или сво-
его землячества. Поэтому поспешим оговорить, что не во имя
такого рода человечности мы пишем свои письма.
О правах человека не может говориться, если не упоми-
наются обязанности человека; оба понятия взаимосвязаны, и
для обозначения обоих мы ищем единое слово.
Так же о'бстоит с достоинством человека и с человеколю-
бием. Род человеческий, в том виде, в каком он существует
сейчас и каким он, вероятно, еще надолго останется, в своем
громадном большинстве вообще не обладает достоинством.
Его можно скорей жалеть, чем уважать. В нем следует, од-
нако, воспитывать характер, и тем самым ценность и досто-
инство. Прекрасное слово человеколюбие стало настолько
285
тривиальным, что большей частью любят людей вообще,
чтобы не любить по-настоящему никого из людей в отдель-
ности. Все эти слова включают в себя лишь части того поня-
тия, которое является нашей целью и которое mj>i охотно вы-
разили бы единым словом.
Итак, останемся при слове гуманность, с которым лучшие
писатели древности и нового времени связывали такие высо-
кие понятия. Гуманность составляет основу характера рода
человеческого, но этот характер заложен в человеке только
в виде способности и должен, собственно, быть воспитан. Он
не рождается с нами на свет в готовом виде, но должен,
когда мы уже явились на свет, стать целью наших стремле-
ний, суммой наших усилий, нашим достоинством. Ибо ангель-
ское в человеке нам неизвестно, и если демон, правящий
нами, не гуманный демон, то мы станем мучителями челове-
чества. Божественным в роде нашем является, следовательно,
воспитание гуманности. Все великие и прекрасные люди, за-
конодатели, философы, поэты, изобретатели, художники,
каждый благородный человек в своем положении, при воспи-
тании своих детей, при соблюдении своих обязанностей дол-
жен этому способствовать примером, действиями, обществен-
ными учреждениями и поучениями. Гуманность — это сокро-
вище и награда за все труды человеческие, она же является
и искусством нашего рода. Воспитание гуманности есть дело,
которым следует заниматься непрестанно; в противном слу-
чае .мы все, как высшие, так и низшие сословия, возвратимся
к животному состоянию, к скотской грубости.
Так может ли слово гуманность привести к порче нашего
языка? Все образованные нации приняли его в свои наречия,
и если письма эти попадут в руки чужестранца, они, во вся-
ком случае, не покажутся ему угрожающими: ибо автором
писем, способствующих скотской грубости, не захочет быть
ни один порядочный человек.
ПИСЬМО 32
ВЫВОДЫ
Из ваших писем, друзья мои, я заключаю следующее:
1. Мягкое сочувствие к слабым существам нашего рода,
которое мы обычно называем человечностью, не исчерпывает
всего понятия гуманности. Конечно, в надлежащее время,
в надлежащем месте оно украшает человека, ибо симпатия
в точном смысле этого слова, то есть живое, быстрое проник-
новение в состояние больного, заблуждающегося, страдаю-
щего, замученного является тем тончайшим цементом, кото-
рый соединяет подобные друг другу существа, связывая лю-
дей самыми короткими узами. Ничто так не отталкивает, как
286
бесчувственная, надменная суровость. Если человек ведет
себя так, будто он принадлежит к более высокой породе и
является существом иного или даже совсем особого разряда,
его поведение ожесточает каждого,, обрекая такого сверхче-
ловека на неизбежное несчастье, ибо сердце его остается не-
преклонным, пустым и неразвившимся, так что в конце кон-
цов каждый ненавидит или презирает его.
Между тем, хотя человеческая деликатность и снисходи*
тельностъ к ошибкам и страданиям наших ближних необхо-
димы, все же, если эти чувства станут чрезмерно мягкими и
исключительными, они неизбежно окажут расслабляющее
влияние на характер и именно поэтому могут превратиться
в самую суровую жестокость. Без правосудия не может быть
терпимости. Снисхождение без понимания слабостей и оши-
бок является изнеженностью, которая, покрывая розами гной-
ные раны, тем самым умножает боль и опасность.
2. Точно так же гуманность не является для вас просто
легкой общительностью, мягкой предупредительностью в об-
ращении, сколько бы очарования ни придавало это качество
даже обыденной жизни. Напротив, рассматриваемая субъек-
тивно, она представляет для вас:
3. Ощущение человеческой природы в ее силе и слабости,
в ее недостатках и совершенствах, не без действенности и
понимания. Что касается характера рода человеческого, то
всякое возможное его развитие и совершенствование — вот
та цель, которую ставит перед собой гуманный человек,
к которой он стремится, ради которой он действует. Так как
род человеческий должен сам сделать из себя все, чем он
может и должен стать, то ни один из тех, кто к нему при-
надлежит, не смеет при этом оставаться праздным. Он дол-
жен принимать участие в радостях и горестях целого и при-
нести в жертву гению рода человеческого свою часть разума,
свою долю деятельности.
4. Нельзя содействовать благу всего человечества, не сде-
лав себя самого таким} каким ты можешь и должен стать.
Каждый, следовательно, должен растить и обрабатывать сад
гуманности прежде всего на той грядке, где он сам зеленеет,
как дерево, или расцветает в виде цветка. Все мы несем
в себе и с собой идеал того, чем мы должны быть, но чем мы
не являемся. Шлак, от которого мы должны избавиться,
форма, которой мы должны достигнуть, — все мы знаем их.
И так как мы можем стать тем, чем мы должны стать, не
иначе как благодаря самим себе и другим, испытывая их воз-
действие и воздействуя на них, то наша гуманность неиз-
бежно сливается с гуманностью других людей, а вся наша
жизнь становится ее школой, полем ее деятельности. «Что
истинно, что честно, что справедливо, что целомудренно,
что красиво, что благозвучно — это и будет добродетель
287.
это и будет хвала, к этому и прилежайте!» — так учит один
из апостолов.
5. Все человеческие учреждения, все науки и искусства,
если они соответствуют своему назначению, не могут пресле-
довать иной цели кроме той, чтобы нас гуманизировать, то
есть сделать из бесчеловечных чудовищ и полулюдей людей
в собственном смысле и придать роду человеческому, сначала
в небольшой его части, ту форму, которую одобряет разум,
которой требует долг, к которой стремятся наши потребности.
То, что науки, именуемые humaniora,l выродились в празд-
ные забавы или в суетные украшения, является злоупотреб-
лением, которое обличается уже самим своим названием.
Сначала было не так! Искусства же и науки, которые укреп-
ляют, маскируют, приукрашивают, прихорашивают врожден-
ную гордость, дерзкое самомнение, слепые предрассудки, не-
разумие и безнравственность, следует и подавно называть
огрубляющими искусствами и науками, достойными того,
чтобы ими занимались рабы и чтобы на них основывались
животные чувства человека.
Меня радует, что вы не собираетесь исключить из рядов
гуманизирующих мудрецов «поэта, воспевшего бесчеловечного
Ахилла. Не следует исключать и театр древних и их законо-
дательство. Душа очищается, возвышается и укрепляется че-
рез размышление о том, что «все мы люди: не больше, но и
не меньше того, что заключено в этом слове».
ПИСЬМО 63
О ГРЕЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ КАК ШКОЛЕ ГУМАННОСТИ
Греческое искусство также является школой гуманности;
горе тому, кто смотрит на него по-иному.
Когда природа, раскрывающаяся во всех своих созданиях,
живущая в них и живая, достигла на нашей земле высочай-
ших вершин своего действия, она произвела на свет существо,
именуемое человеком. В строении его тела она на небольшом
пространстве сосредоточила в состоянии активнейшей жизне-
деятельности все те каноны совершенства, согласно которым,
с огромной силой и необозримым богатством, она творила,
по частям и разрозненно, прочие свои создания. В человеке
она нередко лишь намечала те силы, которые в других сти-
хиях— в воде, в воздухе и на земле — вырастали до размера
больших органов, потребовавших от нее немало времени и
места. Зато она расположила в нем все эти миллионы сил и
чувств так искусно, так гармонично, что он предстал пред
нами не только как воплощение всего ощутимого на нашей
1 Гуманитарные, буквально: «человеческие» (лат.).
288
земле (если мне позволено будет употребить это выраже-
ние), но и как божество, которое сопоставляет, оценивает и
упорядочивает все эти сосредоточенные в нем, заключенные
в его природе чувства. Вся природа узнает себя в нем, как
в живом зеркале; она смотрит его глазами, ее мысли пря-
чутся за его лбом, ее чувства живут в его груди, она дей-
ствует и творит его руками. Наиболее эстетичное в мире
существо должно было, следовательно, стать также и подра-
жающим, упорядочивающим, изображающим, стать поэтиче-
ским и общественным существом. Ибо, .поскольку природа
его сама является как бы высшим искусством великой При-
роды, которая стремится в нем к наивысшей действенности,
то последняя и должна была раскрыться в человечестве.
Ваятелем наших мыслей, наших нравов, нашего обществен-
ного строя является художник. Так неужели же искусство,
которое занимается воплощением образа человека и всех
живущих в нем сил и является сущностью и целью нашей
природы, неужели оно не имеет ценности для человечества?
Оно имеет очень высокую ценность. Оно сделало зримыми
не только мысли, но и формы мышления, вечные характеры,
которые не сумели выразить с такой энергией ни язык, ни
музыка, ни какие-либо иные человеческие усилия. Эти формы
искусство упорядочило, очистило и представило их на вечные
времена глазам всякого, способного смотреть, в виде отчет-
ливых, вечных понятий, в которых человечество воспринимает
себя, наслаждаясь этими формами и действуя сообразно им.
Оно дает нам, следовательно, не только зримую логику и ме-
тафизику нашего рода в его благороднейших образах, со-
гласно возрастам, убеждениям, склонностям и влечениям, но
также, представляя их со смыслом и с разбором, оно молча-
ливо взывает к нам, как новый творец: «Посмотри в это зер-
кало, о человек! Вот чем должен и может быть твой род.
Вот как раскрылась в нем природа — с достоинством и про-
стотой, со смыслом и любовью. Именно таким божественное
является в твоем облике; никак иначе оно не может явиться».
Этим путем и шли греки. К этой идее они стремились.
Без их искусства мы бы не поняли многих мыслей их поэтов
и мудрецов. Эти мысли пронеслись бы мимо нас, как пустые
слова. Искусство сделало мысли греков зримыми и, тем са-
мым, представило человеческому разуму в наглядных обра-
зах также и весь принцип композиции их сочинений, цели их
нравственного воспитания и все прочее, что составляет их от-
личительную черту; короче — создало наглядные категории
человечества. Конечно, в этом ничего не поняли те варвары,
которые, разрушая базальтовую голову Юпитера, видели
в ней только черную голову сатаны, в прекрасном Аполлоне —
злого духа-прорицателя, а в небесной Афродите — распутную
девку. Ограниченное представление о том, что все эти
19 Зак. 291. Гердер 289
шедевры искусства служат предметами идолопоклоннического
культа, обиталищем оракулов, развращающих злых демонов,
висело как черный туман перед их глазами, так что они не
смогли разглядеть истинного демона — идеал воспитания че-
ловека в его чистейших формах. Он не виден также никому
из тех, кто ищет в статуе только статую, в гемме — только
драгоценный камень и во всем — только роскошь, украшения,
старинный вкус или собрание сведений о древностях и о ме-
ханических правилах искусства. Дальше всего стоит от этого
ложная и ограниченная теория, которая, прикрываясь заве-
сой слов, с холодной надменностью, чванливо отвергает вся-
кое проявление и откровение человеколюбивого, выражаю-
щего истину божества.
Нам с вами демон человеческой природы может правдиво
и понятно говорить из творений греков, ибо мы будем его
слушать сочувственно, с симпатией. Мечтательность и вооду-
шевление не помогут нам здесь, где речь идет о ясных поня-
тиях: «Как обнаруживается гений человечества? В каких
разнообразных основных формах? Какие из этих пунктов яв-
ляются высшими, подобно резонирующим точкам натянутой
струны, в которых звучит гармония?»
Есть ли у вас охота вступить со мной под это небо бле-
стящих созвездий? Только из глубокой долины, издалека,
могу я указать на них. Но все же ваш дух окрылится, так
что вы воскликнете: «Смотри туда, на светлый зодиак став-
шего зримым и значимым человечества!»
ПИСЬМО 65
ЗАСЛУГИ ГРЕКОВ В ИЗОБРАЖЕНИИ
ИДЕЙ И ИДЕАЛОВ
...Греческое искусство знало, почитало и любило челове-
чество в человеке. Чтобы познать его чистую сущность, оно
непрестанно стремилось вперед. Оно двигалось 'многообраз-
ными и трудными путями, через острые утесы, глубокие
бездны, порою с жестокостью и со многими преувеличениями,,
пока наконец именно эти преувеличенные усилия, тем упор-
нее направленные на поиски истины, не привели к вершинам
искусства. Во всех человеческих возрастах и в наиболее ха-
рактерных жизненных положениях обоих полов оно сумело
отыскать цветок жизни, который распускается на подобном
стволе. Ибо греки в достаточной мере обладали еще просто-
той души, чистотой взгляда, 'мужеством и силой, чтобы в своих
творениях воплощать и совершенствовать этот цвет жизни
как завершенную самодовлеющую идею. В ребенке они мыс-
лили и воплощали детство, в юноше —весну жизни, в зрелом
290
муже —сына богов, наслаждающегося своей силой и досто-
инством. К этой идее героического были 'прйчастны даже
и женщины, как доказывают прекрасные образы амазонок,
из которых иные по духу заслуживают быть сестрами Кас-
тора и Поллукса.
Поскольку во всех этих формах искусство придавало чи-
стой идее самостоятельность, достоинство, ожившую во всех
частностях значительность и, подобно пламени, очищало ее
от всяких смутных, недостоверных или чужеродных примесей,
то с этими образами была неразрывно связана сила, которая
с такой полнотой и непосредственностью обращается к рас*
судку и сердцу. Бремя материи было преодолено; пол, возраст,
характер были подмечены точнейшим образом во всем их
разнообразии и неуловимых переходах. А вместе с созданием
великих образцов всех родов и видов были упорядочены
устойчивые категории благороднейшего и прекраснейшего
человеческого существования. К какому ограниченному коли-
честву основных форм сводится многообразная человеческая
природа в своих умонастроениях, страстях ή положениях, если
взглянуть на 'нее мудрыми и трезвыми глазами греков! Гиб-
кое, исполненное силы и красоты телосложение человека —
как немногочисленны главные значения, которые в нем' рас-
крываются, если только душа найдет в себе силу утверждать
их в каждой из частей, в каждом из положений. Незабываемы
и вечно поучительны для меня часы; когда, стоя перед творе-
ниями искусства древних, я спокойно рассматривал и взвеши-
вал (если 'мне позволено будет так выразиться) механику
и статику душевных сил человека в его телосложении. Сколько
радости черпал я в обдумывании симметрии и эвритмии, осо-
бенно же прекрасной уравновешенности, которая была сооб-
щена этим божественным телам в состоянии покоя и движе-
ния, в зависимости от различия характеров, так что душа,
любвеобильная и строгая, раскрывалась, словно веющий
дух, в каждой линии ή в каждой складке их одежды. О греки,
вы познали и облагородили нашу природу; вы знали, что из
себя шредставляет, в ее меняющихся сценах, человеческая
жизнь, которую вы 'изобразили на многих саркофагах столь
же верно и 'правдиво, сколь просто ή трогательно'.
Вы схватили цветок каждой мимолетной сцены, увековечив
его в неувядающем венке 'матери рода человеческого. Если
наш род когда-либо* настолько выродится, что мы больше не
сможем (познать эту внутреннюю силу и грацию человечества,
высокую печать нашего существования, тогда разбей, о при-
рода, форму твоего выродившегося благороднейшего созда-
ния, или скорей она сама разобьется вдребезги и распадется
в прах!
Как же пришли греки ко всему этому? Только благо-
даря одному-единственному средству — благодаря чувству
19* 291
человеческого, благодаря простоте мыслей, благодаря живому
изучению наиболее истинного и полного наслаждения,—
короче, благодаря культуре человечности. В этом отношении
мы все должны стать греками, в противном случае мы оста-
немся 'Варварами.
ПИСЬМО 114
О ВОЗДЕЙСТВИИ НАРОДОВ ДРУГ НА ДРУГА
Но -почему же народы должны воздействовать друг на
друга так, чтобы взаимно нарушать покой друг друга? Гово-
рят, что вследствие непрерывно растущей культуры; но книга
истории говорит нечто совсем иное!
Разве горные и степные народы Северной Азии, эти вечные
нарушители спокойствия во всем мире, ставили своей целью
или были когда-либо в состоянии распространять культуру?
Разве халдеи не положили конец значительной доле величия
Передней Азии? Аттила и все многочисленные племена, кото-
рые предшествовали ему и следовали за ним, — неужели они
хотели способствовать совершенствованию рода человече-
ского? И неужели они содействовали ему?
Наконец, даже финикийцы, карфагеняне, да и сами греки
с их прославленными колониями, римляне с их завоеваниями,
неужели они ставили себе эту цель? И если даже благодаря
взаимному соприкосновению народов здесь распространялось
какое-нибудь искусство, а там — какое-нибудь усовершен-
ствование быта, —неужели они могут возместить все то зло,
которое причинило столкновение народов побежденному и по-
бедителю? Кто в силах описать бедствия, которые принесли—
прямо или косвенно — всему земному шару завоевания гре-
ков и римлян?
Даже христианство, едва лишь оно начало в качестве
государственной машины оказывать влияние на другие на-
роды, стало для них тяжким гнетом; у некоторых оно на-
столько исковеркало их своеобразный характер, что полутора
тысяч лет оказалось недостаточно, чтобы восстановить его.
Разве не лучше было 'бы, если бы национальный дух север-
ных народов, германцев, гаэлов, славян и т. д., развился сам
из себя, беспрепятственно и в чистом виде?
А что хорошего принесли Востоку крестовые походы? Что
хорошего принесли они берегам Балтики? Древние пруссы
истреблены, ливы, эсты и латыши пребывают в наижалчай-
шем состоянии и поныне еще клянут в душе своих поработи-
телей — немцев.
Наконец, что сказать о культуре, которую принесли
в Ост- и Вест-Индию, народам Африки и на мирные острова
Южного полушария испанцы, португальцы, англичане и гол-
292
ландцы? Разве не вопиют все эти страны больше или меньше
о мщении? Тем более что они ввергнуты на необозримый срок
в непрерывно растущие гибельные бедствия. Все это со всей
очевидностью явствует из записок 'путешественников; об этом
было во всеуслышание заявлено в связи с работорговлей.
Жестокость испанцев, алчность англ'ичан, холодная на-
глость голландцев — все это воспевалось в угаре воинствен-
ного пыла в героических эпопеях; в наши дни об этом напи-
саны книги, которые приносят этим народам столь мало
чести, что мы, напротив, должны были бы устыдиться перед
всеми народами земного шара за оскорбление человечества,
если бы общеевропейский дух жил еще где-нибудь, кроме
книг.
Назов'ите мне страну, куда бы пришли европейцы и не
запятнали бы себя на веки вечные перед беззащитным до-
верчивым человечеством своими притеснениями, несправедли-
выми войнами, алчностью, обманом, гнетом, болезнями и
пагубными дарами! Наша часть света должна была бы назы-
ваться не самой мудрой на земле, а самой дерзкой, назойли-
вой, торгашеской; не культуру несла она этим народам,
а уничтожение зачатков их собственной культуры, где и как
только возможно!
Что такое вообще насильственно навязанная извне чужая
культура? Образование, которое проистекает не из собственных
склонностей и потребностей? Оно подавляет и уродует или
сразу же низвергает в 'бездну. О вы, злополучные, обречен-
ные на заклание жертвы, которых привезли с тихоокеанских
островов в Англию, чтобы дать вам вкусить культуры, вы —
символ того блага, которое европейцы вообще несут другим
народам! Поэтому справедливо и мудро поступил добрый
Киен-Лонг, быстро и учтиво осветивший иностранцу вице-
королю тысячью фейерверков дорогу из своего царства.
И когда мы кощунственно утверждаем, будто эти притеснения
помогают осуществиться предначертаниям божественного про-
мысла, который ведь именно для того и дал нам могущество,
хитрость и орудия, чтобы стать разбойниками, грабителями,
сеятелями раздора и опустошения во всем мире, — о, кто не
содрогнется перед этой человеконенавистнической дерзостью?
Да, конечно мы все, со всеми нашими безумствами и престу-
плениями,—орудия в руке божественного промысла; но не
для собственной выгоды, а, быть может, лишь для того, чтобы
в результате неустанной адской деятельности медленно и
гадко умирать от украденного яда — нищие среди величай-
шего богатства, терзаемые желаниями, обессиленные изне-
женной праздностью.
И когда отдельные дерзкие новички пятнают подобными
.претензиями все науки, когда они усматривают цель всей
истории человечества в том, что только таким -путем может
293
быть достигнуто благо народов, то не следует ли выразить
самое глубокое 'сожаление обо всем нашем роде?
Пословица гласит: «Человек человеку волк, бог, ангел,
черт»; а что же друг другу народы, воздействующие друг на
друга? Негр рисует черта белым, а латыш не хочет .попасть
та небо, если там — немцы. «Зачем ты льешь мне воду на
голову?» — спросил умирающий раб у миссионера. «Чтобы
ты попал на небо».—«Не хочу на небо, где есть белые»,—
ответил тот, отвернулся и умер. Грустная история челове-
чества!
ПИСЬМО 119
СЕМЬ УБЕЖДЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ВЕСТНИЦЫ МИРА *
У моей великой вестницы мира лишь одно имя: ее зовут
всеобщая справедливость, человечность, деятельный разум.
Я читал один весьма глубокомысленный манускрипт,*
■в основу которого были положены следующие принципы че-
ловеческой истории:
1. Люди умирают, чтобы уступить место другим людям.
2. А так как умирает людей меньше, чем нарождается
вновь, то природа прибегает к насильственным средствам,
чтобы расчистить для них место.
3. К этим средствам относятся не только чума, -неурожай,
землетрясения, геологические катастрофы, но также и 'Народ-
ные революции, опустошения, войны.
4. Подобно тому как один вид животных стремится сокра-
тить другие виды, так род человеческий стремится поддер-
жать соответствующую пропорцию внутри самою себя и бо-
рется против перенаселения.
5. В нем имеются, следовательно, характеры сохраняющие
и разрушающие.
Ужасная теория, которая внушает нам страх и содрога-
ние перед собственным нашим родом! Ведь согласно этой
теории мы должны всем и каждому заглядывать в лицо, при-
сматриваться к его походке, следить за его руками :—из
плотоядных ли он или из травоядных, сохраняющий ли у него
характер или разрушающий? Конечно, природа не отказала
нам в средствах оградить себя от этого разрушающего раз-
ряда представителей нашего рода. Только средства эти она
вложила нам в качестве оружия не в руки, а в голову и
сердце. Всеобщий разум человеческий и справедливость — это
матрона, несущая нам примирительный елей и лекарства,
в руке же у нее «плодовая ветвь — не только как символ, но
как успокоительное средство, способствующее если не веч-
ному миру, то, во всяком случае, постепенному сокращению
войн. Разрешите мне, поскольку мы здесь вступили на путь
294
честного Сен-Пьера, * не устыдиться >и его метода и наста-
вить великую вестницу мира (рах sempiterna) 1 в ее служе-
нии, преподав ей твердые правила. Она призвана к тому,
чтобы в соответствии со своим именем и своей природой вну-
шать людям мирные убеждения.
ПЕРВОЕ УБЕЖДЕНИЕ
ОТВРАЩЕНИЕ К ВОЙНЕ
Война, если она не вызвана самообороной, а является ди-
ким нападением на мерный соседний народ, представляет со-
бой чудовищную, более чем зверскую затею, ибо она не
только грозит смертью и опустошением ни в чем не .повин-
ному народу, на который совершено нападение, но. она стоит
столь же незаслуженных, сколь ужасных жертв и нападаю-
щей стороне. Может ли представиться высшему существу
более отвратительное зрелище, нежели две враждующие че-
ловеческие армии, беспричинно истребляющие друг друга?
А 'последствия войны, еще более страшные, чем она сама, —
болезни, лазареты, голод, чума, грабеж, насилие, запустение
земель, духовное одичание, разрушение семьи, порча нравов
на многие поколения! Все благородные люди должны рас-
пространять это убеждение с горячим человеческим чувством,
отцы и матери должны внушать его своим детям, чтобы
страшное слово «война», которое так легко выговаривается,
не просто было ненавистно людям, но чтобы его едва реша-
лись -произнести или написать, испытывая при этом такое же
содрогание, какое внушают нам пляска святого Витта, чума,
голод, землетрясение, черная оспа.
ВТОРОЕ УБЕЖДЕНИЕ
МЕНЬШЕЕ УВАЖЕНИЕ К ВОЕННОЙ СЛАВЕ
Все больше должно распространяться убеждение, что за-
воевывающий земли героический дух не только является для
человечества ангелом смерти, но далеко не заслуживает,
даже в своих наиболее талантливых представителях, того
уважения :и той славы, которые ему воздают по традиции со
времен греков, римлян и варваров. Наиболее благородный
герой, сколько бы ни потребовалось от него присутствия
духа, сосредоточенной осторожности, предусмотрительности и
проницательности, тем не менее не только будет оплакивать
перед битвой и после битвы то дело, которому он посвятил
свой талант, но также охотно признается, что быть отцом
народа, — для этого требуются если не большие, то, во вся-
1 Вечный мир (лат.).
295
ком случае, более благородные способности, находящиеся
в непрестанном напряжении, и характер, который не обязан
своими боевыми успехами одному-единственному дню и не
делит их со случайностью и слепой удачей. Всем рассуди-
тельным людям следовало бы объединиться, чтобы путем
тщательного изучения древних и новых времен развеять тот
фальшивый ореол, который обманчиво играет вокруг образов
Мария, Суллы, Аттилы, Чингис-хана, Тамерлана, пока каж-
дому образованному человеку песни о них не будут казаться
столь же героическими, как песни о разбойнике Липсе Тул-
лиане. *
ТРЕТЬЕ УБЕЖДЕНИЕ
ОТВРАЩЕНИЕ К ЛЖИВОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИСКУССТВУ
Всего более следует разоблачать лживое государственное
искусство, которое видит славу правителя и счастье его пра-
вления в расширении границ, в захвате силой или хитростью
чужих (провинций, в умножении доходов, в ловких сделках,
в произволе, коварстве и обмане. Всевозможные Мазарини,
Лувуа, Дютерре и им подобные должны не только в глазах
честных людей, но и перед слабодушными выступать такими,
какими они 'были в действительности, чтобы каждому стало
ясно, как дважды два четыре, что всякий обман ложного го-
сударственного искусства в конце концов обращается против
самого обманщика. Общий голос должен победить значение
государственных рангов и знаков отличия и даже назойливое
фиглярство тщеславия, даже усвоенные с материнским мо-
локом предрассудки. Мне представляется, что в презрении
к некоторым из этих вещей уже теперь зашли довольно да-
леко, может быть даже слишком далеко·. Речь идет о том,
чтобы уважать все достойное уважения, что возлагается на
нас государством, но уважать тем искреннее и выше, чем
больше οήο способствует развитию человеческого в человеке.
ЧЕТВЕРТОЕ УБЕЖДЕНИЕ
ОЧИЩЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ
Патриотизм должен обязательно все больше очищаться
и освобождаться от шлака. Каждая нация должна научиться
чувствовать, что она становится великой, прекрасной, благо-
родной, богатой, организованной, деятельной и счастливой не
в глазах других, не в устах потомков, а только внутри самой
себя, сама по себе, и что лишь в этом случае появляется ува-
жение соседей и потомков, подобно тому как тень сопутствует
телу. С этим чувством неизбежно должно быть связано от-
вращение и (презрение ко всякому (бессмысленному бегству ее
граждан в чужие страны, к бесполезному вмешательству
296
в чужие распри, к пустому подражанию и участию в чужих
делах, которое мешает нашим собственным делам, нашим
обязанностям, нашему покою и благоденствию. Достойным
насмешки и презрения должно стать то, что люди, живущие
в одной стране, приходят норой к расколу, ненависти, взаим-
ным преследованиям, злословию и клевете друг на друга
из-за дел чужой страны, которых они не знают и не пони-
мают, в которых ничего не могут изменить и которые вовсе
их не касаются. Чуждыми народу бандитами и убийцами
должны почитаться те, кто впадает в воинственный ныл, вы-
ступает в интересах чужого народа или против него, нарушая
этим покой своих собственных соотечественников. Пора на-
учиться тому, что можно стать чем-нибудь только на том.
месте, где стоишь и где ты должен быть чем-нибудь.
ПЯТОЕ УБЕЖДЕНИЕ
ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ДРУГИМ НАРОДАМ
С другой стороны, всякая нация должна ощущать обиду,,
когда поносят или оскорбляют другую нацию. Повсюду
должно постепенно пробудиться чувство общности, чтобы
каждая нация могла «почувствовать себя на месте всякой
другой. Ненавидеть будут дерзкого нарушителя чужих прав,
разрушителя чужого благоденствия, наглого оскорбителя чу-
жих нравов и убеждений, хвастливо навязывающего свои
собственные преимущества народам, которые вовсе этого не
желают. Под каким бы предлогом кто-либо ни перешел через
границу, чтобы обрить соседу голову как рабу, насильственно
навязать ему своих богов, отторгнув у него взамен его
национальные святыни в области религии, искусства, образа
мышления и образа жизни, в сердце каждой нации он встре-
тит врага, который, заглянув в свою собственную душу, спро-
сит себя: «Что, если бы это случилось со мной?» Когда чув-
ство это созреет, тогда незаметно возникнет союз всех про-
свещенных наций против каждой единичной захватнической
державы. На этот мирный союз можно безусловно рассчиты-
вать скорей, чем на формальное соглашение кабинетов и
двора, как полагает Сен-Пьер. От последних нельзя ожидать
никакого прогресса, но и они будут вынуждены бессозна-
тельно и против воли следовать голосу народов.
ШЕСТОЕ УБЕЖДЕНИЕ
О ТОРГОВЫХ ПРИТЯЗАНИЯХ
Чувство человечности громко протестует против дерзких
притязаний в торговле, когда им приносятся в жертву ни:
в чем не повинные притесняемые народы ради прибыли,.
29?
которая им даже и не достается. Торговля должна, пусть даже
•она исходит не из самых (благородных побуждений, объеди-
нять, а не разъединять людей. Она должна познакомить их
есл>и не с осуществлением благороднейших задач, то, по
меньшей мере, как детей, с их общими и личными интересам«.
Для этого существуют моря всего мира, ради этого дуют ветры,
во имя этого текут реки. Как только какая-нибудь одна на-
ция, в угоду своей надменной алчности, захочет закрыть море
для всех остальных или завладеть 'ветром, немедленно,
в той мере мак будет расти пошшамие взаимных связей
между народами, должно пробудиться возмущение всех
остальных против поработителя свободнейших стихий, против
разбойничьего захвата высшей прибыли и »против дерзкого
захватчика всех сокровищ ;и плодов земли. Чтобы служить
его надменности и алчности, не прольется добровольно ни
одна капля чужой крови, если только» получит .признание
справедливое высказывание замечательного человека о том,
что «выгоды торгующих держав не сталкиваются друг с дру-
гом и что эти державы, напротив, получили бы величайшую
пользу от взаимно возросшей всеобщей зажиточности и от
поддержания непрерывного мира».1
СЕДЬМОЕ УБЕЖДЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В сущности стебель ржи в руках индейской женщины сам
тю себе является оружием против меча. Чем лучше люди по-
знают плоды полезной деятельности и начинают понимать,
что боевой секирой ничего не приобретешь, но многое уни-
чтожишь, чем более презренными и смешными будут стано-
виться .позорные предрассудки касты, божественным призва-
нием рожденной для войны, касты, в которой течет геройская
1 Пинто о торговом соревновании; переведено в «Собрании статей,
относящихся главным образом к важным вопросам государствоведения»,
Лигниц, 1776. Автор упомянутого труда предпослал ему следующие строки
из Бюффона: «Эпохи, когда человек утрачивает унаследованное, варвар-
ские столетия, когда все гибнет, всегда имеют своим предшественником
войну и начинаются голодом и запустением. Человек, который только
в массе на что-нибудь способен, который силен только в объединении и
в союзе с ему подобными, который бывает счастлив только благодаря
миру, преисполняется неистовым желанием вооружаться себе на горе и
враждовать себе на погибель. Подстегиваемый ненасытной алчностью,
ослепленный еще более ненасытным тщеславием, он отрекается от челове-
ческих чувств, обращает все свои силы против самого себя, стремится
погубить других и в конце концов становится причиной своей сооственной
гибели. А после этих кровавых и преступных дней, когда рассеи-
вается туман славы, он с горечью видит опустошенную землю, погибшие
искусства, обессиленные нации, видит, что его собственное счастье разру-
шено и его подлинная мощь уничтожена».
298
кровь ее отца Каина, Немврода и Ога, царя Васанского, тем
большим уважением будет пользоваться венок из колосьев,
яблочная и пальмовая ветвь, по сравнению с печальным лав-
ром, который растет рядом с мрачными кипарисами и, по-
добно крапиве и терниям, вызывает лишь раны и язвы.
Кроткое распространение этих основных принципов
является елеем и лекарством Разума, той великой богини
мира, которую в конце концов никто не может заставить за-
молчать. Незаметно действует лекарство, мягко стекает
елей... И если даже, как я почти уверен, формально вечный
мир будет заключен не раньше, чем наступит день Страшного
суда, . тем не менее ни один из принципов, ни одна капля
этого елея, которые, хотя бы в отдаленнейшие времена, под-
готавливали это событие, не пропадут даром.
ПИСЬМО
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ НАРОДОВ И ПРОВИНЦИЙ ГЕРМАНИИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГУМАННОСТИ *
Бессмертный памятник Германии! Поистине отечество
наше достойно сожаления, ибо оно не имеет ни общего го-
лоса, ни места для оборищ, где все могут услышать друг
друга. Все в нем расчленено, и столь (многое стоит на страже
этого расчленения: религиозные верования, секты, наречия,
провинции, правительства, обычаи и право. Разве только на
кладбище нам может быть предоставлено место для всеоб-
щего единомыслия и взаимного (признания!
Но почему же только здесь? Разве во всех сословиях, от
высшего до самого низшего, не трудятся видимые и неви-
димые силы, стараясь облегчить и осуществить это всеобщее
единомыслие и взаимное признание? Одна часть Германии
бесспорно далеко опередила другую; эта другая стремится
вслед з.а первой, и можно полагать, что соразмерность будет
вскоре восстановлена. Каждый честный человек должен ста-
раться способствовать этому всеми силами, и, к счастью, ка-
жется, те, кто должны быть честнейшими из немцев, правители,
становятся сейчас на этот путь. Конечно, не различие религий
разделяет нас и удерживает вдали друг от друга, ибо в лю-
бом вероисповедании в Германии есть просвещенные, хорошие
люди. Разница в диалектах между землями, где ньют пиво,
и теми, где предпочитают вино, также не разделяет нас.
Жалкий государственный интерес, притязания на больший
ум, большую культуру, в одном случае, на больший вес и
большее богатство и т. п. — в другом, — вот что способствует
нашему расколу; и это, как мне кажется, должно быть и бу-
дет преодолено всемогущим временем.
299
Ибо, скажите, что мешает нам, немцам, всем вместе при-
знать друг друга сотоварищами по труду на единой ниве
гуманности, уважать друг друга и 'помогать друг другу?
Разве у всех нас не единый язык, не единый общественный,
интерес, не единый разум, не одно и то же человеческое
сердце? Нигде не удалось закрыть дорогу философии и кри-
тике; О'Ни пробиваются всюду; они живут в каждой здоровой
голове. Их законы повсюду одни и те же; их цель повсюду,
только одна. И соревнование различных провинций может
лишь способствовать этой цели..
Славы и благодарности заслуживает, следовательно, вся-
кий, кто стремится ускорить единение немецких земель пи-
саниями, ремеслами или учреждениями. Он облегчает взаимо-
действие и взаимное признание многих, и притом разно-
образнейших, сил. Он объединяет провинции Германии
духовными, и, следовательно, наиболее крепкими, узами.
То, что у 1н>ас лет столицы, конечно не может помешать
(нашему делу. Ее отсутствие может воспрепятствовать форми-
рованию вкуса. Но столица с таким же успехом может и ис-
портить и сковать вкус, после того как она придаст ему вна-
чале внешний лоск и окрыленность. Зато глубокое понимание,
спокойные размышления, деятельные попытки, чувства и вы-
ражения того, что в отдельных местах и 'повсеместно служит
миру между нами,—все это не нуждается в стенах столицы,
всему этому нужен простор, мастерской для этого служит вся
Германия. Чем больше и чем легче пробиваются там и тут
вести, тем больше ширится обмен мыслями, и ни один князь,
ни один король не станет этому мешать, если он-понимает
бесконечные преимущества производства духовных ценностей,
духовной культуры, взаимного ознакомления с чужими изо-
бретениями, мыслями, предложениями, даже с допущенными
ошибками и слабостями. Все это идет на пользу человеческой
природе, а тем самым и обществу. Ошибки разоблачаются,
заблуждения исправляются, мысль пробуждает мысли, воз-
никают и передаются ощущения и решения. Ибо в том как
раз и заключается великое и прекрасное свойство челове-
ческой щрироды, что в ней, если можно так выразиться, все
уже наличествует в зародыше и только ожидает своего раз-
вития. Если цветок не распустится сегодня, он расцветет
завтра. Даже все возможные антипатии наличествуют в че-
ловеческой природе. Не только на каждый яд выросло про-
тивоядие, но вечная тенденция властвующей над нами живой
силы устремлена на то, чтобы из опаснейшего яда изготовить
наиболее могучее лекарство. Ах, крайности в нашем тесном
мире так близки друг к другу, что часто достаточно искусного
нажатия пальца, чтобы превратить угол падения в угол отра-
жения, ибо, согласно своим непреложным законам, оба они
находятся в одинаковом отношении друг к другу· Остановить
300
мысли — такого фокуса еще не придумала ни одна поли-
тическая сила на земле. Да и для нее самой это было бы
крайне невыгодно. Но собирать мысли, упорядочивать их,
направлять, попользовать — вот в чем, -на вечные времена,
ее необозримое, великое преимущество.
Но вопрос понимания не единственный, ради которого
я желаю Германии всеобщей связи; еще больше желаю я
этого в вопросах характера, решений, предприимчивости. Мы
все знаем, что 'немцы с давних пор больше делали, чем за-
ставляли говорить о себе; они и сейчас еще так поступают.
В каждой провинции Германии живут люди, которые без
французского тщеславия, без английского блеска, послушно,
подчас преодолевая страдания, совершают такие дела, кото-
рые, получив известность, внушили бы каждому прекрасные
и мужественные чувства. Для этих людей я вовсе не желал
бы двора или столицы. Алтарь честной верности пожелал бы
я им, вокруг которого они бы объединялись душой и сердцем.
Он может существовать только в царстве духа, то есть
в письменных творениях. О, если бы творение существовало,
самое замечательное !из всех! Оно воспламенило бы души
и укрепило бы сердца. Имя «немец», к которому сейчас мно-
гие нации осмеливаются относиться пренебрежительно, быть
может стало бы почетнейшим именем в Европе, без шума,
без чрезмерных притязаний, только благодаря своей собствен-
ной силе, твердости и величию.
ИЗ ЧЕРНОВОЙ РЕДАКЦИИ «ПИСЕМ»
...Общественным событием, которое положило основание
Европе, было происходившее с пятого до десятого или трина-
дцатого столетия поселение в этой часта света диких или
варварских народов, их политическая организация и так на-
зываемое обращение. На этом главном событии, с теми не-
большими изменениями, которые принесли с собой последую-
щие века, основывается нынешнее устройство Европы:
имущее сословие, обладающее властью и собственностью, не-
одинаковые права и привилегии человеческих поколений.
Вопрос заключается, следовательно, в том, что думает нынеш-
ний век об этом приобретении, об этих привилегиях и пра-
вах? Как ими пользуются и пользовались на протяжении сто-
летий? Является ли их нынешнее состояние справедливым,,
дозволенным, выгодным всем, то есть каждому из множества,,
или же оно таковым не является?
Часть этих вопросов — то, что полагается религии и
церкви,— сегодня большей частью уже решено историей один-
надцатого, двенадцатого, пятнадцатого, а в особенности шест-
надцатого столетия. Ропот общины по поводу лицемерия,,
пустоты и тягостности обрядов, по поводу необоснованных
притязаний, надменности, роскоши и деспотического господ-
ства служителей церкви поднялся во многих странах. Отве-
том на него были преследования и пытки. Кровь лилась пото-
ками. Но голос [народа]1 общества не удалось заглушить;
дух истины не был убит. По-прежнему находились мудрые и
понимающие люди, которые вели за собою массу. Рассуди-
тельные 'или своекорыстные князья в конце концов сами при-
мкнули к ним. После долгой борьбы в значительной части
Европы победил дух времени. В другах странах он был до
недавнего прошлого подавлен. Мракобесие сплотилось и
укрепилось. Но то, что дух времени и там не вечно будет
1 Поставленное в квадратных скобках в рукописи зачеркнута. (Ред.)
302
оставаться в подавленном состоянии, ясно как день. Ника-
кой туман, никакое лицемерие, никакой порядок, или, точнее,,
беспорядок, основанный на иллюзиях [и на обмане], не может
продержаться вечно. Самый [плотный] густой мрак уступит
место свету. Что после возрождения наук во всех странах
Европы дух времени стремится развиваться именно в этом
направлении, — это очевидно. Изо дня в день с неизбежно-
стью все больше выступают на поверхность последствия [не-
лепейшего] беспорядка. Многие проявления гнета начинают
ощущаться. Протестантские страны ушли вперед. Отставшие
хотят и должны следовать за ними. Если не удастся осуще-
ствить это движение законными путями, несомненно обра-
тятся к насильственному, окольному пути. Скрытый, остав-
ленный без внимания яд всасывается и бушует внутри;
потревоженного тела, -принося ему еще более ужасную и не-
избежную смерть.
Близится, уже близится время, при котором клирики, ка-
ковы бы они сейчас ни были, так же не смогут устоять, как:
не смогло удержаться в своих сумрачных рощах гораздо бо-
лее почтенное сословие древних друидов. Следовательно,
долг всякого разумного человека заключается в том, чтобы,
предупредить худшее зло и способствовать проникновению
в мир [введению в своей местности] нелицемерной истины
наиболее умеренным путем: ибо что может сделать одна
корпорация против всего надвигающегося множества живу-
щих и грядущих поколений!
Если по поводу этой церковной отрасли человеческих
учреждений время уже вынесло свой приговор, то и относи-
тельно другой, связанной с политическим устройством, его
приговор не может вызвать сомнения. Ведь законы, действи-
тельные там, находят свое применение и здесь. Разве лице-
мерие и гнет, роскошь, издевательство и пустое самомнение,
[явная] несправедливость и подлинное status in statu,*· как бы
они ни назывались — двором или корпорацией эделингов*
(так назывались они в древние [варварские] времена, и это
их* подлинное имя), разве они будут менее нелепыми, менее
вредоносными оттого, что они связаны с недуховными ли-
цами? Ведь как раз духовное сословие имело за себя то, что
оно откровенно использовало столько безобидных предрас-
судков на благо рода человеческого, применяя их [частично],
с немалой пользой в виде благодеяний, за которые его ни-
когда не устанут благодарить! Так неужели жалкая система
завоеваний и войн, основанная 'на вооруженных отрядах
ленников-варваров, система, которая, к счастью для всего*
мира, в Европе уже большей чаотью перестала существовать,—
неужели она представляет более прочный оплот против-
Государство в государстве (лаг.),
30$
потока времени, чем церковная система, которая, если судить
по видимости, а частично и по фактам, была основана с не-
обыкновенным искусством и тысячелетними усилиями, глав-
ным образом для умиротворения и воспитания душ, для спо-
койствия народов — и тем самым для истинной и благород-
нейшей цели гуманности?
Что мы живем уже не в пятом, девятом или одиннадца-
том столетии — это бесспорно; что некогда могучие вассалы
ныне потеряли свое значение для нас — это очевидно; что
старая система вассалитета и завоеваний не подходит на-
шему веку — это ясно; что право крови не определяет ни спо-
собностей человека для более важных дел, ни более высокой
верности и честности — это слишком хорошо доказано исто-
рией и опытом. Зачем же нам закрывать глаза на то, что
ясно как день, на то, что существует и совершается вокруг
нас, зачем впадать в иллюзию, будто мы действительно жи-
вем во времена феодальных междоусобий, нашествия гуннов
я крестовых походов? Все, что есть в человечестве великого,
доброго и благородного, направлено на то, чтобы эти времена
никогда больше не вернулись и не могли вернуться. И не-
ужели мы поверим, что остов этой старой постройки, заново
побеленный и подкрашенный, будет стоять на вечные вре-
мена? Только одно сословие существует в государстве —
народ (не простонародье, а именно народ!). К нему принад-
лежат и король и крестьянин, каждый на своем месте, в опре-
деленной ему области. [Только] природа создает благородных,
великих, мудрых мужей, воспитание и профессия окончательно
формируют их. Эти люди и поставлены богом и государством
в качестве предводителей и вождей народных (аристодемо-
краты). Всякое иное употребление и разделение этих замеча-
тельных слов является и навсегда останется бранной кличкой.
То, что сейчас эти неопровержимые истины у всех на
устах, что о них говорят все более ясно и отчетливо, что наи-
более рассудительные князья сами признают их и, насколько
хватает у них власти, пользуются ими; что часть человече-
ства, испытывающая притеснения или даже гнет, все громче
и громче взывает: «Мы живем в конце восемнадцатого, а не
в одиннадцатом столетии!» — это, разумеется голос времени,
по старому и по новому календарю. Да я и не представляю
себе, кто мог бы уличить во лжи дух времени или мог 'бы
опровергнуть предсказания календаря. Ну, с меня доста-
точно! Пусть дальше пишет кто-нибудь из моих друзей.
Б.
...Не стройте себе иллюзий насчет правителей, их всеми-
лостивейших решений, хороших или даже благородных по-
ступков, до которых они снисходят время от времени, в осо-
304
бенности в начале своего правления. Большей частью это
идет не за их собственный, а за чужой счет, совершается
или не совершается по> их соизволению, в зависимости от
чьего-либо внушения, от безделья или прихоти. И по боль-
шей части — кому они приносятся в жертву? Общему благу
или тщеславию князей и их всемогущих сановников? Велико-
душные взгляды, решения и поступки других сословий и кор-
пораций я ΉΘ стану рассматривать. Всякое 'сословие, всякий
цех или корпорация, в особенности в наше время, сковывают
руки и сердце. Обычно они бывают особенно завистливыми,
особенно подозрительными и озабоченными по поводу того,
чем владеют, быть может, не совсем по праву и что опа-
саются рано или поздно потерять, возможно таким же не-
справедливым путем. Всякое обветшалое великолепие и почет
становятся для нас тем м'илее, чем более они поношены, чем
меньше они подходят нашему времени. Когда утрачен меч,
тем охотнее хвастают рукоятью и ножнами.
О народе, друзья мои, мы думаем скорее с сожалением и
грустью, чем с гордостью и уверенностью. Долгие столетия
оставался он без воспитания, обманутый, угнетенный и за-
брошенный... Он спит мертвым сном, а если он проснется
в горячке, то кто же не затрепещет в страхе перед его лихо-
радочной яростью?..
...Безумие войн, как религиозных или ведущихся за чье-
нибудь наследство, так и торговых или министерских, станет
и уже стало теперь очевидным. Ни в чем не повинные трудо-
любивые народы будут благодарить за почетную обязанность
губить другие ни в чем не повинные, мирные, трудолюбивые
народы только потому, что правителя или его министра со-
блазнила перспектива получить новый титул или еще клочок
земли к тем землям, которыми он и так не в силах управ-
лять. Европе покажется отвратительным истекать кровью или
скорбно увядать в госпиталях и казармах ради нескольких
семейств, которые рассматривают дело управления государ-
ством как свое фамильное, взятое на откуп владение. Сами
правители просветятся настолько, что признают это безумием
и предпочтут господствовать над небольшим числом трудолю-
бивых граждан, чем над армией убивающих друг друга зверей...
...Что до меня, то я не стану отрицать, что среди всех досто-
примечательностей нашего столетия Французская революция
представляется м.не почти самой важной и она часто за-
нимала или даже тревожила мой ум гораздо больше, чем я
бы сам того желал. Иногда мне хотелось даже, чтобы я ни-
когда не переживал эти времена и не должен был оставить
в наследство своим близким их сомнительные последствия.
20 Зак. 29J. Гердер 305
Я никогда не относился к ним с ребячески-легкомысленным
восторгом. Впрочем, меня утешала мысль о том, что нами:
распоряжается мудрый домоправитель, который умеет пре-
вращать зло во благо и нередко в свое время извлечь из наи-
худшего — наилучшее.
Итак, если согласиться, что с введения христианства и:
с водворения в Европе варваров, за исключением возрожде-
ния наук и Реформации, насколько мне известно, не случи-
лось ничего, что 'могло бы сравниться с этим событием по<
его значению и 'последствиям (крестовые походы и Тридца-
тилетняя война, вероятно, во многом уступают ему), — тогда
самая природа вещей заставляет нас внимательно подумать
над ним и поразмыслить над его последствиями. Эту способ-
ность никто не может у нас отнять, кроме того, кто нам ее
дал,— бога. Его мудрому руководству, проявляющемуся,
в успешных действиях и мыслях человека, охотно подчи-
няется всякая испытующая догадка. Из человеческих же душ
и человеческих разговоров это великое событие нашей эпохи
невозможно вычеркнуть или исключить, ибо оно с несомнен-
ностью запечатлелось в книге господней, в великой всемир-
ной истории и даже в газетах.
И почему, собственно, должны мы, немцы, вычеркивать
его, если вы сами, друг мой, заметили, что немецкий и фран-
цузский национальные характеры так же отличаются друг от
друга, как различались до сих пор общественный строй и
судьбы обеих наций. Если верно, что Германия никогда не
страдала от тех недугов, которые так долго добровольно тер-
пела Франция, если правда, что.тысяча ее правительств так;
преданна законам, так справедлива, добра, человеколюбива,,
каким, согласно общепризнанному мнению всех наций, ни-
когда не было французское правительство, то какому Брави-
телю в Германии следует опасаться и сомневаться? Самое
сомнение было бы оскорблением нации, которая на протяже-
нии тысячелетий своей истории всегда отличалась доброволь-
ной верностью и почти слепой покорностью своим -повелите-
лям, вследствие чего даже при папском дворе Германия:
преимущественно именовалась страной покорности и с ней
обращались соответственно этому прозвищу.
Язык выражает характер нации. Можно ли найти в Европе
более различные по своему содержанию и духу языки, чем;
французский и немецкий? Изысканнейшие обороты первого;
самая форма его наиболее характерных произведений не мо-
гут быть воспроизведены на нашем языке без полного их
преобразования. Значительная часть его абстракций и декла-
маций, весь его persiflage 1 остается присущим ему одному.
Зато и порождения немецкого духа, немецкой силы либо во-
1 Насмешка ({франц.).
306
все непереводимы, либо требуют переработки, чтобы угодить
французскому вкусу. Как невысоко, например, ценится в Гер-
мании французская трагедия! Какими ужасно онемеченными
кажутся на нашей сцене их комедии! А отношение к обще-
ственным вопросам в области управления, права, церкви, по-
лиции и финансов — насколько различно оно в большей части
Германии по сравнению с недавними порядками во Франции!
Осторожному, добросовестному, чтобы не сказать медлитель-
ному и неповоротливому, характеру немцев не доставило бы,
конечно, удовольствия, если бы его заставили обсуждать су-
дебные или политические дела по последней французской
моде и надели на него тягостное ярмо народоправства бес-
численных муниципалитетов. Он не подготовлен к этому и не
имеет ни необходимой сноровки, ни охоты, ни времени. Со
всех этих точек зрения, следовательно, нам нечего опасаться.
Мы -можем взирать на французскую революцию так, как смо-
трят с высокого берега на кораблекрушение в открытом да-
леком море, если только наш злой гений не столкнет нас
в это море против нашей воли.
И тогда зрелище это даст нам пищу для таких интересных
наблюдений, какими мне не случалось заниматься всю мою
жизнь. Правовую сторону спора я совершенно опускаю; этот
вопрос пусть решает судьба, ибо мы ведь не знаем внутрен-
него положения вещей с обеих точек зрения; мы не можем
допросить и заслушать свидетелей, и, строго говоря, все это
дело вообще не подлежит нашему разбирательству. Точно
так же и об исторических причинах и обстоятельствах только
время может дать нам нужные сведения. Следовательно, нам
остаются лишь те принципы, согласно которым действуют
или делают вид, что действуют, и которые теперь, вероятно,
будут пущены в ход со всей энергией, присущей этой нации,
самой многочисленной в Европе. И тут, естественно, полным
голосом высказывается то, что прежде никогда не произно-
силось вслух или же произносилось только шепотом, как со-
мнение, как смиренное политическое пожелание или даже
только как умозрение философа. В собрании более чем ты-
сячи большей частью отборных умов, перед лицом всей
Европы, на самом известном, самом распространенном, са-
мом цветущем языке обсуждаются задачи, вопросы, сомне-
ния, которые касаются, ни много ни мало, жизненного устрой-
ства целого народа, полнейшей его реорганизации и»коренного
перерождения; тем самым обсуждаются вопросы, .пред-
ставляющие огромный интерес для всех народов Европы,
а следовательно, и для всего рода человеческого, в той мере,
в какой он сталкивается с Европой или управляется ею.
Чем более, может быть, испорчена французская нация,
тем интереснее эти усилия: ибо какая из наших наций не
была причастна к французской "испорченности? А тем более
20* 307
в Германии, где со времен Людовика XIV почти каждый,
даже самый ничтожный правитель стремился стать само-
держцем, подобным Людовику XIV, и содержать свой двор
на французский манер. Высшая знать следовала этому при-
меру, стыдилась быть немецким дворянством и предостав-
ляла немецкий язык, подобно языку вендов, своим при-
рожденным слугам, бюргерам и крепостным. Так как же?
Разве дворы, разве знать так-таки зря изучали французский?
Даром, что ли, они так долго грассировали?* Они ведь и
в остальном, с глубочайшим презрением к немецкой нации,
следовали французской моде — в понятиях, выражениях, об-
становке и одежде. Почему же теперь они не хотят, по край-
ней мере, прислушаться и присмотреться к этой просвещен-
нейшей, изысканнейшей нации в самом важном деле, которое
она когда-либо затевала? Конституция, над которой работает
Национальное собрание, — это одна из самых неразрешимых,
еще никогда не ставившихся проблем. Пусть те,, кто пытается
ее разрешить, 'не справятся со своей задачей или одержат
победу, — разве эта борьба, эта победа или даже поражение
перед лицом самой сложной, самой трудной проблемы чело-
вечества не достойны внимания всякого, кто не согласен быть
животным [или рабом]? И если само провидение поставило
это зрелище перед нашими глазами, если оно, после долгой
подготовки, дало ему свершиться в наше время, чтобы мы
увидели его и учились на нем, —кто же не захочет на нем
учиться и не возблагодарит бога за то, что оно происходит
вне наших границ и что мы причастны к нему лишь как
к газетному сообщению, если только, как было уже сказано,
какой-нибудь злой тений не ввергнет нас нечестивым образом
[неосторожно] внутрь происходящего? Тут нам дозволено со-
брать весь наш немецкий здравый смысл, все осмотреть испы-
тующим взглядом, разумно использовать хорошее, отбросив
по справедливости и по достоинству все негодное.
Так я смотрю на это дело, друг мой, и большинство ваших
вопросов тем самым получили с моей стороны ответ. Кто
хочет быть в этом вопросе строже, пусть тот заявит о своем
призвании, чтобы получить законные полномочия в качестве
компетентного судьи для решения этого дела. Насколько мне
известно, ни один немец не является прирожденным францу-
зом,, обязанным и призванным истратить хотя бы единый
вздох ради старинной чести французского короля. Ни один
немец не является французом и не согласился бы, как они,
до 'происшествии более чем тысячи лет заняться чисткой
своего старого королевского престола, древнейшего в Европе
(а он давно уже требует чистки), и унести с собой его запах,
и притом чистить его самому (in persona и corpore).1 Немец-
1 Собственной персоной и собственноручно (лат.).
308
кому князю это никогда бы не пришло в голову. А француз-
ские princes, ducs, marquis et nobles 1 с издевательской на-
смешкой порадовались бы, если немецкий принц, герцог, князь
или маркграф счел бы себя их ровней и взял бы их под свою
защиту в делах, касающихся их отечества. На протяжении
столетий французы приносили Германии только вред. Они
многое должны возместить, ибо они много погрешили перед
ней, воюя то против австрийского двора, то в защиту его. Тот,
кто нам приносит розы, не должен быть змеей [ибо в модном
тоне наших магнатов мы слишком часто и слишком долго
чувствовали1-змеиное-жала]. Мы хотим учиться у Франции и
на примере Франции; однако никогда, вплоть до последнего
великого Нацио'нального собрания всего мира, в день Страш-
ного суда, Германия не захочет стать Францией и [вероятно,
никогда] ею не станет.
М.
Вопросы, которые я спокойно и мирно извлекаю из собы-
тий грандиозной Французской революции, в ожидании того,
будут ли они решены или нет, без какого-либо партийного
пристрастия и ожесточения, но с робким и радостным трепе-
том, таковы:
1. Каков лучший общественный строй, который создает
или может создать себе Франция? Будет ли это ограниченная
монархия (сомнительный [опасный] термин!) или же, как бы
она ни тяготела из вековых предубеждений к старому назва-
нию, она должна против воли снова стать республикой, то
есть общим делом каждого? * Чем раньше это случится, тем,
кажется мне, лучше. Ибо только деспотизм или всеобщее
дело являются конечными точками, полюсами, вокруг кото-
рых вращается шар. Ограниченная монархия — это всего
лишь равномерное колебание от одного полюса к другому.
2. Может ли это общее дело, вопреки обычной теории, *
осуществиться в такой большой группе земель и бывших
провинций, как Франция? Разве горы и долины, старые при-
вычки и привилегии не создадут в ней различий? Если эта
проблема будет разрешена и все части республики останутся
при этом, довольны, то практически будет сделан большой
шаг вперед в теории управления государством. Будет создан
новый канон, более высокий, чем тот, который пользовался
признанием со времени Аристотеля. Я не вижу, почему бы
ему не существовать, если величайшие государства давно
уже, хотя и плачевно, могут существовать при самом жал-
ком образе правления, при деспотизме или, что еще хуже,
при деспотизме аристократическом.
3. Сумеет ли при этом Франция ужиться с другими госу-
1 Принцы, герцоги, маркизы и дворяне (франц.).
309
дарствами Европы? Она ведь (к сожалению!) не находится
в Америке и не окружена, как Британия, морем. Согласится
ли Европа без вражды и кровопролития выпустить ее со своей
так называемой чаши весов, которая отнюдь не является
чашей правосудия, но чашей захватов и династических пре-
тензий? Хотя королю Франции никто никогда не гарантиро-
вал его державы или ее узурпации, да и не мог и не смел
этого сделать, так же как и сам король .поэтому не мог и не
хотел ни к кому обращаться, ибо он сознавал, что никакая
гарантия здесь невозможна, тем не менее можно ожидать,
что европейская политика, в силу [ее произвольной] плодо-
творной сказки о равновесии, которого никогда не существо-
вало и которое не может существовать и не существует без
рабства и застоя, изобретет что-нибудь в этом роде и отка-
жет Франции в праве очистить ее древний абсолютно-само-
державный королевский престол.
Что же может получиться в наше время из этого удиви-
тельного, в высшей степени напряженного кризиса, когда
чужие хозяева, не имея на то прав и полномочий, вмеши-
ваются в дела не принадлежащего им дома, дают пристанище
и вооружение его перебежчикам и предателям?
4. Как поведет себя Франция в соответствии со своими
принципами, отрицающими систему завоевательных войн, при
повторном сопротивлении? Чем великодушнее, тверже и бла-
городнее, тем лучше. Она даст тем самым первый пример за-
конной и справедливой войны, в 'проведении которой порукой
и охранителем будет ее собственная конституция.
5. Как будет распределяться в ней законодательная, су-
дебная и исполнительная власть? Разум, справедливость и
порядок обязательно должны получить наглядный длитель-
ный перевес, если подобное распределение состоится в таком
большом государстве, свободном от деспотизма. Могучий шаг
вперед в упорядочении вещей по закону всеобщего порядка!
Для того чтобы он мог быть совершен или1 испробован, мы
должны пожелать, чтобы никакая посторонняя сила ;не вме-
шалась в свободный эксперимент этой нации, которая про-
веряет его на самой себе, или не воспрепятствовала ему ско-
роспелой мудростью и непрошеным вмешательством.
6. Ни одна нация, обладающая государственным един-
ством, не может обойтись без налогов; насколько справед-
ливо будут они распределяться и как собирать их наиболее
осмотрительным образом? Удержится ли экономическая си-
стема, -по поводу которой, по всей вероятности, возникает не-
мало сомнений? Или же она и во Франции претерпит измене-
ния? Испытает ли Франция как торговая держава подъем или
упадок? Какая и в чем может возникнуть выгода от такого
подъема или упадка? В Германии мы можем с величайшим
спокойствием ожидать разрешения этих вопросов, так как
310
лишь очень немногие из наших земель являются торговыми
государствами в собственном смысле слова, и наши налоги,
промыслы и продукты производства совсем иного рода, чем
те, что были во Франции. Только чистейшая теория может
нам послужить, а теория эта не может быть выработана пу-
тем раздоров и проверена за два года.
7. Какую позицию займет Франция в отношении религии?
И каковы будут последствия этого нового положения вещей?
Мы живем уже не в шестнадцатом столетии, сейчас не может
Бметь места такая Реформация, какая произошла в Англии
при Генрихе VIII. * Тем лучше; чем основательней и глубже
она будет проведена, тем поучительней для других будет это
мероприятие. Давно уже идет спор, что хуже по своим по-
следствиям — безверие или суеверие; столько времени в са-
мых разных странах божество терпело позорное идолопоклон-
ство и кощунственное суеверие, что мы можем спокойно оста-
вить на его усмотрение вопрос о том, признать ли ему
европейский Китай, вариант конфуцианской религии. Мы,
протестанты, не станем затевать крестовый поход в защиту
поверженных алтарей, секуляризованных женских монасты-
рей и нарушивших присягу священников; в противном случае
папа и французское высшее духовенство подняли бы на смех
наше желание мстить за то, что мы сами сделали когда-то
и что по-прежнему сохраняется у нас. Сравним же испытую-
щим взглядом эту Реформацию с той, которая произошла две-
сти лет тому назад, и извлечем и здесь для себя самое лучшее.
8. Наконец, литература. Не нужно думать, что через три
или четыре, через шесть или семь лет Франция превратится
в страну, способную только на подражание, лишенную лите-
ратуры, в Гренландию или Сибирь. Она имеет такое решаю-
щее 'превосходство -перед многими, даже перед большинством
стран Европы, которые, тем не менее, претендуют на назва-
ние цивилизованных; ее язык так развит и тонок даже
в устах простого народа, столько философских понятий,
нравственных норм, наконец хорошего вкуса стало на протя-
жении последнего столетия прочным, привычным достоянием
всех классов этой нации, что поистине не следует трево-
житься, как бы все это не оказалось вытесненным за три или
четыре года. Кроме того, ведь и сейчас меньше всего можно
говорить о прекращении развития культуры и литературы.
Именно они приведены в движение во всех классах народа и
мощно развиваются теперь в важнейших областях человече-
ского знания. Среди великого бедствия прежде всего была
практически открыта для целой нации всеобщая школа
разума и красноречия; тот, кто может говорить, — говорит, и
его слушает вся Европа. Дети и юноши воспринимают это
впечатление, а следующее поколение, несомненно, пойдет еще
дальше, чем первое. Типографии не стоят без дела, и люди,
311
имеющие подлинный вес в науке, наряду с другими, возглав-
ляют сейчас книгопечатание. В более спокойные времена они
вернутся к своим музам, после того как в бурные времена они
принесли тяжелые жертвы на алтарь отечества. Пусть ста-
рое красноречие умирает на церковной кафедре и у судей-
ского кресла, в академиях и на трагической сцене. Мне ка-
жется, что мы уже получили все шедевры, на которые спо-
собны эти жанры, а многие из них уже пережили сами себя.
Новый порядок вещей наступил теперь и в этих искусствах.
Пусть слово станет делом, а дело породит слова. Что же
ныне стоит на месте или клонится к упадку, что разлагается
или спешит возродиться? Разрешение этой проблемы может
быть для нас только благотворным и поучительным: ведь мы,
немцы, не живем же исключительно литературной продук-
цией Фраедии. Пусть только не вмешивается какой-либо ино-
странный [[завоеватель] третейский »судья в этот домашний
спор, и пусть никакая опасность не грозит разрушить древние
алтари и святилища французской музы. Из всех новых наро-
дов Европы французы первые дали этой дикой части света
утонченный разум, остроумие, вкус, учтивость; в этом они пре-
взошли даже итальянцев, и во всех науках, как самых трудных
и полезных, так и в приятных и легких, Франция имеет бес-
смертные заслуги. Подобно тому как Александр в завоеван-
ных Фивах пощадил домик Пиндара, как все дикие варвары,
не исключая гуннов, почтительно склонялись перед древним
великолепием Рима, так пусть каждый, даже во время самого
яростного восстания, не забывает славу древних времен; не
то его собственное имя обессмертится ужаснейшим образом.
Итак, я согласен с моим другом М., что каждый, кто чув-
ствует себя чистым, может и будет судить спокойно и обо
всем этом. Никакой суд инквизиции не является столь позор-
ным, как суд над мнениями по поводу исторических событий,
которых наши суждения не могут изменить, истинный образ
которых нам едва ли известен, исход которых мы еще только
ожидаем и которые происходят в другой стране. Я не знаю
даже ни одного негритянского царька, который бы отважился
на подобную инквизицию. Мы же, друг мой, воздержимся, как
делали это до сих пор, от всяких газетных сплетен по 'поводу
отдельных происшествий, а об основных причинах и следствиях
событий будем судить еще более беспристрастно, из какой
бы страны они к нам ни приходили. Человечество старше и
больше, чем Франция; оно будет существовать и тогда, когда
об эфемерных событиях этой революции и речи больше не
будет.
П.
ИЗ ПУТЕВОГО
ДНЕВНИКА
ДНЕВНИК МОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
В 1769 ГОДУ
23 мая (3 июня) я выехал из Риги и 25-го (5-го) пустился
в путь по морю, чтобы направиться — куда? Не знаю сам!
Поистине, большая часть событий в нашей жизни зависит
от прихоти случая. Именно так я попал в Ригу, занял там
должность священника и точно так же освободился от нее;
именно так начал я свое странствие. Я не был доволен со-
бой— ни в кругу своих друзей, ни в уединении, которому я
предавался. Я не был доволен собой как школьным учителем:
эта сфера была для меня слишком ограниченной, слишком
чуждой моему духу, слишком неподходящей. Я же по своим
интересам был слишком широк для нее, слишком чужд ей,
-слишком занят. Я не был доволен собой как гражданином,
так как в домашнем быту терпел всевозможные ограничения,
видел мало материальных благ и нередко пребывал в лени-
вой, отвратительной 'праздности. Но менее всего я был дово-
лен собой как автором, возбудившим молву, которая была не
в пользу моему положению и задевала меня самого. Итак,
все было мне противно. Недоставало ни сил, ни мужества,
чтобы сломить все эти неудачно сложившиеся обстоятельства
и устремиться по иному жизненному пути. Оставалось, сле-
довательно, одно — отправиться путешествовать, и так как
я почти отчаялся обрести эту возможность, то отправиться —
поскорее, очертя голову, почти наудачу...
...Я виню себя за то, что растратил впустую немало лет
своей человеческой жизни; разве не от меня зависело насла-
диться ими? Разве судьба не даровала мне все условия для
этого? Избрав вначале легкие предметы для занятий, обра-
тив главное внимание на французский язык, на историю, изу-
чение природы, занимательную математику, рисование, свет-
ское обхождение, ораторские способности, — разве не мог бы
я с помощью всего этого получить доступ в любое общество,
315
насладиться жизнью в полной мере? Сочинителем я„
благодарение господу, разумеется, не стал бы — и сколько·
этим выиграл бы времени! Я не совершил бы множества
опрометчивых поступков, не занимался бы ненужными де-
лами, не стремился к ложным почестям и чинам, не познал
бы ни обид, ни обманчивой любви к наукам. Сколько попусту
потраченных часов я сберег бы, если б не предавался чтению,
писанию и обдумыванию всякого вздора! Пастором я, по всей
вероятности, не стал бы, или, вернее, еще не успел бы стать.
Правда, тем самым я упустил бы случай занять положение,,
в котором, кажется, я произвел наиболее выгодное впечат-
ление. Зато скольких дурных наклонностей избежал бы я
этим путем! Я мог бы насладиться жизнью, приобрести осно-
вательные, реальные знания, научился бы применять на деле
то, что изучил. Я не превратился бы в чернильницу для уче-
ной писанины, не стал бы словарем наук и искусств, которых
не видал и не понимаю; я не был бы набитым книгами и бу-
магами шкафом, которому место разве что в кабинете уче-
ного. Я избежал бы обстоятельств, которые сковывали мой
дух, ограничивая его лишь мнимо углубленным постижением
человеческой природы, тогда как он мог постичь общество,,
мир, людей, женщин, наслаждения, познать все это вширь,,
с благородной и страстной любознательностью юноши, едва
вступающего в свет и без устали, стремительно переходящего
от одного предмета к другому! Совсем иной строй — иной
души! Преисполненной нежности, богатой предметами, а не
словами, — бодрый, жизнерадостный, как юноша! Со време-
нем — счастливый зрелый муж, впоследствии — счастливый
старец! О, какое непоправимое зло — притворяться, что
даешь плоды, когда тебе суждено остаться пустоцветом! Ведь
плоды эти — искусственные, преждевременные и не только
сами опадают, но предвещают гибель всего дерева! «Однако
я не стал бы тогда тем, что я есть!» Ну и что же, что я по-
терял бы на этом? А сколько бы выиграл!..
...Так размышляешь, попав из одной обстановки в другую,
и что только не взбредет на ум, в каких далеких сферах не
витают думы, когда находишься на корабле, несущемся ме-
жду небом и морем! Все здесь окрыляет мысли и открывает
им безбрежный простор. Полощущийся на ветру парус, не-
престанно покачивающийся корабль, раскатистый шум волн,
мчащиеся облака, далекий, бесконечный горизонт! На суше
ты пригвожден к одной точке и ограничен узким кругом
одной определенной ситуации. Иногда это — кресло в твоем
душном рабочем кабинете, стул перед унылым столом в ме-
блированных комнатах, иногда это — амвон или кафедра,,
порой — маленький городок, где ты являешься кумиром
публики, . -состоящей из трех человек, к которым ты дол-
жен' прислушиваться, нередко это — однообразие занятий,
316
на которые нас толкают привычка и непомерные притязания.
Каки-ми мелочными, ограниченными становятся жизнь, честь,
уважение, желание, страх, ненависть, отвращение, любовь,
дружба, жажда знаний, занятия, склонности, каким ограни-
ченным и скудным становится, наконец, сам дух! И вот, если
внезапно перешагнуть через этот круг, — вернее: оказаться
выброшенным за его пределы, без книг, рукописей, обычных
занятий и привычного общества, — о, насколько иначе все
тогда выглядит! Где твердая земля, на которой ты так прочно
стоял? Где маленький амвон, где кресло, где кафедра, на ко-
торой ты расселся, где те, за кого ты опасался, кого лю-
бил?— О душа! Каково тебе будет при расставании с этим
привычным миром? Узкое, устойчивое, ограниченное средо-
точие исчезло, ты паришь в поднебесье или качаешься на вол-
нах— мир исчезает перед твоим взором, он исчез под тобой!
Как меняется образ мыслей! Но это стоит слез, раскаяния,
самоосуждения, освобождения от пут былого! Я был недо-
волен собой, недоволен даже своей добродетелью; я считал
ее проявлением слабости, всего лишь пустым звуком, из ко-
торого все люди на земле с юных лет учатся извлекать вы-
году. То ли морской воздух, то ли корабельная кухня, быть
может неспокойный сон или еще что-нибудь, — но были часы,
когда я не мог поверить ни в какую добродетель, даже в це-
ломудрие супруги, всегда казавшееся мне высшим и реаль1
нейшим примером добродетели! Даже в совершенствова-
нии человеческой натуры (я не говорю о физической при-
роде человека) я обнаруживал лишь слабость характера,
склонность к самоистязанию или к исправлению дурных
черт, — почему же, почему язык приучает нас принимать
абстрактные призраки за реально существующие вещи?
Когда же я наконец сумею истребить в себе все, чему я
учился, чтобы самому находить все, о чем я думаю, что изу-
чаю, во что верю?
Что мне сказать при встрече вам, сверстники и сверстницы
моих юных лет? Какими словами рассеять тот мрак, который
тяготеет надо мной самим? Не существует иной добродетели,
кроме человеческой жизни и счастья: но каждый день есть
действие. Все остальное — лишь призрак, одни лишь пустые
рассуждения!
...Потом охотно обращаешься к привычным идеям: так
я стал философом на корабле, притом философом, который
•еще не научился философствовать, исходя из самой природы,
без книг и инструментов. Если бы я обладал этим искус-
ством— как превосходно место у мачты корабля, среди без-
брежного океана, чтобы философствовать о небесах, о солнце,
звездах, луне, воздухе, ветре, море, дожде, течении, рыбах,
дне морском, выводя из них самих физические законы всех
этих явлений!
317
Быть философом природы — вот что должно было бы
стать основой твоего преподавания юноше, которого ты вос-
питываешь. Отправляйся с ним в открытое море, покажи
ему факты и реальные явления и не объясняй их словами,
а дай ему самому найти объяснение. Да и сам я буду читать
Ноллета, и Кестнера, и Ньютона у мачты, где я тогда сидел,
и буду следить за электрической искрой — от всплеска волны
до вспышки молнии, и за давлением воды и воздуха, и за
силой ветра, и за ходом корабля, за которым смыкаются:
волны, и за движением звезд и не прерву своих наблюдений,,
пока сам всего этого не постигну — я, доселе не знавший -ни-
чего...
...Сколько новых морских карт нужно еще открыть и со-
ставить: ведь сейчас они содержат всего лишь указания
о путях для судов и о подводных рифах! Сколько новых
подводных растений для нового Турнефора, из коих кораллы
составляют лишь малую толику! Целый мир животных, оби-
тающих на дне морском, как мы живем на поверхности
земли, и о которых мы ничего не знаем, ни об их внешнем
виде, ни о пище, ни о месте пребывания, ни об их разновид-
ностях— ни о чем! Рыбы, всплывающие на поверхность,—
всего лишь птицы, их плавники — лишь крылья, их плава-
ние— полет или порхание. Кто возьмется установить по ним,
что еще таится на дне моря? И неужели воробей, взлетевший
до луны, мог бы явиться образцом всей нашей природы?
Холодный Север был, по-видимому, родиной морских чу-
довищ, как и варваров и великанов, опустошавших мир, —
а быть может, и китов, и громадных змей, и многого другого.
Об этом я еще почитаю у Понтопидана и увижу историю пе-
реселения северных племен, глядя, как движутся косяки:
сельдей (чем дальше на юг, тем их становится меньше; но
они не отваживаются плыть так далеко, как вандалы и лан-
гобарды, а поворачивают назад, чтобы не быть уничтожен-
ными, как те — вследствие своей собственной изнеженности к
слабости). Какой величественный вид открывается на челове-
ческую природу, и обитателей морских глубин, и различные
климаты, как он помогает уяснить себе одно из другого,,
раскрыть взаимосвязь событий мировой истории! Юг ли, Се-
вер ли, Восток или Запад были лоном человечества? Где
зародился род людской с его изобретениями, искусствами,,
религиями? Действительно ли он устремился с Востока на.
Север и, укрывшись среди холодных скал, подобно морским
чудовищам, живущим под льдами, стал с исполинской силой
размножаться там, создал себе, в соответствии с климатом,,
жестокую и суровую религию и обрушился со своим мечом,,
своими законами и обычаями на Европу? Если это действи-
тельно так, то я различаю два потока: один из них двигался
с Востока через Грецию и Италию, постепенно овладел югом:
318
Европы и породил исполненную кротости южную религиюг
поэзию, построенную на воображении, музыку, искусство,,
мораль, науку, свойственные Юго-Востоку. Другой устремился
через Северную Азию в Европу и оттуда перекрыл первый..
Германия относится именно к этому второму потоку, и по-
этому изучение истории северных стран должно было бы
стать ее кровным делом: ведь, благодарение господу, мы
только в науке стали колонией народов Юга. И кто знает,
не появится ли третий поток из Америки, а под конец еще
один от мыса Доброй Надежды и из стран, расположенных
за ним! Как величественна эта история и как она необходима
для изучения литературы в ее истоках, в ее развитии, в ее
революциях, вплоть до сегодняшнего дня!
...Какой это был бы труд о роде людском, о человеческом
духе, мировой культуре, обо всех странах, эпохах, народах,
о силах, смешениях, образах!
Азиатская религия и хронология, государственность и фи-
лософия! Искусство Египта, его философия, его государ-
ственность! Финикийская арифметика, и финикийский язык,
и финикийская роскошь! Вся Греция, весь Рим! Северная
религия, право, обычаи, война, честь! Эпоха папства, монахи,,
ученость! Северные крестоносцы в Азии, паломники, рыцари!
Христианско-языческое возрождение наук! Век Франции!
Английская, голландская, немецкая его формы! — Китайская,
японская политика! Естественная история Нового Света!
Американские обычаи и т. д.! — Великая тема: род людской
не угаснет, пока все это не сбудется до конца, пока дух про-
светления не охватит всю землю! Всеобщая история мировой-
культуры!
...Моряки — народ, склонный к суевериям и к чудесному.
Так как они вынуждены пристально наблюдать за ветром и
погодой, обращать внимание на малейшие знаки и приметы
и так как судьба их зависит от атмосферных явлений, то это>
одно уже дает им достаточный повод со вниманием отно-
ситься ко всевозможным знамениям, взирать на них с благо-
говением и пытаться их истолковать.
Раз все это так важно, раз от этого зависит жизнь или
смерть, кто же не станет молиться в бурю беспросветно-тем-
ной, страшной ночью, во время грозы, когда повсюду витает
бледный призрак смерти? Там, где человек бессилен помочь
себе, он всегда, хотя бы ради утешения, взывает к божьей
помощи, .в особенности же — невежественный человек, кото-
рому из десяти явлений природы лишь одно кажется есте-
ственным и которого пугает все случайное, внезапное, уди-
вительное и неизбежное? О, такой верит и молится, даже если
он в прошлом был нечестивцем! У него наготове набожные
формулы, касающиеся всего, что связано с морем, и он не
спросит, как мог Иона, оказаться во чреве кита? Ибо для
319
господа бога нет ничего невозможного. В остальном же он
обходится своей собственной религией, а библию ставит ни
во что. Поэтому все, что слышишь на корабле, — побудка,
смена вахт, — состоит из благоговейных формул и звучит
торжественно, точно пение, раздающееся из чрева корабля.
Во всем этом мы наталкиваемся на данные, служащие
объяснением древнейшей мифологической эпохи. Незнание
природы заставляло прислушиваться к знакам: так для море-
плавателей, попадавших в Грецию и не знавших моря, полет
птицы представлялся знаменательным событием, каким он,
впрочем, и является в безграничных воздушных просторах
над пустынным морем. Молния Юпитера казалась грозной —
да она и в самом деле страшна на море: Зевс грохотал в не-
бесах, оттачивая молнии, чтобы поразить ими воды или
грешные дубравы. С каким благоговением молились люди
безмолвной серебряной луне, такой величественной в своем
одиночестве и оказывавшей такое могучее влияние на воздух,
море и время! С какой надеждой иной мореплаватель обра-
щал туманной ночью свой взор к звездам-покровительницам,
к Кастору и Поллуксу, Венере и т. п.! Да ведь и на меня
самого, знавшего с юных лет все эти вещи и привыкшего ви-
деть их под совсем другим углом зрения, полет птиц, и от-
блески молний на воде, и молчаливый месяц вечернею порой
на море производили совсем другое впечатление, нежели на
суше: каково же было видеть их мореплавателю, блуждаю-
щему по .неведомым волнам в поисках приюта в чужой
стране, быть может — изгнанному своей отчизной, или юноше,
убившему отца? С каким чувством должен был он прекло-
нять колена перед громом, молнией и орлом? Как естественно
было для такого человека видеть © небесных сферах обита-
лище Юпитера! И каким утешением было для него сознание,
что молитва дарует ему власть над всем этим! Как есте-
ственно было для него представлять себе солнце, погружаю-
щееся в море, в образе Феба на колеснице, Аврору же — во
всей ее сияющей красоте! Тысячи новых и более естествен-
ных объяснений мифологии возникают в нашем сознании,
или, вернее, — тысячи новых, глубоких истолкований ее древ-
них поэтов, когда на борту корабля читаешь Орфея, Гомера,
Пиндара, особенно первого.
Мореплаватели принесли грекам их первую религию. Вся
Греция была приморской колонией, — следовательно, у гре-
ков не могло быть такой мифологии, как у египтян или ара-
бов, затерянных среди песчаных пустынь; она была у них
религией далекой чужбины, морей и рощ. Следовательно,
о ней нужно читать, когда находишься в море. Но так как
у нас нет еще подобной книги, то чего бы я не дал за воз-
можность читать на борту корабля Орфея или «Одиссею»!
Когда я читаю их, мне хочется перенестись в те далекие
Я20
времена, по-новому прочесть и исправить Дамма, Банье и
Шпангейма и, находясь в море, прочувствовать Орфея, Го-
мера и Пиндара.
Чтобы судить о силе их воображения, достаточно взгля-
нуть на дельфинов*. Внешний вид этих животных не заклю-;
чает ничего привлекательного или дружественного человеку,
но игры их вокруг корабля, когда они при тихой погоде го-
няются друг за другом и ныряют, их прыжки — все это
служило поводом для чудесных рассказов. «Его унес дель-
фин»— значило то же, что: «Его похитила Аврора»; два об-
стоятельства соприкасаются и .становятся поэтому следствием
друг друга. Точно так же нимфы, и сирены, и тритоны, и пре-·
вращение мачты у Вергилия,* и т. п. — становятся в море
и легко объяснимыми и как бы наглядными, как все ужасы
ночи, тумана и т. д. Но я сделал еще одно наблюдение, кото-
рое вплотную подводит к чудесному и поэтическому элементу
этих рассказов.
С каким благоговением рассказывают и слушают на ко-
рабле всякие истории, и насколько моряк склонен к расска-
зам о приключениях! Ведь и сам он тоже в какой-то степени
искатель приключений и новых миров, и какие только чудеса
не открываются первому же его изумленному взгляду!
И разве я не испытывал этого сам всякий раз, вступая на
новую землю, новый берег, в новую эпоху и т, д.? Как часто
я говорил себе: «Разве таким ты увидел все это при первом
взгляде?» Вот подобным же образом поражающее впервые
зрелище рождает сказания о гигантах и об аргонавтах,
Одиссее, путевые описания Лукиана * и пр.
Как много изумительного в этих первых, призрачных ви-
дениях! Что только не чудится нам в них! Моряк с жад-
ностью набрасывается на эти первые знамения. После дол-
гого путешествия как не желать земли, а когда земля эта —
новая, неведомая, каких только знамений не представляет
он себе! С каким изумлением смотрел я на все, ступив на
корабль! Не казалось ли мне на первый взгляд, все окружаю-
щее чудеснее, величественнее, страшнее, поразительнее, чем
впоследствии, когда все стало знакомым, когда я обошел все
судно? С какой жаждой нового направляешься к берегу!
Как пытливо вглядываешься в первого же лоцмана в дере-
вянных башмаках и большой белой шляпе! Не кажется ли,
глядя на него, что видишь всю французскую нацию вплоть,
до короля Людовика Великого? С каким нетерпением ожи-
даешь первое лицо, первые лица: даже если. это старые
бабы — сейчас они не что иное, как чужеземные диковинки —
француженки! Как после знакомства с одной какой-нибудь,
семьей, с несколькими людьми- возникают первые предста-
вления и как много проходит времени, пока ты можешь ска-
зать— я знаю эту страну!
21 Зак. 291. Гердер 321
Теперь подведем итог этой жажде чудес, этой привычке
отыскивать взором прежде всего чудесное и спросим: откуда
возникает правдивое повествование? Почему все это стано-
вится поэтичным? Не греша и не желая грешить против
истины, Геродот становится поэтом. Как по-новому пони*
маешь и его, и Орфея, и Гомера, и Пиндара, и трагиков,
если читать их с этой точки зрения!..
Пойдем далее. Моряк, привыкший к подобного рода чу·
десным приключениям, верит им и рассказывает о них дру-
гим. Его слушают и моряки, и дети, и глупцы, слушают с во*
жделением и пересказывают дальше, — и что же? Каких
только не услышишь тут историй, рассказов, пришедших из
Ост- и Вест-Индии, с наполовину исковерканными именами,
но окруженных зато ореолом чудесного, — историй о великих
морских героях и о морских разбойниках, чья голова даже
после их смерти продолжала мчаться вдаль! * И все это по-
рождает в конце концов такой образ мысли, при котором
веришь и повести о рыцаре с лебедем, * и рассказам Джона
Мандевиля * и т. п., пересказываешь их, находишь возмож-
ными, а даже если считаешь невозможными, то все равно ве-
ришь, все равно пересказываешь их, — а почему? Да потому,,
что читал их в юности: тогда они соответствовали возникав-
шей у тебя жажде чудесных приключений, они пробуждали:
тем самым душу будущего моряка, порождали в ней мечты
и оставляли неизгладимые следы. Разум последующих лет„
эта мимолетная видимость, не в силах разрушить мечты дет-
ства, веру целой жизни. Всякий подобный рассказ, напоми-
нающий эти грезы, воспринятый как подлинное происшествие
(пусть от невежественных людей, от искателей приключений),
только подтверждает их; подтверждает каждое приключение,
испытанное нами, — кому же придет охота опровергать их?
Как трудно доказать, что не существует рая, охраняемого·
огнедышащими драконами, что нет Мандевилева ада, нет
Вавилонской башни? Что сиамский император во всем своем
золоте вовсе не таков, каким он выглядит в подобном сочине-
нии, что белые лебеди и рыцарь при них — всего лишь вы-
думка? В крайнем случае, говорят, что верится с трудом, и
продолжают повторять рассказ, или же спорят из-за него«
ожесточеннее, чем из-за библии. Но разве такой легковерный
человек по этой причине может считаться дураком во всех отно-
шениях, глупой скотиной? О нет, право же нет! Если не считать
этих фантазий и принятых на веру выдумок, соответствующих
его кругу, его воспитанию, образованию, образу мысли, он
может оказаться весьма рассудительным, добросовестным,,
дельным и неглупым субъектом.
Отсюда возможна, во-первых, философская теория, кото-
рая объясняет веру в мифы, басни и сказки. Эти последние
различны у иудеев, арабов, греков или римлян. Однако
322
в основе лежат общие, заслуживающие серьезного изучения
и истолкования предрассудки детства, и привычка во всем
видеть прежде всего сказку, и желание слушать ее, если
наши собственные приключения к тому располагают, и лег-
кость, с которой мы ее схватываем, и привычка часто ее рас-
сказывать и повторять «слушателям, которые верят, и умение
многое объяснять при ее помощи, даже если это объяснение
ограничивается лишь тем, что для бога нет ничего невозмож-
ного, или подобными же благочестивыми истинами. Тут от-
кроется множество явлений человеческой души: первые кар-
тины, созданные воображением; грезы детства, подолгу хра-
нимые в тайниках души; впечатления, вызванные каждым
звуком, каждым отзвуком, продолжающим жить в смутных
представлениях; склонность быть певцом чудесного; вера,
крепнущая благодаря чужой вере; легкость, с которой мы
рассказываем о незабываемых событиях юности, — словом,
тысяча феноменов, каждому из которых можно отыскать под-
ходящий пример в сказаниях древности, и каждый из этих
феноменов может многое объяснить: субъективно — в нашей
душе, и объективно—в древней поэзии, истории, преданиях.
Это была бы теория сказаний, философская теория снов
наяву, объясняющая истоки чудесного' и фантастичного, ис-
ходя из человеческой природы, некая логика поэтического
дарования; и если провести ее сквозь все времена, все на-
роды, все виды сказаний — от китайцев к иудеям, от иудеев
к египтянам, грекам, норманнам,—какое величие, какая
польза! Это помогло бы объяснить то, что высмеивается
в Дон-Кихоте, и Сервантес был бы особенно подходящим
для этого писателем!
Во-вторых, отсюда видно, как относительны правдоподо-
бие или неправдоподобие. Эти понятия основываются на
первоначальных впечатлениях: на их массе, форме, множе-
ственности. Они ищут подтверждения \ъ их продолжительно-
сти и повторяемости, в числе возможных совпадений, в раз-
личных эпохах, вещах, людях. Один народ понимает правдо-
подобие иначе, в иной форме и степени, чем другой. Мы
смеемся над греческой мифологией, а между тем каждый,
быть может, создает свою собственную. Чернь усматривает
правдоподобное и неправдоподобное в тысяче вещей, но
разве для нее оно заключается в том же, в чем для скепти-
ческого· философа или для ученого-естествоиспытателя?
Разве у Клопштока, Юма или Моисея Мендельсона в одной
и той же области понятие правдоподобия будет одним и
тем же? У каждого создателя гипотез существует свой соб-
ственный способ определять меру неправдоподобия: Герман
фон дер Гардт! Гардуэн! Лейбниц или Платон —два вели-
чайших в мире ума, способных на гипотезы! Декарт, весь
охваченный сомнениями, недоверчивый, — но притом какие
21* 323
гипотезы! Таким образом, существуют своеобразные формы
чувства правдоподобия, в зависимости от меры душевных
сил, от того, как соотносятся между собою воображение и
разум, проницательность и поверхностная сметливость, рас-
судок и первоначальная живость впечатлений и т. п.: сло-
вом— теория правдоподобия, которая исходит из души чело-
веческой, минуя Юма, Моисея Мендельсона, Бернулли, Лам-
берта.
Каждому состоянию, каждому образу жизни свойственны
особые обычаи. В своей истории и политических опытах Юм
очень метко показал множество таких характерных черт!
По отдельным людям я узнаю целые классы, целые народы.
Например, такой вот моряк — что за смесь суеверия и безум-
ной отваги, неотесанного величия и бесполезности, уверен-
ности в себе и враждебности к окружающим! Во многих чер-
тах проявляется герой былых времен: в том, как он о себе
рассказывает, как похваляется собственными силами, как он
считает свою осведомленность непогрешимой, свои откры-
тия — высшей суммой знаний, а Голландию ставит превыше
всего. Как он расписывает свои грубые любовные похожде-
ния, столь же неправдоподобные, как и его подвиги, и т. д.—
но, впрочем, хватит подобной характеристики толпы. Лучше
было бы иметь при себе книги Эйлера или Бугэ и Лакайля
по мореходству, судостроению и т. п. — той области матема-
тики, которую мне так необходимо изучить практически.
Читать про Иова в пустыне здесь столь же неуместно, как
изучать древнееврейский словарь. На море нужно читать не
сельские идиллии и георгики, * а романы, приключенческие
истории, читать «Робинзона», «Одиссею» и «Энеиду»! Тогда
ты будешь лететь на крыльях ветра и плыть вместе с чудес-
ными морскими героями, между тем как сейчас твой дух и
твое тело устремляются в двух противоположных направле-
ниях.
...Я проплыл мимо Курляндии, Пруссии, Дании, Швеции,
•Норвегии, Ютландии, Голландии, Шотландии, Англии, Ни-
дерландов, до самой Франции. Вот несколько политических
мечтаний, навеянных морем.
...Какое зрелище представят все эти места, если взглянуть
йа них с Севера и Запада, когда на них снидет наконец дух
культуры! * Украина станет новой Грецией. Прекрасное небо,
простирающееся над этим народом, его веселый нрав, музы-
кальность, плодородные нивы и т. д. когда-нибудь воспрянут
ото сна. Из множества малых диких народов, какими были
когда-то и греки, возникнет цивилизованная нация. Ее гра-
ницы будут простираться до Черного моря и оттуда по
всему миру. Венгрия, все эти народы, часть Польши и России
станут причастными к этой новой культуре. С Северо-Запада
дух этот распространится по всей ныне погруженной в сон
324
Европе'и заставит ее служить тому же духовному началу.
Все это впереди, все это должно некогда совершиться, — но
как, когда, благодаря кому? Какие семена содержатся в духе
тамошних народов, способные дать им мифологию, поэзию,
живую культуру? Может ли католическая религия пробудить
этот дух? Нет, не может и не сделает этого, судя по ее со-
стоянию в Венгрии, Польше и др., по тому духу терпимости,
который все больше распространяется даже в этой, как и
в православной религии, по очевидному отсутствию завоева-
ний, которых эта религия уже не способна совершить. Скорее
всего наши исполненные терпимости религии с их утончен-
ностью, с их близостью друг другу постепенно растворятся
в универсальном деизме, погрузятся в сон, подобно римской
религии, впитавшей всех чужих богов: бурлящая сила погру-
зится в сон, а на другом конце земли пробудится новый народ.
Чем он будет сперва? Как это произойдет? Из каких элементов
будет состоять его новый образ мысли? Будет ли его куль-
тура носить наступательный или оборонительный харак-
тер? Что же это такое, чего, собственно, нельзя истребить
в Европе с помощью книгопечатания, стольких изобретений
и образа мысли самих народов? Неужели нельзя все это
предугадать по современному состоянию мира и по аналогии
с минувшими столетиями? Нельзя ли воздействовать здесь
заранее, указав России на ту народную культуру, которая
принесет такие обильные плоды? Тут нужно превзойти са-
мого Бэкона, быть в предсказаниях более великим, чем Нью-
тон, но для этого необходимо иметь прозорливость Монтескье,
владеть пламенным пером Руссо и обладать удачливостью
Вольтера, умевшего склонить к себе слух великих мира сего.
Наш век подходит для этого: у нас есть Юм и Локк, Мон-
тескье и Мабли. Есть русская царица, которую можно пой-
мать на ее слабом пункте — на ее Своде законов, * как это
сделал Вольтер с прусским королем. И кто скажет, что гото-
вит нам нынешняя война * в этих местах? Я хочу попытаться
сделать кое-что в этом направлении. Летописи Шлецера, при-
ложения, достопримечательности, собрания Миллера, в осо-
бенности его история Молдавии станут моей настольной кни-
гой, которую я буду изучать, также Монтескье, в духе
которого я мыслю или, по крайней мере, говорю; законо-
дательство царицы будет обрамлять мою картину — о по-
длинной культуре народа, и в частности России...
...Земли короля прусского * не будут счастливы, пока они
не будут разделены по-братски. Возможно ли, чтобы он сам '
не пришел к этой мысли? О, как он был бы велик, если бы
можно было проследить все сокровенные пути его ума, как
велик, если бы он изложил свое политическое завещание, не
заслужив при этом эпиграммы, которую он сам. написал на
Ришелье. Таким он представляется нам теперь; — а каким
325
он предстанет перед потомками? Что же такое его Силезия?
Что останется от его государства? А что осталось от царства
Пирра? Разве не похож он на последнего? Без сомнения,
наиболее велик он в отрицательном, в обороне, в проявлении
силы и выдержки, и лишь созданные им величественные
учреждения пребудут в веках. Что дала его Академия? Много
ли пользы принесли Германии и ее землям его французы?
Нет! Его Вольтеры презирали немцев и не знали их. Немцы
же, напротив, увлеклись ими так же, как и всегда увлекались
всем французским. Его Академия только способствовала
упадку философии... Его философия и философия Вольтера
получили широкое распространение, но случилось это на беду
всему миру. Его пример пагубнее его учения. Неужто он не
знает своих немцев? Почему он презирает Пруссию? Почему
он следует Макиавелли, хотя и опровергает его? * Надежды
на счастье для его подданных после разделения страны на
части.
Швеция! Вот я вижу перед собою утес Олафа! * Что за
времена, когда он жил и умер! Какие величественные думы
навевает вид его могилы, окутанной туманами и облаками,
омываемой волнами, объятой сумраком и волшебством его
эпохи! Как изменился мир! Какие три периода — мир древне-
скандинавский, мир Олафа, и наше время экономически бед-
ной и просвещенной Швеции! Отсюда некогда выходили
в море готы, морские разбойники, викинги и норманны!
Здесь раздавались песни скальдов, здесь они творили чу-
деса! Здесь сражались Лодброги и Скилле! Это были совсем
иные времена! Здесь, в этих сумрачных, унылых краях я буду
читать их песни и слышать их, словно сам я на море; здесь я
прочувствую их глубже, чем Нерон свою «Героиду» * во время
пожара Рима. Как все здесь изменилось с тех времен, когда
на этом море царили ганзейские города. Висби, где ты те-
перь? Древний великолепный Любек, когда за танец с коро-
левой приходилось расплачиваться Борнгольмом и когда ты
дал Швеции ее Густава Вазу, где ты теперь? Былая вольность
Риги, когда советники, оставив шляпу в ратуше, спешили
в Швецию, чтобы защитить свой город, где это все? Распа-
лось! Изнеженность нравов повлекла за собой слабость, лжи-
вость, бездеятельность, политическую неустойчивость. Дух
ганзейских городов исчез из Северной Европы; кто его про-
будит вновь? И разве для каждого из этих городов, для Гам-
бурга, Любека, Данцига, Риги, не является важной страни-
цей истории то, как был утрачен этот дух? Не то, как сокра-
щалась их торговля, урезывались их привилегии и т. п., а
именно как скудел их дух, под конец покинувший Европу.
Разве есть у нас такая история ганзейских городов?..
Франция: эпоха ее литературы завершилась. Век Людо-
вика миновал. Прошли и времена Монтескье, Даламбера,
326
Вольтера, Руссо. Остались одни руины. Что же могут сказать
теперь авторы эпопей, комедий и сочинители галантных песе-
нок? Пристрастие к энциклопедиям, словарям, всевозможным
выдержкам из чужих произведений свидетельствует об отсут-
ствии оригинальных трудов. Вкус к иностранным сочине-
ниям, успех «Journal étranger»1 и т. д.. указывают на недо-
статок собственных произведений, в которых все более исче-
зают выразительность, отпечаток своеобразия и проч., и если
их всё же читают, то это лишь свидетельство того, что само
содержание и характер мысли в ее чистом виде достаточно
значительны, чтобы обходиться без словесных прикрас. А так
как французы придают этим последним такое исключитель^
ное значение, так как оборот речи, форма (выражения, вообще
внешний наряд мысли для них все и так как немцы, столь
заметно отступающие от французских оборотов и от излюб-
ленного французами убранства, эти столь глубоко презирае-
мые немцы всё же находят читателей, — это серьезный при-
знак оскудения, признак унизительного упадка страны. Мар-
монтель, Арно, Лагарп — все это лишь ничтожные остатки
жнивья или едва пробивающиеся хилые осенние ростки. Ве-
ликая жатва уже позади.
Что же действительно оригинальное было присуще веку
Людовика? * Вопрос этот сложен. Его величайшие умы заим-
ствовали многое из Италии и Испании — это бесспорно. Во
времена Ришелье группа писателей обрабатывала иноземные
сюжеты. Корнелев «Сид» — из Испании, его герои еще более
-испанцы, язык его первых пьес в еще большей степени испан-
ский, как об этом пишет в своих комментариях Вольтер...
Самые благородные искусства были созданы или воссозданы
итальянцами. Что же сделали французы? Ничего, они лишь
присовокупили нечто, именуемое вкусом. К этому располагал
их философский язык с его однообразием, обилием абстракт-
ных понятий и способностью обозначать новые абстрактные
понятия. Он резко отличался от итальянского и испанского
вкуса с его образностью и игрой слов, — называйте это как
хотите: катахрезы, кончетти * или как-нибудь еще, — словом,
со всем тем, чем еще полны ранние французские трагедии
и стихи. Чересчур пылкое воображение испанцев и итальян-
цев было смягчено более хладнокровным языком и образом
мысли французов. Чрезмерная пылкость любви исчезла, была
смягчена. Зато вместе с духом приключений была утрачена
и подлинная нежность. Под конец она превратилась в без-
душную галантность, для которой важно лишь аристокра-
тическое благородство мыслей, ясность слов и благовоспи-
танные, манеры.
«Иностранный журнал» (франц.).,
327
Таким образом, французы, обладающие вкусом, не знают
на сцене истинной нежной любви. Посмотрите, как она вы-
глядит в их театре! Какие заученные гримасы, какие одно-
образные любезности! Они изгнали все, что способно потря-
сти душу, — даже низменные поцелуи и т. п. убраны прочь;
преувеличенно выразительный взгляд и т. п. — прочь! Истин-
ная супружеская любовь не находит места на подмостках,
искреннее проявление чувств жениха и невесты является, по
мнению одних, чем-то низменным, лишенным благородства
и достойным презрения, по мнению других — преувеличенным
и смешным. Что же остается? Куда девались во французском
театре прекрасные греческие сцены из «Ифигении» и др.? —
Точно так же обстоит и с героем во французском вкусе.
Испанский герой — авантюрист. В Италии их вообще уже не
встретишь. Что же такое галантный герой Франции?—
В Италии комедия стала чересчур простонародной, слишком
отдает паясничаньем. Во Франции же она выродилась в сцены
светской жизни. Нет более Мольера! Смеяться от души счи-
тают чем-то постыдным и лишь улыбаются, как в «Лжеце»
Грессе, и проч. Французская комедия изображает сцены свет-
ской жизни, модные вечера, маркизов — и ничего больше.—
Подлинное церковное красноречие утрачено. Вместо непо-
средственного воздействия на душу, вместо трогательного —
пирамиды пышных картин, бесконечные периоды и ничего
более. Разве могут растрогать Боссюэ, Флешье и др.! Для
этого нет ни тем, ни публики, ни содержания речи в целом.
Просветить, там и сям ошеломить — это они еще могут.
Взволновать своей речью в целом мог лишь ты, провинциаль-
ный оратор, говоривший о Страшном суде. В Париже его бы
высмеяли и освистали.
Итак, французы лишь слегка приблизили к более холод-
ному здравому смыслу произведения, рожденные фантазией.
Это и есть вкус в хорошем смысле слова. Но тем самым они
неизбежно должны были способствовать охлаждению фанта-
зии и аффекта, и это их вкус в дурном смысле, который
в конце концов не что иное, как то, что Монтескье называет
«политической честью»... *
ОБ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВАХ
Написано в Париже 2 декабря
Я смотрел на театр как на говорящую картину. Но опера,
где Арну разевает во время пения свою пасть* где ты вынуг
жден глядеть на толстые щеки певца и на ужимки Роза-
лии,— что за картина!
Вначале я еще не понимал языка и слушал, собственно,
глазами. Редко удавалось мне схватить то, что я впослед-
328
ствии прочитал, редко — увидеть то, что позднее почувство-
вал и хотел увидеть. Чья это вина? Автора пьесы? Компози-
тора? Актеров? Или, может быть, моя собственная?
Часто я прочитывал пьесу заранее, затем представлял
себе вид и звучание действия и впоследствии зачастую ничего
не видел или видел слишком много, не слышал ничего или
слышал слишком много. Таким способом я прочел «Заиру»,.
«Семирамиду», «Модный предрассудок» — и намерен перечи-
тать их вновь,
Чтобы воочию увидеть то, что выражено в звуках, я'
связал танцы в опере с музыкой —и мне удалось отыскать-
модуляции, меру, линии. Но я не обнаружил силы, порой
даже не видел пристойных, гармоничных, выразительных-
гпоз, а одну лишь ловкость, игру и неестественное положение
тела.
Во всех изящных искусствах я искал человечности, но да-
леко не всегда находил ее. Что, например, могло получиться'
из Амура и Психеи? И как должна мучиться Арну, стремясь-
выразить многое на фоне пустого аллегорического сюжетаГ
Что человечного в танце, в музыке? Настанет время, когда
наша, музыка будет казаться такой же, как готическая архи-
тектура, — искусной в мелочах и ничтожной в большом, ли-
шенной простоты, человеческой выразительности, не способ-
ной произвести впечатление.
Я искал в театральных пьесах отражение вселенной, века,,
нации и находил только французскую натуру. Где же в «Се-
мирамиде», «Танкреде», в «Заире», «Горациях», «Телле» —
ассирийский, рыцарский, турецкий, римский или швейцар-
ский мир? Множество внешних различий для глаза — ничего
для духа в целом. Отдельные удачно примененные изречения:
ничего не меняют.
«Заира» — христианская трагедия, но я не знаю менее
христианской пьесы. Пустое название, церемония, бессозна-
тельная религия являются и разрушают человечность, слад-
чайшую любовь, делают несчастными благороднейшие души.
И во имя чего?
«Заира» — это пьеса о любви? Пожалуй, но не в первых
явлениях, наполненных комплиментами. Это любовь на фран-
цузский лад —то есть галантность. Но сцены, где Заира
оказывается между богом и любовью, между своим бо-
гом и своим Оросманом, —они действительно трогают.
Чем (не пожертвует любящая душа ради своего возлюблен-
ного?
«Танкред» — это пьеса, исполненная рыцарства. Но разве
это подлинное рыцарство, когда рыцарь подобным образом:
обращается со своей возлюбленной и приносит ее в жертву
отцу? Неужели такое рьщарство могло принести им счастье—
герою и его невесте? Разве это не удар по рыцарской добро-
329*
летели—то, что такая величественная, исполненная ге-
роизма возлюбленная способна написать подобную записку?
Б целом, пьеса показывает в финале счастье рыцарской
любви.
«Семирамида»: все роскошно, пышно, все для глаза, мало
что для души, кроме четвертой сцены — «узнавания». Воль-
тер написал эту вещь для глаз, он сделал все, чтобы подгото-
вить развязку; главное место занимает призрак, и я не знаю
ничего более бездушного, чем этот призрак. Так бывает все-
гда, когда дерзают только ради самой новизны, а не несут
новое потому, что это новое необходимо.
«Семирамида»—это зрелище: какую живописную кар-
тину представляют декорации, изображающие все вели-
колепие Вавилона, — и тут же, в первой сцене,. печальная
Семирамида. Дюмениль менее всего удалось воплотить эту
всепожирающую скорбь, она не создала ни единой запо-
минающейся сцены. Эта картина для королей, героев, завоева-
телей!
«Семирамида» — это зрелище, но сколько недостатков
в этом зрелище! Старая мегера приходит и уходит, жрецы
и маги тоже приходят и уходят, не совершая никаких дей-
ствий, — и вот, наконец, убийство в склепе! Благопристой-
ήο-сти ради и чтобы подготовить появление призрака Вольтер
позабыл все {пропуск] и неправдоподобное.
Ассур (играл Моле): нельзя испытать большей досады,
чем, мысленно составив себе представление о каком-нибудь
характере, затем так жестоко обмануться, увидев его воочию.
Даже если бы он сыграл его превосходно, — его облик, его
личность не имеют ничего общего с Ассуром.
Мгновения самого напряженного действия — всегда са-
мые безыскусственные. Дюмениль, когда она мечется и но-
сится по сцене, Лекен, когда он упорствует или находится
в оцепенении; она — издающая вопль, он — бросающий рез-
кое слово, — все эти заламывания рук, вскрики, рыдания,
плач, танцы, падение ниц остальных — попросту ничто.
Пышность мешает повсюду: все появления рыцарей, Се-
мирамиды, Заиры, выдержанные в более мрачных тонах и
без всей этой роскоши, были бы в тысячу раз сильнее. — Весь
театр в целом слишком театрален: ведь это должен, был быть
гантичный мир! Трагедия должна иметь свой собственный
театр, как и комедия, ибо у нее есть свой собственный мир.
•Все должно быть величественнее, сильнее,, суровее, глубже!
Я прослушал целые пьесы, в которых не было ни одного
нечленораздельного возгласа природы и страсти, звучащего
искренне, целые спектакли — и не увидел ни одного движе-
ния, ни одного шага, который бы растрогал. О, Заира, Заира!
Дюмениль обладает и тем и другим от природы, Лекен —
благодаря искусству!
330
Трагедия не для Франции — все здесь чужое, чужая при-
рода, чужие страсти, чужой мир. Трагедия вообще не со-
здана для таких монархий, как Франция. Здесь нет ничего,
кроме видимости любви, видимости чувств, видимости стра-
стей. Трагедия менее всего создана для французского языка
с его инверсиями, искусственными комплиментами, с его
жаргоном абстрактных понятий, философией страстей и от-
сутствием самих страстей. Даже пьесы Вольтера не состав-
ляют исключения.
В какое произведение превратилась бы та же «Заира»,
переведенная на язык подлинной страсти! Убрать бы все эти
абстрактные драпировки, все эти фразы, обнажить бы каж-
дое слово каждого персонажа — что это была бы за вещь!
Или, может быть, я не чувствую ничего потому, что я
немец?
Доля истины в этом есть! Я должен был в юности изу-
чить французский язык, чтобы научиться ощущать в нем все
трогательное и мелодичное. Я сужу по отдельным впечатляю-
щим выражениям, отдельным ариям, которые я должен еще
научиться ощущать. Пока что я понимаю французский лишь
глазами, не на слух, не сердцем!
То же — в применении к греческому и латыни! — Услы-
шать греческий так, чтобы чувствовать его, — как это было
бы чудесно! Поможет ли мне латынь в понимании итальян-
ского? Надеюсь, что да, иначе — какая польза была изучать
ее в молодости?
Истинное выражение страсти — безыскусственность. Взгля-
ните на Софию, на Тома Джонса, на поющих Аннету и Лю-
бена! Взгляните на Дюмениль, когда она мечется в беспа-
мятстве, взгляните на застывшего в оцепенении Лекена!
О, итальянцы! О, Дюмениль! О, Лекен!
Есть ли на свете лучшая школа нравов, чем театр? По-
роки и добродетели, глупцы и злодеи, праведники и герои
выступают во плоти, зримо, в действии, как живые персо-
нажи истории! Их можно видеть, слышать, отдаться душой
этой иллюзии! Что может быть полезнее, чем создать
в театре полную иллюзию, — кто это совершает, тот трудится
на благо человечества!
Какое впечатление произвела бы К.... в роли Семирамиды:
без призраков, без шутовских гримас, с большей силой иллю-
зии! Неужели пропала втуне сила, которую даровал театру
Шекспир своим «Гамлетом», неужели нельзя применить ее?
Отправляйся же в театр и жди там появления Тартюфа,
Мизантропа, Заиры! Затем иди в церковь и жди там бездуш-
ной проповеди или отправляйся к мессе — и не жди ничего,
что бы ты ни увидел и ни услышал! А потом иди к могиле
св. Женевьевы, пади там ниц и предайся воспоминаниям о ее
дурацких добродетелях. Чего тебе еще надо?
331
Наступит ли время, когда разрушат монастыри и амвоны
и очистят театр, чтобы создать в нем подлинную иллюзию,,
чтобы можно было отличить благопристойную комедию* от
всякой иной, чтобы назвать ее и актеров своим именем, чтобы
полностью обособить ее? За это дело должен взяться мо-
нарх! Он должен учредить Академию нравов, но притом та-
кую, чтобы она не имела ничего общего с фарсом и аванткк
рой. Иначе — все погибло. О, если б я мог хоть чем-нибудь
содействовать этому! По крайней мере, я хотел бы поддер-
жать голос Дидро!..
КОММЕНТАРИИ
л?.
Первое полное собрание сочинений Гердера (J. G. v. Herders Sämmt-
liche Werke, 40 тт., 1805 и след.; изд. 2-е, 1852—1862) было подготовлена
к печати вдовой Гердера Каролиной и его учеником и близким другом
Иоганном Мюллером; последние два тома содержат жизнеописание Гер-
дера, составленное Каролиной и богато документированное письмами
(«Erinnerungen aus dem Leben J. G. v. Herders», 1820). Издание это
дает произведения Гердера в позднейшей сглаживающей редакции и
в систематическом расположении, разрывающем хронологическую связь
между ними. Такой характер издания надолго затруднил научное изуче-
ние наследия Гердера.
Подлинный текст первых изданий с вариантами последующих и
с обильным рукописным материалом был впервые опубликован в акаде-
мическом издании профессора Бернгарда Супхана (Herders Sämmtliche
Werke, 1877—1913, herausg. v. Bernhard Suphan, 33 тт.), которое остается
и сейчас основополагающим для научной работы. Оно положено в основу,
переводов настоящего издания. Из многочисленных избранных сочине-
ний, основанных на тексте академического, заслуживает внимания
подробно комментированное шеститомное издание в научной серии
Kürschners Deutsche Nationalliteratur, №№ 76—77.
Полного собрания писем Гердера не существует. Важнейшие публи-
кации: Heinrich Düntzer. Aus Herders Nachlass, 1856, 3 тт.;
«Briefwechsel mit Caroline Flachsland», hsg. v. Hans Schauer, 2 тт., 1928
(«Schriften der Goethe-Gesellschaft», №№ 39 и 41).
Из исследований до сих пор сохранила значение, по обилию исполь-
зованного материала, монументальная двухтомная монография: Rudolf
Η aym. Herder nach seinem Leben und Werken dargestellt, 1877—1885
(новое издание: Berlin, 1958; русский перевод: Р. Г а й м. Гердер, его
жизнь и сочинения, 2 тт., М., 1888). Однако автор, как сторонник немец-
кого философского идеализма и веймарского классицизма, в ряде случаев
неправильно оценивает своеобразие философских и эстетических взглядов
Гердера (см. вступительную статью, стр. LVI). То же относится к старым
трудам философа Кюнемана (Eugen Kühnemann. Herders Persön-
lichkeit in seiner Weltanschauung, 1893; изд. 3-е? 1928), Кроненберга
(M. Kronenberg. Herders Philosophie, 1882), Бюркнера (Rudolf
335
В ü г к п е г. Herder, sein Leben und Werke, изд. 2-е, 1904) и др. Из
новейших работ заслуживает внимания: Robert T. Clark. Herder, his
life and thought, 1955.
О Гердере и славянстве см.: Mathias Murko. Deutsche Einflüsse
auf die Anfänge der böhmischen Romantik, 1897; Konrad Bittner.
Herders Geschichtsphilosophie und die Slawen, 1929; И. В. Ягич. Исто-
рия славянской филологии («Энциклопедия славянской филологии», вып I,
1910, стр. 366 и след.); Α. Η. Π ы π и н. История русской этнографии,
т. II, 1891, стр. 4 и след., 252 и след.; М. К. Азадовский. История
русской фольклористики, 1958, стр. 118—123. Об интересе к Гердеру пере-
довой русской филологической науки свидетельствует обширная статья
А. Н. Пыпина «Гердер» («Вестник Европы», 1890, кн. 3 и 4), вызванная
'появлением русского перевода книги Гайма.
Из ранних представителей марксистской мысли в Германии высокую
оценку Гер дера дал Меринг, отметивший, вместе с тем, глубокие, истори-
чески обусловленные противоречия в его жизни и творчестве («Иоганн
Готфрид Гердер», 1903; см.: Франц Мери н г. Литературно-критические
статьи, изд. «Academia>v т. I, 1934, стр. 509—521). Меринг ценит в оси-
ценности «исторический гений» Гердера, в котором он «превосходит.
■Лессинга», значение .его «Идей» как «первой попытки написать исто-
рию культуры в широчайшем масштабе», его взгляд на «народную
стоэзию как на источник всякой поэзии». «Без Гердера, — пишет
Меринг,—нельзя себе представить ни немецкое Просвещение, ни немецкую
романтику, ни немецкую литературу, ни нашу классическую философию».
Современное марксистское литературоведение высоко оценивает Гер-
дера как писателя-демократа и как критика немецкой идеалистической
■философии и эстетики. Большое внимание к наследию Гердера про-
является в настоящее время в Германской Демократической Республике.
Демократические тенденции творчества. Гердера раскрыли в : особенности
работы Пауля Реймана (Paul Reimann. Über realistische Kunstauf-
fassung, 1952, стр. 159—192; Hauptströmungen der deutschen- Literatur
1750—1848, 1956) г в русском переводе: Пауль Рея май. Основные
течения в немецкой литературе 1750—1848, М., 1959, стр. 99—107,
155—168). Философию истории молодого Гердера в связи с его обще-
ственной идеологией рассматривает обширная и содержательная моно-
графия Штольпе (Heinz Stolpe. Die Auffassung des jungen Herder
vom Mittelalter, 1955). Эстетике Гердера посвящены работы Бегенау,
который, как и Рейман, усматривает в его критике Канта материалисти-
ческие тенденции (Heinz В е g e n a u. Grundzüge der Ästhetik Herders,
1956; Zur Theorie des schönen in der klassischen deutschen Ästhetik, 1956).
Тот же автор переиздал «Каллигону» с обширным комментарием
{J. G. Herder. Kalligone, herausg. v. Heinz Begenau, 1955).
Избранные сочинения Гердера изданы под редакцией и с коммен-
тариями В. Доббека: Herders Werke, herausg. v. Wilhelm Dobbek, Weimar,
1957, 5 тт. (в серии «Bibliothek deutscher Klassiker»); Herder. Ein
Lesebuch für unsere Zeit, Weimar, 1955.
Выводы современной немецкой демократической критики существен-
ным образом углубили понимание, общественной позиции и- философско-
336
эстетических теорий Гердера, односторонне и нередко искаженно пред-
ставленного в домарксистском зарубежном литературоведении.
Из советских работ о Гердере ср. в особенности статьи А. В. Гулыги:
«Материалистические тенденции в немецкой философии XVIII века».—
«Вопросы философии», 1957, № 4, стр. 89—92; «Гердер как критик эсте-
тической теории Канта».— Там же, 1958, № 8, стр. 48—57; «Проблемы
культуры в философии истории Гер дера», — «Вестник истории мировой
культуры», 1958, № 3, стр. 133—147.
Произведения Гердера, объединенные в настоящем сборнике, за
единичными исключениями впервые появляются на русском языке. Язык
и стиль Гердера представляют для перевода большие трудности: в ран-
них произведениях — из-за стремления Гердера к повышенной, часто
очень субъективной, эмоциональной выразительности и поэтической образ-
ности; в поздних — из-за сложности и абстрактности словесного выра-
жения. Переводчики считали необходимым по возможности сохранить
эти индивидуальные особенности стиля, тесно связанные с характером
самой мысли Гердера.
ЛИТЕРАТУРА И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ШЕКСПИР
(Shakespeare)
Написано в 1771 году, первоначально в форме письма к Герстен-
бергу. Опубликовано в сборнике «О немецком характере и поэзии» («Von
deutscher Art und Kunst», 1773). См. вступительную статью, стр. XLI—
XLV. Русский перевод Наталии Ман — в «Интернациональной литера-
туре», 1939, № 3—4, стр. 271—283, со статьей Н. Н. Вильям-Вильмонта
«Гердер о Шекспире» (там же, стр. 284—289). Небольшой отрывок —
в «Хрестоматии по западноевропейской литературе XVIII века», Учпедгиз,
1938, стр. 583—585 (перевод Г. Ярхо).
Стр. 5. Аристотель. — О греческой трагедии см. Аристотель. Об
искусстве поэзии («Памятники мировой эстетической и критической
мысли», Гослитиздат, М., 1957, стр. 62—100); о происхождении и истории
греческой трагедии см. там же, стр. 51.
На котурнах. — Котурны — обувь на высоких деревянных подстав-
ках; употреблялась в древнегреческом театре трагическими актерами,
благодаря чему они казались выше обычного роста.
«Эдип в изгнании» — последняя трагедия Софокла, обычно называе-
мая «Эдип в Колонне».
Стр. 6. «Эдип в Фивах» — трагедия Софокла; обычное название:
«Эдип-царь»,
«Прометей» — трагедия Эсхила «Прикованный Прометей».
...у поучительного Еврипида... — Трагедии Еврипида содержат эле-
мент морализации, отсутствовавшей у его предшественников.
22 Зак. 291. Гердер S37
Об объеме трагической фабулы см. Аристотель. Об искусстве
поэзии, стр. 62—64.
Стр. 8. ...самые ужасные сомнения, — Гердер имеет в виду критику
французской трагедии в «Гамбургской драматургии» Лессинга (см. статьи
38—39 — о взглядах Аристотеля).
...в духе испанской драмы или Сенеки. — Испанская драма и трагедия
Сенеки считались образцами неестественных преувеличений. Корнель
подражал испанской драме в своем «Сиде» (1636); влияние Сенеки ска-
залось в особенности в его поздних трагедиях.
Стр. 10. «Астрея», «Клелия», «Аспазия» — галантные любовные ро-
маны XVII века.
Стр. И. Страх и сострадание, согласно Аристотелю («Об искусстве
поэзии», стр. 78—86), являются целью трагедии. Лессинг доказывает
в 17-м «Литературном письме», что Шекспир достигает этой цели лучше,
чем французские трагики, хотя пользуется иными средствами. См. всту-
пительную статью, стр. XLTIj
«Главные государственные действия» («Haupt- und Staatsaktionen») —
название псевдоисторических трагедий немецкого театра XVII — первой
половины XVIII века, восходящих по своему происхождению к пьесам
шекспировской сцены, занесенным в Германию труппами английских
бродячих комедиантов.
Стр. 12. ...назвать если не действием... то действом... — Гердер про-
тивопоставляет действию (Handlung) классической трагедии действо
(Aktion) средневековой и шекспировской драмы, объединяющей в своей
фабуле многообразие «событий» или «происшествий» (французское événe-
ment). Историческая драма молодого Гете «Гец фон Берлихинген» (1773)
осуществила эту идею драматизованного исторического повествования по
типу драматических хроник Шекспира.
Хом упоминает о Шекспире в своих «Элементах критики» (Henry
Home. Elements of criticism, 1782), Херд — в своем комментарии
к «Поэтическому искусству» Горация (1749). Поэт Александр Поп (1725)
и критик Сэмюэл Джонсон (1762) были первыми в XVIII веке издате-
лями сочинений Шекспира.
Стр. 13. ...маленькие символы в солнечной системе божественной
теодицеи. — Гердер употребляет образы, подсказанные философией Лейб-
ница, его «Теодицеей» (1710) и «Монадологией» (1714). Согласно учению
Лейбница, мир состоит из простых, неделимых духовных субстанций, или
монад, «истинных атомов природы». Слово «теодицея» означает «оправда-
ние бога» как творца мироздания, несмотря на существование зла на земле
(оправдание в духе философского оптимизма буржуазного Просвещения).
Стр. 14. ...легко обозримую величину. — См. Аристотель. Об
искусстве поэзии, стр. 63.
Стр. 16. Лессинг сравнивает «Семирамиду» Вольтера (1748)
с «Гамлетом» Шекспира в «Гамбургской драматургии» (статьи 11—12).
Вольтер заимствовал у Шекспира появление призрака.
Стр. 17. «Пан! Вселенная!»—'немецкий перевод основного термина
материалистического пантеизма Спинозы (греческое hen kai pan — «все-
единство»), В диалоге «Бог!», обосновывающем пантеистическое учение
338
о единстве бытия и бога самостоятельной интерпретацией философии
Спинозы, Гердер пишет: «Мир — это единство, божество — это вселен-
ная!» См. вступительную статью, стр. XVIII.
Стр. 18. Театральный савояр — здесь в значении «неискусный худож-
ник». Савояры (жители Савойи) странствовали по Европе, показывая
дрессированных сурков, обученных плясать под незатейливую музыку.
Стр. 19. Сон Магомета. — Согласно мусульманской легенде, Магомет
в сновидении был вознесен на небеса; когда он проснулся, оказалось,
что за время его чудесного сна вода из наклоненного кувшина не успела
пролиться.
Стр. 20. Автор новейшего «Опыта о Шекспире» — г-жа Е. Монтегю
(«Опыт .о гении и сочинениях Шекспира по сравнению с греческими и
французскими драматургами, с некоторыми замечаниями о неправильных
взглядах г-на Вольтера», 1769). Гердеру 'был известен немецкий перевод
Эшенбурга (1771).
Стр. 21. Полоний в «Гамлете» (акт II, сц. 2) подразделяет театраль-
ные пьесы на «трагические, комические, исторические, пасторально-коми-
ческие, историко-пасторальные, трагико-исторические, трагико-комико-
историко-пасторальные». Прилагательные эти имеют по-английски окон-
чания -al, -cal.
...слабоумным Ричардам и спесивым королям-рыцарям... — Имеются
в виду английские короли Ричард II и Джон (Иоанн Безземельный), герои
двух исторических драм Шекспира.
Стр. 22 ...памятник из наших рыцарских времен... — Подразумевается
историческая драма Гете «Гец φοΉ Берлихинген», См. вступительную
статью, стр. XLIV.
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПЕРЕПИСКИ
OB ОССИАНЕ И О ПЕСНЯХ ДРЕВНИХ НАРОДОВ
(Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian
und die Lieder alter Völker)
Гердер рецензировал первый том «Песен Оссиана» в переводе Дэниса
в журнале Николаи «Всеобщая немецкая библиотека» (1769) еще до
знакомства с английским оригиналом. Статья написана в 1771 году, на-
печатана в сборнике «О немецком характере и искусстве» (1773). Письма
были первоначально адресованы Герстенбергу. Песни, разбираемые Герде-
ром, в большинстве случаев переведены им самим и вошли в собрание
«Народных песен» (см. вступительную статью, стр. XXIX—XXXI). Неболь-
шой отрывок из «Переписки» включен в «Хрестоматию по западноевропейской
литературе XVIII века». Учпедгиз, 1938, стр. 585—588 (перевод Г. Ярхо).
Стр. 23. Праздник кущей — еврейский религиозный праздник, свя-
занный с древней весенней обрядностью; согласно религиозной легенде,
справляется в воспоминание о странствованиях евреев по Синайской
пустыне, где они жили в шатрах.
Муфтий — мусульманский богослов, разрешающий юридические во-
просы на основе корана. Фетва — приговор муфтия.
22* 339
Стр. 24. «Критическая библиотека». — Гердер имеет в виду свою
рецензию во «Всеобщей немецкой библиотеке» Николаи.
Стр. 26. Виланд перевел Шекспира прозой, с пропуском большинства
песен. Перевод этот (1762—1766) сыграл весьма важную роль в про-
буждении интереса к Шекспиру в Германии. Подражания Шекспиру
в эпоху «бури и натиска», в том числе и «Гец фон Берлихинген» Гете,
также пользуются прозой.
...тем... поэтом... — Подразумевается Герстенберг, адресат писем.
Стр. 28. Одинаковые начальные буквы... — Древнескандинавская поэ-
зия (как и древнегерманская поэзия вообще) построена на принципе
аллитерации (повторения начальных согласных). В поэзии скальдов
к этому присоединяются кольцевые рифмы (начала и конца стиха).
Стр. 29. ...просодия скальдов... — Третья (а не вторая) часть так на-
зываемой прозаической «Эдды» Снорри Стурлусона (1178—1241),содержа-
щей поэтику исландских скальдов, дает, в форме хвалебной оды Снорри
в честь норвежского короля Хакона, образцы ста двух размеров, которы-
ми пользовались скальды (дружинные певцы скандинавских конунгов).
«Песня о Рагнаре Лодброке», легендарном датском конунге эпохи
викингов, приписывалась древнейшему норвежскому скальду Браги Бод-
вассону (конец VIII в.) и была одним из первых произведений скаль-
яической поэзии, которое стало широко известным в Европе благодаря
публикации Ворма (в оригинале и латинском переводе) и «Истории
Дании» Малле (см. вступительную статью, стр. XXXV). На самом деле
песня эта представляет позднее произведение XII века. Тонкий, изящный
перевод, который не понравился Гердеру, принадлежит Вейссе (1766);
существовал другой перевод — Шютце, который был известен Гердеру как
переводчик Малле (1765). В рецензии на немецкое издание этой книги
Гердер заявляет, что этой «оде умирающего героя нет ничего подобного
ни у древних, ни у новых; Рагнар рассказывает о своих подвигах с вели-
чественной простотой».
Гимн валькирий, беседа Одина, страшный суд богов. — См. ниже,
примечание к стр. 37—40. Последняя песня, также включенная в сборник
в переводе Гердера, представляет собою одну из древнейших в «Эдде»
и содержит языческую космогонию и пророчество о гибели богов
(«Волуспа», X в.).
...беседой Гауля и Морни, Фингала и Роскраны... — из «Оссиана»
Макферсона.
Песня скальда Эвинда (точнее — Эйвинда) Скальд асшллера на
смерть норвежского короля Хакона (943) также переведена Гердером
в «Народных песнях».
«Могилы Красных щитов» («Rotschilds Gräber», 1766) — стихотворе-
ние Клопштока в манере Оссиана.
...из англосаксонского. — С образцами англосаксонской аллитерацион-
ной поэзии Гердер был знаком из «Памятников» Хиккеса и из упомяну-
той статьи Перои «Об аллитерационном размере в «Видении Петра
Пахаря» Ленгленда».
...пять народов Северной Америки... — союз пяти ирокезских племен,
о котором подробные сведения заключали известные книги французского
340
миссионера Лафито (1723) и американца Кэдуолледера Колдена «История
пяти индейских народов» (1727).
Стр. 30. ...чувствительных каледонцев... — то есть шотландцев; Кале-
дония — название Шотландии у римлян. «Чувствительность» характерна
для сентиментальной манеры Макферсона. См. вступительную статью,
стр. XXIX.
...образцы древнего языка... Издание поэмы Оссиана «Темора» (1763)
содержало образец ста двадцати трех стихов оригинала на гаэльском
языке, представлявший на самом деле фальсификацию Макферсона.
Стр. 31. ...о моем морском путешествии... — Ср. «Дневник моего путе-
шествия...», стр. 317 и след. наст, издания. Статья повторяет, с незначи-
тельными вариациями, соответствующее место дневника.
Республика Ликурга — древняя Спарта. «Законы Ликурга», легендар-
ного законодателя Спарты (VIII в. до н. э.), содержали ряд строгих
ограничений в одежде и пище, направленных против роскоши, регламен-
тировали общественное воспитание детей и подчиняли взрослых мужчин
дисциплинарным требованиям военного характера.
...утесов Олафа... — См. стр. 326 наст, издания и примечание к ней.
Волшебница Аса—богиня Гефеон, которая, согласно скандинавскому
мифу, в награду за свою песню получила во владение столько земли,
сколько она могла за день обойти с плугом на своих четырех быках;
бороздой, проведенной этим плугом, богиня отрезала себе от Дании
остров Зеланд.
«Кони пояса земли» — корабли, образное иносказание, характерное
для поэзии скальдов (так называемый «кеннинг»).
Стр. 32. Вуд... на развалинах Трои... — См. вступительную статью,
стр. XXX.
...история У тала и Нинатомы... — Подразумеваются несчастные любов-
ники в поэме Оссиана (Макферсона) «Берратон».
...на палубе разбитого корабля... — Корабль, на котором плыл Гердер,
сел на мель во время ночной бури, в виду берегов Голландии.
. ...у живых народов... — Находясь в Риге, Гердер имел случай наблю-
дать песни и пляски латышских крестьян вокруг костров Ивановой ночи.
Француз Марсель — известный парижский танцмейстер, о котором
рассказывает философ Гельвеции в трактате «Об уме» (1758).
Гарсиласо де ла Вега (1540—1616)—испанский писатель, сын испан-
ского конквистадора и знатной индианки из перуанского племени инков.
Родился в Южной Америке. Его «История Перу» (1609—1617) содержит,
наряду с фантастическими рассказами, много подлинных историко-этно-
графических сведений. Гердер пользовался латинским и немецким пере-
водами этой книги.
Стр. 33. ...«Песня лапландца» β переложении Клейста... — Оценку
этого переложения см. во вступительной статье, стр. XXXVI. *
Стр. 36. «Битва Германа» (1769) Клопштока — лирическая драма
с хорами, прославляющая победу германцев, во главе с вождем херусков
Арминием, над римскими легионами в битве в Тевтобургском лесу
(9 н. э.). Клопшток называет свою драму «бардит», в соответствии
341
<с сообщением Тацита в его «Германии» (конец I в.) о существовании
у древних германцев боевых песен, носивших это название.
Стр. 37. «Герман и Туснельда» (1753)—патриотическая ода Клоп-
штока на ту же тему. Опубликована в «Бременских сообщениях» («Bremer
Beiträge»)—литературном журнале середины XVIII века, издававшемся
группой немецких писателей, к которой был близок Клопщток.
«Поездка Одина в ад» — мифологическая песня из «Эдды». «Песня
валькирий за пряжей» и «Заклинание Хервор» (стихотворный диалог ме-
жду Хервор и ее отцом Ангантюром, покоящимся в могиле) представляют
собой песни мифологического содержания из древнеисландских саг
(«Сага о Ньялле» и «Сага о Хервор»).
Стр. 39. Бальдр — в скандинавской мифологии светлый юный бог, сын
Одина, убитый слепым Ходром по наущению злого бога Локи. Мстителем
за Бальдра был Вали, сын Одина, рожденный от Ринды. Смерть
Бальдра в мифологии «Эдды» знаменует начало конца мира, «гибели
богов», когда чудовищный волк Фенрир вырывается на свободу и вместе
с другими мифологическими чудовищами уничтожает богов.
Стр. 40. «Песня валькирий» заимствована из древнеисландской «Саги
о Ньялле» (по Бартолину). См. «Исландские саги», перевод под ред.
М. И. Стеблин-Каменского, Гослитиздат, 1956, стр. 752—753. Относится
к битве при Клонтарфе (около Дублина) между королем Ирландии
Брьяном и конунгом Смттрюггом (1014). Граф Рандвер попал в песню
в результате ошибки в переводе Гердера.
Стр. 43. Аэды — сказители древнегреческого эпоса; барды — сказители
и певцы у древних кельтов (валлийцев); в XVIII веке исторически непра-
вильно говорили о древнегерманских бардах, основываясь на термине
«бардит» («военная песнь») в «Германии» Тацита (см. примечание
к стр. 64); менестрели — странствующие певцы в средневековой Англии.
Все эти категории певцов мыслятся Гердером как создатели и исполни-
тели »ародных песен.
Стр. 48. Баллада «Дух милого Вильяма» из сборника Перси послу-
жила ближайшим источником «Леноры» Бюргера. В основе ее лежит
широко распространенный фольклорный сюжет о «мертвом женихе».
Перевод Гердера заменяет английские имена оригинала немецкими.
Стр. 49. Лессинг, интересовавшийся немецкой бюргерской поэзией
XVII века, издал в 1759 году «Эпиграммы» Логау, в 1771 году — стихо-
творения малоизвестного поэта Андрея Шольце (Скультетуса).
Стр. 50. ...из сборника плохих песен... — Подразумевается старинный
песенник Пауля фон дер Эльст (1602). Одна из песен этого сборника
подсказала молодому Гете народный припев его стихотворения «Степная
розочка» (см. стр. 52 наст, издания).
Стр. 51 ...все ские басни. — Гердер не называет имени басно-
писца. Возможно, что он имеет в виду популярные в XVIII веке сенти-
ментальные басни Геллерта (1746).
Стр. 53. Молодой Гете послал Гердеру свое стихотворение «Степная
розочка» («Heideröslein», 1771), написанное в стиле народной песни, не
раскрыв своего авторства. Гердер поместил это стихотворение в своих
«Народных песнях» и разбирает его как народное (см. вступительную
342
статью, стр. XXXIX). Гете отбросил в начале каждого стиха артикли
при именах существительных и личные местоимения при глаголах, что
вполне соответствует стилю народной песни. Апостроф ставится в таких
случаях как замена слова или слога, которые отсутствуют в устном про-
изношении, но требуются грамматическими правилами письменного лите-
ратурного языка. Элизия (также обозначаемая апострофом) представляет
отпадение конечного звука слова (в немецком языке — неударного -е),
характерное для разговорного языка западной и южной Германии; отпа-
дающий гласный при этом также заменяется апострофом (Aug' вместо
Auge, rauscht' вместо rauschte и т. п.). Гердер боролся за элизию
с целью приближения поэзии к живому разговорному языку, а молодой
Гете и поэты «бури и натиска» широко пользовались ею в своих стихах.
Стр. 55. ...песнопения Ветхого завета... — О взгляде Гердера на
библию как на памятник народного поэтического творчества см. вступи-
тельную статью, стр. XXVI.
Стр. 56. В защиту инверсий как особенности эмоциональной речи, вы-
ражающей непосредственное чувство, Гердер выступает в «Фрагментах»
(см. стр. 128—132 наст, издания). Классическая поэтика запрещала инвер-
сии как нарушение логического порядка слов. Вопрос этот был впервые по-
ставлен английской критикой в XVIII веке в связи с инверсиями у Миль-
тона (в статьях Аддисона о «Потерянном рае» в журнале «Зритель», 1712).
«Наш бог — нерушимая крепость» — протестантский гимн, сочиненный
Лютером, который Энгельс называет «марсельезой XVI века» («Диалек-
тика природы», Госполитиздат, 1952, стр. 4).
Стр. 58. «Марианна» Глейма (1756) принадлежит к жанру «жестоких
романсов», широко представленному в репертуаре немецких уличных пев-
. цов.. (так называемых «Bänkelsänger»). Представляет обработку анало-
гичного по теме романса француза Франсуа де Монкрифа (1687—1770).
Оба романса переведены с английского, из сборника Перси, первый
в 1766 году (Распе), второй дважды — в 1766 и 1769 годах.
О СХОДСТВЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ
АНГЛИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ И О ПРОЧЕМ,
ОТСЮДА СЛЕДУЮЩЕМ
(Von Ähnlichkeit der mittleren englischen und deutschen Dichtkunst,
nebst Verschiedenem, das daraus folget)
В первоначальном варианте — как предисловие к «Народным песням»
1774 года. Напечатано в 1777 году в журнале «Немецкий музей». См.
вступительную статью, стр. XXXI—XXXIII.
Стр. 60. Древние бритты, как и валлийцы (жители Уэльса, или Вал-
лиса), принадлежали к кельтским народам, англосаксы — к народам гер-
манским. В XVIII веке первые исследователи германских древностей,
например Малле, нередко смешивали кельтов с германцами. Слово немцы
(Deutsche) употребляется здесь Гердером^ как позднее Якобом Грим-
мом и др., в расширительном значении и имеет в виду германцев вообще.
О Карле Великом его биограф Эгинхард (830) сообщает, что он
343
велел записать «древние варварские песни, в которых воспевались деяния
и войны старых королей». Записи эти не сохранились.
Стр. 61. Ричард Херд в своих «Письмах о рыцарстве и средневековых
романах» (1762), одной из наиболее влиятельных книг английского пред-
романтизма, сравнивает рыцарское средневековье с героическим веком
Греции в изображении Гомера, стремясь доказать преимущество средне-
вековых «нравов и вымыслов» для целей поэзии. Источником Херда
послужила книга французского ученого Л а Кюрн де Сент-Палэ «Записки
о старинном рыцарстве» (1759—1781).
«Книга героических сказаний» (нем. «Heldenbuch») — позднее собра-
ние произведений средневекового немецкого эпоса (печатное издание
второй половины XV века).
Томас Уортон, английский ученый и критик, автор «Истории англий-
ской поэзии» (1774—1781)—первого обзора средневековой западноевро-
пейской литературы. Книга эта сыграла выдающуюся роль в пробуждении
интереса к рыцарскому средневековью в литературе английского пред-
романтизма (так называемое «готическое возрождение»). В более ранней
книге о Спенсере («Замечания о «Королеве фей», 1754) Уортон выступает
против эстетики английского классицизма с ее рассудочными «правилами»,
в защиту поэзии «воображения». См. вступительную статью, стр. XXXIV
и LI.
Стр. 62. ...чужое достояние... — перечисленные произведения средне-
вековой литературы представляют переводы или переработки старо-
французских источников.
Дитрих Бернский — герой средневековых немецких эпических сказа-
ний. Его исторический прообраз — остготский король Теодорих Великий
(454—526).
...о королевиче Горне... — Среднеанглийская эпическая поэма «Чайльд
Горн» («Королевич Горн») возникла не ранее конца XIII века и имеет,
вероятно, старофранцузские источники; битва при Гастингсе, в которой
норманские войска Вильгельма Завоевателя разбили ополчение англо-
саксонского короля Гарольда, произошла значительно раньше. (1066).
Недоразумение, жертвой которого стал Гердер, порождено, по-видимому,
известием, что норманны пели в этой битве «Песню о Роланде».
...дух и тон Эдды... — Древнеисландская «Эдда», сборник эпических
песен мифологического и героического содержания (IX—XII вв.), сохра-
нившихся в рукописи XIII века, частично отражает мифологические пред-
ставления древних скандинавов, которые Гердер, как и представители
романтической германистики первой половины XIX века, неправильно
считает общегерманскими.
...вендская... мифология. — Вендами немцы называют приэльбских (по-
лабских) славян, которые были частью истреблены, частью порабощены
немецкими рыцарями в результате кровопролитных «крестовых походов»
XII—XIV веков. См. «Идеи о философии истории», стр. 266—268 наст. изд.
Позднее вендами называли остатки западных славян, сохранившиеся до
наших дней на территории Саксонии (лужичане).
Стр. 63. ...наши мейстерзингеры... — В средневековой немецкой лите-
ратуре различаются миннезингеры (XII—XIII вв.), поэты-рыцари, певцы
344
возвышенной рыцарской любви (Minne), и более поздние мейстерзингеры
(XIγ—χνΐ вв.), поэты-бюргеры, члены ремесленных цехов, создатели
поэзии преимущественно морально-дидактического характера. Гердер
употребляет здесь слово «мейстерзингеры» в расширительном смысле для
обозначения средневековой немецкой лирики в целом.
Стр. 64. ...бардический вихрь... — «Бардами» называли себя немецкие
поэты 1760—1770-х годов, которые вслед за Клопштоком пытались создать
национальное направление немецкой поэзии, заменяя античную мифоло<
гию древнегерманской (то есть скандинавской) и опираясь на смутные,
мистифицированные представления о «древнегерманской» поэзии. Идеа-
лизация древних германцев в поэзии «бардов» представляла своего рода
обращенную в прошлое и проникнутую идеями руссоизма утопию свобод-
ной и единой Германии и национально-самобытной немецкой культуры.
Гердер касается вопроса о возможности использования древнегер-
манской мифологии в статье «Идуна», 1796 (см. вступительную статью,
стр. XXXV).
Готское евангелие епископа Вульфилы (IV в.) и древненемецкое сти-
хотворное переложение евангелия монаха Отфрида Вейссенбургского
(IX в.) написаны на языке настолько далеком от новонемецкого, что
Гердер считает невозможным использовать их для обновления современ-
ной поэзии.
Манессовский кодекс (так называемая «Гейдельбергская рукопись») —
наиболее полное собрание стихотворений немецких миннезингеров, состав-
ленное в XIV веке. Составление этого кодекса приписывалось цюрихскому
патрицию Рюдигеру Манессе. Открытый в XVIII веке в Парижской нацио-
нальной библиотеке, где он в то время находился, он был частично
опубликован швейцарским критиком Бодмером («Собрание миннезингеров
швабской эпохи»^ 1758—1759), который был поклонником старинной не-
мецкой литературы и сторонником ее использования в современной поэзии.
Стр. 65. Стихотворные цитаты — из патриотического стихотворения
самого Гер'дера «Гению Германии» (1770).
...тучность и сладость — библейская цитата (Книга Судей, гл. 9Г
8-15).
Стр. 67. ...такого мусора... — Гердер имеет в виду пародию Николаи
«Изящный маленький альманах» ( 1771 ). См. вступительную статью, стр. XL.
Вергилий использовал в «Энеиде» труд своего предшественника, древ-
нейшего латинского поэта Энния.
Стр. 68. Перевод Гомера. — Бюргер переводил «Илиаду» в 1771—
1776 годах пятистопными ямбами, по образцу «Потерянного рая» Миль-
тона. Перевод был приостановлен после появления в 1776 году опыта
Штольберга, сделанного гекзаметрами (песнь XX). «Одиссея» и «Илиада»
в ставших классическими переводах Фосса (1781 и 1793) решили спор1
в пользу воспроизведения размера подлинника. Все эти поэты примыкали
к литературному направлению «бури и натиска» и в своем понимании
Гомера следовали за Гердером.
Стр. 69. Гердер называет эрсами шотландских горцев, от английского
erse — название языка кельтских племен горной Шотландии (иначе —
гаэльский язык), на котором, согласно Макферсону, будто бы сохранились
345
песни, переведенные в его «Оссиане». См. вступительную статью,
стр. XXIX, и примечание к стр. 30.
Лессинг пишет в 33-м «Литературном письме» (19 апреля 1759 г.),
приводя в качестве примеров лапландскую народную песню в переложе-
нии Клейста и две литовских из книги Руиха (1745): «Из этого вы
можете заключить, что поэты родятся во всех странах света и что
живые чувства не являются привилегией образованных народов» (см.
вступительную статью, стр. XXXVI). Песня каннибалов переведена Клей-
стом из «Опытов» Монтеня. «Я достаточно знаком с поэзией, — писал
Монтень, — чтобы утверждать, что в этой песне не только нет ничего
варварского, но что это самое настоящее анакреонтическое стихотворение»
(Мишель Монтень. Опыты, кн. I, изд. АН СССР, 1954, стр. 275).
Герстенберг перевел в своих «Шлезвигских литературных письмах»
(№ 8) несколько старинных датских народных баллад. См. вступитель-
ную статью, стр. XXXV.
Стр. 70. Схолиаст — в древности филолог, комментатор текстов гре-
ческих и латинских авторов.
ПОСВЯЩЕНИЕ К «НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ»
(Zueignung der Volkslieder)
Написано для второго издания «Народных песен», вышедшего по-
смертно под заглавием «Голоса народов в песнях» (1806). См. вступи-
тельную статью, стр. XXXIV. По содержанию перекликается с поздней
статьей Гердера «О народном пении» («Volksgesang»), напечатанной в его
журнале «Адрастея», ч. V, 1804. Стихотворение, по мысли Гердера, обра-
щено к Правде и Справедливости, двум «Адрастеям» (Адрастея «неот-
вратимая»— эпитет и синоним Немезиды, богини возмездия).
[О НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ]
Статья, представляющая предисловие к сборнику «Народные песни»,
напечатана в начале второго тома (1779) и заменила ряд других вводных
>статей, предпосланных в рукописной редакции 1774 года каждой части
сборника. См. вступительную статью, стр. XXXVIII. Печатается с сокра-
щениями; опущены подробные указания на исторические и литературные
источники, использованные при составлении сборника.
Стр. 72. Лин, Орфей, Мусей, Амфион — имена легендарных, частично
.мифических зачинателей древнегреческой поэзии. Фантасия — вымышлен*-
:.ное псевдомифическое лицо, упоминается в «Новой истории» Птолемея
Хенна (I -в.) как древняя поэтесса, сложившая до Гомера повествование
о Троянской войне и странствованиях Одиссея. Гердеру не было известно,
что это свидетельство является литературной мистификацией.
Epos (эпос) означает по-гречески «слово», «речь», «повествование»;
эпопея употребляется в значении «эпическая поэма».
Стр. 74. В «Теогонии» Гесиод рассказывает о том, как музы вдох-
нули в него дар божественных песен, когда он пас стада у подножия
Геликона.
346
Стр. 75. Поэт Мартин Опитц издал в 1639 году «Песнь о святом
Анно», выдающийся памятник немецкой поэзии XII века.
Стр. 76. ...песню о двух мучениках... и т. д. — см. статью «Об Осси-
ане», стр. 57. Под софистами подразумеваются паписты.
...его пародия. — «Пародиями» называют обычные в это время пере-
делки светских народных песен на религиозный лад, имевшие целью
замену таких популярных 'песен духовными стихами. Лютер является
автором целого ряда таких «духовных пародий».
О мейстерзингерах и миннезингерах см. примечание к стр. 63.
...в период швабской династии — то есть при императорах из династии
Гогенштауфенов (в XII и в начале XIII вв.). О расцвете рыцарской
лирики миннезингеров в «швабскую эпоху» писал Бодмер (см. выше,
примечание к стр. 64).
Стр. 77 ...и другие. — Все перечисленные немецкие песни, заимство-
ванные из старых сборников, были включены в редакцию 1774 года, но
не вошли в печатное издание 1778 года.
...в неуместном... тоне... — намек на пародию Николаи. См. вступи-
тельную статью, стр. XL.
Стр. 78. ...пытался перевести их... — Гердер перевел из сбор-
ника Перси значительно больше баллад, чем он напечатал в окон-
чательной редакции сборника. То же относится и к песням из
Шекспира.
Стр. 79. Баллада о Перси — знаменитая английская баллада «Охота
на Чивиоте», содержащая рассказ о бое в горах Чивиота между отря-
дами англичанина Перси, графа Нортумберландского, и шотландского
лорда Дугласа. В собрании свидетельств, предпосланном первому тому
«Народных песен», Гердер приводит восторженные отзывы об этой ста-
ринной балладе Филиппа Сиднея, современника Шекспира, и англий-
ского критика Аддисона в его журнале «Зритель» (1711, №№ 70
и 85).
...на испанском. — Испанские «романсы» (баллады) построены на
ассонансе гласных конечного слога, объединяющем все четные строки
данного стихотворения.
Стр. 81. Цитата из стихотворения Матиаса Клаудиуса, поэта, близ-
кого Гердеру и писавшего в народном стиле.
[ИЗ СТАРОГО ПРЕДИСЛОВИЯ
К СБОРНИКУ НАРОДНЫХ ПЕСЕН]
Первое из серии предисловий, предпосланных каждой части сборника
«Народные песни» 1774 года. Ставит общие вопросы о природе народной
песни. См. вступительную статью, стр. XXXIV. Переведено два отрывка.
Стр. 83. Поэт Аллан Рамзей издал в 1724 году сборник шотландских
народных песен, которым Гердер воспользовался в своем собрании. См.
вступительную статью, стр. XXXIV.
347
ГОМЕР-ЛЮБИМЕЦ ВРЕМЕНИ
(Homer ein Günstling der Zeit)
Статья была опубликована в 1795 году в журнале «Оры» и наиболее
полно отражает взгляды Гер дер а на наследие античности в поэзии и
изобразительных искусствах. В ней, как -и в написанных одновременно»
«Письмах для поощрения гуманности», посвященных «греческому искус-
ству как школе гуманности» (письма №№ 63—76), Гердер ближе всего
подходит к пониманию античности, характерному для веймарского класси-
цизма (см. вступительную статью, стр. XXXII). Однако, как показывает
его статья «Гомер и Оссиан», в том же году напечатанная в «Орах», он
по-прежнему рассматривает античный идеал прекрасного лишь как один
из многих возможных типов эстетического совершенства, обусловленных
каждый исторически сложившимися особенностями народов и их культур..
Первоначальная рукописная редакция имела и соответственное заглавие:
«Гомер и Оссиан, сыновья своего времени».
Статья о Гомере вызвала чрезвычайно резкую критику Фридриха
Вольфа, автора известных «Пролегомен к Гомеру» (1765), в которых
«Илиада» рассматривается как редакционный свод безымянных народ*
ных песен. Вольф обвинял Гердера в плагиате; на самом же деле идеи
Вольфа, в дальнейшем получившие широчайшее распространение в теории
эпоса, опирались на интерпретацию Гомера как народного певца, выдви-
нутую Гердером в ранних работах, и на его понимание народной поэзии.
См. вступительную статью, стр. XXXIII.
Стр. 88. Теут (Theut) — мифологический предок тевтонов, то есть
германцев; является псевдоисторическим домыслом «патриотической»
германистики XVIII века. Далее в тексте перечисляется ряд имен, с кото-
рыми мифы и предания разных народов связывали возникновение наук
и искусств.
Стр. 92. ...в очень свободной стихии. — Гердер подчеркивает здесь
элемент импровизации, характерный для устного народного песенного·
творчества.
Стр. 93. ...в Италии... — Гердер, вслед за Гете, совершил в 1788—
1789 годах путешествие в Италию, которое позволило ему познакомиться
с памятниками античного искусства, но не отразилось более заметным
образом на его литературном творчестве.
Стр. 96. Ларец Кипсела — украшенный рельефами ящик из кедрового
дерева, находившийся в храме Геры в Олимпии. По преданию, коринф-
ский тиран Кипсел (VII в. до н. э.) будто бы после рождения был
спрятан в этом ящике от врагов. Упоминается у Павсания (II в. н. э.)
в его «Описании Эллады» (кн. V, гл. 17—19) и относится, по-видимому,
к VI веку до н. э.
Стр. 97. Поэма, приписываемая Орфею — так называемая орфическая
«Аргонавтика», поздняя греческая поэма V века. Согласно древнегреческой
легенде, Орфей был участником путешествия аргонавтов. Орфическая
поэзия, в том виде, как она дошла до нас, относится к эпохе Римской
империи (I—IV вв.).
348
Стр. 99. Божественный свинопас — Эвмей, верный пастух Одиссея,
гостеприимно принимающий его в своем доме после его возвращения
в Итаку и помогающий ему восстановить свои права («Одиссея», кн. XIV
ή след.).
Стр. 100. ...об амиклейском и олимпийском тронах... — Упоминаются
в «Описании Эллады» Павсания (кн. III, гл. 18, и кн. V, гл. II). Первый
<был воздвигнут в VI веке до н. э. в Амиклах (близ Спарты) для статуи
Аполлона, работы Батикла, второй был изготовлен Фидием для статуи
Зевса Олимпийского (V в. до н. э.).
Правило Поликлета — канон пропорциональности человеческого тела
в древнегреческой скульптуре.
Стр. 101. Эпигенез — биологическая теория, выдвинутая во второй
лоловине XVIII века, согласно которой организм не предобразован
(«преформирован») в половых клетках, а формируется в процессе заро-
дышевого развития в результате оплодотворения материнской клетки от-
цовским семенем. У Гердера — в значении органического развития.
Стр. 103. ...песни... киклических поэтов... — эпические поэмы, вхо-
дящие в цикл поэм о Троянской войне. Дошли до нас только в от-
рывках.
Стр. 104. Гомеровские гимны — собрание вступительных гимнов ми-
фологического содержания,· которыми гомеровские рапсоды, выступая на
«празднестве, предваряли исполнение эпических песен.
СРАВНЕНИЕ ПОЭЗИИ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ
ДРЕВНИХ И НОВЫХ ВРЕМЁН
(Resultat der Vergleichung der Poesie verschiedener
Völker alter und neuer Zeit)
Из «Писем для распространения гуманности» (см. ниже, стр. 285
и след.), 1796, письмо № 107. Статья эта заканчивает серию писем, посвя-
щенных истории литературы новоевропейских народов, и подводит итог
суждениям Гердера по этим вопросам. См. вступительную статью,
стр. LI—LII.
Стр. 109. Спор о древних и новых возник во Франции в связи с поэмой
Шарля Перро «Век Людовика Великого» (1687), в которой автор поста-
вил вопрос о преимуществах современной цивилизации, а следовательно,
и литературы, по сравиению с античной. Спор продолжался и в начале
XVIII века, в связи с оценкой поэм Гомера (в нем приняли участие
Перро, Фонтенель, Дасье и др.).
Стр. 112. ...высказал Шиллер — в известной статье «О наивной и
сентиментальной поэзии» (1795—1796).
Фаблио — старофранцузские стихотворные повести бытового содер-
жания (XIII—XIV вв.).
Стр. 113. Рефлектирующий поэт — в значении «способный к рефлек-
сии». Соприкасается с понятием «сентиментального» поэта (в отличие от
«наивного») в статье Шиллера.
349
язык и поэзия
О НОВЕЙШЕЙ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ПЕРВЫЙ СБОРНИК ФРАГМЕНТОВ
(Über die neuere Oeutsche Literatur.
Erste Sammlung von Fragmenten)
Подзаголовок: «Приложение к письмам о новейшей литературе» (под-
разумевается журнал Лессинга). См. вступительную статью, стр. XXIII—
XXIX.
Первый и второй сборники вышли в свет в 1766 году, третий —
в 1767 году. В 1768 году первый сборник был полностью переработан.
Гердером, с устранением связи его с «Литературными письмами». Новая,
редакция осталась в рукописи и впервые увидела свет в собрании сочи-
нений 1805 года. Перевод сделан по первой редакции .и содержит фраг-
менты 1—3, 6—7, 12—13, с небольшими сокращениями.
Стр. 118. Михаэлис — известный теолог-ориенталист; за исследование
кО влиянии языков на мнения и мнений на языки» (1752) получил пре-
мию Берлинской Академии наук. Основные положения этой работы были
изложены Мендельсоном в «Письмах о литературе», №№ 72—74 (1759).
Идиоматические выражения. — У Гердера — «идиотизмы» (Idiotismen),.
в старинном словоупотреблении, опирающемся на значение этого слова
в классических языках, — «^своеобразные особенности» (обычаев, куль-
туры, национального характера, в частности идиоматизмы языка).
Немецкие общества — языковые академии, которые были созданье
в XVII веке по частной инициативе образованных дворян и ученых бюрге-
ров для улучшения немецкого литературного языка.
Стр. 119. В своем учении о «возрастах языка» и их характеристике
Гердер следует за Дидро («Письмо о глухих и немых для тех, кто слы-
шит и говорит», 1751) и Руссо («Рассуждение о причинах и основах
неравенства», 1755).
Стр. 122. Клопшток в статье «Ö языке поэзии» (в журнале «Северный
обозреватель», т. I, 1759), которую Лессинг рецензировал в «Письмах,
о литературе», №51, противопоставляет язык поэзии как язык «страстей»
языку прозаическому как языку «рассудка». Подобно Гердеру, он высту-
пает в защиту «инверсий», «идиотизмов», «сильных образных слов»·
и других средств эмоционального выражения.
Сильные образные слова. — В оригинале: «Machtwörter». Этим тер-
мином в XVIII веке обозначали образные идиоматизмы старого немец-
кого языка, главным образом немецких писателей XVI века.
Стр. 123. Метемпсихоза — учение о переселении душ: здесь в образ-
ном значении перерождения (трансформации).
Зульцер был сторонником рационализма в философии и эстетике. Его·
книгу «Краткое изложение наук» рецензировал Мендельсон в «Литератур-
ных письмах», № 61—62.
Стр. 124. Кончетти (итал.) — образные иносказания, связанные не-
редко с игрой слов; встречаются в особенности в ранних произведениях
Шекспира, под влиянием итальянской литературы XVI века.
350
Швейцарцы — цюрихские критики Бодмер и Брейтингер, выступившие
с начала 1740-х годов против рационалистической поэтики Готшеда и
готшедианцев с защитой прав чувства и воображения в поэзии. Учеником
швейцарцев был Клопшток; Гердер обязан им некоторыми сторонами,
своих литературных взглядов. Бодмер также указывал на значение ста-
ринной немецкой поэзии, ее «идиотизмов» и «сильных образных слов»..
О его .издании сборника швабской поэзии (средневековых миннезингеров)
см. примечание к стр. 64.
Стр. 125. Небольшая книга древних евреев — библия.
Стр. 127. Псалмы Крамера — стихотворный немецкий перевод псалмов
(1755—1764).
В сноске 1 на стр. 127 подразумевается предисловие Михаэлиса
к книге Лоута «О священной поэзии евреев» («De sacra poesi hebraeorum»r
1758—1761), которая имела большое влияние на интерпретацию Гердером
Ветхого завета как народной <поэзии древних евреев. См. вступительную*-
статью, стр. XXVI.
В своем раннем эстетическом труде «Наблюдения над чувством пре-
красного и возвышенного» (1764), оказавшем на молодого Гердера зна-
чительное влияние, Кант стоит на точке зрения английской эмпирической
и сенсуалистической эстетики. См. вступительную статью, стр. X.
Стр. 129. Пример со змеей заимствован Гердером из книги Дидро*
«Письмо о глухих и немых» (1751), где автор объясняет инверсию после-
довательностью мысли и отмечает редкость инверсий во французском*
литературном языке.
Стр. 131, сноска 2. ...один наш классический писатель — Мендельсон-;
(«Философские сочинения», 1761).
ТРАКТАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЯЗЫКА
(Abhandlung über den Ursprung der Sprache)
План сочинения на эту тему относится еще к 1764 году. Трактат
написан на премию 1770 года, напечатан в 1772 году, 2-е издание—*-
в 1789 году. Перевод следует первому изданию и содержит с сокраще-
ниями первую часть, озаглавленную: «Могли ли люд^ предоставленные
самим себе, изобрести язык?» См. вступительную статью, стр. XXIV—XXV.
Ср. также: А. Л. Погодин. «Язык как творчество. Происхождение·
языка» (сборник «Вопросы теории и психологии творчества», вып. IV,
1913), стр. 393—433.
Стр. 133. ...эгоистическими монадами... — Согласно учению Лейбница,,
монады не способны взаимодействовать друг с другом («у монады нет
окон»). О монадологии Лейбница см. примечание к стр. 13.
Стр. 135. Гектор... разговаривает со своими конями. — См. «Илиада»>.
кн. VIII, ст. 185 и след.
Стр. 136. ...в известной притче... — Имеется в виду диалог Платона·.
«Федр».
Стр. 139. ...совсем иному языку. — Далее в оригинале следует поле-
мика с механистической, теорией Кондильяка, объяснявшего происхождение
35Й
языка из криков животных («Опыт о происхождении человеческих зна-
ний», 1746). См. вступительную статью, стр. XXIV.
Стр. 143. Одинокий дикарь. — Гердер приходит к этому неправиль-
ному выводу, рассматривая язык лишь как выражение мысли и не учи-
тывая его основное значение как средства общения между людьми.
Стр. 144. Пример со слепым... — См. стр. 180 настоящего издания и
примечание к ней.
Стр. 145. ...так и было имя ей. — Из Ветхого завета: Бытие, 2, 19,
Стр. 146. ...основные корни языка. — Грамматика древнееврейского и
других семитических языков рассматривает имена как производные от
глаголов. Учение о первичности глаголов в процессе развития языка было
общепринятым в лингвистике до второй половины XIX века.
Стр. 148. ...поэзия древнее прозы. — В этом вопросе Гердер следует
за Гаманном. См. вступительную статью, стр. XIII.
Стр. 149. Английский философ — К. П. Броун, в книге «Деятельность,
приближение и границы человеческого рассудка» (немецкий перевод —
1769).
Стр. 152. Стихотворная цитата — из Шекспира «Сон в летнюю ночь»,
акт I, сц. 1.
...издают как бы осязаемые звуки... — Гердер имеет в виду эмоцио-
нальную символику звуков языка.
ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
КРИТИЧЕСКИЕ ЛЕСА, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НАУКИ О ПРЕКРАСНОМ
И ИСКУССТВА, ПО ДАННЫМ НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Kritische Wälder, oder Betrachtungen, die Wissenschaft und Kunst des Schönen
betreffend, nach Massgabe neuerer Schriften, Erstes Wäldchen)
Три выпуска «Критических Лесов» вышли в свет в 1769 году, четвер-
тый остался в рукописи. См. вступительную статью, стр. XIX—XXII.
Слово «Леса» как обозначение для сборника восходит к «Лесам»
(«Silvae»), сборнику стихов римского поэта Стация (ум. ок. 95 г. н. э.).
Латинское silvae дословно обозначает «материалы», «наброски». Перевод
содержит главы 16—19 первого «Леска», посвященные «Лаокоону» Лес-
синга. Над критикой «Лаокоона» Гердер работал с конца 1766 года.
Цитаты из «Лаокоона» часто неточны. Ср. Г. Э. Л е с с и н г. Лаокоон,
или О гра'ницах живописи и поэзии, перевод под редакцией Г. М. Фрид-
лендера. Гослитиздат, 1957.
Стр. 158. «Если справедливо...» и т. д. до «...предмет поэзии». — См.
«Лаокоон», стр. 186—187.
Стр. 159. Клавиатура красок — «цветной» или «зрительный рояль»
(франц. clavecin de couleur или clavecin oculaire, нем. Farbenklavier),
инструмент, построенный французским патером Луи Бертраном Кастелем
(1688—1757), в котором последовательность красок заменяет в клавиа-
туре обычное чередование звуков,
352
Стр. 160. Энергические искусства (нем. — energische Künste)—дей-
ствующие с помощью «энергии», динамически: по Гердеру — музыка и
танец. См. вступительную статью, стр. XXI.
Изящная наука (нем. schöne Wissenschaft) — старинное название
поэзии, употреблявшееся в XVIII веке.
Стр. 162. ...знаки поэзии произвольны... — См. «Лаокоон», стр. 200.
«Описание материальных предметов...-» и т. д. — вольная цитата — см.
«Лаокоон», стр. 206.
Стр. 163. Пример, который приводит Лессинг, — описание генциана
в поэме Галлера «Альпы» (см. «Лаокоон», стр. 203).
«Каким образом достигаем мы...» — См. «Лаокоо'Н», стр. 201—202
и 205.
Стр. 164. «Поэзия описывает...» — См. «Лаокоон», стр. 187 и 189 (воль-
ное переложение).
Стр. 165. О драпировке — см. «Лаокоон», стр. 211—212.
«...несостоятельность всей описательной поэзии...» — См. «Лаокоон»,
стр. 208 и 371.
«...понять и объяснить возвышенную манеру Гомера...» — См. «Лао-
коон», стр. 189.
Стр. 166. «Я нахожу...» — См. «Лаокоон», стр. 189 и 191.
Когда, например, его Геба... и т. д. — См. «Лаокоон», стр. 191—192
(«Илиада», кн. V, ст. 722—732).
«Какой труд...» и т. д. — См. «Лаокоон», стр. 202.
Стр. 167. «Не только там...» и т. д. — См. «Лаокоон», стр. 198
(«Илиада», кн. IV, стр. 105—126).
«Гомер описывает щит Ахилла...» к т. д. — См. «Лаокоон», стр. 2X7—
218 («Илиада», кн. XVIII, стр. 478—607).
Стр. 168. ...противоположность Вергилию. — Описание щита Энея
у Вергилия — см. «Лаокоон», стр. 219—222 («Энеида», кн. VIII, стр. 626—
728) — представляет подражание описанию щита Ахилла в «Илиаде».
«многие черты...» и т. д. — См. «Лаокоон», стр. 214—215.
Стр. 170. ...о скипетре Агамемнона.., и т. д. — См. «Лаокоон»,
стр. 196 («Илиада», кн. II, стр. 42—47 и 100—109).
Стр. 171. ...хотя бы это был Ферсит... — О безобразном у Гомера на
примере изображения Ферсита см. «Лаокоон», стр. 259—264.
Греческие epos — слово, рассказ, эпос; melos — песня, мелодия, ли-
рика; eîdos — вид, образ; соответственно этому epopoios, melopoios, eido-
poios означают поэта как творца эпоса, мелоса и эйдоса.
Стр. 173. «Гомер не изображает ничего...» и т. д.— См. «Лаокоон»,
стр. 189.
«...одной какой-нибудь чертой...» — См. «Лаокоон», стр. 187—189.
Стр. 174. «Подробное изображение...» и т. д. — См. «Лаокоон»,»
стр. 207—209.
Стр. 176. Низшие душевные силы — в рационалистической психологии
XVIII века — чувственное восприятие и воображение, в отличие от рас-
судка.
Стр. 177. Г ар рис, Джемс (1709—1780)—автор трудов пю теории
искусств. Гердер основывается на его «Рассуждениях о музыке* живописи
23 Зак. 291. Гердер $53
и поэзии» (1744, немецкий перевод—1756). Следуя за Аристотелем
в его разграничении двух видов человеческой деятельности, Гаррис раз-
личает искусства, создающие предметы (erga), и искусства, представляю-
щие проявление энергии (energeia). К числу последних он относит танец,
музыку и поэзию.
Автор «Философских сочинений» — Мендельсон. См. примечание
к стр. 131.
ПЛАСТИКА
Гердер работал над «Пластикой» в Риге (1768—1769) и во время
своего пребывания во Франции (1769—1770). Сохранились многочислен-
ные черновые наброски и чистовая рукописная редакция 1770 года. В пе-
реработанной форме напечатана в 1778 году. В 1780-х годах Гердер со-
бирался еще раз переработать «Пластику». Некоторые положения этого
эстетического трактата были в дальнейшем использованы в «Каллигоне»
(1801). В настоящем издании переведен первый отрывок, касающийся вы-
деления пластики как особого вида искусства на основе психологии вос-
приятия. См. вступительную статью, стр. XXII.
Стр. 179. ...из творческого сна Пигмалиона. — Миф о Пигмалионе,
ваятеле, оживившем с помощью Венеры созданную им прекрасную статую
Галатеи (Овидий. Метаморфозы, кн. X, ст. 243—297), был обработан
в музыкальной монодраме Руссо «Пигмалион», которая произвела на
Гердера большое впечатление. Образ Пигмалиона воплощает для Гердера
идеал художника-творца, здесь в особенности ваятеля, в соответствии
с содержанием «Пластики».
...пишет Дидро... — в «Письме о слепых в назидание зрячим» (1749)
Дидро цитирует английскую биографию Саундерсона (1747), профес-
сора математики в Кэмбриджском университете, который потерял зре-
ние в двухлетием возрасте. «Письмо» Дидро повлияло на основную
концепцию «Пластики». «Наш слепой, — пишет Дидро, — судит о красоте
при помощи осязания» (см. Дени Дидро. Избранные произведения,
Гослитиздат, 1951, стр. 268).
Стр. 180. Английский хирург Вильям Чизлдин (1688—1752) произвел
одним из первых блестящую операцию снятия катаракты у тринадцати-
летнего мальчика. Результаты этой операции широко обсуждались в науч-
ной печати, в частности в «Системе оптики» англичанина Роберта Смита ·
(1738), переведенной в 1755 году на немецкий язык (см. Дидро. Из-
бранные произведения, стр. 285).
Стр. 182. Рукоятка Сатурна. — Кольцо Сатурна еще в XVII веке счи-
талось двумя «рукоятками».
Повязка Юпитера — светлая полоса, пересекающая эту планету па-
раллельно экватору.
- Офтальмит — по объяснению Гердера (см. стр. 186), существо, «це-
ликом обратившееся в зрение», — состоящее из одних глаз.
В «Государстве» Платон сравнивает чувственное восприятие с те-
нями на стене пещеры, которые отбрасываются предметами, движущимися
-за спиною запертых в ней людей.
354
...понятие вещи. — Немецкое Begriff (понятие) — от greifen (хватать);
ср. русское «понятие», то есть взятие. Гердер нередко, в особенности
в более поздних работах, прибегает к подобным этимологиям, не всегда
научно правильным, для объяснения смысла понятий и терминов. См.
вступительную статью, стр. LV.
Стр. 185. Слово «красота»... — Этимология основана на непереводимой
игре слов: Гердер неправильно производит немецкое Schönheit (красота)
от schauen (смотреть) и Schein (видимость).
Стр. 188, сноска 1. «Мысли о ваянии» Фальконета, создателя памят-
ника Петру I («Медного всадника»), были переведены на немецкий язык
в журнале «Новая библиотека изящных наук», т. I.
О ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЭЗИИ НА НРАВЫ НАРОДОВ
В ДРЕВНИЕ И НОВЫЕ ВРЕМЕНА
(Über die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker
in alten und neuen Zeiten)
Написано в 1778 году на премию баварской Академии наук. Напеча-
тано в 1781 году в «Трудах» Академии. См. вступительную статью*
стр. LI. Перевод содержит характеристику расцвета поэзии в первобытт
ном обществе, в эпоху «детства и юности человечества» (раздел I) и ее
упадка под влиянием книжной цивилизации (из главы III, «Влияние поэ-
зии на нравы нового времени»).
Стр. 193, сноска 1. Работы Блэкуэлла (1735) и В уда (1768) о Гомере
и Блэра об Оссиане (1765) принадлежат к числу наиболее влиятельных
произведений английской предромантической критики и непосредственно
повлияли на концепцию первобытной народной поэзии у Гердера. См,
вступительную статью, стр. XXIX и XXXII.
КАЛЛИГОНА
(Kalligone)
Написана в 1799—1800 годах, напечатана в 1800 году. См. вступи-
тельную статью, стр. LV—LVI. Новейшее комментированное немецкое
издание —под редакцией Гейнца Бегенау, Веймар, 1955. В настоящем из-
дании переведены (с сокращениями) : предисловие, подводящее итоги-
полемики против теоретической философии Канта в «Метакритике»
(1792); глава 5 первой части, которая содержит критику основных кате-
горий эстетики Канта; глава 2 второй части (о поэзии).
Kalligone (греч.)—новообразование Гердера: «прекраснорожденная».;
Стр. 196. Сократизм — «сократический метод», обнаружение истины
путем критики ложных понятий софистики, ведущее, по словам Гердера,.
к «устранению бесполезной умственной спекуляции» (см. стр. 198).
Паралогизмы, антиномии — термины философии Канта. Паралогизмы —
ложные выводы, антиномии—взаимоисключающие противоречия, в кото*
рые, по Канту, впадает разум в своем стремлении познать мир.;
23* 355,
Синтез a priori —в философии Канта — априорные (то есть не осно-
ванные на опыте) общие суждения разума, на которых строится досто-
верность научного познания.
Стр. 197. ...я знал одного юношу... — Гер дер вспоминает о том, как он
•был учеником Канта в свои студенческие годы в Кенигсберге. См. всту-
пительную статью, стр. X—XI.
Стр. 198, Точку зрения Юнга — в сочинении «Об оригинальном твор-
честве», 1759 — см. во вступительной статье, стр. XLII.
Стр. 199. Аристофановское птичье государство — «Тучекукуевск», го-
род, выстроенный птицами в облаках (в комедии Аристофана «Птицы»).
Здесь — в смысле пустых умствований.
приятным... называется то, что охотно принимается. — По-немецки
angenehm — приятный, nehmen — принять (ср. русское «при-ять»).
Стр. 201. ...только это для нас и прекрасно. — По-немецки schön —
прекрасный, scheinen — блестеть.
...его разговор с Федром. — Имеется в виду диалог Платона «Федр»—
о прекрасном. Оттуда — приведенная цитата.
Стр. 202. Спасибо этим платоникам! — Неоплатонизм возрождается
в философии итальянского Ренессанса (XV в.), откуда он распростра-
нился в XVI веке в другие страны Европы.
Ближайшие соседи (англичан) — шотландцы.
Стр. 203. Согласно учению французского материалиста Гельвеция
{«О разуме», 1758), человек в своем поведении руководствуется личным
интересом.
Стр. 204. «Сказки матушки Гусыни» — заглавие французских народ-
ных сказок Шарля Перро (1697).
Героида — литературный жанр античной поэзии: стихотворные послания
знаменитых «героинь», рассказывающих историю своей любви. Наиболее
известны «Героиды» Овидия, вызвавшие многочисленные подражания.
...о процентах... — Немецкое слово Interesse означает одновременно
«интерес» и процент за долги.
Чувственно-приятное и трогательное. — См. Иммануил Кант. Критика
способности суждения, § 13 (русский перевод H. M. Соколова, СПб.,
1898). У Канта: Reiz — чувственно-приятное, возбуждающее желания,
прелесть; Rührung — трогательное; Anmut — грация.
Стр. 208, сноска 1. Энтелехия (термин философии Аристотеля) —
внутренняя цель.
Стр. 211. ...повозкой Феспида. — Первый греческий трагик Феспид, по
рассказам древних, разъезжал вместе со своими актерами на повозке.
Стр. 214, сноска 1. «Крестовые походы филолога» (1762)—сочине-
ние Гаманна. См. вступительную статью, стр. XIII.
Сноска 2. Немецкое Wort (слово) не родственно werden (стано-
виться) .
Стр. 216, сноска 1. Начальный стих поэмы Ариосто «Неистовый
Роланд».
Стр. 217. Иудейский Геркулес— богатырь Самсон в библии.
Стр. 219. Латинское слово actus (акт) и греческое drama (драма)
означают «действие».
356
Стр. 222. От обмена ведет происхождение обман... — В немецком
языке от Tausch (обмен) происходит глагол täuschen (обманывать, созда»
вать иллюзию).
От декораций этот обман не зависит... — Эстетическая доктрина фран-
цузского классицизма XVII века обосновывала требование единства места
тем, что зритель воспринимает перенесение действия из одного места
в другое как нарушение правдоподобия.
Стр. 223. Моли — волшебная трава, которую Гермес дал Одиссею,
чтобы предохранить его от чар волшебницы Цирцеи («Одиссея», кн. X*
ст. 302 и след.).
История Амура и Психеи представляет собою вставную новеллу в ро-
мане Апулея «Золотой осел».
Стр. 224. Gteeman (англ.), joculator (лат.) — жонглер, средневековый
странствующий певец, одновременно потешник и акробат.
«Вежливые разговоры» Свифта — «Полное собрание вежливых и
остроумных разговоров» (1738),
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
ИДЕИ О ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(Ideen zur Thilosophie der Geschichte der Menschheit)
Уже в 1777 году Гердер задумал переработать свою книгу «Еще
к вопросу о философии истории для воспитания человечества» (см.
стр. 274 и след.). С 1782 года возник план новой книги, работа над ко-
торой продолжалась в последующие годы. Часть первая вышла в свет
в 1784 году, часть вторая — в 1785 году, часть третья — в 1787 году,
часть четвертая — в 1791 году; часть пятая, охватывающая новую исто-
рию (от Реформации до Французской революции), осталась ненаписан-
ной, отчасти ввиду трудностей цензурного характера. В письме к Гаманну
(апрель 1795 года) Гердер сообщает, какие затруднения вызвала у него
в особенности глава о «государственном управлении», которая была пред-
ставлена «нашему другу Гете для министерской цензуры и была получена
обратно с утешительным ответом, что ни одно слово не может остаться,
как было». Сохранились в рукописи 'план пятой части и несколько черно-
вых отрывков, носящих резко выраженный антимонархический и анти-
феодальный характер. См. вступительную статью, стр. XLVII—L* На рус-
ский язык была переведена только первая часть «Идей» (кн. I—V),
содержащая общие положения философии истории Гердера: «Мысли,
относящиеся к философской истории человечества, по разумению и начер-
танию Гердера», СПб., 1829 (ср. рецензию в «Московском телеграфе»,
1829, ч. 29, № 7, сентябрь, стр. 89—91). Обещанное переводчиком продол-
жение не появилось.
Проницательную критическую характеристику трудов Гердера по все-
мирной истории дал Н. В. Гоголь в статье «Шлецер, Миллер и Гердер»
(«Арабески», ч. II, 1835), Гоголь считал Гердера одним из «великих зодчих
мировой истории». «У него крупнее группируются, события, его мысли
24 Зак. 291. Гердер 357
все высоки, глубоки и всемирны». Вместе с тем, Гоголь отмечает, у Гер-
дера отсутствие интереса к конкретным деталям исторического процесса и
к его «практической» (мы бы сказали — материальной) стороне. «Если
событие колоссально и заключается в идее, — оно у него развертывается
все, со всеми своими сокровенными явлениями; но если слишком косну-
лось жизни и практического, оно у него не получает определенного коло-
рита». «Он мудрец в изучении идеального человека и человечества, но
младенец в познании человека, по весьма естественному ходу вещей, как
всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных заня-
тиях жизни...»
Для настоящего издания выбраны отрывки, излагающие общие прин-
ципы философии истории Гердера, и важнейшие характеристики отдель-
ных народов и исторических эпох.
Стр. 227. Все создания на земле... и т. д. — книга V, глава I.
Стр. 229. Хотя человеческий род... и т. д. — книга VII, глава 1.
Стр. 230. Патагонцы — обитатели южной оконечности Америк« и Ог-
ненной Земли; находились, по мнению европейских путешественников
XVIII века, на самой низкой ступени культурного развития.
«И я был в Аркадии» — то есть: «И я знал когда-то счастье» (Арка-
дия— в древнегреческих идиллиях страна невинных и счастливых пасту-
хов)— латинская надпись на надгробном камне на картине французского
художника Пуссена (XVII в.); часто цитировалась в XVIII веке (ср.
начало стихотворения Шиллера «Резиньяция»: «И я в Аркадии ро-
дился...»).
Стр. 231. Сила воображения... и т. д. — книга VIII, глава П.
«Волуспа» — мифологическая песня древнеисландской «Эдды», рас-
сказывающая о происхождении и грядущей гибели мира (X в.) См. при-
мечание к стр. 29.
«Веды» — священные пшны древних индусов; возникли, предположи-
тельно', до VI века до н. э.
Абипоны — могущественное в прошлом индейское племя в Южной
Америке.
Стр. 234. Ангекоки — шаманы (колдуны и знахари).
...врожденные идеи... — Идеалистическая философия рационалистов
XVII—XVIII веков (Декарта, Лейбница и др.) признавала наличие у че-
ловека предшествующих опыту «врожденных» идей и понятий (идея бо-
жества, математические понятия и т. п.), тогда как английские эмпирики
и материалисты (Локк и др.) критиковали это учение, указывая, что все
понятия рождаются из опыта.
Стр. 236. Практический разум... и т. д. — книга VIII, глава III.
Альпака й лама — животные из семейства верблюдов, прирученные
индейцами Южной Америки.
Стр. 237. Новая Голландия — Австралия.
...корни яма. — Ям, или ямс — съедобное корневище тропического ра-
стения диоскореи.
Жители Огненной Земли — пешересы (см. примечание к стр. 230
к слову «патагонцы»)»
358
Стр. 238. Потомство Прометея — люди (согласно греческому мифу).
Стр. 241. ...на огражденном участке земли. — В изображении социаль-
ного переворота, связанного с установлением частной собственности на
землю, Гердер следует за «Рассуждением о происхождении неравенства»
Руссо (1755).
Стр. 242. Благополучие человека,.. и т. д.—-книга VIII, глава V.
Стр. 243. Хотя человек... и т. д. — книга IX, глава I.
Стр. 244. Латинское cultura (откуда «культура») означает «возде-
лывание земли, земледелие», в переносном смысле — «воспитание, обра-
зование».
Стр. 246. Формы правления... и т. д. — книга IX, глава IV.
Стр. 248. Дальнейшие мысли... и т. д. — книга XII, глава VI. Глава
эта завершает раздел истории древнего Востока.
Стр. 250. Господству Великих моголов в Индии... — Государство Вели-
ких моголов возникло ß результате завоевания Северной Индии султа-
ном Бабуром (1526), среднеазиатским (тюркским) феодалом из династии
Тимура.
Стр. 251. Брахман — брамин, представитель высшей (духовной) касты
в Индии; здесь в более широком смысле — индус, исповедующий бра-
манизм.
Стр. 252. ...царица Савская... со своими загадками. — Согласно рас-
сказу библии, царица Савская явилась ко двору царя Соломона, чтобы
испытать его мудрость своими -загадками (Третья книга царств, 10, 1 и
след.); о жертвоприношении Соломона — там же, 8, 63.
...суеверием парсов... — Парсы (огнепоклонники) исповедуют религи-
озное учение Зороастра, объяснявшее существование зла борьбой доброго
и злого начал, Ормузда и Аримаиа; религия Зороастра господствовала
в Иране до арабского завоевания в VII веке; парсы подвергались го-
нениям со стороны мусульман и в настоящее время сохранились лишь
небольшими группами в некоторых частях Персии и Индии.
Искусство у греков — книга XIII, глава III. Вся книга XIII посвящена
древней Греции.
Стр. 255. Гесиоду приписывается небольшая поэма «Щит» (VI в.),
в которой содержится описание щита Геракла (ср. описание щита Ахилла
в «Илиаде», см. прим. к стр. 167).
Ларец Кипсела, Амиклейский трон — см. прим. к стр. 96 и 100.
Гермы — поясные скульптурные изображения бога Гермеса, которые
ставились на дорогах, площадях и в общественных местах в древ'ней
Греции.
Стр. 256. Архонты — правители Афинской республики.
Стр. 257. Винкельман в своей «Истории искусства древности» (1764)
утверждал, что «главнейшей причиной превосходства искусства в Греции
была свобода». Гердер, вслед за Винкельманом, неоднократно развивал
эту мысль, в особенности в написанных на премии работах «О причинах
падения вкуса у народов, где он прежде расцветал» (1775) и «О влиянии
образа правления на науки и наук на образ правления» (1780). :
Стр. 258. Великая Греция^—древнегреческие колонии в Италии и Си-
цилии.
24* 359
Колосс на острове Родосе — прославленная своей необыкновенной ве-
личиной статуя, воздвигнутая на острове Родос в честь бога Аполлона,
между ногами которой могли проходить корабли.
Стр. 259. Общие соображения о судьбе Рима... и т. д. — книга XIV,
глава VI. Книга XIV целиком посвящена истории Рима.
Гуси, спасшие Капитолий... — Согласно легенде, во время осады Рима
галлами (IV в. до н. э.) Капитолий был спасен от внезапного ночного на-
падения священными гусями богини Юноны, поднявшими крик при при-
ближении врага.
...совет... Антиоху. — Карфагенский полководец Ганнибал, потерпев
окончательное поражение в долголетней войне с Римом, предложил
Антиоху III, царю сирийскому, союз против римлян, в который он пред-
полагал вовлечь македонского царя Филиппа и ряд народов Италии, не-
довольных римским владычеством, с тем чтобы перенести войну на тер-
риторию Италии. План этот не был осуществлен из-за нерешительности
Антиоха (192 до н. э.).
Стр. 260. Цицерон — знаменитый римский оратор и государственный
деятель; прославился своим выступлением в суде против римского на-
местника Верреса, разграбившего Сицилийскую провинцию (70 до н. э.);
как представитель сенатской партии Цицерон ликвидировал заговор
Катилины, против которого произнес в сенате четыре речи, и, после
убийства Цезаря, неудачно боролся против диктатуры Марка Анто-
ния, по распоряжению которого он подвергся проскрипции и был убит
(43 до н. э.).
...плоды вымученного «золотого века»... — «Золотым веком» называли
период расцвета римской литературы в правление императора Августа
(31 до н. э.— 14 н. э.), время поэтической деятельности Вергилия, Гора-
ция, Овидия. Демократ Гердер неоднократно ставит под сомнение зна-
чение поэзии римского «золотого века», поскольку она была поэзией
придворной и создавалась в условиях утраты гражданской свободы и на-
родного порабощения. См, в особенности его рассуждения «О причинах
упадка вкуса у разных народов, у которых он прежде расцветал»,
1775 (ср. вступительную статью, стр. IX).
Стр. 261. Философия конечных целей (телеология). — Гердер, как и
Гете, ведет борьбу против телеологического объяснения явлений природы
и истории волей «божественного промысла» и его «целями». Ср. вступи-
тельную статью, стр. XLIX.
Стр. 262. Финны, латыши и пруссы — книга XVI, глава II.
Стр. 263. Ингры — ижоры, древние финские жители Ижорской земли
(Ингрии), по берегам Невы и Финского залива.
Яик — старое название реки Урал.
Стр. 264. Германские народы — книга XVI, глава III. В оригинале:
«немецкие народы» («Deutsche Völker»). Относительно терминов «герман-
ский» и «немецкий» см. примечание к стр. 60.
Аланы — кочевой народ не германского, а иранского происхождения,
родственный скифам и, вероятно, современным осетинам.
Стр. 265. Теут — см. выше, примечание к стр. 88. Туисто, бог, рожден-
ный Землей, и его сын Манн (то есть человек, родоначальник людей)
то
упоминаются в «Германии» Тацита как верховные божества древних гер-
манцев. Эрда— богиня земли (ср. немецкое Erde — земля), упоминается
в «Эдде».
Стр. 266. Славянские народы — книга XVI, глава IV. См. вступитель-
ную статью, стр. XVIII—XIX.
Винета— древний славянский город на острове Воллин в устье реки
Одер, согласно легенде поглощенный морем. Историческую критику этой
легенды дал Т. Н. Грановский в своей магистерской диссертации «Вол-
лин, Иомсбург и Винета». См. Сочинения Т. Н. Грановского, изд 2-е,
1866, ч. I, стр. 219—235.
Стр. 268. Общие соображения и выводы—-книга XVI, глава VI.
Стр. 269. Гуманность — цель человеческой природы... и т. д.— книга
XV, глава I. Эта глава заканчивает в «Идеях» раздел, посвященный древ-
нему миру.
ЕЩЕ ОДИН ОПЫТ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(Auch eine Thilosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit)
Книга эта представляет первый опыт философии истории Гердера,
в дальнейшем развернутый в его «Идеях». Написана в Бюккебурге
в 1773 году, напечатана в 1774 году. Переведенный отрывок содержит
критику философии истории буржуазного Просвещения. См. вступитель-
ную статью, стр. XLVI—XLVII.
Стр. 276. Илоты — порабощенные спартанцами остатки первоначаль-
ного населения страны, подвергшиеся жестокому угнетению.
Стр. 281. ...северные шотландцы... — Жестокие подавления восстаний
шотландских горцев, происходивших под лозунгом восстановления дина-
стии Стюартов, имели место в Англии несколько раз в течение XVIII века.
...для дикой Корсики... благородная Франция... — Итальянский остров
Корсика был «уступлен» Франции Генуэзской республикой в 1768 году.
«Равновесие в Европе». — Установившаяся в XVIII веке официаль-
ная доктрина «равновесия» военных сил великих европейских держав
рассматривается демократом Гердером как средство вооруженной охраны
прав и привилегий господствующих классов, при котором «бедный город»
и «измученная деревня» обречены на «послушание».
Стр. 284. Под великим древом...—в скандинавской мифологии миро-
вое древо, ясень Игдрасиль, о котором рассказывает «Волуспа» (см. при-
мечание к стр. 29).
ПИСЬМА ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ ГУМАННОСТИ
(Briefe zur Beförderung der Humanität)
«Письма» издавались Гердером в течение 1793—1797 годов неболь-
шими сборниками (общим числом — десять) как непериодический журнал.
См. вступительную статью, стр. L—LUI.
Стр. 294. ...великой вестницы мира. — В предисловии предшествую-
щего письма (№ 118) Гердер рассказывает со слов миссионера Лоскиеля,
361
что в старые времена между североамериканскими племенами, долго
враждовавшими друг с другом, по предложению ирокезов был заключен
союз, причем одно из племен (делавары) · было объявлено женой, а про-
чие племена — ее мужьями; в этом союзе племен «жене» («великой вест-
. нице мира») предоставлено было право разрешать миром все возни-
кающие между «мужьями» распри. В письме № 119 «великая вестница
мира» выступает как аллегорический персонаж, призывающий современ-
ные европейские народы, ло примеру североамериканских индейцев, бо-
роться за вечный мир.
...глубокомысленный манускрипт... — рукопись друга Гете и Гердера
Августа фон Эйнзидель «Идеи», сохранившаяся в архиве Гердера и не-
давно напечатанная в Германской Демократической Республике (А и -
gustvon Einsiede 1. Ideen, Berlin, 1957). Эйнзидель враждебно от-
носится к религии и церкви, близок по своим философским взглядам
к материализму, восстает против социального неравенства, завоеватель-
ных войн и колониального гнета. О нем см. Р. Г а й м. Гердер, т. II,
стр. 63—67; Paul Reimann. Hauptströmungen, стр. 252—254.
Стр. 294—295. ...на путь честного Сен-Пьера... — Аббат Шарль де Сен
Пьер (1658—1743)—проповедник идеи «вечного мира» и «союза наро-
дов»; автор трехтомного трактата «Проект установления вечного мира
в Европе», 1703—1707. В 1718 году был исключен из французской Ака-
демии за критику абсолютистского режима и завоевательной политики
Людовика XIV. В 1761 году Руссо опубликовал «Извлечение из трактата
о вечном мире» аббата де Сен-Пьера, в котором он выдвигает план фе-
дерации европейских наций. См. Werner Bahner. Der Friedensge-
danke in der Literatur der französischen Aufklärung (сборник «Grundpo-
sitionen der französischen Aufklärung», Berlin, 1955, стр. 139—208).
Стр. 296. Липе Туллиан — предводитель шайки разбойников, казнен
в Дрездене в 1715 году.
Стр. 299. Об объединении народов и провинций Германии... и т. д. —
Письмо это связано с проектом создания общенемецкой национальной
Академии (Teutsche Akademie), встретившим сочувственную поддержку
маркграфа Карла Фридриха Баденского и герцога Веймарского Карла
Августа.. Гер деру было поручено в 1787 году разработать основные прин-
ципы этого проекта, что он и сделал тогда же в записке, озаглавленной:
«Идея первого патриотического института для развития общего духа
Германии». Проект не осуществился, так как не встретил поддержки дру-
гих германских государств, опасавшихся чрезмерных расходов. События
Французской революции воспрепятствовали дальнейшему обсуждению
проекта Гердера, к которому он возвращается в «Письмах» уже по своей
личной инициативе.
ИЗ ЧЕРНОВОЙ РЕДАКЦИИ «ПИСЕМ»
Первая редакция писем относится к 1792 году, опубликована по ру-
кописи в академическом собрании сочинений (т. XVIII, 1883, стр. 305—
306). Вычеркнутые варианты заключены издателем в квадратные скобки.
См. вступительную статью, стр. L.
362
Стр. 303. Эделинги— буквально: «сыновья благородных (знатных)»,
германский термин для племенной (позднее — феодальной) знати.
Стр. 308. ...грассировали. — Подразумевается жеманное (картавое)
произношение на французский лад. Гердер употребляет иронически фран-
цузское заимствование «parlieren».
Стр. 309. Общее дело каждого — латинское res publica — республика;
буквально: «общественное дело».
...вопреки обычной теории... — Имеется в виду теория Монтескье, со-
сласно которой республиканское правление пригодно лишь для малень-
ких государств.
Стр. 311. Реформация... в Англии при Генрихе VIII была проведена
сверху, распоряжением короля, который объявил себя главой английской
церкви.
ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА
ДНЕВНИК МОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ В 1769 ГОДУ
(Journal meiner Reise im Jahre 1769)
Дневник написан осенью 1769 года в Нанте и Париже на основе
кратких путевых заметок. Опубликован отдельными частями в собрании
сочинений 1806 года, полностью 'впервые — в академическом издании,
т. IV, 1878, стр. 343—486. Переведены .наиболее показательные для идей-
ного развития Гердера отрывки. См. вступительную статью, стр. XIV—XV.
Стр. 321. ...превращение мачты у Вергилия...—Корабли Энея, пресле-
дуемые Турном, превращаются в водяных нимф и погружаются в море,
«как дельфины» («Энеида», кн. IX, ст. 119 и след.).
...путевые описания Лукиана... — «Правдивая история» Лукиана пред-
ставляет собою пародию на рассказы о чудесных путешествиях.
Стр. 322. Легенда об отрубленной голове, которая продолжала
мчаться вдаль, рассказывалась о морском разбойнике Стертебеккере,
прославившемся своими подвигами на побережье Балтийского и Север-
ного морей (казнен в Гамбурге в 1402 году).
Рыцарь с лебедем — Лоэнгрин; сказание о нем известно в Германии
как народная книга.
«Путешествие сэра Джона Мандевиля» (середина XIV в.) содержит
ряд фантастических рассказов о чудесах Востока. Было переиздано по-
английски в 1725 году; в немецком переводе имело распространение как
народная книга.
Стр. 324. Георгики — поэмы о земледелии. Известны «Георгики» Вер-
гилия (29 г. до н. э.).
...дух культуры. — О будущем возрождении славянских народов — см.
выше — «Идеи», стр. 266—268 наст, издания, и вступительную статью,
стр. XLVIII—XLIX.
Стр. 325. ...на ее Своде законов... — Гердер имеет в виду деятельность
Комиссии по составлению нового Уложения (в 1766 и последующих
годах).
363
Нынешняя война — первая русско-турецкая война (с 1768 года),
Земли короля прусского... — Гердер враждебно относился к завоева-
тельной политике Фридриха II и осуждал его антинациональное (фран-
цузское) направление в вопросах просвещения и культуры, в частности —
французский состав членов его Академии наук. В своей книге «О
немецкой литературе» (1781), написанной на французском языке,
Фридрих II с высокомерием <и презрением говорит о молодой немецкой
литературе своего времени.
Стр. 326. Фридрих II, будучи наследником престола, написал на
французском языке книгу против Макиавелли (1740), в которой осуждает
завоевательные войны и завоевателей; воцарившись в 1741 году, он
вторгся со своими войсками в Силезию и в дальнейшем неоднократно
действовал как завоеватель: противоречие, которое вызвало нападки на
«просвещенного» монарха из лагеря французских буржуазных просвети-
телей.
Утес Олафа — согласно преданию, место гибели норвежского короля
Олафа Трюгвассона (ок. 1000).
О римском императоре Нероне рассказывали, что во время пожара
Рима он читал свою «Героиду», воспевавшую пожар Трои.
Стр. 327. Век Людовика XIV — так называемый золотой век фран-
цузской классической литературы. Выступая против французского класси-
цизма, Гердер неоднократно подчеркивает его «придворный» характер,
неблагоприятный, с точки зрения писателя-демократа, для развития истин-
ной поэзии. Ср. рассуждение «О причинах упадка вкуса у разных наро-
дов...», главы II, IV (см. вступительную статью, стр. IX).
Катахреза — столкновение разнородных образов; кончетти — см. при-
мечание к стр. 124.
Стр. 328. Согласно учению Монтескье, монархия опирается на ари-
стократический принцип чести.
Стр. 332. Благопристойная комедия — термин драматургической тео-
рии Дидро. Будучи создателем французской «мещанской драмы» («По-
бочный сын», 1757; «Отец семейства», 1758), Дидро выступил в «Беседе
о побочном сыне» (1757) в защиту двух промежуточных между комедией
и трагедией жанров: «благопристойной» (то есть серьезной) комедии и
«семейной» (или «буржуазной») трагедии. Лессинг, одновременно
с Дидро, следуя английским образцам, создал мещанскую трагедию
«Мисс Сара Самгтсон» (1755), а затем, эдя самостоятельными путям'и,—
серьезную комедию на национально-немецкую тему «Минна фон Барн-
гельм» (1768). Гердер вслед за Дидро отстаивает «благопристойную»
комедию из жизни людей среднего класса с серьезной моралью и обще-
ственной тенденцией.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Август (63 до н. э. — 14 н. э.) —
первый римский император. — 259;
360.
Августин (IV—V вв.) — один из
«отцов церкви», основоположник
аскетического учения раннего хри-
стианства.— 201.
Авраам — библейский патриарх.—
275.
Аврора (миф.)—богиня зари у
римлян.— 320, 321.
Агамемнон — один из героев
«Илиады», царь Микен и предво-
дитель греческого войска под
Троей. —98, 99, 169, 170; 353;
XX.
Агасий Эфесский (I в. до н.э.) —
греческий скульптор эллинистиче-
ской эпохи, создатель известной
статуи «Боргезский боец»—187.
«Агатон» (1766)—роман Ви-
ланда. — 223.
Аддисон Джозеф (1672—1719) —
английский писатель и журналист
эпохи Просвещения. — 64, 84, 202;
343, 347; XXXVIII.
Александр Македонский (356—
323 до н. э.). —88, 125, 247, 250,
257, 259, 312.
Акризий (миф.) — царь Аргоса в
древней Греции, отец Данаи.—
255.
Алкиной — царь феакийцев в
«Одиссее». — 99.
Альберт Великий (1193—
1280) — немецкий монах-доминика-
нец, глава схоластической филосо-
фии своего времени. — 201.
Амиклейский трон — в г. Амиклы
(Спарта).—100, 255; 349, 359.
Амфион (миф.) — сын Зевса,
царь Фив, стены которых, согласно
легенде, сами сложились, послуш-
ные звукам его лиры. — 70, 72; 346.
Амур (миф.). — Древнегреческая
сказка о любви Амура и Психеи
известна из романа Апулея «Золо-
той осел».— 56, 223, 329; 357.
Анакреон (VI в. до н. э.) —
древнегреческий лирик. Ему при-
писывали сборник греческих стихо-
творений позднего происхождения,
воспевающих вино и любовь; сти-
хотворениям этим в середине
XVIII века подражали немецкие
«анакреонтики» (Глейм (см.)
и др.).—105, 171, 172, 174, 209;
XX, XXV, XXXVII.
«Аннета и Любен» — комиче-
ская опера Шарля Фавара (1762),
изображающая в сентиментальном
вкусе «счастливую» патриархаль-
ную жизнь французских «посе-
лян». — 331.
1 Указатель содержит только имена, встречающиеся в тексте Гердера;
объяснения к ним во вступительной статье и примечаниях редактора также
отмечены в указателе и выделены римскими цифрами и курсивом.
365
Анно— архиепископ Кельнский
(ум. 1075 г.). «Песнь об Анно»
(около 1100 г.)—выдающийся па-
мятник средневековой немецкой
поэзии. — 75.
Антиох III (222—186 до н. э.) —
царь Сирии. — 259; 360.
Антоний Марк (83—30 до н. э.) —
римский полководец и государ-
ственный деятель. — 260; 360.
Апеллес (IV в. до н. э.) —знаме-
нитый греческий живописец. — 44.
Апис — священный бык у древ-
них египтян. — 252.
Аполлон (Феб) — в греческой
мифологии бог света, покровитель
искусств. — 28, 44, 80, 94, 107, 145,
187, 254, 289; 349; XXII.
Аполлоний Несторид (I в. до
н. э.) — греческий скульптор, созда-
тель торса Геркулеса. — 187.
Апулей (II в. н. э.) — римский
писатель, автор сатирического ро-
мана «Золотой осел», —223; 357.
«Араукана» — героико-романтиче-
ская поэма испанского поэта эпохи
Возрождения Эрсильи ( 1533—
1594), описывающая восстание чи-
лийского племени индейцев-арау-
канцев против испанского влады-
чества. — 99.
Аргонавты (миф.) — греческие
герои, совершившие путешествие
на корабле за золотым руном. —
31, 96, 97, 321; 348; XXVII, XXX.
Аргус — в греческой мифологии
стоглазый великан, прославленный
как зоркий страж.— 186.
Арион — древнегреческий поэт
(VII—VI вв. до н. э.). Согласно
легенде, он был спасен дельфином,
которого зачаровал своим пе-
нием.— 70; XXXII.
Ариосто Л'одовико (1474—1533) —
итальянский поэт эпохи Возрожде-
ния, автор поэмы «Неистовый Ро-
ланд».—79, 99, 102, 111, 112, 216;
356; XXVI, XXXIX.
Аристотель (384—322 до н, э.) —
древнегреческий философ. Его
«Поэтика» легла в основу поэтиче-
ских теорий эпохи Возрождения и
классицизма (XVI—XVIII вв.).—
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21,
73, 96, 102, ИЗ, 177, 206, 208, 213,
215, 309; 337, 338, 354, 356; XXXII,
XLI, XLII, XLIV, XLV.
Ариэль — повелитель эльфов в
пьесе Шекспира «Буря». — 216;
XXXIV.
Аркадия. — 230; 358.
Арлекин — комический слуга,
главный персонаж итальянской и
французской импровизированной
комедии XVI—XVIII веков. В не-
мецком театре этого времени ему
соответствует Гансвурст. — 124.
Арно, аббат — малоизвестный
французский журналист второй по-
ловины XVIII века, сотрудник
журнала «Французская газета». —
327.
Арну София (1744—1803)—из-
вестная французская оперная пе-
вица. —328, 329.
Арнульф (855—899) — франк-
ский король, правнук Карла Вели-
кого, воевал с норманнами, венгра-
ми и славянами, в 894 году короно-
вался римским императором. — 263.
Артур — легендарный король
бриттов (V—VI вв.), с именем ко-
торого связаны многочисленные
средневековые рыцарские романы
так называемого артуровского цик-
ла (о рыцарях «круглого сто-
ла») . — 62.
Асы — верховные боги древне-
скандинавской мифологии. — 31 ;
341.
Аспазия — греческая гетера, воз-
любленная Перикла (см.), прави-
теля Афин (V в. до н. э.).—26.
«Аспазия» — французский галант-
ный роман XVII века. --10; 338.
366
Ассур— действующее лицо тра-
гедии Вольтера «Семирамида»
(1748). —330.
«Астрея» (1607—1625) — фран-
цузский галантно-пасторальный ро-
ман д'Юрфе, пользовавшийся боль-
шой популярностью в парижских
аристократических салонах XVII
века. —10; 338.
Аттила — король гуннов (.V в.
н. э.). —292, 296.
Афина Паллада — см. Паллада.
Афродита (миф.)—древнегрече-
ская богиня любви (у римлян —
Венера, см.). —205, 289.
- Ахилл. — 62, 90, 94, 96, 98, 99,
100, 101, 103, 106, 167, 170, 171, 218,
288; 353, 359; XX.
Аякс. — 94.
Бальдр. — 39; 342.
Банко — персонаж трагедии
Шекспира «Макбет», убитый по
приказу Макбета. — 15, 16; XLIV.
Банье Антуан — аббат, автор ис-
следований по античной мифологии
(1738— 1740)н — 321.
Бартолин Томас (1659—1690) —
датский филолог, издал на латин-
ском языке сборник «Датские древ-
ности» (1689) с извлечением из пе-
сен «Эдды». —28; 342; XXXV.
Баумгартен Александр Готлиб
(1714—1762) —немецкий философ-
рационалист, ученик Вольфа (см.),
автор «Эстетики» (1750—1758),
первого в Германии специального
труда, посвященного этой фило-
софской дисциплине.— 127, 202;
XI.
Бафил — любимец Анакреона
(см.), воспетый в его стихах.— 209.
Бедикер Иоганн (1641—1695) —
•автор грамматики немецкого языка
(1690). —118.
Бейль Пьер (1647—1706) — фран-
цузский философ-просветитель,, ав-
тор «Исторического и критического
словаря» (1695—1697). Скептицизм
Бейля, как указывал Маркс, слу-
жил орудием борьбы против мета-
физики и богословской схоласти-
ки.— 278.
Бернулли Жан (1667—1748) —
знаменитый швейцарский матема-
тик. — 230, 324.
Битти Джемс (1735—1803) —
английский поэт предромантиче-
ского направления, подражатель
Спенсера, автор поэмы «Мене-
стрель» (1773—1774) и «Рассужде-
ния о старинных баснях и рома-
нах» («Dissertation on fable and
romance»). — 202.
Бишоп Сэмюэл (1731—1795) —«
лондонский учитель, автор сбор-
ника латинских элегий (1764).—
27.
Бланкенбург Фридрих (1744—
1796) — немецкий литератор и кри-
тик, близкий Лессингу, известен
как создатель первой теории ро-
мана («Опыт о романе», 1774).—
202.
Блэкуэлл Томас — шотландский
ученый и литератор, автор «Иссле-
дований о жизни и произведениях
Гомера» (1735). —91, 193, 202; 355.
Блэр Хью (1718—1800)—шот-
ландский профессор-филолог, пред-
ставитель предромантического на-
правления, автор предисловия к
«Песням Оссиана». —193; 355;
XXIX.
Бодмер Иоганн Якоб (1698—
1783) — швейцарский критик и поэт,
противник Готшеда. Первый в не-
мецкой литературе обратился к
изучению средневековой поэзии;
издал «Нибелунги» (1757) и сбор-
ник стихотворений миннезингеров
(1758—1759). —64, 118, 124; 345,
347, 351.
Боккаччо Джованни (1313—
1375). —79.
367
Бонне Шарль (1720—1783) —
французский естествоиспытатель и
философ, автор книги «Наблюде-
ния над живыми организмами». —
151.
Боссюэ Жан Бенинь (1627—
1704) — французский епископ и
придворный проповедник; как ора-
тор известен своими торжествен-
ными речами; автор «Рассуждения
об истории», записанного с церков-
ной точки зрения. — 328.
Боэций (480—525) — позднела-
тинский писатель, известен как ав-
тор трактата «Об утешении фило-
софией». — 201.
Брейтингер Иоганн Якоб (1701 —
1776)—швейцарский критик, друг
и единомышленник Бодмера (см.),
выступивший вместе с ним против
Готшеда (см.); автор «Критиче-
ской поэтики» ( 1740). — 118, 121 ;
351.
Бренн — вождь галлов, завоева-
тель Италии; захватил и разгра-
бил Рим, но не сумел взять оса-
жденный Капитолий. — 259.
Британник (42—56 н. э.) — сын
римского императора Клавдия,
отравленный Нероном. — 260.
Брокес Бартольд Генрих (1680—
1747) — второстепенный немецкий
поэт, ранний представитель описа-
тельно-дидактической поэзии XVIII
века (поэма «Земные наслаждения
богов», 1721).—167.
Брут Марк Юний (85—42 до
н. э.) —сторонник республикан-
ской (сенатской) партии и глав-
ный участник убийства Юлия Це-
заря (44 до н. э.). — 21.
Бугэ. — 324.
Бэкон Фрэнсис (1561—1626). —
146, 198, 325.
Бэтлер Сэмюэл (1612—1680) —
английский поэт-сатирик эпохи Ре-
ставрации, автор поэмы «Гуди-
брас». — 218.
Бюргер Август (1747—1794) —
немецкий поэт эпохи «бури и на-
тиска», автор баллад в народном
стиле («Ленора», 1773, и др.)· —
67; 342, 345; XXXIX, XL.
Бюффон Жорж Луи Леклерк
(1707—1788) — французский писа-
тель и ученый эпохи Просвещения,
автор «Общей естественной исто-
рии» и «Естественной истории жи-
вотных». — 144, 151, 229, 298.
Веды.— 231; 358; XLVII.
Вейн — город в стране этрусков,
всевавший с древним Римом; взят
римлянами в 396 году. После раз-
рушения Рима галлами (390 до
н. э.) часть населения намерена
была переселиться в Вейн. — 259.
Веласкез де Веласко Л.-Х.
(1722—1772) — испанский литера-
тор, знаток исторических древно-
стей, автор «Истории испанской
поэзии» (1754). —111.
Венера — богиня любви у древ-
них римлян; название планеты. —
320; 354.
Вергилий Публий Марон (70—19
до н. э.). —67, 106, 111, 168, 174,
218, 260, 321; 345, 353, 360, 363;
XX, XXVIII.
Верелий Олаф (1618—1682) —
шведский историк и филолог, пер-
вый издатель древнеисландских саг
(с шведским переводом). — 2в.
Веррес — наместник Рима в Си-
цилии, против которого был воз-
бужден в сенате процесс за раз»
грабление этой провинции. В ка-
честве обвинителя выступал Цице-
рон (70 до н. э.). —260; 360.
Виланд Кристоф Мартин ( 1733—
1813)—немецкий поэт эпохи Про-
свещения; автор героико-романти-.
ческих и сатирических поэм в
манере Ариосто (см.), воспитатель-
ного романа «Агатон» (см.) и про-
заического перевода драматиче-
368
ских произведений Шекспира.— 26,
45, 99, 112; 340.
Виллуазон (1750—1805) — фран-
цузский филолог-эллинист. — 93.
«Вильгельм Мейстер» — роман
Гёте (1796). —223.
Винкельман, Иоганн Иоахим
(1717—1768)—выдающийся немец-
кий историк и теоретик искусства,
автор «Истории искусства древ-
ности» (1764), основоположник
буржуазно-демократического куль-
та античности и немецкого нео-
классицизма. — 94, 203, 253, 257;
359; VIII, XXI, XXVII, XXVHL
Вириат—пастух по происхожде-
нию, выдающийся вождь народного
восстания в Лузитании (современ-
ной Португалии) против римского
владычества; в течение восьми лет
победоносно боролся против Рима;
убит в 139 году до н. э. — 260.
Волуспа. — 231; 340, 358, 361;
XXXV, XLVII,
Вольтер Франсуа Мари Аруэ
{1694—1778). —3, 7, 8, 30, 276, 278,
280, 325, 326, 327, 330, 331; 338,
339; XV, XLV.
Вольф Фридрих Август (1759—
1824) — немецкий филолог-классик,
основоположник гомеровской кри-
тики нового времени («Пролего-
мены к Гомеру», 1795). —93; 348;
XXXIII.
Вольф Кристиан (1679—1754) —
немецкий философ, ученик Лейб-
ница, глава немецкого рациона-
лизма XVIII века; своими трудами,
охватывающими все отрасли фило-
софии, имел большое влияние на
раннее Просвещение в Германии. —
127; X, XI.
Ворм Оле (Олаус Вормиус,
1588—1654)—датский ученый, из-
вестный как издатель -рунических
надписей и поэтических памятни-
ков древнескандинавской литера-
туры (1636—1643). —28, 29; 340;
XXXV.
Вотан —в древнегерманской ми-
фологии бог войны, властитель
мертвых, позднее — верховное бо-
жество (у скандинавских наро-
дов — Один, см.). — 265.
Вуд Роберт (1716—1771)—ан-
глийский литератор и ученый, ав-
тор книги «Опыт об оригинальном
гении и произведениях Гомера». —
32, 70, 91, 92, 193; 3411 355; XXX,
XXXII.
Вулкан — в древнеримской мифо-
логии бог огня, божественный куз-
нец (у греков — Гефест) ; в «Или-
аде» (песнь XVI) Гефест кует щит
для Ахилла.— 170, 171, 255.
Вульфила (IV в.) — готский
епископ, перевел библию на гот-
ский язык. Библия Вульфилы яв-
ляется древнейшим литературным
памятником германской речи. — 64;
345.
Галиани Фернандо, аббат
(1728—1787)—итальянский эконо-
мист, философ и литератор эпохи
Просвещения. — 224.
Галлер Альбрехт (1708—1779) —
швейцарец, выдающийся естество-
испытатель и 1поэт; прославился
описательной поэмой «Альпы»
(1732), вызвавшей критические
замечания Лессинга в «Лао-
кооне»._45, 163, 202, 229, 230; 353.
Гаманн Иоганн Георг (1730—
1738)—немецкий литератор и фи-
лософ.— 352, 356, 357; X, XII, XIII,
XXIII, XXVII, XXXVI, XLII.
Гамлет.—16, 21, 331; 338, 339;
XXXIV, XLIV.
Ганнибал (243—183 до н. э.) —
карфагенский полководец, просла-
вившийся своими победами над
римлянами во время второй пуни-
ческой войны (218—201 до н. э.). ^-
259; 360.
369
Гарве Кристиан (1742—1798) —
профессор философии, популяриза-
тор моральных и эстетических
идей раннего немецкого Просвеще-
ния. — 202.
Гардт Герман фон дер (1660—
1746) —немецкий ориенталист. Вы-
двинул фантастическую «гипотезу»
о происхождении всех восточных
языков от древнегреческого. — 325.
Гардуэн Жан (1646—1729) —
французский ученый-иезуит, изда-
тель Плиния. — 323.
Гаррик Давид (1716—1779) —
знаменитый английский актер,
исполнитель ролей в пьесах Шек-
спира, способствовавший его воз-
рождению на английской сцене. —
22.
Гаррис Джемс (1709—1780). —
176, 177, 178, 202; 353, 354.
Гарсиласо де ла Бега (1540 —
1616)—испанский писатель, автор
«Истории Перу» ( 1609—1617). —
32; 341.
Гастингс — место битвы, в кото-
рой англосаксы во главе с коро-
лем Гарольдом были разбиты вой-
сками нормандского герцога Виль-
гельма Завоевателя (1066). — 62.
Гаул — один из героев «Песен
Оссиана» Макферсона. Диалог ме-
жду ним и духом его отца Мор-
ни — в примечаниях к поэме «Те-
мора», кн. III. —29; 340.
Геба — в греческой мифологии
богиня вечной юности; во время
пира подносит богам напиток бес-
смертия, нектар. — 166, 167; 353.
Гейне Кристиан Готлиб (1729—
1812) — профессор в Геттингене
(с 1763 г.), выдающийся филолог-
классик. — 253.
Гейнце Иоганн Михаэль (1717—
1790) — автор грамматического
труда, содержащего критику из-
вестной «Немецкой грамматики»
Готшеда (1759).—118.
Гектор — один из героев «Или-
ады», главный защитник Трои;
убивает Патрокла,. друга Ахилла,
и падает жертвой мести послед-
него.—99, 135; 351.
Гельвеции Клод Адриан (1715—.
1771)—французский философ-ма-
териалист. — 203; 341, 356.
Гемстергейс (1685—1766) — гол-
ландский философ и критик, после-
дователь Платона, автор диалогов
по вопросам философии искус-
ства. — 202.
«Генриада» — эпическая поэма
Вольтера (1723), написанная в
жанре классической эпопеи (по об-
разцу «Энеиды» Вергилия). Изо-
бражает религиозные войны во
Франции и прославляет короля
Генриха IV как защитника веро-
терпимости. — 99.
Генрих VIII (1491—1547) — ан-
глийский король. — 311; 363.
Генрихи — подразумеваются исто-
рические драмы Шекспира: «Ген-
рих IV», «Генрих V», «Ген-
рих VI».—17.
Гераклиды — песни о Геракле
(Геркулесе). —97.
Геркулес (миф.) — Геракл. — 95,
96, 187, 188, 217, 255; 356, 359;
XXII, XXVII.
«Герман и Туснельда» — ода
Клопштока (1753), прославляющая
Германа (Арминия), вождя гер-
манского племени херусков, побег
дителя римлян в Тевтобургском
лесу (9 н. э.). —37; 342.
Германик (15 до н. э. — 19 н. э.) —
племянник императора Тиберия.
Совершал успешные походы про-
тив германцев. По-видимому, был
отравлен по приказанию своего
дяди. — 260.
Гермес — в греческой мифологии;
вестник богов, покровитель тор-
говли. — 72, 88, 223; 357, 359.
370
Геродот (484 —ок. 420 до
н. э.).— 122, 217, 322.
Герстенберг Генрих Вильгельм
(1737—1823) — немецкий писатель,
жил в Дании, по своим взглядам
был близок Гер деру и писателям ·
эпохи «бури и натиска»; автор ста-
тей о Шекспире и о датских на-
родных балладах. — 45, 50, 69; 339,
340, 346; XXXV, XXXVI, XLII,
XLIII.
Гесиод — древнейший греческий
поэт (VIII—VII в. до н. э.), автор
дидактических поэм «Труды и дни»
и «Теогония». — 73, 74, 90, 96, 101,
104, 255; 346, 359.
Гиацинт (миф.) — прекрасный
юноша, любимец бога Аполлона,
превращенный им в цветок.—
255.
Гиппарх (VI в. до н. э.) — сын
афинского тирана Писистрата, пра-
вил (565—560 до н. э.) после его
смерти вместе со своим братом
Гиппием.— 105.
Гиппий — софист, выступает как
собеседник Сократа в диалоге Пла-
тона «Гиппий». — 201.
Гиппократ (460—377 до н. э.) —
знаменитый древнегреческий врач.—
254.
Глейм Иоганн Вильгельм Лудвиг
(1719—1813)—немецкий поэт, ав-
тор лирических стихотворений в
анакреонтическом жанре (см.) и
военно-патриотических «Песен прус-
ского гренадера» (1758), воспеваю-
щих прусского короля Фрид-
риха П. —45, 50, 58, 65, 174; 343;
XXV.
Глостер — персонаж трагедии
Шекспира «Король Лир». — 13.
Гоее Антуан Ив (1716—1758) —
автор исследования «О происхо-
ждении законов, искусств, наук и
о их развитии у древних народов»
(1758); немецкий перевод 1760—
1762 годы. —214.
Гольдаст Мельхиор (1576—
1635) — первым опубликовал" об-
разцы стихотворений немецких
миннезингеров и другие средневе-
ковые поэтические памятники
(1604). — 61.
Голдсмит (1728—1774) — англий-
ский писатель-сентименталист, ав-
тор романа «Векфилдский священ-
ник». — ПО.
Гомер. — 6, 12, 32, 43, 44, 68, 70,
72, 73, 74, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 111,
112, 120, 126, 165, 167, 168, 169,
171, 172, 173, 174, 175, 187, 193,
203, 215, 216, 217, 218, 254, 256,
265, 320, 321, 322; 344, 345, 346,
348, 349, 353, 355; IX, XVII, ХХ>
XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX,
XXXII, XXXVIII, XXXIX, LI.
Гондула (миф.) — одна из валь-
кирий.— 41.
«Горации» (так у Гердера, на
самом деле «Гораций») — трагедия
Корнеля (1640). —329.
Гораций Флакк Квинт (65—8 до
н. э.) — знаменитый римский
поэт. —59, 67, 150, 174, 224, 260;
338, 360; XXVIII, XL,
Горацио — персонаж из «Гам-
лета» Шекспира. — 16.
Горн (королевич). — 62; 344.
Готшед Иоганн-Кристоф (1700—
1766)—немецкий поэт и критик,
представитель раннего Просвеще-
ния, сторонник французского клас-
сицизма, автор «Критической
поэтики» (1730) и «Немецкой грам-
матики» (1748). Пытался рефор-
мировать немецкий театр в духе
французской классической драма-
тургии. Против теорий Готшеда
выступили критики-швейцарцы
Бодмер и Брейти'нгер (см.) и Лес-
синг в «Литературных письмах»
(1759). — 351.
371
Готшедианцы — последователи
Готшеда. — 124; 351.
Грей Эдуард (1716—1771) — ан-
глийский поэт-сентименталист, ав-
тор знаменитой элегии «Сельское
кладбище», 1751 (перевод
В. А. Жуковского), а также од в
классическом стиле. Был связан с
английским предромантизмом и
перевел, по Бартолину (ом.), два
образца древнескандинавской «ру-
нической» поэзии (1768), позднее
переведенные Гердером («Поездка
Одина» и «Песня валькирий»).—
59; XXXV.
Грессе Жан Батист (1709—
1777)—французский салонный
поэт, автор поэмы «Вер-Вер»
(1733) и комедий из светской жиз-
ни. — 328.
Грифиус Андреас (1616—1664) —
выдающийся немецкий драматург
и поэт эпохи Тридцатилетней вой-
ны. —- 49,
«Гудибрас» — героико-комическая
поэма С. Бэтлера (см.), предста-
вляющая сатиру на пуритан. —
124, 218.
Г уд ρ — одна из валькирий. —
41.
Густав Ваза (1496—1560) —ко-
роль Швеции; захватил власть,
опираясь на демократические слои
населения, возглавив восстание
против датского ига; ввел Рефор-
мацию. — 326.
Гусыня (матушка) — «Сказки
матушки Гусыни» — название сбор-
ника французских народных сказок
в обработке Шарля Π ер ρ о
(1697). — 204; 356.
Гюи Пьер Огюстен — француз-
ский ученый путешественник, ав-
тор «Литературного путешествия
по Греции» (1772). —92.
Гьортримуль (миф.) — одна из
валькирий. — 40.
Даламбер Жан ле Рон (1717—
1783) — знаменитый французский
математик и философ-просвети-
тель, один из основателей и руко-
водителей «Энциклопедии», объеди^
•нившей в качестве сотрудников пе-
редовых деятелей французского
Просвещения. — 326.
Дамм Кристиан Тобиас (1699—
1778) — педагог-классик, автор
«Введения в мифологию и в поэти-
ческие сказания греков и римлян»
(1763). —321.
Данте Алигиери (1265—1321). —
79, 99, 102, 202, 216, 218; XXXVIII,
XLVIII.
Дедал (миф.) — легендарный
греческий ваятель и зодчий, кото-
рому приписывается план дворца
царя Миноса («лабиринта») на
о. Крите. Согласно легенде, сделал
себе и своему сыну Икару воско-
вые крылья, на которых перелетел
через Эгейское море, тогда как
Икар, вследствие неосторожности,
погиб во время полета.— 96, 211,
253, 265.
Дездемона — героиня трагедии
Шекспира «Отелло». —14, 17;
XXXIV.
Декарт Рене (1596—1650). — 206,
323; 358.
Деметра (миф.) — богиня земли и
плодородия у древних греков.—
94.
Джонсон Сэмюэл (1709—1784) —
английский, критик. В 1765 году
издал драмы Шекспира в восьми
томах. — 12, 62, 202; 338.
Диана — в греческой мифологии
богиня Луны, покровительница
охоты.— 94, 168, 174.
Дидро Дени (1713—1784). — 131,
138, 145, 179, 202, 218, 278, 332;
350, 351, 354, 364; XV, XVI.
Диец И.-А. — немецкий ученый,
знаток испанской литературы, пере*
вел «Историю испанской литера-
372
туры» X. Веласкеза (см.) (1769). —
111.
Дитрих Бернский. — 62; 344,
Добрицхофер Мартин (1717—
1791)—католический миссионер,
провел восемнадцать лет среди ин-
дейцев Южной Америки, автор
«Истории абипонов» (1784). — 231.
Долония. — 99.
Дон-Кихот. — 323.
Драйден Джон (1631—1700) —
английский поэт и драматург эпохи
Реставрации. — 64, 84.
Друз Нерон Клавдий (38—9
до н. э.) — римский полководец,
пасынок императора Августа, ус-
пешно воевавший против герман-
цев.—260.
Дэнис Михаэль (1729—1800) —
австрийский поэт, подражатель
Клопштока, автор немецкого пере-
вода «Песен Оссиана», сделанного
гекзаметрами. — 23, 25, 27, 29, 30,
37, 193; 339; XXIX, XXXV.
Дюбо Жан Батист (1670—
1742)—французский историк и
критик, автор «Критических раз-
мышлений о поэзии, живописи и
музыке» (1719). —214.
Дюмениль Мария Анна Фран-
суаза (1711—1802) — известная
французская трагическая актри-
са.—330, 331.
Дюрер Альбрехт (1471—1528) —
знаменитый немецкий художник
эпохи Возрождения. — 202.
Дютерре. — 296.
Еврипид (V в. до н. э.). —3, 5,
6; 337.
«Заира» — трагедия Вольтера
(1732), написанная под влиянием
«Отелло» Шекспира. Лессинг
подверг ее резкой критике в «Гам-
бургской драматургии» (1767). —
329, 330, 331.
Зевс — царь богов в древнегрече-
ской мифологии. — 94, 320; 349.
Зороастр (Заратустра) — осно-
ватель религии древних персов,
господствовавшей в Иране до му-
сульманства. — 262; 359.
Зульцер Иоганн Георг (1720—
1779)—швейцарец, сотрудничал в
«Литературных письмах» Лессинга,
позднее берлинский академик,
представитель эстетического рацио-
нализма раннего немецкого Про-
свещения; автор «Всеобщей теории
изящных искусств», изданной в
форме словаря (1771—1774). —
123, 127, 202; 350; XXXIV.
Зум Петер Фредерик (1728—
1798)—выдающийся датский исто-
рик и филолог, организовал ко-
миссию по изданию памятников
древнескандинавской литературы
(1772), автор «Критической исто-
рии Дании», изданной посмертно
в четырнадцати томах (1782—
1828). —265.
Зюсмильх Иоганн Петер — про-
фессор, член Берлинской Академии
наук, автор «Опыта доказатель-
ства, что первый язык ведет свое
происхождение не от человека, но
только от бога» ( 1766). — 137;
XXIV.
«Илиада». — 89, 90, 91, 92, 93,
96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105,
107, 135; 345, 348, 351, 353, 359;
XXXIII, XXXIX.
Иов (миф.) —в библии («Книга
Иова») благочестивый человек,
терпеливо переносивший испыта-
ния, посланные ему богом. —
324.
Иона (миф.) — библейский про-
рок; согласно легенде («Книга
Ионы»), спасся из чрева прогло-
тившего его кита. — 319.
Иония — в древности название
западного побережья Малой Азии,
373
колонизованного греческим племе-
нем ионийцев.—-91, 101, 107, 258.
Ипполита — персонаж комедии
Шекспира «Сон в летнюю ночь»,
жена Тезея (см.). —217.
Ираклий — византийский импера-
тор (610—641). —266.
Исида (миф.) -— древнеегипет-
ская богиня. — 261.
Исократ (436—338 до н. э.) —.
древнегреческий оратор. — 117.
Итака — остров греческого архи-
пелага, родина Одиссея. — 90, 99;
349.
«Ифигения» — название грече-
ской трагедии Еврипида (см.) и
еходной с ней по своему антич-
ному сюжету трагедии Расина
(см.). —328.
Каин (миф.). —35, 299.
Калибан — персонаж из пьесы
Шекспира «Буря», житель необи-
таемого острова, получеловек-полу-
зверь. — 216.
Калипсо — в «Одиссее» — нимфа,
владетельница острова, очаровав-
шая своей любовью Одиссея. —
216. v
Каллигона. — 196, 197; 336\ 354,
355; XIX, LIV, LV.
Камилл Марк Фурий (423г-365
до н. э.) — римский полководец,
в 390 году освободил Рим от на-
шествия галлов (см. Бренн). — 259.
Кампанелла Фома (1568—
1639)—итальянский мыслитель
эпохи Возрождения, один из ран-
них представителей утопического
социализма, автор книги «Государ-
ство солнца». — 202.
Кампер Петр (1722—1789) —
голландский врач и анатом, в своих
сочинениях пытался установить
анатомические основы греческого
идеала красоты.- Его именем в ан-
тропологии называют лицевой угол,
служащий одним из признаков (не
всегда верных) анатомического
различия человеческих рас. —:
254.
-Кант Иммануил (1724—1804). —
127; 337, 351, 355, 356; VII, X, XI,
XII, XVIII, XIX, XXIII, LIV; LV,
LVI.
.Капитолий — крепость и храм
Юпитера на Капитолийском холме
в древнем Риме. — 259; 360.
Карл Великий (768—814) — ко-
роль франков, объединивший под
своей властью большую часть За-
падной Европы; в 800 году коро-
новался римским императором. —
60, 64, 267; 343.
Кассио — один из персонажей
«Отелло» Шекспира. — 14.
- Кастель Луи Бертран (1688—
1757).—162; 352.
Кастор (и Поллукс) — название
созвездия Близнецов, по близне-,
цам того же имени в античной
мифологии.— 291, 320.
Катилина Луций Сервий — рим-
ский патриций, глава заговора про-
тив сената (62 до н. э.). — 260;
360.
Катулл Кай Валерий (86—54 до
н. э.) —выдающийся римский ли-
рический поэт. — 74; XXXVI,
XXXVIII.
Кекроп — мифический царь Ат-
тики, которому предание приписы-
вало постройку афинского Акро-
поля; скала Кекропа — поэтическое
название Акрополя. — 108.
Кент — один из персонажей
«Короля Лира» Шекспира. — 20.
Кестнер Абрагам Готхельф
(1719—1800)—ученый и литера-
тор, представитель раннего немец-
кого Просвещения. — 202, 318.
Киен-Лонг (1709—1799) — китай?
ский император маньчжурской ди-
настии, выдающийся правитель,
покровитель литературы и поэт; по
его указанию составлено обшир-
374
ηοθ собрание произведений класси-
ческой китайской поэзии. —
293.
Кипсел — коринфский тиран
(VII в. до н. э.).—96, 253, 255;
348, 359.
Кир (ум. 529 до н, э.) — основа-
тель древнеперсидского царства.—
251.
Клейст Кристиан Эвальд (1715—
1759) — немецкий сентиментальный
поэт, друг Лессинга, автор описа-
тельной поэмы «Весна» (1749).—
24, 33, 45, 69, 112, 174; 341, 346;
XXXVI, XXXVII.
«Клелия» (1656—1660) — га-
лантно-психологический роман
французской писательницы Мад-
лены де Скюдери (1607—1701). —
10; 338.
Клопшток (1727—1803)—выдаю-
щийся немецкий поэт, автор рели-
гиозного эпоса «Мессиада», напи-
санного гекзаметрами (1748—1773),
лирических од сентиментального и
патриотического содержания и
поэтических произведений на древ-
негерманские -национально-героиче-
ские сюжеты.— 24, 29, 36, 37, 45,
46, 56, 57, 68, 99, 111, 118, 122,
125, 126, 173, 174, 202, 323; 340,
341, 342, 345, 350, 351; VIII, XX,
XXV, XXIX, XXXV.
Кондильяк Этьен Боно де Мабли
(1714—1780)—французский фило-
соф-сенсуалист, близкий механисти-
ческому материализму XVIII века;
автор «Опыта о происхождении
человеческих познаний» (1746) и
«Трактата об ощущениях»
^1754).—149, 151, 206, 214; 351;
XXIV.
Корделия — героиня «Короля
Лира» Шекспира. — 20.
Корнель Пьер (1606—1684) —
знаменитый французский драма-
тург, основоположник классиче-
ской трагедии во Франции. Лес-
синг критиковал Корнеля в своей
«Гамбургской драматургии». — 3,
7, 8, 10, 112, 327; 338.
Крамер Иоганн Андреас (1723—
1788) —второстепенный немецкий
поэт и проповедник, друг Клоп-
штока, автор многочисленных сти-
хотворений преимущественно рели-
гиозного содержания, переводчик
псалмов. — 127; 351.
Красе Марк Люциний (115—53
до н. э.) —римский полководец и
государственный деятель, участник
первого триумвирата, разделявший
власть над Римом с Юлием Цеза-
рем и Помпеем (см.). — 261.
Кребильон (Старший) Проспер
Жолио (1674—1762) — француз-
ский драматург-классицист, автор
кровавых трагедий, написанных по
образцу латинских трагедий Се-
неки. — 10.
Кришна (миф.)—древнеиндий-
ское божество. — 251.
Кронос (миф.) — бог времени у
древних греков, отец Зевса (см.). —
88.
Круза Жан Пьер де (1663(—
1748) — французский философ, ав-
tod «Трактата о прекрасном»
(1712). —202, 278.
Кэдуолледер Кольден (1688—
1776) — врач и философ материа-
листического направления, амери-
канец по рождению, был чиновни-
ком английской колониальной ад-
министрации в Северной Америке;
автор «Истории пяти индейских на-
родов, живущих вблизи Нью-
Йорка» (1727), книги, занимающей
выдающееся место в этнографиче-
ской литературе XVIII века о пле-
менном союзе индейцев-ирокезов. —
30; 341.
Кэмберлэнд. — 202.
Лагарп Жан Франсуа (1739—
1803) — французский поэт и
375
критик, эпигон классицизма, автор
«Курса литературы». — 327.
Лаиса — имя, которое носили две
знаменитые древнегреческие ' ге-
теры; сделалось нарицательным
для красивой куртизанки. — 254.
Лакайль Никола Луи (1713—
1762) — известный французский
астроном, составитель звездного
каталога и астрономических таб-
лиц. — 324.
Лакедемон — древнее название
Спарты. — 105.
Л а Кюрн де Сент-Палэ (1697—
1781)—французский ученый, зна-
ток средневековья, автор «Записок
о старинном рыцарстве» (1759—
1781), которые послужили источни-
ком для Ричарда Херда (см.) и
аббата Мийо (см.)^—61, 64;
344.
Ламберт Иоганн Генрих (1722—
1777) — выдающийся немецкий ма-
тематик, физик и философ, автор
книги «Новый Органон, или Мысли
об изучении и обозначении истины
в отличие от заблуждения и иллю-
зии» (1764).—137, 324.
Ланчелот Гоббо — комический
персонаж в драме Шекспира «Ве-
нецианский купец». — 21, 43.
«Лаокоон» — трактат Лессинга
по вопросам эстетики (1766).—
157, 177; 352, 353; XIX, XX.
Лаура — возлюбленная Петрар-
ки, которой посвящено большин-
ство стихотворений его «Кан-
цон ьере». — 149.
Лафито (1670—1740) — француз-
ский миссионер в Канаде, выдаю-
щийся этнограф, оставивший опи-
сание быта индейцев Северной
Америки («Нравы дикарей сравни-
тельно с нравами первобытных
времен», 172Э). — 30; 341.
Лафонтен Жан де (1621—1695) —
знаменитый французский баснопи-
сец. — 86.
Лаэрт — один из персонажей
«Гамлета» Шекспира. — 16.
Лейбниц Готфрид Вильгельм
(1646—1716)—знаменитый немец-
кий философ рационалистического
'направления, автор «Теодицеи»
(1710) и «Монадологии» (1714);
универсальный ученый, математик,
историк; организатор и первый
президент Берлинской Академии
наук. Учение Лейбница оказало
большое влияние на философию
немецкого Просвещения. — 69, 125,
140, 148, 149, 198, 206, 278, 323;
338, 351, 358; X, XI, LI.
Лекен Анри Луи (1729—1778) —
известный французский трагиче-
ский актер, исполнитель главных
ролей в трагедиях Вольтера. —
330, 331.
Леовалл. — 140.
Леонид—'Спартанский царь, про-
славившийся геройской защитой
Фермопильского ущелья против
полчищ персидских завоевателей
(480 до н. э.). —275.
Лери Жан де — автор «Путеше-
ствия в землю Бразилию» (1578). —
138.
Лессинг Готхольд Эфраим
(1729—1781). —8, 16, 32, 45, 49, 69,
124, 157, 161, 162, 163, 164, 165,
167, 169, 170, 173, 174, 175, 177,
178, 202, 213, 222, 223; 338, 342,
346, 350, 352, 353, 364; VII, VIII,
XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII,
XXXVI, XXXVJII, XL, XLI, XLII,
XLIII, LI.
Ликург — легендарный законода-
тель Спарты (согласно преданию
IX в. до н. э.). —31, 104, 105;
341.
Лин (миф.)—легендарный древ-
негреческий певец, по преданию —
учитель Орфея (см.). — 72; 346.
Линденброг Фридрих (1573—
1648) —немецкий филолог и исто-
рик, предпринял составление древ-
376
ненемецкого словаря, оставшегося
незаконченным, для которого он
собрал и англосаксонские глос-
сы.—61.
Липе Туллиан — предводитель
разбойников. — 296; 362.
Лир — главный герой трагедии
Шекспира «Король Лир». — 13, 17,
20; XXXIV, XLIV.
Логау Фридрих (1604—1655) —
немецкий бюргерский поэт, автор
сборника моральных стихотворе-
ний («Эпиграммы», 1654), переиз-
данного Лессингом в сотрудниче-
стве с поэтом Рамлером (см.)
(1759). —49, 124, 125; 342.
Локк Джон (1632—1704)—ан-
глийский философ-сенсуалист, ав-
тор «Опыта о человеческом разу-
мении» (1690). Оказал большое
влияние на западноевропейскую
философию и литературу эпохи
Просвещения. — 140, 206, 325; 358.
Лонгин (210—273) — греческий
философ, которому традиция оши-
бочно приписывала анонимный
эстетический трактат «О возвышен-
ном», неоднократно комментиро-
вавшийся в новое время теорети-
ками классицизма. — 89, 109.
Лувуа маркиз де (1641—1691) —
французский государственный дея-
тель, военный министр Людо-
вика XIV; проводил агрессивную
военную политику и огромными
налогами подорвал благосостояние
Франции. — 296.
«Лузиада» — героическая эпопея
португальского поэта эпохи Возро-
ждения Камоэнса (1525—1580),
воспевающая морскую· экспедицию
Васко да Гамы в Индию и коло-
ниальную экспансию Португалии.—
32; XXX.
Лукиан (II в. н. э.)—греческий
поэт-сатирик, в своих «Разгово-
рах» развенчивает античную мифо-
логию и религию.— 321; 363.
Лукреций Кар (88^55 до н. э.) —
римский поэт и философ-материа-
лист, автор философской поэмы
«О природе вещей».— 74; XXVIII,
XXXVIII.
Любен. — см. «Анетта и Лю-
бен». — 331.
Людвиг Смелый — западнофранк-
ский король Людвиг III. Древне-
немецкая «Песня о Людвиге» про-
славляет его победы над норман-
нами при Сокуре (881). —74, 75;
XXXIV.
Людовик XIV (1638—1718) —
французский король, при котором
абсолютизм достиг во Франции
наибольшего могущества. Двор
Людовика XIV и французское при-
дворное искусство его времени
оказали влияние на дворянскую
культуру всей Западной Европы.
Льстецы еще при жизни короля
называли его «Людовиком Вели-
ким»,—308, 321, 326, 327; 349, 364;
IX, XV.
Лютер Мартин (1483—1546) —
основоположник Реформации в
Германии. — 56, 57, 58, 76, 125;
343, 347; XV, XXVII, XXIX,
XXXVII, XXXVIII.
Мабли Габриэль Боно (1709—
1785)—французский просветитель,
философ, историк и социолог, со-
трудник «Энциклопедии». Его тео-
рии содержат элементы утопиче-
ского социализма. — 325.
«Магелона» — немецкая народная
книга XV—XVI веков, сюжет ко-
торой восходит к французской ры-
царской литературе. — 62.
- Магомет (Мухаммед, 571—
632). — 19, 89, 232;. 339.
·. Мазарини Жюль (1602—1661) —
кардинал, французский министр,
полновластный временщик при не-
совершеннолетнем Людовике XIV
(с 1643 г,). —296.
25 Зак. 291. Гердер
377
«Макбет». — 15, 16; XLIV.
Макдуфф — один из персонажей
трагедии «Макбет». — 16.
Макиавелли. Никколо (1469—-
1527) —итальянский государствен-
ный деятель и политический писа-
тель; отстаивал идею неограничен-
ного абсолютизма и политику, не
стесняющуюся моральными прин-
ципами («Государь», 1513). — 68,
326; 364.
Макферлан Роберт · (1734—
1809)—шотландец, издал латин-
ский перевод поэмы «Темора» из
«Песен Оссиана» Макферсона
(1769). —27.
Макферсон Джемс (1736—
1796) —шотландский писатель, ав-
тор «Песен Оссиана» (1760—
1765). —24, 27, 30, 36, 64; 340,
341, 345; XXIX, XXXV.
Маллет Давид (1700—1765) —
шотландец, поэт-сентименталист;
был связан с английским предро-
мантическим движением; ,просла-
вился напечатанной под его име-
нем в сборнике Перси балладой
«Дух Маргариты» (1759), которая
представляет на самом деле сенти-
ментальную обработку английской
народной баллады, близкой по со-
держанию переведенной. Гердером
балладе «Дух милого Вильяма»
(ом. стр. 47). —64, 84.
Маммон — божество древних се-
митических народов, олицетворяв-
шее богатство (библеизм).— 281.
Мандевиль Джон — легендарный
путешественник XIV века. — 322;
363.
Манн (миф.). —265; 363.
Манессе Рюдигер (ум. 1304 г.) —
цюрихский патриций, собиравший
песни миннезингеров. Ему приписы-
вали составление наиболее обшир-
ной («Гейдельбергской») рукописи
этих песен, получившей название
«манессевского сборника». — 77; 345.
«Маргит» — не дошедшая до нас
древнегреческая героико-комиче^
екая; поэма (VII в. до н. э.), пред-
ставляющая пародию на .героиче-
ский эпос; приписывалась Го-
меру. — 102,
Марий Кай (157—86 до н, э.)—
римский полководец и политиче-
ский диктатор, представитель на.-
родной партии. — 296.
Мармонтель Жан Франсуа
(1723—1799) — французский писа-
тель, просветитель-моралист, эпи-
гон классицизма; был сотрудником:
«Энциклопедии», где печатал статьи
по вопросам теории литературы,,
позднее объединенные в книге
«Элементы литературы». — 174, 175,.
327.
Марсель — французский танц-
мейстер.—32; 341.
Мейнгарт Иоганн Николаус
(1727—1767) — немецкий перевод-
чик Ариосто, автор «Опыта о ха-
рактере и произведениях лучших
итальшских поэтов», 2 тт. — 111.
«Мелюзина» — немецкая народ-
ная книга XV—XVI веков; восхо-
дит к французскому источнику.—
62.
Менант. — 86.
Менгс Антон Рафаэль (1728—
1779) —немецкий художник-клас-
сицист; автор «Мыслей о красоте
и вкусе в живописи» (1762). — 203.
Мендельсон Моисей (1729—
1786)—немецкий философ-просве-
титель, друг Лессинга· и сотрудник
его «Литературных писем». — 202>
323, 324; 350, 351, 354.
Менелай — герой «Илиады», царь
спартанский, брат Агамемнона и;
муж Елены.— 98, 99, 169.
«Мизантроп» — комедия Мольера
(1666). —331.
Мийо Клод Франсуа, аббат
( 1726— 1785) — французский исто-
рик, автор трехтомной «Истории
378
литературы трубадуров» (1774). —
64.
Миллер Гергард Фридрих
(1705—1783) — русский историк-
академик, немец по происхожде-
нию. — 325. ;
Мильтон Джон (1608—1674) —
английский поэт и политический
деятель английской революции; ав-
тор эпической поэмы «Потерянный
рай» (1667). В XVIII веке был
поднят на щит английской предро-
мантической критикой (Уортон,
см.) и противниками французского
классицизма в Германии, швей-
царцами Бодмером и Брейтингером
(см.); Клопшток (см.) подражал
ему в «Мессиаде». — 45, 64, 84, 99,
102, ПО, 111, 173, 174, 202, 216;
343, 345;. XX, LII.
Минерва (миф.) — богиня муд-
рости у древних римлян; была
отождествлена ими с греческой бо-
гиней Палладой, покровительницей
Афин. —123, 170, 255.
Михаэлис Иоганн Веньямин
(1746—1772)—известный немец-
кий ориенталист, исследователь
библии. —118, 125, 127; 350, 351.
Мнемозина (миф..) — у ' древних
греков мать муз, богиня памяти. —
91, 107.
«Модный предрассудок» — фран-
цузская сентиментальная комедия
Нивеля де ла Шоссе (1735).—
329.
Моисей (миф.) — библейский
пророк.— 249, 251; LI.
Моле Франсуа (1734—1802) —
известный французский актер, —
330.
Мольер (1622—1673). —328.
Монтень Мишель (1533—1592) —
французский писатель и философ
эпохи Возрождения, автор «Опы-
тов» (1588). «Сомнение» Монтеня
было средством борьбы против
богословского догматизма и фило-
софской метафизики. — 278; 346;
XXXVIII.
Монтескье Шарль Луи (1689—
1755) — французский писатель,
историк и философ эпохи Просве-
щения. В своем главном труде
«О духе законов» (1748) ставит
вопрос о влиянии «климата» (фи-
зико-географических условий) ' на
политическое устройство. — 202,
325, 326, 328; 363, 364; XV,
XLV.
Морни — см. Гаул, —29; 340.
Мусей (миф.) — легендарный
древнегреческий поэт. — 72, 97;
346.
Мэррей — шотландский граф, ге-
рой народной баллады, переведен-
ной Гердером из сборника Перси.
Участвовал в заговоре против ко-
роля Якова VI; его замок был оса-
жден и сожжен, а сам он убит по
приказу короля (1592). — 79.
Мэсон Вильям (1725—^1797)—
английский сентиментальный поэт,
подражатель Мильтона, был свя-
зан с предромантическим движе-
нием (драматическая поэма «Ка-
рактар», 1759> из древней истории
Британии, с хором бардов и друи-
дов).—59, 64, 84.
Навуходоносор (604—561 до
н. э.) — царь Вавилонии, покорил
Сирию и Палестину; упоминается
в библии. — 250.,
Нерон Люций Домиций (37—68
н. э.) — римский император. — 326;
364; XV.
Нестор — один из героев «Илиа-
ды», царь Пилоса (Мессении), ста-
рец, прославленный своей муд-
ростью. — 120.
Немврод (миф.) — легендарный
основатель Вавилонского царства,
согласно библейскому преданию —
великий охотник. — 299.
Нинатома. — 32; 341; XXX.
25*
379
Ниневия—-г столица древней Ас-
сирии (разрушена в 606 г, до н. э.
вавилонянами и мидянами). — 250.
Ноллет Жан Антуан (1700—
1770)—французский физик, от-
крыл явление диффузии. — 318.
H ума Помпилий — легендарный
царь древнего Рима. —88.
Ньютон Исаак (1643—1727). —
318, 325; XI.
«Оберон» (1780)—героико-ро-
мантическая поэма Виланда (см.);
считается его лучшим поэтическим
произведением. — 223.
Овидий Назон (43 до н. э. —
18 н. э.)—знаменитый римский
поэт (поэма «Метаморфозы»,
.8 н. э.). —62; 354, 356, 360.
Ог (миф.) — в библии царь ва-
^санский, которого побеждают ев-
Ф'еи под предводительством Мои-
•сея. — 299.
- Одеон — здание в Афинах, пред-
назначенное для музыкальных со-
стязаний. — 256.
Один (миф.) — верховный бог и
бог войны у древних скандинав-
ских народов (см. Вотан). — 29, 37,
38, 39, 40; 340, 342.
«Одиссея». — 32, 89, 90, 91, 93,
■96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105,
1107, 320, 321, 324; 345, 349, 357;
XV, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIX.
Олаф Тригвасон — норвежский
король (995—100); скала Олафа
lia побережье Швеции — скала, с
которой он, по преданию, бросился
в море, будучи окружен врага-
ми.—31, 320; 341, 364; XV.
Олимп — гора на севере Греции,
которую древние греки считали
местопребыванием богов; в пере-
носном значении — боги (соби-
рат.). —90, 94, 216; XXIV, XXVII.
- Ономакрит — афинский поэт, ко-
торому, согласно преданию, афин-
ский тиран Писистра-т. (см.) пору-
чил привести в порядок стихи Го-
мера. — 105.
Опитц Мартин (1597—1639) —
немецкий поэт-классицист, автор
трактата о поэтике (1624). — 49,
61, 75, 125; 347.
• Орион — в античной мифологии
охотник, превращенный богами в
созвездие, названное по его име-
ни.—213.
Орк (миф.) — у древних римлян
бог подземного мира; в перенос-
ном значении — преисподняя. —
223.
Оросман — герой трагедии Воль-
тера «Заира». — 329.
Орфей (миф.) — легендарный
древнегреческий певец, песни кото-
рого имели магическую силу. Счи-
тался основоположником' так назы-
ваемой орфической поэзии. — 70,
72, 73, 74, 88, 97, 98, 104, 320, 321,
322; 346, 348; XV, XXXII.
Оскар — сын Оссиана и внук
Фингала (см.), один из героев «Пе-
сен Оссиана» Макферсона.— 27.
Оссиан — у Макферсона (см.)
легендарный древнешотландскии
бард (III в. н. э.), сын Фингала,
которому Макферсон приписал из-
данные им «Песни Оссиа-на»
(1760—1765 гг.). —23, 24, 25, 27,
29, 31, 36, 37, 43, 44, 46, 59, 64, 93,
112, 173, 174, 193, 215, 265; 339,
340, 341, 346, 347, 348, 355; XVII,
XX, XXVII, XXIX, XXX, XXXIII,
XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXIX.
«Отелло» — трагедия Шекспира;
ее главный герой. — 14, 17; XXXIV,
XLIV.
Отфрид Вейссенбургский (IX ib.) —
немецкий монах, автор стихотвор-
ного переложения евангелия, в ко-
тором впервые ввел рифму взамен
древнегерманского аллитерацион-
ного стиха. — 64, 75; 345.
Офелия — героиня «Гамлета»
Шекспира. —16; XXXIV.
380
Павсаний — греческий историк и
географ, автор «Описания Эллады»
(конец II в. н. э.).—100, 253; 348,
349.
Паллада (Афина) — богиня муд-
рости у древних греков, покрови-
тельница Афин (см. также Aîm-
нерва). — 94, 96, 103, 105, 107, 108,
130, 223, 255; XXIV.
Пан (миф.)—у древних греков
бог лесов, покровитель стад; олице-
творяет природу (греческое слово
pan означает «все», в позднейшей
философии — природу как це-
лое).—17, 201; 338.
Панафинеи — народный празд-
ник в Афинах в честь богини
Афины Паллады.— 105, 124.
Пандар — троянский стрелок в
«Илиаде». —167, 169, 170; XX,
XXI.
Паркер Мэтью (1504—1575) —
архиепископ Кентерберийский, со-
биратель англосаксонских рукопи-
сей. — 60.
«Парсифаль» — немецкий рыцар-
ский роман Вольфрама фон Эшен-
баха, посвященный средневековой
легенде о святом Граале (начало
XIII в.); имеет французские источ-
ники. — 62.
Патрокл — один из героев
«Илиады», друг Ахилла, убитый
Гектором (см.). —90, 94, 171.
Пенелопа — .верная жена Одис-
сея в поэме Гомера. — 278; XXXII.
Перголезе Джованни Баттиста
(1710—1736) —известный итальян-
ский композитор. — 25.
Перикл. — 257.
Перингсквольд Иоганн ( 1654—
1720) —шведский ученый, издатель
древнеисландских саг. -г- 28.
Персей — д ρ ев негр еческий гер ой -
змееборец. — 255.
Персеполь — столица древней
Персии, основана Дарием (конец
VI в. до. н. э.), разрушена Але-
ксандром Македонским (331 до
н. э.). —250.
Перси Томас (1729—1811)—вы-
дающийся представитель англий-
ского предромантизма, издатель
старинных английских народных.
баллад. — 26, 29, 47, 49, 55, 63, 64,
66, 78, 83, 84, 85; 340, 342, 343,
347; XXX, XXXI, XXXIV, XXXV,
XL.
Перси — герцог Нортумберланд-
ский, герой старинной народной
баллады «Охота на Чивиоте», рас-
сказывающей о его бое с шотланд-
ским лордом Дугласом. — 79; 347.
Петрарка (1304—1374) —знаме-
нитый итальянский поэт эпохи Воз-
рождения (см. Лаура). — 149, 202.
Пигмалион (миф.) —согласно ле-
генде, греческий ваятель, влюбив-
шийся iB созданную им прекрасную
статую Галатеи, которую Афродита;
оживила по его мольбе. — 179; 354.
Пиндар (около 518—442 до
н. э.) — древнегреческий поэт, клас-
сик торжественной хоровой лирики;
воспевал в своих одах победите-
лей на публичных гимнастических"
играх. Одам Пиндара подражал»
Клопшток (см.) и молодой Гёте. —
74, 171, 172, 219, 256, 312, 320, 321,
322; XX, XXVII, XXXVIII.
Пирр (около 318—372 до н. э.) —
царь Эпира, воевал против рим-
лян. — 326.
Писистрат — афинский тирана
(VI в. до н. э.). Его продолжи-
тельное правление было временем^
наиболыиего могущества Афинской,
республики и расцвета греческого
искусства. Его заботам приписы-
вали кодификацию текста гомеров-
ских поэм. — 105.
Платон (427—347 до н. э.) —-
древ-негреческий философ, осново-
положник античного идеализма. —:
182, 193, 201, 202, 203, 206, 323р
351, 354, 356.
381
Плиний Старший (23—79) —
римский ученый, автор «Естествен-
ной истории». — 253.
Плутарх (около 46—126 н. э.) —
древнегреческий историк и фило-
соф-моралист Римской империи, ав-
тор «Жизнеописаний» героев древ-
ности. — 259.
Пникс — холм в Афинах,, где
происходили народные собрания.—.
256.
Поликлет из Аргоса (V в.
до н. э.) — древнегреческий скульп-
тор. — 100; 349.
Полифем (миф.) — одноглазый
циклоп, великан-людоед, ослеплен-
ный Одиссеем в поэме Гомера. —
99.
Полоний — один из персонажей
«Гамлета» Шекспира, придворный
короля Клавдия и отец Офелии
(см.). —21; 339.
Поллукс — 29\, 320. См. Кастор.
Помпеи (второй) — сын Гнея
Помпея, знаменитого римского пол-
ководца (106—48 до н. э.); про-
должал борьбу против Юлия Це-
заря после гибели отца и был
вслед за ним умерщвлен в 45 го-
ду до н. э. —260, 261; ■:-.- *_
Понтоппидан Эрик (1698—
1764)—скандинавский ученый, ав-
тор «Естественной истории Норве-
гии» (1752—1754). —318.
Поп Александр (1688—1744) —
английский поэт-просветитель, глав-
ный представитель классицизма в
английской поэзии XVIII века; из-
дал сочинения Шекспира (1725).—
12, 64, 84, 174, 202; 338.
Пританей — у древних, греков
здания, где заслуженные граждане
получали питание на общественный
счет. — 256.
Прометей (миф.) — у греков ти-
тан, творец людей, похититель
огня, боровшийся против, власти
богов. Название трагедии Эсхила
(«Прикованный Прометей»). — 6,
143, 238; 337, 359,
Пропилеи — у древних греков
галерея или колоннада перед хра-
мом; наиболее известны Пропилеи,
выстроенные Периклом (см.) пе-
ред Акрополем в Афинах. — 96.
Протей (миф.) — у древних гре-
ков морское божество, обладавшее
способностью менять свой облик. —
109, 278, 281; XXII, LII.
Психея — 223, 329; 357. См.
Амур.
Пуйи Луи де (1692—1750) —
французский епископ, писатель, ав-
тор книги «Теория приятных
чувств» (1746). —202.
Пульни Луиджи (1432—1484) —
итальянский поэт эпохи Возрожде-
ния, автор героико-комической
поэмы «Моргайте Великий» (1483),
'пародирующей средневековый ры-
царский эпос. — 79; XXVI. -■■;·■
Пульчинелла — комический пер-
сонаж итальянского кукольного
театра. — 219.
Рабле Франсуа (1494—1553). —
223.
Рагнар Лодброк — легендарный
датский викинг, герой, древне-
исландской саги того же имени. —
29, 326; 340; XV.
Рамзей Аллан (1686—1758) —
шотландский поэт, писал на шот-
ландском диалекте, собирал народ-
ные песни. —63, 64, 83, 84; 347;
XXXIV.
Рамлер Карл Вильгельм (1725—
1798) — немецкий поэт, подража-
тель Горация, автор од в класси-
ческом стиле.— 45, 50, 124.
Рандвер, граф. — 40; 342,
Расин Жан (1639—1699). —7, 8.
Рафаэль Санцио. (1483—1520). ~
44.
Ринда — в скандинавской мифо-
логии богиня, любви которой Один
382
добился с помощью магических,
рун.— 39; 342.
Рихтер Жан Поль Фридрих
(1763-—1825)—немецкий прозаик,
•сентиментальный юморист, писал
под псевдонимом Жан Поль. —
218; XIX.
Ричарды — английские короли
Ричард II и Ричард III, герои
одноименных исторических драм
Шекспира. — 17, 21; 339.
Ричардсон Сэмюэл (1689—
1761)—английский писатель, ав-
тор нравоучительно-сентименталь-
ных романов в письмах, оказав-
ших большое влияние на европей-
ские литературы XVIII века. —
218, 223.
Ришелье Арман Жан Дюплесси
(1585—1642) —кардинал, выдаю-
щийся французский государствен-
ный деятель, фактический прави-
тель; государства при Людо-
вике XIII, способствовавший укре-
плению французского абсолю-
тизма.—325, 327.
Робертсон Вильям (1721—
1793) — известный английский ис-
торик эпохи Просвещения. — 276.
«Робинзон Крузо» ( 1719) — зна-
менитый роман Даниэля Дефо
(1661—1731).—324.
Родриго — один из персонажей
«Отелло» Шекспира. — 14.
Роже — правильнее Роджерс, ан-
глийский мореплаватель (умер в
1732 г.), автор «Путешествия в
Южное море и вокруг света»
<1708, франц. перевод 1716).—30.
Роланд — главный герой фран- ·
цузского героического эпоса
{«Песнь о Роланде», около
ПОО г.). —62; 344.
«Ромео и Джульетта» — траге-
дия Шекспира.— 17.
Рому л — легендарный основатель
Рима (согласно преданию, в VIII в.
до н. э.).— 88, 259, 261.
* Роскрана — одна из героинь «Пе-
сен Оссиана» Макферсона, жена
Фингала (см.). —29, 37; 340.
Руих Филипп — немецкий пастор,
автор «Размышлений о литовском
языке, его происхождении, сущно-
сти и особенностях» (1745). — 32;
346.
Руссо Жан Жак (1712—1778).—
30, 143, 149, 202, 218, 325, 327; 350,
354, 359, 364; VIII, X, XI, XII, XV,
XVII, XLVI, LVIII.
Савская — царица. — 252, 359.
Сангрида — одна из вальки-
рий. — 41.
• Сапфо (VI в. до н. э.) —древне-
греческая лирическая поэтесса. —
70; XXXII, XXXVI, XXXVII.
Сатурн (миф.)—божество в
древнем Риме, отождествлялось с
греческим Кроносом, богом вре-
мени; названная по его имени пла-
нета.— 182; 354.
Саундерсон Николас (1682—
1739) — известный английский ма-
тематик, профессор Кэмбриджского
университета, автор «Элементов
алгебры» (1740—1741); слепой с
детских лет...-г- 179; 354.
Свипуль — одна из валькирий. —
41.
Свифт Джонатан (1667—1745).—
64, 124, 224; 357.
Сезострис — египетский царь,
упоминаемый Геродотом. — 247.
Сельден Джон (1584—1654) —
ученый-юрист, знаток английских
древностей и выдающийся публи-
цист времен английской револю-
ции; известен трудами по историй
английского права, направленными
против привилегий феодального
дворянства и католической церк-
ви. —60, 64, 84.
Семирамида. — 247.
«Семирамида» — трагедия Воль-
тера (1748), написанная под
383
известным влиянием «Гамлета»
Шекспира.,- 1.6, 329, 330, 331; 338.
Сенека Луций Анней (1,в. н. э.)—
римский философ-стоик, автор тра-
гедий патетически-декламационно-
го стиля с нагромождением ужа-
сов. Пользовался большим влия-
нием в эпоху Возрождения и
французского . классицизма. — 8;
338.
Сен-Пьер Шарль, 2i66dLT де
(1658—1743)—французский про-
светитель. — 295, 297; 362.
Сервантес Сааведра Мигель де
(1547—1616).— 112, 218, 224, 323;
LVIII.
Серторий Ивинг — римский пол-
ководец, участник гражданских
войн, приверженец Мария (см.);
убит в 71 году до н. э. — 260.
«Сид» — трагедия Корнеля. —
327; 338.
Сидней Филипп (1554—1586) —
английский поэт эпохи Возрожде-
ния.—64, 84; 347; XXXVIII.
Силен (миф.)—сын Пана (см.)
и нимфы, воспитатель Вакха; изо-
бражался верхом на осле. — 223.
Симонид Кеосский (556—468 до
н. э.) — древнегреческий поэт, вы-
дающийся представитель хориче-
ской лирики и мастер эпиграмм..—
105.
Скандиано Тито Джованни—
второстепенный итальянский поэт
позднего Возрождения, автор поэмы
«Четыре книги об охоте» (1556),
посвященной герцогу Эрколе
д'Эсте. — 79.
Скилле — подразумевается, по*
видимому, Ярл . Скуле, соперник
норвежского короля Хакона Хаконс-
сона (1204—1263), впоследствии
герой исторической драмы Ибсена
«Борьба за престол» (1863). -г-*
326; XV.
Скультетус Андрее (ум. 1639) —
малоизвестный; поэт XVII века,
произведения которого изданы Лес-
сингом в 1771 году. 49.—342.
Смит Роберт (1689—1768)—про-
фессор математики в Кембридже,
автор «Полной системы оптики»
(1738; немецкий перевод Кестне-
ра—1755).—144, 181, 202; 354.
Сократ (V в. до н. э.).— 136,
201.
Соломон — в библии легендар-
ный древнееврейский царь. — 80,.
252; 359; XXVI.
Солон (640—559 до н. э.)—древ-
ний афинский законодатель. ^- 104,
105.
София — героиня романа Филь-
динга (см.) «История Тома Джонса
найденыша» (1749). — 331.
Софокл (V в. до н. э.). — 3, 4,
5, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 74, 112,
222; 337, XLIII.
Спартак. — 260.
Спелман Генри (1562—1641) и
его сын Джон (ум. 1643) — англий-
ские филологи, занимались изуче-
нием и изданием . англосаксонских
ιπ-a мятников. — 60.
Спенс Джозеф (1699—1768) —
второстепенный английский литера-
тор XVIII века. —202.
Спенсер Эдмунд (1552—1599)—
выдающийся английский поэт эпохи
Возрождения, автор аллегориче-
ской поэмы . героико-романиче-
ского содержания «Королева фей»
(1590), которая оказала большое·
влияние на английскую поэзию и
поэтическую критику предроманти-
ческого направления, -г- 62, 63,. 64,
66, 84, 112; 344; XXXI, XXXIX, LII.
Спиноза Бенедикт (1632—1677) —
голландский , философ, представи-
тель материалистического пантеиз-
ма. Оказал большое влияние на
Гердера и Гёте.—17; 338, 339;
XVIII.
. Стерн. Лоренс (1713—1768) —i
английский . писатель, .автор рома-
384
нов «Жизнь и мнения Тристрама
Шенди, джентльмена» (1760—^
1767) и «Сентиментальное путеше-
ствие» (1768). Оказал большое
влияние на немецкую литературу
второй половины XVIII века.—
ПО, 218, 224.
Стобей (V—VI в.) — монах, ком-
пилятор сборника «Florilegium»
(«Цветы красноречия»). — 21.
Сулла Люций Корнелий Феликс
(138—78 до н. э.)—римский пол-
ководец и диктатор, глава аристо-
кратической (сенатской) партии,
боролся с Марием (см.). — 296.
Тааут (миф.). — 88.
Тамерлан — европейская форма
имени Тимура (1336—1405) — зна-
менитого среднеазиатского завое-
зателя (Тимур Ленг — «Хромой
Тимур»). —296; 359.
«Танкред» — трагедия Вольтера
(1760). —329.
Тантал (миф.) — царь Фригии;
за совершенное преступление был
осужден богами стоять в подзем-
ном мире в воде под спелыми пло-
дами, вечно томясь жаждой и го-
лодом (муки Тантала). — 74, 269.
Тартар (миф.) — у древних гре-
ков подземный мир, где мучаются
грешники. — 207.
«Тартюф» ( 1664— 1669) — коме-
дия Мольера (см.). — 331.
Тассо Торквато (1544—1595).—
99, ПО; XXVI.
Τ ауле ρ Иоганнес (около 1300—
1361)—немецкий мистик и народ-
дый проповедник. — 201.
Тезеиды — древние эпические ска-
зания о Тезее (см.) по Гердеру,—
97.
Тезей (миф.) — афинский герой
и царь, совершивший множество
легендарных подвигов. — 96.
Тезей, герцог афинский — персо-
лаж комедии Шекспира «Сон в лет-
нюю ночь», муж Ипполиты (см.).—
216.
«Телль» — тираноборческая тра-
гедия французского драматурга
Антуана . Лемьера (1723—1793)
«Вильгельм Телль» (1766), посвя-
щенная легендарному герою вос-
стания швейцарских крестьян
против угн.етателей-австрийцез.
(1307). —329.
Теобальд Луис (1688—1744) —
издал сочинения Шекспира с ком-
ментарием (1734). — 62.
Теут (миф.). —88, 265; 348, 361..
Тиберий Клавдий Нерон (42 до^
н. э. — 37 н. э.) — римский импера-
тор (14—37 н. э.). —260.
Тимберлейк ΓθπρΉ — английский:
моряк, автор «Записок о путеше-
ствиях среди дикарей Северной
Америки» (1765). —30.
Тиресий — в «Одиссее» Гомера —
прорицатель. — 98.
Тиртей (VII—VI в. до н. э.) —
греческий поэт, автор патриотиче-
ских элегий, воспевающих военнук*
доблесть спартанцев. — 70, 17Ц
174; IX, XXI, XXXIL
Титания — царица эльфов в ко-
медии Шекспира «Сон в летнюю
ночь». — 216.
Тифис. — 218.
Том Джонс — герой одноимен-
ного романа Фильдинга (1749).—
331.
Томсон Джемс (1700—1748) —
английский поэт сентиментального
направления, автор описательной:
поэмы «Времена года» (1726 —
1730). —ПО, 112.
Тот (миф.) — бог мудрости у
древних египтян. —» 88.
Туисто (миф.). — 265; 361.
Турнефор Жозеф Питон де
(1656—1708)—выдающийся фран-
цузский ботаник, предпринял пер-
вую попытку морфологическою
классификации растений, — 318.
38$
Туснельда — жена Германа
<(см.), вождя германского пле-
мени херусков. — 37; 342.
Улисс — Одиссей (см. «Одис-
,сея»). — 73, 94, 98, .99, 101, 106.
Уллоа Антонио (1716—1796) —
испанский геодезист и астроном,
участник французской научной
экспедиции в Перу (1736—1743),
•автор книги о Центральной Аме-
рике (1772). —240.
Уорбертон Вильям (1698—
1779)—редактор комментирован-
ного издания сочинений Шекспира
(1747). —20.
Уортон . Томас (1728—1790). —
'61, 62, 63, 202; 344; XXXIV, LI.
У тал. — 32; 341; XXX.
Уэбб Даниэль (около 1719—
1798)—английский писатель и тео-
.оетик искусства. — 202.
Уэлок Абрагам — издатель англо-
саксонских исторических памятни-
ков (1643—1644).—60.
Фабий Квинт (ум. 203 до н.э.) —
римский консул и полководец, от-
личившийся искусной борьбой с
Ганнибалом (см.); за свою медли-
тельность в военных операциях по-
лучил прозвище Кунктатор («мед-
литель»).— 259.
..Фалес (VI в. до н. э.)—древне-
треческий мудрец, один из осново-
положников греческой филосо-
фии. — 88.
Фальконет Этьен Морис (1716—
1791)—французский скульптор,
-создатель памятника Петру I в Пе-
тербурге; писал по вопросам искус-
ства.— 188; 355,
Фантасия. — 72; 346.
Феб — см. Аполлон. — 320.
Федр — участник диалога Пла-
тона (см.), названного по его
жмени и посвященного вопросам
теории красоты. — 201; 351, 356.
Фенелон Франсуа (1651—1715) —
французский писатель эпохи клас-
сицизма, автор педагогического ро-
мана «Телемах» (1699). —218.
Фенрир — волк-чудовище в скан-
динавской мифологии. — 40, 342.
Ферсит — уродливый персонаж
«Илиады», призывавший грече-
ских воинов вернуться домой и не
жертвовать жизнью ради интере-
сов вождей. — 171; 353.
Феспид — по преданию, первый
трагический поэт древних греков
(середина VI в. до н. э.). — 6, 211;
356.
Фетида (миф.) — нимфа, мать
Ахилла (см.).— 94, 170, 171.
Фидий (500—430 до н. э.) — зна-
менитый греческий скульптор, со-
здатель статуи" Зевса Олимпий-
ского.—96, 107, 187, 254; 349.
Фильдинг Генри (1707—1754). —
110, 124, 218, 223.
Филоктет — один из участников
Троянской войны; укушенный
змеей, с незаживающей раной был
покинут греками на пустынном
острове. Герой одноименной тра-
гедии Софокла (409 до н. э.). — 5,
133.
^Филострат (III в. н.э.)—поздне-
греческий писатель; в своих «Кар-
тинах» дает описание произведе-
ний живописи. — 100.
Фингал — главный герой «Песен
Оссиана» Макферсона (см.), ле-
гендарный властитель страны Мор-
вен (Шотландии), отец Оссиана
(см.). Его подвиги воспеваются в
поэме «Фингал». — 27, 29, 32, 37,
Ш\340; XXXIX,
Фишарт Иоганн (1546—1590) —
немецкий писатель-сатирик позд-
него Возрождения, переводчик
Рабле (см.). —223.
Флеминг Пауль (1609—1640) —
немецкий лирический поэт. — 49.
- Флешье Эспри (1632—1710) —
эпископ, церковный проповедник. —
328.
Фома Аквинский (1226—1274) —
крупнейший представитель средне-
вековой схоластики, автор система-
тического изложения основ католи-
ческого богословия. — 201.
Фортинбрас — один из персона-
жей «Гамлета». — 16.
Фосс Иоганн Генрих (1751—
1826) —немецкий поэт демократи-
ческого направления, в молодости
•близкий Гер деру и эпохе «бури и
натиска»; филолог-классик; просла-
вился как переводчик Гомера и
других античных поэтов. — 91, 95;
•345; XXXIII.
Фреер Марквард (1565—1614) —
друг Гольдаста (см.) ; издатель
древненемецких и англосаксонских
памятников. — 61.
Фряна — афинская гетера, знаме-
нитая своей красотой. — 124,
254.
- Хагедорн Фридрих (1708—
1754) — немецкий поэт анакреонти-
ческого направления (см.); в преди-
словии к своим «Одам» (1747) вос-
хвалял красоту старинных англий-
ских баллад. Его младший брат
Кристиан Людвиг (1712—1780) —
художник, директор Дрезденской
академии художеств, известен как
агтор «Рассуждений о живописи»
{1762). — 202.
Хакон Добрый — норвежский ко-
роль, погиб в бою в 961 году; 29;
МО. -
Хервор — героиня древнеисланд-
ской саги.— 37; 342.
Херд Ричард (1720—1808) —
английский критик предромантиче-
ского направления, автор «Писем
о рыцарстве и средневековых ро-
манах» (1762).—12, 61, 202; 338,
344; XXXIV.
Хиккес Джордж (1642—1715) —
английский филолог, занимался
изучением грамматик и изданием
памятников древнегерманских язы-
ков (готского, англосаксонского
и др.). —29, 60, 340.
Хильда—одна из валькирий.—
40.
Ходр — в древнескандинавской
мифологии слепой бог, убийца
светлого бога Бальдра (см.). — 39;
342.
. Хом Джон (1722—1808)—по
происхождению шотландец, лите-
ратурный критик и драматург
предромантического направления.
Сюжет одной из его трагедий «Ро-
ковое открытие» (1769) навеян
«Песнями Оссиана» Макферсона,
которыми он увлекался. Гердер ци-
тирует его «Элементы критики»
(Лондон, 1762; немецкий перевод
1763—1764).—12, 20, 202; 338.
Цезарь Кай Юлий (около 100—
44 до н. э.) — знаменитый римский
полководец и диктатор. Герой тра-
гедии Шекспира «Юлий Цезарь». —
17, 21, 89, 112, 259, 275; 360;
XXVIII.
Цирцея (миф.) -~- в «Одиссее»
волшебница, пытавшаяся оболь-
стить Одиссея и превратившая его
спутников в свиней.— 98, 99, 223;
357.
Цицерон Марк Тулий (106—43
до н. э.). —23, 260; 360; XXVIII.
Чизлдин Вильям (1688—1752) —
английский хирург. —144, 180, 184;
354.
Чингисхан (около 1160—1227) —
знаменитый монгольский завоева-
тель.—296.
Чосер Джеффри (1340—1400) —
крупнейший средневековый англий-
ский поэт, автор «Кентерберийских
рассказов». —63, 64, 84; XXXI.
387
Шарлевуа Франсуа Ксавье
(1682—1761) — иезуит, француз-
ский миссионер в Северной Аме-
рике, автор «Истории и описания
новой Франции вместе с историче-
ским дневником путешествия по
Северной Америке, предпринятого
по повелению короля», 3 тт.
(1744). — 30, 37, 138.
Шатц — неизвестен; может быть,
подразумевается Шерц Иоганн
Георг (1678—1754), ученик и со-
трудник названного перед ним
Шильтера (см.), автор «Средневе-
кового германского словаря»
(1781—1784). —61.
Шекспир Вильям (1564—1616).—
3, 4, 10, И, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 25, 62, 63, 64, 66, 78, 84, 85,
ПО, 112, 124, 202, 216, 217, 222,
331; 337, 338, 339, 340, 347, 350,
352; XIII, XVII, XXXI, XXXIII,
XXXIV, XXXVIII, XLI, XLII,
XLIII, XL1V, LU, LVIII.
Шенстон Вильям (1714—1763) —
английский поэт, автор сентимен-
тальных элегий; подражал Спен-
серу. — 84.
Шёпфлин Иоганн Даниэль
(1694—1771) —профессор Страс-
бургского университета; при его
посредстве Бодмеру и Брейтингеру
(см.) удалось получить из Парижа
рукопись миннезингеров, приписы.-
ваемую Манессе (см.). — 64.
Шефтсбери Энтони Эшли (1671—
1713)—выдающийся английский
философ эпохи Просвещения;
в своей теории прекрасного исхо-
дил, из принципа единства истины,
добра и красоты. — 176, 198,
202.
Шеффер Иоганн (1621—1679) —
филолог, уроженец Страсбурга, про-
фессор в Упсале (Швеция), автор
латинского труда о Лапландии,
послужившего источником для Лес-
синга и Гердера. —33.
-Шиллер Фридрих (1759—1805).—
112; 349, 358; VII, X, XIX, XXXII„
XXXV.
Шильтер Иоганн (1632—1705) —
издатель памятников древненемец-
кой письменности; составил сбор-
ник «Сокровища тевтонских древ-
ностей» вЗ тт., изданный посмертна
в 1726—1728 годах. —61, 64.
Шлёцер Август -Людвиг (1735—
1809) — немецкий историк, был чле-
ном Академии наук в Петербурге,,
занимался русской историогра-
ф'ией, известен критическим изда-
нием русской начальной летопи-
си— 325; 357.
Шоу Томас — профессор в Окс-
форде, автор «Путешествий в стра-
ны Северной Африки и Леванта»
(немецкий перевод 1765 г. рецен-
зирован Гер дером). — 136.
Шпангейм Езекиил (1629—
1701)—немецкий ученый и госу-
дарственный деятель, автор тру-
дов по античной нумизматике
(1644). —321.
Штус Иоганн Генрих (1688—
1775)—педагог-классик, автор ла-
тинской диссертации о публикации?
германских древностей (1733).—
61.
Эберт Иоганн Арнольд (1723-—
1795)—немецкий писатель, про-
фессор и популяризатор англий-
ской литературы, автор прозаиче-
ского перевода поэмы Юнга «Ноч-
ные думы» (1751—1752), переиз-
данного в пяти томах с обширным
комментарием (1760—1771). — ПО·.
Эвинд Скальдаспиллер — нор-
вежский скальд X века, автор пес-
ни на смерть короля Хакона Доб-
рого (см.). —29; 340.
«Эдда». — 29, 62, 265, 284; 34Оу
342, 344, 361; XXX, XXXV, XXXVII.
«Эдип» — название двух траге-
дий Софокла. — 5, 6; 337.
388
Эйдотея (Идофея) (миф.) —
s «Одиссее» (кн. IV) морская бо-
гиня, дочь Протея (см.). — 98.
Эйлер Леонард (1707—1783) —
знаменитый немецкий математик и
ч{)изик; с 1730 года —член Акаде-
мии наук в Петербурге. — 130,
324.
Экард (правильнее — Экхарт)
.Иоганн Георг (1674—1730) — исто-
рик средневековой Германии и из-
датель древненемецких текстов;
первый опубликовал эпический от-
рывок «Песни о Хйльдебрандте»
(IX в.). —61.
Экбатана — главный город древ-
ней Мидии; позднее столица пер-
сидских царей. — 250.
Экенсайд Марк (1721—1770) —
английский сентименталист; врач
■по профессии; автор описательно-
дидактической поэмы «Искусство
сохранения здоровья» (1744). —59.
«Элоиза» («Новая Элоиза») —
знаменитый роман Руссо (1761).—
218; XI.
Энгель Иоганн Якоб (1741—
1802)—немецкий философ и лите-
ратор просветительского направле-
ния, автор трудов по поэтике
(«Основы теории поэтических жан-
ров по новейшим образцам», 1783)
и по теории драматического искус-
ства, в которой следовал за Лес-
сингом («Мысли о мимике»,
1785). —202.
«Энеида» — эпическая поэма Вер-
гилия (см.), написанная в подра-
жание «Илиаде» и послужившая
образцом для классицистических
эпопей нового времени. — 99, 106,
260, 324; 345, 353, 363; XX.
Эней — согласно легенде, один
из героев Трои; воспет Вергилием
в «Энеиде» (см.). —62; 353, 363.
Энний Квинт (239—169 до н.э.) —
первый римский эпический поэт,
явтор эпоса «Анналы», охватываю-
щего всю историю Рима, создатель
латинского гекзаметра. — 67;
345.
Эптон Джон (ум. 1760 г.)—ан-
глийский критик; издал «Королеву
фей» Спенсера с комментариями;
автор «Критических замечаний о
Шекспире» (1746). —62.
Эрда — богиня земли в сканди-
навской мифологии; упоминается в
мифологических песнях «Эдды». —
265; 361.
Эригена Иоганн Скотт (810—
880) — выдающийся философ ран-
него средневековья, ирландец по
происхождению; представитель хри-
стианского платонизма. — 201.
Эрихтоний (миф.) — согласно
преданию, один из древних царей
Аттики. — 255.
Эст Иоганн Генрих — немецкий
пастор, теоретик стиха. Гердер раз-
бирает в «Фрагментах» его «Опыт
критической просодии, или Пра-
вила стихосложения древних, в
особенности греков и римлян, вме-
сте с рассуждением о немецком
гекзаметре» (1765). — 118.
Эсхил (525—465 до н. э.). —4, 5,
6, 74, 107, 171; 337.
Эшенбург Иоганн Иоахим
(1743—1820)—немецкий литера-
тор, друг и сотрудник Лессинга,
автор «Опыта теории и литера-
туры изящных наук» (1783); пере-
работал и дополнил второе изда-
ние сделанного Виландом (см.)
перевода Шекспира (1775—1782).—
111, 202; 339.
Юлий Цезарь — см. Цезарь.
Юм Давид (171.1—1776)—ан-
глийский философ эпохи Просве-
щения, скептик и субъективист;
своей критикой рационализма ока-
зал влияние на молодого Кан-
та. Как историк-просветитель был
сторонником идеи буржуазного
389
прогресса («История Англии»,
1754). — 276, 278, 281, 323, 324, 325;
X, XI, XLV.
Юмала (миф.) — бог грома,
главное божество восточнофинских
народов. — 263.
Юнг Эдуард (1683—1765) — ан-
глийский поэт, автор «Ночных дум»
( 1742— 1745), религиозно-дидакти-
ческой поэмы, оказавшей большое
влияние на сентиментально-элеги-
ческое направление европейской, в
особенности немецкой, поэзии вто-
рой половины XVIII века.— ПО,
198, 202; 356; XIII, XLIL
Юнона ....(миф.)—у римлян бо-
гиня, жена Юпитера (см.), отожде-
ствлялась с греческой богиней Ге-
рой, женой Зевса.— 94, 166, 169,
170, 171; 360.
Юпитер (миф.)—верховное бо-
жество у древних римлян, царь бо-
гов; отождествлялся с Зевсом (см.)
у древних греков. — 94, 96, 103,
107, 130, 182, 187, 254, 289, 320;
XXIV.
Юпитер Статор («останавливаю-
щий», «сковывающий») — один из.
эпитетов этого божества. —259.
д'Юрфе Оноре (1568—1625) —
французский романист, родоначаль-
ник галантно-пасторального рома-
на XVII века, автор «Астреи»-
(1607—1625). —10.
Яго — персонаж «Отелло» Шек-
спира. — 14.
Якоби Иоганн Георг (1740—
1814)—немецкий поэт, автор-
изящных, но поверхностных лири-
ческих стихотворений анакреонти-
ческого направления (см.). — 45.
Яо (или Тан Яо) — легендарный:
китайский император, которого ки-
тайское историческое предание от-
носит к III тысячелетию до н. э.;
считался идеалом мудрого госу-
даря и создателем китайского*
летосчисления. — 251.
СОДЕРЖАНИЕ
В. M, Жирмунский, Жизнь и творчество Гер дера VII
ЛИТЕРАТУРА И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Шекспир. Перевод Н. А. Сигал 3.
Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях древних народов.
Перевод статьи и стихов Е. Г. Эткинда 23
О сходстве средневековой английской и немецкой поэзии и о прочем,
отсюда следующем. Перевод Н. А. Сигал 60
Посвящение к «Народным песням». Перевод Е. Г. Эткинда .... 71
[О народных песнях.] Перевод И. А. Сигал 72
[Из старого предисловия к сборнику народных песен.] Перевод
Н. А. Сигал 83
Гомер — любимец времени. Перевод О. Â. Смолян SS-
Сравнение поэзии различных народов древних и новых времен. Пере-
вод А, Г. Левинтона 109
язык и поэзия
О новейшей немецкой литературе. Фрагменты. Перевод Г. Ю. Бер-
гельсона ИГ
Трактат о-происхождении языка. Перевод Г, Ю. Бергельсона . . . 133
ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
Критические леса, или Размышления, ка-сающиеся науки о прекрасном
и искусства, по данным новейших исследований. Перевод
Н. И. Бутовой 157
Пластика. Перевод Ή. И. Бутовой 179
О воздействии поэзии на нравы народов в древние и новые времена.
Перевод Н. И. Бутовой . . 192
Каллигона. Перевод А. Г. Левинтона 196·
391
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
Идеи о философии истории человечества. Перевод Л. Ю. Виндт . . 227
Еще один опыт философии истории для воспитания человечества
Перевод А. Г. Левинтона'\ 274
Письма для поощрения гуманности. Перевод А. Г. Левантона ... 285
Из черновой редакции «Писем». Перевод А. Г. Левантона 302
ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА
Дневник моего путешествия в 1769 году. Перевод С. М. Барского . . 315
Комментарии 335
-Указатель имен 365
Иоганн Готфрид
ГЕРДЕР
Избранные сочинения
Редактор Я- Билинкис Художественный редактор Л. Чалова
Технический редактор Л. Крючкина. Корректор О. Семенова-Тян-Шанская
Сдано в набор 8/1V 1959 г. Подписано к печати 21/VIII 1959 г. Бумага 60x927,^ —
.28,25 печ. л.=28,25 усл. печ. л. Уч.-изд., л. 27,95 + 1 вкл.=28 л. Тираж :$000 экз.
Зак. № 291. Цена 9 руб. 10 коп.
Гослитиздат, Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28
Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Измайловский пр., 29








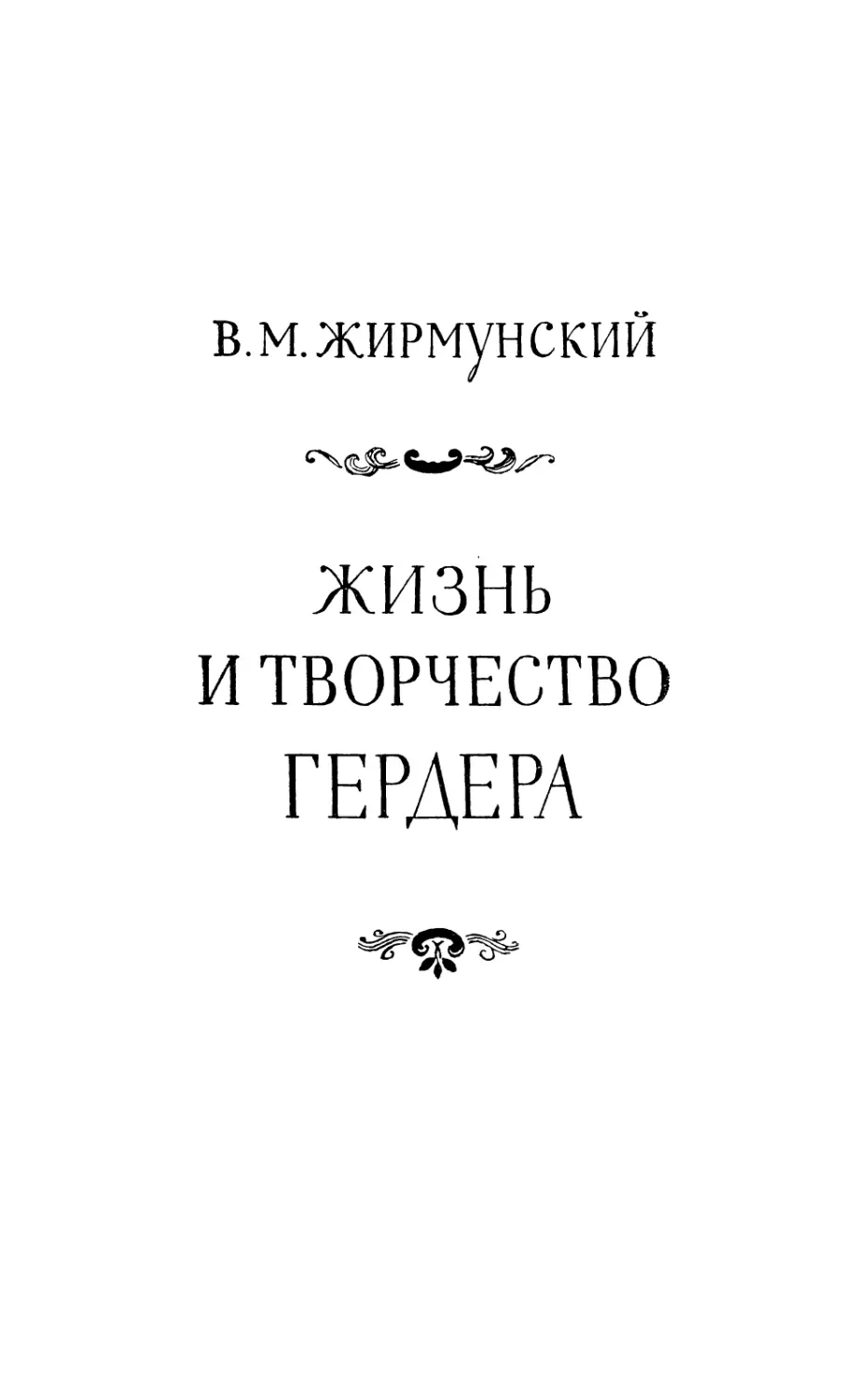











































































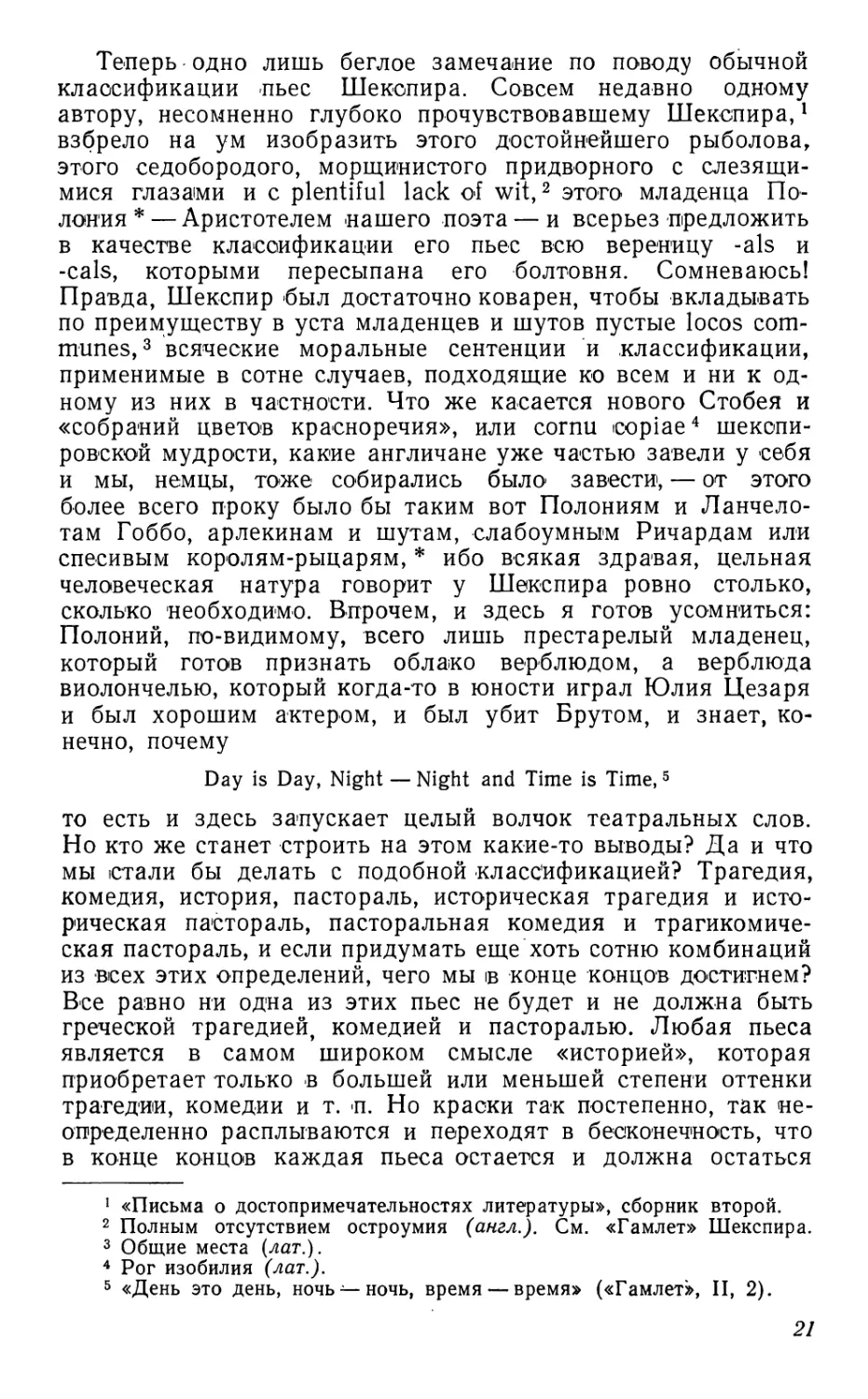




































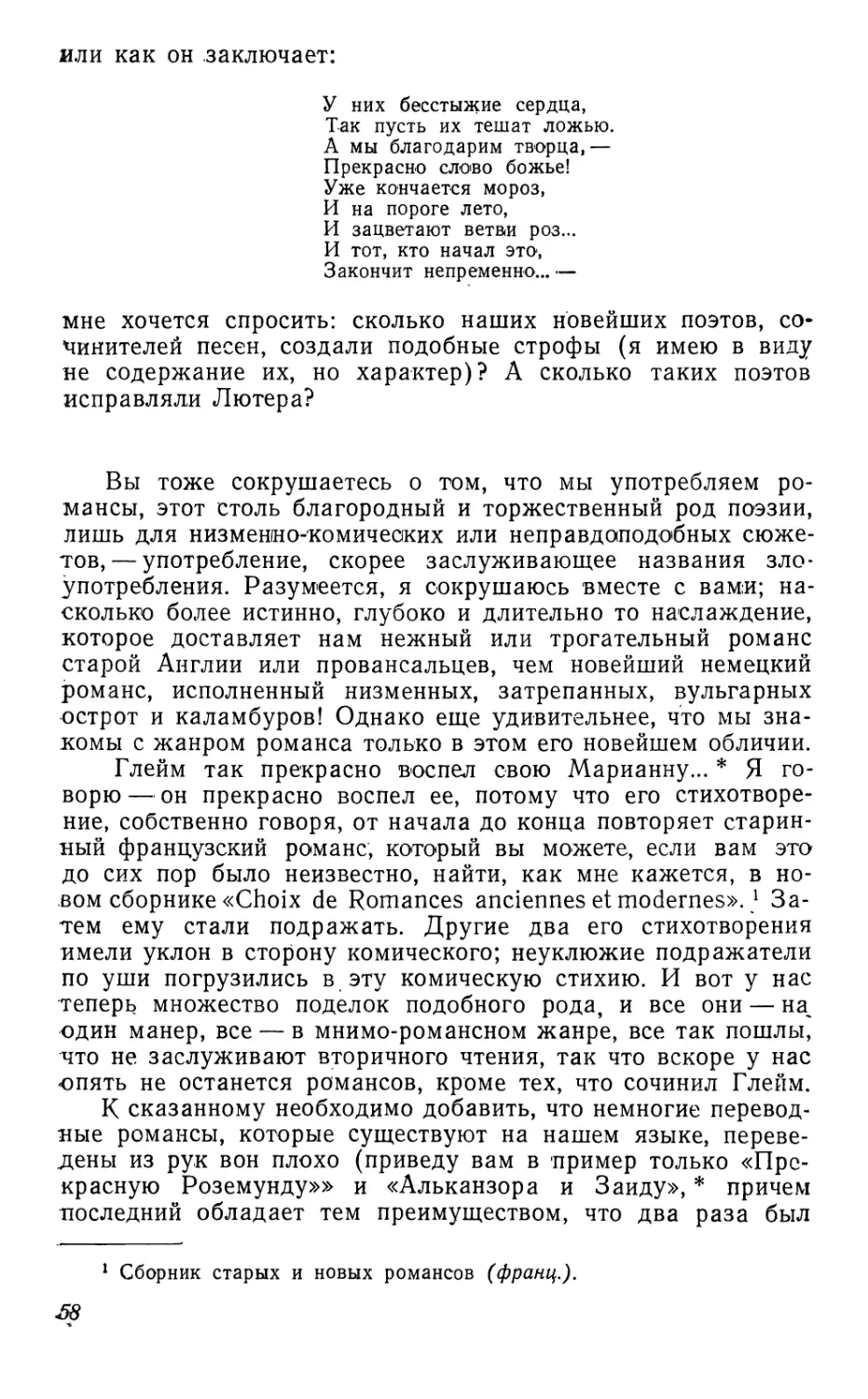










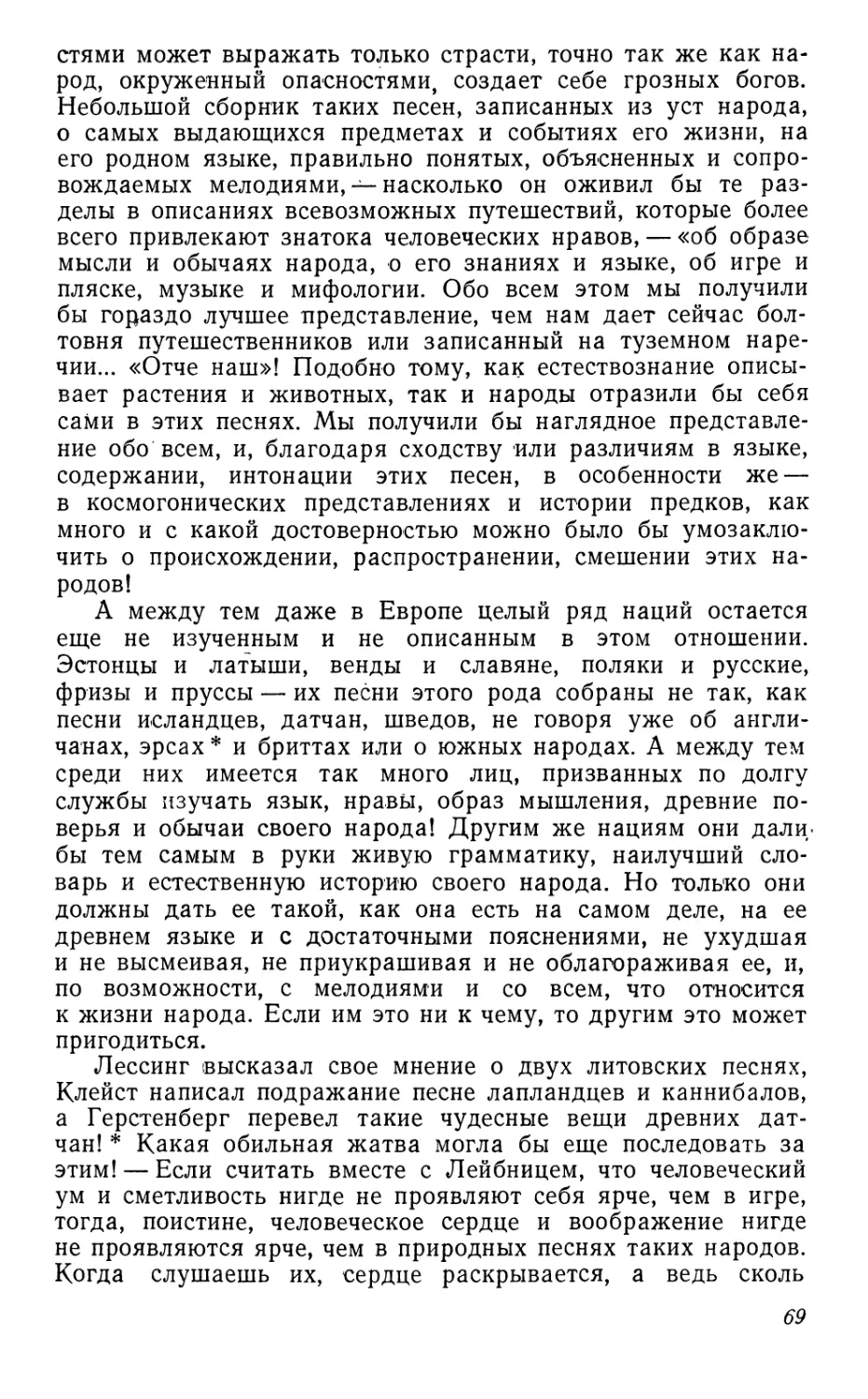
![[О народных песнях.]](https://djvu.online/jpg1/k/s/a/ksaxxjt5Gvmqv/134.webp)










![[Из старого предисловия к сборнику народных песен.]](https://djvu.online/jpg1/k/s/a/ksaxxjt5Gvmqv/145.webp)