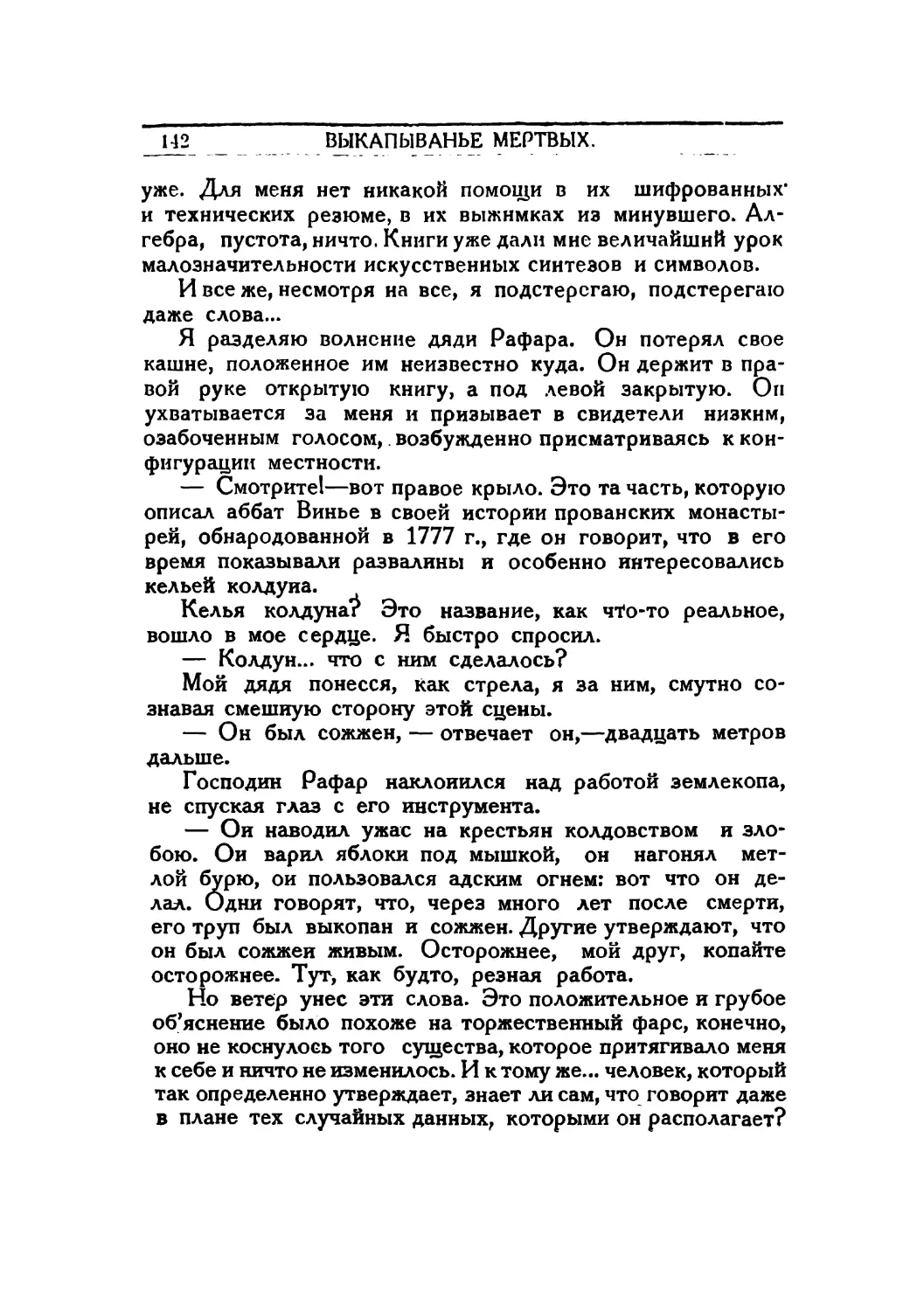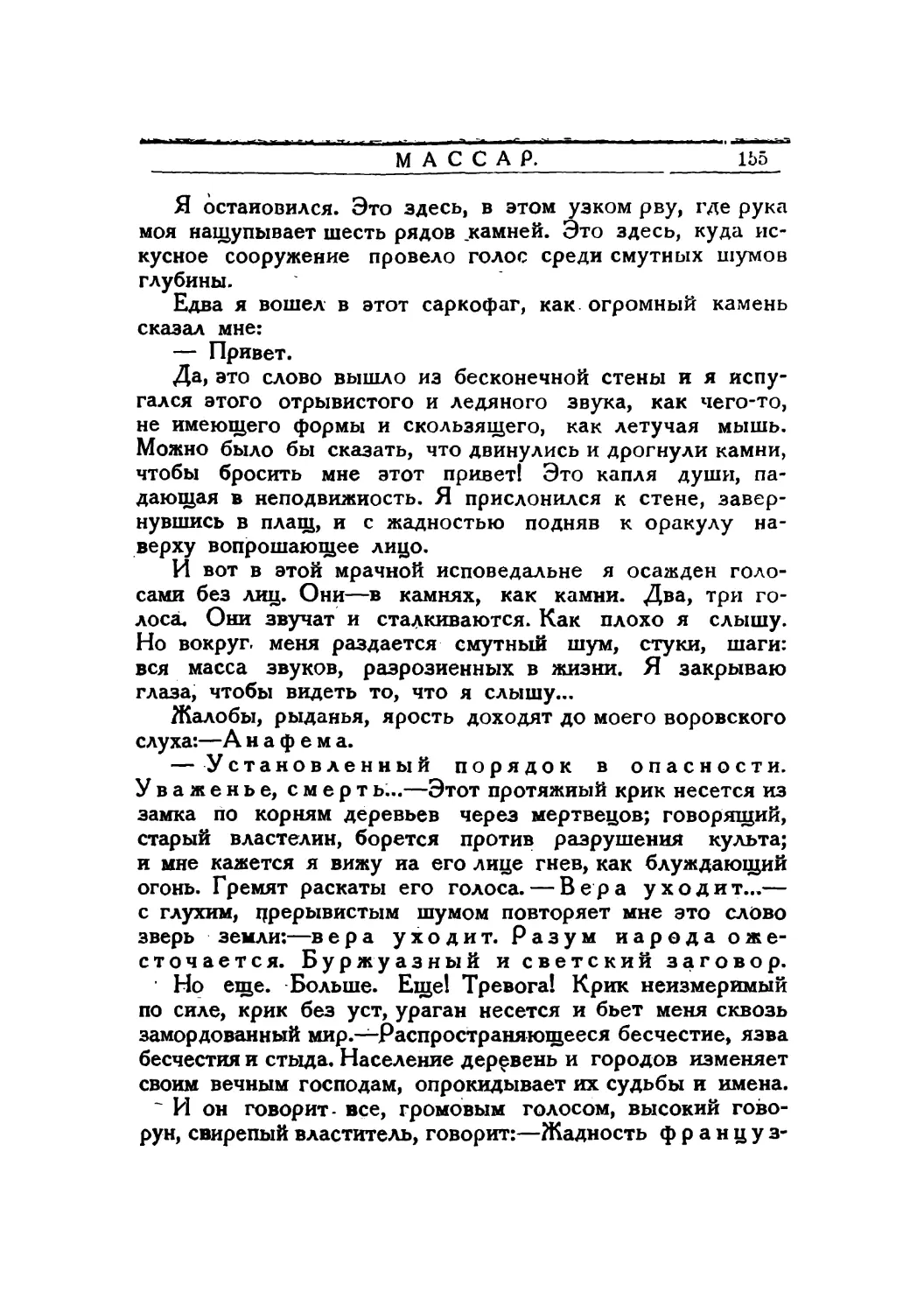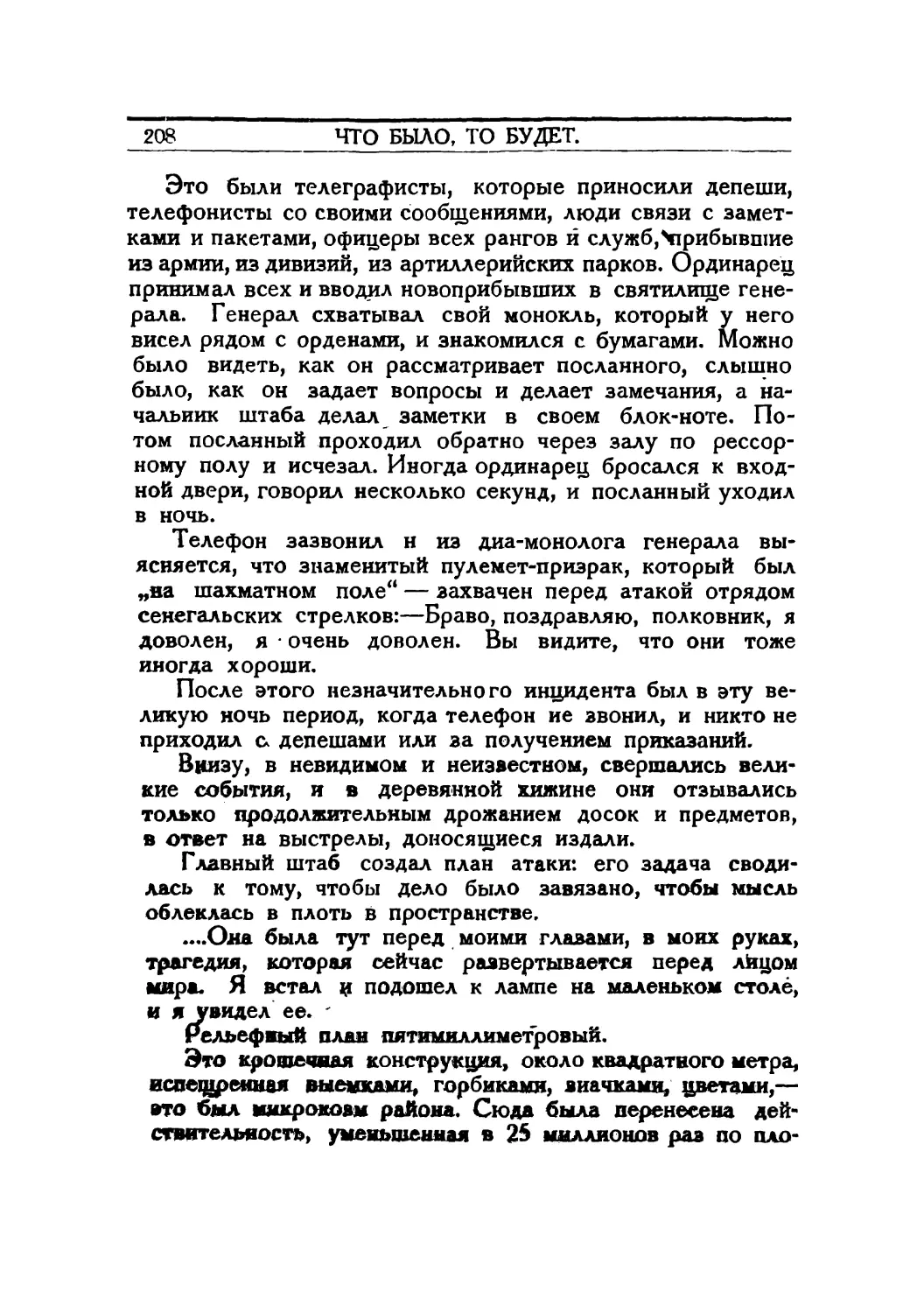Текст
АНРИ БАРБЮСС
К1п»гонзлл,теАйстпо
'CEfTTEAlT
L 8. OMtOQKDTD
£\£№(ЛГРДА
V4F
АНРИ БАРБЮСС
ЗВЕНЬЯ
РОМАН
ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
Н. В. Вольпин и Несвидкого.
мнигонздахе-аь< т во
4 СЕЯТЕЛЬ'
Е в. ВЫСОЦКОГО
ЛЕНИНГРАД
/ттеюгРАФПЯ.литогРА<г>ня';
\ и ПЕРЕПЛЕТНАЯ :
‘•Л?МтаКОАЫ.ЛИОЙ№ ОКТЯБРЯ/
\ t* Советск ай 7
Ленинградский гублит № 10521.
Тираж
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.
Быть может, романисты назовут эту книгу „книгой по
историибыть может, историки безо всякого снисхожде¬
ния назовут ее романом и, быть может, как те, так
и другие будут правы. Не стану предрешать этого спора.
Я хочу только сказать здесь, что если я постарался
особым приемом построения придать рамкам „романа44
исключительные, беспримерные в истории литературы про¬
порции, то сделал я это потому, что хотел ввести в книгу
столько разрозненных происшествий, сколько не мог бы
дозволить какой-нибудь обычный, избитый прием. И еще
хотел я, чтобы эти рамки соответствовали бы шириною
своего охвата всему тому, что вытекает из коллективных
фактов.
С моей стороны было дерзостью затрагивать чудесный
ансамбль человеческой драмы, которая развертывалась
В давние времена, тревожить полное, мрачное, покрытое
цифрами и точными именами молчание истории.
Прежде всего я потерялся в массе документальных
данных. Это конечно /го, что и нужно было прежде всего:
потеряться или, по меньшей мере, быть одному, не вно¬
сить никакой -предвзятой мысли ни в то, что касается
содержания, ни даже в то, что касается формы работы.
Я пытался отдаться толкованию жизни с жаром само¬
отвержения и с заботливым вниманием; я знал, что малей¬
шая предвзятость мнения исказила бы картину и позволял
себе испытывать только подлинное удивление и волнение.
1*
G
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.
Однакоже, побуждаемый потребностью создать нечто
целостное, я отважился построить роман по новому
образцу; и когда я пытался привести к одному зна¬
менателю все многообразие фактов, мне казалось, что
я пробую наощупь различные формы искусства: ро¬
ман, поэму, драму и даже великие перспективы кине¬
матографии и вечно-новую проблему фрески.
Отсюда, однако, не следует выводить заключения,
что я представляю эту книгу каким-то претенциозным
синтезом всех этих великих изобразительных средств.
Я очень далек от такого намеренья. Я просто констати¬
рую, что книга живет заимствованиями; и я, точно так
же, как самые придирчивые критики, знаю, что гораздо
легче замыслить великие литературные планы, чем при¬
вести их в исполнение. Впрочем, не велика цена всем
людским определениям. Я позволю себе надеяться, что
несколько благосклонных читателей станут искать в этой
книге отголосков моих прежних произведений и что
в этих сменяю1цихся декорациях, населенных призраками,
мертвыми, но не желающими покориться смерти, неко¬
торые из этих благосклонных читателей найдут глубокие
руководящие идеи и широкие линии упрощения, которые
я надеялся выявить.
*
* *
Я говорил о фактах, являемых движущейся панорамой
вещей. Первый из этих фактов, развитие которого одина¬
ково можно наблюдать, как в коллективе, так и в личности,
как и во времени, так и в пространстве, — есть суще¬
ственное сходство, связующее главнейшие человеческие
ситуации. Иными словами—это есть ужасная однород¬
ность истории. Между кризисами и установлениями, отме¬
чающими фазы эволюции общества, различие почти
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА. 7
всегда лишь внешнее и видимое, тогда как сходство
всегда глубокое.
Если рассматриваешь нашу человеческую действитель¬
ность—действительность масс, живущих и мыслящих,—то
находишь только страдания и несчастья—и всегда один род
несчастья: тот, который отягчает естественную фаталь¬
ность жизни социальным гнетом. Сквозь бросающиеся
в глаза „живописные диссонансы" наталкиваешься на не¬
изменный основной механизм, который их порождает:
несколько против всех.
Другой факт—это первенствующая роль языка в поро¬
ждении и освящении этого постоянного общественного
поражения, это увлечение формулой. Здесь перед
нами фантасмагорический, почти божественный случай
массового безумия, которое в современную эпоху дости¬
гает своего апогея. Это безумие позволило через рели¬
гию и искусство подменить реальность словами; оно по¬
дарило человечеству позорную идею абстрактного рая;
оно свело к пустым мечтам весь социальный про¬
гресс, уродовало все прошедшие революции, даже те,
что увенчались успехом.
Третий явствующий факт—это необходимость в наши
дни быть экстремистами в одном или другом направлении.
Изб всего, чему научило нас время, это последнее
положение покажется наименее приемлемым, потому что
оно требует принесения в жертву той „золотой середины",
которой так дорожит большинство современных умов.
„Ни реакции, ни революции"—хором твердят риторы.
Однако на деле существуют только эти две реальные
истины: реакция и революция. Нужно, чтобы Общество,
которое выйдет из тягостных сумерек наших дней, было
или за короля, или за человека.
8
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.
Разрешение этого вопроса, как в теории, так и на
практике, немыслимо (посмотрите на хаос, который вас
окружает), если не начать от самого основания.
Все прочее, все промежуточные течения между двумя
крайними вехами—вся масса предлагаемых компромиссов,
все средние вехи—есть жалкий поверхностный эклектизм;
все нудные нюансы, которыми тешат себя люди, опре¬
деляя разницу между белым и красным знаменем, исклю¬
чаются действительными фактами; остаются только два
пути; направо или налево.
Колесо развертывающихся событий захватило нас
в решительной и острой фазе давнишнего антагонизма
между автократией и республикой. Автократия—это искус¬
ственный социально-политический режим, который цар¬
ствовал до сих пор под различными названиями путем
насилия и грубого обмана (взаимно поддерживавших
друг друга) и путем дробления массы. Автократия есть
владычество частного интереса нескольких личностей,
которые возвысились сегодня при помощи финансового
аппарата—этой машины пожирания, усовершенствованной
до крайних пределов цинизма. Республиканизм же со всею
строгостью физического закона проводит по всей земле,
через ребяческую мозаику наций; через нелепую геоме¬
трию географических карт, новое разделение, сводя все
линии к одной точке и объединяя в один класс всех
бедняков, всех эксплоатируемых, всех угнетенных. (Я, разу¬
меется, говорю не о том показном республиканизме,
который в нашей стране всякой театральной мишурою
прикрывает свои стремления сохранить существующий
социальный строй). Пока рядовой обитатель земли не
овладеет всем, он не будет иметь ничего.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.
0
Не отворачивайтесь со словами: „Опять политика!'*.
Вопрос гораздо глубже, чем вы полагаете. Пусть это дело
политики, т. е. жизненной повседневности, пусть; но, прежде
всего, это есть дело властной логики и нравственности,
которые должны потрясти теперешнее поколение и заста¬
вить его уйти от тысячеликой лжи и от перспективы
пропасти, разверзающейся перед ним; вот почему в этой
книге я обращаюсь с отчаянным призывом к человече¬
скому сознанию.
Мы приходим не с кабалистическими формулами,
а с велениями здравого смысла. И не мы, конечно, из¬
обрели здравый смысл. Но мы его применяем. Я полагаю,
что все те, которые не откажутся без предвзятой мысли
присмотреться, вместе с писателем, к огромной массе бед¬
няков, слишком долго страдавших, к нашему материаль¬
ному прогрессу, погрязшему в варварстве, к бессмыслен¬
ному расточению человеческой силы, — те задумаются
вместе с ним, не для того, чтобы согласиться со своим вожа¬
тым, но для того, чтобы найти согласие с самими собою.
Мы должны найти в себе силу оценить все значение
того кризиса, к которому, помимо нашей воли, нас при¬
вело стечение обстоятельств. Борьба идет за новую
форму человеческого общежития. Наступает вторая
эра, которую, как некое прекрасное, светлое возмездие,
подготовляет пробудившийся, наконец, человеческий разум;
и все пересматривается заново, или, вернее, впервые дей¬
ствительно подвергается рассмотрению.
И наша непримиримая последовательность, которую
плохо осведомленные или слишком хорошо осведомлен¬
ные противники называют сектантством (сколько сыпа¬
лось на меня порицаний и предостережений!)—есть по¬
следовательность тружеников, до конца подчиняющихся
10
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.
тем принципам, которые исповедуются также и другими,
но только эти другие не хотят (или не могут) вывести
из своих принципов все следствия. Близорукий разум
глуп, близорукая честность бесчестна. Мы восстановили
связь между реальностью и мыслью, одним узлом связали
мечту и действие, и узаконили древний миф. И мы по¬
кажем еще, что то, что прежде считалось непреложным
законом,—станет отныне утопией.
Пусть интеллигенты—эти сливки невежества и трусо¬
сти (за столь редкими исключениями)—не удивляются, бы¬
строте, с которой вчерашнее мирское стадо превратится
завтра в народ, единый подобно древнему богу, для ко¬
торого все народы—лишь его отдельные куски, и пойдет
отныне являть свое величие и силу, и вернет молодость
дряхлеющему миру; пусть интеллигенты не будут послед¬
ними среди тех, кто понял, как разумен и нравственен,
как величав и благотворен этот всеобщий подъем, кото¬
рый пока захватил лишь меньшинство, но который от
этого не делается меньше, и который есть Сила и Разум.
Если на последующих страницах я иногда не мог воз¬
держаться от проявлений гнева и ненависти против слиш¬
ком очевидных причин великих общих бедствий, я прошу
извинения у тех, кого я назвал прямо, и которым я дол¬
жен был лишь показать их схожий портрет. Но должен ли
я также просить извинения за то, что не смотрел на
литературу, как на досужую забаву,' и заставил ее пре¬
ступить пределы, положенные ей духовным целомудрием
моих современников? И виноват ли я и мой скиталец,
которого я пытался провести сквозь минувшие века, если
великие проблемы остаются вечно одни и те же?
Анри Барбюсс.
I.
ВЕЧЕР.
Очнувшись в смятении, я выпрямляюсь, точно человек,
упавший с высоты... Что? Где я?.. У себя эа письменным
столом.
Видение все еще в комнате, все еще липнет к моим
глазам.
Я сидел здесь и разбирал свои бумаги, свои стихи.
Голова моя склонилась, руки упали на стол, и я унесся
далеко, далеко.
Я был человеком, бегущим от снежной лавины. Я
в ужасе бежал со своими: с женой, с ребенком, с соба¬
кой. Мой бег оборвался у темного берега. Я слышал хо¬
хот отвесных стен. И в текучей мгле на меня напало
нечто мне подобное, и я отбивался изо всех моих сил.
В судороге отвоевывал я свое тело от цепких рук другого,
который ухватился за меня, чтобы не упасть. Я кусался,
стараясь перегрызть живые корни этих рук. Был момент,
когда мне запрокинули голову, и я увидал над собою,
точно утес на черном небе, страшное ребро живого—че¬
ловеческого—капкана—огромный, острый локоть, и еще
выше в облаках две накренившиеся горные вершины,
подымающие к звездам свои гнутые рога... Я... он. Свя¬
занное ненавистью целое, половина которого должна уто¬
нуть, утихнуть. Мне не хватает дыхания. Огнем уста¬
лости горят в ночи мои глаза. Она качнулась, глыба
моего сердца. Которая из двух гор возьмет верх?
О, как я слышу вой этой собаки в стороне и хриплое
молчание ждущих женщин...
12
ВЕЧЕР.
Я просыпаюсь в своей маленькой комнатке, собираю
разбросанные по столу обломки моей марионетки. Они
лежат вокруг моей головы. Но тело мое еще бьется тем,
что наполняло его. Глаза мои широко открыты, они не
могут оторваться от видения этих двух накрененных вер¬
шин, от рушащихся белых гребней на море, от этих спо¬
тыкающихся, истерзанных тел, которые надо повергнуть
в небытие.
Я еще чувствую вкус морской соли на моих губах!
О, что это! уж не схожу ли я с ума? Вкус моря на моих
губах. О, море, море!
Конец. Я встряхиваюсь. То был сон. Мне холодно,
это конец моего долгого сна.
Хожу по комнате. На мне черный фрак. Машинально
беру шляпу, пальто и отправляюсь на вечер к Д’Ариэ.
*
* *
В эту зимнюю ночь мастерская Д’Ариэ вся точно
яркий фонарь. Куда ни глянешь—всюду танцуют радуги.
Клетки, полосы, треугольники. Не то палитра с пробой
всевозможных редчайших оттенков, каких только дости¬
гает современная химия, не то грубый лубок. Люди про¬
ходя то закрывают, то вновь открывают глазам высокую
хрустальную вазу посреди ателье-салона, закутанную
в сетку водяных струй, точно в оболочку слишком чи¬
стую, чтобы человек мог ее увидеть. А в сетке кружатся
самоцветные камни отражений: люстра, красная, как
герань/
И я хожу взад и вперед, слоняюсь, как все другие,
вместе со всеми другими. Я на них похож, я молод, как
они, и как они—я поэт и искатель, жадно, неудержимо
стремящийся к новизне. Вижу, я рвусь в авангард своего
поколения, которое в свою очередь возглавляет все по¬
коления, на склоне веков.
Говорят, танцуют. Говорят, как всегда, о поэзии и жи¬
вописи. Все начать. сначала, все перестроить. Мир.—хаос.
Слышу дыхание нового духа живого.
♦
* *
Разговоры с людьми дают мне возможность разря¬
диться и зарядиться вновь. Но в этот вечер я не погру*
ВЕЧЕР
13
жаюсь целиком в эту шумную стихию, в которой рожда¬
ются и куются наши боевые лозунги. Я сегодня сбит
с пути, увлечен... Что там? Что за свет?
Это не мадам Фонтаниль в кружеве желтых лучей, и
голубых струй. Но кто же это? Не смеющаяся ли Сильвия
с золотыми бубенчиками на великолепной шее, янтарной
и нежной? Она играет белым шарфом, белым шарфом
в лазурной дымке. И так же играет она словами, и когда
с ней заговаривают, то кажется, что она вот-вот улетит.
Нет, не Сильвия.
С нею рядом вижу я девушку в черном.
Ее зовут Марта Уриэль. Я с ней встречался и раньше;
в третий раз я к ней приближаюсь, сам того не желая.
Волосы у нее и светлые и каштановые: позолота сгу¬
щается местами в волнистую бройэу. У нее широкое
снизу лицо—изящно прямоугольное. Все в этом лице на¬
поминает светлый лепесток. На висках—лепесток белой
камелии, на щеках—камелии розовой; и в них глубоко за¬
рыты огромные, черные-черные глаза. И вся она дышет
такой волшебной хрупкостью, что каждое ее движение
делает ее еще прекраснее, и слишком грубым кажется
коснуться ее хотя бы взглядом.
Мы. с ней разговаривали, и мне это представлялось не¬
обычайным. Я отважился на несколько слов, произнесен¬
ных с болью, едва прикрытою светской улыбкой.
Она говорила об искусстве и сказала, что любит тех,
кто ищет. Она полагает, что мы переживаем переход¬
ные дни, „ средневековье", период пророков и иконо¬
борцев: и стихи наши—благовест, а пестрые холсты ху¬
дожников — знамена. Наступает время великих свер¬
шений.
„ — Истина ждет кого-нибудь, чтобы... Да, да...
У меня срывается неожиданный вопрос:
— Кого же?
Она отвечает в упор:
— Вас!
И улыбается. Я тоже улыбаюсь, зараженный ее улыб¬
кой; я скалю зубы и кривлю рот, польщенный в своем
честолюбии. Меня... Конечно, меня, но..,
14
ВЕЧЕР.
И вдруг мне хочется, чтобы сказанное ею было прав¬
дой, и чтобы она это знала. Мне хочется говорить ей
о себе, показать ей, какими подвигами и какою верой
полны мои бессонные ночи... И я широкими мазками по¬
рывисто набрасываю перед ней план грандиозного и но¬
вого, как мне кажется, цикла стихотворений о любви,
о смерти—о человеке! Упоенный собственным голосом, я
замечаю, что она приняла смиренную позу слушателя...
Она говорит с убедительностью своей властной красоты:
„Прекрасно!". И даже соблаговолила прибавить: „Вы это
исполните! Это нужно".
Пока, погруженный в пучину, я обдумываю и уже бор¬
мочу какой-то мадригал, полный вышедших из употребле¬
ния слов, она рассказывает мне о Провансе. Она сказала:
„Я поеду в Аликан", и так как в этот момент взрыв му¬
зыки заполнил комнату она повторила громче, стараясь
перекричать музыку: „В Аликан!".
Она начинает рассказывать мне об этом крае: крас¬
ные скалы, синее море, два горных пика—два рога... Но
я радостно смеюсь. Моя родина! Аликан—это я! Я там
жил и буду жить. Это имя деревни, которая для меня
все,—а она воображает, что я впервые слышу его! -
И это неожиданно отодвинуло от нас двоих всех при¬
сутствующих,—а главное, того офицера, с которым она
только что познакомилась, и синий мундир которого,
казалось, обдал своей синевою ее прекрасное лицо.
Она смеется мне. Я мог бы ее коснуться рукой. Но
она двоится, расплывается невидимкой в течение одного
хрупкого мгновения, пока мы еще вдвоем. Мысленно
я заключаю в об’ятия ее тело—это тело, скрытое здесь
за назойливой тенью, отделенное от меня общим ярким
освещением, это неведомое тело, перед которым я тре¬
пещу. Улыбка притворно говорит о сдаче, призрак мысли
притворяется, что может схватить. Здесь открывается
история другого мира, на границе которого два существа
_ из плоти и крови ждут и разговаривают о пустяках.
С этим прекрасным телом она пойдет туда, куда
пойду я... В будущее.
одинокий.
15
Одинокий,
Праздник устал, растаял, изнемог,
Я вдруг очутился на улице. Дождь и' черный холодный
туман заволокли мои глаза. Вокруг меня’и надо мной—пу¬
стыня. От недавнего блеска и зноя сохранились только лицо
и голос. Этот голос повелевает мне быть триумфатором,
и кровь моя леденеет, когда я слышу его, ибо я вижу,
что в геометрии города, в плоскостях этих мостовых и до¬
мов, среди людей, проходящих в облаке пыли, я вижу
ясно, что я—ничто.
Триумфатор это тот, кто все обнимет, растворится
во всем и во всех, возвеличится надо всеми и отогреет
остывший мир. Неужели я?
Простота ее губ все разрешила. Теперь я могу смо¬
треть самому себе в лицо.
Кто я? Я — Клеман Трашель, двадцатилетии# поэт,
который не написал ничего высокого, который сам —
только порыв. Обыкновенный молодой человек, надею¬
щийся завоевать славу, любовь, вселенную.
Я точка, которая постепенно стирается на плане Па¬
рижа. Сложный блеск созданного ими города — адская
преграда между ними и мной. Реальность так же непо¬
стижима для меня, как гений Данта.
Да, много значит—принадлежать к последнему поко¬
лению, и в 1912 году иметь за спиной только 20 лет
жизни; но плыть по поверхности дней— еще не значит
быть победителем. Я далек от людей, я боюсь толпы.
Я—единица. Один, я бессилен перед мраком ночи. Моих
слов не разносит ветер, мои стоны не, оставляют
следов на мостовой. Мир банален—-потому что я не умею
выразить себя; потому что перед лицом молчания я не
нахожу слов, равных ему по величию. Я живу ожиданием,
подобн тому, ка^ другие, лишенные всего, гложут свой
голод.
Бежать мрака, холода, смерти и всеми силами стре¬
миться завоевать свое место в мире! В душе моей, на
самом дне, забрезжил свет; эхо зазвучало в моих ушах
16 ВЕЧЕ P.
так громко, что я остановился, оглушенный, посреди
улицы. Где слышал я это пенье?
О, если бы мне человеческие уста! Если бы я, мо¬
лодой только молодостью лет, я, растеряно проходящий
мимо, оставляющий мир таким, каков он есть... О, если
бы я совершил творческое чудо, нашел бы розу расцвет¬
шую на скале... Если бы...
Дрожа от радости, я бросаю в ночь этот крик тоски.
*
* *
Я стою перед своим домом с низким, облупленным
фасадом. Ворота качаются, точно балаганная декорация,
и из-за порога маленький дворик обрушивается на меня
темнотой. „Создать вещь!“, Когда на дне мощенного
колодца я повторил эти гордые слова, черное отчаянье
вновь нахлынуло на меня, неизбежное, как возмездие.
В. неосвещенном под’езде, где пахнет погребом,
я ощупью ищу дорогу? Сырая штукатурка лупится под
моими пальцами. В ночной черноте я хватаюсь за перила,
скользкие, как рыбий плавник. Струя ветра ударяет
в лицо, словно откуда-то издалека. Я прицеливаюсь на
первую ступеньку. Решительно опускаю ногу.
О, море, море! Передо мною — блещущее лазурью
море, покрывающее пол земного шара!
Высоко в небо подымается поросший лесом горный
кряж. Глаза мои различают в тумане две горные вер¬
шины, два пика рядом, точно рога. Мягкий песок ласкает
мои голые ноги.
Прибой гулко отдается в моих ушах, заполняет весь
мой мозг, пронзенный зелеными копьями острых паль¬
мовых листьев. Па песке у моих ног корчится моя черная
тень: с плоскими бедрами, с качающимся туловищем.
Ветер смел в одну сторону мои черные волосы.
Я вижу — по земле, по кругу моей головы, ползет упря¬
мое облако.
Все заволокло мраком.
*
* *
Подымаюсь. Передо мной в гладкой стене мрака выреза¬
на квадратная пробоина, ночное окно, грязное, в нескольких
местах заколоченное картоном: изуродованное окно с вы-
О л И II О К И
17
битыми стеклами, которое скрипит на Петру, точно старая
телега,—-окно первого этажа на моей лестнице. Мое лицо
давно знакомо с его сырым дыханием.
Откуда пришел я? С того спета? Или из кошмара?
Я, верно, схожу с ума.
Я храбро осознаю самого себя: Клемам Трашель
у себя на лестнице. Но нет! Я чувствую, как мое „ям
ускользает от Клемана Трашеля. Иной свет пронзает
обступившую меня темноту... Огромная тень встает на
экране иного неба; гнутые ноги, как своды моста, несут
исполинское туловище,—того, кто в некий вечер пришел
на берег моря и снежная пыль веков лежала на его
плечах. *
* *
Я—беглец, спасающийся от ледников.
Холод, налетающий изо всех далей и с высоты, холод,
гнавший меня в моем долгом безглазом бегстве, падает
глыбой на синее море между красных скал.
Глаз мой, полуоткрывшись в испуге, видит края своей
впадины, живой бугор щеки, скалу, покрытую тучами,
слишком огромную, чтобы ясно видеть ее вблизи. Опу¬
скаю взгляд — и он натыкается на злобную челюсть.
Рука моя, пройдя по моему лицу, оформляет его и говорит
мне о крови, о липких волосах, об острой боли. Дыхание
становится колючим, дерет мне горло, и моя внезапная
остановка, качнувшая мое тело сперва вперед, потом
назад, наконец с размаху валит меня наземь, точно
ствол дерева.
Я остановился на краю мертвой бесконечности, оста¬
новился пограничным камнем лаВины. Весь север на моих
плечах.
Они остановились тоже, сгрудившись вокруг меня —
бесформенные сердца, которые я влеку за собою: жена,
ребенок, собака.
Сколько прошло времени с тех пор, как свершилась
великая перемена там, на равнинах, где жили мои предки?
Однажды сплошная ночь встала и навалилась на солнце
и убила лето; землетрясениями разрушены были наши
жилища: Холод сковал реки. Как шкуры убитых зверей,
А. Барбюсс.—Звенья. 2
18
ВЕЧЕР.
повисли замерзшие водопады. Ветер порою был так силен,
что рвал траву и катил по голой земле тяжелые камни.
Сквозь мрак мы увидели, как древняя горная цепь дви¬
нулась на нас с разинутой пастью. Таяли лиловые гребни,
кренились острые вершины. Грохот грома прокатывался
от горизонта до гор и назад! И с того дня мы пустились
в бегство от разрастающегося ледника.
В это утро мы пришли — я всех впереди — к порогу
ледяного царства, в это утро, которое есть утро дней,—
ибо это утро—сегодня.
И все мы — двое взрослых, ребенок и животное —
остановились здесь, как вкопанные, на границе отчаянья.
Два накренившихся горных пика по концам хребта
замкнули наш мир—и сразу не стало ветра. Невероятным
кажется—освободиться от вечного крика, переполнявшего
нас по горло, и вместе с ним избавиться от неизбывной
ноши усталости, и больше не знать, что надо сделать,
чтоб не умереть.
Мы так долго боролись с холодом, с неистовством
смерти. Мы пробивались сквозь низкое небо и страшные
посевы снега и града. И вот подвиг бегства свершон.
Нет больше Великой Зимы. Я один. Я чувствую, как
расту.
Я придумал поднять руки в пространство, я всем те¬
лом тянусь к необ‘ятным вершинам, чтобы выразить, на¬
чало своего „я есмь“. Впервые я утверждаю свой образ:
я подобен небу и земле.
Ручей, вновь обретший свойственную ему сладкую те¬
кучесть, горит радугами. Не снег, а солнце сверкает на
блестящей листве. На песчаный откос и на красные скалы
набегают венчанные белыми гребнями волны. Все говорит
о мире. А дальше море и больше ничего.
Но я один против всех и вся. Я окружен толпою вещей,
я одинок, я—ничто. Я одержим страхом, таким страхом,
что крик душит мне горло.
И вот я крикнул! В черной долине, в расселине скалы
кто-то прячется! Кто-то невидимый, слушает, затаив ды¬
хание.
КРИК.
19
И вот, не видя того, кто видит меня, я крикнул, как
кричат, чтобы прогнать злой сон, липнущий к векам и
к языку. Эта масса, эта ночь и скалы, с которыми я со¬
ставляю одно целое, выбрасывают из себя клейкую ча¬
стицу, человека, меня... Я держусь рукой за перила и гляжу
на квадратные ступени и все вокруг есть видение
человека, подымающегося по лестнице.
Крик-
Белая скала с красными недрами; страстно искал я
камня, который тверже меня.
На белой стене, которая, кажется, всегда движется
передо мной, хотел я запечатлеть черты того женского
лица, того двуликого образа, разрушенного и созданного
вновь, вокруг которого вертится моя жизнь от первых дней
до последних.
Но, поднявшись из своего угла, ко мне подошла собака;
и никого не увидел я, кроме нее.
Она меня не покидала никогда, Не отставала от меня
на дне пропасти, когда преследовала нас зима. Почему?
Без причины. Но вне меня для нее ничто не существует
Я—ее забота.
Она подняла на меня голову, как в великие мгнове¬
ния опасности. Я взглянул на нее, и тело ее дрожало,
пока я присматривался к ней. Она выпрямилась на бвоих
желтых лапах, напряженно вытянула спину. Вся ее жизнь —
одна кривая линия, и'на конце этой живой, осязаемой кри¬
вой вырезаны два черных глаза, которые струят на меня
кроткую нежность. Где же существуют простота и невин¬
ность, если не в глубине этих глаз?
Как тяжелую ношу, нанес я на камень отображе¬
ние этой головы. С безмерным усердием подражал я на
плоскости всем видимым выпуклостям, изгибам заострен¬
ной морды. В нелепом беспорядке линий вдруг возникло
сходство. Нечто большее, чем только сходство! Здесь на
камне не просто остов ее тела—нет, это остов всего ее
существа, таинственно перенесенного на желанное место.
Это частица меня самого. Это нечто новое, на что я не
2*
20
ВЕЧЕР.
могу не смотреть,—это мой перевоплотившийся крик. Это—
останки, которых не коснется смерть, которые пребудут
всегда, которые будут расти во времени. Слово, сорвав¬
шееся с языка, рассеивается в пустоте и умирает. Но
слово, созданное рукою, сильнее смерти—оно пожирает
смерть. Безграничная радость переполняет меня.
Вытисненный на камне крик отчаяния и надежды креп¬
нет, разворачивается до звезд, разростается в храм.
Много искрится точек на воде. Уж не сверкают ли
там карбункулы того храма, коим знаменит песок Ратна-
пуры, сплошь состоящий из пыли рубинов, разбитых вол¬
нами о порог Тапробана—песок, медным блеском оза¬
ряющий пустыню вещей?
Нет, это купол огромный храма Великой Богини; это
берег Библоса*), древнейшего из городов,—ибо он есть
двойник Города, построенного на Белой Горе самим Элем
и перенесенного им сюда от завистливых взглядов небо¬
жителей; Берит**) же может гордиться лишь тем, что ро¬
дился почти в тот же самый день. Сквозь ветви лесов,
где срезается жатва мачт, моряки различают склоны Ли¬
вана, утренним облаком голубеющие ввечеру. Этот не¬
обычайный оттенок сообщает им полуночное море, зады¬
хающееся в белых объятиях холода. А ручьи струятся,
алея, тянут по морю алые ленты до самых вод Филистим-
ских, дабы видели все воочию—по крови Таммуза (зовите
его Адон Адоним), что, с тех пор как Астарта возлюбила
его умирает он каждый год, когда лето убивает весну, и
каждый год воскресает из мертвых, когда наперекор
зиме, весна оживает в стране Ханаанской.
И далеко от этого вечера, далеко от этого местЪ, я,
проходящий приниженной тенью, в которой смешались не¬
согласные речи, разрозненные вещи, я, непреклонно меч¬
тающий о победе радости, я вдруг увидел храмину света.
Над морем высятся отвесные чахлые стены, поросшие
хилым лесом, изрезанные устьями прославленных ущелий.
На суровой вершине—храм: один из двух первобытных хра-
Древвейшвй фвивккЗсхвЯ город.
Второй по древности город Фаннквн. Ныне Бейрут.
У МЕНЯ СТО РУК.
21
мов, нагроможденных ликийскими циклопами во утвержде¬
ние великой славы Афин и Элевсиса. К восходу священ¬
ного созвездия обратили люди сверхчеловеческое могу¬
щество этого каменного квадрата, и чтобы фасад его так
и остался вырезан на этой части неизмеримой небесной
тверди, он должен был бы поворачиваться, как ладья, по
теченью веков. Теперь он должен применяться к солнцу.
Багряный вечер окрасил в красное чистую белизну ново¬
рожденного мрамора, этого пустующего трона мудрости.
(Свет—есть вторая форма мудрости). Этот трон пуст и
наг на восходе и на закате. Назначение этой плоской
крыши-—принимать день, как. зеркало. Гордость его—быть
погребальным костром солнца.
Крик, зов... Солнцу и луне должен бы я поверять свои
молитвы чтобы создать нечто равновеликое моему вели¬
кому „я"; но храмы, враждебной тяжестью своей прида¬
вившие землю, храмы, с их фасадами, запечатленными гар¬
монией по сю. сторону хаоса облаков,, храмы возникли из
плоти, они не позволяют каждому страннику вознести на
вершину бремя своей мечты.
„И храмы возросли, и развернулись в. книги".
Я слышу голос учителя, который поет над ушами внем¬
лющих, тех что выстроились подобно сосудам в святи¬
лище (мой примостился в углу).
„Бэл сказал Казизатре: отбрось добро свое прочь от
себя, но не премини в осмоленную ладью, что всплывет
над гибелью человечества,- спрятать вместе с зернами
также и книги, те, что содержат начало, середину и конец.
„Этим бог-судия возвестил, что книги суть светочи,
несущие свет во свет дневной. Особливо же книги, вер¬
ные и полновесные, которые вопреки вымышленным прит¬
чам, блуждающим всюду с легкостью ветра, правдиво
изображают чудесное движение числа".
У меня сто рук.
На великом берегу я вновь овладеваю собою. Как
странник, вернувшийся из странствия, в котором достиг
горизонтов, я распрямляю спину.
22 В Е Ч Е Е
Я принарядился. На мне—перья, ожерелья, тщательная
цветная татуировка. Судьба моя свершилась. Грудь моя
сияет богатством. Сын воздает мне почести. Я убивал
людей, чтобы овладеть их правом на жизнь. Руки мои
пожрали много жизней. Я умножил себя через косные
вещи и населил себя мертвецами. Их страдание — только
слово, только имя моей исполинской радости. Радости не
хватает на всех. Если бы я не стал убийцей, все, что я
осмелился полюбить, все, чем я обладал, кануло бы в
других, как в прорву.
Сегодня я наконец обагрился кровью Эно, которого
я растерзал, перед тем как его удушить. Да, кровь его
еще была горяча, когда она одела мои плечи. Его по¬
следняя рана горит на моем теле. Единственная голова,
обращенная лицом к моему лицу, над прочими низкими голо¬
вами, разбита, как скорлупа. На груди моей ожерелье попол¬
няется—пополняется его зубами!.. Теперь все руки—мои.
Я, которому суждено всегда быть одним и тем же я
влекомый потребностью длиться, расти, возрождаться, —
я хочу передать имя мое и дыхание мое мне подобным,
хочу вытатуировать мой знак на коже каждого из толпы,
отметить каждого из племени. Хочу, чтобы мне служили
те, кто живут силой моей. Итак, нужна мета..'. Власть —
это мета, это черта, обозначающая длину и окружность.
Эмблема, голова собаки — вот она, и при виде ее, я
разражаюсь смехом гордости. В центре—сокровище, ду¬
ша племени, и вокруг него моя рука, моя большая э рука,
могучая ветвь. Я стал деревом, вращающимся на своем
основании. Так возникает круговой жест, которым по
лицу земли проводится черта, граница. Возникает вели¬
кий порядок, который каждую страну охватывает именем,
который кидает в пространство мечту, что я вынашивал
в недрах своих (ведь краски рождаются в ночи); страш¬
ный крик. И вот...
Ничего. Больше ничего. Первый осколок слова звенит
бесформенный и виснет в молчании^ которое превращает
его в вещь. Безбрежная ночь покрыла разноголосицу
бреда. Ничего.
*
* *
28
У МЕНЯ СТО РУК.
Я только лоскут в человеческом месиве. С искажен¬
ным от напряжении лицом я смотрю на происходящее
во рву.
Присев на корточки, человек в промасленной дерюге
и со складками обвисшей кожи на затылке сечет скалу
тяжелыми ударами, как будто убивает врага. Гром его
молота высекает железную руду. Время от времени он
подымает на грозного надсмотрщика свое желтое лицо с
погасшими глазами и резкими скулами, выступающими,
точно два сжатых кулака.
В сверкающем облачении стоит, подняв скипетр, вла¬
дыка Хета *), единоличный властитель с тех пор как ой
победил своего брата; он об'единил вокруг себя—вокруг
этих башмаков с загнутыми носами, самодержцев всей гор¬
ной страны, откуда сгоняются к нему толпы рабов: бли¬
стательных князей Илиона, Педаса, Мизии, Ликии, послан¬
ников Арада **)—царицы вод (а это значит—богатство),
посланников страны Амаур **).
Кучка избранных, чей вес на земле бесконечно значи¬
тельней, чем вес прочих людей, державные зодчие огром¬
ной твердыни, правящие миром по своему произволу, смею¬
щиеся даже над облаченными властью — потому что они
суть сила, защищающая границы,—смотрят на скалу, кото¬
рую упорно обтесывает рабочий.
Великий самодержец хеттов хитер. Непоколебимо пра¬
вит он каменотесом, который является только орудием
орудия. Он заставляет раба вырезать на камне—слева на¬
право и справа налево — надпись, которая продлит его
славу в потомстве и вырезать его имя—знак его блиста¬
тельного одиночества.
И еще захотел он воспроизвести «а камне образ: орел—
растерзанный и разверстый, распростерший крылья дву¬
главый орел, символ силы,—то-есть хищного убийства и
пожирания и горделивого нанесения зла другим от восто-
*) Хет—могущественное древнее царство в сев. Сирии, павшее к
концу ХИ века.
**) Арад и Амаур—древние филистимские (сирийские) гавани.
24
ВЕЧЕР.
ка до запада. Со стоном под ударами клюва взлетает
пыль язвимого гранита, по мере того как врезаются в
него линии и формы. На гранитном сердце Единого раз¬
вернула крылья царская птица, и он растет, как его па¬
мятник, с каждым ударом. Эуюк—орлинное гнездо мине¬
ралов—камня и железа, которые войдут в плоть толпы,
покорной, как пашня1 Эуюк,—горное сердце, к которому
зубчатой теныо протянул крыло Гаргамиш НахаранейскиЙ,
Град Городов, тот, что стоит первым после Хати и будет
последним из заселенных мест.
Все.
— Каждый есть бездна, которая сглаживается, о, Ли-
гарион. Поэт не должен останавливаться на каждом; ему
должно простереться на всех людей.
Так говорит Мелеас в тот момент, когда я, пробираясь
по крутой и жаркой тропе, закрываю глаза, потому что
мне больно смотреть на блестящие листья, на зеленые
стекла (и еще была в этом гнезде молний жужжащая чер¬
ная точка пчелы).
Поднимаюсь. Упрямо останавливаюсь в бесконечном
вихре, но меня относит назад в жестокую наготу природы,
в неистовую пляску света. Прямые колчаны миртов здесь
и там, суровая нежность козы, секироподобные спины
буйволов на равнине, а дальше прибой и рыжий берег
и белая пена—и голос Мелеаса.
Он говорит мне, что поэт — бог, и этот бог должён
покинуть каждого, чтобы итти ко всем: ищи чудесное дви¬
жение числа.
— Массы ведут войну, — прошептал глухой голос,
бьющийся во мне.
— Массы созидают вещи!
Великий спутник открывает мне простор. Ступень за
ступенью я поднимаюсь над миром.
— Ямгадал!—Гордое имя проносится гулко, как будто
заложено в остов земли и неба, как будто им окра¬
шено море.
ВСЕ.
25
На нашем тяжелом под'еме мой взгляд простирается
вдаль, на горную высь. Спираль витой лестницы, подобной
какому-то новому орудию, сливается с лестницей облаков,
с лестницей Иакова. Пустыня хлынула и глумится, рассту¬
паясь предо мною, как Чермное море.
Человек на кургане стоит коленопреклоненный и воз¬
девает руки к пурпуру зари. Ладони его пригвождены к
лучам, стрелы света пронзили его шлем, его чешуйчатый
панцырь. С плеч ниспадает тигровая шкура. Вокруг него
вдали, точно медные гвозди, всаженные в живую стену,
горят на солнце иудейские трубы; ожил грозный хребет
уходящим в поднебесье войском.
Голос великого спутника неустанно твердит:
— Поэт, поэт, не бряцай на лире, не играй звонкими
словами, но говори, что есть. Война. Жестокое счастье.
Никогда—жизнь и жизнь, всегда — жизнь против жизни.
Краснолицый воин с амулетом ястреба идет на смуглого
Ану, пасущего мирное свое стадо газелей; и на южного
черноволосого кочевника нападает беглец с плоскогорий,
в свою очередь гонимый другим: ненасытным изгнанни¬
ком из рая белых людей, из Айрианэм Ваэдико. Сикул
с каменной секирой идет на почти безоружного Сикана,
а на Сикула—Грек, сокрушивший секиру бронзой: от Си¬
кула осталось только имя, втоптанное в пыль на острове
Тринакрии.—И Фирса, чьи суда—чудища морские, идет
на италийца, на Сабелла и Умбра—или еще на какое-ни¬
будь жалкое имя, какое носит слабый и побежденный.
— Не жизнь и жизнь, а жизнь на жизнь... Вы живете
на берегах, которым Средиземное море несет свои богат¬
ства? А’мы — мы Филистимляне, плывущий по морю ра¬
зодранный лоскут, оставшийся от великого Морского На¬
рода. Отбитые там, мы высадимся здесь, чтобы стать
вашими господами, а вас сделать нашим войском...
Вот они перед нами, гляди на них сквозь обломки того,
что пало после них: чистые, белые, чуждые всякому ново*
му движению, покрытые пылью статуи у развалин храмов,
или трупы, спасительным бальзамом защищенные от
разложения. В поверженном прошлом они были властите¬
26 ВЕЧЕР.
лями в Пятиградьи: Пади, князь Экрона *), Митини,
князь Асхдода *) и Циллибел, князь Газы *). Они, или
их образы (а образ есть существо необычайное, столь же
мертвое, сколь живое).
Голос заговорил громче, чтобы заглушить реальное
еще более реальным:
— Все, Лигарион, в с е! Все исходит от толпы. Пусть
твой стих войдет в нее, погрузится в нее, словно камень,
падающий в море. Умей понять великую мудрость люд¬
ной площади, которая в напряженном движении своем
будет слушать твое произведение. Если ты истинный
поэт,—гляди, впивай глазами и всем своим тедом обряд
слушанья: эхо прокатится по многоголовому полю, толпа
закипит, сдвоятся ладони, вся плодотворная работа пре¬
вратится во внимание — по державному призыву счаст¬
ливца!
*
* *
Я вижу горизонт и острова облаков—прерываемые
пустотами куски природы, которые слева и справа тан¬
цуя проносятся мимо меня. Я шатаюсь, я падаю, выби¬
ваясь из сил. Тяжелый струг солнца прячется, потом
поднимается вновь, шарахнувшись из-под моей ноги. По¬
крытые потгом, мои ресницы сверкают на солнце огнен¬
ными каплями. Моя туника, промоченная потом и косыми
плетьми дождя, брызжущего с моря, липнет к бедрам и
причиняет зуд, точно отставшая кожа. Мои огромные
колени—закорузлые и черные—закованы в железо, оне¬
мевшие подошвы шлепают по скользкой луже. Синие
жилы вздулись на лоснящихся красных кулаках. Моя
кисть сжимает древко, обе мои кисти; они распухли и
расплющились и выкидываются взад и вперед, взад и впе¬
ред: весло; мое тело срослось с его телом, конца кото¬
рого я не вижу. Я только чувствую пружины своих рук
и разгон своей силы, словно волочу две тяжелые цепи.
Узлы цепей — внутри рук; они натягивают кожу; мне
*) Экрон, Асхдод, Газы—древние сирийские города. Газа—порт, су¬
ществующий и поныне.
27
В С Е.
сводит плечи, ломит шею. Ржавый стон в затылке подо¬
бен стону мачты на ветру.
Другой человек на галере—плотный человек во фри¬
гийском колпаке, повелительно машет руками, кричит и
щелкает хлыстом. Надсмотрщик.
Я повернул голову и увидел других, которые гребут,
как и я, опустив бритые головы. Своим движением я нару¬
шил строй длинного,, утыканного человеческими головами
деревянного прибора, вросшего в ребра корабля, прида¬
вая ему симметричные пары крыл, члененных, но беспе¬
рых,—как у египетского ястреба. Блюститель порядка
вскочил на своих кривых ногах. Вокруг красного колпака
колесом завертелась плеть—над моей жалкой головою.
Удар металлическим звоном отдается в моем сердце.
Я крикнул: <<Гей!» — ив беспамятстве боли перестал
грести. Нет, не крикнул—я хрипло взвыл, как собака,
во весь свой голос, со всей мочи. Я уронил весло, я все
забыл. И вот голос мой проник в остальных. Всколых¬
нулись недра мертвого леса гребцов; дерево само заво¬
пило, и вот нашлись среди них такие, что сложили, на¬
конец, свои весла, и встали, одурелые, точно стадо быков
над обрывом.
Наперерез хлысту я ударил красный колпак в висок,
в темя. Удар нанесен. Сразу вокруг моей руки поднялось
двадцать кулаков. Алый его головной убор сполз на за¬
тылок, на спину. Затрещал его обагренный костяк, и его
молотили, точно до-красна раскаленное железо, и потом
измятого, с членами, сплавившимися под белым каленьем
в один ком, мы вогнали точно клин в ту. дыру, где он
теперь комом лежит, с лицом, застывшим в лиловом урод¬
стве злобы, и с выколотыми глазами и с черной кровью,
запекшейся на шее, как сосновая кора.
Наверху на палубе воины во всеоружии—щиты, мечи,
копья, лязг—окружили одного из хозяев, ставшего под
защиту паруса.
Я прыгнул в море, и другие, с обеих сторон от моих
глаз, прямые^ точно стволы, попрыгали вслед.
Захватило - дыхание. Море дыбом! Жизнь моя вски¬
пела и хочет излиться. Море сорвалось сцепи. Огромный
. 28 ВЕЧЕР.
корабль, перед которым я каким-то чудом сразу стано¬
влюсь маленьким, несется дальше со своими зубчатыми
рядами весел. Со склона водяного холма, сквозь свинец,
наливающий мне уши, я слышу глухую сутолоку разби¬
раемых в трюме тюков финикийского товара. Больше
нет корабля.
Вода клокочет, бушует лентами света, змеями теней.
Чаны синей тьмы, чаны синего неба, чаны рева. Скольз¬
кие впадины и плечи холмов—темных, а на макушке со¬
вершенно желтых. Я взлетаю, падаю. Холод своим же¬
стоким коромыслом измотал меня, сплющил, стучит мне
в уши, подпер мне шею какими-то твердыми ледяными бру¬
сьями, которые выносят меня, но плюют мне в рот стру¬
ями горькой жидкости, точно поганые животные.
Я пробиваюсь локтями и ладонями сквозь вой и пля¬
ску и слепительные молнии воды, сквозь воду, как будто
кишащую рыбами, сквозь запах рыбы. Я поворачиваю
размытое водою лицо. Зеленеет спина утеса. Вода по¬
крывает его панцырем. Он катится, словно жернов. И
когда меня подбрасывает вверх, я вижу, как на его гребне
вздуваются, наливаясь, исполинские мышцы моря.
Кругом вращаются, сверкая, обитые медью щиты.
Вот вырытые в море колодцы. Вот сшибаются в воде
враждебные теченья. Щупальцы пучины, пружина, холод¬
нее самого холода, тянет меня за пятки; я плыву стоя...
Мои открытые глаза' (как грубо трет их водяная стена,
стена провала)—мои глаза еще видят в толще воды; ося¬
заемая смерть, мрак; у моря черная «кровь.
Потом какая-то огромная, ухабистая, мягкая глыба под¬
хватила меня на плечи и вышвырнула, как легкую гра¬
нату. И холод захотел, чтобы был я прям и недвижим;
он скребет мне кожу своими когтями, сжимает мои члены,
он сковал мне суставы, склепал все мои кости.
Море—в мириады раз более тяжелое, -нежели я-^-на-
двигается, чтобы выколоть мне глаза. Вся тяжесть моря
встает и отступает. 'Я завяз в усталости; в своем про¬
клятом весе; я—мой враг, который душит; и я по горло,
по губы погружаюсь в утробу, в утробный запах. И вижу
свой последний день, вижу возникающие в мечте полу-
ВСЕ.
29
ночные земли, от которых недавно я был отороан...—
бронзовый берег и Кассетеридские острова!—меж тем
как по славе моря проходит в грохоте колесница Мель-
карта, и косматая туча встает из головы бога сил и из
гривы зеленых его коней, я, напрягая всю мощь своего
хребта, чтобы поднять лицо,—я цепляюсь за небо.
Но милосердный вал, словив и подняв меня в этот мо¬
мент, показал мне вздыбленный грохочущий берег!
Теперь пена меня побивает камнями. Кристаллы водя¬
ных осколков затвердевают в стекло, потом в мрамор;
волны скалят пенные челюсти, мечут из белой пращи
водяные булыжники. Они меня несут, относят обратно,
качают меня.
И все время—невольно—я греб, как того хотел, пе¬
ресохшими веслами моих рук и последний вал прибоя
нес меня в залив. В зарницах тусклых, горьких, словно
выбиваемых молотом, я вижу линию берега над этой
холмистой прозрачностью, шумно играющей мною: вы¬
соко поднимается в небо горный кряж с двумя накре¬
нившимися вершинами у двух его концов. Кряж то под¬
нимается, то опускается у меня на глазах—я вижу его,—
но волны самовластны, и, раз толкнув вперед, они тот¬
час тянут тебя обратно на своих якорях.
Столб, памятник... Я вижу его... Белый и гладкий, он
стоит на крутом—без отмели—речном берегу, над
воротами в ржавых скалах он торчит словно клык в
красной десне, -Мне его не достичь! Меня перебрасывает
через него, относит прочь... На этот раз я его коснусь..-
Я 'схватился за него, схватился, а он выскользнул, и да¬
лек от слабого узла моих рук.
Волна обрушивается на меня стеной. Столб у меня на
груди, на стонущей белой поляне. Он врезается в мое
тело, и я замыкаюсь за ним. Я его обнял и его берегу
всеми силами жизни- Меж тем как водоворот крепко меня
обнимает за шею и за бедра, тащит меня и душит, и
гибким новозданным телом борет каждый мой мускул,=—
каменный ствол раскололся и кусок от него отвалился,
унося выдолбленные на нем знаки. Перед моим лицом
остается только четкий треугольник собачьей головы, ко-
30 В^Е Ч Е р<
торый запечатлевается твердо в моих зрачках, омытых и
замутненных слезами моря, невзгоды и радости.
Еще и других, как меня, море выбросило на спаситель¬
ный берег, и они карабкаются на кручу, напрягая всю
силу своей плоти. Вот, скрючившись, ползет эфиоп, и
под хлещущим ветром дрожат водяные капли на бронзо¬
вой мякоти щек. Я вижу—вот они подымаются—нагие,
лоснящиеся от влаги, закаленные солнцем и ветром; вижу
качающиеся горбы их плеч, их короткие пирамидальные
головы, искры капель и клочья пены в щетине сбитых
волос, большие выпученные глаза. Дышат порывисто,
пест их горла тяжело подымается и опускается, и
острые ребра натягивают стенку вдавленного живота.
И не помогают друг другу. Ни один никого не ви¬
дит, кроме себя.
К какой судьбе подымаемся мы? Мы не знаем, потому-
что бежим навстречу будущему. Но хуже не будет,
чем то, от чего мы бежим—чем рабство. у карфагенских
купцов, оторвавших нас от наших очагов, забытых ныне
и разрушенных даже в нас самих. Хуже не будет.
Наверху голыми кулаками врезаются в солнечный
диск скалы, камни, цоколи и плиты, на которых написаны
законы земли и моря, могилам подобные законы. Ибо
жизнь есть победа или поражение, и счастье одного стро¬
ится на несчастьи другого.
Я зашагал, шатаясь, оглушенный и застывший, еще
не отпущенный морем. Я силюсь оторвать прилипшую к
виску и слепящую меня водоросль и рука моя не может
нащупать голову, как будто меня еще качает на лоне
бездонной пучины. *
* *
На верхней площадке лестницы, под чердачным окош¬
ком, я оступился при этом усилии. И я увидел, как я
с поднятой рукой выхожу из своего видения, точно при¬
зрак. Я поймал себя на том моменте, когда я был еще
тенью. Я увидел два существа, сливавшиеся во мне, и
моя рука поднята к моей целой и невредимой голове
настоящего дня — голове в очках и фетровой шляпе.
II.
ЭТО ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
Мой ключ дрожит. Я вхожу к себе.
Машинально беру я остывшую лампу, которая ждала
в углу, в своей керосиновой сырости. Огнем своих паль¬
цев я нащупываю землистую почку фитиля; а на другом
конце луча, который держу, возникают вокруг моей из¬
гибающейся тени пласты узкого коридора и квадратной
комнаты.
Вот инертный стол, однообразные гнезда картин
по стенам, терракота, знакомая группировка которой запе¬
чатлевается как одно целое на сетчатке, служащая мне
кроватью синяя бездушная тахта в глубине прямоуголь¬
ной ниши—„да“ и „нет“ всех вещей.
Это сон... Что это?
Что за навождение?
В иные периоды жизни у меня бывали сны, ненор¬
мальные по своей силе и осязаемости, и их нашествие
оставляло следы в полунебытии моих воспоминаний, в тех
руинах, которые ношу я в себе. В семнадцать лет у
меня была привычка спрашивать: „я сделал, сказал то-то
и то-то,—или же видел во сне?“. Но то были сновиде¬
ния, посещавшие меня, когда я спал—в часы ночной пара¬
лизованности под саваном одеял, и никогда те навождения
не были так сильны, так разительны, как эта галлюцинация.
Я только-что чувствовал—я чувствую еще—измене¬
ния мировых стен, вихри, обрушившиеся на меня, упру¬
гость пустоты, когда свинцовой птицей я падал в н и-
куда.
32 ЭТО ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
Я смотрю в зеркало, чтобы стереть то, чего нет. Я
в черном фраке, в расстегнутом пальто. На бумагах на
моем столе лежит самопишущее перо, разросшееся в
игре освещения.
Став на колени, механически, я затапливаю камин, в ко¬
торый я наложил дров перед уходом к Д'Ариэ. Меня
смущает одно—почему я не заметил, как поднялся по
лестнице?
Этот черный зияющий провал в моем сознании (какой ни
на есть короткий—но ведь я не спал тогда, а стоял на
ногах) меня так поразил, что руки мои вдруг застыли
неподвижно перед своей багровой работой. А между тем
теперь, думая об этом в дыму горящей бумаги, я вспо¬
минаю ясно и точно, что я поднялся по лестнице—по
каждой ступеньке. Это промелькнувшее, но твердое и стой¬
кое впечатление ступенек и темных площадок, видимых
не глазу, а только ступне, возникает параллельно моему
сну на яву, всплывает над ним, спасает меня. Я укры¬
ваюсь от одури, от безгранного простора. Комната за¬
мкнулась в стены.
Я пробую открыть шкаф. Дверь сопротивляется... Как?
Она закрыта на ключ! Я в самом деле ее запер; я это
забыл; но она—нет.
Оттолкнувшись от стола, я располагаюсь на синей
тахте. Я хочу стать снова самим собою среди лежащих
предметов, абсолютная покорность которых печальна, но
зато успокоительна. Поддерживаемый шумом огня за ре¬
шеткой, где я нахожу обрывки моего „вчера", я обра¬
щаюсь к своей первейшей заботе, к тому, что вне всякого
сомнения должно составлять мою первейшую заботу:
Марта Уриэль, моя поэма. Это одна общая дума: Марта по¬
любит меня, если у меня есть талант, если я стану выше
других—выше мне подобных, тех, что толпились рядом
со мной час тому назад—неужели?—да, час назад, в цвет¬
ных огнях мастерской Д‘Ариэ, каждый настороже, каждый
со своим боевым лозунгом „я!" на устах. Я говорю вслух,
чтоб не сбиться. Я громко произношу: Марта Уриэль; и
повторяю тише но тверже: Марта! Здесь это имя внове,
и комната явно удивлена его звуком... Эта женщина до-
ЭТО ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ. S3
роже всех других, каких я только встречал, и я получил
от нее улыбку и чувствовал ее приближение и...
Но мое внимание не позволяет себя вести. Его колеб¬
лют и уносят все те образы, что недавно бродили в моей
голове.
Конечно, я последнее время работал ночи напролет;
эти нелепые психические явления вызваны переутомле¬
нием.
Но... О, безумец, о чем я думаю! Переутомление, бо¬
лезненный кошмар! Так... Но из чего составлен он, этот
кошмар — откуда его реальная субстанция, откуда такая
определенность имен собственных? Да, эти имена соб¬
ственные, неизменные, как химическая формула, против
которой бессильна самая разнузданная индивидуальная
фантазия...
Они приходят, как чья-то часть. Чья? Не моя. Они
не связаны ни с чем во мне, даже те, что вот сейчас не¬
оформленным началом нового бреда наворачиваются мне
на язык. Ни с чем. Это все совершенно чуждо моим по¬
мыслам, занятьям и — чТо еще хуже — чуждо моему созна¬
нию. Я — скромный студент, не владеющий ни одним
языком, кроме французского, никогда никуда не
ездивший, кроме как из своего Прованса в Париж, и
столь же невежественный как... ну, как все остальные!
Я, если можно так выразиться, антипод истории и архео¬
логии. Из них я узнаю только то, что входит в лите¬
ратурный репертуар. Мало того, — меня всегда коробила
мания моего дядюшки Рафара — этого светоча Аликан-
ской науки — помешанного на руинах, раскопках, старин¬
ных монетах!..
Нет, в самом деле, я не знал. Эти собственные
имена имеют' те жесткие, несглаженные углы, которые
свойственны словам, еще не вошедшим в механизм уха и
гортани/ Неотесанные, странные, могильные. Ямгадал, Хет
Эуюк... Четкие и смешные в своей неожиданности и труп¬
ной застылости, они кристаллизуются в моем мозгу и
бросают меня в дрожь.
Они вросли в меня.
А). Барбюсс.—Звенья.
3
34
ЭТО ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
Я поднимаюсь, шагаю по комнате. Прилагаю все уси¬
лия, чтобы заставить себя успокоиться, смотреть разумно.
Однако, бред не мог прийти извне. Здесь возможно только
одно разрешение: эти детали—из которых лишь немногие
связаны с моими общими познаниями—эти детали я как-
нибудь — очень давно — вычитал в книгах или скорее в
журнальных статьях, в энциклопедии; может быть, слы¬
шал—на лекциях, на докладах, в собеседованиях... Может
быть, в болтовне дяди Рафара—хоть он и хвастается, что
ничего не знает, дальше Средневековья. Я вспоминаю
странный случай, приводимый в научных трактатах по пси¬
хологии: ощущения, раз отпечатлевшиеся в мозговых клет¬
ках,—утверждают они,—остаются всегда жизнеспособны
и в любой момент могут пробудиться под влиянием извест¬
ного рода раздражений. Приводят пример одной совер¬
шенно неграмотной старухи, которая, лежа в больнице,
безошибочно декламировала в бреду очень длинные от¬
рывки по-латински, по-гречески и по древне-еврейски.
Стали допытываться* и открыли, что эта старуха тридцать
лет тому назад жила некоторое время служанкою у
пастора, и в свободные от хозяйственных хлопот часы
слушала, как ее хозяин читал вслух тексты. Материаль¬
ный отпечаток слуховых восприятий сохранился в мозгу
служанки, и болезненное потрясение выволокло их теперь
наружу, как старую фонографическую пластинку.
Да, это так. У меня есть нить—единственная нить—
как ни странно мне убедиться, что я все это знал не
сознавая, и все равно, я инстинктивно отказываюсь пове¬
рить такому объяснению. *
Но вещи твердые, осязаемые—что значит рядом с ними
чтение по древней истории? Я был в сердце того, что
видел. Я все пережил. Это все вопияло жизнью. В своей
крови я чувствую, как холодно было тому человеку, что
скорчившись сидел на песке; на губах у меня вкус его
любви; и нагота его смеха; и жизненность этих трех ры¬
жих, выцветших на солнце, волосков на отвернутой ушной
раковине. И пучина вод, терзаемая ветром, в которой
расцветали утробные сады... Буруны, .которые наливались
ЭТО ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
35
гладкими синими мускулами и вдруг скалили зубы и с гро¬
хотом разбивались о берег... И мощная тяга их отлива.
Это йостепенное размывание аравийских гор. И глыбы,
заложенное в остов мира: чтобы сдвинуть их, надо разрыть
пространство. Пылающая плоская крыша храма — зеркало
небесных огней. Рассевшийся струг колоннады причаливает
ночью к точке восхождения Сириуса, а днем его назна¬
чение — быть маяком солнца!
Я отбиваюсь... Лицо отклоняется от ладоней, точно
от пышущей жаром отдушины. Я не желаю верить в ду¬
хов, в магические заклинания, в выходцев, вызванных на
свет дневной.
Я хожу из угла в угол, как лунатик. Это больше,
это сильнее, чем я полагал!—Гораздо больше... Некий
другой мир хочет насильно слиться с моим. Я осажден,—
пбчему?
*
* *
Согнутые в рог вершины! Я вдруг узнал их! Да, я
с ними давно знаком. Там, в Аликане, за несколько сот
метров от последнего аликанского домика над берегом
есть горный скалистый кряж и по его концам два пика,
накрененные друг ко другу. Те самые, что я видел этой
ночью.
... Правда, если они в моем бреду были такие, какими я их
видел в прошлом году, то это доказывает, что мой бред
есть снимок с моих чувственных впечатлений. Опять
начинается пытка. Но тотчас же, как будто найдя—
не знаю, где и как—точку опоры, я резким толчком осво¬
бождаюсь от сомнений. Все, что я видел, это все
воспоминания.
Это—воспоминания. Я был человеком, которого пре¬
следовала огромная лавина, был беглым рабом, одолевшим
море и плывшим на столб, водруженный им самим, его
собственными руками, в допамятной смене веков; и был
тем, кто скитался—на различных ступенях времен по
берегам Средиземного моря.
Метампсихоз. Переселение из тела в тело нетленной
души.. Многие ученые в это верили.
3*
_ 3£ ЭТО ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
Я стараюсь собрать во-едино все, что могу узнать об
этом—для начала из груды моих школьных учебников.
И вдруг потрясающий удар — заглавье главы: О б
атавистической памяти. Я читаю: „Далее, изло¬
жив случай со служанкой пастора и еще один случай,
столь же типичный и достоверный, автор Видоизмене¬
ний Памяти приводит свои многочисленные наблю¬
дения над душевно-больными, собранные им во время его
двадцатилетней практики в различных невропатических
клиниках,—наблюдения, из которых он выводит факт су¬
ществования дремлющей атавистической пам яти.
„Его исследования шли одновременно с работами, по¬
священными наследственности и атавизму характера
и физических особенностей и недостатков; опираясь на
новейшие данные, собранные наукой в этой области, он
утверждает, что чувственные восприятия, все без исклю¬
чения, запечатлевшиеся в мозгу, не только сохраняют
в латентной форме всю свою силу, но и всецело передаются
в зародыше от индивидуума к индивидууму.
„Таким образом он устанавливает психическую гипо¬
тезу, параллельную гипотезе передачи характера и орга¬
нических особенностей индивидуума. Такое сопоставление
тем более рационально, что наследственность, психическая
йо своей природе, есть явление чисто физиологическое.
Ведь с точки зрения науки передаются не ощущения,
образы или мысли, не свойства ума, воображения или
рассудка—не эти нематериальные субстанции,—а пере¬
даются изменения мозговой ткани, которые, сопровождая
все явления духовной жизни, являются ее подоплекой—
и которую мы переводим поэтической метафорой, говоря,
что воспоминания вырезываются или запечатлеваются,
в мозгу.
„Автор, как и все изучавшие этот вопрос, прибав¬
ляет, что наследственная память пробуждается только
под влиянием стимулов патологического, анормального
порядка. В нормальном же состоянии наносы более све¬
жих впечатлений непрерывно и герметически ее покры¬
вают. Чтобы ее проследить, надо вращаться среди тех
явлений глубокого, сейсмического искажения внутреннего
ЭТО ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ. 37 _
мира, которое на головокружительных высотах духовных
дерзаний ведет от гения к безумию. Но мы неохотно
общаемся с умалишенными, и тайны их остаются сокро¬
венными. Что касается до гениев, то их уродство сопро¬
вождается характеризующей их уравновешенностью, гар¬
монией и самообладанием. Многочисленные слагаемые,
которые, при исключительном и полном их сочетании,
делают человека гением,—будъ-то гений науки или искус¬
ства,—взятые в отдельности, встречаются настолько часто,
что изолировать их носителей невозможно. Однако, именно
на этих солнечных вершинах психики экспериментальный
метод найдет разрешение проблемы".
Удивленный, одурелый, точно выздоравливающий тя¬
жело-больной, поднял я голову от книги. Мое убеждение
твердо сложилось:
Это воспоминания.
*
* *
Я пребывал в цепи существ, которая, пройдя через
сто тысяч лет жизни человечества, закончилась во мне.
Я реально, физически, в бездне времен, входил в тела,
из которых я возник.
Здесь нет никакого метампсихоза, сверхестествен-
ного перевоплощения, чуда. Это только позитивный прин¬
цип органической наследственности. Это только чудо
мысли*. чудо памяти. Я не человек, которым кажусь, я—
династия, цепь живых звеньев потомственного ряда,
зарождавшихся, чтобы зародить меня. Я есмь то, что
каждый есть в действительности: неограниченная и кон¬
кретная оболочка живых созданий, в кбТорой прошлое
становится настоящим.
Преграда, отделявшая меня от жизни, исчезла.
Я есть тот, кто не разделился ни в единой своей части.
С тех пор как я существую, я—сердце вещей!
У меня дух захватывает перед этим величием, потому
что я чувствую ясно, что еще не постигаю его во всей
его полноте. Я не знаю, чего оно требует от меня, ни
что из него создам. Марта Уриэль воображает, что я
равен всем другим. Она еще увидит!
38
ЭТО ВСЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
Слишком большой, я встаю—я, у которого одна
нога в могиле, я, который значу: „воскрешение",—я—веч¬
ный человек. Шатаясь под тяжестью моего громадного
тела, я делаю несколько шагов по своей каморке.
Я выковал пока только прелюдию. Где, когда и как
воскрешу я некоторые другие части прежнего вселенского
существования? .
III.
ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ,
Привычки. Я встаю, совершаю перед окном свой туа¬
лет, как тот другой, которым был я до сих пор.
Другой? Ночь здорового сна—одна только ночь!—
уже приносит рациональное небытие. Одевшись, я выхожу.
Спуститься по лестнице—значит броситься вниз по спи¬
рали дней.
В иные мгновенья меня охватывает дрожь: в те
секунды, когда я понимаю, когда я вижу отчал моей
мысли, вижу все запретное, что она вздымает. В такие
секунды я жмурю глаза и плохо держусь на ногах. Но
бывают также моменты, когда я оказываюсь не в состоя¬
нии понимать—то-есть сочетать с правдой повседневно¬
сти разгул правды иной.
Я ищу прибежища в музее. Смотрю на трезвую бе¬
лизну плит этого своего рода храма, где обломки тыся¬
челикого прошлого выстроились бок-о-бок в загадочном
церемониале. Прохожу вдоль, витрин с ярлыками, накле¬
енными на века; дороги, города, культуры ярлыков...
Я остановился перед сидячей статуей святителя—пря¬
моугольник черного базальта, черного й блестящего: цар¬
ственная святыне Халдеи, стоящая как алтарь в Еги¬
петском храме...
Я посмотрел на вэлелеенное веками сияние этой чер¬
ной глыбы, ограниченной четырьмя мертвыми гранями, и
в тот же миг увидел удаляющиеся вдоль галлереи музея
две спины—мужчины и женщины, которых только что сое¬
динили узы, и которые уходят, связанные, не по¬
дымая глаз.
40 ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ.
*
* *
Тоска и страда непрерывности пробили местами зер¬
кальную поверхность Недвижимого; выпуклые дуги бро¬
вей на шаровидной голове, острые углы плеч, сросшиеся
пальцы на руках. На сдвинутых коленях покоится по¬
крытый цифрами квадрат, извечно квадратный и покры¬
тый цифрами.
Вот он двинулся.
— Древнейший из городов: Эриду.
Безобразный, восседавший на черной скале, тот, кто
заговорил, растет и, не двигаясь с места, приближается
ко мне. Он влечет за собою все вещи, которые окру¬
жают его там, где он замурован—всю свою прозрачную
стену. В глубине колодца познания, где на четырех сте¬
нах стоят и не падают по отвесу ряды рисунков—жид¬
кая тень толпы—вот разростается его полосатый тюр¬
бан, его сплющенное толстогубое лицо.
Мы все в святилище.
Я пришел сюда весенней ночью.—Наедине с . моим
телом, в подземелье, где веют огромные крылья, моя
лампада намечала широкие круги ужаса, когда моя рука
то придвигала, то отталкивала озаренным концом -своей
кисти вереницу огромных статуй, сидящих на надгроб¬
ных кубах в глубине кубов мрака, напоившего пустоту.
Затем, не выпуская лампады, я проследовал по страш¬
ному спуску какого-то колодца; потом я прошел сквозь
бушующее пламя: я прыгал по черному узору голой
земли среди пылающих решеток—не знаю, как я убе¬
регся от огня. Я перешел через быстрый бешеный по¬
ток—не знаю, как вырвался я из воды. Я выбрался на
узкий помост, за которым не было ничего, кроме двери
с двумя кольцами. Я уцепился за кольца’—но не я, а они
схватили меня,—потому что вдруг я повис на них, над
разверзшейся бурной пучиной. Внезапный порыв ветра
задул пламя моей лампады, раскаты грома вытесняли
мысль, меж тем как мертвенный холод, дохнувшйй из
недр земли, леденил мне кости. Почва вернулась мне под
ноги как раз в то время, когда усталость уже вынуждала
ЕСТЬ ДВЕ ИСТЙНЬЕ 41__
меня разжать пальцы. И в своей маске, изображавшей
голову шакала, я проник—через дверь, вырезанную
в пьедестале статуи святой троицы—в храм великой бо¬
гини... Но нет!.. Что я говорю! До того случился страш¬
ный сдвиг. Я пришел в храм, тяжело перескакивая через
убогие ступени и площадки лестницы, ведущей в ночь...
Нет! это тоже был сдвиг, скрытый колебанием времени.
Мы очутились в полдень перед четырехугольным и
наклонным пилоном, который представляет собою забот¬
ливо уменьшенное и правильно очерченное изображение
горы. Мы только что вошли сюда вместе с жрецами,
пройдя меж низкорослых пальм и водоносов с ровными
плечами, обремененными коромыслом, которое гнулось
под тяжестью качающихся кувшинов на обоих его кон¬
цах; и при каждом шаге невольников горлышки кувши-
сов выплескивали водяные брызги, мелькавшие в воз-
нухе, в игре света, блестящими кольцами и ди-
дками. Перед порогом, сквозь облако высокого фонтана,
солнце показалось мутным и матовым, и моя одежда за¬
волновалась белым пламенем, когда я перешагнул через
воду.
Это он, сидящий, говорит, и пока он говорит, пока
он орудует странной, но меткой точностью имен, пока
рассказывает все то, что могут уловить в вещах
шестнадцать знаков алфавита,—я замечаю на серой
ткани его платья двойной слой пыли у сгиба колен.
Пробуждая волнение в головах, что выстроились
в ряд, точно вазы (моя примостилась в углу) — идет гул
диспута. Мы трепещем, захваченные этой бурной сти¬
хией: из двух великих стран, которая должна быть на¬
звана первой? Халдее ли принадлежал победный венец
творчества? Это должно быть решено и сказано, чтобы
каждый знал!
И он говорит, проповедник-чужеземец, похожий, од¬
нако, на нас, как брат:
— Бэл сказал Казизатре: Отбрось добро свое прочь
от себя, но не забудь в осмоленную ладью, которая всплы¬
вет над гибелью человечества, вместе с зернами спря¬
тать книги—те, что содержат начало, середину и конец.
42 ECTbJBE ИСТИНЫ.
„Казизатре бросил свое добро и сохранил зерна
и книги. Наконец на уровне воды показалась земля сво¬
им высшим краем: то были горы Милидду. На этой
земле, где тяготеет воспоминание о ниспосланном потопе,
ужаснувшем самих богов, его задумавших,—увидев его,
они взобрались на самую вершину чертога Ану, как собаки,
и (в особенности богини) выли на стропилах,—древние
династии, происходящие от богов и созвездий, имели
сперва своим продолжением род чудовищ, из которых
первым был Титан.
„Но воистину древнейший из городов—Эриду. Эта
первая веха развития была возведена двумя первород¬
ными цивилизациями—Аккадом и Шумиром, которые,
спустившись с крыши мира, проложили своими ногами и
руками вдоль иззубренной стены Парапамиссуса *),
великий путь человеческого продвижения сквозь вещи,
дорогу нации, линию жизни. И они осели на равнине, где
Идигна **) и Пура **) местами соприкасаются во время
половодья—Аккад на севере, Шумир на юге.
„После Эриду и Уру и Уну был Зирпурла, потом
Агадэ и Ниппур, потом между этими городами (говоря о
времени), на самом узком месте меж обеих рек (говоря
о пространстве) был зигурат БорсипЫ, о семи кубах
один над другим, каждый из которых был окрашен в со¬
вершенный цвет своего бога, Башня Языков, которую
остановило перед ее завершением смешение наречий, ибо
разразилась буря веков; далее был Ур, Ларсам и Тин-
Тир-Ки, который впоследствии, когда много поколении пре¬
вратилось в прах, стал называться Баб-Илу. Величайший,
но пе первый в списке великих царей—был Сарганисари,
который одной ногой стоял в Потамии, а другой на
Эламе.
„Аккадяне и Шумиряне вызвали из бездны три из¬
обретения, величайшие, после огня, этой земной доли
солнца: соху, которая заменила просо хлебом; обожжен¬
ный кирпич, который одновременно хижину заменил до¬
ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ.
43
мом и слово книгой; колесо, которое увеличило расстояние,
подвластное человеку.
„Они и их последователи Халди, поглотившие их
(родственные браки вскоре стерли различие между обеими
народностями), перенесли с земли на небо алфавит,
который есть опора языка, язык же есть опора
мысли; они посредством познания заставили звезд¬
ный свод принять участие в нашей судьбе, и нашли
что было раньше, как находят бирюзу на Синае, и по¬
ложили начало всему великому в будущем: они из
непреложного склада и обычая сложили человеческий ге¬
ний, и с тех пор развитие шло только по тем путям и в тех
формах, которые установили они. Они надо всем поста¬
вили то, что сильнее, нежели вожделения жизни и на¬
родов, сильнее, нежели разрушительные страсти: поря¬
док — да, силу примера, этот второй свет. Все бу¬
дет делаться, как делалось раньше. Первые действия по¬
работили заранее всех грядущих людей. Это есть сила
подавляющая, железная рука, не позволяющая встать из
небытия тому, чего еще нет. Это гиря, ждущая в пустоте,
рычаг среди облаков". ’
Говоря таким образом и злостно замалчивая Египет,
халдей насилует истину, высеченную в нашем мозгу, и
дрожь гнева сжимает наши кулаки. Другой голос—голос,
в котором соединилась вся наша обида возроптал:
—- Нет. Начало положил Египет. Древнейший из горо¬
дов есть Ону Северный!
„Его нашли уже цостроенным—со рвом и частоколом—
люди, которые принесли из страны Пуанит — на своих
хоругвях—образ Ястреба, и которым шакал Анубис по¬
казывал дорогу. Последователи Гора были исконной ра¬
сой завоевателей, их прошлое есть неподвижный горизонт
прошедших времен. Они имели в руках бронзовые оружья
и орудья, в то время как все люди в мире, кроме Ану,
еще жили в пещерах, в дуплах или на плотах над озе¬
рами, и пользовались только камнем. Они подчинили себе
народ Ану на обеих половинах страны Кимит *), и по¬
*) Т, е. в верхней и нижнем Египте.
я
ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ.
ставили на земле расу господ крышей над расой послуш¬
ных — расу красных египтян над желтыми азиатами,
и над черными Сазу пустыни и над дикими белыми
людьми—и это от них пошло меж людей, что счастье
одних строится на несчастий других.
„И насколько вглубь веков уходят собранные летописи,
весь Кимит от низу до верху был установлен таким, каков он
есть, и у того, кто считает, кружится голова перед без¬
дной древности. Ибо для того, чтобы замкнуть в пределы,
как это было сделано, ядовитые топи изначальной реки,
дабы упорядочить буйство ее плодовитости, понадобилось
трижды сто тысяч лет. Египет был матерью всех ма¬
терей.
„Надо ^верить: три' династии богов, десятикратно ты¬
сячелетние, царили от смерчей пустыни до островерхой рав¬
нины, которая, каждый год расширяясь на шаг, сложилась
из песчинок, наносимых ветром из Ливии, и где берет свое
начало Нил, столь обильный и полный, что воды его пе¬
реполняют море на расстоянии дня морского пути - и на зака¬
те своем они высекли скалу песчаного плоскогорья в виде
девственного и когтистого образа Армахиса—восходящего
солнца, за много веков до Мини, предка человеческих
предков, до Хуфу, Хафри и Менкаури, отцов великих пи¬
рамид, в сердце которых они спят в течение стольких
тысячелетий!".
Так ответ, которому вторили прямоугольные недра
святилища, поставил "дали на их истинные места.
— Мир кругл,—сказал черный учитель.
— Мир прямоуголен,—^ответил тот, который—из-за бе¬
лой ограды—смотрит прямо вперед.
Они глядят друг на друга. Сейчас разразится гроза
противоречий, достигших высшего напряжения в этих
двух фигурах... '
Нет: великое молчание их губ таит улыбку!
Они прекрасно знают, что между ними, по ту сторону
условных знаков и словесных загородок, нет никакого
разногласия. Они знают, что на дне жизни есть только
одна религия: та, что найдена живыми сердцамй, чело¬
веческая искренность, крик криков; но им надо, чтобы
ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ.
45
религий было много, дабы во всей человеческой гуще
освящать — играя в спор — власть всякого самодержца
и всякий установленный порядок. Если верования оста¬
вить в покое, они уподобятся, не сговариваясь, легко
растворятся одно в другом, раскрошатся в домах, обра¬
тятся в ничто на улицах и площадях. То, что должно
быть делом каждого, правящая власть хочет сделать
делом всех. Нужна организация. Нужно дробление, и
нужно, чтобы военный клич питался вражеским кличем.
Нужно число д в а—четное число. Нужно, чтобы Халдее
отвечал Египет, чтобы твердо стояли они слева и справа—
способные изобрести себе один другого! Нужно эхо, от¬
ражение, и нужно чтобы соревнование имело стену, которая
была бы ей наковальней. Так нужно. Так будет.
Разве все мы не знаем, что когда того потребовали
государственные соображения и тайные договоры между
жрецами, полководцами и мыслителями,—египтианизм и
эллинизм проникли друг в друга некоторой своей
поверхностной видимостью, и некоторыми обрядами;
Александр в лице своего посредника Дионисия всту¬
пил во всеоружии в древний солнечный миф Абидоса.
Вера покорилась; изо всех дующих ветров это самый
послушный ветер.
Они улыбаются, они согласны. Тогда единая слава
учителя —у меня на глазах—черным шквалом встает над
пестрой толпой.
Я, посвящённый, я, пришедший сюда, перепрыгнув че¬
рез столько капканов, я стою перед разоблачением, кото¬
рому уже не будет конца. Вот она колесница истины.
Теоретическая истина, нить систем и догматов, равно¬
значна действительности? Нет, это было бы слишком про¬
сто. Слово „истина" имеет двойное содержание: то, чему
верят потому, что оно очевидно, и то чему верят по-
тому, что ,оно написано. В противовес искушениям, оче¬
видности существует закон склепов и святилищ, закон,
выработанный организаторами—в алфавитных знаках.
Полуправдивое, полулживое, слово ужасно. Оно от
жизни и оно от смерти. Слова, раз зажегшись, уже не
те, что были. Форма фраз занимает место их смысла, когда
46
ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ.
живой смысл рассеивается по черным значкам. Сперва
человек говорит, как думает, а потом думает, как сказал.
Этим печальным безумием пользуются хозяева, чтобы
поработить запуганный разум человека. Это есть мировой
капкан.
Я вдруг узрел, как небесное откровение божества на
земле, что искусственная истина, священно хранимая
в тайне и уже не дающая блаженства человеческому духу,
важнее истины другой. Я понял, почему религии враждуют
между собою, несмотря на свое сходство, и любят слож¬
ные украшения, и стоят на страже за каменными стенами;
почему высоты превращаются в бездны, становятся за¬
претными святынями, великая правда которых искажена
наслоениями символов. Простые люди допускаются только
на низкий порог идолопоклонства. Нужно, чтобы самый
взор их был убог и не видел бы ничего, кроме идола,
ослепительного и слишком близкого. Им предоставляется
в удел только трепет перед непостижимым и темные
силы амулета,—чтобы держать их в безнадежной слепоте
и покорности вкруг трона царей.
Людей не трудно поработить. Нужда и надежды, и
доверчивость матерей рождаются снова, как рождается
хищничество, и ничто не остановит сердца человече¬
ского, когда оно клонит слишком низко свой кувшин
крови.
Прикурнув на камне, зажав ладонями виски, я предался
скорби: я—малый и приниженный—я раздираем разноре¬
чивой громадностью того, что придавило меня и что рас¬
крывается мне теперь—как доносимое переменчивым вет¬
ром дыхание благовонных городских садов. Сердце тя¬
желым молотом колотит грудь; и тихо зарождаются и
бродят во мне слова:
— Вы, вы одни творите, бедные люди. Господин во¬
оружает против вае все, что создано вами, он поль¬
зуется жизнью, он который не может ее создать. Вы, вы
сотворили легенду, напоенную кровью надежды,—со¬
творили своею скорбью, как творили пирамиды—и войны—
своими руками. Но вы были послушны. Слово Перса гла¬
сит: „Добро заключается в том, чтобы быть послушным
ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ.
47
не своей совести, а слову священников". И вы были по¬
слушны. Если кто хочет обрисовать человечество одним
словом, пусть возьмет слово „послушание".
*
* *
От высоких окон Лувра ложатся косые ковры долгого
белого дня на строгие плиты.
Шорох ритмичных шагов колышет бумажную белизну
музея... Это удаляется влюбленная чета. Они сделали
лишь несколько шагов с тех пор, как на меня нахлынули
видения. Время—не то, что думают, оно несоизмеримо
с самим собою.
Потерянный, низведенный к своему сегодня, я иду по
галлерее, от останков к останкам. Я смотрю на то, что
осталось в настоящем от культуры, почти достигшей звезд,
на все то, что выплыло на поверхность времени, осколки,
обрубки, вещи, изъеденные пылью и ржавчиной, сокровища
пустоты! Но чем упорней стараюсь я расшифровать эти
окаменелые отбросы, эти древние неразрешимые фор¬
мулы, предметы смешные и страшные в своей редкостно¬
сти,—тем дальше меня относит от того, кем я был. Жизнь
не в этих когтях неподвижности. Жизнь во мне. Прошлое
не больше имеет, чем я. Звук моих шагов по плитам,
вызывая слишком много мыслей, гасит меня. Я устал
шагать по этой белой бумаге. Я вошел сюда и вышел.
Это великий открытый храм небытия.
Потом, после этой жесткой, серой разочарован¬
ности, я сел читать книги по истории — груду книг.
С большими надеждами входил я в читальный зал. Но
это перелистывание все отогнало, все сместило, все измель¬
чило. Я поражен—как будто сделал открытие—бесплод¬
ностью букв. Мелкие тексты, в которых похоронены
факты, и которые надо подносить к самым глазам, обла¬
дают каким-то могильным свойством сворачиванья. Значки,
помарки, значки, значки, кишащие в мозгу—все сожжено,
истлело! История это черный шарик в руке. Определения
на ней начертаны, но размеры утеряны навсегда. О мерт¬
вых предметах мертвый рассказ.
По дороге домой, в сутолке улиц, отвергающих меня,
я думаю о храме, где был посвящен... Я вижу, как воз¬
48
ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ.
никшие новые пятна, полосы желтой охры и красные ди¬
ски прорезаются сквозь отсветы витрины, опрокидывают
киоски, обгоняют отступающие фонарные столбы, когда
бессознательно я уклоняюсь от прохожих и от автомо¬
билей.
Этот мужественно-звонкий голос учителя — вдруг
спрашиваю я себя на углу улицы—н а каком языке
он говорил? Я напрягаю слух, но мне не удается раз¬
личить слова. Форма словесных волн прячется, ее как
будто не существует.
Я пробую поймать слово,—странную вязь обеих реаль¬
ностей, некоего вампира моей мысли,—положить его здесь,
перед глазами, - на витрину вот этого магазина мод,
между этой золоченной буквой и этим цветным пером,—
чтоб узнать, как оно сделано. Может быть, слово возни¬
кает из воображаемых звуков, может быть: Птолемэос.
Это имя собственное, это не тот привычный цвет слова.
Уни, страж прорицателей погребальной пирамиды: У ни.
Он хранит свои сандалии во дворце!.. Только смысл этой
фразы просачивается до меня, обволакивая стремнину
имени: я вижу расплывчатую черноту царственного отшель-,
ника — его голени, его неясное лицо, как будто на стер¬
той картине—меж колоний роняемых ими теней, под огром¬
ными квадратами окаменелых светотеней. Я теряюсь
в смущении. Это пслузосклицание виснет лоскутом, оно
кажется дразнящей изнанкой некоей недосягаемой реаль¬
ности. Минувшей ночью, в головокружении, я мастерил
в моменты перебоя форму своей лестницы. Теперь про¬
исходит нечто подобное, ибо я в перерывах верчу ногами
вращающуюся мостовую города мечты.
*
* *
Я пришел к ней однажды под вечер, чтобы все ей
рассказать.
Гости — мужские и дамские туалеты — стояли и про¬
щались в момент, когда меня пригласили войти.
Бездна внизу поглотила их только после долгого сло-
вообмена, рукопожатий, колебания, как будто бы дверь
была для них слишком узка. Когда тишина квадратная
и мягкая замкнулась йад их уходом, Марта Уриэль вер-
49
ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ.
нулась на свое место в раму позолоченного дерева и
матового шелка китайской расцветки — голубая сталь
с яркой киноварью.
Я не видал ее иначе, как в лихорадке огней. Я не
видал ее с того вечера, когда началась тайна—уже четыре
дня. Я пришел к ней большой, всею своей громадой, ч*обы
ей все рассказать! Но, внезапно разбуженный лунатик,
я все забыл перед нею, креме ее присутствия.
Она является частью мира роскоши, в сердце кото¬
рого она вдыхает жизнь. Ее нельзя от него отделить.
Одновременно с нею я вижу все то, что ее окружает:
позолоту и роспись, ласкающую старину; атласные складки;
рамы, глубокие, словно лари; классико-романтический чуб
деревьев, писанных гуашью на руинах: коринфские капители
колонн и римские пастухи; и резьбу на шкатулках, и фар¬
фор, и веер. Я смотрю и вижу ее руку, играющую дере¬
вянными бусами, и движение губ—потому что она говорит.
Был момент, когда по ходу нашего диалога не хва¬
тало лишь капли, чтобы мой секрет обнаружился. Ведь
я о нем все время думал, я приготовился его рассказать.
Однако я молчал. Почему, — потому ли, что я стоял над
обрывом? Быстрый подсчет всех „за" и „против" при¬
водит к иному выводу, чем прямое решение.
Когда дошло до дела, я вдруг усомнился в нелепом
чудовищном величии того, что должен был сказать. И за¬
молк, и на том кончилось.
Но я торопливо, украдкой, посмотрел на себя в тот
момент, когда солгал своим молчанием: вот человек,' ко¬
торого привело сюда неожиданное, трагическое открытие,
и который заикается и едва подымает глаза, смущенный
собственным ростом!
В течение этого момента я сразу охватил обе мои
формы, и мне стало страшно. Мое двойное существование,
не слишком ли оно велико для меня?.. Смогу , ли я ды¬
шать и ходить, смогу ли я жить с самим собою?
Но мой трепет сменился трепетом радости: пока я ду¬
мал так, ничего не говоря, Марта Уриэль сидела предо
мною, предоставляя мне любоваться ею и невидимо как-то
улыбалась.
А. Барбюсс.—Звенья.
4
50
ЕСТЬ ДВЕ ИСТИНЫ.
* *
*
Моя комната, такая скромная в своем скупом кокетстве
красок, — вот она накануне отъезда вся перетасована,
в дырах, в пакетах; каждая мелочь в ней смешно раз¬
рыта или уложена. Я стою посредине. Я больше не со¬
ставляю чьей-то части. Правда ли, что я ухожу в неиз¬
вестное, которое шире, чем у других людей? Да. Я по¬
кидаю эту комнату, как если бы покидал почти всего себя;
покидаю комнату, где я созрел, и где дремлет то, что я
знаю о себе.
Глубина жизни неизмерима. Мой взгляд отметил на
оконном стекле двух насекомых, которые борются телом
к телу, и я остановился в тупой задумчивости перед этим
зрелищем, завязнув в одной точке> истины.
IV.
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ.
Вдали, посреди растопленной лазури, маленький парус
один собрал в себе весь солнечный свет; его белизна
хлещет через край.
— Я был здесь раньше.
— Ия здесь бывала—много раз.
Но не в этот вечер мы сюда пришли вдвоем в первый
раз—я с Мартой Уриэль,— такие маленькие среди горных
далей, где ветер гуляет по всем направлениям, где смы¬
каются все четыре^ стороны света и тонут в море.
Точно спасаясь от гибели, бросил я все, чтобы вер¬
нуться к этому заливу, откуда вышли все мои родйчи,
чтобы стать на скате красной крыши материка. Втис¬
нутый в ряд со своими попутчиками, в ячейке своего вагона
(ведь мозг путешественника, едущего экспрессом, пред¬
ставляет собою усталый таксиметр), я однако подбадривал
себя, говоря: „я иду к своему воскресению"; и даже я
заранее намечал своего рода сценарий этого воскре¬
сения.
И ничего не осталось от того блаженного плана.
Я целиком захвачен реальной силой декораций; сметен
нашествием вещей, и даже то малое, чем я становлюсь
я не могу выразить.
Вот она, первозданная почва—паперть покрытых садами
берегов, которую окружает чудесное молчание и которой
края раздвигаются в бесконечность... Все красное: зали*
тые багрянцем два острых накрененных пика, железня-
ковые кряжи и тропинки, и склоны, усеянные валунами,
тожественными в огне заката той лавы, в которой они
текли на заре земного шара,—все, до порога подводных
скал, которые там, внизу, грызут, ржавые, чрево прибоя,
4*
62
С ГЛАЗУ КА ГЛАЗ.
В этой стране весны ветер раздувает в пламя от
блески зорь на деревьях. Листва блистит полировкой;
слюда и полевой шпат усыпали блестками не только гра¬
нит, но и растительность. Звезды сосен, где сталь сме¬
шалась с хлорофилом, шишки и сочленения, скрепленные
кольчатой смолой, и липкие от растопившегося на солнце
сахара... Природа покрыта эмалью, пахнет краской и ла¬
ком. Благовонные соки, наливающие сосуды стеблей
и листьев, ударяют мне в голову, щекочут горло.
Вот темные бока мысов, со складками мглы, с тор¬
чащими ребрами костров, погружаются, недвижимые,
в безгранную остеклянелость моря. Густая струя берлин¬
ской лазури выступает из глубины и чернильно-синим
облаком разливается по металлическому зеркалу. Громада
моря, которая .отсюда обнимает всю землю, и прядающая
поверхность которой одним сплошным куском заполняет
яму на нашей планете, украшена по образцу своих географи¬
ческих берегов молчаливой и неподвижной белой каймой.
На жидкой и морщинистой коре, что течет всегда
в одну и ту же сторону, длинные полосы, круги и раз¬
вилины отмечают течения. На горизонте густою штри¬
ховкой лежат десятиверстые параллели.
Я потерян, потерян. Напрасны оказались . мои на¬
дежды. Мечта моя, мой талисман1
Со мною Марта Уриэль. Не в первый раз мы вместе
бродим молча. Вот она: стоит в стороне, опершись об
утес—крошечная темная черточка. А ее лицо—точка,
так же, как мое. Или каждое существо есть точка?
Ах, каждое существо, кбгда к нему подойти и найти
его, окажется центром мира! Это создание нарушает рав¬
новесие вещей. Картина природы уплывает от меня, как
только я отверну от нее голову. Но эту женщину я вижу
всюду, даже когда не гляжу на нее. Пусть только она
улыбнется мне, позовет меня, и я тотчас выскажу все.
*
* *
— Наступает ночь. Поспешим.
Сумрак надвигается быстро. Он холоден. Он укрывает
и он сближает. Но, смешав меня с толпой всей прочих
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ.
53
творений, он меня разлучает с Мартой. Он меня напол¬
няет той грустью, трепетной и серой, которая является
смешением всех человеческих чувств.
Итти обратной дорогой, это не просто итти — это
значит проникать, погружаться. Я множусь. Я преследую
вещи в переполохе наступающей темноты. Словно шаги
мои заставляют шевелиться какие-то части неподвиж¬
ности, и земля дрожит под моею поступью.
Маленькая тропинка выводит на другую—большую,
которая тянется в обе стороны линией равновесия без¬
мерностей. Эта колея жизни очень стара, ибо необхо¬
дима: первый человек, пришедший из одной долины
в другую, проложил ее один, или, может быть, она соз¬
дана более твердой логикой животного, или же непо¬
грешимой целокупной логикой вод.
По этой дороге, удаляясь, замирает песня. Кто песню
слушает?.. Не знаю; и не знаю также, в той ли или
в этой стороне она гаснет. Она точно шопот листвы,
но только дышащий мерно. Она тонет в дали, уносимая
теми, кого видели, но больше не видят. Песня умирает...
На помощь!
, Они ушли так далеко, что когда спрашивают, в ка¬
ком это было направлении, купцы и странники показывают
на звезды. Этот горестный ритм, отдающийся в обла¬
ках — есть тоска поражения, уход, распад обычной
жизни.
Слышу голос, странный и такой близкий, точно он
со мной говорит; подземный, глухой, нестройный... Он
донесся вдруг издалека или, может быть, я упал до
него. Пустой и хриплый голос, надрыв голоса, про¬
клятие.
Вокруг меня никого; никто живой не говорил. Однако
ясно было сказано:
— Дороги всегда кончаются плохо.
С прискорбием доказано—и это есть слезное горе
женщины,—что дороги созданы для того, чтобы разлу¬
чать любящих и верных.
Никого. Я один в поле, далеко впереди от Марты,
которая^—вижу—движется по дороге на сером лице мира.
54
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ.
То говорило, наверно, молчание. Я снова пошел, не до¬
жидаясь Марты, и сам против воли заговорил вслух.
У меня вырвались слова:
— Был однажды...
Я вдруг споткнулся на гладком месте. Я резко оста¬
новился. Естественно, ибо дороги больше нет, а есть
часовня. Нет не часовня—дорога... Я остановился на этом
месте, не зная, что тут такое. Тем временем Марта до¬
гнала меня; и — чудо — она мне указывает пальцем на
засыпанный землею холмик.
— Старые камни. Здесь раньше шла стена, дом.
„Здесь был дом, куда приносят люди свое отчаянье:
часовня. Тут был прямоугольный водомет и дерево...
То низкое облако—не облако, а дерево, орешник особой
породы, единственный в этом краю, и когда идешь, попа¬
даешь вдруг под его свежую сень. Смотри—ствол у него
голубой, небесно голубой, часть ствола закутана. Вот
лазоревый плащ с золотыми звездами (сразу день и ночь).
Женщина в голубом плаще, стоящая в нише в стволе де¬
рева, держит на руках младенца, и огненная птица не¬
движно парит над его золотым венцом“.
И через несколько мгновений, когда я прошел сквозь
исчезнувшее облако орешника,, начатая было фраза це¬
ликом сорвалась с моих губ:
— Был однажды слепой старец, который вернулся,
наконец, к своему очагу. Это был Одон, он нашел Клэ-
рину, жену, которая его ждала.
Я говорил громко и говорил один. Еще раз я оста¬
новился, удивленный и сраженный, что не могу помешать
себе говорить. Встревоженный из-за Марты, я с некоторой
дрожью обернулся в ее сторону. Но это было вечером.
Были камни, которых не видел глаз и толкала нога, и они
катились по пустынной дороге. Марта снова отстала и не
заметила разыгравшейся драмы. Я был взаправду выкинут
из мира: был предан и схвачен; кто взглянул бы на меня
в этот момент, прочел бы мои слова на моем лице.
Я совсем проснулся. Сквозь разрыв, сквозь диссонанс
я вновь ощутил гармонию. В свете народного сказанья,
купол которого созидался подобно небу, и через обрывки
С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ. 55
доблестной древней песни, провидел я зачатие нового
великого лада—того, что создается страданием. Скорбь
человеческая проникает природу, размягчает камни. Все
язвы... Уходящая дорога возвращается ли вспять? Жена
ждет мужа своего, и, словно чудом, он наконец воротился...
Женщина ждет отсутствующего. Сколько времени она
прождала? Годы, всю юность, весь женский век. Все
также терпеливо ждала в пустоте комнат, перед идолом
дверей. Она претворила ожидания в немую веру отчаянья.
Она ждет века.
При каких простых обстоятельствах, таинственных
и добрых, была возвещена мне эта весть о страдании!..
Книга скорбей, библия истории задушевной; ибо у каждого
есть своя библия, которая значит: рассказать себя; у ка¬
ждого есть своя песнь о житии, и эта песнь угасает;
нежные призраки, знакомые и близкие тому, кто их
касается, но неведомые другим; эти великие вещи отныне
я постигаю лучше, чем всякий другой.
За третьим поворотом видны со стороны Рюламура—
два горные пика—два рога, нависшие над морем, и когда
я к ним -подхожу, я чувствую, как чудесная искренность
осеняет меня — посредственного - поэта, лгуна и безумца,
или (если быть снисходительней к истине) жалкого не¬
вежду... Глаза мои расширяются. Я чувствую, как неудер¬
жимо становлюсь честным.
*
* *
Она в себе заключает многих.
Я думал о ней, когда ее искристый смех разбил
преграду между нами. А в следующий миг мне пред¬
ставился ее строгий профиль: спокойная и совершенная
линия, принадлежащая другому существу.
После в солнечном диске я увидел ее лицо; и это
было откровение. Гимн первых верующих, стекавшихся
толпами, был высок творческой стыдливостью: „Солнце,
явись нам, ибо мы тебя не знаем!“.
Я вижу ясно, что ее душа направляется ко мне.
Но возможно ли, что в некий день ее душа принесет
мне ее самое?
V.
КОЛДУН.
Мы пришли к порогу моей темной комнаты. Марта
вошла, и я вошел за нею вслед.
Как это случалось много раз, мы целый день пробро¬
дили вместе, толкаемые к морю склонами горы. Как
и в другие дни, мы почти ничего друг другу не сказали.
Как странно наше молчание, покрывало, которое мы
носим, когда бываем вместе. Я отягчен моей огромной
долей: настоящее, прошедшее; и я пытаюсь спрятаться...
О, широкая надежда, сиявшая на вершине моего послед¬
него сна!
Но сегодня вечером, после долгой ходьбы, собствен¬
ная усталость заставляет меня подумать о моей спутнице,
кладет на мои плечи усталость спутницы. Входяу я схватил
ее под руку, а потом мы уже не думали разлучаться—ни
я, ни она.
Она села в нише маленького полукруглого окошка,
перед решеткой, закрывавшей источник света.
Комната, предоставленная мне гостеприимством моих
родителей, обличалась от гостиничных номеров только
тем, что у нее было имя. Запертая почти круглый год,
она упрямо не обживалась, сохраняя холод и пустоту.
Мебель — даже стареющая — здесь оставалась печально
новой. Я смотрел на резную спинку -кровати, ассоциирую¬
щуюся в мыслях только с инструментом мастера, на комод,
с его девственными и строптивыми ящиками, на стол,
довлеющий своей поверхностью. Слушал чириканье
маятника—тик-так, тик-так—и еще более сухое, а повре-
менам шепелявое чириканье птицы в клетке.
КОЛДУН.
57
Проникнутый тоскою голос — никогда не слышанный
мною раньше—сказал:
— Милый, когда-то я очень любила человека, который
говорил мне, что любит меня.
Эту фразу — такую голую — она произнесла только
для того, чтобы дать мне знать о себе. Мы были
друг около друга, и не знаю, кто из нас первый про¬
тянул руки.
Я прижал к своему лицу это лицо, на которое до сих
пор я только смотрел, — которого не знал до сих пор!
Ее щека меня обожгла, губы отрылись моим губам.
На дрожащей вершине этого тела, тяготевшего ко мне
всем своим весом, и заполнявшего всю мою плоть,
я в первый раз увидел вблизи, под златокудрым облаком
бескрайно - расширившиеся зрачки, — круглые полосатые
и взбаломученные, точно ночной океан; я увидел, окру¬
женную густыми излучинами черных ресниц, белесую
бездну, где плыл глядящий темный шар.
Она! Эти щеки, влажные, словно от слез, этот красный
рот — почти обнаженная кровь поцелуя — и ’две телесные
звезды этих глаз, и тело, которому тесно в платье—это
она была царицей сна, шелковой статуей салонов с изящно¬
прямоугольным лицом!
Есть некое безумие жертвы в ослепшей, всполошенной
двуглавой вершине четы, в двух лицах, готовых слиться
и стертых уже. Двое прохожих, которые недавно, вчера,
разговаривали, стесненные стыдом и боязнью Смешного—
господин и дама... Параллельная светская комедия сразу,
без слов, срывает с себя стеснительную услов¬
ность. В зеркале в глубине комнаты я вижу голое тело
за плетнем моих рук.
...На кровати глядит на меня ее лицо: икона, которой
вчера я только в мыслях смел коснуться.
— Ты, тьГ...
• Ей немного стыдно, но она счастлива, она искренна.
Она моя жена; а я—я мужчина, узко гордый тем, что он
мужчина и только, и мы лежим бок-о-бок, и наши тяжелые’
тела соприкасаются по огненной линии. Мря рука слегка при¬
давлена тяжестью, которую она обвивает. „Я давно хотел
58
КОЛДУН-
тебе сказать". „Я тоже". Мы тяжело смеемся над убитой
красивой робостью.
Она начинает говорить о себе; и даже рассказывать
о своих ощущениях и о вещах, случавшихся с нею, когда
она была маленькой девочкой.
Я слушаю. Слушаю, как она входит в меня...
Я хочу быть только тем, что я представляю в данный
момент, и не больше: простым мужчиной, растянувшимся,
привязанным к этой кровати.
Но я не могу обезличиться, скинуть безумие сна,
овладевшее моей головой. Я обречен видеть и знать,
и обречен искать!
Сжальтесь! Я к этому не приспособлен! Довольно
сверхъестественного; пусть величие исключительности
перейдет на другого! Я хочу стать, как все. Довольно
с меня быть тем, чья судьба вдруг проваливается, тем,
кто должен падать в прошлое для воскрешения мертвых
и кого окружает сутолока разложенных образов. Почему
один я из всего своего рода должен перескакивать через
великие преграды и в лохмотьях разгуливать по прошлому?
К чему? Ничто не изменится от того, что один чело¬
век изо всех будет нести на плечах* разрушенный мир.
Сжальтесь! Ведь я ее жалею,
— Тебе не холодно?
Я срываю с себя лохмотья существования, чтобы ей
не было холодно, чтобы им нечего б$яло желать — ее
бедному еще расплавленному сердцу, бедным раскованным
глазам, что тянутся ко мне.
Но при всем моем нежелании, я чувствую странное
давление, заставляющее меня свернуться. Увы, я не могу
его осилить! Я отбиваюсь в этой неосязаемой толпе,
в этой клетке, которую сам волоку, Я жмусь к решеткам.
Нет, не решетки—каменную стену нащупывает моя рука,—
а за мною — Озирисов голос, всегда неизменный, на ты
с посвященным, произносит слова нерушимого обещания:
„Я дам тебе обновления бесконечные". Где я? Кто-то—
не знаю, кто и как—сказал: Ты в келье колдуна.
Нет! Я сопротивляюсь рисунку, начертанному в про¬
странстве. Тогда атака меняет форму. Глубокая неж-
59
.ясность охватывает меня и говорит: „Ищи их радость!",
и звездное сердце Креста распростирается по великому
вечеру мира.
Нет! Я сбрасываю тяжесть тени, придавившей меня
сверху. Гневный архангел в золотом зареве молний своим
прекрасным телом сразил и рассеял чары, во власти
которых я был. Я подымаю свои бедные окаменелые
веки, широко вздыхаю и бессильно склоняюсь перед ним.
На кровати, также близко ко мне, как мое собствен¬
ное тело, золотые струящиеся волосы Марты и ее голое
плечо. Я дремал; меня разбудило ее движение.
Точно великанша, на коленях стоит она на кровати,
совсем близко ко мне. Она оголена; она дает мне видеть
свое блестящее, алебастровое плечо, живую розу груди,
темную складку бедра, совершенно голую поясницу.
Плотского стыда больше нет в новом творимом мире.
Этот сброшенный стыд ее меняет. Она—милосердие. Она
садится на край кровати, спускает ноги на пол, встает.
Она одевается, не стесняясь, нё торопясь, и смотрит
на меня сквозь негу скользящих легких тканей, ласкаю¬
щих ее.
— Вы почти спали,—говорит она мне*—Вы видели
сны?
Сразу становясь в оборонительное положение, я,
чьи сны до краев наполняли ночь, говорю:
— Нет, я никогда не вижу снов. Я такой же чело¬
век, как все.
Она смеется.
— Но все люди видят сны!
Я тоже смеюсь и весело подхватываю,, упорствуя (увы!
не без основания) в отрицании истины:
— Значит, я не такой, как все.
Теперь она уже одета, готова до последней мелочи.
Я еще удерживаю ее, щупаю концами пальцев сквозь
серый шелк неясную округлость одной из ее грудей. Это
ангельское лицо, лицо, которое я увлажнил своими глазами,
щеками, губами, я его целую, растроганный и немного уста¬
лый. Она уходит. Но я боюсь, что опять перестану быть
самим собою.
GO КОЛДУН,
— Останься.
Остаться1 Это так невозможно, что она снова рас¬
смеялась.
Остаться со мною, т. е. жить вместе, наперекор лю¬
дям и мнению света... Но это означало бы начать сразу
совершенно новую жизнь, гору новых расчетов... В этот
момент ни она, ни я не думаем о том, чтобы решиться
на это.
... Становимся меньше... Я повторяю тише:
— Останься!—просто как просьбу.
Когда она удалилась в блеске шелка,—прохладного
снаружи и теплого внутри,—когда после шелеста двух
или трех шагов она сразу потерялась безлунной ночью
в невидимом и неосязаемом, я нахожу, что все проходит
слишком быстро, все! Так быстро, что большое событие,
даже' счастливое, подобно удару. Слишком быстро вся¬
кая надежда обращается в ничто. Как мало — дойти
до сердца жизни, опрокинуть простоту платья, которое
топтала ночью пара голых ног. Любить так же просто,
как убить. Любить... Разве это любовь?—И я умею лю¬
бить?... Мне больно. И это ответ? Я двигаюсь, стараясь
думать о чем-нибудь другом...
„Келья колдуна"... Я жую эти слова. Я пропитываюсь
этим пятном прошлого, глотком моего бессмертного
страдания...
Сон отравой вернулся в мою жизнь. Я оттолкнул его, а он
вернулся высоким искушением: „Ищи их радость!"» Я его
оттолкнул. Я не боюсь судьбы!
Но я боюсь себя... Мне странно и совестно, что я
еще прячусь. Она,—она рассказала мне много и щедро.
Я теперь все знаю о ее жизни бедной светской богачки,
слишком утонченной и чуткой, лишь на мгновение умею¬
щей забыться. Она себя отдала и освободилась от себя,
а я себя сберег.
Она оскорблена, сама в своей улыбке, не зная о том.
Я украл любовь. (Даже в экзальтации мужчина хочет и
умеет сохранить свою долю). Умею ли я любить? Я
боюсь нас!
КОЛДУН.
01
*
* *
Она ушла. Я один в четырех стенах. Но я ее ищу
и найду, ибо она существует. Она здесь, или ее больше нет
совсем. Открывая—глазами — запертую дверь, я оживляю
образ ее ухода: в качке прямоугольника затмение серого
платья, выпуклого на груди, как жемчужина.
Я думаю о ней. Смотрю на ночь в окно, в огромный
готический свод. Силой взгляда я делаю пространство
менее черным.
По углам, на карнизах сумрачные предметы приобретают
значительности, разбухают, концентрируются: брызги хру¬
сталя, светлые змейки, висячие сверкающие шарики...
Я думаю о ней. Равнина окаменела и покрыта вдали
лунною дымкой тумана и серебряной жатвой надвигается
прямо на меня. За черными скалами, блестящими от воды,
шагает кто-то безграничный. По его следам, за коврами
пашни, черными как яма, вода болота прячет взъерошен¬
ный шар месяца.
Звездное излучение избрало жену. Оно сперва начерти¬
ло на черном поле серебряный серп с изгибом щеки. Оно
не может погасить златокудрое пламя, под которым она
идет, но оно кладет белизну на ее плечи—как будто бе¬
лое полотно; и на фосфорически - светящийся воск ее
кожи. Оно кристаллизует руки, шею, странное широкое
книзу лицо; оно вооружает и делает издали любимым
этот прямоугольный лик мадонны, эту форму лица, кото¬
рая отмечает печатью славы одну из всех. Оно пока¬
зывает даже золотистую вышивку, отягчающую подол
длинного платья, плоенного в легкие складки, глубина
у которых алая, а грани розоватобледные, и оно раз¬
ливает по своим сокровищам росу самоцветных камней.
При виде ее мои губы шепчут: „Аннета!
Аннета, из-за тебя я ушел так Далеко, оторванный,—
дальше всех, кто меня окружал,—столь чуждый среди
людей сего дня, что вынужден был изобретать не только
орудия и источники света, но даже самые слова, кото¬
рыми пользуюсь. Один я бы не был так послушен са¬
мому се0е. О, Аннета, Аннета, с ее творческой красотою!
62 К О МД^УН.
Однажды (и это теряется в стершихся днях)—я ей пове¬
дал мою мечту искателя, когда еще не создал ничего, и
она сказала мне наперед: „Это прекрасно!". И соблаго¬
волила прибавить: „Вы это выполните. Так нужно!"»
Но она не знает, во что превратилась мечта.
А сегодня она, она сама, все мне рассказала о себе,
все без утайки. Ее доброта была так чиста, что был
момент, когда я ничего другого не желал, и когда все
прочее меня пугало, даже тот мощный порыв, что кинул
меня к природе, к целому; даже слава. Клянусь своим
спасением — был такой момент, когда, сомкнув руки и
сомкнув глаза, я все оставил бы для нее, и только при¬
надлежал бы ей—я даже сказал ей: „останься!", как если
бы это было возможно. И все жея умолчал о великом
труде моей жизни, умолчал, как в тот день, когда я при¬
шел к ней, чтобы все рассказать.
Своим молчанием я лгал ей; *и после я солгал ей еще:—
„Вы видели сны?"—„Нет, я никогда не вижу снов...". Ах,
человек упрямо сжимает губы на тайне. Меня охватил
стыд, когда, наклонив голову, она показала, что верит
мне. Я согрешил против нее, и мне стало страшно.
... Но срок молчания свершился.
Завтра все узнают то, что знаю я.
Я уже вижу, как люди поворачиваются ко мне и ра¬
стут от радости, быть может, даже тот, кто царит в вы¬
соте, будет глядеть на меня.
*
* *
Есть на стене зеркало, полое, точйо пещера ветра;
есть ветер и хаос, и мне чудится, точно этот серебря¬
ный диск в странном грозовом сближении туч сейчас
совпадет с пустотою зеркального шкафа... Я просну с ь...
Однако, зеркало остается на месте... Если я под ой д у
к нему, я себя уЪижу таким, каков я есмь.
И вот мгновенно я в нем задвигался вместе с черными
и белыми клочьями. И я увидел лицо' в морщинах, отвис¬
шие щеки, странно выпуклый лоб над сырою берлогой
глаза^. . Игра света зачеркнула висок, стерла шею и мерт¬
вые одежды моей жизни. Он... я...
КОЛДУН.
63
*
* *
Из могильных глубин доносится мертвый, нежный
звон. Это отзвук утихшей музыки, и он говорит: удары
далекого колокола проникают меня дрожью своею и за¬
полняют все мое тело пылью шумов. Монастырский коло¬
кол, медный ветер, кружит в камнях жилищ, точит
чрево мира. Каждый удар, взятый во всей своей полноте,
есть широкое поле. Небо землянеет, становится твердью,
давит души точно броня.
Помимо греха, который до этого дня был только
надеждой, моя жизнь чиста. Я исполняю свой христиан¬
ский долг и всегда послушен, как другие.
— Ах1
Глухой крик вырвался из моего горла, потому что
дверь моей кельи открылась и хлопнула; кто - то вошел.
Я никогда не испытывал такого страха! Никто не позво¬
ляет себе открывать эту дверь. Еще нельзя, чтобы сюда
входили! Затем с деревянной медленностью я повернул
голову к лазейке опасности.
Шум порывистого дыхания, веселые возгласы, протя¬
нутые руки. Человек (он дробится и множится) восклицает:
— Клеман, друг мой!
Мелиодон! Наконец-то он вернулся! Мой верный друг.
Среди своих странствий бурей врывается в мою жизнь.
Поэт-бродяга, он слонялся и пел по далеким краям. Его
лохмотья несут простор и ветер.
Страх рассеялся; еще передо мною нагромождение при¬
боров, тигель света: плоское видение гаснет на стене... Но
при этом сверхъестественном освещении, которое отра¬
жает наши лица, я вновь обрел его большие глаза певца,
его изрезанный упрямый лоб, его лохматые волосы под
странничьим колпаком, откинутый зеленый плащ, выцвет¬
ший от зноя и от непогоды. И в ту минуту, когда я
унимал поток света, человек, оплетенный в черно-белую
сетку, пускал в пляс огромную тень профиля, зияющую
над фосфоресцирующей мозаикой, точно черное плещу¬
щее знамя.
В ошарашившем его зареве, он (я заметил) осенил
себя знаком креста.
64
КОЛДУН.
Нет больше цепкой ночи и молчания.
Тщетно желал я погрузиться в сладкий хмель; я про¬
снулся, Над ночью кровля—витрина суетного сегодня.
* *
*
Сильвия приехала в Аликан, одетая в лиловое. Между
двумя поездами она прошлась, ослепительная и смею¬
щаяся, по солнечному пляжу; зубы ее сверкали, как
алмазы. Много раз, наклоняясь, она позволяла видеть во
всей наготе свои красивые груди.
На веранде курзала, стеклянные стены которой задра¬
пированы шторами, расплавленными в добела-накаленных
прямолинейных рамах, она растянулась на шэз-лонге. Веки
у нее были опущены; щеки распаляли взор.
Оправляя платье на коленях, она его приподняла и
резко встряхнула обеими руками,—точно огромный лило¬
вый веер с волнением белых кружев на обратной сто¬
роне, и в этом дуновении мой мгновенный электрический
взгляд ощупал ее полные икры, обтянутые золотистым
шелком, и две голые ляжки над этим высоким футляром
шелкового золота. Формы нагого тела Сильвии округлей
и полнее, чем я осмеливался смутно рисовать себе.
Недавно Сильвии не существовало для моих глаз, по¬
тому что была Марта. Теперь они здесь обе: Марта всегда
одна и та же, не так ли? Однако, она уже не та, потому
что' я болен Сильвией. Как слаб человек—и как силен1
Сильвия уехала и унесла с собою почти все мое вол¬
нение. Тем не мейее в одиночестве моей комнаты я воз¬
рождаю в памяти эту женщину, лежащую, случайно, рядом
со мною, и таинство2—слишком краткое, чтобы быть сча¬
стливым или несчастным,—в котором взгляд мой приобщился
ее скрытой наготы. Это. внезапно погашенное начало сбли¬
жения двух тел... В некий день, в гигантском отливе веков,
на бесплодном песке я также дрожал в такой же смуте
небытия.
Уж не думаю ли я, что могу уйти от компактной оче¬
видности того, что меня заполняет, что разрушает много¬
трудное тонкое здание и взамен вытягивает ложь из моей
головы и сердца, и насильно обращает мой взгляд к ужа-
65
сающей пошлости1 Я все больше и больше—по мере того
как воспоминания захватывают меня и отрывают от окру¬
жающего мрака — становлюсь похож на грубого самца,
на предка^ который стремится утвердить своим телом по¬
беду над временем и над пространством, живым и мерт¬
вым; который, с тех пор, как стоит на ногах, зарится на
лунную женщину и на солнце и, в то же время, строит
им храмы, с тех пор, как его руки научились творить.
Но бесконечная женственность растерзана. Ей имя:
другая, другая! Если красота женщины проходит быстро,
то желание проходит еще быстрее. Желание движется в
пространстве, которое, не имеет такой кривизны, как
пространство чувств. Другая, другая...
Она безголовая, эта Венера — богиня-сестра самца с
ненасытным чревом.
т Однако, в каждом человеке есть странное ядро сердца.
*
* *
Есть сердце во мраке,- в церкви мрака. Одинокое, го¬
лое, как на алтаре, сердце, подобное растерзанному бес¬
полому телу, простое сердце в форме розы.
Свет воскресения бродит по кругу, как некий млеч-
дальше: там.
На квадратном столе лаборатории—день вечной пустоты.
В окошко, затянутое промасленной бумагой, я вижу
поток и скатерть вод его, всю в складках, как в мел¬
ких ступеньках, и гнутые своды высоких мостов, где проез¬
жают в больших с занавесками каретах, сотрясающих
прозрачную бумагу, кавалеры с благородными дамами.
На мокром алтаре лаборатории я обнажил, при помощи
своих инструментов,; внутренности тела — чтобы видеть1
Я склонился в едком ладане над утробой женщины:
печень, кишка, сердце с его толстыми жилами. Это но¬
сило волшебные покровы и имя: невозможно, а все-таки—
да!—все-таки это чудовищное видение душит меня... Ах!
мои 1оварищи ушли, я один перед страшной и безгранич¬
ной вещью,—перед сердцем. Я хрипло крикнул и упал на
колени, на пол.
А. Барбюсс.—Звенья.
5'
66
КОЛДУН.
Декорации качаются, их передвигают. Театр предста¬
вляет другую сцену. На этот раз там лежит не сердце
человека; там нечто меньшее, лучшее: сердце собаки.
(...Собака явила мне последнюю любовь, благоговейную
и простую, и это помогло мне некогда чудесно вырезать
нежность на скале...). Я наблюдал собаку для своих науч¬
ных целей, только что, когда она еще жила. Мой опыт
медленно осуждал ее на смерть. Был момент, когда она
смотрела на меня. Мой взгляд тоже погрузился в ее глаза,
без дна. Тогда белый лист, на котором я записывал фор¬
мулы наблюдений, упал на пол, точно мертвый лист де¬
рева. Собака наклонила голову и лизнула мне ноги, как
будто язык был рукой ее сердца.
*
* *
Дальше! Я всегда тот, кто бежит. Но возможно ль
бежать от драмы своего живота и своей головы? Войти
в спокойствие всемирного единства: в природу, в других,
в целое? Возможно ль? „Ищи их радость!"... Нет, не ищи
их радости, ничего не ищи, — ищи только радость свою,
только ту, что будет действительно на острие твоего копья.
Иногда, покидая свою келью, иду я в сад Аннеты,
чтобы видеть ее. Он стар, запущен. Дом прямоугольный
и высокий, на подобие башни, закутан в плющ. Каменная
лестница обветшала от старости, осела по-немногу; сту¬
пеньки так истерты по середине, что в выемках соби¬
рается вода и птицы туда слетаются пить. Огромно веко¬
вое дерево; оно поднимает к небу гнезда, большие, как
облака.
В старинном саду, в траве, прячется древняя могила.
Нужно наклониться, разрыть траву и как потерянную
вещь искать имя, вырезанное на плите, где проносился
ветер времени; и временами это имя находят, и это имя:
Дэотта, и остальная полустертая надпись указывает, что
Дэотта умерла в первый день месяца апреля весьма отда¬
ленного года, число которого разрушено, унесено небытием
камня.
Дэотта... Это слово — некий ангел. Оно сверкает на
ком-то.
07
КОЛДУН
Дом, обвитый плющом, вдруг помолодел. На нем больше
нет плюща. Ветви дряхлого дерева выпрямились, стали
меньше и гибче, и быстро задвигались. Старая серая лест¬
ница? Но она совсем бела и нова, поразительно нова;
и Жеан Баск, только что ее построивший, говорит, что
она сделана из очень твердых камней, которые никогда
не изотрутся. Могила зашевелилась! Она освободилась от
травы и светится чистой белизной. Она свежа, она рас¬
крыта и пуста, и плита положена сбоку... Черные люди
инертно наклоняются и движутся, точно буква „1“ под
пером, вокруг этого тела, в другом смысле безжизнен¬
ного, вокруг этой белой черточки: Дэотта, труп еще све¬
жий в бледных лучах молодого апреля. Сейчас ее завер¬
нули в саван, и плотность этого савана есть конечная
грань ее земного удела. Сейчас от нее ничего не оста¬
нется, кроме этого камня, чья неподвижность вызывает у
тех, кто остался жить, теплые слезы. Сердце плохо кон¬
чает, ибо все кончает так же: могилой. Смерть есть форма
естества, она венец творения. Она то же, что и тело.
Кроме нескольких сверх’естественных лет, когда настоя¬
щее сливается с прошлым, каждый человек мертв—веч¬
ность до того и вечность после того.
Дни текут вспять. Могила уходит. Апрель, март, фев¬
раль. Дэотта? Вот она... О, ужас! Но нет, она смеется.
Наклоняясь, вставая, опять наклоняясь, она совершает
свой туалет над круглой и блестящей водою в чанах, как
римские дамы в минувшие времена. Она посвящает ему
много времени. Она долго занимается собою каждое утро.
И все-таки скоро она умрет. Смерть—да кто о ней думает?
Ее не знают. Что нужно здесь этому образу могилы,ко¬
торый я неловко поставил над тем, что вижу? Умереть—
это во мне..., но больше я ничего не знаю о смерти, и
смерть рассеивается. Дэотта смеется, глядясь на себя, и
разве я не полон также звонкого смеха в это прелестное
зимнее утро? Однако, на один момент я вознесся над тем,
что вижу, и вновь почувствовал бесконечную ценность
этой некогда столь любимой мною женщины, когда, точно
при вспышке молнии, я узнал наверное—-убедился своими
глазами—что она умрет,—ибо человек заблудился в потоке
5е
68
КОЛДУН.
дней, и он знает не зная, и не имеет власти видеть ближ¬
них своих такими, каковы они суть.
А теперь у меня—моя ночь из ночей. Это раньше.
Раньше чего? Не знаю. Раньше чего бы то ни было, по¬
тому что это теперь.
В кровати, при лунном свете, просачивающемся прямо
сквозь стену, я вижу нас—ее и меня—протянувшимися
рядом. Простыня отливает наши сходные формы из белого
камня и белой кости, живот и ноги, рельефы, борозды,
тусклые складки... Властные крылья тихих, скудных слов
взлетают и падают.
Я сказал, точно всем своим весом:
— Венера длится единое мгновение.
Но голос ее тела, после страстного молчания, ответил:
— Нет... Много мгновений!
— Для об’ятия безразличны души и лица!
— Нет. Сперва лицо. Лицо отмечает человека и его
освещает! Первый шаг любви направлен к лицу.
Я говорю, что надо расчленить надвое слово любовь:
желание и любовь слишком непохожи.
Она опять говорит: „Нет!“—она всегда говорит „нет“.
Потом она говорит, что истинное невыделимо, что жела¬
ние и любовь связаны кровным узлом, и что человек не
может по произволу дробить радость!
Ине более того может он дробить воспоминания. Итак,
человек, пока живет, не может ни понять, ни простить.
— Любовь,—воскликнул я,—случайна!
— Да, но она есть!
, Затем она прибавила шопотом:
*— Мы ничего не можем сказать.
— Ты любишь меня?
— Да,
Мы, точно чужие, задаем друг другу вопросы общего
характера. Спорим или соглашаемся. Да. Нет.
Диалог тихо жуется в ночи, в дыре, в кровати. Про¬
стыня (тонко отесаная белая плита, плотная кожа) согре¬
вает; под нею жарко. Голос, к которому обращается мой,
есть голос гибкого женского тела, свежего и теплого под
моею рукой. Женщина нага, и мы живем вместе, но я
69
К О Л ДУН.
о ней ничего не знаю. Я с ней разговариваю наощупь
как все, как всегда. Мы обмениваемся глухими словами,
и они подобны слепым ударам, которые случайно тол¬
кают, как дверь, то, что нас разделяет,—ничего, однако,
не открывая, освещая только противоестественное вза¬
имное непонимание. И только сердимся и говорим; жад¬
ным вздохом впиваем вопрос и также выдыхаем ответ,
удар на удар. Сколько бы силы ни вкладывал я в пустое
дыхание слова „да"; сколько бы ни налегал на нее
всею своею тяжестью, сколько б ни погружал пальцы
в ее нежное тело, как в сердцевину упругого плода, напря¬
гая его сладострастием,—я не пробьюсь дальше поверх¬
ности этого существования. Я не могу в нем себя утопить.
Я должен был бы ее любить, но я не люблю ее больше.
А говорю ей, что люблю; этим я ей поверяю, чего я хочу,
а не то, что есть. Впрочем, когда я говорю „люблю", я
в первый момент сам верю себе; а потом убеждаюсь, что
солгал. Я ее любил... Значит, из всех женщин на земле
именно ее я не могу любить. На мне проклятие света,
простоты—и разлада. Я всегда нахожу две правды, кото¬
рые сжимают меня в своих тисках: истинную и поддель¬
ную; правду, что бьет ключем из меня, и правду готовых
фраз. Но сердце кончает плохо; вот из-за чего мы стра¬
даем сегодня, И наверно также будем страдать завтра.
Смерть приходит тихо и внезапно, и мы,—мы вынуждены
говорить: смерть справедлива. И остается только осадок
беседы, он же есть осадок всех любовных бесед во всех
протяжениях вечности: в пространстве, времени, небытии.
... Медленным, непокорным движением лицо прибли¬
жается, как во сне, огромное, истомное, голодное, захлест¬
нутое тяжелой сырой улыбкой. Оно пред’являет мне себя,
оно меня давит, навязывает мне свою бесформенную маску
запаха и шопот своего голоса, голоса, который ни¬
когда не меняется. Я помню ясно, что это прибли¬
жение меня сводило с ума. Назад! Довольно с меня, до¬
вольно !
... Светло. Мы у начала; мы стоим, изумляясь друг
другу. Вся моя жизнь переходит к ней. Я весь—только
движение моей радости. Свидетельствую повсеместно,—
70
КОЛДУН.
нет ничего другого, кроме смешения ее и мена. Эта де¬
вица, прямая и высокомерная от робости, по самую шею
затейливо завернутая в тонкое сукно,—Дэотта. Ее губы
в первый раз произносят мое имя, и это слово показывает
мне красную теплоту ее языка. Когда двое стоят, как
прекрасно их изумление, с их невидимым наклоном друг
к другу.
Где я?... Повсюду—но я падаю... Мое адское паде¬
ние сквозь невозможное мчит меня вспять от пресыщения
к желанию, дает мне постичь одновременно то, что ни¬
когда не бывает соединено для живого—два творения
моего сердца: До—вот оно, полное божественной хруп¬
кости счастье;, и П о с л е—тожественное ему, но оно только
призрак! Человек не может любить долго; он не может
любить—и начинает сначала, чтобы кончить тем же.
Итак, надо освободиться от тягот желания и смерти.
Надо восстать, расковать это великое неловкое сердце и
достичь того, чтобы нежность каждого распространялась
на других, на всех; надо выступить оформленным пятном,
выразиться. Выразить себя значит стать богом. Помню,
высокий странник, сопутствовавший мне, пел однажды:
— Это значит—сделаться богом.
VI.
АДАМОВО ТАИНСТВО.
Скоро взойдет солнце. Новая заря восполнит зори;
заря величайшего из дней, заря сегодня.
Я благоговейно затаил дыхание. В сердце креста рас¬
крывается большая горсть лучей. Я на высоком и диком
месте, у скрещенья дорог на вершине холма. Видны рас¬
пластанные руки Иисуса Христа. Ветер морской разделил
свое синее тело между людьми. „Отче наш, иже еси на
небесех“...
Как дыбится крестами земля! Этот крест на перепутьи,
на вершине холма, и другой—у монастыря Эльхо, и еще
один у церкви святого Стефана и святого Трофима. (Сте¬
фан—первый христианский мученик, которого закидал кам¬
нями маловерный народ иерусалимский; Трофим же некогда
сам причалил сюда, чтобы сказать: „Нет больше рабов.
У спасенных один закон—да будет каждый служителем
всех0)* Вся эта страна вплоть до красного берега, заклю¬
ченного между двумя рогами двух накренившихся вершин,
вся под богом.
Моя душа падучей звездою (и я это видел!) спусти¬
лась, упала на перепутье, на клочке христианской земли,
в одинокое маленькое создание, еще не полного мужского
роста, которое с трудом несет свою большую грустную
голову и под своей черной ряской, сморщенной и выцвет¬
шей, всегда дрожит от жестокости земли, неба и ветра.
Я прикурнул на камне. Вот моя желтая рука в пау¬
тине синеватых вен сжимает худое колено сквозь одежду,
тонкую точно слой пыли. Вижу, на земле свернулась чер¬
ной кошкой моя хвостатая шапка,
72 ’ АДАМОВО ТАИНСТВО.
Я—Анджелино. Никогда не бывало в жизни такой ра¬
дости, которая имела бы мой облик. Но у меня есть
цель: в проносящихся мимо линиях и красках черпать ма¬
териал для сотворения образов, похожих на мир. Я только
точка, но я в центре всего существующего. В некий день,
после меня и надо мною—я тогда буду мертв—все увидят
то, что видел я.
Однажды у своего порога увидел я нечто, ни пре¬
краснее, ни хуже чего я никогда ничего не мог найти, и
это зрелище хочу я написать на стеклах церкви Эльхо,
построенной королем Эгбертом,—чтобы день вечно палил
его огнем. Это будет Таинство Человеческое.
На самом верхнем стекле окна, поднявшегося в камне
своим большим прозрачным скелетом, на горной вершине
среди огненных колес, будет стоять крест. Черный крест
во всю высоту и во всю ширину неба; над ним протянута
скатерть большого белого облака, а над облаком—солнце,
луна и звезды.
На окне представлено будет множество картин, из-
зубленных и разделенных великолепными черными раз¬
городками. Прежде всего—долина казнимых. Труженики,
их тела, их напряженные мышцы, змеящиеся вдоль костей:
обширный белокаменный двор нашей новой церкви, с бе¬
лой пылью и с лязгом железа, и окопы, и ямы, и лест¬
ницы, где прикован труд.
Они злы, и лица их в работе—лица грешников в аду.
Пот слезится на коже. Ряд ремесел, как ряд скорбей.
У грузчика обглодан затылок и живое мясо клочьями
висит на спине; кузнец машет без отдыха и обивает себе
кулаки и плечи; каменотес согнулся на корточках, так
что булыжник до кости ему прогрызает колено, и пыль
на солнце ест ему глаза, и, пока он изо дня в день, точку
заточкой, меняет лицо земли, сам он слепнет и сохнет.
Свистящее дыхание стекольщика борется с жарким дыха¬
нием печи, которое лижет его, коробит и тушит.
Прачка выжимает нечистоты из мокрого захлебну-*
вшегося в них тряпья. Своими руками, находящимися на
привязи, в тесном плену у тела, она сучит и душит грязь
в горячих скользких кишках лохани.
АДАМОВО ТАИНСТВО. 73
Это людское месиво с’ежившимися тенями ползет по
земле.
К концу дня они доходят до полного истощения
своих сил. Вечером каменщик несет на спине бремя
стены, дровосек с пробитыми ладонями тащит дерево.
Рыбак безвольно качается точно утопленник.
Пахарь несет землю мертвых.
Ибо как на нежных полях, так и в твердом камне, наса¬
ждается шум железа и человек пригнетен к земле. Человек
побережья стелет тонкие пласты культуры по уступам скал.
Человек сошника и мотыки кладет каждый день свежие
краски на поля и подготовляет мою картину. Большего
они не умеют и только лепят пятна как попало. Орудие
везде заколдовано; оно жжет, когтями впивается в руку,
давит все сильней и сильней с утра до вечера. Оно за¬
хватывает кулак, руку, плечо—вплоть до поясницы.
Человек, на которого навалилась сила орудия, едва
останавливается, чтобы взглянуть на свои потемневшие
руки~—пару немых волов, которые дают ему пропитание.
Они не его, и он должен следовать за ними. Он продал
душу свою труду. Иногда он даже любит свой труд.
Меня привлек шум как бы ударившегося о земь же¬
леза в деревянной оправе — очень медленное и протя¬
женное тиканье, которое говорит о безысходности нужды,
о тщете дыхания и о том, что вечный покой приходит
слишком поздно.
— Ты сеешь, Тэло?
Он перестает сеять и еле-еле делает отрицательный знак.
— Слишком много войн,—говорит он.
— Но ты сеешь зерно.
Он потупил голову, глядя на дело своих рук; он де¬
лает движения, чтобы громче сказать свое „нет“, прислу¬
шивается к буйной скачке ветра:
— Нет, я не сею зерно—я его зарываю.
На самом верху картины мира, красивыми разгород¬
ками разбитой на много частей и насквозь пропитанной
дыханием солнца, будет Тэло, могильщик зерна, его ни¬
чем не заслоненная маленькая голова вдалеке на дороге,
где гуляет война и мор> и где надвое разодрано счастье!
74 АДАМОВО ТАИНСТВО, __
Я спускаюсь по тропинке. Мало-по-малу бесшумно
приближаюсь к деревне минувшего.
Минувшего? Действительность двоится. Я медленно
пробуждаюсь. Я видел свои ноги, высохшие от худобы,
обутые в дерево, ноги, что волочат по земле пыльные
отребья, видел свою костлявую кисть, похожую на пти¬
чий скелет. Я чувствовал прищурь своих глаз, пригвожден¬
ных вдали, в полях, к этому белому голубю, что бьется
всегда на привязи, точно знамя над башней, и слышал
свой кашель.
... Лицо, которое я ношу, такое важное и единственное,
считало свои глаза открытыми, но вот я их открываю и
вижу Марту Уриэль. Она задремала, склонив голову на
камень. Вдали две грани мира; легкая синева неба и тя¬
желая, глубокая и разнотонная синева моря. Она улы¬
бается мне сквозь дремоту, растянувшись на вершине
холма, где сегодня, как некогда, скрестились судьбы до¬
рог и где без сомнения найдется, если раскопать землю,
прямоугольный ствол креста. Вдруг волнующая молодая
женщина приблизилась ко мне, коленопреклоненному, воз¬
ложила на мой лоб венок своих пальцев и сказала: „Я
хочу знать, что происходит за всем этим!..“. Я засмеялся,
и она поверила моему смеху.
Наша любовь растет со дня на день. В своей ком¬
нате она меня ждет с открытыми губами... Или нет, это
я так жадно жду ее, что, когда бьет обещанный час, я
вижу сквозь стены ее приход,—а потом, очнувшись в изу¬
млении, я слышу ее шаги, по лестнице и чудится, словно
они ступают по моему телу. Как прекрасна ея печаль при
наступлении момента рлзлуки. С каждым разом нам все
труднее расставаться. Мы возвращаемся, глазами боремся
с разлукой, потерянно цепляемся за последний взгляд. Я
для нее мужчина, она — женщина. Много дается опреде¬
лений любви; из них единственное—предпочитать.
Она хочет знать... Ах, я тоже хотел бы знать! Я при¬
слушиваюсь к голосу. Чтоделать нам здесь на
земле? Великие вопросы возвращаются, звучат повторно,
распластываются и медленно, медленно уходят опять.
Я едва смею поднять мою втянутую в плечи голову к
АДАМОВО ТАИНСТВО. 75
вершине, где лежит в пыли сокрушенное величие этих
слов! Какова сущность драмы человеческой?
Она спит. Мало-по-малу, бесшумно, я приближаюсь
к деревне минувшего.
— Ты видишь, Анджелино жив. Не надо плакать, ведь
я не умер.
Клеман Трашель, Анджелино. Мы стояли вместе одно¬
временно, и губы Анджелино сказали эти слова. Было
два круга горизонта, заключенные один в другом. На ходу
я поймал себя на произнесении следующей фразы: „хо¬
рошо было бы поселиться в этом краюГ*. Я шел и вос¬
хищался то какой-нибудь лужайкой, то маленьким доми-
ком! Так можно любить то, чего мы еще (или уже) не
имеем, а не то, что у нас есть. Значит, я не Анджелино...
Значит, нас двое... Но радостное чувство неги и отдыха
среди природы рассеивается по мере того, как исчезает
другой—человек будущего и я становлюсь одним
только Анджелино. Ничто привычное не вызывает
больше желания. Я знаком с глубинами бездны, ибо
прежде чем уйти от мира, я успел наглядеться на бес¬
цветное уродство привычки, успел изведать эфемерность
человеческих чувств; я узнал, что имя истинному богат¬
ству—п ервый раз; и что жить в раю—это в нем уме¬
реть.
Все, что можно еще сделать великого здесь на земле—
это красками подражать вещам .на белой стене или на
стекле, в самом сердце света.
На каменной радуге, что сверху до-низу прорезает
церковную стену, надо воспроизвести также и вторую
часть мистерии сынов Адама: то будет мистерия уходящих.
В круглой раме ночи занимается судорога зари. Восхо¬
дит солнце. Зачем? Что делать нам здесь на земле?..
Эти склоны, что падают к Эльхо меж двух нелюдимых
пустынь—между пустынями моря и дикого леса,—эти скло¬
ны—родина тех, кто скрывается; они—бегущий клочок
родины беглецов—гонимых и осужденных. Вчера я видел
нырявшую по крутой тропинке спину одного отлученного.
С быстротою камня неслась она вниз по откосу. В па¬
мяти моей она так и стоит до сих пор. Скажешь—обык-
76
АДАМОВО ТАИНСТВО.
новенная человеческая спина! В стеклянном капище—мире,
где все торжественные цвета раздроблены до-гола, в самом
низу можно будет увидеть спину человека..
И рядом зеленоватым опалом лежит на земле череп.
Это какой-нибудь отщепенец общества—узник, сожженный
по случаю большого празднества, мятежник или бесно¬
ватый, не сумевший уползти далеко и умерший на пере¬
крестке от заклятья колдуна или от голода, моля по¬
мощи у креста, как если бы его бог-фетиш был чело¬
веком. Посреди дороги стоит колода. Она шевелится
сучьями и выстукивает свой стрекот сверчка; это прока¬
женный. Во всем мире, кроме пыльной дороги, нет
у него никаких прав—ни даже права касаться земли бо¬
сыми ногами; а дальше спасаются чумные: они наносят
себе раны гвоздем, надеясь обманом избавиться от смерти,
которую носят в себе. Поодаль — круглая могила; это
быть может, останки казненного или солдата, или просто
честного человека, которого в один прекрасный вечер
засыпал землею более сильный и счастливый соперник.
Проклят тот, кто уходит,—и кто остается тоже проклят.
Где-то проходит граница. Ею очерчены линии дорог.
Она не имеет формы, она как бы мертвая, она ледяная
даже на солнце. Ее не видят, но знают и верят в нее,
вопреки всему. Ее нельзя нарисовать на картине, потому-
что ее не видно на земле, потому что у нее нет живой
формы, потому что она—рубец. В этом месте должно бы
разбиться стекло расписного окна. Здесь—Эльхо, там—
Рюламор *). Страдание в молнии безумия дает образ
блаженства, война рычит о мире, и ничто не давало мне
более ясного представления о сходстве, чем два склона
границы.
Вот, за пределам ночи смеется в бороду веселый
францисканец, человек из народа, шутник и растрепа.
Мимо проходит суровый монах из ордена великого ис¬
панца Доминика, пес господень, палач и судья. Он гово¬
рит, что идет из Рима—от престола земли—и что напра-
Ср. в главе IV—Рюламур—„Улица-Любовь". Rulamort др-
франц, авучит как „Улица-Смерть" (Kye-la-mort).
АДАМОВО ТАИНСТВО.
77
вляется в Сент-Бомскую обитель. Проходит нищий гор¬
боносый старик, юродивый (а перед ним, показывая ему
дорогу, семенит его палка); он идет, и тело его скрипит
всеми своими разбитыми суставами.
Трое рослых лесников, из которых у каждого слева на
груди красуется синий герб с желтой головою пса, по¬
являются неожиданно и смотрят по сторонам. Они го¬
ворят:
— Куда девался этот Дорилон, убивший фазана?
Белый туман встает на горизонте. Порыв ветра, мощ¬
ный, словно парус земли, доносит хриплый скрежет с цер¬
ковного двора, где грызут и терзают камень.
Я вижу также Одона, потом Клэрину, потом обоих
вместе. У него длинные волосы, светлые, как у нее. На
розовом фоне утра оба они кажутся голубоватыми. Видно,
что они друг друга любят.
И вижу я Генриха и Торизу; они прощаются, они друг
друга любят. Он ей говорит: „До завтра44. Он распола¬
гает будущим!
Они проходят. Их больше нет. Я спускаюсь к домам.
В комнате, темной, как дупло, на воткнутых в землю
неотесанных сучьях (сечется и разматывается белый шелк
бересты) поставлен стол. Рядом устроена заваленка, на
чем сидеть. И я вижу тяжелую пару закорузлых босых
ног с твердыми, точно копыта, ногтями: человек.
До сих пор день за днем, звено за звеном, он только
и делал, что трудился, ел и спал, чтобы снова трудиться.
Его судьба, как на ладони—от начала до конца. Он живет—
стоя, согнувшись, лежа—вот и все. Живет. От младенче¬
ства к старости он не идет, а падает.
Он работает, как дышет.У него ничего не остается: только
ненужность жизни!
Он подымает руки к небу. И он, как все другие, над¬
рывается, чтоб не умереть, чтобы продлить существование.
Он смотрит в себя, наблюдая жатву, которая до на¬
стоящей минуты разросталась (только до настоящей ми¬
нуты). Смотрит на младенца в своем гнезде. Он видит
кучу тряпья, заглушающую писк: дряхлая старуха, пре¬
старелое дерево,. с пересохшей мертвой вершиной, кото-
78 АДАМОВО ТАИНСТВО.
рое держится в жизни на скрипучем корне и всем пока¬
зывает, как плохо кончают живущие.
И, тем не менее, он хочет властвовать! В берлоге,
оспариваемой у земли, ветра и ночи, есть, как и везде,
сильнейший, и он побеждает остальных. Дети, старики и
женщина—рабы раба,—в особенности женщина, страда¬
лица боли и страдалица наслаждения; они рабы этого
человека, который—распахнув дверь хозяйским толчком,
заполняет собою жилище, орет, наводит страх. Закон
более сильного, повсеместный закон,закон холода врывается
в утробу лачуги. И лачуги ненавидят друг друга сквозь
стены. Злоба искажает лица соседей. Победить или быть
побежденным. Урвать клочок звериного счастья за счет
чужого страдания. Увы, только тогда и понятен мир, когда
знаешь, что люди наказуются за некий грех.
Трое лесников ворвались в лачугу:
— Ты убил фазана. Ступай, тебя повесят.
— Я его не убивал, сударь.
— Ты сам сознался.
— Фазан был дохлый.
— Ступай или пристукнем тебя на месте!
Что может против этой крепкой тройки — яркоцветной
и вооруженной, серая, безоружная семья в своем хлеву,
запертом на деревянный засов (и им одним крепка стена)?
И вот вся семья—кучка женщин и детей—окружив отца,
которого у них отымают, столпилась на затоптанном конце
поля за тюремной оградой.
Он был страшен дома. Но его отсутствие еще страш¬
нее. Женщины и дети стоят, как вкопанные и кровото¬
чащие столбы, и глядят на опустевшее место того, кто был
их опорой; они как будто стоят на ногах, но это только
кажется: сейчас они грохнутся на-земь.
*
* *
Выйти, искать простора в час, когда на земле насту¬
пает день.
На верхнем стекле, где в небо врезается крест, я по¬
кажу, что вечер есть тихая гроза, которая гнет человека и
давит. И некуда человеку укрыться.
АДАМОВО ТАИНСТВО.
79
Вот, собравшись у водоема, играют дети. Но появляется
горбоносый юродивый и нагоняет на них страх:
:— Вместе быть запрещено! Точно не знаете1
Да, они хорошо знают, что запрещено об’единяться.
Это команда, которую слышит человек с самого рожде¬
ния и которая провожает его до преддверий ада. Об’еди¬
няться, играть вместе, страдать вместе, вместе думать—
запрещено!
Почему? Нищей братье нельзя брататься. Бедняки
слишком бедны.
Несколько стариков пробирается по пустому месту
медленно, точно сквозь толпу; болезнью, которой имя „за¬
жились", из’едено у них все мясо на костях. Женщины
все до одной—-даже молодые—стали старыми и некраси¬
выми от непосильного труда и нужды. На некоторых из
них тяготеет грех любви. Низко опускают они голову,
как все, кого покинула великая радость, не оставив даже
слов утешения. Толпа их ненавидит, и печаль их превра¬
щается в позор.
Чуждаясь их или сталкиваясь с ними, идут другие
женщины, знавшие только непонятую любовь. И замуж¬
ние женщины, принесенные в жертву золоту или мужчине,
те, чье сердце разбито или растоптано. И всюду слы¬
шится „слишком поздно!".
Дорэ Молот говорит Дорэну Мотыке: — Жать будут
после Покрова.
Он > думает, что дни ему покорны! Здесь на
земле, на полях, помилованных войною, в жилищах,
спрятанных в горах от пиратов, мы можем только начи¬
нать! Дом заберется наверх и сползет в долину. Пашня
и пустыня — два плаща, поочередно покрывающие друг
друга...
С пригорка, где я сижу, мне видны все дороги Эльхо.
Они сбегаются и разбегаются, здесь пересекутся, там
оборвутся, дальше лягут петлей, жесткие, окаменелые по¬
лосы, обнаженные кости земли.
Длинные руки дорог тащут страну на белый двор но¬
вой церкви, затем швыряют ее в мировой простор, в ни¬
куда. По дорогам труд загребает людей, как война, и как
80
АДАМОВО ТАИНСТВО.
война отсылает их назад калеками. По дорогам уходит
нежность и приходит печаль.
Вокруг меня никого.
*
* *
Одон уходит.
Одон и Клэрина любили друг друга любовью, кото¬
рую все могли видеть, но никто не замечал. Они одни
знали о ней. У них обоих были строгие лица, бледные
от ожидания. Чтобы написать такие лица, надо самому
научиться радоваться, трепетать й бледнеть.
Пришли вооруженные люди и угнали Одона на войну; или,
вернее, он должен был в далеких краях строить вместе
с другими огромную церковь, беспорядочно воздвигаемую
в вечности.
Его Клэрина всегда жила замкнуто рабыней беспро¬
светного труда, вкладывавшей в вышивания все здо¬
ровье и свежую красоту. Однажды вышла она на порог
посмотреть на солнце и даже прошлась до колодца. Мимо
пронеслась кавалькада всадников. Клэрине было пятна¬
дцать лет. Солнце делало ее привлекательной для глаз.
В этом, говорят, скрывается причина, почему угнали Одона.
Две женщины припали к нему, когда узнали, что его
забирают. Мать его сказала: „Я его не пущу. Опять
хотят оторвать его от моего тела". И она вцепилась в
него, точно старая ревнивая любовница. Но все - таки,
когда пришли вооруженные люди, она его пустила. Мудрые
соседи разжали ее когти и уняли гнев женщины, говоря
на все голоса: „Надо покориться". Побежденная этой безд¬
ной премудрости, она покорилась. Покорилась и Клэрина.
Одон уходил по дороге, становясь все меньше и меньше.
Расстояние—это нечто плотное; это — орудие пытки, ко¬
торое человека сжимает. С каждым шагом удаление насиль¬
ственно стирает краски и гасит теплоту. На десятом шагу че¬
ловек становится маленькой неосязаемой вещицей. И лю¬
бовь уже становится тщетной, переходит в идолопоклон¬
ство. Те, чьи объятия разомкнулись, уже так далеки друг
от друга, что говорят лишь тихим шопотом. Одон пел на
дороге, чтобы Клэрина, оставшаяся у околицы, слышала
его и подольше провожала его душою. И слушала она,
АДАМОВО ТАИНСТВО.
81
пока не замер голос, и уже нельзя было понять, в какую
.сторону они ушли. Тогда Клэрина воскликнула: „Я буду
слышать тебя всегда1“.
Возращаясь, она сквозь рыдания твердила эти слова,
точно пела, и мало-по-малу они сложились в песню ожи¬
дания; в ту красивую песню, которая говорит, что дороги
всегда кончаются плохо.
Старуха мать с причитаниями тотчас принялась за ра¬
боту. Она пошла в хлев к ощенившейся собаке отобрать
у нее щенков. Но собака—та не позволила. Не нашлось
ни слов, ни криков, чтобы сломить непорочное сопротивле¬
ние животного, и старухе пришлось удалиться... Она кое-
что поняла теперь. Она сказала: „Анджелино, если бы все
матери были одной единой матерью"... Она не сумела
окончить свою мысль. Я видел, что она ошеломлена
открывшимся ей невероятным, безумным различием ме¬
жду каждой и всеми: все покоряются и позволяют, тогда
как каждая не хочет покориться. Но эти молнии вспы¬
хивают лишь по-одиночке беспомощным бредом истины.
На стекле, в саду света, резном, точно лист, по доли¬
нам душ постелю я сплетение сухих дорог.
Это все открылось мне потому, что сейчас зима. ’
Зимой лучше, чем летом видны те путы измятой и
мертвой земли, что режут на части тепло деревни и рас¬
сеивают его на все четыре стороны. На охладелых раз¬
валинах природы—на обнаженных или красных деревьях,
на седой земле—выступают явственней морщины, прове¬
денные бедствием и карой.
Но что я говорю! В стране, где красные мысы, огром¬
ные, как пирамиды Египта, купаются в синеве, где море
сверкающим гибким телом бьется вечно о те же пре¬
грады,—зима незаметна. Сосны становятся красными,
только, когда их убьют; черными бывают деревья только
если спалить их; снежные седины на полях это пепел.
Смотришь и видишь, что зима, но это зима придуманная,
созданная людьми, и приходит она скорее, чем божья;
а длится дольше.
Огнеметной заре я придам этот бледный блеск дорог,
по которым люди бегут от войны (сравнимой с грозою, ибо
А. Барбюсс.—Звенья. б
82
АДАМОВО ТАИНСТВО.
никто не знает, почему она разражается), бегут от пожа¬
ров, от голода, от мора, который убивает пчел на лету
и напитывает ядом целебные травы,—бегут, как бежали бы
на эти склоны от смерти и холода, упавших на землю
с мировых высот (какой беглец-исполин рисуется там на
склоне зимы!..).
У красок я отьпцу седину. Я сделаю стекло холодным,
как иней и снег, как зима, как стужа. И стужа, которая
леденит воду, также научит дрожать стекло. Они ушли
так далеко, что, если спросишь—куда?—купцы и стран¬
ники показывают на звезды. Это сильнее, чем думалось мне,
это прекрасней, чем я. В некий день я крикну во все¬
услышанье, что у толпы есть форма, и эта форма—бегство.
- „Где он?“
Сперва это только жалобный, бескрылый крик, кото¬
рый только примеряется к боли... Где он, где Генрих?
Ториза никнет и быстро стареет, и так печальна, что
у нее больше нет имени. И каждый вечер ложится в хо¬
лодную постель, и каждую ночь—увы,—видит его во сие!
Где он? Это знаю я.
Однажды я крался по свеже-вырытому подземелью.
Земля дрожала в своих недрах, как это бывает иногда,
и жестоко сотрясала склеп. Из свода вывалился камень
и с размаху всей тяжестью врезался в землю. Я увидел
лицо скелета, которому этот камень служил маской, уви¬
дел оскал зубов и столбик колец, на котором сидит го¬
лова Я его узнал по застывшей улыбке: Генрих. Туло¬
вище было пригнуто к своду—как будто казненный, кото¬
рый клонится и вот-вот упадет. Тому не много было времени:
дыра еще была залита красным, еще дымилась кровыо.
О» участвовал в работе по постройке нового замка.
А в глубине, под замком устроен погреб, куда можно
пробраться через кустарники и подземные ходы, и в ко¬
тором—благодаря какому-то колдовскому чуду строитель¬
ства—слышны все тайные речи. Шесть человек было взято
устроить и замаскировать этот погреб, куда просачи¬
ваются, точно подземные воды, голоса из коронной залы.
Генрих был в числе шестерых, и это он поведал мне
83
П И С b М Е Н А.
тайну (и стал бы моим убийцей, если бы о том узнали).
Ни один из шестерых не вернулся на свет дневной. Они
исчезли на другой день после того, как Генрих сказал
Торизе: „До завтра0.
Я различил шесть горбов, шесть дуг, образованных
согнутыми и замурованными телами несчастных. Вздер¬
нутые плечи того из них, которого я увидел нагим, каза¬
лось, поддерживали "тяжесть всех камней зданья, навалив¬
шегося сверху; они казались глубокой сваей, вечной ка¬
риатидой, которая всю жизнь и даже после смерти—несет
все построенное здесь, все блистательные грехи земли!
Генрих! Это был юноша с длинной шеей и ясными
глазами. Он и Ториза отчаянно любили друг друга и лю¬
бовь их никогда не знала мира. Ториза принадлежала не
к Эльхо, а к Рюламору, и потому над ними всегда висела
гроза. Им доставались подонки счастья. Порою ими овла¬
девало безумие. Однажды ночью, среди мрака, дождя и
грома, на дороге, где они проходили, я подслушал голос,
который глухо крикнул:
— Ты спросишь, Ториза, почему я назначил тебе сви¬
данье ночью в такуюгрозу? А потому, что я хотел, что¬
бы тебе было страшно и чтобы ты поняла безмерность
моей мечты.
Куда ведут они, двойные мечты, что мы зачинаем?
Зачинаем, но не кончаем. Нас всех всегда прерывают.
Для всех нас дни зарождаются, чтобы умереть, не родив¬
шись. Мы не доходим вместе до конца. Не видим, как
зреет колос или дитя. Иаш удел вырывают у нас до сроку.
И даже удачники кончают плохо.
Крест ничего не излечил. Твари живые страдают
вдали от бога. О, как же должен он страдать!
Письмена.
Маленькая столовая убрана после обеда; скинув по¬
кров беспорядка, она являет свой максимум уродства.
Бронзовая люстра, как фетиш, сосредоточила в себе
весь дурной вкус Франции; ковровая скатерть на столе
самого убогого красного цвета; на пепельницу падает
б*
84
АДАМОВО ТАИНСТВО.
стоймя столбик света, и моя рука часто тянется к ней с па¬
пироской... А по ту сторону стола мой дядя Рафар,
усевшись против меня, читает мне диссертацию о пре¬
словутых раскопках, которые он собирается предпринять
в нашей местности, и перечисляет все тщетные ходатай¬
ства, с которыми он в течение двадцати лет последова¬
тельно обращался по своему делу к сменявшим друг
друга министрам.
Старая, пережеванная, выжатая тема. Сколько бы ни вол¬
новался мой археолог, с изящным самообладанием лектора
на кафедре, сколько бы молний ни метал его глаз, похожих
на блеск перочинного ножика, — увы! его сетования, его
сарказм, которым он клеймит произвол правительства,
тупость общественного мнения и закоренелость рутины,—
все это весьма многословно—ибо он в совершенстве вла¬
деет искусством терять время на слова,—вызывают меня
только на непреодолимую зевоту. Он снял свое пэнснэ,
обнаружив два параллельных рубца, которые придают его
носу такой вид, словно этот нос прибит или пришит над
губами, занятыми сочетанием слогов.
Я его не слышу. Я вижу только, как темная тень
почтенного оратора последним художественным мазком
ложится на убийственно симметричный рисунок обоев:
острый нос и острые плечи, узкий лоб с капельками
света от стекол, которые он снова надел. Карикатурный
силует педагога—тахо и немо вытягивается и становится
огромным на унылой пестроте цветной бумаги.
* '
♦ *
Как ужасна эта пляшущая тень на белой стене.
На дворе в ночи слышен шум шагов. Потом зами¬
рает— как сердце. Дернули дверь. О, я не хочу, чтоб
вояхлЫ Дверь распахнулась и хлопнула. Кровь, у меня
отлила к груди. Вместе с ночным гостем врывается хохот
и гремит над моими утями. ’Грубый н шумный смех.
Грузная тень странника, вторгшегося в мою обитель, дви¬
жется по залитой светом стене. Благовест его прихода
оглашает воздух.
ПИСЬМЕНА.
85
— Клеман, мой друг!
... Я притушил очаг ослепительной пыли. Мы погрузи¬
лись в седину сумерек. Человек в широком плаще стоит
во весь рост у окна—(каменная дуга растет у него эа
плечами), а я оперся на стол, освещенный последними
белыми лучами дня. Так стоим мы оба в келье, где
тихий гул колокола срывает с вас человеческий облик.
И вот в глубине кладбища живых иноков зазвучали
рассказы, которыми переполнен этот жнец просторов.
Толкутся торопливые слова, вращая карусель приклю¬
чений.
— Просто чудо, как я остался жив, Клеман, друг мой.
Я попал в плен к язычникам-пиратам, но их тартана *)
потерпела крушение у диких берегов Нумидии, — близ
королевства Саба, где в воздухе стоит такой одуряющий
аромат, что жители, чтоб уберечься от головокружения,
жгут смолу и ожерелья из козлиного волоса—и меня при¬
вели на аркане к черному монарху, который, при виде
моей соблазнительной комплекции, оскалил зубы и выра¬
зил желание мною позавтракать. Меня спасло благосклон¬
ное вмешательство одной высокопоставленной дамы, чье
варварское имя не удержалось в моей памяти, но чьи
глазки были восхитительны, а сердце весьма чувстви¬
тельно к поэзии. Эта моя любезная заступница предло¬
жила взамен не больше не. меньше, как сделать меня
священным королем языческого острова, где землекопам—
я видел собственными глазами — помогают в их работах
огромные муравьи, величиной с собаку, и где плантации
коричневых деревьев охраняются летучими мышами.
Мы слушаем вдвоем раскатистое эхо этих и других
чудесных повествований, которые гений поэта-певца
быстро разукрашивает и пополняет в своем мозгу, прежде
чем вывести их на свет.
— Клеман, друг мой, среди них были одноногие люди!
И безглавые! И другие—у которых не было глаз на
голове, но зато было по одному глазу на каждом плече!
*) Одномачтовое судно,
86
АДАМОВО ТАИНСТВО.
Великая это штука—поверь мне, мэтр Клеман,—очутиться
под внимательнейшим наблюдением такого рода тварей.
И видел я животных, какие не фигурируют ни в едином
фолианте о лютых зверях и гадах, написанном по непо¬
средственному вдохновению божью учеными монахами,
никогда не выползавшими из своих монастырей. Фома
из Катемпрэ перечисляет, не правда ли, пятьдесят видов
червей, включая лягушек? Я же насчитал их семьдесят;
благодаря своей стойкости, а также удаче, я спасся от
единорога и дракона, столь же обычных в том краю, как лев,
который, убегая от преследования охотников, заметает хво¬
стом свои следы, или как гиена, окликающая пастухов по их
именам,—и спасся от еретиков-сарацинов, которые открыто
совершают в Испании грех чистоплотности и заставляют
добрых католиков обливать их в банях святой водою.
{И эти-то язычники через зловредные научные происки
оспаривают у наших святых врачевание болезней! И они
изобрели в дополнение к девяти цифрам цифру зефир *),
ничего ровно не обозначающую, что является верхом
ереси!). Мы долго скитались по морю, гонимые ветром,
который птица гриф—пернатое, огромное, как купол со¬
бора— взмахами крыльев насылала на наш корабль. Мы
прошли через страшное испытание, когда наш верный
кормщик прыгнул за борт, как некогда Мизэн, вожатый
в море богоугодного Энея, и был немедленно убит мор¬
ским епископом, который, по обычаю этих чудовищ, бла¬
гословил его перед тем как сржрать.
„Я один из всего экипажа избежал свирепствовавшей
чумы. В давние времена у меня был друг, сведущий в тра¬
вах, который лечил чуму, заранее вводя чумную заразу
в человека уколом иглы и таким образом награждая его,
как он объяснял, маленькой легкой чумою, которая пре¬
граждала доступ в тело чуме большой. Это лечение делало
чудеса в Арагонии, пока в один прекрасный день донос
одного мудрого и благочестивого цирюльника не выну¬
дил докторов признать его кощунственным, ибо оно пре¬
следовало целью ставить бога в противоречие с самим
*) Ноль.
87
П И СJ>M_EJ4 А.
собою. Итак, моего друга (который уже не был больше
моим другом) торжественно повесили, и даже сожгли —
чтобы не оставалось сомнения, что он действительно был
повешен. Все, что носило на себе отпечаток его еретиче¬
ских формул, было сожжено на костре, дабы столь свято¬
татственное открытие было надежным образом потеряно
для людей будущего".
Мелиодон, затронув научную тему, заговорил о фи¬
лософском камне, о философской воде первого разряда, о
второй, о третьей, о четвертой и о двадцатой философ¬
ской воде, о животворящей воде и о том составе, кото¬
рый исцеляет свиней, но убивает людей — в особенности
же черное духовенство, почему и дано ему имя „проти-
вомонах" (антимоний, сурьма).
В полусвете, скрестив руки, он кажется еще плотнее.
Он утверждает, уверяет, он клянется и божится. Он све¬
сил свою круглую голову. Он глухо говорит:
— В природе царит непостижимый хаос!
Но есть нечто, что неусыпно бодрствует над нами, вне¬
дряется и в конце концов вытесняет все остальное: те
огненные буквы, что горели на стене, когда он вошел
в мой рабочий приют в сердце монастыря. Он не может
о них не думать, и поневоле заговаривает о них:
— Я видел ваше Манэ, Тэкел, Фарэс.
Сладость дружбы проникает и в келью, где я столько
трудился среди бесконечных мертвых предметов: Пифаго¬
ровых чисел и Эвклидовых линий.
Мое творение созрело и сроки свершились, и я хочу
рассказать все моему другу. С трепетом принимаю я свое
решение. На его щедрые повествования о похождениях я
отвечу иной чудесной повестью — о подвиге духа.
... Я колеблюсь, робея перед произнесением первого
слова.
— Не природа хаотична, Мелиодон, а хаотичен образ
ее, который мы себе рисуем... Смотри: сочетание зеркал
стократ увеличивает силу человеческого глаза, и этот
глаз пытливо проникает вглубь живой природы. Он даже
улавливает самые атомы жизни. А другие приборы, оду¬
шевленные лучеиспусканием, которое я открыл, и могу
88
АДАМОВО ТАИНСТВО.
объяснить вам (и которое с сотворения мира ждет чело¬
века), в увеличенном виде воспроизводят эти атомы перед
нашими взорами и чертят на девственном столе то, что
вам кажется магическими письменами. Здесь-то и откры¬
вается различие между материей, предназначенной для
жизни, и материей косной. Жизнь движется в самой глу¬
бине каждой нашей частицы. Итак, я начал отделять от
вымысла естествознание, чтобы вложить его во все сущее
и восстановить здание самой природы, исключая из нее
беспорядок, суеверие и ошибку.
Ювелир слова, путешественник, еще озаренный отсве¬
том цветных островов, внимательно слушает мое разобла¬
чение.
— Так! — говорит он. — Различается леканомантия,
церомантия и гкапномантия... Знаю, как же! ведь я не
какой-нибудь невежда. Я знаю, что вы работаете над
врачеванием тела, а также над наукой о стеклах, зерка¬
лах и водных сферах; я знаю, что вы открыли тайну
прозрачности, Клеман, друг мой, и что ум ваш безмерно
богат.
Движимый горячей любовью, я воскликнул:
— Тут нет никакой кабаллистики.
Я загораюсь желанием убедить этого человека с от¬
крытым лицом и открытой душою, который тяжело под¬
скакивает при каждом новом для него слове. Он—избран¬
ный среди всех.
— Вся природа — от атома до звезды — подчинена
точным законам—законам света. Содержание науки зави¬
сит от смелости искателей; но это содержание остается
всегда неизменным. Наука не создает действительности,
а находит ее там, где она есть и такой, какова она есть,
вопреки видимости. Чтобы ее открыть, нужен опыт, ко¬
торый сочетал бы внешнее с внутренним, разум с вещью.
„ ... В это упорное и планомерное исследование не
входи? ни одного случайного элемента. Сколько ни рас¬
сматривай прибор, ничего в нем не найдешь, кроме зер¬
кальной прозрачности объективов, и строго учтенного
движения колес. Сколько ни вслушивайся в него, ничего
не услышишь, кроме простого и чистого дыхания простой
ПИСЬМЕНА.
89
лампочки. Все делает только свет. Теоретическая истина
здесь согласуется с реальностью, потому что она из
реальности родилась. Творить — это значит воссоздавать
природу сначала и упорядочить в мысли эту вселенную,
которой части не понимают друг друга".
Таковы были слова, которыми я начал в этот вечер
свое изложение. Я говорил матерински покровитель¬
ственно в этой келье, где до сих пор я только размыш¬
лял со сжатыми губами, погруженный в упорное молча¬
ние. (Белые и черные иноки, которых я видел мельком,
когда они проходили точно вереница колонн или ряд ки¬
парисов, разговаривали больше, чем я!).
Грузное туловище человека выступает из полусвета
стены и подходит ко мне.
Сейчас он мне протянет руки, скажет мне: да! и за¬
смеется от радости...
Передо мною упрямый призрак, в которого я вкола¬
чиваю новые слова; он задвигался, качнулся и пролаял:
— Колдовство!
— Истина написана, — восклицает он.—В книгах, при
свете синайских молний, положений Аристотеля и двух
факелов святого Августина — любви и прощения — на¬
всегда установлен итог человеческих знаний. Summam col-
legi, как сказал итальянский монах. Я сам видел его,
этого блаженного учителя: иноки сидели в ряд, и кто-то
позвал — Фома! — и он поднял голову. Ему лет три¬
дцать с небольшим, и голос у него тих. Это редкостная
птица христианского мира- гага avis numido sirnillima
cycno . . . *)
— Кто разовьет учение Эвклида,—воскликнул я,—тот
в смене времен больше всех уподобится Эвклиду. Мы
не должны делать кумира из вещей сотворенных; боже¬
ственно самое творчество.
— Ха-ха, мой добрый Клеман, вот вы какой у нас
маг! Наука спесива, говорит апостол, и надо — советует
другой—удерживать тщеславный дух человеческий в веч¬
ном младенчестве.
*) Редкая птица, больше всего похожая на нумидийского лебедя.
90
АДАМОВО ТАИНСТВО.
— Человеческий дух, о Мелиодон, есть вторая сто¬
рона вещей, великое отражение существующего. Разум
есть внутреннее послушание, но послушание самодер¬
жавное, которое подчиняется только всеобъемлющему.
Разум ничего не изобретает. Он воспринимает мир, не
меняя в нем ничего.
— Но ведь истина не то, что мы видим сразу, как
только подымем веки. Чувственная видимость это хаос;
а разум это порядок. Таким образом, один человече¬
ский элемент идет против другого; мысль против вещей.
Тут он выпучил глаза на смутное зрелище чего-то
огромного, как будто начиная наконец понимать то, что
я говорю.
— Вы хотите противопоставить ортодоксальному некое
собственное самодовлеющее знание1 Вы хотите создать
в творении другое творение. Вы хотите сотворить — как
если бы вы были богом—мир внутренний!
— Да, воистину, это так!
Но человек из человеков затрепетал и воскликнул:—
Остерегитесь!
— Века и века—я знаю, я не какой-нибудь невежда—
было разногласие, спор и смешение языков.
Он вспоминает, тормошит, перечисляет по пальцам
знаменитые диспуты, соборы и ереси, и опять соборы,
и приговоры парламентов, королей и пап.
— Теперь над разыгравшимся хаосом встает надежной
стеною наш тринадцатый век. Цифра XIII есть грань ве¬
ков. Правда, то же самое люди говорили о своей цифре и
в XII веке; и, вероятно, тоже говорили и в одиннадцатом.
Но, стало быть, они не знали, что говорили.
— Нами не окончилась вся наука.
— Нет, она окончилось нами.
*
* *
Бой часов покрывает слова.
Эти мерные удары подымают меня из бездны, где воз¬
никало великое начинание.
Меня окружает другое жужжание, совсем близкое; над
головою висит безобразное кольцо столовой люстры.
91
ПИСЬМЕ ИА.
— Восемь часов вечера! Поздновато! — объявляет
м-ье Рафар.
Он подхватывает нить своей диссертации, чтобы бла¬
гополучно ее заключить в виду позднего часа.
Я смутно припоминаю, что слышал только что его
нескончаемые рассуждения о сложности разрешения со¬
временных социальных проблем.
— Да, Клеман, дорогой мой племянник: варвары, вот
кто мы такие!.. Каждый за себя — и индивидуумы, и
страны. Государство само по себе, а общество—это не¬
лепая постройка, у которой нет ничего, кроме крыши. Суеве¬
рие, тупость. От первейших эпох, входящих в наш исто¬
рический кругозор, вплоть до современного строя, который
принято среди привилегированных называть цивилиза¬
цией, в обществе царит установленный беспорядок...
Он обматывает свое кашнэ вокруг шеи, подымается и
сокрушенно вздыхает:
— Человечество представляет собою странный хаос.
— Нет, не человечество представляет собою хаос...
Эту фразу я произнес невольно, просто из подража¬
ния; мои глаза были прикованы к смутному и кошмар¬
ному видению...
— Не люди, дядюшка, а то, что из них сделали. Вот
этот самый „установленный беспорядок", как вы сейчас
выразились. Не следует ли, дядюшка, одним махом свести
на нет наше неудачно - сооруженное социальное здание,
пойти напролом против общего суеверия и тупости и
приняться наново строить общину не с крыши, а с фун¬
дамента, и каждого поставить на его подобающее место,
согласно законам здравого смысла?
... Туловище, отделившись от стены, замахало на меня
руками:
— Химера, утопия, безумие! Клеман, дорогой мой пле¬
мянник!
Во сне ли это или на яву? Я стою с затаенной дрожью
и, кажется мне, машинально улыбаюсь и делаю привыч-*
ные движения. Но это великий миг гармонии и простоты.
Я вижу и слышу старого господина, побелевшего—
точно покрытый бумагой скелет — который провозгла¬
92
АДАМОВО ТАИНСТВО.
шает, что у великих государственных деятелей, и у ве¬
ликих экономистов, слава богу, было достаточно времени,
чтобы все обдумать и передумать; который утверждает,
что XX век—он пальцем чертит в воздухе два икса—есть
грань веков; который бранит социальных магов.
— Ха, ха, Клеман, тоже говорят: может быть, когда-
нибудь будет сделано то, что никогда раньше не делалось...
Говорят: сотрем границы и сорганизуем мир в единое це¬
лое. А иные говорят: народы перестанут грызться между
собой!..
Несколько в стороне—в пропасти—человек в той же
позе, тем же голосом верещит:
— Ха, ха, Клеман, тоже говорят: может-быть, когда-ни¬
будь будет сделано то, что никогда раньше не делалось.
Говорят: будут видеть свет сквозь стену, будут перего¬
вариваться из разных стран, будут ночью освещать города
одним нажимом пальца. Говорят, что люди будут ездить
по морям и дорогам на кораблях без парусов и в телегах
без лошадей. А иные говорят, что среди туч будут плыть
челноки!
Оба раскатисто смеются. Их два лица — размягшие,
сплющившиеся, точно тесто, когда его месят, расплыва¬
ются концентрическими кругами. Они смеются от всей
полноты своего настоящего! Один со своим ХХ-м веком,
другой со своим ХШ-м, они оба стоят в середине своих
эпох.
Они проникают друг друга в фантасмагории смеше¬
ния и подобия. Они—одно и то же, и я съеживаюсь перед
их огромностью, слишком близкой.
Я не сдаюсь! Я упорно сопротивляюсь...
Вот они меняются. Становятся злыми. Злоба искажает
их лица, придавая им какое-то фамильное сходство. Ши¬
пят угрозы. Они—множество, они—весь мир1
„Привести в порядок природу, привести в порядок
общество! Довести идею до конца, восстать против авто¬
ритета и традиции! Что же это? Ад, колдовство, политика!“
Он говорит мне совсем вблизи, согнувшись крюком.
— Я ничего не понял из того, что вы сказали. Готов
поклясться своим спасением, что я не понял ни единого
93
слова—а ведь я человек, как все другие; слава богу. Как
ни страшно это звучит, я должен сказать: вы человек дру¬
гого времени. Не даром люди повторяют: Клеман Нурри
живет как будто бы с нами, но в действительности это
не так. Остерегитесь!
- Падает бой колокола, падает с неба, точно метеоры,
точно тот конец громового раската, и этот жесткий сев
пробивается сквозь все; сквозь наши кости, расшатан¬
ные, как руда, сквозь стены, что движутся в гуще мрака.
Это заговорил крест—крест, написанный черным на огнен¬
ных знаменах облаков, над каменными горами: истина
преходящая; истина металла, могил и письмен. В ухо и
в голову ударяет, точно камни, прерывистый голос церкви,
односложные удары колокола. И череп, где качается мяг¬
кая мысль—он тоже колокол.
Голова моя гудит, в то время как ноги пробегают
темную лестницу провинциального домика и доводят до
двери крохотную тень, издерганную и неуклюже завер¬
нутую в клеенчатый макентош.
VII.
ПРИЧИНА.
Никто не замечает раздвоения моей жизни. Никто не
видит, как я возвращаюсь из прошлого. Для других
я всегда только я. И я устал.
В этот вечер я ушел в свою комнату, которая всем
своим тощим телом трясется под натиском ветра, и сжал
виски кулаками. Глаза мои уставились на колоду старин¬
ных карт, которую я выискал в одной аликанской лав-
ченкё. Когда карты разложены, их стертые и грубые
образы приобретают новое значение.
В косом ряду карт, наполовину прикрывающих одна дру¬
гую, легли четыре короля. Они следят за мною, строгие,
прямоугольные; в великолепии своих национальных цветов,
возникающих над муравейниками городов, прячутся они за
ограду имен, выгравированных сбоку: Давид, Александр,
Цезарь, Карл.
Архаические краски этих двухцветных мантий (черный
цвет магии, красный цвет вина) определяют ту эпоху,
которая захлестнула меня. Но мало того. Они рушат то
огромное нечто, вокруг чего я вращаюсь: личность.
... Он опять идет, по храму музея—князь Зирпурлы;
древний камень, покрытый, невидимыми письменами, вывел
его из оцепенения.
Я склоняюсь над четырьмя королями; вхожу на мгно¬
венье в одного из нйх, в его дыхание и в шорох его
крови, и в такое мгновенье я верю, что и на моей голове,
как солнце, вращается корона.
Я вынужден сделать над собою усилие, чтобы остаться
здесь, в моем тронном зале. Я, Эгберт, суверенный барон
Эльхо, хочу остаться здесь, хочу шагать в одиночестве
по каменным плитам. Мне так угодно!
ПРИЧИНА.
95
Мне угодно подойти к окну (но не наклоняясь, чтобы
не напороться животом на острие решетки) и смотреть,
как копошится внизу, на дне двора, моя стража. Поло¬
сатые костюмы напоминают раскраской дорожные столбы.
Мне угодно выбрать для наблюдения какую-нибудь из
моих человеческих пешек или же созерцать какой-нибудь
угол или грань моих пирамидальных башен.
Кто может итти от свершения к свершению?
Я!
Я стою во весь рост над раздавленной толпою. Те,
кто разделили меж собою всю власть и всю землю, как
плащ, и вершат в жизни предназначенный им великий
человеческий удел—я из их числа!
Итак, я король? О, чудо! Я двину пальцем, нахмурю
лоб, позабавлюсь навернувшимся на язык словечком—
и все меняется. Я походя кошу ряды людей, убиваю низ¬
шие карты одним своим появлением. Кто смеет мне со¬
противляться? Хо-хо! А видели зрелище моего гнева? На
азиатских камнях выбит мой крик; „Я, вождь вождей,
держу народы за горло! “.
Много тайн храню я под куполом черепа своего,—но
разве я знаю предел, до какого простираются над людьми
мои державные крылья! Вот я слагаю себя по частям:
я король. Я есмь я и множество других властителей.
В моем мозгу я затаил заветную мечту: О, если бы
у всех мужчин в моем королевстве была одна голова,
чтобы срубить ее одним ударом! если бы у всех женщин
был один живот, чтобы покрыть его моим... Эти вереницы
детей и чистых рабынь, что проходили через мое ложе,
когда я был преисполнен зла, эти свежие тела, которыми
целил я свои болезни... Скажи мне, Нерон, мой прадед, не
правда ли: ведь каждое сладкое тело, новой тяжестью
ложившееся на твою зачумленную цезарскую кровать,
приносило с собою струю девственного воздуха, и в раз¬
двинутый занавес алькова заглядывало синее небо и белый
фронтон или завиток ростральной колонны?
На пиру, который я задал по случаю рождения на¬
следника, все гости под конец перепились. Толстяк с лос¬
нящейся круглой рожей сказал:
96
ПРИЧИНА.
— Я выпью море.
— Я спалю землю,—проревел капитан.
А хилый юнец, с мутными глазамй и зеленым лицом,
хворый, развинченный и кривобокий (было видно все его
душевное убожество), заволновался:
— Я... я буду душить!
Так открывали они свои сердца в отрыжке своих
мечтаний.
И были люди, которые приводили в исполнение все
свои пьяные прихоти.
Были дворцы вавилонские, египетские, персидские—
всех не охватит глаз. Чуждые народу, отделенные от
него стеною, сменялись и сменялись цари—те, что пошли
от Артаксеркса Долгорукого, от Дария Кодомана, от
Птоломея Филадельфа, и все—за своими стенами—ко¬
пили и нагромождали и создавали вещи,—слишком много
царей, слишком много вещей, слишком много садов, где
вместо листьев горят на ветвях изумруды. Тучные травы,
грозди яхонтов, левкой из нефрита, сердцевины рубинов,
твердая вода, которая тает в чашах и превращается в свет.
Серебряные и золотые крыши, золотые деревья в залах
каирского дворца и на их ветвях качаются золотые птицы.
А под дворцами пещеры сокровищ, такие большие, что
если задумаешь обозреть их все до конца/ то умрешь
от голода.
В день, когда посредине пиршества им вколотят моло¬
том в лоб их собственные вырванные зубы и выколют
им глаза (глаза, раздавленные зрелищем удушения их род¬
ных детей), в день, когда нож искрошит их по косточ¬
кам,—мои глаза заплачут слезами радости, мои руки за¬
плещут над троном, точно белые цветы, и легок будет
мой сон.
В казнях своих я подражал чудовищным карам древ¬
них. Сочная, мягкая, нежная йзвесть... На растущих сте¬
нах слагаются в надписи буквы позвонков. Несметными
толпами кидал я рабов в жерло вулкана!
За одну ночь перекрасил я холм—подобно тому, как
секиры Карла Великого залили пурпуром воды Алльера.
Что значит—„реки, красные от крови?" "Пустая присказка,
97
ПРИЧИНА.
годная лишь на то, чтоб запугивать детей. Ибо короли
говорят: „Мы1“.
Я смеялся смехом Вильгельма Безродного, который
издевался над своими врагами, заставляя их смотреть на
изувеченных пленников с выколотыми глазами и отрезан¬
ными носами, ушами и пальцами. Тошнота подымается
во мне при воспоминании об одном из этих калек, кото¬
рый, ковыляя и спотыкаясь, подошел ко мне и повалился
на меня теплым, уродливым трупом. Когда я просыпаюсь
среди ночи, мне всегда чудится рядом со мной Ангус
Златоволосый: он бросает дротик через головы врагоз,
выражая этим, что от побежденных ничего не останется,
йто все их войско поголовно будет предано Одину, князю
Виселиц, и ввергнуто в Валгаллу, Чертог Удавленников,
где на их полуживых телах будут кинжалом начерчены
могильные надписи.
И еще—осада Самарканда. Когда город пал, победи¬
тели торжественно перерезали горло сперва построенным
в . ряд ста сорока тысячам его защитников, а затем по¬
корному стаду мирных жителей—‘стаду в четыреста тысяч
‘голов. Тяжелый это был подвиг! Под конец мягкие шеи
должны были ‘ казаться палачам свинцовыми. А когда
Дэли, город солнца, был до Основания разрушен всад¬
никами (так ночь гасит зарю), когда кровь ста ты¬
сячи пленников насытила жажду железа,— я познал не¬
истовство радости: три горы человечьих голов, по три¬
дцать тысяч в каждой—на страх Багдаду. Хе-хе! Он ска¬
зал: „Я спалю землю!". Обещание почти исполнено. И бу¬
дет исполнено до конца королями грядущего—теми, что
будут злей других и лучше вооружены.
Итак, были в людском месиве люди, которые явля¬
лись самими собою; люди, перед которыми все стелилось
прахом, которые взглядом порождали чудовищную драму.
Наедине с собо$, зачарованный, я повторяю слова:
„Кадэзиех". Величайшее из имен. Были в мире две ве¬
ликих державы, персидская и греческая. Бедные арабские
кочевники сказали: „Не попробовать ли нам завоевать
их?“. И они объединили свои силы и двинулись по бес¬
плодным пескам. Проходя, они покоряли страны и pac-
д. Барбюсс.—Звенья. 7
98
ПРИЧИНА.
пространялись по земле. Кадэзиех, самое грозное из имен,
носимых странами, битва из битв. Четыре дня длилась
она и затмила все самые громкие битвы прошлого: Ве¬
ликая битва при Кодшу была ли так многолюдна и так
смертоносна? Нет! А Марафон? а Граник?—нет! А Ката¬
лонские поля, где сметено было полмира, а Суассон, где
был раздавлен последний обломок римского могущества:
Сиагрий? — Нет, и они не сравняются с Кадэзйехом. Но
Карл Мартел, крепколобый северный богатырь, в сраже¬
нии при Пуатье дал отпор победному шествию арабской
культуры. Значит, первенство осталось за франками? Кто
же величайший... Я хочу отметить его лицо.
Я мечусь, как больной, когда думаю (так они были
ужасны) о двух великих встречах народа с народом, что
совершились волею двух вождей на высоких рав¬
нинах Сербии; когда при Коссове^ король Лазарь был
побежден и обезглавлен в шатре Мурада, тогда могуще¬
ство славян рассеялось (на долго ли?), и открылись тра¬
вницы Восточной Империи. И на том же месте—на Сквор¬
цовом Поле—турки в два дня (а было это на светлой
неделе) раздавили остатки сербов, пиндских албанцев и
дунайских венгров.
Не сравнятся другие битвы с этими битвами—ни
Гастингс, ни Урик, ни Баннокберн. «И каждая из них отда¬
вала целое королевство в руки единой личности. Но на
границах не унимались битвы (у каждой битвы два лица—
одно светлое, другое темное)—не прекращались они никогда
ни, у римских застав, ни у китайской стены. Прихотливой
пляской или пенным прибоем то набегут, то вновь отсту¬
пят границы Лотарингии, сожмется и расправится тело
Фландрии, а дальше в таинственном и величавом ритме
скитается с места на место столица древней Армении,
любимицы событий и веков: священная Нахичевань, дщерь
Ноя и матерь городов; затем Армавир, чьи дубы шепчут
прорицания; потом, у подножия Арарата, на полудуги
между двумя первыми, по начертанию Ганнибала возникла
на страх Риму крепкостенная Артаксата. Дотом блуждаю¬
щая столица прикочевала к Тиграноцерту Армянскому,
чтобы отсюда нести войну в поля Месопотамии, Потом
ПРИЧИНА.
99
был Низиб; после Низиба—Эдес; а потом настала эпоха,
когда Гаиканы, теснимые к северу, были вынуждены пере¬
нести свою столицу туда, где она находилась с самого
начала. Нет на земле зодчего, который достоин был бы
носить имя собственное.
*
* *
Смерть кладет конец всему. Что ж! Хорошо, когда
умирают другие: когда Каракалла умертвил своего брата
Гету на груди их родной матери, он одним ударом удвоил
свою власть... Но моя собственная смерть! Меня погребут,
зароют в землю. Нет, эта мысль непостижима для моего
королевского ума.
Иногда, на одно мгновение, я забываю про смерть. Но
когда картина разложения опять встает в моем мозгу, я
холодею от ужаса! Сегодня я король из королей, потому
что я есмь я, и потому что это сегодня; потому что я
повелеваю, потому что некая сила, которая выше воли
моей, поставила меня в средоточии мира.
Я окидываю взором беспредельную равнину, по которой
расползаются черные дорожки муравьев. Я стою над нею
во весь .рост—во всю высоту моей башни. (Ибо таков
мой подлинный рост). Стою большой, вровень моим вла¬
дениям. Моя стопа покрывает вею мою вотчину, до самого
моря,—хоть я и вижу эти обыкновенные сапоги с длин¬
ными загнутыми носами, выступающими у меня из-под
черной суконной епанчи—как если бы был я самым зауряд¬
ным человеком,, кем-нибудь из моих вассалов—хе-хе!
Икота приводит меня в себя. Я—Эгберт Великолеп¬
ный. Я отгоняю прочь все мысли о смерти. Вхожу в залу,
где всюду—и сверху и снизу—красуются золотые песьи
головы на лазоревом поле. А то белое, что мелькает все
время перед моими глазами—это моя рука, забинтованная
в виду моей болезни.
Эта Клэрина... ей богу, какой у ней нежный живот! Она
задрожала всем своим маленьким тельцем, когда в глубине
черной мраморной залы вдруг увидела, кто я такой, и
поняла; что должна сейчас разделить со мною постель.
<КбГда мое мужество меня тяготит, я спускаюсь по
лестнице .темной, точно колодезь, спускаюсь до самого
' 7*
100
ПРИЧИНА.
дна, держась за большие гранитные выступы. Зал, где их
держат для меня, представляет собою яму, вырытую в виде
воронки,—как нора муравьиного льва (или как преслову¬
тая великая спираль ада, засасывающая грешников в огнен¬
ный омут), так что идущего втягивает на дно, а если спу¬
скаются двое, то их кидает друг ко другу. Многие, как
поймут, в чем дело, вешают нос (иной раз мокрый от слез),
уже не прячут дрожащую чашу своего тела и покорно
ложатся, закрывая лицо руками.
Каждый раз там ждет меня новая. Теперь, когда с Кла¬
риной покончено, я там томлю другую, чью дрожь я еще
не изведал. И когда мне будет угодно, я пойду и общипаю
перышки этой маленькой птичке и радостно нанесу ей
первую рану.
Но сейчас тело мое разбито ленью. Девочка долго
мерзла в яме. При моем появлении, она опустилась на
колени и сложила руки—наверно, в знак обожания. Я обна¬
жил перед нею мое царственное тело... Чорт возьми, какой
у нее сладкий живот,* а грудь упругая, точно щека! Она
подладилась не только к моему телу, но даже к моим
тайным мыслям, в течение тех нескольких мгновений, когда
на нее обрушилась моя любовь. Она была так покорна,
так внимательна, что мне пришлось выгнать ее вон (она,
конечно, хотела просить меня за какого-нибудь своего
дружка—а этого я не признаю).
Очень медленно и осмотрительно подымался я наверх,
ощущая в себе пустоту. Кровь молотом била в виски.
Теперь мне подводит живот от бешеного голода;
я хочу проглотить деревни.
У ног моих, в дьявольском горниле далей (расстояние
есть орудие пытки) я вижу седеющую зелень полей: мое
поместье, мое королевство, принадлежащее мне, у кото¬
рого много есть вассалов, и который сам никому не вас¬
сал; кусок земной коры, которую мы, немногие, разделили
между собой.
Я вику сеть моих дорог, где проходят мои солдаты,
мошки, блистающие лезвиями своих мечей. Мой ровый
отряд набран из коренастых, коротконогих фламандцев,
с тремя красными шишками вместо носа на красном, лоевд-
ПРИЧИНА.
101
щемся лице, и из длинных, чумазых испанцев, черных от
худобы. Когда ко мне привели этот отряд, я, пользуясь
своим правом думать вслух, громко сказал: „Ха-ха, ну и
уроды! Эти уроды составляют мою прекрасную армию—
ибо армия это не люди, а вещь.
По дорогам золото стекается в мои сундуки, по доро¬
гам движется моя сила. Дорогами я держу людей. Белый
двор церкви полоской пены стелется вдали. Люди бес¬
нуются, как одержимые. Их много туда намело, точно
мусор с дорог. В полях—мужики и бабы; некоторые стоят,
но- большинство сидят на корточках или ползут на четве¬
реньках. Как они выдерживают так долго на солнцепеке?
Для этого надо быть толстокожими животными. Их обла-
гороживает только мое имя, написанное у них на ошей¬
никах.
Что бы они сказали, если бы я вдруг пошел вот по
той дороге и предстал пред ними — я, Эгберт, суве-
• ренный властитель Эльхо? Они упали бы на колени; они
задрожали бы, как листья. И так же задрожат мои страж¬
ники, если я не поленюсь спуститься вниз в караульную»
и огненной молнией явлюсь среди этих бездельников.
Мне достаточно только появиться. Я чудо. Своим по¬
явлением я превращаю всех встречных в червей, кото¬
рые ползут у ног моих и молят о пощаде.
Имя мое я велю написать на большом стекле, что
столбом холодного пламени прорезает стену нового храма.
Я мое имя велю написать раскаленным клинком на
шкуре того бессовестного чернокнижника, который умер
у меня, не выдержав пытки: он не сумел доказать на со¬
боре, что я веду свой род от римских императоров. Мой
гнев был так справедлив, что, хотя этот дармоед был при¬
четчиком, ни епископ, ни легат не выразили протеста.
Я отворачиваюсь от окна к темному ряду зал.
, Вхожу в залу, расписанную золотыми песьими голо¬
вами на лазоревом поле. Опускаю глаза. Вижу свои сукон¬
ные башмаки с длинными мягкими серыми носами, загну¬
тыми выше подола моего черного платья. При ходьбе эти
носы опускаются и шлепают по плитам. А задними воло¬
чится по полу мой сын.
102
П РИЧИ Н А.
У меня благородная осанка. Но мой ребенок слаб и
тщедушен, и когда я остаюсь один, и никто не видит
моих мыслей, я думаю о его хворости. Мой сын, мой на¬
следник—тяжелый, вялый и угрюмый мальчик; скелет у
него, должно быть, свинцовый, а душа больная и отрав¬
ленная. У мальчика зеленая кожа, большие глаза и стар¬
ческие кости; руки рыхлые, точно тесто, лицо мятое—
точно не лицо, а ухо, череп вытянут, как мешок. Когда
я улыбаюсь ему, бн пугается. Но я знаю, чтб он любит.
Я открываю сундук и сажаю мальчика на кучу золота, и
он, скрючившись, копается в ней. Не, ребенок, а какая-то
ношь1 Вошь!
А для себя я подымаю крышку другого сундука. Я
наклоняюсь, ухожу в него головой, прижимаюсь лбом к
золотым монетам. Ноги у меня вытянуты, удлиненные
укном ступни пригнуты к полу, а глаз забрызган зо¬
лотом. Этот блеск золота прекрасен всем, что есть пре¬
красного на земле.
Но вот мне ударил в голову запах, животный
запах, запах мести. Я хочу видеть, что делает он.
Я подымаю завесу, оживленную гирляндой песьих голов.
Удерживая смех, я заглядываю одним глазом в узкий,
плохо освещенный покой. В маленькой клетке,' сжи¬
мающей ее всеми- своими шестью решетками, скор¬
чилась большая обезьяна. Не обезьяна, — это Готье
Прекрасный, родственник . гордых Куртенэ ч и Ласкари!
Четыре года он сидит в этой тесной клетке; он дурно
пахнет и оброс шерстью. Он играет шаром, перекатывая
его с руки на руку и поднося к глазам: череп красотки
Мелизинды, которая была моей женой" и его любов¬
ницей. Однажды я застиг их вдвоем: они держались
за руки и улыбались друг другу. С моим изумительным
даром притворства, я сделал вид, точно ничего не заме¬
тил. Готье в ту же ночь, был посажен в свою клетку,
которая стала с тех пор моим сокровищем; Мелизинда—
в ту же ночь — своей журчащей кровью наполнила чан,
в котором купалась, а свежая ее голова была передана
' в руки любовника в клетке, чтоб он мог смотреть на нее
до KOgya—и после конца.
_ ПРИЧИНА. юз
Некогда белая голова стала черной и липкой от ласк
косматого, смердящего чудовища. Кожа отвалилась от
этой чумной игрушки, и круглая кость в свою очередь
загрязнилась и почернела.
Странно мне думать: я—господин над господами, и все
что я делаю—хорошо. Странно думать: это кресло—трон!
Когда я подношу к лицу свою забинтованную из-за бо¬
лезни руку, я любуюсь этой рукой властителя, над кото¬
рым нет сюзерена, кроме бога; я всегда прекрасен, я
более чем прекрасен!
Я склоняюсь над пропастью, и взгляд мой покидает
огромные изгибы бойниц. Я—вознесенная на пьянящую
высоту голова этого замка, остов которого, тяжестью
своею способный задавить ад, простирается вниз до моих
необъятных ног.
Эту навеки вросшую стену, эту белую, как утро, цер¬
ковь на горизонте—все это сделал я. Я говорил, как го¬
ворит король. Я сказал: „чтобы мне был построен боль¬
шой замок с красивою церковью*4. И толпа бросилась в ра¬
боту и воздвигла замок и церковь от земли до самого
неба. Отдельный человек—ничто, даже если он исходит
кровавым потом. То, что делает каждый, незаметно,—но
знаю: настанет день и воля моя будет исполнена.
Своими руками они создают меня. Этот замок—вели¬
колепное и радостное творение рабочих, работавших с го¬
речью, и даже хуже—без радости. И радость, неведомая
им, она во мне, необъятная. Они—все и ничто. Их много,
у них есть тело, шкура, кровь, печень—все... И на ле¬
сах, на самой вышке, вся их орущая орава остается мною—
Эгфертом, владетельным бароцом Эльхо.
Иногда, когда бушует гроза, и сплетаются молнии, и
ветер наполняет меня всего, мне хочется признаться во-
всеуслышанье: на ваших плечах, над вами всеми—моя
огромная безглавая корона.
И когда я с согнутой, точно виселица, спиною стою
и гляжу на подножие башни, что книзу сжимается ^юд
взглядом короля,—я хвалю себя за свою мудрость: это
ведь там (я пальцем указываю место) велел я замуровать
шестерых рабочих, шестерых негодяев, знавших тайну
подземелья. Нужно было предупредить разглашение столь
104
ПРИЧИНА,
важной государственной тайны, помогавшей держать са¬
новников в повиновении; такую тайну никто не должен
знать, кроме повелителя. Мне говорили „их можно услать
подальше*'. Я зозразил: „Нет, их просто нужно убить".
Заметив неодобрение, в котором я заподозрил измену, я
грозно выкатил глаза, и воцарилось всеобщее молчание.
(А я, свирепый с виду, смеялся в душе... ибо это вне¬
запное молчание слуг было достойно смеха!).
Я хорошо делаю свое дело. Я тонкий политик: него¬
дяя, взявшего Торизу, я тоже решил включить в число
тех шестерых, что должны были исчезнуть, потому что
я хотел взять ее сам. Не нужно плодить врагов.
Да, много совершил я грехов и был бы осужден,
если бы не было религии. Но и для нас есть помилование.
Карл Великий на исповеди у святого Жиля покаялся -во
всех своих грехах, за исключением одного. И бог послал
ангела положить святому Жилю письмо на алтарь, где
было указано, что Карлу Великому все равно надо дать
отпущение, ибо на то он Карл Великий.
Весь мой народ будет за меня молиться. Ведь я так
люблю мой народ! Вот Эрмелин Рюламор, мучая своих
подданных, наслаждается страданием своих жертва Но для
меня страдания моих подданных—мои страдания. Они
хорошо это знают. Я сам им^это говорю. Добрые кре¬
стьяне Эльхо были бы очень огорчены, когда бы узнали
сколько беспокойства причиняют мне наши враги, стремясь
завладеть моими сокровищами.
Рюламор хочет проглотить. Эльхо- на том основании,
что Эрмелин III приходится племянником Рамону IV, мо¬
ему прадеду со стороны матери. Эрмелин не стесняется
утверждать, будто племянник по мужской линии имеет
больше прав на наследование, чем внук по женской ли¬
нии, и осмеливается притязать 'на поместье Эльхо, на¬
деясь' присоединить его к своим владениям.
Это бесчестное посягательство Рюламора на мои права
тем более гнусно и опасно, что оно на руку мужичью:
рабам выгодней быть вместе, а не врозь. Но за меня го¬
ворит честь моего дома; я опираюсь на мое королевское
право, которому все уступает. Что ж, если нужно бу¬
ПРИЧИНА.
105
дет—кинем Пса против Рюламорского Единорога, будем
воевать!
„Ого!“—говорят эти разбойники,—„а закон? а сали¬
ческая правда?". Но закон при ближайшем рассмотрении
ничего ровно не стоит. Пройдоха Массар умеет толко¬
вать закон, как мне угодно. И, наконец, великий Оттон,
первый германский император, навсегда разрешил этот
спор о племяннике и внуке божьим судом; рыцарь, бив¬
шийся за внука, остался победителем и вопрос был ис¬
черпан.
Мой народ за меня—и раз он хочет войны, война
будет объявлена, несмотря на мое мягкосердечие.
Хм, Рим... Рома... Махома... Мой язык—королевский
язык—заплетается. Король не знает, что говорит. Я
опьянен любовью и славой. Да... Римский император
Максимин Дайя, погрязавший в пьянстве, повелел, чтобы
все его приказы приводились в исполнение не раньше,
как через сутки после того, как были отданы. Какая
мудрость, какой пример добродетели подает мне мой
римский предок1
О чем я говорил? Римский предок... Да, я не допущу
никаких объединений в моих поместьях. Однако, объеди¬
нения происходят, невзирая на мои запреты. Пусть же
поостерегутся. Холла! Никаких объединений, никогда—
эй, вы, слышите вы там? Император Троян, мой предок,
не разрешил никомидийским ремесленникам объединиться
в пожарную дружину. Он говорил, что ему приятней ви¬
деть, как выгорают целые кварталы и даже города, чем
видеть как объединяются в своих речах и мыслях люди
со здравым рассудком. Мой предок Троян был прав!
Я не допущу их объединения! Я не хочу. Я зады¬
хаюсь от бешенства! И я знаю, что я зеленею, что я си¬
нею, что в наростающей гамме кулачных ударов я сею
ужас вокруг себя. *
* *
... Вот она—костлявая фигура властелина, с перело¬
манными брусьями .рук, вся—в черном с головы до длин¬
ных йог, и только у шеи—белая гусеница мехового во¬
ротника; на побелевшем заоостренном лице нос кажется
106 П Р И Ч И Н А.
длиннее ступни. Я смотрел на него этой парой глубоко
посаженных глаз, глаз господина Массара. Я—Массар.
Я низко склонился перед сеньором, так низко, что
мой колпак сполз на затылок и щекочет мне шею. Сеньор
смотрит на меня уголком своих беспокойных глаз. Я
нужен ему. Я, Массар, нужен Эгберту, владетельному ба¬
рону Эльхо и Альфэ, прогнившему, слабоумному повели¬
телю,—я нужен ему и тем живу.
Он окружен теперь советниками. Он рыщет, он шмы¬
гает среди них, то разговаривая сам с собою, то обраща¬
ясь к ним с обрывками фраз. На фоне темной стены тря¬
сется его шляпа, качается острый нос, качается губа, сви¬
сающая, как клобук, над- рядом гнилых зубов, качается
белое, как мука, совершенно бескровное лицо. И только
на его ястребинной шее с ободранной кожей багровыми
пятными выступает краска. В высоком воротнике из
горностая, что белым венцом лежит на чёрном пла¬
ще, эта шея кажется слишком длинной.
Окружающие сеньора роскошно одетые придворные
всячески стараются ему угодить. Один из них го¬
ворит:
— Что прикажите сделать с Дорилоном, монсеньор?
— Повесить!—отвечает барон.
Он поворачивает к нам свое сморщенное лицо, разъ¬
еденное язвами, точно рассеченное на куски. Кажется,
что вокруг разреза его рта вколочены и,ввернуты бляхи
и замки. Он шевелит своей забинтованной рукой, на ко¬
торой сами собой зарождаются язвы, рукой, которая гни¬
ет и гноится и которая не может, не прорвав пергамента,
написать ни единой буквы его баронского имёни.
Он подымается, сопит и открывает рот:
— Господа, дерзость Рюламора...
— Монсеньор,—с почтительным поклоном перебивает
судья,—мы накачали этого Дорилона водою так, что он
чуть не лопнул, мы раздавили ему руки — и все же он
утверждает, как утверждал на исповеди, что подобрал фа¬
зана уже убитым.
— Ложь1—говорит Эгберт, топая ногой.—К тому же
мое право охоты—самое священное из моих прав. Пусть
ПРИЧИНА.
негодяя повесят для примера и назидания, и пусть сын его
присутствует при казни. А теперь довольно,—я запрещаю
говорить со мной об этом бездельнике,—прибавил он и
выкатил глаза.
Он ходил взад и вперед большими шагами, пряча свою
кривую спину за спинами других. Я больше не различал
присутствующих. Этот человек по невообразимому чуду
жребия значил в тысячу раз больше других и мог делать
все, что хотел... Меня сковал ужас, когда он повернул
свое бледное лицо, на котором зубы торчали, точно когти,
и я вдруг увидел, что он человек, как все.
Снаружи притащили на порог Доон-ле-Рэшена, подвас¬
сального Рюламору барона, взятого в плен накануне. Он
был приземист и колченог, плечи и руки у него были вы¬
вернуты и раздавлены,—но глаза горели и блестели, как
у рыси. Густые волосы падали на брови. Он говорил с ры¬
чаньем, похожим на лай, и между фразами кусал губы и
покачивался на своих крепких кривых ногах.
А, вот и ты!—бросил Эгберт, глядя через головы
окаменевших, словно по внезапному колдовству, советников.
— Сколько раз ты травил мои поля, разорял мои де¬
ревни, вешал и жарил моих рабов и моих животных! Так
вот, я буду доблестным противником: я помилую тебя,
барон, потому-что ты высокого происхождения. Нам нужны
благородные враги!
Рэшен слушал с глухим рычаньем, вытянув шею и на¬
клонив голову на бок, точно собака. Все застыли в н^мом
молчании.
Властитель в этом молчании почуял неодобрение и тот¬
час впал в неописуемую ярость. Перекосившееся, изрытое
ямами и канавами лицо еще больше побледнедо, и затем
поперемейно становилось то светло, то темно-лиловым.
Вае морщины и рытвины налились черным. Он затрясся
и завертелся на месте, жуя слова: „Изменники! Трусы!
Собаки!
Тогда, чтобы предотвратить несчастье, Мелиодон стре¬
мительно возвысил голос и сказал:
— Какое милосердие! Какая доблесть! Какое благо¬
родство! Монсеньор Август в своем римском дворце по-
IOS П P И Ч И Н А.
ступил нисколько не благороднее в отношении господина
Цинны. Видно, что наш барон—истинный преемник слав¬
ного Августа.
Барон Эгберт, успокоенный подлым поэтом, который
так поторопился опередить нас в своей лести, стал про¬
должать свою речь:
— Мы должны объявить войну.
„Наш герб с песьей головою, прекраснейший и древ¬
нейший среди гербов, понес обиду от злобы Рюламора. Я
один буду воевать и не прекращу войны, хотя бы один я
остался в живых, хотя бы пришлось мне, чтобы голодом
уморить врага, уничтожить весь хлеб, собранный моими
бедными крестьянами Эльхо. Мы скажем, что исчез один
из наших подданных. Мы найдем причину°.
При последних словах он обернулся и указал на меня
куском гнилого мяса, которое у него заменяет руку.
— Монсеньор,—сказал я,—бог сотворил мир, но при¬
чины создаются князьями.
Затем, своей распухшей, точно язык, рукой он ткнул
на Мелиодона. Мелиодон подскочил и тявкнул:
— Монсеньор, эта война за Право!
— Ей богу!—проговорил барон.—Я скорблю о страда¬
ниях моего народа, но мое право прежде всего! Война за
мое право! Хе-хе—это доблестная война!
Слышен скрип еговнутреннего смеха. Он почти вплот¬
ную рассматривает песью голову, написанную на стене.
Затем торжествующий смех прорывается подобно водо¬
паду. Угрюмый человек смеется, и смех его слагается
в слово: „война0. Он угрожающе размахивает крестом.
Но он устал говорить... Фразы точно нити путаются
в его мозгу и на языке. Глаза вылезают из орбит, язык
вылезает изо рта. Он с трудом прибавляет еще: „Уведите
эту собаку, что смотрит на меня глазом ребенка0.
Затем его позвоночник сгибается. У него возникает
желание спуститься в свой погреб разврата. Все прикиды¬
ваются, будто ничего не замечают, а он, шатаясь, напра¬
вляется к низкой дверце. Слыше н глухой удар, что-то упало:
его рука уронила распятье и стиснула твердую деревяшку,—
орудие, коим он помогает себе сокрушать девственность.
ПРИЧИНА.
109
Горб его удаляющейся спины, вздутый правый бок, из¬
гиб его длинной руки с клубком гнойных повязок вместо
кисти и все предметы вокруг меня застилаются туманом,
бледнеют.
Шумит ветер: на дворе гроза! Внизу, в сети земных
дорог, под струями дождя запутался и бьется убогий кресть¬
янин. Ветер вздувает горбом его намокшую одежду. От
озаренных молниями туч до движущейся точки этого дву¬
ногого, которое борется с ветром и бурей—завертелось
гигантское веретено Катастрофы.
Пусть молния, страшной вязью привязавшая небо
к земле, показывает, что рок, тяготеющий надо всеми,—
только похоть и прихоть немногих! В кружении туч ри¬
суется смешной своим одиночеством обладатель волшеб¬
ного жезла,—господин Причина! Если там внизу ничто нс
имеет конца (или все имеет дурной конец), если дороги
разносят лишь горе и кровь — то причиной тому те, кто
наверху.
Я, Массар, вышедший из низов, я хочу занять место
среди тех, кто наверху, и топтать ногами бедняков, эти
враждебные толпы людей, у которых отнята всякая ра¬
дость.
VIII.
СООТВЕТСТВИЯ.
Холм порос лесом остроконечных пик. Под стрелами
света, среди волнующихся знамен толпятся башенки,
шпили, колоколенки; они рассекают, зубрят, собирают
в связки бахромчатых языков всю вершину белого холма.
Этот новый город с блистающей стеною, в основании
образовавший монолитную глыбу, город, правой щекой
прижавшийся к земле,—это белый, как альпы, замок.
На одной из широких площадок теснится нарядная
толпа, заполняя воздушный дворик вплоть до страшного
каменного обрыва. Я слышу хлопанье огромных цветных
парусов на ветру — полотнищ, приколоченных к стенам.
На четырех канатах, образующих четыре борозды по его
четырем углам, натянут ярко-синий балдахин, испещренный
золотыми собачьими головами в венцах золотого сияния.
Я, мэтр-Массар, нотабль Эльхо, участвую в этом пыш¬
ном собрании в самом замке (замок—замкнутая громада,
на которую так долго я мог лишь смотреть снаружи, как
другие прохожие). На церемонии явления народу наслед¬
ника Эльхо, мы—т. е. я и моя супруга Перонна, которую
я вывел из ничтожества, — занимаем места по соседству
с паладинами и видамами.
В огромные прорезы бойниц, открывающих брешь
в пространство, я вижу квадраты лощин, пашен и за¬
гонов. Далеко внизу, под нашими ногами, копошится люд¬
ской сброд, на который я привыкаю смотреть сверху. Ияд
придавленными, сплющенными плечами, как-то незаметно
С О ОТВЕ Т С Т В И Я. 111
переходящими в локти — над плечами жаб, слепившихся
в одну цельную массу, запрокинуты в крайнем напряжении
бледные лица, сующие вперед свои свиные рыла; в каждое
всажена пара горящих любопытством глаз; у каждого над
глазами и дальше на макушке головы торчит клок черной
шерсти или охапка желтой соломы. Тяжелые грабли рук
свисают точно корни, вырванные из земли на время празд¬
нества. Здесь и там виднеется в толпе какой-нибудь но¬
тариус, еще не выбившийся из бедности и ничтожества,
бледный от чрезмерности своих познаний, или какой-
нибудь надутый горожанин, хорошо (даже слишком хорошо)
одетый, но который при всей своей сметливости еще не
достиг такого высокого положения, как я.
И это все пенится одною общей радостью, охвачено
одною тяжелой и прозрачной волной. Все смотрят, мигая,
на восседающего на троне владетельного барона Эгберта
и на царственного ребенка, которого представляют народу
под сенью отцовского трона.
Эгберт бледен в своей короне, иссиня бледен; и он
нё движется. Ах, я • вижу с того места, где стою, — мой
взгляд проникает сквозь струи и брызги жемчуга, сте¬
кающего по неподвижным складкам дамских нарядов, —
я вижу за спиной господина веревки, что привязывают его
к тяжелому креслу, там, в двух шагах от двери, через
которую только что это кресло вкатили невидимые руки
под синюю сень балдахина.
Ах! наш господин уже мертв. Эгберт уже стоял пред
своим судьею, в тот час как его сюда волокли. Корона
насажена на глаза, точно золотая зубастая челюсть.
Скипетр прирос к руке. Те, кто вокруг, знают, что
эти предметы, хоть и кажется, будто они шевелятся, в дей¬
ствительности мёртвы и ветер гуляет между ними. Они
знают, что разбинтованная, зияющая раскрытыми язвами
рука, медленно точит гной ему на колена. Но для толпы
он жив. Глаза невольно наделяют сидячую фигуру движе¬
нием, заимствованным у двух хОругвей, грузно хлопающих
на ветру, и у беглого сверканья, которым солнце зажи¬
гает бисер на его мягких башмаках. В панцыре солнечного
112
СООТВЕТСТВИЯ. -
света он кажется зрячим, но то не открытые глаза — то
разлагающиеся гнойные веки. Эгберт—такое же полое дупло,
как его имя. Черви уже поделили его меж собою. Ои жив
только смрадом, и эта его последняя еще шевелящаяся
оболочка вызывает у нас самую лживую улыбку перед
толпой, наслаждающейся созерцанием господина.
Рядом с человеком-троном поставлен семилетний ребе¬
нок, который так любит барахтаться в полных сундуках.
Мужчины и женщины вытащили его, кривого и скорчен¬
ного, из его золотого гнезда и поставили здесь таким,
каким он был,—еще не разогнувшегося. Он одет в сине¬
золотое платье. Глаза его заложены складочками, точно
два пупа. На коже у него серые пятна, которые никак
нельзя отмыть, а в углах рта вздуваются мыльные
пузырьки.
Стараются оживить неподвижность отца, чтобы под
эгидой его присутствия и через ужас, внушаемый его
образом, совершилась передача наследственных прав^ Надо,
чтобы церковные мужи со всею восточной роскошью их
посохов, митр и лент объявили, что отец при жизни облек
своего сына суверенной властью. В этом величие королей:
имя переживает их смерть, которая образует пустоту до и
4 после каждого человека, и династия, хоть и расчлененная
на звенья, составляет одну упрямую цепь.
Если бы люди знали, что грозный коршун Эльхо —
оледенел и прикован к сиденью, то над - домом его
нависла бы опасность. Маленький племянник Рамо¬
на IV (сильный своими четырьмя сыновьями), пред’-
явил бы свои права и, может быть, заставил бы похо¬
ронить вслед за отцом и ублюдка-наследника, а такого
оборота событий тем более надо опасаться, что он ока¬
зался бы выгоден для крестьян двух враждующих суве¬
ренов.
Народ ликует. Царствовать будет слабость и немощь.
Все смеются, все трепещут., Мои острые глаза насквозь
видят этот жалкий люд, среди которого сам я толкался
еще недавно. Вот проясняется лицо Клэрины и ее красные
от слез глаза сверкают радостью. Всегда сутулая Ториза
расправила стан и привстала на цыпочки, чтобы лучше
COOT ВЕТСТВИ Я. 113
видеть, и в этот момент старая мать Одона забыла, что она
мать. Она, как все там на равнине, только и умеет, что
благословлять Эгберта и проклинать Эрмелина.
Иа Юродивого набросились с кулаками несколько жад¬
ных до славы молодцов, потому что в своем безумии он
крикнул, что люди — жалкое стадо, ведомое безумцами.
Под тумаками Старик прокричал еще громче, что люди—
стадо безумцев, идущее за одним жалким человеком.
Открытый гроб трона отодвигают назад; царственная
мумия еще раз дохнула на нас своим гниением и с дере¬
вянным стуком исчезла за стеной, одним своим появле¬
нием на каменной доске разрешив шахматную игру.
Мягкотелый наследник согнулся, скривился и покатился
по земле; он распластался на животе в ногах у придвор¬
ных, полосатый, точно саламандра.
Я больше не борюсь с овладевшим мною ужасом и
испускаю протяжный глухой крик, как стонут люди во
сне, когда хотят и не, могут пробудиться. Но я не могу
отделить себя' от образа этого безглазого королевского
скелета, качнувшегося над толпой. Я отбйваюсь. Однажды,
в самом начале,—-уже была подобная страшная сцена; это
она позволяет королевскому имени перескочить через
смерть, от которой все гниет, и вот я телом своим—мясом
и костями—докатился до этого места.
Однажды из круглого жерла красной пещеры в Ли¬
гурии явилось, подобно второй вершине горы, исполинское
тело первого властелина. Он умер. Мы, стоявшие вблизи,
мы видели веревки, врезавшиеся в это державное тело,
которое обнимало руками столб с собачьей головой и
прижималось к белому камню своим раздавленным лицом.
Глядя на него, толпа, ослепленная творческим ужасом,
увидела его живым и принесла присягу послушания его
потомку!
J *
* *
По окончании торжественного церемониала, все, как
на развлечение, направились к холму, где стояла виселица.
Правители в своем великодушии задержали казнь,
чтобы прибавить ее к праздничным зрелищам, которыми
щедро угощали сегодня толпу.
А. Барбюсс.—Звенья.
8
114 СООТВЕТСТВИЯ.
Так как у Дорилона пыткой были раздавлены руки и
вывихнуты локти, епископ, в своей доброте, избавил его
от обязанности самому вырыть яму, куда будет брошен
после казни его труп.
Смиренно, в одной рубахе и с веревкой на шее, он
просит прощения за оскорбление, которое нанес своему
сеньору и господу богу кражей фазана.
Сын его, маленький Сержиль, идет за ним по пятам,
как было приказано. Мальчику четыре года. Он гордится,
что весь народ занят его отцом; никто не смеет загово¬
рить с ребенком или к нему подойти; перед ним робеют
даже старики.
Ребенок стоял один на голой земле, и ему стало
страшно в тот момент, когда Дорилон' споткнулся и
вздернутый повис в воздухе, и задрыгал ногами, точно
пробуя итти или прыгать в пустоте, и потом, когда палач,
поставив ногу между связанных рук повешенного, вска¬
рабкался -по трупу и, всей тяжестью навалившись на
плечи, свернул ему шею, и когда все знатное общество
смогло полюбоваться тем, как, словно под порывом
- ветра, заволновались прелестные дамы, наклонившиеся
к казненному.
Осужденный, злодей, мал был ростом перед толпою,
которую угостили его непомерною смертью, как зрели¬
щем. (Смерть его должна была быть великой, чтобы
каждый мог получить в ней свою долю). Теперь в под-
земельи, куда его унес юродивый, похитив при содей:
ствии двух бродяг (тихо окликнув меня: „Анджелино1“)>
теперь, прямой, как сама виселица, он велик, он огро¬
мен. Лицо его, искаженное черной гримасой, прижато
к стене. Ноги, выгнутые над пустотою внизу, острыми,
как наконечник копья, носками уперлись в другую стену.
Эта мощная глыба слишком покорна. Отец—только
игрушка своего сына, который скорчился тут же рядом.
Но Сержиль пробует поднять эту тяжелую руку, вес ко¬
торой, пристроенный к весу всего трупа, коварен. Чело¬
век очень велик—велик и тяжел, \
Я больше не могу ни говорить, ни думать. Я вижу лишь
разрушенную пустую голову, где раньше так отдавались
СООТВЕТСТВИЯ.
115
удары сердца. Я вижу, как велико значение одного су¬
щества, одного единого существа. На земле еще не пони¬
мают этого.
Позже, ночью, пришла старуха, серая, как мышь. Она
плакала, и слезы иссохшей женщины казались чудом,
как родник в пустыне. Сев на землю, она стала рас¬
сказывать мальчику долгую быль, чтобы его утешить:
„Однажды, задолго до рождества господня, жил богатый
и добрый барон, которого звали Эльхо. Он приехал сюда
на корабле; паруса были расшиты пурпуром и золотом;
с бароном приехали также его рыцари, красивые, бога¬
тые и добрые, как он. На них были одежды из парчи и
меха и высокие сапоги из роскошного сукна. Барой
был другом знаменитого принца Иракла, который тоже
возвращался вместе с ним из Испании. Обрадованные
жители города—самого благородного и древнего из го¬
родов—вымостили улицы серебром, Чтобы достойно встре¬
тить гостей. Долго .длился пир, на котором подавали фа¬
занов с золотыми перьями../*. Такие рассказы утешили
Сержиля,< который ничем не отличался от других детей.
Ребенок заснул, улыбаясь.
* *
Юродивый подкараулил меня на повороте дороги и
сказал:
— Будет день, и все переменится; но час справедли¬
вости еще не наступил; сейчас нужно еще повиноваться.
4 Толпа легко повинуется: если даже над ней не будет ни¬
чего, все равно она будет повиноваться,—будет повино¬
ваться Ничему!
— Когда же, наконец, настанет утро, чтоб рассеять
окружающую нас ночь? Когда же раздастся победный клич
человечества, клич освобождения, уже звучащий в тайни¬
ках сознания?
— Какой клич? Даже среди близких мы одиноки.—
Старик глядел на меня пристально, почти с ужасом. И вот,
устремив в мои глаза фонари своих глаз, он широко открыл
толстогубую дыру рта—и прохрипел, надсаживаясь, одно
слово, свой магический клич:
,„НетГ‘.
, 8*
_116 СО QT3 Е Т С Т В И Я.
И я увидел, как этот старый изъеденный язвами
нищий (действительно ли я его видел?)—развернул два
мясистых крыла и полетел на запад как вампир.
И вечером, когда ясно видно, что повешенный (про¬
хрипевший: ,,нет!“) похож на своего распятого ближнего,—
в этот вечер растет надежда, радость обездоленных!
*
* *
Ночи не было. Бушевал пожар! Алый щит разрушения
раздавил все, кроме замка, церкви и монастыря. Крест
на холме казался в сумраке кровавым.
Это—военная хитрость Рэшена. Пользуясь праздни¬
ком, он ворвался в тихий вечер, нес,ч ложар и гибель.
С ним четыре сына Эрмелина, закованные в броню до¬
спехов. Все видели, как четыре молодца, как будто от¬
литые из стали, сеяли горящимтг факелами огонь на поля
и амбарьь
Как в веселой игре, они врезались на конях в ярко-
пылающие стоги и хижины, и многим был слышен их звон¬
кий молодой смех. Они гнались за людьми, которых огонь
заставлял покидать жилища, и убивали их ударами копий.
Вольные стрелки окружили их и едва не захватили
в плен, когда вдруг примчались рыцари Эльхо. Не желая,
чтобы честь победы досталась такой мелюзге, они гало¬
пом наехали на стрелков, находившихся перед ними, и
растоптали „эту сволочь", согласно славным традициям
франкских королей. Благодаря схватке рыцарей со стрел¬
ками, Рюламор успел оправиться и после нескольких уда¬
ров пиками рыцари Эльхо повернули коней и ускакали
(но их сердца воинов предпочитали поражение, нанесен¬
ное благородным неприятелем, прбеде, одержанной разно¬
чинцами); а сыновья Рюламора громко хохотали, и ало-
золотые отблески, горевшие на броне, делали их похо¬
жими на петухов.
' # *
Уйти, уйти! Искать другой удел, каков бы он ни был—
ведь хуже не будет, не может быть!
И, очертя голову, бросаешься по новому пути, ищешь
выхода, уходишь от родной земли в застывшее горами
117
СООТВЕТСТВИЯ.
и пашнями пространство, к новым откровениям. Ибо
жаждешь неизведанного.
Безнадежность, яростная безнадежность, делает чело¬
века способным на исполинские усилия. Безнадежность из¬
обретательна. Она — обетованная земля неизвестности!
Мысли о ней—творческое дуновение; это не любовь к при¬
ключениям, не жажда знания, которая вела Язона, Ганнона,
Сцилакса и Эрика Рыжего или Массилота Пифея, или
викинга Оттара,—это горячая ненависть ко всему сего¬
дняшнему и здешнему. Мы не знаем людей, с ненасыт¬
ным, творческим любопытством к миру—мы только ви¬
дим людей, которые ищут спасения; видим мятежников,
которые говорят: „нет“—в тайниках своего сознания, и
повинуются ему, устремляясь вдаль. Бегство! Воинствую¬
щее бегство! Творческое бегство! Бегите, вы, пасынки земли!
То один, то другой срывается и уходит. По дороге
удаляется пенье; и не знаешь даже, с какой стороны оно
доносится,
Одон возвратился. Но, Клэрина ушла. И он ушел
снова, и они ищут друг друга. Говорят, что один раз они
увидели друг друга издали: он был на отплывающем ко¬
рабле, оНа—на деревянном помосте пристани, оба на
краю разверзшейся пропасти, каждый на краю своих
надежд... Через разделявшую их даль они обменялись
обещанием: ждать. Они ищут друг друга среди живых,
медленно вырастая над миром, как два исполина; нет,
даже выше: как две печальные песни.
*
* *
Толпа, увлекающая меня по улицам этого северного
города к церковной паперти, спаянная праздником в одно
целое, такая богатая смехом, счастлива ли она?
Своды церкви разворачиваются ввысь и вширь, как
будто посреди города стоит огромная, полая гора. А там
наверху — камень и пленное вечернее небо. Весь город
звучит: до самых стен собора толпа доносит заглушенные
шумы, и ропщущее молчание отдается в сводах. Пред
алтарем совершается редкое и чудесное действо, высокое
таинство—посвящение короля.
118
СООТВЕТСТВИЯ.
Какая радость видеть его! Всмотревшись, можно его
разглядеть: он кажется совсем маленьким среди волную¬
щегося моря голов. За решеткой знамен и пик, рядом
со своей матерью и подданными, которые все гораздо
выше его, стоит царственное дитя, со светлыми прямыми
волосами, обрамляющими его голову, как две половинки
золоченной раки.
Слабым голосом, который по временам кажется лишь
голосом ребенка, повторяет он слова о священных обязан¬
ностях короля.
Архиепископ, весь в тонком золоте риз, облачил по¬
томка франкских герцогов в далматику иподиакона. Тогда
сановники церкви и вассалы согласно обычаю всенародно
признали его.
В хартиях сказано, что добрый крестьянский народ
выражает свое согласие позже. Я видел рядом с собой
косматую .руку, вылезшую из черного рукава, украшен¬
ную пятнами и мозолями; эта рука предостерегла уда¬
ром палки долговязого повесу, который в свою очередь
жестоко толкал локтем в бок своего дерзкого соседа—а
куча жалких мальчишек, втершаяся в толпу, вдруг про¬
кричала трижды: „Желаем его!“. Народ выразил свою волю,
и священная голова отрока была девятикратно помазана
миррбм из святой дарохранительницы. И вся толпа, вплоть
до тех, что забились в самые темные углы, была охвачена
дикой радостью, когда увидела, что короной и скипетром,
и рукой правосудия будет двигать отныне маленький маль¬
чик, все деяния которого отныне непосредственно связаны
с деяниями бога.
Но те, что находятся на другом конце темной лест¬
ницы, согбенные производители хлеба и вещей, счастливы
ли они?
Нет, они страдают! Они страдают бесконечно, и как
очевидно их отчаянье, как ясно, что оно нескончаемо
передается из рода в род!
Безнадежность везде—даже в многоцветной церков¬
ной оконнице, где среди лиловых, и красных, и желтых,
и луннобелых лучей, под куполом пламенеющих радугами
изломов, царит голубая дева.
СООТВЕТСТВИЯ. 119
Эту бездну, устланную красками, этот пронзающий
Крик лучей создал народ. Она возникла из исступления
скорби, из немой покорности. И не только потому, что
в расплавленном солнце плавает изображение распятого
плотника, труженика, который в конце концов упал, тем¬
ный и презираемый навеки, и теперь стоит в свинцовых
когтях расписного окна, раздавленный жерновами света,
и его предсмертное движение ужасно своею реальностью
(а с обеих сторон пригвождены бледные и мрачные, как
два ангела хранителя, человек с серпом, и человек с моло¬
том)—не только потому создано это окно, но и потому,
что лишь гений безнадежности мог воздвигнуть такой
океан света. Красоту творят простые сердца.
А наверху—голубая дева, небесный просвет в тем¬
ном соборе, огромном, как чрево туч; и ее создала неска¬
занная скорбь, пламенное сожаление о счастьи. Художник,
изобразивший эту деву, стоял перед нею с открытым
сердцем в разверстой груди, и кисть его была воткнута
в кровавую руку, как гвоздь. И дева окружена голодом,
жаждою и скорбной кротостью.
Вокруг церковной колонны, как вокруг дерева, стол¬
пились все избежавшие крушения...
Уныние- и отчаянье приводят к тому, что робкая, как
дитя, надежда слепо устремляется к юному королю.
Безнадежность приводит к вере; злая несправедливость
родит правосудие, которое устанавливает. гармонию тво¬
рений и скрывает трещины стен.
И безнадежность растет на земле.
В наступившей ночи, в громадном теле собора, раз¬
ворачивается и сворачивается толпа. Последние дви¬
жения людей; наступление Страшного Суда скрючивает
спутанные дуги тел и голов на фресках над пор¬
талом.
При трубном гласе ангела одичалая душа находит
свои останки; тени тихо выползают из-под могильных
плит.
Они выстроились в ряд, строгие, простые.
У них черные обнаженные ноги, они стоят или сидят
верхом на перилах.
120 С О О Т В_Е Т С Т В И Я,
Некоторые неловко освобождают свои ноги от обма¬
тывающего их савана, другие снимают покрывало с лиц
или надевают его на плечи, как плащ.
Под складками ткани, крепко обматывающей лицо,
задвигалась челюсть, почувствовав жизнь.
Иные стоят на четвереньках, еще совсем скрюченные
в складках покрывала, тяжелого, как камень.
... Они встали ночью со своих холмистых кладбищ,
с обнаженных жестких камней. Они вышли из тьмы,
пыльной и грязной, поднялись с разложенных плит,
где их томил сон, преследовали кошмары, и бессонница
показывала свое спокойное, страшное зеркало. Они
меня тащут, уводят.
Они соединяются. Но ведь, соединяться запрещено!
О, именно потому, что это запрещено, они это делают.
Они собираются на лужайке поклоняться дьяволу и за¬
ключать с ним сделки.
Сойтись лицом к лицу с этим чудовищем, у которого
ноги закопчены дымом, а глаза плоские и желтые, с этим
противоположным существом,—это значит восстать про¬
тив видимой действительности; это то же восстание, ко¬
торое черпало из глубины мрака веру в светлую церков¬
ную оконницу, которое пожинало колосья света в вели¬
кой ночи и передвигало каменные горы.
Но это отрицание пресмыкается по земле, оно пря¬
чется в ночи, как в гробнице. Робкий и-тощий шабаш не
осмеливается на большее, как только противопоставить
себя живой жизни.
Этот способ отступательной обороны, эта борьба по¬
средством бегства, посредством брошенного на земь ору¬
жия есть болезнь восстания, и я ее стыжусь. И стыжусь
я насмешек и глумления над некоторыми деталями свя¬
щенных изображений; они, правда, приводили в ужас не¬
истовую наивность святого Бернарда, отца христианства,
но не противоречили природе. К спасению на земле мы
не приблизимся ни на шаг, пока один лишь ночной ветер
будет разносить унылые звуки человеческого голоса.
IX.
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.
Одон.
Один, высоко над необъятным волнующимся про¬
странством, в воздушной пустоте, я уцепился за этот
деревянный ящик, прицепленный, в свою очередь, к огром¬
ной штанге. Она гнется во все стороны, опускается
и подымается, со стоном, словно из самых недр земли,
и жестоко бросает меня порывам ветра. Внизу, далеко
внизу, со всех сторон, волны, волны. А прямо подо
мной, под головокружительным, вихрем, крутящим туло¬
вище и ноги,—какой-то движущийся обломок: край па¬
лубы, где лежит только что расщепившаяся огромная
мачта, с заостренным концом, как опрокинутая коло¬
кольня.
Вахтенный на качающемся корабле, я, как паук, ползу по
тонким веревкам. Я спускаюсь на палубу, где лежит
огромный узел почерневших канатов, наклоняюсь за борт,
который захлестывают волны, и Чувствую, что меня
отрывает от него. Килевая качка отбрасывает меня назад.
Узоры тонут в зелени моря, тени, падающие от корабля,
растут и темнеют в бегущих волнах и словно танцуют.
На палубе происходит традиционная церемония, так
как корабль отошел уже на полдня пути от порта
отправления. Полдня пути от Клэрины. Тогда капитан
Ностер собирает всех, которые находились на „Сент Боме"
и произносит те торжественные слова, какие в таких,
обстоятельствах произносят многие капитаны христиан¬
ских судов:
122 ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.
„Мы окружены бурей, высокими волнами,
пиратами и опасностями. Так как мы находим¬
ся во власти бога и волн, то каждый дол¬
жен быть равен каждому. Нам нужно мо¬
литься и, согласно морским законам, из¬
брать судей равенства".
Равенство. — Есть слова, которые заставляют меня
бесконечно трепетать. И эти слова велики, потому что
они вырываются у живых людей в те минуты, когда
они чувствуют себя вне власти тех законов, которые
охраняют города и наполняют тюрьмы. Велики они
еще потому, что дают исход воплю живых. Но по этому
самому они странны и тщетны. Они только преходящий
и беглый призыв к божеству, еще непознанному здесь.
Они только отблеск сна, или повелительный зов в тот мо¬
мент, когда переступают с одного берега на другой. Они
могли бы быть правдивыми только в том случае, если бы
корабль шел переделать мир или был бы отныне предоста¬
влен самому себе среди океана жизни и плыл вдали от
земли, как луна. Но он несется в первый попавшийся порт.
Корабль с грузом соли, дегтя и ветра идет на север
земли. Он миновал Португалию, Испанию, обогнул бе¬
рега Бретани; вот уже перед ним мелькают очертания
Англии; он стремится все дальше к северу.
Медленно движется нам навстречу земля, она растет
не двигаясь—это зеленый остров, западный гранит Кель¬
тов. Рассветает, сильный "ветер рвет с тела одежды,
густой туман еще удерживает ночные тени. Выросший
берег черен, как застывшая буря, а все кругом све¬
тится, как блестящее олово.
Ветер кружил ему голову, ускорял его походку и обри¬
совывал под монашеской одеждой его худобу, на вер¬
шине скалы, покрытой затвердевшими брызгали соли.
Я с трудом держался на ногах среди тучи водяных
брызг и колеблющегося тумана. Конечно, в тумане вокруг
нас были и другие люди и все слышалй галльского монаха,
когда он говорил:
о Д о н. 123
— Эта земля, которая тебя поражает, единственный
остров, который еще существует.
Он показал направление костлявой рукой.
— Повсюду в другом месте старый закон насилия и
грабежа все захватил, все скрутил, все использовал для
своих целей. Повсюду в другом месте счастье одних
построено на несчастьи других, и это истина для всех
народов,—везде бедный—то же самое, что побежденный.
Небо походило на гранит; с моря надвигался дождь;
виднелись плоские камни, положенные каким-нибудь от¬
шельником, чтобы посидеть на них.
Говоривший обладал тем спокойствием, которое бывает
только у переживших скорбь и утешившихся. На его
щеке я заметил след рубца.
Нам, готовым снова пуститься в путь, он внушал уве¬
ренность, что, уже с давних времен, никогда на земле не
было ничего, кроме стремления к захвату со стороны
более сильного; что это стремление распространялось,
развивалось, принимало более прочные формы; оно одо¬
лело смерть, одолело все и начертило проклятый, адский
круг, из которого ничто не может ускользнуть.
— Отсюда сила всех сил, установленный порядок. Но
это — так только для остального мира. Изумрудный же
остров остался чист. Знаешь ли ты необыкновенную
девственность земли, которую мы топчем? Помнишь ли
ты, что Эрин—в стороне от тех дорог, по которым когда-
то прошел Рим, что ничто римское никогда не косну¬
лось нас. . ' '
Он бил по воздуху руками, костлявыми, как птичий
костяк, выставил вперед лицо, словно из гранита, с ква¬
дратным подбородком,, с краснеющим на щеке рубцом,
с морщинами, как на скале, полузакрыл глаза, в которых
ртражался блеск морской волны, и вдыхал воздух.
— Это странно. Здесь не чувствуется римского права,
запаха императорской системы, императорского уклада.
Ты видишь, что Ирландия—единственный остров, кото¬
рому удалось этого избежать. Здесь еще витает свобода
во всей своей безграничной красоте. Те, кто останутся
сынами Британии, повинуются не законам, а самим себе.
124
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.
У нас словесный договор единственно ценен и никогда
решения судей не санкционирует сила. Но там — за¬
хват человека человеком, гнет нескольких над всеми,—
приняли навсегда формы римского закона. Рим—это соб¬
ственное имя крепкой власти, это прибежище пастухов
людского стада; всякая мания величья—от Рима и так
оно пребудет всегда.
— Но, мой брат, варвары уничтожили Римскую им¬
перию.
Некоторые из присутствовавших столпились вокруг
него, как хор, железным кольцом. Вспыхнувшее бешен¬
ство сменилось затишьем, когда раздались слова о том,
.что варвары уничтожили Римскую империю, слова, кото¬
рые прозвучали для меня как-то особенно во влажном
воздухе, на берегу океана.
— Чтобы возродить ее, мой брат.
„Те, которые брали Рим, ослепленные им, вернули
римской идее ее великолепное детство': Аларих и Гензе-
рих, и Герул Одоакр, тот, который на 1228 году суще¬
ствования Рима, низложил Августула, эту статуэтку, ко¬
торой закончился длинный ряд статуй. А потом Хлодвиг
и Карл, Оттон и Барбарусса, все при помощи латинских
и германских обломков, старались блистать Подражаниями
Цезарю Августу или Аркадию, (поэтому Византия была
Римом худшим, чем Рим, и там именйо -в пурпуре заката
Юстиниан дал окончательную форму римскому закону).
Все они прилагали свое ученическое .усердие к разбору
по складам римских грамот, с такой же прожорливой
жадностью, с какой благоразумный Бургундец проглотил
оскорбительные для него законодательные пункты. Когда
франк, вандал или гот топтали, обломки дворцов или
усеянные костями мертвых римские дороги, они в то же
время поступали совершенно по-римски и кроме того
воровали еще императорские титулы. Власть запада только
попала в чужие руки-—как империя персов, могущество
которой спас, Александр, хотя он пришел, чтобы ее
уничтожить. Восстановить, восстановить! Все, что было
сделано, будет восстановлено по непреложному закону
повторяемости.
125
„Всем стремлениям рас, грандиозным снам властели¬
нов, веющим над расами—был уже пример, это второе
солнце".
— Мой брат, мой брат, разве не был вначале Рим
матерью свободы и настоящей республикой?
Другой из необыкновенных монахов, тот, кто был мал
и бледен и держал манускрипт, сказал:
— Он никогда не был таким. То, что ты сейчас утвер¬
ждаешь—мнение, которое поддерживают и распространяют
темные люди: невежды из толпы и невежды, запутавшиеся
в книгах. Римляне логически дошли до повиновения вла¬
стелинам и создали совершенный и определенный язык,
заменивший для них величие идей. В какой момент про¬
цветания Рима он перестал при помощи плебея порабо¬
щать иностранцев и давить плебс? В какой момент судь¬
ба его бедняков была иной, чем безнадежное требование
аграрных прав или формирование в полки? Какое иное
осязательное завоевание свободы, кроме храма, воздвиг¬
нутого Тиберием Гракхом на Авентинском холме, потому
что все эти творцы новых установлений, — художники
грамматики и трибуны, боги плакатов,—подменяли дей¬
ствительность церемониями и освещениями. Ты шепчешь:—
плебейские симпатии Мария или Помпея, — это только
политические маневры, с целью связать их честолю¬
бие с обстоятельствами: это кричащая очевидность, это
бесстыдная очевидность. Для того, кто сумеет отойти
с достоинством в 'сторону от демагогической шумихи,
римское право, начавшее е того, что ввело грубый фе¬
тишизм в нежность семейных отношений, является только
совокупностью зол, направленных исключительно к обе¬
реганию и укреплению привилегий неравенства, прикры¬
тых на словах великими принципами. Одновременно спла¬
чивают и разрознивают массы, которые должны оста¬
ваться во власти того, что творится во дворцах. Респуб¬
лика превратилась в империю, как только Октавий пере¬
менил свое имя. Было ли бы это возможно, если бы она.
была проникнута республиканским духом?
„Но формы общественности остаются теми же. Кто
помешает, даже через тысячу лет, победоносному сол¬
126
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.
дату провозгласить себя императором самой гордой в мире
республики^.. Обманчивая видимость говорит за то, что
Рим установил свободу; но суровый и ясный смысл дей¬
ствительности когда-нибудь заставит признать, что Рим
непоправимо скомпрометировал свободу, потому что связал
ее и заключил в формулы. О, ученый читатель многоре¬
чивых текстов, ты нигде не услышишь того, что здесь.
„Здесь мы изучаем истину и не боимся ее. Во всяком
же другом месте ты услышишь, пропитанные хищным
римским духом, слова строгости, морали и добродетели;
ты услышишь, как будут прославлять эту латинскую по¬
средственность, раздутую легендами, создавшимися вокруг
этой строгой красоты ее формул и бюстов: непогреши¬
мость законоведа и ясность юриспруденции и священное
достоинство сената. Тогда ты поймешь, что власть по¬
работила также и великие истины0.
Резкая остановка; остановка движущейся перспективы,
спутавшая правильные линии; конец встречного воздуш¬
ного потока, ощущаемый лицом.
Там две накрененные вершины, но они неподвижны.
Между ними телеграфный столб. Из недалекой листвы
слышится пронзительный крик дроздов, я вижу, как сколь¬
зят в волнующемся черно-голубом воздухе три, четыре
маленьких перистых мотора, и наконец, остается „я“, его
голова ярко освещена, ноги протянуты на рыжем камне,
на мешке с лекарственными травами, башмаки желтой
кожи носками вверх. Мой взгляд узнает очертание этого я.
— Еще, еще| Сон, от которого я просыпаюсь, пре¬
краснее других.
Итак, значит, существовал этот уголок, населенный
такими прямыми людьми. Я тоскую о британском острове*
в блестящем кольце тумана.
Я хотел бы иметь перед глазами неистощимый океан,
откуда приходит дождь, пену, которая венчает черные
глыбы ослепительной белизной, как вершины вечных гор,
и жесткий очерченный голубоватою и священной линией,
профиль этой мыслящей статуи, почувствовавшей, что
над миром властвует римское право.
о д о и.
127
Или я хотел бы бежать, очень далеко отсюда, вниз.
Бежать до невозможного, до абсурда, как этот увлечен¬
ный беглец, этот Одой, чьими чувствами я видел и слы¬
шал в течение нескольких секунд бесконечного дня. Я за¬
крываю глаза, напрягаю свою волю и качусь по откосу,
одеревенелый, как лодка, отталкиваемая моими руками,
пытаясь погрузиться с головой во все существующее.
Необычайное легковерие засыпающего...
Корабль, струя, бегущая за кораблем, едкая соль, тя¬
желый запах водорослей, дегтя; мачта с целой сетью ка¬
натов и лестниц, кажущаяся остроконечным пучком. И
среди этой прозрачной пирамиды на мачте виднеется
черное гнездо и красивое, округленное облако паруса. На
древнем южном море дует свежий ветер. Склоненные
вершины исчезли, их не видно даже когда еще раз мы
приблизились к берегу.
„Сент Бом“ стремится к востоку, рассекая воздух, как
ударами топора.
Я снова увидел Клэрину, но я узнал ее только после
того, как уехал без нее. Если бы я видел ее несколько
дольше, я бы узнал грацию, из которой родилось ее имя,
ее облик, среди других, облик, который есть дар, и кра¬
соту ее форм. Но я увидел ее неожиданно и слишком
близко. Ее лицо было омрачено печалью и тревогой, и
мой взор не уловил в нем прежних черт. Проходя, она
не взглянула на меня. И только теперь я вижу, что это
была она и снова, разделенные непроходимой чертой, мы
жаждем друг друга.
Целый день я бродил по большому восточному острову,
который вошел бы в Сирию, если бы она отделилась от
материка.
Там можно увидеть церкви, похожие на западные, но
не покрытые сверху: они не имеют крыШи; и в этом
больше правды, чем в наших. Это—здания, где религия
развернулась широко, где предметы алтаря имеют отсвет
природы, и . где ночью звездятся хоры безмолвием
звезд.
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.
.128
В Фамагусте и Никозии я видел гранитные скуль¬
птуры ангелов, братьев тех, к кому взываю я через без¬
дны невозможного. Потом я был уже далеко на неверных
водных дорогах.
В густой синеве небал эмали Средиземного моря вид¬
неется древний берег, по которому прошло столько по¬
колений. Он кажется палитрой живых цветов; - аквамари¬
новые пальмы на каменных плитах, луковичные коло¬
кольни на своем тростнике, и полумесяц Астарты и Ар¬
темиды. Полумесяц: это все, что осталось от белых хра¬
мов, стертых временем до самых круглых подножий.
(В общем забвении, что осталось от светоносных оваль¬
ных лун, украшавших фигуры богинь, светильников, мно¬
гочисленных, как звезды!..).
Оторванная от корабля Пизы длинная барка, окра¬
шенная в яркий цвет, покоющаяся на стекле моря: барка
крестоносцев.
Над окраской щитов, сйлетенной из красного и голу¬
бого, золота и серебра, виднелись круглые железные,
остроконечны^ раковины шлемов, и среди них щетини¬
стые пучки различного оружия, и выше полотнища знамен,
красных, черных и белых, на темно-голубом сукне
неба.
Под щитами яркой окраски—весла, краснеющие в про¬
зрачно зеленоватой воде залива.
Пламенная радость озаряет эту барку, вооруженную
могучими призраками. Те, кто входит на нее, сделаны из
той глины, из которой делаются короли, и после адской
неволи своего путешествия, они показывают себя.
По борту лодки они раскладывают экю со своим гер¬
бом. В этом—вся сущность этих людей, неумеющих пи¬
сать' и едва умеющих говорить. Здесь видна простая че¬
канка их головы, их широкой груди, где в ярких крас¬
ках отчеканилась традиция высокой знати, поделившей
землю, и высшего рыцарства Шампани и Лотарингии,
рожденного от рыцарства Рима. В каждой из этик голов,
прикрытых сталью, есть четыре части, четыре особых
отделения: блестящее убийство, святой грабеж, высокие
ОДОН.
129
почести и изящная любовь. Рыцари—лучший цвет За¬
пада—пришли, чтобы быть королями Иерусалима, чтобы
стать герцогами, графами, владетельными государями,
чтобы быть обожаемыми, отличенными и восхваляемыми
в странах, которые рождают драгоценные камни, произ¬
водят пышные ткани, а жемчуг у них словно слезы:
Офир, королевство Саба, священника Иоанна, Сарданапала
и коленопреклоненных поэтов, потому что все принадле¬
жит им на военном празднике жизни.
И бесчисленная толпа повинуется им.
Приближаясь к месту, где шумела толпа, я встретил
истощенного и мрачного человека. Бросался в глаза его
большой нос, и ясно был виден шар, подымающийся и
опускающийся — на гусиной шее. Это — дворянин, кото¬
рый уже не богат, рыцарь, который ничего не имеет, и
которому не за что уцепиться, кроме своей чести и своей
дворянской и христианской веры. Вот он, рыцарь из ры¬
царского романа, призванный защищать против всех
угнетенного, вдову и сироту. Что делать ему здесь со
своей лазурной мечтой, со стертым экю и печальной
фигурой? На этого истинного рыцаря, на этот призрак
обрушиваются все удары судьбы. Вокруг него щетинится
барьер из поднятых, тяжелых рук, указывающих на него
уродливыми, смеющимися пальцами.
Я видел армию, вызванную издалека.
По темной долине, вечером, они шли. Со времени бле¬
стящего выступления в поход уцелела только одна треть;
они без конца взрывали землю своей тяжестью. В конце
этой сумрачной долины, которую жестоко бороздила пе¬
чальная борона армии, я, наклонясь, в упор рассматривал
лица людей. Я видел в них только пыл отчаянья. Я про¬
чел, я понял по их напряженным глазам, полным мрач¬
ной страсти, что они все еще хотят всего добиться и
всем пожертвовать.
Конечно, они были ослеплены обещаниями земного рая,
обещаниями, живущими И под каменными и под го¬
лубыми сводами и среди бедняков. Но я хорошо видел,
что сейчас они все живут одной душой, что главное стра¬
данье этих рабов оружия, прислужников, мальчиков, до-
А. Барбюрс.—Звенья. 9
130 ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.
ходящее до бешенства—это страх перед неудачей. Там,
на родине, их судьба была исковеркана уже в самом на¬
чале. Среди них мои глаза находили тех, кто бежали от
упреков совести, но все бежали от проклятья. Над ка¬
ждым бился ангел—это бешенство страдания. И важнее
внешнего существования было им испытать все, все,
вплоть до невозможного: „Хуже не будет". И они кати¬
лись к концу старого мира.
Каждый из них слаб и растерян. И только их количе¬
ство и полная власть над телами создают впечатление силы
и дают название победы их бурному натиску; за ними—
тевтонский или английский паладин с головой, закованной
в железо, его черная тень вырисовывается на фоне густых
облаков.
Но уже там и сям несчастные, которым удалось
пройти пространство, где столько погибло их товарищей,
мало-по-малу пробуждаются, разочарованные тем, что встре¬
чают здесь те же деревья, что и внизу. Что изменилось?
Ногами, топчущими землю, стиснутыми челюстями, наде¬
ждой и желанием они пытаются еще ковать божью доброту.
Около великолепной палатки, на которую факелы бро¬
сают беспорядочный свет, улыбающиеся продавцы в пыш¬
ных одеждах: судохозяева с хитрыми глазами, с блестя¬
щей, как агат, бородой, в украшенных золотом шляпах—
улыбка пизанца и улыбка венецианца. Папа чествует этих
особ, как Исаия чествовал божественными устами тирских
князей-купцов.
В стороне от торговцев и дворян монах, исполняющий
там обязанности писца, собирает разрастающиеся слухи
и выводит: Бог этого хочет.
Высокие изгнанники Бретани взмахивали широкими
крыльями среди бури и с юясь говорили:—„Они возбу¬
ждают смех, эти люди, которые предлог считают причи¬
ной и докучают доктринерством"...
Но пройдут дни и века и формы письмен не изменятся.
Дальше,- дальше, прикованный к порогу иных стран,
я не хотел возвращаться, я хотел итти в другом напра-
131
влении, пока не окончилось бы пространство и я не уперся
бы в конец всего.
В течение долгих лет я блуждал по Азии. Я шел из
пустыни в пустыню, от вечных снегов до горячих волн.
г1о среди всего, что я видел, мне грезились скалы изум¬
рудного острова и слышался его голос.
Однажды вечером я прибыл с измученным караваном,
едва державшимся на ногах, к слиянию двух рек. Я опу¬
стил голову, с трудом перенося часы дневного перехода;
как всегда, перед моими глазами рисовались эти восста¬
новители истины, стоящие на скале, белые, как покрытые
пеной морские орлы. И также передо мной вставала,
как красочное пятно, далекая страна Эльхо, с ее скалами,
краснеющими, словно в огне, с ее вечной зеленью и среди
всего, твое лицо> твоя улыбка, Клэрина.
Придя в лагерь и оглядевшись, я увидел свою стра¬
ну, раскинувшуюся передо мной, как мертвец. Ах!
Я долго трепетал от волнения, узнав неизмеримую крас¬
но-зеленую поверхность, возвышающуюся над водой, эту
колоссальную статую красной горы, покрытую деревьями.
Она возвышается при слиянии Минкианга и Тонго, купая
свои подножья и в той и в другой, возвышаясь вершиной
вровень с плато, кажущимся центральной крышей мира.
Наш взор охватывал страну, имевшую вид тела; мы видели
ее очертанья, задрапированнные лесами, поля ее бедер
и абрис живота, хотя века прошли с тех пор, как под
разнообразными резкими влияниями стерся его конти¬
нентальный вид. Я познал сладость земли. Тени и свет,
падающие с неба на землю, не имеют значения, но все те
же желания создают восход и та же самая жажда покоя
распространяет свой тихий свет на предметы в жилище.
Сходство этой страны с моей помогло мне увидеть,
как много сходного между собою имеют страны, столь
отличные одна от другой.
... Серия, из купеческого рода, внучка старого Посвящен¬
ного, жила в пальмовой хижине в глубине леса. Однажды
я забрел туда, думая о Клэрине. Она сделала мне с порога
знак. Я вошел и раздел ее. Ее имя, волосы, наружность
были удивительны и даже в ее присутствии мне все ка-
9*
132 ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.
залось сном. Но как ее тело было похоже на тело жен¬
щин, некогда родных моему телу. Это игра на поверх¬
ности, но наше сердце черная межа. И когда я возвра¬
щался, то, несмотря на кощунство моего тела, я шептал:
„Клэрина“, и это имя казалось мне полным, как будто я
видел ее самое или слышал его из ее уст.
*
* *
Серия сказала мне: „Ты в опасности, Одон, беги сей-
час“. Я не люблю ее, потому что я люблю Клэрину, но я
люблю ее ласки и еще несколько дней я буду отдаваться
страсти моего тела.
Но купцы выкололи мне глаза за то, что я видел ме¬
сторождение бриллиантов и обнаженное тело Серии. Мои
крики, мои слезы в тот момент, когда два удара в
глаза поразили меня молнией и погасили свет — все из-
чезло. Едва, едва, медленно, постепенно я пришел в себя.
Я покорился тому, что отныне предметы будут только
прикасаться ко мне. Люди держат меня и толкают; когда
их нет, я их жду. И я думаю о женщине: о матери, по¬
тому что только для нее я не очень изменился;
Клэрина! Я не вижу ее больше.
Это.—все, что я знаю.
Анджелино.
— Анджелино!
Это позвала меня Клэрина в вечерней мгле. Она
сказала мне голосом смерти, хриплым, покорным, обез¬
ображенным:— Я не хочу больше видеть Одона. Я долго
блуждала, чтобы сойтись с ним, и несколько раз я почти
находила его. Но теперь я не хочу, потому что не
следует, чтобы он видел меня. Я дала обет долго не
смотреться в зеркало. Когда я, наконец, посмотрелась, я
увидела другую женщину.
Я быстро взглянул на нее. Это правда, она не была
уже Клэриной, и это было страшно. Нельзя было про¬
честь на ее лице ни ее красоты,' ни ее юности, ни даже
ед имени. Только несколько лет, как Одон уехал, и ей
КЛЕМАН И АННЕТА.
133
двадцать лет. Но год становится длиннее года, и стано¬
вится тяжелее, как по волшебству, для тех, кто неустан¬
но ждет (какая пытка!), кто каждый вечер омрачается; для
кого каждую ночь умирает надежда, кто от работы увя¬
дает, все ниже и ниже склоняясь над бесконечным выши¬
ванием, как мать.
И было бы лучше, если бы Одон и Кларина продол¬
жали чахнуть вдали друг от друга, с обожаемым образом,
который каждый из них носит в себе.
*
* *
— Прощай, Анджелино.
Когда Ториза это сказала мне, я понял, что она
умрет раньше, чем я увижу ее. В ней еще много жизни.
Но она найдет средство умереть: она влюбилась в смерть.
Она. была слишком несчастна; весь мир слишком был
против нее. Я смотрел в последний раз, как она удаля¬
лась, со своим вздутым животом, который ненавидели не
только ее близкие, но и равнодушные и даже ее бедные
подруги. Она жива, завтра она будет мертва. Высшая от¬
рада—жизнь, только жизнь. И было бы лучше, если бы
Одон и Кларина оказались вместе, какими бы они ни
стали, только бы жили. Любить, это значит просто иметь
создание, одно из всех, которому не даешь умереть.
Клеман и Аннета.
Мелиодон и я, как два друга, вечером вышли из кельи.
На монастырском дворе мы встречаем человека с блед¬
ным лицом и, поклонившись, заговариваем с ним, чтобы
он нас узнал, так-как он слеп и ничего не видит. Это
Дом Дамас—доминиканец, находящийся в этом монаше¬
ском* ордене уже пятьдесят лет, с того самого дня, когда
его основал великий испанец Доминик. Аббат приютил
его в стенах монастыря Эльхо, принадлежащего к ордену
святого Бенедикта. Дом Дамас очень стар, волосы
и борода у него седые; уже много лет, как он ослеп.
Он тихо отвечает на наше приветствие и, не останавли¬
ваясь, проходит дальше. Его скрещенные на груди руки
134
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.
скрыты под длинными рукавами, голые ноги почернели
от дорожной пыли, потухшие глаза закрыты опущенными
веками. Он идет со склоненной головой и своим земли¬
стым бледным лицом напоминает мертвеца, только что
вышедшего из могилы.
В тот самый момент, когда мы чувствуем на себе
дуновение этого бледного призрака, Мелиодон окидывает
меня взглядом, полным недоумения. Это по поводу нашего
разговора с ним. Я воспоминаю его фразу: „Могу по¬
клясться вечным спасением, что я ничего не понял“. Меня
омрачает предчувствие. Я вижу, что он в этом покля¬
нется. Он отречется от меня. Он уже отрекается от меня,
этот певец с блестящими жестами, со словами полными
меду, творец стихов и фраз, закоренелый льстец пред
лицом всех священных вещей и сильных мира сего.
И я читаю на его лице ненависть поэта к исследователю.
В этот тихий вечер я направляю свои шаги к един¬
ственному, что еще для меня осталось в жизни,—к ней.
Перед Мелиодоном и мною, спускающимися по тро¬
пинке, покрытой падающими камнями, раскрывается кар¬
тина долины. Мы пробираемся туда, обходя огромные
каменные глыбы и сбитые в кучу хижины, в которых
ничто не шевелится и не слышно ни звука—молчаливые
хижины на фоне вечерней тишины.
Я иду к единственному, что для меня осталось в жизни,
иду к Аннете. Никогда я еще не чувствовал такой нужды
в ней, в ее великом сердце. Я чувствую, как каждый шаг,
приближающий меня к ней, вызывает на моих глазах
горячие слезы благодарности. И в то же время я дрожу.
В этот вечер, как и раньше, Аннета пришла к погра¬
ничной линии, чтобы увидеться со мною.
Темные пятна деревьев и кустарников напоминают
собой фигуры людей. Ветер то нагоняет, то разгоняет
тучи на бледном небе. Листья тополя колышатся один
вслед за другим, а его ветви, почти параллельные стволу,
меняются местами и бросают светлые пятна на черную
массу дерева..
Пограничная линия, пересекающая скалистый холм,
проходит по потоку. Это она является той непроходимой
КЛЕМАН И АННЕТА.
135
гранью, которая отделяет Эльхо от Рюламора, это она
чертит проклятье между этими двумя областями. Она
продолжается до моря, где некогда высадились, по преда¬
нию, завоеватели, воздвигнувшие первые укрепления Эльхо.
С этой стороны Эльхо,—с противоположной Рюламор.
Мне кажется, что равнодушная природа не признает этой
границы. Она властным взором глядит на деревья и не
ведает, кому они принадлежат. Ведь левый берег потока'
родной брат правого берега. Однако, на самом деле они
похожи только в том смысле, как один нож похож на
другой. Во всем этом кроется хитросплетение человече¬
ского ума.
Опасность и страх тяготеют и скрещиваются над
этой границей, и лишь ветер один может беспрепятственно
ее переходить. Ненависть Эльхо к Рюламору до того
проникла повсюду, что даже заставила выть сторожевых
собак с обеих сторон.
Я показываю Мелиодону место, которого он еще не
видел, покрытое, после недавнего столкновения между
вооруженными людьми, углем, обломками и обгоревшими
кустарниками, заметив при этом, что то же происходило
на противоположном берегу. Я говорю:
— Как обезумели люди!
Мелиодон, дрожа и недоверчиво озираясь вокруг,
кладет свою руку на мою и говорит:
— Стража Эльхо бродит повсюду. Уши Эльхо слы¬
шат все.
На этот раз он хочет, чтобы его услышали, и его
голос громко звучит в вечернем воздухе:
— Не будем восставать против того, что вечно. Эта
пограничная линия будет существовать всегда.
— Но, ведь, люди могут разрушить то, что они создали.
— Замолчите, — говорит Мелиодон.
У него подлая душа, и это меня раздражает.
— Вы говорите, Мелиодон, в своей „Поэме о Безум¬
ной Молодости": „Не воюйте, безумные люди!".
Он спорит, как маленький мальчик:
— Да, это мои слова, но только слова; я, как и все
поэты, произносил их на ветер. Мои слова, благо¬
136
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.
благодаренье богу, никогда не остановят войны. Они
освящают ее, даже тогда, когда проклинают. Роль у поэта,—
я уже говорил об этом, — та же, что у жаворонка—про¬
славлять. Он должен с особым благоговением относиться
к мудрости небесных и земных законов, к цветам, которые
украшают зеленеющие луга, к весенним рощам, к благо¬
разумию принцев и к славным ударам меча. Ведь сила—
самая главная добродетель! Вы же повсюду распро¬
страняете ваш суетный и мятежный дух.
Он говорит, что не хочет высказывать тех бесчи¬
сленных упреков, которые накипели в его душе по моему
адресу и распространяется о своей великой доброте.
А Аннета? Она стоит там, стоит неподвижно, освещен¬
ная светом вечерней зари, со своим широким лицом
поразительно бледного цвета, со своими худыми руками
и в голубом платье, на покрытой цветами траве.
Она, кроткая и тихая, вмешалась в наш разговор
и спокойным холодным тоном произнесла:
— Ты хочешь противоречить всему. Будь осторожен!
Я иду к ней, чтобы ее искать, чтобы ее найти, и вижу,
как зубцы моей шляпы отражаются в ее больших глазах.
— Ты мне внушаешь страх,—сказала она.
Тогда я увидел, что мы с нею разлучены навсегда.
Я увидел, что и она не поняла моих великих внутрен¬
них исканий и назвала их мятежом. Она родила и под¬
держала во мне надежду и дала мне силу, а сама оста¬
лась внизу со своей созидающей улыбкой. Мечта, которой
я ей обязан, оказалась выше ее сил. Когда она говорила:
это красиво,—то произносила эти слова, как и поэт, не
придавая им никакого значения. И теперь уже слишком
поздно, чтобы пбзвать ее обратно. Наш разрыв уже
завершен, так-как она боится меня, а тот которого боятся,
становится чужим.
В этот вечер мы больше не сказали друг другу ни
слова. Аннета меня тотчас же покинула. Она была огорчена,
но все, же неприступна, несмотря на свою пустоту и кро¬
тость. Ее бледная красота стала суровой, помертвела на ней.
Но что хуже всего,—мне сделалось еще тяжелее,
когда она скрылась с моих глаз.
КЛЕМАН И АННЕТА.
137
Я, охваченный скорбью, отвергнутый ею, стремительно,
как беглец, подымаюсь по скалам к себе домой.
Я больше ее не увижу, не заговорю с ней, даже если она
опять предстанет передо мною. Я во всем виноват. Я как
слепой не видел того, что увидели другие, и обманывал
себя этим вечным миражем, миражем тех, кто нуждается
в поддержке. Она осталась тем, чем и была. Затем
я слишком хорошо скрыл от нее мечту моей жизни.
Об этом следовало говорить. Молчание между двумя
существами, мгновение за мгновением, ткет смерть. Все
кончено; то о чем мы с ней говорили, уже не на устах
а в сердце у меня.
X.
ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ.
— Никогда не нужно доходить до конца идей.
На неровной дороге, где я обхожу своего дядю, я
смотрю на него, и мгновенно, как удар молнии, меня
охватывает ужас.
Я начинаю бешено ненавидеть его выхоленное лицо,
в изящной серебряной раме бороды и волос, и его прямо¬
линейные идеи, которые он чертит духовным перстом на
поле жизни, его хитрость, его грубую хитрость.
...Вдруг он настораживается: шум мотора приближается
к нам. Черты его лица искажаются ужасом перед смертью,
глаза разбегаются, щеки вспыхивают, он сжимает отво¬
роты своего черного пальто, в то время как мимо про¬
носится мотоциклист с вытянутым профилем, с открытым
ртом и откинутыми ветром волосами.
И никогда мой дядя не узнает, как я желал в этот
момент, чтобы он был раздавлен и уничтожен бешеной
машиной, он, этот мрачный буржуазный демагог, неисто¬
вый защитник посредственности.
Блеск животной ненависти к нему гаснет в моих гла¬
зах. Я иду, он семенит.
Сегодня знаменательное событие изменяет его судьбу:
реализуется проект Аликанских раскопок, который он вы¬
работал уже много лет назад, и по этой-то причине мы
направляемся вместе в помещение старого монастыря, где
сформирована бригада рабочих.
На нем новые спортивные башмаки, купленные для
настоящего случая, минутами он надувается гордостью,
ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ. 139
громко хвастается достигнутым успехом и выставляет на
вид, сколько надо было таланта, чтобы сломить упорство
префектуры и министерства.
Он благоволит отвечать на мои вопросы.
— Отлично. Среди залежей ископаемых открыли опре¬
деленные следы победоносной войны, которую брахице¬
фалы неолитические (переведите, молодой человек, так:
люди с круглым черепом периода орудий из полиро¬
ванного камня) вели против долихоцефалов палеолитиче¬
ских. (Это значит, Клеман,—если вы смысла слов не ула¬
вливаете,—черепа удлиненные, оружие из тесаного камня).
— Эгберт, барон д’Эльхо? Вычеркните это в ваших
бумагах! Где вы выудили это имя, мой ученый племян¬
ник? Это не местное имя, это имя германское и даже хуже,
чем германское: саксонское. Это, между прочим, имя вели¬
кого короля Уессекса, который в Гептархии, положил,
если можно так выразиться, первый камень английского
могущества, уже добрую тысячу лет тому назад. Что же
касается поместья Эльхо, входящего в королевство Арль,
то у нас нет полной родословной владетельных баро¬
нов, сменявшихся там и принадлежавших к могуществен¬
ному дому Корнюде. Но излюбленным у них было имя
Раймон. Я вас очень удивлю, Клеман, если прибавлю,
что бароны д’Аликан не имеют даже тени связи с этой
фамилией, уже давно угасшей. В конце концов бароны
д’Аликан тоже угасли, хотя и существуют. Богатые местные
купцы де Массар купили баронский титул д’Аликан,
в XVIII в. Они совершили почти ту же операцию, быструю
и остроумную, смею сказать, и даже хирургическую, как
и Гойон Матиньонье, привившие при помощи звонкой
монеты отпрыск своей фамилии к родословному дереву
Монакских принцев, и в действительности не имеющие
ничего общего с Гримальди, кроме как на страницах
Готского альманаха. Но, сказать по правде, мой племян¬
ник, это скользкая почва: г. барон Массар д’Аликан, депу¬
тат и генеральный советник,—член археологической комис¬
сии и глава раскопок, и понятно, что никогда наши работы
не должны касаться культивированной семейной традиции
относительно знатности его‘фамилии и ценности герба его
__140 ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ.
предков. Вы знаете, г. д’Аликан очень почтенная и зна¬
чительная особа; он предан демократическому режиму
свободы, провозглашенной в 1871 г.; по крайней мере он
утверждает это при всяком удобном случае, особенно
среди избирателей, и было бы плохой благодарностью
предполагать противное.
Мы подошли к месту раскопок. На бледно голубой
гуаши неба вырисовывались черные силуеты рабочих,
опершихся на кривые заступы, и вехи, обозначающие
место работы, и господа в цилиндрах, той формы, ка¬
кие в деревне носят приглашенные на свадьбу. С при¬
ходом моего дяди, группы черных силуетов рассеялись;
началась церемония улыбок и приподнятых шляп.
Только сегодня, случайно, у меня явилась мысль, что
эти раскопки имеют связь с моей фантастической жизнью,
что кирка и заступ взрывают место, где протекали дни
моего прошлого.
Уже месяц, как я погружаюсь в минувшие дни, а на
поверхности текущих дней веду беседы с дядей Рафаром;
я никогда не соединял путей моей внутренней жизни с
этой почтенной комедией археологических изысканий,
ежедневно возобновляемых и знакомых мне с детства,
так же как священное писание. Мы не умеем делать даже
чудовищно простых сближений.
Я не вмешиваюсь в современность. Моя работа, мои
писания? Они родились от чего-то великого, скрытого
от. меня и я не могу больше приложить к ним руку; то,
к чему я стремлюсь, не имеет ни названия, ни цели. Это
не творение, потому что оно не имеет тела, и я не могу
считать его работой; но я живу для него, и оно терзает
мою душу. Я бесцельно трачу свои силы и не извлекаю
пользы из того, что вижу. Не должен ли я во время своего
бдения, нетерпеливый, перенестись в мир сверхъестествен¬
ного и попытаться во имя нескольких глубоких моментов
жить для них и с ними, с этими существами, воплотив¬
шимися в настоящем, этих современников, рассеянных
в небытии, но блеск которых отражается во мне, потому что
все они мои предки!
Но я оставляю их, я забываю их.
ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ.
141
Я не ищу моих видений на земле. Я не могу. Я устал
и измучился. Когда я возрождаюсь к нормальной жизни,
материальной и мелочной, я чувствую, что силы мои на
исходе, и я чувствую себя—словно в темнице. Я не на
высоте моих грез. Приключение приняло для меня уже
слишком значительные размеры. Оно поглощает больше
жизни, чем я могу охватить. Никому не суждено быть
слишком великим. Как было бы велико и прекрасно свя¬
зать события одно с другим и создать цепь. Кто сотворил
их, хотя бы среди богов,—эти вдохновенные молитвы, эти
прекрасные достижения, которые существовали и разви¬
вались, и открывали свою душу всем? Я нахожусь
в человеческом аду, в аду пошлости, посредственности, при¬
зраков людей, неуверенности и смешения языков.
И несмотря на мое стремление к величию, я тихо,
но верно иду к ничтожеству. Как ни поразительна крат¬
ковременность призрачного существования (в первый
раз я испытал целый мир впечатлений, всходя по ле¬
стнице, в другие разы переживал сложные превратности
судьбы в течение нескольких минут полусна или мгновен¬
ного жеста, в реальной обстановке), тем не менЬе абсолют¬
ная интенсивность этой внутренней жизни осаждает меня,
сжимает меня, и грызет меня. Это борьба на поражение;
если я не боюсь ее (как все и всегда), то потому, что
не хочу и не умею ее понять.
— Вполне очевидно, что здесь произошло сползание
почвы. С двух сторон открыты края каменного пласта.
— Совершенно несправедливо это место регистри¬
руется,как составная часть Рюламора.
Дядя ускользает от меня. Эти господа ходят взад й
вперед, тычат пальцами в пространство, считают шаги,
сосредоточенно опустив подбородки. Эрудиция, при¬
правленная местной историей, обильно исходит из их уст
по поводу малейшей детали. Я вижу, что мы, они и я,
заинтересованы одним и тем же, хотя и ясно сознаю, что
между нами нет ничего общего. Я—в жизни, они—в смерти.
Я воскрешаю к жизни прошлое, как пророк того, чего нет
142 ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ.
уже. Для меня нет никакой помощи в их шифрованных*
и технических резюме, в их выжимках из минувшего. Ал¬
гебра, пустота, ничто. Книги уже дали мне величайший урок
малозначительности искусственных синтезов и символов.
И все же, несмотря на все, я подстерегаю, подстерегаю
даже слова...
Я разделяю волнение дяди Рафара. Он потерял свое
кашне, положенное им неизвестно куда. Он держит в пра¬
вой руке открытую книгу, а под левой закрытую. Он
ухватывается за меня и призывает в свидетели низким,
озабоченным голосом, возбужденно присматриваясь к кон¬
фигурации местности.
— Смотрите!—вот правое крыло. Это та часть, которую
описал аббат Винье в своей истории прованских монасты¬
рей, обнародованной в 1777 г., где он говорит, что в его
время показывали развалины и особенно интересовались
кельей колдуна.
Келья колдуна? Это название, как чТо-то реальное,
вошло в мое сердце. Я быстро спросил.
— Колдун... что с ним сделалось?
Мой дядя понесся, как стрела, я за ним, смутно со¬
знавая смешную сторону этой сцены.
— Он был сожжен, — отвечает он,—двадцать метров
дальше.
Господин Рафар наклонился над работой землекопа,
не спуская глаз с его инструмента.
— Он наводил ужас на крестьян колдовством и зло¬
бою. Он варил яблоки под мышкой, он нагонял мет¬
лой бурю, он пользовался адским огнем: вот что он де¬
лал. Одни говорят, что, через много лет после смерти,
его труп был выкопан и сожжен. Другие утверждают, что
он был сожжен живым. Осторожнее, мой друг, копайте
осторожнее. Тут, как будто, резная работа.
Но ветер унес эти слова. Это положительное и грубое
об’яснение было похоже на торжественный фарс, конечно,
оно не коснулось того существа, которое притягивало меня
к себе и ничто не изменилось. И к тому же... человек, который
так определенно утверждает, знает ли сам, что говорит даже
в плане тех случайных данных, которыми он располагает?
ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ. J43
Это все равно, как если бы он не сказал ничего.
Среди этих людей, которые волнуются и суетятся
над обломками прошлого, я одинок, одинок. Я не пони¬
маю их, и они не понимают меня. Нет ничего общего
между мною, идущим вперед в бесконечном течении,
и этими могильными руками, которые вылавливают останки
на кладбищах и просеивают прах. Я одинок. Я могу опе¬
реться только на самого себя.
Произошло событие бесконечной важности. Они—три
землекопа — отошли, и среди них явился он, во весь
рост, белый.
Камень]
Руки поддержали его и поставили на свет. Я слышал
говор:—„это любопытно, это голова собаки0, в то время,
как я подходил к нему.
Никто не обратил на меня внимания, никто не видел
моих исполненных ужаса глаз. Это камень, это он! Испор¬
ченный рисунок оказался не совсем тем, что я думал: он
покрылся налетом от долгого пребывания в подземелья. Я
двинулся вперед нетвердыми шагами и опустился перед
ним на колени, как будто желая рассмотреть его поближе
и положил руки на большой камень. Это изображение,
прикосновение к которому я чувствовал на коже своих
пальцев, это его я погружал в воду бесчисленное коли¬
чество тысячелетий тому назад: это его я целовал, обмы¬
ваемый волнами, как волна, двадцать пять веков тому
назад; это я держал его в руках, когда здесь с правой
стороны появилась царапина, уже сглаженная воздухом.
Если бы я об этом рассказал, какой крик: „берегитесь
сумасшедшего0 раздался бы сейчас в этом маленьком,
чужом мире. Я остался там, с холодной немотой в руках пе¬
ред неизгладимым знаком, несокрушимым как вершина горы.
Потом прошли часы, мое бешеное волнение улеглось,
настала скука. Дело не подвигалось, работы стали скуч¬
ными. Нашли монастырскую ограду, разрушенную горным
обвалом. Открыли кучи камней, землистых и обожженных,
их тотчас разложили по порядку, внесли в опись, при¬
клеили этикетки. Камень собачьей головы, покрытый слоем
144
ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ.
земли, подлежал очистке и реставрации после его дол¬
гого заключения. К вечеру находка железного кольца на
мгновение оживила интерес. Оно было очень большое,
как ожерелье, все из’еденное и проржавленное, так же,
как и болт, которым оно было прикреплено к стене.
Этот кусок больного железа, конкретный предмет, пере¬
живший развеянные временем сооружения, едва привлек
мое внимание и о нем скоро забыли.
Это здесь проходил Клеман Нурри, когда покинул
Аннету. Я смеюсь. Гордость ли это, или унижение, или
отчаянье? Это было здесь... Ничто не заполнит бездны
между минувшим и сегодняшним.
Даже алтарь в форме собачьей головы не заполнит
ее, потому что он в прошедшем и ничего не дает теперь.
Этот волнующий, почти страшный обломок, валяю¬
щийся под ногами (на него положили железное кольцо,
вокруг которого распалась темница), потерял все свое
значение.
Камень, он был, его уже нет.Вастоящиймомент
это крайнее и неподражаемое уродство жизни. Это тело
истины перестало жить, оно делается ложью, и тогда нет
слова более лживого, чем слово воскресение. Каждая
минута—вершина, вокруг которой все рушится. Всегда на
этой точке пересечения, на настоящем, только на нем,
зиждутся прочные утверждения философов и сердец.
Прочные утверждения философов!—но есть и завоевания
метафизики.
Рассудили так. Есть две основных тенденции в челове¬
ческих исканиях—суб’ективизм и об’ективизм (внутренний
мир и внешний последовательно один в другом). Суб’екти-
визм—лицо, об’ективизм—изнанка. Они правы, эти инди¬
видуалисты. Они правы, как всегда прав крик плоти, а
на другом конце гармоний—собака, уже убитая, лижет
мне ноги.
Нужен блеск жизни. Он здесь. Из всех тех, чьи мо¬
гилы я раскрываю, тот, который движется под моими
ногами, тень которого держит меня, как в нагретом саване,
самый великий. Это тот, кто, я чувствую, лучший охра¬
нитель меня, такого ничтожного. Он прошел здесь.
ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ. 145
Я вижу, как идет Марта Уриэль. Она останавливается
в лучах заходящего солнца, и я направляюсь к ней. На
ней широкий, красноватый плащ, она волочит его, ее
плечи открыты, складки плаща тянутся по земле, цвету¬
щей асфоделями.
Я цепляюсь еще как за лоскут тела, за последние ми¬
нуты долгого виденья. Я шел в отчаяньи. Мое страдание
усиливали упреки совести за то, что я промолчал, за то,
что молча допустил Аннету стать чужой, подготовив раз¬
рыв. Не говорить—это стирать дни существования. Мол¬
чание между двумя, мгновение за мгновением, ткет смерть.
Иногда довольно одной секунды молчанья, чтобы пришло
разлучить их вечное молчанье. И все убеждало меня гово¬
рить: сама земля, и деревья шептали мне это..
Марта там стоит, как стояла Аннета. Так же освещало
солнце нежным светом ее фигуру, красивые складки платья.
Лицо было то же. Никогда они так не сливались в одно.
В этот вечер Марта искала меня, чтобы спросить. Она
предчувствовала тайну, на которую имела право. В сто¬
роне от людей тихий голос ее коснулся моего лица: я
почувствовал теплое благоуханное дуновение на моих
ресницах.
— Говорят, что ты живешь в звездном сне.
Она пришла за моим признанием. Все побуждало меня
говорить в теплом единении с нею,—вечер и самые де¬
ревья, я медлил, трепетал и помимо себя, помимо всего,
я отрекся от правды, я не хотел разделять свой свет.
— Да нет же, нет! У меня нет снов.
*
* *
Почему, когда я снова увидел покрытое ржавчиной,
словно разбухшее железное кольцо, некогда стиравшееся
о шеи живых, во мне произошел резкий поворот мысли—
о значительности этого предмета?.. Вот нечто реальное,
конкретное, извлеченное из мира, некогда существовавшего.
Это существует и снова существует, между тем как
я только образ. Я ничто. Это они близки к правде, эти
раскапыватели, эти искатели камней, эти исследователи
костяков и мест погребения.
А. Барбюсс.—Звенья.
10
146
ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ.
След шагов. Я смотрю на землю там, где прошло
столько других. Думать—нечего. Нужен след шагов. Ра¬
бочий день закончился. Люди разошлись и оставили меня.
Пусто с этой стороны: холмик, где блестел и погас луч
женщины; пусто: развалины монастыря в тени; но, хотя
и разрушенный, он все же властвует надо мной. Уста¬
лый, измученный страданьем молчанья, я иду к мона¬
стырю. Я подхожу. Бесконечное восхождение по скользким
камням. С этой стороны, вровень с землей, окно моей
кельи.
Внизу, между горами, скользит косой луч, освещая
через искрящееся стекло помещение. Моя голова возвы¬
шается над рамой, и я вижу снаружи мое обветшалое тес¬
ное жилище, эту великую пустыню, где отныне я буду
дважды одинок.
Но я останавливаюсь, отступаю и хватаюсь рукой за
выступ камня; я слышу изнутри шум. Дверь в помещение
распахивается. Через четырехугольную дыру выступает
белая фигура. Слепой доминиканец! Он входит в мою
келью, он пересекает ее. Я отчетливо вижу его ноги
в сандалиях, оставляющие следы на пыльном полу, его длин¬
ную фигуру в капюшоне, согнутую, как монастырский свод.
Как знает он направление? Он протягивает вперед
руки, эти руки, всегда спрятанные, как кости, в скрещен¬
ных рукавах, невидящие, как и его глаза. Он поднимает
лицо. Видны не взоры, но только глаза, движущиеся
раны, покрытые липкой мокротой с его ресниц.
Он идет прямо к листкам, на которых я все написал,
и схватывает их... Он приближает их к лицу словно для
того, чтобы прочесть. Он читает их. Потом бледный при¬
зрак берет чернила и крупно пишет наверху одного из
лиотков мое имя: Клеман Нурри.
Обломок. Развалины. Мгновенное постижение козней,
окруживших меня, проникает до глубины моей души.
Церковь, эта сила времен, я вижу — слишком поздно
применяет свои средства: этот человек подземными путями
пришел к самому сердцу моей судьбы с проказой белцзны.
Слышится болтливый и звонкий голос Мелиодона, по¬
дошедшего ко мне, задыхающегося, этот голос прыгаю-
ВЫКАПЫВАНЬЕ МЕРТВЫХ.
147
щий с предмета на предмет, рассказывающий о гербе
маркграфа Пильнитца, в то время, как ладони моей руки
припечатались к выступу камня, за который я ухватился.
Этот спокойнейший в мире голос, голос, остановить кото¬
рый я не в силах, который никогда ничего не
слышит, оледенил меня, как неотвратимый приговор.
Я застыл на месте, такой беспомощный^ такой побеж¬
денный, что шатался на ногах, не будучи в силах дви¬
нуться ни вперед, ни назад. Я сразу подумал обо всем и
вспомнил о своем отце, от которого я наследовал жажду
познания вселенной. Когда я был ребенком, его беспо¬
коило, что я во всем с жаром отыскиваю скрытое сокро¬
вище, и однажды я слышал, как он прошептал: „Что с ним
будет?“, и по нежности его голоса я понял, что он гово¬
рит обо мне.
10*
XI.
ЗАТЕРЯННОЕ
Идя на рассвете на рабочее поле, он увидел на берегу
реки цепь пленных, связанных по двое, с которыми швед¬
ский капитан не знал, что делать...
Он видел также в долине могильщика, роющего яму.
— Это для только что казненного,—сказал могильщик.
— Где тело?
— Он еще жив и здоров. Это безупречный человек,
на которого донес его сосед. Сейчас ему вырвут язык,
потом четыре лошади разорвут его на части. Постойте,
я вам вот что скажу, раз вы так на меня глядите: в сущ¬
ности я не злой чело'век, но принужден быть католиком.
Вечером, когда он возвращался, яма была засыпана
и над нею был холм.
Вечером, когда он возвращался, он увидел, как вся
цепь пленных, связанных по двое, тихо плыла по реке,
*
* *
Она улыбалась в пространство и была одна, совсем
одна со своей улыбкой. Ее лицо казалось лицом утонув¬
шей. Бедная улыбка Торизы, ее тяжелая фигура поды¬
мается к Сент-Бому. Она осуждена на смерть ненавистью
и хулою несчастных, ее окружающих. Ее оскорбляли, ее
выгнали, потому что она готовилась стать матерью. Для
нее не найдется даже, как для других умерших, несколь¬
ких переживших ее безумцев, чтобы оплакивать ее. Все
отвергло ее/Никакая часовня не поможет ей больше. Она
преклонила колени и пыталась говорить с невозможным.
149
3 А Т Е Р Я Н Н О Е.
Как могло случиться, что религия бедных пренебрегает
самыми бедными?
Смешались очертания хрупкого образа на горе, и перед
глазами появилось облачное изображение женщины, тоже
согбенной и тоже возносящейся. Она подымалась в ска¬
листое святилище Баалтиса, которое там... Сколько жен¬
щин подымалось к одной из тех богинь, которые, в смене
дней, разделяли великие печали женщин и меняли только
имена.
Святой Марии Магдалине, жившей семь лет в Сент-
Боме посчастливилось: она любила и грешила в то время
когда бог ходил по земле и она знала его лично, его
и весь его двор, настолько знала, что Иисус пришел на¬
вестить ее в Сент - Боме и заставил забить фонтан
только для того, чтобы вернуть ей потерянное сокровище;
прежнюю белизну ее рук. Мария Магдалина родилась в
замке Магдал, как святая Розелина в замке Арк. Это
были важные особы. Когда пришелее смертный час, дева
Мария открыла ей свои об*ятия. Ах, не старая Сентанж
сделает это! Была еще Сара Египтянка, которая шла с
Марией Магдалиной, Мария Саламе, Мария Иакова и свя¬
тые на барке! Сара, покровительница странников* и заблу¬
дившихся, но она тоже входила в круг увенчанных оре¬
олом созданий.
А мы, мы встречаем богов только в живописи, и из¬
ображение Христа на больших дорогах, изображение, обла¬
дающее необыкновенной способностью никогда не двигаться
с места. Ториза подошла на паперти к одной из монахинь,
но та ответила ледяным молчаньем, и Ториза испугалась
этой рябой женщины.
И ей стало стыдно быть таким ничтожеством на вер¬
шине, откуда она готовилась улететь далеко.
*
* *
События развернулись, крики нашли свои места.
Последние содрогания долин, последнее содрогание
торжествующего смеха господина. Он пенится, высший
разум, который смеется наверху,. и его брызги доходят
до мозгов, выглянувших из своих круглых ящиков. Этот
150
ЗАТЕРЯННОЕ.
разум делает все, что хочет, сказав, чего хочет. Когда
слушают, в раскатах грома слышатся отдельные слога и
создается величественное основание, происходящее из туч
для слов: „я взял оружие, чтобы прославить моего бога
Ассура“.
*
* *
Сердце и воля, сплетенные как тирс, ускользнули от
тирана. Внутренний мир не сделался добычей господина.
О, Эпиктет, о, резонер, который воображает, что ткет
фразами действительность иную, приди и взгляни, есть ли
в самых глубинах души что-нибудь спрятанное от Гос¬
подина.
Верховный вождь показывает дома.
— Я решил,—одни из них сжечь, другие замуровать.
На крыше горящего дома видна чистая, юная девствен¬
ница, обнаженная, которая танцует, прежде чем изжариться.
Эй, вы! Сломайте эту стену, войдите в этот дом, где я ве¬
лел замуровать мужчину с женщиной, двух влюбленных с
их маленьким ребенком. Они любили друг друга. Смо¬
трите на них. Они умерли, вонзая ногти в тело один дру¬
гому. Это ясно, что произошло с ними: любовь обрати¬
лась в ненависть. И так всегда бывает, когда очень
боятся или очень голодают. А, грудь раздавлена. На ней
следы зубов. Мертвая радостно косит глаза на эти укусы.
Ребенок изуродован. Они ему обгрызли руки...
Все ли ты еще будешь говорить, что над внутренней
жизнью мы не имеем власти. Бедная внутренняя жизнь,
которую ты, никуда не можешь запрятать.
Еще лучше, посмотри на этого человека, свалившегося
мертвым у подножия стены. Он сжал руки с таким горь¬
ким, с таким яростным отчаяньем, что одна из его рук
сломана. Смотри, чтобы видеть, что властелин силы спо¬
собен бросить одну против другой двух сестер: правую
руку и левую руку.
Но в углу, среди детских тел, собака умерла от голода.
*
* *
Военачальник, шея которого по своему цвету и мощ¬
ности напоминала шею быка, ни на мгновенье не переставал
виновный.
151
бурно смеяться, пока связывал, тащил по земле и сбра¬
сывал со стены на острые камни часового, которого на¬
шел спящим при обходе постов. Когда метали жребий,
кого принести в жертву, отца, мать или детей, потому что
вождю сейчас был нужен труп, и когда каждый пытался
на спех каким-нибудь обманом обратить смерть на других,
солдаты смеялись.
Но те же самые бедные солдаты, которым поручили
казнить ребенка, играли с ним до конца, чтобы он не
понял.
А другие простые солдаты не решились прибавить
свои мешки к тем, которые уже несла старая лошадь,
потому .что их было слишком много и они, сами исто¬
щенные, понесли свое бремя, чтобы избавить от него
лошадь. Поле сражения, усеянное камнями, ядом, смертью,
сожженное и обезображенное — природа, переделанная
людьми—это лошадиное поле.
Военные лошади в строю, как каменные столы, серые
камни в степях со времен Номеное и даже Конана Ме-
риадека. И был даже осел цвета пепла.
Лошади солдаты! Животные похожи на человеческие
существа. Они представляют их сущность и простоту.
Они изображают правдивые слова. И иногда они значат
для нас больше и лучше, чем мы сами для себя—это
потому, что человек богат, а животное бедно.
-Древняя религия, мать других, естественно выбрала
чистые линии, которые среди животных представляют
человека. Она создала символы, в которые уперся грубый
культ, но которые заслуживают уважения, доходящего
до обожания. Военные лошади в строю говорят: невин¬
ность, незнание причин, послушание и великая безумная
смесь силы и слабости.
Виновный»
— Меркуцио! Меркуцио! Не медли! Порази1 Ты один
это можешь, ты знаешь его... Известие достоверно: он
приказал в эту ночь убить двенадцать тысяч падуанцев
своей армии, чтобы отомстить за взятие своего города
152
ВИНОВНЫМ.
Падуи... Порази Эчеллино, порази Романо, хотя бы тебе
пришлось пожертвовать своею жизнью, чтобы избавить
от него мир.
— Я не боюсь умереть, но я не хочу убивать.
— Если ты убьешь его, двенадцать тысяч невинно
осужденных им останутся жить.
— Не нужно делать того, что осуждаешь в другом.
Неужели из ненависти к насилию я пролью кровь!
— Спеши1 Порази зло в голову и сердце!
— Я не убью, потому что убивать не должно.
Эчелино Романо, гибелин, тиран Падуи, отдал приказ
перед Мантуей, ночью, и двенадцать тысяч падуанцев
его армии были уничтожены.
Кого господь бог поразит первым? Того, кто убил, или
того, кто не убил?
XII.
ГЛУБИНА ГОЛОСОВ.
Массар.
Ночь. Ни ветра, ни какого-либо шума, который бы обо¬
значал или указывал глубину.
Я протягиваю руки, я прикасаюсь пальцами к колю¬
чим иглам сосен, настолько близких, что слышно их ды¬
хание. Со всех сторон они двигаются по направлению
к моему лбу, склоненному лбу поднимающегося на гору
человека.
На этот вечер я освободился от своей семьи, любя¬
щей, ласковой и нежной.—„Оставьте меня0, и все про¬
шептали:—„Оставим господина0. Они оставались за сто¬
лом, где звучали весы и денежные ящики. Мой сын
и моя невестка остались на том же месте, рядом друг
с другом, с изумленными глазами.
(По правде говоря, когда я один, то вспоминаю порою,
эти люди—брат и сестра, так как оба родились от меня.
Но никто не знает этого. Маго, жена Гилломена, дарившая
меня своей благосклонностью, умерла как раз вотвремя,
чтобы мог осуществиться союз наших детей, благоприят¬
ный для моих денежных дел. Что касается бога, третьего
в этом секрете, то я думаю, он не только простил этот
брак, но даже благословил его, в виду обилия даров и
нежной настойчивости молитв).
Все улыбалось мне в этом мире. Для золота, которое
я собирал, понадобились обширные подвалы в моем доме.
Все говорили:—„г. Массар должен называться г. Ламбар-
1,4
ГЛУБИНА ГОЛОСОВ.
дом“. Я ввел на берегах военные торговые законы. У меня
были свои капитаны, привозившие мне товары из своих
экспедиций; у меня свой жид. Он, как эта мебель, при¬
надлежит мне. Я купил его, чтобы заниматься ростовщи¬
чеством через его гнусные руки, что чудесно обогащает
принципала, и что святой церковью (а вчера еще нашим
святым королем) было запрещено христианам непосред¬
ственно.
Итак, мне удалось отомстить за свою прежнюю бед¬
ность и взять в свои руки судьбу других, потому что нет
земного рая, где всем охватило бы места и каждому счастли¬
вому здесь нужно питаться веществом многих несчастных.
Я шел в тени деревень и лесов, осторожным, опытным,
но, все же, шагом слепого. Наконец, миновал просторную
поляну, до такой степени заваленную камнями, как будто
здесь разрушился целый город (Место убийственное для
деревьев, где их скелеты тянутся к звездам побелевшими
ветвями). Я наткнулся на две покрытые мохом скалы,
образующие портик. Потом, протянув руку, нащупал
отверстие. Я двинулся вперед, больше нет вокруг меня
простора, я в глубине подземелий и даже, если бы солнце
блистало сверху, я все же оставался бы в этой тяжелой
темноте.
Я попал в укромное и таинственное место, без сомне¬
ния известное сейчас только мне одному, где звучит эхо
голосов большой залы замка Эльхо.
Ибо я знал, что удивительное событие сейчас разы¬
грается в этой зале: я едва осмеливаюсь произнести про
себя имя гостя. Это барон Рюламор, сам старый Эрмелин!
Эльхо и Рюламор, страшно друг друга ненавидящие,
решили встретиться в эту ночь, чтобы поговорить. Это
случилось в первый раз после многих веков борьбы,
источника блеска и славы этих домов. Поэтому я, стре¬
мящийся к знаний),"~иду искать в этой земле отзвуки этой
невероятной встречи,4 как одни в ней ищут нетленное
сокровище, как другие приходили сюда на мрачные
празднества страшного культа гениев земли.
МАССАР.
1Ь5
Я остановился. Это здесь, в этом узком рву, где рука
моя нащупывает шесть рядов камней. Это здесь, куда ис¬
кусное сооружение провело голос среди смутных шумов
глубины.
Едва я вошел в этот саркофаг, как огромный камень
сказал мне:
— Привет.
Да, это слово вышло из бесконечной стены и я испу¬
гался этого отрывистого и ледяного звука, как чего-то,
не имеющего формы и скользящего, как летучая мышь.
Можно было бы сказать, что двинулись и дрогнули камни,
чтобы бросить мне этот привет! Это капля души, па¬
дающая в неподвижность. Я прислонился к стене, завер¬
нувшись в плащ, и с жадностью подняв к оракулу на¬
верху вопрошающее лицо.
И вот в этой мрачной исповедальне я осажден голо¬
сами без лиц. Они—в камнях, как камни. Два, три го¬
лоса. Они звучат и сталкиваются. Как плохо я слышу.
Но вокруг, меня раздается смутный шум, стуки, шаги:
вся масса звуков, разрозненных в жизни. Я закрываю
глаза, чтобы видеть то, что я слышу...
Жалобы, рыданья, ярость доходят до моего воровского
слуха:—А н а ф е м а.
— Установленный порядок в опасности.
Уваженье, смерть...—Этот протяжный крик несется из
замка по корням деревьев через мертвецов; говорящий,
старый властелин, борется против разрушения культа;
и мне кажется я вижу на его лице гнев, как блуждающий
огонь. Гремят раскаты его голоса. — Вера уходит...—
с глухим, прерывистым шумом повторяет мне это слово
зверь земли:—в ера уходит. Разум народа оже¬
сточается. Буржуазный и светский заговор.
Но еще. Больше. Еще! Тревога! Крик неизмеримый
по силе, крик без уст, ураган несется и бьет меня сквозь
замордованный мир.—Распространяющееся бесчестие, язва
бесчестия и стыда. Население деревень и городов изменяет
своим вечным господам, опрокидывает их судьбы и имена.
' И он говорит- все, громовым голосом, высокий гово¬
рун, свирепый властитель, говорит:—Жадность француз-
156 ГЛУБИНА ГОЛОСОВ.
ского короля, уничтожение беспочвенного
дворянства.
Опасность соединяет их, воплощающих собою две
страны. Эта угроза во всех формах стучит в мою под¬
слушивающую голову и меж потерянных в океане зву¬
ков и нерасслышанных слов я разбираю, что дело идет
не просто о наследственных привилегиях, ожидающих господ
при графе Прованском или императоре германском. Теперь,
когда крупные государи сожрали мелких, самый крупный:
скипетроносец Парижа и Реймса—округляет свои земли
вплоть до их земель и хочет их пожрать.
Этот могущественный чужеземец внушает им трепет
и ужас. Трепещущие голоса доносятся до меня из-под
земли, их гнев возбуждает низость народов: они предпо¬
читают жить в мире, народы готовятся к еретическому
изуродованию отечества (единственное их желанное оте¬
чество-отцовская земля, колокольня и замок). Они при¬
носят в жертву бездушной идее честь, ненужные им про¬
странства, как и сам мир, от севера до юга, от востока
до заката во имя одного слова: имя короля...
Я плохо разбираю фразы, но повторяю их сквозь стис¬
нутые зубы.
Низкие апостолы догмы французского братства—кощун¬
ственные слова продавшиеся королю, осмеливаются рас¬
пространять свои ошибки, за которые платятся крестьяне
и бедняки. Плебеи не ограничивают своего честолюбия,
как некогда, интересами государей, они думают уже
и о своей выгоде. Так развивается великая идея порядка
и колеблется стройное иерархическое здание имущих
и толпы,—мудрая организация человеческого неравенства.
Пора пополнить французский язык. У нас вырывают
слова, как нитки из ткани.
Внимание, наши суверенные короны будут разбиты,
как и наше военное право.
Вопль ограбленных властелинов, проклятья против нового
закона, простирающегося на мир,—все это явилось моим
ослепленным глазам в глубине погреба среди шести стен.
Но они не хотят царства лилии. Их страшное сердце
возмущается:—Пусть лучше погибнут наши на-
М А С С А Р. 157
роды и наши земли, чем наши состояния (а я?
в чем мой интерес?).
Они перестали кричать. Они говорят тихо, как биенье
моего сердца. Что готовят они? Я не знаю. Слова не
имеют контуров, они пожирают меня как черви. Я уже
не воспринимаю кровавого источника их слов.
Ах, так: война!
Я не слышу разговора, — но смех. Я вижу пути их
смеха. В этой яме, где обильная тайна сочится капля за
каплей, я на мгновение вижу их смех, потом звук и свет
исчезают — это их смех или шум железа и бряцанье ору¬
жия. Я вижу и это. Два врага заключают союз между
собою, несмотря на вражду. Законы и союзы сил: они
более, чем велики.
XIII.
КРУГ МИРА.
Черный ночной холод на маленькой станции. Редкие
пассажиры словно выметены дождем и ветром. Они, дрожа,
жмутся на скамейке в ожидании поезда, который повезет
их далеко. Дверь со стеклянной рамой, на которой играют
светлые блики, открывается на набережную. Через эту
раму, в которую бьется ветер, виден шар электрического
фонаря и вокруг него сеть дождя. Совсем белый в чер¬
ноте, шар привлекает и приковывает взгляды. Дождь, как
стеклянная оболочка, окружает фонарь, и лужи словно
кипят.
Топтание мокрых ног пачкает густыми чернилами мо¬
стовую около тюрьмы ожидания. За сетью дождя можно
видеть геометрические железнодорожные линии, блестящие
искрами под электрическим светом. Рычаги, как серебря¬
ные, напрягаясь, держат напряженные стрелки; блестящие
рельсы; подъемные машины, похожие на катафалк, укра¬
шенный страусовыми перьямй. Пейзаж денежного сундука
и замков, приноровленный к правильному движению жизни
на земле.
Внутри, прислонясь спиной к стене, покрытой каплями
угольного пота, жмутся на скамейке друг к другу в полу¬
мраке печальные люди и ждут, ждут, • изнемогают от ожи¬
данья с напряженными, расстроенными, зевающими, мок¬
рыми лицами. Иногда две тени оживают, чтобы спросить
друг у друга) который час.
*
* . *
Белый круг электрической луны, виднеющийся че¬
рез черный квадрат окна, становится золотым' желтым.
КРУГ МИРА. 1’Л)
Он исходит из необъятного моря. Это смутно, это пре¬
красно, это нежно. Вечер—отдает ароматом.
Отец, расскажи нам еще...
Они увлечены только что рассказанным, еще волную¬
щим их великим приключением, эти маленькие золотые
головки, сгруппировавшиеся в комнате, такие еще детские,
что не возвышаются над столом.
— Это было давно, дети... Во времена, когда мы
были с людьми.
„Во времена, когда мы были с людьми... Уже двести
лет, как наши отделены от людей, двести лет, как те,
что-вступили на „Сент-Бом“, отброшены бурей сюда на край
моря. Сойдя с корабля, они покорили прибрежных жи¬
телей, так как были лучше вооружены. Они сформиро¬
вали из них кадры рабочих на коммунистических началах
и основали город.
„Несмотря на то, что жизнь шла своим ходом, что
земля старелась вместе с людьми, что правильно чередо¬
вались поколения, и каждое отмечено именем патриарха,
стоявшего во главе: Иоанн, Рено, Мишель, Иоанн, Ба-
стиен, Рено, мы, в действительности, все еще живем
в эпохе, когда наши прадеды вступили на этот берег.
„Мы слишком оторвались от старого мира: мы поте¬
ряли секрет величия. Континентальная плотина, к которой
мы подошли—барьер, отделяющий нас от мира, и мы не
можем его перейти: все экспедиции через несколько
дней пути в страхе возвращаются, и кроме того мы
знаем, что на севере тянется безграничная, . суровая
страна, где некогда протекала жизнь. Когда наши отцы,
гиганты человечества, вступили сюда, они не были первыми
чужеземцами. Исландцы из Биорниса и Лейфа Эриксона
поселились здесь в тысячном году на этих белых землях,
которые они назвали зелеными, чтобы привлечь жителей.
Долгое время онй совершали путешествия в Данию;
долго платиАи дань святому Петру и наконец спусти¬
лись к югу, где мы- узнали их. Они сказали, что люди
забыли их, мы тоже были мало-по-малу разъединены
от них великими событиями. Дороги изчезли, долины
омертвели. Некогда зеленое море переполнилось камнями
160
КРУГ МИРА.
и скалами. О прошлом рассказывали детям на ночь:
о Лейфе, сыне Эрика Рыжего, Гренланде и Винланде; но
эти имена—только набор слова; тени птиц, пригодные
для снов.
„А на восток, к открытому морю? Если бы мы имели
корабль, мы не решились бы пустить его в бесконечном
направлении к затеренным царствам. Но мы и не можем
построить этот корабль. Мы ельником слабы".
— Они вспоминают о нас? Отец, что говорят они
о нас?
И когда за этим детским вопросом последовало глу¬
бокое молчание, все подумали: что делает людская толпа?
Не спит ли она? Она достаточно многочисленна, чтобы
покрыть море. Однако никто из них не пришел сюда,
уже два века.
Все странно, и больше всего эти слова, которыми
пытаются, ощупью, зафиксировать действительность
в царстве шума прибоя: мы живем в 1461 г. Мы не
живем ни в какой определенной эпохе, потому что мы
одиноки и никого не видим.
Если бы, кроме нас, не осталось никого в живых?
Если бы старый мир исчез? — Если бы стерлось его
лицо, на котором блуждают невидимые имена и даты
исторических событий? Если бы он ушел в небесную
твердь, как Фомало или ледяной Алтаир, или безглазый
Альдебаран, или Сириус, Хрустальный костер?!
Все то, что некогда было, все то, что там,—чудесно.
Каждое воспоминанье похоже на ангела. Мы живем под
влиянием неизвестного в земном мире, как будто о н
был потусторонним. Мы рождаемся с надеждой
и страданьем. Мы—мужчиньГи женщины надежды. И силь¬
нее всего в нас живет одно желание: что там? Когда мы
плывем по простору моря, которое обручается с солнцем,
наш взгляд невольно расширяется и обращается к поте¬
рянному краю, обнимает горизонт и ищет в простран¬
стве кораблей; и среди наших текущих занятий, наших
личных дел, в разговорах—всегда мы охвачены одной
мыслью, что они вернутся; Мы на самом деле погружены
в сон и сновидения; мы на самом деле, всеми силами,
КРУГ МИРА. 161
всецело принадлежим выпуклому пространству земли
и множеству живущих.
Еще больше, чем я, мой старший сын, идущий рядом
со мной по берегу, умеет сосредоточиваться, со¬
зерцать издали прошлое, отделенное бездной, предста¬
влять себе его и быть религиозным. Больше, чем я; он
его хранитель. Оно его привлекает. Он относится к нему
с молитвенным благоговением, к этому прошлому, которое
оставили наши отцы. Он похож на мастеров, сооружающих
церковь. На его лице лежит печать их веры. Им часто
овладевает каменная неподвижность химер, рисующихся
головокружительно склоненными в необъятной пустоте на
высоте облаков. Поднимая глаза, он видит, он видит облака
в форме кафедральных соборов. Часто, вдохновленный
тайною рас и смерти, он начинает сооружать своими слабыми
и бедными руками из камней церковь, которая, конечно, упа¬
дет, так как у нас нет средств возводить высокие каменные
сооружения, так же, как нет возможности соорудить
достаточно великолепные корабли, чтобы вновь найти
восточный рай. Могущество преходяще. Узкоголовые
туземцы умели некогда возводить пирамиды, от которых
еще уцелели широкие лестницы, и создавать подобие
настоящих гор. Но эти сооружения уже пережили сами
себя, они в забвении и разрушаются.
*
* *
Они.
Они вернулись.
Однажды мы увидели точку на горизонте. Тогда мы
бросили все дела и столпились на берегу, праздно све¬
сив руки.
Точка увеличивалась. Это был такой праздник, что
мы, стоявшие тесной толпой, не узнавали друг друга.
Мы перекидывались словами и глядели на приближаю¬
щийся предмет, как на метеор, скользящий с неба.
Вечером в заливе, покачиваясь, вырос корабль, об¬
ширный, как сказочный замок. Дрожа, указывали пальцами
на святой ковчег, на огромную подводную часть, на мачту,
похожую на колонну, где трепетал, как гигантский, муску-
А. Барбюсс.—Звенья. 11
162 КРУГ МИРА.
листый бич, парус. Корабль, увезший наших предков, был
так же велик, был сверхчеловечески страшен; но он су¬
ществовал только в грезах, и с тех пор мы сооружали
только легкие плоты или ненадежные лодки, льнущие к
берегу и боящиеся шири.
В раздававшихся криках слышалась не только радость,
но и горе; слышалась тревога. От мрачного корабля,
словно капля, оторвалась мрачная лодка; она росла на
поверхности зеленых и розовых трехугольников моря,
и люди рассыпались по берегу одновременно с лучами
заходящего солнца и, пораженные величием события,
остановились изумленно. Это — маги Европы, знающие
тайну мира.
Их необыкновенные одежды блистали всеми цветами...
Нам надо было, щуря глаза, угадать под ними формы
человека. Изменились ли люди до такой степени? Но
они спрашивают нас, и нам понятно, что они говорят!
Они говорят, как мы, но значительно скорее. Молодой
человек говорит,, что он из Флоренции, а корабль при¬
был из Диеппа. Пряжки на поясе сверкают, на руке
перстень с геммой; под черной рукой ярко малиновый
плащ; на кафтане рельефные украшения, — настоящая
скульптурная ткань.
Они громко смеются.
Они—праздник людей.
Видно, что их прибытие—победа над пространством.
Небесный свет отвесно падает на них и рассыпается
пылью. Море—как пурпурный шелк, и по средине широ¬
кая река света.
Наступила необыкновенная минута. Они сейчас все
расскажут нам.
— Братья, братья, что произошло на земле?
К ним бросаются с протянутыми, словно умоляющими
руками, к ним, которые знают,—ожидая услышать все из
их уст. Бросаются на колени перед звуком их голоса. На
скромном берегу,—таком же скромном, как библия,—-ис¬
чезли все страсти, кроме одной—желания знать.
Они все понимают и удивляются.
— Как, вы не знаете? Вы спали в течение двух веков?
КРУГ МИРА.
163
Мы здесь, мы здесь!
И они тоже протягивают нам руки; и это так величе¬
ственно, что у них, перед лицом заходящего солнац, гла¬
за полны слез, и заходящее солнце заставляет их бле¬
стеть, как топазы и рубины.
— Все изменилось! Мир принял другие формы.
Блестящие иностранцы, воскрешающие перед нами
наш священный мир, дают такую радость, что, кажется,
их голос поет.
*
* *
— Что происходило на земле?
— Войны... но теперь новые времена.
— Какие войны? Кто воевал?
— Все. Повсюду сражения. Мир кончается, побежден¬
ный войною. Мы живем в конце железного века.
Они хотели бы сказать нам не о прошлом, а о другом,
что привлекает их. Но мы жаждем знать о том’ что
для нас еще не существовало.
— Кто? Как они назывались?
Эти люди, в смятении собравшиеся на берегу, на мгно¬
вение замолкли.
'Было видно, что им слишком много надо сказать.
Человек войны (на нем нет панцыря, но на его теле
железные бляхи) начинает; он сжимает кулаки, подымает
голову и говорит:
— Скандербег.
Хриплый голос другого солдата кричит:
— Он! Вождь Александр, который во главе неверных
уничтожил скипетр Ричарда Львиное Сердце, и больше'
всего был похож на Сикандара Двурогого, кого назы¬
вают также Александром Великим, на древнего царя, вы
знаете? Скандербег, Албанский князь, Белый Дьявол
Валахии. Он освободил Гройю от Великого Турка и ста
тысяч его турок. Он был победителем всюду, всюду со
своими венецианскими войсками.
Вождь,—бог армии, в чаду дыма и приветствуемый
взрывом радостных криков,—вот образ -тех, кто властвует
над морем. Человек, в. стороне, без украшений, сказал-*
11*
164
КРУГ МИРА.
„Саваоф“. Казалось, что волны толкают на нас железную
толпу вооруженных людей старого мира, ощетинившихся
бесчисленными сверкающими остриями. Они кричат.
— Однажды он галопом пронесся мимо меня, он, кого
называют тоже Дьяволом, воевода Трансильвании, Иоанн
Гуниад. Он спас Белград от полчищ Магомета II.
— Матвей Корвин одержал еще больше побед, чем его
отец. Человек с черным вороном, держащим золотое кольцо,
одним могучим ударом стал на место Ягеллонов. Он
захватил Венгрию, как Подибрад—Богемию; и он отнимет
Богемию у Подибрада.
— Много лет тому назад—мне не было двадцати лет,
теперь мне пятьдесят—рука женщины схватила меня за
руку перед сраженьем.
Говоривший это поднял руку. Он сказал:—Тогда я со¬
стоял в страже, охранявшей дом короля в маленьком го¬
родке во Франции. Там были (ах, я хорошо помню!) крас¬
ные квадраты на стене и черные квадраты на земле.
Она прошла. Вся закованная в железо, вдоль стены, от
одной двери до другой.
Вся закованная в железо, кроме лица и руки, которая
схватила мою, чтобы увлечь меня. Я слышал шум ее ша¬
гов и оружия, и я уже сейчас вижу не только красные и
черные плиты, но и тень от ее лба, носа, пальцев, так
'хорошо, что это мне кажется прямо чудесным. Там, в той
стране, куда пришли тевтонские рыцари после рыцарей
Ливонских, Христовы Братья и Меченосцы, чтобы воз¬
двигнуть крест в крови на берегу моря, там, в Польше
и Литве, война никогда не прекращалась. Несколько облач¬
ных дней, несколько ночей кровавого меча, когда Кази¬
мир IV шел во главе восставших против Тевтонского
ордена, слишком богатого и слишком злого. Рижский
епископ сражался против ордена, хотя сам принадлежал
к нему. Некогда рижский епископ призвал против хри¬
стова воинства идолопоклонника—литовского князя.
— А архиепископ упсальский призвал датчан в Шве¬
цию.
А Матео Висконти—Генриха VII в Италию, чтобы
поправить свои дела. Племянник восточного императора
165
КРУГ МИРА.
призвал Баязета; Фрегози и Адорни, две партии Генуи, при¬
звали: одна—французского короля, другая — неополитан-
ского.
— Товарищи, величайший из воинов — это Сфорца.
Он говорил со мною один раз, тронул меня и обругал.
Он воспользовался доверенными ему Миланской рес¬
публикой войсками для борьбы с Венецией, осадил Ми¬
лан и морил его голодом, пока голод не открыл ему
ворот, и его не провозгласили герцогом. Ему надо было
стать герцогом.
— Величайшим был Пиччинино.
— Нет, Анжело дела Пергола.
— Нет, Гвидо Торелло.
— Франциск Карманьол, который был свинопасом,
потом простым миланским солдатом, потом возвысился
и побил всех четырех, которых вы назвали. Но в конце
концов Венеция его обезглавила.
— Я видел Скалиджери в Вероне:. его статую, так
как все они теперь покоятся в земле. Я видел в углу
двора за решеткой, на железной лошади, страшного че¬
ловека, живую, как труп, статую. В каждом городе есть
род-пожиратель — два или три рода, из которых каждый
уничтожает другие. Когда он рушится, все окрестные
города бросаются сдирать с него шкуру. Да, он был там,
этот всадник с черным лицом, железная мумия, похожая
на колодезь. Верона еще до сих пор боится этой фамилии,
хотя члены ее давно они перебили друг друга. Кач дела'
Скала был убит своим братом. Антонио дела Скала убил
своего брата Барталомео, но, побежденный, в свою оче¬
редь, навсегда бежал в горы Форли... Оставшиеся в живых
Колонна обратились в диких лесных зверей, после того, как
были прогнаны Бонифацием V III, и их дворцы сравнены с
землей. Но из Колонна остался один, который убил папу.
— В Римини...
— В Равене...
— В Риме...
— В Неаполе...
Железные люди возвышают голоса и смешивают; словно
у них началась ссора. Они увлечены и поглощены
166
КРУГ МИРА.
действительностью—пылом сражений. Они опередили нас,
живших в патриархальной тишине, они похожи на акте¬
ров, изображающих сцену из священной истории и страсти
господни.
Они хотели бы нам показать все: дела германские,
французские, испанские.
Они хотели бы нам показать Дунай, Сицилию, Бар-
барию, Кипр, Египет и Сирию, яростные цветные толпы
и обе враждующие части великого моря, громадное вод¬
ное пространство, где плавают многочисленные корабли.
Везде борьба: царства на царства, города Италии—один
на другой (некогда Италия была одним королевством,
теперь их в ней без конца) и партия в каждом городе
на партию; Франция против Англии или Наварры, Ар-
маньяк против Бургиньонов, Иорк против Ланкастера,
Блуа против Монфора, Бомон против Грамона Наварца. Нет
двух стран, двух фамилии, двух людей, которые не бо¬
ролись бы, чтобы по трупам взобраться выше. Ненависть—
неизменный спутник людей. Все их надежды на игру войны.
Игра войны, ах!...
Они перестают говорить, потому что каждый из них
может коснуться лишь обрывка действительности. Прош¬
лое слишком полно. Они задыхаются в оргии имен, исхо¬
дящих Из их уст. Однако, они не в силах заставить нас
восторгаться войной, не в силах воскресить ее в наших
сердцах. Величие этого страшилища остается для нас не¬
понятным.
Были войны:—будут войны.
*
* *
Вдали люди идут в стеклянные двери. Маленькая
станция. Ревущий шум привлекает меня, совсем близко;
поток шума, с которым врываются в открытую дверь
брызги и пар. Открываются и закрываются двери—ноч¬
ная улица бежит.
Я потерялся на перроне, опустевшем после того,
как скрылся прорвавшийся через тьму большой красный
глаз, который обдал меня своим холодным, сырым ды¬
ханьем, пропитанным угольной пылью. Я вхожу в зал для
КРУГ МИРА.
167
пассажиров. В черном стекле переставшей дрожать двери
я вижу себя отраженным в свете и тени, вижу кости лба,
вижу лицо, с темными пятнами, словно я из другого мира
и побывал в какой-то чудесной лаборатории, в чистилище
или в преддверии рая. Тихий голос Озириса шепчет в
моей душе:—„Я дам тебе бесконечные возобновления
На берег спустился вечер. Загорелись факелы и отблеск
их огня колеблется на песке. Теперь смутные слова вы¬
ходцев с того света то показывают, то снова прячут бо¬
гатства мира. Коммерция, транспорты, монументальные
пути по всем направлениям давят землю и море и бро¬
сают их одно в другое: крестоносцы, пилигримы, рабы
(неверные, еретики и схизматики), драгоценные припасы,
бакалея: перец простой и стрючковый, домашние тали¬
сманы, при помощи которых на всем обитаемом простран¬
стве уничтожают запах протухшего мяса. Слава и вы¬
года—-одно и то же. В родовую знать входит вышедшая
из торгового мира вульгарная знать. При помощи тор¬
говли обыкновенные люди становятся Медичи, и вот они
так же богаты, как Италия. У Дориа больше галер, чем
Все покупается. Они рассказывают обо всем, что повсюду
покупается: титулы, даже королевские титулы—сиянье
короны—купил же ее Карл IV для своего сына; суверенная
власть, как у Галеаса Висконти: право жизни и смерти;
страны, провинции, города, привилегии. Богатство при¬
обретается силою, сила—богатством. Король продает
своим рабам свободу, а евреям, которых изгнал его отец,
право возвращения; отнимает одну за другой вольности,
которые его предшественники продали общинам. Он под¬
даётся искушению делать фальшивые монеты,, умножает,
как может, золотые и серебряные монеты, с головой ко¬
ролей, и грабит банкиров. Когда он нуждается, он выжи¬
мает все, что даожет, из бедного народа, который богат в
силу своей многочисленности. И когда он роскошествует,
этот человек, солнце, властитель Фландрии и торговли
роскошными тканями, он спаивает свой народ, чтобы тот
был тупым, равнодушным к своей участи и являлся послуш¬
ным орудием в его руках.
168 КРУГ МИРА.
Надежда1
Все меняется, все меняется! Прошлое прошло. Новые
времена.
Мир замурован с одной стороны. Но он открыт
с другой.
Он широко открыт, и все бросается в эту брешь ста¬
рого ада на западе, все меняется. Огромные города, воз¬
двигнутые на берегу моря, дрогнули и повернулись, как
жемчужины, другой стороной к сияющему простору (одна
Венеция еще не может склониться к западному океану).
События скопляются у другого порога старого мира и
происходят у западных берегов рек. Теперь говорят:
Португалец; говорят: Баски, Диепп—это новые силы.
Их голоса трепетали от волнения; нам передался тот
пыл, которым горели глаза этих людей перед лицом
солнца, когда они высадились.
И мы восхищались ими.
Англичанин, прямой, в одежде без украшений, возвы¬
шавшийся как столб среди других, описывал голосом,
руками, глазами девственный луч, озаривший Ревекку у
колодца, когда приближался Елиазар, и говорил, что
утренняя заря обещает меньше,, что в утренней заре мень¬
ше зари, чем в заходящем солнце.
— Язон и его спутники отправились добыть чудесное
Руно, золото которого золотило небо. По направлению
пути солнца, на охоту за солнечными лучами отплыли
корабли по алым водам из портов, усеянных башнями,
портиками и куполами, к золотым долготам.
Красивый голос флорентинца отчетливо говорит об
этом:
— Они прошли за столбы Мелькарта, которые так
долго были границей мира. Данте Алигьери написал:
„Геркулес поставил свои столбы на берегах пролива, что¬
бы никто не мог их переступить".
Данте Алигьери. Я повторяю это имя. Тот, кто стоит
прямо передо мною, хочет говорить, потом качает го¬
ловой.
— Бедные люди!—говорит он, —не знавшие того, что
было.
КРУГ МИРА. 169
Но молодой флорентинец протягивает руку:
— Счастливые, потому что узнаете это.
Он рассказывает нам, что человек уже не тот, каким
был, когда уехали наши. Он разгадал тайны природы.
Истину, которая почему-либо является желанной, уже не
изобретают—нет, ее открыли, так же, как и западную Ин¬
дию. Ученые с необыкновенной простотой осветили дей¬
ствительность, величайшая тайна ее сосредоточена, по их
словам, в „философском камне"; они подняли завесу над
механической непреложностью причин и следствий. Види¬
мая природа есть беспорядок, но невидимое знание ее
есть порядок. Этим подписан приговор заблуждениям
и лжи.
Научились сокращать расстояние при помощи стекол
и ставить на корабли в ящичке металлический палец,
указывающий на север.
Делают нечто черное, которое, если приблизить огонь,
с необыкновенной силой, могущей все уничтожить, вы¬
брасывает молнию. При помощи этого вещества могут
быть разбиты стены городов и брони.
Нашли искусство умножать книги. Страница, резная,
как печать, состоит из отдельных, тесно сближенных
букв, — и они сразу отпечатываются на листе, и это
можно повторить сто, тысячу раз.
Услышав, как один из нас сказал, что это любопытно,
флорентинец громко рассмеялся и заметил, что когда
люди вдруг узнают о великих вещах, то сразу не могут
оценить их великого значения и останавливаются пе¬
ред ними, как дети...
И он прибавил:
— Отныне можно сеять мысль, как зерно.
Воистину человек открыл сам себя. Он сказал на¬
конец: Ессе Homo.
Мы—в,конце веков... В крнце веков гора Веч¬
ного До.ма возвысится над всеми горами.
— Ах, если бы вернулось все, что было!—сказал мой
сын Жан, бледный, как лилия, как в лихорадке слуша¬
вший рассказы.
— Как было бы богато каждое мгновение'дня!
170
КРУГ МИРА.
— Будущее надо вырывать из настоящего, — сказал
английский доктор, глядя перед собой в пустоту будущего.
Словно великое воспоминание, развертывается передо
мною вечный диалог между вечными типами души. Я ви¬
жу их, как будто они ожили передо мной; их трое: пер¬
вый обожает прошлое могущество погребенного; это инерт¬
ность, несокрушимая инертность, которая приравнивает
всякое поверженное творение к развалинам Фив и де¬
лает из просторного Египта беспредельное покрывало
сфинкса; — второй живет настоящим и умеет им пользо¬
ваться: философия и культура дают царственный размах
carpe diem маленького поэта; и сила этого искусника—
это радость существования, постоянное возрождение на¬
стоящего, уверенность в ясности дня; — третий готовит
будущее и, в смешении видимости и софизма, пользуется
моралью, как холодным оружием; и сила этого реформа¬
тора—это обнаженный меч и гнев надежды—путь мес¬
сианства.
Они не соединяются. Они различны между собой, как
различны трое из этих буйных солдат, у которых в ру¬
ках, в глазах, на устах — только война. Они живут не
в согласии.
Молодой человек, в котором живет традиция, смотрит
с недоверием на человека; блистающего тысячью бриллиан¬
тов, как будто он наносит вред красоте своим тщеслав¬
ным вкусом. Мираж в пустыне и необузданная мысль
внушают страх итальянцу. Мистический англичанин и фло¬
рентийский грек, как два эгоиста, используют Благо.
Но я обращаюсь к человеку будущего, несмотря на
уваженье, которого заслуживает первый, и любовь, кото¬
рую внушает второй, потому что только овладевающие
будущим могут соединить идеал и действительность. Ка¬
саясь этого человека, видишь, что, несмотря на внешний
блеск, искренность,—это героический порыв, а человече¬
ское братство не колдовство и фантазия, но истина разума,
покоющаяся на твердом основании.
Но не виноваты оба эти пришельца из мира повсе¬
дневности, которые приносят нам то, чего мы не мо¬
жем найти сами. И правы они оба; кто узнает, не
КРУГ МИРА.
171
будут ли они нуждаться друг в друге, чтобы новый мир
был полон, и не придет ли день, когда все соединится
воедино?
Уже они говорят одновременно, провозглашая, что бед¬
ствиям мира скоро настанет конец; провозглашая свободу,
равенство, братство, перемену столь глубокую, что ее
нельзя избежать. Все знаменья там, смотрите, смотрите
вы, что стоите на гребне веков, вы—люди сего дня, и нет
в пространстве места, где не жило бы радостное обеща¬
ние,—обещание, что после беспорядочных эпох все воз¬
вращаемся к великому естественному смыслу, присущему
жизни, и что, вступив на эту дорогу, люди уже не смогут
остановиться.
XIV.
КРУГ МИРА
(Продолжение).
— Однажды они вернулись.
— Да, это было давно, потом они уехали навсегда.
Годы, годы, годы. Я очень стар. Я совсем близко по¬
дошел к своей могиле; я был маленьким ребенком, когда
они оживили на берегу заходящее солнце и возвестили
нашему отцу о возрождении мира.
Потом настала для нас ночь,. как раньше.
Нет, не как раньше: с тех пор, как они ушли от нас
в пространство, мы живем в их словах.
Для нас, неподвижных, эра перемены началась с того
вечера, когда ее нам предсказали мореплаватели Европы
и показали ее нам.
В нас живет сияющая' радость вечера. Мы не имеем
в них нужды: они уехали кончать свое дело в других
местах; нам достаточно и того, что даже вдали от нас
происходит великое возрождение, пламень которого они
зажгли в наших сердцах.
Наша судьба, может быть, и мрачна; она затеряна и
потоплена в широтах моря, .но мы знаем теперь гармо¬
ническое развитие мира по другую сторону водной бездны
и восхищены этим.
' <• *
Был такой же вечер, как тот, когда они пришли. Да,
точно такой, потому что он живет. Вечер,
еще один вечер, с таким же заходящим за море
солнцем. Свет заходящегосолнца лежит на^долинах и
КРУГ МИРА.
178
горах, которые не меняются. Четырехугольный фонтан
извергает воду; вблизи дерево, которое он питает,—все,
как всегда. Тот же и дом, и я помню (есть воспомина¬
ния, которые всегда сохраняются), что на стене висела
большая соломенная шляпа отца, отца, который уже давно
обратился в обглоданный скелет в глубине могилы.
Мы увидели внизу на склоне горы движущуюся группу
людей... И мы поняли, что вернулся давнишний вечер.
Тогда мы позвали друг друга, чтобы громче кричать.
Это они, чужестранцы из обширного мира. Они вер¬
нулись. Это казалось невозможным, но, однако, это так!
Они вернулись, но сухопутным путем; перед нами, на всем
необъятном горизонте океана, не было ни одного пятна.
Они спустились в ущелье. Их не видно больше.—
Теперь они видны совсем близко и—вот они здесь перед
четырехугольным фонтаном и деревом, откуда несет све¬
жестью, и перед нами, готовыми броситься в их обьятья.
И когда их грубые фигуры были уже рядом со мною, я
взглянул на Нагику; стоя в своем белом платье, сжав
руки, она с жадностью созерцала блеск прибывших.
Мы были созданьем их собственного сна, мы были го¬
товы удивить их нашим сходством с ними, отвечать им,
отвечать им... Они окружили нас и с ворчаньем бегали
вокруг. Они были одеты во все черное в пыльно-черное,
желто-черное, зеленое, или рыже-черное, и закутаны в ды¬
рявые плащи. У них были серые, хищные лица, на кото¬
рых светились глаза войны, недоверчивые и злые. Боль¬
шие шляпы казались израненными на их головах, с перьями,
серыми, как облака. Они наклонялись вперед, под напо¬
ром грустного ветра. Солдаты, солдаты.
Один из них схватил Нагику за плечо. Она вскрик¬
нула. Тотчас же руки мужчин механически опустились на
эфесы шпаг с поразительной точностью, лезвия обнажи¬
лись до половины. Я увидел обнаженный верх шпаги.
Их язык был непонятен, казалось, что они мычали, но
затем раздались мрачные, слова, которые мы поняли.
—- Пленники, пленники короля... король, король.
Смятенье, паденье во прах; разрушенье.
*
♦ *
174
КРУГ МИРА.
Я был заключен и связан в моем собственном доме.
В углу жилого помещенья, я был привязан к столбу,
который много лет терпеливо поддерживал по¬
толок. Привычные предметы, этот большой столб, эта
стена, среди этого безумного беспорядка, показались осо¬
бенно милыми.
Разбойники не говорили со мной. Между собой они
говорили только о сокровищах и о своем короле, находя¬
щемся далеко.
Через отверстие в стене я видел их разбросанные
группы, мрачные, казавшиеся желтыми в лучах заходя¬
щего солнца. Они бегали здесь и там по берегу. Готови¬
лась церемония.
На скале, о которую бились волны, возвышался чело¬
век. Он поднял руки к небу, вытянул свое тело в воздух
и вопил.
До меня долетали отдельные слова, словно выплю¬
нутые камни. Со своей вытянутой и склоненной фигурой
он казался повешенным в воздухе. Он был одет наряд¬
нее других; ткань его рукавов и штанов была цвета раз¬
резанного арбуза. На его плечах был грязный, разорванный,
лоснящийся плащ, стального цвета. Из-под него выгляды¬
вало его морщинистое суровое лицо, его рот вопил, свер¬
кал и бросал молнии. Кто-то — черная фигура с прядями
волос, торчащими, как перья,—что-то писал на белом листе
и махал этим листом.
...Теперь они все были спокойны, неподвижны и раз¬
бросаны по берегу—стоящие, отбрасывающие на песок
длинные тени черного бархата или сидящие и согну¬
вшиеся, с короткими тенями.
* ♦
В этот момент в мое помещение вошел худой человек,
черный, украшенный перьями. У него был острый нос и
тяжелые растрепанные волосы цвета глинистой земли—
ворон без перьев^—с серой кожей и серыми костями—за¬
кутанный в серый плащ,—скорее черный петух, да, чер¬
ный петух.
' Он мне кланяется, он мне улыбается. Я дрожу от же¬
лания задать вопросы, я, нищий, перед этой высокой фи¬
КРУГ МИРА.
1.75
гурой, с впалыми боками, с белым четырехугольником на
груди, пересеченным поперек. Два круглые белка глаз,
на его лице, окружены маленьким черным кругом. Губы
его влажны, улыбаются, полны меда. Он говорит:
— Я ваш друг.
И в этот вечер в бедной хижине произошел диалог,
сверх'естественный до такой степени, что казалось невоз¬
можным, чтобы два человека могли вести его во времени
и пространстве.
— Где мы?—спросил я.
-— Вы в новом мире испанского короля.
— Разве мы не на острове Азии?
— Вы на острове, таком же большом, как Азия. Сей¬
час благороднейший дворянин, который командует нами,
принял, по обычаю и именем короля, нашего господина,
во владение всю страну: реки, гавани, острова, с коро¬
левствами, городами, угодиями и населением, уже су¬
ществующие, существовавшие или те, которые будут су¬
ществовать когда-нибудь по эту и ту сторону экватора,
выше или ниже тропиков Рака и Козерога, и так до дня
последнего суда. Я—гражданская власть и составил об
этом законный акт. Теперь это написано. Я—нотариус
короля.
Новый мир... Несчастные дети,—мы ничего не знаем.
Какие великие события промелькнули за это короткое
время!
Так как он все еще улыбается, я ободряюсь и скла¬
дываю руки:
— Что произошло на земле?
— Король Испании,—говорит он.
Он улыбается, он улыбается. Снаружи все залито зо¬
лотом и светом. Лучи солнца бегут без конца, плывут,
прямые и частые. Висящее низко облако пылает. Вспо1
минаются великие путешествия, совершавшиеся под солн¬
цем: исследователи, Язон. Погруженный в эти мечты, я
говорю: '
•*- Золотое руно.
176 КРУГ МИРА.
— Золотое ожерелье, которым награждает король
Испании, наследник Бургундии, великий командор ордена
Золотого Руна. Квинт-эссенции золота в нескольких оже¬
рельях, которые он держит в руках.
Золото. Это слово—как раскаленный уголь в его тем¬
ном рту, и в то время, как он его произносит, его глаза
играют, похожие на два слегка позолоченных шара с гвоздем
посредине.
Он говорит, что возвышение испанского короля над
всеми другими королями знаменует собою переворот
в жизни восточного мира.
*
* *
— Те, которые пришли сюда, — сказал я почти шопо-
том,—возвестили нам святое братство людей.
— Святое братство. Да, да. Это как раз так назы¬
вается—инквизиция испанского короля.
— Но, ведь, церковь вернулась к своим чистым источ¬
никам,—говорю я с трепетом.
— Да, да. Она больше чем очистилась. Она блистает
звездами. Вы увидите, если повернете голову в сторону
Европы. Эта иллюминация—это горящие тела. Наш великий
инквизитор, глава сорока пяти инквизиторов, удивил папу,
который сказал:—это слишком. И когда он предстал пе¬
ред богом восемь тысяч казненных сопровождали его,
чтобы прославить его за спасение. Нужно видеть радость
доброй толпы вокруг этих огней радости, и балдахины кар¬
динал ов, принцев и дам, и все эти пики, как свечи. Выко¬
пали миллионы мертвецов, чтобы сжечь их, как уголь.
Это—волны огня. Это—живой огонь, говорю я вам. Они
превзошли самые разумные и наиболее прославляемые
потребления — миллион сто тысяч евреев, уничтоженных
Титом, „утешением рода человеческого", сто тысяч па-
вликианцев, проклятых манихейцев, которых истребила
Фродора, мать Михаила III пьяницы. В год, в который ро¬
дился я, Гамат, Гренада снова попала в христианские
рудо, и Испания очистилась от мавров и евреев.
Он был странен, этот разрушитель мечты; он любил
то, про что говорил. Он трепетал и взор его обращался
КРУГ МИРА.
177
к небу, когда шептал, что работа церкви поистине глу¬
бока, последовательна и плодотворна и что всякая другая
работа на ряду с нею кажется исполненной дурно, пахнет
робостью и посредственностью.
*
* *
Что произошло?—я не знаю...
— Скажи мне, где сокровища, которые принадлежат
моему королю, и находится ли на земле, или в воде золо¬
той песок?
Он до такой степени думал о золоте, что его глаза
казались золотыми.
— Скажи мне, где сокровища, Клеман?
Он знает мое имя; кто сказал его ему?
Слышны крики. Огонь. Ужас кругом.
Красно, повсюду. Пожар.
Натика! она умерла. Ее глаза погасли, рот открылся.
Она прокричала мое имя, когда он ее убивал. Поэтому
он знает это имя. Он дал обет св. Иакову де Компо-
стелла собственноручно убивать каждый день по двена¬
дцати индейцев в честь двенадцати апостолов. В этот ве¬
чер, когда он говорил со мною, он убил только одинна¬
дцать. Он жестикулировал перед пламенем. Его тень на
песке прыгала от радости. Он приветствовал пламя, махая
шляпой, с криком: да здравствует король! И была видна
его тонзура. Его плащ с бахромою упал, когда он тан-
цовал, и были видны его сильные руки.
Ничего не осталось, кроме черной груды. Друидиче¬
ский камень на берегу продолжает стоять между морем и
развалинами. Но вот с каждой стороны показались два
треугольника крыльев. Эти крылья производили шум, по¬
хожий на шум дерева, колеблющегося от ветра. И я
вижу огромную птицу в тот момент, когда ее когти в по¬
следний раз царапают землю, и она раскачивается, как бы
вися в воздухе, прежде чем полететь. Мне рисуются
картины будущего. Развалины восстанавливаются в ти¬
шине, новые, вырванные из забвенья. Деревья, обращен¬
ные в пепел, вырастают снова. В этой стране, которую
называют Аркадией, воздвигаются жилища земледельцев.
А. Барбюсс..—Звенья. 12
17S _ КРУГ МИРА.
Нужен какой-нибудь предлог, чтобы отдать страну под
иго его величества короля Британии! Убийство миссио¬
нера подготовлено новым мировым разбойником: королем
Англии. Пирога, которая плывет к деревянному храму,
уже несет пустой гроб.
* *
*
— Сомневаться во всем, чтобы все начать снова.
Звучные слова этой фразы отпечатываются на бара¬
банной перепонке. Я ищу того, кто произнес ее среди
шума улицы. Она только что была произнесена каким-то
горожанином в черном, с широким желтым лицом в очках,
похожих на движущиеся колеса. Голос его громко звучал.
Философ остановился, подняв палец в воздух, и его тяже¬
лые веки моргали, словно стирая с глаз дневные впеча¬
тления так неудачно сложившегося дня. Это было в
Альбестрате перед деревянным домом. Его компаньон
слушал его наполовину внимательно, наполовину погло¬
щенный другим. И он ответил удивительным образом:
— Да, милостивый государь, и следовало бы отпра¬
вить в тюрьму всех - писак, неспособных копировать то,
что сделали другие.
Этот человек, который кивал головой и внушал почте¬
ние встречной мелкоте, был великолепен. У него высокая
палка, и на его кожанной куртке воротник совершенно
такой же, как у графа-герцога д'Оливарец. >
— Во всякой партии есть кое-что, — говорит черный
горожанин.
— Да, милостивый государь.
И другой, ответив так, прислушивается: он слушает,
как бьет ^етыре часа на башне. Тогда он делает жест
рукой В серой перчатке и говорит:
— Эти часы не в порядке: вот четыре раза подряд они
бьют час.
I
XV.
СТАРАЯ КОМЕДИЯ.
Понедельник... Вторник... Названия—призраки. Беспо¬
лезные названия дней. И люди ориентируются при по¬
мощи этого поверхностного механического процесса, хотя
все идет само собою. Я остаюсь здесь, еще три—четыре
недели, может быть, немного больше. Марта около меня,
всегда или почти всегда. Но я никогда не бываю все¬
цело с ней. У меня две судьбы, и я иду по двум путям.
Часто глядя в ее глаза, я на мгновенье медлю, прежде
чем улыбнуться ей. Я говорю ей, она отвечает; днем я
хожу туда и сюда без цели. Вечером я не знаю, что
делать.
Очнувшись от долгого томления, вынырнув из подзе¬
мелья ночи, я просыпаюсь на своей постели: я сажусь на
теплую и мягкую постель, с тяжелой, как железо головой,
потом, дрожа, становлюсь на пол. Свежий и резкий запах
туалетной комнаты, дыханье нагревательного прибора,
вода для полосканья рта, белые полированные стены—
таков аппарат, который обрабатывает меня. Еще недавно
я удивился, поглядевшись в овальное зеркало на стене,
как изменились мои черты. Если бы я, хотел подумать,
я. бы узнал себя только по глубине своих глаз.
Мне кажется, я не могу более удержаться на плоскости,
где все валится вокруг меня. Как мне вернуть сны? Я
один, она не знает, чем я захвачен. Иногда я нахожу ее
задумчивой, может быть, грустной; однако, у нее нет при¬
чин печалиться, она не знает меня.
Более чем. когда-либо, она меня привлекает. Она пре¬
красна. Каждый раз я вижу мгновенное изумление на ли-
12*
180 СТАРАЯ КОМЕДИЯ,
цах людей, видящих ее впервые, и потому, что она пре¬
красна, я люблю ее в тысячу раз больше, чем по какой-
нибудь другой причине. Я чувствую в себе эгоизм и
гордость... Ее низкий и певучий голос звучит, как
музыка. Когда мы идем вместе, ее тело прижимается
к моему.
Я поэт, который не пишет больше стихов, друг, кото¬
рый не знает больше друзей. Я создан из всяких облом¬
ков, и каждый раз, пробуждаясь, я чувствую себя еще бо¬
лее затерянным в начинающем дне; насколько времени
еще хватит меня?
Я противлюсь тому, что хочет схватить меня. Я цеп¬
ляюсь за себя, за великую пустоту моей личности. Я хочу
продолжаться. Я отгоняю угрозу. Какую угрозу? Она при¬
ходит мне в голову. Это — мысль о конце. Да, это дви¬
жущиеся, сходящиеся и свивающиеся линии финала. Сим¬
фония, которая влечет меня, осужденного на смерть,
к развязке, к великому празднику конца. Паника, сумрач¬
ная и торжественная в движении толпы, в согнутых спи¬
нах, в вечернем пепле.
Я не хочу быть увлеченным этим ветром несчастий.
...В теплом поле, старый человек, сидя на камне, поет
разбитым голосом, обращаясь ко мне, как будто он зовет
меня. Потом он замолкает и опускает голову, словно про¬
вожая затихнувшую песню. Эта жалоба на простонародном
наречии захватывает.
— Что вы поете? .
— Это—старая наша песня. Вы понимаете? Она гово¬
рит: дороги всегда кончаются дурно.
Это песня Кларины, та песнь, которая возвышала
жизнь духа* Я никогда не знал действительности, но, не
зная ее, он звал меня, этот воскресший, издалека.
*
* *
Чтобы открыть окно, я прохожу через комнату. Раннее
утро. Серая масса рассвета наполняет комнату. Я вижу
это каждое утро: небо, которое открывается между двумя
склоненными вершинами, темный горизонт моря, крыши.
Изумление. Все спокойно перевернулось перед моими
СТАРАЯ КОМЕДИЯ. 181
глазами. Склоненные вершины. Да. Но с этой стороны
нигде нет домов. Мой пейзаж—большое пустое пятно.
Тогда значит, что эта сторона города еще не
построена.
В моей комнате человек.
Человек смутный, мрачный, едва видимый (отражение
в зеркале), который ходит взад и вперед.
Его профиль—остатки молодости, в дыме. Он садится.
Чтобы сесть, он раздвигает полы своего платья. Он сидит
перед письменным столом и думает, положив тонкие
пальцы на лоб.
Этот человек, которого я вижу вне меня, это я, это я.
Он делает такие же движения, как я, как моя тень.
Встает утро.
Свет.
Люди любят смотреться в зеркало. Эгоизм видит себя
и гордится своим лицом.
В зеркале, в рамке с серебряными розами—я, во имя
бога, трехцветный, я, Серафэн Трашель. Голубые отво¬
роты, бархатистый жилет кровавого цвета, под голубова¬
тым кружевным жабо, белые шелковые нити парика; лег¬
кий налет пудры на нем, такой легкий, что он движется
от. тяжести воздуха.
Я смотрю на себя, я слушаю себя. Губы блестящие,
как бы нарисованные масляною краскою на мучнистой
пастели лица. Шопот губ, которые одновременно про¬
глатывают и произносят слова, похож на свистящее бор¬
мотанье: на этот раз—это начало.
Мы пришли издалека через бурные океаны. Мои роди¬
тели и Доротея оставили Аркадию, когда проклятый Ла-
уренс, чудовище-в человеческом облике, разорил фран¬
цузских колонистов в пользу английского короля, пере¬
селил их, как стада с войсками, и перебил тех, кто сопро¬
тивлялся. Но после великаго беспорядка—свобода. В оте¬
честве свободное дыханье надежды и философии. Я отка¬
зался от позорного состояния своего отца, негровладельца
с Гаити. Я повернулся спиной в Пале Рояле к своему
дяде, члену парламента Экса, написавшему Апологию
182
СТАРАЯ КОМЕДИЯ.
пыток, посвященье которой принял Людовик XVI и осо¬
бенно одобрил Пий VI. Воззванье к народу — вот мое
произведение; я создал его в бессонные ночи и читал и
кричал партизанам под сводами общественных садов. Оно
на моей груди с последним по времени письмом Жоконды.
Это музыкальная ария... Романс, мелодию которого я со¬
здал, и из которой Жирар, мой брат, мой друг, сделал
поэму, возвышенную, легкую и светлую. Но я принадлежу
к трудовой знати. Республика французская, республика
римская. Никогда и ничто не изменялось в рабстве наро¬
дов. Человек, ты думал, что ты всегда обновляешься, а ты
всегда падаешь. Но на этот раз—это начало.
На склоне дня, в тени ветвей, где маленькие птички
поют гимн создателю, мы также задыхались от священ¬
ных слов: Свобода, Равенство, Братство.
Это мы первые собрали эти три слова, которые потом
были отданы во власть всех ветров. Мы опьянялись их
звуками, мы считали их такими высокими и такими пре¬
красными, что они наполняли нас героическою радостью,
и мы, молодые люди и молодые женщины, танцовали
среди общественных садов под музыку этих трех слов.
А вдалеке среди деревьев виднелись кокарды и
трехцветные ленты, и радость народа гремела, как месса
в глубинах великого Парижа.
С каким благородным бешенством в этот самый вечер
мы, Жирар и я, нападали на нашего соученика и бывшего
друга Родольфа де ла Марка, маленького венского барона,
который был приверженцем божественного права и упрекал
нашу революцию (не говоря о том, что, слишком воин¬
ственная на его вкус, она позволила себе, несмотря на прин¬
ципы гуманности, иметь армию) еще в том, что она хо¬
тела самым различным народностям навязать под фран¬
цузским соусом Права Человека. И он говорил, что надо бы
в корне изменить природу человека, чтобы заставить его
принять закон разума.
Как человеческое существо, сотворенное по тому же
образу, как и другие, могло допустить такие нелепые
теории, как этот австриец, который говорил, что фран¬
цузское безумие не будет иметь „завтра", потому что
_ СТАРАЯ КОМЕДИЯ. 183
Англия наготове, Англия, которая превратилась в упор¬
ного и всемогущего блюстителя старого порядка вещей?
Поток... Ночь. Мы—она и я—на берегу потока. В ужасе
гнется дерево под светом луны. Жоконда на берегу по¬
тока, с голубым ожерельем, с золотым крестом, который
ей дал подлый соблазнитель.
Мы смешиваем наши горькие крики, мои проклятья и
ее жалобы, с рычаньем потока.
Я спешу один вдоль потока, который поглотил обо¬
жаемое тело. Я бегу, оледенелый, подгоняемый черным
облаком моего плаща, который вырывается у меня из рук.
.... На панораме, виднеющейся через окно, внезапно
вспыхивает солнечный свет, который придает предметам
реальность и заставляет блестеть весь город. День за¬
играл.
Пустынное утро в моей комнате. Аликан, моя комната,
где сон и действительность, где и раньше и теперь два сна
действительности борются во мне...
На этот раз это начало.
Быстро и ярко показывается, чтобы исчезнуть, пре¬
красное лицо Серафэна Трашеля. В мгнбвенье ока оно
меняется. Ввалившиеся щеки, ослабевшие челюсти, круги *
под глазами, сеть морщин. Отвратительный вид старости
говорит, что на этот раз—это начало. Я часто говорю
себе, когда я остаюсь наедине с самим собою, настоящую
правду. Я—барон, государственный советник Серафэн
Трашель—важная особа в моем пышном павильоне в Нельи.
Я медленно иду по звездам, инкрустированным в чер¬
ном паркете моего кабинета, откуда вижу широкий осле¬
пительный перистиль. Шатер в саду, фестоны, большие
золоченные столбы, опорное украшение,—все вырисовы¬
вается на зелени парка. Я вижу чешую и массивную медь
стоячих часов старого века, которые размерами и фрон¬
тоном напоминают даму из Фонтанжа. Ножка стола, сде¬
ланная из медных сплетенных колец, похожих на астро¬
номические очки, упирается в паркет, натертый воском*
Я останавливаюсь перед ожидающим меня зеркалом.
Прекрасная голова, благородная поза!, Это мое всем
известное лицо. Я созерцаю себя и улыбаюсь про себя:
184
СТАРАЯ КОМЕДИЯ.
барон, государственный советник Серафэн Трашель, глава
новой либеральной конституционной партии, знаменитый
слуга Франции, о котором позднее будут говорить: „он
так же отличался характером, как и политическим гением".
Я делаю несколько шагов очень спокойно, закутавшись
в свое домашнее платье, на московском меху, не теряя
себя из виду в серебряной рамке зеркала. Годы пора¬
зили меня, не победив, и мраморные волосы на моем лбу
лежат, словно на бюсте. Мое лицо в морщинах, но сколько
достоинства, сколько величия в моей старости! На моем
лице сочетаются благородная гордость отца-сенатора, не¬
уловимая ирония философа, каменная строгость проте¬
станта, слащавая хитрость иезуита, и я не знаю, еще
какой ореол.
— Ваше превосходительство...
— Ваша светлость...—Мы важно смотрим друг на друга.
Он часто приходит ко мне и обращается со мной, как
равный с равным. Его светлость принц Родольф де ла-
Марк, посол его величества императора австрийского.
У меня положение в государстве не ниже, чем у него,
я равен ему по величественности, поз и жеста и не
имею его смешных сторон. В то время, как мои глаза
бегло окидывают взглядом его фигуру, опустившуюся
и склонившуюся в широком кресле, которое его словно
погребло, его измятое лицо Вольтера (ирония, которая
заставляет меня улыбаться про себя!), редкие белые пряди
его волос, его острые колени, к которым красный бархат
панталон словно прибит обойщиком, его худые икры
в белых чулках (нет круглых линий, ничего, кроме пря¬
мых линий). Мы предаемся общим воспоминаниям; я
делаю откровенные признания mea culpa своему старому
и знаменитому другу: некогда перед революцией, в каких
безумствах проходила моя юность,—бури сердца; ужасная
ночь над потоком... Да, но все это прощается. Подлинным
безумцем я был, по своим крайним идеям, разрушитель¬
ным и кровавым.
Посол качает головой и тонко замечает:
— Вы говорили: „крыльев, крыльев".
— А вы мне отвечали: „умерьте свой пыл".
СТАРАЯ КОМЕДИЯ. 185 _
Разве не было у меня в течение нескольких лет свято¬
татственного намерения отказаться ст состояния, которое
мой отец, выдающийся цивилизатор, приобрел колониаль¬
ной торговлей?!
Ио игрой судьбы отмена рабства на острове Сан-
Доминго, уничтожив мои доходы разрушением фамиль¬
ных плантаций, вывела меня на прямую дорогу. Я бежал
за моря и принял участие в восстании французских коло¬
ний, которые в своем справедливом возмущении отдались
Англии и Испании (потому что, когда мать-отечество
ведет себя, как мачеха, по отношению к своим детям и
платит за их жертвы только грабежом, оно не имеет
права ни на любовь, ни на жертву). По своем возвращении
я увидел, что Франция вступила на хорошую дорогу.
Мое политическое благополучие началось с того дня,
когда Наполеон провозгласил себя императором фран¬
цузской республики. Естественно, между другими разум¬
ными мерами, он восстановил рабство черных, так как его
миссия здесь была воссоздать римский кодекс в совре¬
менном мире, а римляне были талантливы в логике...
— Но не гениальны, слава богу,—счел нужным конста¬
тировать принц де ла Марк.
А после императора Британская империя, благодаря
богу, непобедимо упорная в традициях, и священный союз
трех монархов, католика, протестанта и православного,
окончательно закрепили контр-революцию, унизив Фран¬
цию (но это зло во благо, и социальный порядок свя¬
щеннее, чем отечество).
Каждый раз, как мы говорим об этих вещах, я за¬
канчиваю:
— Ваша светлость, французская революция была ме¬
теором, который ярко блеснул перед тем, как погаснуть...
Извержение словесного вулкана и, по правде сказать,
литературный расцвет: столько великих слов, поэтических
обёщаний, трагических клятв...
Пока я говорю, мой блестящий собеседник (его история
проще моей: он был пожалован в принцы) слушает меня
с открытым ртом, с внимательными глазами. Когда я кон-
186
СТАРАЯ КОМЕДИЯ
чаю, его рот закрывается, потом тонкие губы, потем¬
невшие от табакерки, произносят:
— Великие боги, какое motobctboI Благородный по¬
верхностный французский ум1
Хотя хитрый дипломат испускает в этот момент глу¬
бокий вздох, мой патриотизм, составляющий, как известно,
одну из доминирующих черт моей высокой личности, стра¬
дает от этого суждения, кажущегося мне ложным в его
австрийской форме, и я отвечаю с большим остроумием:
— Идеализм существует в каждой стране... И не
в других...
Я прибавляю то, что должно быть сказано:
— Из него все-таки вышло кое-что... Мы вышли из него.
— Вы, — говорит принц, — буржуа, узаконенные вы¬
скочки. Да, огромная революция родила вас.
— Узаконенные, но также и законодатели. Новая
каста господ.
У принца лицо делается чрезвычайно удивленным:
— Этот авторитет покоится на странных искусствен¬
ных основаниях, ваше превосходительство.
— Это, ваша светлость, наиболее значительная черта
сходства между новым режимом и старым.
Он подносит руку к своему бумажному лицу и слегка
чихает, что является сокращенной насмешкой.
— Вы сын купца,—говорит он тоном нежного упрека.
— Новая каста господ,—твердо повторяю я.
Он опускает нос, но без гнева. Я понимаю его горечь.
Он бросает свой последний луч на род, вымирающий
окончательно, так что Кювье истории должны будут
заняться его воспроизведением. Я, барон со вчерашнего дня,
новый человек, который в известном смысле подражает, как
можно лучше, почтенным марионеткам, я все же—будущее.
— Общество,—говорю я,—приняло свою рациональ¬
ную форму. В 1789 году мы осуществили великий план,
который вырабатывался веками, новые привилегии заме¬
нили древние привилегии. Конечно, сделал возможной
перемену и сотворил революцию народ, она сделана им,
как и многое другое; но не для него—для нас. Она вышла
да него...
СТАРАЯ КОМЕДИЯ.
187
— Она вышла из него до такой степени, что уже не
может в него вернуться.
— Она играла словами: третье сословие.
— Это было умно. Я часто думал, ваше превосходи¬
тельство, что бог по преимуществу комический автор.
— Она положительно была революцией дворцовой,
несмотря на демагогические утопии, появившиеся вокруг
ее колыбели. Она освятила конфискацию выгод труда и
торговли (которые идут от народа) порядком, навсегда
установленным и римским правом. Некогда, во тьме ве¬
ков каста укротителей толпы была закрытой. Теперь она
открыта активным избранникам, которые вливают в нее
новую кровь.
— Как варвары — Римскую империю, — говорит гос¬
подин де ла Марк.
— И это,—продолжаю я,—последнее достижение ци¬
вилизации. Но нужно, чтобы внизу толпа не изменялась.
— Единственным для этого средством вы уже восполь¬
зовались: убедили ее, что она изменилась,—глубокомы¬
сленно сказал полномочный представитель империи.—Со¬
циальная наука—-искусство делать приемлемым неприем¬
лемое. Создатели нового порядка—адвокаты. Ах, вы про¬
слыли мастерами в искусстве исторического красноречия!
Такими фразами, как английская конституция, разделение
властей, или благосостояния трудящихся масс, или даже,
потому что вы смелы, воля народа—всеми этим фразами
вы достигли всего. И какую революцию,—прибавил он,—
вы ввели в словарь! Нет более проклятой La Taille, но есть
Поземельный Налог, вместо Aides discre — Косвенные
Налоги, нет более Droits de Contrdl, но есть Штемпель,
нет более Marc d’Or, но есть Патент, нет более Corv£es,
всем ненавистных, но есть Подати. Таков сегодняш¬
ний идеал, а без идеала человек только материальное
существо, то-есть бездонная бочка Данаид. И в доверше¬
ние всего „Пошлина на соль“ сделалась к удовлетворению
всех „налогом на соль“, старый режим сделался режимом
конституционным или, когда захотят, — республиканским.
Я вижу, как улыбка тронула некоторые нервы на лице
старого синьора, и он еще раз роняет эти слова...
СТАРАЯ КОМЕДИЯ.
— Республиканским; словом, режимом, как все другие.
Французская революция, по контрасту того, что она про¬
возгласила:—свободы, с тем что, она дала:—вашим либера¬
лизмом, есть величайшее надувательство, которое когда-
либо разыгрывалось на исторической сцене.
Я принимаю прямой удар, потому что эти слова на¬
правлены по моему адресу: ведь и я являюсь живым резуль¬
татом происшедшей перемены.
— После христианства,—закрепляю я.
При этом ударе советник Франца I подпрыгивает и
бросает на меня величественно гневный взгляд, который
я выдерживаю. Тогда мы оба начинаем улыбаться друг
другу в глаза, потом смеяться, не будучи в состоянии
найти разницу между двумя чудесными комедиями, ра¬
зыгранными на сюжет царства бедных.
Не было христианства, не было демократии ни грече¬
ской, ни римской, не было французской республики. Вот
истина.
Старый дворянин встает. Тяжело, героически соби¬
рая и напрягая поспешно свои мускулы царственным уси¬
лием воли и скрежеща зубами от сознания своей изно¬
шенности, он удаляется. Под высокой дверью, за которой
в отдалении выступают силуэты его людей, он повора¬
чивается с едва трясущейся головой и протягивает свой
худой палец, покрытый выпуклостями, как шахматная
пешка:
— Никогда не переставайте культивировать религиоз¬
ный принцип.
— Где его найти яснее выраженным, чем в самой идее
отечества? Мы переделали религию.
— Следует развивать в низших слоях населения вкус
.к войне и лотерее. „Обогащайтесь",—такой крик надо бро¬
сить людям, чтобы сии оторвали глаза от неба и смело
бросились один на другого.
Поклоны.
— Ваше превосходительство...
— Ваша светлость...
Когда принц де ла Марк уходит, я сознаю, более чем
когда-либо, что я плод постоянной победы избранников над
СТАРАЯ КОМЕДИЯ.
189
вечным послушанием людей, что не может быть лучшего
достижения для человека. Когда я смотрю на себя,
я постигаю совершенство.
Я слушаю юную Амели, милые руки которой извле¬
кают трогательные аккорды из клавесина в соседней
комнате. Я всегда культивировал музыку. Я даже сам
составил некогда грациозный романс, слова к которому
были написаны Жираром, тогда еще братом моим (Жираром,
который поразил мое сердце, как Брут, подписав смерт¬
ный приговор, потому что он был и остался красным).
Я открываю дверь в музыкальный салон. Нежная Амели,
украшенная шарфом, как Ирис, атласными руками про¬
бегая по клавишам, разучивает новую арию.
Что она играет?
Что это такое?
Эти бесконечные страшные аккорды, гром аккордов
и вдруг этот грозный подъем, этот безграничный подъем...
Я кричу...
Что это такое?
Доротея стоит, совершенно бледная, и волосы ее так же
белы, как белы кружева, которые их покрывают. Она отве¬
чает мне:
— Немецкий музыкант, недавно скончавшийся.
Я остаюсь в углу, пораженный этими мощными уда¬
рами колокола. Люди погребают себя в том, что знают,
думают: „никто не может сделать иного“. Но есть и такие,
которые создают новые последние страшные суды, один
за другим. Неизвестный знал это, это могущество шума.
Человек, как я... Чего только он не осмелился разбить,
чтоб возвеличить музыку?
Естественно, я отказываюсь, я кричу: „Нет1“. Я борюсь
против событий, которые оскорбляют меня. Это неправда.
Я прав. Но я чувствую: моя совершенная улыбка исче¬
зает с моего лица-портрета и, стоя у двери в своей мехо¬
вой одежде, я дрожу, как развалина.
XVI.
поток.
Аликан, Марта, я. Дни стали немного длиннее. Дни
различаются математически, не похожи на себя пустыми
обещаниями утра и тяжестью вечера.
Мы в периоде дождя и бури и забыли солнце. Небо
черно. Черные облака словно выходят из волн. Бескра¬
сочное море цвета желчи поднимает и опрокидывает камни
на скалистые берега, с ревом, неправильными линиями.
Я шел прямо, я шел далеко в гору, и вздыхал полной
грудью.
Я спрашивал себя, опять одержимый своим^последним
виденьем: убил ли я Жоконду, или она сама бросилась
в поток, или все это только сон?
Перед плоским уединенным зданием, с красными сте¬
нами, одиноко ожидала старая лошадь под ударами дождя.
С легким трепетом смерти я смотрел, не осмеливаясь
долго делать этого, на это животное, разбитое на ноги,
которое отдало все, что могло, работе, и которое ждало
здесь, куда привели ее последние шаги: у двери бойни.
В этом бедном, трепещущем мясе чувствовалось начало
несправедливости. Дальше, на пустынном пространстве
проходит и кашляет негр. Видно, как он сотрясается от
внутренних ударов. Темное двуногое животное, все про¬
тив него; небо его убивает.
Бешеный шквал схватывает меня за горло. Я должен
остановиться, и я стараюсь понять, где я. Я весь покрыт
водою, несмотря на плащ. Ручка моего зонтика выры¬
вается из рук, мои ноги погружаются в грязь, и ветер
вырывает из-под ног землю. Мои силы истощены, я почти
падаю. Войти, все равно куда, в первый попавшийся дом.
. ПОТОК. 191
Я увидел дом на изрытом склоне, мокром как я. Я под¬
нялся к нему по дороге, обратившейся в поток; мои баш¬
маки полны воды. Я толкнул мокрую и грязную калитку
и ударил в низкую дверь. Перед моим лицом ветка сосны
протягивает бесконечные хрустальные пальцы.
Пожилой человек, с печальным лицом, худой, открыл
дверь в то время, как я нетерпеливо свертывал свой
скелетоподобный зонтик; он мне сказал:
— Войдите, мой друг.
Я понял, что этот старик, не спросивший меня, чего
я хочу, принял меня за нищего. Моя растрепанная и покры¬
тая пятнами одежда, мои грубые сапоги, покрытые землею,
моя мокрая фуражка,—все до смешного зонтика... Минутой
раньше я снял свои очки, покрытые ^одою, которые ослеп¬
ляли меня и с глазами, лишенными стекол, я должен был
иметь растерянный и жалкий вид.
Он усадил меня в кухне, поправил огонь и сел передо
мною, как в романах.
В ту минуту, как я хотел заговорить, заговорил он.
Он сказал мне, что плохо живется, что он работал пятьдесят
лет, чтобы удалиться на покой и устроиться в этом до¬
мике с садом. У него были маленькие глаза в железной
сети морщин, серая шерсть на щеках и толстое пальто на
согнутой спине.
— Я надеюсь,—сказал он,—что вы не бунтовщик.
Не знаю, какая мысль овладела мною. Я ответил голо¬
сом, помимо моей воли, грубым:
— Да, я бунтовщик.
Мне показались необыкновенными эти слова. Как будто
именно в этот момент я вышел из своего постоянного
заточения и очутился, наконец, на свежем воздухе.
— Все дурно, нужно все переменить.
Глубокое волнение овладело мною, пока я наудачу,
колеблясь, • выискивал фразы, жившие в другом мире. Он
слушал меня. Спокойный, мягкий, уравновешенный, он по¬
глощал мои слова.
— Дурно... Нет, теперь уже нет. Вы ожесточены...
Двадцатый век, мой друг, я человек передовой, либерал.
Мы сделали три революции.
192
ПОТОК.
Я узнал его. Театральный эффект (не в театре, а в углу
кухни сумрачным потолком, в окна которой хлестал дождь
и где теплился огонь), театральный эффект, потому что
я его узнал: это тот, кто, говоря мне, что все изменилось,
доказывает, что ничто не изменилось. Когда я узнал его,
я уже кончал свой сон и танец погибшего былого.
Я погрузился в настоящую действительность. Это здесь и
сегодня. Это живой человек пред лицом живого человека,
касающийся его. Это я монотонный человек, я и стена
Мелиодена и Массара. Этот сгорбленный старик, который
прячет СБое лицо и гримасы в руке и иногда молча жует,
находится вне времени и неуловим для смерти. Он толкнул
меня так, как толкнул меня столб с собачьей головой,
на который я наткнулся вечером в тумане и который я
поставил снова. Он говорил терпеливо, не слушая меня,
с закрытыми глазами:
— Все изменилось... Нет ничего того, что раньше.
Вы ожесточены... Республика существует, ну не выдумал
же я это слово. Ведь нет более человеческих жертво¬
приношений, тиранов, рабов, пыток» Ведь...
Двадцатый век, республика, Франция...
В ту минуту, когда я хочу отвечать, он опять откры¬
вает рот и говорит кабалистические слова, и когда он
во второй раз их говорит, в его челюстях уже заметен
гнев, смутный и мягкий.
Вот что я нашел, вступив туда, куда меня бросил
случай. Человека неуязвимого, каменного, скелет с арте¬
риями, утверждение тяжелое, спокойное, пустившее корни
в мире.
арта ждала меня в гостинице. Я рассказал приклю¬
чение
— Он принял меня за забастовщика.
Она смеется, и это проясняет меня немного и доста¬
вляет мне удовольствие. Я улыбаюсь. Она сидит передо
мною. Настал вечер. Дождь прекратился, ветер утихает
и иногда останавливается, как сила, находящаяся в раз¬
думья. Мы сели в конце зала. Между нами журнал, раз¬
рисованный ярко белыми линиями. Я повторяю, что гово¬
рил старик, говорящий глупец. И теперь, когда я выхожу
поток.
193
из преддверья рая, когда я начинаю примешивать прошлое
к жизни, нужно, чтобы я поделился этим с Мартой.
Я говорю ей, я с трепетом вручаю ей признанье;
— Да, я бунтовщик... Это честно быть бунтовщиком.
Я смотрю на нее, чтобы видеть, думает ли она так, как я.
Но она качает головой, она говорит:—нет.
Она говорит:—нет...—Она, я... Я не понимаю. Отчаянье.
Мой взгляд падает на журнал. Четырехугольник обрам¬
ляет заголовок: Народное восстание °в Индии.
По словам „Таймса“, великой колокольни царствующей муд¬
рости: правительство его величества видит
в конфликте анархию, а с другой стороны
принципы, которые служат основой циви¬
лизованных государств... Аэропланы его
величества сбросили четыре тысячи фунтов
взрывчатых веществ на население Бенгала,
и, следуя моему взгляду, мой палец очерчивает на бумаге
эту часть текста. Англичане хотят, чтобы признан был
священным их план грабежа. Очевидность волнует и душит
меня.
Мне надо в конце своей судьбу, где я спотыкаюсь,
найти жизнь, кого-нибудь живого, кого-нибудь. Такова
эта женщина, которая всегда передо мною. Час настал,
я возвышаю голос:
— Все это ложь, которою улавливают людей. Сила,
хитрость. Хитрость, сила.
Oha внимательно смотрит на меня трепещущими рес¬
ницами.
— Ты хочешь противоречить всему? Будь осторожен,
быстрым движением я наклоняюсь к ней, облокотись
на стол так близко, что вижу свою голову и свои плечи
в блеске ее больших глаз.
— Ты внушаешь мне ужас,—говорит ее голос.
Эхо этого слова меня откинуло далеко назад. Я снова
пережил мгновенье безграничного прошлого, когда она
уже сказала мне это. Как1 она мне это сказала, и я забыл!
Теперь только я слышу, я вижу, я понимаю. Аннета, Марта,
они похожи, но я никогда не умел видеть этого сходства
до конца.
А. Барбюсс.—Звенья.
13
194
ПОТОК.
Как Аннета, она боится меня. Значит, она не любит меня
больше.
Ведь в то мгновение, когда она говорила: „ты внушаешь
мне ужас“,—она ненавидела меня. Она ушла в себя, она
ушла: сила природы.
... Снаружи мрачное затишье. Ночное небо, покрытое
снежными облаками, луна, окруженная лохмотьями. Дождя
больше нет. Влажная вуаль на наших лицах: только
дыханье дождя. Ветер медлит, потом снова врывается;
он на кого - то похож, это потому, что он ненавистен.
У подножья склонов, в глубине бездны черный шум при¬
боя. Если пристально посмотреть, то видно, как поды¬
маются среди черных скал такие же черные, как скалы,
волны, с белыми гребнями. Море молчит. Молчанье пустое,
молчанье напряженное до самого уровня земли; вокруг
него одна шумящая лента. Мы сделали несколько шагов,
молча, у подножья романтических скал. Потом я возвы¬
сил голос, голос спокойный, голос жестоко спокойный
— Скажи мне о себе.
Я вижу, как дрожит ее прекрасная фигура в белых,
звездных, точно неземных покровах. Ее белокурые волосы
казались черными. Она закричала, умоляющим, растерян¬
ным, прерывающимся голосом:
— Клеман, Клеман, позволь мне уехать.
С трудом я повторяю слово:
— Уехать.
Она останавливается, прислоняется к скале, ее рот
полуоткрыт, маленькие, детские зубы, руки протянутые
ко мне, сжатые как в агонии.
— Позволь мне уехать. Позже я скажу тебе... Не те¬
перь, я слишком устала. Клеман, состраданья... Имей со¬
страданье ко мне. Ты не видел это последнее время, как
я страдала.
Нет, я не видел, я никогда ничего не видел. Она не
любит меня больше. Она молчит, плача, прижавшись к скале,
готовая упасть. Когда я слушал ее слова, хотя я смотрел
на нее, но не видел выражения ее лица, потому что я не
могу делать двух вещей сразу. Она тоже не видела меня,
она знала только свое страданье. Мне, просыпающемуся,
поток.
195
вступающему в мир действительности, она принесла всю
живую скорбь мира, она принесла мое наказанье, ко¬
торое она одна среди всех живущих существ могла при¬
нести... Она принесла (она—мне) муку человеческих пе¬
ремен пред вещами, которые не меняются, простор вели¬
кого бурного и глухого моря, океана без слез, к под¬
ножью склоненной вершины, которая никогда не была иной,
чем она есть, с тех пор как создалась гора... Мне каза¬
лось, что ветер, который поет мне в уши, потрясает скалы,
как черные букеты, как картонные украшенья. Она
улыбается еще немного, но она заставила нас умереть.
Поднялся ветер, его порывы следуют без остановки;
вдали, у моих ног, в водяном аду слышится страшное дви¬
жение моря.
— Ты спрашиваешь, Ториза, почему я назначил тебе
свиданье в эту бурную ночь? Это потому, что я надеялся,
что она внушит тебе страх, и ты поймешь величие моего сна.
Эта же немая фраза была произнесена мною уже це¬
лую вечность тому назад.
Двое стояли над бездной.—Бедные, выгнанные. Она
закрывала руками свое лицо, которое было так прекрасно
и так нежно и могло бы утешать тех, кто страдает без
причины. Жоконда стыдилась своей ошибки и прятала
голубое ожерелье с золотым крестом, которое получила
из рук другого.
Другой! А... а... другой!
Я сказал Марте:—Ты любишь другого, скажи.
Она не отвечает, она плачет. Она не любит меня
больше, потому что она боится меня. Нет, нет. Это потому,
что она больше не любит меня; я внушаю ей страх, как
Жоконде, которая не хотела признаться.
— Скажи.
Я взял ее за плечо. Я сжал ее руку из всей силы. Она
глухо вскрикнула и вдруг, по чувству кровавой ненависти,
которая сжала мне горло, я понял, что это я убил Жоконду.
Жоконда была здесь, именно здесь. Между потоком
и обрушивающимся небом; мы бросали друг другу: я—
проклятья, она—рыданья.
13*
196
ПОТОК.
Мы говорили, не все ли равно—что, я и это созданье.
Мы говорили все, что могли сказать злого. Но я укро¬
тил ее силою своего гнева.
Вот момент, когда я захотел убить ес. Черная фраза
толкнула меня в черный либиринт: — „только в эту зиму
я сделалась его любовницей". И эта фраза, бесконечная
по своему значению, унесла все.
Она упала в бездну тяжело, как разбитая статуя.
На вершине осталось мое тело, одинокое, раздираемое.
Мои глаза видели, как падает тяжелый груз и видели также
огромную ветвь и ствол дуба, похожего на дракона в обла¬
ках. Я закутался в свой плащ, поток бежал быстрее, чем
я по его краю, я долго бежал и нашел на повороте среди
обломков скал ее, застывшую, мертвую, перед собой. При
блеске молнии я увидел посиневшее и израненное тело,
качающееся, покрытое водою, с повисшими руками и прежде,
чем она упала в водоворот, я увидел на ее шее голубое
ожерелье с золотым крестом.
Я сделал это некогда. Я. Сделал ли я это? Да1 Нет!
Я останавливаюсь, чтобы это спросить. Спросить у мол¬
чанья, спросить у невозможности, у своих рук, которые
я подношу к лицу. Способен ли человек на все? Если
порыться в человеке, найдут все. Все совершено.
И, однако, никто никому не хозяин и никто никому не
судья.
Мне было жаль ее. Ее глаз, ее пальцев, ее рта и даже
этого маленького ожерелья, которое украшало ее. Она
была права во всем... Иметь состраданье к существу,
это значит ясно видеть, что оно право.
Но я перетряхиваю старую историю, чтобы избавиться
от нее. Это прошлое. То, что было действительностью,—
теперь только сон. Марта тут. Она идет, согнувшись, и
громко плачет.
Я зову ее, она не слышит меня. Я останавливаюсь, она
продолжает плача итти.
Если я остановился, это, значит, конец для нас двоих.
То, что я остаюсь неподвижным, отрывает меня от нее, и
шаг за шагом все рушится; я думаю, что она права. Я не
жил для нее. Не нужно кричать.
197
П_0 TjD К.
Я иду дальше: я слышу одновременно два спорящих
голоса. Во мне два голоса, которые говорят друг с дру¬
гом. На одно мгновенье я проникаю в могилу другого.
Безумие воли заставляет меня смотреть ее глазами, чу¬
жими. .. Ия вижу себя. Бегущего, отчаявшегося. Я
чудом чувствую все, что она скрывала, что она говорила,
горечь, беспокойство и благочестивую доброту, которая
обезображивает любовь. Но как мог я это не предвидеть,
видя пример Аннеты?
Но этот пример ничего не значит. Никогда любовь
ничего не доказала вне самой себя. Тогда как в великой
общей жизни ничто новое никогда не начинается, любовь
каждый раз, целиком, начинается с начала, и ничему
нельзя подражать. Если бы случайный гений дал мне мно¬
жество существований, сто человеческих масок на лице,
я бы также встретил Еву на своей дороге. И знает ли сам
человек свою тайну, свою глубину, весь мрак своей ночи?
И поймут ли это другие, если б он им сказал? Это
неизвестно.
Новый кусок мира, уничтоженного, как гора, выходит
из ничтожества... На перешейке из лавы Альманаджа
(ущелье всех людей), отрезанном провалами и огромной
снежной долиной, где ходят настороже вооруженные
толпы,-—совершенно одни среди всех в белизне, в сердце
всемирного молчанья,—два существа стоят лицом к лицу:
обвиняемый и судья.
Те, которые сдержали движенье своего гнева, печально
счастливы, как те, которые работали.
Мне кажется, что в своих исканьях я всюду проникаю,
как море.
XVII.
КТО НЕ МЕЧТАЕТ, ТОТ БОЛЕЕ ВЕЛИК.
Я не увижу ее больше. Она уехала из этой страны.
Я боюсь, чтобы мне не сказали об этом отъезде, я боюсь,
чтобы мне говорили о другом (о ком-нибудь).
Комната так же пуста, как равнина крыш, которая тя¬
нется повсюду. Я не буду более иметь видений.
У меня не будет более великих воспоминаний. Я по¬
гружусь в глубину самого себя. Я освобожден, отрезан
от этой лихорадки, смутных призывов тела, которые ее
сопровождают. Я один, как раньше, и как все другие люди.
Я остаюсь здесь в мутном рассвете, в конце ночи, в
конце ночей под ударом этого откровения, ограбленный,
с опустошенным сердцем, пытаясь устоять против беско¬
нечного волнения.
Однажды я пожелал освободиться от своих снов, чтобы
лучше исполнять свою узкую работу человека. Это было
в этой самой комнате, где желание ныне исполнилось.
Мне холодно, я дрожу, я наказан.
Я отдам все, чтобы погрузиться в небытие. Счастливы
только безумцы или утешившиеся в своей временной скорби.
Я не могу больше мечтать. Разбитый, я пытаюсь, дви¬
гаться.
Прижав руки ко лбу, я снова думаю о своей земной
жизни, приливах из мирового и сферического прошлого.
Я констатирую с бессмысленной улыбкой, что, без со¬
мнения, в силу какого-то органического расположения,
эти сны смерти следуют один за другим в хронологиче¬
ском порядке. Все нестройно, даже вселенская правиль¬
ность.
КТО НЕ МЕЧТАЕТ, ТОТ БОЛЕЕ ВЕЛИК. 199
Я не буду больше грезить, я подхожу к концу всего
и я чувствую себя во власти последних приготовлений,
в подъеме финала, как тогда, когда в музыкальном са¬
лоне Бетховен захватил меня и оледенил мое лицо и на
меня, непосвященного, надел блестящую маску.
Я шел под жарким солнцем в блеске, который сейчас
повсюду мешал видеть природу лицом к лицу.
После четырех часов решеток и стен, показывается
среди деревьев белое здание замка.
Это старый замок баронов д‘Эльхо. Новейшая кон¬
струкция возвышается на старом фундаменте здесь, у под¬
ножья этих лесов, этих обширных треугольников, которые
соединяют вершины горной цепи, спускающиеся к морю
порфировыми скалами; здесь было гнездо, откуда хищная
птица следила за своими землями и за своими душами.
Быстро опускался день. Блеск солнца погасал. Уже
розовые отсветы, лежавшие на вершинах, сбегали с них
и исчезали. Я осматривал владенья. Замок представлял
смешенье всех стилей. Сверху до низу искусство было
подавлено силой роскоши...
-Сельскохозяйственные постройки, целая деревня для
слуг, возобновленная, отстроенная, беспрерывно подновля¬
емая. Кухни — настоящие заводы, ревущие и издающие
жаркие запахи.
Замок в эту минуту наполнен пышной толпой. Когда
меланхолия сумерек распространяется и голубеет, как по
мановению волшебной палочки, все освещается. Все но¬
вейшие световые затеи сверкают на фасаде и окружают
гирляндой своды. Мы—в веке огня, когда часы вечера
и ночи больше, чем часы дня, дают теплый свет и праздник.
Я вернулся в темную толпу деревьев. Я увидел себя
на поляне, до такой степени заваленной камнями, что ка¬
залось, будто там разрушился город. На земле лежали
кучи скелетов сосен; некоторые стояли, другие лежали с
поломанными ветками, с серебристыми стволами; местами
дерево еще золотилось жизнью: валялись обломки коры,
как обрывки материи.
Я уже видал такой хаос в конце ночного восхож¬
дения ...
200 КТО НЕ МЕЧТАЕТ, ГОТ БОЛЕЕ ВЕЛИК.
Я протянул руки, как это делаю обычно, чтобы не на¬
толкнуться на острые иглы сосен и елей, и шел среди этих
серых масс, на которых мрак обращался в сумерки, то
здесь, то там. Это место, которое убивает деревья. И завер¬
нулся в плащ и в неуклюжую осмотрительность мещанина-
авантюриста, старающегося проникнуть в замковые тайны.
Это ночь, погребенная в ночах. Она снова явилась недавно,
и воспоминание о воспоминании еще живо в моем уме.
В то время, как я машинально двигаюсь вперед, погру¬
жая опущенную голову в пустоту, я думаю об этой ночи,
когда я полз, покрытый плащем, согнувшись, как гриб, к
говорящему колодцу, об этих словах без лиц, которые дохо¬
дили ко мне через землю и которых я не забыл, так же,
как их резкого гневного тона. Также в ту ночь я слы¬
шал тогда, как двое невидимых, потерявших чувство меры
рычали, что древняя верность к власти ушла, что народ
изменил своим господам. И государи, сами вне закона,
которые встречались друг с другом на поверхности мира,
проклинали это удушение их власти, их прав на славу
во французском мире, и они роптали против этой обшир¬
ной Франции, которая набрасывала на них свою сеть,
говорили, что нужна война.
Власть ушла.
Это трепет воспоминания, или, вернее, биение моей
крови, повторяет мне в уши эти слова.
Нет. Это не - трепет моих костей... Звуки голосов...
Я окружен голосами... Я осажден со всех сторон голо¬
сами. В действительности я чувствую себя незаметным,
слепым среди толпы.
Я протягиваю руку и.тотчас же резко наталкиваюсь на
перегородку, которая останавливает меня," я чувствую хо¬
лодный пот камней. Я замурован. Не видя самого себя, я
погребен под землей.
Подземелье. Устройство подземелья сохранилось—при
всех изменениях господского обиталища наверху, на по¬
верхности, которое несколько раз то возвышалось, то па¬
дало, как волна.
Я шатаюсь от сильного волнения от одной перегородки
к другой и стукаюсь о них.
КТО НЕ МЕЧТАЕТ, ТОТ БОЛЕЕ ВЕЛИК. 201
И то же самое рычание мужских голосов, которое я
слышал тогда, когда я был словно осью эпохи, рассыпа¬
вшейся в прах. Да, то же самое бешенство вибрирует в
прерывистых словах, доносящихся до меня. Говорят о
том же самом.
Там сказали: — разрушители порядка.
Там сказали с еще большим остервенением:—в е ч н ы й м ир.
Задушить конкуренцию народов. Заду¬
шить все дела во имя мира.
С трудом успеваю построить положительную гипотезу
(какое-либо собрание деловых людей, заговоривших на
общие, жгучие темы)... Все равно. Довольно. Я стараюсь
услышать, что они говорят между собою, но это мне
плохо удается.
Несколько человек говорят сразу:—Борьба бешеная,
упорная, изолировать, исследовать.—Некоторые слова зву¬
чат так быстро, что их не улавливает ухо или голоса
понижаются, и тогда слышится только свистящее с. Го¬
лоса разрываются. Я становлюсь на цыпочки, чтобы лучше
уловить шум, и мне кажется, что кто-то спросил:—Что слу¬
чится с дворцами, если вдруг кариатиды подымут головы?
Преступники интернационала и челове¬
чества... Создать другое министерство,
другое общественное мнение. Война.
Война. Один голос, самый пронзительный, покрывая
все другие, выпаливает залпом:
Непосредственное. Они всегда ловятся
на непосредственное, всегда. Всегда, суще¬
ствующее и способное страшными ударами
уничтожить все, что предполагается вели¬
кого, чтобы зараза человечества не распро¬
странилась дальше. Пользуясь велением непо¬
средственной необходимости, "повести мо¬
лодую запуганную толпу, даже не платя,
куда захочешь.
Другой сказал: монополия совершившегося
факта.
Он смеется. Я слышу эхо его смеха. Необыкновенная
зала затихает после шума.
202 КТО НЕ МЕЧТАЕТ ТОТ БОЛЕЕ ВЕЛИК. __
Я выхожу из подземелья, потом иду по черной дороге,
протянув перед собою свои для меня незримые руки.
Я сразу отяжелел от того, что услышал. Я знаю
довольно, чтобы знать все. Я вижу продолжение вещей.
Видел ли ты на этот раз целое? Издали я проник в смысл
жизни и перевороты мира. Ничто никогда не меняется.
Ничто.
Я иду на перекресток в каменистом мраке. Я должен
отскочить назад: пронзительный крик сирены, и со всей
скоростью и увеличивая каждую Секунду свою звучность
и диаметр, автомобиль наполняет дорогу и проно¬
сится ослепительный, гремящий. В нем — лысый человек
с бледным лицом, закутанный в меха. Острые фонари
бросают в меня свет, как световые поршни, и я вижу их
уже далеко, и они рассекают при своем проходе широкий
круг в ночной тьме и освещают опушки лесов. Еще
дальше по морскому берегу летит комета, которая бро¬
сает в воду свет.
Другой светящийся автомобиль издали приближается
ко мне с своими двумя огромными прожекторами и пронзи¬
тельным криком. Он бешено толкает меня, откидывает
на откос и оставляет во мраке. Потом еще и еще. Их
нить тянется из замка, увозя во мрак ночи блестящих
гостей, которые в нем находились, голоса которых отвер¬
гали всеобщий мир, как иные голоса, много веков тому
назад подслышанные мною, отвергали французский мир.
Дорога рычит. Стиснутая между двумя склонами,
прямая и узкая, она похожа на чудовищную трубу. Боль¬
шие геометрические автомобили пробегают ее с шумом раз¬
рывного снаряда на колесах и с блеском оружия. Черный
предмет с двумя белыми точками вырастает передо мною
среди широкого пространства и, когда, проходит мимо
меня на своих толстых мускулистых колесах и освещает
мое лицо, я вижу в нем блеск никеля меди, электриче¬
ское гнездо, зеркала, подушки и свет. Это черепаший
щит одной почтенной особы: того, кто имеет двойной
подбородок, толстые веки, распухшие, как будто от укуса
пчел, и губы в форме идиотской стрелки (я знаю его,
его внутреннее содержание: кутежи, спорт и королевская
203
КТО НЕ МЕЧТАЕТ, ТОТ БОЛЕЕ ВЕЛИК.
ортопедия). Рядом с ним, болезненным и бледным банкиром
Клеман Массаром, его жена, изысканное животное
роскоши, блестящая невольница, которая улыбается на его
плече. И я в эту минуту, при виде этой добычи, захва¬
ченной богатством, более жестоким, чем она, думаю о
Клэрине, когда на нее набросился барон Эгберт.
Ияд автомобилей движется по горам, каждый со своим
тонажем освещения. Они погружаются во мрак, потом
въезжают в ущелье и едут, озаренные светом. Можно
подумать, что дороги, по которым они едут, расширяются
и выпрямляются. Авто и гора меняются движениями.
В продолжение долгого времени они следовали друг
за другом, мягкие, как амфибии, забронированные в своих
страшных металлических каретах, откуда исходит свет,
как две колокольни шпилями вперед. Они пробежали
много километров и вышли на круговую дорогу Среди¬
земного моря, знакомую финикиянам, грекам и римлянам.
Еще быстрее они бросаются в пространство; слышен
гром, потом он затихает, сердце механизма исполняется
гордостью, равнодушной к работе других, едва улыбаю¬
щейся другим, топчущей распростертое послушание.
Быстрота,—она абстрактна и воинственна. Она метет.
Это королевский стиль сегодняшнего дня. Она покрывает
страну, которой не видит, черным рисунком, и обращает
ее в карту генерального штаба.
XVIII.
ЧТО БЫЛО,—ТО БУДЕТ.
С закрытыми глазами я слушаю стихи.
В хорошо слаженных и скрепленных слогах появляются
машины, лифты, дансинги, экзотические ткани: современ¬
ная панорама, разбросанная крошками.
... Сейчас я почувствовал слабость в мастерской
Ариеса. Я растянулся на диване, дремлю, слушаю с тя¬
желой головой и наполняюсь шумом.
Теперь они спорят. Системы. Моды. Искусство и
поверхностная его глубина.
Мои друзья, мои товарищи, мои.—Я их сужу. Разные
на первый взгляд, они подобны друг другу: шумливые
и пустые. Они невежды и видят только поверхность ве¬
щей и людей.
Литераторы и артисты, техники формы, применяю¬
щиеся к моде, они считают себя мыслителями (мысль—
это для интеллигентов скрипка Энбра). Я вижу их
сквозь закрытые ресницы, и они, пользуясь своим уме¬
нием обращаться со словами, жонглируют великими цен¬
ностями.
— Сила есть добродетель,—говорит сильный голос.
Национальное пробуждение. Идеал со спортивными
нервами, армия, война—вплетаются в их разговор в бес¬
порядочном шуме слова. Сироди и Себер, которые кри¬
чат здесь, с какой экзальтацией они погружались по горло
в работу, когда мы вместе участвовали в больших мане¬
врах на востоке, в виду неприятеля на берегах Кленар-
сиса, все трое в штабе одной из армий.
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
205
Они националисты, потому что никогда не собирались
перестать скользить по этой плоскости. Они милита¬
ристы или революционеры, потому что любят то, что
блестит и сияет. (Трибун с наполеоновским позерством).
Другие открыли гуманитаризм или почти гуманизм, ко¬
торый даже теоретически не может удержаться, или все
сметают метелкой парадокса, или, как акробаты, играют
вещами.
Они чиновники среднего мнения, которое властвует,
весельчаки, но служители старых привычек обществен¬
ности и власти, их эхо и отражение. Прекрасный голос,
который я слышал вдали, через головы людей книги и
искусственности, звучит:—Если хотят обрисовать челове¬
чество одним словом, пусть возьмут слово послушание.
Как должны презирать их те из невольников с проклятым
телом, которые сохранили искры сознания и возмущения
в глубине души.
*
* *
Каков сюжет драмы людей? Война.
Лестница существует, которую нельзя уничтожить среди
настоящего и что было, то будет. Современный мир. одо¬
бряет войну сверху до низу, будущее грубо заключено
в прошедшем, и увлеченный тем, что я видел, пророк
прошлого, я вижу там войну. Воспоминания, воспомина¬
ния:—будущая ройна.
События будут послушны великим по воле малых,
при богато усовершенствованных формах, незнакомых ста¬
рому миру... Они с жадностью говорят об этом и воз¬
вращаются к своим большим маневрам на Кленарсисе.
Воздушные эскадры; новые формы с более темным цве¬
том и потемневшие каски; ракеты, чтобы освещать долину,
как залы; траншеи горной войны стрелки—рой черных мух;
огромные пушки, закопанные в землю, как туннели; как
будет беспредельна дальнобойность этих орудий!
Я лежу среди их болтовни. То, что осталось от кругов
дня, померкло на горизонте. Я около них и, как всегда,
далек от них. Я думаю о мировой тайне, страсти, о ве¬
ликой игре с бедными, о шекспировской трагедии, создан¬
ной всемирной историей.
206
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
Все, что было сделано, будет сделано вновь. Я полу¬
закрываю глаза на это бытие. Война и человек. Драма
человека против войны. Я—человек, я — центральный
пункт; я—результат времен, я—возобновление,
* *
*
Луна погасла; у моих ног распростерлась ночь, и вся
черная бездна прорезается глухими молниями.
После удушающих и томительных часов за пишущей
машинкой, на своем посту, под электрической лампой,
я оставил на минуту свою работу писца; через малень¬
кую дверь барака я погрузился в пространство, я стоял
там, наклонившись над ночною бездной, освежаемый бес¬
конечным ветром. С высоты груды земли, которую назы¬
вают Перроном и где находится штаб армии где я служу,
я господствую, не видя ее, над этой обширной долиной
Кленарсиса, потрясаемой гулом и озаряемой метеорами.
Выстрелы, одни легкие, на расстоянии, другие более
грубые, металлические, смутное эхо, блуждающие огни и
грохот озаряемых пространств наполняли небо и смол¬
кали. Штаб являлся центром и вращающимся двигателем
постоянного действия.
Аэроплан, утонувший в высотах, приблизился, потом
удалился в разрывах гранат. По этому свету угадалось,
в какую он ринулся зону.
Я испытывал всем своим сердцем и всем во¬
ображением поэта феерическое величие этой военной
ночи и искал, в каких оригинальных образах я мог бы
передать эту обширную звучную иллюминацию долины
и гор, какая бы поэма восхитила и очаровала суеверную
публику тыла.
* *
*
Я основательно знал район: уже три месяца как я
изучал его в качестве скромного секретаря штаба
одной из армий. Хотя я никогда не об’езжал его (мое
присутствие в штабе было необходимо), я имел всю
географию перед глазами и в фантастическом мраке я
воссоздавал то, что было на карте. Вся глубина невиди¬
мого пейзажа, которую захватывала, потом оставляла свер-
ЧТОБЫЛО, ТО БУДЕТ.
207
кающая бомбардировка, обнаруживая его беспредельность,
была занята неприятелем. Река принадлежала ему, и это
придавало таинственный и страшный вид бледным по¬
явлениям ее призрака. Мне казалось, что я различаю два
великих молчания, бомбардируемых людьми. Молчание
германское и молчание французское. Я ясно видел—Раз¬
деление.
Но в этот момент, когда я проектировал на-ощупь,
как ясновидящий, топографические обозначения в ночном
пространстве, расстроенном пушками, с пятнами света,
гудящем под синими зигзагами, которые чертили на небе
с востока до запада и до самого зенита выстрелы тя¬
желой артиллерии,—линия, разделившая пространство на
две трагических половины, не была уже настоящей линией,
вид района, закрытого облаками, готов был измениться.
Мы атаковали в полночь при свете луны. Жребий
брошен. „Aiea jacta est“. Из окон моей обсерватории
я несколько горделиво подумал о Цезаре — мы идем
вперед...
Я пошел за новостями в штаб армии.
В глубине залы через стеклянную дверь виднелось
тесное помещение. В этой хижине-бюро был человек,
который держал в своих руках направление огромной де¬
ятельности, простирающейся на много километров во¬
круг,—командующий армией.
Через стекла была видна его энергичная голова, когда
он, жестикулируя, приближал ее к свету. Перед ним на сто¬
лике блестел никель сумки и телефонного аппарата. Он
разговаривал с некоторыми лицами, которые на несколько
секунд появлялись в стеклянной двери.
Иногда входная дверь нашей залы с другого конца
в темном углу открывалась, давая проход одному из су¬
ществ, еще окутанных ночью, окаменелых от холода, ко¬
торые останавливались, ослепленные, на пороге с бумагой
в руке, потом подвигались вперед, руководимые ординар¬
цем, по колеблющемуся паркету, отчего двигалась вся
обстановка и разноцветные обитатели, наполнявшие зал.
Офицеры, как один человек, спрашивали его отрывистыми
словами, и он отвечал на ходу то, что мог ответить.
208
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
Это были телеграфисты, которые приносили депеши,
телефонисты со своими сообщениями, люди связи с замет¬
ками и пакетами, офицеры всех рангов и служб,Чгрибывшие
из армии, из дивизий, из артиллерийских парков. Ординарец
принимал всех и вводил новоприбывших в святилище гене¬
рала. Генерал схватывал свой монокль, который у него
висел рядом с орденами, и знакомился с бумагами. Можно
было видеть, как он рассматривает посланного, слышно
было, как он задает вопросы и делает замечания, а на¬
чальник штаба делал заметки в своем блок-ноте. По¬
том посланный проходил обратно через залу по рессор¬
ному полу и исчезал. Иногда ординарец бросался к вход¬
ной двери, говорил несколько секунд, и посланный уходил
в ночь.
Телефон зазвонил и из диа-монолога генерала вы¬
ясняется, что знаменитый пулемет-призрак, который был
„на шахматном поле“ — захвачен перед атакой отрядом
сенегальских стрелков:—Браво, поздравляю, полковник, я
доволен, я • очень доволен. Вы видите, что они тоже
иногда хороши.
После этого незначительного инцидента был в эту ве¬
ликую ночь период, когда телефон не звонил, и никто не
приходил а депешами или за получением приказаний.
Внизу, в невидимом и неизвестном, свершались вели¬
кие события, и в деревянной хижине они отзывались
только продолжительным дрожанием досок и предметов,
в ответ на выстрелы, доносящиеся издали.
Главный штаб создал план атаки: его задача своди¬
лась к тому, чтобы дело было завязано, чтобы мысль
облеклась в плоть в пространстве.
....Она была тут перед моими главами, в моих руках,
трагедия, которая сейчас развертывается перед лйцом
мира. Я встал и подошел к лампе на маленьком столе,
и я увидел ее. -
Рельефный план пятимиллиметровый.
Это крошечная конструкция, около квадратного метра,
испещренная выемками, горбиками, значками, цветами,—
вто был микроховм района. Сюда была перенесена дей¬
ствительность, уменьшенная в 25 миллионов раз по пло-
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
209
щади и в 125 миллиардов раз по объему, и позволяла
одним взглядом, под солнцем электрической лампочки,
целиком осветить поле действия армии. Это была ком¬
бинированная сводка и собрание рапортов, фотографий,
крок, карт, заметок наблюдателей артиллерии, аэропла¬
нов и воздушных шаров, патрулей, сообщений плен¬
ных,—все это кристаллизовалось в центре командования,
как в голове.
Таким образом, хотя мы были затеряны в бесконечной
темноте, наши глаза открывались и видели все.
Головокружительно маленькое воспроизведение пока¬
зывало нам при свете лампы настоящую действительность:
зеленый шум лесов, прямоугольники владений, параллеле¬
пипеды домов и конусы церквей, дороги, как сети, и пути,
как нити,—оно сразу вводило нас во весь механизм, во весь
размах войны.
Оно позволяло нам видеть, впереди деревянного го¬
родка служб и тыловых учреждений, Перрон, где мы на¬
ходимся, живой центр, украшенный знаменем армии,
откуда родилась идея и заблестела молния.
Отсюда развернулась территория войны, исчерченная
страна: семь линий французских траншей до параллель¬
ного им течения Кленарсисы. Наша первая линия окружала
слева деревню Воксавен, в середине Сентроп, которые
обе принадлежали нам, разделяла на-двое пустую де¬
ревню Жираяд и были видны, как три тире, три моста,
бдительно охраняемые, потом с другой стороны долины
семь линий немецких траншей, беспрестанно возобно¬
вляемую геометрию которых мы знаем так же хорошо,
как и наши работы, начиная от траншеи Одина до тран¬
шеи Бисмарка.
Развязка рисовалась глазам: перенести туда эту линию
трехцветных значков, которые были здесь. Геометриче¬
ская задача, которую надо было решить с человеческими
цифрами после предварительных вычислений. (Укрепле¬
ния, резервы, продовольствие, снабжение, меры порядка,
использование времени, артиллерийская подготовка). Ра¬
бота пехоты была на три четверти исполнена, ей оста¬
валось только двигаться вперед.
А. Барбюсс.—Звенья. 14
210
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
Неожиданно на пороге появился начальник и подошел
к нам. Те, которые спали, проснулись.
— Продвижение нормально, господа.
Он продолжает:
— Первые линии взяты. Вторая атака начнется через
полтора часа.
Он направляется к рельефному плану в сопровожде¬
нии всех и даже старого хромающего офицера, доклад¬
чика в военном совете, с опухшим и заспанным лицом,
слезящимся и помятым. Он призывает начальника топо¬
графической службы. Его указательный палец упирается
в картон.
— Линии здесь, сержант,—указывает он.
По этому приказу начальника, топограф передвигает
трехцветные значки и ставит их против реки; мы внима¬
тельно и благоразумно, как дети, следим за этой торже¬
ственной забавой, за этой операцией, которая меняет
страну. Мы — авиаторы, чудесно парящие в освещенном
пространстве на высоте шестисот метров над железным
остовом войны.
Генерал, благодушный, сердечный, продолжает:
— Мы двигаемся, как на шахматной доске. Когда зай¬
дет луна, генерал Трамблей устроит две траншеи в бо¬
лотах до границы. Обозначьте их здесь, на два выстрела
от кустарника. Здесь будет сбор, о чем дано распоря¬
жение. Полковнику Годи не без труда удалось с его
колониальными очистить это место. Со стороны болот
обстоятельства не таковы. Мы прямо наткнулись на
нетронутые сети заграждений и в этом углу нас не¬
дурно обстреляли из закрытий.—(Рука генерала вырази¬
тельно танцует на этом месте). Враг вел себя благородно,
я отдаю ему в этом справедливость. Там в треугольнике,
гамма на шахматной доске, был не отмеченный подзем¬
ный коридор. Мы знали это. Он обвалился, когда захотел,
и это расстроило ряды, которые там были: это естественно
и извинительно. Мосты разведены нами, чтобы отрезать
возможность контр-атаки...
И генерал ногтем подчеркивает три моста.
— Враг должен был устроить защитную завесу...
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
211
Лейтенант в полевой форме, только что вошедший,
кланяется и вручает пакет:
— Генерал, претензия.
Слово звучит нехорошо.
— Что такое? — говорит начальник главного штаба,
нахмурив брови, веским голосом.
Он открывает пакет. 75 стреляют слишком близко
и мешали продвижению со стороны 4.
— Неловкие,—говорит генерал,—всегда одна и та же
история; этот проклятый Бедорец никогда не принимает
должных мер предосторожности. Никогда.
Он подписывает приказ и вручает его офицеру, кото¬
рый делает вполоборота.
Он вынимает часы и словно играет ими.
— Слушайте, господа,—вдруг говорит он. — Большая
пушка.
Несколько секунд молчания, и чудовищный рев вры¬
вается из пространства. Он толкает нас и гремит, как
будто все пространство превращается р железные разва¬
лины, перемещаемый воздух охватывает и трясет барак
до основания. Мы толкаем один другого, так же, как это
случается с теми, которые везут тележки, когда они вне¬
запно останавливаются. Большая пушка. Раздаются воскли¬
цания. Чувство гордости от сознания такой силы прони¬
кает в нас до глубины души. Мне кажется, что на протя¬
жении веков я вновь нахожу в себе проникающее в меня
божественное биение колокола, проходящее через хаос
разложения и камней.
Дверь залы открывается сама собой, и черный шум
артиллерии врывается с дыханием ночи и ветра. Это гер¬
манский ответ. Он, должно быть, ужасен, если так звучит
даже здесь. Дверь закрывается. У генерала невозмутимо
спокойный голос, в этом досчатом доме среди мрака зе¬
млетрясения, откуда блестит поле, как потусторонний мир.
— Теперь три с половиной часа. Дело возобно¬
вится на рассвете в 5 часов утра. Мы идем тремя пу¬
тями — отметьте деревянный мост 273.06 — и сомкнемся
на другой стороне реки, в четырех километрах от
фронта,
14*
212
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
Он указывает операции, которые сейчас развернутся.
— В семь часов мы будем здесь.
Он делает жест, чтобы оттолкнуть линии, как толкают
пальцем пешку, потом ряды пешек. Его большая откры¬
тая рука покрывает километр на блестящем четырех¬
угольнике. Потом триумфатор, величие которого отра¬
жается в наших глазах сквозь этот внешний скромный
и банальный блеск, направляется к двери. Прежде чем
исчезнуть, он поворачивается и кланяется, его золотая
корона блистает.
Растянувшись на койке, чтобы немного вздремнуть,
несмотря на тревожную лихорадку энтузиазма, я вижу бес¬
порядочный зал, круг украшенных золотом вождей, с от¬
крытыми глазами. Можно подумать, что это тревожное
ночное бдение в игорном зале, опустошенном азартом
своих посетителей, вокруг расчерченного мелом или
цифрами стола, где перекидывается удача, как вещь.
*
* *
— Трашель!
Голос ^начальника штаба сразу пробуждает' меня:
— Отнести два пакета — один на наблюдательный
пункт Б, другой командиру батальона охотников.—Это
значит пробежать весь сектор.
Черная рука открывает легкую заслонку. Холодный
серый воздух колышет сгущенную атмосферу и тяжелый
табачный запах. Я различаю размеренные холодные дви¬
жения призрака, который, наклонившись, шарит и ищет
в погасшем очаге, этом желудке барака. Я выхожу, я сей¬
час увижу все то, о чем столько говорили.
*
* *
Но я был по-детски разочарован: я, расчитывавший все
увидеть,—я не вижу ничего. Туман покрыл мир. На первом
плане этой длинной панорамы показалась толпа людей, как че¬
репахи со щитами, покрытые влагою, пропитанные, как губки.
Внизу под слоем тумана .шум пробуждающегося пред¬
местья,—смутные звуки, шум и громыханье катящихся
телег. Все скрыто от глаз, и хочется разорвать этот блед¬
ный мрак.
Я иду прямо вперед.
*
* *
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
213
Дальше нельзя итти открыто. Дыра в норе. Через нее
входят в траншею VII. Подземная лестница, очень крутая,
погружает меня в полумрак, и я спускаюсь в глубину
коридора, сжатого двумя стенами свеже утрамбованной
земли, над которыми белеет небо.
Окоп глубок; свежая земля, лежащая отвесно, похожа
на темный камень. Резко обозначаются на черноте земли
фестоны травы, бегущей по стене над моей головой.
Я иду долго. Я думал, что сейчас увижу сражение или
хоть взгляну на него. Тщетная надежда.
Неожиданно, справа и слева, открывается широкое
отверстие. Это наша последняя линия, которую, как я ду¬
мал, я давно уже перешел в этих постоянных извилинах,
которые путают время и пространство.
Очень широкая, разрушенная и покинутая, она тянется
по обе стороны окопа. Видно только ее начало; она скры¬
вается за поворотом. Несколько открытых хижин, как хи¬
жина дровосека, прячутся в печальной земляной насыпи,
с торчащими на ней пуками соломы. На заплесневевшей от
дождя земле белеет трава. Валяются, словно окаменелости,
предметы снаряжения: обломки, тряпки, кучи сломанных
деревьев и разбитого оружия, лоханка, проржавевшая
и продырявившаяся от времени. Ни одной души не видно
на этой бледной равнине разрушения, грязй и беспорядка,
дыханье которой мгновенно охватывает меня со всех
сторон. •
Эта траншея тянется почти по прямой линии. Там дви¬
жутся каски, раздаются шаги, звучат голоса. Но это не¬
значительное движение больше подчеркивает грандиоз¬
ность события, чем сделала бы сама пустыня. Два сол¬
дата подвигаются с моей стороны, наклоняясь и поды¬
маясь с протянутыми руками, с винтовками на спине,
и глазами, устремленными на то место, которое топчут
их ноги. Наблюдательный пункт устроен в холмике, кото¬
рый в этом месте горбит равнину. Один из солдат, спро¬
шенных мною в момент нашей встречи, указывает мне
пальцем на дыру в центре - холмика й говорит:—это там...
Прямой, тесный проход, поддерживаемый столбами,
вбитыми в. чернозем,—и вот низкая комнатка, которую
214 , ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
освещает узкая бойница, срезанная поперек, как будто бы
с этой стороны был приподнят потолок. Стол, скамейка:
один человек сидит, другой стоит, оба спиною к свету,
очерченные светлым кругом. Один из них, артиллерий¬
ский лейтенант, берет мой пакет, читает его, говорит мне,
что сообщение восстановлено и все необходимое сделано.
Он пишет это на бумаге, которую дает мне, 'и потом
говорит:
— Идите взглянуть на сражение.
*
* *
Я приближаюсь к светлой дыре, и вдруг из глубины
этого подземного фонаря я все вижу. Я вижу головокру¬
жительное движение, кажущихся очень маленькими, полей
сражения как будто с высоты платформы замка...
Я вновь чувствую расстояние, которое перестал пони¬
мать. Передо мною,- через траву, которая мелькает перед
моими глазами на краю глубокой бойницы, вырисовывается
действительное изображение общего плана сраженья. Но
общий план недвижим, а здесь, в открытой на горизонте
бездне, происходит движение.
Я наклоняюсь, чтобы лучше видеть, чтобы быть по¬
всюду.
Траншеи резко обозначены желтыми, беловатыми, по¬
лосатыми насыпями, их длина подавляет—это хирургиче¬
ское и поясняющее начертание адского города, изрывшего
все пространство... Виднеются три деревни, лежащих после¬
довательно с запада на восток, куча крыш, красных и
голубых, полурыжие картонные стены Воксавена, Сен-
Тропа, потом Жиранды, масса которой бледнее, чем дру¬
гие. Темные зоны берега, светлые линии .Кленарсисы.
Эшикье и его земли, обведенные белыми нитями низких
стен. Приютившийся на голом зеленом склоне, углублен¬
ный параллелограм немецких траншей, с правильными тра¬
версами окопов, старается скрыться и обнаруживает себя
линия за линией, на этой цветной странице в головокру¬
жительном беге. В глубине укрепление 36,—последняя
волна дали,—длинный облачный остров на горизонте.
Внизу, примерно в трехстах метрах, трада перед, бой¬
ницей мешает мне видеть ближе — слабые огни батарей,
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ. 215
среди белого дня, как искры огнива прорывают покров
тумана над долиной. С другой стороны краснеют мгно¬
венные вспышки. Лейтенант дает мне бинокль. Я прикла¬
дываю его к глазам, я вожу светлый круг увеличительного
стекла, беглою прихотью своих пальцев, по всему про¬
стору.
В перпендикулярном к линиям окопе змеится цепь; пе¬
хота в касках. В соседнем окопе движение в противопо¬
ложном направлении как будто составляет противовес.
В параллелях можно заметить на плоскости откосов, в тем¬
ной пастели, подчеркнутой чернилами, жемчужные четки
в однообразном и точном движении. На склонах высот
это равнение можно принять за ряд мертвых кустарников,
первый взгляд не улавливает движения — это отдельные
части: острия на ружейных штыках блестят на солнце
искрами и снопами искр. Толпа всходит и сходит и обра¬
зует рисунок четырехугольного муравейника, который
исчезает из глаз после того, как попадает в опреде¬
ленный круг бинокля. Там распутываются дела, там ли¬
липуты, беснующиеся вокруг игрушки. Видно, как они спе¬
шат со всей скоростью своих мускулистых ног. Они рас¬
сеиваются, соединяются, сплачиваются.
— Они весело идут, наши маленькие артиллеристы.
Иногда их порыв сдерживается неизвестно почему; не¬
понятно, что они делают, и это действует на нервы. Хо¬
телось бы. дать им по носу щелчок.
По мере того, как вооруженный глаз переносится к го¬
ризонту, он схватывает, в великой наготе бледного мол¬
чания, только спускающиеся линии муравьев, потом не¬
сколько чернильных точек и живых дорожек, моментами
теряющихся из глаз, движение и значение которых непо¬
нятно, Словно серая пыль выколачивается палочкой в
верхних частях плана, кажущихся на расстоянии одинаково
плоскими. Отсюда не видно движение этих поверхностей.
Иногда, если снова взглянуть на них через мгнбвенье,
можно заметить, что они скользнули, как тень облака по
земле.
Я с любопытством смотрю на эту вибрацию в откры¬
тых жилах и внутренностях сектора. Я не привык видеть
216
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
движенье, я видел только пустынные карты, кладбища
чернил.
Прислонясь ко мне, наблюдатель об'ясняет мне род
операции. Когда он выставляет голову, она закрывает от
меня пол-мира.
— Мы взяли четыре траншеи: одну, две, три, четыре.
Но направо, в Турнике, наступление прекратилось на
несколько часов, в виду сильной обороны...
Спешат подкрепления, чтобы восстановить средства
нападающих... Движение определяется, вы слышите?—го¬
лос молодого человека становится еще больше дрожащим
и лихорадочным,—вы видите, они идут с двух сторон по
склону, вы видите их, вы видите их? Они не перестают
выходить из земли!
События широко рисуются глазам на рельефной карте.
Почти можно видеть двойную бурю, которая ослабляет
свой хаос внизу на горизонте и налетает судорожными
порывами.
Не видно людей, наполнивших расщелины и тихо про¬
двигающихся вперед, но видны над их прямой линией
облака, сверкающие искрами. Не видно людей, но видны
ураганы, которые их окутывают, горы, падающие с неба
на них, виден заряженный ветер, который их толкает впе¬
ред и отталкивает.
— Там, повидимому, ужасные заграждения, у этих цве¬
точных грядок со стороны немецкого кладбища. Весь этот
рев, который слышен, и резкая трескотня ружей... Слу¬
шайте... Слышите?
Тут целый армейский корпус. Естественно, кровавые
точки слишком мелки и слишком многочисленны, чтобы
можно было думать о каждой из них, но когда их видишь
они не много стоят для взгляда. Они призраки по своей
небольшой величине.
Меня, находящегося над ними, волнует мысль об их
страшном количестве, о лавинах, которые они навлекают
на себя. Необыкновенно захватывающее ощущение сле¬
дить за неизмеримым пространством, в котором тонет гро¬
хот и откуда не доносится жар неистовствующего там по¬
жара,—за фазами геометрических изменений на земле,
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
217
комбинирующихся, слагающихся так или иначе под гу¬
стым, сверкающим дымом.
— Там заграждение! — воскликнул наблюдатель со
странной экзальтацией, от которой заблестели его глаза
и окреп его голос (можно было бы сказать, что он гово¬
рит, как актер, и я отчетливо вижу его профиль с длин¬
ным тонким носом, как китайскую тень на неровной све¬
товой поверхности)...
— Мы видели это уже с полночи. Если бы вы виде¬
ли. Ночь, дым обращается в пламя, как в Библии, но обез¬
умевшие боши остервенело бросаются на долину Ванку¬
вера, направо от Жиранды, к оконечности сектора. Их
обманули! Там только несколько единиц.
Дело возобновляется снова в почти неподвижной ясно¬
сти и немом величии. Как рок, обрисовывается план: стя¬
гивание в одно место, об'единение—мысль генерала. Эти
мрачные ряды, такие спокойные при первом взгляде, ра¬
ботали в общей и могучей гармонии. Это сражение, это
победа. Я владею этим миром. Я, только что вознесенный
на вершину войны, как гигант.
*
* *
Мне нужно итти, чтобы выполнить свою миссию.
Я возвращаюсь в траншею, потом в окоп, и это ко¬
нец внешнего мира. Тайна целого, вырванная на мгно¬
венье через узкую щель наблюдательного пункта, разры¬
вается на куски и рассеивается. Я иду на буксире армий,
которые прошли здесь, царапая двойную стену,—каторж¬
ник долгого пути.
*
* *
Внезапно окоп закрывается; перед глазами вывеска
торчит белым пятном и гласит: Первая линия.
А!..
Я знал, что я приду сюда, но ожидаемая действитель¬
ность, когда она является воочию, всегда кажется откры¬
тием. Она настолько значительна и производит такое
впечатление, которое не может заранее представить
себе мысль. Всякая вещь всегда, один единственный раз,
является такой прекрасной, как она есть сама по себе.
218
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
Я делаю несколько шагов по траншее, откуда первая
атака началась этой ночью при свете луны.
Она углубляется, с каждой стороны окопа, в два су¬
мрачных залива, и эти места—места неумолимого оску¬
дения—перевернуты, опустошены, раздавлены ливнем со¬
бытий и еще больше—сильным ветром.
На склоне передней насыпи клетчатая правильность
земляных мешков поддерживает парапет с фантастиче¬
скими зубцами.
Еловые подпорки, которые поддерживают стены, обо¬
стряются, согнутые, спутанные и бледные, как кости
мертвецов, дышащие глубинами разрушения; сгнившее де¬
рево, мясо деревьев. Через широкое отверстие обрушен¬
ной стены, как между двумя массивными скалами, заме¬
чается несколько горизонтальных растушеванных линий
поля. Я постарался скорей оставить это подозрительное
пространство.
Я подмигнул глазом и сказал:—они все вышли отсю¬
да... Именно отсюда, из этих бесформенных и скверных
куч грязи. Из-за этих насыпей, толщина которых их спа¬
сала, и которая была телом их тел в полутемноте. Они
все поднялись открыто на земляную баррикаду, по кото¬
рой снаряды били, как по наковальне, и бросились под
колеса пространства. Были видны места, где они шли,
чтобы уйти из этого убогого убежища мрака, чтобы уйти
из жизни. На грудах земли, на обломках стрелкового бан¬
кета, отпечатались следы их подбитых железом сапог,
огромный муравейник.
Наверху... Я вижу резкий отпечаток ладони. Рука легла
на земляной край последнего берега, после чего оставила
ее в последний момент, когда эти откосы гремели громом
и колебались, как лава, в лунном пейзаже. Кажется, что
можно найти среди этих бездыханных руин длинные сте¬
ны, построенные в пустыне, как дюны, отпечаток^ тел дру¬
гой эпохи и, я вижу ясно, другой расы. Это всю землю
обратило в мясо. Я боюсь итти и громко думать.
Видно, как поднимаются в неисповедимой и бледной
лазури лунного света жертвы Христовы с их беззащит¬
ным телом, с их белым развевающимся платьем: жест, ко-
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
219
торый, несмотря на все слова, несмотря на приступ гнева,
который наспех придумывается в последний миг и не¬
смотря на ружье со штыком, направленное вперед, выки¬
дывающее из своего ствола, как знамя, мгновенное
пламя,—все же жест самоубийства.
„Пехота вышла в таком-то часу и проследовала нор-
мально“. И это отмечают, прикалывают в известном месте,
с трепетом игроков, в линии булавок. Есть другое вели¬
чие, другая трагедия, зияющие знаменья которой появи¬
лись и обратили вещи в камень, и которую я вижу, не
понимая ее, как следует, словно я чужеземец. Люди, люди
живые, которых я не знаю, с моими картами, моими ли¬
ниями и моими цифрами... Теперь я их вижу, но я вижу
их слишком близко, и они причиняют мне боль.
*
* *
Нужно еще итти.
Я иду тем же путем, который они прошли. Но я защи¬
щен окопом, который вырыт позже, потому что, перед на¬
чалом действий, отсюда был слишком близок неприятель,
и не было возможности предпринять, даже ночью, земля¬
ные сооружения и поддержать их (эти сооружения разру¬
шаются, как трупы).
Но стенки снижаются, ров уже не глубок. Я иду, при¬
чудливо согнувшись (мне кажется, что я карикатура), сво¬
бодное пространство ударяет меня в лицо, в грудь, справа,
слева и особенно на пороге долины. Однако, всюду глу¬
бокое молчание, и на другом берегу реки длинный ряд
сооружений окружен спокойной движущейся толпой.
Опасности нет. Успокоившись, я театрально выпрямляюсь и
громко смеюсь в пустоте. Но все же я тороплюсь. Мое
тело выходит целиком из узкой расщелины, которая толь¬
ко тень траншеи, и вытягивается во всю длину. Мой
страх проходит только через несколько минут. Солнца
нет. Это аспидный и убогий свет зимнего дня. Долина—
не долина—это склон. Трава под ветром колеблет свои
султаны. Едва я имею время заметить направо пыльные
и каменные обломки: это остатки Жиранды. С полей под¬
нимается ветер.
220
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
Поля испещрены колодцами, где мерцает вода. По¬
всюду дыры, ничего, кроме дыр. Можно различить их двой¬
ной ряд, напоминающий концы двух узких каналов, где
ветер морщит воду. Это первые траншеи, выкопанные
наиадавшими, те, которые генерал отметил на плане
в двух выстрелах от кустарника, и про которые он ска¬
зал, что их устроит какой-то генерал. Сюда, это здесь;
пройдя через вулканическое заграждение, добрался барьер
тел и спрятался, когда погасла луна, В течение трех ча¬
сов они в молчанья, в ледяной воде копали водяной грунт;
у них не было ничего, кроме маленьких лопаток, чтобы
бороться против воды, и никакого оружия против беско¬
нечного холода.
Что это такое? Шесть глыб подряд. Они все черны;
они все сожжены пламенем, но, однако, видно, что это —
негры. Негры, обращенные в уголь. Перед ними круглое
изломанное основание какого-то здания, корона испор¬
ченных камней.
Печь для обжигания извести! Я вспоминаю, что слы¬
шал в это утро, что именно здесь находился пулемет-
призрак. Тогда... Да. Значит, это те самые негры, кото¬
рые отбили пулемет в эту ночь перед атакой. Их послали
нащупать машину в темноте. Они ее нащупали своими
трупами
Я не знаю, как . они сгорели. Они все шесть здесь,
разбитые, раздавленные, изломанные. Видна запекшаяся
кровь, которая покрывает уголь их тел и мрачные кучи
шинелей.
Поздравление по телефону их полковнику. „Браво,
поздравляю. Вы видите, что они годны на что-нибудь".
Я слышу еще их перед этим костром, где виднеется шесть
лиц, словно ржавчиной покрытых, с черными отверстиями,
где лежит пепел глаз.
Я останавливался около каждого из мертвых, как будто
они хотели со мною говорить. Теперь я не вижу их больше.
Я дохожу до берега реки. Все пропитано водою; из
воды торчат несколько столбов, и царит запах крови и
болота, болота крови. Траншея первой линии уже дышала
мне в лицо этим запахом крови, когда она воплощалась.
ЧТО БЫЛО. ТО БУДЕТ.
221
На другой стороне Кленарсисы, куда переходят по
трепещущим доскам—люди. Целые длинные нити сидя¬
щих пленных, связанных по - двое, по рукам и ногам.
Один из них с кукольным лицом, очень юным и розовым.
У него на лбу рана, перевязанная клетчатым желтым
платком. Часовые зевают в стороне, и капитан в отчаянья,
как персонаж оперы-буфф, потому что он не знает, что
делать с этими пленниками, не говоря уже о том, „что
всей этой банде нужно есть“.
Я начинаю взбираться на откосы; заметно, что воздух
сгущается и темнеет. Грандиозные облака покрывают вер¬
шины, куда я взбираюсь по дурному испорченному окопу,
который рыли в темноте наощупь. Ледяной ветер под¬
нимается по этой предательской и порочной земле; без
сомнения, сейчас пойдет дождь; вода, скопившаяся в рыт¬
винах, имеет цвет и отблеск стали. Звенят снаряды и бро¬
сают отсветы. Наверху, куда я иду, собрались ураганы и
колокола. Несколько тощих растений показывают место¬
нахождение сада. Через дыры видны развалины белого
дома. Улей Эшикье.
Один взгляд и один крик ужаса. Как раз, повернув
в эту минуту голову, я увидел через разрушенный откос,
словно населенную бездну, странный огороженный водо¬
ток в угольной грязи и вокруг него чучел: скрючившихся,
стоящих, повисших на его краях.
Неужели это ураган, который ревел здесь, бил их до
костей и, как маску, снял мясо с их лиц: я видел синева¬
тую белизну девственных костей. Изодранная одежда
шуршала на этих костяках, как отрываемая и разрывае¬
мая бумага. Они были уничтожены под своими одеждами,
жесткими, одеревеневшими,—э.то были стоящие гробы.
У стоявшего в наклоненном положении, с краю, слов¬
но вкопанном, была только красная поЪязка на окамене¬
вшей голове—раскаленный круг в полумраке бури. Другой
словно опустился и протягивал сожженную руку к желез¬
ному скелету ружья, он остался лицом к лицу с пылаю¬
щим адом, запечатленный химией, как фотографией.
Страшное сборище потерпевших крушение двигалось и
качалось, все вместе, над выкинутыми на берег обломками.
222
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
Я видел это, проходя перед выемкой в откосе на про¬
тяжении двух шагов. Секретный германский пост, разру¬
шенный бомбардировкой. Потом я пошел дальше, не пря¬
чась. Я вспоминаю о красоте бомбардировок, виденных
с высот Перрона в театральной обстановке, как в мюзик-
холле: эти огромные фейерверки, которыми любовались
и которые убивали в эту ночь.
Почва подымается передо мною так круто, что я на¬
клоняюсь всем телом вперед. Железная сеть проволоч¬
ных заграждений полна существами, которые здесь бились,
теперь уже неподвижными, а за ними торчат сломанные
и расщепленные столбы. Я смотрю кругом, я ориентируюсь
и прикидываю расстояние: это часть траншеи Одина,
первая германская линия, отмеченная булавками с флажка¬
ми, которые вожди толкали голосом. Это место они ата¬
ковали в лоб, на рассвете, несколько часов тому назад.
Не было прохода в проволочных заграждениях! На
вершине, которая вела к земляной крепости, переплетен¬
ные проволоки оставались в порядке, нетронутые, как
насаждения молодых деревьев, и этот фантастический
адский виноградник на холме был наполнен тяжелыми
фигурами, наполовину стоящими.
Было неправдой, что подготовка уничтожила все
средства защиты, как клялись солдатам офицеры торже¬
ственной клятвой и с одушевлением священника, прижимая
руку к сердцу, „чтобы не понести нравственного ущерба14.
Ничтожный случай местного значения был отмечен и на¬
всегда запечатлен несколькими словами великого вождя:
„Мы впутались в проволочные заграждения, и в этом
месте нас недурно обстреляли".
Есть слова ничтожные и низкие, которые говорят
правду и вместе с тем лгут.
Те, которые выжили, видели здесь эти железные прово¬
локи, как вижу их я. Они видели их роковое значение.
И даже в этот момент здесь еще щелкали и рассеивались
пули; если бы я вытянул руку, этот ветер оторвал бы ее.
Несколько часов спустя, когда неприятель пригото¬
вился к атаке, они пошли на смерть, взбираясь по от¬
косу. Это было баснословно. Откос! Они шли прямо вперед
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
223
среди бела дня, но как быстро они ни шли, все-таки,
они подвигались медленно. Они не могли ни надеяться,
ни мечтать о спасении. Было невозможно, чтобы они со¬
вершили это. Но они совершили.
Они дышали воздухом который убивает, как гром,
дождем камней, стали и пепла. Они двигались по взры¬
той земле, которая под их ногами давала страшные
ростки. Они шли по морю.
С тонкими стволами своих ружей, со слабыми шты¬
ками, короткими, как рука, и одеждах, таких же ненадежных,
как их кожа, в касках, хрупких, как их черепа, прикры¬
вающих жалкое богатство их легких и мозгов, они шли
навстречу урагану, который мог бы продырявить стены.
Они всходили, отдавая- свою кровь, которая от малейшего
толчка целиком выливалась на землю, неся в своих голых
руках всю тайну своей жизни, прекрасной и хрупкой, как
цветок. Они бросали свое тело, мыслящее и счастливое,
в металлическую машину неба, в пламя мин, которые до
основания взрывали землю. Слабое дыханье их сердец—
навстречу дыханью снаряда, который врывался в жизнь,
как крыло, и уносил ее. Они видели днем короткое
и красное пламя пулеметов и ружей, которые смотрели
на них в упор, пока они шли, чернорабочие войны, чтобы
убивать ружья своими штыками, чтобы заткнуть пулеметы
своими руками и задавить пушечные выстрелы своими
массами. Здесь было столько опустошений, что это опу¬
стошение воскресает и кричит в уши в этом углу
поля, таком мрачном, таком банальном, таком сером.
Эти люди, которые бросились, чтобы разбить голову
о силу, — это есть наказанье, которое превосходит че¬
ловеческий разум. Это наказание религия приписывает
первородному греху, и это объяснение, дикое по своей
глупости, есть единственное, которое отвечает неизме¬
римым отношениям действительности. С трепещущими
ресницами я, кажется, вижу на небе дыры через доску,
висящую в пустоте лазури. Мой голос одиноко говорит:
первородный грех послушанья.
В конце окопа, наверху, один из них—мертвая масса.
Шинель, прислонившаяся спиною к стене, словно делает
224
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
жест. Я не осмелился поднять глаз, а проходя перед этим
ужасом, я видел его ноги. Я прошел через окоп в тран¬
шею, которая вместе с парапетом переменила свою на¬
циональность. Эта первая немецкая линия похожа на
нашу бывшую первую линию. Это такая же пещера, исца¬
рапанная в тревожной немоте, тот же самый путь, опу¬
стошенный могуществом науки,—это то же самое. Если бы
хотели представить изображение сходства, надо было бы
взять две стороны пограничных линий, которые являются
различными только на карте.
*
* *
Я поднял голову к небу и увидел, что настал вечер.
Это не была темная пелена бури. Это кончался день.
Если кончился свет — это конец всему. Я чувствую, что
я не могу итти дальше. Я у конца, и я боюсь себя.
Я хотел бы встретить кого-нибудь.
Я вижу между перегородками идущего кр мне чело¬
века. Это вооруженный солдат, не твердый на ногах.
Подойдя ко мне, он делает неверный шаг. Он громко
смеется. Он идет шатаясь. Я чувствую по этому живот¬
ному смеху, что он пьян. Послушание то при помощи
кнута, то посредством вина и алкоголя и нужно, чтобы
оно смеялось, когда его толкают в комедии туда и сюда.
Я нашел офицера, которого искал. Я отдохнул
и отправился обратно. *
* *
Чтобы вернуться, надо итти влево по берегу реки, через
деревянный мост и долину Ванкувер. Тут спокойно. Здесь
эвакуируют раненых. Вскоре начинается дождь. Частый,
непрерывный.
Печальны эти дали, где угас день, мало-по-малу
покрывающиеся дождем.
Я погружаюсь в дождь, я, замурованный раньше в земле
и дыме.
Я догоняю людей, которые идут очень медленно. Раненые.
Первый, кого я настигаю среди этих раненых, говорит мне:
— Мы люди—мусор.
Солдаты, которых я видел до сих пор, почти все были
мертвы; эти были еще немного живы и их движения меня
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
225
мучат и преследуют. Их глаза еще выпучены от воспоми¬
нания ужаса бомбардировки церкви, где они сгрудились.
Некоторые говорят мне:
— Это было ужасно. Умирали всюду. Колонны шеве¬
лились как ноги. Оставляли раненых под тяжелыми обру¬
шившимся камнями и потом через минуту было слышно,
как люди замолкали один за другим.
Раненый, с покорностью, свойственной народу, сказал:
— Не могли сделать лучше; тут никто не виноват.
Но, однако, был ошибочный маневр. Вместо того, чтобы
повести к назначенному месту, их отвели назад. Это
ошибка, говорят, украсила трупами откос горы.
Я нагоняю переживших, одного за другим, потому что
они идут тихо и осторожно. По большей части они
идут кучками. Есть нормальные раненые (благоразумное
большинство, которое всюду находишь), они идут прямо,
с рукой на перевязи или с забинтованной головой; каска
и ярлычек прикреплены к петлице. Они не думают ни
о чем, чтобы лучше итти.
Двое спорят, поддерживая друг друга. Их ноги,
которые между собой соприкасаются, связаны вместе.
Они идут на трех ногах.
Их спор, в котором иногда прорывается ненависть,
заставляет их делать зигзаги, но они все же идут, потому
что опираются друг на друга и потому что они связаны
веревкой.
Двое других останавливаются. Вместо того, чтобы
итти, они забавляются, глядя друг на друга. Они находят,
что они друг на друга похожи, так как у обоих оторваны
носы осколками снаряда. Они смотрят друг на друга,
и они смеются.
Слепой остановился, чтобы вздохнуть:
— Ах, если бы я хоть раньше жил.
Один подстерегал меня. Он кладет на меня руку. Он что-
то протягивает мне. Что это такое? Фотография и карандаш.
— Устрой это. Пошли моей жене, чтобы она не
слишком была поражена. Он показывает портрет и свое
лицо с кожей, как пленка на легких. Я стараюсь что-то
написать на портрете и в это время слышу, как двое
А. Барбюсс.—Звенья. 15
226
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
хвастаются, восхваляют гениальную военную хитрость,
которая позволила истребить столько народа. Одно¬
рукий протягивает мне свой обрубок, перевязанный еще
свежим белым бинтом. Это начало жеста. Он протя¬
гивает мне руки и они кажутся бесконечными. Дорога
наполняется тенями и шумом. Я в толпе, в наступающих
сумерках. Видны люди, близкие к концу, к пределу своей
судьбы—и они останавливаются здесь и там. Я вижу их
последние шаги на земле. Каждый из них, когда я при¬
ближаюсь, кажется мне гигантом. И было бы мало всей
моей души, чтобы принять в нее одного из них. Они чер¬
неют точками на фоне вечера и никто никогда не мог бы
их сосчитать. Один из них поместился между двух бревен
и говорит, как бы с улыбкой:—„Мне хорошо". Его улыбка
расплывается и видно, что он отходит. Вот другой от¬
крыл свой черный рот для призыва, который раздается
только в чистой истине.
Я слышал другого из этих отходящих, который, опустив
голову, говорил:
— Позднее, она никогда не узнает, что я здесь, на бе¬
регу между колодцем и дорогой. Кто скажет ей?
Я сказал:
— Я.
Я старался скорей сказать это. Мое горло сжалось
и крик вышел похожим на тот, который мы испускаем
во сне. Я протянул руку, чтобы вымолить его имя, но он
не ответил. Он перестал жить. Обыскать его—я не осме¬
лился. Стоя, прислонившись к камням, он казался сверх-
естественным.
Маленькие истории — до проклятия маленькие, — одна
за другой на дороге. Этот большой ястреб, парящий
в высоте, упал на меня, как будто бы он знал, что я влачу
кого-нибудь из тех, кого смерть отняла у него. Он оста¬
новил меня окоченелого, и придавил к земле, как тя¬
желый крест.
Вот солдат поддерживает своей левой рукой правую,
окровавленную и нечувствительную, кисть руки, не видя,
что эта рука в шинели разбита в плече и поддерживается
только рукавом. Другой рассказывает про фугас.
ЧТО ВЫЛО, ТО БУДЕТ.
227
— Он взорвался там, где окопы со своими бру¬
стверами тянутся без конца и края, как сточные трубы;
мы все—врассыпную. В глубине остались кучи. Двести
красных пятен, которые слились в одно красное, как
вулкан. И случайно, да случайно, все офицеры были далеко
позади от мелкого скота, когда он взлетел на воздух.
Другой ответил:—Нас перебила пушки 75. Не только
меня, но еще сколько других.
Вечер скрыл от меня многое, когда я прибыл на берег
Кленарсисы. На берегу виднелись бледные и правильно
расположенные рядом одна с другой линии. Я присмо¬
трелся,—это были трупы, связанные по-двое. Голова у од¬
ного была перевязана желтым платком в клетку.
Я узнал его, я узнал их: германские пленные. Они
были раздавлены и сочились кровью, и на всем протя¬
жении, пока видел глаз, это был черный ручей, который
вливался в реку.
На краю что-то зашевелилось. Жестикулирующий
силуэт говорит мне охрипшим голосом:
— Меня поставили их сторожить; ноне стоило труда.
Пьяный с оружием прибавил: — это мы... наша рота.
Капитан очень этого хотел, он дал нам выпить по кварте
рома и сказал: мои маленькие толстячки, слишком их
много.
Он усмехнулся и свистнул. И было видно, как
с каждой стороны его красного носа капали слезы.
Я опустил голову и ушел, пьяный его опьянением.
Человек копал яму.
— Что такое?
— Ты видишь.
— Что?
— Ну, это могила.
— Для мертвого?
— Он пока еще не умер, но его расстреляют на
рассвете и, принесут сюда. У меня очень мало вре¬
мени. Он—из территориальных. В течение двух ночей он
искал в долине тело товарища. На третью ночь, стоя
на часах, он не мог удержаться и заснул. Проходил
полковник и, так как нужен пример, он доложил об этом
15*
228
ЧТО БЫЛО. ТО БУДЕТ.
генералу, а тот сказал: расстрелять его. Это старик
45 лет, и у него трое детей. Он совершил ошибку,
но не сделал ничего дурного. Это хороший человек. Я его
знаю. Это мой друг, прежде всего.
Он замолчал, испуганный, как будто его коснулась
тень казни. Солдаты—бедные братья, но они слишком
бедны, чтобы быть братьями.
— Это невозможно...
Человек ответил:
— Это для примера, ты понимаешь? Приказ генерала,
командующего армией.
Как в музыкальном ящике одна нота, механически повто¬
ряется фраза: „надо принять решительные меры"; вот к чему
ведут эти легкомысленные фразы, стыдливая отвлеченность
и неопределенность которых прикрывают то, что они значат
и скрывают ужасную истину. Ах, если бы не говорили
всегда, всегда, чтобы лгать, и особенно, если бы никогда
не отступали перед смыслом фраз, когда их слышат.
Я бормочу:
— Это исключительный случай.
Со всех сторон, на меня закричали:
— Исключительный? Ты смеешься нам в лицо.
Человек, который сидел и слушал, спокойно, совер¬
шенно спокойно вскочил с места в то же время, как и две
его тени: одна его удваивала, другая—утраивала.
С широкими жестами он громким рычанием выражал
свое горе. Он был похож на пророка несчастия меж
двух своих аколитов (этот носитель тяжестей), со шкурой
ковы, которая покрывала ему грудь и спину, распухшую
от котелков, бидонов и караваев хлеба. Его лицо поросло
шерстью, нос был крючком. Один глаз был мертвым с бель¬
мом, окруженным рубчатой кожей, как шелковая бумага.
Он беспрестанно подносил руку к этому глазу, ударял
его кулаком, тер его рукавом или концом пальца.
— Вот так исключительные вещи, когда они повто¬
ряются несколько раз в день в течение ряда лет.
— Да,—сказал его приятель, которого поддерживал
ром. Частый дождь мочил его красное лицо; у него был
распухший нос и деревянный голос.
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
229
Подъяремный человек начал приводить другие примеры,
один за другим, без конца, тяжело потрясая своей же¬
лезной ношей. Он указал на ров своей палкой и уширил
его до бесконечности.
— Сперва этот, потом другой.
— И Тонелье, мой друг, который был красив, как я
в то время, когда я был похож на самого себя; знаешь ли
ты, что они сделали с ним своими двенадцатью пулями?
И другой по имени Альфред (его фамилию я не могу
вспомнить), и Аджелино. Он никогда не имел удачи. Ничто
ему не удавалось с тех пор как он родился. Однако,
когда он был в отпуску, уж не знаю как, точно в вол¬
шебной сказке, красивая девушка сделала ему глазки.
И он, всегда такой неудачливый, стал так счастлив,
что, когда вернулся, все время пел. Даже вечером (он
был в патруле) он не мог удержаться от пенья и в до¬
лине адъютант испугался этого певца и заставил его
замолчать ножем, как свинью. И Бланка, который только
сказал, видя, как что-то вваливается в траншею: — „вот
боши“, а потом валялся на земле, бесславно погибший,
раздавленный ружейным залпом как поездом—для примера,
среди всего полка со священником в первых рядах, ко¬
торый говорит „аминь", и со знаменами, как свечи. Приказ
полковника, которого зовут... как его зовут?... я забыл
его имя, и полкового военно-полевого суда.
— Нет военного суда в полку.
— Что ты говоришь? Возможно. Тогда это не был полк.
Я не умею различить. Знаю только, что один солдат,—
его звали Беллами,—пришел ночью ко мне перед рассве¬
том: он был из того же взвода. Он спросил меня: Не¬
ужели же мне стрелять в него? Если буду стрелять—это
скорее кончится для него. Но если я не буду стрелять...
ну я буду знать, что не стрелял. Подумали. Я ему ска¬
зал— нужно, чтобы ты в него стрелял. Заплакали оба,
опустили головы. „Ах, если бы одумались". Он закричал:
Не тебе сделать это. Никогда они не одумаются, мой бед¬
ный старик... Такими словами он утешал себя. Но не¬
сколько месяцев спустя он получил свою пулю, которая
не была может быть хуже, чем его собственная.
230
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
„Комната, где их допрашивают. Однажды мне случайно
пришлось это видеть. Они толпятся вокруг него... Все
его держат крепко, а один пишет, а старик, следователь,
говорит очень любезно: — „Скажи, ты возбуждал против
начальника? Скажи, кому ты говорил. Скажи это... Ты
спасешь свою шкуру — тебя помилуют". Это неправда
то, что они говорят в четырех стенах в кухне военного
суда. Он также будет брошен на земле в поле в одно
утро как в мусорный ящик. А когда я подумаю об этом,
я чувствую, как меня тошнит.
„Знаешь ли ты, что значит расстреливать через деся¬
того? Ставят товарищей рядами по росту, долго, чтобы не
было несправедливости. Потом офицеры считают: один, два
до номера десятого, которому приказывают выйти. Уводят
десятые номера один за другим, и убивают. А теперь,
видишь, предоставь им, журналистам, депутатам, министрам,
рассказывать нам о правах народа и делать цивилизацию,
правосудие и республику своими языками.
„... Микаэль. Я не скажу, что это был каприз или забава.
Он был расстрелян за кое-что. Но это кое-что было
то,—что он не хотел убивать. Люди взвода в этот день
расстреляли свое сердце и свою голову. Один против всех,
провозглашающей: „человек—это человек—все изменится",
это ни к чему не служит: нечего делать, нечего. Нечего".
Палец провиантщика указывает на что-то в пустоте.
— Ах есть один докладчик в военно-полевом суде
армии. Этот—как ты зовешь его — маленький старичек; я
слышал, как он требовал шкуры человека; ну так вот,
потому, что он хотел ее, если бы я имел сердце, или
если бы я только сделался честным человеком, этому самому,
все равно, где бы я его ни встретил, я бы воткнул в грудь
свой нож; если бы я мог быть честным человеком.
Когда он произносил это суждение, передо мной
мелькнула физиономия старого галантного кавалера, ко¬
торого форма делала смешным и самым важным делом
которого было бегать за женщинами.
Пророк несчастья продолжал:
— Это и это и еще это... обо всем этом не узнают.
Они никогда ничего не узнают.
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
231
„Все уже прикрыто. Даже между мною и тобой сейчас
воздух, и в частной жизни я не буду искать твоей компании.
„Награжденные будут молчать. Даже добрые люди
слишком вежливы друг к другу. Они скажут даже:
это неправда. Потому что добрые, как и другие, ве¬
дут людей ложью. И они связаны между собой и это не
пойдет дальше; они ничего не скажут; они найдут много
подлецов, чтобы писать статьи и книги, и если что-ни¬
будь откроется, люди, как ты, скажут—это исключение.
Не беспокойся. Они спасут войну. Солдаты, они забу¬
дут. Это самое худшее—забывать. Да, крик действителен,
пока он звучит, и я заставлю тебя подумать. Говорят:
нужно сильное средство, чтобы заставить меня забыть
это. Но, все же, они забудут. Освобожденный каторж¬
ник не будет помнить себя от радости, когда пойдет
по улице, засунув руки в карманы, мой старый друг. Пре-
ступно забывать, это окончательная гибель“.
Это великое слово открыло бездны в будущем. Но
он прибавляет:—Никогда об этом не вспомнят. Если за¬
будут это дело, то так же будет со следующим и тогда то,
что случилось, никогда никому не будет известно. Я это
говорю тебе, но никто, никто не узнает ничего.
Он высек свое огниво и пригнулся к земле, словно
что-то искал.
Мусор, остатки еды, остатки в котелках. Разорванное
белье, почерневшая цветная обувь, в которой увязает
нога. Прямо крест — скелет дерева на скелете. Вдали
облака разрывов, резкие отблески. Запах мертвецов, ра¬
стущий, тяжелый, веет нам в лицо. Человек садится, гремя
своим котелком и арматурой, словно целая железная
лавка. Слышно как трещат суставы его колен. Голова
его окружается дымом, как котел. И два других скрючи¬
лись около него.
Неожиданно он освещает (его рука с огнем дрожит)
два круглых отверстия, два глаза на земле, выступающие
на черной маске, морщинистой, безволосой. Пламя так
близко, что волосы мертвеца тлеют. Мертвая рука, пустая
рука держит газету, в которой можно прочесть жирный
заголовок статьи: На фронте. Восторженный ге¬
232
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
р о и э м наших солдатиков. И мертвец готов
смеяться. Радость выжигается каленым железом на ин¬
струменте тела. Провиантщик отрывисто говорит:
— Ну, вот оно. Расписались в тупости.
Он поднимает голову. Открытый рот выпускает клуб ды¬
ма, как вату; он обращается к одному из своих спутников:
— Не так ли?
Другой, мрачный, говорит:
— Я не знаю. Я жду, что мне скажут.
— Все это потому, что повинуются. Почему они идут,
все эти пехотинцы, эти марширующие, которые приходят
только к концу своей жизни? Эти гектары мертвых, ко¬
торые пускают в полях столько же корней, сколько
лес, — хорошо еще что в страшный миг они не поняли,
сколько в этом было их собственной вины.
„Они правы—начальники. Правы по своему, что разде¬
ляют стада людей и дают формы деревьям и мнения
хлебным полям. Они правы, потому что, в конечном счете,
они соберут золотую жатву на свои кепи и в свои карманы.
„Только те люди будут более правы, чем они, кото¬
рые когда-нибудь восстанут сразу и разможжат им черепа.
... Это не они — это мы злодеи; если бы не было тебя и
меня, они ничего не могли бы сделать. Это ты можешь
сказать им: то, что вы осмеливаетесь замышлять в своей
голове — я сделаю своими руками, я — растреливающий
взвод, я—волна приступа, я убью своих братьев столько,
сколько вы захотите,—и ты всегда придешь, чтобы им пови¬
новаться. Все составляют все. Война необходима, почему?
Потому что весь мир позволяет это говорить. У собаки нужно
силой отнять ее щенков. Но мать, она отдает своих детей
с улыбкой. Я только бедный горожанин, который знает
кое-что случайно. Разве ты не видишь, что все и всегда
одно и то же. Скажи это“.
Он выплевывает замусоленный окурок папиросы, кото¬
рую жевал и смотрит на меня. Я признаюсь:
' — Да.
Разве не звучали уже целую вечность эти слова.
Ударялись о головы людей грубых и помраченных, пока¬
зывая им те же самые истины, то же самое преступление
ЧТО БЫЛО, то:БУДЕТ
233
против истины очевидности. Этот беспорядочный человек,
у которого есть слишком много о чем кричать, который
слишком поражен простым механизмом рабства, таким оче¬
видным среди лжи, воскрес как само человечество. Этот
маленький крикун, обезумевший от великих заветов
евангелия, представляет собою бесконечную революцию
в клетке—и это всегда то же, это все то же.
Он готовится уйти, отряхивается, он скрипит, как
дерево, и уходя говорит, словно выростая, другие, вечные
слова надежды:
— Все-таки, все-таки, слушай меня. Из этой именно
крови взойдет та более высокая правда, о которой мы
мечтаем. Что ж, в конце концов, я, может быть, и не
погибну. Не все же мы передохнем. И тогда я заговорю.
Я любил бы себя, если бы выжил.
Он удаляется, чтобы отнести провиант на какой-то
пост. Сквозь доски бараков, низких, больших и длинных,
как гробы армии, можно видеть в зеленой глубине его
черный силуэт, в сопровождении двух его помощников.
Но он идет большими шагами, они догоняют его.
Виден только он. Видно, как сильный вихрь кружится
около него. Зеленоватый бенгальский огонь заката так ясен
в этот момент, что ясно видна его палка, сжатые руки,
его кулак. Вдруг над тем местом, где он находится, спу¬
скается сверкающая дуга из тяжелых железных облаков.
Оглушительный раскатистый шум наполняет наши головы,
заставляет шататься, земля глухо дрожит: ураган. Он
останавливается, стоит на долине, почти незаметной под
черным разодранным покровом и каскадом неистовых
звезд, падающих из бесконечности. Я смотрю на мель¬
кающий вертикальный предмет: это человек, могила истины.
Он бежит, обезумевший, остановился, потом снова побе¬
жал в другом направлении. Как будто его преследовал
обрушившийся с шумом в осколках свод и отвесная
молния.
Мне казалось, что я видел, как он подносил к глазам
кулаки, потом протянул руки вперед, одну с палкой слепца,
он искал дыру, куда бы спрятаться. Что-то огромное,,
белеющееся в отблеске раскаленного железа, упало на
231
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
человека, который бежал в шинели по ветру и заставило
его исчезнуть под грудой земли, где он бился. Раскаты
этого взрыва дошли до меня, и, после того, как
человек был уже уничтожен, я услышал пронзи¬
тельный живой его крик. Этот необыкновенный призыв
оттуда, этот сверхчеловеческий крик существа, который
вдруг сказал все, что в нем было, заставил меня на мгновенье
зазвенеть чужою душой и изменил меня с ног до головы.
Я приближаюсь к Перрону, к святилищу, которое
враг никогда не бомбардирует. (Молчаливое соглашение).
Мне только надо пройти предместье бараков, полных
шума и силуэтов, которое представляет собою, в огром¬
ном четырехугольнике, ярмарку, каждую ночь увеличи¬
вающую свою площадь: амбулатория — красные кресты,
штыками начерченные на стенах барака, бюро, магазины,
интендантство, мастерские, технические отделения, раз¬
личные службы,—деятельный город из дерева и бумаги,
где централизуется, регистрируется и умножается про¬
мышленность разрушения — город рака.
Вооруженные негры на посту. При виде меня, они
делают жест заколоть, и их тяжелая челюсть смеется:
„французские солдаты". Они там, на границе операций,
чтобы помешать утечке человеческого материала, —
то-есть, чтобы убивать французских солдат, которых ви¬
дят. Я прохожу через эту цепь спущенных с цепей и
закованных чудовищ, щелкающих железными челюстями
и мрачно смеющихся. Один из них, с краю, кашляет.
Лучше, чем он, другие понимают, что значит эта жалоба.
Это другое лицо с зевающим ртом, с бронзовым коль¬
цом,—я всегда знал его. В этом нет перемены. Цветная
мишура, которая из эпохи в эпоху переходит на медные
статуи рабов.
Я возвращаюсь в штаб.
В освещенном углу генерал диктует бюллетень:
— ...наши потери незначительны. Точка.
Молчанье. Они счастливы и незначительны сами от
этих незначительных потерь.
— 2500 человек, — говорит вполголоса начальник
штаба, в раздумья подымая перо.
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
235
— Это слишком, без сомнения... Но это не так много.
Найдется ли кто-нибудь, чтобы осудить фразу, кото¬
рая так часто повторяется высшим командованием во
время войны: „Не сделать яичницы, не разбив яиц“.
— 2500, — говорит генерал.—Не пишите. Напишите
1500. Это будет хорошо. Этого будет достаточно.
Эти слова могли бы показаться шуткой, если бы они
были произнесены в другом месте, а не в святилище.
Мы хорошо знаем, что изменения не будет и что эта
цифра в действительности останется историческою циф¬
рою, окончательной, которую никогда никто не сможет
изменить. Я чувствую гнев против этих людей. В про¬
шлом монахи излагали события под диктовку настоя¬
телей. Милитаризм подражает религиозным махинациям,
мало того—военные даже лицом и головой похожи на людей
в сутане. Я всех их наблюдаю с определенной, холодной
враждебностью... Этот английский офицер с его маской
доброты, этот лейтенант, блестающий приколотыми тро¬
феями, со счетчиком своих жертв на груди. И тот, дальше,
в группе, этот офицер, которого я не знаю, весь обшитый
галунами, с многочисленными орденами, блестящий, оча¬
ровательный, который суетится, смеется и громко гово¬
рит. Я слышу только конец его разговора с начальни¬
ком штаба, у которого перед ним смущенный вид. Под¬
няв руки в воздух, живым жестом, непринужденным и
светским, жестом беспомощности, новоприбывший вос¬
клицает:
— Но нет, нет письменного приказа. Я не могу вам
его дать.
Он смеется.
— Я просто советую протянуть спасительную руку
для поддержания нравственности. Я говорю только то,
что видел, не более, не менее.
Есть оттенок угрозы, очень определенной, в красивом
звучном голосе. Начальник штаба опускает голову. Чув¬
ствуется, что происходит нечто, смущающее его простую
прямоту. Не только он, но даже сам генерал не смеет
задирать голову перед этим тайным послом, с пятью
галунами, секретным послом министра.
236
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
Я передернул плечами и сжал кулаки, наблюдая с не¬
навистью всех этих принцев, опьяненных своим внезапным
абсолютным могуществом. В этот момент я почувство¬
вал на себе взгляд лейтенанта Лекто. Я оставил свое
место, совершенно не расположенный к разговору с этим
глупым, неподвижным, ледяным существом. Я направляюсь
к Общему Плану. Я хочу видеть его после того, что я
видел. Я сталкиваюсь с офицером-докладчиком, который
быстро входит в дверь. Он получил отпуск, который
хочет посвятить любви. Его шаги имеют крылатую лег¬
кость и он уже улыбается.
Общий План... Их два рядом, совершенно одинаковых.
Один окаймлен трехцветной рамкой, другой черной с
красным: план, найденный в главном германском штабе,
трофей. Сходство этих рельефных карт поразительно.
Вот два игорных стола, которыми пользуются для боль¬
шой игры. Стол выигрывающего и проигрывающего, два
аппарата, комбинации которых перенесены сюда, в крова¬
вое неизмеримое пространство.
И вот, я осуждаю и заставляю молчать гнев, который
кипит во мне против этих людей! Действительность более
велика, чем это.
Они враги солдат, но они в своей роли.
Они поступают правильно, этц агенты палачества
всех рангов и ступеней. Они поступают правильно, вся¬
чески поощряя имеющих чины господ, которые организуют,
составляют кадры и воодушевляют войска. Поступают
правильно, поддерживая иллюзиями чернорабочего сраже¬
ний, тайно искореняя недовольство, подавляя пытливый
ум, скрывая от приносимых в жертву размер жертв,
смотря на солдат, как на оловянных солдатиков, или даже
как на пешки, или даже как на геометрические точки, извра¬
щая действительность и занимаясь своим военным ремеслом
во всей полноте, во всей грубости и во всем вероломстве.
Генерал был послан сюда, чтобы имела успех атака,
которая стоила миллиард. И она имела успех. Они посту¬
пают правильно, когда уже не понимают того, что гово¬
рят, не понимают того, что делают, потому что они пови¬
нуются и потому, что все повинуются...
*
* *
ЧТО БЫЛО ТО БУДЕТ.
237
Пришел человек, которого кто-то назвал и о котором
говорили: г-н Клеман Массар. Генерал поспешил ему
навстречу и принял его очень любезно, и даже с оттен¬
ком почтительности, что не ускользнуло ни от кого.
Ему показали сообщения. Он заставил прибавить к
одной из фраз слово „патриотический", он посетил всего
несколько участков дороги, он видел мертвых, сопрово¬
ждаемый генералом, который извинился за дурной запах:
„ничего не поделаешь—это не их вина, этих добрых людей".
Он выказывал некоторую притязательность, которая не нра¬
вилась молодым офицерам и заставляла их улыбаться,
потому что он был смешон со своим хриплым голосом,
безволосым лицом, усеянным белыми прыщами, и двумя
золотыми дугами — отвратительными драгоценностями,—
которые служили ему зубами. Казалось, действительно
можно было сказать, что он находится в своих владениях.
Можно было подумать, что он пришел созерцать свое
произведение.
Он говорил мало. Он сказал однако своим голосом,
охрипшим от хронического ларингита:—„Война за право,
отечество, демократию" и „Счастье одних построено
на несчастьи других". Он растрогался также, увидев сол¬
дата, тянувшего спирт из своей кварты: „Пей, мой друг,
выпей немножко иллюзии", сказал он ему ласково.
Знают ли они, с кем имеют дело? Наиболее осведо¬
мленные, наилучше посвященные могут сомневаться в
том, какое отвести место человеку с несметным состоя¬
нием, тому, кто преуспел больше всех других, кто
идет через все головы, властвует над всем остальным,
даже над воинской славой, для кого командующий армией
или военный министр только маленький назначенный чинов¬
ник, и кто в фантастических рамках цивилизации олице¬
творяет собою Аттилу.
Несмотря ни на кого, он прав, человек, который при¬
нудил других видеть на нем божественный свет и пови¬
новаться ему по причинам совершенно магическим; кото¬
рый покорил природу и людей и всю арифметическую
промышленность, богиню1 боен, и науку, и религию, и мо¬
раль и, осыцаемый похвалами, узаконил убийство, кото-
238
ЧТО БЫЛО, ТО БУДЕТ.
рый, в то время, как каждый человек толпы несет с со¬
бой все свое и не имеет в конце ничего, кроме смерти,—
тратит на себя миллионы людей и живет миллионами
мертвых. Он прав потому, что в конурах, хижинах и на
кафедрах все повторяют как автоматы: „нет больше
рабов, нет больше тиранов". Более правы, чем он, были
бы только те люди, которые бы сразу в великом пробу¬
ждении мужества и гнева восстали и разможжили ему череп.
Я открываю глаза в своей мастерской в то время,
как один из моих собратьев-литераторов, ниспроверга¬
тель и консерватор, иронически играет словами и идеями
и насмехается над миром, поэтически и философски. Со¬
всем близко от моих глаз, на ткани, я различаю убитого
москита, пятнышко такое маленькое, что даже слово труп
слишком значительно для него: и однако эта точка меня
привлекает, а также там в окне маленькая птица, запятая
в небе...
... И я не знаю, почему упорно восстанавливается из
конца в конец моей мысли линия человеческой лжи
в облаках: „я взял оружие, чтобы прославить моего бога
Ассура".
Вдали от голосов я страдаю. Все мои воспоминания
переводятся так: я страдал. Как «я страдал! Если бы я дол¬
жен был пережить это снова, я предпочел бы умереть.
Какое страдание? Где? Физическое, моральное? Я не
знаю. Но я страдаю от жизни. Боль всех других оторва¬
лась от них, чтобы упасть на меня.
XIX.
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Сжатый в человеческих тисках, вытянув шею, я
созерцал.
Поверх освещенного собрания, горбатого и костистого,
и сквозь дым — это была площадь, придавленная потол¬
ком—я созерцал трибуну, где качалось и что-то лепетало
бесформенное существо.
Он был плохо одет, неряшлив. Он не умел говорить.
Слушатели смотрели ему в рот.
После республиканских речей, которые увлекли моло¬
дежь собрания в прекрасном бурном порыве, спросили
сверху (из президиума): „Не представит ли кто-нибудь
возражений?". Тогда появился этот в освещенном центре
и вскарабкался на трибуну.
Он бормотал на краю деревянной эстрады: „Нет,
нет". Слово вещь, удар реализма против действитель¬
ности: „Нет". Он умел сказать только это: нет. Он пы¬
тался разбить с яростью и страданием столько же своими
кулаками сколько своими челюстями все то, что было
сказано до него.
Он был страшен, он был смешон у своего позорного
столба, где он жаловался и охал, как те, которые рабо¬
тают и чувствуют, что их орудия обращаются против
них: израненный, изувеченный, задушенный человек. Он
искал в своем горле слов, которые особенно ошеломляли
и ранили его самого.
— Ничего. Все, что вы говорите, ничего не стоит.
Все это ложь, чтобы усыпить народ. Ваша религия ада,
240
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
ваша республика стяжателей, ваш патриотизм, который
бьет по людям, газеты в миллионах экземпляров—тюки
с грязным бельем. В одном и том же мешке левый и пра¬
вый, роялисты и республиканцы, французы и немцы—это
всегда нищета и бойня. Ваш прогресс ничто, ничто.
Его хриплое и яростное отрицание плохо звучало
в этом обществе, подогретом и наэлектризованном ело-’
вами ораторов; и вокруг него толпа оставалась тяжелой,
как город.
Что касается меня, я дрожал всеми своими нервами.
Над волнующимися головами, под рядами первосвящен¬
ников и бюстами президента и депутатов (лавочка в электри¬
ческой позолоте) я узнал Илота, Отца. Я видел раба,
который оторвался от общественного хаоса: как мону¬
мент. Кариатида, которая несла на своей шее всю позо¬
лоченную историю других, она показалась мне похожей
на ту, которую я однажды видел на берегу реки, и не¬
сколько раз потом, когда она мгновеньями проступала
сквозь грязь великих событий.
Этот обломок толпы не принимает того, что ему говорят,
сбрасывает со своих плеч обольщение фраз жестом таким
же грубым и грандиозным, как он сам, его голос напоми¬
нает бряцание цепей, он показывает свое сердце, как знамя,
кричит всем своим существом, и восстает против всемир¬
ной лжи.
Он в новом мире, этот первый человек, который бор¬
мочет и взывает „нет“—первый слог действия.
Я слышал и другие голоса. Только что, до речи этого
человека, да и всегда я слышал два других голоса, уси¬
ленных в процессе красноречия: один, втягивающий нас
в прошлое со связанными руками, и другой—устроителей
настоящего, неистощимых устроителей непосредственного,
оппортунистов, которые бегают по площади, которые
танцуют.
И вот голос, заглушающий голоса прошлого и на;
стоящего. Кричащий:—Нет. Все это,—ничто.
Ничто добрые намерения, добрые обещания, добрые
слова. С этой добротой никогда не будет начала. Широкая
жизнь должна устраиваться самими людьми, а не словами.
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
241
Осколок человечества показывает своими протянутыми
руками, что мы живем в глупом веке слов. Мы погло¬
щены великими словами, которые прилипли к нам и рас¬
пространяются. Свобода, отечество, справедливость, ци¬
вилизация и вся звучная сеть. Мы под властью знака,
монеты знака, наследственной ценности языка.
Мы среди злоумышленников, лжецов и помешанных,
которые смешивают слова и дела. Иаша республика—
республика только по своим проспектам. Наш либерализм,
наш альтруизм, наша красота существуют только в над¬
писях, начертанных на стенах, или в глотках ораторов;
и под этой ослепительной игрой отвлеченных формул
богатые обращают бедных в скотов и в гниль с боже¬
ственной жестокостью.
Это не голос, который говорит здесь на деревянном
помосте, это край воплотившейся истории, которая под¬
нялась и сочится кровью, как сочились кровью великий
голубой человек Голгофы и цветные тела войны. Народ
чувствует только запах человека, и голод заставляет его
думать только о своем теле; масса, безымянная, как
земля и как вода, великий мертвец — приходит в со¬
знание.
Она воплощается (тело есть радость того, что мыс¬
лит). Ее голова, ее грудь, ее кулак, ее камень.
Пусть говорят, что хотят, люди наверху. Пусть слова
станут вновь словами,—и цепи упадут. Крайние пусть идут
вперед. Итти на все, что было сказано.
Я гляжу иа ареопаг, заседающий в креслах. Адвокаты,
законодатели, моралисты, лауреаты. — Иезуиты римского
права и адского усложнения, сектанты посредственности
или почти .посредственности („ни реакция, ни революция",
этот крик, который так нравится вульгарным душам:
реакция слишком безобразна, революция слишком пре¬
красна), вы нанизывающие уравнения на слова насилия
и идеала, и расточающие время несчастных, пытаясь вместить
в том, что есть только метрическая система, ни на чем
не основанные сны, вы, профессора, ожидающие мессию
и привязавшие смешную побрякушку к великому научному
и революционному смыслу справедливости, поэты с чере-
А. Барбюсс. —Звенья. 16
242
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК.
пом лебедя, утописты, блестящие пустозвонные иронисты,
порхающие бабочки—вы все, на ком держится наша кро¬
вавая демократия комической оперы,—вас всех превосхо¬
дит умом и благородством это порождение мировых низов.
отот заика жестов, гениальная и совершенная прямота
которого соединила всех против него в секторе его ра¬
скрытых рук, справа и слева, всех консерваторов экс¬
плуатации, — его разум есть тяжесть вещей. Он самое
сильное возмущение. Он будет царствовать, потому что
он царствует. Он выйдет из цикла революций и погиб¬
ших реформ, потому что он манипулирует не следствиями,
но причинами. — „Нет1“ стучит молотом по наковальне.
Красная логика, красная истина.
В тот момент, когда человек теряется среди толпы,
среди зловещего молчания, которое прорывается злым
смехом—я навсегда обращаюсь к нему. Его голос по¬
тряс меня, как некогда рычанье колоколов и пушек. Его
крик—пастух людей.
XX.
МУЗЫКА.
Я видел ее однажды. Она завернула за угол улицы.
Она исчезла. Это воскресение из мертвых... Конечно, она
исчезла.
С того вечера, как она ушла от меня рыдая, она не
искала меня... Никакого жеста в мою сторону. Она могла,
конечно, ничего не делать. Как она озлоблена. Женщина
вкладывает страсть даже в безразличие.
Мне говорили, что она больна. Я также болен. Мои
силы истощены. Когда я хочу думать, я спотыкаюсь, моя
мысль истощена.
Это было в последний раз, когда я мог выйти из
моей комнаты, в тот раз, когда я случайно увидел, как
скрылось это удивительное тело, которое было моим
со всем, что заключалось в нем. Ее видимая форма не
изменилась. И, видно, ничто не изменилось там. Просто—
на все, что было, легла прозрачная и совершенная тень
смерти. Она, любившая меня, она прошла передо мною,
любящим ее, с убийственным целомудрием...
Я смотрю, как горят письма, которые я решился
извлечь из их тайника и бросить в камин. Печально
уничтожать живые существа, которые борются как могут,
пытаются говорить слова и в своем ничтожестве хотят про¬
должать жить, как первый человек.
*
* *
Пришел доктор. Между нами произошло нечтб церемон¬
ное и торжественное.
Когда он ушел, когда закрылась дверь... Это финал.
*
* *
16е
244
МУЗЫКА.
Теперь я один с лихорадкой. Софа, ложе, к которому
я привязан, жжет меня.
Вот наваленные бумаги, сверху запыленные. Я слегка
улыбаюсь: мои первые литературные опыты. Им три года.
Я протягиваю руку, я заставляю трепетать эти стра¬
ницы и ласкаю их взглядом, я, слишком усталый, чтобы
в них проникнуть. Но вот в глаза мне бросается слово.
Я глухо вскрикиваю, как в великие моменты своей вели¬
кой жизни: я прочел заголовок рассказа: Клеман
Н у р р и.
Я вспоминаю, вдали, жаркий вечер, когда я написал
это, когда я пережил адский час, когда я вообразил, что
изобрел чувства и образы, которые через Morf пальцы шли
из моей головы. Я приковался к содержанию, я дешифри¬
рую черный отблеск жалобы—разрозненные клочья крика.
Ничего, кроме стен и меня. Все осталь¬
ное разбито, сожжено, обращено в прах и
брошено на ветер. Мой секрет, очень ма¬
ленький, таится только в глубине меня. Мои
руки слишком тяжелы и только с трудом мо¬
гут поднять цепи. Моя шея отягчена ихра-
нит следы ржавчины. Axl Ах1 Вера и разум.
Каменные приговоры белого глухого трибу¬
нала, который словно высечен из камня
в зале монастыря.
Толкаемый, избиваемый, я чувствовал на
своем теле, которое волокут, уличные поще¬
чины, проклятия, как плевки, и почти ря¬
дом спокойное пение погребальных псал¬
мов, процессия мертвецов,—меня погребают.
И все же, я упал и снова встал. Огромное
облако кружится и вьется вокруг меня...
Я выпрямился среди пустой площади Рынка.
(На бурном небе вырисовываются шпили н
круглые кровли). И около меня другие суще¬
ства, привязанные стоймя и в"ряд, в глубине
воронки этой площади, перед потрескиваю¬
щим и дымящимся хворостом, рассыпанным
на земле у наших ног...
МУЗЫКА.
245
Мой подбородок упирается в грудь. Чер¬
ный блестящий покров дышет и бросает мне
в глаза блеск своих когтей. Пламя, которое
лижет, кусая, и охватывает меня, готовое
пожрать. Я протягиваю шею и лоб к обла¬
кам. Поднимается сильный ветер. Словно
разрушение неба. Ветер достигает такой
силы, что поворачивает мою голову, и я вижу
рядом с собой гнущееся черное дерево и
еще привязанное к нему тело. Все больше
разгорается пламя факела и слышна жизнь,
которая вся переходит в львиный рев. Мои
усилья обращают мои узы в зверей. Но мрак
падает на день. Даль делается тяжелой,
бледно синей. Черные крыши смешиваются
^пространством. Неба больше нет. И все
разражается дождем. Вода течет ручьями,
потоками и уничтожает огонь. Вода, которая
дырявит и бьет завесу дыма, образует целое
озеро, такое беспокойное и глубокое, что на
нем катятся волны. Беспорядок среди остро¬
конечных призраков доходит до крайних
пределов, смолкают похоронные напевы, и
народ рычит при виде невероятного обмана,—
смерть, огня... Люди, привлеченные казнью,
и желавшие обагриться красным светом,
остаются там вокруг розовых и черных ста¬
туй, с которых течет вода, по которым всхо¬
дил свет, который должен был иссушить их
кровь, как ветку. Тогда они додумывают с я.
Они приносят дрова, раздувают пламя, каж¬
дый, богатый или бедный, мужчина или жен¬
щина, свою вязанку, свой факел. Они бегут,
чтобы дать жизнь этому костру, чтобы стра¬
данье жертв, которое прекратилось на их
глазах, продолжалось.
Она там. С краю измокшей и бичуемой
дождем толпы, более бешеная, чем толпа, на
болоте этого места, она, именно она...
246
МУЗЫКА.
Она вернулась ко мне. Она, ушедшая с дру¬
гим, с другим и, — и я трепещу, видя ее в по¬
следний раз, как я трепетал, когда увидел
ее в первый раз.
Но ее глаза истерзаны,
пусты. Она словно потеряла зрение. Скорбь
обратила в мрамор ее прекрасное лицо, как
холод, и уменьшила ее шею и ее плечи. Я зову
ее: Аннета—совсем тихо. Она вернулась, раз¬
битая жизнью, чтобы упасть как можно бли¬
же от меня. Она опускается, как ночь, вы¬
тянув руки передо мною в пустыне мира.
Она, приведенная сюда неизвестным стра¬
данием, она упала на колени, на воду и угли.
Я кричу, я хочу кричать, она глуха так
же, как я нем, распростертая у моих гряз¬
ны х н о г..
На бумаге больше ничего нет.
Это написал тот, кто три года тому назад, поднявшись
из мертвых, захватил мое существование.
Я смотрю на листки в моих руках. Чудо сближения
(в роде заразы) исчезает, уходит из меня. Я еще рёз смотрю
на себя через страшную решетку письмен, и даже слышу
издали крик тревоги, вылетающий из моего горла.
Я снова чувствую огонь и воду, и холодный пот, ко¬
торый меня покрыл в минуту агонии... Но как я умер
потом?
Я, я знаю, что не могу больше жить. Он мне ска¬
зал это, исследователь, церемонный чужой человек, он
сказал мне это. И мои страданья принуждают слышать
то, что он сказал. Моя голова полна растущей мукой.
Я понимаю теперь (это нужно было усвоить два раза),
как ужасен момент, когда он сказал мне это. Этот чело¬
век, которого я никогда не видел, и который, стоя передо
мною, сказал мне больше, чем кто-либо когда-нибудь...
Я положил листки около себя, чувствуя головокружение,
при мысли, что я не увижу их больше.
Я готовлюсь исчезнуть. Смертельное безобразие ста¬
рости упадет на меня через несколько дней, и похож ли
я еще сам на себя? Она настигнет меня и положит на
247
М У 3 Ы К А.
мое последнее лицо печать, которая охватит все. Она
охватит живое существо, такое великое, когда его глаза
блестели, и когда он видел перед собою своего разби¬
того ангела, реликвию своего сердца.
*
* *
Она толкнула дверь и вошла. Она вошла сюда в мою
комнату в первый раз.
Марта. Я приподнимаюсь на локте, я смотрю на нее.
Само страдание замолкло и ждет.
Она идет вперед, одетая в черное, со святой блед¬
ностью на лице, существо, которое больше я, чем я сам.
Она изменилась, черты ее лица искажены, ее глаза
отяжеляют ее лицо—как другое в ужасе веков.
Через комнату она подходит ко мне, слабому и при¬
кованному. Я зову ее. Она улыбается. Но что дает
улыбка? Она была несчастна и можно было видеть стра¬
данье на ее лице. Возвращается ли она потому, что она
слишком страдала или потому, что я слишком страдаю—
я не знаю. Она уже не она.
Было невозможно, чтобы она вернулась. Она верну¬
лась. Это больше не мерило жизни. Но, как и вначале,
я хочу, чтобы она верила в меня и видела мое величие.
Я вижу его хорошо, свое величие. Может быть, обез¬
умев от страданья, она поймет свое безумие мысли.
Мое безумие: толкать, рыться до основания, и как тот,
чей голос угас несколько солнц тому назад, следовать
за мыслью. Безумец,—это безумец среди разумных, но это
также разумный среди безумных.
Она села, она потерялась в тени, в грязи вечера.
Эта женщина, которая там, так же велика, как если бы
ее еще не было, ее сердце — это я. Я знал ее тело, как
свое. Она была передо мною, бледная и стройная, как
храм. Часто она открывала мне свои затаенные желания
и являлась преображенною наслаждением. Мы любили
Друг друга, как дети.
Она протянула ко мне свою прекрасную бледность.
Я сказал „Ты“. Она отвернулась. То, что она хотела —
это узнать секрет, который я от нее скрывал.
248
МУЗЫКА.
Я сказал все, что был способен сказать ей, чтобы
показать ей себя.
*
* *
Вечер наступил в моей комнате, проливая в окно
серо-зеленую воду. Ах, моя подруга, моя возлюблен¬
ная, корабль, который искал свободы. Нос, похожий,
на островерхий дом, широкая, наклонная палуба и корма,
крепкая, слепая, жадная и его великолепный хор недо¬
вольных.
Что осталось сегодня от этого всего?
Что-то есть во мне неизмеримое, что ищет еще и еще.
Моя страсть усовершенствовалась. Теплая вода лихо¬
радки течет по моему телу. Однажды—я выпрямляюсь,
несмотря на людей, на своем матрасе, — однажды анали¬
тика была создана, чтобы придать, при помощи геометрии,
почти животный остов алгебре, которая не умеет глядеть
вперед, а также, чтобы придать геометрии, как химере,
бесконечный рационализм алгебры... (Неизменный процесс
эксплуатации истины, который он принес, упрямый и чер¬
ный прохожий голландских улиц, который написал первую
фразу Единой Библии: Принимайте, за истину то,
что неизбежно представляется истиной.
♦
sjc *
Среди обозначений, которые я разбираю, кружков, ярлыч¬
ков, кричащих цветов, размалеванных кистью—патриотиче¬
ский анилин, розовый, цвет мальвы, зеленый, — которыми
отличаются между собою всевозможные географические
вывески, через все, помимо всех знаков, единственно
реальны, единственно глубоки, как третье измеренье,—
белое и черное двух каст.
Белое и черное, свет и, тень двух половин человече¬
ства, эксплуататор и эксплуатируемый—война и воин. Вот
что находится в основе бессвязного плана.
Готический Данте—не был ли я также и этим чело¬
веком? В мгновенном озарении так померещилось мне—
МУЗЫКА.
249
Данте, который переступил порог Ада в день святой
пятницы тысяча трехсотого года, видел, как мир погру¬
зился в пространство, потом возвратился и появился так
близко около него, что он различил улицы Флоренции.
Белые Гибелины против черных Гвельфов? Нет, борьба
более сильная, более великая, настолько великая, чтобы
даже он глазами своего века, не увидел в ней сквозь
все предлоги, имена и конъюнктуры — неравной борьбы
животного с хозяином. Ничего нет более ясного для меня.
Это не тень, это остов.
*
* *
Черная работа, разбросанная на всемирном рисунке,
как пятна полей сражения. Прах народа, который поль¬
зуется формами природы, который пользуется обломками
первичных материалов, богатыми кусками планет. Подзе¬
мелья, которые проходят среди толпы. Нефть — там где
находится черный и жирный округ, можно поджечь.
Призматические недвижимости,—рельеф верфей, вкраплен¬
ных в тело армии, строения, повсюду одинаковые, грязные
образцы бесконечности, машины абсолютного сходства.
Грязь, которая пачкает тюрьмы производства, как бегущая
тень человеческих, тел пачкает военные машины. Усилие
чуждое само себе; труд, рассеяный гнев, радость без
радости, люди с округленными головами, самые печальные
животные; на всех берегах моря, черного от дыма, рельсы,
чернила и мел: порты, рейды, доки. Монотонная рамка цита¬
делей на море замуравливает великие страны. Разноцвет¬
ные значки на одних и тех же волнах, в океанах, дымя¬
щихся в полдень, и у ледяных границ в неизмеримых
холодных морях, где белеющие корабли похожи на кафе¬
дральные соборы, реки черные, как улицы, и перепутанные
улицы, тяжесть тоннажа, которая обрушивается на вещи.
Повсюду ад сходства бросается сам на себя. Механизм
и механизм, слившийся с телом. Иллюминация богатства,
она сияет во всех четырех углах мира сквозь теорети¬
ческие нации, дворцы, где ночью блестит буржуазное
общество, ряд казино, где состояние распределяется ме¬
ханически и храмы с одной надписью „Больше".
250
МУЗЫКА.
— Я хочу знать больше. Всеми способами, через теле¬
скоп, через микроскоп.
В прозрачных небоскребах, с центральной батареей
пишущих машин, путаница линий, сходящихся в одну точку
и подвижных, как передаточное колесо, и где танцуют
цифры. В помещениях бюро и через стекла с наимено¬
ваниями фирм и царящий кинематограф, отражающий на
экране все перемены и стороны жизни, и в распростра¬
ненности печати—вот они, играющие в цифры деревянные
люди, представляющие, как герб, круглые обрубки своих
голов.
Их почерк, их подпись, их грубо-детская спираль,
централизует. Зубчатое колесо, черное на белом, создает
выгодные мобилизации и бойню труда, начиная со стило¬
графа у этих добродушных людей, в тупых черепах у ко¬
торых не больше гения, чем у генералов, украшенных
золотыми лаврами.
Они концентрируют, концентрируют, концентрируют1
Закон всемирного тяготения толстит толщину. Монета
растет, как животы. Тресты собирают продукты, тресты
собирают тресты, королей все меньше и меньше и все
больше и больше королей мира, с тех пор как суще¬
ствуют в мире короли. А... А... Тут видна сила золота.
Инструмент—бог. Видно, как карикатура, уродливая и по¬
датливая, осмеивает прогресс науки, учреждения, вопло¬
щается в газетах, которые фабрикуют воздух, которым
дышут, и которые побуждают (посредством рекламы)
потребителя потреблять обломки железа, школы, где па¬
рализуется двигательная энергия, трибуналы, на которых
написано: „Правосудие", парламенты, в которых заклю¬
чается слово: республика, и храмы, в которых заклю¬
чается слово: бог.
Безграничные вожделения опустошили эту вечернюю
Европу. Посмотри, мир кончается, побежденный войной.
Части континента во власти сильных, более вероломных,
во власти отдельных личностей, во власти желаний. И все
ограбило желание нескольких, с покорным им большинством.
Вечер под пустынным пространством, господство слов
и абстракций; мир лишается цветов, и ничтожества оста¬
МУЗЫКА.
251
вляют его. Теряется чувство оттенков, столь часто пре¬
ступное. В великом вечере наверху, откуда, как мне ка¬
жется, я пришел и мы все приходим, моя возлюбленная,
видны все очертания лежащей земли—рабочей земли,—
которая тянется к бледной арке неба. Я чувствую это
настоящее, родину которого составляет мир; — мир есть
чья-то родина. Подлинно ли различия между людьми
сложны и поверхностны? Нет. Этот софизм заставляет
смеяться и плакать. Нет. Они в простоте и глубине.
Они в свете и в тени, в мясе и в крови. Это не раса и
раса, ни даже язык и язык (все это орнаменты тяжелой
жизни и все новорожденные от людей, под всеми широ¬
тами, в совершенстве похожи один на другого). Это по¬
всюду телесная и дикая манипуляция побежденными телами
и головами. Победоносный класс против класса поражен¬
ного. Это эксплуатация сильнейшего слабейшим, и, чтобы
замаскировать это уродство, нужны мифология, барабан,
трубы, крещенье и иллюминации.
В сумерках, освобождяющих декорации от ненужных
подробностей, видно, как стремящаяся к бездне планета
несет белую и черную войну,—видно так же ясно, как
если бы она проносилась в небе со своими светящимися
пятью материками.
*
* *
По сравнению со звездами, что значат ничтожные
исторические перемены, которые следуют одна за другою...
... Даже при сравнении с звездами наш первый период
человечества, беспорядочный и кровавый, достаточно ве¬
лик, чтобы, итти в счет. Никогда ничто не изменялось ни
в чем в течение данного периода, когда триста миллиардов
людей последовательно топтались на поверхности земли.
Настоящий мир так же похож на свое прошлое, как
его запад на его восток. Немного знания убавляет кон¬
трасты между цивилизациями для того, чтобы много зна¬
ния их уничтожило вовсе. Я брошен, совершенно потря¬
сенный аргументами, в единственное несчастие цивилиза¬
ции. Это несчастие таково, что его никогда не удастся
узнать и что определение истории людей (людей говоря¬
щих совсем тихо) таково: неисчислимая тайна.
252 МУЗЫКА.
Вот что сделал белый человек, который соединил землю
над морями, изгнанник воздушного рая, кровавый скульп¬
тор совершенствования, творец бога и идеала, божествен¬
ный виновник разрушения. Вот что мы видим оба... Но
нет, тебя там нет, тебя там нет!
Я один страдаю на этом поле сражения материального
прогресса. Я хочу знать больше, моему телу нужно, чтобы
столкновение идей жгло его, как калеными щипцами, это
мое назначение, которое бросает меня на неизвестное
завтра, как других.
Вы все, масса,—это ваша вина1 Про то, что они сде¬
лали, говорите, что это вы сделали, потому что все сде¬
лано вашими руками. Нужно, чтобы народ знал, что то, что
он до настоящего времени социально создал—зло.
Но недостаточно упреков. „Ничто не будет хуже",—
проклятье, побуждающее нас вязнуть в грязи. Но гнева
не достаточно. Чтобы быть честным, нужно знать. Порядок,
равновесие, правосудие, физические законы масс, разум,
который, даже когда его называют моралью, есть только
внутреннее лицо тяжелой необходимости, метод. Бекон,
Декарт, теоретическое знание. Карл Маркс, наука при¬
кладная, теория практики. Знание, тела и души, интре-
гральный реализм, и мистицизм, вошедший в логику! Не
пришел ли момент, когда все силы спасенья скрестятся
так, как это было предсказано? Да. Это сделалось наконец
возможным на земле, для величайших битв человечества.
Истинный разрушитель не тот, кто переваливается с
грузом своих бомб, как беременная 'женщина, но логик.
Закон привилегии начинается с конца, нужно начать с на¬
чала. Я прислушивался к великим ревущим аккордам, к
бешено сладостной музыке и вот чем вибрирует, звучит
этот спектакль: Вставайте, проклятые земли.
Весенний крик, который вырывается из горла теней,
влачит по земле блеск похоронного марша—мешанина
тварей черна. Повсюду на груди вечера рождаются тени
мужчин. Кровь черная в сумерках и разорванное знамя,
которое можно уничтожить лишь кровью живых существ,
и в полумраке знамя траура, которое есть знамя радости.
♦
* ♦
МУЗЫКА.
253
Вечер.
Вечер. Люди встречаются на улице, как некогда... Че¬
ловек, которого я встречаю на углу улицы, похожей на берег,
это рабочий революции. Он строит ее своими руками.
И он передо мной, этот победитель, похожий на побеж¬
денных апостолов всех времен. Великий, простой. Эго не
чудотворец, это человек, человек, человек.
Он говорит:
— Сразу увидели то, чего не видели.
— В эти сверхчеловеческие новые дни должно
было родиться слово: Республика. Это слово продолжит
само себя. Так долго ждали, чтобы увидеть его и сделать.
Мы оба вздрогнули и тихо сказали:
— Мне стыдно.
— Мы увидели, что нет врага.
— Мы не видели этого, но увидели.
— В ту минуту, когда на фронте первые ряды солдат
прониклись идеей и бросили свое оружие в ад, когда те,
которые были впереди, тянулись к ним душой и телом
и встретили других, тоже раэоруживаю1цихся, пришедших
массою с другой стороны мира—вся махинация была уни¬
чтожена и не нашлось на месте войны никого, кроме не¬
скольких человек в золоте, которые, раздували щеки, чтобы
раздувать резню. С тех пор, как поток воинского по¬
виновения обратился вспять, люди почуяли зловонье на¬
ших червивых и глупых демократий и их коронованных
обезьян. Но момент, когда всемирная перемена произошла
в одном месте, а не повсюду, был самым драматическим
в истории.
— Народ наконец назвал преступлениями самые вели¬
кие преступления, от которых позорно умирает человече¬
ство и которые суть низости преступления: не понимать;
забывать и позволять обманывать себя. Он понял все
значение слова понимать. Тогда явился величествен¬
ный вопрос о силе; он не стал заниаться спорами:
голову о камень. Победа пролетариата: чудо здравого
смысла.
Опустив голову на улице, я думаю, что если бы я мог
приблизиться совсем близко к одной из этих крылатых
254
МУЗЫКА.
молодых женщин, я нашел бы странное зеркало, в кото¬
ром я узнал бы себя, целиком, одним разом больше.
*
* *
Женщина, я. Что мы будем делать здесь?
Быть счастливыми? Ах... Создания поднимают руки
к небу.
Бьет пять часов вечера. Нищий поет на дворе. Его
песня стонет: „Всегда возвращаются к своей первой лю¬
бви". Ужасающая банальность. Мне жалко самого себя.
Сожаление искушает меня. Последнее усилие, чтобы
молчаливо окунуться во все то, что может иметь утро и
мир и больше ничего другого. Бежать... Нет. Не бежать,
спрятаться; и я пытался закрыть лицо руками, чтобы
плакать. Это твое лицо, которое жарко плачет рядом с моим
в складках ложа. Ах! Твоя нежность хочет заставить меня
поверить, что это плачешь ты, а не я.
Лицо. Оно исчезло. Ничего. Я подымаюсь совершенно
один, как всегда.
Тупые удары наполняют голову, сжимают горло и за¬
дыхаясь я вижу людей. Моя комната наполнена народом.
Знакомые лица, вплоть до тех, которые пришли из страны
склоненных вершин. Никогда в моей комнате не было
столько народа. Мои расширенные ресницы опускаются
как ночь на эту толпу.
...Присутствующие приближаются ко мне. Все собаки,
которые у меня были и которые издохли на моих глазах,
одна за другой, они здесь. Они тут протягивают ко мне
головы...
Клэрина, Одон, Клеман и он и она и она. Их лица и их
судьба остаются ясными в то время^ когда заходит день.
Все, все! Мои руки, которые не имеют больше надежды
коснуться, которые нуждаются р поддержке, которые ищут
и протягиваются, вдруг поднимаются. Я нахожу ощупью
присутствующих. Я один опираюсь на всех.
Я знаю, я знаю, я все сделавший, я имевший бешен¬
ство убеждать, я знаю бездну, зияющую между каждым
и всеми; знаю, что внутри нас создается наша реаль¬
ность (сейчас она вошла и радость поглотила все мои
МУЗЫКА.
255
скорби). Надо выйти из этого хаоса самого себя, из
царства двух противоречащих друг другу голов, от любви,
соединенной разрывом, и итти в колебания толпы. По¬
тому что это сердце слишком центрально, неподвижно и
бурно наслаждается настоящим моментом и убивает дни
за днями. Сердце не имеет будущего, можно ли быть
счастливым? Да, а потом: Нет. Нет ответа. Закон сердца
в том, что все всегда теряется, а закон всеобщий: ничто
никогда не теряется.—Нам одним дано,—кричит Фаусту
первый сверхестественный гений, которого он вызвал, —
погрузиться в шум деятельности, в эти вечные волны
жизни, которую рождение и смерть подымают и сбрасы¬
вают в бездну, отталкивают и приводят назад. Мы созданы,
чтобы работать в этой работе бога и времени... Но ты,
способный постигать только себя самого...
Ты „ищи их радость". Сегодня, в этот вечер, отдай
себя другим, забыв свое беспокойство, с нею. Сделай из
судьбы всех других свой себялюбивый сон. Думай о дру¬
гих и люби это. В этой задаче открытие в тысячу раз
более жадно, чем объятие. Усилие прибавляется к усилию,
обогащается, и час за часом исчезает невежество. Только
то, что живет—существует. Нужно сказать, чтобы быть
спокойнее. „Одно то, что будет жить—существует". И есть
будущее только для всех.
Эти молодые люди, которые поют и танцуют, чтобы
крепче соединиться, в то время, как прекрасный вечер
золотит цветы, верят в радость жизни. И хотя в этом
есть положительная основа, рисунок, который они делают,
имеет в себе больше музыки, чем расчета.
Частичная уступка эгоизма—не полная уступка, это
мудрость и практический блеск! Частичная уступка, смесь,
музыка.
Отсюда рождаются чудеса. Сверхъэгоизм, такой фана¬
тический у влюбленных и артистов, будет может быть,
превзойден. Может быть когда-нибудь, ради любимого
дела или ради кричащих уз ласки, осмелятся покончить
с одиноким трудом и ревнивой четой, где погребается
бесконечность любви. Чувства не созданы? Нет, чувства
созданы. Всякий новый порядок дает новые биенья души,
256
МУЗЫКА.
и вера повинуется установлению. Тогда нужно, чтобы
возгорелся разум.
Тогда нужно выйти из социальной лжи.
Я вижу того, кем я не был, я, чьи сны являлись из
небытия и возвращались в него, но кто слышал иногда
крик наверху и в глубине вещей. Вы, кто здесь для того,
чтобы слушать меня, потому что моя драма разыгралась
здесь, вот тот, кем я не был: честный человек, логиче¬
ское сознание, настоящий солдат, выступающий твердо,
враждебно среди сумеречных людей, марионеток гранди¬
озного фарса; способный отказаться от скотского прия¬
тия иных великих с виду, но микроскопических слов; че¬
ловек, изъеденный стыдом сознания, что он современник
гнусного и уродливого апофеоза, деятельный, сильный,
не имеющий на устах иной молитвы, не имеющий в руках
иного оружия, кроме очевидности и радости, которые
были украдены у него.
Оно захватило меня, это дуновение, которое я под¬
держал, когда, незадолго до меня, огонь уничтожал пла¬
менное сердце еретиков, и когда их тела озаряли радость
толпы для изобретателей науки, для изобретателей судьбы,
для начинателей... И я заранее, как Иеремия, испытал
муки, которых еще нет. Возможно ли, чтобы еще рас¬
пинали свежее тело тех, которые показали простоту в по¬
следовательности звеньев цепи! Состраданья, народ, со¬
страданья, ради самого себя. Будь своим сердцем, будь
своим гением. Подымись. Стряхни недостойное почитание,
которое прицепилось к тебе вместе с твоим страданием.
Стань монументальным разрушителем, и не выпускай мира
Возьми за их священные одежды первосвященников оте¬
чества, демократии и религии, и плюнь им в лицо.
Покорите стадо самих себя, стадо животных. Злы ли
люди? Я не знаю: зло—мелодраматический призрак, как
добро,—но они глупы.
Ради мудрости, ради состраданья, восстаньте.
Цена 1 р. 40 к.
КН»«ГПП УЛ лТ» ТМ>
ЧЕЧТЕА1>Г
СКЛАД ИЗДАНИЯ:
Ленинград, пр. Володарского, 34.
Телеф. 210-20 и 547-76.