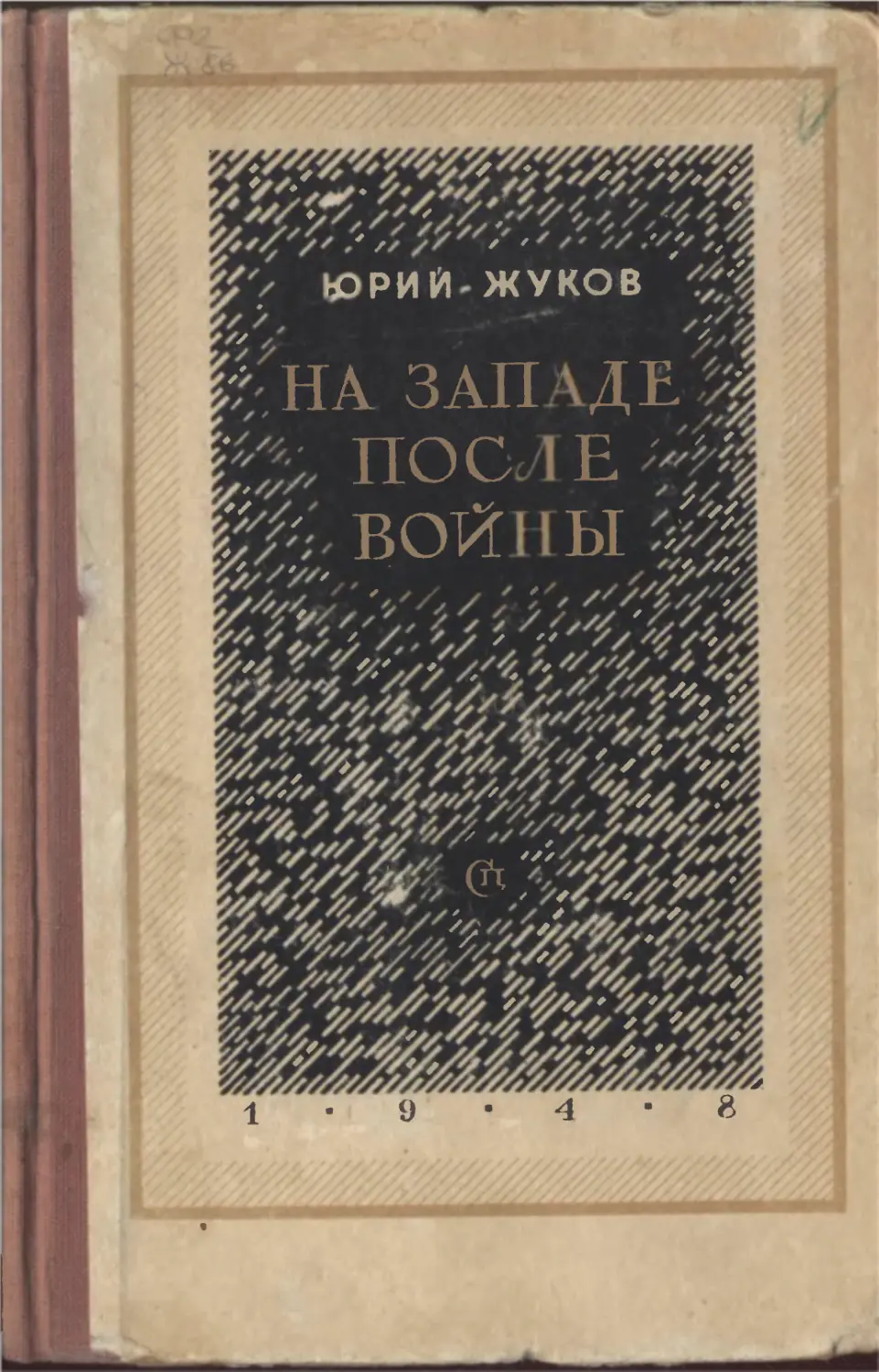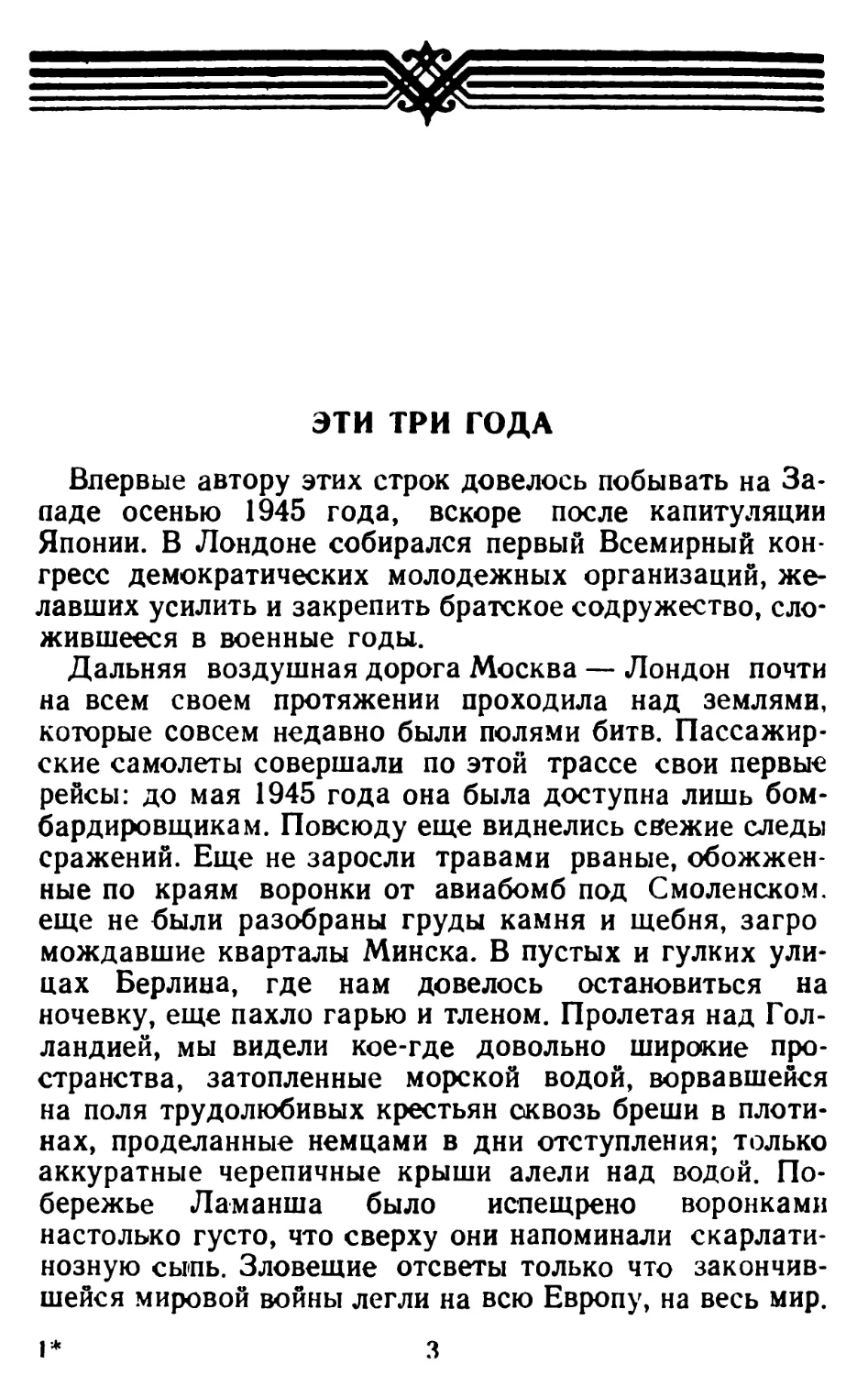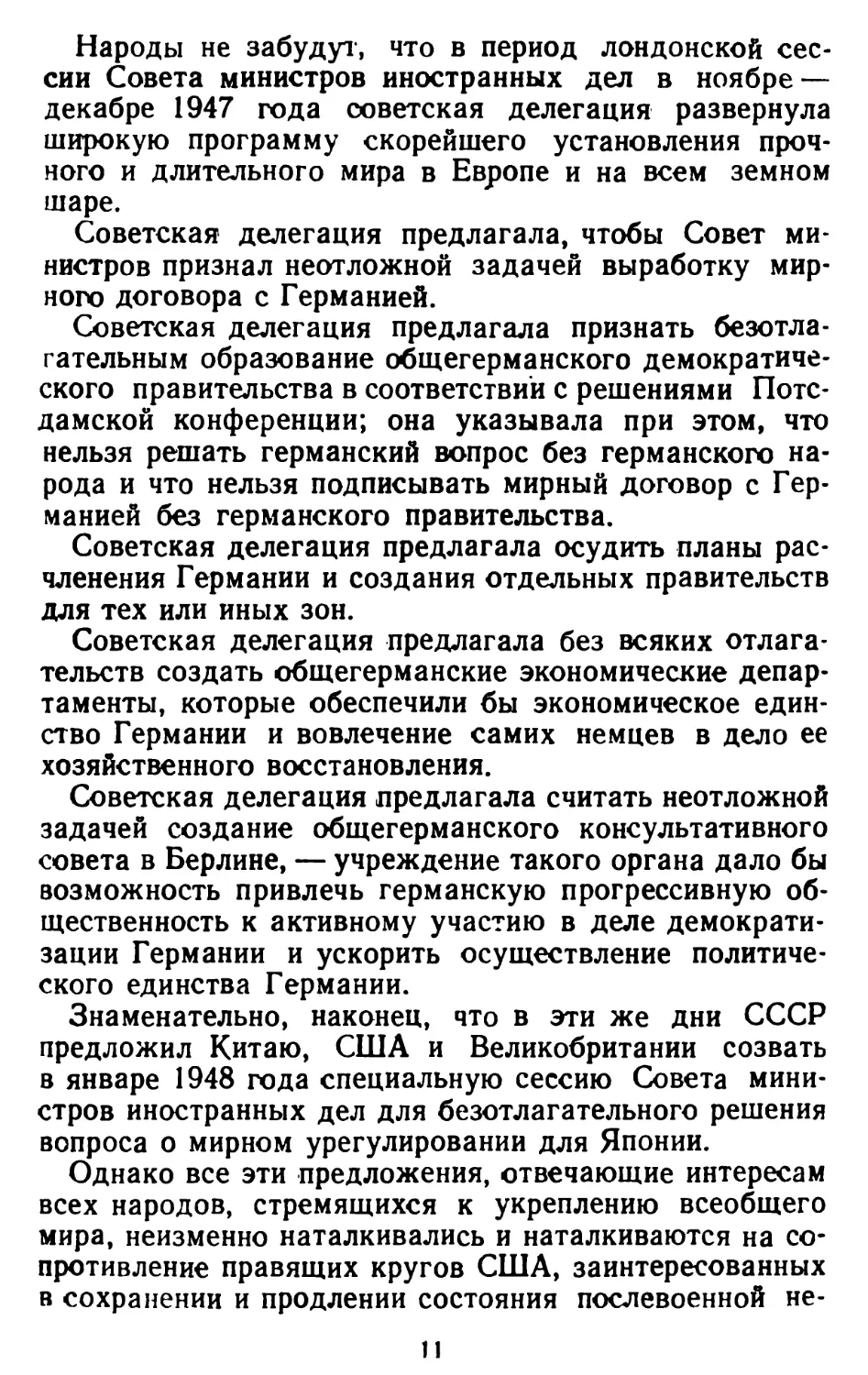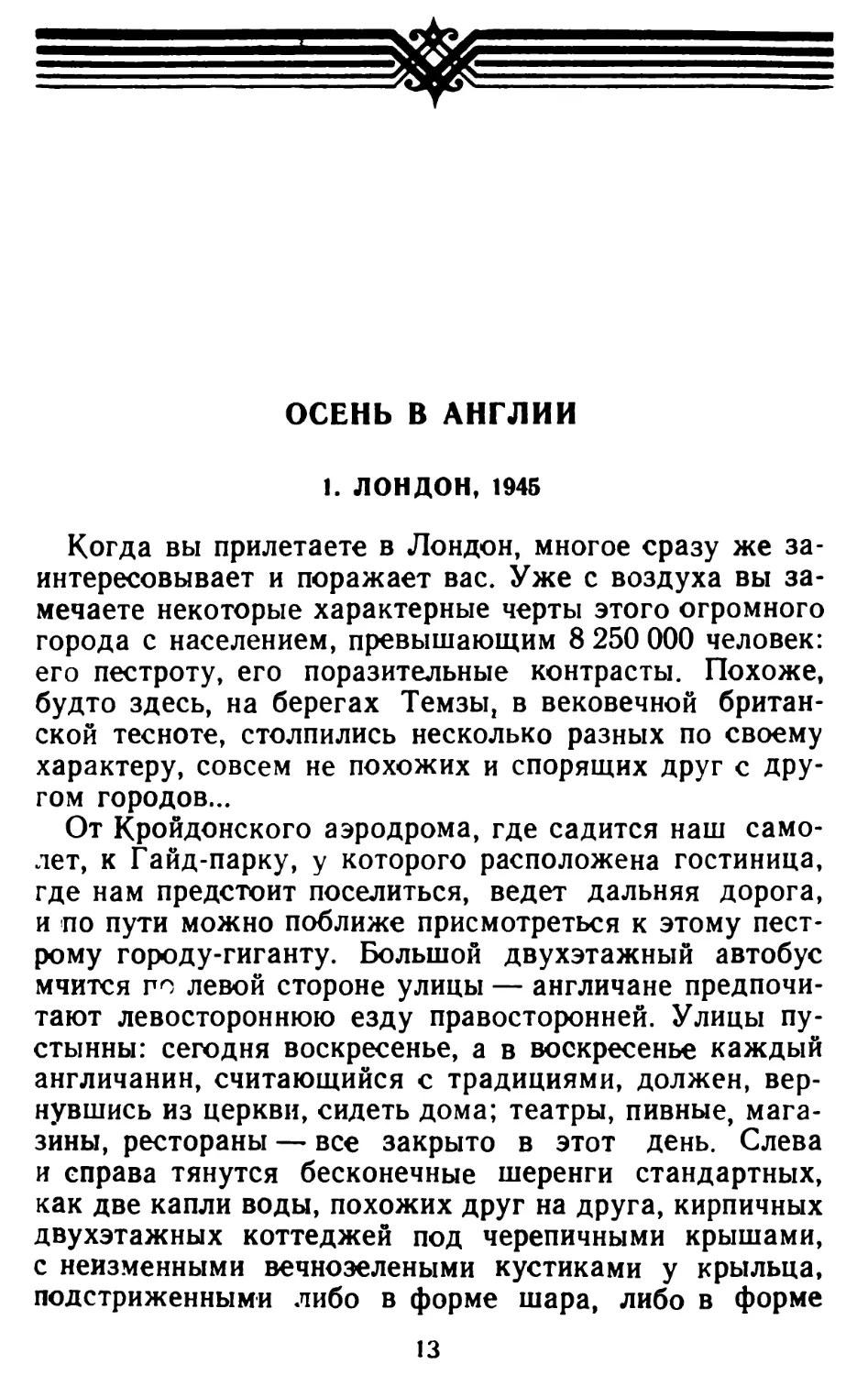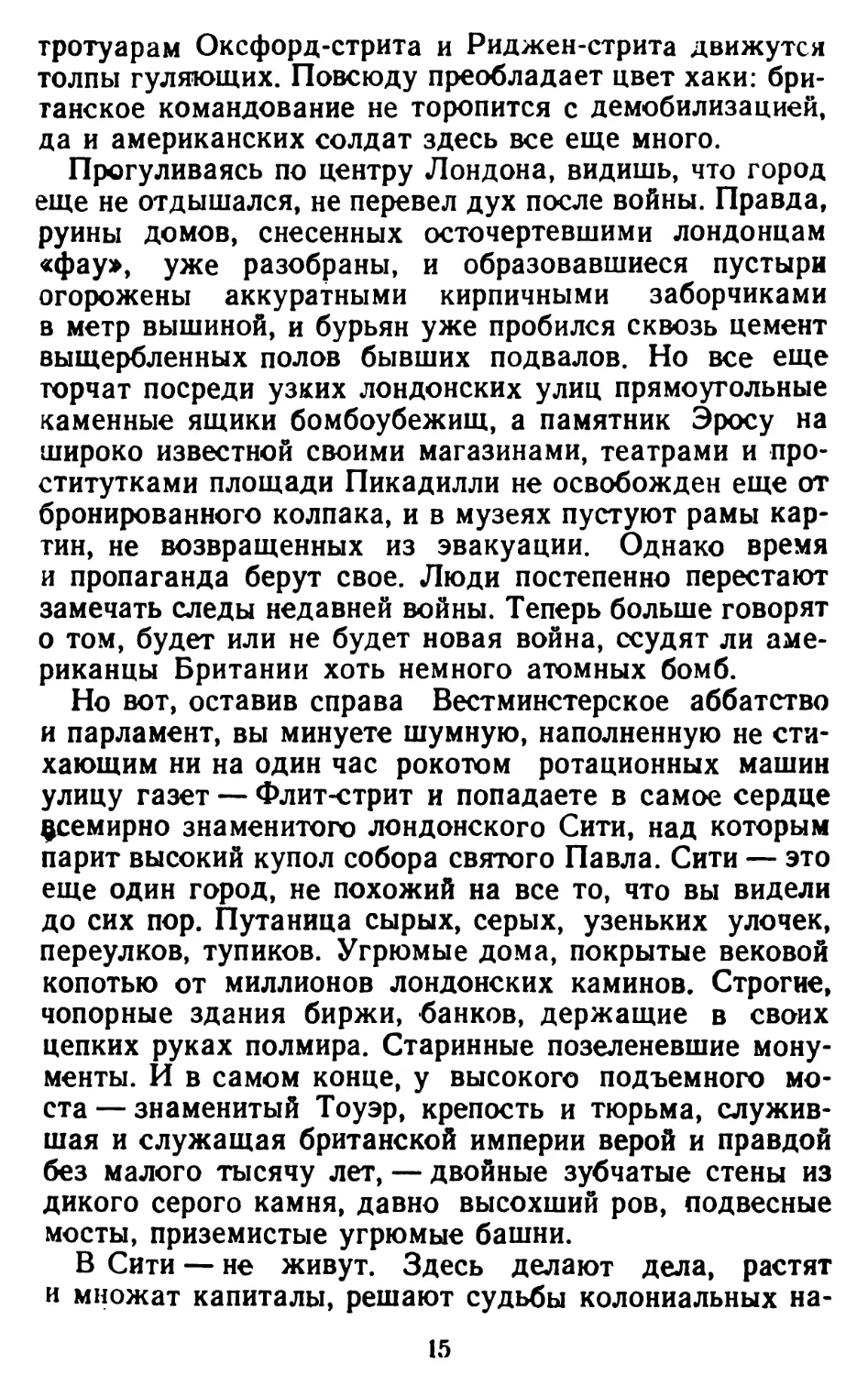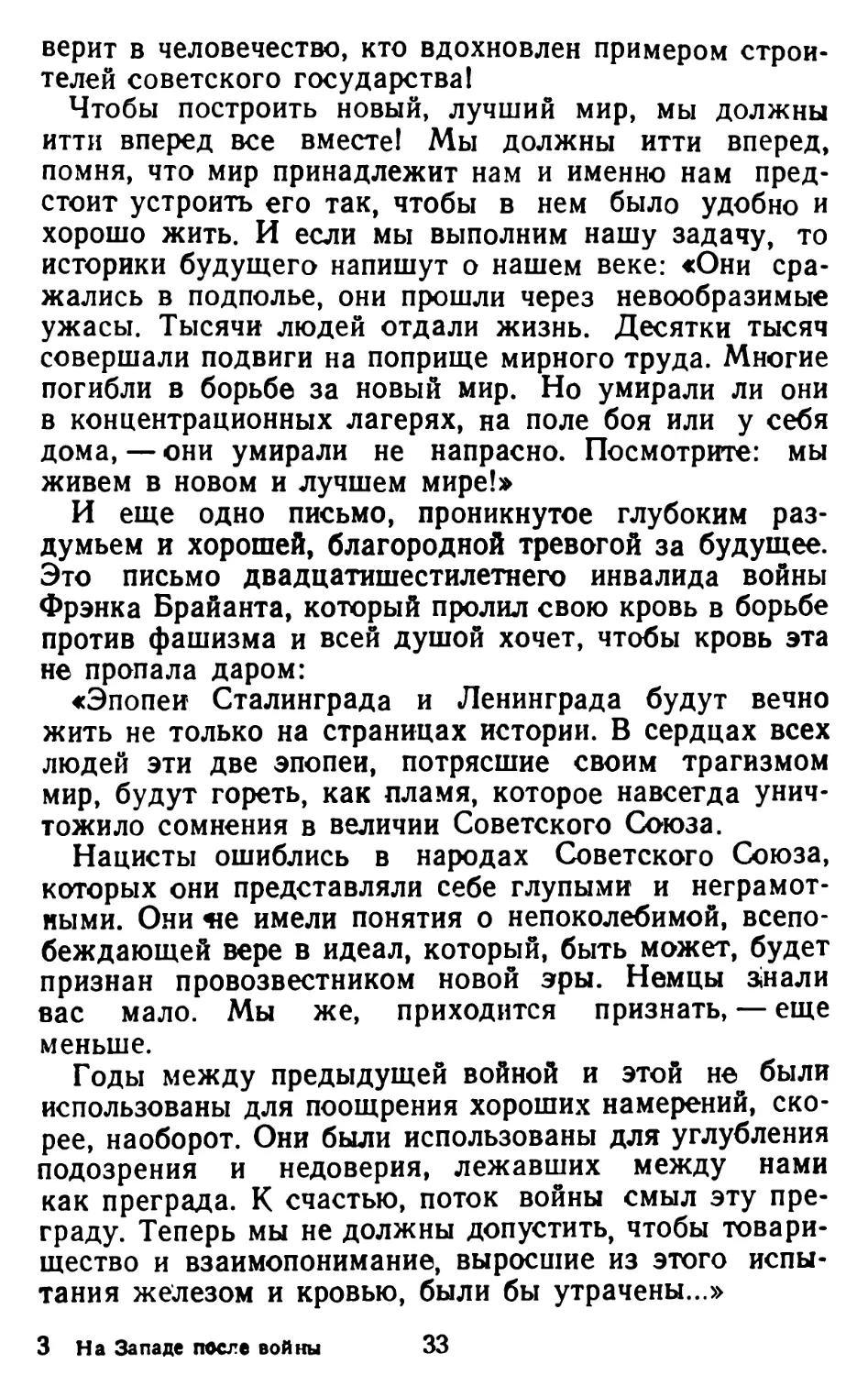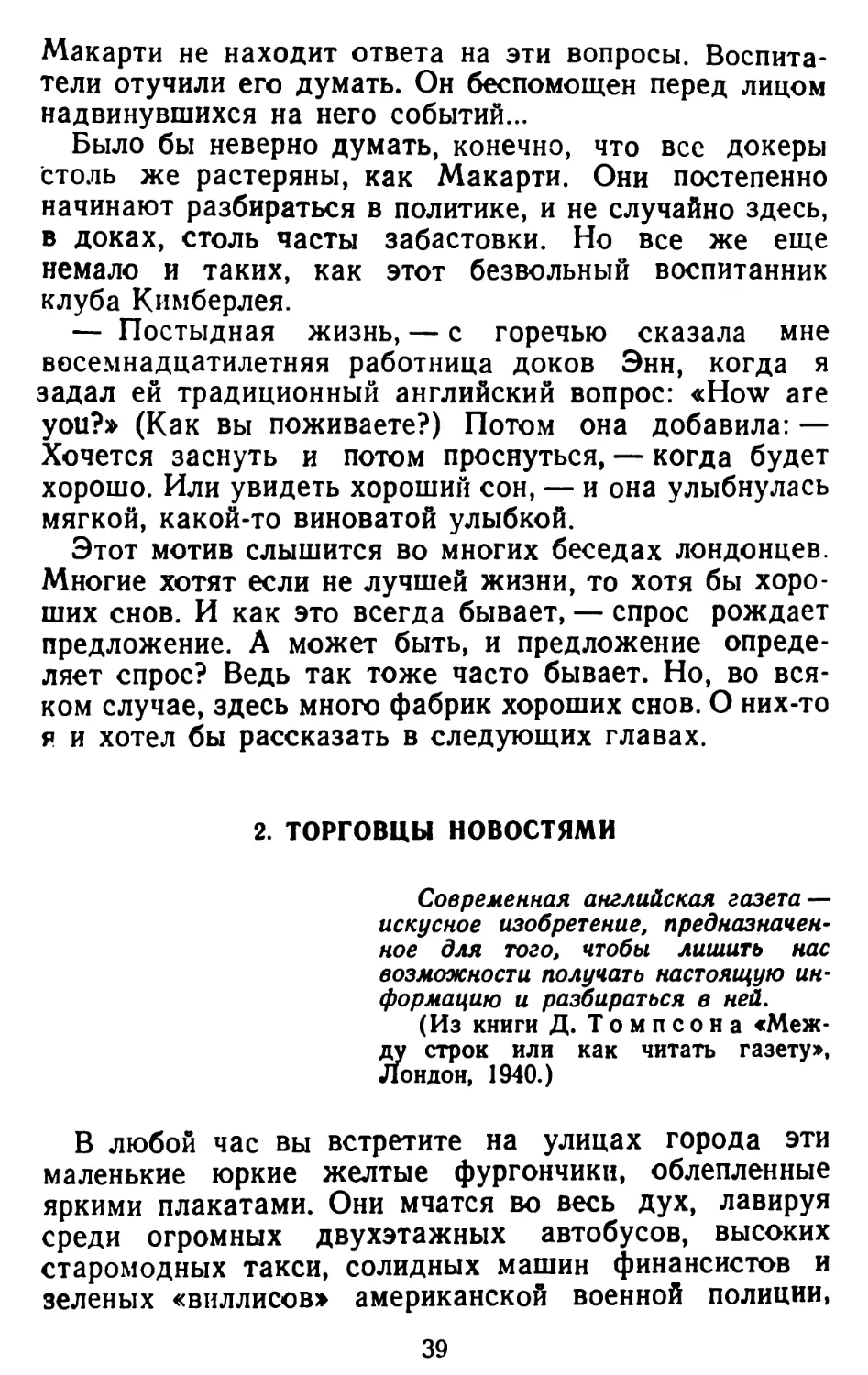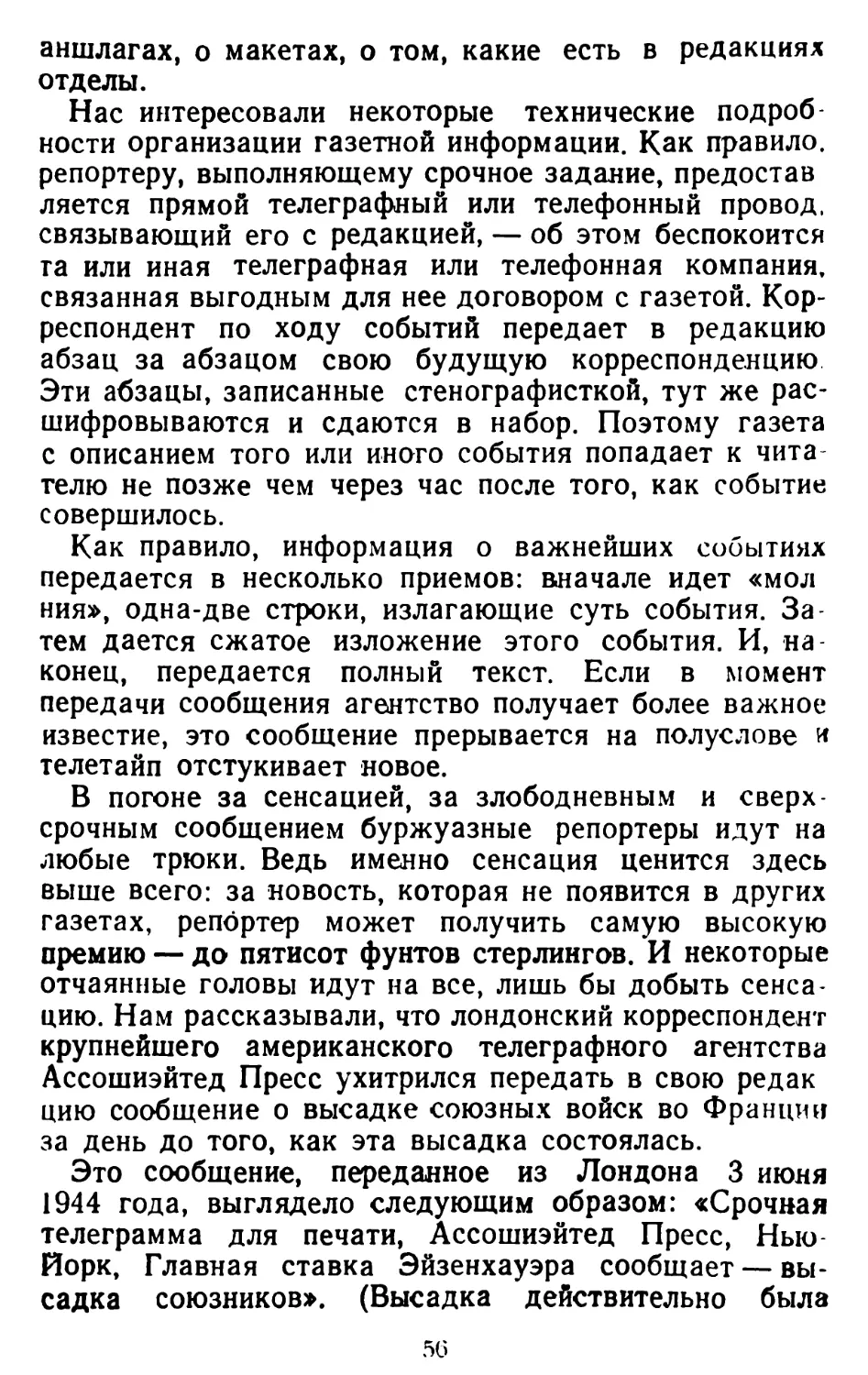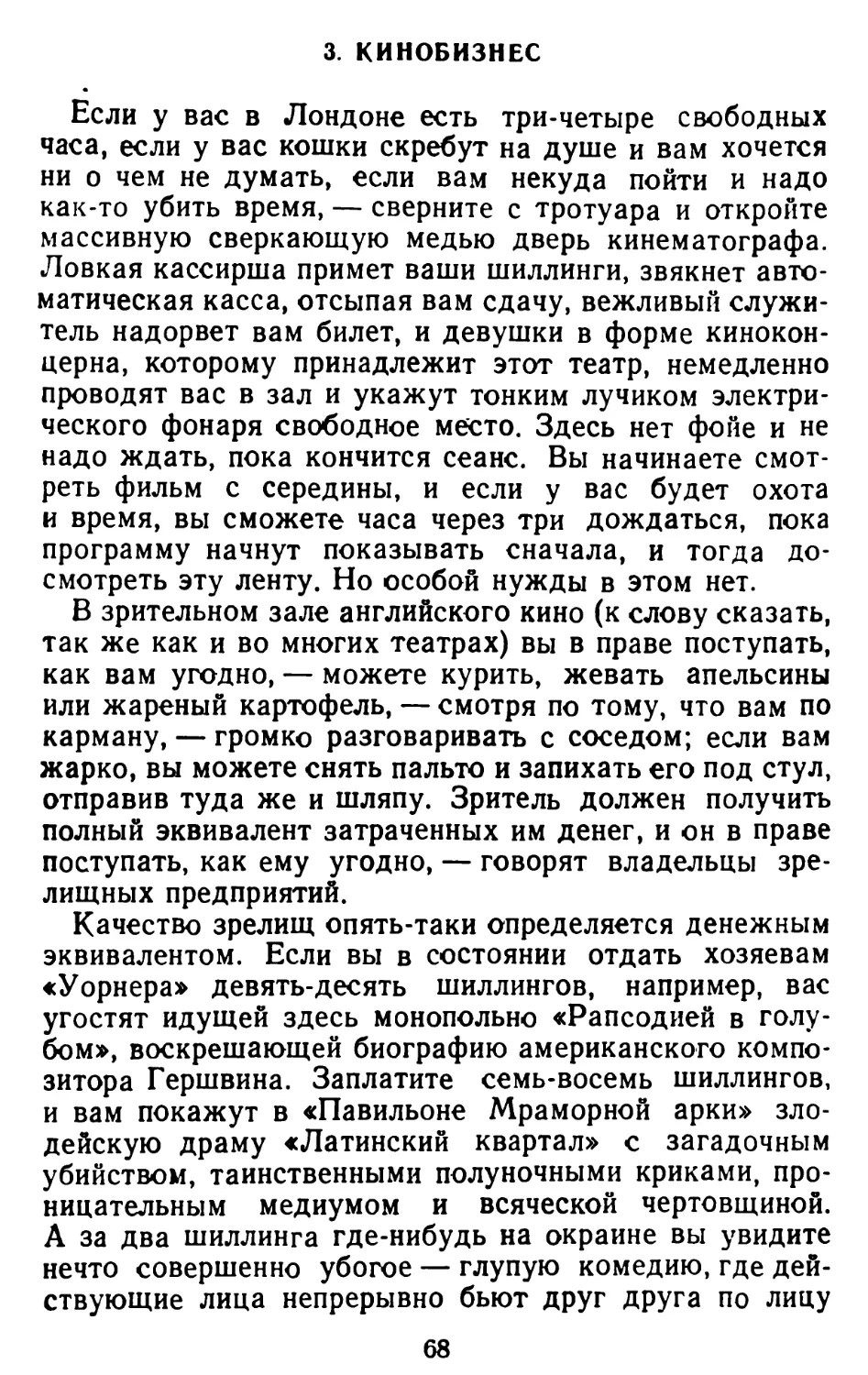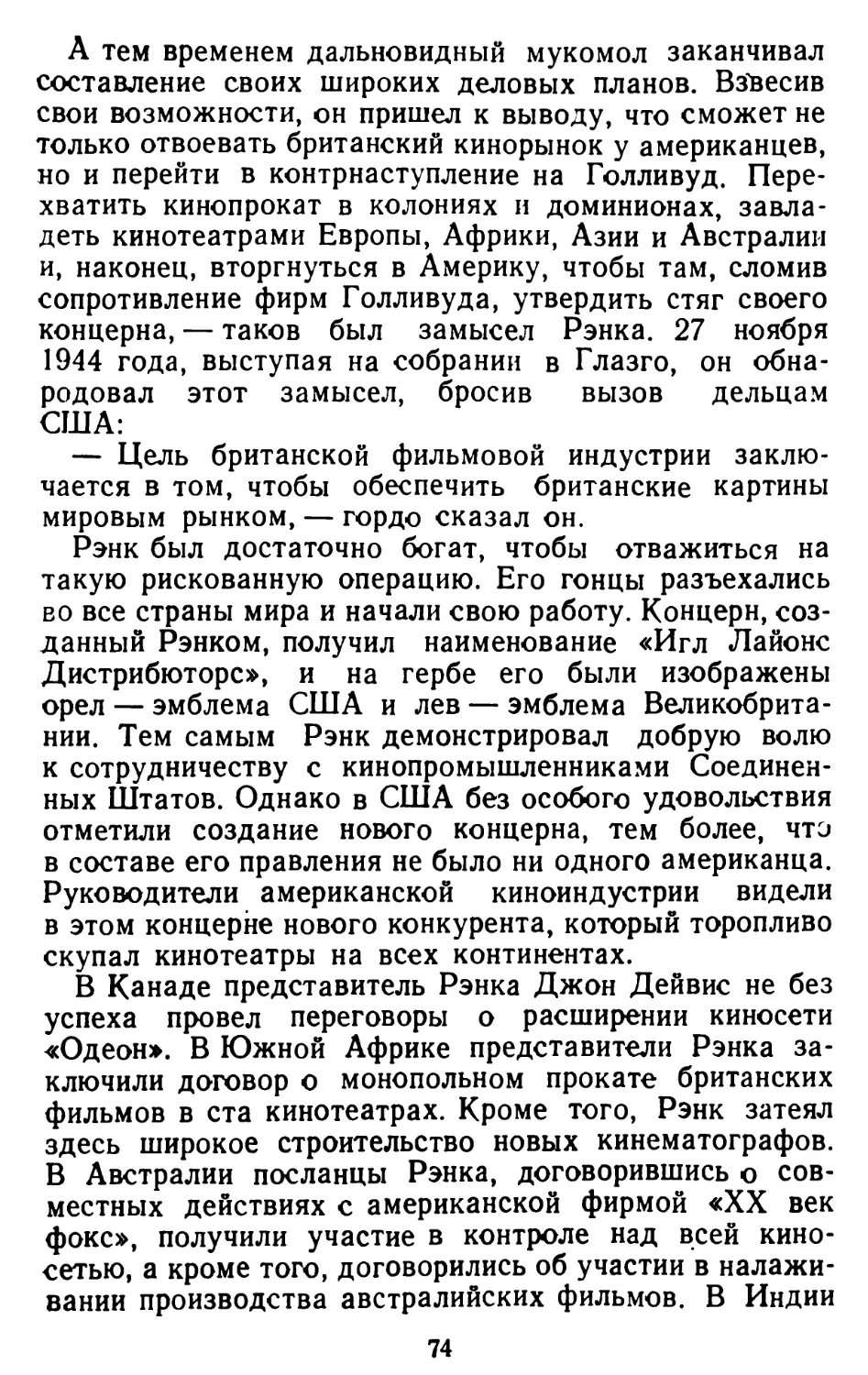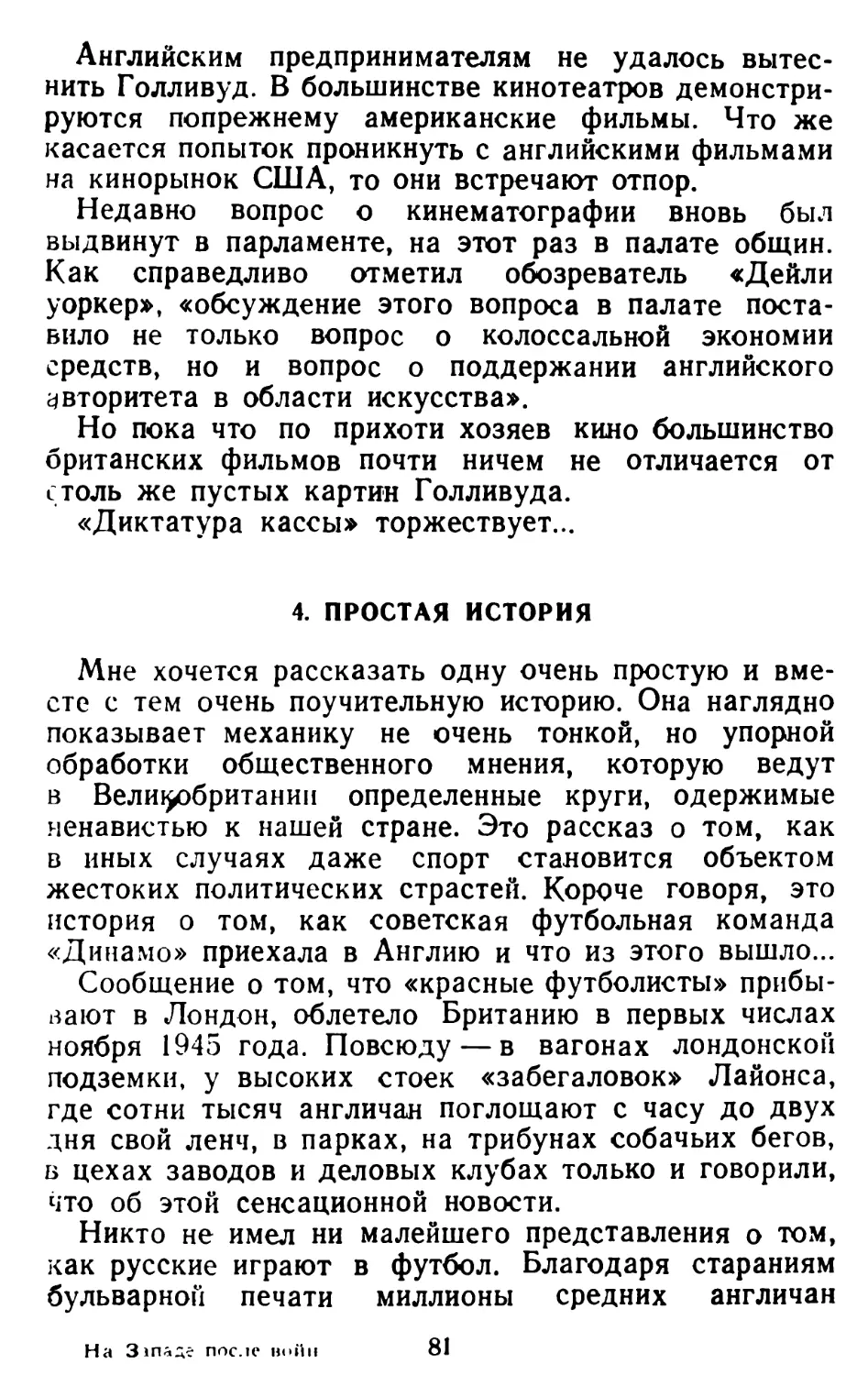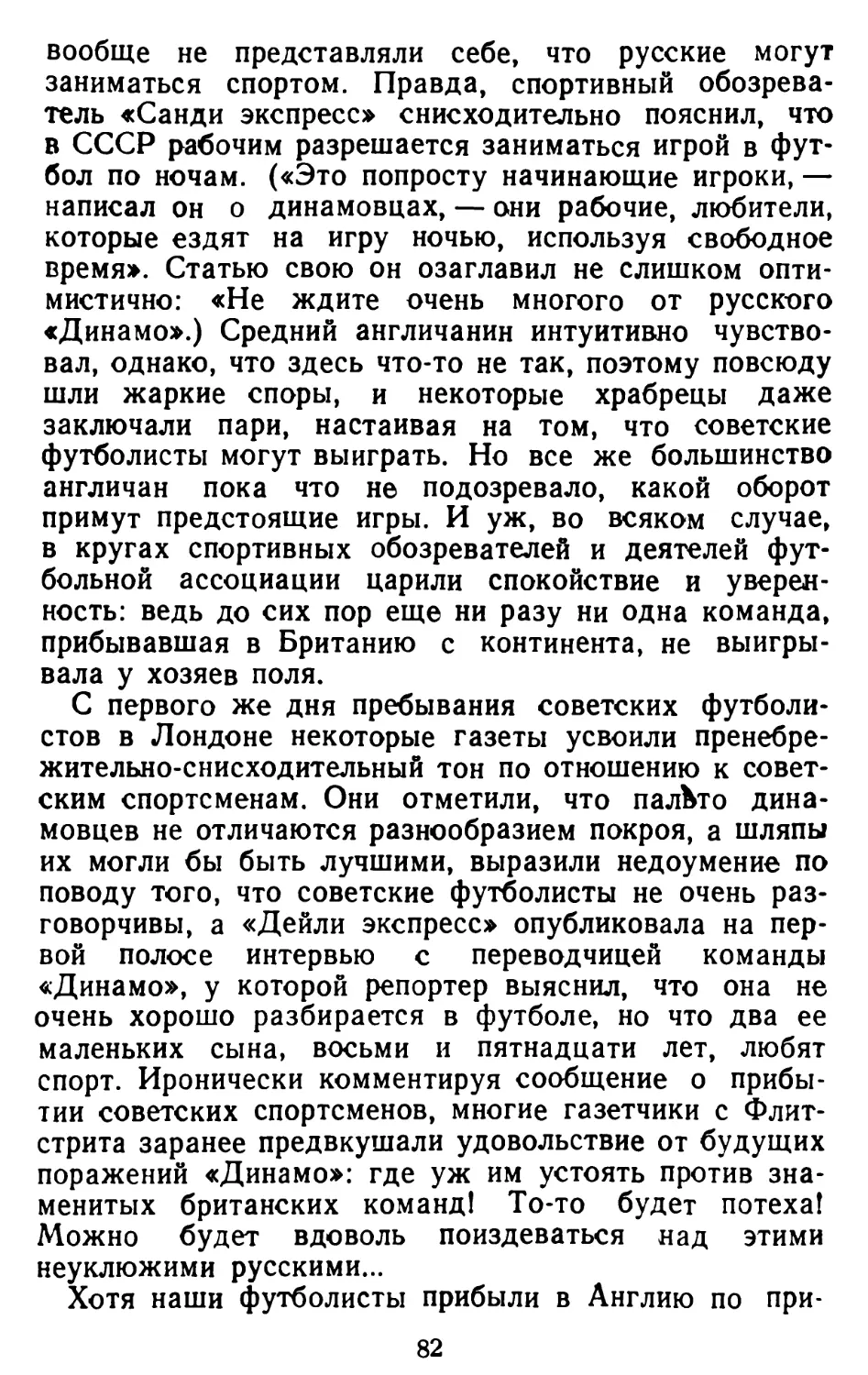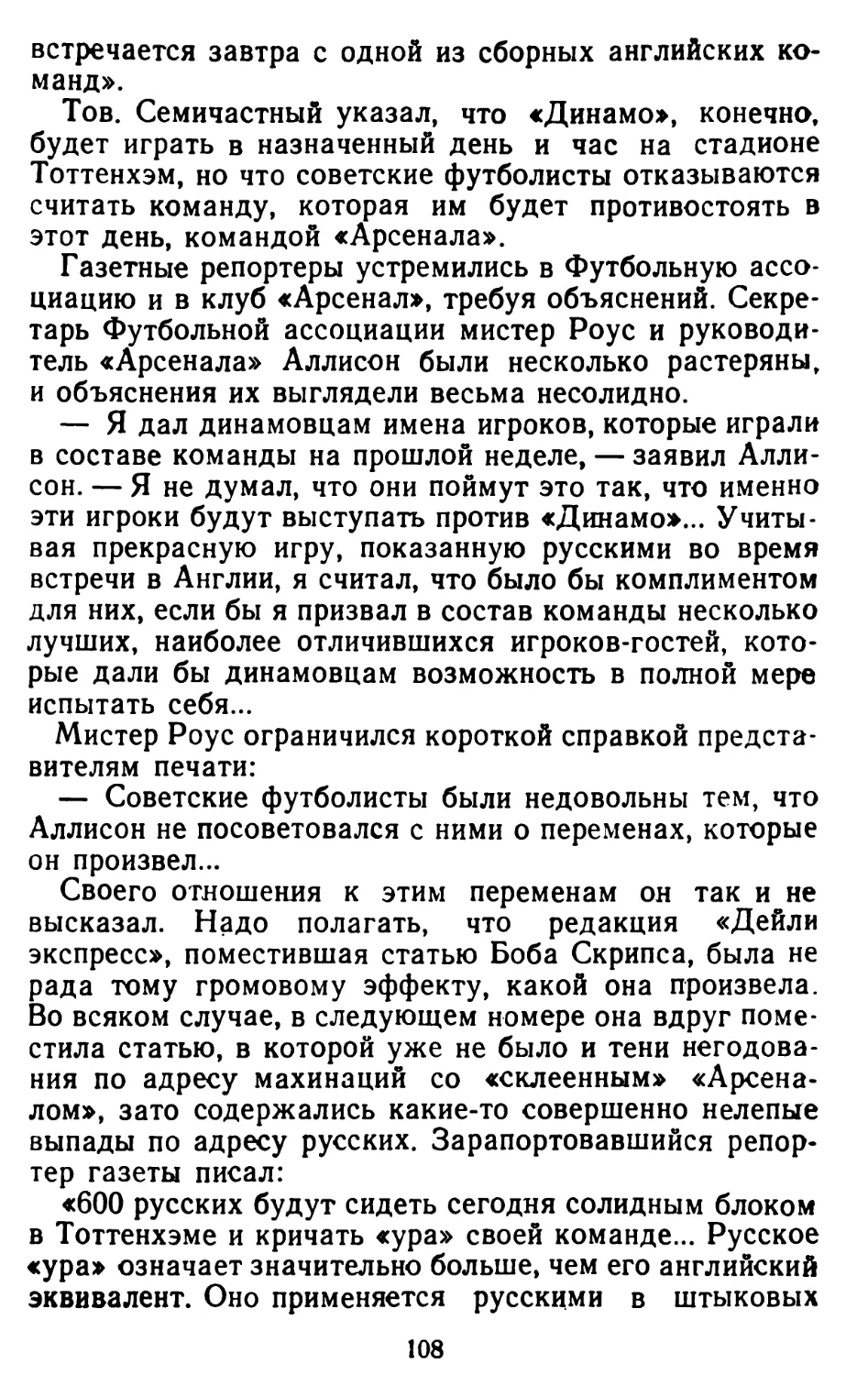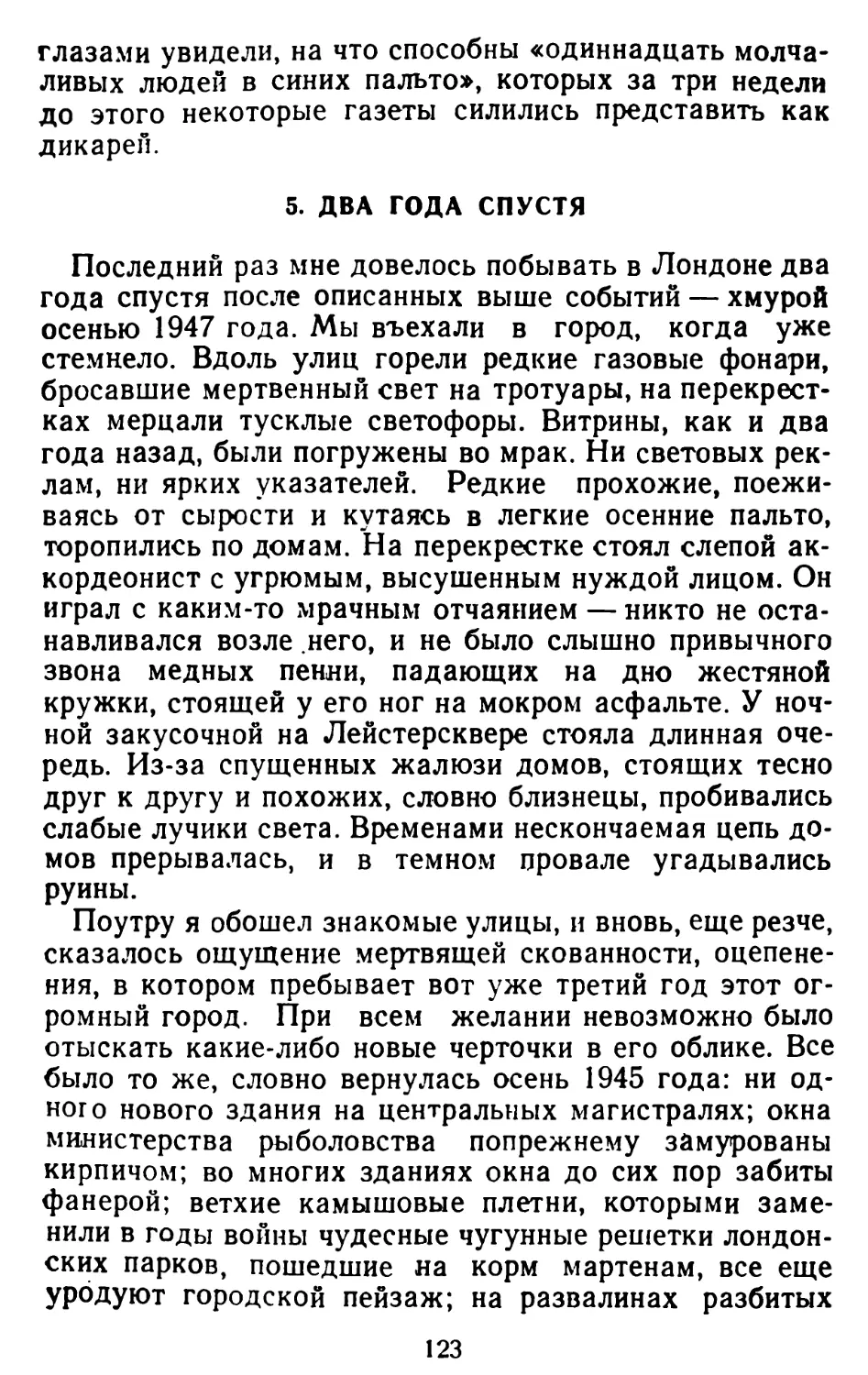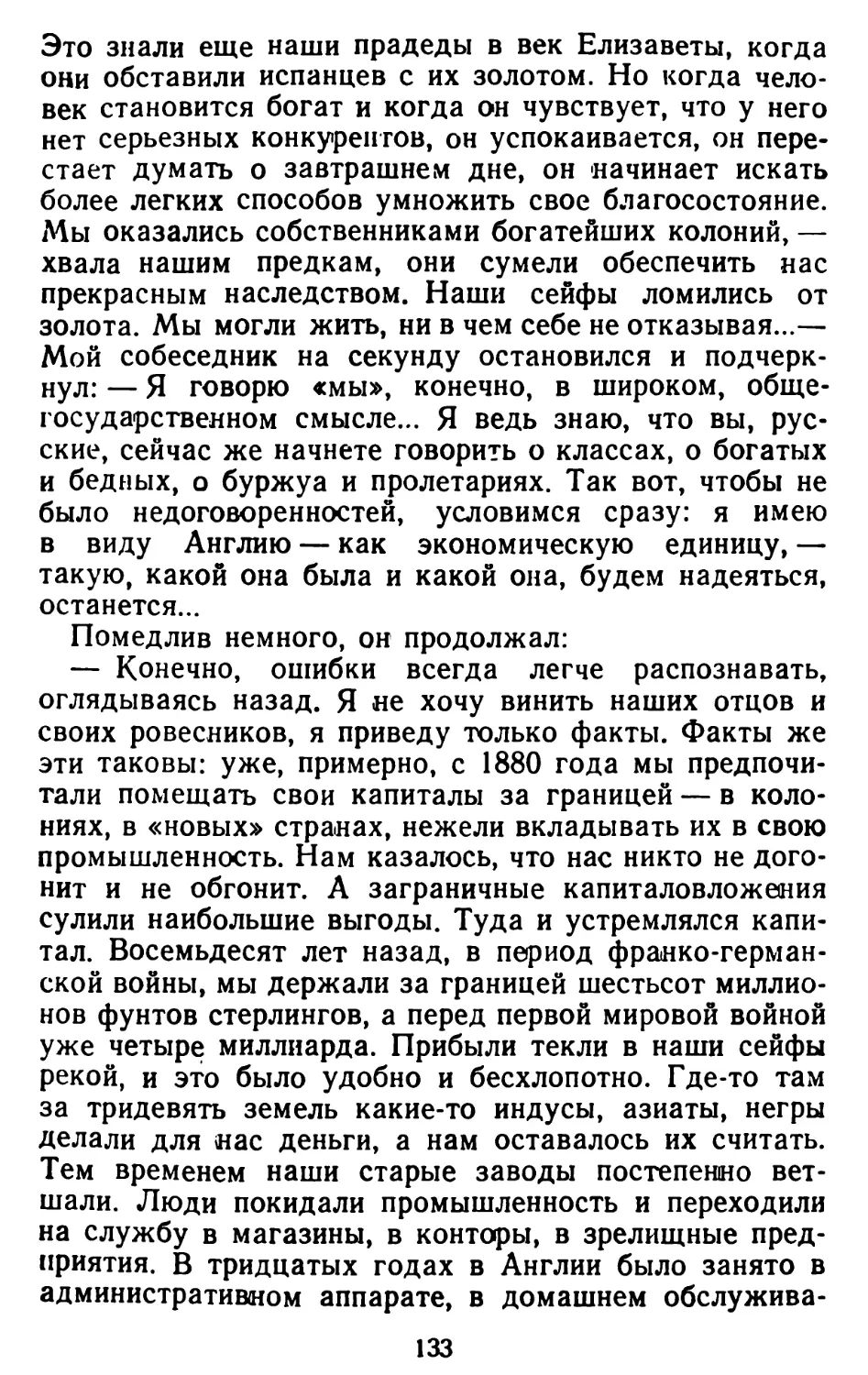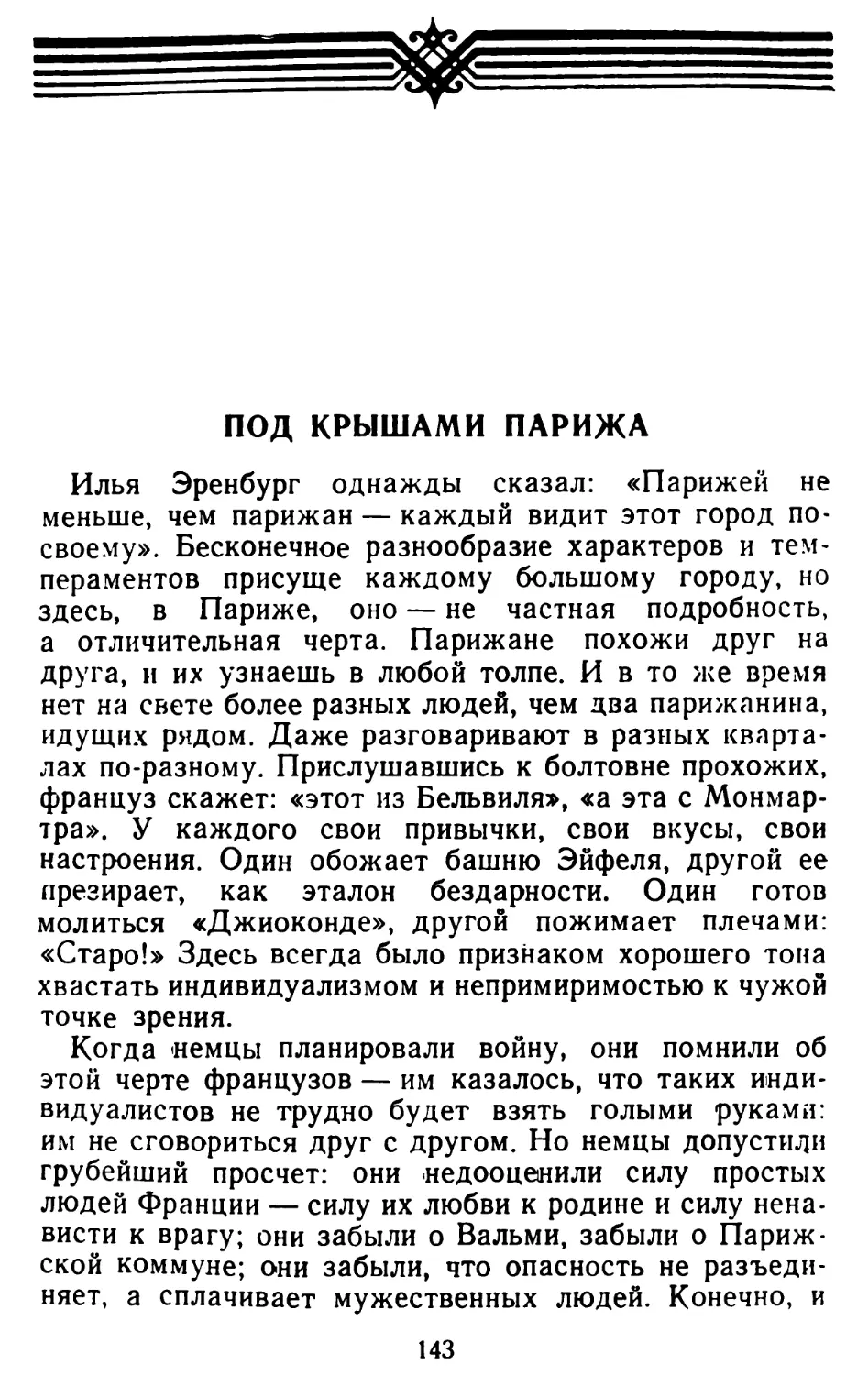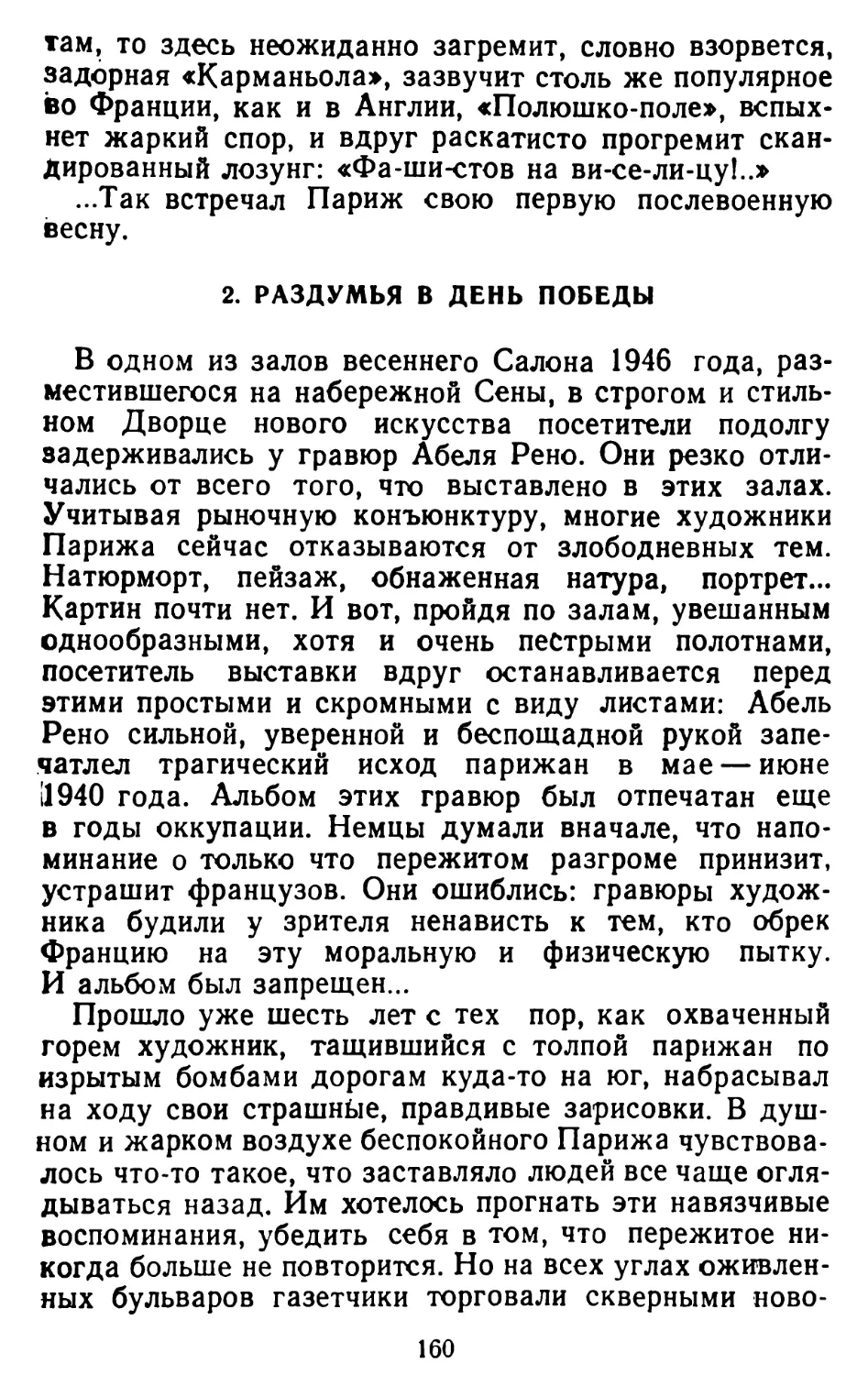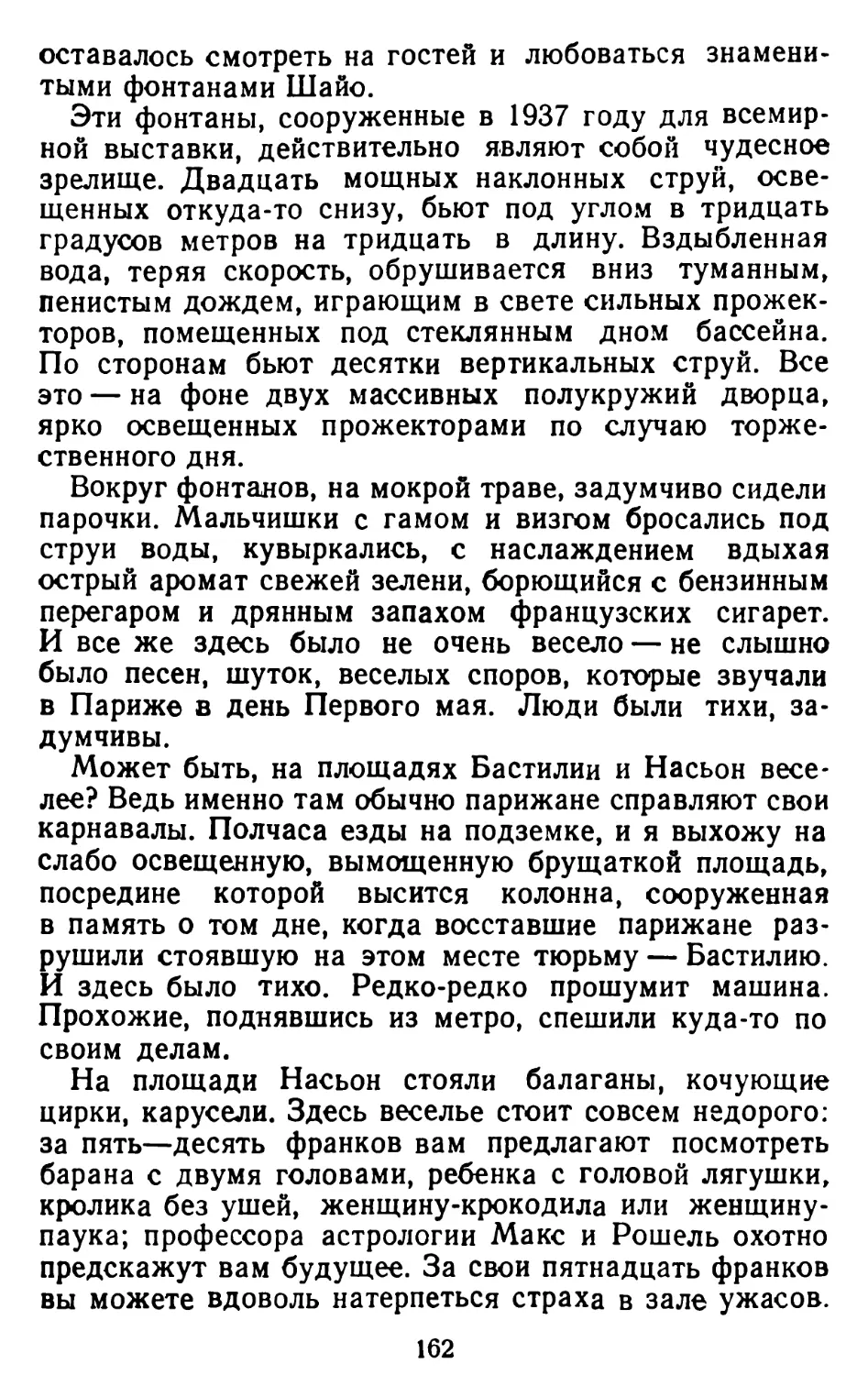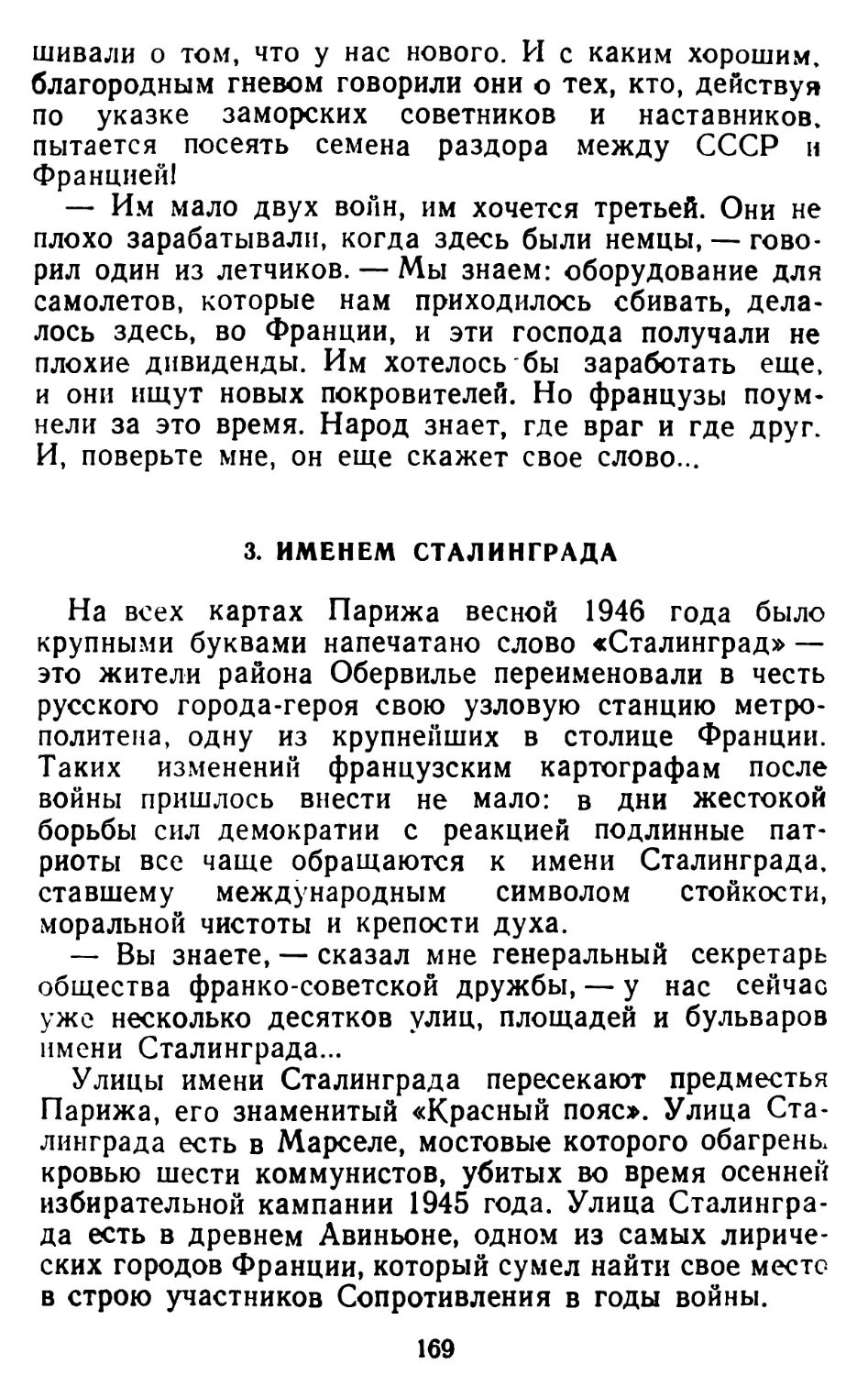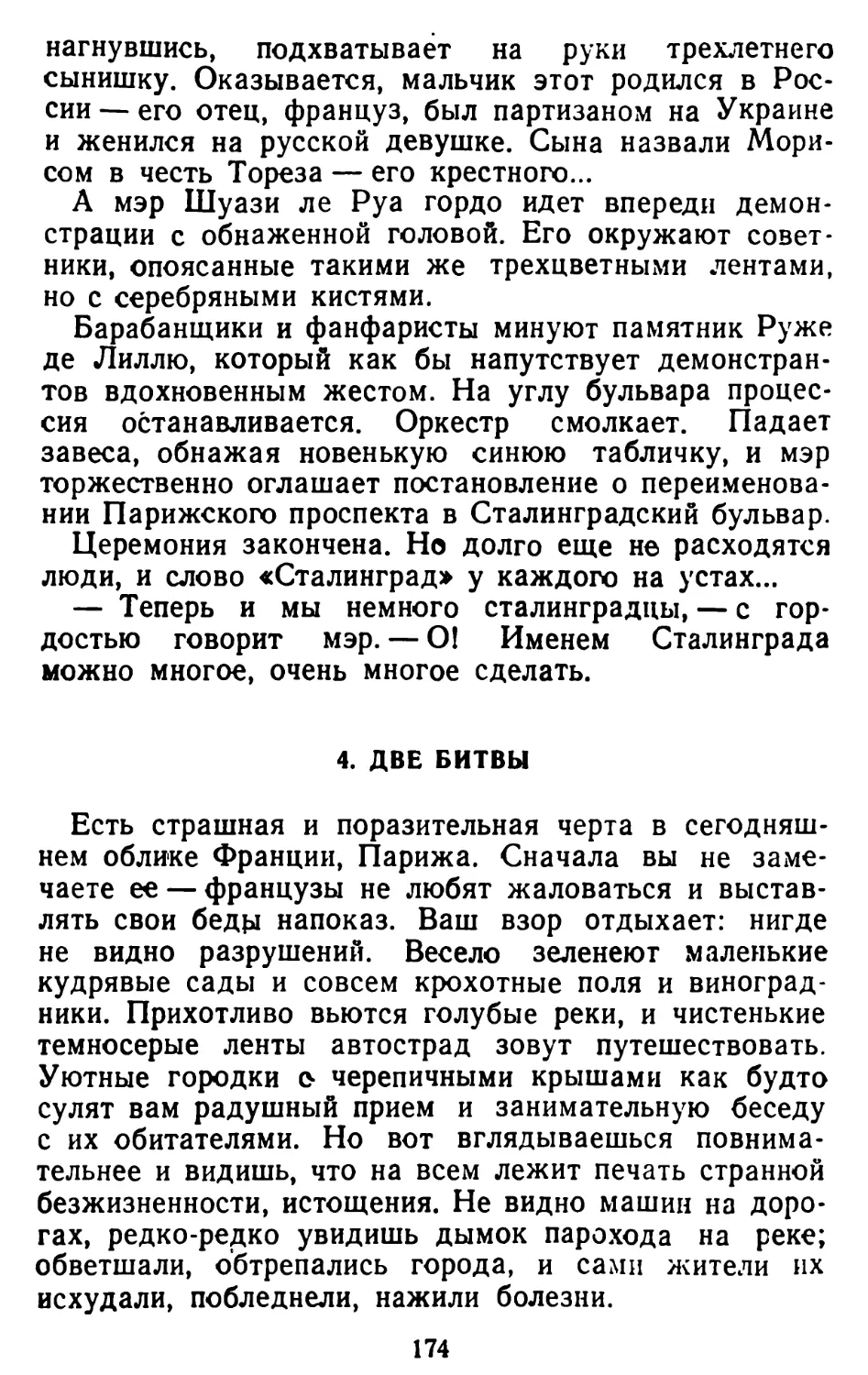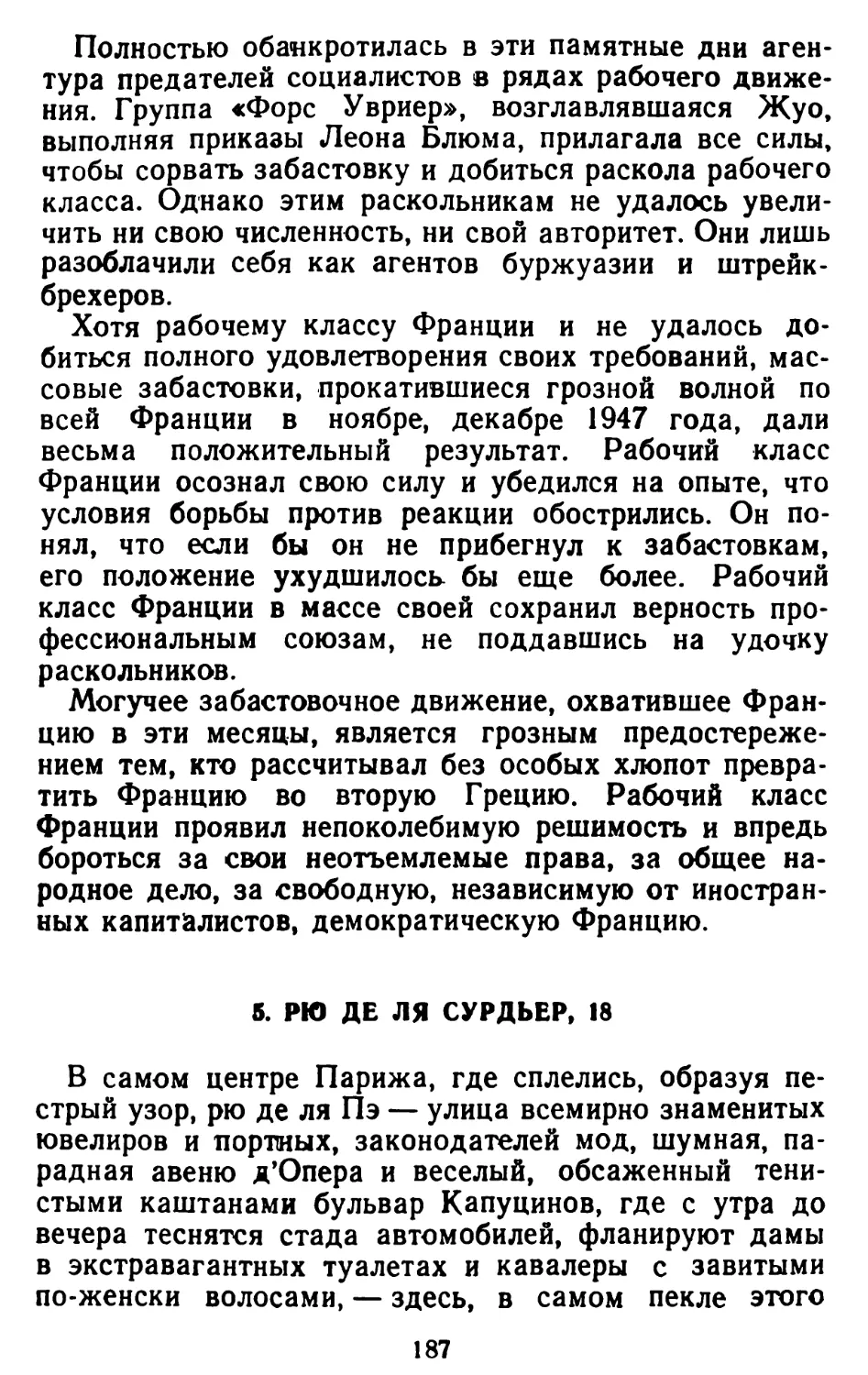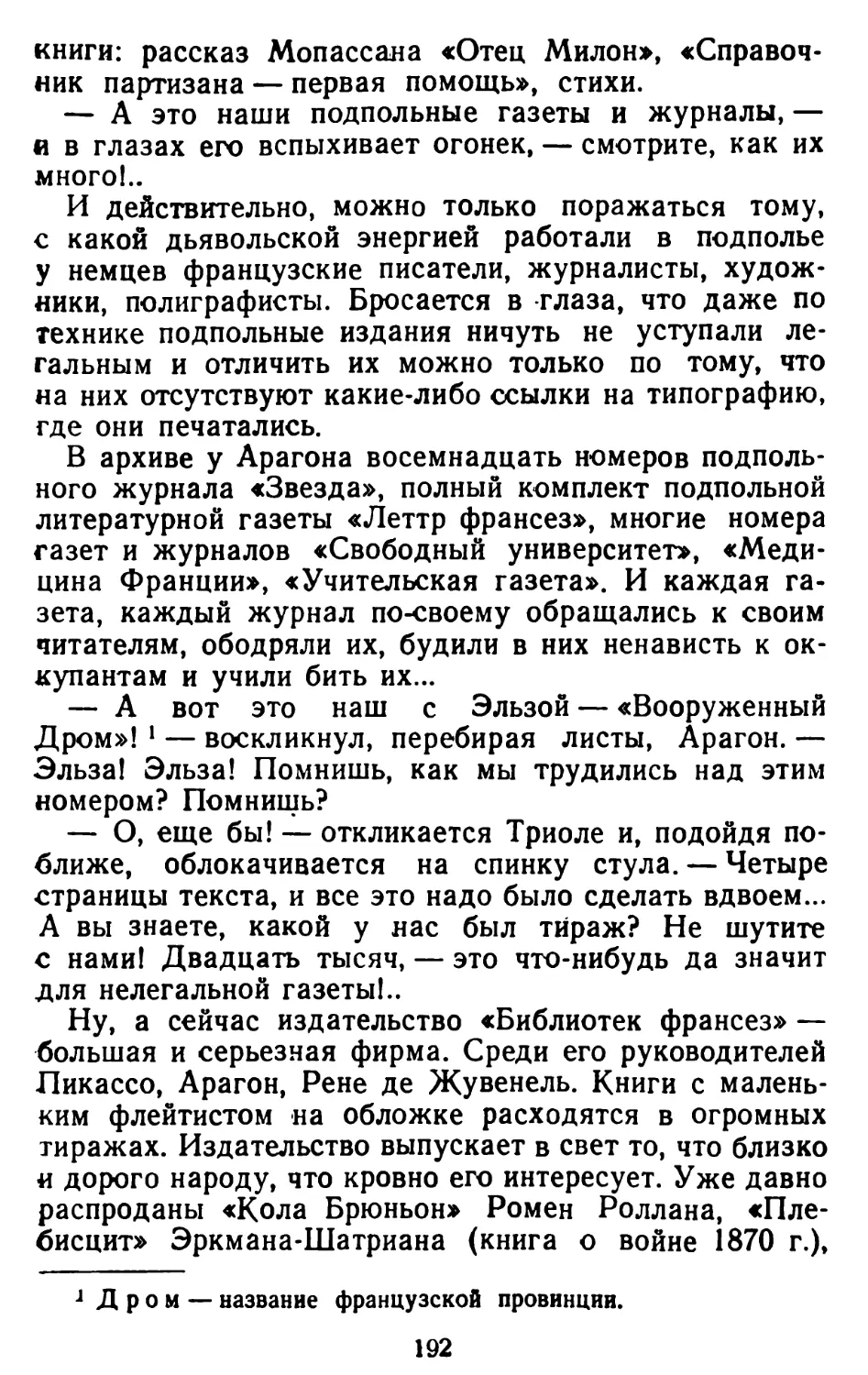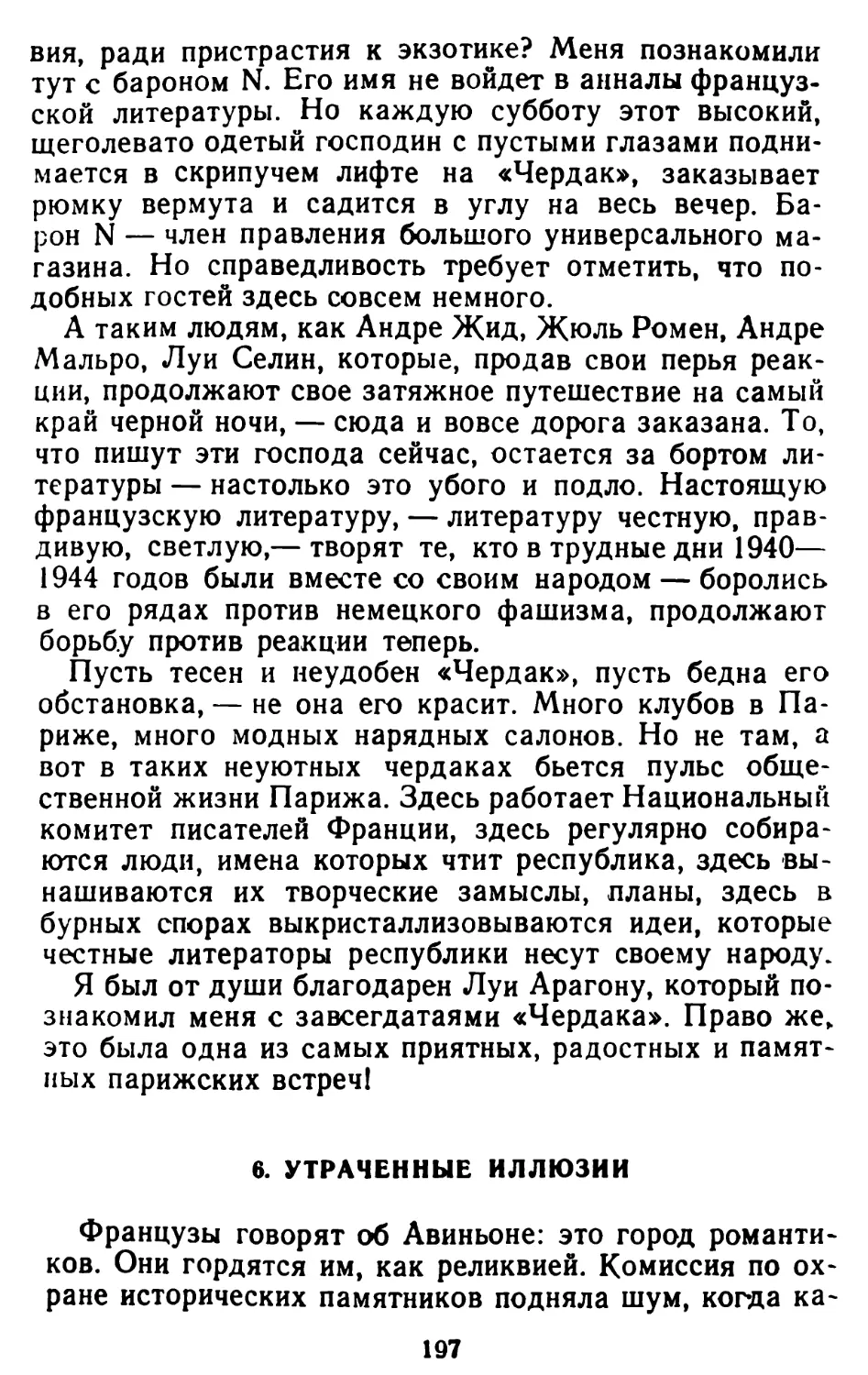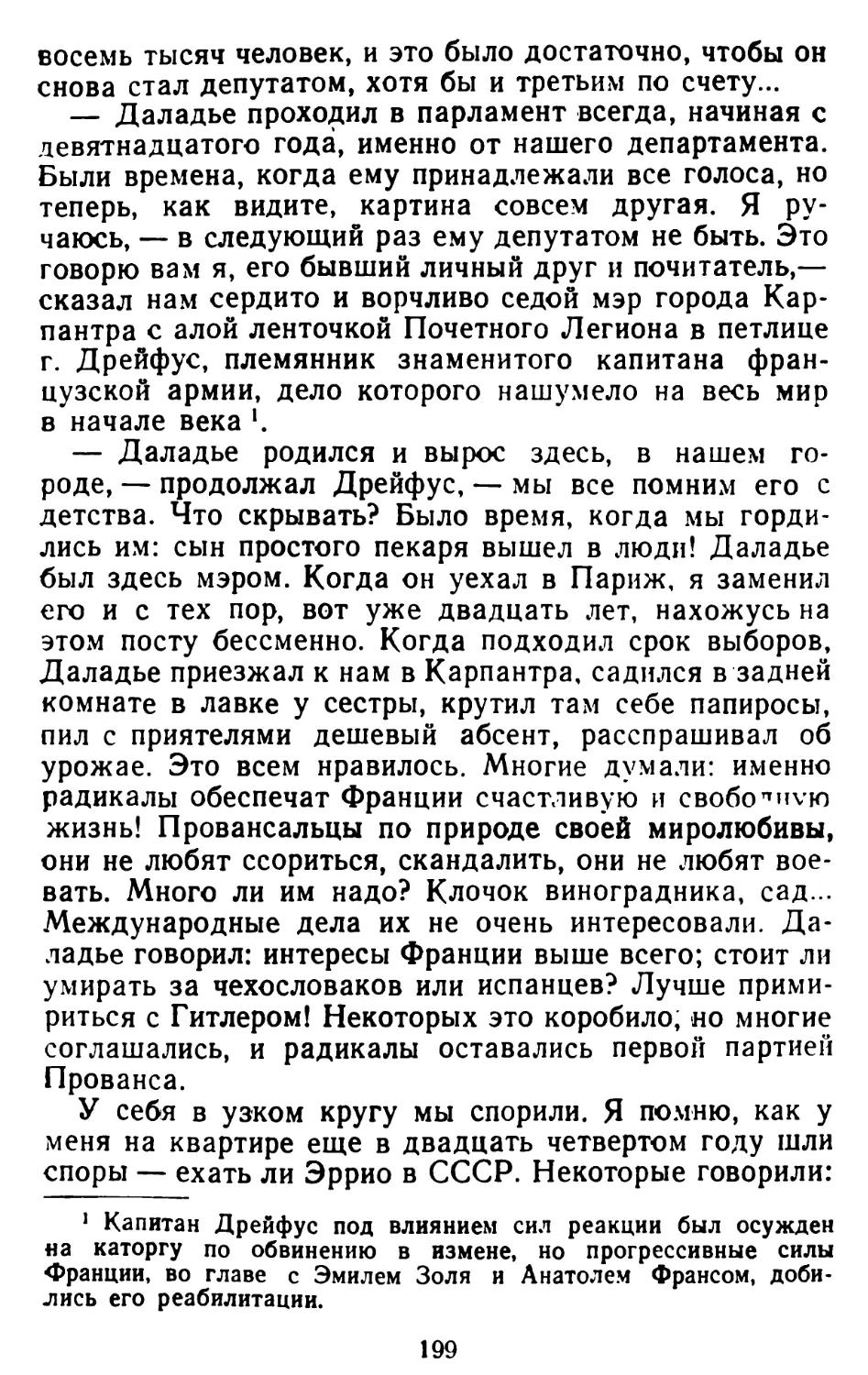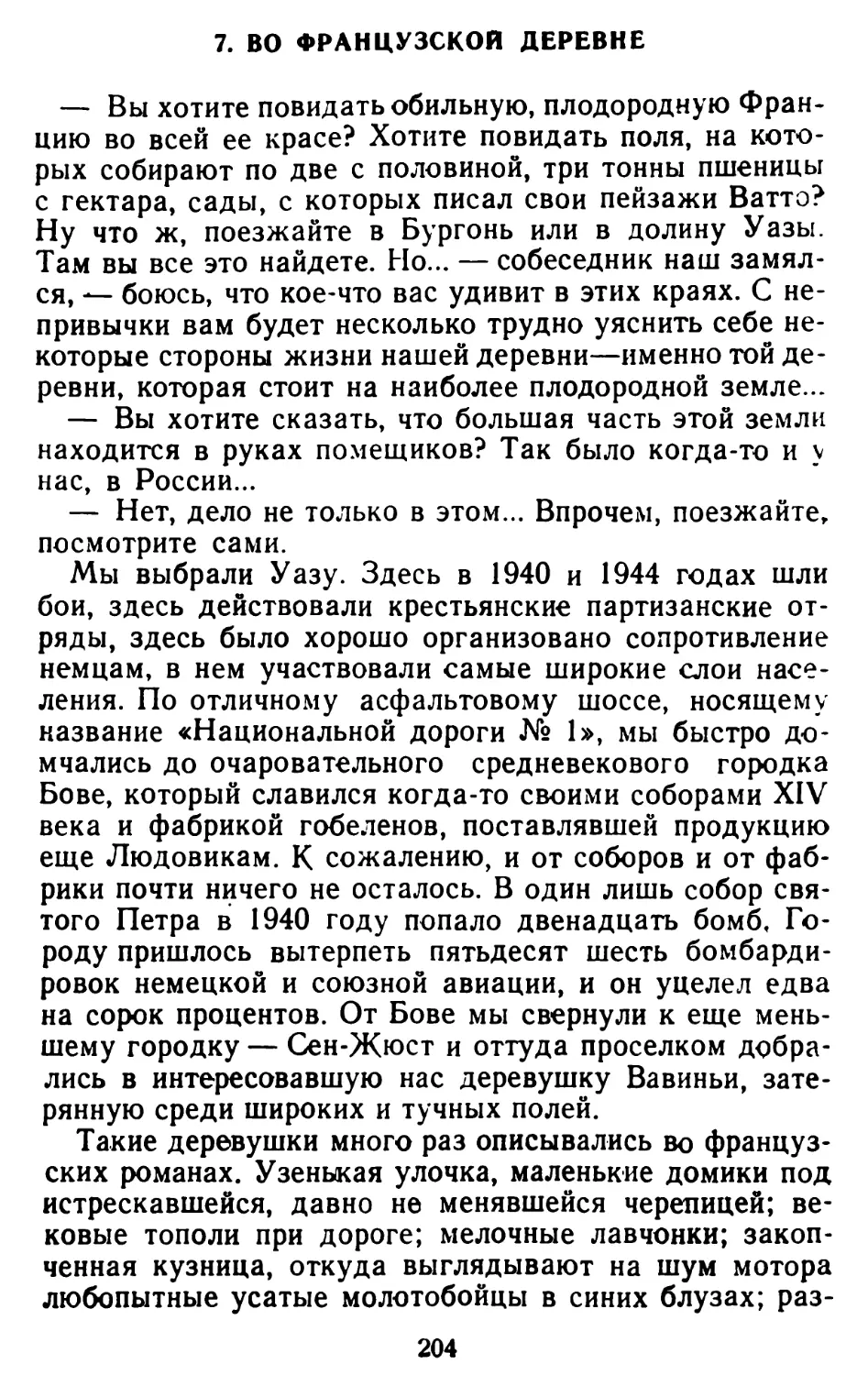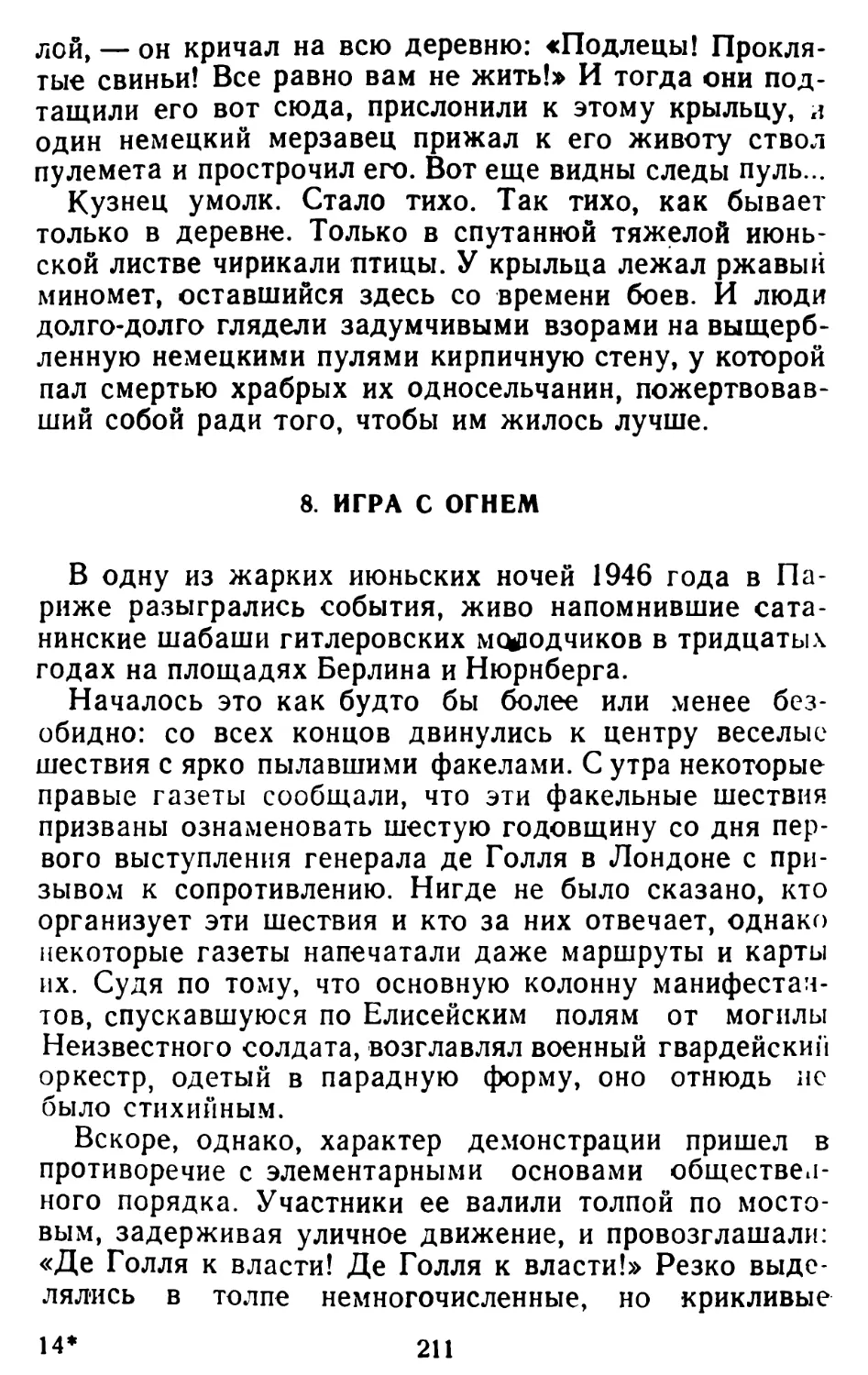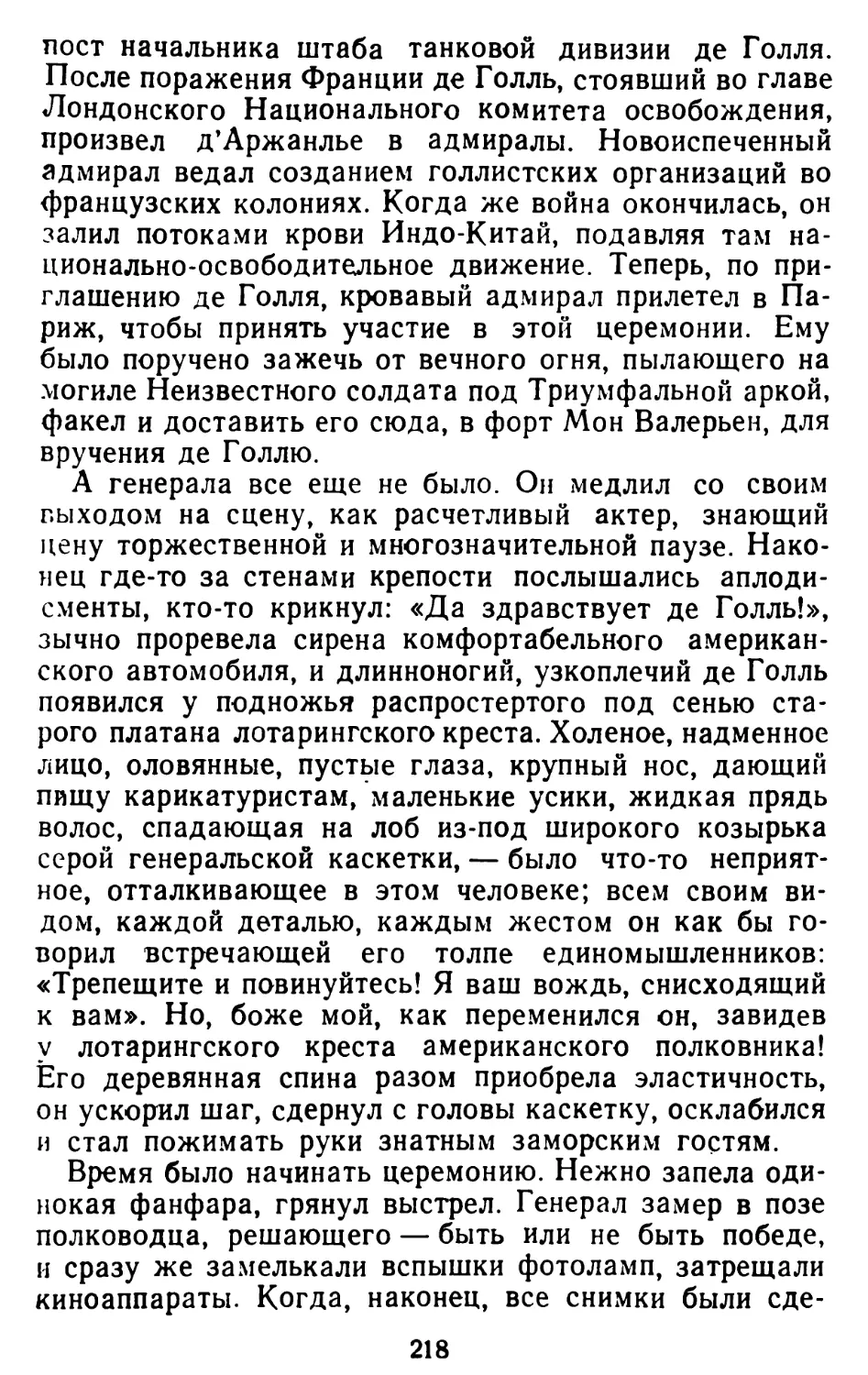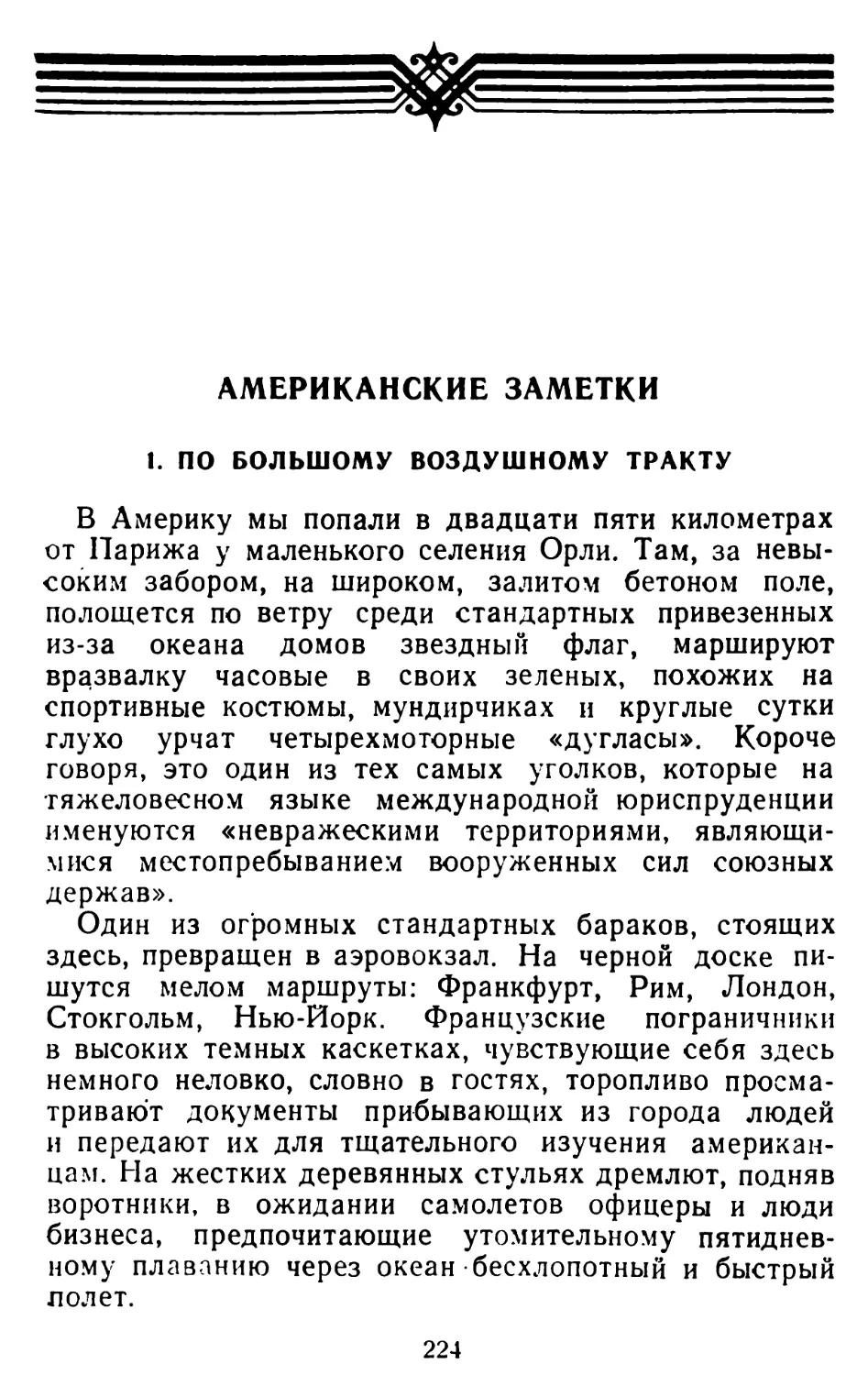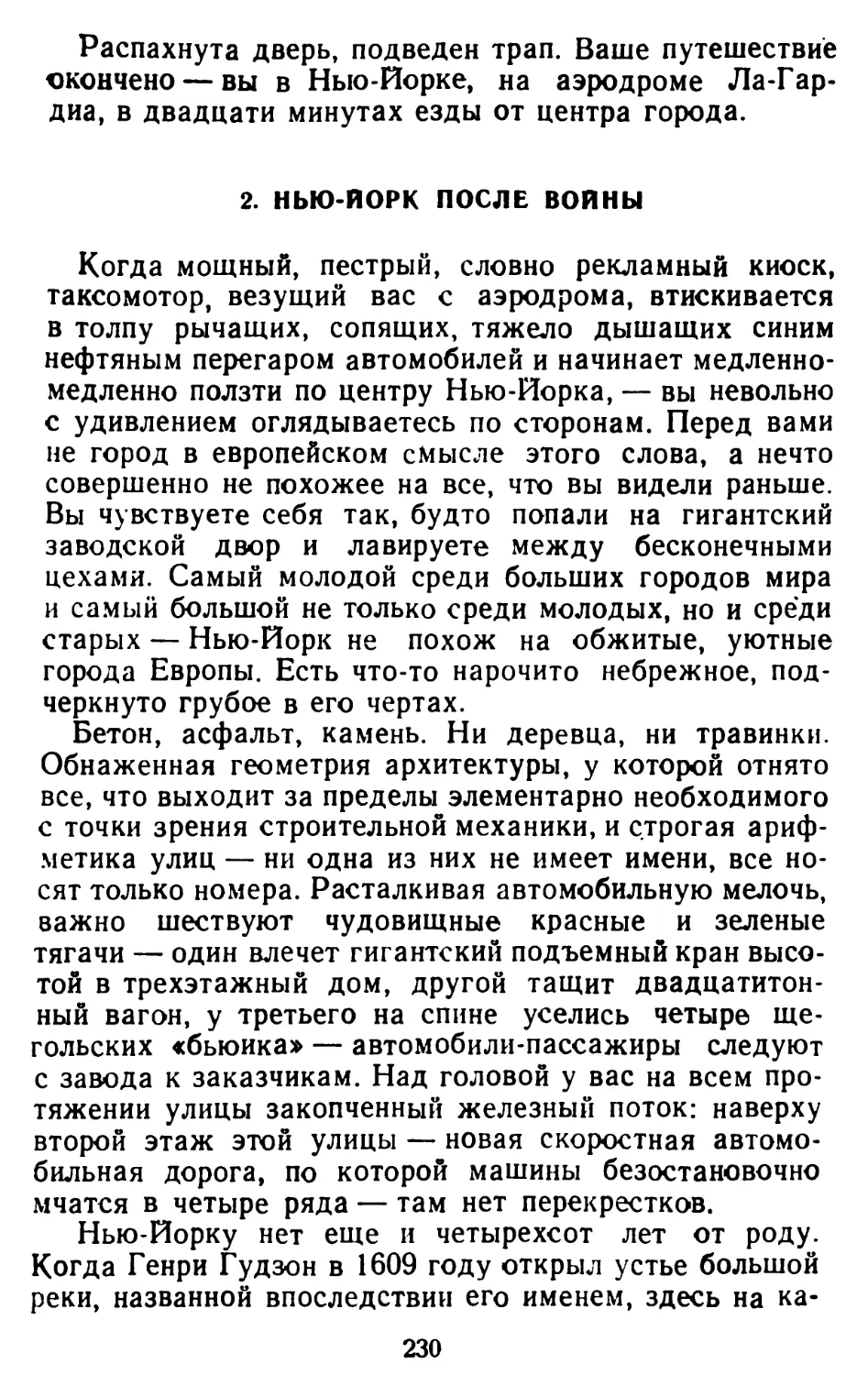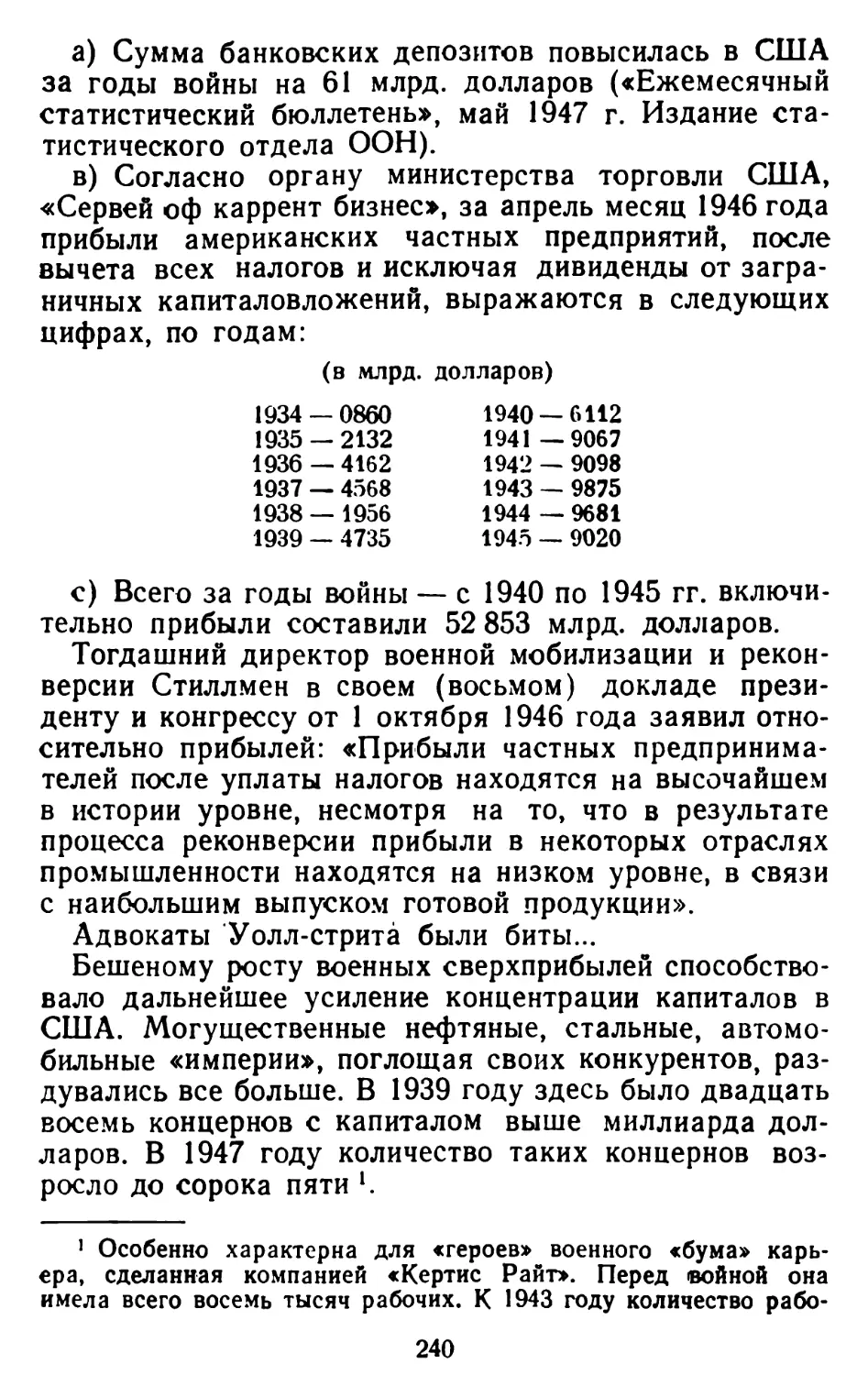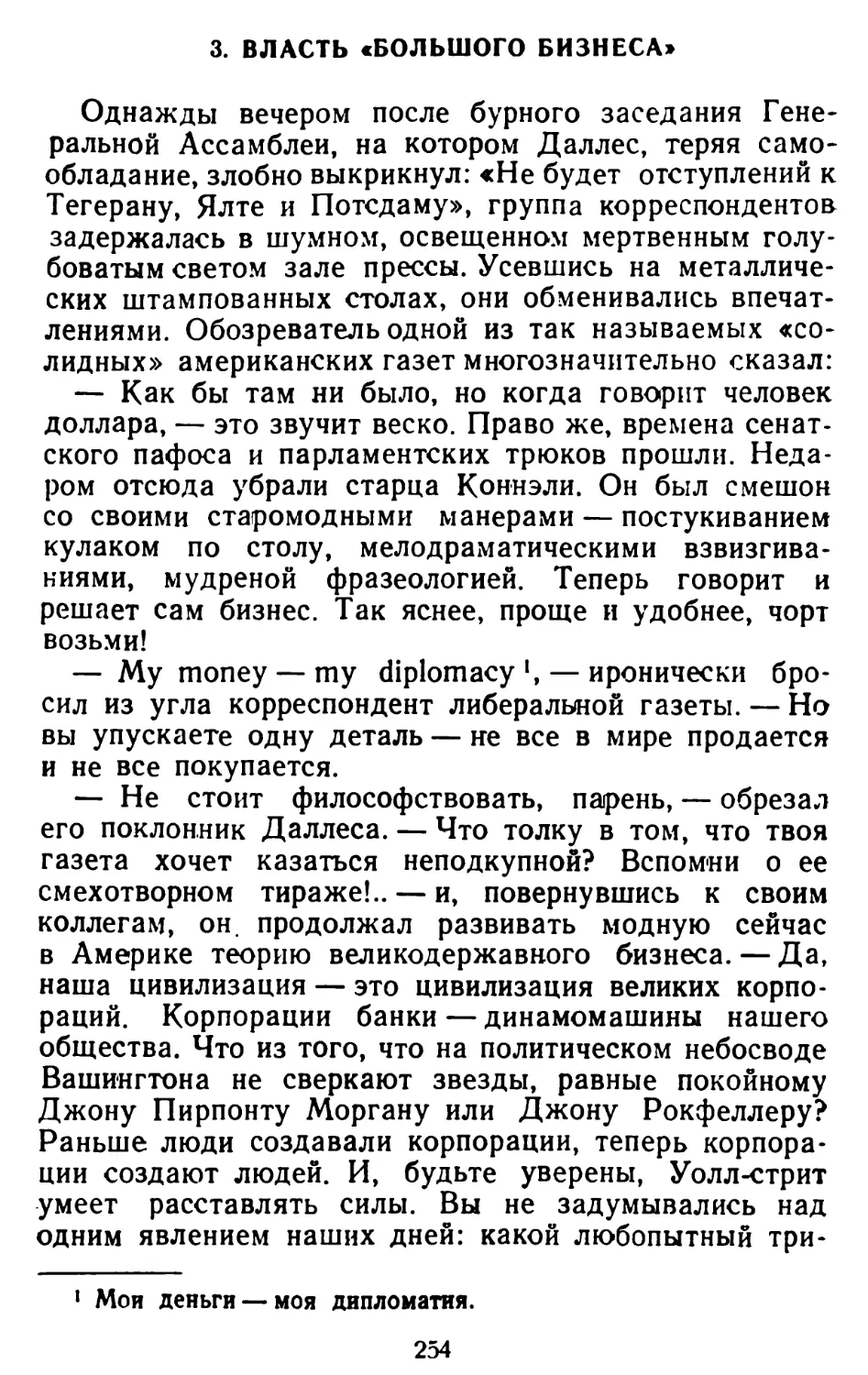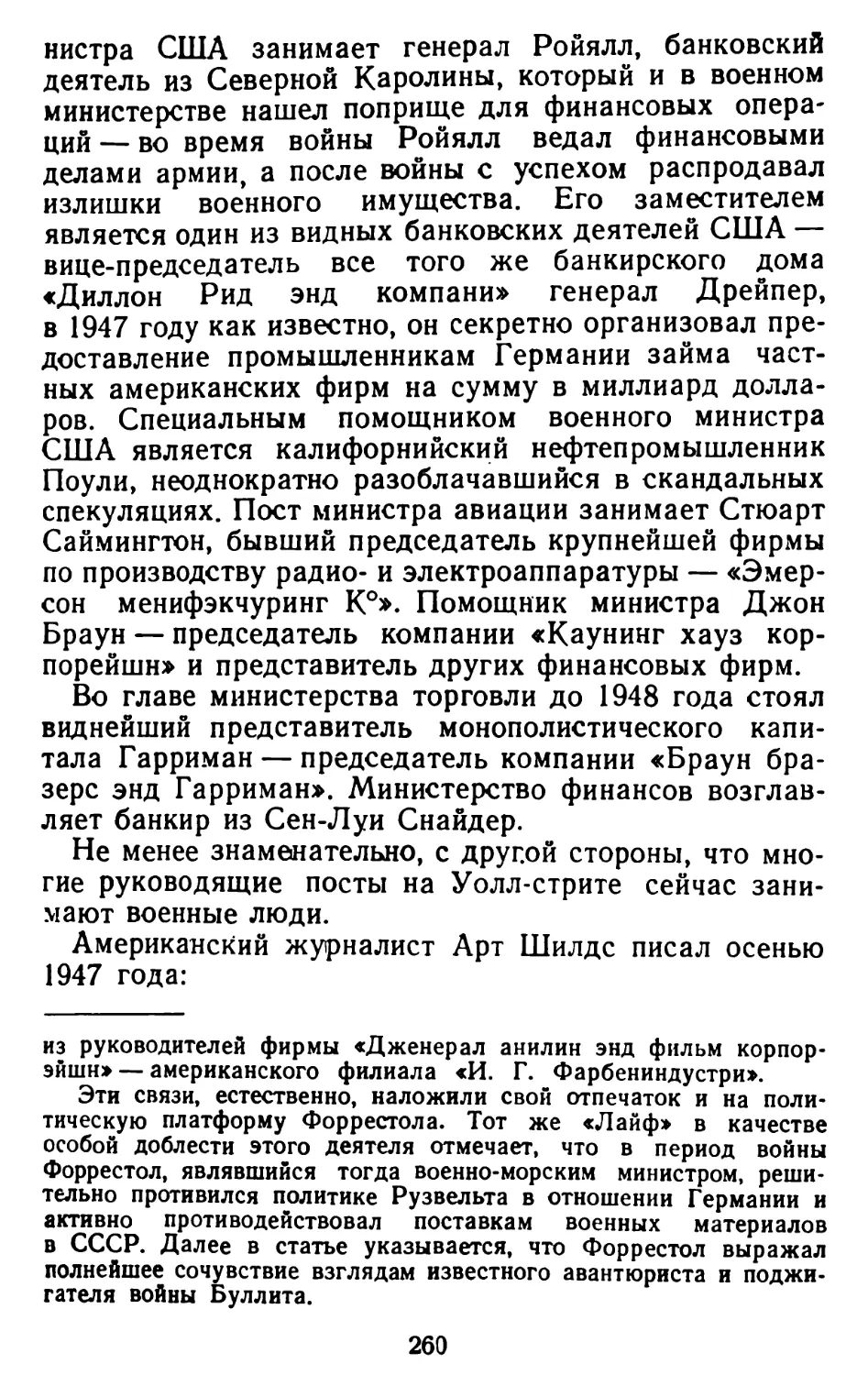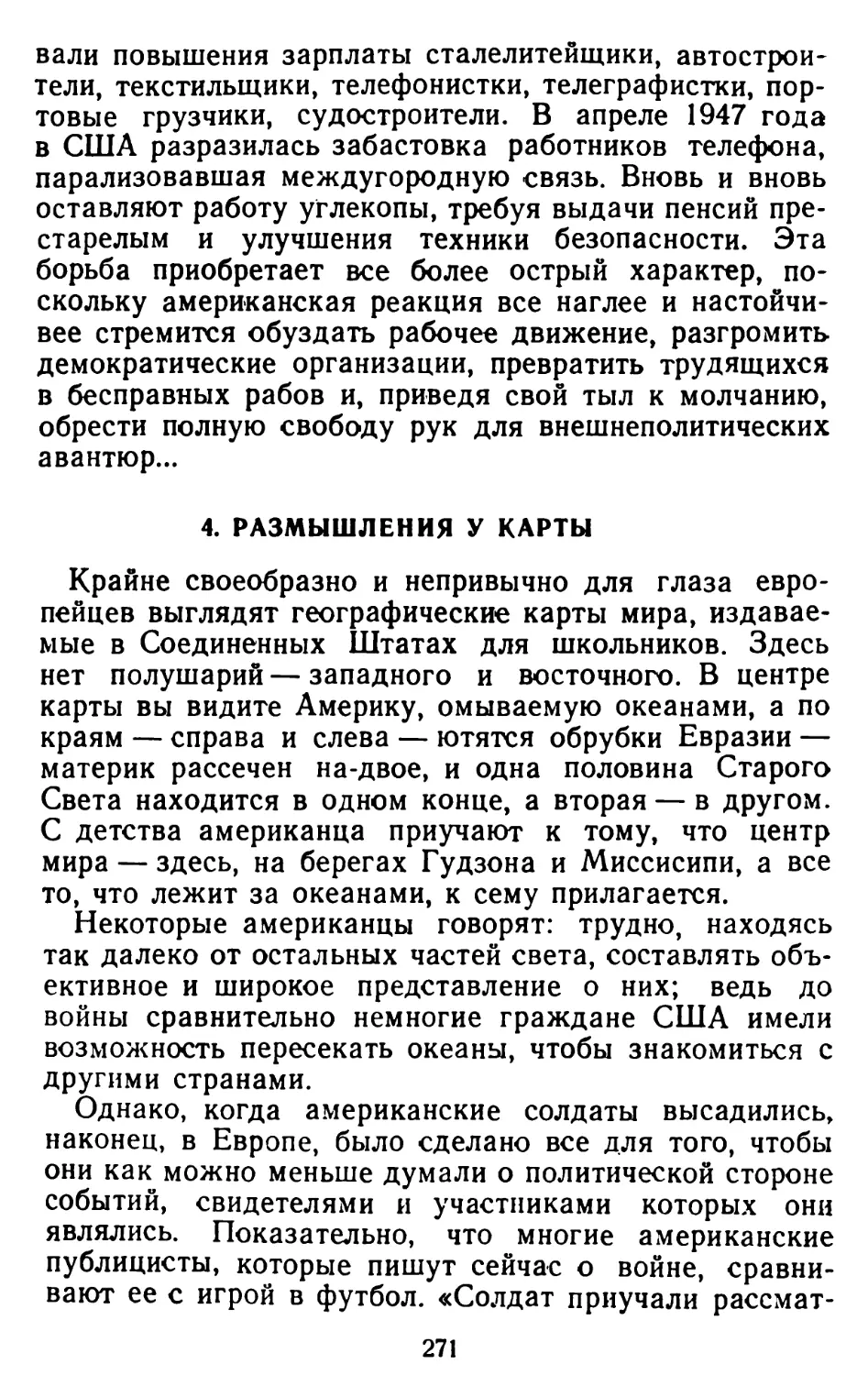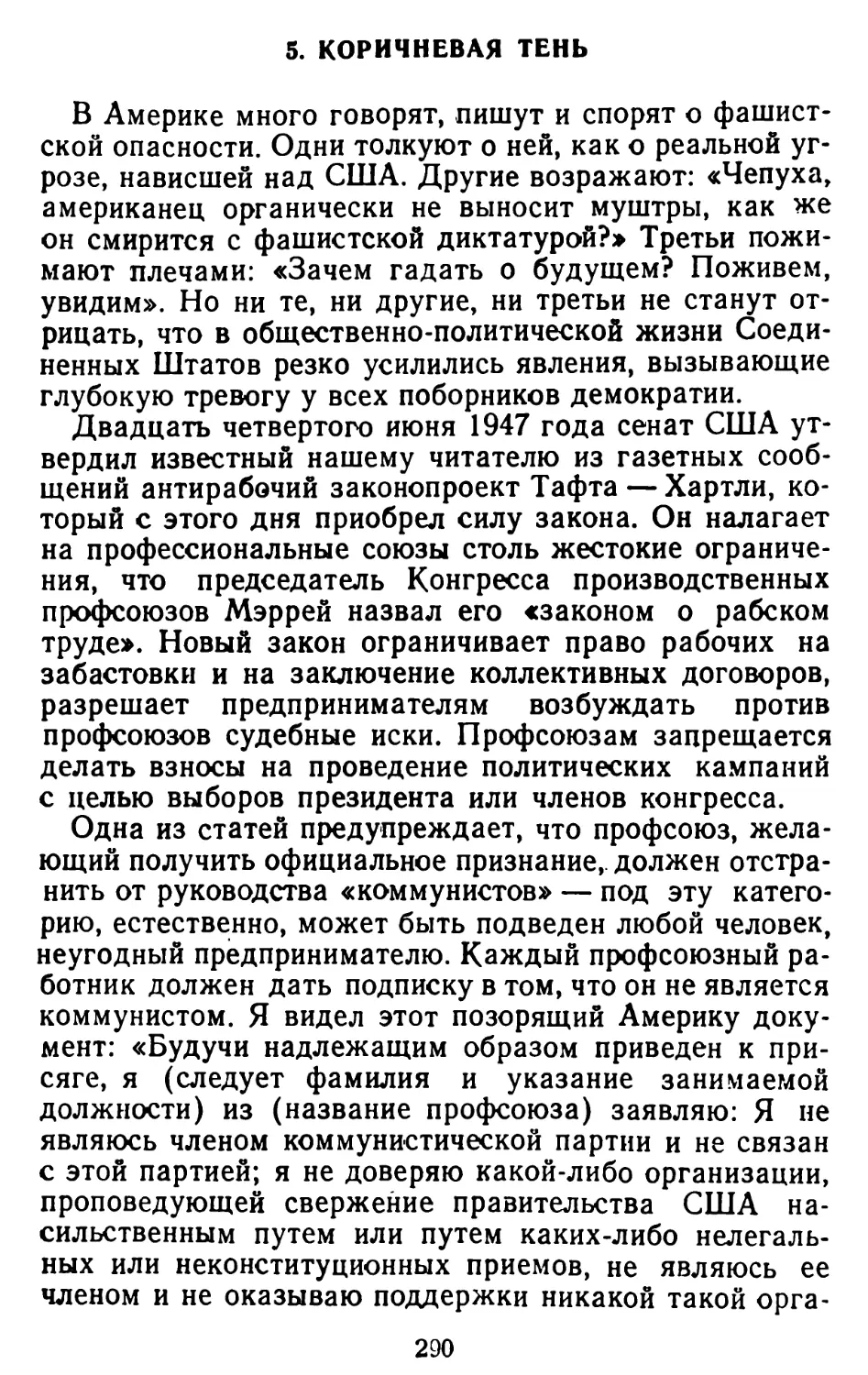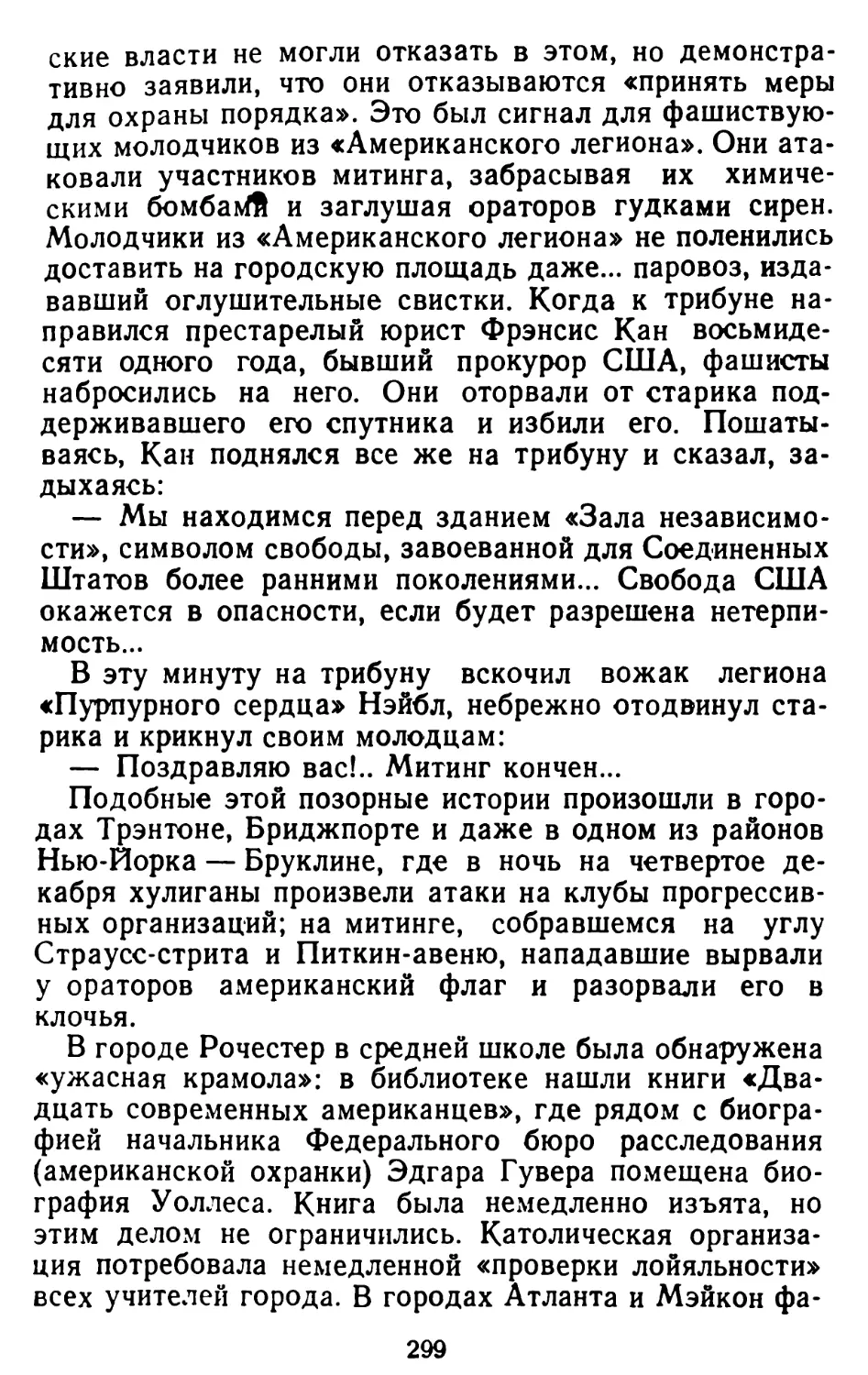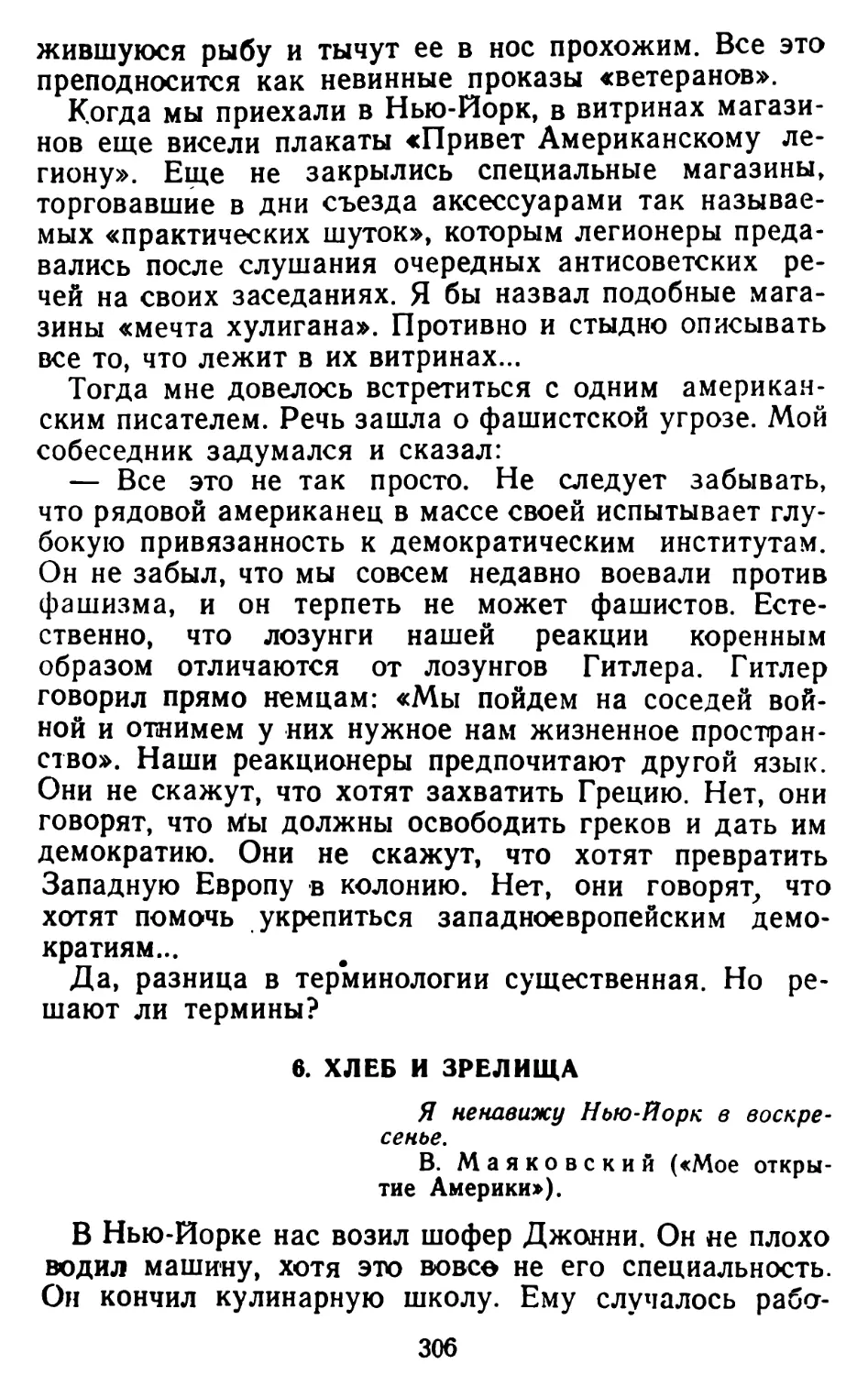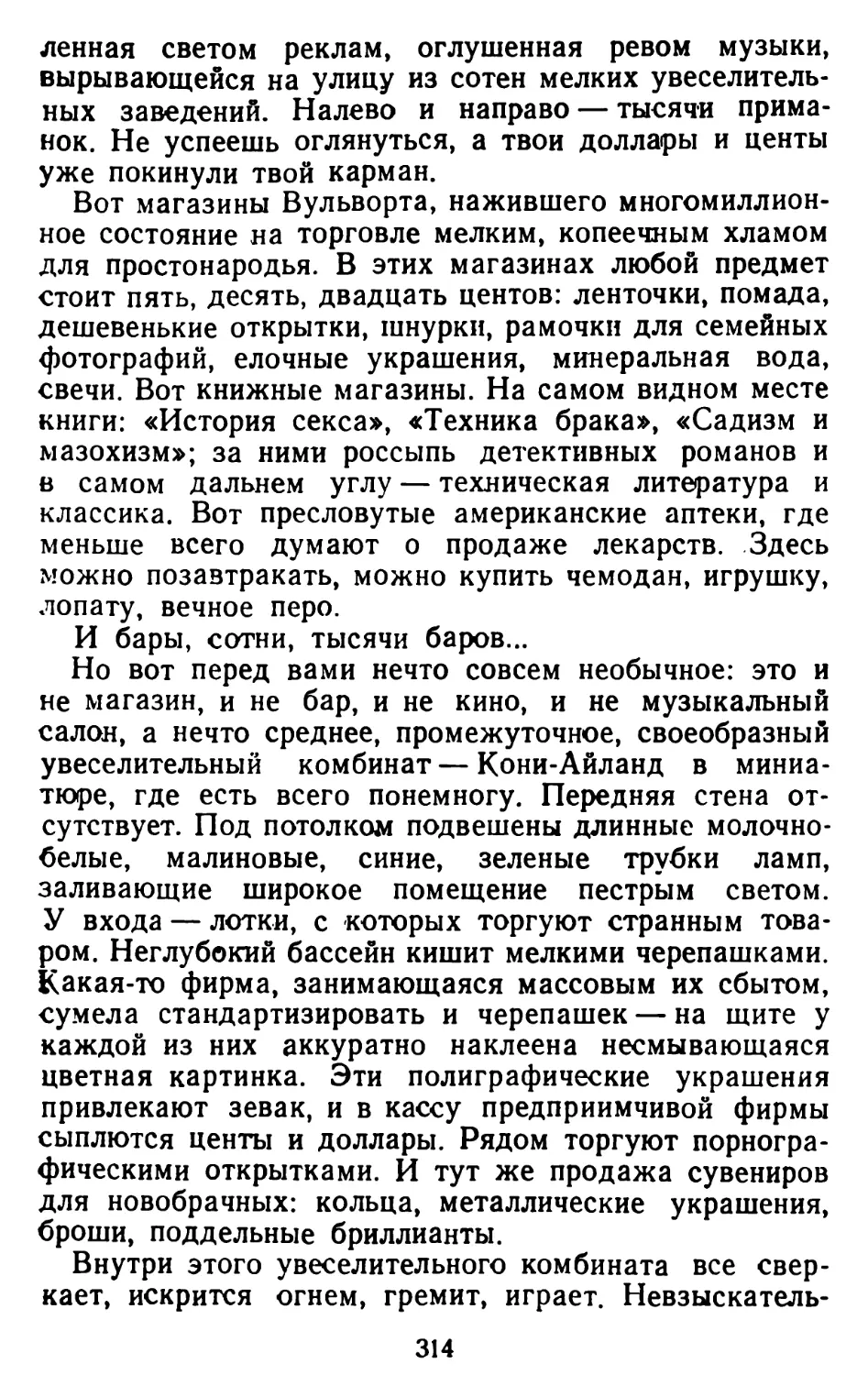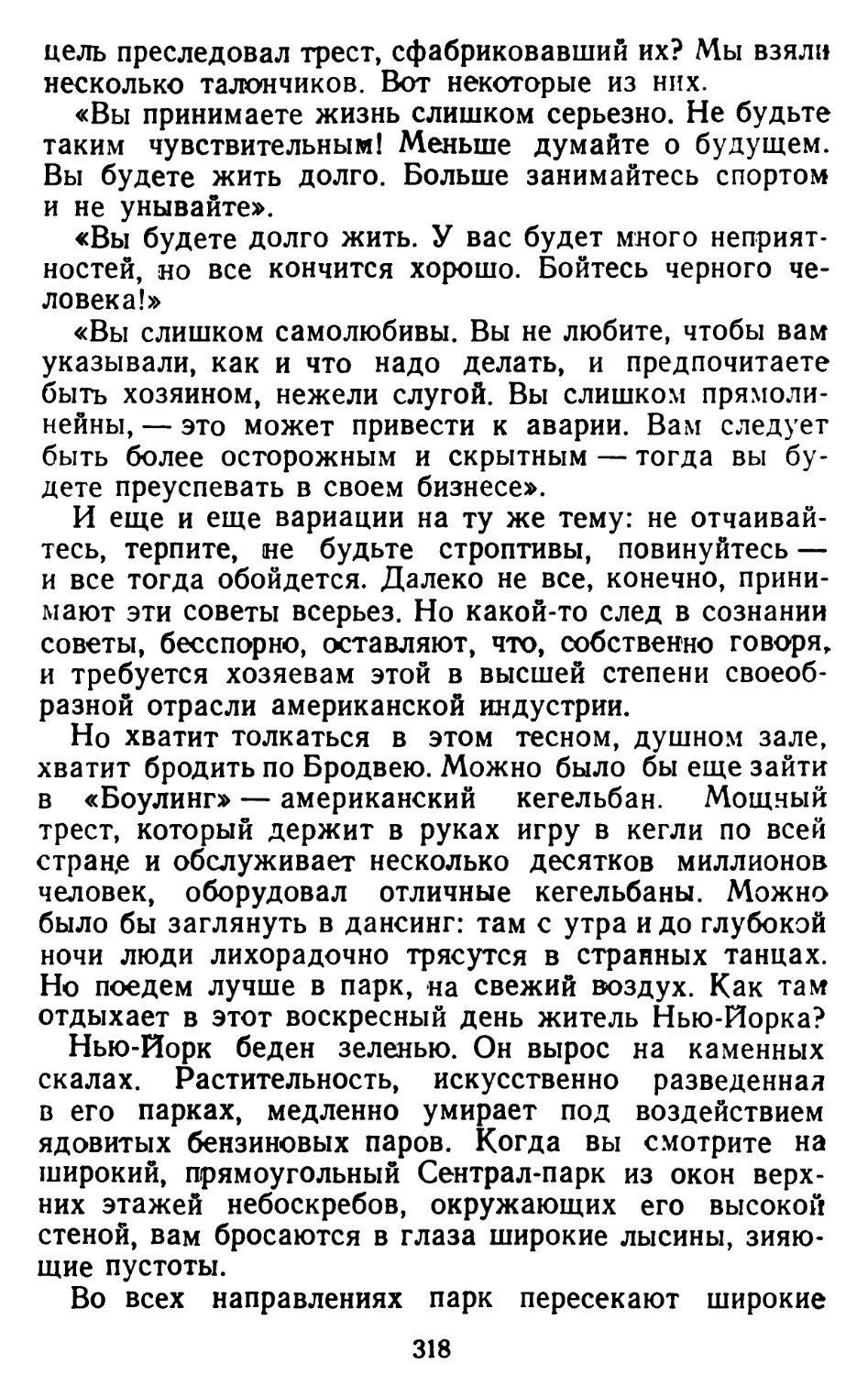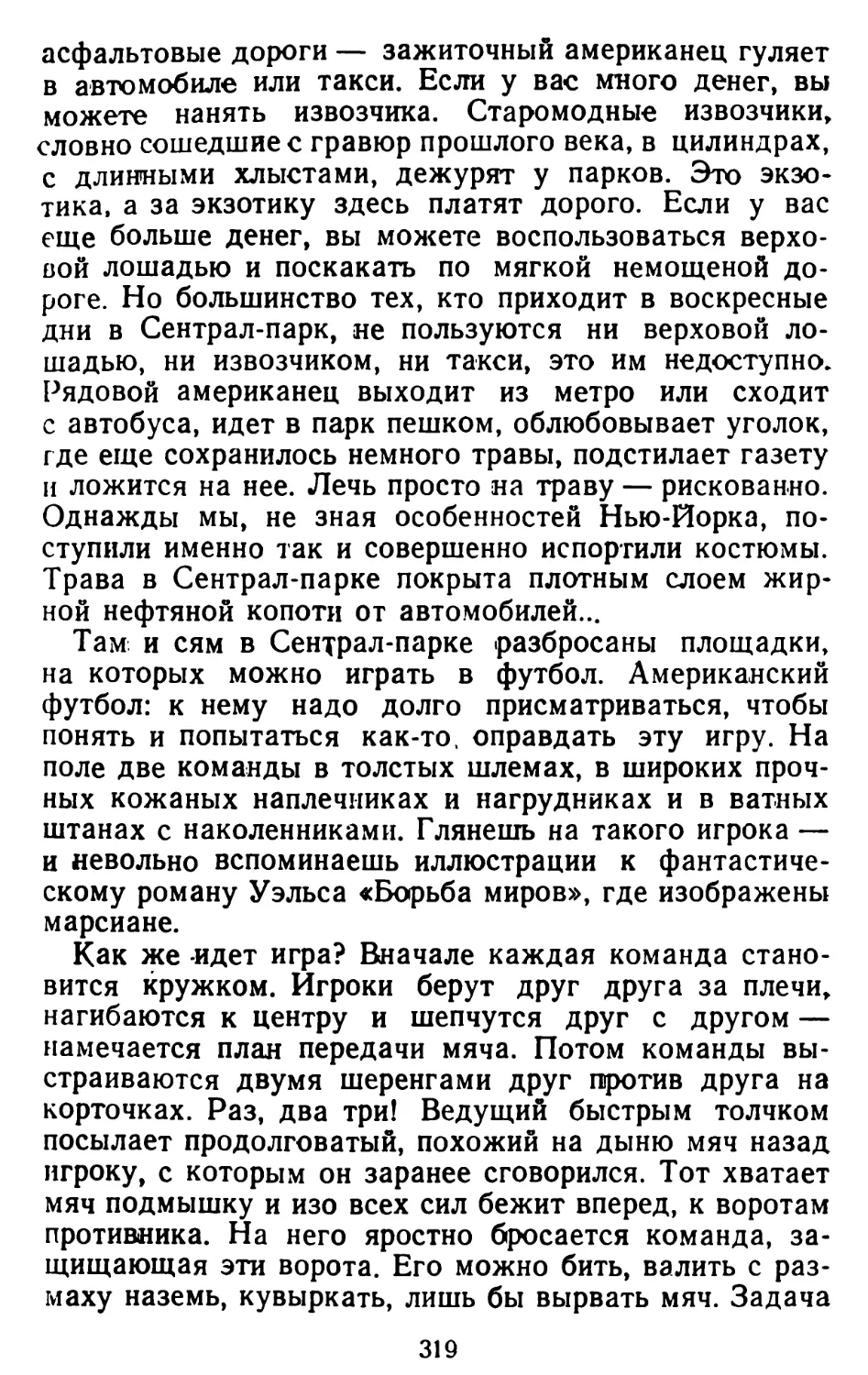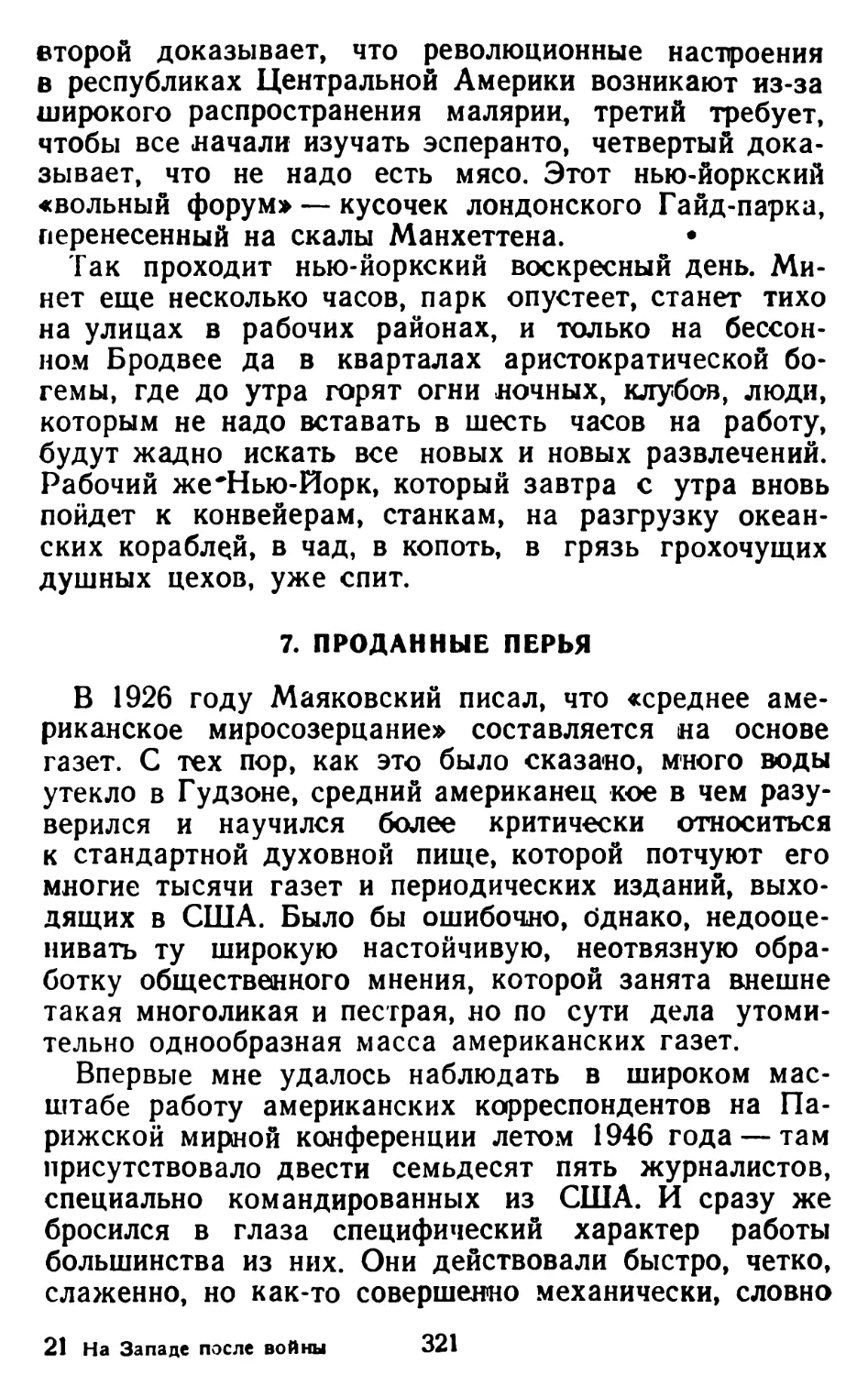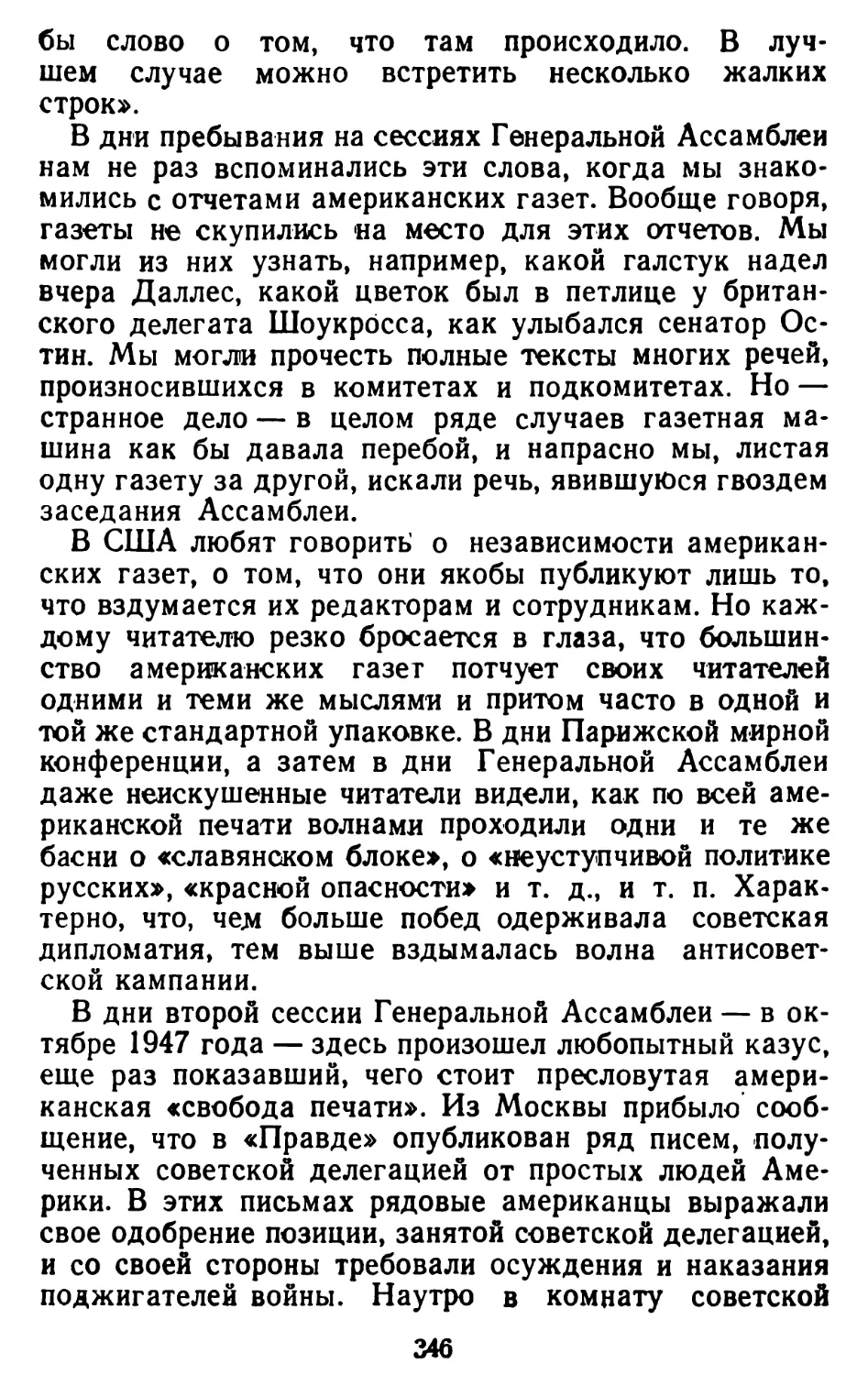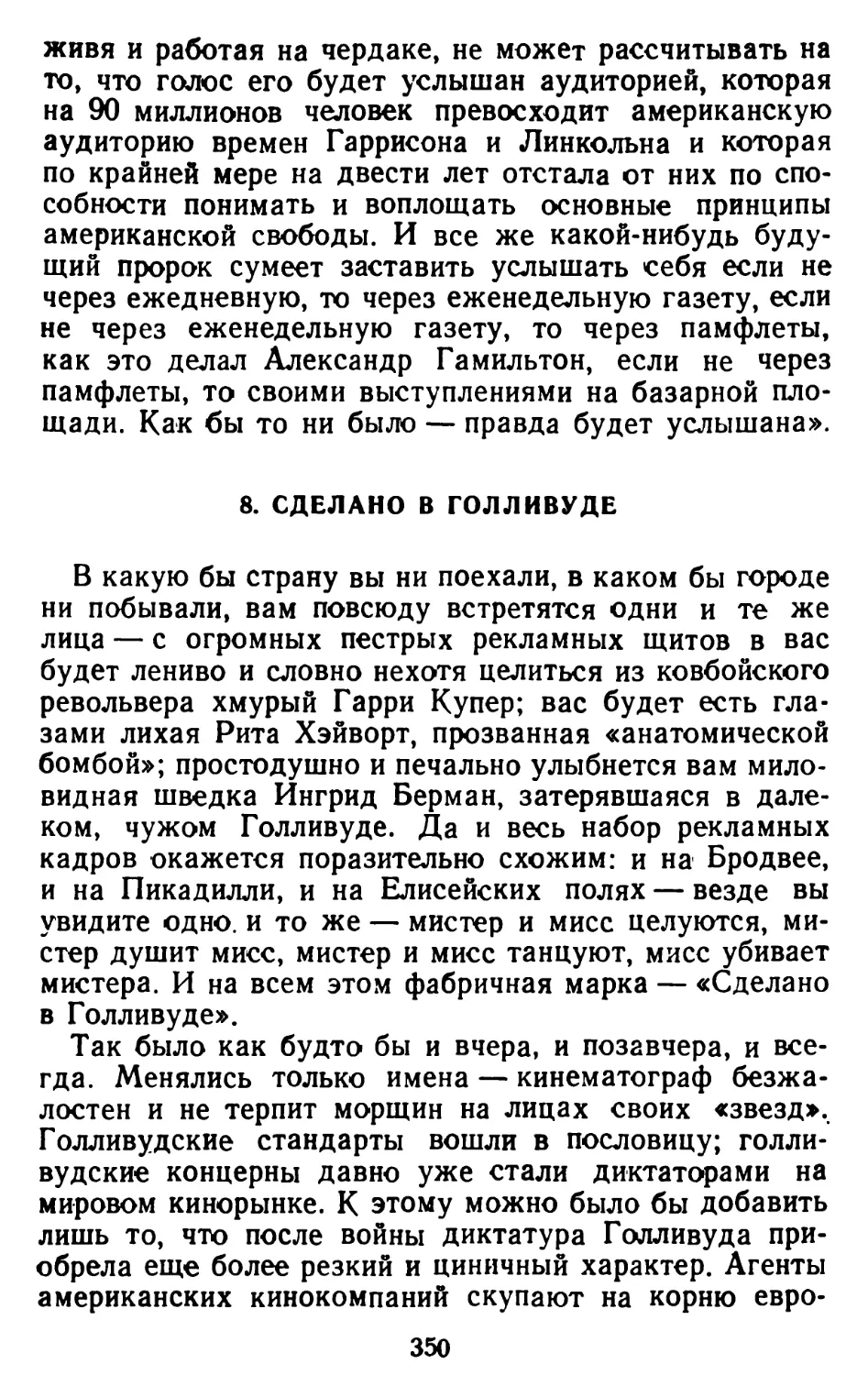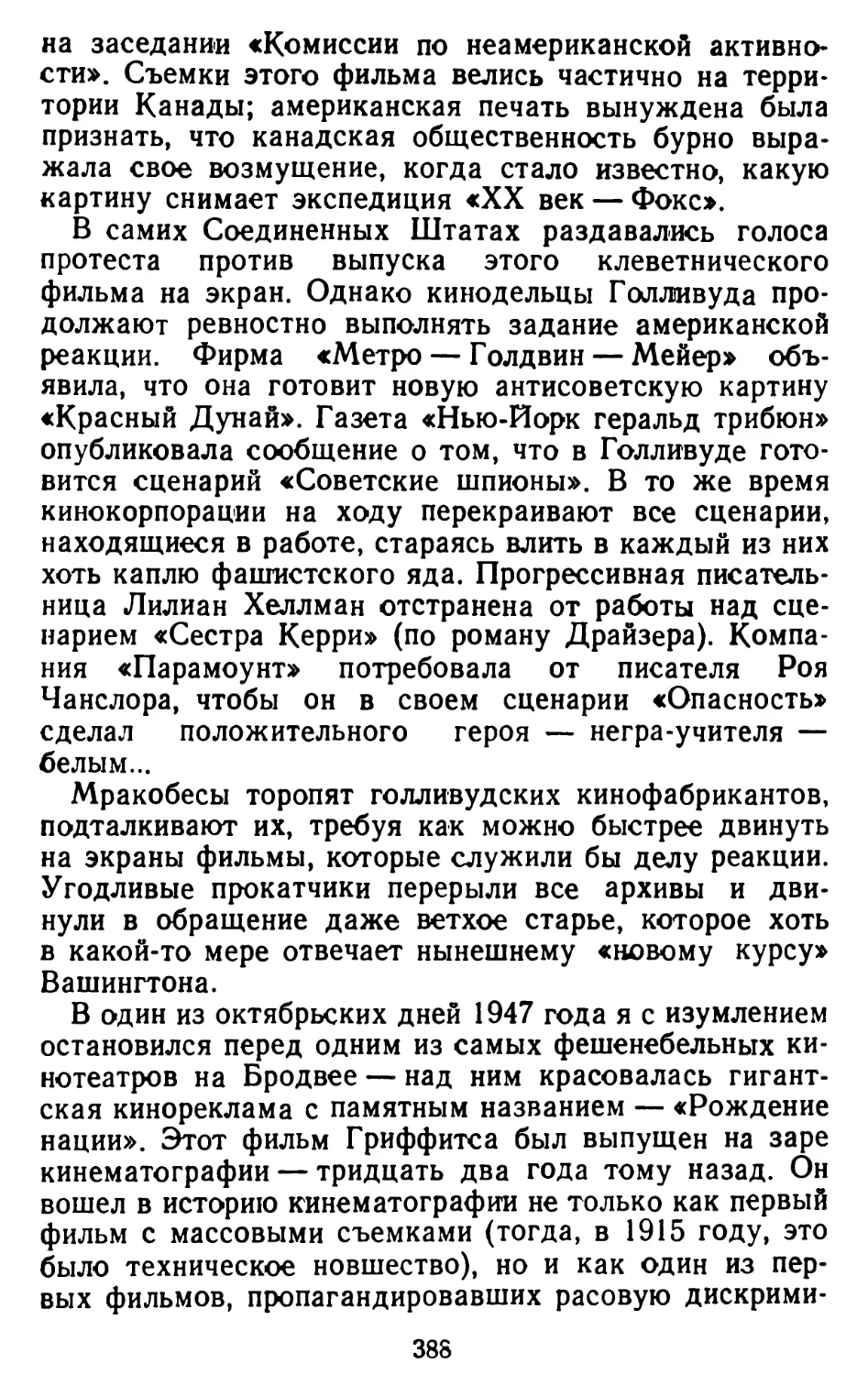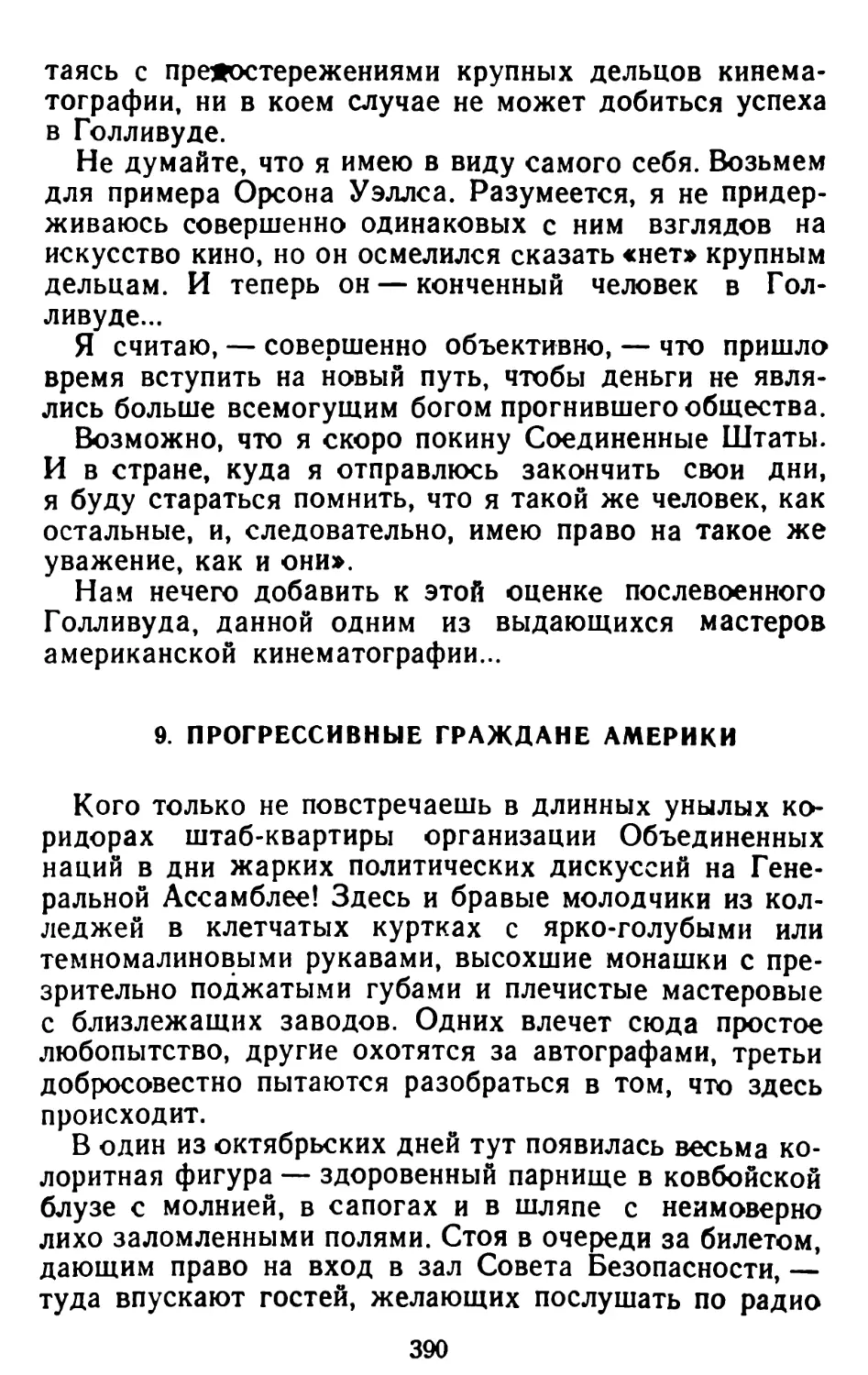Текст
ЮРИЙ ЖУКОВ
НА ЗАПАДЕ
ПОСЛЕ
ВОЙ Н Ы
ЗАПИСИ И
КОРРЕСПОНДЕНТА
СОВЕТСКИЙ ПИС АТЕЛЪ
МОСКВА
19**
Ж-86
ЭТИ ТРИ ГОДА
Впервые автору этих строк довелось побывать на
Западе осенью 1945 года, вскоре после капитуляции
Японии. В Лондоне собирался первый Всемирный
конгресс демократических молодежных организаций,
желавших усилить и закрепить братское содружество,
сложившееся в военные годы.
Дальняя воздушная дорога Москва — Лондон почти
на всем своем протяжении проходила над землями,
которые совсем недавно были полями битв.
Пассажирские самолеты совершали по этой трассе свои первые
рейсы: до мая 1945 года она была доступна лишь
бомбардировщикам. Повсюду еще виднелись СЕГежие следы
сражений. Еще не заросли травами рваные,
обожженные по краям воронки от авиабомб под Смоленском,
еще не были разобраны груды камня и щебня, загро
мождавшие кварталы Минска. В пустых и гулких
улицах Берлина, где нам довелось остановиться на
ночевку, еще пахло гарью и тленом. Пролетая над
Голландией, мы видели кое-где довольно широкие
пространства, затопленные морской водой, ворвавшейся
на поля трудолюбивых крестьян сквозь бреши в
плотинах, проделанные немцами в дни отступления; только
аккуратные черепичные крыши алели над водой.
Побережье Ламанша было испещрено воронками
настолько густо, что сверху они напоминали
скарлатинозную сыпь. Зловещие отсветы только что
закончившейся мировой войны легли на всю Европу, на весь мир.
г*
з
Шестьдесят советских молодых людей летели в
Лондон на трех пассажирских самолетах. Штатские
пиджаки и шляпы были внове и вчуже многим из них,
привыкшим за эти годы к походной военной одежде.
И чемпион мира по плаванию, получивший ранение на
фронте, и белорусский учитель, пустивший под откос
двадцать пять немецких эшелонов, и директор
украинского сахарного завода, создавший в тылу у немцев
единственный в своем роде моторизованный
партизанский отряд, наводивший ужас на оккупантов, — все они
в течение нескольких лет в силу необходимости были
военными. И теперь, пролетая над полями, изрытыми
бомбами, перекопанными до основания саперными
лопатами, оплетенными проволокой, — они невольно
возвращались вновь и вновь к пережитому.
«А помнишь, — было это под Витебском...» «А когда
мы выходили к Киеву...» «А вот под Бухарестом...» —
и пойдут и пойдут старые фронтовые истории,
сдобренные перцем солдатского юмора, озаренные
романтическим отблеском юношеского восприятия пережитого.
И в то же время эти молодые советские люди уже
жили сегодняшним и завтрашним днем. Большинство
из них прямо с фронта, из партизанских отрядов, из
госпиталей устремилось в высшие учебные заведения.
Тяга к знаниям после четырех лет войны была ни с чем
не сравнимой. Впереди ведь столько работы,
потребуется так много знающих людей!
Так весело' было в нашем самолете, летевшем через
всю Европу, с таким чудесным молодым озорством
распевала молодежь песни, стараясь пересилить гул
моторов, так дружно хохотали ребята по каждому
поводу и без повода, что мы и не заметили, как прошли
восемь часов полета. Только глянул кто-то в окошко
и воскликнул по-детски от неожиданности:
— Ой, ребята, Берлин!..
И понеслись назад под крыльями самолета скучные
предместья немецкой столицы, огромные стандартные
поселки с горбатыми остроконечными кровлями;
тускло блеснула под поздним октябрьским дождем
двойная лента кольцевой автострады; мелькнул
и скрылся гигантский олимпийский стадион, — и мы
4
оказались над центром мертвого города. Сквозь гу-.
стую сетку унылого дождя, в тумане и дыму
просвечивали черные, серые, бурые пятна, — все, что осталось
от гигантских строений Берлина. Когда дождь на
минутку стихал, контуры становились резче — стрдшные
рваные, зазубренные линии разбитых улиц, площадей,
кварталов. Потом под нами оказались зеленые парки
и серо-стальные пруды Потсдама, из которых торчали
мачты затопленных яхт. Самолет сделал последний
разворот и пошел на посадку.
Это был знаменитый Темпельгоф, некогда один из
самых оживленных воздушных перекрестков Европы.
Теперь он был почти мертв. По краям широкого поля
лежали обломки самолетов, разбитых полгода назад,
в дни памятного штурма Берлина. Полуразрушенные
ангары являли жалкий, плачевный вид. В стороне
стояли цепочками английские истребители с круглыми
трехцветными знаками королевских воздушных сил на
крыльях и фюзеляже, — после разделения Берлина на
оккупационные зоны Темпельгоф отошел к англичанам.
Выскочивший откуда-то сбоку мотоциклист в зеленом
комбинезоне с плакатом на спине «Следуй за мной»
привел наш самолет к месту стоянки. Английский
офицер, говоривший по-русски и добавлявший после
каждой фразы: «понимаете ли», несколько сконфуженно
объяснил, что закончить в этот же день путешествие
не удастся, так как дни стали коротки, а лондонский
аэродром в Кройсдоне не приспособлен для ночной
посадки. Он предложил нам лететь в Брюссель и там
дождаться рассвета, но мы предпочли заночевать
в Берлине.
И вот — Берлин. Знакомые по литературе,
памятные по недавним оперативным сводкам места: Унтер
ден Линден, Тиргартен, Бранденбургские ворота,
рейхстаг, рейхсканцелярия Гитлера. Кирпич и щебень,
щебень и кирпич, размозженные снарядами стены,
колонны, подъезды, битое, размолотое в порошок стекло,
рухлядь, гниль, мертвечина, бурый бурьян среди
камней. Посмотришь направо, посмотришь налево —
никакой разницы, и только дорожные указатели
напоминают о том, какая где была улица. Десятки лет, навер-
э
ное, пройдут, а эти битые камни все так же будут
лежать здесь напоминанием о страшной тотальной войне
сороковых годов, о бессмысленном сопротивлении
остатков армии Гитлера, которое повлекло за собой
разрушение города, о грозной силе справедливого
возмездия...
Город был еще совсем мертв. Только по одной
улице ходил трамвай, и огромные толпы'понурых*
берлинцев недвижно стояли у остановок. Некоторые
пользовались велосипедами, ехали на них по-двое, по-трое.
К велосипедам были привязаны ручные тележки.
Хромой немец толкал перед собой белоснежную детскую
коляску, прикрытую зонтом. В коляску был насыпан
грязный, немытый картофель. Прошли две мрачных
монашки в пелеринах.
На город уже спускались томительные и нудные
октябрьские сумерки, когда мы въехали в Потсдам. Но
здесь все как-то сразу изменилось, и мы невольно
с облегчением вздохнули, словно вырвались на свет
божий из гнетущего мертвого царства: Потсдам
пострадал относительно меньше, чем Берлин, к тому же,
его богатые тгёрки как бы маскировали руины,
отвлекая внимание от них. Трепетный огонь увядающих
кленов, густая, сочная зелень все еще не поддающихся
осени дубов, белый мрамор бесчисленных памятников
и статуй, поздние цветы на клумбах, засыпанные
пестрой листвой чаши небьющих фонтанов, — было во
всем этом что-тЬ глубоко лирическое, далекое от
суровой реальности войны. И знаменитый — изящный,
похожий на большую розовую игрушку — дворец
Фридриха — Сан-Суси, словно случайно, по ошибке
очутившееся здесь, в казарменном прусском мире,
прихотливое детище французского барокко, — уцелел от
разрушения. Молчаливые немецкие служители провели
нас по гулким, пустым залам — почти все ценности
дворца немцы вывезли куда-то на запад. Но кое-что
все же сохранилось; дворец пережил страшное
гитлеровское лихолетье.
Но, конечно, не эти чудесные парки и даже не этот
дворец произвели на нас самое глубокое впечатление.
Мы помнили: с июля 1945 года самое слово Потсдам
б
приобрело новое звучание, новый смысл. Потсдам
вчерашний — резиденция германских императоров, символ
пруссачества, реакции. Потсдам теперешний — символ
послевоенного умиротворения, сотрудничества
победителей. Здесь, в Потсдаме, главы трех союзных держав
выработали мудрые решения, призванные обеспечить
мир во всем мире.
По усыпанной гравием аллее мы подошли к очень
обыденному внешне дому из серого дикого камня под
красной черепичной крышей. Здесь, в небольшом
дворце бывшего немецкого кронпринца, носящем имя
«Сесилиан-гоф», работала Потсдамская конференция.
Вся обстановка бережно сохранялась в том самом
виде, в каком она была оставлена в июле 1945 года,
когда участники конференции разъехались по своим
странам. Вот здесь, в отделанном темным мореным
дубом зале с высокими решетчатыми окнами, за круглым
столом, накрытым тёмнокрасным сукном, заседали
главы СССР, США, Великобритании. В этих
просторных, светлых комнатах размещалась советская
делегация. А тут, в скромном рабочем кабинете, за
небольшим письменным столом работал Иосиф
Виссарионович Сталин. И вот эти книги на полках всегда были
у него под рукой.
В этом доме было выработано решение об
учреждении Совета министров иностранных дел, причем было
указано, что его основной задачей является проведение
«необходимой подготовительной работы по мирному
урегулированию»; при этом имелись в виду не только
Запад, но и Восток, в связи с чем в состав Совета
министров был включен и Китай. Здесь было разработано
соглашение о политических и экономических принципах
координированной политики союзников в отношении
побежденной Германии в период союзного контроля.
Здесь были определены западные границы Польши.
Здесь был разрешен и целый ряд других важнейших
вопросов, имеющих первостепенное значение для
мирного урегулирования в Европе и во всем мире.
Большие, поистине исторические решения были
приняты державами-победительницами в Потсдаме. И
миллионы* простых людей во всем мире, читая и перечиты-
7
вая эти решения, с надеждой ждали претворения их
в жизнь. Но впереди была еще долгая борьба за
выполнение потсдамских соглашений. И первым сигналом
о том, какой упорной и сложной будет эта борьба,
явилось опубликованное 2 октября 1945 года лаконичное
сообщение из Лондона: «Совет министров иностранных
дел сегодня прекратил заседания, не приняв никаких
решений...»
Три долгих недели заседал Совет, обсуждая
вопросы, связанные с подготовкой мирных договоров
с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и
Финляндией, и другие проблемы послевоенного устройства.
И все же сессия Совета министров не смогла вынести»
каких-либо решений лишь потому, что делегации США
и Великобритании не пожелали соблюдать потсдамские
решения о порядке подготовки мирных договоров и
требовали, чтобы Совет министров принял новый,
угодный им порядок.
Тут же англо-саксонская пресса, словно по команде,
подняла кампанию против потсдамских решений.
Газеты всячески поносили те самые соглашения, которые
они сами с восторгом приветствовали всего лишь два
месяца назад. Английские «Дейли геральд»,
«Манчестер гардиан», американские «Нью-Йорк тайме»,
«Нью-Йорк геральд трибюн» призывали к
«стопроцентной ревизии потсдамского соглашения». «Обсервер»
писала, что надо «начать все сначала для того, чтобы
не быть связанными буквой потсдамского соглашения».
Еще не были осуждены военные преступники,
развязавшие вторую мировую войну, еще не начата была
разработка мирных договоров, еще не вернулись
к своим женам и детям солдаты, только что
закончившие разгром фашистских полчищ, а газеты уже начали
кричать о подготовке к новой войне. Пошла в ход
«атомная дипломатия»...
Два с лишним года спустя, 26 ноября 1947 года,
В. М. Молотов в своей речи на заседании Совета
министров иностранных дел следующим образом
охарактеризовал причины и характер расхождений, возникших
после войны между прежними участниками
антигитлеровской коалиции:
8
«Теперь, в послевоенный период, как известно,
нередко возникают расхождения по тем или иным
вопросам международного значения между Советским
Союзом и дружественными ему демократическими
государствами, с одной стороны, и Соединенными Штатами
Америки и некоторыми западноевропейскими
державами, с другой стороны. В этом отношении имеется
большая разница между тем, что было во время войны,
и тем, что имеет место после окончания войны. Чем
объясняются эти нынешние расхождения? В чем их
основа?
Во время второй мировой войны Великобритания,
Соединенные Штаты Америки, Советский Союз и
другие демократические государства создали
антигитлеровскую коалицию и совместно вели освободительную
борьбу против лагеря фашистских государств,
стремившихся к мировому господству и к установлению
фашистского строя во всем мире, — и эта борьба их
объединяла, давая возможность успешно решать
многие сложные вопросы международного значения.
Достаточно сослаться на такие факты, как конференции
трех союзных держав в Тегеране, Ялте и Потсдаме,
знаменитые решения которых вошли важным вкладом
в историю народов.
Положение изменилось после окончания второй
мировой войны, когда выяснилось, что у прежних
участников антифашистской коалиции существуют разные цели
в вопросе об установлении послевоенного мира.
Тогда выяснилось, что одни страны стремятся к
установлению демократического мира — мира, основанного
на равноправии народов и на признании суверенитета
больших и малых государств. Такой мир дает
возможность развивать мирное сотрудничество между
государствами, несмотря на разницу общественных систем
и несмотря на различие в идеологиях. Установление
демократического мира означает также, что и
побежденные страны имеют право на свободное
демократическое развитие, а также полное восстановление своей
независимости.
Тогда выяснилось, вместе с тем, что другие страны
стремятся к установлению не демократического, а им-
^
периалистического мира, установление которого
означает господство некоторых сильных держав над
другими, большими и малыми, народами, не считаясь с их
правами и национальным суверенитетом. Не трудно
понять, что установление империалистического мира
неизбежно ведет к разделению государств на две
категории: на господствующие державы, с одной
стороны, и на подчиненные и закабаленные государства,
с другой стороны, а это, в свою очередь, ведет к новым
международным конфликтам и войнам, которые
заключают в себе опасность третьей мировой войны.
Стремление к установлению империалистического
мира не могло, конечно, не встретить сопротивления со
стороны многих демократических государств. Я не
скрою, что Советский Союз целиком стоит на стороне
тех, кто стремится к установлению демократического
мира и борется против навязывания
империалистического мира народам. Империалистический мир не
может быть прочным. Прочным может быть только
такой мир, который основан на демократических
началах.
Из этого видно, в чем заключается основа
расхождений между вчерашними союзниками».
Широчайшие народные массы во всем мире вот уже
третий год с чувством глубокой признательности
к СССР следят за той благородной борьбой, которую
ведет советская, сталинская дипломатия за
демократический мир. на всем земном шаре.
Народы помнят, что плодотворная деятельность
советской дипломатии уже сделала возможным
заключение пяти мирных договоров с бывшими союзниками
Германии — Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией
и Финляндией.
Народы знают, что постановление сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 1946 года о всеобщем сокращении
вооружений и постановление Сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 1947 года об осуждении поджигателей
войны были приняты по предложениям советской
делегации, в результате ее упорной борьбы за них и вопреки
ожесточенному сопротивлению империалистического
лагеря.
Ю
Народы не забуду!, что в период лондонской
сессии Совета министров иностранных дел в ноябре —
декабре 1947 года советская делегация развернула
широкую программу скорейшего установления
прочного и длительного мира в Европе и на всем земном
шаре.
Советская делегация предлагала, чтобы Совет
министров признал неотложной задачей выработку
мирного договора с Германией.
Советская делегация предлагала признать
безотлагательным образование общегерманского
демократического правительства в соответствии с решениями
Потсдамской конференции; она указывала при этом, что
нельзя решать германский вопрос без германского
народа и что нельзя подписывать мирный договор с
Германией без германского правительства.
Советская делегация предлагала осудить планы
расчленения Германии и создания отдельных правительств
для тех или иных зон.
Советская делегация предлагала без всяких
отлагательств создать общегерманские экономические
департаменты, которые обеспечили бы экономическое
единство Германии и вовлечение самих немцев в дело ее
хозяйственного восстановления.
Советская делегация предлагала считать неотложной
задачей создание общегерманского консультативного
совета в Берлине, — учреждение такого органа дало бы
возможность привлечь германскую прогрессивную
общественность к активному участию в деле
демократизации Германии и ускорить осуществление
политического единства Германии.
Знаменательно, наконец, что в эти же дни СССР
предложил Китаю, США и Великобритании созвать
в январе 1948 года специальную сессию Совета
министров иностранных дел для безотлагательного решения
вопроса о мирном урегулировании для Японии.
Однако все эти предложения, отвечающие интересам
всех народов, стремящихся к укреплению всеобщего
мира, неизменно наталкивались и наталкиваются на
сопротивление правящих кругов США, заинтересованных
в сохранении и продлении состояния послевоенной не-
11
определенности, столь удобного для осуществления
империалистических планов...
В октябре 1945 года еще далеко не были поставлены
все точки над «и».
Участники Всемирного конгресса молодежи в
Лондоне, куда назавтра после посещения Потсдама
прилетела наша советская делегация, еще не представляли
себе в полной мере, как будет развертываться борьба
за мир. Но позднее, в дни работы парижской,
нью-йоркской, московской и лондонской сессий Совета
министров иностранных дел, в дни Парижской мирной
конференции, в дни первой и второй сессий Генеральной
Ассамблеи организации Объединенных наций в Нью-
Йорке, расстановка сил обозначалась все резче и
явственнее.
Просматривая записи, относящиеся к эгим годам,
насыщенным столь крупными политическими событиями,
значение которых не померкнет еще много лет, я решил
поделиться с читателями некоторыми наблюдениями.
Советскому читателю памятна та упорная,
титаническая борьба за прочный и длительный демократический
мир во всем мире, которую в эти годы вела и ведет
советская дипломатия. Я не ставлю своей задачей
описывать и анализировать ход этой доблестной борьбы.
Свою скромную задачу я вижу в том, чтобы как
очевидец рассказать о некоторых чертах сложной и
противоречивой политической жизни, экономики, быта тех
стран, где довелось побывать в эти годы в качестве
корреспондента советской прессы, рассказать о
встречах с людьми, о наших друзьях и наших врагах,
показать, как действует мощная машина реакционной
пропаганды на Западе, как поднимаются на борьбу с ней
честные прогрессивные деятели.
ОСЕНЬ В АНГЛИИ
1. ЛОНДОН, 1945
Когда вы прилетаете в Лондон, многое сразу же
заинтересовывает и поражает вас. Уже с воздуха вы
замечаете некоторые характерные черты этого огромного
города с населением, превышающим 8 250 000 человек:
его пестроту, его поразительные контрасты. Похоже,
будто здесь, на берегах Темзы, в вековечной
британской тесноте, столпились несколько разных по своему
характеру, совсем не похожих и спорящих друг с
другом городов...
От Кройдонского аэродрома, где садится наш
самолет, к Гайд-парку, у которого расположена гостиница,
где нам предстоит поселиться, ведет дальняя дорога,
и по пути можно поближе присмотреться к этому
пестрому городу-гиганту. Большой двухэтажный автобус
мчится по левой стороне улицы — англичане
предпочитают левостороннюю езду правосторонней. Улицы
пустынны: сегодня воскресенье, а в воскресенье каждый
англичанин, считающийся с традициями, должен,
вернувшись из церкви, сидеть дома; театры, пивные,
магазины, рестораны — все закрыто в этот день. Слева
и справа тянутся бесконечные шеренги стандартных,
как две капли воды, похожих друг на друга, кирпичных
двухэтажных коттеджей под черепичными крышами,
с неизменными вечнозелеными кустиками у крыльца,
подстриженными либо в форме шара, либо в форме
13
куба, либо в форме замысловатого петушка. Здесь
живут люди, что. называется, среднего достатка.
Дальше пейзаж резко меняется — вы въезжаете
в район больших лондонских парков. Позади остаются
величественная Королевская арка, конный памятник
Веллингтону, грандиозный многофигурный монумент,
воздвигнутый в память о 49 076 артиллеристах,
погибших в войне 1914—1918 годов.
Дома здесь выше и богаче, рекламы крикливее и
громче, улицы чище и красивее. На прудах,
окруженных вечнозелеными газонами, плавают лебеди. Под
деревьями стоят аккуратные складные стулья, на
которых за два пенса каждый желающий может посидеть.
По аллеям Гайд-парка скачут кавалькады чопорных
амазонок. Время от времени проносятся по улицам
с солидным глуховатым рокотом мощные «ролльс-
ройсы» — несколько старомодные по форме, но проч
ные, надежные и комфортабельные, дорогие
автомобили. Это район «больших лондонцев». Иные из них
владеют не одной-двумя виллами, а целыми
улицами...
Гляньте, вон там, слева, въезд преграждают
высокие, литые из чугуна ворота, на них табличка: «рпуа(е
гоас!». У ворот — молчаливый страж в черном цилиндре
с золотой лентой и старомодном зеленом камзоле.
Это — частная улица, на нее можно въехать лишь
с разрешения владельца...
Подальше* за Трафальгар-сквером, — еще один
город, опять-таки совершенно особенный по своему
профилю и характеру. Здесь лондонцы торгуют. Здесь
сосредоточены самые модные, самые дорогие и самые
нарядные магазины. Их витрины сохраняют довоенное
великолепие, хотя торговля строго нормирована и для
того, чтобы купить любую из вещей, выставленных
напоказ, англичанину надо добрых полгода копить
купоны, выдаваемые карточным бюро. (Впрочем, говорят,
что эти купоны не так уж трудно достать на черном
рынке, были бы только деньги...)
В этом районе даже по воскресеньям людно. На Тра
фальгар-сквере важные дамы кормят ручных голубей,
придерживая своих детей на ременных поводках. По
1 !
тротуарам Оксфорд-стрита и Риджен-стрита движутся
толпы гуляющих. Повсюду преобладает цвет хаки:
британское командование не торопится с демобилизацией,
да и американских солдат здесь все еще много.
Прогуливаясь по центру Лондона, видишь, что город
еще не отдышался, не перевел дух после войны. Правда,
руины домов, снесенных осточертевшими лондонцам
«фау», уже разобраны, и образовавшиеся пустыри
огорожены аккуратными кирпичными заборчиками
в метр вышиной, и бурьян уже пробился сквозь цемент
выщербленных полов бывших подвалов. Но все еще
торчат посреди узких лондонских улиц прямоугольные
каменные ящики бомбоубежищ, а памятник Эросу на
широко известной своими магазинами, театрами и
проститутками площади Пикадилли не освобожден еще от
бронированного колпака, и в музеях пустуют рамы
картин, не возвращенных из эвакуации. Однако время
и пропаганда берут свое. Люди постепенно перестают
замечать следы недавней войны. Теперь больше говорят
о том, будет или не будет новая война, ссудят ли
американцы Британии хоть немного атомных бомб.
Но вот, оставив справа Вестминстерское аббатство
и парламент, вы минуете шумную, наполненную не
стихающим ни на один час рокотом ротационных машин
улицу газет — Флит-стрит и попадаете в самое сердце
всемирно знаменитого лондонского Сити, над которым
парит высокий купол собора святого Павла. Сити — это
еще один город, не похожий на все то, что вы видели
до сих пор. Путаница сырых, серых, узеньких улочек,
переулков, тупиков. Угрюмые дома, покрытые вековой
копотью от миллионов лондонских каминов. Строгие,
чопорные здания биржи, банков, держащие в своих
цепких руках полмира. Старинные позеленевшие
монументы. И в самом конце, у высокого подъемного
моста—знаменитый Тоуэр, крепость и тюрьма,
служившая и служащая британской империи верой и правдой
без малого тысячу лет, — двойные зубчатые стены из
дикого серого камня, давно высохший ров, подвесные
мосты, приземистые угрюмые башни.
В Сити — не живут. Здесь делают дела, растят
и множат капиталы, решают судьбы колониальных на-
15
родов, находящихся в абсолютной зависимости от
могущественных монополий Сити. А в воскресенье этот
район мертв. Только сторожа, констебли и детективы,
бдительно оберегающие богатства и тайны Сити,
прохаживаются по его узким переулкам, пропахшим
бензинным чадом.
А вот если вы проедете еще дальше, следуя вдоль
набережной Темзы, на десятки километров забитой
кораблями, ожидающими разгрузки и погрузки, — вы
попадете в рабочий Лондон, в знаменитый район Ист-
Энда, где трудятся от зари до зари, где знают цену
каждому пенсу, где великим счастьем считается —
иметь кровлю над головой.
Когда бродишь по грязным, унылым улицам Ист-
Энда, на память невольно приходят горькие строки,
посвященные лондонским трущобам молодым
Энгельсом в его знаменитой книге «Положение рабочего
класса в Англии в 1844 году».
«...беспорядочная куча высоких трех или
четырехэтажных домов с узенькими, кривыми и грязными
улицами, на которых, по меньшей мере, столько же жизни,
сколько на главных улицах города, с тем только
различием, что здесь живет исключительно рабочий классе
На улицах идет торговля; расположенные здесь корзи-'
ны с овощами и фруктами — все это, конечно, дурного
качества и почти не съедобно — еще более
загромождают улицу, и от всего этого, как и от мясных лавок,
исходит отвратительное зловоние. Дома битком набиты
жильцами 6т подвала до самой крыши, грязны
снаружи и внутри, так что кажется, что ни один человек
не пожелает в них жить. Но все это ничто в сравнении
с домами в тесных дворах и переулках между улицами,
куда можно попасть через крытые ходы между до--
мами, в которых грязь и ветхость не поддаются
описанию; в них нет почти ни одного целого оконного стекла,
стены осыпаются, дверные косяки и оконные рамы
сломаны и еле держатся, двери сбиты из старых досок или
совершенно отсутствуют...»
Столетие минуло с тех пор, как Энгельс на основании
своих личных наблюдений и глубоких научных
изысканий нарисовал страшную картину эксплоатации рабо-
16
чего класса Англии. Но трущобы Ист-Энда, в которых
живут внуки и правнуки тех, с кем беседовал во время
своих безрадостных прогулок по Лондону Энгельс, —
те же. Пожалуй, только бомбежки в годы войны внесли
некоторые перемены в описанные им пейзажи. Следы
бомбардировок здесь заметны гораздо явственнее, чем
з центре города, — руины не разобраны и не убраны.
Разгромлены целые кварталы жалких, ветхих жилищ,
в которых ютилась беднота британской столицы. На
грязных пустырях кое-как слеплены, на скорую руку,
убогие квадратные домишки с плоскими крышами.
Дома без стекол. Запущенные мостовые. Среди груд
бесформенных обломков камня копошатся какие-то
хмурые грязные дети. И игры-то у них невеселые: одни
возятся со старой, рваной, никому больше не нужной
резиновой автопокрышкой, другие копаются в грязи,
третьи, изображая полисменов, молча,
ожесточенно тузят друг друга короткими толстыми
палками...
Здесь живут главным образом докеры, грузчики.
Сейчас они бастуют. Корабли разгружают солдаты
королевских вооруженных сил. Худые, изможденные
докеры толпятся у ворот домов, хмуро провожая
глазами грузовики, на которых подкатывают бравые
краснощекие томми. На них смотрит с еще не убранного
выборного плаката такой же румяный Черчилль.
Надпись на плакате гласит: «Дайте ему закончить
работу!» Плакат перечеркнут лихим росчерком, — надо
полагать, с ним свел счеты кто-нибудь вот из этих
докеров в памятный день, когда радио разнесло весть об
оглушительном поражении консерваторов: лейбористы
добрали в июле около двенадцати миллионов голосов
и получили 393 места в парламенте из 640. Многим
в Ист-Энде казалось, что теперь, когда Черчилль
провалился и консерваторам пришлось уступить власть
лейбористам, все пойдет по-иному...
Программа, разработанная Моррисоном, выглядела
заманчиво, и называлась она звучно: «Заглянем в лицо
будущему». Лейбористы обещали активное
государственное вмешательство в экономику страны, контрод^
над монополиями, планирование производства и Яб<
2 На Западе п'^да^ШбТьТ^Г*п Т17г\1^ЯДР,^^^^^П»^а1.„
пределения, национализацию банков и ключевых
отраслей промышленности.
Однако, после того как Эттли сменил Черчилля на
посту премьер-министра, английский рабочий не
почувствовал ровным счетом никаких перемен, никакого
облегчения своей трудной жизни. Жизнь все дорожала
и дорожала, черный рынок диктовал свои волчьи
законы. Предприниматели, не плохо заработавшие на
военных заказах, и не помышляли о том, чтобы поднять
заработную плату. О национализации пока ничего не
было слышно; к тому же, государство обещало
выплатить владельцам предприятий полную компенсацию,
а это опять-таки означало, что все бремя «реформы»
ляжет на спину налогоплательщика. Поговаривали, что
шахтовладельцы даже рады такой национализации: их
шахты до невозможности запущены, хозяйство пришло
в полное расстройство; почему бы не отделаться от
всяких хлопот, получив капитал наличными? Пусть
государство восстанавливает шахты за счет
налогоплательщиков!
Квартирохозяева не хотели и слышать о снижении
платы за жилье, — ведь после бомбежек эксплоатация
домов стала'самым доходным делом; когда еще
министерство здравоохранения, которому поручено
заниматься жилищным строительством, соберется с силами,
чтобы начать это дело! Говорят, — нехватает рабочих.
Однако на улицах Лондона все еще больше людей
в военных мундирах, чем штатских.
Зачем правительству столько войск в мирное время?
Рядовому англичанину трудно это понять. Он только
пожимает плечами, читая газеты и рассматривая
крупные фотографии, переданные по радио из Каир^,
Хайфы, из Батавии: везде стреляют, всюду падают
убитые люди. Английские войска все еще разбросаны
по всему свету. Их содержание стоит огромных денег,
а деньги эти берутся откуда? Опять-таки из кармана
налогоплательщика !.
1 По данным, опубликованным в начале 1948 года,
содержание британских войск только в Греции обошлось англичанам
в 113 миллионов фунтов стерлингов. В 1948 году правительство
Великобритании предполагает израсходовать на содержание
18
Все возрастает и обостряется инфляция. Денежное
обращение в стране, даже по преуменьшенным данным,
увеличилось втрое. Цены растут и растут. Карточная
система после войны не только не отменена, но стала
еще более жестокой 2.
Министры, лидеры лейбористов во всем винят
войну — она де разорила Англию! Газеты кричат:
«экономическое положение Великобритании стало
угрожающим». А Бевин даже сказал в парламенте:
— Экономическое положение Великобритании в
тысяча девятьсот сорок пятом году напоминает ее
военное положение в тысяча девятьсот сороковом году...
Верно, конечно, что в ходе войны экономическое
положение Великобритании, естественно, ослабилось; она
утратила более миллиарда фунтов стерлингов из своих
капиталовложений за границей; ее торговый флот
уменьшился с 17,4 миллионов брутто-тонн до 13,9
миллионов; английский экспорт сильно сократился —
многие рынки, хозяевами которых были англичане, теперь
захвачены американцами. В течение шести лет
оборудование английской промышленности не обновлялось.
По оценке правительства за годы войны не было
восстановлено изношенное оборудование на сумму
885 миллионов фунтов стерлингов. К этому надо
добавить разрушения от бомбардировок... Но можно ли
объяснить нынешний кризис британской экономики
только ссылками на издержки войны? Нет, дело не
своих вооруженных сил в общей сложности 900 миллионов
фунтов стерлингов; эта сумма в несколько раз превышает военные
расходы Великобритании в 1939 году. Налоги все увеличиваются.
Одни лишь косвенные налоги на предметы первой необходимости
выросли в полтора раза. В годы войны рабочий,
зарабатывающий пять фунтов стерлингов в неделю, отдавал на эти налоги
один фунт. Теперь, когда война окончилась, он отдает уже
полтора фунта из пяти...
2 По сведениям так называемого «Экономического бюро
Лондона и Кембриджа», опубликованным в Англии к моменту
сдачи этой книги в печать, «рост цен с 1938 года до середины
1947 года составляет от 60 до 65%». В действительности рос г
пен на товары первой необходимости значительно выше —
достаточно сослаться на повышение цен на импортные товары, которые
играют столь важную роль на внутреннем рынке Англии. Цены
на эти товары поднялись по сравнению с довоенными в два с
половиной раза.
2*
19
только, вернее, не столько в этих издержках, сколько
в коренных пороках самой системы хозяйства
Великобритании — отживающей свой век капиталистической
системы.
Было время, когда вывоз угля составлял одну из
важнейших статей английского экспорта. Прекрасный кар-
дифский уголь охотно приобретали все страны, в том
^числе и Россия. Даже в 1938 году, когда торговля
углем была затруднена вследствие кризиса, Англия
вывезла 35 миллионов тонн твердого минерального
топлива на сумму 35 миллионов фунтов стерлингов. Теперь
англичанам нехватает своего угля. Давно уже погасли
все световые рекламы в Лондоне; улицы, некогда
блиставшие огнями, погружены в полумрак. А ночью
уличные фонари и вовсе гаснут: министр по делам топлива
Шинуэлл заставил замолчать недовольных, поставив их
перед выбором — «без света ночью или без топлива
зимой».
Газеты пишут, что угля мало потому, что нехватает
рабочих рук для шахт. Но специалисты знают, что это
лишь четверть правды. Английскую угольную
промышленность привели на грань катастрофы сами
предприниматели, жадные до сверхприбылей. Из года в год,
из десятилетия в десятилетие они хозяйничали теми же
приемами, которые Энгельс разоблачал в своей книге
«Положение рабочего класса в Англии» сто лет назад:
жесточайшая эксплоатация, полное пренебрежение
к технике безопасности, упрямое нежелание
использовать новейшие достижения техники, облегчающие труд
шахтера и во много раз повышающие
производительность его труда. Естественно, что промышленность, не
располагающая современным оборудованием, бессильна
обеспечить высокий уровень добычи угля. Техническая
отсталость английской угольной промышленности —
потрясающа. В Южном Уэльсе мне довелось повидать
шахты — деревянные копры, ветхие подъемники,
ручная откатка... Так выглядел наш Донбасс в далекие
дореволюционные годы.
На протяжении ста лет Англия гордилась своей
текстильной промышленностью. Но постепенно и она
пришла в упадок — косные владельцы фабрик скупились
20
на расходы по технической реконструкции. В
результате оборудование английской текстильной
промышленности устарело настолько, что прюизводительность
труда английских ткачей вдвое отстала от
производительности труда американских рабочих текстильной
промышленности.
Поскольку важнейшие статьи английского экспорта
сократились, министерство торговли решило
форсировать вывоз товаров, которые раньше шли
преимущественно на внутренний рынок: автомобили, велосипеды,
цветные металлы, искусственный шелк,
радиоприемники. Но именно для этих товаров особенно опасна
американская конкуренция. Естественно, что усилия
министерства торговли не могли дать сколько-нибудь
существенных результатов, и тогда правительство решила
просить помощи у Соединенных Штатов.
В дни, когда мы жили в Лондоне, все газеты
пестрели сообщениями о затянувшихся
англо-американских финансовых переговорах. Вначале англичане про
сили продлить поставки по ленд-лизу. Им отказали.
Потом они просили США сделать им «долларовый
подарок», с помощью которого они могли бы осуществить
послевоенную перестройку экономики. Им отказали.
Тогда англичане попросили предоставить им
беспроцентный заем. Им отказали. Наконец англичане повели
переговоры о процентном долларовом займе на сумму
в несколько миллиардов. Американцы согласились
ссудить Великобританию, но поставили при этом
неслыханные кабальные условия. Важнейшим из них было
требование об отмене предпочтительных тарифов в
Британской империи.
Система предпочтительных тарифов (имперских
преференций) была принята пятнадцать лет назад, на
имперской конференции в Оттаве. Существо этой системы
заключается в том, что английские промышленные
товары в странах Британской империи облагаются
меньшими таможенными пошлинами, чем товары,
которые ввозятся из других стран. С другой стороны,
на сырье и продовольствие из стран Британской
империи распространяется такое же таможенное
предпочтение в Англии. Такая система давала возможность
21
англичанам защищать свои рынки сбыта от
американских экспортеров — свободной конкуренции они
выдержать не смогли бы. И если доля Англии в импорте
Канады, Австралии, Южно-Африканского союза, Но-
аой Зеландии и Индии, подписавших соглашение в
Оттаве, выросла к 1935 году до 37%, то доля США
сократилась до 24%. Отказаться от системы имперских
преференций или ослабить их — значило для англичан
распахнуть настежь двери Британской империи перед
американскими экспортерами.
И все же британское правительство сочло для себя
возможным принять американские условия.
Но была ли эта капитуляция неизбежной? Может
быть, у руководителей Великобритании не было иного
выхода, нежели пойти в кабалу к могущественным
финансистам Уолл-стрита? Многие опытные
экономисты отрицательно покачивали головами, когда мы
обращались к ним с этим вопросом.
— Не верьте тем, кто говорит, что война разрушила
Англию! — сказал мне один профсоюзный деятель. —
Конечно, было бы смешно говорить, что
бомбардировки были для нас рождественскими подарками. Но
разве можно сравнить их результаты с тем, что
претерпел континент? Для того чтобы ликвидировать
последствия войны, восстановить, реконструировать
нашу промышленность, нам, в сущности говоря,
пришлось бы затратить во много раз меньше средств,
чем вам, русским. Но... здесь есть очень большое «но*,
которое повергает в великое смущение наше
правительство: за чей счет следует провести это
восстановление? Чтобы осуществить по-настоящему
реконструкцию нашей экономики, понадобилось бы крепко
потрясти мошну наших капиталистов и лендлордов.
Но это уже было бы потрясением основ. На это
никогда не пошел бы Черчилль. На это никогда не пойдут
Эттли и Бевин. Вот почему мы сначала говорим, что
соглашение об американском займе это Дюнкерк,
капитуляция, петля, а потом голосуем за него, —
закончил с горькой иронией мой собеседник !.
1 Это горькое признание невольно вспоминается, когда
знакомишься с последними статистическими данными сб экономиче-
22
Заключив кабальное финансовое соглашение с США,
лейбористское правительство рассчитывало, что
американский заем даст ему значительную передышку.
Но заем начал таять гораздо быстрее, чем
предполагалось: цены в США начали стремительно расти,
и реальная стоимость займа быстро упала чуть ли не
на одну треть.
«Мы оказались жертвой крупнейшего
мошенничества в истории международных сделок, — гневно писал
по этому поводу генеральный секретарь союза горняков
Артур Хорнер. — Еще ^не успели высохнуть чернила,
которыми было написано соглашение, как контроль
над ценами в Америке был отменен, и заем утратил
почти половину своей ценности...»
Цены на американскую сталь поднялись на 20%, на
хлопок — в полтора раза, на лес — вдвое, на табак —
на 15%, на пшеницу —на треть, на мясо — на 41%.
В конторах импортеров снова и снова считали и
пересчитывали расходы, цифры росли и росли. А с
экспортом дело обстояло неважно, хотя министерство
торговли до предела ограничило потребление внутри
страны, все лучшие товары — за границу!
Рядовые англичане, с которыми мы встречались
в невеселые дни поздней осени 1945 года, естественно,
не знали всех этих тонкостей и слабо представляли
себе, какие новые трудности несет британской
экономике только что подписанное и столь широко
разрекламированное прессой соглашение об американском
займе. Но повсюду чувствовались угрюмое
недовольство, раздражительность, уныние. Так много надежд
ском положении Великобритании в послевоенные годы. Верные
прислужники Сити и Уолл-стрита, британские лейбористы готовы
возложить любые тяготы на рабочих. Но когда возникает
необходимость хоть несколько урезать для сбалансирования
национальной экономики барыши предпринимателей, — у них немеет
язык и отнимается рука. Дополнительный бюджет, внесенный
правительством Великобритании в палату общин в ноябре
1947 года, предусматривает только самое незначительное
повышение налогов на прибыль; зато, по признанию самого органа
лейбористской партии «Лейбор Монсли», три четверти
«дополнительных тягот» возложено на «рабочих и людей с низким
доходом».
23
возлагал рядовой англичанин на победное окончание
войны! Живя все эти годы в нужде, он рассчитывал
после победы подправить свои дела. Но вот война
окончилась и снова все по-старому как было когда-то.
Только тем, у кого в бумажнике всегда лежит тугая
пачка шелковистых банкнот, не надо думать ни о купо
нах, ни о продовольственных карточках. Но как жить
людям Ист-Энда, Уайтчепеля, как жить трудовому
люду, который едва сводит концы с концами от
получки до получки, рассчитывая каждый шиллинг?
И вот вслед за докерами прекращают работу, повергая
Лондон в новое затемнение, рабочие газовых
компаний, грозят забастовкой строители, кондукторы
автобусов и троллейбусов, даже футболисты, требующие
восстановления довоенных ставок за игру.
Хозяева непреклонны. Военная конъюнктура
кончилась, и они не идут на уступки, тем более, что
забастовщиков можно заменить солдатами, как это было
сделано в доках. Бастующим приходится возвращаться
на работу, и снова тянутся долгие, бесконечные
переговоры профсоюзов с фирмами. А на улице унылый
реденький осенний дождь, удушливый лондонский
туман, промозглая сырость. Хорошо бы зажечь газо
вый камин, но для этого надо бросить в автоматиче
ский счетчик шиллинг — автомат отпустит вам газа
ровно на шиллинг и снова выключит камин. А
всегда ли найдется в кармане лишний шиллинг?
Прогуливаясь в эти глухие осенние дни по мокрым
усыпанным опавшими листьями тротуарам города,
вглядываясь в его сумрачный облик, разговаривая ее
многими людьми, мы старались поближе познакомиться
с Лондоном, понять и оценить его сложную и
противоречивую жизнь. Мы видели, что внешне британская
столица полностью сохраняет свой извечный облик.
Каждые пятнадцать минут перезванивают звучные
колокола Биг-Бена. Туристы любуются каменным!*
стрелами Вестминстерского аббатства. Под сводами
старой биржи бойко торгуют акциями экзотических
колониальных компаний. В час ленча, что бы ни
произошло, какие громы и молнии ни потрясли бы
империю, все дела прекращаются, и Лондон садится
24
завтракать. Неподалеку от парламента степенные
джентльмены в крахмаленных манишках кормят
хлебными корками чаек, скользящих над пепельно-серой
Темзой. У Букингэмского дворца, где живет король,
толпа с благоговением следит за церемонией развода
гвардейских караулов. На площади Гайд-парка,
окруженные кучками зевак, воинствуют ораторы: высокий
рыжий детина доказывает вред национализации
промышленности, лысый проповедник читает евангелие,
какой-то тип в черных очках и полосатом шарфе
проповедует свободную любовь. Рядом с шаткой
переносной трибуной сидит на раскладном табурете старушка
и вяжет чулок, слушая оратора. На коленях у нее
потертая сумка, к которой тянется кривоногий бульдог
стоящего рядом джентльмена.
Вот так же, наверное, выглядел город и десятьг
и двадцать, и пятьдесят лет назад. Но в самом
воздухе Лондона, сыром и пропитанном дымом, разлито
ощущение какого-то уныния, тоски и тревожного
предчувствия новых, еще более горьких бед. И многие
встречи подчеркивают остроту этого ощущения...
В центре города, на людном и шумном перекрестке,
я видел молодого скрипача с тонким нервным лицом.
Одетый в поношенный, но тщательно заштопанный »
выглаженный костюм, он самозабвенно играл одну за
другой классические пьесы, не обращая внимания ни на
грохот проезжавших мимо автобусов, ни на толчки
торопящихся равнодушных прохожих. Его глаза был»
подняты к сумрачному, осеннему небу, по которому
ползли грязные облака. И такое страдание, такая мука
отражались в этих глазах, когда звякали редкие пенсы,
брошенные у его ног на асфальт иными
сердобольными лондонцами, что становилось больно за
музыканта, оказавшегося лишним в этом угрюмом,
расчетливом мире.
А назавтра у автобусной остановки я увидел
художника, который полулежал на асфальте, положив рядом
с собой кучку разноцветных мелков и мокрую тряпку.
Рядом с ним остановился веснущатый мальчишка
с большой корзинкой. Потом подошла какая-то
старушка. Художник оглянулся на них, смахнул тряпкой
25
осевшую на асфальт копоть и быстро вывел белым
мелком надпись: «Фламандская школа. 1540—1616.
Знаменитый мастер Петер-Пауль Рубенс. Автопортрет
художника». И затем, вздохнув, начал точными,
уверенными штрихами рисовать, воспроизводя по памяти
известный рубенсовский автопортрет. Постепенно
вокруг художника собралась толпа. И снова
послышалось уже знакомое редкое звяканье медных монет.
Художник, не оборачивался. Он был увлечен своей
работой. Быть может, на мгновенье он забыл, что его
произведению — не жить, что оно через полчаса будет
растоптано башмаками прохожих.
Когда работа подошла к концу, я попросил у
художника разрешения сфотографировать на память его
рисунок. И тут он, вспомнив все, пришел в ярость.
Лицо его исказилось, он с силой ударил мокрой
тряпкой по только что законченному рисунку, уродуя его,
вскочил, отшвырнул ногой жалкую кучку медяков и
воскликнул:
— Вы... Вы... Вам дано право издеваться надо мной,
унижать меня своими подаяниями. Но я не позволю
вам продлить это удовольствие, чорт побери! Вам
нужна экзотика? Вы хотите где-нибудь у себя
в Нью-Йорке или в Чикаго потешить гостей этой
фотографией? К чорту! К дьяволу...
Прохожие стали расходиться: запахло скандалом.
Из-за угла приближался, следуя размеренным, четким
шагом, рослый полисмен в черной крылатке и высоком
шлеме. Художник отвернулся и замолчал, плечи его
вздрагивали. Я поспешил успокоить его. Когда он
услышал, что я не из Нью-Йорка и не из Чикаго, а из
Москвы, он резко обернулся и взволнованно сказал:
— Простите... Я погорячился... Вы поймете меня.
Ведь это... это так трудно! Я уверен, что моим
московским коллегам такой труд незнаком. Я знаю — у вас
совсем-совсем иначе. А здесь... И все-таки прошу
вас — не фотографируйте. Не надо...
Полисмен молча стоял рядом с нами, держа свои
большие крепкие руки за спиной и поигрывая резиновой
дубинкой. Художник тяжело опустился на тротуар,
стер мокрой тряпкой свой рисунок и начал все сначала.
26
Вокруг него опять собрались прохожие, снова звякнул
чей-то медяк об асфальт. Полисмен повернулся на
каблуках и зашагал обратно за угол, — все было в
полном порядке...
И еще одна уличная встреча врезалась в память.
Поздняя ночь, глухой переулок на окраине города.
Призрачный грязноватый свет газового рожка у
дверей бара. У тротуара стояли древние старик и старуха
в невероятно истрепанных одеждах. Старик молча
протягивал прохожим рваную кепку, а старуха, с
трудом державшаяся на отекших ногах, хлопотала у
ветхого патефона, поставленного на дощатую перекда-
динку в такой же ветхой детской коляске. У них была
одна-единственная, вконец заигранная пластинка,
и надо было видеть, как нежно старуха смахивала
с нее пыль, как бережно она ставила иголку и заводила
свой инструмент. И патефон без конца хрипел одну и
ту же глупую, бессмысленную песенку: «Моя
маленькая кошечка гуляет на Пикадилли, ах, моя маленькая
кошечка не боится никого...»
Ханжеские английские законы строго запрещают
просить милостыню. Никому не возбраняется, однако,
увеселять прохожих и получать оплату за свой труд.
«Право на заработок» музыканта, художника, вот
этих старика и старухи охраняется законом.
Формально, с точки зрения английского закона,они
не являются нищими. Но, право же, соблюдение таких
формальностей делает востократ более тягостной и
унизительной долю бедняка, вынужденного клянчить
милостыню под аккомпанемент фокстрота. Встречая
этих несчастных, всякий раз чувствуешь всю горечь их
судьбы. Да и не только их! В этих жалких фигурах
есть нечто символическое. Я видел, как поеживались
некоторые лондонцы, проходя мимо музыканта,
выброшенного на панель, мимо художника, вынужденного
рисовать на тротуаре, мимо этих жалких бездомных
стариков. Кто знает, не придется ли завтра стать
с ними рядом? Рядовой лондонец давно утратил
уверенность в затрашнем дне.
В один из вечеров мы встретились с большой
группой молодежи — на вечере в Комитете англо-совет-
27
ской дружбы. В тесной комнате, стены которой были
почти сплошь увешаны фотографиями, вырезками из
советских журналов и просто листами «Правды»,
«Комсомольской правды», «Известий», собралась самая
разная публика: студенты, солдаты, школьницы,
работницы, клерки, продавцы из магазинов, матросы. В углу
барабанил по клавишам старенького рояля какой-то
летчик, которого никто здесь не знал. Он пел то
русские, то старинные шотландские, то французские песни,
и все охотно ему подтягивали. Посреди комнаты, на
крохотном пятачке, танцовало несколько пар. В
программках, продававшихся по одному центу, было
осторожно сказано: «Возможно, придут советские гости».
Их ждали с нетерпением, и когда советские делегаты
вошли в зал, к ним протянулись десятки рук. Не все
одинаково встречали советских гостей — одни
бросались к ним, как к старым друзьям, другие поглядывали
немного недоверчиво, у третьих сквозило в глазах
неподдельное изумление: чорт побери, эти русские
совсем не похожи на картинки в газетах! Но все,
положительно все, проявляли живой, неподдельный интерес
к советским людям, и у каждого были одни и те же
вопросы: в чем секрет советской жизнеустойчивости,
как русским удается преодолевать такие большие
трудности, почему в Советской Стране каждый уверен
в своем завтрашнем дне? Было видно, что эти вопросы
глубоко волнуют этих молодых людей.
Мы отвечали на вопросы и в свою очередь
расспрашивали своих новых знакомых об их жизни. Члены
нашей делегации уже на многое насмотрелись в
Лондоне, уже составили себе определенное представление
об этом мире, таком чужом и далеком от кипучей и
творческой советской жизни, захватывающей человека
целиком и дающей ему все возможности проявить
свои силы. И все же эта встреча произвела на
советских делегатов горестное впечатление — поражала
пустота, бедность духовной жизни британских
сверстников. Молодые англичане почти ничего не читали —
книги дороги, газеты неинтересны и часто лгут. Они
очень редко бывали в театре, только одна девушка
припомнила, что она когда-то видела «Гамлета». Она
28
слыхала, что в театре «Олдвик» сейчас идет новый
интересный шекспировский спектакль, он длится в
течение двух вечеров.
— Но где уж нам... — сказала она со вздохом. —
Такие два вечера стоят немалых денег... Кино,
дансинг — это доступнее.
— А как насчет общественной работы? — наивно
спросил один из наших делегатов, славный рабочий
паренек с Урала.
Девушка удивленно посмотрела на него. Она даже
не поняла вопроса.
— А как насчет учебы?
Девушка опять вздохнула. Конечно, учиться надо —
кто больше знает, тот больше зарабатывает, если,
конечно, у него есть работа. Но за обучение опять-
таки надо платить...
— Я получаю четыре фунта стерлингов в неделю, —
сказала наша собеседница,— имейте в виду, многие
подруги мне завидуют. Ведь я во время войны стала
конструктором, раньше на такой работе были только
мужчины... Я работаю не хуже мужчин, не подумайте
только, что я хвастаю. Но мужчина, который сюит
рядом со мной за своей чертежной доской, получает
ровно в полтора раза больше меня. Это — правило.
Даже профсоюз борется за две минимальных ставки —
одну для мужчин, другую для женщин... Но я
отвлеклась. Так вот, я получаю четыре фунта в неделю.
Половину заработка я должна отдать за квартиру.
Остальное пойдет на еду. С трудом скопишь на платье,
на ботинки. А если и скопишь, — начинается новая
проблема: где взять купоны? Вы уже знаете,
наверное, — нам полагается двадцать четыре купона на
восемь месяцев, а за костюм надо отдать двадцать
шесть купонов, за плащ — двадцать два, за отргз на
платье — шестнадцать, за ботинки — девять, за
рубашку — шесть, за шарфик — два, за галстук —
и тот надо отдать купон...
Девушка помрачнела, сделала над собой усилие и
сказала, деланно улыбаясь:
— Ну вот видите, какие скучные разговоры я,
глупая, завела, словно где-нибудь на рынке. Я знаю, что
29
вам сейчас тоже трудно живется. Но ведь вы такие
удивительные люди — вы всегда ухитряетесь
сохранять веру в завтрашний день. Наверное, это потому, что
вы знаете, что будет у вас завтра, и знаете, что завтра
будет обязательно лучше, чем сегодня. Да? А у нас...
Вот сейчас я читаю, что из армии возвращаются
солдаты; казалось бы, радоваться надо, а у меня сердце
падает — вот вернется из армии конструктор, и мне
скажут: гуд бай, мисс Элизабет! И что же мне тогда —
опять за прилавок к Вульворту за два фунта в
неделю? А я так мечтала стать техником...
Элизабет расстегнула свою дешевенькую сумочку
из пластмассы, выхватила платочек, круто повернулась
и отошла, не прощаясь.
И чем больше мы беседовали с британскими
юношами и девушками из простой народной среды, тем
острее чувствовали, в каком стесненном, сжатом,
ограниченном мире они живут, как душно им в этом
мире. И становилось понятно, почему так жадно
тянутся они к нам, людям иного мира, почему с таким
вниманием ловят каждое правдивое слово о Советской
Стране. Это не простое любопытство — и даже не
зависть. Это то ощущение, с которым родившийся и
выросший в тесной клетке птенец глядит на широкий
воздушный простор, в котором парят вольные птицы...
В двух тесных комнатках Комитета англо-советской
дружбы молодежи мне показали обширную картотеку
членов общества, переписывающихся с советскими
юношами и девушками, — они послали в СССР уже
сорок пять тысяч писем. Комитет провел конкурс на
лучшую статью о Советском Союзе. На конкурс
поступило тысяча двести статей. Потом предложили
молодежи ответить на вопрос: «Что вы сказали бы по радио
русской молодежи, если бы вам дали побыть у
микрофона пятнадцать минут?» Вопрос был поставлен
удачно — он импонировал молодежи. В самом деле,
что если б удалось выступить по радио и если б твой
голос долетел до России... И в Комитет посыпались
взволнованные письма. Многие из них были наивны,
многие излишне риторичны и цветисты, но в одном им
нельзя было отказать — в искренности, . в горячем
30
желании завязать дружбу с русскими, ближе узнать
нас, понять, найти с нами общий язык назло всем
чертям из реакционных молодежных организаций
Великобритании, делающим все, чтобы оклеветать, очернить
советских людей, советские порядки, советский строй.
Мне хочется привести здесь некоторые из этих писем —
они сами говорят за себя...
Вот что хотела бы сказать по радио русской
молодежи учительница Айрин Фрэнсис Ричарде, двадцати
одного года.
«Как верно то, что война была бы проиграна беэ
сотрудничества, так же верно и то, что мир будет
проигран, если Англия и Россия не останутся друзьями.
На нас лежит большая ответственность.
Многие наши женщины и мужчины, побывав в вашей
стране, написали книги о вашей жизни и своих
впечатлениях. Но их отзывы настолько различны и
противоречивы, что нам в Англии почти невозможно узнать
правду, хотя мы очень хотим узнать ее. Некоторые
представители нашего старшего поколения давно
предубеждены против вашего великого опыта, и много
было, и еще, пожалуй, есть таких, которые
подозрительно относятся к вашим начинаниям.
Но с тех пор, как мы стали союзниками, мне
кажется, люди искренне стараются узнать о вас
больше. И настоящая правда всегда приносит
симпатии и взаимное понимание. Кроме того, мы,
представители молодого поколения, свободны от этих
предрассудков и опасений, отравивших умы многих наших
старших соотечественников. Мы смотрим на вас
с интересом и энтузиазмом, веря, что ваша страна
может указать нам путь к новой и лучшей жизни».
Девятнадцатилетняя стенографистка мисс Милдред
Хиллси, видимо, более экзальтированная девушка.
Из-под пера ее сыплются градом восклицательные и
вопросительные знаки, она подбирает звучные слова.
Но по духу, по мыслям ее письмо очень близко
к письму учительницы Ричарде:
«Мир! Разве не звучит это слово, как музыка
в ваших ушах? Я хочу говорить именно о мире! Длинна
была дорога к нему, и на пути лежало много гор, по
31
которым нам пришлось карабкаться. И вот мир
наступает!..
Когда я думаю о наступлении мира, я не имею в виду
формальное заключение мирного договора с
Германией. Ведь мы уже заключали с ней договор в
1919 году, и взгляните на последствия! Я имею в виду
тот новый и лучший мир, к которому народы
прокладывают дорогу.
Ваша страна — единственная страна в мире, которая
уже смогла создать такой мир! Остальные страны были
слепы. Они шагнули обратно в хаос, который породил
вторую мировую войну, уроки, которые не забудутся
теми, кто испытал ее ужасы.
Огромные препятствия лежат на пути к построению
нового мира, но ваш опыт показал, что эти
препятствия преодолимы! Когда ваши вожди приступили
к строительству социалистического государства, им
пришлось иметь дело с двумястами разных народов,
говоривших на разных языках.
Многие из них были неграмотны и жили в вечной
национальной вражде. Многие голодали и болели, так
как страна была опустошена войной. Вся
незначительная техника, которая существовала в царской России,
была разрушена. Но упали ли ваши строители духом?
Нет!
Вы сооружали фабрики, ввозили оборудование.
Ваше сельское хозяйство было механизировано и стало
давать больше продуктов питания. Ваши фабрики
увеличили производство предметов широкого потребления.
Были построены больницы и школы. Одним словом,
люди дали большое сражение, и они выиграли его!
И хотя двести различных национальностей сохранили
свои особенности, они теперь не враждуют друг с
другом, а работают совместно, соревнуясь во всех
областях жизни для блага всех.
В Европе много разных народов. Многие из них
неграмотны и живут в вечной вражде друг с другом.
Многие голодают и часто болеют, так как наши
-страны опустошены войной, а их богатая техника
разрушена. Мрачная картина! Но упали ли мы духом?
Нет, товарищи, упали духом лишь немногие, не те, кто
32
верит в человечество, кто вдохновлен примером
строителей советского государства!
Чтобы построить новый, лучший мир, мы должны
итти вперед все вместе! Мы должны итти вперед,
помня, что мир принадлежит нам и именно нам
предстоит устроить его так, чтобы в нем было удобно и
хорошо жить. И если мы выполним нашу задачу, то
историки будущего напишут о нашем веке: «Они
сражались в подполье, они прошли через невообразимые
ужасы. Тысячи людей отдали жизнь. Десятки тысяч
совершали подвиги на поприще мирного труда. Многие
погибли в борьбе за новый мир. Но умирали ли они
в концентрационных лагерях, на поле боя или у себя
дома, — они умирали не напрасно. Посмотрите: мы
живем в новом и лучшем мире!»
И еще одно письмо, проникнутое глубоким
раздумьем и хорошей, благородной тревогой за будущее.
Это письмо двадцатишестилетнего инвалида войны
Фрэнка Брайанта, который пролил свою кровь в борьбе
против фашизма и всей душой хочет, чтобы кровь эта
не пропала даром:
«Эпопеи Сталинграда и Ленинграда будут вечно
жить не только на страницах истории. В сердцах всех
людей эти две эпопеи, потрясшие своим трагизмом
мир, будут гореть, как пламя, которое навсетда
уничтожило сомнения в величии Советского Союза.
Нацисты ошиблись в народах Советского Союза,
которых они представляли себе глупыми и
неграмотными. Они «е имели понятия о непоколебимой,
всепобеждающей вере в идеал, который, быть может, будет
признан провозвестником новой эры. Немцы з!нали
вас мало. Мы же, приходится признать, — еще
меньше.
Годы между предыдущей войной и этой не были
использованы для поощрения хороших намерений,
скорее, наоборот. Они были использованы для углубления
подозрения и недоверия, лежавших между нами
как преграда. К счастью, поток войны смыл эту
преграду. Теперь мы не должны допустить, чтобы
товарищество и взаимопонимание, выросшие из этого
испытания железом и кровью, были бы утрачены...»
3 На Западе посте войны 33
Таковы документы. Они достаточно убедительно
показывают думы и чаяния трудовой молодежи
Великобритании. Мудрено ли, что английская реакционная
печать требует, чтобы молодежные организации,
находящиеся под контролем церкви, усилили свою
деятельность? Мудрено ли, что весь аппарат воспитания и
пропаганды после войны настроен на антисоветскую
волну, что находящиеся на службе у реакции школа,
клубы, пресса делают все для того, чтобы отвратить
молодежь от политики, заставить ее забыть о днях
Сталинграда, повернуться спиной к Советскому Союзу?
Мне вспоминается сейчас встреча с молоденькой
учительницей, недавно окончившей женский колледж
в Оксфорде и только что приступившей к
преподавательской деятельности. Она печально говорила,
застенчиво перебирая рукою дешевенькие стеклянные
пуговицы на своем грубошерстном сером платье:
— Вы знаете, я часто испытываю такую неловкость
перед ребятами в школе... Я преподаю историю. Когда
мы доходим до России, они меня буквально засыпают
вопросами, им все хочется узнать о вашей
удивительной стране. А что я им могу сказать? В учебниках
пишут про вас бог знает что.
Учительница вдруг покраснела и замолчала, потом
после минутной борьбы с собой продолжала:
— Вам, наверное, неприятно это слушать, но я
все же должна это сказать, чтобы вы знали, чему нас
заставляют учить детей... Есть у нас такой учебник —
«История Европы для младшего возраста», его
написала Гордон. В нем сказано о вас только несколько
слов, но какие это гнусные слова! Гордон поносит
Советский Союз — ну, примерно, так же, как это
делал Геббельс. Зато фашизм она превозносит —
пишет, что нацизм означает веру, протест,
национальное возрождение германского народа и представляет
собой наиболее значительное движение нашего
времени...
— Может быть, это старый, довоенный учебник? —
спросил я.
Учительница покачала головой:
— Нет... Он вышел в тысяча девятьсот сорок втором
34
году. После Сталинграда... И это — не один такой
учебник. Вот совсем недавно вышел новый учебник
Саутгэйта «Краткая история Европы». Все то же
самое! И так — в каждом учебнике, даже в серьезных
университетских курсах. Теперь вы понимаете, как
тяжело приходится учителю, если он честный человек
и не хочет говорить детям неправду?
Большую роль в жизни английской молодежи
играют клубы. Они разбросаны по всей стране, их
найдешь в каждом районе и каждом квартале. Рабочие
подростки приходят в клуб после работы и часто
остаются там на весь вечер. Как правило, эти клубы
субсидируются религиозными организациями. Их лозунг:
молодежь — вне политики! Но когда знакомишься
с деятельностью этих клубов, видишь: они созданы и
существуют именно ради политики, и вся
деятельность их — тонкая и очень хитрая, целеустремленная
политика...
В один из вечеров мне случилось побывать в таком
клубе. Мы очень долго путались в глухих переулках
Ист-Энда, пока разыскали его. Здесь, прямо скажем,
было жутковато: темные, неосвещенные, плохо
вымощенные улочки, ветхие здания, все еще носящие следы
давних бомбежек, пустыри. Среди развалин худые,
в лохмотьях, ребятишки жгли костер.
— Видите вот тот старый кирпичный дом? —
сказал один из них. — Вот это и есть клуб...
Когда-то очень давно в этом дряхлом здании
помещалась общественная столовая. Управитель клуба,
лысеющий в очках господин, состоящий в этой
должности вот уже двадцать три года, использует
огромную кухню одновременно как свою контору,
кладовую спортивного инвентаря и личную столовую. Когда
мы вошли к нему, в печке весело потрескивали дрова,
на плите что-то жарилось и варилось. Было тепло и
душно. В этот момент в окошко, ведущее в соседний
зал, постучали. Мистер Кимберлеи — так звали нашего
нового знакомого — открыл окошко, и в кухню
повеяло ледяным ветерком. В окошко заглянули две
любопытных рожицы. Приплясывая от холода,
подростки, одетые в старые, штопаные трусы, попросили
з<
35
дать им напрокат тапочки — в спортивном зале
начинался урок гимнастики. Мистер Кимберлей выполнил
просьбу своих питомцев, торопливо захлопнул окошко
и сказал, потирая руки:
— Ну-с, я к вашим услугам...
И тут же, не давая нам вставить ни слова, он
заговорил так быстро, словно его все время кто-нибудь
подстегивал. Да, он руководит этим клубом двадцать
три года. Да, это чудесная мысль — занять досуг
подростков и отвлечь их от улицы. Спорт, закалка,
правильное воспитание. В здоровом теле — здоровый дух,
это было известно еще эллинам.
— Но, господа! Одно условие, святое и нерушимое:
ни грана политического яда, никакой партийности.
Молодежь есть молодежь, господа! О, да, — когда-
нибудь, к тридцати годам, у человека может
возникнуть интерес к политике, но в этом возрасте?.. Нет-
нет, это ни к чему, это вредно. Для мальчиков — бокс,
изучение ремесла, плаванье. Для девочек —
гимнастика, рукоделие, декламация. Один раз в неделю —
смешанные танцы, один раз в неделю—совместное
пребывание на богослужении. Мальчики могут
приходить каждый день, девочки — три раза в неделю.
Девочка не должна забывать, что ее призвание —
семейный очаг, домашний уют, забота о семье...
Мистер Кимберлей повел нас по зданию клуба,
продолжая свой бесконечный монолог. В большом общем
зале стояли биллиардные столы, шахматные столики.
Высоко на полочке красовались кубки, завоеванные
лучшими спортсменами — воспитанниками клуба.
В соседнем зале шел урок гимнастики. Его вел
пожилой тренер — он, как и мистер Кимберлей, двадцать
три года работает в этом клубе. Рядом была
библиотека. На дверях висел замок. Мы попросили открыть
эту комнату. Мистер Кимберлей зажег свет. Судя по
всему, в эту маленькую заброшенную комнату давно
уже никто не заходил. На полках пылились
разорванные ветхие томики. Зато в домовой церкви,
занимавшей обширное помещение на втором этаже, все
сверкало и блестело.
Нам очень хотелось побеседовать с воспитанниками
36
клуба. Мистер Кимберлей долго доказывал, что это
невозможно: нельзя отрывать их от тренировки.
Наконец нам представили двоих — долговязого, поджарого
пятнадцатилетнего паренька с рыжей челкой, ученика-
химика с сахарного завода — Джона Пирса и его
ровесника — сонного черноглазого увальня с пухлыми
щеками и толстыми коленками, разносчика из
зеленной лавки — Алека Лори. Пирс ходит в клуб уже
пятый год, он стал заядлым спортсменом, особенно
любит плаванье. Лори больше всего на свете любит
футбол и биллиард.
На примере этих двух друзей мы могли отлично
видеть, в каком духе воспитывает своих питомцев
клуб мистера Кимберлей. Они почти ничего не читают,,
единственная книга, с которой познакомился Лори за
свою жизнь, — это пособие по футболу; кроме спорта
ничем не интересуются. У них с годами появятся*
отличные мускулы, они будут терпеливы и выносливы.
Но все, что находится за пределами спорта, для них—
неведомый мир.
О Советском Союзе они знают только, что это очень-
большая страна и что там главный город — Москва.
О Германии они знают, что это государство лежит на
берегу Северного моря. Но ради чего шла война
между СССР и Германией — им неизвестно. Пирс и
Лори знают только, что во время войны на города
падают «фау», — это дьявольски гнусное занятие —
сидеть и гадать, что вот-вот разорвется бомба.
— Но теперь уже войны нет, бомбы не падают,
и все очень хорошо. Вот только говорят, что русские
опять начали зачем-то посылать летающие бомбы
через Швецию и Норвегию на запад. Как вы думаете,
не долетят ли они до Лондона?
Тут в разговор вмешался мистер Кимберлей. Он
вежливо, но твердо напомнил Пирсу и Лори, что им
пора вернуться в спортивный зал на тренировку, и,
когда они вышли, сказал, доверительно улыбаясь:
— Чего только мальчишки не наслушаются на
улице!..
В том же клубе я случайно познакомился с некоим»
мистером Макарти, который работает в одном из»
37
доков. Он — воспитанник клуба Кимберлея. Хотя ему
перевалило уже за тридцать, он продолжает
'наведываться в клуб раз в неделю по вечерам, коротая досуг
за биллиардным столом со своими ровесниками,
такими же, как он, «ветеранами» клуба. Я был
благодарен судьбе, которая свела меня с Макарти, —
я увидел наглядный результат системы воспитания,
принятой в британских молодежных клубах.
— Что дал вам клуб? — спросил я Макарти.
— О, очень многое, — сказал он, довольно
улыбаясь: — страсть к футболу, крикету, биллиарду...
— Какие книги вы читаете, ^часто ли бываете
в театре?
Макарти удивленно посмотрел на меня — он не
ожидал такого вопроса. Потом сказал:
— Книги требуют так много времени... А театры от
нашего района далеко. Вот кино — другое дело...
Постепенно мы разговорились. Макарти сообщил,
что недавно док, где он работает, бастовал двенадцать
дней. Бастовали все, бастовал и он.
— Мы хотим иметь больше денег, либо больше
дешевых продуктов.
Забастовщики ничего не выиграли, их заставили
вернуться к работе на прежних условиях. Макарти
разочарован.
— Может быть, не стоило бастовать?.. — Он
вздыхает. — Трудное время! Еще хуже, чем было до войны:
тогда, по крайней мере, если ты имел работу, у тебя
были деньги в кармане. После рабочего дня можно
было пойти выпить пива, сходить на собачьи бега.
Можно было прилично одеться, можно было жить, не
влезая в долги. А теперь каждый пенс на счету, жене
не удается дотянуть от получки до получки. Замучил
черный рынок, о стаканчике виски и не мечтай: в
магазине не достанешь, а на черном рынке за бутылку
вместо двадцати одного шиллинга дерут три-четыре
фунта стерлингов. За папиросами — длиннейшие
очереди...
Кого же должен винить Макарти? Что он должен
сделать, чтобы жить было легче? Как бороться за
лучшую жизнь? Против чего и против кого бороться?
38
Макарти не находит ответа на эти вопросы.
Воспитатели отучили его думать. Он беспомощен перед лицом
надвинувшихся на него событий...
Было бы неверно думать, конечно, что все докеры
столь же растеряны, как Макарти. Они постепенно
начинают разбираться в политике, и не случайно здесь,
в доках, столь часты забастовки. Но все же еще
немало и таких, как этот безвольный воспитанник
клуба Кимберлея.
— Постыдная жизнь, — с горечью сказала мне
восемнадцатилетняя работница доков Энн, когда я
задал ей традиционный английский вопрос: «Ното аге
уои?» (Как вы поживаете?) Потом она добавила: —
Хочется заснуть и потом проснуться, — когда будет
хорошо. Или увидеть хороший сон, — и она улыбнулась
мягкой, какой-то виноватой улыбкой.
Этот мотив слышится во многих беседах лондонцев.
Многие хотят если не лучшей жизни, то хотя бы
хороших снов. И как это всегда бывает, — спрос рождает
предложение. А может быть, и предложение
определяет спрос? Ведь так тоже часто бывает. Но, во
всяком случае, здесь много фабрик хороших снов. О них-то
я и хотел бы рассказать в следующих главах.
2. ТОРГОВЦЫ НОВОСТЯМИ
Современная английская газета —
искусное изобретение,
предназначенное для того, чтобы лишить нас
возможности получать настоящую
информацию и разбираться в ней.
(Из книги Д. Томпсона сМеж-
ду строк или как читать газету»,
Лондон, 1940.)
В любой час вы встретите на улицах города эти
маленькие юркие желтые фургончики, облепленные
яркими плакатами. Они мчатся во весь дух, лавируя
среди огромных двухэтажных автобусов, высоких
старомодных такси, солидных машин финансистов и
зеленых «виллисов» американской военной полиции,
39
зорко наблюдающей за поведением своих солдат. Эти
фургончики везут самый свежий и самый
скоропортящийся товар: они забиты доотказа кипами газет.
Где-то в переулке, на перекрестке, объемистые пачки
газет на ходу примут владелец киоска, мальчуган-
велосипедист, солидный продавец в белоснежном, хоть
и заштопанном воротничке. Газетчик отложит в
сторону оставшиеся нераспроданными газеты более
ранних выпусков, бегло глянет на заголовки, и в сутолоке,
гаме и шуме толпы послышится:
— Найден семейный альбом Гитлера! Найден
семейный альбом Гитлера! Двадцатилетняя Алиса Даусон из
Блекпула выиграла семнадцать тысяч фунтов на
двухпенсовый билет, предсказывая итог футбольного
матча! Семнадцать тысяч фунтов на двухпенсовый
билет! Человек убил женщину, которой боялся!
Человек убил женщину, которой боялся!..
И вот уже останавливаются люди, звенят медяки,
шуршат еще пахнущие краской листы газет, и каждый,
заплатив всего лишь один пенс, может узнать
подробности того, как под сундуком с драгоценностями,
принадлежащими любовнице Гитлера, сыщики
американской секретной полиции нашли семейный альбом
«фюрера», а заодно поглазеть на огромные снимки,
воспроизведенные из этого альбома на половину
газетной страницы. Каждый может узнать, что добрый
мультимиллионер Рэнк, король мукомольного дела и
кинематографии, о карьере которого мы расскажем
ниже, взялСя бесплатно преподавать в воскресной
школе, а «злые» югославы «обидели» своего короля,
провозгласив республику. Каждый может прочесть,
что восьмимесячный ребенок, сын американского
офицера, перелетел в качестве безбилетного пассажира
через океан и при этом никого не беспокоил, а
неутомимые следователи Ск'оттланд-ярда напали на след еще
одного опаснейшего убийцы.
Мальчуган-велосипедист, подхватив кипу газет, идет
на ловкий трюк. Объезжая кварталы, которые он
обслуживает, этот маленький газетчик разбрасывает
пачки газет на видных местах. Прохожие нагибаются,
берут газеты, оставляя пенсы на асфальте. Когда
40
велосипедист возвращается, ему остается совершить
еще один круг, чтобы собрать медяки. К этому времен»
подоспеет фургончик с новой партией более свежего
товара: начиная с одиннадцати часов утра выходят
вечерние газеты, причем каждый выпуск
распространяется примерно через два часа после предыдущего.
И повсюду — на улицах, в вагонах метро, в автобусах
и такси белеют развернутые листы пестрых,
изобилующих фотографиями и рисунками газет.
Газеты здесь совсем не похожи на наши, и цели их
совсем иные. Директор британского телеграфного-
агентства Рейтер назвал информацию товаром. И товар-
этот имеет свои совершенно определенные свойства.
Он рассчитан не только на тех, кто в эти трудные дни
хочет уснуть, чтобы видеть хорошие сны, но и
убаюкивает тех, кто спать не хочет. Пусть люди поверят, что»
все миллионеры добрые, желающие счастья бедным
людям, что на Балканах живут злые и злобные,
коварные варвары, а Советский Союз... Что ж, Советский
Союз был союзником Англии в войне, и народ очень
хорошо запомнил и Сталинград, и Берлин, полюбил»
Космодемьянскую и Матросова. Повсюду здесь пели
«Полюшко-поле» и «Авиамарш». В магазинах бойко
шла торговля учебниками русского языка и словарями.
Но это беспокоило и злило людей Сити, и по их указке
послушная пресса газетных королей начала травлю
всего советского.
Как-то в одном из многочисленных мелких
книжных магазинчиков, которые в изобилии представлены
на Флит-стрите, я купил прелюбопытнейшую
книжонку — учебник газетного дела, составленный
Уорреном и многозначительно названный — «Журнализм1
от А до 2». Он открывался афоризмом: «Газета — это
циферблат часов человечества», и первый раздел его
красноречиво назывался: «Журнализм как карьера».
В главе «Влияние на общественное мнение» я прочел
следующие многозначительные строки:
«Газеты оказывают на общественное мнение гораздо*
большее влияние, чем это обычно сознают... Человек
с улицы, может быть, этого не захочет признать, но онь
безусловно, покупает уже готовыми все свои мнения.
41
Как и в былые времена, так и сейчас газета
осуществляет свое влияние прежде всего в политической
области и главным образом с помощью руководящей
редакционной статьи. Автор передовых должен уметь
с одинаковой легкостью писать на любую тему. Он
является орудием редакторской политики, и в первую
очередь у него не должно быть личных мнений по
вопросу, по которому он обязан высказать уже
взвешенное суждение своей газеты. Если же у него есть
свое особое мнение, то он должен его самым
тщательным образом скрывать. У него не должно быть
внутренних возражений против основных тезисов своей
передовой. Он тогда не будет насиловать свою
совесть-
Каждый редактор, дорожащий своей работой,
должен стараться избегать столкновений с хозяином
газеты, будь то по линии профессиональной или
общественной. Не один известный журналист ломал себе
шею в том случае, когда его интересы оказывались
в противоречии с интересами владельца газеты.
Блестящий редактор газеты «Стандард» Томас Хэмбер
испытал это на себе больше пятидесяти лет назад.
А история, как известно, повторяется, и такой же
самый случай произошел недавно с другим редактором
с многолетним стажем, который был выкинут на улицу
только потому, что его успех в обществе задел
тщеславие лиц, занимавших в отношении его положение
хозяев. Здесь поэтому необходимо соблюдать
максимальную осторожность.
Каждый редактор раньше или позже убеждается
в том, как опасно говорить правду на столбцах
газеты...»
Как часто в дни пребывания в Лондоне мы получали
возможность наблюдать, сколь последовательно и
упорно эти заповеди буржуазной журналистики
претворяются в жизнь...
Мы приехали в Лондон в самый разгар «атомной
лихорадки», охватившей осенью 1945 года всю
английскую и американскую печать. Не было дня, чтобы
огромные аншлаги об атомной бомбе не пересекали
газетные полосы.
42
Явное, ничем не прикрытое злорадство сквозило
в выступлениях многих газет, наперебой спешивших
убедить своих читателей в том, что секрет атомной
бомбы якобы останется достоянием «двойки» —
США и Англии. И тут же, рядом, из номера в номер
многие газеты публиковали совершенно невероятные
басни о положении в советской зоне оккупации
Германии.
«Клевещи, клевещи, что-нибудь да останется», —
этот древний иезуитский завет является первой
заповедью продажной капиталистической прессы. Но есть
и другой метод — молчать, скрыть от читателей
важное сообщение.
Всемирная конференция молодежи была крупнейшим
событием в международном движении молодежи,
стремящейся укрепить единство, достигнутое в ходе войны,
закрепить победу над фашизмом. В Лондон съезжались
представители молодежи шестидесяти трех стран.
В тесных комнатках Всемирного совета молодежи,
созданного еще в 1942 году на Первой мировой
конференции демократических молодежных организаций,
звучала разноязычная речь. Забыть ли памятный вечер у
Альберт-холла, где состоялось торжественное
открытие конференции, когда автобусы нашей делегации
были буквально блокированы огромной толпой,
приветствовавшей людей из СССР? Гремели
аплодисменты, звучали русские песни на английском языке, к
окнам автобуса тянулись руки с блокнотами:
«Автограф! Автограф!»
В тот вечер шесть тысяч лондонцев пришли в
Альберт-холл, чтобы вместе с делегатами конференции
отпраздновать ее открытие и продемонстрировать силы
единства. Все присутствовавшие в зале стоя,
торжественно, слово за словом, повторили клятву
участников конференции:
— Мы будем бороться за единство молодежи во
всем мире, за единство молодежи всех рас, всех цветов
кожи, всех национальностей и верований. Мы будем
бороться за уничтожение остатков фашизма на всей
земле. Мы будем бороться за глубокую, искреннюю
дружбу народов, за справедливый и длительный мир,
43
за искоренение нужды и безработицы. Мы собрались
сюда, чтобы делами подтвердить единство всей
молодежи.
Ну, а что же появилось назавтра в лондонских
газетах? Как реагировала печать на эту волнующую
демонстрацию молодых сил демократии мира? Такая
крупнейшая газета, как «Дейли экспресс», ни строки не
уделила открытию конференции, словно ее и не было.
Многие другие газеты также замолчали конференцию,
либо ограничились опубликованием коротеньких
заметок под двусмысленными заголовками: «Мир или
конец цивилизации?» — так назвала свое сообщение об
открытии конференции «Дейли телеграф энд Морнинг
пост». «Молодежь 64 наций будет рисковать всем», —
вторила ей «Дейли мейл».
Когда же деловая работа конференции,
развернувшаяся вполне успешно, привела к принятию решений,
направленных на борьбу с остатками фашизма, и когда
в порядок дня стал вопрос о создании Всемирной
федерации демократической молодежи, некоторые газеты
неожиданно предприняли яростные атаки против
конференции, которую несколько дней назад приветствовали
сам король и руководители правительства.
«Кто позволил этой конференции собраться? —
завопила «Ивнинг ньюс». — Кто выбрал ее делегатов? Кто
предоставил им пропуска в нашу страну в то время,
как самые отчаянные, душераздирающие
обстоятельства считаются недостаточными, чтобы получить
пропуск обычным гражданам? Кто предоставил им места
в гостиницах Лондона, столь переполненных, что
английским посетителям из провинции приходится
поворачивать обратно? И зачем (вопрос не случаен) они
здесь?.. Их дискуссии, кажется, происходят на строго
политической основе. Они «требуют» уничтожения
режимов и институтов, которые им не нравятся. В самом
деле, мисс Китти Бумла произнесла речь, «требуя»
свободы для Индии. Обычно ущерб от юношеского
проявления горячности невелик. Но горячность такого сорта
и в настоящий момент, когда серьезные проблемы стоят
перед взрослыми умами человечества, является дорого
стоящей и тенденциозной. Публичность же, которая
44
придается ей, сама по себе выходит за всякие
границы...»
Конечно, эти выкрики никого не испугали и не
помешали конференции успешно завершить свою работу.
Но они весьма характерны для тех органов печати,
которые посвятили свою деятельность упрямой и
бессмысленной борьбе за сохранение всего старого и
отжившего, против всего молодого и здорового. И,
прожив в Лондоне несколько недель, мы перестали
удивляться тому, что некоторые газеты гораздо охотнее
печатают портреты Геринга и Гесса, чем
фотодокументы о зверствах нацистов, что выдержки из
дневника любовницы Гитлера Евы Браун публикуются на
самом видном месте, а информация о развитии стран
новой демократии вовсе не печатается.
Один англичанин сказал нам:
— Вы допустили бы непоправимую ошибку, если бы
попытались по страницам наших газет составить хоть
отдаленное представление о том, как мы живем и что
мы думаем.
— Но зачем же вам нужно это кривое зеркало? Как
вы терпите его?
Англичанин усмехнулся:
— Каждый в праве торговать тем товаром, который
у него есть. Это заповедь нашей демократии.
Присутствовавшие при этой беседе советские
делегаты на Всемирной конференции недоуменно пожали
плечами.
Мы вспомнили этот разговор, когда побывали на
Флит-стрите.
Как я уже упоминал, эта узенькая горбатая улица
является преддверием Сити, делового района Лондона.
Она тянется дугой от высокой колонны с драконом —
символического пограничного столба Сити, у которого
еще недавно король, проезжавший городом, должен
был останавливаться и ждать, пока придет лорд-мэр
и разрешит ему проехать до собора святого Павла.
Круглые сутки улицу оглашает глухой рокот ротаций,
ежедневно пожирающих 800 тонн бумаги. Непрерывные
вереницы грузовиков катят отсюда во все концы
Лондона и к вокзалам со свежими тиражами газет.
45
Прямо против солидного, несколько старомодного
особняка «Рейтер», с вестибюлем, выложенным
полированным вулканическим туфом, высится дом «Дейли
экспресс» в ультрасовременном стиле — весь из
черного и белого стекла. Чуть поодаль — массивный тем-
носерый дом «Дейли телеграф энд Морнинг пост».
В переулке — «Дейли мейл», «Ньюс оф Уорлд»,
«Ньюс кроникл».
Неторопливо шагают усатые курьеры с гвардейской
выправкой. Подкатывают к подъездам старомодные
машины— репортеры подвозят кассеты с фотографиями.
Позванивают в вестибюлях аппараты пневматической
почты. Дробно стучат буквопечатающие телеграфные
аппараты, передающие свежую информацию из
агентств. Фургончики с газетами уходят по строгому
расписанию — что бы ни стряслось на земле, первое
издание завтрашнего номера должно начать
печататься ровно в десять часов вечера, иначе газета
опоздает на поезд, уходящий в Шотландию, и издатель
потерпит убыток.
Без малого двести лет печатают здесь газеты.
Первый номер «Тайме», недавно праздновавшей выход
своего пятидесятитысячного номера, был отпечатан вот
здесь же, на Флит-стрите, 1 января 1785 года. И здесь
же рассматривал первый номер своей газеты Чарльз
Диккенс, — теперь эта газета называется «Ньюс
кроникл», и бюст великого английского писателя стоит
в вестибюле редакции. Но много воды утекло в Темзе
с тех пор, как начали выходить газеты на Флит-стрите,
и пребывание бюста Диккенса в прихожей «Ньюс
кроникл» воспринимается сегодня как знамение
кощунства над памятью великого писателя...
В мире, где все определяется поисками прибылей,
пресса давно уже рассматривается как одна из
отраслей промышленности, и притом одна из самых
доходных отраслей. Каждый экземпляр газеты стоит только
пенс. Но когда газета печатается тиражом около
четырех миллионов, как «Дейли экспресс», или в семь с
половиной миллионов, как воскресная — «Ньюс оф
Уорлд», то эти пенсы складываются в весьма круглые
суммы. Естественно, что газетная отрасль индустрии.
46
как и всякая другая, постепенно переходила в руки
самых мощных финансовых кругов.
По признанию бывшего редактора газеты «Дейли
геральд» Френсиса Уильямса, газеты в Англии «стали
коммерческими предприятиями», а журналистика
«превратилась в отрасль коммерции». Уильяме говорит
в связи с этим, что журналист в Англии превратился
в «ремесленника, нанимаемого для того, чтобы
изготовлять изделия, приносящие прибыль, словно речь идет
о производстве бисквитов или мыла».
Уильяме, конечно, не договаривает до конца...
Коммерция — коммерцией, а политика — политикой. Они
не противоречат друг другу в мире английской прессы,
а взаимно дополняют и направляют друг друга. И
недаром правительство Великобритании так щедро
одаривает газетных магнатов громкими титулами — в поте
лица своего трудятся они над укреплением
расшатываемых социальными потрясениями основ британского
империализма. По справке Гарриса в книге «Ежедневная
пресса», первым из многочисленных «газетных пэров»
был лорд Гленеск из «Морнинг пост». Два брата Харм-
сворт получили звания лордов Нортклиф и Ротермир.
Три брата Бэрри стали лордами Кэмроз, Кемзли
и Бекленд. Джордж Риддель из «Ньюс оф Уорлд»
получил титул баронета, а затем барона, а Элиас,
являвшийся фактическим хозяином «Дейли геральд»
и «Пипл», стал лордом Сауевудом.
Пресса, издаваемая на деньги всех этих «газетных
пэров», много и охотно говорит о свободе слова, о
священных принципах демократической прессы. Она
негодует при одном упоминании о цензуре. Но всегда и при
любых обстоятельствах где-то там, по ту сторону
газетного листа, угадывается направляющая рука
осторожного и расчетливого хозяина, который навевает
потребителю именно те сны, какие нравятся ему
самому.
Цифры тиражей английских газет весьма
внушительны. В 1945 году в Англии выходили 51 утренняя»
86 вечерних и 18 воскресных газет. Для того, чтобы
отпечатать такое большое количество изданий,
требуются немалые усилия полиграфии, и воскресные га-
47
зеты, объем которых, как правило, вдвое больше
ежедневных, начинают печататься уже в четверг, чтобы
в течение воскресного дня газета попала в почтовый
ящик каждого подписчика.
Наиболее крупные газеты трестированы, объединены
в руках одного хозяина. Так, лорд Бивербрук держит
под своим непосредственным контролем ежедневную
«Дейли экспресс», вечернюю «Ивнинг стандарт» и
воскресную «Санди экспресс». Купив «Дейли экспресс»,
он не поскупился на затраты, построил первоклассную
типографию, пригласил лучших репортеров и создал
первую в Англии газету американского типа. Затраты
окупились — тиражи «Дейли экспресс» быстро выросли,
и эта газета в короткий срок стала одной из самых
распространенных. Она отличается яркой, броской
версткой. Однако прекрасные технические средства,
которыми располагают газеты Бивербрука, сплошь и рядом
используются не для того, чтобы читатель получал
полноценную и объективную информацию, а для того,
чтобы ввести в заблуждение, представить в неверном,
извращенном свете международную и внутреннюю
обстановку.
Пресса лорда Ротермира всегда была и осталась
рупором самых реакционных английских кругов. Ротермир
издает «Дейли мейл», имеющую тираж два миллиона
экземпляров, вечернюю газету «Ивнинг ньюс» с
тиражом свыше полутора миллионов экземпляров, — ту
самую, которая так беззастенчиво облила грязью
Всемирную конференцию молодежи, — и воскресную «Санди
диспатч», имеющую тираж свыше двух миллионов
экземпляров. (Эти цифры относятся к 1947 году.) Нет
такой дичайшей газетной утки, которая не нашла бы
себе пристанища на этом грязном птичнике.
Трестирование распространяется и на
провинциальную печать. Тому же Ротермиру принадлежат десять
провинциальных вечерних газет и восемь
еженедельников. Лорд Кемзли контролирует четыре лондонских
и двадцать провинциальных газет. 12 октября 1945 года
мы прочли в еженедельнике «Спектейтор» следующие
строки:
«Как сообщают, лорд Кемзли приобрел через один из
48
своих синдикатов две газеты в ланкаширском городе
Блекберн. Этот факт сам по себе не представлял бы
большого интереса, если бы лорд Кемзли уже не
контролировал огромного числа газет.
В Лондоне он держит в своих руках газеты «Санди
тайме», «Дейли скетч» и «Санди график» 1. Может
показаться, что это не так уж много. Но он также
является председателем акционерных обществ «Эллайд
ньюспейперс» (Север страны), «Ассошиэйтед
ньюспейперс» (Шотландия), «Ньюкасл кроникл», «Норс-истерн
ньюспейперс» (северо-восток страны), «Шеффильд
ньюс-пейперс», «Уэстерн мейл энд экоу» (Южный
Уэльс). Кроме трех вышеуказанных лондонских газет,
его компания контролирует в Манчестере газеты:
«Дейли диспатч», «Ивнинг кроникл», «Санди кроникл»,
«Санди рефери», «Эмпайэр ньюс», «Уикли телеграф»;
в Абердине — «Пресс энд джорнэл» и «Ивнинг
экспресс»; в Ньюкасле — «Джорнэл энд норе мейл»,
«Ивнинг кроникл» и «Санди сан»; в Мидлсборо —
«Ивнинг газетт»; в Южном Уэльсе—«Уэстерн мейл энд
саус Уэйлс ньюс», «Саус Уэлс экоу энд ивнинг
экспресс», в Глазго — «Дейли рэкорд», «Ивнинг ньюс»
и «Санди мейл»; в Шеффильде — «Телеграф энд инде-
пендент» и «Стар».
«Конечно, — писал «Спектейтор», — в этом нет
ничего незаконного. Это напоминает экспансию таких
крупных трестов, как «Имперский химический трест»
и «Ливере», которые действуют в других областях.
Совершенно другой вопрос —насколько желательно,
чтобы газеты... рассматривались как предмет
торговли».
Несколько слов о газетах, принадлежащих не столь
мощным газетным трестам, нежели те, о которых
только что шла речь, но, тем не менее, играющим
весьма видную роль в «обработке» британского
общественного мнения.
1 По данным, относящимся к июню 1947 года, лорд Кемзли
держит в своих руках «Санди тайме» с тиражом 557 000
экземпляров, «Дейли грэфик» с тиражом 762 000 экземпляров, «Санди
кроникл» с тиражом 380 000 экземпляров, «Санди грэфик» с
тиражом 1 154 000 экземпляров и 20 провинциальных газет.
4 На Западе после войны 49
Лорд Кэмроз (брат лорда Кемзли) владеет
крупнейшей консервативной газетой «Дейли телеграф энд мор-
нинг пост», тираж которой в 1947 году перевалил за
миллион экземпляров, и малораспространенным, но
влиятельным органом банковских кругов —«Файнэншл
тайме».
На массового читателя рассчитаны две бульварных
газетки — ежедневная «Дейли миррор» (тираж свыше
3 600 000 экземпляров) и воскресная «Санди Пикто-
риал» (тиражом свыше 3 800 000 экземпляров). Сумма
акций этих двух газет достигает внушительной цифры
в 15 миллионов фунтов стерлингов. Эти акции
распределились среди многочисленных держателей после того,
как прежний хозяин «Дейли миррор» лорд Ротермир
распродал их на бирже. Но курс этих газет не
оставляет никаких сомнений в том, кто орудует за их
кулисами: хотя они подчас и маскируются «левой»
демагогической фразой, но каждой строкой своей «Дейли
миррор» и «Санди Пикториал» верой и правдой служат
интересам заправил Сити.
Весьма характерен для нравов Флит-стрита
извилистый курс «либеральной» газеты «Ньюс кроникл»,
обладающей тиражом в 1 623 000 экземпляров. Как я уже
упоминал, эта газета не устает подчеркивать, что ее
родоначальником был Диккенс — имя великого
писателя придает ей респектабельность. Но даже в Англии
трудно найти таких наивных людей, которые поверили
бы в то, что эта газета хранит диккенсовские
традиции. Хозяином «Ньюс кроникл» является шоколадная
фирма Кетбурн, рассматривающая свою газету как
побочный источник доходов и как удобное орудие для
защиты своих политических интересов. Политический
курс газеты определяет, главным образом, сэр Уолтер
Лейтон — один из директороз газеты, друг Уинстона
Черчилля и ярый поборник его плана создания
«Соединенных Штатов Западной Европы». Естественно, что
«либеральная» оболочка, которой редакция «Ньюс
кроникл» пытается облечь свою политику, является лишь
маскировкой, прикрывающей ее глубоко реакционную
сущность.
Легче всего определить подлинное существо любой
50
буржуазной газеты по одной черте: как она относится
к Советскому Союзу. В этом отношении позиция
«Ньюс кроникл» не оставляет никаких сомнений.
Достаточно сказать, что в самый канун Великой
Отечественной войны, в мае —июне 1941 года, она предоставила
свои страницы для целой серии клеветнических,
антисоветских статей своего московского корреспондента
Скотта. Когда СССР мужественно отражал атаки
германских фашистов и громил их, «Ньюс кроникл»
временно воздерживалась от антисоветских выпадов, —
в те дни помалкивала даже «Дейли мейл», зная, что
самые широкие массы англичан следят с восхищением
за отважной борьбой советского народа за свою
независимость и за освобождение всей Европы от фашизма.
И, тем не менее, в марте 1942 года «либералы» из
«Ньюс кроникл» не утерпели и перепечатали из
«Таймса» антисоветскую статью Бевериджа...
Когда же война окончилась и антисоветские
клеветники, переведя дух, опять затянули свою заунывную
песню, «Ньюс кроникл» не замедлила присоединиться
к ним !.
Особо следует сказать о газете «Дейли геральд»,
которая известна как главный орган лейбористской
партии. Ни для кого, однако, не составляет секрета
1 К моменту сдачи этой книги в печать политическая
физиономия «Ньюс кроникл» -окончательно определилась. Теперь ее
писания, по сути дела, ничем не отличаются от того, что
публикует консервативная пресса. В начале 1948 года Лейтон провел
своеобразную «чистку» аппарата редакции, выпроводив за двери
тех, кому не по вкусу был избранный им политический курс. Так,
редактор Джеральд Бэрри был заменен некоим Крукшэнком,
бывшим редактором вечерней газеты «Стар», принадлежащей
той же фирме; во время войны Крукшэнк был директором
американского отдела министерства информации. «Ньюс кроникл»
отказалась от услуг Своего московского корреспондента Паркера,
который присылал объективную информацию и воздерживался
от антисоветских выступлений. Зато с легкой руки сэра Уолтера
Лейтона «Ньюс кроникл» теперь гостеприимно предоставляет
свои страницы таким мракобесам, как фюрер английского
фашизма Освальд Мосли; в пространном интервью, опубликованном
в этой «либеральной» газете на видном месте в октябре 1947 года,
Мосли выражал надежду на то, что довольно скоро
«существующая система перестанет оправдывать ожидания английского
народа» и что тогда британский фашизм «скажет свое слово»...
4+
51
тот факт, что 51 процент акций газеты принадлежит
фирме Одхэмс К
Мне остается, в завершение, упомянуть о двух
газетах, находящихся за пределами Флит-стрита и
занимающих позиции на прямо противоположных полюсах
социальной жизни и политической борьбы. Это —
старейшая из английских газет — «Тайме» и самая
молодая из них — «Дейли уоркер». «Тайме»
эвакуировалась с Флит-стрита в период немецких воздушных
налетов, отыскав уголок потише и поспокойнее. «Дейли
уоркер», основанная всего полтора десятилетия
назад, предпочитает работать там, где живут и
трудятся ее друзья и читатели — рабочие Лондона: в
промышленном районе Кингс-Кросс.
Тиражи этих двух газет относительно невелики:
«Тайме» печатается в количестве 270 тысяч
экземпляров, «Дейли уоркер» обладает тиражом в 120 тысяч
экземпляров. Но именно эти две газеты дают
исчерпывающее представление о двух мирах, на которые
расколота Англия — о мире старом, уходящем, отмирающем
и о мире молодом, растущем, крепнущем...
«Тайме» — старейшая в Великобритании газета —
именует себя «независимой», хотя по существу она
является лейб-органом английской реакции. Ее
владельцы — консерваторы Джон Астор и Джон Уолтер.
Самим видом своим эта газета как бы говорит
читателям: «Чтобы ни случилось в мире, — «Тайме» оста-
чется неизменной. Неизменной должна остаться и
Англия». Огромные полосы этой восьмистраничной газеты,
обладающей .самым большим в Англии форматом,
1 «Дейли геральд» составляла раньше личную собственность
лорда Саусвуда. После его смерти в 1946 году ее акции перешли
к фирме Одхэмс, которую он возглавлял. Когда лейбористы
попытались выкупить газету, предусмотрительные коммерсанты
от газетного дела согласились уступить им только 49% акций,
с тем, чтобы оставить последнее слово при решении важнейших
вопросов за собою. На том и поладили. 51% акций принадлежит
фирме Одхэмс, 49% —тред-юнионам. Бюро директоров «Геральд
трибюн» состоит из девяти человек — пятеро из них назначаются
фирмой Одхэмс, четверо — тред-юнионами. Таким же образом
осуществляется руководство принадлежащей тем же хозяевам
воскресной газетой «Пипл» (тираж 4 514 000 экземпляров) и
спортивной газетой «Спортинг Лайф».
52
сохраняют почти ту же внешность, как и тридцать,
пятьдесят, сто лет назад. Они лишены кричащих
аншлагов и многочисленных клише, столь характерных
для всех остальных органов печати. Вся первая
страница отводится под объявления, набранные
мельчайшим шрифтом. «Тайме» уделяет меньше места
уголовным сенсациям, до которых так падки газеты Флит
стрита. Она не гонится за большим тиражом — ведь
это газета «деловых людей», она рассчитана на узкий
круг читателей. Нам говорили, что чуть ли не половина
тиража «Тайме» уходит за границу, — известно, что
устами этой газеты чаще всего говорит британское
министерство иностранных дел. Нарочито солидная,
респектабельная внешность необходима «Тайме» как
удобная маска. В таком облачении ей куда удобнее
выполнять задачи, поставленные перед ней ее
хозяевами.
А задачи эти, в сущности, те же, какие стоят перед
всей буржуазной прессой. «Тайме» отличается от
какой-нибудь «Ньюс кроникл» или «Дейли мейл» или
даже «Дейли грэфик» лишь тем, что здесь искусство
вводить читателя в заблуждение, сбивать его с толку,
это искусство здесь поднято на особую высоту.
«Тайме» является штабом дезинформации
британского общественного мнения. Сами английские
журналисты говорят, что именно «Тайме» чаще всего
выступает с так называемыми «пробными шарами»,
публикуя то или иное заведомо лживое сообщение, чтобы
британское министерство иностранных дел могло
испытать, как оно будет воспринято за границей.
Известно, что «Тайме» рьяно защищала политику
«умиротворения» фашистских агрессоров, которую вел
Чемберлен. Известно, с какой энергией «Тайме» вела
и период Мюнхена кампанию в пользу капитуляции
перед агрессором. Известно, наконец, что «Тайме»
всегда и при всех обстоятельствах занимала и
занимает антисоветскую позицию...
Что касается «Дейли уоркер», то она является газе
той совершенно иного типа, нежели все те, о которых
я говорил до сих пор. Она создана передовыми деяте*
лями английского рабочего класса, и читатели ее с
53
большим уважением отмечают, что этой газете, газете
английских коммунистов, можно верить. «Дейли
уоркер» не зависит от прихоти богатых издателей
и рекламодателей, она субсидируется самими
читателями — английскими рабочими и интеллигентами,
которые охотно делятся с нею своими скромными
средствами. В 1945 году мне рассказывали, что каждый
месяц в «Боевой фонд» «Дейли уоркер» тогда
поступало до четырех тысяч фунтов стерлингов. Газета
отпраздновала пятнадцатилетие своего
существования. Создается кооперативное издательство «Дейли
уоркер», которое будет обладать своей собственной
типографией, что даст возможность улучшить
полиграфическое оформление газеты.
«Дейли уоркер» смело поднимает свой голос за
создание демократического мира, разоблачает планы
империалистов, борется против тлетворной, ядовитой
пропаганды, ведущейся силами реакции. И широкие
массы прислушиваются к ее голосу. Они охотно
покупают «Дейли уоркер». Но газета вынуждена
ограничивать подписку в силу до сих пор действующего закона
о бумажных лимитах. Закон этот был принят во время
войны — тогда было решено ограничить отпуск бумаги
газетам уровнем 1939 года. Сильнее всего этот закон
ударил по «Дейли уоркер», которая в 1939 году
обладала небольшим тиражом и издавалась малым
форматом. Газеты же Флит-стрита, уменьшив число полос,
смогли увеличить свои тиражи. Военные ограничения
не сняты до сих пор, хотя нормальное судоходство
между Великобританией и странами, производящими
газетную бумагу, уже восстановлено. Это лишает
* Дейли уоркер» возможности увеличить свой объем
и полностью удовлетворить спрос читателей на
газету...
Для того чтобы поближе познакомиться с той
кухней, на которой ежедневно и ежечасно фабрикуется
скудная духовная пища, предназначаемая
буржуазными издателями для англичанина, группа писателей
и журналистов — участников Всемирной конференции
молодежи — решила нанести визит редакции газеты
«Ньюс кроникл».
54
Мы пришли в редакцию «Ньюс кроникл» в разгар
работы, когда заканчивалась верстка первого издания
газеты — в половине десятого вечера. Оставив свои
пальто и шляпы на подоконнике в вестибюле (в Англии
почему-то не принято устанавливать вешалки в
общественных местах), мы поднялись на лифте на шестой
этаж и, миновав коридор, вошли в большой зал,
разделенный надвое узеньким коридором с невысокими
барьерчиками. Слева и справа стояли письменные
столы, уставленные пишущими машинками. Вдоль
задней стены выстроились телефонные будки со
стеклянными дверьми, похожие на будки наших телефонов-
автоматов. По сторонам от входа были отгорожены
застекленной стеной две просторные кабины. Это и
была редакция — мозг и сердце газеты.
Слева от входа размещался «стол новостей»,
заведующий которым сидел в своей кабине; справа
находились работники секретариата — ночной редактор и
двенадцать подредакторов, занятых обработкой и
подготовкой к печати поступающих в номер новостей.
Открытая дверь вела прямо в наборный цех, где
стрекотали линотипы и целая армия верстальщиков была
занята непосредственным изготовлением будущего
газетного листа.
Ночной редактор, худощавый седеющий газетный
волк, восемнадцать лет просидевший в редакции «Ньюс
кроникл», только что закончил возиться с первым
изданием. У него было четверть часа свободного
времени, пока метранпажи заверстывали последние
новости о результатах собачьих бегов и сдавали полосы
под пресс для матрицирования. Через четверть часа
предстояло начать переверстку — надо было готовить
второе издание, которое выходит к полуночи, для
южных графств острова. Но пока что ночной редактор
был свободен, и он готов был потолковать с
советскими литераторами.
— Ноэл Джозеф, — представился он, потирая лоб.—
Очень рад, очень рад...
Усевшись на столах, мы начали разговаривать о тех
специфических деталях, из которых складывается
шумная и беспокойная газетная жизнь, — о полосах, об
55
аншлагах, о макетах, о том, какие есть в редакциях
отделы.
Нас интересовали некоторые технические подроб
ности организации газетной информации. Как правило,
репортеру, выполняющему срочное задание, предостав
ляется прямой телеграфный или телефонный провод,
связывающий его с редакцией, — об этом беспокоится
та или иная телеграфная или телефонная компания,
связанная выгодным для нее договором с газетой.
Корреспондент по ходу событий передает в редакцию
абзац за абзацом свою будущую корреспонденцию
Эти абзацы, записанные стенографисткой, тут же
расшифровываются и сдаются в набор. Поэтому газета
с описанием того или иного события попадает к чита
телю не позже чем через час после того, как событие
совершилось.
Как правило, информация о важнейших событиях
передается в несколько приемов: вначале идет «мол
ния», одна-две строки, излагающие суть события.
Затем дается сжатое изложение этого события. И, на
конец, передается полный текст. Если в момент
передачи сообщения агентство получает более важное
известие, это сообщение прерывается на полуслове и
телетайп отстукивает новое.
В погоне за сенсацией, за злободневным и
сверхсрочным сообщением буржуазные репортеры идут на
любые трюки. Ведь именно сенсация ценится здесь
выше всего: за новость, которая не появится в других
газетах, репортер может получить самую высокую
премию — до пятисот фунтов стерлингов. И некоторые
отчаянные головы идут на все, лишь бы добыть
сенсацию. Нам рассказывали, что лондонский корреспондент
крупнейшего американского телеграфного агентства
Ассошиэйтед Пресс ухитрился передать в свою редак
цию сообщение о высадке союзных войск во Франции
за день до того, как эта высадка состоялась.
Это сообщение, переданное из Лондона 3 июня
1944 года, выглядело следующим образом: «Срочная
телеграмма для печати, Ассошиэйтед Пресс, Ныо
Йорк, Главная ставка Эйзенхауэра сообщает —
высадка союзников». (Высадка действительно была
5(3
назначена на 3 июня, но ее отложили на двадцать
четыре часа.) Тридцать секунд спустя после приема этой
телеграммы телеграфист агентства Уэстерн Юниок
спохватился, вспомнив, что в телеграмме отсутствуют
три обычные буквы — «пбс» (пассед бай сеншюр —
пропущено цензурой). Он бешено застучал ключом:
«Задержать сообщение, задержать сообщение...» Но
было уже поздно: через минуту после поступления
информации все радиопередачи США были прерваны,
и необычайная сенсация ушла в эфир. И хотя еще
через минуту агентство Ассошиэйтед Пресс сняло свое
сообщение, было уже поздно — сообщение, которое
должно было остаться предметом величайшей военной
тайны, облетело весь мир... Произошел крупный
скандал, но потом дело было улажено — агентство лишь
отозвало из Англии машинистку телетайпа, которая
передавала этот материал по проводу: было
объяснено, что она «тренировалась» в передаче такого
сообщения, забыв, что аппарат включен.
Мистер Джозеф Ноэл подчеркнул, что редакции
очень требовательны к своим сотрудникам в
отношении сроков сдачи материалов. Как бы важно ни было
сообщение, но если оно сдано на четверть часа позже
срока, обусловленного графиком, ему не увидеть света:
в текущий номер оно опоздало, а к следующему уже
> стареет, его опубликуют конкуренты.
Работа редакции газеты начинается здесь в десять
утра, когда в еще пустом зале раздаются первые
телефонные звонки и стенографистки подходят к
аппаратам. Это репортеры, вышедшие с раннего утра на
промысел, поймали первую информационную плотву:
сыщики напали на след убийцы; выздоровел подбитый
в прошлую субботу форвард известного футбольного
клуба; врач, побывавший у принцессы, которой
позавчера удалили аппендикс, сообщил, что температура
у нее нормальная.
Круг тем городского репортера несложен.
Знаменитый король газетного дела лорд Нортклиф так поучал
в свое время редактора отдела новостей своей газеты
«Дейли мейл»: «Мою публику интересуют четыре вещи:
преступления, любовь, деньги и пища». В современных
57
британских школах журналистики эти четыре заповеди
городского репортера буржуазной газеты
расшифровываются следующим образом:
«Основой всего, что вы пишете, должны служить
новости, т. е. новые факты, новые точки зрения, и из
этого должны исходить статьи, чтобы быть
приемлемыми.
Четыре основных фактора, действующие во всем
мире:
1. Деньги. — Все люди должны бороться за свое
существование, за устройство своей жизни. Под таким
заголовком можно писать на всевозможные темы.
2. Пища. — Атмосфера «довольства» хороша,
потому что она ободряет. Атмосфера «нужды» плоха,
потому что действует подавляюще.
3. Вопросы пола. — «Люди» всегда интереснее
«вещей». Этим объясняется популярность статей
психологического характера на темы об отношениях
между мужчиной и женщиной.
4. Здоровье. — Люди больше всего любят
обсуждать вопросы питания или физических и
умственных развлечений, которые поддерживают
здоровье».
Репортера кормят ноги — и он весь день рыщет по
городу. Все чаще звонят телефоны. В отдельной
изолированной комнате стучат дробным стуком
четырнадцать телетайпов, принимающих новости от
абонированных агентств. Прибывают телеграммы от
собственных корреспондентов, находящихся за границей.
Эти телеграммы — рангом выше того, что приносит
в редакцию репортер. Если известия о «преступлениях,
любви, деньгах и пище» должны просто-напросто
забить голову читателю, отвлечь от злободневных
социальных проблем, то телеграммы специальных
корреспондентов и сообщения агентств из-за границы
являются активным средством воздействия на сознание
читателя. Они призваны заставить его воспринять то
толкование международных событий, какое угодно
хозяевам газеты и, в конечном счете, промышленным
монополиям, являющимся подлинными хозяевами всей
58
Великобритании. Эти сообщения принадлежат перу
опытнейших мастеров дезинформации.
Телеграммы из-за границы пойдут в «стол
зарубежных новостей», который помещается тут же в
отдельной клетушке.
Заведующие столами новостей, опытные
журналисты, проработавшие не меньше десятка лет в этой
редакции, приходят к часу дня. Они просматривают
ворох газет и начинают рыться в поступивших инфор-
мациях. Свиток за свитком падают в корзину, и лишь
изредка звякают ножницы — эта новость может
пригодиться. Откладывается в сторону несколько
информации, переданных репортерами, остальные листы
тоже летят в корзину. День еще большой, и много
новостей придет отовсюду.
В половине третьего, после ленча, приходит ночной
редактор, — в английских газетах его именуют
официально главным помощником редактора, но функции
его значительно шире, нежели функции простого
помощника; по существу — это полноправный хозяин
газетного листа. В это же время садятся за свои столы
подредакторы в ожидании работы. Перед ночным
редактором стопка разлинованных листов — сейчас
начнет рождаться план номера, определится его
первоначальный замысел, лицо полос. Заведующие столами
новостей приносят информацию. Курьер доставил от
редактора просмотренную им статью. Кстати говоря,
редактор не частый гость в редакции. Он читает только
наиболее важные выступления. Все остальное — на
совести ночного редактора.
В своем учебнике газетного дела Л. Уоррен
следующим образом характеризует его функции:
«Осуществляя все функции капитана (за исключением
установления курса корабля и несения ответственности за
благополучное плавание), главный помощник
редактора — второе лицо в командовании. Он выполняет
роль редактора во всех вопросах, не связанных с
верховным руководством и ответственностью по закону.
Помощник редактора не диктует политику газеты, но
он несет прямую ответственность за самый характер
оформления газеты, за то, как она делается и как она
59
подается публике... Синий карандаш помощника
редактора является более мощным оружием, чем перо и
меч. Помощник редактора решает судьбы всех
материалов, которые попадают к нему в форме рукописей,
телеграмм, телефонных и устных сообщений...
Помощник редактора накладывает свою печать на газету
тысячами различных способов — той или иной
изощренной формой подачи, сокращением или
расширением данного сообщения, расположением отдельных
сведений... Он должен учитывать сотни всякого рода
соображений: в какой мере соответствуют
политические отчеты, окрашенные определенным образом,
политике его газеты? Какой вопрос больше всего
«играет»? Что важнее в данный момент? При всем этом
помощник редактора должен быть начеку в ожидании
какого-либо боевого материала, который победил бы
всех конкурентов в завтрашних газетах...»
Не один десяток исчерченных макетов летит под
стол, пока родится окончательный план номера —
события в течение дня накапливаются, обгоняя друр
друга. В конце концов определяется бесспорный
«гвоздь» первой полосы — репортаж об отлете Эттли
в Соединенные Штаты на встречу с Трумэном. Этому
визиту в английских дипломатических кругах
придавали особое значение: свежеиспеченный
«социалистический» премьер-министр мчался на крыльях в
Вашингтон, чтобы рассеять там всякие опасения по
поводу смены кабинета, показать, что лейбористы не
представляют никакой угрозы Сити и Уолл-стриту и
что, в сущности, ничего не меняется от замены
Черчилля и Идена Эттли и Бевином. Самолет поднялся
с аэродрома Норфольк в 6 часов 30 минут вечера, на
репортеры успели доставить в редакцию Ь отчет о
проводах, и снимки улыбающегося премьера. На шесть
колонок дается аншлаг: «Эттли летит в США:
переговоры завтра». Второй крупный заголовок сообщает
«Эксперты по атому будут вести отдельные
переговоры».
Здесь же, на первой полосе, ночной редактор
размещает и остальные, наиболее важные, с его точки
зрения, сообщения. С помощью подредакторов о»
60
оснащает эти сообщения бойкими, лаконичными
заголовками, рассчитанными на то, чтобы сразу же
поразить читателя, заставить его купить и прочесть газету:
«Сурабайя: флот прибывает. 31 убиты».
«Заговор — убить кабинет Франко».
И рядом информации, рассчитанные на вкусы того
среднего английского обывателя, за которым охотятся
все торговцы новостями, наперебой предлагая ему свой
товар. Вот два портрета — мать и сын. Надпись
гласит: «Они обожали Гитлера». Текст «стори» поясняет:
эта семейка до войны эмигрировала из Англии в
Германию, а сынок окончил школу Гитлер-югенда и стал
пропагандистом фашистских идей. Рядом заметка:
«Меня чуть не хватил удар, когда мы нашли вино».
Это информация о том, как шесть английских
офицеров, включая одного священника, разграбили винный
погреб в Мюнстере, за что попали на скамью
подсудимых. Еще заметки: «Разбился трофейный самолет»,
«Девушка помогла преступнику убежать», «Женщины
не допущены на королевский завтрак».
Новости, для которых не нашлось места на первой
полосе, ночной редактор перебрасывает на четвертую
страницу, которая считается второй по значению. Здесь
на самом видном месте он помещает речь Эттли на
завтраке у лорда-мэра: «Эттли перед выбором: мир
или катастрофа». Как всегда, половина полосы
отведена спортивной хронике: здесь статья о знаменитой
ирландской лошади, которая имеет шансы выиграть
большой национальный приз на предстоящих скачках,
сообщение о том, какие требования предъявили своей
ассоциации футболисты, угрожающие забастовкой,
списки собак-чемпионов гонок, на которых стоит
ставить в тотализаторе.
На третьей полосе, обычно посвящаемой
злободневным внутренним темам, ночной редактор разместил
заметки, отвечающие вкусам либерально настроенного
читателя: «Девушек выбросили с работы за то, что
они носили штаны», «Слишком высокая плата за
квартиру», «Угроза забастовки на газовом заводе».
Вторая полоса на этот раз являлась традиционной
субботней страницей. Материалы для-нее были забла-
61
говременно сданы «редактором статей». Здесь, как
всегда по субботам, ночной редактор поместил
кинообозрение, театральную рецензию, радиообозрение,
советы садоводам и набор острот, которыми каждый
читатель может воспользоваться в часы воскресного
досуга. Одна колонка второй полосы в «Ньюс кро-
никл», как и во всех других газетах, отводится под
заметки, отдаленно напоминающие по своему
назначению передовые статьи. Это сжатые, по двадцать,
тридцать строк, комментарии к важнейшим событиям
злобы дня. Эти комментарии и определяют в
значительной мере политическую линию газеты.
Вот так и выглядел в те дни рядовой, будничный
номер английской буржуазной газеты, пытавшейся
представить себя в глазах читателя либеральной.
В этом номере не было ни одной статьи с открытыми
антисоветскими выпадами, не было ни одного
выступления, которое откровенно призывало бы к подавлению
демократических сил. Но при всем этом в каждой
заметке, в каждой строке давала о себе знать
совершенно недвусмысленная политическая тенденция
хозяина газеты — сэра Уолтера Лейтона — друга Уин-
стона Черчилля...
Эту хитрую механику обработки общественного
мнения британские газетные дельцы постигли уже давно.
И сейчас, раздумывая над своими записями,
посвященными визиту в одно из капищ английской
буржуазной журналистики, я невольно возвращаюсь к изданной
в Лондоне еще в 1940 году книге Денниса Томпсона,
которая называлась «Между строк или как читать
газету». Я позволю себе здесь привести пространную
выдержку из этой книги, как показание свидетеля,
являющегося коллегой британских буржуазных
журналистов и, несомненно, весьма сведущего в том
предмете, о котором он судит.
«В области обработки и подачи информации, —
писал Деннис Томпсон, — пресса обладает огромной
властью, но очень немногие газеты пользуются ею
добросовестно...
Один из принципов, которым руководствуются все
газеты, заключается в том, чтобы не допускать опуб-
62
ликования всякого рода сообщения и комментарии,
которые могут дискредитировать существующий
порядок. Газеты процветают при теперешней
экономической системе, поэтому, несмотря на все ее серьезные
недостатки, эта система должна поддерживаться и
одобряться. Всякие сообщения о беспорядках в
промышленных районах, о распространении коммунизма,
непосильном труде, усилении пацифистских настроений
либо совсем не допускаются, либо затушевываются.
И, наоборот, все, что может служить для прославления
существующего порядка, особенно выделяется и
подчеркивается. От этого непосредственно зависит
процветание самой газеты.
Сообщения, которые могут неблагоприятно
отразиться на акциях компании, связанной с определенной
газетой, обычно не печатаются. В случае, если известие
настолько важно, что конкуренты его особенно
отмечают, газета отведет ему незаметное место на одной
из последних страниц. В газете, связанной с банками,
никогда не будет критиковаться банковская система.
Крупные промышленные страховые компании также
имеют достаточное влияние на прессу, чтобы в ней не
печаталось ничего, что могло бы нанести им ущерб.
По прихоти издателя, контролирующего
информацию, могут совсем не упоминаться произведения того
или иного писателя, священника или экономиста.
В случае, если автор очень видное лицо, разрешается
поместить о нем небольшую заметку. Лорд Болдуин
заявил несколько лет назад, что «газеты,
руководимые лордом Ротермиром и лордом Бивербруком, не
являются газетами в общепринятом смысле. Это —
орудия пропаганды постоянно меняющейся политики,
личных стремлений, вкусов и взглядов двух людей.
Каковы их методы? Они заключаются в прямой
фальсификации, неправильном освещении, наполовину
правдивом изложении и искажении речи оратора путем
добавления фраз, помимо контекста, в замалчивании
речи и в критике выступлений, которые не приводятся
газетой. Владельцы этих газет хотят обладать властью,
но властью без ответственности, что во все времена
являлось прерогативой куртизанок...»
63
Читателя побуждают не придавать большого
значения политическим, экономическим и международным
«опросам. Он, может быть, не сознается в этом
открыто, но в действительности его больше всего
интересует садоводство, спорт, кино и т. д., и в этих
областях он получает исчерпывающую
информацию...
Современная газета содержит не только
информацию о садоводстве, указания, что нужно для того,
чтобы быть красивым, как держать себя во время
ухаживания, в супружеской жизни, в обществе других
людей, газета рекомендует различного рода
литературу и развлечения, помещает кроссворды и т. д. и,
кроме того, печатает рекламы, занимающие несколько
страниц. Все это способствует формированию
определенного мнения и возбуждает интерес читателей.
Даже в таких органах, как «Тайме» и «Дейли
телеграф», спортивным новостям сейчас отводится гораздо
больше места, чем прежде, когда играми
интересовались лишь одни игравшие. Другого рода интерес
стимулируется такими сообщениями:
1. «Женщин, которые ездят на охоту, волнуют
специфические вопросы, касающиеся поддержания
красоты. Их интересует, например, вопрос, как сохранить
в течение целого дня, проведенного на охоте с
собаками, всю наведенную красоту на лице и не выглядеть
поблекшей» (далее следуют указания для разрешения
этой «проблемы»).
2. «Умная женщина приспособляет свое лицо к
сезону или к платью, которое она надевает... Этой осенью
в моде будут синие ресницы к вечернему платью.
Окраска ногтей будет менее яркой, чем сейчас».
Вторая выдержка, как и следует ожидать, взята из
одной лондонской вечерней газеты. Но первая
заимствована из «Дейли телеграф». Вполне естественно, что
лица, которые станут придавать таким вопросам
важное значение, не будут проявлять особого интереса
к передовым статьям...
«Тайме» считает, что сообщению об изменении
правил карточной игры следует отвести целый столбец на
одной из главных страниц газеты. «Обсервер» посту-
64
пает в таком же духе, когда публикует сообщения
о прибытии в Лондон новой кинозвезды...
Нельзя, конечно, отрицать, что такое разнообразие
газетного материала само по себе не плохо, но
недостаток заключается в том, что мы из-за этого получаем
меньше подлинной информации, разъяснений и
комментариев к ней... Уже война в Абиссинии показала,
как мало поступает настоящей информации...
Некоторые ежедневные и воскресные газеты создавали
впечатление, что вопрос заключался лишь в борьбе между
христианством, отождествляемым с западной
цивилизацией, и отсталым грубым язычеством. В 1938 году
непредубежденному читателю было не легко составить
себе ясное, правильное представление по судетскому
вопросу, а после победы Франко было еще труднее
получить какие-либо сведения об испанском государстве...
Каждые несколько лет в стране происходят выборы,
когда предполагается, что граждане должны помочь
избрать правительство... К этим выборам избиратель
приходит с головой, забитой пустяками, и нет ничего
удивительного в том, что он редко разбирается в
сущности вопросов и легко поддается влиянию
эмоциональных призывов. Часто он вовсе не утруждает себя
голосованием. В 1937 году во время дополнительных
парламентских выборов в лондонских пригородах
(когда страсти были не столь возбуждены) голосовало
всего лишь 37 процентов избирателей, а в лондонских
муниципальных выборах в 1931 году участвовало
только 31,3 процента избирателей».
Такова подлинная подоплека той сложной
политической игры, которую ведет состоящая в найме у Сити
британская пресса изо дня в день, из года в год,
отравляя сознание своих читателей, стараясь изо всех
сил сделать их безвольными и бездумными людьми,
неспособными к активному политическому действию
против несправедливого социального порядка...
Но мы невольно отвлеклись от того, что происходит
в данную минуту в редакции «Ньюс кроникл». Наш
визит затянулся, и Джозеф Ноэл настойчиво
напоминает нам, что нам пора познакомиться с типографией.
Попрощавшись, он возвращается к макетам второго
5 На Западе после войны 65
издания газеты, а мы проходим через узенькую дверцу
в наборный цех, расположенный здесь же, рядом с
редакционным залом.
В наборный цех мы вошли как раз в ту минуту,
когда дюжие рабочие, орудующие у пресса,
снимающего матрицы со сверстанных страниц, подхватили
последнюю полосу и приступили к работе.
Мы прошли, спускаясь с этажа на этаж, мимо
наборных машин, мимо машин, отливающих стерео-
1ипы, — в котле каждой такой машины находится семь
тонн расплавленного металла, — мимо станков, на
которых окончательно отделываются стереотипы. И пока
мы добрались до гигантских, дышащих запахом
разогретого масла и краски ротаций, стереотипы,
обогнавшие нас, уже были в ходу. В это время наверху
начиналась верстка второго издания. Но и здесь, в
ротационном цехе, продолжалась работа по непрерывному
обновлению газетного листа. Каждая английская
газета имеет так называемую «колонку последних
новостей». При верстке эта колонка ничем не заполняется.
Когда же во время печатанья, поступают новые
известия, их быстро набирают; тут же отливается
маленький добавочный стереотип. Его спускают в
ротационный цех, ставят на отдельный валик; поворот
рычага — и новое сообщение ложится на газетный
лист. Если важные сообщения в эти часы не
поступают, газета выходит с белым пятном, и это никого
не смущает.
Мы вышли из редакции «Ньюс кроникл» в
двенадцатом часу ночи*. Лондон уже спал: здесь вся жизнь
замирает после десяти вечера, и столь оживленные днем
улицы были пустынны. Автобусы уже не шли, и только
редкие ночные такси медленно ползли вдоль
магистралей, поджидая случайных пассажиров. Но Флит-стрит
жила напряженной жизнью: вереницы автофургонов
мчались отсюда к вокзалам с тюками газет; стреко-
•тали мотоциклы курьеров телеграфного агентства;
в ночных барах толпились репортеры, толковавшие за
кружкой пива о приключениях минувшего дня; рабочие
ужинали в тесных «забегаловках». Ритмичный гул
многих ротаций доносился из типографий.
66
С Темзы, лежащей тут же рядом, за высокими
домами набережной, тянуло сыростью. Наползал едкий,
гнилой туман. Мы шли молча, каждый раздумывал
о чем-то своем. Минуло уже две недели с того дня,
как мы улетели из Москвы, и теперь все чаще и чаще
вспоминались вдруг сосны Сокольников или дымки над
Замоскворечьем, или крикливые галочьи стаи над
Охотным рядом. Так хотелось услышать сочный хрусг
крупичатого снега под ногами, увидеть краснощеких
мальчишек на коньках, побродить по заснеженным
бульварам...
И вдруг тишину нарушил каким-то злым ворчанием
добродушнейший из наших спутников — молодой
украинский поэт, прошедший тысячи километров с
партизанским отрядом по немецким тылам и не
растерявший за четыре года тяжкой и суровой войны
романтической свежести и хорошей наивной чистоты.
— Чорт его знает, — сердито сказал он. — Ведь что
было бы, если б вот все эти машины, сколько их есть,
все линотипы и все ротации, и все станки служили
доброму, честному слову, а? Да ведь это же... это же...
Люди ангелами бы стали, их живьем в рай можно было
бы брать!
Все рассмеялись, а поэт обиделся. Могучие ротации
Флит-стрита гудели все так же ритмично, у
подъездов «Дейли мейл» покрикивали рабочие, спешившие
нагрузить машины тяжелыми тюками газет. На
вокзалы отправлялась новая порция снотворного
концентрата, который завтра примут миллионы потребителей.
Пенс, один только пенс — и читатель может отвлечься
от будничной действительности, узнать, как идут
розыски убийцы, задушившего на прошлой неделе
шофера такси, какой наряд был на королеве,
посетившей вчера один из модных кинотеатров Вест-Энда, как
искусный делец с Оксфорд-стрита за одну неделю
заработал тысячу фунтов стерлингов. Оглушить читателя,
поразить его, посеять в его душе надежду на то, что
в старой доброй Англии когда-нибудь наладится и
образуется жизнь, и пресечь всякие поползновения искать
лучшего на новых путях! Убаюкать его! Это удавалось
раньше. Может быть, удастся и сейчас?
**
67
3. КИНОБИЗНЕС
Если у вас в Лондоне есть три-четыре свободных
часа, если у вас кошки скребут на душе и вам хочется
ни о чем не думать, если вам некуда пойти и надо
как-то убить время, — сверните с тротуара и откройте
массивную сверкающую медью дверь кинематографа.
Ловкая кассирша примет ваши шиллинги, звякнет
автоматическая касса, отсыпая вам сдачу, вежливый
служитель надорвет вам билет, и девушки в форме
киноконцерна, которому принадлежит этот театр, немедленно
проводят вас в зал и укажут тонким лучиком
электрического фонаря свободное место. Здесь нет фойе и не
надо ждать, пока кончится сеанс. Вы начинаете
смотреть фильм с середины, и если у вас будет охота
и время, вы сможете часа через три дождаться, пока
программу начнут показывать сначала, и тогда
досмотреть эту ленту. Но особой нужды в этом нет.
В зрительном зале английского кино (к слову сказать,
так же как и во многих театрах) вы в праве поступать,
как вам угодно, — можете курить, жевать апельсины
или жареный картофель, — смотря по тому, что вам по
карману, — громко разговаривать с соседом; если вам
жарко, вы можете снять пальто и запихать его под стул,
отправив туда же и шляпу. Зритель должен получить
полный эквивалент затраченных им денег, и он в праве
поступать, как ему угодно, — говорят владельцы
зрелищных предприятий.
Качество зрелищ опять-таки определяется денежным
эквивалентом. Если вы в состоянии отдать хозяевам
«Уорнера» девять-десять шиллингов, например, вас
угостят идущей здесь монопольно «Рапсодией в
голубом», воскрешающей биографию американского
композитора Гершвина. Заплатите семь-восемь шиллингов,
и вам покажут в «Павильоне Мраморной арки»
злодейскую драму «Латинский квартал» с загадочным
убийством, таинственными полуночными криками,
проницательным медиумом и всяческой чертовщиной.
А за два шиллинга где-нибудь на окраине вы увидите
нечто совершенно убогое — глупую комедию, где
действующие лица непрерывно бьют друг друга по лицу
68
и падают на пол, детективные гонки ковбоев или дря-
ненькую полупорнографическую ленту из закулисной
жизни варьете.
В 1944 году этой практике было дано своего рода
теоретическое обоснование на курсе оценки фильмов
при британском киноинституте. Здесь была прочитана
лекция о кинобизнесе, автор которой вполне серьезно
и откровенно провозгласил принцип разделения
искусства в строгом соответствии с покупательной
способностью зрителей. Вот эта платформа, заимствованная
нами из официального отчета:
«Фактор прибыли, которым руководствуется
владелец кинотеатров, не нуждается в защите. Циркуляция
фильмов должна быть как можно более велика, чтобы
покрыть расходы на демонстрацию и вложенный
капитал. В обязанность киновладельца не входит
выполнение задач воспитательных органов и необходимость
докладывать деньги. При классификации картин владелец
кино, принимая во внимание разновидность мнений,
должен руководствоваться соображениями прибыли.
В фильмах возвышающего значения нет потребности.
Полудокументальные фильмы и военные фильмы
непопулярны. Фильмы, сделанные по пьесам, не имеют
успеха. Публика индустриального типа требует
развлечения в виде плоского юмора Дункана и Шейна,
Джорджа Формби, постоянно свежих сюжетов типа
«Золушки», музыкальной комедии или
душещипательных драм. Лишите этих зрителей таких фильмов или
сентиментальных картин, и их жизнь станет очень
скучной. Этот род зрителей не хочет развлечений, имеющих
воспитательный характер. Публика хочет развлечений,
и она имеет право на развлечения того рода, за
который она готова платить...»
Трудно было бы высказать откровеннее*и циничнее
точку зрения купца, который одинаково охотно взялся
бы торговать и мукой, и произведениями искусства,
и селедками, — был бы от этого барыш! Но
справедливость требует внести в эти рассуждения одну
фактическую поправку: «публика индустриального типа», под
которой автор лекции подразумевает английских
рабочих, знает цену произведениям искусства и умеет отли-
69
чать их от суррогатов. Когда я читал запись этой
неподражаемой инструктивной лекции, мне вспомнился
вечер в тесном помещении клуба Всемирного совета
молодежи, где мы встретились с молодыми
лондонцами, — сколько горьких и негодующих слов высказали
работницы Ист-Энда и клерки мелких контор,
вынужденные рассчитывать свой бюджет до каждого пенса,
по адресу кинопредпринимателей, пичкающих их
отбросами Голливуда! И как завидовали они советской
молодежи, которая может видеть все, что идет на сцене
и на экране, выбирая зрелища по вкусу, а не по цене...
Мне подумалось тогда, что классификация зрителей,
проведенная лектором Британского киноинститута, не
случайна и что подбор фильмов для дешевых
кинематографов имеет определенный и отнюдь не только
кассовый смысл. Фильмы, которые стряпаются для
«публики индустриального типа», фильмы, которым чуждо
«возвышающее значение», призваны играть ту же
роль, что и продукция газетных трестов Флит-стрита.
Это еще одна фабрика снов для публики, которую
надо уберечь от слишком глубоких размышлений на
злободневные темы.
Кинематография, как и пресса, здесь — отрасль
индустрии; и законы развития крупного капитала, законы
конкуренции и борьбы за монополию сказываются на
фильмовом рынке еще острее, чем на рынке газетном.
Поскольку уже установлено, что «публике
индустриального типа», то есть самому широкому потребителю,
незачем показывать «фильмы возвышающего значения»,
кинопредприниматель делает для себя вывод: пусть
таких фильмов у меня будет десять, двенадцать
процентов; этого вполне достаточно, чтобы сделать мне
«паблисити», рекламу, а иногда и принести доход.
А остальные 88—90% —пусть будет продукция
киноконвейера, дешевая и простенькая, сработанная по
стандарту, в расчете на широкий рынок.
Британский киноинститут так определяет категории
этого промышленного стандарта:
Музыкальный фильм, гарантирующий успех
наличием популярных кинозвезд.
Плоская комедия. «Зрители низшего уровня
70
всегда готовы увидеть свое собственное изображение,
отраженное в комедии, — цинично отмечалось в
цитированной выше лекции. — И чем хуже такой фильм,
тем больший доход он приносит».
Драма — фильмы, создающие иллюзию культуры
в то время как в действительности они находятся на
очень низком культурном уровне.
Сентиментальный фильм. Бесконечно
варьирующаяся тема: как бедная, ничем не
выдающаяся, но способная девушка благодаря
покровительству благородного героя выходит в люди и становится
счастливой.
Картина ужасов.
Фильм из жизни в прериях.
Эти шесть стандартов в различных разновидностях
постоянно пребывают на экранах, и бывалому зрителю
не представляет никакого труда разгадать, как будет
развиваться сюжет и чем все это кончится...
Статистика говорит, что в Британии ежедневно ходят
в кино тридцать миллионов человек, — в двадцать
восемь раз больше, чем ходит в церковь, и втрое больше,
чем слушает радио. За полтора года в Англии
показывают кино числу людей, равному всему населению
земного шара. В дни войны, когда бомбежки немецкой
авиации отбили у людей охоту посещать театры,
значение кино, доступного зрителю в любой час, выросло
еще больше, и доходы владельцев кинотеатров
достигли астрономической цифры—100 миллионов
фунтов стерлингов в год.
Владелец кинотеатра, естественно, заинтересован
в наибольшем доходе. Поэтому он хочет как можно
чаще менять программу, чтобы успешно конкурировать
со своими соперниками. Но разрозненные, лишенные
солидной финансовой базы, полулюбительские
киностудии Англии не могли предложить владельцу кино
достаточный выбор фильмов. И акционерные общества,
владеющие кинотеатрами, вынуждены были искать
товар за границей, в Голливуде.
Дельцы Голливуда с давних пор весьма охотно
принимали и принимают заказы английских кинопрокатных
контор. В годы войны они стали безраздельными дик-
71
таторами кинорынка в Британии, и только
правительственная квота, обязывающая владельцев кинотеатров
показывать не менее 20% отечественных фильмов,
спасала английский экран от полного порабощения
Голливудом. Американцы, предоставляя свои фильмы для
проката в Англии, выкачивали отсюда огромное
количество золотой валюты. Это так больно било по
бюджету, что в феврале 1944 года вопрос о кино был
поставлен в повестку дня палаты лордов.
Докладывавший по этому вопросу лорд Брабазон,
директор фирмы, производящей кинопленку и фотоап
паратуру, с негодованием говорил:
— В тысяча девятьсот тридцать девятом году мы
послали в Америку в оплату за прокат фильмов
одиннадцать миллионов пятьсот тысяч фунтов, в тысяча
девятьсот сорок втором — семнадцать миллионов.
Теперь эта сумма достигает двадцати миллионов. Из
всех товаров, ввозимых в страну, фильмы — экономи
чески самый невыгодный товар. Если вы ввозите плуг,
вы можете пахать им землю. Если вы ввозите машины,
вы можете производить с их помощью товары. Но
когда вы ввозите фильмы, положение является иным.
Пошлина за фильм взимается только как за кусок
целлюлоида, независимо от ценности его как картины
Мы, граждане Англии, знаем, как казначейство
выкачивает последний пенс из наших карманов. И просто
невероятным кажется, как не был найден налог,
который мог бы дать нам такую большую сумму.
Конечно, проще всего было бы наложить запрет на
вторжение Голливуда. Но это не устроило бы
заинтересованных в барышах монополистов, владеющих
кинотеатрами. И страстная дискуссия в палате лордов не
могла дать сколько-нибудь реальных последствий. Тем
с большим пылом и энтузиазмом приветствовали ан
глийские предприниматели и финансисты появление на
горизонте кино новой, чрезвычайно колоритной и
характерной фигуры — «человека с планом», мистера
Артура Рэнка, известного английского
мультимиллионера.
Мистер Рэнк никогда в жизни не был ни актером, ни
сценаристом, ни режиссером. Свои миллионы он зара-
72
ботал на спокойном и солидном бизнесе: в руках
у него — мукомольная промышленность
Великобритании. Но, будучи человеком предприимчивым, он
рассудил, что деньги можно делать не только из муки, но
и из кино. Еще семнадцать лет назад Рэнк
заинтересовался этим новым для него делом, основал
религиозное фильмовое общество и вложил кое-какие капиталы
в киноконцерн «Одеон», занимавшийся прокатом
фильмов. В годы второй мировой войны, когда акции кино-
стали расти, он решил, что пришло время для более
основательных спекуляций на искусстве.
Начал Рэнк с того, что решил монополизировать
кинопрокат, и это ему удалось.
Получив контроль над шестьюстами кинотеатрами,
«человек с планом» Рэнк начал последовательно
скупать кинопроизводство. Он приобретал студии,
покупал заводы, производящие киноаппаратуру и пленку,
одним словом, делал все необходимое для того, чтобы
обеспечить себе положение монополиста в
кинематографии. Для него не составило особых затруднений
в короткий срок взять под контроль 60% всей
британской киноиндустрии.
Явное стремление Рэнка стать монополистом кино,
естественно, не могло остаться незамеченным широкой
публикой. Его начали упрекать в корыстных
побуждениях. Чтобы укрепить свою популярность, Рэнк
предпринял ряд благотворительных начинаний. Он создал,
в частности, сеть детских киноклубов. В этих клубах
200 000 английских детей в возрасте от семи до
двенадцати лет имеют возможность еженедельно по
субботам бесплатно смотреть фильмы. Характерно,
однако, что в Англии до сих пор не создано ни одного
детского фильма.
Сам Рэнк, как я уже отмечал вскользь выше, заявил,
что он берется руководить одним из классов в
воскресной рабочей школе. Сославшись на то, что и его отец
и он сам в прошлом учительствовали, Рэнк сказал
представителям печати, что он считает
просветительную миссию долгом каждого культурного человека.
Это заявление было широко распубликовано
газетами.
73
А тем временем дальновидный мукомол заканчивал
составление своих широких деловых планов. ВзЪесив
свои возможности, он пришел к выводу, что сможет не
только отвоевать британский кинорынок у американцев,
но и перейти в контрнаступление на Голливуд.
Перехватить кинопрокат в колониях и доминионах,
завладеть кинотеатрами Европы, Африки, Азии и Австралии
и, наконец, вторгнуться в Америку, чтобы там, сломив
сопротивление фирм Голливуда, утвердить стяг своего
концерна, — таков был замысел Рэнка. 27 ноября
1944 года, выступая на собрании в Глазго, он
обнародовал этот замысел, бросив вызов дельцам
США:
— Цель британской фильмовой индустрии
заключается в том, чтобы обеспечить британские картины
мировым рынком, — гордо сказал он.
Рэнк был достаточно богат, чтобы отважиться на
такую рискованную операцию. Его гонцы разъехались
во все страны мира и начали свою работу. Концерн,
созданный Рэнком, получил наименование «Игл Лайонс
Дистрибюторс», и на гербе его были изображены
орел — эмблема США и лев — эмблема
Великобритании. Тем самым Рэнк демонстрировал добрую волю
к сотрудничеству с кинопромышленниками
Соединенных Штатов. Однако в США без особого удовольствия
отметили создание нового концерна, тем более, чтэ
в составе его правления не было ни одного американца.
Руководители американской киноиндустрии видели
в этом концерне нового конкурента, который торопливо
скупал кинотеатры на всех континентах.
В Канаде представитель Рэнка Джон Дейвис не без
успеха провел переговоры о расширении киносети
«Одеон». В Южной Африке представители Рэнка
заключили договор о монопольном прокате британских
фильмов в ста кинотеатрах. Кроме того, Рэнк затеял
здесь широкое строительство новых кинематографов.
В Австралии посланцы Рэнка, договорившись о
совместных действиях с американской фирмой «XX век
фокс», получили участие в контроле над всей
киносетью, а кроме того, договорились об участии в
налаживании производства австралийских фильмов. В Индии
74
Рэнк приобрел контроль над восемьюстами
пятнадцатью кинотеатрами фирмы «Бритиш Дистрибюторс».
Расторопные посланцы Рэнка открывали новые и
новые рыночные возможности. Из Нигерии доносили, что
там пока что имеется всего тринадцать кинотеатров,
а спрос на зрелища — огромный; на Золотом Берегу —
всего шестнадцать кинотеатров, из них три —
некоммерческих; в Китае можно было собирать
колоссальнейшую жатву: «Прибыль из Китая может равняться
пятидесяти процентам валового сбора; следовательно,
мы надеемся, что нам удастся заработать в Китае
много денег», — спешил сообщить
корреспондентам вернувшийся оттуда уполномоченный Рэнка
Карр.
Посланцы «Игл Лайонс Дистрибюторс» шли по
пятам англо-американских войск, высадившихся в
Европе. Они спешили опередить уполномоченных
американских фирм и тут же, по горячим следам бежавших
немецких дельцов, захватывали их наследство.
Американцы тоже стремились действовать как можно
оперативнее, но все же Рэнк кое-где обставил их и сумел
обеспечить монопольный прокат во многих кинотеатрах
Франции, Бельгии, Дании, Норвегии. Он решительно
выступил за изгнание фашистских кинодельцов из
Испании и Португалии с тем, чтобы расчистить и здесь ры-
^юк для британской кинематографии.
Так Рэнк, «человек с планом», обеспечил исходные
позиции для контрнаступления на Голливуд. Теперь
надо было подумать о том, какой товар он мог бы
положить в свои витрины. И тут оказалось, что
организовать производство этого деликатного товара
значительно сложнее. Замысел нового «киноимператора»
Британии был прост: бить Голливуд приемами
Голливуда, отвечать на поток чисто сработанных
стандартных, ярких, как павлиний хвост, шумных и веселых
лент таким же потоком. Ведь теперь, когда вся
киносеть была под его контролем, он мог диктовать свои
условия всем продюссерам, всем тем, кто производит
фильмы. Он мог сказать режиссеру, сценаристу «да»,
и перед ними открывался банковский текущий счет,
распахивались двери студий, они получали аппаратуру,
75
пленку. Он мог сказать им «нет», и они должны были»
итти прочь.
Заставить творческих киноработников, привыкших
создавать произведения искусства, перейти на
конвейерный метод производства, когда искусство уступает
место схеме, было не легко. Некоторые пытались
сопротивляться, но в конечном счете даже многие
крупнейшие мастера британского кино, идя на компромисс
с собственной творческой совестью, капитулировал»
перед всемогущим монополистом.
Поучительна в этом отношении история Александра
Корда, фильмы которого знакомы советскому зрителю
(напомню хотя бы фильм «Леди Гамильтон»). Он имел
свою небольшую фирму «Лондонфильм». Когда Рэнк
начал теснить «независимых», Корда пришлось
уступить ему свою студию. Будучи человеком
дальновидным, он, продавая студию, оставил за собой ее
сердце — лабораторию. Поэтому на какой-то период
ему удавалось сохранять некоторую независимость, но
долго так продолжаться не могло. Корда понимал это
и в один из дней, покинув Англию, поехал в США
искать помощи у своих заокеанских друзей: когда-то
он был членом творческого содружества «Юнайтед
артист» (в которое входили Кинг Видор, Мэри
Пикфорд, Чарли Чаплин).
Из Америки Корда вернулся окрыленный надеждами
и широкими творческими планами: ему удалось
договориться с Майером о поддержке. Но поддержка эта
дорого стоила: отныне фирма Корда именовалась
«Метро-Голдвин-Майер-Лондон». Майер, обещав
Корда неограниченную помощь, оговорил свое
соучастие и контроль над делами его небольшого
творческого коллектива. И практика показала, что способный
венгерец, нашедший в Британии свою вторую родину,
попал из английского огня в американское полымя.
Производственная программа, которую обнародовал
Корда как директор «Метро-Голдвин-Майер-Лондон»,
определялась в несколько миллионов фунтов
стерлингов. Она опиралась на производственные возможности
крупнейшей студии Амолгомейтис, которую Корда
с большим трудом приобрел в Лондоне. Среди фильмов.
76
запланированных им, была между прочим эпопея
«Война и мир» по Л. Н. Толстому. Сам Корда с
огромным увлечением взялся за постановку сложного
психологического киноромана «Подлинно чужие». Это был
рассказ о том, как война влияет на судьбы и характеры
людей, о муже и жене, которые оба ушли на фронт
и которые так изменились, что после заключения мира
стали чужими друг другу.
Вначале Корда поручил режиссуру фильма одному
американцу, но потом, оставшись неудовлетворенным
работой этого режиссера, уволил его и сам провел
съемки. Окончив монтаж фильма, Корда повез его
показывать хозяину, и... на этом деятельность фирмы
«Метро-Голдвин-Майер-Лондон» оборвалась. Фильм
«Подлинно чужие» не получил необходимой рекламы
и промелькнул на экранах, не замеченный широкой
публикой. Критика почти не откликнулась на него.
В газетах появилась лишь коротенькая хроникерская
заметка о том, что Александр Корда заболел и уходит
8 отставку. Видимо, его работа пришлась не по вкусу
диктатору Голливуда.
Корда вернулся в Англию. Говорили, что он, порвав
с американцами, пытался возродить свою старую
фирму «Лондон-фильм». Говорили также, что он хочет
попытать счастья во Франции, поставить там фильм на
паях с одним из французских режиссеров. Но, в конце
концов, выяснилось, что Корда пошел на мировую
с Рэнком *.
Рэнк обладает достаточно твердым характером,
чтобы, раз встав на определенный путь, не сворачивать
с него до конца. И ему постепенно, шаг за шагом,
удается добиваться своего. Пусть сходят со сцены
упрямцы, пытающиеся отстаивать право на индивиду-
1 Осенью 1947 года Корда выпустил на экраны свой новый
фильм сИдеальный муж» по Оскару Уайльду. Я видел его в
Лондоне. Это — яркое, цветное полотно подстать продукции
Голливуда, и только блистательная игра актеров, в частности
американской актрисы Полетты Годдар, прекрасно исполняющей роль
авантюристки, и отдельные режиссерские находки напоминают
о старом Корда. Английская критика открыто упрекала Корда
в слепом копировании стандартов скостюмных фильмов»
Голливуда.
77
альность! Он сумеет постоять на своем. Прочь
психологизм, прочь сюжеты, вызывающие мрачные
размышления! Зритель должен уходить из кино, улыбаясь и
напевая, чорт возьми, даже если герои падают мертвыми...
Вот «Цезарь и Клеопатра», раскрашенная всеми
цветами радуги, лента, извращающая тонкий замысел
пьесы Бернарда Шоу, положенной в основу сценария.
Рэнк не поскупился на расходы, чтобы восстановить во
всем блеске реквизит далекой эпохи. Купеческая
роскошь, быть может, и поразит обывателя, но ценитель
искусства лишь пожмет плечами, увидев это рабское
подражение Голливуду.
Вот «Счастливая порода», фильм из Лизни
британцев в прошлую мировую войну. Добродушные,
невозмутимые люди, убежденные в неизменности судеб старой
доброй Англии. Вековечные традиции, неистощимый
оптимизм, вера в свои силы. Что из того, что
художник грешит против истины, оставляя на полотне лишь
розовые краски? Зато ему удается вызвать у зрителя
иллюзию успокоенности и наивную надежду на то, что,
как бы трудно ни складывалась жизнь, в конце концов
все будет хорошо.
Вот «Жизнь и смерть полковника Блымпа».
Полковник Блымп — такой же собирательный образ, как
солдат Томми. Его добродушная физиономия с
отвислыми, моржовыми усами — воплощение среднего
британца, каким хочет представить его Рэнк: солидного,
невозмутимого, уверенного в незыблемой прочности
все той же незыблемой старой доброй Англии. Черты
Блымпа знакомы нашему читателю по роману Грин-
вуда «Мистер Бантинг в дни войны и в дни мира», —
пожалуй, это и есть Бантинг в военной форме.
Известие о начале войны застает его в турецкой бане;
оно не в силах помешать ему до конца предаться
банным усладам. Полковник Блымп считает ниже своего
достоинства волноваться и терять хорошее
расположение духа из-за какой-то войны. Англия есть
Англия, никогда с нею ничего не случится, и все будет
в порядке. И даже тогда, когда Блымп погибает, он
оставляет зрителя в твердом убеждении, что
беспокоиться абсолютно незачем — все будет в порядке!
78
С технической стороны все эти фильмы сработаны
чисто. Соблюдены все требования интриги,
занимательности. Фильмы делают большие сборы, но они:
оставляют у вас чувство неудовлетворенности. В них
отсутствует душевное тепло, творческая
взволнованность и искренность. Когда художник работает по
заказу, когда ему приходится делать не то, что он
хочет делать, и говорить не о том, во что он верит, —
ему, как бы хорошо ни оплачивался такой труд, не
удается создать произведение искусства, которое
безраздельно овладело бы сердцами людей.
Подлинное искусство, живое и трепетное, ютится
пока что под обветшалыми крышами тех
немногочисленных студий, которые остаются независимыми от
киномагнатов вроде Рэнка. Но не каждый фильм
этих студий попадает на экран. Нам рассказывали
историю одного из таких не увидевших большого
экрана фильмов — картины талантливого английского
режиссера Майкла Балкона: «Они подошли к городу»,
сделанной по пьесе Пристли.
Майкл Балкон поставил перед собой задачу —
в острой, необычной манере показать раздумья людей
различных классов современного общества на пороге
грядущего. Луч света выхватывает из мрака этих
людей, занятых своими будничными делами,
погрязших в житейской суете, усталых и разочарованных.
Они нервничают, ссорятся, сплетничают, ругаются
друг с другом. Их жизнь тосклива и монотонна. Они
не видят впереди никакого просвета. И вдруг каким-та
чудом они оказываются у ворот великолепного
сказочного города.
Зритель не видит этого города. Но по тому, как
загораются глаза героев фильма, как выпрямляются
их согбенные спины, как преображаются их лица, он
понимает, что там, за тяжелыми, массивными
воротами с причудливой остроконечной несимметричной
восьмиугольной звездой, — нечто поистине прекрасное
и удивительное.
В определенный час загадочные ворота медленно-
медленно приоткрываются, и людям дается
возможность войти в счастливый город. Некоторые остаются
79
там, остальные возвращаются — одни навсегда,
другие, чтобы собраться с мыслями, прежде чем принять
«окончательное решение.
Вот из ворот выходит блестящий аристократ. Ему
не понравился таинственный город. Больше того, он
вне себя от гнева. Он апеллирует к людям:
— Представьте себе, — они меня спросили: «Чем
вы занимаетесь?» — «Охотой!» — сказал я. «Как,
целый год только охотой? — удивились они. — Мы
вас арестуем за паразитический образ жизни». Нет,
мне эта новая жизнь никак не подходит...
Из города возвращается солидный бизнесмен. Он
также недоволен:
— Они не заключают выгодных сделок! Нет, это
не годится...
Из ворот выходит скромная уборщица. На лице ее
■полное умиротворение.
— Это для меня, — шепчет она.
За нею — матрос и его подружка. Они спорят.
Подруга матроса тоже хотела бы остаться в
чудесном городе. Но он не согласен. Он твердо
говорит:
— Нет, мы не должны итти туда! Мы должны
'построить сами такой же город здесь...
На экранах Вест-Энда, где господствует Рэнк, этот
фильм показан не был. Пресса его замолчала. Следует
отметить, однако, что в последнее время Рэнк,
расчетливый и дальновидный делец, убедившись, что
«независимых» легче сломать, чем подчинить, ищет
компромисса с ними, и некоторые фильмы таких
постановщиков, как Балкон, выходят на первые
экраны — именно они создают репутацию британскому
кино !.
1 Осенью 1947 года я видел в лучшем кинематографе Рэнка
«Одеон» в Лондоне последний фильм студии Балкона — «В
воскресенье всегда идет дождь» (режиссер Роберт Хомер). Это
правдивый и честный рассказ об убогих и нудных буднях
лондонской бедноты, ютящейся в кварталах Ист-Энда. В нем нет
былой политической остроты, которая раньше была свойственна
фильмам, выходящим из студии Балкона, но он хотя бы не
лакирует и не искажает действительность, как это делают другие
-художники, пришедшие с повинной к Рэнку...
80
Английским предпринимателям не удалось
вытеснить Голливуд. В большинстве кинотеатров
демонстрируются попрежнему американские фильмы. Что же
касается попыток проникнуть с английскими фильмами
на кинорынок США, то они встречают отпор.
Недавно вопрос о кинематографии вновь был
выдвинут в парламенте, на этот раз в палате общин.
Как справедливо отметил обозреватель «Дейли
уоркер», «обсуждение этого вопроса в палате
поставило не только вопрос о колоссальной экономии
средств, но и вопрос о поддержании английского
авторитета в области искусства».
Но пока что по прихоти хозяев кино большинство
британских фильмов почти ничем не отличается от
столь же пустых картин Голливуда.
«Диктатура кассы» торжествует...
4. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Мне хочется рассказать одну очень простую и
вместе с тем очень поучительную историю. Она наглядно
показывает механику не очень тонкой, но упорной
обработки общественного мнения, которую ведут
в Вели1уобританим определенные круги, одержимые
ненавистью к нашей стране. Это рассказ о том, как
в иных случаях даже спорт становится объектом
жестоких политических страстей. Короче говоря, это
история о том, как советская футбольная команда
«Динамо» приехала в Англию и что из этого вышло...
Сообщение о том, что «красные футболисты»
прибывают в Лондон, облетело Британию в первых числах
ноября 1945 года. Повсюду — в вагонах лондонской
подземки, у высоких стоек «забегаловок» Лайонса,
где сотни тысяч англичан поглощают с часу до двух
дня свой ленч, в парках, на трибунах собачьих бегов,
б цехах заводов и деловых клубах только и говорили,
что об этой сенсационной новости.
Никто не имел ни малейшего представления о том,
как русские играют в футбол. Благодаря стараниям
бульварной печати миллионы средних англичан
На Зш^дс после ноНн 81
вообще не представляли себе, что русские могут
заниматься спортом. Правда, спортивный
обозреватель «Санди экспресс» снисходительно пояснил, что
в СССР рабочим разрешается заниматься игрой в
футбол по ночам. («Это попросту начинающие игроки, —
написал он о динамовцах, — они рабочие, любители,
которые ездят на игру ночью, используя свободное
время». Статью свою он озаглавил не слишком
оптимистично: «Не ждите очень многого от русского
«Динамо».) Средний англичанин интуитивно
чувствовал, однако, что здесь что-то не так, поэтому повсюду
шли жаркие споры, и некоторые храбрецы даже
заключали пари, настаивая на том, что советские
футболисты могут выиграть. Но все же большинство
англичан пока что не подозревало, какой оборот
примут предстоящие игры. И уж, во всяком случае,
в кругах спортивных обозревателей и деятелей
футбольной ассоциации царили спокойствие и
уверенность: ведь до сих пор еще ни разу ни одна команда,
прибывавшая в Британию с континента, не
выигрывала у хозяев поля.
С первого же дня пребывания советских
футболистов в Лондоне некоторые газеты усвоили
пренебрежительно-снисходительный тон по отношению к
советским спортсменам. Они отметили, что палЪто
динамовцев не отличаются разнообразием покроя, а шляпы
их могли бы быть лучшими, выразили недоумение по
поводу того, что советские футболисты не очень
разговорчивы, а «Дейли экспресс» опубликовала на
первой полосе интервью с переводчицей команды
«Динамо», у которой репортер выяснил, что она не
очень хорошо разбирается в футболе, но что два ее
маленьких сына, восьми и пятнадцати лет, любят
спорт. Иронически комментируя сообщение о
прибытии советских спортсменов, многие газетчики с Флит-
стрита заранее предвкушали удовольствие от будущих
поражений «Динамо»: где уж им устоять против
знаменитых британских команд! То-то будет потеха!
Можно будет вдоволь поиздеваться над этими
неуклюжими русскими...
Хотя наши футболисты прибыли в Англию по при-
82
глашению футбольной ассоциации, для них почему-то
не нашлось гостиниц, и вечером 5 ноября «Ивнинг
стандарт» огорошила своих читателей интригующим
заголовком:
«28 русских спрашивают Лондон: где мы будем
спать сегодня?» Корреспондент Гаррис сообщал:
«В первое утро, проведенное в Лондоне, русские
футболисты ни разу не ударили по мячу. Вместо этого
они и их руководители были заняты хлопотами о том,
где они будут спать сегодня ночью. Так как сроки их
прибытия были неопределенны, футбольная
ассоциация не могла подготовить помещения для них, и их
пришлось разбить на группы. Самая большая группа
была помещена в бараках Веллингтона, остальные —
в офицерском клубе на Пикадилли и часть — в отеле.
В Веллингтон-бараках было сделано все возможное
для капитана Семичастного и его людей, но они не
имели с собой постельных принадлежностей...
Сегодня секретарь футбольной ассоциации мистер
Роус провел с представителями советского
посольства весь день в своем офисе, обсуждая вопросы
устройства динамовцев. Нам сообщили здесь, что
места, где динамовцы спали этой ночью, сегодня
использовать нельзя. В советском посольстве
спальных мест нет. Мистер Роус спросил у меня: не
знаю ли я, где найти комнаты?...»
К чести лондонцев надо сказать, что в этот же
вечер в посольстве было принято около трехсот
заявлений с предложением немедленно устроить советских
футболистов на ночлег. По всем телефонам звонили
люди, возмущенные хамским отношением к русским
гостям: они предлагали динамовцам жилье. Номера
в гостиницах, конечно, сразу же нашлись.
На другой день динамовцы приступили к
тренировкам, которые собирали • многочисленных зрителей.
Игроков осаждали спортивные репортеры,
стремившиеся выведать советскую тактику игры. Естественно,
что наши спортсмены иногда уклонялись от прямых
ответов на узко специальные вопросы. Это дало повод
«Дейли мейл» выразить притворное недоумение по
поводу «странного поведения» «одиннадцати
молчалива
83
вых людей в синих пальто». Вечером наши
футболисты пошли в один из лондонских театров: там давали
музыкальный спектакль «Ночь в Венеции». В перерыве
к нашим спортсменам подошел какой-то человек и
сказал, что с ними хочет познакомиться одна из
актрис, участвовавших в спектакле. У динамовцев не
было повода отказываться от такого знакомства.
В ту же минуту из-за кулис выпорхнула накрашенная
девица с весьма солидным декольте, сказала на
ломаном русском языке: «Как вы поживете?» и...
проворным движением ухватила тренера команды
Якушина за подбородок. Динамовцы растерянно
улыбнулись— они не привыкли к таким нравам. И вдруг
«спыхнула лампочка «спид-графика» — оказалось, что
вся эта сценка была разыграна корреспондентом
«Дейли экспресс», который теперь был обладателем
сенсационного снимка.
Наутро этот снимок мы увидели на первой
странице газеты под интригующим заголовком: «Кто эти
люди? И почему они смеются?» Подпись поясняла,
что это динамовцы, проводящие часы досуга в
обществе актрисы легкого жанра...
Но все эти выходки померкли перед тем, что
приготовила та же «Дейли мейл» на следующий день. Ее
корреспо^ент опубликовал статью под заголовком
«Водка для молчаливой стороны сегодня», в которой
ни с того, ни с сего заявил: «Сегодня у советских
динамовцев перерыв для водки и икры. Молчаливые
советские футболисты будут петь под дикие,
надоедливые звуки балалайки и кричать «ура» или другие
слова, выражая восторг».
Так реакционная пресса готовила публику к матчам
с советскими футболистами. Ей очень хотелось, чтобы
средний англичанин свыкся с мыслью, что русские —
полудикие люди, общаться с которыми
цивилизованному человеку не стоит. Однако более дальновидные
деятели спорта вели себя осторожнее и
предусмотрительнее. Та же «Дейли экспресс» в номере от 9 ноября
сообщила, как серьезно подготовилась к матчу
с «Динамо» команда клуба «Челси».
«Челси» — новая блистательная команда Лон-
84
дона, — писал обозреватель газеты, видный знаток:
футбола Франк Батлер, — 25 тысяч фунтов
стерлингов, уплаченные за трех игроков, — только начало».
Франк Батлер сообщал своим читателям, что клу&
«Челси» претендует на славу, которой обладал перед
войной старейший чемпион английского футбола —
«Арсенал». За две недели до матча «Динамо» —
«Челси» богатые покровители клуба перекупили
у другого спортивного клуба всемирно знаменитого
центр-форварда Лаутона, гордость английского
футбола. К слову сказать, покупка игроков не считается
в Англии предосудительной, хотя в глазах свежего
человека она выглядит весьма дико: клуб «Челси»
уплатил другому клубу за Лаутона 14 000 фунтов
стерлингов — целое состояние, а сам игрок получил
не больше 500 фунтов.
«После вступления Тома Лаутона в команду
«Челси», — писал Батлер, — она имеет трех игроков
международного класса — Голдена, Харриса и
Лаутона, которые стоят 25 000 фунтов стерлингов. Но
это еще не все. Один или два игрока, которые еще не
совсем сильны, будут также заменены, что потребует
новых расходов. Это очень приятные новости для
сторонников «Челси», которые сохраняли свои
симпатии к команде даже тогда, когда упоминание ее имени
вызывало смех на трибунах. Билли Берел, который
перешел в «Челси» из «Кюинс-парка» по пятилетнему
контракту и так хорошо показал себя, что с ним был
подписан контракт еще на пять лет, называет сейчас
«Челси» не плохим рынком. «Когда вы входите на
этот рынок, — говорит он, — сразу же поднимается
цена...»
Постепенно интерес к предстоящему матчу
«Челси» — «Динамо» все больше возрастал.
Разноречивые высказывания газет только подогревали этот
интерес. Желание лондонцев во что бы то ни стало
побывать на первой встрече с русскими спортсменами
не охладила даже опубликованная за день до матча
одним из видных спортивных обозревателей
презрительная филиппика в распространеннейшей воскресной
газете:
85
«Если русские футболисты не держат рукава
засученными, тогда я должен сказать, что они
недостаточно хороши, чтобы играть с нашими первоклассными
игроками. Я далек от нападок на русских, но я
считаю, что наши игроки не должны ждать многого от
этой встречи... Я видел, как они тренировались в
течение трех часов. Они выглядели, как заурядная
команда. Может быть, они резервируют свою форму
для матча с «Челси», но я не очень уверен в этом.
Если в течение трех часов игрок не показывает класса
игры, то это не умный игрок...»
Таких булавочных уколов наши футболисты
получили не мало, но уколы не могли испортить
впечатления от того подлинно радушного приема, который
оказал динамовцам рядовой англичанин. Повсюду на
улицах их останавливали, окружали толпой,
приветствовали, расспрашивали о советском спорте, о жизни
в СССР.
И вот приблизился день 13 ноября, день матча
«Челси» — «Динамо». Еще накануне у стадиона
Стамфорд-бридж собралась огромная толпа, тщетно
требовавшая билетов; все места для сиденья, стоимостью
в полфунта стерлингов каждое, были давно
распроданы. Дирекция клуба распорядилась начать впуск
зрителей с раннего утра. Эти зрители занимали места,
с которых матч можно наблюдать лишь стоя. К слову
сказать, на британских стадионах для сидения
выделяется очень немного мест и стоимость их непомерно
велика. Основная масса зрителей в течение всей игры
стоит навытяжку, тесно прижавшись друг к другу, ибо
никаких ограничений в выдаче билетов на эти трибуны
нет: с треском вращаются турникеты, в окошечки
касс со звоном падают шиллинги и пенсы, и тысячи
зрителей, тесня и давя друг друга, вливаются на
стадион до тех пор, пока упругая человеческая масса не
подвергается дальнейшему сжатию.
Некоторые наиболее предприимчивые зрители
успели перелезть через барьер. Расположившись на
поле, они коротали время за игрой в карты, пили
несладкий чай с молоком, который разносили
пронырливые продавцы, нивесть каким путем пробравшиеся
86
сюда. Повсюду заключались пари. Большинство
ставили три против одного, что победит «Челси».
Район, прилегавший к стадиону, стал местом, где,
по характерному лондонскому выражению, «собирали
урожай» с толпы. Хозяева домов открывали калитки
своих садиков, принимая на хранение велосипеды
«болельщиков», прикативших сюда спозаранку, чтобы
занять лучшие места. Те, у кого дворы побольше,
пускали в ворота автомашины, беря за стоянку от
трех пенсов до двух с половиной шиллингов и больше.
Бойко торговали местами на крышах высоких зданий.
Нашлись и такие плутоватые дельцы, которые успели
приготовить фальшивые билеты и программы и
торговали ими у входа. Наиболее рьяные болельщики из
состоятельной публики платили за билет до 30 фунтов
стерлингов...
Около двух часов дня в районе стадиона уже
невозможно было проехать на автомашине, а по всем
маршрутам автобусов, которые вели к стадиону, на
остановках стояли огромные очереди. Даже у вокзала
Виктории, который находится почти в центре города,
полиция с трудом сдерживала напор толпы на автобусных
стоянках, расчищая проезд для машин.
Команды футболистов прибыли на стадион за
полчаса до начала игры. При этом выяснилось, что клуб
«Челси» произвел новые изменения в составе команды,
пригласив из соседнего клуба «Фулхэм» двух лучших
игроков Тейлора и Бакуцци (с Бакуцци нашим
футболистам пришлось встретиться еще раз в Тоттенхэме,
где он выступал уже как... игрок «Арсенала»).
Замена официально была объяснена тем, что два
игрока команды «Челси» еще не поправились от
повреждений, полученных ими в предыдущем матче
с командой «Бирмингам».
Команда «Динамо» выступала в таком составе:
Алексей Хомич, Всеволод Радикорский, Иван
Станкевич, Всеволод Блинков, Михаил Семичастный, Леонид
Соловьев, Евгений Архангельский, Василий Карцев,
Константин Бесков, Всеволод Бобров, Сергей
Соловьев. «Челси» противопоставила нашим команду
такого состава: Вудли, Теннент, Бакуцци, Россель,
87
Харрис, Тейлор, Бьюкенен, Вильям, Лаутон, Голден,
Бен.
Два часа тридцать минут... Огромная чаша стадиона
уже переполнена доотказа. Многие зрители
разместились на крышах павильонов, повисли на рекламных
щитах. Некоторые забрались на столбы фонарей и
привязались к ним ремнями. В воздухе не стихал гул
голосов. Слышались песни. Не умолкал треск треще-
ток, которые посетители футбольных матчей в Англии
берут с собой для выражения всей полноты своих
чувств.
Посредине поля играл большой гвардейский оркестр
Восемьдесять пять тысяч зрителей дружно подпевали
И вот, наконец, на поле выбегают команды.
Динамовцы — в голубых майках, футболисты «Челси» —
в красных. Советские футболисты вышли на поле, как
это у нас принято, с большими букетами белых и
красных цветов. Это вызвало некоторое недоумение у
зрителей: здесь не принято, чтобы противники, тем более
перед началом матча, преподносили друг другу
букеты. Но, когда наши футболисты протянули цветы
своим противникам, весь стадион бурно
приветствовал их.
Мяч на середине поля... Трибуны замерли.
Центрфорвард команды «Динамо» Константин Бесков делает
первый удар по мячу. И сразу же динамовцы
навязывают противнику стремительный темп игры. У ворот
«Челси» завязывается острая борьба. В первые же две
минуты Вудли. вынужден трижды отбивать мячи
с короткой дистанции. Защита «Челси» стремится
закрыть все подступы к воротам. Но вот
Архангельский ловким маневром обходит двух защитников и
сильным ударом ноги посылает мяч по воротам.
Почти верный гол! Но... мяч уходит выше штанги.
Спортивный репортер агентства Пресс Ассошиейшен
спешит передать по прямому проводу со спортивного
поля в свою редакцию: «Это совсем иная игра,
нежели то, что они показывали на тренировке! Теперь
они выглядят равными большинству первоклассных
команд Англии».
В эти минуты «Челси» переходит в решительное
88
контрнаступление. Отличные игроки нападения
прилагают все силы, чтобы обеспечить победу в этом матче.
Они применяют тактику дубль-ве, достаточно
известную нашим футболистам. В течение двадцати двух
минут игра остается безрезультатной. Пятерка наших
нападающих несколько раз прорывается к воротам
«Челси», но забить мяч ей не удается.
На восьмой минуте Бобров подошел к воротам
почти вплотную, но мяч прошел мимо сетки...
Нападающие «Челси» так же активно ведут игру.
Однако наша защита и полузащита во главе с Семи-
частным умело блокирует противника. Прекрасно
играет сам Семичастный. Он намертво прикрывает
Лаутона, не дает ему ходу. Хорошо играет Радикор-
ский. Он несколько раз ловко отбирает мячи у левого
края противника. Весь стадион следит с огромным
вниманием за ходом игры. Опытнейшие спортсмены
1-оворят, что они не видели такого матча уже много лет.
Только на двадцать второй минуте команде «сЧелси»
удается отлично разыграть сложную комбинацию,
и Лаутон, находясь на месте левого крайнего,
пушечным ударом бьет по воротам. Хомич1 искусно берет
труднейший мяч. «Тигр! Тигр!» — несется с трибун.
И действительно, прыжок Хомича напоминает
тигриный. Но подоспевший тут же Голден точным ударом
посылает мяч в противоположный угол ворот...
Счет — 1:0 в пользу «Челси».
Динамовцы стремятся сквитать этот счет. Бобров
немедленно перехватывает мяч и подводит его
вплотную к* воротам «Челси». Увлекшаяся защита англичан
далеко от ворот. Бобров остается наедине с вратарем.
Стадион замирает: почти верный гол! Бобров бьет по
воротам с восьми метров, но... мяч снова уходит выше
ворот!
Напряжение игры все нарастает. Шесть минут
спустя на штрафной площадке «Динамо» завязывается
ожесточенная схватка. Нападающий справа Вильяме
окружен динамовцами. Он пытается, на всякий случай,
сделать удар, пробуя шансы, и вдруг... мяч, сделав
рикошет от ноги Станкевича, минует Хомича и
вкатывается в ворота.
89
Счет — 2 : 0 в пользу «Челси»1
— Вай 1иск,—говорят на трибунах, — плохая удача!
Русские играют хорошо, но им определенно не везет.
И в самом деле, несмотря на то, что динамовцы
отлично разыгрывают сложнейшие комбинации и
напористо ведут игру, все время атакуя ворота противника,
мячи то и дело проходят мимо ворот. Особенно
разительно это сказалось перед самым концом первого
тайма, когда пунктуальный судья Кларк, отлично
судивший этот сложный матч, назначил
одиннадцатиметровый штрафной удар по воротам «Челси» за
грубость, проявленную английским полузащитником.
Леонид Соловьев послал мяч прямо... в штангу.
Свисток судьи возвестил о перерыве. Команды,
провожаемые бурей оваций, покинули поле.
Некоторым наблюдателям казалось, что исход матча
предрешен. На трибунах повышались ставки пари в пользу
«Челси». Однако дальновидные спортивные
обозреватели, повидавшие на своем веку много выдающихся
матчей, воздерживались от категорических оценок. Они
говорили, что русские футболисты производят
впечатление более сильных игроков, нежели любая из команд,
приезжавших в Англию с континента.
Пользуясь минутами свободного времени, репортеры
разузнавали подробности некоторых инцидентов,
происшедших во время первого тайма. На трибуне, где
расположены места для сиденья, невозмутимые
служители убирали битое стекло. Сюда в самый разгар
первого тайма рухнул провалившийся через
стеклянную крышу рьяный болельщик. Репортеры выяснили,
что это был парашютист, много раз прыгавший с
большой высоты, что помогло ему приземлиться более или
менее благополучно. Выяснилось также, что кареты
скорой помощи уже увезли со стадиона тринадцать
человек, пострадавших в давке.
Полиция изнемогала в борьбе с назойливыми
любителями футбола. Они подступили уже вплотную к
границам поля и сидели, прижавшись друг к другу, на
траве, у самых ворот «Динамо» и «Челси». Уже
в конце первого тайма приходилось вызвать
полисменов, когда надо было бить корнер. Полисмены очи-
90
щали площадку в углу, и тогда футболист бил по
мячу...
Второй тайм начался с решительных атак
динамовцев. В первую минуту они оказались на штрафной
площадке «Челси», и вратарь Вудли отчаянным
рывком спас «Челси» от верного мяча, посланного
Бобровым. В следующую минуту мяч оказался у ворот
«Динамо», но наши нападающие тут же вернули его
на штрафную площадку «Челси». Они начали
яростную бомбардировку ворот противника. Вудли едва
успевал отбивать мячи. Лишь однажды Лаутону
удалось обвести наших защитников и нанести сильный
удар с двадцатипятиметровой дистанции. Но и этот
удар был отбит.
Наконец, на двадцать второй минуте второго тайма,
завладевший мячом Карцев пробивается прямо на
Вудли. Сильным ударом правой ноги он посылает мяч
в левый угол ворот. «Гол! Гол!» — разом восклицают
восемьдесят пять тысяч зрителей, и возгласы эти
сливаются в одно открытое и звонкое «О-о-о!» Что
происходит на трибунах в эту минуту, трудно описать.
Симпатии зрителей безраздельно отданы динамовцам.
Слышится свист, топот, грохот трещеток. Раздаются
крики «ура». Группа англичан размахивает высоко
поднятым советским флагом, который они принесли
с собой.
Вдруг какой-то человек в длиннополом желтом
пальто устремляется наперерез поля. Некоторые
думают, что это врач. Неужели подбили кого-то из
футболистов? Нет! Это восхищенный болельщик,
догнав Карцева, спешит пожать ему руку прямо на поле.
Осуществив свой замысел, он удаляется с поля
сияющий. Полиция сконфужена. Игра продолжается.
Проходит четыре минуты. Динамовцы усиливают
натиск. Карцев, вступив в единоборство с Бакуцци,
ловким ударом посылает мяч назад Архангельскому,
и тот ударом справа загоняет мяч в сетку «Челси».
Счет — 2:2!
Новая овация потрясает стадион. Публика рвется на
поле. На этот раз полисменам удается ее сдержать.
Удастся ли сохранить ничью? Этот вопрос волнует
91
всех. Каждая острая комбинация вызывает бурю
восклицаний на трибунах. Как по команде, стадион то
замирает и вздыхает, то оглашается бурными криками.
Нападающие «Челси» прилагают все усилия к тому,
чтобы увеличить счет. С трибуны раздаются рубленые,
ритмичные выкрики: «Лау-тон, Лау-тон! Форти тау-
зенд, форти таузенд!» (Лаутон, Лаутон! 14 тысячу
14 тысяч!) Это болельщики «Челси» напоминают
своему центр-форварду, чем он обязан перекупившему
его клубу.
Тридцать седьмая минута второго тайма.
Нападающим «Челси» удается, наконец, прорваться к воротам
«Динамо». Лаутон получает первый и единственный
шанс оправдаться в глазах своих хозяев. Точным
ударом головы он посылает мяч в сетку «Динамо». Но и
это не вносит расстройства в ряды динамовцев. Они
продолжают играть напористо, организованно, дружно.
Почти вся команда перешла на половину поля
противника. С трибун несутся оглушительные выкрики:
— Иди, иди, «Динамо»! Бей, бей!
Шесть минут остается до конца матча. Неужели
динамовцы проиграют? Успеют ли ониЧжвитать счет?
И тут Бобров дает ответ на этот вопрос. С точной
подачи Бескова он пушечным ударом посылает мяч
в ворота «Челси». Вудли делает бешеный бросок и
падает. Мяч в сетке.
На трибунах ликование. Все встают и аплодируют
«Челси»рудвоив натиск, отчаянно штурмует ворота
«Динамо», но уже поздно. Раздается протяжный
свисток судьи. Мяч падает и тихо откатывается в сторону.
И тут же тысячи людей, окончательно смяв оцепление,
устремляются к центру поля. Мгновение, и динамовцы
охвачены живым человеческим потоком. Их обнимают,
им жмут руки. Хомича, Семичастного, Карцева,
Боброва высоко поднимают над головами и несут к
выходу. Слышатся бурные крики одобрения, во всех
концах стадиона поют советские песни. Гвардейский
оркестр грянул гимн Советского Союза, а за ним гимн
Великобритании.
Так закончился этот день необычайных событий в
Стамфорд-бридже, о котором лондонское спортивное
02
агенство сообщило: «Футболисты «Динамо», несмотря
на ничейный счет, удивили всех своим искусством.
Следует признать, что они — игроки высшего
международного класса. Из того, что мы видели в нынешнем
сезоне, можно сказать, что русские победили бы
игроков всех четырех частей Великобритании — Англии,
Шотландии, Ирландии и Уэльса».
Эти слова оказались пророческими. Много статей и
заметок было написано в английской прессе и в
последующие дни, много было в этих статьях и заметках и
интересных высказываний, и таких сообщений,
которые могли вызвать только недоумение у читателя, но
никто не осмеливался больше назвать русских
спортсменов «любителями».
Газеты после матча в Стамфорд-бридже назвали
Хомича «Тигром», Семичастного — «Динамо № 1»,
были даны звонкие имена и другим игрокам. Один из
болельщиков торжественно преподнес Карцеву
оригинальную золотую эмблему — это была цифра «13»,
дата матча. Он заявил при этом:
— Говорят, что тринадцать—несчастливое число,
но вы опровергли эту истину, популярную в Британии.
В честь дцнам.овцев был устроен торжественный
прием в клубе «Челси». Произносились бесчисленные
тосты за короля, за игру в футбол, за советских
гостей. Шеф клуба первый лорд адмиралтейства
Александер пылко заявил, что у него существуют две
привязанности — футбол и флот, причем бы$р время,
когда первая доминировала над второй, -=- он сам
пятнадцать лет играл в футбол, пока ему не сломали
ребра.
Приветствуя динамовцев, Александер сказал:
— На месте руководителей Футбольной ассоциации
я не выпустил бы Хомича из Англии. Он нам здесь
очень нужен!
Весть об успехе динамовцев быстро долетела до
Советского Союза. Оттуда посыпались
многочисленные теплые и радушные приветствия. Курьеры
телеграфной компании в эти дни совершали частые рейсы
на Кенсингтон Палас Гарден, где расположено
советское посольство. Они приносили депеши из самых раз-
93
личных уголков СССР. Многие из депеш были
довольно необычны.
«Поздравляем первым успешным матчем горячо
желаем дальнейших удач обнимаем Семичастного,
Хомича, Карцева, Боброва, Архангельского тчк
Волковы тире отец учитель мать домохозяйка сын сту
дент».
«Поздравляем желаем побед над Кардифом
Арсеналом тчк семья болельщика Семина».
«Слушали радио переживали ваши неудачи успехи
сердечно поздравляем тчк будем счастливы если и
новые успехи вы одержите в форме которую мы
любовью выткали для вас желаем успеха счастья
коллектив ткацкой фабрики директор Коломенская».
В кругах околоспортивных дельцов и реакционных
журналистов, рассчитывавших на верный проигрыш
«Динамо», исход матча произвел впечатление
разорвавшейся бомбы. Боясь потерять подписчиков, газеты,
которые еще вчера сулили советским футболистам
неудачу и скептически расценивали их возможности,
резко изменили курс и начали превозносить
динамовцев. Официальный отчет о матче, переданный
спортивным агентством, был озаглавлен «Эпический матч».
Советский футбол получил оценку «научного
футбола». Этот матч относит нас к 1923 году — к финишу
кубка на стадионе «Уимбли», — сообщало спортивное
агенство.
Матч динамовцев со сборной командой города
Кардиф, центра британской угольной промышленности и
крупнейшего океанского порта, был назначен на
субботу 17 ноября. Динамовцы выехали туда за три дня
до игры, чтобы познакомиться со стадионом, провести
тренировку и заодно осмотреть город, его окрестности
и достопримечательности.
Кардиф их встретил пылким радушием. На вокзале
реял огромный флаг СССР, были вывешены
приветственные плакаты: «Добро пожаловать, дорогие гости!»
Репортеры сообщили в лондонские газеты, что
городская полиция принимает меры для предотвращения
сцен, которые имели место на стадионе Стамфорд-
бридж во время матча «Динамо» — «Челси»: готови-
94
лись усиленные наряды на стадион, планировалось
непроницаемое оцепление спортивного поля,
предполагалось закрыть доступ на стадион за два часа до
начала матча. Полиции предстоял не легкий день, и
одна из газет не преминула напечатать забавную
карикатуру: суровый бобби кладет руку на плечо молодому
человеку, объявляя ему, что в связи со спортивным
матчем проводится дополнительный набор в полицию;
парень в ужасе от постигшей его судьбы.
Мы решили избегнуть неудобств железнодорожного
путешествия и съездить на матч в Кардиф из Лондона
на автомашине. Нам предстояло проделать за день
около семисот километров, но хорошие
автомобильные дороги давали возможность забыть об этой
внушительной цифре. Во всяком случае, это удобнее и
приятнее, чем трястись в узком и тесном железнодорожном
вагончике поезда, переполненного лондонскими
болельщиками.
Темнокоричневая лента асфальтового, крытого
гравием, неширокого шоссе вьется среди холмистых
полей, рассеченных на аккуратные квадратики
старинными, замшелыми каменными стенками, среди одетых
золотом дубрав и бесконечных садов, по берегам
тихих речек и каналов. Время от времени мелькнет в
стороне окутанный голубоватой дымкой раннего утра
серый каменный замок, переживший столетия. Его
строгие зубчатые башни и стены словно самой
природой влиты в этот гармоничный пейзаж. На зеленых,
не по сезону, лугах нет-нет и встретишь коровье стадо,
овечью отару: сидит под зонтиком пастух, с
любопытством глядящий на вереницы машин, проносящихся по
мокрому асфальту в Кардиф. Наверное, и он после
ленча выкроит часок, чтобы посидеть у радиоприемника
и послушать новости из Ниниан-парка, где будет итти
матч с этими удивительными русскими, которые везде
и во всем только выигрывают. Деревня тут же рядом,
и сходить туда будет не трудно.
Англия очень густо населена, и временами кажется,
что автомашина непрерывно едет по одной большой
улице, протянувшейся от Лондона до Атлантики:
мелкие городки и деревни часто сливаются друг с другом,
95
я все эхи маленькие чистенькие коттеджи с
крохотными вечнозелеными живыми изгородями, кукольными
клумбами и газончиками, как две капли воды, похожи
друг на друга. Иногда в стороне мелькают затянутые
косой сеткой осеннего дождя приземистые корпуса
заводов, фабрик. Вот остался позади завод фирмы
«Глостер», известной своими авиамоторами. Мокнет
под дождем бескрайный танковый парк — многие
сотни машин стоят плечом к плечу, заросшие травой;
•они так и не успели побывать на войне. Подняли свои
тонкие жала зенитные пушки, потупились гаубицы.
По шоссе проносятся большие, грузные автобусы
междугороднего сообщения. На остановках — рабочие
в комбинезонах, домашние хозяйки с зонтами и
корзинками для съестного. Те, у кого есть свои
велосипеды, катят с базара с кошелками, привязанными
у руля. Надо торопиться: сегодня по случаю субботы
мужчины к ленчу будут дома.
Уже начался Южный Уэльс; по сторонам мелькают
невзрачные, сколоченные из дерева шахтные вышки,
в воздухе потянуло характерным горьковатым душком,
хорошо знакомым тем, кто бывал в Донбассе, — это
работают вентиляционные шахтные установки,
откачивающие воздух из подземелья.
Вот и река Мерсэй, знаменитая река Уэльса, вдоль
которой построено столько заводов, фабрик, верфей.
Как и Темза, как и Клайд, она с древних времен
служила и служит средоточием индустрии и судоходства.
Мерсэй медленно катит свои бурые волны к океану.
Недавно был отлив — это видно по крутым берегам
реки, покрытым на несколько метров в вышину
жирной, липкой, темной грязью. Здесь, в нижнем течении,
река становится как бы глубоким заливом океана.
Мы проезжаем городок с древним замком, минуем
^ще несколько деревень и горняцких поселков и
коттеджей и въезжаем в Нью-Порт. На площади —
памятник неизвестному солдату, как и во многих других
британских городах, над рекой древний
полуразрушенный замок; у руин — большой цветник. Как и
всюду, множество кричащих реклам: «Покупайте
королевские лампы Эдиссон!», «Берегите детей от тифа!»,
90
«Читайте «Йоркшир пост»!» Надписи на вывесках
составлены в чисто английской манере: «Почему бы вам
не выпить чашку чая?» или «Купите у нас книги».
А один из владельцев пивных счел своим долгом
среди прочих инструкций покупателю поместить и
такую, составленную в стихах: «Пиво дешево, кружки
дороги. Будьте добры, оставляйте наши кружки у нас.
Благодарю вас». И вдруг среди шумных реклам и
вывесок и плакатов, оставшихся еще от выборной
кампании, мы замечаем сделанную торопливой рукой
трогательную надпись: «Доброй жизни Красной Армии!»
Наконец впереди показываются две характерные
высокие вышки, похожие на средневековые
сторожевые башни.
— Кардиф, — деловито сообщает наш чинный
водитель, который сам называет себя ровесником
автомобиля.
Он уже сорок лет сидит за баранкой машины, и
через его руки прошли все конструкции, начиная от
первых смешных механических карет и кончая
современными комфортабельными авто.
— Городская электростанция, — добавляет он.
Мы минуем градирни мощной электроцентрали,
пересекаем колеи городского трамвая и въезжаем в
город. Многие дома украшены советскими флагами:
особенно большой флаг развевается над отелем, где
живут сейчас динамовцы. В центре Кардифа —
большой, хорошо сохранившийся замок, обнесенный
высокой зубчатой стеной, рядом с ним — зеленый парк. На
трамвайных остановках — огромные толпы, весь город
торопится на матч, и двухэтажные трамваи идут
переполненными. Многие, потеряв надежду попасть на
трамвай, медленно бредут пешком. Повсюду снуют
продавцы, бойко торгующие сэндвичами,
программами матча, розетками цветов «Динамо», газетой «Совьет
ньюс». Тысячи людей движутся к Ниниан-парку с
вокзала — туда непрерывно подходят специальные поезда,
подвозящие болельщиков-шахтеров, только что
окончивших работу.
Подъезжая к стадиону, мы услышали знакомую
мелодию. Оркестр играл «Полюшко-поле», и тысячи
7 На Западе после войны 97
голосов подпевали ему. Над воротами стадиона вились
три больших флага: бело-зеленый с красным силуэтом
дракона — уэльский, красный — СССР и полосатый —
британский. Направо от стадиона огромное поле было
забито машинами, съехавшимися сюда со всех концов
Британии. Вдоль забора стояли и лежали на земле
оставленные хозяевами велосипеды и мотоциклы.
Наш автомобиль с маркой завода имени Сталина
немедленно собрал толпу любопытных. Степенные
шахтеры и моряки с трубками в зубах щупали крылья,
заглядывали в кабину.
Один пожилой англичанин, протолкавшись вперед,
вежливо осведомился, не знаем ли мы, как сейчас
поживает центр-форвард «Спартака» Семенов.
— Видите ли, мы познакомились с ним на
международной спартакиаде в Антверпене, — сказал он, —
мы даже обменялись спортивными эмблемами... О, я
видел русский футбол, — продолжал он, с видом
превосходства обращаясь к своим соседям. — Вы увидите,
они умеют играть лучше наших!
Другой болельщик хвастал своим самодельным
альбомом: он аккуратно наклеивал в него все
фотографии советских футболистов, какие публиковались
в газетах. Теперь он просил указать их на
фотографиях и Назвать, примерно, чтобы легче было следить
за игрой на поле. Тут же в толпе зрителей был
сухощавый пожилой англичанин с отличной спортивной
выправкой. Нам сказали, что это знаменитый некогда
левый край сборной Англии, мистер Шарп, сошедший
с футбольного поля в 1914 году. Он редко посещает
матчи, но русских ему хотелось повидать обязательно.
— Я приехал, чтобы посмотреть классический
футбол, — сказал он. — В Англии сейчас нет
футбола — как игры. Здесь футбол лишь коммерция,
повод для азартной игры. Русские футболисты счаст*
ливее наших, для них футбол — попрежнему игра.
Вероятно, именно поэтому они и играют с душой...
Мы поднялись на трибуну. Стадион был переполнен.
Как и в Стамфорд-бридже, зрители облепили щиты
реклам, взобрались на кровли. Но все же на этот раз
порядка было больше — триста полисменов мужествен-
98
но обороняли поле от вторжения болельщиков. На
центральной трибуне красовался портрет товарища
Сталина, нарисованный одним молодым шахтером.
Национальный уэльский оркестр, играя, маршировал
то вдоль стадиона, то поперек. Дирижер яростно
вращал огромной булавой, отсчитывая такт. Вдруг из
репродуктора раздалось:
— Опустите ли вы несколько пенсов в эти кружки?
Мы не поняли, о чем идёт речь. Соседи разъяснили
нам, что оркестр не получает постоянной оплаты и
живет пожертвованиями своих слушателей. И впрямь,
по рядам пошли сборщики с жестяными кружками.
Некоторые зрители бросали в них свои пенсы, и
сборщики благодарили и кланялись. Немного погодя вдоль
трибун снова пошли люди, чающие милости
доброхотов: под печальные звуки оркестра брели по беговой
дороге четверо мужчин с обнаженными головами; в
руках они держали серый брезентовый парус. С
трибун летели шиллинги, пенсы, а один какой-то
весельчак, не страдающий от излишка тактичности, швырнул
в парус огрызок яблока. Это шли сборщики фонда
помощи раненым морякам...
И снова заиграл оркестр — протяжные и
мелодичные песни, чем-то неуловимо напоминавшие песни
нашей Украины. Мы углубились в программу,
купленную у продавца. Она сообщала, что русским
противостоит сильная команда. «Кардиф-сити» считается
командой, наиболее быстро играющей в Британии, —
указывалось в программе. — Подготовленная
искусным Спайерсом, она обладает неограниченной
смелостью и всегда в состоянии играть в полную силу. Эти
ребята еще покажут себя в нынешней игре, и они
могут добиться удивительных результатов».
Пришел час игры. Сильный ветер разогнал тяжелые
тучи, блеснуло солнце, зайчики побежали по голубым
лужицам на поле. Оркестр грянул гимн Уэльса «Земля
моих отцов дорога мне», и две футбольные команды,
скользя по мокрой траве, выбежали на поле. Их
приветствовали мэр города Кардифа и советский посол в
Англии тов. Гусев, приехавший на матч из Лондона.
На трибунах гремели аплодисменты, выли трещетки.
7*
99
Слышались восторженные приветственные крики и
свистки, люди махали шляпами и платками.
Выстроившись друг против друга, команды
обменялись знаками дружбы и симпатии — динамовцы
преподнесли футболистам Кардифа цветы, игроки Уэльса
подарили советским спортсменам миниатюрные
никелированные шахтерские лампочки на память о
пребывании в «Английском Донбассе».
И вот мяч на середине поля... Начинается второй
матч советских футболистов в Англии, матч, которому
суждено стать одной из самых больших спортивных
сенсаций: счет—10:1—редкий счет в практике
международных встреч, и тем более неожиданным он
был для англичан, которые никак не могли
предполагать, что русские обыграют их с таким
превосходством.
Это была интереснейшая комбинационная игра, и
о ней в свое время немало писалось в нашей печати.
Вряд ли стоит повторять сейчас полное описание игры,
и я ограничусь тем, что приведу обстоятельный и
объективный отзыв о матче специального корреспондента
лондонской воскресной газеты «Рейнольд ньюс»,
отражающий оценку широких спортивных кругов Британии.
«Динамовцы*нашли стреляющие буцы»,— так
озаглавила свой отчет эта газета, намекая на то, что на
этот раз динамовцы не допустили ошибок, в которых
их упрекали после первого матча, когда они
«промазали» три верных гола. И далее газета писала:
«Московские динамовцы поразили 40 000 зрителей,
собравшихся в Ниниан-парке, самой потрясающей
игрой, какую когда-либо видели в Уэльсе. Посетители
<5ыли отлично «обслужены» Бесковым, который
показал свою замечательную игру четырьмя голами,
а также Архангельским и Бобровым, каждый из
которых забил по три гола. Явное превосходство «Динамо»
отняло у массы дыхание-
Игра началась очень быстрой атакой Кардифа.
После умной комбинации Мура и Карлеса Рейболл
заставил «резинового» вратаря Хомича высоко
подпрыгнуть. Мяч был отбит, но хозяева поля продолжали
оказывать сильный нажим на гостей. Вскоре, однако,
100
Соловьев взволновал всю публику своим быстрым
пасом, и динамовцы, перехватив инициативу, в
течение семи минут вели наступление на ворота Кардифа.
Свободный удар Радикорского облегчил задачу
Боброва, который хорошо проследил полет мяча и
отличным ударом головы послал мяч в сетку через
Мак-Локлина (вратаря Кардифа). Еще не стихли
аплодисменты, а динамовцы снова забили гол. Движение
динамовцев и на этот раз было первоклассным —
к воротам прорвался с мячом Бобров, и Бесков с его
подачи, как молния, забил мяч с двенадцати ярдов.
Динамовцы явно контролировали мяч. Но уэльские
молодцы боролись за каждый ярд. Немало забот
доставил Семичастному Гибсон. Много поработал
Голлиман, пытаясь перевести Кардиф в атаку. Однако
русские все время сохраняли инициативу в своих
руках.
Вскоре Соловьев провел мяч по левому флангу и
ударил по воротам. Мак-Локлшн отбил мяч кулаком.
Но на двадцать шестой минуте он снова потерпел
поражение — Архангельский нанес удар с такой силой,
что мяч невозможно было остановить.
Второй тайм принес новые огорчения Кардифу. Он
был бессш!ен противостоять атакам русских, и-
вскоре после начала второго тайма динамовцы, как
молния, опять прорвались к его воротам, и Бесков
забил четвертый гол — с правого угла в центр.
Кардиф снова попытался наступать, и Кларк нанес удар,
но Хомич, вызывая всеобщее восхищение своим
прыжком, отразил его.
Два новых гола были забиты Бобровым и
Архангельским в течение одной минуты. Счет — 6:0.
Кардиф все еще боролся с лавиной мячей, но
остановить натиск русских ему не удавалось. Карцев,
пробившись вперед, сделал еще одну дыру в защите своих
противников, и Бесков забил седьмой гол. Вскоре
Бобров забил восьмой мяч.
Но тут нападающие Кардифа неожиданным
стремительным рейдом прорвались к воротам «Динамо», и»
Мур дал высокий мяч, которого Хомич не смог
отразить. Команда Кардифа открыла счет—1:8. Две-
101
минуты спустя судья назначил .одиннадцатиметровый
штрафной удар по воротам «Динамо». Но Хомич
отбил этот удар, бросившись с вытянутыми руками в
угол наперерез мячу. Он заслужил бурные
аплодисменты.
Немного погодя Бесков своим четвертым ударом
дал счет — 9:1. Но испытания Кардифа еще не
кончились— на последней минуте игры Архангельский
увеличил счет игры до 10:1, нанеся блестящий
хладнокровный удар по воротам своих противников».
За каждой строчкой этого отчета — целый мир
душевных переживаний, страстных споров на
трибунах, буря криков, свистков, рукоплесканий. Не часто
приходится наблюдать игры такого высокого
спортивного напряжения и темпа! А наши динамовцы играли
так вдохновенно, что ими нельзя было не любоваться.
Каждый из них честно заработал свою долю тех
громовых оваций, которые не стихали в Ниниан-парке
все девяносто минут игры.
Некоторые сценки запомнились особенно ярко. Как
бушевал стадион в ту минуту, когда левый край
Кардифа Кларк стремительно прорвался с мячом к воротам
«Динамо»! Он оказался наедине с Хомичем.
Коренастый, сутуловатый вратарь «Динамо» весь превратился
в зрение. Широко расставив ноги, вытянув руки чуть-
чуть вперед, он был весь внимание. Глухой удар по
мячу... Мяч в воздухе... И в то же мгновение темно-
голубая майка Хомича мелькает в воротах. Бешеный
прыжок, и мяч4 который шел под самую планку,
встречает железные ладони вратаря. Он рекошетирует вверх
и уходит в аут.
Назначен корнер. Но его без особого труда
отбивают наши защитники. Неудача не обескураживает
команду Кардифа, и уже через две минуты они снова
на штрафной площадке «Динамо». Их форварды опять
бьют по воротам «Динамо». Прямой пушечный удар!
И опять Хомич совершает смелый, невероятный
прыжок. Он охватывает мяч в воздухе и падает с ним на
землю, корчась от боли. Но в то же мгновение он на
ногах, и мяч, посланный сильным ударом, оказывается
далеко от ворот. Нападающие Кардифа в третий раз
102
подводят мяч к воротам «Динамо», и Хомич в третий
раз берет его.
А вот наши нападающие... До конца игры остается
пять минут. Счет — 8:1 в пользу «Динамо». Часть
зрителей уже начинает расходиться, предусмотрительно
рассчитывая захватить места в трамвае. И вдруг новая
волна оваций прокатывается по стадиону: это тройка
динамовских форвардов — Бобров, Карцев и Бесков —
великолепным броском вырывается с мячом к воротам
Кардифа. Они не спешат реализовать плоды удачной
комбинации. Находясь в четырех-пяти метрах от
вратаря, они короткими пасами передают мяч друг другу,
заставляя бедного Мак-Локлина метаться из одного
угла ворот в другой.
Запыхавшиеся защитники Кардифа со всех йог
мчатся на выручку своему вратарю. И в то мгновение,
когда кажется, что они вот-вот подоспеют, Бесков
легким точным ударом тихо вкатывает мяч в сетку, и
сконфуженный вратарь достает его оттуда под
грохот трещеток на трибунах — 9:1! Но и это еще не все.
Одна минута до конца матча, последняя минута...
Наши форварды опять у ворот Кардифа. Мяч передан
Архангельскому. Стремительный точный удар, и
мяч — десятый по счету! — в сетке...
И снова, как и в Стамфорд-бридже, со всех концов
поля, прорывая заграждения полиции, несутся
болельщики, чтобы поздравить победителей. Им жмут руки,
их обнимают, их поздравляют. Руководитель команды
Кардифа Спайерс возбужденно говорит обступившим
его репортерам:
— Русские — лучшая команда, какую я когда-либо
видел! Они могут успешно соперничать с любой
командой Англии...
На землю уже опустились плотные ноябрьские
сумерки, когда мы покидали Кардиф. Наш водитель
вел машину со скоростью ста километров в час по
лондонскому шоссе, ориентируясь по бесконечной
ленте фосфоресцирующих указателей, которыми на
всем протяжении делят дорогу пополам, разграничивая
правую и левую езду. Въезжая в городки и деревни,
он замедлял ход, и тогда мы слышали голоса продав-
103
црв вечерних газет, которые спешили сообщить своим
покупателям о том, с каким сенсационным счетом
закончилась игра в Кардифе...
Спустившись ранним утром в вестибюль отеля, мы
приобрели целый ворох воскресных газет, заранее
предвкушая удовольствие от подробнейших отчетов об
этой встрече. Так оно и было: «а первых страницах
всех воскресных изданий красовались огромные
фотографии, воспроизводившие наиболее острые моменты
игры. Крупные заголовки возвещали успех советской
футбольной команды. «Десять ослепительных голов
динамовцев против одного», — сообщала «Ньюс оф
Уорлд». «Прогулка «Динамо». 10 голов шутя!» —
восклицала «Санди экспресс». «Команда, похожая на
машину», — писала «Санди кроникл».
Капитан команды клуба «Челси» Джон Гаррис
выступил со статьей, в которой он высказывал
серьезные опасения за исход следующих матчей с русскими.
Он писал:
«Русские являются самой лучшей командой, против
которой я когда-либо играл. Я предупреждал, что
русские могут принести нам неожиданные сюрпризы.
Мое предположение оправдалось полностью. Они
показали много сюрпризов...»
Спортивный репортер «Санди экспресс» напомнил о
высказываниях некоторых экспертов, имевших место
после матча «Динамо» — «Челси». «Не плохо, но
подождем, пока они встретят команду, играющую в таком
темпе, как «Кардиф-сити», — говорили эти эксперты.
И вот встреча в Кардифе состоялась. Эксперты
вынуждены признать, что и на этот раз игра русских была
выше всяких похвал...
Спортивный обозреватель «Обсервер» вновь
подчеркнул, что русские показали «научный футбол».
«Самая характерная черта этой игры, — писал он, —
замечательный темп, проявленный каждым членом
команды. Это не только быстрый бег, но и высокий
темп комбинации. И голы — доказательство, что
русские умеют не только начинать комбинации, но и
успешно их завершать. В первом тайме они как будто
бы играли между собой, пробуя шансы, и все же на-
104
брали три гола. Во втором тайме мы увидели их в
лучшей динамической форме. Тем с большим нетерпением
будет ожидаться исход матча с «Арсеналом», который
состоится в среду...»
Да, исхода предстоящего матча .«Динамо» с
«Арсеналом» теперь с волнением ждали все. И если после
встречи динамовцев с «Челси» в некоторых
околоспортивных кругах возникла какая-то растерянность, то
теперь дельцы начали энергично вести закулисные
махинации с целью любыми средствами обеспечить
выигрыш «Арсенала»: было решено под маркой
«Арсенала» выставить сборную команду, собранную из
сильнейших игроков различных клубов.
Руководитель «Арсенала» Аллисон заявил
репортерам, что он не допустит, чтобы поражение его
«мальчиков» принесло радость русским. И сразу же в ряде
газет появились статьи, целью которых было
подготовить широкую публику к восприятию неслыханного
в истории международных спортивных встреч факта
фальсификации команды. Как известно, правила
английского футбола разрешают игрокам переходить
из одной команды в другую лишь при том условии,
если данный игрок за две недели до перехода покинет
свой старый клуб и в течение этих двух недель не
будет участвовать ни в одном матче. Об этом правиле,
словно сговорившись, забыли все газеты. Они писали
теперь только об одном — о том, что команда
«Арсенала» не в состоянии противостоять «Динамо», хотя
совсем недавно руководители «Арсенала», посылая
вызов динамовцам, даже не заикались об этом.
«Арсенал» недостаточно силен. Пусть Лондон играет
против динамовцев», — писала 19 ноября за два дня до
матча «Дейли экспресс».
«Футбольная ассоциация хочет, чтобы русские
встретились с командой Англии», — вторила ей «Ньюс кро-
никл».
«Арсенал» ищет звезд-гостей, чтобы играть против
русских», — сообщала «Дейли геральд».
Игроков для «Арсенала» искали повсюду. В
вечерней газете «Ивнинг ньюс» появилась характерная
карикатура: в кабинет чиновника по делам спорта анг-
105
лийской оккупационной армии, который держит в руке
газету с сообщением «Динамо»—10, Кардиф—1»,
вбегает растерянный посыльный и говорит: «СОС от
«Арсенала»! Из Англии, сэр! Срочно шлите
подкрепления, включая танки, к среде...»
В течение одного дня команда «Арсенала»
претерпела совершенно фантастические изменения: из ее
основного состава осталось лишь несколько игроков,
все остальные были заменены лучшими мастерами
футбола, собранными из семи спортивных клубов. В их
числе был знаменитый правый край Мэтьюз, которого
в Англии именуют «футболистом № 1». Он был
«арендован» «Арсеналом» на эту игру у спортивного клуба
•города Сток.
Накануне игры, 20 ноября, газеты опубликовали
список «склеенного» «Арсенала», как они сами его
назвали: Гриффите (Кардиф), Скотт («Арсенал») или
Уорд («Спиро»), Бакуцци («Фулхэм»), Бастен
(«Арсенал»), Джой («Арсенал»), Хелтон («Бэри»), Мэтьюз
{Сток), Друри («Арсенал»), Рук («Фулхэм»), Мартен-
сен («Блэкпул»), Камнер («Арсенал»).
О том, как* широкая спортивная общественность
реагировала на эти «волшебные изменения», дает
некоторое представление статья дальновидного
спортивного обозревателя Боба Скрипса, появившаяся
в «Дейли экспресс»:
«Русские идут играть с командой, представляющей
футбол Британии, — писал он. — Этой команде
приклеено имя «Арсенала», в ее составе представители
семи различных команд лиги, все они — игроки
интернационального класса... Джордж Аллисон опасался,
что какую бы команду он ни избрал из недостаточных
ресурсов клуба, она не могла бы оправдать репутацию
«Арсенала», известную в России, и, вероятно, была
бы побеждена с таким же большим счетом, как
Кардиф в прошлую субботу. Но, назвав сборную команду
именем «Арсенал», ни Джордж Аллисон, ни
Футбольная ассоциация не спасут репутации клуба. В самом
деле, если даже русские будут побеждены этой
командой, названной «Арсеналом», то будет больше
вреда, чем если бы подлинный «Арсенал» был побеж-
106
ден со счетом — 10:0. И какое удовлетворение
получит «Арсенал» от такой победы? Я не обвиняю Алли-
сона. Я обвиняю «высшие власти», которые специально
потребовали включения Мэтьюза в состав команды.
Попутно я должен внести ясность, что Футбольная
ассоциация не является этими «высшими властями».
Имело бы больше смысла распустить этот «склеенный»
«Арсенал» и заменить его представительной сборной
командой Футбольной ассоциации или сборной
командой Лондона...»
Спортивный обозреватель тут же привел
ориентировочный состав возможной сборной команды
Лондона и подчеркнул, что она немногим отличалась бы
от той, которая теперь выступала под маской
«Арсенала».
Этому трезвому совету не вняли, и «склеенный»
«Арсенал» не был распущен. В связи с этим капитан
«Динамо» тов. Семичастный явился в Футбольную
ассоциацию и заявил от имени своей команды официальный
протест против неожиданного изменения состава
команды «Арсенала». Его заявление гласило:
«В связи с опубликованием в сегодняшних английских
газетах состава английской команды, которая будет
играть завтра с «Динамо», а также учитывая
многочисленные вопросы по этому поводу, капитан «Динамо»
считает своим долгом заявить:
1. 14 ноября при встрече в" помещении Футбольной
ассоциации представителей советской спортивной
делегации с руководителями футбольного клуба «Арсенал»
было установлено, что 21 ноября против-команды
«Динамо» выступает клуб «Арсенал», состав игроков
которого был сообщен представителям команды «Динамо».
2. Состав английской команды, опубликованный в
английских газетах, резко отличается от списка игроков
футбольной команды «Арсенала», с которым советские
представители были ранее ознакомлены.
Опубликованный в газетах состав английской
команды не был сообщен представителям советской
спортивной делегации.
Принимая во внимание опубликованный состав
английской команды, считаем, что команда «Динамо»
107
встречается завтра с одной из сборных английских
команд».
Тов. Семичастный указал, что «Динамо», конечно,
будет играть в назначенный день и час на стадионе
Тоттенхэм, но что советские футболисты отказываются
считать команду, которая им будет противостоять в
этот день, командой «Арсенала».
Газетные репортеры устремились в Футбольную
ассоциацию и в клуб «Арсенал», требуя объяснений.
Секретарь Футбольной ассоциации мистер Роус и
руководитель «Арсенала» Аллисон были несколько растеряны,
и объяснения их выглядели весьма несолидно.
— Я дал динамовцам имена игроков, которые играли
в составе команды на прошлой неделе, — заявил
Аллисон. — Я не думал, что они поймут это так, что именно
эти игроки будут выступать против «Динамо»...
Учитывая прекрасную игру, показанную русскими во время
встречи в Англии, я считал, что было бы комплиментом
для них, если бы я призвал в состав команды несколько
лучших, наиболее отличившихся игроков-гостей,
которые дали бы динамовцам возможность в полной мере
испытать себя...
Мистер Роус ограничился короткой справкой
представителям печати:
— Советские футболисты были недовольны тем, что
Аллисон не посоветовался с ними о переменах, которые
он произвел...
Своего отношения к этим переменам он так и не
высказал. Надо полагать, что редакция «Дейли
экспресс», поместившая статью Боба Скрипса, была не
рада тому громовому эффекту, какой она произвела.
Во всяком случае, в следующем номере она вдруг
поместила статью, в которой уже не было и тени
негодования по адресу махинаций со «склеенным»
«Арсеналом», зато содержались какие-то совершенно нелепые
выпады по адресу русских. Зарапортовавшийся
репортер газеты писал:
«600 русских будут сидеть сегодня солидным блоком
в Тоттенхэме и кричать «ура» своей команде... Русское
«ура» означает значительно больше, чем его английский
эквивалент. Оно применяется русскими в штыковых
108
атаках и при казачьих налетах. Эти 600 мест были
закуплены советским посольством для русской колбнии и,
сверх того, добавлено 35 билетов в ложи, где должна
разместиться большая свита игроков, переводчики,
репортеры, которые являются частью динамовской
команды. Очевидно, будет много криков «ура»...»
Утром 21 ноября футбольная горячка в Лондоне
достигла наибольшего напряжения. Повсюду только и
говорили, что о предстоящем матче. Протест капитана
Семичастного был опубликован на первых страницах
всех утренних газет. Это заявление подавалось как
известие первоклассного значения, — его не могли
затмить даже сообщения о начале нюрнбергского процесса
и о таинственном исчезновении с военного аэродрома
Молсуорт (графство Хэттингтон) знаменитого
реактивного самолета «Метеор», на котором только что был
установлен мировой рекорд скорости, — этот самолет
делал десять миль в минуту; на борту у него в ночь
исчезновения было достаточно горючего, чтобы
улететь за четыреста километров...
С утра Лондон погрузился р густой туман. Машины
шли с зажженными фарами. В домах горели огни.
Трудно было поверить, что матч может состояться в
такую погоду. Но уже в 10 часов 30 минут утра
полиция предложила администрации стадиона Тоттенхэм
открыть ворота для посетителей, объяснив это
распоряжение тем, что толпы зрителей, ожидающих начала
матча, мешают уличному движению.
К часу дня на трибунах стадиона скопилось уже
пятьдесят тысяч человек. Туман сгущался все
сильнее, и духовой оркестр, игравший посредине поля, был
почти не виден. И, тем не менее, матч должен был
начаться: как сообщало в своем официальном отчете
спортивное агенство «Пардон», «вернуть билеты
публике было невозможно, и надо было начать игру,
чтобы дать зрителям эквивалент их денег».
И вот матч, который потом сами англичане назвали
«самым фантастическим в истории английского
футбола», начался. Трудно найти слова, чтобы дать
сколько-нибудь точное представление об этой игре.
Представьте себе глубокую овальную чашу, наполненную
109
густым молоком. Где-то внизу изредка мелькают то
темноголубые, то красно-белые точки. Это игроки
«Динамо» и английской команды ведут игру. Не видно
противоположных трибун. Туман настолько густ, что
даже зрителям трудно дышать: першит в горле, режет
глаза. Легко понять, какие огромные трудности
испытывают в эти минуты наши спортсмены, которые
впервые ведут матч в такой необычайной обстановке.
И все же им удается, невзирая на труднейшие условия,
поддержать честь советского футбола...
Матч начинается великолепным прорывом нашего
нападения к воротам англичан, и Бобров на тридцатой
секунде игры вгоняет мяч в сетку. Отчаянный и звонкий
крик «гол!», исторгнутый из тысяч грудей,
прокатывается по кольцу вокруг всего стадиона — ближайшие
к воротам зрители разглядели сквозь мутную пелену,
как вратарь Гриффите, «гость» из Кардифа, достает
мяч из сетки, и от них эта новость помчалась по
стадиону.
Этот прорыв всерьез встревожил противников
«Динамо». Они решительно перешли в контратаки, и у
ворот «Динамо» в густом тумане замелькали
темноголубые и красно-белые пятна. Оттуда слышались гулкие
удары. Самого мяча не было видно. Теперь уже
зрители, сидевшие у ворот «Динамо», служили источником
информации для остальных трибун. Игра шла острая, и*
вокруг стадиона непрерывно перекатывался рокочущий
вал: «а-а-а», «о-о-о-о», «у-у-у-у». Протяжное «а»
выражало внимание, звонкое «о» — восхищение, грозное
«у» — недовольство. То и дело начинали завывать тре-
щетки, слышались свистки.
По всему чувствовалось, что на этот раз публика
«болеет» за английскую команду. Сказывались
результаты газетной пропаганды против русских
спортсменов.
Хозяева поля в пылу азарта начали грубить. Был
подбит наш левый полузащитник Леонид Соловьев, его
заменил Орешкин. Но, невзирая ни на что, англичанам в
течение долгих пятнадцати минут не удавалось
изменить счет. И только на семнадцатой минуте
центр-форварду Рук из клуба «Фулхэм», надевшему на этот день
110
форму арсенальца, удалось пробиться к воротам
«Динамо» и забить гол.
Пятьдесят пять тысяч зрителей бурно
приветствовали Рука и торжествовали. Теперь борьба приобрела
еще более острый характер. Как на беду, туман
сгустился еще больше, и казалось, что наступает ночь.
Лишь резкие вспышки лампочек фоторепортеров,
столпившихся у ворот «Динамо» в ожидании новых голов,
прорезали мглу. Эти вспышки слепили Хомича и наших
защитников, не привыкших к таким «световым
эффектам».
С трибун теперь игроки почти не были видны; сидя
против центра поля, я различал лишь двух крайних
игроков — одно темноголубое и одно бело-красное пятно.
Игра шла где-то там, в полутьме, и зрители на
некоторое время умолкли, напряженно прислушиваясь к
ударам по мячу, доносившимся из тумана, и отдельным
резким выкрикам игроков. В три часа пятьдесят минут
трибуны снова пришли в движение, зрители завопили,
заголосили. Трудно было понять, что произошло.
Многие подумали, что в ворота «Динамо» вбит второй гол„
но на самом деле Хомичу удалось отбить труднейший
мяч. Когда это выяснилось, по трибунам прокатилось
ворчание, звонкое «о-о-о» сменилось мрачным «у-у-у».
Но на сороковой минуте игры англичанину Мартен-
сену, новому инсайду из клуба «Блэкпул», удалось все
же забить второй гол, а за ним в ту же минуту—
третий. Что тут началось на трибунах! Когда-то в книгах
много'писалось о пресловутом хладнокровии и
выдержке англичан. Но, право же, на этот раз посетители
стадиона Тоттенхэм были весьма далеки от
пресловутого британского спокойствия. Они вели себя примерно
так же, как темпераментные испанцы на бое быков.
Многие не только кричали и аплодировали, с трибун
летели на поле комки газет, яблочные огрызки, хлеб<-
ные корки, — все, что попадалось под руку
темпераментному болельщику.
В такой обстановке не трудно растеряться, но все же
и на этот раз динамовцы сохранили выдержку. Собрав,
все силы, они продолжали вести игру организованно,
искусно, напористо, и за пять минут до конца тайма
111
наш центр-форвард Бесков сумел точным ударом по
английским воротам улучшить счет — 2:3.
Во время перерыва на трибунах оживленно
комментировали первый тайм. Теперь было совершенно ясно, что
англичанам удалось собрать команду из первоклассных
игроков. Отлично играл, в частности, Мэтьюз. Как
выразился потом корреспондент спортивного агентства, он
«время от времени нахально выводил мяч на
Станкевича и тогда искусным ложным ударом молниеносно
пробивал защиту «Динамо». И все же Мэтьюзу, этому
рослому, плечистому детине, не удалось забить ни
одного гола в наши ворота.
Искусной работе «звезд» британского футбола
динамовцы противопоставляли организованную, четкую,
хорошо согласованную командную игру. В то время как
тактика англичан в значительной мере строилась на
индивидуальных качествах игроков, динамовцы и здесь
сохранили то единство действий, за которое англичане
окрестили их «командой-машиной». Это, конечно, не
подавляло индивидуальности отдельных игроков, но
каждый из них вкладывал в общую игру все, что мог
дать.
Надежды на то, что туман к концу перерыва
несколько рассеется, не оправдались. Тяжелая сырая мгла
еще плотнее окутала стадион, когда игроки снова
появились на поле. Лондонцы подразделяют свои туманы
на несколько категорий, в зависимости от плотности.
То, что было перед нами, относилось к категории
«гороховый суп». Это выражение достаточно образно
определяет обстановку, в которой футболистам пришлось
возобновить игру. Во втором тайме были произведены
новые замены игроков: один из англичан сильным
ударом по бедру «выбил» из строя Трофимова, — его
заменил на поле Архангельский; англичане сменили
вратаря, который в пылу игры не рассчитал дистанции и
вместо мяча упал плашмя на ногу нашему
нападающему, который стремительно прорывался к английским
воротам. Английского вратаря сменил голкипер клуба
«Куинс-парк» Браун.
Теперь игра стала наиболее острой и, я бы сказал,
отчаянной — команды, напрягаясь до предела, боролись'
112
за выигрыш. Англичане стремились увеличить счет,
динамовцы, наперекор всему, хотели изменить счет в свою
пользу. И уже на пятой минуте второго тайма Сергею
Соловьеву удалось сравнять количество голов. Теперь
там, на сырой траве поля в коричневой мгле, шла
глухая яростная борьба, и десятки тысяч зрителей, дружно
цроклиная туман, заслонявший от них это
заманчивое зрелище, мучительно переживали каждую новую
комбинацию, о ходе которой они могли лишь
догадываться. В течение двадцати минут по трибунам, скупо
освещенным электрическими фонарями, снова и снова
перекатывались все те же «а-а-а», «о-о-о», «у-у-у», но
еще не было той оглушительной вспышки выкриков,
которая неистовым, сводящим с ума истерическим
приступом охватывает английские стадионы в дни вот
таких, как этот, матчей, когда мяч влетает в ворота. Счет
оставался прежним — 3:3, и никто в эту минуту не мог
бы предсказать, чем все это кончится.
Многим казалось совершенно невероятным, чтобы
такие матерые волки футбольных полей, как Мэтьюз,
Друри, Рук, оказались бессильными против русских.
Но английскому нападению, при всем желании, не
удавалось провести свой мяч в ворота «Динамо» — то
защитники перехватывали его, то Хомич каким-нибудь
совершенно уж непонятным и невероятным броском
встречал мяч, когда британцам казалось, что теперь-то
уж, слава богу, дело в шляпе, то нападающие
«Динамо» перехватывали мяч и устремлялись с ним куда-то
в туман, где Браун, переминаясь с ноги на ногу, нервно
прислушивался к нарастающей волне криков, которая
возвещала о приближении мяча.
Браун, как и Гриффите, был опытным вратарем, и ему
часто приходилось выручать команду, когда защитники
оказывались бессильными перед нападением
противника. Много раз он брал труднейшие мячи, и теперь
Аллисон не имел никаких оснований жаловаться на
«гостя», который честно зарабатывал свой хлеб. Но
бывают мгновения, когда и самый опытнейший вратарь
бессилен закрыть свои ворота, и такое мгновение
произошло, когда всклокоченный, мокрый молодой
русский игрок в потемневшей от росы фуфайке вынырнул
8 На Западе после войны 113
перед Брауном, ведя мяч короткими и точными
ударами. Это был Бобров. Браун видел его в Стамфорд-
бридже и знал, что этот игрок очень опасен.
Напрягшись, он бросился навстречу ему, но было уже поздно*
Бобров с силой ударил по мячу, и тот, словно пушечное
ядро, влетел под планку ворот.
Браун упал. Бобров, удостоверившись в том, что
удар не был напрасным, стремительно повернулся и
легким, упругим шагом спортсмена помчался
обратно — сейчас игра должна была вновь начаться с
середины поля. Гол! Это звонкое слово опять прокатилось
по трибунам, и болельщики сборной команды,
выступавшей против «Динамо» под маркой «Арсенала»,
нашли в себе мужество, чтобы воздать должное Боброву
своими аплодисментами. Но даже аплодисменты эти
прозвучали как-то невесело и принужденно...
До конца игры еще оставалось много времени, и
казалось, можно еще и свести матч к ничьей, и даже
выиграть у русских. Но не такое это простое дело, когда
знаешь, что русских еще ни разу не удавалось обыграть,
и когда видишь, что они продолжают играть все с той
же поразительной методичностью и четкостью, словно
и впрямь это не команда, а машина — ни неудачи, ни
победы не лишают их сосредоточенности, выдержки и
упорства. Они не дают ни одного лишнего шанса своим
противникам, у них нет зевков, они всегда все видят и
предвидят, они ничем не отвлекаются, когда работают
на поле; кроме мяча, в эти минуты для них не
существует ничего на свете, и ни овации, ни обструкции не
мешают им делать то, что они хотят. К тому же, им не
приходится думать в эти минуты о проклятом
заработке — они играют, чорт возьми, а не служат на поле,
и им не надо расценивать голы на фунты
стерлингов.
Игроки команды, выступавшей под именем
«Арсенал», начали еще больше нервничать, когда дело пошло
к явному проигрышу. Все чаще они начинали работать
кулаками, когда не удавалось отобрать мяч по
правилам игры. И все же динамовцы не только не
пропускали англичан к своим воротам, но непрерывно
атаковали их, — почти все время, оставшееся до конца
114
игры, они провели на половине поля англичан. Счет
остался неизменным...
Было уже совсем темно, когда хмурая,
раздосадованная публика покидала Тоттенхэм. Повсюду
слышались нелестные эпитеты по адресу игроков, не
оправдавших «адежд болельщиков. На автобусных
остановках и у станций метро стояли длинные очереди людей,
зябко кутавшихся в отсыревшие пледы и пальто.
Обладатели легковых машин тщетно пытались проложить
путь по узким улицам, забитым толпами. По углам ярко
пылали факелы, которые здесь зажигают в дни
особенно сильных туманов для ориентировки водителей и
пешеходов, — они расставлены через каждые
пятьдесят — сто метров, и их трепетные желтые огни служат
спасительными маяками, чтобы не сбиться с дороги, не
заблудиться в гудящей и рычащей толпе машин,
беспомощно ползущих вслепую.
— Счастливые ваши, — с какой-то затаенной грустью
сказал вдруг шофер, вглядываясь в мутную, черную
даль, — они опять выиграли. Но завтра, я думаю, они
будут огорчены — у нас не любят постоянно
проигрывать, и я бы не советовал вам покупать завтра газеты.
Мы не вняли этому совету, и назавтра с утра во всех
номерах гостиницы, где остановились русские,
появились опять целые ворохи свежих газет. Конечно, мы
ожидали, что многие из тех, кто делал ставку на победу
сборной команды, постараются представить этот матч в
неправильном свете и как-то дискредитировать успех
«Динамо». Но то, что мы увидели на этот раз,
превышало наши предположения...
«Русские выиграли в секрете».
«Самый фантастический матч из всех, когда-либо
виденных».
«Фарс в Тоттенхэме».
Эти заголовки, один крикливее другого, сразу же
настораживали читателя. А дальше шли статьи, целью
которых было доказать недоказуемое: выигрыш
русских якобы объясняется простым недоразумением.
«Это не был футбольный матч», —с раздражением
писал спортивный обозреватель Маннинг. — Назовите
это «фантазией в тумане», «пантомимой теней», чем
8*
115
угодно, ибо все это не имеет ни малейшего сходства с
игрой в футбол. Вопрос о классе русских футболистов
остался нерешенным... Все же мы уверены в одном: Мэ-
тьюз может поставить в тупик, озадачить и обыграть
динамовцев, а английская сборная может побить
русских, и администрация одного из наших стадионов
готова организовать такую встречу, если русские
согласятся остаться».
Град несправедливых обвинений и упреков был обру-
-шён на голову советского судьи Николая Латышева,
которому было поручено судить этот труднейший матч
и который, кстати сказать, своим безукоризненным
судейством не дал своим противникам ни одного повода
для протеста. В отчете агентства Рейтер наши
спортсмены с изумлением прочли такие строки: «Было
большой тактической ошибкой назначать советского судью,
не говорящего ни слова по-английски. Он не руководил
игрой...» «Футболисты спрашивали друг друга: почему
Рейтер не считает ошибкой назначение английских
судей, ни слова не понимавших по-русски, в
предыдущих матчах? Не считает ли это агенство обязательной
привилегией английских футболистов разговоры с
судьей на их родном языке?
Когда же тренер «Динамо» Якушин в своем
сообщении об итогах игры, которое передавалось московским
радио, упомянул о грубой игре некоторых английских
игроков, это вызвало острую, нервную реакцию в
спортивных кругах. Джордж Аллисон тут же попытался
свалить вину на... советских игроков...
— Я не знаю об инцидентах, — раздраженно заявил
он представителям печати. — Ни одна жалоба ко мне и
не поступила. Столкновение Рука произошло в
результате коллизии (?) с динамовскими игроками. Гриффите
также был подбит русским форвардом...
Но тут же это путаное опровержение было
опровергнуто самими английскими обозревателями. Мильн из
«Дейли мирор» прямо указал, что Гриффите получил
повреждение из-за собственной неосмотрительности и
неосторожности: «Гриффитса заменили после того, как
он совершил храбрый, но неразумный бросок прямо под
ноги набегавшего динамовского форварда». А Скрипе
116
опубликовал в «Дейли экспресс» заметку, которая
называлась «Динамо № 1 с черным глазом», в которой
говорилось:
«Я видел Семичастного вчера. Он был не способен
разговаривать, у него был черный и распухший глаз-
Соловьев — русский левый край — провел вчерашний
день в гостинице, в кровати, с вывихнутой лодыжкой...»
Наиболее дальновидные и серьезные представители
английского спорта, которым претило тенденциозное
отношение к советским футболистам со стороны
некоторой части прессы, призывали более трезво оценить
уроки прошедших матчей и сделать из них далеко
идущие выводы. Много шуму наделала в спортивных
кругах, в частности, статья одного из виднейших игроков
английского футбола Бернарда Джоя, центра
полузащиты сборной Англии, который 21 ноября играл против
«Динамо». В этой статье, опубликованной в вечерней
газете «Стар», говорилось:
«Я не буду пытаться оправдать поражение
«Арсенала». По ходу игры мы должны были бы добиться
ничьей, но этот матч явился справедливой пробой сил.
Ужасные условия погоды столь же плохо отражались
на них, как и на нас. Жаль, что туман не позволил
многочисленным зрителям так же хорошо видеть игру, как
видели ее мы, то есть игроки, ибо она была
действительно интересной и напряженной.
Основным фактором, определившим успех русских*
является, на мой взгляд, их позиционная игра —
искусство, которое, повидимому, совершенно утеряно в
Англии. Как действует эта система, можно была
наблюдать, когда мяч находился у кого-нибудь из русских;
игроков. В такие моменты не один и не два, а по
крайней мере пять или шесть игроков начинают
передвигаться к пустым местам для того, чтобы принять пас.
Мяч используется самым полным образом, так как пас
к неохраняемому игроку представляет собой лучший
способ выигрыша пространства. Игрок «Динамо» лишь
в редких случаях пытается обыграть противника. Он не
ждет, чтобы его атаковали противники, и при первой
возможности передает мяч своему партнеру, который
как будто по волшебству появляется в одном из пустых
117
мест на поле. Из-за этого защитники никогда не имеют
шансов сразиться с форвардами. В такие моменты
всегда, неизвестно откуда, появлялись еще новые
форварды, и защите приходилось все время утомительно
гоняться за тенями. Как только игрок «Динамо» получает
мяч, его коллеги выдвигаются на пустые места,
подальше от защиты. Это и есть позиционная игра. Мы
утратили это искусство, хотя такие игроки, как Джеймс,
Стенли, Мэтьюз, Камнер и Питер Дохерти,
показывают, что это отнюдь не континентальная монополия.
В результате игрок, завладевший мячом, должен
либо вести мяч дриблингом, либо дать пас, который
чаще всего перехватывается противниками. Последним
помогает в этой задаче тот факт, что им приходится
охранять стоящую неподвижно, а не движущуюся
команду. В таких случаях принято сваливать
ответственность на плохую игру отдельного игрока, в то
время как в действительности виноваты его коллеги, не
выбежавшие для того, чтобы занять позиции и
поддержать его. Беда заключается в том, по моему мнению,
что мы делаем упор на индивидуальную игру, а не на
то, чтобы сплотить игроков в хорошую команду. Мы
должны быть реалистами и понять, что сборище
отдельных игроков не сможет победить такую хорошо
подобранную и согласованную играющую команду как
«Динамо». Динамовцы почти ничем не выражают своего
восторга, когда один из игроков забивает мяч. Этим
они показывают, что игрок, забивший мяч, только
наложил последний штрих, завершивший усилия всей
команды.
Большую роль в этом успехе играет хорошее
физическое состояние игроков. В этом отношении русские
далеко опередили нас. Игроки не только имеют
возможности для совместной тренировки, но также разумные
методы такой тренировки. Эти методы приспособлены
к условиям такой трудной игры, как футбол. Им
удалось создать команду, которая и физически, и морально
находится на высоте. Кроме того, они сумели
объединить тренировку в технике игры с программой
физической подготовки, в то время как у нас это
рассматривается как два отдельных комплекса. Кроме того, у них
118
детально разработана система общего укрепления
здоровья, диета, отдых и развлечения. Я уверен, что в
случае необходимости они имеют даже возможность
обратиться к услугам специалиста по психологии. Хорошее
физическое состояние позволяет их игрокам покрывать
большую часть поля. Когда динамовцы бросаются в
атаку, в ней участвует восемь человек. Когда они
переходят к защите, в ней также участвует восемь человек.
Это требует выносливости, которую может дать только
высокое физическое состояние. В этом они также
отошли от более шаблонной тактики, принятой у нас.
В Англии считается, что центр-форвард всегда
должен быть далеко выдвинут вперед, а инсайды —
оттянуты назад. Русские изменили это. У них также есть
выдвинутый вперед игрок, но иногда это бывает инсайд,
а центр-форвард оттягивается назад для того, чтобы
помочь защите. Это представляет собой один из
способов избегать излишнего утомления игроков
нападения, а также образец игры единым коллективом. Боюсь,
что русские методы тренировки и игры в футбол
являются революционными, на наш взгляд, быть может,
не английскими. Тем не менее, как сказал Герберт
Уэльс, мы должны «приспособиться или погибнуть».
Если мы хотим сохранить свое место во главе
мирового футбола, мы должны применять современные
научные достижения и методы».
Честное и открытое признание Джоя кое-кому
пришлось не по вкусу, но мастера футбола целиком
разделяли его точку зрения. И не случайно в эти дни газеты
облетело сообщение, что некоторые футбольные клубы,
познакомившись с игрой русских, решили многое
перенять из опыта «Динамо».
Остается сказать несколько слов о заключительной
игре динамовцев — об их встрече с шотландским
клубом «Ренджэрс». К сожалению, мне не удалось
побывать в тот день в Глазго, поэтому я ограничусь здесь
лишь некоторыми данными, необходимыми для того,
чтобы завершить рассказ о пребывании советских
спортсменов в Англии.
Если Англия в целом исстари считалась страной
классического футбола, то Шотландия — родина этого
119
национального вида спорта, а клуб «Ренджэрс» — один
из старейших в мире. Недавно он отпраздновал свое
сорокалетие. Подсчитано, что команда «Ренджэрса»
двадцать девять раз выигрывала у сборной Англии и
тридцать раз завоевывала первенство и кубок
Шотландии. В 1945 году «Ренджэрс» также шел первым
и розыгрыше первенства.
Против «Динамо» клуб выставил лучших своих
игроков. Среди них были выдающиеся мастера футбола.
Капитан команды защитник Джон Шоу — атлетически
сложенный игрок, среднего роста, обладающий
большим опытом игры в первоклассных английских
командах. Вратарь Джерри Доусон является национальным
героем шотландского спорта, популярнейшим здесь
человеком. Доусон, между прочим, известен как самый
высокий футболист: он на голову выше всех голкиперов
английского футбола за последние пятнадцать лет.
Опытнейшим игроком является центр полузащиты Янг,
который в течение ряда лет играл в составе первой
команды «Ренджэрса», затем, два года тому назад,
получив громкую известность, был отобран в команду
сборной своей страны. В роли центр-форварда выступал
Джимми Смит. «Большой Джимми», как ласково
называют его в Англии, — популярнейший старейший игрок.
Ему уже больше тридцати пяти лет, но он до сих пор
искусно забивает голы. Между прочим, именно он вбил
первый мяч в ворота «Динамо», когда Хомич в пылу
игры вырвался вперед и ворота на мгновение оказались
открытыми.
Шотландцы встретили динамовцев очень
гостеприимно. Повсюду за ними ходили толпы любопытных,
многие преподнесли игрокам цветы, хотя в это время
года здесь, на севере британского острова, достать их
очень трудно. Однако и здесь чувствовалось весьма
ревностное отношение к предстоящему матчу: все
желали успеха «Ренджэрсу» и ждали его. Товарищи,
побывавшие в Глазго, рассказывали потом, что во многих
местах и даже на борту кораблей, стоявших на реке
Клайд, были сделаны надписи, выражавшие пожелания
успеха «Ренджэрсу». Одна из этих надписей гласила:
«Ренджэрс» — «Динамо» — 10:0».
120
Рассказывают, что матч этот, собравший девяноста
тысяч зрителей, был чрезвычайно острым, а обстановка,
которая царила на трибунах, напоминала то, чему мы
были свидетелями в Тоттенхэме в часы игры с
«Арсеналом». Обе команды играли на выигрыш, выступая во
всем блеске своих зрелых сил. В первую же минуту
шотландцы прорвались к воротам «Динамо», но были-
отбиты. На третьей минуте динамовцы оказались у
ворот «Ренджэрса», и на этот раз мяч оказался в сетке.
На двадцать четвертой минуте игры динамовцы,
разыграв искусную комбинацию, увеличили счет до 2:0.
Вскоре шотландцы, перейдя в решительные контратаки,,
сумели изменить счет — «Большой Джимми»,
перехитрив Хомича, вогнал мяч в сетку. Можно было ожидать,
что второй тайм принесет много новых событий.
Однако на всем протяжении второй половины игры
никаких изменений не произошло бы, если бы судья
Томпсон не совершил явной несправедливости: за четверть
часа до конца матча он вдруг, без сколько-нибудь
существенных оснований, назначил одиннадцатиметровый
штрафной удар по воротам «Динамо», который и решил
исход матча со счетом — 2:2...
История этого штрафного удара, как рассказывают
очевидцы, такова. В ходе борьбы за мяч на штрафной
площадке «Динамо» играли два игрока — динамовец 1г
англичанин. Судья назначил свободный удар от ворот
«Динамо». Но боковой судья решил вмешаться, и
Томпсон после переговоров с ним принял прямо
противоположное решение: назначить одиннадцатиметровый удар
в ворота «Динамо». Английский радиообозреватель
Клейденинг считал этот удар явной несправедливостью.
Общий счет, с которым динамовцы закончили свое
спортивное турне, достаточно убедительно
свидетельствовал о зрелости и высоком классе советского
футбола: из четырех матчей динамовцы два выиграли, а
два сыграли вничью. Счет мячей— 19:9 в пользу
«Динамо».
В Лондоне динамовцам были устроены
торжественные проводы. Однако газеты все еще пытались
доказать, что «Динамо» якобы играло лишь со слабыми
командами, которые не могут представлять британский
121
футбол в международных встречах. Они требовали,
чтобы был во что бы то ни стало организован матч
«Динамо» со сборной Англии. Так, «Ньюс кроникл»,
расшаркиваясь перед «яркими личностями гостей,
прибывших из России», галантно писала: «Было бы актом
вежливости по отношению к команде «Динамо», если
бы ей была предоставлена возможность встретиться с
командой, которая действительно представляла бы
английский футбол. Команда «Динамо» заслуживает
того, чтобы мы выставили против нее лучших игроков,
каких мы сумеем собрать».
Однако руководители английского футбола,
рассуждавшие весьма трезво после этих четырех матчей,
решили воздержаться от такого «акта вежливости»...
В ожидании летной погоды динамовцы часами
бродили по улицам и паркам Лондона, пытливо наблюдая
жизнь этого большого чужого города. Они любовались
широкой Темзой, окутанной голубоватой дымкой,
подолгу простаивали перед чудесными памятниками,
которыми так богат Лондон. Была уже зима на дворе, и
из Москвы по радио шли сводки о крепких морозах,
метелях, снегопадах. А здесь все еще цвели розы, можно
было ходить в легком плаще, и на стадионах,
покрытых ярко-зеленым стриженым травяным ковром,
продолжались игры. И все-таки каждого неудержимо
тянуло отсюда туда, в снежную Москву, домой. Когда
метеорологи сообщили, наконец, что погода позволяет
выпустить самолет в воздух, наши спортсмены с
величайшей радостью принялись упаковывать чемоданы.
Они увозили Из Лондона самые теплые воспоминания о
встречах со своими коллегами по спорту, об интересных
матчах, об английском народе, оказавшем им
дружеский прием. Но грубые и бестактные выходки
политиканов, попытавшихся использовать эти спортивные
встречи в своих целях, не имеющих ничего общего с
целями укрепления дружбы союзных народов, несколько
отравляли впечатление от этой поездки.
Справедливость требует отметить, что выходки эти не дали
сколько-нибудь существенных результатов.
Невозможно заслонить газетным листом широкое футбольное
поле от зрителя, и рядовые англичане собственными
122
глазами увидели, на что способны «одиннадцать
молчаливых людей в синих пальто», которых за три недели
до этого некоторые газеты силились представить как
дикарей.
5. ДВА ГОДА СПУСТЯ
Последний раз мне довелось побывать в Лондоне два
года спустя после описанных выше событий — хмурой
осенью 1947 года. Мы въехали в город, когда уже
стемнело. Вдоль улиц горели редкие газовые фонари,
бросавшие мертвенный свет на тротуары, на
перекрестках мерцали тусклые светофоры. Витрины, как и два
года назад, были погружены во мрак. Ни световых
реклам, ни ярких указателей. Редкие прохожие,
поеживаясь от сырости и кутаясь в легкие осенние пальто,
торопились по домам. На перекрестке стоял слепой
аккордеонист с угрюмым, высушенным нуждой лицом. Он
играл с каким-то мрачным отчаянием — никто не
останавливался возле него, и не было слышно привычного
звона медных пенни, падающих на дно жестяной
кружки, стоящей у его ног на мокром асфальте. У
ночной закусочной на Лейстерсквере стояла длинная
очередь. Из-за спущенных жалюзи домов, стоящих тесно
друг к другу и похожих, словно близнецы, пробивались
слабые лучики света. Временами нескончаемая цепь
домов прерывалась, и в темном провале угадывались
руины.
Поутру я обошел знакомые улицы, и вновь, еще резче,
сказалось ощущение мертвящей скованности,
оцепенения, в котором пребывает вот уже третий год этот
огромный город. При всем желании невозможно было
отыскать какие-либо новые черточки в его облике. Все
было то же, словно вернулась осень 1945 года: ни
одного нового здания на центральных магистралях; окна
министерства рыболовства попрежнему замурованы
кирпичом; во многих зданиях окна до сих пор забиты
фанерой; ветхие камышовые плетни, которыми
заменили в годы войны чудесные чугунные решетки
лондонских парков, пошедшие на корм мартенам, все еще
уродуют городской пейзаж; на развалинах разбитых
123
бомбами кварталов Сити, окружающих собор святого
Павла, буйно разросся бурьян.
Как и в 1945 году, представители властей пожимали
плечами и вздыхали:
— Что ж поделаешь, — это наделала война.
Нехватает ни денег, ни материалов, ни рабочих рук, чтобы
восстановить все это...
Эти доводы и два года назад казались
малоубедительными каждому, кто мало-мальски разбирался в
экономике. Теперь же они и вовсе стали смехотворными.
Простые люди Англии начинают все отчетливее
сознавать, что широковещательная программа реформ и
•благих намерений, сформулированная два с лишним
года назад Моррисоном в предвыборной программе
лейбористской партии, называвшаяся «Заглянем в лицо
будущему», — осталась на бумаге.
Как-то в воскресный день мы объехали в автомобиле
памятные по 1945 году районы города — Сити, Уайтче-
пель, доки... Наш шофер — старый лондонец —
оказался словоохотливым человеком, он отлично знал
город и быстро вошел в роль гида. Колеся по извилистым
старым улицам и переулкам, он старательно показывал
нам традиционные достопримечательности — «Таверну
грязного Дика», которая славится тем, что здесь на
протяжении нескольких столетий не обметали пыль со«
стен и не снимали паутину в углах; башню Тоуэра,
разбитую немецкой бомбой; чугунную колонну,
поставленную в память о великом лондонском пожаре,
уничтожившем полгорода после эпидемии чумы в средние
века; рыбный рынок, носильщики которого на
протяжении нескольких веков славятся своей артистической'
руганью, и многие другие столь же любопытные места.
Когда мы миновали район Сити и углубились в
трущобы Ист-энда, наш спутник насупился и приумолк.
По сторонам тянулись бесконечные вереницы жалких,
покрытых струпьями плесени домов. Чумазые
ребятишки копошились в развалинах. От грязных уличных,
рынков тянуло тяжелым запахом испортившихся
продуктов. Унылые нечесаные женщины в отрепьях
рылись в баках с отбросами. И снова, как и два года
назад, приходили на память гневные обличительные-
124
страницы, посвященные сто лет назад молодым
Энгельсом нищенской жизни обитателей этих трущоб.
— Плохо живут здесь! — сказал вдруг, словно
угадывая наши мысли, шофер, раскуривая на ходу свою
лотухшую трубку. — Плохо! И грязно, и бедно, и
тесно. Очень тесно!..
Мы проезжали в эту минуту по длинной улице вдоль
Темзы, застроенной с одной стороны бесконечными
причалами и складскими помещениями, а с другой
стороны— жилыми домами. Когда-то здесь разорвалась
серия немецких бомб среднего калибра, и жилые дома
слегка пострадали — вылетели стекла, кое-где были
вышиблены рамы и сорваны двери, с некоторых домов
снесены крыши. Восстановление таких домов, казалось
бы, не требовало особых затрат — в нашей стране
подобные здания возвращали в строй через десять —
двадцать дней после бомбежки. Здесь же они и теперь
остаются в том же состоянии, в каком находились,
восемь лет назад. Улица была мертва. Лишь кое-где,
словно оазисы в этой каменной пустыне, виднеются
жилые очаги: кто-то на свой страх и риск починил
кровлю над своей комнатой, залатал окна фанерой и
живет один в большом, мерзлом, ветшающем доме.
— Почему же это так?
— В газетах пишут, что нехватает рабочих рук, —
процедил наш спутник. — И строительные материалы
дороги — не всякому квартиранту ремонт по карману.
А хозяин... Он двадцать раз подумает перед тем, как
восстановить дом. Какой смысл делать это, когда он
получает тот же доход, что и раньше, повысив
квартирную плату в остальных принадлежащих ему
домах?..
Он помолчал и потом, глубоко вздохнув, добавил:
— Говорят, что у вас все это иначе. Мне трудно
судить, как это у вас получается, но, по-моему,
результаты сами говорят за себя, что б там ни писали
газеты... Я человек маленький, но право же, если б
меня спросили, чего мы добились за эти послевоенные
годы, — я бы сказал: посмотрите на русских, мы —
слепые щенки по сравнению с ними. Впрочем, я,
кажется, начинаю болтать лишнее. Поедемте лучше
125
к Сент-Джеймскому дворцу, — там скоро начинается
развод гвардейского караула. На это стоит поглядеть...
Шофер замолчал и до конца нашей поездки не
проронил ни слова. Но по всему было видно, что мысль,
которую он затронул, всю дорогу не давала ему
покоя...
Этот случайный разговор с «маленьким человеком»,
как он сам себя назвал, мне часто приходил на память,
когда я сопоставлял виденное и слышанное в Лондоне
в 1947 году с тем, что довелось наблюдать здесь за
два года до этого. Повсюду чувствовались глубокая
неудовлетворенность и плохо скрытое разочарование
теми результатами, к которым привело двухгодичное
правление лейбористов.
На другой день после приезда в Лондон я купил
только что вышедшую в свет брошюру под
выразительным заголовком «Азбука кризиса». Эту брошюру
выпустила в свет лейбористская партия, пытавшаяся
как-то подправить свой авторитет, пошатнувшийся
в глазах рядового англичанина. Само название
брошюры говорит за себя — лейбористы теперь даже не
пытаются отрицать тот очевидный факт, что страна
переживает глубокий кризис. Они лишь стремятся
спасти свое лицо и как-либо отделаться от
ответственности за этот кризис, представив дело таким образом,
будто бы кризис возник сам по себе, в силу роковых и
неизбежных обстоятельств.
— Война, — во всем виновата война! — твердят
авторы брошюры и вновь и вновь начинают сетовать
на то, как обеднела Великобритания и как трудно
в наше время сбалансировать экспорт и импорт. —
«Окиньте взором комнату, в которой вы сидите, —
взывают они к читателю, — или подумайте об одежде,
которую вы носите. Этот стол сделан из дерева.
Откуда получается это дерево? Наверно, из Канады
или Скандинавии. А хлопок для ваших рубашек?
Из Соединенных Штатов. Шерсть для вашего костюма?
Из Австралии. Кожа для ваших ботинок? Наверно, из
Индии. А бумага, на которой напечатаны этн строки?
Из Канады. Или подумайте о вашем завтраке. Хлеб,
наверно, был выпечен, в основном, из пшеницы, полу-
126
ценной из Канады, масло, возможно, прибыло из Новой*
Зеландии, маргарин сделан из масличных культург
полученных из Нигерии, чай с Цейлона, сахар с Кубы...»
Сообщив, что Англия ввозит из-за границы половину
требующегося ей мяса, три четверти — пшеницы, чай
и кофе — целиком, а также весь потребляемый
в стране хлопок, каучук, лес, бензин, бумагу, олово,
медь, свинец, алюминий, никель и свыше одной трет
потребной для промышленности железной руды, —
авторы брошюры с прискорбием извещают читателя,
что за все это Англии нечем платить. Ну куда же делся
огромный американский заем, по поводу получения
которого столь бурно ликовали лейбористы два года
назад? Ведь тогда говорили, что этого займа вполне
хватит для того, чтобы поставить на ноги английскую
экономику и зажить безбедной жизнью, балансируя
экспорт с импортом!
Увы, — от американского займа осталось одно
воспоминание, и притом крайне неприятное воспоминание.
3,75 миллиарда долларов утекли сквозь пальцы
английских купцов, не оставив сколько-нибудь
существенных следов на британской экономике, и теперь
англичанам остается в течение пятидесяти лет платить
долги и проценты по ним оборотистым американским
кредиторам, хорошо заработавшим на этой сделке.
К*к уже отмечено выше, условия этого займа были
кабальными для Англии. Осенью 1945 года британское
правительство старалось умалчивать об этом, на
теперь, перед лицом неумолимых фактов, авторы
брошюры «Азбука кризиса» вынуждены процедить сквозь
зубы невыгодное для них признание:
— Для того, чтобы получить американский заем,
Англия должна была согласиться на некоторые
условия, которые, несомненно, усилили наши
экономические затруднения...
Впрочем, по мнению авторов брошюры «Азбука
кризиса», в действиях американских кредиторов нет
ничего предосудительного. В брошюре черным по
белому напечатано:
«То, что Соединенные Штаты делают сейчас, Англия
делала в XIX веке...»
127
Посему гражданам Великобритании рекомендуется
сюкорно нести бремя последствий предоставления
Англии кабального американского займа и безро-
лотно мириться с новыми и новыми ограничениями
импорта и связанными с ними лишениями
потребителей.
Уже в 1946 году импорт здесь был сокращен
количественно на одну треть по сравнению с тем, что было
ввезено в Англию в 1938 году. В 1947 году импортную
программу вновь урезывали дважды — летом и осенью,
всякий раз на сотни миллионов фунтов стерлингов.
В угрюмые осенние дни 1947 года мы чуть ли не
ежедневно находили в газете какое-нибудь неприятное
известие об очередной урезке пайков. Два года спустя
после окончания войны лондонцы вынуждены были
литаться значительно хуже, чем в военные годы, когда
немецкие подводные лодки блокировали морские
пути! В сентябре 1947 года был урезан мясной паек.
15 октября было объявлено о сокращении на 25%
продажи молока населению. В ноябре на первых
страницах газет появились не обещающие взорам опытных
читателей ничего хорошего фотографии: весы, на
одной чашке которых лежало несколько картофелин,
а на другой — три фунтовых гирьки. Это было
наглядное изображение недельного картофельного пайка,
установленного министерством продовольствия. *
Английские экономисты указывали, что введение
такого, поистине нищенского, пайка должно привести
к немедленному сокращению потребления картофеля
в семьях низкооплачиваемых рабочих и служащих на
три четверти. Но и это еще было не все. Не прошло и
трех недель после установления нормирования
картофеля, как министр продовольствия Стрэчи сделал
в палате общин сенсационное заявление, что эксперты,
видимо, просчитались при определении запасов
картофеля и что картофельный паек, возможно, придется
урезать еще больше. Вскоре после этого было
объявлено о снижении нормы отпуска масла — с трех до
двух унций в неделю 1 и об уменьшении нормы отпуска
1 1 унция —28,3 грамма.
128
сахара до восьми унций в неделю, причем цена на
сахар была повышена на 66%.
Мы поселились в эти дни у Пикадилли, в «Риджент
палас отеле», который когда-то считался одним из
первоклассных. Теперь он оставлял у посетителей
какое-то гнетущее ощущение — словно вы
встретились с безнадежно опустившимся человеком.
Промозглый холод, сырость, тусклое, подслеповатое
освещение, потрепанная утварь, отсутствие того
предупредительного обслуживания, которым славились когда-то
лучшие английские гостиницы, — все это наводило
уныние на постояльцев.
С раннего утра у дверей некогда блестящего
ресторана выстраивалась длиннейшая очередь желающих
позавтракать. Чопорный метрдотель в идеально
отглаженном фраке и сверкающей крахмальной манишке
молча отсчитывал едоков из очереди и
величественными жестами отсылал их к освободившимся
столикам. Худые, усталые официантки с мокрыми, грязными
чайными полотенцами у пояса ставили перед
посетителями батарею приборов, молочников, кофейников,
груду тарелок. В этом изобилии серебряных и
фарфоровых предметов терялись микроскопические, поистине
символические дозы пищи: кусочек грубого ливера,
либо прозрачный ломтик жареной селедки, либо
ложка овсяной каши.
Однажды за соседним столиком я увидел дородного
плечистого американца. Брезгливо сморщившись, он
пробежал глазами меню и потребовал яичницу с
ветчиной. Ему подали два тоненьких, как папиросная
бумага, ломтика бекона шириной в полтора и длиной
в четыре сантиметра и ложку рыхлой желтоватой
массы из яичного порошка. Американец
вскипел.
— Уберите от меня этот тертый кирпич! —
приказал он официантке и, вызвав метрдотеля, резко
сказал, скандируя слова: — Я хочу я-ич-ни-цу. Вы
понимаете? Яичницу из свежих яиц!
Метрдотель покорно наклонил напомаженную голову
с идеальным пробором, вздохнул и вежливо
ответил:
9 На Западе после войны 129
— Сэр! Я два года не видел яйца. К сожалению,
Соединенные Штаты присылают нам только этот
порошок...
За столиками воцарилось гробовое молчание, но я
заметил, что в глазах моих соседей блеснули и потухли
иронические огоньки. Американец встал из-за стола и
демонстративно вышел. Я не сомневаюсь, что он сумел
в это утро плотно позавтракать по своему вкусу — за
доллары в Лондоне можно достать все, что угодно. Но
эта сценка мне запомнилась — она характерна для
сегодняшней Англии, живущей на американском
принудительном ассортименте.
Разумеется, вызванные глубоким кризисом
жизненные тяготы в этой стране целиком перекладываются на
плечи того подавляющего большинства населения,
которое из поколения в поколение тянет от получки до
получки, рассчитывая каждый пенс. Что же касается
*шдей Сити, то они надежно ограждены от
превратностей судьбы.
Промышленники и купцы чувствуют себя в
послевоенные годы не менее уютно, чём во времена
правления консерваторов. Лидер лейбористов Моррисон,
выступая в мае 1947 года на очередной партийной
конференции, прибег к заведомой лжи, чтобы как-то
обелить неприглядную политику правительства,
пришедшего к власти под лозунгом ограничения доходов
предпринимателей и национализации промышленности,
но использующего эту власть для ограждения
интересов господ капиталистов. Моррисон сказал, не
краснея: «Осталось мало или даже совсем не осталось
возможностей для выжимания(!) доходов богатых...»
Какой это вздор! По данным английской
статистики с 1938 по 1946 год прибыли капиталистов в
Великобритании возросли на 85%. Только за 1946 год
заправилы Сити выручили 3226 миллионов фунтов
стерлингов прибыли, что составляет 41% всего
национального дохода. В 1947 году чистые прибыли
английских капиталистов после вычета налогов возросли еще
на 24%.
Зато налоги на трудящихся растут и растут. Прямые
налоги на зарплату в Англии утроились по сравнению
130
с довоенным временем (в 1938 гбду они составляли
3,1%, а в 1946 году —9,9%); косвенные налоги в
1941—1942 годах были равны 45% от прямого
налогообложения, а лейбористы после войны довели их до
80% от прямых налогов.
Громкие слова о национализации промышленности^
которые звучали два года тому назад на всех
предвыборных митингах лейбористов и которые были
вписаны в официальную программу правительства,
остались словами. За все это время национализации
подверглись только угольная промышленность и
Английский банк. Однако национализация была проведена
так, что выгоду от этой меры получили только
капиталисты, которым предоставлена полная возможность*'
без всяких хлопот и без всякого риска извлекать
гарантированные правительством прибыли из отчужденной
у «их собственности.
Как-то раз, ранним ноябрьским вечером, мы
встретились с одним английским экономистом — серьезным и
вдумчивым человеком, бесспорно хорошо знающим
свой предмет. Он принадлежит к той, — редкой в наше
время, — породе буржуазных научных работников,
которые все еще полагают, что ученый может остаться
нейтральным в борьбе социальных сил. «Мое дело —
сгруппировать факты и беспристрастно определить
тенденции, — любит говорить ом. — Дело политиков —
сделать для себя выводы, какие им понравятся». Он
изо всех сил старается убедить себя в том, что ученый
не должен вмешиваться в политику, что он призван
«стоять над схваткой». Мы познакомились с ним еще
осенью 1945 года. Тогда он ворчливо корил
известнейшего британского деятеля науки Холдейна за то, что
тот счел для себя возможным и необходимым сойти
с академического Олимпа и «принять марксистское
вероисповедание». «Подумайте! Он тратит свое время
на статьи для «Дейли уоркер!» Драгоценное время
ученого, которое должно безраздельно принадлежать
науке!» — ужасался тогда мой собеседник.
Мне было любопытно узнать, как отразились на
старомодной утопической концепции моего старого
знакомого эти два года, исполненные столь бурными
9*
131
событиями. Кроме того, хотелось послушать, что
скажет этот бесспорно осведомленный человек
о нынешних английских делах.
Мы встретились в Кенсингтонском саду и медленно
побрели на восток, переходя из одного парка в другой.
Все еще зеленые лужайки были усыпаны влажной
мертвой листвой; над прудами клубился легкий туман;
вдали зажигались первые огни газовых фонарей; в
полупустых парках было сыро и тоскливо. Мой спутник,
высокий седоватый англичанин с сухими, резко
очерченными чертами румяного лица, некоторое время шел
молча, глубоко вдыхая сыроватый воздух, — здесь, за
защитной стенкой парка меньше давала о себе знать
удушливая копоть, окутывающая в эту осеннюю пору
старый Лондон. Это был час его традиционной
вечерней прогулки. Потом мы присели на ветхую скамью, и
он заговорил привычным тоном лектора:
— Итак, мы поговорим сегодня о некоторых
особенностях послевоенной экономики Великобритании, —
насколько я помню, вас интересует в данный момент
именно эта тема. Но для того, чтобы вам стали ясны
эти особенности, вам надлежит набраться терпения и
выслушать кое-что о довольно далеких от наших дней
временах. В старости люди любят поговорить о юности.
Я не собираюсь записываться в старики, но, тем не
менее, я не' могу отказать себе в удовольствии
заметить вам, что мне посчастливилось родиться и расти
еще в то время, когда Англию называли всемирной
кузницей, мировым банкиром и мировой мастерской. Тогда
мы могли без сердцебиения думать о наших
конкурентах, каковыми, как вам известно, начиная с 1870 года,
являлись Германия и Соединенные Штаты Северной
Америки... Мой спутник вынул пеструю пачку
американских сигарет, надорвал ее край, достал сигарету,
закурил и сказал, саркастически улыбнувшись:
— В то время никому не пришло бы в голову
тратить золото вот на этот дым; мы сами были способны
завалить весь мир своими товарами. Мы были много
расчетливее и понимали, что в столкновении
конкурентов побеждает тот, у кого за спиной большая фабрика^
а не ют, у кого за плечами большая сума с золотом.
132
Это знали еще наши прадеды в век Елизаветы, когда
они обставили испанцев с их золотом. Но когда
человек становится богат и когда он чувствует, что у него
нет серьезных конкурентов, он успокаивается, он
перестает думать о завтрашнем дне, он начинает искать
более легких способов умножить свое благосостояние.
Мы оказались собственниками богатейших колоний, —
хвала нашим предкам, они сумели обеспечить нас
прекрасным наследством. Наши сейфы ломились от
золота. Мы могли жить, ни в чем себе не отказывая...—
Мой собеседник на секунду остановился и
подчеркнул: — Я говорю «мы», конечно, в широком,
общегосударственном смысле... Я ведь знаю, что вы,
русские, сейчас же начнете говорить о классах, о богатых
и бедных, о буржуа и пролетариях. Так вот, чтобы не
было недоговоренностей, условимся сразу: я имею
в виду Англию — как экономическую единицу, —
такую, какой она была и какой она, будем надеяться,
останется...
Помедлив немного, он продолжал:
— Конечно, ошибки всегда легче распознавать,
оглядываясь назад. Я не хочу винить наших отцов и
своих ровесников, я приведу только факты. Факты же
эти таковы: уже, примерно, с 1880 года мы
предпочитали помещать свои капиталы за границей — в
колониях, в «новых» странах, нежели вкладывать их в свою
промышленность. Нам казалось, что нас никто не
догонит и не обгонит. А заграничные капиталовложения
сулили наибольшие выгоды. Туда и устремлялся
капитал. Восемьдесят лет назад, в период
франко-германской войны, мы держали за границей шестьсот
миллионов фунтов стерлингов, а перед первой мировой войной
уже четыре миллиарда. Прибыли текли в наши сейфы
рекой, и это было удобно и бесхлопотно. Где-то там
за тридевять земель какие-то индусы, азиаты, негры
делали для нас деньги, а нам оставалось их считать.
Тем временем наши старые заводы постепенно
ветшали. Люди покидали промышленность и переходили
на службу в магазины, в конторы, в зрелищные
предприятия. В тридцатых годах в Англии было занято в
административном аппарате, в домашнем обслужива-
133
пии и на тому подобных непроизводительных работах
гораздо больше людей, чем в любой другой стране
мира, если взять пропорциональное соотношение
с людьми, занятыми в промышленности и в сельском
хозяйстве...
— Когда-то любили подтрунивать над
французскими рантье, которые жили тем, что стригли купоны
с правительственных облигаций, — заметил я. — Не
напрашивается ли здесь это сравнение?
— Я не любитель сравнений и образов, — сухо
сказал мой спутник, вставая. — В мою обязанность
входит лишь точное изложение и анализ фактов...
Мы медленно побрели дальше по мокрой,
усыпанной крупным гравием дорожке. Помолчав, мой сосед
продолжал:
— В результате первой мировой войны был нанесен
серьезный удар нашему германскому конкуренту. Зато
американцы еще быстрее пошли в гору. Для вас не
составит, конечно, открытия тот факт, что перед
второй мировой войной выпуск продукции на человеко-час
в Америке был почти в три раза выше, чем в Англии.
В годы войны этот разрыв увеличился еще больше:
нам удалось увеличить объем продукции на двадцать
пять процентов, а они свою продукцию больше чем
удвоили. В подавляющем большинстве наши
предприятия оборудованы станками, которые были изготовлены
тридцать — сорок лет назад. Можно ли удивляться
после этого, что американский сталелитейщик дает
вдвое больше стали, чем наш, что ткач американской
хлопчатобумажной промышленности вырабатывает
втрое больше ткани, чем наш, что рабочий
автомобильной промышленности в Соединенных Штатах
изготовляет в пять раз больше деталей, чем наш? Вот и извольте
после этого конкурировать с американцами на внешнем
рынке. Мне остается только сожалеть по поводу того
положения, в каком очутились Криппс и Вильсон, но,
право же, я не вижу, как можно на старой лошади
обогнать автомобиль...
— Однако вам самому не чужды сравнения, —
заметил я.
Мой спутник пожал плечами:
134
— Это не метафора, это печальная и суровая
реальность. Криппс храбрится. Он хочет убедить себя и
других, что мы в состоянии завоевать мировые рынки. Вы
читали, как восторженно писали в газетах, что ее
величество королева-мать собственноручно связала не то
кофточку, не то платок для экспорта? Я благоговейно
преклоняюсь' перед этим поступком ее величества, но
мне стыдно за великую державу, которая хочет
восстановить свою экономику, торгуя на рынке кофтами,
которые вяжет королева...
Он разволновался и некоторое время шел молча,
ссутулившись и зябко пряча руки в рукава. Мы
прошли полупустой Гайд-парк, свернули к Мраморной
арке, близ которой витийствовал перед редкой толпой
какой-то проповедник, и, перейдя улицу, углубились
в парк, примыкающий к Букингэмскому дворцу.
Наконец мой спутник нарушил молчание:
— Впрочем, мы отвлеклись от темы. Вернемся же
к некоторым особенностям нашей послевоенной
экономики. Главную из них вы, конечно, хорошо знаете —
о ней до хрипоты чирикают все воробьи на крыше
парламента. Это наш убийственный дефицит
внешнеторгового баланса. Американцы знали, что делали,
хладнокровно выжидая с предоставлением ленд-лиза до тех
пор, пока мы распродадим свои заграничные вложения
и наделаем долгов, — они помнили, что только
благодаря нашим заграничным вложениям, которые давали
нам пресловутый «невидимый экспорт», мы сводили
когда-то концы с концами. И вот мы вышли из войны,
потеряв четверть нашего торгового флота, треть
заморских капиталовложений, — в том числе почти все
вложения в американских странах, — и задолжав другим
странам около трех с половиной миллиардов фунтов
стерлингов, — сейчас этот долг вырос до пяти
миллиардов. Чтобы покрыть потерю доходов от
капиталовложений за границей и суметь оплачивать расходы,
связанные с нашей задолженностью, нам надо
увеличить свой экспорт примерно на сорок процентов.
Понимаете, — на сорок процентов! — с какой-то мрачной
отрешенностью подчеркнул мой собеседник. — Но вы
уже знаете, — продолжал он, — что при нынешнем
135
состоянии дел в нашей промышленности такое
форсирование экспорта должно быть отнесено к области
чистейшей фантастики, и я уверен, что Криппс, чей
талант я высоко уважаю, сам в глубине души соэнает
это. Вы, конечно, знаете, с какой дьявольской энергией
охотятся за покупателями американцы — для них
вопрос экспорта еще в большей мере, чем для нас,
является вопросом жизни и смерти: продавать или
свалиться в пропасть кризиса, — вот какая дилемма стоит
перед нами. И конкурировать с ними сейчас невероятно
трудно. Для того, чтобы выдержать такую борьбу,
надо было бы пойти на чрезвычайные меры, надо было
бы многое сломать до основания и многое создать
заново...
Мой спутник остановился и поднял
предостерегающе палец-
— Вы знаете мою концепцию: человек науки не
должен вторгаться в область политики. И, пожалуйста, не
истолкуйте то, что я вам сейчас скажу, как пересмотр
этой концепции. Я не желаю судить, какая религия
справедливее: учение наших тори, вероисповедание
мистера Трумэна, демократический социализм Эттли
или ваш коммунизм. То, что я вам сейчас изложу,
представит собой цепь логически соединенных фактов,
подсказывающих определенный вывод. Мне нет дела
до того, кого из политиков устроит этот вывод и
захотят ли они им воспользоваться. Понятно? Итак, —
только факты и только простой, деловой, как у нас
говорят, расчет...
Сделав такую многозначительную оговорку, он
продолжал:
— Мы остановились на том, что Англия сейчас,
в силу определенных причин, находится пе;ред лицом
самого жестокого кризиса за всю эпоху своего
промышленного развития. Я бы сказал, что сейчас мы
стоим перед худшим, с точки зрения наших
государственных интересов, положением, нежели то, в каком
мы очутились в печально-памятные дни Дюнкерка. Что
же мы можем и должны предпринять перед лицом
такого положения? Такая отсталая промышленность,
как наша, не в силах так вот попросту встать на ноги
136
и пойти вперед — чудес в наше время не бывает.
Слишком застарелой, запущенной болезнью страдает она, и
было бы наивно тешить себя какими-либо надеждами
на сей счет. Хозяева каждого завода, каждой шахты,
каждого треста живут только своими узкими
интересами — им нет никакого дела до экономики страны
в целом. Каждый думает только о своем деле. Значит,
спасти нашу экономику, а следовательно и нашу
страну в целом, могла бы только быстрая и
решительная национализация. Лишь государству в целом была
бы посильна та коренная реконструкция, в какой
жизненно нуждается наша промышленность... Абстрактна
говоря, эта истина усвоена нашим правительством. На
одно дело поставить диагноз, а другое — вылечить
больного. Вы ведь знаете, что пока лишь угольна»
промышленность перешла в руки государства, да и эта
операция проделана так беспомощно и с такой
невыгодой для государства, что до сих пор вызывает
недовольство и протесты в стране. Что же касается
остальных отраслей промышленности, то они работают
так же, как они работали вот при ее величестве...
Мой собеседник кивнул головой в сторону
массивного, подавляющего своими циклопическими размерам»
памятника королеве Виктории, с которым мы поров-
нялись. Грузно восседавшая на каменном троне
властительница Британии XIX века мрачно глядела своим»
пустыми глазницами вдоль окутанного синеватыми
сумерками проспекта, ведущего к адмиралтейству,
былой цитадели величия викторианской Англии.
Проспект был пуст и только редкие старомодные, похожие
на коробочки, такси с легким стрекотаньем катили
вдоль плетня, заменявшего ограду дворцового парка.
— Не будем себя обманывать, — раздумчиво
продолжал мой спутник, словно беседуя с самим собой, —
ничто не изменилось. Промышленники предоставлены
самим себе, и им предоставляется полная возможность
делать все, что им угодно и на чем они могут получить
больше прибыли. Каждому известно: в интересах
государства, в наших общих интересах — поднять добычу
угля и восстановить былую мощь нашей текстильной
промышленности, которая всегда была опорой нашега
137
экспорта. Но — спрашивается в задаче: как
остальные отрасли промышленности помогают горнякам
и ткачам? Как ведет себя, в частности,
машиностроительная промышленность, единственная отрасль
нашей экономики, которая во время войны не
только не пришла в упадок, но выросла — ведь мы
вооружали армию, и мы не жалеем средств на
укрепление машиностроения? Я вам дам точный ответ:
более полумиллиона машиностроителей строят
автомобили, велосипеды, самолеты. Это считается
прибыльным делом, хотя, между нами говоря, я готов держать
любое пари, что американцы побьют нас на мировом
рынке, ка:. только мы высунемся туда со своими
автомобилями и велосипедами, — они их делают гораздо
дешевле. И только жалкая горсточка
машиностроителей занята изготовлением оборудования для горной
промышленности и для текстильных фабрик. Заказ на
турбогенератор выполняется не раньше, чем через три
года; заказ на мощный электромотор должен ждать
очереди два с половиной года; заказы на насосное
оборудование для шахт и на конвейеры лежат без
движения по году; а заводам ткацкого оборудования при
их нынешних темпах потребуется десять лет, чтобы
выполнить принятые ими заказы. Наши
промышленные монополии регулируют выполнение
заказов, как им вздумается. Я их понимаю и не могу
их винить: каждый волен распоряжаться своими
капиталами и своими заводами так, как ему вздумается,
руководствуясь интересами прибыли. Но как быть
в таком случае с общегосударственными интересами?..
Нет, без жесткого планирования, без национализации
промышленности, без коренной реконструкции
предприятий нельзя думать выйти из того
заколдованного круга, в котором мы находимся сейчас...
— Все это так, — сказал я, — но что же должно
быть сделано для того, чтобы все это
осуществить?
— Вот эту часть вопроса я и оставляю политикам, —
отрезал мой спутник. — Это их дело, а не мое. Вы же
знаете, что я не сторонник этих модных теорий о том,
что ученые будто бы должны управлять государством.
138
С нас достаточно и тех огорчений, которые приносит
сомнительное удовольствие копаться в грязных фактах
и делать обобщения, от которых самому становится
тошно. Газеты, конечно, могут писать все, что им
вздумается, но ведь людям, у которых есть голова на
плечах, совершенно ясно, куда нас несет течение. Мы
проели американский заем. Проели канадский заем. Сейчас
проедаем золотой запас, накапливавшийся в подвалах
Сити со времен Елизаветы. Говорят, что скоро
перейдем на пенсию мистера Маршалла. Некоторые
умиляются по этому поводу, но я старый человек, и меня
трудно убедить сказками о святочном деде, который
ходит по всему земному шару с мешком подарков и у
изголовья каждой кроватки оставляет фунт яичного
порошка и пару туфель на картонной подошве. Этот
дед — себе на уме. Он ищет, где что плохо лежит, и я
уверен, что ему кажется, будто вся наша империя
лежит очень плохо...
— Так что же будет в конце концов?
— Что будет, что будет... — ворчливо пробормотал
мой спутник, — я не хочу об этом думать,
понимаете, — я не обязан об этом думать! Пусть об этом
думают Эттли, Бевин и Моррисон... — Он прибавил
шагу, потом стал итти медленнее и вдруг заговорил
усталым, полным смущения голосом: — Поймите, я всю
жизнь говорил себе, что наука не должна быть
связана с политикой, что научная деятельность кончается
там, где начинается политика. Но что я могу поделать,
если все вокруг рушится и идет ко всем чертям?
Откровенно говоря, я никогда не питал теплых чувств
к тори — они слишком старомодны для нашей эпохи.
И когда в тысяча девятьсот сорок пятом году
оказалось, что лейбористы выиграли, я даже порадовался —
мне думалось, что они сумеют поднять страну на
ноги. Но вот прошло два года, а мы не только не ушли
вперед, но, наоборот, — пятимся назад. Они не
скрывают этого, наоборот, они громче всех кричат о
кризисе. Но какая мне польза от этого? Разве человеку
станет легче от того, что ему за минуту до крушения
капитан скажет: «Сейчас мы пойдем ко дну»? Вы
спрашиваете — что же будет? Откровенно скажу вам —
139
не знаю. Но... но мне иногда кажется, что Холдейнг
который с головою влез в политику, был не так уж
глуп, а я оказался старым упрямым ослом. И давайте
кончим «а этом наш разговор. Лучше полюбуемся
старушкой Темзой. Она одна остается неизменной...
Мы вышли на набережную Виктории, что левее
Вестминстерского аббатства. Прямо перед нами, за
гранитным парапетом, расстилалась спокойная величавая
гладь реки. На волнах играли серебряные, золотые,
красные, зеленые блики луны, фонарей, светофоров.
Вдали чернели силуэты высоких старинных мостов.
Позванивая, шли по набережной старомодные
двухэтажные трамваи. У Иглы Клеопатры — древнего
обелиска, вывезенного когда-то из Египта и
поставленного здесь на берегу Темзы в знак могущества
колониальной Великобритании, — застыли в обнимку
парочки влюбленных. Чуть поодаль, в сквере,
виднелось до сих пор неразобранное приземистое кирпичное
бомбоубежище, похожее на колоссальную гробницу.
На башне Большого Бена семь раз пробил колокол.
— Мне пора, — сказал мой знакомый. — Боюсь,
что наша беседа оказалась не очень содержательной —
ведь вы хотели получить*от меня какие-то более или
менее систематизированные данные о нашей
экономике. Но так уж получилось...
Он хотел еще что-то добавить, но потом передумал,
резким движением пожал мне руку и, круто
повернувшись, пошел узким переулочком в гору, к шумному
Стрэнду. Я долго смотрел ему вслед и думал о том,
какие глубокие процессы должны все-таки проходить
под внешне спокойной и неизменной оболочкой
послевоенной Англии, если даже столь консервативные по
складу своего мышления кабинетные работники
начинают подходить к таким выводам, какой, словно
невзначай, сорвался с его уст в последнюю минуту
разговора.
Два года тому назад иллюзии, порожденные
широковещательной программой лейбористов, столь
многообещающе названной «Заглянем в лицо
будущему», еще довольно прочно сидели в умах многих
англичан, наивно веривших тем, кому они отдали свой
140
голоса. Но эти годы многое изменили в
представлениях англичан. Они начинают понемногу осознавать,
что «демократический социализм» лейбористов служит
ширмой, за которой хозяйничает Британская
ассоциация промышленников.
Мне вспоминается сейчас весьма любопытный
фильм, который довелось посмотреть в декабре
1947 года в Лондоне. Это фильм, беспощадно
разоблачающий карьеру ловкого дельца от политики —
лейбориста; называется он «Ради славы». Мне неизвестна
история этого фильма; я не знаю, кто финансировал
постановку. Замечу лишь, что консервативная пресса
встретила его очень тепло. Этого и следовало
ожидать — ведь фильм направлен против лейбористов —
политических конкурентов консервативной партии.
Постановщики фильма «Ради славы» — молодые
режиссеры братья Болтинг — с большим мастерством
создали киноповесть о себялюбивом, бессердечном
политикане, который идет на любую подлость ради
своей карьеры. В облике политика-карьериста Рэдшоу
(эту роль мастерски исполняет талантливый актер
Майкл Редгрэв) зритель легко узнает ренегата Макдо-
нальда; этому способствует даже грим, передающий
портретное сходство. Но в этом образе узнали бы себя
и нынешние руководящие деятели лейбористской
партии.
С каким напряженным вниманием следили сидевшие
рядом со мной в зале кинематографа зрители за
драматическими событиями, развивавшимися на экране! Вот
молодой Рэдшоу, способный оратор, искусный не по
годам демагог, воспламеняет толпу бастующих
шахтеров, показывая ей клинок, которым королевский
стражник убил невесту его предка; фамильное
предание гласит, что предок Рэдшоу выхватил клинок
у убийцы и зарубил его на месте преступления.
Молодой Рэдшоу зовет бастующих на бой с
шахтовладельцами, и доверчивая толпа устремляется за ним. Путь
шахтерам преграждает баррикада. За нею стоит в
боевой готовности кавалерийский отряд. Из толпы
выделяется смелый шахтер. Он перелезает в темноте через
забор, пытается поднять засов, запирающий ворота.
141
На него мчится офицер на коне. Блеснул клинок
шашки, и шахтер замертво падает наземь. История
повторяется? Нет! Трусливый Рэдшоу прячется.
Оставшаяся без руководства толпа отступает. Мертвый
шахтер остается лежать на мокрых камнях...
Но Рэдшоу ловок и изворотлив. Он умело делает
карьеру. Вот он уже депутат парламента. Вот он
министр. И на каждой ступеньке своей карьеры он
оставляет грязный след предательства, измены тем, кто ему
доверял. Друзья отворачиваются от него. Они
проклинают ренегата. Он проваливается на выборах. Но он
уже стал своим человеком в «высоких политических
кругах». Он входит в коалиционное правительство. Он
становится лордом. Его чествуют на банкете. Это —
зенит славы и это — конец карьеры: он уже дряхл и
немощен.
И в заключение сильная, запоминающаяся
символическая сцена. После банкета Рэдшоу подходит
к клинку, который хранится у него как фамильная
реликвия, — к тому самому клинку, с которым он
полвека назад вел воспламененную его речью толпу
шахтеров против жестоких и жадных шахтовладельцев.
Клинок покоится теперь в роскошно отделанных
ножнах.
Рэдшоу снимает трясущимися руками клинок со
стены и хочет вынуть его из ножен. Это ему не
удается. Он дергает сильнее. Клинок остается в
ножнах. Он исступленно начинает рвать его за рукоятку.
Напрасно! Вынуть клинок из ножен ему уже не под
силу. И обессиленный, убитый отчаянием лорд падает
на дорогой ковер.
Ни тени сожаления к этому дряхлому и немощному
ренегату я не прочел на лицах своих соседей. Они были
суровы и напряжены. Лишь возгласы негодования и
презрения раздались в зале. В эту минуту мне
невольно подумалось, что возгласы эти обращаются
не только к тени Макдональда-Рэдшоу, но и к его
младшим братьям по партии, стоящим сегодня у
кормила Великобритании...
ПОД КРЫШАМИ ПАРИЖА
Илья Эренбург однажды сказал: «Парижей не
меньше, чем парижан — каждый видит этот город по-
своему». Бесконечное разнообразие характеров и
темпераментов присуще каждому большому городу, но
здесь, в Париже, оно — не частная подробность,
а отличительная черта. Парижане похожи друг на
друга, и их узнаешь в любой толпе. И в то же время
нет на свете более разных людей, чем два парижанина,
идущих рядом. Даже разговаривают в разных
кварталах по-разному. Прислушавшись к болтовне прохожих,
француз скажет: «этот из Бельвиля», «а эта с
Монмартра». У каждого свои привычки, свои вкусы, свои
настроения. Один обожает башню Эйфеля, другой ее
презирает, как эталон бездарности. Один готов
молиться «Джиоконде», другой пожимает плечами:
«Старо!» Здесь всегда было признаком хорошего тона
хвастать индивидуализмом и непримиримостью к чужой
точке зрения.
Когда немцы планировали войну, они помнили об
этой черте французов — им казалось, что таких
индивидуалистов не трудно будет взять голыми руками:
им не сговориться друг с другом. Но немцы допустили
грубейший просчет: они недооценили силу простых
людей Франции — силу их любви к родине и силу
ненависти к врагу; они забыли о Вальми, забыли о
Парижской коммуне; они забыли, что опасность не
разъединяет, а сплачивает мужественных людей. Конечно, и
143
во Франции нашлись свои квислинги — люди, готовые
продаться оккупантам ради спасения своей шкуры. Эти
люди начали изменять Франции еще до первых
выстрелов, в дни Мюнхена. Но оккупация лишь резче
обозначила размежевание: честные французы взялись за
оружие, бесчестные люди, утратившие право называть
себя французами, пошли в услужение к немцам.
К счастью Франции, подавляющее большинство ее
граждан оказалось в лагере борцов против фашизма.
Народ продолжал борьбу с фашистами, не признавая
позорного перемирия, подписанного летом 1940 года
в Компьенском лесу перепуганными насмерть агентами
Петэна в присутствии торжествовавшего свою
недолгую победу Гитлера.
Сражаясь, люди многому научились. И сейчас
французы стали несколько иными. Они все так же веселы,
может быть, даже легкомысленны — в Париже
улыбаются даже тогда, когда хочется плакать; они по-
прежнему шумливы, темпераментны, попрежнему
обожают споры и диспуты; как бы ни спешил парижанин,
он обязательно остановится на углу, где двое играют
на аккордеоне, а девушка поет новую песенку, и вокруг
них сразу образуется толпа, люди купят ноты и станут
подтягивать. Но, право же, глубоко ошибаются те, кто
думают, что французы, в массе своей, забыли горькие
уроки войны и что при известной расторопности и
дипломатической ловкости рук их можно будет заставить
отречься от славных традиций эпохи Сопротивления...
Помещенные ниже записи относятся к лету
1946 года. Тогда политическая обстановка во Франции
еще не была столь обостренной, еще стояло у власти
правительство, в котором были представлены не
только католики и социалисты, но и коммунисты —
лидеры первой партии Франции, наиболее уважаемой и
популярной в народе; еще реяло над старинным
особняком в тихом переулке близ проспекта Георга V знамя
Национального Совета Сопротивления Франции,
служившего символом единства нации. Но уже в те
дни здесь разгоралась ожесточенная политическая
борьба, — реакция, оправившаяся после морального
шока, постигшего ее в час разгрома гитлеровцев, снова
144
выползала на арену по золоченому коврику,
подостланному заботливой рукой заморских благотворителей.
Сейчас, когда действия открыто поддерживаемой
из-за рубежа французской реакции становятся все
более наглыми, не бесполезно, быть может, вспомнить
и жаркие летние дни 1946 года, чтобы нагляднее
представить себе картину общественной жизни Франции
тех дней, познакомиться с обликом послевоенного
Парижа, с людьми современной Франции, такими
разными и не похожими друг на друга, — теми, кто
сохраняет верность знамени единства и демократии и
борется за восстановление Французской республики, и
теми, кто ради своих узко-эгоистических интересов
готов превратить Французскую республику в
американскую колонию.
1. ПЕРВАЯ ПОСЛЕВОЕННАЯ ВЕСНА
Париж всегда остается Парижем, — трудно жить на
урезанном хлебном пайке, надоедают страшная давка
и толчея в метро, удручает дикий разгул
спекуляции, — а все-таки парижане весело и экспансивно
встречают весну, первую послевоенную весну
1946 года. По тенистым набережным Сены бродят
в обнимку влюбленные, любуясь бело-розовыми
свечками каштанов; матери с улыбками следят за
ребятишками, пускающими парусные кораблики в
бассейнах фонтанов, дремлют, сидя на переносных
стульчиках, напудренные розовощекие старухи в модных
шляпках, с вязанием в руках. И бравые полицейские
в кокетливых синих мундирчиках и каскетках,
дирижируя движением на бойких перекрестках, глядят на
лихих шоферов со снисходительными улыбками —
ради такой весны, мсье, можно им многое простить!..
Парижская улица все та же, — какой описывали ее
и десять, и двадцать, и сто лет назад. Улыбаются
прохожим восковые девицы в витринах раззолоченного
универмага «Галлери де Лафайет», воспетого Золя
в романе «Счастье дам». Ошеломляют провинциала
вывески: «100 тысяч рубашек», «Лучшие в мире
10 На Западе после войны 145
ботинки». Медленно шествует по тротуару,
распространяя аромат дорогих духов, толстый
монах-францисканец в рыжей сутане, подпоясанной шелковой веревкой,
и сафьяновых сандалиях на босу ногу. Дама с
крашенными в лиловый цвет волосами ведет на прогулку
пуделя. Цветочный киоск завален охапками сирени, роз,
пучками ландышей. В окнах ювелиров ослепительно
сияют поддельное золото и фальшивые бриллианты.
На мостовой — неслыханная давка. Все смешалось —
разномастные, потрепанные за войну автомобили,
старинные семейные велосипеды — компаунд, — папа и
мама крутят спаренные педали, на багажнике сидит
дочка, в корзиночке, подвешенной к папиному рулю,
болтается любимый эрдель-терьер либо сиамский кот,
взятый в загородную поездку^, запряженный четверкой
добрых арденнских коней громоздкий
тридцатиместный дилижанс с лапидарной надписью: «Для свадеб
и экскурсий», фиакры времен Бальзака; автобусы,
которым удивляются приезжие, — шофер сидит на
высоких козлах над мотором, словно извозчик, а над
кузовом плывет гигантский белый баллон с газом,
заменяющим дефицитный бензин.
Город изо всех сил хочет казаться таким же веселым
и беззаботным, каким он был до войны. 30 апреля
одна из вечерних газет сообщила: «Скоро мы увидим
на рю де ля Пэ, фобур Сент-Оноре и авеню де ль'Опера
витрины, которые напомнят самые шикарные
достижения межвоенных лет. Инициативный комитет
лихорадочно готовится к конкурсу витрин... Напомним
так же, что в Отейе и Лоншампе мы скоро увидим
элегантных лондонских клубмэнов, пышных индусских
раджей и богатейших хозяев демократической
Америки, увивающихся вокруг наиболее пикантных
манекенов Парижа. Еще жива элегантность!» Открываются
для обозрения сокровищницы Лувра. Анонсируется
концерт с участием Артура Тосканини. Обещаны
«Неделя розы», сногсшибательное голое ревю в
«Казино де Пари», выставка предметов роскоши.
Но что-то не спешат в Париж пышные индусские
раджи, а элегантные лондонские клубмэны и даже
богатейшие хозяева Америки после войны стали скупо-
146
ваты — они десяток раз подумают, прежде чем
выпустят доллар или фунт стерлингов из рук. Да, Франции
после войны приходится заново знакомиться с
англосаксами, узнавая на каждом шагу все новые и новые
и, надо сказать, малоприятные черты характера
старых друзей.
— Вы понимаете, раньше они приезжали к нам как
туристы, — сказал мне задумчиво один парижский
художник. — Их возили по Парижу в просторных,
старомодных, открытых автобусах Кука, и золото падало
в кассы, услаждая своим звоном слух хозяев города. —
Художник, как истый парижанин, говорил, увлекаясь,
с пафосом, немного театрально. — В тысяча девятьсот
сорок четвертом году они пришли как оккупанты,
и с тех пор не золото, а сталь звенит во Франции. Но
эти звуки нам достаточно надоели при бошах...
— Да, но они помогли освободить Францию! —
пылко сказал наш сосед по столику в кафе.
Художник горько усмехнулся:
— Свобода свободе рознь. И потом, — разве не мы
сами вот этими руками погнали бошей после того,
как им помяли бока в России? Вы забыли парижские
баррикады? Сначала город взяли мы, потом в город
вошли танкисты Леклерка, а уж потом прикатили
американцы...
Наш сосед пожал плечами. Художник бросил на
мраморную доску столика мелочь, поднялся и сказал,
обращаясь ко мне:
— Пойдемте, здесь плохо пахнет...
Мы вышли на бульвар, и мой спутник продолжал:
— Так вот, они прикатили и начали торговать.
О, они это умеют прекрасно делать, смею вас уверить,
хотя я сам ни черта не смыслю в торговле. И добро бы
они ограничились продажей своих джипов и шоколада
и покупкой дешевой любви на бульваре Клиши —
за пару чулок или картон сигарет. Нет, они хотели бы
купить все... Все — от Венеры Милосской и Эйфеле-
вой башни до палаты депутатов и Кэ д'Орсей!..
Этот разговор не раз вспоминался мне
впоследствии — в Париже часто приходилось слышать
подобные горькие сетования на западных союзников, да и
10*
147
сами парижские улицы даже теперь, год спустя после
окончания войны, красноречиво свидетельствовали
о том, что союзные войска, размещаясь в Париже, во
многом вели себя так, словно перед ними была не
столица Франции, а германская или японская
деревенька. Над лучшим парижским кинотеатром
«Олимпия» красовалась строгая надпись: «Вход только для
американских военнослужащих в форме». У входа
в крупнейший магазин «Старая Англия», что у Гранд-
отеля, висела табличка: «Продажа только для господ
английских офицеров». В газетах пестрели
сенсационные аншлаги: «Задержано пять чикагских гангстеров —
дезертиров из американской армии», «10 000
американских дезертиров скрывается на территории Франции».
Видная французская писательница со вздохом
говорила мне в апреле 1946 года:
— Вы знаете, у нас на рю Сурдьер вчера опять была
перестрелка. Американцы убили двух французов... —
Помолчав, она осторожно добавила: — Так иногда
бывает, — когда хозяин болен, его не слишком
вежливые гости начинают чувствовать себя, как дома-
Потом воинские части стали мало-помалу покидать
Францию. Часть из них уплывала за океан, домой,
часть уходила на территорию Германии. В городе
становилось все меньше американских военных
автомобилей, и выразительный полицейский плакат на Елисей-
ских полях: «Правьте осторожнее, ведь смерть — это
так надолго» теперь уже в большей степени являлся
данью истории, нежели реальным предупреждением.
Стрелять в городе перестали, стало как будто бы
тише. Но многое из того, что происходило в Париже,
все больше и больше тревожило тех, кто был искренне
заинтересован в восстановлении подлинно
независимой Французской республики.
В Париж хлынули из-за океана представители
американских фирм, монополий, газет, кинокомпаний,
телеграфных агентств, разного рода политических
комми-вояжеров, на все лады расхваливавших
«американский образ жизни». Действительно, было похоже
на то, что здесь, в Париже, затевалась небывалая
ярмарка, где объектом сбыта были немудрящие замор-
148
ские идейки, а объектом купли была сама Франция
Неприглядную роль комми-вояжеров нового
заморского товара охотно брали на себя и некоторые
французы — преимущественно те же, что во времена
Мюнхена славили немецкий товар, а во время войны
убрались за океан и отсиживались все эти годы в Америке.
Бросалась в глаза необычайная заботливость,
которую проявляли о французских газетах английские и
американские агентства. Эта заботливость
простиралась так далеко, что порой терялось всякое
представление о национальном характере той или иной газеты,
живущей на англо-саксонском пайке...
В одной лишь американской спецслужбе
информации в Париже весной 1946 года работали семьдесят
пять американцев и семьдесят — восемьдесят
французов. Эта служба издавала два еженедельных
бюллетеня для французской прессы. С полной нагрузкой
работали парижские отделения англо-саксонских
телеграфных агентств. Только три из них — Ассошиэйтед
Пресс, Юнайтед Пресс и Интернейшнл ньюс сервис
ежедневно рассылали в редакции газет по полтораста
листов информации на французском языке.
Любопытно, что эти агентства снабжали парижскую прессу
даже информацией о внутренней жизни Франции,
освещая ее, понятно, так, как это было выгодно их
хозяевам.
Центральный орган партии социалистов «Попюлер»
10 мая 1946 года опубликовал заботливо
подготовленную херстовским агентством Интернейшнл ньюс сервис
беседу с тогдашним премьер-министром Франции
социалистом Гуэном об итогах референдума, в ходе
которого противники новой демократической
конституции, разработанной Учредительным собранием, одер-
жали верх — проект конституции был отклонен
незначительным большинством голосов. Партия
социалистов формально была за новую демократическую
конституцию. Гуэн выступал ранее за принятие этого
проекта. И вдруг теперь американское агентство
опубликовало такое развязное заявление Гуэна:
«Большинство «нет» во время референдума, — вы
это видите сами, — не огорчило и не обеспокоило
149
меня. Я являюсь глубоко убежденным демократом,
и я люблю и восхищаюсь англо-саксами, которые, на
мой взгляд, являются чемпионами демократии —
такой, как я ее представляю. Все во мне протестует
против авторитарного правительства, я всецело против
концепции этого рода, и я говорю об этом без всяких
колебаний...»
Читатели хорошо помнили, что пугало
«авторитарного правительства» перед референдумом было
изготовлено крайними правыми партиями, которые хотели
запугать избирателей тем, будто конституция,
разработанная Учредительным собранием, поведет к
установлению диктатуры одной партии. И вот теперь, на
другой день после референдума, один из лидеров
партии социалистов солидаризируется с теми, кто
выступает против демократической конституции... Такой
курбет «социалистического» премьера мог бы удивить
некоторых неискушенных читателей. Но знакомая
фабричная марка — «Маде т ЦГ5А», поставленная на
этом интервью агенством Херста, многое
объясняла.
Весьма знаменательно, что в своих последующих
выступлениях лидеры французских социалистов все
чаще и все слаще славили англо-саксонских
«чемпионов демократии» и униженно клялись им в верности.
И не менее знаменательно, что столь же неуклонно —
от референдума к референдуму, от выборов к
выборам — сокращалось количество голосов, поданных за
эту партию. У французов хорошая память. Они помнят,
как в 1942 году, когда англо-американские войска
высадились в Алжире, матерый предатель Дарлан,
правая рука Петэна, вдруг стал главой «французской
администрации» в Северной Африке — его упросил
принять этот пост американский дипломат Мэрфи.
Дарлана потом убили. Но сколько дарлановцев и петэ-
новцев до сих пор сидит в административном аппарате
Алжира, Туниса, Марокко? И сколько их, милостью
его величества доллара и его высочества фунта
стерлингов, благоденствует в самом Париже?
Но вернемся к вопросу о парижской прессе и о тех
внешних силах, которые ее опекают; мы невольно
150
отвлеклись от этого немаловажного в политической
жизни Франции вопроса...
Свежего человека, знакомившегося с парижской
печатью весной 1946 года, поражало прежде всего
невероятное обилие газет в этом городе. Спускались ли
вы в метро, выходили ли вы из церкви, шли ли вы
в кафе или возвращались в гостиницу, — рядом с вами
обязательно маячил рослый парень с туго набитой
газетами клеенчатой сумой. Хриплым, натруженным
голосом он выкрикивал последние новости и названия
газет до тех пор, пока вы не протягивали ему два
франка. Тогда он совал вам тоненький
двухстраничный листок, говорил «мерси, мсье» и немедленно
атаковывал следующего прохожего. Не легкое дело
торговать газетами в городе, где выходит тридцать
ежедневных, сто сорок шесть еженедельных и триста
ежемесячных изданий! И хотя Франция испытывает
настолько острую нужду в бумаге, что тетради для
школьников отпускаются только по карточкам и
в ограниченном количестве, — пестрые киоски на
бульварах ломятся под тяжестью газет и журналов,
издающих острый, неприятный запах дешевой и мутной
краски.
Газеты выходили тогда только на двух страницах.
Статьи и заметки печатались мельчайшим шрифтом —
хоть в лупу их рассматривай! Однако редакции не
скупились на место для заголовков и фотографий —
они занимали половину газетного листа. Французские
журналисты мне говорили: «Иначе нельзя! Газета
должна кричать, вопить, эпатировать читателя, чтобы он
заметил ее и купил... Многие шли на самые
невероятные трюки, чтобы привлечь покупателей. Одна газета
затеяла игру: каждый день печаталась фотография
какого-нибудь окна; человеку, живущему за этим
окном, в случае, если он предъявлял в редакцию номер
газеты, выдавалась жареная курица и бутылка вина.
Другая газета ежедневно публиковала фотографии,
снятые на улице, — иной зевака мог заинтересоваться:
а не напечатали ли, часом, сегодня и его портрет?
Третья газета организовала на своих страницах
заочную азартную игру...
151
И все-таки многие издания оставались
нераспроданными— комиссия Учредительного собрания по делам
Печати установила, что от 32 до 86% тиража «правой
прессы» ежедневно возвращались под нож и шли
в макулатуру. Парижане бойкотировали эту прессу.
У нас на глазах тихо скончалась, к примеру, такая
газета, как «Вуа де Пари» («Голос Парижа»), которую
острые на язык парижане прозвали за ее
низкопоклонство перед Соединенными Штатами «Вуа д'Америк».
Но многие из ее двойников продолжают жить и по сей
день, невзирая на то, что тиражи их остаются
нераспроданными, — издатели этих газет не гонятся за
барышом, денег у них хватает. Лишь бы газеты
выходили, лишь бы слышались их фальшивые, крикливые
голоса, механически повторяющие по-французски все
то, что пишет английская и американская пресса, хотя
писания эти идут вразрез с интересами Франции! Ни
для кого не секрет, что многие из таких газет даже
формально перестали быть французскими — их купили
американцы так же, как покупали дома, заводы,
виноградники...
1946 год во Франции ознаменовался целой серией
массовых политических кампаний. В мае был
поставлен на всенародное голосование проект
демократической конституции, подготовленный Учредительным
собранием. Реакции удалось добиться его отклонения
В июне народ вновь пришел к избирательным урнам —
надо было избрать новое Учредительное собрание для
составления нового проекта конституции. Потом был
проведен еще один всенародный референдум —
утверждали этот проект. Наконец народ в четвертый раз
пошел голосовать — избирали парламент...
Политические страсти бурлили, кипели в стране, лихорадили
государственный аппарат, нервировали французского
обывателя, оглушенного демагогической пропагандой
буржуазных партий, которые не жалели средств.
Реакция, используя состояние послевоенной
неопределенности, занимала под шумок выгодные рубежи для
атак на демократию.
Пользуясь бездействием юстиции, предатели,
расчистившие дорогу Гитлеру, снова начали выползать на
152
арену политической деятельности. Даже пресловутый
фашист Ибарнегарэ, бывший предводитель «боевых
крестов», выпущенный весной 1946 года из тюрьмы,
выставил свою кандидатуру на выборах во второе
Учредительное собрание. Даладье, оставшийся
почетным председателем партии радикал-социалистов, начал
газетную кампанию в целях реабилитации Мюнхена
Поль Рейно, который в трагический час разгрома
Франции помог французским гитлеровцам пройти
к власти и добровольно уступил пост премьера Петэну,
начал сложную и хитрую закулисную игру, стоя за
спиной новой фашистской партии ПРЛ
(«республиканская партия свободы»). На фасадах домов в
аристократических кварталах пестрели наглые надписи,
сделанные разноцветными мелками: «Вив Петэи»
В витрине одного из самых фешенебельных книжных
магазинов на Елисейских полях в эти дни я
собственными глазами видел рядом с модными книжонками
Сартра и Миллера книгу Гитлера «Моя борьба» с
надписью на суперобложке «Все французы должны
прочесть эту книгу...»
Но в эти же дни я был свидетелем событии
противоположного характера — рабочий, трудовой Париж»
ревностный хранитель славных традиций
Сопротивления, отвечал на происки обнаглевшей реакции
мощными демонстрациями. Не забыть взволнованных,
экспансивных, по-французски ярких собраний на
окраинах города, не забыть, с какой яростью рабочие
подростки, худые, загорелые ребята в синих блузах
с рукавами, закатанными до острых локтей, сдирали
со стен фашистские плакаты, перечеркивали их мелом,
писали поперек свои лозунги, наклеивали на щитах
«республиканской партии свободы» листы с искусно
сделанным «гербом» этой партии, где монограмму
«V» оплетала жирная, зловещая свастика.
Секретарь федерации коммунистов департамента
Сены показал мне в эти дни кипу захватанных
пальцами, исписанных карандашами листков — то были
подписные листы по сбору пожертвований в
избирательный фонд коммунистической партии — ведь
коммунисты, в отличие от буржуазных партий, щедро
153
финансирующихся их богатыми покровителями, не
располагают и не могут располагать капиталами. Их
поддерживает простой, рабочий люд. Каждый жертвовал,
сколько мог: один — несколько франков, другой —
несколько сот; некоторые отдавали целиком все свои
сбережения. И всюду — трогательные приписки: «Для
победы партии и против черного рынка», «За сильную
политику на службу народу», «Ради триумфа нашей
партии», «Чтобы свалить реакцию». Деньги вносили
рабочие, мелкие торговцы, студенты, консьержки,
гарсоны из кафе. Так было собрано несколько миллионов
франков.
Подлинные патриоты Франции, прекрасно
понимавшие всю сложность и ответственность переживаемого
момента, были озабочены важной задачей дня —
сохранить и укрепить единство демократических сил,
выкованное в трудные, но славные дни борьбы с
гитлеровцами. Мне вспоминается мощный, пятидесятитысячный
общегородской митинг, созванный в те дни
французской компартией и республиканским союзом
Сопротивления на знаменитом зимнем велодроме. Огромнейший
неуютный и пыльный зал, напоминающий заводской
цех, был набит доотказа. Висящие под высокой
стеклянной крышей мощные фонари под коническими
эмалированными колпаками бросали вниз расходящиеся
пучки лучей, озаряя пеструю толпу, — здесь рядом
сидели пришедшие прямо с работы металлисты в
замасленных беретах и синих блузах, кокетливые модистки
из ателье с рю де ля Пэ, офицеры с орденскими
ленточками и мелкие торговцы в потрепанных,
порыжевших котелках, седые вдовы с траурными лентами и
бойкие юноши из Республиканского союза молодежи.
С каким энтузиазмом, с какой страстью и надеждой
внимали они ораторам, доказывавшим жизненную
необходимость объединения всех сил честных
республиканцев перед лицом наглеющей реакции! Как бурно они
аплодировали этим ораторам и как оглушительно
кричали, свистели и топали, когда речь заходила о
поднимающей голову реакции.
Но наиболее внушительной и грозной демонстрацией
единства честных республиканцев против реакции в эти
154
дни была, бесспорно, первомайская демонстрация
1946 года — первая послевоенная маевка в Париже.
Именно потому, что она была так характерна для
послевоенного Парижа, именно потому, -что она так ярко
отражала подлинное соотношение политических сил,
мне хотелось бы рассказать здесь о ней подробнее...
Парижане обожают народные празднества, — они
целиком отвечают их темпераменту, и массовые
демонстрации здесь всегда искрятся весельем,
жизнерадостностью, остроумием. Заранее, за много дней до
демонстрации, молодежь разучивает новые песенки,
художники мастерят забавные плакаты, карикатуры,
маски, швеи шьют из бумаги пестрые костюмы,
оркестры трубят марши. Но на этот раз все было строже,
чем обычно, — трудовой Париж выходил на улицы не
ради того, чтобы попросту порадоваться весне в День
Ландыша — традиционного майского цветка. Он шел
к площади Бастилии, чтобы еще раз померяться силами
с реакцией.
С раннего утра город немного притих в ожидании
больших событий. С бульваров были убраны столики —
кафе закрылись. Перестали ходить автобусы. На
телеграфе, на телефонных станциях осталось минимальное
количество сотрудников — решением правительства
день Первого Мая был объявлен нерабочим. В богатых
особняках наглухо закрылись ставни. Из
аристократических кварталов еще с вечера тысячи автомобилей
умчалось к загородным виллам. И только веселые
голоса продавцов ландышей, атаковывавших прохожих
на каждом шагу, нарушали суровую тишину на
проспектах, которые в будничные дни бывают так
оживленны.
После полудня на улицах все переменилось.
Огромные пестрые толпы гурьбой валили по тротуарам и
мостовой к сборным пунктам колонн. Из переулков
выезжали обвитые цветами, украшенные плакатами
и остроумно задуманными композициями грузовики
и подводы. Стремительно проносились, сверкая на
солнце спицами, велосипедисты. Знаменосцы строились
в шеренги, и сразу же за ними вырастали несметные
колонны. Повсюду шныряли маленькие, юркие автомо-
155
били с репродукторами, гремевшими песни и марши.
Вдоль улицы выстраивались цепочки «службы
порядка* — плечом к плечу становились рабочие фабрик
и заводов в праздничных костюмах с медными знаками.
Всеобще!! Конфедерации труда в петлицах. Рядом
с ними занимали посты полицейские в своих синих
крылатках.
И вот, в два часа пополудни у высокой колонны на
площади Бастилии, к которой все утро со всех концов
валили толпы демонстрантов, грянули разом десятки
оркестров, качнулись трехцветные и алые знамена,
загремело разноголосое звонкое «ура», повсюду
послышались песни, и сам ^Воздух, горячий плотный воздух
парижского мая, пришел в движение.
Колонны двигались по традиционному маршруту
рабочих демонстраций от площади Бастилии, через
площадь Республики, к Венсеннскому лесу, где обычно
устраиваются гулянья парижского простонародья. От
площади Республики до Венсенна все еще стояли
двумя шеренгами разрисованные лубочными
картинками балаганы, замысловатые ярмарочные карусели,
пестрые киоски дешевых лакомств, оставшиеся здесь
после пасхальных празднеств, — расчетливые
ярмарочные дельцы смекнули, что будет не бесполезно
подождать здесь до Первого мая.
Впереди головной колонны двигался с
оглушительным ревом и грохотом оркестр, до мозга костей
французский оркестр — с десятками барабанов и
сверкающих фанфар, с лихим тамбур-мажором,
подбрасывающим на ходу свою ослепительную никелированную
булаву на высоту второго этажа и подхватывающим ее
на лету, с бравыми трубачами, яростно
жонглирующими своими инструментами. За оркестром плыла
огромная эмблема Всеобщей Конфедерации труда —
две руки, соединенные в тесном рукопожатии, и лозунг,
выписанный вокруг: «Труд. Солидарность. Свобода.
Благосостояние». В накаленном воздухе слегка
шевелились огромные стяги — национальный трехцветный
флаг и два красных знамени.
Демонстрацию открыла шеренга лидеров
профессионального движения — руководители Международной
156
Федерации профсоюзов и Всеобщей Конфедерации
труда. Далее шли члены Центрального комитета
французской коммунистической партии, дальше —
руководители социалистической партии. И, наконец, за ними
бесконечной, густой, бурлящей, шумной лавиной
двигался весь трудовой Париж — миллион двести тысяч
парижан вышли в этот день на улицы, чтобы принять
участие в демонстрации.
В Венсенне, там, где бульвар пересечен виадуком
железной дороги, была воздвигнута трибуна. Когда
голова первой колонны приблизилась к виадуку,
руководители профсоюзов и партий, организовавших
демонстрацию, поднялись на нее и заняли свои места.
Колонны продолжали движение, обтекая трибуну, а на
ней уже начался митинг — опять-таки чисто
французский митинг — люди слушали речи ораторов, находясь
в движении, речи передавались по радио; но это не
мешало им реагировать на выступления ораторов так,
словно они были рядом, а не находились за пять-шесть
километров. С присущей парижанам живостью,
демонстранты аплодировали, бросали реплики, от души
смеялись острым словечкам ораторов и выражали свое
негодование, когда что-нибудь в речах было им
не по душе.
Ораторы говорили о самом важном, о самом
волнующем для французов: о борьбе за новую
демократическую конституцию, проект которой в следующее
воскресенье ставился на всенародное голосование. Они
призывали граждан единодушно сказать «да», ибо этот
проект новой конституции отражал чаяния народа
и звал на борьбу с реакцией.
В колоннах шли рядом рабочие, служащие, научные
работники, социалисты, коммунисты, беспартийные.
С какой страстью, с какой верой и надеждой
провозглашали они, скандируя по слогам, заветное слово
«Е-дин-ство... е-дин-ство...» Эти выкрики громко
раздавались у самой трибуны, когда держал речь
руководитель социалистов Даниэль Майер. И каким
возмущением были встречены брошенные им в ответ слова:
«Да, единство, но все же органическое единство пока
еще преждевременно». Словно буря пронеслась вдоль
157
колонн, и еще громче загремело скандированное по
слогам—«е-дин-ство!», заглушая речь оратора. А когда
поднялся на трибуну лидер коммунистов Морис Торез
и звонко воскликнул: «Единство рабочего класса
никогда не может быть преждевременным!» — на всем
протяжении от Венсеннского леса до площади
Бастилии раздались одобрительные крики.
Кончился митинг, опять запели оркестры, быстрее
зашагали демонстранты. Ничего официального, ничего
натянутого, сухого не было в этом шествии. Казалось,
никто не заботился о равнении, об интервалах, — люди
плясали на ходу, пели, перекликались, стоял
невообразимый и, признаться, временами утомительный для
человека, не обладающего французским темпераментом,
шум и галдеж. Но при всем том, каким-то неуловимым
для постороннего глаза образом на всем протяжении
шествия поддерживался идеальный порядок. Нигде не
возникало никаких заторов, никаких инцидентов, и
изнывавшим от жары полицейским решительно нечего
было делать. Опытные, видавшие виды бригадиры
цепочек профсоюзной «службы порядка» только
посмеивались в усы, глядя на красные, потные физиономии
угрюмых жандармов.
А сколько изобретательности, творческой
находчивости, остроумной выдумки вложили организаторы
демонстрации в оформление колонн. Звонко стучали
по наковальне, поставленной на грузовике, кузнецы,
символизировавшие волю французского пролетариата
к борьбе за восстановление экономики. Молодой
парень с азартом гнал с подводы дюжего толстяка,
одетого во фрак, — толпа одобрительно кричала ему:
«К чорту тресты!» Огромная модель Эйфелевой башни
с мотком ниток на вершине напоминала о
кропотливом труде парижских белошвеек. Полотнище,
ниспадавшее с вершины мачты, окутывало девушку в алом
фригийском колпаке, изображавшую Францию. На
грузовиках везли изготовленные после войны
национализированными заводами станки, моторы, самолеты. Мимо
трибун с грохотом прокатил новый, прекрасно
отделанный трактор — это новая продукция завода, который
еще недавно выпускал бомбардировщики. А железно-
158
дорожники взгромоздили на огромный слоноподобный
тягач самый настоящий пассажирский вагон и
протащили его по улицам и площадям Парижа. В окнах
вагона виднелись счастливые физиономии тех, кто его
восстановил. Железнодорожники махали руками и пели
какую-то бравурную песню. Многочисленные
диаграммы и лозунги показывали успехи рабочих Франции
в борьбе за восстановление промышленности,
достигнутые, невзирая на саботаж трестов.
Вместе с рабочими шли интеллигенты Парижа. Над
колоннами реяли стяги института Пастера, работников
кино, — они требовали национализации
кинематографии, — художников, работников театра, радио,
служащих министерства финансов, департамента Сены,
медиков...
Сотни различных организаций приняли участие в этой
демонстрации. Отдельной колонной прошагали
ветераны легендарных интернациональных бригад, которые
десять лет назад первыми скрестили оружие с
фашизмом на залитой кровью земле Испании. На несколько
кварталов растянулась колонна друзей любимой
газеты трудящихся Франции «Юманите». Колонну
демократических женских организаций возглавили
женщины — депутаты Учредительного собрания с
трехцветными лентами через плечо. С веселыми песнями
и острыми антифашистскими лозунгами прошла
колоссальная колонна Республиканской молодежи.
Маршировали в рядах демонстрантов и студенты. Несколько
странное впечатление произвел на меня лишь один
лозунг, который несли молодые социалисты: «Требуем
более длительных каникул...»
Был девятый час вечера, когда мимо трибун прошли
последние колонны. В призрачном синем небе Парижа
уже зажигались первые звезды. В далеких садах
звенела мелодичная музыка, ласкавшая слух. Молодежь,
аккуратно сложив под ветвистыми каштанами
плакаты и флаги, шла танцовать. Повсюду звенел смех:
гонкий аромат ландышей струился по бульварам.
Начинался большой традиционный вечерний праздник —
праздник весны и ее радостей. Но даже в эти
лирические минуты не угасали отзвуки демонстрации — то
159
там, то здесь неожиданно загремит, словно взорвется,
задорная «Карманьола», зазвучит столь же популярное
во Франции, как и в Англии, «Полюшко-поле»,
вспыхнет жаркий спор, и вдруг раскатисто прогремит
скандированный лозунг: «Фа-ши-стов на ви-се-ли-цу!..»
...Так встречал Париж свою первую послевоенную
весну.
2. РАЗДУМЬЯ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В одном из залов весеннего Салона 1946 года,
разместившегося на набережной Сены, в строгом и
стильном Дворце нового искусства посетители подолгу
задерживались у гравюр Абеля Рено. Они резко
отличались от всего того, что выставлено в этих залах.
Учитывая рыночную конъюнктуру, многие художники
Парижа сейчас отказываются от злободневных тем.
Натюрморт, пейзаж, обнаженная натура, портрет...
Картин почти нет. И вот, пройдя по залам, увешанным
однообразными, хотя и очень пестрыми полотнами,
посетитель выставки вдруг останавливается перед
этими простыми и скромными с виду листами: Абель
Рено сильной, уверенной и беспощадной рукой
запечатлел трагический исход парижан в мае — июне
11940 года. Альбом этих гравюр был отпечатан еще
в годы оккупации. Немцы думали вначале, что
напоминание о только что пережитом разгроме принизит,
устрашит французов. Они ошиблись: гравюры
художника будили у зрителя ненависть к тем, кто обрек
Францию на эту моральную и физическую пытку.
И альбом был запрещен...
Прошло уже шесть лет с тех пор, как охваченный
горем художник, тащившийся с толпой парижан по
изрытым бомбами дорогам куда-то на юг, набрасывал
на ходу свои страшнее, правдивые зарисовки. В
душном и жарком воздухе беспокойного Парижа
чувствовалось что-то такое, что заставляло людей все чаще
оглядываться назад. Им хотелось прогнать эти навязчивые
воспоминания, убедить себя в том, что пережитое
никогда больше не повторится. Но на всех углах
оживленных бульваров газетчики торговали скверными ново-
160
стями, а ораторы правых партий на митингах
разговаривали о третьей мировой воине, как о чем-то вполне
естественном и, с их точки зрения, быть может, даже
необходимом. И по-человечески не трудно было понять
парижан, которые останавливались у гравюр Абеля
Рено и долго-долго глядели на них. Мне запомнилось
каменное лицо одной пожилой женщины в трауре,
которая смотрела на них каким-то остановившимся
взглядом и нервно повторяла: «Мой бог! Только бы это
не повторилось. Мой бог! Только бы это не
повторилось».
В те дни в Париже, как и повсюду, праздновали
первую годовщину со дня победы над фашистской
Германией. Было сделано все для того, чтобы дать
парижанам повеселиться. Невзирая на острый недостаток
электроэнергии, министерство производства
разрешило, в виде исключения, иллюминировать наиболее
красивые здания города. В Версале должны были на
целых полтора часа пустить в ход знаменитые
фонтаны. Гарнизон высылал на площади свои оркестры.
Пиротехники готовили у моста д'Арколь ослепительный
фейерверк. Я много читал о народных празднествах
в Париже; когда-то они были восхитительны.
Захотелось провести эту праздничную ночь на улицах в
парижской толпе.
Мне посоветовали обязательно побывать у
знаменитого дворца Шайо, который стоит над Сеной, как раз
напротив Эйфелевой башни, замыкая одну из
замечательных архитектурных перспектив Парижа, затем
съездить в район площадей Бастилии и Насьон, где
всегда веселился рабочий Париж, и, конечно же,
заглянуть на Монмартр.
Во дворце Шайо давали пышный бал в честь
авиации. Из распахнутых окон лилась мелодичная музыка.
К подъезду подкатывали один за другим самые
роскошные автомобили Парижа. Из них выходили дамы
в длинных вечерних туалетах, мужчины во фраках.
По сторонам стояла толпа парижан, глазевших на это
зрелище. Попасть на бал было не так просто: входной
билет стоил пятьсот франков. Такие деньги найдутся
далеко не у всякого парижанина. Публике попроще
11 На Злпаде после войны 161
оставалось смотреть на гостей и любоваться
знаменитыми фонтанами Шайо.
Эти фонтаны, сооруженные в 1937 году для
всемирной выставки, действительно являют собой чудесное
зрелище. Двадцать мощных наклонных струй,
освещенных откуда-то снизу, бьют под углом в тридцать
градусов метров на тридцать в длину. Вздыбленная
вода, теряя скорость, обрушивается вниз туманным,
пенистым дождем, играющим в свете сильных
прожекторов, помещенных под стеклянным дном бассейна.
По сторонам бьют десятки вертикальных струй. Все
это — на фоне двух массивных полукружий дворца,
ярко освещенных прожекторами по случаю
торжественного дня.
Вокруг фонтанов, на мокрой траве, задумчиво сидели
парочки. Мальчишки с гамом и визгом бросались под
струи воды, кувыркались, с наслаждением вдыхая
острый аромат свежей зелени, борющийся с бензинным
перегаром и дрянным запахом французских сигарет.
И все же здесь было не очень весело — не слышно
было песен, шуток, веселых споров, которые звучали
в Париже в день Первого мая. Люди были тихи,
задумчивы.
Может быть, на площадях Бастилии и Насьон
веселее? Ведь именно там обычно парижане справляют свои
карнавалы. Полчаса езды на подземке, и я выхожу на
слабо освещенную, вымощенную брущаткой площадь,
посредине которой высится колонна, сооруженная
в память о том дне, когда восставшие парижане
разрушили стоявшую на этом месте тюрьму — Бастилию.
И здесь было тихо. Редко-редко прошумит машина.
Прохожие, поднявшись из метро, спешили куда-то по
своим делам.
На площади Насьон стояли балаганы, кочующие
цирки, карусели. Здесь веселье стоит совсем недорого:
за пять—десять франков вам предлагают посмотреть
барана с двумя головами, ребенка с головой лягушки,
кролика без ушей, женщину-крокодила или женщину-
паука; профессора астрологии Макс и Рошель охотно
предскажут вам будущее. За свои пятнадцать франков
вы можете вдоволь натерпеться страха в зале ужасов.
162
«Барометр Амура» или «термометр любви» покажут
вам, когда вы женитесь, выйдете замуж (лаконичные
ответы гласят: «Прекрасным утром», «Сегодня
вечером», «Семидесяти лет»). Вы можете покататься на
моторных лодках, которые плавают в крохотном
бассейне, главное при этом — как можно сильнее
толкнуть носом лодку своего соседа; можете покататься
на американских горах, покачаться на качелях.
Балаганов много, очень много. И каждому хозяину
хочется заработать на хлеб, а у посетителей так мало
франков в карманах! И рекламы становятся все
крикливее:
«Взгляните на эту юную женщину, которая
благодаря своему мужеству смогла вынести самые
страшные муки. Ее вам покажут здесь. Это чудо эпохи!»
«Только для взрослых! Невежество и преступление!
Сифилис — страшная, но излечимая болезнь. Это не
порнографическое, но подлинно образовательное
зрелище!»
«Мировой аттракцион! Самая большая в мире
женщина мадемуазель Морис. Родилась весом 20 фунтов.
Сейчас она весит 420 фунтов. Рост 2 метра 14
сантиметров. Объем талии 1 метр 0,5 сантиметров! Зайдите
и убедитесь! Первый раз в Париже!»
Балаганы радиофицированы. У микрофонов
надрываются зазывалы. Музыканты трубят, стучат в бубны.
Перед публикой прохаживаются боксеры и борцы,
показывая свои бицепсы. Пляшут худые танцовщицы
в стареньких усеянных блестками платьицах. Дешево,
очень дешево! Вход стоит всего двадцать, десять, пять
франков! Но публика проходит мимо. Напрасно
хозяин, дородный небритый француз, хватается то за
микрофон, то за бубен, напрасно его жена, в пестром
платье, ласточкой кидается в толпу, протягивая
билетики, — рабочие в потрепанных беретах, продавщицы
из магазинов, солдаты стоят молча, бесстрастно.
Крутится карусель с музыкой и сверканьем огней.
На ее сиденьях только двое ребят. Пусты прилавки
тиров. Никто не хочет ни фотографироваться, ни
гадать, ни смотреть женщину-слона, — там, за ситцевой
занавеской, сидит пожилая женщина, больная слоновой
11*
163
болезнью, и показывает посетителям свои опухшие
ноги.
Нет, и здесь было не особенно весело. Я снова
спустился в тоннель метро и отправился на Монмартр.
Было уже около полуночи, но здесь только
начиналась жизнь. Неширокую площадь Пигаль обступали
толпой десятки кабаре, дансингов, баров, ночных
клубов, сомнительных театров. И здесь гремела
музыка и ловкие зазывалы останавливали прохожих:
— Мсье? Ночное кабарэ? Голое ревю? Специаль?
Что вы ищете, мсье? Мы можем предложить вам все,
что угодно!
Время от времени у тротуара останавливалась
мощная машина последней модели, и из нее выходил,
дымя сигарой, житель заморской страны. Зазывалы
почтительно отступали — туристу, бумажник которого
набит долларами, сопутствует особый гид. О, ему
покажут все мерзости Монмартра, поданные по самой
последней моде!
Здесь, как и всюду, на все свои расценки. Для
гостей побогаче — ночные рестораны, где за ужин
надо отдать месячный заработок среднего француза.
В переулках кабарэ и бары подешевле. А посреди
бульвара и совсем уж дешевые развлечения: парень
с мрачной решимостью сшибает тряпичным мячом
помятые жестяные консервные банки, стоящие
горками на прилавке этого своеобразного тира.
Некоторым здесь весело — у людей разные вкусы. Но как
далеко это веселье от тех изумительных карнавалов,
описания которых читали мы до войны! И как не
похоже все это на наши праздники Победы...
Утро 12 мая, когда должна была состояться
официальная церемония, было пасмурным. На рассвете
прошел дождь. Мы встретились, как условились,
с одним французским журналистом на знаменитой
площади Конкорд, чтобы оттуда пройти по Елисей-
ским полям к Триумфальной арке, под которой
покоится «могила Неизвестного солдата», — там и
назначен был парад. Я поделился со своим знакомым
впечатлениями о вчерашнем вечере.
— Да, в городе сейчас не очень весело, — сказал
164
он. — Вам следовало бы учесть, что для нас день
Победы не только день торжества, но и день
глубокого раздумья. Нам нужно многое обдумать и
взвесить в этот день...
И он указал на шеренгу скромных мраморных
дощечек, на которых высечены имена девяти
французских патриотов, погибших смертью храбрых в бою
с немецким танком «тигр» вот здесь, на площади
Конкорд, 26 августа 1944 года.
— Мы гордимся ими. Они — слава и честь
Франции. Они уничтожили последнего немецкого «тигра»
в сердце Парижа. Но я знаю — у вас на языке сейчас
вопрос: а сколько таких «тигров» надо было подбить
на востоке и сколько безыменных героев должны были
отдать там свою жизнь, чтобы вот этот бой здесь, на
пляс де Конкорд, закончился победой горстки наших
храбрецов? Что ж, это резонный вопрос, ни один
честный француз не будет этого отрицать...
Он взволнованно вздохнул и обвел широким жестом
прекраснейшую панораму площади, столь пленившую
некогда Владимира Маяковского.
— Какое счастье, что все это сохранилось, но...
Если бы вы только знали... Как остро чувствует
каждый честный француз свой долг перед
Сталинградом! И вот еще что... Вы знаете, я думаю... — мой
собеседник запнулся и потом сразу выпалил:—
Я думаю, что если бы между Францией и Советским
Союзом была и раньше настоящая дружба, то этой
войны не было бы... Да-да! А если бы она и
разразилась, то, во всяком случае, была бы не такой тяжелой
и мучительной.
Мы шли вверх, к Триумфальной арке, по тенистой
каштановой аллее. Лепестки светлорозовых цветов
каштана уже облетели и, словно снег, устилали
дорожки. С негромким шумом падали струи фонтанов,
пущенных ради дня Победы. Мой собеседник
помолчал и потом заговорил снова:
— В тысяча девятьсот сорок пятом году французы
прекрасно поняли цену этой дружбы. Когда наш
Делатр де Тассиньи был приглашен в Берлин, чтобы
за одним столом с нашими соратниками по оружию
165
принять капитуляцию немцев, мы помнили, что именно
русские, больше чем кто бы то ни было другой,
являются героями этой победы и что именно им мы
обязаны своим спасением. Генерал де Голль очень хорошо
говорил когда-то о значении франко-советского
союза. Но время идет, хорошие слова забываются,
а люди меняют свою линию. Вот и сегодня де Голля
не будет здесь на параде... Вы, конечно, читали, что
он предпочел уехать на этот день в Вандею...
— Да, — сказал я, — в газетах писали, что он
решил поклониться праху Жоржа Клемансо...
— О, Клемансо!.. Как это характерно для
де Голля — набиваться на исторические аналогии. То
он примеряет треуголку Наполеона, то прикидывается
Жанной д'Арк, то напрашивается на сравнение с
Клемансо... Клемансо! — фыркнул мой собеседник. — Его
называли тигром. Это был империалист чистейшей
воды, и именно он в ответе за Версальский договор,
который, в конечном счете, привел ко второй мировой
войне. Но в одном ему нельзя отказать — он
действительно превращался в тигра, когда речь шла об
интересах Французской империи. На роль американского
лакея он не согласился бы никогда. А на де Голле
лакейская ливрея сидит так, словно он всю жизнь
носил ее, не снимая...
Чем ближе мы подходили к Триумфальной арке,
высящейся посредине площади Этуаль, тем гуще
становились толпы на широких тротуарах Елисейских
полей. С фасадов домов свешивались огромные
полотнища разноцветных флагов. Здесь были стяги
Франции, Англии, Советского Союза, Соединенных Штатов
Америки, Китая, Бельгии и других стран,
участвовавших в войне. Под Триумфальной аркой реял на ветру
гигантский трехцветный флаг, осенявший могилу
Неизвестного солдата, над которой трепетал неугасимый
вечный огонь.
Сюда пускали только по пропускам, и публика
была особая — нарядно одетая, веселая. В толпе
сновали бойкие молодые люди в хороших костюмах,
торговавшие монархическими газетами. Газеты эти
выходят в Париже нелегально, но торгуют ими от-
166
крыто, и полиция делает вид, что ей нет никакого дела
до этих бойких юношей. Здесь же торговали и
легальной фашистской газетой «Пароль франсез».
У могилы Неизвестного солдата, заваленной
венками живых цветов, стоял почетный караул
гвардейцев в медных касках с конскими хвостами и алыми
плюмажами, в парадных синих, с красными
отворотами мундирах, в белых брюках и высоких
лакированных сапогах. Эта форма сохраняется со времен
Наполеона. Знаменосцы держали в руках боевые стяги.
Оркестры стояли наготове. К Триуфмальной арке
непрерывно подъезжали машины, из которых выходили
министры, генералы, почетные гости.
Стрелка часов приближалась к одиннадцати, когда
на площадь Звезды выехали одна за другой
автомашины с советскими, американскими и британскими
флажками, сопровождаемые почетным эскортом
мотоциклистов. Министры иностранных дел союзных
держав — В. М. Молотов, Бирнс, Бевин заняли свои
места, приветствуемые аплодисментами с трибун,
окаймляющих площадь. Затем подъехали король
Камбоджа, гостивший в Париже, и премьер-министр
Феликс Гуэн.
Ударили дробь барабаны, нежно и печально запели
трубы, и премьер-министр возложил венок на широкую
могильную плиту, прикрывающую прах Неизвестного
солдата, отдавшего свою жизнь за Францию в война
1914—1918 годов. Негасимый огонь, вырывающийся
синеватой струей из широкой медной горловины
у изголовья Неизвестного, содрогался на ветру.
Потом премьер-министр прочел речь о победе и мире.
Не все слушали на трибунах эту речь. Не всех
волновали слова о мире. Дамы в модных платьях
разглядывали в лорнеты, как заморскую редкость, молодого,
безусого короля Камбоджа. Подагрические старики
в цилиндрах неодобрительно косились на небо,
сеявшее мелкий дождик. Молодые лоботрясы с Елисейских
полей украдкой позевывали, ожидая, пока начнется
парад.
Но вот уже грянули барабаны, опять запели трубы,
и начался парад. С грохотом пошли танки, на кото-
167
рых написаны названия местностей и городов, в боях
за которые участвовали французские войска: Бир-
Хакейм, Аламейн, Нарвик. Покатила самоходная
артиллерия. Провезли зенитки. Прошла небольшая
колонна санитарных автомашин. Промаршировали
понтонеры с надписью на шлюпке «Рейн» — это они
первыми форсировали эту реку. Потом прокатили на
своих алых машинах парижские пожарники в
сверкающих касках.
Фанфары возвестили выход гвардейцев.
Кавалеристы в наполеоновской форме торжественно и чинно
проехали на своих сытых конях мимо Триумфальной
арки. Почти половину колонны составлял оркестр —
трубачи и барабанщики. За гвардией прошла
марокканская кавалерия в белых плащах и чалмах и тоже
со своим огромным оркестром. Потом прошла
американская военная полиция под звездным знаменем,
британская военная полиция. Моряки в старинных
треуголках, пехотинцы в защитной форме, снова
марокканцы в чалмах, и оркестры, оркестры, оркестры.
Парижане очень любят музыку, и организаторы
парада сумели потрафить их вкусам. Музыканты
маршировали четким воинским шагом, подбрасывая вверх
и ловя на лету свои горны и барабанные палочки. Они
во-всю трубили и били в барабаны так, что в ушах
у слушателей стоял звон и треск.
В этом грохоте не все заметили, как под серыми,
опоенными дождем тучами вдруг показался
представлявший на параде французскую авиацию легендарный
авиаполк «Нормандия — Неман». Четким строем шли
отлично знакомые нам истребители: полк летает на
«Яковлевых», подаренных ему советским
правительством за доблестную службу на фронтах
Отечественной войны. Эта подробность — напоминание о славном
боевом содружестве.
Через несколько дней после этого парада нам
довелось встретиться с группой летчиков этого полка. Они
носят на груди рядом с французскими орденскими
ленточками советские ордена, заработанные в
жестоких боях. Летчики были очень рады встретиться
с людьми из Советского Союза, с интересом расспра-
168
шивали о том, что у нас нового. И с каким хорошим,
благородным гневом говорили они о тех, кто, действуя
по указке заморских советников и наставников»
пытается посеять семена раздора между СССР и
Францией!
— Им мало двух войн, им хочется третьей. Они не
плохо зарабатывали, когда здесь были немцы, —
говорил один из летчиков. — Мы знаем: оборудование для
самолетов, которые нам приходилось сбивать,
делалось здесь, во Франции, и эти господа получали не
плохие дивиденды. Им хотелось бы заработать еще»
и они ищут новых покровителей. Но французы
поумнели за это время. Народ знает, где враг и где друг.
И, поверьте мне, он еще скажет свое слово...
3. ИМЕНЕМ СТАЛИНГРАДА
На всех картах Парижа весной 1946 года было
крупными буквами напечатано слово «Сталинград» —
это жители района Обервилье переименовали в честь
русского города-героя свою узловую станцию
метрополитена, одну из крупнейших в столице Франции.
Таких изменений французским картографам после
войны пришлось внести не мало: в дни жестокой
борьбы сил демократии с реакцией подлинные
патриоты все чаще обращаются к имени Сталинграда,
ставшему международным символом стойкости,
моральной чистоты и крепости духа.
— Вы знаете, — сказал мне генеральный секретарь
общества франко-советской дружбы, — у нас сейчас
уже несколько десятков улиц, площадей и бульваров
имени Сталинграда...
Улицы имени Сталинграда пересекают предместья
Парижа, его знаменитый «Красный пояс». Улица
Сталинграда есть в Марселе, мостовые которого обагрены
кровью шести коммунистов, убитых во время осенней
избирательной кампании 1945 года. Улица
Сталинграда есть в древнем Авиньоне, одном из самых
лирических городов Франции, который сумел найти свое место
в строю участников Сопротивления в годы войны.
169
Мне посчастливилось побывать на открытии
бульвара имени Сталинграда в одном из чудеснейших
маленьких зеленых городков, примыкающих к
Парижу, — Шуази ле Руа, что значит по-русски
«Избранная королем». Когда-то здесь, в густом лесу, стоял
охотничий домик короля, где он предавался утехам
с мадам Помпадур. В 1793 году домик был разрушен
восставшими парижанами, и с той поры жизнь
маленького городка пошла по новому пути. Здесь жил
Дантон. Здесь создал «Марсельезу» Руже де Лилль,
памятник которохму украшает сейчас Шуази ле Руа.
Жители городка работают в Париже — они
добираются на стареньких фыркающих и рычащих автобусах
до ближайшей станции метро и потом растекаются по
бесчисленным заводам, магазинам и учреждениям
столицы. Днем городок пуст. Но вечером его
зеленые, обсаженные цветущими каштанами улицы
оживают, и толпы горожан, шелестя газетами, горячо
спорят, обсуждая последние новости, привезенные из
Парижа: опять все стало дорожать; молодчики из
«республиканской партии свободы» окончательно
распоясались и наклеивают на всех перекрестках свои
дикие плакаты; МРП, которая раньше как будто бы
выступала против крайних правых, сейчас заодно
с ними ведет кампанию против новой конституции.
И, главное, эта проклятая, осточертевшая
неопределенность: правительство до сих пор временное; деньги
в обращении — и довоенные, и петэновские, и дегол-
левские; петэновцы не только остаются на свободе,
ко даже претендуют на участие в руководстве
страной...
Правда, в Шуази ле Руа все несколько иначе, чем
в центральных районах Парижа. Здесь со времен
Дантона привыкли не церемониться с предателями.
Когда бывший мэр города Леже, верный пес Петэна,
попытался устроить в кино «Шуази» митинг и стал
агитировать за «республиканскую партию свободы»,
публика закидала его чем попало и разошлась'
с пением «Интернационала». А назавтра коммунисты
собрали общегородской митинг на рыночной
площади, и там горожане устроили такую демонстрацию
170
против фашистов, что, наверное, Леже до сих пор
икается.
Представителя советского посольства ждали в
мэрии с большим волнением — каждая встреча с
представителями СССР здесь воспринимается, как
праздник. Наш шустрый одиннадцатисильный «Ситроен» —
первенец послевоенной реконверсии (перестройка
псгнной промышленности на мирный лад), — ведомый
французским солдатом, промчался по будущему
Сталинградскому бульвару со скоростью ста километров
в час и, сделав лихой вираж, затормозил у подъезда
старинного особняка, стоящего в тенистом саду
у фонтана. В прекрасно отделанном, украшенном
превосходной живописью кабинете нас встретил седой
ветеран борьбы за народное дело — бывший
печатник, а теперь мэр Шуази и генеральный советник
департамента Сены. Через плечо он был опоясан
почетной трехцветной лентой с золотыми кистями —
знак народного доверия; в петлице его черного
пиджака искрился значок мэра. Рядом с мэром стояли его
советники — такие, как он сам, люди из простого
народа, которым народ же вверил бразды правления
городом.
На зеленой лужайке против мэрии уже собирались
горожане. Здесь был сооружен помост, под ним
красовались портреты Ленина и Сталина, рядом
французские и советские флаги. Ниже было помещено
широкое яркое панно, несколько наивно и схематично
исполненное, но трогательное по своей
непосредственности: боец Красной Армии в погонах и
фантастически высокой буденновке пронзает штыком зеленого
фашистского орла; за спиной бойца — рабочий у горна,
крестьянин в поле, художник у мольберта; за спиной
фашистского орла — сотни бледных узников за
решеткой, пламя печей Освенцима и Майданека,
люди, гибнущие под ударами палачей; боец Красной
Армии, убивающий фашизм, несет угнетенным
свободу, и золотое солнце, встающее на горизонте, шлет
им свои лучи. На принесенных откуда-то скамеечках
уже сидели, покуривая трубки, рабочие автозавода
в кепках и блузах, щебетали мидинетки из парижских
171
универмагов. Поставив в тени каштанов коляски
с детьми, матери чинно беседовали о своих
домашних делах. В толпе сновали продавцы значков,
выпущенных в связи с переименованием бульвара: в
красном кружке кусочек карты — район Сталинграда;
врытый в снег березовый крест и на нем каска фрица;
подпись гласит: «Могила гитлеровской армии».
На залитую жарким апрельским солнцем эстраду
поднимается группа рабочих и работниц — это группа
участников знаменитого парижского самодеятельного
хора, созданного директором консерватории Лами; он
сам вышел из рабочих, и этот хор — его любимое
детище. Толпа приближается к подмосткам. Волнуясь,
дирижер хора — парижская служащая мадам Морэ —
дает тон камертоном, и вдруг мы слышим знакомые
слова:
Союз нерушимый
Республик свободных...
Хор исполняет гимн СССР на русском языке.
Тысячная толпа, притихнув, внимает ему стоя... Потом
звучит «Марсельеза», и, наконец, к микрофону подходит
мэр.
Сняв шляпу, он окидывает взором собравшихся на
лужайке жителей своего маленького городка, хорошо
знакомых, таких близких ему. Помолчав несколько
мгновении, он начинает речь. Мэр вспоминает
трудные дни, когда он, как и другие патриоты, был
заключен в концлагерь Петэна. Было тяжко, очень тяжко
думать о своем бессилии помочь Франции,
стонавшей под двойным гнетом Гитлера и вишийских
предателей. Но вот за колючую проволоку лагеря,
затерянного в африканских песках, пришла весточка о победе
русских у Сталинграда.
— И мы поняли тогда — вот идет свет! Вот идет
свобода!.. — И мэр призывает своих сограждан
учиться у русских бороться за лучшее будущее и
защищать дело мира.
Потом говорит мэр соседнего города Тье. В
сущности говоря, города здесь давно уже слились воедино,
и границы их условны. Одна сторона бульвара — это
172
Шуази ле Руа, а вторая—это уже Тье. Чтобы
переименовать его, требуется решение жителей обоих
городов. И граждане Тье целиком согласны с
гражданами Шуази ле Руа: лучшего имени, чем
Сталинград, для бульвара не придумать! Собравшиеся
горячо аплодируют.
Выступает с речью генеральный секретарь общества
франко-советской дружбы. Зачитывает приветствие
представителю советского посольства. С огромным
вниманием слушают собравшееся эти выступления.
На их лицах выражена страстная вера в нерушимую
дружбу с чудесной Советской Страной, которая
спасла Францию от немецкого рабства и которая
сейчас помогает ей встать на ноги. Рядом со мной сидит
пожилая работница. На коленях у нее
иллюстрированный журнал, раскрытый на странице, где изображена
разгрузка в Марселе советского парохода
«Ворошилов», доставившего русский хлеб для голодных
детей Франции. И как горячо аплодировала она,
когда представитель общества франко-советской
дружбы говорит об этом братском даре Советской
Страны!
— Мы знаем, что русским самим еще трудно
живется, — сказал он, — их колхозы разрушены
немцами. Но они поделились с нами, как братья, и этого
Франция никогда не забудет!..
Снова хор занимает свое место на трибуне —
теперь он исполняет популярные во Франции русские
песни «Полюшко-поле», «Смело, товарищи, в ногу»,
«Замучен тяжелой неволей». Потом торжественно
гремит «Интернационал». Его подхватывает
тысячная толпа. Высоко подняв фанфары, трубят
музыканты, и грозная трель барабанов звучит, как
призывный клич. Горожане сходят на мостовую и строятся.
Алые и трехцветные стяги реют в голове колонны.
Толпа ширится — со всех улиц выходят и
присоединяются к ней люди. Бегут мальчишки в трусах и
галстуках; женщины катят перед собой коляски с
младенцами; ковыляет инвалид с орденскими ленточками
в петлице. И вдруг я слышу на чистом русском
языке: «Морис! Ну куда же ты? Осторожнее!» И мать,
173
нагнувшись, подхватывает на руки трехлетнего
сынишку. Оказывается, мальчик этот родился в
России — его отец, француз, был партизаном на Украине
и женился на русской девушке. Сына назвали
Морисом в честь Тореза — его крестного...
А мэр Шуази ле Руа гордо идет впереди
демонстрации с обнаженной головой. Его окружают
советники, опоясанные такими же трехцветными лентами,
но с серебряными кистями.
Барабанщики и фанфаристы минуют памятник Руже
де Лиллю, который как бы напутствует
демонстрантов вдохновенным жестом. На углу бульвара
процессия останавливается. Оркестр смолкает. Падает
завеса, обнажая новенькую синюю табличку, и мэр
торжественно оглашает постановление о
переименовании Парижского проспекта в Сталинградский бульвар.
Церемония закончена. Но долго еще не расходятся
люди, и слово «Сталинград» у каждого на устах...
— Теперь и мы немного сталинградцы, — с
гордостью говорит мэр. — О! Именем Сталинграда
можно многое, очень многое сделать.
4. ДВЕ БИТВЫ
Есть страшная и поразительная черта в
сегодняшнем облике Франции, Парижа. Сначала вы не
замечаете ее — французы не любят жаловаться и
выставлять свои бед|з1 напоказ. Ваш взор отдыхает: нигде
не видно разрушений. Весело зеленеют маленькие
кудрявые сады и совсем крохотные поля и
виноградники. Прихотливо вьются голубые реки, и чистенькие
темносерые ленты автострад зовут путешествовать.
Уютные городки с» черепичными крышами как будто
сулят вам радушный прием и занимательную беседу
с их обитателями. Но вот вглядываешься
повнимательнее и видишь, что на всем лежит печать странной
безжизненности, истощения. Не видно машин на
дорогах, редко-редко увидишь дымок парохода на реке;
обветшали, обтрепались города, и сами жители их
исхудали, побледнели, нажили болезни.
174
В 1940 году во Франции было не мало людей,
которые искренне верили, что маршал Петэн спасет страну,
передавая ее живьем в руки немцев; больше всего на
свете они боялись, что война разрушит их страну —
свист бомб казался им гораздо страшнее, чем хриплая
и отрывистая речь немецких командиров.
Армия Гамелена воевала недолго — всего сорок
четыре дня. Но потом оккупанты прожили во Франции
пять лет; они объедали и обирали ее так, как это
умели делать только гитлеровцы. Они взяли все —
хлеб, локомотивы, вино, книги, машины, музейные
ценности. И к тому моменту, когда им пришлось-таки
убраться прочь, — во Франции работали только три
тысячи локомотивов из восемнадцати тысяч, только
семь домен из ста одной, а добыча угля составляла
немногим более четвертой части довоенной.
Экономике страны грозил полный паралич.
Вот эти довольно трудные пять лет и послужили для
французов, грубо говоря, школой житейской
премудрости. Они научили их менять иллюзорное
благоденствие домашнего уюта на полную лишений жизнь
фран-тирера, печатать и распространять подпольные
листовки, писать мелом повсюду назло бошам букву
«V» — знак грядущей победы, душить и бросать в
Сену немецких патрульных, сочинять злые и
остроумные куплеты об оккупантах и формировать отряды
повстанцев.
Одни делали больше, другие меньше. Но, пожалуй,
правильно будет сказать, что каждый честный
рядовой француз прошел эту школу. Как-то раз писатель
Луи Арагон сказал мне:
— Есть у нас один знаменитый эстрадный певец.
Сейчас ему около шестидесяти лет, но когда он
выходит на сцену и начинает петь, — и он сам, и все, кто
его слушают, молодеют. Я считаю его типичным
средним, не очень далеким, но симпатичным французом, —
может быть, именно поэтому его так и любят у нас...
Ну так вот, хотите я вам расскажу, как этот человек
встретил немцев и что из этого получилось?
Когда началась война, это ему очень не понравилось:
стреляют, бомбят, шумно, надо прятаться в убежище.
175
А он привык петь только о любви и жить без всяких
забот. Потом вдруг пришли немцы, и Петэн сказал:
«Сейчас мы помиримся, и опять все будет хорошо».
Это нашему певцу понравилось. Ему показалось, что
неприятный инцидент исчерпан и беззаботная жизнь
на Больших бульварах начнется снова. Он даже
согласился выступить по радио со своей знаменитой
песенкой: «Париж остается Парижем». Но Париж не мог
и не хотел оставаться при немцах старым добрым
Парижем. Он хотел стрелять в немцев.
И певец вдруг понял, что все его песни звучат
фальшиво. Тогда он замолчал. Немцы всполошились: как
так? Ведь этот певец — одна из парижских
достопримечательностей! Он слишком популярен, чтобы народ
не заметил его отсутствия на сцене. К нему пришли и
сказали: «Мы знаем, что ваша жена еврейка. Если вы
будете выступать попрежнему, — с ней ничего не
случится, мы выдадим ей диплом почетной арийки.
Запомните!» Это был не только посул. Это была угроза.
Певец понял. Он спрятал свою жену у друзей, а петь
на сцене отказался. Конечно, это был не такой уж
героический акт сопротивления. Но каждый делает то,
что ему по силам. Многим французам сознание того,
что их любимый певец не хочет петь при немцах, все
же давало известное удовлетворение. И тем охотнее
мы слушаем его песенки сейчас. Они все те же —
наивные, беззаботные. Так поют птицы. Не потому, что им
приказывают, а потому, что им хочется петь. Хотите
послушать?..
Арагон открыл ящик патефона и поставил пластинку.
Послышалась веселая, несложная и запоминающаяся
мелодия, и несильный, но приятный голос запел,
скандируя слова.
Амур пробежал мимо вас
Вечером, не помню, на какой улице,
Но вы не заметили его на дороге.
Ведь это самый лукавый из богов.
Смотрите, берегитесь, в другой раз
Нельзя быть такой неловкой.
Ведь надо ловить и хранить
Любовь, когда она встречается вам!..
176
Да, каждый честный француз сопротивлялся
немецкому насилию — один пассивно, другой активно.
А многие не ограничивались сопротивлением — они
наступали. Тот же Аргон сумел очень быстро овладеть
техникой нелегальной работы и показал себя
прекрасным организатором-подпольщиком, — подробнее об
этом я скажу ниже. Рядом с Национальным комитетом
писателей, в котором он работал, действовали
подпольные организации учителей, шахтеров, студентов,
металлистов, юристов, врачей, художников.
Передовые представители всех общественных слоев, за
исключением немногих, продавшихся Абецу и Петэну,
перешли на нелегальное положение и, кто как мог,
помогали бить бошей. Лучше всего это удавалось
рабочим — у них крепкая рука, хорошая солдатская
сноровка и нет недостатка в решимости.
Есть на севере Франции маленькая шахта Абетюн.
Ее рабочие вместе со всеми горняками дважды
бастовали при немцах: 1 апреля 1941 года и в 1943 году.
После первой забастовки немцы угнали две тысячи
рабочих в Германию, многих расстреляли. Они думали:
теперь шахтеры укрощены. Но вышло иначе. Теперь
рабочие начали стрелять, и притом очень метко.
Организаторами первых партизанских отрядов были
рабочие Дебарж и Анье. Это были храбрые, но, как
и многие французы, немного беспечные люди. И
немцам удалось выследить их и схватить. О том, как
поступали немцы с партизанами, попавшими к ним в руки,
рассказано и написано достаточно, и не трудно
представить себе, что они сделали с Дебаржем и Анье.
Известно только, что палачи сильно устали и были
дьявольски злы. Когда они вытащили полумертвых
вожаков партизан из застенка, чтобы публично их
расстрелять, немецкий офицер раздраженно сказал своим:
— Если бы мы имели таких людей, мы были бы
непобедимы.
Эти слова были услышаны рабочими, и через день
их повторяли на всех шахтах департаментов Норд и
Па де-Кале.
Когда рабочие шахты Абетюн забастовали во второй
раз, к ним в раздевалку прибежал служивший немцам
12 На Западе после войны 177
супрефект. Он был растерянный и жалкий — ему очень
не хотелось новых неприятностей от герра коменданта,
и он попытался уладить конфликт мирно.
— Чего вы хотите? Повышения зарплаты? —
умоляюще спросил он.
— Нет, мы хотим оружия, чтобы драться с
немцами! — с чисто французским пафосом ответили
шахтеры.
Немцы опять стреляли в забастовщиков, но язык
свинца никогда не казался французским рабочим
убедительным. С первого и до последнего часа оккупации
фашисты не чувствовали себя хозяевами в угольных
бассейнах Франции. Когда же они стали покидать
Францию, горняки захватили шахты и не дали им
взорвать машины и затопить выработки. Теперь надо
было браться за восстановление хозяйства, но это было
совсем не таким простым делом, как могло бы
показаться, и не случайно французы окрестили новый период
в жизни Франции военным термином «Битва за
производство».
Летом 1946 года нас, группу советских журналистов,
принял генеральный секретарь Всеобщей
Конфедерации труда Бенуа Фрашон. Это один из ветеранов битвы
за производство: он поднял ее знамя еще 10 сентября
1944 года, когда во Франции шли бои и немцы
держались в Бресте, Лориане, Бордо. И недаром
злобствующие правые газеты изо дня в день печатали
карикатуры на этого спокойного, уверенного в себе,
широкоплечего человека с копной жестких волос на голове,
с умными проницательными глазами,
поблескивающими из-под очков, с неизменной трубкой в зубах.
Его маленькая, предельно просто обставленная
комната с выбеленными мелом стенами напоминала
кабинет инженера. Сходство дополняли графики выполнения
планов по отдельным отраслям производства, карта
Франции на стене, какие-то чертежи, технические
журналы. Перед Фрашоном лежала последняя сводка
о добыче угля. В углу красовалась ажурная
схематическая модель земного шара, артистически
сработанная из дерева — подарок Всеобщей
Конфедерации труда от учащихся профессиональной школы
178
плотников в Лионе. Прямо против письменного стола
Фрашона на стене помещался портрет товарища
Сталина, а над столом — похожий на хоругвь стяг
с надписями на аннамитском и французском языках:
«Салют пролетариям Франции от трудящихся
Вьетнама. 15.4.46».
Поздоровавшись и усадив гостей, Фрашон весело
поглядел на нас, яростно прижал пальцем щепоть
табаку в трубке, чиркнул зажигалкой и, с наслаждением
затянувшись, задымил, словно паровоз. Чувствовалось,
что у него есть о чем рассказать и ч+о сознание этого
доставляет ему искреннее удовольствие. И он сразу же
заговорил, увлекаясь, горячо жестикулируя, пересыпая
речь цифрами и фамилиями, названиями предприятий,
которые сыпались, словно из мешка, — Фрашон
отлично изучил промышленность.
— Коммунисты сказали рабочим: наше спасение —
дело наших рук! — горячо говорил он, привставая со
стула и жестикулируя трубкой, зажатой в кулаке. —
Мы, и только мы, можем и должны восстановить
величие и мощь Франции. И рабочие это поняли. По
восемнадцати часов в сутки висели над ледяной водой
такелажники, восстанавливавшие знаменитый Орлеанский
мост; с риском для жизни спускались в затопленные
шахты горняки; машиностроители взламывали ворота
заводов, брошенных владельцами, бежавшими с
немцами, и становились к станкам. О, все это было совсем
не просто! Учтите: везде, на каждом шагу нас
подстерегали хитрые ловушки, капканы, препятствия,
подставленные чьей-то невидимой рукой. Ломались
механизмы, вдруг исчезал инструмент. Нехватало сырья.
Это был саботаж. Его организовали люди трестов,
видевшие, что почва уходит у них из-под ног. С другой
стороны, у нас не было никакого опыта организации
производства, а администрация промышленности
часто отказывалась сотрудничать с нами...
Фрашон рассказал нам о том, как рабочие Франции
добивались коренной перестройки руководства
основными отраслями тяжелой промышленности.
Коммунисты, профсоюзы Франции поставили вопрос о
национализации этих отраслей индустрии; они встретили
12*
179
жесточайшее сопротивление реакции, но им все же
удалось добиться отчуждения в пользу государства
угольной промышленности, электростанций, газовых
заводов, ряда машиностроительных предприятий.
Правда, эта национализация была проведена не так,
как того требовал рабочий класс. Правительство
возместило собственникам (за исключением
коллаборационистов) стоимость их предприятий...
Работа на национализированных предприятиях была
организована на совершенно новых началах,
приходилось нащупывать новые пути. Управление угольной
промышленности, например, было построено так: во
главе ее стоял национальный комитет, в составе
которого — восемнадцать человек: шесть представителей
государства, шесть представителей профсоюзов и
шесть представителей потребителей. Его задача —
руководство добычей угля, подготовка нового
производства, модернизация оборудования, унификация
методов эксплоатации залежей угля во всех бассейнах.
В каждом бассейне был создан свой совет,
находившийся в оперативном подчинении у национального.
Наконец на каждой шахте действовал комитет из
представителей рабочих и инженеров. Председатель
комитета осуществлял оперативное руководство
производством.
Естественно, что на первых порах комитеты
встречали известные трудности — у них еще не было опыта
руководства промышленностью; еще не выросли новые
кадры высококвалифицированных организаторов и
специалистов. На ряде предприятий у руководства
остались люди, запятнанные сотрудничеством с немцами.
Но дело двигалось вперед!
— Прошу заметить, — говорил Фрашон, выхватывая
изо рта трубку и окутываясь облаком дыма, — прошу
заметить, что мы все же кое-чего добились. Вот! Вот
поглядите, — и стукнув ящиком письменного стола, он
вытащил сводку и ткнул в нее пальцем, — Вы,
очевидно, слышали, что ставки заработной платы у нас
блокированы — они вот уже много месяцев не
увеличивались, хотя цены выросли дьявольски. И все же —
вот смотрите! — заработки рабочих Парижского района
180
увеличились от пятнадцати до сорока процентов. За
счет чего? Только за счет повышения
производительности труда! Конечно, и сейчас заработки у нас
мизерны, жить рабочему очень тяжело, и нам, видимо,
в ближайшее время придется потребовать прибавки
заработной платы, чтобы люди хоть как-то могли
свести концы с концами и не уморить детей голодом. Но
когда историки будущего станут изучать наше
время, — они должны будут отметить этот подвиг
нашего рабочего ,класса — голодные, раздетые, разутые
люди безропотно вынесли самые тяжкие лишения ради
того, чтобы восстановить хозяйство республики...
Естественно, что «битва за производство» далеко не
повсюду давала одинаковые результаты. Вот два
автомобильных завода — знаменитый Рено и
малоизвестный у нас провинциальный завод Берлье в Лионе. Оба
завода были национализированы. И там и здесь во
главе стояли комитеты. Но какая разница в постанбвке
дела! В то время как Рено находился в прорыве, давал
государству убытки, Берлье выполнял план и .приносил
прибыль—в 1945 году он получил 100 миллионов
франков дохода. Откуда эта разница? Ларчик
открывался просто: комитет на заводе Берлье возглавлял
честный патриот, участник Сопротивления, коммунист,,
а на заводе Рено у руководства стоял человек, в
прошлом тесно связанный с пресловутым Комите де Форж.
Люди трестов, естественно, не были заинтересованы
в том, чтобы национализированная промышленность
Франции крепла и увеличивала выпуск продукции. Они
руководствовались лозунгом — «Чем хуже, тем лучше»-
Пусть Рено, национализированный правительствами
придет в упадок, — тем выгоднее будет для правой
печати сравнивать его судьбу с судьбою
процветающего завода Ситроена, остающегося в руках частного
владельца! И только рабочий класс Франции, не
жалевший крови и сил ради освобождения своей родины
огг фашистского ярма, с той же страстью, с тем же
темпераментом боролся за ее возрождение. И если уж
говорить о наиболее ярких примерах такого
возрождения, то, конечно, надо прежде всего вспомнить герсА-
*ские дела французских горняков...
181
Когда немцы были изгнаны из департаментов Норд
и Па де-Кале, большинство шахт бездействовало —
хозяева их бежали с немцами, администрация
саботировала, рабочие только-только возвращались из
партизанских отрядов. Было неясно — что делать дальше, за
что бороться, с чего начинать. А уголь был необходим
стране тотчас же, немедленно. К шахтерам приехал
руководитель коммунистической партии Франции
Морис Торез, который после первой мировой войны сам
работал здесь, в Па де-Кале, шахтером. Он призвал
рабочих немедленно взяться за дело, этот призыв был
подхвачен массами углекопов. И рабочие опускались
в забои, рубили уголь, выдавали его на-гора,
восстанавливали производство, вопреки противодействию
администрации, вчера еще сотрудничавшей с немцами,
а теперь искавшей новых хозяев с туго набитым
кошельком.
Вдруг оказалось, что в шахтах нехватает
крепежного леса. Администраторы сказали: «Придется
прекратить работу». Шахтеры предложили: «Мы создадим
бригады лесорубов и пошлем их в лес». Им возразили:
«Рубить лес воспрещено». Тогда работники
профсоюзов выяснили, что на юге Франции лежит
заготовленный крепежный лес. Им опять возразили: «Нет вагонов,
чтобы этот лес перевезти». Казалось, положение
безвыходное. Но тут к Фрашону пришел заместитель
директора железной дороги, честный служака, не
терпевший лжи, и сказал: «Вас обманывают. Вагоны есть, но
лесопромышленники не хотят продавать лес». И когда
рабочая пресса перед лицом всего народа разоблачила
заговор саботажников, с юга на север пошли составы
с крепежным лесом.
Это только один пример. А сколько таких фактов!
Тысячи. И не трудно понять ту гордость, с которой
Бену а Фрашон заявил нам:
— Прошу вас запомнить и обязательно записать: нам
удалось повысить добычу угля за эти восемнадцать
месяцев в несколько раз; мы добываем теперь свыше
четырех миллионов тонн угля в месяц — больше, чем
до войны. И наш уголь, заметьте, стоит всего тысячу
четыреста франков за тонну.
182
Он называл новые и новые цифры, которые
заслуживают того, чтобы их здесь привести: уже к лету
1946 года из 1388 400 домов, разрушенных немцами
во Франции, 191 тысяча были восстановлены
полностью и 500 тысяч частично; было возвращено в строй
шесть тысяч паровозов, железнодорожная сеть была
восстановлена полностью; производство текстиля,
обуви, в которых так остро нуждается обобранная
немцами до нитки Франция, быстро возрастало...
Таким образом, рабочий класс Франции, невзирая на
огромные трудности и лишения, показал перед всем
миром свою непоколебимую решимость и готовность
поднять из руин экономику своей страны, укрепить ее
и проложить путь к повышению народного
благосостояния. Пролетарии Франции с коммунистами во главе
добились многого на этом пути, невзирая на то, что
агентура реакции, пытаясь сорвать героическую битву за
производство, пускала в ход все средства — от
саботажа до грязных провокаций.
По данным, которые привел секретарь Центрального
комитета коммунистической партии Жак Дюкло
в своем информационном докладе на совещании
представителей некоторых компартий в Польше в конце
сентября 1947 года, французская промышленность
почти достигла 95% довоенного уровня и могла бы
добиться еще лучших результатов, если бы она
получала больше угля. По национализированным отраслям
промышленности, которые шли впереди, были
достигнуты такие показатели по сравнению с довоенным
уровнем: выработка электроэнергии—136%, уголь —
108%, железные дороги (Национальное общество
железных дорог) — 120%.
И только неприкрытое вмешательство зарубежных
империалистов во внутренние дела Франции
приостановило восстановление французской экономики и
поставило под угрозу уже достигнутые трудящимися
Франции завоевания.
В начале мая 1947 года стоявший тогда во главе
правительства социалист Рамадье, заискивая перед
американскими капиталистами, добился устранения из
правительства коммунистов. Пвсле этого внешняя и
183
внутренняя политика Франции подверглись глубоким
изменениям.
Во Франции американская агентура все шире
развертывала кампанию, целью которой было полное
подчинение Франции Соединенным Штатам Америки.
Мотивировалось это тем, что якобы «без американской
помощи. Франция не проживет».
Однако события, развернувшиеся во Франции
поздней осенью 1947 года, достаточно убедительно
показали, что французский народ, — в первую очередь
рабочий класс Франции, закалившийся в битвах за
освобождение своей страны от фашистского ига, — не
намерен сдавать без боя позиции, завоеванные такой
дорогой ценой.
К этому времени обнищание трудящихся масс
Франции в итоге антинациональной политики
раболепствовавшего перед своими американскими покровителями
правительства достигло ужасающих размеров. В то
время как прибыли промышленников и торговцев
непрерывно росли, достигая огромных размеров,
жизненный уровень французских рабочих резко снизился.
Цены на все товары стремительно росли. В
результате— с июля 1945 года реальная заработная плата
рабочих уменьшилась наполовину, в то время как
производство выросло вдвое. В течение трех осенних
месяцев 1947 года ускоренный рост цен, в среднем на
30%, поглотил одиннадцатипроцентное увеличение
заработной платы, которого французские рабочие в
результате упорной борьбы добились в августе. Это
произошло не впервые. При каждом увеличении заработной
платы министры — члены МРП и социалисты,
занимающие, по выражению самого Леона Блюма, позицию
«лойяльных управляющих капитализма», осуществляли
повышение цен. Больше того, цены росли даже тогда,
когда зарплата была блокирована.
Глубокие принципиальные изменения произошли в
национализированных отраслях промышленности.
Генеральный секретарь Всеобщей Конфедерации труда Бе-
нуа Фрашон, который приложил столько энергии к тому,
чтобы восстановить и пустить на полный ход
национализированные предприятия в 1945—1946 годах, сле-
184
дующим образом характеризовал эти изменения в своей
беседе с корреспондентом газеты «За прочный мир, за
народную демократию», опубликованной 1 января
1948 года:
«Что касается национализации, то можно сказать,
что правительственная политика практически
ликвидировала ее. Министр промышленного производства
социалист Лакост быстро завершает эту ликвидацию,
организуя соответствующую опеку ставленников
треста. Он изгоняет из органов дирекции и советов
управления национализированными предприятиями
подлинных представителей рабочего класса и заменяет их
ставленниками капиталистов.
Рабочий класс, горячо стремившийся обеспечить
успех национализированных предприятий, отныне
совершенно не заинтересован в том, чтобы
рассматривать их как предприятия, принадлежащие всей
нации. Фактически национализацию нужно завоевать
вновь».
Естественно, что классовая борьба во Франции
начала приобретать все более острый характер.
В начале июня разразилась всеобщая забастовка
железнодорожников, в конце июня — забастовка
горняков, охватившая все угольные бассейны. Трудящиеся
убеждались на практике в том, что мощное движение,
охватывающее одновременно широчайшие слои
рабочего класса, необходимо и возможно.
В этих условиях следовало ожидать, что крупная
забастовка, которая вспыхнет на одном участке,
неизбежно охватит и многие другие.
Именно так и получилось в памятные ноябрьские
и декабрьские дни 1947 года, когда могучее
забастовочное движение, длившееся немногим менее месяца,
охватило три миллиона трудящихся Франции. В период
наибольшего размаха этого движения одновременно
бастовали два с половиной миллиона человек. В
течение трех недель ряд основных отраслей народного
хозяйства был полностью парализован. Рабочий класс
Франции продемонстрировал в эти недели высокую
стойкость. Крестьянство Франции проявило
солидарность с бастующими рабочими. Особенно ярко прояви-
185
лась боеспособность трудящихся Франции в том
героическом сопротивлении, какое оказывали бастующие
полицейским репрессиям.
Премьер-министр Франции Робер Шуман и министр
внутренних дел — социалист Жюль Мок делали все,
для того чтобы, выслуживаясь перед французскими
и американскими капиталистами, подавить
забастовочное движение. Жюль Мок потребовал принятия
исключительного закона против профсоюзных свобод и права
забастовок, а также мобилизации двухсот тысяч
резервистов. Все силы полиции были брошены для разгона
забастовочных пикетов, захвативших предприятия. На
помощь полиции были призваны войска. В течение трех
недель во всех крупных экономических центрах
Франции велась непрерывная борьба между полицией и
забастовщиками за вокзалы, паровозные депо,
телефонные станции, крупнейшие предприятия
металлургической и угольной промышленности. Вокзалы и депо
парижского района осаждались отрядами полиции
в течение целой недели. Отдельные депо по нескольку
раз переходили из рук в руки. На штурм шахт
департаментов Норд и Па де-Кале были брошены войска
с танками. Мок заявил в парламенте, что шахты
очищены от забастовщиков. Однако на второй день
шахтеры опять захватили их.
Во время борьбы с полицейскими отрядами тысячи
рабочих получили ранения, но забастовщики не
отступали. Они отвечали ударами на удары, и полиция
обращалась вспять. Знаменательно, что некоторые
полицейские отказывались от участия в подавлении забастовок,
и Мок применял к ним репрессии. Еще чаще
отказывались от участия в подавлении забастовок солдаты.
После того, как полиция города Сент-Этьен отказалась
разогнать бастующих, власти вызвали войска. Однако
солдаты, вооруженные автоматами, не только не
выступили против забастовщиков, но присоединились к их
демонстрации и помогли рабочим вновь захватить
железнодорожную станцию. Не случайно после этого
Жюль Мок предпочитал выдвигать против
забастовщиков цветные войска, а также солдат Андерса —
наемников иностранного легиона.
186
Полностью обанкротилась в эти памятные дни
агентура предателей социалистов в рядах рабочего
движения. Группа «Форс Увриер», возглавлявшаяся Жуо,
выполняя приказы Леона Блюма, прилагала все силы,
чтобы сорвать забастовку и добиться раскола рабочего
класса. Однако этим раскольникам не удалось
увеличить ни свою численность, ни свой авторитет. Они лишь
разоблачили себя как агентов буржуазии и
штрейкбрехеров.
Хотя рабочему классу Франции и не удалось
добиться полного удовлетворения своих требований,
массовые забастовки, прокатившиеся грозной волной по
всей Франции в ноябре, декабре 1947 года, дали
весьма положительный результат. Рабочий класс
Франции осознал свою силу и убедился на опыте, что
условия борьбы против реакции обострились. Он
понял, что если бы он не прибегнул к забастовкам,
его положение ухудшилось бы еще более. Рабочий
класс Франции в массе своей сохранил верность
профессиональным союзам, не поддавшись на удочку
раскольников.
Могучее забастовочное движение, охватившее
Францию в эти месяцы, является грозным
предостережением тем, кто рассчитывал без особых хлопот
превратить Францию во вторую Грецию. Рабочий класс
Франции проявил непоколебимую решимость и впредь
бороться за свои неотъемлемые права, за общее
народное дело, за свободную, независимую от
иностранных капиталистов, демократическую Францию.
5. РЮ ДЕ ЛЯ СУРДЬЕР, 18
В самом центре Парижа, где сплелись, образуя
пестрый узор, рю де ля Пэ — улица всемирно знаменитых
ювелиров и портных, законодателей мод, шумная,
парадная авеню д'Опера и веселый, обсаженный
тенистыми каштанами бульвар Капуцинов, где с утра до
вечера теснятся стада автомобилей, фланируют дамы
в экстравагантных туалетах и кавалеры с завитыми
по-женски волосами, — здесь, в самом пекле этого
187
беспокойного и шумного города, сохранилась каким-то
чудом средневековая узенькая, в два размаха рук,
тихая улочка, словно сошедшая с листа старинной
гравюры, — рю де ля Сурдьер. Неширокие окна серых
каменных домов добротной кладки XVII века плотно
закрыты решетчатыми ставенками. Подъезды наглухо
заперты строгими консьержами. Сюда редко въезжают
автомобили, здесь нет ни реклам, ни витрин, ма«ящих
уличных зевак, и потому, сворачивая с шумной авеню
д'Опера за угол аптеки, вы невольно останавливаетесь
на мгновение, словно попадаете в какой-то иной мир,
в иную эпоху — вот-вот из соседнего двора выйдут
бравые мушкетеры, и топот их кованых сапог эхом
отзовется на пустой улице...
Позвоним консьержу дома № 18 и, когда он откроет
тяжелые железные ворота, поднимемся по крутой
винтовой лестнице вверх. Здесь на пороге скромной
квартирки из двух комнат вас встретит стройный седой
человек с весёлыми лучистыми глазами, один из самых
популярных во Франции — да и не только во
Франции! — людей... Луи Арагон, столь известный в наше
время поэт и писатель, и Эльза Триоле — первая
женщина, удостоенная Гонкуровской премии за свои
повести, никогда не жили легкой, беззаботной жизнью,
никогда не замыкались в узком литературном мирке.
Арагон уже много лет состоит в коммунистической
партии Франции и делит с нею все горести и радости на
трудном страдном пути. Он дважды воевал с немцами:
в 1914—1918 и в 1939—1945 годах, — сначала как
военный врач, потом как подпольщик и партизан.
Можно было бы написать целую книгу о том, как
в трагические июльские дни 1940 года Эльза Триоле
с застывшим от отчаяния, окаменевшим сердцем
ушла, бросив все, из Парижа и искала Арагона на
страшных, изрытых бомбами дорогах отступления
1940 года, протягивая встречным измятый листок, на
котором была нарисована эмблема его полка; как она
совершенно случайно нашла его, отходившего со своей
разбитой частью, уставшего, изможденного,
прошедшего ужас Дюнкерка, но не сломленного испытаниями;
как они ушли в подполье, как установили связь с пар-
188
тией и как в течение долгих месяцев и лет вели
неустанную борьбу с оккупантами. Но жители маленькой
скромной квартирки в доме 18 на рю де ля Сурдьер
предпочитают сейчас говорить и писать о другом —
о сегодняшнем дне Франции, кипучем, ярком, полном
борьбы и противоречий.
Квартира Арагона обставлена до крайности просто,
поистине по-спартански — сосновый некрашеный, но
чисто выскобленный стол, скрипучие стулья, небольшая
конторка, заваленная рукописями. Единственное
богатство — книги, да и то библиотека сильно пострадала
во время оккупации, когда в доме хозяйничали немцы.
Единственное украшение — уникальные фотографии
Маяковского, которого высоко чтут в этом доме...
Мне вспоминается сейчас наша встреча с Арагоном
летом 1946 года. Высокий, худой Арагон то садится,
то встает, то нервно прохаживается по комнате, —
разговор идет о французской литературе, о важнейших
политических событиях, о философии. Арагон говорит
по-русски, он изучает наш язык. Ему не всегда удается
найти нужное слово; тогда он запинается, щелкает
пальцами, злится и смеется над своей беспомощностью,
но, в конце концов, вспоминает подходящее
выражение и с удовольствием, протяжно, нараспев произносит
его, старательно соблюдая грамматические и
синтаксические правила.
— Французский народ сильно вырос за эти годы, —
говорит он. — Раньше чтение книг было прерогативой
избранных, — до войны тираж в пять тысяч
экземпляров считался большим. Но в трудные годы оккупации
французы полюбили книгу — книга заменяла людям
общение между собой. Любовь к книге сохранилась
и сейчас. Поэтому издание литературы стало очень
прибыльным делом. Это и хорошо и плохо. В наших
условиях всякое прибыльное дело становится
предметом спекуляции. Сейчас у нас расплодилось огромное
количество издательств, многие из которых выпускают
всякую дрянь. В тысяча девятьсот сорок пятом году во
Франции было издано около одиннадцати тысяч книг!
В океане пошлости теряются хорошие произведения. Но
хорошие книги есть, и их не мало...
189
Арагон хвалит только что вышедшие книги
прогрессивных писателей Франции. Вот сборник рассказов
«Коллаборационисты». Их автор — писатель Жан Фре-
виль беспощадным пером обрисовал типы людей,
сотрудничавших с немцами. Бывший партизан Андрэ
Шамсон выступил с двумя книгами — «Последняя
деревня» из периода пресловутой «странной войны»
1939—1940 годов и боев 1940 года и «Кладезь
чудес» — о Франции под немецким игом, — последняя
рецензировалась в советской печати.
Высоко оценивает Арагон-новые стихи Поля Элюара.
До войны это был «трудный поэт». В годы войны
Элюар вступил в коммунистическую партию, активно
участвовал в сопротивлении, писал абсолютно
понятные, точные и сильные, дышащие страстью стихи,
будившие ненависть к врагу. Таковы и стихи самого
Арагона; они сильны своей искренностью, глубиной,
честностью. И как презирает ом дельцов от литературы,
холодных ремесленников, любителей конъюнктуры,
которые отмалчивались в трудное время, а сейчас
мастерят книжонки на потребу дня, эксплоатируя все
еще ходкий сюжет о сопротивлении! Он называет их
фальшивомонетчиками.
Арагон и Триоле попрежнему работают много
и упорно. Арагон выпустил большой роман «Орельен»
о жизни между двумя войнами, сборник рассказов
о сопротивлении — «Падение и величие французов».
Несколькими изданиями вышли из печати сборники
его стихов «Нож в сердце», «Глазач Эльзы» и другие.
Сборник «Глаза Эльзы» в одном лишь издании
разошелся в 75 тысяч экземпляров.
Арагон подошел к своей маленькой конторке, взял
кипу исписанных листов, машинально перелистал их,
бережно разгладил.
— Знаете, что это? — спросил он. — Это не стихи.
И даже не художественная проза. Это просто
публицистика. Как бы перевести вам ее название? Пожалуй,
по-русски это будет звучать так: «Коммунистический
человек». Впрочем, я не поручусь за точность
перевода... Одним словом, я хочу дать в этой книге образ
настоящего коммуниста...
190
Арагон положил рукопись обратно и продолжал:
— Вы знаете, — человеку всегда хочется узнать
черты героя. Когда я был подростком, меня очень
увлекали мифы; мне хотелось узнать, какими были герои
древности, — подростки всегда романтики, и им нужен
идеал. Но идеал нужен не только подростку, но и
взрослому. И вот мне хочется создать образ
коммуниста. Мне хочется показать его простым человеком
и в то же время необыкновенным. Я хочу рассказать
о нем так, чтобы каждый читатель понял, что и он сам
может стать таким...
Много времени у Арагона отнимает разностороняя
общественно-политическая, организаторская и
издательская деятельность. То он, помогая партии
подготовиться к выборам в Учредительное собрание,
написал сценарий документального фильма, то он вдруг
выступил на вечере югославского народного творчества
с пламенной, страстной и глубокой речью о Триесте,
проявив при этом недюжинное знание истории, —
он обосновал права Югославии на Триест. А сколько
сил и энергии он вкладывал в организацию нового,
прогрессивного издательства «Библиотек фран-
сез»!
История этого издательства чрезвычайно
интересна — Арагон основал его еще в немецком подполье.
Тогда было издано двадцать книг — стихи, рассказы,
публицистика. Эмблема «Библиотек франсез» —
мальчуган, играющий на флейте, — с картины Эдуарда
Манэ «Ье Шге», выставленной в Лувре.
Арагону, видимо, доставляет большое удовольствие
копаться в своей коллекции книг, газет, листовок,
изданных в подполье. Он бережно перекладывает их
с места на место, разглаживает загнувшиеся уголки,
снова и снова разглядывает знакомые строки — ведь
с каждым из этих изданий связано столько
воспоминаний!.. Вот листовки: «Немцы отняли молоко у наших
детей!», «Законно ли правительство Виши?», «Наш
ответ предателю де Монзи», «К учителям», «К
журналистам», «Памяти Габриеля Пери», Вот брошюры:
«Преступление против разума», «Патология
порабощенной Франции», «Патология немецкой тюрьмы». Вот
191
книги: рассказ Мопассана «Отец Милон»,
«Справочник партизана — первая помощь», стихи.
— А это наши подпольные газеты и журналы, —
и в глазах его вспыхивает огонек, — смотрите, как их
много!..
И действительно, можно только поражаться тому,
с какой дьявольской энергией работали в подполье
у немцев французские писатели, журналисты,
художники, полиграфисты. Бросается в глаза, что даже по
технике подпольные издания ничуть не уступали
легальным и отличить их можно только по тому, что
на них отсутствуют какие-либо ссылки на типографию,
где они печатались.
В архиве у Арагона восемнадцать номеров
подпольного журнала «Звезда», полный комплект подпольной
литературной газеты «Леттр франсез», многие номера
газет и журналов «Свободный университет»,
«Медицина Франции», «Учительская газета». И каждая
газета, каждый журнал по-своему обращались к своим
читателям, ободряли их, будили в них ненависть к
оккупантам и учили бить их...
— А вот это наш с Эльзой — «Вооруженный
Дром»! 1 — воскликнул, перебирая листы, Арагон. —
Эльза! Эльза! Помнишь, как мы трудились над этим
номером? Помнишь?
— О, еще бы! — откликается Триоле и, подойдя
поближе, облокачивается на спинку стула.— Четыре
страницы текста, и все это надо было сделать вдвоем...
А вы знаете, какой у нас был тираж? Не шутите
с нами! Двадцать тысяч, — это что-нибудь да значит
для нелегальной газеты!..
Ну, а сейчас издательство «Библиотек франсез» —
большая и серьезная фирма. Среди его руководителей
Пикассо, Арагон, Рене де Жувенель. Книги с
маленьким флейтистом на обложке расходятся в огромных
тиражах. Издательство выпускает в свет то, что близко
и дорого народу, что кровно его интересует. Уже давно
распроданы «Кола Брюньон» Ромен Роллана,
«Плебисцит» Эркмана-Шатриана (книга о войне 1870 г.),
1 Дром — название французской провинции.
192
Записки врача Дебриз, запечатлевшего, день за днем,
свое пребывание в немецком концлагере. Содержание
этих записок достаточно точно отражает название
книги — «Кладбище без могил». Изданы многие книги
молодых писателей. Арагон любит возиться с
талантливой молодежью и смело ее выдвигает. Работает он
много и жадно, приходит домой поздно ночью
усталый, бледный, но неизменно жизнерадостный и
веселый.
— Вы знаете, иногда я просто диву даюсь, когда он
успевает писать стихи, — говорит, смеясь, Эльза
Триоле. — Но он успевает писать! И какие это
чудесные стихи!..
Арагон глянул на часы. Беззаботная улыбка сбежала
с его лица.
— О! — сказал он, вскакивая, — уже шесть часов...
Прошу извинить, я совсем забыл... Ведь сегодня
суббота! У нас большой сбор на чердаке...
Заметив удивление на моей физиономии, он
расхохотался.
— Эльза! — воскликнул он, надевая на ходу легкий
прорезиненный плащ, — расскажи нашему гостю, о
каком чердаке идет речь. И приходите вместе! Я не
прощаюсь — ведь вам, конечно, любопытно будет
поглядеть на наш чердак и сравнить его с вашим
великолепным особняком на улице Воровского, —
я там был в тысяча девятьсот сорок пятом году и очень
хорошо его помню. Пока! — кажется, так говорят по-
русски?..
И он исчез за дверью.
— Так вы в самом деле еще не слыхали о нашем
чердаке? — в свою очередь удивилась Эльза Триоле.—
О, это долгая и, пожалуй, поучительная история! Вы
уже знаете, как разошлись в эти годы пути
французских писателей. Все, что было в нашей литературе
здорового, сильного, честного, — все это ушло при немцах
в подполье, боролось, сражалось с фашистами.
Нашлись, впрочем, и такие, что предпочли пойти служить
к фашистам, — ну все эти Селины и прочие... А часть
стала в сторонку и выжидала. Некоторые предпочли
даже уехать за границу — конечно, где-нибудь в Аме-
13 На Западе после войны 193
рике было спокойнее... Ну, вот... Когда мы были в
подполье, часто мечтали: придет время, прогоним бошей,
встретимся в Париже снова, как бывало до войны, где-
нибудь в кафе «Флора», — как это будет радостно!..
Боже, что я дала бы тогда за то, чтобы вот так же,
как когда-то, войти под навес «Флоры», сесть в
плетеное кресло, заказать бокал лимонада, поболтать с
приятелями о стихах... А некоторые говорили тогда:
«Погодите! Выйдем из подполья, создадим в Париже
прекрасный клуб писателей. Займем лучший особняк, —
чорт побери, ведь мы заработали право на это!..» Но
ведь вы понимаете, не всегда сбывается тот о чем
мечтается...
Эльза Триоле резко оборвала, помолчала и потом
сказала, горько улыбнувшись:
— Ну, вот... подполье кончилось... Первое время,
понятно, было не до кафе, не до клубов — ведь еще
шла война! А потом как-то зашли мы в «Флору» и
глазам своим не поверили — там на правах завсегдатаев —
все те, кто были по другую сторону баррикад.
Властитель дум — Жан-Поль Сартр. А наш клуб?.. Что ж, мы
хлопотали об организации клуба. Нам обещали... Как
же, герои сопротивления — писатели Франции должны
иметь свой клуб! За одним остановка: говорят, в
Париже помещений нет. Просили потерпеть, пока уйдут
американские войска. Когда же американские войска
освободили городские здания, — для всех организаций,
даже для фашистских, помещение нашлось, а у
писателей Франции клуба все нет и нет. А собираться где-то
нам надо! И* вот в Национальном комитете писателей
порешили: снимем какой-нибудь чердак — это
обойдется не так дорого, там и будем встречаться... Ну,
вот, а теперь, пожалуй, пойдемте, там вы
познакомитесь с нашими людьми.
Мы спустились по крутой винтовой лестнице,
прошли кривыми узенькими переулочками к рю де ля Пэ,
вошли в какой-то тесный и темный каменный дворик
и нырнули в черный ход высокого угрюмого дома.
Старенький лифт, кряхтя и поскрипывая, дотащил нас
до седьмого этажа; дальше мы поднялись по шаткой
деревянной лестнице и, наконец, очутились Яёред
.'4
сколоченной из некрашеных досок дверцей, к которой
кнопками был прикреплен бумажный плакатик с
лаконичной надписью: «Чердак». За дверцей действительна
был самый тривиальный чердак под двускатной
крышей, превращенный усилиями парижских писателей
в некое подобие клубного помещения.
Здесь стоял небольшой письменный столик с делами
Национального комитета писателей. У вешалок
встречал гостей Луи Арагон — член правления
Национального комитета и душа его. Чуть подальше свежей
перегородкой был отделен какой-то закуток с надписью,
сделанной мелом: «Бар. Рюмка коньяка — 20 франков,
стакан фруктовой воды— 10 франков». За стойкой
торговала краснощекая девушка, — в ней я узнал
домашнюю работницу Арагона. Да и поднос, на котором
стояли рюмки, показался мне старым знакомым: два
часа назад на нем в квартире Арагона подавали кофе.
Правее стояли грубо сколоченные, покрытые зеленой
краской столы и такие же простые складные стулья.
Такие, какие ставят на садовых дорожках где-нибудь
на даче. И только чудесные виды из слуховых око№
скрашивали обстановку этого бедного пристанища
парижских муз — за ними развертывалась бескрайная
романтическая панорама овеянных вечерней дымкой
черепичных кровель с тысячами труб и флюгеров, столь
памятная по фильму Рене Клэра — «Под крышами
Парижа»...
На «Чердаке» уже собралось много гостей. Стоял
нестройный гомон, звучал смех. Отчаянно ругали только
что открывшийся Салон живописи, спорили о Сартре,
громили Мориака, ставшего присяжным передовиком
реакционной газеты «Фигаро», с пылом костили
«Бессмертных» из Французской академии, решивших
принять в свои ряды целую группу мюнхенц^в, вишистов, в
том числе пресловутого Жюля Ромена, которого перед
войной в гитлеровских кругах не спроста именовали
«фюрером французской молодежи».
Но пора нам познакомиться с хозяевами и гостями
«Чердака». Вот этот слегка сгорбленный человек, с
усталым лицом, в очках, с тоненькой орденской
ленточкой в петлице — Жан Кассу, один из виднейших дея-
13*
195
телей французской литературы, председатель
Национального комитета писателей. Кассу еще не оправился
от последствий пребывания в тюрьме. Новая Франция
читает его новые книги, его «33 сонета, написанные в
одиночке», вышедшие с предисловием Арагона, и
роман «Центр мира», повествующий о судьбах одной
французской семьи в период от Мюнхена до второй
мировой войны...
Тут же Леон Муссинак, хорошо знакомый многим
москвичам — он не раз бывал у нас в гостях. Муссинак
поседел, немного осунулся, но все так же бодр и, как
всегда, полон творческих замыслов. С успехом
разошлась его публицистическая книга «Плот медузы», в
которой он описывает свое пребывание в петэновском
концлагере. Только что он закончил первую часть
романа из крестьянского быта «Поля Моэ» — действие
его относится к началу века. Муссинак готовит вторую
часть, действие которой происходит в наши дни... Чуть
поодаль Рене Маран, писатель-негр, лауреат
Гонкуровской премии. Оживленная беседа идет в углу — там
парижане толкуют с приехавшим вчера из Рима писателем
Витторини, который привез с собой рукопись своего
нового романа «Люди и не люди», — о памятных днях
борьбы итальянских антифашистов с немцами в
Северной Италии в 1943 году.... А вот профессор
литературы, он родом из далекого чешского города Бенешов.
Профессор — уже немолодой человек, но в дни войны
он сумел найти в себе достаточно сил, чтобы стать
солдатом, — Сватош воевал против немцев в партизанском
отряде под командованием своего ученика Владислава.
«О, то были славные дни! Не знакомы ли вы, случайно,
с Героем Советского Союза Земсковым? Нет? Жаль!»
Профессор тате хотел бы передать ему свой дружеский
привет! Этот чолодой человек был парашютистом
Красной Армии. Он спустился на горе Бланик, разыскал
отряд партизан, помог ему установить связь с
наступающими советскими войсками и так много сделал для
чехов!..
Иногда забредают сюда, под островерхую крышу
«Чердака», и люди из совсем иного мира; кто знает,
зачем они здесь — из любопытства, из ложного тщесла-
196
вия, ради пристрастия к экзотике? Меня познакомили
тут с бароном N. Его имя не войдет в анналы
французской литературы. Но каждую субботу этот высокий,
щеголевато одетый господин с пустыми глазами
поднимается в скрипучем лифте на «Чердак», заказывает
рюмку вермута и садится в углу на весь вечер.
Барон N — член правления большого универсального
магазина. Но справедливость требует отметить, что
подобных гостей здесь совсем немного.
А таким людям, как Андре Жид, Жюль Ромен, Андре
Мальро, Луи Селин, которые, продав свои перья
реакции, продолжают свое затяжное путешествие на самый
край черной ночи, — сюда и вовсе дорога заказана. То,
что пишут эти господа сейчас, остается за бортом
литературы — настолько это убого и подло. Настоящую
французскую литературу, — литературу честную,
правдивую, светлую,— творят те, кто в трудные дни 1940—
1944 годов были вместе со своим народом — боролись
в его рядах против немецкого фашизма, продолжают
борьбу против реакции теперь.
Пусть тесен и неудобен «Чердак», пусть бедна его
обстановка, — не она его красит. Много клубов в
Париже, много модных нарядных салонов. Но не там, а
вот в таких неуютных чердаках бьется пульс
общественной жизни Парижа. Здесь работает Национальный
комитет писателей Франции, здесь регулярно
собираются люди, имена которых чтит республика, здесь
вынашиваются их творческие замыслы, планы, здесь в
бурных спорах выкристаллизовываются идеи, которые
честные литераторы республики несут своему народу.
Я был от души благодарен Луи Арагону, который
познакомил меня с завсегдатаями «Чердака». Право же,
это была одна из самых приятных, радостных и
памятных парижских встреч!
6. УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
Французы говорят об Авиньоне: это город
романтиков. Они гордятся им, как реликвией. Комиссия по
охране исторических памятников подняла шум, когда ка-
197
*ой-то предприниматель решил воздвигнуть против
древней резиденции пап огромный и неуклюжий
деловой дом: он портил пейзаж, который настолько люб
художникам, что они месяцами просиживают вот здесь,
в этих узеньких средневековых улицах за своими
походными мольбертами.
Но вот в один из летних дней 1946 года нам
пришлось присутствовать при крушении традиции, гибель
которой не только не вызвала сожалений, но, наоборот,
бурно приветствовалась темпераментными
провансальцами, собравшимися ради такого случая в Авиньон со
всех концов департамента. Речь идет о переименовании
площади Пап, названной так в 1562 году, в площадь
имени Сталинграда. Несколькими часами позже мы
присутствовали на таком же торжестве в столь же
древнем городке Карпантра — и там было решено
присвоить центральной площади имя Сталинграда.
Я уже отмечал, что присвоение имени Сталинграда
улицам и площадям во Франции не просто акт
вежливости и уважения к героям далекого отсюда, но
широко популярного во Франции волжского города.
Всякий раз такое событие справедливо расценивается
здесь как активная, действенная демонстрация против
сил реакции, за сплочение демократических сил. И на
этот раз имя Сталинграда было помянуто здесь, на
далеком юге Франции, в самом центре привольного и
богатого, веселого и никогда не унывающего края, не
спроста. Граждане Воклюза сочли необходимым
громко заявить о своих симпатиях к Сталинграду
потому, что в эти самые дни в Париже козырял своим
депутатским мандатом от Воклюза Даладье!
Не скрою, провансальцы были сконфужены этим
обстоятельством. Приезжим долго и подробно
объясняют, как мог Даладье получить мандат. Первая партия
Воклюза — коммунисты. Их кандидат молодой
аптекарь Арто, один из героев Сопротивления, получивший
в июне 1946 года портфель министра здравоохранения,
собрал тридцать семь тысяч голосов — на четыре
тысячи больше, чем в октябре лрошлого года. Кандидат
социалистов журналист Люси получил тридцать тысяч
голосов, но за Даладье все же проголосовали двадцать
198
восемь тысяч человек, и это было достаточно, чтобы он
снова стал депутатом, хотя бы и третьим по счету...
— Даладье проходил в парламент всегда, начиная с
девятнадцатого года, именно от нашего департамента.
Были времена, когда ему принадлежали все голоса, но
теперь, как видите, картина совсем другая. Я
ручаюсь, — в следующий раз ему депутатом не быть. Это
говорю вам я, его бывший личный друг и почитатель,—
сказал нам сердито и ворчливо седой мэр города Кар-
пантра с алой ленточкой Почетного Легиона в петлице
г. Дрейфус, племянник знаменитого капитана
французской армии, дело которого нашумело на весь мир
в начале века !.
— Даладье родился и вырос здесь, в нашем
городе, — продолжал Дрейфус, — мы все помним его с
детства. Что скрывать? Было время, когда мы
гордились им: сын простого пекаря вышел в люди! Даладье
был здесь мэром. Когда он уехал в Париж, я заменил
его и с тех пор, вот уже двадцать лет, нахожусь на
этом посту бессменно. Когда подходил срок выборов,
Даладье приезжал к нам в Карпантра, садился в задней
комнате в лавке у сестры, крутил там себе папиросы,
пил с приятелями дешевый абсент, расспрашивал об
урожае. Это всем нравилось. Многие думали: именно
радикалы обеспечат Франции счастливую и свободную
жизнь! Провансальцы по природе своей миролюбивы,
они не любят ссориться, скандалить, они не любят
воевать. Много ли им надо? Клочок виноградника, сад...
Международные дела их не очень интересовали.
Даладье говорил: интересы Франции выше всего; стоит ли
умирать за чехословаков или испанцев? Лучше
примириться с Гитлером! Некоторых это коробило, но многие
соглашались, и радикалы оставались первой партией
Прованса.
У себя в узком кругу мы спорили. Я помню, как у
меня на квартире еще в двадцать четвертом году шли
споры — ехать ли Эррио в СССР. Некоторые говорили:
1 Капитан Дрейфус под влиянием сил реакции был осужден
на каторгу по обвинению в измене, но прогрессивные силы
Франции, во главе с Эмилем Золя и Анатолем Франсом,
добились его реабилитации.
199
с большевиками у нас не может быть ничего общего,
другие возражали: без СССР прочного мира не
построишь. Эта точка зрения тогда победила. Эррио
поехал в Россию. Вскоре эта поездка дала плоды: мы
стали с вами друзьями. Но потом все пошло вверх
дном, и Даладье принес нам Мюнхен, а потом... вы
знаете, что было потом!
Мэр города Карпантра нервно пожал плечами.
— Это долго рассказывать. И об этом трудно
говорить. Когда немцы бросили меня в застенок за то, что
я в меру моих сил помогал делу освобождения
Франции, — меня пытали... Посмотрите на мои руки —
пальцы почти не шевелятся. Вы знаете, как это делали
немцы. Единственно, что не давало мне пасть духом,
было то, что рядом со мной находились двое русских.
О, это были настоящие люди! Можно подумать, что
они были высечены из камня. И когда я смотрел на них,
мне многое начало представляться совсем в ином
свете... Даладье тоже был в немецком лагере, но у него
там была совсем другая жизнь. Когда после
освобождения он вернулся в Париж, то сказал журналистам:
«От нечего делать я научился в лагере играть в
теннис»... И вот перед выборами мы снова встретились.
Я честно сказал ему, что наша старая дружба не может
больше продолжаться. Я сказал ему, что он продал
интересы родины. Я сказал ему, что ни один честный
человек не может больше итти за ним. Я сказал это
перед всеми на открытом митинге, и все со мной
согласились. Вы скажете — да, но Даладье был избран! Что
же, люди не так быстро меняются... Один боится, что
левые отнимут у него виноградники, ведь газеты упорно
твердят об этом, другой все еще считает Даладье
опытным государственным деятелем и думает, что ему
просто не повезло, третий, хоть и втихомолку, ставит
ставку на реакцию. А!.. — мэр города в сердцах
махнул рукой и не договорил.
Да, люди меняются не так быстро. И даже сам
г. Дрейфус еще не утратил многих иллюзий. Выступая
с трибуны по поводу переименования площади города
Карпантра в Сталинградскую, он с пафосом призывал к
идиллическому единению предпринимателей и рабочих.
200
— Вы должны поднять зарплату рабочим, —
обращался он к фабрикантам, отечески поучая их: — этого-
требует справедливость. Вы должны хорошо
зарабатывать, но вы должны также помнить об интересах
рабочих, чьим трудом достается ваша прибыль!
В благотворительности он видит спасение от всех бед.
С каким воодушевлением показывал он нам свою
городскую больницу, где не только лечат людей, но и
содержат впавших в нищету!
— Мы делаем все, чтобы в мрачную жизнь бедных
проник луч солнца! — с пафосом говорил он.
И все же старый мэр уже многое понял и от многих
предрассудков избавился. Оставаясь на своих
позициях, он, тем не менее, без колебаний сотрудничает с
коммунистами в решении сложных внутренних
вопросов, с негодованием отвергает лживую клевету
Даладье на эту героическую партию. «Коммунисты —
национальная партия, — говорит он. — Она показала, что
умеет защищать интересы Франции, как ни одна
другая». Пока Даладье играл в теннис в Германии,
коммунисты вместе со всеми французами боролись против-,
немцев, они были главными организаторами этой
борьбы, и мэр Карпантра запомнил это. Понял он
прекрасно и то, что дружба с Советским Союзом является
залогом восстановления Франции и возвращения ее в:
се^'ю гртпг<и* держав.
Покойный Жан Ришар Блок рассказывал как-то,
что одна пожилая буржуазная дама сказала ему, когда
немцы подходили к Парижу: «Пусть лучше придет
Гитлер, но зато будут спасены купоны моей ренты».
Так рассуждало не мало людей, составлявших
социальную опору партии радикалов, в течение десятилетий
стоявшей у власти Франции. Главным для них было —
сохранить личное благополучие. Гитлер пришел, но
купоны погибли: хозяйничание немцев привело к падению
франка и полному обесценению ренты. На войне
нажились крупные капиталисты, работавшие на германскук>
армию. И тут стало ясно, чьи интересы защищал
Даладье. Если раньше многие французы наивно
верили, что его партия — это партия мелких
собственников, то теперь они убедились, что Даладье и его
201
«лика — верные псы пресловутых «двухсот семей»
Франции.
Так произошел крах радикализма. Но как только
свершилось.крушение третьего райха и силы
Сопротивления, возглавляемые рабочими Франции, подняли
победное знамя над Парижем, сразу же начались попытки
гальванизировать, возродить радикальную партию.
Реакция понимала, что фашизм ненавистен французам,
надо было найти более благовидные формы. В высшей
степени характерно, что первыми, кто попытался
вернуть радикалов из небытия, были немцы. Незадолго до
ухода из Франции они вспомнили об Эррио. Его
извлекли из арестного дома и доставили в Париж. Абетц
милостиво принял его и предложил ему сформировать
новое правительство с участием Лаваля. Эррио
отказался, и тогда его увезли в Германию и посадили в
концлагерь, откуда его освободили впоследствии
советские танкисты.
Эррио вернулся в освобожденный Париж. Некоторые
думали, что жизнь многому научила его. Однако на
деле вышло иначе. Видный журналист Андре Симон
отмечал в своей книге «Я обвиняю», что Эррио всегда в
силу своей слабохарактерности был ширмой для
правых элементов радикал-социалистической партии,
творивших за его спиной самые неприглядные дела. Эррио
заложил основу для франко-советского пакта о
взаимопомощи, но, когда Даладье и Боннэ превратили пакт в
клочок бумаги, он позорно капитулировал перед
«реалистами». Были моменты, когда один жест Эррио, одно
•его слово против зловещих махинаций «пятой колонны»
•могли бы повлиять, хотя бы временно, на курс
французской политики. Но слово оставалось
непроизнесенным...
После второй мировой войны история повторилась.
Агенты «двухсот семейств» и на этот раз использовали
в качестве ширмы имя Эррио, которого считали
«мучеником немецкой агрессии». Эррио выступил с призывом
голосовать против проекта демократической
конституции. У него не нашлось слов осуждения для
антисоветских выступлений Даладье. Он молча
солидаризировался с решением руководящих партийных органов об
202
исключении из партии группы левых
радикал-социалистов во главе с Пьером Кот, протестовавшей против
этих антисоветских выступлений.
Радикалы показали, что они ничему не научились за
эти годы. Отсекая свое левое крыло, они в то же время
охотно шагали все дальше вправо. Характерно,
например, что тот же Даладье смог собрать свои двадцать
восемь тысяч голосов в Воклюзе лишь потому, что
«республиканская партия свободы» (ПРЛ) сняла свою
кандидатуру и вела агитацию за Даладье. Характерно
и то, что в газете «Орор», которой руководил один из
ведущих деятелей радикалов Поль Бастид, подвизался
Жан Пийо, сотрудничавший при немцах в органе
Марселя Деа «Эвр», и что эта газета по ряду важнейших
вопросов солидаризировалась с крайними правыми.
Даладье и его клика снова пытаются использовать
программу антикоммунизма, которым они козыряли до
войны. Но они не понимают того, что за годы войны
обстановка во Франции коренным образом изменилась и
что французский народ увидел: эта программа
сопряжена с предательством, она была наруку лишь
Гитлеру.
В Авиньоне помнят, что коммунисты были первыми
организаторами антифашистского подполья, что они,
именно они, организовали взрыв двадцати трех
паровозов в депо, чтобы парализовать немецкие перевозки;
бросили бомбу в немецкое кино, когда там гитлеровцы
смотрели фильм; распространяли листовки,
воодушевляли Прованс на борьбу с оккупантами. Вот почему в
Даладье летели гнилые помидоры, когда он пытался
выступать на предвыборных митингах с клеветой на
коммунистов. И вот почему скрохмный молодой
аптекарь Арто собрал в Воклюзе, бывшей крепости
радикализма, в полтора раза больше голосов, чем
Даладье...
Старые иллюзии утрачены народом, который ищет
новых путей к воссозданию сильной и независимой
Франции, хочет видеть ее единой, сплоченной,
демократической.
203
7. ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ДЕРЕВНЕ
— Вы хотите повидать обильную, плодородную
Францию во всей ее красе? Хотите повидать поля, на
которых собирают по две с половиной, три тонны пшеницы
с гектара, сады, с которых писал свои пейзажи Ватто?
Ну что ж, поезжайте в Бургонь или в долину У азы.
Там вы все это найдете. Но... — собеседник наш
замялся, — боюсь, что кое-что вас удивит в этих краях. С
непривычки вам будет несколько трудно уяснить себе
некоторые стороны жизни нашей деревни—именно той
деревни, которая стоит на наиболее плодородной земле...
— Вы хотите сказать, что большая часть этой земли
находится в руках помещиков? Так было когда-то и у
нас, в России...
— Нет, дело не только в этом... Впрочем, поезжайте,
посмотрите сами.
Мы выбрали У азу. Здесь в 1940 и 1944 годах шли
бои, здесь действовали крестьянские партизанские
отряды, здесь было хорошо организовано сопротивление
немцам, в нем участвовали самые широкие слои
населения. По отличному асфальтовому шоссе, носящему
название «Национальной дороги № 1», мы быстро
домчались до очаровательного средневекового городка
Бове, который славился когда-то своими соборами XIV
века и фабрикой гобеленов, поставлявшей продукцию
еще Людовикам. К сожалению, и от соборов и от
фабрики почти ничего не осталось. В один лишь собор
святого Петра в 1940 году попало двенадцать бомб,
Городу пришлось вытерпеть пятьдесят шесть
бомбардировок немецкой и союзной авиации, и он уцелел едва
на сорок процентов. От Бове мы свернули к еще
меньшему городку — Сен-Жюст и оттуда проселком
добрались в интересовавшую нас деревушку Вавиньи,
затерянную среди широких и тучных полей.
Такие деревушки много раз описывались во
французских романах. Узенькая улочка, маленькие домики под
истрескавшейся, давно не менявшейся черепицей;
вековые тополи при дороге; мелочные лавчонки;
закопченная кузница, откуда выглядывают на шум мотора
любопытные усатые молотобойцы в синих блузах; раз-
204
росшиеся, давно не стриженные сады. Отчаянно пищат
стручки акаций в ловких мальчишеских руках, —
босоногие ребята ведут какую-то воинственную игру,
прячась в кустах бузины. Лениво понукает ожиревшего
першерона седой возница, возвращающийся с поля.
Гостеприимно распахнута дверь традиционного
сельского кабачка — хозяин ждет-не дождется гостей, что-
то туговато идут в последнее время дела; только и
дохода, что от проезжих шоферов, которые никогда не
устоят перед соблазном промочить горло!
Что ж, зайдем в кабачок, тем более, — в Сен-Жюсте
нам сказали, что владелец его — занятный человек.
Кто бы в самом деле мог подумать в 1942 году, что вот
здесь, в задней комнате у кабатчика, где так часто
кутили немецкие фельдфебели, собирались фран-тиреры?
У немцев было много хлопот с этой паршивой, на их
взгляд, деревушкой, в которой и живет-то всего
семьсот душ. На дорогах возле нее подрывались
автомобили, откуда-то появлялись антифашистские листовки,
а уж если со сбитого самолета союзной авиации
спускался парашютист, то искать его было совершенно
бесполезно — он бесследно исчезал, словно иголка в
стоге сена. Троих из Вавиньи — лесничего Васно,
учителя Дюпюи, крестьянина Реана немцы отправили на
тот свет. Но это нисколько не изменило обстановки...
Ну, а сейчас хозяин кабачка далек от всяких
воинственных дел. Невысокий, коренастый, в потрепанной
синей куртке, он стоит за прилавком под батареей
бутылок с цветистыми этикетками и бережно наливает
гостям вино, стараясь не пролить ни капли. Так же
бережно гости берут рюмки своими жесткими,
негнущимися пальцами и подносят их к губам. «За ваше
здоровье!»—«За ваше! И чтобы все было хорошо!»
Кабатчик тщательно считает франки и прячет их в конторку.
Потом он обращается к нам. Что нам угодно? Да, он
хозяин этого заведения Мишель Жерве. Да, он мог бы
кое-что рассказать. Но ведь это было давно! С тех пор
многое изменилось. Когда шла борьба, казалось, что
потом все пойдет по-другому. В то время все французы
были заодно. Иначе и не могло быть: немцы грабили
подряд, не разбираясь. Они плевали на всех. До того,
205
как немцы расстреляли Васно, подпольный комитет мог
пользоваться, например, особняком помещика де Сеп-
тавиля, у которого служил Васно. Де Септавиль
ненавидел бошей так же, как и кровельщик Ванкинбрюк
или батрак Александр. Вся деревня знала, кто прячет
оружие и у кого скрываются люди, бежавшие с
немецкой каторги. И за два года деревня никого не выдала.
Да, все были заодно...
Но потом, когда немцев прогнали и жизнь понемногу
стала входить в свою колею, произошло нечто такое,
что простому деревенскому кабатчику трудно
объяснить. Это произошло не сразу, постепенно. Вначале
многие думали, что мир и дружба будут царить в
деревне вечно. Однако оказалось, что сила денег, сила
богатства сохранила свое притягательное действие.
И пути людей опять начали расходиться. Из Бухен-
вальда приехали двое: кузнец Бодуан и крупный
арендатор Сюэр. Бодуан вернулся в свою дырявую кузнюг
Сюэр — в свой особняк. И опять жизнь пошла
по-старому, как до войны...
— Может быть, мы пройдем в заднюю комнату? Там
удобнее будет потолковать... — говорит кабатчик.
И мы проходим в ту самую комнатушку, где четыре
года тому назад собирались тайно фран-тиреры. С намет
идет высокий черноволосый кузнец в грубом кожаном
фартуке, заглянувший узнать, что за люди прикатили из
Парижа. Потом подходят двое плечистых, загорелых,
усатых крестьян в порванных соломенных шляпах.
Кабатчик приносит пару бутылок вина, стаканы, и
начинается долгая беседа.
— Так что же это значит, — по-старому? И почему
не изменилась жизнь после войны?..
Вавиньи стоит на благословенной, богатейшей земле
долины Уазы. Земля эта с незапамятных времен служит
предметом торга между людьми. Ее сотни раз
перекупали, закладывали, делили, оставляли в наследство.
И теперь вся она разорвана на клочки. Большинство
хозяев давно не живет в деревне. У многих из них —
десятки, а может быть, и сотни таких клочков,
разбросанных по всей Франции. А некоторые, как граф
де Грамон, графиня де Бена или Ротшильд, которых
206
зовут некоронованными королями Уазы, владеют та*
кими пространствами, на которых могли бы уместиться
десятки деревень, как Вавиньи.
Конечно, никто из этих хозяев земли, за малыми
исключениями, ее не обрабатывает. Зачем это делать,,
когда земля и без того даст доход ее владельцу? Стоит
только сдать ее в аренду! По закону арендатор должен
платить хозяину из расчета рыночной стоимости
трехсот килограммов хлеба за каждый гектар. Но, может
быть, арендатор прикладывает руки к земле? Дак
иногда... Но чаще бывает по-иному — вот так, как
здесь, в Вавиньи. Все земли, прилегающие к деревне,
арендуют четверо — Сюэр, Пилон, другой Пилон, его
однофамилец, и Дезескель. Каждый из них арендует,,
примерно, двести гектаров. Им четверым и
принадлежит вся эта деревня. Да-да, принадлежит в прямом, а
не в фигуральном значении этого слова! Это они,
четверо, владеют всеми домами, всеми машинами, всеми
лошадьми, всеми садами. Ну, а когда у человека так
много добра, то работать ему уже некогда — ему надо
следить за тем, чтобы добро это не убывало, а
прибывало. И вот, все остальные шестьсот девяносто шесть
душ, живущих в Вавиньи, работают на этих четырех...
Сюэр, Пилон, другой Пилон и Дезескель все могут.
Они имеют право уволить агрикультурного рабочего —
это выражение заменяет здесь русское слово «батрак».
Они вправе отобрать у него его крохотный
приусадебный участок — ведь этот участок арендатор выделяет
рабочему из своего земельного фонда, чтобы тот мог
как-то прокормиться. Они вправе выгнать его из дому—
ведь все дома в деревне принадлежат им четверым.
Агрикультурный рабочий должен работать в поте лица
своего — ведь ему надо сделать столько, чтобы
арендатор мог, не поморщившись, отвалить живущим где-то
далеко от Вавиньи собственникам земли стоимость
трехсот кило пшеницы с каждого гектара и чтобы сам
арендатор мог положить в карман полновесный барыш.
Иначе какой смысл Сюэру, Пилону, другому Пилону и
Дезескелю заниматься делом?
А что же остается на долю самого агрикультурного
рабочего, который трудами своими пестует те замеча-
207
тельные урожаи, которые составляют славу
департаменту Уазы?
В горячую пору страды ему платят сто восемьдесят
франков. В другое время года—меньше, в зависимости
от того, какую и где он сумеет получить работу.
Бывает и так, что работы не находится вовсе. Что ж, это
судьба! Сюэр, Пилон, другой Пилон и Дезескель не
могут заботиться о каждом из семисот жителей деревни.
Они не святые люди, у них свои заботы. Пусть каждый
лоступает, как знает...
Ну, а что ест агрикультурный рабочий? Государство
■о нем не забыло. Ему выдается хлебная карточка —
лятьсот граммов хлеба в день. И это все? Да, это все.
Вам это кажется недостаточным? Представьте себе,
многие из агрикультурных рабочих тоже так думают.
Они хотели бы есть вволю. Они хотели бы даже иметь
молоко для своих детей. Но ведь корову надо тоже
кормить. А чем? На семьсот жителей в Вавиньи
насчитывается всего сорок коров, почти все они принадлежат
Сюэру, Пилону, другому Пилону и Дезескелю.
Конечно, трудно так жить. Еще тяжелее становится
да душе, когда вспоминаешь, как в 1944 году
мечталось о том, что будет после войны. Тогда почему-то
казалось, что все-все должно перемениться. Ведь народ
так много вытерпел! Вот говорят, что в Париже
Конфедерация труда поставила сейчас вопрос о повышении
зарплаты на 25%. Весть об этом привез кабатчик,
ездивший туда за вином, — он покупает его у фирмы
Берси и сам таскает ящики на себе, благо расход вина
не такой уж большой — редкий покупатель купит
бутылку, а так все больше — по рюмочке. Ну так вот, эта
новость заставила всю деревню всполошиться. Ведь
■агрикультурные рабочие тоже входят в Конфедерацию
труда, у них свой профсоюз. Но господа арендаторы
.встретили новость, пришедшую из Парижа, весьма
неодобрительно, и рабочие предпочитают говорить о
повышении зарплаты вполголоса—не ровен час, услышит
хозяин, тогда, чего доброго, и вовсе останешься без
всякого заработка. Не примет же тебя на работу Пилон,
или другой Пилон, или Дезескель, если уволит тебя
сам Сюэр!
208
Француз по натуре — человек открытой души. Он
любит посудить, пошутить, поспорить, поругаться. Но сама
жизнь заставляет крестьян Вавиньи, которые стали
пролетариями, учиться взвешивать каждое слово,
оглядываться по сторонам, держать язык за зубами. Только
раз за последнее время жители Вавиньи, дали волю
своим чувствам, — в кабачке Мишеля Жерве об этом
вспоминают частенько, отпуская соленые шутки по
адресу заезжего гостя — Лежандра, представителя
фашистской партии ПРЛ, выставившего свою
кандидатуру на выборах... Фашистов здесь терпеть не могут
все, даже арендаторы. А тут еще было известно, что
Лежандр разъезжает на деньги крупнейшего
землевладельца Уазы графа де Грамон, в прошлом активно
сотрудничавшего с немцами. Какой же кошачий
концерт задали ему на рыночной площади, когда он
попытался выступить на митинге!
Но вот уехал во-свояси Лежандр, и снова в Вавиньи
стало тихо.
— Ну, а как же выборы у вас прошли?
Кузнец усмехается и делает уклончивый жест рукой:
— Знаете, крестьянин — хитрый человек. Он вот так
скажет, — кузнец повернул руку ладонью кверху, — а
вот так проголосует, — и он повернул руку ладонью
вниз. — Судите по результатам. Голосовало у нас
двести сорок человек. Девяносто голосов было подано за
коммунистов, восемьдесят за социалистов, сорок шесть
за МРП, двадцать четыре за ПРЛ... Выходит, что вроде
первая партия у нас — коммунисты... Ну и вот что еще
учтите. Человек от ПРЛ к нам приезжал, — я вам уже
говорил, как его тут встретили. А от коммунистов никто
не приезжал и не выступал. И организаций тут у нас
нет таких. Может быть, конечно, где-то люди и
встречаются и собираются —на то божья воля. Но
официально никаких таких организаций—авторитетно
говорю вам — нет у нас. Опасно агрикультурному
рабочему заниматься политикой, когда на шее у него
семья и своего угла нет...
Не часто» приезжают гости из Парижа в Вавиньи, а
крестьяне, тем более французские, всегда охочи
потолковать с приезжим человеком. Все теснее становится
14 На Злпаде пэсле войны 209
в задней комнатке кабачка. Сизый дым дешевых
сигарет поднимается к потолку; сдвинуты в сторону грубые
деревенские стулья; в простреленном пьяным немцем
зеркале, украшенном целлюлоидными цветами,
отражаются улыбающиеся лица возбужденных людей.
Что толковать о невеселых делах Вавиньи? Вот
узнать бы, как живут крестьяне там, в России! Говорят,
у них все совсем по-другому. Русские вообще
удивительные люди. Их хорошо знают на Уазе. Здесь
действовали два русских партизанских отряда — это были
солдаты, бежавшие из плена. Командовал ими русский
майор Мешков. А в одном французском отряде, совсем
неподалеку отсюда, были два русских солдата —
Григорий и Николай, — какие это веселые и храбрые были
люди! Григорий все рассказывал про свой город
Одессу. Есть такой город в России? Ну так вот, он
рассказывал, что там море и природа, как во Франции. Он
там был учителем. А Николай из-под Сталинграда.
О, Сталинград! Это слово произносится
многозначительно, и все лица светлеют еще больше.
Тут кабатчик куда-то выходит и через минуту
возвращается с затрепанной книжкой. Он бережно кладет
ее на стол, закапанный вермутом, и я читаю название,
напечатанное по-французски: Константин Симоноз.
«Дни и ночи».
— Капитан Сабурофф, — многозначительно говорит
кабатчик. — Большой человек. Русский человек. Тут все
правда. Ничего не спрятано — все, как было. Мы тоже
немного воевали. И нам это очень понятно...
Он встает, зовет нас куда-то за собой. Мы выходим
гурьбой на улицу, идем узеньким, выложенным
каменными плитами "тротуаром и сворачиваем в запущенный,
заросший лопухами двор. Когда-то здесь стоял большой
дом. От него остался один фундамент. Разобранные
кирпичи аккуратно сложены штабелями. В глубине
двора заброшенная спортивная площадка. Среди руин
буйно разрослась бузина.
— Это было здесь, — торжественно говорит кузнец,
и крестьяне снимают шляпы и береты. — Когда боши
окружили вон тот дом, на чердаке которого
отстреливался Васно, и когда после боя они схватили его си-
210
лой, — он кричал на всю деревню: «Подлецы!
Проклятые свиньи! Все равно вам не жить!» И тогда они
подтащили его вот сюда, прислонили к этому крыльцу, л
один немецкий мерзавец прижал к его животу ствол
пулемета и прострочил его. Вот еще видны следы пуль...
Кузнец умолк. Стало тихо. Так тихо, как бывает
только в деревне. Только в спутанной тяжелой
июньской листве чирикали птицы. У крыльца лежал ржавый
миномет, оставшийся здесь со времени боев. И люди
долго-долго глядели задумчивыми взорами на
выщербленную немецкими пулями кирпичную стену, у которой
пал смертью храбрых их односельчанин,
пожертвовавший собой ради того, чтобы им жилось лучше.
8. ИГРА С ОГНЕМ
В одну из жарких июньских ночей 1946 года в
Париже разыгрались события, живо напомнившие
сатанинские шабаши гитлеровских мододчиков в тридцатых
годах на площадях Берлина и Нюрнберга.
Началось это как будто бы более или менее
безобидно: со всех концов двинулись к центру веселые
шествия с ярко пылавшими факелами. С утра некоторые
правые газеты сообщали, что эти факельные шествия
призваны ознаменовать шестую годовщину со дня
первого выступления генерала де Голля в Лондоне с
призывом к сопротивлению. Нигде не было сказано, кто
организует эти шествия и кто за них отвечает, однако
некоторые газеты напечатали даже маршруты и карты
их. Судя по тому, что основную колонну
манифестантов, спускавшуюся по Елисейским полям от могилы
Неизвестного солдата, возглавлял военный гвардейский
оркестр, одетый в парадную форму, оно отнюдь не
было стихийным.
Вскоре, однако, характер демонстрации пришел в
противоречие с элементарными основами
общественного порядка. Участники ее валили толпой по
мостовым, задерживая уличное движение, и провозглашали:
«Де Голля к власти! Де Голля к власти!» Резко
выделялись в толпе немногочисленные, но крикливые
14*
211
группы, дополнявшие эти лозунги здравицами в чесгь
фашистской партии ПРЛ (так называемой «партии
республиканской свободы») и угрозами по адресу
демократических организаций и даже отдельных членов
правительства.
Около полуночи группа манифестантов численностью
около трехсот человек, выкрикивая погромные угрозы,
устремилась к зданиям, где помещаются
демократические организации. Полиция попыталась преградить им
путь, но была отброшена. Из толпы раздались
выстрелы. Двое полицейских были ранены и отправлены в
госпиталь. Нескольких бандитов удалось задержать, но
основная часть группы прорвалась, и около часу ночи
на улице Прованс и на перекрестке Шатоден зазвенели
стекла.
Налет был совершен на редакцию газеты «Фрон
насьонал» — органа объединения сил народного
Сопротивления,— самоотверженно боровшегося с
немцами. Другая группа налетчиков с криками ворвалась в
вестибюль Центрального комитета коммунистической
партии Франции и начала там все крушить. Несколько
искусных взломщиков занялось книжным магазином,
где продается литература, издаваемая левыми
организациями. Они успешно справились с замками, влезли в
магазин, вытащили всю литературу и зажгли костер.
Снова, как в Нюрнберге и Берлине в 1933 году,
запылали книги. Когда прибыли полицейские подкрепления,
действовавшие на редкость нерешительно и
нерасторопно, было уже поздно: участники погромов
разошлись по домам, и полиции удалось задержать
несколько человек: задержанным было предъявлено
обвинение в нарушении общественного спокойствия.
Весть о фашистских ночных погромах всколыхнула
весь Париж. Впечатление от них было тем более
значительно, что погромщики творили свои грязные дела
непосредственно после манифестации в память
шестилетней годовщины борьбы французских патриотов с
немецкими фашистами. Эти события пролили новый свет на
фигуру де Голля, в котором раньше многие французы
благодаря лживой пропаганды видели борца за
свободу и демократию.
212
Пресловутая «легенда де Голля» еще не была тогда»
полностью разоблачена. Далеко не все знали подлинное
лицо реакционного генерала, которого услужливая
пресса превозносила как «освободителя» Франции.
Далеко не всем было известно, что де Голль после первой
мировой войны участвовал как доброволец в борьбе
против молодой Советской России на одном из фронтов,
что после этого он проходил «школу подлости» у
самого Петэна, пребывая у него в услужении в качестве
адъютанта, что свои книги де Голль издавал с
подхалимскими посвящениями Петэну: «Этот труд может
быть посвящен лишь вам, господин маршал, ибо ваша
слава показывает лучше всего, какую добродетель
может дать свет мысли». Далеко не все знали, наконец,,
какую зловещую роль играл де Голль во второй
мировой войне, когда он на словах призывал французов к
борьбе с немцами, а на деле шел на все, чтобы сорвать
борьбу французских партизан против гитлеровцев,
опасаясь укрепления народно-освободительного движения
Но постепенно лживая «легенда де Голля» тускнела, и
у людей открывались глаза...
Мне запомнился разговор, который вели в поздний
вечерний час двое пожилых парижан, наблюдавших эго
шествие на Елисейских полях неподалеку от памятника
Клемансо. Гремели барабаны, в зловещих отсветах
багрового пламени сверкали киверы гвардейского
оркестра. Манифестанты орали свои погромные лозунги,
скандируя каждый слог. Один парижанин с наивным
лицом сказал другому:
— Вы знаете, я сейчас смотрю на все это и думаю:
не всегда солдат становится хорошим политиком.
Иногда бывает наоборот. Наш генерал такой
идеалист! Он — как большой ребенок.
Второй парижанин нервно передернул плечами и
оборвал своего собеседника:
— А! Но ведь детям не дают острые предметы! Разве
вы не видите, что происходит? Посмотрите, — ведь это
же готовые штурмовики! А вспомните, что было в
Вандее, когда туда приехал де Голль. Они (он сказал слово
«они» многозначительно и подчеркнуто) ищут
диктатуру, они ищут руку в железной перчатке. И поверьте,—
213
им совершенно безразлично, какое клеймо на этой
перчатке — свастика или лотарингский крест...
В те дни люди невольно возвращались мысленно к
недавнему прошлому и заново оценивали факты. Вес;
прекрасно помнили, почему генерал де Голль,
являвшийся премьер-министром временного правительства
Франции в январе 1946 года, вышел в отставку и заявил
о полном отказе от политической деятельности.
Произошло это сразу же после того, как выяснилось
соотношение сил в Учредительном собрании, созванном для
выработки новой конституции. Английские газеты уже
тогда откровенно писали, что де Голль добивался,
чтобы новая конституция включала идеи диктаторского
правительства. Когда же выяснилось, что конституция,
вырабатывавшаяся Учредительным собранием, примет
демократический характер, де Голль решил временно
сойти с политической сцены. Он рассчитывал на то, что
партии социалистов, коммунистов и католиков,
входившие в правительство, не сумеют решить коренные
вопросы перестройки, снабжения, народ потеряет к ним
доверие и обратится за спасением к нему же, де
Голлю...
Четыре месяца прожил де Голль безвыездно в
бывшем поместье Людовика XIV Марли ле Руа, всячески
бравируя своим мнимым безразличием к политике.
Реакционная пресса, захлебываясь от подхалимства,
живописала «спартанский образ жизни» сановного
затворника.
«Снегопад последних дней не изменил привычек
генерала де Голля, — передавало 6 марта 1946 года
агентство Франс Пресс. — Как всегда в 16 часов 55 минут
его большой черный лимузин остановился у калитки
павильона в Марли ле Руа: де Голль в сопровождении
жены, младшей дочери и своего адъютанта капитана
Ги возвратился со своей ежедневной прогулки. Нет
ничего особенного и необычайного в этой короткой
прогулке, во время которой за машиной генерала не
следовала никакая другая машина с трехцветной
эмблемой, ни агенты тайной полиции. В своей скромной
резиденции генерал де Голль проживает в качестве
частного лица, и невозможность приблизиться к нему
214
объясняется желанием сохранить полную
независимость и свободу действий. По ночам маленький
флигель в Марли ле Руа, с черепичной крышей, занесенной
снегом, и серыми стенами, обвитыми зеленым плюшом,
погружен в мирный сон, и ничто не тревожит это
спокойствие провинциального уединения...»
Но аполитичность де Голля была только кажущейся.
И не случайно в разгар борьбы за демократическую
конституцию в швейцарской газете «ди Тат» появилось
интервью де Голля, немедленно перепечатанное
реакционной французской прессой: «Генерал де Голль не
считает, что его политическая карьера закончена. Он
думает, что в скором времени будет снова во главе
страны, и разрабатывает свой проект конституции,
приемлемый для всей нации».
Когда первый проект демократической конституции
был забаллотирован незначительным большинством
голосов, де Голль решил покинуть свой уединенный
уголок и предпринять политическую разведку — не настал
ли его час? В день Победы он совершил паломничество
в Вандею — на могилу Клемансо. Пылко встреченный
манифестантами во главе с кандидатом фашистской
партии ПРЛ в Учредительное собрание, Мишелем
Клемансо, де Голль произнес речь, в которой заявил, что
Францию может спасти только «крепкая и сильная
власть».
Немного погодя, в связи с празднованием второй
годовщины со дня высадки союзных войск на континент,
он посетил город Байе, где произнес программную речь
о том, каким, по его мнению, должно быть
государственное устройство Франции. Он заявил, что Франция
должна управляться «верховным арбитром», который,
будучи «над партиями», явится «последней инстанцией
и верховным вершителем судеб». Права этого
«арбитра», на пост которого де Голль, нисколько не
стесняясь, прочил самого себя, по его мнению, практически
должны были бы быть неограниченными. Он
потребовал, чтобы ему было предоставлено право назначать и
смещать министров и руководителя правительства,
единолично издавать законы и декреты,
председательствовать в совете министров, «осуществлять в нем ту пре-
215
емственность, без которой страна не может
обходиться», и, наконец, право распускать парламент.
Сторонники де Голля бурно выразили одобрение этой
программе, но демократические слои общества резко
осудили ее. Парижские газеты писали, что де Голль
выставил себя на площади Байе кандидатом в диктаторы,
предложил избрать себя главой государства чуть ли пе
так как был «избран» в свое время Луи Наполеон-
Сторонники де Голля решили организовать в Париже
торжественную и красочную демонстрацию, которая
в какой-то мере помогла бы восстановить авторитет
генерала, подорванный им самим. Так родился план —
отметить шестую годовщину лондонской речи де Голля.
Генерал заявил, что он 18 июня отправится в старую
крепость Мон Валерьен под Парижем, где немцы
расстреляли сотни французских патриотов, в том числе
Габриэля Пери, и зажжет у склепа, где погребены
расстрелянные, вечный, негасимый огонь.
Церемония в Мон Валерьен была объявлена
неофициальной. Дипломатический корпус туда не был
приглашен, министерство информации не выдавало
никаких пропусков. Однако туда был направлен отряд
морской пехоты для несения почетного караула, и сам
военный министр г. Мишле прибыл в старую крепость,
чтобы присутствовать при возжигании огня.
Мне довелось побывать в Мон Валерьене в тот
вечерний час, когда друзья и единомышленники де Голля
собрались в ожидании генерала. Сама обстановка
древнего, забытого крепостного форта настраивает
людей на романтический лад: старинные, поросшие
мохом каменные стены добротной грубой кладки
окружают высокий зеленый холм, у подножья которого
лежит Париж; в ветвях могучих деревьев щебечут птицы;
над гигантским коричневым лотарингским крестом,
лежащим на наклонном, устланном алым бархатом
постаменте, колышется трехцветный флаг Французской
республики; вечерний ветерок шевелит ветки вековых
платанов, бурно разросшаяся бузина раскинула свои
отцветающие гроздья. Здесь, на холме, у старой
крепостной стены, немцы расстреливали лучших людей
Франции; эти выщербленные пулями камни — нацио-
216
нальные реликвии республики, ее честь и гордость^
Сюда часто приезжают и приходят из города строгие,
молчаливые вдовы в трауре, старики с креповыми
повязками на рукавах ветхих сюртуков, дети погибших
здесь отцов. Они подолгу молчаливо стоят здесь, потом,
кладут букеты цветов у железной двери склепа, где
сложены кости их близких, и так же молча уходят.
И вот теперь генерал де Голль облюбовал этот
священный для каждого француза форт в качестве арены
для бесстыдной и шумной саморекламы...
Сюда непрерывно подкатывали автомобили,
подвозившие сторонников генерала. Усиленные наряды
полиции и войск выстроились вдоль дороги. На балконе
маленькой сторожки, крытой ветхой черепицей,
разместился приведенный в боевую готовность мощный
отряд кинорепортеров — объективы их аппаратов
нацелены на ворота крепости, в которых должен появиться
генерал. На трибуне прессы— огромная толпа
журналистов, приехавших сюда за час до начала церемонии.
Подходят военные оркестры. Публика собралась
избранная. Много военных мундиров, котелки
коммерсантов, наряды светских дам. Присутствуют
американские офицеры, среди них полковник в темных очках.
Чуть подальше — группа британских офицеров.
Проходит, размахивая белой тростью, обвешанный орденами
седоватый французский генерал с золотым
аксельбантом.
Раздалась команда «смирно», грянули фанфары,
забили барабаны, солдаты морской пехоты в белых
гетрах, белых перчатках и синих пилотках с золотыми
якорями взяли карабины на-караул. Из-за ворот
донесся нарастающий треск мотоциклов, и в крепость на
стремительной скорости влетел отряд мотоциклистов,
за ним три бронетранспортера. На одном из них стояла
группа военных в сверкающих золотым шитьем
нарядных мундирах, в центре этой группы был адмирал
д'Аржанлье, ближайший друг де Голля, такой же.
как он, католик, фразер и политикан. После первой
мировой войны, будучи морским офицером, он вдруг ушел
в монастырь и стал главой одного из монашеских
орденов. В 1939 году он вернулся в мир, чтобы принять.
217
пост начальника штаба танковой дивизии де Голля.
После поражения Франции де Голль, стоявший во главе
Лондонского Национального комитета освобождения,
произвел д'Аржанлье в адмиралы. Новоиспеченный
адмирал ведал созданием голлистских организаций во
французских колониях. Когда же война окончилась, он
залил потоками крови Индо-Китай, подавляя там
национально-освободительное движение. Теперь, по
приглашению де Голля, кровавый адмирал прилетел в
Париж, чтобы принять участие в этой церемонии. Ему
было поручено зажечь от вечного огня, пылающего на
могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой,
факел и доставить его сюда, в форт Мон Валерьен, для
вручения де Голлю.
А генерала все еще не было. Он медлил со своим
г.ыходом на сцену, как расчетливый актер, знающий
цену торжественной и многозначительной паузе.
Наконец где-то за стенами крепости послышались
аплодисменты, кто-то крикнул: «Да здравствует де Голль!»,
зычно проревела сирена комфортабельного
американского автомобиля, и длинноногий, узкоплечий де Голль
появился у подножья распростертого под сенью
старого платана лотарингского креста. Холеное, надменное
лицо, оловянные, пустые глаза, крупный нос, дающий
пйщу карикатуристам, маленькие усики, жидкая прядь
волос, спадающая на лоб из-под широкого козырька
серой генеральской каскетки,— было что-то
неприятное, отталкивающее в этом человеке; всем своим
видом, каждой деталью, каждым жестом он как бы
говорил встречающей его толпе единомышленников:
«Трепещите и повинуйтесь! Я ваш вождь, снисходящий
к вам». Но, боже мой, как переменился он, завидев
у лотарингского креста американского полковника!
Его деревянная спина разом приобрела эластичность,
он ускорил шаг, сдернул с головы каскетку, осклабился
и стал пожимать руки знатным заморским гостям.
Время было начинать церемонию. Нежно запела
одинокая фанфара, грянул выстрел. Генерал замер в позе
полководца, решающего — быть или не быть победе,
и сразу же замелькали вспышки фотоламп, затрещали
киноаппараты. Когда, наконец, все снимки были сде-
218
ланы, генерал дал знак, ему подали факел, и он зажег
медный светильник у подножья лотарингского креста.
Снова грянул выстрел, запел оркестр, и опять
затрещал киноаппарат, снимающий генерала. Потом де Голль
вошел в толпу своих сторонников и начал
величественно здороваться с ними. Вот тут-то и раздались,
впервые в тот день, оглушительные погромные крики,
вызвавшие позже эхо на Больших Бульварах...
Военный министр Мишле стоял в эти минуты здесь
же, в толпе, и не мог не слышать, как раздаются
угрожающие выкрики по адресу его коллег по кабинету и,
в частности, по адресу вице-председателя
правительства Тореза. И все же в этот вечер не было принято
никаких мер, чтобы унять поклонников диктатуры,
мечтающих о насилиях и расправе с демократическими
деятелями.
Кое-кто в Париже сразу же попытался превратить
события 18 июня в шутку. Говорили, что на Больших
Бульварах имела место лишь игра с огнем — факелы,
костры, все это, в сущности, безобидно, — ведь
парижане падки до эффектных зрелищ и они так
экспансивны!.. Но народ сумел по достоинству оценить
зловещий сигнал. Трудовой рабочий Париж реагировал на
него остро, энергично, я бы сказал — стремительно. По
заводам прокатились волной бурные митинги. Повсюду
проходили короткие символические забастовки
протеста. А через день, 20 июня, трудящиеся Парижа вышли
на улицы и со всех концов города организованными
колоннами направились на Монмартр, к перекрестку
Шатоден, где находится ЦК компартии Франции. Там
уже стояли толпы возмущенных людей,
рассматривавших следы погрома. Над выбитыми зеркальными
стеклами витрин разгромленного книжного магазина
висели надписи: «Здесь прошли СС Франции».
Вдоль тротуаров выстроились члены «службы
порядка» парижских профсоюзов в синих рабочих
блузах— они только что кончили'работу и не успели
переодеться. В 17 часов 30 минут от вокзала Сен-Лазар
показалась головная колонна манифестации. Впереди
везли на тележках инвалидов войны, пострадавших от
гитлеровских разбойников. За ними шли руководители
219
французских профсоюзов и федераций
коммунистической партии департамента Сены. Под стягом
директивного комитета «Фрон насьональ» шла Мадлен Бро,
вице-председатель Учредительного собрания.
На балконе большого шестиэтажного здания ЦК,
украшенного республиканскими флагами, стояли
руководители Центрального комитета партии коммунистов,
министры-коммунисты, виднейшие общественные
деятели Франции.
Демонстрация была необычайно динамичной и
боевой. Нельзя было без волнения смотреть на эти
бесконечные колонны суровых людей, полных решимости до
конца довести дело борьбы с реакцией. Рабочие не
успели после работы зайти домой. Они несли ящики с
инструментом, пилы, рубанки. На их лицах была
написана усталость — ведь им пришлось пройти пешком
много километров, к тому же, парижане после войны
очень плохо питаются. Но с каким воодушевлением они
пели «Марсельезу» и «Интернационал», с каким
чувством провозглашали антифашистские лозунги и
выражали свое негодование по поводу бесчинств «черных
факельщиков», — так прозвали в Париже зачинщиков
и участников позорных ночных погромов.
Площадь гремела: «Долой фашизм!» «Чистка!
Чистка! Чистка!», «Мы против персональной власти!», «Мы
против диктатуры президента!», «Распустить ПЛР!>\
«Судить и наказать фашистских бандитов!», «Наш
ответ фашистам — единство!», «Единство! Единство!
Единство!»
Перекресток шести улиц был тесен для
демонстрации. Люди шли плотной толпой, прижавшись друг
к другу. И повсюду, куда ни глянь, колыхалось это
огромное живое, кипящее негодованием человеческое
море, все прилегающие магистрали были запружены
демонстрантами — полмиллиона парижан пришло на
Монмартр, воскрешая традиции Великой Парижской
коммуны. Демонстрация -проходила в образцовом
порядке, невзирая на то, что кое-где жалкие кучки
фашистов пытались спровоцировать столкновения. В
Латинском квартале, например, группа фашиствующих
студентов бросала оскорбительные лозунги по адресу
220
крупнейших демократических деятелей партии и
провоцировала демонстрантов на драку. Однако благодаря
успешной и бдительной деятельности «службы
порядка» столкновения были предотвращены.
До девяти часов вечера проходили колонны
демонстрантов по улицам города. Париж преподал
внушительный урок всем тем, кто мечтает об удушении
демократических свобод. Так началось развенчивание
дутой славы генерала, который повел рискованную
игру с огнем ради установления во Франции режима
своей единоличной диктатуры.
После скандального провала своей вылазки де Голль
вновь надолго ретировался со сцены.
Его пресса всячески поддерживала легенду о том
будто бы, что генерал ведет жизнь отшельника в своем
уединенном Коломбей ле дез-Эглиз. Однако не трудно
было разгадать подлинный смысл этого
«отшельничества». Выжидая своего часа, кандидат в диктаторы
вел закулисный торг с заправилами международной
реакции, набивая себе цену. И не случайно, когда Леон
Блюм, являвшийся в течение короткого времени
премьер-министром, решил задобрить де Голля
награждением его высшей военной наградой, он ответил
высокомерным отказом принять ее:
— Очевидно, немыслимо, чтобы государство или
правительство когда-либо само награждало себя в лице
тех, кто олицетворял его и руководил им, — написал
Блюму де Голль, повторяя чванливого средневекового
монарха, который говорил: «Государство — это я»...
В конце марта 1947 года де Голль, видимо,
закончил свой закулисный торг и приступил к выполнению
обязательств, данных им в обмен на обещания
поддержки, полученые из-за океана. Он вновь выступил
с серией политических речей, направленных против
конституции и содержавших недвусмысленные
требования установления во Франции режима диктатуры.
Эти выступления были столь наглы, что перепуганный
премьер-министр Рамадье помчался в Коломбей ле дез-
Эглиз уговаривать генерала хоть немного сбавить тон.
Газета «Либерасьон» следующим образом излагала
содержание их беседы:
221
— Я умоляю вас не покрывать вашим славным
именем маневры, которые могут угрожать
республиканскому режиму... — униженно просил Рамадье де
Голля.
На это высокомерный генерал пренебрежительно
ответил:
— Да, я стал политическим деятелем... Я
продолжаю выполнять мою роль. Не удивляйтесь поэтому,
если я и*в дальнейшем буду произносить речи, заняв
определенную позицию по ряду проблем, от которых
зависит будущее нации...
Рамадье с позором убрался в Париж.
Несколько дней спустя в Страсбурге де Голль в
присутствии американского посла объявил о создании
новой партии «Объединение французского народа» —
партии его сторонников. При этом де Голль
рассыпался в комплиментах по адресу США. Эта речь не
оставила никакого сомнения в том, что отныне де Голль
окончательно определил свою политическую
ориентацию. Его вполне устроила бы роль приказчика во
французском имении заокеанского барина — лишь бы ему
были даны неограниченные полномочия.
Несколько часов спустя группа сторонников де Голля
во главе со страсбургским промышленником Кремеро^,
собравшись в пивном погребе, положила начало партии
де Голля, оформив создание первого комитета
«Объединения французского народа».
А 27 июля де Голль выступил в городе Ренис с
«наиболее неистовой речью за все время его карьеры», —
так расценила ее французская пресса. Стремясь
добиться похвалы своих заокеанских покровителей, он
обрушился с яростными клеветническими нападками
на СССР и страны народной демократии и
провозгласил очередной крестовый поход против коммунизма.
В заключение он призвал своих сторонников
объединиться и возглаввть тех, кто хочет «переделать Европу»,
используя «помощь», предлагаемую другими, в
частности США».
В Америке это открытое предложение услуг
де Голля внешне было воспринято сдержанно.
Следует учесть, что в широких американских кругах имя
222
спесивого французского генерала отнюдь не
пользуется популярностью. Здесь помнят, как
настороженно относился к нему Рузвельт. Но критическое
отношение рядовых американцев к этому кандидату
в фашистские диктаторы Франции нимало не смущает
деятелей американской нации, отводящих де Голлко
определенное место в своих планах.
Они без колебаний остановили свой выбор на
де Голле. Он вполне устроил бы их как своего рода
гаулейтер Франции. Однако они не исключают и
возможности использования в своих целях пресловутой
«третьей силы» — социалистов и МРП. Им годятся и
бронированный кулак де Голля и шелковая петля
Блюма.
Тем временем политическая обстановка во Франции
все обостряется и обостряется. Де Голль делает
ставку на создание в стране беспорядков, пуская в ход
все средства, вплоть до провокационных убийств,
бомб, поджогов урожая. Ему помогает
присоединившееся к нему отребье, вчера еще служившее
гитлеровцам — бывшие добровольцы германской армии,,
выпущенные на свободу фашисты, милицейские —
гестаповцы Виши.
Провоцируя беспорядки в стране, де Голль и его*
подручные делают все, чтобы создать обстановку,
благоприятную для прихода к власти «сильного
человека». В то же время социалисты и католики из МРП.
пытающиеся на словах представить себя в роли
пресловутой «третьей силы», — на деле расчищают
де Голлю путь к власти.
Осенью 1947 года французские социалисты
провозгласили: «Де Голль или коммунисты!» На это все те,
кому дорога свободная и независимая Франция,
ответили: «Демократия или реакция!» Развертывая борьбу
за спасение страны от кабалы американских
монополий, стоящих за спиной продажных политиканов из
«американской партии», патриоты Франции идут
навстречу новым политическим боям.
АМЕРИКАНСКИЕ ЗАМЕТКИ
1. ПО БОЛЬШОМУ ВОЗДУШНОМУ ТРАКТУ
В Америку мы попали в двадцати пяти километрах
от Парижа у маленького селения Орли. Там, за
невысоким забором, на широком, залитом бетоном поле,
полощется по ветру среди стандартных привезенных
из-за океана домов звездный флаг, маршируют
вразвалку часовые в своих зеленых, похожих на
спортивные костюмы, мундирчиках и круглые сутки
глухо урчат четырехмоторные «дугласы». Короче
говоря, это один из тех самых уголков, которые на
тяжеловесном языке международной юриспруденции
именуются «невражескими территориями,
являющимися местопребыванием вооруженных сил союзных
держав».
Один из огромных стандартных бараков, стоящих
здесь, превращен в аэровокзал. На черной доске
пишутся мелом маршруты: Франкфурт, Рим, Лондон,
Стокгольм, Нью-Йорк. Французские пограничники
в высоких темных каскетках, чувствующие себя здесь
немного неловко, словно в гостях, торопливо
просматривают документы прибывающих из города людей
и передают их для тщательного изучения
американцам. На жестких деревянных стульях дремлют, подняв
воротники, в ожидании самолетов офицеры и люди
бизнеса, предпочитающие утомительному
пятидневному плаванию через океан бесхлопотный и быстрый
лолет.
224
Огромные рекламные плакаты, которыми оклеен
Париж, постоянно твердят вам, что если у вас есть
375 долларов и если вы готовы вручить их кассиру
авиакорпорации «ТША», то через двадцать четыре
часа вы можете очутиться в Нью-Йорке. Такая
перспектива весьма заманчива, особенно, если вспомнить,
что подводная война сократила количество океанских
лайнеров и что на получение билета надо записываться
в очередь за несколько недель вперед. Однако в
изменчивом послевоенном мире обещанное не всегда
сбывается, и торопящегося путешественника вечно ждут
какие-нибудь неприятности. Вам могут вдруг сказать,
что нет самолета или что самолет есть, но не может
лететь, потому что нет погоды или что погода есть, но
все-таки самолету улететь не удастся. Почему? Потому
что... Да просто потому, что, чорт побери, забастовали
летчики, которые не хотят работать за старую зарплату,
поскольку цены на все товары неимоверно выросли.
Забастовка может продолжаться недели две, и, если
вы не хотите опоздать, вам не остается ничего другого,
как проститься с конторой ТЖА и обратиться к
военным властям, — самолеты «коммандос» летят через
океан еще чаще, чем гражданские, и за билет с вас
возьмут лишь долларов на тридцать дороже: самолеты
те же, что и у ТЛУА, — четырехмоторные «дугласы».
Снаряжают вас в дальний путь обстоятельно. Врач
проверит, нет ли у вас экземы или чесотки. Чиновник
заставит вас заполнить несколько огромных анкет,
помимо тех, которые вы заполнили при получении визы, —
ему обязательно надо узнать цвет ваших глаз, волос
л все ваши особые приметы. Офицер спасательной
службы научит вас пользоваться парашютом и
спасательным нагрудником «Мей Вест», названным так по
имени популярной некогда кинозвезды. Он обязательно
покажет вам комнату, на стенах которой аккуратно
развешаны все те вещи, которыми вы должны будете
пользоваться, если самолет упадет в океан: надувная
резиновая лодка, бумажный змей для подачи *раДИ0"
сигналов, крючки для уженья рыбы, бумажный парус
и многие другие предметы, включая «дневник плота»,
который вы обязаны будете вести на случай, если никто
15 На Западе после войны 225
из вас, пассажиров, не доживет до того часа, пока плот
будет найден, — по дневнику можно будет
восстановить историю катастрофы. В заключение вам
продемонстрируют бодрящий документальный фильм,
изображающий падение и гибель самолета и спасение его
пассажиров, предусмотрительно запомнивших все
советы добрых наставников и правильно
пользующихся вышеуказанными предметами. На своей утлой
резиновой ладье они побеждают шторм, крючками удят
рыбу, по радио вызывают спасательный самолет, и все
заканчивается очень мило.
После просмотра этого фильма на вас надевают
парашюты, и вы следуете к воздушному кораблю —
теперь вы вполне готовы к дальнему рейсу...
Самолет отправляют в воздух под вечер, с таким
расчетом, чтобы пассажиры, проведя хлопотливый день
в Париже, могли хорошо выспаться на борту самолета.
Конструкторы трансокеанских «дугласов»
предусмотрели максимальную звуконепроницаемость и
обеспечили пассажиров кондиционированным воздухом:
поэтому вам не мешают ни шум моторов, ни те
неудобства, которые обычно беспокоят человека при резкой
перемене высоты. Только надоедливая вибрация
беспрестанно напоминает, что вы не в каюте корабля и не
в железнодорожном вагоне, а на борту самолета.
Скорость воздушного корабля вполне прилична;
оставив позади высокие обрывистые берега Нормандии,
он быстро пересекает затянутый вечерним туманом,
неспокойный в это время года Ламанш и, держа курс
строго на север, идет над Великобританией.
Еще немного, и все внизу и по бокам растворяется
в неясных клубах тумана. Иллюминаторы затягиваются
пушистым инеем. Тускло мерцают на консолях крыльев
сигнальные огни. В эти минуты теряется всякое
ощущение скорости, и кажется, будто самолет повис в
воздухе и медленно колышется над мрачной темной
пропастью. Но вот истекает седьмой час полета, внизу
появляются разрывы, и снова видны электрические
огни. Самолет тяжело кренится, разворачивается,
планирует; сипло ревет сирена, напоминающая о том, что
шасси еще не выпущены. Огни снова затягивает туман,
226
по крыльям барабанит дождь. Самолет делает
несколько кругов во мраке, пока пилот не находит
лазейку в тяжелых, опоенных дождем облаках. Тогда
он включает свои ослепительные прожекторы и ведет
машину на посадку — посадочная площадка четко
обозначена яркими фонарями и дополнительно освещена
наземными прожекторами.
Толчок, еще толчок, и самолет, тяжело покачиваясь
и вздрагивая, подруливает к такому же стандартному
бараку, как и в Орли. Только надпись на нем другая:
«Кефлавик». И здесь огромное поле залито бетоном
и асфальтом. Во мраке вырисовываются смутные
контуры ангаров. Повсюду слышится только английская
речь.
Кефлавик расположен рядом со столицей Исландии
Рейкиявиком. Огни Рейкиявика мы видели с воздуха.
Но ехать туда в этот поздний час вряд ли
целесообразно, тем более, что стоянка воздушного корабля
непродолжительна, — его бегло осмотрят еще раз перед
прыжком через Атлантику и досыта напоят горючим.
У самолета уже хлопочут техники, затянутые в
водонепроницаемые костюмы, — дождь льет, как из ведра,
и шумные струи стекают с крыльев на асфальт, искрясь
в лучах ярких прожекторов.
В ожидании старта можно перелистать свежие нью-
йоркские газеты в салоне, можно выпить кружку кофе
в баре, можно потолковать с меланхоличным
штурманом, который, пережевывая резинку, скажет вам, что за
океаном мы будем через десять часов, — дальнейший
маршрут лежит через южную оконечность Гренландии
на Лабрадор. Потом вас проведут к самолету, на вас
наденут пухлые резиновые нагрудники «Мей Вест»,
привяжут вас к креслам, и вы можете спокойно спать до
утра, тем более, что сквозь замерзшие иллюминаторы
ничего увидеть не удастся.
Проснетесь вы уже у берегов Северной Америки, над
одним из самых негостеприимных мест земного шара —
Лабрадором. Серо-стальная океанская гладь отсечена
белым иззубренным берегом. Изглоданный водой и
ветрами, гранит занесен снегом. И дальше, насколько
охватит глаз,— беспокойный, какой-то угрюмый и злой
11*
227
пейзаж: путаница скалистых хребтов, ущелья, провалы,
замерзшие озера. Ни огня, ни дымка — бескрайная
пустыня.
Дальше к югу — дремучие хвойные леса. И опять ни
огня, ни дымка. Только изредка у океана — рыбачьи
становища да лесоразработки.
Наконец у глубокого узкого фиорда самолет делает
крутой разворот вправо, и вашему взору открывается
знакомая по Орли и Кефлавику картина: широкое
поле, залитое бетоном и асфальтом, огромные ангары,
забитые самолетами, добротные стандартные дома
американской выделки и звездные флаги на мачтах.
Мощные тракторы соскребли снег с поля, расчистили
дорожки к домам, над которыми в тихом морозном
воздухе поднимаются густые столбы дыма.
Это Гузбейн — по-русски Гусиный залив, — мощная
воздушная база, созданная как и те, что мы видели
во Франции и в Исландии, американцами в годы
войны на принадлежащей англичанам земле. Вокруг
Гузбейна — на тысячи километров таежная глухомань.
А здесь — воздушная база, снабженная
современнейшим оборудованием.
Еще полчаса, и самолет, пробежав по обледеневшей
асфальтовой дорожке, опять уходит в небо. Теперь он
идет прямо на юг, и с каждым часом пейзажи внизу
становятся все мягче и приятнее. Погода улучшается,
облака расходятся. Скалистые хребты Лабрадора
остались позади, растаяли снега. Самолет летит над
Канадой, и все чаще и чаще попадаются на пути селения,
города, возделанные поля, сады. Вот уже видны внизу
темносерые нити автострад: взад и вперед снуют
автомобили. Берег вдруг круто забирает вправо, и самолет
опять повисает над морем. В небе ни облачка, и теперь
все вокруг голубое — и небосвод, и вода. Это — залив
святого Лаврентия.
Летчики повеселели, — теперь они у себя дома. Все
начинают чиститься, бриться, приводить себя в порядок.
Пассажирам раздают для заполнения очередные
американские иммиграционные анкеты. — Предстоит
ответить на такие, к примеру, вопросы:
— Являетесь ли вы лицом, высказывающимся за
228
свержение насильственным путем власти,
существующей в США?
— Были ли вы в сумасшедшем доме?
— Являетесь ли вы анархистом?
— Не многоженец ли вы?
Длинный раздел анкеты посвящен выяснению
вопроса о вашей расовой принадлежности. Вас
предупреждают: если в ваших жилах течет хотя бы 7зг часть
негритянской крови, — вы негр, и сокрытие от
американских властей этого факта будет рассматриваться
как тягчайшее преступление.
Пока идет заполнение анкет, время летит незаметно,
и когда вы вновь прильнете к иллюминатору, вы
увидите внизу какой-то невероятный, огромный, от
горизонта до горизонта город — уже начался так
называемый Большой Нью-Йорк: бесчисленные пригороды,
опоясывающие этот город, уже слились с ним и
образуют одно целое, занимая площадь в 99 759
квадратных километров, на которой живут 11 524 000 человек.
Здесь все спутано, смешано, сбито в хаотическом
беспорядке — заводы, торговые кварталы, сады,
склады, железнодорожные станции. Одно
пристраивалось к другому, одно поглощало другое. И над всем
этим хаосом — автомагистрали, «скайвей», «небесные
дороги»: автомобилю незачем путаться в нелепой
неразберихе бесчисленных нью-йоркских пригородов —
он выскакивает на автостраду, поднятую над землей
на высоких стальных колоннах, и летит напрямик над
домами, над заводскими цехами, через улицы наискось,
через реки, через парки.
Но вот дома становятся выше, улицы ровнее,
и впереди, там, где широкий Гудзон, раздваиваясь на
два рукава, медленно и устало подползает к океану,
вы видите, наконец, Манхеттен — продолговатый
тесный остров, накрытый геометрической сеткой
кварталов. Сверху он — словно гигантский окаменевший еж,
ощетинившийся иглами своих небоскребов. Самолет
уже ложится в последний вираж: накренившиеся дома
стремительно несутся вам навстречу, в последний раз
печально ревет сирена, и вот уже толчок, еще толчок,
и все стихает.
229
Распахнута дверь, подведен трап. Ваше путешествие
окончено — вы в Ныо-Иорке, на аэродроме Ла-Гар-
диа, в двадцати минутах езды от центра города.
2. НЬЮ-ЙОРК ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Когда мощный, пестрый, словно рекламный киоск,
таксомотор, везущий вас с аэродрома, втискивается
в толпу рычащих, сопящих, тяжело дышащих синим
нефтяным перегаром автомобилей и начинает медленно-
медленно ползти по центру Нью-Йорка, — вы невольно
с удивлением оглядываетесь по сторонам. Перед вами
не город в европейском смысле этого слова, а нечто
совершенно не похожее на все, что вы видели раньше.
Вы чувствуете себя так, будто попали на гигантский
заводской двор и лавируете между бесконечными
цехами. Самый молодой среди больших городов мира
и самый большой не только среди молодых, но и среди
старых — Нью-Йорк не похож на обжитые, уютные
города Европы. Есть что-то нарочито небрежное,
подчеркнуто грубое в его чертах.
Бетон, асфальт, камень. Ни деревца, ни травинки.
Обнаженная геометрия архитектуры, у которой отнято
все, что выходит за пределы элементарно необходимого
с точки зрения строительной механики, и строгая
арифметика улиц — ни одна из них не имеет имени, все
носят только номера. Расталкивая автомобильную мелочь,
важно шествуют чудовищные красные и зеленые
тягачи — один влечет гигантский подъемный кран
высотой в трехэтажный дом, другой тащит
двадцатитонный вагон, у третьего на спине уселись четыре
щегольских «бьюика» — автомобили-пассажиры следуют
с завода к заказчикам. Над головой у вас на всем
протяжении улицы закопченный железный поток: наверху
второй этаж этой улицы — новая скоростная
автомобильная дорога, по которой машины безостановочно
мчатся в четыре ряда — там нет перекрестков.
Нью-Йорку нет еще и четырехсот лет от роду.
Когда Генри Гудзон в 1609 году открыл устье большой
реки, названной впоследствии его именем, здесь на ка-
230
менистом острове стояли лишь жалкие вигвамы
индейцев. Только в 1626 году хитрый голландский губерна-
Чор выменял этот остров у доверчивых индейцев на
горсточку дешевых безделушек и основал здесь
поселок Новый Амстердам — поселок, который сорок
лет спустя англичане отняли у голландцев и
переименовали в Нью-Йорк. По-настоящему город начал
строиться каких-нибудь шестьдесят, семьдесят лет
назад. Он н сейчас строится, растет, разбухает. В
начале XX века здесь жили три с половиной миллиона
человек, в 1920 году — пять миллионов шестьсот
двадцать тысяч, а в 1940 — семь миллионов четыреста
пятьдесят пять тысяч. На каждом шагу в Нью-Йорке
резкие контрасты: первоклассные автомобили и ржавая
тряская громыхающая воздушная железная дорога,
построенная в прошлом веке; небоскребы и рядом
с ними подслеповатые, полуразвалившиеся домишки,
первоклассные магазины и жалкие грязные
антисанитарные лавчонки.
Тридцать лет тому назад здесь, в Нью-Йорке,
побывал Максим Горький. Этот город вызвал у него чувство
омерзения, и он назвал его в своих очерках Городом
Желтого Дьявола. Смелыми, размашистыми штрихами
он набросал точный и сильный портрет Нью-Йорка,
и когда теперь проезжаешь по тесным, грохочущим,
дымным улицам Манхеттена, — невольно приходят на
память гневные горьковские строки:
«Это город, это — Нью-Йорк. На берегу стоят
двадцатиэтажные дома, безмолвные и темные «скребницы
неба». Квадратные, лишенные желания быть
красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются вверх
угрюмо и скучно. В каждом доме чувствуется
надменная кичливость своей высотой, своим уродством.
В окнах нет цветов, и не видно детей...
Издали город кажется огромной челюстью, с
неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма
и сопит, как обжора, страдающий ожирением.
Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок
из камня и железа, в желудок, который проглотил
несколько миллионов людей и растирает, переваривает их.
Улица — скользкое, алчное горло: по нему куда-то
231
вглубь плывут темные куски пищи города — живые
люди. Везде — над головой, под ногами и рядом с то-#
бой живет, грохочет, торжествуя свои победы, железо.
Вызванное к жизни силою золота, одушевленное им,
оно окружает человека своей паутиной, глушит его,
сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы и растет,
растет, опираясь на безмолвный камень, все шире
раскидывая звенья своей цепи...»
Такое же гнетущее ощущение оставляет при первом
знакомстве Нью-Йорк и сегодня. Образ Нью-Йорка
остался неизменным, разница лишь в том, что Горький
видел двадцатиэтажные дома, а теперь «скребницы
неба» достигают ста этажей да копоти в городе стало
еще больше.
В свое время у нас много писалось и говорилось
о так называемом «американском сервисе» —
обслуживании людей. Богатство Соединенных Штатов и их
промышленный потенциал действительно создают все
возможности для того, чтобы идеально обслуживать
население. Каково же было наше удивление, когда
с первых часов пребывания в Нью-Йорке мы
обнаружили, что пресловутый «американский сервис» вещь
весьма относительная.
Начнем хотя бы с того, что в Нью-Йорке вы не
попадете в гостиницу, если не закажете номер вперед за
неделю. Вы можете спать на черных шиферных скалах
Сентрал-парка, можете дремать, если это вам удастся,
в неимоверно грохочущем, до жути грязном поезде
метро, можете всю ночь бродить по заваленным
мусором улицам, — но номера вы не получите. Почему?
Портье пожмет плечами, когда вы обратитесь к нем>
с таким вопросом: «Была война! Трудности...» Но на
территорию США как будто бы не упала ни одна
бомба? Все равно — «была война! Трудности...»
Но вот, наконец, после долгих хлопот вас
устраивают в отель в центре города, у Бродвея. Вы платите
пять долларов в сутки за крохотную клетушку с
низким потолком, в которой едва помещается кровать,
комод и маленький столик. Комнату почти не убирают.
Зато на столе всегда лежит аккуратная стопочка
почтовой бумаги с изображением небоскреба, в котором
232
помещается гостиница, с надписью: «Отель Эдиссон» —
дом гостеприимства. 1000 комнат. Зал для банкетов
на 1500 персон. В каждой комнате радио».
Когда же вы попробуете протестовать и потребуете
приличного обслуживания, администратор холодно
и раздраженно скажет: «Что же вы хотите? Была
война! Трудности...» Потом он добавит: «Если вам это
не нравится, можете жить в «Уолдорф-Астории».
Шестьдесят долларов в сутки и все олл-райт...»
Но шестьдесят долларов — это больше, чем может
высококвалифицированный специалист заработать в
неделю...
И только те, у кого в кармане еще много долларов,
нажитых во время войны, могут существовать в этом
городе без забот — компании и корпорации, ведающие
обслуживанием и торговлей, сделают все для того,
чтобы побыстрее перекачать эти доллары в свои кассы.
Это людей побогаче завлекают огни кабаре и ночных
клубов, это для них выставлены в витринах вещи,
каждая из которых равноценна целому состоянию.
Американский делец расчетлив — он не побрезгует
и мелкой никелевой монетой, которую можно выудить
у бедняка, но пусть уж такой потребитель не посетует
на качество товара: что продается по дешевке, то
разлетается, распадается в руках. И тут пускается в ход
испытанное сильное средство, которое должно
оглушить, ослепить, заворожить потребителя, убедить его на
минуту, что ему всучивают не дрянь, а нечто ценное, —
в ход пускается искусная американская реклама.
Нью-Йорк буквально загроможден самыми
поразительными рекламами, безжалостно гипнотизирующими
человека, от них никуда не уйти. Чем ближе к центру,
тем их больше. Вот откуда-то, с высоты двадцатых
этажей, непрерывным каскадом летят на вас мыльные
пузыри; из открытого рта, в который может смело
въехать ваш автомобиль, вырываются гигантски^
клубы табачного дыма; облако пара вскипает над
огромной чашкой кофе; и хотя сейчас полдень, все
световые рекламы работают на полную мощность — буквы
вертятся, пляшут, меняют окраску, требуя, чтобы вы
немедленно бросили все дела и побежали отдавать свои
233
доллары и центы тем, кто делает здесь свой бизнес.
«Наша шляпа сделает вас элегантным!», «Зайдите к нам
потолкаться!», «Давайте практиковаться! Проверьте
вашу способность целиться — сбросьте атомную
бомбу! Новая игра — 5 центов за жетон!»
Вы открываете газету. С ее страниц раздается все
тот же истошный рекламный призыв. Вы пойдете
в кино — и вам покажут цветную музыкальную
комедию «Парень из Бруклина», мораль которой такова:
«Покупайте молоко только у фирмы Н.» Наконец вы
включаете радио и с облегчением вздыхаете, услышав
симфонию Чайковского. Но радость ваша будет
непродолжительна — через минуту музыка прорвется
и громовой голос диктора возвестит вам: «Если у вас
болит голова, пользуйтесь только пилюлями фирмы X.»
В центре города, на Бродвее, у Таймс-сквера, торг
идет круглые сутки. Здесь можно купить тросточку в
четыре часа ночи и сходить в кинематограф в семь
утра — были бы только у вас доллары. Продать! Во что
бы то ни стало продать! Во что бы то ни стало
заставить покупателя выложить на прилавок деньги,
пока он не оставил их у конкурента! — ради этого
фирмы пойдут на все.
Таким я увидел Нью-Йорк осенью 1946 года, таким
же он предстал передо мной осенью 1947 года. На
первый взгляд, ничто как будто не изменилось в
Нью-Йорке за этот год: все та же автомобильная
толчея в узких и грязных, пропахших бензиновой
гарью улицах Манхеттена, все то же мелькание
огней на Бродвее, все те же дюймовые газетные
аншлаги, возвещающие об очередном таинственном
убийстве или о новом антисоветском выступлении
сенатора. Как и год назад, днем самолеты пишут дымом
в небе: «Пейте пепси-кола», а ночью дирижабль,
лавируя между шпилями небоскребов, мечет
электросигналы: «Пейте пиво Рейнолдс». И только
разъезжающий, как и прежде, на своей коляске по тротуару
у отеля «Плаза» мрачный безногий инвалид в зеленой
солдатской куртке, торгующий копеечными
карандашами, повесил на грудь новый картонный плакатик,
обращенный к прохожим: «Продолжай улыбаться».
234
Но вот проходит неделя, другая, вы погружаетесь
в повседневную жизнь этого города, внимательно
осматриваетесь по сторонам, разговариваете с людьми.
Лихорадочная нью-йоркская сутолока перестает
застилать вам глаза, и тогда вы сразу обнаруживаете, как
много перемен произошло здесь за год — удручающих
рядового американца перемен. И чем больше этих
перемен, тем старательнее пытается их скрыть
американская пропаганда, все чаще прибегающая к
заклинаниям вроде того, каким воспользовался безногий
торгаш с Пятой авеню, желавший подправить свои
дела. «Продолжай улыбаться! — твердит
американская пропаганда обывателю. — Не думай об угрозе
безработицы, забудь о росте цен, не обращай
внимания на вылазки реакции. Продолжай улыбаться, чорт
возьми!»
Но невеселая, кривая улыбка получается в эти дни
даже у тех американцев, которые до сих пор не
разучились верить пакостной двухцентовой газетенке Хер-
ста «Дейли мирор» или не менее пакостной «Дейли
ньюс».
— Судите сами, — сказал мне однажды мастер
одной из тех многочисленных мелких фабрик, что ютятся
в мрачных кварталах Даун-тауна, — что это за жизнь,
когда заработка твоего едва хватает на то, чтобы
прокормиться? Вы спрашиваете меня, ходят ли
рабочие нашей фабрики в театр. Извините меня, но это
странный вопрос. Они перестали ходить даже в
кафетерий, где раньше все мы завтракали. Теперь каждый
норовит принести с собой кусок хлеба из дому — так
обойдется дешевле.
В 1944 году (когда цены были значительно ниже,
чем сейчас) Калифорнийский университет проделал
интересную исследовательскую работу. Было
вычислено, — сколько денег требуется семье из четырех
человек, чтобы кое-как свести концы с концами,
прожить, не влезая в долги. Оказалось, что для этого
было необходимо 2964 доллара в год. В эту сумму,
между прочим, входят такие расходы:
Наем квартиры — 408 долларов.
Содержание квартиры— 117 долларов 54 цента.
235
Оплата врача и приобретение лекарств для
заболевших членов семьи — 179 долларов.
Страхование — 113 долларов.
Такое распределение семейного бюджета, понятно,
в диковинку советскому человеку, который привык
пользоваться бесплатной медицинской помощью,
государственным страхованием и всеми
преимуществами нашей социальной системы. Удивит советского
человека и мизерная сумма «культурных расходов» —
доллар в неделю на всю семью, и это при условии, что
один лишь билет в кино на Бродвее стоит от одного
до двух долларов, а за билет в театр надо отдать от
двух до десяти долларов...
Но эти данные будут выглядеть еще разительнее,
если к ним добавить одну цифру: уже осенью 1946 года
этим скудным прожиточным минимумом, по данным,
опубликованным в американской прессе, не
располагали более 70% американских семей! Что же касается
американских рабочих, то здесь картина еще более
мрачная: прожиточным минимумом осенью 1946 года
не располагали 80% рабочих семей США. К осени
1947 года положение ухудшилось еще больше: за этот
год, по признанию Трумэна, сделанному им в
конгрессе, оптовые цены увеличились на 40%, а
розничные—на 23%.
Однажды я повстречался с ^моряком, плававшим на
флагманском корабле американского пассажирского
флота «Америка». Я попросил его рассказать, как
складывается его реальный бюджет. Он охотно
согласился:
— О, при наших доходах сделать такой подсчет не
трудно... — Вооружившись листком бумаги и
карандашом, он начал подсчитывать: — Сначала — доход.
После уплаты налогов, если моряк не тратит в
заграничных портах денег зря, у него остается на руках
примерно сто семьдесят пять долларов в месяц.
Теперь — расходы. Моя семья, к счастью,
небольшая — я, жена и ребенок. За квартиру мы платим
сорок долларов в месяц; должен сказать вам, что по
нашим ценам это очень дешево. Продовольствие —
самое простое и дешевое — стоит четыре доллара в день
236
Для такой семьи, как моя; в месяц выходит сто
двадцать долларов. Значит, на все остальное остается
пятнадцать — двадцать долларов... Больше всего наш
брат боится заболеть. За визит к доктору надо отдать
три доллара; если врача вызовешь на дом, — плати
пять долларов. Сам моряк, если только он член
Международного рабочего ордена, лечится в больнице
бесплатно. Но, упаси бог, если у тебя заболеет жена или
ребенок! За ребенка в госпиталь надо платить
минимум шесть — восемь долларов в день. В частной
больнице, где уход лучше, надо платить десять —
двенадцать долларов в день. Недавно мне пришлось лечить
зубы. Я вынул два зуба и поставил три пломбы. За это
мне придется расплачиваться в течение нескольких
месяцев: я должен зубному врачу шестьдесят пять
долларов... Моя дочка учится в школе. До
шестнадцати лет ее будут учить бесплатно. Но потом надо
отдавать ее в колледж. Количество бесплатных
колледжей ограничено, и нашему брату очень трудно
определить туда своих детей, особенно неграм, евреям,
итальянцам. А в платных колледжах за обучение
берут от шестисот до двух тысяч долларов в год...
Этот разговор невольно вспоминается, когда
читаешь официальные статистические данные, рисующие
внутриэкономическое положение в Соединенных
Штатах сегодня. Американская статистика делается
руками очень ловких людей. Они умеют жонглировать
цифрами. Но факты упрямы, и их не скроешь.
Американская пропаганда, к примеру, хвастает на весь мир,
что Соединенным Штатам удается до сих пор
поддержать рекордную «занятость». По официальным данным
в марте 1948 года в США числилось «только»
2 400 000 безработных. Все остальные рабочие и
служащие якобы были «заняты». Под этим расплывчатым
термином подразумеваются любые «занятия,
оплачиваемые в той или иной мере». Но вот на поверку
оказывается, что к числу «занятых» людей отнесены,
например, 1 949 000 человек, работающих... от одного до
четырнадцати часов в неделю. 7 810 000 человек
«заняты» от пятнадцати до тридцати четырех часов в
неделю. 2 184 000 «имеют работу, но не работают»,—
237
есть и такая графа в американской статистике. Однако
ни тех, ни других, ни третьих американская статистика
не относит к категории безработных или
полубезработных — они ведь «заняты».
Но уж если рабочий, занятый на производстве
круглую неделю и получающий сверхурочные, вынужден
отказывать себе в самом необходимом и рассчитывать
каждый цент, чтобы как-то свести концы с концами,
то совсем не трудно представить, в каком тяжелом
положении оказываются люди, «занятые», к примеру, от
одного (!) до четырнадцати часов в неделю.
В сентябре 1947 года я прочел в «Нью-Йорк тайме
мэгэзин» весьма характерную для этих дней статью —
«Высокие цены? У каждого своя теория».
Прикидываясь простачком, автор этой статьи силился
представить рост цен как непостижимую загадку.
«Было время, — писал он, — когда требовалось
захватить тележку, чтобы забрать то количество зелени
и овощей, которое вы приобретали за 5 долларов.
Теперь же вы можете все покупки спрятать в карманах
пальто, и у вас еще останется место для перчаток.
Никто не сомневается, что цены на яйца и мясо будут
основным вопросом на ближайших американских
выборах. Кто же виноват в росте цен?..»
И дальше автор начинал плести густые словесные
узоры, стараясь всячески затемнить этот простой и
ясный вопрос:
«Один конгрессмен считает, что во всем виноваты
англичане, лэнд-лиз и торговые договоры с Англией.
Другой конгрессмен полагает, что вся беда в том, что
во время войны многие семьи в США привыкли есть
больше мяса, масла и яиц, чем раньше. Демократы
осуждают республиканцев за ликвидацию контроля
над ценами. Республиканцы, в свою очередь, обвиняют
демократов в том, что они вызвали инфляцию.
Рабочие винят дельцов, дельцы — рабочих,
социалисты — капитализм, горожане — фермеров,
фермеры — профсоюзы, а изоляционисты винят во всем
внешнюю политику покойного Рузвельта. Некоторые
ищут виновников за рубежом и говорят о «русском
заговоре»...
238
Однако и этому «теоретику» не удалось полностью
замолчать подлинную первопричину дикой
свистопляски цен. Чтобы придать хотя бы видимость
объективности своим рассуждениям, он вынужден был сквозь
зубы процедить:
«Один (!) грузчик обвиняет двух человек в том, что
из-за них он должен теперь платить за завтрак 1
доллар 35 центов вместо 60 центов, как это было до
войны. Наделали это, по его мнению, Трумэн и Тафт.
Исправить положение, по его словам, может лишь
Уоллес, когда он будет избран президентом».
В действительности, с кем бы вы ни заговорили
сейчас в рабочих кварталах, в районах, населенных
ремесленниками, служилым людом, так называемыми
«белыми воротничками», — повсюду вы услышите
прямой и четкий ответ: подлинными виновниками
баснословного роста цен являются монополии, корпорации,
тресты и их политическая агентура.
Капиталисты Соединенных Штатов заработали на
войне небывалые барыши. Пожалуй, никогда еще, за
всю историю Соединенных Штатов, американский
монополистический капитал не наживался так сильно, как
в эти военные годы. На второй сессии Генеральной
Ассамблеи организации Объединенных наций 18
сентября 1947 года глава советской делегации А. Я.
Вышинский бросил в лицо главарям монополий
неопровержимые цифры, наглядно показывающие, как
американские монополисты превратили войну в источник
небывалой наживы.
Какой дикий вой подняла после этого состоящая в
найме у монополий американская пресса! Уязвленные
в самое сердце монополисты были вне себя от
бешенства. «Во всяком случае, чорт возьми, Вышинского
совершенно не касается, какие прибыли приносит
американский бизнес», — ревела принадлежащая
«газетному королю» Херсту «Нью-Йорк джорнэл энд Амери-
кэн». Некоторые газеты попытались взять под
сомнение цифры, приведенные советским делегатом.
Но они тут же были посрамлены. Советская делегация
напомнила клеветникам следующие неопровержимые
данные:
239
а) Сумма банковских депозитов повысилась в США
за годы войны на 61 млрд. долларов («Ежемесячный
статистический бюллетень», май 1947 г. Издание
статистического отдела ООН).
в) Согласно органу министерства торговли США,
«Сервей оф каррент бизнес», за апрель месяц 1946 года
прибыли американских частных предприятий, после
вычета всех налогов и исключая дивиденды от
заграничных капиталовложений, выражаются в следующих
цифрах, по годам:
1934-
1935-
1936-
1937-
1938-
1939-
-0860
-2132
-4162
- 4568
-1956
- 4735
1940
1941
1942
1943
1944
1945 -
-6112
-9067
-9098
-9875
-9681
-9020
с) Всего за годы войны — с 1940 по 1945 гг.
включительно прибыли составили 52 853 млрд. долларов.
Тогдашний директор военной мобилизации и
реконверсии Стиллмен в своем (восьмом) докладе
президенту и конгрессу от 1 октября 1946 года заявил
относительно прибылей: «Прибыли частных
предпринимателей после уплаты налогов находятся на высочайшем
в истории уровне, несмотря на то, что в результате
процесса реконверсии прибыли в некоторых отраслях
промышленности находятся на низком уровне, в связи
с наибольшим выпуском готовой продукции».
Адвокаты Уолл-стрита были биты...
Бешеному росту военных сверхприбылей
способствовало дальнейшее усиление концентрации капиталов в
США. Могущественные нефтяные, стальные,
автомобильные «империи», поглощая своих конкурентов,
раздувались все больше. В 1939 году здесь было двадцать
восемь концернов с капиталом выше миллиарда
долларов. В 1947 году количество таких концернов
возросло до сорока пяти !.
1 Особенно характерна для «героев» военного «бума»
карьера, сделанная компанией «Кертис Райт». Перед войной она
имела всего восемь тысяч рабочих. К 1943 году количество рабо-
240
После 1943 года кривая производства в США начала
клониться книзу, однако на доходах монополий пока
что это еще не сказалось. Барыши монополий все
растут и растут.
В 1947 году чистые прибыли монополий после
уплаты налогов превысили 17 миллиардов долларов.
На многочисленных банкетах по поводу
распределения дивидендов шампанское льется рекой. Стремясь
поразить воображение обывателя, купцы задают обеды
лодстать пиршествам древнеримских обжор. В Чикаго
на годичном банкете мясных королей под
председательством самого Эйзенхауэра, который в поисках
популярности давно уже стал своеобразным свадебным
генералом при дворе его величества доллара,
присутствовало тысяча восемьсот пятьдесят гостей; газеты,
захлебываясь от подхалимского восторга, писали, что
каждому гостю был подан бифштекс весом в четыре
фунта. В Нью-Йорке осенью 1947 года был устроен
необычайно пышный банкет в честь «первых
пятидесяти» — здесь чествовали пятьдесят наиболее
знаменитых и удачливых бизнесменов, в том числе воротилу
«Чейз нейшнл банк» Олдрича, Нельсона Рокфеллера,
Генри Форда II, киномагната Эрика Джонсона, двух
Вилсонов — президента «Дженерал электрик» и
президента «Дженерал моторе», банкира Меллона и
других. Их приветствовал губернатор штата «Нью-Йорк
Дьюи, весело начавший свою речь словами:
«Приветствую вас, жертвы нового курса». Дружным хохотом
ответили «первые пятьдесят» на эту издевку над
памятью покойного Рузвельта.
Но веселье «первых пятидесяти» чисто показное; все
эти торжества в конечном счете носят тот же
рекламный характер, что и жалкий плакатик на груди
безногого торгаша с Пятой авеню. На душе у них скребут
кошки, и нельзя не заметить, что на бурном, кипучем
мире американского бизнеса лежит печать нервической
чих у этой сЬирмы возросло до 180 тысяч, т. е. более, чем в
двадцать раз. Активы «Кертис Райт», занявшей четвертое место
среди крупных промышленных компаний США, оценивались уже
в 1295 млн. долларов. Так «делали деньги» американские
капиталисты в военные годы.
16 На Западе после войны 241
суетливости, неуверенности, неуравновешенности. Все
больше и все чаще здесь начинают говорить о
надвигающемся неминуемом кризисе, и биржа откликается
на эти разговоры конвульсивными колебаниями,
срывами курса акций тех самых компаний, которые как
будто бы пока еще процветают. С июня по ноябрь
1946 года курсовые потери составили огромную
сумму — 20 миллиардов долларов. В апреле — мае
1947 года вновь произошло резкое падение акций.
Наконец 29 июля был зарегистрирован новый грозный
«подземный толчок» на нью-йоркской бирже: за один
день стоимость биржевых акций упала на миллиард
долларов; в этот день федеральное резервное
управление, закончив анализ поступивших сведений, пришло
к еыводу, что промышленное производство США
медленно, но неуклонно падает.
В чем же здесь дело?
Надо отдать должное американской технике, —
здесь с поразительной быстротой налаживают
производство любых вещей, на которых можно
заработать,— будь то автомобили, елочные игрушки,
стандартные дома или пылесосы. Но... чем больше
зарабатывают предприниматель и купец, тем больше им
хочется заработать.
Покойный президент Рузвельт провел закон о
запрете повышения цен и учредил администрацию
контроля над ценами. После войны эта система рухнула
под дружными ударами монополий. Нам довелось
наблюдать, как это происходило. В октябре 1946 года
вдруг во всех магазинах исчезло мясо, хотя на
пастбищах нагуливало жир 80 миллионов голов скота.
Повсюду выстраивались длинные очереди. Домохозяйки
били стекла в мясных и ругали правительство. Трумэн
снял контроль, и назавтра повсюду появилось мясо,
но... по двойной цене.
Осенью 1947 года, когда мне довелось вторично
побывать в Нью-Йорке, я имел возможность сравнивать
положение дел в отношении денег и цен в США с тем
положением, какое довелось наблюдать за год дс
^ого'. И на каждом шагу я получал неопровержимые
свидетельства резкого повышения цен, падения поку-
242
пательной способности населения, роста тревоги и
неуверенности в завтрашнем дне у среднего американца.
Только с мая по сентябрь 1947 года цены на мясо
выросли на 21%, на яйца —29%, на масло — на 30%.
Сам министр труда Швелленбах, выступая 1 декабря в
комиссии палаты представителей по вопросу валюты
п банка, сказал:
— Цены достигли тревожных пропорций. Стоимость
прожиточного минимума выше, чем когда-либо.
Домохозяйка тратит двадцать один доллар на то же
количество продуктов, которое до войны стоило десять
долларов, а полтора года назад — пятнадцать долларов.
Во второй половине октября 1947 года я видел
тревожную сутолоку домохозяек и длинные очереди у
прилавков бакалейных магазинов — покупательницы
скупали сахар, так как пронесся слух, что ожидается
резкое повышение цен. 22 октября нью-йоркские газеты
вышли с аншлагами: «Охваченные паникой женщины
скупают сахар, делая накопления на случай
опасности». Осажденный толпой репортеров председатель
национальной ассоциации розничных торговцев д'Агос-
тино, тщетно пряча довольную улыбку, говорил:
— У меня не осталось ни зерна сахара на складах.
Во вторник я имел нормальный трехнедельный запас,
а в пятницу все разошлось...
В провинции паника покупателей приняла еще
большие размеры. В Сент-Луисе и других городах люди
скупали не только сахар, но и дамские чулки,
автомобильные шины и другие изделия — повсюду пронесся
слух, что будет введена карточная система.
Министерство торговли вынуждено было обратиться со
специальным призывом к населению — преодолеть
панику.
Не нужно было быть большим провидцем, чтобы
угадать, что эта паника была организована ловкими
спекулянтами...
Соединенные Штаты сейчас охвачены строительной
горячкой. Повсюду грохочут пневматические молотки,
двадцати — тридцатиэтажные дома клепают из стали
за два-три месяца. Но вот что удивительно: в Нью-
Йорке очень мало достроенных и заселенных жиль-
16»
243
цами новых домов, хотя в городе, по признанию
губернатора Дьюи, семьсот пятьдесят тысяч человек не
имеют жилья, и добыть жилплощадь почти
невозможно.
Почему же не достраиваются новые дома? Очень
просто! Контроль на квартирные цены еще не снят, а
национальная ассоциация владельцев недвижимого
имущества в ноябре 1946 года решила начать
кампанию за повышение квартирной платы, причем
республиканский сенатор Кеннет Уэрри обещал «повлиять на
своих коллег» и добиться отмены контроля.
Домовладельцы зарабатывают и сейчас совсем не плохо —
около миллиарда долларов в год, причем они не
считают нужным тратиться на ремонт своих домов, — из-
за сильного жилищного кризиса сейчас люди снимают
даже полуразвалившиеся трущобы, а в Чикаго дело
дошло до того, что в 1945 году там решили продавать
для жилья старые трамвайные вагоны (по признанию
президента Трумэна, в США нехватает 5 миллионов
домов, а 1072 миллионов домов не соответствуют
элементарным нормам). Но... домовладельцы
предпочитают оставлять новые дома недостроенными, пока не
будет снят контроль над квартплатой. Тогда можно
будет потребовать с жильцов, сколько
заблагорассудится...
Чтобы вздуть цены, надо создать видимость
товарного голода. Когда покупатель видит, что товары
исчезают с рынка, он не торгуется. Эта несложная
спекулятивная механика ведет к накоплению огромных
запасов на складах. Нам рассказывали в Нью-Йорке,
что автомобильные фирмы летом 1946 года угоняли
тысячами новые машины в леса и пустыни в ожидании,
что будут отменены твердые цены на автомобили.
А в это время в Нью-Йорке очень трудно было купить
машину. Если же вы находили грузовик в продаже,
вам предлагали уплатить сверх твердой цены 500
долларов за... кошку, посаженную продавцом в кабину.
О таком фокусе с ценами сообщал, в частности,
бывший администратор управления по контролю над
ценами Гендерсон в журнале «Атлантик».
К концу 1947 года, по сведениям экономического
244
бюллетеня «Экономик ноте», на складах скопилось уже
на 50 миллиардов долларов различных товаров и
материалов! Чтобы нагляднее представить себе, что
кроется за этой цифрой, вспомним, что еще не так
давно, к примеру, в 1933 году, вся валовая продукция
обрабатывающей промышленности Соединенных
Штатов оценивалась в 30 миллиардов долларов.
Удастся ли предотвратить дальнейший рост этих
накоплений и пустить в оборот все то, что гниет и
пылится на складах? Трезвые люди делового мира с
тревогой качают головами, когда репортеры обращаются
к ним с такими вопросами.
Одно время в Соединенных Штатах много шумели
о том, что сбережения, накопленные во время войны,
когда на рынке отсутствовали многие товары первой
необходимости, сыграют крупную роль в деле
сбалансирования рынка. Действительно, вклады в
сберегательные кассы США выросли до 66 миллиардов
долларов в 1945 году против 14 миллиардов в 1939 году.
Однако при более внимательном ознакомлении с этим
вопросом выясняется, что сбережения принадлежат,
главным образом, небольшой, наиболее обеспеченной
части населения. По данным «Статистической
ассоциации», «три пятых лиц, работающих по найму,
составляют категорию, не сделавшую почти никаких
сбережений во время войны». С другой стороны, по
сообщению того же бюллетеня «Экономик ноте», уже во
втором квартале 1946 года сбережения по всей стране
сократились на 20 миллиардов долларов. Совершенно
очевидно, что израсходовать свои сбережения
вынуждены были, в первую очередь, мелкие и средние
вкладчики — они-то и являются главными покупателями
товаров широкого потребления. Придерживают же свои
капиталы богачи и дельцы, которые, по выражению
«Бизнес уик», «используют большую часть своих
накоплений для получения дохода, а не для
приобретения товаров».
К этому надо добавить, что общая сумма жалованья
и заработной платы, выплачиваемых в Соединенных
Штатах, сокращается. Общая сумма жалованья и
заработной платы, выплаченных в США в 1946 году, со-
245
ставила 106 миллиардов долларов, в то время как в
1945 году она достигала 111 миллиардов.
Только в результате сокращения рабочей недели,
отмены аккордных ставок и оплаты сверхурочных часов
и воскресных работ покупательная способность
трудящихся США, по данным Конгресса
производственных профсоюзов, сократилась на 12 миллиардов
долларов в год. Миллионы американцев вовсе лишились
работы: таким образом, покупательная способность
населения в США значительно уменьшилась.
Торговые фирмы США обычно возлагают большие
надежды на так называемую «праздничную»
торговлю — на рождество, на пасху. Рождественская
торговля 1946 года прошла не плохо — мы наблюдали
перед сочельником подлинную давку во многих
магазинах: в Соединенных Штатах принято приобретать
обновки перед праздником. Именно в этот период
пускаются в ход накопленные исподволь небольшие
сбережения. В канун рождества 1946 года дирекция
крупнейшего в Соединенных Штатах универсального
магазина «Мэйси» торжественно возвестила в газетах,
что, «идя навстречу интересам покупателей», она
дополнительно наняла несколько тысяч продавцов».
Совершенно иную картину являла пасхальная торговля
1947 года. Торговцы заявляли, что пасхальная и
весенняя торговля в этом году «вызывает разочарование»,
поскольку физический объем ее ниже, чем в 1946 году,
хотя сумма выручки несколько больше
прошлогодней — в связи со значительным ростом цен. Дирекция
того же универсального магазина «Мэйси» в канун
пасхи опубликовала объявление с предупреждением
о возможном сокращении деятельности фирмы.
На какие только ухищрения не идут американские
купцы, чтобы расширить сбыт товаров, не находящих
потребителя! Осенью 1947 года по команде
корпораций, производящих мануфактуру, в Соединенных
Штатах была провозглашена новая мода: носить
длинные юбки. Вся пресса начала превозносить эту моду.
Писали, что она укрепляет нравственность, что она
несет большие практические удобства и т. д. Но
американки решительно запротестовали против новой
246
моды. Возникло целое движение ее противников. Его
возглавила Бобби Вудвард, мать двух детей из города
Даллас в Техасе, создавшая «Клуб противниц
длинных юбок». В него записалось 1300 женщин. Неделю
спустя такие клубы были созданы во всех 48 штатах.
Женщины организовывали демонстрации под
лозунгом: «Долой новую моду, спасайте доллары». В городе
Валдоста к этим демонстрациям присоединились
мужчины, организовавшие «Лигу разорившихся мужей».
Американская пресса всячески пыталась преподнести
информацию о таких демонстрациях, как своеобразные
забавные анекдоты, иллюстрирующие пресловутое
«американское чудачество». Однако этот небольшой
пример в известной мере показателен для
сегодняшней Америки, в которой домохозяйка должна десять
раз подумать, прежде чем купить лишний ярд
материи...
Твердолобый республиканец Тафт, один из авторов
печально знаменитого антирабочего закона, решил
внести и свой вклад в дело помощи бизнесу. Он
обнародовал довольно странный проект. «Вы слишком
много едите, господа, —I заявил он 12 сентябре н»а
митинге в Калифорнии, — поэтому растут цены на
продовольствие и поэтому у вас не остается денег на
другие покупки. Вам надо меньше есть!» И Тафт повел
целую кампанию под лозунгом «меньше есть». Эта
кампания, как и следовало ожидать, вызвала резкое
недовольство у населения. В газетах появились снимки,
изображавшие, как усиленные наряды полиции
охраняют на улицах Лос-Анджелоса незадачливого
сенатора от толп возмущенных граждан, вышедших на
демонстрацию с плакатами: «Программа Тафта —
налоги на бедных, рабство для рабочих, голод для
трудящихся».
Некоторое время спустя лозунг «меньше есть»
нашел, однако, поддержку в Вашингтоне. Трумэн
обнародовал целую программу «экономии продуктов
питания» — на этот раз под предлогом оказания
помощи голодной Европе. Были введены два постных
дня в неделю — населению предлагалось по
вторникам не есть мяса, по четвергам не есть птицы и яиц
247
и каждый день экономить хлеб. Ханжеский цинизм
правящего класса США не знает пределов. В «Нью-
Йорк Тайме» я прочел 13 октября 1947 года
сообщение из города Элизабет, что председатель клуба
любителей собак Франк Тролл, откликаясь на предложение
Трумэна, призвал всех собаководов распространить
постные дни на... собак. Газета с самым серьезным
видом сообщала, что это предложение одобрено
представителем общества покровительства животным
некоим Цуккером, который заявил, что «если собаки
будут один день в неделю питаться лишь молоком,
рыбой и овощами, то это будет весьма полезно для их
здоровья».
Совершенно иной прием, естественно, получила
инициатива Белого Дома у трудящихся слоев населения.
Домохозяйки выражали удивление и раздражение по
поводу призыва президента. Они заявляли, что и без
того мясо и рыба давно уже перестали быть частыми
гостями в их домах. «В конце концов, — заявляли
они, — совершенно безразлично, будет ли объявлен
постный день во вторник или в среду. Главное, что
мяса нет в доме, — ведь оно нам теперь не по
карману».
С другой стороны, призыв президента вызвал
протесты фермеров, мясоторговцев, владельцев
ресторанов, выражавших недовольство предложенными
ограничениями. Характерно, что введение постных дней не
только не привело к сокращению цен, но, наоборот,
вызвало новый резкий подъем их.
Кончилось все это тем, что запрет на продажу
птицы по четвергам был снят. Постепенно улеглась и
вся шумиха с постными днями, хотя формально они
сохранены...
Последние сообщения из США говорят о
дальнейшем расширении инфляции, о новом росте цен, о
продолжающемся наступлении монополий на жизненный
уровень трудящихся. При всем том им не удается
расширить сбыт своих товаров, «Джорнэл оф коммерс»,
издаваемый не для широкой публики, мрачно пишет:
«Простой факт заключается в том, что население
покупает меньше одежды, обуви и продовольствия, чем
248
раньше. Даже неуклонное сокращение сбережений и
расширение кредита потребителям не могут
компенсировать этого общего сокращения».
Но даже ребенку ясно, что если рынок сбыта для
американских товаров не будет найден, экономика
США завтра же встанет перед катастрофой. Вот почему
американские монополисты все с большим упорством
и настойчивостью силятся во что бы то ни стало
расширить экспорт, захватить рынки в других странах.
Насколько удается им осуществить свои планы?
Каково положение с американским экспортом? Что
сулят перспективы внешней торговли американскому
бизнесу?
На много миль тянется вдоль Гудзона широкая
скоростная автострада, поднятая на металлических
столбах над нью-йоркской набережной метров на
пятнадцать. Здесь нет перекрестков, и нескончаемые
вереницы автомобилей сплошным потоком несутся на
уровне четвертых и пятых этажей, слегка замедляя
ход лишь перед спусками к докам, — туда ныряют
слоноподобные тяжеловозы, влекущие на своих метровых
колесах грузы чудовищной тяжести; их ждут
раскрытые трюмы океанских пароходов, обслуживающих
американский экспорт. По обе стороны этой
гигантской реки, борт к борту, стоят в ожидании грузов
сотни кораблей, готовящихся уйти во все концы света.
А дальше, на рейде, маячат еще десятки судов, ожи
дающих очереди на погрузку.
— Наш знаменитый «бум», — сказал, кивая в
сторону причала, один американский экономист, когда мы
проезжали с ним по автостраде. Он криво усмехнулся
и иронически продолжил: —Мы любим делать ставку
на «бум». На этот раз ставка поставлена на экспорт.
По сути дела это последний шанс сохранить
производство на высоком уровне. Но что будет, когда
заокеанские покупатели отдадут нам свои последние
доллары? Вот вопрос, над которым стоит задуматься...
Нельзя сказать, чтобы в американских деловых
кругах не отдавали себе отчета в том, к чему ведет,
в конечном счете, бешеное форсирование экспорта, не
покрываемого импортом: ведь, в конце концов, у стран-
249
покупателей нечем будет расплачиваться, не на что
<5удет покупать. Не проходит недели, чтобы в
серьезных экономических журналах «не появилось статьи,
предупреждающей о том, что экспортный «бум»
неизбежно повлечет за собой катастрофические
последствия. Но сама природа капиталистической экономики
ведет к тому, что эти предостерегающие голоса
заглушаются грохотом погрузочных машин, опускающих в
трюмы океанских кораблей новые и новые экспортные
грузы.
Все средства были пущены в ход предприимчивыми
американскими дельцами, чтобы форсировать
экспорт, — начиная от долларовой дипломатии и
«атомного» шантажа и кончая бешеной пропагандистской
кампанией, развернутой на всех континентах в чисто
американском рекламном стиле. 15 ноября 1947 года
журнал «Лайф» опубликовал серию идиллических
цветных фотографий, озаглавленную «Эфиопия идет
к современности». Что же подразумевает под
современностью «Лайф»? Он предоставляет своим
читателям возможность умилиться зрелищем
абиссинского негуса, восседающего на диване с
мухобойкой в одной руке и американским журналом «Ридерс
дайджест» — в другой. На другой фотографии
читатель видит рекламный плакат американского фильма
-«Штормовая погода» — одного из тех стандартных
музыкальных фильмов, которые пекутся, как блины,
на жаровнях Голливуда и потом рассылаются во все
части света. «Лайф» сообщает, что американские
фильмы нашли широкий сбыт в Абиссинии. Бедные
абиссинцы!
Проникая во все уголки земного шара,
американские коммивояжеры заполонили рынки своими
товарами. Я видел весною 1947 года, как скромные финские
домохозяйки покачивали головами и вздыхали в
магазинах Хельсинки, рассматривая грубые, пахнувшие
плесенью брезентовые зеленые плащи, которыми
облагодетельствовали Финляндию американские купцы,
всучив ей пресловутые «армейские излишки» за
полновесные доллары. Приехавший в Нью-Йорк на
Генеральную Ассамблею ООН корреспондент бомбейской
250
газеты рассказывал, что индийское правительство
вынуждено было ввести ограничения на сбыт
американского алкоголя, гребней, разных безделушек —
американские купцы в 1946 году ввезли в Индию своих
товаров на 170 729 тысяч долларов и только за три
первые месяца 1947 года—на 95 миллионов.
Характерно, что при этом американцы не продавали индусам
заводского оборудования.
Еще меньше церемонятся американские дельцы
с покупателями из англо-американской оккупационной
зоны Германии, которую они рассматривают как свою
колонию. Так, в декабре 1947 года американская
военная администрация продиктовала послушному ей
«экономическому совету» во Франкфурте-на-Майне
«сделку» на сумму в 238 миллионов долларов. Немцам
навязали немыслимое старье — все из тех же
пресловутых «излишков армейского имущества».
Когда немецкие эксперты прибыли на склады для
приемки закупленного «имущества», они увидели горы
старых противогазов, потрепанных ремней, ветхих
одеял, изношенных шинелей и ботинок. Затем
экспертов повели на «автомобильное кладбище» и показали
им полуразбитые военные автомобили. Они пришли
к единодушному мнению, что все это «имущество» не
годится для гражданского потребления. Но возражать
уже было поздно. Немецкие торговые фирмы были
вынуждены принять закупленные «товары». Чтобы
окончательно не уронить свою репутацию в глазах
потребителя, они публиковали сообщения вроде
следующего:
«Союз гамбургских торговцев обувью доводит до
сведения общественности, что поступившая в
последние недели для продажи населению партия обуви из
американских армейских запасов в основном состоит
из ботинок такого плохого состояния, что они едва
ли пригодны к употреблению. Торговцы обувью
обращают на это внимание с той целью, чтобы не нести
потом ответственности перед покупателем...»
Партнеры американских купцов знают, что бешеный
рост импорта из США сулит им дальнейшее усиление
экономического закабаления. Кое-кто из них делает
251
слабые попытки защищаться, отгораживаясь
таможенными тарифами, накладывая запрет на ввоз тех или
иных товаров. Так, Мексика, Аргентина и Бразилия
ограничили ввоз американских автомобилей. Мексика,.
Бразилия, Уругвай, Эквадор, Аргентина и Перу
наложили запрет или же ввели резкие ограничения на ввоз
радиоприемников. Но все эти запреты либо обходятся
предприимчивыми американскими торгашами, либо
же ломаются при помощи средств грубого нажима.
Восьмого ноября 1947 года журнал «Бизнес уик»
отметил как «подлинную победу Соединенных Штатов»
итоги торговой конференции в Женеве. «Официальные
круги, — писал журнал, — удовлетворены ввиду
следующих обстоятельств: в результате шести месяцев
упорных (!) переговоров США добились тарифных
соглашений с 22 странами... США взломали
британскую систему имперских преференций. Устав
международной торговой организации был исправлен с
учетом возражений, выдвинутых деловыми группами
США. США добились специальных уступок в
отношении пошлин, взимаемых с американских товаров.
Кроме того, в мировой торговле сохранен принцип
частного предпринимательства».
Пуская в ход все средства экономического и
политического давления, американские экспортеры довели
вывоз своих товаров за границу до небывалых
размеров. В мае 1947 года, по данным американского
бюллетеня «Каррент бизнес», издаваемого
департаментом торговли, экспорт стоял на уровне 18
миллиардов долларов в год.
Но эта неприкрытая торговая экспансия
американских монополий имеет и свою обратную сторону,
которую прекрасно знают на самом Уолл-стрите. Где-
где, а уж здесь-то, во всяком случае, отдают себе
отчет в том, что выкачка валютных резервов из
карманов покупателей, сознательно предпринятая США в
интересах подавления конкурентов, неизбежно поведет
к кризису во внешней торговле.
Тем большую тревогу и нервозность в так
называемых «деловых кругах» США вызвали первые же
сигналы статистики о начале резкого спада экспорта.
252
Начиная с мая 1947 года, экспорт начал падать из
месяца в месяц. Последние данные, опубликованные
5 декабря 1947 года в журнале «Юнайтед стейтс ньюз»,
говорят о том, что в третьем квартале экспорт
держался на уровне 13 521 миллиона долларов в год и что
в четвертом квартале снижение экспорта
продолжалось.
Эти данные отнюдь не должны были явиться
неожиданностью для американцев. Они знали, что
американские монополии, всемерно форсируя экспорт, в то же
время ограничивают импорт иностранных товаров,
опасаясь их конкуренции на внутреннем рынке США.
Бюллетень «Каррент бизнес» отметил, что уже в июле
1947 года Франция и Италия, исчерпав свои
долларовые и золотые резервы, вынуждены были сократить
по сравнению с маем закупки продовольствия на
54,6%, текстильных товаров — на 71,6%, а импорт
в целом — на 32%.
Официальная американская пропаганда твердит, что
«дыру» между американским экспортом и импортом
удастся заткнуть с помощью «плана Маршалла».
(Подробнее о «плане Маршалла» я расскажу ниже.)
Но это — сказка для детей дошкольного возраста, не
умеющих считать дальше десятка. И «Бизнес уик»
пишет по поводу (наметившегося резкого сокращения
американского экспорта:
«С планом Маршалла или без него экспорт США
обречен на падение. Кредиты по плану Маршалла не
превысят пяти миллиардов долларов в год. Скорее
всего они составят 3 или 4 миллиарда. Однако разрыв
между экспортом и импортом в США достигает лишь
по товарам 10 миллиардов в год, а если добавить
невидимый экспорт,— 12 миллиардов. Раньше или
позже придется сократить экспорт, чтобы закрыть эту
брешь».
Так обстоит дело с экспортным «бумом», которому
нынешние хозяева Америки придавали столь большое
значение в поисках таких экономических решений,
какие позволили бы сохранить производство на высоком
уровне и отдалить наступление неизбежного
экономического кризиса.
253
3. ВЛАСТЬ сБОЛЬШОГО БИЗНЕСА»
Однажды вечером после бурного заседания
Генеральной Ассамблеи, на котором Даллес, теряя
самообладание, злобно выкрикнул: «Не будет отступлений к
Тегерану, Ялте и Потсдаму», группа корреспондентов
задержалась в шухмном, освещенном мертвенным
голубоватым светом зале прессы. Усевшись на
металлических штампованных столах, они обменивались
впечатлениями. Обозреватель одной из так называемых
«солидных» американских газет многозначительно сказал:
— Как бы там ни было, но когда говорит человек
доллара, — это звучит веско. Право же, времена
сенатского пафоса и парламентских трюков прошли.
Недаром отсюда убрали старца Коннэли. Он был смешон
со своими старомодными манерами — постукиванием
кулаком по столу, мелодраматическими
взвизгиваниями, мудреной фразеологией. Теперь говорит и
решает сам бизнес. Так яснее, проще и удобнее, чорт
возьми!
— Мутопеу — ту сНр1отасу ', — иронически
бросил из угла корреспондент либеральной газеты.— Но
вы упускаете одну деталь — не все в мире продается
и не все покупается.
— Не стоит философствовать, парень, — обрезал
его поклонник Даллеса. — Что толку в том, что твоя
газета хочет казаться неподкупной? Вспомни о ее
смехотворном тираже!.. — и, повернувшись к своим
коллегам, он. продолжал развивать модную сейчас
в Америке теорию великодержавного бизнеса. — Да,
наша цивилизация — это цивилизация великих
корпораций. Корпорации банки—динамомашины нашего
общества. Что из того, что на политическом небосводе
Вашингтона не сверкают звезды, равные покойному
Джону Пирпонту Моргану или Джону Рокфеллеру?
Раньше люди создавали корпорации, теперь
корпорации создают людей. И, будьте уверены, Уолл-стрит
умеет расставлять силы. Вы не задумывались над
одним явлением наших дней: какой любопытный три-
1 Мои деньги — моя дипломатия.
254
единый союз образуют сегодня наш бизнес, наша
дипломатия и наши военные? Даллес, Форрестол, Ройялл,
конечно, не ровня покойным «большим старикам», но
эти парни тоже знают, чего они хотят и чего хочет
бизнес. В этом их преимущество перед старыми
сенатскими говорунами...
Этот откровенный разговор весьма характерен для
нынешних умонастроений реакционных кругов
сегодняшней Америки. «Теория великодержавного бизнеса»
находит в этих кругах тем больше почитателей, чем
ближе дело подходит к кризису, чем яснее
вырисовываются контуры неизбежной экономической
катастрофы, к которой приближается пресловутая «система
частной инициативы».
Короли «большого бизнеса» учитывают, что методы,
применявшиеся их отцами, сейчас устарели. В наше
время они не говорят уже, как говаривали их предки:
«Мы доверенные лица господа бога, которым он
вручил богатства и власть в этой стране». Наоборот, они
любят распространяться о социальной демократии,
о всеобщем равенстве, об индивидуальных свободах,
о правах человека. Но под шумок этой болтовни»
«большой бизнес», проводит в лихорадочных темпах
реорганизацию и перестройку своих сил, имеющую
целью дальнейшее укрепление диктатуры
монополистического капитала, которая душит всякое
прогрессивное движение в своей стране и претендует на роль
международного жандарма.
Типичной особенностью американской
государственной машины всегда было тесное срастание,
переплетение государственного аппарата с монополистическим,
капиталом.
Некоторые досужие наблюдатели, принимая на веру
рекламные писания американской пропаганды,
склонны утверждать, будто бы в капиталистической
Америке возрастает... регулирующая роль государства
в экономике. Больше того, говорят, будто бы в
военном хозяйстве капиталистических стран эта роль стала
решающей. Между тем факты говорят о прямо
противоположном: не государство регулирует
деятельность монополий в Америке, а монополии, поставив
255
государство США себе на службу, превратили его
в свой инструмент. В военное время они использовали
государственный аппарат для получения
сверхприбылей, бесцеремонно диктуя ему свою волю.
Покойный президент Рузвельт требовал
расследования деятельности монополий. В своем обращении к
конгрессу он заявил, что чрезмерная концентрация
экономической мощи в руках небольшой группы
частных лиц представляет собой величайшую угрозу
демократии и ведет к фашизму. «Свобода демократии
в опасности, если народ допускает рост мощи частных
лиц до такого предела, когда эта мощь становится
сильнее, чем само демократическое государство», —
писал Рузвельт.
По требованию президента была создана
специальная сенатская комиссия для расследования
деятельности монополий. Она собрала богатейшие
фактические данные, разоблачающие некоронованных
императоров Америки. Но все эти данные были погребены
в архивах конгресса, и результаты обследования
нисколько не затронули интересов монополии. Они
•были хозяевами Америки и остались ее хозяевами.
В 1947 году в Соединенных Штатах была
опубликована интересная книга известного исследователя
Джорджа Сельдеса, о котором говорят, что вся его
жизнь представляет собою крестовый поход против
реакции. Всю жизнь он разоблачает систему
господства монополистического капитала в США. Его
крошечный бюллетень «Ин фэкт», отважно ведет борьбу
«с гигантами продажной капиталистической прессы,
располагающими миллионными тиражами. Его книги
•беспощадно вскрывают самые сокровенные тайны
Уоллстрита. Свою новую книгу Сельдес назвал
«Тысяча американцев». Это убийственное, разоблачительное,
отлично документированное повествование о том, как
кучка банкиров и промышленников правит огромной
■страной и жестоко эксплоатирует а;мериканскии народ.
Хозяевами Америки является небольшая группа
•семейств, сосредоточивших в своих руках
неслыханные богатства, которые и не онились самым богатым
деспотам древности. Это Морганы, Форды, Дюпоны,
250
Рокфеллеры, Меллоны, Мак-кормики, Харт-форды,
Харкнессы, Дьюки, Пью, Кларки, Рейнольдсы и
некоторые другие. Возглавляемые ими монополии
поработили Америку. Сейчас они хотят поработить мир.
Сельдес наглядно показывает, как управляют
страной эти подлинные хозяева Соединенных Штатов. Для
примера он берет положение дел в штате Монтана.
Фактически вся власть в этом штате сосредоточена
в руках мощной компании «Анаконда», владеющей
медными рудниками. В ее руках все ключевые
экономические позиции. Она контролирует прессу. В
зависимости у нее находится государственный аппарат,
послушно выполняющий предписания компании. Когда
возник вопрос о расширении электрификации штата,
«Анаконда» запротестовала: строительство новых
электростанций повело бы к удешевлению энергии,
а это было бы невыгодно дочерней компании
«Анаконды» — «Монтана пауэр компани», которая держит
в своих руках электрические ресурсы штата. В
результате дело было сорвано.
Но «Анаконда» в свою очередь не является
независимым предприятием. От нее идут нити в Нью-Йорк:
«Монтана пауэр компани» входит в состав крупной
корпорации «Америкэн пауэр энд лайт корпорэйшн»,
а эту корпорацию контролирует всемогущий
банкирский дом Моргана.
Такие же нити тянутся к дому Моргана со всех
концов страны. Как указывает Сельдес, этот
банкирский дом вместе с одним из своих банков «Ферст
нэйшнл» контролирует от 41 до 200 нефинансовых
корпораций с общей суммой капиталов, превышающей
30 миллиардов долларов. В числе контролируемых
домов Моргана корпораций — Стальной трест,
Американская телефонная и телеграфная компания, корпорация
Пульман, Дженерал электрик, Фелпс-Додж и другие.
О том, как щупальцы ведущих банков захватывают
другие банковские и промышленные фирмы,
красноречиво повествует любопытный документ, который
Сельдес извлек из архивов конгресса. Восемь банков —
«Бэнк оф Америка Нэйшнл Ассосиэйшн», «Бэнк оф
Манхэттен трест К°», «Бэнкерс трест К°», «Чэйз
17 На Западе после войны 257
нэйшнл бэнк», «Кемикел бэнк энд трест К0», «Гаранты
трест К°», «Нэйшнл сити бэнк К°», «Нью-Йорк
трест К0» располагают 3741 директорским местом в
самых различных компаниях и корпорациях.
На втором месте по финансовой мощи после дома
Моргана стоит группа железнодорожных королей
Кун — Леб, располагающая капиталом в 11
миллиардов долларов, на третьем — группа нефтяных королей
Рокфеллеров, контролирующая капитал в 6,5
миллиарда. За ними идут группа Меллона с 3
миллиардами и группа Дюпона с 2,5 миллиарда.
«Верховным органом американского бизнеса»
является «Особый совещательный комитет», в который
входят представители двенадцати ведущих
корпораций: «Америкен телефон энд телеграф компани»,
«Вифлеемская стальная корпорация», «Дюпон де Немур»,
«Дженерал электрик», «Дженерал моторе», «Гудир
тайр энд раббер К°» (резиновый и шинный трест),
«Интернешнл харвестер К0» («Международная
компания сельскохозяйственных машин»), «Ирвинг трест К°»>
«Стандард ойл компани оф Нью-Джерси», «Юнайтед
стейтс раббер К0» (резиновый трест), «Юнайтед стейтс
стил корпорейшен» (стальной трест), «Вестингауз
электрик К°». За исключением «Ирвинг трест К0»
руководители всех этих корпораций являются членами
Национальной Ассоциации промышленников,
представляющей собой подлинный генеральный штаб этого
«верховного органа американского бизнеса». Сельдес
называет эту ассоциацию «самой могущественной из
тайных сил», управляющих Америкой.
«Особый совещательный комитет» двенадцати
ведущих корпораций занят выработкой «высшей стратегии»
борьбы с рабочим движением. Как указывает Сельдес,
эта «стратегия» предусматривает использование всех
средств для подавления рабочего движения — от
штрейкбрехерства, пулеметов и слезоточивых газов и
нападений гангстерства до антирабочих законов,
проводимых через послушный конгресс. Недаром
Ассоциация промышленников тратит миллионы на
избирательные кампании!
Весьма характерно, что Ассоциация промышленни-
258
ков особое внимание уделила захвату командных
позиций на фронте идеологической борьбы. Она
расходует миллионы долларов на пропаганду через печать,
радио, кино, церковь. По данным Сельдеса 90% всей
американской прессы послушно выполняет директивы
Национальной Ассоциации промышленников — в ее
руках газеты с общим тиражом в 50 миллионов
экземпляров и журналы с общим тиражом в 100 миллионов
экземпляров. Любопытно также отметить, что
руководителями реакционных церковных организаций
являются крупнейшие тузы Уолл-стрита. В частности,
одним из лидеров американских церковников является
небезызвестный Джон Фостер Даллес.
Знаменательно, что после войны в государственном
аппарате США резко возросло количество
бизнесменов— людей с Уолл-стрита.
Министерство обороны США возглавляет бывший
президент крупнейшего банкирского дома «Диллон
Рид энд компани»— Форрестол1. Пост военного ми-
1 Форрестол числится во всех американских справочниках
как крупнейший представитель Уолл-стрита. Здесь, на
Уоллстрите, он провел десятки лет. Еще до вступления США в
первую мировую войну Джемс Форрестол торговал на Уолл-стрите
акциями банка «Рид эндкомпани». Во время войны эта фирма
заработала немалые деньги. В двадцатых годах банкирский дом
под вывеской «Диллон, Рид энд компани» числился как
один из крупнейших в США. Быстро продвигался по пути своей
карьеры и Джемс Форрестол. В 1923 году он стал компаньоном
этого банкирского дома, в 1926 году — вице-президентом, а в
1937 году — президентом его. По словам журнала «Лайф»,
опубликовавшего в октябре 1947 года обширный панегирик
Форрестол у, он «сделал столько денег, что в 1933 году мог вежливо
объяснить сенатской комиссии, как он избежал уплаты налогов
по операциям с акциями через подсобные компании по ту сторону
канадской границы».
Ни для кого не представляют секрета прочные связи
банкирского дома «Диллон Рид энд компани», светилом которого
является Форрестол, с германским капиталом. Еще в двадцатых
годах через этот банк предоставлялись крупные американские
займы Германии. Особенно тесные связи банк установил с
немецким концерном «И. Г. Фарбениндустри», сыгравшим такую
крупную роль в подготовке и развязывании второй мировой
войны. В тесных связях с этим концерном находился и сам
Форрестол. По данным справочника «Модис меньюэл оф инда-
стриалс», он в 1941—1942 годах по совместительству являлся одним
17*
259
нистра США занимает генерал Ройялл, банковский
деятель из Северной Каролины, который и в военном
министерстве нашел поприще для финансовых
операций—во время войны Ройялл ведал финансовыми
делами армии, а после войны с успехом распродавал
излишки военного имущества. Его заместителем
является один из видных банковских деятелей США —
вице-председатель все того же банкирского дома
«Диллон Рид энд компани» генерал Дрейпер,
в 1947 году как известно, он секретно организовал
предоставление промышленникам Германии займа
частных американских фирм на сумму в миллиард
долларов. Специальным помощником военного министра
США является калифорнийский нефтепромышленник
Поули, неоднократно разоблачавшийся в скандальных
спекуляциях. Пост министра авиации занимает Стюарт
Саймингтон, бывший председатель крупнейшей фирмы
по производству радио- и электроаппаратуры —
«Эмерсон менифэкчуринг К°». Помощник министра Джон
Браун — председатель компании «Каунинг хауз
корпорейшн» и представитель других финансовых фирм.
Во главе министерства торговли до 1948 года стоял
виднейший представитель монополистического
капитала Гарриман — председатель компании «Браун бра-
зерс энд Гарриман». Министерство финансов
возглавляет банкир из Сен-Луи Снайдер.
Не менее знаменательно, с другой стороны, что
многие руководящие посты на Уолл-стрите сейчас
занимают военные люди.
Американский журналист Арт Шилдс писал осенью
1947 года:
из руководителей фирмы «Дженерал анилин энд фильм корпор-
эйшн» — американского филиала «И. Г. Фарбениндустри».
Эти связи, естественно, наложили свой отпечаток и на
политическую платформу Форрестола. Тот же «Лайф» в качестве
особой доблести этого деятеля отмечает, что в период войны
Форрестол, являвшийся тогда военно-морским министром,
решительно противился политике Рузвельта в отношении Германии и
активно противодействовал поставкам военных материалов
в СССР. Далее в статье указывается, что Форрестол выражал
полнейшее сочувствие взглядам известного авантюриста и
поджигателя войны Буллита.
260
«Уолл-стрит сверкает от фуражек с золотыми
галунами. Сюда направлен целый поток
высокопоставленных военных, — им предоставляются посты
председателей, вице-председателей, директоров крупнейших
корпораций. Морганы, Меллоны, Рокфеллеры отдают
генералам и адмиралам предпочтение, вручая им
судьбы своих многомиллионных трестов...»
Чем же вызваны эти назначения? Отнюдь не
трогательной заботой Морганов и Меллонов о генералах,
оставшихся не у дел после войны. Нет, здесь, как и
в любом другом деле, бизнес руководствуется своими
выгодами. В США не делают секрета из того факта,
что «золотым фуражкам», вооружившимся военным
опытом, ставится весьма конкретная задача:
сокрушить профсоюзы с помощью закона Тафта — Хартли,
не терпя никаких возражений.
И «золотые фуражки» ретиво берутся за дело.
Осенью 1947 года председатель правления «Сире,
Робак компани» генерал-майор Роберт Вуд выбросил
лозунг, встретивший одобрение на Уолл-стрите: «Чем
крупнее становится организация, тем больше она
должна брать за образец военные органы». Что ж,
генерал Вуд имеет немалый опыт руководства
«армейским методом». Десять лет он провел в Панаме,
командуя строителями; все, что когда-либо слышали панам-
ские рабочие от генерала Вуда, — укладывается в два
коротких слова: «Вы уволены». Вуд завербовал себе
в помощь еще двух генералов: генерал-майор Уолтер
Франк будет возглавлять южноамериканский филиал
компании, генерал Уолтер Рид будет представлять ее
в Мексике.
С распростертыми объятиями был принят на
Уоллстрите бывший начальник военно-морских перевозок
вице-адмирал Лэнд. Он назначен председателем
воздушной транспортной ассоциации. Этот высокий пост
предоставлен ему не случайно. На Уолл-стрите хорошо
помнят, что пять лет назад на собрании нью-йоркских
банкиров он декларировал, имея в виду возможность
забастовок: «Каждый организатор должен быть
расстрелян на рассвете».
Адмирал флота Хэлсй, снискавший себе кличку
261
«бык» и прославившийся своим заявлением о том, что
«японцы произошли от обезьяны», оставив море, обрел
сразу два теплых местечка. Он служит одновременно
Морганам — как директор их гигантской
международной телеграфно-телефонной компании и Меллонам —
как директор Либерийской компании; его
непосредственным начальником по этой линии является
бывший государственный секретарь США Стеттиниус, а
ближайшим коллегой — бывший помощник
государственного секретаря Джозеф Грю — родственник
покойного всесильного Джона Пирпонта Моргана...
Генералы и адмиралы занимают сейчас командные
посты буквально во всех важнейших отраслях
американской экономики, начиная от металлургии и
кончая сахарными плантациями, нефтяными промыслами,
радиокорпорациями и компаниями путей
сообщения.
В одной лишь компании трансконтинентальных и
западных воздушных путей, которая принадлежит
небезызвестному Говарду Хьюзу, собран целый отряд
генералов и адмиралов. Самый молодой адмирал флота
Гарольд Г. Бовен, сорока трех лет, является
вице-президентом этой компании. Другим вице-президентом
этой же компании назначен бывший командующий
американскими воздушными силами в Африке и на
Среднем Востоке генерал Бенджамин Д. Джиле.
Крупный руководящий пост поручен бывшему
заместителю начальника воздушных сил США генерал-
лейтенанту Икеру.
Еще сильнее контроль военных в американской
радиокорпорации. Директором этой радиокорпорации
является бывший начальник корпуса связи
американской армии генерал X. К. Инглас. Председатель этой
компании генерал Давид Сарноф. Вице-президентом и
главным управляющим коммуникаций
радиокорпорации состоит генерал С. М. Томас. Бригадный генерал
К. Р. Ван Дейк — вице-президент национальной
радиовещательной компании. Европейским отделением
радиокорпорации ведает вице-адмирал В. А. Гласфорд.
Генерал-лейтенант Дулиттл, известный своими
бомбовыми ударами по жилым кварталам Токио, «прн-
262
землился» в качестве вице-президента в нефтяной
компании «Шелл». Бывший начальник артснабжения
американской армии генерал-лейтенант Л. X. Кэмпбэл
теперь является вице-президентом компании
«Интернешнл харвестер». Этот список можно было бы
продолжать очень долго.
Картина была бы неполной, если бы мы умолчали о
тех ударных полувоенных силах, которые формирует
агентура Уолл-стрита, чтобы предоставить их в
распоряжение генералитета, меняющего «золотые фуражки»
на цилиндры. Речь идет о таких махрово-реакционных
организациях, как «Американский легион», «Рыцари
Колумба» и другие. Минувшей осенью в США были
проведены съезды этих организаций. Крупнейшие
деятели реакции витийствовали перед ними,
провозглашая крестовый антикоммунистический поход.
Подробнее об американских фашистах я расскажу
ниже. Здесь же мне хотелось бы лишь зафиксировать
совершенно явный и бесспорный, доказанный
многочисленными неоспоримыми свидетельствами самих
американцев факт: американские фашистские
организации состоят под опекой промышленных монополий
и их штаба — Национальной Ассоциации
промышленников.
В годы войны некоторые из богатых покровителей
фашистов пытались скрывать свои связи с фашистами.
Но уже в дн/и битвы за Берлин они отбросили всякое
стеснение. И когда в апреле 1945 года в прениях
в палате представителей были преданы гласности
связи семейств Дюпонов, Пью, Джэрдлеров, Вейров
и других с фашистскими организациями, — только
нефтяники Пью запротестовали. Известно, тем не менее,
что семейство Пью финансировало такие фашистские
организации, как «Крестоносцы» или «Стражи
республики».
На содержании у американских банкиров и
промышленников состоят и «Ку-клукс-клан», эта старейшая
в мире террористическая расистская организация,
действующая в южных штатах, и пресловутый
«Американский легион», и «Бригада святого Себастьяна», и
«Националисты — ветераны мировой войны», и «Кре-
263
стоносцы», и «Американское действие», и «Стражи
республики» и «Рыцари Колумба».
Сама верхушка монополистического капитала, —
«Тысяча американцев», — представляет собою
своеобразный генералитет махровой реакции. По заявлению
Сельдеса, — это «респектабельный потенциальный
фашизм могущественнейших реакционных капиталистов,
которые могут в будущем... решиться доверить свои
миллионы штыкам черных или коричневых
рубашек, вместо того чтобы принимать решение
избирателей».
Забота заправил американского монополистического
капитала об укреплении фашистских организаций
становится понятна в свете непрерывного нарастания
социальных конфликтов в США после войны. Резкое
ухудшение материального положения, усиление экспло-
атации, усиление реакции в стране побуждают рабочих
подниматься на борьбу за свои права.
И не случайно в эти послевоенные годы мировая
печать вновь запестрела сообщениями о забастовках
в Соединенных Штатах. В 1945 году здесь было
4616 стачек, в которых участвовало 3,4 миллиона
человек; в 1946 году в США было отмечено 3200
забастовок, в которых участвовали 7 миллионов человек, —
эта цифра значительно превышает количество
бастовавших в 1919 году — рекордном в истории стачечной
борьбы в США. Не утихало забастовочное движение
и в 1947 году. По данным американского министерства
труда, только за девять месяцев 1947 года было
3000 случаев «прекращения работы», причем было
потеряно 29 600 000 рабочих часов... Участники
забастовок единодушно требовали повысить заработную
плату за счет сокращения прибылей монополий.
В конце 1946 года фирма
экономистов-консультантов «Роберт Р. Натан Ассошиэйтс Инкорпоред» х по
заказу Конгресса производственных профсоюзов
произвела исследовательские расчеты, которые показы-
1 Роберт Натан — бывший заместитель начальника
управления мобилизации и реконверсии США, видный знаток
американской экономики.
264
вали, что если бы прибыли монополий были сокращены
до уровня 1939 года, то за их счет в обрабатывающей
промышленности можно было бы сразу же поднять,
зарплату на 21%, а в остальных отраслях — на 25%.
Но руководители монополий и слышать не хотят о
таком распределении доходов. Так, президент
знаменитого автомобильного концерна «Дженерал моторе»
Вилсон заявил:
— В случае повышения зарплаты на двадцать пять
процентов, цены на автомобили немедленно будут
повышены на те же двадцать пять процентов.
По данным американского экономического фонда,,
рабочие США только с сентября 1945 года по сентябрь
1946 года потеряли из-за забастовок заработок на
огромную сумму — 998 миллионов долларов. Одни
лишь шахтеры потеряли 222 с половиной миллиона.
Странно и дико с непривычки было видеть на Бродвее
в дни забастовки летчиков компании «Т\УА» пилота
в полной форме с плакатом на груди: «Забастовка
пилотов. Я — ветеран войны, остался без единого
цента. Помогите». Люди подавали ему милостыню и.
не оглядываясь, проходили. И все же, как ни трудно
приходится бастующим, рабочие и служащие упорна
продолжают борьбу.
Эта борьба протекала бы много успешнее, если бы
американское профессиональное движение было более
организованным и сплоченным. Факты говорят о том.
что во главе американского профессионального
движения до сих пор стоят люди, охотно идущие на
сговор с предпринимателями; эти люди часто являются
прямыми агентами монополий, действующими в
интересах своих хозяев...
В дни нашего пребывания в Соединенных Штатах,
осенью 1946 года, здесь разгорелась могучая
забастовка углекопов, вызвавшая много шума в стране.
История этой забастовки весьма показательна, и о ней
стоит здесь рассказать. Как известно, американские
шахтеры в течение десятилетий ведут упорную,
отчаянную борьбу за свои права, против гнета угольных
монополий. Ужасающее положение американских
горняков с большой силой показал американский писатель.
265
Эптон Синклер в своем романе «Король Уголь»,
написанном в двадцатых годах. С тех пор на шахтах
Соединенных Штатов мало что изменилось.
Попрежнему углекопы жестоко эксплоатируются, попрежнему
они вынуждены жить в ветхих хижинах,
принадлежащих угольным компаниям, приобретать продукты
в лавках, принадлежащих тем же компаниям, и
платить за все это втридорога; попрежнему в шахтах
нарушаются элементарные требования техники
безопасности — по данным американской статистики, за
пятнадцать лет в шахтах погибло от аварий 43 273
человека и потерпел увечья 770 991 человек.
В годы войны горняки работали от зари до зари. За
счет сверхурочных заработки их несколько повысились,
но быстрый рост цен сводил на-нет это повышение
заработной платы. Естественно, что после окончания
войны американские углекопы возобновили борьбу за
повышение своего жизненного уровня, за создание
элементарных условий безопасности в шахтах.
Владельцы угольных компаний категорически
воспротивились каким бы то ни было изменениям существующего
положения.
Переговоры между профсоюзом углекопов и
угольными компаниями длились в течение нескольких
месяцев и окончились безрезультатно. Тогда, в марте
1946 года, шахтеры решили бастовать. Эта забастовка
длилась около двух месяцев. Кончилась она тем, что
правительство ввело в шахты войска, поручило
руководство шахтами офицерам военно-морского флота и
взяло угольную промышленность под свой контроль.
Между профсоюзом углекопов и правительством было
заключено временно компромиссное соглашение, и
работа возобновилась. Предполагалось, что переговоры
между профсоюзом углекопов и угольными
компаниями возобновятся и приведут к положительным
результатам. Однако этого не произошло.
И вот в ноябре забастовка углекопов возобновилась.
На этот раз правительство решило принять еще более
жесткие меры против строптивых шахтеров. Вопреки
существующим законам, суд наложил запрещение на
забастовку. Это решение вызвало бурю возмущения
266
б самых широких кругах американской
общественности — у всех в памяти была свежа долгая и упорная
борьба профсоюзов за отмену вмешательства суда
в трудовые конфликты. Эта борьба увенчалась
успехом в тридцатых годах, — тогда был принят закон,
прямо запрещающий прибегать к судебным решениям
в целях предотвращения или отмены забастовок.
В последний раз правительство применило эту крайнюю
меру в 1922 году, когда таким путем была
предотвращена крупная забастовка железнодорожников. И вот
теперь правительство демонстративно нарушило
закон.
Судебное запрещение не остановило шахтеров — они
оставили работу. На шахтах Пенсильвании, Иллинойса,
Алабамы, Кентукки, Огайо, Вирджинии, Индианы все
замерло. Немедленно сократилось движение на
железных дорогах; прибытие поездов в Нью-Йорк
уменьшилось на пятьсот в сутки. В штате Нью-Йорк было
объявлено чрезвычайное положение. По распоряжению из
Вашингтона в двадцать одном штате восточной части
США было введено частичное затемнение. Было
запрещено использование электроэнергии для освещения
витрин магазинов и реклам, для кондиционирования и
охлаждения воздуха. Было предписано также
сократить на 25% расход электроэнергии на пользование
лифтами. Угрюмо выглядел в эти дни Бродвей, в
обычное время ярко залитый разноцветным электрическим
светом. Казалось, будто в городе объявлена
воздушная тревога — всюду мрак.
Сведущие люди говорили, что принятие этих
чрезвычайных мер не вызывалось практической
необходимостью. Они нужны были властям как средство
психологического воздействия на обывателя, — надо
было направить его злобу на шахтеров, надо было
запугать среднего американца призраком темноты и
холода, заставить его поверить, что углекопы повинны
во всех бедах. Безжалостно травила шахтеров пресса.
Характерно, что буржуазная печать использовала
конфликт в угольной промышленности как повод,
чтобы развернуть наступление на все права и свободы,
приобретенные американским рабочим классом в пе-
267
риод «нового курса» президента Рузвельта.
«Уоллстрит джорнэл», «Нью-Йорк тайме», «Нью-Йорк
геральд трибюн», словно по команде, обвинили в своих
передовых статьях «новый курс» в том, что он
«вскормил» мятежных шахтеров. Реакционная пресса
требовала немедленного пересмотра и отмены законов,
охраняющих права профсоюзов.
Сенатор Берд от штата Вирджиния выступил с
предложением созвать экстренную сессию конгресса и
провести антирабочий закон с целью сломить
забастовку углекопов. Вторя ему, газета «Нью-Йорк
геральд трибюн» заявила, что момент для проведения
такого закона весьма благоприятен; правительство
«впервые за тридцать лет готово дать бой» рабочему
движению; новый конгресс, в котором большинством
располагают республиканцы, готов поддержать в этом
деле правительство; с «новым курсом» теперь
определенно покончено. Исходя из этих «благоприятных
условий», газета выдвигала целую законодательную
программу: должен быть пересмотрен «акт Вагнера» —
закон, в котором определены права профсоюзов; на
профсоюзы должно быть распространено действие...
антитрестовских законов и законов против
мошенничества. Иными словами, предлагалось, по сути дела,
объявить профсоюзы вне закона. Именно так и ставила
задачу газета «Уолл-стрит джорнэл»: «Возмущенный
конгресс может стереть в порошок все американские
профсоюзы», — писала она.
В такой напряженной обстановке 27 ноября в
маленьком зале федерального суда в Вашингтоне
началось судебное разбирательство по обвинению
профсоюза углекопов в... неуважении к суду. Это
«неуважение» выражалось в том, что шахтеры
забастовали, несмотря на то, что суд наложил
запрещение на забастовку. Зал был переполнен доотказа
репортерами газет и публикой. Судья Голдсборо
чувствовал себя не совсем уверенно, прекрасно понимая
шаткость обвинения. В начале заседания он заикнулся,
что намерен подобрать кандидатов в совет присяжных,
которому было бы предоставлено полное право осудить
или оправдать профсоюз углекопов. Его оборвал по-
268
мощник генерального прокурора США, выступивший
в этом необычном деле в качестве истца от имени
правительства. Он заявил: «Правительство
утверждает, что профсоюз углекопов не имеет права на
разбор его дела регулярным судом присяжных».
Защитник возразил, что в данном деле вообще нет
состава преступления, поскольку закон, известный под
именем акта Норриса-Лагардии, запрещает
вмешательство суда в трудовые конфликты.
— У меня создается впечатление от
правительственных документов, что политика, провозглашенная этим
актом, обязательна для всякого и каждого, только не
для правительства, — с горькой иронией сказал
защитник, — в нем нет исключений для правительства.
Утверждение, что такое исключение существует,
является извращением закона...
Судья, внимательно слушавший защитника, вдруг
заметил:
— Я был членом конгресса, когда принимался акт
Норриса-Лагардии...
— Да, я знаю, — подхватил эту реплику
защитник, — я полагаю, что вы голосовали за этот билль...
Судья утвердительно кивнул головой. Однако это не
помешало ему тут же заявить, что, по его мнению,
профсоюз углекопов все же виновен в неуважении
к суду.
— Я не хочу, чтобы у кого-либо осталось какое-либо
сомнение на этот счет. Отдельное лицо не может
толковать закон по своему усмотрению и решать, как
поступать с ним. Это — анархия! — многозначительно
сказал судья. И он постановил — оштрафовать профсоюз
углекопов на сумму в три с половиной миллиона
долларов...
Это вопиюще несправедливое и незаконное решение
вызвало новую бурю возмущения. Национальная
гильдия адвокатов заявила, что судебное запрещение
забастовки углекопов незаконно. Профсоюз рабочих
автомобильной промышленности и профсоюзов
электриков опубликовали заявление о том, что они готовы
оказать любую поддержку бастующим. С такими же
заявлениями выступили профсоюз моряков, братство
269
железнодорожных кондукторов, профсоюз
плавильщиков и многие другие.
Конгресс производственных профсоюзов обратился
к Американской федерации труда и железнодорожным
профсоюзам с посланием, призывая их создать единый
фронт борьбы за интересы американского рабочего
класса.
Таким образом, обстановка складывалась
благоприятно для развития борьбы углекопов. И в этот
кульминационный момент борьбы руководитель профсоюза
углекопов Льюис, которого в Америке неспроста
прозвали «разбойничьим бароном профдвижения»,
неожиданно отдал приказ о... прекращении забастовки.
Прогрессивная общественность резко порицала это
неожиданное решение. Из шахтерских районов приходили
сообщения о том, что углекопы возмущены и негодуют:
зачем было прекращать работу на семнадцать дней,
раз теперь приказывают возвращаться на работу без
всяких основательных результатов?
Зато реакция ликовала. Крупные тресты
торжествовали по поводу того, что углекопы возвратились на
работу, не получив никакой прибавки к жалованью.
Они требовали усилить еще больше «крутую политику»
в отношении рабочих. В палату представителей и в
сенат вносились все новые и новые антирабочие
законопроекты, один циничнее другого, преследующие цель
обуздать строптивые профсоюзы.
Вся эта история весьма характерна для политических
нравов страны, находящейся под пятой у всесильного
«большого бизнеса». Подлинное существо
пресловутой «американской демократии» вскрывается именно
на таких примерах. Стоило углекопам заявить о своих
правах, как сразу же все атрибуты «демократии»
пошли на смарку. Были попраны законы, были нарушены
клятвенные обещания, были полностью игнорированы
основы конституции. Выполняя волю своих хозяев,
американские власти, судьи, пресса, продажные
профсоюзные лидеры сделали все, чтобы сорвать забастовку.
И все же, несмотря ни на что, рабочие и служащие
Соединенных Штатов упорно продолжали борьбу за
свои права и интересы. Вслед за углекопами потребо-
270
вали повышения зарплаты сталелитейщики,
автостроители, текстильщики, телефонистки, телеграфистки,
портовые грузчики, судостроители. В апреле 1947 года
в США разразилась забастовка работников телефона,
парализовавшая междугородную связь. Вновь и вновь
оставляют работу углекопы, требуя выдачи пенсий
престарелым и улучшения техники безопасности. Эта
борьба приобретает все более острый характер,
поскольку американская реакция все наглее и
настойчивее стремится обуздать рабочее движение, разгромить
демократические организации, превратить трудящихся
в бесправных рабов и, приведя свой тыл к молчанию,
обрести полную свободу рук для внешнеполитических
авантюр...
4. РАЗМЫШЛЕНИЯ У КАРТЫ
Крайне своеобразно и непривычно для глаза
европейцев выглядят географические карты мира,
издаваемые в Соединенных Штатах для школьников. Здесь
нет полушарий — западного и восточного. В центре
карты вы видите Америку, омываемую океанами, а по
краям — справа и слева — ютятся обрубки Евразии —
материк рассечен на-двое, и одна половина Старого
Света находится в одном конце, а вторая — в другом.
С детства американца приучают к тому, что центр
мира — здесь, на берегах Гудзона и Миссисипи, а все
то, что лежит за океанами, к сему прилагается.
Некоторые американцы говорят: трудно, находясь
так далеко от остальных частей света, составлять
объективное и широкое представление о них; ведь до
войны сравнительно немногие граждане США имели
возможность пересекать океаны, чтобы знакомиться с
другими странами.
Однако, когда американские солдаты высадились,
наконец, в Европе, было сделано все для того, чтобы
они как можно меньше думали о политической стороне
событий, свидетелями и участниками которых они
являлись. Показательно, что многие американские
публицисты, которые пишут сейчас о войне,
сравнивают ее с игрой в футбол. «Солдат приучали рассмат-
271
ривать войну с чисто спортивной точки зрения, словно
футбольный матч», — писал видный американский
публицист Луи Адамич в своей книге «Обед в Белом
Доме», вышедшей в 1946 году. «Война, как ее вели
американцы, напоминала футбол во многих
отношениях: потренироваться месяца два, разработать
несколько вариантов, наскоро посовещаться, чтобы
выбрать один из них, а потом либо попросту ударить в
лоб, либо сделать петлю похитрее — и мчаться что
«сть духу по открытому полю. Это была игра в
расчете на овации трибун или на альбом, куда можно
наклеить газетные вырезки, где упоминается ваша
фамилия; игра, в которой увечья не редкость; грубая
игра, которую ведут всерьез, но все же игра», — так
пишет в своей книге «Совершенно секретно» Ральф
Ингерсолл.
Складывается впечатление, что солдата бережно
оберегали от всякого соприкосновения с политической
жизнью Европы. Перед ним был «противник», и только.
Солдат имел весьма смутное представление о том, во
имя чего он сражается.
И все же американские солдаты, которые прошли по
Франции, дошли до Эльбы и встретились там с Красной
Армией, узнали многое о неведомом ранее мире. Они
убедились, что на свете есть немало интересного, кроме
напитка «Кока-Кола» и гигиенической жевательной
резинки. Да и в самой Америке за эти годы вырос
интерес к тем странам, которые отнесены на школьной
карте в дальние углы, и прежде всего к Советскому
Союзу. Средний американец возмущается тем, что
пресса либо вовсе не пишет о далекой Советской
Стране, либо представляет ее жизнь в извращенном
виде. Характерно, что по данным опроса, проведенного
институтом общественного мнения в Денвере, 42%
американцев утверждают, что американские газеты
предубеждены против СССР.
Мне довелось побывать в американо-русском
институте, созданном в Нью-Йорке на благотворительные
средства и пытающемся в меру своих сил и
возможностей удовлетворить спрос американцев на информацию
о Советском Союзе. Я перелистал пачку очередных за-
272
просов, — чего здесь только не было! Клиенты
института спрашивали — сколько фунтов весит
Царь-колокол, как управляются колхозы, какого роста русские,
какова история казаков, что такое пятилетка, сколько
детей у президента русской Академии наук, какова
численность населения Украины, в чем сущность
яровизации пшеницы, как подписаться на газету «Правда».
Многие американцы старательно изучают русский
язык, желая переписываться со сталинградцами,
москвичами, ленинградцами. Книга Симонова «Дни
и ночи», переведенная на английский язык, разошлась
в небывалых тиражах. Фильм Эрмлера «Великий
перелом» шел в Нью-Йорке несколько недель, и
кинотеатр всегда был полон.
Рядовой американец проявляет непосредственный,
живой и бескорыстный интерес к тому, что делается за
океанами. Он мечтает скопить денег и поехать
посмотреть Европу. Он ищет книги о славянских странах. Он
готов часами беседовать с человеком, приехавшим из
Советского Союза.
Но интерес интересу рознь. И человеку,
приезжающему в США из Европы, сразу же бросается в глаза,
что люди с Уолл-стрита, проявляющие повышенный
интерес к происходящему за океанами, подходят ко
всему с совершенно иных позиций: им хотелось бы
видеть весь земной шар завернутым в полотнище флага
со звездами и полосами.
В прошлом веке американские капиталисты
следовали политике изоляционизма, воздерживались от
активного вмешательства в дела Европы и Азии.
Заповедью изоляционистов была известная формула:
«Америка для американцев», провозглашенная
президентом Монроэ в качестве основы американской
внешней политики. В те отдаленные времена у американских
капиталистов хватало забот на гигантском
американском континенте. Они безжалостно «осваивали» его,
превращая латино-американские республики в свои
колонии и пресекая там влияние своих европейских
конкурентов, в первую очередь Великобритании.
По мере того как американский империализм
набирался сил, он начинал все больше зариться на другие
18 На Западе после войны 273
материки. Уже после первой мировой войны
проповедники американской экспансии начали твердить,
будто бы «границы обороны США», согласно доктрине
Монро, «всегда простирались вплоть до побережья
Европы, Африки и Азии» и что «в нынешний век
авиации» они должны продвинуться еще дальше и
захватить в свою орбиту другие материки.
После второй мировой войны американский
монополистический капитал во сто крат усилил свою
экономическую, политическую, военную экспансию.
«Не только Америка, но и весь земной шар для
американцев» —: такова сегодняшняя доктрина
американских экспансионистов, положенная ими в основу своих
практических действий.
Американскому монополистическому капиталу
всегда принадлежало решающее слово в определении
внешней политики Соединенных Штатов. Не составляет
секрета, в частности, прямое влияние на внешнюю
политику Соединенных Штатов американских нефтяных
монополистов. 16 апреля 1947 года при обсуждении
известного законопроекта Трумэна о «помощи»
Греции и Турции (подробнее об этом законопроекте
я скажу ниже) сенатор демократ Джонсон прямо
заявил, что пять крупных американских нефтяных
компаний в течение последних двадцати восьми лет
использовали государственный департамент «как мальчика
на посылках». Естественно, что и при выработке
послевоенного курса американской военной политики
первое слово принадлежало «большому биз'несу».
Вскоре после окончания войны, в декабре 1945 года,
один из виднейших деятелей американского делового
мира Олдрич — председатель совета директоров «Чейа
нейшенэл бэнк» — провозгласил, что «США готовы
взять на себя руководство опустошенным миром».
И президент США Трумэн в своем выступлении 19
декабря 1945 года, как эхо, откликнулся: «Мы все
должны признать, что победа, которую мы одержали,
возложила на американский народ бремя постоянной
ответственности за руководство миром».
Одиннадцать месяцев спустя, 12 ноября 1946 года,
крупнейшие деятели американского капитализма —
274
банкиры, промышленники и экспортеры — собрались на
съезд национального совета внешней торговли, чтобы
подвести итоги и определить на будущее место
частного капи-тала в «долларовой дипломатии». Мы были
в это время в Соединенных Штатах и имели
возможность следить за работой съезда по обширным отчетам,
публиковавшимся в прессе.
Настроение участников съезда, видимо, было
неважное. Явственно чувствовалась угроза
приближающегося кризиса, и проблема борьбы за завоевание
мировых рынков вновь и вновь со всей остротой вставала
перед американскими монополиями. Уэлч — казначей
знаменитой нефтяной монополии «Стандард ойл ком-
пани оф Нью-Джерси», играющей видную роль в
определении американской внешней политики, откровенно
бил тревогу.
— Сейчас американская частная инициатива стоит
перед выбором, — говорил он: — или она должна
спасти свои позиции во всем мире, или она будет сидеть
сложа руки и наблюдать за своими собственными
похоронами.
Уэлч драматически призывал американский частный
капитал «избавиться от летаргии и подняться на
уровень возможностей и обязанностей», чтобы США
смогли «взять на себя руководство меняющимся миром».
Смысл этих выспренних и туманных фраз был
прекрасно понятен коллегам Уэлча: захватывай, пока не
поздно, все рынки, какие только можно
захватить.
Но как замаскировать эту неприглядную в своей
наготе программу экспансий? Участники съезда не
нашли ничего лучшего, как снова развернуть ветхое,,
рваное и латаное знамя «антикоммунизма». И Уэлч
и председатель американской торговой палаты
Джексон твердили, будто бы усиление американского
экспорта и вторжение американских капиталов в
Европу и Азию даст возможность устранить «опасность,
угрожающую капиталу», «поддержит капитализм во
всем мире» против коммунизма. (Некоторое время
спустя, как известно, эти формулы были использованы
при изложении пресловутой «доктрины Трумэна»...)
18*
275
Впрочем, в своем кругу руководители американского
монополистического капитала не считали нужным
особенно стесняться. И тот же Джексон, закончив
туманные рассуждения о борьбе за сохранение «устоев»
против коммунизма, немедленно с циничной прямотою
заявил:
— Я хорошо знаю, что такой образ мышления будет
рассматриваться в некоторых кругах как
«экономический империализм» или как «долларовая дипломатия».
Я отвечаю со всей серьезностью на это: «Ну и что же?..»
С этим заявлением перекликается выступление
другого влиятельного деятеля «деловых кругов
Соединенных Штатов» — директора отдела внешней торговли
министерства торговли Артура Пауля — в
рассчитанном на узкий круг читателей еженедельнике «Форейн
коммерс уикли» 19 октября 1946 года. Артур Пауль
разъяснил, что использование ресурсов США за
рубежом — «не филантропия... а открытие новых рынков
для промышленности и сельского хозяйства».
По мере приближения нового экономического
кризиса американские империалисты все более и более
цинично и откровенно расшифровывали свои планы.
Если раньше разговоры о «руководстве миром» велись
в общей, чаще всего уклончивой, форме, то уже в
середине 1947 года воротилы Уолл-стрита все охотнее
начали переходить на язык военных терминов. Снова
выдвинулись на первый план матерые поджигатели
войны, набившие себе руку на провокациях. Бешеная
гонка строительства новых военных баз во всех концах
мира, создание плацдармов и предмостных укреплений
для американских вооруженных сил на всех
континентах неизменно прикрываются рассуждениями о мнимой
«красной опасности», о фантастической «военной
угрозе» со стороны Советского Союза.
Как только вы вступаете на американскую землю
в порту Нью-Йорка или на аэродроме Ла-Гардиа,
вас буквально оглушает пропагандистская шумиха,
поднятая поджигателями новой войны. Вы читаете
в газетах, к примеру, восторженные описания запуска
с борта авианосца «Мидуэй» шестнадцатитонных
летающих бомб «фау-2», которые были в свое время
276
заклеймены общественным мнением во всем мире как
бесчеловечное оружие массового уничтожения людей.
Вы видите в кинохронике кадры, показывающие, как
хулиганят на улицах Нью-Йорка молодчики, одетые
в военную форму и носящие значки «Американского
легиона».
Надо было побывать на месте, здесь, в Нью-Йорке,
в эти дни, чтобы в полной мере оценить все значение
блистательного удара, который в дни второй сессии
Генеральной Ассамблеи ООН был нанесен советской,
сталинской дипломатией по замыслам и планам новых
претендентов на мировое господство. Разоблачив
поджигателей войны, назвав их поименно и
потребовав привлечения их к уголовной ответственности,
советская дипломатия повергла лагерь американской
реакции в состояние замешательства и растерянности.
Как известно, американской делегации, несмотря на
то, что она пустила в ход все средства грубого
давления на зависящих от нее представителей «малых
стран», так и не удалось предотвратить принятия
Генеральной Ассамблеей решения, осуждающего
пропаганду новой войны. Сопротивляясь принятию такого
решения, американские делегаты дали лишнее
доказательство агрессивности защищаемой ими политики
и разоблачили сами себя в глазах народов, внимательно
следивших за ходом сессии Генеральной Ассамблеи.
Однако и этот урок не пошел впрок американским
ревнителям идеи мирового господства. Факты говорят
о том, что, невзирая на осуждение пропаганды новой
войны организацией Объединенных наций, эта
отвратительная пропаганда в США не только не была
ослаблена, но, наоборот, приобрела еще более скандальный,
вызывающий характер.
Пожалуй, наиболее цинично и откровенно выболтал
затаенные мысли поджигателей войны бюллетень
«деловых людей» с Уолл-стрита «Бэрронс уикли».
Рассуждая по поводу того, как сказались бы на «бизнесе»
обострение международной обстановки и раскол
человечества «на два лагеря», «Бэрронс уикли» плотоядна
писал: «Переводя все это на деловой язык, мы имели бы
в этом случае бум в вооружениях, в ходе которого
277
производство орудий войны не было бы ограничено
требованиями нашей страны, но предусматривало бы
поставку оружия на выгодных условиях Западной
Европе и тихоокеанским странам...»
Таким образом, заправилы Уолл-стрита етнюдь не
делают секрета из того очевидного факта, что они
рассматривают подготовку к третьей мировой войне, как
выгодный «бизнес», с помощью которого, быть может,
им удалось бы, если не предотвратить, то оттянуть
наступление экономического кризиса. Чего стоит это
кровожадное словечко — «бум в вооружениях»!
Важнейшей составной частью послевоенных
стратегических планов американских экспансионистов
является безжалостное подавление их конкурентов.
На американском книжном рынке в 1945 году
появилась любопытная книга «Соперничающие партнеры»,
написанная К. Хатчинсоном. Хатчинсон подчеркивает,
что Англия оказалась вытесненной со многих рынков,
что американские торговцы в последние годы прочно
укрепились там, куда они только начинали проникать
до войны, и увеличили свое преобладание там, где они
и раньше сумели солидно обосноваться. В своей книге
Хатчинсон сулит весьма невеселые перспективы
британскому союзнику:
«Некоторые американские наблюдатели, — пишет
он, — высказывают предположение, что Англии было
бы разумнее отказаться от роли великой державы,
которую она играла в течение такого длительного
времени. В промышленном отношении, говорят они,
преимущества, которые обеспечивали Англии мировое
руководство в прошлом столетии, теперь исчезли и
больше никогда не вернутся. Ее единственным сырьем
является дорогой уголь, и она, таким образом, должна
обеспечить себе возможность жить, перерабатывая
сырье, собранное со всех концов земного шара.
Квалификация, в отношении которой она некогда имела
монополию, теперь стала обычной для многих стран.
В эру массового производства и массового рынка она
не может надеяться конкурировать с США. Не будет
ли поэтому лучше, если, вместо того, чтобы пытаться
плыть против течения истории, Англия сложит с себя
278
ответственность, которую она не в состоянии больше
нести? Пусть она распустит свою неуклюжую
империю, которая угрожает скорее истощить, чем
увеличить ее ресурсы. Пусть она отправит половину своего
избыточного населения в доминионы и обеспечит себе
спокойную старость, поддерживая себя сельским
хозяйством, легкой промышленностью, показом
живописных пейзажей и исторических памятников
заокеанским туристам...»
На Уолл-стрите прекрасно знают, что британские
монополисты отнюдь не собираются сдавать без боя
американцам свои колонии. Тем не менее развязные
рассуждения Хатчинсона весьма характерны для
умонастроений, господствующих в определенных кругах
Соединенных Штатов. Неспроста в Америке так много
говорят и пишут о том, что рано или поздно
Великобритания должна будет превратиться в своеобразный
«49-й штат Америки».
Примером того, как американские монополисты
используют затруднения своего британского союзника
для того, чтобы все больше усиливать его зависимость
от американского кошелька, является история с
предоставлением займа Великобритании. Я уже рассказывал
о том, какими кабальными условиями было обставлено
согласие США ссудить обедневшего англо-саксонского
родственника, и о том, какими критическими
откликами было встречено в Великобритании подписание
соглашения об этом займе.
В Нью-Йорке мне довелось беседовать' на эту тему
с американскими журналистами, освещающими в своей
прессе политические и экономические проблемы. Они
даже не пытались оспаривать кабальный характер
сделки, заключенной осенью 1945 года с Англией.
Бизнес есть бизнес! Что из того, что Великобритания —
союзник США? Если есть возможность хорошо
заработать, используя ее затруднения, — это надо сделать!
— Я читал книгу Эмери1, — сказал мне один
обозреватель. — Он пишет, что, диктуя англичанам
условия займа, мы рассматривали Британскую империю, как
1 Э м е р и — известный английский консервативный
политический деятель, бывший министр по делам Индии.
279
устрицу, которую мы хотим заставить раскрыться при
помощи этого займа. У бывшего министра по делам
Индии острое перо. Не спорю, — он, в общем, правильно
оценил то неудобное положение, в котором оказалась
британская устрица в результате того, что Эттли
согласился на отмену имперских преференций. Ей
пришлось-таки открыться, и мы могли бы не плохо
позавтракать, если бы не в наших интересах было —
сохранить старый, добрый британский сухопутный
авианосец. Но я вас спрашиваю: разве сами англичане
в прошлом не поступали точно так же, как мы? Разве
они никогда не пытались использовать благоприятную
ситуацию для выгодной сделки? Кто-кто, а Эмери мог
бы многое рассказать на этот счет. Отчего же теперь
он в обиде на нас? Каждый делает свой бизнес в меру
своих сил и возможностей. Мы не монахи и не святые,
чорт побери! И пусть не хнычет тот, кому меньше
повезло, чем другому...
Штурмуя рынки британских доминионов, колоний и
вторгаясь в так называемые «сферы влияния»
Великобритании, американские монополисты в годы войны
и в послевоенные годы добились весьма существенных
реальных результатов. Известно, что Канада сейчас
гораздо более тесно связана в экономическом
отношении с Соединенными Штатами, чем с Великобританией.
Известно, что Австралия и Новая Зеландия также
постепенно попадают все в большую экономическую
зависимость от Соединенных Штатов. Известно, наконец,
что ла Ближнем и Среднем Востоке, где
Великобритания всегда пользовалась решающим влиянием,
Соединенные Штаты сейчас также захватили важнейшие
ключевые позиции.
Особенно больших успехов американские
монополисты добились в борьбе за нефть на Среднем Востоке.
Американские нефтяные тресты закрепились в Иране и
в Персидском заливе, — на Бахрейнских островах,
приобрели концессию на разработку нефтяных источников
в Саудовской Аравии \ сооружают нефтепровод между
1 18 января 1948 года сНью-Йорк тайме мэгэзин»
опубликовал любопытные данные об этой концессия, занимающей почти
280
Персидским заливом и средиземноморским
побережьем. С другой стороны, американцы создали так
называемую «Средневосточную компанию»,
выступающую в роли агента целого ряда американских фирм,
которые развертывают свою деятельность в странах
Аравийского побережья. Американская авиационная
компания «Трансуорд Эйрлайнс» организовала
постоянные рейсы США — Каир и Иерусалим — Басра —
Бахрейн. Она скупила акции компании «Ираниен Эйру-
эйс» и «Эфиопией Эйрлайнс». Американская компания
«Пан-америкэн Эйрлайнс» проложила воздушную
линию Анкара — Бейрут — Дамаск — Багдад —
Тегеран.
Американские монополии теснят англичан и в
Африке и в Азии. Они проникли даже в Индию, рынки
которой на протяжении многих десятилетий считались
монопольным владением британского капитала.
Для послевоенной экономической экспансии
Соединенных Штатов весьма характерен рост американских
капиталовложений за рубежом. Речь идет о скупке
акций иностранных фирм, о приобретении и постройке
предприятий за рубежом и т. д.
Пять лет тому назад, 8 мая 1943 года, министерство
финансов США провело перепись иностранных капи-
половину территории Саудовской Аравии и являющейся
фактическим хозяином этой страны. «Арабиен Америкэн ойл компани»,
которой принадлежит концессия, является крупнейшим частным
американским предприятием за рубежом. Она вкладывает в
развитие нефтепромыслов в ближайшие пять лет 455 миллионов
долларов, что «равняется объединенным бюджетам всех стран этого
богатого нефтью района, расположенного между Красным морем
и русско-турецкой границей». Компания уже имеет 51 нефтяную
скважину и получает свыше 260 000 баррелей нефти в день. Как
подчеркивает «Нью-Йорк тайме мэгэзин», министр обороны США
Форрестол придает огромное стратегическое значение развитию
этой концессии. Форрестол заявил, что «освоение месторождений
нефти в Саудовской Аравии должно иметь приоритет над
любыми планами строительства в самих США». Вместе с мощным
нефтеочистительным заводом, построенным той же компанией в
Бахрейне, эти промыслы составят единый комбинат, призванный
стать гигантской заправочной станцией для американских
вооруженных сил на Ближнем и Среднем Востоке. Следует отметить
попутно, что американцы располагают здесь мощной военно-
воздушной базой, оборудованной в годы войны.
281
таловложений американских граждан. Эта перепись
дала весьма интересные результаты. Уже в 1943 году
граждане США — «как отдельные лица, так и
корпорации и организации, не преследующие цели
извлечения прибылей», имели заграничные вложения на
сумму в 13 542 миллиона долларов. По расчетам
министерства финансов, эта сумма в 1946 году возросла
до 21,26 миллиарда долларов. Далее последовал еще
более грандиозный скачок. 14 января 1948 года
президент Трумэн в докладе об экономическом положении
сообщил, что за 1947 год «сумма чистых вложений за
границей» увеличилась на 83% по сравнению с
1946 годом, что доводит общую сумму американских
капиталовложений за границей до колоссальной
цифры — в 40 миллиардов рублей.
По данным министерства США, относящимся к
1943 году, две трети зарубежных капиталовложений
принадлежали корпорациям. При этом необходимо
подчеркнуть, что основную массу капиталовложений
составляют так называемые прямые вложения, то есть
вложения в заводы, в шахты, в приносящую доходы
недвижимость и т. п. Как установлено, американские
капиталисты уже в 1943 году владели контрольными
пакетами акций 15 210 иностранных предприятий.
Таким образом, куда бы мы ни глянули, к какой бы
стране капиталистического мира мы ни обратились, —
мы повсюду увидим одну и ту же картину — доллар
наступает на своих партнеров, доллар стремится
обеспечить себе мировое господство.
Конкретным выражением этой программы являются
«доктрина Трумэна» и «план Маршалла»,
представляющие собой две стороны одной политики — политики,
ставящей своей целью установление на всем земном
шаре господства американских монополий. Напомним
вкратце историю этих двух документов, столь пышно
разрекламированных американской пропагандой.
Двенадцатого марта 1947 года Трумэн направил
конгрессу послание с просьбой ассигновать 400 миллионов
долларов для оказания помощи Греции и Турции.
Трумэн просил разрешить правительству послать в эти
страны «гражданский и военный персонал». Он не
282
скрывал, что американская помощь рассчитана на то,
чтобы поддержать греческую и турецкую
реакционные диктатуры, которые без поддержки извне
бессильны устоять перед лицом народных движений.
Проповедники американской экспансии не только не
скрывали, но, наоборот, всячески афишировали тот
факт, что дело отнюдь не должно ограничиться
предоставлением «помощи» Греции и Турции. «Мы
выбрали Турцию и Грецию, — писал Уолтер Липпман, —
не потому, что они особенно нуждаются в помощи, и не
потому, что они являются образцами демократии, но
потому, что они представляют собой стратегические
ворота».
Куда ведет путь через эти ворота? Поборники
«доктрины Трумэна», на все лады кричащие о «красной
опасности», откровенно заявляли: «В Черное море!» Но
достаточно было взглянуть на карту, чтобы увидеть —
стратегические позиции, которые американцы
захватывают в Турции и Греции, имеют важнейшее значение и
для борьбы с их британскими конкурентами на Среднем
и Ближнем Востоке. Не случайно журнал «Тайм» писал,
что когда Трумэн провозгласил свою доктрину, заявив
о «помощи» Турции и Греции, — «все шептались об
океане нефти южнее этих стран». Не следует забывать
также, что сам Трумэн в своих выступлениях
неоднократно подчеркивал, что США претендуют на
«ответственность за руководство миром».
Таким образом, новоиспеченная доктрина была
направлена не только против СССР и стран новой
демократии, как о том твердила американская пропаганда.
Не случайно британское радио, откликаясь на
провозглашение этой доктрины, поставило вопрос: «Почему
всякий раз, когда Америка вмешивается в
международные дела, она говорит о «красной опасности»? Но
при всем том основой программы Трумэна были,
конечно, действия, направленные против демократических
сил на Балканах, к порабощению Греции и Турции и к
превращению их в плацдармы для новых
военно-политических акций.
Естественно, что провозглашение «доктрины Трумэна»
вызвало резкую оппозицию у прогрессивных элементов
283
американской общественности. В своей речи по поводу
послания президента Генри Уоллес заявил, что оно
определяет собою поворотный пункт в американской
истории и что США открыто отходят от политики
международного сотрудничества в рамках организации
Объединенных наций, заменяя ее стремлением диктовать
свою волю другим народам. «Президент фактически
предложил, чтобы американцы несли полицейскую
службу вдоль границ России, — сказал Уоллес. — Нет,
оказывается, страны, слишком отдаленной, чтобы
служить ареной спора, который может расширяться до тех
пор, пока не превратится в мировую войну».
Руководители американской внешней политики
сделали свои выводы из той резкой критики, которой
подвергалась в кругах американской общественности
слишком прямолинейная, грубо откровенная «доктрина
Трумэна». Они решили завуалировать ее, придать ей
благовидную внешность. И вот летом 1947 года на сцену
был выдвинут так называемый «план Маршалла».
Выступая 5 июня перед студентами Гарвардского
университета, государственный секретарь США генерал
Маршалл заявил, что Соединенные Штаты охотно оказали
бы помощь странам Европы, если бы они «объединили
свои усилия в деле восстановления народного
хозяйства и действовали по единому плану». Пытаясь
смягчить впечатление, произведенное «доктриной Трумэна».
Маршалл заявил, что якобы США готовы оказать
помощь всем странам Европы, в том числе и СССР.
По поводу «плана Маршалла» был поднят огромный
пропагандистский шум в американской, а вслед за нею
в английской и французской прессе. Повсюду только и
разговоров было, что о «благородной миссии» США,
которые якобы вносят свой вклад в дело
восстановления Европы. Всем, кто откликнется на зов Маршалла,
сулили золотые горы. Французская газета «Либерасьон»
писала, что первую реакцию на «план Маршалла»
можно было охарактеризовать как «ожидание приятных
перспектив: замена маиса белым пшеничным хлебом,
изобилие консервированного мяса, благодаря которомч
смогут снизиться цены на свежее мясо, чулки из нилона
по доступным ценам, уголь в количестве, достаточном
284
для того, чтобы отопить зимой все здания и дать
возможность заводам и фабрикам работать полным
ходом».
Однако вскоре выяснилось, что шумиха, поднятая по
поводу того, что США будто бы желают помочь
восстановить экономику Европы, служит единственной цели —
замаскировать попытки осуществить все уу же
«доктрину Трумэна»: укрепить реакционные режимы в
Европе, сколотить блок государств, связанных по рукам
и по ногам обязательствами перед США; американские
кредиты в этой политической игре рассматривались как
плата за отказ от экономической, а затем и от
политической самостоятельности. При всем том основой
«плана Маршалла» являлось восстановление
контролируемых американскими монополиями промышленных
районов Западной Германии и превращение их в
военную и политическую базу американского
империализма в центре Европы. В конечном счете
осуществление «плана Маршалла» должно было повести
к полному подчинению стран Европы экономическому
и политическому господству американских
монополистов.
Подлинное существо «плана Маршалла» было
разоблачено советской делегацией на совещании министров
иностранных дел СССР, Франции и Англии, которое
состоялось в Париже в конце июня — начале июля
1947 года.
Советская делегация убедительно показала, что
осуществление «плана Маршалла» поведет лишь к тому,
что Англия, Франция и группа идущих за ними стран,
перейдя на положение второстепенных держав и
превратившись в покорных вассалов США, отделятся от
остальных государств Европы, что поведет к расколу
Европы на две группы государств и создаст
затруднения во взаимоотношениях между ними. Советское
правительство сочло нужным предупредить правительства
Англии и Франции о последствиях таких действий,
которые направлены не на объединение усилий
европейских стран в деле их экономического восстановления
после войны, а на достижение совсем других целей, не
имеющих ничего общего с действительными интересами
285
народов Европы. Планы поборников
империалистического мира, естественно, направлены отнюдь не на
восстановление экономики стран, пострадавших от
войны, и вовсе не рассчитаны на установление
прочного мира. Напротив, в случае их осуществления, они
могли бы повести лишь к новым конфликтам и
войнам. Именно этого и хотят воротилы
капиталистических монополий, нажившиеся на двух мировых войнах
и мечтающие о третьей.
Правители Англии и Франции не вняли
предостережению советского правительства. Они начали трудиться
над сколачиванием блока государств, правительства
которых согласились бы на кабальные условия «плайа
Маршалла». Но после того как советская дипломатия
сорвала маскировку с этого плана, девять европейских
государств отказались участвовать в созванном
Англией и Францией всеевропейском совещании по «плану
Маршалла». Что же касается шестнадцати государств,
принявших приглашение, то и они встретили этот «план»
без особого энтузиазма, хотя проведение
всеевропейского совещания сопровождалось оглушительной
пропагандистской шумихой. Англо-французская пресса
силилась представить дело таким образом, будто бы
вопрос об американской помощи европейским странам
уже по существу решен и кредиты вот-вот будут
отпущены. Однако действительность жестоко обманула
тех, кто и впрямь рассчитывал на эту помощь.
Весь ход событий на парижском совещании и за его
пределами показал, что авторы «плана Маршалла»
заинтересованы отнюдь не в том, чтобы восстановить
экономику собравшихся на это совещание просителей,
а в том, чтобы осуществить свои собственные далеко
идущие планы. Не случайно с первых же дней
парижского совещания вся американская печать, словно по
команде, начала твердить, что единственной гарантией
реальности «плана Маршалла» является быстрейшее
восстановление... промышленности Западной Германии.
Под прикрытием этих суждений американские
дипломаты предприняли ряд шагов, ведущих к тому, чтобы
«освободиться от потсдамских решений», окончательно
оформить расчленение Германии, превратить Рур в
286
вотчину американского монополистического капитала,
а всю западную Германию в целом — в американский
военно-стратегический плацдарм.
Седьмого июля 1947 года в Германию прибыл
министр торговли США Гарриман. Выходящая в Гамбурге
и слывущая английским официозом газета «Ди вельт»
писала: «В последние дни Берлин принимал
высокопоставленного гостя. Озаренный блеском миллионов
долларов, он провел всю свою жизнь, от первого вздоха, в
ярком свете «паблисити». Гарриман — сын
железнодорожного короля США... Многие еще хорошо помнят его
посещение Германии после первой мировой войны.
Тогда он втянул Верхнюю Силезию и пароходные
компании Гамбурга в охватывающую весь мир сеть
американской торговли...»
«Высокопоставленный гость» вскоре отбыл в Рур. Он
посетил Эссен и Люссельдорф, окинул хозяйским оком
крупные машиностроительные заводы Круппа.
Берлинские газеты поставили визит Гарримана в прямую связь
с парижской конференцией. Они не ошиблись: вскоре
в печать проникли сведения о том, что США
готовятся ассигновать около 300 миллионов долларов на
модернизацию немецкой угольной промышленности
и что в Вашингтоне созывается еще одно сепаратное
совещание представителей Великобритании и США
для решения вопроса о судьбах Рура, который
предполагается превратить в основу «западного-
блока».
К этому времени окончательно стало ясно, что
американские экспансионисты собираются строить
«западный блок» отнюдь не по образу и подобию пресловутых
«Соединенных Штатов Европы», планировавшихся
Черчиллем в качестве проводника английской
политики; они рассматривают «западный блок» лишь как:
своеобразный протекторат США.
Авторы «плана Маршалла» недвусмысленно дали
понять, что США отнюдь не намерены поставлять странам
Западной Европы те товары, которые действительно
необходимы для восстановления экономики: заявку на
промышленное оборудование государственный
департамент сократил более, чем в семь раз, заявку на
287
сталь — почти вдвое, заявку на сельскохозяйственные
машины — в полтора раза. Странам Западной Европы
было предложено прекратить строительство судов —
пусть арендуют торговый флот у американцев! Им
предложили не развивать производство сахара — пусть
покупают в Америке! Вместо жизненно необходимого
промышленного оборудования клиентам «плана
Маршалла» предложили лежалые товары, которые не
находят сбыта в США. «План Маршалла»
предусматривает, например, посылку в Англию ста тысяч тонн
яичного порошка и табака на 123 миллиона фунтов
стерлингов; когда же дело доходит до крайне
необходимого Англии шахтного оборудования, бизнесмены
разводят руками: можем де представить только на
1,87 миллиона фунтов. Авторы «плана Маршалла»
предписали датчанам сократить молочное
животноводство, туркам — урезать посевы табака, французам —
разводить цветы, вместо того чтобы сеять хлеб. Дело
в том, что специальная комиссия конгресса «по
оказанию помощи иностранным государствам»,
выезжавшая в Европу осенью 1947 года, рекомендовала
«предусмотреть опасность конкуренции» со стороны
европейских стран. И вот ее советы воплощаются в
жизнь...
«Помощь» подопечным «плану Маршалла» странам
предоставляется на тягчайших условиях, которые
фактически кладут конец их независимости. В соответствии
с этими условиями, они полностью отстраняются не
только от распределения ассигнуемых средств, но и от
контроля над использованием этих средств внутри
страны. Странам, согласившимся принять «план
Маршалла», диктуются выработанная в США торговая и
таможенная политика, прекращение национализации,
поддержание выгодного американским дельцам
валютного курса. В распоряжение американских
администраторов предоставляются создаваемые внутри каждой
страны фонды из миллиардов франков, крон, лир,
марок, которые они смогут использовать в качестве
ударной силы против той или иной отрасли экономики
данной страны. США сохраняют за собой право
контроля над экспортом шестнадцати стран и наклады-
288
вают на них обязательные поставки стратегического
сырья в Соединенные Штаты.
Зимой 1947—1948 годов «доктрина Трумэна» и
«план Маршалла» были дополнены «планом Бевина» —
министр иностранных дел Великобритании выступил
22 января 1948 года с предложением создать
«западный союз», который растянулся бы от Англии до...
Индонезии. Вскоре после этого был оформлен военный
блок Англии, Франции, Бельгии, Голландии и
Люксембурга, который по замыслу его организаторов должен
превратиться в ядро «западного союза». Вслед за этим
Трумэн и Маршалл поспешили выступить с посулами
военных гарантий «западному союзу» и потребовали
введения всеобщей воинской повинности и всеобщего
военного.обучения в США.
Таковы факты, характеризующие внешнюю политику
Вашингтона на исходе третьего послевоенного года и
определяющие дальнейшие планы правящих кругов
Соединенных Штатов. Эти факты — на виду у всего
человечества.
Но весь опыт богатых событиями послевоенных лет
показывает, что народы мира отнюдь не склонны
безоговорочно признавать над собою власть «всемирного
полицейского», на роль которого претендует
американская реакция. Легко начертить карту, на которой
Соединенные Штаты изображаются центром вселенной, а
остальной мир загнан в закоулки. Совсем иное дело —
осуществить на практике лозунг мирового господства
доллара.
Видный американский публицист Ральф Ингерсолл
писал по поводу разгрома гитлеровской Германии:
«Америке преподан хороший наглядный урок. Пусть
она поразмыслит над ним, и ей станет ясно, какая
судьба ждет народ, если он откажется от борьбы за
достоинство и независимость всех людей и пожертвует
интересами широких масс ради интересов ничтожного
меньшинства».
Эти трезвые, справедливые слова звучат как
своевременное предупреждение тем, кто склонен забывать
уроки истории.
19 На Западе после войны 289
5. КОРИЧНЕВАЯ ТЕНЬ
В Америке много говорят, пишут и спорят о
фашистской опасности. Одни толкуют о ней, как о реальной
угрозе, нависшей над США. Другие возражают: «Чепуха,
американец органически не выносит муштры, как же
он смирится с фашистской диктатурой?» Третьи
пожимают плечами: «Зачем гадать о будущем? Поживем,
увидим». Но ни те, ни другие, ни третьи не станут
отрицать, что в общественно-политической жизни
Соединенных Штатов резко усилились явления, вызывающие
глубокую тревогу у всех поборников демократии.
Двадцать четвертого июня 1947 года сенат США
утвердил известный нашему читателю из газетных
сообщений антирабочий законопроект Тафта — Хартли,
который с этого дня приобрел силу закона. Он налагает
на профессиональные союзы столь жестокие
ограничения, что председатель Конгресса производственных
профсоюзов Мэррей назвал его «законом о рабском
труде». Новый закон ограничивает право рабочих на
забастовки и на заключение коллективных договоров,
разрешает предпринимателям возбуждать против
профсоюзов судебные иски. Профсоюзам запрещается
делать взносы на проведение политических кампаний
с целью выборов президента или членов конгресса.
Одна из статей предупреждает, что профсоюз,
желающий получить официальное признание, должен
отстранить от руководства «коммунистов» — под эту
категорию, естественно, может быть подведен любой человек,
неугодный предпринимателю. Каждый профсоюзный
работник должен дать подписку в том, что он не является
коммунистом. Я видел этот позорящий Америку
документ: «Будучи надлежащим образом приведен к
присяге, я (следует фамилия и указание занимаемой
должности) из (название профсоюза) заявляю: Я не
являюсь членом коммунистической партии и не связан
с этой партией; я не доверяю какой-либо организации,
проповедующей свержение правительства США
насильственным путем или путем каких-либо
нелегальных или неконституционных приемов, не являюсь ее
членом и не оказываю поддержки никакой такой орга-
290
низации. (Подпись.) Предостережение: Всякое
ложное показание в настоящей подписке влечет за
собой штраф в 10 000 долларов или десять лет
тюремного заключения, или то и другое, как это
предусмотрено статьей 35-а Уголовного Кодекса».
Такую подписку должны были дать 500 000
работников профсоюзов. Чего стоят после этого
разглагольствования американской пропаганды о «расцвете
демократии» в США?
Восстановлена «Комиссия конгресса по
неамериканской активности», основной задачей которой является
беспощадная расправа с демократическими
элементами США. Один за другим идут скандальные
процессы — судят демократических деятелей, обвиняемых
по стереотипной неуклюжей формуле: «неуважение
к конгрессу» (это «неуважение» судьи усматривают в.
отказе демократических деятелей предоставлять свои
архивы и давать показания «Комиссии по
неамериканской активности»). Судебные дела по этой формуле
возбуждены были, в частности, против руководителей
Национального совета американо-советской дружбы и
против руководителей Объединенного комитета помощи
антифашистам-эмигрантам. Характерно, что
выступавший на суде представитель государственного
департамента Александер заявил: «Термин «антифашисты»,
содержащийся в названии организации, означает, что эта
организация входит в коммунистический фронт». Этого
заявления было достаточно, чтобы посадить целую
группу известных общественных деятелей США в тюрьму.
Видный антифашист Эйслер был приговорен к штрафу в
тысячу долларов только за то, что, будучи вызван в
«Комиссию по неамериканской активности», попытался
сделать трехминутное заявление, прежде чем начать
отвечать на вопросы. Скандальную известность приобрело
затеянное этой комиссией следствие в Голливуде.
Председатель «Комиссии по неамериканской
активности» Томас потребовал от министра юстиции начать
судебное преследование... всей коммунистической
партии и ее деятелей. Выступая на суде, который был
устроен в июне 1947 года над генеральным секретарем,
коммунистической партии США Деннисом, он сказал,.
19*
291
ято «Комиссия по неамериканской активности»
подготовила список людей, подозреваемых в том, что они
якобы являются членами «антиамериканской
организации». В список внесен... миллион имен! Эта цифра
достаточно убедительно говорит о том, в каких огромных
масштабах планируют американские реакционеры
расправу с демократическими элементами страны.
Министр труда Швеллербах в 1947 году потребовал
от палаты представителей объявить коммунистическую
партию вне закона. Он заявил, что в его министерстве
уже проводится чистка персонала «в целях выявления
коммунистов», причем к этому делу привлечены органы
уголовно-политического розыска.
Коммунистам закрыт доступ на государственную
службу, в армию. Их изгоняют и со службы в частных
предприятиях. Широкую огласку в мировой прессе
приобрел пресловутый приказ Трумэна об увольнении
«нелойяльных» служащих, — под эту категорию
подводятся не только коммунисты, но все те, кто не желает
«безоговорочно принимать широкую программу
подавления демократических свобод. В соответствии с этим
приказом будут «проверены» 2 300 000 служащих. В
целях «проверки» используются материалы федерального
45юро расследования, «Комиссии по неамериканской
активности», армейской и военно-морской разведок и
т. д. На всех лиц, чья «лойяльность» будет
проверяться, заводятся особые карточки, которые будут
храниться в центральной картотеке. В каждом
правительственном органе и учреждении создаются особые
«внутренние бюро по наблюдению за лойяльностью» и
подбирается штат работников, специально обученных
для несения «службы безопасности»...
Людей, заподозренных в «нелойяльности», ждет
тяжкая участь. Приказом Трумэна они лишаются даже тех
процедурных гарантий, которые закон предоставляет
уголовному преступнику...
Двадцать седьмого июня 1947 года бывший
сотрудник государственного департамента Марзани был
приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в том, что
он якобы отрицал свою принадлежность к
коммунистической партии.
292
— Это пародия на правосудие, — с возмущением
сказал Марзани после того, как был зачитан
приговор. — Во время войны правительство хвалило мою
работу. Теперь то же правительство отправляет меня в.
тюрьму. Безжалостные действия правительства могут
быть поняты только если учесть, что в Германии в
настоящее время обвиняемых в том же преступлении, а
каком обвинили меня («дача ложных показаний
правительству США»), приговаривают лишь к
десятидневному тюремному заключению либо вовсе не
наказывают. Таково «правосудие» через два года после
окончания войны — десять дней для нацистского врага и
длительное тюремное заключение для американского
ветерана войны...
Особенно жестоко проводится чистка от «нелойяль-
ных» в армии. Любопытно, что «Комиссия по
неамериканской активности» потребовала от военного
министра немедленного предания военному суду
восьмидесяти офицеров и полторы тысячи рядовых, принявших
участие в первомайской демонстрации 1947 года в.
Нью-Йорке; председатель комиссии Томас заявил, что
его агенты присутствовали на демонстрации, сделали
много фотографий и произвели много киносъемок,
которые он предоставляет в распоряжение военного
министерства как «улики».
Ненависть реакционеров к прогрессивным элементам
простирается так далеко, что комиссия палаты
представителей по делам ветеранов мировой войны 18 июня
1947 года решила лишить пособий тех ветеранов,
которые высказывают симпатии коммунистам. Текст
предложенного комиссией законопроекта гласит: «Каждый
демобилизованный, желающий получать пособие, под
присягой должен сказать, что он не является членом
коммунистической партии, не сочувствует ее целям
и не имеет связи ни с СССР, ни с каким-либо из
государств, являющихся орудиями (?!) Советского Союза...»
Надо побывать в Америке, надо окунуться в ее
тревожные будни, чтобы в полной мере почувствовать ту
атмосферу неуверенности, страха,, растерянности,
какая здесь создается в результате наступления
реакции.
293
В один из дней, когда американские газеты были
заполнены сверхсенсационными отчетами о так
называемом расследовании «красной опасности» в Голливуде, я
встретился с двумя кинорежиссерами, только что
приехавшими из Вашингтона в Нью-Йорк. Они были вне
себя от негодования, боли и ярости.
— Это... это какой-то сатанинский шабаш, бал
умалишенных, пир каннибалов с диких островов, — это все
что угодно, только не расследование! — нервно говорил
один из них, прохаживаясь по комнате и машинально
оглядываясь на дверь. — У Томаса и Ренкина
(руководителей «Комиссии по неамериканской активности». —
Ю. Ж.) нет за душой ни единой улики против тех, кого
им угодно называть «красными». Все, в чем они могут
обвинить подсудимых, — это постановка фильмов
«Песнь о России» и «Миссия в Москву». Но ведь даже
самому Томасу не пришло бы в голову утверждать, что
эти фильмы подрывают основы нашего
государственного строя. А посмотрели бы вы, как обращаются с
вызванными на допрос писателями и режиссерами в
комиссии! На них кричат, им не дают слова сказать,
вчера троих вывели из зала заседаний. А какую
ахинею плетут свидетели обвинения!..
— Вы не поверите, но это факт, — вмешался второй
собеседник. — Мамаша артистки Роджерс заявила, что
композитор Ганс Эйслер нарочно «создавал для
Голливуда унылую и печальную музыку в русском духе».
Вам смешно? Но вот, представьте себе, подобных
доказательств крамолы было достаточно для того, чтобы
отдать Эйслера под суд и принять решение о его
высылке из Соединенных Штатов...
Пресловутое «голливудское расследование»
приобрело поистине скандальный характер. Заправилы
«Комиссии по неамериканской активности» сами
разоблачали себя, выступая со злобными нападками на
прогрессивных деятелей искусства. В связи с этим
вспомним, что руководитель комиссии конгрессмен
Томас еще несколько лет назад обвинял в коммунизме
даже Рузвельта. Он заявил тогда: «Новый курс»,
повидимому, работает заодно с коммунистической
партией. «Новый курс» — это либо сама коммунистическая
2С4
партия, либо же он ее всячески поддерживает». Тогда
над Томасом смеялись. Теперь он, пользуясь
благоприятной для него обстановкой, стремится свести счеты
с ненавистными ему последователями рузвельтовского
«нового курса».
«Почему эта комиссия намеревается меня
уничтожить? — писал видный прогрессивный писатель
Альберт Мальтц. — За мои писания? Посмотрим, что я
написал! Мой роман «Крест и стрела» вышел специальным
изданием в количестве 140 тысяч экземпляров. Книгу
издало правительственное агентство военного времени,
обслуживавшее наши вооруженные силы. Книга была
издана для американских бойцов за границей. Мои
короткие рассказы перепечатаны более, чем в 30
антологиях 30 американскими издателями, которые, видимо,
тоже занимались «подрывной деятельностью». Мой
фильм «Гордость флота» впервые демонстрировался в
28 городах на празднествах, организованных под
эгидой военно-морских сил США. Другой фильм «Цель
Токио» был впервые показан на борту американской
подводной лодки и был одобрен флотом в качестве
официальной учебной кинокартины. Мой короткий
фильм «Дом, в котором я живу» удостоен специальной
награды Академии кинематографического искусства и
науки — как вклад в дело борьбы против расовой
нетерпимости. Мой короткий рассказ «Счастливейший
человек на земЛ» получил в 1938 году премию имени
О. Генри — как лучший американский короткий
рассказ».
А в чем заключается «неамериканская деятельность»
таких видных писателей, как Лоусон, Трумбо, Ларднер?
В том, что они протестовали против линчевания, писали
книги в защиту испанских республиканцев, активно
участвовали в борьбе против гитлеровской Германии и
империалистической Японии. Дело дошло до того, что
Ларднер, — как рассказывал мне видный публицист
Сэмюэл Силен, — обвиняется в том, что он в связи с
поджогом рейхстага подписал антинацистскую
декларацию, а также в том, что он участвовал в составлении
плаката «Братство людей».
Заседания комиссии, на которых Томас выслушивал
295
«свидетелей обвинения», превращались в форменный
фарс. И не случайно даже «Нью-Йорк геральд трибюн»
сочла возможным в эти дни опубликовать фельетон
«Красная пропаганда в «Ромео и Джульетте», автор
которого И. Бенчли писал:
«Мне передали, что некий мистер Томас в
Вашингтоне хотел бы получить информацию о коммунистах.
Насколько я знаю, он проводит какое-то
расследование и обеспокоен коммунистической пропагандой в
кино. В одной картине он усмотрел красную
пропаганду в том, что один из персонажей отказался
ограбить бедняка, а другой фильм — «Лучшие годы нашей
жизни» изображает в неприглядном свете банкиров,
что, по мнению Томаса, говорит о том, что вся картина
инспирирована Кремлем.
Так как у меня нет времени ездить в Вашингтон, я
решил опубликовать в газете свои свидетельские
показания для сведения Томаса. Привожу для удобства его
вопросы и мои ответы:
— Мистер Бенчли, как вы думаете, если бы встретили
коммуниста, вы бы догадались, что он — коммунист?
— Да, конечно.
— Видели вы когда-либо в жизни коммунистов?
— Во время войны я ездил в автобусе с несколькими
русскими матросами.
— Отлично, отлично! Раз вы, таким образом,
являетесь авторитетом в вопросах коммунизма, — скажите,
видели ли вы фильм с коммунистической пропагандой?
— Да, конечно. Вы, наверное, помните картину
«Ромео и Джульетта»?
— Конечно, помню! Может быть, вы скажете, в каких
местах эта картина поддерживает линию компартии?
— С удовольствием! В первом действии, в первой
сцене группа персонажей, названных «гражданами»,
кричит: «Бейте их, долой Капулетти! Долой Монтекки!»
— Вы хотите сказать: «долой капиталистов»?
— Нет, Капулетти. Но так или иначе, и Капулетти и
Монтекки были своего рода капиталисты. Ясно, что
чернь призывала к революции!
— Я тоже думаю так. Может быть, вы еще что-
нибудь вспомните?
296
— Конечно! В той же сцене Бенволио заявляет:
«Какая же тоска твои часы, Ромео, удлиняет?» Ромео
отвечает: «Печалишься, когда не имеешь того, что
сделало бы их быстролетными». Другими словами, Ромео
хочет дополнительной платы за сверхурочную работу »
мечтает о вентилируемой ванной комнате. Самый
настоящий коммунист!
— Это любопытно. Можете вы что-либо еще сказать
об этом Ромео?
— Конечно! Он старается навязать Джульетте
партийную линию. Во второй сцене второго действия он
выражает недовольство тем, что она одевается
слишком изысканно.
— Как вы думаете, ему удается обратить ее в
коммунистическую веру?
— Да, конечно! Не следует забывать, что она дочь
одного из знатнейших людей города. Несмотря на это,,
она восклицает: «Что в имени? То, что мы называем
розой, будет и под другим именем пахнуть так же
сладко». Это достаточно радикальные слова для
представительницы дома Капулетти!
— Нет ли у вас чего-либо такого, что могло бы»
прямо показать, что эта пьеса неамериканская?
— Да вот хотя бы слова Ромео в первой сцене
пятого акта, когда он пытается купить яд у обедневшего-
аптекаря. Аптекарь уверяет, что закон запрещает ему
продавать яд. Ромео ему на это отвечает: «Ни свет, ни
светский закон не являются твоими друзьями. Нет
закона, который бы тебя сделал богатым. Золото —
вот худший яд для души человека, и оно учиняет
больше убийств в этом отвратительном мире, чем
все те жалкие препараты, которые ты отказываешься:
продавать».
— Большое спасибо, этого вполне достаточно!..»
Многие газеты требовали прекращения следствия по-
делу Голливуда, превратившегося в общественный
скандал. Та же «Нью-Йорк геральд трибюн»
раздраженно рявкнула на Томаса: «Расследование в
Голливуде дало много вздора и очень мало чего-либо еще».
Но все это отнюдь не помешало комиссии Томаса —
Ренкина посадить десять прогрессивных деятелей Гол-
297
ливуда на скамью подсудимых — двоих из ни* судят
за отказ ответить на вопрос о том, коммунисты ли они,
восьмерых — за отказ ответить, не являются ли они
членами гильдии (союза) сценаристов.
В этих условиях надо обладать немалым мужеством,
чтобы бросить в лицо нынешним правителям Америки
заявление, подобное тому, какое сделал привлеченный
к ответственности комиссией Томаса — Ренкина
писатель Дальтон Трумбо:
«Члены этой комиссии и другие реакционеры уже
создали в нашей столице атмосферу страха и репрессий.
Вы превратили Вашингтон в город, где ни один
профсоюзный лидер не может доверять своему телефону, где
старые друзья не решаются узнавать друг друга в
общественных местах, где мужчины и женщины говорят,
не боясь быть подслушанными, только в движущихся
автомобилях или на открытом воздухе. Наш столичный
город напоминает сейчас германскую столицу
накануне поджога рейхстага, и те, кто помнят историю
осени 1932 года в Германии, чувствуют запах дыма».
Томас не позволил Трумбо прочесть вслух это
заявление на заседании комиссии. Сценарист воскликнул:
— Это начало американских концентрационных
лагерей!
Присутствовавшая в зале публика ответила ему
аплодисментами, но эта демонстрация протеста дорого
обошлась писателю: Томас отдал его под суд, а
кинокомпания, в которой работал Трумбо, вышвырнула
его на улицу, не считаясь с тем, что фильмы,
поставленные по его сценариям, пользуются большим
успехом...
Через несколько дней в Филадельфии разыгрались
события, заставившие вспомнить мрачный прогноз
писателя. Местная организация «Прогрессивные граждане
Америки» просила разрешить ей провести в
историческом «Зале независимости» (в этом зале была
подписана декларация о независимости США) митинг
протеста против разгула реакции в США. Городские власти
отказали ей в этом. Тогда «Прогрессивные граждане
Америки попросили разрешения собрать митинг на
городской площади перед «Залом независимости». Город-
298
ские власти не могли отказать в этом, но
демонстративно заявили, что они отказываются «принять меры
для охраны порядка». Это был сигнал для
фашиствующих молодчиков из «Американского легиона». Они
атаковали участников митинга, забрасывая их
химическими бомба\Л и заглушая ораторов гудками сирен.
Молодчики из «Американского легиона» не поленились
доставить на городскую площадь даже... паровоз,
издававший оглушительные свистки. Когда к трибуне
направился престарелый юрист Фрэнсис Кан
восьмидесяти одного года, бывший прокурор США, фашисты
набросились на него. Они оторвали от старика
поддерживавшего его спутника и избили его.
Пошатываясь, Кан поднялся все же на трибуну и сказал,
задыхаясь:
— Мы находимся перед зданием «Зала
независимости», символом свободы, завоеванной для Соединенных
Штатов более ранними поколениями... Свобода США
окажется в опасности, если будет разрешена
нетерпимость...
В эту минуту на трибуну вскочил вожак легиона
«Пурпурного сердца» Нэйбл, небрежно отодвинул
старика и крикнул своим молодцам:
— Поздравляю вас!.. Митинг кончен...
Подобные этой позорные истории произошли в
городах Трэнтоне, Бриджпорте и даже в одном из районов
Нью-Йорка — Бруклине, где в ночь на четвертое
декабря хулиганы произвели атаки на клубы
прогрессивных организаций; на митинге, собравшемся на углу
Страусс-стрита и Питкин-авеню, нападавшие вырвали
у ораторов американский флаг и разорвали его в
клочья.
В городе Рочестер в средней школе была обнаружена
«ужасная крамола»: в библиотеке нашли книги
«Двадцать современных американцев», где рядом с
биографией начальника Федерального бюро расследования
(американской охранки) Эдгара Гувера помещена
биография Уоллеса. Книга была немедленно изъята, но
этим делом не ограничились. Католическая
организация потребовала немедленной «проверки лойяльности»
всех учителей города. В городах Атланта и Мэйкон фа-
299
шистская организация «Ку-клукс-клан» потребовала,
чтобы муниципалитеты насильно изолировали негров
во время выступлений Уоллеса.
Никто не назовет Уоллеса коммунистом. Но всем
известно, что он выступает против фашизма. Как
показывают факты, этого достаточно для тогв, чтобы люди,
симпатизирующие бывшему вице-президенту,
выставляющему сейчас свою кандидатуру в президенты США,
автоматически зачислялись в категорию «красных»...
Факты говорят о том, что деятельность фашистов в
Соединенных Штатах практически остается
безнаказанной.
В 1946 году нашумела история разоблаченной в
штате Георгия фашистской организации «Колумбийцы»;
эта организация ставила своей целью свержение
государственного строя, установление фашистской
диктатуры по образцу гитлеровского государства и
истребление негров. Формально организация была распущена.
Главаря ее Гомера Лумиса судили. И что же? Он до
сих пор остается на свободе и продолжает свою
преступную деятельность. В октябре 1947 года газеты
публиковали отчеты о его выступлениях на фашистских
митингах в Детройте, где он ораторствовал вместе с
руководителем другой фашистской организации «Амери-
кен ферст парти» Джеральдом Смитом. Примерно в это
же время появились сведения о деятельности еще одной
фашистской партии — так называемой
«Демократической национальной партии» с главным штабом в
Чикаго. • Лозунг этой партии, как сообщало агентства
Юнайтед Пресс, гласит: «Жизнь есть борьба, борьба
есть война, война есть жизнь...»
Вечером 14 ноября 1947 года в городе Глэндал
(штат Калифорния) двадцать молодчиков из
«Американского легиона» ворвались в частный дом. Они
пронюхали, что в этом доме собралась группа членов
местного клуба демократической партии, чтобы подписать
петицию к Уоллесу с просьбой выставить свою
кандидатуру в президенты. Легионеры перевернули все вверх
дном, сфотографировали собравшихся, переписали их
фамилии и предложили разойтись в десятиминутный
срок.
300
Против этих налетчиков был возбужден судебный
процесс, однако практически они остались
безнаказанными. Больше того, защитники легионеров
использовали этот процесс для агитации против организации
«Прогрессивные граждане Америки»...
Твердость и непреклонность представители властей
обретают лишь тогда, когда они встречаются с
представителями прогрессивных организаций. Как известно,
в США опубликован специальный список «подрывных
организаций», сочувствие которым расценивается как
признак неблагонадежности. В этом списке —
Национальный совет советско-американской дружбы,
организация ветеранов бригады Авраама Линкольна,
сражавшейся против Франко в Испании и потерявшей в
боях с фашизмом 1800 человек убитыми,
Международный рабочий орден — добровольная страховая
организация, насчитывающая 1880 тысяч членов, и многие-
многие другие. По стандартам американских властей не
только членство в этих организациях, но даже
знакомство с их членами преступно.
Газета «Нью-Йорк геральд трибюн», которую трудно
упрекнуть в симпатиях к «красным», сообщая об
увольнении группы сотрудников Государственного
департамента, признанных «нелойяльными», писала:
«Большинство из них искренне недоумевают. Так,
например, один из них может объяснить свое
увольнение только тем обстоятельством, что, будучи
студентом, он просто из любопытства посещал митинги,
организуемые левыми партиями. Другой был
знаком с человеком, друг которого принимал участие
в испанской гражданской войне на стороне
республиканцев. Третий оказался в списке клиентов
книжного магазина, продающего левую литературу.
Четвертый когда-то в прошлом работал техническим
служащим у профессора, известного более или менее
левыми взглядами...»
Журнал «Нейшн» в январе 1948 года опубликовал
целый ряд фактов, показывающих разгул полицейского
произвола в отношении научных работников,
заподозренных в крамоле. Ряд ученых был смещен со своих
постов в правительственных учреждениях и в частных
301
предприятиях даже без предоставления им права быть
выслушанными.
...В начале сентября 1947 года американскую печать
облетела сенсация: некий полоумный биохимик Курт
Лайон предложил разработать конструкцию...
аппарата для контроля над мыслями. Лайон сказал, что с
помощью такого аппарата можно было бы
«анализировать и контролировать заразную болезнь
коммунизма и создавать здоровые умонастроения, делающие
подобные несчастья невозможными». Конечно,
определенным кругам Америки было бы желательно
пропустить весь народ через какие-нибудь патентованные
аппараты, которые начисто отшибли бы у людей
способность мыслить или, по крайней мере,
зарегистрировали бы их «опасные мысли», как то предлагает Курт
Лайон. Однако сие, как говорится, от них не зависит,
и факты говорят о том, что бесчинства воинствующей
реакции вызывают эффект, обратный тому, на какой
она рассчитывала: у рядового американца понемногу
начинают открываться глаза на происходящее в стране.
Тем упорнее, однако, американская реакция стремится
сбить с толку, оболванить, стандартизировать людей,
развить у них низменные интересы, которые
заслонили бы все остальное, отшибли бы интерес к
общественной жизни.
По правде говоря, средний американец
недолюбливает религию, хотя и не говорит об этом вслух. Именно
поэтому мастера американской рекламы пускают в
ход все средства для того, чтобы поднять акции
американского бога в глазах рядового американца. В
Вашингтоне, например, в воскресенье вы можете купить
виски только в церкви. Если американцу захочется
выпить, он волей-неволей поплетется к попам, а они
вместе с бутылкой виски сунут ему в руки
какую-нибудь веселую молитву или покажут распутно-святень-
кий фильм с привлекательными ангелочками. Тех же,
кого в церковь все-таки не затащишь, атакует
многотысячная толпа прорицателей, волхвов, хиромантов,
знахарей, необычно расплодившихся в Америке,
особенно в послевоенные годы.
Даже в газетах рядом с биржевыми котировками,
302
отчетами о скачках и пространными репортажами об
убийствах вы ежедневно можете найти наставления
астрологов. В одной из самых распространенных
американских газет постоянный отдел «Ваши звезды
сегодня» ведет «прорицатель» Мэрион Дрю, изо дня
в день поучающий своих читателей на языке
средневековых шарлатанов:
— Сегодня Луна входит в созвездие Льва. Она
приносит поворот интересов вскоре после полудня, создает
непонимание в некоторых инстанциях, воспламеняет
споры и вызывает в ряде случаев инциденты.
Остерегайтесь того, что вы говорите и делаете. Не совершайте
сегодня серьезных поступков. В том случае, если ваше
чувство подавленности и мрачного настроения
продлится до вечера, — откажите себе в удовольствии
писать сварливые письма по этому поводу. Иначе вы
зайдете слишком далеко...
По данным, которые были опубликованы 19 октября
в «Нью-Йорк геральд трибюн», в США насчитывается
сейчас около двадцати пяти тысяч знахарей только в
области психологии — это бесчисленные
«психологические консультанты», «эмоциональные советники»,
«персональные помощники» и т. д. Не утратившие
способности критически мыслить, американцы зовут их в
просторечии «психокваками». «Психокваки»,
взимающие с простодушных посетителей за каждый сеанс
кругленькую сумму в десять долларов, располагают
дипломами докторов психоанализа, хиропрактики, на-
туропатии, метафизической философии и т. п. Эти
дипломы выдаются сомнительными учебными заведениями
вроде «Колледжа универсальной правды» в Чикаго, где
преподаются такие «науки», как «практическая
метафизика», «персональный мистицизм» или
«эзотерическое масонство» (заметим мимоходом, что масонство
весьма модно в современной Америке; к числу
«вольных каменщиков» принадлежит, в частности, Бирнс,
пожертвовавший гонорары за свою антисоветскую
книжку «Откровенно говоря» в пользу масонской
ложи Северной Каролины).
Американца приучают бояться черных кошек, три-
303
«адцатого числа, пятницы. Его приучают верить в
приметы, быть фаталистом. Что же это — случайное
поветрие? Дань нелепой моде? Нет! Прсшоведь фатализма,
суеверий входит каким-то составным элементом в
хитрые планы тех, кто заинтересован в превращении
рядовых американцев в ограниченных, послушных,
отвыкших рассуждать людей.
Той же цели подчинена целая отрасль американской
литературы, рассчитанная на простонародье. Я имею в
виду так называемые «мёрдер стори» — истории об
убийствах. Мощная американская полиграфия
выбрасывает на книжный рынок сотни тонн отпечатанных на
прекрасной бумаге баснословно дешевых книг,
растлевающих сознание читателей. Рядовой американец три
раза подумает, прежде чем купить том Шекспира или
Марка Твена. За такую книгу надо заплатить несколько
долларов. А «мёрдер стори», которая расценивается в
центах, он приобретет не задумываясь. О том, что
представляет собою эта «литература», дает достаточное
представление вот эта реклама, заимствованная мною
из нью-йоркской газеты «Дейли Мирор»:
«5 великих пламенных новых книг, все только за
один доллар! «Великие гангстеры», «Величайшие
побеги из тюрьмы всех времен», «Десять самых ужасных
преступлений всех времен», «Как детективы ловят на
крючок», «Тайны магии». Если у вас деликатный
желудок или хилые нервы, эти книги не для вас! От этих
книг ваши волосы встают дыбом, ваши колени дрожат,
ваши глаза лезут на лоб, ваша кровь кипит. В этих
книгах, наконец, имеются кровавые подробности
поражающих, смелых, возбуждающих подвигов американских
гангстеров, показанные во всех их шокирующих же-
стокостях.
И многие американцы шлют свой доллар разбитным
издателям, публикующим подобные постыдные
объявления в газетах, и получают взамен пять книжонок,
отравляющих мозг читателя прославлениями убийств
и грабежей. Но дело не ограничивается пропагандой
преступности как таковой. Она служит и совершенно
недвусмысленным политическим целям. Не случайно
на конкурсе на лучшую книгу этого «жанра»,
организм
зованном журналом «Америкэн меркури», первую
премию в сумме 25 тысяч долларов получил некий Дже-
ралд Херд, представивший рукопись книги «Война
1999 года между Соединенными Штатами и СССР».
Плоды такой системы воспитания дают себя знать.
Не случайно американцы жалуются на неслыханный
рост преступности. Каждый день газеты сообщают о
зверских убийствах, наглых налетах среди белого дня,
насилиях. Во всей своей красе предстали перед
жителями Нью-Йорка молодчики, взращенные на уголовной
литературе, развращающих фильмах и провокационных
антисоветских речах, осенью прошлого года в дни
съезда «Американского легиона». Мы прибыли в Нью-
Йорк несколько дней спустя после этого съезда, и
город находился под свежим впечатлением от него. То,
что рассказывали нам ньюйоркцы, казалось
невероятным, но снимки, опубликованные во всех газетах и
журналах, в частности, в «Лайфе», подтверждали эти
рассказы...
Военизированные формирования «Американского
легиона» напоминают формирования штурмовиков в
Германии тридцатых годов, и воспитание легионеры
получают примерно то же, какое получали штурмовики.
Когда в Нью-Йорке собирался съезд легионеров,
свыше было дано специальное указание полиции:
смотреть на поведение легионеров сквозь пальцы.
В итоге Нью-Йорк в эти дни был отдан, что называется,
на поток и разграбление этим разнузданным
молодчикам.
Вот кадры, опубликованные в# те дни в журнале
«Лайф»: из окна первоклассного отеля «Тафт» на
голову прохожего выливают ушат воды; жирный
легионер в белой рубашке, выпущенной поверх брюк, тычет
электрическим штепселем в спину проходящей
девушке, провод от штепселя тянется к
высоковольтной батарейке, спрятанной у него в кармане, —
девушка в истерике, прохожие шарахаются в сторону;
легионер въезжает верхом на лошади в гостиницу;
трое легионеров окружили девушку, один держит ее
за грудь, другой ее облрвает, третий ругается с
прохожими; легионеры носят на палке гнилую полуразло-
20 На Западе после войны 305
жившуюся рыбу и тычут ее в нос прохожим. Все это
преподносится как невинные проказы «ветеранов».
Когда мы приехали в Нью-Йорк, в витринах
магазинов еще висели плакаты «Привет Американскому
легиону». Еще не закрылись специальные магазины,
торговавшие в дни съезда аксессуарами так
называемых «практических шуток», которым легионеры
предавались после слушания очередных антисоветских
речей на своих заседаниях. Я бы назвал подобные
магазины «мечта хулигана». Противно и стыдно описывать
все то, что лежит в их витринах...
Тогда мне довелось встретиться с одним
американским писателем. Речь зашла о фашистской угрозе. Мой
собеседник задумался и сказал:
— Все это не так просто. Не следует забывать,
что рядовой американец в массе своей испытывает
глубокую привязанность к демократическим институтам.
Он не забыл, что мы совсем недавно воевали против
фашизма, и он терпеть не может фашистов.
Естественно, что лозунги нашей реакции коренным
образом отличаются от лозунгов Гитлера. Гитлер
говорил прямо немцам: «Мы пойдем на соседей
войной и отнимем у них нужное нам жизненное
пространство». Наши реакционеры предпочитают другой язык.
Они не скажут, что хотят захватить Грецию. Нет, они
говорят, что Мы должны освободить греков и дать им
демократию. Они не скажут, что хотят превратить
Западную Европу в колонию. Нет, они говорят, что
хотят помочь укрепиться западноевропейским
демократиям...
Да, разница в терминологии существенная. Но
решают ли термины?
6. ХЛЕБ И ЗРЕЛИЩА
Я ненавижу Нью-Йорк в
воскресенье.
В. Маяковский («Мое
открытие Америки»).
В Нью-Йорке нас возил шофер Джонни. Он не плохо
водил машину, хотя это вовсе не его специальность.
Он кончил кулинарную школу. Ему случалось рабо-
306
тать и слесарем, и клерком, и кондуктором. Больше
всего ему хотелось стать владельцем какого-нибудь
собственного, пусть маленького, но собственного дела:
магазина, пекарни, может быть, фермы Но для этого
нужны доллары, много долларов. Где их взять?
Джонни придумал: заработать в рулетку! Однако ничего»
хорошего из этого не получилось: он проигрывал раз за
разом, а когда ему случилось однажды выиграть, на
него тут же напали двое дюжих парней, побили его,
отняли деньги и вытолкали взашей. На другой день-
Джонни, вздыхая, говорил нам:
— Дикость! Вы знаете, я уверен, — это рэкетиры,,
настоящие американские ракетиры. В Европе это было»
бы, наверное, немыслимо. Я играл в рулетку в Неаполе
и в Париже и ни разу ничего подобного не видел.
А у нас — пожалуйста. Они, наверняка, состояли на
службе у хозяина!
О рэкетирах мы слышали не мало. Действительно,
ракетспецифическая американская разновидность
уголовщины — как орудие бизнеса.
Что же этя такое? Вот вам факты, взятые из жиэни.
Все вешалки нью-йоркских театров и ресторанов
эксплоатируются одной, крепко сплоченной группой
дельцов. Формально вешалки бесплатные. Но каждый
посетитель дает гардеробщику на чай. Чаевые в
полной сохранности сдаются начальству: если
гардеробщика уличат в утайке, его выкинут на улицу, и никто
не поставит и цента за его дальнейшую судьбу. На
чаевые дельцы не только содержат свою
организацию — нечто вроде треста, но и получают огромную
прибыль. Эта прибыль лишила покоя некоторых
владельцев ресторана. Почему кто-то другой должен
пользоваться дополнительным источником дохода от
их посетителей? Они выпроводили старых
гардеробщиков и поставили своих. Тогда в ресторан повадились
ходить бравые молодчики с массивными бутылями.
Они деловито обливали серной кислотой висящее на
вешалке платье посетителей и уходили. Платье гибло,
строптивые рестораторы терпели убытки и теряли
клиентуру. В конце концов им пришлось скрепя сердце
отказаться от эксплоатации вешалок. Ракет!
20*
307
Чаще всего такие тресты полулегальны. Иногда они
вовсе нелегальны. Нам рассказывали, что известный
в США бандит Кастелло создал специфическую, опять-
таки чисто американскую, сеть подпольных... заочных
тотализаторов. Вам незачем итти на скачки, чтобы
поставить ставку на ту или иную лошадь. Время —
деньги! Вы можете отдать свою ставку агенту
подпольного тотализатора, — агентами у Кастелло состоят
газетчики, бои из гостиниц, горничные. Вам не дадут
никакой квитанции, но вас не подведут. Если лошадь,
на которую вы поставили, придет первой, вам принесут
ваш выигрыш в той же сумме, какую вы получили бы
в кассе на скачках. Если вы проиграли, — не взыщите.
В чем здесь секрет? Для чего понадобилось создавать
подпольные тотализаторы? Очень просто! Кастелло и
его компаньоны, действуя нелегально, избавляются от
налогов, а налоги при больших оборотах составили бы
весьма значительную сумму. И вот у Кастелло тысячи
агентов по всей стране, не за совесть, а за страх
служащих своему боссу, хозяину, — если босс уличит
агента в обмане или предательстве, тот исчезнет
бесследно. Ракет!
В Америке любят говорить о том, что многие
миллионеры начали с копеечных заработков. Эти рассказы все
еще кружат кое-кому голову. Наш бедный Джонни
каждый день придумывал новый фантастический
проект, как стать богатым. То он собирался уехать
куда-то в Бразилию и поступить на изумрудные копи,
то мечтал изобрести ракетный автомобиль, то строил
планы женитьбы на дочери владельца универсального
магазина. Тонкая, хитрая и вместе с тем грубая
пропаганда, рассчитанная на непрестанное возбуждение
собственнических инстинктов, иссушает душу,
ограничивает интересы человека, отупляет его. Газеты,
радио, кино, литература, церковь делают все, чтобы
отвлечь рядового американца от размышлений о прозе
жизни и уверить, что «американский образ жизни» —
самый лучший на земном шаре.
Своеобразные фабрики иллюзий поставлены с чисто
американским индустриальным размахом и имеют
сотни стандартов, применительно к разным категориям
308
людей, разным характерам, разным уровням развития.
О некоторых из них я скажу позже, более подробно.
Сейчас же мне хотелось бы сказать о самом простом,
самом элементарном и циничном способе воздействия
на толпу, известном еще в древнем Риме, где родился
лозунг «хлеба и зрелищ!» Я расскажу о воскресном
Нью-Йорке, о том, чем же заполнен досуг тех, кто, не
зная, куда себя деть, выходит в этот день на
заплеванные и замусоренные тротуары этого тесного города.
В воскресенье вы чувствуете себя здесь словно
перед сценой старого театра, с которой убрали
декорации, забыв опустить занавес. Все, что было скрыто за
пестрыми, яркими декорациями, выпирает вперед:
грязные кирпичные стены, углы, оплетенные паутиной,
какой-то ветхий хлам...
Нарушен привычный напряженный ритм: не
работают ни заводы, ни конторы трестов, и люди вдруг
ощущают какую-то пустоту — им нечего делать.
Те, кто побогаче, с утра садятся в собственные
автомобили и катят 1^з города миль за сто — в лес, к реке
в горы. На улицах, ведущих в город, с раннего утра
пробки: тысячи автомашин в три-четыре ряда, крыло
к крылу, медленно ползут к мостам и тоннелям,
пересекающим Гудзон; владельцам машин понадобится
два-три часа, чтобы выбраться из этой толчеи на лоно
природы. Но и это лоно — особое, специфично
американское. Даже за сотни миль от Нью-Йорка вы не
найдете настоящего, привольно растущего леса, лужайки,
не пройдете извилистой мягкой тропой. Леса тщательно
рассечены асфальтовыми дорогами для автомобилей,
и всюду стандартного образца каменные печурки для
разведения костров. Приехавший общаться с природой
банковский чиновник или владелец магазина
останавливает свой автомобиль, расстилает резиновый коврик,
устанавливает переносный аккумуляторный
радиоприемник, зажигает огонь, ставит на печурку кастрюлю,
откупоривает бутылку виски и чувствует себя по
меньшей мере героем Фенимора Купера.
Там, откуда он приехал, — на Пятой авеню или на
Парк-авеню, — © этот день пустынно и тихо: там
остаются скучать лишь запертые в огромных стеклянных
309
витринах восковые мистрисс и мисс в горностаевых
и собольих манто и расшитых золочеными бляшками
ослепительных платьях — на зависть и удивление
провинциалам, которые робкими стайками бредут от
витрины к витрине за экскурсоводами с Бродвея
в пестрых фуражках.
Совсем иная картина в плебейских кварталах —
в негритянском Гарлеме, в населенном итальянской,
славянской, еврейской беднотой Даун-тауне, в
грязных и мрачных районах, прилегающих к знаменитым
докам Нью-Йорка. Здесь все на улице: жильцам этих
районов некуда деваться в воскресенье. Отцы
семейств — в барах, матери — у подъездов домов,
детвора, вооруженная рогатками и самодельными
пистолетами, самозабвенно играет в бандитов и сыщиков,
лавируя между тяжелыми грузовиками, с грохотом
катящимися по мостовой. И именно в этот день особенно
резко бросается в глаза какой-то лоскутный,
подчеркнуто пестрый характер города.
Так повелось еще в первые годы массовой
иммиграции: выходцы из разных стран, попадая на этот чужой
материк, интенсивно жались друг к дружке, селились
вместе, рядышком, чтобы легче было осваиваться на
чужбине. И когда теперь вы объезжаете кварталы
города, вы отчетливо видите границы: вот здесь
польский город, здесь — китайский, украинский, греческий,
югославский, испанский.
В Нью-Йорке представлены почти все
национальности мира. 29% населения — эмигранты, 36% —
люди, родившиеся от иностранцев. По переписи
1940 года здесь насчитывалось 1 095 тысяч
итальянцев, 927 тысяч выходцев из дореволюционной России,
519 тысяч ирландцев, 490 тысяч немцев, 413 тысяч
поляков. Они переселились сюда сорок — пятьдесят
лет тому назад. Многие совершенно забыли родной
язык, другие говорят на каком-то странном жаргоне.
Но некоторые внешние черты старого быта все еще
живут. Странно сплетаясь с американскими
стандартами, они создают пеструю, причудливую смесь
обычаев, нравов, привычек.
В одном из уголков Даун-тауна до сих пор сохра-
310
нился район, живо напоминающий типичное местечко
юго-западной России начала нашего века — с
барахолкой, харчевнями, с постоялыми дворами,
наполненное шумом и гамом его темпераментных обывателей.
Когда бродишь по этим узеньким, кривым улочкам,
пропахшим селедкой и чесноком, среди жаровен, на
которых шипят пышки и кныши, невольно кажется:
вот-вот выйдут из-за угла парубки в свитках и
шароварах шириной в Черное море. Ничто как будто не
изменилось здесь с 1900 года. Но на углу вы
натыкаетесь на странное, сложное сооружение—большие
стеклянные банки, никель... подходит степенный
американец в шляпе и длиннополом пальто, достает из
кармана пятицентовую монету, опускает ее в щелочку,
подставляет пригоршни под никелированный раструб,
автомат отсыпает ему стакан добрых украинских
подсолнухов, и он идет дальше, щелкая семечки и
поплевывая на тротуар. Опустите пять центов в другую
щелочку — и автомат отсыплет вам стакан тыквенных
семечек. Машина с успехом заменила базарную
торговку. Я бы не удивился, если бы узнал, что существует
целый трест или синдикат по снабжению семечками
927 тысяч выходцев из дореволюционной России...
В китайском городе иной колорит, иные детали.
Повсюду вывески с иероглифами, написанные сверху
ениз, лавчонки с фарфоровыми сувенирами, харчевни
с пряными китайскими блюдами; можно съесть птичье
гнездо, морских червей, тухлые яйца. Но и на эту
экзотику ложится тяжелая длань трестов, успешно
использующих и ее в своих коммерческих интересах.
Даже тайные опиекурильни, упрятанные в подвалах,
находятся в руках всемогущих монополий,
действующих нелегально, — полиция в борьбе с ними
пасует.
Сохраняя экзотику и разнообразие колорита, Нью-
Йорк в то же время неутомимо стандартизирует
внутреннее содержание этого пестрого мира, обезличивая
«го обитателей. Кроме небольшой группы людей,
занятых обслуживанием специфических экзотических
предприятий, все они — и китайцы, и итальянцы, и
испанцы — работают у одинаковых конвейеров, масте-
311
рят одинаковые изделия, получают одинаковую плату
за труд, как правило, меньшую, чем англо-саксы,
терпят одинаковые обиды, постепенно сливаются в
единую безликую массу и проникаются глухой
тоской.
Особняком держатся только негры; вернее сказать,
их держат особняком. О тяжелой судьбе негров в
Америке рассказано и написано столько, что здесь,
пожалуй, не стоит говорить о ней пространно. Загнанный
в тесное гетто — Гарлем, «черный массив» Нью-
Йорка задыхается в тесноте и грязи ветхих домишек.
Все дома здесь принадлежат белым. Белые
собственники не утруждают себя заботами о ремонте этих
лачуг: известно, что за пределами Гарлема ни один
домовладелец не сдаст негру даже сарая. Известно
также, что в самом Гарлеме царит чудовищный
жилищный кризис: за полвека здесь не построено ни
одного нового дома. Поэтому волей-неволей негр
снимет даже самую ужасную берлогу и заплатит за нее
втридорога.
В кварталах Гарлема, даже в будни, редко
встретишь белого, так же редко, как встретишь в
воскресенье негра за пределами Гарлема. Здесь только
черные, черные повсюду — и на улицах, и в кино, и
в магазинах, и в барах: даже манекены в витринах и
куклы у детей темнокоричневые, с курчавыми
волосами и толстыми красными губами. Черный цвет кожи
и курчавые волосы для негра — словно злой рок.
В воскресный день в парикмахерских Гарлема вы
можете увидеть десятки мулатов, сидящих со
взъерошенными волосами под сверкающими никелевыми
куполами — это автоматическая развивка. Гладкая
прическа, такая, как у белого, — мечта каждого
мулата. В ней он егидит своеобразный камуфляж,
который дает возможность замаскировать его
негритянскую кровь. По американским обычаям расовые
ограничения распространяются не только на чистокровных
негров, но и на полукровок-мулатов и даже на тех, в
чьих жилах течет хотя бы капля негритянской крови.
Таков лоскутный, пестрый и в то же время сплошь
стандартизированный Нью-Йорк. Резче всего и внеш-
312
няя .пестрота и внутренняя нивелировка «маленьких
людей» Америки проявляются в воскресный день,
когда все районы города скучают каждый по-своему и
в то же время все одинаково — и те, кто лузгает
семечки, и те, кто жует резинку, и те, кто глотает тухлые
яйца. Перед каждым, в сущности, открывается одна и
та же немудрящая перспектива: церковь, бар,
уличная толкучка, дешевая кинозабегаловка, где крутят
позапрошлогодние третьеразрядные фильмы, дешевые
аттракционы. Они одинаковы повсюду — от Даун-
тауна до Бродвея, китайского города и Гарлема —
ведь все они содержатся одними и теми же трестами.
Обычно, когда рассказывают о том, как
развлекается в воскресенье рядовой американец, вспоминают
о Кони-Айланде, этом увеселительном загородном
комбинате, рассчитанном на миллионы посетителей.
Он был прекрасно описан Горьким и Маяковским. Не
все знают, однако, что Кони-Айланд функционирует
только летом. С окончанием купального сезона
песчаная коса пустеет, фанерные дворцы заколачиваются
до весны. Аборигены Нью-Йорка лишены
возможности ими пользоваться семь-восемь месяцев в году.
В это время всю нагрузку, которую летом
выдерживают Кони-Айланд, принимают на себя тысячи мелких
увеселительных учреждений того же типа, рассеянных
по всему Нью-Йорку, — десятаи тысяч баров, пивных
и... нью-йоркская улица.
В воскресенье больше всего народу привлекает
к себе все тот же пресловутый Большой Белый Путь —
Бродвей, самая длинная улица города, пересекающая
Манхеттен из конца в конец. Большой Белый Путь —•
так прозван Бродвей за обилие световых реклам, не
гаснущих даже днем. С утра и до утра сверкают
в небе четыре огненных цветка — это реклама виски
«Четыре розы». Назойливо лезут в глаза светящиеся,
движущиеся рекламы кино: «Тени Нью-Йорка»,
«Таинственное убийство», «Черная рука». А внизу, в
озарении белых, красных, зеленых, фиолетовых световых
волн, точно на каком-то зловещем фантастическом
карнавале, плотно прижавшись плечом к плечу,
медленно плывет по неширокому тротуару толпа, ослеп-
313
ленная светом реклам, оглушенная ревом музыки,
вырывающейся на улицу из сотен мелких
увеселительных заведений. Налево и направо — тысячи
приманок. Не успеешь оглянуться, а твои доллары и центы
уже покинули твой карман.
Вот магазины Вульворта, нажившего
многомиллионное состояние на торговле мелким, копеечным хламом
для простонародья. В этих магазинах любой предмет
стоит пять, десять, двадцать центов: ленточки, помада,
дешевенькие открытки, шнурки, рамочки для семейных
фотографий, елочные украшения, минеральная вода,
свечи. Вот книжные магазины. На самом видном месте
книги: «История секса», «Техника брака», «Садизм и
мазохизм»; за ними россыпь детективных романов и
в самом дальнем углу — техническая литература и
классика. Вот пресловутые американские аптеки, где
меньше всего думают о продаже лекарств. Здесь
можно позавтракать, можно купить чемодан, игрушку,
лопату, вечное перо.
И бары, сотни, тысячи баров...
Но вот перед вами нечто совсем необычное: это и
не магазин, и не бар, и не кино, и не музыкальный
салон, а нечто среднее, промежуточное, своеобразный
увеселительный комбинат — Кони-Айланд в
миниатюре, где есть всего понемногу. Передняя стена
отсутствует. Под потолком подвешены длинные молочно-
белые, малиновые, синие, зеленые трубки ламп,
заливающие широкое помещение пестрым светом.
У входа — лотки, с которых торгуют странным
товаром. Неглубокий бассейн кишит мелкими черепашками.
Какая-то фирма, занимающаяся массовым их сбытом,
сумела стандартизировать и черепашек — на щите у
каждой из них аккуратно наклеена несмывающаяся
цветная картинка. Эти полиграфические украшения
привлекают зевак, и в кассу предприимчивой фирмы
сыплются центы и доллары. Рядом торгуют
порнографическими открытками. И тут же продажа сувениров
для новобрачных: кольца, металлические украшения,
броши, поддельные бриллианты.
Внутри этого увеселительного комбината все
сверкает, искрится огнем, гремит, играет. Невзыскатель-
314
ного зрителя ждут сотни сюрпризов. Вот перед вами
макеты пятиминутной фотографии — вам остается
просунуть голову в овальное отверстие, чтобы сняться
в любом виде, какой вас устраивает.
Чуть подальше — десятки самых различных
автоматов. Некоторые из них любопытны: например, такой
аттракцион: вы садитесь в закрытую кабину, опускаете
в щелку двадцать пять центов, и автомат вас
фотографирует: ровно через пять минут из автомата
выскакивает ваша фотография в металлической рамочке.
Рядом автомат, записывающий на пластинку ваш голос.
За небольшую плату вы можете продиктовать письмо,
спеть песенку и потом послушать ее...
Но главное место в этих увеселительных комбинатах
занимают автоматы, пропагандирующие войну. Это не
европейские тиры, в которых можно тренироваться
в меткости стрельбы; это не игры парижского
простонародья, которое сбивает ватными мячами
карикатурные фигурки Гитлера, Геринга и Геббельса. Это
сложные механизированные копии зловещих орудий
массового уничтожения, * в управлении которыми может
попрактиковаться за пять центов любой желающий.
К вашим услугам копии бронированных башен
военного корабля, сложных зенитных установок, торпедные
аппараты подводной лодки, бомбосбрасыватели
самолета и даже... «атомная бомба».
Читатель уже догадывается, вероятно, что и эти
автоматы являются делом рук какого-нибудь
предприимчивого монополиста. Совершенно верно, — эта
отрасль «увеселительной индустрии» находится в руках
у предприимчивого янки Вильяма Рабкина. «Его
автоматы получают от зачарованных американцев
400 миллионов никелей 1 в год», — сообщил осенью
прошлого года журнал «Колльерс», посвятивший
карьере этого дельца пространный очерк.
Вильям Рабкин не скупится на затраты, заботясь
о том, чтобы создать автоматы, поражающие
воображение среднего американца, словно удар грома.
Автомат «Атомная бомба» — последний крик продикто-
1 Никель — пятицентовая монета.
315
ванной им моды. В разработке конструкции этого
автомата принимали участие видные специалисты. Вот
как описывает «бизнес» Рабкина очеркист «Колльерса»:
«Вскоре после того, как американские летчики
швырнули пару атомных яиц на Японию, ученый физик из
Колумбийского университета начал спокойно работать
у Вильяма Рабкина в Лонг Айленд Сити. Две недели
ученый работал за звуконепроницаемой дверью, дав
торжественное обещание сохранять секретность.
Спустя .три месяца результат его секретной
деятельности появился в тысячах прихожих отелей, аптек,
автобусных остановок, комнатах ожидания железных
дорог и даже в лавках Долина смерти — в форме
аппаратов, почти столь же интригующих воображение,
как счетная машина.
Автомат с ярлыком «Атомный бомбардировщик»
работает за никель, но тем не менее он принес Вильяму
Рабкину тысячи долларов дохода.
Вильям Рабкин, спокойный, безмятежный
джентльмен с выразительными глазами, — это Томас Альва
Эдисон развлекательной промышленности. Он
знаменит своими патентами на сорок девять адских машин,
среди которых «Праздничный боевик», «Удар», «Кровь
и дорога» и другие. Наряду с турникетами для метро
и другими приспособлениями, остроумные автоматы
отняли у американцев больше никелей, чем любые
копилки. Тридцать миллионов человек в год от мала до
велика хмурятся, гикают, свистят при удаче и неудаче
у его новых созданий.
...В свое время Рабкин создал «небесный
истребитель». Это точная копия настоящего истребителя.
Игрок нацеливает свою зенитную пушку на
движущийся вражеский самолет. Затем—тра-та-та —
300 выстрелов в тридцать секунд. Каждый раз, когда
самолет бывает сбит, звонит колокол, и он пикирует,
охваченный пламенем. «Небесный истребитель»
немедленно завоевал признание тысяч болельщиков. Рабкин
никогда не забудет пилота, который сказал, что он
гораздо больше гордится тем, что набрал 290 очков на
«небесном истребителе», чем сбитыми им тремя
нацистскими бомбардировщиками.
316
«Атомный бомбардировщик» Рабкина тоже
представляет собой модель настоящего и воспроизводит
смертоносный грибоподобный облик разрыва, который
появляется на экране каждый раз, когда зритель
добивается «цепной реакции»; он показывает этот взрыв
зрителю более реально, нежели тот мог вообразить».
Многие посетители увеселительных комбинатов
желают воспользоваться услугами разнообразных
силомеров. Меньше охотников отдать свои центы за
пользование настольным автоматическим биллиардом или
автоматом, изображающим игру в футбол. Но если
говорить о более своеобразных и специфических
аттракционах этих увеселительных комбинатов, то,
конечно, надо отдать предпочтение механическим
гадалкам.
Так как в Соединенных Штатах принято все
автоматизировать, то дошла очередь и до гадания. Автомат,
машина вытеснила старомодных гадалок, которые
раскладывали карты и колдовали над кофейной гущей.
Механизация все предельно упростила.
Конструкторы придумали сотни разнообразных
автоматов-гадалок. Вот перед вами механизированная
цыганка из папье-маше — в бусах и пестром платке;
когда вы опускаете в ее кружку пять центов — все те
же традиционные пять центов! — ее руки приходят
в движение, она кивает головой, и из автомата
выскакивает талончик, на котором напечатано ее
«предсказание». Вот сложный и таинственный агрегат «Зеленый
луч». Инструкция предупреждает вас, что, опустив пять
центов, вы должны стоять не шевелясь перед экраном
аппарата: если вы нарушите это условие,
«предсказание» недействительно. Пять центов со звоном падают
в автомат; машина приходит в движение; раздается
грохот, звонят какие-то звонки, проскакивают молнии,
зажигаются разноцветные огни, и, в конце концов,
выпадает такой же талончик с «предсказанием», как и
тот, что выдала вам цыганка. Вот механизированный
попугай, вытаскивающий железным клювом из ящика
листочки «на счастье».
Но что же предсказывают все эти автоматы? Какие
советы дает толпе механизированная гадалка? Какую
317
цель преследовал трест, сфабриковавший их? Мы взяли
несколько талончиков. Вот некоторые из них.
«Вы принимаете жизнь слишком серьезно. Не будьте
таким чувствительным! Меньше думайте о будущем.
Вы будете жить долго. Больше занимайтесь спортом
и не унывайте».
«Вы будете долго жить. У вас будет много
неприятностей, но все кончится хорошо. Бойтесь черного
человека!»
«Вы слишком самолюбивы. Вы не любите, чтобы вам
указывали, как и что надо делать, и предпочитаете
быть хозяином, нежели слугой. Вы слишком
прямолинейны, — это может привести к аварии. Вам следует
быть более осторожным и скрытным — тогда вы
будете преуспевать в своем бизнесе».
И еще и еще вариации на ту же тему: не
отчаивайтесь, терпите, не будьте строптивы, повинуйтесь —
и все тогда обойдется. Далеко не все, конечно,
принимают эти советы всерьез. Но какой-то след в сознании
советы, бесспорно, оставляют, что, собственно говоря,
и требуется хозяевам этой в высшей степени
своеобразной отрасли американской индустрии.
Но хватит толкаться в этом тесном, душном зале,
хватит бродить по Бродвею. Можно было бы еще зайти
в «Боулинг» — американский кегельбан. Мощный
трест, который держит в руках игру в кегли по всей
стран.е и обслуживает несколько десятков миллионов
человек, оборудовал отличные кегельбаны. Можно
было бы заглянуть в дансинг: там с утра и до глубокой
ночи люди лихорадочно трясутся в странных танцах.
Но поедем лучше в парк, на свежий воздух. Как там
отдыхает в этот воскресный день житель Нью-Йорка?
Нью-Йорк беден зеленью. Он вырос на каменных
скалах. Растительность, искусственно разведенная
в его парках, медленно умирает под воздействием
ядовитых бензиновых паров. Когда вы смотрите на
широкий, прямоугольный Сентрал-парк из окон
верхних этажей небоскребов, окружающих его высокой
стеной, вам бросаются в глаза широкие лысины,
зияющие пустоты.
Во всех направлениях парк пересекают широкие
318
асфальтовые дороги — зажиточный американец гуляет
в автомобиле или такси. Если у вас много денег, вы
можете нанять извозчика. Старомодные извозчики,
словно сошедшие с гравюр прошлого века, в цилиндрах,
с длинными хлыстами, дежурят у парков. Это
экзотика, а за экзотику здесь платят дорого. Если у вас
еще больше денег, вы можете воспользоваться
верховой лошадью и поскакать по мягкой немощеной
дороге. Но большинство тех, кто приходит в воскресные
дни в Сентрал-парк, не пользуются ни верховой
лошадью, ни извозчиком, ни такси, это им недоступно.
Рядовой американец выходит из метро или сходит
с автобуса, идет в парк пешком, облюбовывает уголок,
где еще сохранилось немного травы, подстилает газету
и ложится на нее. Лечь просто на траву — рискованно.
Однажды мы, не зная особенностей Нью-Йорка,
поступили именно так и совершенно испортили костюмы.
Трава в Сентрал-парке покрыта плотным слоем
жирной нефтяной копоти от автомобилей...
Там и сям в Сентрал-парке разбросаны площадки,
на которых можно играть в футбол. Американский
футбол: к нему надо долго присматриваться, чтобы
понять и попытаться как-то, оправдать эту игру. На
поле две команды в толстых шлемах, в широких
прочных кожаных наплечниках и нагрудниках и в ватных
штанах с наколенниками. Глянешь на такого игрока —
и невольно вспоминаешь иллюстрации к
фантастическому роману Уэльса «Борьба миров», где изображены
марсиане.
Как же -идет игра? Вначале каждая команда
становится кружком. Игроки берут друг друга за плечи,
нагибаются к центру и шепчутся друг с другом —
намечается план передачи мяча. Потом команды
выстраиваются двумя шеренгами друг против друга на
корточках. Раз, два три! Ведущий быстрым толчком
посылает продолговатый, похожий на дыню мяч назад
игроку, с которым он заранее сговорился. Тот хватает
мяч подмышку и изо всех сил бежит вперед, к воротам
противника. На него яростно бросается команда,
защищающая эти ворота. Его можно бить, валить с
размаху наземь, кувыркать, лишь бы вырвать мяч. Задача
319
игрока — успеть передать мяч другому игроку своей
команды: тогда его оставят в покое и набросятся на
второго игрока.
Вот так, в драке и мордобое, проходит весь тайм,
прерываемый только свистками судьи. После каждого
свистка команды снова становятся в кружки,
намечают новый план передачи мяча и возобновляют игру
с того места, где упал мяч в момент свистка судьи.
Каждая команда имеет солидное количество запасных
игроков — время от времени с поля выносят замертво
подбитых, и тогда запасные игроки со свежими силами
бросаются в бой. Мы наблюдали в Сентрал-парке один
из любительских матчей — играли две студенческие
команды. За один тайм одного игрока вынесли с поля
боя без чувств, другому переломили руку.
В стороне — более безобидное зрелище: престарелые
клерки деревянными молотками тихо гоняют
крокетные шары. Их жены на складных стульчиках вяжут
что-то. Еще дальше ребятишки играют с ручными
белками — их сотни в этом парке, и можно только диву
даться, как они выживают в этом бензиновом чаде, на
голых камнях, почти не прикрытых зеленью, среди
грохота и шума большого города...
Откуда-то вдруг доносятся музыка и пение. Пятеро
светлолицых негров с островов Вест-Индии трубят
в саксафоны, бьют в бубны и поют какую-то гортанную
песню, покачиваясь и приплясывая. Их спутник, седой,
морщинистый испанец, протягивает прохожим
засаленную шляпу, на дне которой позвякивают центы.
Некоторые прохожие останавливаются; большинство,
ускоряя шаг, проходит мимо. Еще меньше любопытных
собирает оркестр «Армии спасения», гнусавящий
унылые псалмы. Кажется, один вид постных, испитых
физиономий этих трубачей способен вызвать острую
зубную боль. Дородная, краснощекая, какая-то
взъерошенная «мать милосердия», сердито озираясь на
равнодушных прохожих, ждет, пока смолкнет оркестр,
чтобы начать очередную проповедь. А рядом четыре
бойких оратора уже оседлали шаткие переносные
трибуны и наперебой агитируют уличных зевак — каждый
за свое: один рекламирует свою религиозную секту,
320
второй доказывает, что революционные настроения
в республиках Центральной Америки возникают из-за
широкого распространения малярии, третий требует,
чтобы все .начали изучать эсперанто, четвертый
доказывает, что не надо есть мясо. Этот нью-йоркский
«вольный форум» — кусочек лондонского Гайд-парка,
перенесенный на скалы Манхеттена. •
Так проходит нью-йоркский воскресный день.
Минет еще несколько часов, парк опустеет, станет тихо
на улицах в рабочих районах, и только на
бессонном Бродвее да в кварталах аристократической
богемы, где до утра горят огни ночных, клубов, люди,
которым не надо вставать в шесть часов на работу,
будут жадно искать все новых и новых развлечений.
Рабочий же*Нью-Иорк, который завтра с утра вновь
пойдет к конвейерам, станкам, на разгрузку
океанских кораблей, в чад, в копоть, в грязь грохочущих
душных цехов, уже спит.
7. ПРОДАННЫЕ ПЕРЬЯ
В 1926 году Маяковский писал, что «среднее
американское миросозерцание» составляется на основе
газет. С тех пор, как это было сказано, много воды
утекло в Гудзоне, средний американец кое в чем
разуверился и научился более критически относиться
к стандартной духовной пище, которой потчуют его
многие тысячи газет и периодических изданий,
выходящих в США. Было бы ошибочно, бднако,
недооценивать ту широкую настойчивую, неотвязную
обработку общественного мнения, которой занята внешне
такая многоликая и пестрая, но по сути дела
утомительно однообразная масса американских газет.
Впервые мне удалось наблюдать в широком
масштабе работу американских корреспондентов на
Парижской мирной конференции летом 1946 года — там
присутствовало двести семьдесят пять журналистов,
специально командированных из США. И сразу же
бросился в глаза специфический характер работы
большинства из них. Они действовали быстро, четко,
слаженно, но как-то совершенно механически, словно
21 На Западе после войны 321
работали у конвейера. Как на заводе, работа была
разбита по элементам — одни дежурили в залах
заседаний и вели записи, другие обрабатывали эти записи
и превращали их в отчеты, третьи передавали по
телефону и телеграфу заметки. В свободные минуты они
снимали пиджаки, вешали их на спинки кресел и тут
же, у телефонных будок и телеграфных аппаратов, под
неумолчный треск десятков пишущих машинок, играли
в карты.
Более узкий круг дипломатических обозревателей,
о которых принято говорить, что они «помогают делать
политику», жил иной жизнью. Они вовсе не бывали
в залах конференции, их мало интересовало то, что там
происходило; их стихия — кулуары и бары: там можно
выудить у знакомого чиновника важную новость,
выяснить настроение американской делегации, чтобы
потом соответственно построить свою статью. Но и у
этой Своеобразной журналистической аристократии
сказывалась все та же черта, роднящая ее с мелким
репортерским людом, — работа на хозяина и по заказу
хозяина.
Одну из виднейших американских газет на
Парижской мирной конференции представлял обозреватель,
который в годы войны был военным корреспондентом
в СССР. В те годы он объективно освещал жизнь
нашей страны и даже издал не плохую книгу о Красной
Армии — тогда и на такие книги был спрос у
американских издателей. Этот обозреватель и теперь часто
говорил о дружеских чувствах к Советскому Союзу,
но это не мешало ему в своих ежедневных обозрениях
то и дело представлять в ложном свете позицию
советской делегации. Столь тенденциозное освещение
соответствовало общему курсу газеты, и обозреватель
кривил душой.
— Всякая работа — бизнес, — сказал мне в минуту
откровенности один американский корреспондент. —
Не все ли равно — писать статьи, торговать пивом или
строить дом? Был бы хороший заработок. Мою газету
называют реакционной; у моих хозяев есть какие-то
интересы в текстильной промышленности, и это
определяет линию газеты. Но какое мне дело до этого?
322
Своим заработком корреспондент был доволен: он
сетовал только на то, что хозяева слишком долго
держат его в Европе, — он был военным
корреспондентом, а теперь ему пришлось переключиться на
освещение дипломатических конференций.
Я вспомнил этот разговор полгода спустя, когда
в печати появились сообщения, разоблачавшие весьма
характерную для американских буржуазных
журналистов историю известного в США публициста Маури,
редактора и передовика двух распространеннейших
изданий: нью-йоркской газеты «Дейли ньюс» и
журнала «Колльерс» (тираж «Дейли ньюс» в будни —
2,3 миллиона, в воскресенье — 4,7 миллиона; тираж
«Колльерса» — 2,8 миллиона экземпляров). Оба эти
издания — ультрареакционные, но принадлежат они
разным группам финансистов, интересы которых далеко
не всегда совпадают. «Дейли ньюс» — орган блока
Мак-Кормик — Паттерсон, «Колльерс» принадлежит
Морганам. И вот Маури взялся обслуживать оба эти
издания. Ему хорошо платили — его доходы
превышали 50 тысяч долларов в год. За эти деньги он писал
все, что угодно его хозяевам, причем сплошь и рядом
в одном издании он выступал против того, за что он
высказывался в другом.
В 1940 году Маури на страницах «Дейли ньюс»
выступал против предоставления союзникам кредитов
для закупки военных материалов. В то же время
в «Колльерсе» он требовал представить им кредиты.
В «Дейли ньюс» он предлагал дружить с Японией, а на
страницах «Колльерса» требовал нажимать на нее и
«потуже завинчивать гайки». В 1945 году Маури
в «Колльерсе» требовал, чтобы США посылали
продовольствие голодающим народам Европы, а в «Дейли
ньюс» писал, что США не должны «брать Европу на
свое иждивение» и давать ей продовольствие...
Владельцы «Колльерса» и «Дейли ньюс» знали, что
их наймит двурушничает, но это нисколько их не
беспокоило. Недавно умерший издатель «Дейли ньюс»
Паттерсон считал, что человеку, пишущему по его
заказу статьи, незачем выражать свои мысли, коль
скоро он излагает его собственные взгляды. Примерно
21*
323
в том же духе высказывался издатель «Колльерса»
Ченери:
— Мы наняли Маури не из-за его личных взглядов,
мы не знаем, каковы его личные взгляды, и, по правде
говоря, нас это не интересует...
Комитет, присуждающий в США премии
журналистам, в свою очередь солидаризировался с этой
точкой зрения: он, выдал Маури премию «за отличное
писание передовых».
Но вот вы в Америке. И то, что доносилось отсюда
на наш континент лишь в виде далеких отголосков,
теперь сразу оглушает, поражает, режет глаз...
Осенью 1947 года, когда в Нью-Йорке собралась
вторая сессия Генеральной Ассамблеи организации
Объединенных наций, пропаганда новой войны в
американской прессе поистине достигла геркулесовых
столбов.
Советская делегация на Генеральной Ассамблее
разоблачила поджигателей войны, потребовала
запрещения пропаганды новой войны и привлечения лиц,
ведущих такую пропаганду, к уголовной ответственности.
Как взвыли после этого пойманные с поличным
американские проповедники агрессии! Они начали вопить,
будто бы Советский Союз покушается на...
американскую свободу слова. На эти смехотворные
утверждения хорошо ответил глава советской делегации
Вышинский:
— Неужели не ясно, что если пресловутый Эрл
призывает Соединенные Штаты Америки сбросить как
можно скорее атомные бомбы на Кремль, то это
чудовищно, это нетерпимо? — сказал он, обращаясь к
американской делегации. — Я вас спрашиваю просто, по-
человечески, без полемики — терпимо это или не
терпимо? Мы заявляем: вог перед вами агрессор, он
призывает вас, ваше правительство сбросить атомныг
бомбы на Советский Союз. Осудите это! А вй
говорите — с какой радости? У нас свобода слова. Это
злоупотребление свободой слова. И мы обвиняем в
подстрекательстве, в поощрении пропаганды войны тех,
кто не хочет заткнуть рот этим людям,
пропагандирующим агрессию...
324
Американская делегация всячески противилась
принятию какого бы то ни было решения Генеральной
Ассамблеи, направленного против пропаганды новой
войны. Однако Генеральная Ассамблея, хотя и со
скрипом, приняла решение, осуждающее «пропаганду в
любой форме4 и в любой стране, «имеющую целью или
способную создать или усилить угрозу миру, нарушение
мира или акт агрессии». Это был удар по поджигателям
войны, разоблаченным советской дипломатией,
которая показала перед всем миром, чего стоит фиктивна»
«свобода печати» в США, используемая в качестве
прикрытия теми, кто стремится разжечь новую мировую
войну.
В дни пребывания в США мне довелось довольно-
близко сталкиваться с «промышленностью,
фабрикующей клевету и дезинформацию», — так сами
американцы часто именуют свою прессу. И всякий раз эта,,
с позволения сказать, «промышленность» и ее
конкретные представители производили самое тягостное
впечатление.
Я уже рассказывал читателю о том, как работает
мощный пропагандистский аппарат британской прессы.
В Соединенных Штатах те же методы, те же приемы*
тот же стиль грубой обработки общественного мнения,
но здесь давление прессы на общественное мнение еще
сильнее благодаря техническим усовершенствованиям.
Американские газеты выходят круглые сутки —
статистики подсчитали, что в США каждые тридцать секунд
появляется новый какой-нибудь выпуск. В любой час
дня и ночи вы можете приобрести в киоске пухлый*
еще влажный от типографской краски номер газеты —
в нем от двадцати четырех до ста страниц.
«Газетный бизнес» поставлен в США действительно с
промышленным размахом. В американскую прессу
вложены колоссальные капиталы.
Как говорят сами американцы, никому не может
притти в голову приступить к изданию газеты, не имея
10 или даже 15 миллионов в банке. Человек, который
вздумал бы основать новую газету в США, должен был
бы приобрести не только новейшее типографское
оборудование, стоимость которого исчисляется многим»
325
миллионами долларов, не только создать
грандиознейший редакционный и издательский аппарат, но и
выдержать жестокую конкуренцию с газетными монополиями,
которые не терпят каких-либо вторжений в свою сферу
деятельности, в особенности, если новый издатель
проявит прогрессивные тенденции.
Чрезвычайно поучительна в этом отношении история
Маршалла Филда, который, получив по наследству
184 миллиона долларов, задумал основать две
либеральные газеты: «Чикаго сан» и «П. М.»; он хотел
противопоставить их прессе известных своим
мракобесием издателей Мак-Кормика и Паттерсона. Филд
заявил, что намерен создать независимые газеты,
которые давали бы читателю беспристрастную
информацию. Он демонстративно отказался от приема платных
объявлений, заявив, что рекламодатели душат свободу
печати, навязывая зависящим от них газетам угодный
им политический курс. Но с первых же шагов Маршалл
Филд убедился в том, что даже его 184 миллиона —
безделица в сравнении с тем, что необходимо для
завоевания прочного места в газетном мире.
Прежде всего предусмотрительные конкуренты
Филда позаботились о том, чтобы все каналы
информации для его газет были закрыты.
Когда Чикагское информационное бюро отказалось
обслуживать «Чикаго сан», Филд вышел из положения,
создав собственную мощную репортерскую сеть. Но
для получения информации в международном масштабе
такой прием . спасти его не мог — для этого даже
у Филда нехватило бы средств.
В Соединенных Штатах при агентстве держат в своих
руках международную информацию: Ассошиэйтед
Пресс — «кооперативное предприятие», охватывающее
1300 ежедневных газет, Юнайтед Пресс и Интернейшнл
ньюс сервис, находящееся в руках пресловутого
газетного гангстера Херста. О размахе их деятельности
известное представление могут дать такие цифры: одно
лишь агентство Ассошиэйтед Пресс имеет свои бюро
в двухстах пятидесяти крупнейших городах мира и в
девяноста четырех городах США. Агентство арендует
трансатлантический кабель и внутриамериканскую те-
326
леграфную и телефонную сеть протяжением в 290 тысяч
миль, — эта сеть объединяет семьсот двадцать семь
городов. Общая информация, представляемая агентством,
превышает один миллион слов в день.
Не пользуясь услугами такого агентства, издавать
газету в США невозможно. Но когда Маршалл Филд
обратился в Ассошиэйтед Пресс с просьбой принять его
в члены этой «кооперативной организации», он получил
отказ. Агентство Интернейшнл ньюс сервис также
отказалось продавать ему информацию под тем предлогом,
что оно снабжает его конкурента Мак-Кормика.
И только Юнайтед Пресс согласилось обслуживать
«Чикаго- сан». Это обошлось Филду в 1942 году
в 110 тысяч долларов, в то время как у Ассошиэйтед
Пресс по существующим официальным расценкам он
мог бы приобрести гораздо более полную информацию
за 50 000 долларов.
Издатель постепенно охладел к своим детищам и
махнул рукой на них. Осенью 1946 года он
опубликовал заявление о том, что не намерен вечно тратить
деньги на дотации «Чикаго сан» и «П. М.» и что он
отказывается от принципа издания газет без
объявлений. Тем самым обе газеты стали вровень с остальными
буржуазными изданиями — их политический курс
ставится в зависимость от рекламодателей. В ответ на этот
шаг Маршалла Филда главный редактор газеты «П. М.»
известный прогрессивный журналист Ингерсолл вышел
в отставку...
Год спустя Филд продал газету «П. М.»
провинциальному издателю Маккиннону, который немедленно
уволил всех сотрудников, заявив, что он примет их обратно
только в том случае, если они выйдут из газетной
гильдии (Профессионального союза журналистов). Что
касается «Чикаго сан», то Маршалл объединил ее с
газетой «Чикаго тайме», которую он перекупил у другого
владельца. При этом он уволил восемьдесят пять
сотрудников, настроенных «либерально». В результате
такой операции обе газеты немедленно «поправели»
и теперь немногим отличаются от остальных
буржуазных газет США. Круг замкнулся.
Так еще раз восторжествовала система монополий,
327
которые прочно держат в своих руках прессу
Соединенных Штатов.
Роль тяжелой артиллерии, бомбардирующей
беззащитную публику тенденциозной лжеинформацией,
играет в Соединенных Штатах реакционная пресса,
принадлежащая трестам Херста, Скриппса — Говарда и
некоторым другим газетным концернам. Они
контролируют сорок пять газет с тиражом более 13 миллионов,
что составляет 26% тиража всех ежедневных и
воскресных газет. К этому надо добавить газеты,
формально не принадлежащие к указанным трестам, но
приобретающие и регулярно публикующие сообщения
херстовского агентства Интернейшнл ньюс сервис, —
фактический тираж печати, отравляющей сознание
читателя тенденциозной ультрареакционной информацией,
достигает 22 миллионов экземпляров!
Такова неприглядная закулисная сторона
американской прессы, таков механизм, приводящий в движение
сложную и мощную машину, обрабатывающую
общественное мнение этой страны. Но вернемся к рядовому
газетному киоску, за стойкой которого стоит скромный
продавец, вряд ли имеющий представление о том, какая
роль предназначена ему. Вернемся к этому киоску и
внимательно рассмотрим его пестрый товар...
Вот перед вами рассчитанные на массового читателя
богато иллюстрированные издания полужурнального
формата, объемом до семидесяти страниц. Это самые
дешевые газеты — цена номера только два цента. Всю
первую страницу какой-нибудь «Дейли мирор» или
«Дейли ньюс» занимают аншлаги, напечатанные
дюймовыми буквами, и самое сенсационное фото текущего
дня: труп очередной жертвы бандитов, пылающий
самолет, портрет только что арестованного насильника
или убийцы. Именно эти газеты обладают наибольшими
тиражами.
Заголовки ошарашивают вас; за ваши два цента вас
доотказа накормят подробнейшими описаниями всех
убийств, катастроф, мошенничеств, свадеб,
великосветских балов, состоявшихся час тому назад.
«Самый ужасный в истории США пожар отеля!
В «Атланте» сгорели заживо 125 человек!» — и тут же
328
снятая телеобъективом фотография: женщина,
падающая с четырнадцатого этажа горящего отеля на
мостовую.
«Первые женщины в Канаде, приговоренные за
бандитизм к смертной казни через повешение в
Торонто!» — и снова фотографии...
Если просматривать эти газеты номер за номером, то
можно невольно подумать, что, кроме убийств и
катастроф, громких судебных процессов и казней, в США
ничего не происходит — их страницы буквально
испещрены безукоризненно выполненными с технической
точки зрения фотографиями разбитых автомобилей,
человеческих трупов, драк. Чем страшнее и
отвратительнее эти снимки, тем более удачным считается здесь,
номер газеты, — ведь он должен ошеломить читателя.
Нужды нет в том, что мутный поток этих сенсаций
развращает, уродует психику читателя, особенно
молодого, и поощряет рост преступности; если кто-либо-
посмеет поднять голос против такого характера газеты,
его немедленно обвинят в покушении на пресловутую
«свободу американской печати».
Итак, — сенсация превыше всего. Но ради чего
газеты столь усердно копаются в грязи большого города?'
Ради чего они с таким воодушевлением расписывают
во всех подробностях преступления и скандалы?
Издателей интересует не сама по себе сенсация, — они
преследуют совершенно определенные и недвусмысленные
политические цели. Это хорошо подметил еще сорок лег
назад А. М. Горький, когда записал в своих
американских очерках, что такая шумиха «оглушает общество,
не позволяет ему слышать правду».
«— Если в реку набросать мелких щеп, — среди них
может незаметно для вашего глаза проплыть большое
бревно, — говорит один из героев американских
очерков Горького. — Или если вы неосторожно вытащили
бумажник из кармана вашего соседа, но своевременно
обратили внимание публики на мальчишку, которые
украл горсть орехов, — это может спасти вас от
скандала. Только кричите громче —вор!.. Крупная кража
засыплется кучей мелких краж, и вообще все крупные-
преступления подавляются грудами мелочей. Народ на-
329
ходится всегда в состоянии гипноза, ему нет времени
думать самостоятельно, и он только слушает газеты.
Газеты принадлежат миллионерам... Вы понимаете?»
Приведу наглядный пример, показывающий, как
американская бульварная печать используется для того,
чтобы отвлечь внимание читателей от крупнейших
политических событий, забить им головы дешевыми
сенсациями, не дать разобраться в важнейших событиях.
Дело было ранней весной 1947 года. В те дни
в Москве проходила сессия Совета министров
иностранных дел, в ходе которой отчетливо выяснилось,
что правящие круги США не желают ускорить
заключение мира с Германией и подписать государственный
договор с Австрией, что они заинтересованы в
продлении состояния послевоенной неопределенности, что они
стремятся к расчленению Германии. Трумэн выступил
со своей пресловутой «доктриной», требуя от конгресса
помощи реакционерам Турции и Греции. Внутри США
становились все более угрожающими признаки
инфляции.
И вот, в этот момент большинство американских
газет подхватило и раздуло с небывалым усердием
патологическую историю, вытеснившую все остальные
события: в одном из домов на Пятой авеню был найден
труп старика — владельца этого дома, некоего Гомера
Коллиера; некоторое время спустя внутри дома был
найден труп его брата — Лэнгли; как выяснилось, эти
два американца, решив стать отшельниками,
тридцать девять лет не покидали своего дома и, в конце
концов, умерли естественной смертью. Вот и вся
история. Но как преподнесла ее американскому читателю
пресса! На протяжении нескольких недель на
страницах газет бушевал шторм сенсаций.
Чтобы дать представление о характере американской
прессы и об уровне журналистики в США, я позволю
себе воспроизвести здесь некоторые детали этой
шумихи на примере только одной газеты «Нью-Йорк уорлд
телеграмм».
В пятницу 25 марта «Нью-Йорк уорлд телеграмм»
ошарашила читателей жирным аншлагом на всю
страницу: «Отшельник Коллиер найден мертвым». Под этим
330
аншлагом было помещено подробнейшее описание того,
как полицейские нашли труп Гомера Коллиера и как
они искали Лэнгли Коллиера. На следующий день
газета опубликовала занявший три колонки очерк на ту
же тему, начинавшийся такими строками: «Сегодня
в долгие меланхолические предрассветные часы
угольно-черная кошка во дворе Коллиеров, Пятая авеню,
2078, зашипела на полицейского, когда он направил
на нее свой фонарик. Она подняла голову, выгнула
спину и вызывающе зафыркала».
В ранних выпусках газеты в понедельник газета дала
аншлаги на четыре колонки: «Погоня за
отсутствующим Лэнгли Коллиером, мертвым или живым, должна
начаться среди хлама». Далее следовало сообщение,
выдержанное в сверхдраматическом стиле: «Сегодня
в час дня истекает последний срок, установленный для
обыска мрачного, таинственного дома, где Гомер и
Лэнгли Коллиер на протяжении 39 лет прятались от
современного мира в мрачном викторианском
окружении». В последующих выпусках газета дала еще более
кричащие аншлаги на всю страницу: «Полицейские
переворачивают вверх дном дом Коллиеров!
Фантастический хлам вываливается из старого особняка!
Участники поисков говорят, что в третьем этаже отшельника
нет! Возможно, у него имеется револьвер...»
Чтобы подогреть интерес читателей к этой истории,
газеты фабриковали и публиковали все новые и новые
слухи, один другого сенсационнее и... нелепее. То они
сообщали, что под домом Коллиеров имеются
таинственные катакомбы, в которых, якобы, прятался
неуловимый отшельник, то публиковали рассказы о
«старых долларовых ассигнациях коллиеровского клада»,
который будто бы запрятан в «заплесневелом старом
особняке», то печатали интервью с тремя мясниками,
«чьи ежедневные поставки мяса поддерживали
братьев-отшельников на протяжении 28 лет», —
мясники утверждали, что Лэнгли Коллиер «исчез на
30 дней раньше, чем полиция обнаружила, в прошлую
пятницу, исхудалый труп его слепого и
парализованного брата Гомера».
Долгих восемнадцать дней нью-йоркские газеты пич-
331
кали своих читателей всеми этими бульварными
сенсациями, вытеснявшими важнейшие сообщения о
международной и внутренней жизни. Только тогда, когда
даже привыкшим ко всему американским читателям
вконец опротивела эта дикая и нелепая история, газеты
сообщили, что труп второго «отшельника* найден,
наконец, под грудой обломков в доме Коллиеров, и
репортеры устремились на поиски новых сенсаций.
Что касается крупных политических событий, то
бульварная печать преподносит их своим читателям
в самом извращенном виде. Она никогда не скажет
попросту, что произошло, но обязательно соберет все
слухи и сплетни по поводу происшедшего и вывалит их
на газетный лист.
Так называемые «большие газеты» выглядят
«солиднее». «Вашингтон пост», «Нью-Йорк геральд трибюн»,
«Нью-Йорк тайме» рассчитаны на менее широкий круг
читателей,— их перелистывают за завтраком сенаторы,
фабриканты, адвокаты, журналисты. Их тиражи —
200, 400, 600 тысяч. Задачи этих газет тоньше и
деликатнее — на их широких, густо засеянных мелким
шрифтом страницах делается политика. И хотя они
также отдают обильную дань бульварным
сенсациям,— есть где разгуляться на шестидесяти
страницах! — круг вопросов, который они затрагивают,
значительно шире, их статьи длиннее и сложнее.
Работники «больших» американских газет гордятся
своей осведомленностью, — они не пропустят ни одного
сколько-нибудь заметного события, если редакции
выгодно осветить это событие в газете. Издатели н^
жалеют миллионов на техническое оснащение своих
типографий, монопольное приобретение средств связи.
Редакции газет располагают богатейшей
аппаратурой связи — здесь неумолчно стучат десятки
буквопечатающих телеграфных аппаратов; круглые сутки
обшаривают эфир «от полюса и до полюса» радиоаппараты,
автоматически фиксирующие на бумажной ленте все,
что читают дикторы на всех континентах; автоматы
записывают статьи, которые диктуют по телефону за
тысячи миль корреспонденты; бильдтелеграф принимает
фотографии, передаваемые из-за океана.
332
И вся эта мощная техническая машина служит
единственной цели — оказывать ежедневное, ежечасное
давление на психику читателя, фабриковать
стандартную духовную пищу среднего американца, превращать
его в безропотного исполнителя предначертаний кучки
финансистов и промышленников, правящих Америкой.
Выше я показал, какие приемы пускает в ход
американская пресса, чтобы отвлечь читателя от
важнейших событий политической жизни. Не следует
удивляться после этого поразительной неосведомленности
среднего американца. Опрос, проведенный журналом
«Форчун» в 1945 году, показал, что 60% американцев
не знали, на чьей стороне стоял СССР в период
Мюнхена. 26% опрошенных полагали, что СССР стоял
в этот период на стороне Германии и только 14% знали,
что Советский Союз энергично выступал против
Мюнхена, в защиту Чехословакии. Опрос, проведенный так
называемым «Институтом общественного мнения» Гал-
лупа, показал, что менее 6% американцев могут
правильно ответить на" четыре элементарнейших вопроса
об СССР. Большинство американцев, например, не
знает, что в Советском Союзе некоммунисты имеют
право участвовать в выборах. Большинство
американцев уверено, что русским строго запрещается посещать
церковь. «Кажется неопровержимым, что американская
печать несет главную ответственность за атмосферу
невежества и ненависти, омрачающую «аши отношения
с Советской Россией, — заявляет в своей книге «Ваша
газета» группа видных американских журналистов. —
На протяжении жизни более чем одного поколения
большинство «аших газет заявляло о своей
враждебности почти ко всему русскому. Они наложили руку
даже на школы, так что (благодаря компании Херста)
учителя могут говорить детям о России лишь
осторожно или вообще не могут говорить».
Ту же ничем не прикрытую тенденциозность
американская пресса проявляет в отношении освещения
внутренней жизни США. Какого бы события она ни
касалась, — за газетными аншлагами, передовыми
статьями, информациями явственно чувствуется
направляющая прессу рука всемогущей «Национальной
ззз
Ассоциации промышленников»!. Всегда и при всех
обстоятельствах американская пресса в своем
большинстве становится на ту точку зрения, которую
занимают всемогущие короли бизнеса.
Приведу два характерных примера.
Выше я уже рассказывал о том, как в октябре
1946 года американские мясные короли организовали
«мясную забастовку», отказываясь продавать мясо до
тех пор, пока правительство не отменит контроля над
ценами. Трумэн поспешил капитулировать перед
владыками боен, и цены сразу резко поднялись. В
результате потребители понесли жестокий урон, а мясные
короли нажили новые миллионы. Как же осветила этот
эпизод американская пресса?
Нельзя сказать, чтобы газеты замолчали
искусственно вызванный монополистами «мясной голод» —
уж слишком остро чувствовал средний американец на
1 «[Национальная Ассоциация промышленников», по
свидетельству Дж. Сельдеса в книге «Тысяча американцев»,
осуществляет контроль над прессой через «Национальную Ассоциацию
издателей» и «Американскую ассоциацию газетных издателей».
Обе они охватывают ежедневные газеты — тиражом в 50
миллионов экземпляров и журналы — еженедельные и ежемесячные —
тиражом © 100 миллионов. Многие стороны деятельности этих
ассоциаций засекречены, особенно тогда, когда они организуют
ту или иную кампанию в масштабе всей американской прессы —
очередную атаку на СССР, поход против «красных», кампанию
против профсоюзов.
Крикливые адвокаты американской прессы любят
распространяться на тему о том, что издатели будто бы «не
вмешиваются» в газетные дела и что американский журналист волен писать
все, что ему вздумается. Эти рассуждения опроверг не кто иной,
как... Сульцбергер, газетный магнат, владетель «Нью-Йорк тайме».
Выступая с лекцией перед нью-йоркскими учителями в 1945 году,
он заявил буквально следующее: «Как и в каждом другом
бизнесе, у нас в «Нью-Йорк тайме» имеются свои должностные лица,
свой директорат и свои держатели акций. Как и в каждом
другом бизнесе, у нас имеются президент или председатель
правления. В нашем специфическом деле должность издателя газеты
также связана с большой ответственностью. Он имеет право
найма главного администратора. Он вправе поместить что-либо
в газете или изъять из нее что-нибудь по своему желанию.
А в «Нью-Йорк тайме» должности издателя, президента и
председателя правления — все эти должности возложены на меня
одного(!)» («Газета, как она делается и ее значение», Сборник
лекций, стр. 176).
334
собственной шкуре результаты происков мясоторгов-
цев-оитовиков. «Сан» даже дала передовую под
заголовком «Политический шторм потрясает нацию в
результате нехватки мяса». Газеты были переполнены
сенсациями — одна другой хлеще.
Вот некоторые заголовки из «Нью-Йорк тайме»,
относящиеся к этим дням: «Владелец ресторана «Куинз»,
обеспокоенный положением с мясом, бросается с
Бруклинского моста и остается в живых», «Охотники за
мясом пробираются в деревушку Джерси», «Вор в лавке
мясника нашел все шкафы пустыми», «Китайские гости
едят говядину в городском ночлежном доме» (под этим
заголовком была помещена информация о том, что
несколько китайских полицейских чиновников
пробовали мясо в муниципальном ночлежном доме на Ист-
стрите, 25).
«Нью-Йорк геральд трибюн», соперничающая с «Нью-
Йорк тайме», поместила душераздирающий репортаж
под заголовком: «Пароход «Стелла полярис» прибыл;
106 человек мрачно прощаются с мясом». Репортер
живописал ужас богатых туристов, сошедших на берег
после девятнадцатидневного путешествия по
Караибскому морю и столкнувшихся с «трудностями жизни» в
Нью-Йорке, лишенном мяса. Специальный
корреспондент «Нью-Йорк геральд трибюн» Джек Уиркли,
каждому сообщению которого редакция предпосылает
напоминание о том, что он порхает по стране в
двухмоторном самолете «Локхид Лодстар», раздразнил
воображение читателей рассказом, как некий владелец
ранчо угостил его ростбифом, «огромным, как меди-
цинбол».
Но тщетно вы пытались бы найти в этих грудах
телеграмм, очерков, статей хотя бы упоминание, хотя бы
намек — почему же все-таки в стране, располагающей
величайшим в мире поголовьем скота, вдруг разразился
«мясной голод». Газеты предпочитали умалчивать о
том, кто является подлинным виновником этой
колоссальной торговой аферы. Невидимая рука
«Национальной Ассоциации промышленников» прикрыла
спекулянтов мясом стальным щитом. А наименее разборчивая
в средствах пропаганды печать Херста без всякого
335
зазрения совести заявила, что мясо исчезло... через
ЮНРРА «в кладовых русских и их сателлитов».
Наконец правительство капитулировало перед
спекулянтами мясом, и вся эта дикая шумиха улеглась под
аккомпанемент торжествующих газетных аншлагов:
«Цены на мясо подходят к предельно высокому
уровню».
Прошло менее двух месяцев, и новое событие
взбудоражило американцев: забастовали шахтеры. Как же
откликнулась пресса на это событие? Конечно, оно было
освещено не менее широко, чем недавняя «мясная
забастовка». Конечно, этой теме были посвящены первые
страницы всех газет. Но весь характер сообщений, их
тон, их политическая направленность были совершенно
иными. Если в октябре газеты, состоящие в найме у
мсиюполий, предпочитали ходить вокруг да около
событий, всячески «обыгрывая» лишь забавные,
сенсационные детали, то теперь их хриплые от натуги голоса
слились в единый грозный гул — они орали на шахтеров,
угрожали им, предупреждали, обвиняли их во всех
смертных грехах и требовали принятия самых
жестоких мер по отношению к «виновным». В то же время
газеты избегали упоминаний о причинах забастовки ь
о том, чего требуют шахтеры...
Такая тактика трестированной американской прессы,
при всех обстоятельствах остающейся верным цепным
псом своих хозяев, не могла, в конце концов, остаться
незамеченной читателем. Авторы уже упомянутой мной
книги «Ваша газета» не без оснований пишут:
«В настоящее время газеты, оставаясь все более
мощными, утратили свою руководящую роль. Читатель
уже не ищет в них совета и мудрости для принятия
крупных решений. Газета находится на подозрении у
миллионов американцев...
В троллейбусах, в метро, по пути на работу, торопясь
домой, читатели начали роптать: «Нельзя верить тому,
что читаешь в газетах. Они гнут свою линию». Многие
скатились к цинизму и стали пожимать плечами.
Другие писали негодующие письма в редакции. Третьи
перестали серьезно относиться к газетам и начали
считать печать просто средством развлечения.
336
Сегодня многие читатели относят газеты к той же
категории вещей, что и кино, серийные радиопередачи
или бейзбольные матчи. Они пропускают передовые
статьи, хихикают над юмористическими рисунками,
бросают беглый взгляд на рекламы, отбрасывают
газету в сторону и бегут к себе на завод или в контору...»
При всем том, однако, было бы ошибкой
недооценивать роль американской реакционной прессы,
продолжающей воздействовать на миллионы читателей
медленно, исподволь, роняя в их сознание каплю за
каплей яд лживой пропаганды.
Предводителем американской реакционной печати
является, по всеобщему признанию, «Нью-Йорк тайме»,
газета виднейшего газетного дельца Сульцбергера.
Поэтому о деятельности этой газеты мне хотелось бы
здесь рассказать подробнее.
Работники «Нью-Йорк тайме» любят похвалиться
тем, что в США никакая другая газета не приближается
к нью-йоркской «Тайме» по объему информации и по
разветвленности заграничной корреспондентской сети.
Действительно, на первый взгляд кажется, что
многостраничные номера «Нью-Йорк тайме» содержат в себе
огромное количество разнообразной информации. Но в
действительности под видом «информации» газета
преподносит читателю дезинформацию, попросту говоря,
клевету. Форма информации при этом служит
своеобразным камуфляжем.
Член Научно-исследовательского института
общественных наук при Гарвардском университете Мартин
Крисберг выполнил большую и кропотливую
исследовательскую работу — он подверг анализу все
информационные сообщения и передовые статьи о Советском
Союзе, появившиеся в «Нью-Йорк тайме» с 1917 года
по май 1946 года. Сообщения и статьи, посвященные
СССР, статистически обрабатывались автором за
каждую неделю в отдельности. При этом анализу
подверглись четыре элемента: тематика сообщений и статей,
внимание, уделенное им газетой, приемы подачи
информации и анализ взаимосвязи информации и передовых
статей.
Публикуя результаты этой работы в журнале «Паб-
22 На Западе после войны 337
ликопинион куотерли», Крисберг счел нужным
подчеркнуть, что он исходил из того, что «Нью-Йорк
тайме», по его мнению, является «самой авторитетной
газетой в США» и что она «дает наилучшую
информацию». Тем любопытнее для нас познакомиться с
результатами работы, проделанной человеком, столь
уважительно относящимся к «Нью-Йорк тайме». И вот
что он пишет:
«Информации, выставляющей Советский Союз в
неблагоприятном свете, уделяется больше внимания, чем
сообщениям, выдержанным в дружественном духе...
Если газета высказывается благоприятно о каком-либо
явлении в СССР, то всегда подчеркивается, что это
явление положительно лишь в данном конкретном случае.
Когда же речь идет об отрицательных явлениях жизни
в СССР, то они изображаются как пороки, присущие
самой природе советского правительства. В тех
случаях, когда «Нью-Йорк тайме» пользуется
неоправданными заголовками, сгущающими краски выражениями
и сомнительными источниками информации, они
постоянно применяются для создания неблагоприятного в
отношении СССР впечатления. Имеется у «Нью-Йорк
тайме» также тенденция к субъективным оценкам,
стремление изображать любую информацию об СССР
как свидетельство переживаемого им острого кризиса
и навязывать читателю ту или иную предвзятую мысль».
За этими осторожными, тщательно подобранными
формулировками буржуазного исследователя кроется
разительная картина. Начнем с того, что в годы
гражданской войны эта, по мнению Крисберга, «самая
авторитетная в США» газета шесть раз сообщала публике,
что Петроград капитулировал, три раза, что он
находится накануне сдачи, дважды, что он сожжен до тла,
дважды, что там полная паника, и шесть раз, что в
Петрограде вспыхнул мятеж против большевиков.
В годы мирного социалистического строительства
«Нью-Йорк тайме» продолжала пропагандировать ту
мысль, что «советский строй потерпит фиаско». «Этот
мотив, — пишет Крисберг, — получил отражение в
сообщениях о несостоятельности методов большевиков, о
невыполнении пятилетних планов, а также в тех сооб-
338
щениях, где высказывалось предположение, что
советский режим изменяется под влиянием идей, занесенных
из западных государств, в особенности из США».
Даже в годы второй мировой войны, когда СССР и
США являлись союзниками, «Нью-Йорк тайме» не
изменила предвзятого отношения к нашей стране. Анализ,
произведенный Крисбергом, показывает, что «чувство
единства с советским народом», возникшее у
американского читателя под влиянием сообщений о победах
Советской Армии над фашистами, «было до некоторой
степени ослаблено той проводившейся во многих
сообщениях идеей, что действия Советского Союза
определялись его собственными интересами, которые не
всегда совпадали с американскими». Сообщения о
стойкости советских воинов преподносились в таком духе,
что эта стойкость «могла быть истолкована и в том
смысле, что русские — воинственный народ и что
против них необходимо принять меры предосторожности».
После окончания войны «Нью-Йорк тайме» резко
усилила публикацию антисоветских статей и сообщений.
Эти «неблагоприятные по отношению к СССР
сообщения», как деликатно именует их Крисберг, уже во
время Парижской мирной конференции 1946 года
составляли до 84% всей информации об СССР. При этом,
как признает тот же Крисберг, «при подаче информации
об СССР неточность (!) в сообщениях «Нью-Йорк
тайме» постоянно приобретает антисоветскую
направленность». Американский исследователь добавляет,
что «у «Нью-Йорк тайме» имеется склонность
подчеркивать в своей информации кризисный характер
событий, происходящих в Советском Союзе... События,
происходившие после дня победы над Германией,
постоянно изображались как кризис в отношениях между
США и Советской Россией».
Из своих пространных исследований Крисберг делает
вывод, который заслуживает быть приведенным здесь:
«Информация «Нью-Йорк тайме», вероятно, должна
заставить читателей считать, что конфликт с Советским
Союзом возможен... Тенденция «Нью-Йорк тайме»
подчеркивать именно «кризисные» сообщения и отодвигать
на задний план другую информацию о Советском Союзе
22*
339
и русском народе должна способствовать тому, что в
сознании читателя разногласия между Советским
Союзом и США всегда будут на первом плане. А при сухом
фитиле и летающих вокруг искрах всегда возможен
пожар7
Наконец у читателей должно сложиться убеждение,
что конфликт с Советской Россией был бы вполне
оправдан».
Таков недвусмысленный вывод, к которому логика
событий и фактов привела даже столь благожелательно
настроенного по отношению к «Нью-Йорк тайме»
буржуазного исследователя, как Крисберг.
К этому остается добавить, что «Нью-Йорк тайме»
служит верой и правдой американской реакции и в
вопросах внутренней политики. Газета не скрывает своей
зоологической ненависти к прогрессивным силам
страны. Она боролась против Рузвельта. Она занимает
последовательно враждебную позицию в отношении
рабочего движения. На ее страницах не раз появлялись
достаточно циничные советы предпринимателям, вроде
такого: «Некоторая безработица — превосходное
лекарство от многих социальных бедствий. Когда не
удается воздействовать на рассудок и на
производственную дисциплину, приходится апеллировать к
желудку».
Известно, наконец, что «Нью-Йорк тайме» на
протяжении многих лет усиленно разжигала расовую
ненависть. Как говорят американские журналисты,
предшественник Артура Сульцбергера — Адольф Оке, который
в 1896 году приобрел «Нью-Йорк тайме», когда она
влачила жалкое существование, «не мог отделаться от
негрофобии, которую он перенес на север из
Чаттануга».
Его преемник Артур Сульцбергер всячески делает
вид, будто бы теперь «Нью-Йорк тайме» стала «менее
тенденциозной», что она «рассматривает многие
проблемы в значительно более широком аспекте», более
терпима к мнениям других и «не расположена травить
красных». Но в газетном деле, как и во всяком ином,
о людях следует судить не по словам, а по делам, не
по декларациям, а по фактам. А факты таковы, что и
340
I
в вопросах внешней политики, и в вопросах внутренней
жизни США «Нью-Йорк тайме» остается на крайнем
правом фланге. Мы видели это в дни пребывания в
Нью-Йорке, изо дня в день наблюдая важнейшие собы-»
тия и видя, как освещает эти события «Нью-Йорк
тайме»...
Осенью 1946 года нам довелось побывать в редакции
и типографии этой газеты.
Высокий и тонкий, как нож, треугольный небоскреб
«Нью-Йорк тайме» замыкает площадь «Таймс-сквер»;
находящуюся в самом центре Манхеттена. Влево и
вправо расходятся Бродвей и Седьмая авеню,
стиснутые высокими многоэтажными домами, зажатые
громоздкими рекламами, ослепленные миганием тысяч
ярких огней. Небоскреб «Нью-Йорк тайме» на высоте
шестого этажа опоясан лентой электрогазеты —
круглые сутки вдоль фасада по всем трем сторонам бегут
электрические буквы, возвещающие последние
новости. Но сама газета делается не здесь, — небоскреб
занят лишь рекламными подсобными конторами
газеты. Редакция и типография «Нью-Йорк тайме»
помещаются в другом многоэтажном доме, стоящем тут же
поблизости, в тихом невзрачном переулке.
Пройдя через низкий, плохо освещенный вестибюль,
мы поднялись на лифте и оказались в гигантском
голом, казенного вида, зале, напоминающем зангодской
цех, — в этом зале помещается вся редакция «Нью-
Йорк тайме». Самая обстановка властно напомнила,
что перед нами — не очаг творческой живой
общественной мысли, а предприятие особого рода — завод
консервированных идей, которые фабрикуются здесь
применительно к полученному заказу и тут же, без
промедления, выбрасываются на рынок.
Весь производственный процесс идет здесь, словно
по конвейеру, как на любом американском заводе
массового производства. При этом готовые изделия,
прошедшие обработку на редакционном конвейере,
приобретают все качества, присущие товарам данной
фирмы — фирмы «Нью-Йорк тайме»...
В американских газетах корреспонденции строятся
весьма своеобразно. Их основное содержание изла-
341
гается в многоэтажных заголозках. Несколько
подробнее существо новости сообщается во вступительном
абзаце корреспонденции, который набирается крупным
шрифтом. Второй и третий абзацы, набранные помельче,
содержат некоторые подробности. И, наконец,
остальная часть корреспонденции, набранная петитом,
содержит обстоятельное изложение всех деталей. В
зависимости от того, есть ли у читателя время и желание,
он либо прочтет всю корреспонденцию, либо
познакомится со вступительными абзацами, либо ограничится
тем, что пробежит глазами заголовки.
Обязанности редакторов информации и их
помощников, сидящих за большим подковообразным столом, в
том и состоят, чтобы готовить соответствующим
образом те газетные блюда, которые будут предложены
читателю. Они должны в предельно короткий срок
препарировать материалы, полученные редакцией,
сформулировать вступительные абзацы, оснастить
корреспонденцию кричащими заголовками.
Но задачи редакторов информации и их помощников
отнюдь не исчерпываются технической обработкой
поступающих материалов. Их функции много деликатнее
и сложнее, — именно здесь производится та словесная
ретушь, которая так часто превращает информацию
в дезинформацию. По понятным причинам, мы не имели
возможности наблюдать этот деликатный процесс
в действии, хотя изо дня в день читали на страницах
газеты совсем не то, что видели и слышали вокруг. Но
вот беспристрастное свидетельство соотечественника
издателей и редакторов «Нью-Йорк тайме», в прошлом
также издателя и редактора, — О. Вилларда. В своей
книге «Газета на ущербе» он прямо приводит факт,
когда «редактирование» придало сообщению
специального корреспондента «Нью-Йорк тайме» Герберта
Матьюс прямо противоположный смысл. Во время
гражданской войны в Испании Матьюс прислал оттуда
корреспонденцию, в которой доказывал, что Франко
держится на штыках интервентов. Говоря о составе
фашистских частей, брошенных в наступление, Матьюс
написал: «Это были итальянские войска». В газету эти
слова не попади. Вместо (них было опубликовано нечто
342
совершенно противоположное: «Это были войска
мятежников и только мятежников...»
Виллард добавляет, что эта скандальная история
была разоблачена газетой «Беттер тайме»,
издававшейся одно время нелегально сотрудниками «Нью-Йорк
тайме» и часто разоблачавшей подобные секреты
редакции-
Редакторы и их помощники работают напряженно, не
разгибая спины. Над их головами» вдоль всего стола
тянется проволочный конвейер с маленькими
корзиночками — точь в точь, как в цехах автомобильных
заводов от станка к станку. В эти корзиночки укладываются
готовые рукописи, и конвейер уносит их в наборный цех.
Тем временем двумя этажами выше, в тишине
небольших уютных кабинетов, готовятся так называемые
редакционные статьи, соответствующие передовым
статьям европейской печати. В американских газетах
эти статьи публикуются на внутренних полосах после
новостей. Их задача — дать то истолкование текущим
событиям, какое соответствует политическому курсу
данной газеты. Этим ответственным делом в «Нью-
Йорк тайме» заняты шестнадцать политических
редакторов во главе с известным в Соединенных Штатах
публицистом Чарльзом Мерз. Их фамилии не
появляются на страницах газеты — редакционные статьи
печатаются без подписи. Но именно этот безыменный
ареопаг играет решающую роль в редакции, именно он
дает тон газете.
Политические редак горы приходят «а работу в
одиннадцать часов утра. Они собираются на ежедневное
совещание в своем небольшом зале заседаний, одну из
стен которого занимает гигантская политическая карта
мира; на этой карте отмечены все бюро и
корреспондентские пункты «Нью-Йорк тайме» во всем мире: в
Европе «Нью-Йорк тайме» имеет пятьдесят
корреспондентов, в Токио, Харбине, Шанхае, Сингапуре, Кепта-
уне, Каире, Буэнос-Айресе, Панаме, Монреале, Оттаве
и многих других городах расположены ее бюро.
На совещания приходит хозяин газеты Артур Сульц-
бергер. Кроме того, сюда приглашается обычно
заведующий отделом иностранных новостей Джеймс, — он
343
должен быть в курсе политики редакции, с тем чтобы
соответствующим образом ориентировать
корреспондентов и редактировать получаемую от них
информацию. Всем остальным работникам редакции, в том
числе самым ответственным, доступ на совещание
передовиков закрыт.
После того как совещание определяет темы
редакционных статей для текущего номера, редакторы
расходятся по своим кабинетам и начинают работать над
ними. Редакционные статьи невелики по размеру —
на одной странице помещается обыкновенно четыре-
пять таких статей; кроме того, на этой же странице
обычно печатаются внутреннее обозрение и
соответствующим образом подобранные так называемые
«письма читателей», призванные подкреплять точку
зрения редакции, высказываемую в редакционных
статьях...
Больших сенсаций в этот вечер не было. Ночной
редактор Мак Коу избрал симметричный вариант верстки
первой полосы, дающий возможность разместить на
равных правах целый ряд сообщений. Относительно
виднее других он поместил две информации — одна из
них сообщала о предполагаемой посылке на Балканы
комиссии Совета Безопасности, другая — о крупном
футбольном скандале: была разоблачена попытка
подкупа игроков чикагской команды. На этой же странице
он поместил сообщения о том, что Дьюи якобы не
намерен выдвинуть свою кандидатуру в президенты, что
аэропорт Ла-Гардиа — Фильд нуждается в срочной
реконструкции, что Трумэн предсказывает хорошие
перспективы, если... все будут иметь работу, что в
Гарлеме разоблачен трест бандитов, спекулировавших
наркотиками, а сенатор Бильбо не признает себя виновным
во взяточничестве...
Когда план первой полосы был определен и макет
передан выпускающему, Мак Коу со своим
заместителем занялся последующими страницами, размещая
материалы отделов на местах, свободных от объявлений.
Объявления, как известно, в американской прессе
занимают, примерно, половину газетной площади и
обладают приоритетом перед информацией. Их верстают
344
заранее, причем департамент объявлений совершенно
не связан с редакцией. Даже типографы, верстающие
объявления, принадлежат к другому профсоюзу,
нежели те, кто верстают информацию. Ночному
редактору приходится принимать от департамента
объявлений макеты, в которых четко очерчено место, занятое в
текущем номере рекламой, и соответствующим образом
лавировать, размещая другие материалы.
В типографию отправляются, наконец, макеты всех
пятидесяти двух страниц текущего номера.
Типография «Нью-Йорк тайме» оснащена по
последнему слову техники. В условиях жесткой конкуренции
чрезвычайно важно выпустить номер раньше чем
выйдут другие газеты. От начала верстки страницы до
снятия матрицы проходят всего двадцать минут, от
снятия матрицы до начала печати — четырнадцать
минут. Ротационная машина способна одновременно
печатать восемьдесят страниц газеты.
Естественно, что при такой спешке редакция не
уделяет необходимого внимания не только редактированию
своих материалов, но и корректуре. Корректоры читают
лишь гранки — по одному разу — и затем сверяют
исправления. Газетных полос не читают ни редакторы, ни
заведующие отделами, ни ночной редактор, ни его
заместители, для этого нехватает времени. В таких
условиях в газете часто встречаются грубые ошибки,
путаются заголовки, попадаются перевернутые строки и т. д.
На все это здесь смотрят сквозь пальцы, — лишь бы
газета вышла побыстрее, лишь бы успеть доставить ее
продавцам раньше, чем доставят свою газету
конкуренты!
Главное, чем озабочена редакция, — это не
пропустить того или иного важного события и осветить его
так, как того требует хозяин газеты. В то же время на
целый ряд событий распространяется своеобразное
«вето», и вся пресса по безмолвному уговору обходит
их молчанием.
Говоря о поразительной односторонности и
пристрастности американских газет, Виллард в своей книге
заметил: «Публика подчас недоумевает, видя группу
репортеров на собрании, а затем тщетно пытаясь найти хотя
345
бы слово о том, что там происходило. В
лучшем случае можно встретить несколько жалких
строк».
В дни пребывания на сессиях Генеральной Ассамблеи
нам не раз вспоминались эти слова, когда мы
знакомились с отчетами американских газет. Вообще говоря,
газеты не скупились на место для этих отчетов. Мы
могли из них узнать, например, какой галстук надел
вчера Даллес, какой цветок был в петлице у
британского делегата Шоукрбсса, как улыбался сенатор
Остин. Мы могли прочесть полные тексты многих речей,
произносившихся в комитетах и подкомитетах. Но —
странное дело — в целом ряде случаев газетная
машина как бы давала перебой, и напрасно мы, листая
одну газету за другой, искали речь, явившуюся гвоздем
заседания Ассамблеи.
В США любят говорить о независимости
американских газет, о том, что они якобы публикуют лишь то,
что вздумается их редакторам и сотрудникам. Но
каждому читателю резко бросается в глаза, что
большинство американских газет потчует своих читателей
одними и теми же мыслями и притом часто в одной и
той же стандартной упаковке. В дни Парижской мирной
конференции, а затем в дни Генеральной Ассамблеи
даже неискушенные читатели видели, как по всей
американской печати волнами проходили одни и те же
басни о «славянском блоке», о «неуступчивой политике
русских», «красной опасности» и т. д., и т. п.
Характерно, что, чем больше побед одерживала советская
дипломатия, тем выше вздымалась волна
антисоветской кампании.
В дни второй сессии Генеральной Ассамблеи — в
октябре 1947 года — здесь произошел любопытный казус,
еще раз показавший, чего стоит пресловутая
американская «свобода печати». Из Москвы прибыло
сообщение, что в «Правде» опубликован ряд писем,
полученных советской делегацией от простых людей
Америки. В этих письмах рядовые американцы выражали
свое одобрение позиции, занятой советской делегацией,
и со своей стороны требовали осуждения и наказания
поджигателей войны. Наутро в комнату советской
346
прессы примчался охваченный профессиональным
ажиотажем сотрудник одного из телеграфных агентств и
попросил помочь ему достать дополнительную
информацию об этих письмах. Такая информация была
предоставлена. Ему даже показали оригиналы некоторых
писем, разумеется, не раскрывая фамилий и адресов
авторов, которые, по понятным причинам, просили не
публиковать их. Корреспондент горячо поблагодарил
за содействие, тщательно перепечатал письма и
умчался писать статью.
В комнате советской прессы побывали
корреспонденты Ассошиэйтед Пресс, Юнайтед Пресс, «Нью-Йорк
тайме», «Нью-Йорк геральд трибюн», «Чикаго дейли
трибюн» и многие другие. Все они рассматривали письма
американцев и переписывали их. Когда же мы на
следующий день развернули американские газеты, мы не
нашли в них ни слова, написанного этими
корреспондентами, а наглый радиовраль Уинчелл в своем
очередном обозрении выразил сомнение в том, получает ли
вообще советская делегация такие письма от
американцев, и... потребовал высылки советских журналистов
из США...
Корреспондент, репортер американской газеты —
лишь поденщики, пишущие то, что приказывает им
хозяин. Как цинично заявил однажды наиболее высоко
оплачиваемый корреспондент «Нью-Йорк тайме»
Джеймс Рестон: «Журналист, подобно врачу, имеет
возможность отравить своего пациента, с той лишь
разницей, что он может отравить больше людей и
сделать это быстрее, чем врач». Дело хозяина и
редактора — отдать этому наемному отравителю
соответствующий приказ.
— Газета представляет собой коммерческие
предприятия, и те, кто выполняет в ней профессиональную
работу, являются наемными работниками, подчиненными
администрации фирмы. Это основное, что надо помнить,
говоря о печати, — учит видный деятель американской
журналистики Луис М. Лайонс, хранитель так
называемого «фонда Нимэна», предназначенного для
«повышения квалификации» специально подбираемых
журналистов.
347
Когда говоришь с американскими журналистами обо
всех этих вещах, столь неприглядно характеризующих
моральный облик печати США, они пробуют
отшучиваться.
— Вам трудно понять нашу профессию, — говорил
мне один репортер в кулуарах Ассамблеи, — для наших
газет главное — это сенсация, необыкновенность,
экстраординарность. У нас есть старая поговорка:
«Газетная информация — это случай, когда человек
укусит собаку». Понимаете, если собака кусает
человека, в этом нет ничего неожиданного, необычного,
сенсационного. А вот если вы напишете, что человек
укусил собаку, это уже можно печатать!
— А вам не приходило в голову, что при таком
методе работы сама газета становится на четвереньки и
начинает лаять? — вмешался мой сосед, югославский
журналист. — И не кажется ли вам, что читатель, в
конце концов, станет сторониться такой газеты, боясь
как бы его не искусали?
Наш собеседник вежливо улыбнулся и... быстро
переменил тему разговора.
Было бы неправильно представлять себе дело
таким образом, что представители прогрессивной
общественности Соединенных Штатов вообще лишены
возможности высказываться на страницах печати. В
Соединенных Штатах существует известное количество
прогрессивных газет и журналов, несущих в массы
правдивое слово. К их числу в первую очередь должны
быть отнесены «Дейли уоркер», некоторые журналы,
довольно многочисленная профсоюзная пресса. Все эти
газеты и журналы выступают за укрепление
сотрудничества великих держав, за последовательное соблюде-
дение международных соглашений, против
авантюристских замыслов монополистических кругов Соединенных
Штатов, мечтающих о мировом господстве.
Однако при всем этом следует помнить, что в США
на пути журналиста, общественного деятеля, который
считает своим долгом смело говорить правду народу,
который не желает итти на компромисс со своей
собственной совестью, — лежат огромные препятствия.
Им не дают ходу, их преследуют, им грозит не только
348
разорение, но и тюрьма. Вот пример, убедительно
показывающий, как выглядит на практике пресловутая
американская «свобода печати»: в 1945 году журнал
«Амерэйша» напечатал материалы, в которых была
подвергнута критике политика США в отношении
Японии и Китая. Немедленно после этого редактора
журнала, его помощника и некоторых других работников
посадили в тюрьму. Их объявили... шпионами.
Обвинение в шпионаже было голословным, и министерству
юстиции в конце концов пришлось освободить этих
журналистов. Но дело было сделано — журнал как
следует припугнули...
Трагическую судьбу честного американского
журналиста, не желающего торговать своим пером, прекрасно
показал в своей пьесе «Русский вопрос» Константин
Симонов. Я хотел бы привести перекликающийся с этой
историей пример, взятый из жизни. Многие знают имя
американского журналиста Иоганнеса Стила.
В годы войны Стил был радиокомментатором. Он
говорил правду своим радиослушателям, и именно это не
нравилось владельцам радиокорпораций. После
окончания войны Стила, как и других «либеральных», по
определению американской прессы,
радиокомментаторов, уволили. Стил оказался в очень затруднительном
положении: он лишился аудитории, к которой раньше
мог обращаться. Перед ним стоял выбор — либо
покориться воле хозяев и говорить то, что им угодно, либо
остаться верным своей совести. Стил выбрал второй
путь. Он начал издавать свой собственный небольшой
бюллетень. Не обладая крупными средствами, в
Соединенных Штатах очень трудно, почти невозможно,
быть издателем. Но Стил все же продолжает борьбу.
Его бюллетень расходится в семи тысячах экземпляров,
его подписчиками являются некоторые газеты,
перепечатывающие обозрения Стила.
Таких людей среди американских журналистов —
меньшинство. Но эти люди честно делают свое дело.
Это их имел в виду автор уже упоминавшейся мною
книги «Газета на ущербе» Освальд Виллард, когда
.писал:
«Сегодня, каким бы острым ни было его перо, никто,
349
живя и работая на чердаке, не может рассчитывать на
то, что голос его будет услышан аудиторией, которая
на 90 миллионов человек превосходит американскую
аудиторию времен Гаррисона и Линкольна и которая
по крайней мере на двести лет отстала от них по
способности понимать и воплощать основные принципы
американской свободы. И все же какой-нибудь
будущий пророк сумеет заставить услышать себя если не
через ежедневную, то через еженедельную газету, если
не через еженедельную газету, то через памфлеты,
как это делал Александр Гамильтон, если не через
памфлеты, то своими выступлениями на базарной
площади. Как бы то ни было — правда будет услышана».
8. СДЕЛАНО В ГОЛЛИВУДЕ
В какую бы страну вы ни поехали, в каком бы городе
ни побывали, вам повсюду встретятся одни и те же
лица — с огромных пестрых рекламных щитов в вас
будет лениво и словно нехотя целиться из ковбойского
револьвера хмурый Гарри Купер; вас будет есть
глазами лихая Рита Хэйворт, прозванная «анатомической
бомбой»; простодушно и печально улыбнется вам
миловидная шведка Ингрид Берман, затерявшаяся в
далеком, чужом Голливуде. Да и весь набор рекламных
кадров окажется поразительно схожим: и на Бродвее,
и на Пикадилли, и на Елисейских полях — везде вы
увидите одно, и то же — мистер и мисс целуются,
мистер душит мисс, мистер и мисс танцуют, мисс убивает
мистера. И на всем этом фабричная марка — «Сделано
в Голливуде».
Так было как будто бы и вчера, и позавчера, и
всегда. Менялись только имена — кинематограф
безжалостен и не терпит морщин на лицах своих «звезд»..
Голливудские стандарты вошли в пословицу;
голливудские концерны давно уже стали диктаторами на
мировом кинорынке. К этому можно было бы добавить
лишь то, что после войны диктатура Голливуда
приобрела еще более резкий и циничный характер. Агенты
американских кинокомпаний скупают на корню евро-
350
пейские студии, кинопрокатные конторы, хронику,
режиссеров, актеров.
— Скоро мы все будем батраками у дяди Сама, —
с горечью сказал мне как-то один из талантливых
французских кинорежиссеров — Дюртен.—Посмотрите,
даже в Париже из пятидесяти прокатных фирм восемь
принадлежат американцам. И это, не считая так
называемых «независимых американских прокатных домов»!
Они создали у нас и свои дубляжные студии,
способные выпускать сорок фильмов в год на французском
языке. Продвинуть в прокат наш французский фильм
теперь очень не легкое дело. Неудивительно, что
многие уезжают в Голливуд. Поймите, легко ли нам
встречать сейчас нашего Рене Клэра, — вы, наверно,
помните его ленту «Под крышами Парижа»? — так вот,
легко ли нам встречать Рене Клэра, который приезжает
к нам снимать фильм из французской жизни как
представитель американского кино?
Французские киноработники с негодованием
рассказывали о превращении французского фильма «День
наступает», — американцы его купили и положили на
полку, а сами сняли новую ленту по сценарию этого
фильма и пустили ее в прокат. Еще более разительную
историю мне рассказывали в Лондоне — американцы
купили английский фильм «Газовый свет» и, даже не
утруждая себя пересъемкой, перемонтировали его и
выпустили на английские же экраны под новым
названием «Убийство в Сортон-сквере» как американский
фильм.
Торговля фильмами — прибыльное дело. Одна лишь
Великобритания платит Голливуду 20 миллионов
фунтов стерлингов в год. Некоторые кинокартины,
обошедшие весь мир, буквально озолотили удачливых
экспортеров — один лишь «Поющий дурак» дал братьям
Уорнер 5 миллионов долларов; Уолт Дионей на своей
«Снегурочке» заработал 8 миллионов, а Сельзник
выручил за фильм «Ушедшие с ветром» баснословную
сумму — в 32 миллиона долларов.
В 1946 году киномагнаты Голливуда получили самые
большие прьбыли, какие когда-либо знала история
кинематографа. Орган кинопромышленников «Фильм
351
дейли» сообщил, что семь крупнейших компаний Го&
ливуда — «Метро — Голдвин — Майер», «Парамо-
унт», «XX век — Фокс», «Юниверсал», «Юнайтед
артисте», «Братья Уорнер» и «РКО» получили в этом
году свыше 100 миллионов долларов чистого барыша.
Огромный рост прибылей «Фильм дейли» объясняет
тремя причинами: во-первых, отменен налог на
сверхприбыль; во-вторых, значительно повысились цены за
вход в кино; в-третьих, число посетителей кинотеатров
возросло до 100 миллионов в неделю.
Голливуд выбросил на рынок в 1946 году 487
полнометражных художественных фильмов. Из них на долю
так называемой «большой восьмерки» (в нее, кроме
перечисленных выше фирм, входит еще «Колумбиа пи-
черс») приходится 337 кинокартин. Остальные
художественные полнометражные фильмы были выпущены
группой двадцати пяти так называемых «независимых
продюссеров». В их рядах — Сэмюэл Голдвин, Давид
Сельзник, Франк Капра и другие.
Но фильмы — не обычный товар.
С помощью этих мотков целлюлоидной пленки
можно воздействовать не только на карманы, но и на
психику покупателей. Это обстоятельство всегда
хорошо учитывали в Соединенных Штатах, но особенно
с ним считаются после войны. Достаточно сказать, что
государственный департамент сейчас непосредственно
вмешивается в дела кинокомпаний, помогая им
продвигать товар на заокеанские рынки и прямо указывая,
какие фильмы следует демонстрировать на зарубежных
экранах и какие не следует.
Летом 1946 года, когда французское правительство
ло условиям соглашения об американском займе,
подписанного Блюмом, было вынуждено снять барьеры
и отдать три четверти своих экранов Голливуду и когда
в Париж сразу же хлынули 200 американских
фильмов, — французские газеты опубликовали следующую
многозначительную и совершенно недвусмысленную
информацию:
«Лучшей защитой против коммунизма является
распространение американских фильмов. Таково мнение
представителя государственного департамента, только
352
г*хто возвратившегося в Америку из Европы, где он
посетил ряд стран, изучая возможности проникновения
в них американских картин. В то же время этот
чиновник заявил, что было бы недопустимо показывать
в Европе такие фильмы, как «Табачная дорога» !. Этот
чиновник выразил уверенность, что правительства
большинства стран Западной Европы облегчат экспансию
американских фильмов, чтобы преградить дорогу
коммунизму». (Цитирую по «Самди суар» от 8 июня
1946 года. —ТО. Ж.)
Конечно, «Табачная дорога» не прибавит зрителю
уважения к пресловутому «американскому образу
жизни». Не-вызовет симпатий к нему и такая лента,
как «Лучшие годы нашей жизни», — выпущенная
в 1946 году Вильямом Уайлером беспощадно
правдивая, талантливая картина о трагической судьбе
демобилизованных американских солдат. Такие фильмы до
недавнего времени еще проскальзывали изредка на
внутренний американский экран,— они давали
большой доход и потому их до поры до времени терпели
скрепя сердце те, кто контролирует кинорынок.
В 1947 году, как известно, фильм «Лучшие годы
нашей жизни» был объявлен «красным», его авторы
привлекаются к ответственности «Комиссией по
неамериканской активности» (позже я скажу об этом фильме
подробнее). Но на внешний рынок, за границу, таким
фильмам дорога заказана. Они —не для экспорта.
Пусть лучше европеец умиляется бесстрашными
американскими сыщиками, для которых раскрыть любое
преступление все равно, что раз плюнуть, пусть он
смотрит на ножки американских герлс или трепещет
перед грозной силой американской военной техники.
Мне вспоминается один не совсем обычный
киносеанс, который был дан в Париже в разгар дебатов на
Мирной конференции. В девять часов утра 12 августа
перед очередным заседанием все делегаты
конференции, за исключением представителей СССР, были
приглашены в роскошный кинозал, принадлежащий зна-
1 «Табачная дорога» — нашумевший в США фильм Джона
Форда по одноименной книге Эрскина Колдуэлла, повествующей
о бедственном положении разоряющихся американских фермеров.
23 На Здпаде после войны Зг>3
менитому американскому киноконцерну «Парамоунт».
В вестибюле этого гигантского театра,
представляющего собой своеобразный американский
киносеттльмент в Париже, гостей встречали снисходительно-
вежливые хозяева; предупредительные служители
в темноголубых униформах, осторожно ступая по
мягким пушистым коврам, провожали их и усаживали
в удобные кресла. Погас свет, и дрожащий дымчатый
кинолуч высветил на экране вступительные титры
фильма: «Испытание атомной бомбы в Бикини»;
«лента доставлена в Париж специальным самолетом».
Но это была не просто хроника. Кадры,
демонстрирующие взрыв атомной бомбы, были многозначительно
перемешаны с кадрами японского документального
фильма, показывающего последствия взрыва атомной
бомбы в Хиросима, и... с кадрами, заснятыми на
Парижской мирной конференции. Возвестив, что «атомная
бомба изменила ход цивилизации», диктор странно
ликующим голосом повествовал о том, как страдали
обожженные женщины и ослепшие дети в Хиросима.
В заключение он посоветовал зрителям строить города
под землей в случае, если не будет принят план
Баруха.
Демонстрация фильма длилась ровно десять минут.
Потом в зале зажегся свет, к подъезду были поданы
автомобили, и хозяева проводили гостей. Все было
рассчитано так, чтобы делегаты не опоздали к началу
заседания...
Американские дельцы привыкли работать с большим
размахом. Тодовой бюджет кинопроизводства в США
превышает 270 миллионов долларов. Только на
строительство кинотеатров в Соединенных Штатах было
затрачено около двух миллиардов. За время войны
американские студии поставили более двух тысяч
картин, не считая кинохроники, короткометражных
фильмов и т. д. Тем интереснее проследить, как меняется
после войны тематика американского кино и как
направляется и регулируется этот гигантский целлюлои-
довый конвейер, занимающий свое четко определенное
место в американской политике.
«Идеология» Голливуда полуофициально контроли-
354
руется «Ассоциацией кинематографии Америки»,
становым хребтом которой является упомянутая выше
«большая восьмерка». Эта Ассоциация не только
обеспечивает своим членам господствующее положение на
мировом кинорынке. Она осуществляет так называемую
«самовведенную цензуру». Эта цензура призвана
«ограничить показ сцен аморальных, непристойных,
антирелигиозных, оскорбляющих национальное
достоинство», — так сказано в разработанном в 1934 году
«Кодексе кинопродукции». Функции блюстителя
«Кодекса кинопродукции» и присвоила себе «Ассоциация
кинематографии Америки».
Формально кинокомпании не обязаны представлять
Ассоциации сценарии на предварительный просмотр.
Но всем известно, что Ассоциация, пользуясь
допускающим самое широкое толкование «Кодексом
кинопродукции», может наложить свое «вето» на любой
фильм, не отвечающий политическим взглядам ее
руководителей. Если же на вступительных титрах фильма
не будут красоваться инициалы Ассоциации — МРАА>
он не найдет сбыта на кинорынке: ведь система
проката монополизирована и находится в руках той же
Ассоциации. Поэтому предприниматели предпочитают
не рисковать и отказываются разговаривать со
сценаристами и режиссерами до тех пор, пока сценарий не
одобрит Ассоциация.
Мне приходилось не раз беседовать с работниками
американского кино. И всякий раз они весело смеялись,
когда речь заходила о том, борется ли Ассоциация
с аморальными и непристойными тенденциями
Голливуда.
— Пройдитесь по Бродвею и посмотрите рекламные
кадры! Есть ли там что-либо, кроме непристойности? —
говорили они. — На такую вещь смотрят сквозь
пальцы. Но попробуйте вы добиться согласия на
сценарий, в котором была бы правдиво показана сцена
стачки, были бы осуждены линчевание,
злоупотребления в полиции, в котором была бы разоблачена
реакционная роль церкви. Фильмов на эти темы в
Соединенных Штатах нет и быть не может!..
— Ну, а как же «Табачная дорога»? — спрашивал я.
23*
355
— «Табачная дорога»? Но, во-первых, это было
в тысяча девятьсот сорок первом году, а тогда среди
кинопредпринимателей считалось даже модным
щеголять левизной, а, во-вторых, ведь в «Табачной дороге»
не затрагивались непосредственно интересы крупных
промышленных монополий.
Политическое кредо воротил «Ассоциации
кинематографии Америки», этой крупнейшей в мире
киномонополии, с достаточной откровенностью определил
руководитель Эрик Джонстон, бывший председатель
торговой палаты США.
— Цели Голливуда, — сказал он, — сейчас уже не
ограничиваются старанием дать кинозрителю
возможность развлечься. Кино заняло сейчас место наряду
с прессой и радио, как одно из самых мощных средств
распространения информации и просвещении, и
выполняет сейчас важную миссию, эффектно показывая
историю Америки как арсенала демократии.
Джонстон подчеркнул при этом, что Голливуд
сейчас больше заинтересован в пропагандистской
стороне дела, «нежели в том, чтобы выгодно продавать
фильмы».
И надо сказать, что те, кто ведает экспортом
американских фильмов, весьма последовательно проводят
в жизнь эту линию. Когда венгерские кинопрокатчики,
например, летом 1947 года захотели показать
правдивый фильм «Песня о России», поставленный в
Голливуде в годы войны, — американские представители
категорически воспротивились этому. А в Финляндии,
примерно в это же время, мне довелось увидеть
омерзительный и глупый фильм «Балалайка», состряпанный
фирмой «Метро — Голдвин — Майер» с помощью
давно забывших Россию белогвардейцев. В этом
фильме страшные, бородатые революционеры в
царском подполье печатают листовки под музыку
балалаек и пение «Эй, ухнем»; дамы и кавалеры из
высшего света пьют в трактире за высокой стойкой чай из
огромного самовара и шампанское, закусывая черной
икрой; влюбленные ставят свечки перед образами
в кладбищенской церкви, — свечи эти выбрасывает
им, словно бутылки «Кока-Кола», автомат, в щелочку
356
которого они опускают монетку; еврей-террорист
стреляет в благородного князя; злые и дикие солдаты
бунтуют на фронте, не желая сражаться с немцами;
в конце концов измученные русские интеллигенты
находят успокоение в эмиграции, в парижском кафе
«Балалайка»...
Такой «показ России» сейчас больше устраивает
мистера Джонстона и его коллег, нежели тот, какой
был дан авторами «Песни о России» в годы войны...
Однако «Ассоциация кинематографии Америки» —
не единственная организация, осуществляющая
идеологический контроль над кино в Соединенных Штатах.
Видную роль в этой области играет так называемая
«Лига порядочности», находящаяся под руководством
реакционных деятелей некоторых католических
организаций. «Лига порядочности» выступает в роли
своеобразной пожарной команды в случае, если
«Ассоциация кинематографии Америки» пропустит все же на
экран фильм, вызывающий нежелательные для
американской реакции отклики зрителей. Лига организует
бойкот таких фильмов. Ежемесячно она рассылает по
тысячам адресов списки кинокартин, которые она
считает вредными. Церковь пропагандирует эти списки и
безоговорочно поддерживает бойкот. Приведу здесь
только один пример, достаточно убедительно
характеризующий «Лигу порядочности» и тех, кто ее
поддерживает.
Советскому зрителю памятен американский фильм
«Северная звезда», поставленный в годы войны
режиссером Люисом Майлстоуном. Он мог показаться
несколько наивным — Майлстоуну нехватало знания
партизанской жизни и борьбы, знания украинского
быта. Но в основе авторского замысла лежало
искреннее стремление проникнуть в психологию непокоренных
советских людей, которые, не щадя собственной
жизни, поднимались на борьбу с врагом, и показать
эту борьбу. Майлстоун работал над фильмом с
большой энергией, с подлинным творческим
воодушевлением. С таким же воодушевлением работал и весь
коллектив актеров; в частности, один из выдающихся
американских киноактеров Эндрьюз создал подкупа-
357
ющий образ советского летчика, который участвует
в создании партизанского отряда.
Так вот «Лига порядочности» выступила против
этого фильма. И выступила она с чрезвычайно
характерными возражениями. «Нельзя показывать зверства
немцев! — заявила лига. — Это может развращающе
подействовать на молодое поколение». И еще одно
возражение, еще более наглое и циническое: «Не
доказано, что немцы брали кровь у русских детей для
своих раненых. Нельзя выпускать на экраны фильм,
в основе которого лежит непроверенная версия!»
Лига начала скандальную кампанию против фильма.
Майлстоун был подвергнут травле. К чести
американского кинозрителя, надо сказать, что кампания эта
никакого успеха не имела. Фильм «Северная звезда»
обошел все экраны Соединенных Штатов. Владельцы
кинотеатров не вняли истерическим призывам «Лиги
порядочности» и отказались снять фильм с показа —
он давал полные сборы и, следовательно, приносил
немалую прибыль...
Но какие же фильмы идут сегодня на экранах
американских кино? Что представляет собой послевоенная
кинематография Соединенных Штатов?
Американская киностатистика распределяет фильмы
по категориям точь в точь, как бюро стандартов делит
гайки и болты; вначале идут мелодрамы: «Мелодрама-
действие», «Мелодрама таинственная», «Мелодрама-
убийства», «Мелодрама-шпионаж»; потом с теми же
дополнительными рубриками — ковбойские фильмы,
драмы, комедии, фарсы: «Фарс-убийства», «Фарс-
ужас», «Фарс — ужас психологический» и т. п. За
последние годы количество фильмов, посвященных
социальным проблемам, сократилось более чем вдвое;
почти не выпускаются сейчас фильмы биографические,
исторические, спортивные. Зато количество бездумных
музыкальных комедий удвоилось. Примерно в той же
пропорции увеличилось количество фильмов об
убийствах.
При всей внешней пестроте сюжетов фильмы,
сфабрикованные в Голливуде, обладают, в массе своей,
совершенно определенной политической направлен-
358
ностью. Деятели профсоюзов и других прогрессивных
общественных организаций фигурируют в них как
опасные подстрекатели, провоцирующие рабочих на
невыгодное для них выступление против
предпринимателя, который якобы больше всего печется о
благосостоянии своих подчиненных. В очень многих фильмах
выводятся сладенькие, паточные образы бедных,
кротких работниц, которые своим терпением и покорностью
завоевывают расположение и даже любовь своего
хозяина или его сына. Бизнесмены, за редкими
исключениями, показываются как почтенные, благородные
граждане, которым надо подражать. Если же в фильме
и фигурирует бизнесмен-злодей, то авторы фильма все
же старательно подчеркивают, что это — не типичный
делец, а случайный для бизнеса человек — вор,
мошенник или бандит. Но даже и в этом случае в
Голливуде нередко производят чудесное превращение:
злодей раскаивается под влиянием красавицы-героини,
плачущего ребенка, старухи-матери и становится
честным, преуспевающим бизнесменом.
С другой стороны, на американской кинопропаганде
лежит явственный отпечаток расизма. Белые
американцы — это мужественные, бесстрашные герои; негры,
как правило, — либо слабоумные типы, вызывающие
насмешки в зрительном зале, либо дикие звери,
внушающие чувство ненависти; примерно в том же духе
показывает Голливуд индейцев; люди, родившиеся за
пределами США, чаще всего изображаются как
неполноценные.
Особенно вошли сейчас в моду «Мелодрама
таинственная», «Фарс-ужас», просто «Ужас» и «Ужас
психологический». Экраны густо заселены привидениями,
загадочными двойниками, таинственными
джентльменами, которые на поверку оказываются пришельцами
с того света, чертями, колдунами, ведьмами. Сейчас
на Западе определенные круги интеллигенции
увлекаются спиритизмом, масонством, гаданьями,
размышлениями о бренности всего земного, и кино множит и
расселяет по всему белу-свету модную чертовщину.
В 1947 году фильмы об ангелах и чертях выходили
«на первые экраны Нью-Йорка один за другим. Вот
359
фильм Капра «Это счастливая жизнь», — первая и
единственная лента, быстро созданная прогоревшей
Ассоциацией «независимых продюссеров»... «Гвоздь»
сюжета этого фильма заключается в том, что ангел-
хранитель спасает от смерти отчаявшегося,
доведенного до разорения директора коммунального банка и
заставляет его сограждан собрать для него достаточно
денег, чтобы с лихвой вернуть долг
финансисту-ростовщику и восстановить благополучие.
Вот фильм «Небеса могут подождать».
Скончавшись, американец понгдает в офис дьявола. Здесь все
автоматизировано — грешники по окончании допроса
с помощью автомата перебрасываются в ад.
Американца спрашивают:
— Какие у вас грехи?
— Любил поволочиться...
Дьявол пожимает плечами:
— Ничего страшного! Вам у меня делать нечего,
пройдите в следующий этаж...
В следующем офисе — преддверии рая —
американец рассказывает о своей жизни. Выясняется, что он
отбил невесту у двоюродного брата, потом волочился
за хористками и за любовницами своего сына. Даже
на смертном одре он пытался ухаживать за сестрой
милосердия, говоря ей: «Когда вы прикасаетесь ко
мне, у меня повышается температура». От повышения
температуры он и умер.
Объяснения американца признаны
удовлетворительными, и он направляется на небеса, где ждет его жена.
С небес он смотрит на счастливую семью своего сына...
Вот ковбойский боевик: «Это знают небеса». С неба
на средний запад прибывает архангел Майк (Михаил)
узнать, что здесь творится: бога беспокоят стрельба,
драки, неустройство. Майк приезжает в городок с
попутчиком-бандитом, по которому тут же другой
бандит — Дюк Байрон — открывает огонь.
Ангел определенно начинает симпатизировать
Байрону; бандит начинает воспитывать посланца небес.
Коптя над лампой револьвер Байрона, с которым тот
готовится выйти на дуэль против бандита, Майк
докладывает богу:
360
— Раньше из такой штуки можно было убить одного
человека, а теперь шесть. Я еще не совсем разобрался,
в чем тут дело. Но, по-моему, сердце у Байрона
хорошее. Вот только в голове у него не все в порядке...
Байрону все время сопутствует чорт — черноглазый
парень с черными усиками, с демонической усмешкой,
в черной шляпе и в черном костюме. Он все время
зажигает спички. Когда Майк к нему поворачивается,
спички тухнут, и чорт раздраженно дергается. С
помощью такого «сложного» приема режиссер стремится
показать, что Майк и чорт ведут борьбу за душу
бандита.
Вражда двух банд разгорается. Соперники
поджигают кабак Байрона, в котором тот пьет вдвоем с чор-
том. Чорт невредимым проходит через огонь, бросая
Байрона на произвол судьбы. Его спасает ангел, — он
подплывает на лодке к люку под домом, который
построен над ручьем, и открывает его.
Байрон укрывается у учительницы, которая и любит
Байрона, и ненавидит его за бандитизм. «Сложная
психологическая драма» учительницы кончается
объятиями. Начинается спасение души бандита — под
влиянием ангела и учительницы он бросается в огонь
и спасает ребенка, искупая свою вину. Ангел вводит
бандита в церковь и заставляет бросить деньги
в кружку. Тот упирается. Ангел дает ему дважды в
морду. Это оказывает благодетельное влияние —
бандит становится верующим.
— Церковь — это почтовый офис, через который мы
получаем письма из дому, — наставительно говорит
ангел бандиту, беспокойно ощупывающему
свороченную набок челюсть.
После долгих перипетий фильм заканчивается
благополучно. Ангел побеждает чарта, бандит становится
респектабельным гражданином. Закончив свою
миссию, ангел возносится в старинной карете на небо.
Заключительный кадр: обращаясь в болид, карета
уносится в космос...
Не менее широкое распространение получают
«фильмы-ужасы». Здоровый человек не может смотреть эти
фильмы без чувства гадливости и тошноты.
361
Мне вспоминается, с каким скандально-шумным
успехом шел осенью 1945 года в Лондоне
американский фильм «Потерянный уик-энд», поставленный
Уайльдером по одноименной книге Чарльза Джэксона,
в которой с тошнотворными натуралистическими
подробностями описываются пять унылых, протекающих
в пьянстве дней из жизни одного алкоголика. Он
долго демонстрировался в одном из лучших
кинотеатров британской столицы, и постоянно у кассы торчала
очередь из щеголевато одетых юнцов, склеротических
чопорных седых джентльменов и дам в мехах. Но вот
однажды в этот кинотеатр заглянули находившиеся
тогда в Лондоне советские спортсмены, — их внимание
привлекла длинная очередь, и они решили, что фильм,
которым так интересуются лондонцы, должен быть
любопытным. Как ругались и плевались потом эти
славные, не испорченные буржуазным искусством ребята!
— Понимаешь, это, наверное, сделал сумасшедший
человек, — доверительно говорил мне потом один из
них. — Пойми, целый вечер на экране показывают, что
переживает человек, допившийся до белой горячки, и
что ему чудится. Только один герой во всем фильме
и только одна эта тема! Когда они показали крупным
планом, как подыхает забившаяся в щель раненая
летучая мышь и как по обоям течет ее липкая кровь,
меня чуть не вырвало. А ведь есть же любители таких
фильмов! Сидят, смотрят и жуют апельсины. Чорт
знает что!
Весьма распространенный вариант
«фильма-ужаса» — это фильм, натуралистически, во всех деталях
рисующий зверства, садизм. Характерно при этом, что
самые чудовищные преступления обычно показываются
на фоне будничной жизни небольшого американского
города.
Типична в этом отношении картина «Глубокий сон»,
в которой главную роль играет известный артист
Гемфри Богарт. Фильм представляет собой...
последовательный показ семи убийств, которые главный герой
старается расследовать в качестве частного детектива.
«Гвоздь» картины — отвратительные-
натуралистические сцены избиения детектива. Его увечат и топчут
362
ногами респектабельные на вид жители небольшого
городка, тайно торгующие наркотиками и «белыми
рабынями».
Осенью 1947 года я читал в нью-йоркских газетах
сообщения о том, что в Голливуде началась подготовка
к съемкам биографического фильма об... известном
американском бандите Аль-Капоне. В газетах писали,
что представители одной кинофирмы уже начали
переговоры о постановке картины «Жизнь Аль-Капоне»
с проживающей в Чикаго женой этого негодяя, тихо
закончившего свои дни в уютно обставленной камере
тюрьмы. Как известно, всемогущий «король
гангстеров» Аль-Капоне даже в тюрьме сумел устроиться
с полнейшим комфортом. В переговорах о постановке
фильма принимал участие адвокат, который вел
нашумевшие процессы Аль-Капоне. Голливуд собирается
в назидание подрастающему поколению увековечить
память бандита...
В широких масштабах Голливуд продолжает
фабриковать банальные, трафаретные фильмы о ковбоях и
индейцах с погонями, стрельбой и драками, —
американцы иронически называют такие фильмы
«лошадиными операми». В этих фильмах либо ковбой гоняется
за индейцами, либо индейцы гоняются за ковбоями.
Единственное отличие «лошадиных опер»,
сфабрикованных в 1946 году, от тех, которые выпускались лет
двадцать тому назад, состоит в том, что сейчас
применяется более совершенная техника киносъемок.
Широко используются, в частности, цветные съемки,
дающие возможность широко показать прекрасные
пейзажи Аризона, восход солнца в пустыне.
Значительно увеличился выпуск музыкальных
киноревю. Эти дорого стоящие постановочные фильмы,
не обладающие сколько-нибудь серьезным сюжетом,
но изобилующие пением и танцами, пользуются
большим успехом у невзыскательного зрителя, идущего в
кино лишь ради того, чтобы немного развлечься, и
приносят большие барыши. Как правило, в последнее
время такие фильмы снимаются в цвете. В них выступают
виднейшие «звезды» Голливуда — певцы и танцоры.
Всю осень 1946 года на Бродвее шел с шумным
363
успехом фильм «Синее небо» — из жизни эстрадных
актеров. Немудреная фабула этого фильма построена
с таким расчетом, чтобы главный герой фильма (его
роль исполняет известный певец Бинг Кросби, о
котором я подробнее скажу ниже) успел спеть двадцать
три песенки популярного композитора Ирвинга
Берлина, а знаменитый танцовщик Фред Астер успел
станцовать десяток танцев. Интерес к этому фильму
был поднят сенсационным заявлением Астера, что он
в последний раз танцовал для экрана. Не меньшим
успехом пользовался цветной музыкальный фильм
«История Джолсона», сюжет которого построен на
биографии популярного певца джаза Ола Джолсона.
Сын бедного еврейского кантора, вопреки протестам
отца, желающего, чтобы он пошел по его пути, бросает
духовное училище, вступает на сцену и делает
ошеломляющую карьеру; много лет спустя он мирится
с отцом: тот признает в нем талант, слушая старинный
русский вальс в исполнении сына. В главной роли
выступил молодой актер Ларри Парке.
И еще одна особенность, характерная для
послевоенной американской кинематографии: отмечается
неуклонный рост количества фильмов на... религиозные
сюжеты.
Голливуд никогда не славился благочестием. Его
нравы всегда служили источником пикантных
анекдотов. Такими голливудские нравы и остались. Тем
любопытнее, что после войны Голливуд был заботливо
и милостиво принят под сень сутан «святыми отцами»
католической церкви. Именно католикам американский
капитал вверил опеку над идейным содержанием своей
кинематографии.
Выше я рассказывал о деятельности так называемой
«Лиги порядочности». Но реакционные деятели
католических организаций не ограничиваются
контрольными функциями в кинематографии. Они пытаются
перейти в наступление и выступить в роли
поставщиков своего собственного «идеологического товара».
В качестве католического киноавангарда в
Голливуде сейчас выступает группа кинодеятелей, к которой
принадлежит и певец легкого жанра Бинг Кросби. Этот
364
певец нажил себе миллионное состояние на участии
в легкомысленных мюзик-хольных обозрениях и
музыкальных кинокомедиях. Его бархатный баритон
ежедневно звучит в эфире: Бинг Кросби постоянный
участник радиопередач легкой музыки. Повсюду
продаются патефонные пластинки Кросби. По данным
налоговой статистики, Бинг Кросби зарабатывает
свыше 5000 долларов в неделю.
После войны выяснилось, что этот популярный герой
легкого музыкального жанра — ярый приверженец
католицизма. Трудно сказать, как примиряется сцена
мюзик-холла с католическим алтарем, но в Голливуде
все возможно. И вот Бинг Кросби специализируется
на выпуске полнометражных игровых фильмов,
пропагандирующих католическую церковь. Он выпустил,
к примеру, идиллическую картину «Иди по моей
дороге», в которой дал, словно написанный патокой,
образ сельского католического священника. Последняя
работа Бинга Кросби «Ирландская роза Эйби». Этот
антихудожественный антисемитский фильм вызвал
протесты даже рядового американского кинозрителя.
Отдают дань новой тематике и крупные
киномонополии, — «Парамоунт», например, выпустил фильм
«Колокола святой Марии».
С католиками успешно соревнуются на кинопоприще
протестанты. Протестантская церковь в США создала
специальную кинокомиссию, которая установила
непосредственный контакт с Голливудом. По ее заказу
фабрикуются фильмы, которые потом сами церковные
организации пускают в прокат. Как сообщил в
сентябре 1947 года на страницах «Нью-Йорк тайме»
председатель протестантской кинокомиссии, уже 7500
церквей обладают собственными киноустановками и еще
столько же приспособлено для показа фильмов.
10 000 протестантских церквей сдали заказы на
кинооборудование. За прокат фильма в церкви взимается
всего десять долларов.
Осенью 1947 года пресса разрекламировала
поставленный Джеком Черток по заказу протестантской
церкви фильм «Выше нас». Это история двух братьев,
один из которых религиозен, а другой нет. Набожный
365
брат уезжает в Китай и ведет там миссионерскую
деятельность. Безбожник остается в США.
Провидение обрушивает «а него беды, он теряет своего
любимого сына. Тогда безбожник разочаровывается в своей
жизни и уезжает к брату в Китай. Там он приходит
к выводу, что его жизнь сложилась неудачно потому,
что он не верил в бога. Он решает вернуться на родину
в США и вести там «жизнь, достойную христианина».
Эта слащавая и насквозь фальшивая история уже
пущена в широкое обращение и бесплатно показана
миллионам зрителей. Сообщают, что в ближайшее
время по заказу протестантской церкви будет
поставлено еще шесть фильмов — на этот раз на библейские
сюжеты...
В статье, опубликованной в американском
киножурнале «Скрин райтер» в сентябре 1947 года, сценарист
Даймонд открыто заявил, что современный
американский фильм немыслим без штампов, трафаретных
положений и диалогов, стандартных героев и героинь.
Он привел целый ряд любопытных примеров.
«В исторических фильмах персонажам даются
громкие имена, — писал Даймонд. — Если сама картина не
может создать соответствующее настроение, то
стараются воздействовать на публику хотя бы с помощью
этих имен. Так, например, на посольском балу
в Вашингтоне двое беседуют друг с другом о
приглашенных гостях. «А кто тот симпатичный молодой
человек, который танцует с дочерью сенатора?» —
спрашивает один другого. «Да это же лейтенант Эйзенхауэр».
Если в фильме выступает талантливый молодой
репортер, подвизающийся в Вирджинии, то непременно
оказывается, что он «пишет любопытные вещи для
газеты» и что зовут его — Марк Твен.
Как появляется на свет музыкальный шедевр? Наш
музыкальный гений в каждой сцене наигрывает одни
и те же четыре ноты и работает такими темпами, что
раньше, чем через тридцать лет нельзя ожидать
завершения его замысла. Но вот перед нами новая сцена.
Наш маэстро выступает в сопровождении мощного
симфонического оркестра. По всей видимости, он
успел за короткий промежуток времени прибавить
366
к первоначальным четырем нотам еще тысяч
двенадцать и подарить миру шедевр.
Большую роль играет в кино папироса. Ее можна
закуривать самым разнообразным образом и тем
самым выражать различные эмоции от нетерпения до
нимфомании. Непременным атрибутом кино являются
дедовские часы. Они бьют тринадцать раз перед
тем как кого-то убивают. Они останавливаются
в момент смерти своего хозяина. Ровно двадцать лет
спустя они начинают итти — когда оглашается
завещание покойного. Во многих картинах момент смерти
героя отмечается тем, что тухнут свечи, качаются
занавески. Если героиня долго жила отшельницей и
неожиданно влюбилась, ее любимая канарейка
отмечает этот счастливый момент громким щебетанием.
В благодарность за это девушка открывает клетку и
выпускает птичку на свободу.
Концовки так трафаретны, что их сравнительно легко-
классифицировать. Счастливая парочка обычно рука
об руку идет по дороге лицом к заходящему солнцу.
Они могут также рядом ехать верхом или даже вдвоем
сидеть на одной лошади.
А как часто вы слышите в кино следующие
заявления, которыми обычно обмениваются любящие друг
друга персонажи картин: «Я люблю вас потому, что вы
это вы», «Они играют нашу песню», «Я не сомневаюсь,
что Роджер поступил бы именно так», «Вот то, что
придает мне мужество», «С вами я познал подлинное
счастье», «Вы вернулись, и это самое главное»,
«Я знаю, что вы не хотите об этом говорить», «Я был
слеп», «Он меня так испортил, что я уже не гожусь
для другого мужчины», «Я слишком плоха для вас»,
«О, милый, держи меня крепко и не выпускай меня»,
«Не выбрасывай меня из своей жизни», «С первого
момента я энал, что мы созданы друг для друга»,
«Но к чему я все это говорю?», «Для меня?», «Но это
так неожиданно», «Я знаю, что вы меня не любите,
но выходите за меня замуж, и любовь придет», «Рад»
детей», «Вы старый дурак, неужели вы в самом деле
думали, что я вас люблю?», «Забудем все, что была
до того, как мы поженились», «Но вы ведь ничего не
367
знаете обо мне», «Как могли вы это сделать после
того, как мы так много дали друг другу?..»
Каждому типу картины сопутствуют свои
характерные атрибуты. Приведем несколько примеров.
Драма бурных страстей: «Да, я убила его,
и я счастлива, слышите вы, я счастлива, счастлива,
счастлива!»
Ковбойский фильм: побледневший от страха
телеграфист сообщает: «Сэр, я не могу прорваться
к форту Блике». Капитан судорожно держится за
край стола и бормочет: «Это может означать лишь
одно...»
Мелодрама: «Он так говорит, как будто ему
надоела жизнь», «Посмейте еще раз это сделать, и
вы выплюнете свои зубы».
Все эти штампы будут повторяться, пока
киносценарии будут строиться на трафаретных ситуациях и
стереотипных персонажах».
Так выглядят голливудские стандарты в оценке
одного из голливудцев. Знаменательно, что в
последнее время все чаще к этим упрощенным до предела
кинолентам подвешиваются ярлычки с именами
популярных в США писателей.
Один из американских кинорецензентов, говоря
о бурной деятельности «Ассоциации кинематографии
Америки», направленной на пропаганду
«американского образа жизни», который преподносится зрителю
как идиллия, как мир, в котором нет ни социальных
конфликтов; ли нищеты, — не без иронии заметил:
— Как Джонстон примиряет пропаганду
«американского образа жизни» с распространением фильмов,
постоянно изображающих безумные убийства, разврат
и болезненные зверства, — он один лишь сможет
объяснить.
Однако есть своя закономерность в том, что все эти
«Колокола святой Марии» и «Ирландские розы Эйби»
столь трогательно соседствуют на американском
экране с бесконечными вариантами грязных историй
об убийствах и преступлениях. В этом есть своя
закономерность. Полицейские фильмы, систематически
развращающие молодого зрителя, служат той же
368
цели, что и полицейские романы, которыми наводнены
книжные магазины, или же бульварные газеты, сплошь
заполненные историями о приключениях бандитов. Они
отвлекают зрителя от острых социальных проблем,
волнующих сейчас среднего американца, оглушают
и оглупляют его.
Передовые творческие работники Америки с
чувством гнева и стыда говорят о деградации Голливуда,
об искусственном и настойчивом снижении
художественного уровня фильмов послевоенного периода —
только бы попроще, только бы без сложных
психологических ходов, которые вдруг могли бы разбудить
мысль зрителя. Если драма — значит, непрерывная
стрельба и беготня; если комедия — значит,
непрерывные танцы, бесхитростные и бессмысленные
ритмические песенки. Ни о чем не надо думать! Все просто до
предела, как жевательная резинка.
На одно из первых мест среди пользовавшихся
после войны успехом на Бродвее фильмов ставили
картину с названием, которое говорит само за себя —
«Убийцы». Этот фильм демонстрировался на Бродвее
осенью 1946 года. Над входом в кино красовался
чудовищный плакат, высотой в пять этажей, на
котором были изображены самые дикие уголовные сюжеты.
И среди луж крови и облаков порохового дыма,
среди искаженных от ужаса и боли лиц красовалось
выведенное многометровыми буквами имя
«Хемингуэй». Огромные надписи возвещали, что этот фильм
поставлен по сценарию Хемингуэя.
У Хемингуэя есть коротенький рассказ с тем же
названием «Убийцы», рассказ в полторы странички. Как
и многие короткие новеллы Хемингуэя, этот рассказ
без начала и конца, без всякого действия, — сценка
в дешевом ресторане, где двое бандитов пытаются
выведать у хозяина, где находится человек, которого
они хотят убить; бандиты знают, что этот человек
обедает в данную минуту в ресторане, но они не знают
его в лицо. Весь рассказ состоит из диалога между
бандитами и хозяином ресторана.
Фильм «Убийцы» открывается сценой в ресторане,
здесь использован диалог Хемингуэя; сцена эта длится
24 На Западе после войны 369
несколько минут. Вслед за тем развертывается
обычный стандартный полицейский фильм, который
американская киностатистика, вероятно, отнесла бы к
рубрике «фарс-ужас». На протяжении всего фильма двое
убийц выслеживают свою жертву, причем человек,
которого они хотят убить, с болезненным чувством
неотвратимости ждет прихода убийц в своей комнате.
Говорят, что Хемингуэй даже не участвовал в
составлении сценария этого фильма, но он охотно продал
киноконцерну право использовать его имя во
вступительных титрах к фильму «Убийцы» — за это в
Голливуде хорошо платят: ведь имя писателя является не
плохой приманкой для доверчивого кинозрителя.
В американских литературных кругах часто говорят
о зловещих переменах, которые происходят в
творческом облике писателей, — втягиваемых в орбиту
Голливуда.
— Что ж, Голливуд нельзя порицать, — сказал мне
однажды известный литературный критик... — Ведь
человек, становясь богачом, совершенно меняется.
Возьмите вы хотя бы Диснея...
И он поведал мне о весьма знаменательных
изменениях в творчестве Уолта Диснея, которого мы знаем
как мастера мультипликационного фильма, как
создателя образов забавного мышонка Мики Мауса, хитрой
и рассудительной уткч Дональда Дак, лихого
зайчонка, как автора прошедшего у нас с большим
успехом фильма «Бэмби». Эти изменения произошли
в канун войны и в годы войны.
Когда-то Уолт Дисней был бедным талантливым
художником. Он сам пробивал себе дорогу, начав
рисовать свои фильмы в 1922 году. Слава пришла
к нему не сразу. Но Дисней работал много и упорно.
В 1923—1926 годах он сделал фильм «Алиса»,
а в 1928 году на экране появился «Мики Маус»; потом
Дисней стал пробовать свои силы в цветных
мультипликационных фильмах, и, наконец, на весь мир
прогремел его первый полнометражный фильм
«Снегурочка и семь гномов». К Диснею пришла слава. К
Диснею пришли деньги. И... в 1938 году он основал свою
собственную кинокомпанию.
370
Вначале все как будто шло по-старому. Дисней
работал с тем же дружным коллективом своих
помощников, талантливых молодых художников, энтузиастов
мультипликационного фильма. Он рядом с ними корпел
над рисунками. Сообща продумывались сложные
сценарные ходы, трюки, забавные выдумки, заставлявшие
зрителя потешаться от души над приключениями
«героев» Диснея. Но постепенно начинали вступать в
силу прозаические законы капиталистического
общества. Фильмы приносили Диснею все больше денег, но
его помощники получали все ту же прежнюю,
скромную оплату, на которую они согласились в период,
когда Дисней только создавал свое собственное дело.
Они напоминали своему другу, что пора было бы
пересмотреть ставки. Дисней отмалчивался. Отношения
стали портиться, возникла отчужденность. И в самом
начале войны, когда студия Диснея работала над
фильмом «Фантазия», вспыхнула забастовка —
художники заявили Диснею, что они отказываются на него
работать, если он не повысит заработную плату.
Дисней заупрямился. Большая группа наиболее
талантливых его сотрудников покинула студию.
Воротилы киноконцернов, с любопытством следившие за
событиями в студии их (младшего компаньона,
одобрили твердость Диснея, но общественность Голливуда
от него отшатнулась. Дисней замкнулся в своей вилле,
перестал встречаться с художниками и зажил жизнью
обычного дельца У него появились новые друзья,
новые связи, новые интересы.
Теперь Дисней—прежде всего
кинопредприниматель, как все остальные. Он все меньше участвует в
творческой работе. И уровень его фильмов постепенно
снижается. Но дело не только в этом. Сами фильмы
Диснея стали иными — в них уже нет прежней
жизнерадостности, творческого горения, стремления к чему-
то новому. В фильмах Диснея появились зловещие
черты, которые всегда убивают искусство, — фальшь,
неискренность.
В 1946 году Уолт Дисней выпустил две картины —
музыкальное обозрение «Петер и волк», состоящее из
несвязанных друг с другом эпизодов, и сюжетный
24*
371
фильм «Песнь юга», который вызвал сильнейшие споры
среди американские критиков.
Выходу «Песни юга» на экран сопутствовала еще
небывалая рекламная шумиха. Газеты возвещали, что
Дисней открыл драгоценное фольклорное наследство
полулегендарного негра-сказочника «Дядюшки Ремуса*
и на основе этого фольклора создал великий фильм.
Много писалось о новых формальных приемах,
использованных Диснеем, — он сделал комбинированный
фильм: мультипликация наложена на негатив
обычного игрового цветного фильма и на экране
рисованные сказочные герои — заяц, лиса, медведь,
птицы, бабочки — живут рядом с реальными живыми
людьми.
Премьера этого фильма состоялась в крупнейшем
кинотеатре на Бродвее. Зрителям раздавали прекрасно
изданные многокрасочные проспекты, воспевающие
мастерство Диснея. Театр был празднично украшен. Но
зрители после просмотра уходили холодными,
равнодушными. Больше того, многие уносили с собой
чувство раздражения. Оказывается, Дисней поставил
перед собой задачу — представить как какую-то идиллию
жизнь старого рабовладельческого юга. Грубо нарушая
историческую правду, он изобразил взаимоотношения
негров и белых, как самые дружеские и близкие.
Главный герой фильма — старый бедный
негр-сказочник — показан как духовный наставник сына богатого
белого плантатора. Негр воспитывает его, учит жить,
рассказывая свои сказки и напевая песенки. Мораль
этих сказок, мягко говоря, весьма своеобразна. Так,
одна из них кончается выводом: «От злой судьбы
нельзя уйти», другая: «Не впутывайся в чужие дела,
если сам не хочешь попасть в беду...»
В прогрессивных газетах появились письма с
протестами против демонстрации фильма «Песнь юга».
Диснею напомнили, что в городе "Атланте, где до сих пор
сильны расовые преследования негров, на премьеру
фильма были приглашены все его участники, кроме
актера Джемса Баскет, создавшего самый яркий
образ — образ негра-сказочника. Дело в том, что... Джемс
Баскет сам негр.
372
«Если внуки героев этого фильма так обходятся
с негром, то как мог Дисней изобразить их дедов как
покровителей негров?» — писали газеты.
Один из фельетонистов газеты «П. М.» писал 17
декабря 1946 года, обращаясь к Дионею:
«Когда я вернулся домой, после того как смотрел
«Песнь юга», я старался себе представить, что же с
вами случилось. Несколько лет назад вы начали свою
работу с энтузиазмом и вдохновением. Но, -видимо,
какой-то банкирский деляга примазался к вам и напел
вам песнь крупного бизнеса. Из Уолта Диснея вы
превратились в «Уолт Дисней и компания»... Вы ведь
не рядовой производитель картин. Вы — парень,
которым мы гордились. Когда иностранцы начинали
ругаться, утверждая, что мы ничего хорошего не дали,
мы их били по голове, ссылаясь на «Мики Мауса».
Вы — честь нашей национальной культуры, и после
этого вы растрачиваете свой талант на какую-то
грязную магнолию вроде «Песни юга»!» (Магнолия —
традиционный цветок Южных Штатов, ставший символом
рабовладельчества южан).
Дисней предпочел не ответить на все эти письма.
А год спустя Дисней выпустил на экраны новый
фильм — «Веселье и неприхотливость», знаменовавший
собой еще большее падение вкуса и таланта. На этот
раз фильм Диснея не блистал даже техническими
достижениями. Механически сцепленные детские сказки
иллюстрировались заурядными кадрами,
возвращавшими зрителя к давно пройденным этапам
мультипликации. Дионей обворовывал самого себя, заимствуя
приемы из своих старых фильмов и превращая их в
шаблон. Фильм не мог рассчитывать на успех зрителя,
несмотря на все еще громкое имя его автора, и
расчетливые дельцы проката не пустили его в первоклассные
кинотеатры, где раньше шли премьеры Диснея...
Можно было бы долго рассказывать о том, как
безжалостная голливудская мельница ломает и крошит
таланты, как всемогущие киноконцерны подчиняют
себе способных, но не обладающих достаточной силой
воли творческих работников и заставляют их делать
не то, что велят им совесть и долг, а то, что угодно его
25 На Западе после войны 373
величеству доллару. Но я предчувствую, что читатель
скажет:
— Позвольте! Но как обстоит дело с теми, кто,
несмотря ни на что, остается верен своему долгу, кто не
согласен кривить душой, кто не меняет свой талант на
чечевичную похлебку? Не все же творческие работники
Голливуда беспринципны»! Мы хорошо помним имя
Чаплина, мы помним демонстрировавшуюся у нас в
годы войны картину «Миссия в Москву», помним
фильм о Сталинградской битве, помним «Северную
звезду», «Пеонь о России». Наконец вы сами
упомянули, как об удаче прогрессивного американского
кино,— о фильме «Лучшие годы нашей жизни». Как
же сочетаются два столь различных и противоречивых
течения в американской кинематографии? И как
удается прогрессивным американским режиссерам
создавать в такой трудной обстановке честные и
правдивые фильмы?
Да. В Голливуде есть и честные, мужественные,
заслуживающие уважения творческие работники. И об
их деятельности надо здесь рассказать особо, надо
рассказать подробно.
Такие мастера кинематографии, как Чарли Чаплин,
Вильям Уайлер, Люис Майлстоун, уже много лет
успешно и плодотворно работают в кино. Чарли Чаплин
пришел в кинематограф еще до первой мировой войны.
Сын французской актрисы, Уайлер начал работать в
Голливуде помощником режиссера еще в 1920 году.
Много лет работает в американском кино и
Майлстоун, родившийся в 1895 году в России, — всемирную
славу ему составил знаменитый фильм «На западном
фронте без перемен», вышедший на экраны лет
пятнадцать тому назад.
Все они активно участвовали в борьбе с фашизмом.
«Диктатор» Чаплина, злая и беспощадная сатира на
Адольфа Гитлера, стоил сотни бомбежек: он разил
фашизм своим убийственным сарказмом. Майлстоун
создал, кроме «Северной звезды», о которой говорилось
уже выше, целую серию правдивых и честных
фильмов о войне, в том числе картину о рядовом солдате
«Солдат Джо» (сценарий для этого фильма написал
374
военный корреспондент Пайль, погибший потом на
Дальнем Востоке), фильм о высадке десанта в
Италии — «Прогулка на солнце», картину «Пурпурное
сердце» (пурпурное сердце в американской армии —
знак ранения). Вильям Уайлер сам сражался на.
фронте...
В годы войны, особенно в памятные дни Сталин-
града, американский кинозритель предъявлял
огромный спрос на фильмы о Советском Союзе, и многие
киноконцерны, оценивая рыночную конъюнктуру,
охотно ставили такие фильмы. В те годы у
прогрессивных кинорежиссеров было много работы: их охотно
приглашали самые мощные кинофирмы Голливуда.
Однако после войны картина резко изменилась.
Прогрессивные деятели, как правило, лишились
возможности продолжать свою плодотворную творческую
работу. Такой мощный концерн, как «Братья Уорнер», к
примеру, поставивший в свое время «Миссию в
Москву» и «Битву в океане» (фильм о конвое, идущем в
СССР), переключился на выпуск бездумных
музыкальных комедий. Его примеру последовали другие
киномонополии. Режиссеру, сценаристу, которых не
удовлетворяет ремесленная работа и которые ищут острых
и правдивых социальных сюжетов, доступ в студии
крупных киномонополий был прекращен. Им
оставалось либо рассчитывать на свои собственные средства,
если они у них есть, либо искать счастья в мелких
второстепенных студиях; но такие студии по большей
части не обладают необходимыми материальными
возможностями...
Майлстоун, например, решил ставить фильм
«Триумфальная арка»: это картина о падении Парижа в
1940 году. Ни один из крупных киноконцернов не
согласился финансировать его работу. Майлстоун
устроился в одну из небольших независимых киноконтор.
Фильм был готов летом 1947 года. Но Майлстоуну
пришлось в течение нескольких месяцев дожидаться
выпуска картины на экран.
Больше повезло Уайлеру, автору известного в
Советском Союзе фильма «Лисички». Когда он вернулся,
с фронта, его вновь взял к себе на работу «независи-
25*
375
мый продюссер» Сэмюэл Голдвин,— одна из
колоритнейших и своеобразнейших фигур Голливуда. Сэ-
мюэлу Голдвину уже за шестьдесят лет. Выходец из
Варшавы, он начал свою карьеру с небольшого
перчаточного дела. В 1913 году Голдвин, поняв, что на
кинематографе можно зарабатывать лучше, чем на
перчатках, сменил профиль своего маленького торгового дома
и на паях с другими торговцами основал небольшую
кинокомпанию. Дела кинематографа шли в гору, и
уже через пять лет Голдвин стал владельцем
самостоятельной компании и богатым человеком. В отличие от
многих своих коллег, он умеет и любит итти на риск.
Будучи человеком малограмотным, Голдвин в то же
время обладает удивительным чутьем и отлично
угадывает, чем интересуется в данный момент средний
американец и на чем, следовательно, можно хорошо
заработать. При этом Голдвин, в отличие от
большинства американских кинопредпринимателей, отнюдь не
боится так называемой «левой темы»: он считает, что
эта тема дает верный заработок; массовый зритель с
огромным интересом смотрит фильмы, затрагивающие
социальные темы. Это Голдвин финансировал в свое
время постановку фильмов «Лисички», «Северная
звезда» и других, от которых отшатывались его
коллеги и конкуренты. Расходы на постановку этих
фильмов он с лихвой вернул.
И еще одна характерная черта отличает фильмы
Голдвина: они всегда добротны и тщательно сделаны.
Голдвин дает режиссеру возможность работать над
фильмами столько, сколько тот хочет; он выпускает
всего один-два фильма в год и не жалеет денег на
производственные расходы. Зато почти каждый фильм,
вышедший из его студии, вызывает оживленные
комментарии критики, и публика валом валит в
кинотеатры, узнав, что студия Голдвина выпустила на
экраны новую картину.
Сенсационный успех выпал на долю первой
послевоенной работы Уайлера — поставленной на средства
Голдвина картины «Лучшие годы нашей жизни».
«Лучшие годы нашей жизни» — это фильм о
трагических судьбах демобилизованных американских сол-
376
дат, возвращающихся на родину в надежде, что все
изменится к лучшему, что дома их ждет обновленный
мир, и... вынужденных вновь погружаться в трясину
безрадостного подневольного существования. Эта
тема, видимо, особенно близка Уайлеру. Ведь он сам
провел три года на войне, и, может быть, именно
поэтому фильм дышит такой страстью и силой.
В какой-то мере этот фильм перекликается с
известной книгой Пристли «Трое в новых костюмах» — и
тут и там повествуется о судьбах трех
демобилизованных, один из которых принадлежит к «высшему слою
общества», а двое другие — простолюдины. Но
работники Голливуда уверяют, что такое совпадение
случайно; говорят, что Голдвин сам набрел на эту тему,
увидев в иллюстрированном журнале снимок трех
солдат, возвращающихся домой.
— Вот то, что нужно сейчас зрителю, — убежденно
сказал он и тут же пригласил к себе писателя Мак
Кинли.
Голдвин предложил Мак Кинли написать повесть на
тему о возвращении на родину трех демобилизованных.
Голдвин хотел сначала проверить, «клюнет ли»
рядовой американец на эту тему. Мак Кинли молниеносно
выполнил заказ. Книга разошлась с небывалой
быстротой. Тогда Голдвин пригласил сценариста Роберта
Шервуда, дал ему повесть Мак Кинли и сказал:
«Напишите сценарий...»
Сценарий, написанный Шервудом, много раз
переделывался при активном участии Уайлера и актеров,
играющих ведущие роли. Уайлер был требователен и к
себе и к актерам, вновь и вновь изменяя различные
сцены. Он воодушевил своим энтузиазмом весь
коллектив. Люди работали над фильмом в студии около
года — явление для Голливуда небывалое (обычно
съемки фильма занимают несколько недель, а иногда
и несколько дней).
И вот перед нами готовый фильм...
На одном из аэродромов в Европе встречаются трое
демобилизованных: капитан авиации (его роль
мастерски играет Эндрьюз, — тот же, который играл роль
русского летчика в фильме «Северная звезда»), лейте-
377
нант пехоты (в этой роли выступает знаменитый
африканский киноактер Фредерик Марч) и рядовой
моряк — инвалид без обеих рук, руки ему заменяют
протезы, которыми он мастерски пользуется. В этой роли
выступает не актер, а настоящий инвалид, Гарольд
Ресеель, которого разыскали по фотографии,
помещенной в иллюстрированном журнале; Гарольд
Ресеель— юноша, действительно пэтерявшии на войне
обе руки, — играет самого себя, и, может быть,
поэтому он создает волнующий и сильный образ.
Оказывается, ©се трое из одного города. Они летят через
океан на транспортном самолете, знакомятся и
сближаются в пути, мечтая вслух о встрече со своими
семьями.
И вот они дома, в американском городе. Еще вчера,
в армии, они все были примерно на равной ноге — там,
на фронте, не играли существенного значения
различия в их социальном имущественном положении.
Теперь же они вынуждены столкнуться вновь лицом к
лицу с суровой обыденной действительностью.
Летчику, который на -войне командовал эскадрильей,
отличился во многих боях и был награжден орденами,
приходится вернуться в драг-стор !, где он работал до
войны, и вновь стать за стойку. Его принимают
подручным на ставку в 22 доллара 50 центов в неделю. Им
помыкает его бывший помощник, вздорный, никчемный
парнишка, которого раньше все дразнили «вонючкой».
Инвалида-морячка встречают старики-родители и
невеста. Вместе с ним страшное неизбывное горе входит
под кровлю родительского дома. И только лейтенанту
пехоты улыбается судьба — его встречает любящая
жена и двое взрослых детей; у него прекрасная
квартира, он член правления банка; его ждет блестящая
карьера: правление банка решает назначить его вице-
1 Драг-стор — американская аптека, хорошо описанная в свое
время Ильфом и Петровым. Торговля лекарствами в такой
саптеке» — лишь второстепенное дело. Здесь пьют, едят,
покупают игрушки, предметы домашнего обихода. Короче говоря,—
это нечто среднее между кафе и маленьким универсальным
магазином.
378
председателем, ведь это прекрасное «паблисити для
байка: вице-председатель — ветеран войны!
Так завязываются узлы конфликтов в фильме.
События развиваются драматически. Радужные мечты, с
которыми трое демобилизованных возвращались на
родину, улетучиваются, как дым. Словно какой-то рок
висит над ними. Они чувствуют, видят, что все идет не
так, как думалось, как мечталось на фронте. Им
кажется, что вот-вот все должно измениться, не зря же
они воевали, рисковали жизнью в борьбе против
фашизма! Но все вокруг идет своим чередом, так же,
как шло до войны. Их окружают люди, живущие
каждый своими мелкими, эгоистическими
интересами.
Вице-председатель банка разделяет со своими
товарищами-фронтовиками еще не совсем ясное, смутное
тяготение к чему-то новому, к каким-то переменам. Он
вдруг решает, наперекор обыкновению, выдавать
ветеранам войны кредиты на строительство новых домов
без необходимого материального обеспечения. Это
решение вызывает резкие протесты членов правления:
нельзя итти на неоправданный риск, говорят они.
Но бунтарский дух у вице-председателя банка
выветривается довольно быстро. Постепенно он отходит
от своих друзей-фронтовиков и даже запрещает
бывшему летчику встречаться со своей дочерью, с которой
тот подружился. Бывший летчик и бывший моряк
влачат жалкое, безрадостное существование. И в один из
дней, когда инвалид, пришедший проведать своего
друга, сидит, понурившись, у стойки драг-стора,
разыгрывается острейшая сцена, являющаяся
кульминационным моментом фильма...
В драг-стор входит некий отталкивающий тип с
американским флажком в петлице—такие флажки носят
члены ультрареакционной организации «Америка
прежде всего». Он заказывает завтрак и развертывает
херстовскую газету «Джорнэл америкэн». Через всю
полосу—жирный аншлаг: «Сенатор предупреждает о
новой войне». Пробежав статью глазами, вновь
пришедший, пережевывая бифштекс, снисходительно
обращается к безрукому:
379
— Жалко мне тебя, братец! Не с теми воевал, с кем
надо было воевать. И зря, ни за что ты потерял свои
руки...
Безрукий меняется в лице. Он встает, подходит к
человеку с флажком в петлице, ловким движением
крючка, заменяющего ему руку, вырывает у него из
петлицы флажок и глухо говорит:
— Послушай, ты... Бели бы у меня были руки, я
здорово дал бы тебе в морду.
— Не горюй, дружок! Есть еще руки для этого! —
кричит бывший летчик, ловко перепрыгивая через
стойку.
Мастерский боксерский удар, и противник валится,
разбивая вдребезги стеклянную стойку. В драг-сторе
паника. К потерпевшему спешит с извинениями хозяин.
Он ненавидящими глазами амотрит на бывшего
летчика. Тот отвечает ему пренебрежительным взглядом,
срывает с себя передник, бросает в лицо хозяину и
покидает опротивевший ему драг-стор. За ним выходит
его безрукий друг, предварительно бережно подобрав
с полу крючком американский флажок...
Бывший летчик в отчаянии. У него нет теперь
работы. Ему запрещено встречаться с любимой девушкой.
Его окружает постылая, чужая жизнь. Он медленно
бредет в аэропорт и обращается в кассу за билетом.
— Куда?
— Все равно. На ближний самолет. Куда бы он ни
летел...
До отлета час. Летчику некуда себя деть. Он
выходит на аэродром, и тут перед ним развертывается
гигантской панорамой огромное мрачное кладбище
военных самолетов, сданных в лом, — теперь эти
самолеты устарели, их заменяют новыми. Этот
символический кадр нельзя смотреть без волнения: медленно,
идущий герой войны, выброшенный за борт жизни, и за
ним, насколько охватит глаз, обреченные самолеты.
Летчик подходит к заброшенной «Летающей крепости»,
медленно поднимается по лесенке, берет с полки
старую запыленную карту, проходит в переднюю
стеклянную кабину и привычно садится на штурманское
кресло.
380
Он поднимает голову и мертвым, невидящим
взглядом глядит сквозь запыленное стекло. И здесь —
новый мастерский кадр: киноаппарат вдруг начинает
надвигаться на самолет; зрителю кажется, будто бы
самолет идет на взлет: и вдруг—резкая остановка: вы
видите перед собой через грязное стекло мертвые,
страшные глаза бывшего пилота, и вам ясно, что ни
этому самолету, ни летчику больше не летать.
На этом, собственно, фильм логически должен был
бы закончиться. Но в таком виде он не увидел бы
экрана, и поэтому к нему наспех прикручен нелепый
благополучный конец: все сразу, словно по волшебству,
меняется, бывший летчик получает хорошую работу,
невеста безрукого инвалида выходит за него замуж,
вице-председатель банка вновь становится лучшим
другом бывшего летчика, а дочь банкира — опять
подруга летчика. Эта нелепая концовка воспринимается
зрителем как искусственная, вынужденная. Но в целом
картина по-настоящему волнует зрителя и будит много
мыслей.
Следует отметить, что в техническом отношении —
это один из лучших голливудских фильмов. Уайлер
нашел в себе мужество порвать с голливудской
традицией искусственности и создал подлинно
реалистический фильм. Он следующим образом описывает свою
работу над картиной:
«Я вернулся к своей работе (после четырех лет
службы в рядах американской армии) с твердой
уверенностью в том, что то, что мы до сих пор давали,
недостаточно хорошо. Новый мир должен быть лучше...
Между тем на нашем экране очень редко дается
верное отражение событий и жизни народа».
«Никаких прикрашиваний для мужчин, а для
женщин лишь постольку, поскольку это необходимо, когда
они выходят в свет, — говорит Уайлер. — Артисткам
предложено было пойти в рядовые магазины и купить
лишь ту одежду, которую они обычно покупают и
носят в жизни. Больше того, мы требовали, чтобы они ее
носили несколько недель для того, чтобы одежда не
выглядела слишком новой. Цвет одежды почти
исключительно черный, белый или серый. Я уверен, — зри-
381
тели почувствуют, что они видят подлинную жизнь, а
не киноэкран».
Мы несколько раз смотрели этот трагический фильм,
которому Шервуд и Уайлер дали проникнутое столь
злой иронией название «Лучшие годы нашей жизни».
Всякий раз фильм заново покорял, захватывал силой
своей волнующей, жестокой и неумолимой правды.
И в то же время невольно тянуло оглянуться по
сторонам, поглядеть: как же реагирует на этот фильм тот,
для кого он создан, — как откликается на него
американец?
Это было тем интереснее, что обычно рядовой
американец не принимает кино всерьез. Бездумные ленты
таких фирм, как «Парамоунт» или «XX век — Фокс»,
приучили его относиться к кинотеатру, как к такому
месту, где можно без труда убить время, похохотать,
пожевать, позевать, а то и прикорнуть в мягком
удобном кресле — за свои полтора-два доллара вы можете
провести здесь хоть целые сутки. Но на этот раз в
кинозале царила совсем иная обстановка. Люди сидели,
как наэлектризованные. То и дело раздавались бурные
демонстративные аплодисменты. Весь зал плакал,
когда несчастный, безрукий инвалид подходил к своей
невесте и та испуганным и растерянным взором
глядела на неуклюжие и страшные крючки, торчащие у
него из рукавов вместо рук. Весь зал кричал «Долой!»,
когда член организации «Америка прежде всего»
цинично замечал, что надо было воевать не с немцами...
Весь зал бурно аплодировал, когда бывший капитан
нокаутировал этого мерзавца...
...Но это был единственный на всем Бродвее честный
и правдивый фильм. Влево и вправо и по всем
переулкам горели, мигали, крутились, гасли и зажигались
вновь огни, рекламировавшие все те же «мелодрамы-
убийства», «фарсы-ужасы», «драмы таинственные»,
которые столь неутомимо размножает Голливуд, чтобы
отравлять ими сознание людей на всех континентах,
куда только дотягивается лапа американских
монополий. И не случайно во всех странах все громче
раздаются голоса протеста против аморальной,
растлевающей деятельности американских кинокомпаний.
382
«Бессовестные дельцы Голливуда наводниля мир
фильмами, которые посвящают воров в такие тонкости
воровского искусства, о которых они никогда и не
мечтали. Эти фильмы обучают развратников и развратниц
доселе невиданным тонкостям разврата. Они дают
мошенникам, жуликам и злодеям полезные уроки для их
деятельности, обучая их таким преступным приемам, о
которых до сих пор никто не знал», — так писала
в декабре 1947 года египетская газета «Эль-ихван
эль-муслимин», протестуя против ввоза американских
фильмов в страну.
Но подобные протесты пока не особенно волнуют
Эрика Джонстона и его коллег. Они знают, что до
поры до времени доллар открывает им все двери на
рынках, входящих в орбиту капитализма. И все свои
усилия они прилагают в первую очередь к тому, чтобы
окончательно расправиться с прогрессивным крылом
американской кинематографии и полностью превратить
Голливуд во всемирный питомник мракобесия.
Выше я уже упоминал о пресловутом
«расследовании» по делу о так называемой «красной опасности»
в Голливуде, затеянном комиссией Томаса — Ренкина.
Это «расследование» было начато еще весной
1947 года, когда Томас командировал в Голливуд
специальную подкомиссию. Следователи подвергали
допросу творческих работников, которые в годы войны
участвовали в создании объективных правдивых
фильмов о Советском Союзе. Было объявлено, что многие
из них будут привлечены к строгой ответственности за
«коммунистическую пропаганду».
Запахло большим политическим скандалом.
Перепуганный киноактер Роберт Тэйлор заявил, что
правительственный чиновник «заставил» его выступить в
созданном в годы войны фильме «Песнь о России»,
несмотря на его возражения. Следователи подхватили
это заявление, и в докладе подкомиссии,
представленном конгрессу 28 мая, было сказано, что в годы войны
«в результате давления Белого Дома был выпущен ряд
скандальнейших фильмов, содержащих
коммунистическую пропаганду». В докладе не указывалось, кого
именно из Белого Дома имеет в виду подкомиссия, но
383
бульварная пресса тут же разъяснила, что речь идет
о покойном президенте Рузвельте. Официально было
объявлено, что «Комиссия по неамериканской
активности» продолжит расследование «дела о Голливуде»
в сентябре. Сообщалось, что в первую очередь
комиссия допросит Чарли Чаплина, киноактера Эдварда
Робинсон и писательницу Доротти Паркер, которым
предъявляется прямое обвинение в «коммунистической
деятельности © Голливуде».
Наглые атаки американской реакции на
прогрессивных деятелей киноискусства вызвали негодование у
прогрессивной общественности Соединенных Штатов.
Бывший американский посол в СССР Дэвис, например,
19 июня 1947 июда передал в прессу письмо,
адресованное председателю «Комиссии по неамериканской
активности» — республиканцу Томасу, в котором он
опровергал и высмеивЛп утверждения, что президент
Рузвельт «приказал» голливудской
кинопромышленности создать фильм «Миссия в Москву». Дэвис в своем
письме подчеркнул, что «подобные приказы не
отдавались и не были необходимы, поскольку многие
кинокомпании желали поставить такой фильм». Он указал,
что фильмы, подобные «Миссии в Москву», были
полезны для военных усилий и заслуживали поощрения в
дни войны против фашизма, когда Советская Армия и
советский народ «сражались за каждый дюйм и
каждый фут вдоль 1600-мильного фронта ценою огромных
жертв». В беседе с представителями печати Дэвис
выразил сожаление по поводу «резкой
антикоммунистической истерии, охватившей в настоящее время
Соединенные Штаты».
С подобными заявлениями выступили и другие
представители общественности США. Однако комиссия
Томаса — Ренкина продолжала делать свое черное
дело, и вот 20 октября 1947 года в Вашингтоне, в
здании конгресса, открылось публичное следствие по делу
«голливудских красных».
Выше я уже рассказывал об этом следствии и о том,
как скандально оно провалилось. Поэтому я приведу
здесь лишь некоторые дополнительные детали,
характеризующие обстановку этого беспрецедентного дела,
384
сработанного «Комиссией неамериканской активности»
по нацистским образцам.
Следствие о «голливудских красных» было задумано
как большой политический «бум», — Томас и Ренкин
рассчитывали поразить воображение падкого до
сенсаций американского обывателя, мобилизовав целый
взвод «свидетелей» с громкими в Америке именами.
«Разоблачать коммунистов» вызвались
кинопромышленники Майер, Уорнер и Дисней, режиссер Сэмюэл
Вуд, киноактеры Адольф Менжу, Гарри Купер, Роберт
Тэйлор и некоторые другие из породы тех
беспринципных дельцов, которые готовы торговать всем на свете,
даже собственной совестью.
«Ура! Ура! Большое представление начинается!» —
так озаглавила отчет о начале следствия одна из нью-
йоркских газет, помещая под этим аншлагом
красноречивый снимок: высокая трибуна в виде прилавка,
уставленная графинами с водой, горами бумажных
стаканчиков и микрофонами; за нею — надутые члены
«Комиссии по неамериканской активности» во главе с
маленьким, толстым, бритоголовым Томасом; внизу —
в невероятной тесноте и давке — юридические
советчики, консультанты, «свидетели», обвиняемые,
стенографистки, радиооператоры, две сотнч репортеров,
толпа фотографов; и над всем этим бедламом
двадцать взобравшихся под самый потолок
кинооператоров, направивших на судебный зал свои аппараты,
словно пулеметы.
«Большое представление» мистера Томаса,
естественно, привлекло толпы зрителей. Все коридоры
здания конгресса были забиты людьми, стремившимися
хоть одним глазком поглядеть на то, что делается в
зале. Одних влекло сюда простое любопытство —
поглазеть на «кинозвезд», выступающих в необычных
ролях, другие интересовались существом дела. Газеты
посвящали целые страницы необычному следствию. Но
с первых же дней этого следствия выяснилось, что
мистер Томас оскандалился со своей затеей — у него и у
вызвавшихся помогать ему «свидетелей» не было за
душой ни одного сколько-нибудь серьезного обвинения,
которое он мог бы предъявить подсудимым.
335
Одним из первых выступал «свидетель обвинения»
Адольф Менжу, пустой и самовлюбленный актер,
который славится в Голливуде как алчный
стяжатель, готовый ради денег и славы пойти на все.
Как ломался он перед направленными на «его
объективами двадцати киноаппаратов, как заламывал руки
и закатывал глаза, драматически прорицая грядущую
гибель цивилизации от «коммунистической опасности»!
Он дошел до того, что предложил «уничтожить» таких
деятелей американского искусства, как Чарли Чаплин,
Кетрин Хэнбери и Поль Муни, и даже предложил свои
услуги, для того чтобы «рассчитаться» с ними. Томас
с восхищением глядел на этого прохвоста, он считал
его выдающимся специалистом по вопросам «красной
опасности» — ведь Менжу заявил, что когда-то он
даже попробовал читать «Капитал», правда, он
признался, что не смог его одолеть, но зато «лично»
убедился в том, что это «опасная книга».
Однако, когда защита обвиняемых потребовала,
чтобы Менжу перешел от общих рассуждений к
конкретным фактам, этот болтун сразу потерял
словоохотливость. Он не смог привести ни одного примера,
который хоть в какой бы то ни было мере подкрепил бы
обвинения, предъявленные прогрессивным деятелям
Голливуда. Менжу признался, что он не знает среди
киноактеров ни одного члена коммунистической
партии. «Но я знаю много людей, которые поступаю?, как
коммунисты», — растерянно бормотал он- Не в лучшем
положении оказались и все остальные «свидетели»
обвинения.
Остервеневший, обозленный Томас начал грубо
затыкать рот защите и подсудимым. "Он до хрипоты орал
на них, запрещал задавать вопросы «свидетелям»,
запрещал высказываться, отбрасывал, не читая,
письменные заявления. Нам рассказывали, что на одном из
заседаний, придя в неистовство, Томас разбил в щепы
свой председательский молоток.
Один из защитников настаивал на разрешении
подвергнуть перекрестному допросу окончательно
завравшегося «свидетеля обвинения» некоего Моффита. В
ответ на это Томас приказал полиции вывести защитника
386
из зала. Когда полицейские тащили защитника к
дверям, Томас самодовольно улыбался, а репортер херстов-
ской газеты сДейли мирор», потеряв всякий
человеческий облик, вопил:
— Бейте его дубинкой!..
Десять дней длилась эта недостойная судебная
комедия, вызвавшая глубокое возмущение в стране.
31 октября следствие было неожиданно прервано на
неопределенный срок. Так сказать «под занавес»,
Томас выпустил на сцену отставного сыщика
американской тайной полиции Рассела, который наплел с три
короба о том, будто бы бывший профессор
Калифорнийского университета Шевалье пытался раздобыть
у физика Оппенгеймера сведения об атомной бомбе.
Вся эта мутная история не имела никакого отношения
к сидевшим на скамье подсудимых работникам кино.
Шевалье потом опроверг бредни завравшегося шпика;
но все же газеты получили пищу для сенсационных
аншлагов. Очередная шумиха потребовалась Томасу
для того, чтобы хоть как-нибудь прикрыть свое
позорное отступление.
И все-таки «Комиссия по неамериканской
активности» добилась того, чего она хотела. Хотя Томас и не
доказал своих обвинений, киномагнаты, поняв его
с полуслова, начали чистку Голливуда. Месяц спустя
после окончания «следствия» состоялась конференция
кинопромышленников, на которой было решено
«освободиться от красных». Целая группа талантливых
сценаристов и режиссеров была выброшена за ворота
студий. Среди них — известный американский писатель
Мальтц и. постановщик нашумевшей в 1947 году в США
картины «Огненный перекресток», разоблачавшей
расовую дискриминацию в Соединенных Штатах.
С другой стороны, выполняя задание воинствующей
реакции, заправилы Голливуда форсировали выпуск
антисоветских картин. Еще в апреле 1947 года фирма
«XX век — Фокс» объявила, что она начинает съемку
фильма «Железный занавес». Руководители фирмы
многозначительно добавили, что на постановку этого
фильма их «вдохновил» доклад руководителя
американской тайной полиции Гувера, сделанный 26 марта
387
на заседании «Комиссии по неамериканской
активности». Съемки этого фильма велись частично на
территории Канады; американская печать вынуждена была
признать, что канадская общественность бурно
выражала свое возмущение, когда стало известно, какую
картину снимает экспедиция «XX век — Фокс».
В самих Соединенных Штатах раздавались голоса
протеста против выпуска этого клеветнического
фильма на экран. Однако кинодельцы Голливуда
продолжают ревностно выполнять задание американской
реакции. Фирма «Метро — Голдвин — Мейер»
объявила, что она готовит новую антисоветскую картину
«Красный Дунай». Газета «Нью-Йорк геральд трибюн»
опубликовала сообщение о том, что в Голливуде
готовится сценарий «Советские шпионы». В то же время
кинокорпорации на ходу перекраивают все сценарии,
находящиеся в работе, стараясь влить в каждый из них
хоть каплю фашистского яда. Прогрессивная
писательница Лилиан Хеллман отстранена от работы над
сценарием «Сестра Керри» (по роману Драйзера).
Компания «Парамоунт» потребовала от писателя Роя
Чанслора, чтобы он в своем сценарии «Опасность»
сделал положительного героя — негра-учителя —
белым...
Мракобесы торопят голливудских кинофабрикантов,
подталкивают их, требуя как можно быстрее двинуть
на экраны фильмы, которые служили бы делу реакции.
Угодливые прокатчики перерыли все архивы и
двинули в обращение даже ветхое старье, которое хоть
в какой-то мере отвечает нынешнему «новому курсу»
Вашингтона.
В один из октябрьских дней 1947 года я с изумлением
остановился перед одним из самых фешенебельных
кинотеатров на Бродвее — над ним красовалась
гигантская кинореклама с памятным названием — «Рождение
нации». Этот фильм Гриффитса был выпущен на заре
кинематографии — тридцать два года тому назад. Он
вошел в историю кинематографии не только как первый
фильм с массовыми съемками (тогда, в 1915 году, это
было техническое новшество), но и как один из
первых фильмов, пропагандировавших расовую дискрими-
388
нацию. В фильме проповедывалась ненавидь к неграм.
И вот он снова на экране...
Зрители бойкотировали этот фильм — у кассы было
пусто (в газетах потом написали, что за два часа
в день «премьеры» было продано только восемь
билетов). По тротуару взад и вперед ходили пикеты с
плакатами— они протестовали против показа картины,
пропагандирующей расовую ненависть. Секретарь
Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного
населения Уолтер Уайт опубликовал в прессе письмо,
в котором писал:
«Тридцать два года тому назад багровая от злобы
женщина, выбежав из кинотеатра на Бродвее,
закричала: «Я хочу убить каждого негра в Америке!» Она
находилась под впечатлением нового сенсационного
фильма. Именно в этом фильме впервые появилось
слово «ариец» и была дана своего рода программа,
которая впоследствии была использована австрийским
маляром Шикльгрубером для зверского уничтожения
миллионов людей. Мы имеем в виду картину
«Рождение нации». И вот жадные до наживы люди вновь
откопали этот фильм.
Но, невзирая на все протесты и невзирая на то, что
фильм давал явный убыток владельцам кинотеатра, он
продолжал демонстрироваться на Бродвее...
Атмосфера американской кинематографии
становится невыносимо тягостной, удушливой. И не трудно
понять талантливого Чаплина, который на исходе
1947 года выступил с такой декларацией:
«Я решил раз и навсегда объявить войну Голливуду
и его обитателям. Я не люблю жаловаться — это
кажется мне самонадеянным и бесполезным, — но так как
у меня нет больше никакого доверия к Голливуду
вообще и к американскому кино в частности, я считаю
нужным сказать об этом...
Вот что я хочу сказать. Я, Чарли Чаплин, утверждаю,
что Голливуд умирает. Он не занимается больше
производством кинофильмов, представляющих собой
известное искусство, а лишь выпускает мили и мили цел-
люлоида. Я могу добавить, что человек, который не
хочет приспособиться и идет, своими путями, не счи-
389
таясь с предостережениями крупных дельцов
кинематографии, ни в коем случае не может добиться успеха
в Голливуде.
Не думайте, что я имею в виду самого себя. Возьмем
для примера Орсона Уэллса. Разумеется, я не
придерживаюсь совершенно одинаковых с ним взглядов на
искусство кино, но он осмелился сказать «нет» крупным
дельцам. И теперь он — конченный человек в
Голливуде...
Я считаю, — совершенно объективно, — что пришло
время вступить на новый путь, чтобы деньги не
являлись больше всемогущим богом прогнившего общества.
Возможно, что я скоро покину Соединенные Штаты.
И в стране, куда я отправлюсь закончить свои дни,
я буду стараться помнить, что я такой же человек, как
остальные, и, следовательно, имею право на такое же
уважение, как и они».
Нам нечего добавить к этой оценке послевоенного
Голливуда, данной одним из выдающихся мастеров
американской кинематографии...
9. ПРОГРЕССИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ АМЕРИКИ
Кого только не повстречаешь в длинных унылых
коридорах штаб-квартиры организации Объединенных
наций в дни жарких политических дискуссий на
Генеральной Ассамблее! Здесь и бравые молодчики из
колледжей в клетчатых куртках с ярко-голубыми или
темномалиновыми рукавами, высохшие монашки с
презрительно поджатыми губами и плечистые мастеровые
с близлежащих заводов. Одних влечет сюда простое
любопытство, другие охотятся за автографами, третьи
добросовестно пытаются разобраться в том, что здесь
происходит.
В один из октябрьских дней тут появилась весьма
колоритная фигура — здоровенный парнище в ковбойской
блузе с молнией, в сапогах и в шляпе с неимоверно
лихо заломленными полями. Стоя в очереди за билетом,
дающим право на вход в зал Совета Безопасности, —
туда впускают гостей, желающих послушать по радио
390
трансляцию заседаний политического комитета, — он
делился впечатлениями с соседями.
— Послушайте, что ж тут такое все-таки
происходит, чорт возьми? — говорил он громким
хрипловатым голосом гуртовщика, привыкшего перекликаться
с друзьями на дальней дистанции. — Почему мы не
можем жить в мире с Советским Союзом? Говорят,
они большие забияки, говорят, во всем виноват их
Громыко — ни с чем не хочет соглашаться, всегда
говорит «нет» и «нет». Но мы в Вайоминге привыкли все
щупать своими руками. Вот я и решил — покачу-ка
в Нью-Йорк, проверю, в чем там дело. Приезжаю
сегодня утром, спрашиваю, где тут Громыко? Говорят,
еще не приехал. Что ж, я человек терпеливый, могу
подождать, чорт побери. Сажусь, жду. Смотрю —
идет! Чтоб мне не сойти с этого места, — Громыко, —
я по газетным фотографиям узнал. Действительно,
хмурый такой, сердитый. Я ему кричу: «Хэлло,
Громыко!» Он оборачивается. И, — что же вы думаете, —
улыбается! Махнул мне рукой: «Хэлло, бой!» Я к нему.
Так мол и так, я из Вайоминга, желаю узнать, что
к чему, почему мы не можем жить в мире, почему вы,
русские, всегда говорите «нет» и правда ли, что с вами
нельзя договориться. Тут он как захохочет! Ну, совсем
как наши парни, и злости в нем никакой нет.
Посмотрел на часы и говорит: «Я бы охотно сейчас с вами
поговорил, но сейчас начнется заседание. Там будет
выступать Вышинский, приходите, послушайте его речь,
вам, наверное, все станет ясно». Ну что ж, я и этого
послушать могу, затем сюда и ехал, чорт возьми. Эй
вы, там впереди! Что ж очередь так медленно
подвигается?..
После очередного бурного заседания политического
комитета, в ходе которого советская делегация еще
раз блестяще разоблачила план поджигателей войны,
в коридоре послышался знакомый сиплый бас. Ковбой
из Вайоминга, нетерпеливо проталкиваясь сквозь толпу
дипломатов, журналистов и гостей, кричал кому-то:
— Ну вот, я же вам говорил, что эти русские —
стоящие парни! С такими можно сговориться, чорт
побери.
391
В другой раз в зале заседаний появились две
аккуратные седенькие старушки в одинаковых шляпках
с одинаковыми круглыми значками на груди — они
носили так называемые «пуговицы Уоллеса»; эти значки
с портретом бывшего вице-президента США
распространяли осенью прошлого года в Калифорнии
сторонники выдвижения кандидатуры Уоллеса на
президентских выборах. Оказывается, это были две совладелицы
парикмахерской из Сан-Франциско. Их маленький
«бизнес» рухнул, не выдержав конкуренции с трестом
парикмахерских. Старушки решили перекочевать с
западного побережья на восточное, — авось, здесь судьба
будет милостивее к ним. Но интересно не это
обстоятельство само по себе, а то, что бывшие владелицы
парикмахерской решили использовать свое путешествие
на стареньком «фордике» через всю Америку для...
агитации против монополий и за Уоллеса. Тот, кто хоть
немного знаком с политическими нравами США,
поймет, на какой мученический подвиг решились эти две
простодушные женщины. Над ними издевались
молодчики из «Американского легиона», хулиганы срывали
с них «пуговицы Уоллеса», им «по-дружески»
рекомендовали «бросить это грязное дело», но они упрямо
продолжали говорить свое, и в каждом городке
находились люди, которые слушали их и понимающе кивали
головами.
Говорят, что подобные факты — нечто новое для
Америки. Говорят, что еще в не столь отдаленные
времена средний американец предпочитал стоять в
стороне от политики. Его интересы не выходили за грань
заработка, пирушки с друзьями, воскресного пикника.
Культурный, интеллектуально развитый американец
относился к политике с некоторой брезгливостью,
считая, что она раз и навсегда отдана на откуп наемным
дельцам, защищающим интересы той или иной группы
монополистов. «Не все ли равно, в конце концов,
проголосую ли я за осла или за слона (осел —
официальная эмблема демократической партии, слон — эмблема
республиканской партии. — Ю. Ж.), — оба они из
одного зверинца!» — так рассуждали люди.
392
Но вот, как видно, и в Америке наступает время,
когда рядовые граждане начинают приобретать вкус
к политике, когда волею самих обстоятельств они
втягиваются в политическую борьбу, сознавая, что
необходимо дать отпор наглеющей реакции.
Когда американский сенат утвердил антирабочий
законопроект Тафта — Хартли, ограничивающий право
рабочих на забастовки и на заключение коллективных
договоров, разрешающий предпринимателям
возбуждать против профсоюзов судебные иски,
запрещающий профсоюзным организациям участие в проведении
политических кампаний, — по всей стране прокатилась
мощная волна протеста. Рабочие выражали
непреклонную решимость бороться против этого «закона о
рабском труде», как они его прозвали. Многие
профсоюзные деятели демонстративно отказывались дать
требуемую законом Тафта — Хартли подписку в том,
что они не являются коммунистами. Забастовочная
борьба приобрела еще более ожесточенный характер.
Теперь в программу забастовщиков нередко включались
прямые политические требования, направленные
против антирабочего закона.
В Чикаго свыше полутора месяцев бастовали
наборщики типографий, в штате Аризона более четырех
месяцев боролись рабочие салатных плантаций, в Нью-
Йорке несколько недель бастовали связисты. Власти
предпринимали репрессии против бастующих — в
Аризоне на плантации посланы войска для охраны
штрейкбрехеров, в Нью-Йорке арестовано девять
руководителей профсоюза работников связи. Но рабочие
не сдавались...
А какую бурю возмущения вызвали по всей стране
описанные здесь действия пресловутой «Комиссии по
неамериканской активности»! Вспоминается, как в
конце октября 1947 года двадцать шесть «кинозвезд»,
бросив все свои дела в студиях Голливуда, пересекли
континент, чтобы протестовать в Вашингтоне и Нью-
Йорке против гнусного преследования группы
сценаристов и режиссеров. Американцы увидели новое лицо
своих любимцев — лучший комик страны, знаменитые
танцовщицы и певицы, талантливые исполнители дра-
26 На Западе пэсле войны 393
матических ролей на этот раз предстали перед ними
как политические ораторы. «Голливуд защищается!»—
под этим лозунгом проводили «кинозвезды» свои
радиопередачи и массовые митинги, требуя роспуска
творящей беззакония комиссии Томаса — Ренкина и
восстановления гражданских свобод в США.
С выступлениями киноактеров перекликались речи
студентов, рабочих, фермеров на массовых митингах зо
всех концах Соединенных Штатов. 22 из 26
профессоров правового факультета знаменитого Иельского
университета обратились в эти дни к Трумэну с
призывом немедленно ликвидировать «Комиссию по
неамериканской активности» и отменить приказ о
«проверке лойяльности». «Правительство США должно
отказаться от охоты за ведьмами и проводить на
практике демократию, — гневно писали профессора.— Если
преследования за убеждения не прекратятся, страна
может ожидать проявления расового, религиозного
и любого другого фанатизма, и если ему будет
позволено полностью развернуться, этот фанатизм может
вызвать такую волну нетерпимости, которая полностью
уничтожит гражданские права».
Все эти явления, понятно, было бы столь же вредно
переоценивать, как и недооценивать. Многое здесь —
лишь дань эмоции, чувству. Отнюдь не следует думать,
что все те, кто протестовал против вызывающих
действий комиссии Томаса, будет и впредь участвовать
в борьбе против реакции. Достаточно было, к примеру,
киномагнатам при участии их «юридического
советника» Бирнса принять решение о немедленном
увольнении прогрессивных деятелей Голливуда, обвиненных
в «оскорблении конгресса», и заявить: «Мы не будем
держать на работе коммунистов», чтобы некоторые
из участников недавней политической
демонстрации голливудцев заявили о раскаянии. Но, во
всяком случае, подобные демонстрации не проходят
бесследно.
В Америке создается «третья партия», которая
должна объединить в своих рядах всех противников
фашизма, всех сторонников восстановления рузвельтов-
ского «нового курса». По всей стране уже существует
394
и действует целая сеть прогрессивных организаций,
ряды их растут. Давно ли в штате Иллинойс была
создана «Прогрессивная партия»? Но вот уже во время
выборов в Чикаго на судебные должности она имела,
по словам агентства Юнайтед Пресс, «сенсационные
достижения»: 133 тысячи из 700 тысяч избирателей
отдали свои голоса кандидатам этой молодой партии.
А недавно триста делегатов «Прогрессивной партии»
явились к Уоллесу и вручили ему книгу со ста
тысячами подписей граждан Иллинойса, желающих,
чтобы он выдвинул свою кандидатуру в президенты
республики. В Калифорнии функционирует
«Независимая прогрессивная партия». Десять тысяч ее
активистов, невзирая на преследования реакционных
организаций, собрали уже двести тысяч подписей сторонников
выдвижения кандидатуры Уоллеса на президентских
выборах. В штате Миннесота Уоллеса поддерживает
«Демократическая фермерская рабочая партия»,
возглавляемая бывшим губернатором штата. В штате Нью-
Йорк поддержку Уоллесу оказывает «Американская
рабочая партия», несмотря на то, что лидеры
профсоюзных организаций выступают против него.
Наконец нельзя сбросить со счетов сеть комитетов
«Прогрессивных граждан Америки», возникших после войны
в результате слияния нескольких либеральных
организаций. Члены этой организации, по данным, которые
были сообщены на ее 2-м съезде в январе 1948 года,
объединены в 750 городах и поселках всех сорока
восьми штатов США. Общая численность членов
организации «Прогрессивные граждане Америки»
составляла в это время около 100 000 человек. Ее секция по
вопросам науки и искусства объединяет в своих рядах
передовую интеллигенцию — писателей, ученых,
работников искусства, сторонников рузвельтовского
«нового курса». В составе секции— 15 000 человек. В
рабочих центрах, несмотря на драконовские притеснения,
постепенно укрепляет свои позиции пока еще
малочисленная коммунистическая партия США. Идет упорная
борьба внутри профсоюзов. Примерно полтора
миллиона членов профсоюзов, входящих в Конгресс
производственных профсоюзов, поддерживают Уоллеса,
26*
395
стоят за создание третьей партии, выступают против
«плана Маршалла».
Минувшей осенью в одном из второклассных
кинотеатров Бродвея «Глоб» в течение месяца
демонстрировался документальный фильм, выпущенный
безвестной независимой кинокомпанией «Тола». Этот фильм
назывался «Рузвельт-стори» — «История Рузвельта».
Фильм смонтировали прогрессивные кинематографисты
Мартин Левин и Оливер Юнгер.
Рассказывают, что постановочный коллектив
испытывал большие финансовые затруднения — ни одна
крупная кинокомпания не захотела иметь с ним дела,
а на поддержку правительства рассчитывать, понятно,
было невозможно.
Но как тепло принял этот фильм зритель! Какими
бурными аплодисментами встречал он появление
Рузвельта на экране! Левин и Юнгер отыскали редчайшие
кинокадры, они восстановили почти всю биографию
покойного президента, начиная с той поры, когда
молодой Рузвельт только начинал свою политическую
карьеру, выступая в роли одного из сотрудников
президента Вильсона. В фильм вплетены документальные
кинокадры, отражающие важнейшие политические
события в жизни США за последние тридцать — сорок
лет и, в частности, страшный экономический кризис
тридцатых годов. Эти кадры разоблачают подлинных
виновников страданий миллионов трудящихся —
американских монополистов' и их политическую
агентуру.
На всем протяжении фильма за кадром звучат
голоса символических героев, сопутствующих Рузвельту:
Народа, Среднего Парня, Средней Девушки,
Оппозиции, Депрессии. Они спорят, пререкаются друг с
другом, полемизируют с Рузвельтом. Средний Парень и
Средняя Девушка проходят долгий и трудный путь,
познавая законы жизни в капиталистическом мире.
Вначале они не видят своих настоящих врагов, они
недовольны Рузвельтом, потом они начинают понимать, что
лживая пропаганда желтой печати затуманивала им
глаза, они становятся сторонниками Рузвельта.
Вот некоторые кинокадры, относящиеся к кризисным
396
годам, — кадры, которым сопутствует полный горькой
иронии голос Среднего Парня. Жалкие шалаши
безработных на пустыре на окраине Нью-Йорка...
«Посмотрите, как чудесно мы жили! Я имел квартиру. Правда,
плоховато было с умыванием, но у меня не было
полотенца, поэтому я в нем не нуждался...» Унылые люди
в отрепьях плетутся к походным общественным
кухням; бесконечные хвосты за чашкой мутной баланды...
«Я гулял. Потом мы шли в наш любимый ресторан.
В нем нам так нравилось, что мы простаивали в
очереди по два часа...» Плакаты: «Безработные,
проходите!», «Работы нет!» Огромные толпы у биржи труда.
И тут с экрана слышатся лживые обещания тогдашнего
президента Гувера: «Курица за углом! Все это лишь
небольшие затруднения. Надо немного потерпеть, и все
будет в порядке». А кризис все разгорается и
разгорается..,
Зритель воспринимает эти кадры не только как дань
истории. Он видит в них свой завтрашний день, он по*
нимает, к чему ведет рост инфляции, безумная скачка
цен. Он понимает, куда тащат Америку люди, стоящие
ныне у власти.
Особенно живо реагировали зрители на кадры,
отображавшие острую политическую борьбу между
Рузвельтом и силами черной реакции. Какие только дикие
сплетни не пускали враги покойного президента в ход,
чтобы скомпрометировать его! Вот на трибуне сам
Рузвельт. Его лицо спокойно, и только блеск в глазах
свидетельствует о том, каким глубоким гневом он
охвачен. Спокойно, неторопливо произносит он речь,
убивая своих противников самым сильным оружием —
оружием сарказма:
— Мои противники травят меня, мою семью, моих
детей. Я не буду отвечать на выпады против мейя и
против членов моей семьи, но я должен вступиться за
свою собаку. Одни говорят, что доставка ее на эсминце
стоила государству три миллиона, другие называют
цифру в пять миллионов, третьи — двадцать
миллионов. После этих разговоров моя собака определенно
стала не та, что была раньше. Я должен вступиться
за нее...
397
Взрыв смеха, буря оваций огромной аудитории,
слушающей Рузвельта. И зрители в небольшом зале
кинотеатра присоединяются к этой овации.
Президент умирает незадолго до победы над
гитлеровской Германией. Похороны его выливаются
в волнующую народную демонстрацию. Народ
оплакивает покойного президента. Он возлагает свои надежды
на его ближайших соратников, сторонников
демократии, врагов реакции. На экране Генри Уоллес, Фио-
релло Лагардия. В зале кинотеатра опять вспыхивают
аплодисменты. Это — уже политическая демонстрация:
известно, что старые соратники Рузвельта теперь
оттерты от государственного управления. Фиорелло
Лагардия умер. Но Генри Уоллес продолжает борьбу,
и с ним теперь — надежды миллионов прогрессивных
американцев.
Одиннадцатого сентября 1947 года мне довелось
побывать на митинге, организованном при участии
Уоллеса нью-йоркским комитетом организации
«Прогрессивные граждане Ахмерики». Этим митингом
«Прогрессивные граждане Америки» открывали кампанию
подготовки к президентским выборам. Он был созван
в самом крупном зале Нью-Йорка — Медисон-сквер
гардене, вмещающем десятки тысяч людей. Это был
чисто американский яркий, немного театральный,
полный динамики и экспрессии, митинг, и мне хотелось бы
рассказать о нем подробно, поскольку такие митинги
весьма характерны для нынешних политических
настроений широких народных масс в США.
Колоссальный многоярусный зал с ареной посредине,
залитой потоками ослепительного света. В центре
арены трибуна, на которую направлены прожекторы.
Сверху свисают огромные американские флаги.
Трибуна покрыта белым сукном, она стоит на синем ковре,
дальше идут красные полосы — это элементы
национального флага. Вдоль ярусов зала — плакаты:
«Присоединяйтесь к прогрессивной контратаке!», «Пришло
время вступить в борьбу!», «Долой закон Тафта —
Хартли!»
Сегодня — годовщина памятной речи Уоллеса,
которая наделала такой шум прошлой осенью. В этой речи
398
Уоллес, который тогда был еще министром торговли,
осудил агрессивную внешнюю политику США,
направленную на провоцирование конфликтов с СССР. После
этой речи Уоллес был вынужден покинуть пост
министра.
Огромный зал Медисон-сквер гардена переполнен.
У входа дежурят наряды конной полиции. Люди
подходят и подходят, заполняя проходы и лестницы. Здесь
рабочие, служащие, мелкие торговцы, военные,
довольно много негров. Сейчас должен начаться митинг.
В зале становится темнее, гаснут прожекторы, и вдруг
на весь зал гремят репродукторы:
— Вам надоела безработица, вам надоели богатство
для маленькой группы и нищета для масс?
— Да! — гремят десятки тысяч голосов.
— Вам надоели Тафт и Хартли?
— Да! — повторяют десятки тысяч голосов, и буря
аплодисментов сотрясает своды зала.
— Готовы ли вы встать и бороться?
— Да! — столь же единодушно отвечает зал.
~~ — Это говорят «Прогрессивные граждане
Америки»! — удовлетворенно заключают репродукторы.
И в зале снова вспыхивает свет, освещая трибуну,
на которой уже стоит первый оратор. Один за другим
выступают политические деятели, работники искусств,
представители общественных организаций. Они
клеймят американскую реакцию, призывают массы
сплачиваться теснее для предотвращения фашистской угрозы,
выступают против антирабочих законов, против
«проверки лойяльности», против расовой дискриминации,
против агрессивной внешней политики, которую ведут
посланцы Уолл-стрита в Вашингтоне.
В разгаре митинга на трибуну поднимаются двое
молодых актеров, в руках у одного из них гитара. Они
поют популярную среди рабочих ироническую песенку
«Имейте сердце, Тафт и Хартли!» Эта песенка
воспроизводит спор двух рабочих. Один из них все время
твердит: «Политика, политика... Я не люблю политики!»
Другой доказывает ему, что если стоять в стороне
от политики, то в конце концов поможешь фашистам
399
притти к власти: «Вспомни Гитлера! Он тоже начинал
с маленького!»
В промежутках между выступлениями участники
митинга с огромным подъемом принимают резолюции
по самым животрепещущим вопросам текущей
политики, и репродукторы вновь и вновь гремят на весь зал,
возвещая программу «Прогрессивных граждан
Америки».
Бурей оваций был встречен знаменитый негритянский
певец и актер Поль Робсон. Человек, обладающий
редким артистическим даром, он явился бы подлинным
украшением лучших в мире театров. Однако Робсон
жертвует своей театральной карьерой в пользу
политической деятельности. Он неутомимо выступает на
митингах против реакции, ведет большую общественно-
политическую деятельность как председатель «Совета
по африканским делам». Народ высоко ценит и любит
Робсона, оказывая ему повсюду триумфальный прием.
Но зато «хозяева Америки» платят ему за его
политическую деятельность звериной злобой. Характерная
деталь: вы не сможете приобрести в Америке
пластинок с записью выступлений Робсона, хотя они
пользуются огромным спросом. Монополия «Колумбия»
расторгла контракт с ним...
Огромный, широкоплечий негр в светлосером
костюме поднялся налрибуну и остановился, жмурясь от
ослепительных вспышек столпившихся перед ним
фоторепортеров. Он иронически улыбнулся, зная, что
назавтра все равно ни один из этих снимков в газетах не
появится. Когда гром оваций утих, Робсон вымолвил
своим могучим бархатным басом, сразу заполнившим
весь огромный зал:
— Я горжусь тем, что я нахожусь сейчас здесь среди
вас...
И он сразу же запел песню, в которой разоблачается
расовая дискриминация, существующая в Соединенных
Штатах. Робсон пел без всякого аккомпанемента.
Закончив одну песню, он переходил к другой, от песни
к классическим ариям, от арий снова к песням.
Аудитория слушала его, как завороженная. В зале,
наполненном десятками тысяч людей, царила полнейшая ти-
400
шина. Слушать Робсона — редкое художественное
наслаждение.
Потом Робсон начал говорить речь. С гневом
обрушился он на «либеральные» газеты «П. М.» и «Нью-
Йорк пост» за то, что они публикуют клеветнические
материалы о так называемой коммунистической
опасности, вместо того чтобы разоблачать опасность
фашизма в США. Робсон говорил о том, что Америка
сейчас стоит на распутье — перед нею два пути: путь
Рузвельта — Уоллеса ведет к миру, путь Ванденберга
и ему подобных ведет к войне. Он призывал
демократические силы к сплочению перед лицом реакционной
угрозы.
И вот, наконец, репродукторы возвестили о
выступлении Уоллеса — человека, на долю которого выпала
виднейшая роль в организации отпора силам реакции
в США, боевого соратника Рузвельта, который
тринадцать лет провел в Вашингтоне — сначала в роли
министра земледелия, затем в роли вице-президента и,
наконец, в роли министра торговли. Недаром еще до-
войны Уоллеса называли «наследником Рузвельта» —
он был одним из самых верных последователей
покойного президента.
Долго не стихали громовые овации в честь Уоллеса.
Этот высокий статный человек, не перестающий
заниматься спортом в пятьдесят девять лет, выглядит
значительно моложе своего возраста. У него густая копна
седых волос, приветливое тонкое лицо, широкие
крестьянские руки, — он начал свой жизненный путь на
ферме в штате Айдахо. Говорит он спокойно, без
излишней ораторской аффектации, чувствуя силу своей
позиции.
— Странные дела могут произойти с человеком,
который выступает с речью в Медисон-сквер гардене, —
с легкой иронией начал он свое выступление. —
Возьмите, например, мою речь, произнесенную год тому
назад. Она была одобрена президентом США, с которым
мы прочитали ее страницу за страницей в Белом Доме
ровно год тому назад. И вот эта речь превратила
министра торговли в редактора журнала «Нью рипаблик»...
401
Бурным оживлением реагировал зал на эти слова,
вспоминая скандальную прошлогоднюю историю.
А Уоллес продолжал свое выступление. Он приводил
множество фактов, свидетельствующих о разгуле
реакции в США. Наконец, напомнив, что государственным
служащим было запрещено посетить один из его
митингов, Уоллес с гневной иронией сказал:
— Я щиплю себя, чтобы убедиться, что я не сплю!
Та ли эта свобода, в которую меня учили верить сорок
лет назад? Неужели мы до такой степени попали в руки
поджигателей войны, что мы не можем выступать,
слушать или совещаться, чтобы узнавать правду и
стремиться к миру? Действительно ли в США установлен
контроль над мыслью? Навязано ли нам полицейское
государство? Я хотел бы, чтобы то, что я сказал год
назад, устарело. Но, к несчастью, мы не сделали
никакого прогресса!..
Показав, что «при нынешнем правительстве
Уоллстрит готовится управлять миром», Уоллес заявил:
— Если демократическая партия — это военная
партия, если она продолжает нападки на гражданские
свободы, если обе партии стоят за высокие цены и
депрессию, то в таком случае народ должен иметь новую
партию свободы и мира...
В те дни Уоллес еще не ставил прямо вопроса о
создании третьей партии. Он не хотел итти на разрыв
с демократической партией до тех пор, пока не
испробует все пути и все средства, чтобы добиться
изменения ее политического курса. Он оставлял открытой
дверь для переговоров с лидерами демократической
партии, членом которой состоял. Однако все попытки
Уоллеса вернуть демократическую партию «а курс
Рузвельта терпели крах. Внутри демократической
партии его поддерживала лишь небольшая группа
противников крайней реакции, и среди них — сорохадвухлет-
ний сенатор Глен Тэйлор, избранный в сенат в 1942 году
от штата Айдахо при активной поддержке рабочих
металлургических предприятий. Тэйлор, как и Уоллес,
активно выступал против «доктрины Трумэна», против
«плана Маршалла», против антирабочего закона
Тафта — Хартли. 22 октября сенатор Тейлор отпра-
402
вился в дальнюю поездку по штатам Северной
Америки верхом на лошади, заявив, что он будет
останавливаться всюду, куда будут его приглашать, и будет
говорить народу правду о наступлении сил реакции в
США...
Сам Уоллес развил огромную политическую
активность. Он выступал на массовых митингах чуть ли не
ежедневно. Его слушали во всех концах Америки — на
севере, на юге, на западе, на востоке. Сотни тысяч
американцев побывали на его митингах. Это были люди
самых различных профессий, представители самых
различных слоев общества. После небывалого успеха
Уоллеса на митинге в Бостоне газета сГеральд» с
раздражением писала, что Уоллеса слушают «не только
рабочие в свитерах, лица иностранного происхождения
и разные (!) студенты, но и профессора, и хорошо
одетые мужчины и женщины — представители культурных
и аристократических кругов».
И после каждого митинга Уоллес получал тысячи
писем, авторы которых поддерживали и одобряли его
линию.
«Не забывайте одной простой вещи, мой друг, —
писал Уоллесу один из его слушателей из штата
Мериленд: — все, кто молчит, поддерживают вас. А молчат
почти все...»
«Мне приходится говорить со множеством
простого народа, — писал молочник из Лос-Анжелоса: —
и то, что я от них слышу, имеет очень мало
отношения к тому, что старается доказать институт
Галлупа ! о доктрине Трумэна и о вашей борьбе с ней.
Продолжайте свою справедливую борьбу. Мы с
вами».
«Я не видел, чтобы кто-нибудь из народной массы
бранил вас, — писали Уоллесу из Далласа (штат
Техас):— этим занимаются только банкиры и крупные
дельцы».
1 Институт Галлупа — так называемый институт по
изучению общественного мнения, существующий в США. С помощью
грубой подтасовки цифр и фактов он фабрикует данные,
показывающие общественное мнение в том свете, какой выгоден
правящим кругам США.
403
И вот в конце декабря 1947 года Уоллес объявил,
что он выдвигает свою кандидатуру в президенты как
независимый кандидат. Задача создания «третьей
партии» в связи с этим была поставлена на реальную
основу.
Все силы реакции в США немедленно подняли дикий
вой, начав форменную травлю Уоллеса. Сейчас на нем
сосредоточен огонь всех батарей продажной
бульварной прессы. На него выливают потоки грязи, его
объявляют... сумасшедшим, его именуют «красным»,
«коммунистом».
Общеизвестно, что Уоллес отнюдь не является
коммунистом. Он сам причисляет себя к «прогрессивным
капиталистам» и обладает известным состоянием. Еще
перед войной фирма, распространяющая выведенный
им замечательный сорт кукурузы «коппер-крос»,
получала до четырех миллионов прибыли в год. Однако*
Уоллес решительно выступает против диктатуру
Уоллстрита, против грабительской власти монополий, за
ограждение прав средних и мелких собственников. Это
обеспечивает ему поддержку мелкой и средней
буржуазии США, в частности, фермеров. Уоллес пользуется
симпатиями и в широких массах рабочих — ведь он за
отмену антирабочего закона Тафта — Хартли, против
монополистов. Наконец он пользуется широкой поп\
лярностью среди негров, которые видят в нем
неукротимого борца против расовой дискриминации.
Широкую поддержку Уоллесу оказывает прогрев
сивная интеллигенция. Известно, что Уоллес сам
является творческим работником. Его живо интересует
не только селекция растений, которой он отдал
десятилетия своей жизни, но и антропология, экономика,
история. И не случайно он стал своим человеком в
организации «Прогрессивные граждане Америки»,
которая состоит в значительной своей части из работников
творческого труда.
Уоллесу и его сторонникам предстоит преодолеть
огромные трудности. Достаточно сказать, что почти вся
американская пресса выступает против них. Даже так
называемые «либеральные газеты» США сейчас
атакуют Уоллеса. Любопытно, что издатель журнала
404
«Нью рипаблик» Стрейт настоял на отставке Уоллеса
с поста редактора этого журнала, заявив, что он не
желает, чтобы «Нью рипаблик» стал органом «третьей
партии»...
Судя по всему, прогрессивные граждане Америки
трезво оценивают перспективы неравной борьбы на
предстоящих президентских выборах. Они отдают себе
отчет в том, что партии Уолл-стрита —
демократическая и республиканская,— командующие
государственным аппаратом, располагающие неограниченными
финансовыми возможностями и мощной
пропагандистской машиной, все еще могут контролировать
большинство голосов. Но, при всем том, прогрессивные
силы США смело вступили в борьбу, зная, что за ними
идут миллионы простых людей, которые полностью на
стороне тех, кто защищает интересы мира и
демократии.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Эти три года 3
Осень в Англии 13
1. Лондон, 1945 13
2. Торговцы новостями 39
3. Кинобизнес 68
4. Простая история 81
5. Два года спустя 123
Под крышами Парижа 143
1. Первая послевоенная весна 145
2. Раздумья в день победы 160
3. Именем Сталинграда 169
4. Две битвы 174
5. Рю де ля Сурдьер, 18 187
6. Утраченные иллюзии 197
7. Во французской деревне 204
8. Игра с огнем 211
Американские заметки 224
1. По большому воздушному тракту 224
2. Нью-Йорк после войны 230
3. Власть сбольшого бизнеса» 254
4. Размышления у карты 271
5. Коричневая тень 290
6. Хлеб и зрелища 306
7. Проданные перья 321
8. Сделано в Голливуде 350
9. Прогрессивные граждане Америки 390
Редактор О. Резник
Художник М. Серегин
Тех. редактор Л Никишева
А06153. Сдано в набор 18/У 1948 г.
Подписано к печати 1/УИ 1948 г.
Печ. л. 25»/л авт. л. 19,71, уч.-изд. л.
20,07. Формат бумаги 84ХЮ8 1/32.
Заказ ** 8067. Тираж 25 000.
Цена 11 р. 50 к.
1-я Образцовая типография треста
.Полиграфкнига" Огиза при Совете
Министров СССР. Москва, Валовая, 28.
Издательство просит читателя дать отзыв как
о содержании книги, так и об оформлении ее,
указав свой точный адрес, профессию и возраст.
Библиотечных работников изд-во просит
организовать учет спроса на книгу и сбор
читательских отзывов.
Все материалы направлять по адресу: Москва,
Б. Гнездниковский пер., д. 10, изд-во «Советский
писатель».