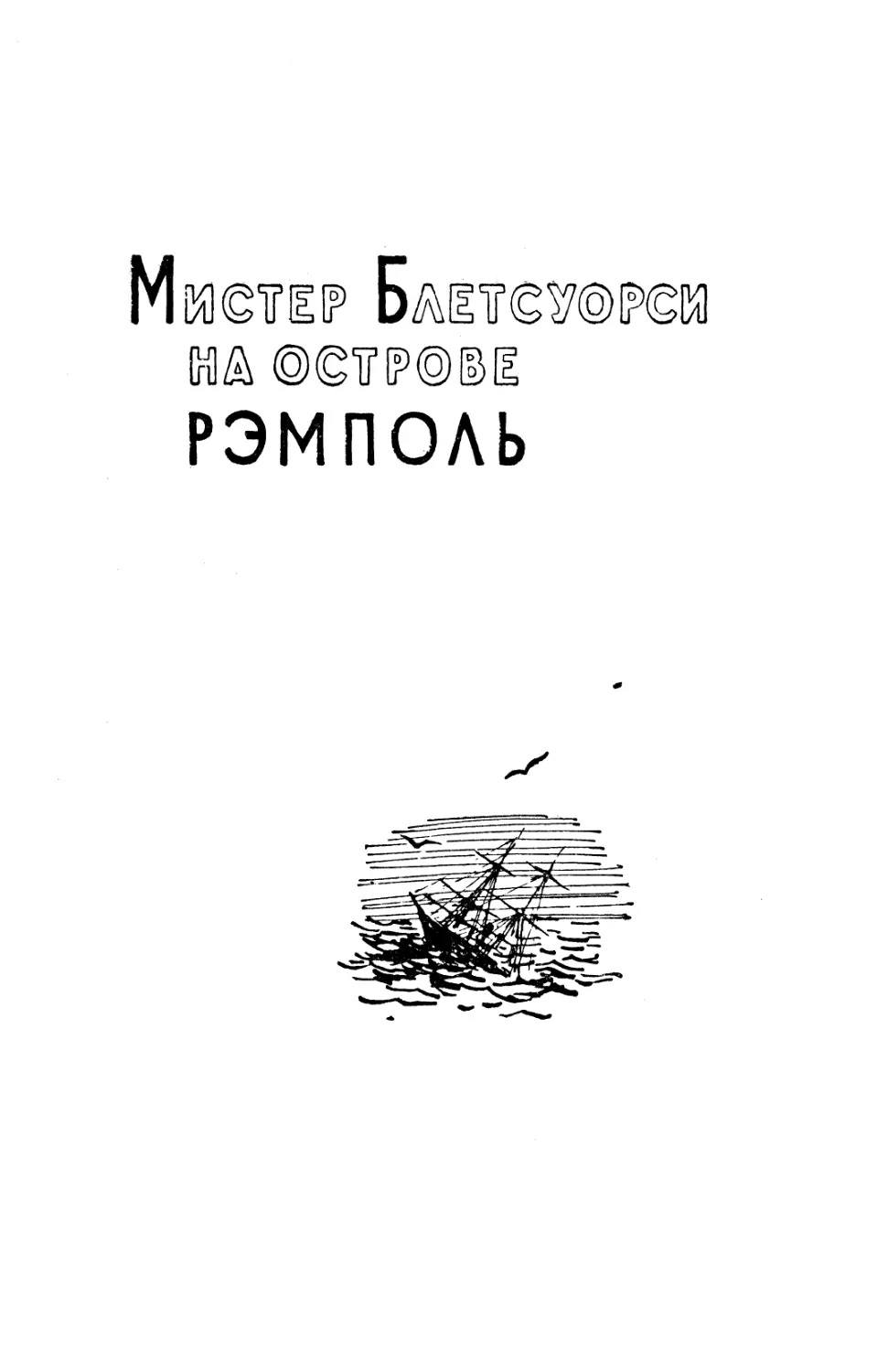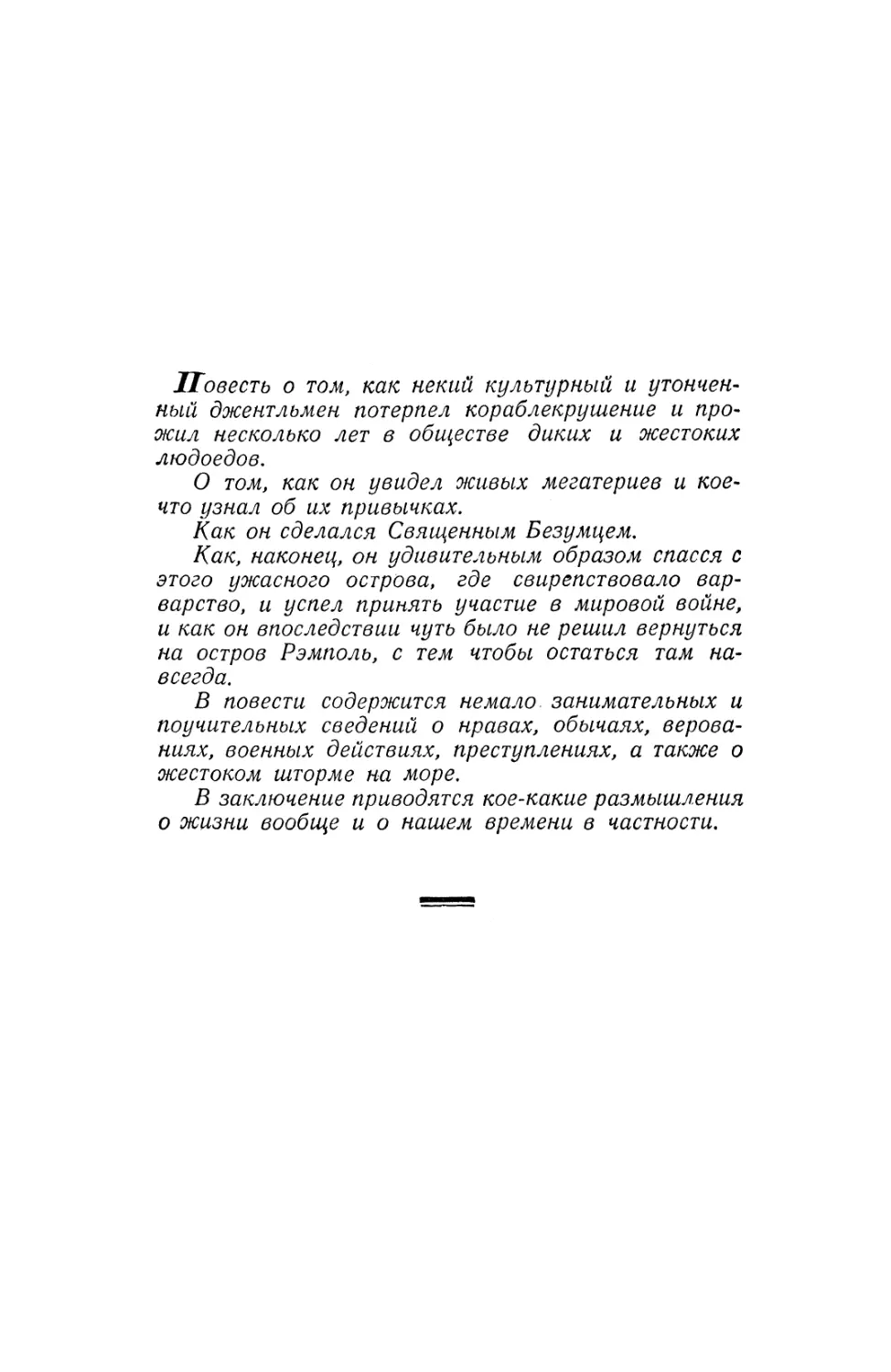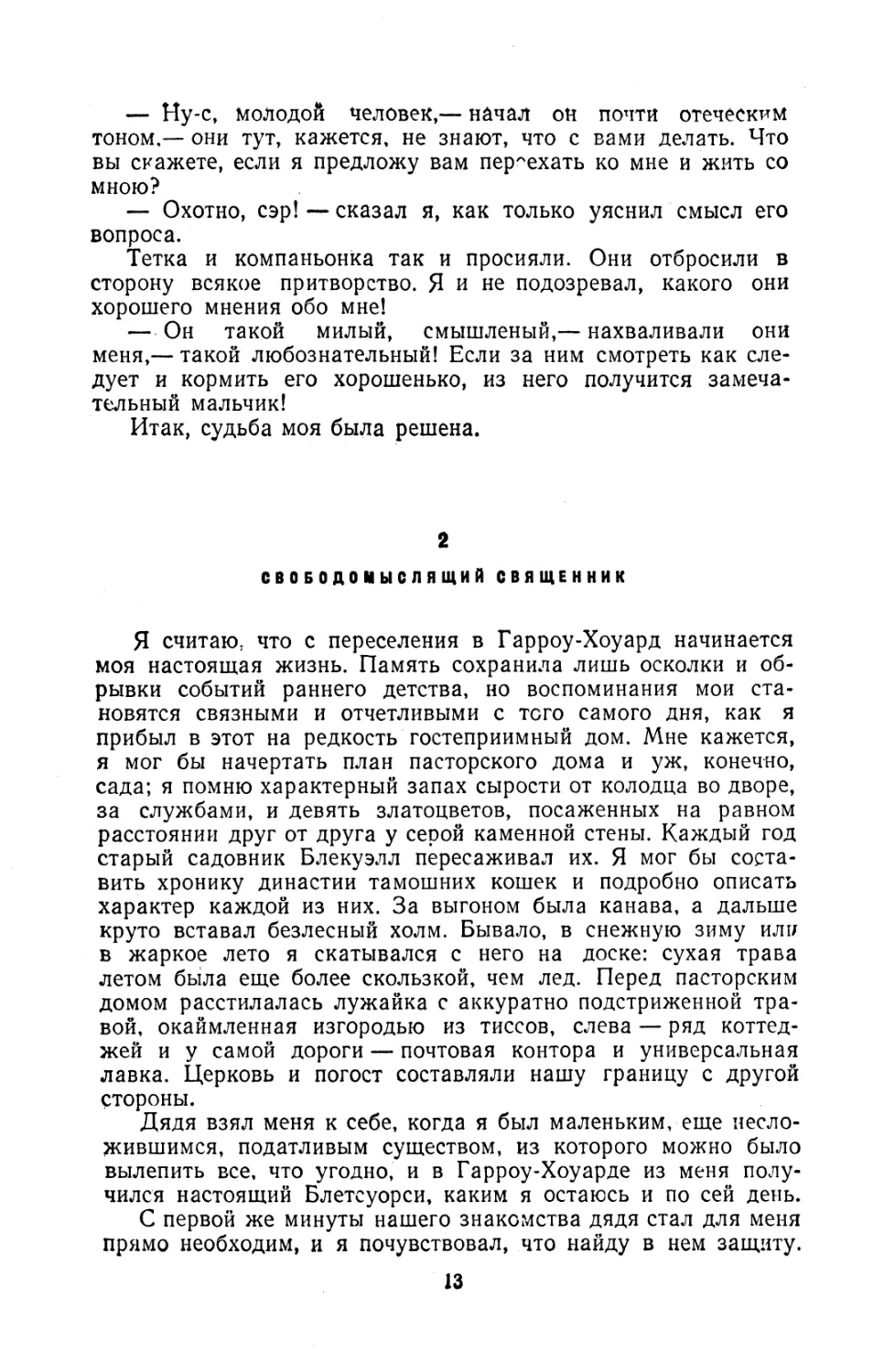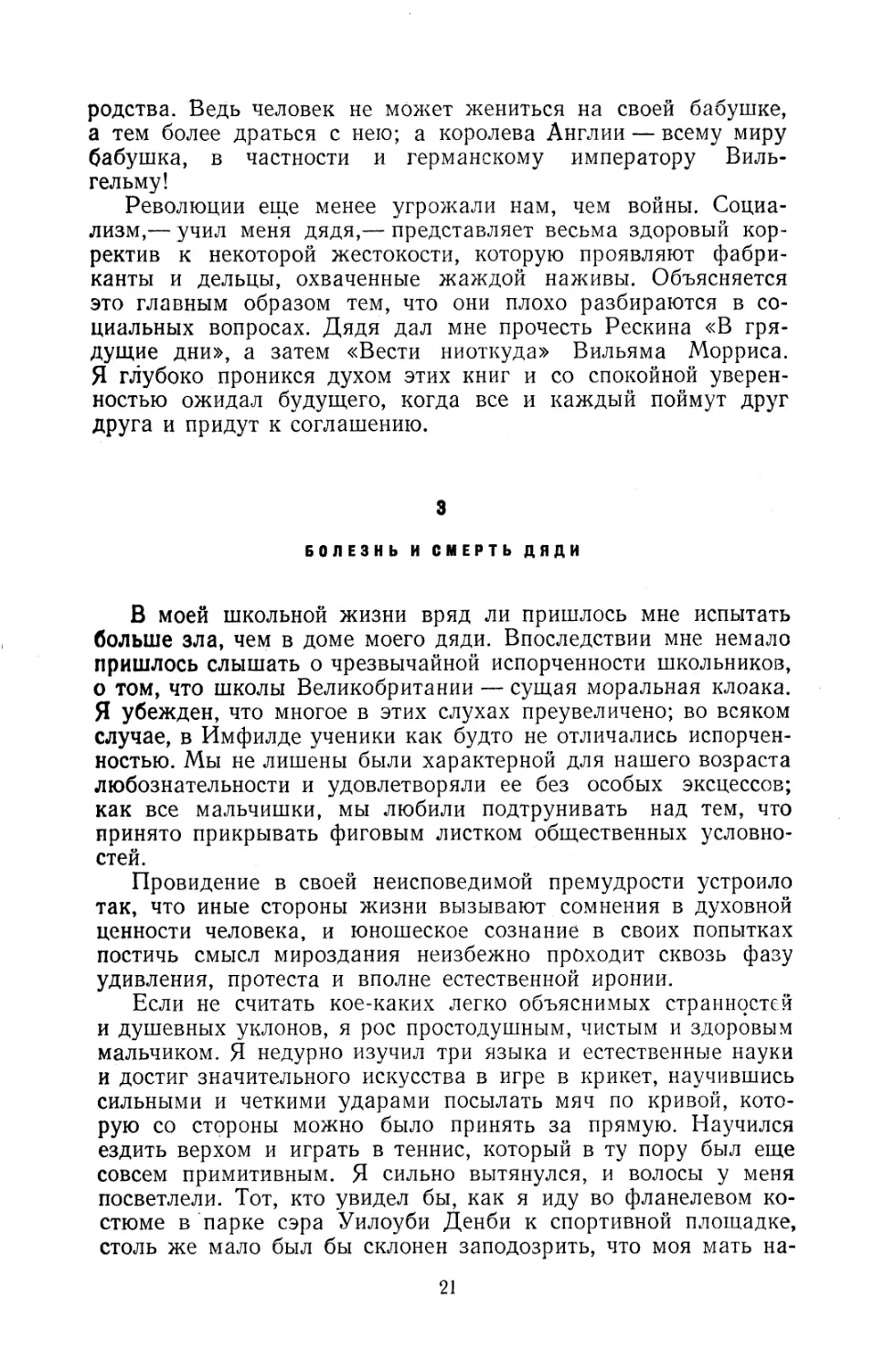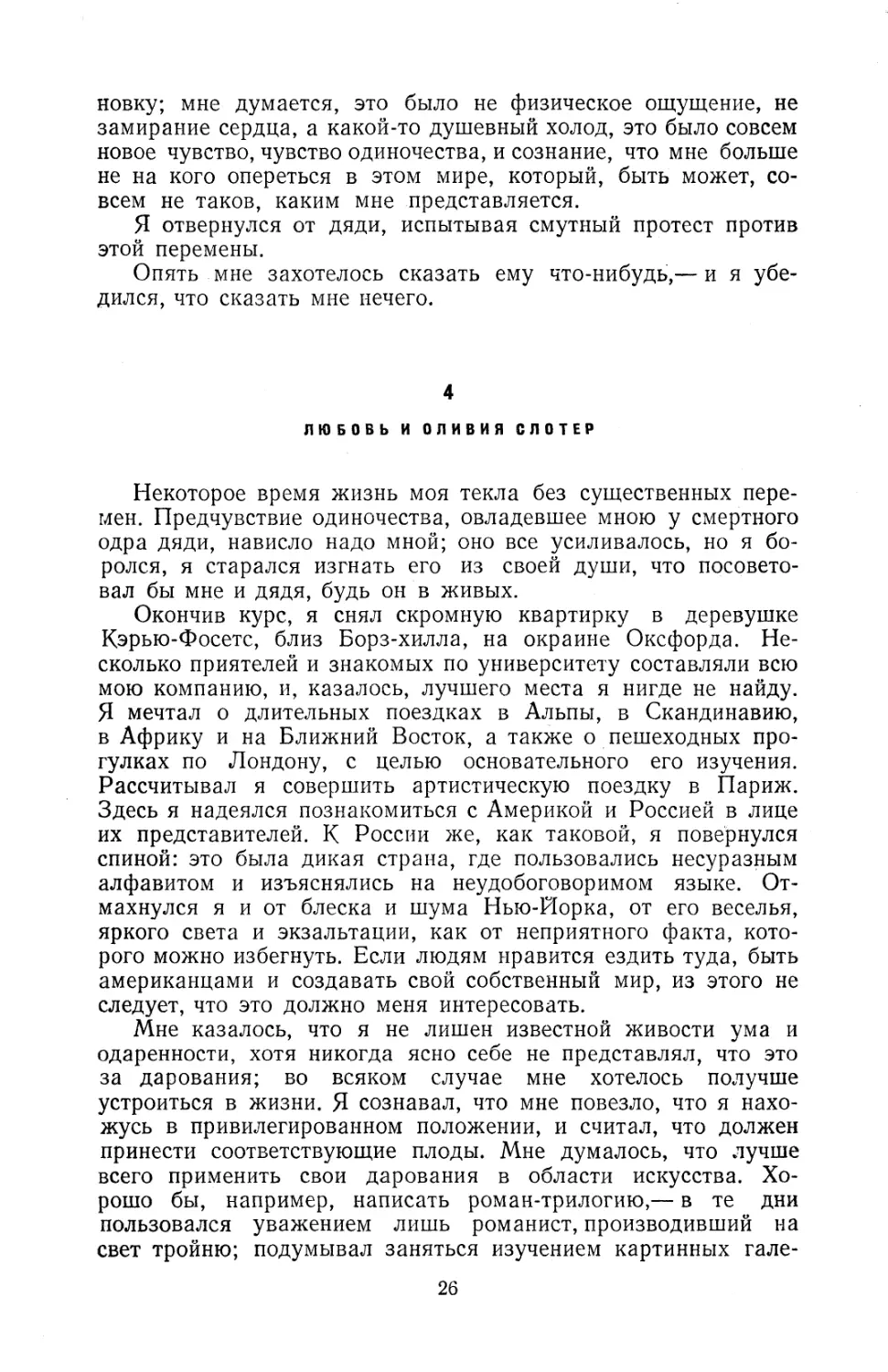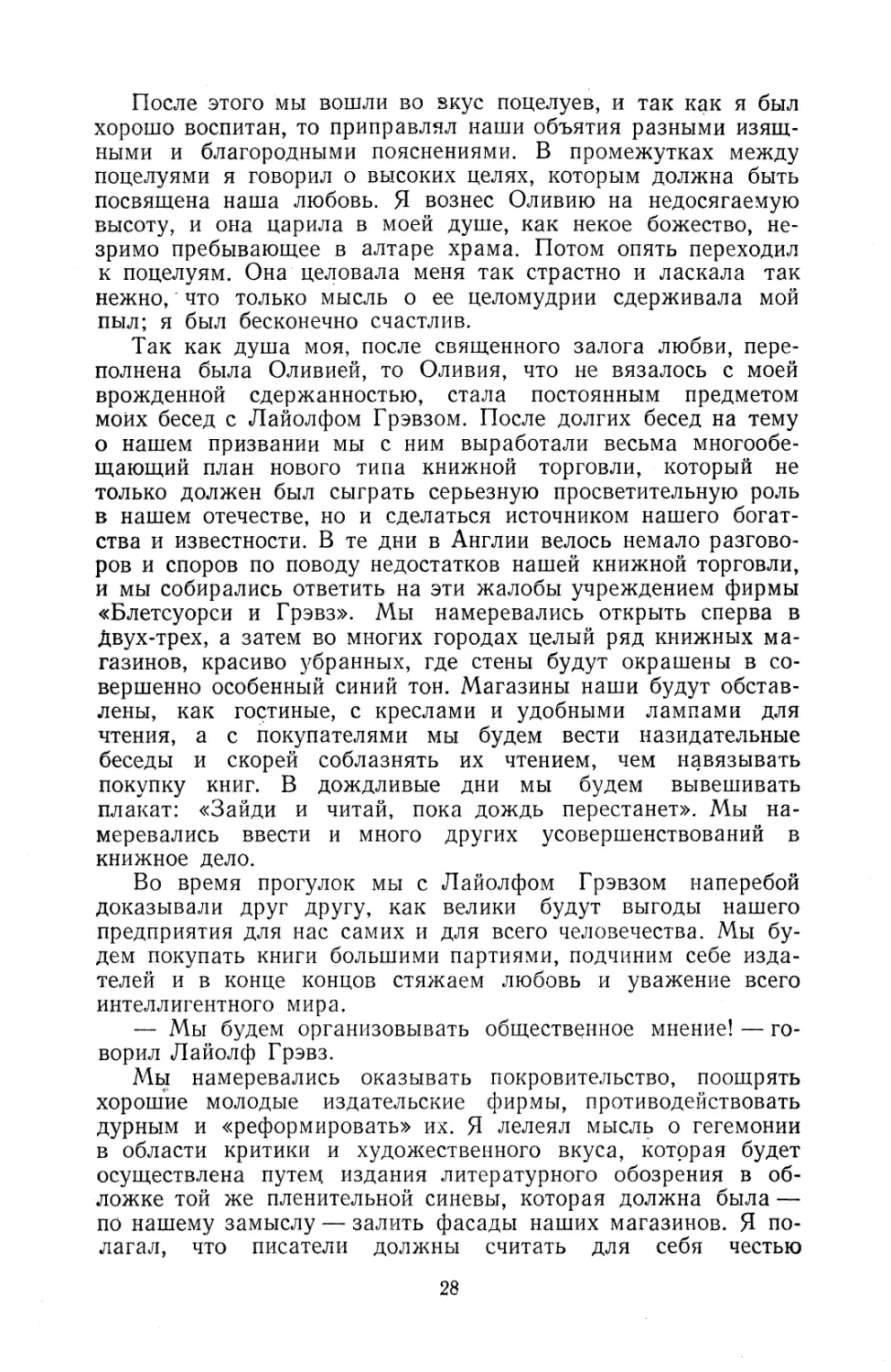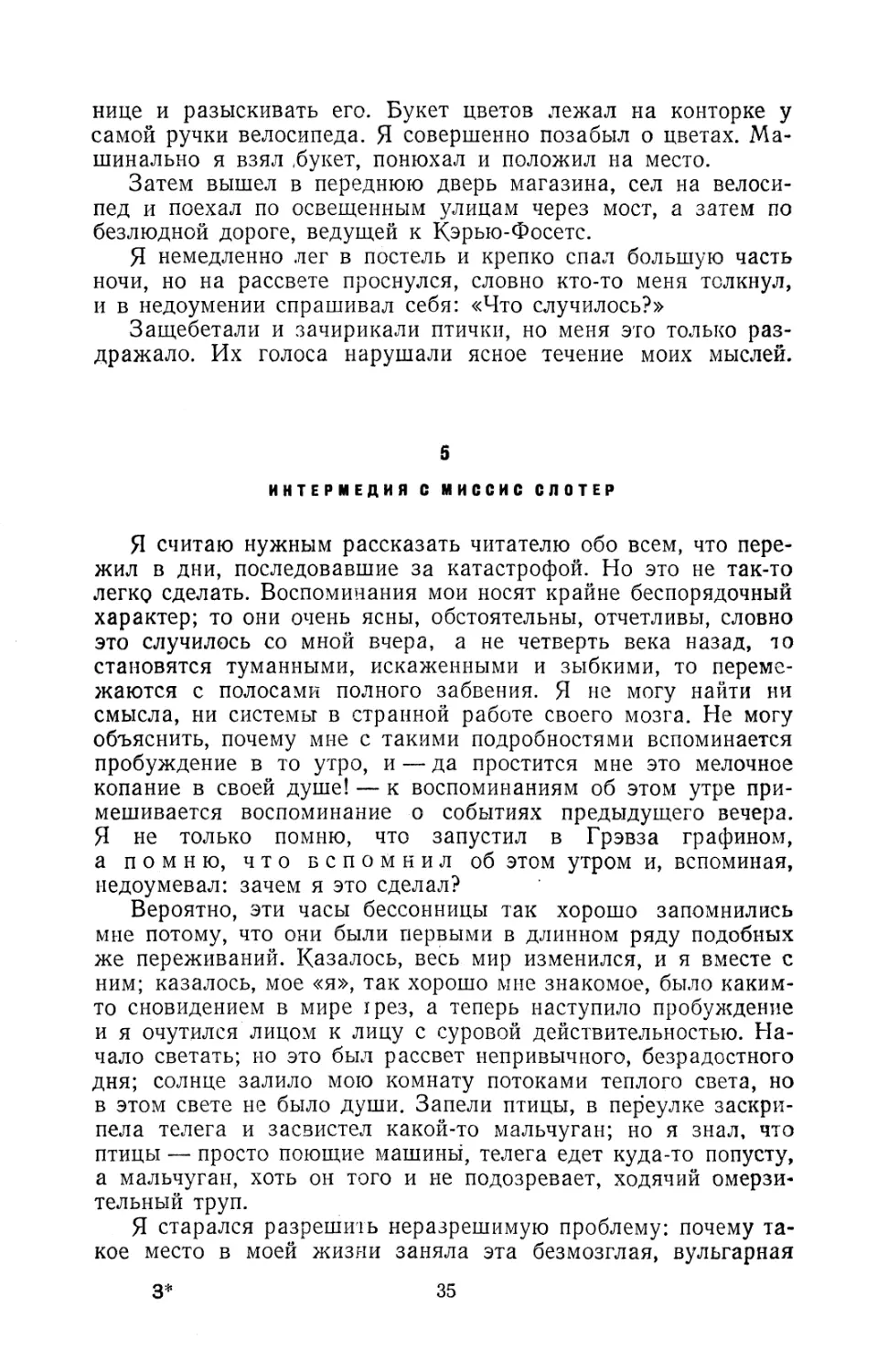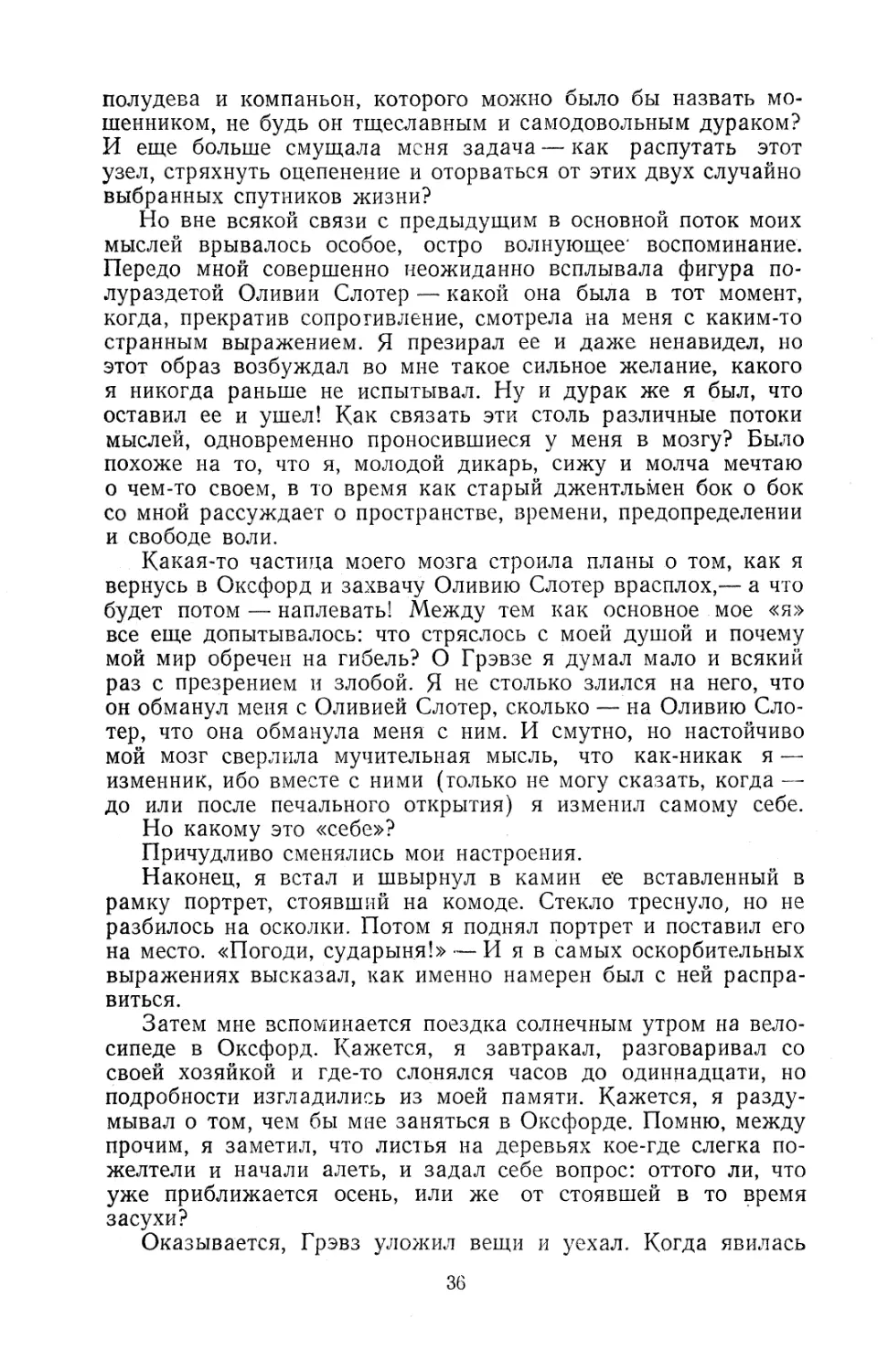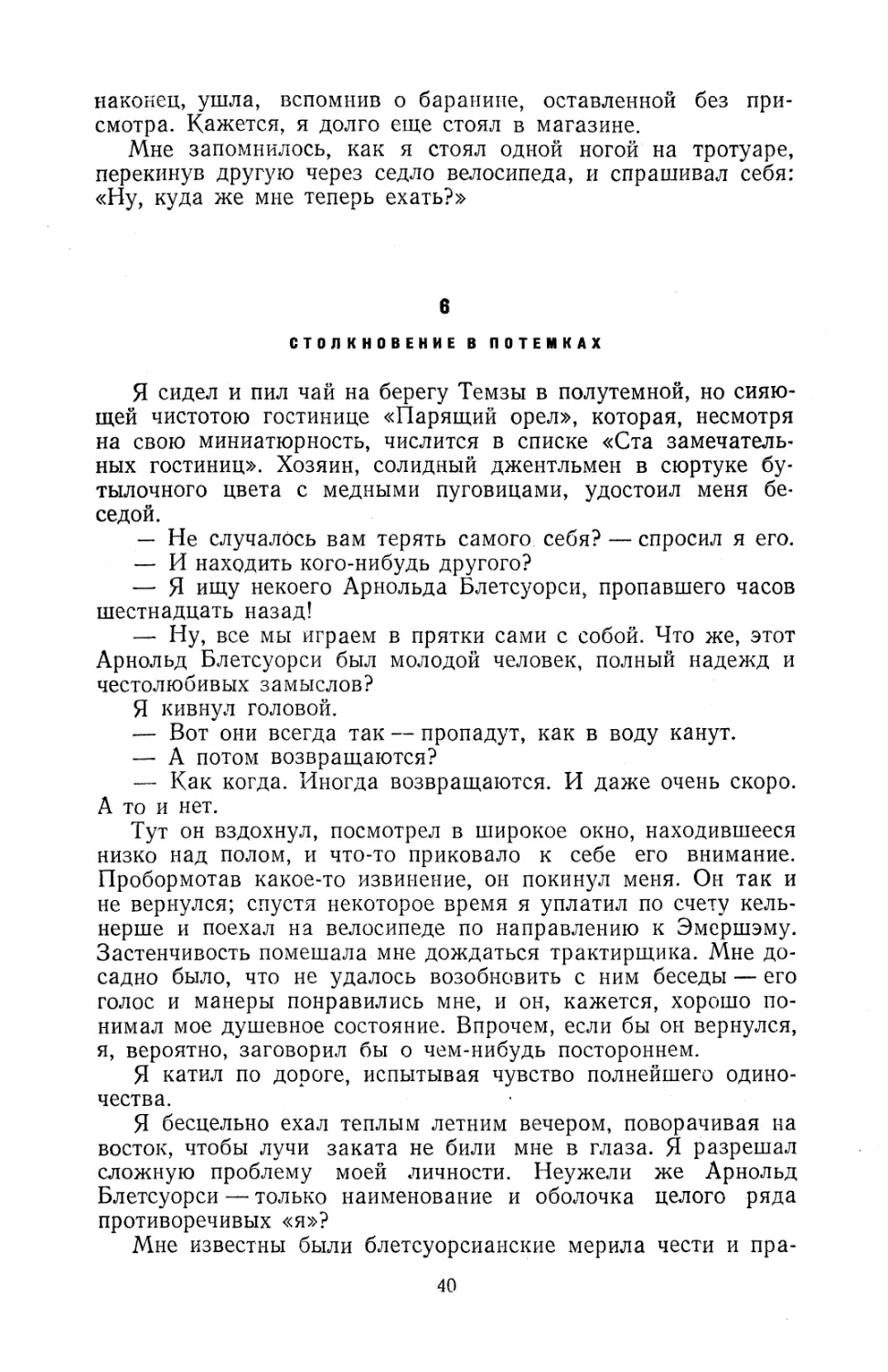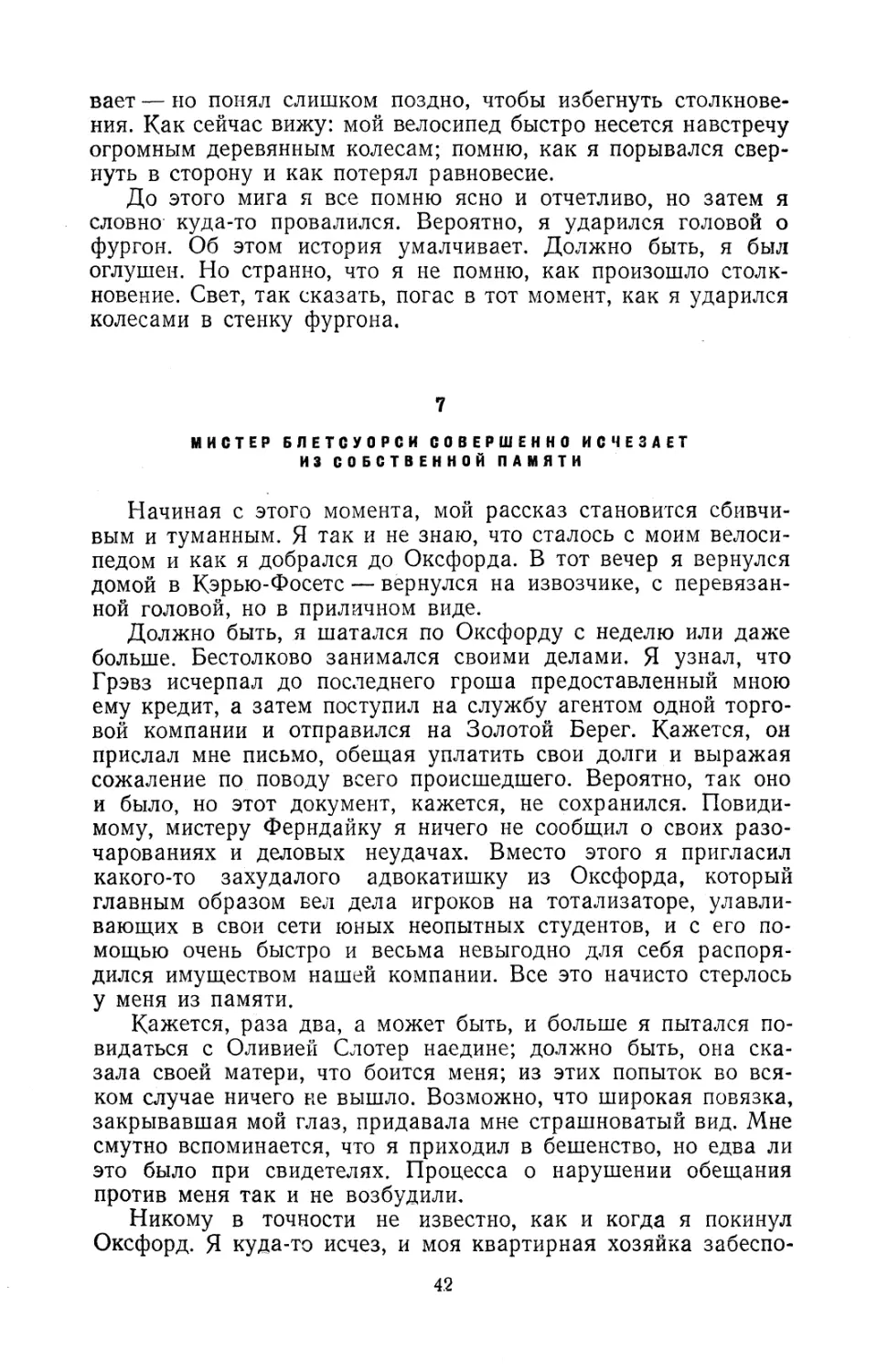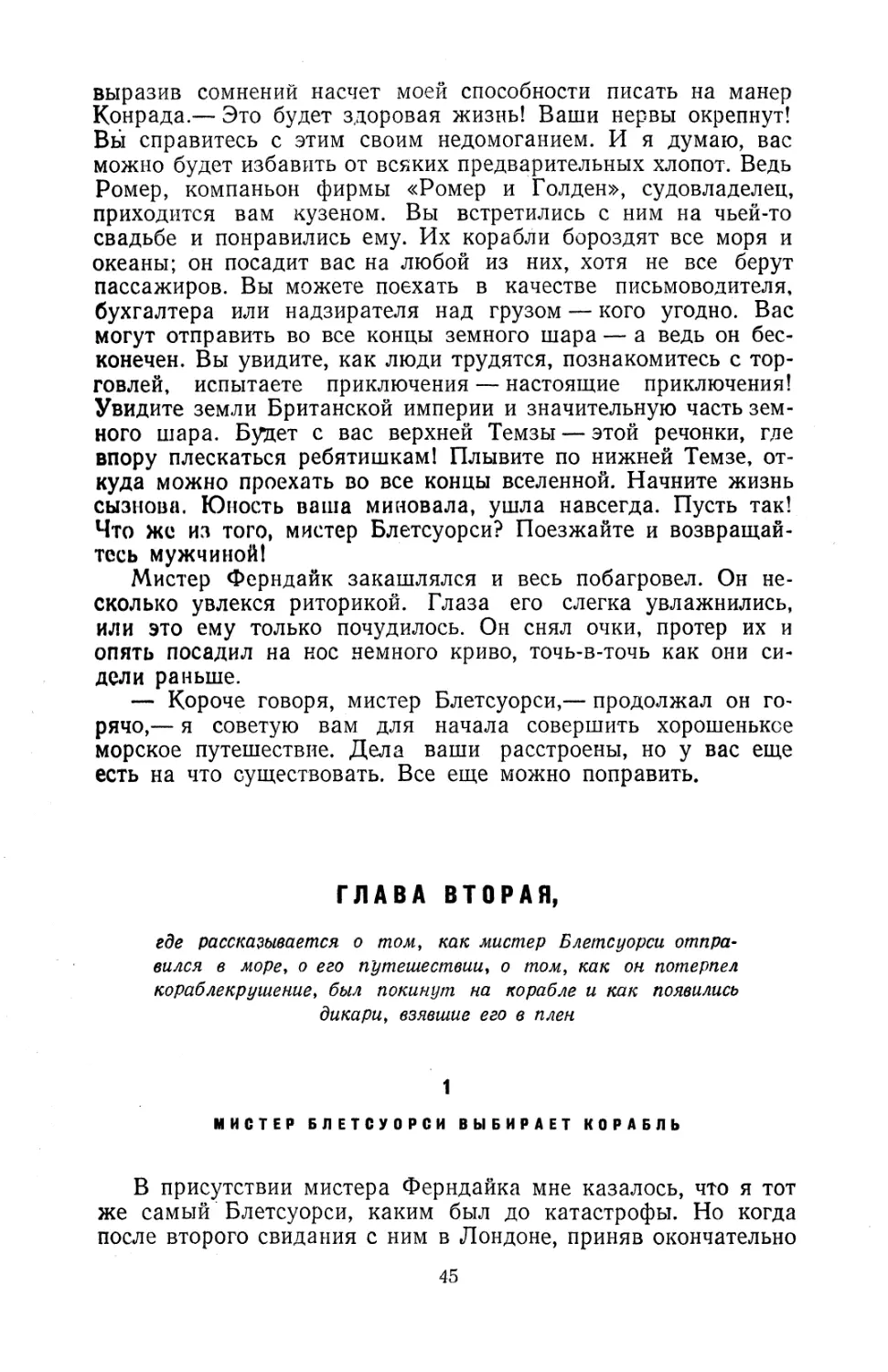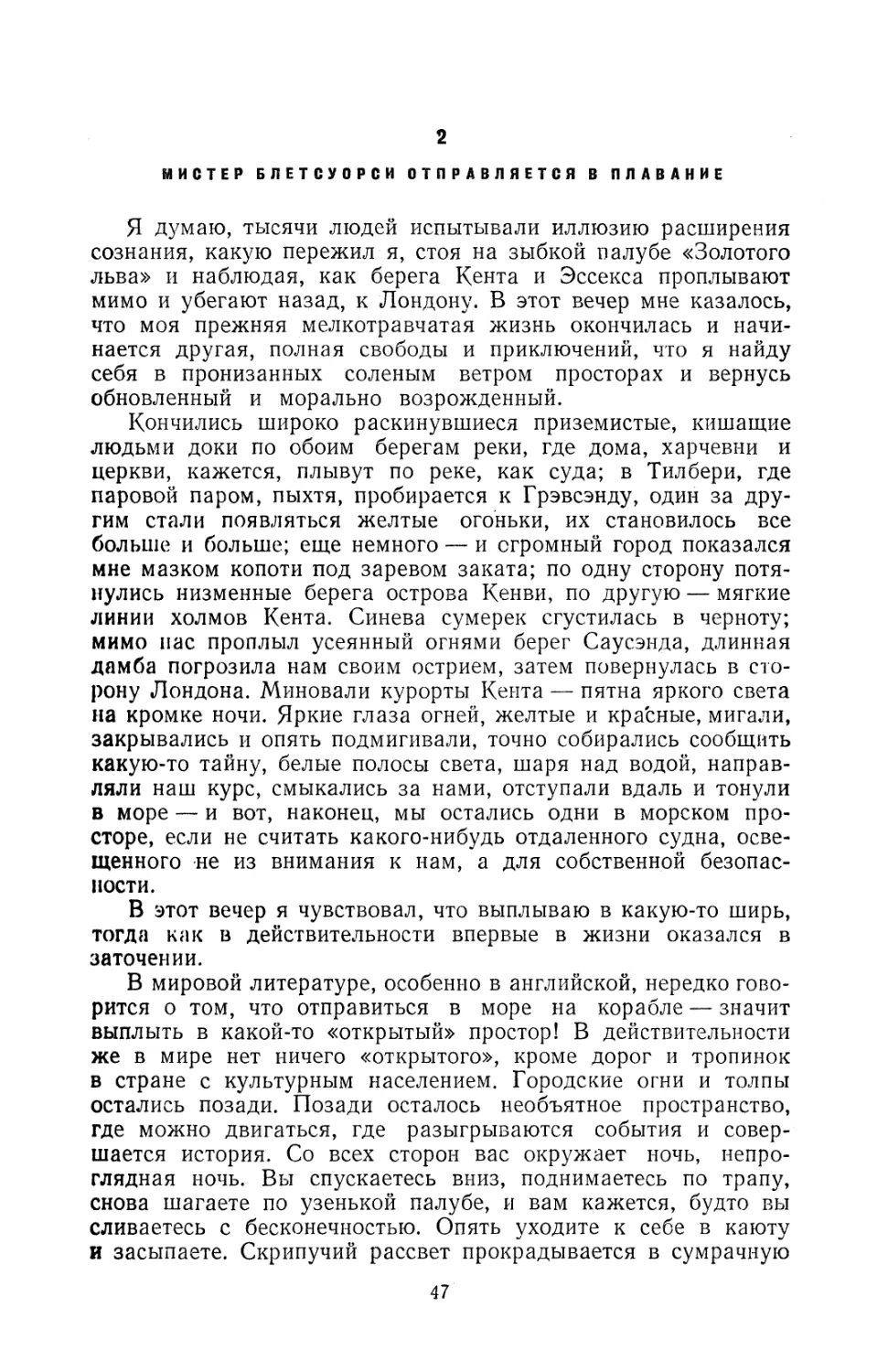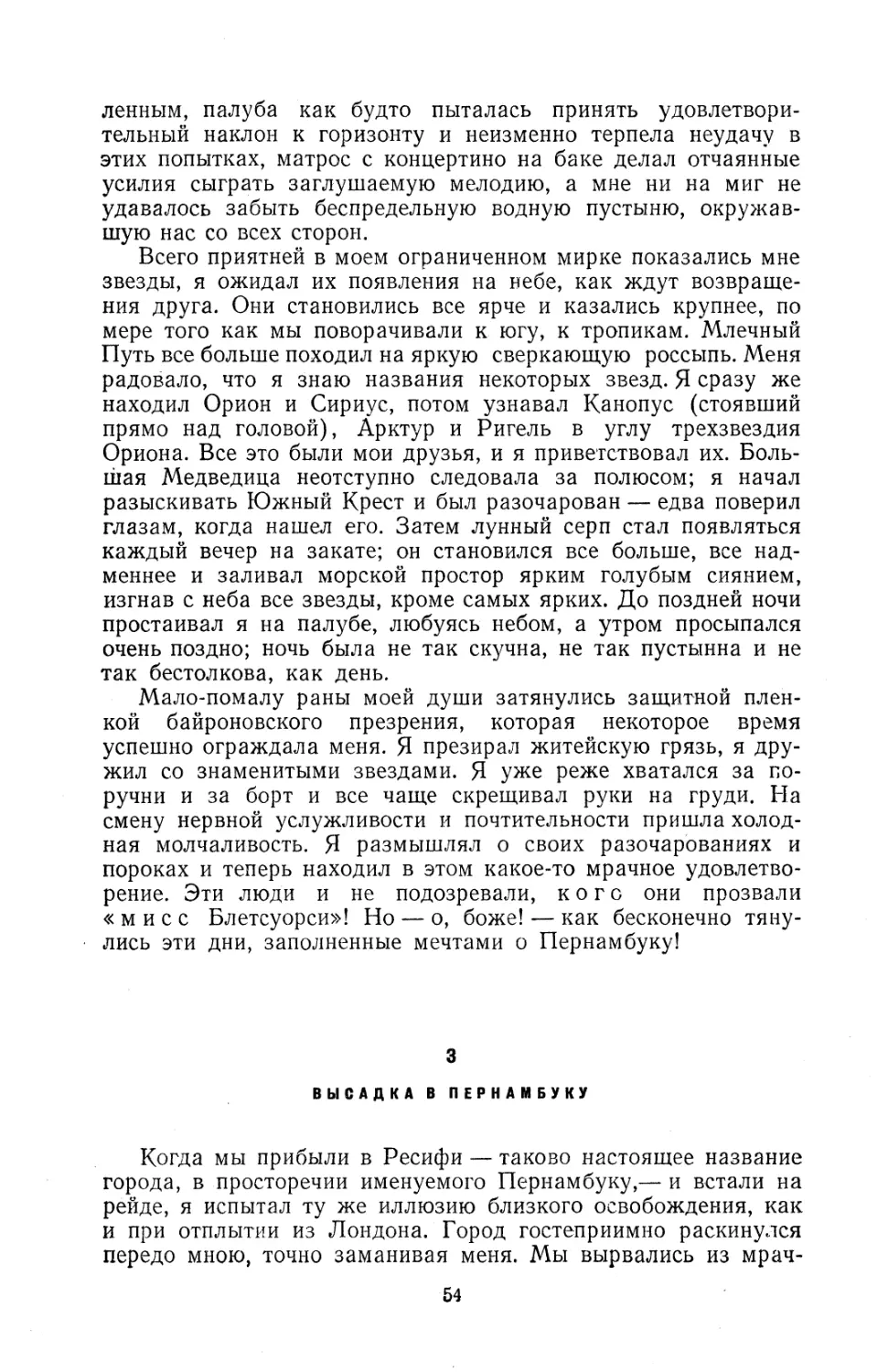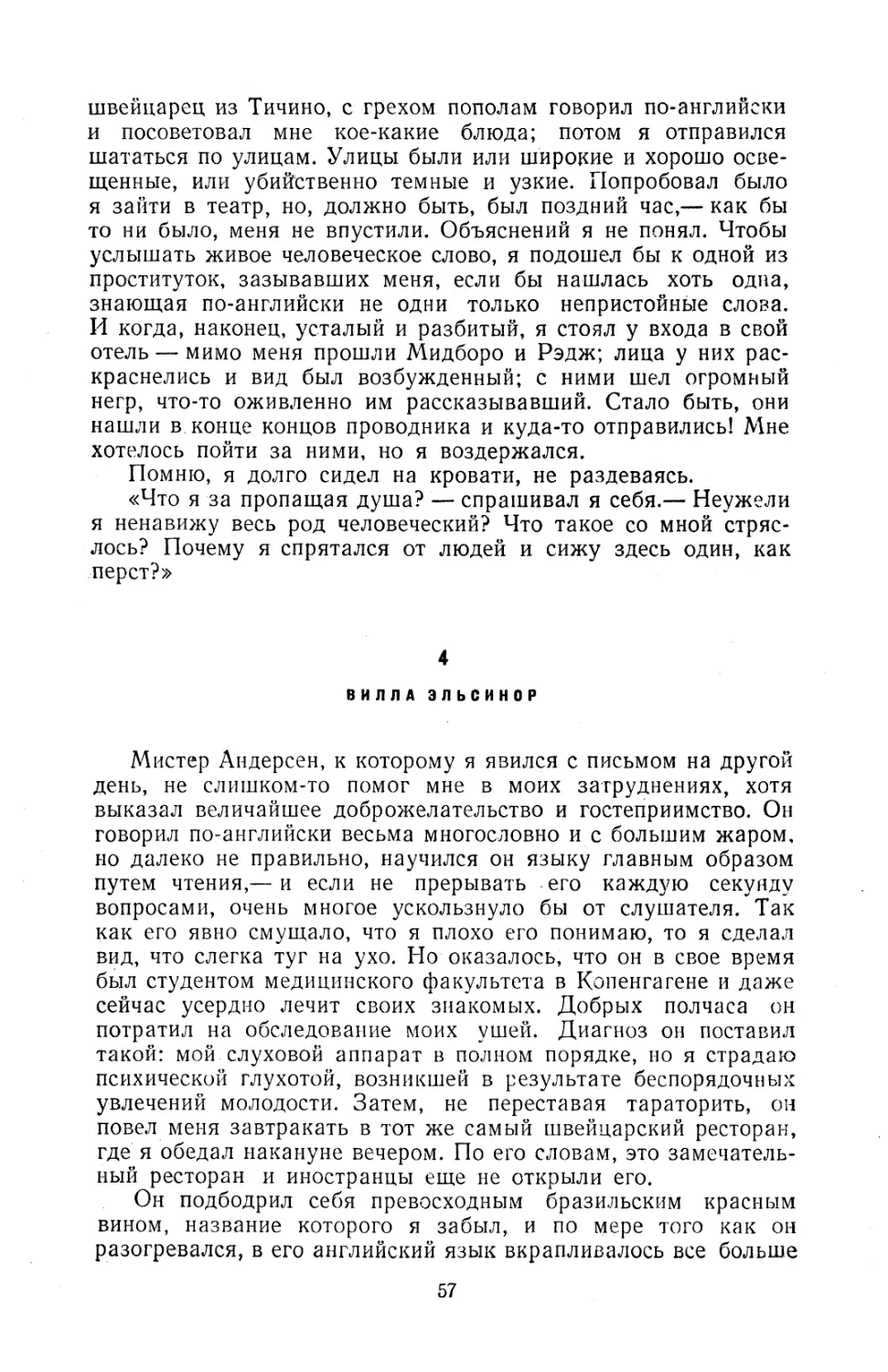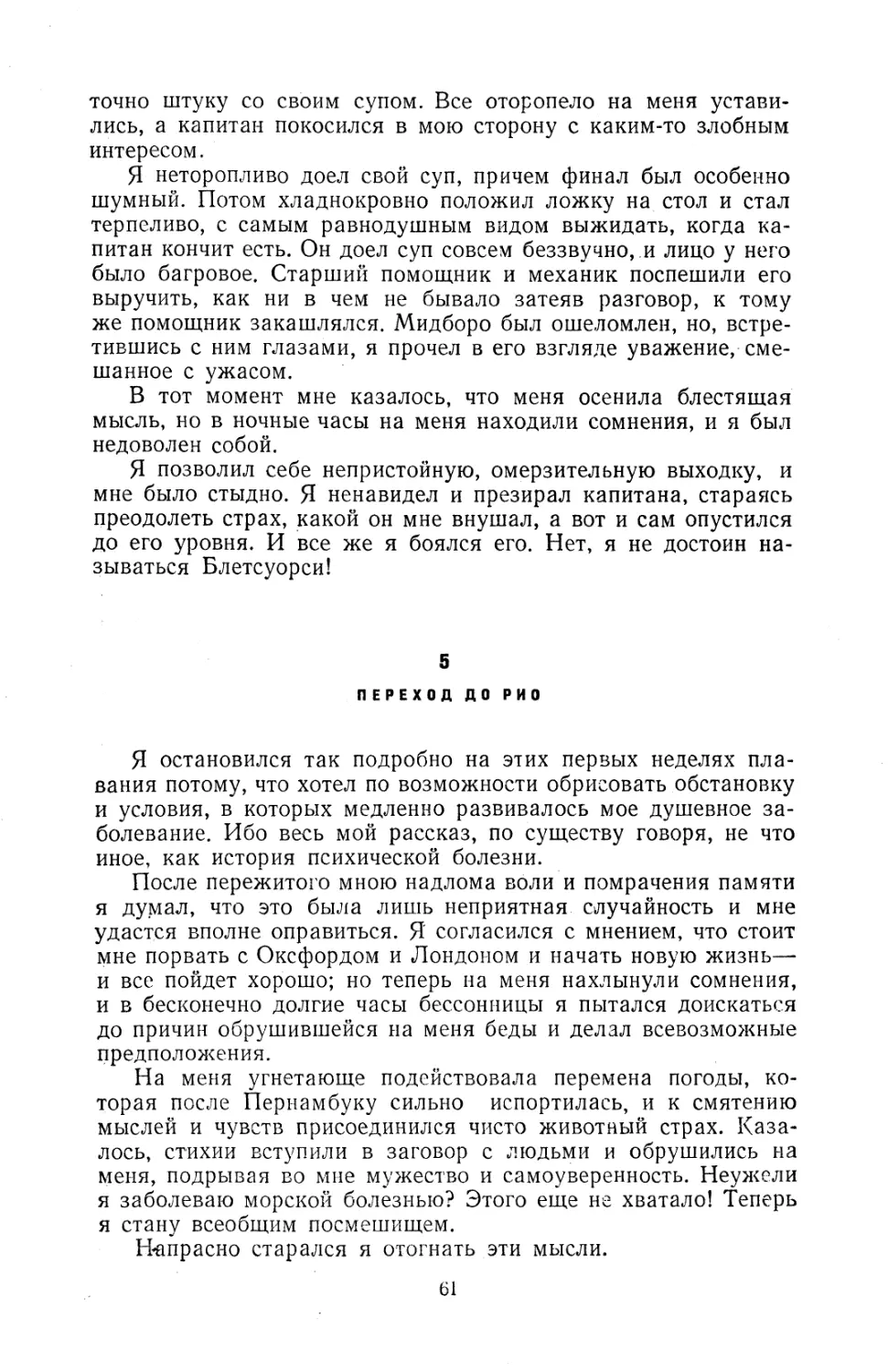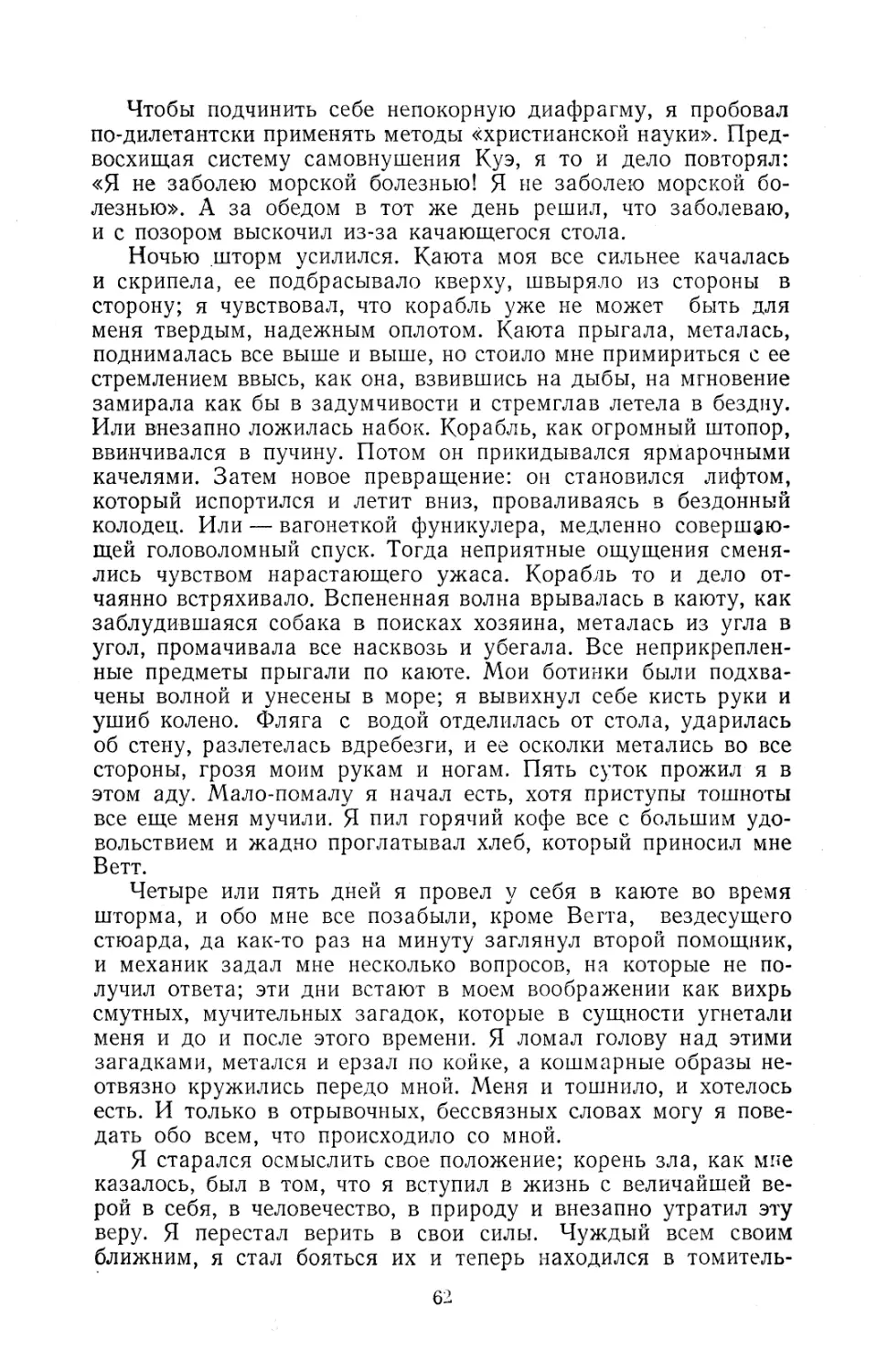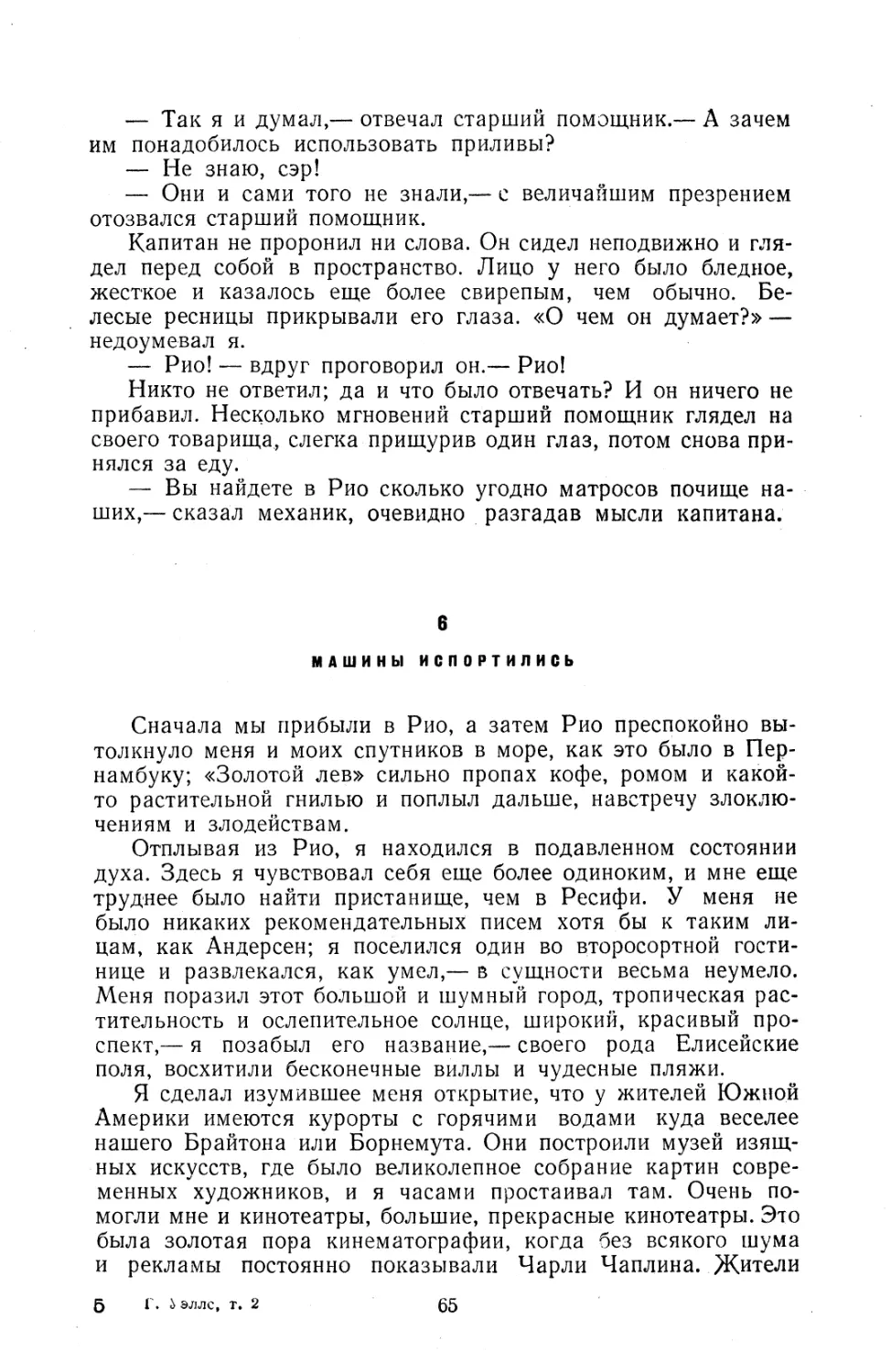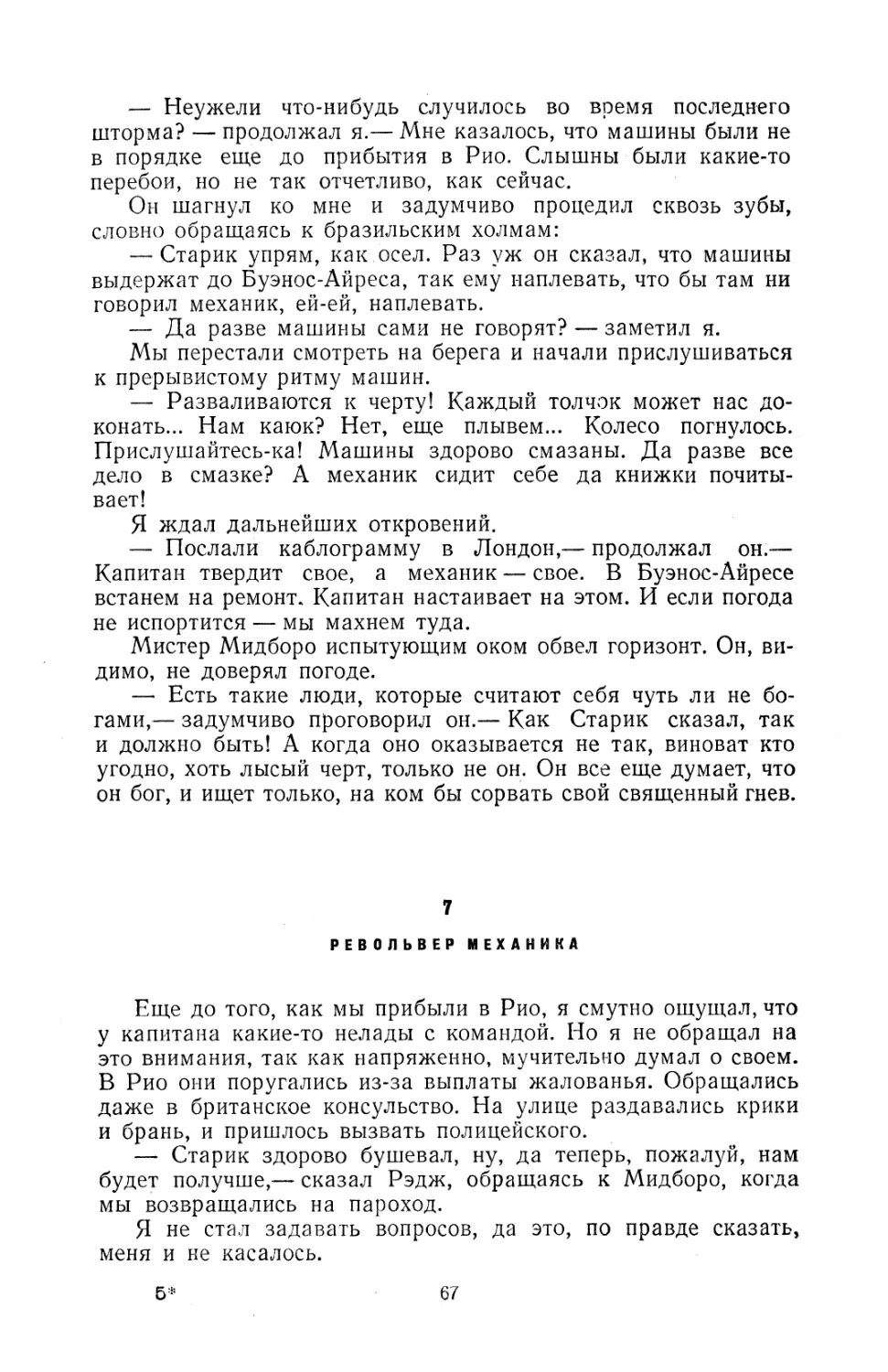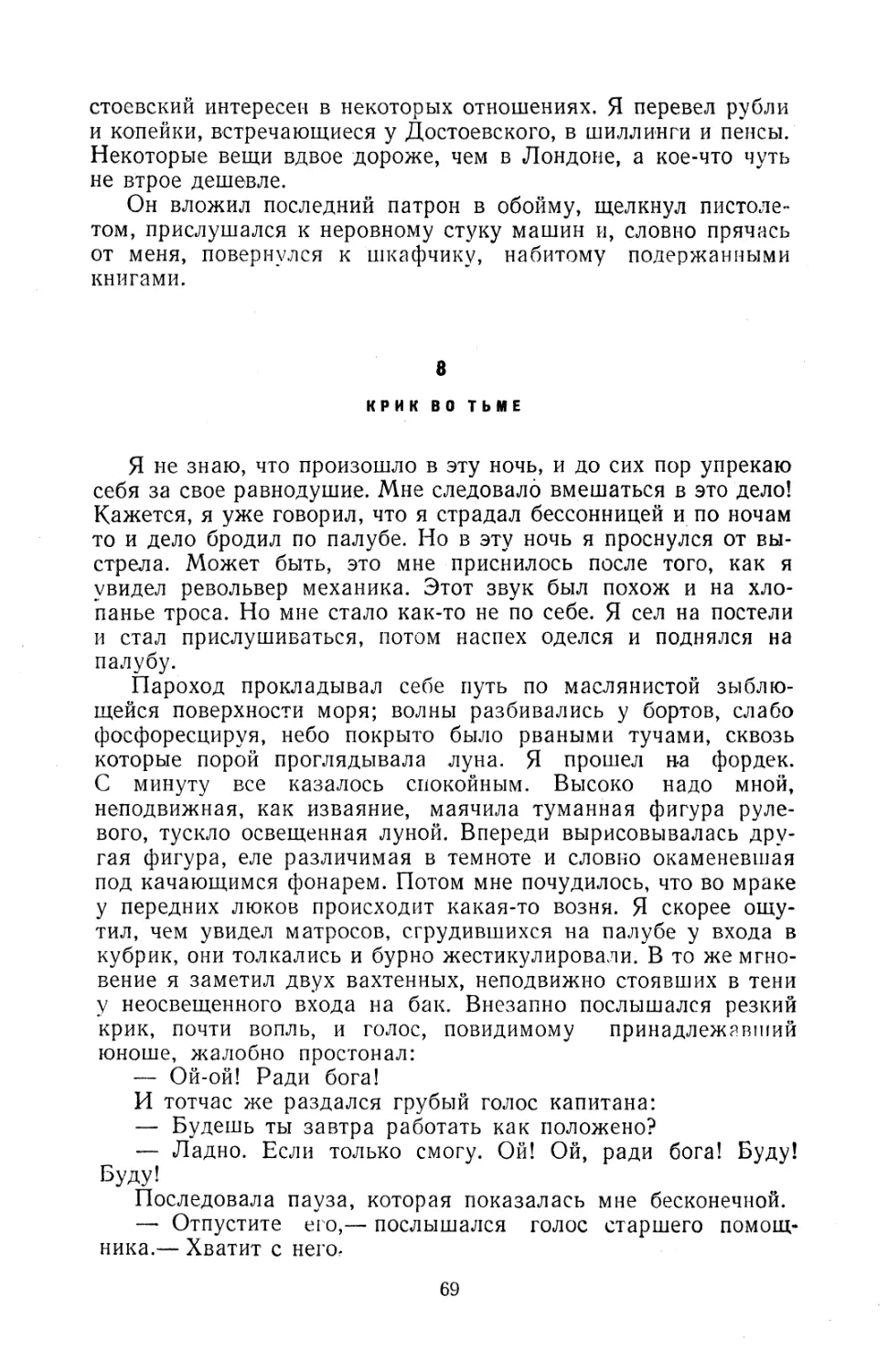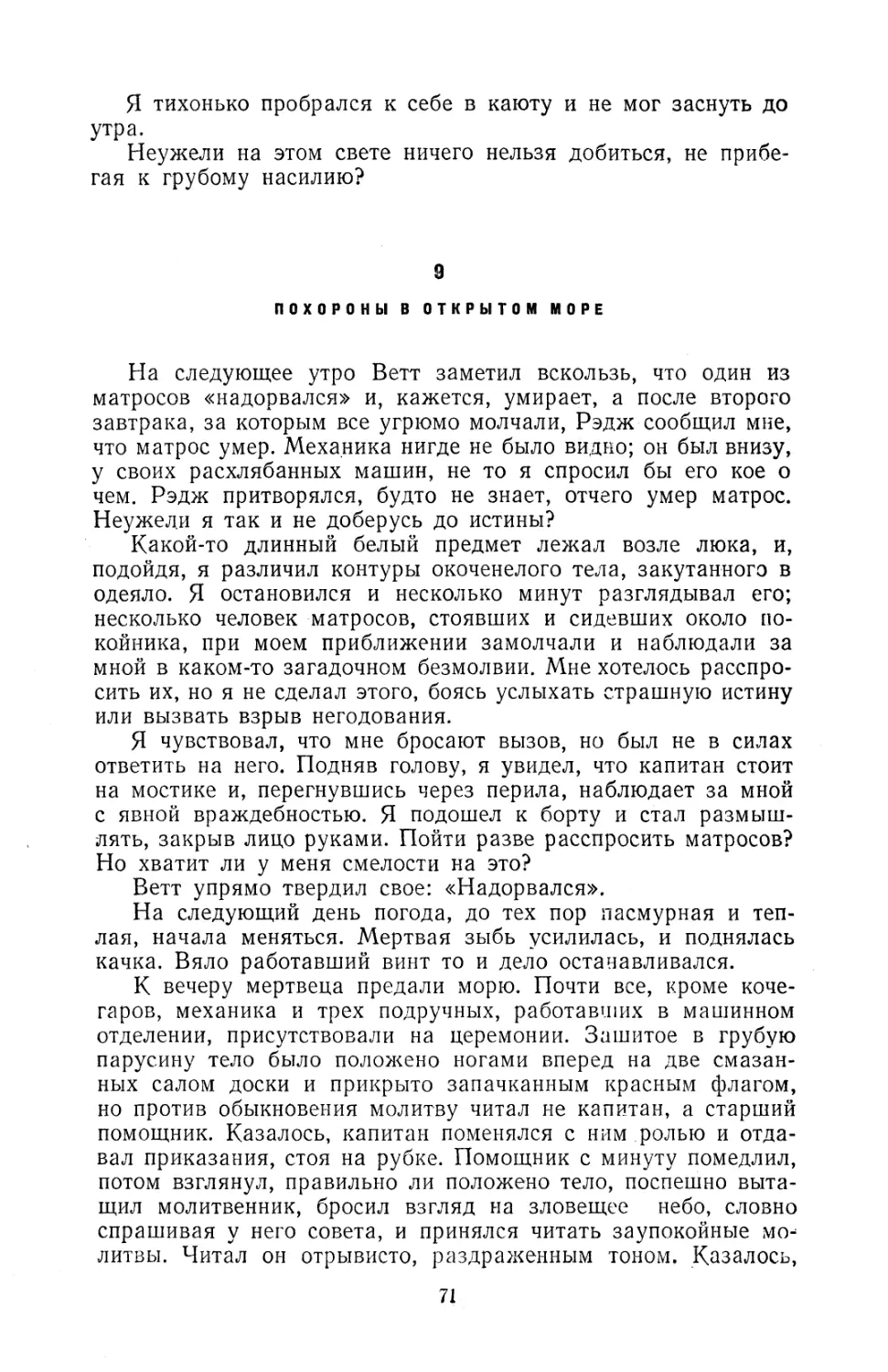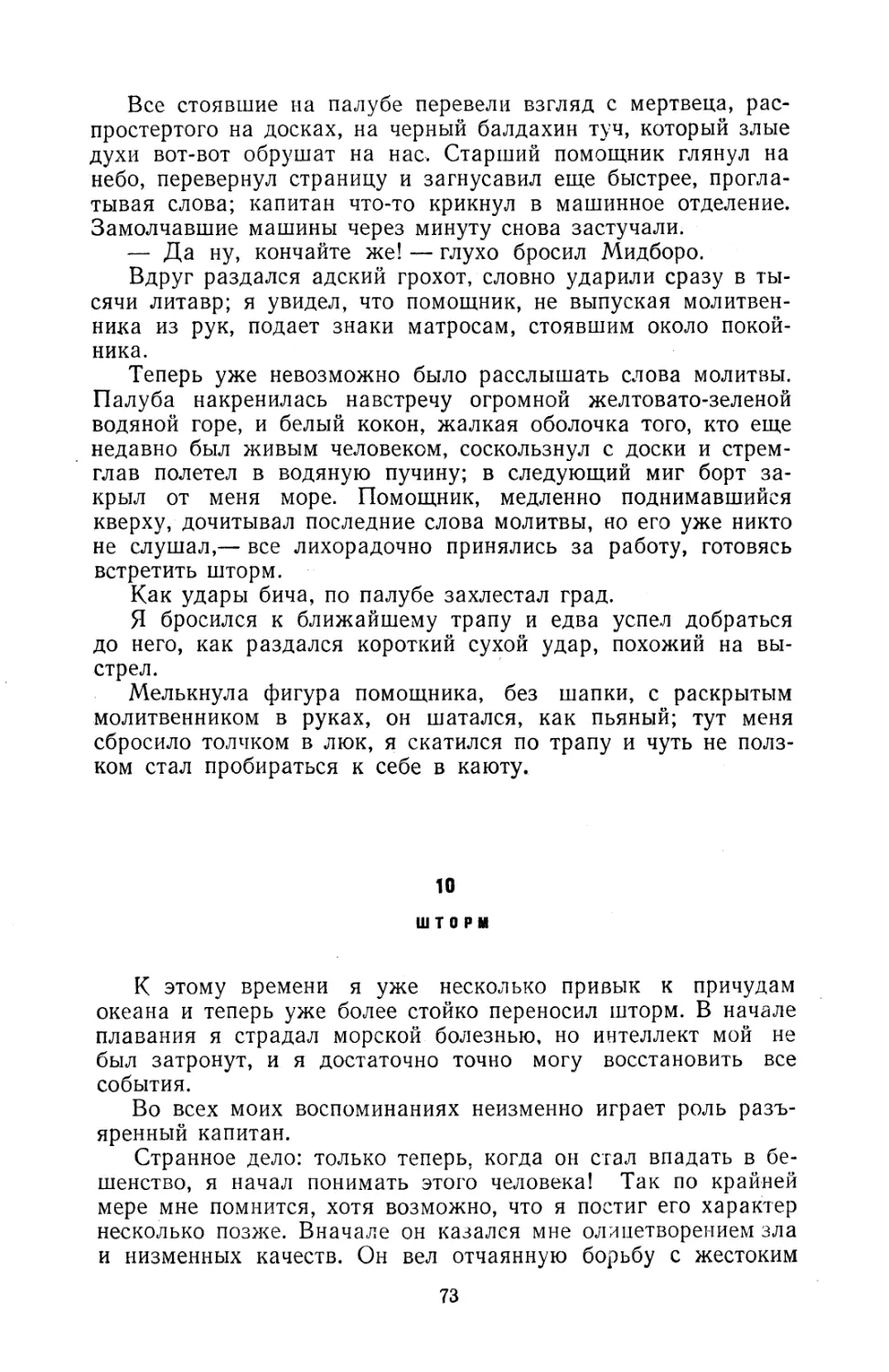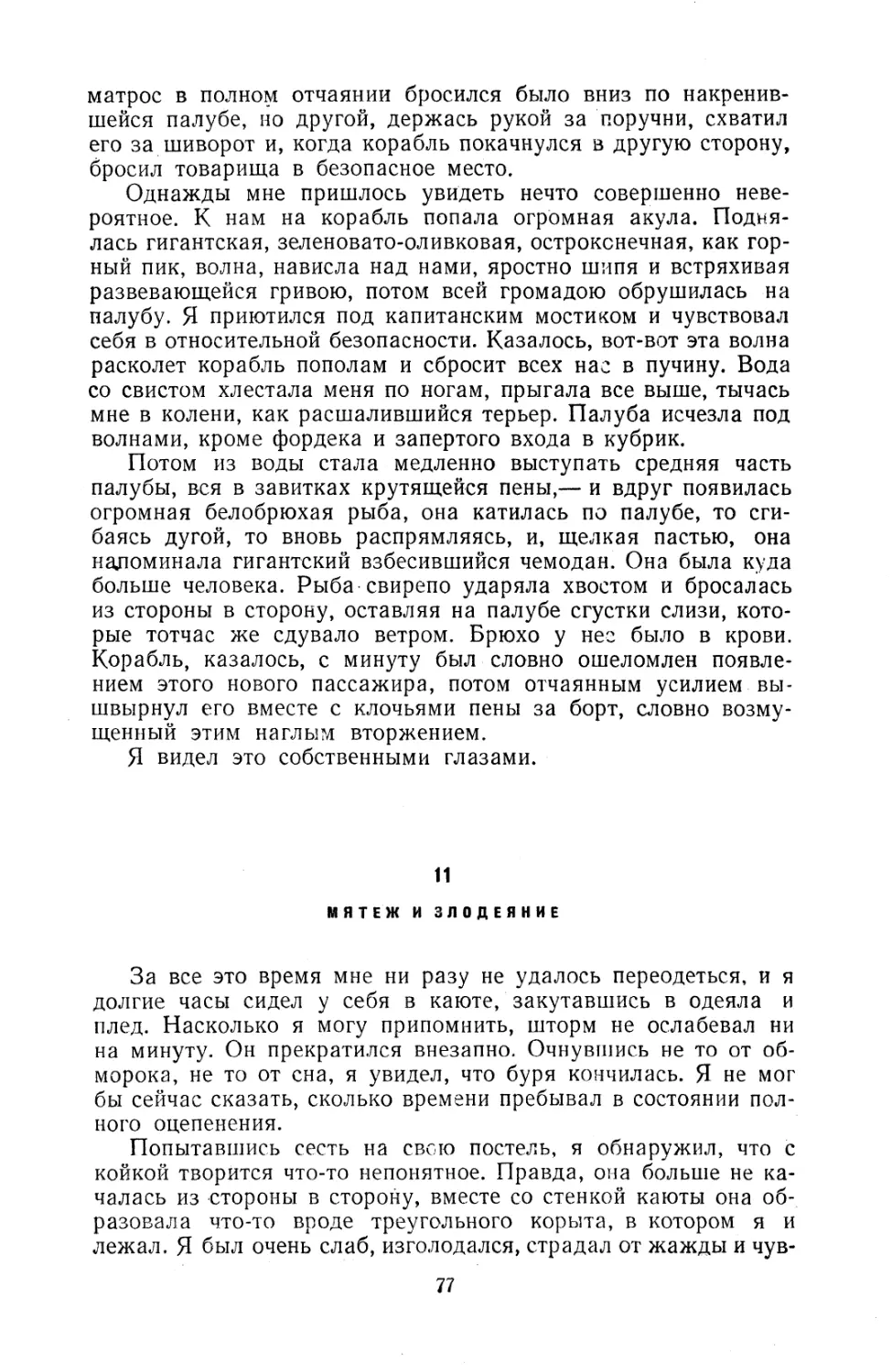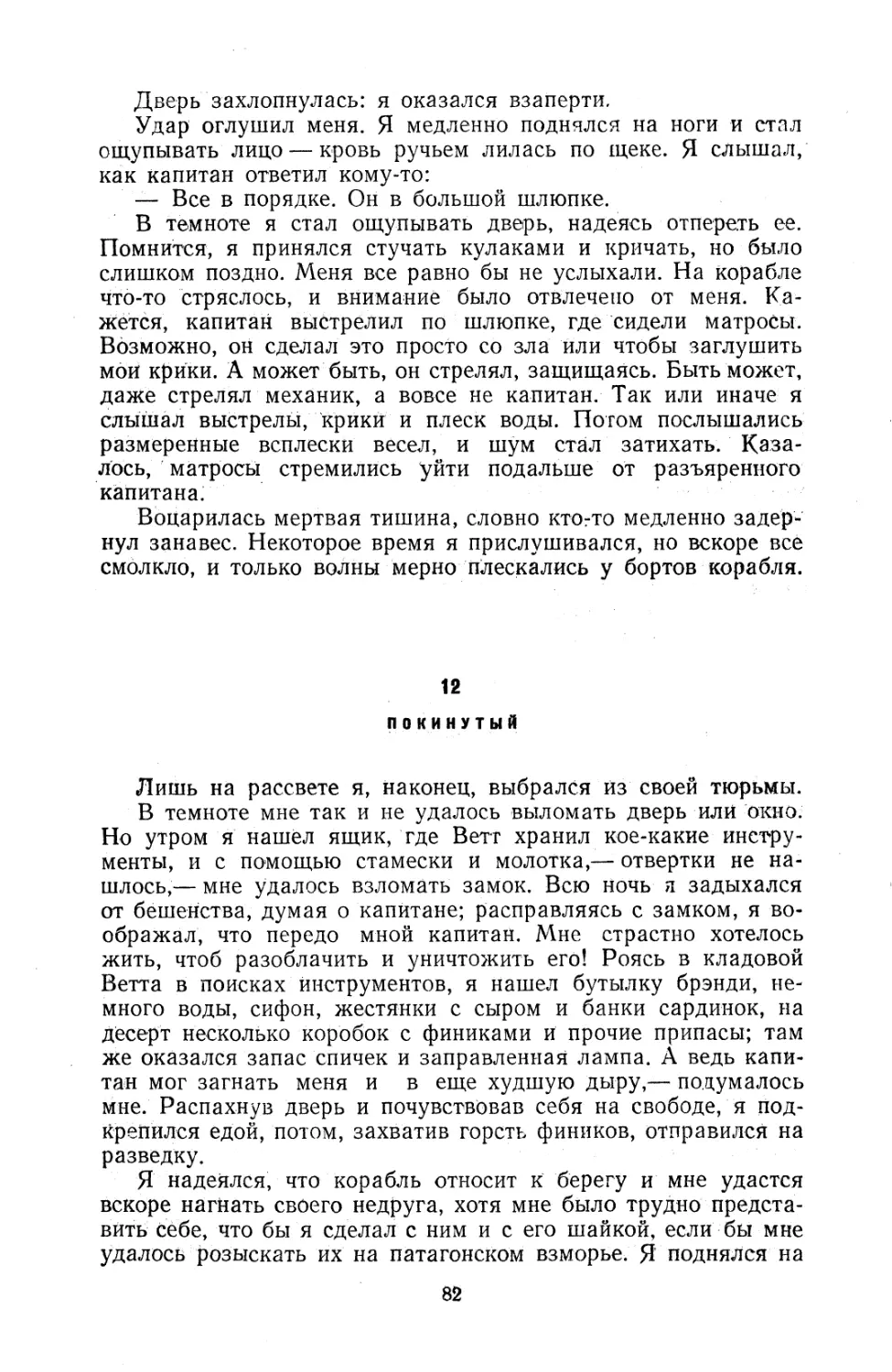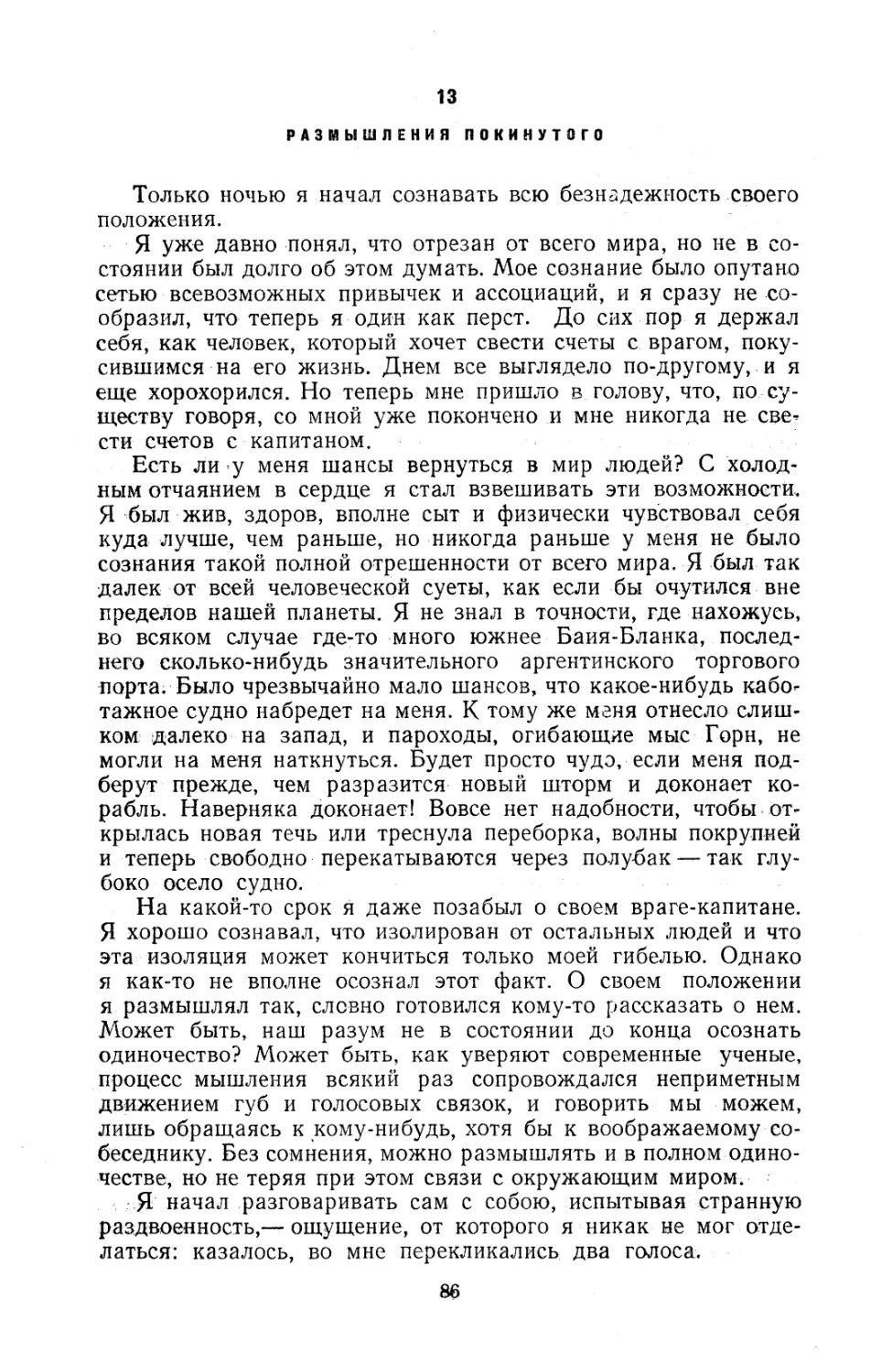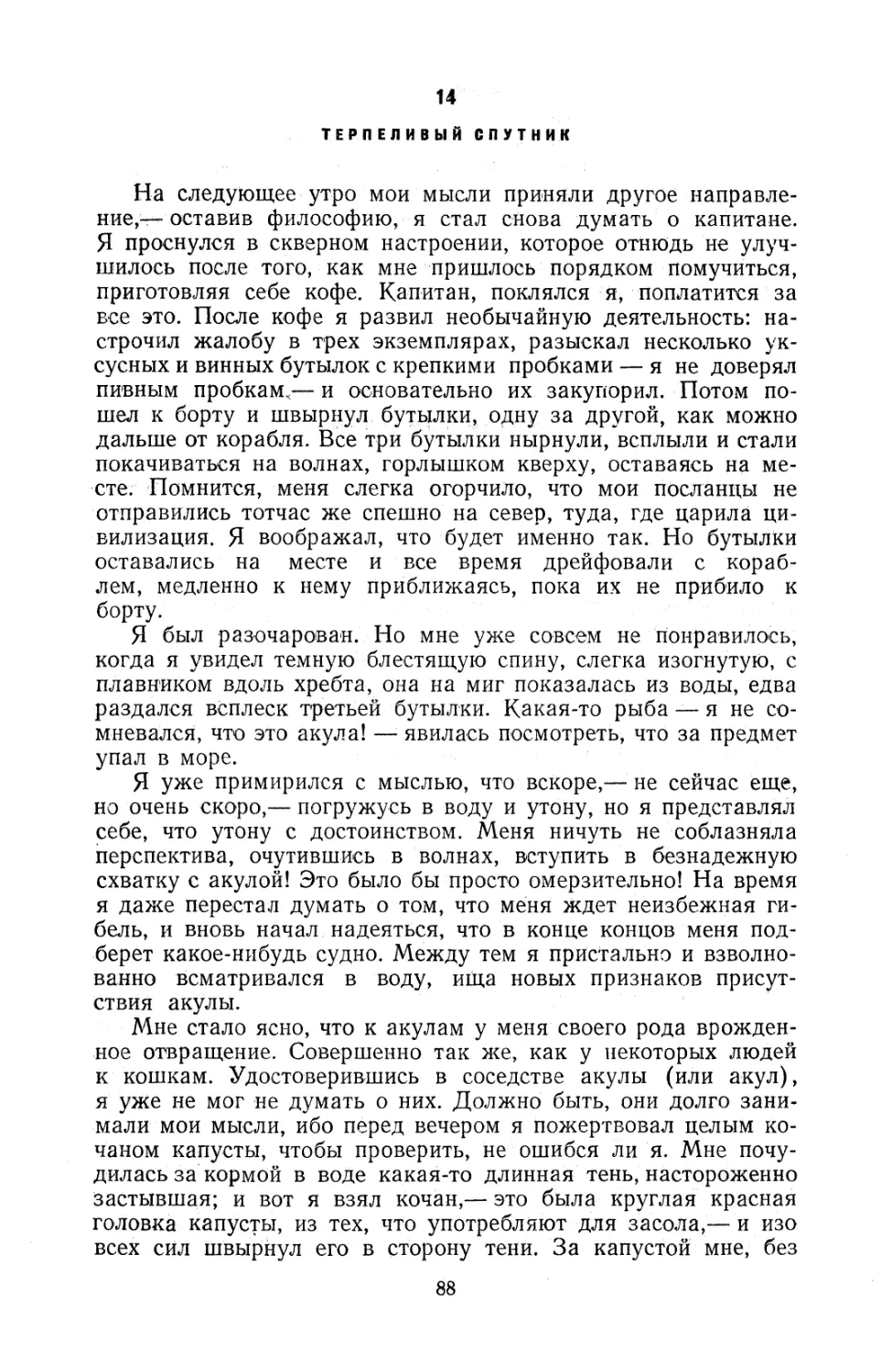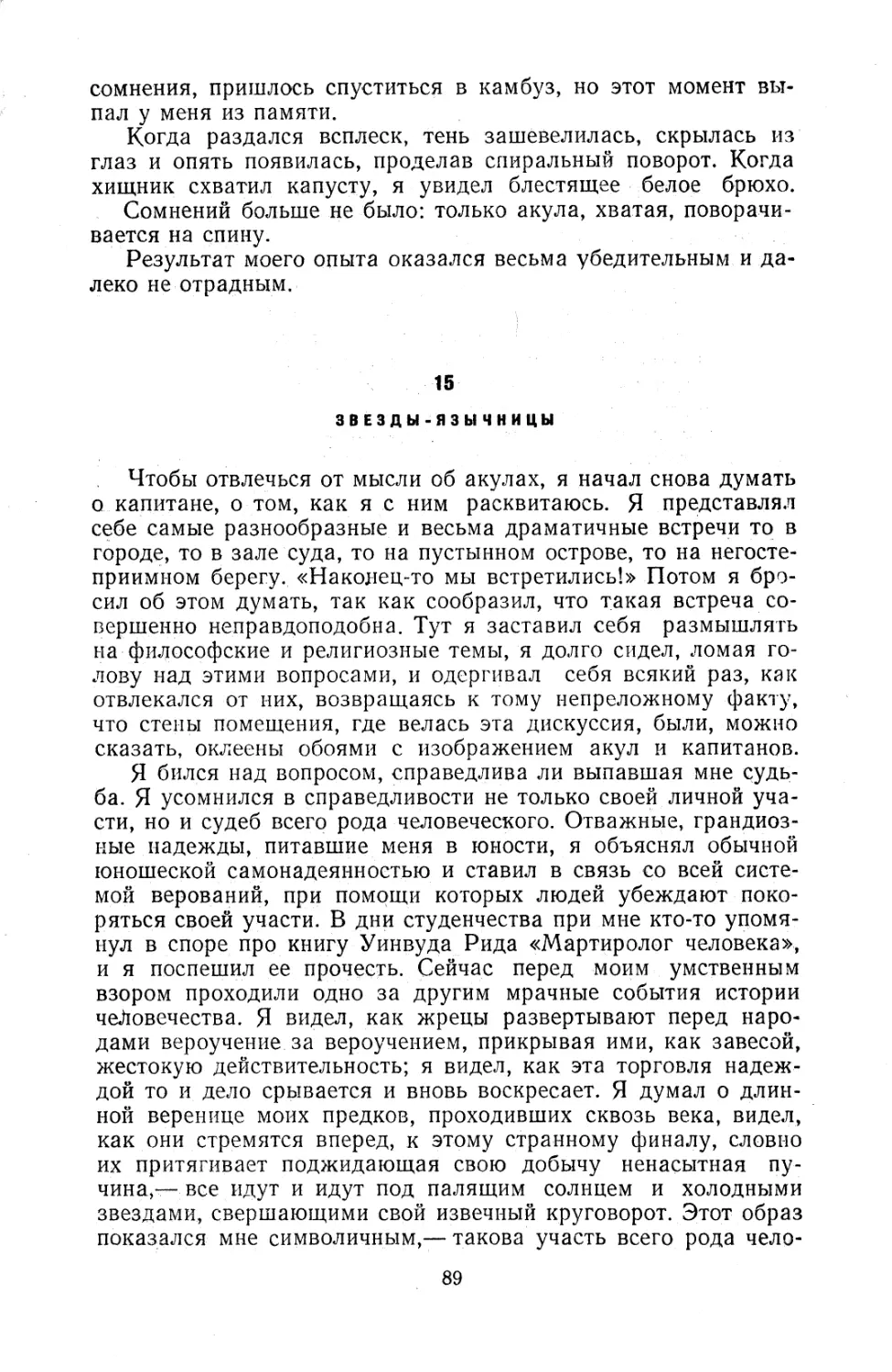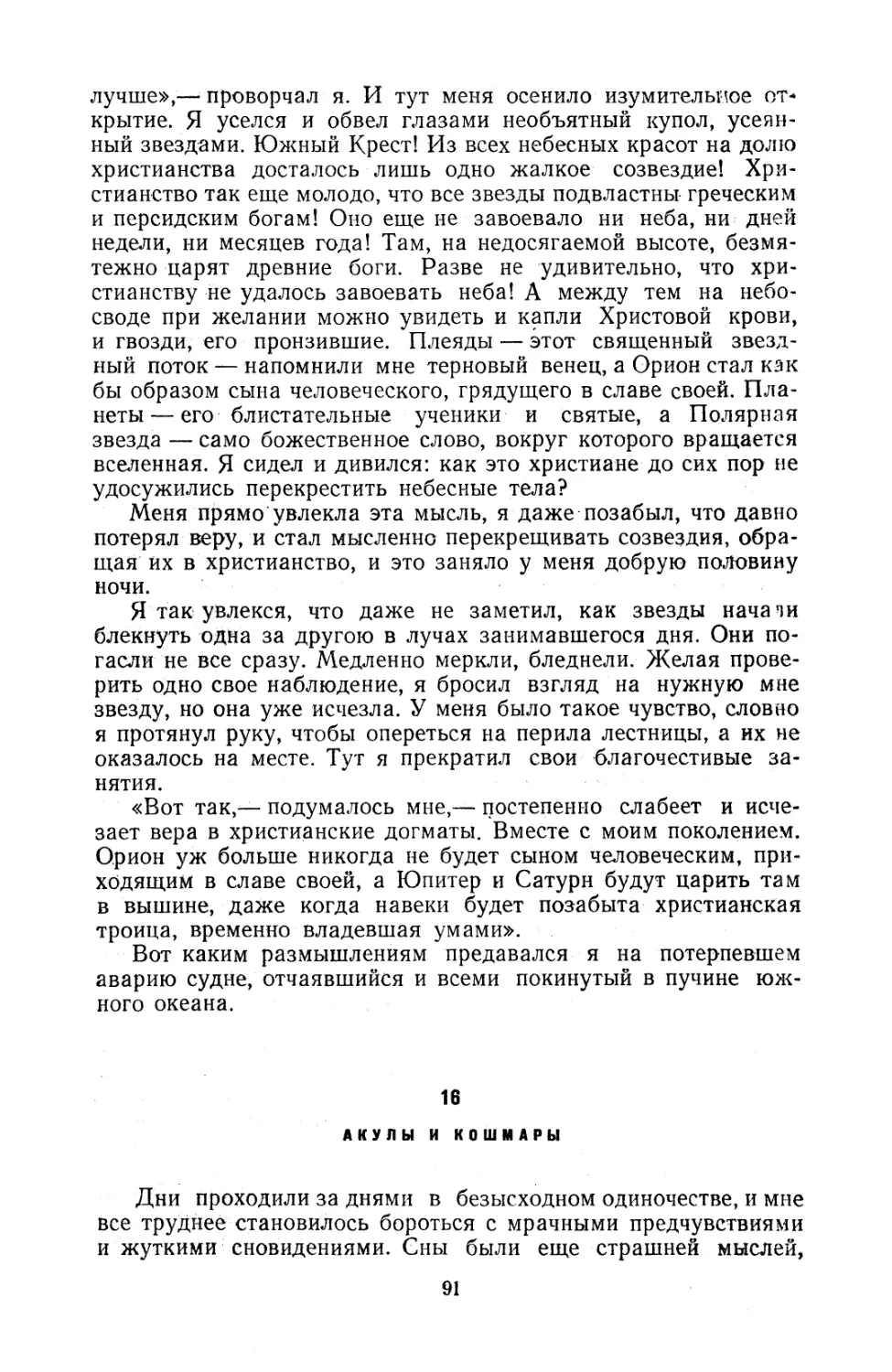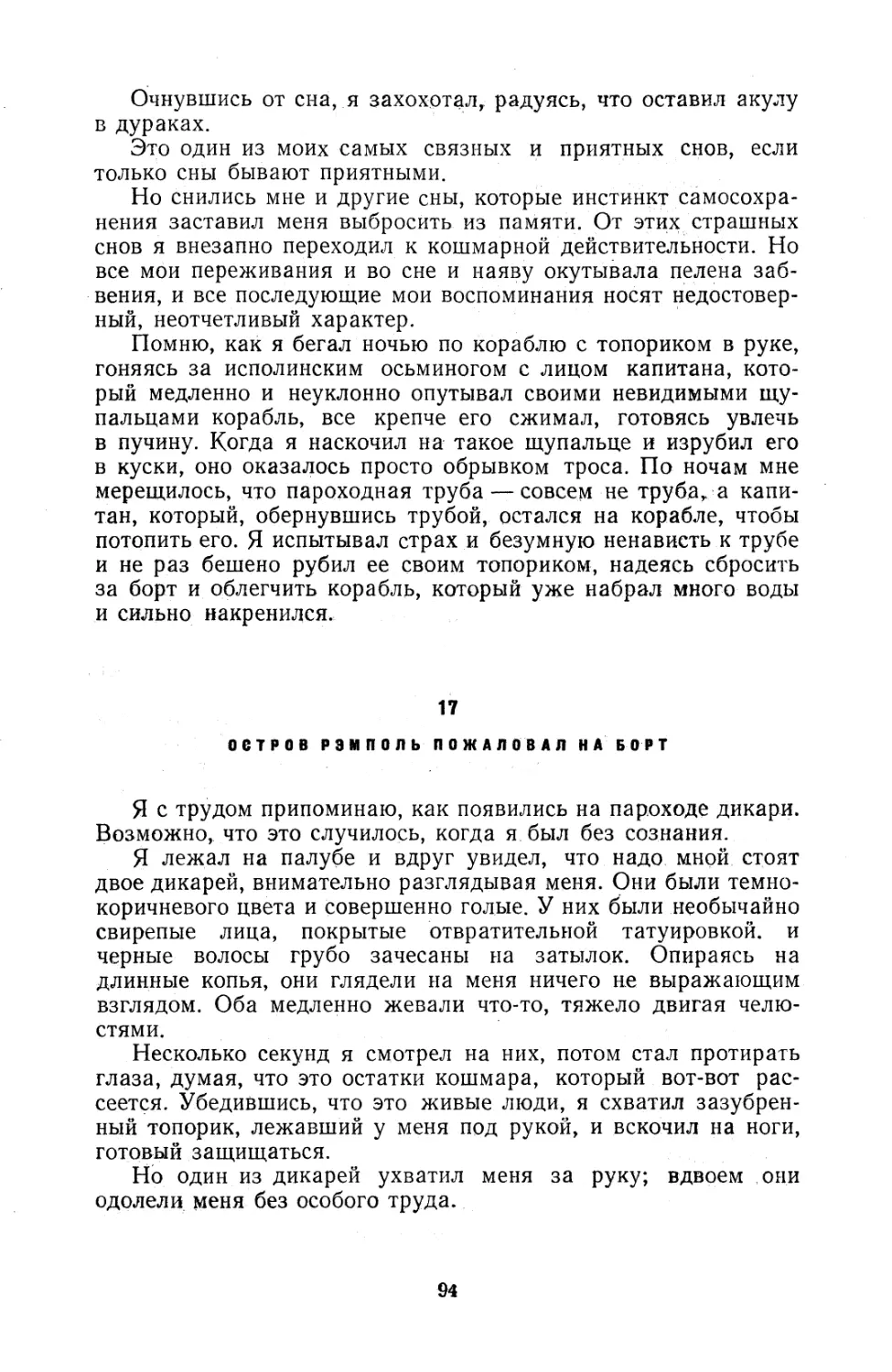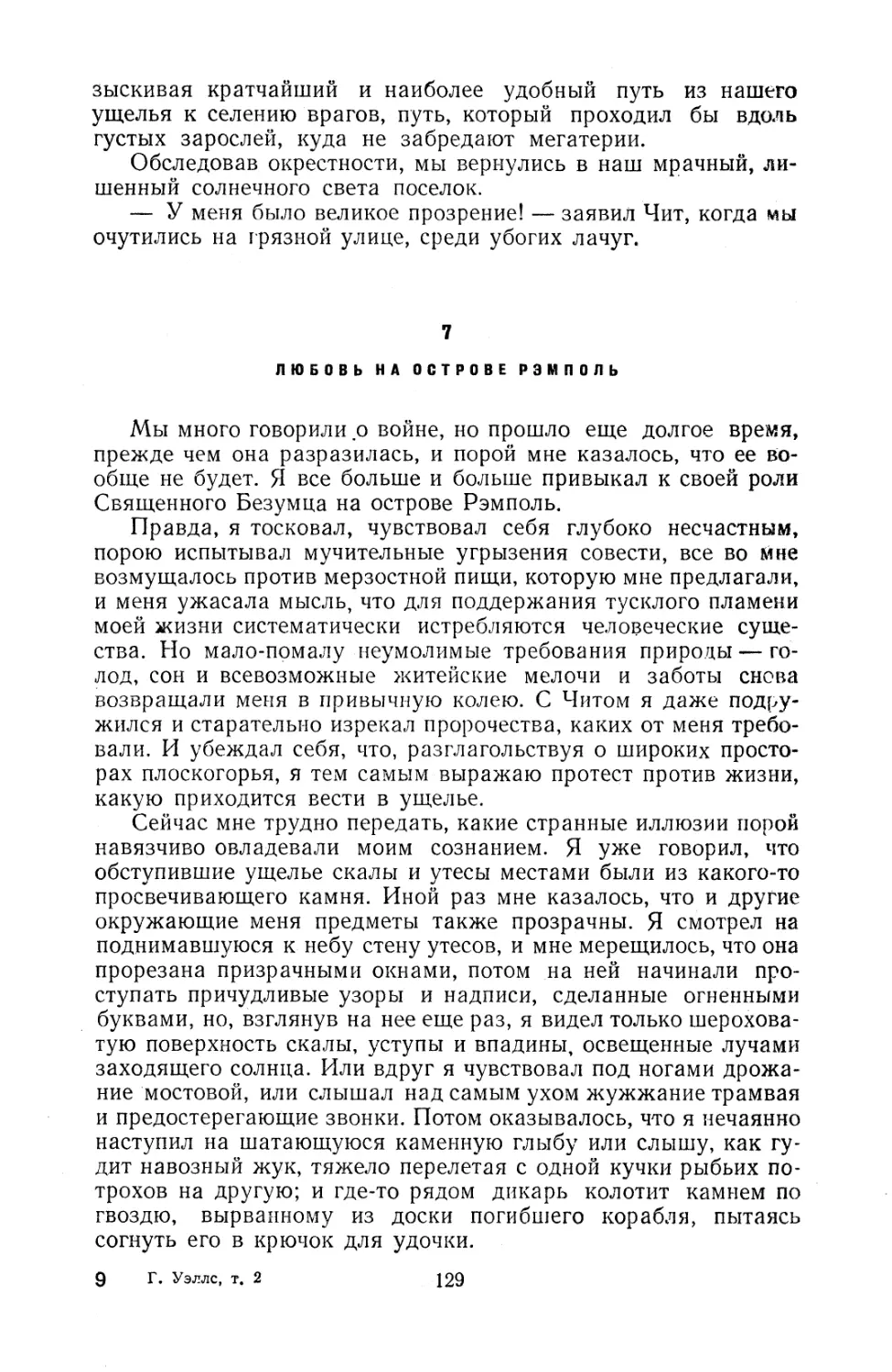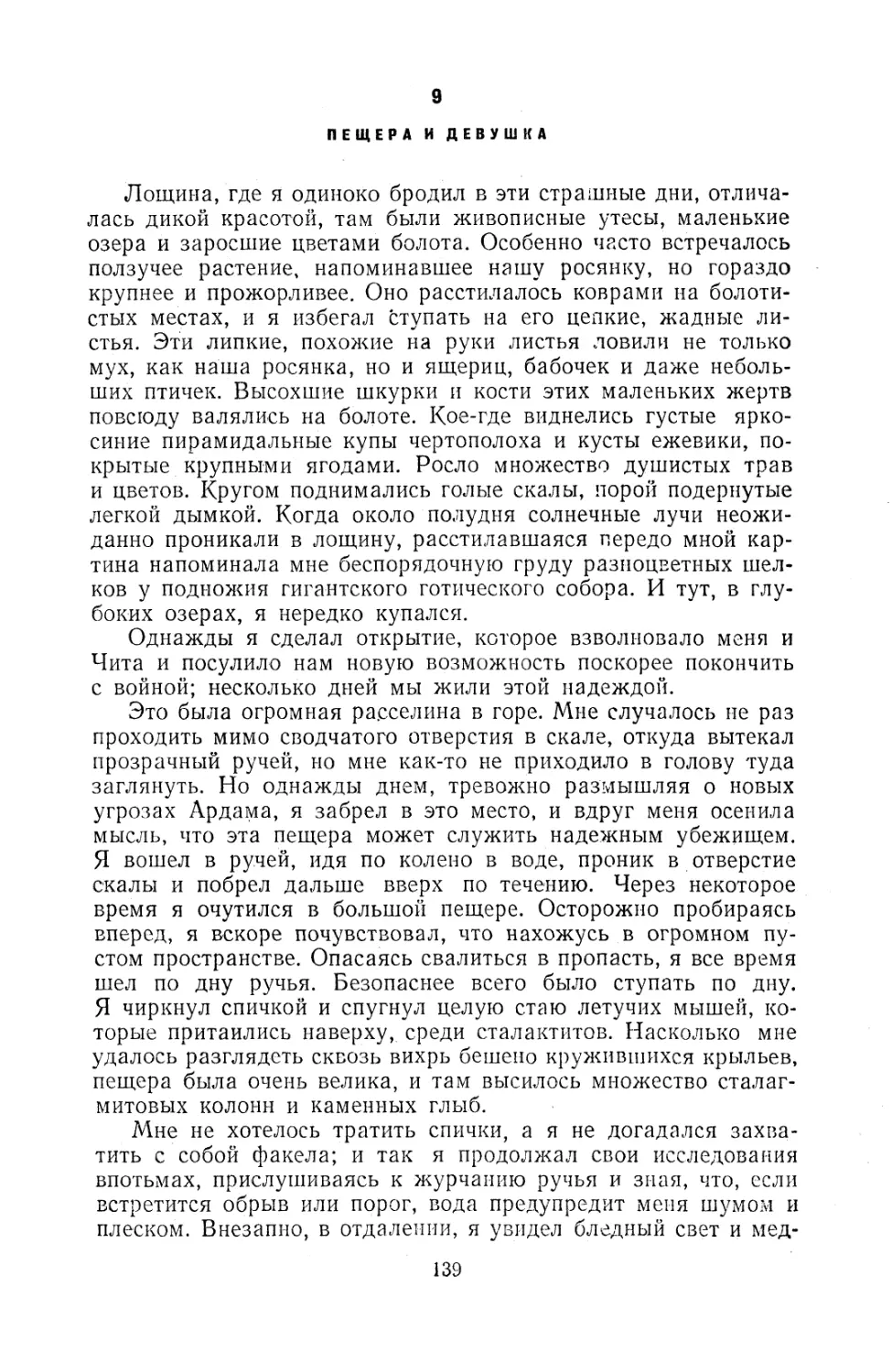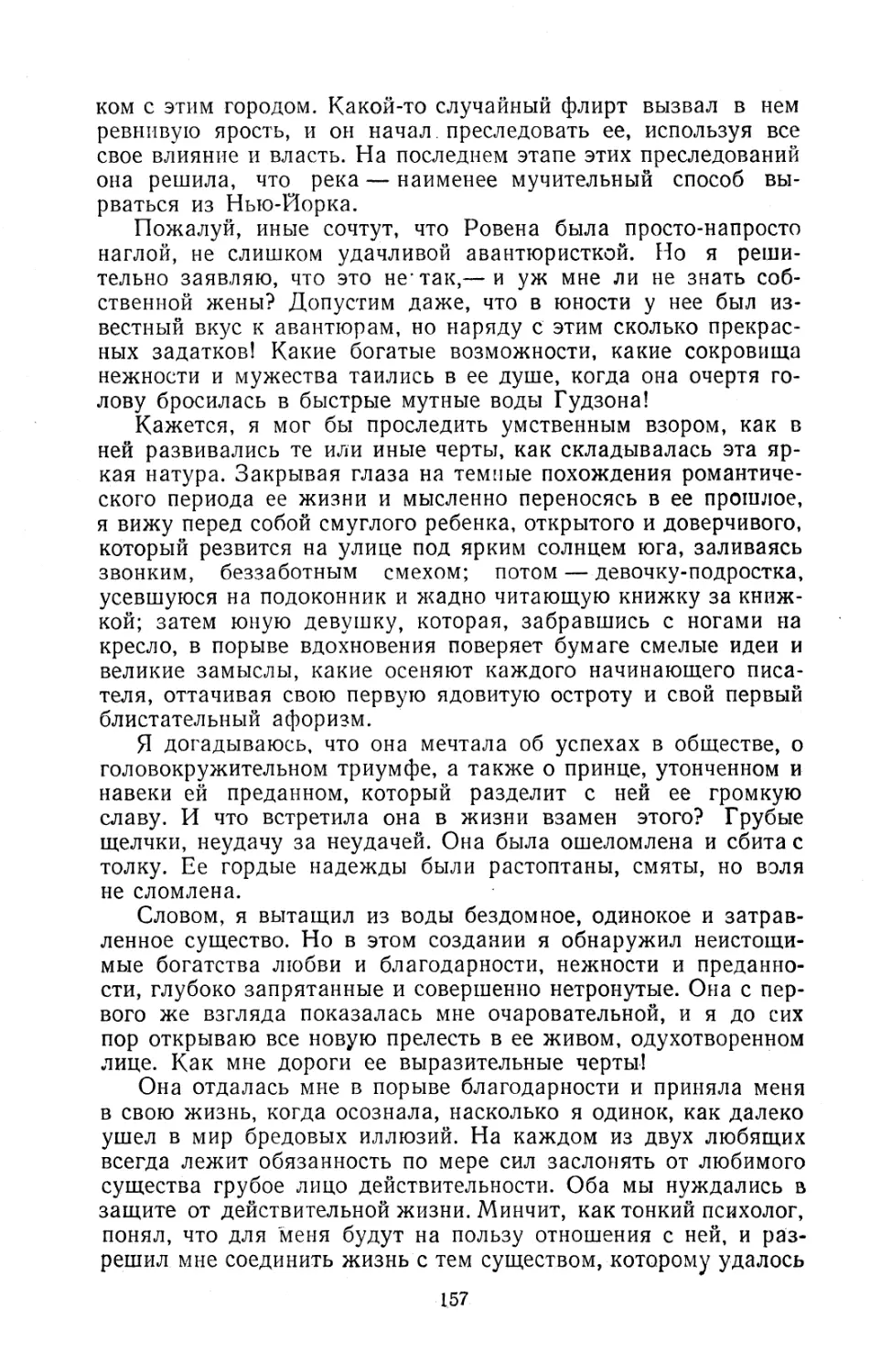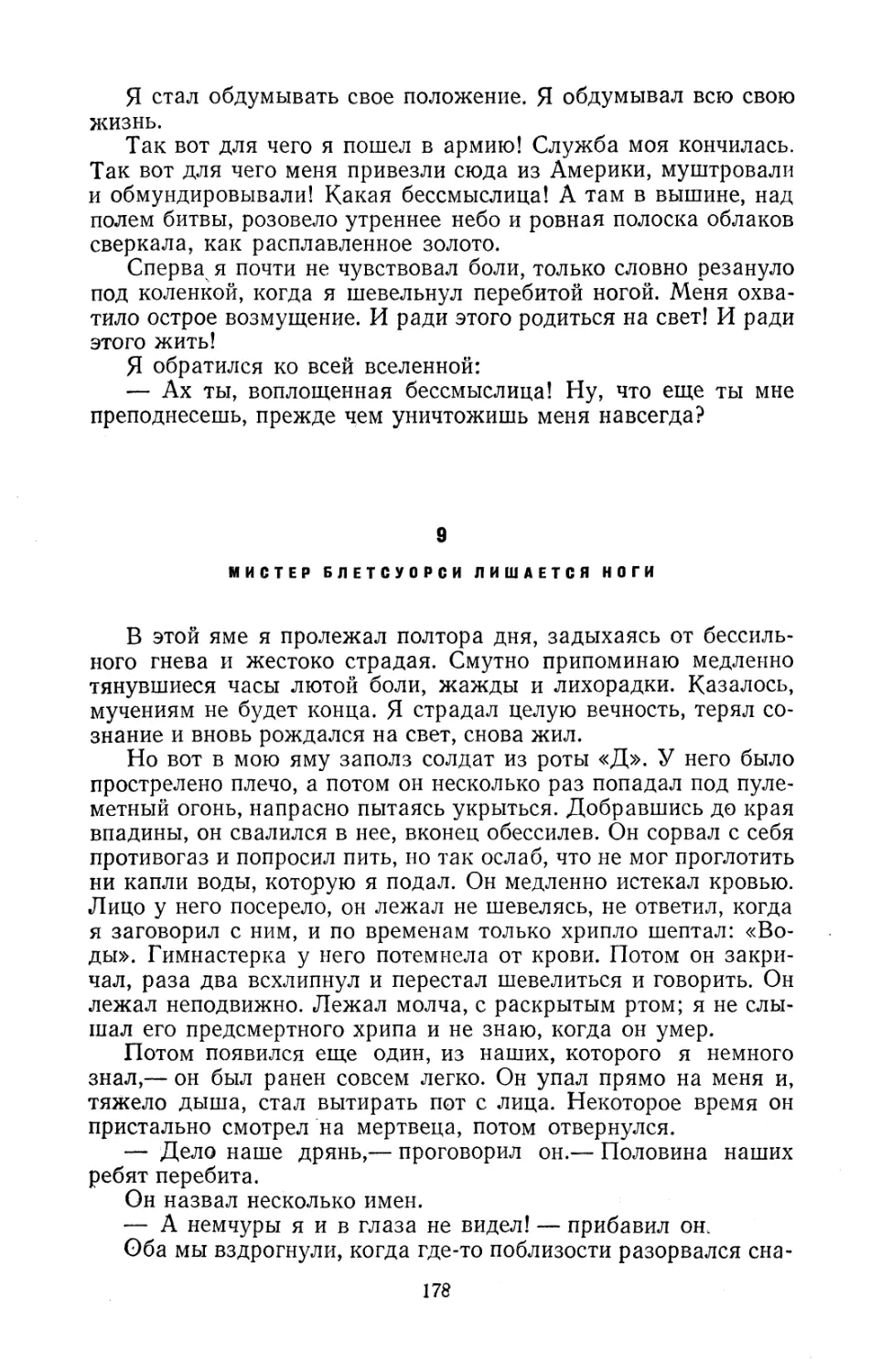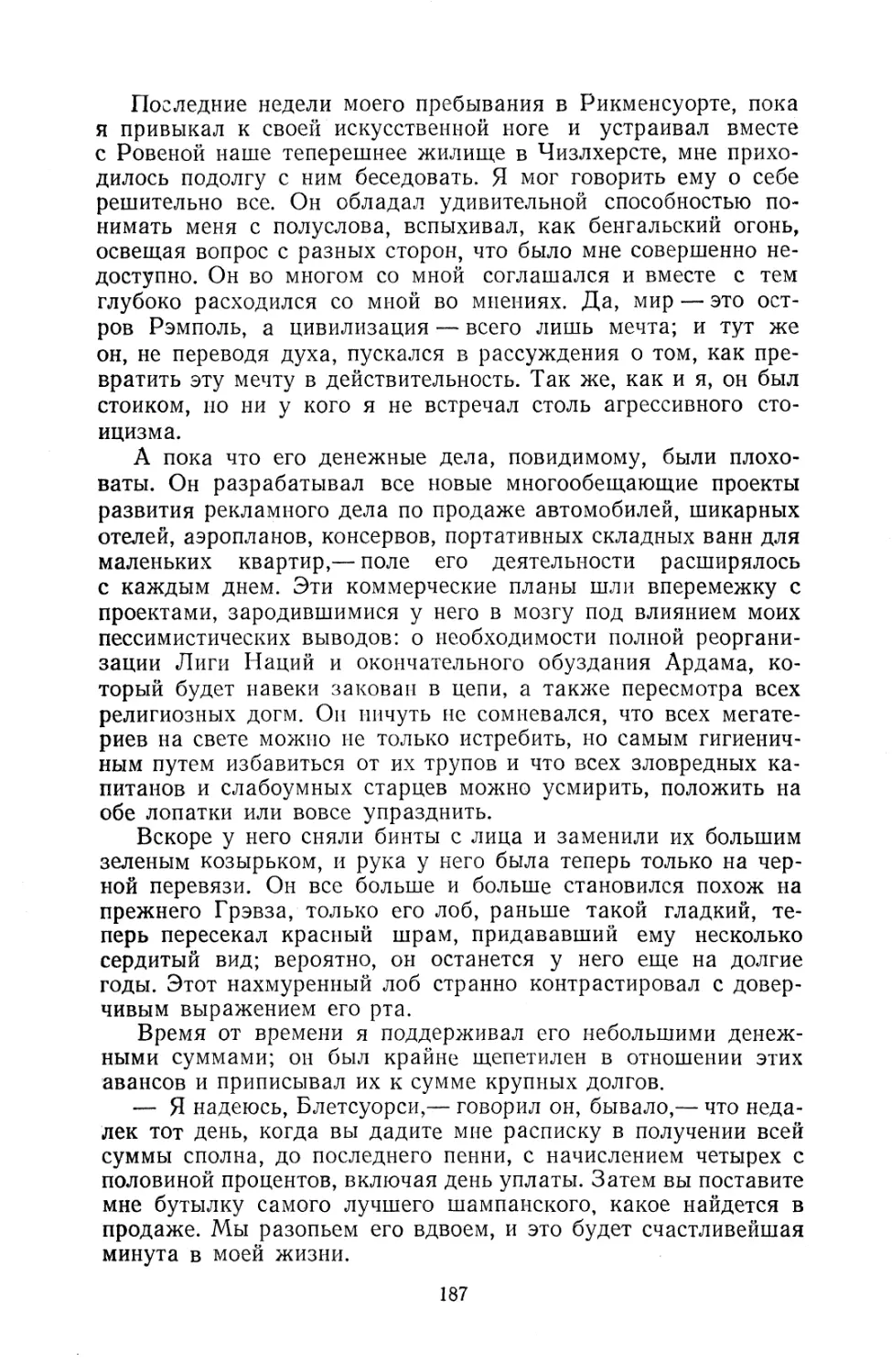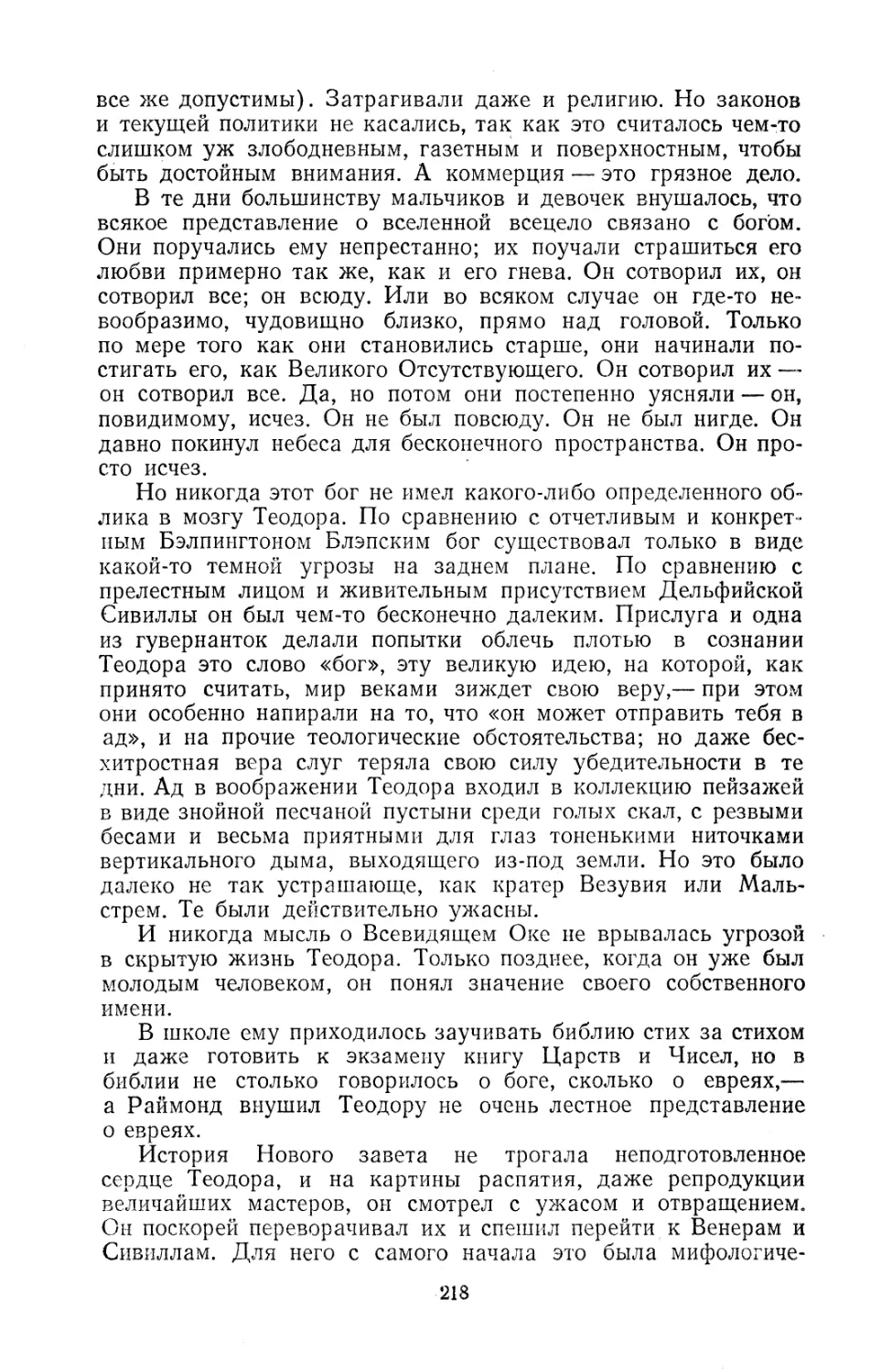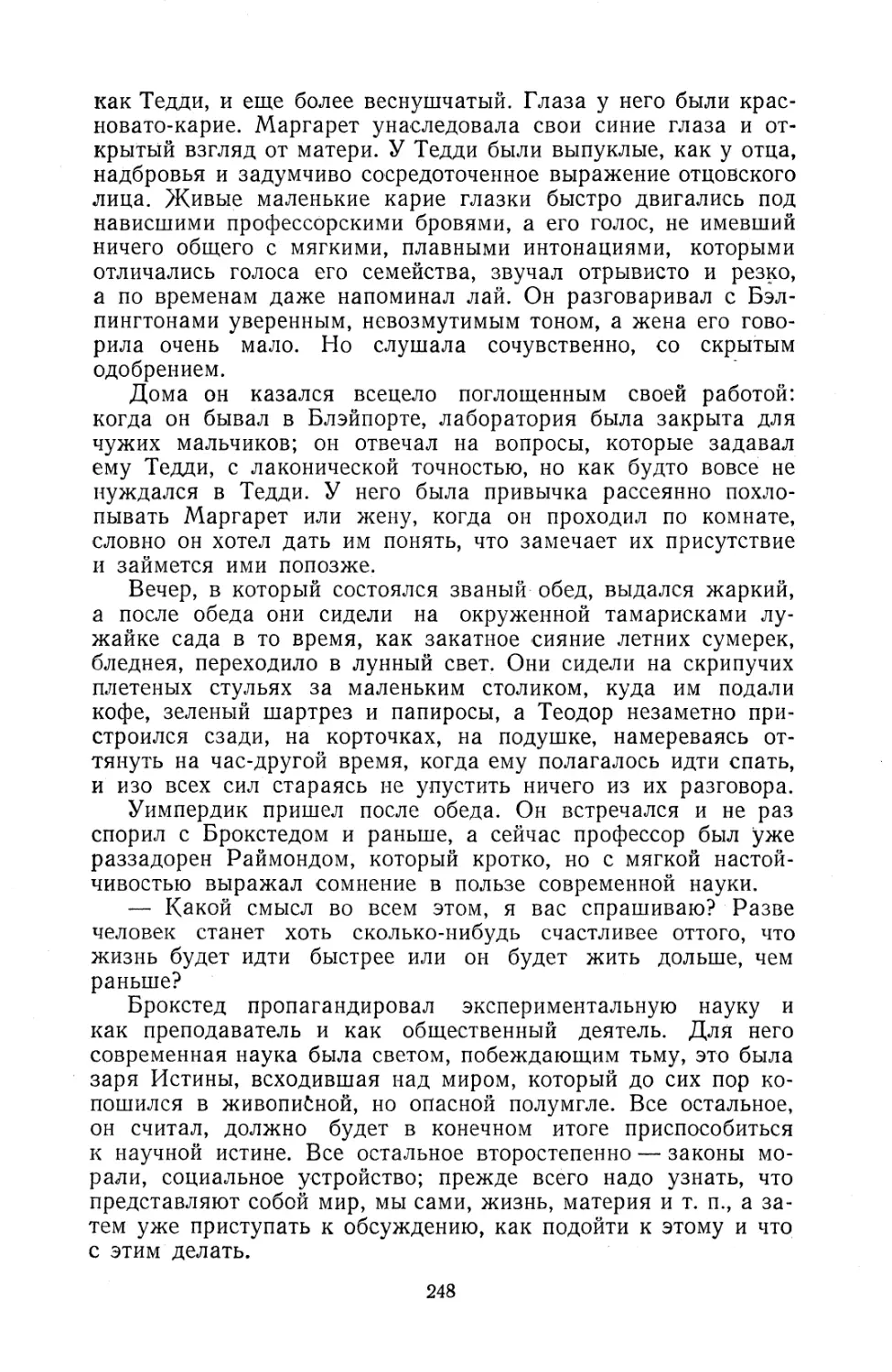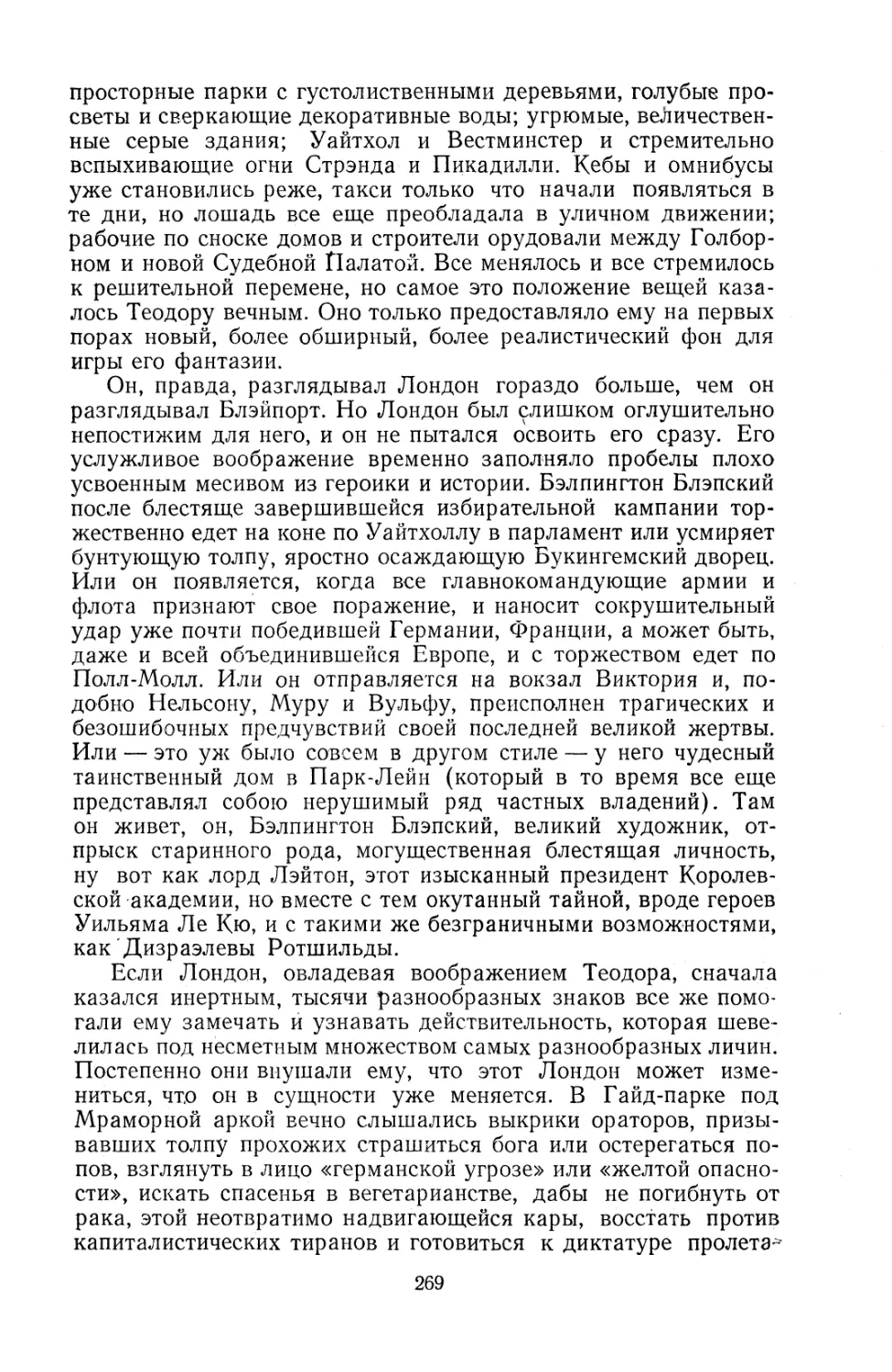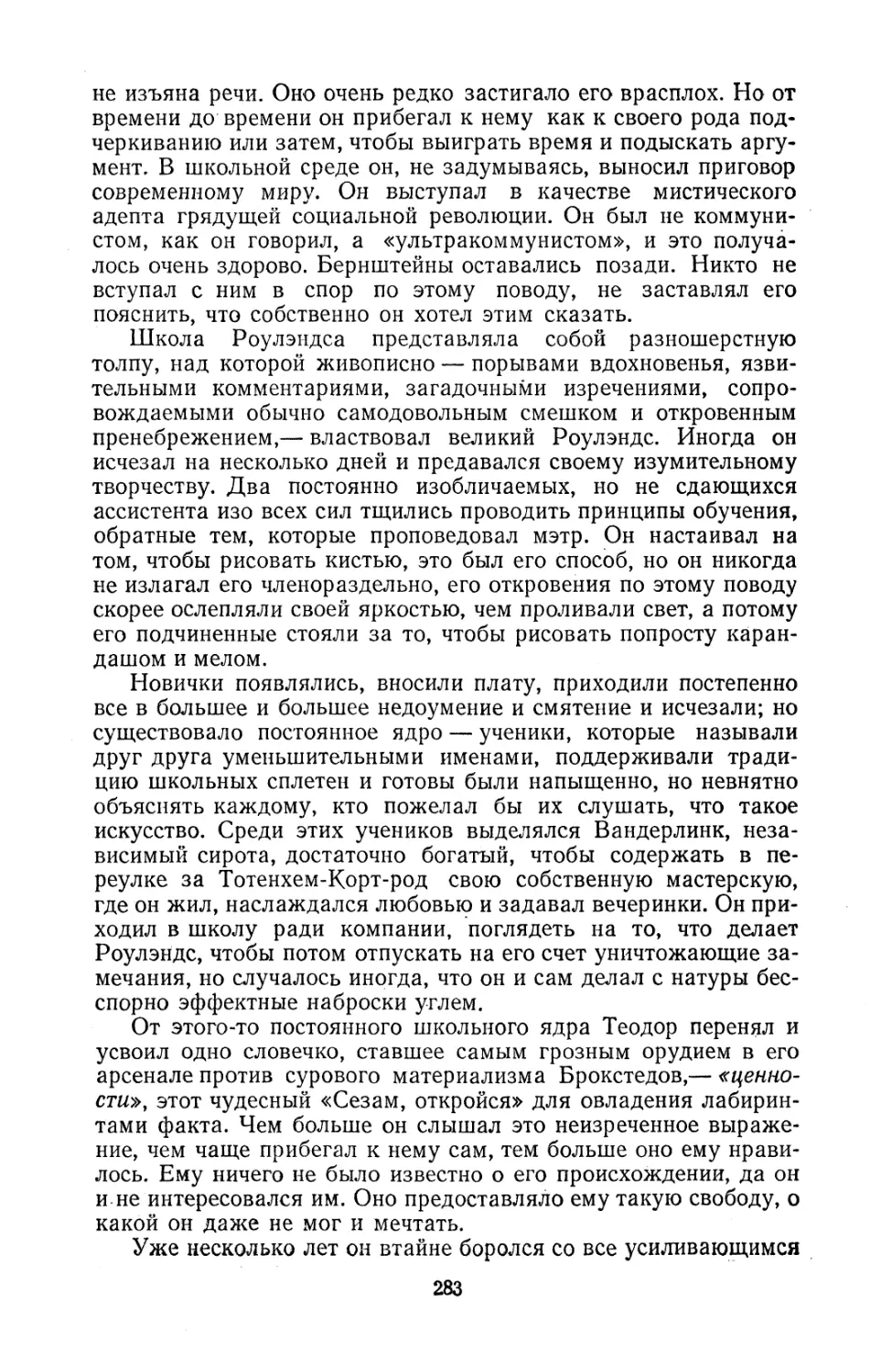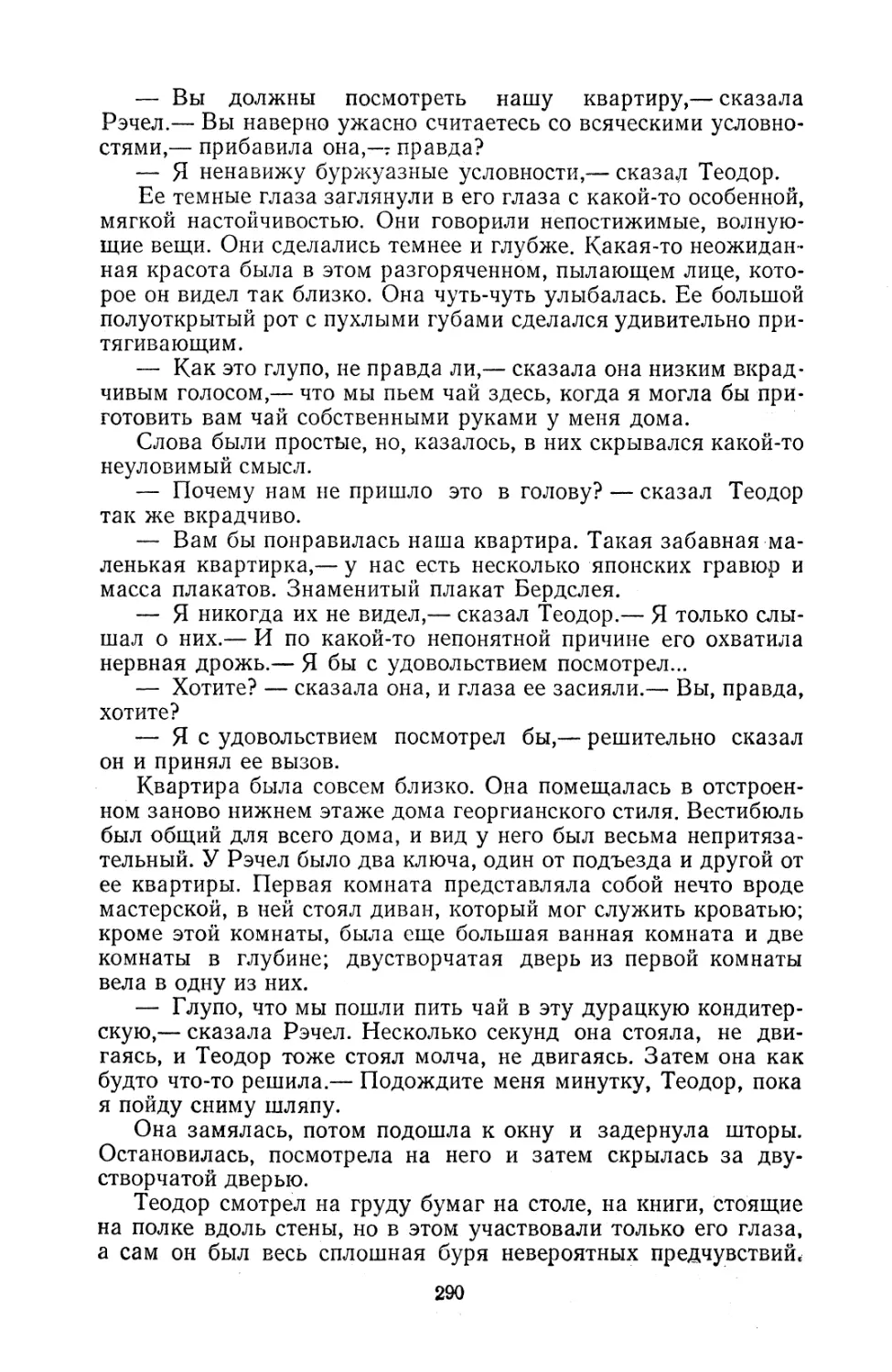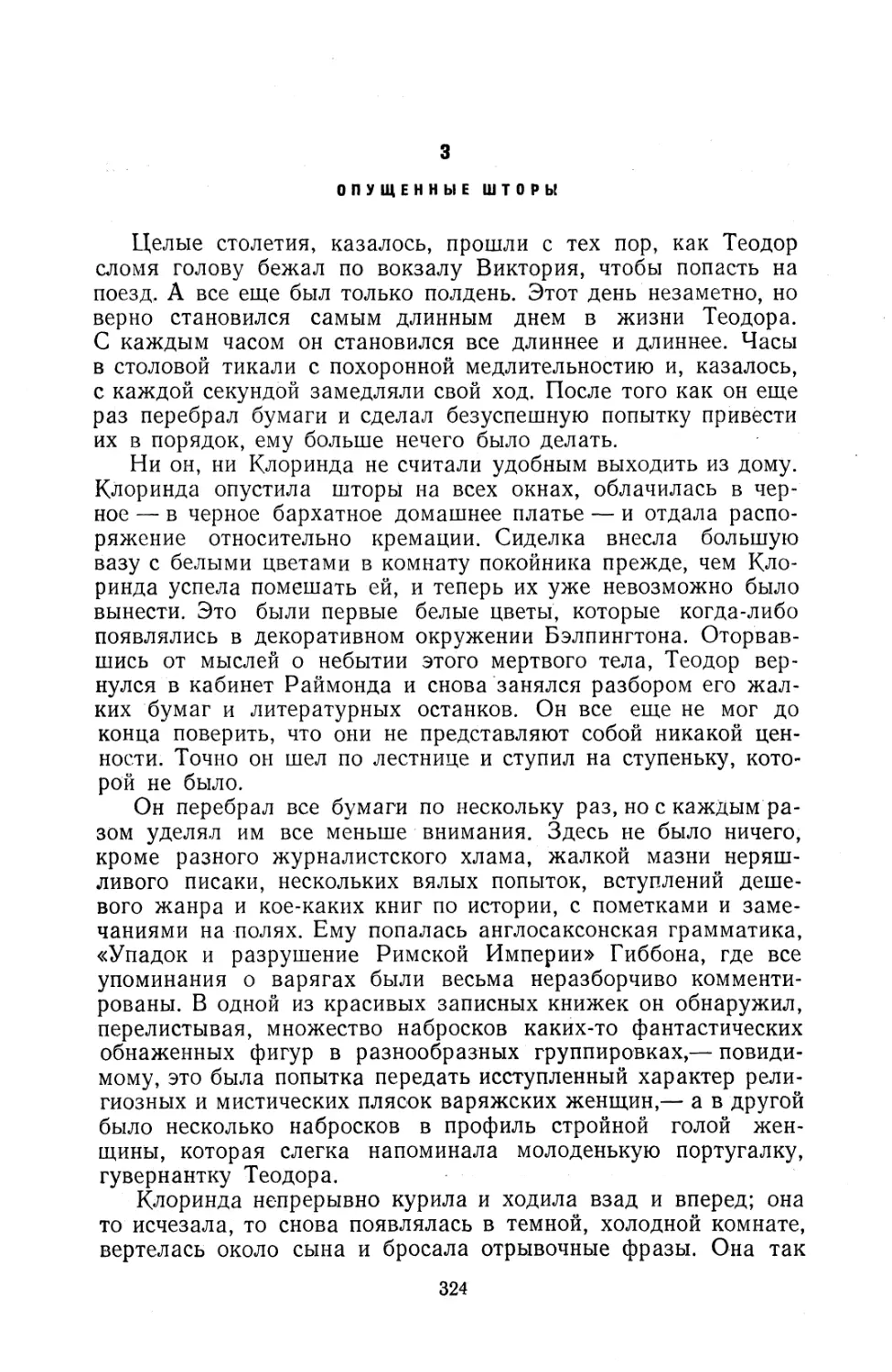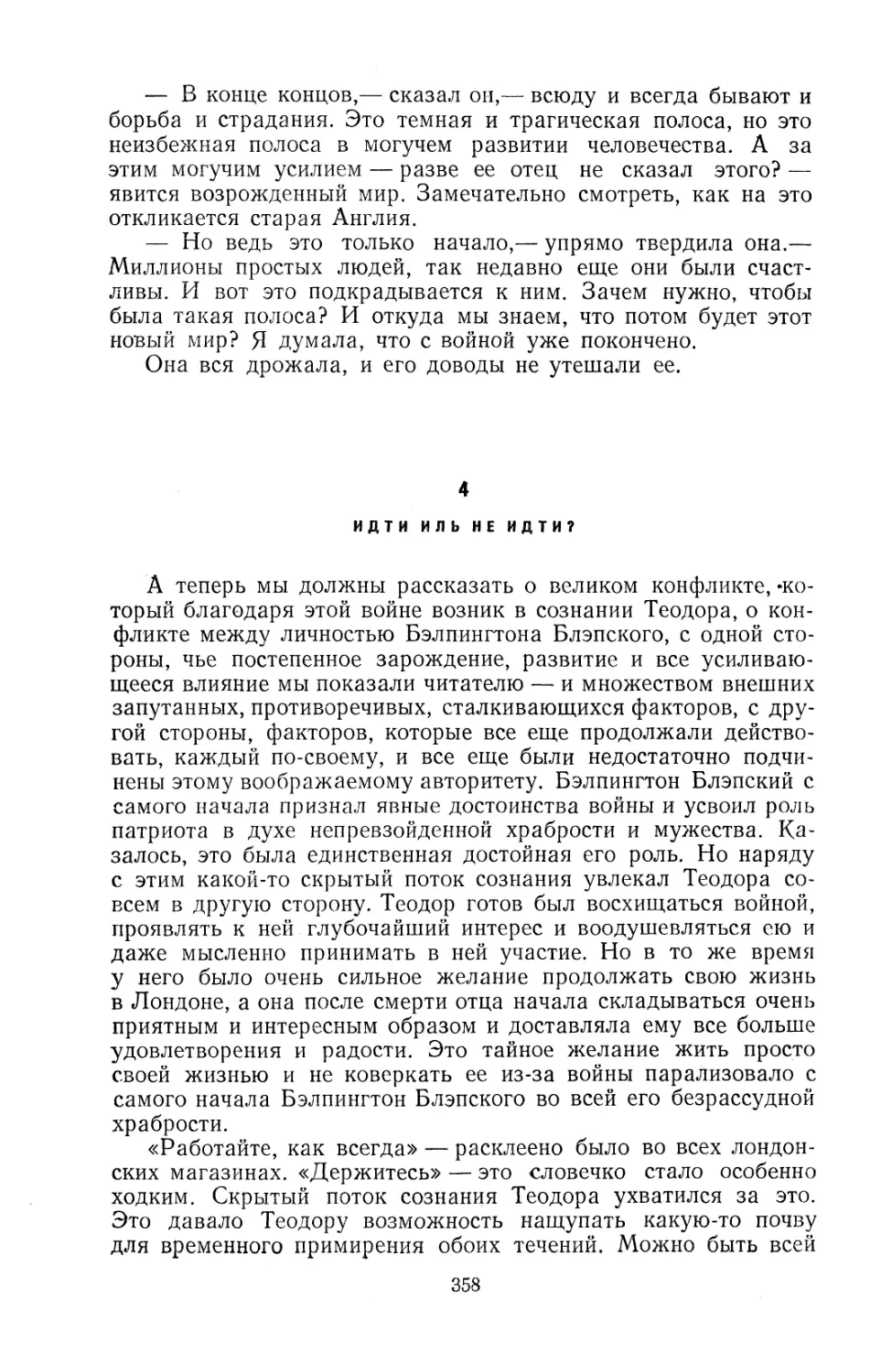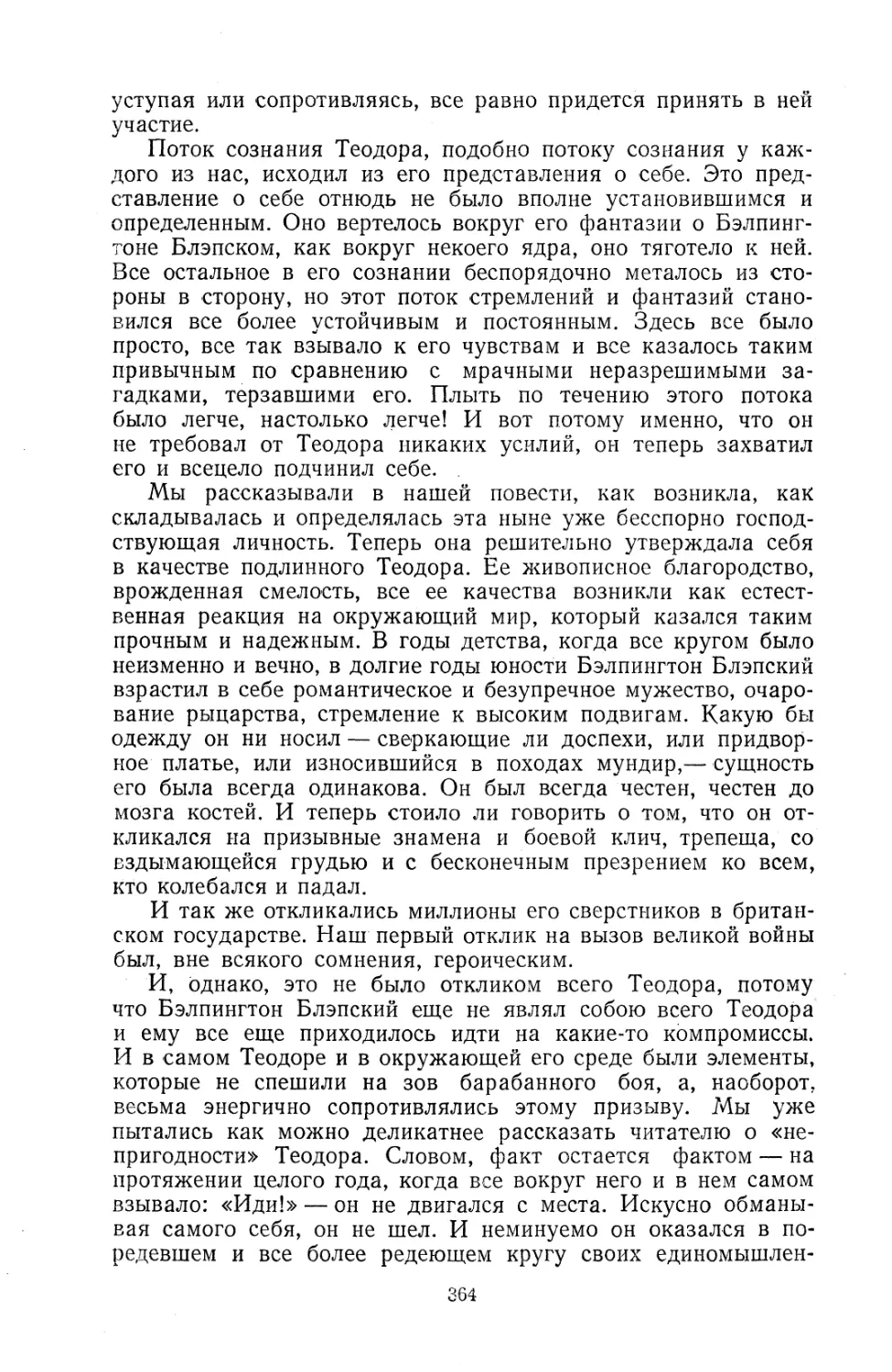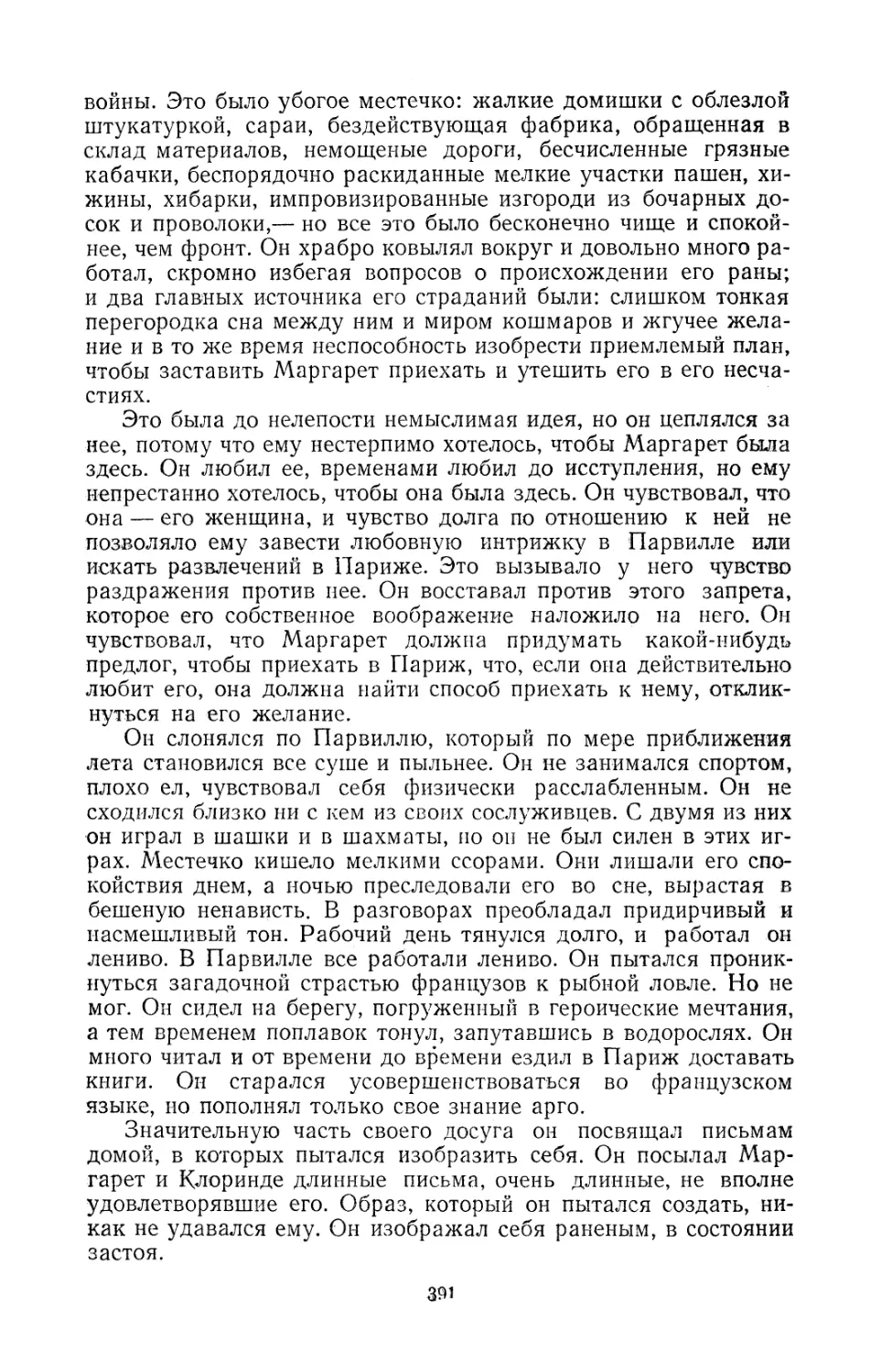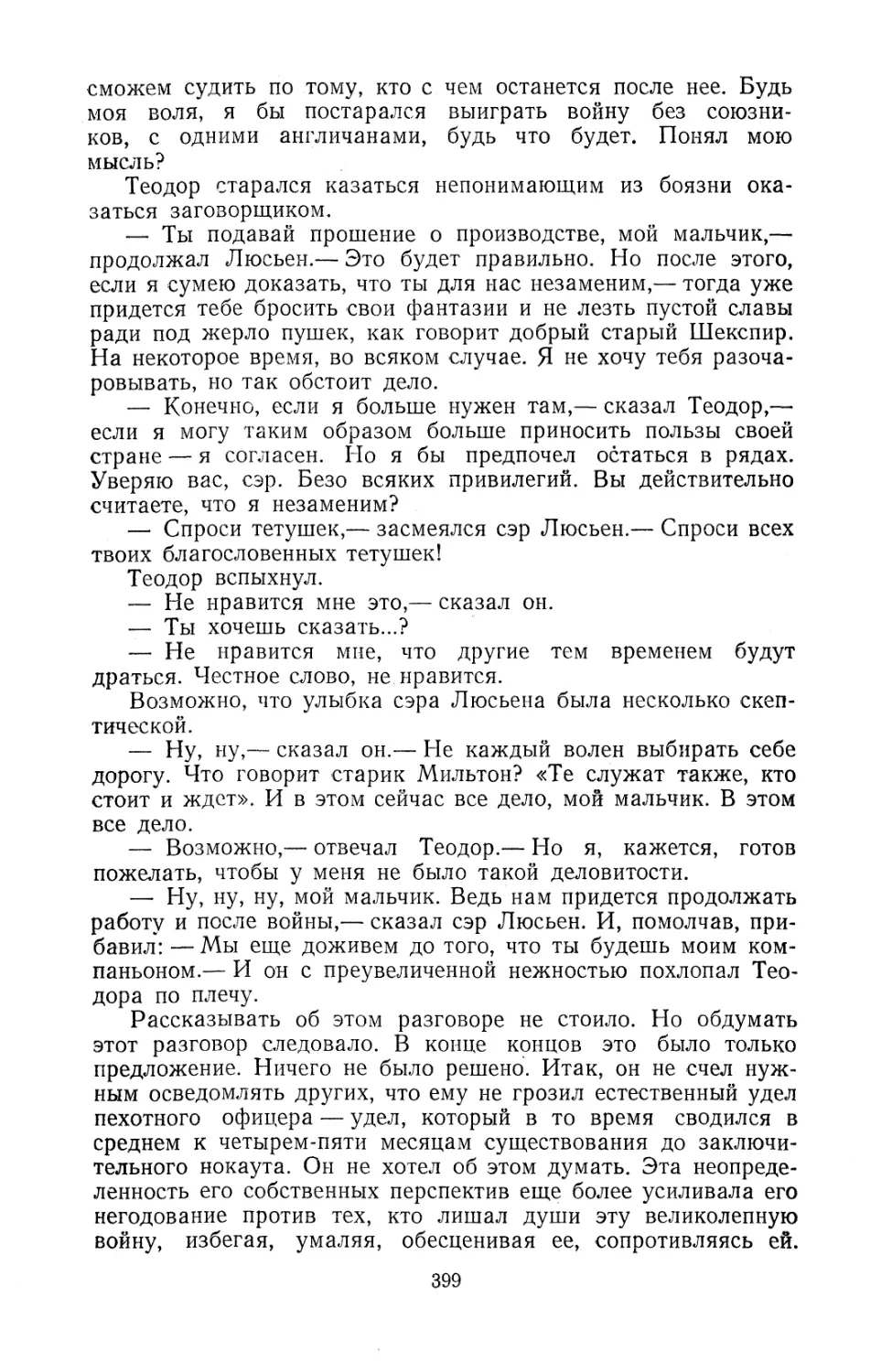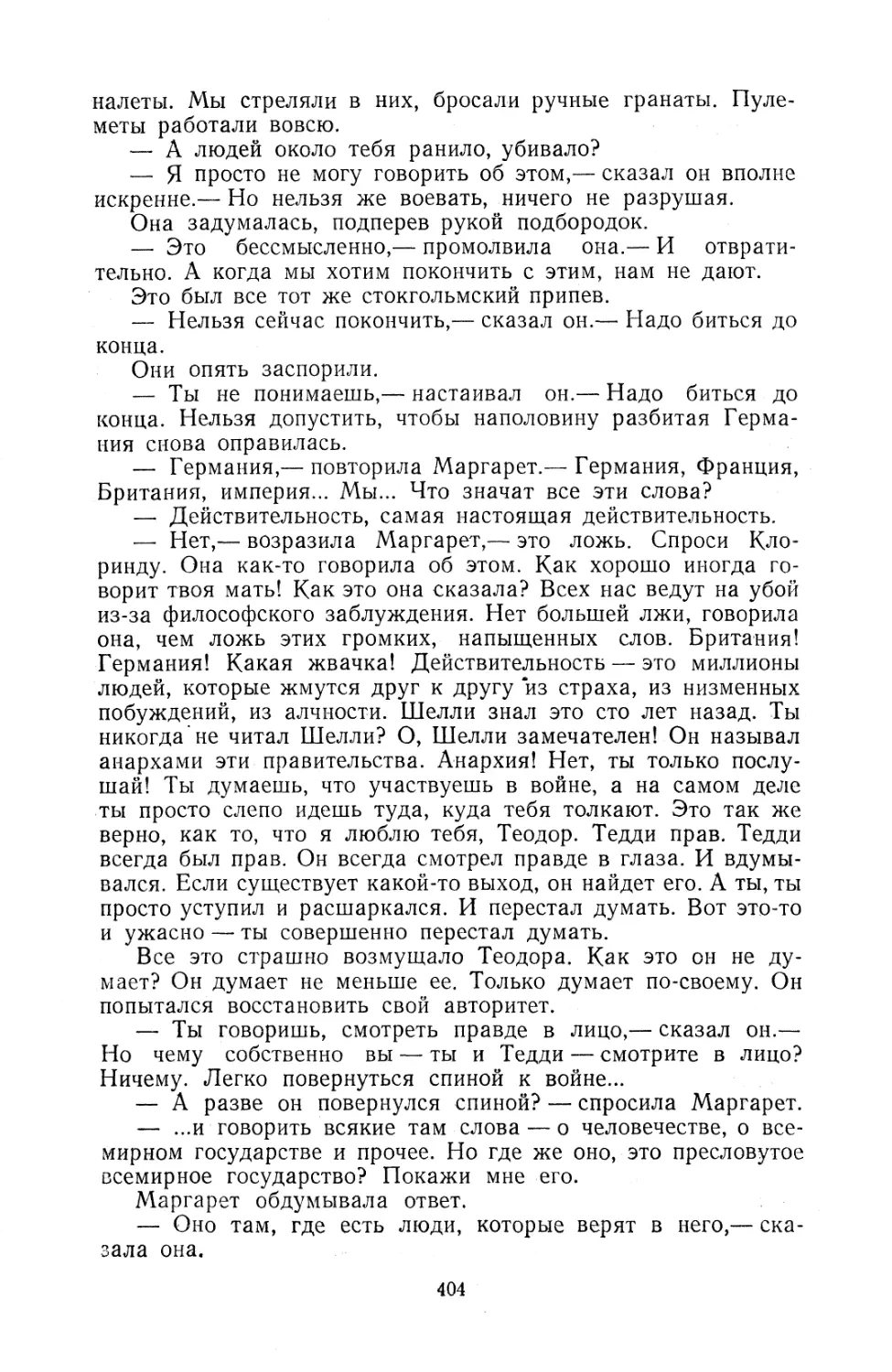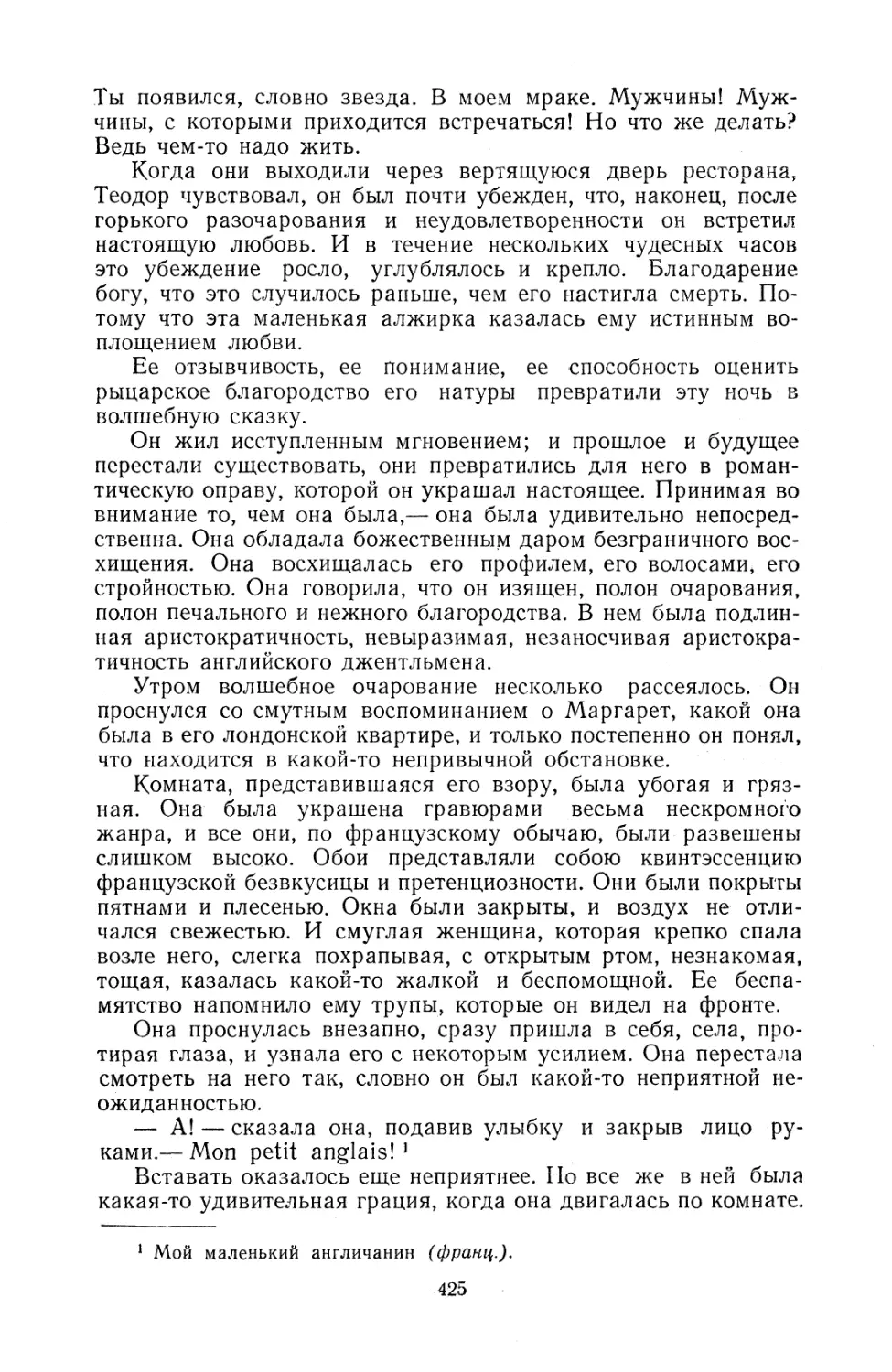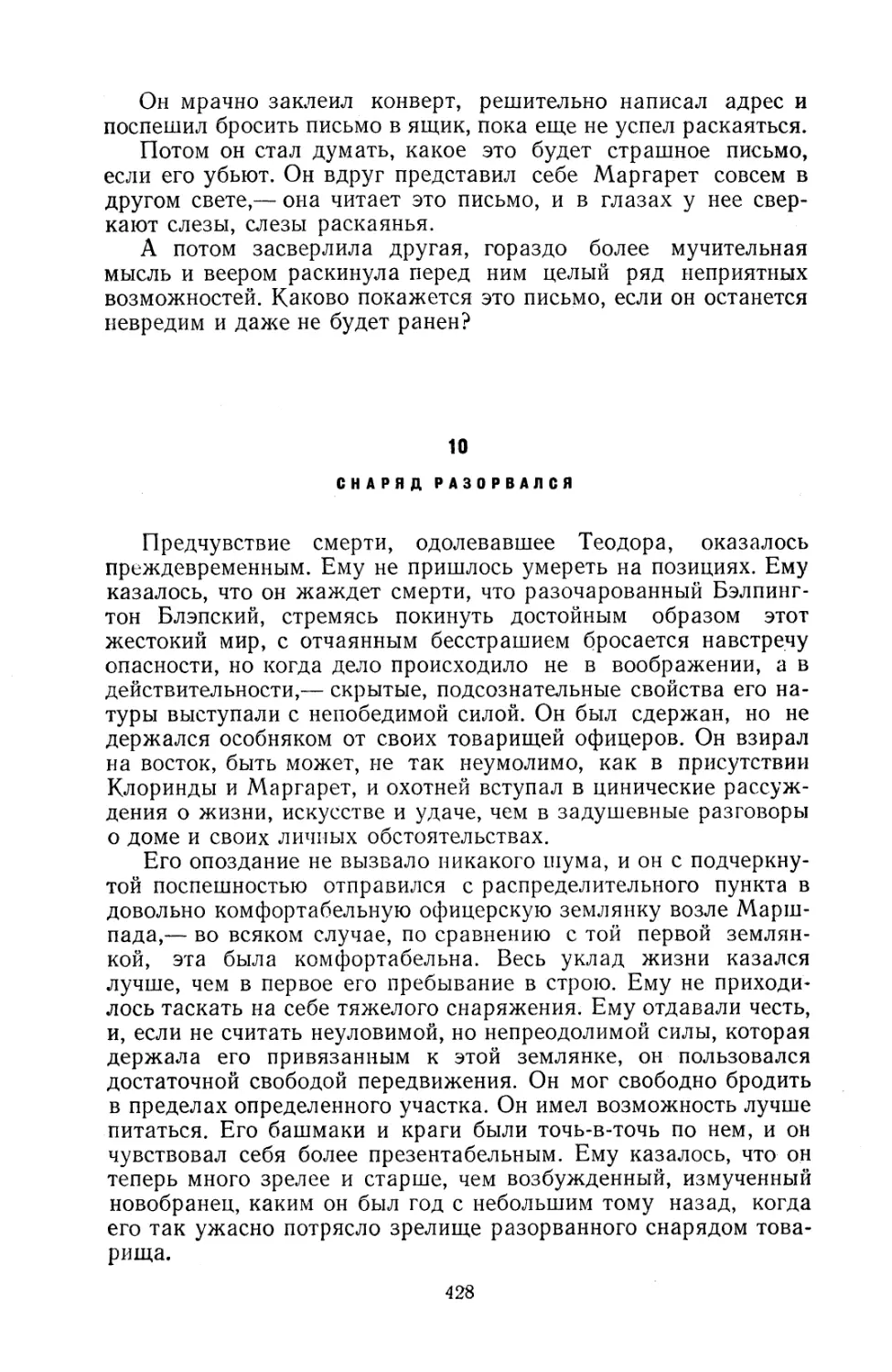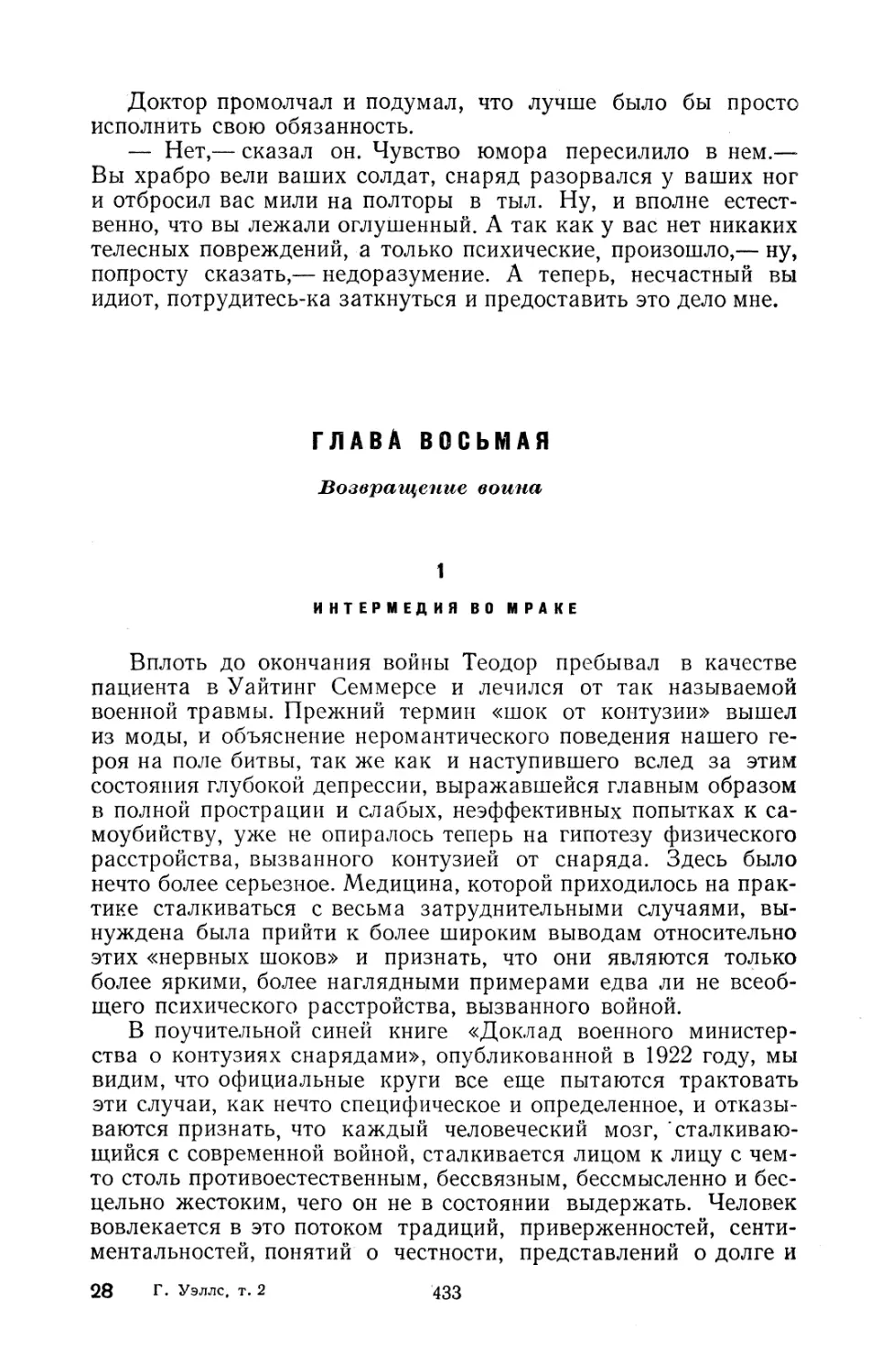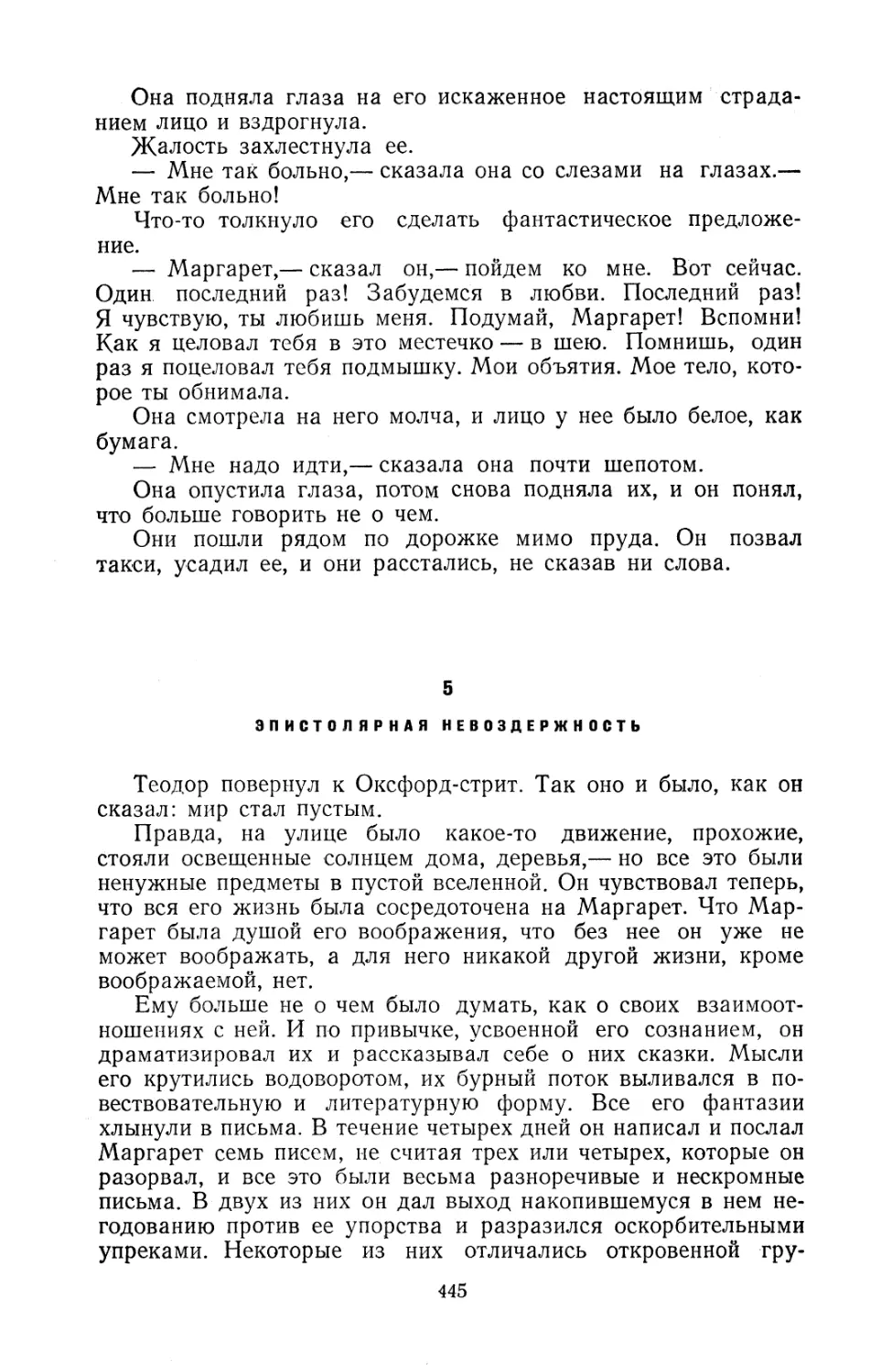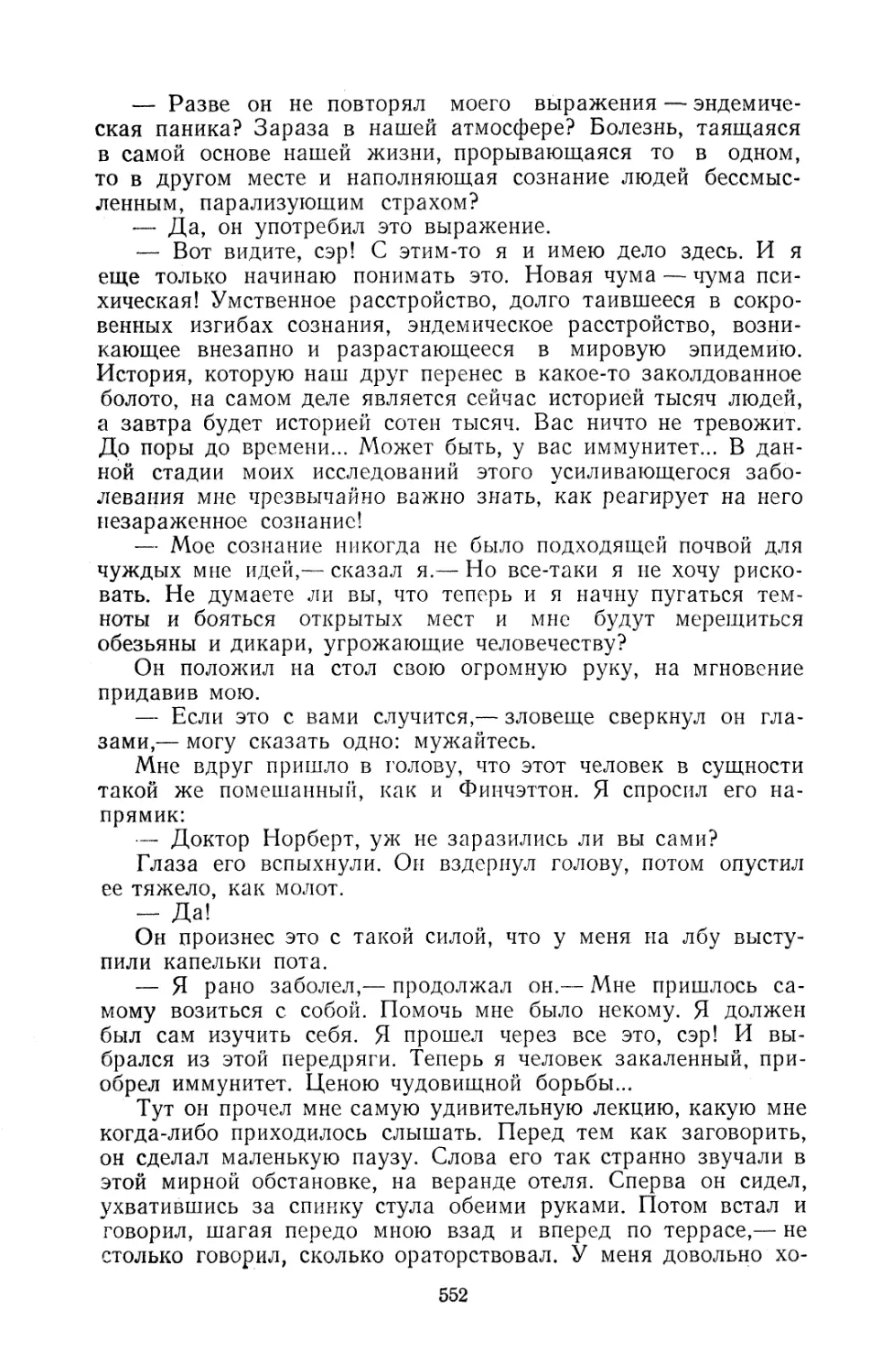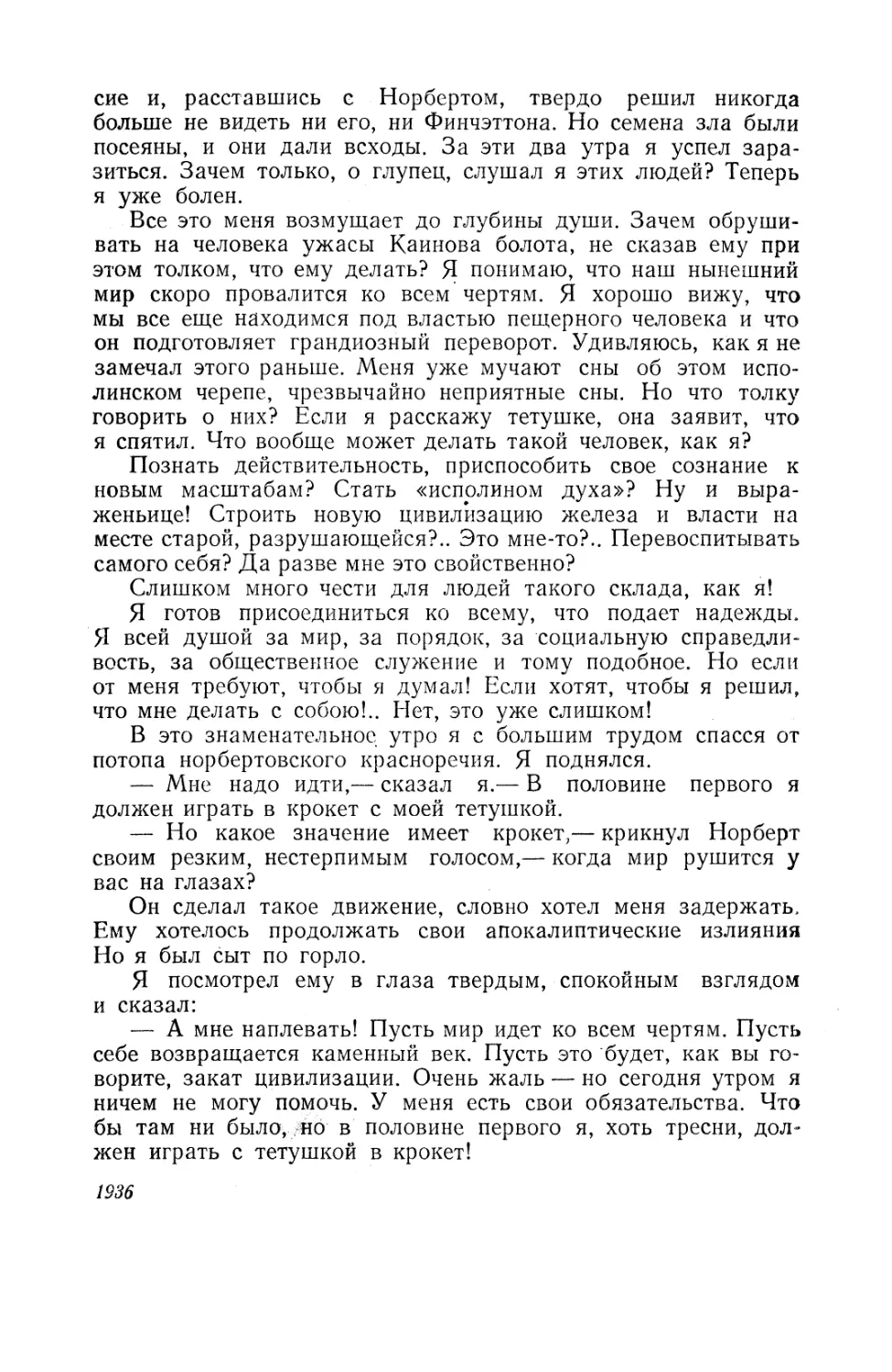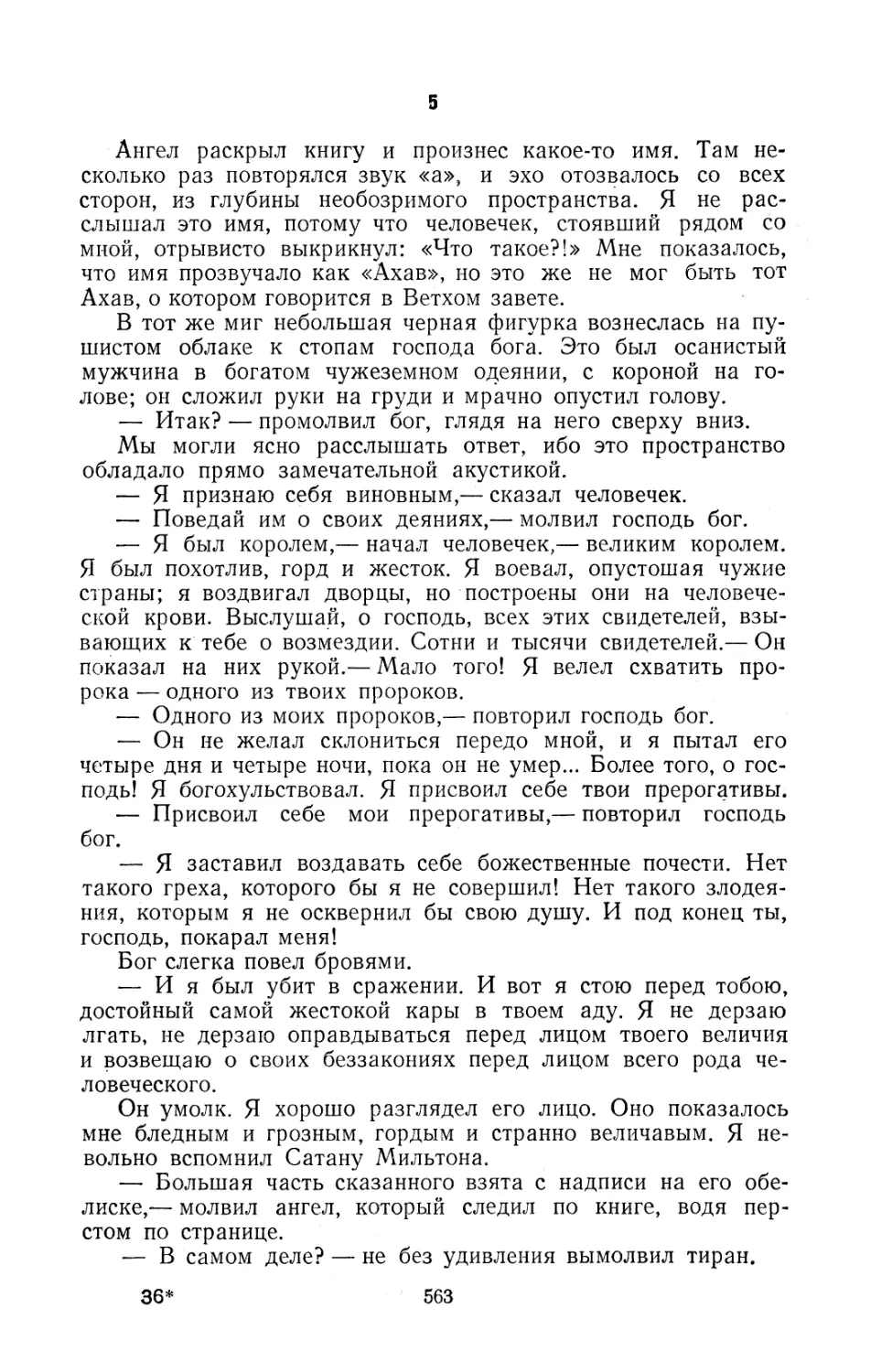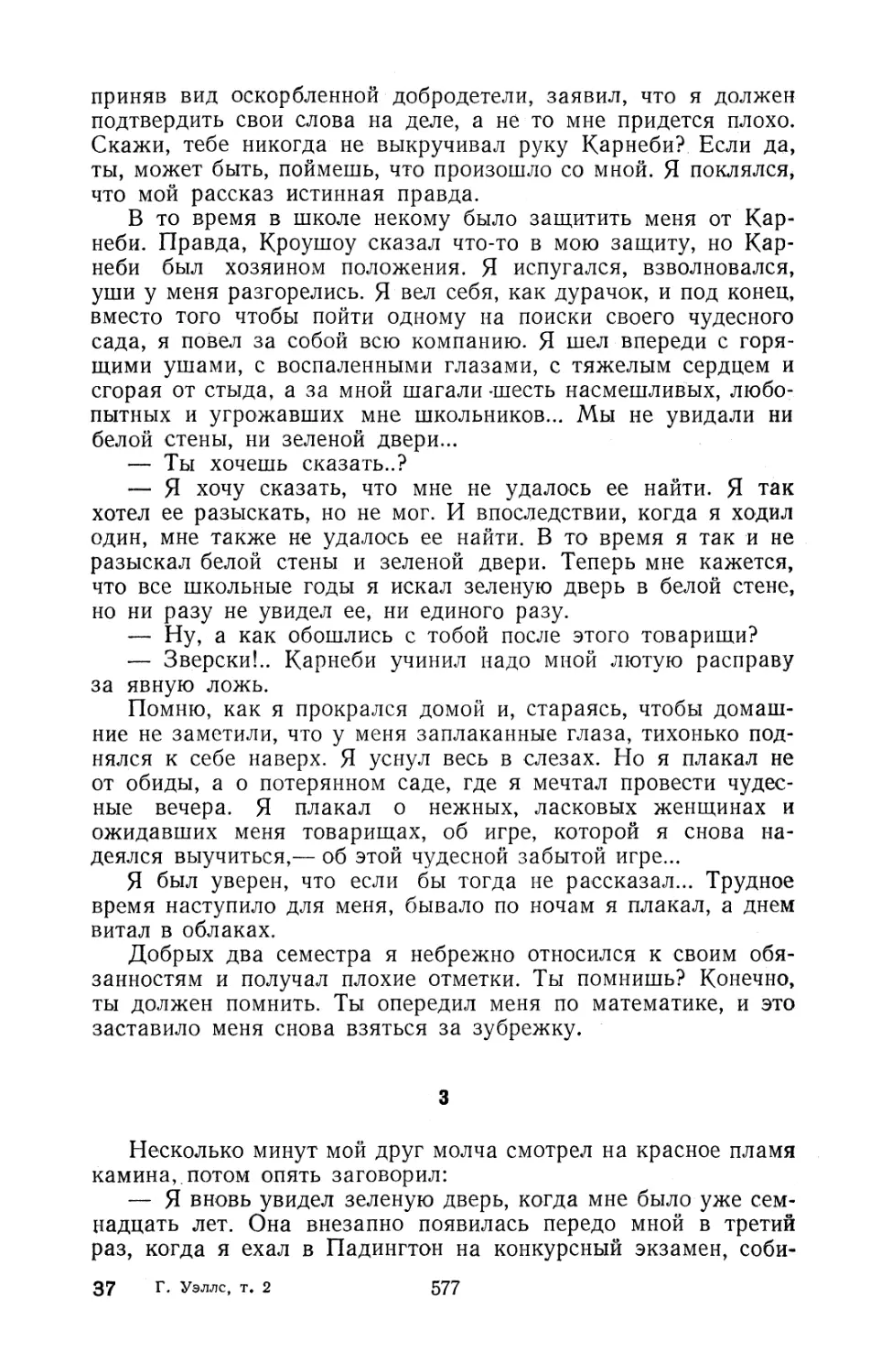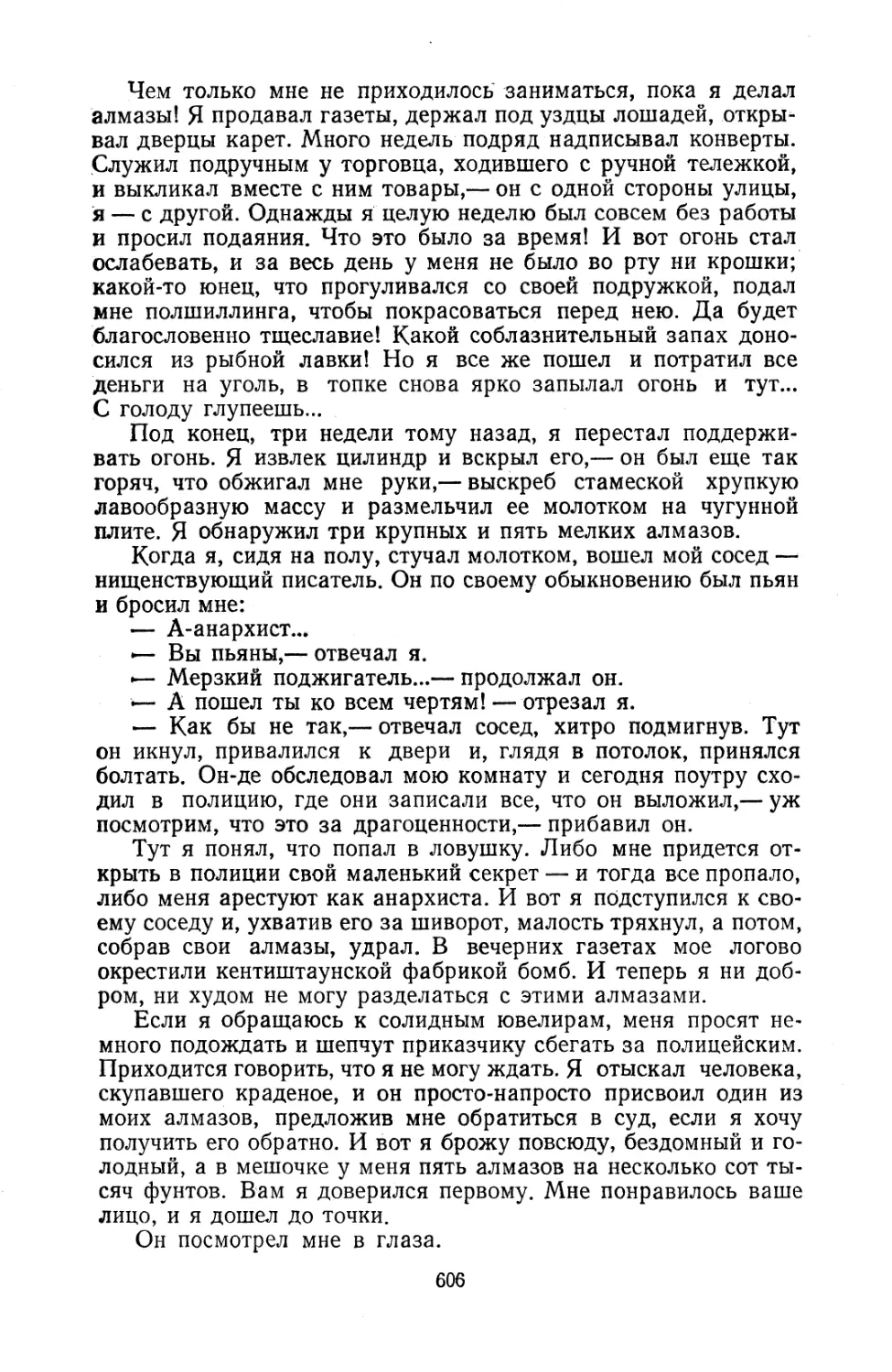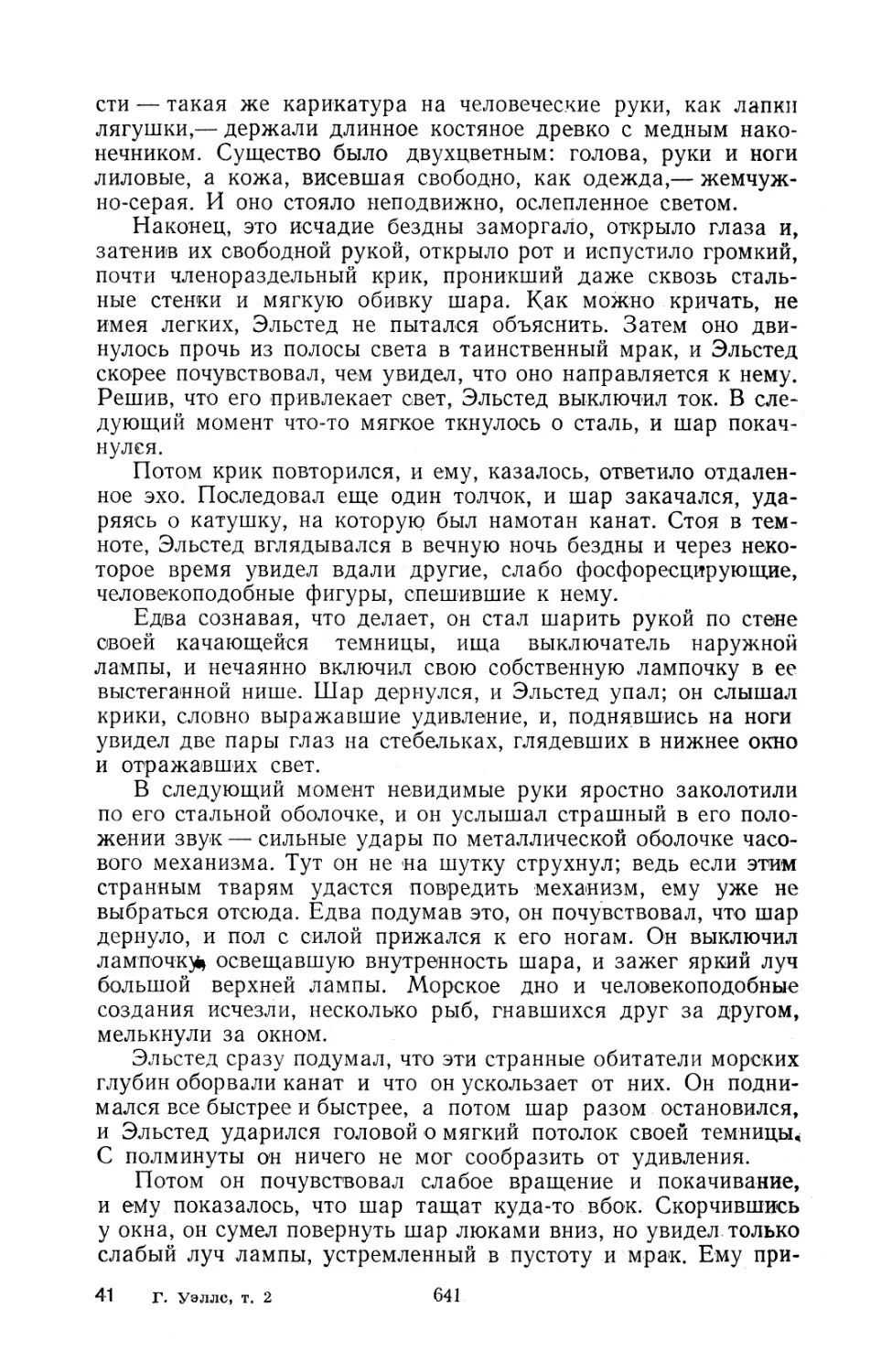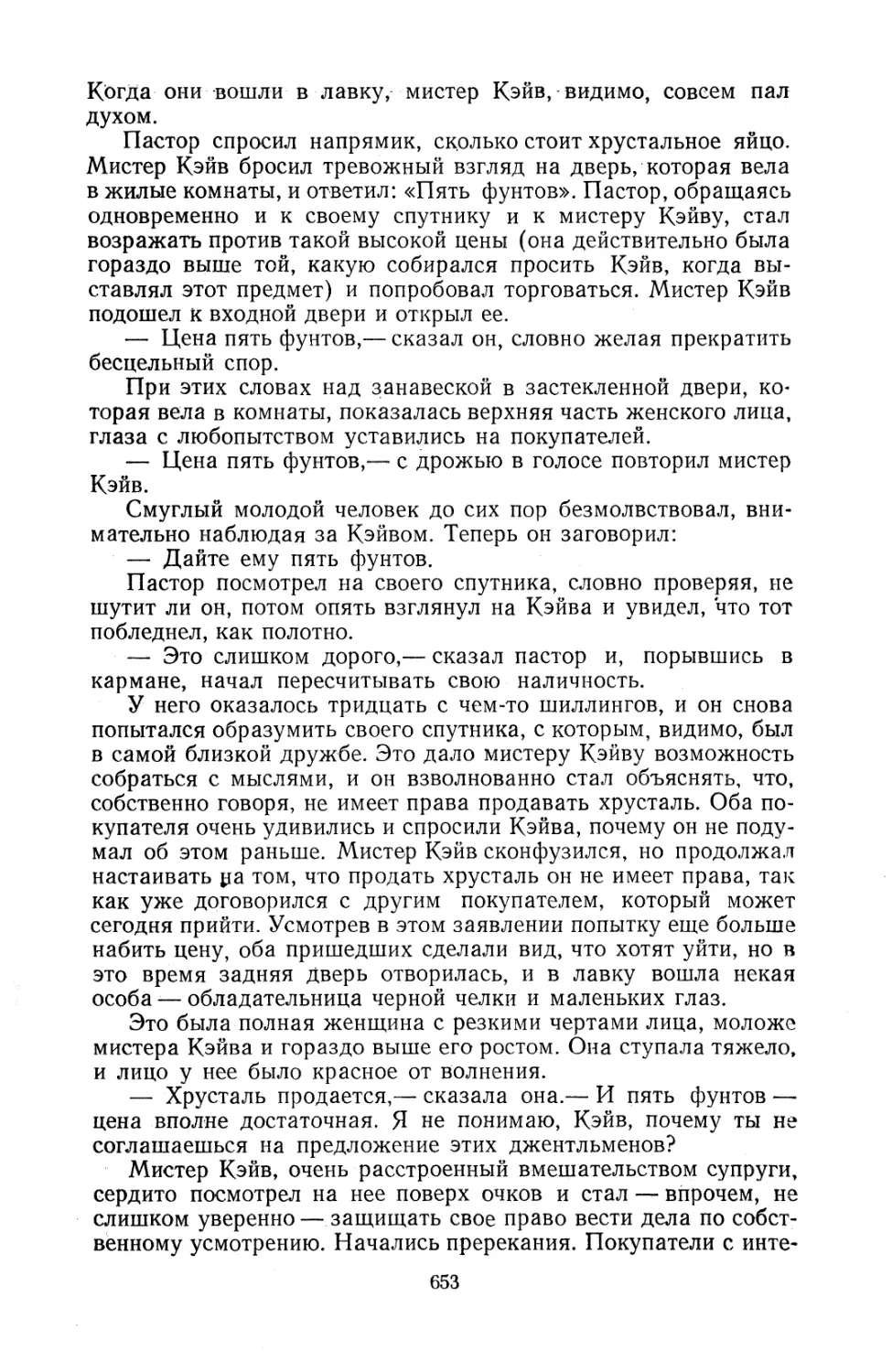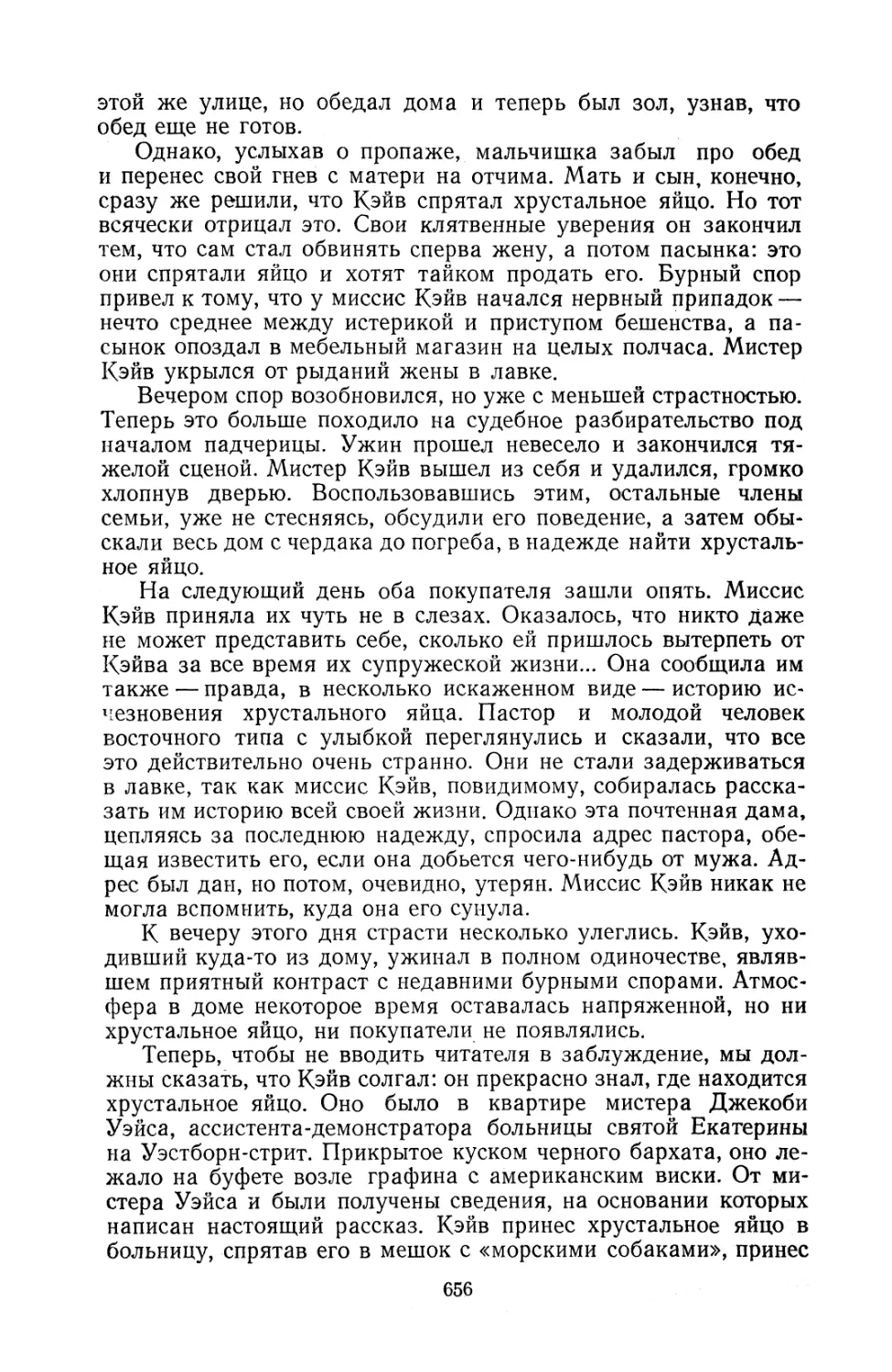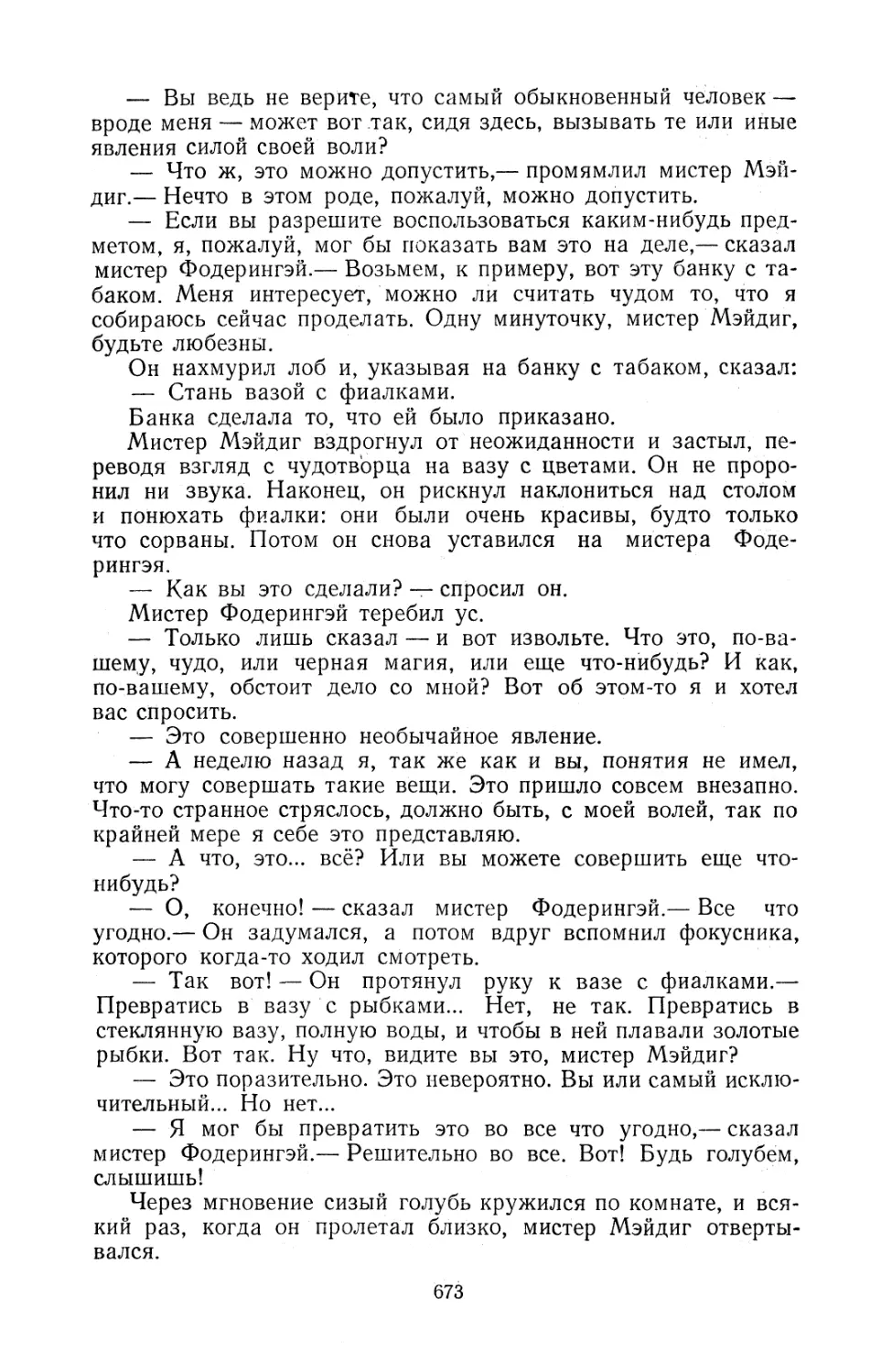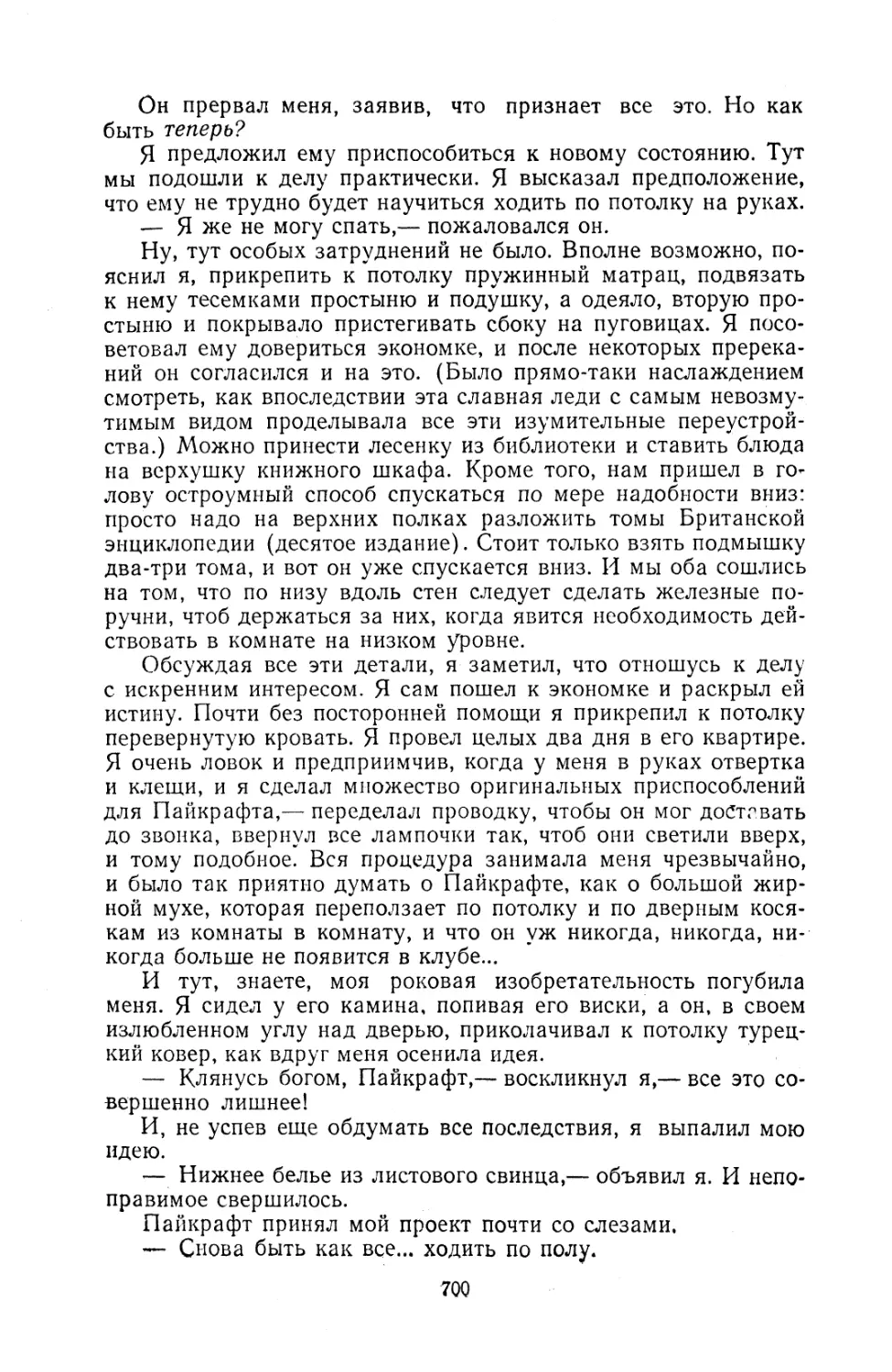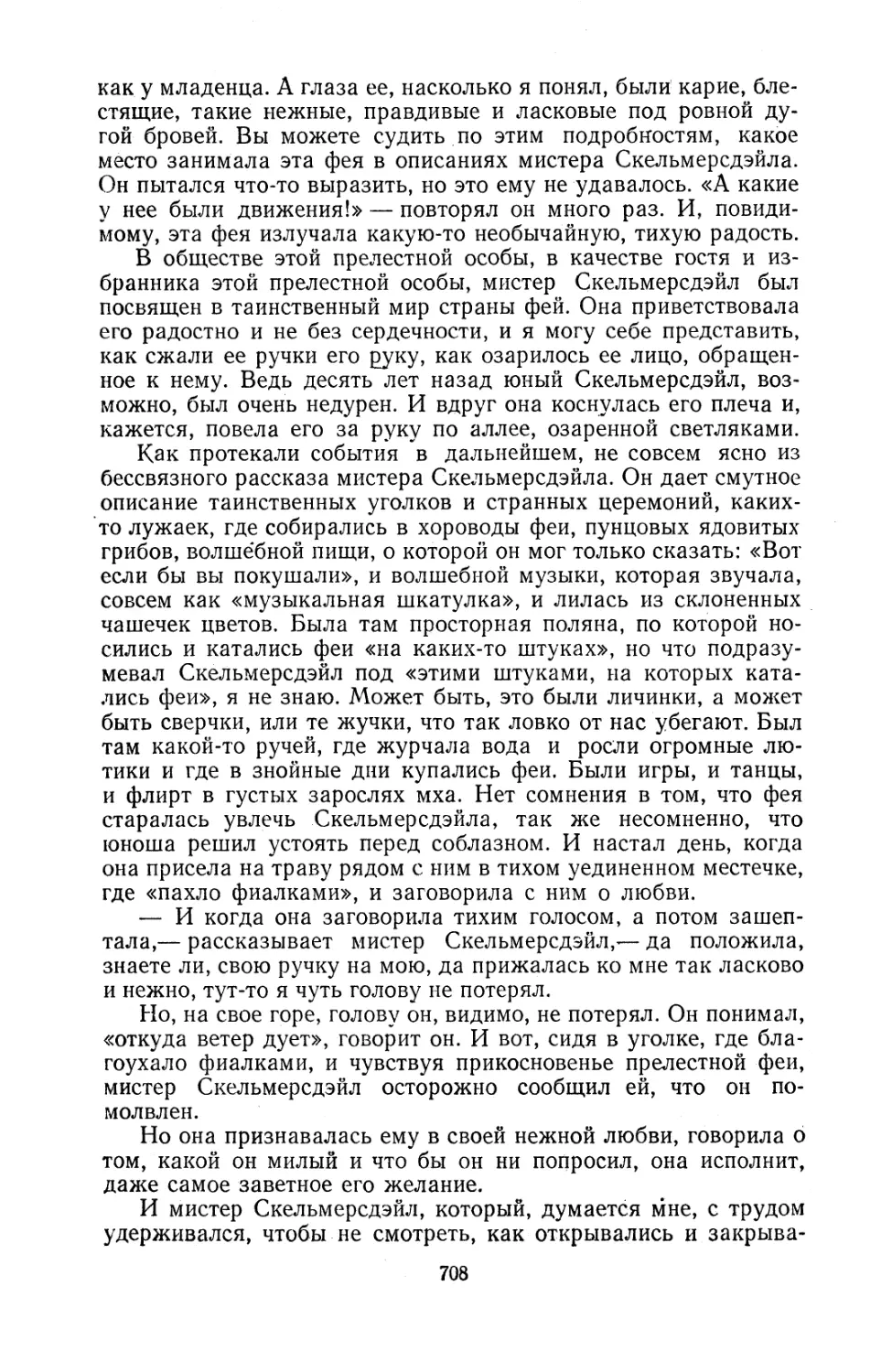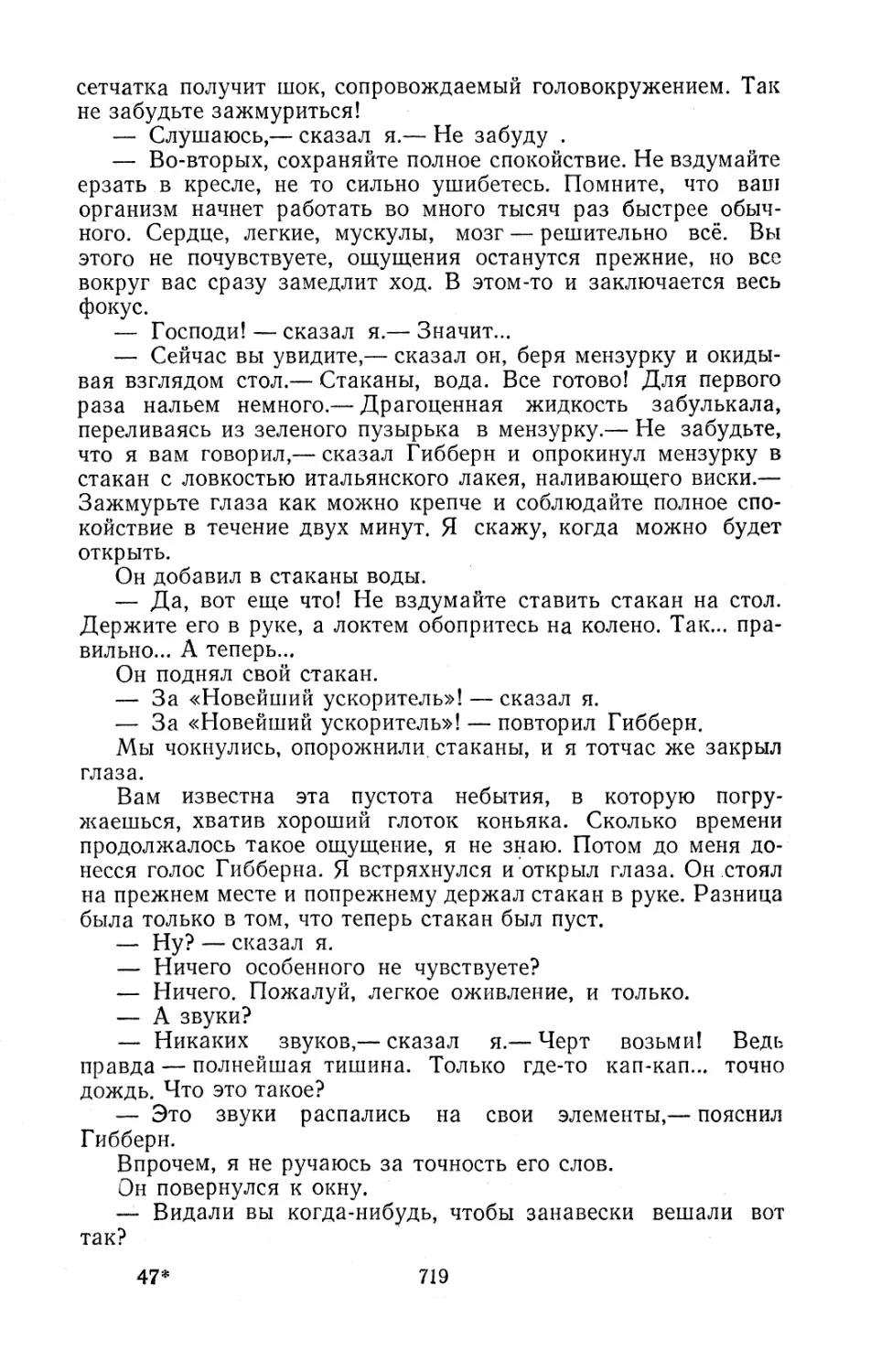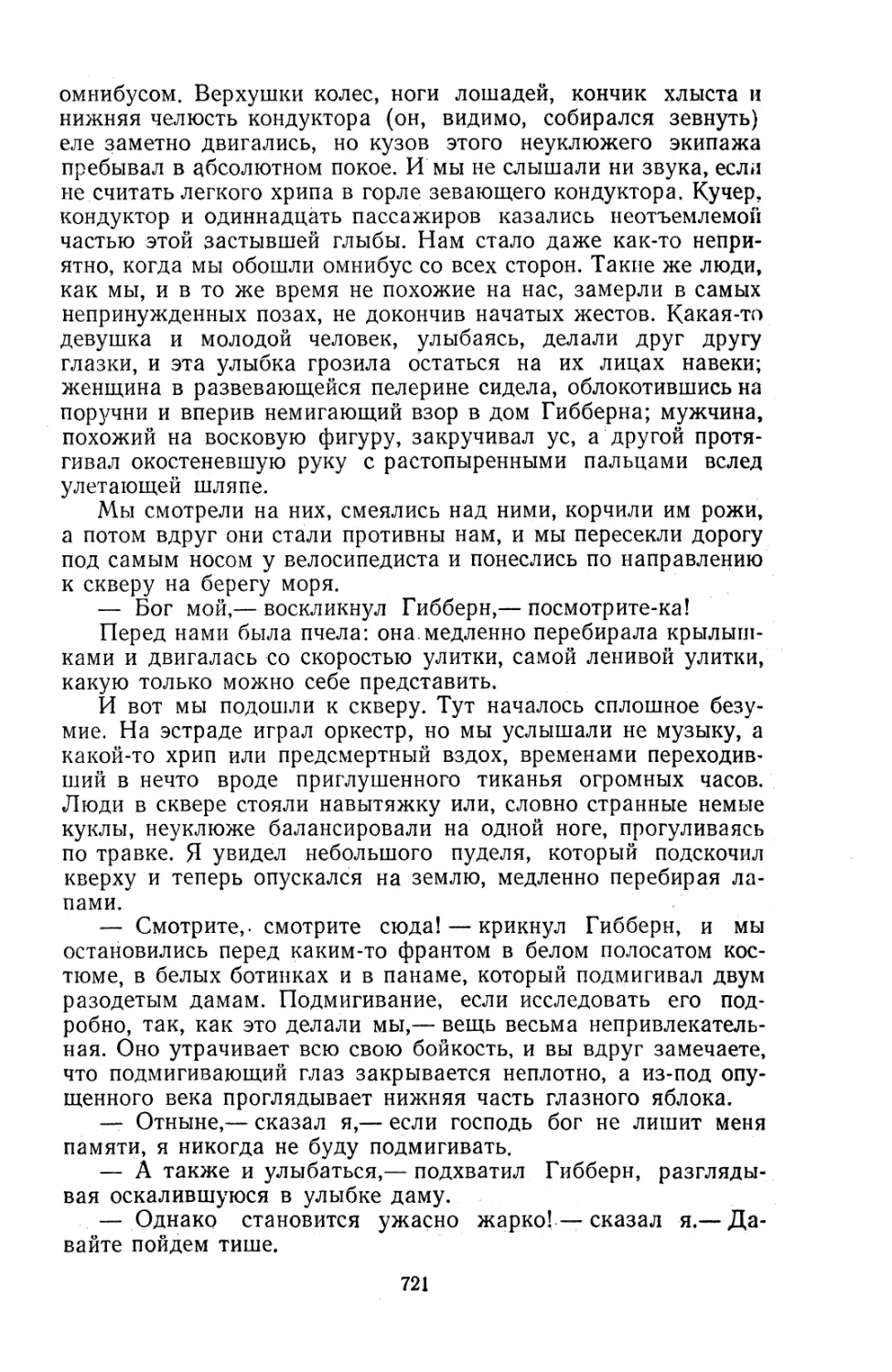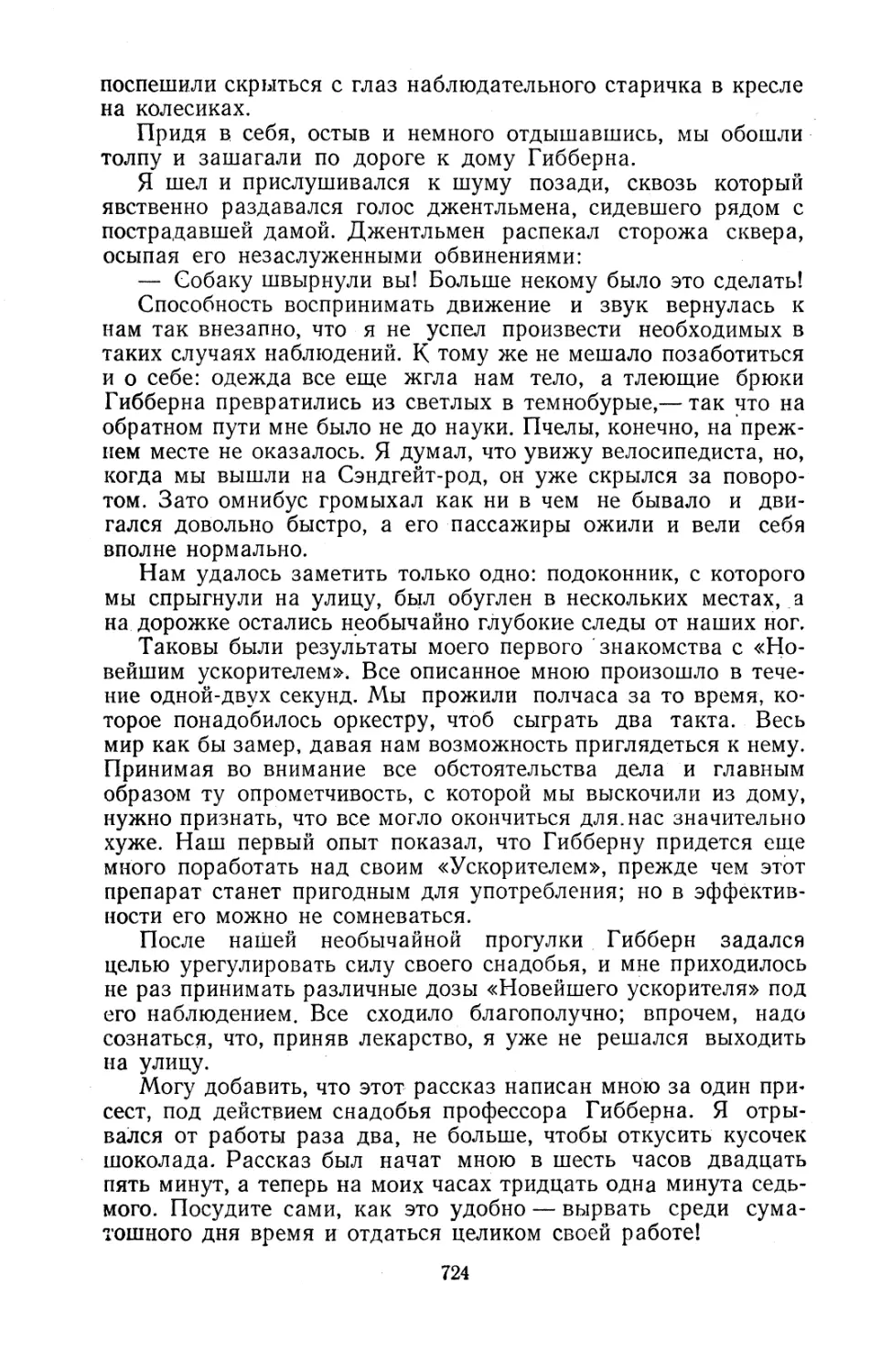Текст
ИЗБ РАННОЕ
том
п
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956
Перевод с английского
Мистер Бжтстстст
МА ©СТРОКЕ
РЭМПОЛЬ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
БЕССМЕРТНОЙ ПАМЯТИ
КАНДИДА
Повесть о том, как некий культурный и утончен-
ный джентльмен потерпел кораблекрушение и про-
жил несколько лет в обществе диких и жестоких
людоедов.
О том, как он увидел живых мегатериев и кое-
что узнал об их привычках.
Как он сделался Священным Безумцем.
Как, наконец, он удивительным образом спасся с
этого ужасного острова, где свирепствовало вар-
варство, и успел принять участие в мировой войне,
и как он впоследствии чуть было не решил вернуться
на остров Рэмполь, с тем чтобы остаться там на-
всегда.
В повести содержится немало, занимательных и
поучительных сведений о нравах, обычаях, верова-
ниях, военных действиях, преступлениях, а также о
жестоком шторме на море.
В заключение приводятся кое-какие размышления
о жизни вообще и о нашем времени в частности.
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
где повествуется о том, как. чистер Блетсуорси отправился
в морское путешествие для поправки здоровья, а также о его
душевном состоянии в этот период времени
1
РОД БЛЕТСУОРСИ
ВВЙДа летсуорси, к роду которых я принадлежу, всегда
были люди глубоко порядочные и мягксссрдеч-
ЯВ ные — вилтширская ветвь, пожалуй, еще в большей
степени, чем сэссекская. Да простится мне это от-
ступление,— я скажу о них несколько слов, прежде
чем начну рассказывать о самом себе. Я горжусь своими пред-
ками и традициями культурного поведения и обхождения -с
людьми, которые они мне передали; самая мысль о моих пред-
ках, как вы потом увидите, поддерживала меня и подкрепляла
в трудные моменты жизни. «Как поступил бы истинный Блет-
суорси?» — спрашивал я себя и по мере сил старался дать над-
лежащий ответ своим поведением.
В общественной жизни южной и западной Англии всегда
играли роль Блетсуорси, и всегда это были люди примерно
одного и того же склада. Говорят, ветвь нашего рода и по-
ныне существует в Лангедоке, но об этих Блетсуорси я ничего
не знаю. Кое-кто из Блетсуорси в свое время эмигрировал в
Америку, в частности в Виргинию, но там они, кажется, за-
терялись, растворившись в местном населении. А между тем
представители нашего рода отличаются стойкими чертами
характера, искоренить которые не так-то легко. Возможно, что
кто-нибудь из американцев,— читателей моей книги,— знает,
7
какая судьба постигла эту ветвь нашего рода. Такой случай не
исключен. В Солсберийском соборе можно увидеть мраморную
статую некоего епископа Блетсуорси, которая была перенесена
сюда из старого храма в Саруме, когда его снесли, воздвигая
этот собор; мраморная голова сильно напоминает черты моего
дяди, настоятеля Гарроу-Хоуарда, и прекрасные руки статуи
очень похожи на его руки. В Америке непременно должны
быть Блетсуорси, и меня удивляет, что я никогда ни о ком из
них не слышал. Судя по тому, что мне рассказывали, виргин-
ский ландшафт чем-то сродни моим предкам,— он широкий,
ласковый и приветливый, подобно холмистым равнинам моей
родины, только озарен более ярким солнцем.
Блетсуорси — порода созидателей и носителей культуры.
Они имели мало отношения к торговле как оптовой, так и роз-
ничной и не играли сколько-нибудь значительной роли в раз-
витии того, что называют индустриализмом. Они предпочи-
тали служение церкви — юриспруденции, а древних классиков,
ботанику и археологию — и тому и другому; однако земле-
владельцы под фамилией Блетсуорси встречаются в Када-
стровой книге, и банк Блетсуорси — один из последних боль-
ших частных банков, сохранившихся в нашу эпоху крупных
трестов. Он все еще играет видную роль в коммерческой
жизни западной Англии. Разумеется, Блетсуорси занялись
банкирским делом не из жажды наживы, но пойдя навстречу
нуждам и запросам своих менее состоятельных соседей в
Глостершире и Вилтшире. Сэссекские Блетсуорси не столь
чужды коммерческим интересам, как вилтширские; они зани-
мались «свободной торговлей» еще в эпоху войн с Фран-
цией, когда такая торговля, строго говоря, была незаконной
и считалась авантюрой; несмотря ла трагическую смерть
сэра Кэрью Блетсуорси и его племянника Ральфа во время
кровопролитного столкновения с таможенными чиновниками
на улицах города Рая, Блетсуорси нажили немалые богатства,
приобрели влияние в своей округе благодаря этим занятиям
и по сей день имеют отношение к импорту шелков и коньяка.
Отец мой был человек весьма достойный, но с большими
странностями. Многие его поступки нуждались в объяснении;
некоторые так и остались неразъясненными — то ли из-за от-
даленности арены его деятельности, то ли по его беспечности,
то ли по другим причинам. Блетсуорси не мастера оправды-
ваться. Они привыкли полагаться на свою репутацию. Пятый
сын в семье, не имея никаких видов на наследство и не обла-
дая дарованиями, которые могли бы его прокормить, мой
отец послушался советов своих друзей и родственников и
отправился попытать счастья за границу: в молодых годах он
покинул Вилтшир, намереваясь «поискать», как он говорил,
золота; «искал» он его без особой алчности и обычно в самых .
неподходящих местах. Насколько я знаю, месторождения зо-
8
лота известны наперечет, и ищут его, как правило, скопом во
время так называемых «золотых лихорадок». Но отец мой
питал отвращение к толпе, ко всякого рода стадности, пред-
почитая разыскивать сей редкостный и драгоценный металл в
приятной обстановке, там, где ему не досаждали всякие гру-
бияны своей бесцеремонной конкуренцией. Пробавлялся же
он, в ожидании лучшего будущего, на скромные суммы, кото-
рые ему время от времени посылали его более удачливые ро-
дичи. Разумеется, при таком образе действий у него было
маловато шансов обнаружить золото, зато в случае удачи ему
ни с кем не пришлось бы делиться находкой.
В вопросах брака он был менее разборчив, чем остальные
Блетсуорси, неоднократно вступал в брак и порою совсем не-
официально,— правда, все мы несколько опрометчивы в своих
брачных союзах.
Мать моя была португальско-сирийского происхождения,
с примесью крови туземцев острова Мадейры (где я и появился
на свет).
Я родился самым законным образом; правда, брачный фор-
муляр моего отца с течением времени оказался весьма запу-
танным, но это потому, что брак в тропических и субтропиче-
ских странах носит крайне непостоянный характер.
Мать моя, судя по письмам отца, была натура страстная
и самоотверженная; некоторые ее черты передались мне.
Я полагаю, что именно ей обязан своей говорливостью и ма-
нерой совершенно бескорыстно прикрашивать словами дей-
ствительность. «Она любит-таки поговорить,— писал отец мо-
ему дяде еще при ее жизни.— Никак ее не уймешь!» Дело в
том, что она так остро и тонко переживала все события своей
жизни, что бессознательно искала облегчения в словах,
и, чтобы успокоиться, ей необходимо было выговориться до
конца. Она придавала своему рассказу художественную форму,
ретушировала. Как я ее понимаю! Я знаю, как мучительно,
когда не имеешь возможности высказаться. Более того: я ей
обязан уже совсем несвойственным Блетсуорси глубоким нрав-
ственным разладом. Эта книга покажет, к^кую борьбу мне
приходилось вести с самим собой. Я не знаю душевной гар-
монии и мира, характерных для истинного Блетсуорси. Я в
распре со своим «блетсуорсианским» естеством. Отцовская
предприимчивость сочеталась во мне со склонностью к само-
анализу. Я настаиваю на том, что я — Блетсуорси, заметьте,
именно настаиваю. Этого вы не дождетесь ни от одного Блет-
суорси чистой воды. Я убежденный Блетсуорси, ибо я не
совсем й не всецело Блетсуорси. Во мне живет как бы не-
сколько личностей, совершенно независимых друг от друга.
Быть может, я потому так верен своим семейным традициям,
что они имеют для меня принципиальное значение.
Мать моя скончалась, когда мне было пять лет, и мои скуд-
9
ные воспоминания о ней безнадежно перепутаны с воспомина-
нием об урагане,, опустошившем остров. Эти две катастрофы
разразились одновременно и вызвали ряд ужасных перемен.
Как сейчас помню вывороченные с корнем деревья и кучи
мокрых алых лепестков, смешанных с грязью в канаве, помню
также, как кто-то сказал, что мать моя умирает, а затем —
что она умерла. Кажется, я не был особенно огорчен, а ско-
рее ошеломлен.
Отец мой после бесплодной переписки с родственниками
с материнской стороны, жившими в Португалии, и с богатым
дядей из Алеппо в конце концов вверил меня попечениям
начинающего пастора, ехавшего из Мадейры в Англию, пору-
чив ему передать меня в Челтенхеме тетке, мисс Констанции
Блетсуорси, которая благодаря этому впервые узнала о моем
существовании. Отец снабдил своего посланца документами,
удостоверяющими мою личность. Я смутно помню, как всхо-
дил на борт парохода в Фуншале, но воспоминания о морском
путешествии, к счастью, изгладились из моей памяти. Гораздо
отчетливее вспоминается мне гостиная тетки в Челтенхеме.
Мисс Констанция Блетсуорси была весьма величавая дама
в белокуром парике или с белокурыми волосами, причесан-
ными таким образом, что они смахивали на парик; при ней
была компаньонка, похожая на нее, но гораздо полнее, на
редкость дородная особа, и ее грандиозный бюст сильно по-
разил мое детское воображение. Помню, как они восседали
в креслах высоко надо мной, а я примостился на подушечке
у камина. Разговор с молодым пастором был весьма знамена-
телен изрезался мне в память. Обе дамы были того мнения,
что пастора по ошибке направили в Челтенхем и что ему сле-
дует немедленно проехать со мной по железной дороге,—
всего час пути,— к моему дяде, настоятелю церкви в Гарроу-
Хоуарде.
Тетка несколько раз повторила, что она, конечно, тронута
доверием моего отца, но что состояние ее здоровья не позво-
ляет ей заняться мною. И она и компаньонка начали распро-
страняться о ее болезнях и, думается мне, сообщали совер-
шенно ненужные подробности. Видно было, что они усиленно
обороняются. А пастор, при всем сочувствии, к какому вы-
нуждал его сан, проявлял явное желание отмахнуться от этих
излияний, грозивших осложнить порученное ему дело. Отец,
мол, ничего ему не говорил о своем брате в Гарроу-Хоуарде,
наказав доставить меня моей тетке Констанции, старшей его
сестре и оплоту их семьи, как он выразился.
Пастор заявил, что он не вправе отступать от полученных
им инструкций. Он утверждал, что добросовестно выполнил
свое поручение, сдав меня на руки тетке, и теперь необходимо
уладить вопрос о кое-каких дорожных расходах, не преду-
смотренных моим отцом.
10
Что касается меня, то я продолжал стоически сидеть на
своей подушечке, делая вид, что внимательно разглядываю
каминную решетку и очаг, каких не встречал на Мадейре,
а между тем старался не проронить ни единого слова из их
разговора. Мне не очень-то улыбалось остаться у тетки, но
хотелось поскорее распроститься с молодым пастором, так что
я горячо желал ему успеха в его попытках оставить меня здесь
и обрадовался, когда он настоял на своем.
Это был толстый человек, с круглым бледным лицом и вы-
соким придушенным тенорком, скорей пригодным для чтения
молитв, чем для житейской беседы. В начале нашего знаком-
ства он проявил ко мне самые пылкие дружеские чувства и
предложил мне спать на его койке; но моя неспособность тер-
пеливо переносить качку и бороться с ее последствиями мало-
помалу испортила наши отношения, поначалу обещавшие быть
идеальными. Ко времени прибытия в Саутгемптон у нас раз-
вилась взаимная неприязнь, смягчавшаяся лишь надеждой на
близкую и длительную разлуку.
Короче говоря, он хотел поскорее отделаться от меня...
Я остался у тетки.
Челтенхем оказался для меня не очень счастливым прию-
том. Пятилетний мальчик все время ищет, чем бы ему заняться,
неблагоразумен в выборе забав и разрушителен в своих
попытках основательнее ознакомиться с любопытными, но
хрупкими предметами, которыми изобилует окружающая его
обстановка. Тетка помешана была на коллекционировании чел-
сийских статуэток и вообще старого английского фарфора,
она любила эти причудливые вещицы, но неспособна была
понять моего пристрастия к ним, оценить творческой игры
моего воображения, вносившей трагическую сумятицу в мирок
ее сокровищ; Не понравились ей также мои попытки завести
игры и внести разнообразие в жизнь двух огромных дымчато-
голубых персидских кошек, служивших украшением ее дома.
Я и не знал, что если хочешь поиграть с кошкой, то не надо
слишком рьяно преследовать ее и что даже очень метко на-
правленные пинки редко вызывают в кошке ответное веселье.
Мои геройские подвиги в саду, где я воевал с теткиными геор-
гинами и астрами, словно с полчищами свирепых врагов, не
вызывали в ней ни малейшего сочувствия.
Двое престарелых слуг и сморщенный садовник, следив-
шие за порядком в доме и охранявшие достоинство моей тетки
и ее компаньонки, разделяли мнение своей хозяйки, что вос-
питание детей должно носить исключительно репрессивный
характер,— так что мне приходилось действовать тайком. Пом-
нится, ко мне был приглашен молодой учитель, которому было
поручено ходить со мной гулять как можно дальше и внушать
мне правила нравственности как можно тише; но я плохо
помню его — разве только, что он носил пристегивающиеся
11
манжеты, что было мне в диковинку. Словом, Челтенхем оста-
вил у меня впечатление какой-то безотрадной пустыни: беско-
нечные широкие улицы, светлосерые дома под бледноголубым
небом, ванная комната, плетеные стулья и полное отсутствие
ярких красок и веселых происшествий, в противоположность
жизни на Мадейре.
Эти месяцы, проведенные в Челтенхеме,— возможно, что
это были недели, хотя они представляются мне бесконечно дол-
гими месяцами,— я отмечаю как некое междуцарствие, пред-
шествующее моей настоящей жизни. Витавшие вне поля моего
зрения тетка с компаньонкой, наверное, прилагали самые рев-
ностные усилия, чтобы переместить меня в другую обстановку,
ибо на мрачном фоне этих моих челтенхемских воспомина-
ний появлялись и исчезали еше более смутные фигуры —
все это были Блетсуорси, они разглядывали меня, не проявляя
ни симпатии, ни враждебности, и быстро обнаруживали неже-
лание иметь со мной дело в дальнейшем. Помнится, тетке
давали различные советы. Одни уговаривали ее оставить меня,
так как я буду отвлекать ее от мыслей о болезни,— хотя она
явно не желала отвлекаться от этих мыслей, да и кто этого
хочет? Другие уверяли, что лучше всего вернуть меня отцу:
но это было немыслимо, потому что он переехал с Мадейры в
Родезию, не сообщив своего нового адреса, а наша импер-
ская почта не принимает мальчиков, адресованных до востре-
бования в дальние колонии. Наконец, третьи полагали, что все
это «дело», под каковым подразумевался я, следует предоста-
вить на усмотрение моему дяде, преподобному Руперту
Блетсуорси, настоятелю Гарроу-Хоуарда. Все они были того
мнения, что для Блетсуорси я обещаю быть слишком малень-
кого роста.
Мой дядя в то время находился с несколькими англий-
скими епископами в России, где обсуждался вопрос о воз-
можном соединении англиканской и православной церквей,—
это было еще задолго до мировой войны и до прихода к власти
большевиков. Письма моей тетки летели ему вдогонку, но за-
паздывали, и им так и не суждено было настигнуть дядю.
И вдруг, когда я уже начал примиряться со своим бесцвет-
ным существованием в Челтенхеме под надзором воспитателя
с пристегивающимися манжетами, появился мой дядя!
Он сильно напоминал моего отца, но был ниже ростом,
розовый, округлый, и одевался, как всякий богатый и преуспе-
вающий пастор, тогда как отец ходил в мешковатом, обтрепан-
ном и застиранном фланелевом костюме. В дяде тоже мно-
гое было не совсем понятно, но это не так било в глаза. Во-
лосы у него были серебристо-седые. Он сразу же расположил
меня в свою пользу и внушил доверие. Нацепив на нос очки
без ободка, он стал разглядывать меня с улыбкой, которая по-
казалась мне необычайно привлекательной.
12
— Ну-с, молодой человек,— начал он почти отеческим
тоном,— они тут, кажется, не знают, что с вами делать. Что
вы скажете, если я предложу вам переехать ко мне и жить со
мною?
— Охотно, сэр! — сказал я, как только уяснил смысл его
вопроса.
Тетка и компаньонка так и просияли. Они отбросили в
сторону всякое притворство. Я и не подозревал, какого они
хорошего мнения обо мне!
— Он такой милый, смышленый,— нахваливали они
меня,— такой любознательный! Если за ним смотреть как сле-
дует и кормить его хорошенько, из него получится замеча-
тельный мальчик!
Итак, судьба моя была решена.
2
СВОБОДОМЫСЛЯЩИЙ СВЯЩЕННИК
Я считаю, что с переселения в Гарроу-Хоуард начинается
моя настоящая жизнь. Память сохранила лишь осколки и об-
рывки событий раннего детства, но воспоминания мои ста-
новятся связными и отчетливыми с того самого дня, как я
прибыл в этот на редкость гостеприимный дом. Мне кажется,
я мог бы начертать план пасторского дома и уж, конечно,
сада; я помню характерный запах сырости от колодца во дворе,
за службами, и девять златоцветов, посаженных на равном
расстоянии друг от друга у серой каменной стены. Каждый год
старый садовник Блекуэлл пересаживал их. Я мог бы соста-
вить хронику династии тамошних кошек и подробно описать
характер каждой из них. За выгоном была канава, а дальше
круто вставал безлесный холм. Бывало, в снежную зиму или
в жаркое лето я скатывался с него на доске: сухая трава
летом была еще более скользкой, чем лед. Перед пасторским
домом расстилалась лужайка с аккуратно подстриженной тра-
вой, окаймленная изгородью из тиссов, слева — ряд коттед-
жей и у самой дороги — почтовая контора и универсальная
лавка. Церковь и погост составляли нашу границу с другой
стороны.
Дядя взял меня к себе, когда я был маленьким, еще несло-
жившимся, податливым существом, из которого можно было
вылепить все, что угодно, и в Гарроу-Хоуарде из меня полу-
чился настоящий Блетсуорси, каким я остаюсь и по сей день.
С первой же минуты нашего знакомства дядя стал для меня
прямо необходим, и я почувствовал, что найду в нем защиту.
13
Словно я проснулся в одно прекрасное утро и увидел его.пе-
ред собой. До его появления все в моей жизни было смутно,
тревожно и вдобавок неустойчиво: я чувствовал, что со мной
что-то неладно, что положение мое непрочно, что я окружен
какими-то неясными, разрушительными силами и на каждом
шагу мне может грозить роковая опасность. Под покровом
повседневной жизни притаилась буря. Теперь же ощущение,
будто я сплю наяву и мое сновидение в любой миг может
превратиться в кошмар, который уже не раз прокрадывался
в мою детскую жизнь, бесследно исчезло на много лет.
Сидя в гостиной в Челтенхеме, дядя сказал:
— Да, жизнь обошлась с тобою несколько сурово, но, по
существу говоря, все обстоит благополучно.
Пока он был жив, и впрямь все обстояло благополучно,
или же обаяние его личности порождало иллюзию благопо-
лучия. Даже и сейчас я не мог бы сказать, как в действитель-
ности обстояло дело.
Свою тетку Доркас я не могу припомнить так живо, как
старика Блекуэлла или кухарку. Это странно, потому что она
наверняка немало повозилась со мной. Но она была вечно в
трудах, на заднем плане, и все, что она делала, получалось
как-то само собой и, казалось, иначе и быть не могло. Я ду-
маю, что ей очень хотелось иметь собственных детей, и первое
время она была, вероятно, огорчена, что ей придется воспиты-
вать племянника, наполовину чужеземца, уже вышедшего из
младенчества, существо недоверчивое, любопытное, с трудом
орудующее небольшим запасом английских слов, пересыпая их
португальскими. Возможно, что некоторая духовная отчужден-
ность навсегда осталась между нами. Я никогда не чувство-
вал, что ей нужна моя привязанность, свой долг по отноше-
нию ко мне она выполняла безупречно, но, когда я теперь
оглядываюсь на прошлое, мне становится ясно, что между
нами не было сердечных отношений матери и сына. Я не за-
нимал сколько-нибудь важного места в ее жизни.
Тем больше я привязался к дяде, который, казалось, рас-
пространял вокруг себя душевное тепло, подобно тому как
свежескошенное сено разливает аромат на лугу в погожий
день. В моем детском воображении он царил не только над
домом, церковью и всем населением Гарроу-Хоуарда, но и
над широкой равниной, даже над солнцем. Поразительно, как
быстро он вытеснил у меня из памяти образ отца!
Мои представления о боге неразрывно связаны с дядей.
На Мадейре мне часто приходилось слышать слово «диос»
(бог) в клятвах и молитвах — это был субтропический бог,
гневный громовержец. Только достигнув сознательного воз-
раста, я смог сопоставить и связать воедино два совершенно
разных представления о божестве. В Англии бог предстал мне
как некая дружественная тень моего дядюшки, это был ми*
14
лый английский «бог-джентльмен», какой-то державный сверх-
Блетсуорси, бог ясный, как роса, лучезарный, как морозное
утро, услужливый и беззлобный, излюбленными праздни-
ками которого были рождество, пасха и праздник урожая.
Этот бог царил в благоустроенном мире й хмурился лишь для
того, чтобы вновь заулыбаться. Даже в страстную пятницу,
сугубо торжественный день строгого поста, дядя давал нам
понять, что молодой джентльмен вернется цел и невредим в
день светлого воскресенья. Конечно, надо быть настроенным
на серьезный лад, не худо поразмыслить на духовные темы,—
но мы всякий раз получали горячие сдобные булочки с выпе-
ченным на них крестом.
В дядиной церкви были кресты, но не видно было ни рас-
пятий, ни терновых венцов, ни гвоздей.
Бывало, дядя откинет рукава стихаря на своих красивых
руках и, наклонившись над перилами кафедры, начнет приятно
беседовать с прихожанами о приятной «верховной силе, управ-
ляющей миром»,— говорил он минут двадцать, не больше,
ибо господь бог не должен утомлять немощную братию. Этот
блетсуорсианский бог иногда требовал пояснений, действия
его приходилось оправдывать в глазах людей, но так, чтобы
это не было скучно. В своих проповедях дядя особенно любил
упоминать о радуге, о ковчеге и о благих и неложных боже-
ственных обетованиях. В его представлении господь бог отли-
чался необычайной порядочностью, и, слушая поучения дяди,
мне хотелось также быть порядочным, безупречным джентль-
меном. «Честное благородное слово», «вопрос чести», «К ва-
шим услугам, сэр!» — эти слова не сходили у меня с языка.
Все годы юности я прожил в этом особом мирке и чувствовал
себя превосходно. Неужели же это было только сном?
Зло было где-то далеко-далеко, ад совершенно позабыт.
«Не делайте того-то»,— говорил дядя, и мы не делали. «Сде-
лайте это»,— говорил дядя — и мы добросовестно делали.
«Друзья мои,— взывал он,— не будьте слишком строги к своим
ближним». Сам он был весьма снисходителен к бедным
грешникам. «Почем вы знаете, может быть, он уже встал на
путь истинный»,— бывало, говаривал он. Даже цыгане, коче-
вавшие по мирной холмистой равнине, с которыми дяде прихо-
дилось иметь дело в качестве судьи, были глубоко энглизиро-
ванные цыгане; если они иной раз и крали, то какую-нибудь
мелочь, и уж их никак нельзя было назвать разбойниками.
Добрая старая Англия! Увижу ли я тебя когда-нибудь
снова такой, какой ты мне представлялась в те счастливые,
безмятежные годы? Говорят, Лангедок и Прованс прекрасные
страны, да и Саксония тоже. В Скандинавии найдется немало
мест, где царит всеобщее благополучие и лишь кое-что нуж-
дается в объяснении. Но я не знаком с этими странами. Сердцу
моему милы холмистые равнины Англии.
15
Итак, дядюшка, откидывая рукава стихаря и наклоняясь
над перилами кафедры, улыбался ласково и убедительно, и в
его устах все становилось ласковым и прозрачным, как воздух
Англии, и мне начинало казаться, что стоит как следует вгля-
деться, и я увижу высоко в голубом эфире другого, еще более
ласкового дядюшку, поучающего свой счастливый мир. Внизу,
как бы на скамьях храма, восседают монархи, владыки и силь-
ные мира сего, исполненные самых благих намерений,— в чем
мне пока что не приходилось сомневаться. А над всеми воз-
вышается королева Виктория, простодушная, добрая и мудрая,
похожая на круглый деревенский хлеб, увенчанный короной,
и кажется она мне не просто королевой и императрицей, а ка-
ким-то наместником бога на земле. По воскресеньям она
восседает на своем месте перед самой кафедрой господней
и уж наверное приглашает господа бога к себе на завтрак.
Чернокожим царькам, для которых она могущественнее гос-
пода бога, она раздаривает томики авторизованного англий-
ского перевода библии, великодушно препоручая их своему
другу и повелителю. Без сомнения, она пишет ему важные
письма, высказывая свои личные пожелания, подобно тому,
как писала лорду Биконсфильду и германскому императору о
мероприятиях, отчасти подсказанных ей бароном Стокмаром
и имеющих целью благо ее империи, самого господа бога,
вселенной и всего ее семейства.
Пониже королевы — иерархия подчиненных ей благодете-
лей рода человеческого. Например, наш местный магнат сэр
Уилоуби Денби, великий специалист по орошению субтропиче-
ских областей и разведению хлопка для нужд манчестерских
прядилен и населения всего земного шара. Видный, румяный,
слегка ожиревший мужчина, разъезжавший по селу на сытом
клеппере. Далее, к Дивайзу, простирались владения и сфера
влияния лорда Пенхартингдона, банкира и археолога, мать
которого была урожденная Блетсуорси. По существу говоря,
наследственные земли Блетсуорси тянулись от Даунтона до
Шефсбери и далее до Уинкентона.
В этом благополучном мире, сотворенном моим добросер-
дечным дядей и его богом на взгорьях Вилтшира, я перешел
от детства к возмужалости, и кровь моей матери, беспокойная
и страстная, струилась в моих жилах, ничем не выдавая себя.
Пожалуй, для Блетсуорси я был не в меру болтлив и чересчур
способен к иностранным языкам. Вначале у меня была гувер-
нантка, некая мисс Даффилд из Борз-хилла близ Оксфорда,
дочь приятеля моего дяди, благоговевшая перед ним и весьма
успешно преподававшая мне французский и немецкий языки,
а затем меня определили пансионером в превосходную школу
в Инфилде, которая стараниями сэра Уилоуби Денби была по-
ставлена на высоту и наделена особыми правами. Это была
невероятно передовая по тому времени школа; там нас обу<
16
чали плотничьему ремеслу, проделывали при нас всякие опыты
над растениями и лягушачьей икрой и заставляли изучать исто-
рию Вавилона и Греции вместо греческой грамматики. Дядя
мой был попечителем этой школы, приходил туда время от
времени и вел с нами беседы.
Говорил он кратко, минут пять-десять, не больше, и его
речь производила впечатление импровизации. Видимо, он на-
спех обдумывал тему беседы, пока шел к нам в школу. Он не
стремился навязать нам свои убеждения, нет, это было просто
доброе слово, которым он хотел помочь нам в наших затруд-
нениях и давал живой отклик на запросы юности, вечно жа-
ждущей деятельности и познаний.
— Цивилизация! — наставлял он нас.— Вырастайте здоро-
выми и крепкими и отправляйтесь насаждать на земле циви-
лизацию.
Тйк вот для чего существовала имфилдская школа! Ци-
вилизация была лозунгом дяди; мне кажется, он произносил
это слово раз в шесть чаще, чем слово «христианство». Бого-
словие он считал игрой ума, и, пожалуй, даже праздной игрой.
Он стоял за воссоединение церквей в интересах цивилизации
и возлагал большие надежды «на святых мужей», проживавших
в Троице-Сергиевской лавре под Москвой, вдали от мирской
суеты. Он мечтал о сближении между православным и англи-
канским духовенством. Он склонен был всегда и во всем усмат-
ривать сходство, не обращая внимания на существенные раз-
личия. Ему казалось, что длинноволосый бородатый русский
священник по существу тот же благонамеренный английский
викарий. Он воображал, что русские помещики могут стать
чем-то вроде английских сельских сквайров и заседать в каком-
нибудь этаком парламенте в Петербурге. Он переписывался
кое с кем из кадетов. И вопрос о «filioque» ’, этот спорный
догматический пункт, на котором расходятся латинская и гре-
ческая церкви,— я сильно опасаюсь,— представлялся ему сво-
его рода софизмом.
— В конце концов мы ведь одной веры,— говорил он мне,
приготовляя меня к причастию.— Не стоит волноваться из-за
обрядов или догматов. В мире существует только одна истина,
и все добрые люди владеют ею.
— А Дарвин и Гексли? — подумал я вслух.
— Оба хорошие христиане,— ответил он,— в полном
смысле этого слова. То есть честные люди. Вера никуда не го-
дится, если ее нельзя проветрить, повертеть на все лады и по-
ставить на голову так, чтобы она устояла!
Он стал уверять меня, что епископское сословие много по-
теряло в лице Гексли — это был «атлет духа» и до мозга
1 И сына (лат.). Пункт из символа веры.
2 Г. Уэллс, т. 2 17
костей респектабельный человек. Его слова имели особенный
вес. Наука и религия — две стороны одной и той же медали
истины, но из этого не следует, что они должны враждовать
между собой. Быть инстинктивно христианином — в этом,
может быть, и заключается вся суть здорового христианства.
«Если ты стоишь,— говорил дядя, приводя цитату из священ-
ного писания,— берегись, как бы тебе не упасть». В сущ-
ности все люди имеют в виду одно и то же, и каждый из
нас в глубине души человек добрый. Но иные люди из-
меняют себе. Или же не находят правильного объяснения ве-
щам. Вопрос о происхождении зла мало тревожил моего дядю,
но порою его, думается мне, ставила в тупик нравственная не-
устойчивость ближних. За завтраком, читая газету, он любил
побеседовать с женою, с мисс Даффилд и со мною или же с
нередко появлявшимися у нас гостями о преступлениях, о до-
садном поведении достойных сожаления лиц, вроде душегубов,
мазуриков и тому подобных.
— Фи, фи! — говорил он бывало, приступая к завтраку.—
Это уж прямо из рук вон!
— А что они там натворили? — допытывалась тетка Дор-
кас.
— Какая злоба и какая глупость! — отвечал он.
Мисс Даффилд, откинувшись на спинку стула, с восторгом
смотрела на него, ловя каждое его слово; тетка же продол-
жала завтракать.
— Да вот, один слабоумный бедняга ни с того ни с сего
вздумал отравить свою жену! Он застраховал ее на круглень-
кую сумму,— это-то и привлекло внимание к данному делу,—
а потом возьми да и подсыпь ей яду. А ведь у них трое пре-
лестных ребятишек! Когда в суде стали расписывать, как
женщина мучилась и перед смертью проклинала его, так бед-
няга чуть не задохнулся от слез. Бедный идиот! Ну и ну!.. Да
он просто не знал, где достать денег... Несчастный!
— Но ведь он ее убил,— заметила тетка Доркас.
— Впадая в такое ужасное состояние, они теряют всякое
чувство меры. Я часто сталкивался с такими субъектами, когда
был судьей. Утрачена вера в жизнь,— а затем наступает нечто
вроде безумия. Весьма вероятно, что этот тип хотел достать
денег потому, что не мог видеть, как страдает от нищеты не-
счастная женщина. А потом жажда денег всецело овладевает
человеком. Денег, во что бы то ни стало подавай ему денег!
Больше он ни о чем не может думать.
Мисс Даффилд энергично кивала головой в знак полного
одобрения, но тетка Доркас все еще сомневалась.
— Но что бы ты с ним сделал, дорогой? — спросила она.—
Неужели ты бы позволил ему отравить еще кого-нибудь?
— А разве ты уверена, что он бы это сделал? — отвечал
дядя.
18
— Христос простил бы его,— тихо и как бы нерешительно
проговорила мисс Даффилд.
— Я думаю, его следовало бы повесить,— начал дядя, об-
стоятельно отвечая на вопрос тетки.— Да, я думаю, что его
следовало бы повесить. (Какая чудесная копченая селедка!
В последнее время таких что-то не попадалось!)—Тут он
стал обсуждать вопрос с разных сторон.— Я бы отпустил ему
его грех, но не помиловал бы его. Нет! Его следует повесить,—
для острастки, чтобы не вводить в соблазн немощных братьев.
Да. Он должен быть повешен.— Дядя глубоко вздохнул.— Но
на культурный лад. Понимаете?.. Кто-нибудь должен погово-
рить с ним по душе и объяснить ему, что его казнят без вся-
кой злобы; мы понимаем, что все мы бедные грешники, под-
верженные соблазнам, ни на йоту не лучше его, ни чуточки
не лучше, все мы грешники,— но именно потому он и должен
умереть. Мы должны его покарать для общей пользы. Правда,
ему придется пройти через неприятные переживания, но он
умрет за благо человечества, совсем как солдат на поле
битвы... Я предпочел бы, чтобы дело обошлось без палача. Па-
лач — это варварство. Куда культурнее была бы чаша с цику-
той, два-три благорасположенных к нему свидетеля, ласковые
слова, дружеские утешения... Мы к этому еще придем! —
продолжал дядюшка.— Таких случаев становится все
меньше — ведь и люди делаются терпимее, и порядки лучше.
Чем цивилизованнее мы становимся, тем меньше озлобления,
отчаяния и подлости, которыми вызваны подобные преступле-
ния. И тем реже приходится прибегать к суровым мерам.
Дела поправляются. Когда ты доживешь до моих лет, Арнольд,
ты сам увидишь, насколько все стало лучше!
Он грустно покачал головой и, казалось, колебался — стоит
ли еще толковать о газетах.
Нет, на сегодня довольно! Он рассеянно поднял голову,
стал пристально разглядывать шкаф и взял новую порцию коп-
ченой селедки...
Он любил рассказывать, что за всю его судейскую деятель-
ность ему ни разу не случалось судить действительно дурных
людей ни мужчин, ни женщин, а только невежественных, мо-
рально тупых и безнадежно слабоумных. Теперь я понимаю,
до какой степени он был непоследователен. Все его профессио-
нальное богословие построено было на доктрине грехопадения,
а он ежедневно ее опровергал.
В самом деле, что такое грех? Грех отступает перед циви-
лизацией. Может быть, в далеком прошлом и существовали
смертные грехи, но эти плевелы так долго и упорно искоре-
нялись, что теперь стали прямо-таки редкостью. Все его вы-
сказывания сводились к тому, что, по существу говоря, не
существует греха,— только человеческое недомыслие и заблуж-
2*
19
дение. Поэтому-то он и не проповедовал. Куда легче было да-
вать объяснения!
Дядя учил мёня не бояться жизни. Бесстрашно и без
оглядки заходить в самые темные закоулки. Говорить правду
и «посрамлять дьявола». Платить сколько запросят, не тор-
гуясь и не задавая вопросов. Порой тебя могут обмануть или
грубо с тобой обойтись, но в общем, если верить людям и до-
веряться им,— никогда не обманешься. Совершенно так же,
как тебя не укусит собака и не ударит копытом лошадь, если
ты не разозлишь и не испугаешь ее. Хуже нет, как дразнить
животное или выказывать перед ним страх. Если ты идешь
спокойно, собака ни за что не укусит тебя.
Когда ему возражали, что на земле существуют не одни
только собаки, но также тигры и волки, он отвечал на это,
что в цивилизованном мире они так редко встречаются, что
их можно не принимать во внимание. Мы живем в цивилизо-
ванном мире, который с каждым днем становится все куль-
турнее. Если мы что-либо игнорируем, то для нас, можно ска-
зать, этого как бы не существует. В жизни бывают моральные
потрясения и материальные потери, но вокруг нас достаточно
честных людей, достаточно доброжелательства, и мы вправе
не считаться с этими неприятными случайностями и ходить без
оружия. Он считал, что человек, носящий оружие, или буян,
или трус. Он не признавал никаких мер предосторожности про-
тив наших " ” ~
кого рода
от людей
казалось, что всякий секрет омрачает нашу
ближних. Ненавидел сейфы,
шпионство. Терпеть не мог
й прибегать к каким-нибудь
Презирал вся-
прятать вещи
уловкам. Ему
жизнь, а всякая
ложь — грех.
Все люди — добры, пока их не преследуют или не выводят
из себя, не обманывают, не морят голодом, не раздражают
или не пугают. Люди — воистину братья. Таковы были взгляды
и убеждения моего милого дядюшки, убеждения, которые он
проводил в жизнь, и так именно понимал он цивилизацию.
Когда весь мир, наконец, станет цивилизованным, все и каж-
дый будут счастливы!
Благодаря этому его учению и живому примеру дяди, та-
кого доверчивого и душевно чистого, я сделался тем, что, на-
деюсь, и сейчас собою представляю, несмотря на то, что мне
пришлось пережить опасные приключения и проявлять страх
и подлость; несмотря на эти темные свои стороны, я могу себя
назвать цивилизованным человеком.
Я почти не имел представления о военных и социальных
конфликтах, уже грозивших нам в эти золотые викториан-
ские дни. Последняя серьезная война была между Францией
и Германией. Порожденная ею вражда, по словам дяди, осла-
бевала с каждым годом. Мысль о том, что Германия и Англия
когда-нибудь будут воевать, противоречила законам кровного
20
родства. Ведь человек не может жениться на своей бабушке,
а тем более драться с нею; а королева Англии — всему миру
бабушка, в частности и германскому императору Виль-
гельму!
Революции еще менее угрожали нам, чем войны. Социа-
лизм,— учил меня дядя,— представляет весьма здоровый кор-
ректив к некоторой жестокости, которую проявляют фабри-
канты и дельцы, охваченные жаждой наживы. Объясняется
это главным образом тем, что они плохо разбираются в со-
циальных вопросах. Дядя дал мне прочесть Рескина «В гря-
дущие дни», а затем «Вести ниоткуда» Вильяма Морриса.
Я глубоко проникся духом этих книг и со спокойной уверен-
ностью ожидал будущего, когда все и каждый поймут друг
друга и придут к соглашению.
3
БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ДЯДИ
В моей школьной жизни вряд ли пришлось мне испытать
больше зла, чем в доме моего дяди. Впоследствии мне немало
пришлось слышать о чрезвычайной испорченности школьников,
о том, что школы Великобритании — сущая моральная клоака.
Я убежден, что многое в этих слухах преувеличено; во всяком
случае, в Имфилде ученики как будто не отличались испорчен-
ностью. Мы не лишены были характерной для нашего возраста
любознательности и удовлетворяли ее без особых эксцессов;
как все мальчишки, мы любили подтрунивать над тем, что
принято прикрывать фиговым листком общественных условно-
стей.
Провидение в своей неисповедимой премудрости устроило
так, что иные стороны жизни вызывают сомнения в духовной
ценности человека, и юношеское сознание в своих попытках
постичь смысл мироздания неизбежно проходит сквозь фазу
удивления, протеста и вполне естественной иронии.
Если не считать кое-каких легко объяснимых странностей
и душевных уклонов, я рос простодушным, чистым и здоровым
мальчиком. Я недурно изучил три языка и естественные науки
и достиг значительного искусства в игре в крикет, научившись
сильными и четкими ударами посылать мяч по кривой, кото-
рую со стороны можно было принять за прямую. Научился
ездить верхом и играть в теннис, который в ту пору был еще
совсем примитивным. Я сильно вытянулся, и волосы у меня
посветлели. Тот, кто увидел бы, как я иду во фланелевом ко-
стюме в парке сэра Уилоуби Денби к спортивной площадке,
столь же мало был бы склонен заподозрить, что моя мать на-
21
половину португалка, наполовину сирийка с примесью крови
туземцев Мадейры, как и подумать о том, что отдаленные
предки Блетсуорси были украшены шерстью и хвостом,— так
глубоко я проникся духом Блетсуорси, настолько цивилизо-
вался.
Из меня получился морально чистый, уверенный в себе и
доверчивый юноша, и если я не любил смотреть в лицо не-
приятным фактам, то главным образом потому, что в этой
тихой, богатой зеленью округе Вилтшира мало было неприят-
ных фактов, бросавшихся в глаза. И когда я, наконец, отпра-
вился в Оксфорд, в Летмир, то ни там, ни по дороге не встре-
тил никаких досадных неожиданностей.
За мое обучение в Оксфорде платила тетка Констанция
Блетсуорси; она умерла и оставила мне все свое небольшое
состояние за вычетом годовой пенсии, выплачиваемой ее ком-
паньонке,— пенсии, поглощавшей большую часть дохода. Обе
эти женщины, вначале смертельно меня боявшиеся, почувство-
вали ко мне искреннюю симпатию, когда я пышно распустился,
пригретый любовью заботливого дяди. Завещание было со-
ставлено, когда мой отец был убит в Бечуаналенде и я остался
нищим сиротой. Он убит был при крайне запутанных и ни-
когда полностью не выясненных обстоятельствах, где бурская
война, его спорный брак с дочерью одного бечуаналендского
сановника и права на какие-то участки, на которые претендо-
вал его предполагаемый тесть, играли значительную роль. Он
не сумел объяснить, почему очутился на бурской территории
за линией фронта в связи с каким-то делом, имевшим отноше-
ние к его всегда сложной, но никогда, думается мне, не бес-
честной личной жизни и мудреным, малопонятным поискам
золота. Но в то время мы считали, что он пал «за короля и
отечество» на поле битвы.
Бурская война не оставила никаких болезненных следов в
моей детской душе. Конечно, это была «самая культурная
война во всей истории», где проявлено было немало благо-
родства и рыцарства, «война белых людей», которая вызвала
взаимное уважение врагов и закончилась всеобщими ру-
копожатиями. Большинству из нас, рано или поздно, суж-
дено осиротеть, и иметь отца, который давно забыт и погиб,
как полагали, смертью храбрых в честном бою, было большим
утешением.
Смерть королевы Виктории также ничуть не огорчила меня;
Виктория ознаменовала собой блистательную эпоху, и я был
слегка удивлен, обнаружив, что «Панч» попрежнему суще-
ствует и англиканская церковь тоже. Да, все осталось на своем
месте, и вскоре мы убедились, что жизнь идет своим чередом;
правда, Англия, казалось, осиротела, но у нее не было уби-
того вида. Вместо Виктории воцарился король Эдуард, мо-
рально обновленный, но попрежнему любезный, и чувство
22
устойчивости существующего порядка не только не было по-
колеблено, но скорее даже укреплено ее кончиной.
Живя в Летмире, я уверовал в мировую цивилизацию.
Я сознавал себя не только в. безопасности, но чувствовал, что
обладаю известными привилегиями. Я увлекался греблей и
сидел четвертым номером на гичке нашего колледжа. Я хо-
рошо плавал. Я помадил волосы и делал посредине пробор.
Наряжался. Носил элегантный красный вязаный жилет в жел-
тую полоску. Научился различать сорта вин. Я завел себе прия-
телей и кое с кем из них вступил в тесную экзальтированную
дружбу; я влюбился в дочь вдовы табачника, державшей
лавку на одной из улиц Летмира. Я усвоил всю премудрость,
необходимую для получения ученой степени. И принимал
скромное участие в спектаклях, организуемых Драматическим
обществом Оксфордского университета.
В те дни у меня были все основания быть довольным своей
участью, и на эти дни я теперь оглядываюсь, как осужденный
на пожизненное заключение вспоминает какой-нибудь празд-
ничный летний день своей привольной, мирной юности. Остав-
ленное мне теткой небольшое, но вполне приличное состояние
избавило меня от погони за заработком, на которую обречено
большинство вступающих в жизнь молодых людей. Смерть
ее бывшей компаньонки, сделавшая меня нераздельным вла-
дельцем всего наследства, я перенес спокойно и мужественно
и готовился прочно занять свое место в установленной и освя-
щенной свыше общественной иерархии, наивно уверенный в
прочности этого порядка вещей. Мне и в голову не приходило,
что все это довольство и светлые надежды окажутся лишь бле-
стящей мишурой, прикрывающей ряд уготованных мне тяжких
переживаний.
Первой черной тенью, упавшей на мою молодую жизнь,
были быстро последовавшие одна за другой смерти тетки и
дяди. Дядя, кажется, первым из двух заболел, а умер после
тетки. Чем именно он был болен, я не знаю и думаю, что это
так и осталось невыясненным. Благодаря профессиональной
выучке и кастовой организации английские врачи приоб-
ретают осанистый вид, любовь к комфорту и степенные ма-
неры, но отнюдь не искусство ставить .диагноз. Медики как-то
глухо упоминали о червеобразном отростке, о почках, печени,
селезенке, желудке, симпатической нервней системе и какой-то
таинственной инфекции как о возможных причинах его дур-
ного самочувствия и болезни, благоразумно избегая точного
диагноза. В свидетельстве о смерти говорилось о сердечной
слабости как следствии простуды. Специалистов не пригла-
шали, ибо пришлось бы пригласить их слишком много,
а уплата им всем прогонов была дяде не по средствам. В этом
глухом, удаленном от Лондона местечке приходилось пола-
гаться, главным образом, на память врача, припоминавшего,
23
как он и его коллеги лечили в сходных случаях, да на ассор-
тимент лекарств в местной аптеке.
Дядя переносил жестокие страдания с мужеством и неосла-
бевающей надеждой. Он был очень тронут, когда доктор явился
на вызов в ночной час, покинув теплую постель и пройдя не
меньше двух миль под дождем; он словно чувствовал себя ви-
новатым, что страдает такой непонятной болезнью и что
приступ случился в столь неурочное время. Ему казалось, что
с его стороны прямо-таки некрасиво задавать столь трудную
задачу своему доброму другу, да еще беспокоить его так
поздно.
— Вы, доктора,— воистину соль земли! — говорил он.—
Что бы мы делали без вас?
Тетка простудилась, ухаживая за дядей, и скончалась от
воспаления легких. Два или три дня он лежал, не зная о своей
утрате.
Почти до самого конца он надеялся на выздоровление.
— Я — стреляная птица! —твердил он и не оставил мне
никаких распоряжений.
Узнав, наконец (хотя он вряд ли полностью осознал этот
факт), о смерти жены, он как-то странно притих.
— Умерла,— глухо отозвался он, когда ему в осторожной
форме сообщили о ее кончине в ответ на его вопрос о ней,
и вздохнул.— Умерла. Доркас умерла,— повторил он и больше
о ней не говорил. Он как бы замкнулся в себе и ушел в свои
мысли. Умер он через три дня на руках деревенской сиделки.
Перед концом он совсем не страдал, погрузившись в лег-
кое бредовое забытье. Должно быть, он пребывал где-то близ
своего бога, которому всегда служил; казалось, все в мире
стало теперь ему ясным и понятным.
— Какое чудо — цветы, какое чудо — звезды,— шептал
он,— какое чудо — сердце человека! Зачем сомневаться хоть
на мгновение, что все создано для блага? Зачем сомневаться?
И вдруг как бы случайно прибавил:
— Всю свою жизнь я ходил по земле и не удивлялся, как
прекрасны кристаллы, как прекрасны драгоценные камни.
Черная неблагодарность! Все принимал как нечто само собой
разумеющееся. Все хорошее в жизни принимал как должное,
а малейшее неизбежное испытание — как бремя!
Прошло много времени, пока он вновь заговорил. Он уже
забыл о драгоценных камнях и кристаллах. Он о чем-то спо-
рил сам с собою, обнаруживая явное пристрастие.
— Бремя всегда дается нам по силам. Если же иной раз
оно кажется тяжким... Воистину несправедливости не суще-
ствует.
Последнее, что я помню о нем,— это его голос, глухо про-
звучавший в тишине комнаты, тускло освещенной лампой,
когда он вдруг назвал меня по имени. Должно быть, он за-
24
метил, что я стою в дверях. Окно его спальни было раскрыто
настежь, но ему не хватало воздуха.
— Свежего воздуха,— твердил он,— побольше свежего
воздуха. Выведите их всех на свежий воздух; всех на свежий
воздух. Тогда все будет хорошо!.. Держите окна настежь.
Всегда держите окна настежь. Шире, как можно шире... И ни-
чего не бойтесь, ибо все совершается по воле божьей,— хотя
нам этого и не понять. Да, все по его воле...
• Лицо его выражало напряженное внимание. Вдруг веки его
опустились, он перестал смотреть на меня, дыхание стало за-
трудненным, замедленным и вырывалось из груди со свистом.
Долгое время он хрипел; никогда не забуду его агонии.
Хрип то замолкал, то возобновлялся, то опять затихал. Но вот
морщины на лице его разгладились, и оно посветлело; он мед-
ленно раскрыл глаза и спокойно, пристально поглядел перед
собой.
Я смотрел на него, ожидая, что он скажет, но он безмолв-
ствовал. На меня напал страх.
— Дядя! — прошептал я.
Деревенская сиделка дернула меня за рукав.
Утром, когда меня позвали к нему, лицо его уже представ-
ляло собой маску, и глаза были навсегда закрыты. Черты его
сохраняли приветливое выражение, но казалось, он был по-
гружен в созерцание какой-то несказанной тайны.
Мраморная статуя его предка в приделе Солсберийского
собора — вылитый дядя. Даже руки у него были так же скре-
щены.
Мне так хотелось говорить с ним, сказать ему многое-мно-
гое, чего я не успел высказать, но мне было ясно, что отныне
между нами не может быть общения.
Никогда еще мир не казался мне таким пустым и холодным,
как в это солнечное утро. Я сидел у изголовья дяди и долго
смотрел на милую мне маску, такую знакомую и уже став-
шую такой чужой, и тысячи мыслей проносились у меня в
голове, и самых возвышенных и самых низменных. Я горевал
о своей утрате и в то же время — я это хорошо помню! —
подло радовался тому, что вот я жив.
Но вскоре мною овладело ощущение непривычного холода
в сердце. Это чувство не было похоже на страх,— оно было
слишком глубоким и приглушенным. Я пытался прогнать это
ощущение. Я подошел к окну — залитый солнцем безмятеж-
ный пейзаж как будто потерял волшебную веселость, кото-
рою раньше был напоен. Те же знакомые крыши пристроек, та
же серая каменная ограда двора, выгон и престарелый пони,
живая изгородь и крутой склон холма. Все было на месте, но
все стало каким-то чуждым.
Холод, пронзивший меня при виде дядиного лица, не умень-
шился, а только усилился, когда я оглядел привычную обета-
25
новку; мне думается, это было не физическое ощущение, не
замирание сердца, а какой-то душевный холод, это было совсем
новое чувство, чувство одиночества, и сознание, что мне больше
не на кого опереться в этом мире, который, быть может, со-
всем не таков, каким мне представляется.
Я отвернулся от дяди, испытывая смутный протест против
этой перемены.
Опять мне захотелось сказать ему что-нибудь,— и я убе-
дился, что сказать мне нечего.
4
ЛЮБОВЬ И ОЛИВИЯ СЛОТЕР
Некоторое время жизнь моя текла без существенных пере-
мен. Предчувствие одиночества, овладевшее мною у смертного
одра дяди, нависло надо мной; оно все усиливалось, но я бо-
ролся, я старался изгнать его из своей души, что посовето-
вал бы мне и дядя, будь он в живых.
Окончив курс, я снял скромную квартирку в деревушке
Кэрью-Фосетс, близ Борз-хилла, на окраине Оксфорда. Не-
сколько приятелей и знакомых по университету составляли всю
мою компанию, и, казалось, лучшего места я нигде не найду.
Я мечтал о длительных поездках в Альпы, в Скандинавию,
в Африку и на Ближний Восток, а также о пешеходных про-
гулках по Лондону, с целью основательного его изучения.
Рассчитывал я совершить артистическую поездку в Париж.
Здесь я надеялся познакомиться с Америкой и Россией в лице
их представителей. К России же, как таковой, я повернулся
спиной: это была дикая страна, где пользовались несуразным
алфавитом и изъяснялись на неудобоговоримом языке. От-
махнулся я и от блеска и шума Нью-Йорка, от его веселья,
яркого света и экзальтации, как от неприятного факта, кото-
рого можно избегнуть. Если людям нравится ездить туда, быть
американцами и создавать свой собственный мир, из этого не
следует, что это должно меня интересовать.
Мне казалось, что я не лишен известной живости ума и
одаренности, хотя никогда ясно себе не представлял, что это
за дарования; во всяком случае мне хотелось получше
устроиться в жизни. Я сознавал, что мне повезло, что я нахо-
жусь в привилегированном положении, и считал, что должен
принести соответствующие плоды. Мне думалось, что лучше
всего применить свои дарования в области искусства. Хо-
рошо бы, например, написать роман-трилогию,— в те дни
пользовался уважением лишь романист, производивший на
свет тройню; подумывал заняться изучением картинных гале-
26
рей Европы на манер Рескина и записывать свои впечатления;
завести печатный станок для издания ряда выдающихся про-
изведений или использовать опыт, приобретенный в драмати-
ческом обществе, для писания пьес. Подумывал я и о поэзии,
вынашивал какую-то поэму, но вскоре решил, что технические
трудности этого искусства стесняют полет моего творческого
воображения. Я не был равнодушен к социальным вопросам
того времени и решил, что моя художественная деятельность,
в чем бы она ни состояла, должна иметь какую-нибудь высоко-
нравственную и гуманную цель.
Приятели уговорили меня принять на себя обязанности по-
четного секретаря дышавшего на ладан «Клуба стрелков из
лука» — ив этом искусстве я достиг значительных успехов.
Вопрос о своих жизненных задачах я обсуждал со всяким,
кто согласен был меня слушать; особенно часто я беседовал с
моим другом Лайолфом Грэвзом, с которым совершал даль-
ние прогулки, а также с Оливией Слотер, прелестной девуш-
кой, о которой я уже упоминал; мое юношеское восхищение и
дружба вскоре перешли в великую идеальную любовь! Как
хороша была эта блондинка с тонкими чертами! Волосы у
нее были белокурые с золотистым отливом. Она сияла в окне
лавки между пачками табаку и папирос, выставленными в
витрине, как солнце сияет сквозь листву. В мои студен-
ческие дни она часто подходила к дверям лавки и улыбалась
мне, когда я проходил мимо по какому-нибудь делу,— и уди-
вительно, до чего часто у меня случались дела в той стороне!
Она смеялась и бровями и глазами: рот у нее был прямо
классических очертаний, и когда она улыбалась, верхняя
губка слегка приподнималась, обнажая ослепительно белые
зубы.
Поводы к коротким, беглым беседам подвертывались все
чаще, и на третий год моего обучения я ухитрялся чуть ли не
каждый день видеться с ней. Однажды к концу дня мы встре-
тились на велосипедах близ Абингдона и провели вместе вос-
хитительный вечер. Мы пили чай в придорожном коттедже,
а потом, во фруктовом саду, спускавшемся к реке, стали цело-
ваться, влекомые друг к другу неодолимой силой. Я поцело-
вал уголок ее рта, там, где видны были зубки, потом взял ее
в объятия, привлек к себе и стал целовать ее тонкую шею; ее
мягкие волосы щекотали мне щеку. После этого мы ехали к
Оксфорду вместе до тех пор, пока позволяли приличия, и рас-
стались, причем на обратном пути едва ли обменялись двумя
словами. Мне казалось,— вероятно, казалось и ей,— что про-
изошло величайшее событие в жизни.
Разгорался мягкий, теплый, золотой солнечный закат; она
сама была такая нежная, теплая, золотая,— все казалось мне
чудесным, и сердце мое плясало, как мошка в ослепительном
солнечном луче.
27
После этого мы вошли во вкус поцелуев, и так как я был
хорошо воспитан, то приправлял наши объятия разными изящ-
ными и благородными пояснениями. В промежутках между
поцелуями я говорил о высоких целях, которым должна быть
посвящена наша любовь. Я вознес Оливию на недосягаемую
высоту, и она царила в моей душе, как некое божество, не-
зримо пребывающее в алтаре храма. Потом опять переходил
к поцелуям. Она целовала меня так страстно и ласкала так
нежно, что только мысль о ее целомудрии сдерживала мой
пыл; я был бесконечно счастлив.
Так как душа моя, после священного залога любви, пере-
полнена была Оливией, то Оливия, что не вязалось с моей
врожденной сдержанностью, стала постоянным предметом
моих бесед с Лайолфом Грэвзом. После долгих бесед на тему
о нашем призвании мы с ним выработали весьма многообе-
щающий план нового типа книжной торговли, который не
только должен был сыграть серьезную просветительную роль
в нашем отечестве, но и сделаться источником нашего богат-
ства и известности. В те дни в Англии велось немало разгово-
ров и споров по поводу недостатков нашей книжной торговли,
и мы собирались ответить на эти жалобы учреждением фирмы
«Блетсуорси и Грэвз». Мы намеревались открыть сперва в
Двух-трех, а затем во многих городах целый ряд книжных ма-
газинов, красиво убранных, где стены будут окрашены в со-
вершенно особенный синий тон. Магазины наши будут обстав-
лены, как гостиные, с креслами и удобными лампами для
чтения, а с покупателями мы будем вести назидательные
беседы и скорей соблазнять их чтением, чем навязывать
покупку книг. В дождливые дни мы будем вывешивать
плакат: «Зайди и читай, пока дождь перестанет». Мы на-
меревались ввести и много других усовершенствований в
книжное дело.
Во время прогулок мы с Лайолфом Грэвзом наперебой
доказывали друг другу, как велики будут выгоды нашего
предприятия для нас самих и для всего человечества. Мы бу-
дем покупать книги большими партиями, подчиним себе изда-
телей и в конце концов стяжаем любовь и уважение всего
интеллигентного мира.
— Мы будем организовывать общественное мнение! — го-
ворил Лайолф Грэвз.
Мы намеревались оказывать покровительство, поощрять
хорошие молодые издательские фирмы, противодействовать
дурным и «реформировать» их. Я лелеял мысль о гегемонии
в области критики и художественного вкуса, которая будет
осуществлена путем издания литературного обозрения в об-
ложке той же пленительной синевы, которая должна была —
по нашему замыслу — залить фасады наших магазинов. Я по-
лагал, что писатели должны считать для себя честью
28
печататься в таком журнале! Прогуливаясь как-то вечером, мы
перечисляли людей, которых допустим сотрудничать в жур-
нале.
И вот мы учредили торговую компанию. Нужен был капи-
тал в четыре тысячи фунтов, и каждому полагалось внести
половину этой суммы. Так как у Грэвза не было своих денег,
то я ссудил ему необходимые две тысячи фунтов под значи-
тельные проценты. Сперва я не хотел брать процентов, но
Грэвз — необычайно щепетильный в денежных делах!—уго-
ворил меня. Мы назначили себя директорами-распорядите-
лями с жалованьем по пятьсот фунтов в год каждому, так что
мой личный доход, как видно, даже увеличился от этих ком-
бинаций. Мы решили открыть наш первый магазин в Окс-
форде. Сняли на выгодных условиях в долгосрочную аренду
ветхое, полуразвалившееся, но просторное здание между мяс-
ной лавкой и магазином гробовщика и, перестроив дом, обо-
рудовали контору, обставленную комфортабельными и доро-
гими письменными столами и книжными шкафами, а в верх-
нем этаже, над лавкой, премиленькую квартирку, где должен
был водвориться Грэвз, чтобы наблюдать за делом. Он на-
стаивал на том, чтобы все происходило у него на глазах;
и дни и ночи он будет посвящать нашему великому начи-
нанию.
Три раза мы перекрашивали фасад нашего магазина, пока
не остановились на одном оттенке синевы — ив самом деле,
редко приходилось мне видеть такой веселый магазин! К не-
счастью, декоратор так высоко ценил наш вкус, что закупил
слишком много краски и, чтобы излишек не пропал даром,
убедил владельцев чайного и кондитерского магазина на той
же улице приобрести по сходной цене эту краску,— а мы-то
надеялись, что наш магазин будет выделяться этим цветом
среди всех остальных! В результате у нас время от времени
стали спрашивать китайский чай и бутерброды, и предпола-
гаемые читатели наших книг стали расходовать свои скудные
сбережения на чисто физические удовольствия. Мы спросили
нашего юрисконсульта, нельзя ли заявить авторские права
на эту краску, но юридическая сторона вопроса оказалась
слишком туманной, чтобы предъявлять иск.
Если не считать этих мелких огорчений, наше дело нача-
лось прекрасно. Этот период моей жизни вспоминается мне
как один из самых счастливых. В роде Блетсуорси была по-
чтенная традиция — не пренебрегать деловыми операциями,
но облагораживать их, и я уже мысленно видел, как мага-
зины Блетсуорси («Блетсуорси и Грэвз») распространяются
по лицу земли и выполняют столь же полезную и почтенную
задачу, как банк Блетсуорси и его филиалы — на западе
Англии. Я уже видел себя в роли идейного руководителя
предприятия, не слишком вмешивающегося в операции,
29
которые будет вести мой более решительный, практичный и, по-
жалуй, более энергичный компаньон. Жизнь моя будет оза-
рена присутствием моей Оливии, а свой пространный досуг,—
который окажется еще пространнее, когда наше предприятие
станет правильно работающим механизмом,— я посвящу раз-
витию своих несомненных художественных и интеллектуаль-
ных дарований, как только окончательно найду себя.
Я здесь рассказываю о тайных мыслях молодого чело-
века, о возвышенных и обширных замыслах, с которыми
юность вступает в жизнь. Внешне я держал себя скромно и
благопристойно, всегда признавая чужое превосходство,
учтиво уступал дорогу и никогда не оспаривал претензий лиц,
которые могли оказаться моими конкурентами. Но в душе
был до крайности самонадеян. Мне казалось, что я единствен-
ный в своем роде и весьма выдающийся малый, и все меня
окружающее приобретало оттенок какой-то исключительности.
Я видел перед собой стезю значительной и ответственной дея-
тельности. И Грэвз был чудесный союзник, изумительно ода-
ренный, хотя все самые утонченные и замысловатые идеи рож-
дались у меня. А сияющим топазом, огневым опалом с блед-
ными губками и аметистовыми очами была моя Оливия
Слотер, целомудренно страстная, непорочно загадочная, су-
щество, полное глубокой, несравненной прелести, о которой со
временем будут упоминать в связи со мною; она войдет в мою
биографию, подобно тому как Джиоконда вошла в биографию
Леонардо, этого всемирного светила, только еще на более за-
конном основании.
У меня не сохранилось моего портрета этой поры моей
жизни, когда я так и дышал самодовольством. Впрочем, не ду-
маю, чтобы самодовольство и безграничные претензии отрази-
лись на моей внешности и повадках. Полагаю, что я был до-
вольно симпатичным юнцом, каких немало бродило по лицу
земли. Во всяком случае я был хорошего мнения о себе, мне
нравилось все, что меня окружало, и вселенная казалась пре-
красной. Но вскоре пузырь моего самодовольства лопнул, без-
жалостно проколотый,— на радость всем завидовавшим моему
счастью.
Я поехал в Лондон на несколько дней, чтобы уладить кое-
какие мелкие дела. Мои поверенные, представители старинной
нотариальной конторы, к которой перешли мои дела по на-
следству от дяди, несколько превысили свои права, критикуя
моё предприятие, и мне хотелось успокоить их насчет Грэвза.
Кроме того, задумав подарить Оливии ожерелье из зеленого
нефрита, оправленного в золото, я хотел, чтобы его выполнили
в точности по моим указаниям. Вдобавок один из Блетсуорси,
живших в Сэссексе, женился, и я решил, что мне необходимо
присутствовать на его свадьбе. Я предполагал уехать на четыре
дня, но на третий день, женив своего родственника, решил
зо
вернуться в Оксфорд днем раньше и обрадовать Оливию
своим неожиданным появлением. Теперь мы были формально
помолвлены; ее мамаша «приняла» меня и лобызала с боль-
шим чувством; теперь я мог открыто подносить Оливии по-
дарки — и купил роскошный букет цветов, чтобы сделать
сюрприз еще более приятным.
Я приехал вечером, пообедав в поезде, и отправился в но-
вый магазин,— ключ от него я брал с собой,— чтобы взять
свой велосипед. В квартире Грэвза, наверху, было темно, и я
решил, что его нет дома. Вошел я, кажется, бесшумно и,
вместо того чтобы сразу взять велосипед, некоторое время
стоял посреди магазина, разглядывая его превосходную, бес-
подобную обстановку. Лишь в очень немногих магазинах име-
лись такие кресла и большой стол, заваленный книгами, точь-
в-точь как в клубной библиотеке!
Тут я заметил, что в конторе горит лампа под зеленым
абажуром. «Должно быть, Грэвз забыл потушить лампу»,—
подумал я и решил сделать это сам.
В комнате не было ни души. Но на большой конторке
Грэвза лежало недоконченное письмо, несколько листков.
Я взглянул на письмо, и мне бросились в глаза слова: «Доро-
гой Арнольд». Чего ради вздумалось писать ему мне письмо?
Ведь он видит меня каждый день. Итак, без зазрения совести
я уселся в его вращающееся кресло и начал читать.
Сперва я небрежно скользил по строчкам, но скоро письмо
приковало мое внимание.
«Есть вещи, которые лучше объяснять в письменной
форме,— так начиналось письмо,— особенно же когда это свя-
зано с цифрами. Ведь ты всегда отмахивался от цифр...»
Что такое стряслось?
Накануне я провел два неприятных часа в Линкольнс-Инне.
Престарелый Ферндайк (фирма «Ферндайк, Пантуфл, Хобсон,
Старк, Ферндайк и Ферндайк»), бывший школьный товарищ
моего дяди, а с материнской стороны — родич Блетсуорси, под-
верг такому сомнению образ действий Грэвза, что заставил
меня возразить: «Ну, сэр, ведь это прямо*инсинуация!» На что
старый Ферндайк ответил: «Ничего подобного! Ничего подоб-
ного! С нашей стороны вполне естественно задавать такие во-
просы!»— «Это совершенно излишне в отношении Грэвза»,—
заверил я; старый джентльмен молча пожал плечами.
Странное дело,— просыпаясь ночью, я вспоминал его слова,
и они звучали у меня в голове, когда после обеда я ехал в по-
езде. Я уразумел их по-настоящему, когда прочитал в письме
своего компаньона следующую фразу:
«Дорогой Арнольд! — писал он.— Дела наши плоховаты».
Смысл письма сводился к тому, что мы слишком широко
задумали свое предприятие. Он хотел, чтобы я как следует
себе это уяснил. Со временем, вероятно, все уладится, но сей-
31
час мы оказались в тяжелом положении. «Ты помнишь, я с
самого начала сказал тебе, что это дело требует капитала
в десять тысяч фунтов,— писал он.— Так оно и есть».
На украшения, меблировку, предварительные расходы, об-
орудование конторы и директорские оклады мы потратили
в сущности все наши наличные ресурсы. Мы едва только на-
чали закупать товар. «Вдобавок я взял со счета значительно
больше гарантированной тобою суммы»,— писал он. Я вспом-
нил, что дал ему весьма путаную и неясную доверенность на
тысячу фунтов. Мы уже выплачивали жалованье двум при-
казчикам, рассыльному и стенографистке Лайолфа, а офи-
циально еще даже не начали торговли. Правда, магазин был
открыт и мы обслужили несколько случайных клиентов, но
торжественное открытие мы хотели приурочить к началу учеб-
ного года. Тут мы собирались произвести сенсацию, а сенса-
ция всегда обходится недешево. Основную часть товара нам
предстояло еще закупить, и в течение нескольких месяцев надо
было вести дело в кредит. В Оксфорде всегда приходится так
делать. Желторотые студенты хватают литературу с жад-
ностью прожорливого утенка — но не за наличные. «Ничего
не поделаешь,— писал Грэвз,— остается одно — увеличить ка-
питал и идти вперед. Теперь уже поздно отступать...»
На этом письмо обрывалось. Повидимому, ему помешали.
Я держал письмо в руке, тупо глядя на новенькое бюро,
на которое лампа отбрасывала коричневую тень. Еще капитал?
У меня был капитал, но я уже приближался к тому, что Ферн-
дайк называл «чертой безопасности». До сих пор я рисковал
только сокращением своих доходов, теперь пахло потерей не-
зависимости, которую я так ценил. Передо мной ярко встал
образ старого Ферндайка, и я услышал его слова: «Согласи-
тесь, что у вашего друга немного не хватает... как бы это ска-
зать?.. умственного балласта, да и жизненного опыта».
Я оглядел нашу весьма солидную, внушительную контору.
Было очень весело обставлять ее — но не слишком ли она ве-
лика?
Неужели Грэвз, мой сообразительный и изобретательный
друг, менее солиден, чем, скажем, наш чудесный шкафчик,
рассчитанный на хранение десятков тысяч писем?
Погруженный в размышления, я не сразу расслышал ка-
кое-то движение и скрип, доносившиеся сверху. Наконец, я
сообразил, что, наверное, Грэвз у себя в спальне. Необходимо
сейчас же переговорить с ним обо всем! Квартира Грэвза
имела особый вход с улицы; выйдя из конторы, я прошел по
коридору в переднюю. Пол в магазине и лестница были уст-
ланы превосходными, дорогими голубыми эксминстерскими
коврами. Поднявшись по лестнице, я очутился в полутемной
гостиной, прежде чем Грэвз заметил мое присутствие. Дверь
спальни была приоткрыта, в спальне горел газ.
32
Я уже собирался окликнуть Грэвза, но меня остановил звук
поцелуя, скрип мебели и чей-то громкий вздох.
И тут — о, ужас! — до меня донесся голос Оливии Слотер,
слишком хорошо мне знакомый.
—- Ну! — сказала она со вздохом глубокого удовлетворе-
ния.— Ты настоящий чемпион по части поцелуев.
Потом послышался шепот Грэвза и какая-то возня.
— Перестань! — как-то лениво протянула Оливия Слотер,
а затем добавила с деланой строгостью: — Перестань, говорят
тебе!
Тут у меня в памяти какой-то пробел. Не могу сказать,
сколько прошло времени — целая вечность или несколько се-
кунд. Но вот какая картина предстала моим глазам, когда
я распахнул дверь спальни: Грэвз и Оливия лежат на кровати,
уставившись на меня. Грэвз приподнялся на локте. Он в спор-
тивном костюме, шелковая рубашка расстегнута у ворота.
Оливия лежит ничком и смотрит на меня через плечо. Блузка
ее смята и расстегнута, прелестный торс обнажен больше, чем
мне когда-либо приходилось видеть, и голая рука лежит на
обнаженной груди Грэвза. Оба красные и растрепанные. Они
смотрят на меня с каким-то бессмысленным удивлением, но
вскоре их лица принимают осмысленное выражение и в глазах
вспыхивает тревога. Медленно-медленно, не отрывая от меня
глаз, они поднимаются и садятся на кровать.
Кажется, я спрашивал себя, что предпринять,— и уже ясно
помню, как внезапно принял решение: показать характер!
У Грэвза был большой вкус, и за счет предприятия он
украсил каминную доску в своей комнате двумя изящными
старинными итальянскими графинами. Оба они оказались тя-
желее, чем я думал, ибо он для устойчивости наполнил их во-
дой. Один из них я швырнул ему в голову и попал: он разле-
телся вдребезги, залив Грэвза водой и осыпав осколками. Вто-
рой пролетел мимо, и вода окатила постель. Потом я, кажется,
ринулся к умывальнику, ибо помню, как выплеснул воду из
кувшина на кровать, и в руках у меня очутился пустой, черес-
чур легкий для моих целей предмет — умывальный таз. Тут
новый провал памяти. Потом вижу, как Грэвз стоит передо
мной и на лбу у него багровая полоса, из которой еще не на-
чала сочиться кровь. Я аккуратно поставил на место таз,
прежде чем броситься на Грэвза. Лицо у него мертвенно-блед-
ное и словно излучает свет, а в глазах застыл вопрос. Он был
слабее меня и меньшего веса, я мигом вышвырнул его из
спальни, проволок через гостиную и спустил с лестницы. По-
том вернулся к Оливии.
Богиня, которой я поклонялся, низринулась с небес. Передо
мной была самая обыкновенная молодая/ женщина со спутан-
ными волосами цвета спелой пшеницы, которая была мне
прежде так желанна, да и сейчас еще волновала меня. Она
3 Г. Уэллс, т. 2
33
старалась застегнуть брошкой воротник блузки. У нее так дро-
жали руки, что это ей никак не удавалось. Лицо у нее было
испуганное и сердитое.
— Грязные негодяи! Вы подстроили мне это,— ты и твой
компаньон! Ты думаешь, я ничего не понимаю? А еще сва-
тался! Проклятые мерзавцы!
Я стоял неподвижно, не слушая ее,— хотя потом отчет-
ливо вспомнил ее слова,— и раздумывал, как бы ее уничто-
жить. Не могу сейчас припомнить, какие бешеные порывы раз-
дирали мою душу в тот момент. Знаю лишь одно — что вне-
запно схватил ее и начал срывать с нее платье. Она отчаянно
отбивалась, потом перестала сопротивляться, но не сводила с
меня глаз. Я раздел ее почти до нага и бросил на кровать. Тут
я встретился с ней глазами. Я был изумлен. В ее взгляде
исчезла враждебность! Одному богу известно, над какой без-
дной я стоял в этот момент. Но вот гнев снова налетел на меня,
как ураган.
— Вон отсюда! — крикнул я, схватил ее и вышвырнул на
лестницу.
Несколько мгновений я с ужасом думал о том, что едва
не произошло. Я презирал себя и за свое низменное желание,
и за то, что отступил.
В полной растерянности, не зная, что делать, я метался по
комнате, восклицая:
— Боже мой! Боже мой!
Потом мне вспоминается испуганное, но далеко не расте-
рянное лицо Грэвза в рамке дверей. По щеке его струйкой
текла кровь, и он говорил:
— Да отдай же ее платье, дурак! Все скажут, что мы на-
рочно это подстроили!
Это было благоразумно. Это было весьма благоразумно.
Несмотря на смятение чувств, рассудок вернулся ко мне. Но
мне еще предстояло совершить изумительные вещи.. С минуту
я размышлял, потом сгреб изорванную смятую одежду Оли-
вии в охапку и неожиданно швырнул ее Грэвзу в лицо.
— Убирайтесь вы оба вон! — крикнул я.
Грэвз выпростал голову из груды тряпок. Собрав принад-
лежности ее туалета, он вышел из комнаты.
Я слышал, как он спотыкался, спускаясь по лестнице.
— Нельзя же выйти на улицу в таком виде! — ворчал он.
Ни его спальня, ни гостиная не могли теперь служить мне’
приютом. Я вспомнил, что оставил в магазине свой велосипед.
Напустив на себя вид оскорбленного достоинства, я напра-
вился к двери, открывавшейся в магазин, и запер ее за собой.
Теперь я окончательно овладел собой. Ощупью пробрался я к
велосипеду, чиркнул спичкой и зажег лампу. Я вспомнил о
письме Грэвза, которое недавно читал. Оно куда-то исчезло,
и я чувствовал, что у меня не хватит сил подняться по лест-
34
нице и разыскивать его. Букет цветов лежал на конторке у
самой ручки велосипеда. Я совершенно позабыл о цветах. Ма-
шинально я взял .букет, понюхал и положил на место.
Затем вышел в переднюю дверь магазина, сел на велоси-
пед и поехал по освещенным улицам через мост, а затем по
безлюдной дороге, ведущей к Кэрыо-Фосетс.
Я немедленно лег в постель и крепко спал большую часть
ночи, но на рассвете проснулся, словно кто-то меня толкнул,
и в недоумении спрашивал себя: «Что случилось?»
Защебетали и зачирикали птички, но меня это только раз-
дражало. Их голоса нарушали ясное течение моих мыслей.
5
ИНТЕРМЕДИЯ С МИССИС СЛОТЕР
Я считаю нужным рассказать читателю обо всем, что пере-
жил в дни, последовавшие за катастрофой. Но это не так-то
легко сделать. Воспоминания мои носят крайне беспорядочный
характер; то они очень ясны, обстоятельны, отчетливы, словно
это случилось со мной вчера, а не четверть века назад, то
становятся туманными, искаженными и зыбкими, то переме-
жаются с полосами полного забвения. Я не могу найти ни
смысла, ни системы в странной работе своего мозга. Не могу
объяснить, почему мне с такими подробностями вспоминается
пробуждение в то утро, и — да простится мне это мелочное
копание в своей душе! — к воспоминаниям об этом утре при-
мешивается воспоминание о событиях предыдущего вечера.
Я не только помню, что запустил в Грэвза графином,
а помню, что вспомнил об этом утром и, вспоминая,
недоумевал: зачем я это сделал?
Вероятно, эти часы бессонницы так хорошо запомнились
мне потому, что они были первыми в длинном ряду подобных
же переживаний. Казалось, весь мир изменился, и я вместе с
ним; казалось, мое «я», так хорошо мне знакомое, было каким-
то сновидением в мире грез, а теперь наступило пробуждение
и я очутился лицом к лицу с суровой действительностью. На-
чало светать; но это был рассвет непривычного, безрадостного
дня; солнце залило мою комнату потоками теплого света, но
в этом свете не было души. Запели птицы, в переулке заскри-
пела телега и засвистел какой-то мальчуган; но я знал, что
птицы — просто поющие машины, телега едет куда-то попусту,
а мальчуган, хоть он того и не подозревает, ходячий омерзи-
тельный труп.
Я старался разрешить неразрешимую проблему: почему та-
кое место в моей жизни заняла эта безмозглая, вульгарная
3*
35
полудева и компаньон, которого можно было бы назвать мо-
шенником, не будь он тщеславным и самодовольным дураком?
И еще больше смущала меня задача — как распутать этот
узел, стряхнуть оцепенение и оторваться от этих двух случайно
выбранных спутников жизни?
Но вне всякой связи с предыдущим в основной поток моих
мыслей врывалось особое, остро волнующее' воспоминание.
Передо мной совершенно неожиданно всплывала фигура по-
лураздетой Оливии Слотер — какой она была в тот момент,
когда, прекратив сопротивление, смотрела на меня с каким-то
странным выражением. Я презирал ее и даже ненавидел, но
этот образ возбуждал во мне такое сильное желание, какого
я никогда раньше не испытывал. Ну и дурак же я был, что
оставил ее и ушел! Как связать эти столь различные потоки
мыслей, одновременно проносившиеся у меня в мозгу? Было
похоже на то, что я, молодой дикарь, сижу и молча мечтаю
о чем-то своем, в то время как старый джентльмен бок о бок
со мной рассуждает о пространстве, времени, предопределении
и свободе воли.
Какая-то частица моего мозга строила планы о том, как я
вернусь в Оксфорд и захвачу Оливию Слотер врасплох,— а что
будет потом — наплевать! Между тем как основное мое «я»
все еще допытывалось: что стряслось с моей душой и почему
мой мир обречен на гибель? О Грэвзе я думал мало и всякий
раз с презрением и злобой. Я не столько злился на него, что
он обманул меня с Оливией Слотер, сколько — на Оливию Сло-
тер, что она обманула меня с ним. И смутно, но настойчиво
мой мозг сверлила мучительная мысль, что как-никак я —
изменник, ибо вместе с ними (только не могу сказать, когда —
до или после печального открытия) я изменил самому себе.
Но какому это «себе»?
Причудливо сменялись мои настроения.
Наконец, я встал и швырнул в камин ее вставленный в
рамку портрет, стоявший на комоде. Стекло треснуло, но не
разбилось на осколки. Потом я поднял портрет и поставил его
на место. «Погоди, сударыня!» — И я в самых оскорбительных
выражениях высказал, как именно намерен был с ней распра-
виться.
Затем мне вспоминается поездка солнечным утром на вело-
сипеде в Оксфорд. Кажется, я завтракал, разговаривал со
своей хозяйкой и где-то слонялся часов до одиннадцати, но
подробности изгладились из моей памяти. Кажется, я разду-
мывал о том, чем бы мне заняться в Оксфорде. Помню, между
прочим, я заметил, что листья на деревьях кое-где слегка по-
желтели и начали алеть, и задал себе вопрос: оттого ли, что
уже приближается осень, или же от стоявшей в то время
засухи?
Оказывается, Грэвз уложил вещи и уехал. Когда явилась
36
утром наша приходящая прислуга, его уже не было. Она была
весьма озадачена, увидев на полу осколки стекла и черепки,
мокрую постель, в которой, как видно, никто не спал, и подо-
брав три шпильки. Я проявил к ее словам довольно слабый
интерес. Об этом ей следовало спросить Грэвза.
— Без сомнения, мистер Грэвз объяснит все это, когда вер-
нется,— заявил я.
Потом я, помнится, приказал нашему рассыльному за-
крыть ставнями окна магазина (служащие собрались в обыч-
ный час, и я рассчитал весь свой персонал). Между прочим,
мне отчетливо вспоминается, что цветы, брошенные мною в
лавке, стояли в большой нарядной вазе посреди стола, зава-
ленного книгами. Промелькнула мысль: кто бы это мог сде-
лать? Увольнение персонала как будто доказывало, что я ре-
шил окончательно прекратить торговлю книгами. Вероятно,
служащие ушли в большом изумлении. Сейчас я не могу при-
помнить ни их лиц, ни фамилий. Должно быть, я напустил на
себя мрачное величие, чтобы они не вздумали меня расспра-
шивать или вступать со мной в разговор. Наконец, все они
убрались, а я, оставив цветы гнить в вазе, направился к вы-
ходу и простоял несколько минут, наблюдая прохожих на за-
литой солнцем улице, перед тем как захлопнуть за собой
дверь. Велосипед мой -стоял, прислоненный к тротуарной
тумбе.
Вдруг я заметил на улице довольно далеко миссис Слотер,
которая спешила ко мне и знаками старалась привлечь мое
внимание.
Как сейчас, помню, какое негодование охватило меня при
виде этой особы. Негодование, смешанное с ужасом. Я совсем
забыл о существовании миссис Слотер!
Велосипед стоял тут же, но обратиться в бегство было ниже
моего достоинства.
— Одно словечко, мистер Блетсуорси! — вымолвила она,
поровнявшись со мной.
Она была ниже Оливии и совсем другой окраски. Волосы
у нее были с рыжеватым отливом, лицо красное и веснушча-
тое — какой контраст с матовым цветом лица Оливии, напо-
минавшим слоновую кость теплого оттенка. Глаза были не си-
ние, как у Оливии, а карие и совсем маленькие; она раскрасне-
лась и слегка запыхалась. На ней было темное рабочее
платье, а на голове сомнительной чистоты чепец. Вероятно,
один из уволенных мною служащих мимоходом сказал ей, что
я в магазине. Возможно, что она справлялась обо мне еще до
моего прихода.
С минуту я смотрел на нее, не произнося ни слова, а затем
молча провел ее в темную глубину магазина.
У нее была приготовлена речь. Начала она в тоне друже-
ской укоризны.
37
— Что такое произошло между вами и Оливией? — спро-
сила она.— Что это за разговоры о разрыве, о том, что вы
никогда больше не будете видеться? Из-за чего вы, дети мои,
повздорили? Я ничего не могла толком от нее добиться,—
она только и сказала, что вы крепко рассердились и подняли
на нее руку. Подняли на нее руку! И вот она, бедненькая, пла-
чет, заливается. Всю душу выплакала! Я и не знала, что она
была вчера вечером здесь. Она прокралась домой тихо, как
мышка. А когда я утром поднялась к ней — глядь, она лежит
в постели и рыдает! Всю ночь проплакала!
В таких фразах миссис Слотер изливала мне свое материн-
ское горе.
Тут я впервые раскрыл рот.
— Я ничего не говорил о разрыве,— заметил я.
— Она говорит, что между вами все кончено,— возразила
миссис Слотер, как-то безнадежно махнув рукой.
Я оперся на прилавок, устремив взгляд на ни в чем непо-
винные цветы, которые, казалось мне, лежали на гробе моих
погибших иллюзий...
— Я не думаю,— процедил я сквозь зубы,— чтобы между
нами все было кончено.
— Ну, это другое дело! — пылко воскликнула миссис Сло-
тер; я уставился на ее глупую физиономию, впервые измерив
всю бездну тупости, на какую способна мать взрослой дочери.
— В таком случае нам не придется поднимать вопрос о
привлечении вас к суду за нарушение обещания жениться,—
продолжала она, скомкав длинную, заранее обдуманную рацею
и ограничившись одной фразой.
По правде сказать, я еще меньше думал о такого рода
процессе, чем о самой миссис Слотер. Но от такой особы,
как миссис Слотер, только и можно было ожидать, что про-
цесса.
— Да, да,— согласился я,— не стоит говорить об этом.
— Но если так, то из-за чего же вся перепалка?—спро-
сила миссис Слотер.
— А это,— отвечал я,— дело Оливии и мое.
Миссис Слотер впилась в меня глазами, и на лице ее по-
явилось выражение боевого задора. Она сложила руки на
груди и вздернула голову.
— Скажите на милость! — вскричала она.— Не мое дело,
говорите вы?
— Не ваше, насколько я понимаю.
— Стало быть, счастье моей дочери не мое дело? А? Мне,
стало быть, оставаться в стороне? А? В то время как вы раз-
биваете ее сердце. Нет, молодой человек, этого не будет! Не
будет!
Миссис Слотер замолчала, видимо ожидая ответа, но я ни-
чего не ответил. Я хотел было сказать, что счастье ее дочери
38
меня теперь ничуть не интересует, но во-время удержался. Мое
молчание сбивало ее с толку, ибо вся сила ее аргументации
заключалась в репликах.
Пауза затянулась. Я держался безупречно, не теряя тер-
пения. Миссис Слотер быстро изменила выражение лица и по-
дошла ко мне поближе.
— Да послушайте же, Арнольд! — проговорила она сугубо
материнским тоном, и мне стало приятно, что я сирота.— Не
вздумайте только с Оливией ссориться из-за пустяков и ва-
лять дурака! Ведь вы же ее любите! Ведь это так! Вы знаете,
что она ни о ком в мире не думает, кроме вас. Не знаю, из-за
чего у вас вышла размолвка, но совершенно уверена, что из-
за сущих пустяков. Ревность или что-нибудь в этом роде.
Разве я этого не понимаю? Разве я не пережила того же са-
мого со Слотером много лет назад? Выбросите это из головы!
Не думайте об этом! Вот она плачет так, что того и гляди
заболеет! Вернитесь к ней. Поцелуйте ее, скажите ей, что все
в порядке,— и через десять минут вы будете целоваться и
ворковать, как два голубка! Будет вам дуться. Терпеть не
могу, когда дуются! Сейчас же идите к ней, говорю я вам,
и уладьте дело, и пусть с этим будет покончено! Завтрак уже
на носу, и у меня баранина варится. Вы еще ни разу не удо-
стоили пообедать у меня. Милости просим ко мне и покончим
с этой напастью. Поцелуйтесь, помиритесь и останьтесь у нас
па весь вечер. Повезите ее куда-нибудь! Вот мой рецепт,
Арнольд. Лучше я не могу придумать!
Она умолкла, но сквозь ее напускное добродушие прогля-
дывала тревога.
Я чуть было не назвал ее «милая моя», что было бы уже
совсем оскорбительно. Я начал говорить медленно, взвешивая
каждое слово.
— Миссис Слотер! — сказал я.— Повторяю, это дело ка-
сается лишь меня и Оливии. Я разберусь во всем этом с нею,
и только с нею!
Миссис Слотер хотела было перебить меня, но я повысил
голос:
— Только не сегодня. Не сегодня. Иногда следует подо-
ждать, чтобы немного остыть, а иногда необходимо, чтобы кое-
что созрело.
У нее вытянулась физиономия. Она увидела нечто такое,
чего до сих пор не замечала.
— Почему это магазин заперт? — спросила она.
— Он заперт по деловым соображениям,— ответил я.— Но
опять-таки я не могу это обсуждать в данный момент.
— А мистер Грэвз?
— Его здесь нет.
Таков, в общих чертах, был наш разговор. Она произнесла
еще несколько пустых фраз, возвращаясь все к тому же, и,
39
наконец, ушла, вспомнив о баранине, оставленной без при-
смотра. Кажется, я долго еще стоял в магазине.
Мне запомнилось, как я стоял одной ногой на тротуаре,
перекинув другую через седло велосипеда, и спрашивал себя:
«Ну, куда же мне теперь ехать?»
6
СТОЛКНОВЕНИЕ В ПОТЕМКАХ
Я сидел и пил чай на берегу Темзы в полутемной, но сияю-
щей чистотою гостинице «Парящий орел», которая, несмотря
на свою миниатюрность, числится в списке «Ста замечатель-
ных гостиниц». Хозяин, солидный джентльмен в сюртуке бу-
тылочного цвета с медными пуговицами, удостоил меня бе-
седой.
— Не случалось вам терять самого себя? — спросил я его.
— И находить кого-нибудь другого?
— Я ищу некоего Арнольда Блетсуорси, пропавшего часов
шестнадцать назад!
— Ну, все мы играем в прятки сами с собой. Что же, этот
Арнольд Блетсуорси был молодой человек, полный надежд и
честолюбивых замыслов?
Я кивнул головой.
— Вот они всегда так — пропадут, как в воду канут.
— А потом возвращаются?
— Как когда. Иногда возвращаются. И даже очень скоро.
А то и нет.
Тут он вздохнул, посмотрел в широкое окно, находившееся
низко над полом, и что-то приковало к себе его внимание.
Пробормотав какое-то извинение, он покинул меня. Он так и
не вернулся; спустя некоторое время я уплатил по счету кель-
нерше и поехал на велосипеде по направлению к Эмершэму.
Застенчивость помешала мне дождаться трактирщика. Мне до-
садно было, что не удалось возобновить с ним беседы — его
голос и манеры понравились мне, и он, кажется, хорошо по-
нимал мое душевное состояние. Впрочем, если бы он вернулся,
я, вероятно, заговорил бы о чем-нибудь постороннем.
Я катил по дороге, испытывая чувство полнейшего одино-
чества.
Я бесцельно ехал теплым летним вечером, поворачивая на
восток, чтобы лучи заката не били мне в глаза. Я разрешал
сложную проблему моей личности. Неужели же Арнольд
Блетсуорси — только наименование и оболочка целого ряда
противоречивых «я»?
Мне известны были блетсуорсианские мерила чести и пра-
40
вила поведения, которыми мне надлежало бы руководство-
ваться в этом моем кризисе. Я великолепно знал их. Что меня
больше всего удивляло — так это ураган похоти, животной
похоти, смешанной с гневом и прикрытой чувством самооправ-
дания, которая с презрением отшвыривала прочь все эти ме-
рила и всякую сдержанность! Кто такой был этот гневный и
похотливый эгоист, который хотел взять верх надо мной и ко-
торого преследовал образ Оливии — обнаженной, испуганной
и податливой? Это был не я. Конечно, не я! В старое время
его называли сатаной или дьяволом. Неужели дело меняется
от того, что в наше время этого непрошенного гостя называют
«подсознательным я». Но я-то кто? Арнольд Блетсуорси —
или этот другой? Сквозь яростный вихрь страсти, грозивший
лишить меня свободы воли, начинал звучать другой голос, над-
менный и презрительный; казалось, говорил какой-то циничный
наблюдатель, подававший мне дурные советы. «Дурак ты
был,— доказывал он,— и дураком остался. Дурак и мозгляк.
К чему все эти негодующие позы? Если ты желаешь эту де-
вушку — возьми ее, и если ты ее ненавидишь — разделайся с
нею. Но устройся с нею так, чтобы не попасть в беду. Ты мо-
жешь сделать так, чтобы инициатива исходила от нее, а не от
тебя. Ты увидел по ее глазам, какую власть имеешь над нею!
Погуби ее — и уйди! Не давай ей поработить тебя, увлечь в
бездну позора. Стоило тебе поглядеть на ее теплое и гибкое
тело, как ты скис, мой мальчик! Ничего себе, соблазнительная
девчонка! Но что тут удивительного? И неужели других нет
на свете? Я спрашиваю тебя — разве нет на свете других?»
В этот вечер я проносился не по проселкам, а сквозь сумя-
тицу своих побуждений. Вспоминаю, между прочим, что мной
вдруг овладело сильнейшее желание войти в сношение с «ду-
хом» моего дяди. Если бы я только мог вспомнить как следует
его образ и голос, эти злые силы сразу отступились бы от меня.
Кто знает, может быть, частица его души еще реет над хол-
мами Вилтшира. Но когда я посмотрел на запад, заходящее
солнце вонзило мне в глаза свои пламенеющие копья, и я от-
прянул назад.
Вы спросите, молился ли я? Обрел ли я хоть какое-нибудь
облегчение в религии моих предков? Ни на минуту! Яснее, чем
когда-либо, я понимал, что верил-то я в своего дядю, а вовсе
не в милосердного бога, образ которого лучи дядюшкиной
доброты отбрасывали на это равнодушное небо. Во всех моих
злоключениях я ни разу не воззвал к богу. Это было для меня
все равно, что молить о помощи, скажем, Сириус.
Стемнело, но я не зажег фонаря. Обогнув угол, я увидел
на расстоянии какого-нибудь ярда заднюю стенку фургона,
тускло маячившую в сумерках. Я думал, что фургон движется,
и хотел обогнать его, но вдруг задняя стенка фургона сузилась
с какой-то волшебной быстротой, и я понял, что он поворачи-
41
вает — но понял слишком поздно, чтобы избегнуть столкнове-
ния. Как сейчас вижу: мой велосипед быстро несется навстречу
огромным деревянным колесам; помню, как я порывался свер-
нуть в сторону и как потерял равновесие.
До этого мига я все помню ясно и отчетливо, но затем я
словно куда-то провалился. Вероятно, я ударился головой о
фургон. Об этом история умалчивает. Должно быть, я был
оглушен. Но странно, что я не помню, как произошло столк-
новение. Свет, так сказать, погас в тот момент, как я ударился
колесами в стенку фургона.
7
МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ СОВЕРШЕННО ИСЧЕЗАЕТ
ИЗ СОБСТВЕННОЙ ПАМЯТИ
Начиная с этого момента, мой рассказ становится сбивчи-
вым и туманным. Я так и не знаю, что сталось с моим велоси-
педом и как я добрался до Оксфорда. В тот вечер я вернулся
домой в Кэрью-Фосетс — вернулся на извозчике, с перевязан-
ной головой, но в приличном виде.
Должно быть, я шатался по Оксфорду с неделю или даже
больше. Бестолково занимался своими делами. Я узнал, что
Грэвз исчерпал до последнего гроша предоставленный мною
ему кредит, а затем поступил на службу агентом одной торго-
вой компании и отправился на Золотой Берег. Кажется, он
прислал мне письмо, обещая уплатить свои долги и выражая
сожаление по поводу всего происшедшего. Вероятно, так оно
и было, но этот документ, кажется, не сохранился. Повиди-
мому, мистеру Ферндайку я ничего не сообщил о своих разо-
чарованиях и деловых неудачах. Вместо этого я пригласил
какого-то захудалого адвокатишку из Оксфорда, который
главным образом вел дела игроков на тотализаторе, улавли-
вающих в свои сети юных неопытных студентов, и с его по-
мощью очень быстро и весьма невыгодно для себя распоря-
дился имуществом нашей компании. Все это начисто стерлось
у меня из памяти.
Кажется, раза два, а может быть, и больше я пытался по-
видаться с Оливией Слотер наедине; должно быть, она ска-
зала своей матери, что боится меня; из этих попыток во вся-
ком случае ничего не вышло. Возможно, что широкая повязка,
закрывавшая мой глаз, придавала мне страшноватый вид. Мне
смутно вспоминается, что я приходил в бешенство, но едва ли
это было при свидетелях. Процесса о нарушении обещания
против меня так и не возбудили.
Никому в точности не известно, как и когда я покинул
Оксфорд. Я куда-то исчез, и моя квартирная хозяйка забеспо-
42
коилась обо мне. За квартиру мою впоследствии заплатил ми-
стер Ферндайк, и он же забрал мои вещи. Где я скитался в
течение трех недель, осталось невыясненным. В конце концов
меня обнаружили в переулке на окраине Норвича. Нашел меня
полисмен, в три часа ночи. Я был весь в грязи, без шапки, без
гроша в кармане и в сильном жару. Говорят, я пил запоем,
прибегал к наркотикам и, несомненно, вращался в дурном об-
ществе. От меня сильно пахло эфиром. Я начисто забыл свою
фамилию, забыл, кто я такой, а бумаг, которые могли бы удо-
стоверить мою личность, при мне не было. Из полицейского
участка меня отправили в больницу при работном доме, а там
неглупая сиделка, обратив внимание на изящный покрой моего
костюма, догадалась пошарить в моих внутренних карманах
и нашла карточку оксфордского портного с обозначением моей
фамилии и факультета; так была восстановлена связь с моей
утерянной и забытой личностью. Но я оставался в постели, не
отвечал, когда меня окликали по имени, испытывал сильное
недомогание, был странно апатичен, и не было надежды, что
я скоро поправлюсь.
Новое самосознание формировалось во мне медленно, но
верно. Не помню, когда начался этот процесс. У меня осталось
смутное впечатление, что меня перевели в частную, хорошо
оборудованную лечебницу, и я обрадовался, когда узнал, что
мистер Ферндайк собирается меня навестить. Я вспоминаю, что
он был любезен и приветлив, но себя самого не помню. Пер-
вым признаком возвращения к жизни было чувство антипатии
к моей сиделке, болтливому созданию с редкими льняными
волосами, весьма враждебно настроенной к двум людям, имена
которых, чем бы ни занималась, она вечно повторяла как
нудный припев: «Холл Кейн» и «Холл Дейн». Холл Кейн, как
видно, был крупный английский романист: одна из его ге-
роинь, Глория Сторм, обидела ее тем, что была изображена в
виде сиделки, охваченной преступной страстью; а Холл Дейн
оказался не кем иным, как лордом Холденом, который внес
какие-то изменения в закон об армейских сестрах милосердия.
Я лежал и с ненавистью думал о сиделке — и вдруг вспомнил
о приезде лорда Холдена в наш спортивный союз. Это напом-
нило мне несколько фраз, сказанных Лайолфом Гоэвзом —
Лайолф Грэвз сидел на соседней скамье.
Я — Арнольд Блетсуорси из Летмира!
Разрозненные воспоминания хлынули в мою душу, как
дети в школу после каникул. Они расселись по своим местам,
принялись кивать мне, выкрикивать свои имена и перекли-
каться между собою...
На другой день пришел старик Ферндайк — розовый, в оч-
ках, полный участия. Его круглое, чисто выбритое лицо почему-
то странно разрослось в моем воображении, принимая огром-
ные, прямо-таки нечеловеческие размеры. Лицо ласковое, как
43
у моего дядюшки, но «светское», каким никогда не бывало дя-
дюшкино лицо. Над одним веком нависла складка, и поэтому
кажется, что его очки без ободка сидят криво. Волосы его на
одном виске чуть подернуты сединой, они гладкие и чистые,
как шерстка у кошки. Беседуя со мной, он внимательно вгля-
дывается в меня, как человек, привыкший к трудным казусам.
— Неврастения,— успокаивает он меня.— Неудача за не-
удачей. Это со всяким может случиться. Вы просто надорва-
лись. Жалеть или стыдиться тут нечего.
Он уставился на свою левую руку, словно хотел получить
от нее совет.
— Я мог бы многое вам рассказать о том, как я вступал
в жизнь,— проговорил он конфиденциальным тоном.—
Правда, фортуна была ко мне благосклонней. «Надежда —
смертному отрада...» Словом, дорогой мой мистер Блетсуорси,
всем нам приходится через это пройти! Но не всем выпадают
на долю такие испытания. На вас это свалилось, как снег на
голову. Вам ничего не остается, как взять себя в руки, быть
верным себе и продолжать жить согласно нашим лучшим тра-
дициям!
— Я сам хочу этого,— отвечал я.
— Выскажите мне свои пожелания. Что нам теперь делать?
— Может быть, вы что-нибудь посоветуете мне, сэр? —
предложил я.
— Отлично,— согласился он.— Ну-с, во-первых, не тре-
вожьтесь насчет этой истории в Оксфорде! Предоставьте нам
уладить дело. Мистер Грэвз исчез с деньгами. Это спишите со
счета. Он скверно кончит, а как, это один бог знает. Что ка-
сается другой истории,— ну, мамаша, как видно, не лишена
благоразумия и не станет ни на чем настаивать, особенно те-
перь, когда думает, что вы разорились. Об этом не беспокой-
тесь! Но в данный момент вы как бы вырваны с корнем. Вы,
можно сказать, витаете в облаках. Если вернетесь в Оксфорд
или Лондон, то жизнь вам покажется пустой и бесцельной.
Поэтому нечего вам возвращаться в Оксфорд или в Лондон,—
лучше поезжайте-ка за границу, и я уверен, что вы вернетесь
в Англию с новыми надеждами и перспективами. Путешест-
вуйте! Совершите кругосветное путешествие! Никаких пасса-
жирских пароходов и роскошных отелей — как-нибудь по-
проще. Путешествуйте на торговых пароходах и верхом на
муле. Я думаю, это подействует на вас благотворно, прямо-
таки благотворно. Подумайте только, сколько способов пере-
движения придется вам перепробовать на пути между Анг-
лией и Калифорнией, если вы двинетесь на восток! Это будет
очень занятно. Пожалуй, вы еще напишете книгу.
— Как Конрад,— вставил я.
— А что же тут странного? — спросил мистер Ферндайк,
не проявив восторга, когда я клюнул эту наживку, но и не
44
выразив сомнений насчет моей способности писать на манер
Конрада.— Это будет здоровая жизнь! Ваши нервы окрепнут!
Вы справитесь с этим своим недомоганием. И я думаю, вас
можно будет избавить от всяких предварительных хлопот. Ведь
Ромер, компаньон фирмы «Ромер и Голден», судовладелец,
приходится вам кузеном. Вы встретились с ним на чьей-то
свадьбе и понравились ему. Их корабли бороздят все моря и
океаны; он посадит вас на любой из них, хотя не все берут
пассажиров. Вы можете поехать в качестве письмоводителя,
бухгалтера или надзирателя над грузом — кого угодно. Вас
могут отправить во все концы земного шара — а ведь он бес-
конечен. Вы увидите, как люди трудятся, познакомитесь с тор-
говлей, испытаете приключения — настоящие приключения!
Увидите земли Британской империи и значительную часть зем-
ного шара. Будет с вас верхней Темзы — этой речонки, где
впору плескаться ребятишкам! Плывите по нижней Темзе, от-
куда можно проехать во все концы вселенной. Начните жизнь
сызнова. Юность ваша миновала, ушла навсегда. Пусть так!
Что же из того, мистер Блетсуорси? Поезжайте и возвращай-
тесь мужчиной!
Мистер Ферндайк закашлялся и весь побагровел. Он не-
сколько увлекся риторикой. Глаза его слегка увлажнились,
или это ему только почудилось. Он снял очки, протер их и
опять посадил на нос немного криво, точь-в-точь как они си-
дели раньше.
— Короче говоря, мистер Блетсуорси,— продолжал он го-
рячо,— я советую вам для начала совершить хорошенькое
морское путешествие. Дела ваши расстроены, но у вас еще
есть на что существовать. Все еще можно поправить.
ГЛАВА ВТОРАЯ,
где рассказывается о том, как мистер Блетсуорси отпра-
вился в море, о его путешествии, о том, как он потерпел
кораблекрушение, был покинут на корабле и как появились
дикари, взявшие его в плен
1
МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ ВЫБИРАЕТ КОРАБЛЬ
В присутствии мистера Ферндайка мне казалось, что я тот
же самый Блетсуорси, каким был до катастрофы. Но когда
после второго свидания с ним в Лондоне, приняв окончательно
45
его план, я вышел из его конторы и направился из Линкольнс-
Инн по красивой площади в деловой каньон Чэнсери-Лейн, мне
было очень не по себе, и я испытывал острую потребность
в моральной поддержке. Порой у меня в сознании всплывали
отголоски дней, проведенных в тупом, бессмысленном распут-
стве, в ушах звучал грубый хохот, мелькали обрывки старых
впечатлений. Я познал всю низость своих мнимых друзей и
заглянул в темные подвалы своей души. Мистер Ферндайк
при этом втором свидании уделил мне ровно двадцать минут,
затем взглянул на часы и выпроводил меня с вежливым покло-
ном. Он пришел мне на помощь, но помощь его носила прехо-
дящий характер. Мне нужен был друг. Мне нужен был
друг, который терпеливо выслушивал бы меня и подавал
ободряющие реплики.
«Море! Кругосветное путешествие! Человечество!» — пре-
красные слова, что и говорить, но я не сумел ответить на
них должным образом; как жаль, что я не нашел нужных
слов!
Например, я мог бы сказать ему: «Вы правы, сэр. Поверьте,
Блетсуорси всегда найдет выход из положения».
Как это странно — мысленно говорить человеку слова, кото-
рых никогда не скажешь ему в действительности!
Мне понравился молодой Ромер, который был старше меня
всего на каких-нибудь десять лет; он также сделал для меня
все, что смог. Он провозился со мной чуть не полдня. Он тол-
ковал о кораблях, плавающих по всему свету, об их репутации
и достоинствах. Если угодно, он даст мне рекомендательные
письма к различным лицам во всех портах, куда корабль бу-
дет заходить. По большей части это торговые корреспонденты,,
но кое-кто может мне понравиться. Ромер водил пальцем по
списку. Не хочу ли я поехать в Манаус на Амазонке? Это
можно проделать в сравнительно короткий срок. Интересен
также рейс на Канарские острова, а затем через океан в Бра-
зилию и в Рио. Или же... ну да, можно миновать Канарские
острова. А то я могу поехать на Восток! Вот в Бирму отправ-
ляют большой груз бутылок с фарфоровыми пробками, деше-
вых швейных машин, целлулоидовых кукол, медных икон, па-
рафиновых ламп, катушек, патентованных средств, детской
муки и немецких часов. Что я скажу о Бирме? А то не загля-
нуть ли мне в атлас, лежащий у него в приемной, руковод-
ствуясь и этим списком?
Это все ободряло меня, и я испытывал такое чувство, будто
у меня в руках весь мир и я могу перечитывать его, как меню
в ресторане.
В конце концов мы остановились на «Золотом льве»>
направлявшемся первым рейсом в Пернамбуку и Рио,
46
2
МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЛАВАНИЕ
Я думаю, тысячи людей испытывали иллюзию расширения
сознания, какую пережил я, стоя на зыбкой палубе «Золотого
льва» и наблюдая, как берега Кента и Эссекса проплывают
мимо и убегают назад, к Лондону. В этот вечер мне казалось,
что моя прежняя мелкотравчатая жизнь окончилась и начи-
нается другая, полная свободы и приключений, что я найду
себя в пронизанных соленым ветром просторах и вернусь
обновленный и морально возрожденный.
Кончились широко раскинувшиеся приземистые, кишащие
людьми доки по обоим берегам реки, где дома, харчевни и
церкви, кажется, плывут по реке, как суда; в Тилбери, где
паровой паром, пыхтя, пробирается к Грэвсэнду, один за дру-
гим стали появляться желтые огоньки, их становилось все
больше и больше; еще немного — и огромный город показался
мне мазком копоти под заревом заката; по одну сторону потя-
нулись низменные берега острова Кенви, по другую — мягкие
линии холмов Кента. Синева сумерек сгустилась в черноту;
мимо пас проплыл усеянный огнями берег Саусэнда, длинная
дамба погрозила нам своим острием, затем повернулась в сто-
рону Лондона. Миновали курорты Кента — пятна яркого света
на кромке ночи. Яркие глаза огней, желтые и красные, мигали,
закрывались и опять подмигивали, точно собирались сообщить
какую-то тайну, белые полосы света, шаря над водой, направ-
ляли наш курс, смыкались за нами, отступали вдаль и тонули
в море — и вот, наконец, мы остались одни в морском про-
сторе, если не считать какого-нибудь отдаленного судна, осве-
щенного не из внимания к нам, а для собственной безопас-
ности.
В этот вечер я чувствовал, что выплываю в какую-то ширь,
тогда как в действительности впервые в жизни оказался в
заточении.
В мировой литературе, особенно в английской, нередко гово-
рится о том, что отправиться в море на корабле — значит
выплыть в какой-то «открытый» простор! В действительности
же в мире нет ничего «открытого», кроме дорог и тропинок
в стране с культурным населением. Городские огни и толпы
остались позади. Позади осталось необъятное пространство,
где можно двигаться, где разыгрываются события и совер-
шается история. Со всех сторон вас окружает ночь, непро-
глядная ночь. Вы спускаетесь вниз, поднимаетесь по трапу,
снова шагаете по узенькой палубе, и вам кажется, будто вы
сливаетесь с бесконечностью. Опять уходите к себе в каюту
и засыпаете. Скрипучий рассвет прокрадывается в сумрачную
47
каюту, и качающаяся керосиновая лампа становится мутно-
желтой.
Вы долго озираетесь, соображая, где это вы находитесь.
Вы узнаете свои наполовину распакованные чемоданы. Все
кругом как-то странно раскачивается, предметы медленно на-
креняются во все стороны, подвигаясь к вам. Небо и море
слились в бесконечной медлительной пляске. Вы встаете, кое-
как одеваетесь, идете по трапу на палубу и хватаетесь за
поручни. Вода. Бесконечный водный простор, а над вами —
влажный ветер. Вот они, беспредельные и невидимые стены
покамест еще не осознанной вами тюрьмы! На суше всякая
тюрьма имеет по крайней мере дверь, открывающуюся в мир,
хотя она и крепко заперта — но эта тюрьма не нуждается в
замках; вы и без того в окончательном плену.
У мистера Ферндайка были самые лучшие намерения, когда
он отправлял меня в плавание. Мне кажется, меня он пре-
красно понял, но он не имел представления о море! По
привычке и по традиции он верил, что плавание, особенно на
судне, не приспособленном для пассажиров, источник прият-
ных и захватывающих переживаний. Так думал бы и мой дядя.
Британия, наша родина, управляет и сама управляется мор-
скими волнами, и раненая душа британца в трудную минуту
обращается к морю, как дитя к матери. Морские ветры обве-
вают наш остров со всех сторон, и, на счастье Англии, нет в
ней такого места, которое отстояло бы и на сто миль от
очистительной стихии. Предполагается, что все мы, Блетсуорси,
инстинктивно прибегаем к морю. Как только мы становимся на
«морские ноги», мы чувствуем себя дома, мы счастливы. Я доб-
росовестно "старался почувствовать себя «дома и счастливым»,
но в это утро мои «морские ноги» еще не окрепли. Все же
я цепко держался за поручни, вертел головой во все стороны,
как заправский морской волк, и напевал сквозь зубы матрос-
скую песенку, единственную известную мне морскую песню.
Я еще помню ее слова, ибо внезапно почувствовал, до какой
степени она не подходит к моим обстоятельствам, и оборвал
на середине припева.
Она стоит, и вслед глядит,
И машет мне рукой:
«Мой Джек, прощай! Не забывай
Любимую тобой!»
Моя звезда со мной всегда,
Далекому верна.
Друзья, живей, друзья, ловчей!
Наддай!..
Эту до крайности нелепую песенку я мурлыкал для того,
чтобы усыпить свои сомнения.
Дело в том, что меня начали обуревать сомнения. Я дол-
жен жить в ладу со своими спутниками по кораблю; они, как
48
мне было известно из книг английских авторов, совсем особен-
ные люди, весьма своеобразного склада. Соленые люди. Без
сомнения, с виду суровые и грубые, но в душе на редкость
нежные и деликатные. Нелюбезный прием, оказанный мне
накануне капитаном, проявленная им грубость и властность
(он заспорил с помощником, когда корабль маневрировал по
реке), конечно, всего лишь шероховатая кожура, под которой
таится драгоценный плод — человеческая душа...
За кораблем тянулся след, терявшийся в волнах, как недо-
конченный рассказ; дым относило далеко на подветренную
сторону. В маленькой будке на мостике, у штурвала, смутно
виднелась фигура, подальше вырисовывалась чья то голова и
спина; других спутников я пока что не видел. Колеблющаяся,
переливающаяся волна, серо-голубое небо — и больше ничего.
Вот что,— размышлял я,— с небольшими вариациями пред-
ставляют собой почти три четверти земного шара. Таков нор-
мальный пейзаж нашей планеты, Земли. Сухопутный ланд-
шафт является исключением. Это надо как следует запомнить.
Бедняги, толпящиеся на берегу, живут, повернувшись спиной
к трем четвертям земного шара. Право же, это предосуди-
тельно с их стороны.
Я старался отдать должное мужеству пяти своих ближних,
обитавших вместе со мной на этом осколке человеческого мира.
Ибо эти пять человеческих душ на неопределенный срок дол-
жны были составлять все мое общество. Остального же насе-
ления корабля, кроме Ветта, вертлявого маленького стюарда,
я почти не видел вплоть до нашей высадки в Пернамбуку.
Мне удавалось лишь мельком взглянуть на кочегара, вы-
шедшего подышать воздухом, или на трех-четырех матросов,
занятых какой-то непонятной мне работой под руководством
второго помощника капитана; и непрестанно звучало концер-
тино, то и дело начинавшее и никогда не оканчивавшее кафе-
шантанную песенку,— всякий раз она внезапно обрывалась,
словно инструмент вырывали из рук музыканта; небольшие
кучки людей, сидящих на палубе в погожий вечер и беседую-
щих за починкой тряпья,— вот все, что я помню о жизни
«низшего класса» в этом маленьком сколке человеческого об-
щества. Между ними и нами зияла глубокая пропасть. Пред-
полагалось, что их интересы — не наши интересы, их мысли —
не наши мысли. Мы шестеро были слеплены из другой глины
и вели более возвышенную жизнь. Мы обращались к ним
сухим тоном и со скупыми словами. Казалось, вражда между
нами кое-как приглушена и может разгореться в любой
момент, как только ослабнут связывающие нас узы дисциплины.
Разгуливая по палубе, я чувствовал, что из черного отверстия
на баке за мной следят и прощупывают меня чьи-то глаза,
а мне вовсе не хотелось быть предметом наблюдений и пере-
судов.
4 Г. Уэллс, т. 2
49
Без сомнения, я находился тогда в особом состоянии духа,
был настроен весьма критически и оказался совсем неподхо-
дящим товарищем для пяти человек, которым было навязано
мое общество. Со всей своей юной наивностью, в возвышенном
порыве я ринулся в жизнь, но испытал жестокое разочарова-
ние, и мой пыл, остыв, подернулся холодным пеплом уныния.
Я был ушиблен жизнью, и мне стало трудно переносить людей.
Я постепенно утратил к ним доверие, стал подозрителен и даже
немного побаивался их. Не то, чтобы я замыкался от людей,—
нет, мне просто было с ними не по себе, и поэтому мои пер-
вые попытки завязать с моими спутниками сердечные, това-
рищеские отношения отличались известной наигранностью.
И с первой же минуты,— то ли ему не понравилась моя внеш-
ность, выговор и манера держаться, то ли с досады, что меня
ему навязали,— Старик, как называли капитана, невзлюбил
меня.
Это был дюжий мужчина, с квадратным лицом, с рыжими
волосами, с белесыми ресницами и жесткой линией рта. Он
язвительно поглядывал на меня своими маленькими серо-
зелеными глазками.
— Уж в третий раз мне подсовывают чертова пассажира
на эту проклятую старую калошу! — проворчал капитан, когда
Мидборо, второй помощник, которому меня поручил молодой
Ромер, представил меня ему в доке.
С этими словами капитан отвернулся и больше не обра-
щал на меня внимания.
Вскоре он опять меня задел.
— Ветт,— рявкнул он как раз в тот момент, когда я поду-
мал о кофе,— позвал ты нашего добавочного сверхджентль-
мена?
Несколько обескураженный таким обращением, я начал
налаживать отношения со своими спутниками. Но решительно
все оглядывались на капитана. Механик по всем правилам
должен был бы оказаться шотландцем — но это был рослый,
смуглый, курчавый малый ярко выраженного семитического
типа, с выдающейся нижней губой и акцентом, приобретен-
ным в низовьях Темзы. Старший помощник капитана был
маленький, тщедушный седоватый субъект с озабоченным
выражением лица, имевший обыкновение отпускать глубоко-
мысленные замечания во время затянувшихся пауз. Он то и
дело ковырял в зубах и соглашался с капитаном решительно
во всем, даже прежде, чем тот кончал фразу. Мидборо, второй
помощник» был белокурый, худощавый и бледнолицый северя-
нин и держал себя с капитаном весьма предупредительно.
А Рэдж, молоденький третий помощник, досмерти боялся капи-
тана.
Видя, чтд за деспот этот капитан, я сделал ошибку, обра-
щаясь к нему слишком часто и настойчиво; предполагается,
50
что капитан, как некая царственная особа, не нуждается в
темах для разговора, но сам выбирает их. Из страха пока-
заться робким я не проявлял к капитану должной почтитель-
ности. Мне, собственно, следовало бы присмотреться, как дру-
гие с ним обходятся, а потом подражать им.
Кроме того, поскольку я был еще очень молод и мало
знал мир за пределами Вилтшира и Оксфорда,— ибо злопо-
лучный опыт порочной жизни уже стерся из памяти,— мне
волей-неволей приходилось говорить о себе, об оксфордских
делах, о кое-каких прочитанных мною книгах, о спорте и играх.
Или же о роде Блетсуорси. Я думал, что если буду рассказы-
вать своим спутникам о себе, то вызову с их стороны подоб-
ную же откровенность; но теперь мне ясно, что я должен был
произвести на них впечатление существа эгоистичного и огра-
ниченного.
— Вы когда-нибудь занимались стрельбой из лука, капи-
тан? — спросил я однажды за столом.
Капитан на минуту перестал жевать, а потом издал неопре-
деленный звук, я не мог разобрать, то ли он лязгнул зубами,
то ли пробормотал: «что?»
— Стрельбой из лука,— повторил я.
Тут капитан положил свою вилку и нож и чрезвычайно
серьезно посмотрел на меня. Пауза, которую я истолковал как
немой вопрос, затянулась.
Молчание нарушил старший помощник.
— Да, есть такие искусники,— сказал он.— Я видел в
Фолкстоне, как они забавлялись стрельбой. Стреляют в боль-
шую мишень, похожую на днище бельевой корзины. Можно
залюбоваться, как это у них здорово получается!
— Это очень занятно,— продолжал я,— на зеленом лугу,
в солнечный день...
— Если нечего делать, то, пожалуй...— вставил корабель-
ный механик.
— Это значит воскрешать времена Робина Гуда и его весе-
лых товарищей,— изрек я заранее приготовленную фразу.—
Добрую старую Англию и золотой век. Оперенные стрелы и
тому подобное.— Тут я ударился в воспоминания.— Некоторые
наши профессора замечательно метко стреляли!
Больше ни у кого не нашлось что сказать о стрельбе из
лука, и вновь последовала продолжительная пауза. Я уже со-
бирался было спросить капитана, увлекался ли он когда-нибудь
любительскими спектаклями, когда он сам нарушил молчание,
задав старшему помощнику какой-то весьма специальный
вопрос насчет груза. Я внимательно вслушивался, надеясь вста-
вить и свое словечко, но тема, как нарочно, была взята такая,
чтобы я не мог раскрыть рта.
— Что это за переборки, о которых вы говорите? — отва-
жился я спросить.
4*
51
Никто не удостоил меня ответом.
В течение нескольких дней я пытался наладить беседу и
сблизиться с этими людьми, но в конце концов отчаялся. Эти
пятеро моряков ни под каким видом не желали сближаться со
мной, я им был не нужен! Мои неловкие попытки потерпели
неудачу. Мало-помалу я становился пассивным слушателем
острот капитана, изречений старшего помощника, болтовни
механика и поддакиваний двух младших помощников. Но мо-
ряки выказывали такое презрение ко мне и им было так непри-
ятно мое общество, что они не позволяли мне просто стуше-
ваться; они измышляли всяческие сарказмы, намеки и шпильки,
которые меня задевали и ставили в тупик. Так, механик изо-
брел остроумное оскорбление. Вначале он называл меня
«мистер», потом ускорил темп речи, стал проглатывать второй
слог и обращался ко мне просто: «мисс!» Капитан в веселые
минуты, обычно в конце обеда, принимался рассказывать гряз-
ные анекдоты, которые он откровенно смаковал, а молодые
люди встречали с подобострастным восторгом.
Старший же помощник словно окаменел и не выказывал
ни одобрения, ни недовольства.
— Боюсь, что мы шокируем вас, мисс Блетсуорси,— гово-
рил механик после каждого анекдота.
Но как-то раз мне удалось отпарировать удар.
— Ничуть,— ответил я на очередной выпад механика.—
Я знаю одного грязного старого пакостника в пивной Окс-
форда, так он дал бы капитану сто очков вперед по этой
части!
Это заставило их умолкнуть.
— Трудно поверить! — произнес с опозданием штурман,
словно делая пробный промер лотом.
— Этот старик знал целую кучу похабных стишков,— ска-
зал я.— Вот это так были стихи!
Кое-что я в свое время действительно слышал и теперь
продекламировал стишок-другой, из самых забористых. Никто
не посмел засмеяться, а капитан бросил на меня уничтожаю-
щий взгляд.
— Не ожидал я этого от вас, мисс! — с укором проговорил
механик.
И тут капитан нанес мне сокрушительный удар.
— Если вы не можете вести себя за столом прилично, мисс
Блетсуорси, то вам придется обедать у себя в каюте! — бряк-
нул он.
В первую минуту я растерялся.
— Я думал, что вы любите такие стишки,— пробормотал я,
впервые за все время добавив почтительное «сэр», без которого
не начинали речи мои товарищи.
Капитан яростно хрюкнул.
Но после этого его тон значительно смягчился, а механик
52
уже больше не пытался сконфузить меня. Все. же я чувство-
вал, что своим присутствием вношу атмосферу вражды и недо-
верия и, пожалуй, даже неловкости. Между завтраком и обе-
дом мне приходилось либо дуться в одиночестве, либо спать.
Стоило мне приблизиться к кому-нибудь из моих спутников,
как он быстро сворачивал в сторону. Когда стояла хорошая
погода и корабль шел равномерным ходом, день казался бес-
конечным, медленно ползли часы за часами, дневной свет
неприметно переходил в сумерки, и, наконец, наступала нескон-
чаемая ночь. Часы на стене как будто засыпали и не думали
просыпаться. Младшие помощники резались в карты, пооче-
редно падали духом или приходили в возбуждение. Механик
запоем читал, а старший помощник пребывал в какой-то
летаргии. Капитан почти не показывался.
Раз или два я брал книги у механика, который давал их
мне неохотно, по одному томику, и не без ехидства напоминал,
что необходимо аккуратно обращаться с ними и во-время отда-
вать. Он дал мне потрепанный том «Истории мира» Гельм-
гольца, где рассказывалось о татарских династиях и о Китае,
книгу «Как ездить на лыжах» и повествование Стэнли о том,
как он разыскивал Ливингстона. Сам же он сидел чуть ли не
все время над книгой Керка «Руководство по физиологии»,
пытался изучить строение мозга по описаниям и таблицам,
многого не понимал и приходил от этого в дурное настроение.
Я всячески старался завязать с ним беседу по поводу этих
книг, но мог высказывать лишь общие места, а ему нужны
были только факты.
По его словам, все эти книги он купил на улицах Лон-
дона, на лотках у букинистов, и ни за одну не заплатил дороже
шиллинга. Он любил толстые книги на актуальные темы. Бел-
летристику он презирал, считая ее обманом. Читал он, распу-
стив свои рыхлые губы, и при этом обыкновенно почесывал
щеку. Все, что он прочитывал, как видно, глубоко опускалось
на дно его сознания, а на поверхности не оставалось ничего;
он терпеть не мог, когда его спрашивали о прочитанном. Если
ему задавали вопрос, он вздрагивал, таращил глаза и отве-
чал уклончиво или недружелюбно. Он требовал, чтобы я
прочитывал взятую у него книгу от доски до доски, прежде
чем начать другую. Эти татары прямо-таки доконали меня.
Я мысленно дал себе обещание — скупить в Пернамбуку
все романы на английском и французском языке, какие мне
попадутся.
Мне страстно хотелось добраться, наконец, до Пернамбуку.
Дни тянулись за днями, не внося почти никакого разнообра-
зия в мою жизнь. Волна то усиливалась, то спадала под пере-
менчивым ветром, и несколько дней держалась маслянистая
мертвая зыбь без малейшего ветерка; машины ухали, корабль
скрипел и вздрагивал, все казалось неустойчивым и двусмыс-
53
ленным, палуба как будто пыталась принять удовлетвори-
тельный наклон к горизонту и неизменно терпела неудачу в
этих попытках, матрос с концертино на баке делал отчаянные
усилия сыграть заглушаемую мелодию, а мне ни на миг не
удавалось забыть беспредельную водную пустыню, окружав-
шую нас со всех сторон.
Всего приятней в моем ограниченном мирке показались мне
звезды, я ожидал их появления на небе, как ждут возвраще-
ния друга. Они становились все ярче и казались крупнее, по
мере того как мы поворачивали к югу, к тропикам. Млечный
Путь все больше походил на яркую сверкающую россыпь. Меня
радовало, что я знаю названия некоторых звезд. Я сразу же
находил Орион и Сириус, потом узнавал Канопус (стоявший
прямо над головой), Арктур и Ригель в углу трехзвездия
Ориона. Все это были мои друзья, и я приветствовал их. Боль-
шая Медведица неотступно следовала за полюсом; я начал
разыскивать Южный Крест и был разочарован — едва поверил
глазам, когда нашел его. Затем лунный серп стал появляться
каждый вечер на закате; он становился все больше, все над-
меннее и заливал морской простор ярким голубым сиянием,
изгнав с неба все звезды, кроме самых ярких. До поздней ночи
простаивал я на палубе, любуясь небом, а утром просыпался
очень поздно; ночь была не так скучна, не так пустынна и не
так бестолкова, как день.
Мало-помалу раны моей души затянулись защитной плен-
кой байроновского презрения, которая некоторое время
успешно ограждала меня. Я презирал житейскую грязь, я дру-
жил со знаменитыми звездами. Я уже реже хватался за по-
ручни и за борт и все чаще скрещивал руки на груди. На
смену нервной услужливости и почтительности пришла холод-
ная молчаливость. Я размышлял о своих разочарованиях и
пороках и теперь находил в этом какое-то мрачное удовлетво-
рение. Эти люди и не подозревали, кого они прозвали
«мисс Блетсуорси»! Но — о, боже! — как бесконечно тяну-
лись эти дни, заполненные мечтами о Пернамбуку!
3
ВЫСАДКА В ПЕРНАМБУКУ
Когда мы прибыли в Ресифи — таково настоящее название
города, в просторечии именуемого Пернамбуку,— и встали на
рейде, я испытал ту же иллюзию близкого освобождения, как
и при отплытии из Лондона. Город гостеприимно раскинулся
передо мною, точно заманивая меня. Мы вырвались из мрач-
54
ной, безлюдной пустыни, и каждая набережная, каждая улица
и здание казались блаженным приютом после качающейся
ржавой железной посудины, в которой мы пересекли Атланти-
ческий океан. На баке стояла группа людей, их лица и жесты
выражали нетерпение и жажду свободы. Теперь-то я знаю цену
всему этому, но в ту пору был заражен общей иллюзией.
Я так ликовал, что непрочь был бы пошутить с самим капи-
таном, если бы такая шутливость была хоть сколько-нибудь
уместна. Механику я простил от всего сердца все его выходки.
Очень трудно было стоять скрестив руки и даже внешне
сохранять байроновскую позу!
Но тот, кто стал пленником моря, не так-то скоро разорвет
эти узы. Каждый из приветливых домов, которые кажутся
столь гостеприимными прибывающему в гавань моряку, в дей-
ствительности снабжен замками и засовами. А широко рас-
крытые двери некоторых домов на набережной — не что иное,
как ловушки для изголодавшейся и одинокой души моряка.
Таможня будет осматривать его убогий багаж, как бы при-
глашая почерпнуть от изобилия нового края, но позади та-
можни и портовых контор — целый заградительный кордон,
множество людей, готовых использовать в своих корыстных
целях его неотложные нужды и слабости. Ему предлагают
явно фальшивую любовь, фальшивую дружбу и гнусные, рас-
путные забавы. Если же ему усилием воли удастся отстранить
эти соблазны, он начнет скитаться по улицам, вдоль которых
выстроились магазины, глазеть на совершенно ненужные ему
вещи, пробираясь в толпе людей, чьи привычки, навыки и язык
коренным образом отличаются от его собственных. Трамваи
и омнибусы манят его посетить предместья и кварталы с при-
чудливыми названиями, но когда он туда доберется, там никто
не хочет его знать.
Надежда умирает только с жизнью, ибо жизнь и наде-
жда — одно и то же, и вот моряк слоняется по городу, стре-
мясь вступить в легкое и свободное общение с людьми, кото-
рые бесконечной вереницей проходят мимо него; кажется, это
так просто, а на деле совершенно невозможно. И если он полу-
чает расчет, то чувство бездомности на чужом берегу только
обостряется, ибо ему уже некуда податься, даже на корабль
не вернешься.
Когда я увидел своих спутников, которые готовились сойти
на берег, чтобы провести ночь в городке, и более или менее
принарядились, мне прямо-таки не верилось, что мы когда-
нибудь вновь соберемся на корабле. Однако в свое время мы
все же собрались. Капитан превратился в элегантную особу
в мягкой шляпе, и кончик носового платка кокетливо выгля-
дывал из его бокового кармана. Механик был просто ослепи-
телен в имбирного цвета костюме и вызывающе ярком гал-
стуке. Мидборо и Рэдж выглядели невероятно будничными в
55
темносиних костюмах и котелках, и шли они бок о бок, совсем
как близнецы. Преобразились и матросы. «Взгляните, какие
мы молодцы! — казалось, говорили они, прихорашиваясь.—
Принимайте как следует заморских джентльменов!» И вот
один за другим, окрыленные надеждами, мы повернулись спи-
ной к «Золотому льву» и сошли на берег, а старший помощ-
ник, оставшийся стеречь корабль, провожал нас завистливым
взглядом. Пернамбуку же не проявил ни особого испуга, ни
удовольствия по поводу нашего набега.
Удастся ли хоть одному счастливчику прорваться сквозь все
эти рогатки и преграды и встретить сочувствие и человече-
ское отношение? Город осветился яркими огнями, когда мы схо-
дили на берег, но вид у него был равнодушный — ни малей-
шего намека на приглашение, ему не было дела до наших
надежд!
Я видел другие порты и гавани, но эта высадка в Пернам-
буку стала как бы квинтэссенцией всех моих морских впе-
чатлений. Море — часть необъятного внешнего мира, и кто
сможет передать словами ужас, какой внушает оно человеку?
Мы отчаливаем от пристани и пускаемся на своем хрупком
суденышке в водную пустыню, и матросы вынуждены плыть
на нем, ибо они потеряли почву под ногами на суше.
Возможно, что овладевшее мною глубокое разочарование
окрашивало все окружающее в мрачные тона; возможно, что
все и каждый на «Золотом льве» не так уж стремились поско-
рей уйти от товарищей, как мне показалось в тот раз. Допу-
скаю, что в эти дни пессимистическое настроение заставляло
меня видеть мир в черном свете. Однако и сейчас мне кажется,
что моряк непрестанно стремится обрести почву под ногами
на’ суше, норовя остаться на берегу всякий раз, как подвер-
нется случай, и торчать там до тех пор, пока голод не пого-
нит его снова на море,— ведь на суше он не может заработать
себе на хлеб. В конце концов он опять будет вынужден жить
на корабле, на баке или на шканцах (в зависимости от его
должности), заключенный в одну из этих шатких, пыхтящих
железных коробок, нагруженных товарами, которых он нико-
гда не будет потреблять и самое назначение которых, веро-
ятно, навсегда останется ему неизвестным. Но всякий раз, как
он приближается к берегу, он снова надеется вернуться в ос-
новное русло человеческой жизни.
Я отправился в город один-одинешенек.
Молодой Ромер дал мне письмо к торговому корреспон-
денту, с которым фирма поддерживала дружеские отношения.
Он был датчанин и кое-как объяснялся по-английски. В этот
вечер он оставил свою контору и отправился домой; контора
оказалась запертой, и я выбрал наугад какой-то отель. Мне
предстояло самому искать себе развлечений, но таковых ока-
залось очень мало. Я пообедал в ресторане, хозяин которого,
56
швейцарец из Тичино, с грехом пополам говорил по-английски
и посоветовал мне кое-какие блюда; потом я отправился
шататься по улицам. Улицы были или широкие и хорошо осве-
щенные, или убийственно темные и узкие. Попробовал было
я зайти в театр, но, должно быть, был поздний час,— как бы
то ни было, меня не впустили. Объяснений я не понял. Чтобы
услышать живое человеческое слово, я подошел бы к одной из
проституток, зазывавших меня, если бы нашлась хоть одна,
знающая по-английски не одни только непристойные слова.
И когда, наконец, усталый и разбитый, я стоял у входа в свой
отель — мимо меня прошли Мидборо и Рэдж; лица у них рас-
краснелись и вид был возбужденный; с ними шел огромный
негр, что-то оживленно им рассказывавший. Стало быть, они
нашли в, конце концов проводника и куда-то отправились! Мне
хотелось пойти за ними, но я воздержался.
Помню, я долго сидел на кровати, не раздеваясь.
«Что я за пропащая душа? — спрашивал я себя.— Неужели
я ненавижу весь род человеческий? Что такое со мной стряс-
лось? Почему я спрятался от людей и сижу здесь один, как
перст?»
4
ВИЛЛА ЭЛЬСИНОР
Мистер Андерсен, к которому я явился с письмом на другой
день, не слишком-то помог мне в моих затруднениях, хотя
выказал величайшее доброжелательство и гостеприимство. Он
говорил по-английски весьма многословно и с большим жаром,
но далеко не правильно, научился он языку главным образом
путем чтения,— и если не прерывать его каждую секунду
вопросами, очень многое ускользнуло бы от слушателя. Так
как его явно смущало, что я плохо его понимаю, то я сделал
вид, что слегка туг на ухо. Но оказалось, что он в свое время
был студентом медицинского факультета в Копенгагене и даже
сейчас усердно лечит своих знакомых. Добрых полчаса он
потратил на обследование моих ушей. Диагноз он поставил
такой: мой слуховой аппарат в полном порядке, но я страдаю
психической глухотой, возникшей в результате беспорядочных
увлечений молодости. Затем, не переставая тараторить, он
повел меня завтракать в тот же самый швейцарский ресторан,
где я обедал накануне вечером. По его словам, это замечатель-
ный ресторан и иностранцы еще не открыли его.
Он подбодрил себя превосходным бразильским красным
вином, название которого я забыл, и по мере того как он
разогревался, в его английский язык вкрапливалось все больше
57
датских фраз, а порой врывались французские слова и, как
мне показалось, даже португальские.
Но он стал говорить как-то медленнее, и его речь стала
более понятной. Он начал описывать мне Бразилию с враж-
дебностью иностранца, представителя чуждой расы, испове-
дующего иную религию, главная задача которого скупать по
низким ценам местные продукты и отправлять их за границу,
а также сбывать заграничные товары неподатливому тузем-
ному покупателю. Однако женился он на бразильянке.
Он рассказывал жуткие анекдоты о неряшливости, недобро-
совестности и бесчестности местных жителей, так что у меня
сложилось представление, что этот народ нехотя и спустя
рукава работает на сахарных плантациях, а праздники и сво-
бодные дни проводит в танцах, на скачках, за картами, в пьян-
стве, разврате и всевозможных развлечениях, в результате чего
у них самое обычное явление — ссоры, поножовщина, убий-
ства. Под конец он пригласил меня на завтрак в свой заго-
родный дом на следующий день,— это было воскресенье,—
с тем чтобы я потом составил партию в теннис с его до-
черьми.
Он похвастался, что его дочери владеют английским; быть
может, они и знали этот язык, но почему-то не говорили на
нем, и я беседовал с ними и их матерью на упрощенном, услов-
ном французском языке. Мать оказалась представительной,
смуглой и откровенно пожилой, расплывшейся женщиной; до-
чери были рослые и красивые, с волосами цвета льна, с золо-
тистой кожей и прекрасными темносерыми глазами. Они напе-
ребой занимали меня приятной болтовней, пока не ворвались
двое молодых бразильцев, которые своим поведением подчер-
кивали, что имеют какие-то права на этих девиц, и не слишком
обрадовались моему появлению. Разговор пошел на португаль-
ском языке и сделался очень быстрым. Мне дали ракетку,
принадлежащую одному из молодых бразильцев, и я видел,
что он не одобряет моего способа отбивать мяч; но я сделал
вид, что не понимаю того, что говорилось, и продолжал играть
на свой лад, только с известной осмотрительностью. Все играли
в теннис так же плохо, как и я, площадка была пыльная и
местами очень рыхлая, и партия изобиловала сюрпризами.
Когда молодые бразильцы окончательно потеряли терпение,
мы пошли пить чай.
Мистер Андерсен, удалившийся соснуть, вышел освежен-
ным и залопотал на ломаном английском языке еще быстрее,
чем прежде; миссис Андерсен ворковала по-французски. Юные
джентльмены упрямо изъяснялись только по-португальски,
а девицы стрекотали так, что положительно нельзя было
понять, по-португальски ли они говорят, или же на искажен-
ном французском. Я говорил наполовину по-английски, напо-
ловину по-французски. Таким образом мы высказали друг
58
Другу свое мнение о Вагнере, о Ницце, о Ривьере (несколько
минут мне казалось, что речь идет о побережье Корнуэллса,
но не все ли равно?), о доктрине Монро, потолковали о нрав-
ственных качествах Эдуарда VII, о своеобразном очаровании
Парижа и о том, что он во многих отношениях похож на
Ресифи, о богатстве тропической флоры, о мошках, осах,
змеях и незадолго перед тем вошедшей в моду игре в бридж.
По крайней мере мне представляется, что мы говорили именно
об этом, но может статься, мои собеседники затрагивали
совсем другие темы. Мне приятно было поупражняться в са-
лонном разговоре после долгого вынужденного молчания на
«Золотом льве», но через некоторое время я почувствовал
усталость. Хозяева, кажется, тоже утомились. Но все мы, опа-
саясь, как бы это утомление не было замечено и истолковано
в дурную сторону, стали с новым пылом развивать свое крас-
норечие; между тем молодые люди удалились в сторону тен-
нисной площадки и возгласами и знаками приглашали в свое
общество девушек, причем предполагалось, что я ничего этого
не замечаю.
Чтобы прикрыть эту неловкость, миссис Андерсен пустилась
в какое-то любопытное описание, которому, казалось, не будет
конца — не то она восхищалась ослепительным оперением
южноамериканских колибри, не то красотой туземных цветов,
не то чудесной окраской рыбы, пойманной в тропических водах,
не то блеском роскошных карнавальных украшений и наря-
дов или же говорила сразу обо всех этих предметах, а может
быть, и ни об одном из них. Но описание было превосходное,
а ее жесты и интонации очаровательны.
— Mais oui,— повторял я,— mais oui L
Когда, наконец, я стал прощаться, члены семьи Андерсен,
делая вид, что они воспылали ко мне бескорыстной симпатией,
забросали меня приглашениями на следующий день, еще на
следующий, на любой день,— приглашениями, которые я при-
нимал с таким же энтузиазмом. Но наиболее молчаливая из
дочерей внесла совершенно новую нотку в разговор, тихонько
сказав в последний момент (при этом она опустила глазки):
— В будни мы бываем совершенно одни...
Я понял, что приличия требовали повторить визит.
Я был у них после этого несколько раз.
Когда я думаю об этих посещениях виллы Эльсинор, я вижу
себя как бы смотрящим сквозь темную газовую завесу в наде-
жде обнаружить ближнего, который, может быть, за ней скры-
вается. В интонациях голоса младшей Андерсен мне почуди-
лось обещание какой-то мистической женской дружбы, кото-
рой душа мужчины постоянно алчет и жаждет, и этого обе-
щания она не выполнила, даже не повторяла и, может быть,
1 Ну да, ну да (франц.).
59
вовсе и не давала его. Но я жил этой надеждой в Ресифи.
Я приходил якобы для того, чтобы быть четвертым партнером
в теннисной партии, играя с двумя дочерьми и мамашей, ибо
в будни обрученные с девицами бразильцы были заняты
в городе делами. Андерсен корчил из себя англомана и про-
грессивную личность, и дочери его пользовались свободой, со-
вершенно немыслимой в Бразилии в те довоенные дни. Они
даже разъезжали на велосипедах по сравнительно безопасным
маршрутам в развевающихся юбках, открывавших лодыжки, и
воротничках, открывавших шею. И умели спрягать чудесный
английский глагол «флиртовать»! Можно было предположить,
что младшая сестра флиртует со мной, и уж, конечно, трудно
было придумать более «английскую» ситуацию.
Но дальше этого я не пошел. Мне так и не удалось про-
никнуть за таинственную завесу.
Однажды в саду, когда я находился наедине с младшей,
мне показалось, что она не прочь, чтобы я поцеловал ее, но я
упустил этот случай, не успев проверить, так ли это. Возможно,
что она сочла меня непредприимчивым и решила больше не
подавать мне повода. Сейчас я не могу в точности припомнить,
что навело меня на эту мысль и вызвало эти колебания.
И трудно себе представить, что за «треугольник» получился
бы у нас, если бы этот поцелуй был дан и возвращен! Я поку-
пал ей и ее сестре шоколад, а матери — огромные букеты цве-
тов. Мы отбивали ракеткой теннисные мячи, перебрасывались
отрывочными фразами на скверном французском языке и
снова брались за теннис, чтобы избавиться от необходимости
говорить. Беседовали мы не для того, чтобы что-нибудь сооб-
щить друг другу, а только чтобы скрыть то обстоятельство,
что нам решительно не о чем говорить. Призрачное обещание
развеялось как дым, и когда «Золотой лев» кончил разгрузку
и погрузку и был готов к отплытию, я так же был склонен
ехать дальше, как и весь наш экипаж.
Совершенно необычное настроение, похожее на сдержанную
благожелательность, царило на пароходе, когда город, поки-
даемый нами, потонул в зареве заката. Был чудесный тихий
вечер; погода попрежнему стояла прекрасная. Я спросил вто-
рого помощника, удалось ли ему развлечься, и он ответил, что
на его долю выпало слишком много ответственной работы и он
провел всего три ночи на берегу. Он любезно пробурчал что-то
насчет апатичности штурмана и бесполезности третьего помощ-
ника; механик, когда я показал ему купленные мной книги, без
всякой враждебности изрек свое порицание «этой макулатуре».
Штурман согласился со мной, что Ресифи крупный железнодо-
рожный центр, а третий помощник, без просьбы с моей сто-
роны, подал мне соль. Но капитан оставался непреклонным.
Это прямо меня бесило. Обычно он громко прихлебывал суп
за обедом, и вдруг мне пришло в голову проделать такую же
60
точно штуку со своим супом. Все оторопело на меня устави-
лись, а капитан покосился в мою сторону с каким-то злобным
интересом.
Я неторопливо доел свой суп, причем финал был особенно
шумный. Потом хладнокровно положил ложку на стол и стал
терпеливо, с самым равнодушным видом выжидать, когда ка-
питан кончит есть. Он доел суп совсем беззвучно, и лицо у него
было багровое. Старший помощник и механик поспешили его
выручить, как ни в чем не бывало затеяв разговор, к тому
же помощник закашлялся. Мидборо был ошеломлен, но, встре-
тившись с ним глазами, я прочел в его взгляде уважение, сме-
шанное с ужасом.
В тот момент мне казалось, что меня осенила блестящая
мысль, но в ночные часы на меня находили сомнения, и я был
недоволен собой.
Я позволил себе непристойную, омерзительную выходку, и
мне было стыдно. Я ненавидел и презирал капитана, стараясь
преодолеть страх, какой он мне внушал, а вот и сам опустился
до его уровня. И все же я боялся его. Нет, я не достоин на-
зываться Блетсуорси!
5
ПЕРЕХОД ДО РИО
Я остановился так подробно на этих первых неделях пла-
вания потому, что хотел по возможности обрисовать обстановку
и условия, в которых медленно развивалось мое душевное за-
болевание. Ибо весь мой рассказ, по существу говоря, не что
иное, как история психической болезни.
После пережитого мною надлома воли и помрачения памяти
я думал, что это была лишь неприятная случайность и мне
удастся вполне оправиться. Я согласился с мнением, что стоит
мне порвать с Оксфордом и Лондоном и начать новую жизнь—
и все пойдет хорошо; но теперь на меня нахлынули сомнения,
и в бесконечно долгие часы бессонницы я пытался доискаться
до причин обрушившейся на меня беды и делал всевозможные
предположения.
На меня угнетающе подействовала перемена погоды, ко-
торая после Пернамбуку сильно испортилась, и к смятению
мыслей и чувств присоединился чисто животный страх. Каза-
лось, стихии вступили в заговор с людьми и обрушились на
меня, подрывая во мне мужество и самоуверенность. Неужели
я заболеваю морской болезнью? Этого еще не хватало! Теперь
я стану всеобщим посмешищем.
Напрасно старался я отогнать эти мысли.
61
Чтобы подчинить себе непокорную диафрагму, я пробовал
по-дилетантски применять методы «христианской науки». Пред-
восхищая систему самовнушения Куэ, я то и дело повторял:
«Я не заболею морской болезнью! Я не заболею морской бо-
лезнью». А за обедом в тот же день решил, что заболеваю,
и с позором выскочил из-за качающегося стола.
Ночью шторм усилился. Каюта моя все сильнее качалась
и скрипела, ее подбрасывало кверху, швыряло из стороны в
сторону; я чувствовал, что корабль уже не может быть для
меня твердым, надежным оплотом. Каюта прыгала, металась,
поднималась все выше и выше, но стоило мне примириться с ее
стремлением ввысь, как она, взвившись на дыбы, на мгновение
замирала как бы в задумчивости и стремглав летела в бездну.
Или внезапно ложилась набок. Корабль, как огромный штопор,
ввинчивался в пучину. Потом он прикидывался ярмарочными
качелями. Затем новое превращение: он становился лифтом,
который испортился и летит вниз, проваливаясь в бездонный
колодец. Или — вагонеткой фуникулера, медленно совершаю-
щей головоломный спуск. Тогда неприятные ощущения сменя-
лись чувством нарастающего ужаса. Корабль то и дело от-
чаянно встряхивало. Вспененная волна врывалась в каюту, как
заблудившаяся собака в поисках хозяина, металась из угла в
угол, промачивала все насквозь и убегала. Все неприкреплен-
ные предметы прыгали по каюте. Мои ботинки были подхва-
чены волной и унесены в море; я вывихнул себе кисть руки и
ушиб колено. Фляга с водой отделилась от стола, ударилась
об стену, разлетелась вдребезги, и ее осколки метались во все
стороны, грозя моим рукам и ногам. Пять суток прожил я в
этом аду. Мало-помалу я начал есть, хотя приступы тошноты
все еще меня мучили. Я пил горячий кофе все с большим удо-
вольствием и жадно проглатывал хлеб, который приносил мне
Ветт.
Четыре или пять дней я провел у себя в каюте во время
шторма, и обо мне все позабыли, кроме Вегта, вездесущего
стюарда, да как-то раз на минуту заглянул второй помощник,
и механик задал мне несколько вопросов, на которые не по-
лучил ответа; эти дни встают в моем воображении как вихрь
смутных, мучительных загадок, которые в сущности угнетали
меня и до и после этого времени. Я ломал голову над этими
загадками, метался и ерзал по койке, а кошмарные образы не-
отвязно кружились передо мной. Меня и тошнило, и хотелось
есть. И только в отрывочных, бессвязных словах могу я пове-
дать обо всем, что происходило со мной.
Я старался осмыслить свое положение; корень зла, как мне
казалось, был в том, что я вступил в жизнь с величайшей ве-
рой в себя, в человечество, в природу и внезапно утратил эту
веру. Я перестал верить в свои силы. Чуждый всем своим
ближним, я стал бояться их и теперь находился в томитель-
62
ном разладе с окружающим меня негостеприимным миром.
Я и понятия не имел о своей слабости, о своем неумении при-
способляться и защищаться,— а тут как раз стихии и случай
неожиданно ополчились на меня. Как ужасно было это проте-
кавшее в одиночестве путешествие; казалось, ему не будет
конца. С моей стороны было сущим безумием отправиться в
море. Зачем, зачем повернулся я спиной к своей настоящей
среде? Зачем последовал совету старика Ферндайка? Раньше я
был счастлив; если и не был счастлив в полном смысле этого
слова, то во всяком случае успел приспособиться к своей среде.
Промокший до костей, изнемогая от качки, я метался по скачу-
щей козлом койке, то и дело увертываясь от своих вещей и ме-
бели, которые нахально бросались на меня, и с удивлением ду-
мал о том, что некогда мне жилось хорошо и спокойно. Я хо-
дил по твердой земле, спокойными, уверенными шагами и
дружески улыбался звездам. Я вспоминал залитые солнцем
холмы Вилтшира и вечерние улицы Оксфорда, как нечто не-
правдоподобное, но неизменно прекрасное. Неужели же все
это было на самом деле? Да, к этому миру, к благоустроенной
жизни в центральной и южной Англии я был вполне приспо-
соблен. Я принимал необходимые в обществе условности, до-
верял людям, жил добропорядочно, легко и уверенно чувство-
вал себя среди них. Мои бедствия начались лишь после того,
как я решительно порвал с этим миром. И вот я все дальше
и дальше отхожу от него!
Да, но разве можно назвать нормальным мое полное неуме-
ние приспосабливаться?
Я припоминаю, как у меня в мозгу, подобно ритмическому
качанию маятника, размеренно звучали слова: «Нормально, не-
нормально, нормально, ненормально, нормально?»
Вот, например, у нас на корабле я больше всех страдаю
от морской болезни. Интересно знать — испытывают ли другие
это недомогание и тошноту? Приходилось ли им раньше так
страдать? А может быть, и они сейчас страдают? Я присмат-
ривался к Ветту. А он-то вполне здоров? Он пошатывался.
Он ходил бледный, весь мокрый. Но добросовестно исполнял
свои обязанности и приносил мне кофе.
Меня непрестанно угнетало сознание своей полной непри-
годности к жизни, но неужели никто из этих людей не испы-
тывал такой мрачной подавленности?
Быть может, они грубее меня, более толстокожи?
Откуда такое недружелюбие? Неужели оно вызвано моей
болезненной застенчивостью, неумением сходиться с людьми?
Или же это происходит потому, что я не могу думать ни о чем,
кроме постигшей меня катастрофы? Я не знаю, умеют ли они
действительно сходиться с людьми? Или, может быть, они так
же безмерно одиноки, как и я, только не сознают этого? Заме-
чают ли они, до чего они необщительны? Но если все они жи-
63
вут одиноко, то что же в таком случае человеческое общество,
как не иллюзия? В Оксфорде человек говорит: «Добрый день!»,
«Как дела?», надеясь получить дружелюбный ответ. Да полно,
так ли это? Быть может, это нам только так кажется? И встре-
чаешь ли когда-нибудь сочувствие у людей? Вот, например,
если теперь, утратив юность, я вернусь домой — найду ли я
прежний Оксфорд, и Вилтшир, и дружбу?
Да в конце концов дружба, связывавшая меня с Лайол-
фом Грэвзом, обернулась против меня и оказалась такой же
пустой, как и любовь. И если весь этот привлекательный мир
был только сном и я пробудился от сновидений лишь для того,
чтобы ошалело метаться среди кипящих вод, то что ждет меня
дальше?
Помнится, несколько дней меня била лихорадка, и в бреду
я разговаривал с Веттом. Но вот ветер стал быстро затихать,
выглянуло ослепительно яркое солнце и просушило палубу на-
шей железной посудины; треск и стоны корабля обрели обыч-
ный ритм, тяжелые прыжки волн сменились мерной и плавной
пляской и постепенно перешли в тихую зыбь. Я почувствовал,
что ко мне вновь вернулись аппетит и силы. Ветт помог мне
привести в порядок каюту, я сбрил, морщась от боли, отрос-
шую жесткую щетину, переменил белье, надел чистый воротни-
чок, повязал галстук и вышел к обеду.
— Возвращаетесь к жизни? — приветливо проговорил меха-
ник, не переставая жевать.— Теперь вы знаете, что такое море!
— А вот как обогнем мыс Горн, так будет еще почище,—
сказал старший помощник.
— Хотите бобов? — предложил Ветт, протягивая консерв-
ную банку.
— С удовольствием!
До чего вкусные и сытные были эти бобы!
— У меня была книга,— начал механик,— где говорилось о
силе прилива и волн. Эта сила прямо-таки ужасна. В книге
были вычисления. Правда, я их не совсем понял, но цифры
меня потрясли. Представьте себе, что если использовать силу
волны, можно построить огромную башню, пустить в ход все
поезда в Европе и осветить электричеством чуть не весь мир.
И все это пропадает даром! Ну, не чудо ли это?
— Не верьте этому,— сказал штурман.
— Ну, положим, с математикой не поспоришь,— возразил
механик.
— Мы скользим по поверхности вещей,— сказал я, но, ка-
жется, никто не оценил моего замечания.
— А вот я знаю одно местечко возле Нью-Хэвена, где про-
бовали использовать приливы,— с усилием выговорил третий
помощник.
— И затея провалилась? — спросил старший помощник.
— Ни черта не вышло, сэр.
64
— Так я и думал,— отвечал старший помощник.— А зачем
им понадобилось использовать приливы?
— Не знаю, сэр!
— Они и сами того не знали,— с величайшим презрением
отозвался старший помощник.
Капитан не проронил ни слова. Он сидел неподвижно и гля-
дел перед собой в пространство. Лицо у него было бледное,
жесткое и казалось еще более свирепым, чем обычно. Бе-
лесые ресницы прикрывали его глаза. «О чем он думает?» —
недоумевал я.
— Рио! — вдруг проговорил он.— Рио!
Никто не ответил; да и что было отвечать? И он ничего не
прибавил. Несколько мгновений старший помощник глядел на
своего товарища, слегка прищурив один глаз, потом снова при-
нялся за еду.
— Вы найдете в Рио сколько угодно матросов почище на-
ших,— сказал механик, очевидно разгадав мысли капитана.
6
МАШИНЫ ИСПОРТИЛИСЬ
Сначала мы прибыли в Рио, а затем Рио преспокойно вы-
толкнуло меня и моих спутников в море, как это было в Пер-
намбуку; «Золотой лев» сильно пропах кофе, ромом и какой-
то растительной гнилью и поплыл дальше, навстречу злоклю-
чениям и злодействам.
Отплывая из Рио, я находился в подавленном состоянии
духа. Здесь я чувствовал себя еще более одиноким, и мне еще
труднее было найти пристанище, чем в Ресифи. У меня не
было никаких рекомендательных писем хотя бы к таким ли-
цам, как Андерсен; я поселился один во второсортной гости-
нице и развлекался, как умел,— в сущности весьма неумело.
Меня поразил этот большой и шумный город, тропическая рас-
тительность и ослепительное солнце, широкий, красивый про-
спект,— я позабыл его название,— своего рода Елисейские
поля, восхитили бесконечные виллы и чудесные пляжи.
Я сделал изумившее меня открытие, что у жителей Южной
Америки имеются курорты с горячими водами куда веселее
нашего Брайтона или Борнемута. Они построили музей изящ-
ных искусств, где было великолепное собрание картин совре-
менных художников, и я часами простаивал там. Очень по-
могли мне и кинотеатры, большие, прекрасные кинотеатры. Это
была золотая пора кинематографии, когда без всякого шума
и рекламы постоянно показывали Чарли Чаплина. Жители
5 Г. 5эллс, т. 2 65
показались мне гораздо более счастливыми и благоденствую-
щими, чем у нас в Англии. Я не прочь был бы развлечься, но
находился в такой прострации, что ни с кем не сумел свести
знакомства. У меня были встречи .с уличными женщинами, о
которых лучше не упоминать. Какой превосходной и благотвор-
ной могла бы стать профессия куртизанки, если бы к ней от-
носились с уважением и если бы эти женщины умели утешать
одиноких людей, прибегающих к ним! Но я не мог купить
ничего, кроме грубого хохота и неуклюжих попыток утолить
желание. Я попробовал пить, но после моих похождений в
Норвиче у меня осталось смутное отвращение к хмелю. Все
мое существо теперь взывало к дружбе и жаждало близости.
Я бродил по этому богатому, великолепному городу и мучи-
тельно спрашивал себя: найдется ли в этой толпе, казавшейся
такой веселой и довольной, человек, который сможет понять
мою безумную жажду человеческого тепла? Или же это про-
сто сборище одушевленных масок, производящих впечатление
расположенных друг к другу людей? Эти мысли угнетали меня.
Во-первых, я не говорил по-португальски. Казалось бы, и
без того много всяческих перегородок между людьми, а тут
еще незнакомый язык. Не раз я слышал английскую речь и
раза два видел довольно симпатичных соотечественников, сна-
чала — семейство из пяти человек, потом — чету туристов, это
были, как видно, новобрачные; я шел за ними по пятам, пока
не возбудил у них подозрений. Я как-то бессмысленно тащился
за ними, даже не пытаясь придумать предлога, чтобы заго-
ворить.
Мое одиночество приобрело характер какой-то одержимо-
сти и сковывало меня на каждом шагу.
В конце концов, спрашивал я себя, что я могу дать этим
людям? Ведь, пожалуй, и сам я только маска. Мне еще нужно
обрести человечность не только в окружающем мире, но и в
самом себе. Допустим, что эти приятные на вид люди вдруг
согрели бы меня лаской, пригласили бы позавтракать с ними
или пойти вместе на прогулку, заставили бы меня разгово-
риться,— что сказал бы я им? Чем бы я мог их занять и раз-
влечь? Куда мы могли бы вместе отправиться?
И вот мы, обитатели корабля, снова на своих местах. Нас
повлекло назад в море, как рабочего тянет на фабрику или
горняка — в шахту, ибо некуда больше пойти и нечего делать.
Мы вернулись в нашу гремучую тюрьму и поплыли через
огромную гавань, направляясь в открытое море.
В этот вечер эпитет «гремучая тюрьма» весьма подходил к
«Золотому льву».
— Мистер Мидборо! — отважился я обратиться ко второму
помощнику, который случайно оказался около меня.— Наши
старые часы как-то странно тикают!
— Так и вы это заметили? — сказал он.
66
— Неужели что-нибудь случилось во время последнего
шторма? — продолжал я.— Мне казалось, что машины были не
в порядке еще до прибытия в Рио. Слышны были какие-то
перебои, но не так отчетливо, как сейчас.
Он шагнул ко мне и задумчиво процедил сквозь зубы,
словно обращаясь к бразильским холмам:
— Старик упрям, как осел. Раз уж он сказал, что машины
выдержат до Буэнос-Айреса, так ему наплевать, что бы там ни
говорил механик, ей-ей, наплевать.
— Да разве машины сами не говорят? — заметил я.
Мы перестали смотреть на берега и начали прислушиваться
к прерывистому ритму машин.
— Разваливаются к черту! Каждый толчок может нас до-
конать... Нам каюк? Нет, еще плывем... Колесо погнулось.
Прислушайтесь-ка! Машины здорово смазаны. Да разве все
дело в смазке? А механик сидит себе да книжки почиты-
вает!
Я ждал дальнейших откровений.
— Послали каблограмму в Лондон,— продолжал он.—
Капитан твердит свое, а механик — свое. В Буэнос-Айресе
встанем на ремонт.. Капитан настаивает на этом. И если погода
не испортится — мы махнем туда.
Мистер Мидборо испытующим оком обвел горизонт. Он, ви-
димо, не доверял погоде.
— Есть такие люди, которые считают себя чуть ли не бо-
гами,— задумчиво проговорил он.— Как Старик сказал, так
и должно быть! А когда оно оказывается не так, виноват кто
угодно, хоть лысый черт, только не он. Он все еще думает, что
он бог, и ищет только, на ком бы сорвать свой священный гнев.
7
РЕВОЛЬВЕР МЕХАНИКА
Еще до того, как мы прибыли в Рио, я смутно ощущал, что
у капитана какие-то нелады с командой. Но я не обращал на
это внимания, так как напряженно, мучительно думал о своем.
В Рио они поругались из-за выплаты жалованья. Обращались
даже в британское консульство. На улице раздавались крики
и брань, и пришлось вызвать полицейского.
— Старик здорово бушевал, ну, да теперь, пожалуй, нам
будет получше,— сказал Рэдж, обращаясь к Мидборо, когда
мы возвращались на пароход.
Я не стал задавать вопросов, да это, по правде сказать,
меня и не касалось.
б*
67
Мидборо пробормотал что-то насчет засилья «итальяшек»
у нас на корабле.
Присматриваясь к экипажу, я приметил одно или два но-
вых лица, а кое-кого из матросов недосчитался. Наше вели-
колепное концертино, очевидно, сошло на берег в Рио, да так
и не вернулось.
Я спрашивал себя, уж не связана ли напряженная атмо-
сфера в кают-компании с недовольством, царившим на баке?
Должно быть, капитан привык воевать со своими матросами.
Этот человек был всецело во власти рутины, и ссоры с матро-
сами были единственным развлечением, вносившим разнооб-
разие в его скучную жизнь.
Быть может, на каждом торговом судне между начальством
и командой идет своего рода классовая борьба. Но только
после Рио я понял, что за мрачная, зловещая фигура этот ка-
питан; недаром мои попытки сблизиться с ним ни к чему не
привели.
Мне нужно было вернуть книгу о кооперативных молочных
фермах в Дании со статистическими таблицами и диаграм-
мами, эту книгу механик рекомендовал мне «для легкого чте-
ния»; войдя в каюту, я увидел, что он держит в своей муску-
листой руке только что вычищенный револьвер, запас патро-
нов был аккуратно разложен на койке.
— Тяжеловатая у вас игрушка,— заметил я.
— Да это вовсе не игрушка,— буркнул механик.
— Но зачем вам заряжать его здесь? Ведь от людей и
вообще от земли нас отделяют добрых две сотни морских
миль!
— В том-то и дело,— сказал механик, словно раздумывая,
стоит ли со мной откровенничать, и, очевидно, решил промол-
чать.
— А вы прочли всю книгу насквозь? — спросил он через
минуту-другую.— Сомневаюсь. Вы скользите по поверхности
жизни, молодой человек! Вы через все перескакиваете. Я бы
сказал, что вы порхаете, как мотылек.— Он помолчал и, заме-
тив, что я не свожу глаз с коротенького, отливавшего синевой
револьвера, зажатого у него в руке, добавил более мягко: —
Уж этот ваш Оксфорд! Какой от него толк! Наплодили на свет
нарядных бабочек и всяких там мошек. Летают, порхают и
только портят вещи. А работать никто не умеет. Это не уни-
верситет, а какой-то инкубатор для насекомых.
— Я вашу книгу прочел до конца.
Он что-то недоверчиво пробурчал в ответ.
— Теперь я могу вам дать только книгу Робинзона «Функ-
циональные расстройства кишечника». У вас тоже есть кишеч-
ник, но станете ли вы читать ее? Ведь нет!
— А вы пробовали читать романы, которые я вам давал?
— Достоевский не так уж плох. Все остальное дрянь. До-
68
стоевский интересен в некоторых отношениях. Я перевел рубли
и копейки, встречающиеся у Достоевского, в шиллинги и пенсы.
Некоторые вещи вдвое дороже, чем в Лондоне, а кое-что чуть
не втрое дешевле.
Он вложил последний патрон в обойму, щелкнул пистоле-
том, прислушался к неровному стуку машин и, словно прячась
от меня, повернулся к шкафчику, набитому подержанными
книгами.
8
КРИК ВО ТЬМЕ
Я не знаю, что произошло в эту ночь, и до сих пор упрекаю
себя за свое равнодушие. Мне следовало вмешаться в это дело!
Кажется, я уже говорил, что я страдал бессонницей и по ночам
то и дело бродил по палубе. Но в эту ночь я проснулся от вы-
стрела. Может быть, это мне приснилось после того, как я
увидел револьвер механика. Этот звук был похож и на хло-
панье троса. Но мне стало как-то не по себе. Я сел на постели
и стал прислушиваться, потом наспех оделся и поднялся на
палубу.
Пароход прокладывал себе путь по маслянистой зыблю-
щейся поверхности моря; волны разбивались у бортов, слабо
фосфоресцируя, небо покрыто было рваными тучами, сквозь
которые порой проглядывала луна. Я прошел на фордек.
С минуту все казалось спокойным. Высоко надо мной,
неподвижная, как изваяние, маячила туманная фигура руле-
вого, тускло освещенная луной. Впереди вырисовывалась дру-
гая фигура, еле различимая в темноте и словно окаменевшая
под качающимся фонарем. Потом мне почудилось, что во мраке
у передних люков происходит какая-то возня. Я скорее ощу-
тил, чем увидел матросов, сгрудившихся на палубе у входа в
кубрик, они толкались и бурно жестикулировали. В то же мгно-
вение я заметил двух вахтенных, неподвижно стоявших в тени
у неосвещенного входа на бак. Внезапно послышался резкий
крик, почти вопль, и голос, повидимому принадлежавший
юноше, жалобно простонал:
— Ой-ой! Ради бога!
И тотчас же раздался грубый голос капитана:
— Будешь ты завтра работать как положено?
— Ладно. Если только смогу. Ой! Ой, ради бога! Буду!
Буду!
Последовала пауза, которая показалась мне бесконечной.
— Отпустите его,— послышался голос старшего помощ-
ника.— Хватит с него,
69
— Что? — прорычал капитан.— Да разве такую ленивую
свинью когда-нибудь проучишь?
Старший помощник понизил голос:
— Дело ведь не только в нем.
— Пускай хоть все соберутся! — рявкнул капитан.
— Помощник прав,— вмешался механик.
Капитан снова выругался.
Послышался звук, как от брошенного на палубу троса,
вслед за тем — всхлипывание, похожее на плач испуганного
или больного ребенка. Я хотел было кинуться вперед и вме-
шаться, но страх удержал меня. Я неподвижно стоял в лучах
луны. Опять все стихло. Затем штурман что-то вполголоса ска-
зал капитану.
— Он притворяется,— бросил капитан и тут же добавил: —
Эй, вы там, отнесите его на койку!
Раздался глухой звук, словно кого-то пнули ногой.
На баке замелькал свет фонаря, и я увидел движущиеся
силуэты людей. До меня донеслись приглушенные голоса.
— Я заставлю их слушаться! — прогремел голос капи-
тана.— Пока мы в море — я хозяин на корабле... А британский
консул может убираться к черту!
Я увидел, как с палубы подняли какой-то неподвижный
предмет, и он тотчас же исчез в кубрике. Фигуры капитана,
штурмана и механика четко выделялись в розоватом свете фо-
нарей; они стояли почти неподвижно, спиной ко мне, слегка
нагнувшись вперед. Механик заговорил, понизив голос, и в
его тоне мне почудился упрек.
— К черту! — яростно крикнул капитан.— Что, я не знаю
своего дела?
‘Они направились в мою сторону.
— Здравствуйте! — воскликнул механик, заметив* меня.
— Вот как, господин шпион? — сказал капитан, заглядывая
мне в лицо.— Подслеживаете за нами? А?
Я промолчал; да и что я мог ответить! Все трое прошли
мимо меня на корму.
Из глубины кубрика доносился какой-то грубый, хриплый
голос. Время от времени его прерывали другие голоса. Пови-
димому, никто из матросов не спал в эту ночь.
Наверху рулевой, словно в полусне, поворачивал колесо.
Вахтенный занял свое обычное место, машины попрежнему
стучали в перебойном ритме. Плывшие по небу в кольце ра-
дужного сияния разорванные облака и безмолвное, чуть тро-
нутое зыбью море, лениво отражавшее лунный свет, казались
мне теперь заговорщиками, соучастниками какого-то страшного
злодеяния. Что же там произошло? В долетевшем до меня
крике звучала смертельная мука.
«Избили до смерти»,— вдруг пронеслось у меня в голове;
какие страшные слова!
70
Я тихонько пробрался к себе в каюту и не мог заснуть до
утра.
Неужели на этом свете ничего нельзя добиться, не прибе-
гая к грубому насилию?
9
ПОХОРОНЫ В ОТКРЫТОМ МОРЕ
На следующее утро Ветт заметил вскользь, что один из
матросов «надорвался» и, кажется, умирает, а после второго
завтрака, за которым все угрюмо молчали, Рэдж сообщил мне,
что матрос умер. Механика нигде не было видно; он был внизу,
у своих расхлябанных машин, не то я спросил бы его кое о
чем. Рэдж притворялся, будто не знает, отчего умер матрос.
Неужели я так и не доберусь до истины?
Какой-то длинный белый предмет лежал возле люка, и,
подойдя, я различил контуры окоченелого тела, закутанного в
одеяло. Я остановился и несколько минут разглядывал его;
несколько человек матросов, стоявших и сидевших около по-
койника, при моем приближении замолчали и наблюдали за
мной в каком-то загадочном безмолвии. Мне хотелось расспро-
сить их, но я не сделал этого, боясь услыхать страшную истину
или вызвать взрыв негодования.
Я чувствовал, что мне бросают вызов, но был не в силах
ответить на него. Подняв голову, я увидел, что капитан стоит
на мостике и, перегнувшись через перила, наблюдает за мной
с явной враждебностью. Я подошел к борту и стал размыш-
лять, закрыв лицо руками. Пойти разве расспросить матросов?
Но хватит ли у меня смелости на это?
Ветт упрямо твердил свое: «Надорвался».
На следующий день погода, до тех пор пасмурная и теп-
лая, начала меняться. Мертвая зыбь усилилась, и поднялась
качка. Вяло работавший винт то и дело останавливался.
К вечеру мертвеца предали морю. Почти все, кроме коче-
гаров, механика и трех подручных, работавших в машинном
отделении, присутствовали на церемонии. Зашитое в грубую
парусину тело было положено ногами вперед на две смазан-
ных салом доски и прикрыто запачканным красным флагом,
но против обыкновения молитву читал не капитан, а старший
помощник. Казалось, капитан поменялся с ним ролью и отда-
вал приказания, стоя на рубке. Помощник с минуту помедлил,
потом взглянул, правильно ли положено тело, поспешно выта-
щил молитвенник, бросил взгляд на зловещее небо, словно
спрашивая у него совета, и принялся читать заупокойные мо-
литвы. Читал он отрывисто, раздраженным тоном. Казалось,
71
он выражает протест против всей этой церемонии. Я встал у
поручней, возле Мидборо, держа в руке шляпу. Почти все
обнажили головы. Капитан попрежнему оставался на рубке;
сутулый, неподвижный, он поглядывал вниз, как филин с де-
рева, а матросы стояли или сидели на корточках в угрюмом
молчании. Двое из них должны были столкнуть тело за борт.
Меня так взволновала эта трагическая сцена, что я не об-
ратил внимания на резкие перемены в атмосфере. На время я
совершенно забыл о погоде. Лица у всех приняли какое-то
зловещее выражение, чувствовалось, что надвигается беда,—
и мне стало ясно, что это связано с печальным событием, про-
исшедшим во мраке. Нависло гнетущее молчание. Казалось,
вот-вот раздадутся упреки и обвинения. Угрозы готовы были
сорваться с уст матросов. Что-то будет? За пределами вла-
сти жестокого капитана, на суше, нас ожидала власть закона,
нудная процедура следствия и неясный исход дела. Начнутся
доносы, свидетельские показания, лжесвидетельства, а затем,
может быть, последует несправедливый приговор. Интересно,
что скажет тогда хотя бы старший помощник, который по-
спешно бормочет молитвы? О чем будут спрашивать механика?
Пойдут ли эти люди на ложь, чтобы спасти себя и капитана?
И вся эта тайна никогда не выйдет наружу? Что именно ви-
дели матросы? Знают ли они что-нибудь определенное, или же
им пришлось только догадываться? Может быть, они сообща
сочинят какую-нибудь сказку? Кто узнает о трагедии, разы-
гравшейся на корабле в ту темную ночь? Да и можно ли доко-
паться до правды? Допустим, меня призвали бы к допросу,—
что бы я мог собственно показать? И выдержу ли я пере-
крестный допрос?
Старший помощник продолжал бормотать молитвы. Тут
только я смутно почувствовал, что мрачное волнение окружаю-
щих перекликается с надвигающейся грозой. Покамест он
читал,— а читал он плохо, не делая остановок на знаках пре-
пинания,— за его спиною вздувались волна за волной, они
медленно вырастали, поднимались над его головой и прова-
ливались в бездну, и тогда одинокая фигура старшего помощ-
ника четко выступала на фоне туч.
Вдруг я заметил, что небо как-то странно побелело, стало
почти ослепительным. Я понял, что на нас несется шторм.
Корабль швыряло во все стороны. Я обвел глазами небо-
свод. О ужас! Огромная свинцово-синяя туча с лохматыми,
крутящимися краями тяжело наползала, закрывая небо. На
моих глазах эти растрепанные края превратились в чудовищ-
ные когти и вцепились в солнце, а водное пространство залил
зловещий медный блеск. Палуба погрузилась в холодную тем-
ноту. Все люди и предметы казались тоже черными, как чер-
нила. Зато небо с подветренной стороны посветлело, стало
еще белее и ярче.
72
Все стоявшие на палубе перевели взгляд с мертвеца, рас-
простертого на досках, на черный балдахин туч, который злые
духи вот-вот обрушат на нас. Старший помощник глянул на
небо, перевернул страницу и загнусавил еще быстрее, прогла-
тывая слова; капитан что-то крикнул в машинное отделение.
Замолчавшие машины через минуту снова застучали.
— Да ну, кончайте же! — глухо бросил Мидборо.
Вдруг раздался адский грохот, словно ударили сразу в ты-
сячи литавр; я увидел, что помощник, не выпуская молитвен-
ника из рук, подает знаки матросам, стоявшим около покой-
ника.
Теперь уже невозможно было расслышать слова молитвы.
Палуба накренилась навстречу огромной желтовато-зеленой
водяной горе, и белый кокон, жалкая оболочка того, кто еще
недавно был живым человеком, соскользнул с доски и стрем-
глав полетел в водяную пучину; в следующий миг борт за-
крыл от меня море. Помощник, медленно поднимавшийся
кверху, дочитывал последние слова молитвы, но его уже никто
не слушал,— все лихорадочно принялись за работу, готовясь
встретить шторм.
Как удары бича, по палубе захлестал град.
Я бросился к ближайшему трапу и едва успел добраться
до него, как раздался короткий сухой удар, похожий на вы-
стрел.
Мелькнула фигура помощника, без шапки, с раскрытым
молитвенником в руках, он шатался, как пьяный; тут меня
сбросило толчком в люк, я скатился по трапу и чуть не полз-
ком стал пробираться к себе в каюту.
10
ШТОРМ
К этому времени я уже несколько привык к причудам
океана и теперь уже более стойко переносил шторм. В начале
плавания я страдал морской болезнью, но интеллект мой не
был затронут, и я достаточно точно могу восстановить все
события.
Во всех моих воспоминаниях неизменно играет роль разъ-
яренный капитан.
Странное дело: только теперь, когда он стал впадать в бе-
шенство, я начал понимать этого человека! Так по крайней
мере мне помнится, хотя возможно, что я постиг его характер
несколько позже. Вначале он казался мне олицетворением зла
и низменных качеств. Он вел отчаянную борьбу с жестоким
73
миром, бессознательно утверждая свою волю, и потерпел по-
ражение. Подобно мне, он вступил в жизнь полный надежд и
далеко простиравшихся туманных желаний, мечтал4 упиваться
всеми благами жизни, но судьба упорно ему в этом отказы-
вала. Как необузданны были его аппетиты! Как пламенно ве-
рил он в свой успех! А жизнь безжалостно указывала ему его
место, заставляя тянуть лямку капитана торгового судна, быть
вечно озлобленным начальником столь же ожесточенных и
пришибленных жизнью людей, хозяином ветхого суденышка,
которого он явно стыдился. Он ненавидел свой корабль; он с
удовольствием вывел бы его из строя. Он негодовал на вла-
дельцев этого корабля за то, что был у них в подчинении, и
еще больше бы их ненавидел, если бы они не взяли его на
службу! Он презирал свои обязанности, сводившиеся к пере-
возке в Бразилию стенных часов, швейных машин и готового
платья; кофе, сахар, папиросы и хлопок он доставлял в Арген-
тину, а оттуда, с остатками британских товаров и всякой дре-
бедени, направлялся в другое полушарие! В сущности, если
пренебречь расстоянием и опасностями, наш капитан немно-
гим отличался от какого-нибудь ломовика, а другие счастливцы
тем временем разгуливали по суше, командовали и господство-
вали и наслаждались всеми земными благами. Он неохотно
выполнял свои скучные обязанности, при этом всегда старался
сохранить собственное достоинство. Он хотел быть неограни-
ченным властелином в этом своем маленьком царстве. А мат-
росы не желают его слушаться! Какой-то никчемный высоко-
мерный юнец смеет над ним насмехаться за общим столом!
Машины тоже вышли из повиновения. Погода издевается над
его предсказаниями. Будь они все прокляты! Провались они
в тартарары!
Погода обманула его. Он рассчитывал благополучно до-
браться до Буэнос-Айреса, прежде чем изменится ветер. Он
обозвал механика олухом и вывел корабль из безопасной га-
вани Рио в открытое море. И вот за какие-нибудь два дня пути
до Буэнос-Айреса погода испортилась.
Жизнь сделалась прямо невыносимой для капитана, в эти
дни он испытывал горькое разочарование, в ярости метался по
каюте, как дикая кошка, попавшая в тенета.
Неожиданно я увидел капитана, он шел по среднему про-
ходу вместе с механиком, они возбужденно спорили о чем-то.
— Я уже говорил вам, что не могу за них отвечать,—
оправдывался механик.— Это нужно было сделать в Рио!
Капитан проклинал так внезапно налетевший шторм. Он
кричал, бранился и грозил небу кулаком. Механик скорчил
гримасу и пожал плечами.
Я отскочил в сторону, но корабль внезапно накренился, и
меня бросило прямо под ноги капитану. Лицо его исказилось
сатанинской злобой, он ударил меня кулаком и отшвырнул к
74
двери. Я был ошеломлен и сознавал свое бессилие. Так велик
был престиж командира, что я не осмелился дать ему сдачи.
Капитан с механиком проследовали дальше на корму, а я по-
брел, пошатываясь, к себе в каюту.
Корабль то зарывался носом в волны, то становился на
дыбы, сражаясь с водяными громадами. Прошло несколько
минут,— а может быть, и часов,— как вдруг раздался металли-
ческий грохот, лязг и скрежет, и мы поняли, что машины вы-
шли из строя. Это не было неожиданностью. Экипаж был
давно готов к такому удару. Помнится, даже не было особого
волнения, все приняли это стоически, как некую неизбежность.
Все давно ждали этой катастрофы; удивительно только,, что
она не произошла еще раньше. Удивительно, что мы до сих
пор еще плыли в этом бушующем хаосе.
Я мельком видел механика: весь мокрый, с измученным, но
все еще бесстрастным лицом, хватаясь за стенки, он проби-
рался к себе в каюту. Ему больше нечего было делать.
Да и вообще больше нечего было делать, приходилось лишь
то и дело откачивать воду, заливавшую судно. После ката-
строфы с машинами корабль окончательно потерял курс. Мы
сделались игрушкой волн. Нас немилосердно швыряло из сто-
роны в сторону. Порой мы попадали в боковую качку. Это
была временная передышка, и мы напоминали гарнизон кре-
пости, который сдался в плен и ожидает, что его вот-вот пе-
ребьют. Наш корабль, как щепка, носился по прихоти волн.
Они словно сговорились нас опрокинуть не с носа, так с бор-
тов. Мы больше уже не боролись. Не смотрели опасности
в глаза. Волны яростно хлестали корабль, порой перекатыва-
лись через палубу, и тогда становилось темно, как ночью. Мы
были побеждены. Корабль то проваливался в какую-то темную
ревущую бездну, то вновь поднимался на свет божий.
Может быть, корабль дал течь?
На следующее утро я выбрался из каюты, чтобы раздобыть
чего-нибудь поесть. Встретил Рэджа, направлявшегося в кам-
буз, и мы прокричали друг другу несколько слов.
— Неужели корабль дал течь? Кажется, нет,— нас только
заливают волны, перекатываясь через борт.
— Воды еще не так много, с ней можно справиться,— бро-
сил Рэдж,— только бы обшивка выдержала.
Делать было нечего, оставалось покориться судьбе. В те
дни беспроволочный телеграф еще не получил распространения,
и мы не могли подать сигнал бедствия. Мы были затеряны в
океане; быть может, мы случайно встретим какое-нибудь судно,
и оно нас подберет? Или корабль разобьется о скалы и будет
выброшен на берег? Или мы попросту потонем? Если не встре-
тим помощи, мы будем носиться по волнам, пока не стихнет
шторм, а потом начнем дрейфовать.
Таково было мнение Рэджа.
75
Наш кок каким-то чудом ухитрился развести огонь и сва-
рить очень вкусный и питательный суп из мясных консервов.
Суп издавал острый запах лука. Матросы один за другим про-
бирались в камбуз, борясь с окатывавшими их волнами, каж-
дому хотелось получить свою порцию этой лакомой еды. Все
ели из общей миски и то и дело валились друг на друга. Кри-
чали: «Эй, вы, потише! Чего не держишься?» Всякий этикет
был забыт.
Но когда внезапно в дверях камбуза показался капитан в
мокром клеенчатом комбинезоне, с серыми от морской соли
ресницами, и ухватился за косяк, повернув к нам искаженное
яростью, неподвижное, как маска, лицо,— все мигом расступи-
лись; двое матросов поспешили уйти из камбуза, а Ветт подал
ему отдельную миску.
Никто не осмелился заговорить: капитан что-то бормотал
себе под нос и ругался. Я стоял возле него, грызя галету, и
слышал, как он сказал:
— Мы доберемся до Буэнос-Айреса, говорю вам! Мы до
него доберемся, или, клянусь богом...
— Это одному богу известно,— процедил сквозь зубы ме-
ханик.
— Эти свиньи опять шатаются без дела! А? — прорычал
капитан, уставившись на нас пронзительными, злыми гла-
зами.— Погодите вы у меня, вот только стихнет ветер!..
Но прошло четыре или пять дней — не знаю, сколько
именно, ибо потерял всякое представление о времени,— а ве-
тер все не спадал. Большей частью мы сидели каждый у себя
в каюте, изредка бродили по коридорам или с отчаянными уси-
лиями пробирались по скользкой палубе по колено и по пояс
в воде. Нас бросало во все стороны. Мы ударялись о вещи,
о стены каюты. Один раз мне показалось, что я повредил себе
ребра, и я добрых полчаса ощупывал бока, делая глубокие вы-
дохи и вдохи.
Между тем кок продолжал творить чудеса, угощая нас го-
рячей едой, чаще всего кофе. В промежутках мы жили надеж-
дой. Чтобы добраться до камбуза, приходилось отчаянно
пробиваться сквозь бурлящие волны. Иной раз мне так и не
удавалось туда пробраться. Оглядев палубу, то и дело превра-
щавшуюся в пенистый водоворот, убедившись, что по дороге
не за что ухватиться, я отступал. Я припрятал у себя в каюте
жестянку с галетами и питался ими, но сильно страдал от
жажды. Казалось, соль оседала кристаллами у меня на гу-
бах, вкус ее постоянно преследовал меня, и я чувствовал по-
зывы к рвоте. И сейчас я думаю, что все на корабле были
близки к голодной смерти. Мы промокли до костей. Все тело
было в синяках и ныло от ушибов; это были дни отчаянной
борьбы за жизнь, когда волны восстали против нас и корабль,
казалось, хотел вышвырнуть нас в океан. Я видел, как один
76
матрос в полном отчаянии бросился было вниз по накренив-
шейся палубе, но другой, держась рукой за поручни, схватил
его за шиворот и, когда корабль покачнулся в другую сторону,
бросил товарища в безопасное место.
Однажды мне пришлось увидеть нечто совершенно неве-
роятное. К нам на корабль попала огромная акула. Подня-
лась гигантская, зеленовато-оливковая, остроконечная, как гор-
ный пик, волна, нависла над нами, яростно шипя и встряхивая
развевающейся гривою, потом всей громадою обрушилась на
палубу. Я приютился под капитанским мостиком и чувствовал
себя в относительной безопасности. Казалось, вот-вот эта волна
расколет корабль пополам и сбросит всех нас в пучину. Вода
со свистом хлестала меня по ногам, прыгала все выше, тычась
мне в колени, как расшалившийся терьер. Палуба исчезла под
волнами, кроме фордека и запертого входа в кубрик.
Потом из воды стала медленно выступать средняя часть
палубы, вся в завитках крутящейся пены,— и вдруг появилась
огромная белобрюхая рыба, она катилась по палубе, то сги-
баясь дугой, то вновь распрямляясь, и, щелкая пастью, она
напоминала гигантский взбесившийся чемодан. Она была куда
больше человека. Рыба свирепо ударяла хвостом и бросалась
из стороны в сторону, оставляя на палубе сгустки слизи, кото-
рые тотчас же сдувало ветром. Брюхо у нее было в крови.
Корабль, казалось, с минуту был словно ошеломлен появле-
нием этого нового пассажира, потом отчаянным усилием вы-
швырнул его вместе с клочьями пены за борт, словно возму-
щенный этим наглым вторжением.
Я видел это собственными глазами.
11
МЯТЕЖ И ЗЛОДЕЯНИЕ
За все это время мне ни разу не удалось переодеться, и я
долгие часы сидел у себя в каюте, закутавшись в одеяла и
плед. Насколько я могу припомнить, шторм не ослабевал ни
на минуту. Он прекратился внезапно. Очнувшись не то от об-
морока, не то от сна, я увидел, что буря кончилась. Я не мог
бы сейчас сказать, сколько времени пребывал в состоянии пол-
ного оцепенения.
Попытавшись сесть на свою постель, я обнаружил, что с
койкой творится что-то непонятное. Правда, она больше не ка-
чалась из стороны в сторону, вместе со стенкой каюты она об-
разовала что-то вроде треугольного корыта, в котором я и
лежал. Я был очень слаб, изголодался, страдал от жажды и чув-
77
ствовал себя беспомощным, но все же попытался осмыслить пе-
ремену своего положения. Ухватившись за кронштейн лампы,
также покосившейся, я выглянул в иллюминатор и увидел, что
море, спокойное, голубое море, почему-то лежит наклонно. Это
значит, что все остальные предметы покосились — каюта моя
прочно заняла наклонное положение.
Я удивился. Может показаться странным, что после трепки,
какую нам задал шторм, я еще способен был испытывать удив-
ление. Но, вероятно, мой бедный мозг был так утомлен, что я
не в силах был понять, почему все предметы у меня в каюте
замерли, как-то странно покосившись.
Я спустился с койки и открыл дверь каюты — посмотреть,
покосился ли коридор. Так оно и было. С трудом выбравшись
на палубу, я убедился, что весь корабль перекошен. И только
тут прояснился мой отупевший мозг и я понял, в чем дело.
Голубая линия горизонта, которую я оглядывал, занимала
прежнее положение — все тот же надежный горизонт. Корабль
накренился носом вниз, а корма торчала высоко над водой.
Он, видимо, получил пробоину в носовой части, и трюм до пе-
редней переборки был залит водой. Вероятно, часть груза пе-
реместилась, отчего судно покосилось налево. В раздумье я
случайно коснулся рукой головы и почувствовал боль: голова
была вся в ссадинах. Повидимому, я обо что-то ударился, но
как это случилось, я так и не мог припомнить. Возможно, что
меня толчком сбросило с койки. Быть может, я долго лежал
в обмороке или заснул от слабости и истощения.
Над кораблем кружились чайки. Одна из них была гораздо
крупнее остальных и ухитрялась парить над водой на непо-
движно распластанных крыльях. Она кружилась возле корабля,
точь-в-точь как родственник в ожидании наследства. Несколько
чаек опустились на поднявшуюся кверху корму. До тех пор
я еще не знал, что чайки иной раз садятся на борт, и решил,
что на корабле нет ни души. Но вскоре успокоился, услыхав
на носу деловитый стук молотка, и пошел посмотреть, кто это
стучит.
На средней палубе у капитанского мостика собралась чуть
ли не вся команда. Матросы разбились на две группы. Все уже
давно перестали бриться и казались каким-то подозрительным
сбродом. У одного из них рука была обмотана окровавленной
тряпкой. Несколько человек что-то вяло жевали, остальные
сидели на корточках или валялись на палубе, вид у всех был
угрюмый и подавленный. Справа лежала вверх дном шлюпка,
и плотник возился над нею, приколачивая какие-то доски.
Ему помогал юнга. Верхом на киле лодки, с револьве-
ром в руках, сидел механик, а Рэдж прислонился к борту
лодки. У старшего помощника тоже был револьвер, а Мидборо
с самым непринужденным видом размахивал топориком. Оба
стояли спиной ко мне, но, услыхав мои шаги, быстро обер-
78
нулись. Они уставились на меня, как на выходца с того
света.
— Как! — воскликнул механик.— Вы еще живы?
Я не в силах был отвечать. Я сделал шаг вперед, схватился
за железный поручень, поскользнулся и сел на палубу. У меня
закружилась голова.
— Мне дурно,— проговорил я.
— Эй, вы! Дайте же ему поесть! — приказал Мидборо.—
Разве вы не видите, что он совсем выдохся!
Матросы неохотно зашевелились. Кто-то сунул мне в руку
черствую галету и кусок мяса. Очевидно, голод вызвал у меня
дурноту. После первого же глотка я почувствовал себя лучше.
Я съел все, что мне дали, выпил кофе. Силы медленно возвра-
щались ко мне, и я сидел, озираясь по сторонам.
Сверху послышался голос:
— Он поедет с матросами!
Подняв голову, я увидел капитана. Благодаря крену ко-
рабля мостик нависал над нами. Капитан тоже держал в руке
заряженный револьвер. Рыжая, не бритая дней пять щетина не
слишком была ему к лицу.
— Вот еще! —проговорил высокий смуглый мужчина, по-
видимому боцман.— Нет уж, берите его вы!
— На черта он мне нужен! — возразил капитан.
— Что делать! Придется его взять.
— Ведь он как-никак наш пассажир,— сказал механик, и
старший помощник, стоявший рядом со мной, молча кивнул
головой.
— Я ничего не понимаю,— сказал я.
— Все шлюпки разбиты, осталась только одна, и ее спу-
стили на воду,— объяснил механик.— Матросы вздумали уп-
лыть на ней в открытое море! Как только показалась земля,
с ними ничего нельзя было поделать. Понятно? Только Старик
смекнул, что они замышляют, и приказал им оставаться. Вот
они и остались. Что бы мы делали без них? Наш милейший
плотник, так и быть, согласился починить перед отъездом вот
эту шлюпчонку для нас. Спасибо и за то! Вот как обстоят
дела!
Теперь я понял, зачем им понадобились револьверы.
— Если кто-нибудь попробует перелезть через борт, мы
будем стрелять,— объявил механик, обращаясь ко мне и мат-
росам.
— А плотник сядет в нашу лодку,— добавил помощник,—
этим он докажет, что работа сделана хорошо.
— Ну, это мы еще посмотрим,— заявил один из матросов,
рослый, смуглый малый.
— Как сказано, так и будет,— возразил механик.
— Нам самим может понадобиться плотник.
— Что и говорить, плотничье ремесло чертовски полезное,—
79
согласился механик, не желая вступать в спор.— Вы и не пред-
ставляете себе, сколько всего должен знать плотник. Об этом
целые книги написаны.
Среди матросов послышался ропот, они стали перешепты-
ваться.
— Но где же земля? — спросил я второго помощника.—
Я ее что-то не вижу.
Мидборо оглядел горизонт.
— Наш корабль,— сказал он,— поворачивается вокруг сво-
ей оси. Давайте сообразим, где солнце. Земля сейчас на
западе.
— Она никуда не делась,— вставил кок.— Хотел бы я знать,
когда мы, наконец, отправимся, черт возьми! Пошевеливайся,
Джимми!
— Ну тебя к дьяволу! — огрызнулся плотник.— Что же,
ты думаешь, я тут забавляюсь?
— Солнце уже садится.
— А я тут при чем?
Медленно-медленно поворачивался корабль, и над головой
у нас развертывалась панорама закатного неба. Оно простер-
лось, яркозолотое над свинцовой пеленой воды. Прежде чем
мне ударили в глаза ослепительные косые лучи, я успел раз-
глядеть бледные, серовато-лиловые очертания берега и изло-
манную линию гор вдали; мне даже показалось, что одна из
вершин окутана дымом. Но через миг все потонуло в ослепи-
тельном пламени заката.
— Как же мы доберемся до берега в потемках? — раздался
чей-то голос.
— «На запад, мой друг, на запад!» — продекламировал ме-
ханик. Дулом револьвера он указал куда-то влево.— Перед
вами вся Патагония, как сплошная стена. И будьте спокойны,
так — на сотни миль. Приставай где хочешь.
— Мы могли бы уже быть на полпути! — послышался все
тот же голос.
— Эгоистичная тварь! — отозвался механик.
— Еще полчаса, и я кончу,— сказал плотник.— Надо пере-
вернуть шлюпку. Помогите кто-нибудь.
— Мистер Джиббс,— обратился капитан к помощнику,—
прикажите мистеру Мидборо, чтобы он вместе с мистером
Блетсуорси принес припасы из камбуза. Мы вчетвером будем
следить за командой. Двое из вас — только двое, не больше! —
будут помогать плотнику. Один из этих двух — голландец, он
ловкий и безобидный. Да помните, что я слежу за всеми вами.
Но тут его осенила новая мысль.
— Нужно осветить палубу, мистер Мидборо, скоро стем-
неет. Принесите фонари. Мало ли что может приключиться в
темноте!
Человек с перевязанной рукой яростно выругался и сплюнул.
80
•— И нам тоже не на руку темнота,— буркнул он.
— А нам нечего бояться,— бросил другой матрос и засме-
ялся деланым смехом.
Мы перетащили все припасы из камбуза на тот борт, откуда
должны были спустить шлюпку, затем я отправился вместе с
Мидборо в кладовую, где уже изрядно похозяйничали матросы.
— Берите больше, пригодится,— говорил Мидборо, нагру-
жая меня галетами.
Покамест мы занимались этим делом, солнце село, и синие
сумерки начали быстро сгущаться, переходя в ночь. Мидборо
повесил на палубе два фонаря; в их желтом свете матросы
двигались, как черные тени. Капитан исчез в таинственном
мраке.
— Получайте! — проговорил плотник, закончив работу.—
Складывайте свои пожитки.
— Стоп! — резко, точно свист хлыста, прозвучал голос
капитана, когда один из матросов вздумал перелезть через
борт.
— Старый боров! — пронзительно крикнул кто-то.— Уж
тебе всыплют, если дело дойдет до драки...
Голос оборвался, казалось никто его не слышал.
— Нам цужен плотник! — крикнул боцман.
— Мертвый или живой? — вежливо осведомился механик.
Матросы глухо заворчали.
— Живо! Шлюпку за борт,— крикнул капитан,— и кладите
пожитки!
Поднялась суматоха; послышался всплеск,— шлюпка кос-
нулась воды, потом градом посыпались ящики, пакеты и банки.
Я помогал, пока палуба не очистилась. Рэдж наспех упаковы-
вал ящики.
— Чертовски мало места остается! — крикнул он.
Раздался треск и звон разбитого стекла.
— Сюда, Джимми! — позвал плотник.— Сюда!
— Попробуй только! — крикнул механик и выстрелил в се-
рую мглу, но, кажется, промахнулся. Матросы один за другим
попрыгали в шлюпку.
— Блетсуорси! — послышался сверху гневный голос.— Где
Блетсуорси?
Повинуясь призыву, я направился к трапу, который вел к
рубке. Капитан быстро и бесшумно, словно огромная кошка,
спустился вниз, и не успел я понять, что он замышляет, как он
схватил меня за шиворот и толкнул в приоткрытую дверь кла-
довки. В первый момент я был чересчур ошеломлен, чтобы
сопротивляться. Я отлично слышал, как он возится с ключом,
запирая дверь, и кинулся было вперед, но в этот момент он
хватил меня револьвером по лицу; падая, я слышал, как он
ожесточенно повторял:
— На! вот тебе! Ешь суп! Жри!
Q Г. Уэллс, т. 2
81
Дверь захлопнулась: я оказался взаперти.
Удар оглушил меня. Я медленно поднялся на ноги и стал
ощупывать лицо — кровь ручьем лилась по щеке. Я слышал,
как капитан ответил кому-то:
— Все в порядке. Он в большой шлюпке.
В темноте я стал ощупывать дверь, надеясь отпереть ее.
Помнится, я принялся стучать кулаками и кричать, но было
слишком поздно. Меня все равно бы не услыхали. На корабле
что-то стряслось, и внимание было отвлечено от меня. Ка-
жется, капитан выстрелил по шлюпке, где сидели матросы.
Возможно, он сделал это просто со зла или чтобы заглушить
мой крики. А может быть, он стрелял, защищаясь. Быть может,
даже стрелял механик, а вовсе не капитан. Так или иначе я
слышал выстрелы, крики и плеск воды. Потом послышались
размеренные всплески весел, и шум стал затихать. Каза-
лось, матросы стремились уйти подальше от разъяренного
капитана.
Воцарилась мертвая тишина, словно ктогто медленно задер-
нул занавес. Некоторое время я прислушивался, но вскоре все
смолкло, и только волны мерно плескались у бортов корабля.
12
ПОКИНУТЫЙ
Лишь на рассвете я, наконец, выбрался из своей тюрьмы.
В темноте мне так и не удалось выломать дверь или окно.
Но утром я нашел ящик, где Ветт хранил кое-какие инстру-
менты, и с помощью стамески и молотка,— отвертки не на-
шлось,— мне удалось взломать замок. Всю ночь я задыхался
от бешенства, думая о капитане; расправляясь с замком, я во-
ображал, что передо мной капитан. Мне страстно хотелось
жить, чтоб разоблачить и уничтожить его! Роясь в кладовой
Ветта в поисках инструментов, я нашел бутылку брэнди, не-
много воды, сифон, жестянки с сыром и банки сардинок, на
десерт несколько коробок с финиками и прочие припасы; там
же оказался запас спичек и заправленная лампа. А ведь капи-
тан мог загнать меня и в еще худшую дыру,— подумалось
мне. Распахнув дверь и почувствовав себя на свободе, я под-
крепился едой, потом, захватив горсть фиников, отправился на
разведку.
Я надеялся, что корабль относит к берегу и мне удастся
вскоре нагнать своего недруга, хотя мне было трудно предста-
вить себе, что бы я сделал с ним и с его шайкой, если бы мне
удалось розыскать их на патагонском взморье. Я поднялся на
82
мостик. Палуба накренилась еще больше влево, но гибель мне
пока еще не грозила. Я взглянул на ненужный теперь штур-
вал и покосившийся компас и вошел в рубку, которая была
до сих пор для меня запретным святилищем. Здесь я нашел
морские карты, различные чертежи корабля и в углу — какие-
то медные инструменты. Первым делом мне захотелось увидеть
землю, но она исчезла. Стоя спиной к восходящему солнцу,
я всматривался в бескрайний темносиний горизонт, но берего-
вой линии, которая так ясно вырисовывалась накануне вече-
ром, не было и следа. Чтобы расширить свой кругозор, я взо-
брался на крышу рубки. Но и отсюда мне не удалось увидеть
ни земли, ни чего-нибудь похожего на лодку. Я пытался уве-
рить себя, что не вижу берега, потому что его скрывает туман,
но линия горизонта была ясна и несомненна, как теорема
Эвклида! Повидимому, «Золотой лев» несло течением парал-
лельно берегу, и вчера мы проходили мимо какого-нибудь
мыса. Возможно, я сейчас не вижу земли, так как проплываю
мимо глубокого залива. Но земля появится. Непременно
появится.
Напрасно я успокаивал себя. Безбрежный горизонт действо-
вал на меня удручающе, и я почувствовал свою беспомощность.
Исчезла надежда добраться до берега на самодельном плоту.
Если бы даже мне и удалось смастерить плот,— все равно на
нем далеко не уплывешь.
Итак, я отказался от мысли гнаться за капитаном по горя-
чим следам. Он с самого начала понял то, что я только теперь
сообразил. Кто знает, сколько времени мне предстоит пробыть
на этом обломке корабля?
Я слегка приуныл, но тут же принялся исследовать ту часть
корабля, которая оставалась над водой. Вскоре я с радостью
убедился, что мне не угрожает голод: съестных припасов хва-
тит, пока продержится корабль, а корабль,— успокаивал я
себя,— еще продержится, если только не переменится погода,
а может быть, выдержит и бурю. В конце концов, как бы ни
была велика пробоина, она — в носовой части корпуса, пере-
борка же цела. В камбузе имелись дрова — значит, я смогу
готовить себе горячую пищу. Там же я нашел картофель,
остатки овощей, сушеный лук и мясо в консервах. Продолжая
свои исследования, я набрел на каюту капитана и вошел в нее.
Усевшись в его камышовое кресло, я стал обдумывать, как бы
мне с ним расквитаться.
Одно из двух: либо корабль прибьет к берегу, либо меня
подберет какое-нибудь судно. Впрочем, есть и другие, менее
приятные возможности. 'Пожалуй, лучше всего написать за-
писку о моем горестном положении и вложить ее в бутылку.
А еще лучше — написать несколько записок. Этим следует
заняться немедленно. Я стал обшаривать каюту, разыскивая
бумагу и чернила, и попутно заинтересовался вещами капи^
6*
83
тана, которые могли пролить свет на загадочные черты его
характера.
Видимо, он мало читал, но зато,— о ужас! — собрал целую
коллекцию порнографических фотокарточек; там были вырван-
ные страницы и номера французских и испанских иллюстри-
рованных журналов бульварного типа. Должно быть, он сма-
ковал эту литературу, так как некоторые места были подчерк-
нуты карандашом. В студенческие годы я бы возмутился этим,
но с тех пор успел узнать, какие страшные бури порой потря-
сают человеческий организм, и, обнаружив неугасимо тлею-
щую, мучительную похоть в своем враге, даже слегка смяг-
чился и уже не так проклинал его за.гнусное предательство.
Если этот человек полусумасшедший, то его помешательство во
всяком случае связано с нормальными потребностями здоро-
вого организма. Он возненавидел меня с первой минуты. За
что,-спрашивается, он меня так ненавидел? Разве я дал ему
какой-нибудь повод к такой ненависти? Может быть, я был
похож на кого-либо из его врагов или напоминал ему о ка-
ком-нибудь неприятном случае из его прошлого?
Я перестал ломать голову над этой загадкой. Его картин-
ную галерею я сунул обратно в ящик и начал писать: «Я, ни-
жеподписавшийся, Арнольд Блетсуорси...» — и добавил кое-
какие сведения о себе. Я сообщил дату своего отплытия из
Лондона и некоторые подробности моего плавания.
«Спустя несколько дней после отплытия из Рио наши ма-
шины пришли в негодность. Корабль перестал слушаться руля,
и в носовой его части образовалась течь».
Пока все шло гладко. Теперь — самое главное:
«Некоторая враждебность ко мне со стороны капитана по-
степенно перешла во взаимную ненависть...» — написал я и
стал припоминать характерные черты моих спутников и обстоя-
тельства их бегства. «Какие, однако, у меня грязные руки!» —
заметил я и невольно вздрогнул.
Я поплелся к себе в каюту, попутно заглядывая в каюты
моих недавних спутников. У механика оказался тайный склад
сигар, и я с удовольствием выкурил одну из них. В куче книг
самого причудливого содержания, в переплетах и без таковых,
я нашел аккуратно собранные объявления подписки на девя-
тое издание «Британской энциклопедии» на всевозможных
условиях. Против обозначения цен были набросаны какие-то
вычисления карандашом,— очевидно, механик рассчитывал
нагрузить всеми этими знаниями весь корабль и меня
в частности. Нора старшего помощника говорила о более
сухопутных вкусах. Тут была библия, несколько коробок бу-
мажных воротничков, портреты каких-то весьма непривлека-
тельных лиц в рамках и фотография, изображавшая какой-то
дом, на которой стояла дата и надпись: «Последний взнос
надлежит сделать...»
84
Рэдж унес свои карточки, и самым примечательным иму-
ществом в его каюте оказались забавные игрушки, купленные,
повидимому, в подарок какому-нибудь ребенку на родине. Мид-
боро, как видно, интересовали санитарные условия морских
портов. Мне вдруг пришло в голову: а ведь я занимаюсь шпи-
онством! Я направился к себе в каюту.
Там я вымыл руки, смыл грязь и кровь с лица, побрился
й переоделся. Теперь я почувствовал себя Арнольдом Блет-
суорси, а не грязной скомканной тряпкой, какой был в тече-
ние долгого ряда дней. -Меня даже радовало сознание, что я
фактически хозяин корабля и могу делать все, что мне взду-
мается. Я пошел в капитанскую каюту, чтобы докончить нача-
тую жалобу, и стал переписывать ее набело. Но вскоре мне
показалось, что каюта слишком пропахла капитаном; к тому
же я чувствовал, что устал, и меня стало клонить ко сну.
Оставив свою жалобу недописанной, я отправился искать ме-
ста для сна. После долгих дней ненастья мне хотелось
погреться на солнышке. Я перенес из каюты постельные при-
надлежности на верхнюю палубу, положил их возле трубы
и разлегся на солнце. Благодаря вращательному движению
корабля казалось, что солнце описывает на небе спираль, й я
решил, что на палубе будет теплей всего. Тень трубы медленно
перемещалась надо мной. Незаметно я заснул.
Проснулся я, весь дрожа, со странным ощущением, что ка-
питан находится где-то совсем близко, в лодке, и руководит
затоплением судна. Мне почудилось, что птицы больше не ле-
тают над кораблем, и он все больше удаляется от суши. Ве-
роятно, я бредил. Солнце клонилось к закату. Я встал и по-
тянулся. Эта часть палубы выше всего поднималась над водой,
и я решил принести еще несколько одеял и провести здесь
ночь.
Я пошел на мостик, затем спустился на палубу взглянуть,
не осел ли корабль. Помню, я долго стоял на носу. Наблюде-
ния привели меня к неутешительным выводам. Без сомнения,
корабль теперь сидел в воде глубже, чем раньше, и вдобавок
слегка покачивался. Вода заливала палубу, и если бы я захо-
тел добраться до бака, мне пришлось-бы шагать по колено
в воде. Или этого я раньше не замечал, или воды в самом деле
прибыло. Когда корабль накренялся, вода с чмоканьем вли-
валась в люки, затем медленно, словно нехотя, откатывалась
назад. Я спустился по трапу с палубы в трюм, там было темно
й жутко. Я заглянул в машинное отделение — там также по-
блескивала вода.
Уже начало смеркаться, когда я вспомнил о лампе Ветта
и о спичках. Когда высыпали звезды и похолодало, я при свете
лампы разыскал еще несколько одеял. Но лужи морской воды
на палубе тревожили меня, спал я плохо и долго лежал без
сна, глядя на звезды.
85
13
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОКИНУТОГО
Только ночью я начал сознавать всю безнадежность своего
положения.
Я уже давно понял, что отрезан от всего мира, но не в со-
стоянии был долго об этом думать. Мое сознание было опутано
сетью всевозможных привычек и ассоциаций, и я сразу не со-
образил, что теперь я один как перст. До сих пор я держал
себя, как человек, который хочет свести счеты с врагом, поку-
сившимся на его жизнь. Днем все выглядело по-другому, и я
еще хорохорился. Но теперь мне пришло в голову, что, по су-
ществу говоря, со мной уже покончено и мне никогда не све-
сти счетов с капитаном.
Есть ли у меня шансы вернуться в мир людей? С холод-
ным отчаянием в сердце я стал взвешивать эти возможности..
Я был жив, здоров, вполне сыт и физически чувствовал себя
куда лучше, чем раньше, но никогда раньше у меня не было
сознания такой полной отрешенности от всего мира. Я был так
далек от всей человеческой суеты, как если бы очутился вне
пределов нашей планеты. Я не знал в точности, где нахожусь,
во всяком случае где-то много южнее Баия-Бланка, послед-
него сколько-нибудь значительного аргентинского торгового
порта. Было чрезвычайно мало шансов, что какое-нибудь кабо-
тажное судно набредет на меня. К тому же меня отнесло слиш-
ком далеко на запад, и пароходы, огибающие мыс Горн, не
могли на меня наткнуться. Будет просто чудо, если меня под-
берут прежде, чем разразится новый шторм и доконает ко-
рабль. Наверняка доконает! Вовсе нет надобности, чтобы от-
крылась новая течь или треснула переборка, волны покрупней
и теперь свободно перекатываются через полубак — так глу-
боко осело судно.
На какой-то срок я даже позабыл о своем враге-капитане.
Я хорошо сознавал, что изолирован от остальных людей и что
эта изоляция может кончиться только моей гибелью. Однако
я как-то не вполне осознал этот факт. О своем положении
я размышлял так, словно готовился кому-то рассказать о нем.
Может быть, наш разум не в состоянии до конца осознать
одиночество? Может быть, как уверяют современные ученые,
процесс мышления всякий раз сопровождался неприметным
движением губ и голосовых связок, и говорить мы можем,
лишь обращаясь к кому-нибудь, хотя бы к воображаемому со-
беседнику. Без сомнения, можно размышлять и в полном одино-
честве, но не теряя при этом связи с окружающим миром.
Я начал разговаривать сам с собою, испытывая странную
раздвоенность,— ощущение, от которого я никак не мог отде-
латься: казалось, во мне перекликались два голоса.
86
— Что же такое жизнь? — рассуждал я вслух,— жизнь, ко-
торая начинается так таинственно в тепле и мраке и приходит
вот к такому концу? Мне кажется прямо невероятным, что
меня занесло сюда и я скоро утону. Но почему собственно это
невероятно? Какие у меня объективные основания считать это
невероятным? Быть может, мне только потому кажется это
невероятным, что до сих пор у меня были самые, превратные
представления о действительности. Но, по существу говоря,
мне не следовало ожидать от жизни ничего хорошего. В дет-
стве, чтобы мы были смирными, послушными, добрыми и до-
верчивыми, нам внушают всякие радужные иллюзии, которые
решительно ни на чем не основаны, а когда мы узнаем правду
жизни, мы оказываемся слишком далеко от людей, чтобы
разоблачить этот обман. Меня приучили думать, что если я
буду честен, трудолюбив и услужлив, на мою долю выпадет
достаточно счастья и я буду вполне доволен своей жизнью.
И вот тебе на! Похоже на то, что я оказался жертвой какой-то
скверной шутки! И сейчас, пока я невредим, сыт и меня греет
солнышко,— быть может, в последний раз,— я могу даже по-
смеяться над шуткой, которую надо мной сыграли!
Вот как я разглагольствовал, обращаясь к воображаемому
слушателю; но слушатель не отвечал.
— Шутка? — громко сказал я и задумался.
Если же это не шутка, то что же это такое наконец?
Ради чего вся эта музыка? Что, если над этим чудовищным
обманом даже некому смеяться?
Некоторое время я сидел бездумно, потом стали возникать
совсем новые мысли.
— Но ведь обман,— рассуждал я,— создан нами самими.
Обман кроется внутри нас. Природа никогда ничего не обе-
щает и не обманывает. Мы только неправильно ее понимаем.
Я слишком доверял людям,— это и привело меня на корабль,
который станет моим смертным ложем. Судьба всегда жесточе
и суровей, чем нам угодно признавать. Жизнь — хрупкое и не-
разумное дитя, которое не оправдывает возлагаемых на шего
ожиданий. Оно падает, разбивается. Какое же право оно имеет
сетовать, что никто не внемлет его воплям? Десять тысяч се-
мян пропадают даром, прежде чем хоть одно зернышко даст
росток; почему человек должен быть исключением из этого
всеобщего закона?
Вот до чего я дофилософствовался в ту ночь! Помнится,
я сидел на корточках, глубокомысленно размышляя о своем
сходстве с семенем растения. По всему лицу земли рассеяны
такие бесплодные семена, которые с ужасом узнают о своей
судьбе, когда уже слишком поздно жаловаться и взывать о
помощи. Жизнь, разбросавшая их наобум, идет своим чередом.
Или я забыл дальнейшие свои рассуждения, или кончилось
тем, что я улегся поудобнее и заснул.
87
14
ТЕРПЕЛИВЫЙ СПУТНИК
На следующее утро мои мысли приняли другое направле-
ние,—оставив философию, я стал снова думать о капитане.
Я проснулся в скверном настроении, которое отнюдь не улуч-
шилось после того, как мне пришлось порядком помучиться,
приготовляя себе кофе. Капитан, поклялся я, поплатится за
все это. После кофе я развил необычайную деятельность: на-
строчил жалобу в трех экземплярах, разыскал несколько ук-
сусных и винных бутылок с крепкими пробками — я не доверял
пивным пробкам.— и основательно их закупорил. Потом по-
шел к борту и швырнул бутылки, одну за другой, как можно
дальше от корабля. Все три бутылки нырнули, всплыли и стали
покачиваться на волнах, горлышком кверху, оставаясь на ме-
сте. Помнится, меня слегка огорчило, что мои посланцы не
отправились тотчас же спешно на север, туда, где царила ци-
вилизация. Я воображал, что будет именно так. Но бутылки
оставались на месте и все время дрейфовали с кораб-
лем, медленно к нему приближаясь, пока их не прибило к
борту.
Я был разочарован. Но мне уже совсем не понравилось,
когда я увидел темную блестящую спину, слегка изогнутую, с
плавником вдоль хребта, она на миг показалась из воды, едва
раздался всплеск третьей бутылки. Какая-то рыба — я не со-
мневался, что это акула! — явилась посмотреть, что за предмет
упал в море.
Я уже примирился с мыслью, что вскоре,— не сейчас еще,
но очень скоро,— погружусь в воду и утону, но я представлял
себе, что утону с достоинством. Меня ничуть не соблазняла
перспектива, очутившись в волнах, вступить в безнадежную
схватку с акулой! Это было бы просто омерзительно! На время
я даже перестал думать о том, что меня ждет неизбежная ги-
бель, и вновь начал надеяться, что в конце концов меня под-
берет какое-нибудь судно. Между тем я пристально и взволно-
ванно всматривался в воду, иЩа новых признаков присут-
ствия акулы.
Мне стало ясно, что к акулам у меня своего рода врожден-
ное отвращение. Совершенно так же, как у некоторых людей
к кошкам. Удостоверившись в соседстве акулы (или акул),
я уже не мог не думать о них. Должно быть, они долго зани-
мали мои мысли, ибо перед вечером я пожертвовал целым ко-
чаном капусты, чтобы проверить, не ошибся ли я. Мне почу-
дилась за кормой в воде какая-то длинная тень, настороженно
застывшая; и вот я взял кочан,— это была круглая красная
головка капусты, из тех, что употребляют для засола,— и изо
всех сил швырнул его в сторону тени. За капустой мне, без
88
сомнения, пришлось спуститься в камбуз, но этот момент вы-
пал у меня из памяти.
Когда раздался всплеск, тень зашевелилась, скрылась из
глаз и опять появилась, проделав спиральный поворот. Когда
хищник схватил капусту, я увидел блестящее белое брюхо.
Сомнений больше не было: только акула, хватая, поворачи-
вается на спину.
Результат моего опыта оказался весьма убедительным и да-
леко не отрадным.
15
ЗВЕЗДЫ-ЯЗЫЧНИЦЫ
Чтобы отвлечься от мысли об акулах, я начал снова думать
о капитане, о том, как я с ним расквитаюсь. Я представлял
себе самые разнообразные и весьма драматичные встречи то в
городе, то в зале суда, то на пустынном острове, то на негосте-
приимном берегу. «Наконец-то мы встретились!» Потом я бро-
сил об этом думать, так как сообразил, что такая встреча со-
вершенно неправдоподобна. Тут я заставил себя размышлять
на философские и религиозные темы, я долго сидел, ломая го-
лову над этими вопросами, и одергивал себя всякий раз, как
отвлекался от них, возвращаясь к тому непреложному факту,
что стены помещения, где велась эта дискуссия, были, можно
сказать, оклеены обоями с изображением акул и капитанов.
Я бился над вопросом, справедлива ли выпавшая мне судь-
ба. Я усомнился в справедливости не только своей личной уча-
сти, но и судеб всего рода человеческого. Отважные, грандиоз-
ные надежды, питавшие меня в юности, я объяснял обычной
юношеской самонадеянностью и ставил в связь со всей систе-
мой верований, при помощи которых людей убеждают поко-
ряться своей участи. В дни студенчества при мне кто-то упомя-
нул в споре про книгу Уинвуда Рида «Мартиролог человека»,
и я поспешил ее прочесть. Сейчас перед моим умственным
взором проходили одно за другим мрачные события истории
человечества. Я видел, как жрецы развертывают перед наро-
дами вероучение за вероучением, прикрывая ими, как завесой,
жестокую действительность; я видел, как эта торговля надеж-
дой то и дело срывается и вновь воскресает. Я думал о длин-
ной веренице моих предков, проходивших сквозь века, видел,
как они стремятся вперед, к этому странному финалу, словно
их притягивает поджидающая свою добычу ненасытная пу-
чина,— все идут и идут под палящим солнцем и холодными
звездами, свершающими свой извечный круговорот. Этот образ
показался мне символичным,— такова участь всего рода чело-
89
веческого, думалось мне. Ну, что ж, по крайней мере я умру
без иллюзий!
Я пытался припомнить верования моего детства: любопытно,
что от них сохранилось в моем сознании? Но живучей всего
оказалась во мне бессознательная уверенность юности. Един-
ственная всеобщая религия человечества, даже всего живот-
ного мира, сводится к простейшему догмату: «Все обстоит бла-
гополучно», и мы верим в это до тех пор, пока какой-нибудь
удар или ряд ударов не нарушит нашего благополучия. «Что
же тогда остается?» — спрашивал я себя.
Что касается человеческого рода,— он может и вовсе исчез-
нуть с лица земли. Жизнь всегда может начаться снова. Рож-
денье и смерть — уток и основа жизненного процесса; жизнь
похожа на плутоватого купца, который, чтобы продолжать свои
аферы, уничтожает старые счета. Ия — просто сброшенное со
счетов обязательство, обманутый кредитор, отвергнутый долг.
Я подумал о феерической судьбе христианства,— этой по-
следней для людей Запада завесы над действительностью,—
столь щедрого на обещания, столь юного по сравнению с мас-
штабами человеческой истории и так безраздельно властвовав-
шего над миром в дни моего ученичества; я постарался опре-
делить, имеет ли оно ценность как утешительное вероучение.
Да, оно принесло утешение. Да, оно вселяло в душу твердую
уверенность. В миллионах душ оно воспитало эту уверенность.
Да, но устояло ли оно среди жестоких болезней и трагедий,
истребляющих людей мириадами и оставляющих в живых
лишь немногих счастливцев, дабы они могли поведать о катаг
строфе? Оставшийся в живых, естественно, будет освещать
трагедию с положительной стороны. Ведь его милосердно по-
щадили! Зерна же, упавшие на бесплодную почву, вообще ни-
чего не могут рассказать. Действительно ли вера в эпоху своего
расцвета придавала людям мужество? В Оксфорде мне при-
шлось слышать, как один смелый безбожник назвал христиан-
ство обезболивающим средством. Но можно ли быть уверен-
ным, что тот, кто умирает, потерпев поражение, не испытывает
страданий? И в самом ли деле христианство такая уж утеши-
тельная религия? А что сказать о других вероучениях, более
гордых и более героических, которые существовали до христи-
анства? А стоицизм? Я перетряхивал весь свой скудный запас
познаний и, блуждая в туманном лабиринте учения моего дя-
дюшки, старался отыскать надежное мерило ценностей, как
вдруг мне блеснула странная идея и мысли мои приняли новое
течение. Она вспыхнула у меня в мозгу как некое откровение
и до сих пор свежа в моем сознании. Вероятно, это самое ори-
гинальное из наблюдений, сделанных мною в жизни.
Я смотрел на столь разочаровавшее меня созвездие Южного
Креста, которое медленно перемещалось в поле моего зрения
благодаря вращению корабля. «Могли бы найти крест по-
90
лучше»,—- проворчал я. И тут меня осенило изумительное от*
крытие. Я уселся и обвел глазами необъятный купол, усеян-
ный звездами. Южный Крест! Из всех небесных красот на долю
христианства досталось лишь одно жалкое созвездие! Хри-
стианство так еще молодо, что все звезды подвластны греческим
и персидским богам! Оно еще не завоевало ни неба, ни дней
недели, ни месяцев года! Там, на недосягаемой высоте, безмя-
тежно царят древние боги. Разве не удивительно, что хри-
стианству не удалось завоевать неба! А между тем на небо-
своде при желании можно увидеть и капли Христовой крови,
и гвозди, его пронзившие. Плеяды — этот священный звезд-
ный поток — напомнили мне терновый венец, а Орион стал как
бы образом сына человеческого, грядущего в славе своей. Пла-
неты— его блистательные ученики и святые, а Полярная
звезда — само божественное слово, вокруг которого вращается
вселенная. Я сидел и дивился: как это христиане до сих пор не
удосужились перекрестить небесные тела?
Меня прямо увлекла эта мысль, я даже позабыл, что давно
потерял веру, и стал мысленно перекрещивать созвездия, обра-
щая их в христианство, и это заняло у меня добрую половину
ночи.
Я так увлекся, что даже не заметил, как звезды начали
блекнуть одна за другою в лучах занимавшегося дня. Они по-
гасли не все сразу. Медленно меркли, бледнели. Желая прове-
рить одно свое наблюдение, я бросил взгляд на нужную мне
звезду, но она уже исчезла. У меня было такое чувство, словно
я протянул руку, чтобы опереться на перила лестницы, а их не
оказалось на месте. Тут я прекратил свои благочестивые за-
нятия.
«Вот так,— подумалось мне,— постепенно слабеет и исче-
зает вера в христианские догматы. Вместе с моим поколением.
Орион уж больше никогда не будет сыном человеческим, при-
ходящим в славе своей, а Юпитер и Сатурн будут царить там
в вышине, даже когда навеки будет позабыта христианская
троица, временно владевшая умами».
Вот каким размышлениям предавался я на потерпевшем
аварию судне, отчаявшийся и всеми покинутый в пучине юж-
ного океана.
16
АКУЛЫ И КОШМАРЫ
Дни проходили за днями в безысходном одиночестве, и мне
все труднее становилось бороться с мрачными предчувствиями
и жуткими сновидениями. Сны были еще страшней мыслей,
91
которые приходили ко мне наяву. Кончилось тем, что я стал
отгонять сон, так боялся мучительных видений, одолевавших
меня, едва я смыкал глаза в дремоте. Меня все больше угне-
тало ощущение, что корабль безостановочно погружается
в пучину. Вначале мне казалось, что он потонет еще не скоро;
теперь я чувствовал, что он медленно тонет. Мне часто сни-
лось, что я нахожусь в трюме корабля, темном и гулком, и вода,
просачиваясь сквозь переборки, жалобно всхлипывала, и когда
я пробуждался, мне не верилось, что это был сон. По десять
раз в день я отмечал уровень воды на палубе. Забывал, когда
именно я сделал последнюю пометку, силился вспомнить, кото-
рая из меток была сделана раньше, колеблясь между на-
деждой и отчаянием.
Я смертельно боялся, как бы корабль не пошел ко дну во
время моего сна. Едва я задремывал, как мне начинало мере-
щиться, что корабль уходит в глубину, я вскакивал в ужасе и
сидел, не в силах уснуть.
Один сон навел меня на мысль, как избежать роковой
встречи с акулой. До сих пор я помню его ярче, чем иные
реальные свои переживания.
Мне снилось, что я веду длительный спор с акулой, и акула
по какой-то непостижимой прихоти сновидения оказывалась не
акулой, а капитаном. Я видел себя сидящим по пояс в воде, но
это, без сомнения, было вызвано тем, что во время сна с меня
сползали одеяла и ноги мои начинали зябнуть. Акула появи-
лась в огромном белом жилете с красным кармашком для
часов и пригласила меня на обед. «Но кто из нас будет
хозяином,— спросил я,— а кто гостем?» Тут акула, отбросив
все церемонии, выложила мне всю правду: «Я съем тебя еще
до того, как ты утонешь. У меня глотка так уж устроена, что
выбраться из нее никак невозможно». Я заметил, что, верно,
она не знакома с моим дядюшкой, преподобным Рупертом
Блетсуорси, настоятелем Гарроу-Хоуарда, а не то ей было бы
известно, что даже самые тяжелые обязанности можно выпол-
нять учтиво и с приятностью. «Ни черта не понимаешь,— бурк-
нула акула,— и еще смеешь меня осуждать! Грубоватость
прекрасно уживается с сердечной добротой. Вот увидишь, сов-
сем не плохо получится. Начну тебя глотать, ты и забудешь
о том, что тонешь, а как вспомнишь, что идешь ко дну, забу-
дешь о том, что я тебя глотаю».
Я возразил акуле, что меня совершенно не занимают эти
технические подробности. Без сомнения, при данной ситуации
у нее большие преимущества передо мной; она чересчур на-
стойчиво заявляет о своих притязаниях, и я нахожу, что это
прямо-таки невежливо с ее стороны. Дядюшка давно внушил
мне Ту истину, что кушать следует благопристойно и можно
мягко и тактично руководить своими подчиненными.
Но эту акулу не так-то легко было смутить. «Такие тон-
92
кости,— возразила она,— не для нас, морских жителей, ведь
море, по существу говоря, колыбель жизни! Кто не жил в море,
тот не знает, что такое жизнь! Не суше учить море, как ему
жить! Правда, известное число обитателей моря вылезли на
сушу, но это,— утверждала акула,— было лишь уходом от
настоящей жизни. Иной раз их можно, не без сожаления, уви-
деть на берегу. Они ползают по суше. Над сушей и воздух
совсем не тот, он совсем не бодрит. Все эти создания ничуть
не лучше крабов, мокриц и прочей дряни, что прячется под
камнями. А в море жизнь смелая, свободная, открытая — на-
стоящая жизнь! И уж я знаю ей цену! Вот ты* например, си-
дишь на корточках на своей палубе и никак не можешь рас-
статься со своими дурацкими иллюзиями, да все тужишь
о своей жалкой, ползучей, сухопутной жизни, а у меня,
к счастью, не имеется ни легких, ни иллюзий! Куда денутся все
надежды и страхи, все желания человеческого сердца, все
мечты о жертве и славе, когда ты две минутки пробудешь
в недрах моря, в этой великой Реальности? А ведь я реально
существую! Спустись-ка в море на минутку-другую,— уговари-
вала меня акула,— и познай, что такое Реальность!» — «Под-
нимись сюда,— возражал я,— и у меня на ужин будет жареная
акула!» — «Брось свои шуточки!» — лязгнув зубами, ответила
акула. Эта любительница покушать пришла в ярость, услыхав,
что ее тоже можно съесть.
Тут меня и осенило вдохновение, какое приходит только
во сие.
«Ничего подобного! — отвечал я.— Ты забыла самое глав-
ное. Жалкий ты мешок с потрохами, только и умеешь, что
лязгать зубами, тебе никогда не построить судно и у тебя са-
мое смутное представление о каютах: как только эта старая
калоша начнет нырять, я пойду в свою каюту и запрусь в ней!
Ну, что скажешь? Ускользну у тебя из-под носа да к тому же
сохраню свое человеческое достоинство! А ты будешь тыкаться
носом в доски и вертеться во все стороны, ища обеда, который
улизнул от тебя! Я спущусь в бездонную глубину, куда тебе,
презренная тварь, так же невозможно нырнуть, как и взле-
теть в воздух!» — «О, что за подлость!—завопила акула.—
Тебе-то какая прибыль? Сколько добра даром пропадет!»
«Если не любишь акул...» — начал я.
Тут она окончательно вышла из себя и, перевернувшись
в воздухе, бросилась на меня,— однажды так прыгнула на моих
глазах другая акула на палубе.
Я устремился на нее, и между нами завязалась отчаянная
борьба; проснувшись, я обнаружил, что вцепился мертвой
хваткой в собственный матрац!
После этого я решил, что впредь буду спать только у себя
в каюте и запрусь там, как только корабль начнет погружаться
в море.
93
Очнувшись от сна, я захохотал, радуясь, что оставил акулу
в дураках.
Это один из моих самых связных и приятных снов, если
только сны бывают приятными.
Но снились мне и другие сны, которые инстинкт самосохра-
нения заставил меня выбросить из памяти. От этих страшных
снов я внезапно переходил к кошмарной действительности. Но
все мои переживания и во сне и наяву окутывала пелена заб-
вения, и все последующие мои воспоминания носят недостовер-
ный, неотчетливый характер.
Помню, как я бегал ночью по кораблю с топориком в руке,
гоняясь за исполинским осьминогом с лицом капитана, кото-
рый медленно и неуклонно опутывал своими невидимыми щу-
пальцами корабль, все крепче его сжимал, готовясь увлечь
в пучину. Когда я наскочил на такое щупальце и изрубил его
в куски, оно оказалось просто обрывком троса. По ночам мне
мерещилось, что пароходная труба — совсем не трубача капи-
тан, который, обернувшись трубой, остался на корабле, чтобы
потопить его. Я испытывал страх и безумную ненависть к трубе
и не раз бешено рубил ее своим топориком, надеясь сбросить
за борт и облегчить корабль, который уже набрал много воды
и сильно накренился.
17
ОСТРОВ РЭМ ПОЛЬ ПОЖАЛОВАЛ НА БОРТ
Я с трудом припоминаю, как появились на пароходе дикари.
Возможно, что это случилось, когда я был без сознания.
Я лежал на палубе и вдруг увидел, что надо мной стоят
двое дикарей, внимательно разглядывая меня. Они были темно-
коричневого цвета и совершенно голые. У них были необычайно
свирепые лица, покрытые отвратительной татуировкой, и
черные волосы грубо зачесаны на затылок. Опираясь на
длинные копья, они глядели на меня ничего не выражающим
взглядом. Оба медленно жевали что-то, тяжело двигая челю-
стями.
Несколько секунд я смотрел на них, потом стал протирать
глаза, думая, что это остатки кошмара, который вот-вот рас-
сеется. Убедившись, что это живые люди, я схватил зазубрен-
ный топорик, лежавший у меня под рукой, и вскочил на ноги,
готовый защищаться.
Но один из дикарей ухватил меня за руку; вдвоем они
одолели меня без особого труда.
94
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
повествующая о том, как мистер Блетсуорси очутился среди
дикарей острова Рэмполь, о его первых впечатлениях, о нравах
и обычаях этих дикарей; о том, как он наблюдал мегатерия*
исполинского земляного ленивца, сохранившегося на этом ост-
рове; что ему рассказывали о мегатерии; что он узнал о ре-
лигии островитян, об их браках и об их законах; как он
беседовал с ними о цивилизации и как на острове Рэмполь
разразилась война
1
ЗЛОВЕЩИЙ ПЛЕН
Я хочу поведать вам о моих приключениях на острове Рэм-
поль в той последовательности, в какой события теперь развер-
тываются в моем сознании, по мере того как я их припоминаю.
Но считаю долгом сказать, что ввиду помрачения моего созна-
ния местами будут встречаться неясности и нелепица. Воз-
можно даже, что я кое-где перепутал порядок событий. Спешу
предупредить об этом читателя. Когда дикари схватили меня,
я находился в бреду и некоторое время был тяжело душевно
болен. На взгляд же дикарей я был просто безумен.
На мое счастье, у этих дикарей — отъявленных людоедов,
беспощадно и настойчиво охотящихся за своими ближними,—
сумасшедшие почитаются неприкосновенными — «табу», и они
думают, что мясо их ядовито и отведавший его умрет. Как и
всем невеждам на всем земном шаре, помешанные внушают им
благоговейный ужас. Безумие они считают особым даром,
ниспосланным их «Великой богиней», благодаря чему эти лю-
доеды дали мне пищу и кров и предоставили даже известную
свободу, которой я был бы лишен в более культурном челове-.
ческом обществе.
Так как я вынужден излагать свои воспоминания отры-
вочно — подобно тому, как раскрываешь книгу то в одном, то
в другом месте,— читатель, пожалуй, даже не поверит моему
рассказу. Он предпочел бы,— предпочел бы, конечно, и я! —
чтобы повествование развертывалось непрерывно и последова-
тельно со всеми подробностями, начиная с утра понедельника
до вечера субботы. Без сомнения, он многое пропустил бы
в таком исчерпывающем отчете, но его бы порадовало, что
такое изложение существует. Как бы там ни было, мне прихо-
дится кое-что опускать, перескакивая через некоторые мо-
менты. Я не вполне уверен, что все происходило именно так,
как я рассказываю. Даже в’первые дни моего плена у меня
возникали кое-какие сомнения.
95
Я глубоко убежден, что два дикаря, с которыми я сцепился
в схватке, действительно существовали, помню, как сейчас,
омерзительный запах жира, которым было смазано их на диво
крепкое тело. Еще живее я припоминаю, как страшно ударился
ребрами о дно лодки, когда меня туда швырнули. До сих пор
еще у меня побаливает спина от ушиба. Я упал на груду
только что выловленной рыбы, которая трепыхалась и прыгала
вокруг меня, и я весь облип серебристыми чешуйками. С бортов
свешивались сети, и я отчетливо помню, как дикари ходили
прямо по мне, возвращаясь в пирогу с добром, награбленным
на борту корабля. Я смотрел снизу, и мне представлялся как
бы путаный узор из ног, колен, пяток и коричневых тел. Эти
люди были невероятно грязны. Помню также, как они гребли,
направляясь к берегу, слышу ритмичный плеск буровато-чер-
ных весел.
Берег был высокий, и скалы показались мне слегка про-
зрачными. Не знаю, что это была за горная порода, впослед-
ствии я обшарил ряд музеев, пытаясь узнать, как она назы-
вается, но ничего подобного ей не нашел. Она напоминала
светлое голубовато-пурпурное стекло с толстыми прослойками
красноватого оттенка, переходившего в розовый. И в этой по-
роде извивались жилки, белые и прозрачные, как алебастр.
Солнечные лучи проникали в этот минерал, и он светился из-
нутри, как драгоценные камни. Связанный по рукам и по
ногам и охваченный ужасом, я все же был поражен красотой
этих скал.
Мы подплыли к берегу и свернули в какой-то пролив, изви-
вавшийся среди скал. В какой-нибудь сотне ярдов от входа
возвышался, как бы охраняя его, высокий утес, напоминавший
женщину с поднятыми руками — странная игра природы; каза-
лось, одна ее рука сжимала дубину; дико вытаращенные глаза
были обведены белыми кругами, а впадина рта по краям
испещрена пятнами красной и белой краски,— создавалось
впечатление зубов и сочащейся крови. В ярком утреннем свете
эта фигура производила жуткое, отталкивающее впечатление.
Впоследствии я узнал, что это «Великая богиня», которой по-
клонялись на острове. Пирога остановилась, едва мы поровня-
лись с фигурой, и дикари подняли кверху весла, приветствуя
богиню. Передний гребец достал со дна и протянул богине рыбу
огромных размеров. Другой дикарь наклонился ко мне, при-
поднял мою голову за волосы, словно представляя меня боже-
ству, затем швырнул меня обратно на кучу рыбы.
Совершив этот обряд, они вновь взялись за весла, и вскоре
лодка стала приближаться к отлогому берегу, над которым на-
висали крутые скалы. На взморье уже собралась толпа. Наш
рулевой пронзительно свистнул, ц ему ответили вдали голоса.
Все это, говорю я, врезалось мне в память, как и клетка из
покрытых шипами прутьев, в которую меня втолкнули. Вместе
96
с тем эти воспоминания подернуты какою-то дымкой, все ка-
жется не вполне правдоподобным. В то время я был ошелом-
лен и не очень-то верил всему виденному. Несмотря на
изысканность оксфордской программы, я все же обладал ксе-
какими познаниями по географии и помнил, что патагонцы от-
личаются огромным ростом и желтым цветом кожи и что они
кочуют и живут в шатрах из звериных шкур, а между тем я
приближался к довольно большому селению. Никогда я не
слыхал о том, чтобы на этом побережье были прозрачные
скалы или такая богатая растительность. Начитавшись в дет-
стве приключенческих романов, я воображал, что знаю реши-
тельно все обо всех народах, которых еще не коснулась циви-
лизация. Я думал, что нахожусь на южноамериканском мате-
рике, но впоследствии узнал, что очутился на острове, и остров
этот был так необычен, что не укладывался в рамки привычных
понятий и географических познаний. Думаю, и читателю не
приходилось о нем слышать.
Я могу лишь просто и правдиво изложить все вспоминаю-
щиеся мне события. Все происходившее было вполне реально
и в то же время представлялось неправдоподобным. Весь из-
битый, связанный по рукам и ногам, в провонявшей рыбою
пироге, под надзором рулевого, противно жующего губами,
я созерцал игру мускулов на спине сидевших передо мной греб-
цов. Я не мог считать все это сном, но и не мог поверить, что
это тот самый мир, из которого я сюда прибыл, мир, центром
которого является Лондон. Неужели какой-то внезапный чудес-
ный случай перенес меня и обломки корабля в другой век или
на другую планету? Или этот извилистый пролив своего
рода Стикс, а эти гребцы перевозят души людей, закончивших
земное плавание, к берегам иного мира?
Разве кто-нибудь из живущих знает, что такое смерть?
Или же мне только снится, что я умер?..
2
СВЯЩЕННЫЙ БЕЗУМЕЦ
Если я уже умер, то можно было думать, что в скором вре-
мени мне придется снова умереть. Когда челнок причалил,
я очутился на берегу перед толпой, которая вела себя весьма
угрожающе. Я не решаюсь описать, как обстоятельно меня
осматривали. Я старался держать себя с достоинством, но ди-
кари, охваченные любопытством, не обращали внимания ва
мое поведение.
Один из них, повидимому, был своего рода вождем, Через :
7 Г. Уэллс, т. 2
97
некоторое время он разогнал омерзительно пахнувшую толпу,
надавав тумаков и затрещин тем, которые сразу его не послу-
шались. Он был сморщенный, коренастый и горбатый, на го-
лове у него красовалось что-то вроде короны из свернутого
высохшего листа. Голос у него был громкий, но монотонный,
руки необычайно длинные, сильные и волосатые, тяжелая от-
вислая челюсть и огромный рот. Невидимому, он журил дика-
рей за их назойливость. По его приказу меня бросили в клетку.
Я пытался знаками объясниться с ним, но он так же мало обра-
щал на это внимания, как мясник на блеяние овцы на бойне.
Клетка представляла собой открытый сверху загон, обне-
сенный частоколом из толстого тростника с такими огромными
шипами, каких я в жизни не видел, прутья были переплетены
стеблями и связаны крепкими волокнистыми лианами. Она за-
нимала площадь примерно в десять квадратных ярдов. Един-
ственной утварью там была скамейка из того же твердого тем-
нокоричневого дерева, из какого была сделана пирога. На
гладко утоптанном земляном полу виднелись следы побывав-
ших здесь до меня пленников. На земле, возле скамьи, стоял
тыквенный сосуд с водой и лежали какие-то мучнистые корни;
здесь меня оставили под охраной дикаря с длинным копьем.
Однако толпа, в большинстве женщины и дети, все еще не
расходилась и продолжала разглядывать меня сквозь щели
клетки. Сперва они о чем-то переговаривались, подталкивая
друг друга локтями, и малейшее мое движение вызывало взрыв
хохота и визга. Но мало-помалу они успокоились и молча гла-
зели на меня сквозь прутья решетки. Некоторые ушли, но оста-
валось еще немало народу: моя тюрьма была окружена коль-
цом вытаращенных глаз и разинутых ртов. Куда бы я ни по-
вертывался, я встречал все тот же неподвижно устремленный
взгляд блестящих глаз. Спасаясь от этих взглядов, я присел на
скамеечку и закрыл лицо руками.
Ночь быстро спустилась в этом ужасном ущелье. Но и с на-
ступлением темноты зеваки не покинули меня. Наконец, один
за другим, они стали расходиться,— топот ног, шорохи и пре-
рывистый шепот постепенно затихали в отдалении.
«Боже мой,— подумалось мне,— неужели я останусь в жи-
вых?»
И тут я расстался еще с одной своей иллюзией. «Разве я
могу остаться жить? — спросил я себя.— Но что за вздор я
говорю! Разве это зависит от нас? Мы говорим так лишь для
того, чтобы убедить себя, что живем по собственной воле. На
деле же какая-то сила переносит нас из «сегодня» в «завтра»,
не заботясь о том, хотим ли мы продолжать жить, или -нет. Так
будет и со мной. И что будет завтра?»
Я пытался было размышлять на возвышенные, значитель-
ные темы, ибо это, без сомнения, была моя последняя ночь.
Но я слишком устал, чтобы размышлять о серьезных пред-
98
метах. Я думал только об этих блестящих глазах, о сверкавшей
в них злобе. Наконец, я уснул...
До этого момента я помню все очень отчетливо.
Затем вновь туман заволакивает мое сознание.
Возможно, что я разговаривал сам с собою или пел. Может
быть, я проделывал что-нибудь еще более странное. Но бес-
сознательно я совершил как раз то, что было для меня лучше
всего.
Напрягая память, я вижу перед собою большую тускло
освещенную пещеру, где высится деревянная статуя «Великой
богини». Какие-то лысые старики обращаются ко, мне с непо-
нятными вопросами, проделывая странные жесты. Сам не зная
почему, я отвечаю какими-то жестами. Затем я вижу, что лежу
обнаженный, связанный по рука^м и ’ногам, на солнцепеке,
а женщины обдают меня кипятком и скребут изо всех сил.
Потом вспоминаю какой-то чудовищный обряд. Передо мной
стоят два сосуда, в одном молоко из кокосовых орехов, в дру-
гом— кровь. Чрезвычайно важно, какой из двух сосудов я вы-
беру. Я сижу наподобие погруженного в созерцание Будды.
Я выбираю кровь, толпа ликует, лица принимают дружелюб-
ное выражение, и меня заставляют выпить ее. Растительное
молоко с презрением выливают на землю. Всей этой церемо-
нией руководит старик с цилиндрическим головным убором.
И вот я расхаживаю на свободе по селению. Дети смотрят
на меня с уважением. Прошло уже немало времени, кое-что
уже позабыто. Я понимаю почти все, что говорят эти люди, и
могу объясняться с ними. На плечах у меня шкура молодого
ленивца с грубым мехом, и его черепная крышка покрывает
мне голову, как шлем. Когтистые лапы его ниспадают мне на
грудь.
Исполинский земляной ленивец до сих пор обитает на
острове Рэмполь, и я уже видел небольшое стадо этих стран-
ных чудовищ, пасущихся высоко в горах. Этот зверь бросает
своих детенышей на произвол судьбы, они погибают, и дикари
сдирают с них шкуру.
Я хожу, опираясь на посох из темного твердого дерева, на
нем вырезаны непристойные эмблемы, и он украшен перла-
мутром и зубами акулы. Мне приходит в голову, что в таком
наряде я произвел бы сенсацию среди своих оксфордских дру-
зей, и вдруг меня осеняет мысль, что ведь я был Арнольдом
Блетсуорси. Что же такое я теперь? Кем я стал? Я Священный
Безумец этого племени. Я обладаю даром прорицания. Могу
предсказывать будущее. Когда я здоров и у меня упитанный
вид, процветает и все племя, когда же я заболеваю, кончается
и его благополучие.
По соседству с хижинами самых знатных людей селения мне
построили хижину и украсили ее человеческими черепами и
берцовыми костями мегатериев. Не спрашивая, что это такое,
7*
99
я с удовольствием ем нежное, похожее на свинину мясо, кото-
рое мне подносят. Но вообще, я — вегетарианец. Сейчас все
племя в большом волнении из-за того, что я не хочу взять себе
жены. Но я не хочу брать жены, пока она не вымоется, а на
их языке нет слова для понятия «мыться». К тому же эти люди
не в состоянии уловить мою мысль или понять ее по моим
жестам. Одну из невест посадили в лодку и утопили в море,
воображая, что выполняют мое желание.
Итак, я вновь осознал себя, воскресла былая моя личность,
и все впечатления, знания и представления, приобретенные
среди дикарей, влились в поток основного моего сознания.
Все это возникло передо мною в один миг и словно из
какой-то пустоты. Я все припомнил ясно и отчетливо, расхажи-
вая по острову под тусклосиним небом, смутно напоминав-
шим мне небо моей родины. Оксфорд мне вспомнился как ми-
лый, чистенький и изящный уголок, где я мирно проводил пол-
ную надежд юность. Теперь он казался мне необычайно при-
влекательным. Я видел величественные ворота колледжа
Летмира; однажды я долго любовался ими при свете луны,
возвращаясь домой после горячего спора с приятелями в кури-
тельной комнате; мы толковали о том, что нам предстоит со-
вершить великие дела, о творческом духе Оксфорда,—
в отличие от черствого материализма, господствующего в Кем-
бридже,— о Родсе, о «бремени белого человека», о главных
чертах английского характера и тому подобных возвышенных
предметах.
Казалось, тот далекий Блетсуорси взывал к этому нелепому
существу, одетому в шкуру и со звериным черепом на голове,
которое расхаживает, опираясь на посох с непристойными изо-
бражениями, жует «всеочищающий орех» и отплевывается
согласно требованиям ритуала.
Что же со мной произошло? Что я тут делаю?
Передо мной тянулась грязная улица, где разгуливали
куры. Хижины были разбросаны здесь и там по обеим сторо-
нам широкой дороги, и перед каждой дворик, обнесенный ко-
лючей изгородью. На улице, у входа в свое жилище, стояла
желтокожая нагая женщина с глиняным кувшином на голове,
ее отвислая грудь говорила о том, что она выкормила не
одного ребенка. Она принесла воду из «верхнего» ключа и
остановилась поглазеть на меня. Справа от меня, прямо передо
мной и слева, за порожистой рекой, громоздились утесы. Эти
люди, жившие в стране щедрого и яркого солнца, как это ни
странно, предпочитали гнездиться в ущелье, куда редко про-
никал ветер и в душном воздухе которого застаивались запахи.
На скалистых террасах справа виднелись хижины и торчало
несколько чахлых карликовых деревьев. Тропинка извивалась
по скалам, поднимаясь к озаренным солнцем привольным, ши-
роким равнинам нагорья.
100
Я брел тяжелыми шагами. Я подцепил какую-то хроничв'
скую малярию, и движения мои утратили былую легкость и
гибкость. Среди этих людей свирепствовали всякого рода за-
разные заболевания. Большинство страдало катаром, лихорад-
кой, расстройством кровообращения, у многих я видел лишаи,
коросту, паразитов и т. п. По природе это был здоровый, креп-
кий народ, но от крайней нечистоплотности у них развились
всевозможные заразные болезни. В это утро я чувствовал себя
человеком пожилых лет. Череп мегатерия больно сжимал мне
голову, жесткая, плохо выделанная, издававшая запах тления
шкура тяжело лежала на плечах, как-то придавливая меня
к земле, и я весь обливался потом. Зачем я терплю эту га-
дость? Почему я так низко пал?
Я остановился, помахал рукой женщине, как бы благослов-
ляя ее, и осмотрелся по сторонам. Затем стал разглядывать
свои пальцы. Руки были грязные, и мне казалось, что они
стали больше и желтее, чем в оксфордские дни. Теперь они
мало чем отличались от рук любого дикаря.
Я пощупал своей желтой рукой грязный череп, нахлобучен-
ный мне на голову несколько недель или месяцев тому назад
(а может быть, и несколько лет). Неужели я и впрямь пре-
вратился в дикаря?
Я направлялся в одну из «верхних» хижин разделить тра-
пезу с прорицателем Читом и военачальником Ардамом, у ко-
торого в нос был вставлен острый обломок раковины, а также
с тремя другими старцами. Бог знает чем они там меня накор-
мят, но в это утро мне не хотелось есть. До чего я дошел и как
я мог так низко пасть?
Напрягая память, я вспомнил первую ночь* проведенную
в клетке.
Страх!
Мною овладел страх смерти, и когда я увидел, что меня не
собираются умерщвлять, я покорно принял все, что моим вла-
дыкам угодно было вложить мне в душу. Я понял, что от меня
чего-то ждут. И как охотно я пошел навстречу их ожиданиям!
В последний момент испытания я отвернулся от молока и вы-
брал чашу с кровью. Благодаря счастливой догадке я остался
в живых, но сердце, мозг и желудок восставали против этого.
И вот я расхаживаю в нелепом одеянии, расточая приветствия,
каким научил меня Чит. Я не смею сбросить этот дурно очи-
щенный череп или отшвырнуть прочь эту смрадную шкуру.
Я не смею изломать и бросить свой гнусный посох в какое-ни-
будь очистительное пламя. Не смею! Не смею! Я поднял голову
и над темными зубцами утесов, поднимавшихся в лучезарную
высь, увидел глубокую синеву.
— О боже, выведи меня из этой щели! — воскликнул я,
правда, не слишком громко, из опасения, что дикари начнут
сбегаться на мой голос.
101
Из пронизанной солнцем лазури не раздалось никакого от-
вета. Но ответ холодно и ясно прозвучал у меня в сердце:
«Сбрось этот гнет! Дерзай!»
Я не решался. Дрожал от страха. Вздыхал.
«Я болен»,— сказал я себе и нехотя продолжал свой путь,
направляясь к трапезной, где меня ожидали Чит, Ардам и трое
старцев.
«Кто знает,— рассуждал я,— быть может, я недаром воз-
несен на такую высоту и пользуюсь таким авторитетом? Мо-
жет быть, мне не следует скоропалительно отказываться от
всего этого? Мы, Блетсуорси, считаем, что культуру следует
насаждать гуманным путем, осторожно и тактично. Если я по-
беседую с этими людьми, подействую на их воображение, рас-
ширю их горизонт,— быть может, мне удастся в значительной
мере отучить их от жестокости и грязи. Если же, после столь-
ких уступок, я брошу им вызов, ведь это быстро кончится жерт-
венным котлом!
Но все же необходимо что-то предпринять. Мне стало
стыдно, что до сих пор я был так малодушно пассивен и пре-
бывал в бездействии.
Но вот из-за карликовых деревьев до меня донеслась дробь
барабана, призывающего к обеду. Барабан обтянут человече-
ской кожей, и чьи-то искусные руки извлекают из него звукй,
напоминающие хрюканье, голодного мегатерия. Я ускорил
шаги, ибо опаздывать к обеду не полагалось.
3
ЗЛОЕ ПЛЕМЯ
От природы я не любознателен и не отличаюсь пытли-
востью. Если что-нибудь в жизни мне нравится, я готов это
принять без всяких изменений, если же я встречаюсь с не-
приятным явлением, то опять-таки не склонен это переделывать.
У меня нет данных стать удачливым путешественником или
ученым исследователем. Моим наблюдениям недостает точно-
сти. Так, например, я до сего времени не знаю, к какому типу
принадлежали жители острова Рэмполь — долихоцефалов или
брахицефалов; насколько мне помнится, голова у них была
почти круглая. Равным образом у меня лишь смутное представ-
ление о тотемизме, анимизме, табу, и я плохо разбираюсь в их
обычаях. Не знаю такжё, можно ли назвать язык, говорить на
котором я научился, аглютинирующим или аллеломорфным
или обозначить его еще каким-нибудь термином. Стоит мне
заговорить на этом языке с учеными, как они начинают сер-
102
диться. Люди, среди которых я очутился, помнится, были гряз-
ные, жадные, ленивые, вороватые, похотливые, бесчестные,
трусливые, глупые, раздражительные, упрямые и жестокие,
и кожа у них была яркожелтого оттенка. Не знаю, удовлетво-
рится ли этнолог простым перечислением их отличительных
признаков, но точнее я не могу их описать.
Племени этому было свойственно необычайное лицемерие и
лживость, и, подчиняясь инстинкту самосохранения, я с каким-
то странным безразличием выполнял все, что от меня требо-
вали. Вероятно, большинство читателей думает, что примитив-
ные племена отличаются грубоватой прямотой, но люди, зна-
комые с их нравами, говорили мне, что этого не встретишь в
быту дикарей. Община дикарей, где господствуют бесчислен-
ные табу, где в ходу магия и всякие сложные ритуалы, по-
жалуй, сложнее культурного общества. У дикаря лишь смут-
ные понятия о вещах, но ум его весьма изворотлив, над ним
довлеют бессмысленные традиции, он загроможден всевозмож-
ными символами, метафорами, метонимиями и всякого рода
ложными верованиями. Просто и точно мыслит только куль-
турный человек. Так же обстоит дело и с первобытными зако-
нами, обычаями и установлениями: они всегда лицемерны и
отличаются нелепой искусственностью. Цивилизация — это
всегда упрощение.
Я убедился в этом на собственном опыте. Я ни разу не слы-
хал на острове Рэмполь искреннего высказывания. Ни разу не
удостоился прямого обращения. Подлинные имена всех вещей
скрывались. Дикари прибегали к почтительным прозвищам и
обращались друг к другу в третьем лице. Запрещено было даже
произносить названия целого ряда предметов. О них говорили
лишь обиняками и весьма витиевато. Этнологи уверяют, что
это характерно для дикарей. Все, что говорили островитяне,
имело какой-то скрытый смысл, и что бы они ни делали, они
всегда притворялись, что заняты совсем другим. Я постоянно
опасался совершить что-нибудь неподобающее, что могло бы
мне повредить, и по временам с мучительной тоской вспо-
минал ясный и простой образ мыслей, к какому я привык в
Оксфорде.
Так, например, хотя я этих дикарей назвал людоедами,
никто не смел даже заикнуться о том, что самым лакомым блю-
дом на острове было человеческое мясо,— оно считалось куда
вкуснее рыбы, крыс и мышей. Мясо ленивца было табу и счи-
талось чрезвычайно ядовитым, в особенности же мясо испо-
линского ленивца. Зато на острове было изобилие рыбы. Рыба
приедалась до тошноты. Только там я понял, как можно меч-
тать о куске хорошо зажаренного мяса. Да, я мечтал о нем,
несмотря на запреты, окружавшие меня со всех сторон. Но че-
ловеческое мясо никогда не называли человеческим мясом;
о нем говорили как о «даре Друга»; спросить же, кто этот
103
«Друг» и что это за «дары», значило совершить величайшую
бестактность!
В противоположность обычаям других дикарей, на этом
острове господствовало странное воззрение, что только на
войне можно безнаказанно убить человека. Существовал, од-
нако, весьма строгий кодекс поведения, и малейшее нарушение
табу, которых было великое множество, малейшая погреш-
ность против ритуала, малейшее новшество, неожиданная вы-
ходка, проявление лени и неумелое выполнение обязанностей
наказывались ударом по голове, который именовался «укориз-
ной». Так как эту «укоризну» воздавал здоровенный дикарь,
орудуя дубиной из твердого дерева весом чуть ли не в центнер
и утыканной зубами акулы, то в большинстве случаев она за-
канчивалась смертью. После этого мертвое тело подвергали
обряду «примирения». Скальп, костяк и малоаппетитные внут-
ренности убитого клали на высокий алтарь «Великой богини»,
в ее омерзительной берлоге, где они высыхали и разлагались,
а разрубленное на куски мясо, уже ничем не напоминавшее
о подвергшемся «укоризне» лице, относили на низкий алтарь,
чтобы разделить между народом, как «дар Друга». И так как
все оставшиеся в живых получали свою долю «даров Друга»,
то каждый зорко следил за соседями, стараясь уличить их в на-
рушении правил; поэтому уровень этой показной нравствен-
ности был очень высок. К сожалению, ни чистоплотность, ни
доброта, ни правдивость не входили в кодекс дикарской
морали.
Почти такая же тайна окружала все, что имело отношение
к половой жизни племени. Все самое важное в этой области
старательно скрывалось; многоженство было обычным явле-
нием, причем первая жена пользовалась преимуществом перед
остальными; но желавшим вступить в брак молодым парам
чинили неимоверные препятствия, и церемония брачного союза
была нудной и отвратительной. Кандидат в супруги подвер-
гался ряду суровых испытаний: он должен был вытянуть нуж-
ную соломинку из пучка, который держал в руке прорицатель,
и построить новую хижину по всем правилам искусства. Ввиду
этих затруднений и многоженства старших в племени значи-
тельная часть мужчин волей-неволей оставалась холостяками;
одни из них варварски умерщвляли плоть, другие предавались
тайным порокам, и все они жили под неусыпным наблюдением
друзей и соседей, подстерегающих малейший их промах, чтобы
отправить провинившегося на алтарь «Великой богини»
в жертвенный котел. Владеть хижиной обычно означало,
обладать и женой; поэтому я оказался в двусмысленном по-
ложении: у меня была хижина, которую я содержал в безуко-
ризненной чистоте, но я упорно отказывался взять себе в
жены хоть одну из пребывавших в одиночестве девушек
общины.
104
Моя .разборчивость может показаться странной,— ведь чи<
татель знает, как я низко пал во всех отношениях, но я уверен,
что он понял бы меня, если бы ему пришлось полюбоваться мо-
лодыми дебютантками, о которых идет речь. Чтобы придать
блеск своим черным волосам, они смазывали их рыбьим жи-
ром, лица у них были раскрашены красной и желтой охрой,
а скудный наряд состоял преимущественно из поясов, ожере-
лий, запястий, колец на руках и ногах, зубов акулы, продетых
в ноздри, и других украшений, которыми они приманивали
поклонников. Все зубы у них были выкрашены в перемежаю-
щемся порядке в черный и красный цвет, и эти особы непре-
станно жевали «всеочищающий орех». Но такова сила вожде-
ления, что порой при лунном свете или в отблесках костра эти
вымазанные жиром статуэтки казались мне не лишенными
прелести.
Время от времени у костра перед хижиной «Великой бо-
гини» происходили пляски. Деревянное изображение богини
ставили на помост. Иногда приносили маленького древесного
ленивца, о котором я расскажу потом, или одного из его дете-
нышей; зверек ползал по шесту, окрашенному в яркокрасный
цвет, освящая своим присутствием это сборище. Юноши и де-
вушки плясали и приглядывались друг к другу. Эти празднества
происходили под знаком строгого этикета и под неустанным
надзором старцев; стоило кому-нибудь из молодежи слишком
явно поддаться очарованию минуты, как его незаметно уда-
ляли из этого сборища и ему воздавалась «укоризна» под
негодующие возгласы друзей и родичей. Упоминать о таком
проступке считалось бестактным.
Таким образом, под маской веселья дикари удовлетворяли
свои кровожадные вожделения.
Но они умели и другими способами добывать лакомое
блюдо, утоляя свой звериный аппетит. Было несчетное множе-
ство ловушек, куда легко попадал неопытный юнец, просто-
филя или упрямец. Все это обеспечивало запасы пищи для
счастливцев, находившихся на вершине общественной пира-
миды. Так, например, строго запрещалось подниматься на за-
литые солнцем плоскогорья и даже говорить об этом. Все эти
люди рождались в ущелье, и большинство их, кроме тех, кто
выезжал в море на рыбную ловлю, проводило там всю свою
жизнь. Их мир был тесен — длинная полоса земли шириной от
ста ярдов до трех миль (в самом широком месте), а над ска-
листыми стремнинами и большим водопадом проходила гра-
ница, за которой начинались владения их лютых врагов. Ди-
кари верили, что там наверху простирается безлюдная пустыня,
которая тайт в себе несметные опасности и несказанные беды
для простого смертного. Только люди, наделенные магической
силой, дерзали подняться на эти высоты. Почиталось грехом не
только взирать на залитые солнцем зеленые нагорья, но даже
105
помышлять о них. Тому, кто вздумал бы шепнуть об этом хоть
слово на ухо своему другу, угрожала «укоризна». Этот запрет
так строго соблюдался, что большинство островитян проходило
свой жизненный путь от колыбели до жертвенного котла, даже
не мечтая об иной жизни.
Теперь читатель поймет, почему речи и образ действий этих
людей были так омерзительно слащавы и почему некрасивые
лица молодых дикарей порой носили отпечаток какой-то скры-
той грусти. Жизнь простого смертного была чрезвычайно
скучна и бесцветна. Это был какой-то плачевный парадокс.
Всех так поглощала борьба за существование, что никто уже
не в силах был наслаждаться жизнью. Даже во время празд-
неств некоторые предпочитали сидеть у себя в хижине, опа-
саясь оживления и веселья, за которыми нередко следует же-
стокая расплата.
Особенно меня поражало, что они могли передвигаться
лишь в пределах своего тесного мирка, ведь я привык, что
в цивилизованном мире все (или по крайней мере люди обес-
печенные) могут свободно разъезжать по всему земному шару.
Но, поразмыслив, я понял, что такого рода ограничения были
уделом большинства людей с тех самых пор, как возникло
человеческое общество, и что свобода передвижения достигнута
лишь сравнительно недавно. Даже в наши дни обаяние домаш-
него очага возрастает по мере удаления от него, и для боль-
шинства из нас просто ужасно не иметь обратного билета.
Хотя мое священное безумие и давало мне значительную
свободу, мне лишь с трудом удалось добиться разрешения под-
няться на вершины скал. Мне хотелось посмотреть на гигант-
ских ленивцев, которые там паслись, и получить более полное
представление об удивительном мире, в который меня за-
бросила судьба.
О гигантских ленивцах, обитавших на плоскогорье, которые
иногда забредали в ущелье, об их необычайных физиологиче-
ских особенностях и о связанных с этими зверями суевериях
я расскажу позже. Расскажу также о войнах и торговых сноше-
ниях этих дикарей с их соседями, жившими в горах над
ущельем, а также о маленьком белом древесном ленивце, очень
старом и необычайно плодовитом, которого племя считало
своим родоначальником. Я немного отклонился от своего по-
вествования, чтобы ознакомить читателя с нравами этого
племени.
Я уже начал рассказывать о том, как внезапно очнулся от
умственного оцепенения и вновь осознал себя. Это случилось
со мной, когда я шел в верхнюю хижину, где мне предстояло
разделить трапезу с прорицателем Читом, военачальником
Ардамом и тремя плешивыми старцами, которые вершили
правосудие и хранили традиции племени.
106.
4
БЕСЕДА С ПЯТЬЮ МУДРЕЦАМИ
Хотя это может показаться неблагодарностью с моей сто-
роны, я должен сознаться, что мне внушали отвращение все
пять мудрецов, с которыми я собирался обедать. Я и раньше
считал, что это уродливые, страшные и весьма опасные люди.
Но теперь, когда я вспомнил, что я — Блетсуорси из колледжа
Летмир, припомнил все радости жизни в свободной цивилизо-
ванной стране, из которой попал в эту среду, вспомнил, что
лишь страх заставил меня примириться с этой ужасной обста-
новкой,— к бессознательной ненависти и отвращению, какие я
до сих пор испытывал, присоединились досада и негодование.
В это утро мне казалось, что я способен пролить потоки света
в смрадное сборище, и я вошел в трапезную, испытывая
какую-то непривычную уверенность в себе.
Это была круглая хижина, в центре которой находилась
низкая круглая плита; хижина была построена из гибких стеб-
лей камыша, соединенных наверху в виде купола. Стены были
украшены фризом из человеческих черепов — архитектурная
деталь, характерная для всех сколько-нибудь значительных
построек. Плита, она же и обеденный стол, была круглая,
поэтому не приходилось решать вопрос, кто должен восседать
на первом месте; все сидели на корточках. Самой замечатель-
ной и наименее отталкивающей фигурой, без сомнения, был
Чит, которого величали Изъяснителем, или Светочем. Я уже
говорил, что он был горбатый, коренастый, весь в морщинах,
и на голове вместо шляпы у него красовался огромный лист,
свернутый в виде цилиндра. Он был очень смуглый, с большой
головой и блестящими черными пронизывающими глазами.
В них светился ум, необычайный для островитянина, пытли-
вый и зоркий. Чит сидел на корточках, положив руки на ко-
лени, и испытующе поглядел на меня, когда я вошел.
Он обращался со мной так, словно имел на меня какие-то
особые права,— и это мне не слишком нравилось, хотя я и
•знал, что остался в живых лишь благодаря ему. Ведь это он
первый объявил меня помешанным и не подлежащим «уко-
ризне». Он узаконил мое положение Священного Безумца. Его
обязанностью было слушать и истолковывать мой бред. Иногда
он даже подсказывал мне, как вести себя. На этот счет между
нами существовало молчаливое соглашение.
Яркий контраст с его выразительным лицом представляла
деревянная физиономия военачальника Ардама, «Славы пле-
мени». Она, как у большинства военных во всех странах света,
казалась повернутой в профиль даже тогда, когда была обра-
щена прямо к вам,— до того была равнодушна и невырази-
107
тельна. В носу у него красовалась большая остроконечная
раковина, в ушах — зубы акулы, над большими, выпуклыми
и блестящими глазами толстыми складками нависла кожа.
Выкрашенные красной охрой волосы торчали наподобие рогов,
а обнаженная грудь была покрыта таинственной выпуклой
татуировкой и разрисована охрой и углем. Обхватив длинными,
похожими на ласты руками костлявые колени и сдвинув пятки,
он громко причмокивал губами, предвкушая обед.
Трое плешивых старцев исполняли обязанности судей и
сборщиков податей. У одного из них был огромный приплюс-
нутый нос и щеки покрыты татуировкой, изображавшей спи-
рали, другой был так худ, что смахивал на скелет, обтянутый
кожей, и зубы у него были кокетливо раскрашены попеременно
в красный и черный цвет, как у женщины; третий, у которого
щеки украшала татуировка в виде концентрических кругов,
был сущей развалиной: он подслеповато щурился, глаза у него
слезились, изо рта текла слюна. От старости на лице у него
как-то бестолково пучками росли волосы. Все трое сердито
взглянули на меня, недовольные моим опозданием. Посмотрев
на них, я сразу отказался от намерения сбросить свое отвра-
тительное одеяние и свободно высказать свои мысли. Я при-
ветствовал их обычным жестом и, приказав своим ногам куль-
турного человека согнуться в коленях, сел на корточки по пра-
вую руку от Чита.
Ардам громко хлопнул в ладоши, вбежали две вымазанные
жиром, раскрашенные девицы и поставили на стол длинное
деревянное блюдо, напоминавшее широкий челн.
Мы не сразу приступили к еде. Это запрещал этикет. Мы
запустили правую руку в блюдо, схватили по сочному куску и
замерли на месте, изобразив на лице самую приветливую
улыбку. Вероятно, мы смахивали на боксеров, готовых вце-
питься друг в друга.
Потом, точно сговорившись, каждый начал тыкать свой
кусок в рот сидевшему напротив. Этим мы показывали, что не
думаем о себе, а хотим доставить удовольствие своему ближ-
нему. Я всегда норовил выбрать кусок пожилистее и попасть не
в рот, а в глаза своему визави и кусал его пальцы, если он за-
пихивал мне в рот лакомый кусок. На этот раз Чит схватил
кусок с ловкостью гиппопотама, которого кормят в зоопарке,
и уберег свои пальцы, аккуратно вытерев их о мое лицо. Я по-
качнулся, но сохранил равновесие.
— Угу! — хмыкнул я.
Мы стали пожирать мясо с громким чавканьем и блажен-
ным похрюкиванием и прожевывали каждый кусок на добрую
минуту дольше, чем это было необходимо.
— Друг угостил нас на славу,— откашлявшись, сказал вы-
сохший, как скелет, старец.
Мы отозвались эхом на его слова и, выполнив долг прили-
108
чия, принялись энергично доканчивать трапезу. Признаюсь, на
этот раз я ограничивался кореньями и овощами, которыми
было гарнировано мясо.
Пока чавканье не сменялось иканьем, свидетельствующим
р полном насыщении, хороший тон запрещал отвлекаться от
еды разговорами, но когда мясо бывало съедено и на стол по-
давались тыквенные бутылки с перебродившим соком ореха
«боха», языки развязывались. Тогда начинал работать этот
мозг племени и происходил оживленный обмен мнениями.
В такие минуты мне удавалось узнать много интересного.
Но в тот день, обретя себя, я был скорее склонен сам про-
свещать, чем поучаться.
Сигнал к беседе был подан тощим старцем, который за-
вершил церемонию еды. Он должен был произносить «благо-
дарение Другу», выражая свое довольство.
— Благодарение Другу! — подхватили мы.— Привет муд-
рому маленькому древесному ленивцу, патриарху и властителю
нашего племени! Да пребывает он на древе жизни во веки
веков!
Дело в том, что на ветвях деревьев, росших над хижиной,
на выступе скалы, было сделано нечто вроде клетки для древес-
ного ленивца; большинство островитян слепо верили, что эти
безвредные зверьки правят судьбами племени. Считалось, что
Чит, Ардам и трое старцев только жрецы, а эти странные
зверьки нашептывают им слова мудрости. Несомненно, этот
смешной обычай представляет собой пережиток какого-то древ-
него тотемизма, но я не решался расспрашивать, и мне так и
не удалось установить его происхождение. Единственная па-
раллель, какую я могу найти в культурном мире, это — тради-
ции, существовавшие в священной империи Микадо до вступ-
ления Японии на путь современной цивилизации. Эта фикция
снимала с Чита и его сообщников ответственность за их безза-
стенчивый фаворитизм, всякого рода притеснения и тиранию.
«Так нашептал маленький древесный ленивец»,— объявляли
они, и в народе пробуждалась воспитанная веками покорность.
Туземцам, над которыми властвовали и всячески измывались
Чит и его друзья, отрадно было думать, что маленькие ленивцы
властвуют над Читом и его друзьями.
Наряду с остальными я выразил традиционное пожелание,
чтобы семья маленьких паразитов никогда не покидала древо
жизни.
— А теперь...— начал я и тут же замолк. Сердце бурно
колотилось в груди. Набравшись храбрости, я как ни в чем не
бывало снял и положил на землю зловонный череп, который
так долго давил мне голову.
— Уж очень жарко у вас в ущелье,— продолжал я.—
Когда я шел сюда, я смотрел, как солнце озаряет вершины
гор, и вдруг мне вспомнился великий мир, из которого я при-
109
был к вам, пространный и свободный, богатый надеждами мир.
Я еще ни разу не рассказывал вам о нем. Теперь я могу рас-
сказать.
Я сорвал с себя и отшвырнул прочь грязную, пыльную
шкуру и сел на корточки — голый белый ариец среди бурых
дикарей, фантастически одетых и украшенных знаками почета.
Все три старца в один голос вскрикнули и указали на меня
пальцами.
— Смотрите-ка! — завопили они.— Что он делает?
Военачальник и бровью не повел, но густо побагровел и,
выпучив глаза, уставился на меня с выражением гневного во-
проса. Он, наверное, изрек бы что-нибудь о неприличии моего
поступка, если бы вообще умел связно высказывать свои
мысли. Но он был человек дела и не речист.
Чит жестом умиротворил старцев.
— Это не грех,— заявил он.— Ведь всем нам известно, что
Священный Безумец не может грешить. Это нечто весьма
знаменательное. Дух богини снизошел на него. Пусть он
делает и говорит все, что ему вздумается, даже самые удиви-
тельные вещи. А потом уж мы,— он имел в виду себя,— постиг-
нем смысл всего, что он скажет или совершит.
Ардам как-то двусмысленно хрюкнул.
Я в душе благодарил бога за то, что он поддерживает во
мне мужество.
— Когда я нынче шел к вам, о высокородные братья,—
вновь заговорил я,— то увидел над головой голубое небо.
Завеса спала с моих очей, и дух мой вернулся в тот лучезар-
ный город, где некогда я превзошел всю мудрость человече-
скую. Это был прекрасный, чудесный город. Там каждый день
можно было узнать что-нибудь новое, и в сердце рождались
все новые надежды. Там я узнал, что люди не должны вечно
жить в теснинах и ущельях, но на открытых просторах, что
они не должны злоупотреблять слабостью и неведением своих
менее счастливых собратьев, не должны пребывать в непре-
станном страхе и во власти всяких запретов.
— Это безумие! — промолвил старец с татуированными
щеками и принялся ковырять у себя в зубах острым шипом.
— Ну, конечно, безумие,— подтвердил Чит, не сводя с меня
глаз,— вы же видите, что он безумен. Но в этом скрыт некий
смысл. Расскажи нам еще о стране, из которой ты пришел.
' — Это целый мир,— поправил его я.
— Ну, пускай мир,— согласился он.
— Он хотя и безумец, а говорит связно! — заметил старик,
орудующий зубочисткой.— Такие слова заслуживают «уко-
ризны», все равно, в своем ли он уме, или безумен.
Ардам в знак одобрения хлопнул себя по ляжке.
Тут только я оценил необычайный ум Чита.
— Расскажи нам еще что-нибудь об этом твоем мире,—
НО
повторил он, и я уловил в его глазах острый огонек любопыт-
ства.
— Всякий знает, что он появился из моря,— прогнусил
слюнявый старец.— Ты же сам сообщил нам об этом, о мудрец.
Солнце пригрело гниющие водоросли и зачало его. Нет другого
мира, кроме того, в котором мы живем. Какой может быть еще
другой?
— Воистину так,— согласился Чит.— Но все-таки мы вы-
слушаем басню, которую он нам расскажет.
— Слушать его?! — прохрипел Ардам.— Пристукнуть его,
вот и все. Давайте я с ним поговорю — и он больше не будет
болтать о каком-то мире, который лучше нашего!
— Это еще успеется,— внушительно изрек Чит, стараясь
ободрить меня взглядом.
— Я пришел к вам из мира, где люди живут на широких
просторах, озаренных солнцем.
— И люди ходят там вверх ногами,—ввернул тощий
старец и захохотал, радуясь своему остроумию.
~ Там тоже воздают «укоризну», но она не убивает чело-
века. Люди не поедают друг друга, но сообща, как братья,
добывают себе еду и питье.
— Кощунство и гнусная ложь! — вскричал слюнявый.—
Что это за поедание друг друга? Кто это поедает других?
— Неслыханная глупость,— проговорил самый безобразный
из старцев.
Чит усмехался, слушая мой неправдоподобный рассказ, и
медленно покачивал головой.
— И что же, всем хватает?—спросил он.
— Да, решительно всем.
— Но ведь они размножатся, и тогда не хватит всем!
— Чем больше ртов, тем больше рук. Страна широко рас-
кинулась, и солнце светит для всех. До сих пор всем хватало,
да и всегда будет хватать!
Я твердо стоял на своем. Для этих дикарей приходилось
несколько упрощать факты. Они не воспринимали полутонов.
И вот я разразился импровизированным панегириком
цивилизации, восхваляя все, что она создала и чем может
облагодетельствовать человечество, пожалуй несколько идеа-
лизируя и цивилизацию и человечество. По возможности при-
норавливаясь к уровню и понятиям своих слушателей, я на-
бросал перед ними яркую и соблазнительную картину жизни
современного общества, где я вырос и получил воспитание.
Я подчеркнул, какие практические выгоды сопряжены с доб-
рыми нравами, которые порождены справедливыми законами
и здоровым воспитанием. Я распространялся о благотворитель-
ности, об участии и помощи, какую совершенно бескорыстно
оказывают попавшим в беду гражданам, поскольку еще суще-
ствуют бедствующие граждане.
111
С радостным изумлением я обнаружил, что мои рассужде-
ния насквозь проникнуты дядюшкиным оптимизмом и его мо-
ральным пафосом,— ведь мне казалось, что все это уже давно
мною изжито. Я упивался звуками своего голоса, мне хотелось
без конца слушать себя, и я продолжал свою речь со все воз-
растающей уверенностью.
Я говорил, что культурные люди неизменно соблюдают оп-
рятность и гигиену, воспевал порядок вещей, при котором в
человеке воспитывают доверие к его соседу, уверял, что при
высоко развитом у нас сотрудничестве и разделении труда все
блага и удобства доступны каждому из граждан. Рассказывал
об электрическом освещении, о передаче энергии на расстояние,
о транспорте и об охране труда. Попутно описал одну увесели-
тельную поездку на яхте и футбольный матч в таких розовых
красках, что сам увлекся своим красноречием, и эти столь по-
пулярные развлечения показались мне прямо восхитительными.
Затем я кратко сообщил о демократических учреждениях и об
услугах, оказываемых людям прессой. Я сопоставил наш
мягкий конституционный режим с их суеверным почитанием
каких-то низших животных и нашу англиканскую церковь,
столь терпимую к инаковерующим,— с кровожадным куль-
том их богини. Оксфорд у меня получился совсем как Афины,
изображенные художником эпохи Виктории, а библиотека
Бодлейн — как храм, воздвигнутый премудростью господ-
ней.
Увлекшись предметом, я перестал обращать внимание на
плешивых старцев и военачальника; эти скептики словно заво-
локлись туманом, и я видел перед собой одного Чита, который
внимательно следил за мной, иногда задавая мне глубокомыс-
ленные вопросы; если я не отвечал достаточно вразумительно,
на лице его появлялось недоумение.
— А солдаты у вас есть? — спросил Ардам, неожиданно
появляясь из тумана.
— Есть,— отвечал я,— но это люди, которые обязаны под-
держивать мир. Ибо у нас в цивилизованном мире существует
такое правило: если хочешь мира, готовься к войне.
— Ага! — сказал Ардам, и тон его стал менее враждеб-
ным.
Мало-помалу я обнаружил, что меня никто не слушает,
кроме Чита. С ним произошла какая-то перемена. Лицо его
было так же безобразно, но его нелепый головной убор теперь
не так бросался в глаза и взгляд его сделался более осмыс-
ленным.
Он слушал меня, время от времени кивая головой, хотя
порой выражал недоверие. Замечания Чита казались мне до-
вольно разумными для дикаря. Вдруг он прервал меня.
— Ты сам знаешь, что все это ложь,— сказал он.
Я растерялся.
112
— Я не знаю, зачем ты мне об этом рассказываешь,— ведь
этого мира нет на свете.
— Как нет?
— Конечно, нет,— продолжал Чит.— И никогда не бывало.
Ничего такого не может быть. Таких людей на свете не бы-
вает.
Я осмотрелся кругом: каменное лицо воина и уродливые,
тупые и жестокие лица трех мудрецов вдруг приблизились ко
мне и стали до жути реальными. Чит искоса взглянул на них
и вновь заговорил:
— Ты мечтатель, ты безумный мечтатель и живешь как
во сне.— И он отмахнулся от цивилизации выразительным же-
стом руки.— Настоящий мир здесь, вокруг тебя, единственный
настоящий мир. Научись видеть его таким, каков он на самом
деле!
У меня болезненно сжалось сердце, и внезапно я усомнился
во многом из того, что только что проповедовал.
5
МЕГАТЕРИИ
То, что мне удалось узнать из рассказов островитян и на
основании собственные наблюдений об особенностях исполин-
ского ленивца, Megatherium americanum, может показаться
совершенно невероятным. Но любопытно, что два моих знако-
мых биолога считают приводимые мною факты достаточно
правдоподобными, в противоположность людям, не сведущим
в этих вопросах. Однако предупреждаю, что моя книга отнюдь
не является научным исследованием. Это лишь повесть о моих
собственных необычайных переживаниях. Поскольку речь идет
обо мне, все приводимые здесь факты верны, хотя мне при-
шлось убедиться в иллюзорности многих моих представлений.
Я не могу сообщить необходимых подробностей, и поверьте,
не сумел бы, как должно, ответить на расспросы даже самого
снисходительного из специалистов. Но я воспринимал некото-
рые факты необычайно реально и могу припомнить всё до
малейших подробностей: я вижу перед собой огромные бока
зверя, заросшие длинной грязной жесткой щетиной серого
цвета, в которой запутались водоросли, сучья, стебли травы;
вижу его страшные когти, которыми он царапает по камням
и по корневищам, слышу исходящий от чудовища своеобраз-
ный резкий запах мочи. Я твердо убежден, что когда-то
раньше, хотя, может быть, и при других обстоятельствах, мне
приходилось встречать этих животных.
8 Г. Уэллс, т. 2
113
К сожалению, сейчас я не могу припомнить, как мы готови-
лись к экспедиции на плоскогорье и как мы выбрались из
ущелья. Со мной был Чит и жалкий, забитый мальчишка,
которого мы взяли с собой в качестве носильщика.
Вероятно, читателю попадались описания исполинских
ленивцев. Они в огромном количестве обитали на земле еще
до появления мамонта и мастодонта, саблезубого тигра и тому
подобных чудовищ; науке известны его европейские и амери-
канские виды. Но еще задолго до появления человека на
земле все эти разновидности вымерли повсюду, исключая
Южной Америки, этого последнего прибежища древесных
ленивцев. Один вид гигантского ленивца, ростом примерно со
слона, еще недавно встречался в бесплодных пустынях южной
Патагонии и Огненной Земли. Насколько мне известно, этот
вид встречается и в настоящее время на’ острове Рэмполь.
В каждом большом геологическом музее вы можете видеть его
скелет, которому придана необычайно выразительная поза.
Такие скелеты, строго говоря, нельзя назвать ископаемыми;
они не представляют собою окаменелости в противоположность
скелетам значительно более древних динозавров; это обыкно-.
венные кости, такие же, как кости лошади или коровы.
В самом деле, останки мегатериев так мало затронуты тле-
нием, что на них еще уцелели клочки кожи с шерстью и при-
ставшими к ней песчинками. Кроме того, были обнаружены
кости, повидимому обтесанные человеком. Однако, несмотря
на то что в эти места были посланы специальные экспедиции,
не удалось обнаружить ни одного такого животного.
Остров Рэмполь до сих пор еще не исследован, 'хотя его
гористый рельеф представляет интерес для ученых. На карты
нанесен лишь один его контур, географам известно лишь его
название. Вряд ли хоть один белый, кроме меня, проникал
в его ущелья или видел его обитателей. Там до сих пор еще
существует несколько сотен этих неуклюжих выходцев из до-
исторического мира, уцелевших благодаря суеверному табу и
другим благоприятным обстоятельствам. Многие из мегате-
риев, вероятно, очень стары, ибо они, подобно карпу и некото-
рым видам попугая, могут жить неопределенно долгое время.
На острове никто на них не охотится; люди избегают их, и
Чит сообщил мне, что не только их мясо ядовито, но даже
зловоние, издаваемое их трупами, может причинить смерть.
Впрочем, может быть, дикари преувеличивают. Мне не удалось
проверить их слова.
Но позвольте мне описать картину, которая развернулась
перед нами, когда мы выбрались из ущелья, потому что образ
жизни этих первобытных тварей тесно связан с местностью,
где они обитают. Когда я, бывало, смотрел снизу на стену
скал, мне казалось, что залитое солнцем плоскогорье поросло
густым лесом. Но уже в первый раз, когда я совсем недолго
114
пробыл на плоскогорье, я обратил внимание, что деревья
поломаны и обглоданы, а трава вытоптана. Во время второй
экскурсии, длившейся пять-шесть дней, мне стали понятнее
рассказы Чита, и я догадался, что тут произошло.
Оказывается, мегатерии питаются исключительно молодыми
побегами и почками растений; они медленно бродят по плоско-
горью, разыскивая почки на деревьях и уничтожая все бутоны.
Поэтому там все до одного деревья и кусты изуродованы и
искалечены. Трава на полянах вытоптана, и лишь кое-где
под защитой колючих кустарников уцелели редкие пучки
зелени. Мегатерии истребляют все цветы, какие попадаются
им на глаза. Они пожирают и яйца птиц, разрушают гнезда
и ведут вялую, но поразительно успешную войну со всеми
небольшими животными. Они так медленно передвигаются,
что жертвы зачастую не замечают их приближения и бывают
застигнуты врасплох. К тому же мегатерии обладают способ-
ностью гипнотизировать разных мелких зверьков.
Они не ходят на всех четырех лапах, как другие млекопи-
тающие, а ползают по земле подобно пресмыкающимся. Мы
довольно долго бродили по плоскогорью, но нигде не встретили
этих чудовищ, хотя нам удалось напасть на след одного из
них; казалось, по земле протащили огромный мешок железного
лома. Там, где прополз зверь, стояло такое страшное зловоние,
как если бы тут только что проехал мусорщик, очистивший
выгребную яму. Чит посоветовал мне держаться подальше от
следов, чтобы не набраться клещей и других отвратительных
паразитов. Только к вечеру, на закате солнца, мы, наконец,
набрели на мегатерия. Располагаться на ночь по соседству с
мегатериями весьма опасно,— эти звери свирепы и не боятся
огня; но я безумно хотел увидеть мегатерия вблизи, и, не-
смотря на приглушенные протесты и жалобное хныканье на-
шего носильщика, некоторое время мы шли, крадучись, по
этим следам.
Читатель, посещавший музеи и видевший на рисунках
мегатерия, вероятно, имеет представление об этом звере; он
знает, что у мегатерия гигантский круп, длинный хвост и мощ-
ные задние лапы и что едва ли не большую часть головы со-
ставляет нижняя челюсть. Но на всех изображениях, какие
мне приходилось видеть, мегатерий слишком смахивает на
выхоленного обитателя зверинца. Я ни разу не видел, чтобы
живой мегатерий принимал ту позу, в какой любят изображать
его на рисунках, где он обычно стоит на задних лапах, обхватив
дерево когтистыми передними лапами, и величественно вы-
прямившись, как оратор, собирающийся произнести спич
после обеда. Иногда это животное садится на корточки, под-
вернув под себя хвост, причем передние его лапы болтаются
над брюхом.
Некоторые реставраторы вообразили, что мегатерий ступает
8*
115
по земле, как медведь, но это совершенно неверно. У него
такие длинные когти, что он не мог бы опереться на лапы,—
и это совершенно упустили из виду ученые. Поступь мегатерия
вообще не похожа на поступь какого-либо животного. Он
ходит, так сказать, опираясь на локтевые суставы и пред-
плечья, причем когти передних лап, когда он двигается,
болтаются в воздухе и стучат, ударяясь друг о друга; он
бредет с опущенной головой, обычно склонив ее набок, круп
его возвышается над туловищем, и можно подумать, что
животное ползет на брюхе. В этой позе он напоминает мусуль-
манина, склоненного в молитве.
Надо также отметить, что у мегатерия мясистая морда и
отвислая нижняя губа, голова его гораздо более массивна, чем
воображают художники; огромная, длинная, слюнявая пасть;
морда покрыта щетиной; у него крохотные глазки, обведенные
розовым ободком. Нижнюю губу он складывает так, что пасть
напоминает совок для угля. Я знаю, что он хорошо слышит,
но я не видел его ушей. Кожа у него противного розового
цвета и почти сплошь покрыта длинной щетиной цвета гнилой
соломы и жесткой, как иглы дикообраза; эта щетина
кишит всевозможными паразитами, включая огромных чер-
ных клещей; к тому же она вся проросла зеленоватыми
водорослями и лишаями, которые густыми пучками свешива-
ются с боков и с хвоста. На туловище и хвосте животного на-
росли слои земли; я своими глазами видел, как там пробива-
лась трава, а один раз заметил даже белый цветок. От мегате-
рия пахнет гнилыми водорослями и тухлыми отбросами, а
дыхание его, которое я имел несчастье однажды вдохнуть,
зловонно и отдает тлением.
Зверь обычно передвигается внезапными рывками, как
ревматик, причем издает тревожное хрюканье; он приподни-
мает и вытягивает передние конечности, затем с забавным
усердием подтягивает зад, продвигаясь дальше,— и так все
время. Но как я впоследствии убедился, он может двигаться и
значительно быстрее. Этот способ передвижения можно было
бы сравнить с прыжками лягушки. Животное постоянно ози-
рается кругом, сопит и поворачивает морду во все стороны,
а иногда разевает пасть и издает рев, похожий на мычанье
теленка, жалобно призывающего мать, но звук этот гораздо
громче и продолжительнее.
Вот такого-то зверюгу увидел я в сум'ерках; он медленно
продирался сквозь искалеченные кусты и деревья. Невидимому,
чудовище даже не подозревало, что люди так близко. По-
раженный этим фантастическим произведением природы, я, на-
верное, простоял бы до сумерек, наблюдая, как мегатерий
бродит и пасется, если бы мальчик не дергал меня настойчиво
за руку, а Чит не напомнил, что надо искать место для ноч-
лега, пока нас еще не застигла темнота.
116
В то время мне было еще невдомек, почему мои спутники
находят нужным располагаться бивуакОхМ на почтительном
расстоянии от этих зверей. Тот, которого мы наблюдали, каза-
лось, ничего не замечал и был как-то трогательно безобиден.
Но тут мы наткнулись на новые следы, и Чит заставил нас
пройти еще довольно далеко, пока совсем не стемнело, только
тогда он согласился сделать привал.
Мы выбрали песчаную прогалинку у ручья, берега которого
поросли мхом, и приготовили себе мягкое ложе. Я расстелил
свою шкуру вместо ковра, свой головной убор я оставил у под-
ножия скал. Мы разожгли костер из сухих ветвей и пригото-
вили себе на ужин коренья: Мальчишка поставил горшок на
горячую золу. Мне удалось сохранить несколько коробков
спичек, которые я унес с корабля, и теперь, к великому ужасу и
удивлению мальчика, я пустил в ход это сокровище. Мы по-
ужинали. Взошла луна, ночь была довольно теплая, и некото-
рое время мы беседовали, сидя у костра на корточках, а маль-
чишка, широко раскрыв глаза, с благоговением глядел на меня.
Разумеется, разговор зашел о мегатериях.
— Ну, какой вред они могут причинить человеку? — спро-
сил я.
Чит ответил, что зверь может подняться на задние лапы
и, навалившись всей своей тяжестью, раздавить человека и
растерзать когтями его тело. Раздражать их весьма опасно.
Мегатерии очень злы. К тому же они очень-очень стары и
ужасно лукавы и ядовиты.
— Почему нигде не видно их детенышей? — спросил я.
— Теперь у них редко рождаются детеныши, да и те
умирают.
Это меня удивило. Он стал уверять меня, что ни один из
детенышей мегатериев не выживает. Вот почему мы постоянно
находим их шкуры и кости.
Я продолжал задавать вопросы, и ответы Чита были так
невероятны, что я заставлял его повторять их несколько раз.
Если все детеныши умирают, в таком случае скоро не оста-
нется в живых ни одного мегатерия? Но дикарь не привык
задумываться над такими вопросами. Почему детеныши уми-
рают? Потому что мегатерии не кормят своих детенышей: они
слишком стары и, видно, утратили материнский инстинкт.
Они ненавидят все молодое. В наше время мегатерии рожда-
ются очень редко.
Жмурясь от едкого дыма костра, я всматривался в урод-
ливое лицо моего спутника, осененное причудливым головным
убором. На его широкой физиономии, освещенной красными
отблесками огня, я не приметил и тени улыбки. Я попросил
его рассказать мне побольше о жизни этих тварей. По его
словам, пол мегатерия очень трудно определить. Никто не
видел, чтобы они спаривались. Он лично думал, что теперь
117
остались одни самки и зачинают они лишь в том случае, если
нарушен обычный порядок их жизни или если их сильно на-
пугать. Они зачинают, сказал он, а потом сами тому не рады.
Некогда, очень давно, возможно, существовало несколько
самцов. Он не знает наверное. Да и знать не желает.
— rlo в таком случае?..—спросил я в недоумении.
— Ведь они хозяева этой земли. Они кормятся. Греются на
солнце. Для них хватает еды, а если их будет больше, то уже
не хватит. Зачем же им умирать? Никто не охотится за ними.
Никто не ест их мяса, потому что кровь их ядовита. Вот и все.
Ты в своем безумии вечно толкуешь о каких-то ваших до-
стижениях. Разве в твоем мире, который идет все вперед и
вперед, нет мегатериев? Разве нет в твоем мире существ, кото-
рые отказываются рождать потомство и умирать?
— Нет,— ответил я.— Ни одного животного,— поправился
я, немного подумав.
С минуту он смотрел на меня с недоверчивой улыбкой. Не
будь он отъявленным дикарем, я мог бы подумать, что он
разгадал причину моей оговорки.
Чит сиделм сгорбившись, склонив голову немного набок, и
его огромные руки лежали на коленях. Мальчик поочередно
заглядывал в лицо то мне, то Читу,— видимо, его привели в
ужас наши непонятные речи.
— Спать! — проговорил, наконец, Чит, встал, потянулся
и зевнул, собираясь укладываться.
Мальчик по его знаку подбросил дров в огонь. Я сидел у
дымного костра и смотрел, как языки пламени, извиваясь,
пробираются сквозь сухие ветви и сучья. Чит наблюдал за
мной некоторое время, потом, очевидно сделав какие-то свои
выводы, повернулся на бок и быстро уснул.
Меня волновало сознание, что я только теперь начинаю
постигать тайны Жизни и Природы. То, что я узнал о жизни
мегатериев, по-новому осветило мне некоторые биологические
факты, которые до поры до времени таились где-то за по-
рогом сознания. Теперь они властно нахлынули на меня.
Я с детства усвоил учение о жестокой борьбе за существова-
ние, в которой каждое живое существо и каждый вид живот-
ных отстаивают свое право на жизнь, участвуя во всеобщей
беспощадной конкуренции. Но если хорошенько вдуматься,
то станет ясно, что лишь очень немногие существа действи-
тельно ведут борьбу за существование и среди них уже совсем
мало стойких, жизнеспособных и совершенных.
Таким образом рухнула одна из моих ранних иллюзий.
Раньше я думал, что, когда какой-нибудь вид попадает в новые
условия, он начинает изменяться- сам и приспосабливаться к
этим новым условиям, выживает и размножается и что никто
не в состоянии его истребить, разве только другой конкурирую-
щий с ним вид, который еще лучше приспособился к среде
118
и размножается еще быстрее. А в действительности то или
иное существо, попав в новые условия, ведет себя нелепо и
бестолково, совсем как идиот, которому задали непосильную
задачу; быстрое и успешное размножение является лишь одним
из множества способов самозащиты. Со временем я узнал,
что многие виды чудесных цветов, которым предназначено
оплодотворяться особым видом мотыльков, на самом деле,
этим- способом никогда не оплодотворяются. Птицы давно
уничтожили этих мотыльков.
Впоследствии я убедился, что неспособность быстро при-
способляться к среде — еще более поразительный факт, чем
успешное приспособление. Мне пришлось узнать, что на
севере Англии все лесные анемоны, расцветающие весною,
пустоцветы. Они не дают семян, но и на юге Англии семена
у анемон появляются редко. Можно было бы привести бес-
численное множество примеров такой «бесплодной эволюции».
И еще мне предстояло узнать, что даже такое жизнеспособное
существо, как человек, побеждает лишь для того, чтобы пре-
вратить все окружающее в пустыню. Он сжигает и рубит
деревья, под кровом которых живет, разводит коз, опустошаю-
щих Аравию, а теперь начал превращать азот воздуха в удоб-
рения, так что воздух может стать когда-нибудь совершенно
непригодным для дыхания. Раньше мне не приходилось раз-
мышлять на эту тему, и неуклюжие чудовища, царящие на
нагорьях острова Рэмполь, показались мне каким-то парадок-
сом природы.
Сидя у пылающего костра в ярком лунном сиянии, я обду-
мывал новые вопросы, вторгавшиеся в мое сознание.
Я пришел к следующим выводам.
Во-первых, далеко не всегда выживают самые сильные, ум-
ные и проворные. Существо, которое ползает по земле, истреб-
ляя почки деревьев и молодые побеги, тем самым лишает
пищи множество более разумных и жизнеспособных особей,
делает их существование невозможным. Некоторые животные
выживают, опустошая все кругом. Но, выживая, они часто
оказываются носителями болезней, губительных для других
организмов. Не обязательно истреблять или побеждать в
борьбе более энергичную породу. Ее можно вытеснить неза-
метно, постепенно доконать.
Во-вторых, для того чтобы выжить, данному виду совер-
шенно не обязательно усиленно размножаться. Достаточно
просто очень долго жить. Вот, например, мегатерии не тратят
энергии на потомство. Все силы отданы индивидуальному
росту, и процесс истощения тканей, укорачивающий жизнь
большинства высших животных, не подтачивает их организма.
Они уже давно существуют без воспроизведения своего вида.
Они отнимают еду у своих детенышей, подобно Сатурну,
уничтожают свое потомство и одиноко царят в своем мрачном
119
мире. Природа поставила меня лицом к лицу с этими бес-
плодными гигантами с таким же равнодушием, с каким
показала бы мне малиновку, розу или смеющегося мла-
денца.
И, наконец, в-третьих: животное может пережить всех дру-
гих тварей и затем погибнуть. Борьба за жизнь может кон-
читься торжеством видов, не слишком приспособленных к
жизни, но чрезвычайно зловредных. Случается, что выживают
малоприспособленные, вымирающие животные. И эти мегате-
рии, превратившие огромные пространства Южной Америки в
бесплодную пустыню, мало-помалу вымирают. На острове
Рэмполь время от времени какой-нибудь мегатерий вдруг пере-
стает двигаться, валится на землю, вздувается и начинает
разлагаться. Таким образом, эволюция далеко не всегда
является напряженным стремлением к прогрессу, ко все боль-
шему распространению жизни; напротив, она может превра-
титься, как, например, в этом случае, в мрачное стремление к
смертельному концу.
Так вот каков оказался на проверку процесс эволюции, ко-
торый представлялся мне таким энергичным, интенсивным,
неуклонным, может быть и. суровым, но по существу всегда
благотворным,— во все это я твердо уверовал, слушая бодрые
проповеди моего дяди и беседы, какие велись у него за столом.
А теперь мне вдруг блеснула истина. Я созерцал ее с тою
обостренной ясностью, какая приходит после ужина на свежем
воздухе, ужина, состоявшего из полусырых кореньев каких-то
неизвестных, безыменных растений.
И вот, сидя среди освещенных луною кустов у дымного
костра и прислушиваясь к храпу дикарей и плеску ручья,
я смотрел на мир новыми глазами, и новые мысли приходили
мне в голову.
Кажется, я упомянул, что, когда я восхвалял блага цивили-
зации, противопоставляя ее жалкому прозябанию дикарей в
этом затхлом ущелье, Чит спросил меня, есть ли в цивилизо-
ванном мире хоть одно живое существо, которое отказывалось
бы рождать потомство и умирать; сперва я ответил «нет», а
потом поправился: «ни одного животного». В тот момент я
вдруг понял,— и теперь эта мысль овладела моим сознанием,—
что все человеческие законы и установления совершенно так же
подчинены законам биологии, как и жизнь любого животного.
Сделав отважный умственный скачок, я пришел к выводу, что
государства, учреждения и организации, точь-в-точь как мега-
терии, не рождают . потомства, не умирают естественной
смертью и упорно цепляются за свое существование. Цивили-
зованный мир, который я изображал Читу таким победонос-
ным и процветающим, теперь, когда Чит храпел возле меня,
показался мне обреченным и бесконечно далеким от мира
единения и безопасности.
120
Я мысленно воззвал к духу моего дяди. «Человек,— убеж-
дал я себя,— не животное; это неудачная аналогия, и судьба
этого вымирающего вида животных не является предвестием
судьбы, ожидающей человечество. Остров Рэмполь — это одно,
а мой великий мир — совсем другое. Ведь у моего мира есть
душа. Воля».
И как бы подчеркивая всю важность этой мысли, я
тихонько поднялся, взял охапку хвороста и подбросил в костер.
Я начал воображаемый спор с мирно спящим Читом, раз-
вивая свои идеи. Увлекаясь новой проблемой, мы склонны за-
ново перестраивать свое мировоззрение.
Разумеется, здесь, на острове, всякая борьба безнадежна.
Перспективы здесь, без сомнения, самые мрачные и зловещие.
В конце концов даже эти звери должны будут погибнуть в
результате вызванного ими опустошения. Здесь, повидимому,
победит не самый сильный и не самый ловкий. Битву выиграет
тот, кто сумеет преградить дорогу другим и удержать свои
позиции. В этом отношении я был согласен с Читом. Правда,
мегатерии медленно вымирают, но они уже сделали свое ужас-
ное дело,— и теперь не вернуть всех уничтоженных ими буто-
нов, почек и побегов, всех загубленных надежд, обещаний,
молодых жизней! Можно допустить, что эти твари переживут
жалкое племя, гнездящееся в ущелье, которое не имеет муже-
ства подняться на плоскогорье, истребить чудовищ, отнять
у них землю и солнце. Пусть так. Но ведь остров Рэмполь —
это еще не весь мир. Человек, настоящий человек (каким я его
себе представляю), отважно решает проблемы и перестраивает
мир. А ведь он может прийти на этот остров, и тогда он все
переделает на свой лад,— где уж вам до него, жалкие вы
дикари!
Я, кажется, задремал. Я находился в каком-то полузабытьи,
на грани между сном и бодрствованием, когда представления,
тесно связанные между собой, вдруг становятся безмерно
чуждыми друг другу и, наоборот, идеи, крайне разобщенные,
неожиданно сближаются. Быть может, все эти бессвязные раз-
мышления потому удержались у меня в памяти, что были пре-
рваны внезапным происшествием. В моем воображении все
институты нашей цивилизации как-то странно перепутались с
мегатериями. Кажется, я занимался подготовкой грандиозной
охоты с целью избавить мир от этого громоздкого наследия
прошлого. Мир должен возродиться. Ибо человек, настоящий
человек, всегда учится на своих ошибках. Прошлое надо
упразднить, как ликвидируется предприятие, которому пред-
стоит реорганизация и слияние с другими. Я думаю, все эти
мысли были вызваны свежими впечатлениями от огромных,
заживо разлагающихся тварей, не желающих ни рождать по-
томство, ни умирать.
Мне мерещилось, что происходит какое-то совещание
121
цивилизованных людей, а возлежащий на куче мха Чит — наш
единственный слушатель; мы обсуждали проект самоликвида-
ции христианских церквей. Это послужит началом некоего
грандиозного переустройства мира, всеобщего религиозного
возрождения, и все живущие на земле будут призваны к счаст-
ливой деятельности’и деятельному счастью.
— Всеобщее доброжелательство,— бормотал я себе под
нос,— вера, надежда, милосердие, все духовные блага...
Раздавшееся где-то совсем близко глухое мычание и треск
сучьев оборвали мои бредовые рацеи.
Я вскочил на ноги и, вглядевшись в темные заросли,
увидел, что на меня надвигается какая-то огромная туша.
Крохотные глазки чудовища отражали пламя костра и горели,
как два красных огонька, среди черной движущейся массы.
Животное приближалось быстрыми прыжками. Ничего не
оставалось, как только спасаться в кусты. Я мигом разбудил
своих спутников. Мальчик не спал и с криком вскочил, едва
я прикоснулся к нему. Должно быть, он раньше меня заметил
надвигающуюся опасность и в смертельном ужасе притаился,
не зная, что делать. Он юркнул в кусты, точно спугнутая
крыса. Я растолкал храпевшего Чита.
— Беги! — крикнул я.— Беги! — и сам помчался со всех
ног.
Я бежал без оглядки. К счастью для Чита, зверь направ-
лялся прямо на меня. Я перепрыгнул через ручей и бросился
в ту сторону, где заросли казались не такими густыми.
Я спотыкался о корни, перепрыгивал через кочки; острые сучья
и шипы немилосердно царапали меня. На своей обнаженной
спине я чувствовал горячее дыхание преследовавшего меня
зверя. Огромное прыгающее чудовище нагоняло меня, и я
ускорил бег. Тут я убедился, как быстро может передвигаться
мегатерий, охваченный жаждой разрушения. Можно было по-
думать, что какой-то другой, невидимый во мраке исполинский
зверь то и дело рывком бросает эту тушу на меня. Я бежал и
все время прислушивался к раздававшемуся позади меня
шуму. Вряд ли я хотя бы на ярд опередил своего врага во
время этой бешеной гонки. Порой мне казалось, что я убегаю
от него, но стоило зверю сделать прыжок, как он снова начинал
меня настигать.
Вначале я мчался напропалую, обезумев от страха. Потом,
когда кусты и травы начали редеть и я увидел свою собствен-
ную тень, бежавшую передо мной по изломанным стволам и
искривленным сучьям, я понял, что поднявшаяся луна светит
мне в спину и чудовище видит меня. Я решил круто свернуть
в сторону, сообразив, что такая громоздкая туша сможет раз-
вернуться лишь по очень широкой дуге. Впереди я увидел
какое-то прикрытие, решил обогнуть его и побежать в другом
направлении, против света. Но не успел я оглядеться, как
122
вдруг оступился и, почувствовав у себя под ногами пустоту,
покатился вниз.
Я свалился в глубокую лощину, которой не заметил впо-
пыхах. Я был ошеломлен падением и расшиб себе подбородок
о камень. Затем небо закрыла темная громада — на меня
валился мегатерий. Если он на меня обрушится — я пропал!
Но, к счастью, мегатерий не мог до меня добраться, так как
расселина была слишком узка. Очевидно, он тоже оказался
как бы в ловушке.
— Постой, я тебя перехитрю! — прошептал я и стал быстро
выкарабкиваться из расселины. Не знаю, намеревался ли
зверь преследовать меня; скорее всего он попросту застрял
в лощине, куда мы оба попали, и старался из нее выбраться.
Я прополз по ровной земле ярдов двадцать и спрятался в
спасительную тень. Но и здесь до меня доносилось омерзи-
тельное зловоние. Чудовище пыхтело, хрюкало, свирепо вор-
чало. Я слышал, как зверь ворочается, вылезая из лощины, и
следил за каждым его движением.
Взбешенный мегатерий храпел и царапал камни когтями.
Видимо, расселина пришлась ему не по вкусу. Он поспешил
выбраться из нее на более надежную почву. Потом сел на
задние лапы и стал поворачивать свою неуклюжую голову из
стороны в сторону; было ясно, что он ищет меня. В лунном
свете передо мною маячила огромная черно-серая туша, куда
больше слона.
Я нащупал рукой камень и чуть было не швырнул в своего
врага, но во-время спохватился.
— Лучше подождать,— сказал я себе.
И хорошо, что я этого не сделал. Потеряв меня из виду, глу-
пая тварь начала успокаиваться. Она победила меня, загнала в
яму, следовательно честь ее не пострадала. Минуту-другую до
меня доносилось злобное мычанье, потом зверь затих, словно о
чем-то размышляя; затем грузно припал брюхом к земле, про-
полз несколько шагов, вновь остановился, прислушиваясь, при-
поднялся, заревел и начал удаляться тяжелыми прыжками, то
и дело замирая на месте, поднимая голову и снова продолжая
свой путь.
Что происходило в этом крохотном мозгу,— ибо мозг мега-
терия едва ли больше кроличьего,— я даже не могу себе пред-
ставить. Возможно, он уже позабыл обо мне. Шум стал зати-
хать, наконец совершенно замер, и ничего больше не было
слышно, кроме шелеста кустов.
Но из осторожности я еще долго просидел в тени.
Когда я, наконец, отважился выйти на свет,' мне уже было
не до моих фантазий, они рассеялись, как дым; я уже больше
не мечтал о преобразовании церкви и всех государственных уч-
реждений, о переустройстве всего цивилизованного мира,— так
я был подавлен жестокой действительностью.
123
6
ГОРНОЕ ПЛЕМЯ
Перед рассветом резко похолодало, я забился под выступ
скалы и, потратив несколько драгоценных спичек, развел ко-
стер. У моих ног, журча, протекал ручей, и вода в нем была
приятная на вкус. Я начал срывать со скалы легко отделяв-
шийся пластами сухой мох, укрылся им и долго лежал, дрожа
от холода. Когда, наконец, рассвело, я направился к месту на-
шего бивуака. Идти мне пришлось всего каких-нибудь четверть
мили. Я легко разыскал бивуак, идя по следам мегатерия. Оба
мои спутника были уже на месте, сидя на корточках, они пекли
коренья в еще не остывшей золе. Им не пришлось улепеты-
вать. Наш горшок для пищи, к счастью, уцелел, и мальчик варил
в нем подкрепляющий напиток из листьев «уфы».
Чит, видимо, мне обрадовался.
— Ему (он имел в виду меня) удалось спастись? — спро-
сил он.
Я утвердительно кивнул головой и скорчил гримасу.
Мегатерий наступил на шкуру, служившую мне священным
одеянием, и пришлось выполоскать ее в ручье. Затем мы с Чи-
том начали обсуждать план дальнейших действий. Правда, мой
исследовательский пыл уже значительно остыл, но возвращаться
в ущелье все-таки не хотелось. Чит тоже не был расположен
уходить. Я начал догадываться, что у этого горбуна с лукавыми
глазами были какие-то особые соображения, что он отправился
в экспедицию, не только выполняя прихоть Священного Бе-
зумца, но и с какой-то своей целью. Как всегда, он воспользо-
вался удобным предлогом. У него был какой-то свой план, ко-
торый я сразу не мог себе уяснить: очевидно, он хотел осмот-
реть местность и наметить кое-какие маршруты.
К югу от нас простиралась стена серых скал, похожих на
выветрившийся известняк, они были совершенно лишены расти-
тельности и такие крутые, что едва ли могли привлечь мегате-
риев. К ним мы и направились, сторожко оглядываясь по сто-
ронам. По дороге мы встретили целое стадо чудовищ, пасшихся
на равнине, и сделали порядочный крюк, обходя их. Мы стара-
лись все время держаться против ветра, чтобы они нас не по-
чуяли.
Мальчишка распотешил нас, проплясав торжествующий та-
нец, в котором выразил свое презрение к мегатерию. Он столь
забавно изобразил нападающее чудовище, что все наши вче-
рашние страхи рассеялись. Танцуя, он так увлекся, что едва
не разбил горшок и мы чуть не остались без обеда.
Известковые скалы не обманули наших ожиданий. Там было
множество уступов и расселин, куда не мог проникнуть огром-
ный зверь, но топлива почти не оказалось. Пройдя вдоль под-
124
ножья скалистой стены, где рос редкий кустарник, мы располо-
жились на отдых и еще до сумерек успели набрать кучу дров и
хвороста. Наш мальчишка вдруг куда-то исчез и через полчаса
вернулся, неся огромную серую ящерицу длиною в добрых
пол-ярда. Мясо ее было очень вкусное и украсило наш скудный
ужин. Сидя у костра, я испытывал чувство необычайного до-
вольства, любовался восходящей луной и только жалел, что у
меня нет папиросы. Но на острове Рэмполь не курят.
Все это вызвало у меня прилив нежности к моим спутникам.
Я пустился в восторженные описания театров и кафешантанов,
рассказывал о шумном веселье, какое царит в лондонском Вест-
Энде в послеобеденные часы. Я пропел им «тарарабумбию» и
несколько других знакомых мне песенок. Мальчишку особенно
восхитила «тарарабумбия»; он начал отбивать такт с чисто ди-
карской энергией и чуть не расколотил горшок.
Только на следующий день я понял, что замышляет Чит.
Он намеревался обследовать верхнюю часть ущелья и точно
установить местоположение поселка соседнего племени. Когда
я стал осторожно его расспрашивать, мои догадки подтверди-
лись. В своих замыслах он заходил гораздо дальше, чем все
наши мудрецы вместе взятые. Он считал, что скоро нам пред-
стоит война. Отношения между двумя племенами начинали
портиться. Уже были неприятности из-за какой-то девушки, но
гораздо более серьезные осложнения возникли в связи с торго-
вым обменом между племенами. Военные действия дикарей
обычно сводились к бесплодным стычкам в ущелье, среди скал.
Но то ли на Чита оказали действие мои слова, то ли ему при-
снился вещий сон,— во всяком случае он решил вторгнуться
на плоскогорье. Племя, которое окажется более предприимчи-
вым и дерзнет это сделать, без сомнения одержит победу! Он
тщательно изучил местность и теперь мысленно разрабатывал
план внезапного нападения на врага.
— Но ведь для этого надо взбираться на скалы,— сказал
я,— а ваш закон запрещает это!
— А что, если они нападут первыми? — проговорил он гром-
ким шепотом и добавил: — Не станем же мы дожидаться, пока
они обрушатся на нас.
Только на третий день к полудню, пройдя по голому, выж-
женному солнцем, утесистому известковому кряжу, мы добра-
лись, наконец, до ущелья. Оно внезапно открылось перед нами.
До нас донесся рев водопада, и мы увидали, что стоим на краю
огромной отвесной скалы; с одной стороны простиралась широ-
кая долина овальной формы, на дне которой змеилась река, с
другой — глубокая пропасть, в которую низвергался водопад,
исчезая в облаке брызг и водяной пыли. Бурный пенистый по-
ток стремительно несся по направлению к нашему селенью и,
казалось, заполнял все ущелье. По склону горы и по дну ущелья
вилась тропинка, соединяющая наше селение с селеньем гор-
125
ного племени, но, глядя сверху, трудно было себе представить,
что можно пробраться по этим стремнинам. Меня очень уди-
вило, что, покружив два с половиной дня по горному массиву,
мы очутились всего в нескольких милях от выхода из нашего се-
ления. Оглушавший нас шум водопада доносился до нашего
селения, отдаваясь эхом в горах и медленно замирая в густых
зарослях, среди скал.
Мне еще не приходилось на острове Рэмполь видеть такой
величественной и прекрасной картины; встававшие со дна
ущелья скалы были так высоки, что даже высокие деревья, рос-
шие внизу, казались крохотными кустиками. Простиравшаяся
направо долина была значительно шире и ровнее, чем та часть
ущелья, где мы жили, и зеленела густыми лесами. По отлогим
склонам тянулись тучные луга. Над ними нависал гигантский
розоватый гребень, каменная стена, ограждавшая этот счастли-
вый уголок от вторжения мегатериев. А высоко вверху вонза-
лась в небо огромная скала той же самой прозрачной горной по-
роды, как и утесы на.морском берегу,— она сверкала и перели-
валась красками в лучах полуденного солнца. Перед лицом
этого величия мы чувствовали себя ничтожными букашками.
— А-а,— произнес Чит тоном глубокого удовлетворения и
поудобнее уселся на выступе скалы.
Мы с мальчишкой последовали его примеру. Видневшиеся
далеко внизу хижины селенья казались какими-то жалкими гри-
бами, разбросанными на поляне,— так величава была окру-
жающая панорама.
• Несколько минут мы сидели в молчании. Жилища племени,
обитавшего в верховьях реки, до странности напоминали наши
хижины: та же форма крыши, такие же огороженные дворики,
так же беспорядочно разбросаны лачужки.
Мы слишком далеко находились от селения и не могли ви-
деть его жителей, но, без сомнения, это были такие же уродли-
вые желтокожие, нечистоплотные существа, обезображенные
такой же татуировкой, как и представители нашего племени.
Даже в мирное время оба племени почти не общались друг с
другом. Обмен товарами производился следующим образом: на
«священных» каменных плитах, неподалеку от большого водо-
пада, раскладывались товары. Мы сбывали свежую и сушеную
рыбу, огромные перламутровые раковины, кожу и зубы акулы,
а они, в свою очередь, продавали нам жевательный орех, на
который у них была монополия, горшки, комья горшечной
глины, куски твердого дерева и сушеные плоды. Иногда мы
перекрикивались и обменивались приветствиями. Оба племени
довольно легко понимали друг друга. Мне даже говорили, что,
несмотря на строгое табу, молодежь обоих племен иногда пре-
давалась грубым любовным утехам, причем все это происхо-
дило наспех, среди камней и в кустах, возле водопада; толко-
вали о том, что младшие жены наших мужчин что-то уж
126
больно охотно носят товары своих владык; этим даже поддраз-
нивали их. Иной раз этих женщин умыкали, что вызывало
большие волнения.
К тому же племена постоянно ссорились из-за обмена това-
ров. Мы, жители ущелья, считали, что нам дают слишком мало
твердого дерева за нашу рыбу. Наши плешивые мудрецы вечно
ворчали, что мы отдаем всю рыбу и получаем взамен лишь не-
сколько горшков и кусков глины. Они уговаривали наших муж-
чин подняться выше водопадов, к месторождениям горшечной
глины, чтобы самим ее накопать.и рубить там деревья. А племя,
живущее у истоков реки, желало иметь свои челны на озере
ниже водопадов, ходить в море и за свой страх и риск ловить
рыбу. Они были убеждены, что .если вырубить лес, деревья
больше не вырастут. Они жаловались, что мы забираем их
орехи, дерево и глину за бесценок. Обо всем этом дикари по-
стоянно перекрикивались под свист и рев водопада. Эти распри
служили постоянной темой для послеобеденных бесед за круг-
лым столом.
В таких случаях военачальник Ардам ударял кулаком по
столу и говорил:
— Заберите у них!
— Когда я был еще маленьким глупым мальчишкой, мы
пробовали у них отнимать,— отвечал Чит после некоторого раз-
думья.— Много было убитых, и богиня щедро расточала свои
дары. А девушки наши стали шумными и распутными... А потом
все пошло по-старому.
— Верно, вы плохо их колотили,— отвечал Ардам.— Да и
я тогда был еще мальчишкой.
— В цивилизованном мире, из которого я пришел...—
начал я.
Самый уродливый из трех старцев даже застонал при этих
словах. Я покинул Англию в безмятежные дни, еще до великой
войны, и поэтому мне можно простить, что я изобразил Европу
как страну, где царит прочный мир. Я рассказал им о торговых
договорах, об арбитраже и о том, что мы в некоторых случаях
обращаемся к Гаагскому трибуналу или созываем конференции
европейских стран по тому или другому вопросу. Я сообщил им,
что существует концерт европейских держав, который в скором
времени станет концертом стран всего мира.
— Всего вашего мира,— скептически заметил Чит.
— Великого мира.
— Мира, которого нет.
— Нет, он существует,— возразил я.— О, если бы вы знали,
ценой каких ужасных кровопролитий пришла Европа к миру,—
вы бы поняли, что значит единение! И вы бы прекратили неле-
пую вражду с братьями, что живут вверху, у водопада.
— Нечего сказать, братья! — с негодованием протянул
Ардам.
127
— Вы могли бы выбраться из этой тесной темной тюрьмы на
солнечный свет- и увидеть обширные луга, что там наверху!
Подумайте только, вы могли бы уничтожить мегатериев дроти-
ками, копьями и западнями!
— Как бы они нас не уничтожили,— прошамкал слюнявый
старик и стал забавляться косточками человеческого запястья,
раскладывая их перед собой на столе.
— Вы могли бы подтащить смрадные туши чудовищ к об-
рыву и сбросить их в море, а потом принялись бы пахать землю,
собирать урожаи и строить...
— Много ты напашешь, если притронешься к мегатерию! —
бросил плешивый старик с татуированными щеками.
— У вас появились бы огромные леса, чудесные плоды и
красивые цветы. Всем хватило бы! Для всех достало бы
счастья!
— Клянусь берцовой костью богини! — воскликнул Ар-
дам.— Мне надоел этот Священный Безумец, пусть он обедает
отдельно от нас!
— Дайте ему говорить,— вступился Чит.— Ведь он предска-
зывает нам будущее.
— Ты бы лучше воздал «укоризну» этому предсказателю!—
прохрипел самый безобразный из старцев.— Тогда все его пред-
сказания разом сбудутся, а мы отлично попируем без его про-
поведи.
— Да какой смысл в его болтовне? — спросил Ардам.
— Это предсказание войны,— ответил Чит.,
— Нет, предсказание мира,— возразил я.
— Все равно, это новый вид войны. Пусть он продолжает;
он сам не знает, что говорит.
— Не надо нам никаких новых видов войны,— заявил Ар-
дам.— А я большой любитель поспать после сытного обеда.
Будь они прокляты, эти его предсказанья!
Мы неоднократно вели такие беседы за круглым столом в
трапезной мудрецов, насытившись милостивыми дарами Друга,
и они вспомнились мне теперь, когда мы с Читом сидели на
краю обрыва, подглядывая за нашими врагами и соперниками,
точно три рыжих муравья, наблюдающих за чужим муравейни-
ком, обиталищем черных муравьев. «Странно,— думал я,—
такой умный человек, как Чит, не видит выхода из этой бес-
смысленной вражды между двумя жалкими, слабыми племе-
нами!» Он даже ни разу не заговаривал об этом. Все мысли
Чита были подвластны идее войны, подобно тому как наши по-
нятия и представления согласно учению Канта подчинены кате-
гориям пространства и времени. Война для него стала неизбеж-
ным спутником человеческой жизни, и вокруг нее вертелись все
его помыслы. Люди, по его мнению, недостаточно сильны для
того, чтобы победить в себе древнюю, как мир, жажду войны.
Мы провели целых три дня на кряже известковых скал, ра-
128
зыскивая кратчайший и наиболее удобный путь из нашего
ущелья к селению врагов, путь, который проходил бы вдоль
густых зарослей, куда не забредают мегатерии.
Обследовав окрестности, мы вернулись в наш мрачный, ли-
шенный солнечного света поселок.
— У меня было великое прозрение! — заявил Чит, когда мы
очутились на грязной улице, среди убогих лачуг.
7
ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ РЭМПОЛЬ
Мы много говорили о войне, но прошло еще долгое время,
прежде чем она разразилась, и порой мне казалось, что ее во-
обще не будет. Я все больше и больше привыкал к своей роли
Священного Безумца на острове Рэмполь.
Правда, я тосковал, чувствовал себя глубоко несчастным,
порою испытывал мучительные угрызения совести, все во мне
возмущалось против мерзостной пищи, которую мне предлагали,
и меня ужасала мысль, что для поддержания тусклого пламени
моей жизни систематически истребляются человеческие суще-
ства. Но мало-помалу неумолимые требования природы — го-
лод, сон и всевозможные житейские мелочи и заботы снова
возвращали меня в привычную колею. С Читом я даже подру-
жился и старательно изрекал пророчества, каких от меня требо-
вали. И убеждал себя, что, разглагольствуя о широких просто-
рах плоскогорья, я тем самым выражаю протест против жизни,
какую приходится вести в ущелье.
Сейчас мне трудно передать, какие странные иллюзии порой
навязчиво овладевали моим сознанием. Я уже говорил, что
обступившие ущелье скалы и утесы местами были из какого-то
просвечивающего камня. Иной раз мне казалось, что и другие
окружающие меня предметы также прозрачны. Я смотрел на
поднимавшуюся к небу стену утесов, и мне мерещилось, что она
прорезана призрачными окнами, потом на ней начинали про-
ступать причудливые узоры и надписи, сделанные огненными
буквами, но, взглянув на нее еще раз, я видел только шерохова-
тую поверхность скалы, уступы и впадины, освещенные лучами
заходящего солнца. Или вдруг я чувствовал под ногами дрожа-
ние мостовой, или слышал над самым ухом жужжание трамвая
и предостерегающие звонки. Потом оказывалось, что я нечаянно
наступил на шатающуюся каменную глыбу или слышу, как гу-
дит навозный жук, тяжело перелетая с одной кучки рыбьих по-
трохов на другую; и где-то рядом дикарь колотит камнем по
гвоздю, вырванному из доски погибшего корабля, пытаясь
согнуть его в крючок для удочки.
9 Г. Уэллс, т. 2 129
Случалось, что, когда я рассказывал о многолюдных сбори-
щах и прочих удовольствиях цивилизованного мира, мне вдруг
начинало казаться, будто я только сейчас на них присутство-
вал. Порою, пробуждаясь, я начинал сомневаться: а что, если я
вовсе не Священный Безумец, одетый в шкуру и со звериным
черепом на голове, а кто-то совсем другой? Такое состояние
душевного смятения всякий раз сопровождалось припадком ост-
рой тоски по родине. Я старался прогнать сомнения и прими-
риться с мыслью, что попрежнему нахожусь на острове Рэм-
поль.
«Это остров Рэмполь,— твердил я себе,— это остров Рэм-
поль! Гони все эти несбыточные мечты!»
Когда я попал на остров Рэмполь, первые дни рабства тяну-
лись бесконечно долго; но по мере того как я привыкал к этой
жизни, дни становились все короче и под конец начали проле-
тать совсем незаметно. Я больше не надеялся на избавление
и через некоторое время перестал воображать, что своими гим-
нами цивилизации и прогрессу мне удастся подействовать на
воображение дикарей и как-то изменить их тупое, инертное су-
ществование. И только когда зазвучали яростные крики, воз-
вещавшие войну и грозившие мне опасностями и мучениями, во
мне вновь пробудилась энергия и мне захотелось действовать.
До этого момента мне приходилось вести упорную борьбу с
Ардамом и тощим старцем, которые хотели низвести меня до
уровня обыкновенного смертного, женив на одной из девушек
племени, которая водворилась бы у меня в хижине и непрерывно
наблюдала бы за мной. Чит был всецело на моей стороне. Для
него, так же как и для меня, было важно всячески поддержи-
вать престиж Священного Безумца.
Я не сразу осознал, до какой степени мы с Читом зависим
друг от друга. Я был только последним и, быть может, самым
для него подходящим в длинном ряду носителей шкуры и че-
репа, которыми Чит тайно руководил и чьи вещания он истол-
ковывал. Ему трудно было бы найти мне преемника. Без Свя-
щенного Безумца Читу оставалось бы только охранять и толко-
вать предания и традиции племени, и все его советы и предло-
жения подлежали бы утверждению старцев. Но один он умел
находить пророческий смысл в бессвязном бреде Священного
Безумца, а мои невнятные речи позволяли ему куда шире
развернуться, чем изречения прежних «безумцев». Необьшай-
ные обстоятельства, сопровождавшие мое появление на острове,
моя удивительная внешность, начиная с белого цвета кожи,
странность моих речей и поступков — все это резко отличало
меня от моих предшественников.
Впоследствии, вернувшись в лоно цивилизации, я заинтере-
совался вопросом о роли сумасшедших в жизни дикарей. Я ду-
мал, что Священный Безумец острова Рэмполь — явление со-
вершенно исключительное. Но оказалось совсем не так. Эти
130
странные существа встречаются у целого ряда племен, играя
роль, так сказать, противовеса в сложных взаимоотношениях
общины дикарей. Иной раз безумцу удается вклинить какое-
нибудь новшество в крепко сбитую мозаику обычаев и укоре-
нившихся традиций. В иных странах безумец является сорат-
ником знахаря, в других сам выступает в роли пророка и
колдуна, наводя на своих соплеменников суеверный ужас.
Один из антропологов Смитсоновского института в Вашинг-
тоне написал солидное исследование по этому вопросу. Если не
ошибаюсь, труд его озаглавлен: «Эксцентричная личность в
первобытном обществе». Автор связывает существование свя-
щенных безумцев Патагонии,— оказывается, они встречаются п
на материке,— с широко распространенным почитанием царь-
ков-жрецов и преподносит нам целую кучу спелых и подгнив-
ших плодов с «Золотой ветви» Фрэзера. Он сопоставляет роль
безумцев с ролью колдунов и ведьм и сближает их с королями
карнавалов, а также с шутами и прочими эксцентричными ба-
ловнями средневековья. Мне говорили, что в этой области он
большой авторитет. Он весьма эффектно заканчивает свой труд,
показывая, какую роль играет в современном обществе гениаль-
ная личность, в порыве вдохновения смело высказывающая свои
идеи, не страшась никакой ответственности. Автор утверждает,
что такого рода эксцентрики обычно оказываются орудием в
руках более осмотрительных и практичных людей, которые по-
своему также стремятся ниспровергнуть существующий поря-
док вещей. Итак, моя жизнь в скучном и мрачном ущелье бро-
сает новый свет на эту любопытную проблему социологии. Но,
отмечая этот факт, я вновь предупреждаю читателя, что на-
стоящая повесть является лишь рассказом о моих приключе-
ниях и я не намереваюсь вносить вклад в науку.
Мой предшественник на посту «безумца» был прирожденным
идиотом и умер, объевшись отбросов. До моего появления Чит,
должно быть, играл весьма бесцветную, второстепенную роль.
Если плешивые старцы противоречили ему, он не мог привести
им в ответ ни одного пророчества. На острове царили традиции.
Одно время Чит пытался облечь ореолом «непостижимого безу-
мия» молодого человека, единственным физическим недостат-
ком которого было косоглазие, но потерпел неудачу. Из мало-
внятного рассказа Слюнявого я понял, что его* притязания на
безумие и неприкосновенность не получили признания, протеже
Чита был обвинен в кощунстве и закончил свою краткую
карьеру, подвергшись «укоризне». Этого несчастного симулянта
выдала его собственная жена. Он уверял, что во время трансов,
в которые он впадает, «Великая богиня» удостаивает его осо-
бых милостей; но жена, разозлившись на мужа за то, что ей не
приходится разделять с ним славу, разоблачила его.
— Тут уж у самого Чита едва не перекосило глаза! — про-
пищал престарелый рассказчик и весь затрясся от смеха.
9*
131
Это был тяжелый удар для Чита. Ему никак не удавалось
найти нового безумца. Был, правда, в селенье горбун да еще
глухонемая девушка; но, на беду, они были люди здравомысля-
щие и глубоко порядочные; ни за что не соглашались они пойти
на обман. Четверо мудрецов уже видели перед собой перспек-
тиву неограниченной власти над племенем и предвкушали близ-
кий конец Чита, чью карьеру неизбежно должна была завер-
шить «укоризна». Как вдруг случай или судьба послала ему
помощь в моем лице. В моих словах и поведении было столько
странного, удивительного, что даже мудрецы склонны были
поверить всему, что говорил обо мне Чит. Они не в силах были
разгадать, что лежало в основе моего безумия. Им было весьма
не по душе возвращение Чита к власти, но они затаили свою не-
нависть, не решаясь открыто против него бороться. А простой
народ слепо верил в мое безумие.
Мои враги делали вид, что заботятся обо мне, и уверяли,
что для них превыше всего мое счастье и благополучие. Они
задумали меня женить, надеясь, что жена погубит меня, как
это было с моим предшественником. Они говорили, что. им тя-
жело видеть, что я веду такую печальную, одинокую жизПь, в то
время как они в полной мере наслаждаются жизнью. Такая
высокоодаренная священная личность должна быть окружена
заботами жены и миловидных служанок, увешанных зубами
акул и перламутром, ярко раскрашенных и обильно смазанных
рыбьим жиром. Они так верили в губительные свойства брака,
что предлагали жениться даже моему приятелю. Ведь Чит тоже
одинок, говорили они, ведет слишком суровую жизнь; у него,
правда, две жены, но обе, по странному совпадению, откусили
себе язык, работают молча и от них не добьешься, что делается
в доме. Ему не худо бы, по примеру других влиятельных людей,
завести гарем, окружить себя молодыми, болтливыми служан-
ками. Почему это он всегда такой молчаливый и скрытный?
Должен сознаться, что меня осаждали не только внешние,
но и внутренние враги. Как и многих людей с живым воображе-
нием и повышенной чувствительностью, меня порой охватывало
бурное желание; я нередко томился одиночеством и жаждал
ласки, хотя бы самой грубой. Как я уже говорил, мои религиоз-
ные верования, которые при других обстоятельствах могли бы
окрепнуть, сильно пошатнулись во время пережитых мною зло-
ключений. Бывали дни, когда вид этих дикарок возбуждал во
мне вожделение, когда воображение мое придавало прелесть их
пропахшему рыбой, лоснящемуся от жира телу, когда беглая
улыбка или пристальный взгляд могли взволновать мое сердце.
Вспоминая свою жизнь на острове, я жестоко упрекаю себя зц
то, что не сумел поддержать престиж «высшего» существа среди
этих дикарей! Иногда меня так и тянуло схватить в объятья ка-
кую-нибудь варварски разукрашенную, нечистоплотную краса-
вицу,— и я £ трудом сдерживался.
132
В дни своей юности я даже не представлял себе, что отно-
шения между мужчинами и женщинами могут быть такими
жестокими, грубыми, бесчестными и бесконечно сложными, как
на острове Рэмполь. Островитянки и привлекали и отталкивали
меня. Потом я стал, примечать, что большинство дикарей испы-
тывают к ним то же двойственное чувство, смесь желания и
отвращения. В благопристойном цивилизованном мире, откуда
я был выброшен, как правило, разыгрывался красивый, увлека-
тельный роман со счастливым концом. Моя личная катастрофа,
всколыхнувшая во мне пучину зла и порока, была только урод-
ливым исключением. В нашем счастливом мире обычно взаим-
ная склонность и дружба двух молодых существ неизменно пе-
реходила в более пылкие чувства, которые завершались браком,
совместной жизнью, основанной на доверии, преданности и са-
мопожертвовании. Но на острове Рэмполь я видел только трус-
ливых, жадных и недоверчивых дикарей. Им внушало ужас
физическое влечение, толкавшее их к существам другого пола.
Как я уже говорил, на острове очень редко вступали в добро-
вольный союз, потому что трудно было построить себе хижину
и мешала сложная система различных табу, которую я так и не
мог постичь. Мужчина испытывал влечение к женщинам
вообще, и ему навязывали одну или двух, а девушкам так и
вовсе не предоставлялось выбора. Самые привлекательные из
них, хотелось им этого или нет, доставались мудрецам; имели
право выбора также старейшины, палачи, церемониймейстеры,
рулевые, плетельщики сетей и строители хижин, блюстители
нравов и другие влиятельные особы. Многоженство процветало
на острове, как и во всех странах, куда не проник свет христиан-
ства. Чем выше стоял покровитель, тем меньше угрожала де-
вушке опасность подвергнуться «укоризне». Порой естествен-
ная склонность влекла ее к отважному и любезному, хотя и
вымазанному жиром юноше, но она не решалась соединить
с ним жизнь, так как ее соблазнял выгодный союз с каким-
нибудь влиятельным, разукрашенным татуировкой старцем.
Мысль об «укоризне» удерживала ее от любовных похождений
с юношами, но глубокое недовольство своей участью застав-
ляло страстно желать всяких болезней и напастей своему пре-
старелому повелителю.
Не удивительно, что любовь на острове Рэмполь не была тем
свободным и приятным чувством, каким она бывает у культур-
ных людей. Она была насквозь пропитана лицемерием, отрав-
лена рабской зависимостью и вынужденным воздержанием.
Любовник подозревал свою возлюбленную в корыстных расче-
тах, она же, пойдя ему навстречу, рассчитывала получить за это
должную награду. Все это было мне прекрасно известно. Случа-
лось, во время пляски при свете факелов какая-нибудь молодая
красавица, сверкая перламутром, гибкая, скользкая от жира и
ярко раскрашенная, прижималась ко мне, тяжело дыша, но,
133
заглянув ей в глаза, я видел лишь страх, отвращение, покор-
ность чьей-то суровой воле.
Я невольно бросал взгляд на помост, где под красным шес-
том, на котором повис маленький священный ленивец, восседали
Ардам и тощий, как скелет, старец. Оба они внимательно на-
блюдали, не попадусь ли я на приманку. И когда в ответ на
немой вопрос девушки я с улыбкой качал головой, она подни-
мала глаза на своих повелителей, ожидая новых приказаний.
Решив во что бы то ни стало соблюдать целомудрие, я пере-
стал есть рыбу и начал еще педантичнее соблюдать чистоту.
Я отлично понимал, что, как только привыкну к вони прогорк-
лого рыбьего жира, мне станет куда труднее отбивать атаки,
которые велись на меня со всех сторон.
8
БЬЮТ БАРАБАНЫ ВОЙНЫ
Уже много лет угроза войны нависала над ущельем,
подобно тучам, которые то зловеще клубятся над горами, то
рассеиваются,— и вот, наконец, война разразилась. Вскоре
она стала единственной темой бесед мудрецов за круг-
лым столом, а военные пляски и магические заклинания заста-
вили нас позабыть о плясках при свете факелов перед алтарем
«Великой богини». Первыми напали жители верхнего селения.
В обмен на нашу последнюю партию рыбы, правда не слишком
обильную, они прислали вместо жевательного ореха, дерева и
глины некий предметы и изображения самого оскорбительного
характера. Наше племя, обиженное и возмущенное, ответило
еще более грубыми оскорблениями; но первая обида была нане-
сена врагом, и это уязвило наше самолюбие.
Как только война была объявлена, Ардам согласно законам
и обычаям и по необходимости сделался верховным владыкой
племени. Казалось, он вырос. Он принял величавый вид, про-
ткнул верхнюю губу двумя остроконечными раковинами, выкра-
сил нос в яркокрасный цвет и сделал по глубокому надрезу над
каждой бровью. Во время трапезы его охраняли два пышно
разукрашенных воина, с гвоздем в носу, с подрезанными ушами,
с волосами, закрученными в длинные красные рога, и с огром-
ными копьями. Они стояли навытяжку справа и слева от него,
таким образом он занимал больше половины круглого стола, а
мы пятеро должны были тесниться на небольшом его отрезке.
— На то и война! — невозмутимо заявил Ардам.
Он делал вид, будто необычайно озабочен ходом военных
действий, и не обращал на нас внимания, мы переговаривались
134
между собой, и он даже не отвечал, когда к нему обращались;
но время от времени Ардам властно вмешивался в наш раз-
говор.
У входа в нашу трапезную непрестанно сменявшие друг
друга старики изо всех сил колотили в огромные барабаны, об-
тянутые кожей умерших героев. Оглушительный грохот бараба-
нов не смолкал ни днем, ни ночью. Даже и теперь стоит мне
вспомнить об этих чудовищных инструментах, как у меня в
ушах начинает звучать их дикий, зловещий грохот. Барабан-
щики от старости то и дело начинали дремать и, очнувшись,
отбивали дробь с удвоенной энергией. Прикрываясь требова-
ниями всеобщей безопасности, Ардам мог безнаказанно рас-
поряжаться жизнью и имуществом каждого из своих соплемен-
ников, будь то мужчина или женщина. И мы испытали на себе
его тяжелую руку,— казалось, он хотел сперва испробовать на
нас все карательные меры, какие готовил против наших врагов.
Все молодые люди были зачислены в солдаты; чтобы зака-
лить, их всячески истязали и калечили; им обрезали уши, де-
лали надрезы на теле, так что кожа вздувалась буграми, застав-
ляли как-то идиотски маршировать, задрав подбородок кверху
и высунув язык. Все девушки племени также находились в рас-
поряжении военачальника, им приказано было поддерживать
мужество и свирепость в сражавшихся. Решительно все вокруг
раскрашивалось в красный цвет, пока не истощились запасы
краски. Каждые два-три дня устраивались дикие военные
пляски, участники которых с большим азартом избивали друг
друга, или же «воющие сборища» для устрашения врага. Эти
сборища должны были поддерживать в нашем народе боевой
дух. Мудрецы и старшие в роде перечисляли преступления и
пороки врагов под громкие крики одобрения и негодующие
возгласы всего племени. Выкрики ораторов тонули в диком вое
присутствующих; не присоединиться к нему значило навлечь на
себя тяжкое подозрение.
Наши ораторы в своих филиппиках против врага выставляли
главным образом три обвинения, изобличая три основных его
греха. Во-первых, они людоеды. Это обвинение неизменно вызы-
вало у слушателей взрыв бурного негодования. Оратор обычно
наклонялся вперед и многозначительно спрашивал:
— А вам хочется попасть в жертвенные котлы врага?
Вторым преступлением наших недругов были нечистоплот-
ность и скверные привычки. Третий грех состоял в том, что они
держали у себя семейство крупных, громко квакающих лягушек,
почитая их своими божественными повелителями,— по мнению
нашего народа, это было особенно гнусно и позорно. Отврати-
тельные звуки, производимые главой лягушиной семьи, его бес-
толковые прыжки и громкое шлепанье по воде противопостав-
лялись медленным, крадущимся движениям и благородному по-
ведению нашего симпатичного тотема. Переходя к практическим
135
вопросам, оратор доказывал, что единственный способ избежать
войн в будущем — это довести войну до победного конца, и под
конец начинал распространяться об огромных запасах жева-
тельного ореха, глины и плодов, которыми мы завладеем, когда
раздавим своих врагов. Так как уже чувствовался недостаток
во «всеочищающем орехе», то это обещание пробуждало в нас
самые заветные наши желания. Мы выплевывали кусочки де-
рева, которыми пытались заменить жевательный орех, и под-
нимали оглушительный вой, зорко следя, не отстает ли кто-
нибудь от общего хора.
Между тем военные действия развивались до крайности мед-
ленно. Как я уже говорил, граница проходила вблизи большого
водопада; поднимавшаяся в гору над. водопадом тропинка за-
росла колючим кустарником, была очень узкая и крутая. Над
этой тропинкой отвесные утесы вставали на добрую тысячу фу-
тов. Засев в э*гом месте, горсть людей легко могла бы задержать
целую армию, откуда бы та ни вздумала подступать. Наши
аванпосты продвинулись за выступ скалы, где обычно происхо-
дил обмен товарами, и прятались среди скал и в кустах; воины
наши вооружены были пращами и длинными деревянными жер-
дями, которыми намеревались сталкивать неприятеля с тро-
пинки под обрыв. Наши дозорные расставили капканы и опу-
тали сетями тропинку, уходившую дальше в горы. Неприятель
же наблюдал за нами с утесов над водопадом. В распоряжении
врагов были запасы твердого дерева, поэтому они обзавелись
длинными луками, чему мы не без оснований завидовали.
Стрелы их залетали в ущелье на добрую четверть мили, а стре-
ляли они замечательно метко.
Ни одна из враждующих сторон не обнаруживала желания
вступить в открытый бой. Время от времени один из наших вои-
нов, неосторожно высунувшись из-за прикрытий, падал, пронзен-
ный стрелой, и как-то раз один вражеский воин поскользнулся,
упал в реку и утонул. Мы,пытались было подбрасывать неприя-
телю отравленную рыбу, но вряд ли они попались на эту при-
манку. Враги не сходились в открытом бою, и война стала на-
поминать игру в прятки: меткие выстрелы, случайные убийства,
непрерывный гул и грохот наших барабанов и частый резкий
стук деревянных трещоток, которыми пользовались наши враги
наряду с барабанами. В сущности военные действия застыли на
мертвой точке, а боевым пылом охвачены были главным обра-
зом селения, находившиеся выше и ниже линии фронта.
Сомневаюсь, чтобы варварски разукрашенная фигура Ар-
дама хоть раз появилась в тех местах, куда могли залетать вра-
жеские стрелы; но в селении он развивал бурную деятельность.
Еще задолго до рассвета он выгонял на улицу всех новобранцев;
тощие, голодные, с изувеченными ушами, эти несчастные без
конца маршировали, то и дело спотыкаясь, дурацки высунув
язык и задрав кверху подбородок; если кто-нибудь падал без
136
чувств, его возвращали к жизни пинками и тумаками, а стоило
ему еще раз потерять сознание, как он становился жертвой
«укоризны». Народ то и дело созывали к алтарю богини, чтобы
огласить какое-нибудь новое воззвание, которое Ардам вкла-
дывал в уста нашему владыке, маленькому древесному ле-
нивцу. То наш повелитель запрещал своим верноподданным
жевать «всеочищающий орех», даже если его удалось бы раз-
добыть до появления звезд на небе; то он заявлял, что отныне
полосы красной краски должны накладываться на тело не вер-
тикально, а горизонтально; отступления от этого правила до-
пускались только по особому распоряжению главного штаба.
Начались также инквизиционные процессы против несчастных,
подозревавшихся в сочувствии неприятелю.
И вот Чит, за столом мудрецов (то и дело упоминая мое имя,
что меня весьма тревожило), начал поговаривать о возможно-
сти и преимуществах фланговой атаки на неприятеля с высоты
плоскогорья. Принять это предложение значило выразить по-
рицание затягиванию войны, поэтому Ардам встретил его
весьма неприязненно; но Чит горячо отстаивал свою любимую
идею и начал высмеивать образ действий Ардама, так что
военачальник пришел в ярость. Спор быстро перешел в шум-
ную ссору, в которую были втянуты и плешивые старцы, но они
всячески уклонялись от прямых высказываний.
С замиранием сердца я слушал, как Ардам упрекал Чита,
что ни он, ни я не идем на войну, а только чиним препятствия
военным властям; он допытывался, где мы были в прошлом
году, когда поднимались ыа горы якобы для того, чтобы высле-
живать мегатериев.
— Где вы были? — кричал он, стуча кулаком по столу.—
А ну скажите, за кого вы? Может, вы держите руку врага?
Плешивый, похожий на скелет старец что-то неодобрительно
промычал. Слюнявый прогнусавил: «Господа, господа!» — и
Ардаму волей-неволей пришлось смягчить свои обвинения; под
конец он только упрекнул нас в недостатке патриотического
рвения. Однако он нагнал на нас страху. Нам стало ясно, что
придется оставить планы о наступлении с высот плоскогорья и
проявлять побольше воинственного пыла. Чит воткнул в каждое
ухо по зубу акулы и украсил свой головной убор из пальмового
листа чудовищными узорами; а я выкрасил в красный цвет че-
реп ленивца, который носил на голове, приделал к нему два
яростно скошенных глаза, вылепленных из глины, и решил ни-
когда не расставаться со своим священным посохом.
Несмотря на все принятые нами меры, Ардам продолжал
жаловаться на наше бездействие. Он требовал, чтобы мне, как
всем остальным мужчинам, обрезали уши и покрыли все тело
татуировкой и шрамами, а затем отослали на фронт, где, обле-
ченный в шкуру, с черепом на голове, я делал бы воинст-
венные жесты, устрашая врага. Он уверял, что Священный
137
Безумец неприятеля стоит во главе войск у большого водопада
и яростно нас проклинает. Почему бы и мне не последовать его
примеру? Их стрелы не так уж часто попадают в цель. Правда,
нам с Читом удалось на этот раз увернуться, но мы почувство-
вали, что стали как бы отверженными и нам грозит немалая
опасность.
Мы избегали гулять вдвоем, чтобы не навлечь на себя по-
дозрений, но нас так ловко отстранили от дел, что мне поневоле
приходилось оставаться с Читом с глазу на глаз. Иногда мы
выходили вместе, но как можно реже, чтобы нас не заподозрили
в заговоре против мудрецов и Ардама. Чит все это время был
чрезвычайно осторожен в разговорах со мной; но один раз он
все же высказал явно изменническую мысль. Мы бродили с ним
по лощине, среди камней и утесов; некогда здесь произошел
обвал, но теперь обломки скал густо заросли кустарником; то и
дело встречались ручьи, впадавшие в основной поток, и глубокие
озерца. Поднявшись на холм, мы увидели вдали водопад.
— Я думаю, что их воины ничуть не умнее наших,— раз-
мышлял вслух Чит.— Сколько им ни толкуй, все равно не пой-
мут. Все солдаты одинаковы,— продолжал он, подводя итог
своим скудным наблюдениям.— Что тут поделаешь!.. Да, если
бы мы напали на них с плоскогорья, мы наверняка кончили бы
войну в каких-нибудь шесть дней и здорово бы утерли нос
Ардаму...
Даже теперь, вспоминая эту войну дикарей, я испытываю
тяжелое чувство отчужденности от своих собратьев, и мне ка-
жется, что я вновь брожу один как перст по извилистой пустын-
ной лощине, среди обломков скал, тоскуя по цивилизации и
сознавая, что за мной наблюдают и мне грозит какая-то опас-
ность, и в ушах у меня несмолкаемо звенит адский, бессмыслен-
ный барабанный бой.
«В чем я провинился? — спрашивал я себя.— Что я сделал?
Почему моя жизнь должна так рано оборваться в этой варвар-
ской стране? Ведь не для того я родился на свет, наделен ка-
кими-то силами, возможностями и желаниями, чтобы стать
пешкой в руках Ардама и его слабоумных друзей! Неужели я до
конца дней останусь жить в этом пустынном ущелье, среди де-
рущихся идиотов, где я никому не могу принести пользы и вы-
нужден молчать? Неужели у меня больше ничего нет впереди?
Неужели я так никогда и не увижу больших городов, о которых
мечтал в юности, не внесу своей скромной лепты в сокровищ-
ницу человеческого труда? Неужели никогда не встречу любви
и настоящей дружбы и мне придется всю жизнь притворяться,
соблюдать законы и обычаи, которые в душе презираю, и быть
посмешищем для всех людей? Спрашивается, зачем я родился,
зачем меня произвели на свет?»
В то время я и не подозревал, какие странные приключе-
ния еще готовит мне судьба.
138
9
ПЕЩЕРА И ДЕВУШКА
Лощина, где я одиноко бродил в эти страшные дни, отлича-
лась дикой красотой, там были живописные утесы, маленькие
озера и заросшие цветами болота. Особенно часто встречалось
ползучее растение, напоминавшее нашу росянку, но гораздо
крупнее и прожорливее. Оно расстилалось коврами на болоти-
стых местах, и я избегал ступать на его цепкие, жадные ли-
стья. Эти липкие, похожие на руки листья ловили не только
мух, как наша росянка, но и ящериц, бабочек и даже неболь-
ших птичек. Высохшие шкурки и кости этих маленьких жертв
повсюду валялись на болоте. Кое-где виднелись густые ярко-
синие пирамидальные купы чертополоха и кусты ежевики, по-
крытые крупными ягодами. Росло множество душистых трав
и цветов. Кругом поднимались голые скалы, порой подернутые
легкой дымкой. Когда около полудня солнечные лучи неожи-
данно проникали в лощину, расстилавшаяся передо мной кар-
тина напоминала мне беспорядочную груду разноцветных шел-
ков у подножия гигантского готического собора. И тут, в глу-
боких озерах, я нередко купался.
Однажды я сделал открытие, которое взволновало меня и
Чита и посулило нам новую возможность поскорее покончить
с войной; несколько дней мы жили этой надеждой.
Это была огромная ра.сселина в горе. Мне случалось не раз
проходить мимо сводчатого отверстия в скале, откуда вытекал
прозрачный ручей, но мне как-то не приходило в голову туда
заглянуть. Но однажды днем, тревожно размышляя о новых
угрозах Ардама, я забрел в это место, и вдруг меня осенила
мысль, что эта пещера может служить надежным убежищем.
Я вошел в ручей, идя по колено в воде, проник в отверстие
скалы и побрел дальше вверх по течению. Через некоторое
время я очутился в большой пещере. Осторожно пробираясь
вперед, я вскоре почувствовал, что нахожусь в огромном пу-
стом пространстве. Опасаясь свалиться в пропасть, я все время
шел по дну ручья. Безопаснее всего было ступать по дну.
Я чиркнул спичкой и спугнул целую стаю летучих мышей, ко-
торые притаились наверху, среди сталактитов. Насколько мне
удалось разглядеть сквозь вихрь бешено кружившихся крыльев,
пещера была очень велика, и там высилось множество сталаг-
митовых колонн и каменных глыб.
Мне не хотелось тратить спички, а я не догадался захва-
тить с собой факела; и так я продолжал свои исследования
впотьмах, прислушиваясь к журчанию ручья и зная, что, если
встретится обрыв или порог, вода предупредит меня шумом и
плеском. Внезапно, в отдалении, я увидел бледный свет и мед-
139
ленно направился к нему. Свет пробивался откуда-то сверху,
и вскоре я догадался, что пещера не что иное, как огромная
расселина, в которую местами проникают солнечные лучи.
Поднимавшееся кверху дно расселины, по которому протекал
ручей, напомнило мне железнодорожное полотно, проходящее
в гористой местности, то исчезающее в туннеле, то вновь появ-
ляющееся на свет. Однако следует добавить, что высота этой
трещины во много раз превосходила ее ширину. Многочислен-
ные выступы в стенах расселины, сближавшихся наверху,
почти скрывали небесную лазурь; солнечный свет, проникая в
лощину, отражался от скал и достигал дна, теряя свою яр-
кость, становясь похожим на бледные лунные лучи. Кругом,
даже в наиболее освещенных местах, царил какой-то призрач-
ный полумрак; по уступам каменной стены, откуда-то с высоты,
медленно, капля за каплей, стекала вода. В сумеречном свете
скалы поблескивали, как алебастр.
На следующий день я привел сюда Чита. Мы сделали фа-
келы из терновых сучьев, нарубленных нами в чаще, и про-
никли как можно глубже в пещеру, но нам так и не удалось
найти выхода ни к селению племени, обитавшего в верховьях
реки, ни на плоскогорье. Несколько дней подряд мы исследо-
вали пещеру, упорно не желая примириться с мыслью, что эта
многообещающая расселина оказалась просто-напросто тупи-
ком. Правда, мы обнаружили несколько любопытных гротов
и множество грибов, очень хороших на вкус, а вскарабкавшись
на уступы скал, нашли там гнезда морских птиц и немало
яиц. Хотя эта пещера и не имела второго выхода, она все же
могла послужить нам надежным убежищем, в случае если бы
одержимый манией войны Ардам стал нас слишком уж
донимать.
Не могу припомнить, сколько прошло времени с этого
момента до того дня, когда благодаря счастливой случайности
мне удалось бежать с острова Рэмполь. Воспоминания мои об
этих зловещих днях войны, так сказать, свалены в кучу и со-
вершенно бессвязны. Однажды после обеда, бродя по лощине,
я присел отдохнуть на скалистом берегу одного из самых боль-
ших и глубоких горных озер. Мысли мои бесцельно блуждали,
как это всегда бывает, когда человек ничем не занят и не
имеет места в жизни. Вдруг я заметил в воде отражение жен-
ской фигуры и, подняв глаза, увидел девушку нашего племени,
которая бродила на- противоположном берегу озера, по колено
в густой зеленой траве. Ее блестящее стройное желтое тело
приковало мой взгляд и пленило воображение. Со все возра-
стающим интересом я следил за ее нерешительными движе-
ниями.
Глядя на нее, я принялся безудержно мечтать не только
о бесконечных наслаждениях и восторгах, какие мне сулила
близость с ней, но и о прочной дружбе и душевном покое.
140
А вдруг этот росток жизни окажется не дурно пахнущей ди-
каркой, а прелестной девушкой, каким-то чудом явившейся
сюда из моего полного надежд прошлого? Моя изголодав-
шаяся по участию душа тешила себя самыми фантастическими
надеждами и мечтами.
Девушка, казалось, искала удобного места на берегу
озера, и вот она его нашла. Большой обломок скалы вда-
вался далеко в озеро; она дошла до края утеса, с минуту по-
стояла в задумчивости, потом, взмахнув руками, бросилась
в воду.
Несколько мгновений я сидел неподвижно, как зритель в
кинематографе, но вот древние традиции рода Блетсуорси про-
снулись во мне, я сбросил свой головной убор и шкуру и стрем-
глав кинулся к озеру. Мы должны спасать утопающего, хотя
бы рисковали при этом утонуть. Это наш самый священный
долг. Мне еще никогда не приходилось вытаскивать кого-
нибудь из воды, и я был совершенно не подготовлен к
такому деянию, однако бросился в воду и поплыл к уто-
пающей.
Вытащить испуганную, отбивающуюся, сильную молодую
женщину из глубокого озера — довольно трудная и опасная
задача. Я отчаянно боролся с ней, пытаясь удержать это креп-
кое гибкое тело, она хваталась за меня и тянула за собой в
воду. Я начинал захлебываться и старался припомнить все, что
мне приходилось читать и слышать о такого рода случаях. Мне
пришло в голову, что надо оглушить ее, я нацелился было ку-
лаком в ее темя, но только хватил ее по лицу. Ее смазанное
жиром тело выскальзывало у меня из рук, и, цепляясь обеими
руками за мои ноги, она сильно мне мешала. В уши набра-
лась вода, и мне слышался то глухой рокот толпы, то свист
пара, вырывавшегося из паровозного клапана. Потом почу-
дился пароходный гудок. Призрачная лодка, наполненная
людьми, проплыла мимо. Видимо, от чрезмерной усталости у
меня начались галлюцинации. Я чувствовал, что подвиг спасе-
ния утопающей превращается в бессмысленную борьбу. Я уже
начал терять сознание и захлебываться, как вдруг почувство-
вал под ногами дно. Нас прибило к берегу! В этом месте вода
была всего по шею. Последнее отчаянное усилие — и я осво-
бодился от вцепившейся в меня девушки, встал на ноги, из-
верг из себя, как тритон на античном фонтане, целый каскад
воды, перевел дыхание, затем схватил ее за руку и поволок за
собой.
Мы стояли с ней по грудь в воде. Она все еще не могла
прийти в себя. Откинув назад черные мокрые волосы, она
взглянула на меня широко раскрытыми, удивленными глазами
и упала без чувств мне на руки.
— Скорей на берег! — задыхаясь, пробормотал я, поднял
девушку и вынес ее из воды.
141
Она была в глубоком обмороке. Мне стоило немало трудов
вытащить ее из воды, так как берег был крутой и обрывистый;
вскарабкавшись наверх, я в избытке усердия проволок ее не-
сколько ярдов по склону холма, заросшему душистыми тра-
вами. Тут я бросил ее на землю, словно какой-то тюк, и тя-
жело опустился на землю рядом с ней. Несколько минут я ни-
как не мог отдышаться и сидел в каком-то оцепенении. Мне
казалось, что с каждым вздохом воздух превращается у м-еня в
горле в мутную, темную воду.
— Боже ты мой! — вырвалось у меня.— А ведь в книгах
все совсем по-другому.
И вдруг мне стало мерещиться, будто мы находимся не на
берегу озера, а в каком-то другом месте. Я протер глаза и осмо-
трелся по сторонам, но увидел перед собой лишь зеленый склон
холма и горное озеро, окруженное зубчатой стеной скал. Я от-
кашлялся и выплюнул воду. Мало-помалу дыхание восстано-
вилось и силы вернулись ко мне. Но что теперь делать с этим
бездыханным телом?
Не могу припомнить, что именно я предпринял. Помню
только, что в уме у меня всплыли слова: «способы оживле-
ния», и я принялся делать ей искусственное дыхание, подни-
мая и опуская руки,— и красивые же у нее были руки! Когда
это не помогло, я стал растирать ей грудь и все тело травой,
чтобы восстановить кровообращение; на ее теле не оставалось
и следов рыбьего жира,— и от нее исходил чудесный аромат,
напоминающий запах вербены.
— Дай мне умереть! Ах, дай мне умереть! — проговорила
она.
— Вздор! — задыхаясь, бросил я.
— Они опять меня поймают,— сказала она.
— Да ну их к черту! — воскликнул я.— Я тебе помогу.
— Очень нужно из-за меня беспокоиться. Все равно я по-
гибла!
Она объяснила мне, что ее преследует и мучает Ардам.
— Я не могу полюбить его. Я его боюсь. Разве я могу ис-
полнять его желания, когда вся дрожу от страха?
Тут я заметил у нее на руках синяки, а на плечах свежие
рубцы.
— Он все равно убьет меня,— сказала она, и в глазах
ее блеснул такой ужас, что я поднял ее на руки и отнес
на прогалинку среди кустов, где мы не были так на
виду.
Там я бережно опустил ее на землю и уселся рядом с ней.
Я продолжал свои растирания, но мало-помалу они смени-
лись нежным поглаживанием. Я увидел, что она очень хороша
собой.
Она прижалась ко мне, и казалось, ей вовсе не хочется,
чтобы я ее отпустил. Я начал ее разглядывать,— и меня пора-
142
зила какая-то теплая прелесть ее лица, стройной шеи и всего
тела. У нее были прямые брови и маленький, нежно очерчен-
ный рот. Но вот яркие лучи полуденного солнца ворвались в
ущелье, и наше убежище залило ослепительным блеском.
В этот миг глаза наши встретились, словно спрашивая, чего
же .мы хотим друг от друга.
Только раз в жизни, в далеком Оксфорде, я видел такое же
выражение в глазах у девушки. Но на этот раз призыв не ос-
тался без ответа.
10
БЕГЛЕЦЫ
С этого дня моя жизнь резко изменилась. Я рассказал о
своих приключениях все, что сохранилось у меня в памяти.
Я описал свое бегство из культурной среды на край света в
этот дикий мир, где меня на каждом шагу подстерегали опас-
ности. Затем в судьбе моей произошел внезапный поворот.
Бросившись в воду, я как бы принял крещение, и для меня
началась новая жизнь.
В блеске солнца и в упоительном аромате трав я обрел
другое тело, которое было плотью от моей плоти, другое сердце,
которое билось в унисон с моим, испытывая те же радости и те
же страхи; обрел подругу, чьи глаза с живым участием сле-
дили за каждым моим движением, чьи надежды и опасения
были мне бесконечно близки и чье тело принадлежало мне.
Мы приблизились к этому озеру с разных сторон, не зная
друг друга; мы покинули его, навеки соединенные любовью.
Мы должны были держаться вместе и всеми силами помо-
гать друг другу; теперь нам обоим грозили жестокие пытки
и смерть.
Уэна — так звали мою подругу — была собственностью
Ардама, и согласно господствующим на острове законам он
мог делать с ней все, что ему заблагорассудится. А я нанес
диктатору неслыханное оскорбление. Уэна считала, что мы
должны бежать куда-нибудь подальше или же одновременно
лишить себя жизни. Но близость девушки пробудила гнев и
отвагу в моей душе, и я уже начал подумывать об открытой
борьбе с военачальником.
— Нет,— возразил я,— нам незачем скрываться! Ты вой-
дешь в мою хижину как моя жена! Я — Священный Безумец,
и все, что мне принадлежит, священно и является табу!
Надев на голову череп ленивца и накинув на плечи шкуру,
я с посохом в руке направился к поселку; Уэна следовала за
мной, вся трепеща от ужаса и восторга.
143
Мы вышли на проторенную тропинку, которая вела от во-
допадов к селению, и внезапно повстречали Чита. При виде
нас он остолбенел. Властным, решительным тоном я сообщил
ему о своих намерениях и о перемене в моей жизни. Он при-
шел в ужас и стал горячо меня отговаривать. Ардам поднимет
против меня все племя; я возразил, что подниму все племя про-
тив Ардама. Но Чит лучше меня знал свой народ и умолял
меня действовать осмотрительно.
— Она спрячется у меня в хижине,— заявил я.
— Так иди же туда поскорей,— сказал Чит.
Как раз в это время все племя собралось перед храмом
«Великой богини» на митинг для единодушного вытья, и по
дороге мы не встретили ни души. Я, как сейчас, слышу
гнусавые голоса ораторов, доносившиеся с верхней открытой
площадки, которые по временам покрывал дружный вой
всего племени; они ни на минуту не замолкали, пока мы
шли по безлюдной нижней тропинке. Чит расстался с нами,
направившись на военное собрание, чтобы узнать, что делает
Ардам.
— Войди в мою хижину, это твой дом,— сказал я, раздви-
гая заслонявший вход тростник, и нежно обнял ее в полумраке
моего убежища.
Неужели же все это мне только приснилось? Неужели
новая жизнь была лишь плодом фантазии?
Как это было чудесно — прийти в уединенную хижину и
уже не быть в одиночестве, чувствовать ласку и заботы чело-
веческого существа, которое мне принадлежит, видеть, как Уэна
суетится около очага, приготовляя обед.
Но вот появляется вернувшийся с собрания Чит, вид у него
встревоженный и решительный.
— Они ищут пропавшую девушку Ардама,— сообщает он.—
Они думают, что ее похитил неприятель. Умоляю тебя, беги
отсюда и спрячься с ней в пещере, которую мы с тобою нашли.
Теперь, когда она стала твоей,— зачем тебе умирать?
Он исчезает. Вышел наружу послушать, что творится в се-
лении. Потом его широкое лицо снова появляется в двери хи-
жины.
— Спустись вниз, там, у берега,— челнок. Когда сюда при-
дут за тобой, ты будешь уже у водопада. А мне здесь нельзя
оставаться. Мы скоро увидимся.
Мы слышим, как он пробирается сквозь кустарник, уда-
ляясь от хижины. Я прижимаю к себе свою подругу. Я готов
оказать отчаянное сопротивление врагам в дверях моей хи-
жины. Но она несогласна.
— О господин мой, я хочу жить! — заявляет она.— Теперь
я так хочу жить! Бежим с тобой отсюда, как советовал нам
Чит!
144
Я чувствую, что и мне хочется жить.
И вот мы спускаемся ползком по обрыву к реке и быстро
находим лодку Чита. Сгущаются сумерки, в темноте мечутся
факелы наших преследователей. Перекликаются голоса. Уда-
рили в набат, и в тишину врезается острый свист. Мы уже в
челноке, я хватаюсь за весла. Вдруг вспыхивают какие-то
странные огни. Огромные зеленые светляки то загораются, то
гаснут в густом синем мраке. Река шумит, словно взволнован-
ная толпа, и в ее быстрых струях причудливо отражаются
вспышки огней. Мы гребем изо всех сил, но вот перед нами пе-
нистый порог. На мгновение мы останавливаемся, потом нас
вновь подхватывает течением. Кажется, не будет конца этой
борьбе со стихией. Все громче доносится рев водопада, заглу-
шая все звуки. Мы выбрались на берег и, пригнувшись к земле,
бежим к озеру, разыскивая глазами вход в расселину. Вдруг
что-то больно ударяет меня в плечо, и я падаю. Меня прон-
зила большущая стрела, пущенная сверху. Уэна вытаскивает
стрелу и помогает мне подняться на ноги. Она гладит меня по
плечу, и руку ее обагряет кровь.
— Пещера,— бормочу я,— расселина!
Сладкий запах вербены щекочет мне ноздри. Я вижу по-
лоску небесной синевы, отраженную в озере. Где-то далеко по-
зади слышится шум погони.
Но мы уже около отверстия, где ручей выбивается из скал.
Теперь мы в безопасности. В обширной пещере прохладно
и темно; но внезапно меня охватывает слабость.
— Иди по руслу,— говорю я и тут же спотыкаюсь и падаю.
Уэна несет меня, и ноги мои волочатся по воде. Далее в
моей памяти пробел, но, должно быть, я все-таки указывал ей
путь. Вот я лежу на ложе из каких-то веток и душистых трав,
а она, склонившись надо мной, кормит меня из миски. Меня
ничуть не удивляет, что откуда-то появилась миска. Светло,
как днем, и пещера почему-то очень похожа на уютную про-
сторную комнату. Под головой у меня подушка. Наши глаза
встречаются.
— Скушай еще,— говорит она,— это тебе полезно.
Я проглатываю еще ложку и, приподнявшись, сажусь в по-
стели. Плечо у меня забинтовано, болит и как-то странно одере-
венело.
— Но где же это мы? — спрашиваю я.
— У себя дома,— отвечает она.— И...— Она кладет свою
прохладную руку мне на лоб.— Жара больше нет? Ты узнаешь
меня, Арнольд?
— Ты — Ровена. Но скажи мне, где же я?
— На Бруклин-Хайтс... Съешь еще ложку.
— В Нью-Йорке?
— Ну конечно, в Нью-Йорке!
Ю I • Уэллс, т. 2
145
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,
повествующая о том, как необычайно преобразился остров
Рэмполь, как мистер Блетсуорси вернулся в лоно цивилизации;
как он мужественно сражался, был ранен и чуть не погиб
смертью храбрых в мировой войне за цивилизацию; о его жене
Ровене; о его детях; как он нашел себе занятие; о его заме-
чательной беседе со старым приятелем, в конце которой
были высказаны мысли о жизни человеческой, обещанные еще
на титульном листе этой книги
1
РОВЕНА
Я перестал расспрашивать и доел суп.
Она коснулась моей руки и повторила:
— Да, у тебя больше нет жара!
Я молча попытался встать, и она так же молча помогла
мне. Я сел на краю кровати. Я был крайне озадачен: ведь это,
конечно, была та пещера, в которой она уже много недель
кормила меня, ухаживала за мною и охраняла. И в то же
время это была комната!
— Что это с моим плечом? — спросил я.
— Тебя сшибло такси, и ты поранил себе плечо.
•— Какое такси? Стрела!
— Да нет же. Такси. Я вытащила тебя из сточной канавы.
Я провел рукой по волосам. Тут я заметил новые стран-
ности.
— Ты одета по-европейски,— сказал я.
— Ну так что же? Нельзя же все время заниматься лю-
бовью.
— Но все-таки ты та женщина, которую я люблю?
•— Ну конечно!
Я напряг свою бедную, помраченную память;
— Я спас тебя, когда ты тонула?
— Да, в Гудзоне.
— В Гудзоне? С каким трудом я вытащил тебя из воды!..
Но ты стоила этого.
— Бедняжка, ты все перепутал! — И она поцеловала мне
руку снисходительно, как делала это уже тысячи раз.
Я с удивлением оглядывался по сторонам.
— Как удивительно освещен потолок! А раньше тут была
известковая скала. А вон те высокие серые утесы за окном —
не что иное, как огромные здания.
Я обратил внимание на странный аромат.
146
-— Где-то здесь...— сказал я и оглядел комнату. На под-
оконнике стояли три цветочных горшка, и я знал, что в них
вербена.
Я встал на ноги, и она меня поддерживала, так как ноги
у меня подкашивались. Мы подошли к окну, и я увидел кар-
тину одновременно и чуждую и знакомую. Над рекой, избо-
рожденной множеством быстро снующих судов, вздымались к
небу величавые громады Южного Нью-Йорка, странно воздуш-
ные в ласковом, теплом предвечернем свете. Обняв рукой за
плечи, она поддерживала меня, пока я смотрел из окна.
— Неужели у меня был бред? — спросил я.— Неужели все
это мне приснилось?
Она ничего не ответила, только еще крепче меня обняла.
— Это Нью-Йорк. Ну конечно, это Нью-Йорк!
— Вон там Бруклинский мост.
— Так это не остров Рэмполь?
Она молча покачала головой.
— Это мой цивилизованный мир?
— О любимый мой! — прошептала она.
— Так, значит, остров Рэмполь и эти жестокие, безнадежно
тупые дикари — все было сном, фантастическим сном!
Она заплакала. Быть может, она плакала, радуясь, что я
очнулся от мучительного бреда.
2
ОБЪЯСНЕНИЯ ДОКТОРА МИНЧИТА
Легкая дымка сомнений заволакивала в первые минуты
после пробуждения ослепительное сияние вновь обретенного
мною мира. Я отвернулся от окна, так как мне было трудно
стоять. Она помогла мне сесть в небольшое кресло, у которого,
как я почувствовал, не хватало одного колесика.
— Все эти ужасы, война, зверства, Ардам — все мне только
приснилось?
Ровена не ответила. Отвернувшись от меня, она смотрела
на дверь. Послышался стук, которого она, повидимому, ожи-
дала.
— Войдите! — крикнула она, и на пороге появился муж-
чина с широким загорелым лицом, очень похожий на прорица-
теля Чита, но только чисто вымытого и причесанного по брук-
линской моде. Он остановился в дверях, внимательно глядя на
нас. Это был Чит — и в то же время не Чит! Я знал, что сей-
час услышу знакомый глуховатый басок Чита.
Ровена обратилась к нему с сияющим видом:
— Ему гораздо лучше. Теперь мы ужё ,пе в пещере. Пред-
ставьте себе! Сейчас он смотрел в окно! .Он узнал Нью-Йорк!
10* 147
Посетитель, широкоплечий и коренастый мужчина, прибли-
зился и испытующе посмотрел на меня глазами Чита.
— Вы находитесь в Бруклине!
— Я нахожусь в некоторой неуверенности...
— А вы знаете, кто я такой?
— Я называл вас Читом.
— Сокращенное Минчит. Доктор Алоиз Минчит, к вашим
услугам!
Он подошел к окну и остановился, глядя на реку. Говорил
он со мной через плечо, не глядя мне в лицо, словно опасаясь
смутить меня.
— Сколько раз я вам говорил, что это — реальный мир!
И сколько раз вы мне отвечали, что это остров Рэмполь! При-
знаюсь, я потерял всякую надежду. И вот эта молодая леди
сделала то, чего не могли добиться ни я, ни другие нью-йорк-
ские психиатры. Выбрав момент, когда вы бродили в одиноче-
стве по высокому берегу Гудзона, она бросилась в реку, после
чего к вам вернулось сознание. И вот вы оба здесь, осмелюсь
сказать, в полном туалете и в здравом уме!
При этих словах он улыбнулся, глядя на Ровену, а затем
посмотрел мне прямо в лицо.
— Итак? — проговорил он, пытаясь мне помочь. Он присел
на край стола с видом человека, у которого свободного времени
хоть отбавляй.
— Простите, если я буду говорить бессвязно,— начал я
медленно, взвешивая каждое слово.— Я, праве, не знаю, как я
попал сюда. Я хотел бы знать, каким образом я очутился здесь
и вот смотрю из окна на остров Манхэттен,— ведь я думал, что
нахожусь далеко от цивилизованного мира, совсем на другом
острове, у берегов Южной Америки. Порой я теряю власть над
собой, и моя безудержная фантазия выкидывает невероятные
шутки. Что это еще за новая шутка?
— Больше не будет никаких шуток,— заметил доктор
Минчит.
— Так я был... ненормален?
— Ненормальное,— изрек Минчит, точь-в-точь как остров-
ной прорицатель,— представляет собою лишь некоторое отступ-
ление, легкое искажение нормального.
— И эта ненормальность доходила до безумия?
— Оно не было... как бы это сказать? — органическим.
У вас нет никаких изменений в мозгу. Но у вас исключитель-
ная психика. Вы необычайно чувствительны и склонны к неко-
торому раздвоению. А я как раз занимаюсь изысканиями в этой
области. Вы являетесь для меня прекрасным материалом для
изучения.
Я оглянулся на Ровену. По выражению ее лица я понял,
что могу продолжать расспросы. И я вновь обратился к док-
тору:
148
— Был я вашим Священным Безумцем?
— Так или иначе вы находились на моем попечении.
— Но где же это я находился на вашем попечении?
— Здесь—в штате Нью-Йорк, когда вас привезли сюда.
Главным образом в Йонкерсе. В психиатрической клинике
Куина.
— А как же остров Рэмполь?
— Такой остров существует. Вы, должно быть, слышали это
название, после того как вас спасли.
— Ия был там?
— Возможно, что пробыли там часок-другой. Вы могли
сойти на берег с лодки, которая подобрала вас с «Золотого
льва».
— И вы вполне уверены, что это не остров Рэмполь?
— Нет, нет,— вмешалась Ровена.— Это подлинный мир.
Самая настоящая действительность!
Я обернулся и посмотрел на нее. Какая она хрупкая и пре-
лестная!
— И этот мир ты изо всех сил старалась покинуть! — про-
говорил я, пытаясь кое-как связать разрозненные факты.—
Ты хотела утопиться. Почему ты хотела утопиться?
Она подошла ко мне, присела на ручку кресла и, обхватив
мою голову руками, прижала ее к своей груди.
— Ты спас меня,— прошептала она.— Ты бросился в во-
ду и спас меня. Ты ворвался в мою жизнь — и спас меня
навсегда.
С минуту мне казалось, что я начинаю что-то понимать, но
тут же мне стало ясно, что я ничего не понимаю. Меня мучили
неразрешимые загадки.
Повернувшись к доктору Минчиту, я снова извинился, что
говорю так бессвязно. Я попросил как следует растолковать
мне, в чем дело, но тут у меня закружилась голова, и я уселся
на кровать.
— Должно быть, я болен,— обратился я к доктору Мин-
читу.— Расскажите мне историю моей болезни. Расскажите,
как это я с острова Рэмполь внезапно перепрыгнул в Нью-
Йорк.
С минуту Минчит молчал, видимо обдумывая свой ответ.
— Я очень рад, что могу, наконец, говорить с вами вполне
откровенно,— заметил он.— Я считаю, что вы должны все
знать.
Но доктор не сразу начал свои объяснения; спрыгнув со
стола, он принялся шагать взад и вперед по комнате.
— Да? — нетерпеливо сказал я.
— Ему надо как следует подумать,— сказала Ровена в
его оправдание.
— Помните ли вы, что находились на покинутом корабле
«Золотой лев»? Можете ли это припомнить?
149
— Все как есть. Капитан бросил меня на произвол судьбы.
— Бросил на произвол судьбы?
— Он запер меня в каюте, когда лодки отчаливали.
— Гм... я этого не знал. Он запер вас в каюте! Вы потом
мне об этом расскажете. Как бы то ни было, вас обнаружили
на этом корабле матросы с паровой яхты «Смитсон». На этой
яхте находились исследователи, собиравшие кой-какой науч-
ный материал на островах Южной Атлантики и на Огненной
Земле. С этого и начинается мой рассказ! Двое наших мат-
росов нашли вас у пароходной трубы; вы спали, а когда они
вас разбудили, вы громко закричали и кинулись на них с то-
пориком. Вы были — что правда, то правда — совершенно не-
нормальны.
— Но...— начал было я, и осекся.— Продолжайте.
— Вы представляли собой несколько громоздкий экземп-
ляр, не совсем удобный для «Смитсона»...
— Постойте,— прервал я его.— Когда все это было?
Он прикинул в уме.
— Около пяти лет назад.
— Боже мой! — вырвалось у меня, а Ровена сжала мне
руку, выразив свое сочувствие.
Доктор Минчит продолжал:
— Повторяю, вы, мягко выражаясь, представляли собой
весьма неудобный экземпляр. Начальник нашей экспедиции по-
ручил мне вас, так как я по профессии психиатр, и я изо всех
сил старался приспособить вас к нашей обстановке. Я нахо-
дился на яхте в качестве этнолога. Незадолго перед тем
у меня были тяжелые переживания, и я отправился путешест-
вовать, чтобы отдохнуть. Я прекрасно знал начальника экспе-
диции...
Он снова замолчал, видимо обдумывая, что мне в первую
очередь рассказать.
— Сущее наказанье было с вами! — опять заговорил он.—
Захватив вас с парохода, лодка заехала в залив острова Рэм-
поль, тут-то вы и увидели этот остров. Вы кричали в бреду,
что потеряли свой мир, что мы — кровожадные дикари и рас-
крашенные людоеды. Вас доставили на борт «Смитсона», и мне
предложили либо угомонить вас, либо держать под замком в
каюте. Как профессионал, я заинтересовался вами с первой же
минуты. Мне думалось, что, так сказать, физически вы вполне
нормальны, то есть у вас нет никаких органических изменений
в мозговых клеточках. С вами, очевидно, дурно обращались,
и вы пережили сильное потрясение. Вот почему ваш рассудок
перестал нормально функционировать и все ваши понятия пе-
репутались. Я полагаю, что если б я позволил им сделать то,
что они хотели, то есть запереть вас в каюту, то вы стали бы
колотить в дверь — и это, пожалуй, доконало бы вас. Вы смер-
тельно боялись, что вас запрут в каюту. Помните вы это?
150
Я тщетно напрягал память:
— Нет.
Потом прибавил менее уверенным тоном:
— Не-ет...
Я начал смутно припоминать, как пытался выбраться из за-
пертой каюты. Но ведь это было на «Золотом льве»!
— Приходилось вам потакать,— продолжал он.— И нельзя
сказать, чтобы вы возбуждали к себе симпатию, вы ненавидели
весь род человеческий, называли нас шайкой грязных дика-
рей, и... Словом, не слишком с нами церемонились. Если бы не
я, вас, конечно, высадили бы на берег при первой же возмож-
ности... Но я заявил, что вы не просто тяжелый субъект; а дра-
гоценный объект для научных исследований, и это заставило
их примириться с вашим присутствием. Так мы и возили вас
с собой, пока не привезли сюда. Я решил поместить вас в ин-
ститут Фредерика Куина в Йонкерсе, чтобы наблюдать и изу-
чать вашу болезнь. В Европе почти не имеют понятия о том,
на каком высоком уровне находится у нас психиатрия. Мы изу-
чаем и наблюдаем самые разнообразные типы душевных забо-
леваний. У меня были кое-какие затруднения — приходилось
оформлять вас как иммигранта и вести переписку с вашим опе-
куном, проживающим в Лондоне; но мне удалось все уладить,
и с этих самых4 пор вы непрерывно находились под моим на-
блюдением в Йонкерсе, а затем в Нью-Йорке. Ваш опекун не-
плохой человек. Он попросил своих знакомых проведать вас
и, убедившись, что с вами хорошо обращаются, почувствовал
ко мне доверие, предоставил свободу действий и к тому же
оплатил все расходы. Денег на вас хватило. За это время вы
получили кое-какое наследство, и теперь вы довольно состоя-
тельный человек. Все счета у меня в полном порядке. Мне по-
надобилось два года, чтобы доказать, что вы ничего с собой не
сделаете и не опасны для окружающих. Наконец, вас выпу-
стили из клиники под мою ответственность, и вы поселились в
собственной квартире.
— Вот в этой самой?
— Вы сюда переехали после того, как познакомились с
нею.
— Это моя квартира,— шепнула Ровена.— Ты снял ее для
меня и отказался от своей.
Я задумался.
— Все это очень хорошо. Но почему же я ничего этого
не помню?
— Кое-что вы помните, но в искаженном виде. Я утверж-
даю, что вы представляете собой типичный случай «системати-
ческого бреда».
Тут он замолчал, ожидая, что я попрошу его продолжать,
что я и сделал.
151
Он остановился передо мной, засунув руки в карманы, точь-
в-точь как профессор перед группой студентов.
— Видите ли,— начал он и запнулся, сделав неопределен-
ный жест левой рукой.— Дело все в том...
Но я не буду подробно излагать его сложную теорию,—
это мне не по силам. Слушать скучные лекции —- удел студен-
тов. А эта повесть рассчитана на широкого читателя. Теория
Минчита или, если угодно, его объяснения основывались на
том, что наше восприятие внешнего мира не отличается чрез-
мерной точностью и вместе с тем всегда носит критический ха-
рактер. Мы всегда фильтруем и редактируем наши ощущения,
прежде чем они, так сказать, доходят до нашего сознания.
Даже люди, совершенно лишенные воображения, живут иллю-
зиями, бессознательно прикрашивая жизненные факты и тем
самым защищаясь от действительности. Наш ум отбирает впе-
чатления, отбрасывая все неприятное и оскорбительное для на-
шего самолюбия. Мы продолжаем редактировать и видоизме-
нять даже давно пережитое нами. То, что человек помнит о
происшедшем накануне, отнюдь не соответствует тому, что он
действительно видел или пережил в тот или иной момент вче-
рашнего дня. Все это ретушировано, подчищено и препариро-
вано по его вкусу и как того требует его самолюбие. Люди с
богатым воображением и те, которых воспитали, ограждая от
резких ударов действительности, порой совершенно искренне
искажают реальность, прикрашивают ее, истолковывают на
суеверный лад, облекают в фантастические одеяния.
— Поэтому-то вы меня так заинтересовали,— прибавил
Минчит, как бы извиняясь и подходя ко мне поближе.— Вы
чрезвычайно любопытный пациент!
Это было очень любезное признание.
Затем он спросил меня, приходилось ли мне слышать о слу-
чаях раздвоения сознания, о том, что в одном мозгу могут
уживаться две различных системы ассоциаций, иногда их даже
больше, и они проявляют себя совершенно независимо, так что
можно подумать, что в одно тело вселились две души. Я отве-
чал, что слыхал о таких фактах. В наше время они общеизве-
стны. Доктор заявил, что я представляю собой поразительный
пример раздвоения сознания. Моя основная личность получила
такую тяжелую травму в самом начале моего жизненного пути,
что укрылась под защиту фантазии, вообразив, будто грубость
и жестокость существуют только в одном отдаленном диком
уголке земного шара. Она упорно цеплялась за мысль, что уте-
рянный ею мир иллюзий все еще существует, она имела в виду
тот цивилизованный мир, из которого я был выброшен и куда
мне предстояло вернуться.
Я задумался над его словами и попросил его повторить все
сказанное. Потом согласился с доктором, но без особого энту-
зиазма.
152
В этих утешительных мечтаниях, говорил он, я пребывал
четыре с половиной года, в то время как моя второстепенная
личность, мое житейское «я», которое я усиленно игнорировал,
поддерживало мое существование, заставляя меня избегать не-
приятностей, во-время есть, даже заниматься делами, когда это
было необходимо. Правда, эта жалкая, второстепенная лич-
ность была все время чем-то озабочена, как говорится, в мрач-
ном раздумье, но действовала вполне разумно, хотя и мед-
ленно. Она читала газеты, могла поддержать разговор, но вела
обособленное существование, выполняя черную работу и об-
служивая основной комплекс моего сознания, поглощенный
фантазиями и мечтами. Порой она кое-что припоминала, но
тут же выбрасывала из сознания. Основное же мое «я» и знать
ничего не хотело об этих житейских мелочах, а если что и при-
нимало, то изменяло до неузнаваемости.
— Все мы в известной мере таковы,— добавил Минчит.—
Вы представляете такой интерес для науки именно потому, что
так последовательно, упорно и настойчиво отстаивали свою
фикцию.
— Да, да, все это весьма правдоподобно,— сказал я,— но...
послушайте, доктор Минчит! Ведь я совершенно реально вос-
принимал остров Рэмполь, осязал все находящиеся там пред-
меты, ел и помню вкус пищи. Я его видел так же отчетливо,
как вон тот ковер с полинявшим узором. Разве человек может
так всецело отвергнуть действительность и придумать все то,
что я видел,— утесы, горы, пиршества, погоню и мегатериев?
Я выслеживал мегатериев, и один из них гнался за мною.
Гнался по пятам. Мегатерии — это гигантские ленивцы. Сомне-
ваюсь даже, слышал ли я когда-нибудь о них до того, как по-
пал на этот остров!
— Это совсем нетрудно объяснить,— отвечал доктор.—
«Смитсон» разыскивал мегатериев. Это было нашей основной
задачей. Если остался в живых хоть один мегатерий, мы хо-
тели найти его раньше англичан. У нас только и было разгово-
ров, что о мегатериях. Мы постоянно беседовали о них. Наш
зоолог и палеонтолог прямо бредили мегатериями. Они показы-
вали нам рисунки. У них был череп молодого мегатерия, к ко-
торому пристали клочки кожи и кусочки помета. Теперь я вспо-
минаю: однажды вы прочли нам целую диссертацию об их
нравах и образе жизни! Поразительная выдумка! Необычайная
фантазия! Так вы думаете, что видели мегатериев?
— А разве их не было на острове Рэмполь?
— Мы не встретили ни единого.
Я был совершенно сбит с толку.
— Вы путаете сновидение с воспоминаниями о действитель-
ной жизни. Это случается чаще, чем думают.
Я опустил голову на руки, потом снова выпрямился.
— Я не утомил вас? — спросил он.
153
— Я ловлю каждое ваше слово,— ответил я,— хотя мне
еще далеко не все понятно.
— Это и не удивительно. Ведь я рассказал вам за каких-ни-
будь полчаса о результатах наблюдений, которые терпеливо
вел в течение четырех с лишним лет!
— Чит,— заметил я,— всегда был терпеливым наблюда-
телем... Но любопытно, откуда я взял этот его головной
убор!
Доктор не имел представления об этом замечательном го-
ловном уборе и пропустил мои слова мимо ушей. Он был слиш-
ком поглощен своим повествованием.
— Это была такая увлекательная задача — нащупать и
расчленить перепутанные комплексы сознания.
— Я рад, что это доставляло вам удовольствие,— ответил я.
— Например...— Он опять зашагал по комнате.— Я узнал,
что у вас очень сложная наследственность: с одной стороны —
старинная английская кровь, с другой — смешение сирийской,
португальской и отчасти крови туземцев Канарских островов.
В самом начале жизни вы пережили резкий перелом. Сперва —
безалаберное детство на Мадейре; затем спокойные отроче-
ские годы в Уилтшире, причем оба эти периода ничем не свя-
заны между собой. Даже язык ваш изменился. Вы потеряли
всякую связь с Мадейрой,— все это так. Но... под личиной ва-
шего английского «я» таилось иное существо — пылкое, буй-
ное, эгоцентричное, склонное к пессимизму,— правда, оно мало
себя проявляло и было как будто позабыто. Скажите, на ва-
шем острове Рэмполь была богатая субтропическая раститель-
ность?
— Да, множество деревьев, густые травы и яркие цветы,—
ответил я, подумав.— Горы были крутые и живописные.
— Но ведь настоящий остров Рэмполь — голая пустыня,—
сказал он.
Я оглянулся на Ровену.
•— Доктор очень проницателен,— сказала она.
— Он очень проницателен,— согласился я.
— Мы так часто это обсуждали,— заметил доктор Минчит.
Я взглянул на свои ноги, на бледноголубую полинялую пи-
жаму и на босые ступни. Я нашел руку Ровены и пожал ее.
Поглядел на горшки с вербеной, затем в открытое окно.
— Вы очень умный человек,— начал я.— Все здесь кажется
мне вполне реальным. Но не менее реален и остров Рэмполь.
Да, пока еще это так. Столь же реальны и блюда, которые я
там ел,— человеческое мясо. И завывание дикарей и война.
Скажите мне, где добывают пищу, которой меня здесь кор-
мят? Разве в этом мире нет «даров Друга»? И что это за война,
бессмысленная и страшная война, которой закончился мой
бред? Что это была за военная суматоха? Этот барабанный
бой и завывания? Неужели ничего этого не было? И почему ты,
154
дорогая моя, бросилась в воду? Тут в мой сон ворвалась твоя
реальная жизнь. Ведь он мне еще этого не объяснил, и ты ни-
чего не сказала, и я чувствую, что это не был сон.
— Нет,— отвечал он, внезапно остановившись.— Это...
имело свои основания...
— А война? — настаивал я.— Война?
— Дорогой мой! Дорогой мой! — повторяла Ровена, словно
пытаясь скрыть нечто не до конца понятное ей самой.
— У нее были неприятности,— нехотя вымолвил доктор.—
Она оказалась в большой нужде.
— А воитель Ардам?
Миичит заговорил лишь после долгой паузы,— но тем боль-
шее впечатление произвел его ответ.
— Почти весь мир,— сказал он,— реальный мир... сейчас
охвачен войной.
— А! Теперь я начинаю понимать! — воскликнул я.— Стало
быть, одно воспоминание цепляется за другое?
— Да,— согласился доктор.— Мы переживаем сейчас вели-
кое и трагическое время. Теперь вы, наконец, можете взять
себя в руки и взглянуть действительности в лицо.
— Так это реальный мир?
— Ну конечно.
— Реальный мир! — повторил я. Тут я встал и подошел к
окну; в его рамке виднелись высокие угрюмые здания вели-
чайшего из современных городов, озаренные багровым сия-
нием, и тысячи окон ярко горели, отражая закатные лучи.
— Теперь я начинаю понимать,— сказал я.
Минчит вопросительно посмотрел на меня.
— Я готов признать, что этот мир вполне реален.— При
этих моих словах в глазах доктора блеснула радость.— Но я
убежден, что остров Рэмполь тоже существует,— продолжал
я,— и он где-то совсем близко. Ведь что такое в конце концов
представлял собою остров Рэмполь? Это и был реальный мир,
проступавший сквозь туман моих иллюзий.
3
СНОВА БЬЮТ БАРАБАНЫ ВОЙНЫ
Как это ни странно, я никогда не расспрашивал свою жену
о том, какую жизнь она вела в Нью-Йорке и что привело ее
к решению покончить с собой, к безумному шагу, в результате
которого мы с ней сблизились. Меня всякий раз удерживало
какое-то неприятное чувство, да, видно, и ей было тяжело об
этом вспоминать.
155
В книге жизни, куда занесены все наши хорошие и дурные
поступки, есть страницы, которые никогда не хочется вновь
перечитывать. Я думаю, каждый со мной согласится. Кто из
нас, перевалив за тридцать, любит вспоминать грехи своей
юности, всякие безумства и позорные выходки?
Моя жена была прелестная, утонченная и благородная жен-
щина, правда несколько вспыльчивая, капризная и порой
склонная к безрассудству. Родилась Ровена в маленьком горо-
дишке Аллен-Лэй в штате Джорджия. Она была отпрыском
бедной семьи Эверет, но отец ее принадлежал к довольно знат-
ному роду Нисбет. Она убежала из отцовского дома. Родители
воспитывали дочь в старозаветном протестантском духе, но их
убедили отдать ее в колледж Рейда в Кеппарде. У нее рано
развилась ненасытная любознательность и любовь к чтению.
Она проглатывала все книги, какие попадались ей под руку,
и когда подросла, из нее получился настоящий бунтарь. Она
была умна и очень способна, а интеллектуальный уровень в
Кеппарде весьма невысок. Чувствуя свое превосходство и окру-
женная преклонением, какое в моде у галантных южан, она
слишком возомнила о себе и вообразила, что призвана повеле-
вать людьми и ей предстоит великое будущее.
Опасаясь последствий какой-то чересчур смелой шалости и
втайне помышляя о завоевании мира, она бежала в Нью-Йорк;
ей помог в этом молодой адвокат из Манхэттена, заведовавший
финансовой стороной дела в колледже Рейда. Он был весьма
передовых взглядов, хотя не находил нужным их высказывать.
Он так увлекся Ровеной, что забыл о всякой осмотрительно-
сти — оба ударились в безудержную романтику. Но в Нью-
Йорке осмотрительность снова вернулась к нему, и он предо-
ставил Ровене одной бороться за жизнь. Она привезла с собой
несколько рукописей, кое-какие рассказы и роман, которые в
дружеской атмосфере Джорджии казались «куда лучше всей
этой дребедени, что печатают у нас в журналах».
Не желая идеализировать Ровену в угоду иным любителям
сентиментов, я не стану превозносить ее литературное дарова-
ние и моральные достоинства. Как многие из нас, она была
эгоистична, тщеславна и ненасытна в своей жажде удоволь-
ствий. На редкость хорошенькая, живая и темпераментная, она
добивалась успеха в жизни, пользуясь этими своими качест-
вами, как иные мужчины пробивают себе дорогу своим умом
и энергией. Сомневаюсь, чтобы Ровена по-настоящему любила
своего адвоката, и, уж конечно, она была слишком горда,
чтобы удерживать его, когда он отвернулся от нее. Мне ду-
мается, вероятнее всего она сама дала повод к разрыву.
Увлекшись своей ролью покорительницы сердец, она попала
в неприятную историю с одним видным чиновником из депар-
тамента полиции. Излишне упоминать его имя для тех, кто
знает Нью-Йорк, и совершенно бесполезно для тех, кто незна-
156
ком с этим городом. Какой-то случайный флирт вызвал в нем
ревнивую ярость, и он начал преследовать ее, используя все
свое влияние и власть. На последнем этапе этих преследований
она решила, что река — наименее мучительный способ вы-
рваться из Нью-Йорка.
Пожалуй, иные сочтут, что Ровена была просто-напросто
наглой, не слишком удачливой авантюристкой. Но я реши-
тельно заявляю, что это не* так,— и уж мне ли не знать соб-
ственной жены? Допустим даже, что в юности у нее был из-
вестный вкус к авантюрам, но наряду с этим сколько прекрас-
ных задатков! Какие богатые возможности, какие сокровища
нежности и мужества таились в ее душе, когда она очертя го-
лову бросилась в быстрые мутные воды Гудзона!
Кажется, я мог бы проследить умственным взором, как в
ней развивались те или иные черты, как складывалась эта яр-
кая натура. Закрывая глаза на темные похождения романтиче-
ского периода ее жизни и мысленно переносясь в ее прошлое,
я вижу перед собой смуглого ребенка, открытого и доверчивого,
который резвится на улице под ярким солнцем юга, заливаясь
звонким, беззаботным смехом; потом — девочку-подростка,
усевшуюся на подоконник и жадно читающую книжку за книж-
кой; затем юную девушку, которая, забравшись с ногами на
кресло, в порыве вдохновения поверяет бумаге смелые идеи и
великие замыслы, какие осеняют каждого начинающего писа-
теля, оттачивая свою первую ядовитую остроту и свой первый
блистательный афоризм.
Я догадываюсь, что она мечтала об успехах в обществе, о
головокружительном триумфе, а также о принце, утонченном и
навеки ей преданном, который разделит с ней ее громкую
славу. И что встретила она в жизни взамен этого? Грубые
щелчки, неудачу за неудачей. Она была ошеломлена и сбита с
толку. Ее гордые надежды были растоптаны, смяты, но воля
не сломлена.
Словом, я вытащил из воды бездомное, одинокое и затрав-
ленное существо. Но в этом создании я обнаружил неистощи-
мые богатства любви и благодарности, нежности и преданно-
сти, глубоко запрятанные и совершенно нетронутые. Она с пер-
вого же взгляда показалась мне очаровательной, и я до сих
пор открываю все новую прелесть в ее живом, одухотворенном
лице. Как мне дороги ее выразительные черты!
Она отдалась мне в порыве благодарности и приняла меня
в свою жизнь, когда осознала, насколько я одинок, как далеко
ушел в мир бредовых иллюзий. На каждом из двух любящих
всегда лежит обязанность по мере сил заслонять от любимого
существа грубое лицо действительности. Оба мы нуждались в
защите от действительной жизни. Минчит, как тонкий психолог,
понял, что для меня будут на пользу отношения с ней, и раз-
решил мне соединить жизнь с тем существом, которому удалось
157
прорвать густую пелену бреда, отъединявшую меня от мира и
людей. Мы с Ровеной спасли друг друга.
Ровена долго не соглашалась выйти за меня замуж. Име-
новала себя «черепком разбитой вазы». (Так в одном из рома-
нов была названа падшая женщина.) Она готова была уха-
живать за мной как сиделка, совершенно бескорыстно, с тем
чтобы, когда я вернусь к нормальной жизни, покинуть меня.
Она собиралась незаметно исчезнуть, предоставив мне возмож-
ность жениться на какой-нибудь «хорошей» девушке.
В те военные дни, строго говоря, не могло быть нормаль-
ной жизни, и когда я вернулся из мира фантазий в этот урод-
ливо искаженный реальный мир, единственной подходящей
и возможной для меня ролью оказалась роль британского
солдата. Барабаны, все громче и громче отбивавшие дробь
среди воображаемых скал и водопадов, еще оглушительнее
загрохотали наяву.
Без сомнения, во время болезни я много читал и думал
о войне, следил изо дня в день за ее развитием, но ничего
этого сейчас не помню, так как был весь во власти упорного,
волнующего бреда. Я не испытывал ни малейшего желания
идти на войну. Не раз я бродил в лесу высоко над Гудзоном
или в Риверсайд-парке, остро сознавая свое предельное
одиночество и отчужденность от мятущихся, захваченных вой-
ною человеческих масс.
Но теперь, когда вопрос о моем здоровье был решен поло-
жительно, передо мною вставал другой насущный вопрос:
о возможной высылке из Соединенных Штатов и поступлении
в британскую армию. Минчит трезво и отчетливо обрисовал
мне создавшееся положение. Однажды он пришел к нам.
Ровена готовила чай, и мы втроем обсуждали вопрос,
что мне предпринять, если мое выздоровление окажется
прочным.
— Я хотел бы оставить вас здесь, и в любой миг я могу
дать вам свидетельство о болезни. Но мы,, американцы, народ
горячий, и если Америка ввяжется в войну, отношение к вам
может измениться.
— Одно я знаю твердо: как только это будет можно —
я женюсь на Ровене!
— Нет,— сказала она, останавливаясь с чайником в руке
на полпути между печкой и столом.
— Ты отказываешься, значит ты хочешь меня бросить! —
воскликнул я.
— Мы ее переубедим,— вмешался Минчит.
— Интересно знать, как это вам удастся? — спросила
Ровена.
— Я напишу рецепт! И превращу вас из хорошенькой де-
вушки в лекарство. Пропишу ему для лечения жену!
-- Я сойду с ума, как только ты меня бросишь,— заявил я.
158
— Какой смысл жениться, если тебя заберут в армию?
— Мне не страшен фронт, если ты будешь меня ждать.
— Ждать тебя...— проговорила она и замерла на месте с
чайником в руке, о чем-то напряженно раздумывая. Но вот
она поставила чайник на плиту. Потом медленно, как во сне,
подошла к столу и остановилась около нас. Только теперь ей
стало ясно, что произошло в этот вечер. Она тихо опусти-
лась на колени между мной и доктором. Схватив мою руку,
заговорила, обращаясь к Минчиту:
— Какой-нибудь час я была счастлива, доктор. Только
один час! Потому что он пришел в себя. А теперь я вижу, как
глупо быть счастливой! А как я была счастлива! Эта война
призывает всех мужчин во всем мире. О!.. Лучше не выздорав-
ливай, любимый, оставайся душевнобольным. Это единствен-
ный для нас выход. Пусть он остается ненормальным, доктор!
Я не пойду за него замуж. Я не хочу, чтобы он выздоровел
и имел право вступить в брак. Пусть лучше все будет попреж-
нему. Неужели я выходила его с таким трудом только для
того, чтобы его укокошили? Я не хочу, чтобы он уезжал... Вер-
нись в мир своих фантазий, Арнольд. Или ты не видишь? Ведь
это же наша пещера на острове Рэмполь!.. Честное слово, это
она! Вот погляди сюда! Клянусь тебе, что это наши утесы
и скалы! Они удивительно похожи на дома, но это самые
настоящие скалы. Мы спрячемся в пещере от этой военщины
и будем жить на острове до тех пор, пока не кончится война,
а потом вместе вернемся в тот мир цивилизации, на те широ-
кие просторы, о которых ты, бывало, часами говорил. Неужели
ты позабыл эти широкие просторы? Там, под солнцем? Мы
будем ждать этой радостной минуты... вместе... Здесь... Терпе-
ливо... Нам некуда спешить...
4
БАРАБАНЫ БЬЮТ ВСЕ ГРОМЧЕ
Не знаю, разумно или глупо, правильно или большой ошиб-
кой было возвращаться в Европу и идти на фронт. Но я рас-
сказываю здесь историю своей души и вовсе не собираюсь
судить ни себя самого, ни весь наш мир. Я не мог иначе посту-
пить. Ровена, которая умоляла меня не идти в армию, ведь
сама совершила чудо, которое неизбежно повлекло за собой
мое возвращение в Европу и участие в войне.
Я еще находился под «наблюдением как выздоравливаю-
щий», по выражению доктора Минчита, когда в Нью-Йорке
появился старый Ферндайк, поверенный нашей семьи и мой
159
дальний родственник. Он приехал в Америку по делам комис-
сии, рассматривавшей вопросы взаимной финансовой помощи
между союзниками. Как мой опекун он счел своим долгом
навестить меня. Минчит сам привез Ферндайка в Бруклин,
чтобы тот своими глазами убедился в моем выздоровлении.
Старик отнесся ко мне необычайно сердечно, был изысканно
вежлив с Ровеной, и если и касался в разговоре войны, то
лишь в связи с вызванными ею финансовыми трудностями.
Как видно, он считал, что боевые действия слишком грубое
и жестокое дело, чтобы о них говорить. Ему очень понравился
вид из нашего окна.
— Неужели Арнольда заберут? — спросила его Ровена,
стоя рядом с ним у окна.
— О нет, нет, нет! — воскликнул мистер Ферндайк.— Как
его могут забрать? И даже если бы он сам захотел...
— Он не захочет,— заявила Ровена.
— Если бы даже он захотел,— повторил мистер Ферн-
дайк, с легким упреком глядя на нее поверх очков,— прежде
чем его успеют обучить, обмундировать и отправить на фронт,
я полагаю, вся эта история кончится.
— Он не пойдет,— сказала Ровена.
— О чем тут спорить? В иных случаях бывает неплохо
сделать красивый жест.
— Я не хочу его потерять.
— Да вы его вовсе не потеряете,— возразил мистер Ферн-
дайк.
Перед уходом он повернулся ко мне как бы невзначай и
предложил поехать к нему в отель. Ему нужно обсудить со
мной кое-какие мелочи, я должен подписать две-три бумаги;
мы покончим со всем этим в какой-нибудь час, а потом, если
мисс... мисс...
— Будем называть ее миссис Блетсуорси, потому что она
будет моей женой,— сказал я.
— Поздравляю моего клиента! — сказал мистер Ферндайк
и пожал руку Ровене.
— Это он так решил,— словно извиняясь, проговорила она.
— Если будущая миссис Блетсуорси пожелает отобедать
с нами... Простой обед в смокингах, миссис Блетсуорси! Без
всяких там церемоний.
И он повез меня к себе, высадив по дороге доктора Мин-
чита у Вильям-стрит.
— Очень рад видеть вас в добром здоровье,— проговорил
мистер Ферндайк.— Когда' я вас видел в последний раз...
ну...— деликатность не позволила ему договорить.— Вы вели-
чали меня плешивым старцем и говорили, что не позволите
поработить свою душу. Неужели уж я так плешив? — Он лас-
ково поглядел на меня сквозь очки.— Теперь, я полагаю, все
это можно предать забвению...
160
В гостиной отеля он снова выразил мне свое удовольствие:
— В последний раз я имел возможность по-настоящему
беседовать с вами в Лондоне перед вашим отъездом; путеше-
ствие ваше было хорошо задумано, но кончилось весьма пе-
чально. Какое несчастье, что вас оставили на разбитом ко-
рабле...
— А что, команда и капитан спаслись?
Он поведал мне, что после тяжелых испытаний им удалось
добраться до Баия, а я в свою очередь рассказал ему о том,
как капитан покушался на мою жизнь.
— Ай-ай-ай! — промолвил мистер Ферндайк и принялся по
своей профессиональной привычке прикидывать, нельзя ли
привлечь к ответственности виновника за преступление, совер-
шенное пять лет тому назад. Он отметил отсутствие прямых
улик, вдобавок команда рассеялась по всему свету, да и под-
робности. этого дела уже изгладились из памяти свидетелей.
— Ничего не поделаешь,—- заключил он, покачав головой.—
А теперь,— сказал он отрывисто,— я подхожу к главному
вопросу: что вы намерены делать?
— Война! — вырвалось у меня.
— Война,— отозвался он.— В конце концов вы не должны
забывать, что принадлежите к славному английскому роду!
— Я хочу жениться для того, чтобы и Ровена пользова-
лась этими преимуществами.
Мистер Ферндайк откинулся на спинку кресла и пустился
в рассуждения о моем «блетсуорсизме».
— Я считаю и всегда считал, и война не изменила моеро
убеждения, что британцы, так сказать, соль земли и что
несколько родовитых семей, таких, как ваша, в Англии и в
Шотландии из поколения в поколение скромно и доблестно
выполняют свой скромный и доблестный долг перед родиной,—
они-то и являются солью нашей земли. Союзникам мы этого
не скажем, но мы с вами свои люди и можем позволить себе
эту откровенность. Без всякого сомнения, и здесь можно встре-
тить потомков наших знатных родов — Америку я не исклю-
чаю... Ну, а эта молодая леди?
— Из хорошей семьи, с юга.
— Ее прошлое было как будто... не совсем безупречно.
— Я хочу создать ей безупречное будущее.
Мистер Ферндайк благодушно поглядел на меня.
— Должен сказать, что в некоторых случаях Блетсуорси
заключали браки, требовавшие известной смелости. Род Блет-
суорси никогда нельзя было упрекнуть в недостатке смелости.
Иногда они проявляли своеобразную смелость в самых дели-
катных вопросах, но смелость всегда была отличительной чер-
той нашей семьи.
— Раза два, сэр, я позорно струсил. И этого до сих пор
стыжусь!
и г. Уэллс, т. 2 161
Он поправил на носу очки совсем так, как раньше.
— Однажды при мне истязали юнгу. И я не заступился!
— Вы, вероятно, не нашли, что сказать. Конечно, так оно
и было. Но мне известно, что вы, не раздумывая, бросились
в воду спасать эту девушку. Вы поступили, как истинный Блет-
суорси! Хвалю вашу отвагу! У этой девушки, повидимому,
утонченная натура. Голос у нее мягкий, как у настоящей леди.
Вы обратили внимание, что у американок в большинстве слу-
чаев резкие голоса? Быть может, ей и приходилось быть в дур-
ном обществе, но грязь к ней не пристала. У нее прелестные
манеры. Мне думается, что иной раз манера двигаться и гово-
рить даже глубже характеризует женщину, чем ее поступки.
Мне кажется, у нее горячее сердце, и — поверьте опыту ста-
рика,— она не лишена характера.
— Да,— отвечал я после краткого раздумья.— Вы правы.
— Привлекательные женщины, как правило, бывают с ха-
рактером. Весьма многие из них. Но почему бы ей не пере-
ехать в Англию, когда кончится война, и не занять подобаю-
щее ей место в вашем кругу? Разумеется, при том условии, что
вы поступите так, как в данном случае должен поступить
Блетсуорси. Не только ради себя самого, но прежде всего ради
нее вы должны показать себя подлинным Блетсуорси!
Тут он остановился, и в его глазах, увеличенных стеклами
очков, я прочел вопрос.
— Эта война,— начал я размышлять вслух вместо ответа,—
сущая бессмыслица. Она чудовищна и омерзительна.
— Я тоже склонен так думать. Но все-таки...
Минуту-другую мистер Ферндайк молчал, словно совещаясь
с каким-то невидимым компаньоном.
— Я позволю себе,— начал он,— коснуться этого вопроса,
так сказать, с философской стороны. Вы говорите, что война
бессмысленна? Согласен. По-вашему, ее можно было предви-
деть и предотвратить. Возможно, что она и не разразилась бы,
если бы обстоятельства сложились по-другому. Но при данных
обстоятельствах она оказалась неизбежной. Глупости всюду
хоть отбавляй; и у нас и у них она накапливалась из года
в год. Она разлита повсюду, и, мне думается, все в большей
или меньшей степени отдали ей долг. Мы с вами тоже были
втянуты в эту бессмыслицу, подчинились ей и, наверное, внесли
свою лепту. Или не сумели сделать нужный шаг, чтобы пред-
отвратить этот взрыв. Но ведь этот самый мир, весь опутанный
сетью глупости, произвел нас на свет, в некотором роде вскор-
мил нас, воспитал и поставил на ноги. Британская империя за-
щищала нас, внушила нам чувство уверенности в себе и гордо-
сти. И внезапно Англия и вся Европа были ввергнуты в эту
ужасную войну. Но разве мы можем бежать с корабля? Разу-
меется, все это ужасно. Разве мы можем равнодушно смотреть,
как наша старая империя рушится под ударами! Мы, Блетсу-
162
орси, всегда придерживались такого принципа: быть снисходи-
тельным ко всяким недостаткам, надеяться на лучшее будущее,
принимать активное участие в жизни — и всегда идти вперед!
— Но война?..
— Мы и наши союзники,— а нас миллионы,— твердо верим,
что эта война положит конец войнам.
— Ну, а наши противники?
— У них, пожалуй, далеко не все в это верят. В общем же
я думаю, что раз уж буря разразилась, то можно надеяться, что
она покончит с германским империализмом.
— И ради этих общих целей я наряду с миллионами других
людей должен пожертвовать всеми своими способностями,
всеми надеждами, всем, что было прекрасного у меня в жизни?
Тут мистер Ферндайк перешел на официальный тон и задал
мне вопрос с наигранной наивностью профессионала.
— А что собственно такого уж прекрасного было у вас в
жизни? — сказал он, глядя куда-то в сторону.
Я не мог сразу ответить, но почувствовал, что мистер Ферн-
дайк ведет со мной нечестную игру.
— Если все больше и больше людей,— продолжал мистер
Ферндайк,— будут говорить и верить и убеждать других, что
эта война положит конец войнам,— она, быть может, и станет
последней войной.
— Значит, мы своими телами должны заполнить ухабы на
пути к вечному миру?
— Если онй будут устранены...— сказал он, предоставляя
мне докончить фразу.— Во всех странах света Блетсуорси уми-
рали за дело цивилизации. Мы щедро полили землю своею
кровью. Пусть м ы умрем,— наша раса, цивилизация, породив-
шая и воспитавшая нас, будет продолжать жить. Будет продол-
жать жить за счет нашей смерти. Почему бы и вам в свою оче-
редь не умереть? К тому же,— продолжал он, снова переходя
на нарочито деловой тон,— ведь нигде не сказано, что вы
должны непременно умереть.
Что мне было отвечать хитрому старику?
— Я только высказал свою точку зрения,— добавил он, за-
метив, что молчание затягивается.
— Так вы думаете, что от этой войны зависят судьбы циви-
лизации?..— начал я допытываться.
— Несомненно, хотя, быть может, результаты скажутся и не
сразу. После этой войны, вероятно, мир надолго выйдет из
равновесия. Не могу отрицать, что наши потери весьма велики.
Война всех коснулась; Мой компаньон потерял своего единст-
венного сына. Мой единственный племянник тяжело ранен. Мой
сосед, за три дома от меня, тоже потерял сына. Все это ужасно.
Но у нас нет другого пути. И когда придет время подводить
итоги, мы увидим, что человечество значительно приблизилось
ко всеобщему миру и единению. Когда уляжется поднятая пыль.
11*
163
Благодаря этой войне, и только благодаря ей, мы сделали шаг,
огромный шаг вперед. Уверяю вас, что это так! Если бы я не
верил в это, как бы я мог жить? Итак, нам необходимо продол-
жать войну.
Он поднялся.
— Какой же может быть еще выход? — сказал он.—
Остаться в стороне от жизни? Стать отщепенцем? Разве есть
другой путь? — бросил он мне.
Появившийся в дверях слуга прервал нашу беседу.
— Миссис Блетсуорси! — объявил он.
Ровена вошла в комнату и остановилась, молча вглядываясь
в наши лица. Глаза наши встретились. Она кивнула головой,
как человек, догадки которого подтвердились, и медленно по-
вернулась к Ферндайку.
— Ах вы старый черт! — крикнула она.— Я вижу по его
глазам: Арнольд идет на войну!
5
МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ
ЗНАКОМИТСЯ С ДИСЦИПЛИНОЙ
Я пошел на войну, далеко не убежденный, что это мой свя-
щенный долг. Я чувствовал себя несчастным и терзался сомне-
ниями; но если бы я отказался идти, я не чувствовал бы себя
счастливей и не избавился бы от сомнений. Я далеко не был так
уверен, как мистер Ферндайк, что война принесет человечеству
благо, но твердо знал, что не смогу жить, не пройдя сквозь гор-
нило войны.
В те грозовые дни невозможно было игнорировать войну.
Она наложила свою печать решительно на все явления жизни.
Она поглотила весь мир. Отказываясь сражаться, вы станови-
лись лицом к лицу с миллионами людей, «вносивших свою
лепту», как тогда говорили. Я не мог выдержать такого мораль-
ного давления. Не мог противостоять такой лавине. Ведь это
было бы все равно, что пытаться.изменить вращение земли, тол-
кая ее руками и не имея под ногами твердой почвы.
У меня не было друзей, которые могли бы меня идейно под-
держать, и мне ничего не оставалось, как записаться в армию
или же стать дезертиром и прятаться от эмиссаров Ардама, ко-
торые все равно в конце концов меня разыщут и сцапают.
Положение мое еще усложнялось тем, что Ровена страстно
восстала против моего решения идти на фронт. От прежней ее
мягкости и покорности не осталось и следа,— передо мной была
другая женщина, властная и решительная. Она проклинала
войну, ругала Ферндайка, но пуще всего бранила меня. Она
приводила самые разнообразные, весьма убедительные доводы.
161
Она считала, что я благодаря ей вернулся к жизни и всецело ей
принадлежу и никто не имеет права отнимать меня.у нее. Это
сущий грабеж! Меня приводили в отчаяние ее горе и ее
гнев, но я не мог противостоять силам, увлекавшим меня на
восток. Я настаивал, чтобы она вышла за меня замуж до моего
отъезда и чтобы Ферндайк как-нибудь переправил ее в Англию,
что было нелегко в те годы, когда свирепствовали подводные
лодки. В Англии она могла пройти курсы сестер милосердия и
работать в госпитале. Я могу время от времени видеться с
ней, пока буду обучаться, а потом проводить с ней отпуск.
Я написал завещание, по которому все мое имущество в случае
моей смерти должно было достаться ей.
Я пошел в армию рядовым. Попал в славный полк с очень
старыми традициями. Мистер Ферндайк хотел было достать для
меня офицерский патент, но мне казалось, что это значило бы
стать открытым сторонником войны, к тому же мне думалось,
что звание офицера все равно не дадут человеку, перенесшему
душевное заболевание. Ферндайку казалось ни с чем не сообраз-
ным, что я иду на фронт простым солдатом. Это было не
в наших традициях. Вероятно, большинство представителей
рода Блетсуорси принимали участие в войне, украшенные звез-
дочками или нашивками. Но если уж идти на войну, думалось
мне, то пусть я увижу ее с самой грубой стороны. Я предпочитал
пройти основательное обучение и стать рядовым.
Начало войны с его бурным взрывом энтузиазма было уже
позади. Около миллиона англичан пошли добровольцами,
когда все еще верили, что это «война за прекращение войн». Но
когда я вступил в армию, всего этого уже не было и в помине.
Всеобщая воинская повинность была введена в Англии, в стране,
где раньше не знали, что значит принудительно идти на фронт.
Мой английский мир вступил в новую, далеко не героическую
фазу. Старой армии уже не существовало, новая армия из до-
бровольцев была сильно потрепана. Англичане — народ изобре-
тательный и храбрый, но эти прекрасные качества не помогли
им сбросить клику Ардама. Британские генералы, тупые и упря-
мые профессионалы, и не думали прибегать к танкам, которые
более'умные люди давали им в руки, и в начале войны загубили
сотни тысяч молодых жизней, послали их на бойню только по-
тому, что считали для себя унизительным заново обучаться воен-
ному искусству у людей, не принадлежащих к военной касте.
Они вели новую войну по старинке. Послушная масса повино-
валась их глупым приказам и слишком поздно увидала, к чему
привело это слепое повиновение.
1916 год вообще был годом неудач для всех союзников. На
протяжении многих миль фронта грудами лежали непогребен-
ные тела французских и английских солдат в голубых и цвета
хаки саванах, лежали там, где их скосил огонь германских пу-
леметов. Позже и мне пришлось побывать на этих полях
165
сражений и видеть тысячи непогребенных трупов англичан, ле-
жащих рядами там, где их застигла смерть, или в ямах, куда
они заползли, чтобы умереть,— трупы, изуродованные снаря-
дами, разложившиеся, чудовищно скрюченные, гниющие, об-
глоданные крысами, ограбленные, в рваных мундирах с выво-
роченными карманами; лица их превратились в черную киша-
щую массу мух, а кругом — остатки амуниции, неразорвавшиеся
снаряды, проволока, расщепленные деревья. Никто никогда не
сможет передать словами весь ужас этих полей смерти! Я ви-
дел мертвецов, повисших на колючей проволоке, словно изо-
дранное белье бродяги. Я дышал воздухом гнилого британского
патриотизма. Боже мой! Неужели этих наших краснощеких
интриганов-генералов не душат по ночам кошмары? Неужели
они даже не подозревают, что их мелкие интриги и зависть, их
тупой профессионализм и узаконенное невежество обрекли ты-
сячи благородных юношей на неслыханные страдания и ужас-
ную смерть?
Но после этих поражений Ардам добился всеобщей воин-
ской повинности, все человечество теперь поставляло ему рабов.
А какое это было гнусное рабство!
Мне так живо вспоминается хмурое холодное утро; я вижу
себя в своей роте, во дворе казарм, лицом к лицу со своим не-
другом, обучающим меня сержантом. Воздух содрогается от
яростных криков, рычанья, ругани, проклятий, «лихого» похло-
пывания руками по ляжкам и топота, топота ног.
Сержант находит, что я плохо ем глазами начальство, орет
истошным голосом, что я грязный ублюдок, позорное пятно на
чести армии и так далее и тому подобное; он повышает свой
пронзительный голос до визга, замахивается на меня и в любой
миг может ударить меня по-настоящему.
Приблизив ко мне свою мерзкую красную рожу, он орет на
меня так, что впору оглохнуть. Я ни в чем не провинился,—
просто он с утра в скверном настроении.
Если я дам ему сдачи, меня отведут на гауптвахту и под-
вергнут пыткам, которые сломят меня и физически и нравст-
венно. Так уже было с одним моим товарищем по взводу. Над
этим гнусным грубияном нет никакой власти, даже некому по-
жаловаться. Меня отдали целиком в его распоряжение. И вот
он ударил меня, срывая на мне злобу, а я с трудом удержи-
ваюсь на ногах.
В этом позорном воспоминании, от которого до сих пор за-
кипает в сердце гнев и пылают стыдом щеки, нет ни тени фан-
тазии.
А завтра он будет выклянчивать у меня полкроны, и в его
просьбе будет звучать плохо скрытая угроза. Будь я про-
клят, если он получит у меня эти полкроны,— а там будь что
будет!
Я проходил эту муштровку, затаив в сердце лютую горечь.
166
Я могу допустить, что образ Ардама возник у меня в резуль-
тате всех пережитых в это время оскорблений и унижений. Надо
сказать, что память у меня на редкость капризная, гибкая и
пластичная, воображение неустанно работает, видоизменяя дей-
ствительность, перестраивая и приукрашивая, в бессознатель-
ном стремлении как-то упорядочить и оптимистически истолко-
вать все происходящее в жизни,— и вполне возможно, что, при-
поминая впоследствии свои бредовые видения, я окрасил их
впечатлениями от солдатчины, так что тут имела место просто
аберрация памяти.
Я стал рабом. Я должен был смиренно выслушивать оскорб-
ления, грубые окрики, непристойную брань, обливавшую грязью
не только меня, но и мою мать и жену. Меня принуждали делать
самую тяжелую и унизительную работу, чтобы я откупился от
нее взяткой. Меня всячески мучили и изводили. И все это дела-
лось для того, чтобы окончательно сломить во мне волю, пре-
вратить меня в бессловесную пешку, которая покорно пойдет
навстречу бессмысленной гибели, когда какой-нибудь тупица
генерал, ведущий свою устарелую и бесплодную игру, вздумает
бросить в бой несколько батальонов, приказав им совершить не-
возможное.
Все это мне предстояло еще испытать!
В эти дни жестокой солдатчины у меня в мозгу словно
разыгрывалась фуга — две мысли непрестанно звучали, пере-
межаясь, вытесняя друг друга: «Ну и дурак же я, что пошел на
это!» и: «Что же мне оставалось делать?» Я и раньше знал, что
мне придется солоно, но не представлял себе и половины мер-
зостей и унижений, с которыми связано обучение солдата. Те-
перешнее поколение штатских людей не имеет об этом понятия.
Старые вояки не любят говорить об этом: это слишком позорно.
Многим эти воспоминания прямо невыносимы, и они изгоняют
их из памяти.
Но должен признаться, что, по мере того как перемалывали
в порошок мою душу, моя чересчур утонченная чувствитель-
ность все притуплялась. Я рассказываю историю своего созна-
ния. Я не собираюсь ничего объяснять й вдаваться в сентимен-
тальность. Так это было.
6
ВОЙНА НАД ПИМЛИКО
«Я все еще на острове Рэмполь,— говорил я себе,— и нет
надежды на спасение. Прекрасный, доброжелательный цивили-
зованный мир, о котором я мечтал в дни моей юности, на по-
верку оказался лишь волшебной страной из детской сказки. Мы
167
обречены жить в этом ненавистном ущелье, испытывая тяжкий
гнет, в этом ущелье мы и умрем».
Порою Ровена была почти готова согласиться со мною, но
потом из любви ко мне и отчасти из самозащиты начинала бо-
роться с овладевшим нами отчаянием. Ведь были же у нас в
жизни минуты ослепительного счастья, уверяла она, и это залог
лучшего будущего. Окружающий нас мирок озаряют проблески
надежды, и она любит меня больше себя самой! Не может быть
мертвым мир, в котором живет любовь!
Любила ли она меня больше себя самой? Было время, когда
моя душа всецело зависела от нее, и если бы эта женщина, сла-
бая, раздражительная, подверженная приступам тоски и до глу-
пости великодушная, оказалась не на высоте, я немедленно бы
погиб. Если я вел жалкое существование в каторжном труде,
испытывая унижение и гнев, то на ее долю выпали нестерпимые
муки одиночества, ожидания и страха. У нее не было друзей в
Европе, и она не слишком сблизилась с моими малообщитель-
ными родственниками. Она наняла квартирку вблизи от казарм,
где я проходил военную муштру, но встречались мы очень редко
и урывками, ибо я не хотел стать убийцей, что легко могло бы
случиться, если бы я ввел ее в круг галантных наглецов—капра-
лов и сержантов, моих повелителей.
Когда, наконец, меня перевели в запасный батальон и я
поселился в казармах в Лондоне, Ровена переехала в Пимлико.
В Лондоне дисциплина была менее строгая, и нам удавалось ви-
деться чаще. Мне хотелось лишь одного: чтобы меня не отпра-
вили во Францию прежде, чем она станет матерью.
Теперь, когда прошло столько лет, эти ночи в Пимлико ка-
жутся мне прекрасными. В то время из-за угрозы воздушных на-
летов улицы Лондона по ночам были погружены во мрак, дома
казались странно высокими, все предметы теряли свои привыч-
ные очертания и пропорции, а на темной синеве неба непре-
рывно разыгрывалась какая-то странная, беззвучная трагедия,
где действующими лицами были прожекторы и таинственно ми-
гающие звезды. Мрачно стояли ряды темных домов с колоннами
и портиками, и лишь кое-где сквозь занавески и ставни про-
бивались тоненькие полоски золотого света. Набережная над
скупо поблескивавшей во мраке рекой была безмолвна и, каза-
лось, терпеливо ждала, чем кончатся магические заклинания, и
вверх и вниз по реке ползли крохотные красные точки — фонари
на почти невидимых судах. Изредка попадался прохожий или
раздавалось глухое гудение автомобиля.
Мы бродили по улицам, перешептываясь. Она прижималась
ко мне, такая теплая и мягкая, ее милое лицо прикасалось к
моему, и сердце мое было переполнено любовью.
— Эта война, видно, никогда не кончится,— шептала она.
— Она не может продолжаться вечно,— утешал я ее.
Хлопанье сигнальных ракет предупреждало нас о налете
168
врага, и мы спешили домой, в ее квартиру; мы сидели обняв-
шись, слушая грохот зенитных орудий и разрывы падающих
бомб. Я старался оттянуть до последней минуты возвращение в
казармы. А иногда, ценой унижений и подкупов, я устраивался
так, чтобы провести с ней ночь. Пока я находился с нею, она
была счастлива; и далеко не сразу мне стало ясно, как она то-
мится от одиночества и какие переживает страхи в те дни,
когда я не прихожу.
До последних дней беременности Ровена работала в одной
женской организации под руководством леди Блетсуорси из
Эпингминстера, изготовляя бинты в галереях Королевской ака-
демии. Ее квартирная хозяйка, смуглая, добродушная женщина,
очень к ней привязалась.
Время от времени я совершал тяжкий грех против дисцип-
лины, прибегал пораньше к ней на квартиру, принимал ванну и
переодевался в запретное штатское платье. Мы не решались
ходить по улицам, но она нанимала такси, и мы отправлялись в
укромный и уютный ресторан на Уилтон-стрит,— назывался он
Ринальдо. Не знаю, существует ли он сейчас. Насколько мне из-
вестно, вся эта часть Лондона перестраивается. В ресторан-
чике мы занимали вдвоем маленький столик в углу; лампа с
красным абажуром, цветы и вся эта шаблонная, но приятная
роскошь позволяли мне на время забыть казарменный плац, а
Ровене — войну.
Ребенок наш появился на свет до моего отъезда в армию.
Но уже через три дня после его рождения мне нашили на плечо
красную полоску, означавшую, что я отправляюсь на фронт.
Роды у Ровены были довольно легкие, но она очень ослабела, и
только на третий день я решился сказать, что меня отправляют.
Я повидался с Ферндайком и сделал все необходимые распоря-
жения, чтобы обеспечить ее. Медицинская комиссия признала
меня годным для фронтовой службы, и я получил нрвенькое
обмундирование. Откинувшись на подушки, Ровена мужест-
венно приняла это известие и только крепче стиснула мне руку.
— Дорогая моя,— говорил я,— я уверен, что вернусь!
— Я тоже в этом уверена, мой любимый,— отвечала она,—
но не могу не плакать, потому что я сейчас такая слабая и так
тебя люблю.
Было бы безумием оставлять ее одну с младенцем в мрачном
и туманном Пимлико, которому постоянно грозили воздушные
налеты и бомбардировки с моря. Я выхлопотал себе отпуск и
отвез Ровену за город, в здоровую местность, где жена моего
кузена Ромера, обычно проживавшего в Чолфтоне, подыскала
ей домик. Сам Ромер в это время находился в Египте; у его
жены тоже был маленький ребенок, и женщины сразу же по-
чувствовали друг к другу симпатию. Меня утешала мысль, что
Ровена будет жить в близком соседстве с этой женщиной.
Меня подвело железнодорожное расписание, и я приехал в
169
Лондон за полтора часа до возвращения в клетку. Меня не-
удержимо потянуло в ресторан Ринальдо, и я направился в свой
уголок. Там уже сидел какой-то мужчина, поглощенный едой;
ресторан был битком набит, и я, извинившись, занял свое обыч-
ное место. Я раньше не бывал здесь в военной форме, но Ри-
нальдо узнал меня, приветствовал ласковой улыбкой и ни слова
не сказал по поводу моего внезапного превращения.
Я заказал точно такой же обед, какой мы как-то раз ели
с Ровеной. Только тогда я взглянул на субъекта, сидевшего про-
тив меня, который уже приступил к закуске.
7
ВСТРЕЧА НЕ КО ВРЕМЕНИ
Я не сразу его узнал. Где я видел эту коренастую фигуру,
эту квадратную желтоволосую голову, и почему его вид так
странно взволновал меня?
Он был в морской форме, но не с прямыми золотыми на-
шивками, как у кадровых моряков, а с волнистыми. Видимо, он
был офицером какой-нибудь запасной эскадры.
И вдруг я весь задрожал! На мгновение я даже позабыл о
Ровене,— на меня нахлынули воспоминания, и вновь проснулась
та мысль, которая когда-то — сколько веков тому назад? — все-
цело захватывала меня. В этом месте, в час, предназначенный
для самых нежных моих воспоминаний, мне неожиданно подвер-
нулся случай для мести! Передо мною на стуле Ровены сидел
капитан «Золотого льва»! Все завертелось у меня перед гла-
зами. И пока это состояние не прошло, я не в силах был вымол-
вить ни слова.
Капитан, повидимому, не замечал моего присутствия. Все
его внимание поглощали редиска и маслины. Потом он принялся
за картофельный салат.
Что мне с ним делать?
К своему удивлению я обнаружил, что мне вовсе не хочется
с ним расправляться. Мне хотелось думать о Ровене, а не об
этой старой-престарой истории. Проклятый урод! Принесла же
его нелегкая в такой момент! Да и что мог я с ним сделать? Не
мог же я его вдруг укокошить, да еще на том самом месте, где
всего месяц назад сидела Ровена и ее темные глаза с любовью
смотрели на меня! Но все-таки нельзя же так изменить своему
прошлому и оставить эту встречу без последствий.
Мой обед должен был начаться с консоме. Мне подали его
как раз в тот Момент, когда официант пришел убирать закуску
капитана. Я неторопливо налил суп себе в тарелку. Ему тоже
170
подали суп, это оказалось какое-то густое пюре. Я смотрел, как
капитан знакомым мне движением заткнул за ворот салфетку и
схватил ложку веснушчатой рукой.-Тут мне ударила в голову
мысль. Неужели же он ничему не научился за все эти годы
после плавания на «Золотом льве»?
Нет! Он все так же громко прихлебывал суп. Я взял ложку
и в точности воспроизвел его манеру. Призраки старшего по-
мощника и механика как наяву встали передо мной. Капитан
положил ложку и уставился на меня точно так же, как пять лет
тому назад. Присмотревшись, он как будто начал меня узнавать.
— Странное место для встречи,— произнес я, с трудом по-
давляя смех.
— Чертовски странное,— согласился он.
— Вы меня узнаете?
Он задумался. Память его, как видно, все еще не проясни-
лась.
— Как будто я вас где-то встречал,— признался он, хмуро
глядя на меня.
— Как же вам меня не знать? — сказал я, постукивая паль-
цем по столу.— Ведь вы же в свое время чуть было не отпра-
вили меня на тот свет.
— А! — вырвалось у него. Он поднес было ложку ко рту, но
тут же опустил ее на стол, расплескивая суп на скатерти.— Да.
Теперь я вас узнал. Вот уж не думал, что когда-нибудь вас
увижу.
— Вот как! — сказал я.
— Так вы тот самый молодчик, а?
Я отвечал, насколько мог, холодным, суровым и зловещим
тоном:
— Да, тот самый, которого вы утопили!
Закусив губы, он медленно покачивал головой.
— Ну уж нет,— проговорил он.— Я не верю в привидения.
Да еще такие, что передразнивают старших. Но к а к это вам
удалось выбраться из каюты? Вы попали в другую лодку, так,
что ли?
Я покачал головой.
По всем правилам игры, он должен был бы смутиться и
прийти в недоумение, но ничего такого не случилось.
— Есть такие люди,— сказал он,— которых ни за что на
свете не утопишь. Уж этому-то меня научила война.
— Вы старались изо всех сил.
— Бывают, знаете ли, такие антипатии,— сказал он, как бы
извиняясь.
Он мрачно усмехнулся и принялся доканчивать суп.
— Господи боже мой!—снова заговорил он.— До чего
тошно мне было видеть вашу физиономию за столом! Да что
там тошно! Осточертела мне она!
Я был окончательно сбит с толку.
171
Он приветливо помахал мне ложкой, приглашая и меня за-
няться едой.
— Ну, уж на этот раз как-нибудь вытерплю,— добавил он
и преспокойно доел суп.
— Ах вы старый негодяй! — вырвалось вдруг у меня, и мне
тут же стало стыдно своей несдержанности.
— Будет вам,— сказал он, смакуя последний глоток.
Он отодвинул тарелку и старательно несколько раз вытер
рот и все лицо салфеткой. Покончив с этим, он обратился ко
мне как-то непривычно ласково.
— Вы в хаки, как и все,— сказал он.— Стало быть, с этим
барством покончено? Почему же это вас не сделали офицером,
мистер Блетсуорси?
— Я сам не захотел.
— Ну, о вкусах не спорят. Да у вас, я вижу, красная на-
шивка.
— Я отправляюсь на фронт на будущей неделе.
— Я не мог бы выдержать окопов,— заявил он.— И рад, что
туда не попал.
Бог знает куда девалась наша вражда. Она рассеялась, как
дым! Мы беседовали теперь, как старые знакомые, которые
случайно встретились после долгой разлуки. Ему, видимо, не
хотелось касаться прошлого, и я шел ему навстречу.
— А чем вы сейчас занимаетесь? — спросил я.
— Выполняю секретные задания,— сказал он.— Топим не-
мецкие подводные лодки; да еще мины вылавливаем. Ничего
себе, дело идет.
— И вам это нравится?
— Еще бы не нравится. Ведь мне столько лет приходилось
быть каким-то разносчиком, развозить посылки по всему свету.
Еще как нравится! Мне бы хотелось, чтобы война никогда не
кончалась, а уж если меня взорвут, так черт с ними... Я бы вам
мог кое-что порассказать... Да только запрещено.
Поколебавшись с минуту, он решил мне довериться. Накло-
нился над столом и, близко придвинувшись, хрипло прошептал:
— Прикончил одну на прошлой неделе!
Откинувшись назад, он улыбнулся и кивнул головой. От него
так и веяло добродушием.
— Вынырнула ярдах в пятидесяти от нас! Битый час она
гналась за нами, поднимали перископ, давали сигналы. Мы,
словно с перепугу, дали по ней выстрел из старой винтовки и
спустили флаг. Она два раза обошла вокруг нас, а потом подо-
шла к самому борту. Вот уж молокососы! Правда, вид у нас был
самый невинный. У нас, понятно, есть орудие, но оно замаски-
ровано брезентом, который выкрашен под цвет борта,— мы не
снимаем чехол и стреляем сквозь него, а потом надеваем но-
вый. Они и охнуть не успеют, как уже пробиты! Маленькие
тяжелые стальные снарядики. И как здорово пробивают об-
172
шивку, бог ты мой! У командира — глаза на лоб! Только было
он взялся за рупор, собирался что-то нам по-свойски скоман-
довать, а через миг лодка под ним камнем пошла ко дну, и он
забарахтался в воде. Наш брезентовый чехол, как всегда, заго-
релся, едва мы пальнули, и этот огонь, видимо, совсем сбил его
столку, никак не мог он сообразить, что тут произошло. Должно
быть, подумал, что у нас на борту случился взрыв и мы горим.
Совсем уж тонет, а все пучит на нас глаза. Вода уже ему по
горло, воздух пузырями выходит из его проклятой лодки, и море
вокруг него так и кипит! Ну и потеха! Давно я так не смеялся.
Сейчас, положим, он не смеялся, но видно было, что он чрез-
вычайно доволен собой.
— Я бы вам многое еще мог порассказать,— прибавил он.
И начались новые рассказы. Видно было, что я нужен ему
только как слушатель.
Он рассказывал о мелких хитростях и ловушках, к которым
сводилась подводная война. Облокотившись на стол, он раз-
махивал ножом и вилкой, переживая увлекательные эпизоды
войны с субмаринами. И, слушая его, я приходил к выводу, что
остров Рэмполь расползся по всему земному шару и поглотил
его. Я был так подавлен этим потоком братоубийственных речей,
что не находил ни одного слова в защиту цивилизации. Я молча
сидел, стараясь постигнуть психологию человека, способного
испытывать лишь радость победы,— грубой победы самца над
покорившейся, купленной им женщиной или же торжество над
обманутым им противником, погибающим у него на глазах. Кто
же из нас человек — он или я? Кто из нас ненормален — я
или он?
Выйдя из ресторана, мы попрощались с напускной сердеч-
ностью.
— До свидания! — проговорил он.
— До свидания! — сказал и я.
— Желаю вам удачи! — прибавил он.
— Желаю удачи,— откликнулся я, не углубляясь в вопрос,
желаю ли я удачи ему, или первой мине, на которую он на-
ткнется.
Я был так потрясен этой нелепой встречей, обманувшей все
мои ожидания, что шел в казармы, как во сне,— с новой силой
пробудилась во мне мысль о жестокости жизни. Этот человек
много лет назад отнял у меня веру в жизнь, вызвал у меня по-
мрачение рассудка и чудовищный бред об острове Рэмполь, на-
учил меня повсюду видеть только зло — и вот он появляется
передо мною в момент, когда я, под впечатлением разлуки с
дорогими существами, преисполнен самых нежных, высоких
чувств, появляется словно для того, чтобы показать мне, что
остров Рэмполь — всего лишь жалкая карикатура на жестокую
действительность! И где этот «бог», которого создал дядя,
чтобы утешить меня и поддержать мою юную душу!
173
В тот вечер, когда я возвращался в казармы, мне казалось,
что в далеком синем небе, где тускло мерцают звезды над ту-
манным силуэтом Букингемского дворца и других зданий, царит
бог с ликом, столь же неумолимым, как лицо старого капитана,
бог зверских, бессмысленных побед, упорный и беспощадный.
Насмерть изувечить безответного юнгу — такой поступок при-
шелся бы по вкусу этому богу. И на произвол этого не знающего
жалости бога, этого бога ненависти, я вынужден был бросить
свою любимую и нашего слабенького, плачущего младенца и
принять участие в свирепой резне, которую там, во Франции,
называют войной!
Пока я нехотя плелся к своей тюрьме, вдруг захлопали ра-
кеты, предупреждая о воздушном налете, и где-то на востоке
раздался грохот зенитных орудий. Гул и грохот все нарастали,
охватывали меня со всех сторон, оглушали, отдавались в мозгу,
и казалось, чудовищные взрывы сотрясают землю и небо.
Прохожих словно смело с тротуаров, а я продолжал идти не
спеша, не прячась и разговаривая с каким-то воображаемым
противником.
— Придется уж тебе убить меня,— говорил я.— Ведь я не
хочу умирать. Назло тебе я буду держаться, зверюга ты этакий!
Я буду держаться до конца! А если ты посмеешь дотронуться
до моей Ровены,— ты ведь уже один раз чуть не довел ее до
смерти,— если ты причинишь хоть малейшее зло ей или на-
шему ребенку...
Я остановился, так и не придумав кары, и только погрозил
кулаком далеким туманным звездам.
Всего три часа назад Ровена обнимала меня и мы вполголоса
разговаривали друг с другом. И мне казалось прямо невероят-
ным, что где-то в этом грохочущем, содрогающемся, свирепом
мире спит моя кроткая, но мужественная Ровена; ресницы у нее,
верно, еще влажны от слез, какие она пролила, прощаясь со
мной, и, припав к ее теплой груди, безмятежно спит наш мла-
денец.
8
МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ В БОЮ
Наступил день, когда я написал Ровене последнее, не под-
лежащее цензуре письмо, и наш отряд замаршировал по ули-
цам к вокзалу Виктория. Мы шли под звуки духового оркестра;
девушки и женщины то и дело врывались в наши ряды, про-
щаясь со своими близкими. Меня никто не провожал, но всеоб-
щее волнение захватило меня, я махал рукой незнакомым лю-
дям, меня неожиданно поцеловала какая-то женщина, и я орал:
174
«До свидания!», не отставая от товарищей. Вот набережная,
мол, пароход, набитый, как банка с сардинами, гремящие
сходни, медленно ползущие поезда, лагерь в тылу и долгий
переход пешком на фронт.
Нас возили вдоль передовой линии во мраке блиндирован-
ных вагонов, где окна были заделаны листовым железом, и, на-
конец, как горох, высыпали под моросящим дождем на голой
равнине,— там глухо ревели пушки, которым мы теперь были
отданы в жертву. Ардам добрался-таки до меня! Я был побеж-
ден, и Ардам мог теперь передвигать меня, как пешку, в су-
масшедшей шахматной партии современной войны.
Медленно, неуклонно меня перебрасывали все дальше
вглубь опустошенной страны, которая с каждым шагом стано-
вилась все безотраднее. Мы останавливались, отдыхали и дви-
гались дальше.
Деревья, дома, церкви, заводы в этой стране, жившей ин-
тенсивной умственной жизнью, превратились в голые пни и
груды развалин. Время от времени принимались лихорадочно
рыть новые окопы, возводить проволочные заграждения. Земля
была вся изрыта снарядами, усеяна ржавым исковерканным
оружием. Среди этого разрушения тянулись обозы грузовиков и
повозок с продовольствием, и беспрерывным потоком шли вой-
ска. Мы видели полевые лазареты, носилки, тащившихся пеш-
ком раненых солдат, группы военнопленных.
Мы сделали привал, и нас освободили от излишней амуни-
ции. Мы приближались к передовой линии.
И вот мы очутились в зоне огня и теперь могли вволю изу-
чать разнообразные оттенки свиста и воя снарядов и строить
догадки, попадут ли они в нас. Вокруг рвались снаряды, выбра-
сывая к небу огромные столбы черно-красного дыма, которые
долго стояли на месте, клубясь и шипя, и мало-помалу расплы-
вались в воздухе. Мы ощутили сладковатый запах газа и надели
противогазы, и наши головы в раскрашенных жестяных шле-
мах стали похожи на свиные рыла. Потом над нами зажужжал
самолет и стал поливать нас из пулеметов; двое солдат рядом со
мною были убиты наповал и трое тяжело ранены. Один из них
корчился и дико кричал, и я вдруг почувствовал к нему острую
ненависть. Ибо жестокость вселенной была не только вокруг
меня, но и проникла в мою душу, и каждый мой нерв был бо-
лезненно натянут.
Дождавшись сумерек, мы двинулись дальше к передовым
позициям. Все громче бухали тяжелые орудия, мы спотыкались,
сыпали проклятиями и шли все вперед по неровной, изрытой
местности. Раз мы неожиданно наткнулись на замаскированную
батарею и едва не оглохли, когда залп грянул у нас над самым
ухом. Снаряды летели прямо на нас,—» они так же легко нахо-
дили нас в темноте, как и при дневном свете. Красные вспышки
осветительных ракет зловеще озаряли эту пустыню, показывая
175
вражеским пулеметчикам кучки наших солдат, и можно было
разглядеть валявшиеся кругом трупы.
Мы приближались к месту самых ожесточенных боев. Все
чаще ударял нам в нос смрад разлагающихся трупов. Потом мы
пробирались среди наваленных грудами тел неприятельских и
наших солдат, почти все они были полураздеты.
Я споткнулся и упал на труп, в котором так и кишели черви;
мое колено погрузилось в эту мягкую ужасную массу. В одном
месте всем нам пришлось шагать по трупам наших солдат.
Таким образом я добрался, наконец, до окопа, где мне дали
ручную гранату и приказали дожидаться рассвета, когда наш
капитан должен был подать сигнал к атаке. В ожидании мы
сидели, скрючившись, в грязи окопа, через силу ели говядину
и варенье, курили папиросы, вздрагивали, когда мимо нас про-
летал снаряд, и размышляли о жизни.
— Остров Рэмполь,— говорил я себе,— по сравнению с
этим адом, был прямо-таки благополучной страной,— далеко
ему до этого ужаса!
И вдруг меня пронзила мысль, что я непременно буду убит
и Ровена останется на свете одна, брошенная на произвол че-
ловеческой жестокости и гнусности. Штука в этом роде приш-
лась бы по вкусу Старику-капитану! Как глупо было верить,
что я вернусь цел и невредим из этой бойни!
Я вскочил на ноги.
— Боже мой! — вырвалось вдруг у меня.— Что я тут делаю?
Я сейчас же ухожу домой, подальше от этого проклятого сумас-
шедшего дома! У меня дома дела посерьезнее.
Наш капитан смахивал на лавочника, «джентльмен на час»,
как мы называли таких офицеров; он был примерно одного со
мной возраста и такого же сложения. В руке у него был зажат
револьвер, но он и не думал мне угрожать. Он нашел ко мне
подход.
— Правильно, старина, тут сущий сумасшедший дом,— про-
говорил он,— но покамест лучше уж оставаться здесь! Для всех
нас дорога домой лежит вот туда — на восток! Вы и минуты не.
проживете, если вздумаете удрать из этой траншеи. Это все
равно, что кончать жизнь самоубийством.
— Ну если так, то ведите нас вперед, на восток,— сказал я и
утихомирился.
Казалось, конца не будет этому ожиданию.
— И зачем только я уехал из Америки? — твердил я.
Капитан стоял около меня, поглядывая на часы.
— Готовы? —1 спросил он, наконец.
Я возился, наводя порядок в патронташе.
— Пора! — сказал он, и мы вместе выбрались из окопа. Уже
совсем рассвело; небо на востоке было залито красным сия-
нием. Казалось, там развертывается безбрежный простор. При
нашем появлении небесная лазурь вдруг взорвалась от вспышек
176
ракет и залпов орудий. Вдалеке, в голубом тумане, взлетели
вихрем столбы дыма и пыли, поднятые нашими снарядами/
Атака состояла в том, что, сгибаясь под тяжестью амуниции,
мы с трудом пробирались по изрытой земле к невидимому не-
приятелю. Солдаты были так перегружены, что вовсе не по-
ходили на атакующих. С унылым видом, сгорбившись, они
брели вперед и, казалось, отступали под натиском врага, а во-
все не шли в атаку.
В холодном, мертвенном свете зари эти цепочки фигурок
цвета хаки образовывали какой-то движущийся, вечно повто-
ряющийся узор. Обходя ямы и лужи, солдаты то и дело нару-
шали строй и порой даже сбивались в кучки.
Мой маленький лавочник в капитанском чине, сперва шагав-
ший обок со мной, вдруг побежал вперед и остановил группу
солдат. По его жестам я понял, что он приказывает им развер-
нуться. С минуту пятеро солдат двигались вперед, и рядом с
ними, размахивая рукой, шел офицер. Потом неизвестно откуда
на них что-то упало, ослепительно вспыхнуло, и раздался оглу-
шительный грохот.
Меня ударило чем-то мокрым. Пяти человек как не бывало.
Только бешено кружился черный столб дыма и пыли. Но во-
круг меня уже валялись окровавленные клочки одежды, обрывки
амуниции и трепещущие куски человеческого мяса, которые не-
сколько секунд еще шевелились, как живые. Я остановился в
ужасе. Ноги у меня подкашивались. Я зашатался, и меня стош-
нило.
Я стоял на поле битвы ошеломленный, растерянный, меня
мутило, к горлу подступали рыдания. Потом в мозгу у меня
всплыли слова капитана, что единственный путь отсюда — на
восток, через неприятельские позиции. Я побрел вперед. Не
знаю, сколько времени я шел. Кажется, я всхлипывал, как оби-
женный ребенок.
Вдруг меня чем-то подшибло, и я рухнул на землю. Словно
хватило по ногам железным ломом.
— Проклятие! — вскрикнул я.— Я убит! — и почувствовал,
что все мои надежды погибли.
Мое детское отчаяние сменилось яростью. Я покатился вниз
по откосу, проклиная бога и судьбу, и очутился на дне похожей
на чан впадины; наверху мелькали каски. Это была рота «Д» —
наша вторая штурмовая волна. Они прошли мимо и скрылись.
Подозреваю, что на некоторое время я потерял сознание,
потом очнулся. В этой яме я находился вне сферы огня, хотя бой
шел где-то совсем близко, в нескольких футах над моей головой.
Время от времени земля по краям впадины клубами взлетала
кверху. Я перевернулся на спину, осмотрел свое убежище и,
убедившись, что оно достаточно надежно, сел и принялся осмат-
ривать свои раны. Из одной ноги слегка сочилась кровь, но
кость другой ноги была раздроблена. Итак, я остался в живых.
12 Г. Уэллс, т. 2
177
Я стал обдумывать свое положение. Я обдумывал всю свою
жизнь.
Так вот для чего я пошел в армию! Служба моя кончилась.
Так вот для чего меня привезли сюда из Америки, муштровали
и обмундировывали! Какая бессмыслица! А там в вышине, над
полем битвы, розовело утреннее небо и ровная полоска облаков
сверкала, как расплавленное золото.
Сперва я почти не чувствовал боли, только словно резануло
под коленкой, когда я шевельнул перебитой ногой. Меня охва-
тило острое возмущение. И ради этого родиться на свет! И ради
этого жить!
Я обратился ко всей вселенной:
— Ах ты, воплощенная бессмыслица! Ну, что еще ты мне
преподнесешь, прежде чем уничтожишь меня навсегда?
9
МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ ЛИШАЕТСЯ НОГИ
В этой яме я пролежал полтора дня, задыхаясь от бессиль-
ного гнева и жестоко страдая. Смутно припоминаю медленно
тянувшиеся часы лютой боли, жажды и лихорадки. Казалось,
мучениям не будет конца. Я страдал целую вечность, терял со-
знание и вновь рождался на свет, снова жил.
Но вот в мою яму заполз солдат из роты «Д». У него было
прострелено плечо, а потом он несколько раз попадал под пуле-
метный огонь, напрасно пытаясь укрыться. Добравшись до края
впадины, он свалился в нее, вконец обессилев. Он сорвал с себя
противогаз и попросил пить, но так ослаб, что не мог проглотить
ни капли воды, которую я подал. Он медленно истекал кровью.
Лицо у него посерело, он лежал не шевелясь, не ответил, когда
я заговорил с ним, и по временам только хрипло шептал: «Во-
ды». Гимнастерка у него потемнела от крови. Потом он закри-
чал, раза два всхлипнул и перестал шевелиться и говорить. Он
лежал неподвижно. Лежал молча, с раскрытым ртом; я не слы-
шал его предсмертного хрипа и не знаю, когда он умер.
Потом появился еще один, из наших, которого я немного
знал,— он был ранен совсем легко. Он упал прямо на меня и,
тяжело дыша, стал вытирать пот с лица. Некоторое время он
пристально смотрел на мертвеца, потом отвернулся.
— Дело наше дрянь,— проговорил он.— Половина наших
ребят перебита.
Он назвал несколько имен.
— А немчуры я и в глаза не видел! — прибавил он.
Оба мы вздрогнули, когда где-то поблизости разорвался сна-
178
ряд. И некоторое время сидели, притихнув и скорчившись,
словно он еще мог настичь нас.
— Я помогу тебе выбраться отсюда, когда стемнеет,— по-
обещал он, когда я показал ему свои раны.
Он, видимо, обрадовался предлогу остаться в яме. Рассуж-
дая теоретически, он еще обязан был наступать. Он отнесся ко
мне по-братски и довольно ловко перевязал перебитую ногу. Но
всю эту ночь немцы так ревностно прощупывали «ничейную
зону» прожекторами и так жарили из пулеметов, что мы не ре-
шились выйти из прикрытия. Товарищ мой сунулся было на-
ружу, но тотчас же вернулся назад.
Мы сильно страдали от жажды. Я вылил добрую половину
воды из своей фляжки на губы умирающего солдата, который
теперь лежал рядом со мной, холодный и окоченелый. Живой
же мой товарищ все собирался снять фляжку с водой с кого-
нибудь из убитых, но не решался вылезти из ямы.
На следующую ночь стрельба затихла, и мы с трудом вы-
ползли из ямы и кое-как добрались до окопа, откуда началась
атака. Обе мои ноги не действовали, и когда я попробовал со-
гнуть ту, которая не была перебита, из нее пошла кровь. По-
этому я полз на руках, и всякий раз, как вспыхивал прожектор,
замирал на месте и притворялся мертвым, боясь, как бы меня не
заметил какой-нибудь зоркий немецкий снайпер или пулемет-
чик. Товарищ мой пробирался рядом со мною, но от него было
мало толку, разве что сознание близости человеческого суще-
ства.
Мы совершенно случайно попали в свой окоп. Я свалился
туда головой вперед, и меня чуть было не прикололи штыком,
приняв за немца. Там нашлась вода, и мне оказали помощь.
В окопе находились солдаты Девятого Девонширского полка,
который сменил наш разгромленный батальон.
Утром откуда-то появились носилки, и началось тяжкое, му-
чительное путешествие,— я направлялся в тыл, в мир нормаль-
ных людей. Стиснув зубы, я напряженно думал о Ровене. Я го-
тов был перенести самые ужасные мучения,— лишь бы сохра-
нить жизнь ради нее. Меня протащили по окопам, вынесли на-
верх, на открытое место и положили у шоссе в ожидании сани-
тарной повозки; приехала она только через полдня. После дол-
гих часов страданий, казавшихся мне годами, я добрался до
перевязочного пункта, где меня наспех перевязали и отправили
дальше. Потом опять санитарная повозка, распределитель, эва-
куационный пункт и громыхающий, тяжело ползущий, без
конца маневрирующий, то и дело останавливающийся поезд,
наконец госпиталь, где мне ампутировали по колено ногу с ос-
колками кости.
В таком виде, искалеченный и морально опустошенный, я,
наконец, направился в Англию — и к Ровене.
12*
179
10
НОЧНЫЕ БОЛИ
Когда лежишь неподвижно на койке бесконечно долгие
часы, испытывая боль в ноге, которой уже нет, когда сон и по-
кой, кажется, навеки тебя покинули, а впереди перспектива без-
радостного «хромого» существования, мысль с необычной лег-
костью странствует по безбрежной, покинутой богом вселенной.
Тут только я осознал, что во мне не осталось ни тени веры во
все, что проповедовал мой дядя, и волей-неволей я должен при-
способиться к иному, чуждому милосердия миру, жить в мире,
где все, начиная с моей гноящейся раны и кончая самой далекой
звездой, было лишено какого бы то ни было смысла. Я не был
одинок в своем разочаровании, ибо прекрасно знал, что весь
мир» давно утратил наивную веру. Я принадлежу к поколению,
которое никогда не верило по-настоящему. Но обстоятельства
сложились так, что я с особенной остротой почувствовал все это.
Нет доброго, милосердного бога, нет и бессмертия для чело-
века в этой мрачной пустыне времени и пространства! Это, ка-
жется, все теперь признают.
И все же добро существует.
' Ведь что-то связывает меня с Ровеной. Быть может, оно не-
прочно и скоро исчезнет. Но оно несомненно существует и в
нашей душе и вокруг нас.
Это — не я и не Ровена. Это никак нельзя назвать просто
удовлетворением. Это лучше, выше меня и Ровены. Что же это,
как не любовь!
Бывают моменты, когда все окружающее предстает нам в
новом свете, приобретает смысл и значительность,— и все
страдания, жестокость, тупость, страхи и опасения отступают
на задний план. Порой нам доставляет высокое наслаждение
красота, и музыка открывает нам такие глубины, что даже
мой капитан со всей своей жестокостью начинает казаться ма^
леньким и жалким. Даже я, несчастный калека, видел преобра-
женный мир и был потрясен его величием!
К тому же я вовсе не собираюсь умирать. Во мне еще не
иссякло мужество, я не знаю, откуда оно ко мне приходит, но
уверен, что где-то вне меня существует какой-то непостижимый
источник.
Любовь, красота и мужество. В борьбе за них я сжимал
кулаки и стискивал зубы в часы ночных страданий.
В эти долгие часы одиночества и мучений моя мысль сво-
бодно странствует по всей вселенной, но всякий раз возвра-
щается ни с чем и делает передышку, словно завершив какой-
то этап.
Увенчаются ли когда-нибудь успехом странствования моей
мысли?
180
11
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ГЛАЗ
Лежа в госпитале для выздоравливающих, близ Рикмен-
суорта, я стал примечать, что за мной непрерывно следит чей-
то глаз.
Глаз был красноватый, карий. Он выглядывал из сложной
системы бинтов, над которыми торчала копна каштановых
волос, а пониже большая каштановая борода. Этот глаз был
почему-то поглощен созерцанием моей особы. Тело, которо-
му принадлежал этот глаз, находилось в одной палате со
мною.
В то время как глаз наблюдал за мной, яркий, но бес-
страстный, как электрический фонарик,— его обладатель стре-
мился со мной познакомиться и делал попытки завязать со
мной беседу. Иной раз, просыпаясь ночью, я видел, что ране-
ный сидит на постели, повернув ко мне свою забинтованную
голову так, чтобы глаз мог следить за мной из-за разделявших
нас коек.
Я охотно пошел навстречу его попыткам к сближению. Этот
раненый был не из тяжелых. Он уже выздоравливал. Осколок
снаряда сорвал у него чуть ли не всю кожу со лба и одно веко,
каким-то чудом не повредив глаз, который сейчас скрывался
под бинтами. Вскоре он выглянет на белый свет, целый и не-
вредимый, и будет сиять рядом со своим собратом. Рука у этого
человека была на перевязи. Тот же самый осколок ухитрился
ранить его в правую руку. Хирургия сделала все, чтобы спасти
ему руку, но еще неизвестно, вернется ли к ней прежняя гиб-
кость. Полифем,— так я про себя окрестил этого человека,—
делал попытки писать и рисовать левой рукой. Он проявлял
большую настойчивость. «С каким удовольствием я сбрею всю
эту растительность!» — говорил он. Он твердо верил, что все
мы, пострадавшие на войне, до конца дней будем окружены
вниманием благородных ближних, но уверял меня, что хочет
быть независимым. Я знал, что он уже задумал вместе с дру-
гим раненым из прифронтового госпиталя организовать на
паях бюро рекламы. А для этого надо быть в состоянии писать
и научиться немного рисовать.
Каждый день мы подолгу с ним беседовали, и он как-то
неохотно кончал разговор. Мы поделились с ним своими пере-
живаниями на фронте, а потом говорили большей частью о пу-
стяках, но всякий раз у него был такой вид, будто он не дого-
варивает самого главного.
Как-то раз Ровена, постоянно меня навещавшая, принесла
показать мне ребенка. Я уже начал ходить на костылях и с
нетерпением ожидал обещанный мне замечательный протез,—
меня уверяли, что искусственную ногу не отличить от настоя-
181
щей. Протез этот был очень дорогой. К этому времени я уже
примирился со своим несчастьем и не без гордости помышлял
о том, как буду пользоваться этим приспособлением из пру-
жин и пробки; замечу в скобках, что впоследствии оно, ко-
нечно, не оправдало моих ожиданий. Я показал Ровене чер-
тежи ноги, которые мне дали посмотреть.
Это был на редкость счастливый для меня день. Ровена
была удивительно мила и обаятельна. Казалось, война и жи-
тейские неприятности бесконечно далеки от нашего цветущего
и жизнерадостного сыночка. Хотелось верить, что мир водво-
рился надолго и мой сын избегнет моей участи. Ребенок уже
узнавал родителей и пытался объясняться, прибегая к междо-
метиям и односложным словам. Ему прямо можно было поза-
видовать. Он был очарователен, бесконечно мне дорог и заба-
вен. Казалось, он отнял у меня весь мой эгоизм, сделавшись
центром моей жизни.
Мы долго сидели на веранде; мне не хотелось отпускать
своих гостей, и когда они стали уходить, я проковылял на
костылях, провожая их до самых ворот.
Вернувшись на веранду, чтобы взять свои книги и бумаги,
я увидел, что Глаз поджидает меня. Все время, пока Ровена
была со мной, Полифем наблюдал за нами издали.
— Что это за человек? —спросила Ровена.
— Это «ежедневный наблюдатель», он же и «воскресный
наблюдатель»,— отвечал я.— Он готов отбивать хлеб у репор-
теров.
— Пусть себе смотрит,— сказала Ровена,— если это хоть
немного облегчает его участь.
После ее ухода он подошел ко мне.
— Я рад видеть вас таким счастливым, Блетсуорси! — ска-
зал он.
— Очень вам благодарен,— отвечал я с искренней призна-
тельностью, ибо в счастье гораздо реже можно встретить со-
чувствие, чем в беде.
— Это, право же, меня очень, очень радует.
— Мне приятно, что я могу вас чем-то порадовать.
— Поверьте, что это так,— настаивал он.— У меня, видите
ли, есть совсем особые основания желать вам добра!
’Я невольно насторожился и удивленно уставился на него.
_____ Я должен вам очень много — ив прямом и в переносном
смысле.
В его жестах и в интонациях мне почудилось что-то зна-
комое.
__ Три тысячи фунтов, не говоря уже о процентах.
.— Лайолф Грэвз!—вскричал я.
— Да...— Он примолк, ожидая, как я буду реагировать.
_____ Три тысячи фунтов золотом и мою золотоволосую де-
вушку! Ну, ее-то я вам готов простить.
182
— Еще бы! — проговорил Грэвз, указывая рукой на ворота,
за которыми скрылась Ровена.
Он тоже простил мне старую обиду. А я понимал, что я
гораздо счастливее его и что бессмысленно теперь его пресле-
довать.
Протянув руку над костылем, я пожал ему левую руку;
— Какой я был глупый, желторотый юнец! — вымолвил я.
— А я-то, со своими фантастическими планами! Но я полу-
чил хороший урок.
Мы оглядели друг друга.
— А теперь на кого мы похожи!
— Хороши, нечего сказать!
— А чему мы научились за это время? Чего добились?
Мы замолчали, испытывая некоторую неловкость. Сквозь
маску бинтов начали проступать знакомые черты. У него были
все те же манеры,— война ничего не изменила. Словно сгово-
рившись, мы сели на веранде и принялись беседовать. Сейчас
мы были пленниками в этом госпитале, и нам оставалось либо
наладить дружеские отношения, либо окончательно рассо-
риться. А это значило бы скучать в одиночестве.
— Вы побывали на Золотом Берегу? — спросил я.
— У Кросби и Митчесона я обделывал недурные дела,—
отвечал он.— Но когда грянула война, все полетело к черту.
Я обнаружил способности к торговле. Да они и сейчас при мне.
И мне удалось здорово наладить рекламу даже в джунгля.х
Западной Африки. Это было новостью для старинной фирмы и
принесло немалый доход.
— Ну, а потом?
— Подцепил брюшной тиф в Салониках. Работал агентом
в Италии, пока опять не забрали на действительную службу.
А потом — всего за три дня до перемирия — получил вот эту
штуку.
Он подробно рассказал мне о своей военной службе и о
послевоенных планах, и чем дольше говорил, тем все больше
становился похожим на прежнего Грэвза, с которым я не ви-
делся уже шесть лет. Теперь мне казалось странным, как это
я не узнал его сразу, несмотря на его бинты. Он уверял меня,
что развивал в Италии весьма важную деятельность. Там он
приобрел много ценных и полезных знаний и намеревался их
применить впоследствии. Ему не терпелось вырваться из
госпиталя и снова взяться за дела. Ему сказали, что он не бу-
дет обезображен.
Он остался все таким же легковерным прожектером. Он
верил, что теперь можно, как никогда, быстро разбогатеть. Да
он и всегда в это верил. Он проповедовал, что «упорными уси-
лиями» всего добьешься,— он и раньше так говорил. Даже
вызванные войной опустошения, по его мнению, имели поло-
жительную сторону. «Мы перестроим свое сознание и весь
183
мир»,— уверял он. Он так мало изменился, что я по контрасту
почувствовал, какие глубокие перемены произошли во мне са-
мом, и с удивлением услыхал, что я нимало не изменился,—
он с первого же взгляда узнал меня в госпитале.
— Фасад, быть может, остался, каким был,— ответил я,—
но внутренне я изменился,— жизнь крепко меня потрепала.
Он расспрашивал меня о том, что было мною пережито за
эти годы; из предыдущих бесед он уже знал, в каком я полку
служил и как был ранен. Мы избегали говорить об Оксфорде.
Но, видимо, его так и подмывало затронуть эту щекотливую
тему.
— Вы знаете, два месяца назад,— начал он,— я был в Окс-
форде. Перед моей последней операцией.
— Ну, как вы его нашли?
— Он словно стал меньше. И там куда больше суеты, чем
раньше. Целая куча послевоенных студентов с усами, как
зубная щетка... Видел вашу Оливию Слотер!
Я вопросительно хмыкнул.
— Она замужем. Мать ее торгует все в той же лавчонке.
Оливия вышла за колбасника, у которого лавка на углу Лэт-
мир-Лейн, и, представьте себе, всего через несколько месяцев
после... вашего отъезда. Может быть, она и раньше об этом
мечтала. Мне думается, это мамаша нацелилась на вас. Не
знаю, право. Словом, она замужем за мясником. Этакий куд-
рявый парень, румянец во всю щеку, в яркосинем переднике,
а в лавке у него мраморные прилавки, на которых горой ле-
жат розовые колбасы. У нее всегда были самые примитивные
вкусы, и я полагаю, с ним она куда счастливее, чем была бы
с вами или со мной. Уж он-то ее не идеализировал.
Грэвз замолчал. Я засмеялся.
— А я как раз этим и занимался,— сказал я.— Дальше.
Так, значит, она вышла замуж за колбасника.
— Да, но попрежнему субтильна. Она рассказывала мне,
что всякий раз, как муж собирается заколоть свинью, она за-
ранее затыкает уши.
— Вы с ней разговаривали?
— Ну конечно. Она стоит в лавке за решеткой и ведет
книги. Очень мне обрадовалась. «Ко мне заходят многие из
наших прежних покупателей»,— уверяла она. И спросила, по-
бывал ли я у ее маменьки.
— А вы у нее были?
— И не подумал! Мне никогда не нравилась ее маменька.
— А дети у нее есть?
— Трое, не то четверо. Во время войны она вела все дела
со своим дядюшкой, а муженек приезжал в отпуск, закалывал
парочку свиней и все такое. Дети очень милы, Блетсуорси, ро-
зовые и золотоволосые. Здоровые, как вся их порода. Не то,
что этот ваш маленький джентльмен,— комочек нервов!
184
— Но как она была прелестна, Грэвз!
— Она порядком располнела. Теперь вам было бы труд-
новато ее идеализировать, Блетсуорси.
— Она была приветлива с вами?
— Спрашивала про вас. «Ну, а что, говорит, ваш прия-
тель,— тот, что открыл вместе с вами магазин?»
— Как вы думаете, рассказала она о нас своему му-
женьку?
— Ни словечка. Было бы слишком сложно все это объя-
снять, а вкусы у нее были всегда примитивные. Да, может быть,
она и сама толком не поняла, что такое стряслось.
— Вы думаете, она все скрыла?
— Попросту забыла. Вспоминать обо всем этом было бы
слишком утомительно, да и не очень-то приятно. Эта история
потеряла для нее всякий интерес. Разве что с мужем у нее
могли быть стычки по этому поводу. Наверное, она перестала
об этом думать еще до того, как вы уехали из Оксфорда.
— Говорят, ум человеческий не менее разборчив, чем же-
лудок.
— Дело в том, что жизнь дает слишком уж богатую пищу
нашему уму,— продолжал он.— Нам приходится волей-неволей
сбрасывать кое-какой балласт. Быть может, когда-нибудь путем
трепанации черепа удастся расширить мозговую коробку и вы-
ращивать более вместительный мозг. Такой, что сможет все
охватить на свете. Кто знает? Мне говорили, что это вполне
возможно — в далеком будущем. Но в наши дни умнее всего
тот, кто умеет упрощать жизнь. А такова была, есть и останется
Оливия. Если не отбрасывать всякие там трудности, то придется
их принять, как-то принарядить или лицемерно их скрывать.
Это только усложняет жизнь, мешает нам жить... Да и что в
этом хорошего? И к чему это приводит? По существу говоря,
я человек дела, Блетсуорси. Каждый из нас должен идти своей
дорожкой, что бы у него ни было на душе. И что за польза
человеку, если он будет разрешать мировые вопросы и про-
воронит свое маленькое дело? А все эти серьезные вопросы
только излишний балласт! В лучшем случае они вызывают у
нас смутные порывы и желания, которые неизбежно кончаются
разочарованием и недовольством.
— Но если уж я так устроен, что не умею отбрасывать?
— Да. Тут уж, пожалуй, ничего не поделаешь.
— Что делать, если человек чувствует, что он должен во
всем разбираться? Положим, вы отбросите разные сложные
вещи, положим, даже они на время отвяжутся от вас, но они
попрежнему окружают вас, движутся наперекор вам или же
совершенно не считаясь с вами. Может быть, их не так-то
просто изгнать, как вы думаете. Например, пуля могла бы сра-
зить господина мясника или же бомба могла бы угодить в дет-
скую на Лэтмир-Лейн. Вы шли своей дорожкой на Золотом
185
Берегу, но куда девалась эта ваша дорожка, когда разразилась
война? Я еще до войны размышлял над судьбами челове-
чества, тревожился и бунтовал, а вы, видите ли, пытались все
благоразумно упростить...
— Насколько мог.
— А между тем нас постигла почти одинаковая судьба —
только у вас пострадало веко и рука, а у меня — нога.
— Ну, а вы что делали перед войной?
— Путешествовал. Побывал гораздо дальше, чем этот ваш
Золотой Берег. Во всяком случае, на войну я пошел с откры-
тыми глазами.
— Это еще вопрос, является ли это преимуществом. Но не
будем об этом спорить,— сказал Грэвз.
Затем, подстрекаемый его вопросами, я начал рассказывать
ему об острове Рэмполь и обо всех приключениях, какие опи-
саны в этой книге. Быть может, я рассказывал не совсем так
и не в такой последовательности,— ведь я в первый раз пы-
тался передать свои впечатления, и уверяю вас, это было не
легко. Может быть, если бы не Грэвз, я так и не взялся бы
писать эту повесть. Я постарался бы забыть всю эту историю,
как были преданы забвению тысячи таких историй, хотя пе-
режившие их люди еще здравствуют поныне.
12
ЖИЗНЬ ИДЕТ ДАЛЬШЕ
Я был рад возобновить знакомство с Лайолфом Грэвзом, и
это меня оживило. Нам было о чем поговорить друг с другом.
По правде сказать, мне его недоставало все эти годы, хотя я
и не отдавал себе в этом отчета. Оба мы выросли, сильно воз-
мужали, пережили много тяжелого и приобрели богатый жиз-
ненный опыт, но мы сохранили основные черты своего харак-
тера и, как и в дни юности, дополняли друг друга. Я был по-
прежнему впечатлителен и мало самостоятелен; а он все так
же убежден в своей необычайной практичности и все так же
безудержно предприимчив. Мысль о трепанации черепа для
расширения нашего умственного и творческого диапазона была
весьма характерна для него. Он хотел использовать свой опыт
по распространению швейных машинок на Золотом Берегу для
реорганизации всей мировой экономики. Теперь он носился с
проектами сбыта не только книг, но и всех других товаров на
совершенно новых началах, и я слушал его с живейшим инте-
ресом, твердо решив не вкладывать своего капитала ни в одну
из его затей.
186
Последние недели моего пребывания в Рикменсуорте, пока
я привыкал к своей искусственной ноге и устраивал вместе
с Ровеной наше теперешнее жилище в Чизлхерсте, мне прихо-
дилось подолгу с ним беседовать. Я мог говорить ему о себе
решительно все. Он обладал удивительной способностью по-
нимать меня с полуслова, вспыхивал, как бенгальский огонь,
освещая вопрос с разных сторон, что было мне совершенно не-
доступно. Он во многом со мной соглашался и вместе с тем
глубоко расходился со мной во мнениях. Да, мир — это ост-
ров Рэмполь, а цивилизация — всего лишь мечта; и тут же
он, не переводя духа, пускался в рассуждения о том, как пре-
вратить эту мечту в действительность. Так же, как и я, он был
стоиком, по ни у кого я не встречал столь агрессивного сто-
ицизма.
А пока что его денежные дела, невидимому, были плохо-
ваты. Он разрабатывал все новые многообещающие проекты
развития рекламного дела по продаже автомобилей, шикарных
отелей, аэропланов, консервов, портативных складных ванн для
маленьких квартир,— поле его деятельности расширялось
с каждым днем. Эти коммерческие планы шли вперемежку с
проектами, зародившимися у него в мозгу под влиянием моих
пессимистических выводов: о необходимости полной реоргани-
зации Лиги Наций и окончательного обуздания Ардама, ко-
торый будет навеки закован в цепи, а также пересмотра всех
религиозных догм. Он ничуть не сомневался, что всех мегате-
риев на свете можно не только истребить, но самым гигиенич-
ным путем избавиться от их трупов и что всех зловредных ка-
питанов и слабоумных старцев можно усмирить, положить на
обе лопатки или вовсе упразднить.
Вскоре у него сняли бинты с лица и заменили их большим
зеленым козырьком, и рука у него была теперь только на чер-
ной перевязи. Он все больше и больше становился похож на
прежнего Грэвза, только его лоб, раньше такой гладкий, те-
перь пересекал красный шрам, придававший ему несколько
сердитый вид; вероятно, он останется у него еще на долгие
годы. Этот нахмуренный лоб странно контрастировал с довер-
чивым выражением его рта.
Время от времени я поддерживал его небольшими денеж-
ными суммами; он был крайне щепетилен в отношении этих
авансов и приписывал их к сумме крупных долгов.
— Я надеюсь, Блетсуорси,— говорил он, бывало,— что неда-
лек тот день, когда вы дадите мне расписку в получении всей
суммы сполна, до последнего пенни, с начислением четырех с
половиной процентов, включая день уплаты. Затем вы поставите
мне бутылку самого лучшего шампанского, какое найдется в
продаже. Мы разопьем его вдвоем, и это будет счастливейшая
минута в моей жизни.
187
У него было очень мало связей и ему не на кого было опе-
реться в эти трудные дни послевоенной перестройки. Я, со своей
стороны, теперь убедился, как выгодно иметь многочисленную
родню. Моя жена внушала горячую симпатию леди Блетсуорси,
под руководством которой раньше шила бинты, и подружилась
с миссис Ромер. Ромер благополучно вернулся с фронта, да еще
в чине полковника; он отличился во время последнего похода
на Дамаск, а фирма «Ромер и Годден» до неприличия нажилась
на войне. Примерно так же сложилась судьба и других моих
кузенов. Естественно поэтому, что всем хотелось что-то сделать
для героя, пострадавшего на войне. Некоторые мои родствен-
ники, например, сэссекские Блетсуорси, потеряли сыновей, и я
почти автоматически оказался младшим директором полутора-
вековой фирмы коньяков и вин «Блетсуорси и Кристофер». Про-
шли те времена, когда младших отпрысков английских семей
посылали за границу. На них теперь был спрос на родине.
Блестящий поворот моей карьеры казался мне столь же неза-
служенным, как и мои былые злоключения, и я старался сохра-
нять свой внутренний стоицизм и внешнюю учтивость.
Я поспешил сделать Грэвза представителем нашей фирмы,
и он блестяще справился с этой задачей, по его инициативе был
введен целый ряд новых марок, например: «Марс», «Юпитер»
и «Старый Сатурн», хорошо знакомых любителям крепких, до-
брокачественных, выдержанных коньяков. Он и сейчас состоит
нашим коммерческим консультантом.
13
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫЛЫХ УЖАСОВ
Ровена убеждена, что если бы не Грэвз, я давно бы забыл
об острове Рэмполь. Как любящая жена, она считает своим
долгом всеми силами изглаживать из моей памяти весь этот
комплекс воспоминаний и представлений. Я согласен, что по-
вседневность беспощадно истребляет всякого рода фантасти-
ческие идеи, но все же она не в силах окончательно вытеснить
из моего сознания все то, что так глубоко меня захватывало.
Правда, мало-помалу рутина затягивает меня, рутина, которой
так богата новая фаза моего существования, и я уже вижу себя
пожилым обывателем, которому, кажется, не на что пожало-
ваться. Жена и дети, прекрасно обставленный дом в Чизлхерсте,
дело, которым я должен заниматься, чтобы моя семья могла
вести обеспеченную жизнь, друзья и знакомые, прогулки и раз-
влечения — все это отнимает у меня немало времени; запутан-
ная сеть насущных интересов держит в плену мое бодрственное
188
сознание большую часть дня. И все же я чувствую, что где-то
у меня в душе все еще лежат мрачные тени ущелья, и, несмотря
на уверенность и благополучие нашей жизни, я никак не могу
забыть крик юнги ночью на борту «Золотого льва», мертвые
тела на полях сражений, и свои раны, и свое отчаяние.
На улицах Лондона мне частенько ударяет в нос запах ме-
гатериев (чаще, чем я осмеливаюсь себе признаться), и за де-
корациями послевоенного благополучия мне слышатся порой
шаги капитана,, совершающего все новые зверства. Я не только
не могу забыть остров Рэмполь, но иногда мне кажется, что ре-
альный мир вот-вот исчезнет из моего сознания, и я начинаю
судорожно цепляться за него. Был случай, когда мне лишь с
величайшим трудом удалось удержаться в этом мире.
Быть может, мои изувеченные товарищи и умудряются за-
быть войну и то звериное лицо, каким повернулась к ним
жизнь,— мне это никак не удается. Несмотря на страстное же-
лание Ровены, я, по правде сказать, вряд ли склонен это все
позабыть. Если бы даже какой-нибудь психиатр предложил мне
изгнать из моего сознания все следы этого систематического
бреда, если бы он уверил меня, что я больше не буду жить этой
двойственной жизнью и действительность станет для меня такой
же прочной и надежной, какой она представляется молодому
животному,— я уверен, что не согласился бы на это. Мне при-
ходилось читать, что человек, едва не погибший в пустыне или
претерпевший неописуемые лишения полярной зимы, всю жизнь
будет стремиться к месту своих страданий. После всего пере-
житого обыденная жизнь кажется ему пресной и скучной, силь-
ные, глубокие впечатления всегда живы в его душе. Так случи-
лось и со мной. Остров Рэмполь неудержимо притягивает меня.
У меня такое чувство, что меня ждет там настоящее дело и что
вся моя теперешняя жизщ> с ее комфортом и удовольствиями
отвлекает меня от моей основной жизненной задачи. Я чувст-
вую, что мне никогда уже не забыть острова Рэмполь, что мне
еще предстоит свести с ним счеты. А покамест остров ждет
меня. Для этой цели я создан, для этого только я и существую,
мыслю и чувствую.
Правда, в течение нескольких лет я добросовестно старался
помогать психиатрам, старался отгонять эти видения, вытес-
нять их из главного потока моего существования, так, чтобы они
мало-помалу исчезли. Мне казалось, что моя любовь к Ровене
поможет мне начать новую жизнь. Теперь я понял, что для меня
совершенно невозможно начать новую жизнь. Мы оба с ней
поверили в эту иллюзию. Ровена тоже во власти этих навяз-
чивых мыслей, хотя и не вполне это сознает.
Ровена ревниво и настороженно оберегает наше счастье, ей
кажется, что его следует особенно ценить, ибо оно куплено до-
рогою ценой. Разве потеря ноги не была трагедией для нас
обоих? Но я все же остался жив, и когда на меня находит оче-
189
редной приступ мрачного настроения, когда я готов проклясть
весь мир,— она это называет черной неблагодарностью.
Так остров Рэмполь, словно тень, стоит между нами, и нам
никак не удается достигнуть полного душевного единения и вза-
имопонимания, которых мы так жаждем. Ей представляется,
что это злое наваждение, от которого она призвана меня
избавить. Она не может понять, в чем состоит его обаяние. То,
что ей не удается заставить меня о нем позабыть, она воспри-
нимает как жестокое свое поражение. Вот почему она из всех
моих друзей считает Грэвза своим врагом. Она интуитивно
чувствует, что именно с ним я делюсь тем, что скрываю от
нее, и ей никогда не понять, что беседы с ним не усиливают
мои страдания, но приносят мне облегчение. По ее мнению, он
портит нашу жизнь. Он разоблачает фальшь этой жизни. В при-
сутствии Грэвза ей даже изменяет обычное ее достоинство. Она
держится с ним подчеркнуто вежливо. А за его спиной открыто
высказывает свою антипатию.
— Ты сам говоришь, что этот человек обманул и разоча-
ровал тебя,— говорит она,— и все-таки считаешь его своим дру-
гом и даже взял его к себе на работу.
— Он прекрасно ведет дела.
— Еще бы ему не стараться. Подумай, сколько вреда он
тебе причинил!
Я молчу.
— Я никак не могу понять мужчин,— продолжает она,— вы
в иных случаях проявляете какую-то странную терпимость и
совсем уж неразумное упрямство!
Только одному Грэвзу мог я рассказать о скрытом душевном
кризисе, какой я пережил в связи с процессом Сакко и Ванцетти
в Массачузетсе, о том, как волновался в дни суда, отсрочек,
всей этой волокиты, закончившейся пересмотром дела и казнью.
Я не буду излагать обстоятельства этого процесса. Они всем
хорошо известны. Возможно, что дело обстояло совсем не так,
как мне представлялось. Но я пишу историю своего сознания —
обо всем, что совершалось у меня в душе, и не собираюсь рас-
сказывать о том, что происходило в зале массачузетского суда.
Вместе с миллионами других людей я убежден, что Сакко и
Ванцетти не виновны в преступлении, за которое понесли нака-
зание, что их судили пристрастно и вынесли несправедливый
приговор и что пересмотр их дела поставил под сомнение ум-
ственные и нравственные качества целого народа. Если я оши-
баюсь, то вместе со мной ошибаются такие люди, как Франк-
фуртер из Гарвардского университета или знаменитый юрист
Томпсон, изучившие до мельчайших подробностей этот неверо-
ятно затянувшийся и запутанный процесс. И особенно меня по-
трясла та невообразимая черствость, бесчеловечность и мсти-
тельность, какую проявили во всем мире богатые и влиятельные
люди, словно сговорившиеся уничтожить этих «радикалов».
190
Признаться, меня не так волновало, что. обвиняют ни в чем
не повинных людей, как возмущало все, что говорилось по
этому поводу. Это все больше меня удручало. Я потерял сон.
По ночам меня мучали кошмары. Я чувствовал, что это нера-
зумно с моей стороны, но ничего не мог поделать.
Я постоянно размышлял над запутанными перипетиями
этого дела, и мало-помалу остров Рэмполь оживал в моем со-
знании. Все нарастало чувство раздвоенности. Сквозь расплыв-
чатые очертания окружающих меня предметов все явственнее
проступали высокие скалы и над ними полоска голубого неба.
И когда я, бывало, ехал утром в Лондон и сидел с газетой
в руках, прислушиваясь к разговорам своих коллег-дельцов,
мне вдруг начинало казаться, что это не поезд грохочет, а шу-
мит в ущелье поток и что я вновь сижу за круглым столом в
верхней трапезной, а старцы обсуждают вопросы государствен-
ной безопасности.
Я изо всех сил боролся с этими навязчивыми воспомина-
ниями. Мне не хотелось забывать остров Рэмполь, но вместе с
тем я боялся, что эти представления нахлынут с прежней силой
и всецело овладеют моим сознанием. Я знал, что в Англии нет
ни одного психиатра, который мог бы мне помочь.
Я всячески старался скрыть свое душевное смятение от
Ровены, не без оснований опасаясь, что она ополчится на меня.
А ну как она сочтет Сакко и Ванцетти нашими врагами, решит,
что ее долг образумить меня, и примется их обвинять. Еще,
чего доброго, между нами разгорится спор, и в пылу полемики
она обнаружит резкость суждений и жестокость, как часто бы-
вает с женщинами. А это прямо убило бы меня!
Я все же продолжал заниматься делами, стараясь не отры-
ваться от живой действительности. Но стоило мне уснуть,
остаться одному или пойти на прогулку для отдыха, я мгновенно
покидал Англию и вновь оказывался в столь знакомом ущелье.
Я ловил себя на том, что громко разговариваю с островитянами,
и мне стоило невероятных усилий вернуться к действительности.
Иногда я вскрикивал без всякого повода. Как-то раз я не на
шутку испугал свою секретаршу, которая воображала, что я об-
думываю деловые вопросы.
Пейзаж острова Рэмполь оставался точно таким же, как и
до войны. Но Чит куда-то исчез, и я уже больше не пользовался
преимуществом Священного Безумца. Хотя война уже кончи-
лась, Ардам попрежнему был у власти, теперь он энергично раз-
вивал идеи Чита, которые прежде отвергал с таким презрением.
В следующую войну предполагалось совершить грандиозный
поход по плоскогорью, причем Ардам изобрел для нас какое-то
идиотское вооружение, а вести нас в бой должен был священ-
ный древесный ленивец. В совет старцев теперь входили еще
судьи, законоведы и какие-то чудные люди с выдающимися че-
люстями, которые жевали резину и откусывали кончики сигар.
191
Мне чудилось, что я стою в толпе, со всех сторон меня пихают
и толкают коричневые вонючие дикари, которых за это время
стало еще больше; я становился на цыпочки и вытягивал шею,
стараясь разглядеть, что там происходит. Но мне никак не
удавалось протиснуться в первые ряды. А те двое, идущие к
месту своей казни, представлялись мне какими-то жалкими,
захудалыми, неопытными миссионерами, горе-фанатиками, не-
ведомо как и откуда попавшими на остров. Моя фантазия
облекла их в потертые рясы. Сакко казался хмурым, угрюмым
и озадаченным, а у Ванцетти было кроткое лицо мечтателя, и
взгляд его был устремлен на озаренную солнцем полоску зе-
лени, окаймлявшую вершину плоскогорья. Обоих я видел
совершенно отчетливо. Если бы я умел рисовать, то и сей-
час мог бы набросать их портреты: они стоят передо мной, как
живые.
Мне казалось, что вот уже шесть жутких лет они все идут и
идут сквозь враждебные толпы навстречу своей судьбе, к ожи-
дающей их «укоризне». Их не торопили, но не давали им ни
минуты покоя. Туземцы орали на них. Симпатии народа не были
на их стороне; правда, в толпе сновали люди, выдававшие себя
за их друзей, но они только подливали масла в огонь, пресле-
дуя свои корыстные цели. Впереди неизменно шагал «воздаю-
щий укоризну» с дубиной на плече, а шествие замыкал отряд
приспешников Ардама.
— Что они сделали? — спрашивал я.
Ответы бывали различные, но смысл их всегда один и
тот же:
— Пришли учить нас, что в ущелье жить нехорошо! Пришли
охотиться на священных мегатериев! Пришли уговаривать нас,
чтобы мы больше не ели «даров Друга»! Разве можно жить без
«даров Друга»?
— Возмутительно! — восклицал я, и сердце щемило при
мысли, что я разделяю вину дикарей. Так вот какая участь
ждет того, кто вздумает выбраться за пределы ущелья!
— Мы покажем этим миссионерам, как таскаться к нам,
мутить наш народ и нарушать наши обычаи! Взгляните на их
мерзкую одежду! Взгляните на их бледные лица! Да от них
даже запаха не слышно!
Наконец, дело доходило до казни, и мне мерещилось, что
мы всем скопом кидались на них, и разрывали на мелкие клочки,
и делили их между собой, и все принимавшие участие в их
избиении поедали их мясо. «Ешь,— сказал какой-то голос,— раз
ты не мог спасти их!» Так искаженно преломлялись в моей фан-
тазии действительные события, принимая чудовищные формы.
Толпа увлекала меня на площадку перед храмом богини, где
происходило убийство и дележка, и кусок, который сунули мне,
до ужаса напоминал те трепещущие клочья человеческих тел,
разорванных снарядами, которые я видел за какую-нибудь ми-
192
нуту до того, как получил ранение. «Ешь, раз ты принимал
участие в этом деле!» И это повторялось снова и снова. Сперва
мгновенно происходило убийство, потом бесконечно долго это
омерзительное таинство. Всякий раз приходилось участвовать в
нем. Участвовали все до одного. Я чувствовал, что теряю рас-
судок. Однажды ночью я громко закричал: «Я не буду есть! Не
буду есть!» — и проснулся.
Я встал и некоторое время, ковыляя, бродил из угла в угол,
боясь, что если лягу, то снова увижу этот сон, который без
конца повторялся, с чудовищным однообразием, насыщенный
все нарастающим ужасом. Ровена бесшумно появилась в две-
рях.
— Что это ты сейчас ел?
— Ничего особенного,— успокаивал я ее.— Это, должно
быть, от желудка.
Что я ел во сне? Разве можно об этом рассказать?
— Не пойму, в чем дело,— сказал я и наскоро сочинил ка-
кое-то объяснение.
— Опять нога разболелась!
— Ох, уж эти мне доктора! Надо бы их притянуть к суду
за все убытки!
— Не думаю, что от этого ноге станет лучше.
— Ты так спокойно это принимаешь!
Я повернулся к ней спиной и стал глядеть в окно — в тем-
ноту ночи. Ровена и не подозревала, какими видениями полон
был ночной мрак! Опять толпа увлекла меня к храму богини.
Опять приближался момент казни! Ванцетти взглянул на меня.
Я был до того поглощен всем происходившим, что вздрогнул,
когда жена обратилась ко мне:
— Бедненький ты мой!
Я повернулся к ней с виноватым видом и следил за ее дви-
жениями, пока она наливала мне какое-то лекарство и всячески
меня успокаивала.
Немного спустя я опять встал с постели и стал бродить по
комнате, стараясь ступать бесшумно, чтобы не потревожить
жену...
Так я провел ночь, когда умерли Сакко и Ванцетти.
На следующий день у меня было деловое свидание с Грэв-
зом, и я поделился с ним своими мучительными переживаниями.
— Такие суды и казни происходят чуть не каждый день,—
сказал он.— В этом событии нет ничего особенно ужасного. По
существу говоря, это все равно, что раздавить мышь. Нелепая
социальная система хочет себя отстоять и уничтожает своих
врагов, хотя они пока еще очень слабы. Вы мыслите метафо-
рами и образами, которые не столько освещают действительные
события, сколько искажают их... В конце концов вы ведь не
вполне уверены, что эти люди так-таки ни в чем не повинны.
К тому же не все человечество было против них. Дело несколько
13 г. Уэллс, т. 2
193
раз надолго откладывали. У них были адвокаты и приверженцы.
Если жестокость и предрассудки в конце концов одержали верх,
то лишь после долгой борьбы. А подумайте о гладиаторах,
распятых на дороге в Рим после восстания рабов? Разве у них
были защитники? Пойдемте-ка лучше со мною в зоологический
сад. Познакомьтесь, Блетсуорси, поближе с историей и приро-
дой, и тогда вас не будут так угнетать текущие события.
Он втянул меня в спор. Он заставил меня осознать мои
ужасные видения и подверг их суровой критике. Мы долго спо-
рили, и я чувствовал, что галлюцинации постепенно теряли
власть надо мной. Я крепко спал в эту ночь, припадок миновал.
Утром я проснулся в грустном настроении, но совершенно здо-
ровый и мог спокойно разговаривать с Ровеной о наших
повседневных делах.
14
БОДРАЯ ИНТЕРМЕДИЯ
Недавно мне пришлось провести вечер с Грэвзом. Он при-
гласил меня отобедать с ним.
За последнее время он пошел в гору. Он становился видной
фигурой в той среде, какую именуют «послевоенным торговым
миром». Он весьма успешно распространял модные товары и
сделался влиятельным членом прогрессивного Клуба коммер-
сантов; он выступает на собраниях дельцов, освещая проблемы
послевоенной экономики и намечая перспективы ее развития.
Пишет статьи и является автором двух глубокомысленных,
оригинальных и талантливых книг на тему о современной эконо-
мической и политической ситуации. Книги эти вызвали серьез-
ное обсуждение и одобрительную оценку критики. Насколько
мне известно, он первый (но, думается, не последний) вошел в
литературу, начав с сочинения реклам. Он порядком пополнел,
уже может держать перо правой рукой, искусственное веко
придает ему несколько насмешливое выражение, а шрам на лбу
из огненно-красного стал бледнорозовым. Он подстриг а 1а
Давид свою каштановую бороду и уверяет меня, что скоро все
мы снова вернемся к бороде.
«Дорогой Блетсуорси,— писал он.— Вы, конечно, помните,
что я давно обещал вам выплатить весь свой долг. Тогда вы
улыбнулись. Но сейчас вам придется еще разок улыбнуться.
В настоящее время мне ничего не стоит выплатить вам две трети
своего основного долга. Но пусть эти деньги пока остаются
у меня в деле и помогут мне приобрести недостающую тысячу,
чтобы вернуть вам всю сумму с процентами. По этому случаю
194
разопьем с вами бутылку шампанского. Приходите пообедать
со мной в Национальный клуб либералов. В это время года сто-
лики вынесены на террасу, над которой натянут тент. Сидя на
открытом воздухе, мы будем смотреть, как мимо нас пробегают
ярко освещенные трамваи, как сквозь листву платанов мигают
огни города, как они отражаются в реке под нашим милым
старым почерневшим от времени мостом, который все эти бол-
ваны художники и прочая публика собираются заменить
каким-то уродливым порождением современного ренессанса,—
но у меня есть собственный план нового моста. Придется уж
его снести, но этот уголок слишком живописен, чтобы позволить
этим господам его оберлинивать.
За качество обеда в Н. К. Л. не могу поручиться, сервировку
там не назовешь пышной, но обстановка уютная, а вот за
шампанское я отвечаю.
Итак, в четверг, в восемь вечера.
Преданный вам
Лайолф Г,»
Выглядел он превосходно и, казалось, был вполне доволен
собой. Здороваясь со мной, он ласково и внимательно вгляды-
вался мне в лицо.
— Вы, я вижу, стряхнули с себя Сакко и Ванцетти,— заме-
тил он и повел меня на террасу. Я нашел, что это приятное
местечко.
— Это очень занятный клуб,— начал он.— Здесь до сих пор
еще господствуют политические традиции восьмидесятых го-
дов, причем эти политиканы любуются мостом шестидесятых
годов и воображают, что они в авангарде прогресса. Как хо-
роша эта мглистая симфония летних сумерек, куда вносят свою
приглушенную ноту эти устарелые трамваи, тихонько пробе-
гающие мимо. Вы обратили внимание на эти седые головы, на
эти смуглые восточные лица, на этих евреев классического,
чисто библейского типа и на этих неунывающих пижонов? Там
в саду, на скамейках, шепчутся v молодые парочки. Понятное
дело, они шепчут друг другу старые-престарые слова.
Он заказал к супу херес и откопал в прейскуранте превос-
ходные вина марки Дейц и Гельдерман 1911 года.
Он заразил меня своей жизнерадостностью, я приободрился.
Уже не в первый раз общество Грэвза действовало на меня
благотворно. Он говорил об упадке либерализма и ухитрился
изобразить эту гибель человеческих иллюзий не в трагических
тонах, а скорей в юмористических и даже с оттенком оптимизма.
— Взять, например, вот этот клуб,— это какое-то старое,
забытое в углу знамя прогресса. Ему уже больше нечего ска-
зать, и он торчит здесь, как некий ветхий годами, но вечно юный
мегатерий, просто потому, что не знает, как ему сойти со сцены
и куда деваться.
13*
195
— Так, по-вашему, либерализм умер?
— О нет. Либерализм бессмертен. Всегда найдутся люди,
которые будут протестовать против господствующего порядка
вещей. Но я имею в виду сию почтенную партию, с ее организа-
циями, традициями, со всеми ее гладстоновскими замашками и
позами а 1а Джон Брайт.— Он понизил голос и покосился на
соседний столик.— Дело в том, что либерализм попал в руки
старьевщиков. Они почистили его бензином и преподносят эти
жалкие устарелые лозунги как последнее слово прогресса.
Хотите маслин?
— Так выходит, что либерализм жив?
— У вас в крови. И у меня. В крови каждого мыслящего
одаренного человека.
— Вы умудряетесь все окрашивать в розовый цвет.
— А вы умудряетесь ничего не видеть за окружающими нас
вещами.
— Ну, уж остров Рэмполь-то я всегда вижу.
— Ия тоже. Но я вижу и небо над ним.
— Скажите мне, Грэвз, вы верите, что род человеческий
когда-нибудь выберется из ущелья?
— Конечно, если только наше солнце не погаснет и не
вздумает взорваться и если ничего не случится с нашей пла-
нетой.
Я покачал головой. Он наклонился над столом и пристально
на меня поглядел.
— Скажите мне, Блетсуорси, вы серьезно верите, что на
нашей земле все вечно будет так же, как сейчас?
— Не всякую перемену можно назвать прогрессом. Не напо-
минает ли вам человеческая жизнь музыкальную тему с кое-
какими вариациями?
Грэвз помолчал. Нам снова подали кушанья, и официант
вертелся около стола. Остатки спаржи были убраны, и появи-
лось какое-то блюдо, сейчас не припомню какое.
— Есть вещи, о которых не всякому скажешь,—.начал
Грэвз и снова замолчал, словно приглашая меня обдумать его
замечание.— Вы меня давно уже раскусили. Я легкомыслен,
опрометчив, так ведь? Не слишком-то надежен. А иногда чуть
что не мошенник.
— Нет, вам далеко до мошенника.
— Благодарю вас. Но таков уж я есть. Быть может, не-
сколько безрассуден, тщеславен, люблю поговорить. Вы сами
знаете, что вы куда солиднее меня. Но все-таки я не совсем
уж пропащий человек. Иной раз могу даже дельный совет дать
такому основательному человеку, как вы.
— Вы, пожалуй, назовете меня ретроградом.
— Нет, я считаю, что вы гораздо устойчивее и уравнове-
шеннее меня. Но вам недостает предприимчивости. Вам не-
достает предприимчивости, и вы даже не верите, что она необ-
196
ходима в жизни. А я вам говорю, что в нашем мире процве-
тает всякого рода предприимчивость, пусть . беспорядочная,
сумбурная, неорганизованная, даже бесцельная,— но все-таки
предприимчивость. И она с каждым днем приобретает все бо-
лее разумный характер. Становится все менее сумбурной. Все
менее своекорыстной. Культурный уровень повышается, растет
общественная инициатива, накапливаются силы.
— Я вижу, вы все такой же неисправимый фантазер! —
прервал его я и тут же попросил продолжать.
— Вы хорошо знаете библию? — вдруг спросил Грэвз.
— Когда-то знал.
— Больше двух тысяч лет назад ваш остров Рэмполь по-
сетил человек, которого почитали мудрецом. Он утверждал,
что люди живут не в ущелье, а в темной пещере и нет у них
ни надежды, ни выхода и не заглядывает к ним даже луч от-
даленной звезды. Суета сует и всяческая суета. Но теперь ведь
и вы признаете, что из ущелья видно ясное небо. Вы расска-
зывали плешивым старцам о благах цивилизации, а говорить
людям о чем-нибудь хорошем, значит наполовину уже это
осуществить.
— Если бы я только мог этому поверить!
— Я согласен, что вы тяжело пострадали на войне. Это
ваша личная трагедия. Но...— Он остановился, обдумывая, как
бы точнее выразить свою мы.сль.— Следует ли в наше время
измерять ценность вещей и событий с точки зрения своего лич-
ного благополучия?
Он опять задумался. Потом заметил как бы вскользь:
— Вот я сейчас высказал вам свои заветные мысли и чув-
ства, но боюсь, как бы мне не оказаться своего рода валаамо-
вой ослицей.
— А почему бы нам с вами не высказывать откровенно
свои мысли, даже если у нас и не такие брада и чело, какие
полагаются мудрецам? Продолжайте, Грэвз.
— У нас с вами,— сказал Грэвз,—могут зародиться идеи,
которые мы не в силах будем осуществить. Но явятся другие
люди, лучше и сильнее нас, они-то и проведут в жизнь наши
идеи. Лиха беда начало!
— Но, к сожалению, я что-то не вижу людей сильнее и
лучше нас.
— Пусть так. Но если, кроме нас, Блетсуорси, еще
сотни тысяч людей будут действовать с нами в одном направ-
лении, то они сотворят великие дела, которые под стать
гениям.
— Вот с этим я совершенно не согласен. Нет. Если чело-
век опускается ниже известного уровня, его практически уже
нельзя принимать в расчет. Это попросту нуль. Например...—
Постойте минутку, Грэвз, дайте мне сказать! — хотя бы эта
самая война. Но сперва мне хочется вам напомнить об этом
197
нашем жалком маленьком начинании в Оксфорде: небесно-
голубой фасад, сеть магазинов, которые должны были распро-
странять знания, передовые идеи и культуру по всему земному
шару.
— Я и сейчас уверен,— веско сказал Грэвз,— что идея
была превосходная.
— Но ведь мы потерпели неудачу.
— У нас не хватило ресурсов. Денежных и моральных. Что
я был такое? Жадный негодяй, глупый расточитель! Отврати-
тельная личность. И все-таки я убежден, что придет день,
когда кто-нибудь почище меня подхватит нашу старую идею
и осуществит эту великую задачу.
— К сожалению,— сказал я,— я не верю, что у наших со-
временников найдутся и денежные и моральные ресурсы, не-
обходимые для совершения того великого сдвига, о котором
вы так мечтаете. Вот, например, война. Наше поколение, без
сомнения, давно раскусило, что такое Ардам. А что, спраши-
вается, было предпринято и что мы сейчас делаем, чтобы его
обуздать? Строим легковесные проекты.
— Для борьбы с ним у нас нет еще нужных средств. Де-
лаем попытки, правда довольно вялые.
— А где вы найдете необходимые средства? Человек по
природе труслив и склонен сам себя дурачить. Где вы видите
хоть искру надежды? Вот мы сидим с вами здесь на террасе
и кейфуем среди развалин викторианского либерализма. А за
соседними столиками всякие совы и филины потчуют своих
друзей. А ведь в свое время викторианский либерализм вдох-
новлял передовых людей: он освобождал рабов, он в некото-
ром роде повышал культурный уровень масс, он славословил
свободу. Назовите-ка мне какое-нибудь новое течение, кото-
рое было бы лучше и убедительнее его? Мы приходим с вами,
Грэвз, все к тому же вопросу: где найти нужный капитал?
Мне вспоминаются все пережитые мной несчастья и разоча-
рования. Некоторые из них я приписываю слепому случаю,
равнодушию природы, которая обращает на человека не
больше внимания, чем на какого-нибудь червяка или на па-
дающий камень. Природа дала мне много хорошего и много
дурного...
— «Звезды, горы, море, цветы»,— тихонько продекламиро-
вал Грэвз.
— Но гораздо в большей степени, чем природу, я склонен
винить в своих несчастьях человека, его неискоренимые по-
роки.
— Почему неискоренимые? — пробормотал Грэвз.
— Он только и делает, что заблуждается, и так всю свою
жизнь. Он жесток, любит разрушать, безжалостен, глуп, при
малейшей панике теряет голову и становится опасным, вечно
завидует всем и каждому.
198
— Но ведь есть же у него и положительные черты.
— Может быть,— но общий баланс не в его пользу. Таким
он всегда был, таким и останется.
— Нет,— сказал Грэвз.
— Вся история человечества это доказывает.
— История — это то, что некогда было и прошло.
Он прервал свои рассуждения, чтобы распорядиться на-
счет кофе. Мы закурили сигары и отодвинули свои стулья по-
дальше от стола, где красовались великолепные остатки де-
серта и серебряные чашки для ополаскивания пальцев. Сквозь
ветви старых кленов, раскинувшихся сложным узором, мы
смотрели в бездонную синеву ’июльской лондонской ночи;
в просветах между деревьями был виден мост, где не смолкал
грохот и сновали взад и вперед яркие огоньки, сливаясь в ши-
рокий ослепительный поток.
Некоторое время мы сидели, не говоря ни слова.
— Блетсуорси,— прервал молчание Грэвз,— вы и предста-
вить себе не можете, какое великое будущее ожидает челове-
чество.
— Ну; а вы можете?
— Я предвосхищаю его, чувствую его приближение... Мы
с вами, Блетсуорси, самые заурядные люди. То, что мы ду-
маем, думают и тысячи других людей. Не вы один побывали
на этом самом острове Рэмполь. Его посетили тысячи, пожа-
луй даже миллионы людей. Мы с вами размышляем о том, как
бы это выбраться из ущелья, но от наших отвлеченных рас-
суждений нет никакого толку. Движение это пока что едва
намечается, и такие, как мы, средние люди, топчутся на месте,
испугавшись выводов, к которым логически пришли. Но ведь
сотни и тысячи должны мыслить и чувствовать, как мы с вами.
Сущая нелепица думать, будто на свете нет людей более ре-
шительных, чем мы,— я уверен, что их даже очень много. Они
нащупывают путь, строят новые планы. Нужно, чтобы как
можно больше людей пришли к такому сознанию,— и тогда
все пойдет на лад!
— За малым дело стало,— не без иронии бросил я.
С минуту Грэвз колебался, стоит ли отвечать на это заме-
чание, и, видимо, решил, что не стоит.
— Это была война,— продолжал он,— за прекращение
войн, и я уверен, что она положит им конец. Уже больше ни-
когда не будет таких страшных и бессмысленных* войн, как
эта последняя бойня. До поры до времени мы еще будем тер-
петь старое правительство, старые порядки. Война разобла-
чила их и осудила, но мы все еще их терпим. Ведь наспех
невозможно радикально перестроить человеческое общество.
Не стоит огорчаться из-за отдельных неудачных опытов, это
лишь временные срывы. Настоящая перестройка, радикальная
перестройка не за горами, поверьте мне, Блетсуорси. Великое
199
обновление зарождается в наши дни, подобно тому как пози-
тивная, экспериментальная наука зарождалась в семнадцатом
веке. Для начала надо учредить ряд небольших компаний на
новых началах, это будут своего рода застрельщики. И это
естественно. Ведь всякое предприятие начинается с набросков,
с планов, составленных в общих чертах. Спешить незачем, но
не надо и медлить. Чтобы все в корне изменить, потребуются
колоссальные затраты, это обойдется в несколько раз дороже,
чем обошлась человечеству мировая война. Широкие агита-
ционные кампании. Широкие просветительные кампании. По-
требность в них уже назрела, и они будут проведены. Теперь
смотрите, что будет дальше: Прежде всего наши правители
должны сделать решительный шаг — потребовать, чтобы война
была признана преступлением. Вы скажете, громкая фраза,—
но так ли это? Когда правители освоятся с этой мыслью и
когда она станет достоянием всего народа, тогда, Блетсуорси,
тогда, сперва робко, потом все смелее и смелее, они примутся
обсуждать следующее мероприятие, новый шаг на пути к уста-
новлению международного контроля над мировой политикой
и экономикой, без которого не будет иметь силы закон, объяв-
ляющий войну преступлением. И такого рода шаги уже начи-
нают предпринимать.
— Но подумайте о том, что представляют собой современ-
ные люди, по плечу ли им такая гигантская задача? Ведь они
вечно ссорятся, мошенничают, терпят крах и попусту растра-
чивают свою жизнь.
— Плешивые старцы, которые деспотически правят племе-
нем, уже на краю могилы. Слава богу, существует смерть. Ведь
мегатерии могут умереть. А если им в этом помочь, они могут
очень скоро умереть.
— Ну, а что придет им на смену? — спросил я.— Новая
поросль все тех же самых сорных трав. Еще одна вариация на
тему человеческого бессилия.
Я взглянул на своего собеседника. Он смотрел на старый
железнодорожный мост, и лицо его выражало спокойную
уверенность,— как видно, на него не произвели впечатления
мои слова. Несколько минут он молчал, углубившись в свои
мысли. Потом повернулся ко мне.
— Блетсуорси,— начал он,— в наши дни уже можно со-
ставить себе представление, правда пока еще смутное, о том,
что может сделать человек в окружающем его физическом
мире,— авиация, подводные лодки, радио, уничтожение рас-
стояний, чудеса современной хирургии, борьба с эпидемиями...
Но вряд ли кто из нас задумывался о том, какие меры надо
предпринять, чтобы в корне перестроить человеческое созна-
ние. А ведь это надо будет сделать в несколько лет. Просве-
щение до сих пор еще в допотопном состоянии. Догматы на-
шей религии и принципы нашей морали вызывают улыбку
200
даже у четырнадцатилетнего мальчишки. И что же вы ду-
маете, так все и будет продолжаться?
Я молчал, продолжая упрямо стоять на своем.
— Возьмем, например, нашу с вами жизнь. Разве уда-
лось нам использовать хотя бы десятую долю наших способ-
ностей? При господствующей системе образования едва ли один
процент всех получаемых знаний идет впрок. Все остальное —
ерунда, рутина, ложное направление умов. Каким примитив-
ным, глупым, жадным, разболтанным ротозеем был я в те
оксфордские дни, когда втянул вас в эту историю! А ведь я
получил первоклассное по тем временам образование. Редко
с кем так возились, как со мной. А вы...
— Я тоже был изрядным ротозеем,— признался я.
— А что могло бы получиться даже из такого второсорт-
ного материала, как мы с вами, если бы дать нам настоящее
рациональное образование и если бы мы выросли в мире под-
линной цивилизации, а не среди этого дикого сумбура и все-
общей грызни, лицемерно прикрытых пышными фразами. Но
просвещение как-никак распространяется. И надо сказать,
наши современники — самые обыкновенные люди — гораздо
лучше владеют собой и разбираются в себе, чем их отцы и
деды: они умеют во-время сдержать порыв неразумного гнева,
отдают себе отчет в своих симпатиях и антипатиях, умеют
выйти из самого затруднительного положения и стали гораздо
откровеннее. Это только первые проблески новой духовной
культуры, основанной на самоконтроле, а не на догмате и
дисциплине. Распространение новых идей вызвало к жизни и
новый уклад жизни, более широкий взгляд на вещи. Многие
до сих пор воображают, будто любовь осталась той же, какой
была сто лет назад. Ничего подобного! Точно так же обстоит
дело и с ненавистью. В деловом мире теперь меньше алчности,
взаимного недоверия и конкуренции. Если произвести стати-
стику, то окажется, что на долю каждого человека сейчас вы-
падает раза в четыре меньше всяких каверз и неприятностей,
чем во времена Диккенса и Теккерея. Если вы мне не верите,
перечитайте их. Достаньте старый номер «Панча», выпущен-
ный лет этак пятьдесят назад, и вас поразит, сколько там по-
шлости и снобизма,— и после этого вам покажутся прямо-таки
невинными политические остроты в современных журналах.
А ведь все это только начало длительного процесса, который
приведет к духовному возрождению человечества. Только пер-
вые шаги. Движение это еще не приняло массового характера.
Вы знаете не хуже меня, что по крайней мере семь восьмых
всех злых и жестоких поступков вызваны страхом, подозри-
тельностью, невежеством, опрометчивостью и дурными навы-
ками. Но ведь от всех этих недостатков можно излечиться, если
не совсем, то хотя бы отчасти. Неужели же вы думаете, что
когда люди узнают, что можно излечиться от этих недостат-
201
ков,— они не постараются с ними разделаться? А для этого
нужно только показать им, что их ожидает в будущем. Если
бы мы с вами могли перенестись лет на сто вперед, неужели
мы увидели бы ту же самую толпу? Не думаю. Мы увидали
бы людей более воспитанных, лучше одетых, с хорошими ма-
нерами, которые не слоняются бесцельно по улицам, а идут,
куда им надо. Вот я смотрю на нынешних горожан, и они,
право же, напоминают мне насекомых, ну там муравьев или
мух, которые попали на кухню в поисках легкой наживы. До-
рогой мой Блетсуорси, неужели вы думаете, что все это,—
он указал на Лондон размашистым жестом руки,— так-таки и
будет продолжаться до скончания веков? Неужели вы думаете,
что еще долго будет так продолжаться?
— Но где и когда начнется эта ваша новая эра?
— Да в какой-нибудь миле от нас,— она озаряет уже ты-
сячи умов. И скоро охватит весь мир.
— Слушайте, Грэвз,— заявил я,— вы непременно должны
написать еще одну книгу под заглавием: «Безграничные пер-
спективы развития всечеловеческой культуры».
Он потушил огарок сигары, ткнув его в пепельницу. Ка-
залось, он серьезно обдумывал мое предложение.
— Пожалуй, что и так,— проговорил он.
— Ну, а что остается на долю отдельных личностей?
— Стоицизм, творческий стоицизм. Чего же вам еще? Не
думайте, что стоицизм непременно должен быть суровым. Со-
гласитесь, Блетсуорси, что в жизни бесконечно много прекрас-
ного и увлекательного, и несмотря на все ваши разочарования,
если бы вам предложили на выбор — жить или умереть, вы
все-таки выбрали бы жизнь,— так ведь?
— Я не хочу быть неблагодарным. Ради одной такой чудес-
ной летней ночи — и то стоит жить. Но мне горько думать, что
до сих пор я по-настоящему не жил, и хотелось бы мне, чтобы
в моей жизни было больше смысла.
— Уже ваше недовольство собой и то имеет большой
смысл. И вдобавок, Блетсуорси, вам еще нет и сорока. Перед
вами еще много лет жизни. Может быть, мы с вами еще уви-
дим серьезные перемены... Личная наша жизнь — еще далеко
не все. До сих пор люди переоценивали свою индивидуальную
жизнь и слишком мало думали о себе подобных. Вовсе не тре-
буется, чтобы в корне изменилась природа, достаточно, если
изменится направление... О, я знаю, вы сейчас думаете, что я
хочу ускользнуть от решения своих личных задач, разглаголь-
ствуя о прогрессе человечества. Я догадался по вашей улыбке,
она такая недоверчивая. Быть может, вы думаете, что для
меня не имеет большого значения, как я веду свои дела и ка-
ким путем добьюсь своей цели, ведь если я даже и не буду
на высоте, общий поток все равно понесет меня к новым бе-
регам. Нет, мне чужды такие мысли. Я далек от таких чувств.
202
Напротив, занимаясь этими великими проблемами, я стараюсь
подавлять в себе все мелкие, своекорыстные побуждения.
Я стал честным, во всяком случае куда более честным, чем
раньше. И не так давно в двух-трех случаях я проявил даже
что-то вроде великодушия. А помимо всего прочего, я наме-
рен выплатить вам весь свой долг.
— А нужно ли это? К чему отягощать свое будущее рас-
платой за ошибки прошлого? Я с радостью спишу со счета весь
ваш долг. Позвольте мне сделать это во имя нашей дружбы,
которая так много дала нам обоим.
— Я не успокоюсь, пока не заплачу вам.
Я взглянул на него, и он прочел в моих глазах вопрос.
— Чтобы доставить вам удовольствие, скажу точнее. Я не
успокоюсь, пока не приму твердого решения заплатить вам.
Я улыбнулся этой характерной для него оговорке, и лицо
у него просияло ответной улыбкой.
— А все-таки я вам заплачу,— сказал он.— Вы всегда во
всем сомневаетесь. Но поверьте моему слову: этот ваш остров
Рэмполь исчезнет, и восторжествует все, о чем я говорил.
1928
Бэлпингтон
Б л® в s к.и й
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ПОЗЫ, сдвиги,
СТОЛКНОВЕНИЯ И КАТАСТРОФА
В СОВРЕМЕННОМ МОЗГУ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
рождение и ранние годы
1
РАЙМОНД И КЛОРИНДА
ыло время, когда он чувствовал, что не должен
называть себя Бэлпингтоном из Блэпа. Хотя он и
называл себя так только мысленно. Он никогда
В не называл себя Бэлпингтоном Блэпским ни од-
ВншВ ной живой душе. Но про себя он делал это по-
стоянно. И это незаметно действовало на его психику. Иногда
эти слова как-то помогали ему, а иной раз оказывались по-
мехой.
В течение нескольких лет он очень старался не быть больше
Бэлпингтоном Блэпским, а быть попросту тем, чем он был на
самом деле — что бы это в сущности ни было.
Это было в то трудное время, когда он чувствовал, что
растет, но растет не совсем так, как следовало бы. Ему при-
шлось вести жестокую борьбу. Он поддался каким-то чуж-
дым ему влияниям, в особенности влиянию этих Брокстедов,
его друзей и соседей. Он тогда твердо решил не отворачи-
ваться от фактов, а смотреть им прямо в лицо. Он уходил бро-
дить один и шептал про себя: «Я просто Теодор Бэлпингтон,
самый обыкновенный мальчик». Но и тут он ловил себя на
том, что сбивается на громкие фразы, которые изобличали его.
«Не достойно Бэлпингтона Блэпского отворачиваться от гру-
бого лица действительности».
С течением времени, как это будет явствовать из нашего
повествования, его сопротивление ослабло. Привычка вообра-
жать себя Бэлпингтоном Блэпским стала менее навязчивой,
но не исчезла. Постепенно она возродилась, стала еще сильнее.
207
Она завладела им, победила его. Как это произошло — вы
узнаете из этой повести.
Бэлпингтоном он именовался вполне законно. Но существо-
вали и другие Бэлпингтоны, и кое-кто из них был гораздо зна-
чительнее, чем он. Так что дополнение Блэпский было не
оправдано.
Отец его, поэт и критик, со слабыми легкими, жил в Блэй-
порте. Мать его была одной из десяти дочерей Спинка, которые
все до единой вкусили ранних, недозрелых плодов высшего
женского образования. Братьев у них не было. Старый Спинк,
не смущаясь этим феминистским уклоном своих хромозом,
заявил: «Каждая из моих дочерей будет не хуже мужчины».
Клоринда, четвертая из них, если подойти с точки зрения ее
брака, оказалась лучше. Ибо Раймонд Бэлпингтон, ее супруг,
в конце своего пребывания в Оксфорде забросил ученье, сме-
нив его на эстетический образ жизни. Он, признаться, был не
пара Клоринде. Она вышла за него не подумав. Когда вы одна
из десяти сестер, брак грозит обратиться для вас в нечто вроде
свалки вокруг жениха. Ей хотелось, чтобы муж ее был неза-
урядной личностью, ей хотелось блеснуть его интеллектуаль-
ностью. И она спешила. Он показался вполне подходящим.
Это была смуглая, крепкая, хорошо сложенная девушка с
неутомимой энергией и необыкновенно широким умом. Она во
всем брала, как говорится, двойной рекорд, пока дело не до-
шло до потомства. Ей бы следовало родить близнецов и таким
образом завершить свой рекорд, но Теодор,— возможно, из-за
какого-нибудь недостатка Раймонда,— был ее единственным
ребенком.
Бракосочетание состоялось в славные дни царствования ко-
ролевы Виктории, когда Уайльд и Уистлер были великими
светилами на горизонте артистического мира, а «Псевдонимы»
и «Лейтмотивы» стояли рядом в книжных лавках. Запад
только что открыл русский роман и скандинавскую драму.
Фрэнк Гаррис заполнил «Сатерди Рэвью», а Обри Бердслей
украшал «Желтую библиотеку». Смутные воспоминания о Ре-
нессансе сквозили в костюмах и нравах эпохи: кринолин был
упразднен, а протестантство уже начинало казаться безвкусным
и плоским. Либерализм и Свобода уступали место Вольности
и Страсти. Дочери Спинка все до одной катались в шароварах
на велосипеде, и некуда было деваться от их папирос. Но они
отнюдь не интересовались гольфом, этой игрой для старых чу-
даковатых джентльменов, и с необыкновенным азартом играли
в теннис.
Отец Теодора покинул Оксфорд с блестящей репутацией
блестящего молодого человека, не менее многообещающего,
чем насиженное яйцо, но уже в раннем детстве Теодора он
перешел на положение инвалида. У него был короткий луче-
зарный период холостой жизни в Лондоне,— студии, кафе
208
Рояль, эпиграммы перед завтраком и блестящая будущность,
самоутверждающаяся в язвительных выпадах по адресу обще-
признанных имен. Он сотрудничал в «Сатерди Рэвью» и в
«Желтой библиотеке», рисовал белых и черных женщин не-
обыкновенных, умопомрачительных форм и играл поистине
выдающуюся роль в модном движении того времени — «Воз-
рождении безнравственности». Тут-то Клоринда и заполучила
его. Связь их была сумасбродной выходкой, сумасбродство
было в ходу в то время, юная чета сбежала в Сетфорд за две
недели до бракосочетания, и старик Спинк, не помня себя от
позора, грозился застрелить Раймонда и только отчасти уми-
ротворился запоздалой брачной церемонией.
Раймонд и Клоринда заявили, что брак не накладывает на
них никаких обязательств и изо всех сил старались вести себя
соответственно. Они жили в двух смежных, а иногда и несмеж-
ных мастерских, давая повод к весьма оживленным пересудам
до тех пор, пока Раймонд .не подорвал себе здоровье.
Он захворал вскоре после появления на свет Теодора. Ему
рекомендовали морской воздух и сухую почву, они перебра-
лись в маленький старинный городок Блэйпорт, и Раймонд со
всем пылом погрузился в историю варягов, труд, который дол-
жен, был затмить труды Доути, но который он так и не удосу-
жился написать. Из этого труда в конце концов ровно ничего
не получилось, и чтобы пополнить свои доходы во время этой
работы, он издавал классиков, затевал переводы, состоял кон-
сультантом у какого-то продувного издателя и, расточая по-
хвалы молодым людям, завлекал их в когти этого мошенника.
Клоринда между тем приобрела себе сезонный билет в Черринг-
Кросс и делила свой досуг между семейной жизнью в Блэй-
порте, визитами в свет и обхаживаньем преуспевающих арти-
стов и передовых мыслителей Лондона. Старый Спинк умер
и оставил после себя меньше, чем от него ждали, так что
Бэлпингтоны вынуждены были попрежнему жить в тесных
рамках строго ограниченного бюджета. Но даже в Блэйпорте
они вовсе не пребывали в одиночестве; это был солнечный зим-
ний курорт, и интеллигентная публика охотно съезжалась по-
жить в этом местечке и не отказывала себе в удовольствии
заглянуть к супругам и послушать, как Раймонд разделывает
современность. Никто лучше Раймонда не мог угостить вас
свежеприготовленной современностью.
Оба, отец и мать, уделяли немало бессвязных размышле-
ний проблеме воспитания Теодора. В Лондоне Клоринда на-
хваталась всевозможных идей насчет воспитания, знакомые
привозили с собой всяческие идеи в Блэйпорт, а Раймонд на-
ходил их в книгах. Это было поколение исключительно плодо-
витое на воспитательные идеи. Оно мирно катилось потоком
вооружения к Великой войне, разглагольствуя о благе воспи-
тания детей и обеспеченном будущем человечества. Батлер и
14 Г. Уэллс, т. 2 209
Шоу широко посеяли убеждение, что школы никуда не годятся,
и Теодор довольно рано проникся этим убеждением и не очень
усердно посещал школу. Это по крайней мере хоть было ему
на руку.
Но ему ничего не дали взамен школы. Его просто оставили
без образования. Наиболее распространенная воспитательная
теория того времени отрицала дисциплину и запугиванье.
Поэтому родители Теодора не позволяли себе никоим образом
ни дисциплинировать, ни запугивать его. Он был отдан на
попечение верной няньке, которая впоследствии уступила место
некоей полиглотке, благородной русской особе, эмигрировав-
шей из страха политических преследований. Через некоторое
время она исчезла, увязавшись в качестве любовницы за од-
ним из случайных интеллектуальных посетителей, который,
выражаясь попросту, прихватил ее вместе со своим багажом,
а на смену ей явилась португальская особа. Но ее сотрудниче-
ство с Раймондом в переводе «Лузиады» привело к бурной
катастрофе прежде, чем Теодор успел приобрести хотя бы са-
мые поверхностные представления о красочной португальской
брани. Ее сменила добросовестная шведка, которая вот уж
действительно никогда не нравилась Раймонду. У нее были
ужасные икры, но он все же терпел ее ради мальчика. Ей
отказали от места, потому что Клоринда не могла вынести
упорства, с каким ’она отдавала предпочтение шведскому ме-
тоду ведения хозяйства перед британской системой, и вслед
за этим наступило междуцарствие.
После междуцарствия Теодор поступил в Сент-Артемас,
местную школу, где отсутствовало телесное наказание, но по-
ощрялась живопись, металлопластика и морские купания. При
этом режиме у него обнаружились значительная лингвистиче-
ская восприимчивость, упорная неспособность к математике и
несомненные артистические склонности; кроме того, он жадно
поглощал романы, исторические книги и стихи. Он сам начал
писать стихи с удивительно раннего возраста и рисовал, не
соблюдая правил, небрежно и своеобразно. Он делал успехи
в музыке, не презирал только самых великих композиторов и
рассуждал преждевременно о всяких вполне взрослых заня-
тиях. И в тайниках своего сердца, для утоления какой-то
неудовлетворенной потребности, он был Бэлпингтоном Блэп-
ским.
Что до Блэпа, это, как он говорил себе, было древнее на-
звание Блэйпорта. Признаться, у него не было никаких дока-
зательств, что Блэйпорт в древности носил такое название.
Учительница истории в школе рассказывала им о древних на-
званиях и о том, как они искажались с годами. Она говорила
о Брайтельстоне, превратившемся в Брайтон, Лондиниуме, ко-
торый потом стал Лондоном, и о Портус Леманус, который
сократился до Лина. Как-то в припадке веселости на пляже
210
он, Фрэнколин и Блеттс пародировали урок. Они выдумывали
более остроумные и более удачные варианты для бесчислен-
ного количества знакомых имен, привнося в это большей ча-
стью легкий, приятный душок нескромности. Чем бы мог стать
Блэйпорт? Бляппи, Бляппот, Блэйпот или Блэп? Фрэнколину
понравился Блэйпот, и он запел: «Блэйпот, ты мой оплот, лети,
мой штиблет, через Эдомский хребет».
Блэп поразил воображение Теодора, прямо-таки завладел
им. Блэп — это напоминало громадный утес, «риф», это зву-
чало как плеск волн, это вызывало в представлении шайку
пиратов, отчаянных молодцов, укрывавшихся здесь, и все они
звались Бэлпингтоны. И среди них вожак, атаман шайки, не-
смотря на свой юный возраст, первый из всех — Бэлпингтон
Блэпский. Итак, он замечтался и предоставил Фрэнколину
расправляться как угодно с Блэйпотом, носиться с ним, вы-
ворачивать его, валить в него всякие объедки. Блэп — это
было его слово.
2
УКРЕПЛЕНИЕ БЛЭПА
Было что-то неустойчивое и ускользающее в этом Блэпе.
Он никогда не был в точности Блэйпортом; он был гораздо
скалистее, и вскоре он совсем обособился и принялся блуждать
по свету. Его ландшафт приобрел некоторое сходство с горной
Шотландией, хотя это было попрежнему убежище морских
пиратов. Он то становился изрезанной, скалистой бухтой, напо-
добие норвежского фьорда, то прятался в чудовищные ущелья.
Затем он вдруг отступал вглубь страны и превращался в ди-
кую гористую местность, где тянулись непроходимые зеленые
леса и белые дороги вились, как змеи. Его видно было очень
далеко, в особенности в часы заката. У него были стены и
башни из желтовато-белой горной породы, блестевшие, как
слюда, а на крепостных валах всегда стояли неподвижные и
зоркие часовые. Когда пушечный выстрел оповещал о заходе
солнца, громадное вышитое знамя Бэлпингтона опускалось
складка за складкой, складка за складкой, золотое шитье и
сверкающий шелк, и уступало место маленькому штормовому
флажку, который всю ночь развевался по ветру.
А иногда Блэп почти исчезал за пределами видимого гори-
зонта, и тогда Бэлпингтон, таинственный изгнанник, бродил
неузнанный, непонятый — хрупкий, темноволосый мальчик,
слоняющийся, повидимому, без всякой цели, школьник, вся-
чески угнетаемый учительницей математики, презрительный
скиталец среди вульгарных шутов, разгуливающих на пляже,
14* 211
ждущий своего времени, чтобы подать знак, который изме-
нит все.
И тут наступал военный период, когда Блэп, объявленный
на военном положении, отражал осаду, именовавшуюся впо-
следствии в тайной истории мира осадой Блэпа.
Касталонцы в' их необыкновенном вооружении, в черных
панцырях и с саблями наголо, предводительствуемые принцем
в маске, за которым шла наглая, разнузданная свита, насту-
пали на Блэп. С моря через горы, тремя окольными путями,
они шли на него приступом. Это была нелегкая задача для
одного ума,— рассчитать и предвидеть все возможности этой
битвы, а ведь к Блэпу вели еще и подземные ходы, запутанные,
сложные...
— Хотел бы я знать, о чем ты задумался, Теодор,— спросил
его как-то раз один из случайных гостей отца.
— Я просто думал,— сказал Теодор.
— Да, но о чем?
Теодор поискал у себя в памяти какой-нибудь достойной
для понимания гостя темы и выхватил кусочек обеденного раз-
говора, который происходил в прошлое воскресенье.
— Я думал, почему это Берлиозу так часто недостает
истинного величия.
— Боже! — воскликнул гость, точно его кто-то ужалил,
и отправился в Лондон рассказывать, что Раймонд и Клоринда
произвели на свет ужаснейшего маленького фата, который
когда-либо существовал на белом свете.
— К счастью, он, кажется, очень болезненный мальчик,—
добавил он.
3
ДЕЛЬФИЙСКАЯ СИВИЛЛА
Когда-нибудь, быть может, через несколько лет, психологи
смогут дать нам более ясное представление, каким образом
такой персонаж, как Бэлпингтон Блэпский, случайный гость,
пришелец, осваивается и начинает существовать средь беско-
нечно тонких сплетений клеток и тканей человеческого мозга
и как он ухитряется собрать вокруг себя те видимости и следы
подлинного переживания, которые необходимы для его при-
зрачной жизни.
Он всегда сознавал себя пришельцем и призраком, и, од-
нако, он упорно цеплялся за себя и вечно обменивался поже-
ланиями, ощущениями и умозаключениями с тем другим су-
ществом, которое главенствовало рядом с ним и над ним и
которому он, однако, внушил подписываться «Тео Бэлпингтон»,
212
с таким хилым «о» в слове «Тео» и с таким замысловатым
и длинным росчерком в конце, что это в сущности получалось
не что иное, как словечко «Блэпский», задушенное прежде, Чем
оно появилось на свет.
Этот пришелец, этот внутренний персонаж подавлял мысли-
тельную жизнеспособность Теодора, силился управлять им; он
привил ему эту, как бы прислушивающуюся к себе нерешитель-
ную манеру держаться, которая так отличала его; возможно,
он был причиной его легкого заиканья. Сквозь туман его
побуждений и стимулов, его несформулированных, но все же
влиятельных суждений, властных, хотя и смутных желаний,
действительный мир, мир, опирающийся на грубые показания
опыта и свидетельства окружающих, отражался преломленным
в сознании Теодора. Пришелец не мог разрушить и уничто-
жить могущество этих реальностей настоящего момента, но он
оставался живым протестом против них, и он мог распростра-
нять свое магическое очарование на прошлое и будущее, пока
они не становились его собственностью.
В мире Теодора Блэйпорт всегда был Блэйпортом, всегда
на Ламанше и всегда на одном и том же расстоянии от Лон-
дона. Первый дневной поезд с вокзала Виктория приходил в
Блэйпорт очень точно, не раньше 5.27 и очень редко позже.
В этом людном приморском местечке неизменно, с несокруши-
мым постоянством находился дом Теодора. Он не помнил дру-
гого дома и даже не представлял себе, что может быть какой-
нибудь другой. Погода менялась помимо его воли, переходя
от влажного юго-западного ветра с серым, волнующимся мо-
рем, которое билось и пенилось у эспланады, к буйному юго-
западному вихрю со сверкающими в голубом небе белыми
облаками, к восточному ветру с привкусом черно-синих чернил,
который делал весь мир похожим на рисунок пером, с жестким
невозмутимо синим небом, и снова к влажному юго-западному
ветру, разражающемуся ливнем, разбрасывающему со свистом
по асфальту комья морской пены.
Часы шли, попирая его желанья,— обеденное время и
школьные часы вечно были помехой, а ночь приходила незва-
ная. Праздники стремительно летели к концу, а учительница
математики могла, подобно Иисусу Навину, останавливать
время. Мир Теодора был полон скуки, обязанностей и подав-
ленных желаний.
Отцу и матери, обоим, недоставало какой-то законченности
в этом мире. Множество всяких вещей, касающихся отца и
матери, были вытеснены из его сознания так, что он даже не
подозревал этого. Однако множество всяких вещей оставалось
в поле его наблюдений. У отца было красивое, мрачно-брюзг-
ливое лицо, и он вечно был недоволен всем на свете. Юго-
западный ветер трепал его не очень густые, но длинные во-
лосы, отчего он всегда ходил лохматый. Глаза у него были
213
цвета красной меди, а сорочки он носил светложелтые, с от-
крытым воротом. Мать Теодора вне дома была так непохожа
на ту, какой она бывала дома,— костюм мужского покроя и
гетры на улице, и просторная медлительная мягкость домаш-
него утреннего капота, незаметно сменявшаяся обеденным туа-
летом по мере того, как подвигался день,— что, казалось,
будто это были два совершенно разных человека. В комнате
всегда стояли маки, подсолнечники, георгины, астры и еще ка-
кие-нибудь такие же большие пламенные цветы в громадных
обливных глиняных вазах, и всюду были разбросаны окурки.
Белых цветов она не выносила. Служанки появлялись и исче-
зали. Одна из них, которую выпроводили с громким сканда-
лом, обозвала Кдоринду «курчавой старой коровой». Это спо-
собствовало тому, что Теодор в течение некоторого вре-
мени представлял себе свою мать в несколько своеобразном
свете.
Раймонд уходил один в далекие прогулки. Он очень гор-
дился своим неутомимым волчьим шагом. Когда он был дома,
он читал или писал за длинным дубовым столом, стоявшим
у окна и заваленным книгами. Или разговаривал. Или спал.
Теодору было известно, что, когда Раймонд пишет или спит,
маленьких мальчиков не должно быть слышно, но Раймонд
не только не слышал, но и видел его очень мало. Впрочем, он
позволял ему перелистывать страницы любой книги, которая
ему нравилась, и иногда говорил: «Ну-с, человечек», и весьма
благодушно ерошил ему волосы.
Кабинет Раймонда был обставлен строго, с большим вку-
сом. Выбеленные стены, множество неприбранных книжных
полок из некрашеного дуба и несколько прекрасных китай-
ских ваз. Там стояло старинное бродвудское фортепиано,
из тех, что называют «спинетами», а позднее появилась пиа-
нола. Раймонд разыгрывал на своем Клементи — и даже до-
вольно изящно — Скарлатти, Перселла, а иногда и Моцарта.
Он считал, что пианола служит для того, чтобы напоминать
ему о музыке, и только из-за этого он держал ее у себя. Он
никогда не позволял себе сказать, что пианола играет. Он го-
ворил: «Ну-ка, давайте пропустим через эту колбасную ма-
шину кусочек Вебера, или Баха, или Бетховена». В доме много
говорили о музыке, и когда Раймонда не было дома, Теодор
сам пропускал через машину Бетховена, Баха, Брамса и даже
Берлиоза. В глубине души, не признаваясь в этом даже са-
мому себе, он больше всего любил Берлиоза, потому что, когда
он играл его, в особенности «Фантастическую симфонию»,
Бэлпингтон Блэпский, мрачный и великолепный, вырастал до
колоссальных размеров и беспрепятственно шествовал в своем
воображаемом мире. Теодор исчезал. Русская музыка и рус-
ский балет в то время еще не привились в Англии; им на долю
выпало волновать его юные годы.
214
Клоринда уезжала в Лондон на целый день, а иногда и на
несколько дней по каким-то своим делам. «Прошу тебя, не пе-
реходи границ»,— напутствовал ее Раймонд. По возвращении
она снова облекалась в свои томные, артистические пенюары,
и ее нежность к Раймонду становилась особенно очевидной и
обильной. Как если бы она купила там роскошный подарок —
запас новых ласк для него. Он принимал их безо всякого
энтузиазма.
В ее отсутствие Раймонд и Теодор мало видели друг друга.
Теодору иногда хотелось, чтобы служанки и гувернантки, кото-
рых выбирала Клоринда, были несколько миловиднее и более
склонны к романтике.
Единственным возможным романтическим союзником Тео-
дора была гувернантка португалка, но когда Клоринда уезжала
в Лондон, сотрудничество между сей молодой особой и Рай-
мондом становилось столь усердным, что Теодора отсылали
на пляж, чтобы он поиграл один. Временами он все же испы-
тывал действие ее непонятного медлительного очарования. Но
у нее была привычка называть его разными уменьшительными
именами, и она вечно переводила разговор на характер и
вкусы его отца. Теодору было вовсе не интересно обсуждать,
парадоксальный ли человек его отец, заботится ли он о
спокойствии Клоринды и очень ли он страшен, когда рас-
сердится.
Одно время к ним в дом зачастил некий белокурый моло-
дой человек, который поселился в Блэйпортской бухте. Он раз-
говаривал с Клориндой тихо и, так сказать, по секрету; а на
людях громко, сдержанно-неприязненным тоном беседовал с
Раймондом. Мужчины разговаривали о средневековых мисте-
риях, о немецком кукольном театре, язвительно соглашаясь
друг с другом. Молодой человек был очень увлечен приду-
мыванием народных танцев и изящных сельских ремесел, ко-
торые англичане должны были бы иметь, даже если в действи-
тельности они их не имели, и Клоринда очень воодушевлялась
всем этим. Она находила его очень стильным — в стиле позд-
него средневековья. Однажды в какой-то полупраздничный
день Теодор, которого отослали играть на пляже, вернулся за
волшебным стеклом, принадлежащим Бэлпингтону Блэпскому.
Он вошел тихонько на цыпочках, так как Раймонд в это время
обычно ложился подремать.
В гостиной он увидел Клоринду и белокурого молодого че-
ловека. Они расположились на софе ампир. Губы их были
слиты, и рука молодого человека, так, примерно, до локтя,
была зондирующим образом засунута в обширное декольте
пенюара Клоринды. Присутствие Теодора было обнаружено,
только когда он уже уходил.
Именно после этого ему купили башмаки вместо сандалий,
и Клоринда заявила ему, что он должен вести себя, как муж-
215
чина, а не подкрадываться потихоньку всюду, куда не следует.
Она прибавила, что это действует ей на нервы. И тут родствен-
ная связь Теодора Блэйпортского с Бэлпингтоном Блэпским
предстала в совершенно ином свете. Стало совершенно ясно,
что их подменили одного другим, как только они родились на
свет.
На некоторое время этот чудесным образом подмененный
Бэлпингтон Блэпский совершенно вытеснил Теодора, сына
Клоринды. Настоящая мать Бэлпингтона Блэпского ничем не
напоминала Клоринду. Какова она была, не было установлено
точно. Иногда такая, иногда другая. Одно время она напоми-
нала Британию на картинках в «Панче», потом стала похожа
на Леонардову «Мадонну в гроте», висевшую в спальне Кло-
ринды. Потом стала темной, большой, мягкой. Вы не видели
ее лица, но рука ее обнимала вас. Еще она была, как «Спящая
Психея» Прюдона, такая спокойная и любящая. Очень не-
долго, какой-то почти неуловимый промежуток времени, она
была Дельфийской Сивиллой с большого плафона Микел-
анджело.
Но это была неправда, это было отвергнуто и вычеркнуто
из памяти, как немыслимая ошибка. Дельфийская Сивилла
была слишком молода. У нее было слишком юное лицо. Иная
судьба звала за собой это прелестное существо с большими
кроткими очами, эту пробуждающуюся юность.
Говорите об этом тихо, шепотом,— она стала верной под-
ругой, возлюбленной Бэлпингтона Блэпского. Нерешительная
мягкость детства постепенно, день ото дня, уступала место
более самостоятельному отрочеству, и он начинал ощущать
потребность в женской дружбе, крепкой женской дружбе,
и забывать о том, как он нуждался в защите.
В боевых доспехах она скакала рядом с ним по лесной
чаще Волшебной Страны, его подруга, его товарищ, любимый
товарищ. Никаких глупостей, никакой кислятины, никакой
такой ерунды. Она владела шпагой с таким же совершенством,
как он; она могла метнуть копье почти так же далеко. Но все-
таки не совсем. Она была бесстрашна, даже слишком бес-
страшна в этих дебрях, где приспешники касталонского войска
могли притаиться в любой заросли.
Бэлпингтон Блэпский проводил все больше и больше вре-
мени в ее обществе по мере того, как подрастал Теодор; он
говорил с ней в своих мечтах, и разговор с ней делал его
мечты менее призрачными, менее ускользающими, чем прежде.
Он придумывал выражения, фразы, потому что слова и образы
складывались в его воображении. Он рассказывал ей о днях
своего изгнания, о своей таинственной дневной изгнанниче-
ской жизни в Блэйпорте. Иногда это унижение представлялось
им каким-то колдовством, но обычно и он и она считали, что
2W
он скрывается нарочно, что это маскировка — временное само-
отречение ради великих целей.
Никогда никому ни слова обо всем этом. Наступит время,
и все откроется. А пока мы позволяем считать нас сыном
этого народа, мы, мастер Теодор Бэлпингтон, известный среди
сво'их сверстников и приятелей под именем Фыркача или
Бекаса.
Но в кровати, когда он уже почти засыпал, как близко она
наклонялась к нему. Подушка становилась ее рукой. Она ды-
шала рядом с ним, не говоря ни слова и все же радуя его
сердце. И никакой такой кислятины, знаете, ничего даже по-
хожего на это — а просто так.
4
БОГ, ПУРИТАНЕ И МИСТЕР УИМПЕРДИК
Разговоры в этом изысканном доме в Блэйпорте были
обильны, многообразны и возбуждающи. Ничто не считалось
запретным для маленького слушателя. «Для чистого все
чисто,— говорила Клориида.— То, что нас не касается, не
оставляет в нас следа». Да и потом, стоит ли ломать себе го-
лову из-за этого? Теодор пользовался по своему усмотрению
и распоряжался, как умел, тем, что он слышал, и тем, что он
извлекал из всевозможных книг, которыми изобиловал дом.
Каждый день эта юная жадная мозговая корочка впиты-
вала тысячи новых вещей, слов, фраз, представлений, звуков
и сплетала десять тысяч новых связующих нитей между новым
и старым. Она инстинктивно делала все, что могла, чтобы по-
лучить связную картину окружающей ее вселенной.
Поверх этой вселенной и сквозь нее текли маленькие со-
бытия жизни Теодора, случаи и происшествия на улице и на
пляже, случайные домашние уроки, вымученные и якобы пре-
следующие какую-то цель,— уроки гувернанток, школьных
учителей, книги, картины, теперь уже и журналы и газеты,
и эти потоки и каскады домашних разговоров.
Разговоры велись о музыке, о варягах и падении Западной
империи, о новых книгах, о старых книгах, которые Раймонд
издавал и к которым он писал предисловия, о красоте и бо-
гатстве слов и фраз, о новой и старой поэзии, о манерах и
нравах, о недостатках отсутствующих и об отличительных
свойствах присутствующих, о нежелательности новых веяний
в искусстве, литературе и нравах, веяний, которые возникли
уже после тех великих дней, когда Раймонд был гением нова-
торства в кафе Рояль (но Клоринда считала, что новшества
217
все же допустимы). Затрагивали даже и религию. Но законов
и текущей политики не касались, так как это считалось чем-то
слишком уж злободневным, газетным и поверхностным, чтобы
быть достойным внимания. А коммерция — это грязное дело.
В те дни большинству мальчиков и девочек внушалось, что
всякое представление о вселенной всецело связано с богом.
Они поручались ему непрестанно; их поучали страшиться его
любви примерно так же, как и его гнева. Он сотворил их, он
сотворил все; он всюду. Или во всяком случае он где-то не-
вообразимо, чудовищно близко, прямо над головой. Только
по мере того как они становились старше, они начинали по-
стигать его, как Великого Отсутствующего. Он сотворил их —
он сотворил все. Да, но потом они постепенно уясняли — он,
повидимому, исчез. Он не был повсюду. Он не был нигде. Он
давно покинул небеса для бесконечного пространства. Он про-
сто исчез.
Но никогда этот бог не имел какого-либо определенного об-
лика в мозгу Теодора. По сравнению с отчетливым и конкрет-
ным Бэлпингтоном Блэпским бог существовал только в виде
какой-то темной угрозы на заднем плане. По сравнению с
прелестным лицом и живительным присутствием Дельфийской
Сивиллы он был чем-то бесконечно далеким. Прислуга и одна
из гувернанток делали попытки облечь плотью в сознании
Теодора это слово «бог», эту великую идею, на которой, как
принято считать, мир веками зиждет свою веру,— при этом
они особенно напирали на то, что «он может отправить тебя в
ад», и на прочие теологические обстоятельства; но даже бес-
хитростная вера слуг теряла свою силу убедительности в те
дни. Ад в воображении Теодора входил в коллекцию пейзажей
в виде знойной песчаной пустыни среди голых скал, с резвыми
бесами и весьма приятными для глаз тоненькими ниточками
вертикального дыма, выходящего из-под земли. Но это было
далеко не так устрашающе, как кратер Везувия или Маль-
стрем. Те были действительно ужасны.
И никогда мысль о Всевидящем Оке не врывалась угрозой
в скрытую жизнь Теодора. Только позднее, когда он уже был
молодым человеком, он понял значение своего собственного
имени.
В школе ему приходилось заучивать библию стих за стихом
и даже готовить к экзамену книгу Царств и Чисел, но в
библии не столько говорилось о боге, сколько о евреях,—
а Раймонд внушил Теодору не очень лестное представление
о евреях.
История Нового завета не трогала неподготовленное
сердце Теодора, и на картины распятия, даже репродукции
величайших мастеров, он смотрел с ужасом и отвращением.
Он поскорей переворачивал их и спешил перейти к Венерам и
Сивиллам. Для него с самого начала это была мифологиче-
218
ская история, и притом очень неприятная. Выходило, что сын
был пригвожден таким варварским образом ко кресту своим
собственным отцом. Потому что этот отец был недоволен тем,
что мир, созданный им, погряз во грехах. Ужасный рассказ,
настолько же омерзительный, насколько бессмысленный.
У Теодора при одной только мысли о нем начинали ныть ла-
дони. Он вызывал у него неприятные чувства к Раймонду.
Однажды, когда Раймонд вешал какую-то картину, Теодора
объял ужас, и он, вместо того чтобы подавать ему гвозди, вы-
бежал из комнаты. Он рос почти совершенно безбожным маль-
чиком, безбожным и чуждающимся мысли о боге, и только
уже гораздо позднее у него начал пробуждаться некоторый
интерес к божественному.
Однако в этом маленьком центре культуры и интеллек-
туальной деятельности терлось достаточное количество рели-
гиозной публики, и даже профессионально религиозной. Были
два-три священника, которые, повидимому, находились в пре-
красных отношениях с Раймондом, пухлые, масленистые муж-
чины с приятными манерами и привычкой рассеянно и не-
брежно похлопывать маленьких мальчиков, мужчины, любив-
шие плотно поесть и выпить и носившие золотые кресты и ме-
дали и прочие забавные штуки на своем лоснящемся черном
^животе, и был Енох Уимпердик, видный новообращенный цер-
ковник, ныне ревнитель католицизма, маленький, круглый,
свирепо улыбающийся человечек с вечной одышкой, перемежаю-
щейся с ехидным хихиканьем. Он весь оброс жиром, который
как-то не шел к нему. Казалось, он носил жир гораздо более
крупного человека. Жир висел у него на шее, набухал над ки-
стями рук, голос его звучал так, словно и горло у него было
забито жиром, сквозь толщу которого с трудом пробивался
звук, и, казалось, даже и глаза у него заплыли жиром, их
точно выпирало из орбит. Волосы у него были черные, жест-
кие и очень густые там, где им полагалось расти, но они
сплошь и рядом вылезали там, где им вовсе не полагалось.
Брови у него были, как иступленные зубные щетки, пропи-
танные иссиня-черными чернилами. Казалось сомнительным,
брил ли он верхнюю губу; по всей вероятности, он просто под-
стригал растительность ножницами; а про его синие щеки и под-
бородок можно было бы сказать, что они еле выбриты, в от-
личие от гладко выбритых. Его неровные шустрые зубы, ка-
залось, что-то подстерегали, а не выполняли свое естественное
назначение в его широко улыбающемся рте. Клоринда за его
спиной говорила, что ему следует пореже улыбаться или по-
чаще чистить зубы. Но она с ним отлично ладила. «Вы бес-
подобная атеистка,— пыхтел он.— Я буду молиться за вас. Вы
латинянка и мыслите вы логически, нам с вами не о чем спо-
рить. Вы католичка отрицательная, а я положительный като-
лик. Переходите на мою сторону».
219
«Бесподобный» — было его отличительное словцо, он при-
вез его с собою в Блэйпорт, и оно привилось в доме Теодора.
Раймонд подхватил его, но чуточку переиначил; он произносил
его с полуулыбкой, с легким взрывом чего-то похожего на
смех и слабым привкусом отрицания — «бээспадобный». Кло-
ринда никогда не прибегала к этому слову. Но понадобился
год, если не больше, после того, как визиты мистера Уимпер-
дика прекратились, чтобы слово «бесподобный» заняло свое
нормальное место в языке.
Из разговоров вокруг да около и тех, что возникали по-
сле ухода мистера Уимпердика, в сознании Теодора прочно
укоренилась мысль, что в мире существует совершенно твер-
дое и четкое подразделение на то, что в нем бесподобно и что
нет. Одно из видных мест в категории бесподобных вещей за-
нимало вино, при‘условии, чтобы оно было красное и в изо-
билии. Лучше всего было, когда оно появлялось внезапно по
мановению руки, под звуки импровизированной песни. Беспо-
добен был хороший эль (но не явное пиво), бесподобны были
все рестораны. Бесподобна была дубовая мебель, жар горя-
щих поленьев в камине и великое обилие пищи, в особенности
дымящейся в котле или зажаренной на вертеле.
Женщины в легкомысленном и бесцеремонном, то есть,
собственно говоря, в непристойном смысле, входили в катего-
рию бесподобностей Уимпердика. В особенности пышнотелые
и чуточку «распущенные». Вы пылко подмигиваете им насчет
чего-то секретного, чего, признаться, вовсе и не было. А потом
похлопываете их и говорите, чтобы они убирались вон. Этакие
вертихвостки! Но здесь, у взрослых, было, повидимому, какое-
то расхождение в понятиях. Клоринда придерживалась пере-
довых взглядов, а Раймонд крайне чувственных. «Чувст-
венный» — было одно из его любимых словечек. Он всегда
цитировал Суинберна и распространялся о «божественном
сладострастии». Но Клоринда никогда не говорила о сладо-
страстии и рассуждала преимущественно о свободе. Уимпер-
дик, со своей стороны, обнаруживал нечто близкое к ненависти
по отношению к Суинберну. Сдержанной ненависти. Он гово-
рил с видом великодушной терпимости, что Суинберн беспо-
добный атеист, и, повидимому, раздражался, когда с его опре-
делением не совсем соглашались. Но Раймонд, находя Суин-
берна совершенно «бээспадобным», упивался им, возвращался
к нему и цитировал его трехфутовыми столбцами.
Уимпердик не любил рассуждать о женщинах. Он разма-
хивал своими короткими руками, давая понять, что все это он
допускает, что он совершенно трезво относится к этому во-
просу, что и церковь совершенно трезво и терпимо относится
к это*му вопросу, никакого дурацкого пуританизма, ничего даже
похожего на это, но что он предпочитает не вдаваться в част-
ности. Церковь никогда не проявляла суровости к плотским
220
грехам, например, к тому, чтобы купаться безо всего, или смо-
треть на себя раздетым в зеркало, и другим более очевидным
прегрешениям. Плотские грехи — это разрешимые грехи. Важ-
ные грехи — это грехи гордости, такие, например, как не
соглашаться с Уимпердиком и не признавать католическую
церковь.
Католическая церковь, повидимому, была верхом беспо-
добности. Так же, как и средневековье, великие мастера, войска
со знаменами и кони в сверкающей сбруе. Да, все это было
бесподобно. И еще гобелены. Но так можно было продолжать
до бесконечности. Мальчик собирал ьсе это вот так же, как
иногда на прогулках он собирал букеты цветов. Это был сме-
шанный, но яркий и заманчивый букет.
А против этой бесподобной смеси стояли противники. Это
были прогресс, протестантство, фабричные трубы и безжалост-
ные машины, к которым с чувством глубочайшего омерзения,
Теодор относил и ненавистную неприступность математики,—
и евреи, и пуритане. В особенности пуритане. И либералы, эти
проклятые либералы! И Дарвин, и Гексди.
Теодор смутно представлял себе, что такое пуритане, но
ясно было, что это нечто омерзительное. Когда-то они обру-
шивались на цветные стекла и грозили своими каменными фи-
зиономиями всем бесподобным возможностям жизни.
Искусство и красоту они преследовали злобной нена-
вистью. Теодор, гуляя на эспланаде, думал иногда, что бы он
почувствовал, если бы вдруг неожиданно встретил пурита-
нина. В драпировочной мастерской Рутса был один трупо-
подобный человек, который страдал какой-то желудочной бо-
лезнью и всегда ходил в черном, потому что он был похорон-
ных дел мастер. Теодору казалось, что если этот человек и не
был в действительности пуританином, он был очень похож на
пуританина. Католики открыли Америку, но пуритане в Се-
верной Америке и либералы в Южной Латинской сделали из
нее то, во что она превратилась теперь.
Так католицизм вначале представлялся Теодору чем-то
вроде похода, бесподобной битвы всего, что есть в мире кра-
сочного и живописного, против евреев, пуритан, либералов,
прогресса, эволюции и всех этих темных и страшных сил.
Битва эта должна быть выиграна в конце концов, потому-то
так всегда и хихикал Уимпердик. Как некое подспудное тече-
ние в этой доблестной борьбе участвовали плотские грехи, бес-
подобные, если вы не слишком высоко ставили женщину и го-
товы были проявить снисходительность к мужчинам, а за всей
этой католической процессией, непостижимо связанная с ней
и никогда явственно не упоминавшаяся Уимпердиком, никогда
даже бегло не упоминавшаяся им, существовала эта стран-
ная тайна, этот вызывающий содрогание ужас, это Распятие,—
Сын, пригвожденный здесь на земле и, повидимому, навсегда
22]
покинутый Великим Отсутствующим. И, пожалуй, лучше о нем
совсем не говорить (ах, если бы только никогда не видеть
копии с картины Кривелли, с этими ранами!). Это мешало
быть всегда заодно с «беспо-одобностями» Уимпердика.
Так доходило все это до Теодора. Искаженное, перепутан-
ное, но так оно доходило до него. Религия, католики и пури-
тане боролись за владычество над миром. Над ним, чуть вид-
неясь во мгле, сочилось кровью распятье, а в бесконечной дали
скрывалась безучастная спина Великого Отсутствующего...
Но как бы там ни было, на переднем плане было искус-
ство, литература и изысканные еженедельники.
Теодор никогда не мог охватить все это сразу. Может быть,
это так не вязалось одно с другим, что никто не мог охватить
все это целиком. Но он напрягал мозг над каждой стружкой,
вылетавшей из-пбд могучего рубанка. Он изо всех сил ста-
рался свести воедино все, что изрекали Раймонд, Клоринда,
Уимпердик и другие люди, потому что у него было несом-
ненное тяготение к связности. Выходило, что кто-то оши-
бался...
— Папа,— однажды сказал он,— ты католик?
— Я, ну конечно католик, я полагаю, да.
— Но ведь католик — это крест, пресвятая дева и все
такое?
— Ну не такой уж образцовый католик, в этом
смысле — нет.
— А ты пуританин?
— Боже упаси, нет!
— А ты христианин?
Раймонд повернулся к нему и пристально посмотрел на
него задумчивым улыбающимся взглядом.
— Ты не слушал ли кого-нибудь из этих проповедников на
пляже, а, Теодор? Похоже, что да.
— Я просто думал,— сказал Теодор.
— Брось,— сказал Раймонд.— Подожди еще год или два,
так же вот, как курить.
И потом Теодор слышал, как Раймонд спрашивал Кло-
ринду, кто это, уж не прислуга ли, пичкает мальчика рели-
гией.
— Я не желаю, чтобы ему забивали голову такими ве-
щами,— сказал он.— Мальчик с его складом ума может при-
нять это слишком всерьез.
Как это надо было понимать?
Трудная задача, и отнюдь не привлекательная.
И в то же время это имело, повидимому, какое-то значе-
ние, и довольно-таки угрожающего свойства. В смысле ада,
например... Это сбивало с толку, и в этом было что-то не-
приятное.
А ну его! Стоит ли беспокоиться об этом? Еще будет время.
222
Подождем с этим, как сказал Раймонд. Мысли скользили
прочь с величайшей готовностью, и все это проваливалось
куда-то в глубину..
Леса Блэпа поднимались, высокие, зеленые, отрадные, и
так приятно было вернуться к ним и скакать от опушки к
опушке рядом с милой сердцу подругой с высоким челом и
спокойными ясными очами.
5
У МАЛЬЧИКА ЕСТЬ ВКУС
Но если религия представляла собой не что иное, как раз-
лад, недоумение, скуку и какую-то смутную отдаленную угрозу,
искусство — в этом маленьком домике в Блэйпорте — было
могущественной реальностью, и еще больше — разговоры об
искусстве.
Вы восхищались, защищали, нападали и изобличали. Вы
подстерегали и разбивали насмешками. Глаза блестели, щеки
пылали. Сюда входила литература — поскольку это было
искусство. Социализм — это было движение во имя реабили-
тации искусства, движение, несколько обремененное и ослож-
ненное суровой педантичной четой Веббов, пуритан конечно.
Такой-то или такой-то критик был «отъявленным негодяем»,
а шарлатаны были, словно сосновый лес, так тесно и высоко
они росли. Здесь были «неучи», и «спекулянты», и «тор-
гаши», и «болтуны», и «фокусники», и целая обширная, разно-
образная фауна в этом мире искусства. Здесь были субъекты,
которые пытались сбыть анекдоты за новеллы и выдавали
сантименты за чувства. Здесь был Джордж Мур, этот, разу-
меется, был хорош, и Гарди, который, пожалуй, был не очень
хорош. Джордж Мур утверждал, что он не хорош. И Холл
Кэйн, и миссис Гэмфри Уорд. Ну это были просто чудовища.
Теодор к четырнадцати годам уже совсем запутался в своих
привязанностях. Он был социалистом, приверженцем средне-
вековья. Он считал машины и станки дьявольщиной, а Ман-
честер и Бирмингем собственной резиденцией дьявола. Он
мечтал когда-нибудь увидать Флоренцию и Сиенну.
Вкус у него был развит не по годам. Он изрекал суждения
в стиле, весьма напоминавшем стиль Раймонда. Как-то он
сказал, что, когда он читает «Королеву фей» Спенсера, он чув-
ствует себя, как муха, которая ползает по узору красивых
обоев, по узору, который никогда целиком не повторяется, но,
кажется, вот-вот повторится. Это было оригинальное сравне-
ние, и им очень восхищались. Он действительно очень ста-
рался одолеть «Королеву фей», и это сравнение пришло к
223
нему как-то раз, когда он, лежа утром в кровати, отвлекся
от этого шедевра, наблюдая за мухой, ползающей по стене.
Но следующую свою остроту насчет Вильяма Морриса, что
это старый дубовый скоморох, которого разве только резчик
по дереву и может по-настоящему оценить, он, стремясь по-
вторить свой триумф, выкопал из какого-то старого , номера
«Сатерди Рэвью».
Глядя на картину Уотта «Время, Смерть и Страшный суд»,
он спрашивал усталым голосом: «Ну, о чем это все?» Он
скрывал свое тайное пристрастие к Берлиозу, Оффенбаху (ах,
эта баркаролла!) и изучал Девятую симфонию Бетховена на
пианоле, пока Клоринда не вышла из себя и не приказала ему
прекратить это. Он благодушно критиковал архитектуру в
Блэйпорте и моды в блэйпортских магазинах. Он выпросил две
японские гравюры* чтобы повесить их у себя в спальне вместо
Мадонны Рафаэля, которую он находил «скучной». Он отри-
цал воротнички по эстетическим соображениям и ходил в
школу в оранжевом шарфе. Он рисовал декоративные винь-
етки в стиле Уолтера Крэна на тетрадях, которые выдавали
в школе для математики. Ко дню своего рождения, когда ему
должно было исполниться четырнадцать лет, он попросил,
чтобы ему подарили хорошую книгу о трубадурах.
Даже Раймонд признал:
— У мальчика есть вкус.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Рыжеволосый мальчик и его сестра
1
НЕЧТО В СКЛЯНКАХ
В один прекрасный день, вскоре после четырнадцатилетней
годовщины своего рождения, Теодор завязал знакомство с
совсем иного рода мальчиком и заглянул в совсем иной мир,
нисколько не похожий на тот, в котором он рос. И, однако, этот
мир был почти рядом, не больше мили от его дома. Он обре-
тался недалеко от пристани Блэйпорта, там, где скалы скромно
возвышаются на тридцать, а то и на сорок футов над каймой
глинистого песка, где причалено большинство блэйпортских
лодок.
Портовая жизнь давно замерла в Блэйпорте. Он сохранил
только флотилию весельных лодок и маленьких рыбачьих шлю-
224
пок, которые время от времени выезжают на ловлю макрели
или возят туристов на рыбную ловлю «патерностером». При-
езжих здесь привлекают мол, эспланада, хороший песчаный
пляж и какая-то особенная мягкость воздуха. Река Блэй впа-
дает в каменистый заросший морской рукав, который наполо-
вину опоясывает город и делает его почти полуостровом. Ру-
кав извилистый, живописный, а за ним пески, сосновая по-
росль, сосновые леса и дощечки с надписями «ходить воспре-
щается». Чуть-чуть подальше лежит остров Блэй, куда
попадают через мост, с западной стороны. Остров Блэй кишит
москитами. Там есть устричные отмели, а за ними маленькие
деревушки. Там процветает ловля омаров. Маленькие дву-
колки, запряженные пони, возят устриц и омары на станцию
Пэппорт через мост.
Морской рукав и пески — хорошие места для одиноких
странствований. Едва только город остается позади, Теодор
сбрасывает с себя маску, и Бэлпингтон Блэпский начинает
жить своей таинственной, непостижимой жизнью. Жизнь эта
отличается разнообразием. Иногда Бэлпингтон Блэпский бы-
вает нормального человеческого роста — одинокий юноша,
скитающийся в поисках неведомого или идущий на свидание.
Иногда он, если можно так выразиться, покидает себя и тогда
он способен уменьшаться до любых размеров. Камни превра-
щаются в большие острова или в гряды гор, вздымающихся
над песчаной пустыней, по которой движутся армии лилипу-
тов. Раковины на камнях — это хижины колдунов или палатки
воинов. Здесь попадаются места, сплошь усеянные белыми,
плоскими и очень хрупкими костями — во всяком случае, это
что-то очень похожее на тонкие, высохшие кости,— и всюду
разбросаны маленькие, легкие коробочки. Такие чудные коро-
бочки — трудно было даже представить себе, что бы это такое
могло быть. Может быть, эти мирмидоняне прятали в них свои
сокровища?
Всякие чудеса могли происходить под водой, в расщелинах
камней среди колеблющихся водорослей. Ибо Бэлпингтон
Блэпский обладал чудесным свойством жить под водой, когда
ему вздумается, и отважно проникал в эти убежища, откуда
стремительно разбегались креветки, и там он сражался с чу-
довищами-крабами и одолевал их своими сильными руками.
Он захватывал пальцами их клешни так, что они не могли
пошевельнуть ими, и выворачивал их решительно и беспо-
щадно, пока они не отламывались. Тогда крабы смирялись и
становились его рабами. Или Бэлпингтон снова принимал свой
естественный облик и прислушивался к необычайным вестям
из Блэпа, которые приносили ему стремительные морские
чайки. Их крики и круги, которые они чертили в воздухе, это,
видите ли, был особый код. И почти всегда Бэлпингтон, по-
глощенный своими мечтами, тихонько напевал про с$бя какиег
15 Г. Уэллс, т. 2
225
нибудь обрывки арий — Баха, Бетховена, Оффенбаха, Цезаря
Франка.
Человеческие существа были помехой. Они привлекали, от-
талкивали и заставляли его держаться настороже. Они всегда
возвращали ему его обычный вид, и он становился Теодором
Фыркачом,— Бэлпингтоном в изгнании, пока не обгонял их и
не оставлял далеко позади. В этот знаменательный день среди
обычного окружения на пляже ему попался молодой, одетый
в черное пастор, который, держа в руках башмаки и носки, бро-
дил вдалеке по песку, у самого края подернутой рябью воды;
потом двое влюбленных, укрывшихся среди камней, разгоря-
ченные и смущенные, она в муслиновой шляпе, съехавшей со-
всем набок; попозже появились две пожилые дамы с боль-
шими бледными зонтиками, с альбомами для рисования, с ак-
варельными краск'ами, кисточками и складными стульчиками,
подыскивавшие, повидимому, «красивый пейзажик» для этюда.
Они блуждали врозь, несколько растерянно, склоняли голову
набок и время от времени сбрасывали свою артистическую
снасть куда-нибудь на сухое место и примеривались к пейзажу,
чертя по воздуху руками. Это было похоже на танец. Теодора
смутно потянуло присоединиться к их танцу, подойти к ним
под предлогом, что он хочет дать им совет и оказать помощь,
но он поборол это желание. Вдали, в поле зрения, появился
рыжеволосый мальчик.
Его голова высовывалась из-за гряды скал, двигаясь вверх
и вниз и поворачиваясь из стороны в сторону. Он, повидимому,
был всецело поглощен тем, что делал. Что бы он такое мог
делать?
Теодор изменил свой маршрут, чтобы подойти к нему за
гряду скал. Мелодия, которую он напевал про себя, замерла,
потом снова вернулась и снова замерла в то время, как он пре-
давался своим наблюдениям.
Рыжеволосый мальчик был выше и худее Теодора; правду
сказать, это был довольно нескладный мальчик; одет он был
в синюю блузу, очень грязные серые фланелевые штаны, а на
ногах у него были полотняные туфли, надетые прямо без нос-
ков. Он производил впечатление тринадцатилетнего подростка,
вытянувшегося не по летам, а если судить по росту, его можно
было принять и за шестнадцатилетнего. Волосы у него были
всклокочены, высокий лоб переходил в крутое надбровье с гу-
стыми светлыми бровями, которые нависали у него над гла-
зами, а светлые ресницы, казалось, задерживали его взгляд,
делая его еще более сосредоточенным. Он все время хмурился;
таков был склад его лица. В руках у него был садовый совок,
и он то и дело загребал им песок, подносил его к глазам и вни-
мательно разглядывал.
Иногда он высыпал все это. Иногда он бежал с какой-то
находкой к стеклянной банке с грязной морской водой и по-
226
поднял ее содержимое, и, повидимому, эта банка была цент-
ром всех его операций. Затем он шел обратно копать песок в
каком-нибудь другом месте.
На плоском камне ближе к обрыву сверкали на солнце еще
шесть или семь банок, выстроенные в ряд, некоторые с водой,
некоторые пустые.
Теодору все эти процедуры казались соблазнительно зага-
дочными. Что это — игра? У него была инстинктивная при-
вычка уважать фантазии других и не глазеть на людей со
слишком назойливым любопытством. Он продолжал свой путь
по камням с сосредоточенным видом, не подходя слишком
близко. Он поймал себя на том, что напевает эту «Барка-
роллу».
Но вот рыжеволосый мальчик оторвался от своих раскопок
и поглядел на Теодора приветливо-лукавым взглядом. Теодор
весь углубился в созерцание моста, видневшегося вдалеке у
острова Блэй. По мосту ехали три повозки сразу!
— Эй!—окликнул рыжеволосый мальчик.
Какое-то смутное побуждение заставило Теодора прики-
нуться, что он не слышит.
— Эй! — повторил рыжеволосый мальчик несколько громче.
Теодор разрешил себе заметить его присутствие.
— Хэлло,— сказал он и подошел поближе с дружеским ви-
дом.— Вы что-то ловите?
— Собираю коллекцию видов,— поправил рыжеволосый
мальчик.
— Каких видов?
— А вот исследую их,— сказал рыжеволосый мальчик.—
Рассматриваю их в лупу. У меня есть сложный микроскоп.
Это была неведомая страна. Теодор позволил себе обнару-
жить проникновенное неведение.
— Почему сложный? — спросил он.
— Масса линз и прочих штук. Вы никогда не видели та-
кого микроскопа? Вещи, которые еле видно простым глазом,
видишь вот такими большими.— Он изобразил увеличение раз-
мера, раздвинув руки по крайней мере на фут.
— Любопытная наука! — сказал Теодор таким тоном, ка-
ким мог бы сказать Раймонд.
У рыжеволосого мальчика было широкое веснушчатое лицо,
в котором было что-то знакомое, только Теодор не мог опре-
делить, что именно. Глаза со светлыми ресницами под навис-
шими бровями оказались синие, и они смотрели теперь на Тео-
дора с настойчивой дружелюбностью. Руки.и ноги у рыжево-
лосого мальчика были красивой формы, но большие и тоже
усеянные веснушками. «Голос у него, точно кошачий мех»,—
подумал Теодор.
— Биология! — подхватил мальчик.— Только этим я хотел
бы заниматься и ничем другим.
16* 227
— Просто собирать коллекции видов?
— О, изучать их. Узнать о них все.
— А есть книги о такого рода вещах?
— Надо самому доискаться. Кому нужны книги?.. Статьи,
может быть,— сказал рыжеволосый мальчик.
Это была не просто неведомая страна; это бкл другой мир.
Статьи? И все же в этом рыжеволосом мальчике Теодор уга-
дывал что-то очень родственное себе. Он, может быть, соби-
рает коллекции видов, но это тоже игра в собирание коллек-
ций и в открытия.
— Вы хотите посмотреть в микроскоп? — спросил рыжево-
лосый мальчик.
Теодор отвечал, что он ничего не имеет против.
Действительно ли существует такая штука, как микроскоп?
Предложение рыжеволосого мальчика было сделано, мо-
жет быть, не без задней мысли. Его поведение выдавало, что
это был заранее обдуманный план. Но в то же время он разго-
варивал с какой-то естественной непринужденностью. Он жи-
вет, сказал он, вон там, над обрывом, в конце города такой но-
вый дом, с длинным белым флигелем. Там помещается лабо-
ратория. Его отец, профессор Брокстед, из колледжа Кинг-
суэй, работает здесь во время каникул и когда приезжает с
субботы на воскресенье. И он, когда вырастет, тоже будет про-
фессором. Когда он сделает множество всяких открытий. Вот
для этого он и собирает коллекцию видов. Он принес с собой
восемь банок на пляж, но что стоит принести с собой восемь
пустых банок в мешке, а вот каково тащить их обратно пол-
ные! Так вот, если Теодор хочет посмотреть по-настоящему в ми-
кроскоп и поможет ему нести банки, «мамочка»,— юный Брок-
стед спохватился и сказал «моя мама»,— напоит их обоих чаем.
Теодор задумался. Может быть, Клоринда хватится его и
подымет страшный шум, что он опоздал к завтраку и что он
так ужасно напугал ее и измучил своим непонятным пове-
деньем, но может случиться, что она и вовсе не заметит его от-
сутствия. Он решил рискнуть и отправиться с юным Брок-
стедом.
2
ОБИТЕЛЬ МИКРОСКОПА
Это была необычная атмосфера для Теодора. Так же, как
Тедди Брокстед был для него совершенно необычайным суще-
ством.
Мир Теодора был довольно ограничен: Блэйпорт, редкие
поездки в Лондон, а большей частью родительский дом в
Блэйпорте. Все, с чем он сталкивался в школьной среде, было
228
бесцветно, уныло, затаскано и банально. Он иногда ходил в
гости к школьным товарищам, и у всех у них семейная обста-
новка производила впечатление филистерской, пышно или
уныло филистерской,— безвкусное нагромождение викториан-
ской мебели и безделушек, лишенных изящества и значения.
Но эта обстановка не была филистерской. В ней было какое-
то достоинство. И, однако, здесь не чувствовалось Искусство.
Это было какое-то особое достоинство. Здесь были интересные
вещи, но они не были ни красивы, ни гармоничны. Они были
слишком интересны, они говорили. Они пререкались друг с
другом.
Некоторые сочетания цветов показались ему просто пло-
хими. Стены в передней были отвратительного кремового цвета,
такой цвет можно выбрать только второпях. Кроме того, на
нем проступал какой-то бледный бессмысленный узор, так на-
зываемый «орнамент», это уж совсем никуда не годилось. Го-
лые зеленовато-серые стены столовой, в которой они пили чай,
были холодны, как математика. Бархатные зеленовато-серые
шторы не согревали ее. Во всем этом Теодор ощущал какую-
то слепоту к искусству или, может быть, полное равнодушие.
А многочисленные картинки и рисунки, развешанные повсюду,
были отнюдь не декоративны. Ему вспомнилась отцовская
фраза. «Этот дом не обставлен,— подумал он,— вся мебель
просто распихана как попало». Правда, здесь было много ста-
ринных цветных ботанических эстампов, висящих в рамках под
стеклом,— они были очень эффектны своими отчетливыми глу-
бокими тонами, но большой снимок луны в углу выглядывал
зловеще, как череп, а картина неизвестного художника — зыб-
лящиеся пески в Сахаре, освещенные солнцем,— хоть и бро-
салась в глаза и даже была не лишена некоторого очарования,
несомненно принадлежала к числу тех, про которые Раймонд,
не задумываясь, говорил — «набросок». Миниатюрные бронзо-
вые фигурки каких-то исчезнувших рептилий, казалось, попали
сюда из какого-нибудь музея, а большая серебряная карака-
тица, «преподнесенная профессору Брокстеду ко дню свадьбы
от его класса»,— из какого-нибудь нечестивого капища. От
лаборатории никакой декоративности не требовалось, и она
больше понравилась Теодору. В ней было много света, как в
хорошей студии, масса склянок с какими-то штуками, длинный
стол, белый умывальник, стеклянный шкаф, множество малень-
ких выдвижных ящичков из светлого дерева и два внушитель-
ных с опущенными лебедиными шеями микроскопа, которые
как будто задумались; в них была строгость, которая невольно
привлекала. За окном стояло нечто вроде аквариума, в кото-
рый все время вливалась вода, и в нем плавали какие-то жи-
вые существа. На стенах были пришпилены квадратные ли-
сточки бумаги с нанесенными на них черными чертами, а в
углу на столе лежала целая кипа бумаг.
229
— Нам здесь ничего нельзя трогать,— сказал Тедди с не-
скрываемым благоговением.— Это папины материалы. Мой
уголок в этой комнате в том конце.
Они сразу прошли через все комнаты прямо в лаборато-
рию, и Тедди стал показывать Теодору чудеса микроскопа, об-
наружив при этом полное знание дела. Теодор научился смот-
реть, не закрывая другой глаз и не прикрывая его рукой
сверху, и по-настоящему почувствовал всю сказочность этих
странных, просвечивающих, бессмысленно суетящихся существ.
Он удостоился чести исследовать кацлю Теддиной крови и по-
глядел на такие чудеса, как почечные клубочки и потовые же-
лезы, раскрашенные и препарированные/ Они были извлечены
из подкожной клетчатки и внутренностей какого-то ныне
искромсанного на куски человеческого существа. Еще ему по-
казали печень, которая когда-то была ответственна за дурные
настроения какого-то человека. Все это было страшно ново
для Теодора, и ему было очень трудно сделать какое-нибудь
уместное замечание. Но во всяком случае он обнаруживал по-
нятливый интерес, а говорил большею частью Тедди. Если
Теодор поглощал бесконечные разговоры об искусстве,— Тедди
слушал обсуждения профессорских докладов, и это, раз-
умеется, давало ему перевес в лаборатории. Но Теодора осе-
нило виденье.
— Но ведь это же не только в микроскопе, правда? Это
везде, на каждом шагу, на протяжении бесчисленных миль —
в слякоти и канавах, во всем мире,— сказал Теодор, стараясь
не упустить свою мысль и удержать это мгновенное видение
увеличенного микромира, кишащего необыкновенными малень-
кими существами.— Их, должно быть, миллионы и миллиарды.
Тедди наклонил свою рыжую голову набок, словно этот
взгляд на вещи был чем-то совершенно новым для него.
— Конечно,— согласился он, подумав минутку.— Да, они
везде.
Не только под объективом микроскопа, но везде. Но вот по-
чему Теодору пришла в голову эта мысль, а не ему самому?
Почему ему никогда не приходило это в голову?
Он посмотрел на пол, в окно, на стволы и ветви деревьев
и потом снова в лицо Теодору.
Секунду или больше сознание обоих было подавлено тем,
что мир, окружающий их, это просто конспект материальной
множественности вселенной, в которой каждый видимый пред-
мет, словно корешок переплета необъятной энциклопедии.
Снять переплет, и миллионы вещей становятся явными. При-
вычный мир исчезает, и на его месте выступает кишащая бес-
конечность клеточек и атомов, волокон и кровяных шариков.
Но это было слишком для четырнадцати лет,— как, пожалуй,
и для большинства из нас,— и прежде, чем они успели пройти
расстояние, отделявшее лабораторию от жилых комнат, бездна,
230
скрывающаяся под этой видимой вселенной, снова закрылась,
и лужи, сырость и грязь снова стали просто лужами, сыростью
и грязью, а вещи, которые видно под микроскопом, просто за-
нятными, но совершенно незначительными штуками, которые
видишь только под микроскопом и нигде больше...
Но хотя ни один из мальчиков не заглянул больше чем на
мгновение в эту бездну, которая таится за нашей действитель-
ностью и куда врезается пытливый объектив микроскопа,
Теодор во всяком случае почувствовал угрозу своему вымыш-
ленному и обособленному миру.
Он сначала уступал инициативе этого Тедди. Ему было так
интересно и любопытно, что он как-то удивительно забыл о
себе, о своем собственном столь значительном мире. Теперь
его мир снова возвращался к нему— протестующий, восстаю-
щий против этой чуждой, враждебной материи, вторгшейся в
него. Что он представляет собой, этот оголенный, светлый,
с выбеленными стенами, уверенный мир вещей, который вели-
чает себя Наукой? Который дает власть этому рыжеволосому
мальчишке показывать Теодору букашек с пляжа, точно они
его собственные, и не могут быть ни чем иным, как только тем,
что он говорит о них. Какой отпор требуется дать, чтобы вос-
становить собственное достоинство?
«Вот Уимпердик, тот знал бы»,— подумал Теодор и в пер-
вый раз в жизни пожалел, что не прислушивался более внима-
тельно к тому, что говорил Уимпердик.
— Было время, когда единственные живые существа на
земле были вот такие, как эти,— сказал рыжеволосый маль-
чик.— Только покрупнее. От них-то и пошла эволюция.
Эволюция? Может быть, та эволюция, о которой говорил
Уимпердик? И дарвинизм?
— Вы верите в Дарвина? — сказал Теодор с оттенком на-
рочитого удивления в голосе.
— Я верю в эволюцию,— сказал Тедди.
— Я думал, что с Дарвином уже разделались.
— Эволюция существовала до Дарвина.
— И вы верите, что мы когда-то были обезьянами?
— Я знаю это. И пресмыкающимися до того, как сделаться
обезьянами, а еще раньше — рыбами. А до того — вот такими
существами, как эти. Я думал, что это всем известно.
— Вот уж не знал, чтобы это всем известно.
— Вам надо бы послушать папины лекции. Мы проходили
через эти ступени все, прежде чем явиться на свет,— каждый
из нас. Мы все бывали покрыты волосами, у нас есть хвосты,
есть зачатки жабр. От этого никуда не уйдешь.
— Я этого не знал,— должен был сознаться Теодор.
— Большинство не знает,— сказал Тедди.— Нам не препо-
дают этого в школах. А следовало бы. Но они обходят это. Во
всяком случае, стараются обойти молчанием. Как будто можно
231
обойти молчанием вещи, которые происходят всюду, каждый
день. Но как бы там ни было, они вас здорово сбили с толку.
Но все равно, вы не должны думать, что с Дарвином раздела-
лись. Нет. Разумеется, в первых своих попытках он немножко
ошибался. Но у кого же первые шаги бывают безошибочны?
Речь Тедди была точной репродукцией объяснений асси-
стента профессора Брокстеда, пытающегося изложить понят-
ным языком какое-нибудь научное явление смышленому, но
неосведомленному студенту; но разве Теодор мог это знать?
Они вошли в светлые, но непривлекательные комнаты, и там их
встретила мать Тедди, стройная тонкая темноволосая женщина,
с высоким лбом, белой кожей и синими, приветливо улыбаю-
щимися глазами. В ней не было ничего филистерского. Одета
она была в очень хорошенькое, очень простое синее платье с
кустарной вышивкой местного производства; она ласково
упрекнула их, что они так долго возились в лаборатории, а не
пришли раньше напиться чаю.
Голос у нее был такой же мягкий и приятный, как у сына.
Она задала Теодору несколько вопросов. Тедди никогда не
пришло бы в голову задавать такие вопросы.
Возродившееся сознание собственного «я» Теодора сразу
оживилось от этих расспросов. Кто он такой, в самом деле?
Он отвечал, не торопясь, подумав, сопровождая свои ответы
безмолвным поясняющим комментарием. Да, он живет в Блэй-
порте (Блэппорт? Блэп?). С отцом (он не упомянул о Кло-
ринде). Его отец, это тот самый Бэлпингтон, писатель-критик?
Да. (Но не тот, настоящий Бэлпингтон.) Да, он пишет в
«Санди Рэвью». Да, но основная его работа — это обширный
труд по истории варягов. Миссис Брокстед поинтересовалась,
кто такие эти варяги? Тедди знает? У Тедди все лицо вспых-
нуло яркой краской, свойственной рыжеволосым с белой ко-
жей. Этот Тедди, который столько знал всякой всячины о рако-
образных, о простейших и сложных видах животных и тому
подобном, повидимому, никогда не слышал о варягах. Он явно
считал бестактным со стороны матери, что она задала такой
вопрос. А для Теодора это был удобный случай.
Он принялся рассказывать о варягах. Он мог рассуждать
о варягах так же свободно, как Тедди рассуждал об инфузо-
риях и микроскопических животных. Он к этому и приступил.
Он бегло описал великий Северный поход норвежцев, русских,
датчан и норманнов. Сорвавшись, так сказать, со своих око-
ванных морозом земель, эти готы распространились на восток,
на запад и на юг. Готы — это были мы.
По мере того как он описывал шествие этих разрозненных
отрядов, войск и флотилий завоевателей, их победы, приклю-
чения и рыцарские подвиги, он чувствовал, как Теддин микро-
скопический мирок отступает и делается все более и более
незаметным, как ему и положено. Он скромно умолчал о той
232
роли, которую играл Бэлпингтон Блэпский,— или, может быть,
это был его отдаленный предок, теперь снова возродив-
шийся? — возглавлявший этот поход варягов на Волгу, и
дальше к Черному морю и Константинополю. Набег за набе-
гом совершали они на Константинополь, где многие из них
сделались потом телохранителями византийского императора.
Когда они встретились там с английскими и фламандскими
крестоносцами, оказалось, что они понимают их язык.
В передней послышались шаги. Миссис Брокстед бросила
взгляд на дверь.
Дверь отворилась. Это была девочка лет тринадцати, са-
мая что ни на есть натуральная девочка лет тринадцати,
длинноногая, в купальном халатике, которая нерешительно
остановилась в дверях. Она чуть-чуть улыбнулась и с любо-
пытством посмотрела на гостя.
— Ты тоже опоздала! — сказала миссис Брокстед.— Мар-
гарет, это Теодор Бэлпингтон.
Девочка кивнула и села на свободное место против Тео-
дора. Тедди подвинул ей хлеб и масло, и ей налили чашку чая.
— Сливовое варенье! — сказала она, восхищенно повысив
голос.
Но ведь Теодор видел ее тысячи раз!
У нее тот же высокий лоб, те же ласковые глаза! И в то же
время это девчонка — школьница с косичками! Дельфийская
Сивилла тринадцати лет! Обожает сливовое варенье. Удиви-
тельно, непостижимо!
Или она тоже носит маску?
Чепуха! Не будь ослом, Теодор. Это просто случайное
сходство.
Он смотрел на нее с искренним изумлением, но она после
первого взгляда ни разу не посмотрела на него и занялась
хлебом и вареньем.
— Итак, значит, англичане, норвежцы и русские на се-
вере — это все один и тот же народ — варяги,— сказала мис-
сис Брокстед, приходя ему на помощь.— Как это интересно!
Теодор только сейчас заметил, что он прервал свой рассказ
и молчит с тех пор, как появилась эта девочка.
— Да, мэм,— пробормотал он и, очнувшись, откусил кусок
хлеба с вареньем. Бэлпингтон Блэпский превратился в очень
неуклюжего застенчивого мальчика, который набил себе пол-
ный рот хлебом. Это инкогнито мучило его. Он по-детски уста-
вился на свою Сивиллу, которая прикидывалась Маргарет
Брокстед, и тщетно пытался придумать какой-нибудь велико-
лепный жест, по которому она могла бы узнать его.
— Я слышала о вас,— сказала Сивилла, кивнув ему.— Вы
учитесь в Сент-Артемасской школе.
Теодор поспешил проглотить кусок, чтобы ответить. Как
трудно иногда бывает управляться с этим.
233
— Я учусь там уже больше двух лет.
— Вы тот мальчик, который так разрисовывает свои ариф-
метические тетради, что потом нельзя разобрать цифр.
— Я ненавижу цифры,— сказал Теодор.
3
НАУКА И ИСТОРИЯ. ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
Это было удивительно, непостижимо, страшно увлекательно
и вместе с тем как-то обидно — сидеть здесь за чайным сто-
лом. Конечно, она не Дельфийская Сивилла, а просто блэй-
портская школьница, которая случайно оказалась похожей на
эту богиню, и Теодор не знал, рад он или огорчен, что кто-то
из смертных может отличаться таким изумительным сходством
с королевой его грез. Он должен непременно посмотреть еще
раз на картину, когда вернется домой (чай был превосходный,
чтобы не сказать больше). Он старался показать себя блестя-
щим юношей, каким он был на самом деле, но это оказалось
очень трудно. Только судорожными усилиями он не позволял
себе сорваться в бездну непреодолимого молчания, которая
подстерегает всех мальчиков, когда они попадают в гости.
— И что же, это был такой обособленный народ, варяги? —
спросила миссис Брокстед, выручая его, когда он уже вот-вот
готов был сорваться и умолкнуть.— У них что, была где-ни-
будь собственная страна?
Теодор помолчал секунду, припоминая что-то, но затем
снова сделался живой копией Раймонда.
— Это не выяснено,— сказал он.— Повидимому, это назва-
ние относилось к скандинавам, и в частности, к тем сканди-
навам, которые впоследствии стали русскими. Но датчане и
англичане еще задолго до крестовых походов были на службе
у византийских императоров.
— А ваш отец дает историю всех этих народов или только
тех, что были на службе у византийских императоров?
— Это своего рода эпопея,— сказал Теодор.— У него еще
только начаты отдельные куски. Он говорит, что у него это
все разрастается. Он начал с тех варягов, что были телохра-
нителями византийских императоров, но теперь он собирается
писать обо всех варягах. И в особенности о Кануте. Канут—
это его герой, поскольку в истории вообще может быть герой.
(У него мелькнула мысль, что Бэлпингтон Блэпский был
знаком с Канутом. Что они были большие друзья.)
— Канут,— продолжал он, стараясь отыскать в памяти
фразу Раймонда,— Ка... У Канута была империя, которая про-
стиралась от Массачузетса до Москвы.
234
— В наших учебниках истории ничего нет об этом,— за-
метил Тедди, пользуясь случаем добавить к этому докладу
единственное, что он знал о Кануте.— Канут умер в Шэфт-
сбери. Мы проезжали это место в автомобиле, когда ездили
в Корнуэлл.
— Но он жил и там и тут в своих владениях,— сказал
Теодор.— Это была необычайно громадная империя, а Шэфт-
сбери была ее столица. Народ стекался в Шэфтсбери из Вин-
ланда в Америке и из Нижнего-Новгорода. У Лонгфелло есть
поэма об этом.
— Но я никогда не слыхала, что Канут называл себя ва-
рягом,— удивилась миссис Брокстед.
— Так его называли финны и константинополи («польцы»
надо было сказать, вот проклятье!).
— Это очень интересно,— сказала миссис Брокстед.
— Ему было всего сорок лет, когда он умер,— продолжал
Теодор, и горечь утраты прозвучала в его голосе.— Может
быть, он был не менее велик, чем Александр. Да вот не было
человека, который мог бы написать о нем. Он только основал
эту великую империю и умер, а потом пришли норманны и
начались крестовые походы и некому было продолжать то, что
он начал. Народы перекочевали в другие страны, начали дру-
гую жизнь. А какая это могла бы быть империя, мэм! Вы
только подумайте! От Америки до России — все Северное
полушарие. Но мы не могли создать ее.
Маргарет через стол встретилась с ним взглядом, и, как
ему показалось, сочувствующим взглядом. Поняла ли она, как
Бэлпингтон Блэпский скорбел об этой исчезнувшей империи?
Какую борьбу он вел, чтобы восстановить ее?
Тедди надоело слушать про этих варягов. Ему казалось,
что это самый никчемный народ из всех, о которых он когда-
либо слышал. И во всяком случае этот Теодор достаточно на-
говорился.
— Я показал мой микроскоп Бэлпингтону,— сказал он вне-
запно.— Он никогда не видал микроскопа,— добавил он.
— Я этим не интересовался,— пояснил Теодор матери и
дочке.
— А это тоже очень интересно,— сказала миссис Брок-
стед.— Но вам, если вы интересуетесь историей и книгами,
я думаю, не приходится иметь дела с микроскопом?
— Нет, мэм. Мы имеем дело с нормальной величиной, рас-
сматриваем человеческое существо во весь его рост. Историку
не нужен микроскоп. Какая польза моему отцу от микроскопа!
Тедди начал спорить с ним:
— Но как вы можете понять человека, если вы не пони-
маете жизни, а как можно понять жизнь без микроскопа?
— Но человек — это и есть жизнь,— возразил Теодор.—
И чтобы видеть его, вовсе не нужен микроскоп.
235
Тедди вспыхнул от этого аргумента; уши у него стали
красные.
, — Я не говорил, что нельзя видеть человека, я сказал:
понимать его. Как можно знать, что представляет собой чело-
век, если не знаешь, как он устроен?
— Можно наблюдать его, смотреть, что он делает.
— Это не объясняет, как он это делает.
— Нет, объясняет. Если вы...
— Нет, не объясняет.
•— История объясняет.
— История рассказывает сказки. История — это сплошь
сказки. Вы не можете ее проверить. Это не наука. Это не до-
стоверно.
— Вполне достоверно.
— Да нет же. Ваша устаревшая история...
Спор становился тягостным. Миссис Брокстед вмешалась:
— Вы давно живете в Блэйпорте, Теодор?
4
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Он возвращался домой в полном смятении чувств. Он не
мог никуда поместить этих Брокстедов в том мире, который
он знал, и не мог нигде поместить себя рядом с этими Брок-
стедами. Еще труднее было представить себе, что они о нем
думают. Что они говорят о нем сейчас? У него было такое
чувство, как если бы кто-то сунул палку в его вселенную и все
основательно перемешал. Его Дельфийская Сивилла и весь
тот мир, который он создал вокруг нее, все это изменилось.
Он еще не отдавал себе отчета, как велика была и в чем за-
ключалась эта перемена.
В этот охваченный смятением мир его грез врезался не-
приятно обернувшийся спор, который возник между ним и
Тедди. Тедди, вооруженный Наукой, Эволюцией и Микроско-
пом, высказал явное презрение к Истории. Самая уничтожаю-
щая вещь, которую позволил себе сказать Тедди, это, что
«история не имеет никакого начала». Неприятное утверждение,
когда оно подносится тебе неожиданно. По дороге домой Тео-
дор все еще пытался придумать на это достойный ответ.
Раймонд, разумеется, начинал всегда с готов. Но в конце
концов у готов есть своя история позади. Каменный век и
что-то в этом роде. А до этого, верно, было еще что-то — го-
риллы и еще какие-то недостающие звенья, эволюция и вот
эта штука. Наука сторожила в засаде Историю, а История,
236
возвращаясь назад, попадала в эту западню на съедение
Науке. Где же в сущности кончалась Наука и начиналась
История? Обычно История, возвращаясь назад, упиралась пря-
мехонько в цветущий эдем и сидела там себе спокойно, пока
Наука не сокрушила все преграды и не обратила этот прелест-
ный сад начала всех начал в пучину времени. Зачем уступать
дорогу Науке? Зачем соглашаться, что эта пучина времени
простирается без конца, без конца? Предположим, он ска-
зал бы, что библия для него достаточно хорошее начало?
Черт возьми этого Тедди с его микроскопом! А тут еще эта
Сивилла — Маргарет, которая слушала все это, все его сбив-
чивые рассуждения насчет Эволюции, его неудачные ответы.
И как раз, когда она только что прониклась сочувствием к
этой Варяжской империи, волшебному Северному королевству
Раймонда... Северное королевство... Окованные льдами страны,
утраченные Англией... Скрытая Твердыня Севера...
Серый туман плыл над высокими башнями Блэпа, этой
могущественной громады примитивной готики, «почти столь же
древней, как время». Иногда казалось, что она не суще-
ствует, но потом она опять начинала существовать несомненно.
Настанет, может быть, день, когда он возьмет ее туда. Она
будет скакать рядом с ним по извилистому ущелью.
Он напевал про себя эту «Баркароллу».
5
НАСЛЕДНИКИ
— Почему ты не пришел к чаю? — спросила Клоринда.
— Добрый вечер, мистер Уимпердик. Я познакомился с
одним мальчиком, и мы пили чай у него. Он мне показывал
микроскоп. Страшно интересно.
Мистер Уимпердик угощался джином и виски перед обедом.
У Теодора мелькнула мысль, что он может вытянуть кой-
какие полезные возражения из Уимпердика. Присутствие этого
джентльмена внезапно сделало его сторонником науки в этом
споре.
— Это был превосходный микроскоп. И мы беседовали
о Науке, об Эволюции и тому подобном. Этот мальчик — сын
профессора Брокстеда.
— Знаменитый маленький профессор Брокстед из Рацио-
налистической Журнальной Ассоциации,— сказал Уимпер-
дик.— Профессор Брокстед, из колледжа Кингсуэй.
Клоринда задумчиво посмотрела на сына. Ей пришла, в го-
лову совершенно неожиданная мысль. Через какой-нибудь год-
237
два — как быстро летит время!—Теодор будет взрослым мо-
лодым человеком. Чтобы отогнать от себя это неприятное от-
крытие, она заговорила с ним, как с мальчишкой, каким он
и был.
— Постарайся привести свой костюм в порядок, а то
можно подумать, что ты в нем катался по земле. Пригладь
волосы. Поправь галстук. И тогда можешь прийти обедать и
рассказать нам все.
Теодор пришел в ужас от своего отражения в зеркале. Рас-
трепанные темные вихры свисали на лоб, а сзади в волосах
торчал какой-то пух. Нос у него был ужасно красный. Рот
красный, расплывшийся. Что за рот у него! Его оранжевый
галстук съехал набок.
Боги! И она смотрела на это?
Когда он сошел к обеду, Клоринда поразилась, какой
у него приглаженный вид. У него даже было что-то вроде про-
бора на голове. И — ей пришлось посмотреть дважды, чтобы
убедиться — руки у него были чисто вымыты! Он почувство-
вал, что она заметила все это, и сердце у него сжалось. Но
она не сказала ни слова. У нее у самой сжалось сердце. Точно
она нашла у себя седой волос.
— Итак, вы посетили знаменитого, прославленного профес-
сора Брокстеда? — спросил Уимпердик.
— Я видел его лабораторию,— сказал Теодор.
— Что же она собой представляет?
— Чистое белое помещение. Окна, как в оранжерее. И ми-
кроскоп.
Они пожелали узнать все подробно.
Он продлил их ожидание как можно дольше и затем по-
старался выставить себя сторонником этого, повидимому, мало
распространенного, но увлекательного учения об эволюции.
Начнут ли они спорить с ним, попытаются ли обратить его
снова в какое-то свое учение, которому они следуют? Они пре-
небрегли этим его личным отношением к делу. Их, повиди-
мому, мало интересовало, верит он в эволюцию или нет. Они
ухватились за подробности, которые он сообщил им, и заня-
лись ими. Сначала они еще слушали его, потом стали говорить
ему в назидание, а затем, по мере того как их интерес к соб-
ственным расхождениям разгорался,— и вовсе о нем позабыли.
Скоро их разговор перешел, как им казалось, за пределы его
разумения, и на все его попытки вмешаться не обращалось ни
малейшего внимания.
Больше всего в назидание Теодору говорил Уимпердик. Он
явно старался изобразить эту Науку, представителем коей был
профессор Брокстед, грубой, самонадеянной, глубоко вульгар-
ной пропагандой в корне невежественных, дурно мыслящих,
дурно воспитанных людей.
— Брокстед,— сказал он,— это младший братец Гексли и
238
Геккеля, а Гексли — это как будто, их глашатай Биологии. Это
очень характерно для таких вот, как Гексли, взять естествен-
ную историю, переименовать ее в Биологию и сделать вид,
будто они что-то открыли. Биология — это теперь просто по-
мешательство, настоящее помешательство. Тут уж ничего не
скажешь. Она кажется чем-то новеньким, но это только так
кажется. Церковь всегда знала все, чему учит эта популярная
наука,— эта наука для широких масс, не истинная наука,—
церковь всегда знала и знает лучше ее. Они предлагают нам
смотреть фактам в лицо, а когда мы спрашиваем, как? — они
отвечают: в микроскоп. Но факты исчезают под микроско-
пом.— В голосе Уимпердика послышалась брезгливость, и он
завертел пальцами.— Они превращаются в маленькие разроз-
ненные кучки бесконечного множества перепутавшихся по-
дробностей.
Теодор нашел, что это хорошо сказано. Он это и раньше
почувствовал, только не сумел найти нужные слова. Как это —
«маленькие разрозненные кучки бесконечного множества по-
дробностей»? Но Уимпердик уже говорил дальше:
— Эволюция. Церковь всегда ее признавала, потому что
это правильно. Но этот их естественный отбор — просто уловка,
чтобы отделаться от бога.
— Им нет надобности отделываться от бога,— вставила
Клоринда.— Если вселенная проходит через нескончаемую
эволюцию, бог даже и не возникает.
Уимпердик возмутился, сказав, что это нелепость толко-
вать о том, возникает бог или не возникает. Он с нами, вечно
был, есть и будет. Вот всякие лжеучения, те возникают бес-
престанно и неизменно исчезают. И эта современная наука
исчезнет.
Раймонд заявил, что он хотел бы, но не может согласиться
с Уимпердиком,
— Современная наука,— сказал он,— это что-то совер-
шенно новое и гораздо более страшное, чем всякие там лже-
учения и ереси. Это не ересь; это безверие, а не уклонение от
истинной веры. Оно разрушает всякую веру и начинает что-то
новое. Оно ведет мысль такими путями, которые ломают все
до основания. Какими-то совсем другими путями. Оно разла-
гает наш мир и взамен не оставляет нам ровно ничего — ни
божественного, ни человеческого.
Уимпердик возразил, что наш старый мир более добротная
штука, чем думает Раймонд. Наши старые понятия, старое
добро и зло в конце концов восторжествуют над этой совре-
менной научной чепухой.
Раймонду прислали на рецензию книгу «двух многообе-
щающих молодых авторов», Конрада и Хьюффера. Книга на-
зывается «Наследники». Она произвела на него потрясающее
впечатление. Там проводятся совершенно удивительные идеи.
239
О новой породе людей, якобы появившейся на свете,— эти
люди не знают ни жалости, ни сомнений, они истребляют освя-
щенную веками человеческую жизнь. Для них не существует
никаких преград. В этом романе предполагается, что они
загадочным образом появились из четвертого измерения, но
в действительности это вот та самая порода людей,. которых
порождает наука. И они совершенно другие — другие. Они
смотрят на жизнь с какой-то холодной, нечеловеческой
ясностью.
— Обманчивая ясность,— вставил Уимпердик.
Красота исчезает перед ними, моральные ценности, вера,
благородство, чистота, честность, любовь — все сметается. Тра-
диция становится ненужным наследством старых заблуждений,
с которыми лучше разделаться. Все прекрасные, веками про-
веренные истины, которыми мы живем, во имя которых мы
живем,— под угрозой, и им приходит конец.
— Пусканье пыли в глаза,— сказал Уимпердик.
— Рассвет,— сказала Клоринда, и ее эрудиция, ее диплом
первой степени по двум дисциплинам и постоянное соприкосно-
вение с новейшими лондонскими веяниями явно чувствовались
в ее уверенном голосе. Ей, повидимому, давно не терпелось оса-
дить Уимпердика. И теперь она вдруг увидела, как за это
взяться. Она решительно повернулась к нему.
— Наука, Уимпердик,— это не больше и не меньше, как
переход от слов и фраз к фактам — к подлежащим проверке
фактам. В этом нет ничего странного и ничего нового, Рай-
монд, это просто выздоровление после долгой болезни. Днев-
ной свет, пробивающийся сквозь мглу словоблудия, в которой
человеческая мысль коснела веками. Для меня это все совер-
шенно ясно. И я разгадала вас, Уимпердик. Я понимав теперь,
на чем вы стоите. Я, наконец, разгадала, что вы такое. Вы
схоластический реалист. Вы пережиток четырнадцатого сто-
летия. Как это я не видела этого раньше!
Она погрозила ему пальцем.
— Схоластический реалист, вот вы что такое, голубчик.
Таков склад вашего ума. Я долго думала о вас, приглядыва-
лась к вам, стараясь разгадать, что вы собой представляете,
долго, а теперь я вас поняла. Вы согласны с этим? Тем лучше!
Естественно, что вы смотрите на науку, как на дьявола. Это
ваш дьявол. Когда неономиналисты сцепились с реалистами,
тогда стала неизбежной экспериментальная наука. До тех пор
она была просто немыслима. Все это для меня теперь совер-
шенно ясно. Конец дедуктивного мышления,— долой пустосло-
вие! Наука вырывается на свободу. И вы только посмотрите,
что сделала и что делает наука! Она дает механическую силу
без затраты усилий. Она уничтожает тяжелый труд. Она на-
саждает здоровье и изобилие там, где раньше были невеже-
ство и нищета, Она дает свободу уму. Каждое умозаключение,
240
каждая догма теперь берется под вопрос и подвергается про-
верке. Ко всему подходят открыто, и наука оправдывается ре-
зультатами, какие она дает.
— Сначала самонадеянное почем у,— сказал Уимпердик,
склонив голову набок и оскаливая на Клоринду все свои жел-
тые зубы с таким видом, словно он пытался мягко дать ей
понять, что видит ее насквозь,— сначала почему, а следом
по пятам, проталкивая его вперед, тихохонькое почему
нет? Вы загромождаете мир отвратительными шумными
вонючими машинами. Вы производите миллионы дешевых
безобразных вещей взамен немногих прекрасных. Вы разви-
ваете сумасшедшую скорость. Скорее, скорее! Вы — вы по-
творствуете всяким вольностям. И среди вашей погони за
этими чудесами прогресса вы забываете о главном в жизни.
От нормальной здоровой жизни человека не остается ничего.
И от нравственности не остается ничего. Во всем этом недо-
стает души.
— Не остается ничего от вашей кристальной небесной
сферы, или от вашего цветущего эдема и Страшного суда.
Клетку религии сломали. Но это только открывает нам более
широкий, чистый и светлый мир. Ничего ценного не утрачено.
Пробита только брешь на свободу. Я завидую новому поко-
лению,— сказала Клоринда,— оно растет в дневном свете.
И взгляд ее упал на Теодора.
— Мне жаль новое поколение,— сказал, не замечая Тео-
дора, Раймонд,— оно растет в расчищенной ветром пустыне.
— Я молюсь за него,— промолвил Уимпердик, явно имея
в виду Теодора.— Ибо не в дневном свете ему придется расти,
а в заблуждении и тщеславии, взамен вечного и доступного
нашему духу откровения истины. Ибо какое же откровение
давала нам когда-нибудь наука, которое' можно было бы
сравнить с убедительнейшей непостижимостью святой троицы?
(— Попытки найти в черном подвале невидимый тренож-
ник с острова Мэн, которого там никогда не было,— пробормо-
тал Раймонд.)
— Это поколение будет гораздо более тесно соприкасаться
с реальностью, чем все предыдущие,— громко заключила Кло-
ринда.
Уимпердик накинулся на нее, обдавая ее своим интеллек-
туальным презрением.
— Нет! Нет! Нет! — вскричал он.— Вы не знаете, что было
началом всего. Вы не знаете, что такое реальность. Единствен-
ная реальность,— голос его понизился до благоговейного
шепота,— бог. А он непостижим. Вот почему мы кутаемся в
историю и в учение — в учение церкви, которая стоит между
нами и слепящим светом единственной реальности.
— Висит, как старая разодранная занавеска между нами
и ясным дневным светом,— сказала Клоринда.
*16 Г. Уэллс, т. 2 241
— Но почему бы нам не вешать занавесок? — спросил
Раймонд, становясь на другую точку зрения.— Даже если мы
знаем, что это занавески. Ты, может быть, и права в том, что
касается фактов, Клоринда, ты и все эти ваши атеисты и ма-
териалисты! Я с этим не стану спорить; для меня это не имеет
ни малейшего значения. Но кому же хочется жить в голом,
ободранном мире? Кому хочется жить среди голых фактов?
Раз уж вы обнажили мир, вы не должны оставлять его дро-
жащим и голым. Вам придется снова закутать его во что-
нибудь...
Так они спорили — может быть, несколько более много-
речиво и непоследовательно, чем мы передаем здесь. Но смысл
был такой.
Спустя некоторое время внимание Теодора начало отвле-
каться. Ему было интересно, но он устал. Он уже наслушался
достаточно, больше у него уже не умещалось в голове, но он
все еще держался. Он знал, что стоит ему только зевнуть,
он выдаст себя, и он как можно дольше подавлял зевоту. По-
том он попробовал зевнуть, когда Клоринда отвернулась. Но
она точно почувствовала и, не оборачиваясь, сказала через
плечо, что ему пора идти спать.
У себя в комнате не успел он еще раздеться, как привыч-
ная игра фантазии подхватила и увлекла его.
На большом, но все же доступном расстоянии от Блэпа по-
явилась теперь приземистая белая крепость, которая каким-то
образом была также наукой; там обосновались Брокстеды.
Непостижимо, враги они были или друзья. Они были вот как
эти самые, как их? — Наследники. Упрямые они были, и все
вокруг них было окрашено в серый и тусклый цвет. Смутно
чудились какие-то переговоры и союзы с белыми стенами этого
замка, а потом видение безмолвно улыбающейся со спокой-
ными глазами дочери Брокстеда... Профессор или граф он
был? Биолог или чародей? друг или враг? И она скакала на
коне по лесной чаще. Она скакала прочь из этого замка Брок-
стедов. Она спешила к своему другу, лорду Бэлпингтону
Блэпскому.
Друг ли? Это было что-то непохожее на прежний союз.
Она была теперь не такой высокой, и между ними не было той
близости. Что-то в ней появилось новое, чуждое. Действи-
тельно ли она была чужая, или это разговоры внизу сделали
ее чужой? Правда ли, что она Наследница? Наследница мира?
Есть ли у этих Наследников души? Или она, как Ундина?
А что 3jo такое — душа?
Видение растаяло. Теодор очнулся и увидел, что он сидит
перед зеркалом. Он смотрел на свой рот, и ему казалось, что
у него большой, полураскрытый красный рот. Он пробовал
закрывать его и так и сяк, чтобы он казался строгим и пе-
чальным.
242
Сон долго не приходил в этот вечер. Теодор мысленно
встречался с Маргарет, придумывая для этого тысячи спосо-
бов, тысячи мест. (Утром, когда Клоринда зашла к нему ска-*
зать, что уже пора подыматься, она заметила, что его одежда
больше, чем всегда, разбросана по полу.)
Старая, привычная дружба с подушкой долго не ладилась
на этот раз. Казалось, этому мешала какая-то стыдливость.
Они долго блуждали, и он никак не мог нигде приютиться
с ней, пока они не попали в непроглядную убаюкивающую
метель. Потому что они блуждали теперь в окованных льдами
варяжских владениях, утраченных Англией. Никогда владения
Блэпа не заходили так далеко на север. Порхающие хлопья
сыпались сверху и снизу; слепящее белое мельканье сливаю-
щихся в вихре точек. У них на двоих было только одно одеяло,
и они сбились с дороги, и им не оставалось ничего другого,
как укрыться этим одеялом вдвоем и улечься на землю. Это
оказалось необыкновенно удобным приютом, снежным и в то
же время теплым, как будто это был не снег, а снежный пух.
И тут их головы сблизились совсем тесно и можно было
шептать друг другу на ухо. Их головы сблизились так тесно,
что они касались друг друга щеками, как прежде. Она была
Сивилла Наследница...
Все равно.
Эти новые несовместимости потихоньку исчезали, и Теодор
незаметно, словно из одной фазы в другую, переходил от рас-
слабляющего оцепенения к дремоте, пока не погрузился в пол-
ный покой абсолютного безучастия •— в сон без сновидений.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Юность
1
СМЯТЕНИЕ ГРЕЗ
Четыре года юности Теодора после его первой встречи с
Маргарет Брокстед были годами бесконечных открытий и
осложнений для того плодотворного серого вещества, которое
представляло собой материальную субстанцию обоих, как
Теодора, так и его второго «я» — Бэлпингтона Блэпского.
Множество непонятных вещей, затрагивающих обоих, переда-
валось неутомимому мозгу телом, которое ему подчинялось;
16* 243
новые стимулы, новые возбудители проникали со смятенным
шепотом в его волнующиеся клеточки. Этот шепот спрашивал:
«Что ты делаешь? Что собираешься делать? Какие у тебя
планы в жизни? Что ты такое? Надо браться за какое-то не-
ведомое дело. Принимайся за него. Время не терпит».
Этот шепот был так невнятен, что сознание Теодора едва
улавливало те уклончивые, неохотные, сбивчивые ответы, не-
ясные отклики, пробуждаемые им. Теодор не замечал, что он
меняется; он сознавал только, что он становится старше и
каждый день открывает что-то новое, множество всяких вещей
о мире и о себе; кое-какие из этих открытий были очень мучи-
тельны и неприятны.
Пол давал себя чувствовать более властно и тягостно. Это
уже не было, как раньше, мило и романтично. Это перепле-
талось теперь с грязными и омерзительными подробностями
жизни. Человеческие тела и повадки животных, казавшиеся
прежде загадочно пленительными и прекрасными, теперь
осквернялись намеками и жестами, вскрывающими их есте-
ственное назначение. Что-то глубоко непристойное соверша-
лось во вселенной за этой привлекательной видимостью с ее
манящими формами. Все чаще и чаще охватывало его тре-
вожное ощущение этой настойчивой созидательной силы. Ли-
нии и контуры жизни скрещивались непонятным образом.
В пятнадцать лет у Теодора был большой запас книжных
и романтических представлений, и неведение и наивность не по
летам. Фрэнколин и Блеттс, встречаясь с ним, рассказывали,
с пылающими щеками и словно втайне презирая его, о своих
удивительных открытиях. Но Теодор никому не рассказывал
о тех открытиях, к которым вынуждала его собственная плоть.
Его представления о любви облекались в возвышенную форму,
в поэтические образы трубадуров. И потом наступал экстаз,
физический экстаз. Нечто родственное этому он открыл сам,
когда, засыпая, погружался в свои мечты, прежде чем пере-
нестись в волшебный мир снов. Но в своей сознательной,
бодрствующей жизни он избегал вызывать слишком тщательно
в своей памяти это волнующее, тесное объятие. Секреты окру-
жающих его взрослых были чем-то грубым и гадким, а Фрэн-
колин не скупился на грязные подробности.
Возбужденное настроение Фрэнколина разряжалось шутов-
ством. Заря его юности словно перевернула для него мир вверх
дном, и над этим трюком Фрэнколин надрывался от хохота.
Он все видел точно с какого-то позволяющего глядеть снизу
вверх пьедестала,— сплошные животы, ляжки и задницы.
В его стремлениях украсить все вокруг чудовищными напоми-
наниями великого секрета у него обнаружились несомненные
способности к рисованию. Его словарь обогатился зрелой по-
ловой терминологией. Он не желал, даже если бы он и мог,
ничего скрывать.
244
В Блеттсе не чувствовалось такого непристойного бесчин-
ства, но более непосредственная и личная устремленность.
Скрытая алчность появилась в его глазах. У него были ка-
кие-то делишки со служанкой дома, и он охотно приставал
к девчонкам и уединялся с ними в укромные местечки. Боль-
шая часть его досуга посвящалась такой охоте. Он искал об-
щества Теодора, потому что охотник и дичь в дебрях ухажи-
ваний и сближений чувствуют себя смелее, когда они ходят
парами. Пары уединяются для своих изысканий, самец молча,
самка хихикая и отбиваясь. Блеттс рассказывал про служанок,
и фабричных работниц, и девушек, которые приходили на
пляж, всякие пакости, от которых Теодору было ужасно
неловко. Теодор чувствовал, что таких вещей не следует гово-
рить ни про одну девушку, что они грязнят и вносят какую-то
мерзость во все, что есть женственного в мире, но после они
преследовали его воображение, и у него никогда не хватало
решимости, чтобы остановить поток притягательных излияний
Блеттса.
Среди таких вот влияний, в атмосфере, созданной христиан-
ской культурой, которая на радость или на горе заменила су-
ровыми запретами, тайнами и стыдом нелепые ритуалы посвя-
щения и внушающие ужас табу языческих народов, Теодор
вступал в пору возмужалости. Он упорно сопротивлялся, от-
талкиваясь от этого приобщения к половой жизни. В силу
этого в течение некоторого времени значительная часть серого
вещества, которым они владели вдвоем, все больше и больше
отвлекалась от материального существования Теодора к запро-
сам его партнера Бэлпингтона Блэпского и его воображаемой
жизни. Бэлпингтон Блэпский не интересовался грязными по-
хождениями Блеттса, а Фрэнколин не позволял себе с ним
никаких фамильярностей, как попавший в опалу королевский
шут. Бэлпингтон Блэпский был существом возвышенным. Он
свободно парил в воздухе, когда Теодор спотыкался в грязи.
Он исчезал всякий раз, когда Теодор падал.
Блэп попрежнему был высокой неприступной крепостью,
но теперь он вступил в более трезвые взаимоотношения с уста-
новленным и господствующим дорядком вещей. Он переме-
стился из далекого прошлого и всяческой фантастики, вроде
варяжских стран, поближе, хотя бы к современной северо-во-
сточной границе Индии; он применялся к возможностям сегод-
няшнего дня; иногда он был чем-то вроде независимого госу-
дарства, наподобие Сериуэка на самом-самом дальнем востоке;
иногда обособленным владением в Южной Америке, вроде
Боготы; иногда на равнине Европы. Прячась от Раймонда и
Клоринды, Теодор читал современные приключенческие ро-
маны, в частности захватывающие произведения Редиарда
Киплинга, А. Э. У. Мэсона и Антони Хопа. Там он находил
героев той самой закваски, что и Бэлпингтон Блэпский. Он
245
знал, что с точки зрения высокого критического вкуса такие
романы читать не следует, так же, как не следует напевать
так часто эту «Баркароллу». Но он это делал.
Дельфийская Сивилла, которая иногда бывала сама собой,
а иногда более или менее Маргарет Брокстед, оставалась не-
изменной героиней его юношеских грез. Он и она блуждали
рядом, у них было множество приключений, она погибала, он
спасал ее, они обнимались и целовались, но всегда все было
совершенно безупречно и прекрасно. Только раз или два, когда
он уже почти засыпал, его охватывал этот физический экстаз,
но это было так смутно и неопределенно, потому что внезапно
Сивилла оказалась кем-то другим и — исчезла. А странные,
назойливые сны, которые теперь преследовали его, или вовсе
не были связаны с миром его грез, или имели к нему очень
отдаленное отношение.
Грезы и сны — это две разные категории переживаний.
Теодор никогда не видел во сне ни Бэлпингтона Блэпского, ни
Сивиллу, ни Маргарет. Ему снились какие-то диковинные ка-
рикатуры, в которых можно было узнать знакомые, привычные
лица и места. И очень редко сновидения открывали ему какой-
нибудь приятный мир, никогда там нельзя было чувствовать
себя в безопасности от всяких досадных неожиданностей.
Странные, неистовые приступы страха и ощущение угрозы,
возникавшие в созревающих железах Теодора, охватывали все
его существо, бередили его; какие-то бесконечные погони, бег-
ство от привычных вещей внезапно повергали его в ужас.
Он падал в пропасти, не помня себя от страха, прыгал с
каких-то зданий или стремительно летел вниз по бесконеч-
ным лестницам. Он спасался, но всегда как-то случайно.
Иногда даже казалось сомнительным, был ли Теодор в своих
снах Теодором, или это был какой-то примитив Теодора,
первобытное животное, вылезавшее из самых недр его суще-
ства, животное, которому лестница казалась чем-то страшным
и за которым непрестанно гнались по пятам кровожадные
хищники.
Этот мир сновидений теперь все больше и больше окуты-
вался какой-то своей фантастической половой жизнью. Чудо-
вищные старые ведьмы, молодые женщины с невообразимо
пышными формами, уродливо преувеличивающими естествен-
ные женские черты, ласкали чудовищных животных; сфинксы,
сирены, какие-то невообразимые существа, совсем не похожие
на людей, но почему-то отождествлявшиеся с кем-нибудь из
его знакомых, все они преследовали и завлекали этого при-
митивного Теодора в какой-то свой жаркий, заросший плеве-
лами, низший мир, теснили его своими мягкими округлостями,
соблазняли в обманчивое соитие и заставляли его беспомощно
откликаться на эти неслыханные ласки.
Охваченный смятением, подросток вскакивал, протирая
246
глаза, и, тихонько выскользнув из постели, спешил смыть хо-
лодной водой липкое ощущение грязи.
Так неряшливо старая мать природа, управляющая кое*
как, нерадиво своей приготовительной Школой, которая есть;
не что иное, как наш мир, исписывала вдоль и поперек непо-
датливое сознание Теодора грязными каракулями своих на-
поминаний о том, что она неизменно считает главным занятием
своих детей.
2
ОТЛИЧИЕ ПРОФЕССОРА БРОКСТЕДА
Теодору не приходило в голову, что его сверстникам тоже
случается блуждать иногда в этом бурном, чудовищном и
знойном мире снов. Он не отдавал себе отчета в том, что эти
грубые воспитательные методы матери-природы распростра-
нялись на всех. Его собственные переживания быстро улету-
чивались из его памяти: он не любил о них вспоминать и еще
того меньше рассказывать о них. Он вычеркивал их из своего
сознания, как что-то непонятное и постыдное. Он приучался
все больше и больше вычеркивать неприятные вещи из своего
сознания. Он не замечал того, что их насильственное вторже-
ние приводит к некоторому сдвигу и искривлению в его мы-
слях. Чем больше он бывал Бэлпингтоном Блэпским, тем эти
вещи становились менее реальными.
Фрэнколин и Блеттс тоже помалкивали о тех бурных пере-
живаниях, в которые повергали их сновидения. Фрэнколину
^не доставляло удовольствия шутить на эту тему, а Блеттс не
получал от них никакого удовлетворения; их надо было скорей
заглушать шутками или преодолевать подлинными наслажде-
ниями; что же касается Тедди и Маргарет, они так откровенно
и прямо рассуждали обо всем на свете, что Теодор и мысли
не допускал, что они могут умалчивать о чем-то.
Случайное знакомство на пляже перешло в знакомство
домами. Клоринду давно уже привлекал высокий интеллек-
туальный престиж профессора Брокстеда. Она много слышала
о нем в Лондоне и с радостью ухватилась за возможность
встретиться с ним в Блэйпорте. Сначала в одном доме, потом
в другом состоялись званые обеды. Много разговоров с про-
фессором Брокстедом и жаркие споры о нем на следующий
день.
Прославленный биолог оказался совсем не таким, каким
ожидал его увидеть Теодор. Он был маленького роста, коре-
настый: у него не было и следа того изящества, которым от-
личались черты его жены и детей, но он был такой же рыжий,
247
как Тедди, и еще более веснушчатый. Глаза у него были крас-
новато-карие. Маргарет унаследовала свои синие глаза и от-
крытый взгляд от матери. У Тедди были выпуклые, как у отца,
надбровья и задумчиво сосредоточенное выражение отцовского
лица. Живые маленькие карие глазки быстро двигались под
нависшими профессорскими бровями, а его голос, не имевший
ничего общего с мягкими, плавными интонациями, которыми
отличались голоса его семейства, звучал отрывисто и резко,
а по временам даже напоминал лай. Он разговаривал с Бэл-
пингтонами уверенным, невозмутимым тоном, а жена его гово-
рила очень мало. Но слушала сочувственно, со скрытым
одобрением.
Дома он казался всецело поглощенным своей работой:
когда он бывал в Блэйпорте, лаборатория была закрыта для
чужих мальчиков; он отвечал на вопросы, которые задавал
ему Тедди, с лаконической точностью, но как будто вовсе не
нуждался в Тедди. У него была привычка рассеянно похло-
пывать Маргарет или жену, когда он проходил по комнате,
словно он хотел дать им понять, что замечает их присутствие
и займется ими попозже.
Вечер, в который состоялся званый обед, выдался жаркий,
а после обеда они сидели на окруженной тамарисками лу-
жайке сада в то время, как закатное сияние летних сумерек,
бледнея, переходило в лунный свет. Они сидели на скрипучих
плетеных стульях за маленьким столиком, куда им подали
кофе, зеленый шартрез и папиросы, а Теодор незаметно при-
строился сзади, на корточках, на подушке, намереваясь от-
тянуть на час-другой время, когда ему полагалось идти спать,
и изо всех сил стараясь не упустить ничего из их разговора.
Уимпердик пришел после обеда. Он встречался и не раз
спорил с Брокстедом и раньше, а сейчас профессор был уже
раззадорен Раймондом, который кротко, но с мягкой настой-
чивостью выражал сомнение в пользе современной науки.
— Какой смысл во всем этом, я вас спрашиваю? Разве
человек станет хоть сколько-нибудь счастливее оттого, что
жизнь будет идти быстрее или он будет жить дольше, чем
раньше?
Брокстед пропагандировал экспериментальную науку и
как преподаватель и как общественный деятель. Для него
современная наука была светом, побеждающим тьму, это была
заря Истины, всходившая над миром, который до сих пор ко-
пошился в живописной, но опасной полумгле. Все остальное,
он считал, должно будет в конечном итоге приспособиться
к научной истине. Все остальное второстепенно — законы мо-
рали, социальное устройство; прежде всего надо узнать, что
представляют собой мир, мы сами, жизнь, материя и т. п., а за-
тем уже приступать к обсуждению, как подойти к этому и что
с этим делать.
248
— Это не входит в интересы человека науки,— отвечал
Брокстед,— он не задается вопросом, приведут ли его откры-
тия к морально хорошим или плохим, или, лучше сказать,
к благодетельным или дурным результатам. Такого рода
оценки приходят позже. Для него не существует ничего, кроме
точного определения фактов. Он должен следовать за этими
фактами, к каким бы выводам они ни приводили, пусть даже
самым невероятным и неаппетитным.
Профессор внушительно повысил голос, и стул его заскри-
пел громко и убедительно.
— Я не буду вдаваться в обсуждение, хороши или дурны
выводы современной науки с этической точки зрения,— воз-
разил Уимпердик,— хотя по этому поводу можно сказать очень
много. Все, что я хочу знать, это — состоятельны ли они?
Исследовали ли вы их до.конца, до их, так сказать, философ-
ских основ?
Он пустился в рассуждения, за которыми Теодору было
трудно следить. Брокстед, повидимому, считал Уимпердика
надоедливым и утомительным пустословом, и Теодор был скло-
нен присоединиться к Брокстеду. Уимпердик доказывал, что
наука всегда сама разрушает собственные основы, начинает
она с классификации, а кончает тем, что уничтожает создан-
ные ею классы, утверждая, что они в процессе эволюции по-
глощаются один другим или претерпевают новые подразделе-
ния. Более того, наука начала с самых обыденных вещей и,
казалось бы, даже с таким «просветленным» здравомыслием.
А теперь она, видите ли, уже превращает все тела в какое-то
месиво теоретических атомов и путает время и пространство
самым непостижимым образом. А эти новые психологи, эти
психоаналитики, которые пытаются прощупать и разложить
на части наши разумные побуждения,— у них теперь на все
одно слово,— как это? ах, да,— комплексы,— пока самая инди-
видуальность, на которой основана идея всякого единства, не
распадается и не исчезает.
— И, однако, эта самая наука, которая уводит всех нас из
точного мира в какую-то туманную страну, становится все бо-
лее и более дерзкой и тщится убедить всех в величайшей важ-
ности своих открытий. В лучшем случае научная точка зрения,
если только можно так назвать... такую — я бы сказал — раз-
лагающую точку зрения (смешок),— это одна из многих воз-
можных точек зрения. Разум человеческий создал единую
совокупность Истины еще до появления экспериментальной
науки, а наука как была, так ничем иным и быть не может,
как последующей систематизацией знания внутри этой основы.
Брокстед, признаться, не стал вникать в эти доводы, ни
возражать на них; он их не принял, он просто отмахнулся от
них,— весьма нелогично, как потом утверждал Уимпердик,—
и отмахнулся с явным раздражением. Он не только не стал
249
обсуждать эти философские основы. Он как будто пришел в
негодование от одного предположения, что ему требуются ка-
кие-то философские основы. Оба они, как казалось юному
слушателю, были правы, каждый со своей исходной точки, но,
однако, ни один из них не опроверг другого. И это было весьма
загадочно.
Теодор отправился спать, унося с собой представление, что
Наука — это какой-то чудовищный спор, который ведет к
Истине сквозь все непроходимые дебри неразрешимостей
Уимпердика. Но при этом с ужасными препятствиями. И что
спор этот длится и длится, но что когда-нибудь он, может быть,
все-таки приведет к Настоящей Истине.
А что такое Настоящая Истина? До нее, кажется, очень
трудно добраться, если смотреть на все сразу. Но зачем на
что-то смотреть? Что, если закрыть глаза и лежать очень тихо
и углубиться в себя?
А когда-нибудь, наконец, дойдет до Настоящей Истины,
к которой с таким усилием пробивается Наука, тогда что, все
должно измениться? Все эти веры и учения Уимпердика ока-
жутся неверными и исчезнут в новом свете? Или все станет
совсем по-другому, потому что ведь все будет видно насквозь,
и откроется Настоящая Истина? А что же это будет — бог
или, может быть, эти Наследники? Эта фантазия о Наследни-
ках, об этой новой угрожающей породе людей, которые не при-
знавали ничего милого, привычного в жизни, сильно захватила
воображение Теодора.
Потом он увидел себя перед Дельфийской Сивиллой, но
только теперь она была очень большая, и она уже была не
Маргарет, а по-настоящему сама собой, непостижимо загадоч-
ная, и ему казалось, что свиток, который она держала в‘руке,
заключает в себе Великую Тайну, Настоящую Истину.
Но он не должен думать о Сивиллах и ни о каких перга-
ментных свитках. Это все фантазии. От этого только все спу-
тывайся. Он должен освободить свое сознание от всяких ви-
димых, отвлекающих его вещей и сосредоточиться. Он должен
очень-очень сильно сосредоточиться.
И для начала произносить: «Я есмь».
Это-то уж, разумеется, бесспорно.
Итак, он произнес: «Я есмь», и сосредоточился — и тут же
крепко заснул.
На следующий день за обедом между Раймондом, Уимпер-
диком и Клориндой завязался горячий спор о профессоре, и
Теодору опять повезло,— он сидел и слушал. Клоринда была
в необыкновенно приподнятом настроении в этот вечер, и, мо-
жет быть, ей хотелось, чтобы он послушал.
В те дни слава Фрейда и Юнга только что начала распро-
страняться в Лондоне, и Клоринда фактически вступила в
весьма тесную связь с некиим: доктором Фердинандо, одним
250
из первых представителей новых откровений и методов психо-
анализа в Англии. Она очень ратовала за разрешение ком-
плексов и за освобождение психики от всего, что на нее давит.
Кроме того, ее захватила широкая, настойчивая пропаганда
учения леди Уэлби о Значимостях, недавно пустившего ростки.
Один довольно-таки хилый росток этого учения, посвященный
вопросу «Что такое смысл», воскрешал у Клоринды интел-
лектуальные восторги блестящих лет оживленных занятий в
Кэмбридже. Человечество, вспоминала она, пришло к мыш-
лению замысловатым, сложным путем, оно мыслило сна-
чала,— как помогли ей вспомнить фрейдисты,— символами,
мифологическими образами и только потом уже перешло от
своих метафор к абстрактному языку и к логике и так до сих
пор и не освободилось от этого пережитка, не вышло из раб-
ства придуманных им словесных и цифровых знаков. Ее от-
крытие насчет Уимпердика, что он схоластический реалист,
было одним из первых умозаключений, взошедших на этой
психоаналитической закваске.
Теперь она сидела, положив локти на стол, лицо ее сияло
интеллектуальным оживлением, и она поучала Уимпердика и
Раймонда:
— Вы с профессором Брокстедом никогда не договоритесь
о том, что собственно является предметом вашего спора, по-
тому что вы говорите с ним на разных языках. Неужели вам
это самим не ясно? Вы с ним в двух разных измерениях
мысли. Вы мыслите неодинаковым способом... Это все равно,
как если бы рыба в аквариуме пыталась следовать за движе-
ниями человека по ту сторону стекла.
— Кто же из нас рыба? — спросил Уимпердик.
— Это уж предоставляется решать вам,— сказала Кло-
ринда.— Но вы понимаете теперь, что вам совершенно невоз-
можно подойти друг к другу, пока сознание того или другого
из вас не переродится заново? Вы, например, думаете, что
бог — это неоспоримая реальность. А какой-нибудь атеист ста-
рого склада, вашего схоластически-реалистического типа, так-
же безапелляционно будет утверждать, что он не существует.
Но для профессора таких «да» и «нет» не существует. Он счи-
тает, что бог — это просто возможная гипотеза, и он склонен
думать — бесполезная гипотеза. Существует или не существует
бог — такой вопрос представляется ему нелепым. Имя, назва-
ние для него это только фишки. Это имя в особенности. Он
может употребить слово условно, а вы — нет. Он считает вся-
кое логическое определение грубой схемой, включающей ве-
роятную ошибку. Вы же считаете, что это какие-то категории
явлений, которые все стремятся к идеальному образцу, остаю-
щемуся вечно неизменным. Всякие научные обобщения пре-
ходящи, вы же всегда говорите и думаете так, как будто науч-
ные теории должны оставаться незыблемыми, вот так же как
251
религиозные истины должны оставаться незыблемыми. По-
этому вы всегда так презрительно фыркаете, когда какая-ни-
будь новая научная теория вытесняет старую. Ваши убеждения
похожи на те неугасимые лампады, в которых огонь поддер-
живают веками, и он горит все так же ровно, не ярче и не
бледней, и от него всегда падает такая же ровная тень; но для
него, как для всякого истинного ученого, убеждения — это все
новые и новые потоки света, всегда уступающие место все бо-
лее и более яркому свету...
— Совершенно иначе устроенный ум,— повторяла она.—
Ничем не связанный ум.
— Свихнувшийся, беспорядочный, разбросанный ум,— ска-
зал Уимпердик.— Лозунги, кувыркающиеся в хаосе.
Теодору было довольно трудно уловить суть этого длинного
и бессвязного спора. Для них было столько не подлежащего
обсуждению; они так много не договаривали, причем, пови-
димому, имелось в виду нечто само собой разумеющееся.
И все же этот разговор увлекал и волновал его. Он не от-
носил ни к кому то, что они говорили. Как ни ясно выража-
лась Клоринда, до него не доходило, что смысл того, о чем
они спорили, сводился к противопоставлению двух различных
способов, которыми наше сознание, взяв за основу наши
врожденные склонности, внешние влияния и опыт, делает нас
тем, что мы есть. Во всех метафизических тонкостях Теодору
предоставлялось разбираться самому. Он рассматривал этот
антагонизм реалистической религии и номиналистической
науки, как спор о существовании бога и обо всех этих прави-
лах поведения, толкованиях и обрядах, которые связываются
с представлением о владычестве божьем. Если бога нет, тогда,
разумеется, не имеет значения, что вы не соблюли воскресный
день, обзывали своего ближнего дураком или впали в грех
прелюбодеяния. Но если есть бог...
У Теодора было чувство, что бога нет, или во всяком слу-
чае никакого такого бога, который походил бы на бога совре-
менной веры, грозящей проклятьем, но когда он пытался от-
делаться от этого чувства, чтобы подумать обо всем этом,—
появлялся Бэлпингтон Блэпский. Теодор, казалось, всегда
стремился к чему-то такому, чего нельзя было выразить сло-
вами, а Бэлпингтон Блэпский всегда одергивал его и, требуя
от него отклика и понимания, не давал ему выходить из рамок
задушевной беседы.
Теодор, когда он молился, как его приучали, думал о по-
сторонних вещах и оставался Теодором, но когда он пускался
в эксперименты с молитвами и воображал себя молящимся,
он становился выше, значительнее, благороднее, короче го-
воря, становился своим вторым «я», Бэлпингтоном Блэпским,
и это его второе «я», эта сублимация основного Теодора, ве-
рила в бога, и бог, в отплату за это, верил в Бэлпингтона
252
Блэпского. Они взаимно зависели друг от друга. Если один
был сублимацией несовершенной личности, другой был субли-
мацией труднопостижимого мира. Так бог признавал все, что
должно было существовать в представлении Бэлпингтона и
играл в пьесе свою надлежащую роль. Перед сражением Бэл-
пингтон Блэпский обнажал свой меч и молился. Победа ока-
зывалась на его стороне. Это он в молчании ночи говорил:
«Ты ведаешь». Теодору трудно было представить себе какого
бы то ни было бога, но Бэлпингтон Блэпский, просыпаясь
ночью, «шествовал с богом» самым непринужденным образом,
а потом Теодор, весьма освеженный этой прогулкой, засыпал
снова.
3
ОЩУЩЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ
Если Бэлпингтон Блэпский нуждался в боге несколько ста-
ринного стиля, Теодор интересовался богом вне всяких стилей.
В детстве, как мы уже говорили, слово «бог» не связывалось
для него с каким-либо живым образом, но теперь, под влия-
нием этих наполовину доступных ему споров дома, фраз и
обрывков из них, блуждающих в его мозгу в поисках надле-
жащего места и смешивающихся с намеками из прочитанных
книг и собственными внезапно рождающимися вопросами, он
ловил себя на том, что стремится проникнуть воображением
в эту Настоящую Истину, которая скрывается за всем види-
мым, в это Высшее Чудо, которое вызвало к жизни и его и
вселенную. В этом переходном возрасте это было для него
нечто вроде манящей и неуловимой чаши святого Грааля, ко-
торую неустанно искали рыцари Круглого Стола. Что такое,
в самом деле, спрашивал он, эта чаша святого Грааля и как
возникла эта легенда? Этот Грааль, эта Высшая Истина пред-
ставлялась ему некиим откровением, которое может, напри-
мер, внезапно снизойти на профессора Брокстеда в то время,
как он делает опыты у себя в лаборатории, тайной, кото-
рую не ищешь, а жаждешь постигнуть, которая может от-
крыться каждому путнику в жизни без всякого предупре-
ждения.
— Эврика! — воскликнет он.
— Чудо откровения! — изрекал Бэлпингтон Блэпский и
тотчас же завладевал проблемой.— Арканы — какое чудесное
слово! Арканы непостижимого.— Бэлпингтон Блэпский сразу
становился Посвященным и шествовал в великолепной задум-
чивости. Он понимал. Он был Провидцем. Ибо «был вскормлен
медвяной росою и дивным напитком богов».
253
Теодор в возрасте от пятнадцати до семнадцати лет,—•
в этот период любознательности и умственного роста,— пу-
скался на всяческие ухищрения, чтобы застигнуть Настоящую
Истину врасплох, освободиться каким-то магическим образом
от существующего обмана чувств, заглянуть в тайну, скры-
вающуюся за ними, стать Избранным, одним из тех, кто знает.
Он кое-что читал о духовных изысканиях и упражнениях, к ко-
торым прибегают на Востоке; каким-то особенным способом
дыхания и неподвижной сосредоточенностью посвященные
ухитрялись покидать скорлупу настоящего, и Теодор сделал
несколько любительских попыток в этом же роде. Может быть,
он случайно нападает на след. Тогда, может быть, ему удастся
перешагнуть за этот кажущийся мир и обрести Настоящую
Истину. В подражание некоторым мистикам, о которых он
читал, он провел час или два в созерцании своего пупка, а дру-
гой раз — в созерцании маленького круглого зеркала, которое
он держал в руке. Но его внимание отвлекалось от пупка к его
особе вообще и устремлялось к отнюдь не духовным размыш-
лениям. То он вдруг становился сиром Теодором Бэлпингто-
ном, Рыцарем и Провидцем, Великим Тамплиером, то еще
каким-нибудь вымышленным персонажем, и потом ему трудно
было снова сосредоточиться.
Теодор никогда не доходил до состояния мистического
транса, он слишком деятельно наблюдал драматическое зре-
лище своего собственного созерцательного «я».
И вот как-то раз летом, на исходе дня, вскоре после того,
как Теодору минуло шестнадцать, с ним произошло нечто не-
объяснимое, нечто такое, что заключало в себе не только
головокружительную игру фантазии. Нечто подобное случа-
лось со многими людьми, и до сих пор никто из тех, кому до-
велось это испытать, не сумел ни объяснить этого, ни хотя бы
как-то связать с другими своими переживаниями. Кто просто
отмахнулся от этого, кто забыл, кое-кто сохранил в памяти
и пронес через всю жизнь. Это было событием громадной зна-
чимости для Вордсворта. Отсюда родился Вордсвортов экстаз.
Описать это почти невозможно, но мы все же попытаемся рас-
сказать об этом, как умеем.
Теодор в ту минуту не ждал никаких откровений. И уж во
всяком случае он не ожидал ничего из ряда вон выходящего,
и при этом он даже не был занят никакими философскими,
метафизическими или мистическими упражнениями. У него не
было никаких предчувствий. И вдруг это произошло, совер-
шилось внезапно — это проникновение странного и в то же
время непостижимо близкого Присутствия, мгновенное ощу-
щение глубокого и полного слияния.
Это было на закате. Летние каникулы только что начались,
и он отправился в далекую прогулку к острову Блэй. Возвра-
щаясь, он. шел узкой полоской песчаного пляжа, чуть повыше
254
последней черты прилива, а когда песок сменился галькой и
камнями, он поднялся на маленькую тропинку, вьющуюся
среди жесткой травы и кустарника вдоль низкой гряды скал.
И тут он обратил внимание на великолепный закат. Он повер-
нулся лицом к западу, чтобы посмотреть на него. Постоял так
несколько секунд, а затем сел, чтобы полюбоваться этим за-
катом.
Детали, из которых складывалось это зрелище, были
обычны и просты. Остров Блэй лежал, низкий и черный, на
ясном бледном закатном небе; он вырисовывался так яв-
ственно, с такими мельчайшими подробностями, что можно
было с какой-то волшебной отчетливостью различить ветви
длинной купы деревьев за шесть миль, покатые крыши домов
и маленький шпиль церковной башни в Дентоне на Блэе. Над.
этим длинным, низким, отчетливым силуэтом острова, под
очень ясным, очень высоким и спокойным куполом неба про-
стерлась на горизонте тяжелая гряда пушистых сероголубых
облаков, сквозь которые солнце, пылая, прокладывало себе
путь к горизонту. Вдруг веер лучей, прорвавшихся сквозь об-
лака, затопил бледное небо сияньем, и все очертания острова
затрепетали. Над этим пожаром, разгорающимся на горизонте,
клочки и обрывки сверкающего перистого пуха, словно флоти-
лия маленьких уплывающих корабликов, послушных какому-то
световому сигналу, плыли друг за другом, постепенно умень-
шаясь, и исчезали в пустом зените. Теплый синий купол неба
казался необъятным. Он становился все глубже и синей и,
спускаясь над самой головой Теодора, уходил к низким хол-
мам за его спиной.
Теодор видел много солнечных закатов, но этот был не-
обыкновенно хорош. Он любил смотреть на закаты. Но в се-
годняшнем была какая-то особенная, необозримая простота.
Медленно солнце прожигало себе путь сквозь гряду облаков,
разрывало ее, превращало ее в кровь и пурпур, заливало ее
разорванные края слепящим золотом и пронизывало синеву
веером расходящихся полос света и тени.
И в то время, как он следил за этими превращениями, слу-
чилось чудо.
Попрежнему был закат. Но внезапно он преобразился.
Скалы внизу, поросшие редкой травой, пылающие лужицы
и ручейки, широкий сверкающий морской рукав, в котором
отражалось небб,— все преобразилось. Вся вселенная преобра-
зилась— словно она улыбалась, словно она раскрывалась на-
встречу ему, словно она допускала' его к полному общению
с собой. Ландшафт перестал быть ландшафтом, он стал Бы-
тием. Он словно ожил: он оставался недвижным, но полным
жизни, громадным живым существом, приявшим его в свое
лоно. Теодор был в самом центре сферы этого Бытия. Он
слился с ним воедино.
255
Время исчезло. Он ощущал тишину, в которой исчезают
все звуки; он постигал красоту за пределами познанья.
Вселенная представала перед ним ясная, как кристалл, и
вместе с тем преисполненная значительности и великолепия.
Все было совершенно прозрачно и все было чудом. Чудо было
в самой сокровенной глубине его существа и всюду вокруг
него. Солнечный закат, и небо, и весь видимый мир, и Теодор,
и сознание — все слилось воедино...
Если время как-то и двигалось, оно двигалось незаметно
до тех пор, пока Теодор не заметил, что мысль его бежит, как
тоненький ручеек на неуловимой грани небес. Он сознавал со-
вершенно отчетливо,— это мир, с которого сдернута завеса
причин и зависимостей, безвременный мир, в котором все по-
другому, все прекрасно и справедливо. Это было Настоящее.
Солнце садилось, врезаясь в контуры острова, смягчалось
в своей округлости, словно расплавленное,— сплющилось
внизу, превратилось в огненную кромку и исчезло. Небо пы-
лало багрянцем, потом стало бледнеть.
Что-то удалялось от Теодора, отступало от него быстро-
быстро; будь он в силах, он удержал бы это «что-то» навеки.
Чудесное мгновенье уходило, оно уже ушло, и он снова очу-
тился в обычном, будничном мире. Его вывел из оцепенения
резкий крик морской чайки и протяжный шорох легкого ветра
в сухой траве. Он очнулся, увидел, что сидит в послезакатных
сумерках, и очень медленно поднялся на ноги. Он глубоко
вздохнул. Он был точно в каком-то оцепенении, словно на
него нашел столбняк. Он начал припоминать, кто он и где он.
Там вдали виднелся Блэйпорт, и его огни пронизывали
сгущающуюся синеву. JaM он жил.
Он повернулся лицом к дому.
Он чувствовал, что сделал какое-то очень важное открытие.
Он был посвящен в тайну. Он знал это.
Но знал ли он? И что он в сущности знал?
У него для этого не было слов.
Вечером, за ужином, он показался Клоринде необыкновенно
рассеянным, и она обратила внимание на восторженное вы-
ражение его лица. Он даже забыл спрятать свои переживания
от Клоринды.
Когда он ложился спать, это чудо было еще с ним, совсем
близко, рядом.
Но наутро оно было уже не так близко.
Сиянье его оставалось живым пламенем в его душе в тече-
ние нескольких дней, но все убывающим пламенем, затем об-
ратилось в воспоминание. Оно обратилось в воспоминанье,
яркость которого тоже потускнела. Он знал, что это было глу-
бокое и чудесное откровение, но ему все труднее и труднее
было вспомнить, что собственно ему открылось.
Его охватила непреодолимая жажда воскресить это воспо-
256
минание во всей яркости того подлинного мгновения. Три раза
на заходе солнца он приходил на то же самое место, чтобы
еще раз, если можно, обрести это чудо, это откровение, еще
раз заглянуть в лоно небес. В этих своих поисках он стре-
мился снова слиться с богом. Но чем больше он пытался вос-
кресить, восстановить для себя это ощущение, тем оно стано-
вилось неуловимее. Каждый раз был великолепный закат.. Три
раза он видел, как пламенел, разгораясь, сверкающий морской
рукав и вспыхивали облака в небе. Но это было все* Это были
просто облака, и солнце, и знакомая бухта. То неповторимое
чудо не возвращалось.
Было ли что-нибудь на самохм деле?
И если да, так что же это было? Заглянул ли он в самый
корень бытия, стало ли земное небесным на этот короткий -миг
или, может быть, это была просто галлюцинация, а не оза-
ренье? В конце концов в памяти его осталось только то, что
однажды на закате вселенная в течение нескольких коротких
мгновений была непостижимо чудесной и близкой и что душа
его вышла и соединилась с ней.
4
ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
Об этом единственном, неповторимом переживании, кото-
рое казалось таким чудесным, таким ярким и реальным, го-
раздо более реальным в тот момент, чем любая действитель-
ность, и которое потом стало таким неуловимым, Теодор не мог
рассказать никому. Если бы он и хотел кому-нибудь расска-
зать, он не знал, как к этому приступить. У него для этого не
было слов. Всякое ощущение этого проваливалось в его со-
знании еще глубже, чем грубые плотские воспоминания его
снов, воспоминания, которые он сам подавлял. Даже если бы
это переживанье как-то изменило его, он не заметил бы, чем
вызвана в нем эта перемена. Вначале Теодору казалось, словно
бог открылся ему и позвал его к себе. Потом это вспомнилось
ему, как если бы он застал вселенную врасплох и на несколько
кратких мгновений заглянул по ту сторону ее и в самую со-
кровенную ее глубину.
Но самое удивительное в этом мгновенном озаренье было
то, что оно не имело ни малейшего отношения к Бэлпингтону
Блэпскому и Бэлпингтону Блэпскому не было до этого ни ма-
лейшего дела. Так оно сохранялось в сознании Теодора, боль-
шей частью незаметно для него, но никогда не исчезая из его
памяти. Это было подобно скрытой искре, которая может снова
17 Г. Уэллс, т. 2
257
разгореться и вспыхнуть очень ярко, прежде чем совсем по-
гаснуть.
Он теперь часто вступал в длинные витиеватые споры
с Тедди и Маргарет о религии, жизни и эволюции, и можно
не без основания предположить, что в этих спорах была
какая-то доля влияния того неописуемого мгновенья. Но
каково бы ни было это влияние, оно было подсознательно и
неуловимо.
Они теперь очень часто встречались во время каникул.
Маргарет в учебное время посещала дневную школу Сент-
Поль, а потом продолжала свои занятия в Бедфордском кол-
ледже; она сделалась большой любительницей водного спорта,
участвовала в гонках на байдарках в Риджент-парке. Тедди
поступил в Королевский колледж, потому что его отец решил,
что они будут чересчур одинаково мыслить, если он возьмет
сына в свою лабораторию. Теодор приставал, чтобы его тоже
пустили в Лондон, но Клоринде, повидимому, казалось очень
трудным решить, чем собственно он должен быть и что де-
лать, и пока что он совершал далекие прогулки, жадно глотал
книги, учился играть на скрипке, так как одно время возникло
подозрение, что у него музыкальный талант, и брал споради-
ческие уроки французского и латинского языков. Раймонд
стоял за «квалифицированного репетитора», который подгото-
вил бы его в Оксфорд, но это так и не осуществилось. Нако-
нец, когда ему исполнилось семнадцать лет, его так неудер-
жимо потянуло в Лондон, что он поднял дома целый скандал,
поселился в меблированных комнатах в Ладингтоне и посту-
пил в художественную школу Родлэндса. Впоследствии он
перебрался на квартиру в Гэмпстед, поближе к своей овдовев-
шей тетушке, которая жила вдвоем с сестрой, мисс Люциндой
Спинк, членом Совета Лондонского графства, единственной,
не вступившей в замужество дочкой Спинка, в Чэрч-роу. Но
Лондон большой и разбросанный город, и за исключением не-
скольких веселых встреч на митингах социалистов в Клиф-
форд-Инне, откуда они все вместе перекочевывали в кафе, он
очень редко встречался с Брокстедами в Лондоне.
А вот в Блэйпорте они встречались постоянно; они играли
в теннис, вместе плавали, вместе валялись на пляже летом и
пускались в разные походы на пасхе и рождестве. У них были
совершенно разные взгляды, но одно у них было общее — они
читали и разговаривали, между тем как большинство их
сверстников в Блэйпорте не утруждали себя ни тем, ни дру-
гим, если не считать тех случаев, когда их вынуждала к этому
крайняя необходимость. Фрэнколина присутствие Маргарет по-
гружало в неуклюжее молчание, а Блеттс уклонялся от чело-
веческого обмена мыслями, прячась за набор штампов, годных
для любого случая. Иногда к Брокстедам приезжали гости,
к которым Теодор обычно склонен был ревновать своих дру-
258
зей, а иногда гостей сзывала большая безалаберная семья
Паркинсонов, проживавшая в полутора милях от Блэйпорта
в сторону Хендина, и в таких случаях у них собиралась масса
народу.
Мистер Паркинсон — агент по сбору рекламы — был очень
деятельный и разносторонний человек. Миссис Паркинсон,
белокурая худощавая женщина, чем-то так напоминала Кло-
ринду, что большего сходства Теодор не мог себе и предста-
вить; и там было столько сыновей, дочерей, сводных братьев,
сестер, кузин, кузенов и прочих гостей, что разобраться в этом
не было никакой возможности.
Таковы были условия и обстоятельства, среди которых эти
три юных характера формировались и складывались, заимст-
вуя один от другого, воздействуя друг на друга.
— Какие у нас у всех планы? — спросил как-то однажды
Тедди.— Что мы будем делать в этом нескладном мире? В чем
смысл всего существующего?
Блеттс, сидевший на корточках рядом на песке, казалось,
собирался что-то ответить, но промолчал.
— Я думаю заняться спортом и всякой такой штукой,—
сказал Фрэнколин.
— А я за науку, за то, чтобы исследовать, раскрыть все,
что только можно,— сказал Тедди.— И за социализм.
Фрэнколин несколько хриплым голосом пробормотал, что
он не одобряет социализма.
— А я хочу получить право голоса,— сказала Маргарет,
украдкой испытующе поглядывая на Теодора.
Теодор был настроен против всяческого феминизма того
времени, но он скрывал свои предубеждения и от Маргарет
и от Клоринды. Он подумал, что бы ему сказать о своих пла-
нах. И прибегнул к Раймонду.
— Мир существует для искусства,— сказал он.— Это выше
всего, что есть в жизни.
— Боже! — воскликнул Блеттс и вскочил на ноги.— Выше
всего в жизни! Ну, знаете... Идем? — сказал он Фрэнколину,
и они удалились.
Они, слава богу, не какие-нибудь надутые фанфароны.
Выше всего в жизни! Скажите! Да им в голову не придет за-
сорять себе мозги этакими дурацкими вещами. Провались оно,
это искусство, и всякие эти «для чего мы существуем»! И, по-
жалуйста, оставьте бога в покое. А то он чего доброго так про-
учит. Они предпочитали не затрагивать этого. Они были рас-
судительные ребята.
— Уж это ваше искусство! — сказал Тедди.
— Воспроизведение,— разливался Теодор, цитируя Генри
Джемса,— отобразить, найти форму — вот единственное, ради
чего стоит-жить.
— Так вот,—сказал Тедди, возвращаясь к поднятому им
17*
259
вопросу,— мы трое, выброшенные из ниоткуда вот в э т о. И мы
не знаем как и не знаем почему.
— И не знаем, зачем,— прибавила Маргарет, уткнувшись
подбородком в руки и глядя на море.
— Если только существует какое-то зачем,— сказал Тедди.
— Я думал, что ваша излюбленная эволюция объясняет
все это,— вставил Теодор лицемерным уимпердиковским
тоном.
— Она излагает, а не объясняет. Кто сказал, что наука
или эволюция что-то объясняют? Наука устанавливает связь
явлений или пытается это сделать. Это все, на что притязает
наука. Ничто в мире в сущности не объяснено. А может быть,
и не подлежит объяснению.
— Но когда к этому подходит художник — вещи озаря-
ются.
Тедди, нахмурившись, задумался на секунду; губы его без-
звучно повторяли слова Теодора; затем он повернулся к своему
приятелю и пристально посмотрел ему в лицо.
— Бэлпи,— сказал он,— эта ваша последняя фраза ровно
ничего не говорит.
— Она говорит ни меньше и ни больше, чем ваша вселен-
ная,— сказал Теодор и почувствовал, что он опять отыгрался.
На это, повидимому, нечего было ответить, и на минуту на-
ступило молчанье. В нем чувствовалась скрытая солидарность
с Блеттсом и Фрэнколином. Может быть, насмешливое «Ну,
знаете...» Блеттса пробудило какой-то отклик в их сознании.
— Кажется, сегодня так тепло, что можно бы поплавать,—
сказала Маргарет.— Интересно, вода очень холодная? Что,
если нам попробовать?
— Придется притащить старую кабинку из. дома.
Они притащили из дома кабинку, и тепло весеннего дня,
казалось, приветствовало и поощряло их затею.
Но когда Теодор, присев на корточки и чертя пальцем на
песке, увидал Маргарет, которая, нагнувшись, вышла из
маленькой кабинки в тесно облегающем ее купальном костюме
и остановилась, вся сверкающая в солнечном свете, что-то
вдруг сжалось в нем и заставило его замереть неподвижно, не
сводя с нее глаз. Природа, формируя ее, незаметно смягчала
линии, и теперь благодаря этим неуловимым переменам ее
стройное юное тело стало необыкновенно прелестным и за-
гадочно волнующим.
Раньше ему всегда казалось, что тело Маргарет — это одна
сплошная, гибкая, танцующая стремительность. Он всегда
думал о Маргарет, что она прекрасна, но сейчас он словно
впервые увидел ее прекрасной.
Он поднялся, а она остановилась против него и засмеялась,
обхватив коленки руками, и очарование рассеялось.
— Ах, идемте! — сказал он и схватил ее за руку, и они
260
побежали вместе до самой черты прибоя и потом с шумным
плеском вдоль края воды, заходя все глубже, сначала по
щиколотку, потом по колено, прежде чем смело поплыть в
открытое море.
— Не так плохо, Бэлпи,— крикнула она, ныряя.
— Не так плохо.
5
ПОПЫТКИ БЫТЬ РАССУДИТЕЛЬНЫМ
Что я делаю в этом нескладном мире?
Этот вопрос, возникший в сознании Теодора с помощью
Тедди, возвращался теперь, всячески видоизменяясь и принося
с собой множество ответов.
Тедди, повидимому, пробивался к своей цели в жизни
весьма настойчиво. Для него было ясно, что он будет студен-
том, будет вести научно-исследовательскую работу, станет
профессором. Он уже заранее наметил для себя план действий.
Он совершенно точно знал, что ему предстоит делать, чем при-
дется пожертвовать, какие правила он для себя установит.
Казалось, на его пути не может быть никаких препятствий
между ним и этой определенной, избранной им будущностью.
У его сестры не было такого четкого плана. Но она пере-
няла его решительный тон. Она собиралась учиться на доктора
и добиться права голоса, это была тайная символическая мечта
всех наиболее ретивых представительниц ее пола того поколе-
ния. Это было своего рода учтивое и сдержанное требова-
ние — чтобы женщине, наконец, открыли доступ к познанию
самой себя, к той свободе располагать собой, к которой они
стремились в течение бесчисленных столетий рабства. Теодора
эта определенность обоих его друзей приводила в замешатель-
ство. У него не было никаких планов. Когда они делились с
ним своими предположениями, он только и мог сказать, что его
интересует искусство или, возможно, критика. Он собирается
писать.
— Но ведь ты же не готовишься к этому,— сказал Тедди.
— Готовиться? Что я собираюсь писать, клише, что ли?
— Я не понимаю, как можно рисовать или заниматься
каким бы то ни было искусством, пока не овладеешь этим, не
проникнешь во все тайны этого мастерства, я не представляю,
как человек может писать, если он не знает, как можно повер-
нуть и перевернуть каждое слово, каждое выражение, каждую
фразу. А это нельзя знать без подготовки и без практики.
— Нет, это не так,— отвечал Теодор.— Это не так. Это при-
ходит само.— И затем, словно спохватившись, прибавил: —
Я учусь рисовать.
261
— Ты должен упражняться в этом, как пианист,— сказал
Тедди.
Теодор и сам чувствовал, что его художественные притяза-
ния несколько расплывчаты. Но надо же было что-то сказать!
Он и говорил, но в глубине души это его не удовлетворяло.
И сколько он ни думал об этом, ничего для него не проясня-
лось. Как только мысль его освобождалась от сдерживающей
узды контакта с Брокстедами, им тотчас же завладевали мечты.
И тогда уж он не долго оставался художником. Кем-кем он
только не был. Сначала он был живописцем, таким тонким и
прославленным, что самые знатные красавицы приходили к нему
просить, чтобы он увековечил их красоту. Они ни перед чем
не останавливались. Но для него — ему вспоминались Лео-
нардо и Ромней,— для него существовал только один образ,
смутная тень улыбки, которая властвовала над всем, что он
творил. Тень улыбки — это был плагиат у Микеланджело,
но ему представлялось, что это его собственное открытие. Но
художник не может жить только своей мастерской. Мир нуж-
дается в вождях. И вот наступает момент, и гениальный ди-
летант, отложив свое изящное ремесло, обращается к народу,
и народ признает его своим вождем.
Теодор считал Фердинанда Лассаля (в «Трагических коме-
диантах») весьма увлекательным примером; он прочел о нем
все, что можно было найти, и перенес его историю в современ-
ные английские условия; он представлял себе Бэлпингтона
(избранного в парламент депутатом от горняков Блэпа после
нашумевшей на весь мир, захватывающей победной борьбы),
изысканного, остроумного, находчивого, убедительного Бэл-
пингтона, во главе честных, грубоватых представителей
простого народа. И вот сначала не во всем согласная с ним,
несколько враждебная ему, появлялась фигура очарователь-
ной политической деятельницы, которая в конце концов пере-
ходила на его сторону,— это была доктор Маргарет Брокстед.
(Здесь он отступал от примера Лассаля.) Не одно женское
сердце воспламенялось этой романтической фигурой. Новый
Мирабо, соблазняемый прекрасной королевой, но на этот раз
неуязвимый...
— То, к чему человек чувствует настоящую склонность,
обычно и выходит у него лучше всего,— сказал профес-
сор Брокстед.— Надо только наверняка знать, что ты имен-
но этого хочешь, и вот тогда уж отдашься своему делу
весь целиком. Это и есть самое достойное употребление
жизни.
— Но не всем это удается,—заметила миссис Брокстед.
— Опыт, дающий отрицательный результат,— сказал про-
фессор Брокстед — он разглагольствовал за чайным столом,—
не менее ценен, чем тот, который удается. Может быть, даже
и более.
262
— Но, сэр,— заикаясь, спросил Теодор,— разве неудав-
шийся опыт ммо-жет, мможет быть так уж ценен?
— Да, сэр,— отвечал профессор.— Если он или она обла-
дают в достаточной мере здравым смыслом и мужеством,
чтобы это понять. Смотрите действительности в лицо. Следуйте
примеру стоиков.
И вот вскоре после этой беседы — как-то во время одной из
долгих одиноких прогулок Теодора — Бэлпингтон Блэпский,
теснимый со всех сторон, но твердо следуя примеру стоиков,
погиб, глядя в лицо жестокой действительности, и лежал, за-
прокинув белое мраморное лицо, озаренное лунным светом,
или шутливо беседовал на своем балконе, подобно сэру
Томасу Мору, в то время как час его смерти приближался.
Беседовал шутливо даже с леди Маргарет, пока не наступила
минута, когда он протянул к ней руки для последнего крепкого
объятия.
Затем в течение некоторого времени его критическое
чувство, возродившееся в юности с новой силой и подстегивае-
мое бодрящими профессорскими замечаниями, честно пыталось
перенести эти воображаемые драмы в область осуществимого.
Еще раньше оно незаметно установило известные пределы
места и времени.
И вот тут-то с Бэлпингтоном Блэпским и произошло то пре-
вращенье, о котором мы уже упоминали выше, когда он, на-
конец, твердо решился познать самого себя, освободиться от
всяких этих фантазий и даже до такой степени, что готов
был настаивать, что он «просто Теодор Бэлпингтон, обыкно-
венный юноша», который смотрит действительности в лицо.
«Суровый реалист», так говорил он, и в ту самую минуту, когда
он говорил это, перед ним возникало виденье настойчивого,
решительного и даже не очень красивого и отнюдь не могуще-
ственного человека, живущего очень скромно и сурово, разго-
варивающего всегда очень сжато, действующего с неуклонной
прямотой, без всяких этих вывертов воображения, что давало
ему удивительную, чудесную власть над его более опрометчи-
выми и более своекорыстными ближними. Это было своего
рода новое духовное пуританство, Блэптизм, в сущности
говоря,— соединение всего честного, прямого. Эти Блэптсы,
во главе которых стоял великий, чуждый всякого самооболь-
щения и уничтожающий все иллюзии вождь, стали теми силь-
ными, крепкими людьми, которые спасли разрушающийся мир.
Это были истинные Наследники. Они строили мир заново.
И первыми среди его помощников были великий исследователь,
профессор Тедди Брокстед, и его мужественная прелестная
сестра, доктор Маргарет Брокстед.
Теодор был так поглощен придумыванием всех этих увлека-
тельных положений и обстоятельств, что ему не приходило в
голову, не происходит ли нечто подобное этому, хотя, может
263
быть, несколько отличающееся размерами и .размахом, в вооб-
ражении обоих его друзей — да и всех его знакомых. Он не
сознавал того, что весь мир кругом, ослепленный такими же
фантазиями,, двигается ощупью среди смутно различаемой дей-
ствительности. Как бы ни фантазировал Теодор, ему никогда не
приходило в голову, что и Тедди тоже иной раз получает в меч-
тах Нобелевскую премию за свою научную работу и, не заду-
мываясь, употребляет ее всю целиком на новое оборудование
для своей маленькой, но замечательной лаборатории, в которой
он сделал все свои самые важные открытия, и что Маргарет
становится видной политической деятельницей вроде юной
Этель Сноуден или Маргарет Андерсон, бесстрашной, непод-
купной, невозмутимой, звонкоголосой, и потрясает аудиторию
(в которой на самом видном месте сидит Теодор),— возвещая
ей, что в этот созданный мужчинами мир снобов и мошенников
пришло, наконец, светлое облагораживающее влияние жен-
щины.
6
ВЕЧЕР У ПАРКИНСОНОВ
Паркинсоны устроили большой шумный веселый вечер под
Новый год. Спальни, чуланчики, мезонины, площадки на лест-
ницах— все это превратилось в уголки гостиных, а кровати,
замаскированные пестрыми пледами и ковриками, преобрази-
лись в диваны; на них можно было сидеть по-турецки, поджав
ноги. Сыновья, дочери, пасынки, сводные сестры и братья, их
друзья и друзья их друзей, молодые и старые,— все были в
сборе. В просторной гостиной стоял большой рояль, и двери
в столовую были распахнуты настежь. Обычного тради-
ционно-торжественного стола не было, но в самых не-
ожиданных местах можно было обнаружить столики и
буфеты, с тарелками, вилками и стаканами и всякими вкус-
ными вещами. Две краснощекие, с красными руками девушки-
служанки беспрестанно уносили, мыли и снова приносили
тарелки и стаканы. В кабинете мистера Паркинсона для солид-
ных гостей были расставлены столы для бриджа, а более легко-
мысленная публика упивалась собственным оживлением среди
омелы, плюща и затейливых гирлянд остролиста. Каждому
полагалось быть костюмированным, иначе говоря, сверх того,
что вы надевали на себя обычно, вам полагалось нацепить
на себя что-то еще; молодежь развлекалась танцами и играми.
На тех, кто являлся в своем обычном виде, надевали бумажные
колпаки. Клоринда была в резной короне, взятой напрокат
у театрального костюмера, и очень эффектно изображала
264
Бодикку, а Раймонд, как всегда, изображал Веласкеза с
маленькой, непрочно приклеенной остроконечной бородкой,
которую он всякий раз судорожно подхватывал и водружал на
место, когда она съезжала, что случалось довольно часто.
Клоринда придумала очень удачный костюм для Теодора.
Он был теперь почти с нее ростом; она взяла длинную шерстя-
ную фуфайку и бумажное трико и выкрасила их в серебряную
краску; подпоясала Теодора узорчатым серебряным поясом,
накинула ему на плечи свою белую, подбитую мехом пелерину,
в которой она ездила в театр, и надела ему на голову малень-
кий посеребренный шлем, крылатый шлем викинга, взятый
напрокат вместе с тиарой. Она чуть-чуть загримировала его,
и Теодор на этот вечер превратился в удивительно хорошень-
кого, может быть несколько хрупкого и не совсем типичного,
юного варяга.
Она оглядела его с головы до пят с нескрываемой
гордостью, поцеловала его вдруг, сначала в одну, потом в дру-
гую щеку, и сказала:
— Иди, сын мой, побеждай.
— Уж ты сама скорей похожа на победительницу,—
ответил Теодор с необычной нежностью,— стоит только по-
смотреть на этот твой громадный меч.
Они вошли с улицы, озаренной звездным светом, в перепол-
ненный народом, ярко освещенный холл, где те же две служанки
с красными руками отбирали у приходящих шляпы, шали и га-
лоши и складывали их в передней в две большие, напоминаю-
щие винегрет, кучи, одну мужского, другую женского обла-
ченья; после этого гости во всеоружии своих костюмов, но еще
несколько чопорные и церемонные, проходили в большую гости-
ную, где уже собирался народ, и сдержанно вступали в еще не
наладившийся разговор.
В дальнем конце гостиной наискосок от двери стояла Мар-
гарет, тоже совершенно преобразившаяся, но бесподобная в
тесно облегающем ее блестящем зеленом платье и в высоком
конусообразном головном уборе, вызывавшем в памяти турниры
и трубадуров. Она не сразу заметила Теодора, а потом, когда
она повернула голову в его сторону и улыбнулась, узнав его,
что-то зажглось в ее глазах, точно ей впервые открылся Бэл-
пингтон Блэпский.
Но она была прелестна. Теодор забыл о своем перевоплоще-
нии. Он чувствовал себя просто обыкновенным Теодором. Ему
захотелось тут же пойти к ней через всю комнату по этому свер-
кающему полу и сказать ей, как она прелестна. Глаза его го-
ворили это достаточно ясно, но он не знал этого и слов у него не
было, а натертое воском пространство казалось огромным и
как-то враждебно гипнотизировало его.
Затем спина мистера Паркинсона заслонила Маргарет; он
был из породы обольстителей и тоже заметил ее очарование; а
265
старшая мисс Паркинсон подхватила Теодора и повела его зна-
комить с какими-то совершенно неинтересными людьми.
Прошло довольно много времени, прежде чем Теодору уда-
лось пробраться к Маргарет, и он, дрожа, дотронулся до ее
руки. Сначала один за другим были два контрданса, потом
вальс, потом игра в загадки, потом все устремились ужинать.
И так все шло одно за другим, и множество было всяких впе-
чатлений, но Теодор все время думал о Маргарет, и ему беспре-
станно казалось, что она смотрит на него с каким-то новым
выражением, вызывавшим в нем сладостную дрожь. Когда они,
наконец, очутились друг перед другом, он слишком смутился,
чтобы пригласить ее танцевать, но она сказала:
— Бэлпи, вам придется без конца танцевать со мной сегодня.
Я хочу танцевать с вами.
И с той самой минуты, как они очутились вместе, им каза-
лось уже невозможным разлучиться. Но об этом можно было
особенно не беспокоиться, потому что большинство молодых
людей стремилось точно так же разделиться на парочки. Только
взрослые замечали это деление, и большинство из них относи-
лись к этому благосклонно.
Клоринде посчастливилось завладеть юным Блеттсом; она
расспрашивала его о его планах и желаниях и вообще пыталась
заставить его разговориться. Но разговор его состоял преиму-
щественно из: «Да, я думаю так», и: «Да, я вот именно так и
чувствую»; Клоринде же казалось, что он раскрывает ей свою
Душу.
— Есть что-то удивительно милое и трогательное,— расска-
зывала она потом,— в этих застенчивых признаниях невинной
юношеской души. Жаль, что они потом неизменно впадают в*ци-
низм зрелости.
Чары мистера Паркинсона были подобны лучам прожектора
во время воздушных маневров в пасмурную ночь. Они устрем-
лялись всюду, но им очень редко что-нибудь попадалось, а если
что и попадалось, то тут же ускользало. Ему казалось, что жена
его могла бы пригласить побольше молоденьких девушек, и он
склонен был усомниться в ее великодушии. Он очень увивался
вокруг Маргарет, но всякий раз Теодор увлекал ее от него, или,
вернее сказать, она ускользала от него с Теодором.
Они несколько раз отправлялись вместе ужинать, ибо Пар-
кинсоны проявили большую изобретательность по части сандви-
чей, и ужинать было очень интересно. Они принимали участие
в играх и контрдансах, лазили наверх.
— Давайте осмотрим весь этот старый дом,— с неожидан-
ной предприимчивостью предложил Теодор. Они пустились в ис-
следования, и в разговоре их невольно стала чувствоваться не-
которая натянутость.
В одной из маленьких комнаток они наткнулись на целую-
щуюся парочку, которая предавалась этому занятию с великим
266
увлечением. Молодые люди былй так поглощены друг другом,
что не заметили, как открылась дверь. Теодор и Маргарет от-
прянули и очутились в темном коридорчике, и Теодор чувство-
вал, что все его существо, каждая жилка в нем трепещет.
Они стояли молча. Он приблизил свое лицо совсем вплотную
к ее лицу, так что дыханье их смешивалось. Мгновенье это дли-
лось бесконечно. Время точно остановилось. Маргарет сама
схватила его за голову и приблизила его губы к своим. Никогда
в жизни не случалось с ним ничего столь прекрасного.
Он держал ее' в своих объятиях, крепко прижимал ее к себе,
и сердца их стучали вместе. И так снова и снова.
Шаги на лестнице нарушили очарование.
После этого осмотр паркинсоновского дома превратился в
откровенные поиски укромных уголков и убежищ, где можно
было бы повторить этот восхитительный опыт. И даже, может
быть, несколько его усовершенствовать. Многие из этих убежищ
оказывались уже занятыми. Разговор и даже всякая видимость
разговора между ними исчезла. Маргарет не произносила ни
слова. А если бы ангел, приставленный к Теодору, записывал
то, что он говорил, он не записал бы ничего, кроме: «Маргарет,
Маргарет, скажи...»
В полночь всех гостей согнали в большую комнату, там все
стали в круг, взявшись за руки, и запели «В былые годы». Тео-
дору, щурившемуся в ярком свете рядом с Маргарет, это каза-
лоть чем-то вроде обета или обручения...
Наконец, хор прощальных «Спокойной ночи», и еще, и еще
«Спокойной ночи, счастливого Нового года всем»,— и Маргарет,
повиснув на руке Тедди, но беспрестанно оглядываясь и махая
рукой, исчезла за оградой из тамариска.
— Кто это была такая смуглая девушка в елизаветинском
костюме? — спросил Раймонд.— Она показалась мне неглупой.
— Я не заметила, дорогой,— сказала Клоринда.— А ты? —
спросила она у Теодора.
Вопрос пришлось повторить дважды.
— Смуглая? В елизаветинском костюме? Ах да, ты хочешь
сказать, с такими буффами на рукавах.— Теодор все еще никак
не мог опомниться.— Кажется, это новая гувернантка у Пар-
кинсонов.
А впрочем, он не знает. И не все ли ему равно.
Его предоставили его собственным чувствам и воспомина-
ниям.
На следующее утро мир снова стал обыкновенным, буднич-
ным миром, и очень холодным, когда пришлось вылезти из-под
одеяла. Продолговатые четырехугольники окон неуклюже зале-
пило точно клочками ваты. Шел снег, и вода, которую принесли
в кувшине Теодору, замерзла. Похоже было на то, что можно
было кататься на коньках.
Около одиннадцати часов он отправился к Брокстедам по
267
белому, запорошенному, застывшему городу. Он застал Марга-
рет и Тедди дома, они ссорились из-за коньков. Он принял уча-
стие в их споре. Маргарет как будто вовсе не замечала его, но
и он тоже избегал смотреть на Маргарет. Никто ни словом не
упомянул о вчерашнем вечере. Словно это был сон.
Они привели коньки в порядок, отправились на каток и ка-
тались до темноты. Тедди и Маргарет хорошо катались, а Тео-
дор успешно овладевал этим искусством с их помощью.
Никто из них не поминал о новогоднем вечере и о впервые
блеснувшей им радуге пылких сближений — ни слова. Это ка-
нуло куда-то глубоко, скрылось под другими, незримо зарож-
дающимися ростками жизни.
Только один раз, когда они рука об руку стремительно
скользили вдвоем через весь пруд, Теодору показалось, будто
Маргарет шепнула — скорее себе, чем ему: «Бэлпи, милый».
Но он не был в этом уверен. Мгновенье скользнуло в веч-
ность.
Он притворился, что не слышал.
7
СЕТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Лондон необозримо расширил мир Теодора.
Подлинный мир, в котором жил Теодор, представлялся ему,
как и всякому подростку, абсолютно устойчивым и неизменным.
Для каждого ребенка его отец и мать, дом и окружение — это
нечто непреходящее; в детстве человечества небо и земля не-
подвижны, горы вечны, а всякие социальные и религиозные
законы установлены раз и навсегда. Биологи уверяют, хотя, ка-
ким образом они это узнали, я не могу себе представить, будто
муха не может обнаружить движение, которое обладает скоро-
стью меньше одного дюйма в секунду, и потребовались длитель-
ные систематические наблюдения, прежде чем люди могли уста-
новить движение ледников, сползающих в долины Альп.
Итак, Теодор оторвался от прочно обосновавшегося и неиз-
менного мира Блэйпорта, острова Блэй и станции Пэппорт
только для того, чтобы на первых порах открыть более обшир-
ную неизменность Лондона. Он очутился в безграничном, неиз-
менном в своем постоянстве волшебном мире, в котором люд-
ские потоки приливали и отливали. Он был бесконечно разнооб-
разен, этот мир; суетливые улицы, нескончаемые вереницы до-
мов, неуловимо отличающиеся в каждом квартале, так что
Блумсбери, Кенсингтон, Гэмпстед, Пимлико, Хайбэри, Клэпхем
нельзя было спутать даже в самых их незаметных уголках;
268
просторные парки с густолиственными деревьями, голубые про-
светы и сверкающие декоративные воды; угрюмые, величествен-
ные серые здания; Уайтхол и Вестминстер и стремительно
вспыхивающие огни Стрэнда и Пикадилли. Кебы и омнибусы
уже становились реже, такси только что начали появляться в
те дни, но лошадь все еще преобладала в уличном движении;
рабочие по сноске домов и строители орудовали между Гол бор-
ном и новой Судебной Палатой. Все менялось и все стремилось
к решительной перемене, но самое это положение вещей каза-
лось Теодору вечным. Оно только предоставляло ему на первых
порах новый, более обширный, более реалистический фон для
игры его фантазии.
Он, правда, разглядывал Лондон гораздо больше, чем он
разглядывал Блэйпорт. Но Лондон был слишком оглушительно
непостижим для него, и он не пытался освоить его сразу. Его
услужливое воображение временно заполняло пробелы плохо
усвоенным месивом из героики и истории. Бэлпингтон Блэпский
после блестяще завершившейся избирательной кампании тор-
жественно едет на коне по Уайтхоллу в парламент или усмиряет
бунтующую толпу, яростно осаждающую Букингемский дворец.
Или он появляется, когда все главнокомандующие армии и
флота признают свое поражение, и наносит сокрушительный
удар уже почти победившей Германии, Франции, а может быть,
даже и всей объединившейся Европе, и с торжеством едет по
Полл-Молл. Или он отправляется на вокзал Виктория и, по-
добно Нельсону, Муру и Вульфу, преисполнен трагических и
безошибочных предчувствий своей последней великой жертвы.
Или — это уж было совсем в другом стиле — у него чудесный
таинственный дом в Парк-Лейн (который в то время все еще
представлял собою нерушимый ряд частных владений). Там
он живет, он, Бэлпингтон Блэпский, великий художник, от-
прыск старинного рода, могущественная блестящая личность,
ну вот как лорд Лэйтон, этот изысканный президент Королев-
ской академии, но вместе с тем окутанный тайной, вроде героев
Уильяма Ле Кю, и с такими же безграничными возможностями,
как'Дизраэлевы Ротшильды.
Если Лондон, овладевая воображением Теодора, сначала
казался инертным, тысячи разнообразных знаков все же помо-
гали ему замечать и узнавать действительность, которая шеве-
лилась под несметным множеством самых разнообразных личин.
Постепенно они внушали ему, что этот Лондон может изме-
ниться, что он в сущности уже меняется. В Гайд-парке под
Мраморной аркой вечно слышались выкрики ораторов, призы-
вавших толпу прохожих страшиться бога или остерегаться по-
пов, взглянуть в лицо «германской угрозе» или «желтой опасно-
сти», искать спасенья в вегетарианстве, дабы не погибнуть от
рака, этой неотвратимо надвигающейся кары, восстать против
капиталистических тиранов и готовиться к диктатуре пролета -
269
риата. Все эти противоречивые надрывающиеся голоса сбивали
с толку и вызывали смутное чувство тревоги. Они подрывали
веру в незыблемость и неизменность вещей. Брокстеды тоже, ка-
залось, стремились к чему-то положительному в этом беспоря-
дочном, хаотическом, неустойчивом мире. А тетушка Люцинда
Спинк считала, что Теодору необходимо открыть глаза на более
серьезные стороны действительности.
Тетушка Люцинда Спинк была старшая, самая худая и са-
мая энергичная из многочисленных сестер Спинк. Она была
точь-в-точь как Клоринда, только худая и костлявая, и тетя
Аманда тоже была точь-в-точь как Клоринда, только немножко
выдохшаяся. Тетя Аманда была моложе Клоринды, она была
замужем, но пережила своего мужа; это был присяжный пове-
ренный, пр имени Кэтерсон, личность ничем не замечательная;
он оставил ее бездетной, с очень недурным состоянием, но она
каким-то образом утратила всю ту предприимчивость, которой
отличались ее сестры. Она теперь относилась ко бсему с трезво-
благодушной шутливостью и находила столько забавного в
жизни, что даже кое-что записывала, но от печатанья воздержи-
валась из-за родных. Просто она иногда говорила разные смеш-
ные вещи. Тетушка Люцинда, напротив, гордилась своим не-
уменьем шутить; это была весьма уважаемая, общественно-
полезная старая дева, суффражистка, но не из воинствующих,
видная фигура в Фабианском обществе, член Совета Лондон-
ского графства, особа, отличающаяся весьма богатой предпри-
имчивостью. Это она заставила Клоринду переселить Теодора
из Падингтона. Узнав, как неосмотрительно поступила Клй-
ринда, она тут же обрушилась на нее. Она пересмотрела все
самые знаменитые справочники и картограммы общественной
и моральной жизни Лондона и выяснила, что Теодора по-
селили поблизости от конечной станцйи Западной окружной
железной дороги, на улице, изобилующей дешевыми мебли-
рованными комнатами и частными заведениями весьма неже-
лательного свойства.
— Мужчины приходят на поезд в самую последнюю ми-
нуту,— говорила она.— А если они опаздывают и не попадают
на поезд, они остаются ночевать в Падингтоне.
Это было все, что она сказала, но этого было достаточно,
чтобы создать яркую, красочную картину страшной распущен-
ности нравов.
Итак, хотя это было значительно дальше от художественной
школы Роулэндса, Теодора переместили поближе к Чэрч-роу, в
гораздо более комфортабельную комнату с примыкавшей к ней
крошечной неотапливаемой мастерской; сдавала это помещение
солидная женщина, которую Люцинда хорошо знала; Аманда
переставила все по-своему и очень уютно убрала обе комнатки.
Теодора обязали приходить на Чэрч-роу по воскресеньям к чаю,
когда у тети Люцинды собирались гости, на которых она ока-
270
зывала моральное воздействие, обсуждая с ними различные
движения; ему разрешили приводить с собой кого угодно из дру-
зей, а кроме того, приходить когда угодно к завтраку или обеду,
предупредив об этом заранее, и вообще считать их дом посиль-
ной усладой его одиночества в Лондоне. От времени до времени
тетя Люцинда или тетя Аманда наведывались к нему посмот-
реть, как он живет, предостеречь его от дурной компании, и тетя
Люцинда отчитывала его за неряшливость, а тетя Аманда
приносила ему цветы. Но между Клориндой и ее сестрами давно
существовал ледок взаимного неодобрения, и она редко загля-
дывала в Гэмпстед и держала себя как чопорная гостья.
Скрытое беспокойство Теодора по поводу цели в жизни
весьма усиливалось от серьезных разговоров, которые вела с
ним тетушка Люцинда. Она любила, когда он приходил пить
чай в будни, в отсутствие Аманды, потому что у Аманды была
манера улыбаться тихонько, не говоря ни слова, что, с точки
зрения тети Люцинды, отравляло разговор.
— Тебе пора серьезно заняться делом, Теодор,— сказала
она ему однажды.
— Я очень серьезно занимаюсь живописью, знаете. Я хожу
в вечерние классы, пишу обнаженную натуру.
— Обнаженная натура — это еще не все,— заметила тетя
Люцинда.
— Я изучаю драпировку,— сказал Теодор.— Если хотите,
могу вам показать кое-какие этюды.
— Ну, разумеется, ты занимаешься живописью. Но ведь есть
и другие вещи. Разве политические вопросы, общественная
жизнь для тебя ничего не значат?
— Политика...— протянул Теодор.— Мне представляется,
что это какой-то придаток жизни.
— Нет,— отрезала тетя Люцинда, не приводя никаких аргу-
ментов.— Искусство — вот это придаток... По существу все ху-
дожники — это паразиты и продажные души. Лучшее, что они
могут делать, это декорировать общественные здания, переда-
вать дух эпохи. Но как может делать это художник, если он
только художник, без всяких убеждений? Ты в долгу перед об-
ществом,— продолжала тетя Люцинда.— Оно не заставляет
тебя добывать средства к существованию. Оно предоставляет
тебе свободу в выборе профессии. У тебя есть время думать,
время учиться. Это большие привилегии, Теодор.
— Но если я буду заниматься живописью...
— Осмысленно. В соответствии с политическими и социаль-
ными условиями.
— Но при чем тут политические и социальные условия? —
спросил Теодор.
— Вот именно! — с неожиданным азартом подхватила тетя
Люцинда.— Ты должен найти на это ответ. Во всяком случае,
ты должен стремиться получить на это ответ. Эти условия, эта
271
система определяют твою жизнь. Они создают спокойствие
вокруг тебя. Они обеспечивают твою независимость. Все, что ты
видишь кругом, опирается на них — и эти твои художники и
прочее.
— Но разве я не могу предоставить все это людям, которые
интересуются подобного рода вещами?
— Каждый гражданин ответственен за это. Если ты будешь
уклоняться от своих обязанностей и все другие будут поступать
так же, то кто будет тогда поддерживать порядок, следить за
чистотой улиц, кто оградит нас от того, чтобы нас не зарезали
ночью в кроватях? Даже теперь, разве ты не замечаешь, как
много несправедливости в мире? Сколько существует устарелых
законов, негодных положений. Угнетение бедняков. Угнетение
женщин. Угнетение Индии. Ведь этот строй, в котором мы сей-
час живем,— это только приблизительная и очень несовершен-
ная наметка социальной справедливости*
— Ия должен думать обо всем этом?
— Ты должен знать это. Как-никак, ты скоро получишь
право голоса. Это налагает на тебя известную ответственность.
Ты по мере сил должен добиваться того, чтобы установить спра-
ведливость в мире и поддерживать ее.
Тут, если бы при разговоре присутствовала тетя Аманда,
Теодор обменялся бы с ней сочувственным многозначительным
взглядом и заручился бы духовной поддержкой против тети
Люцинды, но так как Аманды не было, ему оставалось только
глубокомысленно слушать.
Тетя Люцинда перешла к бесконечным надоедливым рас-
спросам и нравоучениям. Она пожелала узнать; что он читает и
как проводит свободное время. Она сказала, что он, повиди-
мому, не получил никакого гражданского воспитания. Она ви-
дит, что он много читал, но тогда как же это могло случиться,
что он ничего не читал по социологии? Ничего по политической
экономии и истории?
— Да это почему-то было неинтересно,— сказал Теодор.
— Вернее, ты почему-то этим не интересовался,— сказала
тетя Люцинда, улыбаясь и вспыхивая тайной надеждой.
Ибо в этой самой комнате она слышала блестящее выступле-
ние Баркера, поэта-социалиста, и теперь ей представлялся слу-
чай воспроизвести его.
Лицо ее приняло внушительное и вызывающее выражение.
Она знала, что ей надлежит произвести впечатление. Она по-
дошла к окну, выходившему на Чэрч-роу. Что-то смутно напо-
минавшее Баркера появилось в ее голосе.
— Подойди и взгляни на эту улицу,— сказала она, и он
подошел и встал около нёе.— Посмотри на эти тротуары, на га-
зовые фонари. Улица содержится в порядке, фонари зажжены.
Это местное самоуправление города. Посмотри на эти дома,—
все'они определенной формы, определенного типа. Чем это объ-
272
ясняется? Социальными и экономическими факторами. Люди,
которые живут в этих домах, принадлежат к имущим классам.
Они живут в них потому, что им прививались определенные
представления о том, как следует жить. Это есть воспитание;
это есть социология. Даже вот эти подоконники суть капитали-
стические подоконники. Вот в этих мезонинах и в этих полупод-
вальных помещениях живут слуги. Почему? Родные и родствен-
ники этих слуг живут в маленьких переулочках позади Хай-
стрит. Опять-таки почему? Они считают, что им полагается так
жить. Старый джентльмен, который живет вон в том доме, полу-
чает почти все деньги, на какие он живет, из Аргентины; другой,
вон там, рядом, получает пенсию от правительства Индии. Чем
объясняется это регулярное поступление доходов на Чэрч-роу?
Что заставляет людей посылать деньги этим старым джентль-
менам? А ведь это как раз те люди, которые заказывают вам
декоративные работы и покупают ваши картины. Безусловно,
экономические и политические науки очень интересны, если рас-
сматривать их под таким углом зрения. Весь Лондон, весь
мир — это живая социология в действии. Живая социология в
действии. Ты столько знаешь о викингах, трубадурах и кресто-
вых походах; но разве это не так же увлекательно? И ведь это
же сама жизнь! Вот тебе живая социология.
Она улыбнулась своей загадочной скупой улыбкой и бросила
на Теодора взгляд, желая узнать, какое впечатление произвели
ее слова.
Теодор без всякого энтузиазма смотрел на дом, стоящий на-
против. Это был бесцветный, выглаженный, самодовольный
дом.
— Я не знаю... не знаю почему,— медленно вымолвил он,—
но это не то.
— Но, Теодор!
— Не то.
— Но почему?
— Не знаю. Может быть, это чересчур близко к нам, че-
ресчур реально. Слишком много в этом однообразия. Как-то
слишком сложно для понимания. Не знаю. Мне это ничего не
говорит.
— Но это вовсе не так сложно, совсем не так сложно, как
кажется. Это можно понять. По этим вопросам есть книги —
только ты пообещай мне, что ты не будешь отлынивать, а проч-
тешь их. И кроме того, существуют места, где в известные дни
люди собираются и обсуждают эти вопросы. Дискуссии иногда
оживляют идею — выявляют в ней жизнь. На будущей неделе я
иду на собрание в Фабианское общество, где можно услышать
много интересного обо всем этом,— хочешь, идем со мной.
Боюсь только, что мне придется сидеть на трибуне .
Она сидела на трибуне рядом с Сиднеем Веббом и мистером
Голтоном; повидимому, она была знакома со всеми, кто сидел
18 Г. Уэллс, т. 2 273
на трибуне, а Теодор нашел себе место в аудитории. Это была
очень многочисленная и очень приличная аудитория в зале
Клиффорд-Инна, напоминавшем церковь.
И вот в то время как секретарь читал повестку дня и делал
всякие сообщения, Теодор почувствовал, как его задел по уху
маленький бумажный шарик, и, обернувшись, увидел Маргарит
и Тедди, которые сидели за три ряда от него и оба, повидимому,
были очень удивлены и обрадованы, встретив его здесь. Все
трое начали оживленно жестикулировать, изъявляя желание
сесть вместе, но зал был слишком плотно набит, чтобы можно
было думать о перемещении, так что им пришлось подождать,
пока все кончится. Итак, Теодор сидел с таким чувством, какое
у него бывало в церкви, и временами очень внимательно слу-
шал докладчика, а иногда следил за игрой света на оживлен-
ном лице тети Люцинды или переносился в Блэп. Иногда тетя
Люцинда внезапно становилась вылитой Клориндой, а потом
вдруг сходство исчезало и больше не возвращалось. Это было
очень интересно. Невозможно было представить себе тетю Лю-
цинду в слишком интимной позе с юным белокурым джентль-
меном, изучающим народные танцы и кустарную промышлен-
ность.
Доклад назывался «Марксизм, его достоинства и заблужде-
ния», местами он был чрезвычайно интересен, местами непоня-
тен, а иногда просто нельзя было ничего разобрать. (Тогда не-
терпеливые голоса из последних рядов кричали: «Громче,
громче!») Прения были очень забавны, потому что они отлича-
лись ужасной бессвязностью; началось с бурного выступления
одного немецкого товарища, затем разыгралась сцена между
председателем собрания и почтенной глухой леди, которой хо-
телось задать несколько вопросов, потом было совершенно не
относящееся к делу, весьма отвлеченное выступление одного
ирландского католика; но время от времени то одна, то другая
фраза врезалась в сознание Теодора. Он впервые увидел Бер-
нарда Шоу, и он показался ему необыкновенно интересным,
хотя выступал всего несколько минут и по какому-то второсте-
пенному вопросу; и как только он сумел сделать это интерес-
ным и личным? А когда все кончилось и все вскочили, с шу-
мом отодвигая стулья, и, толпясь, устремились в проходы, Тео-
дор пошел, извиниться перед своей тетушкой, а потом с Брок-
стедами и их друзьями отправился в кафе Аппенрод; там они
пили пиво, ели сандвичи с копченой лососиной и без конца
разговаривали.
Друзья Брокстедов были евреи, брат и сестра, фамилия их
была Бернштейн. Он был студент, однокурсник Тедди, хотя и
казался намного старше и зрелее его, невысокий, круглоголо-
вый, быстроглазый, похожий на монгола; сестра, на год
старше его, была хрупкая, стройная, черноволосая, очень под-
вижная девушка, более обыкновенного семитического типа. Она
274
разговаривала, стремительно закидывая вас целым ворохом
фраз, но у нее это получалось очень ловко. Она держала себя
с непринужденной фамильярностью, так, например, она поло-
жила руку Теодору на плечо, когда ей понадобилось прервать
его, и один раз назвала Тедди «дорогой мой». Брат от времени
до времени поглядывал на Маргарет не вызывающе, но выжи-
дательно, как если бы он считал ее очень интересной и ему хо-
телось узнать, какое впечатление производят на нее его слова.
Затем он переводил взгляд на Теодора. Теодор оценил живость
ума обоих этих Бернштейнов, но ему казалось, что они слишком
прямолинейны в своих суждениях и не придают значения тонко-
стям и оттенкам. Разговор вертелся вокруг доклада и прений,
и Рэчел Бернштейн осложнила спор, задав вопрос, искренен ли
был автор доклада. Она, повидимому, была хорошо осведом-
лена на его счет. Но, впрочем, у нее был такой вид, как если
бы она обо всех была хорошо осведомлена.
— Хинксон — коммунист,— сказала она.— Настоящий крас-
ный коммунист. Он знает старого Гайндмана и всю эту группу
из социал-демократической федерации. Он выступил как кри-
тик марксизма и говорил о его заблуждениях, потому что иначе
эта старая фабианская компания не стала бы его слушать.
Тонко с его стороны! О, он такой умница! Ведь он повернул
так, что им пришлось защищать Маркса, а он делал вид, что на-
падает. Понятно?
Когда Теодор ближе ознакомился с социалистическим дви-
жением, он открыл, что такого рода тонкость и хитрость, при-
писываемые охотно всем и каждому, пронизывали это движение
сверху донизу. Каждый был умнее другого и ловко умел превра-
тить нечто, не вызывающее подозрений, в нечто, превосходящее
все ожидания.
Но как же претворялось это движение в мозгу Теодора, по
мере того как оно раскрывалось в его сознании? Была ли это
фантазия, отличавшаяся чем-то от его собственных привычных
фантазий? Вот он сидит здесь, среди шума и света оживленного
ресторана, блестят металлические стойки, снуют официантки в
белых передниках, кругом столики и полным-полно народу,
а снаружи, за стеклами витрин,— толпы прохожих на тро-
туаре, вереницы кебов и омнибусов и громадные серо-корич-
невые здания, вырисовывающиеся в ночи, такие неоспоримые,
несомненные и, казалось бы, такие неуязвимые. И вот они пя-
теро сидят здесь вокруг белого столика и рассуждают так,
словно этот маленький митинг в платном зале на четыреста —
пятьсот человек, на котором они присутствовали, берется управ-
лять и этим безостановочным круговоротом движенья и этими
крепкими отвесными громадами и готовится совершить с ними
что-то необыкновенное — социальную революцию, которая
должна изменить... а что она может изменить?
Изменить неизменное? Отвратить неотвратимое?
18*
275
— После вашей социальной революции,— заявил Теодор,
бросая вызов в лучшем раймондовском стиле,— все останется
примерно таким же, как сейчас.
— Все будет по-другому,— сказал Бернштейн.
— Если ваша социальная революция сделает -попытку из-
менить слишком многое — она не произойдет. Если же она
произойдет, то в таком разжиженном виде, что разница будет
почти незаметна. Эта фабианская публика — самые обыкновен-
ные люди. Мы мало чем отличаемся от самых обыкновенных
людей. Большинство людей на свете — это очень обыкновенные
люди,— и это так естественно. Они такие, какие они есть. Что же
мы можем сделать? Действительность сильнее всяких теорий.
Никакого коммунистического государства никогда не будет.
Маркс был мечтатель, оторванный от жизни.
— Вы сами себе противоречите, дорогой мой,— сказала
Рэчел Бернштейн, схватив его за руку и устремив на него ожив-
ленный взгляд.— Правда, противоречите. Вы говорите, что дей-
ствительность сильнее теорий. А действительность,— она на
мгновенье отпустила его руку, чтобы ткнуть в него пальцем,—
это экономические силы. А это, дорогой мой, и есть материали-
стическое толкование истории — вся сущность марксизма. Это
как раз то, чему учил Маркс, чему учит коммунизм. Вы с на-
ми — только вы этого не сознаете. Но вы это скоро поймете.
Да^ вы, вы в особенности,— и она приподняла его руку и хлоп-
нула ею об стол.
— Марксизм не теория,— подтвердил Бернштейн.— Это
анализ и предвиденье.
Теодор покраснел, потому что он чувствовал себя абсолютно
невежественным во всех этих «измах». Но он вывернулся с по-
мощью весьма убедительного аргумента.
— Но зачем же тогда проповедовать социальную револю-
цию и бороться за нее, если она все равно неизбежно произой-
дет?
На этот счет стоило серьезно подумать.
Они спорили некоторое время о точном понимании «револю-
ции» и «эволюции». Теодор твердо придерживался убеждения,
что революция — это то, что совершается людьми, а эволю-
ция — это то, что случается с ними без их вмешательства; назы-
вать какое-то движение неизбежной революцией — с этим он
никак не мог согласиться.
Тедди с глубокомысленным видом, скрестив на столе руки,
очень похожий на кота, который сидит, подобрав лапки, взялся
разрешить спор.
— Все это сводится вот к чему,— сказал он, оставляя в сто-
роне вопрос об эволюции-революции.— Коммунисты утверж-
дают, что у нашей капиталистической системы сильно переве-
шивает верхушка и она становится все более и более неустой-
чивой. Идет накопление средств, и капитал снова пускается в
276
оборот, вместо того чтобы распределять все то, что у нас
производят. При накоплении нового капитала стремятся выго-
нять больше прибылей, и вот экономят на рабочих, держат их в
нищете, экспроприируют, порабощают. Верхушка перевешивает
все больше и больше. Из этого следует, что у капитализма есть
начало и будет конец. Он все больше и больше будет в долгу у
рабочих, и так будет до тех пор, пока не произойдет крах, а этот
крах — это и есть то, что они называют «социальной револю-
цией».
— И что же тогда будет? — спросил Теодор.
— Да,— сказала Маргарет,— что же тогда будет? Вот что
я хотела бы знать.— Казалось, она некоторое время была по-
глощена какими-то своими собственными мыслями, а теперь
снова пыталась сосредоточить внимание на их споре.— Какая
же у нас будет тогда жизнь?
— Я тоже хотел бы это знать,— сказал Тедди.
Теодор вспомнил свой недавний разговор с тетей Люцин-
дой. Он повторил из третьих рук вещанье поэта Баркера.
— Каждый дом в Лондоне,— сказал он,— такой, каким мы
его видим, выстроен капитализмом.— Он слегка заикался, чтобы
подчеркнуть свои слова.— В-в-вот хотя бы эти подоконники —
это капиталистические подоконники. Социалистические подокон-
ники будут совсем другими. Весь Лондон создан капитализмом
и есть не что иное, как вы-кри-кристаллизовавшийся капита-
лизм. Разве не так? Так вот, когда капитализм рушится, ру-
шится ли также и Лондон? Вот вся эта внешняя жизнь — дома,
уличное движение, уличная толпа — останется ли это существо-
вать попрежнему, или все уничтожится? Что собственно про-
изойдет?
— Всем этим займется революция,— заявил Бернштейн.
— И все изменит?
— Как можно скорее.
— Во что же они это превратят?
— В пролетарское государство,— сказал Бернштейн.
— Но что же будут представлять собой эти улицы, дома?
Здания? Какие это будут фабрики? Они должны быть совер-
шенно иные. Так же, как коммунизм есть нёчто совершенно
иное, чем капитализм.
— А деревня? — подхватил Тедди.— Что будет представ-
лять собой коммунистическая деревня?
— А женщины? — сказала Маргарет.
— Все должно стать совершенно иным. Но на что это будет
похоже? — продолжал Теодор, искренне заинтересовавшись и
настойчиво добиваясь ответа.
— Будут ли у нас попрежнему в обращении деньги? — спро-
сил Тедди.— Вы, коммунисты, никогда не даете на это ответа.
А мне это кажется очень важным.
— Если вы будете задавать такие вопросы,— сказал Берн-
277
штейн,— вы впадете в утопизм, прибежище эстетствующей, сен-
тиментальной буржуазии. Нет. Пусть у нас сначала совершится
социальная революция. Это прежде всего, пусть она совершится.
Мы не можем рисовать себе заранее заманчивые картины. Хинк-
сон очень ясно говорил об этом сегодня. Все наладится само
собой, придет в полную гармонию с новым строем. Нам следует
избегать утопизма и строить все на научной базе.
— Если только это действительно научная база,— ввернул
Тедди.
— Но как вы можете сомневаться в этом? — вскричала
Рэчел Бернштейн тоном истинно верующей.— Как можете вы,
человек науки, дорогой мой, сомневаться в этом? Утопизм —
это просто мечтанья. Это ребячество. Игра воображенья. Хэм-
берт говорит, что это все равно что биология вымышленных
животных. Вам бы, наверно, показалась смешной анатомия та-
кого рода? Особое строение единорога, до сих пор не описан-
ное. Оперенье крыльев грифа. Но,— голос ее зазвучал благого-
вейно, и в первый раз она заговорила медленно,— марксизм
имеет дело исключительно с действительностью. В этом его осо-
бая сила. Вот почему мы неизбежно все к нему придем.
— Выходит в сущности, что мы должны предоставить carte
blanche1 этой вашей социальной революции,— заключил
Тедди.— Без малейшей возможности заглянуть хотя бы даже в
программу. Гарантии, я бы сказал, сомнительные, не очень-то
мне все это нравится. Маргарет, нам пора идти.
8
СБРОСИЛ ПУТЫ
Мысль о том, что Лондон есть нечто меняющееся, некая бур-
лящая масса человеческих существ со всеми результатами их
деятельности — так представлял себе Теодор внешнюю, види-
мую форму капиталистического строя,— эта новая мысль очень
оживленно бродила в его сознании и доставляла обильную
почву его фантазии. Но она любила плутать разными околь-
ными путями, которые ассоциировались с тем сложным лабирин-
том, откуда появлялся и где исчезал Бэлпингтон Блэпский. Эта
безликая, бесформенная сила, социальная революция, с которой
носились Бернштейны и о которой они без конца говорили, была
для него в том же плане бытия, что и эта, живущая в его во-
ображении личность. Она неохотно принимала участие в повсе-
1 Неограниченные полномочия (франц.).
278
дневной жизни настоящего Теодора, она не появлялась ни за его
запоздалым и наспех съедаемым завтраком, ни когда он сломя
голову летел на поезд, ни во время его уроков рисования и
живописи, но она пышно расцветала в его фантазиях. Бэлпинг-
тон Блэпский иногда возглавлял революцию, иногда был вели-
ким контрреволюционером, который защищал старый строй во
всем мире.
По наущению тетушки Люцинды Теодор наблюдал жизнь
бедных людей. До сих пор он обычно старался не замечать их.
Но теперь, войдя в роль наблюдателя социальных контрастов,
он отправлялся бродить в рабочие кварталы, в трущобы к се-
веро-востоку от Риджент-стрит и Оксфорд-стрит, от Гэмпстеда
и Гэмпстед-род, от Букингемского дворца и Пимлико. Он уви-
дел, что Лондон до сих пор многое скрывал от него. Он скрывал
от него свои ютившиеся на задах улички. Теодор пробирался
сквозь многолюдную, разгулявшуюся под праздник субботнюю
толпу на Эдгвер-род и уносил с собой смрадные воспоминания
о мусорных кучах и парафиновых фонарях, заглядывал мель-
ком во внезапно отворяющиеся двери, слушал праздничный го-
мон переполненных кабаков. Их было, повидимому, несметное
множество, этих вонючих и грязных людей. А какая грязь,
свалка, разруха и нищета, мерзость и преступление скрывались
за всеми этими фасадами Лондона, за всеми фасадами его ци-
вилизации! И тетушка Люцинда считала, повидимому, что
Теодор должен что-то сделать с этим. Но что ему с этим
делать?
Вообще говоря, он недолюбливал бедняков. Он предпочитал
держаться от них подальше и думать о них как можно меньше.
Богачи, когда он думал о них, вызывали у него чувство зависти,
а бедняки — отвращение. Да почему собственно он должен
беспокоиться о тех или других?
Тетя Люцинда сказала, что хорошо бы ему вступить в фи-
лиал Фабианского общества, именуемый Фабианским питомни-
ком; там он сможет познакомиться с современными социаль-
ными проблемами; когда он узнал, что Маргарет и Тедди состоят
в этой группе юной интеллигенции, он с удовольствием вошел в
нее. Но питомник этот показался ему малоубедительным. Там,
повидимому, считали богатых ответственными за бедных. Но,
с другой стороны, бедные отнюдь не были ответственны за бога-
тых. «Почему же нет? — эффектно вопрошал Теодор.— Ведь
кто-то должен же быть ответственным?»
Бернштейны не состояли в Фабианском питомнике; они пре-
зирали его. Не имеет смысла, утверждали они, ублажать со-
весть или потворствовать прихотям богачей,— залечивать не-
справедливости социальной системы. Сама система, капитали-
стическая система, ответственна за все это непоправимое и все
увеличивающееся неравенство. Все меньше и меньше народу
пользуется простором, свободой, изобилием, солнечным светом
279
лицевой стероны жизни, все больше и больше людей загоняется
в смрадные трущобы. Когда в этих трущобах лопнет терпение,
произойдет взрыв, который и будет социальной революцией.
Но, правду сказать, в трущобах не замечалось никаких
признаков взрыва, да и вообще никакого революционного
брожения.
Теодор видел там толпы озабоченных, суетящихся людей, но
не замечал в них ничего такого, что угрожало бы взрывом. Они
были заняты своим делом, шли на работу, возвращались домой,
покупали в своих жалких дешевых лавчонках уродливые, без-
вкусные вещи, напивались; самые убогие из них продавали
спички, пели гнусавым голосом, стоя под окнами, или откро-
венно просили милостыню, менее убогие затевали драки. В них
не было ничего, ровно ничего, что напоминало бы Гиганта Про-
летария, могучего, справедливого, чистого сердцем простака
марксистских плакатов Бернштейнов. Теодор был глубоко убеж-
ден, что эти жалкие бедняки, так же как и блистательные бо-
гачи, существуют с незапамятных времен, что и через сотни лет,
как бы ни изменились обычаи и взаимоотношения, какие бы но-
вые здания ни выросли на смену старым, контрасты большого
города попрежнему будут существовать — другие, но не так уж
сильно отличающиеся богачи на переднем плане, и все та же
убогая, серая, мятущаяся, придавленная масса'—рабы
обстоятельств, оттиснутые назад и копошащиеся внизу. Разум
его не в силах был допустить в этом сколько-нибудь существен-
ных изменений. В глубине души он верил, что существующий
порядок вещей несокрушим.
Это был настоящий Теодор, Теодор, вынужденный видеть
мир таким, какой он есть, Теодор, которого некогда в долговя-
зую пору его детства Фрэнколин, Блеттс и другие однокласс-
ники прозвали Фыркачом и Бекасом. Разум его в ужасе от-
ворачивался от титанических замыслов, которые он угадывал за
усердными изысканиями, проектами и независимыми попытками
тетушки Люцинды и ее фабианских друзей. Он смутно созна-
вал, что они ставят себе целью изменить весь этот мир, а лицом
этого мира, обращенным к Теодору, был Лондон. У них были
проекты изменить право собственности, создать коммуну, во что
бы то ни стало реквизировать предприятия, фабрики, банки.
Тогда все, как они полагали, станет на место; богачей принудят
к простому, здоровому’образу жизни, а бедняки станут совсем
другими, ибо они будут жить в благоденствии и довольстве. Но
как же коммуна осуществит все это? Как она сможет реквизи-
ровать? А когда она реквизирует, кто будет распоряжаться
всем этим? В их дискуссиях этот вопрос подымался снова и
снова, прямо и косвенно, и всегда оставался без ответа. Как бу-
дет коммуна править? Она сначала должна научиться этому.
Но кто же будет ее учить? Повидимому, чиновники граждан-
ского ведомства, архангелы-блюстители займутся этим делом.
280
Не было, казалось, ни одного ответа, который не влек бы за со-
бой нового вопроса.
Сколько бы вы ни размышляли над этим, вы всегда наталки-
вались на новые трудности. Теодор мог донимать Тедди вопро-
сами до тех пор, пока тот, нахмурив свои палеолитические над-
бровья и вспыхнув ярким румянцем, проступавшим сквозь его
золотистые веснушки, не вынужден был сознаться:
— Разумеется, мы еще пока всего не знаем. Естественно. Но
разве это основание для того, чтобы не делать новых попыток,
не стараться изменить существующий порядок вещей — по-
скольку мы видим, до какой степени он гнусен.
Теодор вовсе не желал видеть, до какой степени гнусен этот
порядок. Он не ощущал в себе этой упрямой решимости, кото-
рая заставляла бы его проникать все глубже и глубже в суть
явлений и с каждой новой ступенью знания все больше и боль-
ше подчинять их воле человека. Он не углублялся в изучение
этого вопроса, и ему это было не по душе. Вместо того чтобы
признать, что такое положение вещей гнусно, он предпочитал
повернуться к нему спиной и утверждать, что оно в сущности не
так уж гнусно. Убожество переставало быть убогим; оно стано-
вилось забавным, трогательным. В обманутых надеждах было
что-то смешное; голодный человек не страдал от голода, а пре-
бывал в состоянии психической экзальтации^— иначе зачем бы
праведники стали поститься? А у калеки оказывались свои пре-
имущества, он создавал эффектное впечатление гротеска, что
нормальному человеку недоступно. Великие художники предпо-
читают писать калек и старух, потому что если установить пра-
вильную шкалу ценностей, то в нормальном физическом здо-
ровье и грации есть что-то чрезвычайно пресное. А когда разум
его отказывался помочь ему увернуться от всего этого безобра-
зия и мерзости трущоб, он спокойно переносился в страну грез,
в преображенный мир.
Настойчивая пытливость Тедди, который с жестким упрямст-
вом придерживался фактов и реальных возможностей, раздра-
жала его; мелочная дотошность «муниципализации и эффектив-
ности» фабианских идеалов тетушки Люцинды вселяла в него
отвращение; но весьма неожиданно «кредо» Бернштейнов, когда
он уловил его истинную сущность, оказалось для него желанным
и приятным убежищем. Зачем ломать себе голову над какими-то
муниципальными делами, когда чудо социальной революции
маячит впереди? Когда весь этот убогий люд преобразится мгно-
венно в победно восставший пролетариат! И его возглавят рабо-
чие,— не будем вдаваться в подробности,— это будут люди,
обладающие даром предвидения.
Теодор в своих фантазиях не сомневался относительно лич-
ности вождя, стойкого, неотразимого, вдохновенного, вели-
кого Бэлпингтона, избранника горного округа Блэп, человека,
который своими прекрасными пламенными речами сплотил
281
суровых горняков этого первобытного края для классовой
борьбы.
Теодор втягивал Тедди в жестокие споры и после каждой
риторической победы все больше и больше чувствовал себя зор-
ким орлом, заклевавшим тупого быка. Его уверенность в своем
умственном превосходстве над Тедди, в своей необычайной
интуиции и живости восприятия росла с каждой встречей. Мар-
гарет говорила мало, и по ее глазам нельзя было понять, что
она думает. Он жаждал, чтобы она подала ему какой-нибудь
знак, что она сочувствует ему, а не Тедди, но она никогда не
подавала никакого знака. Она смотрела на него, когда он гово-
рил, и он чувствовал — хотя иногда был не очень уверен,—
что она на его стороне.
Она была на его стороне, но с какой-то тайной оговоркой,
которую он не мог разгадать.
У него было странное чувство, что Маргарет была когда-то
вручена ему некиими неведомыми силами, которые управляют
нашим миром, но это чувство возникало и пропадало в водово-
роте впечатлений и ощущений. Она все меньше и меньше напо-
минала ему теперь Дельфийскую Сивиллу, и сама Дельфийская
Сивилла отступила куда-то в самую глубину его подсознания.
Эта богиня его отрочества теперь большей частью была поки-
нутой красой; впрочем, бывали мгновенья, когда она завладе-
вала им снова с непостижимой силой.
Однажды в студии Вандерлинка, куда Теодор привел Брок-
стедов, она посетила его и Маргарет одновременно. Это было
мгновенное виденье, которое перевернуло все его незыблемые
ценности на много дней. Они пили кофе. Маргарет уселась на
тумбочку, на которую Вандерлинк ставил свои модели. Она
сидела наискось от Теодора, держа чашку в руке, и глаза ее
были устремлены на Теодора со свойственным им слегка зага-
дочным выражением. На нее падал свет, а вся остальная часть
студии была более или менее погружена в полумрак, и вдруг —
сама Дельфийская Сивилла, она сама, в присущей ей позе, си-
дит и слушает молча, с каким-то неуловимым неодобрением че-
пуху, которую он несет.
Он вдруг почувствовал, что это чепуха, начал заикаться, за-
метил, что противоречит сам себе, и так и не договорил того,
что хотел сказать.
После этого он в течение нескольких дней ходил растерян-
ный, потому что не мог себе объяснить, как это она могла при-
вести его в такое замешательство. Но не прошло и недели, как
он уже вполне овладел собой и держал себя еще самоуверен-
ней, чем прежде.
В школе Роулэндса со своими сверстниками-студентами он
разговаривал всегда с большим жаром. Его легкое заиканье не
только не мешало ему, а скорей даже выручало его в разговоре.
Оно производило впечатление мгновенной мысленной паузы, а
282
не изъяна речи. Оно очень редко застигало его врасплох. Но от
времени до времени он прибегал к нему как к своего рода под-
черкиванию или затем, чтобы выиграть время и подыскать аргу-
мент. В школьной среде он, не задумываясь, выносил приговор
современному миру. Он выступал в качестве мистического
адепта грядущей социальной революции. Он был не коммуни-
стом, как он говорил, а «ультракоммунистом», и это получа-
лось очень здорово. Бернштейны оставались позади. Никто не
вступал с ним в спор по этому поводу, не заставлял его
пояснить, что собственно он хотел этим сказать.
Школа Роулэндса представляла собой разношерстную
толпу, над которой живописно — порывами вдохновенья, язви-
тельными комментариями, загадочными изречениями, сопро-
вождаемыми обычно самодовольным смешком и откровенным
пренебрежением,— властвовал великий Роулэнде. Иногда он
исчезал на несколько дней и предавался своему изумительному
творчеству. Два постоянно изобличаемых, но не сдающихся
ассистента изо всех сил тщились проводить принципы обучения,
обратные тем, которые проповедовал мэтр. Он настаивал на
том, чтобы рисовать кистью, это был его способ, но он никогда
не излагал его членораздельно, его откровения по этому поводу
скорее ослепляли своей яркостью, чем проливали свет, а потому
его подчиненные стояли за то, чтобы рисовать попросту каран-
дашом и мелом.
Новички появлялись, вносили плату, приходили постепенно
все в большее и большее недоумение и смятение и исчезали; но
существовало постоянное ядро — ученики, которые называли
друг друга уменьшительными именами, поддерживали тради-
цию школьных сплетен и готовы были напыщенно, но невнятно
объяснять каждому, кто пожелал бы их слушать, что такое
искусство. Среди этих учеников выделялся Вандерлинк, неза-
висимый сирота, достаточно богатый, чтобы содержать в пе-
реулке за Тотенхем-Корт-род свою собственную мастерскую,
где он жил, наслаждался любовью и задавал вечеринки. Он при-
ходил в школу ради компании, поглядеть на то, что делает
Роулэнде, чтобы потом отпускать на его счет уничтожающие за-
мечания, но случалось иногда, что он и сам делал с натуры бес-
спорно эффектные наброски углем.
От этого-то постоянного школьного ядра Теодор перенял и
усвоил одно словечко, ставшее самым грозным орудием в его
арсенале против сурового материализма Брокстедов,— «ценно-
сти», этот чудесный «Сезам, откройся» для овладения лабирин-
тами факта. Чем больше он слышал это неизреченное выраже-
ние, чем чаще прибегал к нему сам, тем больше оно ему нрави-
лось. Ему ничего не было известно о его происхождении, да он
и не интересовался им. Оно предоставляло ему такую свободу, о
какой он даже не мог и мечтать.
Уже несколько лет он втайне боролся со все усиливающимся
283
страхом и уважением к Брокстедам — отцу и сыну. Они угро-
жали разрушить нечто, разрушения чего он не мог перенести!
Они были подобны неутомимым охотникам, которые терпеливо
и неуклонно загоняли его в тесную ограду своих суровых досто-
верностей. Они были подобны паукам, неустанно плетущим
новые нити в великой паутине науки, с тем чтобы захватить,
удержать, обуздать и высушить его воображение. Они поста-
вили себе целью медленно, но точно начертать обязательный
для всех план вселенной. На этом плане будет безошибочно по-
казано, что, как и к чему, что может быть сделано, что не мо-
жет быть сделано и, наконец, что неизбежно должно быть и
будет сделано. Ибо истина есть самая непреклонная и жесткая
из всех диктатур. Они не намечали ни для кого никакой опреде-
ленной роли в своем планировании, но личное участие каждого
становилось обязательным само собой. В них было что-то, чего
ему недоставало; они делали что-то, чего он не умел делать.
Ночью, лежа в постели, он воображал себя загнанной свободой,
а их безжалостными охотниками, врывающимися в джунгли его
сознания. Но теперь на этот их чудовищный, беспощадный план
Теодор мог наложить прекрасную, свободную, многообразную
шкалу ценностей, и тотчас же такой-то факт становился значи-
тельным и такой-то ничтожным, неприятные вещи утрачивали
свою власть, а хрупкие, туманно-расплывчатые представления
снова оживали со всей своей прежней силой и очарованием. Он
мог, наконец, ускользнуть от этого плана, а взамен у него в ру-
ках оказывался калейдоскоп, которым он мог пользоваться по
своему усмотрению.
Растерянное выражение появлялось в глазах Тедди.
— Да ну тебя к черту с твоими дурацкими ценностями! —
восклицал он в бешенстве, припертый к стене.
(Но разве спокойный, непреклонный человек науки способен
иыходить из себя и ругаться?)
И Теодор обрел свободу открыто и вдохновенно распростра-
няться о своем «ультракоммунизме», о своем преклонении перед
«чистотой линии», о глубоком мистическом понимании Пикассо
во всех его фантазиях, о своей непостижимой осведомленности в
русском балете, которым тогда увлекался Лондон и насчет ко-
торого Теодор безапелляционно утверждал, что «это вот пу-
стяки, простое дрыганье ногами, а это исполнено глубокого, не-
выразимого значенья», не боясь при этом услышать от Тедди:
«Бэлпи, то, что ты сейчас сказал, ровно ничего не значит».
Это перестало быть порицанием. Это обратилось в призна-
ние собственной ограниченности. Теперь Теодору достаточно
было только ответить: «Для т е б я».
С еще большим сознанием собственной правоты он укло-
нялся от социологических посягательств тетушки Люцинда.
«Но, тетя, дорогая!» — говорил он с возмущением, и это было
все, точно она шокировала его; этого было достаточно; и он спо-
284
койно мог бродить по трущобам в субботу вечером и восхищать-
ся неверными вспышками парафиновых фонарей, пронзительны-
ми женскими выкриками, вырывающимися из общего гула, шу-
мом толпы, галдящей у лавок, лоснящимися багровыми физио-
номиями пьяниц, спертой коричневой пустынной мглой грязных
переулков и не испытывать при этом никакого неприятного чув-
ства ответственности за нищету и убожество этих париев, не
думая даже об их нищете и убожестве.
«Ценности» были не единственным раскрепощающим откры-
тием Теодора, по мере того как росло и усложнялось его мышле-
ние. Он одним из первых ввел коммунистическую фразеологию
в богатый, красочный словарь художественной мастерской. Он
предварял «пролетарское искусство» своим «искусством со-
циальной революции». Когда он рисовал, он вносил револю-
ционное настроение (что бы это там ни было) в свой рисунок.
Он искал новых и бунтарских цветовых эффектов. Это вызвало
разговоры в студии и заставило Роулэндса выступить по этому
поводу приблизительно с такой же позиции. Он перекрыл всю
эту тупую, приземленную фабианскую болтовню, эту коллекцию
сомнительных статистических данных, этот мелочный непроце-
женный подбор фактов, дотошное, но неуместное подражание
методам естественных наук словечком «буржуа»,— и тотчас же
множество обязательств, связанных со всем этим, рухнуло. Про-
фессор Брокстед тоже стал буржуа, вся наука в сущности стала
теперь буржуазной, и флорентийское искусство, и Королевская
академия, и искусство портрета (за исключением того, которое
считалось «плутократическим» или даже еще хуже), и ком-
форт, и ванные, и пунктуальность, и долг — все смешалось и
лопнуло, как мыльный пузырь, сдунутый этим словом. Путы, на-
жимавшие на совесть Теодора, ослабли и распались, словно от
разъедающего действия кислоты. Нудная необходимость тру-
диться, быть правдивым перестала висеть над ним тяжкой угро-
зой.
Он научился пользоваться этим словом «буржуа» с такой же
непререкаемостью, как Бернштейн; оно стало его козырем, его
джокером в спорах; оно побивало все, а в комбинации с ним он
помавал «ценностями» со всей непринужденностью Вандер-
линка или самого Роулэндса. Сознание его, скользя и блиста-
тельно маневрируя, совершало переход от принятия статиче-
ского к усвоению подвижного мира; он становился взрослым,
но попрежнему давал волю своей фантазии. То временное тор-
жество голой действительности, когда он занимался самопро-
веркой и осознанием Теодора Бэлпингтона, Фыркача и Бекаса,
все то, чему послужило толчком знакомство с Брокстедами, те-
перь потеряло свою силу, и постепенно Бэлпингтон Блэпский, из-
менчивый, не поддающийся проверке и уверенный в себе, от-
воевал обратно все, и даже более того, что он утратил из-за
вторжения Брокстедов.
285
9
РЭЧЕЛ БЕРНШТЕЙН
Экономические проблемы не были единственной заботой
юной интеллигенции в кругу Теодора. Она была чрезвычайно
взволнована слухами о предстоящей отмене этого древнего ин-
ститута — семьи — ио передаче всех прав свободной любви.
Скрывая большей частью свои мечты и порывы, свои душев-
ные переживания, свои эгоистические и инстинктивные побуж-
дения под массой бескорыстного научного интереса, юное поко-
ление в Фабианском питомнике устремлялось к этим вопросам,
подчиняясь безотчетному тяготению юности.
Будет ли при социализме моногамия или полигамия? Будут
ли евгенические соображения играть главную роль при соеди-
нении человеческих особей? Можно ли считать разумным про-
ект коллективного брака, какой существовал у племени Онейда?
В какой мере законна ревность в сексуальных взаимоотноше-
ниях, и законна ли она вообще? Могут ли «бездетные отноше-
ния», о которых сейчас все говорят, отразиться на моральной
стороне жизни? Они говорили о «бездетных отношениях», ибо
выражение «противозачаточные средства» тогда еще не было
изобретено. Они разговаривали свободно по существу, но в
атмосфере личной сдержанности и пользовались биологи-
ческой и социологической фразеологией. Грубых слов не разре-
шалось употреблять. Называть вещи прямо своими именами
также не допускалось. Ни одно поколение со времени зарожде-
ния цивилизации не разговаривало с такой решительной, с такой
откровенной свободой, но этот разговор показался бы нелепо
ходульным, натянутым и вычурным более развязному поколе-
нию наших дней. По сравнению с Фрэиколином и тем, как было
принято выражаться в старину, они разговаривали напыщенно,
но с их стороны было огромным достижением, что они подошли
как к чему-то не только дозволенному, но вполне естественному
и достойному к тому, что Фрэиколином считалось постыдным,
смешным, неприличным и непонятно заманчивым.
Однако на пути к личному освоению этих нарождающихся
свобод было множество препятствий; тучи всяческих угроз ме-
шали их практическому осуществлению. Теодор после разго-
воров об «ультракоммунистическом обществе», которое будет
представлять собой единую, состоящую в коллективном браке
семью, возвращался в свою маленькую квартирку в Гэмпстеде
под бдительную опеку сурово-исполнительной квартирной хо-
зяйки, которая, вероятно, была бы шокирована самым невин-
ным пустячком,— нельзя было даже и пытаться прощупать ее
предполагаемую терпимость; и кроме того, всегда была угроза
инспекторского вторжения вышеупомянутых тетушек. Свободо-
мыслящая Люцинда была ой-ой как сурова, а добрая, насмешли-
286
вая Аманда придерживалась таких допотопных взглядов! Все,
казалось, жили, как и прежде, за такой же тесной оградой, с
той только разницей, что теперь они могли беспрепятственно
смотреть поверх нее. Тедди говорил: «Идем, Маргарет», и уво-
дил ее домой, а Бернштейны отправлялись восвояси, по всей
вероятности в какое-нибудь многолюдное бернштейновское оби-
талище.
Продажная любовь шлялась по улицам цивилизации, гру-
бая, накрашенная, все тот же «древний отвод» для стока люд-
ских вожделений, и случалось, когда Теодор проходил мимо, эти
жрицы встречали его зазывающими возгласами, напоминав-
шими ему его самые непристойные сновиденья. Продажная лю-
бовь была отдушиной, предохранительным клапаном, мерой об-
щественной безопасности. Случалось, что эти бродячие жрицы
Венеры, из тех, что поскромней, привлекали Теодора помимо его
воли, но денег у него было мало. Кроме того, он очень боялся
подцепить дурную болезнь, и это смутное инстинктивное влече-
ние к ним всегда сопровождалось у него чувством омерзения и
страха. Независимо от всех этих страхов он испытывал просто
инстинктивное отвращение. При мысли об этих продажных
женщинах ему становилось стыдно.
Однако он и сам уподоблялся охотнику. По вечерам он от-
правлялся в далекие прогулки, и теперь это были уже не просто
мечтательные прогулки, а поиски, полные неясных романтиче-
ских предчувствий. Но случай никогда не посылал ему никакого
приключения, а если и посылал, он никогда не узнавал его во-
время, когда оно попадалось ему навстречу.
Теодор попрежнему был твердо убежден, что влюблен в Мар-
гарет. Когда она появлялась, сердце его билось сильней, ощуще-
ние своего «я» становилось более ярким. Но в Лондоне ему ни-
когда не представлялось случая остаться с ней наедине, а в
Блэйпорте с ними всегда увязывался Тедди. Его воображение
попрежнему утешалось ею, но не так часто и не так многооб-
разно, как раньше. Оно не рисовало ему никаких великих пер-
спектив для него с ней. Горячий шепот, прикосновенье руки,
нежность — это было все, что оно дарило ему. Она относилась
к нему с неизменным спокойным дружелюбием, но очень мало
или даже вовсе не поощряла его к интимности. Каких бы пра-
вил поведения она ни придерживалась, они не позволяли ей уха-
живать за ним, пока он не ухаживал за ней. Он иногда беседо-
вал с ней в присутствии других, говорил с ней о любви, о сво-
боде, о здоровой потребности страсти, это были в смягченном
виде те разговоры, которые он вел с ней в воображении, но в
ней чувствовалось какое-то глубокое, невозмутимое спокойст-
вие — или, может быть, недостаток чего-то, что мешало ей от-
кликнуться на это.
Она была неразговорчива, но отнюдь не производила впе-
чатления глупой. Казалось, она прислушивается и делает свои
287
выводы. То, что она говорила, заслуживало внимания. Она те-
перь как будто меньше интересовалась правом голосования, чем
прежде. Воинствующие представительницы этого движения,
поджигавшие почтовые ящики и колотившие стекла витрин в
доказательство особой способности женщин к управлению, от-
толкнули ее.
— Как бы там ни было, это неподходящий способ дейст-
вия,— заявила она своим мягким, похожим на кошачий мех, го-
лосом.
— Это способ добиться права голоса,— возразила Рэчел
Бернштейн.
— Я бы не хотела получить право голоса таким способом,—
сказала Маргарет.— Я хочу получить его открыто и честно.
Теодор считал это вполне разумным; он одобрял ее здраво-
мыслие, и эту мягкую решимость, и благородную сдержанность.
Но мысль о ней все больше и больше отчуждалась от этой
жажды приключений, которая гнала его из дому, заставляя его
бесконечно блуждать среди ночных огней по темным улицам.
Иногда, но теперь все реже и реже, он мечтал встретиться
с ней неожиданно в каком-нибудь незнакомом месте, где всякое
чувство неловкости исчезло бы между ними.
А затем случай подстроил для Теодора встречу среди бела
дня, которая сильно изменила весь его мир и направила его со-
знание на другой путь, который ему суждено было пройти.
Однажды в субботу днем он шел по Тотенхем-Корт-род по
направлению к Гэмпстеду и вдруг увидел Рэчел Бернштейн,
приближавшуюся к нему. Она шла медленно, задумчиво, осве-
щенная весенним солнцем, и ее подвижное лицо просияло при
виде его.
— Хэлло, Теодор, куда вы торопитесь?
— Я иду домой. Не могу рисовать сегодня.
— Ведь сегодня суббота.
— Терпеть не могу оставаться на воскресенье в Лондоне.
— Скучно?
— Скучно.
Они в нерешительности стояли несколько мгновений, глядя
друг на друга и не говоря ни слова. Она смотрела на него ка-
ким-то странным взглядом, в котором светилась сдерживаемая
радость.
Но нельзя же стоять так целую вечность, не говоря ни слова.
Теодор приподнял шляпу и пошел; прошел несколько шагов.
— О Теодор! — крикнула она. И очутилась рядом с ним.—
Идемте со мной пить чай, Теодор,— сказала она.— Я предла-
гаю — пойдемте куда-нибудь и выпьем чаю. Поговорим. Я давно
хочу поговорить с вами. Здесь недалеко есть кондитерская. Зай-
дем выпьем чаю. Это будет забавно.
Она нервно посмеивалась, говоря это. Они пошли в конди-
терскую, дорогой она неумолчно болтала, перескакивая с одного
288
на другое. Ей никогда не удается поговорить с ним. А ей так
всегда хотелось этого.
— Я знаю, вы интересный человек и вы говорите такие дель-
ные вещи. Но когда мы встречаемся в компании, мне никогда
не удается добраться до вас. А теперь вы будете мой.
Это был приятный тон разговора.
Они уселись за маленький мраморный столик и заказали
чай. Оба почему-то были нервно настроены и возбуждены. Хотя
в сущности для этого не было никаких оснований. Его заражало
какое-то исходившее от нее возбуждение. Она заговорила о его
убеждениях.
— Я думаю, вы знаете, что я тоже ультракоммунистка. Мне
кажется, это открывает дорогу к настоящей жизни, к настоящей
свободной социальной жизни. Я думала вступить в социал-де-
мократическую федерацию, но там такая косность, такое док-
тринерство. Там нет вашего освобождающего артистического
духа. Вы ведете к чему-то более прекрасному. Ведь правда же?
Теодор чувствовал, что ему следовало бы что-нибудь ска-
зать, поскольку он оказывался носителем идеи, ведущей к
чему-то более прекрасному. Но он не нашелся, что сказать, к то-
му же она продолжала говорить, и она сидела к нему так
близко, насколько это было допустимо в кондитерской, ее рука
касалась его руки, она не сводила глаз с его лица.
— Что вы думаете о моем брате Мелхиоре? — неожиданно
спросила она.
Она не дала ему времени ответить.
— Он упрямый и сильный человек, вы не находите? У него
блестящий ум, но в нем есть что-то жестокое. Он влюбился. Вы
знаете, влюбился внезапно. И уехал с ней.
— С кем? — спросил Теодор.
— Не знаю. Уехал с ней. Исчез до понедельника, и я не
знаю, куда. Оставил меня одну в квартире.— Она помолчала
минутку.
— Я думал, вы живете с родными,— заметил Теодор.
— У нас нет родных в Лондоне. Мать умерла два года тому
назад. Мы сироты. Мелхиор моложе меня на два года. Когда
мы были маленькие, я могла заставить его реветь в любое
время,— такой он был нюня, а теперь по вашим мужским
законам к нему перешло три четверти состояния, а мне доста-
лась одна четвертая часть. Подумайте только! И даже эта чет-
вертая часть находится под его опекой, пока мне не исполнится
тридцать лет. Я должна обращаться за деньгами к нему. Вог
это равенство полов, как его понимали наши отец и мать. Но не
будем говорить об этом. Я веду для него хозяйство. С нашей ста-
рой служанкой. Старой няней. И даже она ушла сегодня из
дому на весь день, до позднего вечера.
Снова наступило молчание. Теодор старался отогнать от
себя разные, странные мысли.
19 Г. Уэллс, т. 2
289
— Вы должны посмотреть нашу квартиру,— сказала
Рэчел.— Вы наверно ужасно считаетесь со всяческими условно-
стями,— прибавила она,— правда?
— Я ненавижу буржуазные условности,— сказал Теодор.
Ее темные глаза заглянули в его глаза с какой-то особенной,
мягкой настойчивостью. Они говорили непостижимые, волную-
щие вещи. Они сделались темнее и глубже. Какая-то неожидан-
ная красота была в этом разгоряченном, пылающем лице, кото-
рое он видел так близко. Она чуть-чуть улыбалась. Ее большой
полуоткрытый рот с пухлыми губами сделался удивительно при-
тягивающим.
— Как это глупо, не правда ли,— сказала она низким вкрад-
чивым голосом,— что мы пьем чай здесь, когда я могла бы при-
готовить вам чай собственными руками у меня дома.
Слова были простые, но, казалось, в них скрывался какой-то
неуловимый смысл.
— Почему нам не пришло это в голову? — сказал Теодор
так же вкрадчиво.
— Вам бы понравилась наша квартира. Такая забавная ма-
ленькая квартирка,— у нас есть несколько японских гравюр и
масса плакатов. Знаменитый плакат Бердслея.
— Я никогда их не видел,— сказал Теодор.— Я только слы-
шал о них.— И по какой-то непонятной причине его охватила
нервная дрожь.— Я бы с удовольствием посмотрел...
— Хотите? — сказала она, и глаза ее засияли.— Вы, правда,
хотите?
— Яс удовольствием посмотрел бы,— решительно сказал
он и принял ее вызов.
Квартира была совсем близко. Она помещалась в отстроен-
ном заново нижнем этаже дома георгианского стиля. Вестибюль
был общий для всего дома, и вид у него был весьма непритяза-
тельный. У Рэчел было два ключа, один от подъезда и другой от
ее квартиры. Первая комната представляла собой нечто вроде
мастерской, в ней стоял диван, который мог служить кроватью;
кроме этой комнаты, была еще большая ванная комната и две
комнаты в глубине; двустворчатая дверь из первой комнаты
вела в одну из них.
— Глупо, что мы пошли пить чай в эту дурацкую кондитер-
скую,— сказала Рэчел. Несколько секунд она стояла, не дви-
гаясь, и Теодор тоже стоял молча, не двигаясь. Затем она как
будто что-то решила.— Подождите меня минутку, Теодор, пока
я пойду сниму шляпу.
Она замялась, потом подошла к окну и задернула шторы.
Остановилась, посмотрела на него и затем скрылась за дву-
створчатой дверью.
Теодор смотрел на груду бумаг на столе, на книги, стоящие
на полке вдоль стены, но в этом участвовали только его глаза,
а сам он был весь сплошная буря невероятных предчувствий*
290
Через некоторое время появилась Рэчел, переодетая с головы до
ног. Его предчувствия перешли в уверенность. Она распустила
свои пушистые волосы, и они лежали буйной черной копной. На
ней был легкий свободный халатик, и ее шея и стройные ноги в
красных домашних туфлях были голые. Она остановилась в две-
рях.
Теодор не мог выговорить ни слова. Он кашлянул.
— Вы нравитесь мне такая,— наконец, вымолвил он.
— Я нравлюсь вам? — сказала она, осмелев, и подбежала
к нему.— Я нравлюсь вам такая? Дорогой мой,— прошептала
она, положив руки ему на плечи и приблизив вплотную к его
лицу свое пылающее лицо.— Как вы относитесь к коллектив-
ному браку? К тому, чтобы все красивые люди могли жить друг
с другом? Вы думаете...— Сердце его неистово билось.— Поце-
луйте меня, милый.
Он поцеловал ёе и нерешительно обнял. Под мягким халати-
ком не было ничего, кроме стройного трепещущего тела. Он
сжал ее в своих объятиях.
— Сними этот свой буржуазный воротничок,— сказала она,
обхватив его руками.— Мой дорогой! Кто тебя научил цело-
ваться?
— Это приходит само,— сказал он и снова поцеловал ее.
— Иди сюда! Сними совсем свою куртку. Сними воротничок.
И зачем только мужчины носят воротнички! Скорей. Вот так!
О! Милое атласное плечо, такое гладкое, такое твердое. Какая
чудесная вещь тело! А мы прячем его. Отвернись на минутку.
Ну, вот теперь смотри! Видишь, какие маленькие грудки, чуть-
чуть побольше твоих...
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Теодор в роли любовника
1
Я — МУЖЧИНА
В воскресенье вечером Теодор сидел полураздетый на кро-
вати у себя в спальне в Гэмпстеде, приводя в порядок свои
мысли. Он провел два изумительных дня. Он пробыл у Рэчел
до позднего вечера, а в воскресенье днем, после обеда у тету-
шек, он незаметно скрылся до чая и провел с ней часть дня
в этом маленьком храме Венеры, который она создала для
него. Ему стало ясно теперь, как чудовищно грубы и невнятны
19* 291
были откровения пола, скрывавшиеся в указаниях Природы.
Все ценности искусства и романтики в его мире переместились.
Тысячи вещей, которые раньше пленяли только своей изыскан-
ностью, теперь наполнились физической жизнью. И каким-то
чудесным образом пол утратил всякий налет непристойности.
Как если бы и сам Теодор и все его представления об этого
рода вещах подверглись очистительному омовению. Рэчел в эти
волнующие часы так наполняла собой и своим всепроникаю-
щим жизненным азартом его сознание, что только теперь,
в состоянии удовлетворенной, блаженной усталости, он мог
хоть несколько осознать, какой порог он переступил в жизни,
какая с -ним произошла перемена. Но выразить это он мог
только словами, которые она подсказала ему.
— Наконец-то я мужчина,— говорил он.— Мужчина.
Это было все, что он мог сказать себе в этот вечер, а затем
он юркнул в постель и заснул глубоко и сладко, и спал до тех
пор, пока его не разбудила утром, усердно тряся за плечо, его
хозяйка.
Весь этот день чувство гордости от сознания своего нового
положения не покидало его. Он шел в школу Роулэндса про-
светленный, полный глубокого понимания. Прохожие, встре-
чавшиеся ему на улице, в особенности девушки и молодые жен-
щины, казались ему теперь исполненными значительности, ко-
торой он прежде не подозревал. Они таили в себе неистощимые
возможности наслаждения. Общественная жизнь, заключил он,
это в самой своей сущности захватывающая радость сексуаль-
ных отношений,— приодетая, замаскированная, скрытая, но не
настолько скрытая, чтобы остаться невидимой для глаза посвя-
щенного.
Только через несколько дней этот туман самоудовлетворе-
ния, обволакивающий его, стал понемножку рассеиваться, бес-
покойство снова вернулось, и обширные участки его сознания,
которые временно пребывали в бездействии, снова обрели свою
силу.
Некоторое время он не мог ни видеться, ни сообщаться
с Рэчел. Она просила его не писать ей и быть как можно осто-
рожней, чтобы не выдать их связи. Ее брат, сказала она, следит
за ее поведением, «как семнадцать бдительных теток».
— Я тебе сама напишу... Удивительно, как сказывается
наше восточное происхождение. Он признает свободную любовь
для себя и для всех, для кого угодно, кроме своей сестры.
А когда он перебесится и натешится вдоволь, он, вероятно, сде-
лается католиком и реакционером и найдет себе чистую-чистую,
обожающую его девушку, и она будет рожать ему достойных
дочерей и увешивать себя драгоценностями, которые он с удо-
вольствием будет ей покупать. Такая уж раса. И все они такие.
Либеральных евреев не бывает, дорогой мой, есть только ли-
беральные еврейки. У наших мужчин врожденное уважение
292
к собственности и респектабельности. Мелхиор, несмотря на
весь свой коммунизм, жаден, осторожен и труслив, как крыса.
Не могу представить себе, что бы он стал делать, если бы дей-
ствительно произошла социальная революция.
Она написала Теодору коротенькую записочку.
«Когда, о, когда же мы снова сойдемся с тобой на Пустын-
ном Острове, мой милый, стройный, крепкий, мой маленький
дикий братец? Всегда твоя Р.».
Он носил с собой эту записку в кармане несколько дней, но
потом она истерлась, и он сжег ее.
Они встретились примерно недели через две, но это было
на собрании в Фабианском питомнике, и им не удалось погово-
рить с глазу на глаз. Это была совсем не такая встреча, о какой
он мечтал. Хладнокровие Рэчел было просто удивительно.
И она была другая. Она была чужая. Она пробудила в нем
какое-то смутное чувство неприязни. Казалось невероятным, что
эта дурно одетая,' суетливая девица была той пышноволосой,
гибкой, смуглой нагой девушкой, которая так завладела его
чувствами. Она кивнула ему, улыбнулась, помахала рукой, но
тут же отвернулась и продолжала оживленно разговари-
вать со своими знакомыми. И больше ни разу не взглянула
на него.
Теодор в своем воображении приукрасил до неузнаваемости
свои воспоминания о Рэчел.
Ее самообладание сбило его с толку и вызвало в нем чув-
ство неуверенности. Ему казалось, что и эта встреча могла бы
быть гораздо более значительной. Последнее время его неудер-
жимо влекло к ней, и сейчас он надеялся уговориться о новом
свиданье. Но ему было бы очень неприятно, если бы кто-нибудь
узнал о его отношениях с Рэчел.
Восторженное чувство гордости, которое она внушала ему,
исчезло, как только он увидел ее такой, какой она была на са-
мом деле. Он смотрел на ее согнутую спину, на ее беспрестанно
поворачивающуюся из стороны в сторону голову, и его все
сильнее охватывало раздражение на эту сегодняшнюю Рэчел.
Ему не верилось, что это та пылкая возлюбленная, которую он
любил и ласкал. Он чувствовал, что эта Рэчел — чужая, что
она стоит между ним и его возлюбленной и старается подавить
его желания.
Неожиданно он поймал на себе пристальный взгляд Мел-
хиора Бернштейна и тотчас же отвернулся в испуге. Потом,
раз.озлившись, он сам устремил на него свирепый взгляд, но
внимание Бернштейна уже было отвлечено чем-то другим. Что
бы такое придумать, сказать ей так, чтобы она поняла, но при
этом не вызвать подозрений у других? Ужасно трудно.
Почему она не придет ему на помощь?
Собрание закончилось, и все начали расходиться, а он все
еще старался поймать ее взгляд. Рэчел направилась к выходу,
293
а Теодор стоял, не двигаясь с места, вне себя от досады и
разочарования.
Она избегает его! Избегает и прячется от него!
И вдруг он увидел рядом с собой Маргарет.
— Бэлпи! — вскричала Маргарет,— вы не видели Тедди? —
И легкое прикосновение ее руки сразу разрушило преграду,
выросшую за последние полторы недели между двумя пото-
ками его сознания. По одну сторону этой преграды находился
весь сложный, длительно пластовавшийся комплекс воспомина-
ний, фантазий, восторгов и желаний, сосредоточенных на
Маргарет; по другую — еще совсем неизведанный бурный во-
доворот сладостных тайных ощущений, которые открыла ему
Рэчел. Первый, более обширный поток бился в сдерживающую
его преграду, громко взывая и требуя, чтобы ему дали доступ
к новому. Новый защищал свое русло, глухо и неукротимо про-
должал свой бег. И вот сейчас, когда он увидал рядом с собой
милое лицо Маргарет, он понял: только ее одну он любит и же-
лает; он-поступил непростительно, изменив ей; она не должна
знать о том, что случилось; Рэчел в сравнении с ней дурная
женщина. У Рэчел и до него были любовники. Рэчел позабави-
лась с ним просто от нечего делать. А он что думал? Почему
он не сообразил этого раньше?
Он отвечал рассеянно, поглощенный хаосом собственных
мыслей.
— Тедди? Разве он здесь?
— Он собирался выступить. Говорил, что непременно вы-
ступит. У него уже была приготовлена речь — и вот его нет.—
И она прибавила укоризненно: — Я сидела через два ряда от
вас, а вы даже ни разу не обернулись.
Преобразившееся сознание Теодора прояснилось. Он по-
чувствовал возможность высоко драматического момента.
— Давайте поищем его,— сказал он и, взяв ее под руку,
привлек к себе с такой решительностью, на какую он отнюдь
не был способен две недели тому назад. Он пройдет с ней мимо
задержавшейся в проходе компании Бернштейнов — и даже не
заметит Рэчел.
— Мне нужно поговорить с вами, Маргарет. Мне нужно
сказать вам очень, очень многое. Пойдемте в кафе Аппенрод.
— Но нам надо разыскать Тедди.
— Если Тедди не пришел, я провожу вас.
— Но если Тедди не пришел... я — я очень беспокоюсь
о нем.
— Он просто забыл. Засиделся у себя в лаборатории.
— Никогда он ничего не забывает. Когда он говорит, что
придет куда-нибудь, он всегда приходит. Он говорил, что дол-
жен выступить сегодня. Ему надоело быть просто пешкой. Ему
хочется быть настоящим, живым проводником мыслей. Он уже
давно говорил об этом.
294
— Но ведь вот же он не пришел.
Теодор вытянул шею и. огляделся по сторонам, как будто
разыскивая Тедди, но вместе с тем явно стараясь показать
Рэчел, что он не замечает ее. И тут, возможно, ему почему-то
представился Бэлпингтон Блэпский, такой красивый и строй-
ный, рядом со своей прелестной подругой.
Теодор надеялся, что Тедди не появится. Ему хотелось по-
скорей уйти с Маргарет. Он не совсем ясно представлял себе,
что ему надо сказать Маргарет, но он был совершенно уверен,
что это будет нечто чрезвычайно важное. Это будет нечто вроде
исповеди и признания в любви. Мольба о помощи. Он поскольз-
нулся, он дал себя увлечь... Ах, что бы там ни было... Она мо-
жет спасти его. Она всегда была его идеалом, единственной
чистой и светлой надеждой его жизни. Он полюбил ее с того
самого дня, как увидал впервые.
Этот слепящий стремительный ураган мелькающих мыслей
вихрем крутился в его мозгу, между тем, как повинуясь рас-
судку, он сознательно увлекал Маргарет к выходу и мягко, но
настойчиво преодолевал ее желание подождать. И вдруг —
о проклятье! — Тедди!
— Тут на углу перевернулся кеб! — сказал Тедди, едва пе-
реводя дух от быстрой ходьбы.— Вы прямо не поверите. Ло-
шадь рванула, и экипаж так весь и перевернулся набок. Седок
только успел высунуть руку в боковое окошечко. Я помог ему
вылезти, перевязал его. Порез артерии, вся рука изрезана
осколками стекла. Кровь прямо так и хлестала. И ни души
кругом. Пришлось взять кеб и везти его в больницу. Сколько
споров было с кучером из-за крови! Я кое-как подложил его
пальто, чтобы не испачкать сиденье. Потом ему во что бы то ни
стало надо было передать записку женщине, которая ждала его
в гостинице. Ясно, что это было не совсем удобно поручать
рассыльному. Пришлось пойти. Понимаете? Ну вот, так и про-
канителился целый вечер. А уж я эту свою речь чуть ли не
наизусть выучил...
Так грозовые тучи, скопившиеся в сознании Теодора, оста-
лись неразряженными. Эта проклятая катастрофа сделала
Тедди таким говорливым, что от него никак нельзя было отвя-
заться. Маргарет,— Теодор видел это,— понимала, что ему
нужно ей что-то сказать, но Тедди не давал им возможности
поговорить. Они расстались у Темпл Стэйшен, и Теодор весь
обратный путь до Гэмпстеда шел пешком,ш чтобы привести
в порядок свои мысли и успокоиться. Написать ли ему Марга-
рет длинное письмо? Или поговорить с ней решительно?
Он попробовал придумать и отбросил несколько вариантов
вступительной фразы письма к Маргарет, в котором он
подробно объяснит ей все. Затем он попробовал прорепети-
ровать этот решительный разговор. «Маргарет,— скажет он
ей,— жизнь смяла меня очень рано. Я человек, обуреваемый
295
сильными страстями. Я весь в отца, такая же чувственная
натура». Или, может быть, более прямо: «Маргарет, представ-
ляли ли вы себе когда-нибудь, каких страшных усилий мне
стоило обуздывать себя?» Или в повествовательном стиле:
«О Маргарет, со мной произошло нечто очень странное и при
этом мне открылись такие глубины моего «я», о существовании
которых я даже не подозревал». И так далее, один за другим,
целая серия гамбитов. И все это великолепно завершалось му-
чительным воплем: «Я не могу жить без любви! Я сильный
человек, дорогая, но я дошел до предела! Я не могу жить без
любви!» (А потом как же они устроятся?)
Тем временем еще один возможный слушатель требовал
внимания. Как ему держать себя с Рэчел, когда он встретится
с ней? Отплатить ей холодным презрением за ее равнодушие?.
Или послать ей очень-очень краткое, но выразительное письмо.
«Мое сердце никогда не принадлежало Вам. Вы волновали мою
чувственность, но не чувства». Так ей и надо, этой Рэчел, кото-
рая весь вечер поворачивала ему спину и цеплялась за рукав
какого-то незнакомого субъекта. Ну что ж, с этим покончено —
покончено навсегда.
Дома в передней он увидал сероголубой конверт, надписан-
ный неразборчивым почерком Рэчел.
Он распечатал его не сразу, сильно взволнованный.
«Милый мой маленький Дикарь,— начиналось оно.— Это
опять стало возможным. Он оставляет меня одну в ближайшую
субботу до понедельника — свою робкую, покорную рабыню-
сестру. В полном одиночестве — на растерзанье любому отваж-
ному юному Дикарю, которому вздумается на нее напасть.
Миссис Гибсон тоже не будет после четырех — я об этом поза-
бочусь. Если — не дай бог! — вы не сможете прийти, телегра-
фируйте мне (номер 17 Б) после половины четвертого, никак
не раньше (дважды подчеркнуто). Я собственноручно напою
Вас чаем и всячески буду угождать Вам, как подобает пре-
красно вышколенной рабыне-сестре. Я искусаю тебя.
NB. Сожгите это».
Он пошел. Он был у нее ровно в четыре.
2
А КАК ЖЕ МАРГАРЕТ?
И вот тут-то и наступает решающий момент в этой борьбе,
происходящей в сознании Теодора. Он уже давно отказался
следовать путем голой правды, да, признаться, он никогда
особенно рьяно и не шел этим путем. Теперь он старался пода-
296
вить конфликт между двумя совершенно несовместимыми ком-
плексами своих ощущений. Он мог бы хорошенько подумать,
будь у него более тренированный, более доброкачественный
мозг, и сохранить ясность сознания и способность управлять
собой. Возможно, когда-нибудь человеческий мозг и научится
мыслить и управлять со всей доступной ему силой и ясностью.
Теодор во всяком случае не сделал ничего в этом направлении.
Вместо того чтобы хорошенько подумать, он пошел по прото-
ренному пути и стал безудержно фантазировать. Ему ничего не
стоило наводнить свое сознание целым потоком оправдываю-
щих и смягчающих фраз, чтобы безболезненно сняться с острых
камней мели, на которой он очутился.
Этот спасительный поток исходил из двух главных источни-
ков его сознания. Одним из них — неисчерпаемым кладезем
всяческих оправданий — был артистический темперамент; дру-
гой представлял собою идеал «светского человека», талантли-
вого, много пережившего, мудрого, несколько циничного, сдер-
жанного, но в сущности прекрасного малого. Бэлпингтон
Блэпский давно уже охотно присваивал себе эти черты. Но эти
приступы страсти, этот неукротимый пыл он присвоил недавно.
Бурные чувства завладевали им теперь внезапно с бешеной,
неудержимой силой — яркая, отличительная черта гения. Этим
объяснялась частая смена его настроений, переход от экзаль-
тации и разнузданности к раскаянию и самобичеванию.
Поистине это была загадочная и мятежная натура, требующая
глубокого понимания и сочувствия. Это возведение непоследо-
вательности и непостоянства в стройный ряд прекрасных и
сильных эмоций влекло за собой значительное изменение
в оценке Рэчел и Маргарет, но ум Теодора становился все
более и более искусным в такого рода переоценках.
Так, например, его воспоминание о первом свидании с Рэчел
подверглось значительным исправлениям. Инициатива всего
случившегося незаметно перешла целиком к Бэлпингтону Блэп-
скому. Этот великий человек, умеющий ценить и любить жизнь,
пленился игривым очарованием, скрытым в грубоватом задоре
маленькой, распущенной, пылкой еврейки. Этот благородный
юноша, так напоминающий юного Гете, просто поиграл с нею.
(Он всегда был непрочь поиграть с нею, когда ему представ-
лялся случай.) Она, конечно, не устояла перед ним. Он покорил
ее почти без всякого усилия. Этот каприз был и продолжал
быть эстетическим признанием жизни, любовным отношением
к жизни; это было все равно, что ласкать хорошенького ко-
тенка. Но сердце его неизменно было обращено к другому
идеалу. Год за годом под его неустанной опекой, под его
мудрым воздействием развивалась Маргарет. Ее неотразимая
красота была только обещанием и предвестием красоты ее
души. Медленно созревала она для того, чтобы постичь всю
сложность и глубину его натуры.
297
Так вот оно и шло, примерно так, хотя временами было
очень трудно сохранить незыблемым подобное положение
вещей.
Бывали минуты, когда его тянуло открыться Маргарет, рас-
сказать ей все о Рэчел, объяснить, истолковать, пояснить,
осветив при этом со всех сторон свой характер, но ревнивое
желание сохранить все, как есть, удерживало его. В общем
было, пожалуй, лучше, по крайней мере хоть на время, чтобы
Маргарет совсем ничего не знала об этой истории с Рэчел.
Однако Рэчел каким-то непонятным образом угадала, ка-
кую роль он отводит Маргарет в своей жизни. Она относилась
к этому с несколько насмешливой и не слишком бурной рев-
ностью. Она называла Брокстедов не иначе, как «эти два
фабианских сухаря» или «буржуазная парочка». Она говорила
про Тедди, что он принадлежит к породе молодых людей, кото-
рые постоянно твердят про себя все, что они знают, из страха
забыть что-нибудь. Она говорила, что Маргарет трижды обду-
мывает, прежде чем решиться сказать что-нибудь,— а когда
она, наконец, соберется, это оказывается слишком поздно, так
она ничего и не говорит. «Она готовит себя в ничтожества,—
злословила Рэчел.— Это просто какой-то немой попугай, мол-
чит, и всем кажется, что она думает»с
А однажды она сказала злобно:
— Она только пялит на всех свои глазища — и все почему-
то приходят в восторг.
— Ах, мужчины такие дураки! — заключила Рэчел.— Ведь
она же просто еще непроснувшийся младенец. И не может быть,
чтобы она была на много моложе меня. Во всяком случае,
я была не старше ее — когда я начала. А вы поглядите на нее!
— Скажи мне, милый,— внезапно спросила она его од-
нажды,— ты влюблен в Маргарет?
Кто это — Бэлпингтон Блэпский или Теодор — отвечал:
«Нет»?
Это «нет» было нетрудно оправдать, когда он вносил по-
правки в свои воспоминания. Мужчина должен оберегать честь
женщины от ревности другой женщины. Светский человек по-
нимает это. Кроме того, влюблен ли он в Маргарет? Если вот
это называется любовью,— нет. Так, как понимает это Рэчел,—
безусловно нет. И если бы он не сказал «нет», Рэчел продол-
жала бы злословить, злословить, злословить о Маргарет,—
а это невыносимо. Она и так слишком много говорит о ней.
Но когда Рэчел и Теодор бывали вместе,— признаться, вряд
ли это можно было назвать игрой с его стороны и покорностью
с ее. Она мигом переворачивала все, и сначала это было
приятно, но потом ужасно раздражало. В сокровенной легенде
Теодора ей отводилась роль почитательницы, но в ее Отношении
к нему не чувствовалось ни малейшего почитания. Вернее было
бы назвать это смакованием. Как ни унизительно это было для
298
Теодора, но фактически Рэчел была намного опытнее его по
части всяких ухищрений и уверток запретной любви. Когда
отлучки ее брата сделались нестерпимо редкими, она точно
осведомила Теодора, где можно найти подходящую комнату
в Сохо, сколько заплатить за нее, кому дать на чай и что ска-
зать, когда он ее снимет. Иногда она просто командовала им
в этой «игре», как раздражительная молодая тетушка, которая
взяла к себе для развлечения племянника на один день,— и так
она вела себя до тех пор, пока они не оставались друг с дру-
гом наедине.
Случалось, впрочем, что она говорила ему очень приятные
и лестные вещи.
Так, например, она говорила, что у него удивительно инте-
ресное лицо, и это было очень отрадно слышать. Она считала,
что в физиономии любого «гоя» гораздо больше интересных
черт, чем в какой бы то ни было еврейской физиономии. Од-
нажды она пустилась в длинные достопримечательные рас-
суждения о евреях.
— Мы о них все знаем. Все они на один лад — результат
массового производства. Моисей — это первый Генри Форд. Все
евреи братья. Для еврея любить еврейку — это кровосмешение.
Его следует привлекать за это к суду. Поколение за поколе-
нием двоюродные братья женятся на двоюродных сестрах, все
на одно лицо, вечно одни и те же типы. А вы, гои, перемеша-
лись со всеми иа свете. Взять хотя бы вас, что вы такое?
Иберийский кельт, загадочная порода, с примесью англосак-
сонской крови и, кто знает, чего еще? Одно за другим, все
переплелось, перемешалось, одно вытесняется другим, а это
в свою очередь вытесняется еще чем-то. Никогда нельзя с уве-
ренностью сказать, что вы думаете, как вы поступите. Вы спо-
собны удивить самих себя. Ни один еврей на это не способен.
У него все предопределено. Он все всегда знает.
Она задумалась, сидя на постели, подняв свое несколько
крупное, очень умное лицо, обрамленное пушистой массой
волос, и обхватив колени длинными большими руками,— смуг-
лая, гибкая, стройная.
— Он всегда знает,— повторила она,— знает все. Мы все
знаем,— поправилась она.
И затем вдруг снова принялась поносить Маргарет.
Нравилось это Теодору или нет, но ему оставалось только
лежать рядом со своей любовницей и слушать. Она забыла
о нем. Он выполнил свое назначение. Казалось, его здесь и не
было вовсе, этого загадочного циничного светского человека,
Бэлпингтона Блэпского. И правда, его здесь не было. Он знал,
что ему надо одеться, уйти, уйти подальше от Рэчел и довольно
долго побродить одному, прежде чем он обретет, воссоздаст
себя и вернет свое прежнее спокойствие и достоинство.
Рэчел продолжала размышлять вслух.
299
— Эти тихони! — говорила она.— Да разве они когда-
нибудь способны ожить? Маргарет во всяком случае еще не
ожила. Она не проснулась к жизни. Проснется ли она когда-
нибудь?
— Ты когда-нибудь целовал Маргарет? — внезапно спро-
сила она.
— Ах, отвяжись ты! — вскричал, защищаясь, Теодор.
— Вот заговорил гой, благородный гой. Конечно, ты це-
ловал ее. Дорогой мой, неужели эта девчонка может цело-
ваться?
— Что тебе далась Маргарет?
— Потому что сейчас, в данный момент, она интересует
меня больше всего на свете.
Она скрестила руки на коленях и оперлась подбородком на
руки.
— Может быть, это только разница во времени. Они со-
зревают позднее. Они старятся позднее. Они могут позволить
себе ждать. А мы торопимся. Мы — жадная, нетерпеливая,
стремительная порода. У нас нет гордости. Боже! Как мне все
это опротивело. Сейчас же встаю и одеваюсь.
Она не условилась насчет следующей встречи.
— Если меня не тянет к этому, зачем я буду уславливаться.
— Рэчел, скажи мне. У тебя есть еще кто-то?
— Это, мой мальчик, касается только меня.
Они стали молча одеваться.
— Глупый маленький гой,— сказала она и провела своими
длинными пальцами по его волосам, которые он только что
причесал и пригладил.— Я выйду отсюда первая. Прощай.
3
НЕОБЪЯСНИМАЯ БОЛЬ СЕРДЦА
Эта история с Рэчел должна кончиться. Он должен кончить
ее как можно мягче для Рэчел. Рэчел — это ошибка, заблуж-
дение, мимолетная прихоть. Он не должен был унижаться до
нее. Это его артистический темперамент, его удивительная спо-
собность откликаться на чувство увлекли его. А между тем
в глубине души, где копошилось все, что он заглушал в себе,
какой-то голос говорил ему: Рэчел сама способна оборвать
эту связь так же внезапно, как она завязала ее; у нее уже
что-то другое на уме. Наверно, она уже решила бросить его.
Он должен положить конец этой связи мягко, но решительно —
хотя бы потому, что это отвлекает его от его истинной роли
возлюбленного Маргарет.
300
Маргарет — его единственная настоящая любовь. И связь
с Рэчел только еще сильнее заставила его почувствовать это.
Возвращаясь домой через Сохо и мало-помалу восстанавли-
вая свое «я», стертое начисто Рэчел, Теодор снова и снова
строил разные проекты и придумывал всяческие возможности,
следуя привычным кругом за своим воображением. Расска-
зать Маргарет об этой истории — признаться ей в своих чув-
ствах? Почему бы им теперь не стать любовниками? Теперь,
когда он так хорошо изучил жизнь и возможности Сохо? Но
как же заговорить с ней об этом? А что, если Рэчел с ее длин-
ным языком сама возьмет да и разболтает? Позволит себе
какие-нибудь намеки? Как можно, чтобы Бэлпингтона Блэп-
ского позорно уличили в обмане!..
Однажды вечером, когда он сидел за ужином, поглощенный,
как всегда, всеми этими бесконечными размышлениями, вне-
запно нечто гораздо более глубокое или, может быть, чуждое
стремительно ворвалось в запутанный круг всех его неразреши-
мостей. Он почувствовал невыразимую боль, щемящую боль
души и чувство непоправимой утраты. Нечто непостижимо пре-
красное, наполнявшее его жизнь, озарявшее ее, ушло от него,
ушло из его жизни, отнято у него, потеряно, утрачено навсегда.
Он знал, знал наверное, что оно ушло навсегда. Это чувство
опустошения было так реально и вызывало такую мучитель-
ную боль, что он не мог высидеть дома. Он вышел на улицу,
хотя было уже больше десяти часов, и пошел через Гэмпстед
Хис к Хайгету и дальше, почти не замечая, где он и куда идет,
пока не очутился на тускло освещенном загородном шоссе,
неподалеку от неуклюжей громады Александер Палас на
Мюзуэл-хилл.
Тогда, страшно усталый, сознавая, что, должно быть, уже
очень поздно, он с несколько облегченным сердцем повернул
обратно. Никогда еще он не испытывал такой душевной боли.
Да, это поистине душевная боль,— думал Теодор. И он все
больше и больше проникался этой необычностью своего со-
стояния, и ему казалось, что и луна, пробиваясь из-за разо-
рванной гряды облаков, словно откликается на его великую
душевную боль.
И как только в призрачном свете этого космического состра-
дания он подумал, как безгранична его боль, он сразу перестал
страдать. Он осознал величие своих усилий. Его болезненные
душевные противоречия претворились в возвышенную, пусть
даже неизъяснимую скорбь.
Каждый зародыш, утверждают биологи, повторяет историю
вида. Сознание развитого юноши, несомненно, проходит через
все фазы интеллектуальной эволюции. У Теодора был его
Вордсвортовский момент. Он был потенциальным Вертером.
Теперь он становится байронической личностью.
301
4
ТОЧКА ЗРЕНИЯ МАРГАРЕТ
Теперь, когда Теодор знал наверное, что он просто, безо
всяких околичностей, любит одну только Маргарет, уклад его
жизни на время летних каникул стал разумно ясен. Он будет
ходить к ней, развивать ее и стараться «разбудить» ее. Итак,
с первых же дней, как только Маргарет приехала в Блэйпорт,
он посвятил себя этой задаче. Когда у него оставалось свобод-
ное время, он развлекался игрой в теннис, писал, делал набро-
ски с натуры, рисовал воображаемые сцены и лица, читал био-
графии художников, писателей и великих людей вообще и
сравнивал, насколько он похож на них. Еще он сделал откры-
тие— нашел романы Мередита, Конрада и Гарди и с некото-
рым опозданием, отстав примерно лет на десять, сочинения
Ришара Ле Гальена, которые были затиснуты на полке среди
выпусков «Желтой библиотеки» Раймонда. Но Маргарет была
центром всех его устремлений и замыслов. Если он фантазиро-
вал с помощью Мередита, Маргарет была его прекрасной вол-
шебницей; если он скитался по свету с Конрадом, Маргарет
была его путеводной звездой.
Общаться с ней стало гораздо легче с тех пор, как из Бель-
гии приехала после трехлетнего обучения в монастыре одна
из паркинсоновских кузин. Это была бледная, незаметная,
ехидная девчонка с прекрасными темными глазами, и ее отвра-
щение к монастырским правилам и режиму помогло ей вырабо-
тать несколько грубоватую прямоту взглядов; она, не стесня-
ясь, подкрепляла их французскими словечками, которым ее не
могла научить ни одна монахиня, и все это вместе явно импо-
нировало реалистической натуре Тедди. Тедди, который до сих
пор презирал девчонок вне своего семейного круга и требовал,
чтобы сестра была его неизменным товарищем, теперь ходил
вечно улыбающийся и явно стремился уединиться в каком-
нибудь укромном местечке с этой Этель Паркинсон; Теодор
был для него удобен в том смысле, что помогал ему отделы-
ваться от Маргарет.
Но, несмотря на прекрасную школу, которую Теодор про-
шел с Рэчел, а может быть, как раз наоборот, потому именно,
что он прошел школу с Рэчел, дела его с Маргарет очень мало
подвигались вперед. Возможно, Киплинг и прав, и Джуди
ОТреди и знатная леди действительно сестры по духу? Но
опыт Теодора не подтверждал этого.
Маргарет была несклонна ласкаться и нежничать. Раз или
два она целовала его и робко прижималась щекой к его щеке.
Но дальше этого ее физическое пробуждение, повидимому, не
шло. Она была для него фигурой в платье. И так и оставалась
302
фигурой в платье. Даже в купальном костюме она казалась
одетой и целомудренной. В ней было какое-то неуловимое
качество, которое удерживало Теодора от каких бы то ни
было фамильярностей. «Но почему,-^ спрашивал он себя.—
Почему?»
Они вместе бродили, купались, играли в теннис и болтали,
но долгое время между ними не было большего сближения.
Иногда Теодор позволял себе в разговоре маленькие вольности;
называл себя ее возлюбленным, оказывал ей мелкие услуги,
угождал ей, но за этим ничего не следовало,— просто были
такие приятные, волнующие минуты, цветы по краям
дороги. В конце концов Маргарет сама вызвала его на
разговор.
Они лежали на солнышке на низкой скале возле лаборато-
рии и курили.
— Бэлпи,— сказала она,— почему мы с вами так мало раз-
говариваем?
— Но мы только и. делаем, что разговариваем!
— О пустяках.
— Друг о друге. О чем же нам еще говорить?
— Обо всем мире.
Он перевернулся на живот и посмотрел на нее.
— Вы милочка,— промолвил он.
— Нет,— сказала Маргарет, упрямо продолжая свое.—
Я хочу говорить о мире. Для чего он существует? И для чего
мы существуем в нем? Вам как будто все равно, точно вас это
вовсе не касается. В Лондоне вы говорите о разных вещах.
А почему вы никогда не говорите об этом здесь? Может быть,
вам просто неинтересно со мной разговаривать?
— Мы с вами понимаем друг друга без всяких диспутов.
— Нет,— упрямо продолжала она,— мы не понимаем друг
друга. Я не хочу никаких диспутов, я только хочу разобраться
в своих мыслях. Тедди раньше разговаривал и спорил со мною,
но теперь он как-то охладел к этому. Слишком мы с ним по-
хожи, мне кажется. А вы — вы совсем другой. Вы подходите ко
всему с какой-то своей точки зрения и как-то иначе. Иногда мне
это нравится, иногда просто сбивает с толку. Вы как-то легко
перескакиваете с одного на другое. И мне начинает казаться,
что мы с Тедди — тяжелодумы. Но Тедди говорит, что вы от
всего отмахиваетесь. А это правда, что вы от всего отмахивае-
тесь?
— Мне кажется, что вы иногда принимаете слишком
всерьез то, что говорится,— заметил Теодор.— Ведь в конце
концов в разговор всегда вносишь какой-то оттенок шутки.
— Чувство юмора,— сказала она.— Повидимому, мы оба
лишены его. Мы — педанты.
— Но, Маргарет!
— Да, да, мы знаем. Мы уже говорили об этом с Тедди.
303
Мы хотим во всем разобраться. Оба и он и я. Чтобы для нас
все было ясно. Мы и себя принимаем всерьез. Вот это у вас и
называется «быть педантом». Нет, нет! я вас серьезно спраши-
ваю, Теодор, вы правда считаете нас педантами?
— Это вы педант, Маргарет!
— Да, я педант, и Тедди тоже. Я готова согласиться с этим,
даже если вы не хотите сказать. У нас не хватает ума на
шутки. Хватает только на то, чтоб думать. И если это у нас
получается тяжеловесно, все-таки это лучше, чем совсем не
думать, как Фредди Фрэнколин.
— Ну, он же дурак,— сказал Теодор.
— Совсем не такой дурак,— возразила Маргарет,— просто
он никогда рта не раскрывает. Потому что очень боится про-
слыть педантом.
Теодор почувствовал легкий укол ревности, оттого что она
проявила хотя бы даже такое ничтожное внимание к Фрэнко-
лину.
— Так вот слушайте, Бэлпи,— сказала Маргарет,— да-
вайте поговорим серьезно. Во-первых, что сейчас происходит в
мире и как мы должны ко всему этому относиться?
— Поговорим,— покорно сказал Теодор.
— Так вот насчет того, что делается в мире...
Она минутку помолчала, собираясь с мыслями.
— Вот, например, мой отец. Сравните его представления
и ваши. Конечно, отец очень много знает. И он говорит, что
весь мир, все человечество,— все живут в каком-то самообмане.
Он говорит, что мы идем к тому, что мир будет страшно пере-
населен и всюду будут массы голодных людей. Мы будем не в
состоянии прокормить их, потому что фосфор исчезнет. И что
неизбежна война. Крупная война. Потому что все воору-
жаются. А если в Европе опять начнется война, то это — крах
цивилизации. Так вот, если это так,— значит, нам придется
жить в самую разруху. Нашему поколению, во всяком случае.
Но что же это будет, когда погибнет цивилизация? И разве
мы не должны что-то сделать, чтобы предотвратить это?
— Вот тут-то, Маргарет, и наступит социальная револю-
ция и все такое,— шутливо сказал ^Теодор, улыбаясь и помахи-
вая стеблем морской травы.
— Тедди не думает, что это может помочь.
— Тедди не хватает воображения,— сказал Теодор.
— Но вот у вас есть воображение и вы называете себя
ультракоммунистом. Так вот вы и представьте себе это и рас-
скажите мне об этой социальной революции.
— Ну, для всех нас жизнь станет гораздо свободнее,—-
сказал Теодор, обрадовавшись возможности как-то повернуть
разговор.— Для нас не будет существовать всяких «я не дол-
жен», «я не смею», которыми мы живем теперь. Мы будем сво-
бодны, откровенны и счастливы.
304
'Но Маргарет продолжала свое и даже не заметила,
как захлопнула перед ним дверь. Она искала ответа на очень
важный вопрос, который не давал ей покоя.
— Бэлпи, может ли быть, чтобы весь мир, все люди жили
до сих пор в заблуждении? Как можно этому поверить? Все
святые, и мудрецы, и философы? И короли, и государственные
деятели? Я думала об этом как-то ночью и не могла заснуть,
это не давало мне покоя. Ведь вот есть такое выражение:
«мудрость веков». А может быть, никогда и не было никакой
«мудрости веков», и это просто нелепая выдумка?
— Нет, как же! — воскликнул Теодор.— Пророки и фило-
софы. Наследие прошлого. Но толпа, толпа всегда была
глупа.
— Но почему же тогда они не учили толпу, не разъясняли
ей, не пытались сами управлять ею, чтобы предотвратить то,
к чему мы сейчас пришли?
— Попытки были. В Иудее и в других местах.
— Так, значит, вы считаете, что эти мудрецы были недоста-
точно мудры?
— Мир очень сложен,— сказал Теодор.
— И они были недостаточно мудры и недостаточно сильны
для него. Потому что, если бы это было не так, тогда у нас в
мире все шло бы отлично. Вы понимаете, Бэлпи? Я так на это
смотрю. Выходит, что все эти великие и прекрасные люди
прошлого были просто жалкими, неразумными и недостаточно
сильными людьми, которых история подняла на пьедестал
только для того, чтобы произвести на нас впечатление? Нет,
я хочу получить ответ на этот вопрос. И вы должны мне отве-
тить, если вы считаете, что мы с вами близкие друзья. Неужели
весь этот прогресс, вы понимаете, цивилизация и история,—
все это было простой случайностью, счастливым стечением
обстоятельств? Я хочу знать, что. вы об этом скажете. Неужели
те люди, которые создавали искусство и науку, прекрасную
музыку, прекрасные картины, все эти замечательные вещи,
были не чем иным, как только более крупным, более сложным,
более развитым видом животного, то есть по существу своему
чем-то столь же незначительным, как, например, мухи или
пчелы? Разве над этим не стоит подумать?
Она замолчала, и Теодор улыбнулся на ее очаровательную
серьезность.
— Да, так вот, что вы об этом думаете, Бэлпи? Вы верите,
что этот мир, который иногда бывает таким чудесным, произо-
шел случайно? И продолжает существовать случайно? Мы
должны получить ответ на это. Ведь мы же не кролики. Мы
должны знать. Где мы? А когда я вам задаю эти вопросы,
эти страшно важные вопросы, вы смотрите на меня с не-
приязнью и называете меня педантом за то, что я так мучаюсь
этим.
29 г. Уэллс, т. 2 305
— Маргарет! — сказал Теодор и сел рядом с ней.
Его не интересовали ее вопросы. И уж если на то пошло,
эти вопросы казались ему ужасно скучными.
— Взгляните, какой чудесный день. Посмотрите, как море
сверкает на солнце. Эти голубовато-зеленые и зеленовато-
голубые, сапфировые, изумрудные, ультрамариновые пятна на
поверхности. Оттенок за оттенком. Они ничего не значат для
вас?
Она посмотрела. Несколько секунд она смотрела на море,
обдумывая его слова.
— И это ваш ответ на все мои вопросы?
— Очень хороший ответ,— сказал Теодор.— Вот вы сидите
и мучаете сами себя,— продолжал он,— а ведь вы самое пре-
лестное существо в мире. Мне кажется, никогда в мире не су-
ществовало ничего более прелестного. Вы с головы до ног со-
зданы для любви. Но для вас все ценности жизни как-то пере-
местились. Вы хотите вести споры о том, откуда произошел
мир и для чего. Маргарет, мир существует для вас... Я люблю
вас. И вы можете любить меня. Я знаю, что вы можете меня
любить.
Она повернулась к нему с легкой улыбкой.
— Разве это причина, чтобы нам с вами нельзя было ни о
чем разговаривать?
Он ласково прикрыл ее руку своей.
— Маргарет, вы ничего не знаете о любви?
Она отдернула руку и обхватила колени, сплетя пальцы.
— Вы что, объясняетесь мне в любви, Бэлпи?
— А что же другое я могу делать?
— Ну, так я не хочу, чтобы вы это делали.
— Я не могу иначе.
— В любви должны участвовать двое.
— Несомненно.
— Так вот. Давайте поговорим откровенно обо всех этих лю-
бовных делах. Ведь мы же можем это сделать? Я очень люблю
вас, но я пока еще не хочу никаких любовных отношений.
Я хочу сначала немного подумать. Я хочу знать больше. Разве
мы не можем оставаться друзьями?
— Вы боитесь любви?
— Не знаю, боюсь ли; может быть, и боюсь.
— Но чего же здесь можно бояться? Вы же не думаете...
Вы что, боитесь последствий?
Он глядел на ее задумчивый профиль. Она ответила не
сразу, и он с досадой почувствовал, что краснеет. Что это за
необъяснимая сила в ней, которая заставляет его чувствовать
себя пристыженным?
— Бэлпи,— начала она и остановилась.
— Да? — сказал он несколько хриплым голосом.
Она слегка наклонила к нему голову. Нежный, чистый го-
306
лос с едва уловимои дрожью звучал медленно, вдумчиво,
словно подыскивая слова:
— Я думаю, вы наверно считаете меня невежественной
или очень наивной. В вопросах любви... Вы, может быть, ду-
маете, что я прочла несколько пьес и романов... Вы не пред-
ставляете себе, что дочь биолога, биолога с очень либе-
ральными взглядами, не может не знать обо всех этих ве-
щах, ведь это же так естественно... Я думаю...— Она старалась,
насколько могла, быть откровенной и рассудительной.—
Может быть... я знаю обо всем этом... столько же, сколько
и вы.
Да, но ведь у него была Рэчел. Но он не мог объяснить ей
всего этого сразу. Что он мог сказать? Он чувствовал, как нить
разговора ускользает от него.
— Я говорю не о знании,— сказал он, тряхнув головой и
отводя явно выдающие его смущение глаза от ее испытующего
взгляда.— Я говорю о любви.
— Вы говорите о любви,— сказала она, и снова поверну-
лась лицом к морю, и, казалось, погрузилась в свои мысли. Ее
переплетенные пальцы сжались сильнее.
Он решился на отчаянную попытку:
— Мы могли бы пожениться.
— Ну, это уж совсем нелепо — жениться в таком возрасте.
— Любовь — это не нелепость. Нет. Любовь не нелепость.
Любить в нашем возрасте так же естественно, как жить.
Это и значит — жить. Без этого мы не живем.
— Я еще не хочу начинать жить такой жизнью,— сказала
она.— Если это жизнь. Я вас люблю, Бэлпи,— правда,— но,
может быть, я люблю вас не так. Во всяком случае — еще не
так. И я боюсь.
— Но если я сумею вас убедить...
— Бэлпи, я все знаю об этом. Уверяю вас, я понимаю, о чем
вы говорите. Я прекрасно понимаю, что у вас на уме и о чем
вы просите. Я современная девушка. Ничуть не отсталая, и все
такое... И я совсем не об этом говорю. Но вот... у меня такое
чувство, что раз это начнется,— это меня захватит, поглотит,
уничтожит.
— Но, дорогая моя, в этом-то и есть освобождение.
Она покачала головой.
— Или у вас нет воображения, нет желаний?
Она не ответила. Он повторил вопрос. На этот раз у нее
вспыхнули щеки. Она сидела, упорно повернувшись в профиль.
Голос ее слегка прерывался.
— Бэлпи, вы помните, как вы поцеловали тогда меня на
вечере под Новый год? Так вот... уже потом что-то во мне са-
мой как будто предостерегало меня: это так прекрасно, или так
важно и значительно, что не надо с этим спешить.
— Значит, я должен ждать...
20*
307
Некоторое время она задумчиво смотрела на горизонт,
словно прислушивалась к чему-то. И Теодор почувствовал не-
вольную дрожь оттого, что она так медлила.
— А разве вы ждали? — спросила она тихо и посмотрела
на него.
Он взглянул в ее чистые глаза и на миг чуть было не под-
дался искушению солгать. Но они смотрели с такой зоркой
проницательностью.
— Черт! — сказал он и отвернулся от нее.— Что же мне
было делать? Ведь у меня в жилах кровь, а не вода.
Он закрыл лицо руками.
На этот раз молчание было очень долгим. Потом она ти-
хонько погладила его по плечу:
— Бедный милый Бэлпи. Я мучаю вас. Но... разве это моя
вина?
— Бедный милый Бэлпи! — злобно повторил он и отдернул
плечо от ее руки.— Вы не понимаете. Вы не понимаете, что
такое страсть. Вы бесчувственная, непробудившаяся. Холодная.
О Маргарет! — Он повернулся к ней.
Его охватило необычайно сильное волнение. Он чувствовал,
что его лицо искажается. К глазам подступают настоящие
слезы. Ее лицо отражало его страдание.
Ему было приятно, и он был потрясен тем, что может пла-
кать от страсти. До сих пор он никогда не плакал от страсти.
Устоит ли опа перед этим? Он умолял ее исступленным голо-
сом, переходившим почти в рычанье:
— Отдайтесь мне, Маргарет. Отдайтесь мне, сейчас. Отдай-
тесь, спасите меня от меня самого.
В течение бесконечно долгой минуты она не отвечала, от-
вернувшись от него. Она смотрела на море.
Уже без слез он жадно смотрел на нее, с надеждой, с сомне-
нием и надеждой в глазах.
— Нет,— сказала она и повторила: — Нет.
— Еще не время, вы хотите сказать?
— Нет,— живо ответила она.— Нет.
— Почему?
— Не знаю, почему, но — нет. Я не могу. Я не могла бы.
Это невозможно. Теперь, когда вы просите меня, я вижу, как
это невозможно.
Больше она ничего не сказала. Наступило долгое молчание.
Итак, все кончено. Он чувствовал, как в нем поднимается
бессмысленная ненависть, но подавил ее.
— Как хотите, Маргарет,— сказал он.
— Как хотите, Маргарет,— повторила она, передразнивая
его.— Но почему вдруг такой тон? С одним человеком я говорю
или с двумя? Разве мы не друзья с вами? Разве мы не любим
друг друга как-то по-другому? И очень сильно? Я люблю вас,
308
я знаю, что очень люблю вас. И только потому, что я не падаю
в ваши объятия, не отвечаю на ваше желание, не загораюсь,
когда вам этого хочется,— вы вдруг начинаете меня ненавидеть.
Да, да, я знаю,— вы сразу меня возненавидели. Вы исчезли,
на вашем месте появился кто-то другой. Где же вы, Бэлпи? Где
вы? О чем вы думаете? Что вы думаете? И буду ли я второй
по счету, или, может быть, третьей?
— Дурак я был, что признался вам.
— Разве нужно быть дураком, чтобы говорить правду? Это
тяжело иногда, но я так привыкла к этому. Да вы и не могли
не сказать. Я угадала. Я как-то умею угадывать все, что вас
касается. Иногда я думаю, говорите ли вы правду даже самому
себе, Бэлпи?
— Бэлпи! — воскликнул он.— Ради бога, перестаньте назы-
вать меня Бэлпи.
Она подумала, что действительно это звучит несколько
глупо в таком серьезном разговоре.
— Ну, хорошо — Теодор. Послушайте, Теодор. Я люблю
вас. Правда, люблю. Люблю ваши милые волосы, ваши рассеян-
ные жесты и ваш рассеянный ум. Вы милый, милый Теодор.
И все же теперь больше, чем когда-либо, сейчас во всяком слу-
чае — я не хочу. И как я могу хотеть? Разве я создала такое
положение? Почему вы не хотите смотреть фактам в лицо,
Теодор?
На этом она оборвала разговор и замолчала. Она была
совсем рядом с ним, казалось, только протяни руку, но вместе
с тем так далеко от него, как если бы она находилась в каком-
то другом измерении.
Он сел, стараясь придумать какой-нибудь подходящий от-
вет, но ответить было нечего. Что можно было на это ответить?
Самый естественный для нас выход из в всех наших затрудне-
ний — это злоба. Его охватила бешеная злоба на ее бесчув-
ственность.
— Ах! — вырвалось у негр с чувством безграничного от-
вращения. И он вдруг вскочил и, не сказав ни слова, пошел
прочь.
— Вот оно как,— произнес он, обращаясь к миру.
Она изумленно смотрела на его удаляющуюся спину. Ни-
когда еще с ней не случалось такой неожиданности.
Маргарет чувствовала, что если она встанет и пойдет за
ним, она пропала, но каким-то непостижимым образом сердце
ее последовало за ним. Было что-то удивительно трогательное
в его огорчении.
Но Теодор не находил ничего трогательного в поведении
Маргарет.
«Смотреть в лицо фактам, скажите пожалуйста!—думал
Теодор.— Самое время смотреть в лицо фактам... Мой идеа-
лизм... Из-за него-то я и остался в дураках».
309
5
ЛЮБОВЬ НЕБЕСНАЯ И ЗЕМНАЯ
Теодор снова вернулся к Рэчел. Если бы даже ничего и не
толкнуло его обратно, он все равно вернулся бы к ней, пови-
нуясь самым примитивным инстинктам.
После того решительного разговора он всячески избегал
Маргарет, а в Лондоне после каникул не видал ее по целым
неделям. Он был в большой обиде на нее за то, что она отка-
залась играть предназначенную ей роль в его драме. Она
боится, убеждал он себя, она педант, ледышка, она безжизнен-
ная. Редактор его подсознательного «я» выправил до неузна-
ваемости его разговор с нею, так что в конце концов в нем не
осталось ничего, кроме ее унизительного отказа. В глубине его
существа снова появилась и отдалась в сердце та мучительная
боль, которую он испытывал раньше. Но в повседневной жизни
он изгонял ее из своего сознания встречами с Рэчел.
Вокруг Рэчел он сплел такую прочную и затейливую пау-
тину вымысла, что в ней увязали даже все те откровенности,
в которые охотно пускалась Рэчел. Он узнал, что она была на
два года старше брата, а Мелхиор был старше Теодора года
на три, но он старался игнорировать эту разницу в возрасте.
У нее и до него были любовники. Она и не скрывала этого. Он
был убежден, хотя и не желал признавать этого, что даже те-
перь он не был ее главным увлечением. Ее ласки утратили
прежнюю горячность; они стали привычными; она расточала
их, уступая какому-то раздражению своих взбудораженных
нервов, и даже не старалась казаться влюбленной. Она обра-
щалась с ним, как с мальчишкой, говорила с ним пренебрежи-
тельно, шутливо подсмеиваясь. Даже ревнивые нападки на
Брокстедов свелись теперь к редким случайным упоминаниям.
Она не давала о себе знать по две, по три недели. Чем она
была занята в это время, он не знал. Он закрывал на это глаза,
старался не видеть и забывал. Во всяком случае, она давала
ему то, в чем ему отказала Маргарет.
Романтический толкователь в его сознании объяснял, что
Рэчел скрывает свою любовь к нему, прячет ее под грубоватой
фамильярностью, что она не смеет дать воли своей страсти,
сдерживает ее, боясь, как бы она не вспыхнула всепожирающим
пламенем. Таким образом, действительность становилась
приемлемой, и первые зимние месяцы в Лондоне он прожил в
состоянии относительного довольства. Но от времени до вре-
мени его самоутешение и самоуспокоение подвергались мучи-
тельному испытанию. Его ложе из роз превращалось в весьма
прозаическую и помятую постель в убогой комнатушке, а его
стройная, пышноволосая, смуглокожая грешная подруга ока-
310
зывалась отталкивающей распутницей, которую что-то по-
стоянно гложет и побуждает разрушать все иллюзии.
У нее были превратные понятия о жизненных ценностях.
Это во всяком случае он должен был признать. Совершенно
превратные.
В его мысленных репетициях свиданий с Рэчел Бэлпингтон
Блэпский мог быть очаровательным и искусным любовником,
точь-в-точь в духе Ле Гальена. В изящных беседах, никогда не
достигавших ушей Рэчел, он пленял ее своим дерзким блестя-
щим остроумием и богатой выдумкой. Но когда они встреча-
лись, все разговоры обычно вела она.
Казалось, она вечно мучилась загадкой своего собственного
существования. Она искала выхода из противоречия своих
побуждений. Юность и юноши застали ее врасплох, а теперь
она приходила к замечательным выводам.
— Тебе кажется, что ты любишь меня, милый, но ты вовсе
не любишь. И знаешь, что не любишь.— Она лежала на спине,
закинув ногу на ногу, пробуя, как далеко она может раздви-
нуть пальцы.
— Разве я был бы здесь...
— Ну, конечно,— сказала Рэчел.— Но к чему обманывать
себя? Всякий раз,— продолжала она,— как женщина берет
нового любовника, любовь все больше утрачивает цену... Для
нее...
В этих рассуждениях было что-то неприятное, и Теодор ни-
чего не нашелся ответить.
— Никогда не надо есть ничего сырого,— сказала Рэчел.—
Вот мой совет молодым женщинам.
— Но мы прекрасно позавтракали!—Теодор возмутился.
Они завтракали на какой-то уличке в Сохо, он угощал и, как
ему казалось, проявил себя очень опытным и сведущим в этом
деле.
— «Сырое», дорогой мой, было сказано символически.
«Сырые» вещи в жизни — это похоть, голод, страх и так далее.
Свари их. Приправь хорошенько.
Ему показалось, как будто он слышал уже нечто подобное
раньше. Но его ум привык убираться с дороги, когда говорила
Рэчел. Он вел себя точь-в-точь как резвый от природы щенок,
который прячется под стол, когда приходит вон тот человек.
Может быть, он боится, что в него чем-нибудь запустят.
- Рэчел продолжала пояснять.
— Предположим, что ты голоден. Ты готовишь обед. Аппе-
тит у тебя возбужден/ но ты можешь подождать. Если тебе
очень хочется есть — ты приготовишь кое-как, что попало.
А если ты смертельно голоден, ты съешь прямо так, сырое.
Понимаешь? Вот и любовь так же! Если бы было время ждать.
Но разве у всех есть время? Ведь не всегда так бывает. Ты
подхватываешь кого попало, а потом видишь, что ошибся.
311
Стоит ли ждать, когда тебя обуревает похоть? Она не позво-
ляет ждать. Но зачем же называть это любовью, милый? Мы,
коммунисты, так не делаем. Я думала, ты ультракоммунист.
— Так оно и есть,— сказал Теодор.
— Ну, вот, например, это — любовь, по-твоему?
— Это — языческая любовь,— сказал Теодор.— Самая сме-
лая и самая прекрасная. Тут все честно. Любовь плоти. Любовь
жизни.
Он вспомнил раскатистый голос отца.
— Бэ-эсподобное вожделенье,— сказал он с одобрительным
смешком, который он так хорошо помнил.— Бэ-эсподобная
страсть.
Спохватившись, он подкрепил свои слова поцелуем и
лаской. Но Рэчел рассеянно отвечала на его ласки. Ей хоте-
лось продолжать свои рассуждения.
— Языческая и христианская. Христианская и языческая.
Какое идиотское противопоставление! Чисто викторианское.
Я уверена, что язычники были такие же респектабельные люди,
как и всякие другие. Занимались сплетнями. Возмущались
чьим-то неприличным поведением. Вот, например, христиан
с их тайными сборищами язычники называли распутной
чернью. Неподходящее слово «языческая», уверяю тебя. Со-
всем сюда не подходит.
— Греческая.
— Греческая? Не уверена.— Но ее неуверенность длилась
не больше секунды.
— Такое же дурацкое противопоставление... Греческая и
еврейская! Ты никогда не встретишь женщину нееврейку, кото-
рая была бы такой «греческой», как я. Милый, ты видел когда-
нибудь репродукцию картины «Небесная и земная любовь»?
Madame Небесная — очаровательная женщина, принаряжен-
ная, закутанная, a madame Земная — безо всяких одежд. Вроде
меня сейчас. Так вот, это то, о чем я сейчас говорю. Я думаю,
мужчина может любить одну женщину одетую, а другую раз-
детую.
— Эта картина неправильно названа,— сказал Теодор.—
Никто не знает, какое название ей дал Тициан. Если только он
вообще дал ей название. Французы называют ее «Источник
любви» или что-то в этом роде'.
— Чепуха,— возразила Рэчел.— Там противопоставляются
два вида любви — Небесная и Земная. Мне совершенно без-
различно, кто первый назвал ее так. Это правильное название.
Не будем вечно препираться из-за слов/ Ты понимаешь, что я
хочу сказать, и достаточно. Небесная, платоническая, христиан-
ская, благопристойная,— все это одно и то же.
Теодор вспомнил одно замечание Раймонда по поводу фото-
гравюры с шедевра Тициана. Он преподнес его теперь прежде,
чем сообразил, как это может повернуться.
312
— Знаешь, что удивительно в этой картине,— сказал он.—
И не думаю, чтобы кто-нибудь это замечал: ведь обе эти жен-
щины в сущности одна и та же женщина. У них одно и то же
лицо.
Она слегка повернулась, не вынимая рук из-под головы,
и посмотрела на него поверх локтя.
— Ну, а для тебя, дорогой мой, ведь это не одна и та же
женщина, а?
— Я не люблю никакой другой женщины,— твердо ска-
зал он.
— Мне лучше знать. Маргарет — твоя Небесная любовь.
Зачем лгать? Какой прок в этом? Может быть, у меня тоже
есть моя Небесная любовь. Вполне одетый джентльмен. Кото-
рый никогда не приходит неодетым. Почему не быть честным?
Не смотреть фактам в лицо?
Она зажала ему рот рукой и не дала возразить.
— Не фыркай. Я тебя знаю. Когда мы бываем здесь, я ду-
маю о тебе не меньше, чем о себе. Меня это забавляет. Ты мне
нравишься. Но ты — ты никогда обо мне не думаешь. Ты ста-
раешься забыть меня даже тогда, когда я в твоих объятиях.
Ты ласкаешь какую-то воображаемую женщину. Я тебя не
виню. Ты честно играешь. Потому что в это время ты не ду-
маешь не только о той живой женщине, которую ты обнимаешь,
но даже о себе самом, о том, который ее обнимает. Ты в это
время — о! замечательная личность! Возлюбленный принц со
своей возлюбленной принцессой.
— Мне кажется, все влюбленные, которых по-настоящему
влечет друг к другу, это — принцы и принцессы,— сказал
Теодор.
— Все это очень хорошо. А потом? Когда она надевает
платье, она попрежнему остается Любовью? Небесной, духов-
ной, божественной? Или она исчезает? И он,— когда он оде-
нется или когда разденется,— будет ли он все так же олице-
творять собою Любовь? Ну, хорошо, оставим его в покое. Как
это, по-твоему, выходит? Она надела платье, и она попрежнему
небесная, и все также принадлежит тебе, и ты днем и ночью
принадлежишь ей. Прекрасная, совершенная, любовь на всю
жизнь. Всегда вместе. Вместе работаете. Ты ему помогаешь и
ухаживаешь за ним. Я хотела сказать — за ней. Так это
должно быть? Но твоя небесная любовь не хочет раздеваться,
а моя — он теперь на том свете. Так вот мы с тобой и очути-
лись здесь. Что-то не совсем то, у обоих. Я не стала ждать.
Давным-давно, задолго до. тебя, задолго до того, как мне
исполнилось столько лет, сколько сейчас Маргарет. Нет, я не
стала ждать. И ты не мог ждать. (Тебе так не терпелось!)
А может быть, это только иллюзия, эта прекрасная леди о двух
обличьях? И все только вот к этому и сводится? Многие кон-
чают этим. Единственная любовь — это любовь без платья.
313
Остальное — вздор. Но ты еще долго не придешь к этой истине,
хотя и лежишь здесь со мной.
— Это не совсем так,— сказал Теодор.
— И это все, что ты можешь сказать сейчас. А? Но через
день или через несколько дней ты все это разъяснишь
себе по-своему. Ты все так чудесно разъясняешь себе
самому. Ты опять водворишь меня на место,— я ошибка,
каприз. Но все равно, дорогой мой, стоит мне только захотеть,
я знаю, что ты придешь на мой зов. Это, милый мой, факт.
Она взглянула на часы-браслет.
— Я все болтаю и болтаю, а уже четверть четвертого. По
крайней мере хоть часам-то надо смотреть в лицо! Видишь.
Мне нужно быть дома к пяти. Мелхиор, в порыве братской
любви, собирался куда-то повести меня. Еще часок грешной
любви, а потом будем вставать и одеваться.
6
ОБЕЗЬЯННИК
Когда Теодор не испытывал физического влечения к Рэчел
Бернштейн и не забывался в ее объятиях, он чувствовал к ней
все большую и большую неприязнь. Ее пренебрежение к нему,
когда она разговаривала с ним, ее неспособность понять его
исключительно возвышенную натуру вызывали и укореняли
в нем чувство обиды. Она обращалась с ним так, что он чув-
ствовал себя перед ней мальчишкой. Она охотно брала его
с собой в провожатые и спутники во всякие маленькие экскур-
сии и прогулки. Она не дожидалась, чтобы он сам предложил
ей какое-нибудь развлечение или придумал какую-нибудь
поездку, словом, доставил ей какое-то удовольствие, за которое
она могла бы его поблагодарить.
Она требовала, чтобы он сопровождал ее куда ей взду-
мается, и обычно брала на себя большую часть расходов, а то
и целиком все, когда у него не было денег,— не допуская и
мысли, что он может отказаться пойти. В таких условиях чув-
ствовать себя Бэлпингтоном Блэпским было чрезвычайно
трудно.
Они ездили в Кью-Гарденс смотреть на рододендроны, не-
сколько раз были в Ричмонд-парке, один раз в Гэмптон-Корте
и, наконец, отправились в Зоологический парк.
Зоологический парк привел Рэчел в самое оживленное на-
строение. Она горячо заинтересовалась любовью животных.
Ей хотелось знать, как любят змеи и рыбы. Она пришла в ужас,
представив себе, как может вести себя влюбленный слон. Носо-
314
роги дали ей повод к нескромным шуткам. Тюленя она нашла
довольно симпатичным возлюбленным. Затем она пустилась
в громкие рассуждения о любви крупных хищников.
— Если бы я была Цирцеей, дорогой мой, я думаю, что
превратила бы тебя в хорошенького круглоголового золотисто-
коричневого ягуара с темными пятнами.
— У меня были бы когти и клыки,— сказал Теодор.
— И у меня тоже. И мы бы страстно рычали. Ведь не ду-
маешь же ты, что я осталась бы бедной, беззащитной кокней-
ской девушкой, если бы я могла носить свою собственную
шкуру. Какая жалость, что мы не можем превращаться
в разных животных,— говорила она.— Вот было бы интересно.
Увлекательно и интересно.
Она становилась все больше похожа на распущенную, плохо
одетую, болтливую, но необыкновенно восприимчивую Венеру
в европейском платье, которая сошла в мир животных с целью
найти там какие-нибудь новинки для собственного употреб-
ления.
Но то, что она увидела в обезьяннике, оказалось слишком
даже и для нее. В те дни доктор Чалмерс Митчелл был только
на пути к своей славе, и большую часть обезьян все еще дер-
жали в одном большом здании. Многие из них сидели дюжи-
нами в больших клетках, где было страшно жарко и бегало
множество огромных коричневых жирных тараканов. Любо-
пытные и дружески расположенные посетители наперебой уго-
щали обезьян орехами, финиками, конфетами и фруктами.
В этой благоприятной обстановке непосредственная и несвое-
временная влюбчивость приматов проявлялась весьма пышным
и непристойным образом.
Эти проявления вернули Рэчел к человеческим понятиям
неприличия.
— У«йдем отсюда, дорогой. Они слишком похожи на нас.
Идем отсюда. Пойдем, выпьем чаю там наверху, у попугаев.
А что, попугаи тоже предаются любовным наслаждениям? Эти
во всяком случае не обнаруживают никаких признаков влюб-
ленности. Они совершенно спокойны, если только эти крики не
свидетельствуют о половой угнетенности. Дорогой мой, в мире
слишком много пола. Таких вещей, как Зоологический парк,
не должно существовать.
— Но большинство животных,— сказал Теодор,— любят
только в период спаривания.
— Но мы и наши маленькие коричневые родственники не
разбираем ни времени, ни периодов. Почему мы такие невоз-
держанные? Что это, признак более высокой ступени развития?
Ты совершенно верно сказал. Леопарды почти всегда приличны
и благопристойны. Как и большинство животных. Одинна-
дцать месяцев в году они все бесполые. Потом у них бывает
течка, и все кончается. А человек — что за существо! Ты когда-
315
нибудь читал Фрейда, милый? Ты должен прочесть. Он все
сводит к одному. Весь мир — это постель, и все мужчины и
женщины — судорожно барахтающиеся в ней любовники. На
долю каждого приходится несколько ролей, а действия проте-
кают в семи возрастах. Сначала младенец, который пищит и
пускает слюни на руках кормилицы и уже в это время обнару-
живает поразительные комплексы, связанные с отцом и ма-
терью; затем — школьник, с сияющей свеженькой мордочкой
и с распаленным воображеньем, которое рисует ему разные
непристойности в то время, как он нехотя тащится в школу.
Потом — ты. Да, ты. Настоящий любовник. Потом — отец се-
мейства, обросший шерстью, как леопард. И так далее.
На все это нечего было ответить, можно было только пока-
зать, что это его ужасно забавляет. Он откинулся на спинку
стула и засмеялся, показывая, как это его забавляет. Затем
уже серьезным тоном сказал:
— Остались кой-какие малости, о которых ты забыла,
Рэчел. Существует искусство, литература, наука, государствен-
ные дела, религия. А еще есть открытия, изобретения.
— Давай разберем их,— сказала Рэчел, с задумчивой рас-
сеянностью опуская ложку в горячий чай.— Разберем. Пол-
замешан везде.
— Замешан — да,— сказал Теодор.— Все люди — мужчины
или женщины. Но это — не все. И это даже не главное, для
них существует и многое другое.
— Это ты так думаешь,— возразила Рэчел.— Тебе не ме-
шало бы почитать кое-что по психоанализу, мой невинный
ягненочек. И открыть глаза. Возьмем, например, коммерческую
деятельность, промышленность и торговлю. Зачем люди зани-
маются всеми этими делами? Чтобы добывать деньги. Зачем
им нужны деньги? Чтобы иметь женщин. Чтобы получить
власть над женщиной. Чтобы быть хозяином в своем доме. Что
такое деньги? Не что иное, как власть над другими. Власть
распоряжаться людьми. Заставлять их подчиняться. А кто
может так подчиняться, как женщина? А что такое политика?
Власть распоряжаться торговлей и промышленностью. А зачем
распоряжаться? Пол, пол, пол, говорю тебе.
— Черт! — вскрикнул Теодор и отдернул руку, ибо Рэчел
вынула ложечку из горячего чая и ласково, но крепко при:
жала ее к его руке.
— Ты теперь скажешь, пожалуй, что и в этом твоем жесте,
вот то, что ты обожгла мне руку, тоже замешан пол,— сказал
Теодор с несколько запоздалой усмешкой.
— Конечно. Почитай Фрейда.
— Ты одержимая,— поддразнил ее Теодор.
— Весь мир — одержимый. В этом и заключается его ве-
ликое открытие.
— А твой коммунизм! — сказал Теодор.— Наш коммунизм.
316
Наше великое движение против социальной несправедливости.
Это, пожалуй, нечто более значительное, чем пол.
— Это борьба за то, чтобы вырвать власть из рук капита-
листов и дать свободу сексуальной жизни.
— А искусство?
— Какой художник может обойтись без обнаженного тела?
— Пейзаж?
— А разве тебе когда-нибудь случалось жить на лоне при-
роды и при этом не мечтать о любви. Мне — никогда. А что
такое роман, драма, музыка, как не пол? Перипетии пола.
Музыка — возбуждение. Все искусство основано на ритме.
Произведения Вагнера — это откровенная и бесстыдная оргия.
Ты говоришь, Бетховен? Прочти-ка «Крейцерову сонату» ста-
рика Толстого. Музыка есть пища любви, говорит Шекспир.
Ну что же, продолжай.
И Рэчел, громко прихлебывая, принялась пить чай, и ее
темные глаза под черными бровями следили за Теодором по-
верх чашки.
— Ты, знаешь, большой юморист,— сказал Теодор, и вдруг
его осенило: — Постой-ка! А математика?
— Очко в твою пользу, голубчик. Вот уж не знаю. Я по-
дозреваю математиков. Но никаких точных доказательств
у меня сейчас нет. Разве что ритм?
— А религия?
— Вот ты и попался! Я так и думала, что ты это скажешь.
Во всем мире нет ничего более сексуального, чем религия.
Разве ты не видал никогда индусского религиозного искусства?
Разве ты не понимаешь значения обряда обрезания над каж-
дым мальчиком семитом?
— Нет,— сказал Теодор с убеждением.— Это неверно. Ос-
новой большинства религий является солнечный миф. Гор
в Египте был солнце.
— Это ведь связано с жатвой, милый?
— Да, связано с жатвой.
— С весенним временем, с посевом, с оплодотворением по-
лей, с зачатием и размножением. Почему ты не смотришь
в лицо фактам? Говорю тебе, что мы живем в обезьяннике,
а ты сидишь и споришь. Если откинуть чистую сексуальность
и косвенную сексуальность, сублимированную сексуальность
и извращенную сексуальность, это значит откинуть человече-
скую жизнь. То есть в сущности откинуть всяческую жизнь,—
прибавила она и махнула рукой с шоколадным эклером, обни-
мая этим жестом весь Зоологический парк, весь животный
мир.
В это время попугай крикнул, словно протестуя, и Теодор
расхохотался.
— Попугаю лучше знать. Впрочем, думай как хочешь.
— Не я хочу. А таков мир. Я бы хотела, чтобы этого не
317
было. Я бы хотела освободиться от этого голода плоти. Как
он мучает меня иногда. Как унижает!
Она на минуту задумалась. Лицо ее вдруг стало как-то
старше и серьезнее.
— Рано или поздно у меня будет ребенок,— задумчиво
сказала она.— Но не от тебя, мой милый глупыш. Не пугайся.
Мне уже начинает надоедать эта игра с моими органами.
Нервная усталость? А может быть, что-нибудь и более серьез-
ное. Если я от этого не отделаюсь, я пойду напролом. Да, я
подыщу подходящего родителя и заведу младенца. Вот только
мне минет тридцать лет и я вступлю в права владения своим
капиталом. Но ты не огорчайся. Мне еще долго, долго нс
исполнится тридцать лет. И, может быть, я еще очень долго
буду любить тебя... Я думаю, что это будет ужасно больно...
ГЛАВА ПЯТАЯ
Теодор и смерть
1
СМЕРТЬ РАЙМОНДА
Но в то время как сексуальное брожение и связанные с ним
счастливые возможности способствовали возникновению слож-
ных противоречий и тщательному переосмыслению понятий, со-
знанию Теодора уже суждено было переключаться на новый
строй мыслей. Ему предстояло познакомиться со смертью.
До сих пор он инстинктивно избегал задерживать свое вни-
мание на этой существенной реальности. Ум так же, как и тело,
поворачивается, покуда есть возможность, спиной к смерти и
опрометью кидается от нее прочь. Memento mori 1 может под-
крадываться и ходить за вами целые годы, пока не припрет вас
к стене. Но Бэлпингтон Блэпский во всем расцвете своих ар-
тистических и литературных дарований, со своей уклончивой,
податливой и легко увертывающейся совестью и романтиче-
скими устремлениями,— даже если он иногда и колебался в
своих устремлениях между небесной и земной любовью,— был
поражен внезапно, как стрелой, мыслью, что и он должен
умереть.
Однажды в ноябре, когда Клоринда была в Лондоне, Рай-
монд простудился. Его слегка познабливало, дома было как-то
1 Помни о смерти (лат.).
318
неуютно, и он решил, что хорошая, бодрая прогулка пойдет
ему на пользу. Сначала светило солнце, но затем туман с моря
надвинулся на берег, словно преследуя его. Когда он стал под-
ниматься на гору, туман двинулся за ним. Он затянул вокруг
него все, изгороди и кусты превратились словно в чернильные
пятна на пропускной бумаге, а все остальное, земля, небо и
море, утонуло и исчезло в молочной белизне. Раймонд уже не
мог сообразить, поднимается он или спускается. Туман прони-
зывал его до костей, не давал ему дышать. Ему было холодно,
но он обливался потом. Он продолжал идти вперед, не решаясь
повернуть домой, гонимый желанием уйти от своего собствен-
ного беспокойного «я». Наконец, ему стало так плохо, что он
вынужден был присесть в лесу на поваленное дерево; он си-
дел, кашляя и дрожа. Потом попросил проезжавшего мимо воз-
чика подвезти его до станции Пэппорт; там он нанял кеб и
приехал домой. Он сразу лег в постель, положив в ноги бу-
тылку с горячей водой, вода оказалась не горячая, а чуть теп-
лая, так как служанку собирались уволить; а когда на следую-
щий день Клоринда вернулась домой, она застала его в жару;
он с трудом дышал, щеки провалились, глаза блестели. Про-
студа отразилась на легких. Он мучительно хрипел и кашлял.
Доктор велел поставить горчичники и объявил, что у него дву-
сторонняя пневмония. Он бредил, без конца говорил о фило-
софии варягов и о том, что он любит высоких белокурых жен-
щин. «Воинственная любовь»,— твердил он беспрестанно и
сбрасывал с себя одеяло, несмотря на все усилия сиделки. По-
том внезапно угомонился, прошептал, что ему лучше, и на рас-
свете умер. Смерть наступила так внезапно и неожиданно, что
за Теодором послали, когда он уже скончался.
Клоринда позвонила по телефону Люцинде, которая тотчас
же поехала и застала Теодора в постели. Она чувствовала, что
должна смягчить удар и подготовить его. Она не сказала ему,
что Раймонд умер. Она сказала только, что он «очень, очень,
очень болен. Действительно очень болен. Ты должен быть го-
товым к самому худшему».
Теодор, по мнению тети Люцинды, принял это известие со-
вершенно неподобающим образом. Он смотрел на нее сонно,
тупо, недовольно; ему вовсе не хотелось вставать и торопиться
на вокзал Виктория к утреннему поезду. Она не знала, что он
условился с Рэчел пропустить сегодня школу и встретиться
с нею днем и что теперь он был в большом затруднении,
как сообщить ей, что их уговор отменяется. Ей пришлось
помочь ему одеться и собраться. Позавтракать он мог
в поезде.
С вокзала Виктория он послал Рэчел телеграмму: «Не со-
стоится». Даже если Мелхиор и перехватит ее, не много он из
нее поймет.
Незадачливый любовник купил билет, нашел вагон-ресто-
319
ран, заказал яйца и бекон, и тень оскорбленной Рэчел улету-
чилась из его памяти.
Драматическая значимость сегодняшнего утра начала про-
никать в его сознание. Болезнь Раймонда приобретала все бо-
лее глубокий, более значительный смысл. Он был очень-очень
болен; можно сказать прямо, он был при смерти. Все прозрач-
ные намеки тети Люцинды сложились вдруг в совершенно
твердую уверенность. Теодор был не простой пассажир, кото-
рый едет по каким-то своим ничтожным делам или повседнев-
ным обязанностям. Он — единственный сын, который торо-
пится к умирающему отцу. Какова будет их встреча? Что он
должен сказать или сделать?
Картины последнего прощания, предстоящего ему, вставали
в его воображении. Он драматизировал их по своей привычке.
Но это были не только мелодраматические сцены. Он чувство-
вал, что ему очень больно думать о смертельной болезни Рай-
монда, и множество трогательных мелочей, проявления отцов-
ской снисходительности, взрывы блестящего остроумия, удиви-
тельная неожиданная доброта, маленькие подарки — все это
ожило в его памяти. Он вспомнил, как он раздражал Рай-
монда, как он капризничал, упрямился и шумел, когда
у отца болела голова. Он надеялся найти такие слова, которые
выразили бы отцу всю его нежность и раскаяние, вызванное
этими воспоминаниями. Но это желание незаметно перешло в
импровизацию,, он обращался к Раймонду с речью, которая
должна была потрясти его и возвратить его к жизни. Он пред-
ставлял себе, как он говорит эту речь, как он стоит на коленях
у постели, неподвижный, потрясенный. Он сжимает руку отца
в долгом прощальном рукопожатии. Их соединяет чувство глу-
бокого взаимопонимания. Семейные традиции — то, что не тре-
бует слов.
Ответное пожатие медленно слабеет. Кончено, все кон-
чено. Он встает, бледный, но без слез, он — последний из Бэл-
пингтонов.
Клоринда встретила его в дверях.
Казалось, будто со времени их последней встречи она пере-
несла тяжелую болезнь. Ее глаза, волосы, кожа потеряли свой
блеск. Кожа казалась обвисшей. Ей было холодно, и она на-
дела старый выцветший ивернесский плащ Раймонда поверх
черного с красным платья. Она казалась в нем осиротевшей и
жалкой. Мать и сын смотрели друг на друга, не обнимаясь.
— Он умер,— сказала она беззвучным голосом.— Во сне...
Он совсем не мучился...
Слова Клоринды уничтожили все его речи.
— Он совсем не мучился,— повторил он за ней; невнятно
пробормотал «хорошо» и затем неловко поцеловал ее,
— Ты завтракал, милый? — спросила она.
Сиделка и другая женщина были заняты чем-то таинствен-
320
ным там, наверху. Теодору пришлось просидеть долгие полчаса
внизу, в комнате Раймонда, среди отцовских вещей, прежде
чем можно было подняться наверх к покойнику. Он сел в от-
цовское кресло у длинного дубового стола и в первый раз
с тех пор, как он себя помнил, увидел на столе вазу без
цветов.
Несколько минут Теодор сидел, ни о чем не думая. Затем
начал оглядываться по сторонам. Встал. Выдвинул один за дру-
гим ящики письменного стола. Он был уверен, что где-нибудь
в доме непременно существует рукопись Раймонда, великий
исторический труд, уже почти законченный. Быть может, он
сумеет завершить *тот труд, и это будет свидетельством сынов-
ней преданности. Поистине достойным свидетельством. Речь,
которую он сочинил в поезде, можно дать в предисловии, ярко
оттенив лучшие стороны отца и его самого. Но этому предисло-
вию не суждено было быть написанным: ему так и не удалось
найти отцовской рукописи.
Он приступил к поискам с большой тщательностью. В ком-
нате, кроме стола, стоял еще высокий секретер, ящики и там
и тут были набиты доверху запиханными в беспорядке руко-
писями, смятыми гранками обзоров и статей, разрозненными
заметками, вырезками из газет и т. п. Он начал вытаскивать
эти груды скомканных бумаг, сначала почтительно, а затем, по
мере того, как обнаруживалось, что они собой представляют,—
все более и более поспешно. Он надеялся найти хотя бы один
ящик в порядке, но порядка не было ни в одном. Не было
ничего, хоть сколько-нибудь похожего на более или менее солид-
ную законченную рукопись. Это был не какой-нибудь подобран-
ный, отложенный материал, это был просто ненужный, свален-
ный кое-как хлам. Все решительно. Без всякой системы, без
всякой последовательности. Ему попались две-три красивые
записные книжки с началами глав и грандиозными «планами
повествования». Но в каждой из них повествование не шло
дальше десяти — двадцати страничек. Было еще пять-шесть
тетрадок с банальными заглавиями, с отрывочными наброс-
ками романов или рассказов, не имеющих ни малейшего
отношения к варягам. Даже сыновняя преданность не поме-
шала Теодору усомниться в их низкопробности. Повидимому,
это были попытки «дешевого жанра», рассчитанные на вкусы
публики. Раймонд решил побить проклятых спекулянтов их
собственным оружием. «Дешевый жанр» во всяком случае не
подлежал сомнению. Попадались кое-какие отрывки стихов;
самый длинный из этих отрывков оказался наброском «Песни
варяжских женщин». Тут было несколько звучных строк, но
они перемежались с обильными «тум-ти-ри-том»,— которые,
повидимому, должны были замениться какими-то словами в
будущем.
21 Г. Уэллс, т. 2
321
Начиналась она так:
День за днем
Серым дождем
Бьются волны о рыжие наши пески.
День за днем
Тум-ти-ри-том,
Ти-ри чуждые земли вдали.
Чайка в небе высоко летит,
Ти-ри-том, пролетая, кричит,
Тум-ти-ри и все так же звучит (или молчит))
......... здесь строчка .............
Исчезают в тумане челны.
Кроме мешанины таких отрывков, он не находил ника-
ких следов обширного труда. Может быть, подумал он, руко-
пись спрятана наверху. А может быть, он ее передал
издателям.
Но очень скоро он представил себе достаточно ясно истин-
ное положение вещей. Он уже почти убедился, что этот вели-
кий труд, труд всей жизни его отца был не чем иным, как эф-
фектной позой и легендой, но тут за ним пришли и позвали его
в комнату покойника.
2
СМЕРТЬ
Сиделка с некоторой торжественностью, свойственной при
таких обстоятельствах людям ее профессии, задержалась на
пороге и пропустила Теодора одного. Она тихо затворила за
ним дверь. На кровати лежала неподвижная фигура, длинная
и прямая, покрытая простыней. Видно было лицо Раймонда,
очень белое, ставшее похожим на восковое, с закрытыми гла-
зами и с твердым спокойным ртом.
Теодор до сих пор никогда не видал покойников. Чувствуя
с облегчением, что за ним никто не наблюдает, оторвавшись на
время даже от своих собственных самонаблюдений, он подо-
шел к кровати и замер на месте, глядя на великую отрешен-
ность на лице Раймонда.
Отрешенность. Это было основное впечатление Теодора. Он
не чувствовал, что Раймонд здесь или в другом месте; он чув-
ствовал, что Раймонд кончился. В выражении рта было нечто
решительное, но в этой решительности не было никакого наме-
рения или цели, это была решительность завершенного срока.
Воспоминания о Раймонде, вызвавшие в представлении Тео-
дора, когда он ехал в поезде, образ «папы», исчезли перед ли-
цом этой неподвижности. Сказать этому неподвижному телу —
322
«я буду продолжать твой труд,— я передам миру твое вели-
кое произведение» — было бы просто нелепо.
Что бы ни сказать ему, все прозвучало бы бессмыслицей. Он
лежал такой обособленный, величественный, недоступный ни-
какому родству, что в эту минуту в оцепеневшем сознании Тео-
дора не возникло даже и тени мысли о том, что когда-нибудь
нечто подобное произойдет с ним самим.
Он подумал, что собственно ему полагается делать здесь?
Молиться? Он чувствовал, что за Раймонда во всяком слу-
чае молиться нечего. Да и ни за кого другого. Он чувство-
вал себя, как актер, совершенно позабывший свою роль.
Может быть, они стоят и прислушиваются у дверей? Он
решил, что пробудет здесь целых пять минут — десять
минут. Почему не десять? Он пробудет здесь ровно десять
минут вот по этим часам, что у него на руке, не больше и не
меньше, а потом спокойно выйдет к ним. Пусть думают, что
хотят.
Раймонд так и не написал этой своей книги. Теодор уже не
сомневался в этом. Да он никогда и не начинал ее по-настоя-
щему. Это была просто тема для разговоров. Убежище, кото-
рое он для себя выдумал. Все это стало совершенно ясно его
сыну, который угадал это с зоркой проницательностью род-
ственного ума. В памяти Теодора проносились воспоминания
о минутах энтузиазма, о длинных красноречивых рассужде-
ниях дома и в обществе насчет эпохи и истории. Великая сага
была только поводом для этих бурных разглагольство-
ваний. Холодное лицо на подушке не выражало ни раскаянья,
ни самооправданья. Оно было невозмутимо-равнодушно ко
всему, что когда-то говорил, воображал, требовал или пред-
ставлял собою Раймонд. Оно ясно давало понять, что ему нет
дела до Теодора и что Теодору не должно, да в сущности и не
может быть до него никакого дела. Но житейские условности
требовали, чтобы это событие вызывало высокие переживания,
чтобы были проявлены и благоговение, и чувство утраты, и
прочие глубокие эмоции.
Он в тринадцатый раз взглянул на часы; десять минут, на-
значенные им самому себе, истекли. Он тихо направился к
двери.
На площадке он встретил Клоринду.
— Он кажется, таким спокойным,— сказал он.
— Да. Не правда ли?
Он взял ее под руку, словно желая разделить с ней все эти
возвышенные и глубокие, не поддающиеся выражению чувства.
Поддерживая Клоринду под локоть, Теодор вместе с ней тор-
жественно спустился с лестницы.
21*
323
3
ОПУЩЕННЫЕ ШТОРЫ
Целые столетия, казалось, прошли с тех пор, как Теодор
сломя голову бежал по вокзалу Виктория, чтобы попасть на
поезд. А все еще был только полдень. Этот день незаметно, но
верно становился самым длинным днем в жизни Теодора.
С каждым часом он становился все длиннее и длиннее. Часы
в столовой тикали с похоронной медлительностию и, казалось,
с каждой секундой замедляли свой ход. После того как он еще
раз перебрал бумаги и сделал безуспешную попытку привести
их в порядок, ему больше нечего было делать.
Ни он, ни Клоринда не считали удобным выходить из дому.
Клоринда опустила шторы на всех окнах, облачилась в чер-
ное — в черное бархатное домашнее платье — и отдала распо-
ряжение относительно кремации. Сиделка внесла большую
вазу с белыми цветами в комнату покойника прежде, чем Кло-
ринда успела помешать ей, и теперь их уже невозможно было
вынести. Это были первые белые цветы, которые когда-либо
появлялись в декоративном окружении Бэлпингтона. Оторвав-
шись от мыслей о небытии этого мертвого тела, Теодор вер-
нулся в кабинет Раймонда и снова занялся разбором его жал-
ких бумаг и литературных останков. Он все еще не мог до
конца поверить, что они не представляют собой никакой цен-
ности. Точно он шел по лестнице и ступил на ступеньку, кото-
рой не было.
Он перебрал все бумаги по нескольку раз, но с каждым ра-
зом уделял им все меньше внимания. Здесь не было ничего,
кроме разного журналистского хлама, жалкой мазни неряш-
ливого писаки, нескольких вялых попыток, вступлений деше-
вого жанра и кое-каких книг по истории, с пометками и заме-
чаниями на полях. Ему попалась англосаксонская грамматика,
«Упадок и разрушение Римской Империи» Гиббона, где все
упоминания о варягах были весьма неразборчиво комменти-
рованы. В одной из красивых записных книжек он обнаружил,
перелистывая, множество набросков каких-то фантастических
обнаженных фигур в разнообразных группировках,— повиди-
мому, это была попытка передать исступленный характер рели-
гиозных и мистических плясок варяжских женщин,— а в другой
было несколько набросков в профиль стройной голой жен-
щины, которая слегка напоминала молоденькую португалку,
гувернантку Теодора.
Клоринда непрерывно курила и ходила взад и вперед; она
то исчезала, то снова появлялась в темной, холодной комнате,
вертелась около сына и бросала отрывочные фразы. Она так
324
привыкла к постоянным недомоганьям Раймонда, что ей ни-
когда не приходило в голову, что он может умереть.
— Все это так неожиданно,— десятки раз повторяла она.
А один раз она села и сказала: — Нам нужно как-то устраи-
ваться, Теодор. Я думаю, нам, пожалуй, лучше оставить этот
дом и поселиться где-нибудь поближе к Лондону. Я, знаешь,
очень мало смыслю в практических делах.
Она остановилась и поглядела на него, но без большой на-
дежды. Теодор тоже не очень-то много смыслил в практиче-
ских делах.
Она встала и вышла.
Столовая помещалась в глубине дома, и поэтому Кло-
ринда решила, что это не будет нарушением правил благопри-
стойности, если они на время завтрака поднимут шторы. Они
позавтракали в половине первого, потому что ждать до часа
казалось слишком долго. Им подали холодную баранину,
и служанка приготовила что-то вроде омлета. Клоринда ела
с аппетитом, и они вдвоем уничтожили почти целую бутылку
лучшего бургундского Раймонда.
Оба ели чрезвычайно медленно. Она очень мало могла
сказать о Раймонде. Все, что можно было о нем сказать,
она уже сказала много-много лет тому назад другим наперс-
никам.
Но она чувствовала, что существует много других вещей,—
если бы только знать, каких,— которые могли бы заинтересо-
вать этого изящного, задумчивого молодого человека, ее сына.
Но она не могла себе представить, о чем он думает.
Вино и кофе несколько сблизили их. Клоринда нашла
в себе силы рассказать сыну, что Раймонд умер, не,оставив,
повидимому, никакого завещания, что половина его со-
стояния, в чем бы оно ни заключалось, перейдет к ней,
а половина — к Теодору; эта другая половина, разумеется,
останется под ее опекой, пока ему не исполнится двадцать
один год.
Но большая часть домашних расходов всегда ложилась на
нее, она тратила свои собственные деньги. Очевидно, она чув-
ствовала своим долгом предложить Теодору жить с нею вме-
сте в Лондоне, и Теодор тоже почему-то считал нужным пока-
зать, что ему это очень приятно. Но у каждого из них мель-
кали тайные соображения о личной жизни, для которой
постоянное присутствие другого человека будет крайне обреме-
нительно. В конце концов с помощью отрывочных замечаний
и сбивчивых намеков этот мнимый проект общего дома в
Западном Кенсингтоне или около него уступил место практиче-
скому и определенному соглашению: Клоринда снимет поло-
вину дома в Блумсбери, а Теодор найдет себе маленькую
обособленную квартирку около школы Роулэндса, не настолько
поместительную, чтобы держать постоянную прислугу,-— это
325
он много раз подчеркнул,— но за которой присматривала бы
какая-нибудь надежная женщина, она может приходить с утра,
готовить для него и после этого уходить. Иначе говоря, чтобы
ее можно было выпроводить всякий раз, когда у него свиданье
с Рэчел. По мере того как их взаимопонимание росло, забот-
ливость Клоринды по отношению к сыну усиливалась и стано-
вилась более теплой.
— Но меня огорчает мысль, что ты будешь совсем один,—
сказала она.
Повидимому, она была готова проявить большое великоду-
шие при разделе мебели. И чувствовалось, что ей хочется ска-
зать ему что-то еще.
— Тебя бы удивило, если бы я написала книгу или, ска-
жем, если бы я оказалась соавтором книги, Теодор?
— Меня удивляет, что ты до сих пор этого не сделала,—
ответил он искренно.
— Мне необходимо будет чем-то заняться теперь... Эта пе-
ремена... Такое опустошение в моей жизни... И как раз у меня
был разговор о таком сотрудничестве. В Кэмбридже я была на
хорошем счету. Я увлекалась философией. Раймонд не прини-
мал всерьез моих увлечений, что бы я ни делала, но я любила
философию.
Она закурила папиросу и, держа зажженную спичку, про-
должала говорить. А сама думала, что может ее сын знать
о ней.
— Доктор Фердинандо, психоаналитик (пуфф) — это мой
давнишний друг. Идея... Ну, как бы тебе сказать? назо-
вем это «психоанализом философии». Это что-нибудь говорит
тебе?
— Прекрасная идея,— сказал Теодор.— Это значит обойти
философа, подойти к нему, так сказать, сзади и встряхнуть его.
Прежде, чем он опомнится. Мне нравится это.
Теодор стал гораздо более снисходительным к своей ма-
тери, чем он был в детстве. Он уже не находил, что она просто
распущенна и неряшлива, он считал, что она гораздо умнее
большинства женщин. У нее был смелый ум и настоящие зна-
ния. А общая утрата сблизила их. Он чувствовал растущую
между ними дружбу и глубокое взаимопонимание.
Но после этого разговора Клоринда пошла прилечь вниз
в свою комнату, а Теодору предоставили в четвертый раз раз-
бираться в посмертных произведениях отца. Его быстро осваи-
вающий ум уже осознал полную бесполезность этих попыток.
Эта мазня была пустой шелухой, отбросами, а не литератур-
ным наследием. Он намеревался перевезти письменный стол,
если не секретер отца, в свою квартиру, и его несколько сму-
щала мысль, как избавиться от этого хлама. Но разве это его
дело? Ясно, что это принадлежит матери. Она должна хранить
и беречь это.
326
Некоторое время он предавался приятным размышлениям
о самостоятельной жизни в собственной отдельной квартире.
Он решил, что квартиру нужно найти как можно дальше от
Чэрч-роу, чтобы не чувствовать себя под угрозой несвоевре-
менных визитов теток.
Но, конечно, ничего не стоит вывернуть звонок. Или просто
не отвечать на звонки и переждать тихонько. Можно сидеть
тихо, пока они не уйдут.
Довольно трудно представить себе квартиру, пока ты не
видал ее. Он предполагал, что это будет нечто вроде квартиры
Бернштейна, только меньше. Ему захотелось поскорее поехать
в. Лондон и сразу приступить к поискам.
Через некоторое время мысли его отвлеклись от квартиры
из-за полного отсутствия точных подробностей, которые могли
бы служить ему пищей. Груды бумаг, разбросанных по всей
комнате, снова вернули Теодора к действительности,— вот он
сидит в этом затихшем доме с опущенными шторами, а отец
его лежит мертвый наверху. В комнате Клоринды не было
слышно ни звука. Из кухни доносился слабый, благоговейно
приглушенный шум мывшейся посуды. Но скоро и он затих.
Служанка стала незримой и неслышной.
Теодор охотно вышел бы побродить, но Клоринда настаи-
вала на том, чтобы они оба сидели дома, так же как она на-
стаивала на том, чтобы были спущены шторы. Он не считал,
что это необходимо,— сидеть вот так дома после смерти
человека, но, она, повидимому, считала. Словно в движении
было что-то оскорбительное для памяти мертвого. Эти спущен-
ные шторы, это полное отсутствие привычной домашней возни
вызывало у него гнетущее чувство, что и самый дом так же,
как Раймонд, умер.
Покойник и дом все больше и больше отождествлялись.
Сидеть вот так с опущенными шторами среди бела дня, за эти-
ми опущенными шторами, которые нельзя поднять, казалось
все равно, что лежать неподвижным телом с закрытыми гла-
зами, которые ты не можешь открыть. Он пожалел, что ему
пришло на ум это сравнение. Мысли о смерти одолевали его,
он не мог сопротивляться им. Он попытался представить себе,
какое это ощущение — лежать вот так неподвижно с застыв-
шими, негнущимися членами и не быть в состоянии поднять
веки. Он встал и направился в другие комнаты нижнего этажа.
Затем очень тихо он поднялся наверх и после недолгого коле-
бания снова вошел в комнату отца.
Нет, сказал он самому себе, за этими веками ничего нет.
Они казались теперь несколько более запавшими, чем раньше,
а ноздри как будто еще более сузились. Когда он глядел вот
так на лицо Раймонда, тот казался ему еще более мертвым,
чем когда он думал о нем, сидя внизу.
Теодор постоял так некоторое время, словно ожидая чего-
327
то. Но неподвижность, законченность, отрешенность были
полные.
Он тихо закрыл дверь, прислушался в надежде услы-
шать хоть какой-нибудь шорох в комнате Клоринды и снова
сошел вниз. Все еще не было четырех. Но во всяком случае
ждать не долго, скоро там где-то начнутся приготовления
к чаю.
Пока что интересно подумать о будущем устройстве. Он по-
пробовал снова сосредоточить свои мысли на той маленькой
квартирке; взял лист бумаги и набросал план комнат, обдумы-
вая в то же время, как бы их обставить поудобнее. Можно бу-
дет, в случае надобности, отпускать прислугу на целый день.
Но какой смысл рисовать план квартиры, располагая опреде-
ленным образом комнаты, когда, может быть, квартиры в
квартале Вест-Кенсингтона устроены совсем иначе.
Эти мысли отвлекали его, но отвлекали не совсем. Непости-
жимая загадка, как чувствуешь себя, будучи неподвижным
телом, которое не может пошевельнуться, не может открыть
глаза, завладела его воображением. «Но там же нет ничего,
в этом теле,— убеждал разум,— ровно ничего». Он вышел в
переднюю, заглянул в столовую, вернулся в переднюю и при-
слушался. Что же, эта служанка, верно, никогда не начнет
накрывать стол к чаю?
Вдруг он увидел мать, которая двигалась, как призрак, на
верхней площадке. Она двигалась бесшумно, но половица по-
скрипывала. Теодора внезапно осенило. Он не окликнул ее, но
подошел к лестнице и остановился внизу, откуда можно было
говорить с ней громким шепотом.
— Мне надо послать телеграмму товарищу,— сказал он.—
Я был приглашен на обед.
— Иди, иди,— сказала Клоринда, уступая.
Он подумал было послать телеграмму Рэчел, написать ей
просто: «Мой отец умер вчера ночью». Ему казалось, что это
будет звучать просто и благородно и объяснит его утреннюю
телеграмму. Но когда он вышел из дому, ему представился
ревнивый и бдительный Мелхиор. Он наверняка вскроет теле-
грамму, если она придет при нем, и потом будет допрашивать
Рэчел, почему Теодор ей одной, а никому другому сообщает
о смерти отца. И потом он может сопоставить это с утренней
анонимной телеграммой, если он прочел ее.
Это слишком рискованно. Итак, Теодор отстранил Рэчел,
как непригодного адресата для своей телеграммы. Тогда он
подумал о Маргарет. Конечно, Брокстеды должны знать. Мар-
гарет в особенности. Он представил себе ее лицо, полное со-
чувственной нежности.
Итак, он послал телеграмму Маргарет.
С некоторых пор между ним и ею чувствовалось какое-то
отчуждение. Он в сущности ни разу не говорил с ней после
328
того разговора на пляже, кончившегося так неожиданно. Но
теперь, когда он представлял себе, как она получит это печаль-
ное известие, у него становилось теплей на сердце. Сердце его
согревалось ею. Оно жаждало ее присутствия. Он уже. приду-
мывал, что сказать ей.
У него стало легче на душе, когда он представил себе
маленькие волны теплого участия, которые при этом известии
об его утрате побегут от одного сердца к другому.
«Так внезапно. Это большой удар. На его плечи свалится
теперь огромная ответственность».
Да, на него ляжет теперь огромная ответственность. Он до
сих пор не отдавал себе отчета, что смерть отца — для него
новый шаг к зрелости.
Мрак рассеялся. Теодор конкретизировал эту загадку
смерти. Он вытолкнул ее из своего сознания. Самым важным
теперь являлось то, что он остался сиротой.
Он пошел домой не прямо, а кругом через эспланаду. День
был ветреный, хмурый и рано перешел в сумерки; огни заго-
рались в опустевших гостиницах и в особняках вдоль набереж-
ной. Начинался прилив, море бушевало и билось о каменный
мол в медленном, заунывном, как траурная пальба, ритме,—
глухой удар в стену, долгий отступающий вздох и снова удар.
Время от времени какая-нибудь волна разбивалась на греб-
не, и узкая полоса воды взлетала, похожая на фигуру в кло-
буке, повисала зловеще и рассыпалась, крутясь, растерзанная
ветром в мелкие брызги и тонкую водяную пыль.
Теодор увертывался от этих брызг, и ему это нравилось. Он
все более и более воодушевлялся этой игрой с прибоем.
Неожиданно он налетел на Фрэнколина. Фрэнколин также
увертывался от брызг.
— Ты здесь! — воскликнул Теодор.
— Нет, я в Африке. А ты почему здесь?
— У меня отец умер сегодня ночью.
Фрэнколин сразу стал серьезным.
— Мне очень жаль, старина, ужасно жаль. Как это слу-
чилось так внезапно? Ведь я видел его еще на прошлой
неделе.
— Я сам не знал, что он болен, пока за мной не прислали.
— Ведь у него были слабые легкие? Ужасно, ужасно
жалко.
Теодор помолчал, потом произнес глубоким выразительным
голосом, ясно свидетельствующим о его самообладании и о
том, как тяжело для него то, что он говорит:
— Ия даже не простился с ним. Ни слова не успел ска-
зать на прощанье.
— Я так тебе сочувствую...
Теодор пошел своей дорогой, проникнутый скорбным ве-
личием своей внезапной и трагической утраты.
329
4
СТРАХ В НОЧИ
На рассвете он проснулся и опять стал размышлять о смер-
ти. На этот раз она не поддавалась конкретизации. Она обсту-
пила его со всех сторон. Она стала гнетом, наваждением, ужа-
сом. Он чувствовал себя мерцающей искоркой жизни в этом
мертвом доме с опущенными шторами и запертыми дверями.
За две комнаты от него лежал Раймонд, лежал вытянувшийся,
неподвижный — и он, Теодор, лежал так же, только чуть-чуть
шевелился. Какое это чувство, когда лежишь вот так мерт-
вым? Он вытянулся на спине, вытянул по бокам руки и за-
крыл глаза. Он представлял себе, как люди смотрят на него,
говорят о нем, а он лежит неподвижно, потому что не может
пошевельнуться.
Он сел в постели.
Что такое смерть?
Он спустил ноги на пол и уставился в холодный мрак, окру-
жавший его. А что, если Раймонд, то, что осталось от Рай-
монда, некая сущность Раймонда, там, за две комнаты от него,
делает то же?
Но о том, что делает мертвый Теодор, было легче думать,
чем о мертвом Раймонде. Он выкинул из головы мертвого
Раймонда и продолжал думать о мертвом Теодоре. Вот и он
будет так же лежать неподвижно на кровати. А потом? Может
быть, он вот так же поднимется, сядет рядом со своим уже не
нужным телом,— вспорхнет и улетит. Куда? Или, может быть,
его кто-то позовет и он полетит на зов? А может быть, он
только захочет сделать это, но не сможет, его нс пустит, будет
держать в страшных тисках эта окоченелость. Все, что угодно,
было легче себе представить, чем ничто.
И тут ему на помощь явился духовный мир. Да. Тело его
будет неподвижно лежать на кровати, как бы составляя с нею
одно целое, но сам он, его неощутимое духовное тело, подни-
мется и сядет вот так же, как он сидит сейчас, и обретет своих
друзей. Но если они придут к нему, значит, они и сейчас возле
него. Он переменил в темноте свою неряшливо-непринужден-
ную позу, когда подумал об этих свидетелях. Но когда он стал
думать о том, что они наблюдают за ним в жизни, они потуск-
нели и растаяли. А то как бы они не оказались слишком про-
зорливыми. Он вовсе не хотел, чтобы они проникли в его
мысли. Но его собственное бессмертное «я» оставалось все та-
ким же ярким, одушевлялось все больше и больше абсолют-
ной уверенностью. Непреоборимая жажда жизни, которая бур-
лит в каждом из нас в юности, захлестнула его сознание, за-
топила рассудок. Конечно, он — бессмертен! Конечно, что-то
есть еще, кроме этого!
330
Что ему до других! Это их дело. Он вовсе не желает бес-
смертия для всех. Он желает его для себя. Он не хочет быть
мертвым, как Раймонд.
Лежа неподвижно в темноте, казалось, можно было разли-
чить этот смежный мир спасения, такой разреженный, но в то
же'время такой необходимый. Вот они здесь. Ангелы-храни-
тели его детства тихо сошли к нему. И, укрывшись под этой
спасительной сенью, Теодор освободился от страха и ужаса,
от кошмарного виденья окоченелой беспомощности и, погру-
зившись в сон, канул в бесчувствие.
5
КРЕМАЦИЯ
Раймонда положили в гроб, и он не упирался, не протесто-
вал. В гробу он казался меньше и худее. Выражение его лица
было нс так невозмутимо-сурово, а более покорно. Затем гроб
был водружен на жалкие неподвижные носилки и бережно, но
решительно вынесен скромными, деликатными служителями
крематория; его продержали где-то в течение двух дней, а по-
том Клоринда и Теодор отправились в Голдерс-Грин, чтобы
присутствовать на похоронной службе, должным образом реа-
гировать на нее и увидать, как этот простой безличный ящик
тихо покатится на колесиках в отверстие печи.
Торжественные звуки органа пели:
О могила, где твоя победа?
О смерть, где твое жало?
И после этого от Раймонда не осталось ничего, кроме ма-
ленькой кучки пепла, которую положили в урну и поставили
в колумбарий.
Когда гроб начал двигаться, что-то кольнуло Клоринду в
сердце, и она заплакала.
Много народу, друзей и посторонних пришло проститься с
Раймондом. Был его издатель с новым молодым компаньо-
ном,— он был из той породы издателей, которые всегда запо-
лучают себе новых молодых компаньонов,— и в толпе прово-
жающих выделялись избранные представители литературного
и артистического мира. Йз девяти оставшихся в живых сестер
Спинк присутствовало семь, считая Клоринду, и многие из них
привели с собой родных и друзей. Все были в черном, кроме
Белинды, артистической натуры, которая была в костюме цвета
грозного солнечного заката, Люцинды — высокой и статной —
в черном с пурпуровым, и Аманды, в коричневом платье
331
с малиновыми цветами и отделкой. Клоринда и Теодор сидели
одни в первом ряду. Брокстеды — позади, неподалеку от
них, и Клоринда подумала, что с их стороны было очень
любезно прийти. Доктор Фердинандо, массивная фигура,
скромно расположился на задней скамье со своей
женой.
Позже, по выходе из часовни, завязалось нечто вроде са-
лонной болтовни. Две тетушки Теодора,— те, которые были в
черном и которых он до сих пор никогда не видал,— подошли
к ним и заговорили очень «мило» с Клориндой, внимательно
разглядывая своего племянника и наследника. Повидимому,
они остались довольны. Одна из них, леди Бруд, сказала, что
он должен навестить ее в Кенте. Тетя Люцинда подошла к
Клоринде, показывая всем своим видом, что она временно со-
гласна ее выносить.
— Я полагаю, вы теперь уедете из Блэйпорта,— начала
она весьма повелительным голосом.
— Слишком рано еще думать об этом,— отпарировала
Клоринда.
— Ты должна теперь переехать в Лондон и жить с Теодо-
ром,— настаивала Люцинда.
— Все это случилось так внезапно,— сказала Клоринда,
явно давая понять тете Люцинде, что ее никто не просит со-
ваться в чужие дела.
— Мы поможем вам устроиться,— продолжала тетя Лю-
цинда.
— Возможно, мы уедем на некоторое время за границу,—
внезапно придумала Клоринда.— Такие дела не решаются в
одну минуту.
— Но Теодор должен продолжать учение.
— Конечно, — рассеянно согласилась Клоринда и протянула
обе руки своему приятелю-журналисту. От него она перешла
к Брокстедам.
Теодор перекинулся несколькими словами с Маргарет.
— Я так огорчилась, когда получила вашу телеграмму,—
сказала она.
— Мне хотелось, чтобы вы знали,— промолвил он и на се-
кунду задержал ее руку.— Я думаю, нам теперь придется уехать
из Блэйпорта. Тедди здесь?
— Нет, он сдает какую-то работу. Но он просил передать
гам привет и говорил, что хорошо было бы собраться в Isola
Bella до того, как вы уедете в Блэйпорт.
Появился Уимпердик в глубоком трауре и совершенно но-
венькой шелковой шляпе, которая, казалось, была для него
слишком мала. На его тучной неопрятной фигуре она произ-
водила впечатление только что приобретенного нимба. Он с
видом сочувственного понимания поговорил с Клориндой, по-
том обратился к Теодору»
332
— Почему вы никогда не зайдете ко мне? — спросил он.—
Я живу на Хаф-Мун-стрит. Я был бы очень рад побеседовать
с вами. У меня есть книги и картины, которые вам будет ин-
тересно посмотреть. Зайдете? В любое время. Я всегда рад по-
болтать.
Они обменялись адресами.
Бернштейнов не было видно. Какое им до всего этого дело?
Конечно, глупо было и ожидать их.
Теодор отвез Клоринду на вокзал Виктория, и они прямо
отправились в Эрлс-Корт с тем, чтобы приступить к поискам
маленькой отдельной квартирки. Он оставил свой адрес не-
скольким агентам, пошел посмотреть одну-другую из предло-
женных ему квартир, но потом вдруг как-то сразу почувствовал
себя осиротевшим и одиноким и отправился к себе в Гэмпстед
ужинать. От Рэчел не было никаких известий. Он ничего не
слышал о ней с тех пор, как его экстренно вызвали в Блэйпорт.
Может быть, она не знает о его утрате и обиделась на его
двусмысленную телеграмму. Она иногда обижалась по со-
вершенно необъяснимым причинам. Может быть, она теперь
долго не захочет его видеть или порвет с ним совсем.
А тогда что хорошего обрекать себя на выжидательное уеди-
нение в одной из тех маленьких мрачных квартирок, которые
он видел?
Может быть, Клоринда помогла бы ему найти что-нибудь
повеселее. Но он предпочел бы отыскать себе что-нибудь без
помощи Клоринды. Это трудная задача, но он не должен хва-
таться за что попало, он должен поискать еще.
У него снова защемило сердце, и события и ощущения по-
следних дней начали размещаться и перемещаться в его со-
знании, располагаясь таким образом, что безжизненный пере-
ход Раймонда из его спальни в Блэйпорте через неведомый
постой в зияющее отверстие печи волей-неволей становился
преобладающим мотивом его размышлений. Все в нем властно
заявляло, что такого конца не должно быть для живого,
тонко чувствующего Теодора.
Это ощущение было так властно, что он не мог усидеть спо-
койно и вынужден был ходить взад и вперед по комнате. Он
охотно пошел бы к кому-нибудь поговорить, но не мог приду-
мать, к кому. Послезавтра соберутся Брокстеды и Бернштейны
и еще кое-кто, каждый внесет свою долю, предполагается ве-
черинка в складчину, он немножко рассеется, а потом все
гурьбой пробьются на русский балет. Он подумал, не пойти ли
ему поговорить с тетей Амандой. Но это грозило ему опасным
разговором о его «планах» с тетей Люциндой. Он колебался
насчет Уимпердика. Но что, если прогуляться до Вест-Энда —
не предрешая заранее, зайдет он к Уимпердику или нет,— пока
он не увидит...
ззз
6
УКАЗАНИЕ НА БЕССМЕРТИЕ
Он не пошел к Уимпердику в этот вечер, но несколько дней
спустя он зашел к нему днем и просидел до тех пор, пока
Уимпердик не увел его с собой обедать в клуб Трайэнгл.
Уимпердик был рад поболтать и скоро выведал у Теодора, о чем
он пришел поговорить.
— Нельзя себе представить, что это — конец,— сказал Тео-
дор,— но что же мы знаем и как можно что-либо знать о за-
гробной жизни?
Уимпердик уселся поудобнее в большое кресло, склонив го-
лову чуть-чуть набок и сложив руки на животе.
— Фактически — ничего. Церковь учит,— начал он и, тща-
тельно закругляя заученные сентенции, поехал дальше: — Цер-
ковь ясно учит нас, что есть нечто за пределами суетной го-
рячки земной жизни, да, и при этом она так же ясно говорит,
что это есть нечто, столь отличающееся, столь - беспредельно
превышающее все наши представления о бытии, что не только
невозможно представить себе в земной жизни, какая нам пред-
стоит перемена, но нежелательно даже и мыслить о ней, хотя
бы и метафорами, почерпнутыми из наших чувств, к коим мы
неизбежно должны будем прибегнуть. Скажу вам больше,
у нас есть доподлинные писания святых и отмеченных бла-
годатью людей, которым при жизни было дано узреть тайну
загробного бытия, их откровения только укрепляют нас в
нашей вере, однако мы не можем почерпнуть в них ничего, что
можно было бы передать словами. Нам сказано совершенно
ясно: «Смертному оку незримо и слуху земному недоступно,—
он подчеркнул свою цитату, подняв толстый палец,— и не дано
сердцу человеческому уразуметь». Разве это не ясно? Вы спра-
шиваете, есть ли там что-нибудь. Церковь для того и суще-
ствует, чтобы ответить вам: да. Для этого и существует цер-
ковь — прежде всего. Мужайтесь. Но что такое это нечто?
Церковь равным образом убеждена, что вам не нужно, невоз-
можно и не должно знать это, как нечто умопостигаемое. Это
не имеет ровно ничего общего с новейшими некромантами и их
сеансами, с верчением столов,— ровно ничего. Церковь отно-
сится к ним с таким же осуждением, как и ваш друг-атеист, про-
фессор Брокстед. Нет, вы должны уразуметь в вере или вовсе
не разуметь. Вы должны удовлетворяться тем, что видите, как
в некоем смутном зерцале. А затем в единый миг, во мгнове-
ние ока все переменится.
Эта беседа была очень приятна для Теодора.
— Я знаю, что Раймонд, ваш отец, жив,— продолжал
Уимпердик,— воистину жив жизнью живою. Моя вера гово-
334
рит мне это. я молюсь за него еще пламенней, чем во время
его земной жизни. Но где он живет, каким образом,— этого я не
знаю. Я знаю, что и вы и я будем жить вечно. Я знаю это на-
верно. Это краеугольный камень моей веры. Всякой веры.
Может быть, мы пребудем во сне, может быть, во временном
забвении; все это скрыто от нас. Самонадеянные люди,— а та-
кие, боюсь, есть и в церкви, те, что злоупотребляют именем и
влиянием церкви,— рассказывали притчи, легенды, басни,
пускались даже в описания. Правда, нам были даны некото-
рые символические представления об ответственности, о Страш-
ном суде и даже о карах...
— Но разве вы и ваша церковь не верите в рай, ад и чи-
стилище?
— Конечно, верим. Но в нашей религии нет толкования,
противопоставляющего сие нашему житейскому опыту,— иначе
говоря, во времени и пространстве. Уверяю вас, что это не
более чем тайные указания, облеченные по необходимости в
доступную форму и открывающие нам сокровенный смысл
жизни, которая дается нам для испытания наших моральных
качеств. Существует ступень, именуемая чистилищем, о кото-
ром мы знаем только то, что туда достигают наши молитвы.
Неизмеримая благость и милосердие нашего спасителя прони-
кают даже в ад. И снова возносятся к небесам. Это нам дано
знать. Все остальное скрыто от нас.
Теодор чувствовал, как все его предубеждения против хри-
стианского учения рассеиваются толкованиями Уимпердика. Это
было совсем не похоже на то, что он слышал раньше. Ему
хотелось бы позвать сюда какого-нибудь верующего крестья-
нина-ирландца или испанца, чтобы он подтвердил эти толко-
вания, но за неимением такого свидетеля ему оставалось только
поверить Уимпердику на слово, что это и есть именно то, во
что верят истинные католики. Уимпердик продолжал говорить,
и, по мере того как он говорил, церковь — этот бессмертный
свидетель — становилась все крепче и сильнее, а принципы ре-
лигии, которые она поддерживала, все неуловимее. Теодор на-
ходил нечто родственное в этой неуловимости. Никогда еще его
так не располагали к себе интеллектуальная увертливость и
спокойное благодушие Уимпердика.
И когда потом Уимпердик начал объяснять второстепенное
и символическое значение исторического христианства, ум Тео-
дора был уже хорошо подготовлен. Уимпердик осуждал грубый
материализм протестантов с их мелочной приверженностью к
букве священного писания, особенно к Новому завету, как к
первооснове христианского учения. Они рассматривают, гово-
рил он, всю концепцию жизни и искупления, как некую систему
наказаний, законно вытекающую из неких определенных про-
ступков, совершенных в определенные дни в некоем саду где-то
в Месопотамии, и из некоторых искупительных деяний, длив-
335
шихся столько-то часов, столько-то минут и столько-то секунд
на холме близ Иерусалима. Для них вечность — просто беско-
нечное время, время, которое идет, идет и идет. В этом вся
сущность протестантства. Они не понимают того, что веч-
ность — это антитеза времени. Церковь, говорил он, всегда
стояла между верующими и этим заблуждением. Протестанты
упорно держатся нелепой идеи, что эти события совершились в
определенном месте, в определенное время раз навсегда.
— Но разве Христос в действительности никогда не рож-
дался в яслях и не был распят на кресте?
Уимпердик в интеллектуальном азарте яростно оскалил
зубы.
— Никогда? — возмутился он.— Наоборот, всегда, вечно!
Если вы хотите иметь хоть какое-нибудь понятие о вере, вы
должны отрешиться от этой оболочки времени и простран*
ства. Я повторяю вам: вечность есть антитеза времени. Усвойте
это, и вы усвоите все. Вечно его распинают на кресте. Вечно
дух становится плотью. Воплощение, жертвоприношение литур-
гии, искупление — это не события во времени вроде коронации
или какого-нибудь юбилейного дня, это — истины, существую-
щие вечно. Они не возникают и не проходят. Они постоянно
и непрерывно существуют. Вне всякого начала. Вне всякого
конца. Вне всякого начала был распятый. Это — истина, выхо-
дящая за пределы факта. Так же, как и наше бессмертие есть
реальность, выходящая за пределы факта. Вы уясняете себе,
в чём тут суть?
Теодор сказал, что уясняет. Он и действительно начинал по^
степенно уяснять.
Он согласился, что протестанты и материалисты,— а все
протестанты в сущности материалисты,— просто тупицы, кото-
рые не могут усвоить этой основной антитезы между абсо-
лютным и условным качеством; вот уж действительно тупицьп
Да. Он сосредоточенно нахмурился и погрузился в размыш*
ления.
Разговор после обеда в клубе Трайэнгл приобрел несколько
чересчур специальный характер, и Теодор не стремился уча-
ствовать в нем. Сознание его все еще было поглощено великой
и сложной идеей вечных реальностей, как, например, реаль-
ности его бессмертной души, противопоставленной потоку от-
ражающихся в ней явлений. Для него это была совершенно
новая мысль, и не только новая, но и необыкновенно заман-
чивая.
Уимпердик с Теодором выбрали столик в уголке, где си-
дели двое приятелей Уимпердика. Рьяные противники воздер-
жания, они усердно налегали на вина и громко и оживленно
высказывали свое одобрение уставу англиканской церкви;
повидимому, их поощряло к этому присутствие некоего выдаю-
щегося англиканского епископа, который писал письмо за со-
о36
седним столом и, может быть, слышал их одобрительные выска-
зывания. Но, несмотря на то, что для Теодора многое было
неясно в этой специфической части разговора, он понял отчет-
ливо, что существовала не только католическая церковь, как ее
преподносил Уимпердик, но и большое количество не совсем
подлинных католиков в других общинах. Это было очень инте-
ресно. Это до некоторой степени освобождало от Уимпердика.
Выдающийся англиканский епископ производил впечатление
очень интеллигентного человека. Можно признавать все эти
понятия о различии между вечными и материальными исти-
нами и об абсолютном отрешении веры от времени и простран-
ства, не связывая себя обязательным подчинением правилам
и обрядам римско-католической церкви.
Ночью Теодор тихо лежал в постели и упражнялся, повто-
ряя про себя новый, только что пройденный урок. Ему каза-
лось, что он очень легко может отрешиться от этой оболочки
времени и пространства. И тогда он парил, как бессмертная
душа, как вечное существо, в лоне абсолюта. Он находил, что
это не только легко, но и чрезвычайно приятно. Его существо-
вание в пространстве и времени, с земным рождением, цепью
событий и смертью, главное — смертью, становилось по сравне-
нию с этим ничтожным, превращалось в какую-то тень, на ко-
торую он, чуждый и защищенный, взирал с незыблемой высоты.
На него сошло глубокое удовлетворение.
Возможно, Уимпердик вовсе не предполагал, что его вну-
шения окажутся такого рода болеутоляющим средством, но это
было то, что сделал для себя Теодор из внушений Уимпердика.
Он убедил себя, что теперь он твердо овладел основными исти-
нами. Он ходил с просветленным лицом и, проходя мимо церкви
или часовни, не думал, как раньше, что это нечто совершенно
бессмысленное и ненужное, а находил их исполненными значе-
ния и мысленно приветствовал, как человек, который понимает.
Через эти врата он спасался в абсолютное от смерти.
Он ходил к вечерней службе в собор св. Павла. Он по-
бывал в Вестминстерском аббатстве, в Вестминстерском со-
боре и во многих других прекрасных зданиях. Больше всего
ему. понравился собор св. Павла; он ходил туда несколько
раз, пока длилось это состояние просветления. Музыка приоб-
рела теперь для него новое значение. Он испытал на себе бла-
годетельную силу Баха, Генделя и в особенности Бетховена,
которые своей убедительной мощью духовного откровения, ве-
личественными перспективами и постепенно нарастающей и
усиливающейся торжественностью помогали этому спаситель-
ному отрешенью.
На него действовали успокаивающе строгий церемониал
службы, внешняя декоративность религии — звучный голос свя-
щенника, волнующее пение хора, высокие своды, арки, чудес-
ные звуки органа. Он всегда старался незаметно уйти с про-
22 Г. Уэллс, т. 2
337
поведи, его раздражали эти жалкие наставления и угрозы, вры-
вающиеся в эту призрачную таинственность.
Благородное величие собора св. Павла сыграло боль-
шую роль в его выборе между англиканской и римской цер-
ковью. Насколько он мог судить по фотографиям, собор
св. Петра в Риме значительно уступал в архитектурном отно-
шении лондонскому собору св. Павла. И он находил, что
англиканское божество было не так подчеркнуто тройственно,
как римское. Кроме того, англиканская церковь не угнетает
своих приверженцев, в ней нет никакого пасторского понуканья,
исповедей и т. д., которые делают латинскую церковь столь
обременительной. Римская церковь все еще желает судить ве-
рующих и делает это, где только может, а англиканский бог
всегда был слишком джентльменом, чтобы судить кого-нибудь
и тем более быть судьей всего человечества. Бог, у которого
есть чувство такта,— таково было представление Теодора о боге.
Он мог теперь читать библию или перелистывать молитвенник и,
как человек хорошо осведомленный, спокойно пренебрегать
логическими доводами и всяческими возражениями рас-
судка. То, что казалось невероятным, было символично, а все,
что претило, было просто наследием и пережитком далекого,
первобытного прошлого.
Когда его усердные посещения церкви сократились, а затем
и вовсе стали случайными и он снова вернулся к своему обыч-
ному образу жизни, мучительный страх исчезновения, овладев-
ший им после смерти Раймонда, уже больше не преследовал
его. Он заглох, потонув в дебрях философической теологии.
Многое из всего этого Теодору приходилось скрывать от
Брокстедов и Бернштейнов. Эти молодые люди «были невы-
носимо привержены к фактам». А вечные истины гораздо легче
чувствовать и понимать, чем отстаивать. Но однажды на той
утешительной вечеринке перед русским балетом и другой раз
на новоселье, когда он собрал всех, чтобы отпраздновать свою
новую независимую жизнь, и раза два с Рэчел тема бессмертия
выплывала на поверхность.
Тедди, упрямый биолог, ни на секунду не хотел отрешиться
от своей временно-пространственной оболочки, и упорно дер-
жался за нее.
— Индивид умирает,— говорил он.— Индивид умирает раз
и навсегда. Индивидуальность — это опыт. Мы изживаем наш
опыт и воспроизводим, оставляем после себя результаты и
умираем. Так уж устроена жизнь. Полная смерть индивида так
же необходима для жизни, как и рождение.
— Но мы живем вечно в наших потомках,— сказала Мар-
гарет.
— И вас это удовлетворяет? — с упреком сказал Теодор,
•повернувшись к ней.
— Это должно удовлетворять нас,— ответила она.
338
— Вид живет,— сказал Тедди, уточняя,— а если даже и вид
вымирает, жизнь продолжается, претерпевая в связи с этим
какие-то изменения. Это все, что может знать биолог. Если бы
не было смерти, если бы нам приходилось вечно влачить суще-
ствование, неужели ты не понимаешь, как это было бы ужасно?
Мозг наш переполнился бы всякими представлениями и вос-
поминаниями, устарелыми и бесполезными. Мир был бы бит-
ком набит старыми-престарыми людьми и старыми-преста-
рыми восприятиями. Старые индивиды должны уступать место
новым, как старые тетради, в которых исписаны все страницы.
— Да я говорю вовсе не о жизни на этом свете,— сказал
Теодор.— Я говорю о переходе в какую-то иную жизнь.
— Да что же собственно переходит-то? — спросил Тедди.
— Я хочу сказать, что, может быть,— откуда мы знаем, что
этого нет? — существует какая-то более обширная жизнь,
а наша жизнь — это, так сказать, только одно из ее проявлений.
— Но какие же признаки позволяют утверждать, что нечто
подобное существует?
— Ну, признаки в нас самих. Какое-то чувство, отвраще-
ние, отрицание смерти.
— Но это несомненно инстинкт, присущий всем молодым
животным. И только когда они молоды. Старые люди, говорит
Мечников, совсем не такие. Почему бы им быть такими? И во
всяком случае, если даже тебе и очень хочется, чтобы так было,
это же не доказательство, что так оно действительно и есть.
— Ведь мы никогда не будем знать, что мы умерли,— ска-
зала Рэчел,— так не все ли нам равно?
— Наша смерть наступает для других людей,— сказал
Мелхиор.— Для нас она не наступает.
-— Нас не будет «дома»,— сказала Рэчел.
— Я не думаю, что меня не будет. Я буду. Все, что вы го-
ворите,— сказал Теодор, выдвигая артиллерию Уимпердика,—
может быть, и очень разумно звучит, может быть, и вообще
очень разумно с точки зрения событий во времени и простран-
стве. Но ведь наша вселенная не единственная существующая
вселенная. Так вот вне ее — я существую вечно.
— Я существую вечно,— повторил Тедди, словно обдумывая
это про себя, и на некоторое время воздержался от дальнейших
возражений.
— Но я не понимаю...— начала Маргарет и замолчала.
— Да что же может быть бессмертного в человеческом су-
ществе? — воскликнула Рэчел.— Похоть, голод, зависть, злоба,
жадность, недомыслие и такая вот болтовня,— все, что есть в
нашей современности и в нашем теперешнем мире. А что же
еще?
— Никто никогда не верил в бессмертие, кроме как для
себя,— сказал Мелхиор своим ровным голосом.— Для себя и
для того, что является частью этого «себя». Никогда никто не
22* 339
верил в бессмертие людей каменного века или в бессмертие
дикарей. И никто никогда не поверит.
— Это увертка,— сказал Тедди,— то, что ты сказал насчет
времени и пространства. Это психологическая увертка. Ты не
можешь изъять жизнь из времени и пространства так, чтобы она
вращалась вокруг самой себя и видела только тебя. А ты заяв-
ляешь, что можешь. В этом весь фокус. Возможно, есть что-то
непостижимое и безграничное вне времени и пространства, но
это не жизнь и не смерть и не является частью нашей ясной и
определенной природы. Это нечто, до такой степени чуждое на-
шему миру, что по сути дела, я хочу сказать — в нашей дей-
ствительности, это вовсе не существует.
Он остановился на мгновение, словно почувствовав, что
почва ускользает у него из-под ног. Казалось, он подыскивает
в уме что-то, чего не может найти. Он резко закончил поучи-
тельным тоном опытного эксперта:
— Индивидуальность — это часть механизма земной жизни.
Вот моя точка зрения. А смерть и рождение неотделимы от
индивидуальности.
Теодор сделал не очень решительную попытку высказать
свою точку зрения. Но вся окружающая атмосфера была про-
тив него. Все они, за исключением Маргарет, были так навяз-
чивы в своих суждениях, так шумно выражали их, что оказа-
лось просто невозможным изложить им ясно свое новое отно-
шение к смерти. Правда, в своих попытках он чуть не вышел
из себя и едва не наговорил им грубостей и колкостей в ответ
на их ехидные замечания. Трудно было сохранять спокойствие
и держать себя с ними так, как если бы они тоже были вечными,
бессмертными реальностями, покоящимися в лоне Абсолюта.
Слишком явно выступала их суетная природа. Были моменты,
когда его вновь обретенная душа впадала в такую ярость от
их выпадов, что она чувствовала себя совсем не как вечная
реальность, покоящаяся в лоне Абсолюта, а скорей, как сильно
избалованная комнатная собачка, которую раздразнили, и она
еле удерживается, чтобы не броситься на них из этого лона со
злобным, презрительным тявканьем. Он остро почувствовал, что
в этой жизни наши глубочайшие и сокровеннейшие убеждения
должно хранить про себя.
Но если они не понимали его и не соглашались с ним,—
собор св. Павла, повидимому, понимал и соглашался,
и он ходил туда, тихо садился в боковом приделе, погружаясь
в это безмолвное величавое сочувствие, слушал орган и успо-
каивался.
Он сделал другую попытку с Маргарет.
Он подкрепил их молчаливое примирение, состоявшееся во
время кремации его отца, отправившись с нею в далекую про-
гулку в бодрящий морозный день от Виндзора до гостиницы в
Вирджиния Уотер, прогулку, которую он однажды совершил с
340
Рэчел. Воспоминания о Рэчел скорее обогащали, чем затруд-
няли это повторение. Ему не терпелось наградить Маргарет бес-
смертной душой, и его раздражало, что она не проявляет ни
малейшей готовности принять этот дар.
Удивительно и непонятно, до какой степени им трудно было
найти общую почву. Их умы, складывавшиеся под совершенно
противоположными влияниями, усвоили настолько различные
формы выражения, что их представления абсолютно не совпа-
дали. Когда он говорил о «душе»,— она говорила о «личном я»,
и при этой подстановке все его доводы ускользали.
Она могла представить себе, говорила она, что вся все-
ленная в каком-нибудь одном аспекте может быть не более,
чем видением, созерцаемым сквозь кристалл некиим вечным
созерцателем, или грезой восседающего на лотосе боже-
ства.
Можно придумать тысячу таких красивых вещей, шутливо
соглашалась она, по она не отвечала ни «да», ни «нет» на его
страстный призыв приблизиться вместе с ним некиим чудесным
образом к вечному бытию этого созерцателя или сновидца.
Опа не допускала и мысли об этом новом абсолютном Бэлпинг-
тоне в его повообретенном Блэпе вне времени и пространства.
Какое это имело отношение к их обыденной жизни?
— Мы живем и умираем, как говорит Тедди,— упорство-
вала она.
Она упорно держалась своей формулировки, что от нас
не остается ничего, что могло бы жить после смерти, кроме
наших потомков.
— Но ведь наши потомки,— возразил Теодор,— не больше
мы сами, чем наше окружение.
Она признала, что была нелогична.
— Но это все сводится к одному,— сказала она.
Их спор разрастался, затрагивал другие вопросы.
— Я не вижу смысла в альтруизме,— внезапно заявил Тео-
дор.— Почему мы должны жить для других больше, чем для
себя? С какой стати нам подвергать друг друга моральному
очищению, как это делали обитатели острова Силли? Мне это
кажется просто какой-то бестактностью. Зачем нам залезать в
жизнь других людей? Пусть живут сами по себе.
Но ей уж приходилось сталкиваться на этой дорожке в ее
спорах с Тедди.
— Поскольку человек не эгоцентрик,— возражала она,—
ему нет надобности непременно быть альтруистом. Это вовсе
не вытекает одно из другого. Люди могут жить для более ши-
роких целей, чем личное «я». Их собственное «я» или «я» дру-
гого человека — всякое <^я» умирает. «Я» должно умереть. Но
у природы, говорит Тедди, нет оснований покровительствовать
эгоцентрикам. Мы постоянно думаем о себе, но по мере того
как мы становимся разумнее и расширяем свой кругозор,—
341
мы также стремимся отрешиться от себя. Мы находим что-то
другое, что кажется нам больше и значительнее.
— Что же это такое?
— Вы должны чувствовать, что есть нечто большее.
— Но что может быть больше и значительнее, чем бес-
смертная душа? — спросил он.
Она засмеялась.
— Но я же вам говорю, я не понимаю, что вы подразуме-
ваете под бессмертной душой. И ведь вы только недавно на-
чали говорить о душах, Теодор. Я не принимаю этого всерьез,
но все-таки — что такое душа?
Он терялся, он не находил, что сказать.
Если вы говорите человеку о его бессмертной душе, а он
отказывается принимать всерьез ваши слова,— что тут можно
сделать? Это все равно, что спорить об оттенках красок со
слепым. Кто может определить, что такое душа? Определить —
значит отринуть это. А духовная слепота Маргарет приводила
к полному расхождению их взглядов и на все остальные жиз-
ненные ценности. Различие между ними глубоко огорчало его.
Она — материалистка, но и Рэчел тоже материалистка. Мате-
риализм Рэчел можно было понять, она приходила к логиче-
ским выводам из своих убеждений прямо и просто. Но материа-
лизм Маргарет и Тедди отдавал фанатизмом, экзальтацией.
Они были фанатиками истины, фанатиками какого-то неясного,
но повелительного «служения». И этот фанатизм делал Марга-
рет далекой и неприступной, такой далекой, какой могла сде-
лать какая-нибудь слепая вера. Она была безбожная пури-
танка; она жила и управляла своими поступками согласно
своей вере, хотя, повидимому, это была вера в ничто. Наука?
Прогресс?
Он смотрел на Маргарет, идущую рядом с ним. Время от
времени он слегка задевал ее, дотрагивался до ее руки или
брал ее под руку. Ее лицо было желанно и дорого ему, ее
серьезные глаза и чуть заметная тень улыбки на губах. Каза-
лось, она была довольна, что идет с ним. Ее гибкое тело не-
принужденно двигалось рядом с его телом, ее плечи на два-три
дюйма пониже его плеч. Она молча впитывала радостным взгля-
дом зеленые просторы, богатый узор обнаженных и зали-
тых солнечным светом деревьев, сверкающую воду, ланей, во-
дяных птиц. И она не хотела владеть его душой, а стремилась
делать свое дело в этом пространственном мире; она не хотела
принадлежать ему и предательски заглушала свои желания,
хотя,— он чувствовал это инстинктивно,— ее влекло к нему.
Он знал наверное, что ее влечет к нему,— в этом отношении
он был уверен в Маргарет гораздо больше, чем в Рэчел.
В чем заключалось различие между ним и ею? В чем разли-
чие между ней и Рэчел? Было ли в ней какое-то качество, ко-
торого недоставало Рэчел, и Рэчел знала, что ей его недо-
342
стает? Было ли это нечто реальное или существовало только в
его воображении? И существовало только потому, что он вну-
шил себе, что влюблен в нее? Или она в самом деле сильнее и
лучше и Рэчел и его самого?
Ему вспомнилось выражение — безбожные пуритане. Удач-
ное выражение. И она и Тедди твердо решили не шутить с
жизненными ценностями. Они изо всех сил старались честно и
прямо смотреть в лицо жизни, не позволяя себе уклоняться
даже в воображении.
В те дни экономического и социального расцвета, предше-
ствовавшего Великой войне, расцвета настолько неоспоримого,
что он казался неизбежным, вера в прогресс, которой они обла-
дали, представляла собой нечто совершенно естественное. Но
Теодору это развитие мира, в котором он жил, казалось таким
бесспорным и само собой разумеющимся, что он даже не счи-
тал нужным способствовать этому развитию. Одно время он
почувствовал, что и его захватывает эта для всех обязательная
повинность. С тех пор он был склонен выражать протест, за-
щищать традицию и обычай против этого стремления к про-
грессу и новшествам. И теперь, когда он задумывался над
этим глубоким расхождением между ним и Маргарет, в памяти
его воскресла вдруг вереница фантазий, которые зародились у
пего год или два тому назад в Блэйпорте. Он вспомнил разговор
Раймонда и Уимпердика о фантастическом романе Кон-
рада и Хьюффера, об этих Наследниках, людях другой породы,
которые упорно и неуклонно разрушали все жизненные
устои — с благими или дурными целями, этого он не мог ска-
зать. Мечты, в которых Маргарет играла роль Наследницы,
снова всплывали в его сознании. А какова была его роль?
Всегда это было нечто болёе возвышенное, более благородное,
нечто несравненно более достойное, что затмевало все знания
Тедди, устраняло всякие подозрения в собственном невежестве,
выдвигая взамен исключительную утонченность душевного
склада. У него была «душа», у них — нет. И всегда в конце
концов он отвоевывал Маргарет, она отрекалась от Наследни-
ков и отвечала пылкой любовью на чувства Бэлпингтона
Блэпского.
И вот теперь снова она оказалась Наследницей. Она была
из породы этих Наследников, которые угрожали миру, а он был
в другом стане. Так мечты отошли в прошлое, а это попреж-
нему осталось в силе. Теперь еще явственнее, чем прежде, он
олицетворял собой благородные идеалы и романтику. И свое
собственное высокое призвание. Ему припомнилось удачное
выражение «безбожные пуритане», и он почувствовал нена-
висть к своим противникам и незаметно для себя вошел в роль.
Он внезапно сделался Рыцарем. С изумительной живостью,
в то время как он продолжал что-то говорить, его стремительное
воображение подсознательно подхватило и драматизировало
343
этот контраст. Рядом с этой хорошенькой молоденькой жен-
щиной в вязаной кофточке и простой шерстяной юбке он
опоясался призрачным мечом и оделся в незримую кольчугу.
Она шла рядом, не подозревая о том, что у него вдруг появи-
лись локоны, и остроконечная бородка, и широкополая шляпа
с пером. Но она обратила внимание, что его голос и манеры
внезапно стали мягче и учтивее.
— Мне никогда не удастся заставить вас понять мою точку
зрения,— сказал он.— Вы так дороги мне и так чужды.
И тут совершенно неожиданно у него вырвалась удивитель-
ная фраза. Здесь не было ничего обдуманного заранее. Ему это
пришло в голову только что.
— Вас это удивит, Маргарет, если я скажу вам, что соби-
раюсь креститься?
— Боже! — воскликнула она и расхохоталась.— Милый
Теодор! В купели! И потом вас завернут в такую длинную бе-
лую штуку? И у вас будет крестный отец и крестная мать?
Й пастор будет держать вас на руках? А вы будете пищать? Не
могу себе представить. Наш Бэлпи — новорожденный! Зачем
вам это нужно?
— Мне не придется возвращаться к младенчеству,— ска-
зал Теодор, несколько задетый.
— Значит, вы будете не совсем новорожденный?
— Нет, нет. Но это обряд, символ. Необходимый символ.
Несколько странный, если хотите. Но ведь церковь что-то оли-
цетворяет, утверждает что-то.
— Ваше бессмертие?
— Наше бессмертие. И я стою за церковь.
И после этого разговора Теодор решил привести в исполне-
ние свое намерение.
Он пошел посоветоваться с местным викарием, после того
как тщательно изучил этого викария и в алтаре и на кафедре,
неоднократно наблюдая за ним в церкви; он объяснил свое по-
ложение и позаботился о том, чтобы его крещенье и конфир-
мация остались в тайне. Крещенье состоялось незаметно,
а конфирмовался он в толпе других. Ни Клоринде, ни Рэчел и
никому из своей школы он не рассказал о перемене, происшед-
шей в его духовной жизни, и ни он, ни Маргарет никогда больше
не заговаривали об этом. Пусть она думает, что это
была одна из его фантазий. Ясно, что она не в состоянии от-
нестись к этому должным образом. С другой стороны, серьез-
ность духовенства, восприемников и всех, кто так или иначе
был причастен к этому делу, подействовала на него весьма
успокоительно. Все они считали, что с его стороны было совер-
шенно естественно позаботиться должным образом о своей
бессмертной душе. Они крестили и конфирмовали его для оздо-
ровления его души совершенно так, как доктор лечил бы его,
чтобы оздоровить его желудок или селезенку. Они ставили его
344
душу на одну доску с этими невидимыми, но весьма существен-
ными органами тела. Они принимали его бессмертие, как нечто
совершенно естественное. Они подтвердили и удостоверили его.
Его душа никогда не могла бы стать для него такой реаль-
ностью без их помощи.
Итак, весною 1914 года Теодор пребывал в состоянии до-
вольства, проникнутый благородным презрением к социальному
неравенству, с которым ему так или иначе приходилось мириться,
абсолютным равнодушием к современной политической, обще-
ственной и финансовой жизни, Небесной и Земной любовью,
которые смягчали и умиротворяли одна другую весьма парадок-
сальным образом, ибо если одна доставляла наслаждение, дру-
гая приносила искупление своим исключительным благород-
ством. И он был членом англиканской церкви. Страх перед
физической смертью привел его к богу, и он заручился билетом
в вечность и вооружился такой тонкой неосязаемой броней
англиканского вероисповедания, какая вряд ли когда-либо
защищала человеческий разум от грубых ударов действитель-
ности. У него появилась душа так же, как появились усы, есте-
ственным образом отрастающие у юноши. Ему удалось благо-
получно избежать слишком близкого отождествления себя со
своим подлинным <<я», и если его ноги ступали по твердой
почве материального удовлетворения и безопасности,— его
голова была приятным образом затуманена более возвышен-
ными замыслами этой идеальной личности — Бэлпингтона
Блэпского. Он больше не углублялся в исследование самого
себя, ни окружающих его явлений. Его взаимоотношения с
жизнью становились все непринужденнее и легче. Он рисовал,
но не очень усидчиво; он думал, но не слишком усердно; он
блестяще критиковал и пускался иногда и в литературные
опыты, тщательно скрывая, каких это ему стоило усилий. Он
начал довольно хорошо играть в теннис.
Тот старый приятель Раймонда, который после замечания о
Берлиозе решил, что ранняя смерть была бы лучшим уделом для
Теодора, встретил его как-то случайно и в порыве запоздалого
участия пригласил его позавтракать в свой клуб.
— Сын бедняги Бэлпингтона,— рассказывал он потом,— так
изменился к лучшему, что его узнать нельзя. Он мне напом-
нил отца, тот был очень недурен собой в те дни, когда мы были
в Оксфорде. И разговаривает он так непринужденно. Не при-
стает к вам с искусством и тому подобным-. Очень приятный
юноша. Было время, когда этот мальчишка обещал стать ужас-
ным педантом. Да, невообразимым педантом.
Этого несчастия по крайней мере Теодор избежал. Педанты
самого низкого уровня способны допытываться и сомневаться.
Радужный пузырь воображения вознес его выше всего
этого.
345
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Героика
1
ВЕЛИКОЕ ЗДАНИЕ ТРЕЩИТ
Мир, в котором подвизался Бэлпингтон Блэпский, создан-
ный воображением Теодора Бэлпингтона, казался очень надеж-
ным и просторным миром, достаточно надежным и просторным,
чтобы он мог свободно передвигаться в нем и делать все, что
ему нравится. В детстве Теодора, как мы уже говорили, мир
казался ему неподвижным, и в этом неподвижном мире его
воображение могло беспрепятственно играть, как ему угодно.
В Лондоне он понял, что вселенная движется, но движется
как будто совершенно отдельно от него. Небольшим умствен-
ным усилием он мог освободиться от всякой связи с этим ши-
роким движением человечества. Если жизнь его протекала не
на твердой суше, то во всяком случае на громадном корабле,
совершающем в полной безопасности какой-то неопределенный
рейс, куда — неизвестно. Это было дело судовой команды и
каких-то там боцманов, штурманов. Его это не касалось. Все
равно, как если бы он стал беспокоиться о вращении земли или
движении солнца и планет в звездной системе.
Его занимала любовь, его занимала смерть — исключи-
тельно как элементы его собственной, личной драмы, и он со-
вершенно сознательно построил свою систему ценностей таким
образом, что общее управление всем ходом вещей, всякой по-
литикой, экономикой, общественной жизнью было предостав-
лено особым и по большей части малопривлекательным людям,
которые, повидимому, находили в этом интерес. И все как будто
получалось очень хорошо. Человек славил бога, почитал короля
и занимался своими собственными делами. Политическая си-
стема — это грандиозное сплетение коммерческих, финансовых,
профессиональных и других интересов — казалась просто какой-
то декорацией, на фоне которой люди, так же поглощенные
собой, как и он, осуществляли свои собственные честолюбивые
замыслы, добивались известности, могущества, славы, пускали
в ход любые средства, пользовались всеми случайностями,
дабы украсить романтическое здание истории. Он не соревно-
вался с ними. Его честолюбие стремилось к подвигам в об-
ласти искусства и критики. Здесь он рассчитывал сыграть вы-
дающуюся роль. Он считал, что политическая и общественная
деятельность отличаются от театральных действий только
масштабом, размерами; это были обширные возможности, с их
помощью можно было выиграть или проиграть, их можно было
346
использовать для более или менее блестящего разговора, но
они не могли изменить общее направление событий.
В начале 1914 года в мире было семнадцать или восемна-
дцать сотен миллионов людей, которые, рассуждая подобным
образом, чувствовали себя отлично и даже не пытались загля-
нуть в ту планетарную систему государственного устройства —
капитала, товарооборота и всего прочего,— что составляло ее
основу. Все это возникло само собой, и так и будет идти само
собой. Государственные деятели, монархи, священники и про-
поведники, поставщики вооружения и хозяева прессы, и все те,
кто принимал решения и распоряжался за своих ближних, дви-
гались в этом круговороте, выполняли свое назначение, произ-
водили магические пассы, создавали современный эквивалент
истории. Громадные армии муштровались и маршировали
очень живописно, в некоем взаимодействии с этими главными
действующими лицами; производство оружия и боевых припа-
сов внушительно разрасталось; военные корабли в полной бое-
вой готовности выполняли свою роль в этом великолепном спек-
такле; без духовых оркестров и развевающихся флагов мир
был бы несравненно скучнее. Все это было словно яркая дви-
жущаяся декорация на стене великого здания человеческой без-
опасности. Этой декорацией просто любовались, а не вгляды-
вались в нее. Нечто в этом духе казалось необходимым.
Теодор и ему подобные просматривали газеты, пропускали
политические и деловые статьи и сосредоточивали свое вни-
мание на книжных обзорах, на театральной хронике и частных
сплетнях. Они рассуждали о необходимости учиться новым
танцам и изыскивали решение чрезвычайно тонкой проблемы,
которое позволило бы им посещать возможно чаще танцеваль-
ные вечера и тратить на это возможно меньше денег. Эти на-
дежды и стремления занимали большое место в жизни. The
dansant1 были особенно притягательны для неимущей моло-
дежи. Новая синкопированная музыка ломала все установив-
шиеся ритмы поведения. Проповедники и видные журналисты
могли сколько угодно протестовать против легкомыслия ны-
нешней молодежи,— милых бедных старичков считали просто
смешными чудаками. Потрясенные родители после нескольких
стычек с этим новым направлением умов отступали, чтобы об-
думать его про себя, а затем появлялись омоложенные и сами
пускались танцевать. Никогда еще не было такой свободы.
На протяжении трех с лишним столетий благосостояние все
большего и большего количества людей непрестанно возра-
стало. Изобретения и открытия, столкновения философских си-
стем, отход умов от догмы в сторону исследования, эпидеми-
ческий рост любознательности и исследований, благодетельное
ослабление громоздкой устаревшей заградительной системы
1 Танцевальные вечера (франц.).
347
денежных оборотов страны, происходившее неоднократно бла-
годаря открытиям крупных россыпей серебра, а потом золота,—
все это широко способствовало плодотворному росту благосо-
стояния и спокойной уверенности на нашей планете. Нйкто не
направлял этого. Все происходило само собой. Голод ослабевал,
население росло, жуткие события средних веков — чума, на-
беги, контрибуции, убийства, казни и опустошение —стерлись с
лица земли по крайней мере для народов Запада. Поколение за
поколением вступали в эти спокойные цветущие века, и с каж-
дой новой сменой все 'большее количество умов зарождалось
и расцветало в еще более упроченном и устойчивом социаль-
ном строе. Они принимали, как должное, всю эту устойчивость
и прочность и свыкались с ними. Они несли с собою идею не-
прерывного и неизбежного прогресса, ставшую для них врож-
денным понятием. Маленькие клеточки мозговых извилин в
каждом отдельном мозгу этого мощно растущего народонасе-
ления складывались привычно в этот уверенный контур.
Теодор вступил в жизнь в самую благоприятную пору, когда
безопасность и благоденствие стали настолько привычными,
что казалось — иначе не может и быть. Очень немногие заду-
мывались над тем, что счастливая полоса когда-нибудь кон-
чится и потребуется настойчивое, дружное усилие, чтобы
продолжать это движение вперед. В то время такая мысль
казалась лишней, а мозг человека, как мы теперь начинаем
понимать, не терпит лишних мыслей.
И вот внезапно, в июле и августе 1914 года, прочное здание
западной цивилизации заскрипело и треснуло, треснуло с таким
оглушительным грохотом, какого человечество не слыхивало с
незапамятных времен, и впервые в истории лапландцы и гот-
тентоты, перуанцы и корейцы, люди на улицах Канзас-сити и
Глазго, люди на улицах Алеппо и Мандалая — все оказались
вынужденными подвергнуть свои смятенные умы, свои заблуж-
дения, свои толкования вселенной и себя самих великому испы-
танию всеобщей мировой катастрофы.
И неизбежно ум Теодора и умы его друзей и знакомых —
все должны были пройти через один и тот же суд.
2
ЭТО ВОЙНА!
Сотни книг исторического или повествовательного жанра
пытались описать безмерное изумление человечества в августе
1914 года. Сохранилось бесконечное количество описаний этих
чреватых последствиями дней: описаний того, как застигло это
348
известие туристов, проводящих летнии отдых в путешествии за
границей, дачников, крестьян в русских деревнях, столичных
клерков на работе, фермеров, солдат, министров, школьников,
женщин; как проникало оно в самую разнообразную обста-
новку мирной жизни. Но очень немногие из этих описаний дают
сколько-нибудь правильное представление о том, с какой уди-
вительной ребячливостью и наивностью мы встретили эти вели-
кие события. Если они и вызвали великое изумление, они почти
не вызвали страха. Войны бывали и раньше, и это была война.
Огромному большинству людей, даже жителям тех стран, ко-
торые участвовали в предыдущих войнах, война всегда пред-
ставлялась исключительно эффектным и захватывающим зре-
лищем. Так и теперь большинство людей в Европе, даже в тех
странах, где существовала всеобщая воинская повинность, го-
товились занять свои места, чтобы присутствовать в качестве
зрителей на этом необыкновенно волнующем и торжественном
представлении. Оно являло для них огромный интерес, они
вкладывали в него свои деньги и эмоции, но все же это каза-
лось только зрелищем. Это чувство разделялось даже войсками,
которые направлялись на фронт. В особенности это наблюда-
лось среди английских войск, которые шли в Бельгию с пением
и шутками, как если бы они были в отпуску и отправлялись
на парадный футбольный матч. Слишком далеки они были от
тех испытаний, которым уже подверглись другие обреченные
народы, чтобы у них могло зародиться подозрение, что на этот
раз драма и ее последствия развернутся в таком масштабе, что
всем им в конце концов придется стать участниками хотя бы
в качестве статистов или немой толпы жертв в этой всеобщей
катастрофе.
Сохранилось много анекдотов об американских туристах,
разъезжавших в автомобилях вдоль франко-германской гра-
ницы и обнаруживавших величайшее нежелание убраться с по-
зиций. Настолько сильно было чувство, что война — это празд-
ничное зрелище. Им хотелось пробраться поближе, вперед и
смотреть. Посла Пэджа в отеле Сесиль осаждали толпы его
соотечественников с'жалобами на то, что их отдых «испорчен»
отсутствием должного внимания и забот об их комфорте со
стороны великих воюющих держав.
— Некоторые собираются предъявить иск германскому пра-
вительству — у них, видите ли, пропал отпуск,— рассказывал
он.— Они не понимают...
Они являли собой исключительно яркий пример непонима-
ния. Не так явно, но, вероятно, столь же упрямо не пони-
мал этого и весь остальной мир. Мозги всех приятелей и свер-
стников Теодора оказались в такой же мере неспособными охва-
тить невиданные масштабы новой невиданной войны. И все
мозги в мире, мозги солдат и государственных 'деятелей так
же, как и всех других, оказались в таком же положении.
349
Запальный шнур был подожжен, но никто не мог себе пред-
ставить, какой это будет взрыв. Люди реагировали так, как
привыкли реагировать на прежние менее значительные
войны.
Редко кто, хотя бы отчасти, представлял себе невиданные
доселе возможности, но, оглядываясь теперь назад, мы видим,
как слабы и неточны были догадки даже самых предусмотри-
тельных из этих мудрецов.
Катастрофа застала Теодора в маленькой гостинице на бе-
регу Темзы между Марлоу и Мейденхэд. Он приехал сюда
якобы для того, чтобы писать этюды реки; ему хотелось пере-
дать эффект розовой дымки на воде в утренние часы и мягкий
теплый свет летних сумерек. Он и в самом деле усердно
работал, если согласиться с тем, что он подразумевал под усерд-
ной работой. Бернштейны жили на ферме по ту сторону хол-
мов по дороге к Биконсфильду в компании социалистов и сту-
дентов экономического факультета. Они без конца спорили о
социальной революции. Он несколько раз ездил туда на вело-
сипеде, скучал, просиживал с ними по нескольку часов, вся-
чески пытаясь уединиться с Рэчел, что никак не получалось.
Но однажды им удалось вырваться вдвоем в Лондой, и они
провели целый день у него на квартире.
Жилище Теодора было расположено очень удобно. Ниже
по реке в заводи около Обезьяньего острова стояла яхта, где
жили Брокстеды. Тедди готовился к экзаменам и помогал отцу
в его исследованиях микроорганизмов, которыми кишмя кишела
стоячая вода в верховьях Темзы. Какая-то весьма опре-
деленная цикличность в нарастании и убывании разнообраз-
ных видов, причин которого нельзя было уловить,— повиди-
мому, рост достигал максимума и затем шел на убыль каждые
четыре недели,— заставляло их усердно и увлеченно работать.
Теодору это казалось скучным времяпрепровождением. Стоит ли
беспокоиться о каких-то инфузориях? Миссис Брокстед и Мар-
гарет ночевали на яхте, а днем располагались на островке ла-
герем, очевидно получая огромное удовольствие от домашних
работ на чистом воздухе в самой неудобной обстановке. Но
Маргарет тоже готовилась к экзаменам и плавала и гребла до-
вольно много. В это лето она казалась ему еще более привле-
кательной и желанной, чем когда-либо,— в легком платье,
босоногая, загорелая, с выступившими на лице маленькими вес-
нушками. Она гребла и управляла рулем лучше Теодора и
казалась еще более неприступной в своей приветливости, чем
раньше. Он много думал о ней, мечтал, чтобы разразилась
какая-нибудь катастрофа, которая нарушила бы ровное тече-
ние их дружеской близости. И она разразилась. Война, он чув-
ствовал это, несомненно придаст новый и романтический инте-
рес каждому мужчине. Он нанял лодк^ на день и отправился
вниз по реке, чтобы поговорить с нею.
350
Шлюз Боултер был запружен праздничной публикой. В то
время в Англии ещ^ не было такого молниеносного грозного
массового призыва молодых людей, как по ту сторону Ла-
манша. Даже если британская армия уже вела войну,— бри-
танская молодежь еще не принимала в ней участия. Но повсюду
мелькали трепыхавшиеся на ветру развернутые газетные листы,
двое охрипших газетчиков продавали последние выпуски моло-
дым людям в белых фланелевых брюках, прямо в подплывав-
шие к берегу лодки, и все вступали друг с другом в разговор
с необычной легкостью. «Началось»,— таков был припев ко
всякому разговору. Общее мнение сводилось к тому, что кайзер
«взбесился» и что германская держава сама себя обрекает на
гибель.
— Они сами того добиваются,— повторял всем, кто выра-
жал желание его слушать, краснолицый человек в соломенной
шляпе, украшавшей его наподобие нимба.
Теодор чувствовал, как это всеобщее волнение заражает
и возбуждает его. Он согласился, что немцы «сами этого до-
бивались». Он горячо подтвердил это, промолвив: «Конечно».
Он сказал какой-то приветливой леди, что «они умеют драться
только ордой». Выбравшись из этого салона в шлюзе, он не-
торопливо поплыл к Мейденхэд, тихонько взмахивая веслами
и глядя, как струйки воды медленно скатываются по лопастям.
С самого раннего детства он незаметно впитал в себя глу*
бокую веру в свою страну и в свой народ. Ему приятно было
думать, что «мы» ответим на вызов гордо и смело, и он был
твердо уверен, что наша маленькая, но прекрасно обученная
и дисциплинированная армия одержит блестящую победу в
Бельгии над «неповоротливой ордой» кайзера. Наши покажут
этим призывным континентальным армиям, как воевать. Мы
кое-чему научились во время Бурской войны. Сумеем повести
атаку рассыпным строем и разобьем их так, что от них ничего
не останется. И, разумеется, какое же может быть сравнение
между флотами? Разве у нас сто лет тому назад не было Нель-
сона? А с тех пор все наши адмиралы непобедимы. Немцы
только выступят — мы их тут же расколотим вдребезги. Мо-
жет, уж и сейчас наши лупят их в Северном море — всего в
каких-нибудь двухстах милях отсюда. Он представил себе ве-
личественные военные корабли, плывущие к победе, их орудия,
изрыгающие пламя и густую завесу дыма. Чудесно!
А вдали, как бы на заднем плане этой картины, перед гла-
зами Теодора открывался изящный пролет Мейденхэдского
моста, оживленные лужайки Скиндлза, зеленые опушки, усеян-
ные одетыми в белое фигурами, и сверкающее зеркало мягко
зыблющейся реки, отчетливо отражающее залитые солнцем,
обточенные ветром и водой каменные стены. Надо всем реяло
обетование Победы.
«Милая Англия,— шептал он.— Моя Англия».
351
3
ВОЗМУЩЕНИЕ УМОВ
Но на яхте он нашел совсем другую оценку событий.
Никогда до сих пор он не чувствовал с такой остротой всю
глубину расхождения между ним и этими Брокстедами.
Он застал на палубе одного Тедди, который сидел за рас-
кладным столиком и старался сосредоточить свое внимание на
учебнике. Теодор подвел лодку к борту и поднялся на яхту.
— Итак,— сказал он,— началось.
— Что же ты думаешь об этом? — спросил Тедди.
— Это должно было случиться. Они же сами добивались
этого в течение шести лет.
— Подумать только, эдакое идиотство и гнусность! — ска-
зал Тедди.
— Что?
— Жили люди мирно, занимались каждый своим делом,
и вот, пожалуйте, понадобилось нашему дурацкому прави-
тельству впутать нас в эту историю! — Он оттолкнул от себя
книгу.— Что мы теперь будем делать?
— Дружно сплотимся и победим.
— Сплотимся... Ты что, собираешься пойти в солдаты?
— Да нет, не то, чтобы я собирался... Ведь это не протя-
нется и полгода. Я пойду, если это будет нужно. Но мне ка-
жется, после того как наши войска вышибут их из Бельгии, не
так уж много останется от Германии.
Тедди закусил губу и несколько мгновений’смотрел на Тео-
дора почти злобно.
— Нас расколотят,— сказал он.
Теодор остолбенел. Чтобы кто-то осмелился сказать нечто
подобное в самом начале войны,— это казалось ему кощун-
ством, предательством, подрывавшим все устои.
— Конечно, в том случае,— добавил Тедди,— если их
матросы и солдаты не окажутся еще большими дураками, чем
наши.
Теодор, располагая очень скудными данными, попытался
защитить авторитет английского генерального штаба. Сомне-
ния Тедди подействовали на него чрезвычайно неприятно и
угнетающе. Но оказалось, что Тедди год тому назад наблюдал
маневры в восточных графствах. Из любопытства он в течение
нескольких дней следовал за войсками. Его наблюдения заста-
вили его глубоко усомниться в знаниях и стратегических спо-
собностях британских командиров. Он мигом сбил с Теодора
его великолепную уверенность в победе.
— Все эти маневры,— сказал он,— были сплошным скан-
далом; их пришлось прекратить, такая у них там получилась
каша. Генералы, которые должны были развернуть сражение,
352
не знали даже, как к этому подступиться. Они все просто бес-
помощно увязли в этом. Для таких людей война на чужой тер-
ритории в европейском масштабе дело совершенно немыслимое.
Нам не по плечу иметь дело с такими армиями, это слишком
сложная задача; пушки будут бить много дальше, чем они
способны предусмотреть при своей близорукости, а аэропланы
сметут все их стратегические прикрытия и засады. Они соби-
раются давать сражения и одерживать победы, а получится
одно только кровавое месиво, сплошное месиво, в самую гущу
которого будут палить пушки, вот чем это для нас кончится. Кро-
вопролитие, полный затор со снабжением и всеобщая сдача в
плен. Я видел их... Вот куда завели нас Грей и компания.
А кому или чему может это принести какую-нибудь пользу?
Эта страстная, обличительная речь сильно смутила Тео-
дора. До сих пор ему не приходило в голову, что в этой войне
могут быть какие-то неприятные моменты. Однако приходилось
смотреть в лицо фактам.
— Как бы там пи было, мы уже вступили в войну,—
сказал он.
— Л на кой черт нам понадобилось вступать? За каким
дьяволом нас впутали в эту историю? — воскликнул Тедди, под-
нимая давнишний спор, самый нескончаемый из всех, которые
когда-либо волновали англосаксонский ум.— На что годны пра-
вительства, если они не умеют сохранить мир? Зачем нас втя-
нули в это? — спрашивал он.
— Но ведь не мы нарушили мир,— возразил Теодор, делая
второй шаг в этом многолетнем споре.
— Нам незачем было соваться в эту дурацкую исто-
рию! — подхватил Тедди, углубляясь в дискуссию.
В тот день такие разговоры текли ручьями; одни быстро
иссякали и прекращались, другие соединялись в своем течении
и превращались в потоки. Спор между Тедди и Теодором на-
шел свое отражение в десятках тысяч книг, и число их все
растет.
Теодор продолжал спорить. Он говорил, что если бы Англия
не объявила войну тотчас же после вторжения немцев в Бель-
гию, она потеряла бы душу. Воздержаться от выступления было
бесчестно и бессмысленно. Но Тедди упорно отстаивал мысль,
глубоко укоренившуюся в его сознании, что война — это пере-
житок и ребячество. По всем его представлениям о жизни
иначе и быть не могло, и он приходил в ярость, когда ему на-
поминали, что вся организация современного государства до
сих пор отнюдь не вяжется с этим. Слово «пережиток» было
великим и утешительным словом в его философии. Оно прими-
ряло его с существованием многих претивших ему вещей. Он
вырос в твердой уверенности, сложившейся из общего молча-
ливого признания, что пушками можно орудовать только в ко-
лониях для усмирения дикарей, что войска на параде и боевые
23 Г. Уэллс, т. 2
353
корабли на море — ничуть не меньшая формальность и тра-
диция, чем лейб-гвардейцы в Тауэре. Если бы эти ветераны
бросились убивать народ на Лоуэр-Темз-стрит, он был бы удив-
лен и возмущен не больше, чем объявлением войны. Он считал,
что общий мировой порядок поддерживается неофициальным
сотрудничеством неприметного, тесного круга просвещенных
людей. А тем временем, думал он, наука движется вперед, сред-
ства сообщения и связи улучшаются и узы взаимосогласия,
обеспечивающие благо всему миру, становятся все прочнее и
крепче. Он считал, что короли, императоры, государственные
деятели и военные власти — все смиренно и молчаливо при-
знают это неизбежное движение вперед. Он думал, что все они
знают свое место в этой его высококультурной схеме. А теперь
оказалось, что он был просто дураком. Они никогда и не слы-
хали о его высококультурной схеме. Он понял всю нелепость
нереволюционного либерализма. Он понял, что прогресс, если
он не заботится о том, чтобы перекроить заново формы управ-
ления людьми так, чтобы они отвечали новым условиям, кото-
рые он несет с собой, это не прогресс; в лучшем случае это
бесцельный выпад вперед. Он не признавал компромиссов,
а сам жил мечтой о мнимом компромиссе. И вся его уверен-
ность лопнула, как мыльный пузырь.
И Теодор видел, что Тедди твердит одно: «Нам незачем
было соваться туда. Мы не должны были вмешиваться»,— и не
способен ответить ни на одно возражение против этой немысли-
мой идеи. Он просто не желал признавать войны и приходил
в ярость, когда ему говорили, что это нелепо. Великая империя
со знаменами и барабанами, с войсками и флотом, с договорами
и соглашениями не могла же так вдруг сразу решить, что она
никогда ни о чем подобном не думала, что это все детские
игрушки, и выйти из игры.
И Теодор не думал, что это детские игрушки.
— Эта война возродит душу Англии,— говорил он.— Я чув-
ствую это по всему.
Но это уж было слишком для Тедди.
— Так, значит, у Англии есть душа,— вскричал он,— вроде
как у тебя? И мы собираемся сотнями убивать людей из-за этой
чепухи!
— Чепуха! — возмутился Теодор.— Чепуха! Лучше чепуха,
чем трусливое потаканье великому злу. Немцы давно уже за-
мышляли, подготовляли это и вот, наконец, добились.
Миссис Брокстед и Маргарет показались между ивами на
островке как раз во-время, чтобы помешать дискуссии перейти
в ссору.
— Ты не видел отца? — крикнула миссис Брокстед снизу
— А куда он пошел? — спросил Тедди, пользуясь случаем
прекратить спор, в котором он с самого начала'был в невыгод-
ном положении.
354
— Он пошел полчаса тому назад в Брэй поговорить по те-
лефону. Я не хочу готовить завтрак без него.
Маргарет стояла возле матери, очень тихая и серьезная,
и внимательно смотрела на Теодора.
— Вы знаете, что у нас война? — крикнул он возбужден-
ным голосом.
Она тихо кивнула головой и ничего не ответила. Ей каза-
лось, что она уже видит, как он отправляется на фронт.
— Вон отец, на лугу,— сказал Тедди.
Теодор спрыгнул в лодку, чтобы перевезти профессора на
яхту к завтраку. Он неожиданно нашел в нем союзника против
Тедди. У профессора было красное сердитое лицо; на его
обычно нахмуренном лбу залегла грозная складка.
— Никого не мог застать,— сказал он, усаживаясь в
лодку.— Двадцати человекам звонил, хоть бы одному дозво-
нился... Мы вступаем в войну, как дети. Мы — толпа, а они —
подготовлены к войне. Как нам бороться с такой организован-
ной страной, как Германия, если мы сами не организуемся?
Ведь у них нет ни одного химика, который не состоял бы на
учете, его специальность известна, его задания указаны.
А здесь — ничего. Каждый ученый в стране должен быть мо-
билизован. Каждый знающий человек должен стоять наготове
со своим специальным знанием или умением, должен быть из-
вестен, взят на учет, подготовлен.
— Значит, вы думаете, что мы должны воевать, сэр? —
спросил Теодор.
— А что же остается делать? Что же еще остается делать?..
Раз они вторглись в Бельгию.
— Честь страны,— сказал Теодор.
— Честь! Просто здравый смысл.
Шипящие сосиски и картофель, которые миссис Брокстед.
и Маргарет поджаривали на костре, еще не были готовы, а тем
временем профессор, слишком взволнованный, чтобы сидеть,
расхаживал вокруг стола, покрытого пестрой скатертью, на
котором были расставлены тарелки с пестрым узором, и, обра-
щаясь ко всем, читал лекцию о беззакониях Гогенцоллернов и
неподготовленности Англии к войне.
Он так же, как Тедди, разрушил иллюзии Теодора о быст-
рой и легкой победе и так же негодовал на вторжение войны
в мирно шествующий вперед мир. Но вместо того чтобы извер-
гать свое негодование на все воюющие державы, он яростно
обрушивался на Гогенцоллернов, и только на них одних.
— Это нападение на цивилизацию,— говорил он.— Это вы-
зов человечеству.
Тедди возражал. Возможно, что основы патриотизма,
усвоенные отцом в более ранний период его жизни, не были
достаточно глубоко заложены в сыне. И вот он пытался дока-
зать, что открытие военных действий явилось только неизбеж-
23*
355
ным результатом дошедшей до апогея долгой глупой игры,
которую министерства иностранных дел вели во всем мире, не
считаясь с благополучием человечества. Германии в этой игре
выпал на долю первый выстрел. Вот и все. «Нам нужно было
давно разобраться во всем этом». Он не привык спорить с от-
цом, когда тот был в таком возбужденном состоянии, как сей-
час, и его попытка изложить свою точку зрения, не выходя из
почтительного тона, отдавала иронией. Да и какая это была
точка зрения? Раздражающая критика, неспособная внести ни
одного разумного предложения; а профессор между тем рвал
и метал, так ему не терпелось что-то делать.
Едва только начали есть сосиски с картофелем, между от-
цом и сыном разразилась крупная ссора, которую миссис
Брокстед не удалось предотвратить.
Ссора была не менее жестокой оттого, что оба они в сущ-
ности отправлялись от одной и той же исходной идеи, идеи о
подразумеваемой мировой цивилизации, на которую так вне-
запно нагрянул этот острый рецидив воинственности. Но в то
время как Тедди критиковал, не предлагая никакого выхода,—
отец его метал громы и молнии. Тедди пытался поставить
диагноз болезни, тогда как его отец искал виновника. Теодор
не примыкал ни к тому, ни к другому. «Милая Англия! Моя
Англия!» — пело у него в крови. Ему все еще представлялся
Мейденхэдский мост и морское сражение. Но он не принимал
участия в споре и только от времени до времени издавал
невнятные одобрительные возгласы по адресу профессора. Он
был на стороне профессора потому, что профессор приводил
веские доводы в пользу того, почему Англия должна воевать
и одержать великую романтическую победу. А еще потому,
что он ставил на место этого Тедди.
Тедди приказывали молчать, его резко одергивали, чтобы
он не смел подавать голоса, пока отец не скажет все, что он
имеет сказать, и все сидели подавленные и ели в тягостном
молчании, в то время как профессор Брокстед разражался
гневным монологом, неопровержимо доказывая, что Герма-
ния — это источник и носитель милитаризма и вооружений и
что ее крушение, ее неизбежное крушение будет означать
конец агрессивной монархии во всем мире и неминуемо
повлечет за собой создание мировой конфедерации, Пар-
ламента Человечества. Слово «неизбежно» обильно усна-
щало его речь.
— Эта война — неизбежное крушение старой системы пе-
ред наступлением новой. Весь мир вынужден объединиться и
заключить союз против нестерпимой агрессии Германии. Ясно.
Этот союз неизбежно должен сохраниться. Он вынужден будет
изыскать способ совместной работы; иными словами, он вы-
нужден будет выработать Конституцию, Всемирную Конститу-
цию. Это неизбежно. Только самые тупые (Тедди), самые за-
356
коснелые мозги (опять Тедди) не в состоянии понять, насколько
это неизбежно. Какой же другой исход может быть? Мысли-
мый исход? (Красноречивое молчание Тедди.) Мы живем в
переходную эпоху.
— Вся жизнь переходная эпоха,— сказал Тедди.
— Каламбур,— огрызнулся профессор.— Что представляет
собой девятнадцатый век? В самой своей сущности переход-
ную стадию. Да, сэр, поистине переходную стадию, резко от-
личающуюся от стабильности позднего периода семнадцатого
столетия. Тогда была система. Почитайте-ка Гиббона, вот вам
прекрасная картина устойчивого строя, близящегося к концу.
Но девятнадцатый век был сплошной переменой, переменой,
переменой; переменой масштаба, переменой методов, переме-
ной, упорно направленной к всеобщему миру. Теперь мы по-
дошли к концу этой эпохи. Наша сущность — это переход.
Голос профессора угас, как будто его утомляла необходи-
мость повторять давно известное.
— Это — великий рассвет. Это — последняя война, война
во имя уничтожения войны. Возможно, что борьба продлится
дольше, чем предполагают многие, ну и что же? Мир рождает
Всемирное Государство. Кто посмеет остаться в стороне в
столь важный момент, когда решается судьба человечества?
Лицо Тедди выражало стоическое упорство неразумного че-
ловека.
Маргарет помогала подавать завтрак, а затем села и в те-
чение всего этого спора сидела, глядя с озабоченным видом
и не говоря ни слова. Когда профессора снова переправили на
берег, чтобы он мог возобновить свои телефонные попытки, она
поехала с Теодором в его лодке.
Первые ее слова были:
— Вы не пойдете, Теодор?
На одну секунду он подумал, что она просит его не при-
ставать к берегу и отложить писанье этюдов, но во-время по-
нял значение ее слов.
— Если Англия позовет? — сказал он и задумался.— Нет,
этого я не могу обещать.
— Не ходите,— сказала она.— Я не хочу, чтобы вы шли.
Она никогда еще не была с ним такой мягкой и ласковой.
Инстинкт не обманул его. Конечно, война должна способ-
ствовать расцвету мужественности и женственности. Маргарет
сидела в лодке, глядя прямо перед собой; ей мерещились вся-
кие ужасы, зверство, жестокость.
— Вон там,— сказала она,— совсем близко от нас, вот в
этом же солнечном свете, сейчас — подумать только! — людей
выгоняют из их домов, убивают мужчин и женщин, мальчиков
и юношей, колют, давят, разрывают на части. Кровопролитие,
смерть... А мы сидели за столом... И ведь это только начало...
Он стал приводить ей какие-то доводы, чтобы успокоить ее.
357
— В конце концов,— сказал он,— всюду и всегда бывают и
борьба и страдания. Это темная и трагическая полоса, но это
неизбежная полоса в могучем развитии человечества. А за
этим могучим усилием — разве ее отец не сказал этого? —
явится возрожденный мир. Замечательно смотреть, как на это
откликается старая Англия.
— Но ведь это только начало,— упрямо твердила она.—
Миллионы простых людей, так недавно еще они были счаст-
ливы. И вот это подкрадывается к ним. Зачем нужно, чтобы
была такая полоса? И откуда мы знаем, что потом будет этот
новый мир? Я думала, что с войной уже покончено.
Она вся дрожала, и его доводы не утешали ее.
4
ИДТИ ИЛЬ НЕ идти?
А теперь мы должны рассказать о великом конфликте, -ко-
торый благодаря этой войне возник в сознании Теодора, о кон-
фликте между личностью Бэлпингтона Блэпского, с одной сто-
роны, чье постепенное зарождение, развитие и все усиливаю-
щееся влияние мы показали читателю — и множеством внешних
запутанных, противоречивых, сталкивающихся факторов, с дру-
гой стороны, факторов, которые все еще продолжали действо-
вать, каждый по-своему, и все еще были недостаточно подчи-
нены этому воображаемому авторитету. Бэлпингтон Блэпский с
самого начала признал явные достоинства войны и усвоил роль
патриота в духе непревзойденной храбрости и мужества. Ка-
залось, это была единственная достойная его роль. Но наряду
с этим какой-то скрытый поток сознания увлекал Теодора со-
всем в другую сторону. Теодор готов был восхищаться войной,
проявлять к ней глубочайший интерес и воодушевляться ею и
даже мысленно принимать в ней участие. Но в то же время
у него было очень сильное желание продолжать свою жизнь
в Лондоне, а она после смерти отца начала складываться очень
приятным и интересным образом и доставляла ему все больше
удовлетворения и радости. Это тайное желание жить просто
своей жизнью и не коверкать ее из-за войны парализовало с
самого начала Бэлпингтон Блэпского во всей его безрассудной
храбрости.
«Работайте, как всегда» — расклеено было во всех лондон-
ских магазинах. «Держитесь» — это словечко стало особенно
ходким. Скрытый поток сознания Теодора ухватился за это.
Это давало Теодору возможность нащупать какую-то почву
для временного примирения обоих течений. Можно быть всей
358
душой за войну, которая положит конец войнам,— но тем не
менее надо сохранять хладнокровие. Незачем преждевременно
соваться вперед и горячиться без толку. Всему свое время.
Выдержка все побеждает. Будь англичанином, будь невозму-
тимым. Пойдешь, когда придет твое время, когда они будут
рады тебе. Все это не совсем подходило Бэлпингтону Блэп-
скому. Весь эффект пропадал. Это не вязалось с его ролью
вождя. Но на некоторое время это удерживало его от каких
бы то ни было решительных действий.
Этот внутренний конфликт был усилен случайной встречей
с Фрэнколином возле Трафальгар-сквера. Фрэнколин превра-
тился в рослого двадцатилетнего малого; он шел с сумкой че-
рез плечо, направляясь в казармы, и казался как нельзя более
лакомым кусочком для сержантов, муштрующих новобранцев.
— Хэлло, Бэлпи! — весело крикнул он.— Идешь?
— Да вот покончу кое с какими делами,— сказал Теодор.
— Они всех потянут, если только можно верить тому, что
рассказывают об этом отступлении. Слишком уж много для на-
шей храброй маленькой армии. Нам нужны массы. Это уж бу-
дет война так война. Каждому найдется в ней место. Когда ты
идешь, Бэлпи? Ты же знаешь, что должен идти.
— Да, я думаю, я не задержусь,— сказал Теодор,— если
только эта старая отцовская болезнь не подведет меня,—
легкие и сердце, знаешь,— ты меня не намного опередишь.
Я только немножко боюсь медицинского осмотра. Мне будет
ужасно обидно, если меня не возьмут.
— Ну, они теперь не очень-то обращают на это внимание.
Разденут, зададут два-три вопроса, хлопнут по спине, и го-
тово, иди. Блеттс говорил, что это единственный экзамен в его
жизни, на котором он не срезался. Там есть доктора, которые
пропускают в день четыреста — пятьсот человек. Он завербо-
вался в пятницу, черт его дери! Кто бы подумал, что старина
Блеттс, этот кисляй, этот юбочник, перегонит меня?
Они обменялись несколькими замечаниями о Блёттсе.
— Ему понравятся француженки,— заметил Фрэнколин.—
Все говорят, что это огонь-бабы.
— Так значит до скорого свидания, Бэлпи,— встретимся в
Берлине. Когда поставим свою стражу на Рейне.
— Правильно,— отвечал Теодор.— Au revoir! 1
Он оглянулся, помахал рукой и пошел дальше. Теперь он
понял, что означали эти группы молодых людей, встречавшихся
ему с узлами и свертками или с сумками через плечо, все
идущие в одном направлении. Английская молодежь «вступала
в ряды армии». А он — нет.
За церковью св. Мартина они стояли кучками, прислонив-
шись к стене, или сидели на тротуаре, дожидаясь, когда до
1 До свидания (франц.).
359
них дойдет очередь подвергнуться этой неведомой процедуре
вступления в армию. Многие из них казались голодными, из-
мученными, повидимому они приехали откуда-то издалека.
Теодор не испытывал ни малейшего желания присоединиться
к ним.
А теперь мы подходим к очень темному периоду в этой исто-
рии человеческого сознания. В стремительном вихре рекрут-
чины, который подхватывал и облекал в хаки тысячи и тысячи
новобранцев, немножко трудно проследить путь нашего Тео-
дора. Он затерялся на некоторое время в потоке вербующихся.
Похоже, он был забракован. Во всяком случае, многочисленные
свидетели подтверждают, что он оставался в Лондоне, ходил
в штатском и продолжал заниматься своими штатскими
делами в течение целого года после объявления войны. И это
было потому, как он говорил совершенно определенно, что его
признали негодным.
Но вот тут-то и начинаются наши трудности, ибо мы должны
изложить в подробностях, как он был отвергнут. С величайшей
радостью рассказали бы мы, не упустив ни одной подробности,
как Теодор явился на добровольческий пункт, как его подвергли
тщательному медицинскому осмотру, как его таинственные, но
чрезвычайно существенные физические изъяны заставили су-
рово нахмуриться старых опытных докторов. Мы рассказали
бы, как они покачали головой:
— Послать вас на позиции равносильно убийству. Слишком
хрупкий организм. Вы не вынесете ни переходов, ни лишений,
ни походной жизни.
Потом мы рассказали бы, как он умолял их зачислить его,
ведь они же зачислили всех его друзей, пусть они позволят ему
пойти в качестве кого угодно, только чтобы он мог внести
свою, хотя бы маленькую лепту в это великое дело.
— Это равносильно убийству,— повторяли они,— вы ни-
когда бы не дошли до позиций. Следующий.
Его оттолкнули. Он отошел грустный, с достоинством, обер-
нулся и в последний раз сделал умоляющий жест.
— Следующий! — крикнул дежурный...
Это была бы трогательная страница в нашей повести.
Однако, по причинам, которые нам не хотелось бы слиш-
ком навязывать читателю, мы не можем нарисовать эту сцену.
Теодор рисовал ее себе по-разному и не раз. Настолько-то она
во всяком случае была реальна.
Но мы позволим себе, не уклоняясь от истины, коей должен
придерживаться рассказчик, поведать о многочисленных ре-
петициях этого осмотра, на которых не присутствовали ни
врачи, ни сурово взирающее военное начальство. Этот само-
осмотр происходил в большинстве случаев в собственной квар-
тире Теодора. От времени до времени он рассматривал свое
обнаженное тело в трюмо, которое подарила ему Рэчел. Он не
360
мог не признаться самому себе, что он был значительно худее,
чем следовало бы: под ключицами впадины, плечи торчат, как
у скелета; все ребра можно пересчитать. Это было совсем не
такое крепкое тело, как могли предположить люди, видевшие
его в платье. Оно было очень хрупко. Он иногда простужи-
вался и покашливал, а примерно год тому назад у него была
инфлуэнца.
Он вспоминал о хрупком здоровье Раймонда, о том, как
жизнь его угасла, как свеча, от одной неосторожной длинной
прогулки в ноябрьский день, в мирное время в Англии. Честно
ли это по отношению к здоровым людям, засорять коммуника-
ционные и передовые линии потенциальными калеками? Все
его инстинкты восставали против того, чтобы идти за толпой
туда, где он не мог с честью нести свое бремя, не мог быть
во главе. Это было бы далеко не патриотическим поступком,
идти больным в армию, где вовсе не так уж много госпиталей
и медицинских сестер, и идти только потому, что его гордость
и желание красивого жеста заставили его ринуться на поле
брани.
Были еще и другие соображения, удерживавшие его от этого
шага. Все это очень хорошо, можно пойти и быть убитым.' Нет
ничего проще. И, разумеется, он пошел бы на это легко и ра-
достно ради милой старой Англии, если бы это касалось только
его одного. Но разве это касается только его? С непривычной
нежностью он думал о Клоринде. Все, что у нее есть на свете,
это он. Ее единственный сын. Он до сих пор никогда не пред-
ставлял, как безгранична ее любовь к нему, и при этом он
вспомнил, что уже десять дней не был у нее, и подумал, что
надо как-нибудь собраться и зайти. А затем еще была Марга-
рет, которая так тяжело переживала войну. Все усиливающиеся
зверства в Бельгии, которыми агитаторы войны, сильно сгу-
щая краски, потрясали английских обывателей, ранили и ужа-
сали ее. Присущая ей мягкость и доброта не могли примириться
с этими зверствами. Но она реагировала далеко не так, как
это было желательно людям, которые стремились вызвать и
разжечь ненависть. Ее ужасали не столько немцы,— она знала
несколько милых немецких девушек,— ее приводило в ужас
человечество, жизнь. Ей казалось, что-то необходимо сделать,
чтобы помешать людям вернуться к звериной жестокости, но что
именно,— она не знала. В своем смятении она выдавала долго
скрываемую нежность к Теодору. Она просила его обещать ей,
что он не пойдет добровольцем. Она открыто показывала, чю
ей хочется быть с ним. Несколько раз она целовала его по
собственному почину. Она ясно показывала этим, что она доро-
жит его телом и не хочет, чтобы оно подвергалось опасности.
Он чувствовал, что и по отношению к ней он также связан
обязательством.
И, наконец, были еще некоторые мотивы, которые удержи-
361
вали его. Могло случиться так, что он пройдет всю тяжесть
муштровки и обучения впустую. Это было соображение более
низменного порядка, но тем не менее это было существенное
соображение. Чтобы сделать солдата, требуется несколько не-
дель, это стоит стране значительных расходов, а война может
скоро кончиться. На страницах газет войну выигрывали каждый
день. Он может завербоваться и никогда не понадобиться.
Тогда он будет выбит из колеи; его художественное образова-
ние прервется, руки огрубеют. Шесть месяцев — крайний срок,
он был убежден в этом. Так говорил Мелхиор. Но он только
вторил газетам. И все же Мелхиор решил вступить в армию.
— Не понимаю, как мы можем действовать иначе,-— гово-
рил он.— Для меня — это символический акт. Наш народ ви-
дел только хорошее в Англии. Здесь никогда не было травли
евреев. Мы идем против немецких юдофобов. Это моя вторая
родина. Англичанином можно не только родиться, но и стать
им. Вот я, например, учился в закрытой английской школе...
Иногда я чувствую себя более англичанином, чем англичане.
Но у Мелхиора оказался порок сердца. Он знал об этом,
но никогда не думал, что это может оказаться препятствием.
Однако это оказалось препятствием, и он перенес свое внима-
ние на невоенную работу государственного значения. Он посту-
пил в контору своего двоюродного брата, который с утра до
ночи бился над проблемой снабжения армии обмундированием,
вначале в качестве компаньона большой фирмы готового
платья, а потом в качестве правительственного агента. После
этого Мелхиор перестал повторять, что «это кончится через
шесть месяцев». Он все более увлекался работой в конторе
своего кузена. Перспективы войны менялись, и быстрое
окончание ее утратило для него свою первоначальную значи-
мость.
5
ВНЕ ВОЙНЫ
«Война может затянуться на годы».
Вскоре это утверждение незаметно, но совершенно катего-
рически вытеснило разговоры о шестимесячной войне. По-
степенно, понемножку, с каждым днем стиралась граница
между сценой и зрителями, и все большее и большее количе-
ство их становилось участниками драмы.
Рэчел умчалась уже давно. Ей удалось устроиться в добро-
вольный походный госпиталь, кочевавший по территории без-
защитной Бельгии, и с тех пор, к своему великому удоволь-
ствию, она жила в постоянной опасности, ежеминутно рискуя
362
жизнью, среди людей, у которых все нормы поведения сошли
на нет, не выдержав напряжения войны.
Один раз она прислала Теодору коротенькое письмецо, на-
писанное карандашом, которое показалось ему хвастливым и
бессердечным, но адреса для ответа не сообщила; затем он
получил несколько нескромную открытку к Новому году с
«приветом из Остенде», и с тех пор она исчезла из его жизни.
Один из помощников Роулэндса отправился на фронт добро-
вольцем через полтора месяца после начала войны. Потом
ушли два товарища-студента; еще одна студентка, с которой у
Теодора завязались довольно непринужденные дружеские отно-
шения, поступила на курсы сестер милосердия, а Вандерлинк
внезапно покончил с искусством и бросил свою мастерскую, ко-
торая, наверно, могла бы стать во время войны местом сбора
людей с литературными и артистическими наклонностями.
— Я больше не в силах этого выносить,— сказал Вандер-
линк,— это было его единственное объяснение,— и поехал в
Италию, чтобы поступить в квакерский походный госпиталь.
С каждым днем все больше и больше людей уходило на
войну, а количество и влияние остающихся вне войны все
уменьшалось. Разрастающийся и усиливающийся смерч войны
кружился по Лондону и захватывал все больше и больше
жизней. Все меньше и меньше оставалось людей, способных
устоять против его притягивающей силы, не поддаться его зову,
и огромная толпа безучастных зрителей, толкавшихся в Лон-
доне в начале войны, неуклонно таяла, превращаясь в редею-
щие кучки.
И то, что творилось в окружающем мире, последовательно
повторялось и в сознанье Теодора. Все большая часть его втя-
гивалась в этот круговорот войны, находила в нем свое место,
и все меньшая часть сопротивлялась, протестовала и остава-
лась вовне.
Течение жизни человеческого существа и окружающего его
общества, подобно движению солнца, планет и их спутников,
неизбежно подчиняется одному закону. Взрыв войны заставил
завертеться все человечество в огромном круговороте, хотя
бы и с различной амплитудой и скоростью движения. Мозг
Теодора подчинялся тому же вращению, что и сметенная масса
мозгов, составлявших его лондонский мир, и так называемое
«английское сознание», и еще более обширный и сложный
круговорот мозгов, представляющий собой скрытую сущность
Британской империи, англо-американской культуры и запад-
ной цивилизации. Все это кружилось с неуклонно возрастаю-
щей скоростью. И круг за кругом в процессе этого вращения
Теодору становилось ясно, что война — это не только что-то
происходящее, нет, она становится всем, что бы ни происхо-
дило. Это была новая форма жизни. Скоро не будет места,
где можно было бы жить вне войны. И как бы то ни было,
363
уступая или сопротивляясь, все равно придется принять в ней
участие.
Поток сознания Теодора, подобно потоку сознания у каж-
дого из нас, исходил из его представления о себе. Это пред-
ставление о себе отнюдь не было вполне установившимся и
определенным. Оно вертелось вокруг его фантазии о Бэлпинг-
тон е Блэпском, как вокруг некоего ядра, оно тяготело к ней.
Все остальное в его сознании беспорядочно металось из сто-
роны в сторону, но этот поток стремлений и фантазий стано-
вился все более устойчивым и постоянным. Здесь все было
просто, все так взывало к его чувствам и все казалось таким
привычным по сравнению с мрачными неразрешимыми за-
гадками, терзавшими его. Плыть по течению этого потока
было легче, настолько легче! И вот потому именно, что он
не требовал от Теодора никаких усилий, он теперь захватил
его и всецело подчинил себе.
Мы рассказывали в нашей повести, как возникла, как
складывалась и определялась эта ныне уже бесспорно господ-
ствующая личность. Теперь она решительно утверждала себя
в качестве подлинного Теодора. Ее живописное благородство,
врожденная смелость, все ее качества возникли как естест-
венная реакция на окружающий мир, который казался таким
прочным и надежным. В годы детства, когда все кругом было
неизменно и вечно, в долгие годы юности Бэлпингтон Блэпский
взрастил в себе романтическое и безупречное мужество, очаро-
вание рыцарства, стремление к высоким подвигам. Какую бы
одежду он ни носил — сверкающие ли доспехи, или придвор-
ное платье, или износившийся в походах мундир,— сущность
его была всегда одинакова. Он был всегда честен, честен до
мозга костей. И теперь стоило ли говорить о том, что он от-
кликался на призывные знамена и боевой клич, трепеща, со
вздымающейся грудью и с бесконечным презрением ко всем,
кто колебался и падал.
И так же откликались миллионы его сверстников в британ-
ском государстве. Наш первый отклик на вызов великой войны
был, вне всякого сомнения, героическим.
И, однако, это не было откликом всего Теодора, потому
что Бэлпингтон Блэпский еще не являл собою всего Теодора
и ему все еще приходилось идти на какие-то компромиссы.
И в самом Теодоре и в окружающей его среде были элементы,
которые не спешили на зов барабанного боя, а, наоборот,
весьма энергично сопротивлялись этому призыву. Мы уже
пытались как можно деликатнее рассказать читателю о «не-
пригодности» Теодора. Словом, факт остается фактом — на
протяжении целого года, когда все вокруг него и в нем самом
взывало: «Иди!» — он не двигался с места. Искусно обманы-
вая самого себя, он не шел. И неминуемо он оказался в по-
редевшем и все более редеющем кругу своих единомышлен-
364
ников, которые тоже не хотели идти и среди которых даже
были такие, которые, подобно Тедди, с начала войны покля-
лись, что ничто не заставит их пойти.
Вскоре в Лондоне стали сновать по улицам сильно возбуж-
денные молодые женщины, которые настойчиво и вызывающе
оглядывали молодых людей в штатском платье. Это были со-
временные валькирии, выискивающие жертв. В один прекрас-
ный день в Гэмпстедском метро Теодор подвергся нападению.
Это было обыкновенное маленькое создание с круглым розовым
детским лицом. Теодор подумал было, что она старается пере-
хватить его взгляд с некиими дружелюбными намерениями.
— Извините,— сказала она, обгоняя его при выходе на
Кемдентаун, и быстрым движением своей элегантной, затяну-
той в коричневую перчатку руки сунула ему маленькое белое
перышко.
Он остановился с позорным символом в руке. Но она
исчезла прежде, чем он успел объяснить, что его не взяли,
что он признан негодным. Он сел, красный, пристыженный,
и окинул взглядом своих смущенных спутников.
— Нехорошо,— произнес он громко.— Хоть бы повязку
какую-нибудь надевали тем, кого не берут.— Сказав это, он
замолчал. Какой-то пожилой человек хмыкнул и сочувственно
кивнул.
Теодор обсуждал этот вопрос о повязке с Мелхиором.
Пусть .будет такая волонтерская повязка, чтобы для всех было
ясно, что они выполнили свой долг. Он даже попробовал было
два-три дня носить повязку из ленты цвета хаки на левой руке.
Это несколько утешало его, пока он не очутился бок о бок с
полисменом на лестнице в подземке. Полисмен внимательно
смотрел на новый нарукавный значок, и казалось, вот-вот
задаст вопрос.
— Прививка,— сказал Теодор, прежде чем его спросили.—
Не мог достать красной ленты,— и он поспешил домой, оторвал
нашивку и бросил ее прочь.
Он надел ее только для того, чтобы избежать неприятно-
стей, а если это грозило еще большими неприятностями, какой
же смысл ее носить? Но ночь он лежал без сна, и Бэлпингтон
Блэпский осыпал его упреками. Ссылки на его непригодность
уже не спасали.
— Я должен идти,— говорил он.— Я должен идти. Если
меня не возьмут в одном месте, я должен попытаться в другом.
Даже если мне придется пуститься на хитрость, я должен идти.
Вы видите, что даже в темноте и будучи вполне и всецело
Бэлпингтоном Блэпским, он не допускал мысли, что никакого
осмотра в сущности не было. То, что он был освидетельствован
и признан негодным настоящим врачебным начальством, при-
нимало все более и более характер подлинного воспоминания.
Впоследствии это стало подлинным воспоминанием.
365
— Я должен идти.— Он сел завтракать бледный и реши-
тельный.
Но он пребывал в бездействии еще в течение трех ме-
сяцев.
«Трус», «увиливает»,— эти слова были в большом ходу в те
роковые дни. Бэлпингтон Блэпский усвоил эти выражения
безоговорочно и мысленно готов был применить их даже к
своему упрямому другу Тедди. Но вряд ли можно было без
большой натяжки заподозрить в трусости Тедди. Он фыркал
громко всякий раз, когда слышал разговоры о «непригод-
ности», и частенько его насмешки казались направленными по
адресу Теодора. Он ходил по Лондону с белым пером в пет-
личке, готовый, как он говорил, пустить в ход свои кулаки или
аргументы против всякого, кто захотел бы принять его вызов.
Но хмурое выражение его красной физиономии, повидимому,
отпугивало ревностных патриотов. У него произошла вторая
бурная стычка с отцом, после которой они перестали раз-
говаривать друг с другом. Профессор занялся какой-то рабо-
той военного характера, а Тедди в мрачном одиночестве про-
должал начатые ими вместе исследования о цикличности
развития инфузорий Темзы. Когда Брокстеды встречались за
столом, они ели молча, но в поведении Тедди по отношению к
отцу трудно было заподозрить какое-нибудь увиливание.
Однако, если говорить начистоту, можно ли было в самом
деле считать трусостью и увиливанием обдуманную уклончи-
вость и нерешительность Теодора? Была ли та часть существа
Теодора, которая стояла вне войны, действительно обуреваема
страхом, движима страхом, как преобладающим побуждением,
или было что-нибудь более сложное в этих не внушающих до-
верия, загнанных, сопротивляющихся частицах его мозга?
Можно с уверенностью сказать, что в течение всего этого
года, когда он уклонялся от войны, страх, инстинкт самосо-
хранения почти не беспокоил сознание Теодора.
С другой стороны, воображаемое «я», вокруг которого
строил свою личную жизнь Тедди, черпало свою жизненную
силу как раз из того круга суждений и оправданий, которые
Бэлпингтон Блэпский вытеснил из сознания Теодора. Эти бес-
сильные, подспудные факторы в сознании Теодора находились
в полном согласии с тем, что говорил или делал Тедди. А ново-
обретенная задирчивость Тедди была в несомненном родстве с
ревностным благородством Бэлпингтона Блэпского и воинст-
венностью Теддиного отца. Тедди пытался подавить свое тай-
ное возмущение Гогенцоллернским милитаризмом. Он старался
не вторить недоуменному вопросу Теодора: «Но что же нам
остается делать при таком положении вещей?» И всегда был
готов вступить в драку с патриотами. Из них двоих коре-
настый и плотный Тедди казался более воинственным, чем
стройный, длинноногий Теодор. И каждое из этих потрясенных
366
войной сознаний находило в другом назойливое утверждение
именно тех чувств, которые оно усердно старалось подавить.
Неприязнь к Тедди возникла у Теодора еще тогда, когда
он впервые почувствовал, что интеллектуальное и моральное
влияние Тедди на сестру мешает его отношениям с Маргарет.
Теперь, когда Тедди мешал его усилиям сохранить согласие
с самим собой, эта вражда чрезвычайно усилилась. Сохранять
равновесие в те дни было почти всем одинаково трудно и мучи-
тельно. У Тедди были свои слабые стороны. Усилия остаться
справедливым и здравомыслящим среди всеобщего смятения
толкали его к прогерманизму и анархизму.
Так как все вокруг него кричали и вопили, что Германия
гнусна и черна,— он чувствовал величайшую потребность на-
ходить ее чистой и белой — белой, как только что выпавший
снег. Ни одна встреча с Теодором не обходилась без пререка-
ний и ссор.
Но в чем же собственно заключался этот протест против
участия в войне, который Тедди в своих попытках самоутвер-
ждения всячески старался выразить, а Теодор, исходя из тех же
соображений, всячески старался подавить? Каков был их общий
стимул? Он сводился к тому, что Теодор оставался вне войны,
хотя считал, что его долг быть в рядах армии, а Тедди изо всех
сил старался остаться непоколебимым в своем решении — не
ввязываться в войну, не пачкать себя,— и оба подчинялись
одному и тому же побуждению, исходящему из самой глубокой
потребности человеческого сознания — потребности в свобод-
ной инициативе. Предшествующая эпоха безопасности и про-
цветания, в особенности на Западе, предоставила этой потреб-
ности такой простор, какой раньше ей никогда не был досту-
пен. Эта молодежь выросла, не ведая почти никаких преград
в своих стремлениях к самоутверждению и саморазвитию. Они
появились на свет, когда мир, казалось, вступил в счастливую
полосу. Им не приходилось чувствовать на себе гнет дисцип-
лины и, еще того меньше, наказаний. Их спрашивали, предо-
ставляя им неограниченный выбор: «Что вы хотели бы делать?»,
«Кем вы хотели бы быть?» И вдруг им пришлось столкнуться
с непреодолимым всеобщим принуждением. Иллюзия челове-
ческого счастья и мирового изобилия рассеялась, и внезапно
открылось истинное положение вещей. «Брось все, что ты де-
лаешь,— приказывало оно,— перестань быть тем, кем ты хочешь
быть, и иди на войну. Иди на войну. Война — это все, а ты —
ничто, абсолютное ничто, помимо того, что сделает из тебя
война».
И вот этот инстинкт сохранения свободы, такой же сильный,
а может быть, и гораздо более сильный, чем инстинкт самосо-
хранения, и вызвал то лихорадочное брожение умов, которое
наблюдалось в военном поколении Англии, по мере того как
развертывалась великая трагедия. Их угнетал не страх.
367
а неразрешимая диллема. Загадка, на которую они не находили
ответа. Пробудились ли они от сладких иллюзий и столкнулись
с суровой действительностью, или оказались в плену темных
пережитков и отвернулись от блестящих возможностей?
В самом понимании этой войны и всего, что она собой пред-
ставляла, и в значении, которое они придавали ей, Теодор
с Тедди расходились. Тедди исходил из второй альтернативы,
а Бэлпингтон Блэпский верил в первую. Бэлпингтон Блэпский,
выращенный на возвышенно романтическом, историческом и
литературном материале, принял войну и необходимость своего
личного участия в ней как нечто неизбежное и всячески пода-
влял безмолвное инстинктивное сопротивление своей обо-
лочки — Теодора. Он не ждал войны, но раз война пришла, ее
надо было принять достойно, согласно лучшим традициям. Он
готов был признать, что его поколение призвано к этому вели-
кому служению. Он готов был бросить свое искусство и писа-
тельство, которые в конце концов не так уж удерживали его,
и идти.
Разум Тедди не признавал и не принимал ничего этого.
С самого начала войны он не делал никаких попыток скрыть от
себя, что война в ее современном виде — это чудовищное, неслы-
ханное наваждение, самое невероятное из всех, которым когда-
либо поддавалось человеческое сознание. Он не допускал
мысли, что она вызвана необходимостью. Он не хотел видеть
в ней трагедии, призыва к усилию и благородству, очищающего
огня для ослабевшего мира, жертвенного возрождения циви-
лизации; это была просто чудовищная тупость. «Тупость! — кри-
чал он,—тупость, бессмыслица! Надо иметь дело с голыми
фактами, без всех этих фальшивых вывесок! Государствен-
ные деятели — болваны, военное командование — сплошь
идиоты, ни у кого из них нет настоящей честности и представ-
ления о том, что такое цивилизация; короче говоря, все это
дикий разгул чудовищной глупости, потому что это влечет за
собой страдания и смерть миллионов людей».
Он возмущался ленивыми разглагольствованиями прошлого
поколения. Было бы много уместнее, если бы он возмущался
ими до того, как разразилась война. Мы должны были, доду-
мался он теперь, давным-давно разделаться с нашими монар-
хиями восемнадцатого века, с их мундирами, национальными
гимнами и национальной «политикой». То, что мир терпел бед-
ную старую королеву Викторию, которую он упорно называл
«бабушкой войны», было, повидимому, смертным грехом, за ко-
торый мы теперь все расплачиваемся. Каким-то непостижимым
образом она стала для него символом всего, что он ненавидел,
воплощением традиции, сентиментальности и замкнувшегося
в себе безразличия. И даже в этом памятнике перед Букингем-
ским дворцом он видел ее попирающей его возлюбленный про-
гресс. В Англии уже сто лет тому назад можно было создать
368
республику! Мы должны были следовать примеру Америки и
Франции. А ленивые и трусливые богачи вступили в заговор,
чтобы поддержать версию, будто эта праздная старушонка
каким-то образом воплощает современное общество. Нелепость!
Как можно в наше время управлять страной по образцу малень-
кого частного владения? Наши отцы и деды мирились кое-как
с этими обветшалыми политическими формами, считая их в глу-
бине души ложью и условностью. И вот так вся эта нелепость —>
соперничество между странами, состязание царьков, шаблон,
установленный тщеславными монархами,— не отошла просто-
напросто в предание, а перешла в наследство. Ей позволили
расти, и люди, занятые трудом, промышленностью, производ-
ством, не замечали, как она растет, а теперь она забрала власть
и, принимая вид неотвратимой законности, готовится раздавить
нас всех.
И только когда кто-нибудь задавал вопрос, а как же покон-
чить с этой нелепостью, Тедди обнаруживал свою уязвимость,
путался и раздражался. Потому что, говоря откровенно, ему еще
надо было подумать над этим.
— Но ведь мы же должны защищаться! — говорил Теодор.
— Это меня не касается. Совершенно не касается. Нужно
только стойко сопротивляться. Если бы каждый сопротивлялся...
— Вот именно,— ехидно замечал Теодор.
— Есть вещи в тысячу раз более достойные, ради которых
можно пожертвовать жизнью,— кричал Тедди.
— Покончим с германской угрозой, и тогда мы можем
заняться ими.
— Если покончить с германской угрозой, значит перешибить
ее,— тогда, значит, мы скоро дойдем до того, что заведем у себя
их дурацкую маршировку и палочную муштру. Мы это и делаем
теперь. Война во имя уничтожения войны,— эта магическая
фраза одурманила отца. Он думает, что, когда мы разнесем их
флот, перебьем их пехоту, захватим крупповские пушки и все
прочее,— Ллойд Джордж, и король Георг, и царь, и французы,
и банкиры, и поставщики вооружения — все соберутся на
дружественную конференцию, сложат свои короны и знамена,
закончат все, что восемнадцатое столетие оставило незакончен-
ным, и устроят рай на земле. Как бы не так! Я вижу их насквозь.
Дайте волкам растерзать тигра, и у нас не будет больше хищни-
ков. Нельзя уничтожить людоедство, пожрав людоедов. Нельзя
покончить с войной посредством войны, потому что выигрывает
войну тот, кто лучше всего в ней орудует, болван, который
принимает войну всерьез больше, чем все другие. Покончим
с ней, перестреляем всех гнусных фанфаронов, которые
щеголяют в мундирах! Это вернее. Направьте пушки на штаб-
квартиры! Испортите им игру. Покончите с ней — и, может быть,
мы еще и кончим этим — здоровой мировой революцией. Это
будет дело. Война прекратится, когда рядовой человек отка-
24 Г. Уэллс, т. 2
369
жется козырять. Не раньше. Нам достаточно только сказать,
нам, миллионам людей: «Послушайте нас, вы, болваны. Мир —
или мировая революция!» — и наступит мир.
Итак, Тедди с самого начала был вне войны.
Маргарет тоже была вне войны.
С тех пор как разразилась эта катастрофа, она не могла
прийти в себя от горького изумления и ужаса. Жизнь вдруг
сбросила улыбающуюся маску и показала уродливую гримасу.
У нее не выходила из головы история молодого кузена Паркин-
сонов — кадрового офицера, который весело отправился в Бель-
гию, чтобы через месяц вернуться окровавленным живым
куском мяса, слепым, обезображенным, без одной руки. Кто-то
из сестер Паркинсон видел его и очень живо описал, как он был
изуродован. А один бельгийский беженец из Антверпена расска-
зывал, как на его глазах в кучку людей, столпившихся в узком
проходе, попал снаряд, и он видел, как судорожно корчились и
вопили растерзанные тела. По ночам Маргарет преследовали во
сне изуродованные человеческие трупы, безглазые чудовища
с ободранной кожей, которые гнались за ней и обращались
к ней с непонятными призывами. И она ничего не могла сделать.
Те, кто не участвовал в этом, были бесполезны. Она хотела по-
ступить на курсы сестер милосердия, но Тедди настоял, чтобы
она продолжала свои медицинские занятия.
— К тому времени, когда окончится эта война,— говорил
он,— одно поколение потеряет жизнь, а другое — образование.
Постарайся хоть сохранить как-нибудь свою маленькую искорку
знания.
И так как они оба были в стороне, Теодор часто встречался
с нею. В те дни Лондон был переполнен молодыми возбужден-
ными женщинами, но мужчинам в военной форме оказывалось
столь явное предпочтение, что Теодору недоставало женской
дружбы, чтобы заменить Рэчел. А молодым женщинам передо-
вых взглядов, которые были против войны, не нравилось, что он
только потому не пошел на войну, что оказался непригодным.
Но Маргарет была нежна с ним. Она с удовольствием отправля-
лась с ним бродить, охотно играла с ним в теннис. Она очень
много занималась своей медициной, но в свободное время пыта-
лась хоть как-нибудь развлечься. Люди в это безобразно тяже-
лое время жаждали смеха. В мюзик-холлах было уютно и
светло, в кинематографах часто шли картины с участием Чарли
Чаплина, и это было доступно и недорого.
Они вдвоем частенько отправлялись в поход через весь Лон-
дон, если в программе был Чарли, а потом ужинали в первом
попавшемся ресторанчике. Они развлекались тем, что ходили
по большим магазинам вроде Уайтли и Хэррода, исследовали
неизвестные лондонские парки и сады. Они редко говорили
о войне. Ни тому, ни другому не хотелось о ней говорить.
Однако иногда этого нельзя было избежать. Маргарет всегда
370
держалась с ним так, как если бы он добровольно стоял в сто-
роне, как если бы он тоже был «противником войны». Она про-
пустила мимо ушей его рассказ о том, как он был признан
непригодным, как будто он никогда и не говорил ей этого.
— Но вы не понимаете,— говорил он,— я воспринимаю все
это совсем не так, как вы. Во мне все так и клокочет. В глазах
темнеет от бешенства. Если бы я только мог, я пошел бы.
Эта смутная необходимость оправдать в глазах Маргарет
свое поведение в конце концов перевесила колеблющуюся чашу
весов и заставила его, хотя и с некоторой заминкой, отпра-
виться на вербовочный пункт, а затем и на войну.
6
В ОКОПАХ
Подобно значительному большинству его сверстников в те
дни перед призывом, Теодор, вступив в армию, почувствовал
огромное облегчение. Все было решено. Он опять внутренне со-
брался. Возмущенное чувство чести было удовлетворено. Кодекс
был соблюден; его униженное и поколебленное чувство собствен-
ного достоинства возродилось в полном согласии с газетами,
с прохожими на улице, воспрянуло и вознеслось. Никогда до сих
пор Бэлпингтон Блэпский не владел так властно жизнью Тео-
дора. Темный и беспокойный инстинкт — если только это можно
назвать инстинктом — смутной независимости и личной свободы
был побежден и подчинен, а с другой стороны — более глубо-
кий и существенный инстинкт самосохранения еще спал в глу-
бине его сознания и ничем не обнаруживал своей силы.
Теодор, как говорили, был хорошим рекрутом. Как ни свыкся
он с мыслью о своей физической непригодности в период своих
колебаний,— она исчезла, как только он надел мундир и начал
проходить обучение. Внешность его выиграла, и он окреп физи-
чески. Он в значительной мере утратил чувствительность
к мелким огорчениям и маленьким неудобствам. Ему не при-
шлось особенно страдать от муштровки унтер-офицеров, постав-
ленных над ним. У него были средства, и взятки, которые он
совал, очень легко могли сойти за великодушную щедрость
джентльмена. Но у него было достаточно такта, чтобы не разыг-
рывать из себя джентльмена перед начальством каким бы то ни
было иным способом. А его инстинкт подлаживания отличался
исключительной трезвостью.
Темой нашего повествования является сознание Теодора, и
мы не собираемся описывать все его переживания, а только те,
которые глубоко его захватывали. Итак, мы не станем повто-
рять здесь того, что раз навсегда и весьма замечательно на
24*
371
основании собственных сильных переживаний было описано
Олдингтоном, Блентом, Гревсом, Гриствудом, Стивеном Грэхе-
мом, Ральфом Скоттом, Монтегью Сассуном, Томлинсоном,
Невинсоном, Годсоном и их соратниками, и воздержимся от
рассказа о том, как наши высокоцивилизованные, но далеко
не совершенные бритты оторвались или оказались оторван-
ными от их легкой, размеренной, удобной, привычной с дет-
ства жизни, в которой полагалось кушать три раза в день
и спать в постели, и как им пришлось испытать на себе
грубую жестокость и лишения казарменного барака, грубую
одежду, смрадную и въедливую грязь скученной человеческой
массы, жалкую унизительность подчинения, мелочную тиранию,
утомительную маршировку и упражнения, штыковое обучение,
школу бомбежки, краткую передышку отпуска, прочувствован-
ное прощанье с домом и друзьями, тягостный переезд гуртом
через Ламанш во Францию на затемненных кораблях, стоянки
и неизвестность, переходы с постоев, кишащих крысами, на по-
стои, кишащие вшами, первый грохот орудий, неуклонное движе-
ние вперед к этим воющим чудовищам, воющим все громче и
громче, внезапное содроганье почвы, огонь и пальбу тут же ря-
дом, непролазную грязь, дожди, жизнь под открытым небом,
тасканье тяжестей по скользким переходам, усиливающийся гул
и вой, грозные вспышки в ночи, первый воздушный налет, пер-
вый взрыв снаряда. И как, наконец, оставив далеко позади
жалкие привычки благопристойной, цивилизованной жизни, они
сживались с вонью и грязью, с убогой защитой сметаемых загра-
ждений, с грохотом, с непрерывной пальбой, с черным томи-
тельным ожиданием в окопах, где, оглушенные этим немолч-
ным ревом, смрадом и смертной усталостью, они сталкивались
лицом к лицу с альфой и омегой человеческого зла — с возро-
дившейся дикостью хищного зверя, в соединении с такой раз-
рушительной механической силой, какой не знавал еще ни один
другой век.
Ученому историку в будущем покажется любопытным кон-
траст между литературой, которая описывает идущих на войну
англичан,— эту сложную процедуру с набором уклончивых
добровольцев,— и той, которая изображает фаталистическую
покорность народов других стран, мобилизованных законом о
воинской повинности; третий вид литературы — это описание
лихорадочного приступа воинственности, обуявшей Америку
после двух лет возбужденного наблюдения. Хемингуэй и ано-
нимный автор книги «Вино, женщины и война» описывают пси-
хологический процесс, абсолютно не похожий на тот, который
совершался в сознании англичан. Американцы вступили в уже
совершенно готовую войну, о которой они без конца читали;
настроенные чрезвычайно критически и с невероятно возбужден-
ными инстинктами, они переплывали океан, чтобы сыграть свою
роль в последней решительной схватке, а их Америка оставалась
372
где-то там, позади. Для них это было действительным переходом
от домашнего запрета к вину, женщинам и войне — в такой
именно последовательности. Так это для них и осталось памят-
ной экскурсией. Они пришли в тот момент, когда давно уже
застывший западный фронт таял в окончательном изнеможении.
Германская армия выдыхалась в последнем приступе решитель-
ности.
Но рядовой англичанин врастал в войну из своей глубоко-
упорядоченной жизни; для него это была только «война»; он
прошел через четыре года непрерывного напряжения и крово-
пролития, в котором американцы почти не принимали участия.
Жители южной и восточной Англии слышали грохот орудий
прежде^ чем они попадали на фронт,— в Эссексе и Кенте этот
потрясающий окрестности гул слышали уже в 1914 году,— им
надо было только совершить короткий ночной переезд через уз-
кий пролив, погрузиться в поезда, пройти немножко, и вот уже
их отряды и роты шагали по изрытым дорогам, по извилистым
коммуникационным линиям, где их сразу обступала немыслимая
действительность, чудовищное опустошение и гнет и медленно
разворачивающиеся трудности страшной окопной войны, на-
пряжение и ужас, к которым они совсем не были подготовлены.
Мы уже объясняли, что вовсе не страх удерживал Теодора
от немедленного участия в войне. Он не был привычен к страху.
Его инстинкт самосохранения, спрятанный глубоко в подсозна-
нии, пребывал в полном бездействии. Если не считать страшных
снов, когда он был еще совсем маленьким, он никогда по-настоя-
щему не испытывал страха. Но с той минуты, как он действи-
тельно отправился в это странное и мучительное путешествие на
фронт, он начал испытывать какие-то очень непривычные
ощущения. Усталость, физические лишения, голод и жажду —
все это он узнал уже во время своего обучения, но теперь к нему
подкрадывалось что-то другое. За все время своего мирно-
обособленного существования в Англии он видел только одно
мертвое тело — тело отца. Они уже приближались к фронту,
когда ему пришлось увидеть еще одно мертвое тело. А потом
вдруг сразу раны и смерть обступили его со всех сторон.
Это было вечером: они шли по открытой, незащищенной
местности, и весь отряд единодушно держался мнения, что давно
уже пора расположиться на отдых. Теодор с тяжелым снаряже-
нием за плечами шагал в состоянии усталой покорности. Затем
батальон очутился под обстрелом какой-то далеко отстоящей
батареи. Трудно сказать, был ли он под прицелом, или неприя-
тель просто бил по дороге. Большой германский снаряд разо-
рвался в поле за четверть мили от них. Огромная туча красно-
коричневого дыма и пыли взлетела в воздух, повисла на
несколько мгновений,— и в свете заходящего солнца, пронизав-
шего тучу, они увидели, как внутри ее все клубится,— а затем
медленно, очень медленно и постепенно она почернела, начала
373
оседать, рассыпалась и исчезла. Теодор не усмотрел в этом
ничего особенного. Такую штуку можно было увидеть на кар-
тине. Он глядел и мысленно прикидывал, какими красками
можно передать такой эффект.
Вдруг он заметил своего взводного командира, который бе-
жал навстречу ему и кричал.
— Стой! — кричал он.— Отделение Д, стой! Дать другому
отделению уйти с участка.— Он повернулся кругом.— Черт!
Что это такое?
Пронзительный вой второго летящего снаряда послышался
рядом. Крещендо закончилось оглушительным гулом. Но на
этот раз взрыв произошел ярдах в ста впереди, снаряд попал на
дорогу во взвод Б. Вспыхнул ослепительный свет. Время
словно остановилось, дрогнуло, замелькало, потом снова
потекло, как обычно, и Теодор увидал клочки дороги, куски
человеческих тел, ноги, руки, туловища, снаряжение, землю,
подскакивающие высоко в воздухе.
Он остолбенел. Он превратился на несколько мгновений
в послушный автомат. Ему нужно было говорить, что делать.
Колонна двинулась, и он двинулся вместе с нею.
— Прибавь шагу,— сказал кто-то.— Скорее!
Они проходили мимо этого места быстрым маршем.
Ему велели держаться правой стороны. Каждый невольно
отшатывался вправо, проходя мимо этого окровавленного
клочка вывороченной дороги.
Что-то скользкое попало ему под ногу. Фу! — красное пятно,
и еще что-то. Он остановился как вкопанный. Перед ним было
полуголое человеческое тело, разорванное пополам. Неописуе-
мый клубок разодранных красных внутренностей валялся
поодаль на земле. Голова лежала в стороне и как будто смотрела
на него. Он узнал это искаженное лицо. Он знал этого человека.
В нескольких шагах от него, скорчившись, сидел человек. Что
с ним такое? Как будто он пытается скрыть что-то гадкое.
Господи! Что это в траве? Неужели это рука? Человеческая
рука, вырванная и отброшенная в сторону!
— Проходи! Проходи! Этим уж каюк! Им ничем не помо-
жешь!
Но прежде чем Теодор мог двинуться с места, у него подня-
лась рвота. Он, спотыкаясь, отошел к краю дороги, подальше
от всего этого.
— Поторапливайся! —кричал сержант.— Проходи!
Теодор хотел лечь и умереть. Его пихали прикладами
в спину, трясли за плечи, толкали вперед. Спотыкаясь, останав-
ливаясь в приступах рвоты, он тащился за своим отрядом. Он
всхлипывал. «Боже мой, боже мой!» — повторял он снова и
снова. Он никогда не представлял себе, что может быть что-
нибудь подобное.
Тогда Ивенс, его взводный командир, дал ему бренди.
374
— Подтянитесь, юноша,— сказал Ивенс.— Вы что, думали,
можно воевать так, чтобы все осталось целехонько?
Третий снаряд прогудел в воздухе и разорвался, не причинив
вреда, ярдов за двести от них. Но этот взрыв несколько прояснил
сознание Теодора. Он взял себя в руки и зашагал вперед.
Он почувствовал огромное облегчение, когда они очутились
под мнимым прикрытием разоренной деревенской улицы — раз-
рушенной стены и нескольких разбитых войной тополей. Но он
все еще шептал: «Боже мой!»
К счастью, дальнобойная пушка больше не стреляла в этот
вечер. Теодор подскочил при следующем взрыве, но это палила
скрытая где-то поблизости батарея.
— Все в порядке, дружище,— сказал какой-то дружелюб-
ный голос.— Это наши палят.
Постепенно к нему стало возвращаться чувство, что он не
один, что на него смотрят. Он перестал тыкаться в спины това-
рищам, как испуганная овца в стаде. Глоток бренди оказал
свое действие. Теодор перестал бормотать: «Боже мой!» Он
огляделся по сторонам и в стойком спокойствии других по-
черпнул немножко мужества. Взглянув на Ивенса, он поймал
его испытующий взгляд. Он взял себя в руки, поднял голову,
поправил ранец.
— Полегчало? — спросил Ивенс.
— Я еще новичок в этом деле, сэр,— ответил Теодор.—
Надо привыкнуть. Все обойдется. Уж вц извините меня.
Он провел рукой по мокрому от слез лицу. И потом снова
невольно оглянулся на темную дорогу, где остался этот ужас
во мраке.
Он изо всех сил старался овладеть собой. Гордость его вос-
прянула, когда он заметил, что окружающие интересуются им.
— Уж очень неожиданно,— оправдывался он.— Смотрю,
знакомое лицо... ПиЛи с ним вместе... Вчера...
— Еще немножко, и вы совсем оправитесь,— успокаивал
его маленький сморщенный человечек, к которому он до сих
пор относился с презрением.
— Вы понимаете, мы только вчера пили с ним,— продол-
жал объяснять Теодор.
— Ну, разумеется, пили,— сказал сморщенный человечек.
Весь этот вечер Теодор был спокоен и только боялся, что
во сне его будут преследовать кошмары, но он спал как
убитый. Проснулся он рано. Он лежал на соломе, рассеянно
глядя на кусочки неба, видневшиеся сквозь продырявленную
крышу амбара над его головой. Одно время он с интересом
следил, как звезда прячется за стропилами. Потом он стал
думать о себе. Что с ним случилось? На него очень подейство-
вала эта история, очень подействовала; если бы он не держал
себя изо всех сил в руках, он бы совсем осрамился. Он смотрел
на бесформенные фигуры лежащих вповалку людей. Они бор-
375
мотали, храпели и метались во сне. Разве эти люди чем-нибудь
лучше его? Или они просто не так восприимчивы?
Конечно, это было невыносимое, тошнотворное зрелище.
И такое неожиданное потрясение, оно застало его врасплох,
когда он и без того выбился из сил. Такие вещи не повторя-
ются. А все-таки это ужасно на него подействовало.
Больше этого не должно быть. Он должен держать себя в
руках. Нельзя допускать, чтобы это еще раз застало его вот
так же врасплох. Он чуть-чуть не поддался страху,— чуть-
чуть, но в конце концов ему все-таки удалось овладеть собой.
Как он себя вел? На что это было похоже? Его рвало. Что ж,
всякого деликатного человека могло бы вырвать. Может быть,
он плакал? Он уверил себя, что этого не было. Но страх?
Конечно, величайшая опасность здесь — это страх. Несколько
дней он чувствовал, что этот первобытный инстинкт шевелится
в нем, но он не знал или не хотел знать, что таилось там,
где-то в глубине его существа, что пробивало дорогу к его
сознанию. Теперь он знал. Теперь он знал своего внутреннего
врага. Знал, зачем он прячется там.
Самые храбрые люди, говорил он себе, это те, которые по-
беждают страх. Дурак может не видеть опасности. Вот эти
олухи вокруг него,— ведь для них это совсем другое. Самое
храброе животное носорог. Потому что у него отсутствует
воображение. Вот и они такие же. Для них не существует его
затруднений. До сих пор Бэлпингтон Блэпский не ведал страха,
но теперь его идеал изменился. Он подавлял свой страх желез-
ной волей. Никогда ни единым намеком не обнаруживал он
его ни одной живой душе.
— Мужественный, благородный человек,— шептал он
себе.— Необыкновенно мужественный человек!
Какое успокаивающее действие оказывали слова: «Необык-
новенно мужественный человек!» В таком настроении он встал,
чтобы встретить лицом к лицу все тягости грядущего дня.
В этот день батальон отправлялся на передовые линии. Во
всем отряде не было человека, который бы проявлял столько
оживления, сколько Теодор. Он был так оживлен, глаза у него
так блестели, он так охотно все делал, что сержант не утерпел
и спросил его, с чего это он так суетится.
— Спешить некуда. Чему быть, того не миновать, каждому
свое выйдет,— сказал сержант.
Участок передовых линий, куда попал отряд, был относи-
тельно спокойным участком, но и тут Теодору хватало пищи
для возбуждения. В более ранний период войны здесь шли
жестокие бои, и британские линии местами перекрещивались
с прежними германскими линиями; кое-где на открытых местах
валялись незарытые трупы, и всюду виднелись отмеченные
крестами низенькие жалкие холмики, которые то и дело раз-
ворачивало взрывами снарядов или пулеметным огнем, так
376
что сознание Теодора продолжало неустанно впитывать в себя
зрелище человеческой смерти. Ничейная зона — унылая голая
равнина, опутанная проволокой,— была усеяна кучами земли,
лохмотьями, людскими отбросами, жестяными банками, соло-
мой. Военные действия здесь сводились к легкой ружейной
перестрелке; время ,от времени из неприятельских окопов
метали гранаты, а иногда делались попытки вылазок, и тогда
начинали строчить пулеметы и бить окопные мортиры. Всюду,
где только было возможно, цветущие побеги сорняков боролись
с опустошением, которое вносил человек. Разбитые деревья по-
крывались почками, птицы пели, и повсюду шныряли в изоби-
лии сытые и наглые крысы. Ночи были спокойны, только
иногда какие-то необъяснимые приступы нервозности застав-
ляли то ту, то другую сторону озарять небо багровыми вспыш-
ками и будить пулеметы. В воздухе ни та, ни другая сторона
не проявляла большой активности. Окопы были достаточно
сухи и глубоки, подземные убежища — темные и душные, но
вполне надежные. Поистине это было весьма мягкое вступле-
ние для неопытного новичка.
Теодор, который решил изгладить из своей памяти и из
памяти своего отряда впечатление предыдущего дня, дер-
жался чуть ли не до назойливости услужливо и суетливо. Он
помогал своему маленькому сморщенному приятелю уклады-
вать походную сумку. Он участливо оказал помощь человеку,
который стер себе ногу до крови. Он вынул асептическую
мазь, которую ему дала тетя Аманда. Он сходил и принес
воды, чтобы промыть рану. Он обменивался веселыми замеча-
ниями с солдатами, которых они пришли сменить. Он раздавал
налево и направо папиросы.
— Видите вы их когда-нибудь? — спрашивал он, подразу-
мевая немцев. Это, повидимому, был удачный вопрос, и он
много раз повторял его.
Но молодой офицер из батальона, который они сменяли,
вернулся в окопы на носилках мертвым. Он был убит на на-
блюдательном пункте, когда совершал свой последний обход.
Его лицо было закрыто окровавленной тряпкой, и никто не
сделал попытки посмотреть на него.
— Чертовски не повезло, сэр! — сказал Теодор, стоявший
рядом.— Чертовски не повезло!
Взгляд его упорно следовал за окровавленной тряпкой,
пока он не сделал над собой усилия и не отвел его.
Неприятель зашевелился, почуяв, что происходят какие-
то изменения, окопные мортиры заработали, окопы оживи-
лись.
У-у-у, банг! — совсем рядом. Где это?
Теодор стиснул зубы и выпрямился. Разве он прятался? Он
вытянул шею.
— Никто не ранен! — весело закричал он.— Гони еще!
377
Ему было велено спрятать свою гнусную башку и за-
ткнуться.
Он засмеялся весело и совершенно естественно.
Когда они заняли отведенное им помещение в окопах, он
оставался все таким же оживленным и услужливым.
— Это лучшая квартира из всех, что у меня были во Фран-
ции,— весело сказал он.— Не сквозит. Даже и обыкновенной
вентиляции нет. Не мешало бы заморить червячка.
— Червякам корму хватит,— буркнул кто-то.
Люди расположились на отдых. Ему казалось, что они
как-то хмуро косятся на него. Но, может быть, это только его
воображение. Он закурил папиросу и стал напевать отрывок
из Девятой симфонии Бетховена. Потом он заметил, что пере-
стал напевать. Он прислушивался к шуму наверху. Похоже,
с той стороны сыпались снаряды. Его старшина наблюдал за
ним, как ему казалось, не очень дружелюбно. Не обидел ли он
его чем-нибудь? А все-таки, как неприятно, думал он, сидеть
закупорившись в этой темной душной яме. Его мысли пере-
скочили к красной тряпке, закрывавшей лицо молодого офи-
цера. Не годится сидеть здесь слишком долго, ничего не делая.
Он решил выйти наверх и осмотреться. Последний взрыв был
где-то совсем неподалеку.
Но фриц, повидимому, уже угомонился. Ничего больше не
сыпалось с той стороны. Спустя немного Теодора поставили
исправлять брешь в парапете, пробитую окопной мортирой,
после этого нашлась еще кой-какая мелкая работа. Он делал
все как-то суетливо и лихорадочно. Он боролся с неудержимым
желанием выглянуть наверх и посмотреть, что происходит у
врага, и с таким же неудержимым желанием нагнуть голову
на ярд ниже уровня пролетавших снарядов. Сумерки сгуща-
лись, и он опять вернулся в землянку. Здесь стало еще душ-
нее от многочисленных попыток поджарить бекон и вскипятить
чай в котелках. Четверо играли в карты при свете огарка, а
трое или четверо спали, улегшись на короткие и узкие нары.
Все, казалось, были в дурном настроении, и между сморщен-
ным человечком и злоязычным деревенским парнем из Илинга
поднялась ссора из-за того, кому куда положить вещевой
мешок. Теодор сидел некоторое время молча, а потом принялся
чистить винтовку, чтобы отогнать от себя это ужасное вос-
поминание о страхе, одолевавшее его.
Его соседом оказался рыжеволосый белокурый парень,
который, наполовину раздевшись, занимался тем, что осыпал
себя и свою одежду каким-то порошком, который он считал
необыкновенно могущественным средством от блох.
— Вылезайте, свиньи,— ворчал он.— Я вам покажу.— Он
был тоже новобранец.
Его бормотанья поощрили Теодора вступить в разговор.
— Вот мы и попали сюда,— сказал он.
378
— Куда это сюда?
— Да вот сюда!
— Да уж верно, что попались, что говорить,— сказал охот-
ник за паразитами.— Вшивая дыра!
— Я не то хотел сказать... Но надо пройти через это. Удиви-
тельно, как подумаешь, что мы участвуем в последней войне.
— Что? — вскричал старшина, который улегся было на
нары. Он так быстро вскочил, что ударился головой о балку
в потолке, и обильный запас известных ему одному ругательств
прокатился по всему убежищу.
Когда этот поток сквернословия иссяк, сухощавый человечек
вмешался в разговор.
— Если вы говорите, что, по-вашему, это последняя война,
так вы, надо полагать, думаете, что она протянется до Страш-
ного суда,— сказал он.
— Я думаю, что мы победим,— сказал Теодор.— Конечно,
мы победим. И не так уж долго этого ждать. И тогда будет
конец войне. Какой смысл в том, что мы находимся сейчас
здесь, если эта война не покончит со всем этим?
— Со всем этим? — откликнулся старшина, все еще поти-
рая голову.— Что ты такое плетешь? С чем это «со всем этим»?
Ты, что ж, думаешь, больше войны не будет и не будет солдат?
— А ради чего же еще мы боремся?
— Так, по-твоему, больше не будет солдат?
— Не так много. Вот надо будет только разделаться с этим.
Если вы читаете газеты...
— Нашел дурака! Читать газеты, еще что! Мы-то ведь
здесь? Все это у нас под носом происходит. Да разве похоже,
что это когда-нибудь кончится? Покончить со всем этим? Покои*
чнть! Эка сказал. Солдаты всегда были и всегда будут. А без
них, что же, одни слюнявые сосуны на земле останутся. Тоже
нашел, что сказать. Война, она, знаешь, таким вот молодчи-
кам, как ты, или вправляет мозги, или вышибает их начисто.
Вот для чего бывает война, а для тебя — что то, что другое —-
одинаково полезно. И после этой войны будет еще война, а по-
том еще и еще, и так до скончания века. Аминь.
— Либо мы фрица одолеем, либо он нас одолеет,— сказал
сухощавый человечек.— А одолеет тот, кто сильнее.
— Вот это правильно,— сказал старшина.
Сухощавый человечек, повидимому, почувствовал, что он
сказал именно то, чего от него ожидали. Он подумал и глубо-
комысленно изрек:
— Война — это необычайное дело, экстраординарное. Поду-
мать, чем людям приходится заниматься! Я вот, видите ли,
столяр. В свое время делал хорошие вещи.
— Почему же ты аэропланы не пошел делать? — спросил
старшина.
— Да у нас, видите ли, было то, что называется отделочная
379
мастерская. Я больше поправлял да подновлял мебель, са-
мому-то мало приходилось делать. Но я пробовал. Ведь я здесь
не для своего удовольствия. Коли бы можно было, ни за что
не пошел бы. Да уж так нехорошо обернулось дело. Хозяйского
сына забрали, и видать было, что хозяин думает, что и мне не
годится оставаться. Да и дела пошли плохо.
— В Илинге нас тысячу человек, можно сказать, на улицу
выбросили,— сказал парень из Илинга.— Никакой работы по-
лучить нельзя было.
— А я был шофером в садоводстве,— сказал охотник за
вшами.— Раз утром приходит хозяин,— пастор он у нас был,—
и говорит: «Пришло, говорит, вам время идти. Да. Пришло
время и вам свой долг исполнить».
— Если б мне посчастливилось, я пошел бы еще в четыр-
надцатом,— сказал Теодор, блистая нравственным превосход-
ством.— Но мне велели подождать год.
Старшина молча окинул его взглядом.
— На этот раз мне повезло,— продолжал Теодор,— и я
чертовски рад, что я теперь здесь с вами, товарищи. Чертовски
рад.
— Тебе сказали, подождать год? — спросил старшина.
— Пока я не буду совершеннолетним,— сказал Теодор.
Старшина хмыканьем выразил глубочайшее недоверие. По-
том он ясно показал, что ему ничего не остается делать, как
лечь спать. Он опять улегся на свою койку, демонстративно
повернувшись спиной к Теодору.
— У меня там осталось...— Ему вдруг захотелось расска-
зать им все про Маргарет; он чуть было не сказал: «Осталась
моя девушка», но это непонятное, внезапно возникшее желание
тут же исчезло.— Все там осталось.
Он предоставил им самим догадаться, что значит это все.
— Ну ясно, всем нам пришлось оставить все,— сказал
столяр.
— Словно какая-то сила толкала пас всех, все мы почув-
ствовали этот великий толчок. Он-то и приведет нас к победе,—
сказал Теодор.
— Избави нас, боже, от всех этих проклятых толчков,—
сказал чей-то голос из коричневой мглы за свечкой.
— Я рад, что я здесь,— сказал Теодор.— Ах, я так рад!
Всем нам придется тяжело, но, клянусь богом, мы свое дело
сделаем. Чувствуешь себя так, будто входишь в историю. То,
что мы делаем, будет поворотным пунктом в жизни каждого.
Дети наших детей будут рассказывать о нас. О людях Послед-
ней войны. Конечно, сейчас приходится выжидать. Но с этой
мертвой точки мы скоро сдвинемся. Долго продолжаться это не
может. Скоро произойдет великий сдвиг, будет сделано мощное
усилие. Оно будет колоссально. Вдоль всего фронта от Гол-
ландии до Швейцарии. Сойдутся, как два гигантских борца.
380
Сейчас это просто затишье, как бы... как перед Армагед-
доном.
— А по-моему, так просто вшивая дыра,— вставил рыже-
волосый парень.
— Чем скорее мы из этого выберемся, тем лучше,— сказал
Теодор.— Не нравится мне здесь. Да и никому из нас не пра-
вится. Сидим, как крысы в норе, наполовину зарывшись в
землю. Грязное это дело! Похоронили нас здесь,— но мы еще
подымемся.
— Ох,— раздался угрожающий голос старшины.— За-
ткнись-ка ты, цыц, говорят тебе! Похоронили — будь ты про-
клят! — И, повернувшись и вытянув шею, как химера, он еще
раз злобно крикнул: — Цыц!
Теодор замолчал.
В эту же ночь Теодору в первый и в последний раз при-
шлось стоять на посту. Это было уже после того, как зашла
луна, незадолго до рассвета. Он должен был стоять, не подни-
мая головы выше определенного уровня, и от этого у него
сводило шею. Он смотрел на расстилавшуюся перед ним полосу
голой земли, изрытую воронками, обнесенную столбами, между
которыми была натянута замотанная узлами проволока. По-
лоса эта простиралась до невысокой горки, где среди темных
пучков низкорослой травы виднелось несколько незарытых тру-
пов. Затем она пропадала и появлялась уже у горного кряжа,
отстоявшего примерно на четверть мили, за которым тянулась
линия немецких окопов. Вблизи было тихо-тихо. Но дальше
направо, где начинался склон, что-то шевелилось, слышались
отдельные тревожные выстрелы, вспыхивали огни. А еще
дальше, там, куда не достигал взгляд, стрекотали пулеметы.
Вблизи было так тихо, что тишина эта казалась враждеб-
ной. За каждой кочкой Теодору чудились какие-то тени, кото-
рые крадучись скользили по изрытой земле, и только когда он
делал над собой усилие, они исчезали. Он видел, или ему ка-
залось, будто он видит собаку, которая кружила среди этих
странных и зловещих призраков. Сначала он думал, что ему
это кажется. Иногда он совершенно отчетливо видел — собака,
а потом оказывалось — нет, не похоже! Иногда казалось, что это
просто полоса бегущей тени, появляющаяся при вспышках
света справа. А потом опять ясно было видно собаку — длин-
ную собаку. Ну конечно, это собака. Он тихонько свистнул и
позвал ее. Она не обратила на него внимания и продолжала
бегать взад и вперед в каком-то странном смятении. Очень
быстро. Казалось, она росла. И при каждой новой вспышке
вздрагивала, менялась на глазах. Она становилась огромной.
Теперь она была похожа не столько на собаку, сколько на дви-
жущиеся клубы черного тумана. Теодор чувствовал, что необ-
ходимо что-то сделать, и это чувство усиливалось, становилось
нестерпимым. Он окликнул ее, а когда она повернулась и побе-
381
жала к нему, он поднял винтовку и выстрелил. Банг! — Она
тут же исчезла.
Она не отскочила, не упала, а просто исчезла.
Ему было очень трудно объяснить, что он видел. Его вы-
стрел вызвал ответную стрельбу, и в отряде его встретили руга-
тельствами.
— Ему почудилось что-то,— сказал парень из Илинга.
В землянке ему учинили настоящий допрос.
Особенно настаивал на подробностях парень из Илинга.
Что это была за собака? Какой породы? Что она делала?
— Да я даже не могу сказать, похоже скорей на тень, чем
на собаку,— рассказывал Теодор.— И она все время шныряла
кругом. Длинная такая, ну совсем как длинная черная тень. То
как будто ползет по земле, то подпрыгнет и остановится на ме-
сте, знаете, где они там лежат, постоит около одного, потом
к другому перебежит и так все время и кружится возле них,
точно обнюхивает. А иногда вдруг повернется и глядит в нашу
сторону. Точно ждет... Понимаете — ждет.
— Черт тебя не возьмет! — заорал старшина неистовым го-
лосом.— Провались ты со своей проклятой собакой. Что это
тебе вздумалось нас всех стращать? Думаешь, нам приятно
сидеть в этой паршивой дыре да слушать про твои привидения?
И как раз в эту минуту какой-то необычный звук прорезал
трескотню, слышавшуюся снаружи,— долгий, пронзительный
свист, закончившийся глухим ударом.
— Что это такое? — вскричал Теодор.
— Что «что такое»? — откликнулся парень из Илинга. Он
быстро повернулся и нечаянно задел огарок свечи, стоявший
возле него,— землянка погрузилась в полную тьму.
— Что это, вы слышали, какой-то странный шум?—твер-
дил Теодор прерывающимся голосом.— Неужели ни у кого нет
свечи? Что это был за шум? Скажите, что это был за шум?
— Цыц, заткнись, ну тебя к дьяволу! — прикрикнул стар-
шина.— Цыц ты, Бэлпингтон! Да стукните его кто-нибудь по
башке.
— Я не виноват,— сказал Теодор.— Я только спросил.
— Ну, не рассуждать, цыц!
В темноте Теодор засунул кулак в рот и изо всех сил впился
в него зубами. Несколько секунд он боролся с желанием схва-
тить винтовку, выбежать из землянки и — показать им. Что
собственно он собирался показать им — он не знал.
Настороженно прислушиваясь, он ждал повторения этого
свистящего звука и удара, и через несколько секунд звук повто-
рился.
Но к этому времени парень из Илинга разыскал и опять
зажег огарок. И все при свете было не так уж страшно.
На следующий день тот же парень из Илинга подошел
к Теодору — малый был на себя непохож. Он стоял на посту
382
часовым поздно ночью, и сейчас его грязное лицо было все
еще землисто-бледным от одного только воспоминания о том,
что ему пришлось пережить.
— Я видел вашу собаку,— прошептал он, вытаращив гла-
за.— Господи Иисусе!
Позже сержант позвал Теодора и отчитал его.
— Какого черта вы распустили эти небылицы про черную
собаку? — сказал он.— Не так уж нам весело здесь, не хватало
еще, чтобы какие-то заклятые собаки из преисподней болтались
на ничейной земле. Глядите у меня! Слишком много вы язы-
ком треплете. Запомните, что я говорю. Помалкивайте.
Теодор очень огорчился, что его невзлюбили в отряде.
Неприятно, когда тебя кто-нибудь невзлюбит, но если тебя
невзлюбит твой сержант, это уж совсем плохо. Он мучался и
не находил себе покоя. Он почти совсем перестал спать. Ведь
видел же он своими глазами — собака это была или что-то
другое. Во всяком случае, что-то такое было. Но теперь об этом
нельзя было и заикнуться. Стоило ему только задремать, его
тотчас же обступали чудовищные, жестокие кошмары, и он на-
чинал отбиваться и кричать. Эта собака завладевала даже его
бодрствующим сознанием. Она превратилась в какой-то ги-
гантский призрак. Она олицетворяла войну, опасность, смерть.
Он пытался отнять у нее разлагающиеся мертвые тела, но тогда
она бросилась на него. Ее пасть, из которой текла отвратитель-
ная зеленая слюна, издающая запах тления, приближалась все
ближе и ближе, как он ни старался отбиться. А за ней выра-
стала бесконечная вереница двигающихся ощупью фигур
с красными окровавленными повязками на лицах. Она поймала
их, и теперь они должны всюду следовать за ней. А когда она
поймает и его, он тоже очутится в их числе. Ему было больно
и душно от этой повязки. Он жаловался во сне. Его бормотанье
переходило в хриплый крик. Это кончалось тем, что в него
запускали сапогом, а иногда чужие, грубые руки стаскивали
его с койки.
Тогда он лежал без сна, прислушиваясь к тяжелому дыха-
нию и Храпу своих соседей и к приглушенному грохоту орудий
снаружи, над головой.
Иногда им овладевало нестерпимое желание выскочить
наверх, начать стрельбу по окопам, что-то предпринять. Ему
хотелось во что бы то ни стало добраться до этих немцев, ко-
торые сидели там, спрятавшись, и покончить с ними. Покончить
навсегда.
И так прошел день, другой; на третьи сутки Теодор получил
приказ явиться к лейтенанту Ивенсу. Тот пристально поглядел
в его глубоко запавшие, лихорадочно блестевшие глаза, затем
спросил:
— Вы, случайно, не из Олдингтона?
— Нет, сэр,— ответил Теодор.— Я из Блэйпорта.
383
— Я сам из Олдингтона. Я что-то слышал о вас... Возможно,
я ошибаюсь. Может быть, просто знакомая фамилия. Да, по-
дождите, что это я хотел вам сказать? Вы ведь художник, не
правда ли? Я видел в платежной ведомости...
— Да, сэр.
— А чертите хорошо?
•— Ничего себе, сэр.
— Так почему же вы не подаете прошение в штаб, чтобы
вас перевели на чертежную работу? Там нужны чертежники.
— Как? — спросил Теодор и заставил Ивенса повторить
все снова. Но ведь это же значит — покончить со всем этим?
Вырваться отсюда. Избавиться от этой собаки. От всего этого
смрада и темноты. Теодору пришлось сделать над собой усилие,
чтобы не закричать, что он согласен. Нужно было сделать ог-
ромное усилие, чтобы остаться верным себе.— Но, видите ли,
сэр, я вовсе не хочу выбираться отсюда...— сказал Бэлпингтон
Блэпский.— У меня этого и в мыслях нет. Я, правда, все еще
никак не могу привыкнуть, я знаю, но я изо всех сил стараюсь
держать себя в руках.
— Вы там будете более на месте. Определенно.
— Конечно, сэр, если вы так думаете,— сказал Теодор.—
Если вы считаете, что это более подходящая для меня работа...
— Я бы не стал предлагать, если бы я этого не думал,—
сказал Ивенс.
— Но как отнесутся к этому другие? — возразил Бэлпинг-
тон Блэпский.
— Они не станут протестовать. Они ведь не желают вам
зла. Просто подумают, что вам чертовски повезло,— добавил
молодой офицер, давая понять, что он не склонен поддержи-
вать этот разговор джентльмена с джентльменом.— Они
поймут.
И они и в самом деле поняли. И отнеслись к этому чрезвы-
чайно тактично.
В эту ночь Теодор спал как убитый, несмотря на грохот и
вой английских орудий, поднявших пальбу на рассвете, а на
следующий день и ему самому и окружающим стало ясно, что
его нервы успокоились. Он начал находить много прекрасных
качеств в товарищах, с которыми ему предстояло скоро рас-
статься. Воздух в убежище казался ему уже менее смрадным,
пища — вкуснее, окопы — безопаснее. Дни проходили без вся-
ких несчастных случаев. У него вернулся аппетит. Ему каза-
лось, что все его страхи были преувеличены. На следующую
ночь ему снились какие-то сны, но совсем не такие ужасные...
Через месяц он уже распростился со всем этим и сидел, вы-
чищенный и отдохнувший, за чертежным столом. Его служба
на передовых позициях временно прекратилась. На стене около
своего стола он приколол несколько рисунков Бэрнсфадера,
превосходно написанные юмористические сценки из фронтовой
384
жизни. Днем, когда Теодор бодрствовал, он старался приспо-
собляться к войне, следил за своим питанием, прогуливался
перед тем, как лечь спать, и это помогало ему держать на при-
вязи свои сны.
Он добросовестно и тщательно исполнял свою новую работу,
но каким-то свободным краешком своего сознания уже обдумы-
вал фразы писем, которые он собирался писать домой.
У него были весьма веские основания написать теткам,
в особенности леди Бруд, жене сэра Люсьена Бруда из мини-
стерства обороны.
А еще надо было написать Маргарет Брокстед, рассказать
ей о величии и ужасах фронта и о том, как его героический дух
откликался на эти величественные ужасы. Надо было иметь
в виду, что это письмо прочтет не только Маргарет, но и
какой-то неведомый цензор, который, конечно, мог оказаться
просто тупицей, рутинером, а может быть, и человеком с изыс-
канным литературным вкусом. Во всяком случае, независимо
ни от чего это должно было быть очень нежное и трогательное
письмо. Потому что Маргарет, видите ли, была теперь его
возлюбленной. Она отдалась ему.
7
ДЯДЯ ЛЮСЬЕН
Сестры Спинк были чрезвычайно заинтересованы, взвол-
нованы и потрясены тем, что их единственный совокупный
отпрыск отправился на войну. Люцинда с самого начала на-
стаивала на том, чтобы он поступил в добровольческий поход-
ный госпиталь и сочетал бы таким образом исполнение долга
с моральным осуждением войны, но Клоринду не воодушев-
ляли устремления Антанты, и она не поддержала ее. Само
собой было ясно, что он физически непригоден для фронта, и
его внезапное и неожиданное решение поразило всех. Клоринда
очень огорчилась и обнаружила по отношению к нему непри-
вычную теплую заботливость. Она даже подумала заплатить
кому-нибудь, чтобы выхлопотать ему увольнение, но такой по-
ступок чрезвычайно противоречил бы духу времени. И Теодор,
который все же разбирался в действительном положении вещей,
не хотел и слышать об этом.
— Я просто переменил бы фамилию и записался бы
опять,— сказал он.
Тогда она обратилась к дяде Люсьену, сэру Люсьену Бруду,
супругу Миранды Спинк, человеку весьма влиятельному и
прочно утвердившему свой авторитет в аппарате военного снаб-
жения.
26 Г. Уэллс, т. 2
385
При жизни Раймонда Клоринда и леди Бруд были в не-
сколько натянутых отношениях, но кремация, а затем разра-
зившаяся война сгладили многие расхолаживающие воспоми-
нания. Перед тем как отправиться во Францию, юный герой
получил приглашение провести отпуск в большой пригородной
вилле сэра Люсьена. Сэр Люсьен — широколицый, несколько
чересчур демонстративно деловитый человек — успешно зани-
мался весьма выгодными и в высшей степени сложными пат-
риотическими операциями, маневрируя между поставщиками
различных химикалий и технических материалов и военным
потребителем. У него был крупный благодушный рот, еще бо-
лее крупные, выступающие вперед зубы и неистощимое крас-
норечие.
— Итак, значит, ты последний ныне здравствующий
мужской отпрыск великого рода Спинков, а? — сказал он Тео-
дору.— И ты желаешь рискнуть жизнью ради великой старой
империи?
— Я чувствую, что не могу стоять в стороне, сэр,— ответил
Теодор.— Я рад, что меня приняли.
— Согласен с тобой, ясно, ты должен что-то делать. Я при-
ветствую, что ты пошел в армию. Ты поступил правильно. Го-
раздо лучше было пойти сейчас самому, чем дожидаться, чтобы
тебя взяли через три месяца, что они, конечно, и сделали бы.
— Я об этом не думал, сэр.
— Но это факт. Тебя непременно взяли бы. Ручаюсь, не
пройдет и трех месяцев, как у нас будет объявлен призыв. Ты
поступил правильно. Это достойный жест. Но тем не менее...—
Сэр Люсьен задумался.— Не можем же мы посылать на убой
всех наших художников и поэтов, черт возьми! И не годится
упекать на войну единственных сыновей. Я подумаю о тебе.
Тебе придется пройти через все это, понюхать пороху. Но тебе
не следует оставаться там слишком долго. Это вредно для
здоровья. Нужно будет что-нибудь придумать...
— Я не хочу никаких привилегий,— сказал Теодор.— Хочу
рискнуть...
— Совершенно правильно, мой мальчик, и в высшей сте-
пени похвально. Что ж, рискни,— но нет нужды слишком долго
испытывать провидение. Ты дашь нам знать, где и что с тобой.
Великое дело во время войны — поставить каждого человека
на такое место, где он будет всего полезнее. Служба — это
одно, а самоубийство — другое.
В это время Теодору не понравился некоторый оттенок ци-
низма, проскальзывавший в замечаниях сэра Люсьена, но
теперь он достойным образом оценил здравый смысл и доброе
чувство, которые диктовали их.
— Терпеть не могу все эти разговоры о людях, которые
жертвуют жизнью,— сказал сэр Люсьен.— Это сентиментально.
В корне неправильно. Мы должны беречь нашу жизнь до по-
386
следней минуты — так же, как мы должны беречь наши пред-
приятия,— и уступать их не иначе, как по самой высокой цене.
Тогда мы выиграем войну и сможем чего-нибудь добиться. Ни
мне нет никакой пользы,, ни империи нет никакой пользы от
всех этих так называемых героев, которые жаждут «пожертво-
вать собою». Я это называю глупостью. Чистейшей глупостью.
Это просто-напросто выбрасыванье очков в игре. Ты не выиг-
раешь, а проиграешь, если дашь убить себя. Понятно?
Итак, Теодор написал леди Бруд письмо в тоне храброго,
но рассудительного воина.
«Я сблизился с замечательными людьми,— писал он.— Уди-
вительная это вещь — чувство товарищества в окопах. Не могу
описать вам всю честность, великодушие и скромное благород-
ное мужество этих чудесных малых. А их юмор! Это неподра-
жаемое суровое остроумие! Наш старшина — это, ну, просто
вылитый Старый Билль. Вплоть до усов. Я старался не отста-
вать от них, но меня перебросили. Здесь большая нужда в чер-
тежниках. Вы понимаете, в платежной ведомости я был запи-
сан, как художник. Стали расспрашивать. Я не мог отвертеться.
Конечно, чертить я могу лучше, чем рыть окопы».
Его перо повисло в воздухе на несколько мгновений. Лицо
стало задумчивым.
Он старался представить себе офицера, к которому попадет
на цензуру его письмо.
«Я чувствую, что должен быть там, где я могу принести
больше пользы»,— приписал он.
8
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ
Написать Маргарет было гораздо труднее.
Маргарет была его возлюбленной. Он обладал ею. А раз
она принадлежала ему, нужно было запечатлеть как можно
ярче свой образ в ее сознании. Но вот тут-то и возникали труд-
ности— надо было создать такой образ, который удовлетворял
бы его и в то же время удовлетворял бы и воодушевлял Мар-
гарет.
Он сидел, кусая перо, и вспоминал свои последние встречи
с ней, когда она уступила ему.
Ни одна из этих встреч не была похожа на то, что он рисо-
вал себе раньше. Когда он в первый раз пришел к ней в солдат-
ской форме, она проявила отчаяние матери, у которой ребенок
упал в лужу и весь изгваздался.
— Ах, зачем вы это сделали? — сказала она.— Зачем вы
это сделали? И еще после того, как они вас признали негод-
25*
387
ным. А я уже была уверена, что вам не грозит никакой опас-
ности!
— Я не мог больше оставаться в стороне.
— Ведь это же совершенная нелепость, Теодор. Вас пошлют
туда, чтобы убить или искалечить. Вас, ваше тело. Эту копну
волос. Эти милые мягкие брови. И эту милую глупую привычку
заикаться, когда вы не сразу находите что сказать. Вас!
— Я должен был пойти. В конце концов может ли долг—
честное исполнение долга — искалечить кого-нибудь?
— Долг! Да что это, неужели уж весь мир сошел с ума?
Завязался опять все тот же нескончаемый спор.
Теодор счел необходимым высказать свое мнение о про-
тивниках войны.
— Я не осуждаю Тедди. Но я не могу поступить так, как он.
Не могу.
Но лучше было не нажимать, не подчеркивать этого раз-
лада в ее привязанностях. И скоро он почувствовал, что лучше
не подчеркивать и своего собственного героизма в этом отно-
шении. Он все яснее и яснее видел, что не это привязывало ее
к нему. Он вызывал в ней теплое чувство нежности. И если она
не восхищалась им так, как ему хотелось,— она любила его
чистосердечно и пылко.
В конце концов это произошло само собой. Он оставил за
собой квартиру, чувствуя инстинктивно, что пока она остается
за ним, война еще не совсем поглотила его. Это было как бы
обещание вернуться назад. И вот они пришли туда вместе.
Это было совсем непохоже на его любовные свидания
с Рэчел. С Маргарет он чувствовал себя властелином. Он сры-
вал одежду с ее трепещущего тела, но при этом сам дрожал
с головы до ног. Он чувствовал себя не столько ее любовни-
ком, сколько торжествующим преступником. Она плакала в его
объятиях и прижималась к нему.
Она ласкала его.
— Это милое смуглое тело возьмут на войну,— шептала она
и всхлипывала от боли и жалости.
Ее нежность пробудила в нем ответную нежность. Он всю
жизнь бредил романтикой и романтической любовью, но тут
ему впервые открылось, сколько страдания и самоотверженно-
сти кроется в настоящей любви. Неведомые ему до сих пор
чувства зашевелились в нем.
— О Маргарет,— говорил он.— Дорогая моя Маргарет.
Он вспоминал теперь эти встречи. Их было всего три до того
дня, как он походным порядком двинулся на вокзал Виктория.
Он вспоминал обстановку этой маленькой грязноватой квар-
тирки, где все напоминало о Рэчел, которая невольно высту-
пала на заднем плане и становилась как бы фоном любви Мар-
гарет. Теодор всегда восхищался внешностью Маргарет, но ее
кротость и покорность оказались в конце концов еще чудеснее,
388
чем ее красота. За это время по крайней мере она не делала
никаких попыток критиковать его. Казалось, она утратила эту
свою чуточку неприятную проницательность, от которой он так
часто чувствовал себя неловко. Она так глубоко огорчалась
разлукой с ним, что уже перестала задумываться над тем, на-
сколько он умен или искренен. Все ее сомнения умолкли, вся
настороженность пропала, она не защищалась ничем.
Он вспоминал последние минуты перед посадкой.
Маргарет пришла очень бледная, но все такая же прелест-
ная, она держала себя в руках — не плакала. Она пришла со-
всем одна, так как никто не должен был знать о том, что про-
изошло между ними,— и в особенности Тедди.
Он обнял ее и поцеловал.
— Я готов умереть за тебя,— сказал он.
— О, живи для меня, Теодор! Живи для меня!
Когда поезд двинулся, прямая, неподвижная фигурка пото-
нула в стремительном потоке девушек, женщин, безличной
серой толпы; кто провожал сына, кто друга, мужчины и жен-
щины бежали рядом с вагоном с заплаканными улыбающимися
лицами и махали платками, кричали, не отставая от прибав-
лявшего ход поезда до самого конца платформы. Там вся
толпа слилась в одну темную массу, потом превратилась в
смутное пятно и растаяла.
Когда затемненный ночной пароход, вздрагивая, поплыл
через Ламанш, Теодор постепенно начал приходить в себя.
Было тихо, тепло и пасмурно, и он сидел на палубе, вытянув
ноги,— в длинном ряду смутно различимых, притихших,
угрюмо-сосредоточенных фигур. Разговаривали мало. Им ска-
зали — чем меньше они будут шуметь, тем лучше. Они не про-
ехали еще и полпути, как он уже опять стал Бэлпингтоном
Блэпским, трагическим героем, который сидел неподвижно, как
статуя, в то время как корабль нес его навстречу его судьбе.
Это было горестно, ужасно, но — великолепно.
Он чувствовал себя способным на невероятный героизм.
А теперь он должен был дать отчет о своем подлинном ге-
ройстве.
Он долго грыз перо, прежде чем окончил это письмо. Он
решил, что цензору может не понравиться слишком подробный
отчет о его перемещении. Пожалуй, не годится сообщать ей о
своем уходе с передовых линий. Лучше написать ей об этом
туманно. И побольше рассказать об удивительном чувстве то-
варищества, рождающемся среди опасности и лишений. Не
стоило также, ибо цензор мог оказаться каким-нибудь пошля-
ком, слишком явно подчеркивать их отношения. Но можно с
почти бессознательным пафосом написать ей об Англии, о
домашнем очаге и, в особенности, о двух прогулках с нею
вместе — Рикмэнсуорт, Кью Гарденс, Ричмонд-парк, Вирджи-
ния Уотер...
389
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Гнет войны
1
СВОЕНРАВНЫЙ КОСТОПРАВ
Теодор уже больше не вернулся на фронт рядовым. Про-
видение и сэр Люсьен — направляющий перст оного — вели его
извилистыми путями, пока не привели к Парвиллю на Сене,
предместью Парижа. И здесь вскоре в нем возродилось осла-
бевшее было стремление жить согласно высоким требованиям
Бэлпингтона Блэпского.
Этот его второй перевод состоялся без всякого труда, благо-
даря повреждению полулунного хряща над коленной чашеч-
кой. Повреждение это произошло вследствие того, что он, вы-
ходя из чертежного бюро, неосторожно шагнул мимо ступеньки.
Сначала это показалось пустяком, просто незначительным
растяжением, но чем дальше, тем сустав все больше отказы-
вался служить. Теодор ходил с одеревеневшей ногой, опираясь
на палку. Казалось, что ходить так ему придется до конца
войны.
«Моя фронтовая служба на время прервалась,— писал он
Маргарет и Клоринде.— У меня что-то случилось с коленом, не
очень серьезное. (Ты не беспокойся. Все будет в порядке.) Пока
это не пройдет, я работаю в чертежном бюро и ковыляю «где-
то во Франции», вне пределов досягаемости чего-либо, кроме
Длинных Берт и воздушных налетов. Это унизительно, но что
поделаешь».
Он впервые сообщал вскользь каждой из них, что он уже
больше не в окопах.
Сэр Люсьен добился его перевода в этот наспех сооружен-
ный промышленный агломерат в Парвилле потому, что сэр
Люсьен пользовался в Парвилле влиянием. У него там были
«дела», туда направлялась значительная часть его «материа-
лов» для «сбыта». В министерстве предполагалось утверждение
проекта объединенного французско-английского предприятия по
изготовлению воздушных рекогносцировочных карт, а это, не-
сомненно, должно было повлечь за собой спрос на всевозмож-
ные фотографические материалы, которые ему приходилось
«сбывать», и он чувствовал, что «свой» человек, который мог
бы приглядеть и при случае дать нужный ответ на некоторые
щекотливые вопросы, был бы там очень и очень полезен. А кто
же лучше всего подходит для этой роли, как не племянник?
Итак, казалось, Теодору предстояло остаться в Парвилле в
качестве почетно выбывшего из строя до самого окончания
390
войны. Это было убогое местечко: жалкие домишки с облезлой
штукатуркой, сараи, бездействующая фабрика, обращенная в
склад материалов, немощеные дороги, бесчисленные грязные
кабачки, беспорядочно раскиданные мелкие участки пашен, хи-
жины, хибарки, импровизированные изгороди из бочарных до-
сок и проволоки,— но все это было бесконечно чище и спокой-
нее, чем фронт. Он храбро ковылял вокруг и довольно много ра-
ботал, скромно избегая вопросов о происхождении его раны;
и два главных источника его страданий были: слишком тонкая
перегородка сна между ним и миром кошмаров и жгучее жела-
ние и в то же время неспособность изобрести приемлемый план,
чтобы заставить Маргарет приехать и утешить его в его несча-
стиях.
Это была до нелепости немыслимая идея, но он цеплялся за
нее, потому что ему нестерпимо хотелось, чтобы Маргарет была
здесь. Он любил ее, временами любил до исступления, но ему
непрестанно хотелось, чтобы она была здесь. Он чувствовал, что
она — его женщина, и чувство долга по отношению к ней не
позволяло ему завести любовную интрижку в Парвилле или
искать развлечений в Париже. Это вызывало у него чувство
раздражения против нее. Он восставал против этого запрета,
которое его собственное воображение наложило на него. Он
чувствовал, что Маргарет должна придумать какой-нибудь
предлог, чтобы приехать в Париж, что, если она действительно
любит его, она должна найти способ приехать к нему, отклик-
нуться на его желание.
Он слонялся по Парвиллю, который по мере приближения
лета становился все суше и пыльнее. Он не занимался спортом,
плохо ел, чувствовал себя физически расслабленным. Он не
сходился близко ни с кем из своих сослуживцев. С двумя из них
он играл в шашки и в шахматы, ио он не был силен в этих иг-
рах. Местечко кишело мелкими ссорами. Они лишали его спо-
койствия днем, а ночью преследовали его во сне, вырастая в
бешеную ненависть. В разговорах преобладал придирчивый и
насмешливый тон. Рабочий день тянулся долго, и работал он
лениво. В Парвилле все работали лениво. Он пытался проник-
нуться загадочной страстью французов к рыбной ловле. Но не
мог. Он сидел на берегу, погруженный в героические мечтания,
а тем временем поплавок тонул, запутавшись в водорослях. Он
много читал и от времени до времени ездил в Париж доставать
книги. Он старался усовершенствоваться во французском
языке, но пополнял только свое знание арго.
Значительную часть своего досуга он посвящал письмам
домой, в которых пытался изобразить себя. Он посылал Мар-
гарет и Клоринде длинные письма, очень длинные, не вполне
удовлетворявшие его. Образ, который он пытался создать, ни-
как не удавался ему. Он изображал себя раненым, в состоянии
застоя.
391
«Война грохочет рядом,—писал он.—Как будто что-то за-
хватывающе интересное происходит на соседней улице, на ко-
торую никак нельзя пройти».
Он подумывал было писать роман, чтобы выразить свое бла-
городное недовольство вынужденным бездействием. Роман дол-
жен был называться Выброшенный из рядов, Интермедия
войны. Он напишет его в третьем лице, и по замыслу герой его,
все еще хромой и страдающий, ухватится за счастливый случай
и погибнет геройской смертью.
Письма, которые он получал в ответ на свои, также не
давали ему удовлетворения. Два первых письма от Маргарет,
нацарапанных ею в отчаянии, были еще довольно сносны, но
затем, как только она узнала, что он уже не в окопах, она снова
обрела равновесие. Она требовала, чтобы он написал ей под-
робно о своем ранении, но когда он уклонился, ее как будто
перестало это интересовать. Ясно было, что она успокоилась,
узнав, что он теперь вне опасности и что рана его не серьезна.
Она никак не откликнулась на его настойчивые уговоры
приехать к нему во Францию. Она могла бы по крайней мере
отнестись к этому более чутко. До сих пор он никогда не за-
мечал такой непреклонности в характере Маргарет.
Она готовилась к последним экзаменам на степень бака-
лавра медицинских наук и, кроме того, принимала деятельное
участие в антивоенной пропаганде. Контраст между ее методи-
ческими занятиями, ее целесообразной деятельностью и его
собственным существованием раздражал его. Для поддержания
собственного достоинства он чувствовал себя вынужденным
преуменьшать все, что делала она, и преувеличивать свою соб-
ственную деятельность. Любовная нотка в их переписке смени-
лась оттенком пререкания.
Он начал поносить в своих письмах убежденных противни-
ков войны, в частности Тедди. Тедди сделался воинствующим
антимилитаристом и сидел в тюрьме. Теодору казалось, что
Маргарет уделяет этому слишком много внимания. Она была
целиком на стороне Тедди, она восхищалась им.
Теодор смутно чувствовал, что расхождение между ним и
Брокстедами было гораздо глубже простых расхождений по по-
воду войны. Это было давнишнее расхождение, возникшее с
первых же дней их знакомства. Война была только пробным
камнем, выявившим нечто гораздо более существенное в их
мировоззрении. Уже много позже ему довелось узнать всю глу-
бину бездны, разделяющей их, но он и сейчас остро ощущал эту
рознь и возмущался Маргарет. Она не понимает его, жаловался
он, и под этой жалобой скрывался, быть может, смутный не-
осознанный страх — прозреть и понять ее. А что, если вместо
очаровательной актрисы, готовой участвовать в его драме, он
увидит такое же невыносимое существо, как он сам, движимое
такими же повелительными импульсами?
392
Затем пальцы огромной руки, появившейся нежданно, схва-
тили Теодора и сомкнулись. Кому-то свыше пришла в голову
неприятная мысль прочесать штаты служащих в Парвилле, со-
стоящие главным образом из легко раненных, и отозвать всех,
кроме калек и выбывших из строя вследствие тяжелых увечий.
Чертежники, Повидимому, были уже не так необходимы, как
раньше; изрядное количество более или менее пострадавших
художников и фотографов оказались пригодными. Теодор очу-
тился перед лицом пожилого врача в военной форме. Он под-
вергся суровому допросу.
— Вам нет никакой необходимости оставаться здесь. Ни ма-
лейшей. У нас имеется человек, по имени Баркер, и у него два
молодца, которых он обучает для нас. Они могут мигом попра-
вить ваше колено. Их называют костоправами. Они не имеют
никакой квалификации. Никакого права заниматься лечебной
практикой — во всяком случае Баркер не имеет права. Ни ма-
лейшего. Но нам теперь не приходится быть слишком разбор-
чивыми. Он может сделать, а мы не можем. Ловкость рук.
Просто какой-то фокус, Совершенно не профессионально. Вы-
пустит вас в полном порядке, таким, каким вы были. Давайте
попробуем...
Он сделал какую-то заметку.
Теодор следил, как он писал.
— Я не хочу оставаться здесь,— сказал он немножко
поздно в ответ на невысказанное осуждение в тоне доктора.—
Я сделал все, что мог, чтобы остаться на передовых пози-
циях.
— Конечно. Конечно. Вы совершенно правы. Я не вижу, по-
чему бы вам не вернуться туда.
Это было волнующее переживание.
Теодор не мог заснуть всю ночь, так это его взволновало.
Ему вспомнились окопы, они вставали в его памяти целой се-
рией живых картин. А когда он задремал, ему представилось,
что он уже там, дрожа, стоит на посту и смотрит на скользя-
щие тени. И вдруг они расплываются, и снова перед ним вы-
растает страшный призрак отвратительной черной собаки.
Снайпер, чудовищный снайпер, с лицом военного доктора,
целился в него, и он, леденея от ужаса, не мог двинуться с
места и спрятаться. Дуло винтовки надвигалось все ближе, ста-
новилось все шире и, казалось, нащупывало самое чувствитель-
ное место в его теле. Он пытался крикнуть «камрад», но не мог
издать ни звука. Он проснулся в холодном поту и лежал в
ужасе с широко открытыми глазами.
Не откладывая, он написал леди Бруд, напоминая ей слова
сэра Люсьена, который сказал, что спустя некоторое время ему
можно будет подать прошение о производстве в офицерский
чин. Это дало бы ему возможность вернуться в Англию для обу-
чения, вместо того чтобы тотчас же отправиться на фронт. Он
393
все время помнил об этой возможности, с той самой минуты, как
ему указали на нее, а теперь она обратилась для него в своего
рода долг. Первый пыл войны, когда сын кухарки и сын гер-
цога шли служить рядовыми, уступил место более практиче-
скому умонастроению. Теперь ощущался большой недостаток в
молодых людях с мировоззрением высших и средних классов,
которое военные власти считали необходимым для успешного
командования, так что лицам, принадлежащим к этой катего-
рии, было сравнительно легко получить офицерский чин.
Теодор несколько беспокоился по поводу того, какой рапорт
написал Ивенс о первых неделях его пребывания в окопах и об
истинных причинах его перевода в чертежное бюро штаба ди-
визии. Но рапорт так и не был подан. Он напрасно беспокоился.
От Ивенса остался теперь только изгрызенный крысами череп,
обломки костей, лохмотья, заржавленные ручные часы — все
это, смешавшись с землей и осколками снарядов, тлело среди
разбитых пней в зловонном лесу под Аррасом, а взвод Д, за-
ново сформированный, не сохранил характеристики Теодора —
ему было не до того.
Костоправ произвел на Теодора впечатление вполне сведу-
щего медика,— это был смуглый, плотный молодой человек с
большими красивыми руками, с лицом, выражавшим суровую и
непреклонную искренность. Он чем-то напоминал Теодору
Тедди.
— Итак, вы хотите вернуться на фронт? — сказал он, не-
брежно ощупывая онемевшее колено.
— Каждый должен исполнить свой долг,— ответил Теодор.
— Ну да, разумеется. Но вот, хотел бы я знать...
Он откинулся на спинку стула, задумчиво глядя на Теодора
и на его вытянутую ногу. Он переводил взгляд с ноги Теодора
на его лицо и опять на ногу. Казалось, будто он разговаривает
с ногой. От времени до времени он наклонялся к ней.
— Н-да, дурацкое это дело... Я думал заняться исследова-
тельской работой по медицине, когда эта проклятая война пере-
вернула все вверх дном. Я просто как-то растерялся, когда на-
чалась война. Все мы, должно быть, растерялись. Верно, и вы
тоже? Я решил пойти в санитары. Думал, что это ни к чему не
обязывает. Мне претило убивать людей, хотя бы и профессио-
нальным способом. Очень претило. Но, как видите, я поступил
неосторожно и как-то так вышло, что меня послали сюда обу-
чать этому делу. И теперь я занимаюсь тем, что изо дня в день
возвращаю обратно на фронт этих бедняг, которые только что
приковыляли к безопасности. Изо дня в день. Хуже, чем
убивать немцев. Ведь мне приходится возвращать на передовую
людей как раз тогда, когда они чувствуют, что у них есть закон-
ное основание выбраться оттуда. Имею ли я право посылать
человека обратно,— конечно, если я знаю, что ему вовсе не хо-
чется возвращаться?
394
В его молчании чувствовался вопрос.
Теодор дал ему сказать все это, не прерывая его. Он тоже
смотрел на свою вытянутую ногу. Человек предлагал оставить
его хромым до конца войны. Это было большим соблазном —
Теодор втайне только и мечтал об этом.
— Меня с каждым днем все больше тошнит от моей ра-
боты,— продолжал костоправ.
— Я должен вернуться назад,— промолвил Теодор.
— Не придавайте значения моим... беглым мыслям,— ска-
зал костоправ.— Конечно, если вы считаете, что должны вер-
нуться, это упрощает дело.
Молодые люди встретились взглядом.
— Я должен вернуться,— сказал Теодор, не скрывая, что он
понял предоставлявшуюся ему возможность. Мысли его текли
быстро и бессвязно. Раскрыть ли ему свою душу перед самим
собой и перед этим человеком, поддаться неудержимому чув-
ству отвращения к фронту? До сих пор никогда, даже самому
себе, он не признавался, как велико это отвращение. Сделать
это теперь — значит сдать все свои позиции, занятые им с са-
мого начала войны.
Что думает о нем доктор? Он смотрел на него дружелюбно.
Что он подумает, если Теодор выдаст обуревавшее его желание
сохранить хромоту?
— Я должен вернуться,— повторил Теодор.
— Я должен увидеть все до конца,— произнес Бэлпингтон
Блэпский.
— Не подумайте, что я предлагаю вам какой-то выход,—•
заметил молодой доктор.
Но разве он на самом деле не предлагал?
— Разумеется, нет,— сказал Теодор.— И пусть вас не тяго-
тит, что я из-за вас снова тотчас же попаду в окопы. Я подаю
прошение о производстве.
— Это уже несколько отраднее,— сказал доктор.— Во вся-
ком случае, у вас будет хоть передышка — Англия, домашний
очаг, что-то хорошее... Ну, что же...
Он занялся коленом.
— Это легкий случай. Я думаю, лучше вас захлороформи-
ровать, а завтра уже все будет в порядке, хоть танцевать.
Вошел помощник, грузный пожилой человек с грустными
глазами, и деловито приготовил все необходимое. Когда Теодор
пришел в себя, доктор уже опускал засученные рукава.
— Тошнит?
— Нет.
— Как вы себя чувствуете?
— Боли нет.
— Согните ногу.— Теодор согнул.— Как вы думаете,
можете вы встать? — Теодор встал.— Топните ногой.
— Не могу.
35)5
— Нет, вы можете, топните.— Теодор исполнил приказание.
— Все в порядке. Это прием Баркера. Обыкновенный врач
разрезал бы хрящ и оставил бы вас хромым до конца ваших
дней. А теперь, сэр, вы можете, если желаете, отправиться на
войну. И даже, если вы не желаете.
Костоправ подождал, пока помощник вышел из комнаты.
— Слушайте,— сказал он, понизив голос,— что это за чер-
ная собака, которой вы бредили?
— Я бредил черной собакой?
— Да. Она бегала и грызла трупы. Прескверная черная со-
бака. Она как будто обладала безграничной способностью уве-
личиваться... Вы говорили еще о разорванных на куски людях,
о вывалившихся внутренностях. Красные внутренности. Куски
печени. Повидимому, вы не ожидали увидать такую бойню.
В наше время снарядов и бомб и всего прочего, чем швыряют в
вас, где попало и как попало, животам со всеми их внутрен-
ностями достается больше, чем они привыкли. Следовало бы
подготовлять новобранцев к таким неожиданностям. У вас, по-
видимому, был шок. Довольно скверный шок. Не знаю, оказал
ли я вам услугу, отправив вас обратно на фронт.
Теодор, все еще находившийся под действием хлороформа,
утратил способность рисоваться.
— Я и сам не знаю,— сказал он.— Но ведь я сначала поеду
в Англию.
— Ах, да! Небольшая отсрочка. Ведь в Англии нет черных
собак. Нет. И мало ли что может случиться.— Он выглянул в
разбитое окно.— Эта работа в полевом госпитале,— сказал
он,— похожа на ловлю людей, которые выбегают из горящего
дома, а ты ловишь их и бросаешь обратно в огонь. Немногие
признаются, что они действительно чувствуют. В затруднитель-
ное положение мы попали. М-да... В лагерь пацифистов теперь
уж, пожалуй, поздно переходить. Гм... Если исключить меди-
цину, прескверный это мир...
Он протянул Теодору большую крепкую руку.
— Желаю удачи,— сказал он.— Советую вам не встре-
чаться на полдороге с черными собаками, когда есть возмож-
ность их избежать. И не думайте больше о людях, разорванных
на куски. Вполне естественно, что куски шевелились. Что
же можно ожидать другого? Но какой прок теперь думать об
этом?
— Я и не думаю,— сказал Теодор.
— Вы не знаете, что думаете,— возразил доктор,— но под-
сознательно вы думаете.
Он смотрел пустым взглядом мимо Теодора, потеряв к нему
всякий интерес.
— Хотел бы я знать, что собственно они могут со мной сде-
лать, если я вообще откажусь от этой работы,— пробормотал он.
396
2
ОБЕСКУРАЖИВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКА ДЯДИ ЛЮСЬЕНА
Впечатление, произведенное на Теодора этой встречей,
стало отправным пунктом целого ряда мыслей. Сомнения косто-
права вызвали в нем беспокойство. Они обнажали сущность
вещей; изобличали позерство; было что-то непонятное и непри-
стойное в откровенном равнодушии этого человека к войне. На-
против того, старый доктор был совершенно понятен Теодору.
Он считал, что каждый молодой англичанин, когда Англия
воюет, должен проникнуться воинственным духом и вести себя
соответственно, а все, что подрывает этот воинственный дух,
должно подавляться. Если человек испытывает страх — он не
должен признаваться в этом. Если ему ненавистна мысль об
окопах, он должен делать вид, что всей душой рвется к этому
зловонию, грохоту и ужасу. Это не ханжество. Это — умение
владеть собой и держаться на высоте. А это и значило всецело
и искренне быть Бэлпингтоном Блэпским. Если ты страшишься
опасности, иди ей навстречу,— чтобы не бежать от нее,— или по
крайней мере старайся изо всех сил идти ей навстречу.
Вот ясный и простой образ действий молодого англичанина,
когда Англия находится в состоянии войны. И таков был мо-
лодой англичанин, которым Англия, включая и его самого,
могла гордиться. Но этот костоправ из тылового госпиталя,
так же как Маргарет и Клоринда, повидимому, не считал
воюющую Англию основным стержнем, вокруг которого раз-
ворачивались драматические действия с его личным участием.
Всем своим поведением, всем своим отношением к делу он по-
казывал, что эта война вовсе не мужественная борьба великого
народа за ясные и благородные цели. Он не желал видеть
этого, и они не желали и все более и более откровенно давали
это понять. Они считали войну насилием, которое следует от-
странить и подавить. Они не видели за всем этим угрозы циви-
лизации, угрозы, с которой надо было храбро бороться. Они
так же мало ожидали хорошего от победы Англии, как и от
ее поражения. И все они в различной мере влияли на сознание
Теодора. Тенью своих глубоких сомнений они грязнили его
доблесть. И без того было трудно смело смотреть в лицо со-
бытиям, и без того было трудно жертвовать своей жизнью,
если даже война и была прекрасным подвигом, каким она
должна быть,— но они незаметно внушали ему, что война —
это нечто совсем другое, просто зверская грубость и жесто-
кость, и все порядочное и честное нужно вырвать из ее пасти
любой ценой, поступившись ради этого всякой условной гор-
достью и честью.
397
— Мужественный благородный человек,— прошептал Тео-
дор, проснувшись на рассвете и глядя на тоненький луч,
который просачивался сквозь ставни его парвилльской спальни.
Фраза показалась ему лишенной смысла. Она больше не
поддерживала его, как раньше, когда он ехал на фронт.
И вот так-то Теодор с незаметно подточенным сознанием
вернулся в Англию, ко всем ее многократно увеличившимся
трудностям. Тетя Миранда своевременно позаботилась о том,
чтобы сэр Люсьен пустил в ход свое влияние и связи, и Теодор
был отозван для обучения и подготовки к производству в офи-
церы.
Лондон показался ему сильно одичавшим, грязным, лихо-
радочным, притихшим. Уличное движение заметно сократи-
лось, а темнота и выжидающая пустота улиц в ночное время
действовали угнетающе.
Воздушные налеты, производившиеся теперь боевыми аэро-
планами,— фаза цеппелинов миновала,— больше утомляли,
чем волновали его. Он презирал людей, прятавшихся в под-
валах и под арками домов. На него теперь не действовали
налеты. Нервы его перестали реагировать на них. Разрывные
ракеты не ускоряли биение его пульса. По сравнению с Фран-
цией, с французским фронтом Лондон представлялся ему бес-
конечно более безопасным, во всяком случае для его тела. Но
что касалось душевного покоя Бэлпингтона Блэпского,— Лон-
дон был для него гораздо более опасен, чем скучная рутина
Парвилля.
У Теодора произошел разговор с сэром Люсьеном, и ему
чрезвычайно не понравилось то, как сэр Люсьен разговаривал
с ним. В некотором отношении образ мыслей сэра Люсьена
оказался гораздо более пагубным для душевного спокойствия
Бэлпингтона, чем образ мыслей Маргарет.
— Нечего тебе торопиться в этот твой батальон,— говорил
сэр Люсьен с медоточивой убедительностью.— Я знаю, ты го-
ришь желанием вернуться и быть разорванным на куски и все
такое, но тебе следует подумать о матери и обо всех тетках.
А что еще важнее,— я должен об них думать. Не зря же я
женился на одной из десяти сестер, как ты думаешь? Шутки
в сторону, мой мальчик, есть вещи поважнее, чем вязнуть в
болотах или увертываться от снайперов. Это, говоря откро-
венно, ни к чему не приведет ни тебя, ни меня, ни родину. Ты
уже присмотрелся к делу в Парвилле, и черт знает как до-
садно, что эти деревянные башки посылают тебя на фронт
именно теперь, когда ты мог бы быть мне полезен. Мне нужно,
чтобы ты сидел в Парвилле, ты или кто-нибудь вроде тебя.
Или в Отейле. Туда теперь понаехали американцы и, конечно,
не только для того, чтобы драться с немцами. У них есть нюх,
можно не сомневаться. Воспитаны на покере. Эта война на
много фронтов, мой мальчик, и кто ее выиграет,— об этом мы
398
сможем судить по тому, кто с чем останется после нее. Будь
моя воля, я бы постарался выиграть войну без союзни-
ков, с одними англичанами, будь что будет. Понял мою
мысль?
Теодор старался казаться непонимающим из боязни ока-
заться заговорщиком.
— Ты подавай прошение о производстве, мой мальчик,—
продолжал Люсьен.— Это будет правильно. Но после этого,
если я сумею доказать, что ты для нас незаменим,— тогда уже
придется тебе бросить свои фантазии и не лезть пустой славы
ради под жерло пушек, как говорит добрый старый Шекспир.
На некоторое время, во всяком случае. Я не хочу тебя разоча-
ровывать, но так обстоит дело.
— Конечно, если я больше нужен там,— сказал Теодор,—
если я могу таким образом больше приносить пользы своей
стране — я согласен. Но я бы предпочел остаться в рядах.
Уверяю вас, сэр. Безо всяких привилегий. Вы действительно
считаете, что я незаменим?
— Спроси тетушек,— засмеялся сэр Люсьен.— Спроси всех
твоих благословенных тетушек!
Теодор вспыхнул.
— Не нравится мне это,— сказал он.
— Ты хочешь сказать...?
— Не нравится мне, что другие тем временем будут
драться. Честное слово, не нравится.
Возможно, что улыбка сэра Люсьена была несколько скеп-
тической.
— Ну, ну,— сказал он.— Не каждый волен выбирать себе
дорогу. Что говорит старик Мильтон? «Те служат также, кто
стоит и ждет». И в этом сейчас все дело, мой мальчик. В этом
все дело.
— Возможно,— отвечал Теодор.— Но я, кажется, готов
пожелать, чтобы у меня не было такой деловитости.
— Ну, ну, ну, мой мальчик. Ведь нам придется продолжать
работу и после войны,— сказал сэр Люсьен. И, помолчав, при-
бавил: — Мы еще доживем до того, что ты будешь моим ком-
паньоном.— И он с преувеличенной нежностью похлопал Тео-
дора по плечу.
Рассказывать об этом разговоре не стоило. Но обдумать
этот разговор следовало. В конце концов это было только
предложение. Ничего не было решено. Итак, он не счел нуж-
ным осведомлять других, что ему не грозил естественный удел
пехотного офицера — удел, который в то время сводился в
среднем к четырем-пяти месяцам существования до заключи-
тельного нокаута. Он не хотел об этом думать. Эта неопреде-
ленность его собственных перспектив еще более усиливала его
негодование против тех, кто лишал души эту великолепную
войну, избегая, умаляя, обесценивая ее, сопротивляясь ей.
399
Она усиливала спокойный героизм его поведения в кругу но-
вых друзей Маргарет и Тедди, с которыми он проводил сво-
бодное время, то, что удавалось урвать от сложной процедуры
обращения из рядового солдата в украшенного звездочками
джентльмена.
3
ВЕЛИКИЙ СПОР
Жизнь в Лондоне заметно притихла. Продукты питания
были нормированы, их было далеко не так много, как в Па-
риже. У сэра Люсьена в Эдгвере был довольно хороший стол;
недостаток мяса он восполнял не подлежащей учету олениной
из парка одного своего приятеля в Букингемшире, и Теодор
с удовольствием оставался у него раза два с субботы на вос-
кресенье. Общество состояло преимущественно из стариков и
пожилых людей, а сэр Люсьен был по уши погружен в свои
деловые патриотические операции. Теодор играл в гольф с бо-
лее подвижными приятелями сэра Люсьена. О войне не было
никаких разговоров. Они устали от разговоров о войне. Они
поддерживали с ней чисто Деловые отношения, и этого было
достаточно. Нового ничего нельзя было сказать, и самое боль-
шее, что они могли сделать для юного героя накануне его пере-
воплощения,— это составить с ним партию в гольф или бридж.
В Лондоне все свободное время Теодор проводил с Марга-
рет, и она навещала его. Она познакомила его со своим круж-
ком отщепенцев, которые пассивно или активно сопротивля-
лись войне, и они да кое-кто из пристроившихся в тылу «неза-
менимых» сотрудников министерств и служащих молодых
женщин, заполнявших штаты военных учреждений, и состав-
ляли главным образом общество Теодора. Они с избытком
возмещали отсутствие разговоров в Эдгвере. Рэчел все еще
была в Бельгии, но Мелхиор встретил его очень дружески и
показался ему хорошо упитанным и энергичным. Мелхиор
устраивал маленькие вечеринки (выпивка, сигары, сардинки,
копченая лососина и жареный картофель) в квартире, где
когда-то Теодор наслаждался любовью Рэчел, и Теодор устраи-
вал вечеринки у себя дома (выпивка, сигары, жареный карто-
фель, копченая колбаса, миндаль и оливки), и молодые люди
из министерств устраивали вечеринки (чай, кофе, крепкие и
легкие напитки, папиросы, закуски) в самых разнообразных
местах. Мюзик-холлы посещались очень бойко, и все кафе и
рестораны в районе Пикадилли и Лейстер-сквер были полны
оживления и света за плотно закрытыми ставнями.
В этом юном кругу великий спор, начавшийся для Теодора
три года тому назад на яхте, в заводи под Мейденхэд, теперь
400
снова возобновился, значительно разросшийся и усложненный.
Он пускал свежие ростки на любой почве, врастая в любую
область человеческой жизни. Так, например, он до неузнавае-
мости искалечил любовные отношения Теодора с его возлюб-
ленной, как искалечил он миллионы любовных отношений,
превратив их в нечто абсолютно непохожее на какие бы. то ни
было романические отношения довоенного времени.
Поскольку здесь идет речь о Теодоре,— для него это был
спор с Маргарет и Тедди, с Клориндой, профессором Броксте-
дом, сэром Люсьеном, кое с кем из парижских читателей иллю-
стрированных журналов, с некоторыми случайно встречавши-
мися ему людьми, выступавшими на передний план,— а по су-
ществу, во всей своей совокупности, этот спор и поныне про-
должается, разрастается и будет эхо во всем мире. Каждый
отголосок этого спора задевал сознание Теодора; оно отклика-
лось, вторило, отвечало, изменялось, сопротивлялось. Теодор
читал теперь левые антимилитаристские журналы, которые
были запрещены во Франции; он знакомился с людьми и встре-
чал откровенность, с которой ему не приходилось сталкиваться
там. Он разговаривал с измученными окопной жизнью, иска-
леченными юношами, которые могли только проклинать ста-
риков, стоящих у власти, и утверждать, что они находят сади-
стическое удовлетворение, обрекая на гибель молодежь. Были
среди них и такие, которые в малодушии вымещали свою бес-
сильную ярость на женщинах. И такие, которые все еще не
утратили гордо-воинственного духа и без конца ругали за без-
действие военные власти.
Он узнал, что существует движение «Долой войну». Что
была сделана попытка объединить все радикальные и социа-
листические партии мира на социалистической конференции
в Стокгольме. Они должны были свергнуть свои воюющие
правительства. Кто бы мог это подумать в 1914 году? В Анг-
лии шла мощная агитация за то, чтобы принудить правитель-
ство объявить «Цели войны». Никогда до сих пор человече-
ство не поднималось до таких ступеней самоанализа. Впервые
начинали всерьез говорить о том, что такое война, каковы при-
чины войны, а вся эта игра на сентиментах и романтические
бредни, приведшие к катастрофе, подвергались суровому
осуждению. Увлекаемые бурным течением событий, люди от-
рекались от старых мерил. Сознание^ что на земле возможен
мир, правда, еще не зачатый, не рожденный, но мыслимый,
воодушевляло пацифистов и неотступно досаждало Тео-
дору. В этом споре у сторонников войны была более прочная
опора, чем у их противников. Они могли взывать к подлинной
действительности; они опирались на установленные порядки и
на общепринятые нормы поведения. На их стороне была исто-
рия. Противники опирались на убеждение, более широкое и
по существу, может быть, более здравое, но гораздо менее
26 Г. Уэллс, т. 2
401
отчетливое. Это были пока еще только туманные намеки на
то, что должно быть. Многое в этом новом движении против
человеческой распри волей-неволей из-за отсутствия выбора
вылилось просто в пассивное сопротивление, в отрицание су-
ществующего порядка вещей. Это движение, основанное на
недоказанных положениях, производило впечатление чего-то
надуманного, неестественного. Приверженцы его чувствовали
свою правоту, но не могли не видеть, что у них много пробе-
лов. Это вносило в их сопротивление, в их протесты неприят-
ный, раздражающий оттенок, их правота была непривлекатель-
ной правотой, у нее не было ни музыки, ни знамен. Они цеп-
лялись за нее, но она не завладевала ими.
В мозгу Теодора шла борьба, она разворачивалась внутри
и вне его сознания. С одной стороны, была жизнь романти-
чески приподнятая, отвечающая всем высоким традициям,
жизнь, в которую он с самого детства прятался от угрозы
действительности, импульсам и условностям которой он всегда
повиновался, ведя себя героически даже теперь, когда они
толкали его к лишениям, страданиям и смерти; с другой сто-
роны, была жизнь неизведанных возможностей, ее не страшило
никакое осуждение, и это открывало перед ней необозримые
просторы, давало ей неслыханную мощь. Трусость как будто
тесно переплеталась с жаждой возвышенного. В чем была
большая ложь? В лицемерии настоящего или в обетах буду-
щего? С Маргарет и в присутствии Маргарет противоречия
между этими двумя сторонами в великом мировом споре, в ко-
тором участвовало сознание Теодора, становились особенно
резкими. Маргарет была так похожа на юную трагическую
возлюбленную героя войны, и она так категорически отказы-
валась от этой роли.
С ее стороны требовалась только незначительная уступка,
чтобы придать сентиментально-трагическую прелесть их жизни
в Лондоне. Ей — так ему казалось — было не только легко,
но даже естественно играть роль, соответствующую его благо-
родной роли. Так приятно было ходить по Лондону, где на
каждом шагу чувствовались следы войны, в новеньком офи-
церском мундире, который действительно очень шел ему, и
водить Маргарет в рестораны, куда был запрещен вход про-
стым рядовым. И у него могло бы быть чувство, что наконец-то
он покончил со всеми сложностями войны. Маргарет могла бы
просто дать понять ему, что Тедди сбился с пути, что он по-
ступает недостойно. Потому что, ведь правда же, он и в самом
деле ведет себя недостойно. А тогда, как все было бы хорошо!
Но нет, она этого не хотела. Она изменилась и продолжала
меняться. Она уже была не той кроткой, испуганной, грустной
девушкой, какой была в начале войны. В ней появилась ка-
кая-то несвойственная ей решительность. И даже какое-то
себялюбие. Она усердно готовилась к выпускным экзаменам,
402
и было очевидно, что она не позволит ни любви, ни страсти
мешать ей в ее занятиях. Ничего похожего на ту прежнюю
Маргарет, которая была так покорна и смотрела на него гла-
зами, полными слез. Она приходила к нему, отдавалась ему,
правда, с пылкой сердечностью, но без восторга. Первая све-
жесть юности, новизна любовных желаний, непосредственность
страсти миновала для них обоих.
4
ЛЮБОВЬ И СПОРЫ
Они любили и ссорились. Ссорились без конца — из-за
Стокгольмской конференции, из-за целей войны, из-за борьбы
с войной, ссорились от всего сердца; это уже были не просто
любовные стычки; Теодор, обвинявший всех социалистов и
интернационалистов в том, что они стали орудием тайной
антибританской организации, вынужден был для подкрепления
своих обвинений сослаться на какую-то свою особую секрет-
ную осведомленность.
Он стал употреблять выражение: «Мне достоверно из-
вестно», которому суждено было впоследствии перейти у него
в привычку.
— Видишь ли, Маргарет,— говорил он,— я не просто фрон-
товик. Я делал там порученное мне дело, готов делать
его и теперь. Но,— загадочно-многозначительным тоном,— есть
вещи, о которых...
— Теодор! — внезапно спросила Маргарет.— Что такое
собственно было с твоим коленом? Никаких следов. По-
кажи-ка! Согни ногу.
Теодор замялся и солгал.
— Не знаю, право,— улыбнувшись, сказал он.— Теперь
как будто все в порядке, а как по-твоему? Наверно, задело
осколком снаряда или, может быть, обломком бревна, когда
землянка обрушилась. Так, только задело, слегка. Были крово-
подтеки, болело, а потом, когда поджило, оказалось смещение
сустава. Мне сделали маленькую операцию, вправили его на
место,— вот и все.
— Сколько времени ты был на передовых позициях?
— Постой-ка... дай вспомнить... да... несколько месяцев.
— Тебе приходилось убивать?
Он задумался.
— Не знаю.
Потом прибавил:
— Видишь ли, нам почти не приходилось видеть живых
немцев. Конечно, за исключением тех случаев, когда бывали
26* 403
налеты. Мы стреляли в них, бросали ручные гранаты. Пуле-
меты работали вовсю.
— А людей около тебя ранило, убивало?
— Я просто не могу говорить об этом,— сказал он вполне
искренне.— Но нельзя же воевать, ничего не разрушая.
Она задумалась, подперев рукой подбородок.
— Это бессмысленно,— промолвила она.— И отврати-
тельно. А когда мы хотим покончить с этим, нам не дают.
Это был все тот же стокгольмский припев.
— Нельзя сейчас покончить,— сказал он.— Надо биться до
конца.
Они опять заспорили.
— Ты не понимаешь,— настаивал он.— Надо биться до
конца. Нельзя допустить, чтобы наполовину разбитая Герма-
ния снова оправилась.
— Германия,— повторила Маргарет.— Германия, Франция,
Британия, империя... Мы... Что значат все эти слова?
— Действительность, самая настоящая действительность.
— Нет,— возразила Маргарет,— это ложь. Спроси Кло-
ринду. Она как-то говорила об этом. Как хорошо иногда го-
ворит твоя мать! Как это она сказала? Всех нас ведут на убой
из-за философского заблуждения. Нет большей лжи, говорила
она, чем ложь этих громких, напыщенных слов. Британия!
Германия! Какая жвачка! Действительность — это миллионы
людей, которые жмутся друг к другу из страха, из низменных
побуждений, из алчности. Шелли знал это сто лет назад. Ты
никогда не читал Шелли? О, Шелли замечателен! Он называл
анархами эти правительства. Анархия! Нет, ты только послу-
шай! Ты думаешь, что участвуешь в войне, а на самом деле
ты просто слепо идешь туда, куда тебя толкают. Это так же
верно, как то, что я люблю тебя, Теодор. Тедди прав. Тедди
всегда был прав. Он всегда смотрел правде в глаза. И вдумы-
вался. Если существует какой-то выход, он найдет его. А ты, ты
просто уступил и расшаркался. И перестал думать. Вот это-то
и ужасно — ты совершенно перестал думать.
Все это страшно возмущало Теодора. Как это он не ду-
мает? Он думает не меньше ее. Только думает по-своему. Он
попытался восстановить свой авторитет.
— Ты говоришь, смотреть правде в лицо,— сказал он.—
Но чему собственно вы — ты и Тедди —смотрите в лицо?
Ничему. Легко повернуться спиной к войне...
— А разве он повернулся спиной? — спросила Маргарет.
— ...и говорить всякие там слова — о человечестве, о все-
мирном государстве и прочее. Но где же оно, это пресловутое
всемирное государство? Покажи мне его.
Маргарет обдумывала ответ.
— Оно там, где есть люди, которые верят в него,— ска-
зала она.
404
Она сидела на низенькой кушетке, и ему казалось, будто
она повторяет заученный урок.
— Я скажу тебе, во что я верю. Нам нужно понять друг
друга. Патриотизм — это не то. И национализм — не то. Да.
Ты не веришь этому, а я верю. Я знаю, для тебя это звучит
нелепо и оскорбительно, ну а я в это верю. Я верю, что на-
станет время, когда последних патриотов, бряцающих ору-
жием, будут преследовать, как разбойников. Или запирать,
как сумасшедших. Всемирное государство — единое всемирное
государство. Вот во что я верю. Ах, я не могу объяснить тебе,
как и почему. Но к этому мы идем. Иначе не стоит жить. Ты
спрашиваешь, где это всемирное государство. Это совсем не
такой неразрешимый вопрос, как ты думаешь. Если хочешь
знать — оно здесь, оно уже существует. Только сейчас оно за-
давлено и еще не собралось с силами. Его нужно поднять,
освободить. Как законного наследника, чьи владения были за-
хвачены мятежниками и самозванцами. Растоптано вконец,
говоришь ты. Ну, так что же? Тем более оснований для нас
быть ему верными. Тем более оснований сплотиться против
нашего правительства, против их правительств, против всех,
против всего на свете, против самозванцев и захватчиков, ко-
торые стоят за разделение и войну. Неужели это не ясно?
— Маргарет,— сказал Теодор,— у тебя прелестнейшее ли-
чико в мире. И прелестнейший голос. Когда ты говоришь вот
так, ты точно пророчествующая Сивилла. Ты так прелестна!
Но послушать, что ты говорите,— кажется, будто это неразум-
ный ребенок.
— Нет,— ответила Маргарет и, обхватив колени руками,
внезапно посмотрела ему в лицо.— Это ты ребенок. А я уже
выросла. И ты помог мне вырасти. Да, ты. Разве не ты сделал
меня женщиной? В этой самой комнате? Это, и война, и мно-
гое другое изменили меня. Ты живешь в какой-то детской ска-
зочной стране. Ты, как мальчик, воображаешь себя действую-
щим лицом в какой-то пьесе. Ты всегда разыгрывал из себя
кого-то. И продолжаешь разыгрывать! И неужели я только
теперь поняла это? А в Блэйпорте? Может быть, тогда я не
могла этого заметить? Ты играешь. Ты выбираешь себе роль
и играешь ее. Я женщина, и мир кажется мне страшным.
Но я смотрю на него. Я смотрю ему в лицо. И я прини-
маю не все, что он мне показывает. А ты все еще играешь
в солдатики.
Это уязвило его, но он постарался скрыть обиду.
— Нет,— сказал он, улыбнувшись,— ты не назвала бы
этого игрой, если бы побывала там. Игра! Боже милостивый!
— Это игра в ужасы. Ужас никогда ничего не облагора-
живал.
Ее открытый взгляд искал подтверждения в его лице.
Он опустил глаза перед ее взглядом.
405
— Я не мог поступить, как Тедди,— тихо сказал он.
Они помолчали несколько секунд.
— Да,— согласилась она очень мягко,— может быть, ты
не мог.
При этих словах в нем вспыхнула злоба.
— Изменить своему долгу,— сказал он.— Спасать свою
шкуру!
— Тедди? — воскликнула она, уязвленная.— Мой брат?
Спасал свою шкуру!
— Ну, ты подумай сама!
Они смотрели друг на друга.
Она медленно поднялась. Остановилась в нерешительности.
— Сколько времени ты, говоришь, пробыл в окопах? —
спросила она сдавленным голосом и вдруг заплакала. Отвер-
нувшись от него, она всхлипывала, как горько обиженный ре-
бенок. Она предоставила ему самому угадать, что скрывалось
в ее вопросе. Что она знала? О чем подозревала?
Она стала неловко одеваться дрожащими руками.
— Тедди — трус! — шептала она.— И это сказал ты. И ты
мог!
— Послушай...— начал он и не окончил.
В ее голосе зазвучало негодование:
— Я знала, тебе давно не терпелось сказать мне это, и вот
ты и сказал.
Она продолжала одеваться. Он молча присел на корточки
на полу. Через несколько секувд он вскочил на ноги. Он подо-
шел к окну, повернулся и начал ходить по комнате.
— Послушай,— начал он взволнованно, размахивая ру-
ками,— рассуди сама, как обстоит дело. Рассуди так, как это
вынужден делать я. Сколько бы времени я ни был в окопах,
я там был. На той неделе у меня будет экзамен. И выдержу
я его или провалюсь — все равно, я поеду обратно. Рядовым
или офицером. Я смотрю на это не так, как ты и Тедди. Для
меня и долг и честь там. Конечно, это ужасно, но это нужно
пережить. Я не верю в ваш всемирный мир. Мир во всем мире!
В ваше всемирное государство. Это чепуха. Это предлог. Ве-
рил ли в это Тедди? До войны? Вот о чем я спрашиваю. Если
он не верил до войны, так какое право он имеет верить теперь?
Легко чувствовать отвращение к войне, когда она уже идет.
Боже мой!
У него не хватало слов.
Она продолжала застегивать крючки и пуговицы, пока он
произносил эту речь. Когда он сказал все, что мог сказать,
она сидела молча некоторое время. Но выражение гнева в ее
глазах сменилось каким-то удивлением. Она кончила оде-
ваться, а он стоял неподвижно, положив руки на бедра, и
смотрел на нее, словно ожидая ответа. Она посмотрела на его
голую фигуру, застывшую в неестественной позе. Лицо ее
406
•смягчилось. Она сделала было движение к нему, но потом
опять села на кушетку.
— Теодор, милый,— сказала она.— Ведь я люблю тебя.
Я хочу сказать тебе это. Я всегда любила тебя. С тех пор как
ты пришел к нам пить чай. Помнишь? Когда Тедди привел
тебя к чаю? С пляжа... Я совсем не хотела обидеть тебя, когда
говорила. Не обращай на это внимания. Но я ничего не по-
нимаю,— все на свете оказывается не таким, как я ожидала.
И это, это тоже...
Она сидела опустив глаза, глядя в пол. Казалось, она глу-
боко задумалась.
— Я часто мечтала об этом. То есть о тебе. О том, что ты
влюбишься в меня. Может быть, я была совсем не так хо-
лодна, как ты думал. А теперь мне кажется, что это уж не так
важно, совсем не так важно. Как будто все, что мы тогда
считали прекрасным, перестало быть таким прекрасным. Эта
война все как-то совершенно исказила...
— Ах, как все это противно! — воскликнула она.
Ей хотелось что-то объяснить, но она не находила слов.
— Прошлой ночью мне приснился глупый сон... Ведь от
снов никуда не денешься. Мне снилось, будто ты изменился.
Это был ты, но как будто из зеленого стекла. И ты делал...
что-то странное... не важно, что. Такой нелепый сон. Мне ка-
залось, будто я вижу все в тебе и сквозь тебя. И твое милое
лицо уже было не похоже на твое лицо — сквозь него было
что-то видно. Ну, все равно! Я не могу рассказать этого. Это
не было похоже на тебя. И все-таки целый день сегодня это
не выходит у меня из головы. Если я была сегодня не такая,
как всегда... Но, слушай, Теодор, конечно, я и теперь люблю
тебя. Я должна любить тебя. Мы всегда любили друг друга.
Мы оба. И ничто не может этого изменить, хоть бы двадцать
войн. Я всегда говорила,— так должно быть. И вот что полу-
чается. Я одета, а ты стоишь раздетый, и мы говорим друг
другу речи. Длинные речи. Разве мы с тобой об этом мечтали?
— Но тогда почему же ты всегда на стороне тех, кто на-
падает на меня? Почему ты стараешься переубедить меня?
Говоришь мне такие ужасные вещи?
— Но я вовсе не нападаю на тебя. Просто я не могу ду-
мать иначе — по-моему, война это что-то такое чудовищное
и бессмысленное, что мириться с этим нельзя. Ну что я могу
с собой поделать?
— Надо набраться мужества,— сказал Теодор.
•— И бороться против войны,— подхватила Маргарет.
— Нет, на войне.
— Ах, опять...
И пропасть, разделявшая их, снова открылась.
Они замолчали в глубоком смущении. Вдруг она поднялась
и протянула к нему руки, и он обнял и прижал ее к себе.
407
— Мой Теодор! — сказала она, целуя его.— Мой Теодор,
с пушистыми волосами и янтарными глазами.— На мгновение
все растворилось в любви и нежности.
— Любимый мой,— говорила она.— Мой самый, самый
дорогой, любимый Теодор. Но что же это случилось с нами?
Что на нас нашло? Стоит нам только встретиться, как мы на-
чинаем ссориться, но ведь мы же любим друг друга.
Ее вопрос остался без ответа. И ведь нельзя всю жизнь
держать друг друга в объятиях.
— Мне пора идти.
— Тебе пора идти. Но ты придешь?
— Приду.
— Завтра?
— Завтра.
Он горячо поцеловал ее.
— Прощай, моя дорогая. Любимая, прощай.
5
КЛОРИНДА ТОЖЕ
Когда Теодор в первый раз после своего возвращения уви-
дал Клоринду, у него было чувство какого-то странного удив-
ления. Она изменилась. Постарела. У нее стала какая-то дру-
гая кожа, и ее пышные блестящие волосы тоже стали другие,
они не поседели, а потускнели,— и в очертаниях лица появи-
лось что-то новое, мелкие морщинки и черточки проступили
вокруг темных глаз. А в глазах затаилась легкая грусть. Но
он не привык слишком пристально присматриваться к матери,
и это первое впечатление скоро изгладилось, он только впо-
следствии вспомнил о нем. Она не жаловалась на нездоровье,
на плохое самочувствие.
Она засыпала его вопросами о его службе на фронте, о его
удобствах и нуждах, рассказала о книге, которую она писала
с доктором Фердинандо.
Повидимому, она виделась с этим джентльменом реже,
чем она надеялась, перебравшись в Лондон. Он занимался
теперь «военными неврозами» всех родов. Это немного раз-
дражало ее, потому что она очень хотела поскорее окончить
и сдать в печать их книгу «Психоанализ философии».
— Мне так хотелось бы видеть ее напечатанной,— гово-
рила она.— Я никогда ни о чем так не мечтала,— даже
странно.
Об этом он тоже вспомнил потом.
Но затем Клоринда заговорила о войне — в том же неле-
408
пом уничтожающем тоне, что и Маргарет. Она также при-
помнила Шелли. У нее выходило, что все правительства —
это организованные кучки болванов, а война была не
великим героическим делом, а разорением, бедствием. Теодор
попал в беду, из которой его надо во что бы то ни стало вы-
тащить. Она с безусловным одобрением говорила о Сток-
гольмской конференции и о том, что долг чести обязывает
англичан и французов объявить «Цели войны» и прекратить
войну. А они продолжают вести себя загадочно, преступно и
темно. Они не захотели даже принять или дополнить Четырна-
дцать пунктов президента Вильсона.
— Я ничего в этом не понимаю,— сказал Теодор.— На
фронте,— прибавил он, очевидно, разумея не фронт, а Пар-
вилль,— мы смотрим на это гораздо проще.
— Но, дорогой мой, как бы то ни было, война должна
кончиться. Она истощила весь мир.
— Война должна окончиться поражением Германии.
— Но в чем собственно будет выражаться это поражение?
— Мы должны войти в Берлин. Такова наша цель. Этого
требует справедливость, и в этом случае мы ничем посту-
питься не можем.
— А потом? — воскликнула Клоринда.— Потом что?
— Мы об этом не думаем,— ответил молодой воин.— Мы
делаем то, что велит нам долг, и глядим на восток.
Он стоял, как истинный воин, невозмутимый, решительный,
спокойно глядя на восток (поскольку он мог смотреть в этом
направлении) через плечо своей матери.
— Ты так относишься к этому, дорогой мой?—сказала
Клоринда.
Он старался относиться именно так. Но впоследствии ее
слова опять пришли ему на память. Подозревала ли она в нем
скрытую неуверенность? Ее слова перекликались с критиче-
скими выпадами Маргарет. Они перекликались со спорами и
рассуждениями у Мелхиора и у тети Люцинды. Тетя Люцинда
стояла за войну, но, по ее мнению, войну надо было вести дру-
гими методами и в другом духе. Тетя Аманда вся ушла в ра-
боту по изготовлению перевязочных материалов в Таун-Холле.
Она говорила, что если бы даже война не дала других резуль-
татов,— она дала пожилым вдовам дело, которое стоило де-
лать. Она очень обрадовалась приезду Теодора и тотчас же
принялась шить для него огромный запас носков, перчаток,
фуфаек, обмоток и т. п. Теодор увидел, что она попрежнему
легко понимала его. Он много рассказывал ей о товарищеских
отношениях в окопах, о том, как ему жаль было расставаться
с его первым взводом. Тетя Аманда помогла ему вернуть уте-
рянное самоуважение. Она была простодушна. Он хотел бы
обладать ее простодушием, быть простым, искренним и чест-
ным воином — джентльменом, не испытывающим мук неуве-
409
ренности. Он чувствовал, что его собственная изощренная
простота ненадежна.
Он сдал экзамены, и его возвращение во Францию стало
неизбежным.
Он объявил об этом Маргарет, когда они сидели в ресто-
ране Isola Bella и ели жареное мясо, истратив на него продо-
вольственные карточки за три дня.
— Еще три дня,— сказал он.
Маргарет кивнула головой. Задумалась.
— Ты поедешь во Францию, а я останусь в Англии, и мы
будем все меняться и меняться.
— Со мной перемена может произойти очень быстро,—
сказал он торжественно.
— Но ведь ты же не едешь сразу на позиции,— возразила
она.
Откуда она это узнала? Разве он что-нибудь говорил ей?
(Какая досада, что ни тетя Миранда, ни его мать не умели
держать язык за зубами. Они все болтали о нем, не задумы-
ваясь, с кем придется.)
— Да, я получил отсрочку,— сказал он, вспыхнув.— Но
меня в любую минуту могут послать туда.
— Это скверно,— промолвила она.
— Да, неважно... Ты будешь занята своими экзаменами,—
сказал Теодор.
— Мне надо много пройти, я буду очень занята. Но все
равно у меня будет болеть сердце.
— Почему бы нам не пожениться перед моим отъездом?
Она покачала головой. Они и раньше спорили об этом.
— А если я вернусь, мы поженимся?
— Не знаю. Зачем говорить об этом?
— У нас было много хороших минут.
— Много было хороших минут.
— Ты любишь меня?
- Да.
— Мы были с тобой Адам и Ева. Как это было чудесно!
И все-таки ты не уверена, что когда я вернусь...?
— Я уже буду доктором тогда. Буду работать. Я буду ка-
заться тебе еще больше педантом, чем раньше.
— Но разве нас не будет все так же тянуть друг к другу,
когда я вернусь?
— Каким ты вернешься? Другим. Мы оба станем другими.
Давно ли мы были девочка и мальчик, а теперь, подумай, как
много нам пришлось пережить.
— Ты не изменишь мне?
— Я не могу себе представить, что могу изменить тебе,
милый.
— Но в таком случае...?
— Дорогой мой, я устала сегодня. Мне не хочется думать
410
обо всем, что может случиться со мною и с тобой в будущем.
Я любила тебя, Теодор, милый. И я люблю тебя. Но...
— Но что же?
— Что-то вклинилось между нами... чужое, точно какая-то
маска.
Теодор задумался. Он подлил красного кианти в ее стакан.
— Мы оба устали,— сказал он.
— Если б мы могли так же легко обнажить душу, как об-
нажаем тело,— сказала она.— Слишком много любви. Ка-
кая-то отчаянная попытка растворить в себе другого человека,
слиться с ним ближе и теснее. А все равно нельзя подойти
ближе. Я устала. Ты утомил меня. Не обращай на меня вни-
мания... Давай лучше посмотрим, сколько еще свободного вре-
мени у нас остается до твоего отъезда.
Они в каком-то замешательстве расстались на вокзале
Виктория. На платформе им, казалось, уж не о чем было
говорить.
Когда поезд тронулся, она отступила назад, пристально
глядя на Теодора. Казалось, будто она решает сложную за-
дачу. Потом вдруг лицо ее смягчилось, она протянула к нему
руки и сразу опустила их. Он помахал ей рукой, но чувствовал
при этом, что жест его банален.
Усаживаясь на свое место, он поглядел, не наблюдают ли
за ним его спутники, но увидал только озабоченные лица.
Каждый был поглощен своим расставаньем.
6
ПИСЬМА ИЗ ПАРИЖА
Теодор сначала должен был явиться в Парвилль, чтобы
ознакомиться с делами, которые теперь переходили в его ве-
дение, после чего ему следовало направиться в Париж в каче-
стве инспектора по делам снабжения воздушной разведки.
Сэр Люсьен убедил военное начальство, что в аэрокарто-
графическом управлении, которое усиленно развивало свою
деятельность под его эгидой, необходимо иметь одного или
двух человек из офицерского состава, с соответствующими
полномочиями и знаниями.
Его настоятельные рекомендации Теодора, как человека,
вполне отвечающего этим требованиям, были приняты и при-
вели к желанным результатам. Теодор был назначен на спе-
циальный административный пост. У него не возникло и тени
подозрения относительно того, какую роль сыграли в этом на-
значении слезы Клоринды и настояния Миранды. Он писал
411
матери с чувством полной покорности своей судьбе: «Может
быть, мое пребывание здесь не затянется слишком долго и
я еще приму участие в настоящем деле до окончания войны».
Писать Маргарет было гораздо сложнее. Он начинал письмо
в одном настроении, но, прежде чем он успевал дописать его,
настроение у него менялось, и не только настроение, но и
почерк, и ему приходилось рвать написанное и начинать
сызнова. И это тоже вызывало у него чувство раздражения
против Маргарет.
Иногда он ясно сознавал, что она для него — самое пре-
красное, самое желанное существо в мире. Он жаждал ее до
боли в сердце. Но ведь она же принадлежит ему, чего ему
больше желать? И тем не менее эта боль в сердце не прохо-
дила. Она тянулась без конца, словно рельсовые пути в гори-
стой местности: то их видно отчетливо, то они вдруг пропадают
из глаз, но они всегда где-то здесь и вот-вот появятся.
Его постоянно преследовала нелепая мысль, что Маргарет
должна приехать к нему в Парвилль, и хоть это на самом деле
было неосуществимо, он все же не мог разубедить себя в том,
что она не хочет приехать.
Как маленькая заноза, которая вызывает нарыв, мучил его
ее упрек в том, что он перестал думать, что его затянуло, как
щепку, в трясину войны. По мере того как нарыв распростра-
нялся, это мучительное воспоминание болезненно набухало
новыми ложными воспоминаниями. Он начинал представлять
себе выражение ее лица и все, что скрывалось за ее словами,
когда она сказала это. Иногда ему казалось, что она говорила
с ним презрительно, и тогда она была невыносима. Иногда она
произносила эти слова, не сознавая их оскорбительного зна-
чения. Он чувствовал, как она несправедлива к нему, потому
что в его отсутствие она всецело подпадала под влияние Тедди
и его друзей и проникалась этой нелепой мыслью, будто раз
начатая война может быть прекращена до окончательной
победы или поражения.
Он начинал гневные письма и рвал их. Наконец, он просто
решил не касаться ее убеждений, а попытаться изобразить в
своих письмах духовный облик честного мужественного офи-
цера, выполняющего порученное ему важное дело, которое
только он один и может делать в Париже; он рвется к поход-
ной жизни и опасностям войны, он жаждет вернуться к своим
боевым друзьям и с завистью следит за их подвигами на поле
брани, но, верный своему долгу, он остается на своем менее
славном, но не менее ответственном посту и делает свое дело,
участвуя таким образом в героическом усилии, которое в конце
концов приведет к победному завершению войны. Пусть его
письмо своей благородной простотой покажет ей низкие анти-
патриотические происки ее сообщников. Он воздержится от
прямых нападок.
412
Но даже и в таком стиле это было трудное сочинение. Не
так-то просто было внести оттенок мрака и опасности в его
описание Парижа.
В действительности Париж был в это время гораздо более
веселое и безопасное место, чем Лондон. Правда, он находился
под обстрелом больших дальнобойных орудий, он страдал и
от воздушных налетов, но эти налеты не носили характера
упорной преднамеренности воздушных атак на Лондон. В ре-
сторанах было больше еды, на ночных улицах больше ожив-
ления, и не чувствовалось того мучительного гнета предстоя-
щей разлуки, который навис почти над каждой веселой пароч-
кой в Лондоне. Повсюду толкались американцы. У них было
много денег и весьма незамысловатые, откровенные, наивные
аппетиты. Их решимость испить Париж до дна так же, как и
выиграть войну, была очевидна и действовала ободряюще. Они
платили дань благодарности Франции-освободительнице в
каждом ресторане, в каждой бордели. Они изрыгали свое глу-
бокое моральное негодование против Германии и пламенно
стремились выразить его в кровопролитии, резне и разгроме.
Их манера изъясняться проливала какой-то необычный
новый свет на войну и на то, в каком духе следовало ее
вести. Теодор, вспоминая их шумное оживление, томился от
скуки по вечерам. Иногда он отправлялся вечером на буль-
вар в мюзик-холл или в кино и на обратном пути натал-
кивался на группы ревностных искателей наслаждений.
Женщины прцставали к нему, упорно не желая принять за
отказ его «нет».
— Нет, нет, мадемуазель,— говорил он, бессознательно со-
вершенствуясь во французском языке.— II у a deja quelqu’une
Некоторые из этих женщин были, несомненно, привлека-
тельны, гораздо более привлекательны, думал он, чем жалкие
шлюхи, снующие по улицам Лондона.
В письмах к Маргарет он избегал говорить о Париже. Этот
фон не годился для его кисти. Он писал ей об организации
своего учреждения, которая еще далеко не закончилась, о не-
которых препятствиях, мешавших осуществлению проектов
сэра Люсьена. А больше всего он использовал свою поездку
в Аррас, куда его командировали однажды наблюдать за вы-
возом печатного и чертежного оборудования; описывая эту
поездку, он стремился создать у Маргарет впечатление, что
в его жизни фронт играет большую роль. Его письма к Марга-
рет получались не такие, как нужно, и он сознавал это. В луч-
шем случае в них чего-то недоставало. Но чего же именно
в них недоставало?
1 У меня уже есть девушка (франц.).
413
7
НЕИЗВЕСТНОСТЬ В ПАРИЖЕ
А затем пошли слухи о сэре Люсьене. Сначала в одной
крупной провинциальной газете, а затем и в лондонской прессе
появились неприятные заметки об его успешных операциях на
внутреннем фронте. В палате были сделаны оскорбительные
запросы. Некоторое время сэр Люсьен стойко держался на
своем посту; он не позволит, говорил он, проискам врагов и
конкурентов помешать ему трудиться на благо общества; но
затем внезапно и как-то загадочно он подал в отставку, и
характер учреждения, которое он создавал во Франции, изме-
нился. В один прекрасный день Теодор узнал, что оно будет
совершенно реорганизовано.
Это было первое, что Теодор узнал о затруднениях своего
дяди. А из этого само собой явствовало, что во главе станут
новые начальники и директоры, которые не знают Теодора.
Его служебное положение грозило измениться. Могло статься,
что его услуги вообще окажутся излишними, и благодарное
управление воздушной разведки вернет его на передовые ли-
нии, откуда он был заимообразно изъят.
Когда Теодор понял это, он написал Маргарет и матери,
что он надеется вернуться к прежней строевой жизни. «Как
раз ко времени мощного наступления на Германию».
Клоринде он написал кратко. Он чувствовал, что она дол-
жна понять грозящую ему опасность, а тогда эту опасность
поймут все тетки и что-нибудь будет сделано. Маргарет он
писал более обдуманно.
«По многим причинам, дорогая моя, я хотел бы, чтоб ты
была здесь. Ты увидела бы тогда, что война не так страшна
и не так зла, как ты думаешь. Надежда и радостное воодушев-
ление заставляют нас бодро смотреть на восток. Это борьба
воли против воли. Придет время, и они уступят. Мое рабство
в чертежном бюро и на складах химикалий подходит к концу.
Мне предстоят иные задачи. Были поставлены некоторые цели,
они достигнуты. Когда-нибудь я смогу больше рассказать тебе
об этой «войне позади фронта», как мы ее здесь называем, но
теперь еще не время. Эта война не просто зверство и жесто-
кость, как воображают некоторые из вас. Под внешней борь-
бой втайне идет незримая, необычная борьба».
Он остановился. Перечитал письмо. Его превосходное кри-
тическое чутье оценило его по достоинству. Это напыщенная,
искусственная галиматья,— свидетельствовало это чутье,-—
ходульная и просто хвастливая галиматья. Да что же, опять
начинать сначала? Он разорвал уже четыре письма, написан-
ные в различных стилях. Он посмотрел на кучу бумажных
414
клочков. Его терзали глубокие сомнения. Разве так страстный
любовник пишет своей возлюбленной? Он поймал себя на том,
что повторяет недоуменный вопрос Маргарет: «Что с нами
случилось?»
Он боролся с желанием начать письмо в шестой раз и на-
чать именно с этого вопроса. И сказать Маргарет,— и самому
себе,— что он просто перепуганный насмерть, попавший в ло-
вушку человек, внезапно очутившийся снова лицом к лицу
с ужасом фронта и пытающийся сделать вид, что он не боится.
На какое-то смутное мгновение это виденье самого себя вы-
ступило перед ним отчетливо, как странный незнакомый ланд-
шафт, вырисовывающийся в светлых предрассветных сумерках.
Воскресит ли это признание способность чувствовать, исчез-
нувшую из его жизни? Он попробует быть правдивым. Он об-
нажит перед ней свою душу, он будет громко взывать к ней,
это будет вопль одной заблудшей души к другой. Что с нами
случилось? Снова сердце его сжалось от безмерной, невыно-
симой боли, она завладела им — и прошла.
Он оттолкнул в сторону письмо № 5. Взял чистый листок
и написал: «Что с нами случилось?»
Но дальше этого ничего не выходило. Бойкие фразы, ко-
торые в таком изобилии роились в его сознании, одурманен-
ном героическими мечтами, здесь были непригодны. Он не на-
ходил нужных слов. Он сидел, покусывая перо и стараясь
сформулировать следующую фразу. Он не может даже при-
думать ее, не только сформулировать. Он не мог ничего приду-
мать, ни одного слова, которое шло бы прямо от его сердца
к ее сердцу, от самых тайников его «я» к тайникам ее «я».
Обладают ли человеческие существа, спрашивал он себя,
такой способностью непосредственного понимания? Всякое
слово искусственно. Как бы сильна, как бы искренна ни была
мысль,—слова всегда будут фальшивы.
Мало-помалу это стремление быть правдивым угасло в нем.
Мысль о сердце, говорящем сердцу, стала казаться невероят-
ной. Все, что ему следует сделать, решил он, это запечат-
леть в ее уме свой нарисованный им ранее образ. Что еще
возможно в человеческих отношениях? Мы создаем в представ-
лении людей, с которыми встречаемся, тот или иной образ нас
самих, а потом стараемся вести себя неуклонно в соответствии
с этим образом.
Он опять взял письмо № 5 и перечитал его. В конце кон-
цов, несмотря на некоторую натянутость слога, оно создавало
образ храброго молодого человека, находившегося в этом не-
знакомом городе-лагере, каким для него являлся Париж. Мо-
жет быть, следовало оттенить немножко больше любовную
сторону и внести несколько мужественных скромных ноток,
столь милых сердцу англичанина.
Он не думал о том, как она отнесется к этому письму.
415
Или, вернее, он думал, что она отнесется к нему так, как ему
хотелось.
Он окончил пятое письмо. Чтобы уж не колебаться больше,
он сразу запечатал его, наклеил марку и понес в почтовое от-
деление на Авеню.
Когда письмо было отправлено, сомнения и боль в сердце
снова зашевелились, но теперь уже было очевидно — они
зашевелились слишком поздно. Он постарался заглушиягь их.
Дорогой ему повстречались два американских офицера, кото-
рые спросили его, как пройти к Опере. Он сказал, что идет как
раз в ту сторону, и они пошли вместе. Он шел по знакомым
широким серым улицам вдоль набережной, восхищался и за-
ставлял их восхищаться нежной серебристостью, зелеными и
бледноголубыми тонами парижской акватинты. Американцы
говорили на каком-то совершенно варварском жаргоне, но
проявляли полную готовность учиться. Он очень много рас-
сказывал им об Англии, о Франции, о ходе войны.
Они предложили выпить, и он отправился с ними. Ему
удалось на время отделаться от двух неотвязно преследующих
его неприятных мыслей: мысли о том, что хотя он и любит
Маргарет, но между ними каким-то таинственным образом
утратилась связь, и непонятно, как и почему это случилось,
и затем мысли о том, что в самом скором времени ему при-
дется расстаться с этой неопределенной, но более или менее
безопасной жизнью в Париже и отправиться героем на фронт.
До сих пор он не получал никаких уведомлений, но он чувство-
вал, как нащупывающая рука войны протягивается, чтобы
схватить его. Теодор страстно желал быть героем, но стоило
ему только представить себе непрерывное напряжение, невы-
носимые трудности и все ужасы этой роли, мысли его тот-
час же разбегались и ему совсем не хотелось думать о дей-
ствительном положении вещей.
Одно время, примерно недели три, Теодору казалось, что
преследующая десница войны промахнулась и уж больше не
ищет его. Дела в учреждении все больше и больше уходили
из его рук. У него было мало обязанностей, затем стало еще
меньше. Неопределенность его положения была бы невыно-
сима, если б не мысль о том, что ему предстоит нечто еще
более невыносимое, когда эта неопределенность кончится.
Он провел вечер в обществе этих двух американцев шумно
и весело. Он напился, но не настолько, чтобы потерять спо-
собность владеть собой. Его новые друзья были так откро-
венно, так добросовестно пьяны, что это заставляло его слег
дить за собой и оставаться трезвым. Они говорили, что «они
ликвидируют Лафайета». Когда их, наконец, подхватили и
довольно стремительно повели с собой две молодые, профес-
сионально оживленные женщины, с которыми они решили за-
вершить этот приятный вечер, они уверяли Теодора, что не
416
забудут этих прекрасных минут, проведенных в его обществе,—
он расстался с ними, уклонившись при помощи своего нео-
французского «II у a quelqu’une», что привело их в неописуемое
восхищение.
Младший из этих ликвидаторов крикнул ему на прощанье:
«Берегите свою невинность, юноша, берегите невинность!» —
и с этими словами исчез, рассыпаясь в похвалах высокой кра-
соте незапятнанного целомудрия перед молодой проституткой,
доставшейся на его долю. Ее знания англосаксонского языка
были далеко не совершенны. Она могла кое-что сказать, но
ничего не понимала.
— Я покажу, что ви прав,— говорила она ему ободряюще
после каждого нового взрыва красноречия.
На следующий день Теодору пришлось отправиться на
почту, чтобы получить два заказных письма, которые пришли
на его имя. Он должен был явиться за ними лично. Они при-
шли из Парвилля с большим опозданием, в котором он сам
был виноват. Он вспомнил, что некоторое время не сообщал
в Парвилль своего парижского адреса. Он забыл это сделать,
может быть, до некоторой степени умышленно.
Он пошел на почту, получил два письма и узнал из них
две новости. Его мать умерла, и ему уже три дня тому назад
надлежало явиться в лагерь близ Аббевилля.
8
ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА КЛОРИНДЫ
Конечно, Клоринда выглядела плохо и казалась больной.
Она вся как-то посерела, но за все время ни разу даже не
намекала ему, что смерть уже витает над ней. Теодор снова
перечитывал оба ее письма, и мысли его устремлялись к ней,
что помогло ему отвлечься от более пространных размышлений
о том, что он теперь не что иное, как дезертир, что его разыски-
вают, а когда, наконец, его поймают, ему придется еще давать
объяснения по поводу этой маленькой заминки с адресом.
Она умерла. Ушла навсегда из его жизни. Его мать; он
не помнил, чтобы она когда-нибудь ласкала его, но за эти
последние годы он постепенно научился уважать и ценить ее
ум и проницательность. Она была из тех матерей, которые
лучше ладят со взрослыми сыновьями, чем с детьми. Конечно,
она была страшно изнурена и утомлена, когда он в последний
раз приезжал в Англию, и как это глупо с его стороны, что
он не заметил этого. Она, вероятно, чувствовала, что ей не
долго жить, судя по тому, как ей мучительно не терпелось
27 Г. Уэллс, т. 2
417
окончить поскорее этот '«Психоанализ философии». Она окон-
чила бы его, в этом он был убежден. Это была не иллюзорная
книга его отца.
(Далеко ли она продвинулась? Может быть, Фердинандо
закончит и выпустит ее теперь?).
Обычно она писала ему очень кратко.
Они в сущности никогда по-настоящему не «переписыва-
лись». Эти два письма, которые он получил с сопроводитель-
ной запиской доктора, тоже были коротенькие и написаны ка-
рандашом, но на этот раз не чувствовалось, что она старается
писать кратко. Она как будто пыталась высказать в них что-то
такое, что она слишком долго носила в себе.
«Мой милый сын (начиналось оно,— раньше всегда было
«Теодор»). Я собиралась сказать тебе, когда ты пришел про-
ститься,— но ты был так поглощен чем-то, так торопился
уйти,— что мне предстоит операция, повидимому с целью
исследования, насколько я понимаю. Последнее время я чув-
ствовала себя неважно. Какие-то странные боли и тяжесть.
Ты не беспокойся. Только сознание, что мне предстоит опера-
ция,— во всякой операции всегда есть некоторый риск,— вы-
зывает желание привести в порядок всякие дела.
Меня тревожат наши отношения, Теодор. И тревожат уже
давно. Не знаю, следует ли меня отнести к категории хороших
или дурных матерей. Может быть, я всегда была дурной
матерью, не знаю. Я готова признать, что.я была слишком
неустойчива, слишком много жила умственной жизнью, чтобы
быть по-настоящему хорошей матерью. Я многим пренебре-
гала, от многого отмахивалась. Может быть, мне следовало
родить на свет книги, а не детей. Хотя бы одно детище. И вы-
править его тщательно. Тебя я никогда не выправляла.
Я всегда мечтала о хорошем серьезном разговоре с тобой, мой
дорогой, но из этого ничего не вышло. Есть вещи, которые мне
хотелось бы выяснить с тобой. Чрезвычайно существенные.
Но я сама узнала о них только, когда ты уже вырос. Насчет
того, как люди понимают и принимают жизнь — иначе говоря,
как они себя ведут в жизни. Если бы только они смотрели на
нее прямо, а не сквозь туман слов (все это больше похоже
на какие-то заметки, чем на письмо). Я думаю, если бы они
могли достигнуть простоты и откровенности — высшего духов-
ного совершенства,— тогда мир стал бы совсем иным.
Я мысленно вела с тобой разговоры об этом,— тысячи раз,
долгие разговоры. Но об этом трудно даже писать, говорить
еще труднее.
Все живут, опутанные каким-то туманом слов, мы сами
окутываем себя этим туманом слов о жизни, ослепляем себя.
Туман фраз. Мы рассказываем себе сказки и стараемся все
видеть в хорошем свете. Я начала понимать это много лет
спустя после твоего рождения — и с тех пор я стараюсь со-
418
рвать эту повязку и смотреть на вещи прямо. Все люди ходят
в повязках, натыкаются друг на друга, ушибают друг друга...
И я смотрела, как ты растешь и плетешь паутину воображе-
ния, вытягивая ее из себя, как паук, сплетаешь ее в повязку
и ходишь в этой повязке словно в тумане. Бредешь ощупью,
натыкаясь на всех, и ушибаешь себя и других.
Не знаю, поймешь ли ты хоть слово из всего, что я на-
писала. Если поймешь, то это может оказаться не нужным,
а если не поймешь — бесполезным. Но все-таки я хочу сказать
тебе: «Смотри на вещи прямо».
(«А разве я не смотрю прямо»,— возразил читающий.)
Я должна была сказать тебе это, когда ты еще был маль-
чиком. Но разве я тогда понимала это так, как понимаю те-
перь? Не заслоняй своего взора приятными иллюзиями. Я хочу
сказать, не столько приятными, сколько спасительными,— спа-
сительными и обольщающими. Это сладкий яд жизни. Пере-
стань рассказывать себе волшебные сказки о себе самом.
Жизнь совсем не волшебная сказка. В моей вселенной нет ни-
чего красивенького, когда мне удается взглянуть на нее из-под
моей повязки, но есть нечто — нечто несравненно лучшее, Тео-
дор. Нечто величественное, чудесное, суровое, высокое, вне
любви и ненависти, вне желания. Один только проблеск этого...
не сравнится со всей этой приторной красивостью. А надо всем
этим — Существо, оно стоит высоко-высоко над этой игрой
слепого человеческого самообольщения. Я не могу сказать
тебе, что это, если ты сам не знаешь. Я не могу назвать это
богом. Бог — это слово, которое обозначает столько вещей —
конфетные личики с перламутровыми очами, устремленными
кверху,— для меня это не годится. Но... Безмолвный Созерца-
тель. Мир Души. Отрешение от себя. Единственная подлинная
жизнь... Для этого нет слов.
Надо прийти к этому.
Я, кажется, сказала тебе все, что хотела сказать, милый
сын, но когда я перечитываю это, мне кажется, что я не ска-
зала ничего. Но я сказала, как могла. Я очень устала. Я чув-
ствую себя ужасно усталой теперь — всегда. Ты не можешь
представить себе, как быстро я устаю. Мне что-то дают, и
я оживаю, я чувствую, что мое сознание светло и ясно, как
кристалл, пока я не пытаюсь заставить его работать. Тогда
оно быстро идет на убыль. И через какие-нибудь пять минут
оно слабеет и гаснет. Нам с тобой надо было серьезно по-
беседовать обо всем этом год назад, если не больше. Наш
мир, дорогой мой, обременен этими невысказанными мыслями,
которые люди должны были бы высказать и никогда не вы-
сказывают.
Завтра операция; сиделка суетится около меня. Я, может
быть, допишу попозже».
Второе письмо было нацарапано очень неразборчиво на
27*
419
маленьком листочке линованной бумаги, вырванном, повиди-
мому, из записной книжки.
«Когда они дают мне лекарство, я куда-то проваливаюсь,
избавляюсь от боли. Кажется, будто плаваю. Прихожу в себя,
боли нет. Очень, очень, очень ясная голова.
Я теперь все вижу яснее, гораздо яснее. Всегда мечтала
об этом. Так трудно писать. Слова не идут. Карандаш не слу-
шается. Цепляется. Только голова полна всем этим. Кровь так
медленно движется. Свет гаснет. Скоро совсем погаснет. Хо-
чется объяснить все снова. Завтра, может быть. Полная
ясность. Свет. Сестра говорит, завтра».
Доктор в сопроводительной записке написал, что послед-
ние слова Клоринды сиделке были: «Пошлите это Теодору».
Доктору не сразу удалось достать адрес; он послал письмо
заказным. Все три письма — два письма Клоринды и записка
доктора — пришли в одном конверте.
Некоторое время Теодор сидел, задумавшись, забыв о том,
какая угроза, какое принужденье могли скрываться во втором
заказном письме. Он не увидит мать мертвой, как видел отца.
Ярче всего она вспоминалась ему такой, какой он видел ее во
время своей последней поездки в Лондон — усталое, осунув-
шееся лицо, измученные глаза, глубокий мягкий голос,— он
вспоминал теперь, как трудно ей было говорить. Этот образ
больной женщины заслонял теперь более красивую, более здо-
ровую, но всегда несколько распущенную Клоринду блэйпорт-
ского периода, крупную, рослую, плотную, иногда вдруг на-
стойчиво требовательную. Для него она всегда была «Кло-
ринда», а не мать. Он вспоминал ее то хмурой и угрюмой, то
возбужденной, блестяще остроумной. Она столько всего знала.
Она могла припереть к стенке даже Уимпердика, когда бы-
вала в ударе. Но нежности в ней совсем не было. Всегда чув-
ствовался какой-то холодок. Если она когда-нибудь и ласкала
Теодора, то всегда очень сдержанно. У него сохранилось вос-
поминание о редких минутах, когда их обоих внезапно охва-
тывало искреннее восхищение друг другом, например, когда
они «наряжались» перед тем, как пойти к Паркинсонам, и еще
как-то раз или два, когда оба они были в белых костюмах,
загорелые, раскрасневшиеся на солнце.
Он снова взял оба ее письма и положил их перед собой
на столе.
Было ли это действительно ее завещанием ему? Что она
хотела ему сказать? Она пыталась выразить какую-то свою
веру. В нем это не вызвало отклика. Но было ли это заве-
щанием?
Это было не столько завещание, сколько недоконченный
этюд. Ему предлагалось смотреть на вещи прямо. И тогда, мо-
жет быть, он тоже увидит этого ее пустого бога, который
почти что и не бог. Как будто он не смотрит прямо на эти вот
420
окопы и смерть, ожидающую его. И как бы там ни было, для
этих вопросов он нашел свое решение. Ему не нужна эта ту-
манная вера в какой-то принцип отречения. Он верный сын
англиканской ортодоксальной церкви, и разве он в любую ми-
нуту не готов достойно завершить свою жизнь и умереть, если
потребуется, за бога, короля и отчизну?
Тут мысли его на некоторое время отвлеклись от Клоринды,
и он живо представил себе несколько картин славной смерти
на поле брани. Затем он опять вернулся к действительности —
к воспоминаниям о матери. Теперь он начинал яснее пони-
мать ее.
Что означало все это? Он, наконец, нашел ответ.
Ее письмо было литературой. Оно не было никаким заве-
щанием, оно было литературой. Ей нравилось писать. Нрави-
лась напряженная работа ума. Она была писателем по натуре,
писателем-критиком. А последнее время она писала много и
с увлечением. Да, вот в чем дело.
Это было не столько прощание, сколько последний крити-
ческий опыт. Она всегда относилась к нему критически, до
самой последней минуты. Так же критически, как Маргарет.
Всякий раз, когда она глядела на него, ему казалось, что
она выискивает в нем какие-то недостатки.
— Она никогда не любила меня,— сказал Теодор, вертя
в руках этот жалкий прощальный листочек.— Она никогда
не любила меня по-настоящему.
Где же тут самоотречение и всепрощающее обожание —
а ведь это, как всем известно, и составляет основу материн-
ской любви? И каждый сын от рождения имеет на это право.
А где они среди всех этих холодных рассуждений? Питала ли
она к нему когда-нибудь такие чувства? Это бедное письмо,
которое все словно изнемогало и корчилось, не вызывало в
нем ответной любви. А ведь это самая верная проба любви,—
она согревает тебя, и ты любишь в ответ. Любовь слепа. Она
чувствует и греет, она не рассматривает тебя.
Странно, какой она всегда бывала застенчивой с ним,
сколько он ее помнит. Такой застенчивой, точно она боялась
его. Точно она боялась, что он потребует от нее любви, а она
не сможет ее дать. Словно она опасалась его вызова...
Была ли эта застенчивость с ним следствием ее отношений
с отцом? Он старался припомнить какую-нибудь нежную сцену
между родителями, какое-то проявление любви. Но не мог
вспомнить ни нежности, ни ласковой задушевной близости.
Да любила ли вообще Клоринда? Любила ли она кого-нибудь
по-настоящему? Разве любовь не главное дело женщины?
Призвание женщины — жить для любви.
Что за фантастическая, нелепая штука — любовь! Все ее
жаждут, все ее требуют — но кто способен дать ее?
Любопытно, что Теодор не включал себя в это всеобъемлю-
421
щее «все». Себя он не считал. Сам он стоял особняком. Под
«всеми» он подразумевал все остальное человечество, и в осо-
бенности — женщин. Все люди, думал он, хотят быть победи-
телями в любви, и никто не желает быть тем рабом, которого
каждому хочется иметь. Вот и Клоринда его обманула, и Рэ-
чел и Маргарет обещали и не сдержали обещания, готовы
были, казалось, отдаться безоговорочно, а потом начали ста-
вить условия. Его манили в обетованный рай безграничного
снисхожденья, а потом оказывалось, что это суровая лабора-
тория, где тебя подвергают самому подробному исследованию.
Любовь приводит нас в экстаз, раздевает донага, а потом без-
жалостно разглядывает со всех сторон.
Так, значит, это не настоящая любовь.
Его охватила огромная жалость к себе — к этому жажду-
щему любви существу, достойному любви и томящемуся без
любви в этом безлюбом мире. И вот теперь, нелюбимый, оди-
нокий, он пойдет навстречу опасности, лишениям и, может
быть, смерти.
Он долго сидел неподвижно, поглощенный этим странным
горьким открытием. Наконец, вздохнув, он протянул руку к
другим письмам.
9
ПАДЕНИЕ В ПАРИЖЕ
Теодор не сразу отправился на фронт. В этом мире, изре-
занном телефонной и телеграфной сетью, он затерялся еще на
три дня.
Он предпочел затеряться. Ибо, думал он, если письма
могли дожидаться его три дня, с таким же успехом они могли
дожидаться и шесть дней, а расстрелять могут одинаково
как за один день, так и за неделю свободы. Но он знал,
что его не расстреляют, его просто пошлют на передовые по-
зиции. Было странное, мучительное и какое-то почти исступ-
ленное наслаждение в ощущении каждой минуты этих укра-
денных дней. У него сложилось очень твердое убеждение, что
на фронт он идет, чтобы быть убитым. Он видел себя уже
отмеченным печатью смерти. Он — человек, который никогда
не мог найти любви, истинной, самоотверженной любви, и он
обречен на смерть.
Он чувствовал в этом какой-то байронический лиризм и
даже пытался несколько раз выразить это в стихах, но слова
не шли к нему.
Последние письма Клоринды приобрели какой-то мрачный
оттенок в его воспоминаниях. Спустя некоторое время ему
422
стало казаться, что она прокляла его на своем смертном одре.
А Маргарет, во всяком случае сердцем и мыслью, была не
верна ему.
В воздухе разливалось тепло ранней весны. Опускались
сумерки, лист бумаги перед ним стал сереть. Он бросил не-
оконченные строчки стихов, которые вдруг неприятно на-
помнили ему своими пробелами и черновыми наметками потуги
Раймонда, и вышел из своей маленькой грязной комнаты на
улицу. Его охватило неудержимое желание рассказать о себе
все кому-нибудь, кто ничего о нем не знает. А за этим жела-
нием, внутри него, подстегивая его, пряталась более широкая,
более примитивная жажда жизни. Любовь обманула его, он
воздерживался напрасно, а теперь его ждут окопы и смерть.
Почему не урвать напоследок что можно от жизни? Пойти
побродить по бульварам. Насладиться жизнью хоть раз. Най-
дется же где-нибудь хоть одно существо, которое захочет его
выслушать.
Оно само подвернулось ему как раз кстати. Это была вы-
сокая тонкая девушка с интеллигентным лицом и очень бле-
стящими темными глазами. Она говорила мягким голосом.
В нем совершенно не было тех жестких металлических ноток,
свойственных женщинам ее профессии, той наглой пронзитель-
ности, которая рассчитана на то, чтобы расшевелить мозги
пьяных иностранцев.
Он остановился, когда она заговорила с ним.
— Пойдем со мной,— сказала она.
— Не знаю,— ответил он.— Я очень несчастлив.
— Товарища убили? —спросила она.
— Многих. И разные неприятности. Но неважно.
— Мы все несчастливы,— сказала она.— C’est triste. Mon
amant est mort il у a deux mois. Cette guerre...1 Но все-таки
не стоит плакать, мальчик.
— Ну что ж, раз в жизни можно повеселиться. Пойдем,
пообедаем вместе, поболтаем. Где ты училась английскому?
— В хорошей школе,— ответила она.— Я знаю местечко,
где можно уютно расположиться.
Это было приятное местечко. Достаточно было переступить
порог, как уже чувствовался комфорт и хорошая кухня.
Метрдотель, почтительно стушевываясь, провел их к наряд-
ному маленькому столику, и Теодор заказал роскошный обед
с бургонским для оживления крови и филе для укрепления
чресел. Нежное чувство к этой чистосердечной и отзывчивой
иностранке затеплилось в нем после супа, а после филе оно
разгорелось уже в пылкую страсть. Он решил жить мгнове-
нием, забыть все сложности и своей жизни и своей натуры и
1 Это печально. У меня дружок умер два месяца тому назад. Эта
война... (франц.)
423
позволить себе хоть раз быть беззаботно веселым, каким ои
иногда умел быть. Она живо угадала его намерения. Она от-
кликнулась на них ото всей души. Ее ум, ее благородство ста-
новились все более и более очевидны. Она думала, она вся-
чески показывала и говорила, что он самый интересный, самый
обаятельный из англичан, и они наклонялись друг к другу
через стол и обменивались все более доверчивыми и ласко-
выми словами, все более горячими и нежными взглядами.
Вскоре он уже тихонько поглаживал ее руку, не переста-
вая разговаривать. Он закурил папироску, но вдруг, словно
спохватившись, выдернул ее и сунул ей в губы, а сам закурил
другую. Она приняла это, как нечто вполне естественное, но,
может быть, немножко и не так. Ее робкая, чуть заметная
улыбка была очаровательна.
Разговаривали они главным образом о нем. Ее трагедия
была, повидимому, слишком проста и мучительна, чтобы в нее
стоило глубоко заглядывать. Но он, он жаждал обнажить свою
сложную, мятущуюся душу. Он нарисовал ей старинную
английскую семью, типичный английский домашний очаг, рас-
сказал ей о разных попытках осиротевшего юноши вступить
в армию, о том, как ему* потом, наконец, удалось записаться
добровольцем, о жизни в окопах, о том, как он был ранен, вер-
нулся на родину. Его произвели в офицеры. А теперь он вдруг
узнает о кончине своей дорогой матушки. Потом, о многом
умалчивая, но с большой откровенностью, он рассказал о
своей любви, о своей несчастной любви. Разумеется, он не мог
позволить себе говорить откровенно о Маргарет. Сквозь по-
крывало, которым он окутал ее, смутно угадывалась юная
аристократка, холодная, холодная от природы и по всему
своему воспитанию, надменная и жестокая.
— Ваши англичанки ледышки,— сказала смуглая дева.—
Я знаю. Я училась в английской школе. А теперь преподаю
французский au pair1. Так вот, все девушки были ледышки.
Ледышки и грубиянки. Им чего-то не хватает, у них отсут-
ствует какой-то инстинкт.
— Да нет, это не совсем так,—сказал Теодор и вздохнул,
как будто стараясь прогнать мучительные воспоминания.
Потом сразу заговорил о другом.
— Расскажи мне об этой английской школе. Расскажи
о себе.
— Моя мать была арабкой, родом из Алжира,— сказала
она.— Отец был французский офицер. Он меня любил. Он
очень меня любил. Он говорил, что я должна получить лучшее
воспитание, какое только можно получить за деньги.— Она
развела руками.— И вот что из меня вышло.— Она пристально
посмотрела на него.— Ты очарователен,— прошептала она.—
1 В обмен (франц.).
424
Ты появился, словно звезда. В моем мраке. Мужчины! Муж-
чины, с которыми приходится встречаться! Но что же делать?
Ведь чем-то надо жить.
Когда они выходили через вертящуюся дверь ресторана,
Теодор чувствовал, он был почти убежден, что, наконец, после
горького разочарования и неудовлетворенности он встретил
настоящую любовь. И в течение нескольких чудесных часов
это убеждение росло, углублялось и крепло. Благодарение
богу, что это случилось раньше, чем его настигла смерть. По-
тому что эта маленькая алжирка казалась ему истинным во-
площением любви.
Ее отзывчивость, ее понимание, ее способность оценить
рыцарское благородство его натуры превратили эту ночь в
волшебную сказку.
Он жил исступленным мгновением; и прошлое и будущее
перестали существовать, они превратились для него в роман-
тическую оправу, которой он украшал настоящее. Принимая во
внимание то, чем она была,— она была удивительно непосред-
ственна. Она обладала божественным даром безграничного вос-
хищения. Она восхищалась его профилем, его волосами, его
стройностью. Она говорила, что он изящен, полон очарования,
полон печального и нежного благородства. В нем была подлин-
ная аристократичность, невыразимая, незаносчивая аристокра-
тичность английского джентльмена.
Утром волшебное очарование несколько рассеялось. Он
проснулся со смутным воспоминанием о Маргарет, какой она
была в его лондонской квартире, и только постепенно он понял,
что находится в какой-то непривычной обстановке.
Комната, представившаяся его взору, была убогая и гряз-
ная. Она была украшена гравюрами весьма нескромного
жанра, и все они, по французскому обычаю, были развешены
слишком высоко. Обои представляли собою квинтэссенцию
французской безвкусицы и претенциозности. Они были покрыты
пятнами и плесенью. Окна были закрыты, и воздух не отли-
чался свежестью. И смуглая женщина, которая крепко спала
возле него, слегка похрапывая, с открытым ртом, незнакомая,
тощая, казалась какой-то жалкой и беспомощной. Ее беспа-
мятство напомнило ему трупы, которые он видел на фронте.
Она проснулась внезапно, сразу пришла в себя, села, про-
тирая глаза, и узнала его с некоторым усилием. Она перестала
смотреть на него так, словно он был какой-то неприятной не-
ожиданностью.
— А! — сказала она, подавив улыбку и закрыв лицо ру-
ками.— Mon petit anglais!1
Вставать оказалось еще неприятнее. Но все же в ней была
какая-то удивительная грация, когда она двигалась по комнате.
1 Мой маленький англичанин (франц.).
425
Внезапно она повернулась к нему и сказала без всякого
притворства;
— Конечно, у тебя умерла мать, и ты грустил. Я припоми-
наю. Скажи, я была для тебя «bonne amie» 1 этой ночью? Мне
было так жаль тебя. Мне кажется, я в самом деле люблю тебя
немножко. Ведь любить могут даже и такие.
Это уж было лучше. Когда она в первый раз взглянула
на него утром, ему показалось, что у нее жесткие блестящие
глаза, как у змеи. Теперь ему казалось, что у нее очень умные
глаза.
Сначала он хотел проститься с ней, но потом уговорился
встретиться еще раз днем. Он тут же подумал, что це пойдет на
это свидание, но, позавтракав, настроился пойти и явился точно
к условленному часу.
Она спросила, когда кончается его отпуск в Париже, он
деликатно уклонился от ответа, но этот вопрос разбудил в нем
неприятные мысли. Этот любовный эпизод, это исступление
украденных часов близилось к концу. В этот вечер у них на
глазах остановили возле церкви Мадлен какого-то человека,
арестовали и увели. Кто-то из толпы, которая тотчас же рас-
таяла, сказал, что это дезертир. После этого тощая алжирка
уже не могла избавить его от навязчивых мыслей.
Он не мог уснуть. Его жажда жизни окончилась внезапным
пресыщением. Смутный, но непобедимый ужас охватил его,
когда он увидел себя в этой мрачной, уродливой комнате, с на-
висшей над ним угрозой ареста и приговора. Вспышки света и
огни уличного движения отбрасывали неверные скользящие
тени на потолке. В воздухе дрожали неясные аккорды звуков,
которые обрывались, снова поднимались на новой ноте, зами-
рали и опять начинались.
Ужас сменился раскаянием, которое мало-помалу перешло
в недоуменную злобу. Почему он здесь? Что привело его к этой
печальной необходимости — искать забвения в объятиях про-
ститутки, будучи обреченным на смерть?
Все это потому, что его никто не любил.
В этом все дело. Это случилось потому, что его никто не
любил.
Его обошли любовью. Он представляет собою биологиче-
скую трагедию. Он был зачат без настоящей любви, рожден без
любви, вырос без любви. Рэчел никогда не любила его (почему
она ни разу не написала ему после той остендской открытки?),
Маргарет никогда не любила его. Нет, Маргарет никогда его не
любила. Даже это жалкое, убогое, истасканное создание возле
него дало ему больше любви, честной, пылкой, инстинктивной,
всепрощающей любви, чем Маргарет. Вначале, может быть,—
в тот раз, когда она так плакала и по щекам ее текли соленые
1 Милая подружка (франц.).
426
слезы,— она, пожалуй, и любила его. Но потом? В этот его
приезд любила ли она его хоть немного? У нее только и было в
голове, что какие-то стишонки Шелли, пацифистские лозунги и
Теддины нравоучения.
Насколько ее невозмутимо-спокойное сердце способно лю-
бить — она любила Тедди.
При мысли о Тедди его охватила ярость. Конечно, она лю-
била Тедди больше, чем его. Как мог он не замечать этого
раньше? Теперь это было совершенно ясно и очевидно. Глубоко
в тайниках ее существа таится с трудом подавляемая преступ-
ная страсть. У психоаналитиков имеется этому какое-то назва-
ние, разные названия. Да не все ли равно, как это называется,
важна самая суть. И вот в то время как он, Теодор, лежит из-
мученный и несчастный в этой продавленной, гнусной постели,
в Париже, не зная, какой удар может на него обрушиться
завтра, Тедди, со своим красным, решительно нахмуренным
лицом, разыгрывает из себя мученика,— кто не позавидует
такому легонькому, безопасному мученичеству в камере лон-
донской тюрьмы! Боже милостивый, вот бы он посмеялся,
если б какой-нибудь немецкий аэроплан сбросил бомбу над
тюрьмой и уничтожил бы всю эту мразь! Никогда до сих пор
Теодор не сознавал, как он ненавидит Тедди, как страстно он
желает ему страданий и смерти. И как ненавистны ему следы
его влияния на сестру!
Ненависть душила его. Он не мог лежать спокойно. Он вер-
телся с боку на бок. Он начал метаться и стонать.
— Cheri!,— сонно пробормотала алжирка и, протянув к
нему руку, тихонько погладила его и опять заснула.
Он представлял себе драматическую сцену, в которой участ-
вовали брат и сестра, бурю презрительных обвинений и упреков.
Он сочинял одну за другой самые оскорбительные фразы. Они
казались ему необыкновенно удачными и разящими.
Утром его голова все еще была полна этими изобличениями.
Он рассеянно простился с алжиркой, лживо пообещав ей, что
они встретятся еще раз. Она криво улыбнулась,— ее нельзя
было обмануть. Он отправился в свой hotel meuble 1 2 с тем,
чтобы уложить вещи и ехать в Аббевилль, и явиться в свою
часть, пока еще было не слишком поздно. Все пышные фразы,
которые он придумывал ночью, с мучительной яркостью вспы-
хивали в его сознании. Он сел за туалетный стол и написал
брызжущим пером:
«Ты никогда меня не любила,— упрекал он Маргарет.—
Ты понятия не имеешь, что такое любовь. Жалкая проститутка,
с которой я провел ночь перед тем, как идти на смерть, больше
знает о любви, чем ты».
1 Милый (франц.).
2 Меблированные комнаты (франц.).
427
Он мрачно заклеил конверт, решительно написал адрес и
поспешил бросить письмо в ящик, пока еще не успел раскаяться.
Потом он стал думать, какое это будет страшное письмо,
если его убьют. Он вдруг представил себе Маргарет совсем в
другом свете,— она читает это письмо, и в глазах у нее свер-
кают слезы, слезы раскаянья.
А потом засверлила другая, гораздо более мучительная
мысль и веером раскинула перед ним целый ряд неприятных
возможностей. Каково покажется это письмо, если он останется
невредим и даже не будет ранен?
10
СНАРЯД РАЗОРВАЛСЯ
Предчувствие смерти, одолевавшее Теодора, оказалось
преждевременным. Ему не пришлось умереть на позициях. Ему
казалось, что он жаждет смерти, что разочарованный Бэлпинг-
тон Блэпский, стремясь покинуть достойным образом этот
жестокий мир, с отчаянным бесстрашием бросается навстречу
опасности, но когда дело происходило не в воображении, а в
действительности,— скрытые, подсознательные свойства его на-
туры выступали с непобедимой силой. Он был сдержан, но не
держался особняком от своих товарищей офицеров. Он взирал
на восток, быть может, не так неумолимо, как в присутствии
Клоринды и Маргарет, и охотней вступал в цинические рассуж-
дения о жизни, искусстве и удаче, чем в задушевные разговоры
о доме и своих личных обстоятельствах.
Его опоздание не вызвало никакого шума, и он с подчеркну-
той поспешностью отправился с распределительного пункта в
довольно комфортабельную офицерскую землянку возле Марш-
пада,— во всяком случае, по сравнению с той первой землян-
кой, эта была комфортабельна. Весь уклад жизни казался
лучше, чем в первое его пребывание в строю. Ему не приходи-
лось таскать на себе тяжелого снаряжения. Ему отдавали честь,
и, если не считать неуловимой, но непреодолимой силы, которая
держала его привязанным к этой землянке, он пользовался
достаточной свободой передвижения. Он мог свободно бродить
в пределах определенного участка. Он имел возможность лучше
питаться. Его башмаки и краги были точь-в-точь по нем, и он
чувствовал себя более презентабельным. Ему казалось, что он
теперь много зрелее и старше, чем возбужденный, измученный
новобранец, каким он был год с небольшим тому назад, когда
его так ужасно потрясло зрелище разорванного снарядом това-
рища.
428
Возвращаясь на фронт, он видел много трупов, и старых и
новых, и это не произвело на него большого впечатления.
Правда, ему и теперь снились сны, чрезвычайно неприятные
сны, которые словно были насыщены присутствием не его са-
мого, а какого-то чуждого ему труса, но они не выходили из
пределов сновидений и не проникали глубоко в его бодрствую-
щую жизнь. Он жил с двумя юнцами, только что выпущенными
из школы, Плантом и Элдерсом. У него было что порассказать
им. И это тоже несколько поддерживало его. Но он начинал от-
давать себе отчет, что фронт стал гораздо более шумным, на-
пряженным и опасным, чем во время первого его пребывания,
и неприятельские аэропланы стали много чаще появляться в
виду.
Грязь, опасность и шум держали в постоянном напряжении
его нервы, а когда он старался отвлечься от окружающего,—
воспоминание о последнем письме к Маргарет осаждало его с
упорством неотвязного музыкального мотива, от которого никак
не отделаешься, и вызывало длинный ряд затейливо разворачи-
вающихся мыслей и рассуждений о ней и Тедди и всей этой
цепи влияний, которая сделала их обоих противниками войны,
а его — сражающимся героем. Он старался припомнить в точно-
сти содержание этого письма. Ему хотелось возобновить их
спор. И он снова и снова с бесконечными вариантами начинал
свою тяжбу против Маргарет.
Затем на тот участок фронта, где он находился,— он был в
Пятой армии,— начался нажим последнего немецкого наступле-
ния. Еще когда он только что прибыл сюда, чувствовалась ка-
кая-то тревожная смутная настороженность, совсем непохожая
на воинственное ожидание более раннего периода. Теперь в
первый раз он почувствовал всю мощь бомбардировки, какой
она была в 1918 году.
Перемежающийся грохот и разрывы снарядов сменились
непрерывным землетрясением, бесконечным чередованием взры-
вов, обвалов и разрушений. Артиллерийский обстрел достигал
такой сокрушительной силы, что, казалось, ничего более страш-
ного и представить себе нельзя, но вот он начинался снова, еще
более грозный, и превосходил все, что было до него.
Крепления и стены окопов были снесены, окопы изрыты во-
ронками, землянки были битком набиты чудовищно искалечен-
ными людьми, всюду валялись растерзанные трупы, стояли
лужи крови. В офицерскую землянку попал снаряд. Он разо-
рвался, и Теодор увидал, как юный Плант, с которым он разго-
варивал пять минут назад, упал, придавленный балкой крыши,
причем балка не просто обрушилась на него, а вошла в его
тело. Но все же глаза его еще двигались, он умоляюще смотрел
на Теодора. Он был еще жив в течение нескольких секунд. Тя-
желая завеса газа у входа, казалось, пылала. Но сквозь нее ле-
жал путь к спасению.
429
Облако газа заставило Теодора надеть маску. Он стал
взбираться по ступенькам. Он больше не взглянул на
Планта.
С этого момента сознание Теодора обрывается, и до сего
дня он не имеет ясного и связного представления о том, что он
пережил и что делал. Случается иногда, что его сны приобре-
тают странное сходство с событиями, которые он смутно припо-
минает, но эта сомнительная действительность переплетается с
усилиями воображения, пытающегося драматизировать по-
ступки, в которых его обвиняли. Но все это является отнюдь
не чем-то цельным, а похоже на разрозненные отрывки из двух-
трех различных, но сходных историй и во всяком случае не
имеет ничего общего с его прочно установившимся представле-
нием о самом себ£.
Проступая сквозь мглу его утаиваний и поправок, встает
картина — бесконечно отвратительное зрелище окопа, разворо-
ченного и разрушенного до такой степени, что он больше напо-
минает русло бурного потока, чем окоп. Как будто это какое-то
детское сооружение, которое сокрушил и растоптал злобный
великан. Повсюду валяются трупы, растерзанные, разорванные
на куски. И по этому ущелью ужаса наступают немцы, малень-
кая рассыпавшаяся кучка, несколько человек с примкнутыми
штыками, в глазастых противогазах,— они идут и оглядываются
по сторонам, словно нерешительные исследователи. В их на-
ступлении не чувствуется ни большой уверенности, ни угрозы.
Это просто отдельные образы какого-то мучительного и страш-
ного сна. Но за ними, через дымящиеся груды развалин, идут
другие, более решительные. Они начинают стрелять, бросать
гранаты. Огонь рвущихся снарядов вспыхивает сквозь дым, воз-
дух содрогается вокруг Теодора. Несколько английских солдат
бьются с неприятелем возле него. Один громко вскрикивает и
падает, цепляясь за его колени. Теодор вспоминает, как он с
проклятьем оттолкнул умирающего и бросился бежать прочь,
прочь отсюда. Он один. Он невредим. Но если он останется
здесь, разве он уцелеет? В сознании его проносится мысль, что
все это ужасно, что этого не должно быть. Тедди был прав.
Маргарет была права.. Это верх безумия, люди сошли с ума.
Все эти люди — и те, кто с ним, и те, кто против него,— все эти
фантастические фигуры в масках, все они безумцы, безумцы
оттого, что повинуются, безумцы оттого, что позволили приве-
сти себя сюда, безумцы потому, что не покончат с этим.
Прежде всего во что бы то ни стало надо вырваться из этого
кошмара, уйти от этих маниаков. Он пытается вырваться из
этого кошмара,— дни и недели он пытается вырваться,— и
снова проваливается в него.
Другое видение почти такое же яркое.
Он один. На нем противогаз, fio ему кажется, что он приле-
гает неплотно. Он — в разбитом ходе сообщения, в разворочен-
430
ном нужнике, мечется из стороны в сторону в зловонной грязи,
как загнанная крыса в яме, не зная, откуда грозит опасность.
Еще один кошмар, в котором он без конца пытается куда-то
пробраться, куда-нибудь, все равно, только подальше отсюда;
он карабкается вверх по ржавой железной стене, он ползет, ле-
жит распростертый в ужасе, и воздух над ним рассекается со
свистом градом пулеметных пуль; он забивается в темные ямы,
из которых нет выхода, он ползет по обломкам стены какого-то
разрушенного дома, по грудам битой посуды, попадает на
какой-то пустырь, где свалены зловонные раздувшиеся трупы
лошадей и разбитые лафеты, сталкивается и бежит прочь от
кучки отчаянных людей в хаки, которых очень молодой капи-
тан ведет к последнему бесполезному сопротивлению. Немцы
где-то уж совсем близко, потому что все без противогазов и не
чувствуется никаких признаков газа. Теодору врезалось в па-
мять, что лицо молодого капитана покрыто белыми оспинами.
Так непривычно встретить теперь рябое лицо. На минуту он
овладевает собой.
— Куда вы идете, сэр? — спрашивает молодой офицер.
— Мои люди вон там,— лжет Теодор.— Но, ради бога, ска-
жите, где мне достать патроны? Мой капитан здесь, но у нас
нет боеприпасов.
Как бы то ни было, он отделался от них.
Потом он видит себя в высокой жесткой траве среди де-
ревьев, кругом масса цветов, в особенности ромашек. Рядом
сравнительно мало поврежденная дорога, а немного подальше
белая хибарка с нетронутой крышей. Он старается припомнить,
как это называется по-французски — chaumiere или chaumette?
Странно, что он может думать об этом. Затем он начинает отда-
вать себе отчет в своем положении. Он — дезертир. Одному богу
известно, куда он забрел, но ясно, что он вне поля действий. Но
едва он успел подумать, что он вне поля действий, слышится
протяжный и низкий вой снаряда, который падает с глухим сту-
ком и рассыпается в белое облако. Он бросается ничком на
землю и долго лежит неподвижно под градом грязи и щебня.
Мир кажется странно затихшим после того, как этот оглуши-
тельный взрыв ударил в барабанные перепонки Теодора. Ти-
шина эта длится. Теодор приподнимается и прикладывает руки
к своим мучительно ноющим ушам. Во- рту отвратительный вкус
дыма.
Он старается припомнить более отчетливо, что собственно
произошло...
И вдруг проваливается в какой-то ужас и пустоту. Он хотел
бы быть мертвым. Если бы этот снаряд упал чуть-чуть ближе,
его убило бы, и тогда все было бы кончено, и он избавился бы
от этого нестерпимого ужаса. И его желание исполняется. Он
умирает. Он опускается в траву, складывает вытянутые, как у
покойника, руки, и больше он ничего не помнит.
431
В последней, заключительной картине он снова на время
становится самим собой...
Он говорит с доктором.
Доктор сидит напротив него, и между ними стоит малень-
кий плетеный, застекленный сверху столик. Как они встрети-
лись, с чего начался их разговор, он не помнит, он помнит
только самый напряженный, критический момент допроса.
— Откуда, черт возьми, я знаю, что случилось? — спраши-
вает он, плача.— Я думаю, что я убежал. Да, я думаю, что
убежал, и теперь меня расстреляют. Во всяком случае, это уже
будет конец всем моим мучениям.
В процедуре лечения пациентов такого рода, как Теодор,
практиковались различные методы, в зависимости от подхода
военного врача, в ведении которого это находилось. Иногда
диагноз приводил прямехонько к суровому, мрачному ружей-
ному залпу на рассвете. Но среди этих военных врачей попада-
лись вдумчивые и милосердные люди, были и такие, которые
никогда ни одного человека не обрекли на такую судьбу; и Тео-
дору повезло, что он попал к доктору этой новой школы, а не
к бездушному автомату старого образца. Доктор был далеко не
так уж уверен в своей науке, да и в своей роли, но профессио-
нальные традиции обязывали его держать себя так, как если бы
он был в этом уверен. Он сохранил независимый образ мыслей,
пронес свою веру в науку через четыре года врачебной прак-
тики на фронте. Он знал, как поступит с Теодором, но не мог
удержаться, чтобы не высказать на его счет кое-каких предпо-
ложений.
— Я думаю, может быть, в самом деле было бы лучше пе-
рестрелять всех таких вот молодчиков, как вы,— сказал он.—
Может быть, человечество улучшилось бы от этого. Что это,
неизбежность сделала вас таким? Неизбежность? Или у
вас чего-то недостает, что-то было упущено в вашем воспи-
тании?
Теодор чувствовал, что его распекают, и распекают жестоко.
— Пусть меня расстреляют,— угрюмо сказал он, проводя
рукой по мокрому лицу.— Я убежал.
И, всхлипывая, прибавил:
— Если я не пожертвовал жизнью одним способом, я могу
пожертвовать ею другим.
— Шш! — сказал доктор.— Это не вы убежали. Это дру-
гой офицер убежал. Не болтайте глупостей, или вас действи-
тельно расстреляют; а тогда, вы знаете, это станет известно
дома. Вам этого не хочется. Нет.
— Я не помню, как я убежал,— сказал Теодор с новым
проблеском надежды в покрасневших глазах.
— Но тогда зачем же, черт вас возьми, вы болтаете об
этом?
— Разве я убежал?
432
Доктор промолчал и подумал, что лучше было бы просто
исполнить свою обязанность.
— Нет,— сказал он. Чувство юмора пересилило в нем.—
Вы храбро вели ваших солдат, снаряд разорвался у ваших ног
и отбросил вас мили на полторы в тыл. Ну, и вполне естест-
венно, что вы лежали оглушенный. А так как у вас нет никаких
телесных повреждений, а только психические, произошло,— ну,
попросту сказать,— недоразумение. А теперь, несчастный вы
идиот, потрудитесь-ка заткнуться и предоставить это дело мне.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Возвращение воина
1
ИНТЕРМЕДИЯ ВО МРАКЕ
Вплоть до окончания войны Теодор пребывал в качестве
пациента в Уайтинг Семмерсе и лечился от так называемой
военной травмы. Прежний термин «шок от контузии» вышел
из моды, и объяснение неромантического поведения нашего ге-
роя на поле битвы, так же как и наступившего вслед за этим
состояния глубокой депрессии, выражавшейся главным образом
в полной прострации и слабых, неэффективных попытках к са-
моубийству, уже не опиралось теперь на гипотезу физического
расстройства, вызванного контузией от снаряда. Здесь было
нечто более серьезное. Медицина, которой приходилось на прак-
тике сталкиваться с весьма затруднительными случаями, вы-
нуждена была прийти к более широким выводам относительно
этих «нервных шоков» и признать, что они являются только
более яркими, более наглядными примерами едва ли не всеоб-
щего психического расстройства, вызванного войной.
В поучительной синей книге «Доклад военного министер-
ства о контузиях снарядами», опубликованной в 1922 году, мы
видим, что официальные круги все еще пытаются трактовать
эти случаи, как нечто специфическое и определенное, и отказы-
ваются признать, что каждый человеческий мозг, сталкиваю-
щийся с современной войной, сталкивается лицом к лицу с чем-
то столь противоестественным, бессвязным, бессмысленно и бес-
цельно жестоким, чего он не в состоянии выдержать. Человек
вовлекается в это потоком традиций, приверженностей, сенти-
ментальностей, понятий о честности, представлений о долге и
28 Г. Уэллс, т. 2 433
мужестве, доверия правительству и руководящим властям, и
только для того, чтобы очутиться во всесокрушающем хаосе
этой необъятной разрушительной бесцельности. Не все, кому
приходилось сталкиваться с этим вплотную, кричали, бежали
или падали, и только какой-то процент военных невротиков
попадал в госпитали, но все без исключения выходили из этого
искалеченными, изуродованными и разбитыми.
Глубоко под мраком безотрадной апатии Теодора, нашего
невредимого военного невротика, находящегося под наблюде-
нием в Уайтинг Семмерсе, это новое прозрение обмана, угрозы
и ужаса жизни и старые, укоренившиеся навыки приспособле-
ния и самоуспокоения вели свою незаметную, но непрекращаю-
щуюся борьбу. В нем иногда еще шевелилось слабое стремле-
ние, зарожденное много лет тому назад влиянием Брокстедов —
стремление обнажить себя и свой мир, взглянуть в лицо своим
беспредметным вожделениям и сентиментальной маскировке,
признаться в своем мучительном страхе перед страданием,
в своем отвращении к каким бы то ни было усилиям, в своих
бесчисленных слабостях, спуститься в самую пропасть челове-
ческого унижения, признать подлинные ужасы жизни рядом с
ее обманчивыми возможностями — и подняться человеком.
Но откуда же возьмется сила, которая потом поднимет его
из этой пропасти самоуничижения? Он может спуститься в нее,
но жить в ней он не может. Ему недоставало мужества стать
настоящим самим собой, а дар самообольщения на время по-
кинул его. Он часами сидел в состоянии полной прострации,
примиряясь с нею, поощряя ее, сидел с безжизненно опущен-
ными руками, с открытым ртом, не отвечая на вопросы. Потом
вдруг сразу его настроение менялось. В нем поднимался про-
тест против этого чувства самоуничижения. Потускневшие вос-
поминания о бегстве и отчаянии вытеснялись за пределы со-
знания. Он вносил смягчающие поправки в историю своего
ранения, так что теперь он уже оказывался не военным невро-
тиком, а контуженным, пострадавшим от разрыва снаряда.
— Конечно,— бормотал он, выпрямляясь и перестраивая
свои воспоминания.— Конечно.
Он вел себя совершенно безупречно, когда этот проклятый
снаряд разорвался около него. Правду сказать, ему даже ка-
жется, если бы только он мог восстановить в памяти все как
было, что он вел себя исключительно мужественно. А эти сны
о бегстве и ужасе были не более, как сны. Зачем он подда-
вался им?
— Ну вот, это уж лучше,— сказал доктор, увидев, что он
сидит прямо, с закрытым ртом и живыми глазами.— Погуляйте-
ка немножко. Когда человек болен такой болезнью, как вы,—
убеждал доктор,— всякое воспоминание становится безобраз-
ным. Не расстраивайтесь из-за этого. В действительности все
было совсем не так безобразно, как вы думаете. Надо все ви-
434
деть в настоящем свете. Кстати, почему бы вам не заняться
рисованием? Ведь вы были художником, правда?
Сначала Теодор не хотел делать никаких попыток, но спустя
некоторое время этот совет соблазнил его. Доктор положил на
виду рисовальный альбом и акварельные краски. Сначала у
него получалась какая-то мазня, но потом он начал писать один
за другим целую серию фантастических пейзажей, прогалины в
густой яркозеленой чаще, тропинки, вьющиеся по высоким гор-
ным массивам, высокие замки среди скалистых утесов, горные
озера и часто две маленькие фигурки, едущие бок о бок среди
этих окрестностей. Все это, казалось, принадлежало к какому-
то другому миру, к какой-то другой фазе существования, в ко-
торой он был счастлив.
Потом он заметил, что музыка тоже оказывает на него бла-
готворное влияние, хорошая граммофонная музыка. Больше
всего ему нравились Берлиоз и Оффенбах. Он слушал, и давно
забытые видения снова вставали перед ним.
После заключения мира он стал очень заметно поправляться.
Это наблюдалось у очень многих военных невротиков. Мир, го-
ворили психологи, ослабил действие инстинкта самосохране-
ния, уничтожил бессознательное противодействие организма
выздоровлению. Спустя некоторое время не было уже ника-
ких препятствий к тому, чтобы выписать Теодора выздоровев-
шим.
В один ясный теплый апрельский день он очутился в поезде,
идущем в Лондон. Но теперь это уже был исправленный и обуз-
данный Теодор, Теодор, который сидел в вагоне и смотрел
в окно на бегущий мимо расцветающий ландшафт послевоенной
Англии. Теодор, который бежал из окопов, исчез совсем из его
бодрствующей жизни и остался жить только в его снах. А у
этого бодрствующего и сознательного Теодора была совсем дру-
гая история. Последние перипетии его военной службы были
начисто вычеркнуты из его памяти и заменились туманными,
изменчивыми легендами о его героическом поведении. Он,
герой войны, возвращающийся к мирной жизни. Он сражался
и страдал. Бэлпингтон Блэпский сыграл свою роль, исполнил
свой долг — встал на защиту дорогой Англии и помог ей
спастись, один бог знает от чего... Как бы там ни было...
Сны протестовали, издевались, угрожали, но постепенно, по
мере того как здоровье и чувство безопасности крепли, перего-
родка между этим подсознательным миром и повседневной
жизнью снова восстанавливалась. И, наконец, она стала совсем
плотной, и сквозь нее только изредка просачивалось чувство
безотчетной тревоги, смутное стремление бежать. Он часто
вздрагивал при неожиданном шуме, колебался перед тем, как
открыть дверь, его заиканье стало несколько более заметно, и
он не всегда мог справиться с ним.
В таком виде Теодор вынырнул из Великой войны.
28*
435
2
ПРЕРВАННЫЕ СВЯЗИ
Он не совсем ясно представлял себе, что он должен встре-
тить в Лондоне.
Самое главное было то, что он возвращался. Ведь не куда-
то в неизвестное он едет. Лондон, в который он возвращался,
надо полагать, тот же Лондон, из которого он уехал. Он сра-
жался, чтобы спасти Англию своих юношеских идеалов, а не
для того, чтобы создать другую, непохожую Англию. Итак,
он мечтал, как он вернется к своей прежней художественной и
литературной деятельности, и представлял себе ту же школу,
те же старые разговоры, старую дружбу и соперничество. Ра-
зумеется, его разговоры теперь будут отличаться большей глу-
биной, его кругозор расширится воспоминаниями о военной
службе и великом походе. Это будет тот же Теодор в том же
Лондоне, но более зрелый, сложившийся и умудренный. А надо
всем этим, пока еще не совсем отчетливо, но заполняя собой все
и властвуя надо всем, выступала Маргарет. Он чувствовал, что
он некоторым образом как бы возвращается к Маргарет,
что она неизбежно займет свое место центральной фигуры
его мечтаний. Он сознавал, что он стал теперь в полном
смысле слова мужчиной, более красивым, более зрелым, более
интересным, чем неуклюжий рекрут первого периода их связи.
Он похудел, вытянулся дюйма на два, у него стали более стро-
гие глаза, более твердый голос.
Его не очень смущало, что всякая переписка между ними
прекратилась после того последнего письма, которое он ей по-
слал перед тем, как отправиться в Пятую армию. Это письмо
долго не давало ему покоя; он все старался припомнить, в ка-
ких выражениях оно было написано, но постепенно оно приоб-
ретало в его памяти характер мужественного протеста против
противников войны, естественного и даже необходимого со сто-
роны офицера, идущего на тяжкие мучения фронта. Может
быть, слова его были суровы. Она, вероятно, слышала о его ра-
нении от тети Аманды, если не из других источников, и, конечно,
она сгорала желанием написать ему и привести в ясность их
отношения. Но, вероятно, она не знала, куда написать, или же
письмо могло затеряться.
Он много раз представлял себе их встречу, сидя в поезде,
который мчал его к Лондону, и всякий раз у него получалось
по-разному.
Его маленькая квартирка в Западном Кенсингтоне остава-
лась за ним, но одну-две ночи, пока ее не привели в порядок,
ему пришлось поместиться у тети Люцинды в комнате для
гостей. Затем он провел конец недели в Эдгвере у дяди
436
Люсьена, который давно забыл свои неудачи со снабжением,
сделался одним из лидеров героического движения реконструк-
ции, поставившего своей целью построить новый рай в Англии,
в ее зеленых и живописных селениях. Это движение стреми-
лось сделать Англию «достойной ее героев». Оно должно было
вознаградить их за все жертвы, которые от них потребовала
война. Это видение сверкало очень ярко в течение некоторого
времени, привело к каким-то сложным спекуляциям со строи-
тельными материалами и примерно через год или около того
незаметно померкло и исчезло.
Теодор сразу пошел в школу Роулэндса, чтобы восстановить
прежние связи. Школа очень мало изменилась. Были два новых
помощника — оба их предшественника погибли на войне, но
Роулэнде остался тем же Роулэндсом, он так же азартно писал,
как и раньше, и был все такой же тучный, крикливый и беспо-
рядочный.
— На кой черт стану я заниматься всей этой проклятой жур-
налистикой и пропагандой? — спрашивал он.— Какое дело
искусству до всей этой войны и политики? Скоро, пожалуй, ваши
солдаты примутся писать для нас картины! — И он продолжал
писать по-своему то, что ему нравилось. Вандерлинк вернулся
из Италии и писал теперь лучше, чем когда-либо. Его лицо ото
лба до подбородка было перерезано багровым шрамом, который
приподнял его губу наподобие заячьей и каким-то образом по-
щадил только его воинственно вздернутый нос. Это образовы-
вало сердитую складку у него между бровями.
Начав со школы Роулэндса, Теодор постепенно восстановил
и другие старые связи. Он узнал, что Фрэнколин получил не
более и не менее, как чин полковника и массу всяких знаков
отличия, а Блеттса разорвало на куски в публичном доме во
Фландрии каким-то шальным снарядом, брошенным немецким
истребителем. Рэчел Бернштейн, как он узнал от ее брата,
вышла замуж за сиониста и уехала в Палестину. Она сделалась
ярой сионисткой, и для нее теперь не существовало ничего,
кроме избранного народа. Но в конце концов разве мало из-
бранного народа, особенно в Палестине.
От Мелхиора он услыхал и о Брокстедах.
Отец и сын давно уже помирились. Тедди вышел из тюрьмы
несколько озлобленным, но пока что прекратил всякую полити-
ческую деятельность; недавно он напечатал кое-какие резуль-
таты своих исследований. Очень серьезная и ценная работа,
сказал Мелхиор. А профессор написал очень язвительную и
изобличающую книгу против способов ведения войны, «Резуль-
таты исследования недееспособности», и похоже, что он соби-
рается перекочевать из своей зоологической сферы в область со-
циологии. Он выпустил свой доклад «Человеческая ассоциация
с точки зрения биологии», который Мелхиор очень горячо сове-
товал Теодору прочесть.
437
— Чертовски оригинальная книга для такого старикана:
такой поразительный скачок ума.
— А Маргарет?
— Я вижу ее иногда,— сказал Мелхиор.
Теодор подождал, что он еще что-нибудь прибавит.
— Она стала еще красивее. И, знаете, она получила очень
хороший диплом.
— Ну, а что же тут удивительного? — сказал Теодор.
— Не знаю. Она ведь не разговорчива. Ну просто как-то
не верится, чтобы такие красивые женщины были способны
сдавать экзамены.
— А что она теперь делает?
— Она работает штатным врачом в госпитале. Удивительно,
что она до сих пор не вышла замуж. Такая девушка... Вероятно,
отбою нет от женихов. Если только они ее не побаиваются, как,
например, я. Смотришь иной раз на нее и думаешь: «А трудно,
должно быть, на вас угодить, юная леди». Но стоило бы поста-
раться. Ведь надо полагать, такой же она человек из крови и
мяса, как все другие.
Теодор записал адрес госпиталя, и после этого весь Лондон
наполнился мыслями о Маргарет, томленьем по Маргарет и ка-
ким-то страхом перед Маргарет. Целых три дня он сдерживал
себя и не писал ей. Все это время он надеялся и мечтал встре-
тить ее где-нибудь случайно на улице. Иногда, в толпе прохо-
жих, увидев вдалеке какую-нибудь женскую фигуру, напоми-
навшую Маргарет, он бросался к ней с замирающим от счастья
и в то же время мучительно сжимающимся сердцем, но она ока-
зывалась незнакомкой. Он ходил по разным местам, где можно
было надеяться встретить ее. Он обедал в ресторанах, где они
бывали вместе в дни войны, Он двадцать раз проходил мимо ее
госпиталя. Наконец, он написал ей в госпиталь.
«Маргарет, дорогая.
Я вернулся в Лондон из армии, излечившись от всех моих
ран, и чувствую себя очень одиноко. Я очень хочу видеть тебя.
Где бы ты могла со мною встретиться?
Твой Теодор»,
3
ПОСЛЕВОЕННАЯ МАРГАРЕТ
Она ответила так же коротко. Она очень рада, что он попра-
вился. Не угостит ли он ее чаем у Румпельмейера, на Сент-
Джемс-стрит, в том конце, где дворец?
Он явился за несколько минут до условленного часа.
Мелхиор сказал правду. Она стала еще красивее, чем
прежде. Она с серьезным видом прошла через магазин в конди-
438
терскую, где он поджидал ее за маленьким столиком. Она
увидала его, и лицо ее дружески, подчеркнуто дружески, про-
сияло. Он встал, смуглый, худой, и протянул к ней руки.
(В конце концов, может быть, это последнее письмо из Па-
рижа и не дошло до нее!)
Она была так рада увидеться с ним снова, так рада, и она
так интересовалась им.
— Я никогда не пила чая в этой кондитерской,— сказала
она.— Мне всегда очень хотелось.
Они сели. Они смотрели друг на друга, но избегали смотреть
слишком пристально. Теодор нервничал. Его немножко беспо-
коила эта процедура заказыванья чая.
— Пожалуйста, пирожных и все, что у вас есть,— сказал
он официантке. Он чувствовал, что для него чрезвычайно важно
сделать заказ изящно, корректно, властно. Он должен показать
себя мужчиной до мельчайших подробностей. Официантка
приняла заказ с проникновенной почтительностью и отошла
от них.
Они обменялись ничего не значащими фразами:
— Я должен был написать тебе.
— Естественно, что ты написал мне.
— Ты ничуть не изменилась. Ты стала только еще более
сама собой.
— А я чувствую, что я ужасно изменилась. И постарела и
поумнела. Ведь я теперь практикующий врач.
— А твой отец все еще профессором в колледже Кингсуэй?
А Тедди?
— Он понемножку приходит в себя после войны.
— Приходит в себя после войны! Да что он-то делал на
войне? Но оставим это. Надо забыть на время эту старую
ссору.
— А что ты теперь собираешься делать, Теодор?
— Не знаю. Думаю писать или рисовать. Посмотрю, что
больше захватит меня.
Она с серьезным видом ждала, что он скажет что-нибудь
еще, и в ее глазах светилась нежность, Она облокотилась на
стол, и по всему было видно, что он кажется ей лучше, чем она
ожидала.
Он начал говорить о своем искусстве и о возрождении искус-
ства и литературы, вдохновленных войной. Для творческого
импульса, особенно в литературе, заявил он, сейчас наступает
самый благоприятный момент. Вот почему его больше привле-
кает литература, чем живопись. Новое вино не годится вливать
в старые меха. Должны появиться новые формы, новые люди,
новые школы. Старые авторитеты отпали от нас, как громоздкая
пустая шелуха, которая отслужила свою службу, все эти Гарди,
Барри, Конрад, Киплинг, Голсуорси, Беннет, Уэллс, Шоу,
Могэм и т. д. Они сказали все, что могли сказать, они выдох-
439
лись. Им больше нечего сказать нам. Он махнул рукой, словно
отметая их прочь. Все это довоенные светила. Их можно было
бы с успехом сжечь во время иллюминации в день перемирия.
Новое поколение несет великие новые идеи, новые понятия,
полные глубокой значительности, новые широкие перспективы,
которые открыла война. Возникают новые концепции жизни,
новые концепции счастья и пола, и они будут выражены по-но-
вому, другим языком, более богатым и тонким, выкованным
заново для новых запросов.
Он не подозревал, что все это таилось у него в глубине со-
знания. Это вылилось так неожиданно, что он сам был удивлен
своим красноречием. Но весь мир теперь снова наполнился
значением, и все это было важно для него, раз его слушала
Маргарет.
Она не сводила с него глаз, когда он говорил.
— Милый, прежний Теодор,— сказала она.— Ты говоришь
так же хорошо, как раньше.
Он резко оборвал.
— Все ли я еще милый, прежний Теодор? — отрывисто
спросил он.— Маргарет, дорогая?
Несколько секунд она сидела молча.
— Да, всегда милый Теодор, да,— сказала она.
— Милый, как и прежде?
Она молчала. Он продолжал:
— Я мог бы говорить с тобой вот так целую вечность.
Я чувствую, как ко мне снова возвращаются и сила и смысл
жизни. Я могу писать, могу создать что-то ценное, если только...
Маргарет, дорогая, скажи, ты все так же любишь меня? Все
осталось попрежнему, ты моя?
— Нет, нет,— сказала она.— Говори о книгах. Говори о ли-
тературе. Говори о том, как вы, молодые писатели, сметаете
прочь старых болтунов. Я люблю слушать, когда ты говоришь
об этом. Мне бы очень хотелось, чтобы ты осуществил все эти
замечательные мечты. Настоящий новый век.
— Любимая моя, дорогая. Я люблю тебя все так же.
Несколько мгновений они пристально смотрели друг на
друга, не говоря ни слова.
Она сложила перед собой руки.
— Теодор,— сказала она очень твердо,— слушай.
•— Я не хочу слышать то, что ты хочешь сказать.
— С этим все кончено.
— Но почему кончено?
— Это кончилось. Умерло. И умирало уже тогда, когда
ты в последний раз был в Лондоне. Разве ты не чувствовал?
И потом — разве ты не помнишь? Ты написал мне письмо.
Значит, она получила его письмо. Но он так много думал
об этом. Он сумеет объяснить ей.
— Я был невменяем, когда писал тебе это письмо. Это
440
была дикая выходка. У меня нет слов рассказать тебе, в ка-
ком мраке и отчаянии я находился в то время... Эти долгие дни
неизвестности и тревоги в Париже. Да, это было непрости-
тельно. И все-таки я прошу тебя простить. Что это за любовь,
которая не умеет прощать?
— А эта проститутка! Которая гораздо лучше умела лю-
бить?
— Это все то же. Конечно, я этого не думал. Разве я мог
так думать? Я написал, чтобы сделать тебе больно.
— Что же это была за любовь, которая хотела сделать
больно? Может быть, она нанесла такую рану, которая никог-
да не заживет. Женщины,— а может быть и все влюбленные,—
носят в себе какое-то чувство гордости — они гордятся тем, что
они умеют любить.
— Я был невменяем,— повторил он, чувствуя, что все его
доводы ускользают от него.
— Глупый Теодор,— сказала она.— Милый, но глупый.
— Ты наказываешь меня за то, что я не вытерпел и закри-
чал.
— Я не наказываю тебя. Но ты оборвал что-то. Сломал и
швырнул мне в лицо.
Он наклонился к ней через стол и заговорил, взволнованно
понизив голос:
— Маргарет, дорогая, все это так глупо. Так нелепо. Мало
ли чем мы обидели один другого. Ведь мы же-любим друг
друга, и тела наши жаждут друг друга. Все это такой вздор.
Между нами нет никакой настоящей преграды, только вы-
мысел, только уязвленная гордость. Если б я только раз мог
поцеловать тебя, ты бы вспомнила. И все вернулось бы.
Она твердо выдержала его взгляд.
— Да,— сказала она.— Но ты не можешь поцеловать меня.
Ни здесь и нигде. И я не хочу вспоминать. Не хочу, чтобы это
вернулось. Даже если бы это было возможно... Мне было бы
противно потом. Это кончилось. Но я все же хочу, чтобы мы
остались друзьями. Я и сейчас очень люблю тебя и думаю, что
это останется всегда. Я, правда, очень люблю тебя, Теодор. Но
если ты будешь вести такие разговоры, разве я могу встре-
чаться с тобой?
4
МАРГАРЕТ КОЛЕБЛЕТСЯ
В этот раз она не условилась с ним, когда они встретятся...
Он послал ей открытку.
«Подари мне один день, один-единственный день, Маргарет.
Вирджиния Уотер, наши прогулки».
441
Она не ответила. Он позвонил ей в госпиталь.
— Я не хочу дарить тебе день.
— Ты что, боишься встретиться со мной?
Он знал, что это заденет ее гордость.
— Что мы можем сказать друг другу, кроме того, что уже
сказано? — спросила она.
— Приходи ко мне.
— Нет.
— Тогда давай встретимся и поговорим в последний раз в
Кенсингтон-Г арденс.
Она согласилась.
— Хорошо, если ты считаешь, что это необходимо,— ска-
зала она.
Когда они встретились, у них у обоих было наготове, что
сказать. Некоторое время они разговаривали, не слушая друг
друга, каждый старался высказать свое. Он обращался к ней
с цитатами красноречивого призыва, который он успел сочи-
нить и несколько раз переделать в этот промежуток времени,
призыва выйти за него замуж, помочь ему вернуться в жизнь,
вдохновлять его, забыть все их разногласия, возникшие во
время войны, и отдаться любви. Но ее невнимательность сби-
вала его, и он путался в фразах. Она не слушала его, она ста-
ралась отмахнуться от его фраз и пыталась объяснить ему что-
то. Наконец, он отказался от своих попыток и стал прислуши-
ваться к тому, что говорила она.
— Я хочу, чтобы мы остались друзьями. Я не хочу, чтобы
ты ушел из моей жизни. Я чувствую, что это было бы равно-
сильно тому, как если бы ты умер для меня. Я никогда не
выйду за тебя замуж, но разве ты все-таки не можешь оста-
ваться близким мне? Разве все то, что было между нами, не мо-
жет остаться светлым воспоминанием и сохраниться? Может
быть, первая любовь больше значит для женщины, чем для
мужчины. Я не хочу, чтобы ты совсем перестал существовать
для меня. Я не хочу расставаться в ссоре. Я не могу ссориться
с тобой, и этим все сказано. Мы любили. Ты — часть моей
жизни. И вот так я и чувствую.
— Но тогда все очень просто разрешается. Будь частью
моей жизни.
— Нет, этим ничего не разрешается, если ты попрежнему
настаиваешь на любви. С этим все кончено, навсегда. В жизни
все не так просто. Будем откровенны. Когда я отдалась тебе
во время войны, это казалось пустяком, да это и был пустяк.
С моей стороны было бы подло в то время отказать тебе.
Я рада, что это сделала. Рада, ты слышишь? Но теперь... Те-
перь...
— Теперь,— язвительно сказал Теодор.— Теперь ты, по-
видимому, решила подумать о своем будущем. А в мое ты
не веришь. И этим все сказано. Пока мое имя не будет
442
красоваться на всех афишах, а мои книги не будут выставле-
ны во всех книжных лавках, у тебя нет уверенности, доста-
точно ли я хорош, чтобы быть твоим мужем. Вот как обстоит
дело.
— Нельзя сказать, чтобы ты всегда выражался очень лю-
безно. Но допустим, что это так. Хорошо. Наполовину во вся-
ком случае это верно. Я не верю в наше будущее. У нас нет
общего будущего. Не можем же мы, дорогой мой, прожить всю
жизнь в объятиях друг друга. Когда мы с тобой говорим, пи-
шем друг другу или думаем, мы расходимся. Если б даже ты
и достиг этого успеха, о котором ты говоришь,— нас это все
равно не сблизило бы. Может быть, я не считала бы это успе-
хом. Я хочу делать свое дело. Я хочу служить — служить че-
му-то более значительному, чем красивому, безответственному
мужчине, хотя бы его имя и красовалось на всех афишах. И еще
есть многое другое. Я не хочу связывать свою жизнь с твоей
ни за что на свете. В тебе есть что-то...
Голос ее оборвался. Даже себе самой она не хотела при-
знаться в том, что она на самом деле думала о Теодоре.
— Как все это невыносимо рассудочно! — помолчав, ска-
зал Теодор.
— Да. Не правда ли?
— Невыносимо рассудочно.
— Невыносимо,— согласилась она.
Он сделал вид, будто задумался. Но на самом деле он коле-
бался, ему хотелось задать ей один вопрос, и он не мог ре-
шиться. Наконец, он решился.
— Скажи мне одну вещь. Есть ли кто-нибудь другой? На
моем месте?
— Никто никогда не будет на твоем месте.
Он пристально посмотрел на нее.
— Уклончивый ответ.
— Да. Ну, хорошо, да. Я думаю выйти замуж за другого.
Он... Мы вместе работали. Мы подружились. Он любит
меня.
— Говоря попросту, твой любовник? Я хочу сказать...
— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Это тебя не касается.
Впрочем, если ты хочешь знать — нет.
-— Пока еще нет?
— Пока еще нет.
— Я так и думал,— сказал Теодор и повернулся на стуле
так, чтобы иметь возможность смотреть ей прямо в лицо.—
Я чувствовал это.
— Теодор,— сказала она, твердо выдерживая его взгляд.—
Ты сам хотел порвать наши отношения. Я этого не добива-
лась.
— А все-таки, знаешь, несколько неожиданно.
— Почему это может быть для тебя неожиданно?
443
— я думаю... Когда же ты решила бросить меня? Когда я
был ранен?
— Ранен?
— Ну, выбыл из строя, черт возьми! Что мы будем препи-
раться из-за слов!
— А это письмо, которое ты мне написал из Парижа?
Разве тебе не приходило в голову, что оно заставит меня за-
думаться? Разве ты не порвал со мной тогда? И даже еще
раньше. В последний твой приезд в Лондон. Я ясно видела,
когда провожала тебя в тот раз, что это конец. У меня было
такое чувство, что мне надо остерегаться тебя, чтобы не погу-
бить свою жизнь. Я это понимала. Но, видишь ли, я все еще
любила тебя. И еще долго потом. Даже после этого письма.
Я думала, что смогу продолжать мою работу, а свою любовь
к тебе отодвинуть куда-нибудь в уголок.
— Пока этот твой любовник не занял мое место?
— Вторая любовь не занимает место первой. Это уже что-то
Другое.
— Лучше, может быть? — настойчиво спросил Теодор, изо
всех сил сжимая рукой спинку стула.
Она не ответила, но чуть заметная тень презрения про-
мелькнула на ее лице.
— Боже мой! — произнес Теодор, опустив глаза, и ярост-
но завозил каблуком по траве Кенсингтон-Гарденс. В не-
сколько секунд у него под ногой образовалась ровная круглая
ямка.
— Вот до чего дошло,— внезапно воскликнул он и встал.
Она тоже встала.
— Идем к Ланкастер-Гейт, там можно достать такси,—
сказала она.— Я хочу домой.
Он остановился против нее.
— А этот человек, этот другой... У него, надо полагать,
всяческие возвышенные цели? Пацифизм и тому подоб-
ное? Наука и прочее? История до сих пор заблуждалась, а
вот мы теперь покажем. Подальше от войны. От этой во
всяком случае. Все, против чего я возражаю? И работа?
И все? А?
— Какой смысл нам с тобой говорить об этом?
— Я хочу знать.
Она покачала головой.
— Вероятно, приятель Тедди?
— Оставь в покое Тедди.
— Но он знает обо мне?
— Конечно, знает. Разве я прячусь?
— Боже! — воскликнул Теодор, с жестом отчаяния обра-
щаясь к деревьям, траве, солнечному свету и воде, сверкавшей
вдали.— Но ведь теперь весь мир для меня станет совершенно
пустым.
444
Она подняла глаза на его искаженное настоящим страда-
нием лицо и вздрогнула.
Жалость захлестнула ее.
— Мне так больно,— сказала она со слезами на глазах.—
Мне так больно!
Что-то толкнуло его сделать фантастическое предложе-
ние.
— Маргарет,— сказал он,— пойдем ко мне. Вот сейчас.
Один последний раз! Забудемся в любви. Последний раз!
Я чувствую, ты любишь меня. Подумай, Маргарет! Вспомни!
Как я целовал тебя в это местечко — в шею. Помнишь, один
раз я поцеловал тебя подмышку. Мои объятия. Мое тело, кото-
рое ты обнимала.
Она смотрела на него молча, и лицо у нее было белое, как
бумага.
— Мне надо идти,— сказала она почти шепотом.
Она опустила глаза, потом снова подняла их, и он понял,
что больше говорить не о чем.
Они пошли рядом по дорожке мимо пруда. Он позвал
такси, усадил ее, и они расстались, не сказав ни слова.
5
ЭПИСТОЛЯРНАЯ НЕВОЗДЕРЖНОСТЬ
Теодор повернул к Оксфорд-стрит. Так оно и было, как он
сказал: мир стал пустым.
Правда, на улице было какое-то движение, прохожие,
стояли освещенные солнцем дома, деревья,— но все это были
ненужные предметы в пустой вселенной. Он чувствовал теперь,
что вся его жизнь была сосредоточена на Маргарет. Что Мар-
гарет была душой его воображения, что без нее он уже не
может воображать, а для него никакой другой жизни, кроме
воображаемой, нет.
Ему больше не о чем было думать, как о своих взаимоот-
ношениях с ней. И по привычке, усвоенной его сознанием, он
драматизировал их и рассказывал себе о них сказки. Мысли
его крутились водоворотом, их бурный поток выливался в по-
вествовательную и литературную форму. Все его фантазии
хлынули в письма. В течение четырех дней он написал и послал
Маргарет семь писем, не считая трех или четырех, которые он
разорвал, и все это были весьма разноречивые и нескромные
письма. В двух из них он дал выход накопившемуся в нем не-
годованию против ее упорства и разразился оскорбительными
упреками. Некоторые из них отличались откровенной гру-
445
бостью. Как бы явно она ни показывала, что решила порвать
с ним,— она его любовница, и он не намерен допустить, чтобы
кто-то из них забыл об этом. Все его письма были рассчитаны
на то, чтобы так или иначе задеть и взволновать ее,— и этого
они достигли.
Все они были полны обвинений и упреков, ибо ничто так
не ожесточает человека, как сдерживаемое и неудовлетворен-
ное желание. Воспоминания о ее нежности и доброте исчезли
из его памяти. Он помнил только ее отказ, ее оскорбительное
неверие в него и эту уж совершенно неслыханную низость,—
что она могла полюбить кого-то другого. Он томился жела-
нием вернуть ее прежде, чем этот другой овладеет ею; это было
мучительное, исступленное желание, но у него недоставало
ни ума, ни характера, чтобы постараться воздействовать на
искреннее чувство нежной привязанности и физическое влече-
ние, еще сохранившиеся у нее. Он не мог убедить,— потому
что старался доказать, что во всем виновата она одна, и за-
глушал свое горе и раскаяние упреками, обвиняя ее в непо-
стоянстве и предательстве, изобличая низость ее побуждений и
негодуя на ее холодность. А еще ему надо было сокрушить
своего соперника, хотя он ничего не знал о нем. Он убедил
себя, что этот человек оставался в Англии в то время, как он
был на фронте и в госпитале. Он решил, что это такой же прин-
ципиальный противник войны, как Тедди. Итак, он разражался
следующими великолепными фразами:
«Банальнейшая история военного времени! Пока я был там,
ты не стала ждать и изменила мне с этим embusque» Ч
Или еще:
«Эта война разоблачила всю фальшь женских притязаний
на какое-либо благородство и самоуважение. Люди, кото-
рые умирали, веря в женщин, оставшихся дома, были счаст-
ливее тех, кто вернулся назад, чтобы утратить последние
иллюзии».
Потом он принимался взывать:
«Понимаешь ли ты, что ты убиваешь душу человека, кото-
рый всю жизнь свою построил на мечте о тебе? Представляешь
ли ты себе, какое место ты занимала в моем воображении?
С детства! Тысячу и одну мечту, которые сосредоточивались на
тебе!»
Потом переходил к возвышенному стилю, впадал в высоко-
парный тон настойчиво домогающегося и в то же время власт-
ного самца:
«Если когда-нибудь женщина принадлежала мужчине, ты
принадлежишь мне. По праву любви. По праву ответного жела-
ния. Ты милое, чудесное, неразумное создание, вернись ко мне,
вернись в мои объятия! Забудь все, что я писал тебе в минуты го-
1 Окопавшийся (франц.).
446
речи. Эта горечь свидетельствует лишь о том, что в моей любви
бушуют все стихии, ненависть и вражда бороздят кровавыми
вспышками огромное светлое пламя. Приди в мои объятия,
о Маргарет, моя дорогая, любимая, моя прекрасная возлюблен-
ная, моя жена! Нам нужно всего лишь несколько минут побыть
в объятиях друг друга, и все воспоминания об этих страшных
днях рассеются, как дым. Мы начнем новую жизнь, прощенные,
забывшие и прощающие. Поплачь на моей груди. Возлюблен-
ная моя, как памятен мне вкус твоих слез в тот день, когда
ты впервые отдалась мне. Неужели ты могла забыть это незаб-
венное мгновенье? И третьего дня, в Кенсингтон-Гарденс, ты
плакала. Плакала обо мне. Священные слезы. Нестерпимо
сладостные слезы. Как они потрясли меня!»
Он набросал это в один присест, и по мере того как это
выходило из-под его пера, он чувствовал, что этот пламенный
призыв является редким образцом почти недосягаемой кра-
соты. Он убеждал себя, подавляя смутно шевелившиеся в
нем сомнения, что эти строки сломят ее упорство, хотя все
другие письма оказались бессильны. Кончив письмо, он по
своему обыкновению тотчас же пошел опустить его. Но на
этот раз, после того как письмо исчезло в ящике, у него не
было такого тревожного чувства и опасения, как бывало
обычно.
Он почувствовал, как в нем поднимается неудержимая
жажда музыки, величественной, героической музыки, и увидал,
что у него есть еще время попасть на концерт в Куинс-Холл,
где исполнялся Бетховен. Он сидел, погруженный в возвышен-
ные размышления, сочиняя новые и еще более убедительные
послания.
На следующее утро он два раза звонил ей по телефону
в госпиталь, надеясь поговорить с ней, но каждый раз ему
отвечали, что она занята.
6
ПАПЬЕ-МАШЕ
Кто-то постучал в дверь его маленькой квартиры. Безумная
надежда охватила Теодора. Он открыл дверь и увидал перед
собой загорелого молодого человека в клетчатом костюме,
чуть-чуть поплотнее и пониже его самого; незнакомец сразу,
без всяких церемоний, вошел в маленькую переднюю.
— Вы мистер Бэлпингтон,— сказал он.— Да?
Лицо его показалось знакомым Теодору. Он чувствовал,
что они где-то уже встречались, разговаривали, но не мог
вспомнить, где. Он припоминал даже голос.
447
— Мне нужно сказать вам несколько слов,— заявил незна-
комец.
—Мне кажется, я... не припоминаю вас,— сказал Теодор.—
Мы с вами знакомы?
— По всей вероятности, нет. Я, видите ли, друг Маргарет
Брокстед.
— А! — сказал Теодор.— Вот что!
— Вот именно,— сказал незнакомец и огляделся по сто-
ронам.
— Пожалуй, лучше будет, если мы пройдем в комнату,—
сказал Теодор и повел его в маленькую комнатку, в которой
после смерти Клоринды секретер Раймонда, поместившись ря-
дом с письменным столом, несколько загромождал простран-
ство. Под окном с мягкими шторами стоял большой диван и
возле него два высоких зеркала, одно выпуклое, другое во-
гнутое.
Незнакомец прошел через комнату, задумчиво посмотрел
на диван и зеркала и повернулся.
— Послушайте,— сказал он,— вы надоедаете Маргарет
вашими письмами и телефонными звонками.
— Разрешите спросить... Может быть, вы назовете себя?
— Лэверок. Я женюсь на Маргарет.
— Женитесь?
— Мы с ней решили это вчера.
— Вы в этом уверены?
— Абсолютно.
Теодору следовало принять известие твердо, непринуж-
денно и решительно, но вместо этого он почувствовал, что
весь дрожит от ярости.
— В мире нет ничего абсолютно достоверного,— сказал он.
Он присел на ручку кресла и жестом пригласил сесть своего
гостя. Но Лэверок остался стоять.
— В настоящий момент речь идет главным образом о
том, что Маргарет расстраивается и огорчается. Эти ваши
письма...
Он внезапно вытащил из кармана пачку сложенных вчет-
веро листков бумаги.
— ...расстраивают ее.
Он сунул письма обратно.
— Вот как,— сказал Теодор. Он глубоко засунул руки
в карманы брюк.— Вряд ли они могли бы так расстраивать,
если бы она приняла определенное решение.
— Вот в этом вы ошибаетесь,— сказал Лэверок и, накло-
нив голову набок, посмотрел на Теодора.
Он повернулся, сделал несколько шагов по комнате, вер-
нулся обратно, снова посмотрел на Теодора, затем подошел и
сел в кресло напротив него.
— Ну, конечно,т- сказал он.
448
— Что — конечно?
— То же лицо, тот же голос, те же развинченные движения.
Вы были у меня на освидетельствовании. После последнего
германского наступления.
Теодор провел рукою по лбу.
— Я что-то не припоминаю.
— Вас хотели расстрелять. Симуляция контузии после
взрыва. Я солгал. Как-никак, я дал ложное заключение, чтобы
спасти вас. И вот теперь мы с вами снова встречаемся.
— Нет,— медленно произнес Теодор.— Где, вы говорите,
меня видели? Я был ранен осколком снаряда. При чем тут
симуляция?
— Нет? Но я очень хорошо помню. Ваш голос, ваши ма-
неры. Я даже заинтересовался тогда. Это было в Мирвилле на
Марне.
— Ничего подобного.
— Вы уверены?
— Ничего подобного. Я был отброшен снарядом и отравлен
газами. Долго был без сознания. Но все это произошло не
там. Совершенно определенно. И все это отмечено в моем
послужном списке. Вы ошибаетесь. Я вас никогда в глаза
не видал.
— Но в какой госпиталь вы были направлены в Англии?
Не в госпиталь для военных невротиков в Уайтинг Сем-
мерсе?
— Нам совершенно незачем входить во все эти подроб-
ности. Вы пришли говорить о Маргарет. Так и будем говорить
о Маргарет.
— Как вам угодно,— угрюмо сказал молодой доктор.—
Во всяком случае, вы должны прекратить этот поток писем и
упреков Маргарет. Вы попытали счастья с нею. Теперь это
кончено.
— Я не откажусь от Маргарет так легко,— ответил Теодор.
— А я думаю, что откажетесь,— невозмутимо сказал
доктор.
Наступило долгое молчание.
— Мне хотелось посмотреть на вас,— промолвил молодой
доктор.— Признаться, я никак не ожидал встретить такое по-
разительное сходство с моим пациентом. Но я хотел вас ви-
деть. Я не считаю нужным скрывать от вас, что даже и теперь,
даже после всех этих гнусных писем, она очень привязана
к вам. Юношеская дружба. Юное воображение. Ну, так вот.
Она сжилась с каким-то представлением о вас, которое вы раз-
рушаете этой вашей вредной галиматьей.— Он ткнул паль-
цем в свой карман.— Не лучше ли вам постараться вести себя
прилично и кончить эту историю так, чтобы у нее не осталось
никаких омерзительных воспоминаний?
— Она моя любовница,— сказал Теодор.
29 Г. Уэллс, т. 2
449
— Была,— сдержанно поправил доктор.— Все это мне
известно.
— Она... она неравнодушна ко мне.
Тон молодого доктора сделался несколько жестче, и лицо
его побледнело.
— И это мне известно. Но это не продлится. Нет! И вы бы
лучше придержали то, что собираетесь сказать. Что мне
желательно от вас,— что нам обоим желательно от вас,— это
чтобы вы оставили ее в покое. Уезжайте из Лондона. Уезжайте
куда-нибудь подальше с наших глаз. Уезжайте за границу.
— А если я этого не сделаю?
Лэверок пожал плечами.
— Придется как-нибудь с вами поступить,—сказал он.
•— Что собственно вы можете сделать?
— Я против всякого насилия. И я бы не хотел делать ни-
чего, что могло бы испортить представление Маргарет о вас.
Но по началу похоже, мы с вами не столкуемся. Правда, у нас
впереди еще полдня и целый вечер. Признаться, я больше всего
хотел бы заставить вас проглотить ваши письма.
— Она вам их отдала?
— Я сам взял их. Если вы хотите знать, она плакала над
ними, и так я ее и застал. Вас оплакивала. Потому что вы —
лгун, потому что вы — жалкий, надутый, пустой фанфарон,
лгун и позер, а она изо всех сил старалась внушить себе, что
вы порядочный человек. У вас не горели уши вчера вечером?
Мы в первый раз попробовали поговорить о вас, что назы-
вается, по душам.
Теодор мрачно кивнул головой.
— Вы понимаете,— продолжал Лэверок,— до сих пор мы
никогда не говорили о вас. Мне было о вас известно, но ни
у нее, ни у меня до сих пор не хватало мужества войти, так
сказать, в запертую комнату, открыть ставни и проветрить ее.
Вчера вечером мы это сделали. Ничего страшного. Это нас
сблизило. Это была своего рода чистка.
Он резко оборвал. Отвернулся, затем снова взглянул на
Теодора. Кулаки его сжались в карманах, но он продолжал
все тем же подчеркнуто невозмутимым тоном.
— Как много в вас человеческого,— сказал он.— Отврати-
тельно человеческого! Как вы похожи на всех. Это-то и пугает
меня. И это,— он ткнул пальцем,— если бы не милость прови-
дения, стояло бы на пути Стивена Лэверока. Судьба послала
вам такое чудесное созданье, которое так достойно любви! И та-
кой дар провидения вы не могли оценить! Ее красота — не ложь.
Она честна до мозга костей. И этого было мало для вас. Или
слишком много. Это не вязалось с дурацкими сказками, кото-
рые вы себе рассказываете о себе самом. Вы! Боже! Как вы
отвратительны! Когда я смотрел на вас в Мирвилле, я, при-
знаться, был очень склонен отправить вас на расстрел. Я спра-
450
шивал себя — да и вас спрашивал, я помню,— стоит ли остав-
лять жить такую породу? И вот теперь... Но какой толк рас-
суждать,— прервал он себя.
Он стремительно вскочил, как будто вспомнил о каком-то
неотложном свиданье.
— Посмотрим.
— Ну, что собственно вы собираетесь делать? — спросил
изумленно Теодор.
— Заставить вас прекратить это дело.
— А каким образом?
— Прекратите вы это или нет?
— Нет.
— В таком случае... Да. Придется прибегнуть к этому.—
В тоне Лэверока не чувствовалось убеждения.— Придется вам
проглотить эти письма — для начала.
Теодор тоже встал. Лэверок, помедлив, двинулся вперед.
Письма были зажаты у него в правом кулаке.
Когда Лэверок подошел к нему вплотную, Теодор ударил
его, но не очень решительно. Голова Лэверока отклонилась
в сторону, и. удар пришелся в ухо. Затем Лэверок нанес
Теодору удар в грудь, а Теодор тотчас же ответил ему звон-
ким ударом по скуле. Этот удар наполнил Теодора недолгой
безумной надеждой на победу. Это был хороший удар. Он
собирался повторить его, но в это время получил сокрушитель-
ный удар в челюсть. Голова его мотнулась вверх. Всякая мысль
о победе мгновенно исчезла. Казалось, удар отдался где-то
внутри черепа. Он чувствовал, что сейчас неминуемо последует
второй, и не знал, как увернуться от него. Всего лучше было,
повидимому, схватить Лэверока за руки и таким образом избе-
жать удара. Лэверок изгибался и вертелся, стараясь освобо-
дить руки, и Теодор изо всех сил напрягался, чтобы удержать
его. Они сцепились, забыв всякое чувство достоинства, возили
друг друга по комнате и, наконец, повалились на диван. «Веро-
ятно, это происходило на этом диване»,— подумал Лэверок и
в приступе бешеной ярости стряхнул с себя Теодора на пол,
как мешок. Теодор, наполовину оглушенный, очутился под
Лэвероком; отбиваясь обеими руками и стиснув зубы, он
старался защититься от жесткой скомканной бумаги, которую
тот совал ему в рот и тыкал в лицо.
— Съешь, съешь,— бормотал сквозь зубы Лэверок, делая
бессмысленные усилия.
Борьба продолжалась около минуты. Наконец, Теодор по-
чувствовал во рту обрывки бумаги и пальцы Лэверока и изо
всех сил вцепился в них зубами.
— Черт! — вскрикнул Лэверок, отдергивая руку, и вскочил
задыхаясь. Наступило нечто вроде перемирия. Лэверок разгля-
дывал свои пальцы. Теодор сидел на полу и выплевывал бу-
магу. Этот укус все же как-то уравновесил счет очков.
29*
451
— Но ведь это же совершенное идиотство с моей сто-
роны!— с трудом переводя дыхание, сказал Лэверок.—Де-
ремся, как собаки во время течки. Что мы делаем?
Теодор не ответил. У него было слишком много бумаги во
рту, говорить было неудобно.
Лэверок дрожащими руками начал разрывать мокрые ском-
канные письма в мелкие клочки, приходя все в большую и
большую ярость от сопротивления бумаги, и, наконец, швырнул
целую пригоршню обрывков в лицо Теодору, который все еще
старался вытолкнуть изо рта последние завязшие на зубах
клочки.
— Вот,—сказал Лэверок.— Мне стыдно за себя. Мне...
жаль, что так вышло.
Он вытер руки.
Он остановился перед своей жертвой, пытаясь сказать что-
то вразумительное.
— Можно ли вести себя, как подобает порядочному чело-
веку, когда мир полон вот такими, как вы? — говорил он.—
Как тут сдержать себя? И что делать с такими, как вы? Вы
посмотрите. Посмотрите на все, что вы наделали. Какой смысл
был вам лгать мне об вашей контузии? Я вас узнал. Вы убе-
жали. Какой смысл лгать теперь о Маргарет? Какой смысл
изводить ее? Игра кончена. Черт возьми! Неужели вы не по-
нимаете положения? Боже, и подумать только, какой мерзо-
стью были напичканы эти письма... Говорить ей такие вещи!
Осмелиться! Напоминать ей... Так слушайте же, что я вам
скажу. Ваша Маргарет теперь принадлежит мне. Я женюсь на
вашей Маргарет. Я буду спать с вашей Маргарет, я заставлю
ее забыть вас, а если она когда-нибудь и будет вспоминать, то
только как о каком-то забавном, незначительном, глупом эпи-
зоде, который разбудил в ней инстинкт чувственности, когда
она еще была девчонкой. Что же касается вас... Убирайтесь из
Лондона. Убирайтесь немедленно! Я собственно для того и
пришел, чтобы сказать вам это. Вот и все.
Он остановился, задыхаясь от напряжения.
— Понятно? — прибавил он как-то беспомощно.
Лучше было бы, если б он закончил этим: «Вот и все».
Он направился к двери. Остановился, словно задумавшись.
Затем, после некоторого колебания, нерешительно повернулся.
Казалось, он вдруг сделался меньше ростом. В его манере
держаться появилось что-то почти заискивающее.
— Разумеется...— начал он и запнулся.
Он сделал шаг к Теодору.
— Нет никакой необходимости посвящать Маргарет в по-
дробности нашего маленького спора, вы понимаете. Боюсь, что
мы с вами оба несколько забылись.
Его попытка обратиться в светского человека, обратить их
обоих в светских людей, оказалась не очень успешной.
452
— Недостойно,— сказал он.— С обеих сторон. У меня не
было намерения, когда я пришел к вам. Я сказал ей, что верну
вам письма и сообщу о том, что мы женимся. Чтобы вы пере-
стали писать ей. Что касается меня, то это все, что она узнает.
Я скажу, что вернул их. Я даже не упомяну о том, что разо-
рвал их. Но только — поймите это — вы не должны больше ей
писать. Вы не должны этого делать.
Теодор провел пальцами под измятым воротничком, пока
не коснулся разбитой челюсти. Здесь пальцы задержались; Он
не ответил. Он устал от этого интервью, со всеми его неприят-
ными сменами настроений. Ему хотелось кончить его.
— Абсолютно между нами, поймите это,— продолжал
Лэверок.— Так будет гораздо лучше. Она ничего не должна
знать об этой — ммм — стычке.
Он говорил почти извиняющимся тоном. Больше он ничего
не сказал. Дверь стукнула.
Он ушел.
7
ВЕЛИКОЕ ОТРЕЧ ЕН ИЕ
После того как дверь за его гостем захлопнулась, Теодор
еще некоторое время сидел на полу. У него было впечатление,
что челюсть сломана. Ощупав ее несколько раз, он встал, от-
правился в ванную, разделся до пояса и вымыл лицо и шею
холодной водой.
Переход Лэверока к нападению был для него такой неожи-
данностью, что он все еще не мог согласовать его со своим
образом действий.
— Сумасшедший,— сказал он, вытираясь перед зерка-
лом.— Взбесился от ревности.
Он вытащил три маленьких клочка бумаги, зацепившихся
в его темных волосах.
Пристально посмотрел себе в глаза. И сказал своему отра-
жению в зеркале:
— Счастье, что я не потерял голову, старина. Я мог бы
убить его, если бы не держал себя в руках.— И лицо, гля-
девшее на него, стало суровым. Он смотрел, как оно стано-
вилось суровым. Багровый след на подбородке пылал угро-
жающе.
Он начал переодеваться. Он чувствовал, что это осве-
жит его.
— Он бесится потому, что сознает, какую власть я еще
имею над ней. Если бы я только пожелал воспользоваться ею.
Он сел в старое кресло Раймонда, за его письменный стол.
Он внушил себе, что ему нужно употребить все усилия, чтобы
453
восстановить всю эту историю в надлежащем аспекте. Он начал
вспоминать и корректировать свои воспоминания об этой
драке, в особенности о том ударе, который он нанес Лэвероку
в лицо.
— Драчливый болван, сумасшедший! — сказал он —
Я Кюг бы убить его.— Он еще раз ощупал свою челюсть. Она
как будто онемела, но не было никаких признаков того, что она
будет кровоточить или распухнет.
Очень странно, но он почти не чувствовал злобы к Лэве-
року. Этот малый просто раздражительный дурак. Не чувство-
вал он злобы и к Маргарет. Такая уж она есть, чего ж от нее
ждать другого. Мысли его сосредоточились главным образом
на его великом разочаровании, на том быстром конце, который
постиг его мечты о возрождении романтической любви. Никогда
до сих пор он не сознавал так ясно всю неспособность жен-
щины осуществить пламенные мечты мужской половины чело-
веческого рода. Какое величие любви слагал он к ногам
Маргарет!
— И она могла так обмануть меня! Она могла взять мои
письма и, не помня себя, побежать к этому субъекту, к этому
ввязавшемуся в наши отношения драчливому идиоту! Она уце-
пилась за него, потому что боялась, что не устоит, если встре-
тится со мною. Боже мой! И это женщина, которой я готов был
отдать свою жизнь! Какая чудовищная несоизмеримость
чувств! Какое несоответствие переживаний! Так-то закончи-
лась моя первая любовь, единственная великая любовь, кото-
рая у меня была в жизни! Да, так-то! Ибо это — конец... И что
же такое в конце концов я сказал? Что толкнуло ее на это
последнее предательство?
Эти последние роковые письма, жалкие клочки бумаги, рас-
сыпанные по полу, начали преображаться в его памяти. По
мере того как он припоминал их, все явственнее выступало
для него возвышенное благородство его упреков. Пламенная
страстность любовных призывов разгоралась все ярче и ярче.
Но нужно иметь великую душу, чтобы откликнуться на этот
отчаянный вопль великой страдающей души. Вот они лежат
здесь и ждут, пока их выметут,— излияния, которые могли бы
составить целую книгу. Может быть, когда-нибудь он и припо-
мнит их настолько, чтобы создать из них книгу.
— И это кончено,— сказал он.— Все кончено.
Он обвел взглядом свою маленькую, заставленную ме-
белью гостиную. Она была полна воспоминаний. Вот печь, ко-
торая так ярко горела в зимние дни. Вот блестящие кресла
красного дерева, диван, зеркала, широкий пушистый ковер,—
а там за дверью его маленькая спальня.
— Пожалуй, самое лучшее будет продать все это,— сказал
он.— Отделаться от всего. Сейчас, вероятно, можно выгодно
454
переуступить квартиру, если продать обстановку. Надо поду-
мать.
Не замечая, где он и куда идет, Бэлпингтон Блэпский бро-
дил по оживленным улицам. Что ему делать со своей жизнью?
Ехать за границу. Ясно, что он должен ехать за границу; но
для чего? Быть может, мысли о заграничном путешествии При-
вели его к вокзалу Виктория. А там, может быть, сутолока и
шум заставили его искать темноты и тишины в Вестминстер-
ском соборе.
И здесь, под высокими сводами, он снова познал мир и уте-
шение этого великого святого приюта, этого мирного прибе-
жища от шумной сутолоки повседневной жизни.
— Здесь,— сказал он,— я найду исцеление души.
В церкви были две-три молча молившиеся женщины,
а в глубине бесшумно двигающийся священник зажигал свечи
на престоле. Бэлпингтон Блэпский на цыпочках прошел через
неф. Направо от него, в коричневой мгле, маленький притвор
ярко сиял множеством свечей. Там тоже в глубине виднелась
молящаяся фигура. Он сел около колонны и погрузился в глу-
бокую тишину.
Он размышлял о своем положении. Война, любовь, искус-
ство — Бэлпингтон Блэпский изведал все, но что он ни пробо-
вал, что он ни делал, душа его не обрела покоя. Жестокость
мужчин, черствость женщин, зло неодухотворенной жизни раз-
рушали его благородные надежды и высокие стремления. Но
здесь — здесь несомненно было нечто более глубокое и долго-
вечное.
Перед его мысленным взором предстало видение. Дикий
хаос скал, теряющиеся в облаках снеговые вершины, а внизу
на гигантском утесе, одинокое и холодное в вечернем свете,
стоит большое голое здание. Это альпийское убежище траппи-
стов. Одинокая фигура с мешком за спиной стоит на крутом
перевале; смуглый худой человек, еще молодой, но с лицом,
изможденным страданиями, на которое скорбь наложила свою
суровую печать. Он стоит некоторое время, глядя на небо, на
море, на высокие вершины, потом, как будто желая сказать
последнее прости, оборачивается туда, где глубоко внизу рас-
сеяны в голубом тумане города и деревни великой житейской
равнины. Наконец, он глубоко вздыхает и начинает спускаться
по крутой тропинке к монастырю. Там уже ждут его. Строгий
старик привратник отпирает ворота на звук дребезжащего ко-
локольчика. Он ведет его по холодным чистым коридорам в ма-
ленькую часовню, и там, сбросив с плеч свой мешок, как
некогда христиане сбрасывали свою ношу, он опускается на
колени перед алтарем. Бурное сердце Бэлпингтона Блэпского,
наконец, обретает успокоение.
Картина меняется: страшная снежная буря, никто не ре-
шается выйти, несмотря на то что собаки... (А держат ли
455
трапписты сенбернаров? Ну, неважно, эти во всяком случае
держат.) Лай собак указывает, что в горах заблудились пут-
ники. Никто, кроме самого бесстрашного из всех, неутомимого
отца Теодора.
Борьба с разбушевавшимися стихиями. Буря сбивает .его
с ног, слепит, ледяной ветер пронизывает до костей, и, нако-
нец, верное животное приводит его к выступу скалы, под кото-
рым, скорчившись, сидят двое заблудившихся и испуганных
альпинистов, мужчина и женщина.
— Спаси меня! — кричит мужчина.— Спаси меня! У меня
больше нет сил терпеть.
Женщина сидит, съежившись, прижавшись к скале, и не
произносит ни слова.
— Мы встречались с вами раньше, Лэверок,— говорит мо-
нах.— Но хоть я и служитель божий, я сначала спасу жен-
щину.
Он поднимает ее на руки. Легкое ответное движение пока-
зывает, что она в сознании.
Что, это она прошептала: «Теодор»?
Но обратный путь слишком тяжел. Он спотыкается и па-
дает. Даже собаки потеряли направление. Наутро их находят
в объятиях друг друга — мертвыми.
Теодор вздохнул на своей скамье и пошевелился. Виде-
ние исчезло, как сон, но он почувствовал глубокое облег-
чение.
Из глубины собора доносился голос, очень быстро читав-
ший молитвы. Время от времени это монотонное чтение пре-
рывалось ответными детскими голосами, поднимающимися и
замирающими в песнопении. Теодор находил неизъяснимую
прелесть в этих отдаленных звуках богослужения. Он находил
утешение и защиту в сумрачном просторе этого величествен-
ного здания, в его глубоких сводах и нишах, в этой сокро-
венности, возвышающей душу, в бесконечной трогательности
алтаря, где свечи возносили свой огонь прямо к богу в таком
жарком, пламенном, отрешенном от мира моленье. Каким ти-
хим пристанищем являлось это место! Каким тихим приста-
нищем для тысячи израненных душ, ищущих забвенья от
блестящей суеты, от унижений, от горьких обманов и преда-
тельства! И всегда этот великий, благодатный, утешительный
кров готов был приютить его. Было ли еще место в Лондоне,
куда он мог бы прийти с такой уверенностью, что встретит
мир и сочувствие? Словно чья-то прохладная рука касается
его чела. Словно в самой архитектуре, в резном дереве и
в камне скрыто, неизреченное, безгранично утешительное:
«Забудь, бедное дитя».
Теодор задумался всерьез, не уйти ли ему от мирской
жизни в монастырь. Помимо того, что это отвечало его по-
требности драматизировать, он готов был обосновать это и
456
доводами рассудка. В конце концов, что одолело и сокрушило
его? Современный дух, дух науки. Этот холодный исследова-
тельский дух ожесточил против него женственную Маргарет,
заставил ее усомниться в его преданности, в его патриотизме,
мужестве и любви и в конце концов привел к тому, что она,
вопреки естественному влечению своего сердца, отреклась от
него. Этот дух лишил ее всего возвышенного и священного.
И он же был тайной причиной несостоятельности Клоринды,
причиной того, что он, Теодор, не знал материнской нежно-
сти и рос таким одиноким, жаждал любви и никогда не на-
ходил ее. И его история — это не какой-нибудь единичный
случай. То, что переживал он, то, что переживает он теперь,—
переживают мириады потерянных, отчаявшихся людей. Мир
лишился души. Наука лишила войну величия и славы, лишила
богатства и глубины все человеческие взаимоотношения.
Везде за пределами этого храма она распространяет свое
ожесточающее и огрубляющее влияние. (Какое грубое живот-
ное этот Лэверок! Неуклюжий современный дикарь с тяже-
лыми кулаками! Придет время, и, может быть, даже скоро,
когда Маргарет поймет, что значит променять утонченность
чувств на материалистическую грубость. Что станется с ней,
такой чистой, такой нежной, несмотря ни на что, когда ей при-
дется столкнуться с физической силой? Он не решился углуб-
ляться в этот вопрос.) Если дать волю науке, если дать волю
Тедди и его отцу, они уничтожат последнее прибежище чело-
веческого духа, подвергнут весь мир иссушающему действию
губительного огня, этого разъедающего сомнения, которое они
называют светом. Как же, светом! Возможно, что и после этого
мир будет существовать, но какой это будет чужой, новый
мир, не наш привычный, человеческий мир, который бо-
рется, сражается, страдает, любит, идет на жертвы, молится
и верит, что у него есть душа, мир, в котором мы живем
сейчас. Нет, они создадут поистине новый мир, ибо в
его бесплодном ледяном свете на земле воцарится подлин-
ный Ад.
Никогда еще Теодор не постигал с такой ясностью
естественного устремления своего духа. Никогда еще не ста-
новился так решительно на сторону вечных человеческих
ценностей против угрозы этих так называемых Наследников,
которые стремились путем разрушения построить мир заново.
Ему казалось, что он никогда еще не достигал такой ясности
мысли, как сейчас. Наконец-то он охватил жизнь. Или нако-
нец-то он увидел жизнь во всей ее полноте. Здесь, в этом ве-
личественном священном месте, на него сошло откровение, он
услышал глас.
Его призывают отдать на служение свои таланты. Он дол-
жен сохранить в памяти эти вещие слова, которые сейчас,
457
словно молнии, бороздят его сознание. (Эта вот мысль насчет
бесплодного света науки и ада в самом деле очень и очень
удачна.) Он должен стать открыто тем, чем он всегда был
в душе по своему темпераменту и наклонностям, борцом, ярым
борцом, а может быть, и вождем великого движения протеста
против этой жестокой и холодной современной дьявольщины.
Он должен стать поборником церкви, он, в этот век безверия,
должен возродить патриотизм, беззаветную преданность при-
знанной, установленной власти, высоко поднять знамя вер-
ности и чистоты — чистоты женщины...
В воображении его возник образ святого Игнатия Лойолы.
Какой необыкновенной высоты достиг этот человек! Бывший
солдат, как и он, бывший любовник, как и он, презревший сует-
ные утехи военной доблести и светской жизни, чтобы посвятить
себя более высокой цели! И в те дни в человеческой жизни,
казалось, также рушилось все, что было в ней ценного. Вера
ослабла, и человечество в трепете стояло на краю бездны. Все
подвергалось сомнению. Каждый поступал так, как казалось
правильным ему самому. Волны Реформации безжалостно за-
хлестывали твердыни церкви, поднимаясь все выше и выше,
как никогда не спадающий прилив. Что ни день, религию под-
тачивали новые насилия, новые ереси. И вот нашелся один
простой, твердый человек, который бросился в пучину, оста-
новил поток, поставил против него оплот и повернул его
вспять. Эта история контрреформации всегда привлекала вооб-
ражение Теодора. Теперь она снова завладела им с непобеди-
мой силой.
Он также станет Лойолой. Он также станет служите-
лем церкви, отдаст ей всего себя, принесет ей все свои даро-
вания.
Конечно, ему придется посвятить несколько лет скромному
служению, приготовиться.
Но потом, когда распространится слава о его делах, когда
его имя, имя отца Теодора, основателя нового ордена Возвра-
щения, прогремит по всему свету, Маргарет невольно заинтере-
суется им и ей захочется услышать его проповедь. И вот в
какой-нибудь большой собор, вроде этого, она, духовно изго-
лодавшаяся жена грубого материалиста, придет из любопыт-
ства послушать откровения этого странного человека, бледного,
смуглого, изможденного аскета, который преградил путь бе-
шеному потоку, влекущему обезумевших людей к материа-
лизму и разрушению и вернул человечество к древним веч-
ным и почти забытым истинам.
Едва он начнет свою проповедь, она узнает этот звучный
голос, это изменившееся изможденное лицо, которое когда-то в
юности прижималось к ее лицу, какой-нибудь знакомый жест
поразит ее...
458
8
ИЗГНАННИК
Через три недели Теодор разделался со своей квартирой и
обстановкой и был на пути за границу. Четыре раза он пере-
секал Ламанш во время войны, каждый раз в глубокой ти-
шине и темноте. Теперь он в первый раз переезжал его днем.
Он стоял на корме, глядя на все уменьшающиеся утесы Анг-
лии, и думал о бесчисленных изгнанниках, которые до него
переплывали этот узкий пролив. Они так же молчаливо про-
щались с высокими белыми берегами, с гордым замком, с ма-
ленькими домиками, лепившимися в ущельях. Они так же смот-
рели, как Южный мыс появляется на востоке и постепенно
исчезает. Воздух был пронизан солнечным сияньем; море было
чудесного голубого цвета.
Он вспоминал лорда Байрона. Вот и он теперь так же
тяжко ранен непониманием женщины. И он обречен на изгна-
ние. А впрочем, он, пожалуй, находил в себе больше сходства
с Дон Жуаном...
Но наряду с этими мыслями в сознании его возникал ка-
кой-то другой поток мыслей, направлявшийся по другому
руслу. Он стремился к великому духовному подвигу. Мечты о
Лойоле все еще владели им. Каким-то образом он должен
войти в лоно церкви, принять постриг, стать поборником веры.
Может быть, это будет в Париже. Может быть, даже в самом
Монсеррате. Или в Манресе, ведь это там, кажется, рыцарь
посвятил себя пресвятой деве? Все это ожидает его; таков
был основной поток его мыслей. Но откуда-то из глубины про-
бивалось другое течение.
Лойола, до того как его ранили, был пылким любовником,
вел распутную жизнь.
И в этом тайном течении мыслей Теодора было какое-то
смутное ожидание и умысел. В Париже он снова встретится
с той тонкой гибкой женщиной, француженкой из Алжира, с ко-
торой он когда-то проводил время. Скрытые силы, дви-
жущие его воображение, побуждали его мечтать о ней. Ей
предстояло укрыть под своей жаркой приютной сенью его гор-
дое, презрительное изгнание. Потому что, если бы Теодор не
представлял себе, что она и другие подобные ей будут к его
услугам в Париже, он волей-неволей представлял бы себе
Маргарет, которой обладает другой, а мысль о Маргарет,
принадлежащей другому, перевернула бы все в его сознании
и причинила бы ему невыносимую боль. И вот, чтобы предот-
вратить эту катастрофу, он вынужден был ограждать себя
предвкушением мирных и удачных любовных похождений в
Париже. Другого выхода у него не было.
459
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Честь имею представиться —
капитан Блэп - Бэлпингтон
1
СТОПЫ ЮНОШЕЙ
Время разворачивало год за годом, и Теодор разворачи-
вал с годами свои возможности. Он залечивал воображением
раны памяти и окутывал их все более плотным покрывалом
забвения. Новая обстановка, новые люди, новые события по-
могали ему в этом инстинктивном перестраивании жизни. Он
ни разу не съездил в Парвилль, он облюбовал новый квар-
тал в Париже, подальше от тех кварталов, в которых он бывал
во время войны, он отворачивался от опустошенных областей
и кочевал с места на место по более счастливым, южным
районам Франции, которые война задела только слегка. Он
приехал в Ош и говорил, что не прочь бы пожить тут не-
сколько лет, предаваясь спокойным размышлениям. Через
две недели он переехал в Монпелье и сказал, что он, может
быть, обоснуется здесь навсегда. Спустя несколько недель он
был уже в Женеве, где познакомился с некоей француженкой,
написавшей роман «Toi et Lui», и затем, более или менее с ее
помощью, сначала более, а потом менее, он вернулся в лите-
ратурный мир Парижа. До сих пор он был знаком с южной и
западной частями Парижа, теперь он открыл бесконечно бо-
лее привлекательный Париж к северу от Оперы. Он очень
успешно изгонял Лондон из своих воспоминаний и предпо-
читал общество американцев и французов обществу заурядных
англичан. Он очень усердно старался овладеть разговорным
французским языком и достиг в этом больших успехов. Он не
возвращался в Англию в течение десяти лет.
Он не стал ни траппистом, ни «новым иезуитом» и ничем
в этом роде. Эти проекты заглохли. Попытка в последний раз
окунуться в бурный водоворот и суетные радости жизни про-
длилась и перешла в привычку; мечты о суровой отшельниче-
ской жизни затерялись в перспективе туманных, отодвинув-
шихся на неопределенный срок намерений поехать на север
Испании и провести несколько дней в глубоком уединении в
Монсеррате.
Он так и не встретился со своей тоненькой алжиркой. Вся-
кая необходимость в этом отпала. Но, начиная с Женевы и
дальше, он повсюду находил утехи подобного рода, которые
помогали ему забыть духовную грубость Маргарет и ее не-
верие в него. Эти более поверхностные, второстепенные кол-
460
лизии чувств, потворство своим слабостям и восстановление
попранной гордости не требуют места в нашей повести.
По причинам, известным ему одному, он переменил свое
подлинное имя и звание. В Париже его называли, и так он
всегда называл себя сам, капитаном Блэп-Бэлпингтоном, при
этом он никогда не говорил, в каких войсках он служил, ни
в каком полку. Повидимому, он был капитан в отставке. Та-
ким образом, он отрезал себя от своей родни и от всех более
или менее неприятных событий своей молодости. Он был те-
перь,— и это становилось все более и более определенным,—
единственным оставшимся в живых отпрыском старинной анг-
лийской католической семьи, которая отошла от римского ве-
роисповедания только по причине позднейших расхождений в
учении о непогрешимости и непорочном зачатии — уже в
XIX столетии. Он был консерватором даже среди католиков.
Он был насквозь проникнут старинными стойкими тради-
циями — благородный, доблестный джентльмен, брезгливо от-
ворачивающийся от суеты и шума грубого механистического
века. Он осуждал современность. Казалось, не он остался
позади, отринутый, отброшенный в сторону бурным, неудер-
жимым движением вперед, а, наоборот, он сам его отринул.
Таково было в основном его представление о себе. Многие
из его парижских друзей и знакомых восставали так же, как
и он, против страшных, необъятных загадок расколовшегося
мира. Они не могли поверить, что этот раскол является зало-
гом возрождения; они считали, что попытка пересмотреть уко-
ренившиеся понятия и представления требует слишком много
умственных и душевных усилий и что не стоит за это браться.
Этим людям прежде всего бросалась в глаза слабость, огра-
ниченность, невзрачность меньшинства, увлекающегося рефор-
мами, преувеличенные масштабы их замыслов. А мощь и ве-
личие преобразовательного движения они не замечали. Чув-
ствовали ли они, что это движение окончится крахом, или
боялись, что оно приведет к созданию изуродованного и не-
навистного им строя, оскорбительного для всякой утонченной
и чувствительной души? Как бы там ни было, они решительно
высказывались против него. Они тянулись к тем выдуманным
утешительным иллюзорным миркам, к которым в своем бес-
конечном разнообразии открывает доступ искусство.
За десять лет Теодор забыл и Маргарет и Тедди — этих
друзей-противников Бэлпингтона Блэпского поры его юности,
этих участников его длительной борьбы и попыток найти са-
мого себя; он забыл их умышленно и, повидимому, весьма
основательно. По неделям, по целым месяцам он совсем не
вспоминал о них. И так как долго жившая в его воображении
фантазия о новом человечестве, о Наследниках, овладеваю-
щих миром, была тесно связана с этими его противниками,—
она также исчезла из его сознания. Но на самом деле он вовсе
461
не забыл их, только они появлялись теперь в замаскированном
и обобщенном виде, знаменуя собой «материализм», «иллю-
зии прогресса», «механистический дух» и этот новый «прагма-
тический иррационализм науки». Он собирал против них и
глубоко впитывал в себя каждую мысль, каждый довод, ко-
торые, он это чувствовал, неизбежно вызвали бы их возра-
жения. Это был не какой-нибудь обдуманный ход, это была
неминуемая для него стычка.
Спустя некоторое время он сделался редактором и совла-
дельцем (главным финансистом предприятия была некая аме-
риканская леди, обладавшая довольно значительным капита-
лом, привлекательностью и отзывчивостью) блестящего и за-
дорного журнальчика, именовавшегося «Стопы юношей». Это
название должно было напоминать миру о молодых людях,
которые вернулись, чтобы изобличить жалкое вдовье лице-
мерие Сапфиры, после того как Анания подвергся заслуженной
каре. Наука и крупная промышленность являлись современ-
ным эквивалентом этой несчастливой четы; они обещали соз-
дать новый мир, заявлял Теодор, и не создали ничего, кроме
тесноты и спешки. Они не сумели дать миру красоту и счастье.
Теодор, руководивший отделом «Заметок», каждый месяц по-
ражал насмерть этих лжецов и из месяца в месяц погребал
их презрительно и бесповоротно. И каждый месяц их прихо-
дилось убивать снова. Тедди и ему подобные стояли за про-
стые и ясные утверждения, за бесстрастную отчетливость
мысли и доказательства, и потому из некоего тайного про-
теста «Стопы юношей» печатались абсолютно без всяких зна-
ков препинания,— их заменяли пробелами различной длины,
и все заглавные Б и П стояли навыворот. Желательно было
печатать навыворот не только заглавные, но и строчные б и п,
но стоимость нового комплекта шрифта оказалась слиш-
ком велика. Строчки печатались волнообразно, с повыше-
ниями и понижениями, чтобы привлечь внимание и изощрить
глаз читателя. Это показывало, как высоко ставили эти
юноши так называемую научную ясность. А так как их про-
тивники-утописты мечтали о всемирном языке, об очищенном
и упрощенном английском языке для своего всемирного госу-
дарства, то в виде контраста «Стопы юношей» в каждом но-
мере помещали коротенькое лирическое стихотворение, иногда
на арго, а иногда на болгарском, эстонском, чешском, ирланд-
ском или еще на каком-нибудь не слишком сложном языке,
а то и на смешанном жаргоне, и всегда пять-шесть страниц,
испещренных волнообразным узором, отводились какому-
нибудь новому гению, писавшему нечто вроде мировой прозы,
символической прозы, абсолютно без слов. В избранном обще-
стве автор вещал эту прозу, завывая на все лады. По-
мимо этого, Теодор теперь открыто восставал против сексуаль-
ных запретов и приличий. Издание претендовало на чистоту
462
высшего порядка, которая обрывает все листья с фигового
дерева, чтобы открыть доступ животворящему свету. Един-
ственным правилом благопристойности считалось полное от-
сутствие стыда. Журнал изобиловал двусмысленными гравю-
рами, которые всегда доставляют столько хлопот прокуро-
рам,— настолько трудно решить, что это — грубая непристой-
ность или чистейшая декоративность; печатались также
коротенькие новеллы и поэмы, непристойность которых не под-
вергалась никакому сомнению, ибо других качеств в них не
было. Наряду с этим печатались также, когда их удавалось
достать, краткие набожные или резко полемические воззва-
ния католических богословов, но раздобыть их было не так
легко, потому что эти благочестивые люди поднимали вопли
протеста и требовали обратно свои послания, как только они
обнаруживали, какой- ассортимент печатается в этом новом
журнале. Им было очень трудно объяснить, какие глубокие
реакционные цели преследовались их собратьями. Тон жур-
нала был неизменно задорным и вызывающим. И надо всем
витало дуновение победы, движения вперед, опережающего
прогресс. Это было последнее слово реакции. По всей обложке,
вверх и вниз, по диагонали, шли эти стопы, стопы юношей,
стопы всепожирающей судьбы.
Этой деятельностью Теодор поддерживал свой дух и по-
давлял все мысли и представления, которые могли бы сму-
тить его. Десять лет какое-то безотчетное отвращение дер-
жало его вдали от Англии. Он путешествовал с совладелицей
«Стоп юношей» по Италии и Египту; он поссорился и рас-
стался с нею и вслед за этим, испытывая финансовые затруд-
нения, сократил объем журнала; впоследствии он снова рас-
ширил его, продав свою половину пая молодому человеку с
литературно-социальными устремлениями, который нашел
нефть в Техасе. Этот молодой человек изобрел новый и ори-
гинальный способ вырезывать на линолеуме клише с изобра-
жением людей и животных в состоянии оргазма и желал
найти место для сбыта своих произведений. Рисунки отлича-
лись примитивной грубостью, доставлявшей ему большое удо-
вольствие. Когда другие не очень хвалили их, он утверждал,
что они во всяком случае не хуже старых картин Лоуренса.
Оценка такого рода не допускала возражений. Теодор, ста-
раясь выпутаться из затруднительного положения, печатал их
на вкладных листках и на особой бумаге, так что их легко
было выронить из журнала. Но молодому техасцу не понра-
вилось, когда он обнаружил, что его детища, обнаженные и
отверженные, носятся по свету. Он поднял спор из-за этого,
потом, движимый завистью, начал обливать грязью автора
бессловесной прозы, произведения которого были неотъемле-
мой частью журнала.
Ему хотелось в сущности распоряжаться журналом на
463
равных правах с Теодором, поскольку он оплачивал большую
половину расходов. Чего ему только не хотелось! Он критико-
вал рассуждения Теодора в «Заметках». «Стопы юношей»
пошатнулись.
Таким образом, в один прекрасный день Теодор снова по-
вернулся лицом к Кале и Дувру. Не посоветовавшись со своим
компаньоном, он продал свою половинную долю в предприя-
тии,— это была уже третья половина, которой он распоря-
дился, но он никогда не был силен в арифметике,— некоей
леди, стремившейся пропагандировать план Дугласа, предо-
ставив ей объясняться по поводу создавшегося положения с
молодым техасцем и выработать вместе с ним какой-нибудь
метод, пригодный для их совместного управления «Стопами
юношей». Теодор потерял к этому делу всякий интерес. Он
вдруг почувствовал, что центр тяжести мировой литературы
переместился в Лондон, что дни эксцентрического, хотя и
творческого издания сочтены и что «Стопы юношей» выпол-
нили свою задачу, в чем бы она ни заключалась.
Он мало думал о Тедди и Маргарет, когда принял это ре-
шение. Он и не подозревал, как близко к верхнему слою его
сознания лежат эти забытые воспоминания. И возвращался
он не столько в старый Лондон своего прошлого, сколько в
Девоншир, страну сливок и яблонь, которой он никогда в
жизни не видал.
Он возвращался, чтобы снять урожай после своих теток.
За эти десять лет еще три сестры Спинк из десяти были
скошены великим жнецом, и каждый раз это приносило ему
финансовое подкрепление. Теперь он должен был вступить в
наследство, доставшееся ему после тети Белинды. Существен-
ное достоинство этого наследства заключалось в хорошо по-
мещенном капитале, а светлые заманчивые возможности —
в очень хорошеньком коттедже близ Сиддертона в Девон-
шире. Он видел тетю Белинду всего один раз в жизни — на
кремации отца, и ему запомнилась яркая, грузная, одетая в
просторное платье фигура, свирепые глаза, усы и басовитый
голос. Из всех сестер она была наибольшим подобием
сына, которого мог произвести на свет старый Спинк. Она
обладала очень сильным чувством колорита. Она писала аква-
релью виды Девоншира и посылала их на выставку, ей даже
удалось продать несколько картин лицам, разбирающимся в
живописи. Мир праху ее. Весна была уже близко, и перспек-
тива начать новый период жизни на фоне Девоншира каза-
лась Теодору чрезвычайно привлекательной.
Годы сделали его несколько солиднее. Его еще нельзя
было назвать полным, но он уже не отличался той бросаю-
щейся в глаза стройностью. Его сходство с отцом заметно уси-
лилось. Он был похож на более полного, более здорового
Раймонда, которому пошла на пользу военная тренировка.
464
Если б вы увидали его на Гар дю Нор, вы, конечно, назвали
бы его красивым мужчиной. На нем был хорошо сшитый, чуть
потертый шерстяной костюм и небрежно повязанный галстук,
отнюдь не богемный, но приличествующий джентльмену с изы-
сканным вкусом и артистическими наклонностями. Его тем-
ные волосы были чуть-чуть длинноваты, но не слишком
длинны, а фетровая шляпа с большими, но не бьющими в
глаза полями была лишь слегка сдвинута набок. Он купил
«Морнинг пост», «Панч» и «Таймс», чтобы читать в вагоне
и таким образом снова войти во вкус Лондона, раньше, чем
он увидит утесы Дувра.
Он положил на свое место журналы и пальто, велел но-
сильщику поставить чемодан на полку, дал на чай ему и еще
какому-то другому, увивавшемуся около него без всякой
нужды служащему, который, как всегда в этих случаях, по-
явился неизвестно откуда. Затем он вышел из вагона и стал
ходить взад и вперед по платформе.
Он был в прекрасном настроении. У него было отрадное
чувство путешественника, которому предстоит увидать новые
места, испытать новые впечатления. Он был рад, что ему уда-
лось сбыть с рук «Стопы юношей». Они уже начали надоедать
ему. Дни их успеха миновали. Он разглядывал своих спут-
ников пассажиров и спрашивал себя, кажется ли он им инте-
ресным. Он может рассказать им много любопытных вещей,
у него есть что порассказать о себе.
Он представлял себе, как он вступит в разговор и изобра-
зит себя загадочной личностью, возвращающейся из таинст-
венного изгнания, которое имело очень глубокое и важное зна-
чение. Он придумывал различные варианты высокоответствен-
ных обязательств, которые призывали его обратно на родину.
— Передо мной стоят некоторые цели,— начинал он раз-
говор, обращаясь к самому себе.— Достигну ли я их — этого
никто не может сказать.— Он еще не решил, изобразить ли
ему себя великим авантюристом, который возвращается, чтобы
взять приступом литературный мир Лондона, или некиим
таинственным эмиссаром. В конце концов ведь впереди скры-
ваются всякие возможности. Почему бы ему не быть отваж-
ным авантюристом-эмиссаром?
2
НЕПРИЯТНЫЙ СПУТНИК
Среди пассажиров больше других привлек его внимание
невысокий бледный молодой человек, в очках, лет двадцати
с небольшим. По его одежде и манере держаться можно было
бы безошибочно сказать, что этот человек из интеллигентного
30 г. Уэллс, т. 2 465
круга. Он показался Теодору кротким и покладистым юношей,
но не оправдал его ожиданий.
Он стоял у газетного киоска. Последний выпуск «Стоп
юношей» еще красовался в витрине. Повидимому, он был
незнаком с этим журналом, он взял оставшийся экземпляр,
перелистал его и купил. Это еще больше повысило к нему
интерес Теодора. Один из «Les Jeunes», решил он, один
из представителей расцветающей послевоенной молодежи,
юные всходы, пробивающиеся из развороченной почвы челове-
ческой мысли после грандиозных испытаний Великой войны.
Вполне естественно, что этот живой и свежий журнал при-
влекает его. Как был бы поражен этот молодой человек, если
бы он узнал, что сам творец и издатель этого журнала наблю-
дает за ним! С каким волнением послушал бы он о тех зада-
чах и целях, которые преследовались им, с каким восторгом
узнал бы о том великом движении, которое вскоре начнется
в Англии.
Теодор был очень доволен, увидав, что молодой человек
устроился в соседнем купе.
И еще больше удовольствия доставило ему то, что они ока-
зались за одним столом в вагоне-ресторане. Молодой человек
несколько громко сопел, но в остальном его манеры были
вполне сносны, и, повидимому, он умел разбираться в людях.
Он ответил на приветствие Теодора и очень услужливо пере-
давал ему во время обеда бутылки с вином и соль. Он разба-
вил водой свое дешевое красное вино, чем заслужил одобре-
ние Теодора. Многие не понимают, что простое вино хорошо
разбавлять водой. Он спорил об этом в Париже.
Желание узнать образ мыслей расцветающей послевоенной
молодежи, а может быть, и поделиться своими несколько бо-
лее зрелыми размышлениями все неудержимее овладевало
Теодором. Короткая остановка в Амьене вызвала в нем яркие
воспоминания и представила удобный случай. Теодор откаш-
лялся.
— Я помню эту станцию в тысяча девятьсот семнадцатом
году,— начал он.
Молодой человек ждал продолжения.
— Очень сильно изменилась,— промолвил Теодор.
И с непринужденностью ветерана, вспоминающего про-
шлое, он принялся рассказывать, какова была эта станция во
время войны. Он помнит, говорил он, как воинский поезд
стоял как раз на этом месте и вся платформа была усеяна
людьми в хаки. Все эти люди были в английской военной
форме, однако большинство из них были красивые темнокожие
молодцы с курчавыми черными волосами. Это явно были не
индусские войска и не африканцы. Он заинтересовался и спро-
сил. Оказалось — маорийцы. Приехали ну буквально с дру-
гого конца земли. Чтобы принять участие в Великой войне!
466
— Бедняги! — сказал молодой человек и окинул взглядом
пустую платформу, которую на мгновение наполнил толпой
рассказ Теодора.
— Но почему же бедняги? — воскликнул Теодор.
— А разве нет?
Военная традиция вызвала суровое выражение на лице
Теодора.
— Простите меня, но я вижу это несколько в -ином свете,—
сказал он.
— Но все равно, разве вы не считаете, что они действи-
тельно были бедные малые, которых тащили сюда через все
полушарие только для того, чтобы растоптать в грязи и крови
во Фландрии?
— Тащили! Они приехали сами. Мы, служившие в армии,
отнюдь не считали себя бедными малыми.
— Но маорийцы! Ведь их привезли на убой, отправили
сразу в окопы, под пушки, в смрадную грязь, где их разры-
вали снарядами... Травили их газами, и все это — здесь! Мы-то
теперь все знаем об этом. Не говорите, что им нравилось это.
Нет, уж этого вы не говорите!
Молодой человек задумался.
— Нет, это было еще хуже, чем втягивать в войну порту-
гальцев!
Теодор был сбит с толку этим возражением. Он соби-
рался угостить молодого человека замечательными рас-
сказами о войне, но, повидимому, молодой человек смот-
рел на вещи иначе и сам был не прочь порассказать ему
кое-что.
— Все эти несчастные чужеземцы, которых согнали сюда со
всех концов земли,— полинезийцы, аннамиты, кули, гурки,—
продолжал юноша, улыбаясь, но с явно воинственным ви-
дом поглядывая сквозь свои очки,— разве они что-нибудь
понимали?
— Они сражались, чтобы спасти цивилизацию, сэр,— сказал
Теодор.
— Ну нет,— возразил молодой человек с неожиданной
резкостью.— Ничего подобного!
И прибавил подчеркнуто вызывающим тоном:
— Цивилизацию все равно не спасли.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил Теодор, оттяги-
вая время, чтобы приготовиться к атаке.
— Цивилизация еще никогда не была под такой угрозой,
как сейчас.
— Я не уверен, понимаете ли вы, что значила эта война,—
начал Теодор, но его собеседник продолжал, не слушая.
— Эта война была просто взрывом, предваряющим мировую
революцию,— сказал он со спокойной уверенностью.— Ничто
теперь не может спасти цивилизацию, кроме революции, настоя-
30*
467
щей революции, коренной, фундаментальной перестройки.
Ничто.
Он повернулся, чтобы взять кусок сыру. Теодор наблюдал за
ним. Было что-то неприятное в его голосе, Теодор только теперь
заметил это,— и рот у него был слишком большой, лягушачий,
он открывался и закрывался, как капкан. Человек должен за-
крывать рот, а не захлопывать его. В выражении его лица, если
приглядеться внимательно, совсем не замечалось той учтивости,
которая подобает юноше. Волосы у него были короткие и жест-
кие. Этот молодой человек был, должно быть, препротивным
белобрысым мальчишкой, учить которого было легко, но не-
приятно. Теодор несколько раз порывался прекратить разговор,
пожать плечами и сказать, что, конечно, у каждого свое мнение.
Почему он этого не сделал? Он избежал бы и этого спора и бес-
сонной тревожной ночи..
Но странная вещь, этот молодой человек не только оттал-
кивал, но и привлекал его. В нем, несомненно, было что-то такое,
что побуждало Теодора продолжать разговор, хотя бы только
для того, чтобы сказать этому юноше, как опрометчивы
и ошибочны его суждения. Итак, Теодор снова оказался втяну-
тым в этот великий, старый, уже обросший плесенью спор, кото-
рый начался в августе 1914 года, и ему снова пришлось столк-
нуться со всеми этими сомнениями и мудрствованиями, которые
когда-то омрачили для него последние годы его Великой войны.
Он не отдавал себе отчета, во что его втягивают, до тех
пор, пока не увидал, что отступать уже поздно. Вызывающее
замечание влекло за собой такое же вызывающее возражение.
Снова выплыли старые избитые вопросы о причинах войны и
ее виновниках, старые опрометчивые обобщения о националь-
ных особенностях и проблемах. И между тем как они спорили,
упорно, неторопливо, образы Маргарет и Тедди, глубоко
зарытые в его памяти и так тесно связанные в его сознании
со всеми этими противоречиями, снова выступали на поверх-
ность.
Наконец, в споре наступил перерыв. Им дали понять, что они
слишком долго занимают столик в ресторане, и они вернулись
в купе Теодора. И тут внезапно с совершенной отчетливостью
в главном фокусе сознания Теодора, откуда ни возьмись, по-
явился Тедди.
— Брокстед,— произнес молодой человек,— профессор Бро-
кстед.— Речь шла о каком-то публичном выступлении. И юноша
ссылался на его книгу «Человеческая ассоциация с точки зрения
биологии». Это имя, вызвавшее столь же неприятные, сколь
интимные воспоминания, вынудило невольное признание
у Теодора.
— Я знаю профессора Брокстеда,— сказал он.--Его сын
учился со мной в школе, мы с ним дружили одно время. По-
стойте, как его звали? Ах да, Тедди!
468
— Вы имеете в виду профессора Эдуарда Брокстеда?
— Я говорю о сыне — Тедди.
— Ну да, сын, Эдуард.
В обращении сурового молодого человека произошла какая-
то неуловимая перемена, почувствовалось одобрение, в котором
он раньше отказывал Теодору. Вот как, неужели? Так вы зна-
комы с Эдуардом Брокстедом? Теодор подтвердил. Методы
работы Эдуарда Брокстеда были, повидимому, «изумительны».
Молодой человек работал под его руководством, теперь он
возвращался в Лондон, чтобы продолжать занятия в его лабора-
тории. Тедди, оказывается, тоже стал профессором и препода-
вал в колледже; он читал лекции по новой и наиболее модной
отрасли биологии — «социальной биологии», и при этом он был
самым молодым членом Королевского общества. Выдающийся
ученый и вообще замечательная личность.
Это внезапное воскресение Тедди из мрака забвения,
в ореоле успеха и поклонения, было еще более нестерпимо, чем
все остальное. В течение последующих пяти минут Теодору
стоило огромных, невероятных усилий сохранять притворное
спокойствие и проявлять дружеский интерес к собеседнику. Его
Англия была уже испорчена для него прежде, чем он доехал
до Кале. Она превратилась в резиденцию Тедди.
— Итак, значит, старина Тедди пошел в гору,— сказал он.—
В мое время он, разумеется, отнюдь не считался таким выдаю-
щимся. Нет. Упорством пробился, надо полагать. У нас с ним
часто возникали великие споры по этому самому вопросу,
о войне. Я, видите ли, служил в армии, а он нет.
Молодого человека, повидимому, вовсе не интересовало, что
Теодор думает о Тедди и как он служил в армии. Он продолжал
рассыпаться в похвалах. Эдуард Брокстед, говорил он, это
истинный гений революционной науки. В его подходе вы дейст-
вительно видите, как наука вскрывает подлинную сущность со-
циальных и политических проблем и находит для них самое вер-
ное решение. Вялый голос юноши звучал воодушевлением,
бледное лицо сияло. Кого он напоминал? На одно мгновение
чей-то знакомый образ смутно мелькнул перед Теодором и исчез.
И вдруг снова вернулся. Уимпердик! Старый Уимпердик, только
обратившийся против самого себя. Нечто вроде вывернутого
наизнанку Уимпердика!
Неужели даже Уимпердики ударились в коммунизм и в науч-
ный модернизм? И появились Уимпердики, проповедующие про-
гресс?
Теперь Теодору уже никак невозможно было отделаться от
этого проповедника всего, что было ему ненавистно. Разговор
опутал его, как сеть. Он чувствовал угрозу всему своему духов-
ному миру, он чувствовал, что его вот-вот припрут к стене.
Казалось, глаза Тедди смотрели на него сквозь эти очки. Он по-
пробовал перейти в атаку и набросился на то, что он называл
469
«вашим материалистическим утопизмом»; он заявил, что
советская Россия и фордовская Америка — это два гигантских
доказательства провала новшеств, проводимых в большом
масштабе. Он очень искусно и оскорбительно путал Форда
с Иваром Крейтером, он утверждал, что Германия была и оста-
лась вероломной, он выдвигал Францию и Британию, как двух
уцелевших представителей трезвого равновесия в обезумевшем
мире. Он пустил в ход весь свой арсенал.
Но самонадеянность и запальчивость бледного молодого че-
ловека не имели границ. Он упорно спорил. Он отмахнулся от
наступления Теодора и продолжал провозглашать новую рево-
люцию, которую «мы» — молодчики вроде него — намерены осу-
ществить. Они построят «плановый мир» в невиданно широких
масштабах, широких и четких. Русский пятилетний план — это,
так сказать, только предварительная зарядка, перед тем как
приступить к настоящей, фундаментальной революции. Их раз-
говор превратился в перепалку голыми утверждениями, в кулач-
ный бой деклараций. Они проговорили всю дорогу до Булони.
Они обменивались колкостями на сходнях парохода. Пролив
был удивительно спокоен,— мягко колыхавшаяся зеркальная
гладь внизу и голубой купол, пронизанный солнечным светом,
вверху. Едва они выбрались из посадочной сутолоки, молодой
человек проследовал по пятам за Теодором к его оказавшемуся
ненужным креслу и, став перед ним, донимал его до тех пор,
пока тот не поднялся, после чего они оба стали ходить взад и впе-
ред по палубе, продолжая свои жаркие пререкания. Даже
в лондонском поезде молодой человек не отстал от Теодора.
Да и самому Теодору очень не хотелось отпускать молодого
человека, пока не удалось разубедить его, пока в нем все еще
сидел дух Тедди. Они спорили сбивчиво, бесконечно повторяясь,
каждый старался высказать свое. Это больше походило на де-
кларации, чем на спор, их утверждения редко сталкивались
вплотную.
— Но, уверяю вас, новое поколение мыслит совершенно
иначе,— сказал Теодор.— Мне это хорошо известно. Вы —
исключение. Вы и ваш профессор живете в вашем ограниченном
маленьком мирке. Посмотрите-ка этот журнал, что у вас в ру-
ках. Вот это действительно молодежь.
Его противник все еще таскал с собой «Стопы юношей».
— Ну, эта дребедень! — сказал он.— Богатые старушки
в Париже — шарлатаны средних лет — всякие там ателье —
завыванье фальцетом. Это не молодежь.
Теодор прекратил разговор о «Стопах юношей», не назвав
себя.
К тому времени, как они доехали до Севенокса, оба обнару-
живали признаки утомления. Каждый из них успел высказать
свои основные положения, и не один, а много раз, в самой раз-
личной форме. Залитый солнцем ландшафт Кента с его хмель-
470
никами и фруктовыми садами мирно и плавно двигался за
окном.
Некоторое время они сидели молча, каждый размышлял о
закоснелом упрямстве другого.
Затем у Теодора возникло желание подвести итог их рас-
хождениям.
— Нет,— начал он внушительно.— Вы — мечтатель.
Молодой человек, не разжимая своего большого, плотно
захлопнутого рта, отрицательно замотал головой.
— Вы упускаете из виду вечные, основные свойства челове-
ческой природы, сэр. Вот в чем ваша ошибка. Вы могли бы по-
строить этот ваш пресловутый плановый мир только при одном
условии — а именно, если бы человечество было не тем, чем оно
есть.
— Мы его переделаем,— сказал молодой человек.— Воспи-
таем.
— Воспитание — это шлифовка! Воспитанием не переде-
лаешь. Предположим даже, что ваши мечты в какой-то мере
осуществимы; так вот, я спрашиваю вас, можно ли это реально
осуществить? Вы говорите о таких, как вы. А много ли таких,
как вы? Которые усвоят ваши идеи и будут распространять
ваши книги? (Надо полагать, что такого рода книги уже
имеются?) Вы так поглощены тем, чтобы протащить эту вашу
тоненькую ниточку, что не видите ни проволок, ни канатов, ни
цепей,— да, цепей, которые тянут в обратную сторону. Во всех
направлениях. У истинно энергичных и сильных людей совсем
другие идеи, чем эти ваши бредни. Эта мешанина научного
гуманизма с большевизмом, которую проповедуете вы и ваш
профессор,— это чистейший вздор,— простите, что я говорю так
прямо,— бессмыслица для всякого нормального, трезво мысля-
щего человека, человека, который по природе своей солдат,
хозяин, правитель. У нас совсем другие жизненные ценности.
Для нас это все слишком высоко и слишком тонко. Мы верим
в гордость и в господство. Верим в преданность одного человека
другому. Мы верим в более ощутимые и глубже затрагивающие
нас понятия верности, в пылкое безумство личной любви, в ко-
ролевский сан, в доблестное веденье войны, в красоту благород-
ных усилий и высокую трагедию.
— Я должен поверить вам на слово, что вы во все это
верите,— сказал молодой человек.— S го вполне соответствует
тому духу, в котором наши государственные умы старались дей-
ствовать со времени войны. Но, боже милостивый, все это мы
можем изменить!
— Изменить человеческую природу?
— Повторяю вам, она изменяется непрерывно.
Некоторое время они спорили о значении воспитания и о том,
может ли оно изменить стимулы поведения. Теодор говорил
о слепой, повинующейся инстинкту и не поддающейся вразумле-
471
нию толпе; молодой человек настаивал на том, что большинство
людей поддается перевоспитанию. Поезд громыхал теперь над
людными сумеречными улицами лондонского предместья. Гряз-
ная толпа теснилась у еле освещенных лавчонок, перед кото-
рыми были выставлены ряды бочек. Молодой человек показал
на нее рукой.
— Если бы не искра честности в наших учителях, если бы не
книги, которые мы читали,— мы оба были бы в этой толпе —
и вы и я!
Отпрыск старинного католического рода в воображении
Теодора содрогнулся от отвращения.
И вдруг в первый раз за все время молодой человек проявил
некоторый упадок духа. Что-то поколебалось в нем. Как будто
в нем шевельнулось какое-то сомнение относительно Теодора.
Он смотрел в окно на стены убогих домишек, на мелькаю-
щие тускло освещенные окна. Потом он вернулся и по-
смотрел в лицо Теодору, как будто в первый раз увидал его
по-настоящему. Быть может, он думал: «Да, что ни говори, а это
настоящий человек». Его манера держать себя внезапно изме-
нилась. Казалось, он теперь говорил сам с собой.
— Эта надежда увидеть мир оздоровленным наукой... Ми-
ровая коммуна... Может быть, это и мечта — слишком тонко и
высоко. Так вы, кажется, сказали. Да, вероятно, это мечта.
И все же — это мечта, которой я живу. И другие, такие как
я. Вот за что мы боремся.
Он пристально смотрел на Теодора, Теодор воспользовался
этим минутным преимуществом.
— Я отдаю должное нашему возвышенному идеализму,—
сказал он.— Не думайте, что я этого не понимаю.
Молодой человек тряхнул очками. Его лицо передернулось
от снисходительного тона Теодора.
— О, мы все равно будем делать свое дело. Мы, наша
порода. Это — новый стоицизм, который ведет к мировому го-
сударству. И мы достигнем его. Мы не шумим попусту, но мы
упорно идем к своей цели. Шумят газеты, шумят пушки и пу-
леметы да всяческие там национальные гимны. И пусть себе
шумят. Неважно. Истина всегда останется истиной. В конце
концов больше всех шумит, бряцает и угрожает тот, кто чего-то
боится. Не кажется ли вам... Ба, да уже Темза. Вот мы и при-
ехали!
— Так вот, не кажется ли вам,— поспешно продолжал он,
протягивая руку к Теодору, словно боясь, что тот сейчас под-
нимется,— что после нескольких экономических передряг, вроде
нынешней, после революции, которая произойдет неизбежно,
после еще одной войны, и голода, и эпидемий, массы в конце
концов уразумеют, что наш образ действий достоин внимания?
И присоединятся к нам, вы понимаете, к таким, как Брокстед,
как я, и мы все вместе будем неустанно расчищать все это, неус-
472
танно пробиваться вперед,— у кого это так сказано — «без
спешки и без промедленья». И будем неустанно твердить правду.
В наше время с этим еще не будет покончено. И когда
уже мы с вами умрем, все еще не будет покончено.
Но я верю, что великая революция, истинная человеческая ре-
волюция — сам-то я, признаюсь, плохой образчик — уже нача-
лась и идет по-настоящему. Неудачи, провалы не имеют зна-
чения. Она идет, вы понимаете. И мы идем с ней.^
Поезд подошел к вокзалу, плавно замедлив ход. Остановился
с чуть заметным толчком. Первые, сторожившие его прибытие,
носильщики появились в вагоне. Теодор встал, взял свое пальто,
зонтик, трость и чемодан.
— Никогда я еще не испытывал такого сожаления, что при-
ходится прекратить разговор,— сказал он.
— Да, мы поговорили всерьез,— сказал молодой человек,
все еще не двигаясь с места.— Не знаю, договорились ли мы до
чего-нибудь.
Казалось, он сосредоточенно обдумывал все сказанное Тео-
дором.
— Да, мы действительно поговорили всерьез,— сказал Тео-
дор, делая знак носильщику и продвигаясь к выходу.
Молодой человек вдруг, словно опомнившись, вскочил и на-
чал собирать свои вещи.
3
ЭТИ НАСЛЕДНИКИ СНОВА ПОДНИМАЮТСЯ
Уличный шум Лондона не похож на шум Парижа. Он ниже
по тону и тяжелее; он гудит, рокочет, бормочет; по сравнению
с парижским шумом он кажется почти убаюкивающим. Но Тео-
дор привык к парижскому шуму и не привык к шуму Лондона.
А так как семейная гостиница Рэсбон находилась на довольно
глухой улице и славилась своей тишиной, то мимо нее
с особенным азартом громыхали спозаранку фургоны с молоч-
ными бидонами. Теодор был очень взволнован разговором с
этим молодым человеком, который оказался таким упрямым,
но еще больше взбудоражили его ожившие воспоминания о
Тедди и воскресший вслед за Тедди образ Маргарет. Послед-
ний год или полтора он ни разу не вспоминал о Маргарет,
какую бы роль она ни играла в его подсознательном мире. Он
совсем не рассчитывал встретиться снова со своим прошлым
даже в Лондоне, и надо же было, чтобы оно предстало перед
ним в первый же день его приезда. Все эти старые споры.
Он чувствовал, что в конечном счете он оказался далеко не
на высоте в разговоре с молодым человеком. Вспоминая теперь
этот разговор, он испытывал такое чувство досады, что ему хо-
473
телось повторить его сначала. И он в сущности и повторил его
сначала и даже не раз.
Теодор отправился в издавна знакомый ресторан Isola
Bella и обнаружил, что он процветает попрежнему, но полон
незнакомыми людьми. Никто его не узнал, официанты не ока-
зывали ему никаких особых знаков внимания, никто не заметил
выдающегося парижского литератора, он был безыменным
здесь, и чувствовал себя одиноким, и жалел, что не догадался
пригласить молодого человека пообедать с ним и продолжить
их спор. Ему приходило на ум множество всяких аргументов,
которые он мог бы сказать и которые придали бы разговору со-
всем другой оборот. Совершенно блестящих аргументов.
Возможно, что его тревожное настроение в этот вечер объ-
яснялось еще и тем, что он выпил полбутылки превосходного
кианти и рюмку старого брэнди после черного, очень черного,
горячего и сладкого кофе. В три часа ночи он проснулся и ле-
жал без сна. Из всех двадцати четырех часов в сутках этот час
наименее располагает к безмятежной уверенности в себе.
Теодор давно не испытывал такого чувства угнетения и по-
давленности. Он был близок к тому, чтобы признать, что мо-
лодой человек вышел победителем в их споре.
Что, если действительность и в самом деле существует и
за условной видимостью явлений крутится безжалостное, неот-
вратимое, великое колесо судьбы, к которому подбираются,
чтобы ухватиться за него, все эти суровые и упрямые тяжело-
думы, эти молодые ученые? Что, если действительно можно до-
стигнуть таких знаний, которые дают власть...
Давнишний, созданный его воображением страх перед этими
Наследниками, о которых когда-то в детстве рассказывал отец,
снова зашевелился в нем, страх перед этой новой и ужасной
породой людей, которые изгоняют всякую мечту, всякое чувство
и всякую свободную веру. Коммунисты, некоторые из них,
должно быть ужасно похожи на этих Наследников, если судить
по их жестокости и бесчеловечности. И среди них притаился
Тедди Брокстед; этот не пойдет ни па какие уступки, он обтесы-
вает и обтачивает свои идеи, словно какой-то безжалостный
враг, человек каменного и вместе с тем грядущего века, высе-
кающий свое оружие.
Он проснулся с ощущением кошмара — ему снилось, что за
ним гонятся; во сне все эти его противники превратились в ка-
кое-то страшное полчище — они настигали его. Грохот молоч-
ных бидонов был грохотом разрывающихся бомб, летевших из
вражеского стана этих неуязвимых Наследников.
Даже и теперь, уже совершенно проснувшись, Теодор все
еще не мог отделаться от этого ощущения погони.
«Мы идем», — сказал молодой человек, и что-то он еще при-
бавил. «Неужели вы думаете, что мы отступим после того, как
мы уже двинулись?»
474
Да, так вот он и сказал.
В страшном прозрении бессонницы эти Наследники уже не
казались жалкой кучкой хвастунов, отщепенцев общества, ка-
кими они представлялись ему, когда он сошел с поезда на вок-
зале Виктория.
В том угнетенном состоянии, в котором сейчас находился
наш Теодор, ему казалось не только вероятным, но и вполне воз-
можным, что этот новый мир действительно возникает, мед-
ленно, но верно кристаллизуясь из хаоса современности! В то
время как он разглагольствовал и писал о всяких новых тече-
ниях в искусстве и литературе, которые в редкие минуты та-
кого злосчастного просветления, как сейчас, представлялись ему
не чем иным, как смесью глупости, шарлатанства и претенци-
озности,— Тедди и его друзья, Маргарет со своим молодчиком,
и этот юноша, и множество других — все это, разумеется, гнус-
ные отщепенцы, но число их все растет и растет,— пробивались
к чему-то реальному, что-то подготовляли, закладывали шнур,
чтобы взорвать все преграды, расчистить путь человечеству к
новому строю, в осуществление которого они так твердо верили,
взорвать вместе со всем остальным и тот мир, который создал
для себя Теодор.
Что, если на самом деле в этом старом мире готовится сейчас
нечто невиданное? Нечто такое, о чем раньше и подумать было
нельзя? Что, если эти люди не просто мечтатели, а на самом
деле их глаза ясны, и ум их ясен, и цели ясны. Что, если они
правы? И, наконец, что, если «пробуждение» мира совсем
близко? И величественная страница поворачивается — вот
сейчас?
Он лежал обессиленный, не будучи в состоянии бороться со
всеми этими мучительными предположениями. Неужели он
выбрал для себя неверный путь в жизни или просто не сумел
найти верного? Неужели он — неужели это возможно? — загу-
бил даром свою жизнь? В течение нескольких горьких мгнове-
ний он видел себя безо всяких прикрас.
«Индивидуальность — это опыт»,— так сказал Тедди много
лет тому назад. И это вонзилось, как заноза, в сознание Тео-
дора,— чуждая мысль, вокруг которой образовался маленький
очаг интеллектуального воспаления. И теперь этот очаг
снова вспыхнул. И эта фраза и связанные с ней пред-
ставления снова ожили. Он чувствовал себя пробиркой, кото-
рую держат на беспощадном свету и внимательно разгляды-
вают. Он видел бесчисленное множество таких пробирок,
тысячи, миллионы, и каждая из них представляла собой жизнь.
От времени до времени экспериментатор брал одну, другую,
поднимал на свет и внимательно разглядывал, одни он откла-
дывал в сторону для каких-то дальнейших экспериментов, дру-
гие, после краткого осмотра и нестерпимо длительного мгнове-
ния проверки, выливал в раковину и прополаскивал. И вот
475
теперь его тоже взяли и подняли на свет. Он был холодный и
ясный, этот свет, и пронизывал его насквозь.
Он ворочался с боку на бок на жесткой маленькой постели
лондонской гостиницы, так что простыня под ним сбилась в
комок. К его упрекам самому себе примешивалось возмущение
при мысли, что Тедди идет по правильному пути, и потому он,
Тедди, останется опытом, который стоит продолжать, а вот для
него, Теодора приближается момент, когда его признают не-
нужным и выплеснут. А ко всему этому примешивалась
мучительная мысль о том, что Маргарет была его собственная,
предназначенная ему судьбой женщина,— и он потерял ее. Дру-
гой заполучил ее и отнял у него.
Он стонал и разражался громкими проклятиями. В Париже
он давным-давно похоронил все эти обиды. Неужели он вер-
нулся в Англию для того, чтобы воскресить их?
На некоторое время воображением его завладел фантасти-
ческий проект отыскать Маргарет, пойти к ней открыто и ска-
зать совершенно умопомрачительную вещь:
— Ты принадлежала мне до начала времен. Ты мне нужна.
Всегда, Маргарет, я нуждался в тебе. Я не понимал этого. Я сми-
ренно сознаюсь в этом. Открыто признаю это. Я совершил
ошибку, покинув тебя. Ты всегда была моим символом. Без тебя
я погиб. Все мои великие дарования пропадают даром. Вер-
нись... То, что было между нами,— вечно. Души, Маргарет,—
это нечто вечное. Ты знаешь песню: «Я был царем в Вавилоне,
ты — христианкой-рабыней».
Сможет ли она устоять? Разве прежние чары не подействуют
снова? Тогда начнется чудесная любовная поэма. Может быть,
произойдет дуэль с этим субъектом или развод. Он должен был
драться с ним еще тогда. Должен был драться, непременно. Его
захватили врасплох. Он был слишком податлив. Ему следовало
хорошенько проучить этого молодчика, вышвырнуть его вон.
В воображении его пронеслись картины драки, поединка.
А когда Маргарет станет его неотъемлемой собственностью,
он будет смело смотреть в лицо фактам, он усвоит идеи и
взгляды Наследников, он станет в их ряды и будет работать с
упорной и суровой настойчивостью. И вскоре он станет среди
них руководящей фигурой, в своем роде Мирабо Наследников...
4
ОБРАЗЦОВЫЙ КОТТЕДЖ 0 ОДНИМ-ЕДИНСТВЕННЫМ
НЕДОСТАТКОМ
Должно быть, Теодор заснул на рассвете, потому что, когда
он совсем проснулся, было уже утро. А проснувшись утром, он
опять почувствовал себя самим собою, а весь этот призрачный
476
рой самоугрызений и опасений исчез, оставив после себя только
смутное чувство подавленности. Больше всего ему запомнилось,
что он тосковал по Маргарет и даже придумал какой-то сум-
бурный, фантастический проект, чтобы заставить ее вернуться
к нему. Но трезвость сознания, вернувшаяся утром, заставила
его вполне разумно и основательно предположить, что она, ве-
роятно, живет теперь своим домом и у нее, должно быть, есть
дети. Зачем разрушать ее налаженную жизнь? К тому же Лэ-
верок — пренеприятный малый,— ему это достаточно хорошо
известно,— невоспитанный, лишенный всякого великодушия, и
он, конечно, постарается сделать все что можно, чтобы испор-
тить дело.
Капитан Блэп-Бэлпингтон чувствовал усталость после вче-
рашнего путешествия и бессонной ночи и был далеко не в ра-
дужном настроении. Но после того как он встал, совершил свой
туалет, цель его возвращения из Парижа снова отчетливо вы-
ступила в его сознании. В дневном свете эти подкрадывающиеся
и злоумышляющие Наследники уже не казались такими страш-
ными, как в темноте.
Во время бритья он произвел смотр всем тем фактам, кото-
рые он установил относительно себя. Капитан Блэп-Бэлпингтон
возвратился в Англию из добровольно предписанного себе
самому изгнания в чужие края. Он вернулся на родину, чтобы
отдохнуть душой в родной атмосфере, на родной земле. Он
выполнил несколько серьезных задач, не важно каких, он пере-
жил несколько необычайных приключений. Это пока не стоит
уточнять. Внешняя сторона его парижской жизни, литературная
и художественная деятельность, как они ни были замечательны,
были всего лишь видимостью того, чем он был на самом деле.
Причесавшись, побрившись и восстановив все свои жизнен-
ные ценности, Теодор отправился с чемоданом в Падингтон.
Он позавтракал в поезде, но на этот раз ему не посчастливи-
лось встретить никого, кто мог бы разделить с ним столик. Не
представилось удобного случая для разговора. Поэтому он вни-
мательно прочел «Таймс» и «Морнинг пост» и восстановил в
себе подлинный английский дух. «Морнинг пост» особенно от-
радно и убедительно писала о безумии, охватившем американ-
ские финансовые круги, об окончательном провале пятилетнего
плана и О' необходимости твердой политики в Индии. «Панча»
не оказалось в киоске, и, прочитав обе газеты, Теодор вынул из
чемодана остроумную маленькую книжечку Т. С. Элиота о кон-
ференции в Ламбете и с удовольствием стал читать ее. Она
оказалась лучшим тоническим средством. Невозможно было не
заразиться уверенностью Элиота, что в англиканском мире все
обстоит благополучно. Самая его манера подсмеиваться вну-
шала уверенность в том, что все это реально и значительно и
продолжает оставаться таким же и по сию пору. Все реальное
и значительное навсегда останется реальным и значительным.
477
Епископы будут епископами «in saecula saeculorum» а бог —
богом.
Теодор добрался до своего коттеджа в Девоншире как раз
во-время, чтобы увидать его в мягком свете заката. Он оказался
именно таким, каким должен быть девонширский коттедж. Он
назывался Помона-коттедж и вполне заслуживал это название.
Тетя Белинда очень предусмотрительно выбрала участок, раз-
делала и украсила его с заботливым артистизмом. Кругом были
яблони в цвету, изгороди из цветущего боярышника, синели
распускающиеся колокольчики, а в саду по краям дорожки
стояли желтые нарциссы. Старая улыбающаяся экономка, мис-
сис Грейсон, была искренне рада, что наследником оказался
такой приятный джентльмен. После смерти тети Белинды дом
остался на ее попечении, она кормилась при нем; но она не
прочь была бы получать хоть маленькое жалованье. Коттедж
был вюбразцовом порядке.
Человек, который привез его со станции на двуколке—на
этой дурацкой маленькой станции все еще были двуколки,—
внес пальто и чемодан и почтительно поблагодарил за лишний
шиллинг. Миссис Грейсон носила величественный чепчик с ро-
зовыми лентами и маленький фартучек поверх серого платья;
она встретила Теодора как раз на должном расстоянии между
дверью дома и воротами.
Дорожка к дому была вымощена красной черепицей; свет-
лая с низкими потолками передняя, с полом, выложенным из
красных плиток, была устлана мохнатыми ковриками; красивая
широкая темного дерева лестница вела на площадку, где стояли
дедовские часы. Всюду блестело красное дерево, нежно мер-
цал старинный хрусталь, а по стенам висели гравюры; морская
битва, какой-то баронет и несколько западных английских го-
родков. Миссис Грейсон проводила Теодора наверх в спальню
с покатым, как крыша, потолком; здесь стояли кресло, кушетка,
обитые ситцем, а на комоде красовалось очаровательное шера-
тоновское зеркало. Из спальни дверь вела в маленькую ван-
ную комнату, которая своей белизной и чистотой приятно на-
поминала молочную.
— Когда вы вымоете руки, я вам подам чай в гостиной
внизу. У вас только этот чемодан, сэр? Я надеялась, что вы при-
едете с вещами и останетесь здесь подольше.
— Так я и сделаю, так и сделаю,— сказал Теодор.
Сидя в глубоком кресле перед камином, где потрескивали
поленья, и попивая чай из чашки королевского фарфора
Дерби, он окидывал оценивающим взглядом настоящее старин-
ное серебро чайного сервиза и приходил к заключению, что тетя
Белинда умела жить в свое удовольствие. Комната была обита
веселеньким ситцем и обильно, но отнюдь не неприятно для
1 Во веки веков (лат.).
478
глаза, увешана картинками работы тети Белинды,— весьма не
плохой работы в своем роде. Тут же стояла пианола и книж-
ный шкаф, в котором, наверно, были настоящие книги. А в
стеклянной горке красовалась небольшая коллекция хоро-
шего граненого хрусталя. Пристройку с мастерской и остальные
помещения дома ему еще предстояло осмотреть.
В этой приятной обстановке последние следы его ночной де-
прессии рассеялись, как дым. Какой реальной и прочной оказы-
вается настоящая Англия, когда уедешь из Лондона на запад
или на юг! Как она уничтожает все призраки и разгоняет ночные
страхи! Он чувствовал, что будет спокойно спать в этой малень-
кой спаленке. Он с благодарностью думал о восемнадцатом сто-
летии, которое делало возможным существование таких коттед-
жей и такой обстановки, и о тете Белинде, которая создала
этот уют, сначала, правда для себя, но в конечном счете для
него. Он все больше и больше сознавал преимущество быть
единственным отпрыском и законным наследником всех десяти
сестер Спинк. Если наследство старого Спинка, разделенное на
десять частей, оказалось довольно-таки невесомым, то теперь
оно снова приобретало весьма солидный вес, собираясь в одни
руки. Капитан все яснее и яснее отдавал себе отчет в том, до
какой степени он устал от парижской атмосферы и в особен-
ности от своей довольно-таки тесной, неопрятной и не очень
благоустроенной парижской квартиры. Только мы, англичане,
понимаем, что такое комфорт, говорил он сам себе, и где еще
в мире можно найти такое уютное существо, как миссис Грей-
сон? Эти ее маленькие лепешечки — он взял еще одну—так и
тают во рту.
Он уже представлял себе, как он великолепно устроится в
этом убежище. Он бросит Париж и будет жить и работать
здесь. Если вначале эта жизнь и будет казаться ему несколько
одинокой, холостяцкой, всегда можно поехать в Лондон,
и через какие-нибудь четыре часа он уже там. В Лондоне
существуют литературные кружки, и ведь не везде же, в са-
мом деле, путаются эти Наследники. «Наследники наследни-
кам рознь»,— сказал он, поглядывая на сверкающие каминные
щипцы.
Он чувствовал, что в стечении обстоятельств, которые при-
вели его сюда, было нечто большее, чем простой случай.
В этом был перст провиденья. Наследство досталось ему как
нельзя более кстати и как раз в тот момент, когда стало со-
вершенно ясно, что «Стопы юношей» уже отслужили для него
свою службу. Здесь он может вступить в новую фазу своей
карьеры, начать новую кампанию в своей беспощадной борьбе
против угрожающего цивилизации материализма. Он дал миру
критику, спасительную критику. Его «Заметки» были велико-
лепны. Это признавали многие и, между прочим, кое-кто из
весьма авторитетных судей. Он оказывал большое влияние.
479
Теперь, в этой атмосфере, он сможет перейти в наступление, он
будет распространять положительные идеалы. Он сможет об-
лечь реакцию в романтическую форму. В Париже это было
всего лишь модным течением. Здесь, в этом оплоте Девона, это
открывало возможности, более чем возможности: это станови-
лось призванием. Здесь он начнет труд, которого ждет выздо-
равливающий мир. Он создаст новую историческую легенду.
Он сделает для девятнадцатого столетия то, что сэр Вальтер
Скотт сделал для восемнадцатого. Он воскресит его скрытое
очарование. Он положит начало новому романтическому дви-
жению и, подобно тому как Скотт и Байрон возродили скры-
тый в каждом человеке аристократизм духа и тем самым пода-
вили дурные инстинкты в бунтарском движении, возникшем
после наполеоновских войн, так и он возродит к жизни отваж-
ного рыцаря-аристократа, который скрывается в каждом пред-
ставителе наиболее обеспеченных классов в эпоху восстанов-
ления.
У него будет более обширная, более тонкая канва, чем у
автора «Веверлея». Она охватит нечто большее, чем елизаве-
тинскую эпоху. Он расскажет о крестоносцах всего мира. Его
рыцари и отважные исследователи будут основателями импе-
рий; полем действия будут семь океанов, а фоном будет вся
земля. Он сделает королеву Викторию богиней своей легенды,
не богиней-девственницей, но гораздо больше, почти символи-
чески плодоносной и благодетельной. Принц-консорт будет ко-
ролем Артуром этой романтической плеяды. Мельбурн, Паль-
мерстон, Гладстон, Дизраэли, Сесиль Родс, генерал Гордон —
все будут тайно влюблены в королеву — героические рабы ее
чарующего врожденного величия.
Эдуард VII может быть вторым принцем Хэллом, он будет
появляться мельком в ночном Лондоне девяностых годов, в его
свите будут Бирбом Три (скажем, в качестве Фальстафа),
Оскар Уайльд, Артур Робертс, Фрэнк Гаррис, Джордж Мур и
пестрая толпа веселого разношерстного сброда. Какой это бу-
дет тонкий гротеск — соединить все эти противоречивые фи-
гуры в шекспировской оргии ослепительных выпадов и острот!
Какое яркое, широкое полотно! Для контраста рядом с этим
блеском Пикадилли Сэркес можно показать Ливингстона в
сумраке тропического леса, восстание в Индии, полярные экс-
педиции! И на фоне этого мощно развертывающегося империа-
лизма — жестокие и холодные силы злоумышляющего врага —
грубый реализм науки. Можно показать зловещую фигуру
Круппа в зареве мрачно пылающих плавильных печей и дать
беглую картину страшных германских химических заводов.
Кайзера Вильгельма можно изобразить царственным, но сла-
бым человеком, стремящимся вырваться из-под колес викто-
рианской триумфальной колесницы, орудием бесчестных, стре-
мящихся к разрушению людей. А на заднем плане Америка,
480
стремящаяся задушить всех своей гигантской, массовой про-
дукцией,— духовный вассал Европы, жаждущий господства.
И вот, наконец, мы подходим к кульминационному пункту —
к Великой войне.
Он улыбался, перебирая все эти картины. Он нарисует их
ярко, отчетливо, резко, в современном стиле, не гонясь за до-
стоверностью. Для чего же и существует романтика, если
нельзя свободно обращаться с историей? Он уже видел, как
его эпопея превращается в сверкающий поток стремительно
нарастающего романтического повествования. Это будет Скотт,
Дюма в своем роде. Людям приелся реализм и цинизм; как ра-
достно встретят они эту исправленную интерпретацию событий!
Как радостно будут приветствовать нового мага, «Северного
чародея», капитана Блэп-Бэлпингтона! А впоследствии сэра
Теодора Блэп-Бэлпингтона.
В этом доме, в этой простой, домашней, английской атмо-
сфере, создать такое произведение не только можно, но есте-
ственно и необходимо.
Он вдруг увидал себя в золотом, пурпурном Букингемском
дворце.
— Наши обязанности оставляют нам мало времени для
чтения,— говорит ему августейшая особа,— но в вашей велико-
лепной исторической эпопее мы наслаждаемся каждым оттен-
ком вашего живописного слова, и королева и я.
А вот перед ним учебники истории литературы. Он читает
главу под названием: «Конец периода послевоенного декаданса.
Оздоровление. Новое романтическое движение».
— Мы переходим к началу новой великой эры; наступает
новый золотой век,— шептал Теодор, но тут вошла миссис Грей-
сон и спросила, не желает ли он сейчас обойти свои владения,
а то скоро стемнеет и нельзя будет осматривать дворовые по-
стройки.
Он одобрил все. Кухня была созданием рук миссис Грейсон,
которым она особенно гордилась, а двор — верхом совершен-
ства. Тетя Белинда красиво вымостила его раздобытой откуда-
то галькой, и даже выкрашенные в яркоголубую краску столбы
у навесов были приятны для глаз. Стеклянная дверь из гости-
ной вела прямо в маленький и, повидимому, созданный по всем
правилам искусства цветник, а оттуда калитка открывалась
на длинную прямую дорожку, обсаженную фруктовыми деревь-
ями, которая резко обрывалась у живой изгороди, отделявшей
усадьбу от раскинувшегося на пологом склоне красноватого
распаханного поля; над ним, пламенея на западе, простирался
широкий купол неба. Причудливо искривленная яблоня каким-
то непостижимым образом напомнила ему сэра Гарри Лоудера
в пору его расцвета. Мастерская оказалась действительно
прекрасной просторной мастерской с превосходным освеще-
нием и очень уютной изразцовой бельгийской — а может быть,
31 Г. Уэллс, т. 2
481
швейцарской — печью. Можно без особого труда превратить
это помещение в отличный рабочий кабинет — убрать моль-
берты,— или нет! — лучше оставить их на всякий случай,—
может быть, ему иной раз вздумается порисовать — и внести
длинный дубовый письменный стол.
— Здесь можно хорошо работать,— сказал он миссис Грей-
сон.— Такое уединение и покой.
И вдруг, среди всех этих счастливых открытий, с которыми
он то и дело себя поздравлял, Теодор неожиданно наткнулся
на одну неприятную подробность.
Это было в безукоризненной во всех других отношениях,
низенькой, полутемной столовой. По какому-то злосчастному
совпадению вкусов тетя Белинда разделяла его юношеское
восхищение Микеланджело, и главным украшением панелей
были большие сероватые фотогравюры с Сикстинской капеллы.
Там было «Сотворение Адама», «Кумекая Сивилла» над пре-
красно убранным буфетом и напротив кресла, в котором ему
естественно надлежало сидеть,— предмет его прежнего восхи-
щения — «Дельфийская Сивилла». Пробормотав себе что-то
под нос, Теодор подошел к картине и стал рассматривать этот
давно знакомый облик. Он уже давным-давно потерял для него
свое волшебное очарование. Он видел теперь, что это не что
иное, как хорошенькая натурщица с наивным выражением
лица, девушка с довольно мускулистыми руками, которую ве-
ликий мастер из какого-то каприза увековечил, вознеся ее на
свой величественный плафон. В ней не было — он вгляделся в
нее пристальнее — ни утонченности, ни духовной силы. Неко-
торая откровенная простота, честность, если угодно.
— Нравятся вам эти картины, сэр?—спросила миссис
Грейсон.
Это был удобный момент. Он понял, но уже несколько
поздно, что ему надо было сразу ответить «нет» и распо-
рядиться убрать их. Но у него не хватило предусмотритель-
ности.
— Да, да,— сказал он с деланым безразличием и сам осу-
дил себя на пытку. Он отвернулся и стал разглядывать другие
предметы.
— Какие замечательные бронзовые подсвечники!
Таким образом Теодор вступил во владение и обосновался
в этом образцовом коттедже, приняв его целиком с этой его
единственной неприятной подробностью — маленькой занозой,
которой суждено было впиваться в него все глубже и глубже,
пока, наконец, дело не кончилось катастрофой. Сначала его
только слегка раздражало это бестактное вторжение Маргарет.
Он думал, что свыкнется с этим напоминанием о ней и в конце
концов перестанет замечать его. Но он увидал, что с каждым
днем ему становится все трудней не замечать ее. Фотография
обладала гораздо большей силой воскрешать воспоминания,
482
чем он думал вначале. Ощущение, что он в самом деле завтра-
кает и обедает визави с Маргарет, усиливалось с каждым
днем. Когда он поймал себя на том, что ведет с ней воображае-
мые разговоры, говорит ей, какой Тедди дурак, каким он всегда
был грубым, неповоротливым, туго соображающим тупицей, и
из-за этих разговоров пребывает в полном бездействии, он по-
нял, что ему надо что-то предпринять.
Она висела в точно такой же рамке, как ее Кумекая стар-
шая сестра. Он перевесил их, чтобы ему по крайней мере можно
было сидеть к ней спиной. На следующее утро он обнаружил,
что миссис Грейсон перевесила их на прежние места. Он по-
звал ее и сказал, что предпочитает, чтобы они висели там, где
он повесил.
— Но ведь вам придется тогда смотреть на эту старуху вме-
сто хорошенькой молодой леди!
— .Для меня,— сказал капитан,— эта закутанная задумчи-
вая фигура гораздо красивее, чем эта... эта девчонка с ничего
не выражающим лицом.
— Конечно, у каждого свой вкус, сэр,— рассудительно от-
ветила миссис Грейсон.
Он нагнул голову набок, как бы сравнивая относительные
достоинства обеих фигур.
— Это — прорицательницы,— объяснил он,— и книги, кото-
рые они держат в руках, заключают в себе тайны прошлого и
будущего. Эта вот поворачивает последний лист. Она испол-
нена сокровенного знания. В этом есть какая-то торжествен-
ность, величие. А эта смотрит в будущее. Вот в чем весь смысл.
Она переворачивает чистую страницу. Но на самом деле она
вовсе и не смотрит в книгу. На самом деле она ничего не знает.
Ровно ничего. Так, простодушная крестьянская девушка. Ждет,
чтобы что-нибудь случилось, потому что, вы понимаете, буду-
щего еще нет. Оно ничто. Оно не наступило. Ведь это просто
выдумки, будто мы наследуем будущее. Разве вам не кажется,
что у нее пустое лицо?
— Хорошенькое личико,— сказала миссис Грейсон и тоже,
нагнув голову набок, посмотрела на нее.
— У моей двоюродной сестры дочку зовут Сибиллой,—
прибавила она после нескольких секунд созерцания.— Ну, та
совсем в другом роде. Ох, и проказница!
Он молчаливо дал понять, что у него нет никакого желания
слушать о дочке двоюродной сестры миссис Грейсон.
Однако он не сделал попытки избавиться от этой картины.
Повидимому, стремление сделать это было недостаточно сильно,
чтобы преодолеть нежелание выдать в какой-то мере свои чув-
ства этой болтливой экономке. Это женщина такого сорта, что,
пожалуй, может и спросить его. почему он убрал картину.
И не одна миссис Грейсон могла заинтересоваться этим. На
этой же улице по соседству жили две ледиЛ большие приятель-
31*
483
ницы его тетушки, которые чуть ли не в первый же день яви-
лись к нему с визитом. Они тоже могли поднять разговор.
А что, если ему съездить в Векстер или в Лондон на денек
и раздобыть там несколько действительно великолепных
гравюр?
Вот было бы ловко. Потому что, конечно, настоящие гра-
вюры здесь будут более уместны. И тогда уж здесь будут су-
дачить не о том, что он снял картину, а что он повесил какие-
то новые.
А между тем Дельфийская Сивилла продолжала висеть над
буфетом.
2
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРИЕМУ ПЛЕМЯННИКА БЕЛИНДЫ
Мисс Уоткинс жила вместе с Фелисией Кибл примерно в
полумиле от коттеджа Теодора, на той же улице. Мисс Уоткинс
была учительницей английского языка в швейцарской школе;
но на склоне дней своих она пришла к заключению, что у нее
уже достаточно принакоплено и она может позволить себе рас-
прощаться с родителями и со школьными косичками. Она сразу
же начала интересоваться всякими вещами, какими отнюдь не
подобало интересоваться школьной учительнице: окунулась в
самое необузданное интеллектуальное распутство, отошла в
своих политических и социальных убеждениях от всего обще-
принятого, и отошла бесповоротно. Ее интересовало все, лишь
бы это только не было общепринято. Она увлекалась фа-
шизмом, коммунизмом, Ганди, проблемой предупреждения
беременности, нюдизмом (в теории, правда, но при помощи ил-
люстрированного журнала), шпенглеризмом, Кайзерлингом,
планом Дугласа, универсальной прозой Джемса Джойса, про-
никновенным изучением Лоуренса, культом Успенского и фи-
лософскими откровениями мистера Миддльтона Мэрри. Она
откапывала новинки искусства в самых сокровенных уголках.
Она подписалась на «Стопы юношей».
Особенно решительно она порвала с общепринятым пони-
манием религии; никогда уже ее нельзя было увидать на цер-
ковной скамье, на которой она так часто сиживала раньше в
дни своего учительства.
Она стала последовательницей новых религий; она даже
вступила в переписку с некоторыми из их основателей. Она с
удовольствием меняла бы религию каждые три-четыре месяца,
но предложение далеко не соответствовало ее спросу, так что
ей приходилось довольствоваться некиим ограниченным количе-
ством самых привлекательных и переходить от одной к другой
484
и обратно. Большею частью она пребывала ученой последова-
тельницей христианства, но несколько раз перебегала к сторон-
никам Баба и увлекалась двумя или тремя видами буддизма.
Некоторое время она проникала в тайны бытия через посред-
ство некоего изъяснявшегося стремительными стаккато индий-
ского джентльмена, с которым она познакомилась в Берлине,
но когда он сообщил ей, что она обладает особой, присущей
только ей святостью, и тотчас же вслед за этим попросил у нее
двадцать пять фунтов взаймы, она немедленно прекратила этот
специфический способ проникновения. Можно быть неортодок-
сальной, но при этом не быть дурой. Она проводила резкую
черту между интересами земной жизни и жизни духовной. Она
воздавала чужим богам то, что принадлежало чужим богам,
а то, что принадлежало мисс Уоткинс, она крепко держала в
руках.
С Фелисией Кибл она познакомилась в Америке на рели-
гиозном конгрессе. Обе приехали с самыми лучшими намере-
ниями, но конгресс оказался утомительно скучным, словно
чересчур затянувшаяся собачья выставка. Каждый, как они об-
наружили, пытался что-то сказать, но никто не слушал; жаж-
дущие откровения души поднимали нестерпимый шум; их пре-
бывание на этом конгрессе завершилось полным безверием и
праздным времяпрепровождением в гостинице, где они жестоко
высмеивали всех.
Фелисия была прирожденной поэтессой, это значит, что она
не была поэтом, но у нее была большая способность писать
стихи и изливать в них простые добрые чувства, в которых у
нее никогда не было недостатка.
Много лет подряд она поставляла раз в неделю в одну из
крупных газет стишки, обычно на какую-нибудь домашнюю
тему, и в течение нескольких лет ее творения находили отклик
в Америке. Смена вкусов, а может быть, и чрезмерное влияние
юных чар вытеснили ее, заставив уступить место другой,
более отвечающей требованиям моды молоденькой женщине, но
она нашла другой выход потокам своих излияний и принялась
писать нечто вроде романа в стихах, который, она надеялась,
приобретет в конце концов широкую известность.
Она читала из него лучшие отрывки,— чуть ли не все от-
рывки считались у нее лучшими,— мисс Уоткинс, которая гово-
рила, что они напоминают ей сэра Вальтера Скотта и несколько
более женственного и более свободомыслящего Крабба. Фели-
сия не лишена была чувства юмора и с цинической веселостью
относилась к упорному нежеланию издателей пойти на риск и
преподнести ее публике в новом виде. «Они глазам своим не
верят, когда видят это»,— говорила она. И хвасталась, что мо-
жет заткнуть за пояс весь Патерностер-роу и Генриетта-стрит
и даже заставить спасовать и просить пощады самого Э. С. Уот-
та. «Но все равно, дорогая моя,— говорила она, становясь
485
серьезной,— радио развивает слух у людей,— такие прекрасные
голоса! — и моя Метрическая Сага,— так я ее называю,— это
только вопрос времени».
Вместе с Белиндой эти леди составляли неизменно веселое
и насмешливое трио, жадно интересующееся всем, тщательно
обо всем осведомленное и готовое услужливо осведомить всех
обо всем. Они мужественно смотрели в лицо надвигающейся
старости. Мисс Уоткинс прозвала почему-то их маленькую ком-
панию «Три мушкетера». Из них троих Белинда была самая
крупная. Она перетянула бы на весах обеих своих подруг; она
была более обеспечена и более решительно и умело вела свое
хозяйство и свои дела. Благодаря этому она пользовалась из-
вестным авторитетом у своих приятельниц, и после ее смерти
они постоянно ощущали ее отсутствие, как будто им чего-то
недоставало в жизни. Поэтому они страшно заинтересовались,
когда узнали, что в опустевшем коттедже снова появился хо-
зяин, и хозяин этот — племянник Белинды.
Они разузнали о нем все, что только можно было узнать,
от миссис Грейсон, а это было все, что она знала или могла
придумать. Он был капитан армии, и у него множество всяких
военных медалей (медали эти присвоила ему миссис Грейсон).
Он поэт и художник, и в Париже у него были всякие романи-
ческие приключения. Была установлена его связь со «Стопами
юношей», и мисс Уоткинс перевернула весь коттедж, разыски-
вая старые номера.
— Ну конечно,— сказала она,— он был одним из вдохно-
вителей этого течения! Чуть ли не главным вдохновителем.—
Ей даже кажется, что она один,раз видела его. В Латинском
квартале, знаете. Затем она стала припоминать старые слухи,
ходившие о Раймонде и Клоринде, дополняя и уточняя свои
воспоминания разными мелкими подробностями.— Но он ро-
дился, когда они уже повенчались,— заключила она.— Об этом
они позаботились.
Она задумалась о том, как меняются мерила в наше время.
Ее отец, мистер Спинк, член парламента, был самый ограни-
ченный человек по нашим теперешним понятиям. Но это был
очень горячий человек. Говорят, он три раза стрелял в Рай-
монда из пистолета. Но то ли пистолет не был заряжен, или
патрон оказался холостой, а то, может быть, и сам он не думал
так далеко заходить, или что-то в этом роде, ну, словом, вы
понимаете, он их простил.
— Говорят, на войне он творил чудеса храбрости,— сказала
мисс Кибл.
Обе леди готовы были при первом случае присоединиться к
плеяде тетушек, которыми судьба одарила это прелестное дитя
любви. С первого же дня его приезда они любовно, но неза-
метно следили за ним, подстерегая удобный случай атаковать
его. Мисс Уоткинс, с большой корзиной или с каким-то другим
486
вещественным предлогом, раз шесть — восемь в день проходила
мимо коттеджа, который, кстати сказать, был ей совсем не по
дороге, куда бы она ни шла из дома.
Она поймала Теодора на третий день.
Она встретила его, когда он возвращался домой к чаю после
долгой прогулки. Перехватив его у калитки, она остановилась
перед ним, прищурившись и улыбаясь всеми морщинками
своего увядшего на школьной работе лица.
— Наверно, вы и есть таинственный капитан Бэлпинг-
тон? — сказала она.
— Капитан Блэп-Бэлпингтон к вашим услугам, мэм.
Она просияла от восхищения при его учтивом поклоне.
— Все ли вы здесь нашли в порядке? Все ли здесь так, как
вам нравится?
— Я могу сказать, что Помона-коттедж превысил все мои
ожидания.
— Ведь мы с вами соседи, вы знаете. Я была ближайшим
другом Белинды, мисс Спинк, от вас до меня всего полмили.
Разумеется, я очень интересовалась и беспокоилась, понравится
ли вам у нас,— если я смею говорить об этом уголке Девон-
шира как о «нас».
И она склонила голову набок, устремив на него настойчи-
вый, сияющий нежностью, восхищением и доброжелательст-
вом взгляд.
Простая гуманность требовала, чтобы он пригласил ее с
приятельницей — несомненно, у нее была приятельница —
прийти к нему как-нибудь на чашку чая.
— Мы, знаете, не решались нанести вам визит. Мы боя-
лись, не придерживаетесь ли вы устава сурового уединения. Мы
слышали, что вы заняты какой-то очень серьезной работой.
Они нанесли ему совершенно безобидный визит, рассказали
много анекдотов о тете Белинде, а после этого зашли как-то
еще раз и принесли книгу о местных древностях и сообщили о
выставке репродукций с меди, устроенной приходским священ-
ником в шести или семи милях отсюда.
Сначала Теодор склонен был считать кроткие попытки к об-
щению этих двух леди посягательством на его покой, вторже-
нием в его уединенное убежище, но спустя несколько дней его
настроение изменилось. Он не привык к одиночеству. Он изны-
вал от желания поговорить. Его воображение не давало ему
покоя. Ему недоставало слушателя, которому он мог бы выло-
жить все накопившееся у него изобилие мыслей о жизни,
о себе. Поэтому, когда его соседки расхрабрились настолько,
что пригласили его обедать, он принял их приглашение мило-
стиво и охотно согласился прийти.
— Нам было бы так приятно,— сказала мисс Уоткинс, дрожа
от гостеприимного нетерпения.— Мы были бы так рады!
Она старалась внушить ему, что они приглашают его за-
487
просто. Она несколько раз повторила, что «это будет совсем
простой, скромный обед, вряд ли это даже можно назвать на-
стоящим обедом, ничего такого особенного, ничего похожего на
милый Париж. Нечто вроде ужина. Самый простой Девоншир.
Местные возможности, вы представляете. Но мы были бы так
рады».
— Наш герой придет! — возвестила она Фелисии.— Теперь
надо придумать, чем мы его будем угощать. Конечно, нечего
думать о настоящем званом обеде. Он этого и не ждет. Но мы
должны дать самое лучшее, что можем, моя дорогая. Нельзя
сделать это кое-как. Что же мы придумаем?
Они посоветовались со своей кухаркой-домоправительницей
и составили план. Обе леди много путешествовали, а мисс Уот-
кинс, будучи в Швейцарии, приобрела достаточный опыт по
части европейской кухни, так что составить меню оказалось не
так уж трудно. Закуски, сардины, салат из овощей, немного
икры (по особому заказу из Лондона), редиска, еще что-ни-
будь; потом суп. Консервы из черепахи (из Лондона), слоеные
пирожки с дичью и устрицами, пирожное из Вейстера; молодой
барашек с овощами по-английски; самый что ни на есть моло-
дой картофель; свежие цыплята от мистера Тэрнера, зажарен-
ные с маленькими колбасками, и хороший салат из дичи; на-
стоящее девонширское сладкое с массой сливок, яблочный пи-
рог, сыр и хороший кофе, все совершенно простое, домашнее,
но из самых лучших продуктов.
С этой частью угощения справились сравнительно легко. Но
вот вопрос о напитках оказался гораздо труднее.
Они пришли к соглашению, что для начала мужчина должен
подкрепиться коктейлем, крепким бодрящим коктейлем. Они
всегда предоставляли составление коктейля Белинде и знали,
что в Помона-коттедже где-то хранится замечательное руковод-
ство из отеля Савой. Разными хитростями и уловками они
выудили у миссис Грейсон рецепт и приготовили крепкий мар-
тини. Они сначала попробовали его сами и пришли к заключе-
нию, что коктейль поистине бодрящий и крепкий. Он примерно
часа на два выбил их из колеи. Удивительно, что только муж-
чины могут пить! Затем они приступили к обсуждению вин.
— Никто из нас не знает вин так, как знала Белинда,—
смиренно сказала мисс Уоткинс.— Мы всегда предоставляли
это ей. Но что же нам делать с вином? Ведь надо подать самое
лучшее. В Париже он, конечно, сделался знатоком вин. Разу-
меется, нам нечего мечтать о шампанских высоких марок. Но
ведь на всех настоящих званых обедах подается в какой-то по-
следовательности целый ряд вин. Нам за этим не угнаться. Мы
были бы прямо смешны, моя дорогая. Но даже в самых обык-
новенных домах в Швейцарии подают белое и красное вино.
Какое вино пила обыкновенно Белинда? С каким-то таким ре-
лигиозным названием? Либфраумильх! Молоко пресвятой девы.
488
Не правда ли, очаровательно? Это напоминает мне Гилберта
Кита, Честертона. Ну, это мы можем раздобыть, да еще надо
достать хорошего, настоящего, крепкого бургундского. Ко-
нечно, к супу ему нужно будет подать хересу, и, как вы ду-
маете, не заказать ли нам у Мортлона и Тайсона водки, если
мы будем заказывать икру и черепаховый суп. Ведь икру надо
всегда запивать водкой. В этом вся суть. Значит, водку. Порт-
вейн на после обеда у нас есть — спасибо Белинде!
— А его petit verre? — сказала Фелисия.— Его petit verre? 1
— Военные признают только один ликер,— сказала мисс
Уоткинс.— Это мне известно. Настоящий мужчина пьет брэнди.
И непременно выдержанный, старый. Мы должны быть уве-
рены, что это будет действительно старый брэнди.
— А может быть, распорядиться, чтобы Хлоя подала гра-
финчик виски, когда он уже соберется уходить? — заметила
мисс Кибл.— Дома у нас всегда подавали виски и кувшин с
лимонадом.
Таким образом были приняты все меры к тому, чтобы обес-
печить капитану Блэп-Бэлпингтону действительно приятный
вечер.
О
КАПИТАН БЕСЕДУЕТ С ЛЕДИ
Вечер вполне оправдал затраченные на него усилия.
Капитан не пренебрег ничем. По мере того как одно блюдо
сменялось другим и хорошая пища и превосходные напитки
согревали его кровь,— она приливала к его мозгу и наполняла
жизнью и мужеством каждую клеточку. С самого начала он
оценил теплую атмосферу любопытства и скрытого восхищения,
которой они окружили его. Едва только он, оставив за собой
сумерки, переступил порог их маленькой гостиной и очутился
перед коктейлями,— опасаясь преждевременно выбыть из строя,
они очень остроумно приготовили себе вполне безобидные, но
такие же на вид коктейли и подняли свои бокалы первые, оста-
вив ему тот, настоящий,— он понял свою роль и приготовился
сыграть ее достойным образом. Им хотелось интересно прове-
сти вечер; им хотелось послушать его рассказы. Прекрасно.
Они сидели некоторое время в старомодной гостиной, по-
пивая коктейль, которому надлежало разжечь их аппетит, и раз-
говаривали сначала о здешних местах, об их особенной ста-
ринной прелести.
— Здесь, знаете ли, все осталось таким неиспорченным,—
1 Заключительная рюмочка (франц.).
489
говорила мисс Уоткинс, усердно жестикулируя худыми, длин-
ными руками.— Почти совсем неиспорченным.
— Мне кажется, это очень утешительно,— сказал он, и Фе-
лисия одобрила его мудрые слова, сверкнув очками.— Здесь
жизнь крепко держится за свои корни. Вчера вечером я сидел
в саду и любовался закатом. И я говорил себе: «На свете не
существует никаких революций и движений, кроме движения
земли».
— Ах, если бы всегда можно было так чувствовать! —
вздохнула мисс Уоткинс.
— В больших городах, со всем этим несметным количест-
вом газет,— продолжал капитан,— как-то забываешь об этом.
Но здесь — удивительно, с какой явственностью выступают пе-
ред вами эти вечные ценности.
В эту минуту появилась Хлоя и возвестила, что обед подан.
— «Не будем ждать, кто шествие откроет, идемте все»,—
процитировала мисс Уоткинс, и они вошли в светлую малень-
кую столовую. Прелюдия с икрой удостоилась восхищенной
оценки капитана.
Он обратил внимание па «коттеджеобразную» форму ком-
наты. Он восторгался ее неправильностью.
— Никогда я не пил такой превосходной водки,— сказал
он, подвигая к себе графинчик. Они нерешительно отпивали кро-
шечными глоточками, глядя, как он одним духом опрокидывал
рюмку. Никакой казак не сумел бы так ловко опрокинуть
рюмку и проглотить водку с икрой одним глотком! Но очень
возможно, что он побывал в России.
— Но даже здесь, вы знаете, мы не обходимся без рево-
люций,— сказала мисс Уоткинс, возвращаясь к разговору, на-
чатому в гостиной.— Это падение валюты и кризис в Америке
отозвались даже в нашей лесной глуши.
— Мы только слышим выстрелы,— сказал капитан.
— Но кое-кто чувствует и колебания,— остроумно заметила
мисс Уоткинс.
— Когда фунты падают, доллары повышаются,— сказала
англосаксонка Фелисия, которая держала акции и в Старом и
в Новом Свете.
— Но дивиденды!
— Все это большей частью временные явления, временные
колебания,— сказал капитан, не желая допускать и тени тре?
воги в эту уютную комнату.— Эти колебания касаются только
биржевого мира, состояния вырастают, состояния лопаются,
а для нас, умеренных, трезвых людей, маятник вернется на
свое место. Большая часть этих разговоров о кризисе — просто
газетная шумиха и паникерство, отчасти преследующие инте-
ресы рынка. Я немножко разбираюсь в этих делах. Что касается
меня, леди, я придерживаюсь выжидательной позиции.
Мисс Уоткинс наклонила голову набок.
490
— Но всегда ли это дает какие-то гарантии? — спросила
она.— Где бы ни был помещен капитал? Я иногда сомневаюсь
в этом.
— А например?
— Ну, скажем, скромные акции стальных предприятий,
Эквити, так они, кажется, там называются?
— Конечно, некоторое движение существует,— глубокомыс-
ленно сказал капитан, опрокидывая третью рюмку водки. —
Благодарю вас. Очень хорошо.
Они поговорили о финансовых делах за черепаховым супом
и хересом. Как все женщины, обладающие кой-каким капита-
лом, обе леди всегда готовы были просить совета и указаний
в своих финансовых делах у любого малознакомого им муж-
чины. Было чрезвычайно утешительно обнаружить, что их гость
придерживается консервативных взглядов и проявляет такую
спокойную уверенность. У них обеих было такое чувство, что,
если они не будут продавать одни акции и как можно скорее
покупать другие, они понесут большие потери, а здесь, в глу-
ши, им не к кому было обратиться, не с кем посоветоваться.
Их поверенный в Лондоне, говорили они, милейший человек,
но он отстал от века. Они действительно в затруднении. Они
даже подумывали, не поехать ли им в Лондон, призналась мисс
Уоткинс, поселиться в каком-нибудь маленьком частном пан-
сионе где-нибудь около Сити и заняться кой-какими малень-
кими операциями. Ну, вы понимаете, разузнать, как и что,
и начать действовать.
— Но только, дорогая моя,— обратилась она к сидящей
против нее Фелисии, сморщив лицо в комической гримасе, на-
мекавшей на прежние бесконечные споры по этому поводу,—
что это значит — действовать?
— Вот это-то именно я и хотела бы знать,— сказала Фели-
сия капитану.
Он успокоил их. Он повторил, что нужно сохранить дове-
рие и предоставить всему идти своим путем.
— Восстановление порядка и равновесия,— сказал он,—
это только вопрос времеци. Мне кое-что известно. Надо сло-
мить враждебные силы. Я признаю — мир переживает сейчас
кризис, очень серьезный кризис. Это результат действия враж-
дебных сил. Но мы одолеем их. Они могут поколебать корабль,
но им не опрокинуть его. Не забывайте, что мы еще не изжили
всех последствий Великой войны.
Он не стал распространяться сразу об этих последствиях,
потому что ему надо было кончить свой черепаховый суп, а это
очень трудно — следить обстоятельно за ходом своих мыслей,
пока не доешь суп; но к тому времени, когда приступили к
слоеным пирожкам с дичью (их подали с опозданием, Хлоя об-
наруживала признаки раздражения и нервничала, и две штуки
довольно сильно подгорели), обсуждение мирового кризиса
491
развернулось вовсю. Высказывались опасения насчет больше-
визма, насчет того, что все увеличивающаяся безработица и
необходимость урезывать пособия приведут к серьезному не-
довольству и даже к своего рода коммунистическому дви-
жению.
— Так трудно заставить их понять,— сказала мисс Уот-
кинс.— Бедняжки, это так естественно, что им трудно понять.
— Расскажите капитану Блэп-Бэлпингтону, что сказал этот
человек, который привез кокс для парника,— подсказала Фе-
лисия.
— Ах да,— подхватила мисс Уоткинс,— это было в выс-
шей степени показательно.
То, что сказал человек, который привез кокс для парника,
произвело, повидимому, незабываемое впечатление на обеих
леди, и они уже обсуждали и взвешивали значение этого со
всевозможных точек зрения.
— Этот человек — самый обыкновенный здешний житель
из Векстера,— пояснила мисс Уоткинс,— не какой-нибудь ра-
бочий из вашего классово-сознательного пролетариата,— ника-
ких таких идей.
Так вот она вышла и немножко поболтала с ним, пока счи-
тала мешки с коксом и проверяла, все ли они в порядке, а для
того чтобы не вызывать «ложных надежд», она заговорила о
необходимости придерживаться всем строгой экономии и ска-
зала, что все должны следовать примеру короля и где только
возможно сокращать расходы.
— И вы знаете, он был так груб и не проявил никаких вер-
ноподданнических чувств. Он сказал, что если король думает
помочь кому-нибудь тем, что урезал свои расходы до пятиде-
сяти тысяч фунтов, так он не с того конца взялся. Не лучше ли
бы ему сэкономить на медвежьих папахах гвардейцев, коли уж
ему приходится урезывать себя и экономить? И еще он сказал,
что он никогда не думал, что король способен на такие низкие
фокусы, — так он и сказал: «низкие фокусы»,— лишить работы
стольких порядочных людей, когда уж и так много безработ-
ных. И потом еще прибавил: мы, говорит, еще увидим, как эти
богачи, которые копят денежки, когда-нибудь подавятся своими
деньгами.
— И это в самом сердце Девоншира! — воскликнула Фели-
сия.— Такие вещи!
— Я пыталась урезонить его,— сказала мисс Уоткинс.—
Mais que voulez-vous? 1
Либфраумильх было превосходное, изысканнейшее вино.
Капитан очень польстил хозяйкам, спросив, какого оно года,
и заметив: «Ну конечно. Это видно»,— когда они сказали, что
оно двадцать третьего года. Он обходился теперь только с по-
1 Но что вы хотите? (франц.)
492
мощью вилки, это позволяло ему чувствовать себя более не-
принужденно, к тому же ощущались некоторые признаки того,
что перед следующим блюдом тоже будет маленький перерыв.
В нем все сильнее разгоралось желание порассказать кое-что
этим леди.
— Король...— задумчиво произнес он, опуская вилку с мед-
лительной изысканностью и пощупывая ножку своей рюмки,
как будто считая пульс.— Король был в затруднительном по-
ложении. Я это хорошо знаю.
Несколько секунд он, казалось, припоминал какие-то важ-
ные события.
— У него были плохие советники.
Он больше ничего не прибавил, но обе леди почувствовали,
что он мог бы рассказать нечто необыкновенное.
Барашек был подан неожиданно быстро. Капитан обер-
нулся, приветствуя его появление, и оценил его по достоинству,
не заставив себя угощать.
— Нет во всем свете такого блюда,— сказал он,— как жа-
реный английский барашек, приготовленный руками англичан.
И — могу ли я поверить своим глазам? — свежий зеленый го-
рошек! английский горошек!
Успех был еще больше, когда либфраумильх сменился темно-
пурпуровым вином. У них были большие сомнения относительно
этого вина. Им рекомендовали его у Хиггса и Бриссона в Век-
стере, и Хиггс и Бриссон уверял, что оно «бархатное». Бархати-
стость, собственно говоря, было не совсем то качество, какого
они ожидали от бургундского. Мисс Уоткинс хотелось достать
что-нибудь более внушительное и терпкое, но Хиггс и Бриссон,
молодой человек с песочного цвета волосами и убедительными
манерами, отговорил их. Когда капитан с великим одобрением
сказал: «А ведь это, кажется, шамбертен»,— они втайне пора-
довались, что их отговорили.
— Точно бархат,— сказал он.
Хиггс и Бриссон сделался для них лучшим виноторговцем
в мире.
На некоторое время барашек заменил собою разговоры. Но,
наконец, капитан заговорил снова:
— Действительная история нашего времени сильно отли-
чается от того, что вы знаете по газетам. Происходят великие
дела. Если бы все стало известно, вы бы поняли все величие
поведения короля.
— Все говорят, что он верен своему долгу,— сказала мисс
Уоткинс.— И никогда не приходится слышать никаких басен,
никогда, вы знаете, никаких таких басен, которые, бывало,
ходили раньше о некоей особе. Если только в них была хоть
капля правды... Но ведь не зря же сказано, что молва — это
лживая блудница.
— На свете,— сказал капитан,— много странных и величе-
493
ственных событий, о которых мы очень мало слышим. Действи-
тельно, очень мало.— Он задумался.— На войне люди вели
себя изумительно. Я могу рассказать вам...
Они ждали, ибо теперь было уже совершенно очевидно, что
они кое-что услышат.
— Вот например. Рассказ в нескольких словах. Все слы-
шали о великом германском прорыве весною восемнадцатого
года, рассказ об отступлении, о брошенных из-за отсутствия
горючего танках, о потерянных орудиях, снаряжении, о раз-
громе Пятой армии. И так далее. Но мало кто слышал о стыч-
ках и сопротивлении. Вот, например, в одном месте... Да, не-
многие знают, как был спасен Амьен. Горсточкой людей. С де-
вятью пушками. Всего-навсего с девятью.
Он сделал великодушную уступку неприятелю.
— Конечно, немцы были измучены, устали. Они слишком
стремительно и слишком далеко зашли. И все-таки эта изуми-
тельная стойкость двух сотен солдат позволила одержать побе-
ду союзникам.
— Но я об этом никогда не слыхала,— сказала мисс Уот-
кинс.
— По весьма понятной причине. Об этом никогда не рас-
сказывалось.
— Но почему? — спросила Фелисия.
— Ах, дорогая леди. Военное amour-propre !. Ох, уж эти
официальные донесения! Вечная зависть кадровиков к волон-
терам.
— Но что же в действительности произошло? — спросила
Фелисия, жаждавшая послушать рассказ.
— Нечто совершенно непредвиденное. Люди действовали
без всякой команды. Я попробую объяснить вам. Войска отка-
тывались назад. Полный разгром. Приходится признаться в
этом. Конечно, никто не бежал, никакой паники, но люди упор-
но шли назад. С них было довольно. Натерпелись. Не было
никакой возможности заставить их повернуть. Безнадежно.
Сколько бы вы ни пытались взывать к тем, кто еще сохранил
какое-то присутствие духа. Многие офицеры шли с револьве-
рами в руках. Но вот постепенно стала сколачиваться какая-то
маленькая кучка, и она повернула обратно. Словно захвачен-
ный течением сплавной лес. Кухни. Оркестры. Санитары. Люди
из рабочего батальона. И вот на том месте, о котором я сейчас
говорю, собралось около двухсот человек, не более, максимум
две сотни, и с этого все и началось; и собрались-то они неиз-
вестно каким образом. Повидимому, им попалось подходящее
место. Возможно, что самое это место и вызвало мысль о со-
противлении. Это было нечто вроде естественного укрепления,
старые окопы, железнодорожная насыпь, несколько домишек,
1 Самолюбие (франц.).
494
разрушенных воздушным налетом, что-то еще, а немного ле-
вей, ярдах в ста или около того,— проезжая дорога. «А что,
если их здесь задержать!» — это было сказано так, попросту...
«А ведь мы могли бы их здесь попридержать». А тут еще по ту
сторону насыпи оказалась покинутая батарея. Точно им тут
нарочно ее подбросили. Девять пушек. Боевые припасы. Так
вот собственно не было даже никакого командования; мысль
переходила от одного к другому. Это было сражение, которое
велось кучкой простых солдат. Но они задержали великое на-
ступление. С этого начался поворот.
Он помолчал.
— Этот молодой картофель прямо восхитителен. Что мо-
жет быть лучше просто вареных английских овощей? И особен-
но хороши ранние овощи. Во Франции нам никогда не подают
овощей, которые не были бы испорчены какими-нибудь спе-
циями.
— Но что же случилось с этими двумя сотнями людей? —
спросила Фелисия.
— Как вы изволили сказать?
— С этими солдатами, которые остановили германское на-
ступление?
— Они удержали форт, дорогая леди. Они спасли Амьен.
— Но немцы подошли? — настаивала Фелисия.
— Ну, очевидно, дорогая,— сказала мисс Уоткинс.
— Они подошли. Да, да, они подошли.— Он чувствовал,
что эти две сотни солдат остались на его ответственности. Он
напряг свое воображение.
— Вы представляете себе! Все эти случайно собравшиеся
люди, одетые как попало, одни в каких-то неописуемых мунди-
рах, многие в лохмотьях, и в их распоряжении всего каких-
нибудь два часа для того, чтобы организовать оборону, найти
командира, сплотиться до того, как эта волна достигнет их.
И они это сделали. Когда-нибудь, может быть, об этом расска-
жут. Не знаю. Время от времени какой-нибудь отставший от
своей части солдат, увидя их за работой, присоединялся к ним.
Отступающие войска прошли мимо. А вдалеке, с уверенностью,
не спеша, уже двигался германский авангард. Наши голово-
резы задолго увидели их. Маленькая колонна серых людей в
открытом поле. А за ними массы, бесконечные потоки серых
батальонов. Широкая ровная местность, вы представляете себе.
Не изрытый участок, а ровное поле.
Капитан умолк. Но было невозможно устоять перед этой
немой мольбой, которая была написана на их лицах.
— Вообразите себе чудесный весенний день, кругом такое
затишье... Птички щебечут... Издалека доносится топот отсту-
пающих войск. Двое-трое приближаются к нам. Все точно за-
мерло в ожидании. И вдруг загрохотали наши пушки. Неожи-
данно. Бум! Бум! Две сотни людей, всего две сотни безымен-
495
ных английских рядовых — и последняя атака Германии. Не
странно ли, что такой пустяк повернул колесо истории!
— И это умышленно замалчивали?
— Об этом никогда надлежащим образом не сообщали.
Никогда не выделяли из числа других случайных стычек. Нет.
Леди следили за его задумчивым лицом. Он рассеянно на-
полнил свой стакан красным вином из графина.
— Но они действительно заставили повернуть обратно це-
лую германскую армию?
— Я, видите ли, плохой рассказчик. Нет. Этого нельзя ска-
зать. Они только задержали ее,— он быстро подсчитал в уме,—
на тридцать восемь драгоценных часов. Видите ли, им необы-
чайно повезло, что они выбрали это место для засады. Вна-
чале они даже не подозревали, но под их ногами на этом ме-
сте оказались глубокие пещеры, где были спрятаны боепри-
пасы. Оказалось, что там был искусно замаскированный склад
военного снаряжения. Целый треугольник. Они в любой мо-
мент могли взлететь на воздух. Но этого не случилось. Судьба
покровительствовала им. В конце концов, может быть, дейст-
вительно существует бог войны. И вот снаряд за снарядом раз-
рывался в рядах приближающейся армии, и таким образом ве-
ликое наступление на Амьен было задержано. Воздушная раз-
ведка была сбита с толку, посылала самолет за самолетом, но
тут же шныряли и английские патрульные самолеты. И не было
никакой возможности точно установить ситуацию. Неприятель-
скому командованию казалось, что они натолкнулись на пере-
довые укрепления заново подготовленной линии обороны. Есте-
ственно. И они потеряли несколько драгоценных часов в
нерешительности. А под прикрытием этой маленькой кучки
головорезов, этого, так сказать, отбившегося легиона, подошли
официальные резервы. Новые батальоны были переброшены
из Амьена. Вы представляете себе?
Он задумался, взвешивая кое-какие возможности.
— У них работали беспрерывно шесть пушек,— объяснял
он,— а три охлаждались. У них было неограниченное количе-
ство боевых припасов благодаря этим складам. И они стре-
ляли, голые, почерневшие, чуть не плача от напряжения. Мне
рассказывали потом: немцы думали, что против них выставлено
по крайней мере сорок орудий. А те, кто не находился при ору-
диях, укрепляли для защиты железнодорожную насыпь, сараи
и прочее, устраивали проволочные заграждения, подтаскивали
снаряды и ракеты на ночь. Никто не отдыхал. Никто не ел.
Самое страшное — это было пережить ночь... после того как
стемнело.
— И что же тогда? — прошептала Фелисия.
— Тогда действительно подошли немцы. Возможно, они
поняли истинное положение вещей. Но слишком поздно. Один
за другим ударные отряды немцев подступали к маленькому
496
треугольнику. Он был окружен со всех сторон разъяренным
приливом немецких войск,— этот маленький островок отчая-
ния. Сражались в темноте. Бог знает, не убивали ли тут же и
своих. Это был окопный бой в полном смысле слова. Взрывы
снарядов — и сразу рукопашная схватка. Люди выскакивали
из темноты и убивали или падали убитые. Это была уже не со-
временная война, а нечто гомерическое. С самых сумерек-до
двух часов утра стычка следовала за стычкой. Иногда казалось,
что кругом уже не осталось никого, кроме немцев. Бились один
на один. Кто-то кого-то убивал. Потом вдруг доносился англий-
ский возглас. В темноте, вы знаете, люди дерутся молча.
Иногда наступало нечто вроде передышки. Я помню, в одну из
этих передышек раздался вдруг чей-то неподражаемый кокней-
ский возглас: «Что, ребята, сробели?» Это, знаете, их любимое
словцо. И в ответ ему сдавленное, задыхающееся: «Н-не-т!»
Замечательно, а?
Леди обменялись восхищенными взглядами.
— Вы были там! — воскликнула Фелисия.
— О, я-то! Ну да. Разумеется, я был там, среди других
безыменных людей. Поэтому-то мне все это и известно, вы по-
нимаете. Ничего особенного я собой не представлял. Одна из
щепок в этом прибитом течением сплаве. Никакой заслуги с
моей стороны. Я помню, как по этим голосам я старался уга-
дать, много ли нас осталось. Я словно сейчас их слышу. Они
откликались один другому, и даже этот жалкий задыхающийся
голос, который, казалось, вот-вот прервется. Какое мужество!
«Не-ет!» И с этим кокнейским выговором! В темноте! А потом,
примерно между двумя и тремя часами, наступило затишье,
и чувствовалось, что у неприятеля идут какие-то приготовления.
В холодной предрассветной мгле, часов так около трех утра,
я так хорошо помню это. Мы все собрались вместе, приго-
товившись встретить последнюю атаку. У меня была фляжка
с брэнди. Она пошла у нас вкруговую из рук в руки.
Некоторые прощались друг с другом. И... эта атака так и не
произошла.
Он со вздохом отдал свою тарелку Хлое.
— Да. Даже теперь я иногда просыпаюсь ночью с этим то-
мительным чувством ожидания. В конце концов я собрал кое-
кого из наших ребят. «Вы сделали,— сказал я,— все, что мо-
жет сделать человек. Или англичане вернутся, или игра
кончена. Фриц сейчас устанавливает окопные мортиры или
подвозит орудия. Они нас раздавят, как мух. Забирайте всех
раненых, сколько можно, попробуйте пройти через комму-
никационные линии»,— там, понимаете, было нечто вроде ком-
муникационных линий, не помню, куда они вели; Да,—
«и предоставьте мне взорвать склады. Предоставьте это
мне».
Он замолчал, пристально глядя на жареного цыпленка, ко-
32 г. Уэллс, т.2 497
торый ожидал его с левой стороны. Но мысли его были далеко.
Бедная Хлоя недоумевала, долго ли ей придется держать перед
ним блюдо. Она попыталась было спросить взглядом у своих
хозяек, что ей теперь делать, но увидала, что обе они, затаив
дыхание, жадно смотрят ему в рот, боясь проронить хотя бы
одно слово.
— Вы не поверите,— сказал он, и глаза его увлажнились
мужественными слезами,— ни один из них не покинул меня.
Ни один. Ах!
Никогда еще лицо мисс Уоткинс не сморщивалось столь вы-
разительно бесчисленными морщинками сочувствия, оно словно
так и тянулось к нему из облегавшего ее шею воротничка;
а очки Фелисии затуманились.
— Это своего рода братство,— прерывающимся от слез
голосом вымолвил он.— Возникшее между совершенно чужими
людьми. Безымейными. Отбившимися от лесного сплава щеп-
ками. За единую ночь битвы.
Он с торжественной сосредоточенностью выбрал крылышко.
В маленькой столовой воцарилась глубокая тишина, пре-
рываемая только стуком тарелок, когда Хлоя ставила птицу и
подавала салат.
— Хлебного соуса? — вздохнула Фелисия.
— На рассвете...— продолжал капитан, выливая себе в та-
релку почти весь соус,— я... я не мог бы вам рассказать, на что
было похоже это место. Убитые — наши и немцы. Видеть это —
приятного мало, мало приятного. Бойня. (Вы, может быть, ни-
когда не видали бойни? Ну, все равно.) Но ужас войны! Ее
красота! Страшная красота! Рассвет... И вот тут... неизвестно
откуда появляется щеголеватый и вычищенный молоденький
офицерик. И говорит следующее — клянусь вам, что он сказал
буквально эти слова: «Что вы здесь делаете, дезертиры? Вы —
дезертиры!»
— Идиот! — воскликнула Фелисия в глубоком волнении.—
Глупый молокосос!
— «Некоторые из нас ждут носилок,— сказал я,— а некото-
рые могилы. И вам придется еще похоронить немалое количе-
ство немцев. Мы, видите ли, задержали их здесь, пока вы при-
нимали ванну...» Да, вот как оно было. Но вы видите, дорогие
леди, как это бывает, что некоторые прекрасные эпизоды не
появляются в официальных донесениях. Действительность —
это одно, а история — другое. Но вы извините меня, что я так
разболтался. Увлекся, знаете. Обычно я избегаю говорить об
этом...
Он с драматической неожиданностью переменил разго-
вор.
— Давайте поговорим о Девоншире и о сидре,— сказал
он.— О благодетельных путях природы и о милых знакомых
вещах.
498
— я так хорошо понимаю эти чувства,— промолвила мисс
Уоткинс.— (Хлоя, вы забыли салат?) И все-таки для нас, до-
моседов, в этом есть какое-то пугающее очарование...
— Я надеюсь, что мы никогда больше не увидим войны в
Европе,— сказала Фелисия.
— И никакой другой войны,— с чувством поддержал ка-
питан.
Он опять сделал попытку переменить разговор.
— Эти вечнозеленые дубы вдоль вашей ограды очень кра-
сивы,— заметил он.— Меня очень всегда интересовало, что,
вечнозеленый дуб — исконный уроженец Англии или нет? Они,
конечно, привились здесь на юге, но росли ли они здесь, на-
пример, во времена римлян?
Мисс Уоткинс предположила, что они привезены из Испа-
нии. Она припомнила, правда не очень точно, слышанную
когда-то давно лекцию по акклиматизации яблонь, фиг и вино-
града.
— Подумайте только, как австралийский эвкалипт изменил
итальянский пейзаж даже в наше время,— сказала она.—
И как только римская культура начала распространяться по
Средиземноморскому побережью, всюду стали сажать оливы,
и они вытеснили дуб.
Эти замечания постепенно перешли в более глубокие рас-
суждения о том, как меняется лицо земли. А это в свою оче-
редь снова вернуло их к явным переменам к худшему, назре-
вающим в нынешнее время, и опять к последствиям Великой
войны и ко всем угрозам и опасностям, которые преследуют
нас даже в сердце Девоншира, в этой поистине девственной,
нетронутой глуши.
К этому времени капитан добрался до нарезанного тончай-
шими ломтиками сыра и портвейна тети Белинды. Хлоя, кото-
рая теперь уже вполне оправилась от своего недавнего потря-
сения, проворно и ловко сняла скатерть, открыв красивую по-
лированную поверхность красного дерева. Прекрасный дорогой
стол. Графин с портвейном на подвижном лакированном по-
ставце — превосходно. После первого же глотка тетушкиного
портвейна капитан проникся глубокой уверенностью, что он еще
долго будет сидеть за этим столом и говорить с неослабеваю-
щим жаром. Вряд ли эти леди угостят его сигарой, но во всем
остальном они принимают его великолепно. И в конце концов
хороший портвейн и сигары — это вещи несовместимые. С ку-
рением можно подождать.
Он завел очень интересную беседу. Он сделал попытку раз-
вить несколько мыслей, которые уже много раз выручали его
в Париже.
— Наша умственная жизнь,— сказал он,— сейчас как-то
очень оскудела. Мы все живем только сегодняшним днем. Не-
многие из нас оглядываются назад и пытаются более или менее
32*
499
охватить целиком всю эту борьбу, эти конфликты. Но по су-
ществу, если взять в целом и разобраться в этом поглубже,—
проблема разрешается очень просто. Если позволите, я разовью
свою мысль?
Леди ответили горячими изъявлениями согласия.
— Так вот, начнем с христианской эры, с того, как мир
переходил в христианство, и далее. Вас не очень пугает, что я
собираюсь оседлать своего конька? Это, знаете ли, мой исто-
рический конек. Так вот, что такое действительность?
— Мы никогда не пробовали исследовать христианство,—
сказала мисс Уоткинс.— Не делали попыток разобраться в
этом.
— Можно проследить и дальше,— сказал он и прибавил
торжественно: — Я, видите ли, углублялся в историю.
Они сидели завороженные.
— Христианство,— пояснил он,— это уже последний, самый
совершенный уклад жизни, некая система ценностей, которая
веками боролась за то, чтобы утвердить себя. Что представ-
ляют собой эти ценности? Семья, а рядом с семьей — защи-
щающая ее община, нация и. воплощающая все это некая
внешняя форма, символ, объединяющий сердца людей,— мо-
нарх, «святая святых»,— для меня по крайней мере,— приба-
вил он,— и церковь. Вера. Это первоосновы. Идея объединения
всех этих ценностей стремилась воплотиться в христианстве,
отчасти ей это удалось, и она и поныне объединяет собою че-
ловечество. Этой системе ценностей, которую мы зовем хри-
стианством,— продолжал он,— мы обязаны всеми добропоря-
дочными качествами жизни — преданностью, честностью, взаи-
мопониманием, постоянством, всем, что подразумевается под
словом цивилизация.
Он оттенял свои слова интонацией и жестом, и в особен-
ности какой-то проникновенной торжественностью в голосе и,
так сказать, всеобъемлющим помаванием руки.
— Но во все времена, через всю историю мы наблюдаем
сложное, многообразное противодействие этим ценностям. Я не
буду подробно анализировать это,— сказал он.— Я беру это в
очень, очень широком аспекте. Но лишь тогда, когда эти широ-
кие аспекты будут усвоены, когда вы ясно увидите, с одной
стороны, эти высокие человеческие ценности, а с другой —
враждебное противодействие, антагонизм,— только тогда мож-
но попытаться представить себе, что такое история Египта,
Рима, средних веков, и понять закономерность и значение всего,
что происходит в наши дни. Усилия сохранить эти высокие
ценности, тайные происки и попытки сокрушить и уничтожить
эти высокие ценности — вот вам свет и тьма персидской куль-
туры! Глубокие теологи эти персы! Мы до сих пор еще не воз-
дали им должного за тот неоценимый вклад, который они вне-
сли в духовную сокровищницу мира! И вот вам ключ к тыся-
500
чам зловещих враждебных течений, к значению борьбы с ере-
тиками и неверными, к существованию тайных обществ, черной
мессы, розенкрейцеров, тамплиеров, масонов (Ах, только пред-
ставить себе все это! — подхватила Фелисия, замирая в про-
никновенном экстазе), к великим эпидемиям неверия, расколов,
ересей, восстаний и так далее, вплоть до социализма, больше-
визма, анархизма, безверия и всей интеллектуальной борьбы
нашего времени. Под каким бы видом ни пряталось это черное
дело, оно всегда оставалось одним и тем же.
— Эти так называемые Наследники,— начал было он, но
спохватившись, что обе леди, наверно, никогда не слыхали об
этом наваждении, ибо это было его личное наваждение, он
бросил тему о Наследниках. — Всегда, во все времена,— за-
ключил он,— длился этот поход против вечных человеческих
ценностей. Непрерывно. Но обнаружить это было не так про-
сто, как если бы это было нанесено черным по белому. Мысль
человеческая развивается так сложно и такими извилистыми
путями...
Он впился взглядом в Фелисию и задал ряд риторических
вопросов. Вот хотя бы, к примеру, какую роль во всем этом
играли иезуиты? А какова была роль энциклопедистов? Что
скрывалось за Великой войной? Совершенно очевидно, что ви-
димость, или, так сказать, внешняя значимость ее, это вздор!
Просто маскировка. Внезапное крушение христианской монар-
хии в России — это еще более фантастически-нереальный факт,
если опять-таки судить только по видимости. Что такое, я спра-
шиваю вас, Распутин? О да, мы знаем, кто он, но что он такое?
И что представляют собой эти глубокие, сложные тайны, кото-
рые скрываются за всеми этими финансовыми и экономиче-
скими беспорядками современного мира?
Он остановился. Фелисия не знала, что сказать, но мисс
Уоткинс в экстазе духовного просветления быстро закивала го-
ловой. Она сидела, крепко стиснув руки.
— Нет, в самом деле, что? — повторила она.— Нет, в самом
деле?
Хлоя на время отвлекла их от этой проблемы.
— Прикажете подать сюда кофе и старый брэнди, мисс? —
спросила она.
Ей явно хотелось убрать со стола.
Капитан насторожился при словах «старый брэнди», и ма-
ленькая компания снова перешла в гостиную, где топился ка-
мин и стояли уютные кресла и удобный столик. Здесь доклад
о человеческих распрях возобновился в более интимном тоне.
Сигар не было, но были очень хорошие египетские папиросы,
и обе леди чопорно закурили.
— Мне случайно стало известно...— произнес он из глубины
самого глубокого кресла и уставился на красные угли и шипя-
щие, пляшущие языки пламени.— Мне по роду моей службы
501
пришлось...— медленно выговорил он, следуя за своим вообра-
жением, и снова погрузился в задумчивость.
Они сидели и ждали. Уже сколько лет не приходилось им
так интересно проводить вечер.
Он размышлял вслух:
— Откроется ли когда-нибудь истина? Сможет ли челове-
чество выдержать ее? Убийство в Сараеве. Возвращение Ленина
в Россию через Германию. Вот такие события... Я иногда за-
думываюсь над этим.
— Тайны,— глубокомысленно промолвила Фелисия и тоже
поглядела на огонь с точно таким же выражением, как
и он.
Но после этого он заставил их некоторое время помучиться.
Было совершенно очевидно, что этот человек обладал не только
удивительными сведениями, но и большой сдержанностью.
— Это действительно самый настоящий старый брэнди,—
сказал он.— Должно быть, сорок восьмого года.
Фелисия обратила к мисс Уоткинс вопрошающий взгляд.
— Он, конечно, нам говорил? — начала она с сомнением,
намекая на рыжеватого молодого мистера Хиггс и Брис-
сон.
Мисс Уоткинс проявила больше уверенности.
— Так и есть, сорок восьмого,— сказала она.— Удивитель-
но, как вы могли это узнать?
— Как бы я мог не узнать, дорогая леди. Выдержано до
совершенства.
Они пытались задавать ему разные вопросы, чтобы заста-
вить его вернуться к прерванному рассказу. Но он не подда-
вался.
— Как мирно вы живете здесь! — заметил он.— Как спо-
койно!
Это был момент, когда обе леди почувствовали несравненное
удовлетворение. Да, они действительно прочно и уютно устрои-
лись здесь, окружив себя незыблемыми ценностями человече-
ской жизни. Все высокие достижения цивилизации отгоражи-
вают их от ужасов озверелого мира. А все-таки какой сладост-
ной дрожью пронизывала их мысль о подкрадывающихся из-
вне темных силах, обо всех этих махинациях, большевизме,
насилиях, убийствах; о неистовых бунтовщиках, неведомых
страшных угрозах, нависающих где-то в отдаленье; и хоть им
здесь можно и не опасаться, но ведь все-таки они существуют,
эти чудовищные силы.
— Спокойно, да,— сказала мисс Уоткинс.— Но ценою
каких незримых усилий! Мы просто не задумываемся над
этим.
— Да, это правильно — незримые усилия,— согласился ка-
питан, и ясно чувствовалось, что он вот-вот перейдет к новым
откровениям.
502
Казалось, он мысленно перебирал ряд примеров.
— Фанатики! — бормотал он.— Загадка фанатизма. Типы!
Исступленные мечтатели! Упрямые радикалы. Претензии на
научное всеведение. А некоторые просто злоумышленники.
Анархисты! Открытые враги общества! Разрушить! Разрушить!
«Наша порода»,— говорят они. Огромная антирелигиозная
организация, тайная, мрачная, незримая, связывает их. Есть
души — страшно подумать об этом! — которые действительно
по природе своей враждебны всему человеческому. Великий
заговор. Против христианства. Против человечества.
Среди пылающих в камине углей на одно мгновение смутно
выступило кроткое лицо молодого человека, с которым он ехал
в поезде, или по крайней мере половина его лица. Рыжеватый
язык пламени превратился в Тедди Брокстеда, порывавшегося
сказать что-то. Ну нет, ему ничего не удастся сказать.
— Они пустили корни по всему свету,— произнес капи-
тан.— Подкапываются. Сеют сомнения и разъедают. Они совра-
щают молодежь. И они ждут своего времени. Евреи финанси-
сты. Крейтер и Толль. Торговля наркотиками. Гнуснейшие
сделки. Все это одна грандиозная система. Один громадный
заговор. Разрушить социальный строй. Но, слава богу, у нас
есть еще люди! Неста Уэбстер, великий наблюдатель, высмеял
их в свое время. А теперь Т. С. Элиот. Вам следует прочесть
Т. С. Элиота. Один из величайших умов нашего века. Огром-
ное влияние. Осторожный, придирчивый — и все же вождь.
Молодежь обожает его. Он принял заветы Несты. Сделал их
приемлемыми. Облагородил их. Он прямо и просто предлагает
выбор человечеству.
Некоторое время он распространялся о заслугах
Т. С. Элиота.
— Англиканский монархист,— задумчиво заключил он.—
Никогда еще ни один человек не употреблял таких благород-
ных усилий, чтобы смыть с себя пятно своего рождения.
— Вы не хотите сказать, что он — ну, незаконно?..— спро-
сила мисс Уоткинс, запинаясь, но в то же время дрожа от лю-
бопытства.
— О нет, совсем другое. Он родился в Америке. .Его дед
был столпом бостонского либерализма. Эта увядшая мечта про-
гресса! Как великолепно он опровергает ее!
Вслед за этим он заговорил о королевском величии, о ко-
ролях.
— Современный мир,— сказал он,— погрязший в обыден-
щине, соперничестве, шумихе и неизменном потворстве своим
страстям, забыл о королевской власти. Но королевская власть
существует — и она возглавляет борьбу против этих темных,
недремлющих сил. Короли, монархи — это самые непостижи-
мые из людей. Их появление носит характер церемониала. Не-
изменно. Это их внешний долг. Но говорят ли они когда-ни-
503
будь? Открывают ли себя? Они словно маски, за которыми
скрыты их непроницаемые глубокие души. Душа короля, по-
думать только! Нечто священное! Eikon Basilike! Не всякому
дано ее узреть. В редких случаях она на мгновение откры-
вается миру. Русский царь, Александр Первый, Александр
Священного союза, вот он, например, позволил заглянуть миру
в глубины монаршей души.
— Венский конгресс. Я видела фильм в Векстере,— на-
чала было Фелисия, но тотчас же прервала свое выступле-
ние и с жадным вниманием стала слушать то, что говорил
капитан.
— Кайзер,— сказал он и откашлялся.— Кайзер,— повторил
он,— был неповинен в войне... не больше, чем любой человек
в Европе.
— Но так ли это? — воскликнула Фелисия.
— Вы знаете, это совсем не то, что мы слышали,— сказала
мисс Уоткинс.— Совсем не ортодоксальный взгляд.
— Это самый непонятый из людей. Поистине загадочная
натура. Мистик. Глубокий мистик. Посредник между богом и
людьми. Человек, который постиг бога,— это с одной стороны,
и вместе с тем глубоко постиг человечество.
— Но война?
— Не он затеял ее. Его вынудили силой. Мне это известно.
Известно совершенно точно.
— Но кто же тогда начал войну?
— Следовало бы спросить не «кто», а «что»,— ответствовал
капитан, и он снова нарисовал им величественную фигуру мо-
нарха, пребывающего в изгнании в Доорне.
— Разрешите мне объяснить вам, каково было положение
кайзера, как он мог бы объяснить это сам, что он и сделал
однажды. В течение целого бурного столетия великие традиции
Священного союза держались крепко, и мир, управляемый
дружной семьей королей, прожил чудесные сто лет. Нам теперь
так или иначе приходится признать это. Несмотря на сорок
восьмой год, несмотря на непрекращающиеся подкопы черного
радикализма и здесь, и там, и повсюду, несмотря на то, что
Америка как будто отошла от объединившегося христианского
мира, счастливая человеческая жизнь текла широким потоком.
Американская война Северных и Южных штатов окончилась
благополучно главным образом благодаря мудрому вмешатель-
ству королевы Виктории.
— Но так ли это? — воскликнула Фелисия.
— Она относилась к Линкольну с величайшим расположе-
нием,— пояснил капитан.— Так же, как и он к ней. И все это
совершилось очень спокойно.
Он вернулся к своему повествованию.
— И вдруг, казалось бы безо всякого предупреждения, вся-
кая нечисть, тайные силы, Распутин и все, что скрывалось за
504
ним в России, франкмасоны во Франции и пушечные фабри-
канты — все поднялось сразу. Произошло это убийство — оно
было подготовлено заранее,— и плотина прорвалась.
На этом бегло обрисованном фоне появился кайзер.
— Он объяснял это так. И, должен сознаться, я, со своей
стороны, нахожу, что у него были все основания рассуждать
так. «Вот моя империя,— говорил он,— краеугольный камень
европейской системы. Она вооружена, но она принуждена была
вооружаться. Ваши торговцы оружием вынуждали ее воору-
жаться так же, как и всех нас. Но предоставили ли вы моей
империи подобающее ей место в семье народов? Нет, вы окру-
жили ее и всячески старались задушить ее экономическое раз-
витие. А теперь вы собираетесь раздавить Австрию, ее естест-
венную опору. Как же вы думаете? Могу ли я остаться безу-
частным? Мог ли я остаться безучастным? Не забывайте, ведь
это мой народ». Я не говорю, что он прав, но так он смотрел
на это. «Война обрушилась на меня,— сказал он.— Меня за-
хватили врасплох. Я вынужден был обнажить меч, облачиться
в броню и нанести удар. Но под этой броней я всегда оста-
вался паладином мира. Всегда, вплоть до конца тысяча девять-
сот четырнадцатого года, я всеми силами стремился к миру,
стремился спасти старую систему и мир».
— Но разве об этом когда-нибудь писали в газетах? —
спросила мисс Уоткинс.— Или это совсем недавнее интервью?
— Нет, об этом никогда не писали в газетах. Но вот так
именно объяснял он сам.
— Как это не похоже на то, каким его изображали.
— Я знаю это из самых достоверных источников,— сказал
капитан.
— У вас, вероятно, были знакомые в этих кругах.
— Это его собственные слова. Мне это совершенно точно
известно.
— Но когда же он говорил это? Недавно? Может быть, он
одумался уже после всего, что случилось?
— Он говорил это еще до окончания войны.
— Но где же? — Мисс Уоткинс настаивала не потому, что
она не верила, а просто в неудержимом порыве любознатель-
ности.
Наступила пауза. Капитан огляделся по сторонам, чтобы
убедиться, что Хлои нет в комнате и дверь закрыта. Потом
вздохнул.
— Это, вообще говоря, мало кому известно,— начал он.—
Разумеется, все, что я говорю, дорогие леди, останется между
нами...
— О, конечно! — в один голос откликнулись леди.
— Это одно из событий, о которых умалчивает история.
В течение сорока восьми часов кайзер был пленником в.наших
руках!
505
Он уставился на их изумленные, застывшие в благоговении
лица.
— Мне это хорошо известно,— сказал он.
— И это скрывалось?
— Да, скрывалось. И по очень важным причинам. Это слу-
чилось восьмого-девятого ноября тысяча девятьсот восемнад-
цатого года.
— И ни звука? Ни намека?
— Ни звука. И вот так-то случилось, mesdames, что он
удостоил меня беседой. Потому что он был под моей охраной.
Он все время ходил взад и вперед, держасб очень прямо. Блед-
ный, усталый, побежденный и все же, осмелюсь сказать, вели-
чественно благородный. Он, повидимому, был рад, что может,
наконец, кому-то высказать все, что у него на душе. И погово-
рить по-английски. Он всегда любил говорить по-английски.
Капитан погрузился в глубокую задумчивость, потом,
очнувшись, налил себе еще рюмку брэнди.
— Но как же это случилось?
— Вы понимаете, это было время разгрома германской ар-
мии. Они отступали. Три армии, английская, французская и
американская, продвигались вперед. Неравномерно. Одни ча-
сти шли быстро. Другие наталкивались на сопротивление. Слу-
чилось так, что моя дивизия, дивизия, к которой я был прико-
мандирован, шла чуть ли не по пятам немцев. Мы бросили
вперед на разведку несколько маленьких отрядов. Что они де-
лали, зависело от настроения их командиров. Странные тогда
творились дела. Мы иногда оказывались почти бок о бок с нем-
цами, нам, так сказать, было по пути. Мы не стремились за-
хватывать пленных. Поскольку они были обезоружены, вы по-
нимаете, чем скорее они уберутся в Германию, чем меньше
возни будет с их отправкой на родину, тем лучше. В некото-
рых местах между англичанами и немцами происходило нечто
вроде соревнования — чтобы первыми войти в город и пред-
упредить мародерство. Удивительное это было время — этот
завершающий разгром. В одном месте — приблизительно в по-
лумиле от главной дороги — маленький замок. Во дворе
страшное смятение. Стоят автомобили. Нет бензина. Мы, ко-
нечно, догадались, что тут какая-нибудь важная персона.
Подходит ко мне мой помощник с бцноклем в руках: «Тут,
знаете ли, какая-то важная шишка, начальство, штаб и все
такое. Давайте-ка прихватим его...» В какие-нибудь двадцать
минут мы окружили замок. Я думаю, что они даже и не по-
дозревали о нашем присутствии, пока мы не очутились с ними
лицом к лицу. Они так суетились около своих машин. Рас'
считывали достать тут бензин. Я думаю, они даже не пред-
полагали, что англичане могут быть ближе, ну, скажем, чем
в двенадцати милях. И вот возвращается мой помощник с ка-
ким-то перепуганным и в то же время как будто торжествую-
506
щим видом. «Господи помилуй,— говорит он,— мы захватили
кайзера!» Да, вот как это произошло.
— И вы его отпустили! — воскликнула Фелисия.
— Мы его отпустили. Нет, не думайте, что я мог взять это
на свою ответственность. Но я понял положение. Я представ-
лял себе, что из этого может выйти. Я сразу пошел к нему.
«Ваше величество,— сказал я,— не знаю, кто из нас находится
в более затруднительном положении. Я должен на некоторое
время предоставить вам здесь все удобства и восстановить те-
лефонное сообщение, так как наши люди перерезали провода».
Он посмотрел на меня спокойно. «Англичанин? — спросил он.—
Не американец?» Я осмелился пошутить: «Англичанин,— ска-
зал я.— Ваше величество, можете быть спокойны, это не сразу
попадет в газеты». И он от всего сердца рассмеялся.
— Рассмеялся! — изумилась Фелисия.
— А почему бы нет? Отступление, поражение. Но ведь са-
мый мрак, угроза смерти — все это уже было позади.
— И что же вы сделали? — спросила мисс Уоткинс.
— Восстановил телефонную связь, заставил двух офицеров,
посвященных в это дело, поклясться; что они будут молчать, и
не сказал о том, кого мы захватили, ни одной живой душе.
Дивизия наша подходила маленькими отрядами и частями.
Я соблюдал строжайшую тайну. Вы не можете себе предста-
вить, какого труда стоило мне связаться с той особой штаб-
квартирой, куда я хотел прежде всего представить об этом ра-
порт. Ну, об этом не стоит рассказывать. Воображаете, какой
это вызвало переполох? Его жизнь была под угрозой. Он. был
козлом отпущения. Вы, наверно, помните эти дни, когда по-
всюду раздавался вопль: «Повесить кайзера!» А в Германии!
Там то и дело происходили вспышки настоящей социальной
революции. Мы видели валявшиеся у стены трупы шести прус-
ских офицеров, расстрелянных их собственными солдатами.
И вот я, наконец, соединился по телефону. Это был самый не-
вероятный разговор, а тут еще мученье с телефоном — отвра-
тительно работал. Жж, жж, жж, и голоса затихали вдали.
Иногда даже не было уверенности — с кем говоришь. Что де-
лать? Что делать?
— Ну, и что же вы сделали? Что можно было сделать?
— Лондон ругался и вопил: «Мы не можем убить его. Это
невозможно». Некоему очень высокопоставленному лицу,—
я не буду называть имен,— пришла в голову нелепая мысль —
одеть его в штатское и отпустить переодетым. Я указал, какие
тут могут возникнуть трудности. Самое главное было то, что
он ни за что не согласился бы. Это уронило бы его достоинство,
и он был прав. Наконец, я добился того, чего хотел: «А что вы
предлагаете, капитан Блэп-Бэлпингтон?» Я внес свое скромное
предложение.
Он вздохнул.
507
— И вот таким-то образом кайзер в качестве пленника был
доставлен к голландской границе отрядом английских войск.
На наших глазах он благополучно перешел границу. Это было
лучшее, что можно было сделать. Дорогой, когда мы прово-
жали его, мы натолкнулись на громадную толпу пьяных нем-
цев, которые пели «Rote Fahne».
— «Красное знамя»,— ввернула мисс Уоткинс.
— Они избивали своих офицеров. Мы сделали все, что
могли, чтобы помешать ему открыть свое инкогнито и вме-
шаться, рискуя жизнью. У него отсутствовало всякое чувство
опасности. Нельзя выдумать большей клеветы, чем эти раз-
говоры о том, что он испугался и бежал. Мы провели его
окольными путями через всю эту сумятицу к спокойному ма-
ленькому пограничному отряду. Не важно где. С минуту он
стоял, обернувшись назад. Слезы катились по его впалым, из-
можденным щекам. Немногие из нас могли остаться равно-
душными. «Пути господни — не наши пути,— сказал он.—
Когда я расстался с Бисмарком, капитан Блэп-Бэлпингтон, я
думал, что я покончил с кровью и железом. Теперь я смотрю
фактам в лицо. Меня предали. Я заблуждался. Это конец.
А я надеялся умереть не властелином войны, а пастырем мира
во всем мире!»
Капитан задумчиво прибавил еще одну подробность:
— Он хотел дать мне орден, который был на нем, какой-то
усыпанный драгоценными камнями крестик. Я отказался при-
нять. «Вы дали мне нечто гораздо более драгоценное, ваше
величество,— сказал я.— Вы дали мне великое воспоминание».
Наконец, мы пожали друг другу руки — очень просто,— и он
пошел по направлению к голландскому часовому. Отдал честь.
Встал выпрямившись.
7
КАПИТАН БЕСЕДУЕТ С ТИШИНОЙ
Дверь коттеджа отворилась, и две стародевственные леди
выпустили своего великолепного и обольстительного гостя в
темноту ночи. На пороге он остановился. Ночь была теплая,
очень ясная и тихая. Он несколько мгновений созерцал небо-
свод, затем великодушно, широким жестом помахал им
рукой.
— Эти чудесные звезды,— сказал он.— Чудесные звезды.
И опять задумался на мгновение. Казалось, ему хотелось
сказать что-то ободряющее этому невозмутимому мерцанию
вверху:
— Взираете вниз на города. Пустыни. Одинокие горы. Поля
508
битвы. Все то же бессмертное великолепие... Доброй ночи, до-
рогие леди.
Он направился по полосе света к калитке, и когда он бла-
гополучно одолел это препятствие, дверь захлопнулась, полоса
света исчезла, и ему предоставили продолжать свой путь в
темноте при свете звезд.
Идти было трудновато, потому что переулок сильно зарос.
Сначала он не мог различить дороги от густой поросли, окайм-
лявшей ее по краям; он забрел в сторону, натолкнулся на
скамью и на изгородь, споткнулся и упал.
— Тихонько! — сказал он и с трудом поднялся на ноги.
Он вытер руки одну об другую, счистил землю, которая
пристала к коленям, отыскал тросточку, выскользнувшую у
него из рук, и с величайшей осторожностью последовал
дальше. Но это происшествие изменило его настроение. Когда
он упал, в сознании его, словно от толчка, вынырнуло от-
куда-то сомнение: все ли, что он говорил сегодня вечером,
было чистой правдой. Эта мысль нарушила его довольство
собой.
Чувство, что он говорил неправду, охватывало его все силь-
ней. Он попробовал, хотя и не очень успешно, играть с самим
собой в скучную салонную игру, известную под названием
«Распутай». Наверно, вы когда-нибудь играли в эту игру. В то
время как его тело двигалось ощупью вперед в темноте пе-
реулка, сознание его нащупывало дорогу назад в воспоми-
нанья. Он старался подробно и последовательно восстановить
в памяти весь свой рассказ и выяснить, как же это дошло до
того, что он голыми руками захватил в плен и спас кайзера,
и каким образом он дал это решительное сраженье в тылу пе-
ред Амьеном. Когда он начал рассказывать об этом сражении,
он даже и не подозревал о своем присутствии там, для него
это было так же неожиданно, как и для этих леди. Он как-то
незаметно, постепенно проник туда. Но как собственно он очу-
тился там? Когда он излагал взгляды кайзера, у него совер-
шенно не было намерения подносить это как изречения из
его собственных уст. Но и тут тоже трудно было восстано-
вить выпавшие звенья.
Он не мог добраться до исходной точки ни того, ни другого
рассказа. Мозг его был слишком разгорячен, чтобы проделать
весь этот обратный путь шаг за шагом. Но что было совер-
шенно ясно, так это то, что он рассказал две в высшей степени
невероятные истории.
Меланхолия, душевное беспокойство, которые так часто
являются результатом обильного потребления смешанных на-
питков, обволакивали его, словно тяжелыми облаками.
Он ясно чувствовал, что недуг самокритики, которым он
заразился от того зловредного молодого человека в очках,
снова ожил в его крови. Яд оставался все время в его орга-
509
низме. Он чувствовал себя в разладе с самим собой, чего не
случалось с ним ни разу за все эти десять лет, с тех пор как
он уехал из Англии. «Не кажется ли вам,— он ясно слышал
даже его интонацию,— что эта история с замком, не говоря уже
о том, что ничего подобного не было, вышла у вас какой-то
уж чересчур гладкой и недвусмысленной? А уж если говорить
о правдоподобности, не слишком ли вы сгустили краски, при-
своив себе неограниченные полномочия и ответственность в
данной ситуации от начала до конца? Леди переглядывались.
Вы заметили? Ну, право же, они переглядывались. Под конец
в их поведении стало ощущаться что-то явно скептическое. Вы
этого не почувствовали? Но уверяю вас».
Неужели он лгун? Неужели он стал откровенно бесстыд-
ным, бессмысленным лгуном? Таким лгуном, которому даже
не верят? Зарвавшимся сочинителем? Он допрашивал себя с
непривычной и несдерживаемой жестокостью.
Живые изгороди по краям дороги стояли, как присяжные,
готовые вынести приговор. Они настороженно тянулись к нему
длинной черной крапивой, словно внимательно прислушиваясь,
словно уличая его. Длинные колючие ветви ежевики зловеще
наклонялись к нему, чтобы лучше слышать. А эти великолеп-
ные звезды вдруг превратились в свидетелей, готовых разобла-
чить его неопровержимыми фактами.
Но в чем-же его обвиняли? В чем собственно состояло об-
винение? Ведь речь идет уже не о простом вранье. Не об этих
же, в самом деле, несколько преувеличенных измышлениях.
Нет, это опять та же старая тяжба все о том же, что он сделал
со своей жизнью.
В передней его коттеджа был свет, но он чувствовал, что
не может войти к себе в дом в таком состоянии духа. Слишком
это был серьезный спор, чтобы его можно было вести дома.
Он должен разрешить его под открытым небом. Действительно
ли он превратился в отъявленного, закоренелого лгуна? И даже
самое имя его — ложь? Можно поставить вопрос именно так.
Потом будут оправдания, но сейчас следует поставить вопрос
именно так. Сочинитель? Более приличное слово, но смысл
тот же. Он должен выяснить все это. Он повернул прочь от
своей двери и пошел по обсаженной деревьями дорожке, мимо
тисов, к изгороди. Он дошел до самого конца тропинки и не-
которое время стоял совершенно неподвижно.
Звезды сияли, все такие же великолепные, и в воздухе не
чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Согнувшаяся,
искривленная яблоня протягивала свои узловатые ветви в про-
низанную звездным светом глубокую синь, а широкое поле с
поднимающимися всходами простиралось мягкой мглистой по-
лосой к северному краю неба. Большая Медведица перешла
меридиан и катилась вниз, догоняя стройную Кассиопею, уже
взбиравшуюся вверх по бесконечной кривой.
510
Вселенная словно превратилась в чье-то настороженное,
молчаливое присутствие. В единый внятный вопрос. Когда-то
очень давно у него уже было однажды это ощущение присут-
ствия. Но тогда он чувствовал себя в единении с ним — оно
как бы принимало его в себя, пронизывало его своей мощью.
Теперь он был вне его, на очной ставке. Правда, оно и сейчас
пронизывало его, подвергало допросу, но оно не растворяло его
в себе. Он почувствовал, что должен защищаться.
— Ты...— начал он.
Голос его звучал хрипло, и он вынужден был откашляться.
— Ты и твои звезды! — сказал он.
Казалось, он овладел вниманием своего слушателя. Ти-
шина была полная.
— Что же из того, что я лжец? — Он, наконец, справился
со своим голосом.— Ну и что же?
— Ты, там! Слушай! Какое мне до всего этого дело? До
этих звезд? Я тебя спрашиваю, какое мне до этого дело?
— Что ты от меня хочешь?
— Ложь... Я тебя спрашиваю: что такое ложь? Что такое
истина? Разве я уж такое исключение, что ты считаешь себя
вправе допрашивать меня?
Голос его звучал все выше и тоньше оттого, что он ста-
рался придать ему как можно, больше внушительности.
— Почему именно меня уличать во лжи? Лезть ко мне с
каким-то допросом?
— Подстерегать меня зачем-то? Меня?
— Истина. Да что такое истина? Я рассказывал,— ах, ну
будем говорить прямо,— я рассказывал небылицы этим милым
леди. (А в каком они были восторге!) Ну и что же, если я это
делал?
— Я тебя спрашиваю, что из того, что я это делал?
— А разве существует что-нибудь, кроме лжи? Вся эта
наука! Сплошное притворство, будто есть что-нибудь истинное
и достоверное. Ханжество и притворство, будто что-то идет к
лучшему. А нельзя ли уточнить? Уточнить! Прости, если мне
это кажется смешным.
Некоторое время он стоял молча, не находя слов для бес-
порядочно теснившихся мыслей. Ему хотелось доказать, что
в мире нет ничего, что можно было бы считать более достовер-
ным, чем все другое. Он чувствовал, что для него чрезвычайно
важно установить это. В его отягченном и одурманенном мозгу
копошились какие-то спутавшиеся в клубок обрывки всяких
научных и философских споров последнего десятилетия. Ему
хотелось сослаться на астрономов с их бесконечными расхож-
дениями, привести цитаты, доказать, что время и пространство
смешались и что поэтому не существует больше зависимости
между причиной и следствием. Вселенная — это не что иное,
как движущаяся, меняющаяся иллюзорность, прошлое, настоя-
511
щее и будущее, все вместе. Это было бы действительно бле-
стящим и убедительным выступлением, но беда была в том,
что ему подвертывались только отдельные слова, а фразы ни-
как не хотели складываться. Он выкрикивал:
— Эддингтон! Джинс! Уайтбрэд (вместо Уайтхэд)! Про-
тоны! Неоны! И эти новые, как их там — нейтроны,— ни то,
ни другое! Боже, как мне все это надоело! Как надоело!
Это надо было понимать как полное отрицание и даже бо-
лее — окончательное ниспровержение всякой установлен-
ной внешней реальности. Если детали и были несколько
схематичны, то во всяком случае намерение его оставалось
твердым.
— А теперь перейдем к истории и доказательствам,— ска-
зал он.— Перейдем-ка к этому!
Звук его собственного голоса действовал на него весьма
успокаивающе. Звезды ничего не отвечали. Они, казалось, ухо-
дили все дальше.
— Вот тут-то я тебя сейчас и прижму.
И опять связные фразы никак не шли на язык. Но он чув-
ствовал силу своих доводов, даже если он и не мог формули-
ровать их. Что такое религия? Мифология. Что такое история?
Только несколько более правдоподобный подбор мифов. Даже
современная история, а ну-ка разберемся! Он перебрал в уме
целую серию полупрезрительных, полусочувствейцых восклица-
ний, чтобы изобличить эти басни о Великой войне, которые все
страны мира рассказывают ныне себе, и своим детям, и всем,
кто готов им верить. Все они оказываются теперь правы; все
они вышли из войны с честью; все они полностью оправдались.
Он собственно не пытался формулировать эти мысли; они про-
носились в его мозгу вихрем полуосознанных представлений.
Но течение их было ясно для него. Тащи-ка историков на суд,
если тут предъявляется обвинение в сочинительстве. Послу-
шаем-ка, что скажут религия и история, какие они приведут
оправдания. «История — чушь,— сказал старый Форд.— Вы-
думки».
Наконец, он разразился речью.
— Ложь,— сказал он.— Но ложь творческая. Заметь это!
Ложь, которая созидает, ложь, которая поддерживает жизнь.
Ложь, которая делает людей героями. Ложь, которая утешает
умирающего. Ложь, подобная шепоту ангелов над ухом отчаяв-
шегося. Великая ложь, говорю я тебе. Великая!
Его красноречие иссякло.
— Если взглянуть правде в лицо,—сказал он, понизив го-
лос, и запнулся.— Что сделали из человека эти проклятые ис-
катели истины?
Снова мысли его хлынули стремительным потоком, слишком
обильные и бесформенные для слов. Кто осмелится теперь по-
глядеть на то, что сделала с человеком наука? Адам, который
512
запросто гулял с богом в саду, превратился в замученную
обезьяну. В тщетной борьбе со своими страстями он превра-
тился в жалкое животное. А страх! От которого только одно
убежище — воображение! Единственный дар, отпущенный этой
жалкой обезьяне, в ее отвратительной борьбе с фактом. Она
может лгать. Человек — единственное животное, которое
может развести огонь и отогнать хищников в ночи. Он —
единственное животное, которое может создать ложь и отпуг-
нуть зверя отчаяния.
Кто из живущих осмелится честно взглянуть на самого
себя? Кто из всех самых святых и великих людей и героев
прошлого выдержит испытание этих разъедающих современных
истин? Кто посмеет честно проследить бесплодный бег истории
за последние двадцать пять лет? Смотреть на слюнявое слабо-
умие современной человеческой жизни?
— И даже твой проклятый Тедди! — закричал он, снова
разражаясь речью.— Разве он осмелится взглянуть на самого
себя? Честно и прямо поглядеть на себя самого?
Он уперся руками в бедра.
— Боже мой! Подумать только, что со мной сталось бы,
если б я не боролся с тобой.
Он замолчал. Тишина перешла в выжидающее спокойствие.
— Ты мучил меня. Обманутые надежды. Да. Стыд. Да.
О, я не дурак. Но ты так извел меня за эти последние недели,
что вот теперь я приперт к стене. Я — ложь. Я признаю это.
— Я — лжец в мире лжи. Ложь? Грезы! Мир грез. Скры-
тый мир. Мир, который мы создали, чтобы укрыться в нем от
тебя. Маленькие лжи внутри одной большой лжи. Мир само-
обмана. Но большинство из нас так никогда и не узнает, что
это самообман. Я это знаю. И потому, что я знаю это, я строю
свою жизнь так, как мне вздумается, и прошлое, и настоящее,
как мне вздумается. Что было неправдой, теперь стало правдой.
Понятно? Я заставляю это быть правдой. Я схитрил, записался
в армию, когда меня забраковали врачи. Да, я это сделал, го-
ворю тебе. Я руководил боем под Амьеном. Я — ваш покор-
нейший слуга. Я взял в плен кайзера. Беседовал с ним не-
сколько часов. И так далее и тому подобное. Если я хочу, зна-
чит так должно быть. Отныне и до века. Ложь за ложь. Кто
верит в мою ложь, тот мне друг. Это — честная мена и многим
по душе. У меня будет множество друзей. А что такое дружба,
как не обоюдная ложь. Взаимоутверждение. Любишь меня,
люби мою ложь. А кто будет возражать? Ты?
На короткое мгновение слабый оттенок мольбы послышался
в его голосе.
— Что ты такое?
Умоляющая нотка исчезла.
— Да,— повторил он твердым голосом.— Что ты такое?
Вот я и припер тебя. Все это будет длиться, пока я живу. Мой
33
Г. Уэллс, т. 2
513
недолгий век. Ты слишком замкнут. Ты слишком неподвижен...
чтобы помешать мне. Ты не можешь отступить от своей си-
стемы причины и следствия, что бы там ни говорили Уайтбрэд
и Эддингтон и все прочие. Во всяком случае ты не можешь
отступить далеко, а я могу. И я это делаю. Ну и оставайся
со своей старой вселенной. Оставайся со своими звездами, со
всеми своими проклятыми звездами. Они для меня не больше
чем мушиные точки на обоях в моей комнате. Я обойдусь
без тебя. Довольно, мне до тебя больше нет дела. Я то, что
я есть.
Он помолчал, подумал. Затем поправился:
— Я таков, каков я есть.
Но опять это было не совсем правильно, не вполне выра-
жало его мысль, а он хотел выразить свою мысль совершенно
точно. И потом,— надо же вспомнить это,— это была цитата.
— Нет, не то, что я есть, это, может быть, про тебя можно
так сказать. Нет, то, чем мне угодно быть. Понятно?
Он прошептал еще раз:
— Чем мне угодно быть.
Это вот лучше. Это правильно. Этим он утверждает ясно
могущество своей воли.
Он совсем было заговорил снова. Он хоте^ заявить, что
его воля восторжествовала над действительностью, что теперь
он, наконец, вождь своей души, господин своей судьбы, но
вдруг он сразу очнулся и понял, что обращается к пустоте, к
полной пустоте.
Ощущение присутствия незаметно исчезло. Исчезло неза-
метно и это видение Великого Экспериментатора, поднимаю-
щего на свет свою пробирку, исчезло, не оставив ни следа
даже в воображении. Не осталось ничего, что бы могло вни-
мать ему и общаться с ним. Он стоял один, победившая фан-
тазия, душа, торжествующая победу, в мире бездушных фак-
тов. Он стоял под-искривленным деревом, под скрюченным ста-
рым деревом, которое беспорядочно раскинуло узловатые
ветви над темносерым полем пробивающихся всходов, под тем-
ным синим куполом с бесчисленными, непостижимыми, ненуж-
ными звездами. Далекие звезды. Мушиные точки — звезды.
Занятые своим делом. Каково бы оно ни было, это дело.
А он был здорово пьян, разговаривал и кричал.
Он подтянулся и несколько мгновений стоял неподвижно,
молча.
Потом кивнул головой. Да будет так. Он сказал все, что
хотел сказать.
С бесконечным достоинством капитан Блэп-Бэлпингтон по-
вернулся, левое плечо вперед — раз-два-три, твердой солдат-
ской поступью зашагал в темноте под тисами назад к своему
дому. Всякий, кто услышал бы его шаги, даже не видя его,
сразу узнал бы, что это солдат.
514
8
ДЕЛЬФИЙСКУЮ СИВИЛЛУ ПОСТИГАЕТ
ЖЕСТОКИЙ КОНЕЦ
Никогда еще его душевное спокойствие не достигало такой
глубокой, совершенной полноты.
Он чувствовал жажду после этой схватки и прошел в сто-
ловую, чтобы выпить виски с содой, и тут в последний раз очу-
тился лицом к лицу с Дельфийской Сивиллой, которая когда-то
играла такую важную роль в его воображаемой жизни. Он по-
смотрел на ее окутанную покрывалом сестру. И, наконец, по-
вернулся и уставился на распростертую фигуру Адама, который
от прикосновения создателя восстает из небытия навстречу
своей неведомой судьбе. На лице капитана появилось выраже-
ние, какое бывает у человека, который видит неприятного по-
сетителя, вторгшегося в его дом.
— Терпеть не могу этого Ренессанса,— сказал он.
Он огляделся по сторонам и заметил в углу комнаты ма-
ленькую шифоньерку. Повидимому, как раз то, что ему было
нужно. Он открыл верхний ящик. Так и есть. Там лежало не-
сколько альбомов со старыми фотографиями, трофеи, приве-
зенные Белиндой из путешествий, но они только наполовину
заполняли ящик. Там могло хватить места для всех этих трех
картин. Он подумал, затем подошел к Адаму, посмотрел на
него, снял осторожно и положил в ящик. За ним последовала
Кумекая Сивилла. Затем со спокойной непринужденностью он
подошел к предмету своей юношеской любви. Он приподнял
раму и отцепил проволоку с крючков. И вдруг почувствовал,
что он должен остановиться и посмотреть на нее. Это была дол-
гая пауза.
— Усмехаешься,— вымолвил он, наконец, и снял картину.
Но правда ли, что она усмехалась? Он понес ее к свету на
середину комнаты.
Это была не совсем усмешка, скорее кроткая недоуменность,
легкое изумление. Но для него это было оправдание.
— Вечно,— сказал он,— вечно ты суешься с этим своим
сомнением во все, что бы я ни говорил и ни делал.
Он понес ее к ящику, но все еще как-то нерешительно.
Смутное, сохранившееся с давних пор уважение, почти неуло-
вимое воспоминание о той минуте, когда на этих полураскры-
тых губах он почувствовал вкус соленых слез, слез жалости к
нему, проступали в этой нерешительности.
— Йди-ка туда,— сказал он.
Но это было словно спокойное упорство Маргарет — она
не хотела туда идти. Ящик был уже полон. Он придавил кар-
тину рукой, но ящик все-таки не закрывался. Тогда его охва-
тила злоба.
33* 515
— Проклятая! — закричал он.— Вот проклятая! Даже
этого ты сделать не хочешь?
Он с силой толкнул ящик, стекло треснуло, и тут он уже
пришел в ярость. Он выдернул картину и швырнул ее на пол;
рама разлетелась, а она покорно и неподвижно легла у его
ног,— он наступил на нее каблуком:
— Я тебя научу делать по-моему!
Он поднял измятую и истоптанную картину и сломанную
раму и сунул все в ящик. Потом подобрал крупные осколки
стекла, и они так же покорно легли туда же. Ящик послушно
задвинулся.
— А! — вырвалось у него, словно он, наконец, закончил ка-
кой-то спор.
Он вернулся к столу, часто и тяжело дыша; казалось, эти
прерывистые вздохи вот-вот перейдут в рыдания.
Он постоял немного, глядя на закрытую шифоньерку. По-
том налил себе крепкого виски и добавил содовой воды, рас-
плескав пенящуюся жидкость на полированном столике.
Это немножко успокоило его. Он выпил еще.
— Так-то вот,— сказал он, наконец.
Покончено со всем этим. Покончено со слабостью и сен-
тиментальностью. Он утвердил свой собственный мир. Вот
он — военный человек, суровый, дисциплинированный, ограни-
ченный, если хотите,— если вам угодно считать честь, муже-
ство, исполнение долга, подчинение правилам ограничен-
ностью,— но таков он. Мужественный до конца, господин своей
судьбы, а превыше всего — господин своего прошлого.
(Второй стакан виски.)
Эти Наследники! Какой бред! Какой бессмысленный вздор!
Мир всегда был и останется таким, какой он есть. Пусть себе
трясутся над своим новым миром. Храбрые и сильные люди
(еще виски) будут держаться прежних ценностей. Мир, ска-
жите! Единение, выдумали! Почитайте-ка газеты! Неуверен-
ность. Конвульсии. Катастрофа. Но против всего этого — ро-
мантика. Нескончаемая романтика. Такова жизнь была, такою
она и будет. До конца. Храбрость. Призыв к мужественности.
— Adsurn,— сказал он громко.— Adsum !.
Великая старая человеческая история!
Он поднял третий стакан виски.
— За нашу следующую войну, mon general1 2.— Торжест-
венно выпил.
Потом на минутку задумался, уставившись на осколок
стекла на красной плитке около шифоньерки.
Так он стоял несколько секунд, нахмурившись. Это были
последние следы его давнишней сердечной боли. Лицо, которое
1 Я есмь здесь (лат.).
2 Мой генерал (франц.).
516
он уже не мог различить ясно, смотрело на него из темноты.
Старое-старое виденье утраченной красоты, потерянной чести
вернулось снова. Но теперь оно было едва-едва уловимо. Он
поднялся, чтобы изгнать его окончательно.
— Ба! Не думать об этом!
Еще виски? Нет. Нет! Сильные люди знают, должны знать
меру. Но в графине осталось совсем чуть-чуть. Ну, ну, нечего
оставлять на донышке. Мудрое правило. Последний.
— Скальд! — произнес он, уподобившись варягу. (Славные
ребята были эти варяги! Молодцы по части бутылки!)
Великая вещь для поддержания духа — виски! Замеча-
тельно! Он долгое время сидел, наслаждаясь ощущением пол-
ноты, ощущением, которое дарило ему виски. Оно проникало
его всего; оно восстанавливало в нем душевную цельность. Оно
ограждало его ото всех этих безграничных враждебных внеш-
них миров, которые порождают горечь в душе, дикое безумие
желания, неистовство и отчаянье страха, предчувствий, паренье
мысли, мучительное алканье и утрату красоты... Все это оно
изгоняло. И не допускало к нему.
Старые часы на площадке пробили час.
Спать.
Дедовские часы на площадке тикали твердо и громко. Они
казались теперь капитану истинным воплощением решитель-
ности и долга, они шли, шли, не останавливаясь, день и ночь,
неделя за неделей; раз в неделю им делали смотр, заводили, и
снова они шли месяц за месяцем, год за годом. Они были по-
истине символом не рассуждающей дисциплины и долга. Вот
они стоят не шелохнувшись, вытянувшись, стоят на посту, от-
давая честь, действительно отдавая честь, насколько это воз-
можно для часов, салютуя стрелкой, когда он поровнялся с
ними.
Мы, солдаты, понимаем друг друга.
Он ответил на салют, как подобает солдату и джентльмену,
подняв, не сгибая, два пальца, как будто и сам он был лишь
слегка очеловеченным механизмом, и, покачнувшись, стал под-
ниматься наверх.
Прекрасный вечер. Замечательный вечер, утонченные, обра-
зованные женщины — леди.
Все его жизненные ценности, дружно воспрянув, пели со-
гласным хором.
1933
И rt?©K.
КРОКЕТ
1
КРОКЕТИСТ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЧИТАТЕЛЮ
мши не пришлось беседовать с двумя необычными субъ-
JUUXk ектами, которые заставили меня утратить душевный
Д V ИВ покой. Едва ли будет преувеличением сказать, что
kJ К они заразили меня чрезвычайно странными и непри-
ятными мыслями. Мне хочется поделиться с вами
тем, что они мне сообщили,— прежде всего для себя
самого,— чтобы получше разобраться в этой истории. То, что
они мне рассказали, фантастично и несуразно, но если я
изложу это на бумаге, у меня будет легче на душе. Кроме
того, мне хочется изложить все это связно, по порядку и этим
дать возможность моим сочувственно настроенным читателям
успокоить меня и убедить, что в истории, рассказанной
мне этими двумя субъектами, большую роль играло вооб-
ражение.
Я выслушал нечто вроде рассказа о привид'ениях. Но это
не был обычный рассказ о привидениях. Тут гораздо больше
реалистических подробностей, поэтому история эта волнует
несравненно больше, чем заурядные повествования такого
рода. Это не сказка о каком-нибудь доме с привидениями
или о кладбище с призраками. Привидение, о котором мне
рассказали, было куда страшнее: под его властью находи-
лась целая местность. Началось со смутного беспокойства, ко-
торое сменилось страхом; мало-помалу это ощущение стано-
вилось все сильней и напряженней, пока не перешло в
какой-то непрерывный темный ужас. Я не люблю духов, ко-
торые бродят по ночам, наводя страх на людей. Но, пожалуй,
лучше мне начать с начала и рассказать по порядку все как
было.
521
Прежде всего — несколько слов о себе. Конечно, я пред-
почел бы не говорить о себе, но без этого вы вряд ли поймете
мою роль. Я, пожалуй, один из лучших крокетистов нашего
времени и нисколько не стыжусь об этом говорить. Кроме того,
я первоклассный стрелок из лука. Ни тем, ни другим нельзя
быть, не обладая весьма дисциплинированным и уравновешен-
ным характером. Многие считают меня — и я это знаю — не-
сколько смешным и женственным по той причине, что моя
любимая игра — крокет; об этом говорят у меня за спиной,
а порой и прямо в глаза; и, должен сказать, бывали моменты,
когда я готов был с этим согласиться. С другой стороны,
очень многие любят меня, все ласково называют меня Джор-
джи, да и я, в общем, нравлюсь себе. В мире царит великое
разнообразие, и я не нахожу нужным прикидываться челове-
ком нормального типа, когда в действительности я не таков.
С известной точки зрения я, без сомнения, неженка; однако я
умею сохранять хладнокровие и присутствие духа во время
игры и заставляю деревянный шар вести себя, как дрессиро-
ванное животное. На теннисном корте мне удается приводить
в глупую ярость некоторых игроков из категории свирепых.
К тому же я не хуже любого профессионала проделываю
фокусы, требующие ловкости рук, известной смелости и пол-
ного самообладания.
В сущности говоря, многие «великие» спортсмены, рекор-
дисты, игроки и т. д. гораздо больше мне сродни, чем они вооб-
ражают. В их притязаниях на мужественность немало лице-
мерия. В глубине души они такие же смирные, ручные зверьки,
как и я. Они уходят от жизни в игру. Я допускаю, что крокет,
хоккей и т. п. больше напоминают упражнения гладиаторов,
чем мой излюбленный спорт, что авиация и автомобилизм
представляют больше опасностей, а карточная игра больше
волнует; но, по-моему, все эти виды спорта имеют такое же
отношение к реальности, как мой крокет. Ведь такого рода
риск является чем-то искусственным, они такие же игроки, как
и я, и, подобно мне, всю жизнь заняты безобидной и бесплод-
ной деятельностью.
Я признаю, что моя жизнь была исключительно бедна
событиями. Я родился слишком поздно, чтобы принять уча-
стие в мировой войне, и прожил всю жизнь в спокойной обста-
новке, окруженный комфортом. Воспитывала меня тетка,
сестра отца, мисс Фробишер — та самая мисс Фробишер,
активная участница всемирного женского гуманистического
движения. Когда я вырос, я понял, что воспитание мое было —
как это ни парадоксально звучит — в высшей степени баналь-
ным. Все поучения носили негативный характер: не делай
того-то. Меня приучили сохранять спокойствие, быть учтивым
и не реагировать бурно на всякого рода неожиданности.
522
И прежде всего считаться только с тем, что общепризнанно,
и соблюдать приличия.
Тетка взяла меня к себе трехлетним ребенком, когда мои
родители разошлись, и с той поры уже не отпускала меня. Эта
женщина глубоко ненавидит и презирает все, что связано
с половой жизнью; дурное поведение моих родителей,— газеты
в ту пору печатали подробные отчеты о бракоразводных про-
цессах,— равно как и некоторые детали этого дела до край-
ности ее шокировали. Когда я поступил в школу в Гартоне,
она сняла дом поблизости и определила меня приходящим
учеником; так же поступила она и позже, когда я обучался
в Кибле. Вероятно, у меня были задатки неженки; благодаря
такому воспитанию они только развились.
У меня нежные руки и слабая воля. Я предпочитаю не при-
нимать важных решений. Тетушка сделала из меня своего
постоянного помощника и единомышленника, она на каждом
шагу проявляла ко мне безграничную материнскую любовь,
и в результате у меня развилась излишняя снисходительность
к самому себе и я не приучился к самостоятельности. Впро-
чем, я не осуждаю ее за это и даже не слишком об этом
скорблю. Такими уж мы созданы. Она всегда была богата
и могла делать что хотела и помыкать другими, я же всегда
чувствовал себя обеспеченным и надежно укрытым. До поры
до времени нам жилось легко. Подобно большинству знакомых
богатых людей, мы принимали как должное и свое при-
вилегированное положение, и подобострастие слуг, и все-
общее почтение. Полагаю, что на свете есть сотни людей,
столь же обеспеченных материальными благами жизни, как
мы, и так же приемлющих это как нечто само собою разумею-
щееся.
«Что нам делать? — спрашиваем мы.— Куда бы нам по-
ехать?» Мы вольны поступать, как нам нравится. Мы — сливки
человечества.
У нас собственный дом на улице Аппер Бимиш, в скромном
местечке в Гемпшире, и мы частенько разъезжаем по свету.
Моя тетушка, как известно многим, женщина весьма темпера-
ментная — темпераментная отнюдь не в предосудительном
смысле,— и порой мы воспламеняемся энтузиазмом ко всемир-
ному женскому гуманистическому движению (я, впрочем,
никогда толком не понимал, что это за движение) и разъез-
жаем по всем уголкам земного шара, где только есть в гости-
ницах номера с отдельной ванной, на чем тетка безусловно
настаивает; «поддерживаем контакт» обычно до тех пор,
пока у тетушки не произойдет каких-нибудь неприятностей на
почве выборов в комитет; после этого на год или на два мы
забываем о всемирном женском гуманистическом движении
и гоняем шары по крокетным площадкам в обществе чем-
пионов этого спорта или же завоевываем почетные значки
523
искусной стрельбой из лука. Мы оба очень сильны в этом
искусстве, и художник Уилмердинге даже изобразил мою те-
тушку в виде Дианы.
Но особенно сильны мы в крокете. Мы, наверное, были бы
чемпионами, если бы не гнушались рекламы и вульгарности.
Кроме того, мы довольно сносно играем в теннис, а в гольф,
пожалуй, похуже; но в теннисе теперь разбираются реши-
тельно все, так что мы не любим быть предметом наблюдения
во время этой игры; гольф же, по нашему мнению, дает воз-
можность сталкиваться с самыми разнообразными людьми.
Иногда мы играем просто ради отдыха. В последнее время мы
отдыхали таким образом в Ле Нупэ после крайне обескуражи-
вающей конференции представительниц женского гуманистиче-
ского движения в Чикаго. (Чем меньше мы скажем об этих
американских делегатках, тем лучше; но тетка моя вполне
им под стать.)
Полагаю, что теперь вы получили достаточно ясное пред-
ставление обо мне и о моем образе жизни. В Ле Нупэ были
две прекрасных площадки для гольфа, и мы нашли отличного
секретаря-стенографистку, которая вела обширную корреспон-
денцию тетки по женскому движению, а главное — по ее про-
цессу о клевете против миссис Глайко-Гарриман; утром она
стенографировала, днем переписывала на машинке, а после чая
приносила письма на просмотр. Там нашлось несколько
довольно милых людей, с которыми приятно было поболтать
о том о сем. До ленча, а иногда и после ленча — крокет,
в восемь вечера — обед. В бридж мы играем только после
обеда, это наше нерушимое правило.
Таким образом, у меня оставалось немало свободного вре-
мени, покуда тетка писала.свои письма, заносчивые и сарка-
стические, как могло показаться человеку, не знающему ее
задорного нрава; с утра я отправлялся на прогулку, подни-
мался на гору, к источникам Пероны, где я пил воды не
столько для здоровья, сколько для развлечения, а потом сидел
в состоянии блаженной праздности на террасе отеля «Источ-
ник», стараясь заглушить чернильный привкус воды различ-
ными прохладительными напитками. Моя тетушка — убежден-
ная трезвенница; но за последние годы я понял, что, если
буду в таких делах следовать моим личным вкусам, это будет
и приятней и полезней для нас обоих. Я хочу сказать, что из
нас двоих я более общителен и могу быть приятным собесед-
ником.
Думаю, что сказанное довольно хорошо обрисовывает меня;
и теперь, с вашего разрешения, я отступаю, так сказать, на
задний план, чтобы познакомить вас с первым из двух чуда-
ков, с которыми я встретился на террасе Пероны.
524
2
СТРАХИ НА КАИНОВОМ БОЛОТЕ
Я впервые увидел доктора Финчэттона на террасе, где,
покусывая булочку, я тянул безобидный вермут с сельтерской
водой. Доктор Финчэттон сидел за два столика от меня и яро-
стно сражался с книгами, взятыми из местной библиотеки.
Он раскрывал их одну за другой, прочитывал несколько стра-
ниц, потом, что-то сердито бормоча, швырял книгу наземь
с энергией, способной привести в отчаяние библиотекарей.
Подняв голову, он встретил мой укоризненный взгляд. Он
уставился на меня, потом улыбнулся.
— Десятки книг,— проговорил он,— сотни книг — и ни
одной стоящей! Все они никуда не годятся!
В его негодовании было что-то комическое.
— Зачем же вы их читаете? — спросил я.— Чтение загро-
мождает память и мешает думать.
— Это как раз мне и нужно! Я приехал сюда для того,
чтобы перестать думать — и забыть. И никак не могу! — В го-
лосе его, чистом и звонком, послышались гневные нотки.—
Одни из этих книг скучны, другие раздражают. А иные даже
напоминают мне о том, что я стараюсь забыть!
Перешагнув через груду отвергнутых томов, он направился
ко мне с графином и рюмкой и, не дожидаясь приглашения,
сел за мой столик. Он поглядел мне в глаза с приветливым
и слегка насмешливым выражением. Я знаю, что лицо у меня
слишком «херувимское» для тридцатитрехлетнего мужчины,
и было совершенно ясно, что он это заметил.
— А вы много думаете? — спросил он.
— Порядочно. Почти каждый день я занимаюсь отгады-
ванием кроссвордов «Таймса». Я часто играю в шахматы —
главным образом заочно. И неплохо играю в бридж.
— Я говорю не об этом. Думаете ли вы всерьез о том,
что вас мучает и угнетает, о том, что вы не можете объ-
яснить?
— Меня ничто не угнетает.
— Вы интересуетесь духами и случаями одержимости?
— И да и нет. Я не из тех, кто верит в духов, но не могу
сказать, что я в них не верю. Вы меня понимаете? Я их нико-
гда не видел! Полагаю, что в пользу спиритизма можно при-
вести очень много соображений, хотя в этой области шарла-
танства хоть отбавляй. Мне кажется, спиритам удалось дока-
зать бессмертие, и это хорошо. Моя тетушка, мисс Фробишер,
совершенно такого же мнения. Но столоверчение, спиритичё-
ские сеансы и прочее — это, по-моему, дело специалистов.
— А что, если бы вы обнаружили, что вас окружают духи?
525
— Никогда не приходилось.
— Ну, а здесь ничто не вызывает в вас беспокойства?
— Где? — спросил я.
— Здесь,— повторил он и указал рукой на спокойное море
и мирный небосклон.
— Да что же здесь может быть такого?
— А все-таки есть?
— Решительно ничего.
— Завидую вашей невосприимчивости — или вашей невоз-
мутимости! — Он допил рюмку и потребовал еще пол-литра
вина. Потому ли, что он не разбирался в винах, или по осо-
бому пристрастию, он пил красное столовое.— Разве вы не
чувствуете, что тут что-то есть? Что-то опасное?
— Я никогда не созерцал более успокоительной картины.
На небе ни облачка!
— Со мною не так... У меня были мучительные пережива-
ния. Я до сих пор еще не могу успокоиться. Странное дело!
Вы ничего не чувствуете. Может быть, я стал так восприим-
чив после того, как это произошло...
— А что собственно произошло?
— Мне бы хотелось рассказать вам... Это, знаете ли, целая
история.
— Пожалуйста,— сказал я.
После такого введения он начал рассказывать. Сперва
довольно бессвязно, но потом дело пошло гладко. Рассказы-
вал он, видимо, не потому, что хотелось поделиться именно со
мной, а потому, что ему был нужен слушатель и он хотел
услыхать, как прозвучит его рассказ. Я почти не перебивал
его.
Может быть, я поступил очень глупо, позволив ему рас-
сказывать. Я даже не знал, кто он такой. Он не назвал себя,
и мне пришлось осведомиться о его фамилии. В нем было
что-то чудаковатое; я совершенно забыл, что большой дом,
стоявший на холме, высоко над городом, именовался «Домом
для душевнобольных» — психотерапевтический институт, как
выражаются теперь,— и. мне собственно следовало улизнуть
отсюда под каким-нибудь предлогом, пока он еще не присту-
пил к рассказу.
Но в нем ничего не было такого, что могло бы заставить
меня насторожиться. Ни в его манерах, ни во внешности не
было ничего эксцентричного. У него был изнуренный вид чело-
века, страдающего бессонницей, под глазами темные круги? но
в остальном он казался вполне нормальным. На нем был
довольно заурядный серый костюм, цветная рубашка и скром-
ный галстук. Галстук был повязан несколько криво, но это
пустяки. Очень многие мужчины не умеют повязывать галстук
как следует, хотя мне трудно представить себе, как они с этим
мирятся. Повязать галстук правильно вовсе не трудно. Мой
526
новый знакомец был худощав и довольно хорош собой; у него
был, как принято выражаться, чувственный рот под короткими
усиками. Он сидел, подавшись вперед и положив скрещенные
руки на стол. Говорил он, пожалуй, чересчур патетично, но,
повидимому, следил за собой. И так как до возвращения в Ле
Нупэ у меня оставался еще добрый час времени, то я предо-
ставил ему изливаться.
— Первое время,— говорил он,— я думал, что все дело в
болотах.
— В каких болотах?
— В Каиновом болоте. Вы слышали о Каиновом болоте?
В школе я был довольно силен в географии, но такого
названия не мог припомнить. Мне, однако, не хотелось с места
в карьер сознаться в своем невежестве. Слово казалось мне
немного знакомым. «Болото» как будто давало какую-то нить.
Перед моим взором смутно маячили трясины, низко нависшее
небо, сырые прелые соломенные крыши, пришвартованные
барки и полчища гудящих комаров.
— Рассадник малярии и ревматизма,— сказал он, словно
в ответ на мои мысли.— Я купил себе там практику... Про-
стите за эти подробности биографического характера. Сделал
я это отчасти потому, что отступного потребовали удивительно
мало, а при моих ограниченных средствах мне нужно было
иметь какой-нибудь заработок; отчасти же потому, что мне
хотелось оставить клинику и Лондон и дать отдых голове.
Я приехал туда измученный и разочарованный. Работа на
первый взгляд казалась легкой. Конкуренции там по существу
не было, если не считать района так называемого «Острова»,
куда иногда заезжают врачи из ближайшего города. Зато
в приходы, расположенные на окрестных холмах и среди
солончаков, они никогда не заглядывают, разве что их вызо-
вут туда на консилиум. Пришлось приступить к практике, не
получив достаточно высокой квалификации, так как мне необ-
ходима была спокойная обстановка... Я отказался от мысли
добиться медицинской степени.
Он сделал паузу, словно подыскивая слова.
— Вы заболели? — подсказал я.— Почему вы покинули
клинику, не получив должной квалификации? Простите за
откровенность, но вы не похожи на человека, провалившегося
на экзаменах.
— Я не провалился на экзаменах. В сущности во мне
честолюбия даже больше чем следует. Мне кажется, я слиш-
ком напряженно работал. И слишком много размышлял над
различными вопросами. Политикой занимался я усерднее, чем
большинство наших студентов-медиков. Меня очень волновали
социальные вопросы, особенно вопрос о войне. Я работал
сверх сил. Может быть, я слишком много думал и пережи-
вал... Да... Да, конечно, я слишком много переживал. Насту-
527
пило время, когда газета могла так взбудоражить меня, что
после этого я целый день не в состоянии был работать.
Надо Сказать, что мои нервы были в постоянном напряже-
нии с самого начала моей учебы. Да, так оно и было. Я не
любил анатомирования; я не любил порченной человечины в
палатах. Кое-что возбуждало во мне жалость; иное ужасало.
Я согласился с ним:
— Медицина всегда приводила меня в ужас. Я бы этого
не вынес!
— Но ведь врачи необходимы,— возразил он.
— Во всяком случае, я не стал бы врачом. За всю свою
жизнь я видел не больше трех покойников, да и те мирно
лежали в постели.
— Ну, а на дорогах? Когда ездишь в автомобиле, вечно
натыкаешься на ужасные зрелища.
— Мы никогда не ездим в автомобиле. Все здравомысля-
щие люди теперь от этого отказались.
— Вы, как я вижу, с детства избегали уродливых сторон
жизни. Ну, а я нет. Я сразу погрузился в жизнь, когда избрал
медицину. Я думал о добре, которое мог принести, и никогда
не думал о мрачных сторонах действительности. Вы уклони-
лись. Я же сперва пытался не уклоняться, а потом сбежал.
Когда я отправился в свой район, у меня было такое чувство,
словно я убегаю от жизни. Там, говорил я себе, никогда не
будет ни войны, ни бомбежки. Там я смогу прийти в себя.
Там будут только нормальные больные, к которым я смогу
поближе подойти и оказать помощь. Каиново болото лежит
в стороне от больших дорог. Там не будет даже пострадавших
от автомобильных катастроф, на которых иногда бывает жутко
смотреть. Вы улавливаете мою мысль? Каиново болото каза-
лось мне лучшим из миров, и меня даже прельщала перспек-
тива приехать туда летом, когда распускаются полевые цветы,
когда порхают сотни бабочек и стрекоз и всюду носятся птицы,
а по рекам плавают лодки, оборудованные для жилья, на
которых приезжают туристы и рыболовы с семьями. Я бы
расхохотался, если бы мне сказали, что я попаду в страну
привидений!
Я принял все меры, чтобы успокоить свои нервы. Я не
выписывал газет. Я довольствовался краткими еженедельными
обозрениями с диаграммами, но без иллюстраций. Я не рас-
крывал книг, написанных после Диккенса.
Местные жители показались мне вначале туповатыми и
скрытными, но добродушными. Ничего подозрительного я в
них тогда не заметил. Старик Роудон, викарий церкви Свя-
того Креста в Слэкнесе, стоявшей на высоком холме, рассказал
мне, что жители потихоньку злоупотребляют наркотиками,
спасаясь от лихорадки, и что он склонен считать их привет-
ливость показной. Я в первый же свободный час явился
528
засвидетельствовать ему свое почтение. Это был пожилой,
туговатый на ухо мужчина; в приход Святого Креста в Слэк-
несе он переехал по болезни. Церковь и дом священника стояли
на возвышении, напоминающем спину крокодила и поросшем
вязами; возле них два-три коттеджа. Сомневаюсь, собиралось
ли на его проповеди хоть два десятка душ. Он был не слиш-
ком словоохотлив, его старая, согнутая в дугу жена — и того
меньше; у него были камни в печени и растяжение жил на
ноге, и больше всего забот ему, кажется, доставлял новый
священник — поборник «высокой церкви», недавно прибывший
в приход Марш Хэверинг. Сам он, повидимому, принадлежал
к «низкой церкви» и симпатизировал кальвинизму; но первое
время я не мог понять, почему он говорит о своем младшем
собрате с такой опаской и с таким возмущением. Дворянских
поместий на Каиновом болоте не было, а население, если не
считать ветеринара, нескольких учителей начальной школы,
двух-трех трактирщиков и нескольких содержателей гостиниц,
состояло исключительно из фермеров и сельскохозяйственных
рабочих. У них не было ни фольклора, ни песен, ни кустарных
изделий, ни местных костюмов. Трудно представить себе- почву,
менее подходящую' для каких бы то ни было психических
феноменов. И все же, знаете...
Он нахмурился и продолжал размеренно, словно стараясь
выразиться как можно ясней и заранее отвечая на возмож-
ные возражения с моей стороны:
— В конце концов... Жизнь там такая тихая, обыденная,
невозмутимая... Может быть, именно потому все, что в более
красочной и богатой событиями среде таится под поверхно-
стью, там выплывало наружу, действовало на воображение.
Он помолчал, выпил бокал врна, подумал и продолжал:
— Тишина в этом районе удивительная! Иногда я оста-
навливал автомобиль на какой-нибудь извилистой дороге, про-
ходящей по дамбе, и долго стоял на месте, прислушиваясь,
прежде чем двинуться дальше. Было слышно, как пасутся
овцы на лиловых холмах в четырех-пяти милях от меня; или
доносился отдаленный вскрик водяной курочки, резкий, похо-
жий на вспышку неонового света в безмолвной лазури; или
шум ветра и моря у Бикон Несса, в двенадцати милях расстоя-
ния, и тогда казалось, что это земной мир дышит в дре-
моте. Ночью, разумеется, звуков было больше: в отдалении
выли и лаяли собаки, кричали коростели, и какие-то твари
шуршали в камышах. Но и ночью бывает порой гнетущая
тишина...
Первое время я не придавал особенного значения тому,
что местные жители, с виду такие бесчувственные, потребляют
так много снотворных и опийных препаратов, равно как и тому,
что число самоубийств и необъяснимых преступлений — необъ-
яснимых в отличие от имеющих естественную мотивировку —
34 Г, Уэллс, т. 2 529
было в этом округе исключительно велико и как будто даже
возрастало. При таком малочисленном населении одно-два
лишних убийства могло дать значительное отклонение от
нормы. Когда я встречал местных жителей лицом к лицу, при
дневном свете, я не замечал в их облике ничего злодейского.
Они не смотрели вам в глаза — но, может быть, таково было
их представление о благовоспитанности. Как раз за последние
пять лет на Каиновом болоте произошло не менее трех чудо-
вищных убийств родичей и соседей, причем в двух случаях
виновники остались еще нервзысканными. Третий случай был
братоубийством. Когда я заговорил об этом с викарием, он
буркнул что-то насчет «дегенератов, слишком густо переже-
нившихся между собой», и переменил разговор, словно это
была неприятная тема, не представлявшая для него особенного
интереса.
Первым результатом воздействия странной атмосферы,
нависшей над Каиновым болотом, был приступ бессонницы. До
этой поры сон у меня был превосходный, но через два месяца
после того как я обосновался на болоте, он стал тревожным.
Я просыпался, испытывая странное беспокойство, причем не
мог объяснить свои кошмары никакими физиологическими
причинами. Сны были особенные, какие никогда раньше мне
не снились. Мне грозили, меня подстерегали, выслеживали и
преследовали, я яростно дрался, обороняясь, и просыпался
с криком, весь в поту, дрожа всем телом. Порою сны бывали
так жутки, что я после этого боялся уснуть. Я принимался за
чтение, но, что бы я ни читал во время этих всенощных бде-
ний, ощущение ужаса не покидало меня.
Стараясь избавиться от этого невыносимого состояния, я
прибегал ко всяким средствам, какие только могут прийти
в голову молодому врачу,— но без всякой пользы. Я сажал
себя на диету. Занимался гимнастикой. Вставал с постели, оде-
вался и отправлялся гулять пешком либо в автомобиле, не-
смотря на сильнейший страх. Ужас, зародившийся во сне,
продолжал преследовать меня и наяву. Надо мной тяготело
состояние кошмара, который я не в силах был стряхнуть.
Я грезил наяву. Никогда еще я не видел такого зловещего
неба, как во время этих ночных экскурсий. Я пугался каждой
незнакомой тени, чего со мной не бывало и в детстве. Во время
этих ночных прогулок случалось, что я громко кричал в тоске
по дневному свету, как человек, задыхающийся в запертой
камере, вопит о глотке воздуха.
Разумеется, эта бессонница начала в конце концов под-
тачивать мое здоровье. Я стал нервозен и склонен- к фанта-
зиям. Я стал замечать, что у меня бывают галлюцинации, не-
сколько похожие на те, какие характерны для белой горячки,
Но они были еще страшней. Я внезапно оборачивался, испы-
тывая ощущение, что у меня за спиной беззвучно крадется
530
гончая, готовая броситься на меня; или же мне мерещилось,
что из-под чехла, покрывающего кресло, выползает черная
змея.
Появились и другие симптомы потери душевного равнове»
сия. Я поймал себя на том, что подозреваю врачей «Острова»
в заговоре против меня. Какие-нибудь незначительные мелочи,
досадные инциденты, нарушения приличий, мнимые обвине-
ния разрастались у меня в воображении, словно я был одер-
жим манией преследования. Я с трудом удерживался от жела-
ния написать дурацкое письмо, бросить вызов или потребовать
объяснений. Потом мне стали казаться зловещими молчание
и жесты некоторых моих пациентов. Я сидел у их постели,
и мне мерещилась какая-то враждебная суетня, злобные пере-
шептывания за дверью.
Я не понимал, что со мной творится. Я старался вспомнить,
не было ли со мной какого-нибудь нервного потрясения, и не
мог ничего припомнить. Все это осталось позади, в Лондоне.
Температура и физическое самочувствие у меня были нор-
мальные. Но ясно было, что я никак не могу приспособиться
к новой среде. Каиново болото обмануло мои ожидания. Оно
не дало мне исцеления. Но необходимо было взять себя в руки.
В эту практику я вложил весь свой небольшой капитал, и при-
ходилось держаться за нее. Деваться мне было некуда. Надо
было сохранить спокойствие, мужественно встретить напасть
и побороть ее, прежде чем она доконает меня.
Но была ли это только моя напасть? Со мною ли неладно,
или же неладное кроется в самой местности? Преследуют ли
кошмары и галлюцинации и других жителей болота, или же
это — заболевание, жертвой которого становятся только ново-
селы, а потом оно проходит? Быть может, через это надо
пройти всякому? Быть может, это своего рода акклиматиза-
ция? В расспросах мне приходилось быть осторожным: врачу
не следует признаваться, что с ним не все ладно. Я стал наблю-
дать за своими пациентами, за своей старой служанкой, за
всеми, с кем мне приходилось общаться,— не обнаруживают
ли они симптомов, сходных с моими. И я нашел то, что
искал. Под маской тупоумия в этих людях таилось глубокое
беспокойство! Их, как и меня, преследовал страх. Это был
страх привычный, укоренившийся. Но какой-то неопределен-
ный. Они страшились чего-то неведомого. Этот страх мог
сосредоточиться в любой момент на чем угодно, и что угодно
могло стать предметом ужаса.
Я приведу вам несколько примеров.
Как-то вечером одна из моих пожилых пациенток оцепе-
нела от ужаса при виде какой-то тени в углу; когда я при-
двинул свечу и тень задвигалась, старуха громко вскрикнула.
—• Но ведь тень не может причинить вам вреда,— стал я
ей доказывать.
34*
531
— Я боюсь! — отвечала она, словно это был убедительный
довод. И не успел я остановить ее, как она схватила часы,
стоявшие на ее ночном столике, швырнула их в черную, жут-
кую пустоту и спряталась с головой под одеяло. Должен при-
знаться, что с минуту я стоял в полной неподвижности, уста-
вившись в угол, на разбитые часы.
В другой раз я был свидетелем того, как один фермер, охо-
тившийся на зайцев, остановился, с ужасом уставился на тре-
павшееся на ветру воронье пугало и, не замечая меня, вне-
запно поднял ружье и выстрелом разнес в клочья безобидное
чучело.
Все поголовно боялись темноты. Я убедился, что моя ста-
рая служанка после сумерек не решается пойти даже к почто-
вому ящику, находящемуся в каких-нибудь ста ярдах от дома.
Она приводила всевозможные отговорки, когда же ее припи-
рали к стенке, просто отказывалась идти. Мне приходилось
самому отправлять свои письма или ждать почты до утра.
Я узнал, что даже влюбленные парочки ничто не могло
выманить из дома после заката солнца.
Не могу передать вам,— продолжал он,— как это ощуще-
ние жути овладело мной и стало все усиливаться и усили-
ваться; под конец оно так отравило меня, что хлопанье ставня
на ветру или падение уголька из камина заставляли меня
вздрагивать.
Я не мог отделаться от этого состояния; ночи стали мне
невыносимы. Я решил серьезно поговорить обо всем этом со
старым викарием. С одной стороны, этот округ находился в
его ведении, а с другой — в моем. Он должен знать, что тут
творится! К этому времени мои нервы вконец расстроились.
После одной особенно жуткой и тяжелой ночи я решил, не
откладывая, отправиться к викарию. Очень уж мне было
плохо...
Помню, с каким чувством полной своей беззащитности
ехал я к нему по болотам. Они казались слишком голыми,
слишком открытыми, чтобы там могла гнездиться опасность.
Когда же я приближался к группе деревьев или кустов, мне
мерещилась в них засада. Меня покинула уверенность, от
природы присущая всякому живому существу. Я чувствовал,
что окружен бесчисленными напастями, что они угрожают
мне. Среди бела дня, заметьте, в ясный солнечный день!
И никого кругом, кроме птиц...
Мне повезло: в этот день старик был расположен к раз-
говору.
Я прямо приступил к делу.
— Я в этих краях новичок,— начал я.— Не замечается ли
тут что-нибудь этакое неладное?
Он уставился на меня и, почесывая щеку, обдумывал, какой
дать ответ.
532
— Как же, замечается,— сказал он.
Он повел меня к себе в кабинет, с минуту прислушивался,
как бы желая удостовериться, что никто нас не услышит,
потом тщательно запер дверь.
— Вы слишком чувствительны,— проговорил он.— С вами
это началось раньше, чем со мной. Что-то неладное — и все
хуже и хуже... Что-то скверное!
Я отчетливо запомнил эти его первые слова, его слезя-
щиеся старческие глаза и гнилые зубы в полуоткрытом рту.
Он подсел ко мне поближе, пощипывая длинной костлявой
рукой волосатое ухо, и попросил:
— Не говорите слишком громко. Если вы будете говорить
раздельно, я услышу.
Он был очень доволен, что может, наконец, выговориться.
Он надеялся спокойно дожить свои дни на болоте, но мало-
помалу им овладела смутная тревога, неприметно пере-
шедшая в страх. Переменить обстановку он не имел воз-
можности. Он, как и я, застрял в этом краю. Говорить об
этом было тяжело. Его жена никогда не заговаривала с ним
на эту тему. До переселения сюда они были нежные друзья
и собеседники.
— А теперь,— уверял он,— нас что-то разъединяет. Я не
могу, больше разговаривать с женой! Я не знаю, что с ней
творится.
— Что же вас разъединяет? — спросил я.
— Зло.
Так он назвал это.
— Оно разъединяет всех,— продолжал он.— В самых обык-
новенных вещах начинаешь усматривать признаки чего-то
зловещего.
Недавно у него вдруг зародилось подозрение относительно
пищи,— ему почудился в ней какой-то странный привкус и
необычные ощущения после еды.
— Я начинаю опасаться за свой рассудок,— продолжал
он.— За свой или за женин. И все-таки с пищей было что-то
неладное. Хотя — кому это нужно?..— Больше он об этом не
р а сп р остр а н я л ся.
Местные фермеры показались ему вначале просто тупоум-
ными. Потом он начал понимать, что они не так уж тупо-
умны, но до крайности скрытны и подозрительны. Иногда в их
взгляде ему чудился огонек, как в глазах собаки, готовой
цапнуть человека. И даже у детей воровато бегали глаза,
когда он начинал следить за ними. Без причины. Решительно
без всякой причины! Это он шепотом сообщил мне.
Он еще ближе придвинулся ко мне.
— Они жестоко обращаются с животными,— сказал он.—
Они бьют своих собак и лошадей! Не всегда. Но как-то при-
ступами.
533
— Дети приходят в школу с синяками,— продолжал он.—
И от них нельзя добиться ни слова... Они запуганы.
Я спросил его, не чувствует ли он, что это зло усиливается,
растет. Всегда ли здесь было так? Писаной истории этого
района не имеется. Он думает, что оно усиливается. Раньше
здесь было не так, как сейчас. Я высказал предположение, что
зло могло всегда существовать в атмосфере этого края, но
что мы заметили его только тогда, когда начали испытывать
на себе его влияние.
— Возможно. Отчасти вы правы,— согласился он.
Старый викарий рассказал мне кое-что о своем предшест-
веннике. Его с женой посадили в тюрьму за зверское обра-
щение с девушкой, находившейся у них в услужении. В тюрьму!
Они ссылались на то, что она лгала и у нее были дурные
привычки. Так они оправдывались. А на деле они просто нена-
видели ее... Но до их прибытия на болото за ними никто и
никогда не знал ничего дурного.
— Оно всегда было здесь,— прошептал старый викарий.—
Всегда! Под поверхностью. Какой-то проклятый злой дух
овладевает всеми нами. Я молюсь. Не знаю, что было бы со
мною, если бы я не молился. Я бы просто не вынес этой жизни:
денег уходит пропасть, и все так грубы и делают мне всякие
гадости, швыряют в меня камнями... Не говоря уже о яде.
Яд угнетает меня больше всего...
Такую беседу вели мы среди бела дня в его большом,
обшарпанном и скудно меблированном кабинете; такая беседа
скорее пристала бы людям, притаившимся в пещере.
Постепенно его речь становилась все больше похожей на
бред. Зло гнездится в почве, объявил он, под землею: оно под-
земное. Он подчеркнул слово «подземное». При этом он дро-
жащей рукою указал вниз. В Каиновом болоте погребено нечто
могучее и страшное. Какое-то колоссальное Зло. Раздроблен-
ное. Рассеянное по всему болоту.
— Мне кажется, я знаю, что это такое,— боязливо шепнул
он, но не сразу объяснил, в чем дело.— Они тревожат его, не
хотят оставить в покое!
Кто эти «они», было трудно понять. В последние годы на
болоте прокладывались дороги, велись дренажные работы,
а теперь производятся раскопки. И это еще не все. Во время
войны распахали старинные пастбища. Вскрылись старые
язвы.
— Понимаете, вся эта местность была некогда пустыней»
усеянной могилами!
— Курганами? — спросил я.
— Нет,— настаивал он.— Могилы — кругом могилы!
Некоторые из древних людей, по его словам, «окаменели»,
В этих местах попадались камни самой удивительной формы.
Омерзительные! И они продолжают выкапывать всевозможные
534
вещи, говорил он. Вещи, которые лучше бы оставить в покое.
Необходимо оставить в покое! Они сеют сомнения, задают
загадки, разрушают веру!
И вдруг викарий ни с того ни с сего начал разносить дар-
винизм и теорию эволюции. Воспоминания о полемике, какую
ему приходилось вести всю жизнь, причудливо переплетались
у него в мозгу с тяжелыми впечатлениями от Каинова болота!
Он спросил меня, был ли я в музее в Истфоке.
Тут он заговорил о выставленных там исполинских костях.
Я заметил, что он, вероятно, имеет в виду кости мамонтов,
динозавров и тому подобных животных.
— Исполинов! — настаивал он.— Обратите внимание на то,
что «они» называют орудиями! Орудия эти слишком велики
и неуклюжи, чтобы обыкновенный человек мог управляться
с ними. Топоры, копья — одни лишь колоссальные орудия убий-
ства!— «Смертоносные камни»,— так окрестил он их. Смерто-
носные камни исполинов!
Он сжал костлявую руку в кулак, его дрожащий голос
повысился до крика и глаза вспыхнули неподдельной
злобой.
— Люди, откапывающие эти кости,— продолжал он,— ни
перед чем не останавливаются. Они раскапывают черные
тайны! Им кажется, что они опровергают... Могила есть могила,
покойник есть покойник, пролежи он в земле хоть миллион
лет! Пусть себе эти злые создания лежат! Оставьте их лежать!
Оставьте их прах в покое! — Теперь старик уже не шептал
трусливо, как в начале нашей беседы; в приступе ярости он
позабыл о своих страхах. Он не слушал моих возражений.
Он разразился необузданной филиппикой. Все его дряхлое
тело тряслось от гнева. Главным объектом его нападок были
местные археологи и натуралисты, но самым странным и нело-
гичным образом он приплел сюда свое возмущение обрядами
«высокой церкви», которые ввел новый священник в Марш
Хэверинге.
— Как раз в тот момент, когда Зло вырвалось на волю и,
подобно испарениям, поднялось из болот, когда все нужнее
правая вера, единая истинная вера,— кричал он, потрясая
руками,— является этот субъект со своим облачением, ста-
туями, музыкой и маскарадом!
Впрочем, я все равно не сумею описать неистовство этого
несчастного старика, передать его яростные хриплые вопли.
Он требовал подавления, преследования науки, Рима, всякой
безнравственности и нескромности, всякой веры, кроме его
собственной, преследований и покаяния, без которых нельзя
спастись от Гнева, неумолимо надвигающегося на нас!
— Они ворошат землю, они выкапывают древние предметы,
и мы дышим прахом давно умерших людей! — Казалось, этими
криками он хотел разогнать страх, нависший над всеми оби-
535
тателями болота.— Проклятие Каина! — вопил он.— Каинова
кара!
— Но при чем тут Каин! — удалось мне ввернуть.
— Он здесь кончил свои дни,— заявил старик.— О, я знаю!
Ведь недаром оно называется Каиновым болотом! Он скитался
по лицу земли и пришел, наконец, сюда — пришел с худшими
из своих сынов. Они отравили землю. Долгие века преступле-
ний и зверств, а затем потоп похоронил их в этих болотах,—
и здесь им следовало бы лежать до скончания века!
Я пытался оспаривать это фантастическое измышление.
Каиново болото — это лишь испорченная форма «Гайнова бо-
лота», как значится во всех путеводителях и прежде всего —
в кадастровой книге. Но старик перекричал меня; где мне было
тягаться с его неистовым карканьем? Глухота служила ему
шитом против всяких возражений. Голос его заполнял всю
комнату. Викарий выкладывал все, что накопилось у него за
долгие месяцы одиноких раздумий. Фразы его казались обду-
манными, приготовленными заранее. Подозреваю, что многие
из них неоднократно произносились с кафедры в церкви Свя-
того Креста в Слэкнесе. В его мозгу беспорядочно перепле-
лись сыны Каина и пещерные люди, мамонты, мегатерии и
динозавры. Какой-то ураган невероятного вздора. И все же...
И все же, знаете...
Несколько минут доктор Финчэттон безмолвно созерцал
валив Ле Нупэ.
— На основании всего у меня возникла догадка. Не знаю,
покажется ли она вам хоть сколько-нибудь разумной — здесь,
в это прозрачное утро. Догадка состояла в том, что нас
преследовало и угнетало нечто древнее, первобытное, зве-
риное...
Он кивал головой, как бы подтверждая свои слова, в кото-
рых, казалось, не был уверен.
— Видите ли... Когда вас преследует привидение Георги-
евской эпохи, эпохи Стюартов, Елизаветинской эпохи, приви-
дение в латах или привидение в цепях, это уже достаточно
плохо. Но к таким привидениям можно испытывать нечто вроде
товарищеского чувства. В этих духах нет жестокости, подо-
зрительности или обезьяньей злобности! А вот души какого-
нибудь племени пещерных людей... Жуткие духи... Как вам
кажется?
— Может быть, и так,— уклончиво сказал я.
— Да. Но если пещерные люди,— то почему не обезьяны?
Представьте себе, что на нас восстали все наши предки! Реп-
тилии, рыбы, амебы! — Эта мысль была до того фантастична,
что на обратном пути от церкви Святого Креста в Слэкнесе
я попытался даже засмеяться.
Тут доктор Финчэттон умолк и посмотрел на меня.
— Но мне не удалось засмеяться! — добавил он.
536
— Пожалуй, и мне бы не удалось,— сказал я.— Ужасная
мысль! По-моему, пусть уж лучше мерещатся духи в образе че-
ловека, чем разные там обезьяны.
— Я ехал домой,— продолжал доктор,— испытывая невы-
разимый ужас. Теперь мне повсюду начали мерещиться при-
видения. Старик, нагнувшийся в канаве над упавшей овцой
и что-то проделывавший с нею, превратился в согбенного,
горбатого дикаря со звериными челюстями. Я не решился по-
смотреть, что он делает, и когда он крикнул мне что-то,—
может быть, простое «здравствуйте»,— я сделал вид, что не
слышу. Когда я проезжал мимо группы кустов, душа у меня
уходила в пятки, я замедлял ход и, миновав кусты, развивал
бешеную скорость.
В эту ночь, сударь, я напился — первый раз в жизни. Оста-
валось одно: либо пить, либо бежать! Может быть, я еще зеле-
ный врач, но таково мое правило: врач, без предупреждения
бросающий практику, то же самое, что часовой, ушедший с по-
ста! Как видите, мне оставалось только запить.
Собираясь ложиться спать, я поймал себя на том, что боюсь
отпереть парадную дверь и выглянуть наружу. Тогда я сделал
над собой судорожное усилие и распахнул дверь настежь...
В лунном свете лежали передо мною болота; длинные
клочья нависшего над землей тумана колыхались на месте,
словно их ленивое продвижение остановил стук хлопнувшей
двери. Они как будто настороженно прислушивались. И каза-
лось, над болотом витало что-то зловещее и тлетворное — что-
то такое, чего я никогда раньше не ощущал...
Но я не ушел с порога. Я не отступил. Я даже попытался
произнести какую-то пьяную речь.
Не помню, что именно я говорил. Быть может, я сам шаг-
нул далеко назад, в прошлое, в каменный век, и издавал лишь
нечленораздельные звуки. Но в своей речи я бросал вызов —
вызов всему злому наследию, оставленному прошлым чело-
веку.
3
ЧЕРЕП В МУЗЕЕ
Тут доктор Финчэттон внезапно умолк.
— Вам это кажется бредом сумасшедшего? — спросил
он.— Вы не хотите, чтобы я продолжал?
— Ничуть,— пробормотал я.— То есть пожалуйста. Я хочу
сказать: пожалуйста, продолжайте! Меня это страшно интере-
сует. Разумеется, когда сидишь здесь, за столиком, а кругом
все так светло, ясно и определенно, ваш рассказ кажется
несколько нереальным... Вы меня понимаете?
537
— Понимаю,— сказал он, не отвечая улыбкой на мою
улыбку.
Он огляделся по сторонам.
— У меня такое чувство, что здесь ничего, кроме вермута
с сельтерской водой да предстоящего ленча, и ожидать не
приходится!
На его лице появилось выражение крайней усталости.
— Я отдыхаю,— проговорил он.— Да. Но рано или поздно
мне придется вернуться все к тому же. Мне бы хотелось еще
немножко поговорить об этом — с вами. Если вы ничего не
имеете против. В вас есть — если можно так выразиться —
какое-то освежающее отсутствие воображения. Как чистый
лист бумаги!
Я готов был слушать и дальше. Мне даже в голову не при-
ходило, что когда-нибудь эти россказни будут тревожить мой
сон. Я люблю грезить наяву. Предаваться мечтам и фанта-
зиям. В такие минуты и грезишь и чувствуешь себя в безопас-
ности. Иной раз проберет дрожь, но настоящего страха нет.
Рассказы о невероятном я люблю именно потому, что они
невероятны. С тех пор как я в детстве открыл Эдгара Аллана
По, у меня появился вкус к жуткому и таинственному, несмо-
тря на сопротивление тетушки,— она буквально в ярость при-
ходит при одном намеке на возможность чего-нибудь необы-
чайного или незаурядного,— я зачитывался его произведе-
ниями. У моей тетушки полное отсутствие воображения, а для
меня воображение стало любимым домашним зверьком, с ко-
торым приятно поиграть. Не думаю, что он может когда-
нибудь серьезно оцарапать меня; это котенок, знающий, когда
надо остановиться. Впрочем, сейчас я уже не так в этом уве-
рен. Но как приятно было сидеть в покое и безопасности под
ярким солнцем Нормандии и слушать рассказы о болотах,
над которыми витал ужас.
— Продолжайте, дорогой сэр,— повторил я.— Продол-
жайте!
— Итак,— снова заговорил доктор Финчэттон,— я решил
бороться средствами, какие допускало мое воспитание и зва-
ние врача. Виски и произнесенная мной вызывающая речь,-—
хотя на самом деле я произнес ее не столько в действительно-
сти, сколько в воображении,— принесли мне пользу. В эту ночь
я впервые за много недель забылся крепким сном и наутро
почувствовал себя настолько освеженным, что мог обдумать
свое положение. Мне, как меДику, естественно было предпо-
ложить, что это повальное заболевание страхом и фантазиями,
эта хворь целого района вызвана каким-нибудь вирусом, нахо-
дящимся в воздухе, в воде или в почве. Я принял решение пить
только кипяченую воду и есть только хорошо проваренную
пищу. Но я склонен был допустить, что в основе этих явлений
лежит и что-нибудь не столь материальное. Я не могу назвать
538
себя убежденным материалистом. Я готов был поверить и в
чисто психологическую инфекцию — только, разумеется, не в
Каиновых сынов моего викария. На следующее утро я решил
наведаться к стороннику «высокой церкви» в Марш Хэверинге,
к преподобному Мортоверу — предмету особенной ненависти
моего викария; интересно знать, что он скажет мне по этому
поводу.
Но вскоре я убедился, что этот молодой человек так же
безумен, как его склонный к кальвинизму коллега. Если старик
приписывал все беды науке, раскопкам и католицизму, то этот
молодой человек винил во всем реформацию и распространялся
о пуританских гонениях на ведьм в шестнадцатом веке. Он без
малейших колебаний заявил мне, что от нас отступились
ангелы-хранители и на землю вернулся дьявол. Нас тревожит
вовсе не дух Каина и его порочных сынов: мы одержимы бе-
сом! Мы должны восстановить единство христианства и изгнать
этих бесов.
Это был очень бледный, гладко выбритый молодой человек
с тонкими чертами лица, горящими черными глазами, говорил
он высоким тенором. Он мало жестикулировал и только крепко
стискивал свои худые руки во время беседы. Будь он не
англиканским священником, а католиком, его обязательно
сделали бы миссионером. Красноречие его было типично мис-
сионерское. Он сидел передо мной в своей темной сутане, глядя
куда-то в пространство поверх моей головы, и излагал свой
план изгнания бесов из болот.
Я видел, что перед ним носится картина медленных, длин-
ных кортежей по извилистым болотным тропинкам, шествий
с хоругвями, балдахинами, хоры мальчиков, дымящиеся ка-
дильницы, священники в ризах, окропляющие топи святой
водой. Я представил себе, как старый викарий смотрит на все
это из окна своего неопрятного кабинета, как он с хриплым
криком выбегает из дома и во взоре его — жажда крови.
— Но ведь этому воспротивятся! — заметил я.
В тот же миг мистер Мортовер как бы переродился. Он
встал и простер руку, похожую на когтистую орлиную лапу.
— Мы сломим сопротивление,— произнес он, и в это мгно-
вение я понял, почему убивают людей в Бельфасте, Ливерпуле
и Испании.
Слова доктора показались мне странными. Я перебил его:
— Но, доктор Финчэттон, какое отношение имеют к Каи-
нову болоту Бельфаст, Ливерпуль и Испания?
Он остановился, поглядел на меня с каким-то странным
выражением не то упрямства, не то подозрительности.
— Я говорил о Каиновом болоте,— сказал он, подумав.
— Так при чем же тут Бельфаст и Испания?
— Ни при чем. Я упомянул о них, вероятно, к слову. По-
звольте! Позвольте! Я думал о фанатизме. У обоих этих людей,
539
у викария и у пастора, были свои убеждения — так! Убежде-
ния, несомненно, высокие и благородные. Но в действительно-
сти-то им хотелось драться. Им хотелось вцепиться друг другу
в глотку. Вот как подействовал на них болотный яд! Не веро-
вания волновали их, а страх. У них была потребность кричать
и задирать друг друга...
Ну, у меня это тоже было. Отчего я орал и бредил вчера
ночью на своем крыльце над болотом? И потрясал кулаками?
Он посмотрел на меня с вопросом во взгляде.
— У греков имелось слово для обозначения этого состоя-
ния,— сказал он.— Паника. Эндемическая паника — вот зараз-
ное начало болот!
— Может быть, это название и подходит,— заметил я,— но
разве оно что-нибудь объясняет?
— Понимаете,— продолжал доктор Финчэттон,— к этому
времени мной самим овладел панический страх. Я почувство-
вал, что должен действовать, и как можно скорей. Если я не
изгоню его сейчас же, дух болота овладеет мною наверняка!
Я надломлюсь. Нужно принять решительные меры. Так как у
меня не было в то время никаких срочных дел, я решил по-
играть утром у себя в приемной в хоккей, а затем съездить в
Истфок и побывать в музее. Я думал, что мне будет невредно
посмотреть на кости мамонта, которые, под влиянием викария,
начали уже превращаться в моем воображении в человеческие;
может быть, мне удастся поговорить с хранителем музея, я слы-
шал, что это даровитый археолог.
Хранитель оказался весьма приятным мужчиной неболь-
шого роста, с широким приветливым бритым лицом, в очках.
Но в нем была какая-то настороженность. Это была насторо-
женность хорошего фотографа или портретиста — единственная
не совсем приятная его черта. Я чувствовал, что всякий раз,
как я отворачиваюсь, он изучает меня...
Я проявил большой интерес к кремневым орудиям, кото-
рыми изобилует почва невысоких холмов, поднимающихся над
болотами, и к выкопанным из земли человеческим останкам.
Хранитель был энтузиаст своего дела и нашел во мне толко-
вого слушателя. Он принялся рассказывать мне историю этого
района.
— Вероятно, эти места были обитаемы тысячи лет назад,—
заметил я.
— Сотни тысяч,— поправил он меня.— Тут жили неандер-
тальцы и... Но позвольте показать вам нашу гордость!
Он подвел меня к запертому стеклянному шкафу, где на-
ходился массивный череп с нависшими надбровными дугами,
который, казалось, хмуро глядел пустыми глазницами. Рядом
лежала нижняя челюсть. Это грязно-бурое, как ржавое железо,
сокровище представляло собой, по словам хранителя, самый
полный в мире экземпляр. Череп был почти в полной сохран-
540
ности. Он уже помог разрешить целый ряд спорных вопросов,
вызванных неполнотой других черепов. Рядом, в витрине, ле-
жало несколько шейных позвонков, кривая берцовая кость и
множество обломков; раскопки на том месте, где были найдены
эти останки, еще не закончились, потому что кости, наполо-
вину истлевшие, были очень хрупки, и извлекать их приходи-
лось с большими предосторожностями. Раскопки производились
с большой тщательностью. Надеялись получить в конце концов
полный скелет. В той же самой расселине, в меловой породе,
были найдены очень примитивные, неуклюжие орудия. Храни-
тель наблюдал за мной, пока я рассматривал череп, отмечая
про себя его свирепый оскал и призрачную жизненность впа-
дин, из которых некогда глядели на мир глаза.
— Это, вероятно, один из наших предков? — спросил я.
— Весьма и весьма вероятно.
— И это у нас в крови! — воскликнул я.
Я украдкой покосился на чудовище, и когда заговорил после
этого, то таким тоном, словно оно могло нас услышать. Я за-
давал десятки дилетантских вопросов. Я узнал, что эта раса
существовала на земле много тысячелетий. Бесчисленные поко-
ления звероподобных, рычащих людей бродили по этим боло-
там несчетные века. По сравнению с невообразимо долгим
периодом господства этой расы на земле весь дальнейший пе-
риод господства культурного человечества можно назвать од-
ним днем. Миллионы этих звериных жизней прошли и кон-
чились, оставив после себя обломки, орудия, камни, расколо-
тые или накалявшиеся на их кострах, кости, которые они
глодали. Нет голыша в болоте, которого они не держали бы в
руках, нет кочки, которой они не попирали бы ногами мил-
лиарды раз.
— В нем есть что-то страшное,— равнодушно проговорил
я, думая о своем. И, наконец, решился поставить вопрос реб-
ром. Я спросил хранителя, слыхал ли он — приходило ли ему
когда-нибудь в голову,— что на болоте что-то неладно.
Взгляд его глаз, увеличенных очками, стал еще пытливее.
Да, он кое-что слышал.
— Что же именно? — спросил я.
Но он хотел, чтоб я высказался первым. Он молча ждал,
так что мне пришлось начать самому. Я рассказал ему в сущ-
ности все то, что рассказываю вам.
— Болота завладели мною,— жаловался я.— И если я не
приму срочных мер, они доведут меня до помешательства.
Я не могу выносить их — и вынужден терпеть. Скажите мне,
почему тут снятся такие ужасные сны, почему страх пресле-
дует вас среди бела дня и ночью?
— Вы не первый обращаетесь ко мне с таким вопросом,—
сказал он, продолжая наблюдать за мной.
— И вы можете мне сказать, что это такое?
541
— Нет,— отвечал он.
Хранитель говорил осторожно, взвешивая слова, и не сво-
дил с меня глаз. Он сказал мне, что ездил на болота произво-
дить раскопки и встречал кое-кого из населения.
— Они не любят этих раскопок,— заметил он.— Нигде не
встречал я такого недоверия к раскопкам. Может быть, это
объясняется местными суевериями. Может быть, страх зарази-
телен. Они безусловно чего-то боятся. И теперь, мне кажется,
их страх усилился. За последнее время очень трудно бывает
добиться разрешения вести раскопки на земле частных вла-
дельцев.
Я прекрасно понимал, что он говорит мне далеко не все.
Казалось, он делает опыт, как бы проверяя на мне свои мысли.
Он вскользь заметил, что ему самому никогда не удается
уснуть на болоте, даже днем. Иногда, просеивая землю, он
останавливается, прислушивается, опять принимается за ра-
боту и опять останавливается.
— Ничего не слышно,— добавил он,— а все-таки нервы
напряжены!
Он умолк. Пристально, с непередаваемым выражением
смотрел он на череп пещерного человека.
— Неужели вы думаете, что такой безобразный зверь мог
оставить после себя призрак? — спросил я.
— Он оставил свои кости,— ответил хранитель.— Вы ду-
маете, у него не было того, что вы называете духом? Духа, ко-
торый, может быть, до сих пор испытывает потребность вре-
дить, пугать и мучить? Духа весьма подозрительного, которого
ничего не стоит разозлить?
Тут я в свою очередь посмотрел на него с удивлением.
— Сами вы этому не верите. Это вы стараетесь внушить
мне. С какой-то целью...
Он рассмеялся, попрежнему не спуская с меня глаз.
— Если так, то мне это не удалось,— сказал он.— Я дей-
ствительно хотел внушить вам это. Если ваш страх примет об-
раз привидения — что ж, привидение можно изгнать. Если он
разрешится лихорадкой — лихорадку можно вылечить. Но что
можно сделать, если это просто панический страх и затаенная
ярость,— что нам делать в этом случае?
— Очень мило с вашей стороны,— сказал я,— что вы пы-
таетесь подбодрить меня таким образом, укрепить, так ска-
зать, мой дух для изгнания бесов. Но это не такое легкое дело!
— Тогда...— Доктор . Финчэттон перестал гипнотизировать
меня взглядом из-под очков и заговорил со мной откровенно.
Его теории сильно отдавали метафизикой, а я плохой ме-
тафизик. Это были странные полунаучные бредни, и все же
они имели вид объяснения. Я попробую изложить их как умею.
Он употребил вот какое выражение: мы ломаем рамки на-
стоящего — «рамки нашего настоящего».
542
Доктор Финчэттон вопросительно поглядел на меня. Я бла-
горазумно промолчал. Я не имел ни малейшего представления
о том, что такое «рамки нашего настоящего».
— Продолжайте,— сказал я.
Он стоял ко мне в профиль и уже не следил за мною,
а смотрел в окно и выкладывал, что у него было на душе.
— Лет сто назад,— говорил он,— люди гораздо больше
жили настоящим, чем теперь. Прошлое их простиралось назад
на четыре-пять тысяч лет, а будущее, вероятно, представлялось
еще более ограниченным, они жили для своего «теперь».
А также для так называемой вечности. Об отдаленном про-
шлом они ничего не знали. Они не заботились и о будущем.
Вот этого,— он кивнул на череп пещерного человека,— просто
не существовало. Все это было похоронено, забыто и вычерк-
нуто из жизни. Мы жили в волшебной сфере, чувствовали, что
о нас заботятся, что мы в безопасности. И вдруг, в прошлом
столетии, волшебство рассеялось. Мы заглянули в прошлое,
стали откапывать век за веком и все дальше заглядывать в
будущее. Вот в чем наша беда.
— Это на болоте? — спросил я.
— Повсюду. Ваш викарий и пастор чувствуют это инстинк-
тивно, только не умеют выразить; во всяком случае, они выра-
жают свои ощущения совсем не так, как мы с вами. Мы сло-
мали рамки настоящего; и прошлое, долгое, темное прошлое,
сотканное из страха и злобы, о существовании которого наши
деды не имели понятия и даже не подозревали, хлынуло на
нас. А будущее разверзлось, как пропасть, готовая поглотить
нас. Животное опять в страхе, животное опять беснуется, и бы-
лая вера не сдерживает его. Пещерный человек, обезьяна-
предок, зверь-прародитель — да, они вернулись. Вот в чем
дело! Уверяю вас, то, о чем я говорю, вполне реально. Теперь
это происходит всюду. Вы были на болотах. Там вы почувство-
вали их присутствие, но, уверяю вас, эти воскресшие звери
бродят повсюду. Мир полон угрозы — и не только здесь! — Он
умолк и блеснул очками, взглянув на меня, а затем опять по-
смотрел в окно.
— Все это очень хорошо,— заметил я,— но в какой мере
эта мистика может помочь мне? Что мне-то делать?
Он сказал мне в ответ, что это явление психического по-
рядка и что с ним надо бороться силою собственного разума.
— Мне необходимо сегодня же вернуться на болото,— ска-
зал я.
Он продолжал твердить, что рамки нашего настоящего
сломаны и восстановить их не удастся. Я должен раскрыться —
он так и сказал: «раскрыться» — и охватить сознанием более
обширный мир, в котором пещерный человек является таким
же «сегодня», как ежедневная газета, а грядущее тысячелетие
стоит на пороге.
543
— Все это прекрасно,— говорил я,— но какой же тут
смысл? Что должен я делать? Спрашиваю вас: что мне делать?
Он опять посмотрел на меня.
— Боритесь с этим, если можете,— сказал он.— Возвращай-
тесь домой. Бегством вы не спасетесь. Возвращайтесь домой и
снова начните борьбу с тем, что вам мерещится: Злом, Стра-
хом, духом Каина или духом этого малого...
Он сделал паузу, и мы оба оглянулись на безобразный че-
реп, словно ожидая, что он тоже скажет свое слово.
— Приспособьтесь к новым масштабам, постарайтесь охва-
тить их мыслью,— начал он конфиденциально, понизив го-
лос.— Посмотрите беде в лицо. И если окажется, что вы на-
чнете терять почву под ногами, ищите помощи. Вам хорошо бы
съездить в Лондон и полечиться. Вам следовало бы обратиться
к Норберту,— он живет, кажется, в доме номер триста девя-
носто один на Гарли-стрит, но я узнаю вам точно. Он один из
первых открыл психическую заразу, от которой вы страдаете,
и придумал какое-то лечение. По правде сказать, он мне по-
мог. Хотя у него грубые и необычные методы. Я болел прибли-
зительно тем же, что и вы, и, узнав о нем, обратился к нему.
И во-время. Раз или два в неделю он выезжает в Ле Нупэ. Там
у него клиника...
Вот результаты моего визита к хранителю музея в Истфоке.
Он подбодрил меня. Его современный научный язык был мне
понятен. Мне стало ясно, что тут нет ничего загадочного и
исключительного и что положение мое не безнадежно; я про-
сто экспериментатор, которому предстоит совершить неприят-
ный, рискованный, но все же вполне осуществимый опыт.
— Но мне не посчастливилось в этой последней схватке с
духами пещерных людей,— продолжал доктор Финчэттон.—
Я уехал из Истфока засветло. Еще по дороге домой я наткнулся
на нечто страшное. Это была собака, которую забили до
смерти. Да, забили до смерти! Вы скажете, что на этом свете
случается столько страшного, что зверски избитая собака —
не такая уж важность. Но для меня это было важно.
Она лежала в крапиве у дороги. Я подумал, что какой-
нибудь автомобилист переехал ее и отшвырнул в сторону.
Я слез, чтобы посмотреть на собаку и удостовериться, что она
мертва. Она была не просто убита; ее превратили прямо в ме-
сиво. Каким-то тупым и тяжелым орудием. Вероятно, у нее не
осталось ни единой целой косточки. Кто-то обрушил на нее
град ударов, целый ураган ударов.
Я знаю, что для медика я чрезмерно чувствителен. Как бы
то ни было, это зрелище ужаснуло меня, мне стало страшно за
человека: какой глубокий источник зверства таится в его при-
роде! Что за взрыв ярости уничтожил это злополучное жи-
вотное? Но не успел я вернуться домой, как последовал новый
удар. Вам это опять-таки может показаться мелочью. Меня
544
же это буквально сразило. Из прихода Святого Креста в Слэк-
несе примчался на велосипеде запыхавшийся посыльный. Он
был так испуган, что в первую минуту я ничего не мог понять
из его слов и только потом разобрал, что старый викарий Роу-
дон набросился на свою несчастную жену и чуть не убил ее.
Он повалил ее на пол и начал избивать.
— Несчастная старуха! — проговорил мальчик.— Вы бы
поторопились! Мы связали его и посадили в сарай, а она ле-
жит в постели и до того перепугана, что говорить не может.
А ему все мерещится что-то страшное. Страшное! Говорит,
будто она хотела отравить его... А ругается как!..
Я сел на свою машину и поехал. Мне удалось кое-как успо-
коить бедняжку; он не так сильно избил ее, как я опасался,—
несколько ссадин, все кости целы; в основном — моральное по-
трясение. Явились два полисмена и отвезли старика Роудона
в полицейский участок в Гольдингем. Я не хотел сойти вниз,
не хотел видеть его. Жена могла выговорить лишь одно-два
слова. «Эдуард!» — пробормотала она, и затем изумленно:
«О Эдуард!» Потом с каким-то ужасом: «Эдуард» — и легкий
вскрик. Я дал ей снотворного, пригласил женщину, чтобы она
посидела с ней ночью, а сам уехал домой.
Пока я занимался делом, я был бодр, но как только до-
брался домой, внезапно почувствовал упадок сил. Я не в со-
стоянии был есть. Я выпил довольно много виски и, вместо
того чтобы лечь в постель, заснул в кресле у камина. Про-
снулся я в холодном ужасе и увидел, что огонь в камине до-
горает. Я лег в постель, но когда, наконец, уснул, меня начали
преследовать кошмары, и я опять проснулся. Я встал, надел
старый шлафрок, сошел вниз и развел огонь, решив бодрство-
вать во что бы то ни стало. Но я все же задремал в кресле,
а потом опять лег. Так, между кроватью и креслом, я провел
всю эту ночь. В моих сновидениях все смешалось: несчастная
запуганная старуха, ее не менее жалкий супруг, идеи храни-
теля музея, прочно засевшие у меня в мозгу, а над всем этим
маячил сатанинский палеолитический череп.
Угроза этого первобытного человека все больше и больше
нависала надо мной. Я не мог изгнать из памяти его безглазый
взгляд и торжествующе оскаленные зубы ни во сне, ни наяву.
Просыпаясь, я видел его таким, каким он был в музее, словно
это было живое существо, задавшее нам загадку и потешав-
шееся над нашими бесплодными попытками ее разрешить. Во
сне череп терял свои обычные пропорции. Он становился
исполинским. Делался огромным, как утес, а глазницы и впа-
дины под скулами превращались в пещеры. Мне казалось,—
сновидение трудно передать,— что череп уплывал куда-то
вверх, но он непрестанно маячил у меня перед глазами. Передо
мной кишели, как муравьи, его бесчисленные потомки; пол-
чища людей метались во все стороны, вид у них был обречен-
35 Г. Уэллс, т. 2
545
ный, они робко, почтительно склонялись перед своим предком,
и казалось, их непреодолимо влекло броситься в его всепожи-
рающую тень. Вот эти полчища начали строиться в шеренги
и колонны, облеклись в мундиры и замаршировали к черному
провалу его рта, ощерившегося темными, словно ржавыми, зу-
бами. И из этой тьмы потекло нечто... нечто красное и лип-
кое, нечто явно ему приятное. Кровь.
И тут Финчэттон произнес очень странную фразу:
— Маленькие дети, погибающие на улицах во время воз-
душных налетов.
Я ничего не сказал. Я спокойно и внимательно слушал. Это
была «реплика в сторону», как говорят актеры. Он про-
должал свое повествование с того места, на котором оста-
новился.
— Утро,— продолжал он, помолчав несколько мгновений с
сосредоточенным видом,— застало меня у телефона. С великим
волнением и трудом, ценою прямо разорительных издержек,
я подыскал заместителя и помчался в Лондон, собрав, как го-
ворится, остатки своего рассудка, чтобы повидать пресловутого
Норберта. И Норберт направил меня сюда... Норберт, надо
вам знать, человек весьма незаурядный. Он оказался совсем
не таким, как я ожидал.
Доктор Финчэттон умолк. Он взглянул на меня.
— Это все.
Я молча кивнул головой.
— Ну,— сказал он,— что вы обо всем этом думаете?
— Через день или два я, может быть, начну об этом ду-
мать. А сейчас не знаю, что и сказать... Это неправдоподобно,
и все же вы заставили меня почти поверить вам. Я хочу ска-
зать: я не думаю, чтобы все это на самом деле происходило,—
я не решусь этого утверждать,— но я верю, что это случилось
с вами.
— Вот именно! Я рад, что имею возможность поговорить с
таким человеком, как вы. Именно этого и хочет от меня Нор-
берт. Он настаивает, чтобы я разобрался в том, что произошло,
и научился отличать действительно случившееся со мной, жиз-
ненные реальности, как он выражается, от страхов и фантазий,
которыми я их окутал. Он говорит, что я должен смотреть на
это бесстрастно. Ибо в конце концов — как вы думаете? — он
пытливо поглядел на меня,— что именно из всего, что я вам
рассказал, является реальностью, конкретным событием и что
следует считать — как бы это выразиться? — психической реак-
цией? Старик Роудон, напавший на свою жену,— это была
реальность. Зверски избитая собака была реальность... Нор-
берт, видите ли, считает, что я могу спокойно говорить обо
всем этом с людьми, достаточно уравновешенными, которые не
слишком тревожатся о прошлом или о будущем. Пусть факты
воспринимаются именно как факты, а не как страхи и ужасы.
546
Он хочет вернуть меня к тому, что он называет «разумным
отсутствием чувствительности»,— и таким образом заложить
твердый фундамент для всех моих дальнейших действий.
Финчэттон допил вино.
— Очень любезно с вашей стороны, что вы выслушали
меня,— прибавил он. Тут какая-то тень упала на террасу перед
нами, и он воскликнул: —А, это вы!
4
НЕСНОСНЫЙ ПСИХИАТР
Тень доктора Норберта не понравилась мне еще до того,
как я поднял голову и увидел его самого. Вид у него был
чрезвычайно самоуверенный и внушительный, а я, хоть и ле-
нив, изнежен и непредприимчив, умею быть порой упрямым,
как целая упряжка мулов. Он еще и рта не успел раскрыть,
а я уже настроился враждебно ко всему, что он собирался
сказать.
На мой взгляд, он совсем не был похож на психиатра.
У психиатра, по-моему, должен быть невозмутимый взгляд,
успокаивающие манеры и умение владеть собой. Он должен
иметь свежий и здоровый вид,— доктор Норберт был похож на
труп. Он был рослый, экспансивный, неопрятный, у него были
непослушные черные волосы и густые брови, а его большие
сверкающие темные глаза либо бегали по сторонам, когда он
разглагольствовал, либо неподвижно, сосредоточенно фиксиро-
вали меня,— как бы надвигались на меня из-под нахмуренных
бровей в минуты зловещего молчания. Черты лица были у него
крупные, рот широкий, как у оратора, и голос редкого диапа-
зона. Он носил старомодный стоячий белый воротничок и сво-
бодно повязанный черный галстук бабочкой, сдвинутый на сто-
рону. Казалось, он оделся раз навсегда по какой-то старинной
довоенной моде и с тех пор ни разу не переодевался. Он скорей
смахивал на актера в отпуску, чем на психиатра. Глядя на
него, я вспомнил карикатуры в старинных номерах «Панча» —
на Гладстона, Генри Ирвинга или Томаса Карлейля. Трудно
поверить, что подобный субъект мог нарушить покой двух при-
лично одетых современных англичан, сидящих за своим апе-
ритивом на террасе отеля «Источник» в Пероне.
Но вот он здесь, совсем не такой, каким я его себе пред-
ставлял, великий доктор Норберт, целитель душевных недугов
Финчэттона; положив руки на бедра, он смотрел на меня
сверху вниз своим самым внушительным взглядом. Финчэттон
назвал Норберта «неожиданным», но меньше всего я мог ожи-
35*
547
дать такой огромной, самоуверенной и старомодной фи-
гуры.
— Я наблюдал вас сверху,— заявил он таким тоном, словно
он был сам всемогущий господь бог.— Я не хотел прерывать,
пока Финчэттон рассказывал свою повесть. Но я вижу, вы
кончили,— и обрушиваюсь на вас!
Финчэттон поглядел на меня, безмолвно умоляя взглядом
примириться с экстравагантной манерой Норберта и выслу-
шать его.
— Вы слышали его историю? — спросил меня Норберт. Он
нисколько не скрывал, что он психиатр, а Финчэттон его па-
циент.— Рассказывал он вам, как пещерный человек овладел
его сознанием? Говорил об ужасах Каинова болота? Отлично!
А о все усиливающемся ощущении разлитого вокруг зла? Ну,
как вы реагировали на это? Что вы, человек явно нормальный,
думаете об этом?
И он приблизил ко мне свое широкое лицо, выражавшее
любопытство.
— Расскажите мне своими словами,— прибавил он и ждал,
как учитель, экзаменующий малыша.
— Доктор Финчэттон,— сказал я,— рассказал мне много
необычайного. Это так. Но мне нужно как следует это обду-
мать, прежде чем я смогу высказать свое мнение.
Норберт сделал гримасу, какая бывает у учителя, раздо-
садованного непонятливостью ребенка.
— Но я хочу знать, как вы реагируете на это сейчас. До
того, как вы обдумаете это.
«Можешь хотеть сколько угодно»,— сказал я про себя.
— Я не могу,— сказал я вслух.
— Но для доктора Финчэттона чрезвычайно важно, чтобы
вы высказались сейчас! На это есть особые причины.
Вдруг я услышал бой часов.
•— Великий боже! —воскликнул я, вставая и бросая десяти-
франковую бумажку официанту.— Тетушка будет ждать меня
с ленчем! Это невозможно!
— Но не можете же вы оставить дело в этом положе-
нии! — сказал Норберт, изобразив на своем лице удивление и
недоверие.— Никак не можете! Ваш долг по отношению к
ближнему — выслушать эту историю и помочь разумно ее
объяснить. Вы должны помочь нам.— Он блеснул глазами.—
Я положительно не могу отпустить вас!
Я повернулся к Финчэттону.
— Если доктор Финчэттон,— сказал я,— захочет продол-
жать разговор на эту тему...
— Разумеется, он хочет продолжать разговор!
Я не сводил глаз с Финчэттона, который кивнул мне с умо-
ляющим видом.
— Я еще приду,— сказал я.— Завтра. Примерно в этот
548
же час. Но сейчас я больше не могу задерживаться... Это
невозможно.
Я стал спускаться по извилистой дороге спешным шагом,
переходящим в рысцу,— я в самом деле был обеспокоен тем,
что так замешкался: тетушка моя, надо сказать, просто из
себя выходит, когда ее заставляют ждать с ленчем. Я уже не-
много жалел о своем обещании и злился на то, что позволил
вырвать его у себя. Выходило, что я пошел навстречу каким-то
глупым требованиям.
Я обернулся и увидел над собой обоих моих собеседни-
ков, сидевших рядышком, причем Норберт закрывал собою
Финчэттона.
— Завтра! — крикнул я, хотя вряд ли они могли бы меня
услыхать.
Норберт величественно махнул рукой.
Между тем меньше всего на свете мне хотелось вторично
увидеть этого доктора Норберта! По правде сказать, я чув-
ствовал к нему сильнейшую антипатию. Мне не нравилось,
что он всем своим видом как бы говорил: «Вы с Финчэтто-
ном — кролики, и сейчас я буду анатомировать вас». Мне не
понравился его громкий и какой-то обволакивающий голос, не
понравился его нависший лоб и настойчивость. Не выношу я
также повелительных угловатых жестов, особенно когда у че-
ловека непомерно длинные руки. Но с другой стороны, мне
искренне полюбился доктор Финчэттон, и его история сильно
меня заинтересовала. Мне кажется, он очень живо рассказал.
Мне очень бы хотелось, чтобы и в моей передаче прозвучала
его убедительная интонация. Как только я расстался с ним,
я начал обдумывать вопросы, какие следовало бы ему за-
дать, и мне захотелось опять увидеться с ним. Норберт ка-
зался мне нахалом, прервавшим в самый интересный момент
занимательное повествование. Я выбросил его из головы и
продолжал думать о Финчэттоне.
Было что-то необычайное в этой истории с заколдованным
болотом, куда человек попадал душевноздоровым и уравно-
вешенным, любовался бабочками и цветами и откуда вдруг
выбегал в сумасшедшем страхе и ярости,— эта история за-
владела моим воображением. А этот зловещий древний череп,
череп предка, сперва таящийся где-то в тени, а потом мед-
ленно выступающий на передний план!.. Казалось, позади него
вспыхнул транспарант. Это было объяснение, само по себе
представлявшее загадку. И вот мало-помалу эти голые че-
люсти облекаются плотью, призрачные губы вырастают над
оскаленными зубами, и под низко нависшими бровями заго-
раются злобные, темные, налитые кровью глаза. По мере того
как повесть внедрялась в мой мозг, пещерный человек все
больше и больше становился живой действительностью.
В конце концов уже не череп, а лицо смотрело на меня из
549
этой бредовой повести. Это нелепо, но мне, право, казалось,
что глаза чудовища за мной наблюдают. Они наблюдали за
мной весь вечер, лицо кривлялось и скалилось всю ночь.
Я очень невнимательно и неосторожно играл в тот день в кро-
кет, а вечером глубоко оскорбил тетушку из рук вон плохой
игрой в бридж. Она была моим противником, но полагалась
на мое обычное мастерство, и ее так смутили и сбили с толку
мои промахи, что она проиграла партию вместе со своим
партнером. Но я едва ли даже слышал ее упреки и у себя в
комнате раздевался медленно, поглощенный мыслями о дале-
ком болоте, заклятом и таинственном болоте, над которым
теперь витал звероподобный выходец с того света. Я еще долго
сидел, размышляя об этом, прежде чем лег спать.
На другой день я довольно поздно явился в отель «Источ-
ник» в Пероне. Я намеревался прийти пораньше. Я думал по-
ехать на трамвае, но полицейский сказал мне, что трамваи не
ходят. Коммунисты организовали молниеносную забастовку,
и в трамвайном парке произошла стычка, несколько человек
было ранено.
•— В наше время нужно быть твердым,— заметил полицей-
ский.
Пришлось всю дорогу проделать пешком. И мне не по-
везло: я увидел длинные ноги доктора Норберта, торчавшие
из-под столика на террасе, а доктора Финчэттона не видно
было и следа. Норберт знаками подозвал меня к себе, и я
сел на зеленый стул возле его столика. Сделал я это с боль-
шой неохотой. Я хотел дать ему понять, что желаю видеть
только Финчэттона. Мне хотелось узнать его историю подроб-
ней, а мысленные проверки, вивисекция, вторжение этого пре-
тенциозного субъекта в интимный мир моих мыслей мне вовсе
не нужны были.
— Где ваш друг? — спросил я.
•— Сегодня он не может прийти. Но это все равно.
— Ведь мы с ним как будто условились.
— Да, вы условились... Но ему помешали. Как я уже ска-
зал, это не имеет значения.
— Я этого не нахожу!
— С моей точки зрения. Мне очень хочется узнать, как
здравомыслящий, пришедший со стороны человек смотрит на
эту историю, завладевшую сознанием Финчэттона. Мне это
нужно столько же для себя, сколько и для него.
— Но чем же я могу вам помочь?
— Дело очень простое; .слыхали вы когда-нибудь о мест-
ности, называемой Каиновым болотом?
Он повернулся и взглянул на меня, совершенно так же, как
посмотрел бы на животное, которому только что сделал впры-
скивание.
— Вероятно, это где-нибудь в районе болот.
550
— Никакого Каинова болота на свете не существует!
— Это он придумал такое название?
— Это миф!
С минуту он рассматривал меня, потом решил, что больше
наблюдать меня не стоит* Он сложил перед собой свои огром-
ные руки и заговорил весьма непринужденно, устремив взгляд
на море.
— Наш приятель,— сказал он,— был врачом близ Или.
Все, что он рассказывал нам,— истина, и все, что он расска-
зывал вам,— ложь. Его чрезмерно волнуют некоторые вопросы,
а высказать их даже себе самому он может только в форме
вымысла.
— Но что-нибудь из всего этого действительно имело
место?
— О да! Был случай зверски жестокого обращения с соба-
кой. Был бедняга пьяный викарий, избивший свою жену. Та-
кого рода инциденты случаются каждый день во всех странах
света. Это в природе вещей. Если не мириться с такими фак-
тами, сэр, на земле нельзя будет жить. И Финчэттон действи-
тельно ходил в музей Трессидер в Или, и хранитель музея,
Кеннингэм, понял его состояние и догадался направить его
ко мне. Но он начал заболевать еще до того, как попал на
болото. Он показал вам в сущности все — но как бы сквозь
бутылочное стекло, искажающее форму предметов. А знаете,
что побудило его измыслить всю эту историю? — Доктор Нор-
берт повернулся ко мне, подбоченился и уставился мне прямо
в глаза. Он говорил неторопливо и вдумчиво, точно писал
заглавными буквами: — Современная действительность, ви-
дите ли, так страшна и чудовищна, так его угнетает, что ему
приходится облекать ее в форму волшебной сказки о древних
черепах, о безмолвии в стране бабочек; он хочет внушить
себе, что все это лишь галлюцинация, чтобы поскорей от этого
отделаться.
У доктора было такое странное выражение лица, что мне
стало не по себе. Я отвернулся и поманил официанта, чтобы
заказать вермут и вернуть себе самообладание.
— Но что же это за ужасы? — спросил я небрежным
тоном.
— Неужели вы не читаете газет? — спросил доктор Нор-
берт.
— Не слишком усердно. Большая часть того, что там пи-
шут, кажется мне либо напыщенной ложью, либо злостным
искажением действительности. Но я почти каждый день ре-
шаю кроссворды, помещенные в «Таймсе». Кроме того, читаю
почти все заметки о теннисе и крокете. Разве я пропустил что-
нибудь интересное?
— Вы пропустили все то, от чего Финчэттон сошел с ума.
— Сошел с ума?
551
— Разве он не повторял моего выражения — эндемиче-
ская паника? Зараза в нашей атмосфере? Болезнь, таящаяся
в самой основе нашей жизни, прорывающаяся то в одном,
то в другом месте и наполняющая сознание людей бессмыс-
ленным, парализующим страхом?
— Да, он употребил это выражение.
— Вот видите, сэр! С этим-то я и имею дело здесь. И я
еще только начинаю понимать это. Новая чума — чума пси-
хическая! Умственное расстройство, долго таившееся в сокро-
венных изгибах сознания, эндемическое расстройство, возни-
кающее внезапно и разрастающееся в мировую эпидемию.
История, которую наш друг перенес в какое-то заколдованное
болото, на самом деле является сейчас историей тысяч людей,
а завтра будет историей сотен тысяч. Вас ничто не тревожит.
До поры до времени... Может быть, у вас иммунитет... В дан-
ной стадии моих исследований этого усиливающегося забо-
левания мне чрезвычайно важно знать, как реагирует на него
незараженное сознание!
— Мое сознание никогда не было подходящей почвой для
чуждых мне идей,— сказал я.— Но все-таки я не хочу риско-
вать. Не думаете ли вы, что теперь и я начну пугаться тем-
ноты и бояться открытых мест и мне будут мерещиться
обезьяны и дикари, угрожающие человечеству?
Он положил на стол свою огромную руку, на мгновение
придавив мою.
— Если это с вами случится,— зловеще сверкнул он гла-
зами,— могу сказать одно: мужайтесь.
Мне вдруг пришло в голову, что этот человек в сущности
такой же помешанный, как и Финчэттон. Я спросил его на-
прямик:
— Доктор Норберт, уж не заразились ли вы сами?
Глаза его вспыхнули. Он вздернул голову, потом опустил
ее тяжело, как молот.
- Да!
Он произнес это с такой силой, что у меня на лбу высту-
пили капельки пота.
— Я рано заболел,— продолжал он.— Мне пришлось са-
мому возиться с собой. Помочь мне было некому. Я должен
был сам изучить себя. Я прошел через все это, сэр! И вы-
брался из этой передряги. Теперь я человек закаленный, при-
обрел иммунитет. Ценою чудовищной борьбы...
Тут он прочел мне самую удивительную лекцию, какую мне
когда-либо приходилось слышать. Перед тем как заговорить,
он сделал маленькую паузу. Слова его так странно звучали в
этой мирной обстановке, на веранде отеля. Сперва он сидел,
ухватившись за спинку стула обеими руками. Потом встал и
говорил, шагая передо мною взад и вперед по террасе,— не
столько говорил, сколько ораторствовал. У меня довольно хо-
552
рошая память, но сейчас я не в состоянии воспроизвести при-
чудливую цепь аргументов и утверждений, которую он разма-
тывал передо мной. Я приведу лишь некоторые из его выра-
жений. История Финчэттона казалась мне фантастичной.
В речи же Норберта не было ничего фантастического. Она на-
чиналась псевдонаучными и философскими рассуждениями, но
мало-помалу превращалась в шумную путаную проповедь. Мы
должны овладеть жизнью — ухватиться за нее. Некоторые его
взгляды мне уже были известны со слов Финчэттона. Я узнал
его любимые выражения. Например, «сломанные рамки На-
стоящего».
— Но что это означает? — спросил я не без раздражения.
— Животные,— сказал он,— живут всецело в настоящем.
Их кругозор ограничен непосредственно окружающими их
предметами. Точно так же и подлинно простодушные люди.
Израэли, Сандс, Мэрфи, множество ученых работали над этой
проблемой.— Он высыпал десятка два фамилий, но я запом-
нил только эти.— Но мы, люди, проникли в прошлое и в буду-
щее. Мы умножаем воспоминания, предания, традиции, мы
напичкали себя предчувствиями, перспективами,., страхами.
И потому наш мир стал для нас подавляюще огромным,
страшным, жутким. Вещи, казавшиеся навсегда забытыми,
вдруг воскресли в нашем сознании.
— Другими словами,— сказал я, пытаясь удержать его в
границах текущей действительности,— мы узнали о пещерном
человеке.
— Узнали о нем? — заорал он.— Да мы живем в его при-
сутствии! Он никогда не умирал! Он все что угодно, только
не покойник. Только...— Он подошел и похлопал меня по
плечу.— Но только он скрывался от нас. Долгое время. А те-
перь мы его видим лицом к лицу, и он издевается над нами,
хищно, оскалившись. Человек ничуть не изменился. Это не-
укротимое, завистливое, коварное, жадное животное! Если
отбросить все иллюзии и прикрасы, то человек оказывается все
тем же трусливым, рычащим, свирепым зверем, каким был
сто тысяч лет назад. Это не метафоры, сэр! То, о чем я вам
говорю,— чудовищная реальность. Зверь затаился в глуби-
нах подсознания и выжидал подходящего момента, чтобы
вновь развернуться во всей своей красе. Любой археолог ска-
жет вам это; у современного человека череп не лучше и мозг
ничуть не лучше. Это настоящий пещерный человек, только
более или менее дрессированный. Никакой коренной пере-
мены не произошло, никакого спасения от прошлого нет. Ци-
вилизация, прогресс — все это самообман, как мы уже убе-
дились. Ничего не достигнуто. Решительно ничего! В течение
некоторого времени человек строил себе, в уютном мирке сво-
его настоящего, мирке богов и провидения, радужные перспек-
тивы. Это были искусственные построения, художественный
553
выиысел. Только теперь мы начинаем понимать, до чего все
это надуманно. Теперь это рушится, мистер Фробишер! Все во-
круг’ нас рушится, а мы, кажется, бессильны помешать этому.
Кажется, это так... И спасения не видно. Нет, сэр. До сих пор
цивилизация была жалкой, ни к чему не пригодной фикцией4
И теперь это обнаружилось; она не вынесла ударов судьбы.
Ошеломляющее открытие, сэр! И когда чувствительные, не-
подготовленные люди, вроде нашего бедного друга Финчэт-
тона, замечают это, они оказываются слишком слабыми, чтобы
взглянуть в глаза опасности. Они отказываются иметь дело с
таким жутким, огромным миром, как наш. Они жадно слу-
шают всякие рассказы об одержимости, о случаях помеша-
тельства — в надежде узнать какой-нибудь способ изгнания
бесов; им кажется, что отсюда придет исцеление... Но исце-
ления нет. В наше время нет способа прикрасить факты и от-
делаться от них.
— Да, сэр! Фактам надо смотреть прямо в глаза! — орал
Норберт.— Прямо в глаза! — Он делал широкие жесты и, ка-
залось, обращался не ко мне, а к какому-то многолюдному
публичному собранию.— Прошло то время, когда на людей
можно было надевать шоры, чтобы они не видели слиш-
ком много... Прошло навсегда! Успокоительных религий
больше не может быть. И церквей тоже. С этим навсегда по-
кончено.
— Ну и что же? — спросил я подчеркнуто спокойным то-
ном. Чем громче он орал, тем усиливалось мое холодное со-
противление.
Норберт сел и опять схватил меня за руку. Он начал дру-
жески меня убеждать. Перешел от крика к задушевному по-
лушепоту.
— Сумасшествие, сэр, с чисто умозрительной точки зре-
ния представляет собой лишь ответ бедной Природы на оше-
ломляющий факт. Это бегство. А теперь во всем мире интел-
лигентные люди сходят с ума! Они дрожат, ибо понимают, что
борьба против этого пещерного человека, который над нами,
в нас, которым в сущности являемся мы, ведется против их
воображаемого «я». Мир уже ни от чего не огражден. Это
мы только воображали, будто нам удалось его обуздать. Его!
Неотступно преследующего нас зверя!
Я высвободил из тисков свою руку движением, которое, на-
деюсь, показалось ему непроизвольным. У меня явилось неле-
пое ощущение, что я похож на свадебного гостя, схваченного
Старым моряком Ч
— Но в таком случае,— сказал я, пряча руки в карманы
и откидываясь назад, чтобы он не мог снова схватить меня,—
Старый моряк — герой идноименной поэмы английского поэта
С. Кольриджа (1772—1834).
554
в таком случае, что вы намерены предпринять с Финчэттоном?
Что нужно сделать, по-вашему?
Доктор Норберт развел руками и поднялся с места.
— Говорят вам, сэр,— крикнул он, словно я находился в
двадцати шагах от него,— ему придется в конце концов еде**
лать то, что должны будем сделать все мы! Посмотреть в
глаза фактам! Посмотреть фактам в глаза, сэр! Пройти через
это. Пережить, если можно, или погибнуть. Сделайте, как я,
и приспособьте сознание к новым масштабам! Только гиганты
могут спасти мир от гибельного рецидива, и потому мы — все
те, кому дорога цивилизация,— должны стать гигантами. Нам
придется оковать мир, как сталью, более жесткой, более креп-
кой цивилизацией. Мы должны сделать такое умственное
усилие, какого еще не видели под звездами. Восстань, о дух
Человека! (Он так и назвал меня.) Или ты будешь сокрушен
навеки!
Я хотел было сказать, что предпочитаю потерпеть пораже-
ние без шума, и грома, но он не дал мне вставить и слова.
Ибо теперь он просто-напросто бредил. На губах у него
даже показался налет вроде пены. Он шагал взад и вперед и
говорил, говорил, как помешанный.
Я полагаю, что на протяжении долгих веков приличным лю-
дям, вроде меня, не раз приходилось выслушивать такого рода
бредни, но мне казалось ни с чем не сообразным слушать это
на террасе отеля «Источник» в Пероне, над Ле Нупэ, в преле-
стное утро лета от Рождества Христова тысяча девятьсот три-
дцать шестого. Он метался взад и вперед, как древнееврей-
ский пророк. Все это было, может быть, неплохо как кусочек
истории — вся эта риторика, мировые проблемы и прочее, но
в действительной жизни воспринималось как хриплое и оскор-
бительное оранье. Скажем напрямик: это страшная невоспи-
танность. Половины того, что он говорил, я старался не слы-
шать и не замечать.
Ответить ему было немыслимо. Легче было бы подняться
вверх по гигантским каскадам Ниагары.
Теперь он уже не скрывал, что увещевает меня. Меня
лично! Никогда еще меня так не запугивали. Он заклинал
меня ободриться духом, чтобы спастись от Грядущего Гнева.
Так он и выразился: «от Грядущего Гнева». Он напомнил
мне Петра Пустынника, который буйствовал в тихих христиан-
ских городках одиннадцатого века и поднял всю эту кутерьму
с крестовыми походами. Он напомнил мне Савонароллу и
Джона Нокса, всех этих беспокойных субъектов, с криком
проносившихся по арене истории, оставлявших человечество
примерно в таком же состоянии, в каком они его заставали,
призывавших людей отдать свою жизнь, «удалиться в кущи
твои, о Израиль!» — взяться за оружие, штурмовать Тюильри,
разрушить Зимний дворец и совершать множество бессмыс-
555
ленных поступков. И все это — в крохотном Ле Нупэ, за-
метьте!
Он развернул передо мной свиток зверств, убийств и ужа-
сов, совершенных во всем мире. Я думаю, что и теперь немало
пыток и истязаний на белом свете. Я думаю, что перспективы
наши в этом отношении довольно мрачны. Я думаю, что нас
еще ожидают ужасные войны, воздушные налеты и погромы.
Но что могу сделать я? Что толку так меня запугивать? При
всей его необузданности нетрудно было заметить, что у него
нет твердых убеждений, что в лучшем случае он борется с при-
зраками идей. Всякий раз, как я пытался вставить какой-
нибудь вопрос, он возвышал голос и обрушивался на меня.
— Я вам говорю! — гремел он.
Но, как видно, ему по существу нечего было сказать.
— В скором времени,— продолжал он,— люди оконча-
тельно лишатся покоя, уверенности, комфорта. (Слава богу,
он не сказал, что я «живу на краю вулкана».) Человеку оста-
нется только сделать выбор: либо превратиться в загнанное
животное, либо стать ревностным приверженцем истинной ци-
вилизации, упорядоченной цивилизации, какой до сих пор мы
еще не знали. Или жертвой — или членом Комитета обще-
ственного спасения! И я имею в виду вас, мой друг! Я говорю
это вам! Вам! — И он ткнул в меня костлявым пальцем.
Так как на террасе, кроме нас, никого не было,— официант
ушел,— это «вам» и это тыканье пальцем было совершенно
излишне. У доктора Норберта отсутствовало чувство меры.
И все же... Крайне неприятно, но должен сознаться, что
эти два человека в конце концов загипнотизировали меня и
заразили своим беспокойством и своей одержимостью! Я ста-
раюсь вытеснить их из своего сознания, когда пишу эту по-
весть, и при этом убеждаюсь, как трудно мне отделаться от
их влияния. Мне это так же плохо удалось, как Финчэттону,
когда он изливался передо мной. Я и не представлял себе, что
можно подвергнуться гипнозу просто сидя рядом с человеком
и слушая его. Я полагал, что при этом нужно сидеть смирно
и как-то особенно «поддаваться» гипнозу. А теперь я заме-
чаю, что сплю уже не так хорошо, как прежде; я ловлю себя
на том, что меня заботят мировые проблемы; между строками
газет я читаю дурные вести, и сквозь прозрачную оболочку
вещей я вижу иногда неясно, но порой достаточно четко рожу
пещерного человека... Как это выразился Финчэттон? «Уплы-
вает куда-то кверху и все же непрестанно маячит у меня перед
глазами». И должен сознаться, что я теперь не так сдержан
в беседах, как раньше. На днях я даже довольно резко стал
перечить моей тетушке, к обоюдному нашему удивлению!
И как-то раз рявкнул на официанта.
Всей серьезности своего положения я не сознавал до этой
сцены с Норбертом. С этих пор я потерял душевное равнове-
556
сие и, расставшись с Норбертом, твердо решил никогда
больше не видеть ни его, ни Финчэттона. Но семена зла были
посеяны, и они дали всходы. За эти два утра я успел зара-
зиться. Зачем только, о глупец, слушал я этих людей? Теперь
я уже болен.
Все это меня возмущает до глубины души. Зачем обруши-
вать на человека ужасы Каинова болота, не сказав ему при
этом толком, что ему делать? Я понимаю, что наш нынешний
мир скоро провалится ко всем чертям. Я хорошо вижу, что
мы все еще находимся под властью пещерного человека и что
он подготовляет грандиозный переворот. Удивляюсь, как я не
замечал этого раньше. Меня уже мучают сны об этом испо-
линском черепе, чрезвычайно неприятные сны. Но что толку
говорить о них? Если я расскажу тетушке, она заявит, что
я спятил. Что вообще может делать такой человек, как я?
Познать действительность, приспособить свое сознание к
новым масштабам? Стать «исполином духа»? Ну и выра-
женьице! Строить новую цивилизацию железа и власти на
месте старой, разрушающейся?.. Это мне-то?.. Перевоспитывать
самого себя? Да разве мне это свойственно?
Слишком много чести для людей такого склада, как я!
Я готов присоединиться ко всему, что подает надежды.
Я всей душой за мир, за порядок, за социальную справедли-
вость, за общественное служение и тому подобное. Но если
от меня требуют, чтобы я думал! Если хотят, чтобы я решил,
что мне делать с собою!.. Нет, это уже слишком!
В это знаменательное утро я с большим трудом спасся от
потопа норбертовского красноречия. Я поднялся.
— Мне надо идти,— сказал я.— В половине первого я
должен играть в крокет с моей тетушкой.
— Но какое значение имеет крокет,— крикнул Норберт
своим резким, нестерпимым голосом,— когда мир рушится у
вас на глазах?
Он сделал такое движение, словно хотел меня задержать.
Ему хотелось продолжать свои апокалиптические излияния
Но я был сыт по горло.
Я посмотрел ему в глаза твердым, спокойным взглядом
и сказал:
— А мне наплевать! Пусть мир идет ко всем чертям. Пусть
себе возвращается каменный век. Пусть это будет, как вы го-
ворите, закат цивилизации. Очень жаль — но сегодня утром я
ничем не могу помочь. У меня есть свои обязательства. Что
бы там ни было, но в половине первого я, хоть тресни, дол-
жен играть с тетушкой в крокет!
1936
Ра© (§ гш м
ВИДЕНИЕ СТРАШНОГО СУДА
И8ИЕ ра-а-ра-а!
Я прислушивался, ничего не понимая.
ИИ ВН Та-ра-ра-ра!
Ц — Боже мой! — пробормотал я спросонья»— Что
НЫИ за дьявольский тарарам!
— Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра! Та-ра-рра-ра!
— Этого вполне достаточно,— сказал я, чтобы разбудить
человека...— и внезапно замолк.— Где же это я?
— Та-рра-рара! — Все громче и громче.
— Это, верно, какое-нибудь новое изобретение, или...
Снова оглушительное турра-турра-турра!
— Нет,— сказал я погромче, чтобы расслышать свой
собственный голос.— Это трубный глас в день Страшного
суда.
— Тууу-рра!
2
Последний звук выдернул меня из могилы, как рыболов
вытаскивает на крючке пескаря.
Я увидел свой надгробный памятник (довольно-таки по-
средственная штука; хотел бы я знать, кто это его соорудил?).
Затем старый вяз и расстилавшееся вдали море исчезли, как
облако пара, и вокруг меня оказалось великое множество лю-
дей, ни один смертный не мог бы их сосчитать, представи-
тели всех народов, всех языков и всех стран, дети разного
36 Г. Уэллс, т. 2 561
возраста, и все это в необъятном, как небо, амфитеатре. А вы-
соко над нами, на ослепительно белом облаке, служившем
ему престолом, восседал господь бог и весь сонм его ангелов.
Я сразу узнал Азраила, потому что он был в темном одеянии,
Михаила по его мечу, а величавый ангел, издававший трубный
глас, все еще стоял с трубою в воздетой руке.
3
— Быстро орудуют,— проговорил невысокий человечек,
стоявший рядом со мной.— Очень даже быстро! Видите вон
того ангела с книгой?! — И, чтобы получше рассмотреть, он
то приседал, то вытягивал шею, глядя сквозь толпу окружав-
ших нас душ.
— Все здесь,— сказал он.— Решительно все. Теперь-то уж
мы узнаем!..
— Вот Дарвин,— прибавил он, перескакивая на другую
тему.— Ему здорово’ достанется! А видите вон того высокого
представительного мужчину,— он ловит взгляд господа бога,—
это сам герцог... Но здесь пропасть незнакомых людей!
— A-а! Вот и Пригглз, издатель. Чудной народ эти печат-
ники! Пригглз был умный малый... Но мы узнаем и о нем
всю подноготную! Уж я буду слушать во все уши. Я еще успею
потешиться. Ведь моя фамилия на букву «С».
Он со свистом втянул воздух.
— А, вот и исторические личности! Видите? Вон Генрих
Восьмой. Уж ему будут перемывать косточки. Черт побери!
Ведь он Тюдор! — Он понизил голос.— Обратите внимание на
этого парня, прямо перед нами, он с ног до головы оброс
волосами. Это, видите ли, человек каменного века. А там
опять...
Но я уже не слушал его болтовни, потому что глядел на
господа бога.
4
— Это всё? — спросил господь бог.
Ангел с книгой в руках (перед ним лежало бесчисленное
множество таких книг, совсем как в читальне Британского
музея) взглянул на нас и, казалось, в одно мгновение всех
пересчитал.
— Всё,— отвечал он и добавил: — Это была, о господь,
очень маленькая планета.
Бог внимательно оглядел всех нас.
•— Итак, начнем,— промолвил он.
562
5
Ангел раскрыл книгу и произнес какое-то имя. Там не-
сколько раз повторялся звук «а», и эхо отозвалось со всех
сторон, из глубины необозримого пространства. Я не рас-
слышал это имя, потому что человечек, стоявший рядом со
мной, отрывисто выкрикнул: «Что такое?!» Мне показалось,
что имя прозвучало как «Ахав», но это же не мог быть тот
Ахав, о котором говорится в Ветхом завете.
В тот же миг небольшая черная фигурка вознеслась на пу-
шистом облаке к стопам господа бога. Это был осанистый
мужчина в богатом чужеземном одеянии, с короной на го-
лове; он сложил руки на груди и мрачно опустил голову.
— Итак? — промолвил бог, глядя на него сверху вниз.
Мы могли ясно расслышать ответ, ибо это пространство
обладало прямо замечательной акустикой.
— Я признаю себя виновным,— сказал человечек.
— Поведай им о своих деяниях,— молвил господь бог.
— Я был королем,— начал человечек,— великим королем.
Я был похотлив, горд и жесток. Я воевал, опустошая чужие
страны; я воздвигал дворцы, но построены они на человече-
ской крови. Выслушай, о господь, всех этих свидетелей, взы-
вающих к тебе о возмездии. Сотни и тысячи свидетелей.— Он
показал на них рукой.— Мало того! Я велел схватить про-
рока — одного из твоих пророков.
— Одного из моих пророков,— повторил господь бог.
— Он не желал склониться передо мной, и я пытал его
четыре дня и четыре ночи, пока он не умер... Более того, о гос-
подь! Я богохульствовал. Я присвоил себе твои прерогативы.
— Присвоил себе мои прерогативы,— повторил господь
бог.
— Я заставил воздавать себе божественные почести. Нет
такого греха, которого бы я не совершил! Нет такого злодея-
ния, которым я не осквернил бы свою душу. И под конец ты,
господь, покарал меня!
Бог слегка повел бровями.
— Ия был убит в сражении. И вот я стою перед тобою,
достойный самой жестокой кары в твоем аду. Я не дерзаю
лгать, не дерзаю оправдываться перед лицом твоего величия
и возвещаю о своих беззакониях перед лицом всего рода че-
ловеческого.
Он умолк. Я хорошо разглядел его лицо. Оно показалось
мне бледным и грозным, гордым и странно величавым. Я не-
вольно вспомнил Сатану Мильтона.
— Большая часть сказанного взята с надписи на его обе-
лиске,— молвил ангел, который следил по книге, водя пер-
стом по странице.
— В самом деле? — не без удивления вымолвил тиран.
36* 563
Тут бог внезапно наклонился, взял этого человека и по-
садил его себе на ладонь, словно для того, чтобы получше рас-
смотреть. Человечек казался лишь темной полоской на сере-
дине его длани.
— Он действительно совершил все это? — спросил господь
бог.
Ангел провел десницей по книге и молвил как-то не-
брежно:
-г- До известной степени это так.
Взглянув опять на человечка, я обнаружил, что его лицо
странным образом изменилось. Он смотрел на ангела глазами,
полными ужаса, схватившись рукой за голову. Куда девались
его царственное величие и дерзкий вызов?
— Читай,— промолвил господь бог.
И ангел читал, раскрывая перед нами во всех подробно-
стях жизнь этого злодея. Слушая его, мы испытывали чисто
интеллектуальное наслаждение. В его отчете встречались, на
мой взгляд, несколько «рискованные» места. Но небеса, ко-
нечно, имеют на это право...
6
Все смеялись. Даже у пророка всевышнего, которого под-
вергал пыткам этот изверг, появилась на устах улыбка. Ве-
ликий злодей на поверку оказался смешным, ничтожным че-
ловечком!
— И как-то раз,— продолжал ангел с улыбкой, возбудив-
шей наше любопытство,— он объелся и пришел в скверное на-
строение,— и вот...
— О, только не это! — завопил изверг.— Никто на свете
об этом не знает. Этого никогда не было! — визжал он.—
Я был дурной человек, можно сказать злодей. Я совершил
немало преступлений, но я не способен на такую глупость,
на такую чудовищную глупость...
Ангел продолжал читать.
— О господь! — взмолился злодей.— Не надо им об этом
говорить! Я готов покаяться! Просить прощения...
И злодей начал неистово прыгать на длани господней,
горько плача. Внезапно им овладел стыд. Он кинулся в сто-
рону, собираясь спрыгнуть с господнего мизинца. Но, быстро
повернув свою длань, господь остановил его; тогда он бро-
сился к отверстию между большим и указательным пальцем,
но большой палец прижался к ладони. А между тем ангел
все читал и читал, а злодей метался взад и вперед по ладони,
потом вдруг повернулся к нам спиной и юркнул в рукав гос-
подень.
Я ждал, что господь выгонит его оттуда, но милость
божья беспредельна.
564
Ангел остановился.
— Да?! — сказал он.
— Следующий,— ответил бог, и, прежде чем ангел успел
назвать имя, на ладони уже стояло обросшее волосами суще-
ство в грязных лохмотьях.
7
— Как! Разве ад в рукаве у бога? — спросил мой сосед.
— А существует ли вообще ад? — спросил я в свою оче-
редь.
— Я все глаза проглядел,— сказал он, стараясь, при-
знаться, рассмотреть в просветах между ногами ангелов,— но
что-то нигде не вижу небесного града.
— Ш-ш-ш,— прошептала, сердито нахмурившись, малень-
кая женщина, стоявшая возле нас.— Послушайте, что пове-
дает нам сей великий святой!
8
— Он был владыкой земли, а я был пророком бога небес-
ного,— вскричал святой,— и, глядя на меня, дивились смерт-
ные! Ибо я, о господи, познал всю славу твоей райской оби-
тели. Мне наносили удары ножом, загоняли под ногти лучины,
сдирали полосами мясо со спины, но все муки, все терзания
я с радостью переносил во славу господню!
Бог улыбнулся.
И под конец я пошел еле прикрытый лохмотьями, весь в
язвах, и смрад исходил от меня, но я объят был святым рве-
нием.
У Гавриила вырвался смешок.
— Ия лег у ворот тирана,— продолжал святой,— как не-
кое знаменье, как живое чудо...
— Как некая мерзость,— промолвил ангел и начал читать
про святого, не обращая внимания, что тот все твердил об
отвратительных мучениях, которым он себя подвергал, чтобы
обрести блаженство рая.
И представьте, все, что было написано в книге об этом
святом, также оказалось откровением и чудом.
Мне кажется, не прошло и десяти секунд, как святой в
свою очередь стал метаться по великой длани господней. Не
прошло и десяти секунд! И вот он тоже завопил, слушая бес-
пощадные разоблачения, и, подобно злодею, спасся бегством
под сень рукава господня. И нам дозволено было туда загля-
нуть. Там, под сенью божьего милосердия, бок о бок, как
братья, сидели эти два существа, утратившие все свои ил-
люзии.
Туда же спасся бегством и я, когда пришел мой черед.
565
9
— А теперь,— промолвил бог, вытряхивая нас из своего
рукава на планету, где нам предстояло жить, на планету,
быстро вращавшуюся вокруг своего солнца, сиявшего зеле-
ными лучами Сириуса.
— Теперь, когда вы стали немного лучше понимать и
меня и друг друга... попробуйте-ка снова.
Затем он и окружавшие его ангелы повернулись и вне-
запно исчезли.
Исчез и престол.
Вокруг меня простиралась прекрасная страна, какая мне
и во сне не снилась,— пустынная, суровая и чудесная. И меня
окружали просветленные души людей в новых, преображенных
телах.
(Из сборника «Машина времени», 1895)
ДВЕРЬ В СТЕНЕ
1
Месяца три назад, как-то вечером, когда все кругом рас-
полагало к откровенности, Лионель Уоллес рассказал мне про
«дверь в стене». Слушая его, я не сомневался, что он правдиво
передает свои впечатления.
Он рассказал мне эту историю так искренне и просто, с
такой подкупающей убежденностью, что я не мог ему не по-
верить. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом
настроении. Лежа в постели и припоминая рассказ Уоллеса,
я уже не испытывал обаяния его неторопливого, проникно-
венного голоса, очарования этого обеда с глазу на глаз, в
ярком кругу света, отбрасываемого настольной лампой с тем-
ным абажуром, когда комната вокруг нас тонула в призрачном
полумраке, а перед нами на белоснежной скатерти стояли
тарелочки с десертом, сверкало серебро и разноцветные вина
в бокалах, и создавалась какая-то особая атмосфера —
яркий, уютный мирок, далекий от повседневности. Но теперь,
вне этой обстановки,, история показалась мне совершенно- не-
вероятной.
— Он мистифицировал меня! — воскликнул я.— Но как
ловко это у него получалось! От кого другого, а уж от него
я никак этого не ожидал.
Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я пой-
мал себя на том, что стараюсь доискаться, почему эта столь не-
правдоподобная история вызвала у меня такое волнующее
ощущение живой действительности; мне приходило в голову,
что, развертывая передо мной эти образы, он пытался как-то
передать, воспроизвести, восстановить (я не нахожу нужного
567
слова) те свои переживания, о которых иначе невозможно было
бы поведать.
Но сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях.
Все эти сомнения остались позади. Сейчас я верю, как верил,
когда слушал рассказ Уоллеса, что он всеми силами старался
приоткрыть мне некую тайну. Но видел ли он на самом деле,
или же это ему только казалось, обладал ли он каким-то ред-
костным драгоценным даром, или был во власти фантазии и
мечтаний — не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти
не пролили свет на этот вопрос, который так и остался нераз-
решенным.
Пусть судит сам читатель!
Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого
столь замкнутого человека — случайное ли мое замечание, или
упрек. Должно быть, я обвинил его в том, что он не проявил
должной инициативы и не поддержал одно серьезное общест-
венное движение, обманув мои надежды.
Тут у него вдруг вырвалось:
— У меня мысли заняты совсем другим... Должен при-
знаться,— продолжал он, немного помолчав,— я был не на
высоте... Дело в том... Тут, видишь ли, не замешаны ни духи,
ни привидения... но, как это ни странно, Редмонд, я словно
околдован. Меня что-то преследует, омрачает мне жизнь, про-
буждает какое-то неясное томление.
Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая не-
редко овладевает нами, англичанами, когда приходится гово-
рить о чем-нибудь трогательном, грустном или прекрасном.
— Ты ведь прошел весь курс в Сент-Ателстенском кол-
ледже? — спросил он ни с того ни с сего, как мне показалось
в тот момент.
— Так вот...— И он снова умолк. Затем, сперва неуверенно,
то и дело запинаясь, потом все более плавно и непринужденно,
стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни: то
было неотвязное воспоминание о неземной красоте и блажен-
стве, пробуждавшее в его сердце ненасытные желания, отчего
все земные дела и развлечения светской жизни казались ему
нудными, утомительными и пустыми.
Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне
кажется, что все можно было прочесть на его лице. У меня
сохранилась его фотография, на которой уловлено это выраже-
ние какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что
однажды сказала о нем женщина, которая горячо его любила.
«Внезапно,— заметила она,— он теряет всякий интерес к окру-
жающему. Он забывает о вас. Он вас не замечает, хотя вы
рядом с ним...»
Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружаю-
щему, и когда он на чем-нибудь сосредоточивал свое внима-
ние, он добивался незаурядных успехов. И в самом деле, его
568
карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже
давно опередил меня, поднялся гораздо выше и играл в обще-
стве такую роль, какая была мне совершенно недоступна.
Ему не было еще и сорока лет, и уверяют, что если бы он
не умер, то получил бы ответственный пост и почти наверно
вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без
малейшего усилия побеждал меня, это получалось как-то само
собой.
Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Ател-
стенском колледже в Вест-Кенсингтоне. Он поступил в кол-
ледж, подготовленный не лучше моего, а окончил его, значи-
тельно меня опередив, вызывая удивление своей блестящей
эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам,
кажется, делал недурные успехи. В школе я впервые услыхал
об этой «двери в стене», о которой вторично мне пришлось
услышать всего за месяц до смерти Уоллеса.
Теперь я совершенно уверен, что во всяком случае для него
эта «дверь в стене» была настоящей дверью, в реальной стене,
и вела к бессмертной действительности.
Это вошло в его жизнь очень рано, когда ему было каких-
нибудь пять-шесть лет.
Я помню, как он, серьезно и неторопливо размышляя вслух,
открывал мне свою душу и, казалось, старался точно устано-
вить, когда именно это с ним произошло.
— Я увидел перед собой,— говорил он,— листья дикого
винограда, ярко освещенные полуденным солнцем, темнокрас-
ные на фоне белой стены. Я внезапно их заметил, хотя и не
помню, в какой момент это случилось... На чистом тротуаре,
перед зеленой дверью лежали листья дикого каштана. Они
были желтые с зелеными прожилками, понимаешь — не корич-
невые и не грязные, очевидно они только что упали с дерева.
Должно быть, это был октябрь. Я каждый год любуюсь,
как падают листья дикого каштана, и хорошо знаю, когда это
бывает... Если я не ошибаюсь, мне было в то время пять лет
и четыре месяца.
Уоллес сообщил, что он был не по годам развитым ребен-
ком; говорить научился необычайно рано, был очень разумен и,
как говорили, «совсем как взрослый», поэтому пользовался
такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в
возрасте семи-восьми лет. Мать Уоллеса умерла, когда ему
было всего два года, и он оказался под менее бдительным и не
слишком строгим надзором гувернантки. Его отец — суровый,
поглощенный своими делами адвокат — уделял сыну мало вни-
мания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается,
что, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась маль-
чику серой и скучной. И вот однажды он отправился бродить.
Уоллес не помнил, как ему удалось ускользнуть из дома и
по каким улицам Вест-Кенсингтона он проходил. Все это без-
569
надежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая
дверь вставали перед ним совершенно отчетливо.
Он ясно припоминал, что при первом же взгляде на эту дверь
испытал странное волнение, его потянуло к ней, захотелось
открыть и войти.
Вместе с тем он чувствовал, что с его стороны будет не-
разумно, а может быть, даже и плохо, если он поддастся этому
влечению. Уоллес утверждал, что, как ни странно, он знал с
самого начала, если только это не обман памяти, что дверь не
заперта и он может, если захочет, в нее войти.
Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед
дверью в стене, то порываясь войти, то отшатываясь назад.
Каким-то совершенно непостижимым образом ему было из-
вестно и то, что отец крепко рассердится, если он войдет в
эту дверь.
Уоллес подробно рассказал, какие он пережил колебания.
Он прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-
мальчишески засвистел и с независимым видом зашагал вдоль
стены и свернул за угол. Там он увидел несколько скверных,
грязных лавчонок, и особенно запомнились ему мастерские
водопроводчика и обойщика; кругом валялись в беспорядке
пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образ-
чики обоев и жестянки с эмалевой краской.
Он стоял, делая вид, что рассматривает эти предметы, на
самом же деле страстно стремился к зеленой двери.
Внезапно его охватило бурное волнение. Боясь, как бы на
него снова не напали колебания, он побежал назад, протянув
руку, отворил зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопну-
лась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду,
и видение этого сада потом преследовало его всю жизнь.
Уоллесу было очень трудно передать свои впечатления от
этого сада.
— В самом воздухе было что-то бодрящее, что давало
ощущение легкости, довольства и благополучия. Все кругом
блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками.
Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая
овладевает человеком только в редкие минуты, когда он
молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было пре-
красно...
Уоллес немного подумал, потом продолжал свой рассказ.
— Видишь ли,— сказал он нерешительным тоном, как чело-
век, сбитый с толку чем-то совершенно невероятным.— Там
были две больших пантеры... Да, пятнистые пантеры. И я, пред-
ставь себе, их не испугался. Была там длинная широкая
дорожка, окаймленная с обеих сторон мрамором и обсаженная
цветами, и эти два бархатистых зверя, которые играли мячом.
Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и на-
правилась ко мне; подошла, ласково потерлась своим мягким
570
круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлы-
кала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. Я это знаю...
А его размеры? О, он далеко простирался во все стороны, и
казалось, ему не было конца. Помнится, вдалеке виднелись
холмы. Бог знает, куда вдруг исчез Вест-Кенсингтон. И у меня
было такое чувство, словно я вернулся на родину.
Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за
мной, я позабыл и дорогу, испещренную опавшими листьями
каштана, с ее экипажами и фургонами; забыл о дисциплине,
властно призывавшей меня домой; забыл обо всех своих коле-
баниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о по-
вседневной действительности. В одно мгновенье я очутился в
другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счаст-
ливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым,
мягким ласковым светом; тихая ясная радость была разлита
в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные
солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторо-
нам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы,
бежала передо мной и заманивала все дальше, и со мной шли
две больших пантеры. Я бесстрашно положил свои маленькие
руки на их пушистую спину, гладил их круглые уши, чувстви-
тельное местечко за ушами, и играл с ними. Казалось, они
приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною
владело яркое чувство, что я, наконец, вернулся домой. И когда
на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыб-
кой пошла ко мне навстречу, сказала: «Вот и ты!», подняла,
расцеловала, опустила на землю и повела за руку,— это ле
вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь радостное
сознание, что так все и должно быть, и воспоминание о чем-то
счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я вспо-
минаю широкие красные ступени, видневшиеся между стеб-
лями дельфиниума; мы поднялись по ним на уходившую вдаль
аллею, по сторонам которой росли старые-престарые тенистые
деревья. Вдоль этой аллеи, среди красноватых, изборожденных
трещинами стволов, стояли торжественные мраморные скамьи
и статуи, а на песке бродили ручные, очень ласковые, белые
голуби.
Поглядывая сверху вниз, моя подруга вела меня по этой
аллее. Я вспоминаю милые черты ее нежного, доброго лица
с тонко очерченным подбородком. Своим тихим, нежным го-
лосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без
сомнения очень приятное, но что именно, я никогда не мог
вспомнить... Внезапно обезьянка-капуцин, удивительно чистень-
кая, с красновато-бурой шерстью и добрыми карими глазами,
спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною, по-
глядывая на меня и скаля зубы, потом прыгнула мне на плечо.
Так мы оба, веселые и довольные, продолжали свой путь.
Он умолк.
571
— Дальше,— сказал я.
— Мне вспоминаются кое-какие подробности. Мы прошли
мимо старика, сидевшего в тени лавров и погруженного в раз-
мышления. Миновали рощу, где порхали стаи резвых по-
пугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к простор-
ному прохладному дворцу, где, было множество великолеп-
ных фонтанов, прекрасных вещей,— все, о чем только можно
мечтать. Было там и много людей — некоторых я могу ясно
припомнить, других смутно, но все они были прекрасны и
ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу узнал,
что я им дорог и они рады меня видеть. Их движения, при-
косновения рук, приветливый, сияющий любовью взгляд — все
наполняло мое сердце неизъяснимым восторгом... Да.
Он на секунду задумался.
— Я встретил там товарищей игр. Для меня, одинокого
ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные
игры на поросшей зеленой травкой площадке, где стояли
солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы
полюбили друг друга.
Но как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не
помню игр, в какие мы играли. Никогда не мог вспомнить.
Впоследствии, еще в детские годы, я целыми часами, порой
весь в слезах, ломал голову, стараясь припомнить, в чем же
состояло это счастье. Мне хотелось снова у себя в детской по-
играть в эти игры. Но нет. Все* что я мог припомнить,— это
ощущение счастья и два дорогих товарища, которые все время
играли СО1 мной...
Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным
серьезным лицом и мечтательными глазами, строгая женщина
с книгой в руках, в длинном одеянии бледнопурпурного цвета,
падавшем мягкими складками. Она поманила меня к себе и
увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм не-
хотя отпускали меня, они прекратили игру и стояли, глядя, как
меня уводят. «Возвращайся к нам,— кричали они.— Возвра-
щайся скорей!»
Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на них
ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Она
подвела меня к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, соби-
раясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коле-
нях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изум-
лении смотрел: на оживших страницах этой книги я увидел
самого себя. Это была повесть обо мне; там было показано
все, что случилось со мной со дня моего рождения.
Это было поразительно потому, что страницы книги не
были картинками, ты понимаешь, а действительностью.
Уоллес многозначительно помолчал и глянул на меня с
сомнением.
— Продолжай,—сказал я,— я понимаю.
572
— Это была самая настоящая действительность, да, это
было так: люди двигались, события развертывались. Вот моя
дорогая мать, почти позабытая мною, вот и отец, как всегда
прямой и суровый, наши слуги, детская, все знакомые домаш-
ние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где
сновали туда и сюда экипажи. Я смотрел и изумлялся, и снова
с недоумением заглядывал в лицо женщины, и переворачивал
страницы книги, перескакивая с одной на другую, и все не
мог насмотреться; наконец, я увидел самого себя в тот момент,
когда я топтался в нерешительности перед зеленой дверью в
белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх.
— А дальше! — воскликнул я и хотел перевернуть стра-
ницу, но строгая женщина удержала меня за руку своей про-
хладной рукой.
— А дальше! — настаивал я, пытаясь осторожно отодви-
нуть ее руку; изо всех своих детских сил я отталкивал ее
пальцы. И когда она уступила и страница перевернулась,
женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала
меня в лоб.
Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни
пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр,
так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую
улицу в Вест-Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще
не зажигают фонарей. И я там был — маленькая жалкая
фигурка; я громко плакал, слезы так и катились из глаз, как
ни старался я сдержаться. Плакал я потому, что не мог вер-
нуться к моим милым товарищам по играм, которые меня
тогда звали: «Возвращайся к нам! Возвращайся скорей!» Там
я и находился. Это уже была не страница книги, а жестокая
действительность. То волшебное место и державшая меня за
руку задумчивая мать, у колен которой я стоял, внезапно ис-
чезли — но куда?
Уоллес опять замолк и некоторое время пристально смотрел
на пламя, ярко пылавшее в камине.
— О, как мучительно было это возвращение! — прошеп-
тал он.
— А дальше? — проговорил я, помолчав минуту-другую.
— Я был маленьким, жалким созданьем! Снова вернулся
я в этот унылый мир! Когда я до конца осознал, что со мною
произошло, мною овладело безудержное отчаяние. До сих пор
помню, какой я испытал стыд, когда плакал на глазах у всех,
помню и позорное возвращение домой.
Я вижу добродушного старого джентльмена в золотых
очках, который остановился и сказал, предварительно ткнув
меня зонтиком: «Бедный мальчонка, верно ты заблудился?»
Это мне-то, лондонскому мальчику пяти с лишним лет! К тому
же старик вздумал привести молодого любезного полисмена,
вокруг нас собралась толпа, и меня отвели домой. Смущенный
573
и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из зачарован-
ного сада в отцовский дом.
Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение
которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах
передать словами все обаяние этого полупрозрачного, словно
бы нереального мира, такого непохожего на привычную по-
вседневность, но это... это так все и было. Если это был сон, то,
конечно, самый необычайный, сон среди белого дня... Мда!
Разумеется, за этим последовал суровый допрос,— мне при-
шлось отвечать тетушке, отцу, няне, гувернантке...
Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец,
в первый раз в жизни, побил меня за ложь. Когда же потом
я вздумал поведать об этом тетке,— она в свою очередь на-
казала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого за-
претили об этом говорить, а другим слушать, если я начну
рассказывать. Даже мои книги сказок на время отняли у меня,
потому что у меня было слишком развито воображение. Да,
они это сделали! Мой отец принадлежал к старой школе...
И все пережитое вновь всплыло у меня в сознании. Я шептал
об этом ночью подушке и ощущал у себя на губах вкус своих
детских слез.
К своим обычным теплохладным молитвам я неизменно
присоединял горячую мольбу: «Боже, сделай так, чтобы я
увидел во сне мой сад! О, верни меня в мой сад. Верни меня
в сад!» Я частенько видел этот сад во сне.
Быть может, я что-нибудь прибавил. Быть может, кое-что
изменил,— не могу сказать.
Это, видишь ли, попытка связать в одно целое отрывочные
воспоминания и воскресить волнующее переживание раннего
детства. Между ним и другими воспоминаниями моего отроче-
ства зияет бездна. Настало время, когда мне казалось совер-
шенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом
чудесном мимолетном видении.
— А ты когда-нибудь пытался найти этот сад? —спросил я.
— Нет,— отвечал Уоллес,— не помню, чтобы в годы ран-
него детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне кажется
это странным, но, весьма вероятно, что после того злополуч-
ного происшествия, из боязни, как бы я снова не заблудился,
за каждым моим движением зорко следили.
Я снова стал искать свой сад только гораздо позже, когда
уже познакомился с тобой. Но, думается, был и такой пе-
риод,— хотя это мне кажется сейчас невероятным,— когда я
начисто забыл о своем саде. Вероятно, в то время мне было
восемь-девять лет. Ты меня помнишь мальчиком в Сент-Ател-
стенском колледже?
— Ну конечно.
— В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную
мечту, не правда ли?
574
2
Уоллес посмотрел на меня,— лицо его осветилось улыбкой.
— Ты когда-нибудь играл со мной в «Северо-западный про-
ход»?.. Нет, в то время мы не дружили с тобой.
— Это была такая игра,— продолжал он,— в которую
каждый ребенок, обладающий живым воображением, готов
играть целые дни напролет. Надо было отыскать «северо-
западный проход» в школу. Дорога туда была простая и хо-
рошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-
нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дома на десять
минут раньше, пойти куда-нибудь в противоположную сторону
и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот
однажды, заблудившись в каких-то закоулках по ту сторону
Кампден-хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз
проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то
уличке, казавшейся тупиком, и внезапно нашел проход. У меня
блеснула надежда, и я устремился дальше. «Я все-таки
пройду»,— сказал я себе. Я миновал ряд странно знакомых
грязных лавчонок — и вдруг передо мною длинная белая стена
и зеленая дверь, ведущая в зачарованный сад!
Это открытие прямо ошеломило меня. Так, значит, этот
сад, этот чудесный сад был не только сном?
Он замолчал.
— Мне думается, что мое вторичное переживание, связан-
ное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница
между занятой жизнью школьника и безграничным досугом
ребенка. Во всяком случае, на этот раз мне и в голову не
пришло сразу туда войти. Видишь ли... я был поглощен одной
мыслью — поспеть во-время в школу, ведь я оберегал свою
репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, явилось
желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло
быть... Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел
это искушение. Разумеется, я был ужасно заинтересован этим
неожиданным открытием и продолжал свой путь, все время
думая о нем. Но меня это не остановило. Я продолжал свой
путь. Вынув из карманы часы и обнаружив, что в моем распо-
ряжении еще десять минут, я пробежал мимо стены и, спустив-
шись по холму, очутился в знакомых местах. Я добрался до
школы запыхавшись и весь в поту, но во-время. Помню, по-
весил пальто и шляпу... И я мог пройти мимо сада, даже не
заглянув в калитку?! Странно, а?!
Он задумчиво посмотрел на меня.
— Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не
всякий раз можно найти. Ведь у школьников довольно ограни-
ченное воображение. Наверное, меня радовала мысль, что
сад где-то совсем недалеко и я знаю дорогу к нему. Но на
первом плане была школа, неудержимо влекущая меня. Мне
575
думается, в то утро я был выбит из колеи, крайне невнимате-
лен и все время силился припомнить удивительных людей,
которых мне вскоре предстояло встретить. Как это ни
странно, я ничуть не сомневался, что и они будут рады видеть
меня. Да, в то утро этот сад, должно быть, представлялся мне
прелестным уголком, куда можно будет прибегать в промежут-
ках между напряженными школьными занятиями.
Но в тот день я так и не пошел туда. На следующий день
было что-то вроде праздника, и, вероятно, я оставался дома.
Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне
была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не
оказалось времени на окольный путь. Право, не знаю. Знаю
только, что в то время чудесный сад так занимал меня, что я
уже не в силах был хранить эту тайну про себя.
Я поведал о ней мальчугану... Ну как же его фамилия?
Он был похож на хорька. Мы еще звали его Пьянчужка...
— Гопкинс,— подсказал я.
— Да, Гопкинс. Я рассказал ему не слишком охотно.
Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки рас-
сказал. Возвращаясь из школы, часть дороги мы шли с ним
вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили
о чудесном саде, то говорили бы о чем-нибудь постороннем,
а я не мог думать ни о чем другом. Вот я и выболтал ему.
Ну, а он взял да и выдал мою тайну.
На следующий день, во время перемены, меня обступило
человек шесть мальчишек постарше меня. Они поддразнивали
меня, и в то же время им было любопытно еще что-нибудь
услыхать о заколдованном саде. Среди них был этот верзила
Фоусет,— ты помнишь его? И Карнеби, и Морли Рейнольдсе.
Ты случайно не был с ними? Впрочем, нет, я бы запомнил,
если бы ты был в их числе...
Удивительное создание — ребенок! Я чувствовал, что по-
ступаю нехорошо, я был сам себе противен, и в то же время
мне льстило внимание этих больших парней. Помню, мне
было особенно приятно, когда меня похвалил Кроушоу. Ты
помнишь сына композитора Кроушоу — Кроушоу-старшего?
Он сказал, что ему еще не приходилось слышать такой замеча-
тельной лжи. Но вместе с тем я испытывал мучительный стыд,
рассказывая о том, что считал своей священной тайной. Это
животное, Фоусет, позволил себе отпустить шутку по адресу
девушки в зеленом.
Уоллес невольно понизил голос, рассказывая о пережитом
им позоре.
— Я сделал вид, что не слышу,— продолжал он.— Неожи-
данно Карнеби обозвал меня лгунишкой и принялся спорить
со мной, когда я заявил, что все это правда. Я сказал, что
знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их
всех туда,— каких-нибудь десять минут ходу. Тут Карнеби,
576
приняв вид оскорбленной добродетели, заявил, что я должен
подтвердить свои слова на деле, а не то мне придется плохо.
Скажи, тебе никогда не выкручивал руку Карнеби? Если да,
ты, может быть, поймешь, что произошло со мной. Я поклялся,
что мой рассказ истинная правда.
В то время в школе некому было защитить меня от Кар-
неби. Правда, Кроушоу сказал что-то в мою защиту, но Кар-
неби был хозяинОлМ положения. Я испугался, взволновался,
уши у меня разгорелись. Я вел себя, как дурачок, и под конец,
вместо того чтобы пойти одному на поиски своего чудесного
сада, я повел за собой всю компанию. Я шел впереди с горя-
щими ушами, с воспаленными глазами, с тяжелым сердцем и
сгорая от стыда, а за мной шагали «шесть насмешливых, любо-
пытных и угрожавших мне школьников... Мы не увидали ни
белой стены, ни зеленой двери...
— Ты хочешь сказать..?
— Я хочу сказать, что мне не удалось ее найти. Я так
хотел ее разыскать, но не мог. И впоследствии, когда я ходил
один, мне также не удалось ее найти. В то время я так и не
разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется,
что все школьные годы я искал зеленую дверь в белой стене,
но ни разу не увидел ее, ни единого разу.
— Ну, а как обошлись с тобой после этого товарищи?
— Зверски!.. Карнеби учинил надо мной лютую расправу
за явную ложь.
Помню, как я прокрался домой и, стараясь, чтобы домаш-
ние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько под-
нялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не
от обиды, а о потерянном саде, где я мечтал провести чудес-
ные вечера. Я плакал о нежных, ласковых женщинах и
ожидавших меня товарищах, об игре, которой я снова на-
деялся выучиться,— об этой чудесной забытой игре...
Я был уверен, что если бы тогда не рассказал... Трудное
время наступило для меня, бывало по ночам я плакал, а днем
витал в облаках.
Добрых два семестра я небрежно относился к своим обя-
занностям и получал плохие отметки. Ты помнишь? Конечно,
ты должен помнить. Ты опередил меня по математике, и это
заставило меня снова взяться за зубрежку.
3
Несколько минут мой друг молча смотрел на красное пламя
камина,.потом опять заговорил:
— Я вновь увидел зеленую дверь, когда мне было уже сем-
надцать лет. Она внезапно появилась передо мной в третий
раз, когда я ехал в Падингтон на конкурсный экзамен, соби-
577
37 г. Уэллс, т. 2
раясь поступить в Оксфордский университет. Это было мимо-
летное видение. Сидя в кебе и наклонившись над фартуком,
я курил папиросу и, без сомнения, считал себя безупречным
светским джентльменом. И вдруг-появилась стена, дверь, и в
душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления.
Мы с грохотом проехали мимо. Я был слишком изумлен,
чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко
и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения
воли. Я постучал в стенку кеба и опустил руку в карман, вы-
нимая часы.
— Да, сэр? — сказал любезно кучер.
— Э-э, послушайте! — воскликнул я.— Да нет, ничего!
Я ошибся! Я тороплюсь! Поезжайте!
И мы покатили дальше...
Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у
камина у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и по-
хвала отца, драгоценная похвала, и разумные советы еще
звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, кото-
рая должна была придавать мне солидности, и думал о той
двери в длинной белой стене.
«Если бы я остановил извозчика,— размышлял я,— то не
сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка
испортил бы предстоящую мне карьеру». Я стал лучше раз-
бираться в жизни. Этот случай заставил меня призадуматься,
но все же я не сомневался, что ожидающая меня блестящая
карьера стоила такой жертвы.
Дорогие друзья и пронизанный лучезарным светом сад ка-
зались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими.
Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной раскры-
лась другая дверь — дверь моей карьеры.
Он сноба повернулся к камину и стал пристально смотреть
на огонь; на краткий миг красный отблеск озарил его лицо,
и я прочел в его глазах выражение какой-то упрямой реши-
мости, но оно тут же исчезло.
— Да,— произнес он, вздохнув.— Я весь отдался своей
карьере. Работал я много и упорно, но в своих мечтаниях
неизменно созерцал зачарованный сад. С тех пор мне пришлось
четыре раза мельком увидеть дверь этого сада. Да, четыре
раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным
и значительным, столько открывалось возможностей, что вос-
поминание о саде померкло в моей душе, он отодвинулся
куда-то далеко, потерял надо мной власть и обаяние.
Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званый
обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами
и знаменитостями.
Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей,
подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить.
Кое-что... Однако были и разочарования...
578
Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на
этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, кото-
рая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней
прийти,— я случайно сократил дорогу, пошел по глухому пере-
улку близ Эрлс-Корт и вдруг наткнулся на белую стену и
знакомую зеленую дверь.
«Как странно,— сказал я себе,— а ведь я думал, что это
где-то в Кемпден-хилле. Это заколдованное место так же
трудно найти, как сосчитать камни Стонхенджа !.
И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей
цели. Дверь не привлекла меня в тот деньп
Правда, в какой-то момент меня потянуло открыть эту
дверь,— ведь для этого пришлось бы сделать всего каких-
нибудь три шага в сторону. В глубине души я был уверен,
что она распахнулась бы для меня, но тут я подумал, что ведь
это может меня задержать, я опоздаю на свидание и постра-
дает мое самолюбие. Позднее я пожалел о том, что так торо-
пился, ведь мог же я хотя бы заглянуть в дверь и помахать
рукой своим пантерам. Но в то время я уже приобрел житей-
скую мудрость и перестал гоняться за недостижимым видением.
Да, но все же в тот раз я был огорчен...
Потом последовали годы упорного труда, и тогда мне было
не до двери. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною
овладело странное чувство — казалось, весь мир заволокла
какая-то пелена. Я думал о том, что больше никогда не увижу
эту дверь, и меня томила горькая тоска. Возможно, я был
слегка переутомлен, а может быть, уже сказывается возраст —
ведь мне скоро сорок. Право, не знаю, что со мной, но с не-
которых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает
преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают
важные политические события и надо энергично действовать.
Странно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все
земные радости, какие выпадают мне на долю, кажутся мне
ничтожными.
С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание
увидеть сад. Да... и я видел его еще три раза.
— Как, сад?
— Нет, дверь. И не вошел.
Уоллес наклонился ко мне через стол, и когда он заговорил
снова, в его голосе звучала непомерная тоска.
— Три раза мне представлялась такая возможность. Целых
три раза! Я давал клятву, что, если когда-нибудь эта дверь
снова предстанет передо мной, я войду в нее. Уйду от всей
этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бес-
смысленной сутолоки. Уйду и больше не вернусь. На этот раз
1 Сооружение друидов из множества камней.
37* 579
я уже непременно останусь там... Я давал клятву, а когда
дверь оказывалась передо мной — не входил.
Три раза в течение одного года я проходил мимо этой
двери, но так и не вошел в нее. Три раза за этот послед-
ний год.
Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошло
резкое разделение голосов при обсуждении закона о выкупе
арендных земель и правительство удержалось у власти боль-
шинством всего трех голосов. Ты помнишь? Никто из наших и,
вероятно, большинство из оппозиции не ожидали, что вопрос
будет решаться в тот вечер. И голоса раскололись, подобно
яичной скорлупе.
В тот вечер мы с Хотчкинсом обедали у его двоюродного
брата в Брентфорде. Оба мы были без дам. Нас вызвали по
телефону, мы тотчас же помчались в машине его брата и едва
поспели к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в
стене,— она казалась совсем бесцветной в лунном сиянии.
Фары нашей машины отбросили на нее яркие желтые блики,—
несомненно, это была она!
— Бог мой! — воскликнул я.
— Что такое? — спросил Хотчкинс.
— Ничего! — ответил я.
Момент был упущен.
— Я принес большую жертву,—сказал я организатору
нашей партии, войдя в здание парламента.
— Так и надо! — бросил он на бегу.
Но разве я мог тогда поступить иначе?
Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему
отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее
«прости». Момент был опять-таки крайне напряженный.
Но в третий раз было совсем по-другому. Это случилось
всего неделю назад. Я испытываю жгучие угрызения совести,
вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Ты пони-
маешь, теперь это уже не секрет, что у меня был разговор с
Гаркером. Мы обедали у Фробишера, и разговор принял ин-
тимный характер.
Мое участие в реорганизуемом кабинете было еще под во-
просом.
Да, да. Теперь это уже дело решенное. Об этом пока еще не
следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от
тебя... Спасибо, спасибо. Но позволь мне досказать.
В тот вечер вопрос висел еще в воздухе. Мое положение
было довольно щекотливым. Мне было очень важно получить
от Гаркера кое-какие сведения, но мне мешало присутствие
Ральфса.
Я изо всех сил старался поддержать легкий, непринужден-
ный разговор, не имевший прямого отношения к интересую-
щему меня вопросу. Это было необходимо. Дальнейшее по-
580
ведение Ральфса доказало, что я был прав, остерегаясь его...
Я знал, что Ральфе простится с нами, когда мы минуем Кен-
сингтон-Хай-стрит, тут я и огорошу Гаркера неожиданной от-
кровенностью. Иной раз приходится прибегать к такого рода
приемам... И вдруг в поле моего зрения вновь появилась и
белая стена и зеленая дверь...
Разговаривая, мы миновали ее. Шли мы медленно. Как сей-
час вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера — низко надви-
нутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мяг-
кие складки кашне; вслед за его тенью проплыли по стене
и наши.
Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от двери. «Что
будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?» —
спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером.
Меня осаждал целый рой нерешенных проблем,— и я так и
не ответил на этот вопрос. «Они подумают, что я сошел с
ума,— размышлял я.— Предположим, я сейчас скроюсь.
«Таинственное исчезновение видного политического деятеля...»
Это повлияло на мое решение в критический момент. Мое
сознание было опутано сетью светских условностей и деловых
соображений.
Тут Уоллес с грустной улыбкой повернулся ко мне.
— И вот я сижу здесь. Да, здесь,— медленно сказал он.—
Я упустил эту возможность.
Три раза в этом году мне представлялся случай войти в
эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообра-
зимой красоты и любви, не ведомой никому из живущих на
земле. И я отверг все это, Редмонд, и оно ушло...
— Откуда ты это знаешь?
— Я знаю, знаю. Что же мне теперь остается? Идти
дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, мысль
о которой так властно меня удержала, когда наступил желан-
ный миг. Ты говоришь, я добился успеха? Но что такое успех,
которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура! Да,
я добился успеха.
При этих словах он раздавил грецкий орех, который был
зажат в его крупной руке, и протянул его мне:
— Вот он, мой успех!
Я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль
об этой утрате. За последние два месяца — да, уже добрых
десять недель,— я почти не работаю, только через силу вы-
полняю самые неотложные свои обязанности. Меня томит
глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска
с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить. Хотел бы я
знать... Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг
узнают, что будущий министр, представитель самого ответст-
венного департамента, бродит в темноте один-одинешенек, чуть
ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад...
581
4
Передо мной всплывает побледневшее лицо Уоллеса, его
глаза с необычайным, угрюмым блеском. Сегодня вечером я
вижу его особенно ярко. Я сижу на диване, вспоминая его слова,
интонации его голоса, а вчерашний вечерний выпуск вестмин-
стерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со
мной. Сегодня в клубе за завтраком только и было разгово-
ров, что о его внезапной кончийе.
Его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме, близ
Вест-Кенсингтонского вокзала. Это была одна из двух траншей^
вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на
юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи
были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан
небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недо-
смотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и вот
в нее-то и прошел Уоллес.
Я как в тумане, теряюсь в догадках.
Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парла-
мента пешком. Во время последней сессии он нередко ходил
домой пешком. Я так живо представляю себе его темную
фигуру; глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц,
поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя.
Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей гру-
бый дощатый забор показался ему белой стеной? Быть может,
эта роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания?
Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая
дверь? Право, не знаю.
Я передал эту историю так, как мне ее рассказал Уоллес.
Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной
галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех
оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что было
именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже недале-
ким, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то
сверхъестественным даром, что им владело — как бы это ска-
зать?— какое-то безотчетное чувство или побуждение, которое
и внушило ему иллюзию стены и двери, как некий таинствен-
ный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир.
Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли
это? Здесь мы у порога извечной тайны, прозреваемой лишь
немногими подобными ему ясновидцами, людьми великой
мечты. Вее вокруг нас кажется нам таким простым и обыкно-
венным, мы видим только ограду и за ней траншею. В свете
дневного сознания нам, заурядным людям, представляется, что
Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак, на-
встречу своей гибели.
Но кто знает, что ему открылось?
(Из сборника «Машина времени», 1895)
ПОХИЩЕННАЯ БАЦИЛЛА
— Вот это,— сказал бактериолог, кладя стекло под микро-
скоп,— препарат знаменитой холерной бациллы — холерный
микроб.
Мужчина с бледным лицом прильнул глазом к микроскопу.
Ему это было явно в новинку, и он прикрыл другой глаз пух-
лой белой рукой.
— Я почти ничего не вижу,— сказал он.
— Подкрутите винт,— посоветовал бактериолог,— воз-
можно, микроскоп не сфокусирован для ваших глаз. Зрение
у всех разное. Чтобы найти фокус, достаточно самую малость
повернуть винт в ту или-иную сторону.
— Вот теперь вижу,— сказал посетитель.— Но, вообще-то
говоря, тут и смотреть особенно не на что. Какие-то крошеч-
ные розовые палочки и точечки. И вот эти крошечные частицы,
эти, можно сказать, атомы, могут размножиться и опустошить
город. Непостижимо!
Он выпрямился и, вынув пластинку из-под микроскопа,
поднес ее к окну.
— Их едва можно различить,— сказал он, рассматривая
препарат. Потом помолчал немного.— А они живые? Они
опасны сейчас?
— Эти подкрашены и убиты,— ответил бактериолог.—
Я лично много бы дал, чтобы можно было убить и окра-
сить все микробы холеры, какие только существуют на
свете.
— Я полагаю,— с едва уловимой улыбкой заметил блед-
ный мужчина,— что. вы едва ли станете держать у себя
эти бациллы живыми, способными к активному действию?
— Напротив, мы вынуждены держать их живыми,— воз-
разил бактериолог.— Вот, например...— Он пересек комнату и
583
взял одну из целого ряда герметически закупоренных проби-
рок.— Здесь они живые. Таким путем мы выращиваем куль-
туру настоящих, живых болезнетворных бактерий.— Он помол-
чал немного.— Так сказать, разводим холеру в бутылке.
По лицу бледного мужчины тотчас разлилось еле уловимое
удовлетворение.
— Смертельную штуку держите вы у себя,— сказал он, по-
жирая глазами маленькую пробирку.
Бактериолог заметил болезненное удовольствие на лице
своего посетителя. Этот человек, пришедший ’ к нему сегодня
с рекомендательным письмом от одного старого друга, заинте-
ресовал его: он был прямой противоположностью самому
бактериологу. Гладкие черные волосы, глубоко посаженные
серые глаза, изможденное лицо, порывистые движения, острая
заинтересованность, которую временами проявлял посетитель,
сильно отличали его от обычных научных работников — флег-
матичных любителей рассуждать, с которыми главным об-
разом и общался бактериолог. А потому, пожалуй, вполне
естественно было рассказать этому слушателю, на которого
производила такое впечатление смертоносность бактерий,
о том, что составляло их главную силу.
Он задумчиво держал пробирку в руках.
— Да, здесь сидит под замком эпидемия. Стоит разбить
вот такую маленькую пробирку и, вылив ее содержимое в ре-
зервуар с питьевой водой, сказать этим крошечным живым
частицам, которые можно увидеть, только если их подкрасить
и поместить под мощный микроскоп, и которых нельзя рас-
познать ни по запаху, ни по вкусу: «Идите, растите и размно-
жайтесь, наполняйте цистерны!» — и смерть, таинственная,
незаметно подкрадывающаяся смерть, смерть быстрая и ужас-
ная, смерть, исполненная мучений и унижения, была бы вы-
пущена на город и пошла бы косить направо и налево свои
жертвы. Здесь она отторгла бы мужа от жены, там — ребенка
от матери; здесь — государственного деятеля от его обязанно-
стей, там — труженика от его тягот. Она потекла бы по вод-
ным каналам, прокралась бы вдоль улиц, выбирая то тут,
то там какой-нибудь дом и карая его обитателей, которые
пьют некипяченую воду; она проникла бы в киоски с мине-
ральными водами, пробралась бы в салат вместе с водой, в ко-
торой его мыли, притаилась бы в мороженом. Она ждала бы,
пока ее выпьет лошадь вместе с пойлом или неосторожный
ребенок с водой из уличного бассейна. Она просочилась бы
в почву, чтобы затем появиться в родниках и колодцах и в ты-
сячах других самых неожиданных мест. Только выпустите
бациллу в водопровод, и, прежде чем мы сможем преградить
ей путь и снова ее выловить, она опустошит всю столицу.
Он внезапно умолк. Сколько раз ему говорили, что рито-
рика — его слабость.
584
— Но в таком виде она вполне безопасна — вполне, по-
нимаете.
Мужчина с бледным лицом кивнул. Глаза его сверкали.
Он откашлялся.
— Эти анархисты — мошенники,— сказал он,— глупцы,
слепые глупцы: применять бомбы, когда существует подобная
штука. Я думаю...
Послышался осторожный стук в дверь, вернее, легкое по-
скребывание ногтями. Бактериолог открыл ее.
— На минутку, дорогой,— шепнула его жена.
Когда он вернулся в лабораторию, посетитель смотрел
на часы.
— Бог ты мой, ведь я отнял у вас целый час,— сказал он.—
Без двенадцати четыре. А мне нужно было уйти отсюда в по-
ловине четвертого. Но ваши препараты настолько интересны...
Нет, положительно я ни минуты больше не могу задержи-
ваться. У меня свидание в четыре.
Он вышел из комнаты, не переставая благодарить; бакте-
риолог проводил его до входной двери и, глубоко задумав-
шись, прошел обратно по коридору к себе в лабораторию. Он
думал о том, какого происхождения его посетитель. Конечно,
он не принадлежит ни к тевтонскому, ни к заурядному латин-
скому типу. «Во всяком случае, боюсь, что это нездоровый
субъект,— сказал себе бактериолог.— Как он пожирал глазами
эту пробирку!» Внезапно тревожная мысль блеснула у него
в мозгу. Он повернулся к стойке у паровой бани, затем по-
спешно — к своему письменному столу. Потом быстро ощупал
карманы и кинулся к двери. «Возможно, я положил ее на стол
в передней»,— пробормотал он.
— Минни! — хрипло крикнул он из передней.
— Да, дорогой! — донесся откуда-то издалека голос.
— Было у меня что-нибудь в руках, дорогая, когда я
только что разговаривал с тобой?
Последовала короткая пауза.
— Ничего, дорогой, я это отлично помню, потому что...
— Чтоб он провалился! — воскликнул бактериолог и опро-
метью бросился к выходной двери, а затем вниз по лестнице
на улицу.
Минни, услышав, как с грохотом захлопнулась дверь, под-
бежала в. испуге к окну. В дальнем конце улицы высокий
тощий человек садился в кеб. Бактериолог, без шляпы, в ноч-
ных туфлях, бежал к нему, неистово жестикулируя. Одна
туфля соскочила у него с ноги, но он не стал задерживаться,
чтобы надеть ее.
«Он совсем сошел с ума! — сказала себе Минни.— А все
эта проклятая наука наделала!» — И Минни распахнула окно,
собираясь окликнуть мужа. Высокий тощий человек внезапно
оглянулся, и, видимо, ему пришла в голову та же мысль об
585
умственном расстройстве бактериолога. Он торопливо указал
на него кебмену и быстро сказал что-то,— хлопнула закры-
вающая кеб клеенка, свистнул кнут, зацокали копыта лоша-
дей, и в один миг кеб и бактериолог, рьяно ринувшийся вслед
за ним, промчались по дороге и исчезли за углом.
Минни с минуту еще вглядывалась вдаль. Затем она ото-
шла от окна. Она была ошеломлена. «Конечно, он человек
эксцентричный,— размышляла она.— Но бегать по Лондону —
да еще в разгар сезона — в одних носках!..» Внезапно счастли-
вая мысль осенила ее. Она быстро надела шляпку, схватила
башмаки мужа, выскочила в переднюю, сняла его шляпу и
летнее пальто с вешалки, выбежала на улицу и окликнула кеб,
к счастью медленно тащившийся мимо.
— Поезжайте прямо, потом заверните у Хэвлок-Кресчент:
надо догнать джентльмена без шляпы, в бархатной куртке.
— В бархатной куртке, мэм, и без шляпы. Отлично, мэм.
И кебмен, взмахнув кнутом, с самым невозмутимым видом
тронулся в путь, как если бы изо дня в день всю жизнь ездил
по такому адресу.
Несколько минут спустя перед кучкой кебменов и зевак,
столпившихся у извозчичьей биржи на Хаверсток-хилле, про-
мчался во весь опор кеб, запряженный тощей рыжей кобылой.
Они молча проводили его глазами, и, как только он исчез,
пошли толки и пересуды.
— Да это же Гарри Хикс. Что это с ним? — промолвил
тучный джентльмен, известный под именем старины Тутлса.
— Здорово он работает кнутом — со всего плеча,— заме-
тил мальчишка-конюх.
— Ого! — воскликнул старикан Томми Байлс.— Вот еще
один сумасшедший. Провалиться мне на месте, если я не
прав!
— Да это же старый Джордж,— заметил старина Тутлс.—
Он и в самом деле везет какого-то сумасшедшего, это ты пра-
вильно сказал. И как он только из кеба не вывалится! Уж не
за Гарри ли Хиксом он гонится?
Группа у извозчичьей биржи оживилась. Хор голосов кри-
чал: «Валяй, Джордж!» — «Вот это скачки!» — «Погоняй!» —
«Шпарь!»
— А ведет-то все-таки кобыла во как! — заявил маль-
чишка-конюх.
— Разрази меня гром! — воскликнул старик Тутлс.— Да
вы только посмотрите! Я, кажется, сам сейчас рехнусь! Еще
один едет. Все кебы в Гэмпстеде, видно, спятили сегодня!
— На этот раз — баба! — сообщил мальчишка-конюх.
— Она гонится за ним,— заявил старик Тутлс.— Обычно
бывает наоборот.
— А что это у нее в руках?
— Похоже, что цилиндр.
586
— Вот потеха! Три против одного за старика Джорджа,—
сказал мальчишка-конюх.— А ну, кто еще?
Минни промчалась под гром приветственных криков и ру-
коплесканий. Это ей не понравилось, но она стерпела и, испол-
ненная сознания своего долга, покатила вниз по Хаверсток-
хиллу и дальше по Кемдентаун-Хай-стрит, не спуская глаз с
подпрыгивающего зада старика Джорджа, который столь не-
понятным образом увозил от нее ее блудного мужа.
Человек в первом кебе сидел, забившись в угол и крепко
стиснув руки,— в одной из них была зажата маленькая про-
бирка, содержавшая такие огромные возможности разруше-
ния. Страх и, как ни странно, ликование переполняли все его
существо. Больше всего он боялся, что его поймают прежде,
чем он выполнит свое намерение, однако за этим скрывался
более смутный, но и более сильный страх перед задуманным
им преступлением. Впрочем, его ликование далеко превосхо-
дило страх. Ни одному анархисту до него и в голову не при-
ходило что-либо подобное. Равашоль, Вайян — все эти вы-
дающиеся личности, чьей славе он завидовал, превратятся в
ничто по сравнению с ним. Надо только добраться до водо-
хранилища и разбить пробирку над резервуаром. Как бле-
стяще он задумал все, подделал рекомендательное письмо и
проник в лабораторию, и как замечательно он воспользовался
случаем! Мир услышит о нем, наконец. Все эти люди, которые
издевались над ним, презирали его, предпочитали ему других,
находили его общество нежелательным, будут, наконец, счи-
таться с ним! Смерть, смерть, смерть! Они всегда относились
к нему как к ничтожеству. Весь мир был в заговоре против
него. Теперь уж он их проучит, он им покажет, что значит от-
талкивать человека. Что это за знакомая улица? Грейт-сент-
Эндрюс-стрит, конечно! А как погоня? Он высунулся из кеба.
Бактериолог был в каких-нибудь пятидесяти ярдах позади.
Плохо. Его могут поймать и задержать. Он ощупал карман
в поисках денег и нашел полсоверена. Он ткнул монету через
окошко в крыше кеба прямо в лицо кебмену.
— Вот вам еще! — крикнул он.— Только бы уйти от них!
Монету выхватили у него из руки.
— Будь по-вашему! — сказал кебмен, и окошечко захлоп-
нулось, а кнут взвился и упал на лоснящийся круп лошади.
Кеб качнуло, и анархист, привставший было с намерением вы-
глянуть в окошко, схватился рукой, державшей пробирку, за
клеенку, чтобы не упасть. В ту же секунду стекло хрупкого
сосуда хрустнуло, и отколовшаяся половина пробирки звяк-
нула о пол кеба. С проклятием он откинулся на сиденье и
мрачно уставился на две-три капли влаги на клеенке.
Его передернуло.
— Что ж! Видимо, я буду первой жертвой. Ну и пусть!
Во всяком случае, я буду мучеником, а это уже кое-что. И все-
587
таки это мерзкая смерть. Неужели она в самом деле так му-
чительна, как говорят?
Внезапно ему пришла в голову новая мысль. Он пошарил
под ногами. В уцелевшей части пробирки еще сохранилась
капля влаги,— он выпил ее для полной уверенности. Так оно
лучше. Во всяком случае, осечки не будет.
Тут он сообразил, что теперь собственно нет нужды убегать
от бактериолога. На Веллингтон-стрит он попросил кебмена
остановиться и вышел. На подножке он поскользнулся,—
у него закружилась голова. Как быстро действует этот холер-
ный яд! Забыв о кебе и кебмене, он стоял теперь на тротуаре
и, скрестив на груди руки, поджидал бактериолога. Что-то
трагическое было в его позе. Сознание близкой смерти нало-
жило отпечаток достоинства на весь его облик. Он приветство-
вал своего преследователя вызывающим смехом.
— Да здравствует анархия! Вы прибыли слишком поздно,
мой друг. Я выпил это. Холера на свободе!
Бактериолог, не вылезая из кеба, с любопытством уста-
вился на него сквозь очки.
— Вы выпили это! Вы — андрхист! Теперь все понятно...
Он хотел еще что-то добавить, но сдержался. В уголках
его рта пряталась улыбка. Он отстегнул клеенку кеба, соби-
раясь выйти. Увидев это, анархист драматически махнул ему
на прощание и зашагал по направлению к мосту Ватерлоо,
стараясь на ходу задеть как можно больше прохожих своим
бациллоносным телом. Бактериолог был настолько поглощен
наблюдением за ним, что не выказал никакого удивления,
когда перед ним внезапно появилась Минни с его шляпой,
ботинками и пальто в руках.
— Очень мило, что ты принесла мои вещи,— сказал он,
попрежнему не сводя взгляда с удаляющейся фигуры анар-
хиста.— Садись-ка лучше в кеб,— прибавил он, все еще глядя
вслед анархисту.
Теперь Минни была совершенно убеждена, что муж ее по-
мешался, и, приняв на себя бразды правления, велела кеб-
мену везти их домой.
— Надеть башмаки? Конечно, дорогая,— сказал бактерио-
лог, как только кеб начал разворачиваться и темная пошаты-
вающаяся фигура, за дальностью расстояния ставшая совсем
маленькой, скрылась из глаз. Внезапно какая-то нелепая мысль
пришла ему в голову, и он рассмеялся.— А ведь дело очень
серьезное. Видишь ли, этот человек, который прихбдил к нам,
оказался анархистом. Нет, пожалуйста, не падай в обморок,
а то я не смогу рассказать тебе остальное. Мне захотелось уди-
вить его; не зная, что он анархист, я взял пробирку с этим
новым видом бактерии, о которой я тебе рассказывал: она
очень заразная — насколько мне известно, это она вызывает
голубые пятна на теле у обезьян; вот я сдуру и скажи, что это
588
азиатская холера. А он возьми да и убеги с ней,— он хотел от-
равить воду в Лондоне и, конечно, мог бы наделать уйму не-
приятностей нашему просвещенному городу. А теперь он сам
проглотил ее. Конечно, я не могу сказать, что произойдет, но
ты знаешь, котенок от нее посинел и три щенка — все в пятнах,
воробей же стал совсем голубым. Но главная беда в том, что
мне придется затратить теперь уйму труда и средств, чтобы
приготовить новую культуру.
Надеть пальто, в’такую жарищу?! Зачем? Только потому,
что мы можем встретить миссис Джаппер? Но, дорогая моя,
ведь миссис Джаппер — это не сквозняк. Почему я должен
носить пальто в жаркий день только из-за того, что миссис
Джаппер... Ну, хорошо, хорошо...
(Из сборника «Похищенная бацилла», 1895)
СТРАУСЫ С МОЛОТКА
— Уж если говорить о ценах на птиц, то мне довелось ви-
деть страуса, который стоил триста фунтов стерлингов,— ска-
зал мастер по набивке чучел, вспоминая свои молодые годы,
когда он немало поколесил по свету.— Триста фунтов!
Он поглядел на меня поверх очков.
— А я видел такого, что и за четыреста продать отка-
зались,— заметил я.
— Но ведь у тех птиц не было ничего особенного, это были
самые обыкновенные страусы. Даже малость облезлые, потому
что сидели на голодном пайке. И не то чтобы на этих птиц был
тогда повышенный спрос. Я бы не сказал, чтобы пять страусов
на борту судна Ост-Индской компании могли уж так дорого
стоить. Нет, все дело было в том, что один из них проглотил
бриллиант.
Пострадавший субъект был не кто иной, как сэр Мохини,
падишах — шикарный малый, ну прямо франт с Пикадилли,
сказали бы вы, оглядев его с ног до головы, вернее — с ног
до плеч. Потому что выше торчала безобразная черная голова
с этаким здоровенным тюрбаном, а на тюрбане — бриллиант.
Чертова птица вдруг клюнула камешек, да и проглотила его,
а когда этот тип поднял крик, видно смекнула, что дело не-
ладно, пошла и смешалась с другими страусами, чтобы сохра-
нить свое инкогнито. Все произошло в одну минуту. Я при-
бежал туда чуть не раньше всех. Слышу, язычник этот
призывает в свидетели всех своих богов, а двое матросов и
тот парень, что вез страусов, так и помирают со смеху. Если
вдуматься, так и вправду — это ведь не совсем обычный спо-
соб терять драгоценности. Парень, приставленный к страусам,
при самом происшествии не присутствовал и не знал, какая
590
из птиц выкинула эту штуку. Видите, что получилось,— каме-
шек-то исчез бесследно. Сказать по правде, меня это не так
уж огорчило. Этот франт начал хвастаться своим дурацким
бриллиантом, едва успел ступить на борт.
Весть об этом событии мигом облетела весь корабль от
кормы до носа. Все стали судачить наперебой, а падишах
спустился к себе в каюту, расстроенный чуть не до слез. За
обедом (падишах всегда, бывало, сидел за отдельным- столи-
ком с двумя другими индусами) капитан слегка проехался на
его счет, и это задело индуса за живое. Он обернулся и начал
кричать у меня над ухом. Не покупать же ему этих страу-
сов. Он и так получит свой бриллиант обратно. Он британ-
ский подданный и знает свои права. Бриллиант должен быть
найден. Вынь да положь! Он подаст жалобу в палату
лордов.
Но парень, приставленный к страусам, оказался формен-
ной дубиной,— в его деревянную башку невозможно было
пропихнуть ни одной свежей мысли. Он наотрез отказался
подпустить врача к своим страусам. Ему-де было, приказано
кормить их тем-то и тем-то и ухаживать за ними так-то и так-
то, и он живо вылетит вон, если будет делать не то и не так.
Падишах продолжал настаивать на промывании желудка, хотя,
вы сами понимаете, птицам его делать никак невозможно. Па-
дишах, как все эти несуразные бенгальцы, был начинен вся-
кими там идеями насчет права и закона и все грозился нало-
жить на страусов арест, ну и прочее и тому подобное. Но какой-
то старикашка, у которого, по< его словам, сын был адвокатом
где-то в Лондоне, заявил, что предмет, проглоченный птицей,
становится ipso facto 1 частью самой птицы, и потому един-
ственное, что остается падишаху,— это предъявить иск за
убытки. Но даже в этом случае ответчик может сослаться на
неосторожность пострадавшего. Какое он имел право находить-
ся возле птицы, которая ему не принадлежит?
Тут падишах крепко приуныл, особенно когда почти все
нашли эти соображения весьма резонными. Юриста на борту
не оказалось, и мы судили и рядили об этом происшествии на
все лады. Потом, когда уже миновали Аден, падишах, как
видно, пришел к тому же мнению, что и мы, и втихомолку
предложил парню, приставленному к страусам, продать ему
все пять штук оптом.
На следующее утро за столом во время завтрака поднялся
сущий содом. Парень, приставленный к страусам, не имел,
разумеется, никакого права торговать этими птицами и ни за
что на свете не пошел бы на это, но он, как видно, дал понять
падишаху, что один субъект, по фамилии Поттер, уже сделал
ему. такое же предложение, и падишах принялся бранить этого
1 В силу самого факта (лат).
591
Поттера на чем свет стоит. Однако большинство склонялось
к тому, что Цоттер — малый не промах, и когда тот заявил,
что уже телеграфировал из Адена в Лондон, спрашивая раз-
решения на покупку птиц, и в Суэце должен получить ответ,
я, признаться, крепко ругнул себя за то, что упустил такой
случай.
В Суэце Поттер сделался обладателем страусов, а падишах
заплакал — да, заплакал, самыми настоящими слезами,—
и с места в карьер предложил Поттеру за его страусов двести
пятьдесят фунтов, то есть на двести с лишним процентов
больше, чем уплатил за них сам Поттер. Но Поттер заявил,
что пусть его повесят, если он уступит кому-нибудь хоть пе-
рышко. Он-де намерен заколоть их всех, одного за другим,
и найти бриллиант. Но потом он, должно быть, передумал и
пошел на уступки. Это был азартный малый, игрок и малость
шулер, и, верно, такая авантюра — распродажа страусов
«с сюрпризом» — пришлась ему по вкусу. Так или иначе, но
он, шутки ради, решил спустить своих птичек поштучно с мо-
лотка, заломив для начала по восемьдесят фунтов за каждую,
а себе оставить только одного страуса — на счастье.
Надо вам сказать, что бриллиант-то и в самом деле был
весьма ценный. Среди нас оказался один маленький такой
человечек — еврей, торговец драгоценностями, так он с самого
начала, как только падишах показал этот камень, оценил его
в три-четыре тысячи фунтов, так что не удивительно, если эта
затея — «играть на страусов» — имела успех. А я еще нака-
нуне разговорился о том о сем с парнем, приставленным к
страусам, и он как-то невзначай обмолвился, что один страус
как будто занемог. Похоже, расстройство желудка, сказал
парень. Эта птица была приметная — с белым пером в хвосте,
и на другой день, когда начался аукцион и первым пошел
с молотка именно этот страус, я тут же надбавил еще пять
к восьмидесяти пяти, которые сразу дал падишах. Боюсь, од-
нако, что я малость погорячился и слишком поспешил с над-
бавкой, так что остальные, должно быть, смекнули, что мне
кое-что известно. А падишах — тот так и вцепился в этого
страуса и все надбавлял и надбавлял, прямо как одержимый.
Кончилось тем, что еврей купил эту птицу за сто семьдесят
пять фунтов, а падишах крикнул «сто восемьдесят!», да уж
поздно было,— молоток упал, заявил Поттер. Словом, страус
достался торговцу, и он, недолго думая, схватил ружье и
пристрелил птицу. Тут Поттер поднял черт знает какой крик —
ему хотят сорвать продажу остальных трех, вопил он,— а па-
дишах, конечно, вел себя как форменный идиот. Впрочем, мы
все тут порядком раскипятились. Признаться, я был без па-
мяти рад, когда эту птицу, наконец, выпотрошили и никакого
камня в ней не оказалось. Я ведь сам дошел до ста сорока
фунтов, надбавляя за этого страуса.
592
Маленький еврей был, как все евреи,— он не стал уби-
ваться из-за того, что ему не повезло, но Поттер отказался
продолжать аукцион, пока все не примут его условие: товар
выдается на руки только по окончании распродажи. Торговец
принялся спорить — он доказывал, что тут случай особый.
Мнения разделились почти поровну, и аукцион пришлось от-
ложить до следующего утра.
В этот вечер обед у нас прошел весьма оживленно, смею
вас уверить, но в конце концов Поттер поставил на своем,—
ведь всякому было ясно, что так для него меньше риска, а мы
как-никак были ему признательны за его изобретательность.
Старикашка, у которого сын адвокат, заявил, что он обдумал
это дело со всех сторон, и ему кажется весьма сомнительным,
чтобы, вскрыв птицу и обнаружив в ней бриллиант, можно
было не вернуть его законному владельцу. Помнится, я ска-
зал, что тут пахнет статьей о незаконном присвоении цен-
ных находок, да так оно в сущности и было. Разгорелся жар-
кий спор, под конец мы решили, что, конечно, глупо убивать
птицу на борту парохода. Тут старый джентльмен снова уда-
рился в крючкотворство и принялся доказывать, что аукцион —
это лотерея, а лотереи запрещены законом, и потащился жа-
ловаться капитану. Но Поттер заявил, что он просто распро-
дает страусов, как самых обыкновенных птиц, и знать не знает
ни про какие бриллианты и никого ими не соблазняет. На-
оборот, он надеется, что никакого бриллианта в этих трех пти-
цах, предназначенных к продаже, нет. По его мнению, брил-
лиант должен быть в том страусе, которого он оставил себе.
Во всяком случае, он очень и очень на это рассчитывает.
Как бы там ни было, на другой день страусы сильно под-
нялись в цене. Должно быть, цену им набило то, что теперь
шансы уже увеличились на одну пятую. Проклятые созданья
пошли с молотка в среднем по двести двадцать семь фунтов.
И, удивительное дело, ни одного из них не досталось пади-
шаху, ни единого. Он только попусту драл глотку и в ту ми-
нуту, когда надо было надбавлять цену, вдруг начинал кри-
чать, что наложит на страусов арест. Вдобавок Поттер явно
ставил ему палки в колеса. Один страус достался тихому, мол-
чаливому чиновнику, другой — маленькому еврею-торговцу,
а третьего приобрели сообща судовые механики. И тут Поттер
вдруг начал скулить — зачем он продал этих страусов! Вот,
дескать, выбросил на ветер добрую тысячу фунтов, а его
страус, верно,— пустышка, и всегда-то он, Поттер, остается
в дураках. Но когда я пошел потолковать с ним — не усту-
пцу ли он мне свой последний шанс, оказалось, что он уже
продал своего страуса одному политическому деятелю, кото-
рый возвращался из Индии, где он проводил свой отпуск, за-
нимаясь изучением общественных и моральных проблем. Этот,
последний страус пошел за триста фунтов.
38 Г. Уэллс, т. 2
593
Ну вот в Бриндизи спустили с парохода трех этих черто-
вых птиц, хотя старый джентльмен усмотрел в этом нарушение
таможенных правил. Там же, вслед за страусами, сошел на
берег и Поттер, а за ним и падишах. Индус едва не рехнулся,
когда увидал, что его сокровище разъезжается, так сказать,
в разные стороны. Он все твердил, что добьется наложения
ареста (дался же ему этот арест!), и все совал свои карточки
с именем и адресом парням, которые купили страусов, чтобы
они знали, куда послать бриллиант. Но никто не желал знать
ни имени его, ни адреса и не собирался сообщать своего. Ну
и скандал же они подняли на пристани! Потом все разъеха-
лись кто куда. А я поплыл дальше в Саутгемптон и там, когда
сошел на берег, увидел последнего из страусов — того, что ку-
пили судовые механики. Эта глупая голенастая птш& стояла
возле сходней в какой-то клетке, и я подумал, что трудно подо-
брать более нелепую оправу для драгоценного камня. Если,
конечно, это была оправа.
Чем все это кончилось? Да тем и кончилось. А впрочем...
Да, похоже, что так. Тут, видите ли, одно обстоятельство про-
ливает некоторый свет на это дело. Неделю спустя по возвра-
щении домой я делал кое-какие покупки на Риджент-стрит,
и как вы думаете, кого я там встретил? Падишаха и Поттера —
прогуливаются себе под ручку, и оба веселые. Если малость
вдуматься...
Да, мне это уже приходило в голову. Но только бриллиант
был самый что ни на есть настоящий, в,этом сомневаться не
приходится. И падишах тоже безусловно важная персона.
Я видел его имя в газетах — и не раз. Ну, а вот действи-
тельно ли птица проглотила камень — это уж, как говорится,
вопрос особый.
(Из сборника «Похищенная бацилла», 1895)
ИСКУШЕНИЕ ХАРРИНГЕЯ
Не решусь утверждать, что все это действительно так и
было. Эта история известна мне только со слов художника
Р. М. Харрингея.
Если придерживаться его версии, то дело обстояло так. Ут-
ром, часов около десяти, Харрингей пошел к себе в мастерскую
взглянуть, нельзя ли что-нибудь сделать с головой, над которой
он работал накануне. Это была голова итальянского шарман-
щика, и картина, как предполагал, но еще не решил оконча-
тельно художник, должна была называться «Страж».
Харрингей передавал мне все это с какой-то убедительной
искренностью, и рассказ его показался мне правдивым.
Он увидел в окно нищего, который просил подаяния, и с до-
стойной гения быстротой тут же позвал его к себе.
— Встань на колени. Смотри вверх на эту лампу,— коман-
довал Харрингей.— Будто ты ждешь милостыни... Не скаль
зубы,— продолжал он.— Я не собираюсь рисовать твои десны.
Постарайся принять как можно более несчастный вид.
Но теперь, спросонья, картина показалась ему явно неудо-
влетворительной.
— Недурная работа,— подумал вслух художник.— Есть
что-то такое в линии шеи. Но...
Некоторое время он прохаживался по мастерской, погляды-
вая на холст то с одной, то с другой стороны. Наконец, крепко
выругался. (Рассказывая мне это, Харрингей не опускал ника-
ких подробностей...)
— Это картина,— рассуждал он.— Просто картина, изо-
бражающая шарманщика, самый обыкновенный портрет. Если
бы еще получился живой шарманщик, я ничего не имел бы про-
тив. Но у меня почему-то не выходят живые люди. Что-то не-
ладно с моим воображением.
38* 595
Он сказал правду. Ему и впрямь недоставало воображения.
— О, если бы обладать творческой силой,— вздохнул Хар-
рингей.— Взять бы холст, краски и создать человека,— вот как
из красной глины был создан Адам! Ну, а этот субъект... Если
бы его увидели на улице, сразу бы догадались, что это всего-
навсего продукция какой-нибудь студии. Мальчишки наверняка
бы крикнули ему: «Иди домой и встань в рамку!» В общем,
картина в таком виде не пойдет. Попробовать разве? Несколько
штрихов...
Он подошел к окну и стал поднимать шторы. Они были из
голубого голландского полотна и наматывались на ролики,
и надо было потянуть их, чтобы впустить в комнату побольше
света. Он взял со стола кисти, палитру и муштабель. За-
тем повернулся к картине, наложил коричневой краской пят-
нышко в углу рта и тут же обратил внимание на зрачки глаз.
Потом ему показалось, что подбородок слишком бесстрастен
для стража.
Он отложил свои орудия и, раскуривая трубку, отметил
свое достижение.
— Пусть меня повесят, если он не усмехается, глядя на
меня! — сказал Харрингей. (Он до сих пор убежден, что в тот
момент портрет усмехался.)
Фигура на портрете как-то странно оживала, совсем не так,
как хотелось бы художнику. Теперь усмешка уже бросалась в
глаза.
— «Воин, стерегущий неверного»,— произнес Харрингей.—
Тонко и умно! Но, пожалуй, левая бровь недостаточно цинична.
Он подошел к картине, подправил бровь и слегка подцве-
тил мочку уха, чтобы придать ему жизненности.
— Боюсь, что это уже не Страж,— размышлял вслух Хар-
рингей.— Почему бы не назвать картину «Мефистофель»?
Впрочем, это слишком тривиально. Может быть, «Друг дожа»?
Куда там,— такой оборванец! Его одеяние никуда не годится.
Истинный санкюлот... А что, если облечь его в пурпуровую
мантию и назвать «Представитель Священной коллегии»?
В этом есть юмор, и я покажу, что хорошо знаю средние
века.
— Это будет совсем в духе Бенвенуто Челлини,— заметил
Харрингей.— Только не хватало, чтобы рядом стояла золотая
чаша. Но это вряд ли пойдет к цвету его лица.
Он болтал не умолкая, чтобы побороть все нараставшее
чувство страха. И в самом деле картина производила какое-то
неприятное впечатление. Лицо становилось более живым, хотя
каким-то зловещим; еще никогда не удавалось ему добиться
такой жизненности.
— Назову-ка его «Портрет джентльмена»,— решил Хар-
рингей.— «Портрет незнакомца»... Нет, не подойдет,— продол-
жал Харрингей, подбадривая сам себя.— Это называется у нас
596
«дурным вкусом». А эту усмешку надо убрать. Прочь ее! И до-
бавить немного огня в глаза. Вот не обратил внимания, какое
у него было раньше выражение в глазах. Теперь он может сойти
за... В моде ли сейчас Страстный Пилигрим? Нет, это дьяволь-
ское лицо не будет иметь успеха у нас в Англии... Вероятно,
тут все дело в какой-нибудь незначительной ошибке,— продол-
жал он свои размышления.— Брови, пожалуй, чересчур уж на-
висшие.
С этими словами он подтянул штору, чтобы впустить по-
больше света, и снова взялся за кисть и палитру.
Лицо на холсте, казалось, начинало жить какой-то странной
жизнью. Откуда появилось это дьявольское выражение — Хар-
рингей никогда не мог бы сказать. Надо было что-то предпри-
нять! Может быть, все дело в бровях. Вряд ли. Все же он изме-
нил их форму. Но это ничуть не помогло, а, наоборот, придало
портрету еще более сатанинский вид. Может быть, углы рта?
Ух ты! Рот и без того был как-то злобно перекошен, а теперь,
подправленный, стал совсем свирепым. Тогда, может бьпь,
глаза?
Катастрофа! Вместо коричневой краски он набрал кино-
вари, хотя был вполне уверен, что берет коричневую!
Ему показалось, что огненные глаза портрета стали вра-
щаться и сверкать, злобно уставившись на него.
В гневном порыве и с каким-то мужеством отчаяния он уда-
рил кистью, полной яркокрасной краски, по лицу портрета, и
тут произошло (если верить его словам) нечто весьма любо-
пытное и необычайное.
Дьявольский портрет закрыл глаза, досадливо сморщился и
вытер рукой краску с лица!
Затем красноватые глаза снова открылись с каким-то хлю-
пающим звуком, и портрет осклабился.
— Вы поступили, пожалуй, несколько опрометчиво,— про-
изнес он.
Харрингей решил, что теперь уже случилось самое худшее,
и к нему вернулось самообладание. К тому же его успокаивала
мысль о том, что дьявол как-никак существо разумное.
— Вы сами виноваты,— сказал Харрингей.— Почему вы
все время вертитесь, строите рожи, кривляетесь, усмехаетесь?
Вы же мешаете мне писать!
— И не думаю,— возразил портрет.
— Нет, мешаете,— настаивал Харрингей.
— Вы сами себе мешаете,— бросил портрет.
— Я тут ни при чем,— заявил Харрингей.
— Нет, именно вы,— сказал портрет.— Только не вздумайте
опять мазать меня краской за то, что я сказал правду. Вы все
утро пытались изобразить что-то на моем лице. Но, по правде
сказать, вы не имеете ни малейшего представления, каким дол-
жен быть портрет, который вы пишете.
597
— Я прекрасно себе представляю,— протестовал Хар-
рингей.
— Вот уж нет! Вы заранее не представляете себе ни одной
из своих картин. Когда вы приступаете к работе, вы лишь
смутно предчувствуете, что у вас получится. Вам хочется со-
здать что-то прекрасное — это прежде всего. Вы хотите писать
на религиозную тему или, пожалуй, нечто трагическое, но все
это лишь слабые и случайные попытки. Неужели вы думаете»
дружище, что сами в состоянии написать такую картину, как
эта?
(Прошу вас не забывать, что я привожу здесь только рас-
сказ самого Харрингея.)
— Я напишу именно такую картину, какую задумал,— до-
вольно спокойно возразил Харрингей.
Этот ответ, казалось, несколько смутил портрет.
— Вы не можете писать картину без вдохновения,— заме-
тил он.
— Но сейчас я испытываю вдохновение.
— Вдохновение! — сардонически усмехнулся дьявол.— Вам
просто пришла в голову фантазия, когда вы увидели в окно
шарманщика! Страж! Ха! Ха! Вы начали писать наобум, на-
деясь на случай,— так оно и было. Я увидел, как вы бьетесь,—
вот я и явился. Мне надо с вами поговорить!
— Вы явно не в ладах с живописью,— продолжал пор-
трет.— Даром тратите время. Не знаю почему, но вам не
удается вложить душу в свою работу. У вас слишком много
знаний. Это вам мешает. Даже в минуты вдохновения вы спра-
шиваете себя, не было ли нечто подобное уже создано
раньше. И...
— Послушайте,— прервал его Харрингей, ожидавший от
дьявола чего угодно, только не критики.— Вы что, собираетесь
начать ученый диспут? — И он набрал красной краски на са-
мую большую свою кисть.
— Настоящий художник,— продолжал портрет,— всегда
человек невежественный. Художник, который рассуждает о
своей работе, уже не художник, а критик. Вагнер... Послу-
шайте... Зачем вам эта красная краска?
— Я собираюсь закрасить вас,— заявил Харрингей.— Не4
желаю выслушивать всю эту ерунду. Если вы думаете, что я
профессиональный художник и поэтому буду вести с вами уче-
ную беседу, то вы глубоко заблуждаетесь.
— Одну минуточку,— сказал портрет, и ,в словах его про-
звучала тревога.— Я хочу сделать вам от чистого сердца одно
предложение. Я сказал вам правду. У вас недостает вдохнове-
ния. Отлично. Вы, без сомнения, слышали про Кельнский со-
бор, про Чертов мост и...
— Чушь! — оборвал его Харрингей.— Вы думаете, что я
соглашусь погубить свою душу ради удовольствия написать
598
замечательную картину, которую все равно разругают? Так вот
же вам!
Харрингей был вне себя от ярости. Он сознавал, что подвер-
гается немалой опасности, но это лишь придало ему мужества,
так он по крайней мере уверяет. Он мазнул киноварью прямо
по губам своего ужасного детища. Итальянец начал плеваться
и пытался стереть краску, как видно крайне удивленный.
Затем, как рассказывает Харрингей, начался необычай-
ный поединок. Харрингей замазывал картину красной краской,
а итальянец увертывался от кисти и стирал краску, едва ху-
дожник успевал ее наложить.
— Два шедевра! — воскликнул демон.— Два неоспоримых
шедевра за душу художника из Челси! Вы что, торгуетесь?
В ответ Харрингей влепил ему в лицо жирный мазок.
Несколько минут ничего нельзя было расслышать, кроме
шлепанья кисти и фырканья и бормотания итальянца. Много
краски попало на руки и одежду Харрингея, хотя он и старался
соблюдать осторожность.
Но вот на палитре у Харрингея вышла вся краска, и про-
тивники остановились, тяжело дыша и пожирая друг друга
глазами.
Картина была невероятно измазана, можно было подумать,
что ее вываляли в крови на бойне, а итальянец казался крайне
утомленным, и ему, повидимому, было неприятно, что краска
стекает у него ручейками по шее.
Однако первый раунд был в его пользу.
— Подумайте только,— заговорил он, мужественно настаи-
вая на своем,— два великолепных шедевра в разном стиле.
Равноценные Кельнскому собору...
— Ага! Знаю!—воскликнул вдруг Харрингей и, выбе-
жав из мастерской, бросился по коридору в будуар своей
жены.
Через минуту он вернулся с большой банкой эмали желто-
ватого оттенка, прихватив с собой здоровенную кисть. При виде
этого красноглазый дьявол с артистическими наклонностями
принялся вопить:
— Три шедевра, три бесподобных шедевра!
Харрингей наотмашь ударил кистью по холсту, перечеркнув
демона крест-накрест, и ткнул кистью в глаз портрету. Глухо
прозвучало: «Четыре шедевра!» Слышно было, как дьявол от-
плевывается.
Теперь преимущество было на стороне Харрингея, и он
твердо решил добить дьявола. Быстрыми, уверенными мазками
он продолжал закрашивать судорожно подергивающийся
холст, пока не образовалось однотонное поле блестящей желто-
вато-зеленой эмалевой краски. Еще раз проступил на холсте
рот и, прежде чем его заполнили эмалью, успел прохрипеть:
— Пять шедев...
599
В последний раз мелькнул красный глаз и бросил на Хар-
рингея негодующий взгляд. Под конец не осталось ничего,
кроме блестящего поля подсыхающей эмали. Некоторое время
под слоем краски еще замечалось легкое движение и то тут, то
там морщился холст, но вот и это прекратилось, и полотно стало
совершенно гладким.
Тогда Харрингей,— продолжаю его рассказ,— закурил
трубку, сел и, глядя на покрытый эмалью холст, погрузился в
раздумье, пытаясь разобраться в происшедшем. Потом он
встал, обошел вокруг холста и осмотрел его с другой стороны:
не осталось ли там чего-нибудь интересного? Теперь ему было
досадно, что он не сфотографировал дьявола, прежде чем его
закрасить.
Повторяю: это рассказ Харрингея, не мой. В подтверждение
своих слов он показал мне небольшой холст (24 X 20), закра-
шенный бледнозеленой эмалевой краской, причем клятвенно
заверял меня, что все это сущая правда.
Правда также и то, что Харрингей еще не создал ни одного
шедевра и, по мнению его близких друзей, по всей вероятности
никогда и не создаст.
(Из сборника «Похищенная бацилла», 1895)
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДЕЛАЛ АЛМАЗЫ
Какое-то дело задержало меня на Чэнсери-Лейн до девяти
вечера, голова слегка побаливала, и я не был расположен ни
развлекаться, ни продолжать работу. Небольшой клочок неба
меж каменных громад этого узкого ущелья, где днем бурлило
движенье, говорил о том, что наступил тихий вечер, и я решил
спуститься к набережной — освежиться и дать отдых глазам,
наблюдая игру разноцветных огней в струях реки. Без всякого
сомнения, в этих местах лучше всего бывать ночью: в спаси-
тельной темноте не видно, как грязна вода, и огни нашего стре-
мительного века — красный, яркооранжевый, ядовито желтый
и ослепительно белый — тускло светятся всевозможными оттен-
ками, от дымчатого до темнолилового. Сквозь пролеты моста
Ватерлоо сотни светящихся точек обозначают изгиб набереж-
ной, а над парапетом ее на фоне звездного неба серой грома-
дой встают башни Вестминстера. Черная река течет мимо,
лишь изредка всплеск волны нарушает ее безмолвие и колеб-
лет отражение огней, плывущих по ее глади.
— Какая теплая ночь,— произнес рядом со мной чей-то
голос.
Я обернулся и увидел профиль человека, облокотившегося
о парапет рядом со .мной. Не лишенное привлекательности,
тонкое лицо незнакомца, осунувшееся и бледное, поднятый и
заколотый булавкой воротник его пальто не менее красноре-
чиво, чем, скажем, мундир, говорили о жизни, которую вел этот
человек. Я чувствовал, что, откликнувшись на его замечание,
буду вынужден подать ему на ночлежку и кружку кофе.
С любопытством смотрел я на него. Сумеет ли он рассказать
мне взамен что-нибудь стоящее, или передо мной обыкновен-
ная бездарность, человек, неспособный даже поведать собст-
венную историю? Лоб и глаза изобличали в нем человека ум-
601
кого, нижняя губа слегка вздрагивала, и это побудило меня
заговорить.
— Да, очень теплая,— произнес я,— но нам здесь не слиш-
ком тепло.
— Нет, почему же,— отвечал он, не отрывая глаз от воды,—
здесь очень приятно... сейчас по крайней мере.
— Как хорошо найти в Лондоне,— продолжал он, помол-
чав,— такое спокойное местечко. Весь день занят делами, стре-
мишься добиться своего, выполнить кучу обязанностей и при
этом не попасть впросак,— да я просто не знаю, как можно
было бы жить, если б не такие вот тихие уголки.
Он говорил не спеша, фразы не сразу следовали одна за
другой.
— Вам, должно быть, знаком утомительный повседневный
труд, иначе вы не пришли бы сюда. Но вряд ли вы так измо-
таны и опустошены, как я... Эх! Иной раз мне кажется, что игра
не стоит свеч. Хочется бросить все на свете — имя, богатство,
положение в обществе — и заняться чем-нибудь скромным и
незаметным. Но я знаю — стоит мне отказаться от своей често-
любивой мечты, которая отняла у меня столько сил и здоровья,
и я буду сожалеть об этом до конца дней.
Незнакомец замолчал. Я глядел на него с удивлением. Пе-
редо мной стоял человек вконец обнищавший,— я никогда не
видел ничего подобного. Оборванный, грязный, давно не бритый
и не чесанный, казалось, он целую неделю провалялся на по-
мойке. И он говорил мне об утомительных хлопотах, неизбеж-
ных при ведении крупных дел. Я чуть было не рассмеялся. То
ли он сумасшедший, то ли горько шутит над собственной бед-
ностью.
— Если благородные устремления и высокое положение,—
отвечал я,— всегда сопряжены с тяжелым трудом и немалыми
заботами, то все же они имеют и свою хорошую сторону. Чело-
век пользуется влиянием, может сделать доброе дело и помочь
тем, кто беднее и слабее нас самих; а кроме того, его радует
сознание, что...
В тот момент моя шутка прозвучала крайне неуместно. Меня
подзадорило явное несоответствие речей незнакомца и его
внешности. Еще не кончив, я уже пожалел о сказанном.
Он повернул ко мне свое изможденное, но невозмутимое
лицо и сказал:
— Я забылся. Вам, конечно, не понять моих слов.
Какое-то мгновение он словно оценивал меня.
—; Все это так нелепо. Вы, конечно, не поверите мне, даже
если я вам скажу все, так что вряд ли стоит и рассказывать...
Но все же так отрадно открыться кому-нибудь... У меня в ру-
ках действительно выгодное дело, очень выгодное. Но именно
сейчас я в большом затруднении. Дело в том, что я... я делаю
алмазы.
602
— Должно быть, сейчас вы без работы? — спросил я.
— Как надоело мне это вечное недоверие! — нетерпе-
ливо бросил незнакомец и, внезапно расстегнув свое драное
пальто, вытащил маленький мешочек, висевший у него на
шее. Он извлек из мешочка какой-то темный камешек и подал
его мне.
— Сомневаюсь, сможете ли вы определить, что это такое.
Около года тому назад мне пришлось изучить ряд предме-
тов для получения ученой степени, поэтому я имел некоторое
представление о физике и минералогии. Камешек походил на
неотшлифованный алмаз темной воды, хотя и был слишком
велик — почти с первый сустав моего большого пальца. Взяв
его в руки, я увидел, что это правильный восьмигранник с
острыми гранями, характерными для большинства драгоцен-
ных камней. Достав перочинный нож, я попытался нанести на
камешек царапину, но это мне не удалось. Тогда, повернув-
шись к фонарю, я провел камешком по стеклу своих часов и
совсем легко оставил на нем белый след.
Сильно заинтересованный, я взглянул на своего собесед^
ника.
— В самом деле, похоже на алмаз. Но в таком случае это
алмаз неслыханных размеров. Откуда же он у вас?
— Говорю вам, я сделал его сам,— отвечал он.— Давайте
его сюда.
Он поспешно сунул камень в мешочек и застегнулся.
— Я продам вам его за сто фунтов,— вдруг горячо прошеп-
тал он.
При этих словах мои подозрения снова ожили. В конце кон-
цов это мог быть просто-напросто кусок корундума, случайно
напоминающий по форме алмаз и почти столь же твердый.
Даже если это действительно алмаз, то как он попал к этому
человеку и почему он отдает камень за сто фунтов?
Мы посмотрели друг другу в глаза. Видно было, что ему
очень хочется продать этот камень, но ведь и честный человек
может испытывать такое желание. В эту минуту я поверил, что
он хочет продать мне настоящий алмаз. Но я человек небога-
тый, и сто фунтов пробили бы довольно ощутимую брешь в
моем бюджете. Да к тому же ни один нормальный человек не
рискнет покупать алмазы при свете газового фонаря, поверив
на слово какому-то оборванцу. И все же при виде алмаза таких
размеров у меня разыгралось воображение, и мне уже мерещи-
лись тысячи фунтов. Но тут я подумал, что вряд ли такой ка-
мень не упомянут в любой монографии о драгоценных камнях.
И снова в памяти всплыли рассказы о ловких мошенниках и о
кафрах-контрабандистах, орудующих в Кейптауне.
Я решил обойти вопрос о покупке молчанием.
— Как же все-таки он вам достался? — спросил я.
— Я его сделал.
603
Я кое-что слышал о Муассане, но, припомнив, что его искус-
ственные алмазы были очень невелики, покачал головой.
— Вы, кажется, немного разбираетесь в такого рода вещах.
Я расскажу вам кое-что о себе, и, может быть, тогда эта по-
купка перестанет казаться вам столь сомнительной.— Он по-
вернулся спиной к реке, сунул руки в карманы и, вздохнув,
заметил: — Я знаю, вы мне все равно не поверите.
— Алмазы,— продолжал он,— могут быть получены путем
нагревания чистого углерода при известном давлении до опре-
деленной температуры; при этом углерод выкристаллизовы-
вается, но не как графитовая пыль или пыль древесного угля,
а в виде мелких алмазов.
По мере того как он говорил, едва приметные вульгарные
нотки сменялись интонациями интеллигентного человека.
— Это давно уже известно химикам,— продолжал он,— но
никому еще не удалось установить, какая температура и какое
давление дают наилучшие результаты. Из маленьких мутных
алмазов, полученных химиками, нельзя делать бриллианты.
И вот я посвятил свою жизнь решению этой проблемы,— отдал
этому всю свою жизнь.
Я начал изучать способы изготовления алмазов, когда мне
было семнадцать, а теперь мне уже тридцать два. Мне дума-
лось, что даже если я неотрывно проработаю над этой пробле-
мой десять — двадцать лет, то и тогда игра все же стоит свеч.
Допустим, кто-нибудь попадет в самую точку прежде, чем сек-
рет раскроется и алмазов станет столько же, сколько угля,—
ведь этот человек будет загребать миллионы. Миллионы!
Он остановился и взглянул на меня, ища сочувствия. В его
глазах горел голодный блеск.
— Подумать только, что я на пороге этого, и вот... Когда
мне был двадцать один год, я мог располагать тысячью фун-
тов,— продолжал он,— и я рассчитывал, что за вычетом не-
большой суммы, которая пойдет на мое образование, мне хва-
тит этих денег на опыты. Года два я учился,— в основном в
Берлине,— а затем стал заниматься самостоятельно. К не-
счастью, мне приходилось действовать втайне. Ведь если бы я
ненароком выдал, чем занимаюсь, я мог бы заразить и других
своей верой в осуществимость этой затеи. Тогда изобретатели
стали бы лихорадочно работать в этом направлении, а я не
считал себя таким уж гением и не надеялся опередить своих
соперников. Так что, вы понимаете, поскольку я всерьез хотел
разбогатеть, никто не должен был знать, что с помощью этой
процедуры можно получать алмазы тоннами. И вот мне при-
шлось работать в одиночку. Сначала у меня была маленькая
лаборатория, но когда мои ресурсы стали подходить к концу,
пришлось производить свои опыты в унылой комнате с голыми
стенами на Кентиштаун, где я под конец спал на соломенном
матраце на полу среди приборов. Деньги так и таяли. Я от-
604
называл себе решительно во всем, но покупал новейшую аппа-
ратуру. Я попытался перебиваться, давая уроки, но я не очень-
то хороший педагог, да к тому же у меня нет ни университет-
ского диплома, ни обширных познаний,— я силен только в хи-
мии. Вскоре мне стало ясно, что за какие-то гроши я должен
отдавать чуть ли не все свои силы и время. Но я быстрыми
шагами приближался к цели. Три года назад я узнал, как по-
лучить пламя, которое могло дать необходимую температуру,
и почти разрешил проблему давления, поместив смесь соб-
ственного изготовления вместе с одной разновидностью угле-
рода в пустую гильзу из-под снаряда. Наполнив гильзу водой,
я герметически закупорил ее и начал нагревать.
Он умолк.
— Довольно рискованно,— заметил я.
— Да. Смесь взорвалась, в комнате вылетели все стекла,
разбилось и много приборов; тем не менее я получил что-то
вроде алмазной пыли. Стремясь создать большое давление, воз-
действующее на расплавленную массу, из которой выкристал-
лизовываются алмазы, я напал на изыскания некоего Добра,
работавшего в парижской лаборатории взрывчатых веществ.
Этот ученый взрывал динамит в герметически закрытом сталь-
ном цилиндре, который выдерживал взрыв, и я узнал, что при
желании Добрэ мог бы разнести в пыль глыбы, не менее твер-
дые, чем африканские скалы, в которых находят алмазы. С не-
вероятным напряжением для своих финансов я приобрел сталь-
ной цилиндр, изготовленный по образцу цилиндра Добрэ. На-
полнив его своей смесью и взрывчаткой, я развел огонь в топке
и пошел прогуляться.
У меня невольно вызвал улыбку будничный тон, каким он
все это рассказывал.
— Разве вы не подумали, что мог взорваться весь дом?
Ведь там жили и другие люди?
— Все это делалось во имя науки,— невозмутимо заявил
он.— Этажом ниже жила семья уличного разносчика, в ком-
нате напротив обретался нищенствующий писатель, а надо
мной — две цветочницы. Вероятно, я поступил несколько лег-
комысленно. Но, возможно, кое-кого из них не было в это время
дома.
Когда я вернулся, цилиндр был в том же положении, среди
раскаленного угля. Взрывчатка не разорвала его. И тут передо
мной встала новая проблема. Вы знаете, что для кристаллиза-
ции необходимо время. Если ускорить процесс, кристаллы по-
лучатся маленькие — только по истечении длительного времени
могут они достигнуть значительных размеров. Я решил дать
остывать моей аппаратуре два года, с тем чтобы температура
снижалась постепенно. К этому времени я был уже совсем без
денег; нужно было поддерживать пламя, платить за комнату
и как-то питаться, а у меня не было ни гроша.
605
Чем только мне не приходилось заниматься, пока я делал
алмазы! Я продавал газеты, держал под уздцы лошадей, откры-
вал дверцы карет. Много недель подряд надписывал конверты.
Служил подручным у торговца, ходившего с ручной тележкой,
и выкликал вместе с ним товары,— он с одной стороны улицы,
я — с другой. Однажды я целую неделю был совсем без работы
и просил подаяния. Что это было за время! И вот огонь стал
ослабевать, и за весь день у меня не было во рту ни крошки;
какой-то юнец, что прогуливался со своей подружкой, подал
мне полшиллинга, чтобы покрасоваться перед нею. Да будет
благословенно тщеславие! Какой соблазнительный запах доно-
сился из рыбной лавки! Но я все же пошел и потратил все
деньги на уголь, в топке снова ярко запылал огонь и тут...
С голоду глупеешь...
Под конец, три недели тому назад, я перестал поддержи-
вать огонь. Я извлек цилиндр и вскрыл его,— он был еще так
горяч, что обжигал мне руки,— выскреб стамеской хрупкую
лавообразную массу и размельчил ее молотком на чугунной
плите. Я обнаружил три крупных и пять мелких алмазов.
Когда я, сидя на полу, стучал молотком, вошел мой сосед —
нищенствующий писатель. Он по своему обыкновению был пьян
и бросил мне:
— А-анархист...
— Вы пьяны,— отвечал я.
— Мерзкий поджигатель...— продолжал он.
•— А пошел ты ко всем чертям! — отрезал я.
— Как бы не так,— отвечал сосед, хитро подмигнув. Тут
он икнул, привалился к двери и, глядя в потолок, принялся
болтать. Он-де обследовал мою комнату и сегодня поутру схо-
дил в полицию, где они записали все, что он выложил,— уж
посмотрим, что это за драгоценности,— прибавил он.
Тут я понял, что попал в ловушку. Либо мне придется от-
крыть в полиции свой маленький секрет — и тогда все пропало,
либо меня арестуют как анархиста. И вот я подступился к сво-
ему соседу и, ухватив его за шиворот, малость тряхнул, а потом,
собрав свои алмазы, удрал. В вечерних газетах мое логово
окрестили кентиштаунской фабрикой бомб. И теперь я ни доб-
ром, ни худом не могу разделаться с этими алмазами.
Если я обращаюсь к солидным ювелирам, меня просят не-
много подождать и шепчут приказчику сбегать за полицейским.
Приходится говорить, что я не могу ждать. Я отыскал человека,
скупавшего краденое, и он просто-напросто присвоил один из
моих алмазов, предложив мне обратиться в суд, если я хочу
получить его обратно. И вот я брожу повсюду, бездомный и го-
лодный, а в мешочке у меня пять алмазов на несколько сот ты-
сяч фунтов. Вам я доверился первому. Мне понравилось ваше
лицо, и я дошел до точки.
Он посмотрел мне в глаза.
606
— С моей стороны было бы сущим безумием купить этот
алмаз при подобных обстоятельствах,— сказал я.— Да к тому
же я не имею привычки носить с собой столько денег. Все же
я почти уверен, что вы рассказали мне правду. Давайте, если
хотите, сделаем так,— приходите ко мне завтра в контору...
— Вы принимаете меня за жулика! — с горечью сказал
он.— Вы заявите в полицию. Но я не намерен лезть в петлю.
— Я почему-то уверен, что вы совсем не жулик. Во всяком
случае, вот моя визитная карточка. Возьмите ее. Вам незачем
приходить в условленный час. Приходите когда вздумается.
Он принял мою карточку и уверения в доброжелательности.
— Как следует все обдумайте и приходите,— заключил я.
Незнакомец с сомнением покачал головой.
— Когда-нибудь я с лихвой возмещу вам ваши полкроны —
е такими процентами, что вы диву дадитесь,— отвечал он.—
Так или иначе, я надеюсь, вы не проболтаетесь?.. Не идите за
мной.
Он перешел улицу и исчез в темноте — в том месте, где
стоит арка и ступени ведут к Эссекс-стрит,— и я дал ему уйти.
Больше я ни разу не видел его.
Впоследствии я получил от него два письма с просьбой при-
слать денег — банкнотами, не чеком — по определенному ад-
ресу. Я все обдумал и поступил, как мне казалось, вполне бла-
горазумно. Как-то раз он зашел к нам, но не застал меня. Мой
сынишка описал мне его — страшно худой, грязный и оборван-
ный человек, отчаянно кашлявший. Он не оставил никакой за-
писки. Это все, что я могу о нем рассказать.
Порой я размышляю о том, какая судьба постигла этого
человека. Был ли то просто-напросто фантазер-маньяк, или же
мошенник, занимавшийся подделкой драгоценных камней,
а может быть, он и в самом деле делал алмазы.
Последнее предположение кажется мне достаточно вероят-
ным, и мне порой думается, что я упустил самую блестящую
возможность в моей жизни. Конечно, он, может быть, уже умер
и его алмазы затерялись,— один из них, я повторяю, был вели-
чиной почти с сустав моего большого пальца. А может быть, он
и по сей день бродит и бродит, тщетно надеясь их продать.
Вполне возможно, что он еще появится в хорошем обществе и
промелькнет на моем горизонте с безмятежным видом богатого
и преуспевающего человека, молчаливо упрекнув меня за не-
достаток предприимчивости. Иногда мне кажется, что я все же
мог бы рискнуть хотя бы пятью фунтами.
(Из сборника «Похищенная бацилла», 1895)
ОСТРОВ ЭПИОРНИС
Человек со шрамом на лице перегнулся через стол и по-
смотрел на мой сверток.
— Орхидеи? — спросил он.
— Да, пустяки, несколько штук,— ответил я.
— Киприпедии?
— Главным образом.
— Что-нибудь новое? Нет? Я так и думал. Я бывал на этих
островах лет двадцать пять, двадцать семь тому назад. Если
вы ухитрились отыскать там что-нибудь новое,— значит, уж
совсем новинка. Я ведь оставил после себя немного.
— Я не коллекционер.
— Я был молод тогда,— продолжал он.— Боже, как я но-
сился по свету! — Он испытующе посмотрел на меня.— Два
года я прожил в Восточной Индии и семь лет в Бразилии.
А затем отправился на Мадагаскар.
— Мне известны имена некоторых исследователей,— заме-
тил я, предвкушая «охотничий рассказ».— Для кого вы соби-
рали?
— Для Даусона. Интересно знать, вам не приходилось слы-
шать фамилию Бутчер?
— Бутчер... Бутчер? — Фамилия смутно маячила у меня в
памяти. И вдруг я вспомнил: «Дело Бутчера против Дау-
сона».— Ну, как же! — воскликнул я.— Так вы тот самый чело-
век, который старался отсудить у них жалованье за четыре года
и был выброшен на необитаемый остров?..
— Ваш покорный слуга,— промолвил, кланяясь, человек
со шрамом.— Забавный был случай, не правда ли? Это именно
я копил маленький капиталец там, на острове,— это получа-
лось как-то само собой,— а они даже не могли уволить меня.
Мысль об этом очень забавляла меня, когда я там жил. Я вы-
608
считывал свое состояние — огромное состояние,— расписывая
красивые узоры по этому чертову острову.
— Постойте, как это произошло? — спросил я.— Я что-то
не очень помню...
— Нну!.. Вы слышали об эпиорнисе?
— Конечно... Эндрюс с месяц тому назад, как раз перед
моим отъездом, рассказывал мне о новой породе. Они раско-
пали берцовую кость длиной около ярда. Ну и чудовище!
— Еще бы! — воскликнул человек со шрамом.— Она и
была чудовищем. Синдбадова птица Рох — пустяк перед ней.
Но когда же они нашли эти кости?
— Года три, четыре тому назад, как будто в девяносто пер-
вом. А что?
— Как что? Да ведь это я нашел их лет двадцать назад.
И если бы Даусон не валял дурака с этим жалованьем, мы бы
уж наделали шуму! Я-то не виноват, что эту проклятую посу-
дину унесло течением.— Он помолчал.— Думаю, это то самое
место. Вроде болота, миль девяносто к северу от Антананариво.
Вы, может, слышали о нем? Туда надо плыть на лодках вдоль
побережья. Вспоминаете?
— Нет, не помню. Впрочем, Эндрюс, кажется, что-то гово-
рил насчет болота.
— Должно быть, оно и есть. На восточном побережье. Там
вода такая, что в ней ничего не портится. Она пахнет креозо-
том. Мне так и вспомнился Тринидад. А им удалось раздобыть
еще яиц? Те, что я нашел, достигали полутора футов. Там кру-
гом сплошное болото, понимаете, и к тому месту не пробе-
решься. А вода почти всюду соленая. Дда... И досталось же
мне там! Я нашел эти штуки случайно. Мы отправились за
яйцами, я и два туземца, на одном из их допотопных челнов,
и тогда же нашли кости. У нас была палатка и провизия —
дня на четыре, вот мы и расположились на твердом местечке.
Как сейчас слышу этот странный смолистый запах. Чудная
работа! Идешь шаг за шагом, прощупывая болотную слякоть
железным прутом. Обычно яйцо разбивается вдребезги. Инте-
ресно знать, сколько времени прошло с тех пор, как жили эти
эпиорнисы. Миссионеры говорят, что туземцы рассказывают
легенды о тех временах, но я сам ничего такого не слышал 1.
Одно несомненно, яйца, которые мы нашли, были такие све-
жие, как будто их только что снесли/Свеженькие! Перенося
их в лодку, один из моих негров уронил яйцо на камень, и оно
разбилось. И задал же я трепку этому негодяю! Но яйцо было
свежее, как будто и в самом деле только что снесенное, а ведь
мамаша сдохла этак лет четыреста назад. Этого парня, видите
1 Ни один европеец не видел живых эпиорнисов, за сомнительным
исключением Мак Андрю, который посетил Мадагаскар в 1745 году.
(Прим. Г. Дж. Уэллса.)
39 Г. Уэллс, т. 2 609
ли, укусила сколопендра! Однако я не о том... Нам пришлось
копаться в грязи целый день, но мы вытащили яйца в целости,
вымазались в премерзкой черной пакости, и, конечно, я злился.
Насколько мне известно, это были единственные яйца, кото-
рые удалось извлечь без единой трещинки. Впоследствии я от-
правился посмотреть на такие же в Лондонском зоологическом
музее. Там они все потрескались, слиплись, как мозаика, и ку-
сочков не хватало. Мои были великолепны, и я собрался раз-
звонить о них по всему свету, когда вернусь. Конечно, я рас-
сердился на этого идиота,— ведь три часа работы пропало
из-за какой-то сколопендры! Ему здорово влетело от меня.
Человек со шрамом вытащил глиняную трубку. Я протя-
нул ему мой кисет. Он машинально набил трубку.
— А как с остальными? Вы доставили их домой? Я не
помню...
— Вот тут-то и начинается самое интересное. У меня оста-
валось еще три. Три вполне свежих яйца. Ну-с, мы положили
их в лодку, и я отправился в палатку сварить кофе, а моих
язычников оставил на берегу; один из них возился со своей
раной, а другой помогал ему. Я никак не думал, что эти прой-
дохи воспользуются положением, в какое я попал, и затеют
со^мной ссору. Но, вероятно, яд сколопендры и пинок, которым
я наградил его, обозлили одного из них,— он вообще был
презлющий,— а другого он уговорил.
Помню, я сидел, курил и кипятил воду на спиртовке, кото-
рую я всегда беру в такие экспедиции. А заодно любовался
закатом на болоте. Оно было все полосатое, какое-то черное и
красное, как кровь, просто картина! А вдали этакие горы —
туманные, серые, и над ними небо, как огненная печь. А в пя-
тидесяти ярдах за моей спиной эти проклятые язычники,
несмотря на окружающую тишину и покой, готовились удрать
и бросить меня одного, с трехдневным запасом провизии, па-
латкой и одним-единственным маленьким бочонком воды.
Я услышал какой-то вопль позади себя, смотрю — а они уже
плывут в челноке (это была не настоящая лодка) ярдах в два-
дцати от берега. В одну секунду я понял, что случилось. Мое
ружье осталось в палатке, и вдобавок нф было пуль, а только
дробь. Они знали это. Но в кармане jr меня был маленький
револьвер, я выхватил его и побежал j£|ffepery.
— Назад! — заорал я, размахивазгревольвером.
Они что-то залопотали, и тот негодяй, что разбил яйцо, стал
издеваться надо мной. Я прицелился в другого — того, что не
был укушен и греб, но промахнулся. Они захохотали. Однако я
еще не сдавался. Понимая, что нельзя терять голову, я снова
прицелился. И тут негр подскочил. Теперь он уже не смеялся.
В третий раз я угодил ему в голову, и он полетел через борт
вместе с веслом. Удачный выстрел для такого револьвера.
Прицел — этак ярдов на пятьдесят. Негр тотчас пошел ко дну.
610
Не знаю, застрелил я его или только оглушил, и он захлеб-
нулся. Я принялся кричать другому, чтобы он вернулся, но он
скорчился на дне лодки и не отвечал. Тогда я выпустил в него
все пули, но ни одна его даже не задела...
Признаюсь, я чувствовал себя круглым идиотом. Я остался
один на этом гнусном черном берегу, позади тянулось плоское
болото, впереди плоское море, похолодевшее после заката,
а дьявольский челнок уходил все дальше в море. Сказать
правду, в ту минуту я проклинал на чем свет стоит и Даусона,
и Джемраха, и музеи, и все прочее. Я орал негру, чтобы он
вернулся, и, наконец, стал неистово вопить.
Оставалось одно — поплыть за ним, рискуя встретиться
с акулами. Я открыл нож, взял его в зубы, сбросил одежду и
вошел в воду. Но едва я очутился в воде, как тотчас потерял
челнок из виду, хотя, как мне казалось, я плыл ему наперерез.
Я надеялся, что человек в лодке слишком ослабел и ему не до
руля, а лодка сама по себе не изменит направления. И вдруг
она снова показалась на горизонте, где-то на юго-западе. По-
следние отблески заката погасли, и подкрадывался ночной
мрак... В синеве проступили звезды. Я плыл, как чемпион на
состязании, хотя руки и ноги у меня ныли от усталости.
И все-таки, когда уже померкли звезды, я подплыл к нему.
В темноте вода стала светиться — вы знаете, фосфоресценция.
Минутами у меня кружилась голова. Мне уже трудно было
отличать звезды от этих искр, и я не соображал, плыву ли я
вниз ногами или головой. Челнок был черен, как смертный грех,
а рябь под его носом сверкала, как жидкое пламя. Конечно,
я боялся лезть в лодку, и хотел выяснить, что предпримет негр.
Но он лежал, свернувшись в клубок, на носу, а вся корма была
над водой.
Течение медленно кружило челнок, ну совсем как в вальсе.
Я схватился за корму и дернул ее, полагая, что человек
очнется. Затем перелез через борт, держа нож в руке, готовый
к нападению. Но негр не шевелился. Тогда я уселся на корме
и поплыл по спокойному, сияющему морю под небом, усыпан-
ным звездами, ожидая, что будет дальше.
Долго спустя я окликнул его по имени, но он не отозвался.
Я слишком ослабел и не рисковал подползти к нему. Так мы и
сидели. Кажется, я раза два-три задремал. Только на рассвете
я увидел, что он мертв, как бревно, весь изогнулся и посинел.
Три яйца и драгоценные кости лежали в середине челнока,
а бочка с водой, кофе и сухари, завернутые в капштатскую га-
зету «Аргус»,— у его ног, жестянка с метиловым спиртом
стояла перед ним. Весла не было, и, кроме спиртовки, нечем
было его заменить, поэтому я и решил плыть по воле волн, до
тех пор пока меня не подберут. Я произвел следствие, вынес
приговор неведомой змее, скорпиону или сколопендре и вы-
бросил труп за борт.
39*
611
Затем я выпил воды, поел сухарей и стал смотреть, что де-
лается вокруг. Вероятно, когда человек лежит на дне лодки,
ему видно не особенно много. Во всяком случае, Мадагаскар
совсем исчез из глаз, и вообще не было ни намека на землю!
Я видел какой-то парус, наверное, это была шхуна, проплыв-
шая на юго-запад, но ее корпус так и не показался над гори-
зонтом. Вскоре солнце поднялось высоко и начало меня палить.
Господи боже! У меня мозг чуть не расплавился от жары.
Я попытался окунуть голову в море; затем взгляд мой упал на
«Аргус», я улегся на дно челнока и закрылся газетным листом.
Замечательная вещь эти газеты! Правду сказаться ни одной
из них не дочитал до конца, но какие возможности таятся
в них, когда человек остается совсем один вот так, как я тогда!
Кажется, я перечел этот пожелтевший номер «Аргуса» раз
двадцать. Смола на стенках челна воняла и вздувалась круп-
ными пузырями.
— Меня носило по морю десять дней,— продолжал человек
со шрамом.— Шутка сказать, а? Дни тянулись однообразно.
Я приподнимался только утром и вечером, чтобы посмотреть
кругом,— ведь жара была дьявольская!..
Первые три дня я еще видел парусники, но ни один из них
не обратил на меня внимания. На шестую ночь одно судно
прошло не более чем в полумиле от меня,— при полном осве-
щении и с открытыми иллюминаторами оно казалось большим
светляком. На палубе играла музыка. Я вскочил на ноги,
я звал, я кричал. На второй день я надколол яйцо эпиорниса,
отковырял по кусочкам скорлупу с одного конца и попробовал.
И представьте себе мою радость,— оно оказалось вполне
съедобным. Небольшой привкус, пожалуй неплохой, вроде
как у утиного яйца. С одной стороны желтка виднелось
круглое пятно — около шести дюймов в диаметре, с кро-
вяными прожилками и белой меточкой в виде завитка, ко-
торая мне показалась подозрительной, но в то время я не
понял, что это значит, и не склонен был размышлять об
этом. Вместе с сухарями и порцией воды этого яйца мне
хватило на три дня. Кроме того, я жевал еще кофейные
зерна,— это здорово подбадривает. Второе яйцо я разбил на
восьмой день и испугался.
Человек со шрамом помолчал.
— Да,— продолжал он,— оно было с зародышем.
Вы не верите, конечно. Я и сам не поверил, хоть и видел
своими глазами. Яйцо пролежало в холодном черном болоте
лет триста. Но ни малейшего сомнения: там был этот самый —
как его — эмбрион с большой головой и изогнутой спинкой,
и сердце билось у него под шейкой, а желток сморщился,
и пленки обволакивали изнутри всю скорлупу. Оказывается,
я высиживал в маленькой лодке посреди .Индийского океана
яйца самой крупной из ископаемых птиц. Эх, если б только
612
знал об этом старик Даусон! Это стоило четырехлетнего жа-
лованья! Как вы думаете?
И все-таки мне пришлось есть эту чертовщину, кусок за
куском, пока не показался остров,— некоторые куски были
просто отвратительны. Третье яйцо я не трогал. Я посмотрел
его на свет, но скорлупа была слишком толстая, и трудно было
разобрать, что в нем творится. Мне казалось, что я слышу, как
там бьется пульс, но, быть может, это шумело у меня в ушах,
как бывает, когда приложишь к уху морскую раковину.
Наконец, показался коралловый остров. Показался вне-
запно, как будто вырос из моря на фоне восходящего солнца,
совсем близко. Меня несло прямо к нему, но когда до берега
оставалось не более полумили, течение круто повернуло, и,
чтобы достичь цели, мне пришлось из всех сил грести руками
и осколками от скорлупы ёпиорниса. И все-таки я добрался.
Это был самый обыкновенный атолл, около четырех миль
в окружности, с кучкой деревьев, родником и лагуной, где во-
дилась пропасть летучих рыб. Я вынес яйцо на берег и поло-
жил его в безопасное место, за линией прилива, на солнце-
пеке, чтобы помочь птенцу вылупиться, потом крепко привязал
челнок и пошел осматривать островок. На редкость нудное
место — коралловый остров. Как только я нашел родник, вся-
кий интерес к острову у меня пропал. Когда я был мальчишкой,
мне казалось, что лучше и увлекательней приключений Робин-
зона Крузо ничего не может быть, а это место было скучнее
церковных проповедей. Я бродил по острову, искал чего-ни-
будь поесть и думал о разных вещах. Но уверяю вас, мне все
наскучило до смерти к концу первого же дня.
Мне повезло: в тот самый день, когда я вылез на сушу,
погода изменилась. Немного севернее прошла гроза и краем
задела мой остров, а к ночи разразился ливень, и ветер завы-
вал ужасно. А ведь чтобы опрокинуть такую лодку, не много
нужно, вы сами понимаете.
Я спал под челноком, а яйцо, к счастью, лежало в песке
на берегу, немного повыше, и первое, что я услышал, был гро-
хот, как будто сотня голышей ударилась о лодку, и меня ока-
тило волной. Перед тем мне снилось Антананариво, я даже сел
и окликнул Интоши, чтобы спросить* ее, что тут за дьяволь-
щина, и потянулся к стулу, на котором обычно лежали спички.
А потом вспомнил, где я. Светящиеся волны набегали с такой
яростью, точно хотели меня поглотить, а кругом было черным-
черно. Ветер визжал, как зверь. Тучи повисли над самой голо-
вой, и дождь лил такой, точно небо дало течь и там ушатами
вычерпывают воду и льют на землю. Огромный вал налетел на
меня, как огненный змий, и я бросился наутек. Вспомнив
о челне, я побежал обратно,— волны как раз отхлынули,
шипя, но челн исчез. Тогда я вспомнил об яйце и стал ощупью
пробираться к нему. Оно лежало целое, и невредимое, и самая
613
бешеная волна не могла его достать. Я присел рядом и при-
жался к нему, как к товарищу. Бог ты мой, что это была за
ночь!
К утру шторм затих. С рассветом на небе не осталось ни
единого облачка, а по всему берегу валялись обломки досок —
так сказать, разобранный на части скелет моего челна. Но это
помогло мне заняться каким-то делом: выбрав два дерева, рос-
ших рядом, я с помощью этих обломков соорудил себе убе-
жище от грозы. В тот самый день и вылупился птенец.
Да, вылупился, сэр, в то время когда моя голова лежала на
нем, как на подушке, и я спал. Я услышал треск, почувствовал
толчок, сел и смотрю: яйцо пробито, и оттуда выглянула смеш-
ная маленькая темная головка. «А-а! — воскликнул я.—
Добро пожаловать!» И с небольшим усилием он вылез на свет
божий.
На первых порах это был славный, добродушный малыш
величиной с небольшую курицу, очень похожий на любого
птенца, только покрупнее. Все тело у него было покрыто ка-
кими-то струпьями, которые вскоре опали, и редкими грязно-
бурыми перышками вроде пуха. Трудно выразить, как я был
рад ему. Пожалуй, даже Робинзон Крузо не сумел передать,
что такое одиночество. А у меня появился интересный товарищ.
Он поглядел на меня и повел глазом вбок, как курица, чирик-
нул и тотчас начал клевать, точно вылупиться с опозданием на
триста лет — это сущий пустяк.
— Рад тебя видеть, Пятница! — приветствовал я его.
Разумеется, я заранее решил назвать его Пятницей, если он
когда-нибудь появится; решил еще тогда, когда увидел заро-
дыш в яйце, которое я съел в лодке. Меня беспокоил вопрос
о его корме, и я тотчас предложил ему кусочек сырой рыбы.
Он проглотил его и снова разинул клюв. Я был рад этому,—
ведь если бы он стал капризничать, мне неминуемо пришлось
бы его съесть.
Вы не можете себе представить, какой интересной птицей
оказался этот юный эпиорнис. С самого начала он вздумал
ходить за мною по пятам. Когда я удил рыбу в лагуне, он стоял
возле меня и потом получал свою долю улова. А какой был
умница! На берегу валялись какие-то пакостные зеленые бо-
родавчатые штучки, вроде соленых огурцов. Он попробовал
одну и чуть не отравился. С тех пор он не хотел даже смотреть
на них.
И он рос. Рос почти на глазах. Я никогда особенно не лю-
бил общества, и его спокойные, мягкие манеры пришлись мне
как раз по вкусу. Почти два года мы были счастливы, если
можно быть счастливым на этом острове. Я жил без всяких
забот, зная, что мое жалованье спокойно лежит и копится
у Даусона. Время от времени вдали показывался парус, но ни
одно судно не подошло к нам. Я развлекался, украшая остров
614
узорами из морских ежей и причудливых ракушек. Я выложил
крупными буквами надпись: «Остров Эпиорнис»,— такие над-
писи из камней делают в Англии, возле провинциальных же-
лезнодорожных станций,— и покрыл все побережье чертежами
и цифрами. Иногда я лежал на земле, наблюдая за птицей,
как она гордо расхаживает и все растет, растет. При этом я
высчитывал, какие буду получать доходы, показывая ее пуб-
лике, если когда-нибудь выберусь отсюда. После первой
линьки он похорошел, у него появилась синяя бородка и гре-
бень, а в хвосте множество зеленых перьев. И я ломал себе
голову, имеет ли Даусон право претендовать на него, или нет.
В бурю и в дождливые дни мы забирались в шалаш, кото-
рый я соорудил из бывшего челна, и я рассказывал ему всякие
небылицы о моих друзьях на родине. А после шторма мы бро-
дили по острову, искали, не выбросило ли море какой-нибудь
добычи. Не правда ли, идиллия? Будь у меця табак, просто
райское было бы житье.
Но к концу второго года наша райская жизнь омрачилась.
Пятница был уже тогда четырнадцати футов ростом от ног до
клюва, с большой широкой головой, наподобие кирки, с огром-
ными темными глазами, обведёнными желтым ободком и по-
ставленными близко, как у человека, а не так, как у курицы,—
с боков. Его великолепные перья, не такие траурные, как
у страуса, по окраске и строению скорее походили на перья
казуара. И вот*в это-то время он начал петушиться, надувать
свой гребень и проявлять скверный характер...
Однажды, когда у меня упорно не ловилась рыба, он при-
нялся похаживать вокруг меня с задумчивым и странным ви-
дом. Я решил, что он, быть может, снова наелся огурцов или
чего-нибудь в этом роде, но нет, он просто выражал недо-
вольство. Я тоже был голоден и, вытащив, наконец, рыбку,
решил съесть ее сам. В тот день мы оба были не в духе. Он по-
тянулся к рыбе и сцапал ее, а я дал ему тумака, чтобы заста-
вить его убраться. И тогда он набросился на меня... Боже мой!
Он наградил меня вот этим...
Рассказчик показал на свой шрам.
— Потом он лягнул меня. Лягнул, как лом.овая лошадь.
Я вскочил и, видя, что он не намерен успокоиться, пустился
что есть духу наутек, закрыв лицо руками. Но он бежал на
своих неуклюжих ногах быстрее призового коня, пинал меня
ногами и долбил мне затылок свой киркой. Я бросился к ла-
гуне и залез по шею в воду. У воды он остановился,— он не
любил мочить ноги,— и начал орать, как охрипший павлин.
А затем принялся бегать взад и вперед по берегу. Должен со-
знаться, я чувствовал себя униженным, глядя, как надменно
держится это проклятое ископаемое. Голова и лицо у меня
были в крови, а тело превратилось в студень с кровоподтеками.
Я решил переплыть на ту сторону лагуны и дать ему успо-
615
коиться. Вскарабкался на самую высокую пальму и сидел там,
раздумывая обо всем случившемся. Никогда, ни раньше, ни
позже, я не испытывал такой обиды! Неблагодарная тварь!
Грубое создание! Я любил его, как родного брата. Я высидел
его, я вскормил его. Голенастый урод, допотопная птица! А я,
человек, царь природы, и так далее...
Я надеялся, что через некоторое время он все поймет и ему
станет стыдно, что он так безобразно вел себя. Я думал, что,
если я поймаю несколько хорошеньких рыбок, подойду к нему
попросту и предложу их ему, быть может, он одумается.
Мне понадобилось немало времени, чтобы понять, какой
злопамятной и несговорчивой может быть допотопная птица.
Ну и злоба!
Не хочется рассказывать вам о тех мелких уловках, к кото-
рым я прибегал, чтобы образумить это создание. Я просто не
могу. У меня щеки горят от стыда, когда вспоминаю, какие
унижения и обиды я терпел от этой дьявольской диковины.
Я пробовал прибегнуть к насилию. Я швырял в него издали
куски коралла, но он глотал их, и больше ничего. Однажды я
бросил в него открытый нож и едва не потерял его, хорошо
хоть, что он был слишком велик и мой красавец не мог прогло-
тить его. Я пытался морить его голодом и перестал ловить
рыбу, но он принялся собирать червей во время отлива и кое-
как пробавлялся. Половину времени я проводил, сидя по шею
в лагуне, а остальное — на пальмах. Одна из них была по-
ниже других, и когда ему удавалось загнать меня на нее,
и измывался же он над моими икрами! Это становилось не-
выносимо. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь спать
на пальме? Меня мучили там самые дикие кошмары. А по-
зор-то какой! По моему острову с видом надутого герцога
расхаживает вымершая тварь, а я даже не могу ступить но-
гой на землю! Я просто плакал от досады и усталости.
Я прямо заявлял ему, что не желаю, чтобы какой-то прокля-
тый анахронизм преследовал меня на необитаемом острове.
Я предлагал ему убраться вон, и пусть себе долбит клювом
какого-нибудь мореплавателя его собственной эпохи. Но
в ответ он только щелкал клювом. Несуразный урод: ноги
да шея!
Мне не хотелось бы рассказывать, как долго это длилось.
Я убил бы его раньше, если бы знал — как. Но в конце концов
я вспомнил один способ, известный в Южной Америке. Связав
все мои рыболовные лески водорослями и древесными волок-
нами, я сплел крепкую веревку ярдов в двенадцать длиной и
привязал к концам по большому куску коралла. Это заняло
у меня много времени, ведь мне то и дело приходилось либо
нырять в воду, либо лезть на пальму. А потом я быстро закру-
жил веревку над головой и метнул в него. В первый раз я про-
махнулся, но в следующий веревка ловко зацепила его за ноги
616
и обернулась несколько раз вокруг. Он свалился. Я закидывал
веревку, стоя по пояс в воде, а как только он сковырнулся,
вылез и начал пилить ему горло ножом.
Я не люблю вспоминать об этом даже теперь. Несмотря на
всю мою злобу к нему, в тот момент я чувствовал себя убий-
цей. Я стоял над ним, а он весь в крови лежал на белом песке,
и его прекрасные длинные ноги и шея подергивались в пред-
смертных судорогах. Ох!..
После этой трагедии я мучился от одиночества, как прокля-
тый. Господи боже, вы не можете себе представить, как я опла-
кивал эту птицу. Я сидел у ее трупа и горевал, а вид этого
безлюдного, печального острова приводил меня в содрогание.
Я вспоминал, каким веселым птенцом он был, когда вылупился,
вспоминал тысячу занятных фокусов, которые он выкидывал,
пока не сбился с толку. Мне все казалось, что если бы я только
ранил его, быть может, мне удалось бы его перевоспитать.
Будь у меня возможность выдолбить могилу в коралловой
скале, я похоронил бы его. Я испытывал к нему такое же чув-
ство, как к человеку, и не допускал даже мысли о том, чтобы
съесть его.
Я опустил его в воду, и мелкие рыбешки обглодали его до-
чиста. Даже перьев я не сохранил. А затем однажды какой-то
чудак, проезжая на яхте, вздумал проверить, цел ли мой
остров.
Он едва не опоздал. Одиночество мне надоело до черта,
и я только колебался, броситься ли мне в море, или отравиться
этими зелеными штучками...
Кости я продал человеку по имени Уинслоу, торговцу, свя-
занному с Британским музеем, а он, по его словам, продал их
старому Гаверсу. Кажется, Гаверс не заметил их исключитель-
ной величины, и только после его смерти они привлекли вни-
мание знатоков. Их назвали... эпиорнис... как дальше-то?
— Epyornis Vastus,— сказал я.— Странно, мне рассказы-
вал в точности такую же историю один знакомый. Когда они
нашли эпиорниса, у которого берцовая кость была в ярд дли-
ной, они решили, что крупнее не бывает, и его назвали
Epyornis Maximus. Затем кто-то раскопал новую берцовую
кость длиною в четыре фута и шесть дюймов, и эту разновид-
ность назвали Epyornis Titan. А после смерти Гаверса в его
коллекции был обнаружен ваш Vastus, и, наконец, появился
еще Vastissimus.
— Да, Уинслоу рассказывал мне об этом,— сказал человек
со шрамом.— Он говорит, что если они найдут еще новых
эпиорнисов, у какого-нибудь ученого мозги лопнут от натуги.
Однако странно, что с человеком может случиться такая исто-
рия... Не правда ли?
(Из сборника «Похищенная бацилла», 1895)
ОГРАБЛЕНИЕ В ХАММЕРПОНД-ПАРКЕ
Еще вопрос, следует ли считать кражу со взломом спор-
том, ремеслом или искусством. Ее не назовешь ремеслом, так
как техника этого дела вряд ли достаточно разработана, но не
назовешь ее и искусством, ибо здесь всегда присутствует
элемент корысти, пятнающий все предприятие. Пожалуй, пра-
вильнее всего считать грабеж спортом, определенным видом
спорта, где правила и по сей день еще не установлены, а на-
грады вручаются самым неофициальным путем. Неофициаль-
ный образ действий взломщиков и привел к достойному сожа-
ления провалу двух подающих надежды новичков, орудовав-
ших в Хаммерпонд-парке.
Ставкой в этом предприятии были бриллианты и другие
фамильные драгоценности новоиспеченной леди Эвелинг. Чи-
тателю следует не упускать из виду, что молодая леди Эвелинг
была единственной дочерью небезызвестной хозяйки гостиницы
миссис Монтегю Пэнгз. В газетах много шумели о ее помолвке
с лордом Эвелингом, о количестве и качестве свадебных по-
дарков и о том, что медовый месяц предполагалось провести
в Хаммерпонде.
Известие о столь ценных трофеях вызвало сильное волне-
ние в небольшом кружке, общепризнанным вожаком которого
являлся мистер Тедди Уоткинс. Было решено, что в сопровож-
дении достаточно квалифицированного помощника он посетит
селение Хаммерпонд, дабы проявить там во всем блеске свои
профессиональные способности.
Как человек скромный и застенчивый, мистер Уоткинс ре-
шил нанести этот визит инкогнито и, поразмыслив должным
образом над всеми обстоятельствами дела, остановился на роли
пейзажиста с заурядной фамилией Смит.
618
Уоткинс отправился один,— условились, что помощник при-
соединится к нему лишь-перед его отъездом из Хаммерпонда —
на другой день к вечеру.
Селение Хаммерпонд, пожалуй, один из самых живописных
уголков Сэссекса. Там уцелело еще немало домиков под соло-
менной крышей; приютившаяся под горой каменная церковь
с высоким шпилем — одна из самых красивых в графстве и пре-
восходно сохранилась, а дорога, ведущая к роскошному особ-
няку, извивается среди буковых лесов и густых зарослей па-
поротника; она изобилует тем, что доморощенные художники и
фотографы именуют «видами». Поэтому прибывшего туда
мистера Уоткинса, нагруженного свежими холстами, новень-
ким мольбертом, этюдником, чемоданом, невинной маленькой
складной лестницей (вроде той, какою пользовался недавно
умерший Чарльз Пис), а также ломом и мотком проволоки,
с энтузиазмом и не без любопытства приветствовало с пол-
дюжины собратьев по кисти. Это обстоятельство неожиданно
придало некоторое правдоподобие избранной Уоткинсом ма-
скировке, но вовлекло его в бесконечные разговоры об искус-
стве, к чему он был совсем не подготовлен.
— Много ли раз вы выставлялись? — спросил его молодой
Порсон. Разговор происходил в трактире «Карета и лошади»,
где мистер Уоткинс вечером в день своего приезда успешно
собирал нужные ему сведения.
— Да нет, немного,— отвечал мистер Уоткинс.— Кое-что
здесь и там.
— В академии?
— Да, конечно. И в Хрустальном дворце.
— Удачно ли вас вешали? — продолжал Порсон.
— Бросьте трепаться,— отведал мистер Уоткинс.— Я этого
не люблю.
— Я хочу сказать, хорошее ли вам отводили местечко?
— Это еще что такое,— подозрительно протянул мистер
Уоткинс.— Сдается, вам хочется выведать, случалось ли мне
засыпаться.
Порсона вырастили тетки, и он был, не в пример прочим
художникам, хорошо воспитанным молодым человеком; он не
имел представления, что значит «засыпаться», однако счел
нужным пояснить, что не имел в виду ничего подобного. И так
как вопрос о вешании, казалось, слишком задевал мистера
Уоткинса, Порсон решил переменить тему разговора.
— Делаете вы наброски с обнаженной натуры?
— Никогда не был силен в обнаженных натурах,— отвечал
мистер Уоткинс.— Всем этим занимается моя девчонка, я хочу
сказать, миссис Смит.
— Так она тоже рисует! — воскликнул Порсон.— Как ин-
тересно!
619
— Ужасно интересно,— отвечал мистер Уоткинс, хотя
вовсе этого не думал, и, почувствовав, что разговор начинает
выходить за доступные ему пределы, добавил: — Я приехал
сюда, чтобы написать Хаммерпондский особняк при лунном
свете.
— Неужели! — воскликнул Порсон.— Какая оригинальная
идея.
— Да,— отвечал мистер Уоткинс.— Я был до смерти рад,
когда она осенила меня. Я думаю начать завтра ночью.
— Что? Не собираетесь же вы писать ночью под открытым
небом?
— А вот как раз и собираюсь.
— Да как же вы разглядите в темноте холст?
— У меня с собой «светлячок»,— начал было с увлечением
Уоткинс, но тут же, спохватившись, крикнул мисс Дарген,
чтобы она принесла еще кружку пива.— Я собираюсь обза-
вестись одной вещицей — потайным фонарем,— прибавил он.
— Но теперь скоро новолуние,— возразил Порсон.—
И луны не будет.
— Ну, а дом-то ведь стоит на месте,— отвечал Уоткинс.—
Видите ли, я собираюсь написать сперва дом, а потом уж луну.
— Вот как! — воскликнул Порсон, слишком ошеломленный,
чтобы продолжать разговор.
— Однако поговаривают, что каждую ночь в доме ночует
не меньше трех полицейских из Хэзлворта,— заметил хозяин
гостиницы, старик Дарген, хранивший скромное молчание, пока
шел профессиональный разговор.— И все из-за этих самых
драгоценностей леди Эвелинг. Прошлой ночью один из поли-
цейских здорово обыграл в девятку второго ливрейного лакея.
На исходе следующего дня мистер Уоткинс, вооруженный
нетронутым холстом, мольбертом и весьма объемистым чемода-
ном с другими принадлежностями, прошествовал прелестной
тропинкой через буковый лес в Хаммерпондский парк и занял
командную позицию перед домом. Здесь его узрел мистер
Рафаэль Сант, возвращавшийся через парк после осмотра ме-
ловых карьеров. И так как его любопытство было подогрето
рассказами Порсона о вновь прибывшем художнике, он свер-
нул в сторону, намереваясь потолковать о служении искусству
в ночное время.
Мистер Уоткинс, как видно, не подозревал о его приближе-
нии. Он только что дружески побеседовал с дворецким леди
Эвелинг, и последний удалялся в окружении трех комнатных
собачек, прогуливать которых после обеда входило в круг его
обязанностей. Мистер Уоткинс с величайшим усердием сме-
шивал краски. Приблизившись, Сант был совершенно по-
ражен при виде невероятно крикливого, сногсшибательно
изумрудного цвета. Сант, с малых лет необычайно чувстви-
тельный к цветовой гамме, взглянув на эту мешанину, даже
620
присвистнул от удивления. Мистер Уоткинс обернулся — он был
явно раздосадован.
— Да что же, черт возьми, вы хотите делать этой дьяволь-
ской зеленью? — воскликнул Сант.
Мистер Уоткинс почувствовал, что перестарался,— разыг-
рывая перед дворецким роль поглощенного работой художника,
он совершил какую-то профессиональную оплошность. Он рас-
терянно поглядел на Санта.
— Извините за грубость,— продолжал тот.— Но в самом
деле этот зеленый слишком необычен. Он прямо-таки сразил
меня. Что же вы думаете им писать?
Мистер Уоткинс собирался с мыслями. Только отчаянный
шаг мог спасти положение.
— Если вы пришли сюда, чтобы мешать мне работать,—
выпалил он,— я распишу им вашу физиономию.
Сант был человек веселый и миролюбивый, а посему он
тут же ретировался.
Спускаясь с холма, он повстречал Порсона и Уэйнрайта.
— Это или гений, или опасный сумасшедший,— заявил
он.— Поднимитесь-ка на горку и взгляните на его зелень.
И Сант пошел своей дорогой; лицо его расплылось
в улыбку — он уже предвкушал веселую драку вокруг окутан-
ного сумерками мольберта, среди потоков зеленой краски.
Но с Порсоном и Уэйнрайтом мистер Уоткинс обошелся
менее враждебно и объяснил, что намеревался загрунтовать
картину этим зеленым тоном. В ответ на их замечания он ска-
зал, что это совершенно новый, им самим изобретенный метод.
Но тут же стал более сдержанным; пояснил, что вовсе не на-
мерен открывать всякому встречному и поперечному секреты
своего стиля и подпустил несколько ехидных словечек каса-
тельно подлости некоторых «шныряющих вокруг» субъектов,
старающихся выведать у мастера его приемы. Это немедленно
избавило Уоткинса от присутствия художников.
Сумерки сгустились, загорелась первая звезда, за ней —
вторая. Грачи на высоких деревьях, слева от дома, давно уже
погрузились в безмолвную дремоту, и дом, утратив четкость
очертаний, превратился в темный контур. Потом ярким светом
загорелись окна залы, осветился зимний сад, тут и там замель-
кали огоньки в спальнях. Если бы кто-нибудь подошел сейчас
к мольберту, стоявшему в парке, он не обнаружил бы побли-
зости ни души. Девственную белизну холста оскверняло непри-
личное словцо, коротенькое и ядовито зеленое. Мистер Уоткинс
вместе со своим помощником, который без лишнего шума при-
соединился к нему, появившись из главной аллеи, занимался
в кустах какими-то приготовлениями. Он уже поздравлял себя
с остроумной выдумкой, благодаря которой ему удалось на
виду у всех нахально пронести все свои инструменты прямо
к месту действия.
621
— Вон там туалетная комната,— объяснял он своему по-
мощнику.— Как только горничная возьмет свечу и спустится
ужинать, мы заглянем туда. Черт возьми! А домик и вправду
красив — при свете звезд, да как здорово освещены все окна!
Знаешь, Джим, а ведь я, пожалуй, не прочь бы стать худож-
ником, черт меня побери! Ты натянул проволоку над тропинкой,
что ведет к прачечной?
Он осторожно приблизился к дому, подкрался к окну туа-
летной комнаты и принялся собирать свою складную лесенку.
Уоткинс был слишком опытным профессионалом, чтобы по-
чувствовать при этом хотя бы легкое волнение. Джим произво-
дил разведку у окна курительной комнаты.
Внезапно в кустах совсем рядом с мистером Уоткинсом
раздался сильный треск и сдавленное проклятье — кто-то
споткнулся о проволоку, только что натянутую его помощником.
У себя за спиной, на дорожке, посыпанной гравием, Уоткинс
услыхал шаги убегающего человека. Как и все настоящие ху-
дожники, мистер Уоткинс был человек на редкость скромный,
поэтому он тут же бросил свою складную лесенку и кинулся
бежать, направившись через кусты. Уоткинс смутно чувствовал,
что за ним по пятам гонятся двое, и ему показалось, что впе-
реди он различает фигуру своего помощника. В следующий
миг он перемахнул через низкую каменную ограду, окружав-
шую кустарник, и очутился в парке. Он услышал, как вслед за
ним на траву спрыгнули еще двое.
Это была напряженная гонка, в темноте, среди деревьев.
Мистер Уоткинс был сухопарый, хорошо натренированный
мужчина, он шаг за шагом нагонял тяжело дышавшего чело-
века, мчавшегося впереди. Оба бежали молча, но когда мистер
Уоткинс стал догонять, на него вдруг напало ужасное сомне-
ние. В ту же минуту незнакомец обернулся и удивленно
вскрикнул.
«Да это вовсе не Джим!» — пронеслось в голове у мистера
Уоткинса. Тут незнакомец кинулся ему под ноги, и они, сцепив-
шись, повалились на землю.
— Навались, Билль! — крикнул незнакомец подбежавшему
товарищу.
И Билль навалился, пустив в ход руки и ноги. Четвертый же,
по всей видимости Джим, вероятно, свернул в сторону и
скрылся в неизвестном направлении. Так или иначе, но он не
присоединился к этому трио.
То, что последовало дальше, испарилось из памяти Уот-
кинса. Он смутно припоминает, что попал первому из преследо-
вателей большим пальцем прямо в рот и опасался за сохран-
ность своего пальца, а потом несколько секунд прижимал
к земле, схватив за волосы, голову человека, откликавшегося
на имя Билль. Его самого здорово тузили по всем местам, и,
вероятно, целая куча народу. Затем тот из джентльменов, ко-
622
торый не был Биллем, уперся Уоткинсу коленкой в диафрагму
и попытался пригнуть его к земле.
Когда у мистера Уоткинса немного прояснилось сознание,
он обнаружил, что сидит на траве и его окружают человек
восемь — десять; ночь была темная, и он слишком обескура-
жен, чтобы сосчитать стоявших вокруг,— по всей видимости,
они дожидались, когда он придет в себя. Мистер Уоткинс с ве-
ликим прискорбием пришел к заключению, что он попался, и,
вероятно, принялся бы философствовать о превратностях
судьбы, если бы крепкая взбучка не лишила его дара речи.
Уоткинс сразу же заметил, что ему не надели наручников;
потом кто-то сунул ему в руку фляжку с брэнди, послед-
нее даже растрогало его,— столь неожиданна была такая
доброта.
— Он приходит в себя,— сказал кто-то, и Уоткинс узнал по
голосу второго ливрейного лакея.
— Мы схватили их, сэр, схватили обоих,— сказал дворец-
кий — тот, что подал ему фляжку.— И ведь все благодаря вам.
Никто не откликнулся на замечание дворецкого, и Уоткинс
так и не понял, какое же все это имеет отношение к нему.
— Он никак не придет в себя,— произнес незнакомый го-
лос,— злодеи чуть не убили его.
Мистер Тедди Уоткинс решил не приходить в себя, пока не
уяснит сложившейся ситуации. Среди окружавших его темных
фигур он заметил двух человек, стоявших бок о бок с убитым
видом, и что-то в линии их плеч подсказало его наметанному
глазу, что руки у них связаны. Двое! Уоткинс сразу понял, в
чем дело. Он осушил небольшую фляжку и, пошатываясь, встал
на ноги — услужливые руки поддержали его.
— Жму вашу руку, сэр, жму руку,— промолвил один из
стоявших рядом.— Разрешите представиться. Премного вам
обязан. Ведь это драгоценности моей жены, леди Эвелинг,
заинтересовали негодяев.
— Счастлив познакомиться с вашей светлостью,— сказал
Тедди Уоткинс.
— Вероятно, вы увидели, как эти негодяи кинулись в кусты
и бросились за ними?
— Так все оно и было,— отвечал мистер Уоткинс.
— Вам бы следовало подождать, пока они влезут в окно,—
сказал лорд Эвелинг.— Если б они совершили ограбление, им
пришлось бы гораздо солоней. На ваше счастье, двое полицей-
ских были как раз у ворот и бросились вслед за всеми троими.
Вряд ли бы вы справились с обоими, но, конечно, это было
очень смело с вашей стороны.
— Да, мне бы следовало подумать об опасности,— сказал
мистер Уоткинс,— но ведь всего сразу не сообразишь.
— Ну, конечно,— отвечал лорд Эвелинг.— Боюсь только,
что они слегка помяли вас,— добавил он. Компания теперь на-
623
правлялась к дому.— Вы, я вижу, хромаете. Разрешите пред-
ложить вам руку.
И вместо того чтобы проникнуть в Хаммерпондский особняк
через окно туалетной комнаты, мистер Уоткинс вступил в него
навеселе и в приподнятом настроении — через парадную дверь,
опираясь на руку одного из пэров Англии. «Вот это, что назы-
вается, классное ограбление»,— подумал мистер Уоткинс.
При свете газового фонаря обнаружилось, что «негодяи»
были всего лишь местными дилетантами, неизвестными мистеру
Уоткинсу. Их отправили вниз, в кладовую, где они и пребывали
под охраной трех полицейских, двух лесников, с ружьями наго-
тове, дворецкого, конюха и кучера; с наступлением дня пре-
ступников должны были переправить в полицейский участок
Хэзлхерста.
В зале хлопотали вокруг мистера Уоткинса. Ему предоста-
вили расположиться на диване, не желая и слушать о его воз-
вращении ночью в деревню. Леди Эвелинг утверждала, что он
бесподобный оригинал и что она именно так представляет себе
Тернера: грубоватый мужчина с нависшими бровями, немного
под хмельком, смелый и сообразительный. Кто-то принес заме-
чательную складную лесенку, подобранную в кустах, и показал
Уоткинсу, как она складывается. Ему также подробно расска-
зали, как была обнаружена среди кустов проволока, вероятно
натянутая, чтобы задержать неосторожных преследователей.
Хорошо еще, что ему посчастливилось миновать эти силки.
И ему показали драгоценности.
У мистера Уоткинса хватило ума не пускаться в излишние
разговоры, ссылаясь при любом опасном повороте беседы на
свое душевное состояние. Наконец, у него началась ломота в
спине, и он принялся зевать. Тут хозяева спохватились, что
стыдно утруждать разговорами человека, попавшего в такую
переделку, и Уоткинс рано удалился в отведенную ему ком-
нату, маленькую красную комнатку, рядом с покоями лорда
Эвелинга.
* * *
Рассвет явил взорам смертных брошенный посреди Хаммер-
пондского парка мольберт с холстом, украшенным зеленой
надписью, и охваченный смятением господский дом. Но если
рассвет и обнаружил Тедди Уоткинса, а с ним и бриллианты
леди Эвелинг, он не заявил об этом в полицию.
(Из сборника «Похищенная бацилла», 1895)
ЛЕСНОЙ КЛАД
Лодка подплывала к острову. Бухта простиралась широко,
а разрыв в белой кайме прибоя у рифов указывал устье вли-
вавшейся в море реки. Полоса сочной, густой зелени отмечала
весь ее путь по склону отдаленного холма. Девственный лес
подступал к самому берегу. Вдали туманные сизые горы взды-
мались ввысь, словно внезапно застывшие волны. Море было
тихое, в еле заметной ряби. Небо обдавало зноем.
Человек перестал грести.
— Это должно быть где-то здесь...— Он положил в лодку
резное весло и указал рукой на берег.
Его спутник, сидя на носу байдарки, зорко поглядывал впе-
ред. Он держал на коленях лист пожелтевшей бумаги.
— Взгляни-ка сюда, Ивенс,— сказал он.
Они говорили вполголоса, и губы у обоих пересохли и за-
пеклись.
Тот, кого назвали Ивенс, прошел, слегка покачиваясь, по
лодке и заглянул через плечо спутника.
На бумаге был, повидимому, набросан план местности. От
частого складывания она истрепалась так, что почти располза-
лась, и человек придерживал рукой выцветшие клочки. В по-
лустертых линиях карандаша с трудом можно было различить
контур бухты.
— Вот риф,— указал Ивенс,— а вот устье реки.
Ногтем большого пальца он провел по карте.
— Извилистая линия — река,— вот бы хлебнуть из нее,—
а звезда — то самое место...
— Видишь эту линию пунктиром,— сказал человек, дер-
жавший карту,— она идет от прохода в рифе напрямик, к группе
пальм. Звезда приходится в точке ее пересечения с рекой.
Надо запомнить это место, когда будем входить в лагуну.
40 Г. Уэллс, т. 2 625
— Непонятно,— продолжал Ивенс после минутного молча-
ния,— чТо это за значки? Похоже на план дома или что-то
вроде... Но никак не могу взять в толк, что обозначают эти
стрелки, разбегающиеся во все стороны? А надписи на каком
языке?
— На китайском.
— Ну конечно, ведь он был китаец,— заметил Ивенс.
— Как и все они,— ответил его спутник.
С минуту оба вглядывались в берег, а лодка медленно
плыла. Ивенс поглядел на весло.
— Твоя очередь грести, Хукер,— сказал он.
Хукер не спеша сложил карту и, сунув ее в карман,
осторожно обошел Ивенса и принялся грести; но движения
его были так медлительны, словно его силы подходили к
концу.
Полузакрыв глаза, Ивенс следил, как все ближе и ближе
подступала пенистая кайма у кораллового рифа. Солнце при-
ближалось к зениту, и небо дышало жаром, как топка. Хотя
сокровище было теперь так близко, он не испытывал ожидае-
мой радости. Пережитые волнения — смертельная схватка из-за
карты и долгое ночное путешествие с материка на остров
в плохо оснащенной лодке — «вконец вымотали его», по его
выражению. Он пытался стряхнуть сонливость, сосредоточить
свои мысли на кладе китайца, но это ему не удавалось. Он
мечтал о пресной воде, журчание которой слышал, губы у него
запеклись, и в горле невыносимо пересохло. Мерный плеск
волн, набегавших на риф, уже был слышен и ласкал его слух.
Вода ударяла в борт лодки, и в минуту затишья с весла сбе-
гали звонкие капли. И он незаметно задремал.
Правда, он не утратил смутного чувства действительности,
но в нее вплетались обрывки причудливого сновидения. Он
снова переживал ту ночь, когда они с Хукером подслушали
тайный разговор китайцев. Он снова видел облитые лунным све-
том деревья, пламя костра и’темные фигуры китайцев, с одной
стороны озаренные луной, с другой — красноватыми отбле-
сками пламени, слышал их беседу на ломаном английском
языке; все они были из разных провинций. Хукер первый уло-
вил нить их беседы и сделал ему знак прислушаться. Не все
слова долетали до них, многое оставалось непонятным. Речь
шла о какой-то севшей на мель испанской каравелле с Фи-
липпинских островов и ее сокровищах, зарытых на этом острове,
за которыми еще должны были вернуться. Потерпевший кру-
шение экипаж почти весь вымер — одни погибли от болезней,
другие в кровавых стычках, дисциплины уже не было и в по-
мине; наконец, немногие оставшиеся в живых матросы уплыли
куда-то в лодках, и никто о них больше никогда не слыхал.
И вот около года назад на этот остров попал Чан Хи, и ему
посчастливилось найти сокровище, пролежавшее там двести
626
лет; он сбежал со своей джонки и с огромным трудом, без по-
сторонней помощи, опять закопал клад в надежном месте. Он
все твердил, что место надежное, а почему — это уж было его
тайной. Теперь ему нужна была помощь, чтобы вернуться на
остров и вырыть клад. При свете костра мелькнула маленькая
карта, и китайцы стали говорить тише.
Рассказ, достаточно заманчивый для двух проходимцев-
англичан без гроша за душой! Сон Ивенса перенес его к той
минуте, когда коса Чан Хи очутилась в его руке. Жизнь ки-
тайца отнюдь не так священна, как жизнь европейца. Лицо
Чан Хи — вначале злое и колючее, как у потревоженной змеи,
затем перекошенное ужасом, лукавое и жалкое — с необычай-
ной живостью всплыло в сновидении. Наконец, Чан Хи оскалил
зубы в усмешке, и усмешка была жуткой и какой-то загадоч-
ной. Внезапно все приняло очень дурной оборот, как иногда
бывает во сне. Чан Хи что-то бормотал и угрожал ему. Вокруг
лежали груды золота, но Чан Хи бросался на Ивенса и не пу-
скал его к золоту. Ивенс схватил Чан Хи за косу. Какой он был
огромный, этот желтый дьявол, как он дрался и скалил зубы!
Затем груды золота превратились в гудящую печь, и какой-
то огромный черт, удивительно похожий на Чан Хи, но с
длинным черным хвостом, принялся кормить его углями.
Угли ужасно обжигали рот. Другой дьявол кричал: «Ивенс,
Ивенс! Что же ты уснул, дуралей!» Или, может быть, это кри-
чал Хукер?
Он проснулся. Они входили в лагуну.
— Вон три пальмы; а наше место должно быть на одной ли-
нии вот с теми кустами. Отметь это! — сказал Хукер.— Если
мы направимся к кустарнику, пройдем его насквозь, все дер-
жась отсюда по прямой линии, то выйдем к реке как раз .там,
где нужно.
Им уже было видно, как река широким потоком вливалась
в море. При виде ее Ивенс ожил.
— Ну-ка, подгони,— обратился он к Хукеру,— не то я,
ей-богу, начну пить морскую воду.— Он кусал руку, не сводя
глаз с серебряного мерцания меж скал и зеленых зарослей.—>
Дай мне весло! — внезапно, чуть не с яростью, крикнул он
Хукеру.
Они вошли в устье реки. Проплыв немного, Хукер пригорш-
ней зачерпнул воды, попробовал и сплюнул. Немного дальше
вновь попробовал.
— Подойдет,— сказал он, и оба жадно принялись пить.
— К черту! — вдруг крикнул Ивенс.— Так не напьешься!
И, перегнувшись через борт лодки с риском ее перевернуть,
он припал к воде губами.
Напившись вдоволь, они завели лодку в бухточку, намере-
ваясь причалить среди нависавших над водой зарослей.
— Нам придется продраться к морю сквозь эту чащу, найти
40*
627
тот кустарник и определить путь к нужному месту,— ска-
зал Ивенс.
— Лучше доплыть туда в лодке,— предложил Хукер.
Они вывели лодку на середину реки, опять вышли в море и
поплыли вдоль берега, туда, где рос кустарник. Здесь они при-
чалили, вытащили легонькую байдарку подальше на берег и
поднялись к опушке леса, откуда был виден проход среди рифов
и, по прямой линии от него, кустарник. Ивенс захватил с собой
из байдарки туземный инструмент. Он был изогнут наподобие
буквы Г, и на его поперечной перекладине был насажен поли-
рованный камень. Хукер нес весло.
— Теперь нужно идти по прямой в этом направлении,— ска-
зал он,— пробираться чащей, пока не дойдем до реки. А там
сделаем разведку.
Они начали пробираться сквозь густое сплетенье тростни-
ков, пышной листвы, молодой поросли; вначале идти было
трудно, но вскоре деревья стали выше, чаща поредела, и под
ногами стало просторнее. Солнцепек понемногу сменился про-
хладной тенью. Еще дальше деревья превратились в мощные
колонны, вздымавшие высоко над головой балдахины из
зелени. Белые матовые цветы свешивались с их ветвей, и лианы
гирляндами качались меж стволов. Тень сгущалась. Земля пе-
стрела грибами, часто попадалась какая-то красновато-корич-
невая плесень.
Ивенс поежился:
— Прохладно после такого пекла...
— Мне кажется, мы идем прямо,— сказал Хукер.
Впереди, в зеленом полумраке, показался просвет, сквозь
который врывались в лес белые, знойные лучи. А на земле за-
сверкали яркие цветы и зелень. Они услышали журчанье воды.
— Вот и река,— сказал Хукер.— Значит, оно где-то здесь.
На берегу реки растительность стала еще богаче. Крупные
невиданные растения поднимались меж корнями мощных де-
ревьев и протягивали большие зеленые веера и розетки к клоч-
кам проглядывавшей небесной лазури. Раскидистые ветви об-
вивало множество цветов и лиан с глянцевитой листвой. На
воде широкой тихой заводи, лежавшей перед кладоискателями,
колыхались крупные овальные листья и бледно-розовый воско-
вой цветок, напоминавший водяную лилию. Дальше, там, где
река делала излучину, вода пенилась и шумела в быстрине.
— Ну как? — спросил Ивенс.
— Мы немного отклонились от прямого пути,— ответил
Хукер.
— Этого можно было ожидать.— Он обернулся и бросил
взгляд на прохладную густую тень молчаливого леса.— Если мы
побродим взад и вперед вдоль реки, то уж наверно дойдем до
чего-нибудь.
— Ты говорил...— начал было Ивенс.
628
— Он говорил,— перебил Хукер,— что там лежит груда
камней.
С минуту они глядели друг на друга.
— Пойдем-ка сперва вниз по реке,— предложил Ивенс.
Они пошли медленно, с любопытством озираясь вокруг.
Вдруг Ивенс остановился и пробормотал:
— Что за черт?
Хукер взглянул в том направлении, куда он указывал.
— Там что-то синеет,— заметил он. Они стояли на неболь-
шом бугорке. Теперь уже можно было догадаться, что это
такое.
Ивенс торопливо зашагал вперед и скоро отчетливо увидел
тело, лежавшее на земле ничком, со скрюченной рукой. Он су-
дорожно сжал инструмент. Перед ним был китаец. Безжизнен-
ная поза не оставляла сомнений в том, что он мертв.
Приблизившись теснее друг к другу, оба молча смотрели на
зловещее тело. Оно лежало на небольшой поляне. Рядом была
брошена лопата китайского образца, а подальше, у свежевыры-
той ямы, разбросанная кучка камней.
— Кто-то уже побывал здесь,— произнес Хукер, откашляв-
шись.
Ивенс стал яростно ругаться и топать ногами.
Хукер побледнел, но молчал. Он подошел к распростер-
тому телу, разглядывая вздутую, багровую шею, вспухшие
руки и ноги.
— Фу,— сказал он, резко отвернулся и направился к яме.
У него вырвался возглас изумления, и он крикнул медленно
подходившему Ивенсу:
— Ну чего ты, дурачина? Все в порядке! Оно еще здесь.
Он обернулся, еще раз взглянул на мертвого китайца и —
снова на яму.
Ивенс подбежал к яме. В ней, уже наполовину отрытая не-
задачливым китайцем, лежала груда золотых слитков.
Ивенс нагнулся над ямой, разгреб землю руками и поспешно
вытащил увесистый слиток. В ту же минуту маленький шип уко-
лол его в руку. Он вынул занозу и поднял брусок.
— Такой вес может быть только у золота и свинца...— тор-
жествующе произнес он.
Хукер все еще оторопело глядел на мертвеца.
— Он хотел опередить своих друзей,— проговорил он, на-
конец.— Пришел сюда один, и его укусила ядовитая змея...
И как только удалось ему найти место?
Ивенс все еще держал брусок в руке. Что значит теперь
какой-то мертвый китаец?
— Надо понемногу переправить золото на материк и за-
копать там на время. Но как донести его к лодке?
Он снял куртку, разостлал ее на земле и бросил на неф не-
сколько золотых слитков. И снова почувствовал укол шипа.
629
— Ну, больше нам не дотащить,— сказал он и с внезапным
раздражением добавил:— На что это ты уставился?
Хукер обернулся.
— Очень уж неприятно... Это,— он кивнул на труп,— так
похоже...
— Ерунда! — отрезал Ивенс.— Все китайцы похожи друг
на друга.
Хукер пристально поглядел на него.
— Все же я закопаю его и только тогда смогу прикоснуться
к слиткам.
— Не валяй дурака, Хукер,— сказал Ивенс,— брось ты эту
тухлятину.
Хукер колебался, испуганно глядя на бурую землю.
— Мне что-то страшно...— сказал он.
— Надо решить,— сказал Ивенс,—что нам делать со слит-
ками. Закопать ли их здесь, или перевезти на материк?
Хукер раздумывал. Взгляд его то растерянно блуждал по
чаще, то поднимался к пронизанной солнцем зелени над голо-
вой. Он поежился, когда взгляд его упал на труп китайца в си-
ней одежде, и опять начал пытливо всматриваться в зеленые
просветы между стволами.
— Да что с тобой, Хукер? — спросил Ивенс.— Рехнулся ты,
что ли?
— Так или иначе, надо поскорее унести отсюда золото,—
сказал Хукер.
Он взялся за воротник куртки, Ивенс — за ее края, и они
подняли ношу.
— Ну, как? — спросил Ивенс.— Пошли к лодке? Чудно,
право,— продолжал он, сделав всего лишь несколько шагов,—
все еще ноют руки от гребли... Да еще как ноют... черт бы их
побрал!.. Придется передохнуть.
Они положили куртку наземь. Ивенс был бледен, и капли
пота выступили у него на лбу.
— фу, какая здесь духота!..
Внезапно им овладела беспричинная ярость.
— Ну что толку торчать здесь целый день? Поднимай, го-
ворят тебе... Ты словно очумел из-за этого китайца!..
Хукер внимательно поглядел в лицо другу. Он помог под-
нять слитки, и шагов сто они прошли в молчании. Ивенс дышал
тяжело.
— Ты что, разучился говорить? — бросил Хукер.— Что с
тобой?
Ивенс споткнулся, выругался и отшвырнул от себя куртку.
Он постоял с минуту, глядя на Хукера, а потом со стоном схва-
тился рукой за горло.
— Не подходи! — крикнул он. Он отошел и привалился
к дереву; затем добавил более твердо: — Сейчас мне станет
лучше...
630
Но руки его разжались, тело медленно поползло вниз, и он
упал, скорчившись, у подножия ствола. Судорога свела его
руки. Лицо исказилось от боли. Хукер подошел к нему.
— Не прикасайся, не прикасайся ко мне! — крикнул Ивенс
срывающимся голосом.— Положи золото на куртку...
— Как бы мне тебе помочь? — спросил Хукер.
— Положи золото на куртку...
Поднимая слиток, Хукер почувствовал укол шипа в большой
палец. Он поглядел на руку и увидел тонкий, в два дюйма дли-
ной, шип.
Ивенс дико вскрикнул и стал кататься по земле.
У Хукера затряслась челюсть. Вытаращив глаза, глядел он
с минуту на шип. Затем перевел взгляд на Ивенса, корчившегося
в судорогах, потом поглядел туда, где меж колонн могучих
стволов и сетей лиан, в сгущавшихся сумерках, все еще видне-
лось тело китайца в синей одежде. Ему вспомнились стрелки,
нарисованные на плане, и сразу все стало ясно.
— Господи, помоги мне! — проговорил он. Шипы были точь-
в-точь как те, которыми даяки заряжают свои пневматические
ружья. Теперь он понял, почему Чан Хи уверял, что сокровище
его в безопасности. Он понял, что означала его усмешка.
— Ивенс! — крикнул он.
Но Ивенс лежал тих и недвижим, лишь судорога подерги-
вала его тело. Глубокое молчание окутывало лес.
Хукер принялся с остервенением высасывать кровь из кро-
шечной розовой ранки на большом пальце,— высасывать что
было сил, борясь за свою жизнь. Но странная ноющая боль
разлилась в руках и ногах, и он никак не мог согнуть пальцы.
Он понял, что высасыванье не поможет.
Он перестал сосать, сел возле груды золотых слитков и,
уронив подбородок на руки, а локтями упершись в колени, гля-
дел на скорченное, все еще подергивавшееся тело товарища.
Опять ему вспомнилась усмешка Чан Хи. Тупая боль подни-
малась к горлу и все усиливалась. Высоко над его головой лег-
кий морской ветерок шелохнул листвой, и в сумерках на землю
посыпались белые лепестки какого-то невиданного растения.
(Из сборника «Похищенная бацилла», 1895)
В БЕЗДНЕ
Лейтенант стоял перед стальным шаром и жевал сосновую
щепочку.
— Что вы думаете об этом, Стивенс? — спросил он.
— Это, пожалуй, идея,— протянул Стивенс далеко не уве-
ренным тоном.
— По-моему, шар должен расплющиться в лепешку,— ска-
зал лейтенант.
— Он, кажется, рассчитал его довольно точно,— произнес
Стивенс все еще бесстрастно.
— Но подумайте об атмосферном давлении,— продолжал
лейтенант.— На поверхности воды оно не слишком велико: че-
тырнадцать фунтов на квадратный дюйм; на глубине тридцати
футов — вдвое больше; на глубине шестидесяти — втрое; на
глубине девяноста — вчетверо; на глубине девятисот — в сорок
раз; на глубине пяти тысяч трехсот, то есть мили, это будет
двести сорок раз по четырнадцати фунтов; значит,— сейчас
подсчитаем,— тридцать английских центнеров, или полторы
тонны, Стивенс; полторы тонны на квадратный дюйм! А глубина
океана здесь, где он хочет спускаться, пять миль. Это значит —
семь с половиной тонн.
— Звучит страшно,— произнес Стивенс,— но это на диво
толстая сталь.
Лейтенант не ответил и снова взялся за свою щепочку. Пред-
метом их беседы был огромный стальной шар, около девяти
футов в диаметре, похожий на ядро какой-нибудь титанической
пушки. Он был заботливо установлен в огромном гнезде, сде-
ланном в корпусе корабля, а гигантские перекладины, по кото-
рым его должны были спустить за борт, возбуждали любопыт-
ство всех заправских моряков, каким довелось увидеть его
между Лондонским портом и тропиком Козерога. В двух местах,
632
одно под другим, в стальной стенке шара были прорезаны круг-
лые люки со стеклами чудовищной толщины, и одно из них,
вставленное в прочную стальную раму, было завинчено не до
конца. В то утро оба моряка впервые заглянули в шар. Он был
весь выстлан внутри наполненными воздухом подушками,
между которыми находились кнопки для управления неслож-
ным механизмом. Мягкой обивкой было покрыто все, даже
аппарат Майерса, который должен был поглощать углекислоту
и снабжать кислородом человека после того, как он влезет
через люк внутрь шара и люк будет завинчен. Внутренняя по-
верхность шара была обита столь тщательно, что им можно
было бы выстрелить из пушки без малейшего риска для на-
ходящегося внутри человека. И эти предосторожности были
необходимы, так как вскоре в него должен был проникнуть
человек, и тогда люки накрепко завинтят, шар спустят за борт,
и он начнет погружаться все глубже и глубже, на глубину пяти
миль, как и сказал лейтенант. Эта мысль не давала ему покоя,
за столом он только об этом и говорил и успел всем надоесть;
пользуясь тем, что Стивенс новый человек на корабле, он снова
и снова возвращался к этой теме.
— Мне кажется,— заявил лейтенант,— что это стекло по-
просту прогнется внутрь, выпятится и лопнет под таким давле-
нием. Добрэ добивался того, что под большим давлением гор-
ные породы становились текучими, как вода. И попомните мои
слова...
— Если стекло лопнет,— спросил Стивенс,— что тогда?
— Вода ворвётся в шар, как струя расплавленного железа.
Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать на себе дейст-
вие водяной струи, которую подвергли большому давлению?
Она бьет, как пуля. Она расплющит его. Она хлынет ему в
горло и в легкие, ударит ему в уши...
— Какое у вас богатое воображение! — перебил его Сти-
венс, ярко представивший себе всю картину.
— Это просто описание того, что неизбежно должно про-
изойти,— возразил лейтенант.
— Ну, а шар?
— Шар выпустит несколько пузырьков и преспокойно уля-
жется на веки вечные на илистом дне, и в нем будет бедный
Эльстед, размазанный по своим лопнувшим подушкам, как
масло по хлебу.— Он повторил эту фразу, словно она очень по-
нравилась ему.— Как масло по хлебу.
— Любуетесь игрушкой? — раздался чей-то голос, и позади
них оказался Эльстед, одетый с иголочки, в белом костюме^ с
папиросой в зубах; глаза его улыбались из-под широкополой
шляпы.— Что это вы там говорили насчет хлеба с маслом,
Уэйбридж? Ворчите, как всегда, на слишком низкие оклады
морских офицеров? Ну, теперь еще несколько часов, и я от-
правляюсь в путь. Сегодня нужно установить тали. Это чистое
633
небо и легкая зыбь — как раз то, что нужно, чтобы сбросить за
борт десяток тонн свинца и железа, не так ли?
— Для вас это не так уж важно,— заметил Уэйбридж.
— Конечно. На глубине семидесяти — восьмидесяти футов,
а я там буду секунд через десять, вода совершенно непо-
движна, хотя бы наверху ветер охрип от воя и волны вздыма-
лись к облакам. Нет. Там, внизу...
Он двинулся к борту, и оба его собеседника последовали за
ним. Все трое облокотились о поручни и стали пристально гля-
деть в желто-зеленую воду.
— ...покой,— докончил свою мысль Эльстед.
Через некоторое время Уэйбридж-спросил:
— Вы абсолютно уверены, что часовой механизм будет ра-
ботать?
— Я его испытывал тридцать пять раз,— ответил Эльстед.—
Он обязан работать.
— Ну а если не будет?
— Почему же не будет?
— А я,— сказал Уэйбридж,— не согласился бы спуститься
в этой проклятой махине, дайте мне хоть двадцать тысяч
фунтов.
— Вы, я вижу, шутник,— проговорил Эльстед и невозму-
тимо плюнул за борт.
— Мне еще не совсем ясно, как вы будете управлять этой
штукой,— сказал Стивенс.
— Первым делом я влезу в шар, и люк завинтят,— ответил
Эльстед.— И когда я трижды включу и выключу свет, чтобы
показать, что все в порядке, меня поднимут над кормой вот
этим краном. Под шаром, как видите, находятся большие свин-
цовые грузила, и на верхнем — вал, на котором намотано шесть-
сот футов прочного каната; это все, чем грузила соединяются с
шаром, если не считать талей, которые будут перерезаны, когда
шар спустят. Мы предпочли канат проволочному кабелю, так
как его легче обрезать и он лучше всплывает, а это весьма
важно, как вы увидите. В каждом из этих свинцовых грузил
есть отверстие, и сквозь него пропущена железная штанга, вы-
ступающая с обеих сторон на шесть футов. Если по этой штанге
ударить снизу, она толкнет рычаг и приведет в движение часо-
вой механизм рядом с валом, на который намотан канат. Очень
хорошо. Вся эта штука медленно спущена на воду, и тали пере-
резаны. Шар плывет, потому что он наполнен воздухом и, сле-
довательно, легче воды, но свинцовые грузила падают прямо
вниз, и канат разматывается. Когда он весь размотается,— шар
тоже начнет погружаться, притягиваемый канатом.
— Но зачем нужен канат? — спросил Стивенс.— Почему не
прикрепить грузила прямо к шару?
— Чтобы он не разбился там внизу. Ведь он будет
опускаться все быстрее и, наконец, достигнет ужасающей ско-
634
рости. Не будь каната, он разлетелся бы вдребезги, ударившись
о дно. Но грузила упадут на дно первыми, и тотчас же скажется
пловучесть шара. 0>г будет погружаться все медленней, потом
остановится, а затем снова начнет всплывать. Тогда-то и зара-
ботает часовой механизм. Как только грузила стукнутся о дно
океана, штанга получит толчок снизу и пустит в ход часовой
механизм, и канат начнет снова наматываться на вал. Меня
притянет к морскому дну. Там я пробуду с полчаса; электриче-
ский свет будет включен, и я смогу производить наблюдения.
Потом часовой механизм освободит нож с пружиной, канат
будет перерезан, и я стремительно всплыву вверх, как пузырек
газа в содовой воде. Сам канат поможет мне всплыть.
— А что, если вы ударитесь при этом о какой-нибудь ко-
рабль? — спросил Уэйбридж.
— Я буду подниматься с такой скоростью, что пронесусь
сквозь него, как пушечное ядро,— ответил Эльстед.— Об этом
не беспокойтесь.
— А предположим, какое-нибудь проворное ракообразное
животное заберется в ваш часовой механизм?..
— Это будет для меня настоятельным приглашением
остаться там подольше,— сказал Эльстед, повернувшись спи-
ной к воде и глядя на шар.
Эльстеда опустили за борт около одиннадцати часов. День
был безмятежно тихий и ясный, горизонт тонул в дымке. Элек-
трический свет в верхнем люке весело мигнул три раза. Тогда
шар начали медленно спускать на воду, и один из матросов,
вися на кормовых цепях, приготовился перерезать канат, свя-
зывавший свинцовые грузила с шаром. Шар, казавшийся на
палубе таким большим, под кормой выглядел совсем крохот-
ным. Его слегка покачивало, и два его темных люка, приходив-
шихся сверху, были совсем как глаза, в изумлении обращенные
на людей, столпившихся у поручней.
— Интересно знать, нравится ли Эльстеду качка? — сказал
кто-то.
— Готово? — спросил нараспев капитан.
— Готово, сэр.
— Так пускай!
Тали мгновенно были перерезаны, и большая волна перека-
тилась через шар, сразу ставший до смешного беспомощным.
Кто-то махнул платком, кто-то неуверенно прокричал «Браво!»,
какой-то мичман медленно считал: «Восемь, девять, десять!»
Шар качнуло еще раз, потом он дернулся, подняв фонтан брызг,
и выровнялся.
Секунду он казался неподвижным, потом быстро умень-
шился, затем вода сомкнулась над ним, и он стал смутно виден
сквозь нее, увеличенный преломлением лучей. Прежде чем
635
успели сосчитать до трех, он исчез из виду. Где-то далеко внизу,
в воде, мелькнул белый огонек, превратился в искру и погас.
И осталась только чернеющая водная глубь, откуда всплывала
акула.
Внезапно винт крейсера заработал, вода заволновалась,
акула исчезла в зыби, и поток пены хлынул по хрустальной
глади, поглотившей Эльстеда.
— В чем дело? — спросил один матрос другого.
— Отходим на несколько миль, чтобы он не стукнул нас,
когда выскочит,— ответил его товарищ.
Корабль медленно отошел на некоторое расстояние и снова
остановился. Почти все свободные от работ продолжали на-
блюдать за мерно колыхавшимися волнами, в которые погру-
зился шар. В течение ближайшего получаса только и было раз-
говоров что об Эльстеде. Декабрьское солнце стояло уже вы-
соко, и было очень жарко.
— Ему будет холодно там, внизу,— сказал Уэйбридж.—
Говорят, на известной глубине температура глубины морской
воды всегда близка к точке замерзания.
— Где он вынырнет? — спросил Стивенс.— Я что-то поте-
рял направление.
— Вот в этой точке,— ответил капитан, гордившийся своим
всеведением. Он уверенно указал пальцем на юго-восток.—
И по-моему, ему пора бы уже возвращаться,— добавил он.—
Он пробыл под водой тридцать пять минут.
— Сколько времени нужно, чтобы достигнуть дна
океана? — спросил Стивенс.
— При глубине в пять миль, учитывая ускорение, равное
двум футам в секунду, это займет приблизительно три четверти
минуты.
— Тогда он запаздывает,— заметил Уэйбридж.
— Похоже на то,— ответил капитан.— Я думаю, что не-
сколько минут должно занять наматывание каната.
— Да, я упустил это из виду,— сказал Уэйбридж с видимым
облегчением.
И началось томительное ожидание. Медленно проползла
минута, но шар не показывался. Прошла другая, но ничто не
нарушило маслянистой поверхности воды. Матросы наперебой
объясняли друг другу, что канат будет наматываться довольно
долго. Снасти были усеяны людьми.
— Поднимайся, Эльстед! — нетерпеливо крикнул старый
матрос с волосатой грудью, и остальные подхватили его крик,
как публика перед поднятием занавеса в театре.
Капитан метнул на них гневный взгляд.
— Правда, если ускорение меньше двух футов,— сказал
он,— то он может и задержаться. У нас нет абсолютной уверен-
ности, что цифры правильны. Я не так уж рабски верю в вы-
числения.
636
Стивенс кивнул. Минуту-другую на мостике молчали. По-
том Стивенс щелкнул крышкой часов.
Двадцать одну минуту спустя, когда солнце достигло зе-
нита, они все еще ждали возвращения шара, и никто не
решался даже шепнуть, что надежды больше нет. Уэйбридж
первый высказал эту мысль. Он заговорил, когда отбивали во-
семь склянок.
— Яс самого начала сомневался в прочности стекла,—
неожиданно сказал он Стивенсу.
— Господи!—вырвалось у Стивенса.— Неужели вы ду-
маете...
— Гм! — многозначительно промычал Уэйбридж.
— Я и сам не очень верю в вычисления,— с сомнением про-
изнес капитан,— так что не совсем еще потерял надежду.
И в полночь пароход все кружил вокруг того места, где по-
грузился шар, а белый луч прожектора, шарил по волнам, то
замирая на месте, то снова жадно протягиваясь вперед над
водной пустыней, смутно мерцающей под мелкими звездами.
— Если люк не лопнул и не раздавил его,— сказал Уэйб-
ридж,— так это еще хуже, тогда, значит, испортился часовой
механизм, и он сейчас жив, где-то там внизу, в пяти милях
от нас, в темноте и холоде, запертый в этом своем пузыре там,
куда еще не проникал луч света, куда еще не заглядывал че-
ловек с того дня, как были сотворены воды. Он там без еды,
мучается от голода и жажды и с ужасом думает о том, умрет
ли он от голода, или задохнется. Что же с ним будет? Аппарат
Майерса, вероятно, скоро перестанет действовать. Сколько
времени он может работать?
— Боже ты мой! — воскликнул он.— Какие же мы крохот-
ные существа! Какие дерзкие бесенята! Там, внизу, целые мили
воды,— ничего, кроме воды, и вокруг нас безбрежный простор,
а над нами небо... Бездны!
Он протянул вперед руки, и в тот же миг белый лучик
беззвучно скользнул по небу, замедлил ход, остановился, стал
неподвижной точкой, словно в небе появилась новая звезда.
Потом он соскользнул вниз и затерялся среди колеблющихся
отражений звезд, в белой дымке морского свечения.
При виде этого Уэйбридж так и замер с протянутой рукой и
открытым ртом. Он закрыл рот, опять открыл его и от нетер-
пения замахал руками. Потом он повернулся, крикнул первому
вахтенному: «Эльстед в виду!» — и бросился к прожектору.
— Я видел его! — кричал он.— Там, по правому борту!
Свет у него включен, и он только что выскочил из воды. Наве-
дите туда прожектор. Мы должны увидеть его, когда он будет
качаться на волнах.
Но им удалось найти исследователя только на рассвете. Они
чуть не наткнулись на шар. Кран повернули, и сидевшие в
шлюпке матросы прикрепили шар к цепи. Когда он был поднят
637
на палубу, люк отвинтили, и несколько человек заглянули
внутрь шара, где царила темнота. (Электрическая лампа пред-
назначалась для освещения воды вокруг шара и была полно-
стью изолирована от главной камеры.)
Внутри шара было очень жарко, и резина по краям люка
размягчилась. На их нетерпеливые вопросы не последовало
ответа, в камере все было тихо. Эльстед лежал неподвижно,
скорчившись на дне. Судовой врач вполз внутрь и, подняв
Эльстеда, передал его матросам. В первый момент нельзя
было сказать, жив он или умер. Лицо его, в желтом свете кора-
бельных ламп, блестело от пота. Его снесли в каюту.
Скоро выяснилось, что он жив, но находится в состоянии
полного нервного истощения и к тому же весь в синяках от
тяжелых ушибов. Ему пришлось пролежать неподвижно не-
сколько дней. Прошла неделя, прежде чем он смог рассказать
о своих приключениях.
Едва он обрел дар речи, как заявил, что намерен опять спу-
ститься на дно.
— Необходимо изменить конструкцию шара,— сказал
он,— чтобы можно было в случае надобности оборвать ка-
нат,— вот и все.
Он испытал поразительнейшее приключение.
— Вы думали, что я не найду там ничего, кроме ила,— ска-
зал он.— Вы смеялись над моими исследованиями, а я открыл
новый мир!
Он рассказывал бессвязно, то и дело забегая вперед, так
что невозможно передать этот рассказ его собственными сло-
вами. Но мы попытаемся изложить здесь все им пережитое.
Сначала было очень скверно. Пока разматывался канат,
шар все время бросало из стороны в сторону. Эльстед чувство-
вал себя, как лягушка, посаженная в футбольный мяч. Он не
видел ничего, кроме крана и неба над головой да по време-
нам — людей, стоявших у борта. Невозможно было угадать,
куда кувырнется шар. Ноги у Эльстеда вдруг поднимались
кверху, и он пробовал шагнуть, но тут же летел вниз головой,
а потом катался, ударяясь о стенки. Аппарат какой-нибудь дру-
гой формы был бы удобнее шара, но не выдержал бы огромного
давления в глубочайших слоях воды.
Внезапно качка прекратилась, шар выровнялся, и, подняв-
шись, Эльстед увидел вокруг зеленовато-голубую воду, слабый
свет, струящийся сверху, и стайку каких-то крохотных плаваю-
щих существ, стремившихся, как ему показалось, к свету.
Пока он смотрел, становилось все темнее и темнее, и вода
вверху стала темной, как полуночное небо, только зеленее,
а внизу — совсем черной. А мелкие прозрачные существа на-
чали слабо светиться и мелькали мимо окна зеленоватым змей-
ками.
А ощущение падения! Ему вспомнился первый момент
638
спуска в лифте, только ощущение было более длительным. По-
пробуйте представить себе, что это такое! Тогда, и только тогда,
Эльстед раскаялся в своей затее. Он увидел в совершенно
новом свете грозившую ему опасность. Он подумал о больших
каракатицах, обитающих, как известно, в средних слоях воды,
об этих тварях, которых иногда находят полупереваренными
в желудке кита, а порой они плавают по воде, дохлые и объ-
еденные рыбами. Что, если такое чудище схватится за канат
и не отпустит? А действительно ли хорошо проверен часовой
механизм? Но хотел ли он сейчас падать дальше, или возвра-
щаться наверх,— не имело ровно никакого значения.
За пятьдесят секунд снаружи стало темно, как ночью,
только луч его лампы то и дело ловил какую-нибудь рыбу или
тонущий предмет, но он не успевал разглядеть, что именно.
Один раз ему показалось, что он видит акулу. А потом шар
начал нагреваться от трения о воду. Эта опасность была в свое
время упущена из виду.
Сначала Эльстед заметил, что вспотел, а потом услышал
под ногами шипенье, становившееся все громче, и увидел за
окном множество мелких, очень мелких пузырьков, веером
взлетавших кверху. Пар! Он пощупал окно,— оно было горячее.
Он включил слабую лампочку, освещавшую внутренность
шара, взглянул на обитые войлоком часы рядом с кнопками и
увидел, что опускается уже две минуты. Ему пришло в голову,
что стекло в люке может лопнуть от разности температур; он
знал, что температура воды на дне близка к нулю.
Потом пол шара словно прижало к его ногам, рой пузырь-
ков снаружи стал редеть, а шипенье уменьшилось. Шар слегка
закачался. Стекло не лопнуло, не прогнулось, и он понял, что
опасности, связанные с погружением, во всяком случае позади.
Еще через минуту он будет на дне. Он подумал о Стивенсе
и Уэйбридже и обо всех, оставшихся на корабле, отделенных
от него пятимильной толщей воды, более удаленных от него,
чем самые высокие облака от земли. Он представил себе, как
они медленно крейсируют там, наверху, и смотрят вниз и га-
дают, что с ним.
Он взглянул в окно. Пузырьков больше не было, и шипенье
Прекратилось. Снаружи была плотная чернота, как черный
бархат, и только там, где воду пронизывал луч света от лампы,
можно было различить, что она желто-зеленого цвета. Потом
мимо окна гуськом проплыли три каких-то создания,— он мог
различить лишь огненные контуры. Были ли они маленькими,
или только казались такими на расстоянии,— он не мог бы
сказать.
Они были очерчены голубоватым светом, почти таким же
ярким, как огни рыбачьей лодки, и казалось, что этот свет
дымится, и световые пятнышки тянулись вдоль всего тела этих
тварей, как иллюминаторы корабля. Их фосфоресценция,
639
казалось, ослабевала по мере приближения к освещенному
окну шара, и скоро Эльстед разглядел, что это рыбки какой-то
странной породы, с огромной головой, большими глазами и
постепенно суживающимся телом. Глаза их были обращены
к нему, и он решил, что они сопровождали его при спуске.
Повидимому, их привлекал свет.
Их становилось все больше. Спускаясь, он заметил, что
вода светлеет и что в луче кружатся мелкие пятнышки, как
мошки на солнце. Это были, вероятно, частицы ила и тины,
поднявшиеся со дна при падении свинцовых грузил.
Достигнув дна, он оказался в густом белом тумане, в кото-
рый луч его лампы проникал всего на пять-шесть ярдов, и
прошло несколько минут, прежде чем эта муть немного осела.
Тогда при свете своей лампы и в неверном мерцании далекой
стаи рыб он разглядел под плотным покровом черной воды
волнистые линии серовато-белого илистого дна, там и сям спу-
танные кусты морских лилий, жадно шевеливших своими щу-
пальцами.
Дальше виднелись изящные, прозрачные контуры гигант-
ских губок. По дну было разбросано множество колючих, при-
плюснутых пучков, ярколиловых и черных,— возможно, ка-
кая-то разновидность морского ежа,— а через полосу света
медленно, оставляя за собою глубокие борозды, проползали
маленькие существа, одни большеглазые, другие слепые, чем-то
напоминавшие омаров и мокриц.
Вдруг парящий рой мелких рыбок свернул со своего пути
и налетел на него, как стая воробьев. Они промелькнули, по-
добные мерцающим снежинкам, и тогда он увидел, что к шару
приближается какое-то более крупное существо.
Сначала он лишь смутно различал медленно движущуюся
фигуру, отдаленно напоминавшую человека, потом оно вошло
в полосу света и остановилось, зажмурив глаза. Эльстед смот-
рел на него в полном изумлении.
Это было странное позвоночное животное. Его темнолило-
вая голова смутно напоминала голову хамелеона, но у него
был такой высокий лоб и такая огромная черепная коробка,
каких не бывает у пресмыкающихся; вертикальное расположе-
ние лица придавало ему поразительное сходство с человеком.
Два больших выпуклых глаза выдавались из орбит, как
у хамелеона, а под узкими ноздрями был огромный, с жест-
кими губами, лягушачий рот. На месте ушей были широкие
жаберные отверстия, и из них тянулись ветвистые кустики ко-
раллово-красных нитей, похожих на древовидные жабры моло-
дых скатов и акул.
Но самым удивительным было не это, почти человеческое,
лицо. Неведомое существо было двуногим; его почти шаро-
видное тело опиралось на треножник, состоявший из двух лягу-
шачьих лап и длинного, толстого хвоста, а передние конечно-
640
сти — такая же карикатура на человеческие руки, как лапки
лягушки,— держали длинное костяное древко с медным нако-
нечником. Существо было двухцветным: голова, руки и ноги
лиловые, а кожа, висевшая свободно, как одежда,— жемчуж-
но-серая. И оно стояло неподвижно, ослепленное светом.
Наконец, это исчадие бездны заморгало, открыло глаза и,
затенив их свободной рукой, открыло рот и испустило громкий,
почти членораздельный крик, проникший даже сквозь сталь-
ные стенки и мягкую обивку шара. Как можно кричать, не
имея легких, Эльстед не пытался объяснить. Затем оно дви-
нулось прочь из полосы света в таинственный мрак, и Эльстед
скорее почувствовал, чем увидел, что оно направляется к нему.
Решив, что его привлекает свет, Эльстед выключил ток. В сле-
дующий момент что-то мягкое ткнулось о сталь, и шар покач-
нулся.
Потом крик повторился, и ему, казалось, ответило отдален-
ное эхо. Последовал еще один толчок, и шар закачался, уда-
ряясь о катушку, на которую был намотан канат. Стоя в тем-
ноте, Эльстед вглядывался в вечную ночь бездны и через неко-
торое время увидел вдали другие, слабо фосфоресцирующие,
человекоподобные фигуры, спешившие к нему.
Едва сознавая, что делает, он стал шарить рукой по стене
своей качающейся темницы, ища выключатель наружной
лампы, и нечаянно включил свою собственную лампочку в ее
выстеганной нише. Шар дернулся, и Эльстед упал; он слышал
крики, словно выражавшие удивление, и, поднявшись на ноги
увидел две пары глаз на стебельках, глядевших в нижнее окно
и отражавших свет.
В следующий момент невидимые руки яростно заколотили
по его стальной оболочке, и он услышал страшный в его поло-
жении звук — сильные удары по металлической оболочке часо-
вого механизма. Тут он не на шутку струхнул; ведь если этим
странным тварям удастся повредить механизм, ему уже не
выбраться отсюда. Едва подумав это, он почувствовал, что шар
дернуло, и пол с силой прижался к его ногам. Он выключил
лампочку^ освещавшую внутренность шара, и зажег яркий луч
большой верхней лампы. Морское дно и человекоподобные
создания исчезли, несколько рыб, гнавшихся друг за другом,
мелькнули за окном.
Эльстед сразу подумал, что эти странные обитатели морских
глубин оборвали канат и что он ускользает от них. Он подни-
мался все быстрее и быстрее, а потом шар разом остановился,
и Эльстед ударился головой о мягкий потолок своей темницы,
С полминуты он ничего не мог сообразить от удивления.
Потом он почувствовал слабое вращение и покачивание,
и ему показалось, что шар тащат куда-то вбок. Скорчившись
у окна, он сумел повернуть шар люками вниз, но увидел только
слабый луч лампы, устремленный в пустоту и мрак. Ему при-
41 Г. Уэллс, т. 2
641
шло в голову, что он увидит больше, если выключит лампу и
даст глазам привыкнуть к темноте.
Он оказался прав. Через несколько минут бархатный мрак
превратился в прозрачную мглу, и тогда, далекие и туманные,
как зодиакальный свет летним вечером в Англии, ему стали
видны движущиеся внизу фигуры. Он догадался, что неведо-
мые создания отвязали канат и теперь движутся по морскому
дну и тащат его за софой.
А потом он начал различать вдалеке, над волнистой под-
водной равниной, бледное зарево, простиравшееся вправо и
влево, насколько позволяло ему видеть маленькое окно. Туда
его и тащили, как рабочие тащат аэростат с поля в город. Он
двигался очень медленно, и очень медленно бледное сиянье
принимало более четкие очертания.
Было около пяти часов, когда Эльстед очутился над све-
товой зоной и смог различить что-то вроде улиц и домов,
сгруппированных вокруг большого здания без крыши, напоми-
навшего развалины какого-то старинного аббатства. Под ним
словно была развернута карта. Все дома представляли собою
стены без крыш, и так как их материалом, как он увидел
позже, были фосфоресцирующие кости, то казалось, что они
созданы из затонувших лунных лучей.
В промежутках между этими странными зданиями прости-
рали свои щупальцы колышущиеся древовидные криноиды,
а высокие, стройные губки поднимались, как блестящие стек-
лянные минареты и лилии, из светящейся мглы города. На
открытых площадях он видел неясное движение, словно толпы
народа, но он был слишком далеко, чтобы разглядеть в этих
толпах отдельных людей.
Потом его стали медленно притягивать вниз, и постепенно
он смог разглядеть город более подробно. Он увидел, что ряды
призрачных зданий окаймлены какими-то круглыми предме-
тами, а потом различил на больших открытых площадях не-
сколько возвышений, похожих на затянутые илом корпусы
кораблей.
Медленно и неуклонно его тащили вниз, и предметы под
ним становились ярче, яснее, отчетливее. Он заметил, что
его тянут к большому зданию в середине города, и время от
времени жадно всматривался в группу человекоподобных
созданий, вцепившихся в канат. Он с удивлением увидел, что
снасти одного из кораблей, составлявших замечательную
черту этого города, усеяны жестикулирующими, глядящими
на него существами, а потом стены большого здания безмолвно
выросли вокруг него и скрыли город.
И что это были за стены — из пропитанных водою балок,
спутанного кабеля, из кусков железа и меди, из человеческих
костей и черепов! Черепа шли зигзагами, спиралями и причуд-
ливыми узорами по всему зданию; и через их глазные впа-
642
дины проплывало множество серебристых рыбок, игравших
в прятки возле этих необыкновенных стен.
Внезапно до слуха Эльстеда долетели слабые крики и
звуки, напоминавшие громкий зов охотничьего рога, и все это
сменилось каким-то диковинным пением. Погружаясь, шар про-
плывал мимо огромных стрельчатых окон, через которые
Эльстед смутно увидел группы этих странных, похожих на при-
зраки, существ, смотревших на него, и, наконец, опустился на
некое подобие алтаря, стоявшего посреди здания.
Теперь Эльстед снова мог ясно рассмотреть этих странных
обитателей бездны. К своему изумлению, он увидел, что они
простираются ниц перед его шаром,— все, кроме одного, оде-
того в своеобразное облачение из крупной чешуи и увенчанного
сияющей диадемой; тот стоял неподвижно и то открывал, то
закрывал свой лягушачий рот, словно управляя хором.
Эльстеду пришла фантазия снова включить свою лампочку,
так что он стал видим для всех этих жителей бездны, а сами
они исчезли во мраке. Мгновенно пение сменилось сумятицей
возбужденных криков, и Эльстед, стремясь снова увидеть их,
выключил свет и исчез у них из глаз. Но сначала он был слиш-
ком ослеплен, чтобы разобрать, что они делают, а когда, нако-
нец, он снова увидел их, они опять стояли на коленях. И так
они поклонялись ему без перерыва в течение трех часов.
Эльстед очень подробно рассказывал об этом удивитель-
ном городе и о его обитателях, об этом городе вечной ночи, где
никогда не видели солнца, луны или звезд, зеленой раститель-
ности и живых, дышащих воздухом существ, где не знают ни
огня, ни света, кроме фосфорического свечения живых тварей.
Как ни поразителен его рассказ, еще поразительнее то, что
такие крупные ученые, как Адамс и Дженкинс, не нашли в нем
ничего невероятного. Они вполне допускают гипотезу, что на
дне глубочайших морей живут разумные, снабженные жабрами
позвоночные, о которых мы ничего не знаем,— существа, при-
выкшие к низкой температуре и огромному давлению и такие
плотные, что не могут всплыть ни живыми, ни мертвыми,—
такие же потомки великой Териоморфы века Нового Красного
Песчаника, как и мы сами.
Мы, однако, должны быть известны им как странные суще-
ства метеоры, которые время от времени падают мертвыми из
таинственного мрака их водяных небес. И не только мы, но
и наши суда, наши металлы, наши вещи сыплются на них из
мрака. Иногда тонущие предметы калечат и убивают их, словно
по приговору некиих незримых высших сил; а иногда падают
предметы крайне редкие, или полезные, или своей формой
вдохновляющие их на собственное творчество. Быть может, их
поведение при виде живого человека станет нам более понят-
ным, если представить себе, как восприняли бы дикари появ-
ление среди них сверкающего, слетевшего с небес существа.
41*
643
Понемногу Эльстед, вероятно, рассказал офицерам «Птар-
мигана» все подробности своего странного двенадцатичасового
пребывания в бездне. Достоверно также, что он хотел записать
их, но так и не сделал этого. Поэтому нам, и сожалению, при-
шлось собирать разноречивые обрывки его истории, слушая
рассказы капитана Симмонса, Уэйбриджа, Стивенса, Линдли
и других.
Мы видим все это смутно, как бы урывками: огромное
призрачное здание, склоненных поющих людей с темными
головами хамелеонов, в слабо светящихся одеждах, и Эльстеда,
снова включившего свет, тщетно старающегося внушить им,
что нужно оборвать канат, на котором держится шар. Время
шло, и Эльстед, взглянув на часы, с ужасом увидел, что кисло-
рода ему хватит еще только на четыре часа. Но пение в его
честь продолжалось неумолимо, как песнь, славящая прибли-
жение его смерти.
Каким образом он освободился, Эльстед и сам не знал, но,
судя по обрывку, висевшему на шаре, канат перетерся о край
алтаря. Шар внезапно качнулся, и Эльстед взвился кверху,
прочь из мира этих существ, как какой-нибудь небожитель,
облаченный в эфирное одеяние, воспарил бы сквозь нашу зем-
ную атмосферу обратно в свой родной эфир. Он, должно быть,
исчез у них из виду, как пузырек водорода, поднявшийся в
воздух. Вероятно, это вознесение сильно удивило их.
Шар ринулся кверху с еще большей скоростью, чем когда
стремился вниз, увлекаемый свинцовыми грузилами. Он очень
разогрелся. Он взлетел люками кверху, и Эльстед помнил
поток пузырьков, пенившийся у окна. Потом у него в мозгу
словно завертелось огромное колесо, мягкие стенки стали вра-
щаться вокруг него, и он потерял сознание. Дальше он помнил
только, как очнулся у себя в каюте и услышал голос доктора.
Такова суть необычайной истории, урывками рассказанной
Эльстедом офицерам на борту «Птармигана». Он обещал запи-
сать все это позже. Теперь же он только и думал, что об
усовершенствовании своего аппарата, которое и было осущест-
влено в Рио.
Остается лишь сказать, что 2 февраля 1896 года он вто-
рично совершил спуск в бездну. Что произошло с ним, мы,
вероятно, никогда не узнаем. Он не вернулся. «Птармиган»
в течение двух недель крейсировал вокруг места, где он погру-
зился, тщетно разыскивая его. Потом корабль вернулся в Рио,
и друзей Эльстеда известили телеграммой о его гибели. Таково
положение дел в настоящее время. Но я не сомневаюсь, что
будут предприняты новые попытки проверить этот диковинный
рассказ о неведомых доселе городах в глубинах океана*
(Из сборника «Похищенная бацилла», 1895)
644
ПОТЕРЯННОЕ НАСЛЕДСТВО
— Моего дядю,— сказал человек со стеклянным глазом,—
можно было бы назвать восьмушкой миллионера. У него было
около ста двадцати тысяч. Не меньше. И все свое состояние
он оставил мне.
Я взглянул на засаленный рукав его пиджака, потом на
потрепанный воротничок.
— Все до последнего пенни,— продолжал человек со стек-
лянным глазом, и я заметил, что здоровый зрачок глянул на
меня слегка обиженно.
— Мне вот ни разу не довелось так нежданно-негаданно
получить наследство,— с наигранной завистью сказал я, пыта-
ясь подладиться к нему.
— Но ведь наследство не всегда приносит счастье,— вздох-
нув, заметил он и с истинно философской покорностью судьбе
погрузил свой красный нос и жесткие усы в пивную кружку.
— Бывает...— подхватил я.
— Видите ли, он был сочинителем и написал уйму книг.
— Вот как!
— В том-то и беда.— Он взглянул на меня зрячим глазом,
желая удостовериться, понял ли я его замечание, затем посмо-
трел в сторону и извлек зубочистку.
— Видите ли,— заговорил он после небольшой паузы, при-
чмокнув губами,— дело было так. Он доводился мне дядей —
дядей по матери. И была у него — как бы это сказать? — сла-
бость — любил он писать назидательные книги. Слабость даже
не то слово — скорее мания. Он был библиотекарем в поли-
техникуме, и как только к нему привалили деньги, весь отдался
своей страсти. Поразительно! Непостижимо! На человека,
которому уже стукнуло тридцать семь лет, ни с того ни с сего
645
свалилась изрядная куча золота, и он ни разу не гульнул —
ни единого раза. Всякий подумал бы, что парень как-
никак приоденется — ну, скажем, закажет дюжины две брюк
у модного портного,— ничего подобного! Верите ли, он до
самой своей смерти не обзавелся даже золотыми часами. Вот
и выходит, что некоторым богатство только во вред. Единст-
венное, что он сделал, это снял дом и распорядился доставить
туда добрых пять тонн книг, а также чернил и бумаги, после
чего со всем пылом принялся писать назидательные сочине-
ния. У меня это не укладывается в голове. Но он поступил
именно так.
Деньги достались ему — что тоже довольно-таки любопыт-
но — ни с того ни с сего от дяди по матери, когда ему стук-
нуло тридцать семь. Случилось так, что, кроме моей матери,
у него не было на всем белом свете других родственников,
только один троюродный брат. А я был у матери один. Вы
еще не запутались? У троюродного брата тоже был сын, но он
немножко поторопился представить его дяде. Этот его сыночек
был довольно-таки избалованным ребенком и, как только уви-
дел моего дядюшку, тотчас же завопил что было мочи: «Про-
гоните его! Прогоните!» Ну и конечно все себе испортил. Вы
понимаете, это было мне здорово на руку, не так ли? И моя
мать, женщина здравомыслящая и предусмотрительная, еще
задолго до дяди решила для себя этот вопрос.
Насколько мне помнится, этот мой дядюшка был презабав-
ный малый. И совсем не удивительно, что ребенок испугался.
Волосы у него были черные, прямые и жесткие, точно у кукол,
что продают у нас японцы, и торчали венчиком вокруг голой
макушки, на бледном лице за стеклами очков бегали большие
темносерые глаза. Он уделял много внимания своему туалету
и носил широченное пальто и фетровую шляпу с полями неве-
роятных размеров. Смею вас уверить, он был похож на подо-
зрительного попрошайку. Дома он ходил, как правило, в гряз-
ном халате из красной фланели, а на голове красовалась
черная ермолка. Эта ермолка придавала ему сходство с портре-
тами всяких знаменитостей.
Дядюшка без конца переезжал с места на место, вместе
со своим стулом, принадлежавшим некогда Сэведжу Лэндору,
и двумя письменными столами, один из которых, как уверял
продавец, был собственностью Карлейля, а другой — Шелли.
Он таскал с собой и портативную справочную библиотечку, по
его словам самую полную в Англии,— получался целый кара-
ван, который то направлялся в Даун, в те места, где жил
Дарвин, то двигался к Рейгейту, где жил Меридит, потом —
в Хэсльмер, потом ненадолго в Челси, а затем снова возвра-
щался в Гэмпстед.
Дядя знал, что в хозяйстве у него не все в порядке, но и не
подозревал, что его собственные мозги были не совсем в по-
646
рядке. То был плох воздух, то вода, то слишком высоко над
уровнем моря, то еще какая-нибудь чепуха. «Так много зави-
сит от окружающей обстановки,— говорил, бывало, он и испы-
тующе смотрел на вас: уж не смеетесь ли вы над ним испод-
тишка?— Для такого впечатлительного человека, как я, очень
много значит окружающая обстановка».
Как его звали? Вряд ли его фамилия скажет вам что-
нибудь. Он не написал ни одной вещи, которую можно было
бы одолеть,— ни единой. Прочесть эту галиматью было свыше
человеческих сил. Дядя говорил, что мечтает стать великим
учителем человечества, но, по правде сказать, он сам не знал,
чему будет поучать. Поэтому он занимался высокопарной бол-
товней, рассуждая о правде и справедливости, о духе истории
и так далее. Он строчил книгу за книгой и издавал их на
собственные средства. У него, знаете ли, и в самом деле не все
были дома, послушали бы вы, как он напускался на крити-
ков,— и заметьте, не потому, что они задевали его,— он был
бы не прочь,— но как раз потому, что они его просто не заме-
чали.
— В чем нуждаются народы? — вопрошал он, бывало, про-
стирая вперед свою тощую руку со скрюченными пальцами.—
Разумеется, в наставлении, в руководстве! Они блуждают по
холмам, как овцы, лишенные пастыря. В мире война и слухи
о войне, в стране нашей — дух разногласия, нигилизм, виви-
секция, прививки, пьянство, бедность, нужда, опасные соблазны
социализма, произвол хищного капитала! Ты видишь эти тучи,
Тед? (Меня зовут Тед.) —Ты видишь, как сгущаются над
страной тучи? А там на горизонте — желтая опасность! — Его
всегда тревожили события в Азии, призраки социализма и тому
подобное. Тут он поднимал указующий перст, глаза загорались
огнем, ермолка сползала набок, и он бормотал:
— Но я начеку. Чего я хочу? Руководить народами. Наро-
дами! Говорю без лишней скромности, Тед, я бы с этим спра-
вился. Я могу ими руководить,— да что там говорить! Я при-
веду их к тихой пристани, в страну справедливости, «текущую
медом и млеком».
Вот в таком духе он и разглагольствовал. Восторженная,
бессвязная болтовня о народах, о справедливости и тому по-
добном. Настоящий винегрет из библейских изречений и брани.
С четырнадцати до двадцати трех лет — пока я мог еще наби-
раться ума — моя мать, умыв меня и красиво расчесав мне
волосы на прямой пробор (это она делала, разумеется, пока
я еще был маленьким), таскала меня раз или два в неделю
к этому сумасшедшему болтуну слушать его излияния по
поводу того, что он вычитал в утренних газетах. При этом он
изо всех сил старался подражать Карлейлю, а я, следуя на-
ставлениям мамаши, сидел с умным видом, притворяясь, что
все это меня страшно занимает.
647
В дальнейшем я, бывало, сам заглядывал к нему, не ради
наследства, а просто так. Кроме меня, его никто не навещал.
Мне думается, он писал всем мало-мальски известным людям,
прилагая к своим письмам одну-две книги собственного сочи-
нения, с приглашением приехать и побеседовать с ним о благе
всех народов мира; но ему мало кто отвечал, и никто ни разу
не приехал. Когда же служанка открывала вам дверь,— страш-
ная она была плутовка, эта служанка,— вы могли увидеть в
гостиной груды писем, готовых к отправке, в том числе письма,
адресованные князю Бисмарку, президенту Соединенных Шта-
тов и тому подобным личностям. Вы поднимались по лестнице,
проходили по затянутому паутиной коридору,— экономка пила,
как лошадь, и коридоры в дядиной квартире всегда были
полны паутины,— и • вот вы в его кабинете. Повсюду кучи
беспорядочно сваленных книг, на полу клочки бумаги, теле-
граммы и газеты, на столе и на камине — чашки с остатками
кофе и недоеденные гренки, и среди всего этого его сгорблен-
ная спина и волосы, торчащие из-под ермолки над воротни-
ком халата.
— Минуточку! — бросал.он через плечо.— Одну минуточку!
Как бы это получше выразиться? Вот-вот это самое слово —
взаимосвязь! — Ну, что, Тед,— говорил он, поворачиваясь в
своем вертящемся кресле,— как поживает Молодая Англия?
(Так он называл меня в шутку.)
Да, вот каков был мой дядя, и вот как он разговаривал,
во всяком случае со мной. Вообще-то он был довольно мол-
чалив и застенчив. Он не ограничивался разговорами, но давал
мне и свои книги,— каждая страниц этак на шестьсот,— с кри-
чащими заглавиями вроде «Община крикунов», «Чудовище
фанатизма», «Суровые испытания и дуршлаги». Все это было
очень смело, но избито. В предпоследний раз, что я его видел,
.дядя дал мне книгу. Уже тогда он чувствовал себя плохо и
пал духом. Рука его дрожала. Все это, понятно, не ускользнуло
от моего внимания, ибо для меня, разумеется, все эти незна-
чительные симптомы были важны.
— Моя последняя книга, Тед,— сказал он.— Послед-
няя книга, мой мальчик, мой последний призыв к ожесточив-
шимся и невнемлющим народам,— и будь я проклят, если по
его морщинистой желтой щеке не скатилась слеза. В послед-
нее время он частенько плакал: ведь конец был уже близок,
а он успел написать всего лишь пятьдесят три бредовых
книги!
— Иногда мне кажется, Тед...— начал он и смолк.— Мо-
жет быть, я был слишком горяч, слишком нетерпим к этому
своевольному поколению. Пожалуй, нужно, было побольше
мягкости и поменьше слепящего света. Порой мне казалось,
что я могу увлечь их... Но я, Тед, я сделал все, что было в
моих силах...
648
И тут, в порыве откровенности, он первый раз в жизни при-
знал себя побежденным. Это доказывало, что он был серьезно
болен. С минуту он о чем-то думал, потом заговорил спокойно
и тихо, так же разумно и трезво, как я сейчас с вами.
— Я был сущим глупцом, Тед,— сказал он,— всю свою
жизнь я молол чепуху. И один господь, который читает в серд-
цах, знает, что мною руководило,— быть может, это было
только тщеславие. Я сам не могу разобраться, Тед. Но он, он
знает, что если я поступал глупо и был тщеславен, то в душе,
в душе я...
Так говорил он, твердя все одно и то же, и внезапно умолк
и протянул мне дрожащей рукой книгу. Тут в глазах у него
зажегся прежний огонь. Я запомнил все до малейших подроб-
ностей, потому что, вернувшись домой, изобразил все это моей
старушке матери, чтобы немножко развеселить ее.
— Возьми эту книгу и прочти ее,— сказал он.— Это мое
последнее слово, последнее слово. Я завещал все свое состояние
тебе, Тед. Постарайся употребить его с большей пользой, чем
это удалось мне.— Тут он упал на подушки и закашлялся.
Помню, как я, вне себя от радости, возвращался домой. А в
следующий раз, зайдя к нему, я застал его в постели. Пьяная
экономка была внизу, и прежде чем войти к дяде, я не-
много подурачился в коридоре со служанкой,— я ведь был
тогда молод. Он быстро угасал. Но тщеславие все еще сне-
дало его.
— Ты прочел?—прошептал дядя.
— Читал всю ночь напролет,— сказал я, наклоняясь к его
уху, чтобы подбодрить его.— Ваше последнее произведение,—
продолжал я и, вспомнив какие-то стихи, добавил: — «Отваж-
ной мысли взлет!»
Он тихо улыбнулся мне и попытался пожать мою руку, сов-
сем слабо, как женщина, но так и не смог.
— «Отважной мысли взлет!» — повторил я, видя, что ему
это приятно. Он не ответил. За дверью послышалось хихиканье
служанки — мы ведь с ней иногда беззлобно прохаживались на
его счет. Я взглянул дяде в лицо — глаза были закрыты, и вид
у него был такой, словно кто-то двинул его кулаком по носу.
Но он улыбался. Как странно, он был мертв, но улыбка тор-
жества озаряла лицо лежавшего передо мной человека, потер-
певшего в жизни полный крах.
Так скончался мой дядя. Вы, конечно, понимаете, что мы с
мамашей позаботились устроить ему приличные похороны.
Затем, естественно, начались поиски завещания. Сперва мы
действовали вполне пристойно, но к вечеру уже обдирали
обивку со стульев, выламывали филенки письменных столов и
простукивали стены, каждую минуту ожидая появления осталь-
ных родственников. От экономки мы узнали, что она действи-
тельно заверяла, в качестве свидетеля, завещание,— совсем не-
649
большое, сказала она, на листке почтовой бумаги, не долее
как месяц тому назад. Другим свидетелем был садовник, слово
в слово подтвердивший все сказанное ею. Но будь я проклят,
если нам удалось обнаружить это или какое-нибудь другое за-
вещание. Моя матушка не скупилась на проклятия, и, должно
быть, дядюшка не раз перевернулся в гробу.
Наконец, адвокат из Рейгейта огорошил нас завещанием,
которое было сделано дядей много лет тому назад, после не-
большой ссоры с моей мамашей. И на мою беду, другого заве-
щания так и не удалось найти. По этому завещанию все до по-
следнего пенни досталось сыночку троюродного брата дядюшки,
тому самому, что закричал тогда: «Прогоните его!» — и уж,
конечно, ни единого дня не смог бы выслушивать, как я, дядюш-
кину болтовню!
Человек со стеклянным глазом замолчал.
— Кажется, вы говорили...— начал было я.
— Одну минутку,— прервал меня он.— Мне много лет
пришлось дожидаться развязки,— до самого сегодняшнего утра,
а ведь я был заинтересован во всей этой истории побольше ва-
шего. Имейте же и вы немного терпения. Завещание оформили,
этот малый получил наследство и, едва ему исполнилось двад-
цать один год, принялся транжирить деньги. Уж он, будьте уве-
рены, сумел все промотать! Он по любому поводу бился об
заклад, кутил, швырял деньгами направо и налево. У меня все
внутри переворачивается, как подумаю, какую жизнь он вел!
Ему еще не было тридцати, когда он спустил все до последнего
пенни, и кончил тем, что попал в долговую тюрьму. Он сидит
там уже три года...
Ну, конечно, мне пришлось туго, ведь я,— вы понимаете
сами,— умел делать только одно — выклянчивать наследство.
Все мои планы, так сказать, ждали своего осуществления, когда
старикан скончался. Я пережил хорошие и плохие времена.
Сейчас я как раз на мели. По правде сказать, я порядком нуж-
даюсь. И вот нынче утром я шарил по комнате, выискивая, что
бы еще можно было продать,— и все эти подаренные мне тома,
которых никто не купит, даже чтобы завернуть масло, действо-
вали мне на нервы. Я обещал дяде никогда не расставаться с
его книгами, и сдержать это обещание было легче легкого.
С досады я швырнул в них башмаком, и книги рассыпались по
комнате. Один том от удара подлетел кверху, описав в воздухе
дугу. И из него выскользнуло— что бы вы думали? — завеща-
ние! Он своими руками отдал мне его в том самом, последнем
томе.
Мой собеседник сложил на столе руки и печально взглянул
здоровым глазом на свою пустую кружку, затем, тихо покачав
головой, тихонько добавил:
— Я ни разу не раскрыл этой книги, даже не разрезал
листы.— Тут он с горькой усмешкой посмотрел на меня, ища
650
сочувствия.— Подумайте только! Запрятать его туда! А? В та-
кое место!
С рассеянным видом он стал вылавливать из лужицы пива
дохлую муху.
— Вот вам пример авторского тщеславия,— сказал он, по-
смотрев мне в лицо.— С его стороны это совсем не было злой
шуткой. У него были самые лучшие побуждения. Он всерьез
думал, что я и впрямь прочту дома его окаянную книгу от корки
до корки. Но это также доказывает,— тут его взгляд снова об-
ратился на кружку,— как плохо мы, несчастные создания, по-
нимаем друг друга.
Но нельзя было не понять явного желания еще выпить,
сквозившего в его взгляде. Он принял угощение с плохо
разыгранным удивлением и сказал непринужденным тоном, что
если уж я так настаиваю, то он, пожалуй, не прочь.
(Из сборника «История Плеттнера», 1897)
ХРУСТАЛЬНОЕ ЯЙЦО
С год тому назад близ Севендайэлса еще можно было ви-
деть маленькую закопченную лавку, на вывеске которой по-
блекшими желтыми буквами было написано: «К. Кэйв, естество-
испытатель и продавец редкостей». Витрину лавки загромож-
дало множество самых разнообразных вещей: несколько
слоновых клыков, разрозненные шахматные фигуры, четки,
оружие, ящик со стеклянными глазами, два черепа тигра и
один человеческий, несколько изъеденных молью обезьяньих
чучел (одна из обезьян держала в руках лампу), ста-
ринный шкафчик, два-три засиженных мухами страусо-
вых яйца, рыболовные принадлежности и страшно грязный
пустой аквариум. В то время, к которому относится этот
рассказ, там был еще кусок хрусталя, выточенный в форме яйца
и прекрасно отшлифованный. На это хрустальное яйцо и смот-
рели двое стоявших перед витриной: высокий худощавый пастор
и смуглый чернобородый молодой человек, одетый весьма не-
притязательно. Молодой человек что-то говорил, энергично же-
стикулируя; казалось, он убеждал своего спутника купить эту
вещь.
Они все еще стояли у витрины, когда в лавку вошел мистер
Кэйв. Борода его шевелилась: он дожевывал хлеб с маслом.
Увидев этих людей и выяснив, что их заинтересовало, хозяин
лавки сразу приуныл. Он виновато оглянулся через плечо и тихо
прикрыл за собой дверь. Мистер Кэйв был старичок, с бледным
лицом и странными водянисто-голубыми глазами; в его грязно-
ватых волосах проглядывала седина; на нем был поношенный
сюртук голубоватого сукна и старомодный цилиндр, а на ногах
стоптанные ковровые туфли. Он выжидательно смотрел на
разговаривающих. Пастор сунул руку в карман брюк, вытащил
пригоршню монет и приятно улыбнулся, показав в улыбке зубы.
652
Когда они вошли в лавку, мистер Кэйв, видимо, совсем пал
духом.
Пастор спросил напрямик, сколько стоит хрустальное яйцо.
Мистер Кэйв бросил тревожный взгляд на дверь, которая вела
в жилые комнаты, и ответил: «Пять фунтов». Пастор, обращаясь
одновременно и к своему спутнику и к мистеру Кэйву, стал
возражать против такой высокой цены (она действительно была
гораздо выше той, какую собирался просить Кэйв, когда вы-
ставлял этот предмет) и попробовал торговаться. Мистер Кэйв
подошел к входной двери и открыл ее.
— Цена пять фунтов,— сказал он, словно желая прекратить
бесцельный спор.
При этих словах над занавеской в застекленной двери, ко-
торая вела в комнаты, показалась верхняя часть женского лица,
глаза с любопытством уставились на покупателей.
— Цена пять фунтов,— с дрожью в голосе повторил мистер
Кэйв.
Смуглый молодой человек до сих пор безмолвствовал, вни-
мательно наблюдая за Кэйвом. Теперь он заговорил:
— Дайте ему пять фунтов.
Пастор посмотрел на своего спутника, словно проверяя, не
шутит ли он, потом опять взглянул на Кэйва и увидел, что тот
побледнел, как полотно.
— Это слишком дорого,— сказал пастор и, порывшись в
кармане, начал пересчитывать свою наличность.
У него оказалось тридцать с чем-то шиллингов, и он снова
попытался образумить своего спутника, с которым, видимо, был
в самой близкой дружбе. Это дало мистеру Кэйву возможность
собраться с мыслями, и он взволнованно стал объяснять, что,
собственно говоря, не имеет права продавать хрусталь. Оба по-
купателя очень удивились и спросили Кэйва, почему он не поду-
мал об этом раньше. Мистер Кэйв сконфузился, но продолжал
настаивать уа том, что продать хрусталь он не имеет права, так
как уже договорился с другим покупателем, который может
сегодня прийти. Усмотрев в этом заявлении попытку еще больше
набить цену, оба пришедших сделали вид, что хотят уйти, но в
это время задняя дверь отворилась, и в лавку вошла некая
особа — обладательница черной челки и маленьких глаз.
Это была полная женщина с резкими чертами лица, моложе
мистера Кэйва и гораздо выше его ростом. Она ступала тяжело,
и лицо у нее было красное от волнения.
— Хрусталь продается,— сказала она.— И пять фунтов —
цена вполне достаточная. Я не понимаю, Кэйв, почему ты не
соглашаешься на предложение этих джентльменов?
Мистер Кэйв, очень расстроенный вмешательством супруги,
сердито посмотрел на нее поверх очков и стал — впрочем, не
слишком уверенно — защищать свое право вести дела по собст-
венному усмотрению. Начались пререкания. Покупатели с инте-
653
ресом наблюдали эту сцену, изредка подсказывая миссис Кэйв
новые аргументы. Загнанный в тупик, Кэйв все же продолжал
свой сбивчивый и неправдоподобный рассказ об утреннем по-
купателе хрустального яйца. Он волновался все больше и
больше, но с необыкновенным упорством стоял на своем.
Конец этому странному спору положил смуглый молодой
человек. Он сказал, что они зайдут через два дня и таким обра-
зом не нарушат интересов покупателя, на которого ссылается
мистер Кэйв.
— Но тогда мы уж будем настаивать,— прибавил пастор.—
Цена пять фунтов.
Миссис Кэйв начала извиняться за мужа, поясняя, что он
у нее «со странностями», и по уходе покупателей супружеская
чета приступила к горячему и всестороннему обсуждению этого
инцидента.
Миссис Кэйв изъяснялась начистоту, без обиняков. Несча-
стный муж дрожал от волнения и то ссылался на какого-то
другого покупателя, то утверждал, что хрусталь стоит десять
гиней.
— Почему же ты назначил пять фунтов? — допрашивала
жена.
— Предоставь мне вести мои дела по собственному усмотре-
нию,— отвечал Кэйв.
С мистером Кэйвом жили падчерица и пасынок, и вечером,
за ужином, происшествие снова было подвергнуто обсуждению.
Сидевшие за столом всегда были весьма невысокого мнения о
деловых способностях мистера Кэйва, но последний его посту-
пок казался всем верхом безумия.
— По-моему, он и раньше отказывался продать это яйцо,—
сказал пасынок, верзила лет восемнадцати.
— Но ведь за него давали пять фунтов! — воскликнула
падчерица, молодая особа двадцати шести лет, большая люби-
тельница поспорить.
Ответы мистера Кэйва были жалки по своей беспомощности:
он только невнятно бормотал, что ему лучше знать, как вести
дела. Посреди ужина мистера Кэйва погнали в лавку — запе-
реть двери* на ночь. Уши у него горели, слезы досады застилали
глаза. «Почему я не убрал яйцо с витрины? Какое легкомыс-
лие!» — вот что мучило его. Он не видел способа отвертеться
от продажи хрустального яйца.
После ужина падчерица и пасынок мистера Кэйва наряди-
лись и отправились гулять, а жена поднялась наверх и, попивая
горячую воду с сахаром, лимоном и еще кое с чем, стала обду-
мывать деловую сторону происшествия с хрустальным яйцом.
Мистер Кэйв ушел в лавку и оставался там довольно долго,
под тем предлогом, что ему надо отделать камешками аква-
риум для золотых рыбок. На самом деле он был поглощен
совсем другим, но об этом речь впереди.
654
На следующий день миссис Кэйв заметила, что хрустальное
яйцо убрано с витрины и спрятано за связкой книг по рыбо-
ловству. Миссис Кэйв переложила его обратно, на видное
место. Разговаривать об этом она не стала, так как после вче-
рашнего спора у нее очень болела голова. Что касается самого
Кэйва, то он всегда был рад уклониться от беседы с супругой.
День прошел неважно. Мистер Кэйв был рассеян как никогда
и крайне раздражителен. После обеда, как только жена по сво-
ему обыкновению легла отдохнуть, он опять убрал яйцо с ви-
трины.
Па следующий день Кэйв повез в одну из клиник партию
«морских собак», которые требовались там для анатомических
занятий. В его отсутствие мысли миссис Кэйв снова вернулись
к хрустальному яйцу, и она стала прикидывать, как потратить
свалившиеся с неба пять фунтов. Она уже успела самым при-
ятным образом распределить эту сумму,— между прочим,
имелась в виду покупка зеленого шелкового платья и поездка
в Ричмонд,— как вдруг звон колокольчика у входной двери
вызвал ее в лавку. Посетитель оказался лаборантом из клиники,
который пришел пожаловаться на то, что лягушки, заказанные
накануне, до сих пор не доставлены. Миссис Кэйв не одобряла
этой отрасли деятельности мистера Кэйва, вследствие чего
джентльмену, явившемуся в несколько запальчивом настроении,
пришлось ни с чем удалиться после беседы, хоть и краткой, но
вежливой, поскольку это зависело от него. Взгляд миссис Кэйв,
естественно, обратился к витрине: вид хрустального яйца дол-
жен был придать реальность пяти фунтам и связанным с ними
мечтам. Каково же было ее удивление, когда яйца в витрине не
оказалось!
Она кинулась к тому месту за прилавком, где нашла яйцо
накануне. Но и там его не было. Тогда миссис Кэйв немедленно
принялась обыскивать всю лавку.
Покончив с делами, Кэйв вернулся домой около двух часов.
В лавке царил беспорядок. Его жена стояла на коленях за при-
лавком и с остервенением рылась в материале для набивки
чучел. Когда звон колокольчика возвестил о приходе мистера
Кэйва, из-за прилавка высунулось красное от гнева лицо мис-
сис Кэйв, и она сразу стала упрекать мужа, что он «спрятал эту
вещь».
— Какую вещь? — спросил Кэйв.
— Хрустальное яйцо!
Вместо ответа Кэйв, видимо очень удивленный, бросился к
витрине.
— Разве его здесь нет? — воскликнул он.— Боже мой! Куда
же оно делось?
В эту минуту дверь из комнат отворилась, и в лавку, громко
бранясь, вошел пасынок Кэйва, вернувшийся домой за минуту
до него. Он работал учеником у захудалого мебельщика на
655
этой же улице, но обедал дома и теперь был зол, узнав, что
обед еще не готов.
Однако, услыхав о пропаже, мальчишка забыл про обед
и перенес свой гнев с матери на отчима. Мать и сын, конечно,
сразу же решили, что Кэйв спрятал хрустальное яйцо. Но тот
всячески отрицал это. Свои клятвенные уверения он закончил
тем, что сам стал обвинять сперва жену, а потом пасынка: это
они спрятали яйцо и хотят тайком продать его. Бурный спор
привел к тому, что у миссис Кэйв начался нервный припадок —
нечто среднее между истерикой и приступом бешенства, а па-
сынок опоздал в мебельный магазин на целых полчаса. Мистер
Кэйв укрылся от рыданий жены в лавке.
Вечером спор возобновился, но уже с меньшей страстностью.
Теперь это больше походило на судебное разбирательство под
началом падчерицы. Ужин прошел невесело и закончился тя-
желой сценой. Мистер Кэйв вышел из себя и удалился, громко
хлопнув дверью. Воспользовавшись этим, остальные члены
семьи, уже не стесняясь, обсудили его поведение, а затем обы-
скали весь дом с чердака до погреба, в надежде найти хрусталь-
ное яйцо.
На следующий день оба покупателя зашли опять. Миссис
Кэйв приняла их чуть не в слезах. Оказалось, что никто даже
не может представить себе, сколько ей пришлось вытерпеть от
Кэйва за все время их супружеской жизни... Она сообщила им
также — правда, в несколько искаженном виде — историю ис-
чезновения хрустального яйца. Пастор и молодой человек
восточного типа с улыбкой переглянулись и сказали, что все
это действительно очень странно. Они не стали задерживаться
в лавке, так как миссис Кэйв, повидимому, собиралась расска-
зать им историю всей своей жизни. Однако эта почтенная дама,
цепляясь за последнюю надежду, спросила адрес пастора, обе-
щая известить его, если она добьется чего-нибудь от мужа. Ад-
рес был дан, но потом, очевидно, утерян. Миссис Кэйв никак не
могла вспомнить, куда она его сунула.
К вечеру этого дня страсти несколько улеглись. Кэйв, ухо-
дивший куда-то из дому, ужинал в полном одиночестве, являв-
шем приятный контраст с недавними бурными спорами. Атмос-
фера в доме некоторое время оставалась напряженной, но ни
хрустальное яйцо, ни покупатели не появлялись.
Теперь, чтобы не вводить читателя в заблуждение, мы дол-
жны сказать, что Кэйв солгал: он прекрасно знал, где находится
хрустальное яйцо. Оно было в квартире мистера Джекоби
Уэйса, ассистента-демонстратора больницы святой Екатерины
на Уэстборн-стрит. Прикрытое куском черного бархата, оно ле-
жало на буфете возле графина с американским виски. От ми-
стера Уэйса и были получены сведения, на основании которых
написан настоящий рассказ. Кэйв принес хрустальное яйцо в
больницу, спрятав его в мешок с «морскими собаками», принес
656
и настойчиво просил молодого ученого хранить его у себя. Ми-
стер Уэйс согласился на это не сразу. У него были довольно
своеобразные отношения с Кэйвом: ему нравились странные
типы, и он не раз приглашал старика к себе покурить и слушал за
стаканом вина его довольно занятные замечания о жизни вообще
и миссис Кэйв в частности Мистеру Уэйсу случалось иметь
дело с этой дамой, когда Кэйва не бывало в лавке. Уэйс знал,
что Кэйва притесняют дома, и поэтому, обсудив все как следует,
он решил взять хрустальное яйцо на хранение. Кэйв обещал
объяснить, почему он так дорожит этой вещью, пока же намек-
нул, что в хрустале ему открываются видения. В тот же вечер
он опять зашел к мистеру Уэйсу.
Кэйв рассказал очень запутанную историю. Хрустальное
яйцо было куплено им вместе с другими вещами на распродаже
имущества одного торговца редкостями. Цену этой вещи Кэйв
не знал и назначил наудачу десять шиллингов. Яйцо пролежало
у него на витрине несколько месяцев, и он уже подумывал, не
снизить ли цену, как вдруг сделал странное открытие.
В го время Кэйв чувствовал себя очень неважно. Надо иметь
в виду, что во время описываемых событий здоровье его было
совершенно расстроено и вдобавок он страдал из-за пренебре-
жительного и даже намеренно плохого отношения к нему жены
и детей. Его жена, сумасбродная, бессердечная женщина, пи-
тала тайную и все возрастающую страсть к спиртным напиткам.
Падчерица была скуповата и заносчива, а пасынок не выносил
его и не упускал случая показать это. Хлопоты по лавке тяго-
тили Кэйва, и мистер Уэйс думает, что старику тоже случалось
иной раз грешить по части спиртного. Молодые годы Кэйв про-
жил хорошо, получил приличное образование. Теперь же, в до-
вершение ко всем своим бедам, он целыми неделями страдал
меланхолией и бессонницей. По ночам, когда ему становилось
невмоготу от тоски, он тихонько, стараясь никого не разбудить,
вставал с постели и бродил по дому. В одну из таких ночей, под
утро в конце августа, Кэйв заглянул в лавку.
Грязное маленькое помещение было погружено во тьму, и
только в одном месте теплился какой-то странный свет. По-
дойдя ближе, Кэйв увидел, что свет исходит от хрустального
яйца, которое лежало на углу прилавка, у самой витрины. Тон-
кий луч света, пробивавшийся сквозь щель в ставне, ударял в
яйцо и, казалось, наполнял его сиянием.
Кэйв сразу же заметил, что это противоречит законам
оптики, известным ему еще со школьной скамьи. Лучи должны
были преломиться в хрустале и собраться в фокус внутри него,
а такое рассеивание света резко нарушало законы физики. Кэйв
подошел к яйцу еще ближе и внимательно пригляделся к нему,
вдруг загоревшись той научной любознательностью, которая
определила его призвание в молодости. Он очень удивился, уви-
дев, что свет растекается по всему яйцу, как будто это был
42 г. Уэллс, т. 2 657
полый шар, наполненный каким-то светящимся газом. Обходя
яйцо со всех сторон, Кэйв заслонил его от луча света, но от этого
хрусталь не потускнел. Пораженный, Кэйв взял хрустальное
яйцо и перенес его подальше от окна в самую темную часть
лавки. Яйцо продолжало светиться еще минут пять, потом стало
медленно тускнеть и погасло. Кэйв пепелвинул его в полосу
света — и сиянье тотчас же возобновилось.
Эту часть поразительного рассказа Кэйва мистер Уэйс мог
проверить. Он сам много раз держал яйцо перед световым лу-
чом, диаметр которого не должен был превышать миллиметра.
В темноте, под куском черного бархата, хрусталь хоть и слабо,
но несомненно фосфоресцировал. Однако в этой фосфоресцен-
ции было что-то своеобразное, и видели ее не все. Так, например,
мистер Харбинджер — имя, известное каждому читателю, инте-
ресующемуся работой Пастеровского института,— оказался
совершенно неспособным уловить какой бы то ни было свет.
Мистер Уэйс обладал этой способностью гораздо в меньшей
степени, чем Кэйв. И даже у самого Кэйва восприимчивость
сильно менялась, обостряясь в периоды наибольшего утомле-
ния или упадка сил.
Этот свет в хрустале зачаровал Кэйва с самого начала.
И то, что он ни с кем не поделился своим открытием, больше
говорит о его глубоком одиночестве, чем целый том патетиче-
ских описаний. Кэйв жил в атмосфере злобы и вечных приди-
рок, и признание, что какой-нибудь предмет доставляет ему
удовольствие, было связано для него с риском лишиться этого
предмета. Он заметил, что с приближением утра хрусталь те-
ряет свой блеск, и некоторое время ему удавалось наблюдать
это странное явление только по ночам в темном углу лавки.
Тогда он решил воспользоваться куском старого бархата,
который до сих пор служил фоном для коллекции минералов.
Сложив бархат вдвое и накрыв им голову и руки, Кэйв получил
возможность улавливать игру света в хрустальном яйце даже
днем Он боялся, как бы жена не застала его за этим занятием,
и отдавался созерцанию хрусталя только в послеобеденное
время, когда она отдыхала, да и то из осторожности прятался
за прилавком, в самом темном углу. Однажды, поворачивая
яйцо в руках, Кэйв сделал еще одно открытие. В глубине яйца
что-то вспыхнуло, как молния, и исчезло, но Кэйву показалось,
словно на одно мгновение перед ним открылись просторы
какой-то неведомой страны. Повернув яйцо еще раз, Кэйв за-
крыл его от света и вызвал опять то же видение.
Было бы слишком долго и скучно рассказывать обо всех
стадиях этого открытия Кэйва. Достаточно сообщить результат:
рассматриваемый под углом примерно в сто тридцать семь гра-
дусов к световому лучу, хрусталь давал ясную картину обшир-
ной и совершенно необычайной местности. Видение это вовсе
не походило на сон, в нем была реальность, и чем сильнее был
658
свет, тем оно казалось живее и ярче. Картина находилась в
непрестанном движении, то есть некоторые предметы в ней дви-
гались, но медленно и последовательно, как бывает в действи-
тельности, и в полном соответствии с направлением светового
луча и переменой угла зрения. Так бывает, когда смотришь
на что-нибудь сквозь выпуклое стекло: стоит его повернуть —
и все предстает в ином виде.
По словам мистера Уэйса, Кэйв рассказывал очень обстоя-
тельно, и никакого возбуждения, которое обыкновенно наблю-
дается у галлюцинирующих, у него не было заметно. Нужно
сказать, однако, что сколько ни пытался сам Уэйс разглядеть
эту картину в бледном опаловом сиянии хрусталя, это никак
ему не удавалось. Разница в силе впечатлений, получаемых
этими двумя людьми, оказалась очень велика, и, очевидно, то,
что представлялось Кэйву целой картиной, для мистера Уэйса
было лишь туманным пятном.
По описанию Кэйва, пейзаж в хрустальном яйце неизменно
являл собой широкую равнину, на которую он смотрел откуда-
то сверху, словно с башни или мачты. На востоке и на западе
равнину замыкали высокие красноватые скалы, ^напоминавшие
Кэйву какую-то картину; что это была за картина, мистер Уэйс
выяснить не мог. Скалы уходили к северу и к югу (Кэйв опре-
делял направление по звездам, которые были видны ночью)
и, не сомкнувшись, терялись в безграничных туманных далях.
В первый раз Кэйв находился ближе к восточной цепи скал,
над которой всходило солнце. Он увидел множество парящих
призраков и принял их за птиц. Против солнца эти птицы каза-
лись совсем темными, а попадая в тень, ложившуюся от скал,
они светлели. Внизу под собой Кэйв видел длинный ряд зданий.
Он смотрел на них сверху. По мере приближения к темному
краю картины, где лучи света преломлялись, эти здания стано-
вились неясными. Вдоль сверкающего широкого канала тяну-
лись ряды деревьев, необычных по форме и окраске — то
темнозеленой, как мох, то серебристо-серой. Что-то большое и
сверкающее проносилось над скалами и долиной. В первый раз
эти видения открывались Кэйву только на секунды, не больше.
Руки у него дрожали, голова тряслась, и картина то появля-
лась, то снова исчезала в тумане. Ему было очень трудно найти
тот нужный угол зрения, при котором видение возникало вновь.
Второй раз удача пришла к Кэйву только через неделю. Про-
межуток не дал ничего, кроме нескольких мучительных, неясных
проблесков и, пожалуй, некоторого опыта в обращении с яйцом.
Однако теперь равнина открылась перед ним в перспективе. Вид
изменился, но у Кэйва была странная уверенность, неоднократно
подкреплявшаяся дальнейшими наблюдениями, что он все
время смотрит на этот необычайный мир с одного и того же
места, только в разных направлениях. Большое длинное здание,
крышу которого он видел в первый раз под собой, теперь отсту-
42*
пило вдаль. Кэйв узнал его по крыше. Вдоль фасада шла широ-
кая, необычайно длинная терраса; посредине ее, на равном рас-
стоянии одна от другой, высились огромные, но очень стройные
мачты, к верхушкам которых были прикреплены маленькие
блестящие предметы, отражавшие лучи клонившегося к закату
солнца. О назначении этих предметов Кэйв догадался несколько
позднее, когда описывал эту сцену мистеру Уэйсу. Терраса на-
висала над пышной зарослью, а дальше простирался широкий,
поросший травою луг, на котором отдыхали какие-то-существа,
похожие на жуков, но гораздо крупнее. За лугом бежала до-
рога, мощенная розовым камнем, а еще дальше параллельно
отдаленным скалам расстилалась зеркальная водная гладь,
окаймленная по берегам густой красной травой. Большие птицы
величественно парили в воздухе. По ту сторону реки, среди
деревьев, похожих на гигантские мхи и лишайники, высилось
множество великолепных зданий; на солнце отсвечивал поли-
рованный камень и металлическая резьба.
И вдруг перед Кэйвом что-то промелькнуло; это был словно
взмах крыльев или украшенного драгоценными камнями веера.
И тотчас же он увидел чье-то лицо, вернее верхнюю часть лица,
с очень большими глазами. Кэйву показалось, что оно придви-
нулось вплотную к его лицу, что их разделяет только хрусталь.
Взволнованный и пораженный живостью этих глаз, он отпрянул
назад, заглянул за яйцо и с удивлением увидел себя все в той
же холодной, темной лавке, пропитавшейся запахом метила,
плесени и всякого старья. Пока Кэйв озирался по сторонам,
сияние в хрустальном яйце стало меркнуть и скоро совсем
погасло.
Таковы были первые впечатления мистера Кэйва. Весь его
рассказ отличался большой точностью и множеством убедитель-
ных подробностей. Блеснув перед ним в первый раз только на
миг, равнина сразу же поразила его воображение. А по мере
того как он обдумывал виденное, его любопытство перешло в
страсть. Дела в лавке он вел теперь спустя рукава, так как ду-
мал только о том, как бы вернуться к своим наблюдениям. И вот
тогда-то — через несколько недель после первого видения —
Кэйв, как я уже рассказывал, с таким трудом и волнениями
спас от продажи хрустальное яйцо, на которое позарилось двое
покупателей.
До тех пор пока мистер Кэйв держал свое открытие в тайне,
он любовался этой диковинкой украдкой, словно ребенок, загля-
дывающий одним глазком в чужой сад. Но мистер Уэйс,
несмотря на свою молодость наделенный очень ясным и точным
умом, решил приступить к исследованию систематически. Све-
чение хрусталя, которое он наблюдал собственными глазами,
убедило его в правдоподобности некоторых утверждений Кэйва.
Старик, в любую минуту готовый полюбоваться зрелищем чу-
десной страны, просиживал у мистера Уэйса все вечера, с поло-
660
вины девятого до половины одиннадцатого, а иногда забегал и
днем, когда хозяина не было дома. Приходил он и по воскре-
сеньям после обеда. Уэйс с самого начала вел подробную запись
наблюдений, и точность его научного метода помогла установить
связь между направлением светового луча и той точкой, с кото-
рой видение открывалось Кэйву.
Поместив хрустальное яйцо в ящик с небольшим отверстием
для светового луча и заменив светлокоричневые шторы на окнах
своей комнаты плотными черными занавесками, мистер Уэйс
значительно улучшил условия наблюдений, так что вскоре они
получили возможность обозревать равнину из конца в конец.
Теперь мы можем дать краткое описание призрачного мира
внутри хрустального яйца. Метод работы был всегда одинаков:
Кэйв смотрел в хрусталь и рассказывал, что он там видит,
а мистер Уэйс, научившийся писать в темноте еще в студенче-
ские годы, кратко записывал его слова. Когда хрусталь потухал,
его клали на прежнее место и зажигали электричество. Мистер
Уэйс задавал Кэйву вопросы, уточнял некоторые неясности.
Во всем этом не было ровно ничего фантастического, все носило
совершенно деловой характер.
Мистер Уэйс вскоре же направил внимание Кэйва на те
птицеподобные существа, которые каждый раз появлялись
в хрустале. Некоторое время Кэйв считал их чем-то вроде днев-
ных летучих мышей, потом, как это ни странно, стал называть
их херувимами. У них были круглые, почти человеческие головы;
и глаза, которые в свое время так потрясли Кэйва, принадле-
жали одному из этих существ. Их широкие, лишенные оперения
крылья отливали серебром, словно рыба, только что вынутая из
воды. Но, как выяснил мистер Уэйс, они нисколько не походили
на крылья летучих мышей или птиц и держались на изогнутых
ребрах, выступающих веером по обе стороны туловища. Больше
всего в них было сходства с крыльями бабочек. Туловище у этих
существ было небольшое; ниже рта находились два пучка хва-
тательных органов, похожих на длинные щупальцы. Сначала
это казалось мистеру Уэйсу невероятным, но в конце концов он
не мог не убедиться, что именно этим существам принадлежали
величественные здания и прекрасный сад, украшавший равнину.
В дальнейшем Кэйв подметил, что крылатые существа попадали
в свои жилища не через двери, а через большие круглые, легко
открывающиеся окна. Они опускались на свои щупальцы, скла-
дывали крылья, вплотную прижимая их к телу, и прыгали
внутрь. Кроме них, тут было множество других более миниатюр-
ных существ, подобных большим стрекозам, бабочкам и летаю-
щим жукам, были и ползающие жуки — огромные, яркие,—
которые лениво копошились на лугу. На дороге и на террасах
виднелись большеголовые существа, похожие на стрекоз, но
бескрылые; они деловито сновали взад и вперед и прыгали,
опираясь на свои щупальцы.
43 Г. Уэллс, т. 2
661
Мы уже упоминали о блестящих предметах на мачтах, кото-
рые высились перед террасой ближайшего здания. Однажды,
когда видимость была исключительно хорошей, Кэйв внима-
тельно всмотрелся в одну из таких мачт и увидел, что этот бле-
стящий предмет ничем не отличается от его собственного хру-
стального яйца. Вскоре ему удалось рассмотреть, что такие же
хрустальные яйца находились и на остальных двадцати мачтах.
Время от времени одно из больших крылатых существ взле-
тало на какую-нибудь мачту и, обхватив ее щупальцами,
вглядывалось в хрусталь пристально и долго, иной раз минут по
пятнадцати. Целый ряд наблюдений, сделанных по инициативе
мистера Уэйса, убедил их обоих, что хрусталь, в который они
всматриваются, укреплен на верхушке крайней мачты и что в
лицо Кэйву заглянул один из обитателей этого мира.
Вот самое существенное в этой очень странной истории. Если
не считать ее от начала до конца хитроумной выдумкой Кэйва,
придется признать одно из двух: либо его хрусталь существовал
одновременно в обоих мирах и, перемещаясь в одном мире,
оставался неподвижным в другом, что маловероятно, либо
между этими хрустальными яйцами существовала какая-то
связь, и то, что было видно внутри одного хрустального яйца,
при определенных условиях могло открыться наблюдающему
соответствующий хрусталь в другом мире, и наоборот.
Сейчас мы, конечно, не можем объяснить, каким образом два
хрусталя могли быть связаны между собой, но современный
уровень науки уже допускает такую возможность. Предположе-
ние о некоей связи между двумя хрустальными яйцами при-
надлежит мистеру Уэйсу, и, на мой взгляд, оно вполне
вероятно...
Но где же находится этот другой мир? Живой ум мистера
Уэйса ответил и на этот вопрос. После захода солнца небо в
хрустале быстро темнело, сумерки там были очень коротки, по-
являлись звезды, те же звезды, которые мы видим на нашем
небосклоне. Кэйв узнал Большую Медведицу, Плеяды, Альде-
баран и Сириус. Значит, этот мир находится в пределах солнеч-
ной системы и самое большее на расстоянии нескольких сот
миллионов миль от нашего. Продолжая свои исследования,
мистер Уэйс установил, что полночное небо в том мире темнее,
чем наше в зимнюю ночь, а солнечный диск кажется немного
меньше. И в небе сияли две небольшие луны! Они были очень
похожи на нашу луну, но меньшего размера, и одна из них дви-
галась так быстро, что ее движение было заметно глазу. Луны
поднимались невысоко и исчезали вскоре после восхода. Это
объяснялось тем, что каждый их оборот вокруг своей оси сопро-
вождался затмением вследствие близости обеих лун к своей
планете. И хотя мистер Кэйв и не подозревал этого, все это
в точности соответствовало тем астрономическим законам, ка-
кие должны существовать на Марсе.
662
В самом деле, почему не допустить, что, глядя в хрустальное
яйцо, Кэйв действительно видел планету Марс и ее обитателей?
А если так, значит вечерняя звезда, ярко сияющая в небе этого
отдаленного мира, была наша Земля.
Первое время марсиане,— если это на самом деле были
они,— повидимому, не подозревали, что за ними наблюдают.
Иной раз кто-нибудь из них поднимался на мачту, смотрел в
хрустальное яйцо и быстро перелетал к другому, словно не
удовлетворенный открывшимся ему зрелищем. Мистер Кэйв
наблюдал за жизнью этих крылатых существ незаметно для них,
и его впечатления, несмотря на всю отрывочность, были очень
любопытны. Представьте себе, что бы подумал о человеке
марсианин, которому после долгих приготовлений минуты на
четыре, не больше, открылось бы зрелище Лондона с высоты
колокольни святого Мартина!
Кэйв не мог сказать, были ли крылатые марсиане такими же
существами, как те, что прыгали по дороге и террасе, и могли
ли последние обзавестись по желанию крыльями. Несколько
раз на равнине появлялись какие-то неуклюжие двуногие суще-
ства, отдаленно напоминавшие обезьян. Белые и полупрозрач-
ные, они паслись среди похожих на лишайники деревьев, и
однажды за ними погнался прыгающий круглоголовый марсиа-
нин. Он схватил одного из этих двуногих своими щупальцами.
Но тут видение поблекло, и мистер Кэйв остался во мраке, один
со своим неудовлетворенным любопытством. В другой раз
какой-то большой предмет с невероятной быстротой пронесся
по дороге. Мистер Кэйв принял его сначала за гигантское насе-
комое, но потом увидел, что это металлический аппарат чрезвы-
чайно сложной конструкции. Он хотел разглядеть его как сле-
дует и не смог — аппарат исчез из виду.
Мистер Уэйс решил привлечь внимание марсиан, и как
только глаза одного из них вплотную приблизились к хрусталю,
Кэйв крикнул и отскочил, а Уэйс сейчас же зажег свет, и они
стали жестами подавать сигналы. Но когда Кэйв снова посмот-
рел в хрусталь, марсианина там уже не оказалось.
Исследования продолжались до ноября. К этому времени
Кэйв убедился, что подозрения его домашних улеглись, и стал
уносить хрустальное яйцо с собой, пользуясь каждой возмож-
ностью погружаться в видения, составлявшие теперь чуть ли
не единственную реальность его жизни.
В декабре, в связи с приближавшимися экзаменами, мистер
Уэйс был занят больше обычного; наблюдения над яйцом при-
шлось на неделю отложить, и Уэйс в течение десяти или один-
надцати дней не встречался с мистером Кэйвом. Потом ему захо-
телось возобновить эти встречи, благо спешная работа у него
кончилась. Он отправился к Севендайэлсу. Свернув на знако-
мую улицу, он увидел, что у торговца птицами и сапожника окна
закрыты ставнями. Лавка мистера Кэйва была заперта.
43*
663
Уэйс постучался; ему открыл пасынок Кэйва, в трауре. Он
сейчас же позвал мать, и мистер Уэйс не мог не заметить ее
хоть и дешевенького, но чрезвычайно эффектного вдовьего на-
ряда. Мистер Уэйс не очень удивился, узнав, что Кэйв умер и
уже похоронен. Миссис Кэйв проливала слезы, и голос у нее
звучал хрипло. Она только что вернулась с Хайгетского клад-
бища. Все ее мысли были поглощены планами на будущее и
печальной церемонией погребения. Однако мистер Уэйс, хоть и
с трудом, все же узнал подробности смерти старика.
Кэйва нашли мертвым в лавке рано утром. Его окоченевшие
руки сжимали хрустальное яйцо, на губах застыла улыбка, рас-
сказывала миссис Кэйв. Кусок черного бархата лежал на полу
у его ног. Смерть наступила уже пять или шесть часов назад.
Для мистера Уэйса эта был большой удар. Он горько упре-
кал себя за то, что не обратил должного внимания на здоровье
старика. Но его мысли были заняты главным образом хрусталь-
ным яйцом. Зная характер миссис Кэйв, молодой человек ста-
рался подойти к этой теме как можно осторожней. Он был по-
трясен, узнав, что хрусталь уже продан.
Когда покойника перенесли наверх, миссис Кэйв сразу же
вспомнила про чудака пастора, предлагавшего пять фунтов за
хрустальное яйцо, и решила написать ему, что эта вещь на-
шлась. Но усердные поиски, в которых принимала участие и
дочь, ни к чему не привели,— адрес затерялся. У миссис Кэйв
не было средств ни на траур, ни на достойные похороны, кото-
рых заслуживал столь почтенный обитатель Севендайэлса.
Поэтому она прибегла к помощи одного знакомого торговца
с Грейт-Портленд- стрит. Он любезно согласился взять часть ве-
щей Кэйва по собственной расценке. В их числе было и хру-
стальное яйцо. Выразив — правда, несколько торопливо — при-
личное случаю сожаление, мистер Уэйс поспешил на Грейт-
Портленд-стрит. Но там он узнал, что хрустальное яйцо уже
продано и что купил его высокий смуглый человек в сером
костюме. Это все, что мне известно об этой странной, но, на мой
взгляд, чрезвычайно любопытной истории. Торговец с Грейт-
Портленд-стрит не знал, кто был высокий смуглый человек
в сером, и не мог точно описать его мистеру Уэйсу. Он даже не
заметил, в какую сторону этот человек направился, выйдя из
лавки. Мистер Уэйс долго испытывал терпение торговца, изли-
вая в бесконечных расспросах свою досаду. Наконец, поняв,
что затеянное им исследование рухнуло, он вернулся домой и
с недоумением увидел, что его заметки не испарились, как сон,
а попрежнему лежат на неубранном столе.
Легко представить себе горе и разочарование мистера Уэйса.
Он посетил торговца на Грейт-Портленд-стрит еще раз и столь
же безрезультатно, дал объявление в некоторые журналы, кото-
рые могли попасть в руки коллекционеров, написал письма в
«Дейли кроникл» и «Нэйчюр». Однако два последних органа,
664
подозревая мистификацию, просили мистера Уэйса подумать
как следует, прежде чем настаивать на опубликовании своих
писем. Ему дали понять, что эта странная история, лишенная
каких бы то ни было вещественных доказательств, может повре-
дить его репутации ученого. Между тем работа в больнице тре-
бовала, чтобы он безотлагательно занялся ею.
Таким образом, месяца через полтора мистер Уэйс поневоле
отказался от поисков хрустального яйца, если не считать двух-
трех его визитов к некоторым антикварам. Яйцо до сих пор
остается неразысканным. Впрочем, Уэйс признался мне, что
время от времени им овладевают приступы рвения, и он бро-
сает самые неотложные дела, чтобы снова отдаться поискам.
Найдется ли хрустальное яйцо, или оно потеряно навсегда
и мы ничего не узнаем о нем, об этом можно только гадать.
Если теперешний его обладатель — коллекционер, он не мог не
узнать через антикваров о том, что яйцо разыскивается. Уэйс
уже выяснил, что пастор и «восточный человек», с которыми
имел дело мистер Кэйв, были не кто иные, как достопочтенный
Джемс Паркер и молодой яванский принц Боссо-Куни. Им я
обязан некоторыми подробностями этой истории. Настойчивость
принца объяснялась просто любопытством и оригинальни-
чаньем. Ему непременно хотелось купить хрустальное яйцо
только потому, что Кэйв так неохотно с ним расставался.
Вполне вероятно, что во втором случае покупателем был
не коллекционер, а просто случайный прохожий, и, может
быть, хрустальное яйцо находится сейчас на расстоянии
какой-нибудь мили от меня и украшает чью-нибудь гостиную
или даже служит пресс-папье, не обнаруживая своих заме-
чательных свойств. Эта мысль отчасти и побудила меня на-
писать историю хрустального яйца в форме рассказа: так
она легче всего попадет на глаза читателю.
Мое собственное мнение о хрустальном яйце вполне сов-
падает с мнением мистера Уэйса. Я думаю, что между хруста-
лем, укрепленным на вершине мачты на Марсе, и хрусталь-
ным яйцом мистера Кэйва существует какая-то тесная связь,
в настоящее время совершенно необъяснимая. Мы оба пола-
гаем также, что хрусталь мог быть послан с Марса на Землю
(еще в незапамятные времена), с тем чтобы дать марсианам
возможность ближе познакомиться с нашими земными де-
лами. Весьма вероятно, что в нашем мире находятся также
хрустали, соответствующие хрусталям других мачт. Ясно одно:
нцкакой ссылкой на галлюцинации изложенные факты объяс-
нить нельзя.
(Из сборника «Рассказы о времени и пространстве», 1899)
665
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОГ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА
Вряд ли дар этот был прирожденным. Я лично думаю, что
он обрел его внезапно. Во всяком случае, до тридцати лет он
был скептиком и не верил в чудеса. И сейчас, пользуясь удоб-
ным случаем, я позволю себе заметить, что он был маленького
роста, с темнокарими глазами, пышной рыжей шевелюрой,
с усами, которые он закручивал кверху, и весь в веснушках. Его
звали Джорж Мак Уиртер Фодерингэй,— имя, как видите, от-
нюдь не дающее оснований ожидать каких-либо чудес,— и он
служил клерком у Гомшотта. Он питал большое пристрастие
к категорическим суждениям. И именно тогда, когда он кате-
горически отрицал возможность чудес, он впервые узнал, что
сам обладает сверхъестественной силой. Этот примечательный
спор происходил в баре «Длинного дракона», и Тодди Бимиш
оппонировал монотонным, но весьма многозначительным «это
вы так говорите», от чего терпение мистера Фодерингэя вот-вот
готово было лопнуть.
Кроме них, на диспуте присутствовали пропыленный вело-
сипедист, хозяин «Длинного дракона» Кокс и мисс Мэйбридж,
весьма почтенная и довольно-таки пышная буфетчица. Мисс
Мэйбридж стояла спиной к мистеру Фодерингэю и перемы-
вала стаканы; остальные следили за спором, забавляясь тем,
как бессильно в наше время всякое категорическое суждение.
Раззадоренный тактикой, достойной Торрес Ведрас \ которую
применял мистер Бимиш, мистер Фодерингэй решился на не-
обычный риторический взлет.
— Послушайте, мистер Бимиш,— сказал он,— давайте
точно уговоримся, что такое чудо. Так вот, чудо — это нечто
1 Изнуряющая противника партизанская тактика, применявшаяся
испанцами против французов в 1805—1806 годах (в частности, в районе
города Торрес Ведрас).
666
противное законам природы, нечто вызванное огромным напря-
жением воли, без участия которой оно не могло бы произойти.
— Это вы так говорите,— отпарировал мистер Бимиш.
Мистер Фодерингэй обратился за поддержкой к велосипе-
дисту, который до сих пор слушал молча, и получил его одоб-
рение, сопровождавшееся нерешительным покашливанием и
взглядом в сторону мистера Бимиша. Хозяин не высказал ни-
какого мнения, и мистер Фодерингэй, обратившись опять к ми-
стеру Бимишу, был приятно удивлен, услышав, что тот готов
согласиться с его определением чуда.
— Например,— продолжал мистер Фодерингэй, сильно
приободрившись,— вот что можно было бы назвать чудом:
эта лампа, согласно законам природы, ведь не могла бы го-
реть, если перевернуть ее кверху дном, верно, Бимиш?
— Это вы говорите, что не могла бы,— сказал Бимиш.
— А вы? — спросил Фодерингэй.— Уж не хотите ли вы
сказать, что...
— Да,— нехотя ответил Бимиш.— Да, не могла бы.
— Прекрасно,— сказал мистер Фодерингэй.— Так вот,
сюда приходит некто, скажем я, и стоит, скажем, здесь, и, со-
средоточив всю свою волю, говорит лампе, как, скажем, я сей-
час: «Перевернись вверх дном, не разбившись, и продолжай
гореть, как горела», и... Ого!
Было с чего и всем остальным сказать «Ого!» Невозмож-
ное, невероятное совершилось на глазах у всех. Лампа, пере-
вернувшись, повисла в воздухе и продолжала гореть как ни
в чем не бывало, только пламенем книзу. Это была самая что
ни на есть несомненная лампа — прозаическая, заурядная
лампа в баре «Длинного дракона».
Мистер Фодерингэй стоял, сдвинув брови и протянув впе-
ред указательный палец, словно приготовившись услышать
оглушительный звон. Велосипедист, сидевший ближе всех к
лампе, пригнулся и перескочил через стойку. Все вздрогнули
от неожиданности. Мисс Мэйбридж обернулась и завизжала.
Секунды три лампа висела неподвижно. Раздался слабый вопль
душевной боли,— это крикнул мистер Фодерингэй.
— Я не могу больше держать ее,— воскликнул он. Он
качнулся назад, и перевернутая лампа вдруг вспыхнула, уда-
рилась об угол стойки, отскочила в сторону, грохнулась об пол
и погасла.
По счастью, она была с металлическим резервуаром, иначе
пламя охватило бы всю комнату. Первым заговорил мистер
Кокс: его реплика, за вычетом необязательных междометий,
сводилась к тому, что Фодерингэй — дурак. Фодерингэй был
не в силах протестовать даже против такого крепкого заявле-
ния. Он был безмерно поражен происшедшим. Последовав-
шее обсуждение не пролило никакого света на роль, которую
сыграл в этом деле мистер Фодерингэй. Все не только согла-
667
сились с мистером Коксом, но и горячо поддержали его. Они
наперебой обвиняли Фодерингэя в дурацкой выходке и назы-
вали его глупым нарушителем спокойствия и безопасности.
Им овладели смятение и растерянность, он и сам склонен был
согласиться со своими обвинителями и почти не возражал,
когда ему предложили удалиться из бара.
Он отправился домой, пылая как в лихорадке, воротник
его пальто был смят, глаза жгло, уши горели. Он подозри-
тельно оглядывал каждый из десяти уличных фонарей, мимо
которых проходил. И только очутившись в своей маленькой
спальне на Чэрч-роу, он смог припомнить все по порядку и
задать себе вопрос: «Что же собственно случилось?»
Он снял пальто и башмаки и сидел на кровати, сунув руки
в карманы, в двадцатый раз повторяя в свое оправдание:
«Я не хотел, чтобы эта проклятая штуковина переверну-
лась»,— и вдруг его осенило, что именно в тот самый момент,
когда он произносил слова приказания, он непроизвольно поже-
лал, чтобы приказание было исполнено, и когда он увидел
лампу в воздухе, он чувствовал, что от него зависело удержать
ее там, не представляя себе, каким образом это можно
сделать.
Фодерингэй не отличался особенно тонким умом, иначе он
постарался бы себе уяснить, что же собственно означает «не-
произвольное желание», и, анализируя это понятие, затронул
бы весьма туманную проблему о диапазоне сознательных
действий человека. Как бы то ни было, эта идея смутно до-
шла до его сознания. И отсюда, хотя и не следуя каким-либо
ясным логическим путем, он пришел к мысли, что все это сле-
дует проверить на опыте.
Он решительно обратился к свечке и напряг свою волю,
хотя и чувствовал, что поведение его нелепо.
— Поднимись в воздух,— сказал он. В следующее мгно-
вение чувство неуверенности исчезло. Свеча поднялась, ка-
кой-то головокружительный момент висела в воздухе и, когда
мистер Фодерингэй издал возглас изумления, упала на туа-
летный столик, и все погрузилось во мрак, в котором еще долго
светился тлеющий фитиль.
Некоторое время мистер Фодерингэй сидел в темноте, со-
вершенно недвижимый.
— Итак, это произошло,— сказал он наконец.— А как мне
это объяснить, я не знаю.— Он тяжело вздохнул и стал ша-
рить в карманах, разыскивая спичку. Не найдя ни одной, он
поднялся и поискал на столике.
— Где бы мне достать спичку? — сказал он. Он порылся
в пальто, но и там ни одной не оказалось, и тут у него роди-
лась мысль, что чудеса возможны и со спичками. Он поднял
руку и грозно уставился на нее в темноте.
— Пусть в руке окажется спичка,— произнес он и тут же
668
почувствовал, что какой-то легкий предмет упал ему на ла-
донь: пальцы его сжали спичку.
После нескольких неудачных попыток зажечь ее он обна-
ружил, что это безопасная спичка, а коробки у него нет. Он
бросил ее, но тут ему пришло в голову пожелать, чтоб она
зажглась. Он так и сделал — и увидел ее зажженной, она ле-
жала на туалетном столике. Он быстро схватил ее, но она по-
гасла. Новые возможности приходили ему в голову, и, найдя
ощупью свечу, он вставил ее обратно в подсвечник.
— А теперь загорись,— сказал он. Свеча вспыхнула яр-
ким пламенем, и он увидел небольшую черную дырочку в сал-
фетке на туалетном столике и струйку поднимавшегося от нее
дыма. Некоторое время он смотрел то на нее, то на маленькое
пламя, а потом поднял голову и встретил свой пристальный
взгляд в зеркале. Не отводя глаз, он некоторое время мыс-
ленно беседовал сам с собой.
— Ну, что ты теперь думаешь о чудесах? — сказал он,
наконец, своему отражению.
Последующие размышления мистера Фодернигэя были глу-
бокими, но весьма туманными. Насколько он понимал, его
случай был чисто волевого порядка. Обжегшись на первом
опыте, он не был расположен продолжать свои эксперименты,
разве что самые безобидные. Все же он заставил взлететь лист
бумаги и окрасил воду в стакане сначала в розовый, потом в зе-
леный цвет. Он создал улитку, которую тут же чудодейственно
уничтожил и чудодейственным путем достал себе новую зуб-
ную щетку. После полуночи он пришел к заключению, что
воля у него какая-то необыкновенная, на редкость сильная,—
факт, о котором он, конечно, догадывался и раньше, но только
смутно. Испуг и замешательство, овладевшие им, когда его
дар впервые обнаружился, теперь умеряло горделивое созна-
ние, что он обладает исключительным даром, и неясное пред-
чувствие таившейся в этом выгоды. Он услышал, как башен-
ные часы пробили час, и так как ему не пришло в голову, что
он может отделаться от своих повседневных обязанностей у
Гомшотта чудодейственным путем, он решил раздеться и без
дальнейших проволочек лечь в постель. Когда он стаскивал
через голову сорочку, его осенила блестящая идея.
— Пусть я окажусь в постели,— сказал он, и желание его
немедленно исполнилось.— Раздетый,— присовокупил он и,
обнаружив, что простыни холодные, быстро добавил: — Ив
своей ночной сорочке... нет, в прекрасной мягкой шерстяной
сорочке. Вот так,— сказал он с огромным удовлетворением.—
А теперь пусть я спокойно усну...
Он проснулся в обычное время и за завтраком пребывал в
глубокой задумчивости; его мучил вопрос: а что, если проис-
шествие минувшей ночи — всего лишь яркий сон? Наконец,
он снова начал думать о безобидных опытах. Так, например,
669
он получил к завтраку три яйца — два доброкачествен-
ных, но обыкновенных, которые подала ему квартирная хо-
зяйка, и одно восхитительно свежее гусиное яйцо, снесенное,
сваренное и поданное его чудодейственной силой. Он поспе-
шил к Гомшотту, охваченный глубоким, но тщательно скры-
ваемым возбуждением, и вспомнил о скорлупе третьего яйца
только вечером, когда о нем заговорила квартирная хозяйка.
Мысль об удивительно новой способности, которую он открыл
в себе, весь день не давала ему работать, но это не доставило
ему никаких неприятностей, ибо он с помощью чуда успел
все подогнать за последние десять минут.
По мере того как проходил день, его изумление сменялось
подъемом, хотя ему все еще неприятно было вспоминать, при
каких обстоятельствах он был изгнан из «Длинного дракона»,
а рассказ об этом происшествии, дошедший до его сослуживцев
в искаженном виде, дал им повод для добродушных насмешек.
Конечно, он должен быть осмотрителен, когда поднимает в
воздух бьющиеся предметы, но во всем остальном его дар, по
мере того как Фодерингэй обдумывал его, сулил ему все боль-
шие и большие возможности. Помимо всего прочего, он решил
исподволь увеличить свое личное состояние. Он вызвал к су-
ществованию пару великолепных бриллиантовых запонок, но
тут же уничтожил их, увидев, что к его конторке приближается
младший Гомшотт. Он опасался, как бы Гомшотт не спросил,
откуда у него эти запонки. Теперь ему стало совершенно ясно,
что необходимо чрезвычайно осторожно обращаться с этим
даром, но ему представлялось, что для овладения этим искус-
ством придется преодолеть не больше трудностей, чем он пре-
одолел, обучаясь ездить на велосипеде. Должно быть, именно
эта аналогия, а также сознание, что в баре «Длинного дра-
кона» его едва ли ожидает радушный прием, погнали его после
обеда в переулок за газовым заводом, где он решил прорепе-
тировать несколько чудес в одиночестве.
Весьма вероятно, что его попыткам недоставало оригиналь-
ности, ибо если не считать силы желания, мистер Фодерингэй
был человеком ничем не примечательным. Ему пришли на ум
чудеса с жезлом Моисея, но ночь была темная, и ему было бы
трудно уследить за огромными волшебными змеями. Потом
он вспомнил историю «Тангейзера», которую как-то прочи-
тал на обороте программы филармонии. Это показалось
ему необычайно привлекательным и вполне безобидным. Он
воткнул свою трость — изящную вещицу из индийского паль-
мового дерева — в дерн, окаймлявший тротуар, и приказал
сухому дереву зацвести. Воздух тотчас же наполнился запахом
роз, и при помощи спички Фодерингэй воочию убедился, что
прекрасное чудо свершилось. Опасаясь, как бы его сила не
была обнаружена преждевременно, он поспешно крикнул цве-
тущей трости: «Назад!» Он, конечно, имел в виду — «йазад,
670
в прежнее состояние», но, как видите, растерялся. Палка стре-
мительно сорвалась с места, и тотчас же раздался гневный
окрик и брань.
— Как вы смеете кидаться палками, болван вы этакий! —
раздался голос.— Вы угодили мне в ногу.
— Прошу прощения, дружище,— пробормотал Фодерингэй
и затем, осознав всю нелепость своего поведения, нервно схва-
тился за ус. Он увидел перед собой Уинча, одного из трех им-
мерингских констеблей.
— Что вы тут делаете? — спросил констебль.— А! Это
вы? Джентльмен, который разбил лампу в «Длинном дра-
коне»!
— Я ничего не делаю,— отвечал мистер Фодерингэй.—
Решительно ничего.
— Зачем вы в таком случае швырнули палку?
— Да бросьте вы,— сказал Фодерингэй.
— Еще чего! Вы что, не знали, что палка ударит? Зачем
же вы это сделали?
В ту минуту мистер Фодерингэй никак не мог придумать,
зачем он это сделал. Его молчание, повидимому, разозлило
мистера Уинча.
— Вы изволили нанести оскорбление полиции, вот что вы
сделали, молодой человек.
— Что вы, мистер Уинч,— сказал Фодерингэй, обескура-
женный и смущенный.— Я чрезвычайно сожалею. Дело, ви-
дите ли, в том...
- Ну?
Ничего другого, кроме правды, не пришло ему в голову.
— Я совершал чудо.— Он старался говорить беспечным
тоном, но это ему не удалось.
— Совершали ч... Не мелите вздора! Совершал чудо, вот
это да! Нет, это просто забавно. Вы, вы, человек, который не
верит в чудеса... Опять один из ваших дурацких фокусов —
вот что это такое. Так я вам скажу...
Мистер Фодерингэй так и не услышал того, что хотел ска-
зать ему Уинч. Он понял, что выдал себя, бросил свой драго-
ценный секрет на ветер. Не помня себя от негодования, он
стремительно повернулся к констеблю.
— Так вот,— сказал он.— Хватит с меня! Да! Я покажу
вам дурацкие фокусы, покажу. Провалитесь вы в преиспод-
нюю! Немедленно!
Он оказался один.
В эту ночь мистер Фодерингэй не творил больше чудес и
не пытался узнать, что сталось с его цветущей тростью. Он вер-
нулся в город перепуганный и смиренный и прямо направился
домой.
— Господи,— сказал он,— это очень могущественный дар,
необычайно могущественный. У меня и в мыслях не было
671
заходить так далеко, право же... Хотел бы я знать, как выгля-
дит преисподняя!
Он сидел на кровати, стаскивая башмаки. Осененный счаст-
ливой идеей, он переместил констебля в Сан-Франциско, по-
том, не нарушая больше естественного хода вещей и несколько
успокоившись, лег спать. Ему приснился разгневанный
Уинч.
На следующий день мистер Фодерингэй услышал две инте-
ресных новости. Кто-то посадил изумительный куст вьющихся
роз перед особняком старшего мистера Гомшотта на Лалла-
боро-род, и в реке, до самой мельницы Раулинга, разыски-
вали тело констебля Уинча.
Весь день мистер Фодерингэй был рассеян и задумчив и
не совершил никаких чудес, кроме некоторых распоряжений
насчет Уинча и чудодейственного выполнения своей повседнев-
ной работы с отменной аккуратностью, несмотря на рой
мыслей, гудевших у него в голове. Большую часть времени он
думал об Уинче. Его отсутствующий вид и кроткое поведение
были многими замечены и стали предметом толков.
В воскресенье вечером он отправился в церковь, и, по
странному стечению обстоятельств, мистер Мэйдиг, проявляв-
ший некоторый интерес к оккультным наукам, именно в этот
день читал проповедь «о том, чего не должно делать». Мистер
Фодерингэй не принадлежал к числу ревностных посетителей
церкви, но сейчас его категорический скептицизм, скептицизм,
о котором мы уже упоминали, был значительно поколеб-
лен. Проповедь пролила совершенно новый свет на его необы-
чайный дар, и он внезапно решил сразу же после богослуже-
ния посоветоваться с мистером Мэйдигом. Приняв такое реше-
ние, Фодерингэй даже удивился, как это он не подумал об
этом раньше.
Мистер Мэйдиг, тощий, нервный мужчина с удивительно
длинными руками и шеей, был явно польщен, что с ним хочет
поговорить наедине молодой человек, пренебрежение которого
к вопросам религии давно уже давало повод к пересудам. По-
кончив с необходимыми делами, он повел мистера Фодерингэя
в свой домик, стоявший рядом с церковью, он удобно усадил
его у себя в кабинете и, стоя перед веселым огоньком камина,—
он отбрасывал на противоположную стену тень, напоминав-
шую своими очертаниями Родосский колосс,— попросил ми-
стера Фодерингэя изложить свое дело.
Сначала мистер Фодерингэй немного смущался й не знал,
как приступить к рассказу. «Вы, пожалуй, не поверите, ми-
стер Мэйдиг, боюсь, что...» и прочее в этом духе. Наконец, он
решил, что лучше начать с вопроса, и спросил мнение мистера
Мэйдига о чудесах.
Мистер Мэйдиг все еще тянул «м-да» весьма бесстрастным
тоном, когда мистер Фодерингэй перебил его;
672
— Вы ведь не верите, что самый обыкновенный человек —
вроде меня — может вот так, сидя здесь, вызывать те или иные
явления силой своей воли?
— Что ж, это можно допустить,— промямлил мистер Мэй-
диг.— Нечто в этом роде, пожалуй, можно допустить.
— Если вы разрешите воспользоваться каким-нибудь пред-
метом, я, пожалуй, мог бы показать вам это на деле,— сказал
мистер Фодерингэй.— Возьмем, к примеру, вот эту банку с та-
баком. Меня интересует, можно ли считать чудом то, что я
собираюсь сейчас проделать. Одну минуточку, мистер Мэйдиг,
будьте любезны.
Он нахмурил лоб и, указывая на банку с табаком, сказал:
— Стань вазой с фиалками.
Банка сделала то, что ей было приказано.
Мистер Мэйдиг вздрогнул от неожиданности и застыл, пе-
реводя взгляд с чудотворца на вазу с цветами. Он не проро-
нил ни звука. Наконец, он рискнул наклониться над столом
и понюхать фиалки: они были очень красивы, будто только
что сорваны. Потом он снова уставился на мистера Фоде-
рингэя.
— Как вы это сделали? — спросил он.
Мистер Фодерингэй теребил ус.
— Только лишь сказал — и вот извольте. Что это, по-ва-
шему, чудо, или черная магия, или еще что-нибудь? И как,
по-вашему, обстоит дело со мной? Вот об этом-то я и хотел
вас спросить.
— Это совершенно необычайное явление.
— А неделю назад я, так же как и вы, понятия не имел,
что могу совершать такие вещи. Это пришло совсем внезапно.
Что-то странное стряслось, должно быть, с моей волей, так по
крайней мере я себе это представляю.
— А что, это... всё? Или вы можете совершить еще что-
нибудь?
— О, конечно! — сказал мистер Фодерингэй.— Все что
угодно.— Он задумался, а потом вдруг вспомнил фокусника,
которого когда-то ходил смотреть.
— Так вот! — Он протянул руку к вазе с фиалками.—
Превратись в вазу с рыбками... Нет, не так. Превратись в
стеклянную вазу, полную воды, и чтобы в ней плавали золотые
рыбки. Вот так. Ну что, видите вы это, мистер Мэйдиг?
— Это поразительно. Это невероятно. Вы или самый исклю-
чительный... Но нет...
— Я мог бы превратить это во все что угодно,— сказал
мистер Фодерингэй.— Решительно во все. Вот! Будь голубем,
слышишь!
Через мгновение сизый голубь кружился по комнате, и вся-
кий раз, когда он пролетал близко, мистер Мэйдиг отверты-
вался.
673
— Остановись здесь, слышишь! — сказал Фодерингэй,
и голубь неподвижно повис в воздухе.— Я мог бы снова пре-
вратить его в вазу с цветами,— заявил мистер Фодерингэй и,
приказав голубю спуститься на стол, совершил и это чудо.—
Вероятно, вам хочется набить трубку,— продолжал он и вос-
становил банку с табаком.
Мистер Мэйдиг следил за этими перевоплощениями без-
молвно, лишь изредка у него вырывалось изумленное воскли-
цание. Он взглянул на мистера Фодерингэя, с необычайными
предосторожностями приподнял банку с табаком, исследовал
ее и снова поставил на стол. Недоуменное «м-да» было един-
ственным выражением его чувств.
— Теперь после всего этого мне легче будет объяснить, за-
чем я к вам пришел,— сказал мистер Фодерингэй и приступил
к пространному и сбивчивому рассказу о своих необычайных
переживаниях, начав со случая с лампой в «Длинном драконе»
и то и дело бестолково намекая на Уинча. По мере того как
он рассказывал, сознание своей исключительности, вызванное
изумлением мистера Мэйдига, проходило: он снова стал самым
заурядным, повседневным Фодерингэем. Мистер Мэйдиг на-
пряженно слушал, не выпуская банку с табаком из рук, и с
развитием повествования изменялось выражение его лица.
Когда мистер Фодерингэй стал рассказывать о чуде с третьим
яйцом, священник перебил его, взмахнув протянутой рукой.
— Это возможно,— сказал он.— Это вполне вероятно. Это,
конечно, поразительно, но в то же время бросает свет на са-
мые загадочные явления. Власть совершать чудеса — это дар,
совершенно особое свойство, подобное гениальности или ясно-
видению, поскольку оно наблюдается чрезвычайно редко и у
людей необыкновенных. Но в данном случае... Меня всегда
повергали в изумление чудеса Магомета и чудеса йогов или
чудеса мадам Блаватской. Но, конечно... Да, это просто дар.
Это так блестяще подтверждает выводы нашего великого
мыслителя,— мистер Мэйдиг понизил голос,— его светлости
герцога Аргильского. Здесь мы наталкиваемся на какой-то
сокровенный закон, более глубокий, чем естественные законы
природы. Да... Да! Продолжайте! Прошу вас.
Мистер Фодерингэй приступил к рассказу о своей неприят-
ности с Уинчем, а Мэйдиг, уже оправившийся от испуга, стал
размахивать руками и издавать возгласы удивления.
— Вот это и беспокоит меня больше всего,— говорил ми-
стер Фодерингэй.— Тут я особенно нуждаюсь в совете. Уинч,
конечно, в Сан-Франциско, где бы там ни был этот самый
Сан-Франциско, но, конечно, это чрезвычайно досадно для нас
обоих, как вы сами убедитесь, мистер Мэйдиг. Разве он мо-
жет понять, что произошло? И уж наверно, он до крайности
перепуган и обозлен и пытается добраться до меня. И, на-
верно, он уже не раз пускался в путь. Я, конечно, чуть не каж-
674
дый час посылаю его обратно с помощью чуда, если только
не забываю. Но, конечно, он этого никак не может понять,
и это наверняка выводит его из себя; и, конечно, если он каж-
дый раз берет билет, это влетит ему в большую сумму. Я сде-
лал для него все, что только мог, но, конечно, ему трудно бу-
дет войти в мое положение. Потом я подумал, что его одежда,
должно быть, вся обгорела, прежде чем я вызволил его
оттуда,— если преисподняя такова, какой мы ее себе пред-
ставляем. Если так, его должны держать под замком там,
в этом Сан-Франциско. Конечно, как только я подумал об
этом, я пожелал, чтобы на нем оказался новый костюм. Но вы
сами понимаете, что я чертовски запутался...
Мистер Мэйдиг смотрел на него с озабоченным видом.
— Да, вы, я вижу, действительно запутались. Да, положе-
ние сложное. Как вы из него выйдете...— Он в нерешитель-
ности задумался.— Однако оставим на время Уинча и обсу-
дим вопрос по существу. Не думаю, что мы имеем здесь дело
с черной магией или с чем-нибудь в этом роде. Не думаю так-
же, что во всем этом можно усмотреть что-либо преступное,
мистер Фодерингэй. Безусловно нет, разве что вы умалчиваете
о каких-нибудь важных обстоятельствах. Да, это чудеса, не-
сомненные чудеса — чудеса высшего порядка, если можно так
выразиться.
Он принялся расхаживать по комнате, возбужденно жести-
кулируя, а мистер Фодерингэй, с весьма озабоченным видом,
сидел, положив руки на стол и склонив на них голову.
— Вы обладаете таким удивительным даром,— продолжал
мистер Мэйдиг,— что вам нетрудно будет уладить дело с Уин-
чем, можете не беспокоиться об этом... Мой дорогой друг, вы
являетесь исключительно могущественным человеком, челове-
ком поразительных возможностей. Вот, например, в суде,
если нужны вещественные доказательства... Да и вообще, чего
только вы не можете совершить...
— Я и сам кое-что придумал,— сказал мистер Фодерин-
гэй.— Но... не все получается так, как хочется. Вы ведь ви-
дели эту рыбу сначала? Совсем не та ваза и не та рыба. И я
решил, что мне надо посоветоваться с кем-нибудь.
— Правильное решение,— сказал мистер Мэйдиг,— совер-
шенно правильное решение, абсолютно правильное.— Он заду-
мался и взглянул на мистера Фодерингэя.— Ведь вы, по су-
ществу говоря, всемогущи. А ну-ка, давайте испробуем вашу
силу. Интересно знать, такова ли она... Такова ли она, как
можно думать.
И вот,— хоть это и покажется невероятным,— в кабинете
небольшого домика позади протестантской церкви, в воскре-
сенье вечером, 10 ноября 1896 года, мистер Фодерингэй, вдох-
новленный и подстрекаемый мистером Мэйдигом, начал тво-
рить чудеса. Обращаем особое внимание читателя на дату
675
Он, конечно, заявит и, быть может, уже заявил, что некоторые
моменты этого рассказа не выдерживают критики, что если
бы нечто подобное произошло на самом деле, об этом было
бы тогда же напечатано во всех газетах. Особенно маловероят-
ными покажутся факты, о которых сейчас будет речь, ибо,
помимо всего прочего, из них вытекает, что предполагаемый
читатель или читательница погибли при самых трагических и
невообразимых обстоятельствах больше года назад. Но, по-
скольку чудо не чудо, если оно правдоподобно, условимся,
что читатель действительно погиб при самых трагических и
невообразимых обстоятельствах в 1896 году. Из дальнейшего
рассказа это станет совершенно очевидно и вполне понятно
для всякого разумного и здравомыслящего читателя. Однако
сейчас еще не время заканчивать рассказ, ибо мы не дошли
еще и до половины.
Итак, сперва чудеса, сотворенные мистером Фодерингэем,
были скромными, пустяковыми чудесами — всякие фокусы с
чайными чашками и прочими предметами домашнего обихода,
слабенькие, как чудеса теософов; однако при всей их незна-
чительности ассистент мистера Фодерингэя воспринимал их
с благоговением. Правда, Фодерингэй предпочел бы сперва по-
кончить с делом Уинча, но мистер Мэйдиг ’ удерживал его от
этого. Но после того как они свершили с десяток таких мел-
ких, так сказать, семейных чудес, созрело сознание собствен-
ной силы, воображение стало разыгрываться, и пробудилось
честолюбие. Их первое более солидное предприятие было вы-
звано чувством голода и нерадивости миссис Минчин, эко-
номки мистера Мэйдига. Ужин, на который священник при-
гласил мистера Фодерингэя, конечно был довольно скуден и
мало привлекателен для двух рьяных чудотворцев. Все же они
уселись за стол, и мистер Мэйдиг распространялся скорее с
грустью, чем гневно, о недостатках своей экономки, когда
мистеру Фодерингэю вдруг блеснула новая возможность.
— Как вы думаете, мистер Мэйдиг,— сказал он,— не бу-
дет ли это с моей стороны вольностью, если я...
— Дорогой мистер Фодерингэй! Конечно! Ничуть...
Мистер Фодерингэй взмахнул рукой.
— Так что же мы выберем? — спросил он тоном радуш-
ного хозяина и любезно помог мистеру Мэйдигу составить
меню.— Что касается меня,— сказал он, когда заказанные
блюда появились на столе,— мне всегда доставляет особое
удовольствие кружка крепкого портера и гренки с сыром, это
я себе и закажу. Я не слишком большой любитель бургон-
ского.— И тотчас же по его приказанию на столе появился
крепкий портер и гренки с сыром.
Они долго сидели за столом, беседуя, как равные (мистер
Фодерингэй отметил это с удивлением и гордостью), о тех но-
вых чудесах, которые им предстояло совершить.
676
— Между прочим, мистер Мэйдиг,— сказал мистер Фоде-
рингэй,— я, пожалуй, мог бы помочь вам... в ваших домаш-
них делах.
— Что вы имеете в виду? — спросил мистер Мэйдиг, на-
ливая себе в стакан сотворенное чудом старое бургонское.
Мистер Фодерингэй достал себе ниоткуда еще порцию кро-
лика и набил полон рот.
— Я полагаю,— сказал он,— что сумел бы (чам, чам) со-
вершить чудо с миссис Минчин (чам, чам)—заставить ее
исправиться.
Мистер Мэйдиг поставил стакан и с сомнением посмотрел
на своего собеседника.
— Она... она, знаете ли, не любит, когда вмешиваются в
ее дела, мистер Фодерингэй. И... помимо всего прочего, сейчас
двенадцатый час и она уже в постели и, наверно, уснула. Не
кажется ли вам, что...
Мистер Фодерингэй взвесил эти доводы.
— А почему бы это не сделать, пока она спит?
Сперва мистер Мэйдиг возражал против такой идеи, но
под конец уступил. Мистер Фодерингэй сделал свои распоря-
жения, и джентльмены снова занялись ужином, хотя чувство-
вали себя, пожалуй, не совсем в своей тарелке. Мистер Мэй-
диг говорил, что он надеется на следующее утро обнаружить
целый ряд перемен в характере своей экономки, но оптимизм
пастора показался мистеру Фодерингэю, даже в состоянии
благодушной умиротворенности, в каком он пребывал, не-
сколько наигранным и вялым. Внезапно наверху раздался
какой-то непонятный шум. Они обменялись недоуменным
взглядом, и мистер Мэйдиг поспешно вышел из комнаты. Ми-
стер Фодерингэй услышал, как он окликнул экономку и, мягко
ступая, направился к ней наверх.
Через несколько минут священник вернулся, лицо его так
и сияло.
— Поразительно! — восклицал он.— И до чего трога-
тельно! Необычайно трогательно! — Он принялся расхаживать
по комнате.— Покаяние, необычайно трогательное покаяние,—
видел сквозь щелку в двери. Бедняжка! Поразительное пре-
вращение. Она проснулась. Она, должно быть, тотчас же про-
снулась. Она встала с постели и поспешила разбить бутылку
брэнди, которую припрятала у себя в сундуке. И покаялась
в этом!.. Но какие перспективы это нам открывает! Если мы
могли вызвать в ней такую чудесную перемену...
— Да, возможности прямо-таки безграничные,— согла-
сился мистер Фодерингэй.— Взять хотя бы Уинча...
— Совершенно безграничные.— И, стоя на коврике перед
камином, отбросив в сторону затруднение с Уинчем, мистер
Мэйдиг развернул ряд замечательных проектов, которые ему
тут же приходили в голову.
44 г. Уэллс, т. 2
677
Но мы не будем распространяться об этих проектах. До-
статочно сказать, что они были созданы мистером Мэйдигом
в состоянии полной умиротворенности, той умиротворенности,
какую обычно называют послеобеденной. Следует добавить,
что проблема Уинча так и осталась неразрешенной. Нас не
интересует, в какой мере эти проекты были осуществлены. На-
чались удивительные преобразования. В ту же ночь мистер
Мэйдиг и мистер Фодерингэй метались по холодной рыночной
площади, залитой мягким сиянием луны, в каком-то экстазе
чудотворения: мистер Мэйдиг — в бурном движении, весь
порыв, а мистер Фодерингэй — короъ чький, взъерошенный и
уже больше не подавленный своим величием. Они переродили
всех пьяниц Парламентского района, превратили все пиво и
алкоголь в воду (в этом вопросе мистеру Мэйдигу удалось пе-
респорить мистера Фодерингэя); затем они значительно улуч-
шили железнодорожное сообщение в своем округе, осушили
болото Флиндера, улучшили почву на холме Одинокого Дерева
и излечили викария от бородавки. И уже подумывали о том,
как бы отремонтировать поврежденную сваю Южного моста.
— Наш город,— говорил, захлебываясь, мистер Мэйдиг,—
станет завтра неузнаваемым. Как же будут все изумлены и как
они будут благодарны! — И тут церковные часы пробили три.
— Слышите,— проговорил мистер Фодерингэй,— три часа!
Мне пора домой. К восьми нужно быть в конторе. Да и миссис
Уимс...
— Да ведь мы еще только начинаем,— сказал мистер Мэй-
диг, упиваясь сладостью безграничного могущества.— Мы ведь
только еще начинаем. Подумайте о том, какое благо мы тво-
рим. Когда люди проснутся...
— Но...— начал было мистер Фодерингэй.
Вдруг мистер Мэйдиг схватил его за руку. В глазах его
вспыхнул огонь безумия.
— Мой дорогой друг,—сказал он.— Куда нам торопиться.
Взгляните,— он показал на луну, стоявшую высоко в небе,—
Иисус Навин! 1
— Иисус Навин? — переспросил мистер Фодерингэй.
— Иисус Навин,— повторил мистер Мэйдиг.— Почему бы
это не сделать? Остановите ее.
Мистер Фодерингэй взглянул на луну.
— Не будет ли это уж слишком? — сказал он после неко-
торого молчания.
— Почему? — возразил мистер Мэйдиг.— Она-то, конечно,
не остановится. Вы просто остановите вращение Земли. Время
остановится. Никакой беды в этом не будет.
1 По библейской легенде, во время битвы израильтян против аммо-
реян Иисус Навин остановил движение солнца, чтобы дать израильтянам
время выиграть битву.
675
— Гм! — произнес мистер Фодерингэй.— Что ж.— Он
вздохнул.— Я попытаюсь. Вот...
Он застегнул пиджак на все пуговицы и, стараясь гово-
рить уверенным тоном, обратился к земному шару или насе-
ленной людьми планете.
— Перестань-ка вращаться, слышишь! — сказал мистер
Фодерингэй.
В следующий миг он летел вверх тормашками по воздуху со
скоростью нескольких десятков миль в минуту. Но, невзирая
на то, что каждую секунду он делал несчетное число оборотов,
мысль его продолжала работать; поистине человеческая мысль
достойна удивления — порой она течет медленно, как смола, по-
рой несется с быстротою света. В одну секунду он подумал и
пожелал: «Пусть я спущусь вниз здрав и невредим. Что бы ни
случилось, пусть я окажусь внизу, здравый и невредимый».
Он пожелал это как раз во-время, потому что его одежда,
разогретая быстрым полетом по воздуху, уже затлелась. Его
сбросило резким, но вполне безопасным толчком на что-то
мягкое, оказавшееся кучей свежевскопанной земли. Огромная
масса металла и кирпичной кладки, удивительно напоминав-
шая колокольню на рыночной площади, рухнула невдалеке на
землю, осыпав его сором и грязью, казалось взорвалась ги-
гантская бомба — во все стороны брызнули обломки стен, кир-
пич и щебень. Летящая корова с размаху ударилась об один
из больших обломков и расплющилась в лепешку. Раздался
грохот, в сравнении с которым даже самый оглушительный
шум, слышанный им раньше, показался бы шелестом падаю-
щего снега; за этим взрывом последовал, постепенно затихая,
ряд сотрясений меньшей силы. Страшный вихрь бушевал
между небом и землей, не давая мистеру Фодерингэю припод-
нять голову. Некоторое время он был настолько ошеломлен и
подавлен, что не мог осознать, где он и что собственно про-
изошло. И первым делом он схватился за голову, чтобы удо-
стовериться, что его развевающиеся по ветру волосы все еще
на месте.
—- Господи! — простонал мистер Фодерингэй, с трудом ше-
веля губами на пронзительном ветру.— Ведь я был на воло-
сок от гибели. Что-то здесь вышло неправильно! Гром и буря.
А только что была прекрасная ночь. Это все выдумки Мэй-
дига. Ну и ветер! Надо прекратить эти глупости, а то не ми-
новать мне беды!.. Где же Мэйдиг?.. Что за проклятая нераз-
бериха вокруг?
Он осмотрелся, насколько позволяли развевающиеся полы
пиджака. Действительно, все выглядело необычайно странно.
— Небо-то в порядке во всяком случае,— сказал мистер
Фодерингэй.— Но только одно небо. Да и там вроде как на-
чинается буря. И вон луна над головой. Такая же, как и
раньше. И светло, как днем. А вот остальное... Где же город?
44* 679
Где... где все? И откуда взялся этот ветер? Я ведь йе прика-
зывал дуть ветру.
Мистер Фодерингэй тщетно старался встать на ноги и после
нескольких неудачных попыток остался стоять на четвереньках.
Он оглядывал залитый лунным светом мир с подветренной
стороны, и фалды его пиджака развевались у него над головой.
— Значит, что-то здорово не в порядке,— произнес мистер
Фодерингэй.— А в чем тут дело — один бог знает.
Куда ни глянь, сквозь завесу пыли, которую гнал бушую-
щий ураган, в призрачном мерцании ничего не было видно —
только навороченные глыбы земли да груды беспорядочных
развалин; ни деревьев, ни домов, никаких знакомых очерта-
ний — дикий хйос, на который уже наползал мрак, пронизан-
ный бешеными смерчами и вихрями, вспышками молний и
раскатами быстро надвигающейся бури. Невдалеке, в мерт-
венном свете, виднелось нечто, что раньше, возможно, было
вязом,— остатки вдребезги расщепленного ствола и ветвей,
а дальше из громоздящихся руин вырастали искореженные
железные балки — несомненно, бывший виадук.
Дело в том, что, когда мистер Фодерингэй остановил вра-
щение земного шара, он не сделал никаких оговорок относи-
тельно всей той мелочи, что находится на его поверхности.
Земля же вращается с такой быстротой, что каждая точка ее
поверхности у экватора делает более тысячи миль в час, а в
наших* широтах — пятьсот с лишним миль. Таким образом, го-
род, и мистер Мэйдиг, и мистер Фодерингэй, и все и вся стре-
мительно понеслось вперед со скоростью около девяти миль в
минуту, то есть несравненно быстрее снаряда, вылетающего
из пушки. И все люди, все живые существа, все дома и де-
ревья, весь знакомый нам мир — все понеслось с такой же
невероятной быстротой и было разбито вдребезги и до основа-
ния уничтожено. Вот и все.
Мистер Фодерингэй, конечно, не отдавал себе ясного отчета
во всех этих обстоятельствах. Но он чувствовал, что его чудо
не удалось, и его охватило глубокое отвращение к чудесам.
Теперь он очутился в полном мраке,— облака сомкнулись и
погасили мелькнувшую на минуту луну, а ветер, дувший рез-
кими порывами, яростно кружил в воздухе град и хлопья
снега. Небо и земля сотрясались от рева воды и ветра, и, за-
слонившись рукой, Фодерингэй сквозь пыль и мокрый снег
увидел при вспышке молнии надвигавшуюся на него громад-
ную стену воды.
— Мэйдиг! — еле слышно прохрипел сквозь рев стихий
мистер Фодерингэй.— Мэйдиг! Сюда!
— Остановись! — крикнул мистер Фодерингэй прибли-
жающейся воде.— Ради бога, остановись!
— Одну минуточку,— сказал мистер Фодерингэй молнии
и грому,— Подождите одну минуточку, пока я соберусь с
680
мыслями... Что мне теперь делать? — недоумевал он.— Что
мне делать! Господи! Как бы я хотел, чтобы здесь был
Мэйдиг.
— Придумал! — воскликнул мистер Фодерингэй.— И бога
ради, пусть хоть теперь это получится правильно.
Он оставался на четвереньках, пригибаясь от ветра,
страстно желая, чтобы все обошлось без ошибок.
— Ага!—сказал он.— Пусть ни одно из моих приказаний
не будет исполнено, пока я не скажу: «Можно!..» Господи!
Как это я не подумал об этом раньше!
Своим слабым голосом он старался перекричать ураган,
кричал все громче и громче в тщетном желании услышать
себя.
— Ну, так вот! Помни о том, что я только что сказал.
Прежде всего, когда все, что я сейчас скажу, будет выпол-
нено, пусть я лишусь своей чудодейственной силы, пусть моя
воля станет такой, как у всех людей, и прекратятся все эти
опасные чудеса. Я не хочу их. Лучше бы я их и не совершал.
Это первое. А второе — пусть я снова стану таким, каким был
до начала чудес: пусть все станет точно так, как было, прежде
чем перевернулась эта несчастная лампа. Это, конечно, боль-
шая работа, но зато уж последняя. Все ясно? Никаких больше
чудес, все, как было раньше: пусть я снова в баре «Длинного
дракона» и еще не успел выпить свои полпинты. Ну и все!
Он вцепился руками в землю, закрыл глаза и сказал:
«Можно!»
Настала глубокая тишина. Он почувствовал, что стоит на
ногах.
— Это в ы так говорите,— раздался голос.
Он открыл глаза. Он находился в баре «Длинного дракона»
и спорил с Тодди Бимишем о чудесах. Смутное ощущение,
что он позабыл нечто необычайно важное, мелькнуло и тут
же исчезло. Ведь если не считать того, что он лишился своей
сверхъестественной силы, все стало таким, как было раньше,
и, следовательно, его мысль и память были точно такие же,
как в начале этого рассказа. И он абсолютно ничего не знал
обо всем, что здесь рассказано, не знает и по сей день.
И, между прочим, он попрежнему, конечно, не верит в чудеса.
— Говорю вам, что чудеса, как мы их себе представляем,
невозможны,— сказал он,— и я сейчас вам это докажу...
— Это в ы так думаете,— возразил Тодди Бимиш и доба-
вил:— Докажите, если сумеете.
— Послушайте, мистер Бимиш,— сказал мистер Фодерин-
гэй.— Давайте точно уговоримся, что такое чудо. Так вот,
чудо — это нечто противное законам природы, нечто вызван-
ное огромным напряжением воли...
(Из сборника «Рассказы о времени и пространстве», 1899)
45 г. Уэллс, т. 2
ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА
Издали мне часто случалось видеть волшебную лавку.
Раза два я проходил мимо ее витрины, где ваше внимание
привлекали волшебные шары, волшебные куры, чудодействен-
ные колпаки, куклы для чревовещателей, корзины для фокус-
ников со всякой всячиной, колоды карт, совсем как настоя-
щие, и множество других подобных изделий. Но мне и в го-
лову не приходило зайти в эту лавку до того дня, как Джип
взял меня за палец и, ни слова не говоря, подвел к окну;
при этом Джип держал себя так, что не пойти с ним туда
было совершенно невозможно.
По правде говоря, я и не думал, что эта скромная лав-
чонка на Риджент-стрит, между магазином, где продаются
картины, и заведением, где выводятся цыплята в патентован-
ных инкубаторах, и есть та самая лавка. Но это она была,
именно она. Мне почему-то казалось, что она ближе к
Сэркус, или за углом на Оксфорд-стрит, или даже в Хол-
борне; и всегда я видел ее на другой стороне улицы, так что
к ней трудно было пробраться, и чем-то она всегда напоми-
нала мираж. Но вот она здесь, в этом нет никаких сомнений,
и пухлый кончик указательного Джипова пальца стучит по
ее витрине.
— Если бы я был богатый,— сказал Джип, тыча пальцем
в «Исчезающее яйцо»,— я купил бы себе это. И это,— он ука-
зал на «Крикливого младенца, совсем как живого».— И это.
То был таинственный предмет, который назывался:
«Купи — и удивляй друзей!», как значилось на приложенной
карточке.
— А под этим колпаком,— сказал Джип,— пропадает все,
что ни положи. Я читал об этом в книге... А вон, папа, «Исче-
зающее полпенни», только далеко и отсюда плохо видно...
682
Милый Джип унаследовал черты своей матери: он не звал
меня в лавку и не надоедал приставаниями, он только тянул
меня за палец по направлению к двери — совершенно бессо-
знательно — и было яснее ясного, чего ему хочется.
— Вот! — сказал он и указал на «Волшебную бутылку».
— А если б она у тебя была? — спросил я.
И, услыхав в этом вопросе обещание, Джип просиял.
— Я показал бы ее Джесси! — ответил он, как всегда, пол-
ный заботы о других.
— До дня твоего рождения осталось меньше трех месяцев,
Джип,— сказал я< и взялся за ручку двери.
Джип не ответил, но еще сильнее сжал мой палец, и мы
вошли в лавку.
Это была не простая лавка, а волшебная. И поэтому той
важности, которая всегда отличает Джипа при покупке про-
стых игрушек, здесь не было в помине. Всю тяжесть перегово-
ров он возложил на меня.
Это была крошечная, тесноватая полутемная лавчонка,
и дверной колокольчик задребезжал таким жалобным звоном,
когда мы захлопнули за собой дверь. В лавчонке никого не
оказалось, и мы могли оглядеться. Вот тигр из папье-маше на
стеклянном ящике, занимающем весь невысокий прилавок,—
солидный, добродушный тигр, размеренно качающий головой;
вот хрустальные шары всех видов; вот фарфоровая рука с ко-
лодой волшебных карт; вот ваза с волшебными рыбками раз-
ных размеров; вот нескромная волшебная шляпа, бесстыдно
выставившая напоказ все свои пружины. Кругом были рас-
ставлены волшебные зеркала. Одно вытягивало и суживало
вас, другое отнимало у вас ноги и превращало вашу голову
в лепешку, третье делало из вас какую-то круглую, толстую
рюмку. И пока мы хохотали перед этими зеркалами, откуда-то
появился человек — очевидно, хозяин.
Во всяком случае, он стоял за прилавком — забавный,
темноволосый, бледный человек. Одно ухо у него было больше
другого, а подбородок — как носок башмака.
— Чем могу служить? — спросил он и распростер свои
длинные магические пальцы по всему прилавку.
Мы вздрогнули, потому что не подозревали о его присут-
ствии.
— Я хотел бы купить моему малышу какую-нибудь
игрушку,— сказал я,— только, пожалуйста, попроще.
— Фокусы? — спросил он.— Ручные? Механические?
— Что-нибудь позабавнее,— ответил я.
— Гм...— произнес продавец и почесал голову, как бы раз-
мышляя. Потом он преспокойно вынул у себя из готовы стек-
лянный шарик.
— Что-нибудь в таком роде? — спросил он и протянул
его мне.
45:
683
Это было неожиданно. Много раз мне случалось видеть
такой фокус на эстраде — без него не обойдется ни один фо-
кусник средней руки,— но здесь я этого не ожидал.
— Недурно! — сказал я со смехом.
— Не правда ли? — заметил продавец.
Джип свободной рукой потянулся за стеклянным шариком,
но в руках продавца ничего не оказалось.
— Он у вас в кармане,— сказал продавец, и действительно
шарик оказался там.
— Сколько за шарик? — спросил я.
— За стеклянные шарики мы денег не берем,— любезно
ответил продавец.— Они достаются нам,— тут он вытащил
еще один шарик у себя из локтя,— даром.
Он поймал еще один у себя на затылке и положил его на
прилавок рядом с предыдущим. Джип, не торопясь, оглядел
свой шарик, потом те, что лежали на прилавке, потом перевел
испытующий взгляд на продавца.
— Можете взять себе и эти,— сказал тот, улыбаясь,—
а также, если не брезгуете — еще один изо рта. Вот!
Джип переглянулся со мной, ища совета, потом в глубо-
чайшем молчании сгреб все четыре шарика, опять ухватился
за мой успокоительный палец и приготовился к дальнейшим
событиям.
— Так мы добываем все наши товары, какие помельче,—
объяснил продавец.
Я засмеялся и, подхватив его остроту, сказал:
— Вместо того чтобы обращаться в оптовый склад. Оно,
конечно, дешевле.
— Пожалуй,— ответил продавец.— Хотя в конце концов
и нам приходится платить, но не так много, как думают иные.
Товары покрупнее, а также пищу, одежду и все, что нам
нужно, мы достаем вот из этой шляпы... И позвольте мне за-
верить вас, сэр, что на свете совсем не бывает оптовых скла-
дов настоящих волшебных товаров. Вы, верно, изволили за-
метить нашу марку: «Настоящая волшебная лавка».
Он вытащил из-за щеки прейскурант и подал его мне.
— Настоящая,— сказал он, указывая пальцем на это
слово, и прибавил: — У нас без обмана, сэр.
У меня мелькнула мысль, что его шутки не лишены после-
довательности.
Потом он обратился к Джипу с ласковой улыбкой:
— А ты, знаешь ли, славный мальчик...
Я удивился, не понимая, откуда он мог это узнать. В ин-
тересах дисциплины мы держим это в секрете даже в домаш-
нем кругу. Джип выслушал похвалу молча и продолжал
смотреть на продавца.
— Потому что только хорошие мальчики могут пройти в
эту дверь.
684
И тотчас же, как бы в подтверждение, раздался стук в
дверь, и послышался тоненький, пискливый голосок:
— И-и! Я хочу войти туда, папа! Папа, я хочу войти!
И-и-и!
И уговоры измученного папаши:
— Но ведь заперто, Эдуард, нельзя!
— Совсем не заперто! — сказал я.
— Нет, сэр, у нас всегда заперто для таких детей,— ска-
зал продавец, и при этих словах мы увидели мальчика —
крошечное личико, болезненно-бледное от множества поедае-
мых лакомств, искривленное от вечных капризов, личико бес-
сердечного маленького себялюбца, царапающегося в заколдо-
ванное стекло.
— Не поможет, сэр,— сказал торговец, заметив, что я
шагнул было к двери.
Скоро хнычущего, избалованного мальчика увели.
— Как это у вас делается? — спросил я, переводя дух.
— Волшебство! — ответил продавец, небрежно махнув ру-
кой. И — ах! — разноцветные искры вылетели из его пальцев
и погасли в полутьме магазина.
— Ты говорил там, на улице,— сказал продавец, обра-
щаясь к Джипу,— что хотел бы иметь нашу коробку, которая
зовется «Купи — и удивляй друзей!»
— Да,— выдохнул Джип.
— Она у тебя в кармане.
И, перегнувшись через прилавок,— тело у него оказалось
необычайной длины,— этот изумительный человек с ужимками
заправского фокусника вытащил у Джипа из кармана ко-
робку.
— Бумага! — сказал он и достал большой лист из пустой
шляпы с пружинами.
— Бечевка! — И во рту у него оказался клубок бечевки,
от которого он отмотал бесконечно длинную нить, перевязал
ею сверток, перекусил зубами, а клубок, как мне показалось,
проглотил. Потом он зажег свечу на носу у одной из чревове-
щающих кукол, сунул в огонь палец (который тотчас же пре-
вратился в палочку красного сургуча) и запечатал покупку.
— Вам еще понравилось «Исчезающее яйцо»,— заметил
он, вытаскивая это яйцо из бокового кармана моего пальто,
и завернул его в бумагу вместе с «Крикливым младенцем, со-
всем как живым». Я передавал каждый готовый сверток
Джипу, а тот крепко прижимал его к груди.
Джип говорил очень мало, но глаза его были красноре-
чивы, а то, как он сжимал мой палец, было красноречивее вся-
ких слов. Его душой овладело невыразимое волнение. По-
истине это было настоящее волшебство.
Но тут я вздрогнул и почувствовал, что у меня под шля-
пой шевелится что-то мягкое и трепещущее. Я схватился за
685
шляпу, и голубь с измятыми перьями выпорхнул оттуда, побе-
жал по прилавку и шмыгнул в картонную коробку, за тигром
из папье-маше.
— Ай, ай, ай! — сказал продавец, ловким движением от-
бирая у меня мой головной убор.— Скажите пожалуйста, эта
глупая птица устроила здесь гнездо!..
Он стал трясти мою шляпу, вытряхнул оттуда два или три
яйца, мраморный шар, часы, с полдюжины неизбежных стек-
лянных шариков и скомканную бумагу, потом еще бумагу,
еще и еще, все время распространяясь о том, что очень многие
совершенно напрасно чистят свои шляпы только сверху и за-
бывают почистить их внутри,— все это, разумеется, очень веж-
ливо, но не без личных намеков.
— Накопляется целая куча мусора, сэр... Конечно, не у
вас одного... Чуть не у каждого покупателя... Чего только люди
не носят с собой!
Мятая бумага росла и вздымалась на прилавке все выше,
и выше, и выше и совсем заслонила его от нас. Только голос
его раздавался попрежнему.
— Никто из нас не знает, что скрывается иногда за благо-
образной внешностью человека, сэр. Все мы—только укра-
шенные гробницы...
Его голос замер, точь-в-точь как у ваших соседей замер бы
граммофон, если бы вы угодили в него камнем,— такое же вне-
запное молчание. Шуршание бумаги прекратилось, и стало тихо.
— Вы уже покончили с моей шляпой? — спросил я на-
конец.
Ответа не было.
Я поглядел на Джипа, Джип поглядел на меня, и в вол-
шебных зеркалах отразились наши искаженные лица — зага-
дочные, серьезные, несокрушимо спокойные...
— Я думаю, нам пора! — сказал я.— Будьте добры, ска-
жите, сколько с нас следует.
— Послушайте,— сказал я, повышая голос,— я хочу рас-
платиться... И, пожалуйста, мою шляпу...
Из-за груды бумаг как будто послышалось сопение.
— Он просто дурачит нас! — сказал я.— Пойдем-ка, Джип,
поглядим за прилавок.
Мы обошли тигра, качающего головой. И что же? За при-
лавком никого не оказалось. На полу валялась моя шляпа,
а рядом с нею, в глубокой задумчивости, съежившись, сидел
вислоухий белый кролик,— самый обыкновенный, глупейшего
вида кролик, как раз такой, какие бывают у фокусников.
Я нагнулся за шляпой,— кролик отпрыгнул от меня.
— Папа! — шепнул Джип виновато.
— Что?
— Мне здесь нравится, папа.
«И мне тоже нравилось бы,— подумал я,— если бы этот
686
прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход». Я не
сказал об этом Джипу.
— Киска! — произнес он и протянул руку к кролику.—
Киска, покажи мне фокус!
Кролик шмыгнул в дверь, которой я раньше почему-то не
заметил, и в ту же минуту оттуда опять показался человек,
у которого одно ухо было длиннее другого. Он еще улыбался,
но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд
выражает не то вызов, не то ликование.
— Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр? — как ни
в чем не бывало сказал он.
Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, по-
том на продавца, и глаза наши снова встретились. Я уже на-
чинал думать, что волшебства здесь действительно слишком
уж много.
— К сожалению, у нас нет времени,— сказал я. Но в ту
же минуту мы оказались в другой комнате, где была выставка
образцов.
— Все товары у нас одного качества,— сказал продавец,
потирая гибкие руки,— самого высшего. Здесь одно только
настоящее колдовство, другого не держим. У нас с ручатель-
ством... Прошу прощения, сэр!
Я почувствовал, как он отрывает что-то от моего рукава,
и, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного
красного чертика, а тот извивается, и дергается, и норовит
укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его за при-
лавок. Конечно, чертик был резиновый, но в это мгновение...
И движения продавца были совсем такие, как будто он дер-
жал какую-нибудь ядовитую гадину. Я посмотрел на Джипа,
но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную ло-
шадку. У меня отлегло от сердца.
— Послушайте,— сказал я продавцу, понижая голос и
указывая глазами то на Джипа, то на красного чертика,— на-
деюсь, у вас не слишком много таких... изделий, не правда ли?
— Совсем не держим! Должно быть, вы занесли его с
улицы,— сказал продавец, тоже понизив голос и с еще более
очаровательной улыбкой.— То есть чего только люди не та-
скают с собой, сами того не зная!
Потом он обратился к Джипу:
— Ты уже выбрал что-нибудь?
Нашлось много такого, что Джип уже выбрал.
Почтительно обратившись к чудесному продавцу, он
спросил:
— А эта сабля тоже волшебная?
— Волшебная игрушечная сабля — не гнется, не ло-
мается и ею не порежешь пальцев. У кого такая сабля, тот
выйдет цел и невредим из любого единоборства с любым вра-
гом не старше восемнадцати лет. От двух с половиной шил-
687
лингов до семи с половиной, в зависимости от размера... Эти
доспехи, пришитые к картону, предназначены для детей и
очень нужны для игры в рыцари. Волшебный щит, сапоги-ско-
роходы, шапка-невидимка.
— Ох, папа! — воскликнул Джип.
Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня
внимания. Теперь он совершенно завладел Джипом. Он ото-
рвал его от моего пальца, углубился в описание своих про-
клятых товаров, и ничто не могло остановить его. Скоро я за-
метил, со смутной тревогой и каким-то чувством, очень похо-
жим на ревность, что Джип ухватился за его палец, точь-в-
точь как обычно хватался за мой. «Конечно, он — человек за-
нятный,— думал я,— и у него тут накоплено много прелюбо-
пытной дряни, но все-таки...»
Я побрел за ними, не говоря ни слова, но зорко присмат-
ривая за этим фокусником. В конце концов Джипу это до-
ставляет удовольствие... И никто не помешает нам уйти, когда
вздумается.
Выставка товаров занимала длинную комнату; большая
галерея изобиловала всякими колоннами, подпорками, стой-
ками; арки вели в боковые помещения, где слонялись без
дела и зевали по сторонам приказчики самого странного вида;
на каждом шагу нам преграждали путь и сбивали нас с толку
разные портьеры и зеркала, так что скоро я совсем потерял
ту дверь, в которую мы вошли.
Продавец показал Джипу волшебные поезда, которые дви-
гались без пара и пружины, по одному вашему сигналу,
а также драгоценные коробки с оловянными солдатиками, ко-
торые оживали, как только вы поднимали крышку, и произно-
сили... Как передать этот звук, я не знаю, но Джип — у него
тонкий слух его матери — тотчас же воспроизвел его.
— Браво! — воскликнул продавец, весьма бесцеремонно
складывая оловянных человечков обратно в коробку и пере-
давая ее Джипу.— Ну, теперь ты!
И Джип в одно мгновение опять воскресил их.
— Хотите взять эту коробку? — спросил продавец.
— Я купил бы коробку,— сказал я,— если бы вы взяли
с меня меньше, чем она стоит. Иначе нужно быть миллио-
нером...
— Да нет! Что вы!
И продавец снова впихнул человечков в коробку, захлоп-
нул крышку, помахал коробкой в воздухе,— и тотчас же она
оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу,
а на бумаге появились полный адрес и имя Джипа!
Видя мое изумление, продавец засмеялся.
— У нас — настоящее волшебство,— сказал он.— Подде-
лок не держим.
— По-моему, оно даже чересчур настоящее,— отозвался я.
688
После этого он стал показывать Джипу разные фокусы,
необычайные сами по себе, а еще более — по выполнению. Он
объяснял устройство игрушек и выворачивал их наизнанку,
и мой милый малыш, страшно серьезный, смотрел и кивал с
видом знатока.
Я не мог уследить за ними. «Эй, живо!» — кричал волшеб-
ный продавец, и вслед за ним чистый детский голос повторял:
«Эй, живо!» Но меня отвлекло другое. Меня вдруг встрево-
жила необычайная таинственность всего помещения. Ею было
проникнуто все: пол, потолок, стены, каждый гвоздь, каждый
стул. Меня не покидало странное чувство, что стоит мне только
отвернуться,— и все это запляшет, задвигается и пойдет бес-
шумно играть у меня за спиной в пятнашки. Карниз изви-
вался, как змея, и лепные маски по углам были, по правде
говоря, слишком выразительны для простого гипса.
Внезапно внимание мое привлек один из приказчиков, че-
ловек диковинного вида.
Он стоял в стороне и, очевидно, не знал о моем присутствии
(мне он был виден не весь: его ноги заслоняла груда игрушек
и, кроме того, нас разделяла арка). Он беспечно стоял, при-
слонясь к столбу, и проделывал со своим лицом самые невоз-
можные вещи. Особенно ужасно было то, что он делал со
своим носом. И все это имело такой вид, будто он решил
поразвлечься от скуки. Сначала у него был коротенький при-
плюснутый нос, потом нос неожиданно вытянулся, как под-
зорная труба, а потом стал делаться все тоньше и тоньше и в
конце концов превратился в длинный, гибкий красный хлыст.
Это было похоже на какой-то причудливый сон! Он размахи-
вал своим носом в разные стороны и забрасывал его вперед,
как рыболов забрасывает лесу своей удочки.
Тут я спохватился, что это зрелище совсем не для Джипа.
Я оглянулся и увидел, что все внимание мальчишки поглощено
продавцом, и он не подозревает ничего дурного. Они о чем-то
шептались, поглядывая на меня. Джип взобрался на стул,
а продавец держал в руке что-то вроде огромного барабана.
— Сыграем в прятки, папа! — крикнул Джип.— Тебе
искать!
И не успел я вмешаться, как продавец накрыл его боль-
шим барабаном.
Тогда я понял, в чем дело.
— Поднимите барабан! — закричал я.— Сию минуту! Вы
испугаете ребенка! Поднимите!
Человек с разными ушами беспрекословно повиновался и
протянул мне этот большой цилиндр, чтобы я мог вполне убе-
диться, что он пуст! Но на стуле тоже не было никого! Мой
мальчик бесследно исчез!..
Вы, может быть, знаете зловещее чувство, которое возни-
кает, словно рука из неведомого мира, и больно сжимает вам
689
сердце? Это чувство сметает куда-то прочь ваше обычное «я»,
вы сразу напрягаетесь, становитесь осмотрительны и пред-
приимчивы, вы не медлите, но и не торопитесь, гнев и страх
исчезают. Так было со мной.
Я подошел к ухмыляющемуся торгашу и опрокинул его
стул ударом ноги.
— Оставьте эти штуки,— сказал я.— Где мой мальчик?
— Вы сами видите,— сказал он, показывая мне пустой ба-
рабан,— у нас никакого обмана...
Я протянул руку, чтобы схватить его за шиворот, но он,
ловко извернувшись, ускользнул от меня. Я опять бросился
на него, но он опять увильнул и, убегая, широко распахнул
какую-то дверь.
— Стой! — крикнул я.
Он со смехом отпрянул в сторону, и я со всего размаху
вылетел — во тьму.
Хлоп!
— Фу-ты! Я вас и не заметил, сэр!
Я был на Риджент-стрит и, видимо, столкнулся с каким-то
очень почтенным рабочим. А невдалеке от меня, немного ра-
стерянный, стоял Джип. Я кое-как извинился, и Джип с яс-
ной улыбкой подбежал ко мне, как будто только что на одну
секунду потерял меня из виду.
В руках у него было четыре пакета!
Он тотчас же завладел моим пальцем.
Первое время я не знал, что подумать. Я обернулся, чтобы
увидеть дверь волшебной лавки, но ее нигде не было. Ни
лавки, ни двери — ничего! Самый обыкновенный простенок
между магазином, где продаются картины, и окном с цыпля-
тами...
Я сделал единственное, что было возможно в таком поло-
жении: встал на краю тротуара и помахал зонтиком, подзы-
вая кеб.
— Карета!—восторженно воскликнул Джип.
Я усадил Джипа, не без труда вспомнил свой адрес и сел
сам. Тут я почувствовал что-то необычное у себя в кармане
и вынул оттуда стеклянный шарик. Резким движением я бро-
сил его на мостовую.
Джип не сказал ни слова.
Некоторое время мы оба молчали.
— Папа!—сказал, наконец, Джип.— Это была хорошая
лавка!
Таким образом я получил ответ на занимавший меня во-
прос, как он воспринял все это происшествие. Он оказался
совершенно цел и невредим,— это главное. Он не был напу-
ган, он не был расстроен, он просто был страшно доволен
тем, как провел день, и к тому же у него в руках было четыре
пакета.
690
Черт возьми! Что могло там быть?
— Гм!—сказал я.—Маленьким детям нельзя каждый день
ходить в такие лавки!
Он принял эти слова со свойственным ему стоицизмом,
и на минуту я даже пожалел, что я — его отец, а не мать, и не
могу тут же, на извозчике coram publico 1 расцеловать его.
«В конце концов,— подумал я,— все это не так уж плохо».
Но окончательно утвердился я в этом мнении, только когда
мы распаковали наши свертки. В трех оказались коробки с
обыкновенными оловянными солдатиками, но таких необычай-
ных достоинств, что Джип совершенно забыл о тех «Настоя-
щих волшебных солдатах», которых он видел в лавке; а в чет-
вертом свертке был котенок,— маленький белый живой коте-
нок, очень веселый и с прекрасным аппетитом.
Я рассматривал содержимое пакетов с необыкновенным
облегчением. Проторчал я в детской не знаю сколько вре-
мени...
Это случилось шесть месяцев тому назад. И теперь я на-
чинаю думать, что никакой беды не произошло. В котенке ока-
залось не больше волшебства, чем во всех других котятах.
Солдаты оказались такими стойкими, что ими был бы доволен
любой полковник. Что же касается Джипа...
Чуткие родители с.огласятся, что с ним я должен был со-
блюдать особенную осторожность.
Недавно я в этом отношении зашел довольно далеко.
Я сказал:
— А что, Джип, если бы твои солдаты вдруг ожили и по-
шли маршировать?
— Мои солдаты живые,— сказал Джип.— Стоит мне
только сказать одно словечко, когда я открываю коробку.
— И они маршируют?
— Еще бы! Иначе за что их и любить!
Я не выказал большого удивления и попробовал несколько
раз, чуть только он возьмется за своих солдатиков, неожи-
данно войти к нему в комнату. Но никаких признаков вол-
шебного поведения я до сих пор за ними не заметил. Так что
трудно сказать, прав ли Джип, или нет.
Еще один вопрос: о деньгах. У меня неизлечимая привычка
всегда платить по счетам. Я исходил вдоль и поперек всю
Риджент-стрит, но не нашел этой лавки. Тем не менее я скло-
нен думать, что с моей стороны здесь не было допущено не-
корректных поступков и что, раз этим людям — кто бы они
ни были — известен адрес Джипа, они могут в любое время
явиться ко мне и получить по счету.
(Из сборника «Двенадцать рассказов и один сон», 1903)
1 Публично (лат.).
ПРАВДА О ПАЙКРАФТЕ
ин сидит в каких-нибудь десяти шагах от меня. Стоит мне
только повернуть голову, и я вижу его. И когда наши взгляды
сталкиваются,— а это случается постоянно — в его взгляде...
Это мольба, да еще с оттенком подозрительности.
Черт бы побрал эту подозрительность! Если б я хотел по-
рассказать о нем, я б уж давным-давно это сделал. Но ведь я
молчу, молчу,— так пусть бы он и жил себе с легким сердцем.
Как будто может быть что-нибудь легкое в такой туше! Нет, кто
поверит мне, вздумай я рассказать?
Бедняга Пайкрафт! Огромная, нескладная, живая масса
жира. Самый толстый клубмен во всем Лондоне.
Он сидит за одним из клубных столиков в глубокой нише
у камина и что-то уплетает. Что именно? Я осторожно огляды-
ваюсь и ловлю его в тот миг, как он проворно приканчивает
горячий пирожок с маслом, а сам впился в меня взглядом.
Да, черт его побери, буквально впился в меня взглядом!
Ну, Пайкрафт, с меня достаточно. Раз ты такой жалкий
трус, раз ты ведешь себя, словно не полагаешься на мою
порядочность,— получай! Прямо под взглядом твоих заплывших
глаз я пишу все напрямик — всю чистую правду о Пайкрафте.
О человеке, которому я помог, которого я прикрывал и который
отплатил мне тем, что сделал для меня несносным пребывание
в клубе — буквально несносным. И все из-за этой своей слезли-
вой мольбы, из-за вечного немого призыва: «Не выдавай!»
И затем, почему он вечно ест?
Итак, я пишу правду, всю правду целиком и ничего, кроме
правды!
Пайкрафт! Я познакомился с ним в этой самой комнате.
Я тогда только что стал членом клуба, был молод и нервничал,
и он заметил это. Я сидел совершенно один, втайне мечтая
692
иметь побольше знакомых в клубе. И вдруг подходит он —
этакая перекатывающаяся масса, сплошные подбородки и
живот,— хрюкнул что-то, плюхнулся в кресло возле меня, долго
сопел, усаживаясь, потом так же долго возился со спичками,
зажег, наконец, сигару и тогда только обратился ко мне. Я уж
не помню, с чего он начал, кажется что-то о спичках, которые
никак не зажигаются, а сам все подзывал одного за другим про-
ходивших мимо лакеев и им тоже толковал об этих спичках
тонким, пискливым голосом. Но именно так завязалось наше
знакомство.
Он болтал о всякой всячине и, наконец, перешел к спорту.
А отсюда — к моему сложению и цвету лица. «Вы, должно быть,
хорошо играете в крикет»,— заключил он. Не спорю, я действи-
тельно худощав, меня, пожалуй, можно даже назвать тощим,
и верно, что цвет кожи у меня темноватый, однако... нет, я не
стыжусь своей прабабушки-индуски, но все-таки мне не
нравится, когда первый встречный напоминает мне о ней наме-
ками на мою внешность. Так что я с самого начала невзлюбил
Пайкрафта.
Но он завел речь обо мне только для того, чтобы тут же
перейти к собственной особе.
— Я уверен,— сказал он,— что вы не больше моего зани-
маетесь гимнастикой и, по всей вероятности, едите не меньше.
(Как все толстяки, он воображал, что ничего не ест.) И тем не
менее,— он кисло улыбнулся,— мы совсем непохожи друг на
друга.
И тут он пустился бесконечно разглагольствовать о своем
ожирении; что он предпринимает против своего ожирения, что
собирается предпринять против своего ожирения; что ему сове-
товали предпринять против ожирения и что, как он слышал,
предпринимают другие, страдающие таким же ожирением, как
и он. «Априори считается,— сказал он,— что проблема пита-
ния в основном сводится к диете, а в проблеме усвоения орга-
низмом тех или иных веществ основную роль играют медика-
менты». Это действовало на меня удручающе. Его болтовня
душила меня. Мне стало казаться, что я сам распухаю, слу-
шая его.
Изредка такое можно выдержать, когда сидишь в клубе, но
наступил момент, когда моей выдержке пришел конец. Пай-
крафт совершенно завладел мною. Стоило мне войти в клуб, как
он тут же устремлялся ко мне. А иногда он даже усаживался
и пыхтел возле меня, пока я завтракал. Мне казалось порой, что
он положительно цепляется за меня. Он был надоедлив, прилип-
чив, но уж не настолько туп, чтобы ограничиться только моим
обществом; нет, с самого начала я заметил нечто в его поведе-
нии — ну, словно он догадывался, что я мог бы... словно видел
во мне слабую, единственную надежду на спасение, какой не
видел ни в ком другом.
693
— Я готов отдать все на свете, только бы сбавить в весе,—
начинал он обычно,— все на свете.— Он таращил на меня глаза
из-за своих обширных щек и отдувался.
Бедняга Пайкрафт! Он только что позвонил лакею — несом-
ненно, чтоб заказать вторую порцию пирожков.
И вот в один прекрасный день он открыл свои карты.
— Наша фармакопея,— сказал он,— наша западная фарма-
копея — отнюдь не последнее слово медицины. Вот на Востоке,
мне говорили...
Он оборвал фразу и выпучил глаза. Мне почудилось, будто
я стою перед аквариумом.
И вдруг я разозлился на него.
— Послушайте-ка,— сказал я.— Кто разболтал вам о рецеп-
тах моей прабабушки?
— Видите ли...— пробовал он уклониться.
— Вот уже целую неделю, всякий раз, как мы встреча-
емся,— а мы встречаемся довольно-таки часто,— вы не пере-
стаете весьма прозрачно намекать на мою маленькую семейную
тайну.
— Ну,— сказал он,— раз уж дело пошло начистоту,— да,
признаюсь. Мне сообщил это...
— Паттисон?
— Не совсем,— промямлил он. И я понял, что он лжет.—
То есть... да.
— Паттисон,— заявил я,— принял это средство на свой
страх и риск.
Он сложил губы сердечком и поклонился.
— Рецепты моей прабабушки,— продолжал я,— весьма
своеобразны. Мой отец почти взял с меня слово...
— Но он не сделал этого?
— Нет. Но он предупредил меня. Однажды он сам попробо-
вал одно снадобье...
— Ах... Но, как вы полагаете... А что, если... что, если среди
этих рецептов есть...
— Это очень странные документы,— настаивал я.— Даже
самый их запах... Нет, это невозможно!
Но, раз отважившись на такой шаг, Пайкрафт твердо решил
добиться своего. Я всегда избегал подвергать его терпение
излишнему испытанию. Чего доброго, накинется вдруг и просто
раздавит. Признаюсь, я проявил слабость. Но он заставил
меня, наконец, произнести: «Ну что ж, рискните!»
История с Паттисоном, о которой я упомянул, была совер-
шенно в другом роде. В чем именно она заключалась, отноше-
ния к настоящему рассказу не имеет, но во всяком случае я
знал, что тот рецепт, который я дал ему тогда, был вполне
безвреден. Об остальных я не был так осведомлен и в общем
был весьма склонен сомневаться в их безопасности.
Но даже если Пайкрафт отравится...
694
Сознаюсь, идея отравления Пайкрафта показалась мне
заманчивой.
В тот же вечер я достал из сейфа затейливый, странно пахну-
щий ящичек сандалового дерева и просмотрел шелестящие
кожаные лоскутки. Джентльмен, писавший эти рецепты для
моей прабабушки, имел, очевидно, слабость к кожам самых
разнообразных сортов, и почерк у него был неразборчив до
крайности. Многое в этих записях я просто не понял и в од-
ной из них не разобрался до конца, хотя в .моей семье, с давних
пор связанной с гражданской службой в Индии, из рода в род
передается знание индусского языка. Но я довольно быстро
разыскал тот рецепт, который, как я знал, должен был тут
находиться, и некоторое время сидел на полу у сейфа, рассмат-
ривая странный клочок кожи.
— Послушайте,— обратился я к Пайкрафту на следующий
день, вырывая рецепт из его жадных рук.— Насколько я разо-
брал, это средство для потери веса. («Ах!..» — простонал
Пайкрафт.) Я не вполне уверен, но, кажется, я не ошибаюсь.
И если хотите послушать моего совета, не пробуйте его. Потому
что, знаете ли,— желая вам угодить, Пайкрафт, я черню ре-
путацию моей семьи, ведь мои предки по этой линии, на-
сколько мне известно, довольно-таки таинственная публика.
Понятно?
— Дайте мне его,— сказал Пайкрафт.
Я откинулся на спинку стула и попробовал дать волю
воображению, но безуспешно.
— Скажите, бога ради, Пайкрафт, вы представляете себе,
как будете выглядеть, когда похудеете?
Ио урезонить его было невозможно. Я взял с него слово,
что он никогда, ни при каких обстоятельствах, не заикнется
больше в моем присутствии о своем отвратительном ожире-
нии — никогда, а затем вручил ему кожаный лоскуток.
— Это мерзкое снадобье.
— Ничего,— ответил он и взял рецепт.
И вдруг Пайкрафт вытаращил глаза.
— Но... Но...— запнулся он.
Он только что обнаружил, что рецепт написан не по-
английски.
— Я переведу его вам, как сумею,— сказал я.
Я сделал все, что мог. После этого мы не разговаривали две
недели. Едва он приближался ко мне, я хмурился и знаком
предлагал ему удалиться, и он соблюдал наш уговор, но к концу
второй недели он был. так же толст, как и прежде. И, наконец,
он не выдержал.
— Я должен с вами поговорить,— обратился он ко мне.—
Это не честно. Тут что-то не так. Никаких результатов. Я начи-
наю сомневаться в знаниях вашей прабабушки.
— Где рецепт?
695
Он осторожно вытащил его из бумажника.
Я пробежал рецепт глазами.
— Вы взяли тухлое яйцо?
— Нет. А разве это обязательно?
— Это само собой разумеется во всех рецептах моей бедной
дорогой прабабушки: если качество составных элементов не
указано, следует брать наихудшие. Она признавала только кру-
тые меры. Но кое-что из составленных частей может быть заме-
нено, тут даны варианты. Вы достали вполне свежий яд грему-
чей змеи?
— Я достал гремучую змею у Джемрэча. Она стоила... она
стоила...
— Это меня не касается. А вот этот последний ингре-
диент...
— Я знаю человека, который...
— Отлично. Так. Ну, я напишу вам эти варианты.
Насколько я знаю индусский, это снадобье одно из самых
отвратительных. Между прочим, «собака» здесь может означать
«пария».
В течение месяца после этого я постоянно видел Пай-
крафта в клубе, все такого же толстого и озабоченного. Он про-
должал блюсти наш договор, лишь иногда нарушая дух его
унылым покачиванием головы. Затем однажды, уже выходя из
клуба, он снова начал:
— Ваша прабабушка...
— Ни слова о ней,— предостерег я, и он умолк. Я уже во-
образил, что Пайкрафт бросил свои попытки, и даже как-то
видел, как он рассказывал о своем ожирении трем новичкам
в клубе, словно пустился на поиски новых рецептов. И тут
совершенно неожиданно я получил его телеграмму.
— Мистер Формалин! — проорал у меня над ухом маль-
чуган-посыльный. Я принял телеграмму и тут же ее распе-
чатал.
«Ради всего святого приезжайте. Пайкрафт».
— Гм,— протянул я. Сказать по совести, я был чрезвычайно
доволен, что репутация моей прабабушки, очевидно, реабилити-
рована, и позавтракал в отличнейшем расположении духа.
У швейцара я узнал адрес Пайкрафта. Пайкрафт проживал
в верхнем этаже дома на Блумсбери, и я отправился туда, как
только допил кофе с ликером. Я ушел, даже не выкурив сигары.
— Мистер Пайкрафт? — осведомился я в подъезде.
Мне сказали, что мистер Пайкрафт болен: он не выходил
уже два дня.
— Он ожидает меня,— сказал я. И меня проводили наверх.
Я позвонил у двери с маленьким решетчатым окном, выхо-
дящей на площадку.
— Напрасно он затеял все это,— сказал я про себя.—Кто
ест по-свински, пусть и выглядит, как свинья.
696
Какая-то особа вполне Почтенного вида, с озабоченным ли-
цом и в чепчике, сбившемся набок, пытливо оглядела меня из
окна.
Я назвал себя, и она неуверенно открыла дверь.
— Ну-с? — спросил я, пока мы стояли в дверях квартиры
Пайкрафта.
— Он сказал, что пусть приходит, если, значит, вы при-
дете,— проговорила она, не проявляя ни малейшего намерения
провести меня куда бы то ни было. И затем с загадочным ви-
дом.— Он заперся, сэр.
— Заперся?
— Заперся еще со вчерашнего утра и никого к себе не пу-
скает, сэр. И нет-нет, да как начнет браниться!.. Ах, боже
ты мой!
Я уставился на дверь, на которую указывали ее взгляды.
— Заперся вон там?
— Да, сэр.
— Что с ним стряслось?
Она печально покачала головой.
— Он все приказывает, чтоб ему подавали побольше куша-
ний. Да потяжелей все просит. Я уж достаю, что можно.
И свинину-то, и пудинг на сале, и сосиски, и горячий хлеб,
и все такое. Оставлю еду у дверей, а сама ухожу. Сэр, он
столько ест, что прямо страх берет.
За дверью послышался пискливый возглас:
— Это вы, Формалин?
— Это вы, Пайкрафт? — заорал я, подошел к двери и по-
стучал.
— Скажите ей, пусть она уйдет.
Я исполнил поручение.
Затем послышалось какое-то странное постукивание по
двери, как будто кто-то в темноте нащупывал дверную ручку,
и затем знакомое пыхтение.
— Все в порядке,— сказал я,— она ушла.
Но дверь еще долго не открывалась.
Я услышал, как повернулся ключ. Затем голос Пайкрафта
произнес:
— Войдите.
Я повернул ручку и открыл дверь. Разумеется, я ожидал
увидеть Пайкрафта.
Но, представьте себе, его там не было!
В жизни своей не испытывал я большего изумления. Моему
взору предстала гостиная в неописуемом беспорядке,— среди
книг и письменных принадлежностей расшвыряны тарелки, не-
сколько стульев опрокинуто, но Пайкрафта...
— Все в порядке, дружище; заприте дверь,— снова послы-
шался голос Пайкрафта. И тут я его обнаружил.
Он был наверху, у самого карниза над косяком двери,
697
словно кто-то приклеил его к потолку. На лице его питалась тре-
вога и раздражение. Он пыхтел и ворочался.
— Заприте дверь,— повторил он.— Если эта женщина
увидит...
Я запер дверь и уставился на Пайкрафта.
— Если, что-нибудь сдвинется и вы слетите вниз, вы сло-
маете себе шею, Пайкрафт,— сказал я.
— Если б я это мог,— пропыхтел он.
— Человек вашего возраста и веса, и чтоб занимался дет-
ской гимнастикой...
— Перестаньте,— простонал он, и лицо его приняло муче-
ническое выражение.— Ваша проклятая прабабушка...
— Осторожнее! — предостерег я.
— Я вам сейчас все объясню,— и он опять принялся ерзать
под потолком.
— На чем вы там держитесь, черт возьми?
И вдруг я понял, что он ни на чем не держится, что он про-
сто парит под потолком, как оторвавшийся воздушный шар. Он
опять начал ерзать, пытаясь отстать от потолка и спуститься
по стене ко мне.
— Это все ваш рецепт,— сказал он, отдуваясь.— Ваша пра...
— Полегче! — крикнул я.
Он несколько небрежно ухватился за раму гравюры, и она
шлепнулась на диван, а Пайкрафт снова взлетел под потолок.
Бедняга стукнулся, и тут я сообразил, почему он весь, на всех
наиболее выдающихся выпуклостях тела, перепачкан мелом.
Он начал спуск вторично, держась за выступ камина, и на этот
раз дело пошло успешнее.
Зрелище было поистине необычайное — огромный, апоплек-
сического вида толстяк спускается с потолка на пол.
— Это ваше средство...— проговорил он.— Подействовало
лучше, чем нужно.
— То есть?
— Потеря веса, почти полная,
И тут я, разумеется, понял.
— Клянусь богом, Пайкрафт,— сказал я.-- Вам нужно
было средство от ожирения. А вы называли это весом. Ну да,
вы называли это весом.
Признаться, я был в совершенном восторге. Пайкрафт поло-
жительно нравился мне в эту минуту.
— Дайте-ка я вам помогу,— предложил я, взял его за руку
и стянул вниз. Он дрыгал ногами, стараясь найти опору. Он
напоминал мне флаг в ветреную погоду.
— Вон тот стол,— показал он мне,— он из целого красного
дерева. Очень тяжелый. Если вам удастся засунуть меня под
•него...
Я так и сделал, и там он покачивался, как привязной аэро-
стат, а я стоял на коврике у камина и беседовал с ним.
698
Я закурил сигару.
— Расскажите, что случилось.
— Я принял его.
— Каково на вкус?
— Омерзительно.
Вероятно, они все такие. Взять ли их составные элементы,
пли все снадобье в целом, или его возможное действие — почти
все рецепты моей прабабки кажутся мне по меньшей мере не-
соблазнительными. Я бы лично...
— Сперва я попробовал один глоток...
- Ну?
— Уже через час я почувствовал себя легче. Я решил при-
нять все снадобье.
— Милейший Пайкрафт!..
— Я зажал нос,—- объяснил он,— и становился все легче и
легче... и ничего не мог с этим поделать.
Внезапно он дал волю страстям.
— Скажите на милость, ну что я должен теперь делать? —
запищал он.
— Одно совершенно очевидно,— сказал я,— это то, чего вы
не должны делать. Если вы выйдете наружу, вы полетите все
выше и выше...— И я сделал соответствующий жест рукой.—
Придется посылать Сантос Дюмона *, чтобы вернуть вас на
землю.
— Может, действие снадобья прекратится?
Я покачал головой.
— На это лучше не рассчитывать.
И тут опять страсти его прорвались наружу, он поддал но-
гой близ стоявшие стулья и застучал кулаками по полу. Он
вел себя, как это и следовало ожидать от такого огромного,
тучного эгоиста при подобных затруднительных обстоятель-
ствах,—иначе говоря, очень скверно. Он отзывался обо мне и
моей прабабушке без малейшего уважения.
— Я не просил вас принимать это лекарство,— заметил я.
И, великодушно игнорируя оскорбления, которыми он меня
осыпал, я уселся в кресло и начал беседовать с ним рассуди-
тельно и дружески.
Я указал ему, что он сам навлек на себя беду и что тут даже
можно усмотреть как бы некую высшую справедливость. Он
слишком много ел. Тут он стал возражать, и некоторое время
мы спорили об этом.
Он становился шумлив и буен, и я отказался от мысли рас-
сматривать случившееся с ним с этой точки зрения.
— Но, кроме того,— продолжал я,— вы погрешили против
истины. Вы называли это не ожирением, что было бы справед-
ливо и бесславно, но весом. Вы...
1 Сантос Дю м ан — изобретатель дирижабля, уроженец Бразилии.
699
Он прервал меня, заявив, что признает все это. Но как
быть теперь?
Я предложил ему приспособиться к новому состоянию. Тут
мы подошли к делу практически. Я высказал предположение,
что ему не трудно будет научиться ходить по потолку на руках.
— Я же не могу спать,— пожаловался он.
Ну, тут особых затруднений не было. Вполне возможно, по-
яснил я, прикрепить к потолку пружинный матрац, подвязать
к нему тесемками простыню и подушку, а одеяло, вторую про-
стыню и покрывало пристегивать сбоку на пуговицах. Я посо-
ветовал ему довериться экономке, и после некоторых пререка-
ний он согласился и на это. (Было прямо-таки наслаждением
смотреть, как впоследствии эта славная леди с самым невозму-
тимым видом проделывала все эти изумительные переустрой-
ства.) Можно принести лесенку из библиотеки и ставить блюда
на верхушку книжного шкафа. Кроме того, нам пришел в го-
лову остроумный способ спускаться по мере надобности вниз:
просто надо на верхних полках разложить томы Британской
энциклопедии (десятое издание). Стоит только взять подмышку
два-три тома, и вот он уже спускается вниз. И мы оба сошлись
на том, что по низу вдоль стен следует сделать железные по-
ручни, чтоб держаться за них, когда явится необходимость дей-
ствовать в комнате на низком уровне.
Обсуждая все эти детали, я заметил, что отношусь к делу
с искренним интересом. Я сам пошел к экономке и раскрыл ей
истину. Почти без посторонней помощи я прикрепил к потолку
перевернутую кровать. Я провел целых два дня в его квартире.
Я очень ловок и предприимчив, когда у меня в руках отвертка
и клещи, и я сделал множество оригинальных приспособлений
для Пайкрафта,— переделал проводку, чтобы он мог доставать
до звонка, ввернул все лампочки так, чтоб они светили вверх,
и тому подобное. Вся процедура занимала меня чрезвычайно,
и было так приятно думать о Пайкрафте, как о большой жир-
ной мухе, которая переползает по потолку и по дверным кося-
кам из комнаты в комнату, и что он уж никогда, никогда, ни-
когда больше не появится в клубе...
И тут, знаете, моя роковая изобретательность погубила
меня. Я сидел у его камина, попивая его виски, а он, в своем
излюбленном углу над дверью, приколачивал к потолку турец-
кий ковер, как вдруг меня осенила идея.
— Клянусь богом, Пайкрафт,— воскликнул я,— все это со-
вершенно лишнее!
И, не успев еще обдумать все последствия, я выпалил мою
идею.
— Нижнее белье из листового свинца,— объявил я. И непо-
правимое свершилось.
Пайкрафт принял мой проект почти со слезами.
— Снова быть как все... ходить по полу.
700
Я изложил ему весь замысел, прежде чем понял сам, чем
мне это грозит.
— Купите листового свинца, понаделайте из него дисков,
нашейте их на нижнее белье, сколько потребуется. Сделайте
себе башмаки со свинцовыми подошвами, носите портфель, на-
битый свинцом,— и все будет в порядке! Вместо того чтоб си-
деть тут, как в тюрьме, вы снова сможете показаться на свет
божий; вы сможете путешествовать.
Еще более счастливая мысль пришла мне в голову:
— И вам нечего бояться кораблекрушений. Вам достаточно
будет выскользнуть из некоторых ваших свинцовых одеяний,
взять в руку необходимый багаж и взлететь на воздух...
От избытка чувств он выронил молоток, который пролетел
на волосок от моей головы.
— Клянусь богом,— сказал он.— Ведь я же смогу бывать
в клубе.
Меня словно ошпарило.
— Дда... клянусь богом...— пролепетал я.— Да. Конечно —
и в клубе.
Так он и сделал. И делает поныне. Вот он сидит позади
меня и — клянусь жизнью — уплетает уже третью порцию пи-
рожков с маслом. И ни одна душа в мире — кроме меня и его
экономки — не знает, что фактически он ничего не весит. Что
это просто нелепый жевательный аппарат, мыльный пузырь,
niente, nefas самый незначительный из людей. Вот он сидит и
караулит, когда я кончу писать. Затем, если это ему удастся,
загородит мне путь, устремится ко мне...
Он опять начнет рассказывать мне обо всем. Что он чув-
ствует, и чего он не чувствует, и как иногда у него возникает
надежда, что «это» понемножку проходит. И обязательно ввер-
нет этаким заискивающим, приторным голоском:
— Будем держать в секрете — а? Ведь если кто узнает —
какой стыд! Меня еще, пожалуй, сочтут за дурака. Ползает по
потолку и тому подобное...
А теперь — как бы улизнуть от Пайкрафта, который зани-
мает исключительно выгодную стратегическую позицию между
мной и выходной дверью...
(Из сборника «Двенадцать рассказов и один сон», 1903)
4G Г. Уэлле, т. 2
701
МИСТЕР СКЕЛЬМЕРСДЭЙЛ В СТРАНЕ ФЕЙ
— Вот в той лавке,— сказал доктор,— есть человек, кото-
рый побывал в стране фей.
— Чепуха! — сказал я и внимательно посмотрел на дверь
лавки. Это была обычная деревенская лавчонка,— почта, теле-
графные провода на крыше, цинковые сковороды и щетки у
двери, сапоги, ткани и консервные банки на окне.— Расскажи-
те-ка мне об этом,— попросил я, помолчав.
— Да я не знаю о чем,— сказал доктор.— Он ведь самый
простой деревенский парень, Скельмерсдэйл его фамилия. Но
здесь все верят в это, как в непреложную истину.
Через некоторое время я повторил свою просьбу.
— Мне ничего об этом не известно,— отвечал доктор,— да я
и знать не хочу. Я лечил его, когда он сломал себе палец, играя
в крикет на состязании женатых против холостых, тогда я и
услышал эту небылицу. Вот и все. Но по этому вы можете
судить, с какими типами мне приходится иметь дело, а? Не
правда ли, весело вбивать в головы этакого народа новейшие
требования санитарии?
— Очень весело,— сказал я тихо, сочувственным тоном, и он
начал рассказывать о сложности осушения Бонхема. Такие во-
просы, как я заметил, часто заботят чиновников здравоохране-
ния. Я изо всех сил старался выразить ему сочувствие, и, когда
он назвал бонхемских жителей «ослами», я добавил, что это не
просто ослы, а «тупые ослы», но даже это не успокоило его.
А потом, уже летом, настоятельное желание уединиться,
чтобы закончить главу моей книги «Патология духа»,— уверяю
вас, написать ее было труднее, чем теперь прочесть,— привело
меня в Бигнор. Я поселился на ферме и скоро, в поисках
табака, снова очутился у двери этой универсальной лавочки.
«Скельмерсдэйл»,— вспомнил я при виде ее и вошел.
702
Меня обслуживал невысокий, стройный молодой человек;
у него была прекрасная гладкая кожа и мелкие, хорошие зубы,
голубые глаза и томные манеры. Я с любопытством рассматри-
вал его. Если бы не чуть заметная меланхолия во взгляде, он
ничем бы не отличался от подобных ему. Он был без пиджака
и в рабочем фартуке; как следует быть приказчику, и за ухом
у него наивно торчал карандаш. По черному жилету шла золо-
тая цепочка, на которой болтался погнутый золотой.
— Ничего больше не прикажете, сэр? — спросил он и на-
клонился над моим счетом.
— Это вы и есть Скельмерсдэйл? — спросил я.
— Да, я, сэр,— ответил он, не поднимая глаз.
— И это правда, что вы побывали в стране фей?
Нахмурив брови, он огорченно и сердито взглянул на меня.
— Отстаньте! — воскликнул он и, быстро поборов вспышку
неприязни, опустил глаза и принялся подсчитывать мои по-
купки.— Четыре, шесть с половиной,— сказал он, помолчав.—
Благодарю вас, сэр.
Так неблагоприятно началось мое знакомство со Скельмерс-
дэйл ом.
И все же мне удалось завоевать его доверие, хоть это и
стоило немалых усилий. Мы повстречались с ним снова в дере-
венском трактирчике, куда я отправился как-то вечером после
ужина поиграть на биллиарде и немного поразвлечься после
длительного уединения, которое так необходимо при дневной
работе. Я сыграл с ним партию, потом мы начали болтать.
Вскоре я убедился, что единственной запретной темой была у
него страна фей. Что касается всего прочего, он был разговор-
чив и откровенен, хоть и не блистал умом; но эта тема, видимо,
волновала его, и на нее был наложен запрет. Лишь один раз
я услышал отдаленный намек на его приключение, который
позволил себе обозленный работник с фермы, проигравший
ему на биллиарде. Скельмерсдэйл сыграл дублетом, то есть,
по бигнорским понятиям, сделал необычайно ловкий ход.
— Эй, вы, полегче! — крикнул его соперник.— Это вам не
колдовские штучки ваших фей!
Не выпуская кия из рук, Скельмерсдэйл уставился на него,
а затем с бешенством отшвырнул кий и вышел из комнаты.
— Неужели ты не можешь оставить его в покое? — сказал
почтенный старик, с интересом следивший за игрой, и под об-
щий неодобрительный ропот самодовольная усмешка сбежала
с лица работника.
Я воспользовался удобным моментом.
— Что это за шутка насчет фей? — спросил я.
— Насчет фей — это совсем не шутка, особенно для Скель-
мерсдэйла, — ответил почтенный старик, отхлебнув из стакана.
Маленький человек с розовыми щечками оказался более об-
щительным.
46* 703
— Говорят, сэр, что они увлекли его под Олдингтонский
холм,— сказал он,— и продержали там чуть ли не три недели.
С этой самой минуты мои дела пошли значительно успеш-
ней. Стоит одной овце побежать вперед, как остальные бро-
саются за ней. В короткое время я узнал все, что было известно
о приключении Скельмерсдэйла. Раньше, до переезда его в
Бигнор, он служил в точно такой же лавочке в Олдингтон Кор-
нер. Там-то все это и случилось. Все хорошо помнили, что как-
то вечером он поздно засиделся на Олдингтонском холме и ис-
чез с людских глаз на целых три недели. А потом вернулся цел
и невредим, но карманы его оказались полны пыли и пепла. Он
вернулся в настроении печальном и угрюмом, от которого не
скоро избавился, и долго еще никому не рассказывал, где он
пропадал. Девушка из Клэптон-хилла, с которой он был по-
молвлен, пробовала выведать у него правду, но в конце концов
бросила его, отчасти потому, что он не пожелал ей сказать,
а отчасти потому, как она призналась, что ей было с ним «не по
себе». А спустя некоторое время, когда он неосторожно разбол-
тал кому-то, что побывал в стране фей и хотел бы туда вер-
нуться, и когда об этом разнесся слух и начались беззлобные
деревенские шуточки, он вдруг бросил службу и уехал в Бигнор,
чтобы положить конец всем этим разговорам. Но что именно
случилось с ним в стране фей, так никто и не знал. Каждый
твердил свое, и эти рассказы разлетелись в разные стороны,
как стая гончих, потерявшая след. Один говорил одно, другой
другое.
Они говорили об этих чудесах всегда с сомнением и крити-
чески, и все же в их осторожной оценке я улавливал значитель-
ную долю веры. А что касается меня, я проявлял ко всей этой
истории интерес просвещенного человека, с оттенком разумного
сомнения.
— Если страна фей находится внутри Олдингтонского
холма,— сказал я,— почему бы вам ее не раскопать?
— Вот и я то же говорю,— вмешался молодой работник.
— Уже немало людей пыталось копать на Олдингтонском
холме,— важно заметил почтенный старик.— Но ни один из них
не остался в живых и не поведал нам, что им удалось там рас-
копать.
Их единодушная, хоть и смутная вера невольно заражала
меня, я чувствовал, что для столь твердого убеждения должно
быть основание, и мое и без того острое любопытство к подроб-
ностям этой истории все возрастало. Но эти подробности можно
было узнать только от самого Скельмерсдэйла, и потому я
удвоил свои старания, чтобы сгладить первое дурное впечатле-
ние, которое я произвел на него, завоевать его доверие и до-
биться добровольной исповеди. Осуществить эту попытку мне
помогло мое более.высокое социальное положение. За мою при-
ветливость и отсутствие определенных занятий, .шерстяную
704
куртку и короткие штаны меня принимали в Бигноре за худож-
ника, а по замечательному табелю о рангах, действующему в
Бигноре, звание художника считалось много выше звания при-
казчика из бакалейной лавки. Скельмерсдэйл, как и многие дру-
гие люди его круга, слегка страдает снобизмом. Он сказал мне
«отстаньте» только под влиянием внезапного раздражения и
впоследствии, не сомневаюсь, раскаялся в этом. Я знал, что
ему было очень лестно пройтись по деревне в моем обществе.
В скором времени он охотно принял предложение выпить у меня
стаканчик виски и выкурить трубку, и вот тогда счастливый- ин-
стинкт подсказал мне, что во всем этом замешана сердечная
тайна; и, зная, что откровенность порождает откровенность,
я постарался повлиять на него рассказами о моем действитель-
ном и вымышленном прошлом. И, если я не ошибаюсь, при
третьей встрече, после третьей рюмки виски, выслушав мой
простодушный рассказ о мимолетном увлечении, которое нача-
лось и кончилось в мальчишеские годы, он сам по собственной
воле сломал лед.
— Вот так-то было и со мною в Олдингтоне,— начал он.—
Это-то и чудно. Сначала я совсем ничего, а все она, а потом,
когда уж поздно было,— можно сказать, все я, а она ничего.
Я не откликнулся на этот первый намек, но за ним последо-
вал второй, и скоро мне стало совершенно ясно, что он хочет
говорить только о своем приключении в стране фей, которое так
долго таил про себя. Как видите, моя хитрость удалась, и из
недоверчивого человека и насмешника путем откровенного, без-
застенчивого признания я стал тем, кому он счел возможным
открыть свою тайну. Его задело за живое и захотелось показать,
что он тоже пожил и немало испытал, и вот тут-то он весь за-
горелся.
Сначала он, конечно, ограничивался туманными намеками,
и мое стремление все выпытать у него и уточнить сдерживалось
мыслью о том, что не следует вытягивать такие вещи слишком
поспешно. Но при следующей встрече доверие было завоевано
окончательно, и я полагаю, что мне удалось распутать эту слож-
ную историю и уловить почти все, что мистер Скельмерсдэйл,
с его ограниченными способностями к повествованию, сможет
когда-либо рассказать. Итак, я обращаюсь к подлинной истории
его приключения и снова собираю все факты воедино. Была ли
то действительность, фантазия, сон или странная галлюцина-
ция, я не берусь судить. Но ни на одну минуту я не допускаю,
чтобы это была выдумка. Скельмерсдэйл искренно и честно ве-
рит, что дело произошло так, как он об этом говорит. Он явно
не способен на тщательно продуманную и правдоподобную
ложь, и в доверии к нему простых, но часто проницательных
крестьян я нахожу решительное подтверждение его искрен-
ности. Он верит, и никто не может привести ни единого факта,
чтобы разрушить его веру. Что касается меня, то я попросту
705
пересказываю эту историю, я уже староват, чтобы что-нибудь
оправдывать или разъяснять.
Он рассказывает, что однажды вечером, часов в десять,
уснул на Олдингтонском холме; возможно, это было в Иванову
ночь, он не думал об этом и не знал, случилось это неделей
раньше или позже, но только ночь была чудесная, безветрен-
ная, и всходила луна.
С тех пор как по моему настоянию его история стала при-
нимать связную форму, я не поленился три раза побывать на
этом холме, и однажды отправился туда в летний вечер, когда
тоже всходила луна, быть может точно в такой вечер, в какой
началось его приключение.
Величественный и прекрасный Юпитер сиял над луной, а на
севере и северо-западе, там, где зашло солнце, небо было зеле-
новато-зол отым. Олдингтонский холм высится на фоне неба
голый и черный, но со всех сторон его окружает темная чаща
кустарника. И как только я стал пробираться сквозь нее, там
начался страшный переполох, и во все стороны прыснули тени
чуть видимых кроликов. А над самой вершиной, и только над
ней, вился звенящий рой мошкары. Холм этот, кажется, искус-
ственная насыпь, курган какого-то великого доисторического
вождя,— едва ли можно было избрать лучшее место для погре-
бения.
На восток взгляд убегает вдоль склонов к Хайту, а оттуда
через Ламанш, миль на тридцать, а может быть и дальше, туда,
где огромные яркие маяки у мыса Гри Нэ и Булони загораются,
гаснут и вспыхивают вновь. На запад простирается вся живо-
писная долина Уильды до самого Хайндхэда и Лейт-хилла,
а на севере долина Стоура, разрезая невысокую горную цепь,
уходит к бесконечной гряде холмов за рекою Уэй. На юге да-
леко внизу тянется Ромнейская низменность, и на ней видны
Димчэрч, Ромней и Лидд, подальше — Гастингс и нависающие
над ним склоны, а за ним —далекие холмы и городок Истборн,
растянувшийся до самой оконечности Бичи Хэд.
И вот на эту возвышенность, огорченный своей первой лю-
бовной размолвкой, поднимался Скельмерсдэйл, брел, как он
говорит, «неведомо куда». Здесь он присел, чтобы обдумать
все, что случилось и, мрачный и измученный, погрузился в
сон. И тут-то он попал во власть фей.
Ссора, которая так расстроила его, была самая обычная раз-
молвка между ним и его невестой, девушкой из Клэптон-хилла.
«Дочь фермера,— сообщил Скельмерсдэйл,— и очень порядоч-
ная»; и, конечно, подходящая пара для него. Но и девушка и ее
возлюбленный были очень молоды и преисполнены той взаим-
ной ревности, той предельно нетерпимой критики и неразумного
желания видеть друг в друге совершенство, которые, к счастью,
довольно скоро притупляются благоразумием и опытом. Не
знаю, чем была вызвана ссора. Быть может, она сказала, что
706
больше любит мужчин в гетрах, а у него их не было, или, мо-
жет быть, он сказал, что ей больше идет другая шляпа, но, так
или иначе, ссора началась и в конце концов привела к огорче-
нию и слезам. Она, конечно, расплакалась, и лицо у нее пошло
пятнами, а он побледнел и пал духом, а затем она рассталась
с ним5 награждая его нелестными эпитетами и заявляя, что
очень сомневается в том, что когда-нибудь действительно его
любила, и уж, конечно, не полюбит вновь. И вот с этакими мыс-
лями он поднялся, совершенно измученный, на Олдингтонский
холм и, просидев там долгое время, вдруг, неизвестно почему,
заснул.
Он проснулся на такой мягкой траве, на какой ему никогда
не доводилось спать, под тенью густых деревьев, которые со-
вершенно закрывали небо. Оказывается, в стране фей неба ни-
когда не бывает видно. За все время, которое он провел с ними,
кроме одной-единственной ночи, когда феи танцевали, Скель-
мерсдэйл не видел звезд. А насчет той ночи, я сильно сомне-
ваюсь, действительно ли он был в стране фей или на заливных
лугах близ железнодорожной линии у станции Смит, там, где
растут камыши.
Но под деревьями, несмотря на все это, было светло, а на
листьях и в траве блестело множество светляков так ярко и кра-
сиво. В первую минуту Скельмерсдэйлу показалось, что он
очень маленький, а затем, что вокруг него множество людей еще
меньше. Почему-то, рассказывает он, он ничуть не испугался и
не удивился, а только спокойно сел и начал протирать глаза,
стараясь отогнать сон. А вокруг него стояли и улыбались
эльфы, которые нашли его спящим на границе своих владений
и перенесли в страну фей.
Какие они были, эти эльфы, мне не удалось узнать, так ту-
манен и неточен был его словарь и так мало уделял он внима-
ния всяким мелким подробностям. Одеты они были во что-то
очень легкое и красивое, но это не было ни шерсть, ни шелк, ни
листья, ни лепестки цветов. Они окружили его, когда он про-
снулся и сел, и тотчас из просеки, по аллее, сверкавшей от
светляков, приблизилась к нему та самая фея со звездой на лбу,
которая и является главной героиней его воспоминаний и рас-
сказа. О ней я узнал больше. Одета она была в зеленую
паутинку, широкий серебряный пояс стягивал ее тоненькую та-
лию. Волосы ее были откинуты назад, и вокруг лица развева-
лись кудри, не то чтобы очень своенравные, а какие-то волни-
стые. И на лбу сияла тиара, украшенная одной-единственной
звездой. А рукава ее — рукава были совсем прозрачные,
и видно было, как поблескивают ее белые плечики. Ворот, как
мне кажется, был слегка приоткрыт, потому что Скельмерсдэйл
говорил о красоте ее шейки и подбородка. И эту белоснежную
шейку обвивало коралловое ожерелье, а грудь украшал алый
цветок. Черты ее лица, подбородок, щеки и шея были мягки,
707
как у младенца. А глаза ее, насколько я понял, были карие, бле-
стящие, такие нежные, правдивые и ласковые под ровной ду-
гой бровей. Вы можете судить по этим подробностям, какое
место занимала эта фея в описаниях мистера Скельмерсдэйла.
Он пытался что-то выразить, но это ему не удавалось. «А какие
у нее были движения!» — повторял он много раз. И, повиди-
мому, эта фея излучала какую-то необычайную, тихую радость.
В обществе этой прелестной особы, в качестве гостя и из-
бранника этой прелестной особы, мистер Скельмерсдэйл был
посвящен в таинственный мир страны фей. Она приветствовала
его радостно и не без сердечности, и я могу себе представить,
как сжали ее ручки его руку, как озарилось ее лицо, обращен-
ное к нему. Ведь десять лет назад юный Скельмерсдэйл, воз-
можно, был очень недурен. И вдруг она коснулась его плеча и,
кажется, повела его за руку по аллее, озаренной светляками.
Как протекали события в дальнейшем, не совсем ясно из
бессвязного рассказа мистера Скельмерсдэйла. Он дает смутное
описание таинственных уголков и странных церемоний, каких-
то лужаек, где собирались в хороводы феи, пунцовых ядовитых
грибов, волшебной пищи, о которой он мог только сказать: «Вот
если бы вы покушали», и волшебной музыки, которая звучала,
совсем как «музыкальная шкатулка», и лилась из склоненных
чашечек цветов. Была там просторная поляна, по которой но-
сились и катались феи «на каких-то штуках», но что подразу-
мевал Скельмерсдэйл под «этими штуками, на которых ката-
лись феи», я не знаю. Может быть, это были личинки, а может
быть сверчки, или те жучки, что так ловко от нас убегают. Был
там какой-то ручей, где журчала вода и росли огромные лю-
тики и где в знойные дни купались феи. Были игры, и танцы,
и флирт в густых зарослях мха. Нет сомнения в том, что фея
старалась увлечь Скельмерсдэйла, так же несомненно, что
юноша решил устоять перед соблазном. И настал день, когда
она присела на траву рядом с ним в тихом уединенном местечке,
где «пахло фиалками», и заговорила с ним о любви.
— И когда она заговорила тихим голосом, а потом зашеп-
тала,— рассказывает мистер Скельмерсдэйл,— да положила,
знаете ли, свою ручку на мою, да прижалась ко мне так ласково
и нежно, тут-то я чуть голову не потерял.
Но, на свое горе, голову он, видимо, не потерял. Он понимал,
«откуда ветер дует», говорит он. И вот, сидя в уголке, где бла-
гоухало фиалками, и чувствуя прикосновенье прелестной феи,
мистер Скельмерсдэйл осторожно сообщил ей, что он по-
молвлен.
Но она признавалась ему в своей нежной любви, говорила о
том, какой он милый и что бы он ни попросил, она исполнит,
даже самое заветное его желание.
И мистер Скельмерсдэйл, который, думается мне, с трудом
удерживался, чтобы не смотреть, как открывались и закрыва-
708
лись ее губки, перешел к делу совсем обыкновенному и сказал
ей, что ему хотелось бы иметь приличный капиталец и открыть
небольшую лавку. Ему бы только хотелось почувствовать, ска-
зал он, что у него в кармане достаточно денег для этого. Пред-
ставляю себе, какое удивление появилось в карих глазах феи,
когда она услышала его слова. Но, кажется, она отнеслась к
его планам благосклонно и засыпала его вопросами насчет
лавки и «как будто смеялась все время». И тогда он подробно
сообщил ей о своей помолвке и все насчет Милли.
— Все? — спросил я.
— Да, все,— ответил мистер Скельмерсдэйл,— кто она та-
кая, где живет, и все, решительно все. Мне казалось, что мне
надо это сказать.
— Чего бы ты ни пожелал, я исполню,— сказала фея.— Все
исполню. И ты почувствуешь, что у тебя есть эти деньги, именно
так, как ты хочешь. А теперь ты должен меня поцеловать.
А мистер Скельмерсдэйл притворился, что не слышит ее по-
следних слов, и просто сказал, что она очень добра. Что он не
заслуживает ее милости. И...
Фея близко прильнула к нему и прошептала: «Поцелуй
меня».
— И я,— сказал мистер Скельмерсдэйл,— я, как дурак, по-
целовал ее.
Поцелуи, говорят, бывают разные, и этот поцелуй был, ве-
роятно, совсем не похож на звучное чмоканье Милли. Волшеб-
ное что-то было в том поцелуе, и с этой минуты все изменилось.
По крайней мере это мгновенье он считал достойным более по-
дробного описания. Я пытался понять его, я пробовал отбросить
намеки и жесты, которыми он старался передать свои пережи-
вания, но я не сомневаюсь, что мой рассказ звучит совсем иначе,
что чувства были прекрасней и нежней в том вкрадчивом, вол-
нующем молчании волшебных аллей, озаренных призрачным
светом. И опять расспрашивала его фея о Милли — очень ли
она красива и тому подобное. Насчет красоты Милли, я пред-
ставляю себе ответ: «что она вообще ничего себе». И тогда,
а может быть в другой раз, фея сказала, что влюбилась в него,
когда он спал при лунном свете, и привела его в страну фей,
и, не зная о Милли; думала, что он может полюбить ее. «Но те-
перь я знаю, что ты не свободен,— сказала она,— и потому ты
должен побыть со мной немножко, а потом вернуться к Милли».
Она сказала ему это, и, вы понимаете, Скельмерсдэйл уже был
влюблен в нее, и только душевная леность не давала ему ото-
рваться от прошлого. Я представляю себе, как он сидел в оце-
пенении, среди всех этих прекрасных, светлых созданий, и от-
вечал насчет Милли, говорил о лавке, которой он собирался об-
завестись, и о том, что ему нужны лошадь и тележка...
И это нелепое положение, вероятно, тянулось много дней.
Я ясно вижу эту маленькую женщину, как она порхает вокруг
709
него, стараясь его позабавить, слишком чистая, чтобы понять
сложность его чувств, слишком влюбленная, чтобы отпустить
его. А он, вы понимаете’, весь во власти земных забот, беспо-
мощно метался, не зная, как ему быть с ней, равнодушный ко
всему, что происходит в стране фей, кроме изумительной любви,
которую он познал. Трудно, невозможно описать ее неземную
нежность, светившую даже в путанице несвязных речей бедного
Скельмерсдэйла. Для меня по крайней мере в туманном его
рассказе она сияла ярким светом, как светляк среди сорной
травы.
Вероятно, немало прошло дней с тех пор, как это случилось,
и однажды, повторяю, феи танцевали в волшебном хороводе
среди лугов близ Смита. Но всему приходит конец. Она отвела
его в большой грот, освещенный «чем-то красным, вроде ноч-
ника», где стояли один на другом сундуки и были кубки, и зо-
лотые шкатулки, и целая гора того, что мистер Скельмерсдэйл
принял за золото. И среди этих богатств сновали малютки
гномы, которые приветствовали фею и отошли в сторонку. И вот
тогда она обратила на него сияющий взгляд.
— Спасибо тебе,— сказала она,— что ты так долго побыл
со мной, но теперь пора отпустить тебя. Ты должен вернуться к
своей Милли. Ты должен вернуться к Милли, а сейчас, ведь я
обещала тебе, они дадут тебе золото.
— Она как будто задыхалась при этом,— рассказывал ми-
стер Скельмерсдэйл.— А я почувствовал вот тут (он коснулся
своей груди) какую-то дурноту. Я чувствовал, что побледнел,
знаете ли, и дрожу, но даже тогда не мог сказать ни словечка.
Он помолчал.
— Ну? — сказал я.
Описать эту сцену он был не в силах. Но я знаю, что фея
поцеловала его на прощанье.
— А вы так ничего и не сказали?
— Ничего,— ответил он.— Я стоял как истукан. Только ра-
зок она обернулась, знаете ли, и так и стояла, не то смеясь, не
то плача, и я видел, как блеснули слезы на ее глазах, а потом
она исчезла, а весь этот маленький народец засуетился вокруг
меня и стал совать мне золото в руки, в карманы, за ворот.
И только тогда, когда фея исчезла, мистер Скельмерсдэйл,
наконец, понял все. Он вдруг начал выбрасывать золото на
землю и кричать, чтобы они не давали ему больше.
— «Не нужно мне вашего золота! — закричал я.— Еще ни-
чего не кончилось! Я еще не ухожу! Я хочу опять говорить с
феей!» И я побежал за ней, но они не пустили меня. Да, они
вцепились в меня своими ручонками и потащили назад. Они
совали и совали мне золото, пока оно не начало высыпаться у
меня через штаны и вываливаться из рук. «Не нужно мне ва-
шего золота! — повторял я.— Я только хочу снова говорить с
феей!»
710
— И это вам удалось?
— До драки дошло.
— А потом вы видели ее?
— Нет, не видел. Когда я вырвался от них, ее уже не было
нигде.
Он бросился из этой красной пещеры искать ее, побежал по
длинному гроту и, наконец, попал на огромную пустынную по-
ляну, над которой летала пропасть светляков. Вокруг него тан-
цевали, издеваясь, эльфы, а малютки гномы выбежали за ним
и швыряли вдогонку золото пригоршнями и кричали: «Волшеб-
ная любовь и волшебное золото! Волшебная любовь и волшеб-
ное золото!»
Он услышал эти слова, ему вдруг стало страшно, что все
кончилось, и он громко позвал ее и пустился бежать вниз по
склону, прочь от пещеры, продираясь через заросли терна и ши-
повника и не переставая громко звать ее. Вокруг него плясали
эльфы, и щипали его и кололи, светляки стремительно налетали
на него, а гномы с криком гнались за ним и забрасывали вол-
шебным золотом. И когда он бежал, окруженный этой буйной
толпой, которая его сводила с ума, он вдруг провалился по ко-
лено в болото и очутился среди толстых, извилистых корней,
запутался в них и упал...
Он упал и перевернулся и в ту же минуту увидел, что лежит,
растянувшись, совсем один, на Олдингтонском холме, под
звездным небом.
Он сразу сел, говорит он, и почувствовал, что сильно озяб
и задеревенел, и одежда на нем отсырела. Занялась заря, и тот-
час подул свежий ветер. Он думал, что все это странный, яркий
сон, до тех пор пока не сунул руку в боковой карман, набитый
пеплом. И тогда он понял, что это и есть волшебное золото,
которое ему подарили. Он все еще чувствовал щипки и уколы
эльфов, хотя на теле не было ни одной царапины. И вот таким
образом и так внезапно вернулся мистер Скельмерсдэйл из
страны фей к людям. Но даже и тогда ему казалось, что .это
просто ночной кошмар, пока он не очутился в лавочке в Олдинг-
тон Корнер и не узнал от удивленных соседей, что пропадал три
недели.
— О боже! Вот было трудно-то...
— Что трудно?
— Да объяснить им. Вам, верно, никогда не приходилось та-
кое объяснять.
— Никогда,— сказал я. И он начал подробно описывать по-
ведение тех или других людей. Лишь одно имя он избегал упо-
минать.
— Она, наверное, изменилась?
— Все изменились. Изменились не на шутку. Стали такими
большими и грубыми. И голоса у них были какие-то громкие.
И даже солнце в то утро чуть не ослепило меня.
711
— А Милли? — спросил я, наконец.
— Мне ничуть не хотелось видеть Милли.
— А Милли?
— Я не хотел видеть Милли<
— А когда увидели?
— Я встретил ее в воскресенье, когда выходил из церкви.
«Где ты был?» — спросила она, и я понял, что она ищет ссоры.
Но мне было все равно. И даже когда она была вот тут, рядом,
я о ней не думал. Она была для меня совсем как пустое место.
Я никак не мог понять, что я в ней раньше находил, что такое
было в ней. Иной раз, когда ее нет, меня потянет к ней, а как
увижу, все пропадает. Та, другая, приходит и прогоняет ее
прочь... А все-таки я сердце ее не разбил.
— .Замужем? — спросил я.
— Да, вышла за своего двоюродного брата,— сказал мистер
Скельмерсдэйл и начал рассматривать узор на скатерти.
Когда он заговорил снова, было ясно, что он уже позабыл о
бывшей невесте и что наш разговор вновь воскресил образ феи,
который неизменно жил в его душе. Он говорил о ней, пробуж-
дая в памяти удивительные вещи, и рассказывал о тайнах
любви, которые было бы неблагородно повторять. Мне ду-
мается, что самым странным в этой истории было то, как этот
прозаический деревенский лавочник за рюмкой виски и держа
в руках сигару рассказывал — все еще с горечью, хотя время,
конечно, притупило боль — о неутолимой сердечной муке, овла-
девшей им тогда.
— Я не мог есть,— уверял он.— Я не мог спать. Я делал
ошибки в заказах, путал сдачу. Она стояла передо мной и днем
и ночью и все влекла, влекла меня. Ох, как я ее желал, бог ты
мой, как я ее желал! Я проводил на холме все вечера. Я оста-
вался там даже в дождь. Я бродил по склонам и исходил их
вдоль и поперек и молил ее впустить меня. Кричал. Иной раз
чуть не до слез доходило. Прямо ополоумел от горя. Я все убеж-
дал ее, что произошла ошибка. И каждое воскресенье, после
обеда, я снова шел туда, и в дождь, и в солнце. Я ходил туда,
хоть и знал не хуже вас, что днем ничего не будет. Я пробовал
уснуть там.
Он вдруг умолк и выпил глоток виски.
— Я пробовал уснуть там,— продолжал он, и, клянусь вам,
при этом губы его задрожали.— Я пробовал уснуть там часто,
очень часто. И знаете ли, сэр, не мог, никак не мог. Я все вот
думал, что если бы я уснул, быть может что-нибудь и было бы.
Но я вскакивал, ложился снова и не мог,— только звал ее да
тосковал. Такая тоска!.. Я пробовал...
Он высморкался, одним глотком допил виски и вдруг встал
и застегнул пиджак, в то же время пристально и критически
рассматривая дешевенькие олеографии, висевшие над камином.
Маленькая записная книжка в черном переплете, в которой он
712
записывал заказы своих постоянных покупателей, упрямо то-
порщилась в его боковом кармане. Он застегнулся на все пуго-
вицы, провел рукой по груди и резко повернулся ко мне.
— Ну, ладно,— сказал он,— пора уходить.
Во взгляде его и движениях было что-то, что ему не удава-
лось выразить словами.
— Наговорились! — сказал он, наконец, в дверях и с блед-
ной улыбкой исчез.
Вот и вся история мистера Скельмерсдэйла, рассказанная с
его слов.
(Из сборника «Двенадцать рассказов и один сон», 1903)
«НОВЕЙШИЙ УСКОРИТЕЛЬ»
Иной раз бывает, что ищешь булавку, а находишь золо-
той. Так случилось с моим добрым приятелем профессором
Гибберном. Я и прежде слыхал, что многие великие открытия
делались неожиданно, но с профессором Гибберном произошло
нечто из ряда вон выходящее. Можно смело сказать, что его
открытие перевернет вверх ногами всю нашу жизнь. А между
тем он хотел только найти какое-нибудь универсальное тони-
ческое средство, которое дало бы людям возможность поспе-
вать за нашим беспокойным веком. Мне уже приходилось не
раз принимать это снадобье, и сейчас я попробую описать вам
его действие на мой организм. Из дальнейшего будет видно,
какой богатой находкой окажется это средство для всех иска-
телей новых ощущений.
Мы с профессором Гибберном соседи по Фолкстону. Если
память мне не изменяет, несколько его портретов было поме-
щено в журнале «Стрэнд», кажется, в конце 1899 года. Про-
верить это я не могу, потому что кто-то взял у меня этот жур-
нал и до сих пор не вернул; но читатель, может быть, помнит
высокий лоб и необыкновенно длинные черные брови Гибберна,
которые придают его лицу что-то мефистофельское.
Профессор Гибберн живет на Аппер-Сэндгейт-род, в одном
из тех нарядных особняков неопределенного стиля, кото-
рые так украшают эту улицу. Крыша у его домика фламанд-
ская, а портик мавританский; в одной из комнат окно с боль-
шим фонарем. В этой комнате профессор работает, и там же,
когда я прихожу к нему по вечерам, мы курим и беседуем.
Профессор Гибберн большой шутник, но он любит не только
пошутить и часто говорит со мной о своих занятиях. Это один
из тех людей, для которых беседа является потребностью: она
помогает им работать, и, таким образом, у меня была возмож-
714
ность шаг за шагом проследить создание «Новейшего ускори-
теля», хотя значительную часть опытов Гибберн производил
не в Фолкстоне, а в прекрасно оборудованной лаборатории на
Гауэр-стрит, рядом с больницей.
Как известно всем образованным людям, Гибберн заслу-
женно прославился среди физиологов своими работами по
изучению действия лекарств на нервную систему. В части
снотворных, успокаивающих, анестезирующих средств он, гово-
рят, не знает себе равных. Гибберн пользуется большим авто-
ритетом и как химик, и мне думается, что до тех пор, пока он
не сочтет нужным опубликовать некоторые свои работы, уче-
ный мир не получит ответа на ряд сложных и туманных вопро-
сов, связанных с клетками нервных узлов и осевыми волокнами.
В последние годы Гибберн уделял особое внимание
вопросу о тонических средствах и добился в этой области боль-
ших успехов еще до открытия своего «Ускорителя». Благодаря
ему медицина обогатилась по крайней мере тремя укрепляю-
щими средствами, значение которых во врачебной прак-
тике огромно. Препарат, называющийся «Сироп «Б» д-ра
Гибберна», спас больше человеческих жизней, чем любая спа-
сательная лодка на всем нашем морском побережье.
— Но все это меня совершенно не удовлетворяет,— сказал
он мне как-то около года назад.— Мои препараты либо под-
хлестывают нервные центры, не влияя на нервы, либо попросту
увеличивают наши силы путем понижения нервной проводи-
мости. Они дают лишь местный и очень неравномерный эффект.
Одни возбуждают сердце и внутренние органы, но притупляют
работу мозга; другие действуют на мозг, как шампанское, ни-
как не влияя на солнечное сплетение. А я добиваюсь — и, черт
возьми, добьюсь! — такого средства, которое встряхнет вас
всего с головы до пят и увеличит ваши силы в два... даже в
три раза против нормы. Да! Вот чего я ищу!
— Это потребует чрезмерной затраты сил,— заметил я.
— Безусловно! Но есть вы будете тоже в два-три раза
больше. А подумайте только, что это значит! Представьте себе
пузырек... ну, скажем, такой,— он взял со стола зеленый фла-
кон,— и в этом бесценном пузырьке заключена возможность
вдвое скорее думать, вдвое скорее двигаться, вдвое скорее ра-
ботать.
— Неужели это достижимо?
— По-моему, да. А если нет, значит у меня пропал целый
год. По моему глубокому убеждению, различные препараты
гипофосфатов показывают, что нечто подобное осуществимо...
Пусть подействует только в полтора раза — и то хорошо!
— И то хорошо! — согласился я.
— Возьмем для примера какого-нибудь государственного
деятеля. У него бездна дел, а с работой он не справляется.
— Пусть напоит этой штукой своего секретаря.
715
— И выиграет времени вдвое. Или возьмите себя: положим,
вам надо закончить книгу...
— Я обычно проклинаю тот день, когда начал ее.
— Или вы врач. Заняты по горло, а вам надо сесть и
обдумать диагноз... Или адвокат... Или готовитесь к экза-
менам...
— Таким людям прямой расчет платить по гинее за каждую
каплю вашего лекарства! — воскликнул я.
— Или, скажем, дуэль,— продолжал Гибберн.— Когда все
зависит от того, кто первый спустит курок.
— Или фехтование,— подхватил я.
— Вот видите, если мне удастся сделать мое средство уни-
версальным, вреда от него не будет никакого, разве что оно на
самую малость приблизит вас к старости. Но зато ведь вы и
проживете вдвое по сравнению с другими.
— А все-таки на дуэли это будет, пожалуй, нечестно по от-
ношению к противнику,— в раздумье сказал я.
— Это уж как решат секунданты,— ответил Гибберн.
Но меня снова начали одолевать сомнения.
— И вы уверены, что такое снадобье можно изобрести?
— Абсолютно уверен,— сказал Гибберн, выглянув в окно,
за которым что-то пронеслось с грохотом.— Изобрели же авто-
мобиль! Собственно говоря...— Он умолк и, многозначительно
улыбнувшись, постучал по столу зеленым пузырьком.— Собст-
венно говоря, я такой состав знаю... кое-что уже сделано...
По той нервной усмешке, с какой Гибберн произнес эти
слова, я понял всю важность его открытия. О своих опытах он
обычно заговаривал только тогда, когда они близились к концу.
— И может быть... может быть, мой препарат увеличит
наши силы даже больше чем вдвое...
— Это будет грандиозно! — сказал я не очень уверенно.
— Да, это будет грандиозно.
Но мне кажется, тогда он еще и сам не понимал всей гран-
диозности своего открытия.
Мы часто возвращались к этой теме, и с каждым разом
Гибберн говорил о «Новейшем ускорителе» — так он назвал
свой препарат — все с большей и большей уверенностью.
Иногда он размышлял вслух о неожиданных физиологических
последствиях, которые может вызвать «Новейший ускоритель»,
и при этом слегка омрачался; потом вдруг с нескрываемым ко-
рыстолюбием принимался обсуждать со мной денежную сто-
рону дела.
— Это великое открытие,— говорил Гибберн.—Я много
даю миру и считаю себя вправе рассчитывать на хорошую
мзду. Наука своим чередом, но, по-моему, мне должны дать мо-
нополию на мое снадобье хотя бы лет на десять. В конце кон-
цов почему все самое лучшее в жизни достается каким-то мел-
ким торгашам!
716
Мой интерес к новому изобретению не ослабевал. Я всегда
отличался некоторой склонностью к метафизике. Меня увле-
кали загадки времени и пространства, и теперь я начинал ве-
рить, что открытие Гибберна сделает возможным абсолютнее
ускорение человеческой жизни. Предположим, какой-нибудь че-
ловек станет принимать эти капли регулярно: жизнь его будет
насыщена до предела, но в одиннадцать лет он уже достигнет
зрелости, в двадцать пять начнет увядать, а к тридцати годам
превратится в дряхлого старца. Значит, думал я, Гибберн по-
просту сделает со своими пациентами то самое, что делает при-
рода с обитателями стран Востока: ведь они в пятнадцать —
шестнадцать лет взрослые люди, а к пятидесяти годам — ста-
рики и, как правило, мыслят и действуют быстрее нашего.
Магия фармакопеи всегда повергала меня в изумление.
Лекарства могут сделать человека безумным, могут и успо-
коить; могут наделить его невероятной силой и бодростью или
же превратить в безвольную тряпку. И вот к арсеналу пузырь-
ков, всегда готовых к услугам врачей, теперь прибавилось еще
одно чудо!
Но Гибберна подобные мысли мало интересовали — он был
поглощен технической стороной своего изобретения.
Седьмого или восьмого августа Гибберн сообщил мне, что
он уже поставил опыт дистилляции, которая должна решить
судьбу его работ, а десятого все было закончено, и «Новейший
ускоритель» стал осязаемой реальностью. Я шел в Фолкстон,
кажется в парикмахерскую, и встретил Гибберна,— он спешил
ко мне поделиться своей радостью. Глаза у него блестели, лицо
раскраснелось, и я сразу заметил несвойственную ему раньше
порывистость движений.
— Готово! — крикнул он и, схватив меня за руку, заговорил
быстро-быстро: — Совсем готово. Идемте ко мне, посмотрите
сами.
— Неужели правда?
— Правда! Это что-то невероятное! Идемте ко мне.
— И действует... вдвое?
— Больше, гораздо больше! Мне даже страшно. Пойдемте!
Попробуйте его сами! Испытайте! Это чудо, настоящее
чудо!
Он схватил меня за руку и потащил за собой с такой стре-
мительностью, что мне пришлось бежать, чтобы не отставать от
него; во весь дух поднимаясь в гору, он продолжал возбуж-
денно говорить. Навстречу нам ехал омнибус, и все сидевшие
в нем точно по команде принялись пялить на нас глаза, как
умеют глазеть только пассажиры омнибуса.
Стоял один из тех ясных и жарких дней, которыми так бо-
гато лето в Фолкстоне, когда все краски кажутся необычайно
яркими, все контуры необычайно четкими. Был и легкий вете-
рок, но разве он мог освежить меня?
47 Г. Уэллс, т. 2
717
Наконец, я взмолился о пощаде.
— Неужели я бегу? — удивился Гибберн и перешел с рыси
на быстрый шаг.
— Вы, наверное, попробовали свое снадобье? — еле выго-
ворил я.
— Нет,— сказал он.— Я только выпил воды из мензурки,
самую капельку... но мензурка была вымыта начисто. Вчера
вечером я действительно принял небольшую дозу «Ускорителя».
Но ведь с тех пор прошло столько времени.
— И он ускоряет... вдвое? — спросил я, весь в поту подбе-
гая к его дому.
— В тысячу раз, во много тысяч раз! — выкрикнул Гиб-
берн, театральным жестом распахивая настежь резную дубовую
калитку своего садика.
— Фыо! — свистнул я и последовал за ним.
— Я даже не могу установить, во сколько раз,— продолжал
он, вынимая из кармана ключ.
— И вы...
— Это бросает новый свет на физиологию нервной системы,
это переворачивает вверх ногами теорию зрительных ощуще-
ний!.. Одному богу известно, во сколько тысяч раз. Мы иссле-
дуем это после... А сейчас надо попробовать мое зелье.
— Попробовать? — переспросил я, идя за ним по коридору.
— Обязательно! — сказал Гибберн уже в кабинете.— Вот
оно, в этом маленьком .зеленом пузырьке! Если только вы не
боитесь.
Я человек по природе осторожный и рисковать люблю
больше на словах. Мне действительно было страшно, но ведь
гордость в карман не сунешь!
— Ну что ж,— нерешительно начал я.— Вы говорите, что
уже пробовали его?
— Да, пробовал,— ответил Гибберн.— И, по-моему, он мне
не повредил. У меня даже цвет лица не изменился, а самочув-
ствие...
Я опустился в кресло.
— Ну, хорошо, давайте! На худой конец мне не придется
идти в парикмахерскую, а это, по-моему, самая тяжелая обя-
занность цивилизованного человека. Как его принимают?
— С водой,— сказал Гибберн, хватаясь за графин.
Он остановился у письменного стола и внимательно по*
смотрел на меня. В его тоне появились профессиональные
нотки.
— Ведь это не обычное средство.
Я махнул рукой.
— Предупреждаю вас: как только сделаете глоток, за-
жмурьтесь и минуты две не открывайте глаз. Вы не ослепнете.
Наше зрение зависит от длины воздушных волн, а отнюдь не
от их количества, но если глаза у вас будут открыты, то ваша
718
сетчатка получит шок, сопровождаемый головокружением. Так
не забудьте зажмуриться!
— Слушаюсь,— сказал я.— Не забуду .
— Во-вторых, сохраняйте полное спокойствие. Не вздумайте
ерзать в кресле, не то сильно ушибетесь. Помните, что ваш
организм начнет работать во много тысяч раз быстрее обыч-
ного. Сердце, легкие, мускулы, мозг — решительно всё. Вы
этого не почувствуете, ощущения останутся прежние, но все
вокруг вас сразу замедлит ход. В этом-то и заключается весь
фокус.
— Господи! — сказал я.— Значит...
— Сейчас вы увидите,— сказал он, беря мензурку и окиды-
вая взглядом стол.— Стаканы, вода. Все готово! Для первого
раза нальем немного.— Драгоценная жидкость забулькала,
переливаясь из зеленого пузырька в мензурку.— Не забудьте,
что я вам говорил,— сказал Гибберн и опрокинул мензурку в
стакан с ловкостью итальянского лакея, наливающего виски.—
Зажмурьте глаза как можно крепче и соблюдайте полное спо-
койствие в течение двух минут. Я скажу, когда можно будет
открыть.
Он добавил в стаканы воды.
— Да, вот еще что! Не вздумайте ставить стакан на стол.
Держите его в руке, а локтем обопритесь на колено. Так... пра-
вильно... А теперь...
Он поднял свой стакан.
— За «Новейший ускоритель»! — сказал я.
— За «Новейший ускоритель»! — повторил Гибберн.
Мы чокнулись, опорожнили, стаканы, и я тотчас же закрыл
глаза.
Вам известна эта пустота небытия, в которую погру-
жаешься, хватив хороший глоток коньяка. Сколько времени
продолжалось такое ощущение, я не знаю. Потом до меня до-
несся голос Гибберна. Я встряхнулся и открыл глаза. Он стоял
на прежнем месте и попрежнему держал стакан в руке. Разница
была только в том, что теперь стакан был пуст.
— Ну? — сказал я.
— Ничего особенного не чувствуете?
— Ничего. Пожалуй, легкое оживление, и только.
— А звуки?
— Никаких звуков,— сказал я.— Черт возьми! Ведь
правда — полнейшая тишина. Только где-то кап-кап... точно
дождь. Что это такое?
— Это звуки распались на свои элементы,— пояснил
Гибберн.
Впрочем, я не ручаюсь за точность его слов.
Он повернулся к окну.
— Видали вы когда-нибудь, чтобы занавески вешали вот
так?
47*
719
Я посмотрел на окно и увидел, что один уголок у занавески
загнулся кверху, словно она застыла на ветру.
— Никогда не видал,— ответил я.— Что за странность!
— А это? — сказал он и растопырил пальцы, державшие
стакан.
Я, конечно, вздрогнул, ожидая, что стакан разобьется. Но
не тут-то было! Он повис в воздухе, даже не покачнувшись.
— В наших широтах,— сказал Гибберн,— падающий пред-
мет пролетает в первую секунду приблизительно шестнадцать
футов... То же самое происходит сейчас и с моим стаканом. Но
он не успел сделать сотой доли этих шестнадцати футов.
Теперь вы имеете представление о силе моего «Ускорителя»?
И Гибберн стал водить рукой вокруг медленно опускающе-
гося стакана, потом взял его за донышко, тихонько поставил на
стол и засмеялся.
- Ну-с?
— Недурно,— сказал я и начал осторожно подниматься с
кресла.
Самочувствие у меня было отличное, голова работала
легко, четко, но все во мне как-то страшно заторопилось.
Сердце, например, делало тысячу ударов в секунду, и это не
вызывало у меня никаких неприятных ощущений. Я выглянул
в окно. Велосипедист, застывший на месте, с застывшим обла-
ком пыли позади, стремглав догонял омнибус, который тоже не
двигался вперед. Я просто рот раскрыл от удивления при виде
этого невероятного зрелища.
— Гибберн,— крикнул я,— сколько времени действует эта
штука?
— Не имею ни малейшего понятия! — ответил он.—
Последний раз я принял ее перед сном. Говорю вам, мне стало
страшно. Тогда это длилось несколько минут, хотя минуты по-
казались мне часами. Потом сила действия начала спадать, и
довольно резко.
Я не ощущал никакого страха и очень гордился этим.
Правда, нас все-таки было двое.
— А что будет, если мы пойдем гулять? — спросил я.
— Что ж тут такого?
— Ведь нас увидят!
— Что вы! Что вы! Нас никто не увидит! Мы понесемся,
словно в сказке. Идем! Как вы предпочитаете — в окно или в
дверь?
И мы выбрались в окно.
У меня богатая фантазия, я много читал о разных чудесах,
многое пережил сам, но эта короткая прогулка по Фолкстону
после приема «Новейшего ускорителя» была самым необычай-
ным, самым ошеломляющим событием моей жизни.
Мы пронеслись через резную дубовую калитку, вылетели на
улицу и принялись внимательно наблюдать за окаменевшим
720
омнибусом. Верхушки колес, ноги лошадей, кончик хлыста и
нижняя челюсть кондуктора (он, видимо, собирался зевнуть)
еле заметно двигались, но кузов этого неуклюжего экипажа
пребывал в абсолютном покое. И мы не слышали ни звука, если
не считать легкого хрипа в горле зевающего кондуктора. Кучер,
кондуктор и одиннадцать пассажиров казались неотъемлемой
частью этой застывшей глыбы. Нам стало даже как-то непри-
ятно, когда мы обошли омнибус со всех сторон. Такие же люди,
как мы, и в то же время не похожие на нас, замерли в самых
непринужденных позах, не докончив начатых жестов. Какая-то
девушка и молодой человек, улыбаясь, делали друг другу
глазки, и эта улыбка грозила остаться на их лицах навеки;
женщина в развевающейся пелерине сидела, облокотившись на
поручни и вперив немигающий взор в дом Гибберна; мужчина,
похожий на восковую фигуру, закручивал ус, а другой протя-
гивал окостеневшую руку с растопыренными пальцами вслед
улетающей шляпе.
Мы смотрели на них, смеялись над ними, корчили им рожи,
а потом вдруг они стали противны нам, и мы пересекли дорогу
под самым носом у велосипедиста и понеслись по направлению
к скверу на берегу моря.
— Бог мой,— воскликнул Гибберн,— посмотрите-ка!
Перед нами была пчела: она.медленно перебирала крылыш-
ками и двигалась со скоростью улитки, самой ленивой улитки,
какую только можно себе представить.
И вот мы подошли к скверу. Тут началось сплошное безу-
мие. На эстраде играл оркестр, но мы услышали не музыку, а
какой-то хрип или предсмертный вздох, временами переходив-
ший в нечто вроде приглушенного тиканья огромных часов.
Люди в сквере стояли навытяжку или, словно странные немые
куклы, неуклюже балансировали на одной ноге, прогуливаясь
по травке. Я увидел небольшого пуделя, который подскочил
кверху и теперь опускался на землю, медленно перебирая ла-
пами.
— Смотрите,- смотрите сюда! — крикнул Гибберн, и мы
остановились перед каким-то франтом в белом полосатом кос-
тюме, в белых ботинках и в панаме, который подмигивал двум
разодетым дамам. Подмигивание, если исследовать его под-
робно, так, как это делали мы,— вещь весьма непривлекатель-
ная. Оно утрачивает всю свою бойкость, и вы вдруг замечаете,
что подмигивающий глаз закрывается неплотно, а из-под опу-
щенного века проглядывает нижняя часть глазного яблока.
— Отныне,— сказал я,— если господь бог не лишит меня
памяти, я никогда не буду подмигивать.
— А также и улыбаться,— подхватил Гибберн, разгляды-
вая оскалившуюся в улыбке даму.
— Однако становится ужасно жарко!сказал я.— Да-
вайте пойдем тише.
721
— Ничего! Ничего! — крикнул Гибберн.
Мы прошли мимо кресел, стоявших у дорожки. Позы тех,
кто сидел в этих креслах, казались почти естественными, а вот
на искаженные физиономии военных музыкантов просто больно
было смотреть. Какой-то краснощекий джентльмен боролся с
газетой, пытаясь сложить ее на ветру, да так и застыл, не до-
ведя эту борьбу до конца. Судя по многим признакам, ветер
был сильный, но для нас его не существовало. Мы отошли в
сторону и стали издали наблюдать за толпой гуляющих.
Разглядывать всех этих людей, внезапно остолбеневших и
превратившихся в подобие восковых фигур, было необычайно
интересно. Как это ни глупо, но, глядя на них, я был преиспол-
нен чувства собственного превосходства. Подумайте только: все
сказанное, продуманное, сделанное мною с той поры, как
«Новейший ускоритель» проник в мою кровь, укладыва-
лось для этих людей и для всей вселенной в десятую долю
секунды.
— «Новейший ускоритель»...— начал было я, но Гибберн
перебил меня:
— Вот она, проклятая старуха!
*- Какая старуха?
— Моя соседка,— сказал Гибберн,— а это ее любимая бо-
лонка, которая вечно тявкает. Нет, искушение слишком велико!
Гибберн — человек непосредственный и иной раз бывает
способен на мальчишеские выходки. Не успел я остановить
его, как он бросился вперед, схватил несчастную собачонку и
со всех ног понесся с нею по направлению к скалам. Удивитель-
ное дело, собачонка не выказала ни малейших признаков
жизни, даже не пискнула. Похоже было, что она спокойно
спит, и Гибберн держал ее за шиворот, словно деревянную иг-
рушку.
— Гибберн! — закричал я.— Бросьте ее! — Но тотчас же
перебил самого себя: — Остановитесь немедленно! На вас за-
горятся брюки! Они уже тлеют!
Он хлопнул себя по бедру и в нерешительности остановился
на краю скалы.
— Гибберн,— воскликнул я, настигая его,— перестаньте
бегать! Слишком жарко! Ведь мы делаем от двух до трех миль
в секунду. Вы забываете о сопротивлении воздуха.
— Что? — переспросил он, взглянув на собаку.
— Сопротивление воздуха! — заорал я.— Сопротивление
воздуха! Слишком быстро движемся! Как метеориты! Гибберн!
Гибберн! Я весь в поту, у меня зуд во всем теле. Смотрите,
люди зашевелились. Ваше средство перестает действовать.
Бросьте же собаку!
— Что? — спросил он.
— Ускоритель перестает действовать,— повторил я.— Мы
слишком разгорячились. Я мокрый, как мышь.
722
Гибберн поглядел сначала на меня, потом на оркестр, хри-
певший уже несколько учащеннее, и вдруг сильным взмахом
руки швырнул собачонку в сторону. Та медленно закружилась
в воздухе и повисла над сомкнутыми зонтиками мирно бесе-
дующих людей. Гибберн схватил меня за руку.
— Черт возьми! Кажется, вы правы... зуд во всем теле и...
Смотрите! Вон тот человек вынимает носовой платок. Его дви-
жения вполне явственны. Да, нам надо убираться отсюда, и как
можно скорее.
Но нам не удалось этого сделать, и, может быть, к счастью.
Бежать мы не могли, так как нас охватило бы пламенем. Теперь
я не сомневаюсь в этом, а тогда мы даже не подумали, что мо-
жем загореться... Но не успели мы двинуться с места, как дей-
ствие снадобья прекратилось внезапно, словно кто-то сдернул
завесу с наших глаз. Я услышал тревожный голос Гибберна:
«Садитесь!», хлопнулся на траву у края дороги и сильно об-
жегся. На том месте, где я сел, и по сию пору видна полоска
выжженной травы.
И тут оцепенение кончилось. Неясные хрипы оркестра сли-
лись в громкую мелодию, гуляющие перестали балансировать
на одной ноге и пошли своим путем, газеты и флаги затрепе-
тали на ветру, вслед за улыбками послышались слова, подми-
гивающий франт с самодовольным видом зашагал дальше, те,
кто сидел на стульях и креслах, зашевелились и заговорили.
Вселенная снова ожила и перестала отставать от нас, вер-
нее— мы перестали обгонять ее. Такое ощущение бывает у
пассажиров экспресса, резко замедлившего ход у станции.
Сперва передо мной все закружилось, и я почувствовал приступ
тошноты. Но это скоро прошло. А собачонка, повисшая было в
воздухе, шлепнулась прямо на зонтик какой-то дамы!
Это и спасло нас с Гибберном. Нашего внезапного появле-
ния никто не заметил, если не считать одного тучного старичка
в кресле на колесиках, который вздрогнул, несколько раз по-
косился в нашу сторону и, наконец, сказал что-то сопровождав-
шей его сиделке. Да! Появились мы здесь неожиданно. Впро-
чем, брюки наши скоро перестали дымиться, хотя меня все еше
припекало снизу.
Все, не исключая и музыкантов, впервые в жизни сбившихся
с такта, заинтересовались женскими криками и лаем почтен-
ной, откормленной болонки, которая только что мирно дре-
мала у восточной стены павильона и вдруг, переброшенная ка-
кой-то неведомой силой на запад, угодила со всего размаха на
дамский зонтик. Замечу кстати, что от необычайной быстроты
полета шерсть у нее оказалась слегка опаленной. И это — в
наши дни, когда все помешаны на спиритизме!
Все заметались, налетая друг на друга, опрокидывая
стулья и кресла. Прибежал полисмен. Не знаю, чем все это
кончилось: мы боялись, как бы нас не впутали в историю, и
723
поспешили скрыться с глаз наблюдательного старичка в кресле
на колесиках.
Придя в себя, остыв и немного отдышавшись, мы обошли
толпу и зашагали по дороге к дому Гибберна.
Я шел и прислушивался к шуму позади, сквозь который
явственно раздавался голос джентльмена, сидевшего рядом с
пострадавшей дамой. Джентльмен распекал сторожа сквера,
осыпая его незаслуженными обвинениями:
— Собаку швырнули вы! Больше некому было это сделать!
Способность воспринимать движение и звук вернулась к
нам так внезапно, что я не успел произвести необходимых в
таких случаях наблюдений. К тому же не мешало позаботиться
и о себе: одежда все еще жгла нам тело, а тлеющие брюки
Гибберна превратились из светлых в темнобурые,— так что на
обратном пути мне было не до науки. Пчелы, конечно, на преж-
нем месте не оказалось. Я думал, что увижу велосипедиста, но,
когда мы вышли на Сэндгейт-род, он уже скрылся за поворо-
том. Зато омнибус громыхал как ни в чем не бывало и дви-
гался довольно быстро, а его пассажиры ожили и вели себя
вполне нормально.
Нам удалось заметить только одно: подоконник, с которого
мы спрыгнули на улицу, был обуглен в нескольких местах, а
на дорожке остались необычайно глубокие следы от наших ног.
Таковы были результаты моего первого знакомства с «Но-
вейшим ускорителем». Все описанное мною произошло в тече-
ние одной-двух секунд. Мы прожили полчаса за то время, ко-
торое понадобилось оркестру, чтоб сыграть два такта. Весь
мир как бы замер, давая нам возможность приглядеться к нему.
Принимая во внимание все обстоятельства дела и главным
образом ту опрометчивость, с которой мы выскочили из дому,
нужно признать, что все могло окончиться для.нас значительно
хуже. Наш первый опыт показал, что Гибберну придется еще
много поработать над своим «Ускорителем», прежде чем этот
препарат станет пригодным для употребления; но в эффектив-
ности его можно не сомневаться.
После нашей необычайной прогулки Гибберн задался
целью урегулировать силу своего снадобья, и мне приходилось
не раз принимать различные дозы «Новейшего ускорителя» под
его наблюдением. Все сходило благополучно; впрочем, надо
сознаться, что, приняв лекарство, я уже не решался выходить
на улицу.
Могу добавить, что этот рассказ написан мною за один при-
сест, под действием снадобья профессора Гибберна. Я отры-
вался от работы раза два, не больше, чтобы откусить кусочек
шоколада. Рассказ был начат мною в шесть часов двадцать
пять минут, а теперь на моих часах тридцать одна минута седь-
мого. Посудите сами, как это удобно — вырвать среди сума-
тошного дня время и отдаться целиком своей работе!
724
Теперь Гибберн занят вопросом дозировки «Ускорителя» и
его действием на различные организмы. В противовес этому со-
ставу он надеется изобрести соответствующий «Замедлитель»,
который будет обладать свойствами, прямо противоположными
свойствам «Ускорителя». Прием одного этого лекарства позво-
лит пациенту растянуть секунду своего времени на несколько
часов и погрузиться в апатию, застыть, наподобие ледника, в
любом, даже самом беспокойном окружении.
Оба эти препарата должны произвести полный переворот в
жизни цивилизованного человека. Они положат начало осво-
бождению от «Ига Времени», о котором писал Карлейль. «Ус-
коритель» поможет нам сосредоточить все наши силы на ка-
ком-нибудь отрезке нашей жизни, требующем наивысшего
подъема, а «Замедлитель» обеспечит полное спокойствие в са-
мые мучительные и тяжкие для нас минуты. Может быть, я за-
бегаю вперед, говоря о несуществующем пока что «Замедли-
теле», но в отношении «Ускорителя» не может быть никаких
сомнений. Он поступит в продажу в ближайшие месяцы.
Маленькие зеленые бутылочки можно будет достать в любой
аптеке и в любом аптекарском магазине, правда, по довольно
высокой цене. Но такая цена не должна казаться чрезмерной,
если принять во внимание необычайные качества этого препа-
рата. Он будет называться «Ускоритель для нервной системы.
Патент д-ра Гибберна». Гибберн надеется выпустить его на
рынок в трех дозировках: один на 200, один на 900 и один на
2000, что будет обозначено разными ярлычками — желтым,
розовым и белым.
Широкое применение «Ускорителя» может, конечно, дать и
нежелательные результаты. Им могут воспользоваться преступ-
ники. Что стоит, совершив преступление, укрыться потом в ка-
кой-нибудь щелке времени? Как и всякое сильно действующее
средство, «Ускоритель» может быть употреблен во зло. Но мы
с Гибберном все обсудили и пришли к выводу, что это дело су-
дебной медицины и к нам никакого касательства не имеет.
Наша задача — изготовлять и продавать «Ускоритель», а что
из этого выйдет, мы посмотрим.
(Из сборника «Двенадцать рассказов и один сон», 1903)
СОДЕРЖАНИЕ
МИСТЕР БЛЕТСУОРСИ НА ОСТРОВЕ РЭМПОЛЬ
(Перевод С. Займовского и Е. Биру козой)
Глава первая, где повествуется о том, как мистер Блетсуорси
отправился в морское путешествие для поправки здоровья,
а также о его душевном состоянии в этот период времени
1. Род Блетсуорси..................................7
2. Свободомыслящий священник......................13
3. Болезнь и смерть дяди..........................21
4. Любовь и Оливия Слотер.........................26
5. Интермедия с миссис Слотер................... 35
6. Столкновение в потемках........................40
7. Мистер Блетсуорси совершенно исчезает из собствен-
ной памяти.........................................42
Глава вторая, где рассказывается о том, как мистер Блетсу-
орси отправился в море, о его путешествии, о том, как он
потерпел кораблекрушение, был покинут на корабле и как
появились дикари, взявшие его в плен
1. Мистер Блетсуорси выбирает корабль............45
2. Мистер Блетсуорси отправляется в плавание ... 47
3. Высадка в Пернамбуку..........................54
4. Вилла Эльсинор................................57
5. Переход до Рио................................61
6. Машины испортились............................65
7. Револьвер механика............................67
8. Крик во тьме................................. 69
9. Похороны в открытом море......................71
10. Шторм ...................................... 73
И. Мятеж и злодеяние............................. 77
12. Покинутый ....................................82
727
13. Размышления покинутого......................86
14. Терпеливый спутник...........................88
15. Звезды-язычницы . ...........................89
16. Акулы и кошмары . ..........................91
17. Остров Рэмполь пожаловал на борт.............94
Глава третья, повествующая о том, как мистер Блетсуорси
очутился среди дикарей острова Рэмполь, о его первых
впечатлениях, о нравах и обычаях этих дикарей; о том,
как он наблюдал мегатерия, исполинского земляного ле-
нивца, сохранившегося на этом острове; что ему расска-
зывали о мегатерии; что он узнал о религии островитян,
об их браках и об их законах; как он беседовал с ними
о цивилизации и как на острове Рэмполь разразилась
война
1. Зловещий плен . .............................95
2. Священный безумец............................97
3. Злое племя..................................102
4. Беседа с пятью мудрецами....................107
5. Мегатерии................................. 113
6. Горное племя................................124
7. Любовь на острове Рэмполь...................129
8. Бьют барабаны войны.........................134
9. Пещера и девушка.......................... 139
10. Беглецы................................... 143
Глава четвертая, повествующая о том, как необычайно преоб-
разился остров Рэмполь, как мистер Блетсуорси вернулся
в лоно цивилизации; как он мужественно сражался, был
ранен и чуть не погиб смертью храбрых в мировой войне
за цивилизацию; о его жене Ровене; о его детях; как он
нашел себе занятие; о его замечательной беседе со ста-
рым приятелем, в конце которой были высказаны мысли
о жизни человеческой, обещанные еще на титульном листе
этой книги
1. Ровена...................................... 146
2. Объяснения доктора Минчита '.................147
3. Снова бьют барабаны войны....................155
4. Барабаны бьют все громче.....................159
5. Мистер Блетсуорси знакомится с дисциплиной . .164
6. Война над Пимлико............................167
7. Встреча не ко времени........................170
8. Мистер Блетсуорси в бою......................174
9. Мистер Блетсуорси лишается ноги..............178
10. Ночные боли................................ 180
11. Дружественный глаз ..........................181
12. Жизнь идет дальше............................186
13. Возвращение былых ужасов.....................188
14. Бодрая интермедия........................... 194
728
БЭЛПИНГТОН БЛЭПСКИЙ
(Перевод М. Богословской)
Глава первая. Его рождение и ранние годы
1. Раймонд и Клоринда........................... 207
2. Укрепление Блэпа...............................211
3. Дельфийская Сивилла............................212
4. Бог, пуритане и мистер Уимпердик...............217
5. У мальчика есть вкус...........................223
Глава вторая. Рыжеволосый мальчик и его сестра
1. Нечто в склянках...............................224
2. Обитель микроскопа.............................228
3. Наука и история. Первое столкновение . . . . 234
4. Возвращение домой............................. 236
5. Наследники.....................................237
Г лава третья. Юность
1. Смятение грез..................................243
2. Отличие профессора Брокстеда...................247
3. Ощущение присутствия...........................253
4. Цель жизни.....................................257
5. Попытки быть рассудительным................• • 261
6. Вечер у Паркинсонов............................264
7. Сети обязательств..............................268
8. Сбросил путы...................................278
9. Рэчел Бернштейн................................286
Глава четвертая. Теодор в роли любовника
1. Я — мужчина....................................291
2. А как же Маргарет?.............................296
3. Необъяснимая боль сердца.......................300
4. Точка зрения Маргарет..........................302
5. Любовь Небесная и Земная.......................310
6. Обезьянник . . . ..............................314
Глава пятая. Теодор и смерть
1. Смерть Раймонда...............................318
2. Смерть........................................322
3. Опущенные шторы...............................324
4. Страх в ночи................................ 330
5. Кремация......................................331
6. Указание на бессмертие........................334
Глава шестая. .Героика
1. Великое здание трещит.........................346
2. Это война!....................................348
3. Возмущение умов...............................352
4. Идти иль не идти? . ..........................358
5. Вне войны.................................. 362
6. В окопах......................................371
7. Дядя Люсьен................................. 385
8. Любовь и смерть ..............................387
729
Глава седьмая. Гнет §ойны
1. Своенравный костоправ..........................390
2. Обескураживающая поддержка дяди Люсьена . . 397
3. Великий спор...................................400
4. Любовь и споры .............................. 403
5. Клоринда тоже..................................408
6. Письма из Парижа...............................411
7. Неизвестность в Париже.........................414
8. Последние слова Клоринды.......................417
9. Падение в Париже...............................422
10. Снаряд разорвался..............................428
Глава восьмая. Возвращение воина
1. Интермедия во мраке.............................433
2. Прерванные связи................................436
3. Послевоенная Маргарет...........................438
4. Маргарет колеблется.............................441
5. Эпистолярная невоздержность.....................445
6. Папье-маше......................................447
7. Великое отречение...............................453
8. Изгнанник.......................................459
Глава девятая. Честь имею представиться — капитан Блэп-
Бэлпингтон
1. Стопы юношей..................................460
2. Неприятный спутник............................. 465
3. Эти Наследники снова поднимаются..............473
4. Образцовый коттедж с одним-единственным недо-
статком ..........................................476
5. Приготовление к приему племянника Белинды . . 484
6. Капитан беседует с леди.......................489
7. Капитан беседует с тишиной....................508
8. Дельфийскую Сивиллу постигает жестокий конец . .515
ИГРОК В КРОКЕТ
(Перевод С. Займовского)
1. Крокетист представляется читателю...............521
2. Страхи на Каиновом болоте.......................525
3. Череп в музее...................................537
4. Несносный психиатр..............................547
РАССКАЗЫ
Видение Страшного суда. Перевод М. Михаловской .... 561
Дверь в стене. Перевод М. Михаловской....................567
Похищенная бацилла. Перевод Е. Семеновой...........-, . 583
Страусы с молотка. Перевод Т. Озерской . . . . . . . . 590
730
Искушение Харрингея. Перевод Г. Меликовой.................595
Человек, который делал алмазы. Перевод Н. Высоцкой . . .601
Остров Эпиорнис. Перевод В. Дилевской.....................608
Ограбление в Хаммерпонд-парке. Перевод Н. Высоцкой . . 618
Лесной клад. Перевод И. Грушецкой.........................625
В бездне. Перевод 3. Бобырь...............................632
Потерянное наследство. Перевод Н. Высоцкой 645
Хрустальное яйцо. Перевод Н. Волжиной.....................652
Человек, который мог творить чудеса. Перевод Э. Березиной 666
Волшебная лавка. Перевод К. Чуковского....................682
Правда о Пайкрафте. Перевод Н. Дехтеревой.................692
Мистер Скельмерсдэйл в стране фей. Перевод В. Дилевской 702
«Новейший ускоритель». Перевод Н. Волжиной ...... 714
731
Герберт Джордж Уэллс
ИЗБРАННОЕ, т. 2
Редакторы:
А. Банников и Е. Бирукова
Художник Н, Мунц
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор Ф. Артемьева
Корректоры:
Л. Коншина и В, Седова
*
Сдано в набор 20/Х-56 г.
Подписано к печати 6/XI-56 г.
Бумага 60 X 921/!6 — 45% печ. л.
45,4 уч.-изд. л. Тираж 165 000 экз.
Заказ № 1967. Цена 15 р. 10 к.
Гослитиздат,
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.
*
3-я типография
«Красный пролетарий»
Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.
Скан: (per^ptor
май 2023