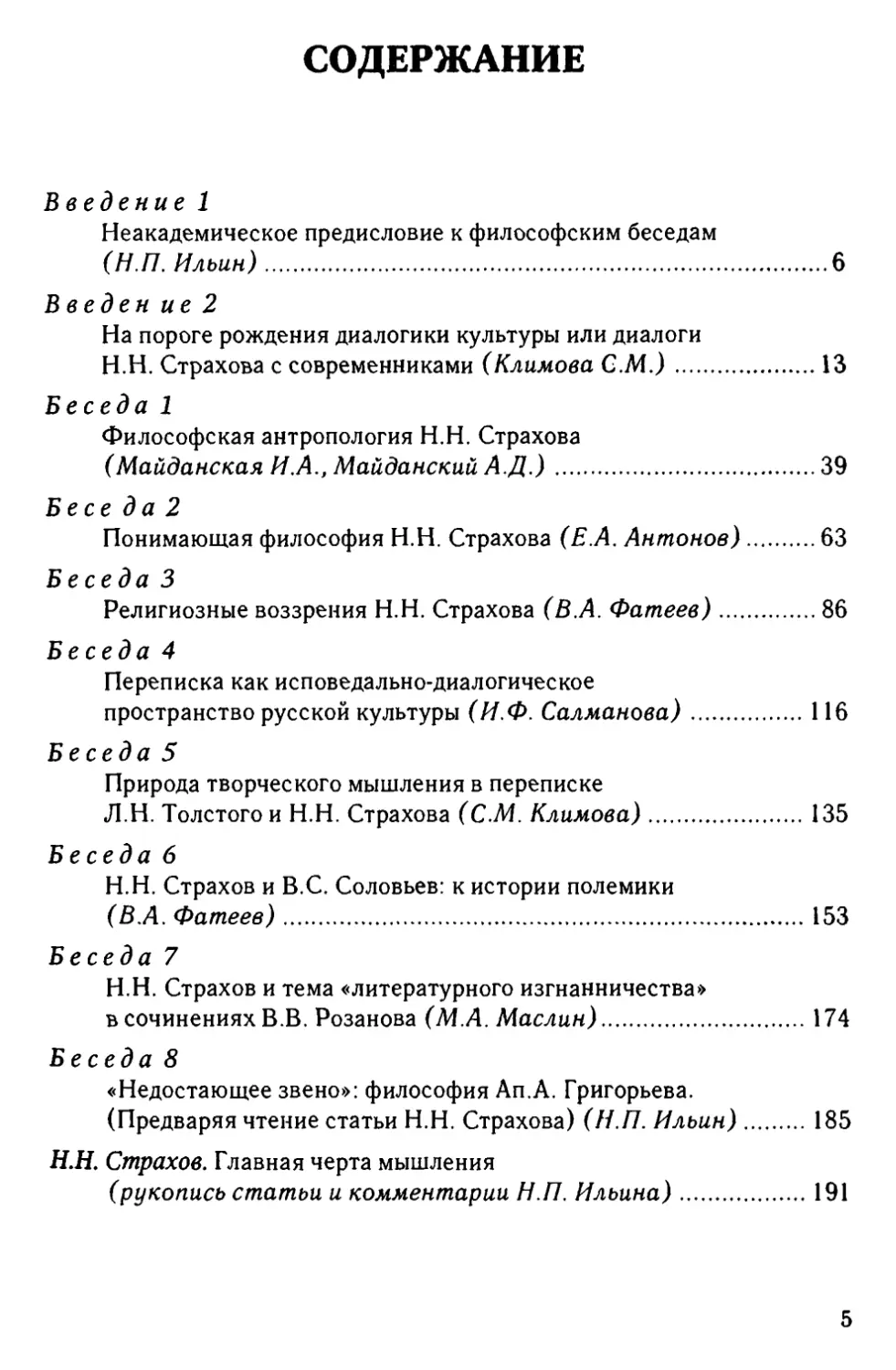Автор: Страхов Н.Н.
Теги: философия психология история философии философия культуры
ISBN: 978-5-91419-383-3
Год: 2010
Текст
Н.Н.СТРАХОВ
В ДИАЛОГАХ
С СОВРЕМЕННИКАМИ
ФИЛОСОФИЯ
КАК КУЛЬТУРА
Π ОН ИМАН ИЯ
Н.Н.СТРАХОВ
В ДИАЛОГАХ
С СОВРЕМЕННИКАМИ
ФИЛОСОФИЯ
КАК КУЛЬТУРА
ПОНИМАНИЯ
Санкт-Петербург АЛЕТЕЙЯ 2010
Коллективная монография:
д. ф. н. С. М. Климова (редактор-составитель, введение, Беседа 5);
д. ф. н. Е. А. Антонов (Беседа 2); д. ф.-м. н. И. /У. Ильин (предисловие,
Беседа 8); д. ф. н. М. А. Маслин (Беседа 7); к. ф. н. И. А. Майданская,
д. ф. н. А. Д. Майданский (Беседа 1); к. ф. н. И. Ф. Салманова
(Беседа 4); к. ф. н. В. А. Фатеев (Беседа 3, Беседа 6)
Рецензенты:
доктор философских наук, заведующий сектором истории
русской философии Института философии ΡΑΗΛί. И. Громов,
профессор Оттавского университета,
руководитель Slavic Research Group (Канада) Л. А. Донское
Монография выполнена в рамках федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 годы, госконтракт M 02.741.11.2091
H. H. Страхов в диалогах с современниками. Философия как
культура понимания / С. М. Климова, Е. А. Антонов, Н. П. Ильин
и др. — СПб. : Алетейя, 2010. — 208 с.
ISBN 978-5-91419-383-3
Задача коллективной монографии — «схватить нить судьбы» H. Н.
Страхова, которого традиционно представляют как философа «второго
эшелона» и вспоминают только в связи с Достоевским, Толстым, Данилевским,
Ап. Григорьевым, Вл. Соловьевым, Фетом, Розановым и др. Он зачастую
предстает как фоновая фигура, как философ — тень других, великих. Авторы
монографии — исследователи наследия Н. Н. Страхова — пытаются,
наоборот, посмотреть на многих великих людей эпохи Серебряного века в связи с
жизнью и творческими исканиями этого философа, считая его не тенью, но
«проявителем» ряда интеллектуальных процессов, которые способствовали
рождению русской философии Серебряного века. Философский
традиционализм Страхова не помешал ему быть другом и оппонентом тех, кто создавал
культурную эпоху Серебряного века. В монографии предпринята попытка
проникнуть в природу того уникального диалога, который состоялся между
ними и по-своему прояснил специфику философского (диалогического)
мышления начала XX века.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 1
Неакадемическое предисловие к философским беседам
( H.П. Ильин) 6
Введен ие 2
На пороге рождения диалогики культуры или диалоги
H.H. Страхова с современниками (Климова СМ,) 13
Беседа 1
Философская антропология H.H. Страхова
(Майданская И.А., Майданский А.Д.) 39
Бесе да 2
Понимающая философия H.H. Страхова (ЕА. Антонов) 63
Беседа 3
Религиозные воззрения H.H. Страхова (В А. Фатеев) 86
Беседа 4
Переписка как исповедально-диалогическое
пространство русской культуры (И.Ф. Салманова) 116
Беседа 5
Природа творческого мышления в переписке
Л.Н. Толстого и H.H. Страхова (СМ. Климова) 135
Беседа 6
H.H. Страхов и B.C. Соловьев: к истории полемики
(В А. Фатеев) 153
Беседа 7
H.H. Страхов и тема «литературного изгнанничества»
в сочинениях ВВ. Розанова (MA. Маслин) 174
Беседа 8
«Недостающее звено»: философия Ап.А. Григорьева.
(Предваряя чтение статьи H.H. Страхова) (НЛ. Ильин) 185
Я.Я. Страхов. Главная черта мышления
(рукопись статьи и комментарии H Л. Ильина) 191
5
Введение 1. Неакадемическое предисловие
к философским беседам
Даже не самый пристальный взгляд на культурную жизнь
последних лет замечает убыль интереса к отечественной философской мысли
за пределами сравнительно узкого круга специалистов. Особенно
очевиден контраст с концом 1980-х, да и началом 1990-х годов, когда все
без исключения «толстые» журналы, независимо от своих общественно-
политических пристрастий, из месяца в месяц помещали на своих
страницах публикации статей и даже книг «забытых» русских мыслителей,
размышления о нашем философском наследии, дискуссии на тему «Что
такое русская философия?»... Да что журналы — практически все
газеты, притязавшие на интеллектуальное лидерство, считали своим долгом
держать «философскую марку». Мне вспоминается, как «Литературная
газета» печатала проникновенные статьи о творчестве B.C. Соловьева,
П.А. Флоренского, И.А. Ильина и других, дополняя текст
замечательными графическими портретами, созданными художником Юрием
Селиверстовым для цикла «Из русских дум». А ныне та же «Литературная
газета», как выясняется, готова осчастливить своих читателей развязно-
хамскими «характеристиками» тех же философов, сообщая о том, что
Владимир Соловьев умер, наевшись «самодельных леденцов из
скипидара», а Павел Флоренский вышел из тьмы забвения только потому, что
его наследие «проталкивал» в печать «целый клан родственников»; Иван
Ильин сочинил трактат «О пользе порки», и прочее в том же роде.
Стоит ли упоминать эти нелепости? На мой взгляд, стоит, ибо в подобных
крайностях — когда они становятся отнюдь не редкостью — отчетливо
проявляется общая тенденция. Весьма показательна готовность
издания, читателями которого являются, главным образом, гуманитарии,
поместить на своих страницах этот «юмор» (притом под видом
«серьезного» текста). Многоопытные газетчики уловили растущее разочарование
немалой части российской интеллигенции в том, что именуется
«русской религиозной философией», уловили связанную с этой философией
общественную фрустрацию — и предложили, так сказать, в качестве
компенсации, издевательские «думы» дрянного фельетониста. Вот уж
поистине: «смейся, паяц, над разбитой любовью».
Конечно, можно не обращать внимания на эту коллективную
фрустрацию, считая, что разочарование в нашем философском наследии
6
связано с недостаточной компетентностью, с «непрофессионализмом» и
т.д., как, впрочем, и недавние завышенные ожидания и надежды. Всё это
справедливо — но только отчасти. Когда-то давно (а точнее — в 1875 г.),
размышляя о том, как «философская публика» (то есть рядовые
читатели, «профаны») «создает себе идолов и поклоняется им слепо», чтобы
затем «с тою же слепотой и увлечением» их низвергнуть, H.H. Страхов
отмечал, однако, «что самые беспорядочные умственные волнения
публики имеют свой смысл, свою логику»1. Есть своя логика и в
нынешнем охлаждении публики к философии «серебряного века» и
«русского зарубежья». На мой взгляд, именно «профаны» нередко чувствуют,
куда острее «профессионалов», то особое качество философии, которое
можно, вслед за И.В. Киреевским, назвать ее существенностью.
Конечно, это качество воспринимается «философской публикой» весьма
упрощенно — но всё-таки воспринимается и даже переживается, тогда
как для специалиста оно нередко отступает на второй план. Философ-
специалист спокойно пишет статью или книгу о том, что уже отразилось
в сотнях статей и десятках, если не сотнях книг; он находит в «избитой»
теме новые оттенки, нюансы, связи и филиации. Эта замечательная
способность имеет, однако, и свой очевидный минус — профессиональные
занятия философией могут стать «игрой в бисер», утонченной
дегустацией. В отличие от специалиста, профан, как правило, не играет, не
дегустирует, для него философия, как ни парадоксально, представляет
хлеб насущный в большей степени, чем для иного специалиста.
Какими же свойствами должен обладать этот «хлеб»? Прежде всего, профан
стремится уловить сущность той или иной философской концепции, ее
эссенциальное ядро; он ждет от специалистов ясных указаний на такое
ядро. В то же время он требует от философии не только эссенции, но и
экзистенции, не только сущности, но и существования2. Профан нередко
путает актуальность философии с ее сиюминутностью, но, в общем и
целом, он остро чувствует живое и мертвое в философии. А конкретнее, он
особенно ценит в философских концепциях их эвристический
потенциал, или возможность отвечать с их помощью на те современные вызовы, о
которых создатели этих концепций могли только догадываться.
Теперь спросим себя: можно ли, положа руку на сердце,
утверждать, что та обширная литература о «русской религиозной филосо-
1 Страхов H.H. Философские очерки. 2-е изд. Киев, 1906. С. 311-312.
2 Напомню, что слово «существенность» соединяет в себе, согласно Вл. Далю,
значения сущности и существования. К сожалению, после Ивана
Киреевского категорию «существенности» эпизодически использовал только Николай
Страхов.
7
фии», которая появилась в России за два последних десятилетия, дает
достаточно ясные и доступные «профану» ответы на вопросы,
связанные как с эссенциальным, так и с экзистенциальным значением этой
философии, с ее глубинной сущностью и с ее способностью быть
путеводной нитью нашего существования в качестве мыслящих существ?
Не остается ли рядовой читатель этой обширной литературы с
ощущением, что всё значение русской философии «серебряного века» (да и
более продолжительного, чем сам этот «век», эмигрантского
«эпилога») сводится к ее призыву отринуть «секуляризм» и вернуться к
религии? Мне могут заметить, что такой призыв, тем более подкрепленный
серьезной философской аргументацией, весьма немаловажен. Отмечу
еще один факт, очевидный именно сегодня, на исходе первого
десятилетия XXI века: многие из нынешних образованных россиян успешно
приходят к религии, а еще конкретнее — приобщаются к жизни
Русской Православной Церкви без какой-либо «религиозной философии»,
а иные — демонстративно прощаясь с этой философией по дороге в
Церковь. Конечно, можно считать, что таким образом русская
религиозная философия (и ее усиленная популяризация) достигла своей
цели. Но нет ли в этом достижении горького привкуса для каждого,
кто по-настоящему ценит философию?
И вот здесь снова уместно вспомнить слова H.H. Страхова из статьи
«Гартман и Шопенгауэр» о том, что «в инстинктах толпы обыкновенно
есть нечто верное и благородное», но «в приложении этих инстинктов
почти всегда происходит ошибка»1. Есть, как мне кажется, нечто верное
и даже благородное в изменившемся отношении широкой публики к тем
отечественным мыслителям, имена которых еще совсем недавно были
окружены чуть ли не всеобщим благоговением. Она, эта публика (или,
если угодно, «толпа»), почувствовала, хотя и не осознала сколько-нибудь
ясно, что в творчестве этих мыслителей, при всем их таланте и даже
гениальности, недостает подлинного уважения к философии как таковой, к
ее самостоятельному значению для русской культуры. Почувствовала
— и вернулась к тем культурным ценностям, фундаментальное значение
которых никогда не подвергалось серьезному сомнению. Но вернулась с
уже пробудившимися философскими запросами, а потому стала
доверчиво внимать тезису, согласно которому в России — в отличие от Запада —
самые ценные философские идеи рождались и созревали не в области
«чистой» философии, а в художественной литературе. Тезис этот совсем
не нов: его провозглашали многие представители «русской религиозной
философии», но особенно настойчиво — такие разные и по стилю, и по со-
1 Страхов H.H. Там же. С. 312-313.
8
держанию своих воззрений мыслители, как H.A. Бердяев и С.Л. Франк1.
Впрочем, нельзя не заметить одно немаловажное различие между
прошлым и настоящим этого тезиса. Философы «серебряного века» (и
«русского зарубежья») ограничивали его русской культурой XIX века, давая
понять, что уж в их-то лице мы обрели, наконец, настоящую философию,
философию понятий, а не художественных образов. Увы, это
самомнение, это высокомерное отношение к значительной части своих
предшественников, русских философов (а не поэтов и писателей) «золотого
века» русской культуры, обернулось сегодня против самих
представителей «религиозно-философского ренессанса» начала XX века. Сегодня,
в начале XXI века, их собственная философия нередко
рассматривается как нечто весьма второстепенное — причем именно в философском
плане — по сравнению с философскими обертонами художественной
словесности. Об этом все чаще заявляют даже вполне
профессиональные философы (например, Ф.И. Гиренок), не говоря уж о
многочисленных литераторах, критиках, историках, публицистах. Словосочетания
«метафизика русской литературы», «художественная историософия»,
«поэзия как жанр русской философии» и т. п. то и дело выносятся на
обложки книг, создавая иллюзию философских сокровищ там, где царит в
действительности представление о нищете русской философии.
Такое представление (пусть и завуалированное преувеличенными
восторгами в адрес «философии» Пушкина и других гениев русской
словесности) является абсолютно неадекватным, причем в первую
очередь применительно к «золотому веку» русской культуры.
Конечно, в русской художественной литературе «всякое мало-мальски
крупное произведение непременно окрашено каким-нибудь философским
интересом», как отмечал на исходе этого века замечательный русский
мыслитель П.Е. Астафьев2. Но русская культура уже обладала тогда, в
лице того же Петра Астафьева и целого ряда других мыслителей,
национальной философией как своим самостоятельным элементом,
отличным от элемента собственно художественного. Адекватное восприятие
этого элемента совершенно необходимо для верного взгляда на русскую
культуру (а шире — духовную жизнь) в период ее наивысшего расцвета
— ибо национальная культура без национальной философии не может
быть по-настоящему высокой, классической. Сегодня мы
инстинктивно обращаемся к русской классической культуре в поисках эталона для
оценки наших собственных культуротворческих актов. И этот инстинкт
: См. Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб, Наука, 1996 (см. в особенности
статью «Сущность и ведущие мотивы русской философии»).
' Астафьев П.Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000. С. 53.
9
нас не обманывает; только следовать ему необходимо сознательно, то
есть осознать и оценить собственно философские достижения русской
культуры XIX века. По крайней мере, в интеллектуальном плане для
возрождения серьезной (притом не узко профессиональной) умственной
жизни такая задача представляется мне более здравой, чем чрезмерная
«клерикализация» культуры.
Решение этой задачи, завершающееся в разработке адекватной
историографии русской философии в период наивысшего подъема русской
культуры в целом, может послужить укреплению изрядно
пошатнувшегося престижа русских мыслителей «серебряного века». Как уже
отмечалось, все они акцентировали религиозность своих взглядов куда
настойчивее, чем их, так сказать, философичность. А между тем, именно
религиозная одаренность наших самых известных «религиозных
философов» более чем сомнительна, да и серьезное богословие в их трудах
практически отсутствует1, тогда как их философский талант достаточно
очевиден, пусть и принимает весьма различные формы. Но по-настоящему
ценить этот талант, по-настоящему уважать того, кто «заслуживает
имени человека философствующего»2 — учили совсем другие русские
мыслители, фактически проигнорированные в «религиозно-философской»
схеме истории русской философии.
Среди этих мыслителей особое и в определенном смысле ключевое
место занимает Николай Николаевич Страхов, которому посвящен
данный сборник. Творческая жизнь Страхова охватывает практически всю
вторую половину XIX века, с конца 1850-х годов, когда стали появляться
его первые «натурфилософские» статьи, и до середины 1890-х: вскоре
после его кончины «Русский Вестник» напечатал (в начале 1897 г.) его
последнюю, незавершенную работу «О времени, числе и пространстве».
Но дело, конечно, не только в творческом долголетии Страхова (хотя и
оно, это долголетие, было не биологическим, а именно духовным
фактом, напрямую связанным с поистине подвижническим образом
жизни, целиком подчиненной тому, что Страхов называл работой мысли
и чем он, по его собственным словам, всего более дорожил3). Страхов
воспринял от старших славянофилов их напряженное внимание к чело-
1 Об этом пишет, в частности, прот. Д. Предеин в добротном учебнике для
православных духовных школ (Введение в философию. Ладан-Троицкая школа.
СПб, 2009. С. 167).
2 Страхов H.H. Мир как целое. Черты из науки о природе. М., Айрис-Пресс,
2007. С. 76.
3 Переписка В.В. Розанова с H.H. Страховым // Розанов ВВ. Литературные
изгнанники. М., Республика, 2001. С. 120.
10
веческой рациональности, но придал этому вниманию новое качество,
полностью преодолев тот пагубный для философской культуры
«антирационализм», к которому склонялись И.В. Киреевский и особенно
A.C. Хомяков (пусть и не до такой степени, как это до сих пор
представляют иные исследователи их творчества). Основным, собственно
философским делом Страхова явилось не отрицание рационализма, но
обоснование нового типа рациональности, стержнем которого является
акт понимания, причем, в первую очередь, акт понимания человеком
самого себя. Именно в этом смысле Страхов усвоил и углубил мысль
Ивана Киреевского о «новых началах философии», подчеркивая задачу
русского просвещения, заключающуюся в «уяснении себе начал для
понимания человеческой жизни и отношений между людьми, начал,
которыми должен быть внесен лучший смысл в науки нравственного мира,
в историю, в науку права, в политическую экономику». И вслед за этим
программным положением Страхов формулирует свое отношение к
европейскому рационализму Нового времени: «Европейское просвещение,
этот могущественный рационализм, это великое развитие отвлеченной
мысли, должно быть для нас побуждением и средством к такому
сознательному уяснению наших собственных духовных инстинктов» '.
Несомненно, что H.H. Страхов был первым русским мыслителем,
совершенно ясно выразившим (и последовательно осуществлявшем
в своем творчестве) идею органического взаимодействия русской
культуры с теми достижениями культуры западноевропейской, которые
согласуются с нашими духовными инстинктами и потому пробуждают «те
струны и силы, которые уже хранились в русских душах»2. Такая идея
определяла пристальное внимание Страхова ко всему, что совершалось
в русской культуре. Вот почему в его философском творчестве самым
тесным и самым естественным образом соединились «чистая»
философия, философия культуры (частью которой была его литературная
критика) и философия естественных наук (в этой области Страхов был, по
сути дела, одним из первопроходцев не только в России, но и в Европе).
А всё в целом составило тот тип философии, сущность и жизненное
значение которого можно кратко выразить в словах: философия как
культура понимания.
Основные грани этой специфически философской культуры, как
она выразились в творчестве Страхова, рассмотрены в статьях данно-
Страхов H.H. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. первая. 2-е изд. СПб,
1887. С. V (из предисловия к первому изданию).
Страхов H.H. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. вторая. СПб, 1883.
С 17.
11
го сборника, где нашли отражение не только наиболее значительные
идеи мыслителя, которого можно по праву считать одним из классиков
русской философии, но и те творческие диалоги, которые он вел на
протяжении многих десятилетий с такими выдающимися представителями
русской культуры, как Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Ап. А.
Григорьев, Н.Я. Данилевский и В.В. Розанов; последний во многом благодаря
Страхову, «нашел себя», обрел свой собственный неповторимый голос
в русской философии. В той русской философии, история которой — и
как историография, и как живой творческий процесс — еще очень
далека от завершения. Прошлое русской философии может сказать нам еще
много нового, способного принести плоды в будущем.
12
Введение 2. На пороге рождения диалогики
культуры или диалоги
H.H. Страхова с современниками
1910-е — начало 1920-х годов — время подлинного переворота в
интеллектуальной жизни России и Европы. За какое-то десятилетие
(впоследствии Е. Замятин назовет его «десятилетним столетием»)
произошел всеобщий сдвиг от естественнонаучного знания к формированию
и утверждению принципиально нового типа мышления — мышлению
гуманитарному, или, если воспользоваться формулировкой B.C. Библе-
ра, гуманитарно-филологическому. Ярким проявлением этого процесса в
России стала деятельность Невельского кружка, основанного Михаилом
Михайловичем Бахтиным и Матвеем Исевичем Каганом1. Как весьма
убедительно показал B.C. Библер, новая культурная парадигма (поэтика, в
его терминологии) есть целостное сопряжение (и, вместе с тем,
преодоление этого сопряжения) эстетики, этики и логики, позволяющее открыть
мир Другого как единый и независимый от познающего субъекта.
Единственно возможным способом такого поэтического осознания в начале
новой эпохи становится выстраивание диалогического (творческого)
пространства между личностями... культурами, эпохами. В этом собственно
и проявляется «феномен мышления «гуманитарно-филологического» как
знамения нового разума (общения разумов), возникающего в XX веке»2.
Новая гуманитарная парадигма обозначила момент всеобщего сдвига
мышления от полюса «науки» (гносеологии) к полюсу «культуры», что и
привело в середине XX века к рождению культурологии, призванной
сегодня стать «материнской» основой различных гуманитарных наук.
1 «Духовная жизнь Невельского кружка в основном сосредотачивалась в
диалоге (освоение, — размежевание, — спор) с пафосом Марбургской школы
неокантианцев, Германа Когена, — в первую голову. В этом диалоге решающую
роль играли М.М. Бахтин и М.И. Каган... В Невельский кружок, помимо
Бахтина и Кагана, входили также: поэт Валентин Николаевич Волошинов; философ,
»последствии музыковед и литературовед Лев Васильевич Пумпянский; поэт-
импровизатор Борис Зубаткин; будущая знаменитая пианистка Мария
Вениаминовна Юдина»» // Библер B.C. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика
культуры. М., Прогресс. 1991. С. 15. С. 31.
Библер B.C. Там же. С. 23.
13
Этот переворот потому и мог стать столь стремительным, что
основы диалогического мышления/культуры закладывались еще в
«классической» эпохе XIX века. Вместе с тем, многие аспекты гуманитарно-
филологического сознания оказались хорошо опознаваемы уже в
переходный (начало XX в.) период, особенно в России с ее
«принципиально переходной» культурой, где этот процесс начался раньше и
проходил куда более выпукло. Рассмотрим некоторые элементы становления
диалогического мышления переходного периода на примере духовных
исканий одного «классического философа» того времени — H.H.
Страхова ( 1828-1896) в его диалогах с современниками1.
Начиная с петровской эпохи и до конца XX века, русская культура
рассматривается как дуальная модель и весьма успешно описывается с
помощью бинарного семиотического кода (Ю. Лотман). В начале 80-х
XIX века Владимир Соловьев указал на «извечную» симметричность двух
противоположных путей развития русской истории (читай, культуры):
один — к радикальной (революционной/идеологической) перестройке
реальности, другой — к Богу и Церкви. «Европейские социалисты
требуют насильственного низведения всех к одному чисто материальному
уровню сытых и самодовольных рабочих, требуют низведения
государства и общества на степень простой экономической ассоциации.
"Русский социализм", о котором говорит Достоевский, напротив, возвышает
всех до нравственного уровня Церкви как духовного братства, хотя и
с сохранением внешнего неравенства социальных положений, требует
одухотворения всего государственного и общественного строя через
воплощение в нем истины и жизни Христовой»2. Практически об этом же,
в 30-е годы XX века о. Г. Флоровский напишет: «Философский подъем
тридцатых и сороковых годов (XIX в. — добавление мое — С.К.) имел
двойной исход. Для одних открылся путь в Церковь, путь религиозного
восстановления, — религиозный апокатастазис мысли и воли. Для
других это был путь в безверие и даже в прямое богоборчество»3. Эта же
идея будет закреплена и в исследованиях конца XX века: «Дивергентное
развитие в течение трех веков вывело русскую культуру на грань
революционного взрыва, экстремальность и успешность которого в истории
определяется остротой противостояния нормативных состояний
культуры и ее антинормативных устремлений, взаимоисключением утверждаю-
1 Но, как ни парадоксально, понятия классический и русский философ мало
созвучны, а порой, даже как бы и взаимоисключают друг друга.
2 Соловьев B.C. Три речи в память Достоевского /Сочинения, в 2-х т. М., 1988.
Т. 2. С. 300.
3 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 246.
14
щих и отрицающих ее интенций. Причем это амбивалентное состояние,
дуализм проникали в каждое отдельное явление, в каждую творческую
индивидуальность, в каждый процесс... Глубина и универсальность
дивергентных процессов в русской культуре рубежа XIX-XX веков
выражались в том, что дивергенцией были охвачены самые глубинные
ментальные структуры культуры — расщеплялось ее, казалось бы, далее не
разложимое смысловое "ядро". Подобным восстанием культуры против
собственной традиционности и самоидентичности был ознаменован
Серебряный век, закономерно разразившейся революции»1.
При этом становится самоочевидным, что на протяжении всего
этого времени, творческие личности оставались людьми «двойных мыслей»
(H.A. Бердяев), для которых иное (не дуальное развитие), как бы и не
предполагалось изначально, или было лишь терминологическим
переименованием указанного.
Но был в этом промежутке — особенный — переходный период,
когда мыслетворческая деятельность проявилась в весьма разнообразных
формах, не укладываемых в прокрустово ложе бинарных оппозиций.
Это — Серебряный век — эпоха многоликих философских утопий, в
которых самосознание их создателей становится главным мерилом
национального самосознания-самоидентификации. Круг сугубо
«русских» проблем: Россия—Европа, Запад—Восток, Бог—Инквизитор,
народ—интеллигенция, любовь—страсть, дух—плоть, сердце-
разум, теургия—революция и т.д. так или иначе был связан с
определением места, роли и значения их создателей внутри заявленной
проблематики. Основной задачей мыслителей и творческих личностей стал
поиск способа «сведения» себя в историю. Творцы идей оценивали свое
место в одном ряду с Творцом мира, воспринимали себя (явно или
неявно) Его со-творцами. «Происходило освобождение искусства и эстетики
от гнета социального утилитаризма и утопизма. Творческая активность
в этой области освободилась от обязанности служить делу социальной и
политической революции, и революционность была перенесена внутрь
искусства»2, — писал о времени пробуждения духовных сил и
творческих инстинктов в России в начале XX века H.A. Бердяев. Русская
мысль 70-Х-90-Х-10-Х годов XIX-XX вв. оказалась в пограничной зоне
одновременного общения различных исторически определенных форм
разумения, то есть в ситуации рождения новой «диалогики» (В. Библер),
нового — диалогического — культурного пространства.
1 Кондаков И.В. Архитектоника русской культуры // ОНС. № 1. 1999. С. 168.
Бердяев НА. Русская религиозная мысль и революция / / Версты. № 3. 1928.
С 53-54.
15
Начиная со второй половины XIX века, русская культура охвачена в
целом переходным состоянием от классических стилей и направлений,
развивавшихся, главным образом, в искусстве, к новационным
процессам не только в художественной, но и научной, духовной, политической
жизни. Важной чертой описываемого состояния становится
характеристика конкретных диалогов представителей разных философских
направлений и традиций, обнажавших закономерности состояния
переходности как мышления различными способами «одновременно».
О переходности этих процессов можно рассуждать, рассматривая общие
тенденции трансформаций подобного рода, а можно, изучая судьбу и
творчество конкретных людей. На примере переходности в жизни даже одной
личности можно уловить предпосылку и момент всеобщего изменения.
Это обстоятельство и позволяет «схватить нить судьбы» H.H.
Страхова, которого чаще представляют как философа «второго эшелона» и
вспоминают в связи с Достоевским, Толстым, Данилевским, Ап.
Григорьевым, Вл. Соловьевым, Фетом, Розановым. Он зачастую предстает как
фоновая фигура, как философ-тень других — великих. Но в «той»
реальной жизни его роль и место определялись по-иному. Он был, скорее
всего, не тенью, но «проявителем» ряда интеллектуальных процессов,
которые способствовали рождению русской философии Серебряного
века. При этом культурный, да и социально-политический консерватизм
Страхова был, пожалуй, фундаментальнее, чем у его гениальных друзей
и оппонентов — Достоевского и Толстого. В то время как Достоевский
занимался бесконечной апологией сложной противоречивой
человеческой души, а Толстой неистово разрушал устои государства и Церкви
во имя идеализируемой «чистоты Христова дела», Страхов доказывал,
что у общества нет других «спасителей» ценностных основ культуры от
всепоглощающей «поступи» мирского/цивилизации, кроме наличного
государства и традиционной церкви.
Страхов прекрасно видел воинственную «бинарную»
оппозиционность путей революционеров и монархии, предощутил в деятельности
нигилистов, радикалов, социалистов, заполонивших все ниши русской
общественной мысли, грядущий кризис эпохи; он неоднократно
подчеркивал, что их «дело», прежде всего, в разрушении
«четырехсотлетнего стояния христианства» в России, которое одно составляет основу
общественного устройства, но мало помалу начинает исчезать из
новых реалий жизни. Вера, патриотизм, нравственность — все это
обречено уйти вместе с христианством, да и оно само обречено стать лишь
историческим осколком когда-то фундаментального аксиологического
основания, на котором веками строилась история. Вместо них рожда-
16
ются новые принципы: «прямое признание мирской, земной жизни — и
вот отчего так пышно ныне развилась жизнь... Нынешняя жизнь носит
противоречия внутри себя... Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу
ясного идеала» [2. п. 288 от 31 марта 1882, с. 631-632]'.
Именно поэтому Страхов ни разу не «выкинул знамени», не смог
стать «глашатаем» и пророком, за что и был осужден и практически
всеми не понят. Не сделал он этого не потому, что был беспринципен,
как считал, например, Достоевский, или безыдеен, как утверждал
Вл. Соловьев. Просто ни один из существовавших путей не оказался
ему близок духовно, хотя философа причисляли и к рационалистам, и к
славянофилам, и к консерваторам. И в этом заключался жизненный
трагизм мыслителя H.H. Страхова, который, подобно многим тогдашним
философам, не имел оригинального учения, самобытной философской
концепции и активной жизненной позиции. По сути, в этом заключался
трагизм всей эпохи в целом. Как мы видим, и вчера, и сегодня в России
даже способ философствования смещен в плоскость выбора
политических обязательств мыслителей. Страхов же был далек и от новаторов,
и от консерваторов, и от тех, кто требовал перестроить жизнь на манер
теурга (Соловьев), и от тех, кто звал к Христовым истинам и Церкви
(Достоевский). Он был против всяческого насилия, и революционного
и религиозного, над человеком и его правом быть свободным и духовно-
независимым, а потому так незавидна оказалась его участь в России.
«Мне часто бывает очень грустно, когда подумаю, в каком фальшивом
положении я стою. Когда я говорю против Дарвина, то думают, что я
стою за катехизис; когда против нигилизма, то считают меня
защитником государства и существующего в нем порядка; если говорю против
вредного влияния Европы, то думают, что я сторонник цензуры и
всякого обскурантизма и т.д. О, Боже мой, как это тяжело! И что же делать?
Иногда приходит на мысль, что лучше молчать.... Все серьезные люди
терпят ту же беду и часто принуждены молчать. Таково положение
России, что между революционерством и ретроградством нет прохода; эти
два течения все душат. Поэтому то, что Вы (Толстой — мое — С.К.)
сделали, Ваше заявление самобытной религиозной мысли — я считаю
великим делом...» [2. п. 375 от 21 мая 1890, с. 819].
Не менее важно в судьбе Страхова отражение и другого аспекта
переходности: эпохального слома классического рационалистического
1 Здесь и далее: все ссылки даны по изданию: Л.Н. Толстой и H.H. Страхов.
Полное собрание переписки в двух томах. Группа славянских исследователей
чри Оттавском университете и Государственный музей Л.Н. Толстого, 2003.
Цитируется по томам, нумерации писем, дате и странице.
17
(логоцентристского) мышления и начало рождения новой культурной
парадигмы, для которой состояние переходности станет
перманентным принципом существования культуры на протяжении всего XX века.
«Изживание логоцентристской культурной парадигмы», когда
«последовательно имманентизируемый европейским антропоцентризмом Бог, в
конце концов, преобразовался в Культуру»1 станет, пожалуй, самым
глобальным и фундаментальным основанием этого состояния и в
России в период Серебряного века получит ярчайшую реализацию. Критика
европейского рационализма, как следствие кризиса всей классической
(средневековой) системы религиозных ценностей, стала
всеобъемлющей не только в европейской, но и русской мысли, начиная со
славянофилов и фактически до окончания эпохи религиозно-философского
ренессанса. Не чужда она и Страхову — ярому борцу с западным «про-
свещенством» и бессмысленной логоцентричностью. «Помешались они
на логике! Не содержание им важно, а силлогистическая форма, и им и
в голову не приходит, что эта бедная форма не может вместить и сотой
доли истины!.. Холодные, бессмысленные и наконец ужасно-грубые и
логически-то построения!» [ 1. п. 47 от 15 марта 1873, с. 99].
Трагизм Страхова, однако, в том, что, сознательно разделяя пафос
критического отношения к западному рационализму, он уже был
человеком переходной эпохи и потому теоретически непротиворечиво
совмещал в своем мировоззрении гегельянско-рационалистические,
шеллингианско-органические, пантеистические,
духовно-антропоцентрические, почвеннические и пр. идеи (даже не замечая этого), не
создав при этом самобытной философской системы. В отличие от многих
своих знаменитых оппонентов, он практически всегда оставался на
почве классического европейского философствования. Критикуя
европейский рационализм, он был рационалистом западного толка и не
предполагал ни его слома, ни тем более гибели. Более того, обсуждая
с Толстым в начале 1873 г. свою книгу «Мир как целое», написанную
в «лихие» 60-е, он в принципе так и не нашел никакой другой
философской альтернативы гегелевскому/немецкому «пантеизму»,
приверженцем которого оставался до конца жизни. «До сих пор, однако
же, я приписываю пантеизму величайшую важность, как прямо проти-
вохристианскому движению, которым воодушевлено все умственное
(движение) развитие Запада, которое составляет душу немецкой
литературы, которое дало немцам силу, недавно ими обнаруженную, и
произведет еще огромные последствия. Корень пантеизма глубок неиз-
1 Пелипенко A.A. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. М.,
Изд-во21 век, 2007. С. 13.
18
меримо. Нам неизвестна другая наука, кроме науки пантеистической.
Все привычки нашего ума сложились в этом направлении, и я не
вижу выхода, — вот моя беда {курсив мой — С.К.)» [ 1, п.45 от 8
января 1873 г. С. 93). «Борясь с Западом», он, по большому счету,
оказался пропагандистом его идей, после этой «борьбы» ставших еще более
привлекательными для молодых интеллектуалов1. Преодоление
рационалистического кризиса он усматривал в усовершенствовании логики
европейской философской мысли, а не в ее ниспровержении. Страхов
видел в рационализме ядро классического философского мышления,
а в Абсолюте — трансцендентный надмирный центр европейской
метафизики, в то время как молодые философы 80-х — 90-х уже весьма
успешно начали «трансформировать Бога в культуру». Они «алгебру
поверяли музыкой»; соединяли вербальные и невербальные средства
для изложения мысли и строгое рациональное мышление
обосновывали религиозными, художественными, поэтическими,
мифологическими, агиографическими, мистическими и даже невербально-образными
или фотографическими «аргументами»2.
С другой стороны, философский традиционализм Страхова не
помешал ему быть другом и оппонентом тех, кто создавал культурную
эпоху Серебряного века. И это также не случайно. Огромное любопытство
вызывает не столько разглядывание людей, живших в одно время, но
как будто в разные эпохи, сколько попытка проникнуть в природу того
уникального диалога, который состоялся между ними и по-своему
прояснил специфику философского (диалогического) мышления начала
XX века в целом. В частности, эти диалоги обрели уникальное
звучание в жизни Страхова, представлявшего классический/традиционный
тип философа в череде разнообразных философствующих личностей
и типажей того времени. Традиционно мыслящий философ в России
обречен на забвение, и для нашего героя оно было бы предрешено,
если бы он не оказался в экзистенциальной «близости» к уникальным
мыслителям, создававшим собственные, ни с чем не соотносимые
(или соотносимые с чем угодно) художественно-философские
тексты и мифо-поэтические философские системы. Можно выделить его
диалоги с «ближним кругом»: An. Н. Майковым, Н.Я. Данилевским,
Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским и др. — людьми, связанными одной
Именно в таком духе оценил книгу «Борьба с Западом...» современник
H.H. Страхова E.H. Опочинин в книге очерков: «Литературные портреты» //
Подр.: «Среди великих». Литературные встречи. М., 2001. С. 266.
Подр. о новом способе мышления: Климова СМ. К проблеме понимания, или
опыт прочтения «Уединенного» В.В. Розанова // Человек. № 6. 2003. С. 86-100.
19
культурной эпохой и судьбой; с другой стороны, совершенно
нетривиально на этом фоне выглядят его диалоги с молодыми философами
«новой формации»: B.C. Соловьевым, К.Н. Леонтьевым, В.В. Розановым,
A.A. Фетом и др., с теми, кому было суждено представлять русскую
философию в духовном пространстве Европы, закладывать основы
новой гуманитарной парадигмы XX века.
Эти диалоги стали метаоснованием для прояснения специфики
глобального перехода от монологически-авторитарного нововременного
философского рационализма к диалогическому полифонизму эпохи
Серебряного века и рождения эпохи «столетнего десятилетия». Страхов оказался
в эпицентре многих переходных процессов: от литературно-критического
(классического) к религиозно-философскому (модернистскому)
сознанию, от консервативного — к радикально-политическому
реконструированию реальности. Он подобно аристотелевской точке на линии (здесь
также уместен и образ песочных часов истории, в точке пересечения
которых как бы расположено его сознание), замыкал собой одно культурно-
мыслительное пространство и синхронно открывал другое1. Особенность
судьбы философа в том, что он олицетворял собой ситуацию перехода,
но не испытал события перехода, не был своей индивидуальной жизнью
вовлечен в «постравновесное пространство» истории2.
Выделим два диалогических пласта: диалоги Страхова с Толстым
и Достоевским — с уже признанными гениями, с людьми одного с ним
поколения; диалоги с будущими создателями эпохи модернизма —
Н. Федоровым, Вл. Соловьевым, В. Розановым и т.д.
Говоря о диалогах Страхова с Толстым и Достоевским, возможно
представить их как участников «эсхатологического» разговора, в
котором каждый по-своему стал катализатором глобальных культурно-
исторических и идейно-формационных (в фукианском смысле)
процессов изменения жизни. Самым глобальным и фундаментальным
основанием религиозно-философского мировоззрения Достоевского
станет, пожалуй, «изживание логоцентрической культурной
парадигмы». Особенность судьбы Страхова в том, что он всегда оставался Homo
1 После революции семнадцатого года переход предстанет в своей
«классической русской форме» (по определению Ю.М. Лотмана) крутой ломки и
инверсионного переворота — особой смены старого новым, когда положительные и
отрицательные ценности в культуре как бы меняются местами.
2 О дифференциации понятий «ситуация перехода» и «событие перехода» в
статье Вайман СТ. Размышления о художественном переходе // Переходные
процессы в русской художественной культуре. М., Наука, 2003. С. 166-193;
конкретноС. 171.
20
Legens, человеком читающим, но не действующим, в отличие от
Толстого, сделавшего собственное мировоззрение основой не только
индивидуального жизнетворчества, но и «потрясения» фундаментальных основ
всей истории. Поступки писателя имели оттенок личного переживания
всемирной истории, в частности христианской, по-новому пере-осмысл-
енной этим гениальным человеком. Каждый смысл в христианской
метафизике, благодаря толстовским исканиям, стал претендовать на
единственность и всеобщность лишь в ответ на вопросы
экзистенциального порядка. Идеологи христианства, благодаря «экзистенциальным
провокациям» единичного сознания-бытия Толстого, вынуждены были
отвечать на всеобщий исторический вопрос о соответствии устоев
русской православной церкви великой Христовой идее. В этой провокации
отражена глобальная обреченность религии как системы, которая
перестает быть универсальной аксиологией и становится « частным делом»
«частного человека». В конце XX века мы обнаруживаем этот
трагический исход уже как банальную констатацию исторической
трансформации проблемы в идею «смерти Бога» и «смерти» его убийцы — человека
(Ф. Ницше, М. Фуко, Ж. Лиотар).
Диалогический принцип анализа позволяет по-иному взглянуть на
затянувшийся исторический и психологический спор об отношениях
Страхова и Достоевского, о предательствах, разногласиях, и о том, был
ли Страхов «сплетником и клеветником», как пишут некоторые горячие
поклонники Достоевского. Речь идет о печально-знаменитом письме
Страхова Толстому от 13 сентября 1883 г. (опубликовано в 1913 г.).
Разобраться в этом конфликте невозможно без учета личности Толстого,
который выступил и «судьей», и «священником», и со-участником
диалога, ставшего культурно-историческим и даже эпохальным событием
русской культуры.
В этом мыслительном треугольнике Толстой и Достоевский —
два гения русской жизни, духовные «организаторы» последующего
«взрыва», слома традиций, «гениальные провокаторы» происходивших
в XX веке культурно-исторических трансформаций. Они — авторы и
герои романов собственной жизни, ставшей «объектом» анализа, а
Страхов — теоретик, литературный критик и исторический свидетель, в том
числе и жизни/творчества своих гениальных друзей. Толстой и
Достоевский — люди страстные, творческие, деятельные; оба —
реформаторы, ставившие активность или дело во главу угла в определении сути
человека и его предназначения; оба занимались самотворением,
обнаружив в самосозидании необходимое условие для переустройства мира.
Они внутренне ощущали себя пророками, наставниками, наделяли са-
21
мих себя полномочиями «миссий». От других они требовали фактически
того же — активного вмешательства в жизнь, активной жизненной
позиции, честности и открытости. С этой точки зрения Страхов был
абсолютно «другой». Он рассуждал о жизни отстраненно, как
посторонний мыслитель-критик, рассматривающий все с позиции должного, а не
сущего. Его должное — в прошлой эпохе, их — в будущей. И при этом
роль Страхова в реконструируемом диалоге первостепенна, ибо он —
фигура центрирующая, он — исторический свидетель («наблюдатель»,
по его собственному выражению), живо реагирующий, оценивающий и
понимающий происходящие изменения. Он осуществлял свой анализ
происходящего не как политик или активный участник действий. В
отличие от своих оппонентов он не был гениальным ученым или писателем-
новатором, практиком или человеком действия. Страховская обычность
и уникальность в том, что он был гениальным слушателем, имел
способность чутко слышать чужие голоса, вникать и понимать чужие позиции,
погружаться в «чужое» как в собственный мир — глубоко и прочно. В
конечном итоге, артикулировать чужие идеи в сопряжении с собственным
пониманием в некую целостную позицию, проясняющую все смутные и,
может быть, неясные самим творцам особенности их концепций и
теорий. В способности диалогизировать с «другими — чужими» текстами
и формировать в ходе этих диалогов целостное, в определенном
смысле эпохальное мировоззрение и выражался страховский неповторимый
талант. Страхов принадлежал к тем редчайшим людям, которые могут
помочь другому понять самого себя и делают собеседника полно-ценным
в отношении собственного мировидения. Одновременно — это момент
истины для собственного самосознания и понимания, его «друговости».
«Я, кажется, легко бы отказался от ответов, ... если бы мне только
было твердо указано, что делать, — в переводе на христианский язык:
как спасти свою душу. Но посмотрите, какой это страшный вопрос. Кто
и когда может иметь на него полный ответ? Я разумею при этом
ответе, которое бы определял и деятельное отношение к жизни. В самом
деле, для пассивного отношения к жизни, мы еще имеем ответы: но не
для деятельного. Если я подчиняюсь своей натуре и обстоятельствам,
то может быть мне достаточно правила: избегай зла, будь добр и честен.
Но если я считаю своей обязанностью не только воздерживаться, но и
действовать, то есть работать над собственной натурой и вмешиваться в
дела других, в ход обстоятельств, то передо мной возникают задачи
бесконечные, неодолимые.... Мне нужно научиться не делать свою жизнь, а
как-нибудь принимать ту, которая мне дается» [1, п. 101 от 16, 23 ноября
1875, с. 228]. Страхов не готов ни к какой исторической активности, но
22
одновременно глубоко убежден в том, что главное дело человека — это
делание себя внутреннего, духовного, и эта задача также объединила
участников данного диалога, хотя и была ими по-разному понята.
Как ни странно, но оказалось, что «пассивный Страхов» — не просто
философствующий тип, но в его позиции созерцателя заложено зерно
активной борьбы с «деятелями», направляющими свою критику на
разрушение реально существующих устоев. «Вы, Лев Николаевич, по
натуре больше новатор, а я по натуре больше консерватор. Буду защищать
искусство и науку изо всех сил против Вас, Соловьева и Николая
Федоровича (Федорова — добавление мое — С.К.). Эта область мне сродная,
область мысли, а не дела; никто из Вас, стремящихся к деятельности,
не может понять, какое различие между деятельностью и совершенным
отсутствием позыва к ней, чистым созерцанием. Тут у меня весь центр
тяжести» [2, п. 286 от 6 февраля 1882, с. 627].
В области данных экзистенциальных несовпадений и следует
видимо искать разгадку «друговражеских» отношений между Страховым и
Достоевским. «В одну из наших прогулок по Флоренции... вы
(Достоевский — добавление мое — С.К.) объявили мне с величайшим жаром, что
есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите,
презираете и будете преследовать всю свою жизнь....»1. Речь идет о
рационализме страховских построений и аргументаций. Достоевский был
убежденным противником философской и жизненной позиции Страхова,
предельно неэмоционального (объективного) и неактивного («вне
истории»), и при этом требовавшего все подкреплять логикой, рассматривать
любой вопрос в генезисе, искать конечных истин и в науке, и религии.
Для писателя знание и понимание — евклидов ум — не самоценны, но
могут быть ценны лишь в ситуациях нам неподвластной жизни. «Чистейшая
семинаристская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого
гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь
гадости; он и сам делает гадости»2. Схожий «комплимент» в отношении
Достоевского употребил и Страхов в своем печально-знаменитом письме: «Его
тянуло к пакостям и он хвалился ими» [2, п. 301 от 28 ноября 1883, с. 652].
Нас может сбить с толку слово «гадость»: очевидно, что суть конфликта
— в разности понимания смысла этого слова для обоих. Достоевский под
«гадостью» понимал равнодушие, неучастие и неспособность возвышать
1 Страхов H.H. Наблюдения /H.H. Страхов о Достоевском /Литературное
наследство. Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Т. 86. М.,
Наука, 1973. С. 560.
2 Достоевский /Литературное наследство. Ф.М. Достоевский. Новые
материалы и исследования. Т. 83. М., Наука, 1973. С. 620.
23
голос против социальной и всяческой несправедливости. Гадость — ив
обиде на «небольшое» лично к нему — Достоевскому — внимание,
отсутствие или недостаточность поддержки, которая так была нужна писателю
в годы заграничного безденежья, которую, кстати сказать, отнюдь не
всегда Страхов мог оказать. И дело не в том, что он не хотел помочь, а в том,
что пассивно принимал бессовестные правила игры редакторов, которые
кабалили жизнь Достоевского многие десятилетия. При этом Страхов
был в курсе всех тяжелейших обстоятельств, прекрасно осознавал и всю
глубину таланта Достоевского. Прочтите письма Достоевского к
Страхову 1868-1871 гг. Они полны унизительных просьб об оказании помощи
в получении кредитов, продвижения публикаций его романов и т.п. Это
были тяжелые годы фактической изоляции, когда и единственные двое (по
собственному признанию писателя) — Страхов и An. Н. Майков,
которых писатель считал друзьями, практически престали его поддерживать.
«К тому же я и без того всеми забыт»1. «Я всю жизнь работал из-за денег
и всю жизнь нуждался ежеминутно, теперь же более, чем когда-нибудь»2.
«Этот будущий роман уже более 3-х лет как мучает меня, но я за него не
сажусь, ибо хочется писать его не в срок, а так как пишут Толстые,
Тургеневы и Гончаровы. Пусть хоть одна вещь у меня свободно и не в срок
напишется»3.
Для Страхова же «гадость» Достоевского совсем в другом. Она —
в том, что сам писатель назвал «сладострастием» к любой мерзости
жизни, к «пошлому» оправданию всех подлостей человека, и при этом
прикрытие низменности и «плотскости» христианским пафосом
юродствующего всепрощения. Если Достоевский лишь ненавидел недостаток
образа мысли Страхова, то Страхов, как оказалось, ненавидел в
Достоевском всю его человеческую суть: «Он был зол, завистлив, развратен,
и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким
и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен»
[2, п. 301 от 28 ноября 1883, с. 652|.
Какую же позицию здесь занял Толстой (заметим, что эта позиция
была явно обозначена уже после смерти Достоевского). Во-первых, он
«реабилитирует» Страхова, подтверждая его право быть теоретиком и
аналитиком жизни, а не активным ее преобразователем. «Вы всегда
говорите, думаете, пишете об общем — объективно... объективность есть
1 Письма Ф.М. Достоевского H.H. Страхову /Ф.М. Достоевский. ПСС. СПб,
1883. Т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. С. 270.
2 Там же. С. 285.
3 Там же. С. 299.
24
приличие, необходимое для масс, как одежда. Венера Милосская может
ходить голая, и Пушкин прямо может говорить о своем личном
впечатлении. Но если Венера пойдет голая и старуха-кухарка тоже, будет гадко.
Поэтому решил, что лучше и Венере одеться. Она не потеряет, а кухарка
будет менее безобразна» [ 1, п. 92 от 5 мая 1875, с. 211 ]. Здесь речь идет о
главном — возможности отстаивать фундаментальность и
иерархичность ценностной картины мира, которая на глазах стала распадаться
под натиском субъективизма, скептицизма, плюрализма (в последующем
превратившегося в демократическую идею равенства всех ценностей),
ломающих традиционную картину мира, в том числе и культуру
классического типа мышления. И происходило это в то время, когда человек,
поднявшись на высшую ступень иерархии в органическом развитии,
обнаружил в себе право на вседозволенность (переоценку ценностей) —
субъективизм — быть не таким как все, право на освобождение от всяческого
догматизма, под которое подпадает и понятие объективизма и логики.
Во-вторых, Толстой солидарен с Страховым в преувеличенной
оценке современниками места и роли Достоевского в истории, в ошибочном
превращении его в «пророка будущего». Нельзя создать пророка и
святого из человека, сотканного из противоречий и «борьбы» [2, п. 302 от
6 декабря 1883, с. 655], разрушающего иерархичностьценностного мира,
не имеющего твердого мировоззренческого ядра, считает Лев
Николаевич. Нельзя одобрить и его человеколюбие: готовность принимать и
оправдывать человека таким, каков он есть — противоречивым,
многомерным, «широким» и «узким» до без-образия. Страхов и Толстой
одинаково неприязненно оценили опасность подобной «православной»
антроподицеи: оправдание разрушает мировоззренческие основания жизни.
В человеке потому все «хорошо» и все принимается, что нет ни
рационального, ни аксиологического фундамента, который мог бы его
ограничить и вне которого нет смысла вообще говорить о какой-либо
антроподицее. «В самом деле, как бы беспорядочны и ограничены ни были
чьи-нибудь мысли, как бы дурно и фальшиво они ни были выражены,
uee-таки в них необходимо есть зерно истины, все-таки несправедливо
не видеть этого зерна из-за шелухи, которая его покрывает», —
вроде бы соглашается с Достоевским Страхов: «По самой сущности дела
всякая мысль имеет свой повод и свое основание, всякая мысль как
широкая и глубокая, так и мелкая и узкая, движется по одним и тем
же логическим законам, и, следовательно, самое грубое заблуждение
носит в себе элементы истины. Следовательно, обвинять кого бы то
пи было в абсолютной нелепости совершенно несправедливо. На это,
по-видимому, нечего возражать. А между тем помириться на этом я
25
все-таки не могу... Они, все эти люди, которые могут стать под защиту
ваших аргументов, могут говорить все, что им вздумается; от времени
до времени они могут утверждать даже и то, что дважды два не четыре.
Я же не смею им ничего возражать; мне сейчас зажмут рот тем
резоном, что они хотя и ошиблись, но не хотели ошибиться, хотя и сказали
одно, но разумеют сказать совсем другое»1. Та же логика оправдания
распространяется на сферу моральной вседозволенности: убили, но
ведь не хотели....
В литературоведении2 подробно рассмотрен знаменитый конфликт
между Страховым и Достоевским, дана должная оценка сути
разногласий, связанных с принципиально противоположным восприятием
человека. В этой точке — они непримиримы, и Страхов предпочитает истину
(объективный взгляд), пусть даже гениальным проблескам видения этой
темы у Достоевского: «Разве хорош человек? Разве мы можем смело
отвергать его гнусность? Едва ли! Каких бы мнений мы не держались,
когда дело идет об этом вопросе, в нас невольно отзовутся глубокие струны,
с младенчества настроенные известным образом. Все мы воспитаны на
Библии, все мы христиане, вольно или невольно, сознательно или
бессознательно. Идеал прекрасного в человеке, указанный христианством,
не умер и не может умереть в нашей душе; он навсегда срастется с нею.
И потому, когда перед нами развернут картину современного
человечества и спросят нас: хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас
решительный ответ: «Нет, гнусен до последней степени»3. Оба исходят из
одной посылки — наличие образа Божьего в человеке — но приходят к
противоположным выводам: один все оправдывает Им, другой
отвергает оправдание, благодаря Ему же. Вот истинная точка их антагонизма,
и эта же точка лежит в основании мировоззренческого «разлома» всей
культуры переходной эпохи. Вся идеологическая специфика
переходной эпохи развернулась вокруг споров о христианстве и Христе. Все
трое видят в Христе и в жизни по образу и подобию Божьему — идеал
(идею) человека.
Диалог обретает свою мировоззренчески-аксиологическую и
праксиологическую полноту тогда, когда над ним стоит незримый арбитр
(выражение Бахтина) и «управляет» всеми участниками диалога.
Переходный период требует прояснения отношения к этому третьему, ведь
1 Страхов H.H. Наблюдения /H.H. Страхов о Достоевском /Литературное
наследство. Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Т. 86. М.,
Наука, 1973. С. 561.
- РозенблюмЛМ. Творческие дневники Ф.М. Достоевского. М., Наука, 1981.
3 Страхов H.H. Наблюдения. С. 562.
26
«вертикаль власти Бога» перестала быть абсолютной (и это важнейший
симптом переходности), более того, она находилась под угрозой
«существования», благодаря автономной позиции самой личности — и
устанавливающей, и поклоняющейся, и отвергающей высшую идею.
Для Страхова Божественный идеал, как фундамент объективности,
находится вне наших страстей, пороков и оценок и является
абсолютной ценностью и мерой, призванной укрепить «мир как целое» и
задавать векторность человеческой жизни. Он воплощен в духовном, а
значит и нравственном совершенствовании человека. Для Достоевского
этот идеал, по сути, субъективен и находится в душевно-плотской (как
вместилище противоположностей) природе человека, поэтому его все-
прощенческий отблеск мы обязаны обнаружить и в проститутке, и в
каторжнике, и в убийце, и в юродивом. Толстой же узрел «Бога живого» в
жизни, конкретных действиях и поступках (а не только
бессознательных интенциях души), совершаемых человеком, несущим персональную
ответственность верующего за действия, им совершаемые. Таким
образом, совмещение всех позиций дает нам представление о человеке в его
духовно-душевно-деятельностной целостности. Из сферы
абстрактной всеобщности «целостность» перемещается в конкретную
особенность со-бытия выдающихся людей эпохи.
Как известно, Достоевский имел религиозную «монотему» (защиту
православия), и положительный общественный идеал совпадет у него
с утверждением важнейших христианских истин как высших
ценностных начал. Парадокс, однако, заключался в том, что «нехристианские
пантеисты», Толстой и Страхов, стремились отстоять
фундаментальность и иерархичность ценностной картины мира, стремительно
распадавшейся под натиском субъективизма, скептицизма, плюрализма
переходной эпохи, скрепив ее именем Христа, в то время как Достоевский
— апологет православного миросозерцания — объявил «равенство»
всех ценностей, их одномоментную экзистенциальную совместимость в
человеке. Соединение «идеала Мадонны» с «идеалом содомским» в наше
время превратилось в демократическую (постмодернистскую) идею
равенства всех ценностей. Он готов принимать человека таким, каков
он есть: противоречивым, многомерным, широким до бесконечности,
оправдывая все его без-образия наличием Христова образа в душе.
Действительно, православный Достоевский как-то легко обходится
в своих рассуждениях о самой сути веры без абсолютизации Высшего,
диалектически соединяя Бога с человеком; он мало обращается к
«догматизму» (как синониму объективной фундаментальности истин), «во-
церковлению», в его текстах отсуствует институт церкви, церковная
27
обрядность, культовые элементы в описании религиозности человека.
Устами падших грешников, убийц и преступников он многократно
цитирует Евангелие, дает икону в руки самоубийцы («Кроткая»), придав
ситуации антицерковную (в догматическом смысле) окраску. Этот ок-
сюморонный образ является открытым вызовом догматам церковного
утешения/спасения. Для Достоевского главное — проповедь любви,
всепрощения и бесконечное русское самобичевание — признание
своей вины перед миром. Здесь нет того, что называется страхом Божьим,
страхом перед наказанием или адскими муками раскаяния.
Очевидно поэтому у него так много преступлений и преступников в романах.
И это говорит о ре-интерпретации православной аксиологии в сторону
тотального и демократического оправдания человека, провозглашение
этического релятивизма как некоего принципа. «Народ (Достоевский)
наш велик тем, что и преступников он называет «несчастными»...
Готовность признать вину и стать выше самооправдания — черта евангельская
и нравственная»1, — писал о вкладе писателя в дело пропаганды
православного миросозерцания митрополит Антоний Храповицкий. В годы
первой волны эмиграции ни он, ни кто-либо другой еще не осознавали, к чему
может привести такой пиетет. Мифопоэтическое поклонение русскому
человеку /русскому народу, отождествление его с образом русского
святого (страстотерпца) легло в основу мифологемы русской национальной
идеи, ставшей невольным началом апологии русской революционной
активности как «реализации» идеи русского мессианства. Сегодня
абсолютно банальна мысль о тождестве между национально-романтической идеей
0 мессианском предназначении России во всемирной истории и
идеологией коммунистической революции, ею порожденной.
Нам важно обратить внимание на то, что Достоевский и Толстой,
отбросив Предание и позволив себе собственное прочтение Писания,
«запустили механизм» его авторской ре-интерпретации, обнажив
эпохальный кризис и христианского мировоззрения, и нововременного
рационализма в целом. Они же и «спровоцировали» последующий всплеск
религиозно-духовной мысли, получившей поучительное название
«новое религиозное сознание», связанной со стремлением пересмотреть
православие, соединив творчество (человека) и Творца (Бога) мира в
новое мировидение.
Страхов не выносит экзистенциального субъективизма
Достоевского, прощавшего всевозможные человеческие нелепости и подлости, в том
числе и свои собственные «гнусности». В субъективизме же Толстого он
1 Антоний (Храповицкий), митр. Словарь к творениям Достоевского. София:
Российско-болгарское изд-во, 1921. С. 29.
28
видит лишь философскую рационалистическую ограниченность cogito и,
по сути, продолжение классического рационализма, ставящего сознание
познающего субъекта во главу угла любых теоретических конструкций.
«Ваше письмо есть новая попытка пойти по тому же пути, по которому
шли Декарт, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр. Они точно также
начинали из себя, от Cogito ergo sum, от я, от сознаний воли, — и отсюда
выводили понятие об остальном существующем. Ваше понимание этого
же хода мыслей представляет только большую общность и конкретность
— великие достоинства.... Но это все-таки то, что я называю
субъективизмом. К чему должны прийти, делая себя меркой существующего?
К тому, чтобы признать все существующее однородным с нами и нам
подобным. ... В конце концов, окажется, что человек, от которого мы
начали и есть тот предел, до которого доходит сущее. Он есть сознательное я;
он один обладает сознательным мышлением; он есть лучшая, яснейшая
форма воли; он самое живое из всего живущего ... стремления людей
все состоят в этом искании, — чему бы собой пожертвовать и как бы
найти неведомое. Самое интересное — в этом: удовлетворение эгоизма
и жажды познания — в сто раз менее важно» [ 1, п. 111 от 8 апреля 1876,
с. 256-257]. Здесь-то мы и обнаруживаем концептуальное расхождение
этих двух духовно близких людей, мыслящих, однако, в разной системе
философских и экзистенциальных координат. Для Толстого,
положившего в основание своего религиозно-философского и
антропологического учения понятие жизни, оно не узко-субъективно, но аксиологически
приоритетно по отношению ко всем остальным ценностям, вытекающим
из «презумпции» жизненного начала. Он пишет, отвечая Страхову:
«...человек может понимать только жизнь. Но если человек может
понимать только жизнь и не может понимать конца объединениям, то у него
необходимо является понятие бесконечно живого, объединяющего в
себе все. Объединение же всего есть явное противуречие. Противуречие
есть Бог живой и Бог любовь. Бог — живой — любовь есть необходимый
вывод разума и вместе с тем бессмыслица, противная разуму». [1. п. 113
от 14? апреля 1876, с. 261-262]. Так в духе Канта Толстой
формулирует антиномическую теорию жизни, которую полностью разовьет в
последующих религиозно-философских работах. За всеми недоумениями
(противуречиями) Толстого: конечного и бесконечного, рационального
и иррационального, жизни и любви — чувствуется кризисное
мироощущение грядущей эпохи. «Вместо того ужаса перед жизнью, который так
хорошо выражает Шопенгауэр (и которого так много у Достоевского
— мое С.К.), вместо той возможности страдания и гибели, которой мы
окружены со всех сторон и каждую минуту, Вы видите в мире Бога жи-
29
вого и чувствуете его любовь, — отвечал H.H. Страхов. — Теперь мне
ясна Ваша мысль, и сказать Вам прямо, я чувствую, что ее можно
развить логически в такие же строгие формы, какие имеют другие
философские системы. Это будет пантеизм, основным понятием которого будет
любовь, как у Шопенгауэра воля, как у Гегеля мышление» [1. п. 113а
после 1 апреля 1876, с. 263].
Для Толстого Бог есть жизнь и имя ему — Народ, для Страхова
жизнь есть Бог и имя ему — человек — его духовное (рационально-
нравственное) совершенство, определяющее меру всему, в том числе
и самому человеку. Жизнь есть состояние органическое и те
перемены, которые человек испытывает, органичны, включая и смерть, как
ее завершение. Как указал В.В. Зеньковский, «организм», по
Страхову, есть категория не субстанциальная, а актуальная, он есть процесс,
благодаря которому духовное начало, «выделяясь», овладевает через
организм веществом. «Развитие организма представляет
постепенное совершенствование. Другими словами, развитие есть ход вперед,
к лучшему, а не простая смена состояний»1. Идею Страхова об
организме как звене, связующем прошедшее с будущим, Толстой
переносит на духовную сферу, мир сознания. «И точно также как организм
есть звено, так и сознание (разумное), оно несет в себе все
прошедшее того же рода и вида сознание и производит будущее, развиваясь
и совершенствуясь» [1, п. 331 от 13... 14 ноября 1886, с. 721]. Толстой,
уверовав в свои духовные силы, близко принял идею о том, что
сознание — «высшая и учреждающая сила мира». Страхов прямо указывает
на философский корень этой мысли в Гегеле и Шеллинге, так
нелюбимых Толстым когда-то. Но учение об организме переводит
размышления обоих в область пантеистическую, весьма сродную со страховским
мировоззрением: «Я готов сказать, что всякая жизнь непосредственно
происходит из Бога, что Бог одинаково растит и мелкую травку, и душу
величайшего человека. В этом росте и во всякой жизни соблюдаются
известные законы, как соблюдаются неизменно и все законы физические;
но это не есть стеснение, а наоборот, пособие и необходимое удобство...
Конец же и цель всякого развития есть Бог, то самое, что есть и его
источник.... Все из Бога исходит и все к Богу ведет и в Боге завершается.
Мы в Нем живем и движемся и существуем» |2, п. 332 от 11 декабря
1886, с. 724]. Подобно Толстому, Страхов под понятием Бога имеет в
виду «сознание», которое есть «высшая сила мира»2. Мы в данной гла-
1 Страхов H.H. Мир как целое. Черты из наук о природе. М., Айрис-Пресс,
2007. С.143.
2 Страхов H.H. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб, 1887. С. 725.
30
ве ограничились только треугольным диалогом, специфика отношений
Толстого со Страховым будет описана далее.
Другой диалогический пласт выводит нас на круг общения
Страхова с молодым поколением — будущими деятелями Серебряного века.
Диалоги Страхова с молодыми философами устанавливались с
большим трудом. Он — на правах старшего и «по-немецки образованного»
учителя, выдвигал категорическое требование изучать классиков
немецкой мысли, которое настоятельно предъявлял молодым
«классически необразованным» мыслителям, например, в известной переписке
с В.В. Розановым1. Если Розанов2 был его любимым молодым другом
и, в какой-то мере, действительно учеником (в мере дружеских связей
и всяческой поддержки, которую оказывал ему Страхов), то гораздо
жестче и «бессердечнее» он высказывался об опыте
философствования Вл. Соловьева, Н. Грота, Д. Цертелева и других молодых
«проповедников всяческих ересей», «недоучившихся гимназистов», «юных
выскочек»3. Вот что он писал по этому поводу Л. Толстому:
«Соображая теперь все его (В. Соловьева — добавление мое — С.К.) лекции, я
вижу, что он хотел произвести синтез востока и запада, слить в одну
систему атомизм, дарвинизм, пантеизм, христианство и т.д....
Выходит пантеизм совершенно похожий на гегелевский, только со вторым
пришествием впереди. Каббала, гностицизм и мистицизм — внесли
тут свою долю. Но все это разлетелось как дым, и ни одной мысли не
осталось у меня от всех лекций. Был я и на лекции кн. Д.Н. Цертелева,
очень милого юноши, приятеля Соловьева. Этот мне показался
просто недоучившимся гимназистом, которой не умеет еще и правильно
строить фразы. Он читал очень самоуверенно и приятно; очень
быстро переходил от одного предмета к другому, ничего не заканчивая,
мил воду, как Соловьев, и точно также кончил несколькими стихами,
«Но первый мой совет Вам: учиться по-немецки. И Бэр, и Кант, и Гегель —
ли два философа всего важнее по вопросу о потенциальности — существуют
только по-немецки. Как хотите, а нельзя двигаться свободно в области мысли,
не зная по-немецки» // Розанов ВВ. Литературные изгнанники.
Переписка ВВ. Розанова с H.H. Страховым. М., Республика, 2001 .С. 11.
Но по существу и этот, самый близкий Страхову человек, оказался не понят им
до конца жизни. Вот что он пишет о Розанове после выхода статьи «Вера и
свобода» в 1894 году: «Вы (Л. Толстой — добавление мое — С. К.) правы: все
необдуманно и с размаху, самодовольно и ретроградно. Стою на том, что он очень милое
и даровитое существо, но кажется ничего не сделает при своей необразованности
и умственной распущенности» (2. п. 426 от 13 января 1894. С. 941].
1 Как, впрочем, и они нелицеприятно высказывались о нем.
31
встал и поклонился. Мне было немало совестно (курсив мой — С.К.)»
И, п. 187 от 9 апреля 1878, с. 426-42711.
Чувство стыда, испытываемое Страховым-«мэтром» от посещения
лекций «молодых», обнажает и его самолюбие, и научный педантизм, и
в то же время противоположность культур уже явно разных поколений
философов, живущих в одном историческом времени. При кажущейся
правомерности его сетований и иронии по поводу забвения
классических образцов, интуитивно уловив зарождение новых проблем
философствования, способов анализа и аргументации, Страхов, однако, не
заметил начавшейся в это время принципиальной смены философских
установок с классических на неклассические. И дело вовсе не в том, что
строгость и методичность рационалистической философии сменились
эклектикой и дискурсивной «болтовней-белебердяевщиной» будущих
модернистов. Изменилась эпоха, и Страхов, уже создавший к тому
моменту учение о целостности, не заметил в «многоязычии» чужих
текстов новационного процесса, связанного со специфической
«закономерностью» состояния «органической переходности», начавшегося в
70-80-е годы XIX столетия не только в Европе, но и в России.
Способность «молодых» мыслить «всеми способами сразу» воспринималась
им как эклектичная, разрушительно-безответственная и бестолковая,
а главное — «малограмотная», то есть не научная. Как точно заметил
С. Вайман, по сути, лишь «в ситуации именно органической
переходности гений захватывает предельную полноту «всей массы» мировых
литературных (философских — добавление мое — С.К.) накоплений и
синтезирует все потенциальные ее ресурсы в универсальный протеический
способ художественной самореализации»2. Такими гениями оказались
Толстой, Соловьев, Розанов, многие «титаны» Серебряного века, те, чья
эпоха, однако, еще не была угадана даже такими выдающимися
интеллектуалами, как Страхов.
Всю жизнь философ опирался на немецкую фундаментальность
философских идей, тождественных константности философского
сознания, открывавшего вечные истины. А жить ему пришлось среди тех, кто
презрел всякий академизм, авторитеты и искал опору лишь в собствен-
1 Хотелось бы привести аналогичную ироническую фразу, высказанную
Толстым, но уже по поводу увлеченности самого Страхова Гегелем: «Менее
всего понимаю, как с вашей ясностью может уживаться этот сумбур» |1. п. 44 от
12 ноября, 17 декабря 1872 г. С. 88]. Симптоматичен сам факт попадания в одну
«сумбурную» корзину столь разных мыслителей одной переходной эпохи.
2 Вайман СТ. Размышления о художественном переходе // Переходные
процессы в русской художественной культуре. М., Наука, 2003. С. 173.
32
ной мыслительной самобытности, которую Страхов (и ему подобные)
принимал за дилетантизм, хлестаковщину1, творческую отсебятину
«самых фантастических людей на земле». «Это самые фантастичные2 люди
в мире, люди, принимающие самую свою жизнь, то есть свои чувства и
мысли за призрак, за игру. Поэтому они так охотно сочиняют.... Только
теперь я вполне понял... его (Соловьева — добавление мое — С.К.)
высокопарность, туманность, софистичность, его твердое убеждение, что
сравнение есть доказательство, а симметрия признак безусловной
истины (курсив мой — С.К.)... С такими людьми3 можно ли вести
серьезный обмен мнениями?» |1, п. 339 от 25 апреля 1887, с. 736).
Любопытно, что под «жизнью» Страхов понимает «чувства и мысли», то
есть вполне рационалистическую категорию, не выходящую за пределы
классических характеристик. То, что он называет «фантазиями
фантастичных людей» вполне укладывается в характеристики базовых черт
русской неклассической философии: слитность с русской литературой,
интуитивное постижение проблем, мистицизм, отсутствие строгой
верифицируемой аргументации, ее метафоричность, символизм. Именно так
позже будет охарактеризована специфика русской философии в
знаменитых строках А.Ф. Лосева: «Она (русская философия — добавление
мое — С.К.) представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто
мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть
постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям и
определениям, а только в символе, в образе, посредством силы воображения и
внутренней жизненной подвижности (Lebens Dynamik)»4.
Гносеологическая ориентированность разума, рефлексия,
априоризм рационального знания лежат в основе классического
(новоевропейского) миросозерцания, представителем которого стал Страхов,
1 Без знаменитой ассоциации с гоголевской «легкостью в мыслях
необыкновенной» не обошлось даже в дружественном письме любимцу Розанову, которого
Страхов упрекает за «легкое движение мысли» / / Розанов В.В. Литературные
изгнанники. Переписка В.В. Розанова с H.H. Страховым. М., Республика, 2001.
С 12.
:> Эпитет «фантастическое» любил применять близкий друг Страхова — Н.Я.
Данилевский, понимая под этим словом что-то не имеющее права на существование
(например, «фантастический польский народ» в его интерпретации не входил в
конгломерат славянских наций). Возможно, такой же оттенок отрицания лежит и
в страховских эпитетах о фантастичности философов новой формации.
' Страхов о А. Фете и В. Соловьеве.
1 Лосев А.Ф. Русская философия / Введенский А. И. .Лосев А.Ф., Радлов Э.Л.,
Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991. С. 71.
тогда как интуиция, творчество, интеллектуальный прорыв
определили облик новой нарождающейся эпохи модернизма. В одной из бесед
с В. Розановым, его неназванный визави изрек: «Какое же может быть
сомнение, — Страхов, конечно, гораздо умнее Соловьева.... Но у
Страхова, конечно, нет и малой доли того великолепного творчества, какое
есть у Соловьева. Две эти фразы, в обоих изгибах верные, вполне и до
конца исчерпывают «взаимное отношение») этих двух лиц, в которых в
сущности ничего не было сходного, ни — умственно, ни — морально»1.
В этих словах — экзистенциальная разница не просто людей, но уже эпох.
С другой стороны, дискуссии с молодыми философами обнажают
реальное противоречие переходного времени. Люди, которым было
предназначено открыть многоголосие, поэтику и диалогику культуры
начала XX века, были весьма монотонны в своих изложениях, закрыты
для творческого диалога друг с другом, не желали обсуждения тем «на
равных» с оппонентами различного уровня. Внутренне они были как бы
монологичны, слышали и слушали только самих себя (и лишь себя
почитали за гениев), не стремясь и не желая обрести Других — собеседников
— голосов, особенно среди тех, кто, подобно Страхову, стремился быть
объективным и аналитичным, а не популярно-политичным, как того
требовало время.
Отсюда понятно и непримиримое «отталкивание» друг от друга этих
двух эпох, весьма наглядно отраженное в печально известной полемике
Соловьева со Страховым2. Взаимно-неприязненная дискуссия «враго-
друзей» длилась довольно долго (в «Русском Вестнике» шли
полемические статьи Страхова, в «Вестнике Европы» — Соловьева) и творчески
непродуктивно. «Его (Соловьева — мое добавление — С.К.) мысль
обыкновенно так обща и лишена конкретности, что ничему не противоречит
и ничего не говорит ясно. В этом я убедился, проштудировав оба
выпуска Национального вопроса. Тут нет и намека на определенное понятие
0 национальности, о ее значении, а есть много неправильных ссылок,
неправильных обвинений и уверений, что какие-то люди проповедуют,
чуть ли не питье человеческой крови и пожирание живых младенцев»
[2, п. п. 405. 24 ноября 1891, с. 890), — сетует Страхов. Полемика
носила обоюдоострый характер, и Соловьев обвинял мэтра абсолютно в тех
же грехах, в чем и его оппонент, не делая при этом даже попыток выйти
на диалогический уровень обсуждения тем. Оставив в стороне нюансы,
1 Розанов ВВ. Литературные изгнанники. Переписка В.В. Розанова с H.H.
Страховым. М., Республика, 2001. С. 13-14.
2 Подр.: Соловьев СМ. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М.,
Республика, 1997. Гл. 6.
34
заметим, однако, что в пылу взаимных обвинений и тот и другой хотят от
философского стиля «противника» одного и того же: строгости
формулировок, ясности понятий, обоснованности теории, корректности
цитирования и некоторой сакраментальности (истинности) высказываемого.
В этой словесной борьбе оказалось очень много «личного»1: взаимные
обиды, обвинения в неспособности хорошо писать, в слабости
аргументов и главное — в нежелании слушать друг друга. Так столкнулись
две логики/эпохи в непримиримой схватке времени. Не принимает
Страхов и способы философских доказательств «молодых», о которых
мы уже упоминали. Например, в той же полемике с Соловьевым он не
без сарказма отмечает нелепость тона и аргументации его статьи
«Русская идея»2. «Блистательно, что и говорить! Я ужасно любовался
звонкостью этих фраз, имеющих притом вид необычайной серьезности
глубокомыслия.... Все рассуждения идут по методе аналогии и симметрии,
и красота формулы составляет главное доказательство верности
ее содержания (курсив мой — С.К.)» [2, п. 358 от 13 сентября 1888,
с. 7811. Не хватает Соловьеву, с его точки зрения, и способности
рассматривать описываемый предмет объективно, исходя из его внутреннего
содержания, а не из своих фантазий о нем: «Он не способен понимать
действительность и даже принимать книгу, которую разбирает. Он
всегда носится на сто верст выше того предмета, о котором говорит и ничего
в нем не видит» [2. п. 352 от 5 февраля 1888. с. 768]. Соловьев смело
вторгся в орбиту аналитического пространства, в котором Страхов
чувствовал себя особенно компетентным и разрушил все стереотипы
анализа и осмысления чужих текстов, поставив себя (свой творческий мир
— во главу угла), делая собственные размышления (полеты) основой
понимания другого, а чужой текст — лишь поводом (контекстом)
создания собственного текста.
Симптом самопознания и самопрезентации (то есть вечный русский
субъективизм) в разговоре о другом (или других) предмете стал быстро
распространяться в литературной критике и новой философии. Точно
такой же упрек делает Страхов и А.Л. Волынскому, который в статье,
посвященной Толстому, занят, как считал мэтр, лишь своей персоной,
уделяя своими идеям гораздо больше внимания, чем толстовским. Для
Страхова такой подход неприемлем и невыносим. Но тот же Толстой, а
1 В. Соловьев остроумно определил это личное как: «самобытные приемы
русской полемики» // Соловьев B.C. Сочинения, в 2-х т. Т. 1. Национальный
вопрос в России. Вып. 2. М., 1989. С. 514.
Статья написана на французском языке, вышла в Париже, в издательстве
Didier, 1888, распространялась по знакомым философа, читающим по-французски.
35
позже'и Розанов, предъявят именно за эту отстраненность претензии
к самому Страхову, сетуя на его чрезмерную объективность и боязнь
субъективизма, включенности в анализируемый предмет. На это
Страхов отвечал: «Как странно! Они (это, прежде всего, его молодые
оппоненты — Соловьев, Фет, Розанов — добавление мое — С.К.) хотят,
чтобы я перестал быть самим собой! Ведь моя объективность и есть
выражение моего ума, моей натуры. Я не могу говорить о своих личных
делах и вкусах; мне это стыдно, стыдно заниматься собой и занимать
других своей личностью. Мне кажется всегда, что для других это не
может быть занимательно, и потому я берусь за их дела, за их
интересы, или рассуждаю об общих объективных вопросах. Или еще
иначе: у меня есть действительное расположение к скромности (забытое
слово в эпоху модернизма и особенно постмодернизма — добавление
мое — С.К.), я не считаю себя, как Руссо или Достоевский, образцами
людей — напротив, я ясно вижу свою слабость и скудость, и потому
высоко ценю всякую силу и способность других, а главное — ищу
всегда общей мерки чувств и мыслей, а не увлекаюсь своими
мгновенными расположениями, не считаю своих мнений и волнений за норму, за
пример и закон. Достоевский, создавая свои лица, по своему образу
и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и
был твердо уверен, что списывает с действительности и что такова
именно душа человеческая. К такой ошибке я не способен, я не могу не
объективировать самого себя, я слишком мало влюблен в себя и вижу
хотя отчасти свои недостатки» [2. п. 412 от 24 августа 1892, с. 910).
В этом признании — узел всех его расхождений: и с Толстым, и с
Достоевским, и с Соловьевым, и с Розановым. Для Страхова копаться в
личном — это то же самое, что копаться «в собственных извержениях»
[2. п. 412 от 24 августа 1892, с. 910]. Он никогда не примет новаций
эпохи, снявшей «индекс запретности» (по выражению В. Шкловского)
с интимных тем, сделав «частное» предметом понимания и описания
всеобщего. Это сделает В.В. Розанов, обратившись к теме « последней
домашности, домашнего отношения к вещам», и переведет общие для
всех темы-проблемы-идеи в глубоко личностное
переживание/осмысление, в «свой вопрос».
Однако, Страхов прекрасно понял, что началась борьба поколений и
мировоззрений, и оружие молодых отличается новизной и
нетрадиционностью: например, уже упомянутые публичные лекции создавали
представление о философе совершенно иного типа, нежели являл собой тип
Homo Legens — книжного человека, образцом которого был H.H.
Страхов. Здесь не последнюю роль играл внешний облик выступающего, ма-
36
нерность, ораторские способности'. Философ становится обо-зримым,
доступным и в тоже время публично притягательным как актер или
певец. Публичное (агитационное слово) — это слово-интонация, слово-
призыв, требующее и сравнения, и символизации, и поэзии в качестве
эмоциональных аргументов, как нельзя лучше согласуемых с новым
мироощущением глашатаев и пророков. Такое слово мгновенно
«уводит» от монополии монолитного печатного слова-идеи, системы, логики
и аргументации в эмоцию, интонацию, жест. Страхов чрезвычайно
чуток к печатному слову2, он хорошо улавливает и новые невербальные
интонации, обогащающие или даже меняющие смыслы давно
известных понятий, а также уникальную художественную стилистику: «меня
подкупает остроумие и тонкость» слов и плетение кружев мысли новых
философов [п. 405.24 ноября 1891, с. 891). Далее придет газетное слово,
публичные письма, рецензии, комментарии, ритмизованная проза и
белые стихи, рисунки и фотографии, которые молодые оппоненты «старых
классиков» будут использовать как аргументацию своих многообразных
идей. Позже, когда Страхова уже не будет в этом мире, Василий
Розанов создаст свою гениально-уникальную форму «опавших листьев»,
молодой Владимир Маяковский придумает язык плакатно-стихотворных
лозунгов-слоганов, остро буравящих сознание плохо образованных
советских людей, Велимир Хлебников сотворит рваную рифму рваных
слов-идей, а Даниил Хармс обнажит абсурдность и абсурдизм
классических литературных и философских штампов. Но пока кажется, что
еще можно предотвратить «развал классической» культуры, и Страхов
пишет Л.Н. Толстому: «Нечего делать, нужно готовиться к борьбе и
пошире расставить ноги [ 1, п. 339 от 25 апреля 1887, с. 737].
Однако, между Страховым и теми, с кем он бесконечно
полемизировал, оказался и общий «русский» момент. Их русскость — в одинаковой
невписываемости в классическую философскую традицию. Страхов с
его приверженностью к классике был непритворно раздражен
требованиями молодых примкнуть к тому или иному традиционному
философскому мировоззрению3. Характерно, что Соловьев, бросивший ему этот
1 Эти новые приемы «аргументации» мгновенно понял и Розанов: «Почти не
нужно договаривать, что в споре шум победы был на стороне Соловьева, а истина
победы была на стороне Страхова. Но Страхов писал в «Русском Вестнике»,
которого никто не читал, а Соловьев — в «Вестнике Европы», который был у каждого
профессора и у каждого чиновника на столе // Розанов В.В. Переписка... С. 14.
2 Эта способность и сделала его лучшим литературным критиком эпохи.
1 Подр.: Соловьев B.C. Сочинения, в 2-х т. Т. 1. Национальный вопрос в России.
Вып. 2. М., 1989. С. 528-529.
37
упрек публично, высказал общую для всей русской философии мысль:
«Никто, конечно, не требовал от г. Страхова, чтобы он приписался
исключительно к какой-нибудь одной философской или политической
категории. Без сомнения, ни одна из них не исчерпывает живой истины...
Ничто не препятствует г. Страхову объявить себя (курсив мой — С.К.)
сторонником какой угодно синтетической системы, хотя бы своей
собственной.... Наверное, множество недоумевающих читателей было бы
в высшей степени довольно, если бы г. Страхов, не приписываясь ни к
одному из существующих измов, мог бы указать им на свое собственное
(курсив мой — С./С.), хотя бы очень сложное, но определенное и
положительное решение главных философских и социальных вопросов»1.
Молодые не могли простить мэтру приверженности к традициям, отказу от
стремления к самовыражению в своей философии, хотя бы номинально-
показательно. В последнем письме Н. Страхову В. Соловьев
высказывает «эпохальный упрек» своему старшему товарищу: «Вы смотрите
на историю, как китаец-буддист»2. На этом закончим начальную главу
монографии и попробуем сделать обобщающий вывод:
Итак, в переходный период, по мере культурно-исторического
развития то, что представлялось бредовым и эклектичным собранием разных
форм и способов мышления, обретает свою завершенность в
мировоззрении начала XX века. Русская мысль оказалась в пограничной зоне
одновременного общения различных исторически определенных форм
разумения. Это значит, что рационализм воспринимался ими уже не как
главный принцип анализа, а как один из приемов изучения тех или иных
процессов, наряду с другими, может быть, диаметрально
противоположными. Не менее важно, что отношения оказались организованы по типу
диалогических и в таком «виде» были включены в состав «органической
переходности». Это был имманентный обстоятельствам и новым идеям
органический переход, «трансформация логики мышления («трансдук-
ция») в форму разума культуры, логики культуры, или
иначе...актуализация бесконечно-возможного бытия в план произведения»3.
Произведение становится результатом бесконечного диалогизирования
многообразных способов мышления как внутри одного текста, так и
между самыми разными позициями и подходами.
1 Соловьев B.C. Там же. С. 529.
2 Цит. по: Соловьев СМ. Указ. соч. С. 272.
3 Библер B.C. От наукоучения — к логике культуры. М., Изд-во Политлитера-
туры, 1991. С. 9.
38
Беседа 1. Философская антропология
H.H. Страхова
Философское творчество Н. Страхова началось в пору триумфа
гегелевской диалектики, а завершалось, когда умами европейцев
прочно завладела философия неклассическая — начавшая с отречения от
вековых философских проблем и приоритетов, с констатации
ущербности разума и храбрых деклараций о «смерти философии». По
изначальной сути своей, in integrum, философия Страхова чужда этим
новациям. Сам он считал себя гегельянцем и действительно был, по
характеристике Н. Грота, «светлым рационалистом». Однако в его
исследованиях просматривается довольно глубокое влияние разных
школ и идей неклассической философии. А кое в чем Страхову удалось
и предвосхитить последующее развитие неклассической философской
мысли — и, в частности, «антропологический поворот» мировой
философии начала XX века.
I
Проблема человека наиболее глубоко исследована Страховым в
книге «Мир как целое». Мир, как единое, связное, стройное целое, имеет
свою вершину и средоточие в мыслящем человеке. Человек является
непосредственным выражением и наглядным свидетельством цельности
мира, — утверждает Страхов, тем самым выводя свою философию на
антропологическую орбиту.
В размышлениях о месте человека во Вселенной интонации
Страхова идут резко вверх, становясь порой патетическими: «Мир есть целое,
имеющее центр, именно, он есть сфера, средоточие которой составляет
человек. Человек есть вершина природы, узел бытия. В нем
заключается величайшая загадка и величайшее чудо мироздания. Он занимает
центральное место по всем направлениям связей, соединяющих мир в
одно целое; он есть главная сущность и главное явление и главный орган
мира»1.
Таким образом, вопрос о человеке превращается в вопрос о мире в
целом: определяя человека, мы тем самым определяем и мир, центром
Страхов И.И. Мир как целое. М., Айрис-пресс, 2007. С. 67.
39
которого человек является1. Обычная логика в реконструкции
целостных предметов предлагает восходить от простого к сложному — Страхов
и сам не раз строит свое исследование именно как такое восхождение.
Однако чертить образ «мира как целого» он все же начинает с «центра»,
с человека.
В чем же видится Страхову центральное место, занимаемое
человеком в природе? Ответ на этот вопрос составляет, безусловно, наиболее
интересный и важный пункт рисуемой Страховым картины мира, да и,
пожалуй, всей его философии. Главные свои усилия он
сосредотачивает на доказательстве «предельности» человеческого бытия. И даже не
только бытия, если понимать под «бытием» характер
жизнедеятельности человека в природе, но и структуры человеческого тела, морфологии
этого тела.
Для ответа на вопрос о месте человека в природе требуется выйти
за рамки естественных наук, так как ни одна из них не занимается
природой в целом, — каждая имеет дело с каким-то одним, качественно
ограниченным «слоем» природного бытия. Судя по всему, Страхов
держится мнения, что «мир как целое» — предмет философии. Таково в ту
эпоху было главенствующее представление о соотношении философии
и «частных наук». В наиболее ясной форме это представление высказал
в начале XIX столетия О. Конт.
Итак, ответ на занимающий нас вопрос о месте человека в мире
должен быть философским. При этом он обязан, конечно, опираться на
данные естественных наук, в известном смысле «обобщать» их, органически
встраивать в философскую картину мира. При этом Страхов
чрезвычайно далек от обычного позитивистского пиетета перед естествознанием
как эталоном научности, на который философ обязан равняться также
и в своих собственных исследованиях. Напротив, на протяжении всей
книги Страхов обнаруживает весьма и весьма критическое отношение
к понятиям, теориям и методам естественных наук, и даже некоторую
философскую назидательность, стремление с высоты понимания «мира
как целого» рассудить частные споры естествоиспытателей, — что
явственно выдает в нем, так сказать, природного гегельянца.
В свое время Гегель любил насмехаться над грубым эмпиризмом
англичан, которые чувственный образ собаки готовы именовать «идеей»,
и «философией» называют что угодно, вплоть до искусства сохранения
1 Подобным суждением открывает свою «Антропологию» Кант: «Знание
родовых признаков людей как земных существ, одаренных разумом, особенно
заслуживает название мироведения, несмотря на то, что человек только часть земных
созданий» (Кант И. Сочинения. М., Мысль, 1966. Т. 6. С. 351).
40
волос у лысеющих джентльменов (примеры из гегелевской «Логики»).
Страхов вполне разделяет это гегельянское настроение, насколько
можно судить по его ироническим репликам в адрес «классической страны
эмпиризма, где и химия и физика слывут за философию»1.
Будучи хорошо знаком с состоянием современного естествознания и
в особенности с его историей, Страхов без всякой робости оспаривает,
а нередко и отвергает мощные и широко распространенные в эту эпоху
научные концепции. Особенно наглядно это обнаруживается в главах,
посвященных критике атомистических теорий, древних и современных,
физических и метафизических.
Мы не можем здесь далеко следовать за ним в эту область, поэтому
ограничимся лишь указанием на краеугольный камень
натурфилософских штудий Страхова, который многое может прояснить и в его
антропологических построениях. Таковым является понятие деятельности
как сущности каждой отдельной вещи и всего мира в целом:
«Все, что существует, существует настолько, насколько действует;
самая сущность вещей состоит в деятельности», — так категорически
формулирует эту мысль Страхов.
Нельзя назвать это какой-то философской новацией, перед нами
весьма древний и почтенный постулат, идущий еще от Аристотеля и
далее через Спинозу — к Фихте и Гегелю. А вот естествоиспытатели
руководствовались им чрезвычайно редко, и Страхов объясняет причину
такого положения дел: деятельность — нечто такое, что нельзя
«представлять», т.е. вообразить наглядно само по себе. Мы не имеем перед
глазами самое «деятельность» подобно каким-нибудь телесным вещам.
Чтобы все-таки как-то примирить понятие деятельности с чувственным
представлением, ученым приходится прибегать к органической
метафоре — сравнению с «силой» животного. Но откуда этой силе взяться
в мертвом веществе? — этот вопрос ставил в тупик величайшие умы
человечества по той простой причине, что никакого рационального
ответа на него дать нельзя. Ложна сама посылка, лежащая в его основе
— представление об изначальной пассивности, «несамодеятельности»
вещества, как выражается Страхов.
Поскольку же в области естественных наук со времен Ньютона
господствовало неприязненное или, по меньшей мере, отстраненное отношение
к философской «метафизике», вопрос этот, давно и хорошо продуманный
лучшими философскими умами, надолго сделался камнем преткновения
для естествознания. Страхов стремится показать, как готовится,
вызревает в современной науке «деятельностное» понятие вещества.
1 Там же. С. 319.
41
«Дело в том, что вещество действует, что оно есть нечто
деятельное»1. Страхов кладет этот принцип в основу «мира как целого», начиная
— с человека, существа, в котором цельность мира достигает высшего
предела. Человек есть то, что он делает. «Вместо того чтобы
исследовать, из чего состоит человек, мы должны рассмотреть, что бывает с
человеком. Вместо сущности нужно взять деятельность...»2.
Что же собой представляет человеческая деятельность, в чем
состоит ее своеобразие? На этот вопрос Страхов отвечает совершенно в духе
гуманистов Возрождения: человек — абсолютно пластичное существо,
он может действовать как угодно, по любой схеме, и способен сделать
своей личной силой любую силу природы. У человеческой
жизнедеятельности нет никакой заранее данной, ограниченной мерки, как у всех
других живых и неживых существ.
«Человек весь в возможности... Сказать, чем непременно бывает
человек, невозможно; он может быть бесконечно высоким и
бесконечно разнообразным существом; но точно так же он может быть и
существом ничтожным, куском живого мяса, в котором нет даже животных
достоинств»3.
Одним словом, своеобразие человеческое деятельности состоит в
отсутствии всякого своеобразия. Человек абсолютно свободен в своих
действиях, он уже больше не раб природной необходимости, а
«вольноотпущенник природы» (Гердер). Во что выльется эта его свобода — наперед
знать нельзя, это от бесчисленных причин и обстоятельств зависит.
Однако, отважившись встать на эту радикально-гуманистическую
точку зрения, Страхов не решается проводить ее неуклонно до самого
конца. Отвергнув раз навсегда предопределенную «природу человека»,
философ встает перед вопросом: чем, какими причинами обусловлено
развитие человеческой личности? Почему одни люди делаются
«благодетелями человечества», а другие остаются ничем, «совершенными
ничтожествами»? Если никакой природной предопределенности в формах
человеческой жизнедеятельности быть не может, чем тогда обусловлен
характер развития личности?
Классический ответ дал столетием раньше К.-А. Гельвеций в книгах
«Об уме» и «О человеке»: абсолютно всё человеческое в человеке
воспитывается теми общественными условиями, в которых он живет и
действует. «Наставниками каждого являются, если смею так выразиться, и
1 Там же. С. 123.
2 Там же. С. 196.
3 Там же. С. 195.
42
форма правления, при которой он живет, и его друзья, и его любовницы, и
окружающие его люди, и прочитанные им книги, и, наконец, случай»1.
Природа поровну разделила между нами свои дары. Людей она
создала равными, не дав никому из них преимущества по части «природных
талантов». Каждый человек получил от нее превосходный инструмент
разума — мозг, но лишь общественное воспитание доставляет ему
умение разумно пользоваться этим инструментом. И все люди сделались бы
умными и талантливыми, если бы общество могло предоставить им
необходимые для того условия.
Страхов решительно отказывается поддержать это воззрение
просветителей: «Жестоко ошибаются те, которые дальше такого взгляда
ничего не видят. Не из обстоятельств проистекает величие и
достоинство человека»2. Приводимый им контраргумент — чисто
эмпирического свойства, со ссылкой на «ежедневный опыт», — то и дело повторяется
и сегодня: в самой благоприятной общественной среде часто рождаются
пустые люди, и наоборот.
Под благоприятной средой Страхов имеет в виду доступ к
сокровищнице духовной культуры, открываемый материальным «достатком». Но
далеко не во всяком человеке книги рождают мысли, а «картины
природы» — тонкие чувства. Бывает, что самое лучшее воспитание дает
обратный эффект, вспомнить хотя бы воспитанника Сенеки Нерона.
Просветители, конечно, принимали в расчет лежащие на
поверхности факты такого рода. Помимо книг и картин для воспитания ума и
таланта надобен внутренний импульс, потребность в развитии. «Ум — сын
нужды и интереса», — гласит знаменитая максима Гельвеция. Отнюдь
не «достаток», а напротив, «нужда» есть главный источник энергии
саморазвития личности, — вот что поняли просветители и что не смог или
не пожелал понять Страхов. Такие «общественные обстоятельства», как
нужда и интерес, он просто не принимает в расчет. Страхов, разумеется,
совершенно прав, говоря, что «достаток» открывает лишь абстрактную
возможность совершенствования индивида, но разве из этого следует,
что «воспитание, образование, собственно, не производят развития»3?
Смотря какое воспитание, возразил бы, наверное, Гельвеций. Доступ
к книгам и «картинам природы» — факторы далеко не достаточные. Тут
многое зависит от действий воспитателя, а еще от того, насколько остра
— здесь и сейчас — общественная потребность в уме и таланте. Обще-
1 Гельвеций К А. Сочинения. М., Мысль, 1973. Т. 1. С. 327.
2 Страхов H.H. Мир как целое. С. 159.
3 Там же. С. 160.
43
ству требуется ведь не одни умники-книгочеи, но и масса тупиц,
способных выполнять чисто механическую работу. Они должны получить
от общества соответствующее воспитание. Иначе скрипачам и врачам
придется собирать лук и картошку.
Отвергнув «общественно-воспитательную» теорию возникновения
личности, Страхов ставит себя в практически безвыходное
положение. Откуда же берутся ум и талант, если не из общественных
«обстоятельств» и не от природы? От прямого ответа Страхов уходит, лишь
бросая курсивом туманную фразу: «божественное пламя таланта».
Надо ли понимать ее буквально? Трудно сказать. Если да, то какая, в
сущности, разница — вдыхает в людей это «пламя» Бог или природа?
Оба ответа практически равноценны, поскольку ни в том, ни в другом
случае у нас нет ни малейшего понятия о том, как конкретно возникает
«величие человека». Впрочем, если апелляция к природе еще оставляет
призрачный шанс когда-нибудь это выяснить средствами биологии или
химии, то отсылка к Богу делает бессмысленными и бесполезными
всякие попытки научно исследовать данный вопрос.
Имел ли, на самом деле, Страхов в виду божественное руководство
раздачей талантов, или прибег к аллегории — не столь уж и важно. Так
или иначе ясно, что никакого удовлетворительного решения он найти не
сумел. Не потому, что плохо искал или способностей не хватило. Просто
это тот самый пункт, в котором яснее всего обнаруживается главный
изъян антропологического метода исследования — его полная
непригодность для решения общественно-исторических проблем. К числу
последних, вне всяких сомнений, и относится проблема воспитания
умной и талантливой человеческой личности.
Совсем не случайно в книге, притязающей охватить «мир как целое»,
не нашлось места для человеческого общества и мировой истории.
Травяным вшам и головастикам, Микромегасу и гомункулу места хватило,
об инопланетянах — три главы. А на долю общества, в котором
формируемся и живем мы, люди земные, не пришлось ни страницы, словно
наше общество лишнее в «мире как целом».
Но, говоря о человеке, миновать понятие общества попросту
невозможно. Имеется такое понятие и у Страхова, и его нетрудно
эксплицировать, вникнув в ход страховских рассуждений о саморазвитии
человеческой личности.
Доказывая ту очевидную истину, что человек делает себя сам, «идет
вперед на собственных ногах», — что, в общем-то, никто и не оспаривал,
кроме немногих закоренелых фаталистов, — Страхов обходит стороной
главную проблему: откуда берутся у людей «собственные ноги»?
44
Сам Страхов декларировал выше, что человек тем отличается от
животных, что у него нет никакой наперед заданной схемы действий, что
«человек весь в возможности». А теперь утверждает, что в процессе
воспитания человека природа «берет свое»1. О каких же бесконечных
возможностях и свободе личности может вестись речь, если характер
человека предопределен природой, Богом или чем угодно иным, кроме
самих людей?
Если дарованные природой задатки и есть те «собственные ноги»,
на которых мы «идем вперед», то принципиальное отличие человека
от животного немедленно исчезает. Животное, даже самое
примитивное, тоже имеет свои природные задатки, предопределяющие его
жизнедеятельность. Чем же в таком случае человек принципиально выше
животного?
Ответ Гельвеция: природа человека — не естественная, а
общественная. Общество с помощью «книг, друзей и любовниц» ставит
человека на собственные ноги (как в переносном смысле, так и в самом
прямом — физиологическом), преобразуя тело и душу ребенка в
самодеятельную человеческую личность.
Страхов же видит в обществе всего-навсего внешнюю среду, какой
для растений и животных являются почва и атмосфера. Посему задача
человека заключается не в том, чтобы развивать и совершенствовать
общество, в котором он живет, а в том, чтобы вырваться, освободиться
от общества:
«Истинно человеческие, истинно жизненные явления состоят не в
слепом подчинении среде, а в выходе из-под ее влияний, в развитии
высшей жизни на ступенях низшей. Таков характер человеческой жизни,
таков характер жизни вообще, жизни всех организмов»2.
Следовательно, свою свободу человек обретает лишь вне общества,
где-то по ту сторону своей общественной жизни. Где же именно? Что
там, по ту сторону общества? Либо опять Бог, либо — нечто
принципиально непознаваемое, о чем нельзя сказать ничего
вразумительного. Второй ответ рационалиста Страхова не устраивает, ну а первый
смущает его как ученого, поскольку является богословским, никак не
научным. В итоге он так не смог сказать что-либо конкретное в ответ,
ограничившись парой фраз о «берущей свое природе» и
«божественном пламени».
Лишь позднее, ближе к концу своего творческого пути Страхов более
откровенно обозначит границы научного познания, выведя за эти грани-
1 Там же. С. 160.
2 Там же. С 161.
45
цы по сути все высшие человеческие ценности. «Наука, — напишет он,
— не объемлет того, что для нас всего важнее, всего существеннее — не
объемлет жизни. Вне науки находится главная сторона нашего бытия —
то, что составляет нашу судьбу, то, что мы называем Богом, совестью,
нашим счастьем и достоинством»1.
Из дальнейшего явствует, что «жизнь» есть исключительно предмет
религиозной веры, нравственного и художественного чувства. Таким
образом сфера человеческого бытия, «жизни», в изображении Страхова
выглядит чем-то принципиально недоступным рациональному
постижению, наподобие кантовской вещи в себе.
Из открывшегося науке, разуму «мира как целого» выпало в конечном
итоге наше собственное бытие, «жизнь». А ведь человек для Страхова
— центр мироздания, «вершина природы, узел бытия». Без научного
познания человека понятие о мире как целом никак не возможно. Будучи
мыслителем честным, Страхов не стал затушевывать это противоречие,
напротив, прямо высказал «недовольство» своим собственным
утверждением цельности мира. Отметив в Предисловии к книге, что «человек
постоянно ищет выхода из этого целого, стремится разорвать связи,
соединяющие его с этим миром, порвать свою пуповину»2.
Данное противоречие — индивида и «мира» — спустя полвека
сделается главным предметом рефлексии в философской антропологии
М. Шелера и X. Плеснера, а также у экзистенциалистов М. Хайдегге-
ра, Ж.П. Сартра и А. Камю. Знаменитый образ «человека бунтующего»
Камю отчасти близок со страховским образом человека, сознательно
вырывающего себя, свое бытие из общего мира: «Люди мечутся, ища
выхода, ищут страдания и почитают за стыд быть довольными этой жизнью,
как она есть»3. Только у Камю это бунт против абсурдности бытия, тогда
как у Страхова человек восстает против логичности и рациональности
мира: «Человек постоянно почему-то враждует против
рационализма... Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли»4.
Таким образом, не только некоторые положительные философско-
антропологические идеи Страхова, но также и ее нерешенные
противоречия можно расценить как предвестие и запрос философии нового типа,
если не сказать больше — как один из первых проблесков философского
самосознания грядущего века.
1 Страхов H.H. О вечных истинах (мой спор о спиритизме). СПб, 1887. С. 54.
2 Страхов H.H. Мир как целое. С. 68.
3 Там же.
4 Там же.
46
II
Коль скоро мы не признаем общественную природу человека,
последний предстает перед нами просто как живое существо в ряду
прочих живых существ. В таком ракурсе человека исследует антропология.
Страхов воспользовался данными антропологии как ключами к решению
коренных философских проблем. Такой подход, конечно, не нов —
популярным его сделали французские материалисты XVIII столетия.
С тех пор антропология ушла далеко вперед, и Страхов со знанием
дела пользуется ее новейшими достижениями. Ему не нравится, однако,
историческое родство антропологии с материализмом и он
прикладывает массу усилий, с тем чтобы показать возможность
нематериалистической — но при этом и не «спиритуалистической» — антропологии.
Немалая часть «Мира как целого» отведена критике материализма.
Правда, Страхов оговаривается, что имеет в виду лишь
общепринятый материализм, «как теоретическое убеждение, существующее во
многих умах и связанное с изучением природы». Сделать эту оговорку
ему пришлось, чтобы обойти стороной материализм Л. Фейербаха,
открывший «антропологическую сущность религии» и получивший в те
годы широкую известность. Для Страхова «материализм» — это
воззрения Бюхнера, Фохта и их сторонников, свидетельствующие о «крайнем
упадке философского мышления»1.
Между тем у этих — на самом деле вульгарных —
материалистических учений есть одна общая черта со страховской антропологией: в
обоих случаях человек мыслится как организм. Выражение
«органическое целое», успевшее уже в те времена превратиться в клише,
Страхов предлагает толковать не иносказательно, а буквально: живой,
деятельный индивид.
В ряду живых существ налицо «совершенствование», по сути ряд
этот демонстрирует нам последовательное развитие единой
организации. А человек есть предел органического совершенства, утверждает
Страхов. Речь не только о духе и уме, но и о самом человеческом
организме, о дарованном человеку природой органическом теле.
«Человек есть совершеннейшее животное не потому, что в нем
проявляется дух, который подавляет животные свойства; нет, человек, и
просто как животное, представляет нам осуществление высочайшего
развития животности»2.
1 Страхов H.H. Очерк истории философии. Харьков: Типография Губернского
Правления, 1894. С. 154-160.
2 Страхов H.H. Мир как целое. С. 89.
47
Доказательству этого положения посвящена значительная часть
«Мира как целого». Человеческое тело превосходит прочих животных
и в плане механической свободы движений, и в плане кровообращения
и обмена веществ, и в способности ощущений, утверждает Страхов.
Ну а то, в чем человек уступает прочим животным, является
следствием и оборотной стороной гораздо более весомых органических
преимуществ.
Антропологический метод здесь оборачивается чистейшей
телеологией, что открыто признает и сам Страхов, предлагая читателю
«несколько общих рассуждений, принадлежащих к числу тех, которые
называются телеологическими»1. Скверную репутацию телеологических
доводов среди ученых-натуралистов он объясняет тем, что доводы эти
часто бывали сопряжены с недостаточно строгими понятиями. Повинна
в этом не сама телеология, а лишь неумение правильно с нею
обращаться — «дурные приложения», как выражается Страхов
Свой взгляд на телеологию он основывает на Кантовой дистинкции
относительной (внешней) и внутренней целесообразности, как она
формулируется в «Критике способности суждения». В науке нет места лишь
внешней целесообразности и телеологии «финальных причин», когда
организму приписываются цели, никак не вытекающие из его
собственной природы. В то время как внутренняя, имманентная
целесообразность в науке не только уместна, но без нее вообще невозможно было бы
понять ни одну вещь как целое.
Принципом внутренней телеологии является стремление каждого
существа реализовать все, что заложено в нем природой. Природные
задатки выступают одновременно и как цель развития, достигая которой,
организм превращается в завершенное целое (мы называем это его
«зрелостью»). Это стремление к целостности и есть сама жизнь.
Всякое целое является целью своего развития, является самоцелью,
и существование каждого отдельного элемента целого подчинено этой
цели. Это действительно так. В этом месте Страхову стоило бы задаться
вопросом: элементом какого конкретного целого является человеческий
организм? Страхов проходит мимо этой проблемы. Он много и охотно
исследует человеческого индивида как целое, но ровным счетом ничего
не говорит о том целом, частицей которого является данный индивид, —
о человечестве.
Вследствие этого, как нам кажется, ему и не удается дать в книге
ответ на вопрос, к чему человек стремится и какой конкретно «выход» из
живого мира обнаружили первые люди. Почему животное, в отличие от
' Там же. С. 192.
48
человека, не стремится «разорвать связи с миром»? Просто потому, что
животное — органическая часть этого мира, а человек является
частицей еще и иного мира — социального.
Человек, в полном соответствии с формулируемым в книге Страхова
«законом телеологии», подчиняет свою органику общественным целям.
Нередко в ущерб для своего органического тела, а подчас и с риском
для жизни. Если же человек, наоборот, подчиняет свою
жизнедеятельность в обществе целям органическим, животным, — он перестает быть
полноценным человеком, деградирует как личность.
Разница между животным и человеком наглядно выступает уже в
характере передвижения их органических тел. Взглянем поближе на
соответствующее рассуждение Страхова все в том же Письме VIII
— «Содержание органической жизни». Здесь с большим остроумием
доказывается, что, в согласии с «законом телеологии», развитие
животного мира приводит к появлению существ, передвигающихся на
четырех ногах.
«Простейшая и при большой массе единственно возможная форма
опоры для животного будет четыре ноги. У низших животных мы
находим больше четырех ног: у насекомых шесть, у пауков восемь, у рака
десять. Совершенно ясно, однако же, что такое обилие ног нисколько
не способствует им хорошо двигаться. У высших животных..., таких, у
которых главное отправление движений есть передвижение с места на
место, мы находим четыре ноги»1.
Эволюция «мира как целого» идет в направлении наивысшего
возможного совершенства процесса перемещения живых тел в
пространстве. Это факт. Ну а что же человек? Зачем ему было менять столь
эффективный способ перемещения на более медленный, при этом
теряя еще и в устойчивости. Ответ Страхова: ради «большей свободы
движений»2.
Допустим, свобода движений в вертикальном положении
действительно возрастает — тогда почему другие высшие животные не
стремятся двигаться вертикально? Разве им не требуется свобода движений?
Отчего в случае с животными «закон телеологии» перестает
действовать? Да и человеческий ребенок вовсе не стремится двигаться
вертикально на двух конечностях, его искусственно, иногда с трудом и даже
насильственно, выпрямляют другие люди.
«Для организма ребенка научиться ходить — это мучительно
трудный акт, ибо никакой необходимости, диктуемой ему в том "изнутри",
1 Там же. С. 188.
2 Там же.
49
нет, а есть насильственное изменение врожденной ему морфофизиоло-
гии, производимое "извне"»1.
Дальше — больше: добрая половина человечества обувает ноги в
туфли на каблуке, часто высоком и тонком, словно в насмешку над
«законом телеологии». Да и одежда наша, прямо скажем» далеко не всегда
способствует «большей свободе движений»...
Так антропологический угол зрения может делать невидимыми для
теоретика вещи самые простые и очевидные. Целями органической
жизни человек сплошь и рядом пренебрегает, и даже если нет, он как правило
облекает животные функции своего тела в культурно-исторические
формы, откровенно абсурдные или вредные с «органической» точки зрения.
К таковым относится и способ передвижения людей, «совершенством»
которого восхищался Страхов. Медики утверждают, что прямохождение
послужило причиной возникновения огромного количества патологий, в
первую очередь заболеваний позвоночника и родовых травм.
Подобно всем без единого исключения специфически человеческим
формам деятельности, целесообразность ходьбы на двух ногах диктуется
неорганическим, а общественным «целым». Это прямо вытекает из
основоположения, которое отстаивал сам Страхов: «человек весь в
возможности». Людьми не рождаются, ими делаются. Разумеется, для этого
необходим труд самого индивида. Одних «обстоятельств» мало, — тут Страхов
прав. Но формирование человека всегда протекает в заданных обществом,
культурных формах, и стимулируется (либо, напротив, замедляется и
прекращается) другими людьми, а не механикой и «органикой» нашего тела.
Спору нет, человеческое тело — одно из совершеннейших творений
природы, но как много в нем есть искусственного (и чем дальше, тем
больше, увы). Высшей, специфически человеческой мерой его
совершенств (и несовершенств — их тоже хватает, хоть Страхов предпочел о
них умолчать) является соответствие данного тела тем или иным
стандартам культуры. От последней целиком зависит и наша «свобода
движений»: станет ли человек передвигаться на своих двоих, на лошади
или верблюде, на лодке или велосипеде.
III
Два утверждения Страхова: что совершенствование есть «закон
жизни» и что человек есть высший предел совершенствования, — взятые
вместе дают нам сильную версию антропного принципа: все дороги
1 Ильенков Э.В. Что же такое личность? //С чего начинается личность. М.,
Политиздат, 1984. С. 334.
50
эволюции ведут к человеку. Причем именно к человеку земной модели,
а не просто к подобному — универсально действующему и мыслящему
— живому существу, стремящемуся объять своими делами и мыслями
целый мир, «мир в целом».
Человек есть «центр, к которому сходятся все лучи мироздания», —
так формулирует антропный принцип сам Страхов1.
Прямую противоположность антропному принципу составляет
взгляд, согласно которому человек — всего лишь пылинка в
бесконечной Вселенной, и все дела наши, и сам человеческий разум, ничтожны в
сравнении с этой бесконечностью. Естественно, Страхов всеми силами
противится такому уничижительному взгляду на человека. Он
пространно и страстно спорит с «защитниками человеческого ничтожества»,
подробно разбирая аргументы Вольтера, Лапласа, Ивана Киреевского
и особенно Конта. В последнем Страхов не без оснований усматривает
«полного представителя того воззрения, которого очень часто держатся
натуралисты. По его мнению, мир представляет бесконечное
разнообразие, и человек есть одно из бесчисленных существ природы, в
отношении к целому миру совершенно ничтожное и по своим размерам, и по
своему содержанию»2.
Причину подобных взглядов на человека Страхов усматривает в
природе нашего языка. В «мире слов» властвуют абстракции, часто
выдаваемые за реальные сущности. Так, по сравнению с «умом
вообще» человеческий ум выглядит лишь некой частностью, имеющей
бесконечно меньший объем и силу. Меж тем достаточно понять, что
«ум вообще» — нечто всего лишь воображаемое, не реальное, как
«мираж слов» рассеется и конкретное будет восстановлено в своих правах.
Таким оборотом мысли Страхов сокрушает «самый главный софизм
человечества».
Думается, Киреевского едва ли имело смысл ставить на одну доску
с Контом. В критикуемом Страховым отрывке под «высшим
нравственным порядком», в сравнении с которым человеческий ум чувствует свою
«ничтожность», Киреевский, вероятнее всего, имел в виду Дух Божий
или нечто подобное, а не абстрактный «ум вообще». Но, может быть,
и Бог тоже — абстракция и словесный «мираж»? На сей счет Страхов
счел за лучшее не распространяться. При чтении «Мира как целого»
складывается впечатление, что Бога автор решил вынести куда-то за
пределы этого мира, по примеру Эпикура, сославшего своих богов в
«интермундии».
1 Страхов H.H. Мир как целое. С. 198.
2 Там же. С. 256.
51
Один из обычных доводов в пользу незначительности
человеческого бытия в мире — констатация смертности человека. О каком
совершенстве человеческой организации можно вести речь, если люди живут
куда меньше, чем обыкновенное дерево? В решении Страховым этой
проблемы за версту чувствуется школа гегелевской диалектики —
умение «смотреть в лицо негативному», как изъяснялся автор
«Феноменологии духа».
На взгляд поверхностный смерть выглядит лишь утратой жизни,
недостатком, изъяном; в сущности же смерть — «одно из совершенств
организмов, одно из преимуществ их над мертвою природою. Смерть
— это финал оперы, последняя сцена драмы; как художественное
произведение не может тянуться без конца, но само собою обособляется и
находит свои границы, так и жизнь организмов имеет пределы. В этом
выражается их глубокая сущность, гармония и красота, свойственная
их жизни»1.
Читая эти строки, кто-то может опрометчиво решить, что смерть —
ни своя, ни ближнего своего — Страхова ни капли не печалит, он ее
только приветствует. Это не так, разумеется. Он имеет в виду смерть
естественную, как внутреннее завершение жизни, а не смерть
преждевременную, наступившую, когда человек не успел еще на деле
выразить свою личность. Страхов специально этого не оговаривает, но
внимательный читатель без особого труда сумеет понять его мысль.
Несвоевременный финал так же портит «оперу» жизни, как и театральную
оперу.
Смысл смерти всецело определяется характером жизни. Эта мысль
ясно прочитывается в завершающем пассаже данной главы: «Смерть
есть великое благо. Жизнь наша ограничена именно потому, что мы
способны дожить до чего-нибудь, что можем стать вполне человеком,
смерть же не дает нам пережить себя»2.
Осмыслить мир в целом на основе антропного принципа пытался,
примерно в одно время со Страховым, и Николай Федоров. Вряд ли
Страхов был знаком с его взглядами (учитывая, что Федоров не желал
печатать свои сочинения), хотя тезис «смерть — великое благо» звучит
как перистрофа к федоровскому проекту «преодоления смерти».
В западноевропейской философии антропный принцип лучше
других обоснует Макс Шелер полвека спустя. Страхов мог бы без
колебаний подписаться под шелеровской формулировкой антропного
принципа:
1 Там же. С. 169.
2 Там же. С. 177.
52
«Человек — мы это еще увидим — соединяет в себе все сущностные
ступени наличного бытия вообще, а в особенности — жизни, и, по
крайней мере, в том, что касается сущностных сфер, вся природа приходит в
нем к концентрированному единству своего бытия»1.
Однако стремление Страхова прочертить прямую «линию жизни»
от инфузории к человеку, понять человека как наивысший предел
совершенствования живой природы оказалось чуждым для позднейшей
философской антропологии. Не отвергая саму возможность такого
подхода, Шелер выдворяет его, вместе с лежащим в его основе
понятием человека, из философии — в область «естественнонаучной
систематики».
В философии, постулирует Шелер, «слово «человек» должно
означать совокупность вещей, предельно противоположную понятию
«животного вообще»»2. В шелеровской антропологии человек обращается
в чистый «дух», противостоящий «жизни» и вместе с тем стремящийся
вобрать ее в себя3.
Совсем не встретила сочувствия страховская «линия жизни» у
религиозных философов. Даже Лев Толстой, дружески настроенный по
отношению к Страхову и высоко оценивший отдельные места «Мира
как целого», в своем письме к нему раскритиковал попытку вывести
совершенство человека напрямую из «зоологического»4. Стандарт
совершенства мира, который отстаивал сам Толстой, — «абсолютное Добро»,
— навряд ли можно научно дедуцировать из флоры и фауны.
Страхов в качестве главной меры совершенства жизни — «образца,
чистейшего и высочайшего вида развития вообще» — избрал тип пси-
хинеской деятельности и попытался наметить основные ступени
развития психики. Интересно, что точно так же поступит и Шелер, с той
разницей, что он пользуется новейшими данными психологии, которые
Страхову, естественно не могли быть известны. Но сам
«психогенетический» подход к определению качества жизни у них общий.
«Я исхожу при этом из ступеней психических сил и способностей,
постепенно выявленных наукой. Что касается границы психического, то
1 Шелер М. Положение человека в Космосе / / Проблема человека в западной
философии. М., Прогресс, 1988. С. 37.
2 Там же. С. 32-33.
3 В таком «оживотворении духа» Шелеру видится щель и предел (Ende)
конечного бытия и процесса» (там же. С. 76).
4 Неплохой разбор переписки Толстого и Страхова о «Мире как целом» дала
Донна Оруин: Orwin DT. Tolstoy's Art and Thought, 1847-1880. Princeton:
Princeton University Press, 1993, p. 167-168.
53
она совпадает с границей живого вообще»1, — постулирует Шелер. Того
же мнения держался и Страхов. Нам предстоит далее обратиться к его
работе «Об основных понятиях психологии», в которой получает свое
продолжение и развитие антропологическое исследование душевной
жизни, начатое в «Мире как целом».
IV
Психологическое исследование Страхова начинается с критики
скрытого догматизма представителей «эмпирических наук». Однако при чуть
более внимательном прочтении читатель с удивлением обнаруживает,
что та же самая критика может адресоваться... Гегелю. «Мы невольно
принимаем на себя такой вид и начинаем держать такой тон, как будто
мы вполне владеем предметом, как будто наше изучение его достигло
окончательных результатов»2, — что это, как не описание типично
гегелевской манеры философствования?
На следующей странице удивление наше удваивается. Страхов
предлагает, в качестве «одного из самых изящных приемов», метод
исследования прямо обратный, как минимум по своей логической форме,
диалектике Гегеля: «начинать не с общих положений и определений, а
с частного факта, с отдельного примера, и потом восходить анализом
до общих понятий». При этом Страхов апеллирует к авторитету
Ньютона, которого тот же Гегель третировал как «ein vollkommener Barbar
an Begriffen» (полного варвара в части понятий), имея в виду как раз
учение Ньютона о методе формирования понятий ex phaenomenis —
«из явлений».
Впрочем, реальный метод, которым Страхов воспользовался в
своем исследовании душевных явлений, едва ли можно назвать
индуктивным. Страхов не столько сравнивает и обобщает, сколько анализирует
психологические факты, — что, конечно, было бы делом невозможным
без содействия тех самых «общих понятий», к которым он
намеревается «восходить». В ходе анализа фактов у Страхова понятие о душе не
формируется, но эксплицируется, выступая на поверхность явлений
и обогащаясь при этом разнообразным эмпирическим содержанием.
Отлично сознавая чреватость подобного рода экспликаций
«догматизмом», Страхов прибегает, в качестве противоядия от догматизации
исследования, к Декартову методическому сомнению. «Сомнитель-
1 Шелер М. Положение человека в Космосе. С. 33.
2 Страхов H.H. Об основных понятиях психологии и физиологии. 2-е изд. СПб,
Типография бр. Пантелеевых, 1894. С. 3.
54
ность» для Страхова не является недостатком теории — напротив, это
ее достоинство и характерный признак «настоящего познания».
Нетрудно узнать в этой формулировке фундаментальное
основоположение попперовского «фальсификационизма»: теория, которая не
может быть поставлена под сомнение никаким мыслимым явлением опыта,
является ненаучной. То самое, что Поппер станет именовать
«рискованностью» или «опровержимостью» (falsifiability) подлинно научных
положений, Страхов, пользуясь классической декартовской лексикой,
называл «сомнительностью».
Надо полагать, Поппер охотно согласился бы с утверждением
Страхова: «Как скоро мы убедимся, что какое-нибудь познание принадлежит
к числу несомнительных, ... так тотчас же это познание теряет для нас
свою цену». На том же самом основании «несомнительности» Поппер
отказывал в научной ценности марксистской и фрейдистской
доктринам. Научное познание представляет собой вечный процесс
преодоления сомнений. Потому там, где нет места сомнению в первоосновах, нет
места и самой науке.
И призыв Страхова к равнению на «приемы естественных наук»,
как наилучшие «образцы» научного исследования, вряд ли мог вызвать
одобрение Гегеля, но, безусловно, пришелся бы по нраву Попперу, да и
современникам Страхова из многолюдного лагеря «контистов».
При этом Страхов, в отличие от Поппера, не склонен
абсолютизировать критерий сомнения и представлять реальность «болотом», в
которое разум вбивает сваи теорий, в итоге лишь увязая все глубже и
глубже в «высоконаучных» сомнениях. Его никак не назовешь
логическим релятивистом. Понятие истины Страхов причисляет к условиям
самой возможности познания, это понятие, пишет он, «не выводится
ни из каких познаний и соображений, а напротив того
предполагается ими»1.
Критерий истинности знания Страхов, как подобает гегельянцу,
усматривает в его цельности, или, что то же самое, конкретности
мысли. По всей вероятности, название главного сочинения Страхова «Мир
как целое» восходит к знаменитой сентенции из Предисловия к
«Феноменологии духа»: «Das Wahre ist das Ganze» — истинное есть целое.
Этот логический маяк — принцип цельности мира и, в той же мере,
конкретности знания о мире — Страхов по мере сил старается держать
1 В «Мире как целом» говорится еще определеннее: «Наука имеет постоянно
одно и то же содержание, одну и ту же неизменную цель — истину. Наука не
может существовать ни одного дня без уверенности, что она может достигать
истины, что она даже заключает ее в себе в некоторой степени» (С. 315).
55
в виду и в своем исследовании «основных понятий психологии».
Альтернативное же понимание истины, как сходства понятия с вещами самими
по себе, Страхов критически взвешивает и отвергает как приводящее
нас к «бессмыслице».
Насколько удается Страхову добиться конкретной цельности
исследования душевной жизни, — это тема, заслуживающая отдельного
разговора. Не вдаваясь в нее глубоко, констатируем лишь, что в плане
методологии исследование Страхова весьма, если так можно выразиться,
гетерогенно. Гегель, Ньютон, Гельмгольц и Шопенгауэр — мыслители
чрезвычайно далекие друг от друга, а то и прямо враждующие между
собой, — в работах Страхова словно бы заключили перемирие. При этом
ни в какой в видимый читателю «диалог» они не вступают. Каждый
действует сам по себе, привлекаемый в качестве советника по тому или
иному вопросу в разных пунктах исследования.
Н. Грот утверждал, что Страхов «стремился сам своеобразно
осуществить последнюю задачу мысли — синтез»1. В принципе, то же самое
можно сказать и о самом могучем оппоненте Страхова — Вл.
Соловьеве, стремившемся, по его собственным словам, к «универсальному
синтезу науки, философии и религии»2, да и о большинстве светил
отечественной философии, в особенности религиозной. Подобная
«синтетичность» составляет типичную черту русской философской мысли.
Кому-то видится в этом преимущество последней, широта взгляда,
другим — «эклектическое стремление слепить воедино несколько чужих
мыслей»3. В действительности бывало и так, и этак. Страхову лучше
многих других удавалось отыскивать конкретные формулы синтеза.
Хотя подчас предлагаемые им решения философских проблем выглядят
довольно поверхностными.
В пример можно привести рассуждение Страхова о свободе воли, в
котором он, идя по стопам Шопенгауэра, трактует волю как «произвол»
— способность избирать то или иное действие или же воздерживаться
от него по «моему соизволению». Автор относит такую свободу к
исходным понятиям психологии, которые «ниоткуда нельзя вывести», как
если бы ни Спиноза, ни Дидро, ни любимый им Гегель и не пытались
«вывести» иное понимание человеческой свободы — как
целесообразного действия в соответствии с природой вещей.
1 Грот И. Памяти Страхова. К характеристике его философского
мировоззрения. М., Кушнерев и К°, 1896. С. 40.
1 Соловьев B.C. Сочинения в 2 т. 2-е изд. М„ Мысль, 1990. Т. 2. С. 122.
3 Яковенко Б. В. Очерки русской философии. Берлин, Русское универсальное
издательство, 1922. С. 125.
56
В своем исследовании Страхов не делает ни малейшей попытки
культурно-исторического анализа душевных явлений по примеру
гегелевской «Феноменологии духа». Его исследование протекает всецело
в плоскости декартовых координат — где cogito служит и «архимедовой
точкой опоры», и последним итогом психологической науки, — не
выходя за рамки абстрактной интроспекции «я», в богатый историческим
содержанием мир «объективного духа», т.е. в культуру.
Но все же и в этой ограниченной координатной плоскости Страхову
удаются нестандартные решения и ходы мысли. В частности,
взаимоотношение души и тела определяется им не как причинно-следственная
связь, но как отражение, или выражение одного в другом: «Тело есть
та часть объективного мира, которая в своих явлениях постоянно
отражает явления нашей души и помимо которой душа ничего не может
выразить и не может воспринять никакого чужого выражения. Только в
таком смысле нужно разуметь связь души и тела»1.
Перед нами — решение Спинозы, но, так сказать, в обратной
перспективе: не душа есть идеальное выражение тела, «идея тела», а тело —
материальное выражение внутренней жизни души. Аналогичное решение
предложил в свое время Лейбниц, однако оно не получило в психологии
надлежащей теоретической разработки, и Страхов, похоже, пришел к
нему самостоятельно, своим собственным путем. Кроме того, отсюда при
желании может быть протянута логическая нить к «экспрессионизму»
Ж. Делёза, начавшемуся именно с анализа категории выражения (expres-
sio) в одной из ранних его книг — «Спиноза и проблема выражения»2..
Преимущество категории выражения для решения психофизической
проблемы состоит в том, что она позволяет сохранить независимость
выражаемого от выражающего — души и тела. «Эти два мира остаются
строго разграниченными; но один служит для выражения другого
подобно тому, как буквы выражают звуки, и звуки выражают мысли»3.
Мысль может выражаться в самых разных телесных, «вещественных»
формах, нисколько от этого не меняясь по существу. И наоборот, тела
не теряют и не меняют своих физических свойств оттого, что
становятся формами выражения идей, мыслей. Если же отношение души и тела
понимается как причинно-следственное и, тем более, как отношение
субъекта к предикату (у вульгарных материалистов мысль — свойство,
1 Страхов H.H. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. 29.
2 Deleuze G. Spinoza et le problème de l'expression. Paris: Les Éditions de Minuit,
1968.
3 Страхов H.H. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. 13.
57
функция тела; у Беркли и Фихте, напротив, телесное есть форма
деятельности духа, Я), одна из сторон — либо дух, либо тело — утрачивает
свою «самость».
Судя по примеру с буквами, звуками и мыслями, Страхов склонен
толковать отношение души и тела по образу и подобию отношения
семантического — как взаимосвязь значения и знака. И это тоже
роднит Страхова, при всем его рационализме, с современными течениями
постструктурализма. Да и вообще, Декартово ego sum, этот «стоящий
на себе субъект» (М. Хайдеггер), есть подлинный исток и корень всей
неклассической философии двух последних столетий. Возврат
гегельянца Страхова в области психологии от Гегеля к Декарту, с полной
утратой исторической методологии исследования душевных явлений, можно
расценивать как один из продромов грядущего пришествия «экзистиру-
ющей субъективности».
Эта тенденция ясно видна уже в определении «духа», которое дает
Страхов: «Дух, напротив, есть чистый субъект, то есть, нечто
познающее, но ни мало не доступное для объективного познания. Дух не имеет
в себе ничего общедоступного, ничего внешнего, подлежащего такому
познанию, как объективный мир; в нем все внутреннее, закрытое для
чужого взгляда»1.
Гегелевское понятие объективного духа данной дефиницией не
просто упускается из виду, а скорее сознательно уничтожается,
«аннигилируется». Сомнительно, чтобы Страхов мог не заметить или позабыть
жесточайшую критику, которой Гегель подверг понятие «чистого субъекта»
(die reine Subjektivität), лишенного всякой объективности и потому
«закрытого для чужого взгляда». Страхов, кажется, никогда не ввязывался
в открытый спор с Гегелем, однако трудно не видеть его кардинальных
расхождений с учителем в самых что ни на есть принципиальных
вопросах философского знания, — ив наибольшей мере это касается как раз
«философии духа».
О любых «субъективных явлениях других духовных существ»,
—продолжает Страхов, — мы «догадываемся» по их вещественным
выражениям, «как по знакам и символам». Внешнее выражение духовного
в телесном для Страхова — процесс семантический, он всегда в той или
иное мере искажает «внутреннее». Другому субъекту остается лишь
догадываться о значении данного выражения, «стараясь подобрать в нашем
внутреннем мире такие явления, которые подходили бы к этим словам и
движениям, и приписывая эти явления тому, кого наблюдаем»2.
1 Там же. С. 12.
2 Там же.
58
В то время как у Гегеля объективация духа, напротив, выявляет его
истину — очищает подлинно всеобщее, субстанциальное содержимое
духовной жизни от шелухи «чистой субъективности». Самовыражение
духа в форме слова и жеста для Гегеля есть всего лишь первичная,
поначалу еще неадекватная форма его объективации. На смену ей приходит
более высокая, более конкретная форма — практическое действие,
поступок, обнаруживающий истинную цену наших намерений и слов.
Страхов эту предметно-деятельную форму выражения мыслей вообще
не рассматривает, как не видел ее и Декарт, по чьим стопам Страхов
старается следовать в области психологии.
В то же время Страхова не назовешь и правоверным картезианцем.
Он доказывает невозможность научного познания «субъективного
мира», казавшегося Декарту самым близким и понятным для каждого
человека. «Только чисто объективный мир есть настоящее поприще
человеческого познания», — настаивает Страхов, прибавляя, что
человечество смогло достичь настоящих успехов в науке так поздно, лишь в
последние три столетия, как раз потому, что прежде «было очень занято
своею внутреннею, субъективною жизнью»1.
И в психологии Страхов предлагает «следовать методам натуралистов»,
т.е. стремиться к эмпирическому знанию души. Для этого необходимо
«объективировать» свои душевные явления, сделаться «посторонним» для
самого себя. Но ровно в той мере, в какой кому-либо удается предстать для
себя в качестве объекта, он перестает быть субъектом: «убивает в себе
способность мыслить и действовать». Нельзя, невозможно быть
одновременно субъектом и объектом мышления, считает Страхов.
Впрочем, неверно было бы и думать, будто каждый из нас —
полноправный субъект своих душевных состояний. Во всяком случае, многое
в наших душах происходит такого, что от нашей воли не зависит, т.е.
является вполне объективным. Перечислив случаи, когда мы бываем не
властны над собственными ощущениями или мыслями, Страхов
приходит к выводу, что «не мы сами делаем нашу душевную историю, а она
делается в значительной мере помимо нас», а чуть ниже формулирует
ту же мысль еще категоричнее: «Ростом души, развитием и изменением
коренных сил ума и сердца, мы также мало управляем, как развитием
нашего тела и теми переменами, которым оно подвержено от
младенчества до дряхлости»2.
Данный вывод давным-давно и самым обстоятельным образом
обосновали стоики, затем Спиноза, — о чем Страхов, то ли не знал, то ли по-
1 Там же.
2 Там же. С 22.
59
забыл упомянуть (не только в своих психологических работах, но даже
в «Очерке истории и философии»). Эти предшественники Страхова
доказывали, что в душевной жизни вообще не бывает никакого «произвола»,
что все душевные явления связаны столь же необходимыми связями, как
и явления физические. А представление о «чистом субъекте», создающем
идеи исключительно по своему хотению, есть чистая фикция, обязанная
своим существованием полнейшему неведению того «субъекта»
относительно причин, заставляющих его мыслить так, а не иначе.
Страхов оставляет без внимания этот ход мысли, несмотря на то, что
он представляет собой лишь последовательное развитие выставленного
самим Страховым положения о неуправляемой объективности «роста
души». Впрочем, стоики и Спиноза не лучше Страхова представляли
себе, где надлежит искать причины, управляющие высшими,
специфически человеческими функциями и состояниями души. Первым
решение проблемы нащупал Гегель, обративший внимание на «объективный
дух», или, выражаясь прозаичнее, на сферу культуры. Именно в ней, а
не в органике человеческого тела скрываются те силы, которые
незаметно для нас с самых первых дней жизни диктуют условия и законы
формирования человеческой души, «личности».
Как мы уже отмечали выше, Страхов прошел мимо этого открытия
Гегеля. В области психологии он, по собственному признанию,
переходит от Декартовых «Размышлений» на позиции эмпиризма,
«преимущественно шотландского произрастания»1. Надо сказать, что в его время
наука психология находилась на стадии собирания эмпирического
материала, и это был шаг вперед по сравнению с умозрительными
психологическими теориями прошлого. Неудивительно, что Страхов, как и
почти все его современники, принял это занятие за психологическую
теорию. Альтернативы-то не было. Настоящая наука о душе еще
только зарождалась.
К заслугам Страхова мы должны отнести уже то, что он не во всем
пошел на поводу у психологов-эмпириков и постарался сохранить и
обосновать «факт сознания», несводимый и невыводимый из чувственных
восприятий и «ассоциаций». Ключевой довод Страхова звучит
следующим образом: «Первоначальный прием всякого объективирования есть
различение и расположение объектов во времени, следовательно, в
некоторый ряд или некоторую нить. Поэтому условие всякого временного
ряда заключается в некотором безвременном я. Для того, чтобы время
1 Епископа Беркли, который был англичанином ирландского происхождения,
Страхов назвал первым в «ряду знаменитых Шотландцев». Позднее, в очерке
истории философии ошибка будет исправлена.
60
было вне нас, мы сами должны поставить себя вне времени. Но в
сущности, тот же самый процесс повторяется в каждом, самом простом,
ощущении. Мы не сливаемся с этим ощущением, не поглощаемся им, если
не теряем сознания и следовательно, мы ставим себя вне его, и не только
ощущаем, но и знаем, что ощущаем»1.
Это «безвременное я», стоящее позади ощущений и форм
чувственности и само чувствами не воспринимаемое, очень напоминает кантов-
ского «трансцендентального субъекта». Страхов, опять-таки, о Канте
ни словом не упоминает, а вот Вл. Соловьев считал различение
трансцендентального и эмпирического субъекта настолько важным, что без
него вся критическая философия превращается «в сплошной абсурд».
— «Только чрез надлежащее развитие идеи о трансцендентальном
субъекте основная мысль Канта, что все познаваемые нами предметы и
явления суть представления или мысли ума, может получить свой истинный
разумный смысл — иначе она сама себя разрушает»2.
С другой стороны, тот же Кант убедительно показал, что затея
отделения субъекта от объекта в науке, в том числе и в психологии, обречена
на неудачу. Несмотря на это, и не затрудняя себя полемикой с Кантом,
Страхов объявляет такое отделение главной задачей научной
психологии. — «Что касается до психологии, то различие между субъектом и
объектом, и далее, — различие между субъективным и реальным
значением явлений, суть главные черты ее предмета, и кто не понял этого
различия как следует, тот, сколько бы ни рассуждал, будет мыслить и
говорить лишь о вещах, касающихся души, но не о самой душе»3. Этими
словами и завершается его статья об основных понятиях психологии.
V
Н. Грот с полным основанием делает вывод о том, что «Страхов был,
несомненно, идеалистом, но совершенно своеобразного вида». Его
решительный рационализм в науке граничит со столь же решительным
мистицизмом в вопросах «жизни». Кантианские настроения
смыкаются здесь у Страхова с мотивами православного «миросозерцания». Еще
один «синтез», на сей раз не особенно гармоничный и не оригинальный.
В данной связи примечательно одобрение, с каким встретил уход
Страхова от «мертвящего рационализма в область живой и высшей
1 Там же. С. 31.
2 Соловьев B.C. Сочинения в двух томах. М., Мысль, 1990. Т. 2. С. 472.
3 Страхов H.H. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. 40.
61
действительности» православный неокантианец А.И. Введенский1. На
основании слов Страхова о невозможности охватить «чистым разумом»
мир в целом Введенский делает вывод об отсутствии у того
«законченной системы». Приводя всяческие резоны, в силу которых для Страхова
создание философской системы оказалось делом невыполнимым. На это
следует заметить, что противоречия в основаниях философских, и
вообще научных, теорий — вещь самая обычная и вполне нормальная.
Вот только не все творцы «систем» эти противоречия способны
самостоятельно обнаружить и, тем более, откровенно признать их наличие.
«Законченных систем», о которых толкует Введенский, не бывает на
свете. Что вскоре наглядным образом и продемонстрирует
«почтеннейшему профессору» Вл, Соловьев, выявив в учении Введенского о
Боге массу логических противоречий разного сорта, вплоть до самых
элементарных2.
В чем Введенский прав, так это в том, что в стиле мышления
Страхова есть «нечто сократовское». Сам процесс и методы исследования
интереснее и ценнее созданной им системы, а его аналитика выглядит явно
предпочтительнее «синтетики». В принципе, то же самое можно сказать
и в целом υ характере русской философии той эпохи. В данном плане
Страхов — философ типично русский. В личности и творчестве
Страхова, быть может, полнее и чище, чем в ком-либо из его
современников, нашел свое выражение наш национальный философский «архетип»
XIX столетия, от православного вершка до гегельянского корешка.
Подводя итог, можно сказать, что учение Н. Страхова о человеке,
о нашем бытии в «мире как целом», представляет собой оригинальный
опыт философской антропологии, во многом предвосхитивший
исследования М. Шелера и персоналистов о «положении человека в космосе».
При этом исходные основания антропологии Страхова совершенно иные
— методы гегельянской диалектики плюс догматы православия.
Творческая биография русского мыслителя по сути повторила тот же самый
путь, что продела вся европейская философия в XIX веке: переход через
Эверест гегелевской системы к новому, неклассическому типу
философствования. Заслугу Страхова можно видеть в том, что в его философии
этот переход осуществился более органично, с удержанием ряда ценных
идей из наследия классики, а не как тотальное отрицание на
позитивистский или ницшеанский манер.
1 Введенский А.И. Общий смысл философии H.H. Страхова. М., 1897. С. 3.
2 Соловьев Вл. Понятие о Боге (в защиту философии Спинозы) / / Вопросы
философии и психологии. 1897. Кн. 38. С. 383-414.
62
Беседа 2. Понимающая философия
H.H. Страхова
Философия Страхова — одно из самых трудно поддающихся
толкованиям миросозерцании второй половины XIX века, которое невозможно
однозначно вписать в какое-либо философское направление. Он
относится к числу тех немногих мыслителей, для понимания которых требуется
знакомство с его биографией и разнообразным творчеством, несводимым
только к философии, но и включающим литературную критику,
переводческую деятельность, а также богатейшее эпистолярное наследие.
Поэтому необходимо более пристально вглядеться в многогранное творческое
наследие мыслителя и выявить его действительное место и значение в
истории русской философии и культуры в целом. Наряду с этим, изучение
антропоцентрических идей Страхова в свете проблемы понимания
позволит, на наш взгляд, глубже и полнее представить панораму развития
русской культуры и раскрыть роль философии как просветительницы
современной России. Именно в этом контексте, а также на пути расширения и
обогащения смысла традиционного понятия рациональности возможна, с
нашей точки зрения, реконструкция концепции понимания Страхова.
О том, что философия Страхова укоренена в классике,
свидетельствует ее категориальный аппарат. И все же его философское
миросозерцание можно с достаточным основанием характеризовать как переход от
философской классики к современной, неклассической философии. Об
этом свидетельствует хотя бы то, что для мыслителя была характерна
весьма квалифицированная постановка новых проблем, далеко
выходящих за горизонты его эпохи: критика абстрактных рассуждений о
прогрессе, материи как веществе, понимание им времени и пространства,
прогресса, свободы, а также введение в философию таких понятий, как
«жизнь», «просвещенство» и т.д.
Страхов вполне определенно становится на позиции органического
понимания мира и человека. Подчеркивая, что органические категории
взяты не из естественных наук, а из философии, он писал: «Гегелевская
философия есть завершение того мышления, которое стремится к
органическому пониманию вещей»1. По своей природе Страхов обладал
1 Страхов H.H. Органические категории / / Журнал Министерства народного
просвещения. 1861. №3. С. 49.
63
врожденной способностью к рассуждениям. Для него были характерны
как интеллектуальная углубленность, так и тонкое эстетическое
чувство, своеобразно дополняющие друг друга. Ап.А. Григорьев в одном из
своих писем Страхову назвал его — «мой всепонимающий философ»1.
Именно поэтому его концепция понимания важна для нашего времени,
поскольку в ней содержится ряд положений не только весьма значимых
самих по себе, но и перспективных с точки зрения тех задач, которые
стоят перед современной теорией понимания и эпистемологией.
Склонность Страхова к метафизике неоднократно отмечал Л.Н.
Толстой. Так, например, обращая внимание на особенность страховского
понимания как творчества, Л.Н. Толстой в одном из своих писем
отмечал: «Нынче я говорил жене, что одно из счастий, за которое я
благодарен судьбе, это то, что есть Н[иколай] Николаевич] Страхов. И не
потому, что вы помогаете мне; а приятнее думать и писать, зная, что есть
человек, кот[орый| хочет понять не то, что ему нравится, а все то, что
хочется выразить тому, кто выражается»2.
I. Проблема понимания
Своеобразие творческой деятельности Страхова было неразрывно
связано с его самобытной способностью к пониманию. Через все
философское творчество Страхова последовательно проходит идея
понимания. Поэтому его философию можно с полным основанием назвать
«понимающей», поскольку для нее конструирующим признаком является
субъективный смысл, имеющий экзистенциальный характер. При этом
феномены понимающей философии относятся к иному плану
реальности, чем явления объективной реальности. Понимающая философия
исходит из предпосылки, согласно которой познание есть
одновременно созидание нового, осуществляющееся через формирование
диалоговой «вопрос-ответной» системы. И в этом плане совершенно прав
Н.П. Ильин, который планомерно занимается реабилитацией Страхова
как творца в интеллектуальной области. Он, одним из первых, обратил
на это внимание исследователей. «Довольно настойчиво, — пишет он,
— Скатов повторяет мысль о том, что Страхов «не был творцом», но
лишь проявлял «знаменитую страховскую способность понимания»
русской словесности. Мысль эта нуждается, на наш взгляд, в существен-
1 Григорьев Аполлон. Письма. М., 1999. С. 261.
- Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки в двух томах.
Группа славянских исследователей при Оттавском университете и
Государственный музей Л.Н. Толстого, 2003. Т. I. С. 123.
64
пом уточнении. Дело в том, что понимание является, по сути, особым
видом творчества, творит духовное бытие в собственном смысле
слова. Me увенчанное пониманием, ясным и глубоким самоосмыслением,
стихийное творчество остается, можно сказать, «святыней под спудом».
В книге «Бедность нашей литературы» (1868) мыслитель отмечал,
«первая наша бедность есть бедность сознания нашей духовной жизни».
Имея великих художников, мы бедны их пониманием; да и сами они
порою плохо понимали себя, не умели верно оценить настоящие «средства
своего таланта». Пусть H.H. Страхов и не был «творцом» в привычном
для нас смысле слова — он был одним из первых, кто сумел понять
историю русской литературы как историю «постепенного развития нашей
самобытности», понять ту преемственность, которая соединяла в одну
«золотую цепь» Ломоносова, Державина, Карамзина, Пушкина и т.д.»1.
Страховское понимание условий и задач подлинного творчества
состоит в том, чтобы, не изобретая философских «велосипедов», найти
«правильную постановку» новых проблем.
Страхов обладал таким творческим чутьем, которое было доступно
далеко не всем занимающимся интеллектуальной деятельностью. Как
метко подметил Н.П. Ильин, «спокойное сознание своего собственного,
невыдуманного достоинства как раз и позволяло ему говорить (а часто
и спорить) на равных даже с такими современниками, как Л.Н. Толстой
и Ф.М. Достоевский. Последние знали, что именно Страхов способен
норою увидеть и понять нечто существенное, не замеченное или не до
конца понятое ими самими»2. В частности, Страхов одним из первых
литературных критиков в России сумел осмыслить и понять мировое
значение «Войны и мира» Л.Н. Толстого, всемирно-историческую
значимость «России и Европы» Н.Я. Данилевского.
Такая трактовка творческой деятельности Страхова созвучна
современным достижениям в области теории понимании. «»Понимание»,
— пишет В.Н. Порус, подводя определенный итог многочисленным
дискуссиям по этой проблеме, — должно трактоваться как процесс
порождения и усвоения смыслов в ходе исторически обусловленной практики.
Смыслы не предшествуют пониманию (будь то в постигаемых объектах-
текстах, будь то в кладовых субъективных «фондов» смыслообразо-
чания), они порождаются самим пониманием». И далее он заключает:
" Таким образом, понимание является творчеством. Процесс смыслопо-
Ильин Н. Понять Россию. О жизни и творчестве Николая Страхова (1828-
•И96) // Молодая гвардия. 1997. №4. С. 225-226.
Ильин Н.П. Понять Россию (H.H. Страхов) // Российский консерватизм в
■литературе и общественной мысли XIX века. М., 2003. С. 12.
; Чак. 3338
65
рождения детерминируется духовным потенциалом субъекта, его
целями, жизненными ориентирами, степенью его активности, социально-
культурными предпосылками осмысления реальности. Этот процесс
требует определенной духовной автономности субъекта: чтобы творить,
нужно быть свободным»1. И таким свободным и независимым человеком
в философии и литературе был Страхов. «Самым независимым
человеком в литературе, — писал В.В. Розанов, — я чувствовал Страхова,
который никогда даже о «правительстве» не упоминал, и жил, мыслил,
... имея какой-то талант или дар, такт или вдохновенье вовсе не
интересоваться «правительством». ... Он счел бы унижением думать даже о
министре внутренних дел, — имея в думах лишь века и историю»2.
Концепция понимания у Страхова, например, в отличие от И.
Канта, существует в эксплицитном виде. Она не содержится в какой-то
одной работе и не изложена в строго систематическом виде, а
разбросана по статьям, рецензиям, книгам, содержится в эпистолярном
наследии. Корни страховской концепции понимания уходят к идеям
И.В. Гете, Ф. Шлейермахера и других философов, историков,
культурологов, литературоведов, которые подчеркивали отличие социального
мира, мира культуры от природы и отмечали необходимость выработки
особых методов гуманитарного познания. Это происходило в
условиях, когда развитие западной, а вслед за ней и российской философии
и социально-гуманитарной науки шло в русле позитивизма, не
делающего с теоретико-познавательной точки зрения различия между
социальными, культурными и природными образованиями. Неудивительно
поэтому, что, утверждая необходимость понимающего подхода, русский
философ чаще всего оказывался на обочине основного
интеллектуального течения. Так произошло в русской культуре со Страховым. Этим
объясняется и сравнительно малое внимание, которое уделяли
историки философии «понимающей» стороне в творчестве философов и других
представителей социально-гуманитарных наук. Все это убедительным
образом свидетельствует о том, что само возникновение понимающей
философии оказалось непосредственным образом связано с
антинатуралистической и антипозитивистской реакцией.
Уже во времена Страхова существовали различные подходы к
решению проблемы понимания. Как отмечал один из основателей
герменевтики, Ф. Шлейермахер, главная задача исследователя состоит в
том, чтобы «суметь исходя из собственных умонастроений, проникнуть
1 Порус В.Н. Искусство и понимание: сотворение смысла / / Заблуждающийся
разум?: Многообразие вненаучного знания. М., 1990. С. 261, 262-263.
2 Розанов ВВ. Мысли о литературе. М., 1989. С. 414.
66
и умонастроение автора, которого собираешься понять, более того,
суметь «понять автора лучше, чем он сам себя понимал»1. По его мнению,
понять исторический текст — это значит проникнуть в духовный мир
творца этого текста и повторить его творческий акт. Последователи
Ф. Шлейермахера и В. Дильтея до сих пор склонны говорить о
понимании как о «вчувствовании в духовный мир другого человека». При таком
подходе понимание в философии и литературной критике можно
осуществить путем отказа от рефлексии и принятия совершенно другой
позиции, способа и метода работы с текстом. Если мы хотим понять другого
человека, писателя, то мы должны занять определенную внутреннюю
позицию, увидеть мир глазами этого писателя. Вопрос состоит в том,
как нам войти в эту внутреннюю позицию, и что это вообще означает
для человека, который в нее входит? Ответ может быть получен через
обращение к тому, как сам Страхов относился к проблеме понимания.
Вопрос о диапазоне понимания и его выразительных возможностях
чрезвычайно интересовал Страхова. Он отмечал, что «то понимание,
которое приписывается Гете, представляет сродство скорее с чувством,
чем с знанием»2. К такому гетевскому пониманию природы может быть
способен и натуралист, обладающий знанием, но при этом он живее
может чувствовать то, что еще не улеглось ни в какие формы знания.
Согласно диалектической методологии, которой придерживался
Страхов, понимание всегда глубже и точнее, чем вчувствование, поскольку
оно тесно связано с имеющимся знанием. Поэтому «познание» и
«понимание» для него представляют собой тесно взаимосвязанные и в то
же время различные категории. Понимание, считал он, отличается от
познания на основании того, что «оно обнимает свой предмет вполне,
в целости, тогда как познание овладевает им по частям или только с
известной стороны. Познание движется медленно и постепенно, тогда как
понимание стремится прямо захватить глубину предмета и прозирать в
его сущность, хотя бы неполным и не вполне ясным образом. Однако же
"дно другому не противоречит; исследуя предметы по частям, медленно,
шаг за шагом, натуралисты идут к той же цели, которой как бы
непосредственно достигает человек, одаренный живым чувством природы»3.
По мнению Гегеля, «понимать для рассудочной рефлексии — значит
познавать ряд посредствующих звеньев между каким-либо явлением
Пит. по: Гусев С.С, Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в философии:
^илософско-гносеологический анализ. М., 1985. С. 27.
Страхов H.H. Мир как целое. М., 2007. С. 271.
' ам же.
67
и другим наличным бытием, с которым это явление находится в связи,
значит усмотреть так называемый естественный ход явлений,
определяемый законами и отношениями рассудка (например, причинности,
достаточного основания и т.д.)»1. В полной мере сюда относится и
высказывание К. Маркса, утверждавшего, что «понимание состоит ... в том,
чтобы постигать специфическую логику специфического предмета»2.
В логическом плане понимание — это умение воспроизвести ход мысли
автора произведения или собеседника, связать новую мысль с другими,
усвоенными ранее.
Страхов стремился рационализировать проблему понимания, выделяя
два аспекта: 1) метафизический и 2) литературоведческий. Проблема
понимания текста того или иного произведения всегда опирается на
предварительные общие знания, хранящиеся в человеческой памяти. Для
понимания различных смыслов необходимо заранее представить, о чем идет речь,
т.е. иметь адекватные общие сведения о социокультурном контексте.
В качестве образчика страховского понимания можно рассмотреть его
анализ взглядов Э. Ренана на религию. В частности, русский философ
писал, что «настоящего понимания религии нельзя однако же приписать Ре-
нану. Многое он чувствует верно, вследствие своего церковного
воспитания, но целого он обнять не может, и корень всего дела ему недоступен»3.
В связи с этим Ренан не задумывается над вопросом, а сразу стремится
выставить его неразрешимым парадоксом. Это проявилось, в частности,
при рассмотрении им в рамках буддизма связи возвышенной морали с
несостоятельным, неутешительным метафизическим учением. Страхов
считал, что «высота общего уровня, до которого мы можем подняться в
понимании чужой жизни, определяется нашею собственной высотою»4.
Процесс понимания действительности развивается у человека на
протяжении всей его сознательной жизни. Именно в этом контексте в
неоконченной работе «Письма о философии» Страхов писал: «Понимать
то, чего прежде не понимал, и открывать то, чего прежде не знал,
такова моя судьба до конца»5. И, действительно, феномен понимания был
1 Гегель. Энциклопедия философских наук Т. 3. Философия духа. М., 1977.
С.148.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 1. С. 325.
3 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и
критические очерки. Киев, 1897. Книжка первая. С. 342.
4 Там же. С. 338.
5 Страхов H.H. Письма о философии // Вопросы философии и психологии.
1902. № 1.С. 784.
68
присущ страховскому мышлению во многих видах его
интеллектуальной деятельности в различные периоды жизни. При этом самобытная
философия Страхова уже сама являлась своеобразным творчеством.
Как писал Г. Флоровский, ««самобытность» национальная шире
национального «своеобразия», совпадая по своему содержанию с понятием
творчества»1. Что же касается отдельного человека, то он, по мнению
U.C. Трубецкого, «способен оставаться самобытным, ни минуты не
вступая в противоречие с собой, не обманывая ни себя, ни других»,
«только постигнув свою природу, свою сущность, с совершенной ясностью и
полнотой»2.
Во многих работах Страхова прослеживается настойчивое
стремление утвердить свое понимание основных вопросов философии, науки,
общественного и литературного развития. Причем делается это
последовательно и с некоторой педантичностью в форме своеобразного
учительства. Особенно наглядно это проявлялось в его отношении к В.В.
Розанову. В своем письме к нему Страхов подчеркивал: «Нужно писать так,
чтобы и тот, кто не читал Вашей книги, понимал, что Вы говорите. Все
Ваши недостатки, т.е. Вашего писания, сказались в Вашей статье.
Отвлеченно, неопределенно, без строгого метода и твердой цели. Вот Вам
возражение, которого я не хотел поместить в свою рецензию. Когда Вы
говорите о науке, или о философии, то всем известно, о чем Вы
говорите. Но что такое Ваше понимание? Вы позабыли его определить, —
так определить, чтобы было ясно его отношение к науке и к философии.
И конечно, оно не существует, как что-то выше их, или между ними»3.
Поясняя свое отношение к феномену понимания, Страхов писал:
«Вообще, Ваши статьи, как и Ваша книга, страдают неопределенностью
предмета и неопределенностью метода. ... Потом, если Вы стали
рассуждать, — нужно, чтобы виден был Ваш метод, Ваши приемы. Иначе
никогда не будет видно, что Вы исчерпываете предмет, что смотрите на
него с наилучшей точки зрения. Вот у Гегеля Вы увидите (пожалуйста,
читайте его), что развитие понятий совершается по диалектическому
методу. Он и идет постоянно по линии этого метода, а не движется
наудачу, неизвестно откуда и неизвестно к чему»4.
Флоровский Георгий. Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 49.
1 Трубецкой НС. Об истинном и ложном национализме // Исход к Востоку.
М., 1997. С. 175.
' Розанов В.В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: H.H.
Страхов, К.Н. Леонтьев. М., 2001. С. 44-45.
1 Там же. С. 37, 38.
69
Переписка Страхова с ВВ. Розановым позволяет выявить взгляды
Страхова на место понимания в структуре философского и научного
познания. В одном из примечаний к письмам Страхова В.В. Розанов писал:
«Страхов не совсем понимал книгу «О понимании», и я это чувствовал все
время знакомства с ним, и не совсем понимал так сказать философскую
часть моего духовного организма, накладывая на него некоторые свои
схемы a priori, взятые из этого германского идеализма. Он во мне искал
Гегеля или части Гегеля, тогда как во мне не было ничего этого и вообще
никакой части немца»*. По мнению В.В. Розанова, «вообще по
отношению ко всей русской действительности и действительному
содержанию русской духовной жизни, русской умственной жизни, — книга
«О понимании» была колоссальным новым фактом, была совершенной
перестройкой этой жизни»2. Такова самооценка Розанова! Между тем,
именно Страхов понял особенности таланта Розанова, отговорив его
заниматься собственно метафизическими проблемами, в частности,
написанием запланированной книги «О потенциальности и роли ее в мире
физическом и человеческом»3 и реализовывать себя в той области творчества,
к которой у него есть несомненная способность. Можно сказать, что,
наоборот, именно В.В. Розанов, несмотря на довольно тесное сотрудничество
со Страховым, не понял существа творчества своего учителя и друга, хотя
и много сделал для того, чтобы потомки могли вернуться к страховскому
наследию и переосмыслить его редкостное дарование в контексте новых
социально-культурных условий.
Можно вполне определенно утверждать, что В.В. Розанов в силу своего
мозаичного мышления и сам не до конца понял то, что написал по проблеме
понимания. Что уж тут говорить о других, не обладавших его даром
схватывания сути дела, но прекрасно умевших философски мыслить, систематично
и «по-немецки» педантично. Если Страхов не понял В.В. Розанова, то кто же
тогда понял и оценил книгу В.В. Розанова? Пока, к сожалению, такого рода
исследований в нашей литературе нет. Правда, в связи с началом освоения
в современной России герменевтики и других философских учений
возможность адекватной оценки этой работы значительно возрастает4.
1 Там же. С. 16.
2 Там же.
3 В.В. Розанов позже писал, что после этой книги «мне казалось, нужно поставить
«точку» всякой философии и почти всяким книгам» (Розанов В.В. Собрание
сочинений. Литературные изгнанники: H.H. Страхов, К.Н. Леонтьев. М., 2001. С. 7).
4 См.: Бибихин В.В. Время читать Розанова // Сочинения Василия
Васильевича Розанова. О понимании: Опыт исслед. природы, границ и внутр. строения
науки как цельного знания. М., 1996.
70
В силу сложившихся жизненных обстоятельств львиную долю
своего времени Страхов посвятил философской публицистике и
литературной критике, куда его постоянно и настойчиво тянули Ап.А. Григорьев,
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Майков, да и тот же Л.Н. Толстой. В свое
время Ап.А. Григорьев считал, что у критика, «судящая,
анализирующая сила перевешивает силу творческую»1. В полной мере это можно
отнести к литературной деятельности Страхова. Время, в которое он
жил и работал, относилось к эпохе исторического перелома,
требовавшей пересмотра идейного наследия века Просвещения и смены
господствующего мировоззрения в России. Сама логика умственного развития
России обеспечила торжество анализа над синтезом. Это было связано
с тем, что XIX век в России был веком преимущественно анализа и
критики во всех областях творчества. Подход Страхова к различным
философским и литературным произведениям, будучи органической частью
этого процесса, являлся зачастую критикой критики, а его анализ имел
созидательный характер. Критикуя одни и отстаивая другие взгляды, он
способствовал их переосмыслению и включению в контекст
функционирования русской культуры.
Следует также обратить внимание на особенности самой натуры
Страхова, склонного больше к анализу, чем к синтезу, преобладанию в
нем критического дарования над синтетическим творчеством. Как
отмечал, близко его знавший, Э.Л. Радлов, «благодаря обширному и
всестороннему образованию, а также выдающемуся критическому таланту,
H.H. Страхов занимал в нашей литературе совершенно своеобразное
положение и в деле, например, литературной критики не имеет преемника.
Необходимо природное дарование, воспитанное в строгой аналитической
школе, чтобы вышел критик, равный по силе H.H. Страхову»2. В свою
очередь, Н.Я. Грот отмечал в Страхове его удивительный дар понимания
художественной литературы: «Он не был сам художником-творцом, но зато
— кто лучше Страхова понимал красоты художественных
произведений, красоту поэзии и творчества? (разрядка наша. — £.Л.)»3.
Суть страховской философии проявляется в рассмотрении человека
не как деятеля, а как зрителя. Не деятельность, а интеллектуальное
созерцание — вот что выступает у него на первый план. В.В. Розанов
считал, что «тайна Страхова вся — в мудрой жизни и мудрости созерцания.
! Григорьев An. Литературная критика. М., 1967. С. 127.
Радлов Э. Несколько замечаний о философии H.H. Страхова / / Журнал
Министерства Народного Просвещения. 1896. № 6. С. 399.
1 Грот Н.Я. Памяти H.H. Страхова. К характеристике его философского
миросозерцания. М., 1896. С. 5.
71
Сюда-то он и звал, сюда-то он и сам пришел, — и недалеко, всего «на
Торговую улицу»; и вместе очень далеко — ибо это была вечность»1. И
поэтому вполне правомерно некоторые современники называли
Страхова «мудрым стариком», вынесшим «всю тяжесть созерцательного
призвания». Для Страхова характерна мудрость созерцания, «вчув-
ствование» в философские и художественные произведения и эстетизм
высшего порядка. «Чрезвычайная вдумчивость, — писал В.В. Розанов,
— составляет, кажется, главную особенность в умственных
дарованиях г. Страхова, и она же сообщает главную прелесть его сочинениям.
Их можно снова и снова перечитывать, и все-таки находить еще новые
мысли в них, которые или остались незамеченными при первом чтении,
или впечатление от которых закрылось впечатлением от других, более
важных мыслей»2. Страхов умело применял сократическую иронию и
обращал аргументы оппонента против него самого. Для его философии
характерна созерцательность с известной долей скептицизма.
Для философских размышлений философа, являвшегося носителем
традиционного начала, характерен постоянный поиск центра. И это вполне
понятно, поскольку в традиционном обществе всегда существовала
апелляция к идее центра, вокруг которого вращалась жизнь того или иного
народа. Проблема центрирования человека получила разностороннюю
разработку в философии Страхова. В своем ответе на рецензию книги «Мир
как целое» он писал: «Но мысль о центральности человека изложена мною
не в виде одного общего и отвлеченного вывода; я пояснял ее со многих
и различных сторон, с каких можно рассматривать предметы природы»3.
Другие аспекты этой проблемы рассмотрены им в книгах: «Борьба с
Западом в нашей литературе», «Об основных понятиях психологии и
физиологии», «О методе естественных наук и значении их в общем образовании»,
а также во многих статьях по социально-гуманитарной проблематике.
О феномене центрирования рассуждают в своей переписке Л.Н.
Толстой и Страхов, которые вели серьезный диалог, затрагивая целый ряд
важнейших вопросов, касающихся религиозных, философских,
социальных и литературных проблем. В частности, в ответе на вопрос о любви
как центре философии Страхов писал: «Ваше письмо есть новая
попытка пойти по тому же пути, по которому шли Декарт, Фихте, Шеллинг,
Гегель, Шопенгауэр, которые точно также начинали из себя, от Cogito,
1 Розанов ВВ. Литературные изгнанники: Воспоминания и письма. СПб, 2000.
С. 7.
2 Там же. С. 10.
s Страхов H.H. Критические статьи: (1861-1894). Киев, 1902. Том второй.
С. 428.
72
ergo sum, от я, от мышления, воли, — и отсюда выводили понятие об
остальном существующем»1. Характеризуя несколько позже это
положение Л.Н. Толстого, Страхов отмечал, что «это будет пантеизм,
основным понятием которого будет любовь, как у Шопенгауэра воля, как у
Гегеля мышление»2. Действительно, как отмечает В. Феллер,
«философское сознание не может быть центрировано иначе, как вокруг узкого
сущностного ядра (Cogito, воли, эго) по сути своей вневременного,
запредельного, трансцендентального»3.
II. Антропоцентризм и понимающая философия
Новоевропейский рационализм с его постижением мира в форме ло-
гоцентризма можно рассматривать «как своеобразный, перенесенный
из онтологической в гносеологическую и психологическую плоскость
антропоцентризм, ибо он разделил изменившийся для него мир на
оппозиции субъекта и объекта, сделав акцент на активном и своеобразном
субъекте в противоположность остальному пассивному объекту»4.
Следует признать, что вопрос об антропоцентризме в истории русской
философии еще не четко поставлен в современной научной литературе и,
тем более, не решен. В связи с этим различные исследователи зачастую
отождествляют антропоцентрический принцип с антропологическим.
Так, по мнению В.Ф. Пустарнакова, все просвещенцы являются антро-
поцентристами. С такого рода выводами вряд ли можно согласиться,
поскольку каждый из означенных периодов в развитии культуры обладал
своей спецификой и выдвигал собственные базовые принципы.
Для понимания специфики антропоцентризма страховской
философии необходимо его рассмотрение в контексте развития просвещения
в России. В конце 90-х годов XX века на отечественных специалистов
по истории русской философии оказал сильное воздействие доклад
японского ученого Т. Симосато «Кризис русского Просвещения 1860-х
годов». В нем был четко поставлен вопрос о кризисе русского
просвещения, спровоцированный деятельностью шестидесятников. В написанной
под впечатлением этого доклада статье В.Ф. Пустарнакова рассматри-
Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. I. С. 256.
■' Там же. С. 263.
1 Феллер В. Введение в историческую антропологию. Опыт решения
логической проблемы философии истории. М., 2005. С. 277.
1 Самохвалова В.И. Человек и мир: проблема антропоцентризма //
Философские науки. 1992. №3. С. 163.
73
вается вопрос о сущности философии русского Просвещения 1860-х
годов и впервые в нашей литературе обращается внимание на его кризис.
Осмысливая эту проблему на широком культурно-историческом фоне,
он пишет: «Все Просвещение антропоцентрично» и «как и все другие
части просветительской доктрины, просветительская философия истории
антропоцентрична»1. По его мнению, «антропоцентризм — исходная
и главная аксиологическая установка просветительского
мировоззрения. На человека выходят, на нем, в конечном счете, замыкаются не
только политические, правовые, социальные, но также самые
отвлеченные онтологические, натурфилософские и гносеологические принципы.
Перенос центра тяжести философии с проблем бога, космоса, природы,
субстанции на человека — вот в чем проявился антропоцентризм
просветительской философии. Антропоцентризму просветителей не
противоречат их занятия космологией и натурфилософией. Главное в том, что
на физическую природу они смотрели как на базу понимания человека»2.
Правда, характеризуя просветительский антропоцентризм в России он
не нашел соответствующего места страховскому созерцательному
антропоцентризму, для которого характерен поиск центра в
космологических и натурфилософских исследованиях. Между тем, именно в
философии Страхова антропоцентризм был представлен системно и во всем
его объеме, т.е. в более четкой и последовательной форме, отличной от
философского антропологизма русских революционных демократов.
В редакционной рецензии, опубликованной в «Русском вестнике»,
отмечается, что «необходимо различать два противоположных склада
ума: ум центральный и ум периферический (или периферийный).
Вчитываясь в произведения H.H. Страхова, поражаясь обилием идейного
содержания в них, мы невольно отнесем его мышление ко второй
категории, т.е. категории периферических умов, тех, которые тяготеют
не к средоточению, а к окружности явлений: центральные умы всегда
скудны своим содержанием; ибо для них открыта в вещах только одна
точка; между тем, как умам периферическим открывается бесконечное
множество точек. При всей глубине его эстетических и
психологических взглядов, в нашем авторе господствующей чертой, однако,
является обилие истинных идей. Нужно заметить, что «периферические» умы
не менее редки в людях, нежели умы «центральные». И равно далеки
от них те, что успокаиваются на поверхности вещей. Последние также
мало знают о природе явлений (феноменов), того, что можно назвать
1 Пустарнаков В.Ф. Еще раз о сущности философии русского Просвещения
1860-х гг. и впервые о его кризисе // История философии. М., 1998. № 4. С. 69.
2 Там же. С. 64.
74
окружностью вещей, как мало знают о сущности, или том, что
можно назвать средоточием вещей. Для этих умов нет периферии, так как
центра. Между тем у нашего автора центр всегда чувствуется, никогда
не упускается из вида»1. Эта манера центрирования распространялась
Страховым на все области духовной деятельности людей — мифологию,
религию, философию, науку, литературу.
В современной отечественной философской литературе встречаются
различные, порой диаметрально противоположные оценки
антропоцентризма как культурно-исторического феномена. «Неоднозначность
содержания антропоцентризма в том, — считает В.И. Самохвалова, — что
в нем здоровое гуманистическое содержание оказалось переплетено с
эгоизмом и своемерием, оправдываемым с телеологических позиций ...
С другой стороны, тот же антропоцентризм мышления мешал человеку
осознать, например, независимость жизни природы, которую человек, в
сознании своего центризма, покорял и переделывал по своим меркам и
надобностям»2. В связи с этим важно обратить внимание на тот весьма
примечательный факт, что уже в своей ранней работе «Мир как целое»
Страхов выступает против покорения и переделывания человеком
природы по своей мерке.
С особой силой проявилось страховское понимание в отношении
науки и рационализма. «Он признает правоту «душевного поворота»,
который слышится за всеми новыми исканиями, за попытками вырваться из
граней естественных наук; но указывает, что выход отсюда — не в
отказе от принципов механизма, но в точном понимании, где эти принципы
приложимы и где они не имеют более места, где начинаются области
других категорий»3.
Страхов еще в 60-е годы XIX века выступал с рационалистических
позиций против вульгарного материализма в лице Л. Бюхнера, Я. Молешотта
и К. Фохта, а также критиковал антропологический материализм Л.
Фейербаха, Н.Г. Чернышевского и П.Л. Лаврова. При этом «фейербаховскому
материализму Страхов противопоставлял свой антропоцентризм»4. Какой
же характер имеет антропоцентризм Страхова? На наш взгляд, ответ на
него может быть получен лишь при тщательном и скрупулезном анализе
1 От редакции. Критика. Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе.
Книжка третья. СПб, 1896 // Русский вестник. 1896. Февраль. С. 249-250.
Самохвалова В.И. Человек и мир: проблема антропоцентризма //
Философские науки. 1992. №3. С. 164.
' Розанов В.В. Смена мировоззрений // Русское обозрение. 1895. Июнь. № 7.
С 202.
1 Лазари Анджейде. В кругу Достоевского. Почвенничество. М., 2004. С. 181.
75
истории русской философии 2-ой половины XIX века. Действительно, в
русской философии в рамках просвещенческой тенденции отразилась и
получила дальнейшее развитие традиция понимания человека,
обозначаемая как ренессансный антропоцентризм.
Первая, традиционная форма характеризуется пониманием
человека как сотворенного Богом, который тождественен природе. Это вело
к формированию антропоцентризма с пантеистическими основаниями.
Такой антропоцентризм был представлен в философии Страхова,
которая не только тесно связана с естествознанием, но и опиралась на него
в своих выводах. Вторая форма антропоцентризма в русской культуре
содержала в качестве своего основания эгоистическую активность
человека и имела утилитарный характер. В ее основе лежал здравый смысл и
теория разумного эгоизма. Эта форма антропоцентризма получила
развитие в философии русских революционных демократов, в особенности
в работах Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева и М.А. Антоновича.
Страхов, по мнению В.В. Сапова, «опережая свое время, совершает
тот «антропологический переворот», который станет одной из
центральных тем более поздней русской религиозной философии, а именно,
проводя идею об органичности и иерархичности мира, Страхов усматривает
в человеке центральный узел мироздания»1. В свете этого, как писал
в свое время В.В. Зеньковский, «интересны прежде всего (из раннего
периода его творчества) его космологические идеи, в частности, его
антропоцентризм»2. И такого рода оценка вклада этого мыслителя в
разработку антропологических проблем не является единичной и
случайной. Об этом свидетельствуют не только хорошо знавшие его люди,
но и многочисленные труды Страхова, которые, к сожалению, до сих пор
еще не дошли до современного читателя в полном объеме. К ним мы и
обратимся для выяснения сути и особенностей антропоцентрического
учения Страхова и раскрытия значимости высказанных им идей
применительно к нашему времени.
Пытаясь определить центральную тему философских исканий своего
«крестного отца в литературе», В.В. Розанов утверждал, что таковой
является религиозная проблема: «Религиозное составляет ни разу не
названный центр постоянного тяготения его мысли»3. С этим положением мож-
1 Сапов ВВ. Страхов H.H. / / Русская философия. Малый энциклопедический
словарь. М., 1995. С. 493.
2 Зеньковский ВВ. История русской философии. М., 1998. Т. 1.4. 2. С. 219.
3 Розанов В. В. О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью
одного из славянофилов // Вопросы философии и психологии. М., 1890.
Кн. 4. С. 36.
76
но было бы согласиться, если бы не одно весьма важное обстоятельство, а
именно: эволюция взглядов Страхова свидетельствует о том, что, отойдя
от религиозного мировоззрения, он всю последующую жизнь кружил
вокруг вечных истин, неразрывно связанных с человеком. Этот центр, на
наш взгляд, лежит на поверхности, хотя и уходит своими корнями
глубоко в «почву», вглубь его творчества. Этим центром является человек и его
душа, которая включает мышление, познание, сомнение и ощущение.
Антропологический гуманизм Страхова был тесно связан с
переосмыслением христианства, с отказом от теоцентризма, которому он
отдал дань в молодые годы и переходом к антропоцентризму, что было
связано с переносом философского интереса на проблемы морали и
эстетики. В.В. Зеньковский отмечал, что «центральное положение человека
в природном бытии, если оно не будет истолковано религиозно, ведет к
растворению человека в природе. Вне религиозного метафизического
антропоцентризма загадка человека неразрешима, бытие человека
лишается того, для чего шла природа в его развитии, — лишается
«смысла»... Страхов и в самом себе «не договорил» того, что было «центром»
его исканий»1.
В то же время важно учитывать и то, что «отстаивая идею
антропоцентризма, Страхов никогда не отрицал ни существования личностного
Бога, ни дуализма души и тела. Человек был для него центром
органического мира, ибо сотворен по образу и подобию Бога, и в этом его
совершенство. Естественные науки, доказывая превосходство человека над
другими организмами, только подтверждают эту истину»2.
Согласно Страхову, отказ от антропоцентризма должен привести
еще к одному новому учению, точнее, к возрождению античного учения
о «вечном возвращении». Здесь он ссылается на восточную философию,
Fi частности на индийского мудреца Гаутаму, отмечая, что «нужно
познать душу, нужно отличить ее от природы; тогда она не
возвратится, она не появится снова, (т.е. не подвергнется метемпсихозе) ... по-
нашему, по христиански, мы должны бы сказать: тогда она спасется»*.
Изложенное свидетельствует о том, что антропоцентрический
максимализм или минимализм религиозного или светского характера в
одинаковой степени были неприемлемы для Страхова как философа меры
и гармонии. И в этой антропоцентрической самозащите важно было не
потерять чувство меры.
! Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991. Т. I. Часть 2. С. 220.
-' Лазари Анджей де. В кругу Достоевского. Почвенничество. М., 2004. С. 182.
'* Страхов Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб, 1887. С. 128.
77
Говоря об антропоцентризме Страхова, следует помнить, что сам
он настойчиво снимал со своего философского построения всяческие
ярлыки со всевозможными «измами». Это связано с тем, что
«выбрасывание знамени», о чем просили его некоторые современники, означало
для него бесполезное и превредное дело, которое требует прекращения
всякой работы мысли и дальнейшего уяснения предмета.
Согласно его пониманию, антропоцентризм, во-первых, предполагает
рассмотрение человека в качестве важнейшего предмета
философского познания, а, во-вторых, человек является центральным звеном всей
цепи космического бытия. Именно на последнем моменте он и делает
акцент в своих многочисленных исследованиях. Поэтому вряд ли можно
согласиться с рассмотрением антропологического материализма в
качестве антропоцентризма, как и с тем религиозным центром, который, по
мнению В.В. Розанова и его сторонников, был для Страхова основным1.
На наш взгляд, антропоцентризм Страхова дальше созерцательного
подхода не простирался, но дополнялся лишь эстетическим отношением к
действительности. В этом проявлялась его ограниченность и
игнорирование специфики преобразовательной деятельности человека.
С другой стороны, Страхов разработал оригинальную философскую
антропологию, которая является стержнем его философского учения.
Ренессансное видение человека обосновывается им с
естественнонаучных позиций. Поэтому утверждения некоторых современных
исследователей о Страхове — родоначальнике «мистического персонализма»
(Н.П. Ильин) — являются односторонними, так как не учитывается его
философское творчество как единое целое. Антропоцентрические
философские искания Страхова, осуществленные на широком культурно-
историческом поле, предоставляют нам возможность увидеть новые
грани исследования человека, связать их с проблемой понимания.
Проблему понимания невозможно решить вне гносеологии. Страхов
отмечал, что со времен Канта основной задачей философии стало
исследование форм нашего познания. При этом «разом выставляется целая
система форм познания, например, вся совокупность чистых
представлений (пространство и время), чистых понятий (категории) и чистых
положений (аксиомы)»2. Сам он выделял простые и высшие формы
познания. «Итак, — писал он, — истина, благо и свободная деятельность
суть понятия, стоящие выше обыкновенных форм познания, требующие
1 Подр.: Антонов ЕЛ. Антропоцентризм Николая Страхова / / Человек. 2005.
№4.
2 Страхов H.H. О времени, числе и пространстве // Русский вестник. 1897.
№ 1. С. 70.
78
как бы особого рода мышления, и в то же время непрестанно нам
присущие, составляющие главное содержание нашей душевной жизни»1.
Простой познавательной формой философ называет время, считая, что
«число и пространство суть формы производные от времени»2.
Страхов признавал большое значение опытного познания в жизни
людей. «Опыт, — писал он, — дает нам действительные познания, которые
каждый может приобрести, и которые простираются, по-видимому, на
все сферы существующего: будем же держаться опыта»3. Вместе с тем,
он выступал против абсолютизации опытного познания, считая, что
«задача философии относительно эмпиризма и материализма заключается
не в том, чтобы опровергать их, как будто они сплошь состоят из одних
заблуждений, а в том, чтобы указать надлежащее их место в системе
понятий и точно определить их границы». И далее: «мы знаем настоящее
место и значение вещества в природе и опыта в нашем познании; мы
ограничиваем их надлежащею мерою, почему и отвергаем все, переходящее эту
меру»4. При этом он считал эмпиризм самой «легкой» теорией познания.
Страхов не может согласиться с механистическим определением
процесса познания и достижения истины. По его мнению, «нельзя
думать, что истина достигается простым накоплением познаний, что для
возвышения нашего взгляда нужно только повыше строить из познаний
пирамиду, или кучу, сваливая в нее все, что успеем набрать. Таким
образом, значение наших познаний, по мере того, как мы лучше и точнее их
понимаем, неизбежно понижается; всякая определенность есть вместе
с тем и ограничение»3.
Его теория познания теснейшим образом связана с учением об
органическом развитии, которая зиждется на важнейшей категории —
«целое». «Развитие организма представляет постепенное
совершенствование. Другими словами, развитие есть ход вперед, к лучшему,
а не простая смена состояний»6. Более того, для него определяющую
роль играет «способность не только приспособляться к новым услови-
1 Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб, 1894.
С. 84.
Страхов H.H. О времени, числе и пространстве // Русский вестник. 1897.
№ 1.С. 72.
• Там же. С. VI.
I Там же. С VI, VI-VII.
' Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб, 1894.
С VI-VII.
II Страхов H.H. Мир как целое. М., 2007. С. 143.
79
ям, но даже совершенствоваться, несмотря на условия, независимо
от внешних влияний»'. У человека в отличие от камня «различные
влияния не только не уничтожают его, но еще более усиливают его
самостоятельность. В самом деле, они его развивают. Мы выражаем
это чрезвычайно просто и верно, говоря, что человек нечто усваивает
себе, когда что-нибудь на него действует. Усваивать — значит делать
своим, вносить в собственную природу, прибавлять к своей сущности.
Так что сущность человека растет по мере того, как претерпевает
различные влияния. Притом это нарастание не механическое, не
складывание в одну кучу, но самодеятельное, внутреннее»2. Хотя человек
изменяется под воздействием внешних влияний, но в нем остается нечто
неизменное. Страхов писал: «В самом деле, усвоить себе что-нибудь
вполне чужое, с чем бы не было сродства в самом усвояющем
существе, невозможно. В данную минуту, в данном месте человек может
усвоить только то, чему есть отзыв в его душе, что само уже просится
на свет. Вот почему самые поразительные явления часто не оставляют
следа и самые мелкие поводы возбуждают сильные перемены в душе
человека. Таким образом, развитие идет совершенно самодеятельно»3.
Отсюда делается вывод, что человек развивается самостоятельно,
являясь личностью познающей и деятельностной. В этом состоит
важнейшая особенность человека по отношению к окружающему миру.
Здесь мы видим принципиальное его отличие как от Гегеля, у которого
он заимствует идею развития, так и от французских просветителей и
их русских последователей, абсолютизировавших роль социальной и
природной среды.
Философ рассматривал человека как существо, открытое в
будущее. Поэтому для него «ребенок есть человек в возможности ... ему
нужно — стать человеком; и более или менее сознательно он чувствует
перед собою эту цель, более или менее сознательно он работает для ее
достижения»4. Более того, для него «человек весь в возможности. Это
справедливо не только относительно того, чем бывает человек на разных
точках земли и в разных эпохах истории; это справедливо для каждого
человека, даже для вполне развитого и живущего во всей своей красе и
силе»5. По Страхову, «о человеке должно судить не потому, чем он есть
1 Там же. С. 158.
2 Там же. С. 199.
' Там же. С. 199.
' Там же. С. 206.
5 Там же. С. 195.
80
в данную минуту, а потому, чем он был и чем он может быть»1. Таким
образом, при рассмотрении человека Страхов объединяет его в
единстве прошлого, настоящего и будущего, подчеркивая единство человека
в различные периоды его жизни.
Внутренние предпосылки, по мнению философа, — это больше, чем
просто отклик на внешние стимулы. Они дают жизни потенциал,
чтобы выйти за рамки окружающей среды. Человек не есть изолированный
«робинзон», он немыслим в одиночестве, вне взаимодействия с другими,
вне природы и мира в целом. Человек всегда испытывает влияние
среды, которое бывает вызывающим и подавляющим. «Если мы говорим, —
подчеркивает Страхов, — о влиянии природы на человека, о действии на
него исторических обстоятельств или среды, в которой он живет, то
значит только, что весь этот окружающий мир подавляет в нем одни
стремления и дает простор другим. Следовательно, то, что в нем развивается,
развивается вполне самобытно, а не производится природой, историей,
средой»2. Однако человек воспринимает только то, к чему уже
подготовлен. Это восприятие является результатом внутреннего развития. Не
только из обстоятельств проистекает величие и достоинство человека.
Должна быть самодеятельность. «Совершенно ясно, — писал Страхов,
— что каждый человек может развиться только тогда, когда
развивает сам себя. Воспитание, образование — собственно, не
производят развития, а только дают ему возможность; они открывают пути, но
не ведут по ним. Идти вперед в своем развитии человек может только
на собственных ногах, в карете ехать нельзя»3. Большая часть наших
замечательных людей, по Страхову — самоучки, получившие в
определенной среде толчок и создавшие себя в процессе само-деятельности.
В частности, он ссылается на М.В. Ломоносова, Н.В. Гоголя и других.
Вместе с тем, Страхов приводит и противоположную точку зрения.
Так, Гончаров, отмечает он, в своих романах в соответствии с духом
времени показывает, что «воспитание совершенно создает человека.
Обломов вышел таким ленивцем вследствие воспитания в Обломовке;
Штольц стал таким умницей вследствие умного воспитания, данного
отцом»4. Однако Страхов не разделяет эту позицию, поскольку «истинно
человеческие, истинно жизненные явления состоят не в слепом
подчинении среде, а в выходе из-под ее влияний, в развитии высшей жизни на
1 Там же. С. 196.
' Там же. С. 200.
1 Там же. С. 160.
1 Там же. С. 161.
81
ступенях низшей. Таков характер человеческой жизни, таков характер
жизни вообще, жизни всех организмов»1. Он приходит к этому выводу
вопреки широко распространенному мнению о выживаемости
«наиболее приспособленных» к окружающей среде.
Опорой для человека становится «внутренний мир» жизни. «В самом
человеке должна существовать твердая опора для его мысли, для того,
чем определяется цель и достоинство его жизни»2. При этом философ
утверждал, что «без веры в себя невозможно никакое развитие»3. Он
надеялся, что люди, осознавая свое духовное величие, стремясь к гармонии
с природой, будут стараться постигать новые смыслы своего культурно-
исторического существования через постоянную внутреннюю работу.
«Неустанный труд ума и совести, — писал он, — единственная гарантия
того, что современный человек сможет выбраться из тьмы непонимания
и ложных, навязанных ему понятий, что он будет способен постичь
смысл духовных исканий своих выдающихся современников и вместе с
тем не будет творить из них новых кумиров»4. В основе
идолопоклонства материалистической цивилизации лежит, по Страхову, слепая вера
в разум, заменивший истинную веру в религиозный смысл жизни.
Рассудочное идолопоклонство он рассматривал как один из главных
недостатков рационализма, выражающий болезнь просветительства.
Человеческая способность к пониманию прошла долгий путь
развития как в онтогенезе, так и филогенезе. Раскрывая последовательность
духовного формирования человека, Страхов писал, что он «сперва
живет, а потом понимает свою жизнь; на эти два периода с большей или
меньшей разностью распадается полное человеческое развитие. Сперва
идет бессознательное действие и проявление, потом сознание, более и
более ясное»5. Эти периоды творческого становления человека в
процессе его духовного созревания связаны с пониманием мыслителем
творчества человека. При этом возрастание сознания в человечестве ведет его
к высшей цели.
Духовная самоорганизация личности исключает чисто
механистический подход к формированию личности. Поэтому Страховым отрицается
абсолютизм социальной среды, когда человек оказывается пассивным
1 Там же. С. 161.
2 Страхов Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб, 1887. С. 100.
3 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и
критические очерки. Киев, 1897. Книжка вторая. С. 24.
1 Страхов Н. Воспоминания и очерки. СПб, 1892. С. 193.
5 Страхов Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб, 1887. С. XIII.
82
потребителем разнообразных влияний. Личность выступает как
интегратор разнообразных влияний, как неповторимая индивидуальность,
своеобразно преломляющая и воплощающая в себе эти влияния. Именно
эта индивидуализация непосредственно связана с творческим участием
личности в развитии культуры и общества. В процессе самоорганизации
индивид строит себя как единую и сложную по структуре культурную
целостность.
Важнейшим и существеннейшим условием становления и развития
личности является свобода. Свобода личности предполагает глубокую
перестройку внешнего и внутреннего мира человека. Свобода личности
— чрезвычайно сложный и многогранный феномен, который
рассматривался Страховым с разных точек зрения: философской,
психологической, нравственной, педагогической, правовой, политической и др.
Фактически свобода означает возможность и способность индивида
выбирать ту или иную линию поведения в соответствии с его знаниями и
убеждениями. Между тем, как отмечал Страхов, «человек редко бывает
последователен, и чистая свобода есть дело столь же мудреное, как и
чистый разум. Сколько у нас нелепых людей, сохранивших все
признаки, все привычки умственного рабства и, однако же, беспрестанно
хвалящихся свободой!»1. С особой наглядностью он стремился представить
такое понимание свободы у нигилистов. Дело в том, что формирование
самосознания личности было тесно связано в России с таким сложным
явлением как нигилизм, который долго и упорно подготовлялся русской
жизнью. В нем ярко и странно отразилась наша своеобразная
психология. Страхов считал, что «характер эгоизма в высшей степени ясен
у всех отрицателей, т.е. не то, что они сами великие эгоисты, а то, что
признают эгоизм священным принципом»2.
Проблема понимания в истории отечественной философии тесно
связана с проблемой перевода. Значительный отпечаток на концепцию
понимания Страхова наложил опыт перевода на русский язык работ по
философии, науке и литературе. Чрезвычайно важно было понимание
научного смысла переводимого текста. В частности, это касается
перевода «Истории новой философии» К. Фишера с немецкого языка и Ренана
с французского языка. Большое влияние на теорию понимания оказала
работа Страхова в качестве литературного критика и литературоведа.
Прежде всего, это относится к анализу творчества Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, A.A. Фета.
Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и
критические очерки. Киев, 1897. Книжка первая. С. 108.
Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. II. С. 635.
83
Важно также иметь в виду, что научиться понимать совсем не просто.
Для этого требуется не только определенная способность, но и
искусство понимания, приобретаемое длительной работой мысли. То или иное
понимание возникает не просто как субъективная позиция
исследователя, а определяется более широкой системой культурно-исторических
традиций. Каждая культура вырабатывает свою форму понимания,
некий «канон смыслообразования». Понимание органически вплетено в
структуру человеческого мышления, являясь важнейшим атрибутом
человеческого разума. М.М. Бахтин отмечал, что «безоценочное
понимание невозможно. Нельзя разделить понимание и оценку: они
одновременны и составляют единый целостный акт»1.
Понимание является постижением смысла явления или текста.
«Понимание идет дальше воспроизведения наличного бытия, раскрывая его
бесконечные смысловые глубины и перспективы. Понимание всегда
является сотворчеством, оно активно, диалогично ... В результате такого
диалога всегда происходит приращение знания»2. Однако даже полное и
глубокое понимание того или иного явления далеко не всегда
сопровождается принятием смысловой структуры, признанием ее своей.
Нельзя сводить понимание к осмыслению языковых образований, поскольку
«понимание как осмысление есть более общая процедура, связанная с
нормативно-ценностными системами общественной практики»3.
Неприятие нормативно-ценностной системы, характерной для
Страхова, привело западников к недопониманию его позиции. Ярким
примером стал конфликт с Вл.С. Соловьевым. Как тонко подметил A.C.
Левицкий, «успеху Страхова мешало то обстоятельство, что он был мало
доступен для людей, лишенных религиозного слуха и утонченной
культуры. «К нему прислушивались лишь люди с трансцендентной
закваской» — успел сказать про него Аполлон Григорьев»4.
Весьма глубокую и содержательную характеристику жизни и
творчества Страхова дал кн. В. Мещерский: «По количеству познаний, по
ясности и силе ума, по дару владения мыслями и их изложения, по яркости
и убедительности своего творчества в литературе, Страхов вряд ли имел
за последние 30 лет соперника; но между тем никого не знали меньше
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1976. С. 346.
2 Коршунов A.M., Мантатов В.В. Гуманитарное знание и понимание //
Философские науки. 1986.№ 5. С. 39.
3 Гусев С. С, Тульчинский Г.Л. Проблема понимания в философии: Философско-
гносеологический анализ. М., 1985. С. 65.
4 Левицкий С. H.H. Страхов (Очерк его философского пути) / / Новый журнал.
1958. №54. С. 184.
84
Страхова, никого не читали меньше Страхова, ни с кем там мало не
церемонились в литературе, как со Страховым; а было из-за чего
церемониться, если принять в соображение, какими пигмеями были все, писавшие
в литературе, и каким гигантом ума и исполином критики бы одинокий
Страхов. ... Страхов как будто слишком много предъявлял собою
требований к нашей мысли, к нашему просвещению, к нашим мозгам, и мы
предпочитали от него ускользнуть, чем его читать, им наслаждаться и
им просвещаться. Главная ошибка Страхова, мне представляется, была
та, что он родился русским. Родись он и создай умом и знаниями все, что
создал, в Англии, Германии, во Франции даже, при всей ее
легкомысленности, его имя давно бы гремело и славилось во всемирной науке.
Он сделался бы авторитетом в умственном руководстве образованными
поколениями, в храмах науки и литературы и, в особенности, во всех
высших школах»1. Такое глубинное проникновение в суть жизни и
творческой деятельности Страхова, а также осознание его подлинного места
в истории мировой культуры сегодня только начинается.
Действительно, философская позиция Страхова может быть понята
только в контексте всей русской и западноевропейской
интеллектуальной традиции. Он был самобытным русским мыслителем, в творчестве
которого своеобразным образом преломлялись ведущие идеи как
западноевропейской, так и русской культуры второй половины XIX века.
Будучи глубоким мыслителем и сильнейшим аналитическим умом своего
времени, он поставил ряд принципиально новых проблем, органично
вошедших в контекст антропологических устремлений русской
философии второй половины XIX — начала XX вв.
Диалог, который вел Страхов на протяжении почти четырех
десятилетий с ведущими идеологами (течениями) России и Запада, неотделим
от процесса понимания. Именно понимание обеспечивает диалог культур.
Страхов может быть правильно понят и оценен только во всей полноте
его наследия, являющегося выражением его энциклопедической натуры,
а философия Страхова может быть определена как «философия
органического понимания»2. Только поняв философию Страхова, можно адекватно
понять и русскую философию, науку, литературу, искусство в целом,
осознать место и роль России в историческом процессе.
Страхов не сформулировал систематической концепции понимания, но
он вплотную подвел исследователей к осознанию ее необходимости.
Поэтому можно вполне определенно сказать, что антропоцентрическая
философия Страхова лежит в основе русской традиции понимающей философии.
1 Страхов H.H. Некролог. СПб, 1896. С. 4.
- Снетова Н.В. H.H. Страхов как философ / / Вестник ОГУ. 2005. № 4. С. 11.
85
Беседа 3. Религиозные воззрения
H.H. Страхова
Вопрос о религиозных взглядах H.H. Страхова до сих пор не изучен.
Считается, что Страхов предпочитал воздерживаться от высказывания
своих религиозных воззрений. И действительно, будучи скромным и
весьма сдержанным, осторожным человеком, он старался в своих
сочинениях как можно меньше говорить о себе. Кроме того, философ
сознательно отказывался от формулирования своего мировоззрения в виде
конкретной философской системы. Большинство писавших о
Страхове, основываясь на кратких и мимолетных высказываниях философа в
разном контексте, отмечают противоречивость его суждений по
религиозным вопросам. По этой причине и в отзывах о религиозных взглядах
Страхова наблюдается большой разброс мнений. Одни называют его
скептиком, не имевшим твердых религиозных убеждений, гегельянцем-
рационалистом и даже почти атеистом, другие — толстовцем, третьи —
«охранителем» и церковным ортодоксом...
Например, публицисты радикального лагеря, от Чернышевского и
Салтыкова-Щедрина до Антоновича и Шелгунова, считали его ярым
противником прогресса и «обскурантом»-церковником, хотя их идейные
противники типа П. Астафьева или К. Леонтьева не менее категорично
упрекали его в либерализме и неверии. Вл. Соловьев умудрился даже
назвать его за критику спиритизма... сторонником механистического
материализма, в чем он уж был никак не виновен.
Известный деятель русской культуры кн. Э.Э. Ухтомский, издатель
«Санкт-Петербургских ведомостей», не раз бывавший у Страхова,
находил его не только религиозным скептиком, но даже «вольтерьянцем»: «"За
религию" князь Э.Э. Ухтомский не слышал от H.H. Страхова ни слова.
H.H. Страхов казался скорее "вольтерьянцем", мыслителем XVIII века»1.
Видно, что личность гостеприимного Страхова оставалась
неразгаданной и для посетителей его «сред» — скрытный, уклончивый, он не любил
распространяться о своих религиозных взглядах. Более того, он охотно,
из скромности и, кажется, не без кокетства, поддерживал мнение, будто
не может верить. Так, когда в печати появился его очерк «Воспоминания
1 Лукьянов СМ. Запись бесед с Э.Э. Ухтомским // Российский Архив. М.,
1992. Вып. II—III. С. 398
86
об Афоне», то многих поразил очевидный религиозный пафос автора, а
идейно близкий ему историк К.Н. Бестужев-Рюмин даже критиковал
Страхова за то, что он «чересчур раскрасил монашество, скрыв его
дурные стороны»1. Тем не менее, сам Страхов упорно продолжал
утверждать, что этот очерк написан человеком неверующим.
В.В. Розанов, написав в 1890 году большую статью о Страхове,
признавался, что это было невероятно трудно, так как Страхов
чрезвычайно сдержан в высказывании своих взглядов, тем более что эти
высказывания о себе слишком разбросаны и тонут в море цитат из других
авторов.
Представление о личности философа и критика, о системе его
воззрений приходится составлять на основании довольно редких, весьма
кратких и обрывочных высказываний, звучащих в разных контекстах.
Зыбкость, расплывчатость взглядов Страхова в этих его высказываниях,
закрытость, неуловимость его личности действительно поразительны.
Случай в истории мысли редкий, если не уникальный. Исследователю
хочется в этом вопросе какой-то ясности, но все усилия почти наверняка
обречены на провал или субъективные догадки и домыслы.
Тем не менее, преподаватель философии Московской духовной
академии Ф.К. Андреев, друг о. Павла Флоренского, в рецензии на
студенческую работу о религиозных взглядах H.H. Страхова справедливо
полагал, что исследователь здесь неизбежно должен быть более смелым,
чем сам философ, который опасался говорить о своих взглядах, боясь
ошибиться2. Страхов действительно был чрезвычайно осторожен,
целомудрен и почти боязлив в обращении с «высокими» предметами: «Легко
это сказать, легко произнести это слово — религия; но вовсе не легко
воссоздать в своем уме тот смысл, который действительно
соответствует этому слову»3.
Подобная творческая реконструкция — возможный и едва ли не
единственный путь, однако и она не гарантирует полной точности
суждений и в целом остается лишь гипотезой, так как страховские
высказывания и особенно отзывы о его религиозных взглядах весьма отрывочны
и часто противоречивы.
Шмурло Е.Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина
Николаевича Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1890. С. 285.
"' Андреев Ф.К. О сочинении студента Матвеевича Виктора на тему: Религиозно-
философские взгляды H.H. Страхова // Богословский вестник. 1916. Июнь.
Разд. Журналы собраний. С. 288-289.
1 Страхов H.H. Воспоминания о ходе философской литературы //
Исторический вестник. 1897. № 5. С. 428-429.
87
Недоумение всех желающих пристроить мыслителя на какую-нибудь
идеологическую «полочку» выразил проф. В.И. Модестов: «Пантеист ли
он, деист ли, исповедует ли он положительную религию, материалист
ли, он, идеалист ли он, либерал ли он, консерватор ли он, одним словом,
кто г. Страхов в области философии и политики, для меня оставалось и
до сих пор остается непонятным»1.
Своеобразное объяснение этого необычного явления попытался
дать Ю.Н. Говоруха-Отрок, считавший себя учеником Страхова2. Он
заявил, что Страхов по натуре — критик, а критика, мол, не
предполагает религиозного обоснования, так как религия — не анализ, а
сплошное творчество. Однако здесь не обошлось без упрощения: критика
все-таки также является творческим делом и предполагает наличие
определенной позиции.
Скрытность Страхова откровенно раздражала некоторых из его
современников, а Константина Леонтьева буквально выводила из себя.
В 1875 году он прямо задал Страхову вопрос о его отношении к вере:
«Долго без церкви и молитвы — я быть не могу, и на меня слишком
часто в мирской обстановке находит нестерпимый ужас смерти и тоска.
(Дорого бы я дал — чтобы наверное узнать,— что Вы в самом деле
думаете об этих вещах... Неужели Вы остановились на Православии
в культурном смысле для других и на интимном пантеизме для себя?
В сущности, я не имею никакого права предлагать Вам подобные
вопросы. Я их предлагаю и не Вам, а себе; Вам же я признаюсь только, что
ужасно желал бы забраться на минуту в серое вещество Вашего
обширного, судя по фотографиям, мозга или даже еще дальше, в какой-нибудь
Ваш вартолиев мост..!)»3
Некоторые современные исследователи, в частности. H.H. Скатов,
нашли, однако, возможным утверждать «непоколебимость» Страхова
в вере и то, что он «навсегда остался человеком, преданным
религиозным догматам»'1. Но столь категоричные суждения скорее всего —
печальный результат ошибочного приписывания философу трудов
его полного тезки, преподавателя Харьковской духовной семинарии
H.H. Страхова. Это обстоятельство роковым образом сказалось на
1 Модестов В. <Рец.: > Борьба с Западом / / Новости и Биржевая газета. 1887.
20окт. С. 2.
2 Говоруха-Отрок Ю.Н. Несколько слов о H.H. Страхове. Никольский Б.В.
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. СПб, 1896 //
Московские ведомости. 1896. 20июн. С. 3.
' Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854-1891. СПб, 1993. С. 116.
1 Скатов H.H. Литературная критика. СПб, 2000. С. 8.
88
оценке мировоззрения Страхова целым рядом современных
исследователей и его необходимо учитывать при оценке творческого наследия
философа и критика1.
* * *
Об отношении Страхова к религии высказывались самые разные
мнения. Наиболее глубокие и чуткие исследователи творчества Страхова,
знавшие его лично, — Ю.Н. Говоруха-Отрок, В.В. Розанов, и Б.Н.
Никольский — не сомневались, что, несмотря на нечастое упоминание,
религия занимала важнейшее место во взглядах философа, более того,
что само его мировоззрение имело характер религиозный. К тому же
славянофильские убеждения, приверженность которым он открыто
высказывал, подразумевали такое же отношение к вере русского народа
— православию.
Ю.Н. Говоруха-Отрок, говоря о сочинениях Б.В. Никольского,
посвященных Страхову, писал: «Мне несколько раз приходилось высказывать,
что мировоззрение Страхова имеет характер религиозный, в широком
смысле этого слова, хотя Страхов почти никогда не касался вопросов
религиозных. Исключение составляет его предисловие к переводу
сочинения Шопенгауэра «Мир как воля и представление», сделанному Фетом.
В этом предисловии Страхова касается вопросов религии, доказывая,
что глубокая философия Шопенгауэра для человека мыслящего может
служить как бы приготовлением к восприятию религиозного воззрения,
и именно христианского»2.
Профессор МДА А.И. Введенский писал в некрологе Страхова: «Как
на глубочайшую основу и источник всех признанных особенностей,
характеризующих научно-литературную деятельность H.H. Страхова,
следует указать на его религиозную настроенность»3.
В 1890 году, написав о Страхове большую статью и отправив ее
в журнал, Розанов спрашивал его в письме: «Верно ли я определил
в статье, что скрытый центр Ваших размышлений, научных и
литературных исканий есть религиозное?»4 Страхов отвечал еще до про-
1 См. об этом подробнее: Лыкова B.C. Философские воззрения H.H. Страхова.
Автореферат дис. канд. филос. наук. М., 2001.
' Говоруха-Отрок Ю.Н. Несколько слов о H.H. Страхове. С. 3.
' Введенский А.И. Памяти Николая Николаевича Страхова (t24 янв. 1896 г.)
// Богословский вестник. 1896. Март. Отд. 3. С. 486.
1 Розанов В.В. Литературные изгнанники. H.H. Страхов. К.Н. Леонтьев. М..
2001. С. 240
89
чтения статьи: «Не знаю, как Вы напишете о религиозном у меня,
но, конечно, Вы правы, ибо все серьезное в конце концов сводится к
религиозному»1.
В наше время, особенно после издания огромной переписки
Страхова с Л.Н. Толстым, можно найти немало и других высказываний самого
философа-критика о том, что религия оставалась важнейшим, хотя
почти не раскрываемым элементом его мировоззрения.
Так, в 1886 году Страхов писал Толстому: «Наша душевная жизнь
вполне сливается с органическою. <...> Я готов сказать, что всякая жизнь
непосредственно происходит из Бога, что Бог одинаково растит и мелкую
травку и душу величайшего человека. <...> Конец же и цель всякого
развития есть Бог, то самое, что есть и его источник. ... Все из Бога исходит
и все к Богу ведет и в Боге завершается, мы в нем живем, и движемся и
существуем»2.
При тщательном изучении наследия Страхова такого рода
высказываний, содержащих недвусмысленное выражение положительного взгляда
на религию, набирается очень много, притом некоторые из них
заставляют оставить всякие сомнения относительно его воззрений. Например, в
статье о физиологе К. Бернаре Страхов писал: «Всё проистекает из Бога
и всё по воле Его свершается. Это нимало не упрощает, однако, научных
задач»3. Но едва ли не самые яркие и откровенные высказывания
содержат его краткие и, увы, незавершенные «Воспоминания»:
«Религиозные представления ставят нас в такие отношения ко всему остальному
бытию, перед которыми мелки и ничтожны всякие другие отношения.
<...> Поистине, религия, если взять ее со стороны чувства и понятия,
составляет действительное доказательство благородства души
человеческой, и, если бы мы вообразили себе человечество без религии, то нам
пришлось бы понизить его почти до степени животных <...> Вот почему
всякий, кто раз в жизни действительно воспринял влияние религии, уже
навсегда сохранит к ней великое уважение, и если потеряет веру, то не
может, однако (по крайней мере не должен), забыть вершин, на которые
восходила его душа»4.
1 Там же. С. 60.
2 Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки в двух томах.
Группа славянских исследователей при Оттавском университете и
Государственный музей Л.Н. Толстого, 2003. Т. 2. С. 724 (далее в ссылках: Толстой —
Страхов. Переписка).
3 Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб, 1886.
С. 174.
4 Страхов Н. Воспоминания о ходе философской литературы. С. 423-434.
90
Свои «задушевнейшие мысли»1 о религии Страхов изложил и в
статье по поводу критики Толстого Мельхиором де Вогюэ: «Наши понятия
0 христианстве так сузились, что мы не опознаем его, когда оно является
нам не вполне в привычных формах, что мы не умеем представить себе,
как оно может превышать всякий буддийский и обще-арийский дух, не
потому что отрицает их безусловно, а потому что объемлет их собою и
доводит до настоящей полноты и определенности»2.
Страхов не согласен с тезисом Вогюэ, будто «мы ищем Бога и не
находим Его; Бог от нас скрылся, и мы в тоске ждем, когда Он вновь
откроется нам»3. Русский мыслитель утверждает: «Не Бог скрылся от нас,
а мы упорно отворачиваемся от Бога. Если бы не это упорство, то мы
легко бы нашли Его, потому что Он везде и всегда. И если бы мы сколько-
нибудь знали путь к Богу, то для нас открылась бы великая
поучительность во всех религиозных формах, в которые человечество облекало и
облекает свое вековечное стремление. Тогда и мистицизм, лучший цвет
этого стремления, не пугал бы нас, и может быть мы согласились бы с
давнишним положением, что всякий истинный христианин есть мистик
(иногда бессознательный), хотя бы мы при этом и отвергали обратное
положение, по которому и всякий мистик (сознательный) есть
истинный христианин» (Эти формулы часто повторяются у Лабзина)»4.
Это упоминание «мистики» немаловажно для Страхова. Его
обычно называли рационалистом, и он сам признавал, что в ранний период
был пантеистом-гегельянцем. Однако позже он постоянно заявлял о
своем отталкивании от рассудочного восприятия действительности. Во
время пребывания в Германии, например, он с упоением прослушал
целый цикл опер Вагнера, а это увлечение вряд ли характеризует его как
рационалиста. Страхову действительно был присущ строгий методизм
мышления, и поэтому многие считают его неисправимо рассудочным,
холодным мыслителем гегелевской выучки. Но Страхов зрелого периода
взял от Гегеля лишь диалектический метод. Кстати, и самого Гегеля он
рассматривал не только как философа религиозного, но и как мистика,
прежде всего: «...его вообще рассматривают как пантеиста, чуть не в
материалистическом духе, тогда как он есть чистейший мистик и
совпадает с Баадером, Мейстером Экхардом, Ангелом Силезским и т.д.»5.
1 Толстой — Страхов. Переписка Т. 2. С. 757.
- Страхов Н. Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом. СПб, 1885. С. 477.
1 Там же. С. 480.
1 Там же. С. 481.
Г) Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 756.
91
Склонность к мистицизму является одной из своеобразнейших черт
воззрений Страхова, указывающих на нераскрытый пока в подробностях
интуитивизм его взглядов. Не случайно, в 1884 году, вернувшись из
поездки в Германию, он сообщает Фету: «За границей я и читал мистиков,
и покупал все их книги»1. Связь мистики с религией для Страхова
несомненна: «Мистика есть не что иное, как чистая религия»2. Страхов
трактовал мистику как общий религиозный дух, характерный для всех
религий.
Эту оригинальную сторону воззрений Страхова чутко уловил
Н.Я. Грот. Для Грота Страхов, признающий и законы эмпирической
реальности, и идеальное духовное начало, также является «почти
скептиком». Однако он подчеркивает индивидуальное своеобразие взглядов
философа, находя в них, при явной склонности к рационализму, и
тяготение к своего рода мистицизму. Он считает Страхова «мыслителем,
наклонным к некоторому особому, если так можно выразиться,
рациональному мистицизму — к признанию, что в этой высшей области знания мы
стоим перед некоторою тайною, непостижимым»3.
Мистицизм Страхова имеет оттенок универсальной религии, веры в
Бога вообще, без привязки к конкретной конфессии. Не случайно в своих
суждениях о религии он отводит видное место Шопенгауэру. Конечно, в
эпоху торжества материализма Шопенгауэр с его иррационализмом мог
служить связующим звеном на пути к религии, как это указывает
Страхов, уловивший в нем «скрытое веяние христианского духа»4. Для
Страхова достоинство Шопенгауэра в том, что его идеал святости мирится со
всяким вероучением. По мнению Страхова, «книга Шопенгауэра может
служить прекрасным введением к пониманию религиозной стороны
человеческой жизни... она закрывает все выходы к оптимизму и наводит
нас на другой путь, на путь истинный, вне всякого сомнения»5. Он
считает пессимизм Шопенгауэра, вызванный постижением коренящегося
в основании самой жизни мирового зла, характерным для всех
религиозных учений, а аскетизм, отрешение от земных желаний и житейских
1 H.H. Страхов — A.A. Фету. 24 сент. 1884 г. / / ОР Института русской
литературы. Ф. 20. 290. Л. 44 об.
2 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2,с. 756.
3 Грот Н.Я. Памяти H.H. Страхова. К характеристике его миросозерцания. М.,
1896. С. 30.
4 Страхов H.H. Философские очерки. 2-е изд. Киев, 1906. С. 140.
5 Страхов Н. Предисловие / / Шопенгауэр Артур. Мир как воля и
представление. Пер. A.A. Фета. СПб, 1881. С. V-VIII.
92
благ, от самой жизни — глубочайшим смыслом христианской веры.
Однако Вл. Соловьев и другие мыслители справедливо указывали, что
учение Шопенгауэра скорее сродни буддийскому учению о нирване,
нежели христианскому аскетизму.
Религиозный пафос постоянно присутствует или, по крайней мере,
ощущается в сочинениях Страхова. Он, безусловно, идеалист, и сами
названия ряда его статей говорят, что религия ему не безразлична:
«Справедливость, милосердие и святость», «О вечных истинах», «Последний
из идеалистов»... Но он лишь философ-созерцатель, опасающийся не
только категорических выводов, но и прямых, развернутых суждений по
вопросам веры. От такого зыбкого, всеприемлющего «философского»
отношения к вере — и большая статуя «противного Будды» в его квартире,
которая так возмутила Розанова1, и интерес Страхова к Шопенгауэру, и
его «религиозный» Гегель. А. Волынский в статье, посвященной
Страхову2, проводит прямую (впрочем, чересчур прямолинейную) связь между
буддизмом и взглядами русского мыслителя.
За десять лет до смерти Страхов выразил в письме к Толстому свое
заветное желание: «Я был бы совершенно доволен, если бы удалось мне
написать еще книгу, последнюю, о том, как искать Бога, как все делать
во славу Божию и всякое познание направлять к познанию Бога»3. Этот
замысел остался нереализованным, но он позволяет нам оставить
всякие сомнения по поводу положительного отношения мыслителя к
религии и его глубокой приверженности христианской вере.
Однако остается другой, более тонкий и интимный, «леонтьевский»
вопрос, был ли сам Страхов все-таки человеком церковным, или же его
религиозные воззрения носят расплывчатый характер религиозного
универсализма?
Казалось бы, он явно отдает предпочтение религиозной мистике,
«чистой религии». И не случайно в его мировоззрении почти
постоянно ощущается присутствие какой-то печали, которая восходит скорее
ко вселенскому пессимизму Шопенгауэра, нежели к христианскому
отрицанию злого и суетного мира. Да и тот, нередко одолевающий его,
упадок духа, на который жалуется философ, вряд ли характеризует его
как твердого верующего христианина, который должен, прежде всего,
«бежать греха уныния». Впадая временами в уныние, Страхов писал
1 Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 117.
- Волынский А. Литературные заметки // Северный вестник. 1893. № 2.
С. 116-123, 145-146.
' Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 712.
93
очень сомнительные вещи и о религии1. Сюда же можно отнести как его
неоднократные критические высказывания в адрес церковных деятелей,
так и поддержку им сомнительных, с точки зрения Церкви, толстовских
религиозно-нравственных исканий.
Однако и здесь не все так просто и следует быть осторожным в
выводах. Страхов постоянно высказывается о себе в самоуничижительном
духе — о своем неверии, о всяческих своих недостатках: во многих
случаях это явное проявление христианского смирения, и он вовсе не так
плох и не «худший из грешников», как выходит из его многочисленных
самообличений.
Как, например, трактовать высказывание Толстого о том, что
Страхов увлекался мистиками типа Ефрема Сирина? Работавший в Ясной
Поляне учителем детей Толстого В. Лазурский пишет в «Дневнике»:
«Лев Николаевич посоветовал мне обратить внимание на одну черту у
Страхова (он об этом говорил и брату); его мистицизм в духе Ефрема
Сирина и других восточных учителей церкви»2. Это говорит о том, что
Страхов интересовался не только западными мистиками, но хорошо
знал и православное святоотеческое учение.
Определенный свет в этом отношении проливает переписка
Страхова с И.С. Аксаковым, с которым они в 1880-е годы настолько идейно
сблизились, что последний даже подумывал о приглашении Страхова в
соредакторы «Руси». Особенно интересно обсуждение темы мистики,
спровоцировавшее предельно откровенные суждения Страхова о своих
религиозно-философских взглядах. После напечатанной в «Руси»
статьи Страхова об отзыве Вогюэ о Толстом, в которой он заявил, что
«всякий мистик есть истинный христианин», развернулась полемика между
ним и Аксаковым. Согласившись с тезисом, что всякий христианин есть
мистик, Аксаков выразил сомнение в обратном утверждении Страхова:
«Положение, что «всякий мистик сознательный есть истинный
христианин» представляется мне несколько смелым. <...> Все шведенборгисты,
все те, которых специально зовут мистиками, признают право на
название «истинного христианина»»3.
В ответ Страхов написал Аксакову ценное «исповедальное» письмо:
«Вы угадали, я еретик с известной точки зрения; я считаю неверным то,
что говорит Пастырское послание, что «никакая добродетель, никакой
1 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 432-433.
2 Лазурский В.Ф. Дневник // Литературное наследство. Т. 37-38. Л.Н.
Толстой. М., 1939. С.491.
3 И.С. Аксаков — H.H. Страхов. Переписка. Сост. М.И. Щербакова. Москва;
Оттава, 2007. С. 115 (далее в ссылках: Аксаков — Страхов. Переписка).
94
подвиг» не может спасти человека, сделать его святым вне церкви. Это
жесткие слова, которых послание ничем и не объясняет. Я думаю, Бог
милостив и его отношение к людям проще, понятнее, общее, теснее и
глубже. Сознаюсь, я мистик, и даже спешу Вам в этом признаться —
так мало случаев сообщить свои мысли кому-нибудь разумеющему!»1.
Из этого письма можно сделать вывод, что Страхов не так уж и таил
свои мысли — в эпоху торжества нигилизма ему просто некому было их
изложить.
Свое отношение к мистике Страхов разъясняет, попутно затрагивая
взгляды Вл. Соловьева, с которым его, как и Аксакова, тогда связывали
еще почти дружеские, хотя и сложные отношения: «Соловьев мне очень
дорог, потому что разъяснил мне понятие Церкви. Он один настоящий
церковник, т.е. не только утверждает, что вне церкви нельзя спастись,
по и ясно понимает, почему это так. Его мнений я не разделяю, не могу
разделять, и он мне только уясняет и закрепляет то противоречие,
которое лежит между моими мыслями и общепринятыми верованиями.
Соловьев иногда называет себя мистиком, но он не мистик, а теософ.
Он предается всяким построениям божественного мира и судеб
человечества. По-моему, это радость обманчивая, хотя и очень увлекательная.
Все это образы, которые ниже своего предмета. Их не нужно: нужно
стремиться без них стать Богом. Вы примете это за богохульство, а
это есть даже в одной русской книге — в беседах Симеона Нового
Богослова, и это значит только — устранить все, разделяющее нас от Бога.
Что тогда бывает с душою, нельзя иначе и выразить. В нем (не о нем, как
переводят!) мы живем и движемся и существуем — вот вкратце вся
мистика»2. Страхов выражает здесь не какое-то исключительное
мнение, а традиционный взгляд на обожение отцов православной Церкви
— близкие высказывания можно найти, в частности, у преп. Максима
Исповедника и св. Василия Великого. После чтения этой переписки
становится более понятной и убедительной неожиданная на первый взгляд
фраза Толстого о своем будто бы почти единомышленнике, что Страхов
является мистиком в духе отцов Церкви.
Что касается доходящей до поклонения любви Страхова к
Толстому, то это был один из немногих пунктов, по которому они существенно
расходились с Аксаковым, как, впрочем, и с другими мыслителями типа
Говорухи-Отрока или Розанова. По ходу рассуждений о мистике
Аксаков позволил себе укол в адрес бесконечно уважаемого им великого пи-
Аксаков — Страхов. Переписка. С. 119.
Там же.
95
сателя, впавшего в религиозный морализм: «...Толстой, увлекаемый к
мистицизму, именно против мистицизма и борется»1.
Это противоречие между рационализмом и мистикой, хотя и в ином
соотношении, присутствовало и во взглядах Страхова. Следует
отметить, что его восприятие мистики не мешает ему толковать о науке
с вполне рационалистических позиций: «В физике я самый упорный
рационалист. Если бы для мистицизма нужно было приходить в
неистовство или добиваться непременно случая подержать черта за рога —
я никогда бы к нему не обратился... человек я слабый и грешный, но мне
думается, нет — не думается, а я уверен и знаю, в чем сила и что такое
святость»2. Но наука имеет для него только второстепенное, подсобное
значение для открытия высших духовных истин; за ее вещественными
образами Страхов прозревал формы духа и восходил к ним.
Таким образом, Страхов был глубоко религиозным человеком и вся
его творческая деятельность вращается вокруг «вечных истин», хотя
его отношения с Церковью складывались сложно. На протяжении всего
жизненного пути он не забывал о Боге. Он жил внутренней, глубоко
духовной жизнью, и скрытая работа над своей душой не прекращалась до
последних его дней. И в самом смиренном, уединенном его
существовании вдали от мира, среди книг и посвящении всего себя высоким идеалам
и благородному умственному труду явно присутствуют подвижнические
черты, имеющие некоторое сходство с монашеским подвижничеством.
* * *
Б.Н. Никольский построил целую концепцию, истолковывая
аскетический образ жизни Страхова, целиком посвятившего себя исканию
истины и лишенного эгоистического самоутверждения, как своего рода
«монашество в миру». По его мнению, подозрения в неискренности или
скрытности Страхова должны быть отвергнуты: «Нам просто
непривычен монашеский тон Страхова в применении к светским вопросам и
предметам...»3. Его неспособность найти общий язык со своим временем
Никольский объясняет так: «...Страхов не был современником своего
века. В его лице как будто ожил для нашего легковесного,
поверхностного и утонченного столетия какой-нибудь ученый мних XIV-XV века,
1 Там же. С. 116.
2 Там же. С. 119.
:' Никольский Б.В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический
очерк. СПб, 1896. С. 7.
96
простодушный, положительный и серьезный»1. Никольский, хорошо
знавший Страхова, так характеризует его поведение: «Прежде всего,
монастырская жизнь и семинарское развитие выработали в Страхове
его личный характер или то, что называют обыкновенно характером:
приемы обращения с людьми и предметами, отношения к мнениям и
системам, к искусству и науке. И в личном обхождении покойного, и
в строе его жизни, и во всей его биографии было много аскетического,
много знакомого каждому, кто хоть поверхностно наблюдал характер и
особенности православного монашества. Всегда неизменно деликатный
и благодушный, мягкий и вежливый, но уклончивый, так же скупой на
выражение своих симпатий, как и антипатий, старающийся все свои
настроения и впечатления скрасить шуткой или смехом, по возможности
не высказывающий своего мнения и с величайшим вниманием
выслушивающий во всех подробностях всякую чужую мысль, никогда не
направляющий разговора в ту или другую сторону, но всегда идущий за
своим собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не
допускающий себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым
словом — таким вспоминают его с невольной любовью все, кто лично
знал Страхова»2.
Никольский предлагает весьма заманчивый ключ к объяснению
необычной закрытости внутреннего мира Страхова: «Он обо всем
решительно беседовал таким тоном, как монах говорит с мирянином о
светских делах и вопросах, тщательно избегая даже малейшим намеком
обнаружить хоть что-нибудь из внутреннего быта или обихода
монастыря. О себе самом Страхов никогда не говорил, даже местоимение я
проскальзывало у него в разговоре, как и в сочинениях, только в виде
исключения»3. По мнению Никольского, какие-либо подозрения
Страхова в неискренности или скрытности должны быть отвергнуты, так как
нам просто непривычен монашеский тон Страхова в применении к
светским вопросам и предметам.
Никольский сравнивает обстановку в доме Страхова с монастырской
кельей. «Комфорт, удовольствия и удобства жизни для него, можно
сказать, не существовали; он заменял их только редкой чистотой,
аккуратностью и порядком. В его дом вы входили как в келлию какого-нибудь
монастырского библиотекаря: портреты хозяина, подаренные ему на
память художниками, портреты и бюсты двух, трех писателей, две,
Там же. С. 9.
Там же. С. 6
Там же.
97
три картинки, дорогие, как воспоминания детства, и полки с книгами:
вот вся его остановка. Несколько стульев предназначалось для гостей,
остальная мебель допускалась лишь как прибор для помещения книг»1.
Монашеской находил Никольский и саму манеру общения Страхова:
«В мышлении, разговорах, в своих произведениях он опять-таки
отличался той чисто монашеской, почти наивной сериозностью, с которой
взвешивал каждую высказанную им мысль, каждое прочитанное им
мнение, тем глубоким и непосредственным восторгом, тем простодушным
и искренним любопытством, с которым готов был восхищаться каждым
оригинальным взглядом или суждением, каждым мало-мальским
даровитым произведением науки или искусства, наконец, каждым
проблеском таланта вообще, в чем бы тот ни проявился. Даже манеры,
обороты речи, самая наружность его напоминали типичного великорусского
монаха»2.
В то же время Никольский оригинально дополняет несколько
нарочитый «монашеский образ» Страхова другим «измерением»: он считает
важнейшей чертой духовной личности Страхова его эстетический
подход к явлениям жизни и культуры, который органично сплавлен с его
философским уединением и созерцательностью, с его религиозностью:
«...как эстетик, он не столько участник, сколько зритель бытия. Среди
других мыслителей он является каким-то аскетом, отшельником,
который свои слова не вставит в шумный поток мирских речей и суждений,
но все выслушает, все запомнит и все переживет потом в тиши своего
уединения. Этим созерцательным духом умозрения объясняется одна из
характернейших особенностей Страхова — его объективизм, его
крайняя нелюбовь к общим взглядам, широким обобщениям,
классификациям и окончательным выводам...»3.
Никольский, примеряя монашескую рясу к образу философа-
отшельника, не был в этом одинок. Это сопоставление напрашивалось
само собой, и Никольский только провел его с несколько чрезмерной
последовательностью. Нечто похожее обнаруживает Д.И. Стахеев в
своих мемуарах и автобиографических повестях, одна из которых носит
красноречивое название «Пустынножитель». Да и сам Страхов, кстати,
в одном из писем к Фету называет свою квартиру на 5 этаже «пустынно-
жительным чердаком»»4.
1 Там же. С. 6-7.
2 Там же. С. 7.
J Там же. С. 17.
4 ОР Института русской литературы. Ед. хр. 20. 290-Н. Л. 7 — 7об.
98
Ту же мысль можно проследить и в посвященных Достоевскому
воспоминаниях писательницы В. Микулич: «Холостяк Страхов по образу
жизни был монашеского склада. Достоевский недаром восхищался
исполнением им роли монаха в «Каменном госте» <...> А когда
неожиданно для него на сцене появился H.H. Страхов в костюме монаха, с
четками и капюшоном, который как нельзя лучше шел к его наружности,
походке и голосу, Достоевский пришел в положительное восхищение и
неё повторял:
— Как он хорош! Браво, Страхов! вызвать Страхова!»'.
Учитель детей Толстого В. Лазурский приводит высказывание
писателя о внешнем виде Страхова, вызывавшем ассоциации с
монашеством: «Как-то Лев Николаевич сказал о Страхове: «Как посмотрю я на
Николая Николаевича, быть бы ему архиереем; хороший бы архиерей
вышел». Действительно, Страхов — с открытым лицом, длинной седой
бородой, благообразный, спокойный и мягкий — по наружности был бы
хорошим архиереем. Славянофильская окраска его мнений также не
противоречила бы этому званию. Вышедший из духовного звания,
всегда жившего уединенною жизнью ученого холостяка, Страхов,
вероятно, с достоинством вынес бы монашеский подвиг, если бы это от него
потребовалось»2.
Есть, наконец, прямые свидетельства того, что монашество,
церковный аскетизм действительно очень интересовали Страхова. Так, в
1875 году Страхов пишет Толстому из Рима: «Современная жизнь и
современные люди нисколько не интересны. Настоящая жизнь человека
— религия, какая-нибудь идея <...> И вот мне хотелось повидать
монахов, увидеть живую в людях религию. (Я непременно посещу Оптину
пустынь и какие-нибудь русские монастыри). Что аскетизм есть
последовательное выражение религии — для меня несомненно; я до семнадцати
лет (даже первый год университета) жил в среде духовных и монахов, и
знаю, в чем дело»3.
* * *
1 Микулич В. Встречи со знаменитостью. М., 1903. С. 13-14.
Лазурский В. Л.Н. Толстой и H.H. Страхов (Из личных воспоминаний).
С 154.
Толстой — Страхов. Переписка. Т. 1. С. 208.
99
К «пострижению в философские монахи», выражаясь языком
Герцена1, которое состоялось у Страхова еще в молодые годы, он был всей
своей предшествующей жизнью. Выходец из семьи православного
священника, он, скорее всего, в раннем детстве был глубоко верующим
человеком. Философ вспоминал: «Мне помнятся мои детские и
юношеские и зрелые чувства с такою живостию ... Я помню и то
благоговение, с которым стоял в церкви, когда был мальчишкой»2.Очень важные
сведения о том, что в своей духовной эволюции Страхов прошел через
серьезный аскетический опыт, обнаруживаем в одном из писем к
Толстому: «Помню, когда мне было 13 или 14 лет и я стал уже думать о том,
чего от нас требует религия, я пришел к мысли, что должно быть в нее
никто не верил вполне, не верил во Христа и до наших дней. Это меня
ужасало и удивляло. Если нам предстоит с одной стороны рай, а с другой
ад, то не ясно ли, что только об этом и нужно думать, что нужно всё
бросить и спасаться, как спасались отшельники, из которых иные верно одни
только и спаслись, но тогда не было бы всемирной истории, прекратились
бы всякие труды, войны, государства и т.д. И значит, ни один из великих
людей, которых восхваляет история, в рай и ад не верил. Это было мне
совершенно ясно, но моей веры не поколебало; напротив, я стал молиться
и поститься до обмороков. Долго и мучительно я боролся, пока, наконец,
не сбросил с себя гнета. Пока не проснулся от кошмара, и, к несчастию,
тогда покачнулся в противоположную сторону»3. Судя по указанному
возрасту, эти аскетические попытки он предпринимал в семинарии.
Священником Страхов так и не стал, несмотря на то, что его дядя,
ректор Костромской семинарии, архим. Нафанаил, строгий его воспитатель,
заменивший отца, всячески этого добивался, не только в Костроме, но и в
Петербурге, где во время студенчества племянника стал архиереем (к
концу жизни он удостоился сана архиепископа). И хотя нам мало известно о
прямых причинах бунтарства Страхова, вполне можно предположить, что
это было характерное для юношества той нигилистическою эпохи
ослабление религиозного чувства, особенно под влиянием ненасытного интереса к
наукам; явно не обошлось и без юношеского стремления к
самостоятельности, любопытства к неведомым ему прежде светским соблазнам'1.
1 Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. Т. 9. С. 18.
2 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 820.
3 Там же. С. 969.
1 См. о студенческом периоде Страхова его интереснейшую переписку с
преподавателем Костромской семинарии: Щербакова М. «Вместо дневника — письма
к Вам». (Из переписки H.H. Страхова с о. Иоанном Скивским) / / Москва. 2004.
№ 10. С 186-206.
100
Однако можно сказать, что в душе Страхов так и остался во многом
верным семинарской закваске. Нельзя не отметить, что он «покачнулся»
в вольнодумство далеко не в той степени, как многочисленные
радикалы из бывших семинаристов, вроде Добролюбова или Чернышевского.
Семинария вовсе не разрушила религиозного строя страховской души:
«Наши умы и души имели, впрочем, свое определенное содержание,
именно — были проникнуты религиозными представлениями.
Неверующих и вольнодумцев у нас вовсе не было, и мы были твердо убеждены,
что отрицание религии есть крайняя уродливость, чрезвычайно редко
встречающаяся в роде человеческом. Таким образом, мы вполне
испытали на себе влияние религии, мы были воспитаны под ее верховным
руководством»1. Но что же послужило главной причиной его
нежелания стать священником? Возможно, повлиял царивший в обществе дух
вольнодумства, но скорее всего «победил» всепоглощающий интерес к
науке, и Страхов предпочел стать ученым.
Это подтверждает, в частности, и заявление самого Страхова в
неоконченных воспоминаниях, что в Петербурге он сразу не принял
преобладавшего среди студентов-радикалов вольнодумства, идейный
смысл которого был выражен в формуле: «Бога нет, а царя не надо».
И, как это ни странно, свою профессию ученого-естественника он
избрал, по его утверждению, для того, чтобы быть более
подготовленным к борьбе с этой враждебной ему безбожной идеологией.
Возможно, здесь есть некоторая доля более позднего переосмысления своего
жизненного опыта, но вся творческая деятельность Страхова
действительно была направлена против идейного нигилизма и философского
материализма.
При этом Страхов никогда не был охранителем-реакционером
по убеждениям, как это пыталась представить радикальная печать.
Но будучи весьма либеральным в вопросах политики и религии, он
неизменно отстаивал вечные истины идеализма, решительно
выступал против нигилизма и дарвинизма. Философ справедливо полагал,
что нигилисты, при всем их отрицании религии, действуют под
неосознанным влиянием своей извращенной веры, исповедуя «суррогат
религии»2 — веру в научный прогресс. И неустанную борьбу с
дарвинистами он вел прежде всего потому, что на это учение, строящее мир
на рационалистических началах, без участия Творца, опираются все
философские системы безбожия.
1 Страхов И. Воспоминания о ходе философской литературы. С. 423-434.
' Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Т. 2. Изд. 2-е. СПб, 1890.
С 98.
101
Таким образом, уже в молодости, когда он, по собственному
признанию, отдал дань светским удовольствиям, Страхов все-таки не встал на
путь религиозного нигилизма, хотя и его не миновало юношеское
опьянение свободой. Не привели его к вольнодумству и научные занятия, так
как настоящая наука ведет к Богу.
Представление о Страхове как религиозном скептике было в какой-
то степени нарушено поездкой в Оптину пустынь, совершенной им
совместно с Толстым в 1877 году. Об этой поездке нам известно, главным
образом, из статьи сотрудника консервативных изданий П.А. Матвеева1,
который часто бывал в Оптиной, был знаком со старцами и посетил
монастырь вскоре после Толстого и Страхова. Матвеев писал, что
инициатором «паломничества» выступил именно Страхов. И действительно, в
письме от 4 ноября 1876 года к Толстому он «советует побывать» в
Оптиной. При этом оказывается, что самого Страхова косвенно побудил к
поездке все тот же Павел Матвеев: «Один знакомый, Павел
Александрович Матвеев, молодой юрист, очень милый, все разговаривает со мной
о вере — он сам верующий, к великому изумлению всех окружающих.
Он бывал в Оптиной пустыни, мне советует побывать, но уверяет, что
это трудно, именно, что мне непременно встретятся всякого рода
препятствия и задержки, что это испытали на себе многие лица — какая-то
сила мешает. Попробуем же в следующее лето — я очень желаю, и не
имею других планов»2. Летом следующего года Страхов с Толстым и
побывали в Оптиной.
После поездки Страхов писал Толстому: «Сегодня был у меня Павел
Александрович Матвеев; он навещал Оптину пустынь после нас и
привез мне целую кучу разговоров об Вас и даже обо мне. Отцы хвалят Вас
необыкновенно, находя в Вас прекрасную душу. Они приравнивают Вас
к Гоголю и вспоминают, что тот был ужасно горд своим умом, а у Вас
вовсе нет этой гордости. Боятся, как бы литература не набросилась на Вас
за 8-ю часть [«Анны Карениной»], и не причинила Вам горестей. Меня
о. Амвросий назвал молчуном, и вообще считают, что я закоснел в
неверии, а Вы гораздо ближе меня к вере. И о. Пимен хвалит нас (он-то
говорил о Вашей прекрасной душе) — очень было и мне приятно
услышать это. Отцы ждут от Вас и от меня обещанных книг и надеются, что
мы еще приедем»3.
1 Матвеев П. Л.Н. Толстой и H.H. Страхов в Оптиной пустыни //
Исторический вестник. 1907. Апр. С. 151-157.
2 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 1. С. 288.
3 Там же. С. 355.
102
Из изложения рассказов Страхова о поездке в Оптину пустынь
недостаточно образованным и не слишком проницательным соседом Страхова
по совместной квартире, писателем Д.И. Стахеевым, в его воспоминаниях1
выходило, что Страхов вообще непонятно зачем туда поехал.
Воспоминания Стахеева не отличаются ни знанием темы, ни глубиной осмысления.
Акцент в них сделан на малозначительном, полуанекдотическом эпизоде
поездки (упоминании старцем своего брата-генерала), позволившем Ста-
хееву, опираясь на рассказ Страхова, предаться скептическим
рассуждениям о грехе тщеславия. Апеллируя к своим личным контактам с оптински-
ми старцами, П. А. Матвеев в своей статье весьма резко упрекнул Стахеева
за некомпетентность и оспорил многие его суждения, высказанные к тому
же «в легком и шутливом тоне»2. Из своих бесед со Страховым Матвеев
делает вывод, что «Страхов умел обходить прямые разговоры о религии»
и даже заявляет, будто «он был равнодушен к вопросам религии»3. Автор
статьи подробно передает свой разговор с оптинскими старцами о
Толстом и Страхове. В нем высказано предположение, что Страхов,
который «всегда говорил о религии с уважением», мог бы иметь на Толстого
«доброе влияние». «Ну, нет, — живо возразил о. Амвросий, — Страхов
человек закоснелый, неверие его глубже и крепче». По мнению
старца, Страхов влияния на Толстого не имеет, «скорее наоборот, это его
справочная книга». Другой старец, о. Климент, сообщил Матвееву, что
о. Амвросий «Страхова считает человеком отпетым, для которого вера —
только поэзия»4. Складывается впечатление, что поездка оказалась для
Страхова не слишком удачной. Хотя встречи со старцами состоялись,
духовные собеседования не принесли удовлетворения. Беседы вел,
собственно, Толстой, а Страхов только смиренно внимал им. О. Амвросий
принялся отчитывать Страхова как отпетого материалиста-безбожника,
в чем он не был грешен, а тот, в силу своего кроткого «монашеского»
характера, терпеливо выслушивал критику. По словам Матвеева, Страхов
был очень смущен последовавшим затем отзывом: «Да ведь я, кажется, с
о. Амвросием мало о чем и говорил»''.
В статье Матвеева, написанной в явно недружественном, по
отношению к Страхову, тоне, утверждалось, что «Страхов был человеком
1 Стахеев Д.И. Группы и портреты (Листочки воспоминаний) //
Исторический вестник. 1907. № 1. С. 81-94.
2 Матвеев П. Указ. соч. С. 155.
' Там же. С. 156.
4 Там же. С. 154-155.
г' Там же. С. 155.
103
неверующим...»1. Это вызвало несогласие у публициста Павла Россие-
ва: «Книги "Мир как целое" и "О вечной истине" — обнаруживают мало
того, что христианство автора их, но даже сочувствие H.H. Страхова
православию. В чем же заключается "беда"? П.А. Матвеев, очевидно,
не мирится с философским христианством Страхова, действительно не
бывшего "церковником-ритуалистом", на что указал еще тот же Грот2,
но такое христианство равнозначно ли с неверием? Мне думается, что
совсем не равнозначно»3.
Был возмущен тональностью статьи Матвеева и Стахеев, который
писал 16 апреля 1907 года С.Н. Шубинскому, редактору
«Исторического вестника», где появилась статья Матвеева: «На днях получил
апрельскую книжку «Ист. Вестн.» и изумился статьей Матвеева о
Страхове. Видимо ему, как ослу, хотелось лягнуть покойника, да с ним
вместе — и меня. Лягнуть-то легко, но какая от этого и кому честь?»'1.
Стахеев отметил в письме, что Матвеев имеет сомнительную
репутацию, и даже кроткий Страхов, вынужденно принимая его, считал его
человеком навязчивым.
Любопытная запись о поездке в Оптину пустынь содержится в
одном из писем М.В. Нестерова. В 1907 году, работая над портретом
Л.Н. Толстого, Нестеров записал со слов самого писателя: «Далее
Л. Н. рассказал мне, как он был вместе с покойным Страховым в Опти-
ной пустыни у знаменит<ого> старца Амвросия и как Амвросий,
приняв славянофила, верующего церковника (!? — В.Ф.) Страхова за
закоренелого атеиста, добрый час наставлял его в вере православной, и
как сконфуженный Страхов терпеливо, без возражений выслушивал
учительного старца, который при всей прозорливости перемешал
своих посетителей»5. Конечно, запись Нестерова не может считаться
вполне документальным свидетельством, но для нас она важна, так как
передает впечатление от беседы со старцем именно Толстого, и еще
1 Там же. С. 156.
2 Грот писал: «... Страхов не только вполне верует в высшее начало, в Бога, но
даже остается христианином, сочувствующим православию, не в узком
значении «церковника-ритуалиста», а в самом широком философском смысле...» //
Грот Н.Я. Памяти H.H. Страхова. К характеристике его миросозерцания. М.,
1896. С. 30.
3 Россиев П. Был ли H.H. Страхов «неверующим человеком»)? //
Исторический вестник. 1907. № 6. С. 152.
4 Д.И. Стахеев - С.Н. Шубинскому. 16 апр. 1907 г. // ОР РНБ. Ф. 874. Ед.
хр. 111. Л. 80.
5 Нестеров М.В. Письма. Л., 1988. С. 226.
104
потому, что писатель называет своего друга, которого знал, как никто,
«верующим церковником».
Если поездка в Оптину пустынь не слишком характеризовала
Страхова как истинного христианина, то его поездка на Афон,
совершенная в 1879 году, и особенно опубликованный десять лет спустя
очерк о ней, произвели большое впечатление.
Заметки Страхова по достоинству оценил даже строгий его критик,
К.Н. Леонтьев. По замечанию Розанова, поездка на Афон разрушила
представление о Страхове как о религиозном скептике.
Об улыбающихся монахах Страхов писал Толстому 19 октября
1881 года: «...на Афоне мне особенно понравились веселые монахи,
ласковые, смеющиеся, — я думаю, что они ближе других к святости,
да так об них говорили и другие»1. Страхов опубликовал
«Воспоминания о поездке на Афон» уже после смерти описанного в них старца,
о. Макария (Сушкина), почти через десять лет, осенью 1889 года2. Если
историк К.Н. Бестужев-Рюмин считал, что Страхов «чересчур
раскрасил монашество», то глубоко верующая графиня A.A. Толстая, жившая
в Петербурге и обычно нападавшая в разговорах со Страховым на
своего яснополянского родственника, сказала об «Афоне»: «Ну, я прочла и
вижу, что вы верующий...». Страхов, однако, стал отрекаться: «...мне
было очень совестно, когда Александра Андреевна (Толстая) и разные
другие благочестивые люди причисляли меня к своим»3.
Очень показателен отклик Л.Н. Толстого на воспоминания Страхова
о поездке на Афон. В духе протестантского нигилизма писатель резко
осудил известную монашескую практику духовного делания
многократным повторением Иисусовой молитвы: ««Поездка» мне скорее не
нравится — именно тем, чем она нравится Гр. Алекс. Андреевне (не
Алексеевне) Т<олстой>. И утверждение о том, что повторение десятки раз сряду
одних и тех же слов может быть не отвратительно по своему безумно и
кощунственно механическому отношению к Богу, мне очень противно.
Противно, п[отому] ч(то] вредно»4. И это пишет человек, которого
многие считают единомышленником и даже чуть ли не духовным учителем
Страхова! «Толстовцем» Страхов никогда не был, хотя напористый, не
знающий сомнений, авторитетный Толстой, естественно, очень тянул
его в свою сторону. При всем своем преклонении перед обаянием творца
1 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 617.
' Русский вестник. 1889. № Ю. С. 120-144.
' Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 820.
1 Там же. С. 816.
105
гениальных романов Страхов сохранил собственный, несомненно, более
близкий к православию взгляд на духовное делание.
* * *
Страхова часто принимают за единомышленника Толстого во многом
потому, что их связывала многолетняя взаимная дружба. Особенно
поспособствовала такому мнению известная апологетическая статья
«Толки о Толстом», написанная Страховым в 1891 году. Защищая
религиозные искания Толстого, он смело вступил в спор с представителем
церковной иерархии еп. Никанором. Его, по словам Розанова,
«утонченная, осторожная и всесторонняя апология последнего фазиса
деятельности Толстого»1, т.е. его религиозно-философских идей, была очень
мужественным поступком, ведь против взглядов Толстого выступали
не только богословы, на него ополчился и весь консервативный лагерь,
включая Говоруху-Отрока, Леонтьева, философов Астафьева и Козлова.
Не сочувствовал идеям Толстого и Розанов. После этой смелой
защиты опального писателя-проповедника сам Толстой признал, что статья
еще больше сблизила его с духовным другом «самыми основами»2.
Однако, при всей задушевности искренне увлеченного Толстым Страхова
и ловкости его апологетических приемов, статья страдает очевидными
преувеличениями, умолчаниями и даже натяжками. При внимательном
ее чтении можно заметить, что, по существу, собственно учение
Толстого Страхов совсем не защищает, обходит стороной. Он апеллирует лишь
к положительной христианской направленности сочинений Толстого,
нравственной пользе от его деятельности и выступает лишь против
запрета печатать его искренние, пусть и сомнительные с церковной точки
зрения сочинения: «Между тем, если взять дело серьезно, то
обращению Толстого к Евангелию следовало бы очень обрадоваться и видеть в
нем самое здоровое душевное явление. Если бы он впал даже в ересь, то
это было бы всё же в тысячу раз лучше, чем то мертвенное равнодушие
и отчуждение, с каким мы относимся к религии. Каким образом будут у
нас раскрываться истины религии и развиваться богословские занятия,
если все общество отшатнется от них навсегда? Если бы писания
Толстого имели смысл только одного возбуждения и толчка к деятельности
в этой области, то и тогда следовало б только им радоваться»3.
1 Розанов ВВ. Литературные изгнанники. С. 274
2 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 863.
3 Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л.Н. Толстом. С. 483-484.
106
В консервативных и богословских кругах статья Страхова вызвала,
конечно, отрицательное мнение. Один из публицистов писал о статье
«Толки о Толстом»: «Автор ее — известный писатель Н. Страхов, тот
Страхов, который писал когда-то против Ренана и Штрауса, восторгался
учением христианской религии, приходил в умиление от православного
богослужения. Теперь этот писатель, на которого русское общество
привыкло смотреть как на ревностного защитника православной религии и
русской народности, очутился нежданно-негаданно в числе
поклонников графа Льва Толстого, как религиозного учителя»1.
Философ П.Е. Астафьев резко упрекал Страхова «в очевидных
натяжках, софизмах его апологии графа Толстого»2 в той же статье.
Астафьев справедливо сопоставлял учение Толстого с распространявшимся
в те годы протестантски-рационалистическим, сектантским учением,
обнаруживающим тенденцию «разрешить всю религиозную идею в
систему законов нравственной жизни, в устроение царствия Божия здесь,
в земных условиях, без всякого отношения к миру трансцендентному»3.
Он осуждал утверждение Страхова о том, что Толстой «впервые открыл
нам настоящий дух Христова вероучения». Только в явном философском
ослеплении, из-за дружбы с великим писателем, считает Астафьев,
философ не обращает внимания на то, что практически-нравственное
учение Толстого «глубоко враждебно всякому религиозно-догматическому
учению вообще».
Но В. Лазурский, учитель детей Толстого в Ясной Поляне, куда
почти ежегодно наезжал Страхов, справедливо подчеркивал, что хотя тот
и «приветствовал от всей души» духовный поворот Толстого,
«толстовцем» не был: «Я думаю даже, что в религиозном отношении он стоял
ближе к православию»4. Страхов, по его мнению, «верно указывал, что
первым полезным последствием религиозно-богословских рассуждений
Толстого будет обращение светских русских читателей к вопросам,
которые одни из них привыкли читать делом устарелым, недостойным их
1 Рождествин A.C. (?) «Христианство* графа Л.Н. Толстого. По поводу
статьи Н. Страхова «Толки об Л.Н. Толстом» (Вопросы философии и психологии.
1891. Кн. XI) // Чтения в Об-ве любителей духовного просвещения. 1892.
Кн. 2. Отд. 2. С. 87. Подл.: А.Р.
2 Астафьев П. Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000.
С. 364-365.
1 Там же. С. 363.
1 Лазурский В. Л.Н. Толстой и H.H. Страхов (Из личных воспоминаний) //
Русская быль. Серия III. I Л.Н. Толстой. Биография, характеристики,
воспоминания (Жизнь. Личность. Творчество). Сб. статей. М., 1910. С. 155.
107
просвещенного внимания, другие же равнодушно предоставляли это
специалистам, готовые равнодушно присоединиться к официальному
богословию»1.
Страхов искренне считал, что гениальный писатель может своим
исключительным влиянием свести на нет нигилистические
настроения в обществе. Это была конечно, прежде всего, тактическая статья
— Страхов вынужденно сузил ее тему, обойдя вниманием собственно
взгляды Толстого, чтобы можно было ее напечатать.
Что касается отношения самого Страхова к религиозным
сочинениям Толстого, особенно к «Краткому изложению Евангелия», то оно было
вполне критическим, и он достаточно подробно высказал его в письмах
к Аксакову от 17 и 25 мая 1885 года: «На досуге здесь в Мшатке
перечел с полным вниманием всё это изложение и, признаюсь, несмотря на
свою привычку к Л.Н. Толстому, был изумлен крайним безобразием
этого писания <...> Оказывается, что в «Изложении» он без всякой меры
отступает от текста, что это не перевод, а такой же перефраз, как и те
содержания, которыми начинается каждая глава. Сделано всё, что
может дать делу вид и подлога <...> Затем в догматическом отношении он,
конечно, большой еретик; он квакер в практическом учении и унита-
рий в метафизическом»2. Но и признав Толстого «большим еретиком»,
Страхов пускается защищать своего друга: «Почему же, терпя и даже
уважая квакеров и унитариев, мы будем толковать Толстого только с
нетерпимостью и презрением?». В ответном письме к П.Д. Голохвасто-
ву на критику сочинения «В чем моя вера» — снова признание
существенных недостатков толстовского сочинения сочетается с не слишком
убедительной апологетикой: «...я соглашусь, что Толстой грешит
бессознательно и самолюбием и славолюбием. Но в корне у него искреннее,
живое чувство»3.
Страхов до конца верил в благородное, нравственное значение
религиозно-моралистических сочинений Толстого, по крайней мере, в
искренность его религиозных исканий. Ошибка Страхова была в том,
что он, приписывая исканиям Толстого положительное влияние на
общество, не хотел видеть, что Толстой, став воинствующим
антицерковным проповедником-сектантом, оказывал, вследствие своего огромного
писательского авторитета, мощное воздействие на поворот
общественных настроений в сторону разрушительного революционерства.
1 Там же. С. 155-156.
1 Аксаков И.С. Переписка. С. 134-137.
л Там же. С. 137-138.
108
Позиция Толстого, утвердившегося в нигилистическом отрицании
Церкви, государства, искусства, раскрылась со всей очевидностью уже
после смерти Страхова. Трудно даже представить, какое мучительное
раздвоение пришлось бы испытать Страхову при осознании очевидного
левого радикализма, философской несостоятельности и кощунствен-
ности толстовских идей. Можно только гадать, смог бы в дальнейшем
мудрейший Страхов отказаться от главной душевной привязанности
всей его жизни или, с присущей ему верностью дружбе, продолжал бы
благородно, хотя и обреченно, стоять на стороне, впавшего в ересь и
отлученного от Церкви друга-гения. И можно только «порадоваться», что
из-за своевременной, в этом смысле, кончины ему не довелось пережить
этого безвыходного страдания.
Конечно, нельзя отрицать, что во взглядах Толстого и Страхова было
немало общего. Страхов ценил в Толстом «заявление самобытной
религиозной мысли»1, так как сам был крайне недоволен застойностью и
формализмом в богословской науке. Он был убежденным противником
религиозной нетерпимости, отрицательно относился к церковному
фанатизму и фарисейству, искренне жаждал религиозной свободы. Он мог
позволить себе высказаться против «церковного фанатизма», когда его
проповедником становился такой известный «христианин», как кн.
Мещерский: «Нет, церковный фанатизм есть проказа, искажающая все в
душе человека»2. При этом он не был ни либералом, ни консерватором,
а искал какой-то свой особый, «царский» путь, ставя идеалом святость,
вечные истины, благородство души и поступков, и будучи вне партий
и группировок, обрек себя на страшное духовное одиночество. Страхов
сетовал на крайности тогдашней печати, на нетерпимость в
общественном мнении: «Когда я говорю против Дарвина, то думают, что я стою за
катехизис; когда против нигилизма, то считают меня защитником
государства и существующего в нем порядка; если говорю против вредного
влияния Европы, то думают, что я сторонник цензуры и всякого
обскурантизма и т.д. О, Боже мой, как это тяжело! И разве я один в таком
положении? Все серьезные люди терпят ту же беду и часто принуждены
молчать. Таково положение России, что между революционерством и
ретроградством нет прохода: эти течения всё душат»3.
16 октября 1879 года Страхов сочувственно писал Толстому по
поводу встречи с архиереями, которые не смогли помочь писателю в его
1 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 819.
2 Там же. С. 759.
' Там же. С. 819.
109
духовных исканиях. Взгляд Страхова на состояние богословия
чрезвычайно мрачен: «Архиереи не помогли — вот вы увидели это жалкое ум^
ственнре состояние. Они люди верующие, но эта вера подавляет их ум и
обращает их рассуждение в презреннейшую софистику и риторику. Он,и
не признают права решать вопросы, а умеют только все путать, все
сглаживать, ничему не давать ясной и отчетливой формы, много говорить
и ничего определенного не сказать. Я ненавижу все эти приемы, хотя
знаю, что при них может существовать дух действительного смирения и
действительной любви. История нашей церкви в этом отношении очень
жалка. Великих богословов, великих учителей — нет, нет никакой
истории, их борьбы, ни развития, ни расцвета, ни падения. Я думаю только
в Индии можно найти что-нибудь подобное этой неподвижности мысли.
Макарий много говорит проповедей, и я внимательно читал все
последние, думая, что на месте митрополита он особенно покажет себя. Все так
сухо и холодно, что тоска берет»1.
В письме к Боголепову он поясняет, почему поддерживает
религиозные искания Толстого: «Мне душно среди этого мертвого молчания,
которое царит в нашей Церкви <...> Церковь мертвеет <...> Церковь
совершенно отделилась от жизни, у нее свой язык, свой смысл для
обыкновенных слов, свои приемы, свои понятия и цели <...> Когда-то было
не так. Ну, словом, христианство состояло в святости, и эту святость
люди и выражали простыми словами и исполняли в своих действиях.
Толстой и вздумал снять с Евангелия церковный покров, церковный тон,
и приблизить его к живому языку. Исполнил он это дурно, неряшливо и
капризно, но в сущности сделал очень много для этой цели»2.
Стремление «подправить» церковные тексты, прояснить их смысл,
сделать богословие более понятным характерно и для самого Страхова,
хотя и в несравненно меньшей степени, чем для Толстого. Так, читая
сочинения Исаака Сирина, подаренные ему в Оптиной старцем
Амвросием, Страхов отвергает книгу, «так как не мог добраться до смысла».
Он берет другой перевод и обрушивается на него за ложный тон
изложения: «...Переводчик не понимал половины того, что переводил, и
очень старался о пышности выражений. Досада меня берет ужасная.
Все ведь это сделки; — для верующих всякая бессмыслица хороша,
лишь бы пахло благочестием»3. Такое мог сказать, конечно, только
религиозный скептик; упрек в поклонении «бессмыслице» отдает явны-
1 Там же. С. 535.
2 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 137.
3 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 1. С. 394.
ПО
ми пережитками рационализма, несмотря на все попытки преодолеть
рассудочное отношение к жизни, понять всю его ограниченность.
Мучительное раздвоение души и рассудка Страхова, мешавшее ему
окончательно прийти к вере, имело те же корни, что и религиозная драма
Толстого.
В Толстом Страхов, признавая бесспорные недостатки его
«богословия» с догматической стороны, ценил превыше всего нравственную
чуткость. То простое и доброе, что он увидел, прежде всего, в «Войне и
мире», смирение как высшее начало (образ Платона Каратаева) —
чистая нравственная красота — влекли его к Толстому. Страхов, однако,
не заметил, как писатель постепенно перешел от идеала смирения к
вульгарному, агрессивному морализму, от пафоса любви к Отечеству к
отрицанию понятия Родины, русской православной веры. Но, несмотря
на разуверения друзей, он по-прежнему верил, что Толстой искренен в
своих исканиях, что его проповедь несет высокий этический идеал.
И происходило это, прежде всего, потому, что нравственный
пафос, обнаруженный им у Толстого, был в полной мере свойственен ему
самому. Исповедуемый им идеал святости имеет в такой же степени
религиозный, как и нравственно-практический характер. И именно
этот нравственный идеал убедительнее, нежели любые рассуждения
на богословские темы, характеризует Страхова как христианина.
О себе он писал: «Что же я делал, собственно, и тогда, и потом, и что
делаю теперь! <...> Я берегся, я старался ничего не искать, а только
избежать тех зол, которые со всех сторон окружают человека. И
особенно я берегся нравственно — совесть у меня слабая, беспокойная:
сделать подлость или несправедливость для меня несносно»1.
Страхову также присущ нравственно-практический подход к вере, но
совершенно чужд горделивый морально-дидактический тон, характерный
для Толстого. Смиренное отношение к себе как великому грешнику,
как духовно слабому существу пронизывает все самохарактеристики
Страхова, и в этом самоуничижении, как подчеркивает Аксаков, не
было «смиренничанья»2.
Страхов был убежден, что настоящей веры можно достичь только
духовной работой над собой, праведными поступками в жизни, служением
ближнему: «Религии нельзя научиться, ее можно только выжить,
приобрести жизнью»3. Розанов отметил одну важную особенность философа:
1 Там же. С. 432.
- Аксаков — Страхов. Переписка. С. 141.
1 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 757.
111
«Страхов знал тайну маленькой любви к близко стоящему»1.
Отличительной чертой его была доброта. «Любить людей — Боже мой, как это,
сладко! — писал он Толстому»2. Служение ближнему, готовность посто/
янно оказывать помощь людям — эти качества органичны для Страхова/.
Он постоянно занят выполнением чьих-то поручений, а все его друзья и
знакомые, от Достоевского и Толстого до Вл. Соловьева и Розанова, не
стеснялись просить его о своих делах, отрывая от творческой работы,
так как считали, что для него, одинокого холостяка, эти «послушания»
не будут слишком обременительны.
В отличие от Толстого, не признававшего чудес и откровений,
Страхов, как это подчеркивает, много беседовавший с ним на самые разные
темы, Розанов, поразил его тем, что, отрицая «аллегоризм» принятия
тела и крови Христа, признавал «чудо»: «Нет — это есть, это — в
самом деле!»3. Несмотря на то, что Страхов был «эстетиком» в
восприятия явлений культуры и жизни, по словам Никольского, он беспокоился
о «книжном» или эстетическом восприятии веры у других. Примером
может служить известный разговор с Розановым о сельском учителе-
подвижнике С.А. Рачинском. Приведем характерные слова Розанова
из некролога Страхова: «Помню, раньше напечатания статьи своей «По
поводу одной тревоги гр. Л.Н. Толстого», я излагал ему доказательства
бессмертия души, там развитые. Он слушал меня нетерпеливо, и когда
я кончил, сказал: «Душа бессмертна не от того, как вы говорите, что она
есть один из принципов бытия и что принципы неразрушаемы, но
потому, что это твердо обещано нам Св. Писанием». Я был изумлен (потому
что подозревал в нем скептика и сказал — что, уже не помню). «Да, да
— обещано и Ветхим Заветом, и Евангелием» — он привел 1-2 текста
на память — «и этого совершено достаточно»».4 Как правильно
подметил Розанов, философски Страхов в отношении веры всё знал и всё
понимал, однако во всем сомневался.
* * *
Представление о Страхове как религиозном скептике, казалось бы,
подтверждается известными сведениями о его кончине. Розанов
рассказывает в книге «Литературные изгнанники», как он понуждал Страхо-
1 Розанов ВВ. Легенда о Великом инквизиторе. М., 1996. С. 442.
2 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 625.
3 Розанов ВВ. Литературные изгнанники. С. 474.
4 Там же. С. 473.
112
ва «всенепременно причаститься» и совершить соборование во время
болезни. Из весьма тенденциозных воспоминаний П. Матвеева вообще
Следует, что он категорически отказался принять причастие. Однако
Цтахеев в письме к Шубинскому опровергает это утверждение
Матвеева как ложное: «И врет он, что Страхов не пожелал перед смертью
исповедоваться. Мне ближе знать, что он говорил в последние минуты, а
говорил он (слабым голосом), что «желает исповедоваться»1. Эти слова
может подтвердить и мой племянник, бывший при нем в предсмертные
его минуты. Племянник мой — теперь — профессор в Одессе по
анатомии2, в случае — можно его спросить и он подтвердит мои слова. За
священником тогда послали, но он уже не застал Страхова в земной
оболочке, а с духом его, освободившимся от тесной темницы, он, конечно,
вести беседу не мог — и ушел ни с чем»3. Таким образом, хотя Страхов
и не причастился перед кончиной, желание причаститься, вопреки
распространенному мнению, им было высказано.
Итак, религиозные взгляды Страхова были сложны, неустойчивы и
противоречивы. Сам Страхов был все время на грани церковной веры
— только о вере постоянно и думал, к ней стремился, но ввиду слабости
воли и склонности к бесконечной рефлексии сам себя останавливал
сомнениями, боязливо таил свои религиозные переживания от других и
оговаривал себя «неверующим». Религиозное горение составляет
скрытый пафос почти всех его сочинений, но при несомненной общей
христианской устремленности, при бесспорном тяготении к православию, у
него не было твердой церковной веры.
Говоруха-Отрок писал в статье-некрологе Страхова: «В «Новом
Времени» приводятся слова об H.H. Страхове одного духовного лица,
«наиболее выдающегося дарованиями и знаниями среди нашей высшей
духовной иерархии». Это духовное лицо, поздравляя покойного с сорокалетием
его литературной деятельности, выразилось в своем письме, что в лице
H.H. Страхова «приветствует просвещеннейшего в России человека»4.
А сам Страхов сообщает в письме к Толстому, что этим духовным лицом
был не кто иной, как еп. Антоний (Храповицкий), и раскрывает важные
1 Таковое желание было выражено в ответ на предложение пригласить
священника с Св. Дарами (примеч. Д. Стахеева).
2 H.A. Батуев (1855—1920). Сын сестры Д. И. Стахеева Анны Ивановны.
< Д.И. Стахеев — С. Н. Шубинскому. 16 апр. 1907 г. // ОР РНБ. Ф. 874. № .
Ед. хр. 111.Л.80 —80об.
1 Говоруха-Отрок ЮН. H.H. Страхов / / Московские ведомости. 1896. 27
января. С. 2.
113
подробности письма: «...называет меня «христианином и старцем», но
больше ничего не говорит о вере — должно быть, понимает»1. Таким
образом, ни близость Страхова с «еретиком» Толстым, ни очевидные его
колебания в вере не помешали виднейшему представителю духовенства
выразить почтительное к нему отношение. \
Ф.К. Андреев, известный исповедник православия 1920-х годов,
в период преподавания в МДА высказал, может быть, наиболее
адекватную оценку взглядов Страхова, «мыслителя тонкого, вдумчивого,
но в высшей степени осторожного в раскрытии своих глубочайших
убеждений»2. Один из студентов академии написал курсовую работу о
религиозных воззрениях Страхова, сделав категорический вывод о его
православности. Ф.К. Андреев в разборе этого сочинения более тонко
и взвешенно оценивает воззрения Страхова, не сомневаясь в наличии
у него вполне определенных религиозно-философских взглядов:
«Непрерывно чувствуется, что у Страхова есть и религия, и философия, но
он боится за их формальные определения <...>. Отношение Страхова
к религиозной и философской истине оказывается тем самым, которое
считается характерным для русской души: истина трансцендентна для
рассудочного сознания. <...> Отсюда и его определение Церкви как
высшего авторитета в вопросах религиозных, отсюда его вера в бытие
невидимого, но реально существующего (души, ангелы), в реальное же
пресуществление вина и хлеба в таинстве Евхаристии. Толстой сильно
склонял его к чистой нравственности, но благоговевший перед его
художественным гением философ, отвернулся от его рассудочного
доктринерства. Страхов мог стать католиком, но протестантизму он враждебен
органически. Остался ли он, однако, православным? Автор настоящего
исследования [т. е. В. Матвеевич. — В. Ф.\ утверждает это
категорически, но такое суждение слишком уж сильно. Страхов безусловно всю
жизнь тянулся к православию, во многом его достигал, но утверждать
«полное признание Страховым православной догматики» его писания не
уполномочивают»3.
Сетуя, что Страхов, как философ, так и не создал своей целостной,
законченной системы, предшественник Андреева по кафедре МДА
проф. Алексей И. Введенский отмечает, что, имея исключительные
способности к анализу явлений, Страхов не обладал даром синтеза, хотя
и указал на то, что его метод исследования имеет в себе нечто сокра-
1 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 1026.
- Андреев Ф.К. Указ. соч. С. 289.
' Там же. С. 287-291.
114
товское: «Опровергая ложные мнения, отклоняя мысль с ложных путей,
он указывает тем самым путь истинный, так сказать подводит к истине,
ставит в надлежащую перспективу, а сам отходит в сторону и как бы
говорит: «Смотри, рассуждение кончилось, и началось ощущение,
видение, — мы вступили в царство живых и конкретных идеалов красоты,
блага и святости»1. В богословии такой сократический прием, как
известно, называется «апофатическим», и именно так можно было бы,
пожалуй, определить страховский метод бережного, осторожного касания
Божественных тайн, превосходящих любое человеческое разумение и
всяческие религиозно-философские системы.
Введенский А. Общий смысл философии Страхова. СПб, 1897. С. 22-23.
115
Беседа 4. Переписка как исповедально
диалогическое пространство
русской культуры
Исповедь — феномен, неповторимая уникальность и
одновременная универсальность которого заключается во внешне невидимой
парадоксальности, в сочетании несочетаемого. С одной стороны,
исповедь не вписывается и не вписываема в конкретные стандартные
мыслительные рамки, с другой — без труда узнается, угадывается в
контексте общечеловеческих душевно— духовных исканий.
Исповедальный текст традиционно воспринимается как монолог, несмотря
на внутренний драматизм и заряженность диалогическим началом.
Исповедь — своего рода типически-нетипичный выплеск душевно-
духовной, внутренней энергии человека. Это каждый раз
неповторимо личностный процесс самоидентификации, который неизменно
повторяется в общемировом культурном пространстве. Исповедальный
текст замкнут и разомкнут одновременно, что позволяет воспринимать
его и как становящееся внутри себя единство, и как универсальное
обращение к человечеству, послание последующим поколениям.
Исповедь следует воспринимать с двух позиций: прежде всего
как церковное таинство, имеющее место в литургической практике;
во втором, расширенном значении — «это особая форма
самовыражения и самопознания, в которой проявляется вся полнота
творческого начала человека»1. Обретя «светский» статус в европейской
средневековой культуре, исповедь начинает восприниматься как
религиозно-художественный текст, заключающий в себе архетипиче-
ские эмоционально-мыслительные конструкты. Второе определение
исповеди позволяет нам, во-первых, глубже проникнуть в сложную
внутреннюю структуру исповедального дискурса, во-вторых, проследить
процесс преломления исповедального начала в отечественной культуре
и литературе.
Сложная, неоднозначная психологическая и мыслительная
наполняемость исповеди позволяет трактовать ее как концепт, в котором можно
выделить три ключевых понятия:
1 Тарасов П.Г. Исповедальное начало в христианском мировоззрении. Автореф.
дис. канд. филос. наук. Белгород, 2008. С. 3.
116
I ) исповедальность как особое неустойчивое психологическое
состояние, наступающее в определенное, но не программируемое время, которое
можно назвать «временем исповеди» или «исповедальным временем»;
2) исповедальное начало как некий универсальный творческий
механизм (способ) воплощения этого состояния;
3) исповедь как литературный текст, сочетающий в себе самые
разнообразные жанровые формы — от исповедального плача до
психологического дневника; и шире — как текст жизни.
Теперь скажем подробнее о каждом из них.
Исповедальность — промежуточное (не жизнь и не смерть или
между жизнью и смертью), амбивалентное по своей природе
психоэмоциональное состояние, которое одновременно включает в себя
душевную потерянность, разлад с самим собой, трагическую
внутреннюю раздвоенность, отсутствие целостности и неистребимую жажду
(страсть) самообретения, колоссальную интеллектуальную
напряженность и устремленность в поиске устойчивых жизнетворящих
доминант. Это состояние наступает в особое время — духовного кризиса,
«остановки жизни» (Л.Н. Толстой), перестройки всей внутренней
жизни, перехода из одного состояния в другое. Это время плача, омовения
слезами собственной души, время предельной искренности и правды,
когда человек мучительно пытается сказать самому себе кто он, зачем
живет, в чем смысл его существования. В.Л. Рабинович называет это
время «бытийственным мигом». Это время, когда «миг объемлется
вечностью. Вечность полнится мигом. Но мигом особым: обращения,
покаяния, смерти, мигом, в котором прозревается посмертное воздаяние...»1.
Этот миг фокусирует всю силу и полноту человеческого самопознания.
Об этом времени в разных историко-культурных контекстах
рассуждают и Августин Блаженный, и Н.В. Гоголь, и Л.Н. Толстой.
Августин Блаженный «Исповедь»: «И вот пришел день, когда я встал
обнаженным перед самим собой, и совесть моя завопила...»; «И чем ближе
придвигалось то мгновение, когда я стану другим, тем больший ужас вселяло
оно во мне, но я не отступал назад, не отворачивался, я замер на месте»2.
Н.В. Гоголь «Авторская исповедь»: «Все более или менее
согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо
прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на
ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не
1 Рабинович В.Л. Урок Августина: жизнь — текст // Августин Аврелий.
Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 1992. С. 249.
* Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. М.,
1992. С. 107, ПО.
117
вне, а внутри себя... Всяк более или менее чувствует, что он не
находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает,
в чем именно должно состоять это желанное состояние...»1.
Л.Н. Толстой «Исповедь»: «Так я жил, но пять лет тому назад со мной
стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить
минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне
жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние»; «Жизнь моя
остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть,
не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний,
удовлетворение которых я находил бы разумным»2.
Остановка ли это или тревожное движение, но в любом случае это
время пристального вглядывания в самого себя и строгого анализа
собственной души, время поиска и обретения спасительной веры.
Исповедальное начало традиционно ассоциируется, прежде всего, с
автобиографизмом (автобиографическим моментом,
автобиографическим подтекстом, автобиографическими мотивами и т.д.) и той долей
искренности (принцип искренности — основополагающий), с которой
автор повествует (вспоминает) о своей жизни, а также глубиной и
серьезностью сопутствующего психологического анализа.
Действительно, нет ни одного исповедального текста без
автобиографической основы. И все же, является ли автобиографизм
единственным критерием, определяющим исповедальное начало? Если говорить о
писательской автобиографии, то необходимо учитывать некую зыбкую
грань между авторской литературно-художественной интерпретацией
собственной жизни и документальной автобиографией. Сочетать
автобиографизм, даже основанный на достоверных фактах, с исповедально-
стью, не впадая в сочинительство, «литературность», страшно тяжело,
так как исповедь предполагает не просто некий уровень самообнажения
(«и без кожи и в коже», как у Ж.-Ж. Руссо), но и мучительный процесс
самообновления, самосозидания, обретения потерянной целостности.
«Искание истины» (Л.Н. Толстой) и искание самого себя в
исповедальном тексте совпадают. Автобиографический же экскурс, столь важный
для структуры исповеди, скорее всего является подходом, неким
фундаментом для исповедальности. Важно, «чтобы ретроспектива стала
перспективой созидания самого себя из себя же самого»3.
1 Гоголь Н.В. Авторская исповедь /Собр. соч., в 8-ми т. Т. 7. М., 1984.
С. 453-454.
- Толстой Л.Н. Исповедь /Поли. собр. соч., в 90 т. Юбил. изд. Т. 23. М. — Л.,
1928-1958. С. 10-11.
J Рабинович В.Л. Там же. С. 257.
118
Собственно исповедальный текст как бы «зависает» между
прожитой жизнью и ее переосмыслением, между неправедностью
(неправильностью) былого и праведностью искомого нового Смысла, нового
Слова о себе и о жизни. Исповедь — роковой «промежуток», заполненный
судьбоносными вопросами и ответами, вопрошаниями об утерянном, но
еще не обретенном смысле бытия. Исповедальное начало становится
универсальным «способом прояснения человеком своего бытия»,
уникальным опытом самопознания. По сути, исповедальное начало — это и
есть творимый на наших глазах диалог о смысле жизни, а исповедальное
Слово — творящее, созидающее это диалогическое, полное сомнений,
борьбы, самоанализа, становящееся пространство.
Онтологическая глубина исповедального слова исключает
пустословие, отрицает какую бы то ни было «литературность» (игру, позу,
театральность, стилизацию, пародию). При этом исповедальное слово глубоко
субъективно — поэтично, оно божественно, «светозарно» (В.Л.
Рабинович), его поиск и обретение есть сверхзадача исповедального текста. Для
ее выполнения необходима личная, просветляющая работа души, ее
индивидуальный опыт, который тем убедительнее, чем глубже и правдивее он
«проживается» и «переживается» именно в исповеди.
Если исповедь — творческий акт само-становления,
самосложения, само-собирания, то логической ее основой становится
непрекращающийся внутренний диалог. В исповеди как изначально
творческом пространстве неизменно предполагается наличие «другого»,
собеседника (умозрительного, метафизического, подсознательного,
реального). Исповедь начинается с «великого спора во внутреннем дому»
(Августин Блаженный). Истоком само-обретения становится
«исповедание себя перед самим собой», «общение с собой, как с другим», умение
«высветлять — мастерить себя в качестве себя — чужого объекта»'.
Феномен исповеди заключается в том, что она фиксирует, запечатлевает
самый процесс мышления как творчества (B.C. Библер). Продуктивным
движущим началом исповедальности становится не только способность
взглянуть на себя со стороны, объективировать самого себя, но и
вступить в диалог-спор с самим собой. «Спор этот шел в сердце моем: обо
мне самом и против меня самого»2. Затем этот внутренний диалог
«обрастает» голосами, раздающимися извне (небес или земли, мудреца или
обывателя).
Внутри исповедального текста созидается многоголосое
пространство, требующее покаянного самообнажения не только перед Богом, но
1 Рабинович В.Л. Там же. С. 236, 257.
' Августин Аврелий. Там же. С. 111.
119
и перед лицом многих свидетелей, перед судом людским. С этого
момента исповедь наполняется назидательным, учительским,
проповедническим пафосом, а найденное, спасительное Слово становится активным,
действенным.
Таким образом, исповедальное начало глубоко диалогично. Оно не
сводится и не сводимо только к автобиографизму. В связи с этим истоки
исповедального начала следует искать не только в автобиографических
повествованиях и мемуарах, но и в дневниках, а также в переписке —
промежуточном жанре, в котором изначально наличествует Собеседник.
Исповедь многосоставна по своему жанровому наполнению.
Анализируя «Исповедь» Августина Блаженного, В.Л. Рабинович увидел в ее
авторе парадоксальное сочетание и ученого-лирика, и учителя-псалмопевца,
и поэта-гимнотворца. Ученый проявляет в классической исповеди
наличие и сложное сочетание разных жанров: исповедального плача,
который превращает исповедь в «поэму плача»; учительскую проповедь и
дневник одинокой, уникальной души; научный педагогико-религиозный
трактат и автопортрет поэта. Великое лирическое «Я» Августина
сполна вмещает слово об этом многоликом «Я». Густая жанровая
наполняемость исповедального текста весьма показательна и свидетельствует об
особом исповедальном языковом синтезе, способном к разнообразным
трансформациям и проявлениям в отдельных литературных и рубежных
жанрах — письмах, дневниках, автобиографиях, воспоминаниях.
Многообразная целостность исповедального текста подобна самой жизни.
Исповедь и есть текст жизни. Исповедальный текст — поистине
словотворческая лаборатория, в которой внутренний человек обретает себя в
Слове и через Слово.
Исповедальное начало с наибольшей интенсивностью проявляется
в русской литературе вслед за европейской лишь в конце XVIII века,
и происходит это, прежде всего, в так называемых «пограничных
видах литературы — в письмах, дневниках, мемуарах, автобиографиях»1.
Намеченная тенденция развития исповедального начала — от
документальных жанров к собственно художественной психологической
прозе — чрезвычайно важна. Знакомство с сочинениями Ж.-Ж. Руссо,
с европейскими сочинениями исповедального типа, с «Исповедью»
Августина Блаженного только усилило и углубило те процессы, которые
постепенно складывались в недрах русской литературы. Особенно
актуальным представляется разговор о переписке как об одном из
важнейших документальных первоисточников исповеди. Наличие во всех
перечисленных «пограничных» жанрах автобиографического элемента
1 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 76.
120
способствует, с точки зрении Н.Д. Кочетковой, развитию
исповедального начала1. Однако исповедь зиждется не только на автобиографической
основе. Исповедальное слово рождается в диалоге (полилоге), оно не
может быть обращением в пустоту. В исповедальном тексте всегда
незримо присутствует Другой, Собеседник, другое начало моего «Я». Без
всепроникающего диалогического начала исповедь теряет жизнетворя-
щую, созидающую силу и энергию.
Между тем, необходимо отметить, что кульминация в развитии
отечественной эпистолярной культуры наступает только в XVIII —
первой трети XIX века, когда частная переписка начинает восприниматься
как факт литературы2. Непосредственное влияние на отечественную
эпистолярную литературу западноевропейской романистики, успевшей
ввести исповедальность в разнообразные художественные жанры,
очевидна. В это время наметилась совершенно иная тенденция развития —
от художественной литературы к письму. «"Романами" называли свою
переписку, восходящую к литературе, питающуюся ею, люди XVIII в.,
чьи письма, не переставая быть средством связи, документом частной
жизни, превращались в форму самопознания, самовыражения
личности, форму освоения действительности»3. Теперь «литературность»
обволакивает переписку, превращая ее в подобие литературной игры,
а исповедальность облекается в форму художественных упражнений,
становится «книжным» способом чувствования и самовыражения.
Исповедальность, подчиненная литературной моде, становится предметом
пародирования. Ярким примером такой пародии может быть «Моя
исповедь» Н.М. Карамзина, который подвергает сомнению важнейший
принцип «исповеди» — предельную искренность. С другой стороны, опыт
дружеской переписки остается благотворным, ничем не заменимым
способом самопознания. Без дружеской переписки трудно представить
дальнейшее развитие феноменальной русской психологической
литературы с ее философской глубиной и всепроникающей исповедальностью.
Мода на исповедальность не смогла поглотить главное — неистребимую
потребность «объяснять себя», раскрывать, распахивать душу перед
сочувствующим, понимающим Собеседником. Исповедальные
эпистолярные беседы на протяжении длительного времени остаются уникальной
сферой, проявляющей специфичность национального самосознания.
; Кочеткова Н.Д. «Исповедь» в русской литературе XVIII в. // На путях к
романтизму. Л., 1984. С. 71-99.
■■' Тынянинов Ю.Н. Литературный факт. М., 1993. С. 121-137.
{ Лазарчук Р.Л. Переписка Толстого с Т. А. Ергольской и A.A. Толстой. //
Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 86.
121
Русскому человеку, как воздух, необходимо исповедальное общение.
Западноевропейская традиция, представляющая исповедь как апологию
собственной личности, не прижилась, не привилась на национальной
почве, несмотря на увлеченность, поглощенность западной
сентиментальной литературой. Этому способствовала и устоявшаяся, веками
складывающаяся эпистолярная традиция, проявившаяся в огромном опыте
древнерусских письмовников, челобитных, княжеских посланий.
Другой путь к эпистолярной исповедальности связан с агиографи-
чески-автобиографической традицией. Жития святых на долгие века
стали главным воспитывающим чтением русского человека. Наиболее
ярким примером проникновения диалогического начала в
автобиографическое повествование может служить «Житие» протопопа Аввакума.
Исповедальное начало в этом житии неоднократно отмечалось
исследователями1. Однако хотелось бы заострить внимание на своеобразном
диалогическом проявлении исповедальности в этом тексте. «Житие»
Аввакума не просто «вырастает» из разнообразной переписки опального
протопопа, оно органично вбирает, ассимилирует ее в своей структуре.
Тринадцатилетнее «земляное» узничество Аввакума, наполнено
общением, пересылкой разного рода посланий. Шли Аввакумовы «посланейца»
из пустозерской тюрьмы и к жене с сыновьями на Мезень, и к
единомышленникам, и просто сочувствующим, и к врагам, и к царю. Легко
доходили, при всеобщем тайном сочувствии, и ответные вести в виде
писем и гостинцев. «И чем суровее становился взятый на себя Аввакумом
подвиг, чем меньше оставалось надежды выйти из-под земли на свободу,
тем чаще, благоговейнее звучат запросы, тем нетерпеливее ожидают
на них повсюду ответов, чем авторитетнее эти ответы, тем они, в свою
очередь, многочисленнее»2. «Мне веть неколи плакать, — признается в
те годы Аввакум,— всегда играю со человеки... В нощи что соберу, а в
день и разсыплю»3. Написанное за ночь рассылалось в виде поучений,
посланий, толкований в разные концы России. Уникальное Аввакумово
житие изменялось, подновлялось по ходу этой переписки.
Исповедальное слово Аввакума не замкнуто на себе, оно открыто публицистично,
полемично, диалогично. Это слово — не только сокрушающий плач —
обращение, душевный вопль, предчувствующего страшную кончину
страдальца, который должны услышать все, но и громогласный призыв
1 Демкова НС. Житие протопопа Аввакума. Л., 1974; Робинсон А.Н. Борьба
идей в русской литературе XVIII века. М., 1974; Лихачев Д. С. Человек в
литературе древней Руси. Л., 1970.
- История русской литературы, в Ют. Т. II. Ч. 2. М., 1948. С. 305.
3 Цит. по кн.: История русской литературы. Т II. Ч. 2. С. 305.
122
к борьбе, непрерывный спор-диалог. Уникальность этого текста в том,
что житийный канон перерастает в автобиографию, ставшую первой
литературной исповедью. Но в этой исповедальной автобиографии,
несмотря на всепроникающее личностное отношение ко всему, нет
индивидуализма. Все происходящее за пределами «земляной» тюрьмы полно
для Аввакума жгучего интереса. По сути, Аввакум ведет единственный
в своем роде диалог со всей Россией. При этом он пишет как бы беседуя,
обращаясь всегда не к отвлеченному, а к конкретному читателю так,
как будто этот читатель стоит здесь же, перед ним. Форму свободной и
непринужденной беседы сохраняет Аввакум повсюду. «Досифей, а До-
сифей! Поворчи, брате, на Олену-ту старицу: за что она Ксеньку-ту,
бедную, Анисьину сестру, изгоняет?». Иногда Аввакум ведет свою беседу
одновременно с несколькими лицами, переводя речь от одного
собеседника к другому. Житие Аввакума многоголосо, полифонично, несмотря
на то, что собеседники его молчат... «Своими собеседниками Аввакум
ощущает не только читателей, но и всех, о ком он пишет. Пишет ли он о
Никоне, о Пашкове, о враге или друге, — он обращается к каждому с
вопросами, насмешками, со словами упрека или одобрения. Даже к Адаму
он обращается как к собеседнику: «Что, Адам, на Еву переводишь?» (т.е.
сваливаешь вину). Он беседует и с человеческим родом: «ох, ох бедныя!
Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев?» Даже
дьявола он делает своим собеседником: «Добро ты, дьявол, вздумал»1.
Все излить, все высказать, ничего не утаить, быть искренним до конца
— вот к чему стремится Аввакум, торопясь выговориться, освободиться
от переполняющих его чувств. Исповедальный текст Аввакумова
«Жития» воспринимается как уникальное послание ко всему роду людскому
и заключает в своем диалогическом свободном пространстве
непреходящий смысл бытия.
Двести лет спустя после Аввакумова «Жития» рождается книга, в
которой исповедальное начало вновь органично включено в систему
писем. Это «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя.
Если «посланейца» Аввакума с трепетом ожидали и сочувствующие, и
враги, то книгу Гоголя сочли заблуждением и блужданием автора,
проявлением его болезненного состояния. «Почти в глаза автору стали
говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от
умственного расстройства»2. Метаморфоза, произошедшая с Гоголем, была
поразительна для всех, но только не для самого писателя, переживавшего
: История русской литературы. Т. II. Ч. 2. С. 317.
' Гоголь Н.В. Авторская исповедь // Н.В. Гоголь. Собр. соч. М., 1984. Т. 7.
С. 434.
123
в пору создания писем творческий кризис и мучительную внутреннюю
духовную перестройку. Смеющийся, саркастический Гоголь для
читающей публики вдруг превратился в человека, охваченного лишь
собственной болезненностью, предчувствием собственной смерти и видящего в
российском бытии лишь скуку, тревогу, кризис, надвигающуюся
катастрофу. И на этом, разъединяющем всех и вся фоне, раздавался голос
Гоголя-проповедника, указующий соотечественникам из римского
далека «путь спасения». Это звучало утопично, курьезно, наивно в устах
того, кого совсем недавно считали властителем дум и несокрушимым
критиком существующего порядка. Гоголя в его предсмертных
исповедальных письмах-беседах соотечественники, за редким
исключением, совершенно не поняли и не приняли. Гоголь был вынужден, вслед
разгорающимся беспощадным толкам о себе самом, писать последнее
письмо-обращение, которое уже после его смерти было названо
«Авторской исповедью».
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» не увидели, не
почувствовали и не приняли самого главного — исповедальности. «Как
бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть из-
лиянье и души и сердца моего»1. Для нас, прежде всего, важен вопрос о
том, почему Гоголь в тяжелейшем состоянии потери и обретения себя
избирает эпистолярную форму? С одной стороны, это объясняется
тем, что Гоголь находится в Риме и ему необходима самая
разнообразная информация о России, думы о которой остаются
основополагающим смыслом его существования, его творчества. С другой стороны,
именно письма становятся наиболее органичной формой для
самопознания и самовыражения. Эпистолярную форму обращения к друзьям,
а в их лице и ко всей России, Гоголь объясняет сам в главе XVI
«Советы (Письмо к Щ ву)»: «Посреди моего болезненного и трудного
времени, к которому присоединились еще и тяжкие страдания душевные, я
должен был вести такую деятельную переписку, какой у меня никогда
не было дотоле. Как нарочно, почти со всеми близкими моей душе
случились в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то
инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только узнал
я близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только
хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе
понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум
проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся
тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. В последнее
время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти вовсе
1 Гоголь И.В. Авторская исповедь. С. 435.
124
незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать
прежде. А между прочим, я ничуть не умней никого»1.
В письмах, по сути, и рождается просветляющее и высветляющее все
и вся исповедальное начало. Процесс создания писем формирует то
диалогическое творческое пространство, которое провоцирует Гоголя к
необходимости «всматривания» в самого себя, превращения себя в объект
психологического анализа. И наоборот, «выстрадавшись»,
исповедавшись, Гоголь чувствует моральное право наставлять, советовать,
проповедовать. Исповедальное, диалогическое в своей основе, начало
оказалось, как пишет в этом же письме Гоголь, «обоюдоострым»: «...обрати
в то же время к самому себе и то же самое, что посоветовал другому,
посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому,
сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже
не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя
самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием
обоюдоострым! ... Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей
всегда в предмете себя прежде всех»2.
Гоголь сам неустанно самоопределяется в ходе переписки. Именно
это эпистолярно-диалогическое самоопределение позволяет ему
совершать решительные поступки. Самым поразительным становится
сожжение второго тома «Мертвых душ». Но прежде чем «сжечь пятилетний
труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая
строка досталась потрясеньем»3, Гоголь в главе XVIII («Четыре письма
к разным лицам по поводу «Мертвых душ») пытается сначала
«определить» корреспондентам «себя самого как писателя», а затем — свою
собственную душу, свою внутреннюю человеческую суть: «На твой умный
вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще
никому. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой
же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я
ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку,
как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от
добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет
бог»4. Более того, в этом же письме Гоголь описывает творческий процесс
преодоления собственных «мерзостей». Он как художник наделяет ими
1 Гоголь НЕ. Выбранные места из переписки с друзьями. // Собр. соч. Т. 7.
С. 248-249.
- Там же. С. 249.
1 Там же. С. 265.
' Там же. С. 264.
125
собственных героев, «обсмеивая их в них и заставляя других также над
ними посмеяться». Словом, теперь Гоголь везде и во всем поверяет себя
исповедальностью перед Богом и людьми. Таким образом,
исповедальное начало становится необходимым для самостояния, самообретения
и преодоления творческого кризиса. «Выбранные места из переписки с
друзьями», по сути, должны были стать перевалом Гоголя-художника и
человека на новый уровень жизни и творчества.
«Исповедь» в классическом ее виде впоследствии удалось создать
только Л.Н. Толстому, который был хорошо знаком и с западной, и с
отечественной исповедальной традицией. К своей «Исповеди» он
подошел в результате сложнейшей творческой эволюции, однако
формирование исповедального начала обнаруживается прежде всего в
дневниках и письмах Толстого. Многолетняя переписка с H.H. Страховым
в этом смысле становится уникальным документом, предшествующим
«Исповеди».
Переписка Л.Н. Толстого и H.H. Страхова продолжалась двадцать
шесть лет и насчитывала 467 писем. Исследовательский интерес к
переписке обусловлен необходимостью проникновения в глубинную природу
творческого диалога, который, при определенном «единстве воззрений
на жизнь», «на известной высоте душевной не соединяет, как это бывает
в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого
независимым и свободным»'.Здесь мы имеем дело с диалогическим
процессом «высвобождения» той духовной энергии, которая необходима
обоим в сложный период их творческих исканий.
Структура переписки прозрачна и сложна одновременно. Ее внешняя
канва, несмотря на многоаспектную насыщенность и разноплановость,
может рассматриваться с точки зрения разных эпистолярных уровней,
которые формируются и развиваются по ходу жизненных обстоятельств
и отражают не только личные, творческие контакты Толстого и
Страхова, но и эпохальные перипетии. Переписка носила одновременно и
деловой, и информационно-публицистический, и глубоко дружеский
характер. Каждый из уровней переписки, безусловно, заслуживает
отдельного исследования, так как, по словам A.A. Донскова, их переписка
представляет собой «незатронутый источник».
С нашей точки зрения, переписка интересна как обоюдный,
глубоко творческий процесс взаимного постижения, проникновения во
внутренний ход мыслей и чувств друг друга. «Занят я Вами беспрестанно»
1 Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки в двух томах.
Группа славянских исследователей при Оттавском университете и
Государственный музей Л.Н. Толстого, 2003. Далее цитируется: том, страница.
126
(т. 2, с. 759]; «Но что бы я ни делал, я всегда о Вас думаю...» [т. 2, с. 7841;
«Всегда от Вас я получал освежение, всегда Ваши речи и все Ваше
присутствие подымали меня; много я о Вас думаю и много люблю Вас и потому
видеть и чувствовать Вашу душевную жизнь лицом к лицу — для меня
большая радость, сильно меня трогает и оживляет» [т. 2, с. 792], — пишет
Страхов Толстому. Открываться перед Толстым «как на духу» становится
жизненно необходимым для философа. «Ваша внутренняя жизнь всегда
меня очень интересует и представляется мне значительной очень,
несмотря на внешнее ее однообразие |т. 2, с. 1004), — пишет Толстой Страхову.
Толстой вдумывается «в те душевные особенности» друга, которые, как
ему кажется, «он знает по себе» [т. 2,с. 998]. И продолжает: «На то только
мы, любящие друг друга люди, и нужны друг другу, чтобы общаться духом»
[т. 2,с. 698]. Необходимым становится не только обоюдное всматривание,
распознание внутреннего состояния, но и постоянное, заинтересованное
обсуждение творческих достижений друг друга; требование не только
похвал и лестных отзывов, коими изобилуют письма Страхова, но и жесткой
критики и самокритики, на которой настаивает Толстой. Речь в данном
случае идет не столько о внутренних совпадениях и согласованности
«одних и тех же взглядов на жизнь» (в таком случае истинно
творческого диалога, безусловно, не получилось бы), сколько о преодолении в
переписке всякой умышленности, искусственности, этикетности,
мешающей распознанию «чужого» и «родного», «сближающего» и
«разделяющего». Тут мы имеем дело с особым уровнем переписки, с ее внутренней
интригой, раскрывающейся только в текстах писем. Проникновение в
этот исповедальный, духовно-интимный слой переписки представляется
нам первостепенным, так как позволяет неформально представить весь
сложнейший комплекс идей и проблем, мучительно решаемых в этот
переходный, кризисный для обоих период. Поиск и освещение духовно-
нравственных основ жизни в доступных научному познанию пределах и
рамках, либо разрушение их и переживание этого процесса внутри себя
и для себя — вот основная смысловая оппозиция, на которой
выстраивается внутренняя коллизия переписки художника и ученого.
Интенсивность и глубина внутренних исканий продиктована необходимостью
обретения чувства истинности жизни, поиском «сердечного знания»,
исключающего фальшь, искусственность, претенциозность, пафосность,
«чуждость» которым ощущает и Толстой, и Страхов. «О, риторика! тебя
ничем и никогда не выжить. Всегда только как редкое исключение будут
некоторые писать, остальные же сочинять [т. 1, с. 98], — писал
Страхов Толстому. Сочинительство чуждо переписке, сориентированной на
разговор о главном, существенном: «...сначала о так называемых делах,
127
т.е. о пустяках, а потом не о делах, т. е. о существенном» [т. 1, с. 14|, —
так начинает одно из первых писем к Страхову Толстой. Существенным
является вопрос о смысле жизни, путях его постижения и реализации.
На протяжении всей переписки он остается стержневым и
определяющим ее динамику. Специфику этого судьбоносного для обоих диалога
определяет то, что в нем участвуют глубоко симпатизирующие друг
другу, близкие по мироощущению, но совершенно разные по натуре
личности: активный, деятельный, бесстрашный субъективист-Толстой, для
которого его «я», смысл его жизни становится отправным, и
объективный мыслитель Страхов, для которого собственное «я» не представляет
никакого интереса, а его личная жизнь никак не вписывается
(поначалу) в русло столь важного разговора.
К началу переписки и Толстой, и Страхов уже состоявшиеся
творческие личности, за плечами которых почти 50 лет жизни; оба испытывают
глубокую неудовлетворенность окружающим и собой; оба нуждаются в
«задушевном» собеседнике, способном понять, вникнуть во внутренние
переживания и размышления Другого. Абсолютная непохожесть
Толстого и Страхова чрезвычайно важна для понимания творческой
природы диалога, развития его внутренней коллизии, которая, собственно, и
является главным предметом нашего осмысления.
К моменту переписки один, H.H. Страхов, — профессиональный
философ-естественник, уже написавший книгу «Мир как целое.
Черты из науки о природе», известный литературный критик,
вынужденный зарабатывать журналистской деятельностью; петербургский
интеллигент со своим кругом общения и образом жизни; ученый аскет
(у H.H. Страхова никогда не было ни жены, ни детей); спокойный
мудрый созерцатель, аналитик, «стоящий около «вечных истин»; человек
тихий, не рвущийся, не призывающий, не патетический, погруженный
в мир книг, вечно читающий и вечно продумывающий и додумывающий
чужие мысли, но составляющий, как отмечал В.В. Розанов, из всего
этого «свою оригинальную, неповторимую, внешне неяркую
мыслительную вязь»'. Отмечаемая Розановым «способность рассматривать
чужие труды в отношении к самим писателям, как показателей их
внутреннего настроения»2, не раз выделялась и Толстым. Важно для нас,
что именно эта способность погружаться «в чужое» делает Страхова
идеальным собеседником, прежде всего заинтересованным в
понимании другого. Однако эта черта, столь ценимая Толстым, удовлетво-
1 Розанов ВВ. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., Аграф,
2000. С. 17.
2 Там же.
128
ряет его лишь до определенного момента. Если бы Страхов остался на
позиции только восторженного поклонника, смиренного слушателя и
объективного созерцателя, то истинный диалог между ними наверняка
бы не состоялся. Хочется отметить еще одно замечательное качество,
позволившее Страхову-мыслителю вступить в столь длительное и
плодотворное общение с Толстым: это его необыкновенное художественное
чутье, позволяющее охватывать интересующее его целостно, в полноте.
Именно целостность художественного воплощения покоряет, удивляет,
как чудо, и влюбляет Страхова-философа в Толстого-художника раз и
навсегда. Не менее важно, что Страхов одним из первых, воочию,
распознал в Толстом пытливого, самобытного и бесстрашного мыслителя,
которого он никогда не отделял от Толстого-художника. Именно это
понимание, несмотря на осознание выпирающего, «голого нравоучения»,
«голого рассуждения», позволило Страхову воспринимать Толстого
органично, не расчленяя его монолитную жизнетворческую сущность на
несовместимые ипостаси. Другой, Л.Н. Толстой, к началу переписки
— прославленный писатель, землевладелец-аристократ, ведущий
независимый и кажущийся нерушимым патриархально-усадебный образ
жизни; человек активный, неутомимо деятельный, пробующий и
проявляющий себя в разных жизненных и творческих ипостасях —
помещика, семьянина, общественного деятеля, педагога, писателя. Важно, что
к этому моменту Толстой уже пережил Арзамасский ужас, «заглянул
в бездну», прочувствовал глубокую неудовлетворенность от всей
прожитой жизни и готов к внутреннему перевороту, о котором он сразу
сообщает Страхову: «Я нахожусь в мучительном состоянии сомнений,
дерзких замыслов невозможного или непосильного и недоверия к себе и
вместе с тем упорной внутренней работы» [т. 1, с. 9]. Тем не менее, как
отмечает Б.М. Эйхенбаум, творческим стимулом Толстого 70-х годов
является «непрерывное вмешательство, непрерывное воздействие,
непрерывная жизнеустроительная деятельность... до конца и без всякой
боязни собственного дилетантизма»1, собственных, личных первооткрытий
давно открытого и при этом «безусловно-художественный гений»,
умудрившийся это «свое» — внутренне суверенное — сделать всеобщим,
абсолютно интересным для всех. В художестве это «я» и «мое» вбирает в
себя все многообразие русского мира, о чем не раз и в разных формах
писал и говорил Толстому Страхов. В частности, он писал: «Когда русского
царства не будет, новые народы будут по «Войне и миру» изучать, что за
народ были русские» |т. 1, с. 98]. С самого начала переписки и непосред-
1 Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., Художественная
литература, 1974. С. 29.
129
ственного знакомства Страхова поразила «сила внутренней жизни»
писателя: «Ваши мысли волнуют Вас так, как будто Вам не 50, а 20 лет...»
[т. 2, с. 530]. Вместе с тем, жизнетворен, самодостаточный монологист
Толстой, как никогда ранее, нуждался в собеседнике.
Таким образом, абсолютная непохожесть Толстого и Страхова не
только не мешала диалогическим отношениям, но стала питательной
почвой для их плодотворного развития. Страхов в своем исповедальном
письме отмечал: «Присматриваясь к людям, я наконец замечаю и то, что
в них много тех самых черт, которые я готов был считать своею
особенностью, и тогда, рассматривая себя в них (курсив мой — И. С),
начинаю смотреть на себя иначе, чем в том хаотическом и печальном «свете»,
в котором обыкновенно созерцаю собственную фигуру» |т. 2, с. 543|.
В своем исповедальном саморазоблачении перед Толстым Страхов, по
сути, определяет «механизм» творческих диалогических отношений:
необходимость взглянуть на себя, самоопределиться через призму
другого; увидеть себя в другом, чтобы вернуться к себе, чтобы окончательно
ощутить свою самобытность. Внутренняя жизнь каждого, и Толстого и
Страхова, становится тем психологическим зеркалом, взглянув в
которое, возникает неистребимая потребность в самоанализе, в
окончательной самопроверке и самоопределении. Именно поэтому Толстому 70-х
годов нужен не только Страхов — проникновенный слушатель и
умнейший собеседник, но и Страхов— исповедально саморазоблачающийся.
Исповедальность становится, с нашей точки зрения, той внутренней
основой, на которой и из которой вырастает все остальное, вся
сложнейшая умственная и духовная работа каждого. Прежде чем определиться
по отношению к окружающему миру, к науке, философии, искусству,
религии, необходимо самоопределиться, и этому самоопределению
способствует «погружение» в другого. Уникальность переписки в том,
что она запечатлела не только толстовский путь к «Исповеди», но и
«исповедальное развитие» Страхова. Это страховское исповедальное
саморазоблачение инициирует Толстой, который и становится его
«исповедником». Именно перед ним абсолютно не сосредоточенный на себе
Страхов «омывает свою душу» и считает его «судьей, перед которым ни
за что не хотелось бы провиниться» [т. 2, с. 775]. Однако исповедальные
признания не превращают мягкого и податливого Страхова в
марионетку в «руках» мятущегося, мощно преображающего себя и окружающее,
Толстого, но в определенном смысле укрепляют его духовно, помогают
обрести внутреннее самостояние. В этом, думается, и заключается вся
благотворная сила и тайна творческих диалогических отношений, столь
ярко проявляющихся именно в переписке.
130
Осветить переписку Толстого и Страхова в полноте и сложности
исповедального начала не представляется возможным в пределах
статьи. Однако мы попытаемся, по возможности, показать зарождение и
развитие исповедального начала в переписке. С самого начала Толстой
определяет некий уровень диалогических отношений со Страховым.
В разговоре «о существенном» должна, по его мысли, возникать не
столько близость, сколько чуждость, независимость и свобода. Именно это
состояние Толстой испытал с Ф.И. Тютчевым и H.H. Страховым,
«чуждыми путешественниками», повстречавшимися ему «на этой пустынной
дороге» [т. 2, с. 1415]. Однако сам Толстой не выдерживает сухой
отстраненности и объективной холодности чисто интеллектуального общения.
Он слишком возбужден, мучается внутренними сомнениями, жаждет
сокровенного, исповедального разговора. Сдвиг в отношениях начинается
после прочтения Толстым книги Страхова «Мир как целое».
Естественнонаучную работу Страхова Толстой воспринимает субъективно, ему
«не хватает нравственного смысла в книге (указания на идею добра)»
|т. 1, с. 92]. Страхов моментально, будто ожидая именно этого
замечания, откликается: «О, как бы я хотел иметь точные формулы для Вашего
взгляда, для мысли о нравственной цели мира, и как бы хотел видеть
отношение этой мысли ко всему, что есть в моей книге и... от чего я не могу
отказаться!» [т. 1, с. 92]. С этого момента в переписке разворачивается
диспут о методе познания сущности жизни, о роли философии, науки,
религии в постижении ее смысла, о возможности или невозможности
примирения научно-объективного и духовно-субъективного в
понимании своего «я». Однако в марте 1875 года, в пору интенсивного писания
и печатания «Анны Карениной», Толстой пишет Страхову: «Вы думаете,
что я о себе одном думаю. Напрасно. Я чувствую людей, которых я
люблю, и я чувствую вас и знаю, что в вас в эти два года... многое выросло
внутри, и я догадываюсь, но мне хочется подробно узнать, ощупать, что
и куда?» [т. 1, с. 205]. Страхов из Рима откликается: «Но я писал Вам все
о Вас, да о Вас потому, что искренно вхожу в Ваши интересы и мысли.
Я поступаю так почти со всеми, даже иногда с пустейшими людьми... Но
что правда, то правда; я от Вас скрывался, я не был откровенен, говоря
о самом себе. Отчего же? Скажу прямо — мне было стыдно открывать
Вам то уныние, тот упадок духа, которые овладели мною...» [т. 1, с. 207].
Вот начало исповедальной переписки. Толстой только теперь, на пятом
году интенсивного общения со Страховым, распознает в нем глубокую
внутреннюю неудовлетворенность. «Немножко мне открылось ваше
душевное состояние, но тем более мне хочется в него проникнуть дальше»
[т. 1, с. 211 ]. Это желание проникнуть дальше зиждется не «на умствен-
131
ном интересе», который преобладал в общении со Страховым, а «на
сердечном влечении». Далее Толстой советует Страхову освободиться от
излишней объективности, открыто и искренне проявить свое
внутреннее духовное ядро, не стыдиться саморазоблачения. «Вы всегда
говорите, думаете, пишете об общем — объективны. И все мы это делаем, но
ведь это обман, законный обман, обман приличия, но обман, вроде
одежды. Объективность есть приличие, необходимое для масс, как и
одежда... И вы слишком одеваетесь объективностью и этим портите себя, для
меня по крайней мере. Какие критики, суждения, классификации могут
сравниться с горячим, страстным исканием смысла своей жизни?» [т. 1,
с. 211]. Именно с этого момента переписка приобретает новые черты,
четко подразделяясь на собственно философские письма с
неизменными исповедальными вкраплениями и дружеские. Теперь Толстой и
Страхов движутся в одном философско-исповедальном русле, которое
приводит одного к «Исповеди», к окончательной духовной и творческой
перестройке, обретению религиозной основы в жизни и творчестве,
другого — к новому этапу философской деятельности, главным в которой
становится нравственный смысл постигаемого. Однако непохожесть
движения очевидна: один, Толстой, воодушевлен и мучительно
«работает» мыслью и сердцем, чтобы добыть решение или пояснение высших
вопросов; другой, Страхов, «будто усталый и бессильный», только вечно
смотрит на эти вопросы, только беспрестанно обращается к ним своею
мыслью, почти не ожидая разрешения.
Вопрос о пассивном и деятельном отношении к жизни становится
одним из ключевых в переписке. Внутренняя интрига диалога строится по
сути на столкновении глубоко не равнодушного, но все же абстрактно-
созерцательного, внутренне рефлектирующего, но не реализующего
себя в конкретных поступках, отношении к жизни (H.H. Страхов) и
активно преобразующего себя и окружающее, требующего непрерывного
вмешательства, бесконечно стремящегося к единству высказывания и
поступка, миросозерцания (Л.Н. Толстой).
С этой точки зрения за Страховым тянется шлейф опыта так
называемых кающихся, но ничего не предпринимающих «лишних людей».
Однако именно Страхов с восторгом воспринимал жизнетворческую энергию
и полноту Толстого: «Вы, Лев Николаевич, не только гениально пишете,
но и гениально живете» [т. 1, с. 325|. Страхов неустанно называл
Толстого не только «самым цельным и последовательным писателем», но и
«самым цельным и последовательным человеком». В 1893 году, в пору
интенсивной работы над «Царством Божием внутри вас», Страхов писал
Толстому: «Вы очень счастливы — нет, не так нужно говорить — самое
132
существенная Ваша черта в том, что Вашу жизнь и деятельность Вы на
самом деле подчиняете Вашим убеждениям, не только избегаете
противного им, но и исполняете то, что с ними согласно. И Вы столько сделали,
не только думали, а действительно сделали! Более полной жизни трудно
придумать. Как нелепы все толки о том, что Вам нужно было бы
оставаться романистом, и что вы заблуждаетесь, вздумавши сверх того быть
человеком!» |т. 2, с. 916]. Страхов при этом не был безоговорочным
поклонником и последователем идей Толстого, его религиозной этики. Он
не раз указывал великому Льву на «голую назидательность», призывая
его не забывать себя самого — художника. Однако это не мешало ему
«поверять» себя в свете толстовской жизнетворческой полноты,
сравнивать себя с ним. Более того, сквозь призму феномена жизнетворчества
Толстого Страхов пытался осмыслить некое переходное состояние всей
русской жизни. Однако самого Толстого состояние зыбкости,
раздвоенности уже не устраивает. Он неизменно движется вперед и провоцирует
к этому движению Страхова.
Формой данного движения для Страхова, с точки зрения Толстого,
должна была стать его, страховская, исповедь. Он считал, что
Страхову «недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии
заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя»
|т. 1, с. 4231. Толстой всячески подталкивает колеблющегося Страхова на
исповедальное слово. Страхов прислушивается к его совету,
«подумывает» и «укрепляется в мысли» написать не биографию, но что-то подобное
исповеди. «Напишу Вместо исповеди и посвящу Вам. Боюсь, что
разыграются дурные чувства, которых так много возбуждает в нас наше милое
Я» [т. 1, с. 458], — не без иронии замечает Страхов. «Истинно радуюсь и
горжусь тем, что мой совет — писать свою жизнь, занял вас» [т. 1, с. 462],
— отвечал Толстой, ожидая многое от страховской исповеди. В это время
Толстой сам пишет набросок под заглавием «Моя жизнь», начатый еще в
1878г., который можно назвать прелюдией к «Исповеди».
Когда же страховская исповедь, полная горечи саморазоблачения
и неверия в себя, все же прозвучала в письме от 17 ноября 1879 года,
Толстой резко и безапелляционно ответил: «И вам писать свою жизнь
нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно было в ней. А надо знать».
Судя по тону советов, которые далее дает Толстой, он сам уже
переступил через черту сомнений, его устами заговорил проповедник: «Верьте,
перенесите центр тяжести в мир духовный, все цели вашей жизни, все
желания ваши выходили бы из него, и тогда вы найдете покой в жизни.
Делайте дела Божий, исполняйте Волю Отца, и тогда вы увидите свет и
поймете» [т. 2, с. 545].
133
Так зачем же Толстому понадобилась исповедь Страхова? Думал ли
он помочь другу, приобщить его к собственному опыту самопознания,
который был уже выстрадан. А может он «примеривался» к Страхову как
художник, видя в нем прототип одного из своих литературных героев.
Образ профессора Кознышева в «Анне Карениной» вольно или невольно
наводит на эту мысль. Скорее всего исповедь Страхова послужила для
него толчком к окончательному преодолению своего всепоглощающего
«Я», движению к новому качеству исповедального слова, обращенного
не к себе, но ко всем, публичной исповеди, наполненной теперь
общечеловеческим смыслом.
С другой стороны, исповедальный опыт, который не
прекращался до конца переписки, помог и Страхову не только «сбросить мундир
и ордена», но и окончательно уяснить свое истинное предназначение.
«Об Вашем совете я прилежно думал и наконец сказал себе: Как
странно! Они хотят, чтобы я перестал быть самим собою! Ведь моя
объективность и есть выражение моего ума, моей натуры. Я не могу говорить о
своих личных делах и вкусах; мне это стыдно, стыдно заниматься собою
и занимать других своею личностью» [т. 2, с. 909]. Он остается верен
самому себе, несмотря на то, что до конца дней своих продолжал
исповедоваться перед Толстым. Он ищет «общие мерки чувств и мыслей», не
выставляя «за норму, пример и закон своих мнений и волнений», [т. 2,
с. 909-910]. В своем творчестве Страхов по-прежнему старается
«возводить свои мысли до общеинтересного, для всех законного и
убедительного», и только тогда он уверен, что «не обманывает свойства своей души»
[т. 2, с. 910]. Таким образом, исповедальное начало переписки Толстого
и Страхова не только помогает уяснить ее внутреннюю динамику, но и
убедиться в том, что, двигаясь в одном направлении в постижении
целостности, оба преодолевают «разговорность» в обсуждении
онтологических проблем, оба остаются творчески независимыми собеседниками
в поиске смысла бытия.
Таким образом, русская эпистолярная культура становится, с
нашей точки зрения, тем уникальным, творческим, исповедально-
диалогическим пространством, которое позволяет по-новому взглянуть
на развитие не только русской художественной литературы, но и
отечественной философской мысли в целом.
134
Беседа 5. Природа творческого мышления
в переписке Толстого и Страхова
«Обыкновенный философ» и литературный критик H.H. Страхов из
сонма своих знаменитых современников оказался ближе всех великому
Л.Н. Толстому. Эта близость не была чисто интеллектуальной,
политической или сугубо религиозной, но, главным образом, экзистенциальной
и духовно-творческой. «Знаете ли, что меня поразило более всего? —
писал гениальный физиономист Лев Толстой после одного из первых
посещений Страховым Ясной Поляны. — Это — выражение вашего лица,
когда вы раз, не зная, что я в кабинете, вышли из сада в балконную дверь.
Это выражение чуждое, сосредоточенное и строгое объяснило мне вас...
Я уверен, что вы предназначены к чисто философской деятельности.
Я говорю чисто в смысле отрешенности от современности; но не говорю
чисто в смысле отрешения от поэтического, религиозного объяснения
вещей. Ибо философия чисто умственная есть уродливое западное
произведение; а ни греки — Платон, ни Шопенгауэр, ни русские мыслители
непонималиеетак»[1,п.5от 13 сентября 1871, с. 15|.' В этом
высказывании определен, во-первых, принцип философского дела: отрешенность
от современности. Надо дополнить, что для Толстого — это, по сути,
неприятие суетливости и погруженности людей в «больших городах» в
журнальные, издательские и пр. светские дела (коими была наполнена
внешняя жизнь Страхова при внутренней уединенности), уводящие от
дела, от духовной внутренней работы, смысл которой очень точно
передает слово творчество2'. Но никому из русских, в том числе и самому
Толстому, не удавалось «убежать» от современности, не реагировать на
ее бесконечные вызовы, не подчинять свое Слово служению будущим
1 Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки в двух томах.
Группа сла-вянских исследователей при Оттавском университете и
Государственный музей Л.Н. Толстого, 2003 (редактор — A.A. Донсков; составители
— Л.Д. Громова, Т. Г. Никифорова). Данное издание цитируется по томам,
нумерации писем,дате и странице.
■■ Граф Толстой игнорировал тот факт, что в России быть «чистым» философом
— большая роскошь во все времена. Борьба за элементарное выживание была
вечной спутницей жизни H.H. Страхова, вынужденного, как поденщик,
работать в различных журналах и издательствах за самые скромные гонорары, в том
числе и «на графа Толстого» [П. 8 от 10 марта 1872. С. 23].
135
преобразованиям и спасению этой самой современности, не зависеть от
редакторов и издательств. В этом заключалось требование самой жизни
и одновременно противоречивая позиция русского писателя. С другой
стороны, требование «отрешенности» при одновременной
«включенности» в современность — в целом характерно для русской философской
мысли, к которой они оба были причастны. Во-вторых, Толстой как бы
вписывает русскую философию в неклассическую традицию познания,
развивающуюся в стороне от западного рационализма и немецкой
классики. Для нее важнейшим является не рациональная истина, которую
писатель считает злом, а искание сердечной правды в единстве
естественного и сверхъестественного, человеческого и божественного,
сознательного и мистического, рационального и иррационального. «Зло
есть все то, что разумно. Убийство, грабеж, наказание, все разумно,
основано на логических выводах. Самопожертвование, любовь —
бессмысленны» [1, п. 126 от 12... 13 ноября 1876, с. 291]. Такая истина-
правда как сплав знания и мистического переживания, данного Богом,
свойственна и Платону, и Шопенгауэру, и самому Толстому.
В своих теоретических установках Толстой предугадывает
экзистенциально-диалогической аспект будущего типа
философствования, свойственного эпохе раннего Бахтина, который, по словам Библера,
«возникает в очаге становления иной, вне-гносеологической культуры
«общающегося разума», а не разума познающего»1. Самое интересное,
что в позиции творцов «общающегося разума», создателей
диалогического типа текстов оказались и «монологист»2 Толстой, и «классический»
философ Страхов, и молодые философы новой «формации». Возможно,
вовсе не осознавая своей критичности по отношению к
рационалистической традиции, Толстой и Страхов в совместном мыслительном
творчестве продемонстрировали результаты максимальной активизации
субъекта, всех его сил, разных форм духовного освоения мира. Они показали,
как деятельность «духовной рациональности», которая может и должна
осуществляться в единстве нравственных, эстетических, религиозных
сознаний, как личностная позиция оказывается в итоге главнейшим
критерием истины-правды. Для Страхова эти творческие интенции
располагались главным образом в области абстрактного осмысления,
для Толстого — преимущественно в экзистенциально-жизненном кон-
1 Библер B.C. От наукоучения — к логике культуры. М., Изд-во политической
литературы, 1991. С. 26.
2 Характеристика Толстого, активно критикуемая в литературоведении,
дана М.М. Бахтиным {Бахтин ММ. Проблемы поэтики Достоевского. М.,
Советская Россия, 1979).
136
тексте. Примером данного со-творчества стал уникальный документ:
их двадцатишестилетняя переписка, ставшая недавно достоянием
современной культуры. В ней мы обнаруживаем процесс создания
нового типа философии, обусловивший открытие природы творческого
мышления как сплава художественного, философского, критического,
бытового и др. способов осмысления проблем, не связанных ни с
церковными «путями» Соловьева-Достоевского, ни с темами шумящей
радикальной, политизированной и революционизированной России.
Переписка наглядно демонстрирует процесс рождения философии
«общающегося разума», обнажает природу и элементы творческого
(диалогического) мышления, ярко проявившегося в гуманитарной
парадигме начала XX века.
То, что для Толстого Страхов был философом номер один в России,
следует из его собственных признаний, переписки и многолетней
дружбы «на равных». При этом, столь же очевидно, что Толстой воспринимал
Страхова не как авторитетнейшего философа-классика, но скорее как
доверительного собеседника, равного ему по возможностям понимания
и аргументации важнейших философских проблем. Постоянный диалог
«на вечные темы», осуществляемый в сугубо частной форме переписки
великого писателя с признанным философом, обнажает размытость и
стертость принципиального различения философской и литературной
проблематики, способов аргументации, логики и формы изложения,
всего того, что сегодня принято называть «дискурсом». Толстовская
аргументация зачастую провоцировала Страхова на новое понимание
собственных философских идей и была поднята им до непревзойденных
высот. «Вас очень прошу, — пишет Страхов, — если не читали еще моей
книги, — прочтите и скажите мне Ваше суждение. Уверяю Вас, оно
будет мне одним из главнейших указаний, как идти вперед (курсив мой
— С.К.)... Вы видите, что я Вас слушаюсь — занимаюсь философией,
Вы как раз угадали меня...» |1, п. 42 от 4 декабря 1872, с. 83]. В ходе
их общения сформировался особый тип философствования (как
результат создания диалогического мыслительного пространства), который
вполне сопоставим с тем, что представляла собой нарождающаяся
неклассическая русская философия. По сути, мышление разными
способами одновременно охватывало, в ходе совместного обсуждения идей и
взаимопроникновения в обсуждаемую проблематику, соединяло логику
и эмоции в единое целое мысли, сочетало художественные,
религиозные, философские аргументы в «творческое» самобытное диалогическое
пространство. Их диалог — это и есть наглядная демонстрация Lebens
Dynamik русской философии.
137
Толстой-собеседник обладает одним заведомо определенным
качеством: он — гении; его гениальность и вытекающие из нее черты
пророка, теурга, мессии и т.д., были очевидны Страхову. Страхов —
классический мыслитель и интеллектуальный посредник между Толстым и
эпохой. Эта его роль не случайна и требует объяснения. Он осуществлял
свой анализ происходящего не как пророк, идеолог, политик или
активный участник действий. Он не был самобытным (наподобие Соловьева)
философом, уникальным ученым или известным писателем,
революционером, словом, человеком действия. Его обычность и уникальность
в том, что он был гениальным слушателем, имел способность чутко
слушать и слышать чужие голоса, вникать и понимать чужие позиции,
погружаться в чужое как в собственный мир — глубоко и прочно.
Толстой называл эту способность «готовностью понимать другого» [2. п. 396
от 6 июля 1891, с. 869], а не слушать лишь самого себя, как это чаще
всего бывает. М.М. Бахтин подобную способность называл сущностью
субъекта, «смысл бытия» которого — «внимать другому, воспринимать
в себя его "друговость" (термин Бахтина — В.Б.У. Эта способность
демонстрирует нам бахтинское "быть — это общаться"... и означает, что
мыслить "о человеке" невозможно (тогда будешь мыслить о вещи);
возможно мыслить лишь к человеку... К другому человеку, обращаясь»2.
В конечном итоге, Страхов умел, как никто другой, адекватно
понимать всю суть чужих идей, преломляя их в контексте научного видения
проблемы. В его понимании/интерпретации любая идея обретала
некую завершенность, целостность, что позволяло прояснять все смутные
и, может быть, неясные самим творцам особенности их концепций и
теорий. Эту способность В.В. Розанов назвал талантом строить из
всего чужого свою «внешне неяркую мыслительную вязь», «рассматривать
чужие труды в отношении к самим писателям, как показатели их
внутреннего настроения»3. В способности диалогизировать с другими —
чужими текстами и создавать в ходе этих диалогов целостное понимание,
и заключался страховский неповторимо-индивидуальный талант.
Несмотря на статус литературного критика, Страхов преодолевал в своих
размышлениях монологизм объяснения и выходил, главным образом, на
проблему понимания, которое всегда диалогично; способность к
пониманию выше других его талантов ценил в философе Толстой. Природа
1 Библер B.C. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры. М., 1991. С. 122.
2 Там же. С. 123.
3 Розанов В.В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., Аграф,
2000. С. 13, 17.
138
понимания диалогична, так как в ее основе лежит идея взаимности —
взаимопонимания, способствующая диалогическому построению
смыслов. Суть диалога, как цели и сущности мыслительного процесса,
определена Толстым в нескольких словах: «переговорить, проверить свои
мысли и услыхать ваши» |1, п. 396 от 6 июля 1891, с. 869].
В самом начале переписки Толстой выделил главный вектор,
навсегда определивший направление их общения. «Из живых я не знаю
никого, кроме Вас и его (Тютчева — добавление мое — С.К.), с кем бы
я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте
душевной единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в низших
сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого
независимым и свободным.... Мы одинаково видим, что внизу и рядом с нами; но
кто мы такие и зачем, и чем мы живем, и куда мы пойдем, мы не знаем и
сказать друг другу не можем, и мы чуждее друг другу, чем мне или даже
вам мои дети» [1, п. 5 от 13 сентября 1871, с. 14]. По сути, Толстой
открыл важнейшую специфику диалогического мышления, ставшего
основанием культурно-гуманитарной парадигмы начала XX века — «диалог
диалогов» свободных личностей в бесконечной открытости и
автономности обсуждаемых тем, направленный на поиск «общего смысла» и
при этом оставляющий всех участников свободными и независимыми
(другими) творческими личностями. Суть диалогического мышления
реализуется в творческом обмене идеями между личностями. При этом
принципиально важным является не только их духовно-нравственная
(сущностная) близость, но и широкое поле жизненно-биографических,
культурных, интеллектуальных, мировоззренческих различий,
делающих их общение максимально плодотворным и созидательным.
Творческий и дружеский диалог предполагает наличие единого духовного,
интеллектуального и аксиологического пространства, как ядра
межличностной эмпатии, благодаря которому только и оказывается возможным
продуктивное общение. Диалог невозможен без душевной готовности
понимать другого, искать и принимать не свои идеи в чужих, но чужие в
их собственном звучании/значении. Страхов в полной мере был готов к
такому пониманию, и поэтому Толстой награждает его ценным
признанием: «Вам я верю вполне. Нынче я говорил жене, что одно из счастий,
за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Николай Николаевич
Страхов. И не потому, что вы помогаете мне, а приятнее думать и
писать, зная, что есть человек, который хочет понять не то, что ему
нравится, а все то, что хочется выразить тому, кто выражает эту готовность
понимать другого» [1, п. 56 от 3-4 сентября 1873, с. 123]. Чуть позже:
«Я узнал... ваше сочувствие ко мне и мое к вам основано на необыкно-
139
венной родственности нашей духовной жизни» |1, п. 95 от 25 августа
1875, с. 215]. К этому основанию следует добавить и чувство любви,
открыто выражаемое обоими, но, безусловно, Страховым в гораздо
большей степени, чем Толстым: «Мне хочется понимать Вас; это дело очень
важное, и у меня есть средство для этого — Я Вас люблю, — увы,
гораздо больше, чем Вы меня» 11, п. 322 от 22 февраля 1886, с. 703].
I. Природа понимания как со-участное мышление
В ходе переписки природа творческого мышления обнажается как
определенная логика диалога двух собеседников. В основе
диалогического мышления лежит склонность к взаимопониманию между
свободными, творчески независимыми личностями, обладающими ярко
выраженными способностями к сопереживанию и со-причастию идей друг
другу. Потребность в собеседнике, в другом — автономном взгляде
является неотъемлемой и важнейшей характеристикой творчества.
Толстой нуждался в философских идеях Страхова, без которых невозможно
было обрести идейную уверенность в ходе создания произведения. Здесь
отражен важнейший элемент их диалога: один имеет способность к
творчеству (Толстой), другой к пониманию (Страхов), а в ходе со-участия в
идеях и воззрениях друг друга рождается целостное постижение
проблемы. «Что касается того, что я человек замечательный, — отвечал Страхов
на похвалу Толстого, — то я право начинаю понемножку в это верить.
Не имея почти вовсе творчества, я имею очень большую способность
понимания» |1, п. 60 от 26 ноября 1873, с. 134]. Философ в этом письме
весьма точно объясняет, чем понимание отличается от творчества,
рассматривая понимание как синоним критики, объективного анализа,
угадывания идей автора, но при этом, как ему кажется, лишенного
нового — положительного творческого или назидательно-проповеднического
момента в самих интерпретациях. «Конечно, по моему мнению, всякий
беспристрастный человек должен сказать: в нашей литературе о
Данилевском, Троицком, об Милле, Ренане, Дарвине, Герцене, об Коммуне
— писал один Страхов; все, что писали другие, не имеет никакой цены и
не заслуживает внимания; но все писанное Страховым прошло бесследно,
так как это была только критика, только анализ, а положительного тут
ничего не было, не было — проповеди» |1, п. 60 от 26 ноября 1873, с. 138].
Безусловно, ничто не прошло бесследно, ведь природа понимания
открыла иные возможности проникновения в текст, чем обычное объяснение
чужих смыслов/идей. Весьма точно об этом же, спустя полвека, напишет
М.М. Бахтин: «При объяснении — только одно сознание, один субъект;
140
при понимании — два сознания, два субъекта. К объекту не может быть
диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических
моментов (кроме формально-риторического). Понимание всегда в какой-
то мере диалогично»1. В одном из писем Страхов неожиданно прояснил
для нас загадку своей притягательности, его «диалогизм» (как синоним
притягательности) связан с его способностью соответствовать
интересам, склонностям и способностям другого — собеседника, при этом свое
оставлять для других — более со-родственных душ. «Здесь теперь Н.Я.
Данилевский ... и он готов по целым дням разговаривать со мной. Он
необыкновенно милый и умный человек, но очень далек от настроений мыслей, в
которых я нахожусь. Я с ним (курсив мой — С.К.) натуралист и
математик» [1, п. 134 от 29 января 1877, с. 307]. О разнице между толстовским
и собственным творчеством Страхов говорит следующее «Разница между
нами та, что вы воодушевлены, работаете мыслью и сердцем, чтобы
добыть решение или пояснение высших вопросов, я же, как будто усталый
и бессильный, только вечно смотрю на эти вопросы, только беспрестанно
обращаюсь к ним своей мыслью, почти не ожидая разрешения» [1, п. 99
от 4 ноября 1875, с. 223].
Вопрос о природе понимания здесь вырастает в проблему
соучастного мышления. Страхов «опутан» наукой, авторитетом немецкой
философии, «одет» в объективность чужих идей, как в истину, он много
знает, много читал, он — известный библиофил, имеющий сведения об
огромном количестве книжных изданий и справочной литературе.
Толстой абсолютно независим в своих пристрастиях и выборе творческого
пути. При этом он бесконечно пользуется библиографическими
услугами Страхова по розыску необходимых ему сведений для работы, и в этом
процессе не только Толстой, но и Страхов становятся соучастниками
произведения, задуманного художником2. Страхов «заменяет» ему архивы,
Толстой доверяет его знаниям по многим разделам философии, истории,
религиоведения, переводной литературы и т.д3. Высочайшую степень
1 Бахтин ММ. Литературно-критические статьи. М., Искусство, 1986. С. 482.
1 В переписке приводится письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской: «Анну
Каренину» мы пишем (курсив мой — С.К.) наконец-то по-настоящему, т. е. не
прерываясь. Левочка, оживленный и сосредоточенный, каждый день прибавляет по
главе, я усиленно переписываю...» [сноска в письме 129 от 5...6 декабря 1876.
С. 297]. «Мы пишем» — вовсе не оговорка, а вполне осознаваемый Софьей
Андреевной факт их со-творческой и со-участной деятельности.
л Примером подобного рода сотрудничества может служить переписка (от 18-19
января 1879 г. — просьбы Толстого к Страхову по работе в архивах) и изыскания
Страхова в Государственном архиве, Архиве исторического общества, в Сенат-
141
доверительности мы обнаруживаем в полной свободе на правки текста,
которую дает Толстой Страхову в редактировании «Войны и мира»!
«Посылаю вам, дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич, не знаю,
исправленный ли, но наверное испачканный и изорванный экземпляр В
[ойны] и м [ира], и умоляю вас посмотреть его и помочь мне словом и
делом, то есть просмотреть мои поправки и сказать ваше мнение —
хорошо ли, дурно ли, [если вы найдете, что дурно, даю вам право уничтожить
поправку и поправить то, что вам известно и заметно за дурное]» [ 1, п. 54
от 22 июля 1873, с. 118]. Таких просьб много в переписке, степень
доверия так высока, что Толстой без всякой иронии просит помочь вычитать
статьи или художественные произведения с карандашом и «разумеется,
все, что вы сделаете, я буду доволен; даже, если сожжете статью или
ничего не сделаете», а далее идет важнейшее признание: «чем ближе
приближается время свиданья с вами, тем более радуюсь и ожидаю, как
важного для меня и моего писанья (курсив мой — С.К.), которое есть
и которое будет» 11, п. 73 от 19...20 июня 1874, с. 168]. Толстой, который
упорно выказывал свою неприязнь к критике, с легкостью сжигал, не
читая, многочисленные фельетоны или заметки о себе, жадно внимал
страховским замечаниям и суждениям о своих писаниях, и, казалось,
что без его взгляда не мог воспринимать свои труды во всей полноте
содеянного: «Боюсь и не люблю критик и еще больше похвал, но не ваших.
Они приводят меня в восторг и поддерживают силы в работе» [1, п.. 146
от 21...22 апреля 1877, с. 331). В контексте размышлений о
специфической страховской способности к пониманию, следует добавить к уже
указанным чертам немаловажную характеристику душевной
способности со-чувствовать и со-переживать Другому, не наждаком иронии
или критикой эрудита разрушая чужую позицию или зародыши мыслей-
идей, но подобно «душистому мягкому мылу»1 очищая, обрабатывая еще
недодуманные мысли до рафинированности/чистоты высказываемого-
понимаемого. «Работа моя состоит в том, чтобы высказать свои мысли,
заставив их полюбить, всем: когда же я с вами, я знаю, что вы любите
мои мысли и высказывать мне их легко кое-как намеком, и я порчу свою
ском архиве, в Синодском архиве и т.д. Подр. об этом письма Страхова от 23
января 1879, начало февраля 1879, 15 февраля 1879, 11 марта 1879 г. [2. С. 492-505].
1 Образ мыла придуман великим русским поэтом-мыслителем A.A. Фетом:
«Я открыл в Вас кусок круглого душистого мыла, которое не способно никому
резать руки и своим мягким прикосновением только способствует растворению
внешней грязи, нисколько не принимая ее в себя и оставаясь все тем же кру-j
глым и душистым, плотным телом» (из письма Фета к Страхову, ноябрь 1877).
Цит. по Переписке. С. 384.
142
работу. А удержаться не могу, потому что мне ваше сочувствие дорого»
[2, п. 226 от 1-2 мая 1879, с. 514], — пишет Толстой.
С другой стороны, Толстой настоятельно ищет в Страхове такого
же творца, каким был сам. И он зовет друга вперед, и этот зов равен
призыву к самостоятельному творчеству, той научной смелости,
которой у последнего никогда не было. «Приходит время (и оно для вас
уже пришло с тех пор, как я вас узнал), что дороже всего согласие с
собой. Ежели вы установите, откинув само все людское притворство
знания, из которого злейшее — наука, это согласие с самим собой, вы
будете знать дорогу. И я удивляюсь, что вы может не знать ее» [ 1, п. 186
от 8 апреля 1878, с. 423], — сетует Толстой. Его напористость
наталкивается на вечную самокритику и неуверенность Страхова в своих
творческих возможностях: «Вы ждали от меня чего-то. Вы думали, что эти
зачатки мыслей и стремлений разовьются и куда-то двинуться, и ничего
не дождались. Это верно, я ничего Вам не принес и ни в чем не пособил;
я все тот же колеблющийся, отрицательный, неспособный к твердой
вере и сильному увлечению какой-нибудь мыслью. Да, я таков. С
недоумением перебираю я всякие взгляды людей, древние и новые, с упорным
вниманием ищу, на чем бы можно остановиться и не нахожу» [1, п. 188
от 11 апреля 1878, с. 428). Толстой чувствовал, что у Страхова есть
талант и предрасположенность к оригинальному мышлению (склонность к
философии), но увлечение наукой (естествознанием) и критикой, путы
общепринятого (чужие взгляды), многознание и вечная оглядка на
других, на авторитеты (черта критиков, для которых ориентация на
общественное мнение — важнейшая) мешают свободе самовыражения. Их
творческие пути различны, хотя внутренне они очень близки друг другу.
«Вот это-то перебирание чужих взглядов и искание в них, я и называю
(неточно) притворством знания, т.е. я хочу сказать, что подделываясь
под чужие взгляды, притворяешься, что знаешь, и лишаешься согласия
с самим собой. Вы прожили 2/3 жизни. Чем вы руководствовались,
почему знали, что хорошо, что дурно. Ну, вот это-то, не спрашивая о том,
как и что говорили другие, скажите сами себе и скажите нам» [ 1, п. 189
от 17-18 апреля 1878, с. 429], — вновь призывает Толстой Страхова к
творческому и жизненному откровению, тесно переплетая свой призыв
с требованием свободного самовыражения жизнетворческой позиции.
Эта же причина лежит в основе отношений Страхова и с молодыми
философами, которые не только не склонны ссылаться, например, на
немецкие авторитеты, к которым призывал «примкнуть» старший
наставник, но и выражают открытое недоумение и неприятие авторитета как
такового. Например, на сетования Страхова по поводу того, что Роза-
143
нов не видит в своей работе гегелевских истоков, последний замечает:
«Страхов не совсем понимал книгу «О понимании»..., не совсем понимал,
так сказать, философскую часть моего духовного организма,
накладывая на него некоторые свои схемы a priori, взятые из этого германского
идеализма. Он во мне искал Гегеля или части Гегеля, тогда как во мне не
было ничего этого и вообще никакой части немца...»1. Здесь солидарность
Толстого с молодыми в отношении к Страхову становится очевидной. При
этом все они, требуя от него оригинальности и научной независимости,
как-то мало оценили его главный талант (в творческом плане) — умение
понимать, о котором прекрасно знали. А этот талант, безусловно,
превосходит все прочитанное и когда-то усвоенное философом.
Но упреки Толстого имеют еще один важный контекст. Дело в том,
что под способностью самостоятельно действовать в творчестве, Толстой
подспудно понимал и способность к активной жизни, к
самовыражению своего жизненного таланта. Творчество, таким образом, выступает
для него базовым основанием для делания жизни, а жизнь — со всеми
ее перипетиями и течением — основанием для творчества (отсюда ясен
призыв рассказать о себе и свой жизненный опыт сделать основой
понимания). Страхов же осознает в себе не только неспособность писать без
оглядки на чужое — авторитеты, но и неспособность жить свободно, без
оглядки. «Так что все время я не жил, а только принимал жизнь, как она
приходила, старался с наименьшими издержками сил удовлетворить ее
требованиям, и, сколько можно уйти от ее невзгод и неудобств. За это, как
Вы знаете, я наказан вполне. У меня нет ни семьи, ни имущества, ни
положения, ни кружка — ничего нет, никаких связей, которые бы соединяли
меня с жизнью. И сверх того, или, пожалуй, вследствие того, я не знаю,
что мне думать» |1, п. 190 от 25 апреля 1878, с. 432-433). Толстой,
критикуя Страхова за безжизненность, видит в нем все же больше сходного с
собой, нежели отличного от себя: «Различие между мной и вами только
внешнее», — пишет он. Опираясь на три кантовских вопроса, Толстой
ответы на них положил в основу философского (мировоззренческого)
понимания жизни и жизненных приоритетов людей. «Главное — идти к
новому смыслу — Богу... и жизнь есть только переход из любви к себе, т. е. из
жизни личной, т.е. этой, к любви не себя, т.е. жизни общей, т.е. не этой.
И потому на вопрос: что я должен делать, я ответил бы: любить не себя,
т.е. каждый момент сомнения я разрешал бы тем, чтобы выбирать то, где
я удовлетворяю любви не к себе» [1, п. 102 от 30 ноября 1875, с. 235].
Это уникальное письмо можно считать явной точкой мировоззренческо-
1 Розанов ВВ. Литературные изгнанники. Переписка В.В. Розанова с H.H.
Страховым. М., Республика, 2001. С. 16.
144
го перелома Толстого, выявляющего начало его философско-религиозной
перестройки. Здесь он определяет и новое понимание жизни, смещая
акценты с физиологического и органического начал (жизни для себя), в
сторону религиозных и духовных (жизни не для себя).
По сути, в переписке впервые был поставлен вопрос о специфике
жизнетворчества, задолго до появления этого понятия в
размышлениях А. Белого и в Серебряном веке в целом. Следует отметить в
исповедальных словах Страхова и попытку натолкнуть Толстого на понимание
своей натуры, исходя не из его представления о том, что такое жизнь, а из
страховского реального опыта переживания собственной личной жизни.
Отсутствие жизни в обывательском значении (семья) и привело
Страхова к поиску жизни в искусстве; литература, а также чужая жизнь, стали
важнейшими спутниками и наполнителями его жизненных реалий. И,
может быть, именно эти факторы и обусловили его уникальную способность
к пониманию чужого. Для него другие миры (например, того же Толстого,
или Данилевского, или любимого почти как сына — Розанова) не были
чужими и автономными, это и была его жизнь, его мир, отсюда такая
глубина и мощь со-причастия, проникновения и понимания. Страхов в чужих
произведениях видит не только самобытные идеи или художественные
образы, он нащупывает творческую природу мышления художника,
которую и обнажает в критическом анализе, не занимаясь при этом
«проповедями», то есть самовыражением своего Я.
Под творчеством Страхов понимает энергетическую способность
эмоционального воздействия слова или мысли на автора и читателя (другого),
которая и делает мышление со-участным или со-бытийным. Со-участное
мышление как общее в «обороте мыслей» можно найти в совершенно
разных сферах: научной, художественной, богословской или сугубо
философской, что указывает на общность творческой природы мышления
художника и ученого. При этом следует подчеркнуть, что страховская способность к
пониманию является таким же важным основанием формирования
творческой природы мышления, как и создание самого произведения.
П. В преддверии творческого акта
В ходе переписки Толстой неоднократно высказывался об особом
состоянии, которое предшествует творческому прорыву и которое
вполне уместно назвать генетическим моментом зарождения произведения
(понятие, используемое в библеровском смысле). С первых же писем
Толстой характеризует этот процесс как состояние творческого
томления, которое он называет мучительнейшим «состоянием сомнений,
Л 7я* ТЛЯ
145
дерзких замыслов, невозможного или непосильного недоверия к себе и
вместе с тем упорной внутренней работы. Может быть это состояние
предшествует периоду счастливого самоуверенного труда, подобного
тому, который я недавно пережил, а м.б. я никогда не напишу ничего»
[1, п. 3. от 25 ноября 1870, с. 9|. Неоднократно повторяются слова для
выражения этого состояния: скука, томление, бессилие, лень как
безделье особого рода, когда душа, приготовляясь к большой и творческой
работе, замирает в покое, как бы готовясь к грядущей усиленной работе.
«Сплю духовно и не могу проснуться. Нездоровится, уныние. Отчаяние в
своих силах.... Думать даже, и к тому нет энергии. Или совсем худо, или
сон перед хорошим периодом работы. Думать не могу сам, но понимать
могу...» [1, п. 126 от 12...13 ноября 1876, с. 291|. Назовем это состояние
«душевной опарой», когда происходит брожение замысла будущего —
произведения. Такие же состояния-переживания часто преследовали и
Страхова (и вообще они ведомы многим творческим людям), когда
апатия и беспричинное недовольство давят на душу, и, кажется, что уже
ничего толкового и нужного не напишется, не создастся, не родится.
А жизнь/время уходит в пустоту бессмысленной жизни без «дела» —
творчества. С нашей точки зрения, это состояние фиксирует начальную
точку любого творческого процесса. И Толстой проясняет это своему
визави: «вероятно, у вас, как и у меня, скука и апатия предшествуют
наплыву умственной энергии» [ 1, п. 83 от 23 декабря 1874, с. 188]. Время
внешней апатии сопряжено с напряжением «роста внутри» потока идей
и чувств, еще не ясных, но уже потенциально живущих в творце и до
времени вызревающих, а затем прорастающих из лопнувшего зерна в целое
— плод — произведение. Творческое состояние, которое описал
Толстой, на философском языке Розанова называется «потенциальностью»,
на языке Бердяева «ничто», на языке Пастернака «неизвестностью»1; из
данных оснований вырастает свобода или всё творческого акта. Для
самого Страхова это ожидание темы, настоящей работы ума становится
порой так невыносимо, что упадок духа и данную стадию ожидания он
ассоциирует с чувством стыда, напрасно евшего свой хлеб, человека.
Это состояние сопряжено у него с депрессивным переживанием
пустоты, которая приводит в уныние, погружает в ужас «обреченного»
человека. «Очень виноват перед Вами, бесценный Лев Николаевич.... Вот с
месяц или полтора, как мне очень не по себе; не разберу, что это такое
1 «И окунаться в неизвестность,// И прятать в ней свои шаги, //Как
прячется в тумане местность, //Когда в ней не видать ни зги...»/ «Быть знаменитым
некрасиво...» // Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. М., Художественная
литература, 1988. С. 442.
146
— нездоровье или скука, скука оттого, что нет у меня настоящего дела,
что я усиленно ищу его и не нахожу» [ 1. 82 от 8 ноября 1874, с. 185].
В такой период обостряется самоанализ и самокритика, растет
недовольство собой и происходит потеря всех цельных основ
мировоззрения. Данное состояние, безусловно, неоднородно по своей
эмоциональной палитре. Сюда входит и волнение, беспокойство, которое не дает
возможности сосредоточиться, и спокойствие, даже умиротворение,
когда кажется, что тело и душа настроены на один лад и осталось
совсем немного подождать, пока все наладится и начнется создаваться то,
чего еще никогда не было — новое произведение. «Волнуюсь, метусь и
борюсь духом и страдаю; но благодарю Бога за это состояние» [ 1, п. 327
от 4 октября 1879, с. 534], — писал Толстой, ставший на путь создания
своей религиозно-философской системы. Это состояние сродни
платоновским «врожденным идеям», которые всегда живут в душе, но до поры
не вызрели, не оплодотворились, не набрали силы и «не просятся
наружу» [1, п. 141, от 16 января 1877, с.322]. С этим состоянием, однако,
требуется осторожное «обращение»: несмотря на тягость вынужденного
безделия, его нельзя «потерять» в суете жизни, ведь «служенье музам не
терпит суеты». Это глубоко интимное переживание зарождения новой
«жизни», а внешняя деятельность (кажущаяся занятость и деловитость)
способна погасить божью искру рождающейся мысли или чувства. «Вы,
верно, испытываете то, что я испытывал тогда, когда жил, как вы (в
суете)... что изредка выпадают в месяцы часы досуга и тишины, во время
которых вокруг себя устанавливается понемногу ничем не нарушаемая
своя собственная атмосфера, и в этой атмосфере все жизненные явления
начинают размещаться так, как они должны быть и суть для тебя; и
чувствуешь себя и свои силы, как измученный человек после бани. И в эти-то
минуты для себя (не для других) истинно хочется работать, и бываешь
счастлив одним сознанием себя и своих сил, иногда и работы. Это-то
чувство вы, я, думаю, испытываете, изредка, и я прежде, теперь же — это мое
нормальное положение...» [1, п. 5 от 13 сентября 1871 г., с. 15].
Апатия, тоска, безделье как состояния творческого предрождения,
спутники вдохновения, одинаково противоречиво воздействуют на
обоих корреспондентов: тяготят и в тоже время обнадеживают. Но в
этом состоянии их личные качества проявляются не лучшим образом:
оба становятся раздражительны, нетерпимы, некоммуникабельны (в
разной степени, конечно) '. И главное, они как бы теряют смысл
жизни, так как жизнь — это и есть творчество и в его отсутствии все
«умирает» или «замирает» на время ожидания вдохновения. Этот процесс
1 Часто это состояние сопровождается обострением физических недугов.
147
един у обоих при полном различии специфики их творчества. Именно
это объяснение является максимально сближающим моментом в
жизнедеятельности обоих.
Энергия возбуждения — вторая стадия в творческом хронотопе,
выраженная в неожиданно обретаемой в ходе вызревания произведения
вере в себя, воли к действию, эмоциональном (энергетическом)
подъеме, когда уже нельзя не писать. Энергия творчества заставляет работать
без искусственного напряжения, по наитию, и потому создание
произведения требует своего немедленного воплощения. На слова Страхова о
переживаемом им состоянии напряжения, Толстой отвечает: «Отчего
напрягаться? Отчего вы сказали такое слово? Я очень хорошо знаю это
чувство — даже теперь последнее время его испытываю: все как будто готово
для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность. А
недостает толчка веры в себя, в важность дела. Недостает энергии заблуждения,
земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать.
Если станешь напрягаться, то будешь не естественен, не правдив. А этого
нам с вами нельзя» 11, п. 186 от 8 апреля 1878, с. 423).
Колебание от уныния и безделья к творческому подъему — элемент
движения мысли, ее развитие. «Но и у Вас, и в Крыму, я все унывал,
— пишет Страхов, — а тут явилась такая надежда на свои силы....
Явились и зачатки мыслей, по-видимому, способных к большой разработке»
11, п. 50 от 15 апреля 1873, с. 107]. Энергия возбуждения как начало
оформления нового в творческом процессе, может возникнуть от любого
внешнего толчка, случайно прочитанной фразы или мимоходом брошенной
мысли/слова. Так, почти бессознательно, без всякой подготовки в
течение нескольких недель Толстой написал вчерне роман «Анна Каренина»,
случайно перечтя Пушкина и почерпнув в очень хорошо знакомом тексте
источник возбуждения мысли. «Я как-то после работы взял этот том
Пушкина и, как всегда, (кажется 7-й раз) перечел всего, не в силах оторваться....
И там есть отрывок «Гости собирались на дачу». Я невольно, нечаянно, сам
не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать,
потом разумеется изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел
роман, который я нынче кончил начерно, роман очень живой, горячий и
законченный, которым я очень доволен, и который будет готов, если бог даст
здоровья, через 2 недели и который не имеет ничего общего со всем тем, над
чем я бился целый год» |1, п. 48 от 25 марта 1873, с. 101].
Диалогический аспект заключается и в том, что общение с чужим
авторским словом (в данном случае с текстом Пушкина) становится
толчком для выхода из состояния возбуждения и ведет к сцеплению одной
творческой энергии с другой (возбуждение от присутствия или видения,
148
или чтения/общения с другим), которое собственно и определяет
творческий заряд. То есть происходит столкновение двух энергий,
соединенных в поток перевода энергии в мощь осмысленного произведения или
слова-мысли. На примере контактов Страхова и Толстого этот процесс
наглядно очевиден. В одном из своих писем подобное состояние —
заражение идеями Толстого — Страхов называет бессознательным
влиянием писательских идей на его философию, придавая, таким образом,
понятию влияния неожиданное звучание. «... Я видел, что оборот мысли в
моей статье о Дарвине, Переворот в науке, очень похож на оборот Вашего
рассуждения о власти. Очень возможно, что я бессознательно подражал
Вам и только теперь заметил это» |1, п. 57 после 3-4 сентября 1873 г.,
с. 125]. Бессознательность указывает на диалогическую природу в обмене
мыслями, и влияние здесь носит, скорее всего, характер творческой
переработки, а не слепого подражания идеям другого. В то же время — это
характерный пример перетекания творческой энергии в со-участное
мышление. Свою вторичность философ выражал неоднократно: «Но чтобы я
не делал, я всегда об Вас думаю, думаю об Вашем суде, и как бы дороги и
милы мне были Ваши строчки» [1, п. 349 от 13 апреля 1889, с. 784]. И при
этом, он ничуть не зависит от идей или деклараций Толстого. Его мысль,
развиваемая внутри творческих замыслов и реализаций писателя,
самостоятельна и в свою очередь сама провоцирует последнего к творчеству:
«Вы не поверите, как мне нужны эти мысли. Я их жду, как цифры,
данные, которые необходимы, чтобы подтвердить мое готовое заключение»
[ 1, п. 146 от 21 -22 апреля 1877, с. 3311. То есть Толстой также
чрезвычайно нуждается в Страхове-судье, чье мнение и для него имеет
первостепенную важность. «Я хотел пошалить этим романом («Анна Каренина»
— добавление мое — С.К.) и теперь не могу не окончить его и боюсь, что
он выйдет нехорош, т.е. вам не понравится. Буду ждать вашего суда,
когда кончу (курсив мой — С.К.)...» (1, п. 55 от 24 августа 1873, с. 122].
Страхов для него бесценен как человек, который не просто понимает то,
что хочет выразить автор, но умеет правдиво оценить написанное с точки
зрения логики и системы аргументации. И при этом его «правда»
замешана на доброжелательстве — необходимейшем качестве, которое
делает диалог и понимание полноценными. «Вы мне скажите правду и добро.
Пожалуйста, скажите», — просит Толстой советов и понимания у
Страхова |1, п. 71 от 20 мая 1874, с. 166]; в следующем письме: «...пожалуйста,
помогите, сколько можете» [1, п. 72 от 25 мая 1874 г. с. 167].
При этом, если Страхов как мыслитель и человек — крайне
неэмоционален, и его энергия скорее умственного «качества», то энергия
Толстого — универсальная, мощная, выплескивающаяся через край, да
149
так, что Страхов иногда просит своего друга жить потише, уменьшить
страсть (как синоним проявления энергии) в делах и чувствах.
Страхов бесконечно обдумывает то, чем живет Толстой; в ходе этого
наложения понимания на творческую деятельность другого и рождается
целостное постижение обсуждаемых проблем, даже эпохальных.
Создание произведения. Конечно, проникнуть в творческую
лабораторию писателя невозможно, ибо у процесса создания произведения
есть свои, невыдуманные законы, но то, что из этого процесса следует
исключить элемент искусственности (идейное напряжение в их
терминологии), неоднократно высказывалось многими творцами. Когда мысль
выдумывается, возникает под влиянием внешних мнений и теорий, она
рискует стать плодом искусственных конструкций и абстрактных
знаний. Чужое в этом процессе — путы, которые мешают идти. Речь идет о
том, что художник не признает никаких влияний, авторитетов в
творчестве, но как было сказано, само творчество складывается из
диалогических взаимоотношений с другими текстами, собеседниками и
мировоззренческими установками при их полной автономии.
«Нельзя нарочно писать, — утверждал Толстой... Чем больше
стараешься, тем яснее видишь, что делаешь что-то не то, что нужно и
даром тратишь материал. А подняться на те подмостки зависит не от меня.
И сидишь, и ждешь, пока под ногами вырастут эти подмостки» |1, п. 98
от 26 октября 1875, с. 221]. В этот же день он пишет в другом письме
A.A. Фету: «Страшная вещь наша работа. Кроме нас, никто этого не
знает. Для того, чтобы работать, нужно, чтобы выросли под ногами
подмостки. И эти подмостки зависят не от тебя. Если станешь работать
без подмосток, только потратишь материал и завалишь без толку такие
стены, которые и продолжать нельзя. Особенно это чувствуется, когда
работа начата. Все кажется: от чего же не продолжать? Хвать-похвать,
не достают руки, и сидишь дожидаешься»1. То есть уже в ходе
реализации замысла — создании произведения — творец вновь
обнаруживает чувство тоски, даже лени, томления, то есть составляющих того
же самого «остановочного» мироощущения, с которого начинались его
творческие предчувствия и настроения. Возникает ощущение
циклической повторяемости творческого процесса. Толстой описал важный
элемент творческого состояния при создании произведения:
неуверенность в себе, боязнь свободно проговаривать свои идеи, довериться
собственному таланту, идти за словом, живущим в душе, а не за общими
клишированными мыслями и фразами. В конечном итоге, это боязнь
непонимания, боязнь того, что не найдется умного и доброго читателя,
1 Цит. по указанному изданию переписки. С. 222.
150
диалог не состоится, а тем самым не состоится и сам автор — творец
произведения1. И он до того тяжело переживает эти «муки рождения»
(выражение Н. Страхова), что готов отказаться от реализации замысла,
бросить свое произведение на полдороге. Но мы-то понимаем, что
колебания уже закончены, и результат после всех болезненных мучений
и сомнений будет неизменен: родится новое уникальное произведение.
Известно, что Толстой очень тяжело завершал работу над «Анной
Карениной» и даже спрашивал у Страхова совета, не бросить ли вообще
написание романа. Страхов понимает, что все колебания мастера надо
принять как внутренние составляющие самого творческого процесса:
«Я за Вами слежу и вижу всю неохоту, всю борьбу, с которой Вы,
великий мастер, делайте эту работу; и все-таки выходит то, что должно
выйти от великого мастера: все верно, все живо, все глубоко» [1, п. 114
от второй половины апреля 1876, с. 264]. Понятно, что не Страхов
решает судьбу «Анны Карениной», но и без его поддержки, похвалы,
разбора уже напечатанных кусков, снятия напряжения от бесконечных
насмешек всяческих фактологистов (Толстого обвиняли в неправильном
описании некоторых обрядов или исторических сцен), возможно, сам
процесс создания был бы значительно более тернистым, длительным и
мучительным. Лучше всех эту психологическую настроенность
определил сам Толстой: «вы знаете, — наш брат беспрестанно, без переходов
прыгает от уныния и самоунижения к непомерной гордости» [1, п .115
от 23 и 26 апреля 1876, с. 267].
Окончательный процесс создания произведения — это как идея
«вечного возвращения» к творческому истоку, в котором, однако, мысль и
тема уже вполне определились и стали зримыми и объемными. Толстой
сравнивает цикличность творчества с рисованием круга: «Я не могу
иначе нарисовать круга, как сведя его и потом поправляя
неправильности при начале. И теперь я только что свожу круг и поправляю,
поправляю...». [1, п. 65 от 13 февраля 1874 г, с. 151]. При этом процесс
реализации оказывается столь же болезненным и напряженным, как и
ожидание и чрезвычайно хочется с кем-то поделиться текущей работой,
но делать этого нельзя — ибо только сам человек должен создать свое
произведение, в этом акте он обречен на одиночество. «Что бы я дал за
1 Фактически в это же время появились философы, которые не только не
боялись писать без читателя, но стали декларировать это как новое слово в
творчестве. Раньше многих эту мысль выразил В.В. Розанов, послав к «чертям» и
читателя, и собственное авторское самолюбие: «Ах, добрый читатель, я уже
давно пишу "без читателя", — просто потому что нравится». / / Розанов ВВ.
Уединенное. М., Русский путь. 2002. С. 10.
151
вас! Но я знаю, что это подлость, и сам себя надуваешь. Устал работать
— переделывать, отделывать дочиста, и хочется, чтобы кто-нибудь
похвалил и можно бы не работать больше...» [там же, с. 15111.
Произведение — результат, сопоставимый с рождением ребенка, и это не только
фигуральное выражение, но и буквальное. «От всей души поздравляю
Графиню (родила сына Андрея — мое добавление — С.К.) и Вас,
бесценный Лев Николаевич... Может быть, Вы найдете странным
сопоставление Карениной с Вашим новорожденным. Но для меня так вышло»
[ 1, п. 172 от 24-27 декабря 1877, с. 3871.
Любое произведение отражает меру таланта его автора. Талант же
каждого человека — творчески делать дело своей жизни: пахать,
писать, сочинять и т.д., действовать по влечению своего сердца и
одновременно выражать свой интеллектуальный и нравственный долг. Поэтому
произведение одновременно отражает и авторское мировоззрение, и
авторскую позицию. То есть любое цельное произведение основано на
мировоззрении, которое делает его и нравственным, и эстетическим, и
логическим одновременно. А это и есть выражение поэтики (культурная
парадигма начала века) как целостного сопряжения эстетики, этики и
логики в произведении. Как отмечал Страхов, автор произведения —
это «судья, — в одно время и беспощадно проницательный, и
совершенно милостивый, умеющий все оценивать в надлежащую меру» 11, п. 101
от 16, 23 ноября 1875, с. 227].
На основе сказанного можно сделать вывод о том, что в
диалогическом общении Толстого и Страхова рождается абсолютно уникальный
тип целостности художественно-философского мышления. Здесь
происходит тот же процесс, что и в искусстве, «когда обратимость «корней и
кроны», «до...» и «после...» означает... особый тип целостности,
«системности» искусства, как полифонического феномена»2.
1 Очень схожие творческие томления я нашла в высказывании М. Фуко о своих
идеях-книгах: «17 декабря 1976 года во время телепередачи «Апостроф»..., ее
ведущий Бернар Пиво с удивлением спросил: «Вы действительно не хотите
говорить о Вашей книге?» — «Не хочу, — ответил Фуко. — В книгах излагаешь то,
о чем думаешь, но, в частности, для того, чтобы больше об этом не думать. Когда
заканчиваешь книгу, ее не хочется больше видеть. Если любовь к книге жива,
работа над ней продолжается. Но как только любовь проходит, нужно поставить
точку». // Цит. по: ЭрибонД. Мишель Фуко. ЖЗЛ. М., 2008. С. 306.
2 Библер B.C. От наукоучения — к логике культуры. С. 283.
152
Беседа 6. H.H. Страхов и B.C. Соловьев:
к истории полемики
Полемика Соловьева и Страхова в общих чертах широко известна —
главным образом, конечно, в ее трактовке несравненно более
популярным создателем теории «всеединства», чьи полемические статьи,
составившие два выпуска книги «Национальный вопрос в России», в начале
«перестройки» были переизданы огромным тиражом1. Но и страховская
позиция отражена вполне адекватно, в первую очередь, В.В. Розановым
в книге «Литературные изгнанники»2 и в других его сочинениях.
Гораздо хуже освещены в современной печати конкретные детали
взаимоотношений Соловьева и Страхова. Судя по их ожесточенной печатной
полемике, можно подумать, что они всегда находились на непримиримо
враждебных позициях. Однако это совсем не так.
Чтобы разобраться в существе этого, далеко не устаревшего спора,
необходимо знать и сопутствовавшие ему обстоятельства. Прежде
всего, следует отметить, что Страхов апологетом «зоологического
патриотизма», радикалом от охранительства, как может представляться
недостаточно осведомленным читателям, вовсе не был. Он был типичным
представителем патриотизма просвещенного, бережно воспринимал
возвышенные заветы свободолюбивого славянофильства и неуклонно
отстаивал эту свою позицию. Уже тот факт, что почтенный критик и
философ ходил в близких друзьях у всё более впадавшего конце века в
еретичество Льва Толстого (хотя «толстовцем» Страхов, опять же, никогда
не был), говорит о том, что считать его «миниатюрой» консервативной
России (Соловьев), было большой натяжкой.
Во времена этой полемики Соловьеву было достаточно намекнуть на
«реакционность» взглядов Данилевского и Страхова, чтобы снискать
восторженное понимание либеральной читательской публики. Сейчас
времена иные. Наше интеллектуальное общество разделено и в значительной
степени поляризовано. У части мыслящего общества консерватизм ныне
в большой моде, но отнюдь не в той умеренно-патриотической форме, ка-
1 Соловьев B.C. Сочинения, в 2 т. М., 1989 (далее: Соловьев B.C. Сочинения).
2 Розанов В.В. Литературные изгнанники. H.H. Страхов. К.Н. Леонтьев. М., 2001.
По сравнению с первым изданием книги (Розанов В. Литературные изгнанники. Т. 1.
СПб, 1913) в современное издание впервые включены письма Розанова к Страхову.
153
ким его исповедовал Страхов. Его чаще порицают теперь за либерализм
и преклонение перед Толстым, чем за «обскурантизм». У Страхова
сегодня несравненно меньше сторонников, нежели, скажем, у сумрачного
апологета «византизма» Леонтьева или того же Данилевского, «акции»
которого поднялись настолько, что его иногда считают теперь чуть ли не
учителем Страхова. И едва ли не первым, кто уколол Страхова, называя
Данилевского «его учителем», был Соловьев1, а уж он-то, как никто, знал,
что Страхов, столь же образованный и глубокий, ни в коем случае
учеником Данилевского не был.
Творчество не ведавшего сомнений, «твердого и ясного как кристалл»2,
систематичного до схематизма историософа Данилевского, публициста и
почти политика по своей сути, резко отличается от сочинений
утонченного, вдумчивого Страхова, мысль которого, по замечанию В.В.
Розанова, «влечется к темным и неясным сторонам» природы, истории и
общественной жизни. Розанов убедительно показал, что чрезычайно сложные
и тонкие по мысли труды Страхова по своему характеру «совершенно
противоположны»3 величественным, но грубым чертам историософского
здания Данилевского, облекшего в твердую «скорлупу» доктрины не во
всем последовательные романтические мечтания славянофилов. Однако
как раз из-за того, что по натуре сам Страхов был совсем иной, смелая
его защита, уязвляемого всеми либералами (и действительно, кажется,
уязвимого), Данилевского характеризует философа прежде всего как
настоящего бойца и верного друга.
Можно допустить, что сами по себе общие положения Соловьева о
нравственной ущербности национального эгоизма вполне справедливы.
Несомненно, что обостренные национальные чувства, без смягчающего влияния
христианской морали, действительно способны породить опасные явления.
И Соловьев всё обличал Данилевского в национализме, «варварском
макиавеллизме» и т.п. Страхов же утверждал, что «общий смысл наставлений
Данилевского— дружелюбный» и что он показал себя в книге «истинно
христианским писателем»4, хотя, может быть, не слишком убедительно
мотивировал это. Кстати, Страховым справедливо отмечалось, что
Данилевский доказывает только, «что Европа нам враждебна, но ему и мысль не
приходит сказать <...> что и мы должны быть враждебны Европе»»5.
1 Соловьев B.C. Сочинения. Т. 1.М., 1989. С. 533, 539.
2 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. 2-е изд. СПб, 1890. Кн. 2. С. 297.
3 Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 210.
4 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб, 1896. Кн. 3. С. 189, 191.
5 Там же. С. 192.
154
В апелляции ко «вселенской» религии и «единому человечеству»
Соловьев отказывался признать самоценность отдельных, национальных
культур. Но совершенно очевидно, что чем индивидуальнее,
разнообразнее эти культуры, тем богаче мировая культурная «сокровищница»,
вбирающая эти достижения не в обезличенном виде, а в их конкретно-
исторической, национальной форме. Сейчас, в эпоху глобализма, когда
устрашающими темпами идет нивелирование национального
своеобразия, особенно остро воспринимается сомнительность соловьевской
пропаганды «вселенских» начал в культуре и религии.
Соловьев выступает в статьях против национального эгоизма и
призывает к христианскому нравственному идеалу, противопоставляя
национализму понятие «народности». Однако и исповедовавших «народность»
ранних славянофилов он, в конце концов, называет «родоначальниками
национализма». И создается впечатление, что этот жупел «повального
национализма» выставлен им только в тактических целях, — на самом деле
борьба ведется против национальных начал вообще и против православия,
т.е. против «русскости». Не случайно Соловьев вознамерился бранить
книгу «Россия и Европа» не тогда, когда она вышла в свет, а после
сокрушительной критики Данилевским тяготения Соловьева к католичеству
и папизму в статье «Владимир Соловьев о православии и католицизме»1.
Данилевский с твердостью, в присущей ему творческой манере, показал,
что Соловьев принял «явно и открыто сторону римского католичества»2.
Соловьеву полемизировать в православной России было, конечно,
трудно. Не имея возможности открыто критиковать восточную
«схизму», он избрал сомнительный путь перенесения своих обвинений на
конкретное сочинение, которое ныне по заслугам признано выдающимся
произведением русской историософской мысли. Поэтому апелляция
Соловьева в своей критике «России и Европы» к религиозно-нравственным
началам представляется несколько искусственной.
* * *
Страхов, выступив на защиту книги Данилевского, в силу
созерцательности своей натуры вовсе не был расположен пускаться в подобные
дискуссии, тем более, что они отвлекали от собственных тем. Но для
Страхова было просто делом чести вступиться за близкого друга, создателя
теории культурно-исторических типов. Страхов заведомо обрекал себя на
1 Данилевский Н. Владимир Соловьев о православии и католицизме //
Известия С.-Петербургского Славянского Благотворительного общества. 1885. Март.
2 Данилевский Н. Горе победителям. М., 1998. С. 337.
155
бесславную роль в споре со столь блестящим полемистом и
чрезвычайно одаренным философом, на стороне которого к тому же была почти вся
печать и общественное мнение. Соловьеву, самонадеянно присвоившему
себе миссию низвержения книги, которая, по его мнению, стала «кораном
всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить Россию и уготовить путь
грядущему антихристу»1, была совершенно непонятна, как он пишет,
«слабость» Страхова к этому сочинению. Но Страхов, меньше всего думавший
в данном случае о собственных интересах, вышел из этого, будто бы
проигранного, спора с ореолом исключительного благородства. Он отстаивал
идеи Данилевского как свои собственные — до оговорок ли ему,
скромному кабинетному затворнику, было в пылу борьбы о своих расхождениях с
покойным другом? Могли он пускаться в разъяснения о себе, о различиях
в воззрениях с Данилевским, человеком очень близким, но совершенно
не признававшим умозрения, когда пытались осквернить память близкого
друга, тем более, что в воинствующей антинациональной позиции
Соловьева Страхов (и далеко не он один) также видел веянье «духа
Антихриста», угрозу «погубить Россию»! Соловьев же от критики Данилевского и
осуждения безнравственной «мании национализма» как
господствующего заблуждения наших дней»2 постепенно дошел до абсурдных обвинений
самого Страхова в «восточной болезни» с использованием расхожих
жупелов либерализма: «равнодушие к истине и презрение к человеческому
достоинству, к существенным правам человеческой личности »3...
Призывы Соловьева к истине и нравственности примечательны по
своему поразительному несоответствию существу дела.
Парадоксальность ситуации заключается в том, что Соловьев действительно вел
себя в этом споре как публицист, если не сказать, как спортсмен (сам
Страхов видит в нем «актера, чем-то одурманенного»'1). Он не столько
доказывал истину, опираясь на научные факты, сколько стремился
фейерверком эффектных для читательской публики ходов, которые ему
счастливо подкидывала щедро одаренная творческая натура,
непременно взять верх, одолеть соперника. Главным оружием у него был уже
отработанный в либерально-нигилистической литературе и безотказно
действовавший прием намеков на ретроградность оппонента,
дополнительным — стремление во что бы то ни стало доказать
неоригинальность, заимствованный характер идей Данилевского.
1 Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 1. СПб, 1908. С. 60.
2 Соловьев B.C. О грехах и болезнях /Сочинения. Т. 1. С. 516.
1 Там же. С. 530.
4 Л.Н. Толстой — H.H. Страхов. Переписка. Т. 2. С. 773
156
Поведение Страхова было совершенно иным. Как настоящий
мыслитель, он, с присущей ему добросовестной основательностью ученого,
подбирал факты, выстраивал логичные доказательства, рассчитывая не
на сиюминутный успех, а на доводы разума и торжество истины.
Недостатком Страхова было то, что в своих спорах он слишком часто опирался
на цитаты, а это, конечно, утяжеляло его аргументацию. В научном
сообществе такой стиль ведения дискуссии общепринят, но в «летучей»
журнальной полемике, где на кону стоят идейные интересы, тяжеловесные
доказательства заведомо обречены. Однако в исторической перспективе
подобная, реально обоснованная, позиция имеет несравненно более
прочные основания для успеха.
Поэтому ответ на вопрос о победителе в этом споре далеко не очевиден,
и ход полемики, в которой внешне верх, за явным преимуществом, взял
Соловьев, нуждается в более тщательном анализе. Соловьев как полемист не
слишком симпатичен именно своим пророчески-инквизиторским тоном,
уклонением от прямого поединка реальных аргументов. Поведение же
более сдержанного в своих суждениях и, может быть, более скромного в
своих дарованиях Страхова было самоотверженным и мужественным. Хорошо
сказал об этой стороне спора В.В. Розанов: «Страхов не был гений. Но он
вот как «комендант Белогорской крепости» («Капитанская дочка»): тоже
стоял верно и честно на страже той науки, философии, литературы, какую
знал и какая была. <...> Что он был «не гений» — до этого было мало дела
Соловьеву, это было «тем лучше» для него. Но его голубиная чистота в
небольшом деле измучила «великого публициста» и мирового философа...»1.
* * *
Для понимания психологического «подтекста» этого важнейшего для
русской философии спора необходимо, однако, проследить, хотя бы
кратко, личные отношения двух этих мыслителей, начавшиеся в 1873 году,
задолго до знаменитого спора. В русской философии ярких личностей в то
время (да и всегда) было не слишком много. Когда появился Соловьев —
несомненный молодой талант (философу был всего 20 лет), явный
идеалист и критик западного рационализма — Страхов сразу выделил его из
общей массы, отметив у него задатки гения. Да и как было не выделить,
если заявленная им тема магистерской диссертации — «Кризис западной
философии. Против позитивистов» — почти страховская: она
перекликалась со многими положениями славянофилов и сочинений Страхова,
вошедших позже в его сборники «Борьба с Западом в нашей литературе».
1 Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 110.
157
Не удивительно, что 24 ноября 1874 года Страхов присутствовал в
Санкт-Петербургском университете на диспуте при защите юным MocKOBh
ским дарованием магистерского звания и опубликовал о нем в двух
столицах небольшие статьи — в петербургском «Гражданине» и в «Московских
ведомостях»1, написанные с симпатией к «диспутанту» и, конечно, со
знанием дела.
С этих пор и Страхов, и Соловьев не могли, конечно, не обращать
друг на друга пристального внимания. Страхов очень надеялся тогда,
что изрядно обедневший славянофильски-почвеннический лагерь
получит в лице Соловьева не просто достойное подкрепление, а
исключительно яркую философскую индивидуальность. В переписке Страхова с
Толстым тут и там мелькает обмен мнениями о прочитанных сочинениях
Соловьева, о его характере, высказываются опасения за его
болезненную внешность.
На тему книги Соловьева «Кризис западной философии. Против
позитивизма» (1875) Страхов написал статью «Гартман и Шопенгауэр»
(1875). Он с одобрением воспринял критику Соловьевым
западноевропейского рационализма и отметил в его сочинении наметившийся
«высший синтез философского познания и религиозной веры»2, который
молодой философ, понятно, намеревался осуществить сам.
Страхов пристально и не без менторской строгости следил за
развитием деятельности молодого философа, и почти с самого начала
далеко не всё устраивало его в философских сочинениях Соловьева. Об
этом свидетельствуют, в частности, его замечания о книге Соловьева
«Кризис западной философии». Прошедший школу Гегеля, Страхов
обнаруживает в «синтетизме» Соловьева скрытое влияние
завершителя немецкого классического идеализма: «...хоть он явно и отрицается
от Гегеля, но втайне ему следует. Вся критика Шопенгауэра основана
на этом». Страхова это, как раз, не слишком пугает — он и сам по-
прежнему опирается на гегелевский диалектический метод. Плохо
другое — Страхов ощущает сильнейший уклон Соловьева к
мистицизму дурного толка: «Но дело, кажется, еще хуже. Обрадовавшись,
что нашел метафизическую сущность, Соловьев уже готов видеть ее
повсюду лицом к лицу и расположен к вере в спиритизм. Притом он
так болезнен, так будто истощен — за него можно очень опасаться,
— добром не кончит. А книжка его, чем больше читаю, тем более мне
1 Философский диспут 24 ноября//Гражданин. 1874. №48. 2 дек. С. 1211-1212;
то же: Страхов Н. Философские очерки. Киев, 1902. С. 346-349. Еще о диспуте
Вл. С. Соловьева // Московские ведомости. 1874. № 308. 9 дек. Подп.: НС.
2 Страхов H.H. Философские очерки. Киев, 1906. С. 339.
158
кажется мне талантливою. Какое мастерство в языке, какая связь и
сила! Непременно напишу об ней»1.
5 апреля 1877 года Страхов пишет Толстому: «Вчера, т.е. 4-го, приходил
ко мне Вл. Соловьев, и, кажется, мы заведем с ним дружбу»2. Публичная
библиотека, где работает в это время Страхов, способствует сближению.
Через две недели он продолжает ту же тему: «С Вл. Соловьевым мы
видаемся, чуть не каждый день в библиотеке, и я надеюсь, что мы очень сойдемся.
Он, действительно, хороший, как вы пишете, но я так медленно понимаю
людей»3. А 18 мая он заключает: «С Вл. Соловьевым я наконец подружился
и надеюсь, что прочно. Он очень мил, и кажется я ему понравился»1.
Из писем Соловьева к Страхову (ответные, к сожалению, утрачены),
видно, насколько тесными были их отношения более десяти лет.
Соловьев не стеснялся в эти годы обременять холостяка Страхова (подобно,
кстати, Толстому и Достоевскому, да и прочим друзьям и приятелям)
самыми разными поручениями: «получить», «переслать», «взять в
Департаменте мое жалованье» и т.п., как это принято между друзьями.
В одном из недатированных писем, точнее записок, Соловьев благодарит
Страхова за квартиру — он останавливался там в отсутствие хозяина,
находившегося за границей5. Любопытно, что Соловьев нашел в квартире
один «недостаток»: «...жил в ней прекрасно, только большое искушение
от многокнижия — в нем же нет спасения».
В первом же письме, относящемся, видимо, к 1877 году, Соловьев
сообщает, что дал адрес Страхова для доставки своих книг и, извиняясь
за «злоупотребление», признается в теплых к нему чувствах: «Простите,
что так вами злоупотребляю, но в Петербурге вы для меня самый
интимный человек, и я на Вас смотрю как на родного дядюшку»6. А в 1883 году
Соловьев прямо объясняется Страхову в любви: «Я Вас очень люблю и
мне всегда бывает очень хорошо с вами»7.
Д.И. Стахеев, 18 лет деливший со Страховым квартиру у Театральной
площади, описывает посещения Соловьевым холостяцкого жилища
Страхова «в месяц раз или два», отмечая, что «он иногда, посетив нашу
квартиру, вместо беседы, погружался в чтение подвернувшейся под руку книги и
1 Л.Н. Толстой — H.H. Страхов. Переписка. Т. 1. С. 189-190.
2 Там же. С. 325.
J Там же. С. 329.
4 Там же. С. 335.
5 Письма В.С Соловьева. Т. I. С. 7.
6 Там же. С. 1.
7 Там же. С. 15.
159
погружался, бывало, настолько глубоко, что даже не слышал обращенных к
нему вопросов»1. И.Е. Репин рассказывает в воспоминаниях о страховских-
вечерах (видимо, 1887—1888 гг.): «Я познакомился с ним через Толстых
и потому полюбил всецело простоту его ясных больших глаз, и доброе,
всегда бодрое настроение, писал с него портрет и удостоился посещать
его уютные вечера, на которые очень большою приманкою был B.C.
Соловьев. Он также любил H.H. Страхова и имел к нему сердечное влечение;
в беседах о литературе и науке они тепло сближались, имея много общих
вопросов <...> И Владимир Сергеевич чувствовал себя, как дома»2.
Страхов опекает Соловьева по праву опыта и старшинства,
оценивает его сочинения, посещает его лекции. Его беспокоит нарастание
сомнительных мистических тенденций в творчестве Соловьева.
15 марта 1878 года, после очередной соловьевской лекции, где шла
речь о Софии, он указывает в письме к Толстому на уклон философа в
гностицизм, а характеризующее его тяготение к слиянию разнородных
духовных элементов: «Учение о софии по справкам оказалось
гностическим, также как и о божественном Христе, отличном от человека
Иисуса. Но я слишком мало знаю, чтобы говорить об этом, да и лекции
Соловьева представляют амальгаму уже существующих учений, — вернее,
существовавших. Он a priori выводит то, что узнал a posteriori»3.
Ближе к концу прослушивания лекций раздражение Страхова
отвлеченно-холодным тоном и эклектизмом воззрений молодого
философа усиливается: «Соловьева осталось дослушать только две лекции.
Мне приходит в голову, что это об мертвом предмете мертвым языком
говорит мертвый человек. Такой холод! Из немецкого идеализма он взял
все приемы и все недостатки — общие формулы, решение дела
нахрапом, отвлеченность. Между тем, немецкий идеализм отжил, и вот
является в подобных воскрешениях, как Шопенгауэр в виде Гартмана»4.
9 апреля 1878 года, после окончания последней лекции, Страхов
делает бесповоротный вывод об эклектизме и пантеизме философии Бого-
человечества и сжато формулирует свое восприятие соловьевских
воззрений: «Эта лекция была очень эффектна. С большим жаром он сказал
несколько слов против гнусного догмата о вечных мучениях. Конечно,
1 Стахеев Д. И. Группы и портреты. (Листочки воспоминаний) //
Исторический вестник. 1907. № 1. С. 88—89.
2 Репин И. Е. Случайные впечатления от Владимира Сергеевича Соловьева //
РГБ. Записки отдела рукописей. Вып. 52. М., 2004. С. 161.
3 Там же. С. 414.
4 Там же. С. 419.
160
готов был проповедывать многие другие ереси, но очевидно не смел, и
выбрал этот догмат для того, чтобы вполне ясно высказаться.
Соображая теперь все его лекции, я вижу, что он хотел произвести синтез
востока и запада, слить в одну систему атомизм, дарвинизм, пантеизм,
христианство и т.д. Дать всему свое место — задача хоть куда, но, во-
первых, она не исполнена, а, во-вторых, не видишь и тени того
оригинального приема, который бы давал надежду, что ее можно исполнить. <...>
Выходит пантеизм совершенно похожий на гегелевский, только с вторым
пришествием впереди. Каббала, гностицизм и мистицизм — внесли тут
свою долю»1. Таким образом, пантеизм, который к этому времени
преодолел сам Страхов, он обнаруживает в иной форме во взглядах Соловьева.
Однако страховские впечатления были негативными далеко не всегда.
Так, о выступлении Соловьева в университете, в ноябре 1880 года, он
пишет: «И вчерашняя лекция была блистательна»2. Несмотря на
скептическую оценку теургических фантазий Соловьева, редкая одаренность
молодого философа и общая идеалистическая направленность его взглядов
делают его одним из самых интересных современников для Страхова.
В эти годы многое сближало их. Оба принадлежали к избранному
философскому кругу, участниками которого в 1879 году было принято
решение об образовании Философского общества. В 1877-1881 годах Страхов
и Соловьев вместе состояли в Петербурге членами Ученого комитета
Министерства народного просвещения и встречались на заседаниях. У них
был большой круг общих знакомых, включавший Толстого, Грота, Фета.
В 1880 году они вместе побывали в Пустыньке под Петербургом у вдовы
поэта С.А. Толстой. Страхов с Соловьевым настолько сблизились, что
несколько раз писали Фету совместные письма: Соловьев делал приписки
своим размашистым почерком к аккуратным письмам Страхова.
6 апреля 1880 года Страхов присутствовал на защите Соловьевым
докторской диссертации «Критика отвлеченных начал», а на следующий
день, после встречи с ним, выразил обеспокоенность состоянием его
здоровья в письме к С.А. Толстой: «Через неделю, вчера, совершилось
наконец великое торжество — был диспут Вл. Соловьева на доктора
философии. Сам он был великолепен; так спокоен, прост, так мастерски
говорил. К несчастью, сильных возражений не было... Когда он стоял на
кафедре, никто бы не дал ему меньше 35 лет, а сегодня он мне опять
повторил, что ему скверно что-то»3.
1 Там же. С. 425-426.
2 Там же. Т. 2. С. 684.
:* Л.И. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с H.H. Страховым. С. 150.
161
В начале 1880-х годов Соловьев и Страхов «встретились» на
страницах аксаковской «Руси». Это было время их интенсивного общения. Ö
1881 году Соловьев с интересом прочел в «Руси» страховские письма
о нигилизме; в 1883 году, после выхода «Борьбы с Западом в нашей
литературе» (Кн. 2), выражает благодарность за «прекрасную книжку*1;
выделив статью о Дарвине, хвалит статью о Тургеневе, анализ поэмы
Фета «Вечерние огни». Он «с большим удовольствием» читает всё, что
выходит из-под пера Страхова. Никакого «брюшного патриотизма» в
сочинениях Страхова Соловьев тогда не обнаруживал. Он даже назвал его
«первейшим литературным критиком» в одном из писем2.
Но расхождения постепенно накапливались и становились все более
заметными. В 1881 г., после убийства царя, Соловьев произнес свою
знаменитую речь о смертной казни, в конце которой убеждал, что Царю, в
силу высшей правды, следует простить убийц. Присутствовавший на
лекции Страхов, найдя ее холодной, отозвался о ней отрицательно. Дело было,
прежде всего, в тональности: одновременно Страхов обнаружил в письме
Толстого к царю на аналогичную тему «столько чувства и горячего желания
добра», что согласился ходатайствовать о передаче письма императору.
5 ноября 1882 года Страхов не без сожаления писал Данилевскому
о Соловьеве по поводу его гегельянского «примирительства» и
мистицизма с оттенком гностической ереси: «Бесподобные силы, хорошая
натура; но я всё думаю, что он идет ложным путем. Он всё примиряет и всё
объясняет. Я уже говорил ему, что это дело старое, что так делал Гегель
<...> и что известно, куда это ведет. В сущности его писания (то есть
Соловьева) еретические; для меня это ничего, но для него очень дурно,
потому что он не хочет быть еретиком. Мир Божественный для нас есть
тайна, вот настоящее православное учение. Часть этой тайны нам
открыта, и мы поэтому знаем, что своим умом никогда не могли бы знать.
А он всё это хочет разгадать и привести в систему»3.
Ту же тему он развивал в 1884 году в письме к И.С. Аксакову,
подвергая критике тяготение философа к отвлеченным теософским схемам:
«Соловьев называет себя мистиком; но он не мистик, а теософ. Он предается
всяким построениям божественного мира и судеб человечества. По-моему,
это радость обманчивая, хотя и очень увлекательная»71. При этом, однако,
Страхов заявляет: «Соловьев мне очень дорог, потому что разъяснил мне
1 Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 15.
2 Там же. С. 21.
J Русский вестник. 1901. Февраль. С. 460-461.
4 И.С. Аксаков — H.H. Страхов. Переписка. М. ; Оттава. 2007. С. 120.
162
понятие Церкви. Он один настоящий церковник, т. е. не только утверждает,
что вне церкви нельзя спастись, но и ясно понимает, почему это так».
Верный дружбе, Страхов был еще долгое время достаточно
терпим к Соловьеву, даже после ставшего очевидным тяготения его к
католицизму. Он продолжал помещать статьи Соловьева в «Известиях
С.-Петербургского Славянского благотворительного общества», где
состоял редактором, даже после ссоры философа со славянофилами и ухода
из аксаковской «Руси», несмотря на то. что И.С. Аксаков был в эти годы
одним из наиболее духовно близких ему людей. Впрочем, и сам Аксаков
всё еще благоволил к закусившему удила Соловьеву — он был готов
публиковать его статьи, но «только без известной тенденции, не о Риме,
который он почитает быть вечным, не о феократии...»1. Именно Страхов
опубликовал ряд важных полемических статей Соловьева. Так как со
взглядами философа Страхов согласен не был, то поэтому сопровождал
его публикации, в которых уже явно звучали прокатолические симпатии,
обширными замечаниями от редакции, собственными или A.A. Киреева.
Страхов объяснял свою редакторскую позицию тем, что вопрос о
католичестве подлежит не замалчиванию, а обсуждению: «Мы дали место
статье г. Соловьева уже и потому, что она, во всяком случае, принадлежит к
числу статей, расширяющих кругозор, приучающих читателей к
важному вопросу, разрывающих заколдованный круг молчания. Католичество
жестоко ославило себя; мы справедливо его чуждаемся. Но неужели до
такой степени, что не можем уж и рассуждать спокойно?»2.
Однако радикально настроенными членами Совета Славянского
общества широта взглядов Страхова была воспринята как редакторский
«либерализм» и решительно пресечена. Соловьев в 1885 году сообщал
брату, что Страхов был вынужден покинуть редакторское место за
помещение его статьи: «Страхов приехал: его выгнали из редакторов «Слав.
Извест.» за мой ответ Д<анилевско>му. Ламанский об'явил ему: или вы
выходите из редакторов, или мы все выйдем из Совета общества»3. Итак,
Страхов даже пострадал из-за сочувствия Соловьеву (вернее, конечно,
из-за широты своих взглядов). Подобной широты, терпимости со
стороны Соловьева во время их приближающейся «сшибки» мы не увидим.
Нарастающее увлечение Соловьева католичеством пока не
препятствует их дружескому общению, хотя Страхову оно, конечно, очень не
1 Там же. С. 145.
2 Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества. 1884.
Март. С. 27.
3 Письма B.C. Соловьева. Т. IV. С. 104.
163
нравится. 2 января 1885 года он пишет Фету: «Сегодня зашел Соловьев,
бодрый, веселый, так что я порадовался. Впрочем, он сидит рядом со
мною каждый день в Библиотеке — что мне очень приятно. Читает он
акты Вселенских соборов, к нему часто заходит католик Гезен — и всё
это мне представляется чем-то опасным. — Часто вспоминаем и об Вас,
и читаем друг другу Ваши письма»1. О встречах с Соловьевым в
библиотеке писал он также С.Л. Толстой и Н.Я. Данилевскому.
Но разногласия во взглядах, существовавшие всегда, доходят,
наконец, и до открытой полемики. Серьезная размолвка произошла между
философами в начале 1887 года из-за книги Страхова «О вечных
истинах. (Мой спор о спиритизме)». Страхов доказывал невозможность
явлений медиумизма, так как они противоречат законам механической
физики и математики, действующим в пределах природы. Спиритические
духи не могут отменить непреложных физических истин. Дух ошибочно
представляется спиритам «в виде тонко-материального, но
одушевленного существа»2, и сам спиритизм есть «грубейшее овеществление
духовных явлений». Соловьев, однако, посчитал, что рационалистическая
аргументация Страхова не выдерживает критики, так как отвергает
возможность религиозного чуда, и обвинил его в... механистическом
материализме: «Ваша аргументация имеет силу против всяких чудес ...
т.е. против религии. Религии без ангелов и чертей не бывает»3.
Страхов очень обиделся: Соловьев, прекрасно знавший его идеалистические
взгляды, выставил его адептом вульгарного механистического
материализма, не вникая в суть его философского обоснования антиспиритизма.
Внешне аргументация Соловьева по поводу христианских чудес
выглядит весьма убедительной, но подлинная причина такого
демонстративного непонимания крылась в том, что он сам, увлекавшийся, как
известно, в молодости, спиритизмом, имел слабость к оккультной практике
вполне материалистического «ощупывания» запредельного.
В 1887 году, окончательно обосновавшись в западническом
либеральном «Вестнике Европы» М.М. Стасюлевича, Соловьев к концу года
разворачивает против своего «друга» идейную «войну». Готовя
нападение на Данилевского, сочинения которого издавал Страхов, он, конечно,
1 ОР ИРЛИ. П. III. Оп. I. № 2072. Л. 54 б.
2 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 2. Изд. 2-е. СПб, 1890. С. 290.
3 Розанов ВВ. Около народной души. М., 2002. С. 387.
164
понимал, что затевает, но почему-то надеялся при этом сохранять
прежние добрые отношения. Стасюлевичу он пишет: «Приятель мой Страхов
готовит 4-е издание «России и Европы» Данилевского. Мой взгляд на
это сочинение диаметрально противоположен взгляду Страхова, и я
готовлю обстоятельный разбор «России и Европы», с присоединением
некоторых замечаний и о «Дарвинизме», того же автора. Я хотел было
назвать свою статью «Философия пустых претензий», но из уважения к
памяти Данилевского, который в других отношениях был почтенный и
разумный человек, переменю заглавие. Когда этот разбор будет готов,
пришлю его Вам...»1. Чтобы не портить отношений, Соловьев
намеревается послать Страхову корректуру для устранения самых резких
высказываний и сообщает ему об этом: однако потом, по решению Стасюлеви-
ча, отказывается от своего намерения. В феврале выходит в свет статья
«Россия и Европа», положив начало спора. Страхов в июне отвечает
большой статьей «Наша культура и всемирное единство».
Соловьев продолжал посещать квартиру Страхова, озадачивая его
поручениями (по старой привычке), несмотря на их, уже явные
разногласия. Например, в октябре 1888 года он отправляет Страхову несколько
экземпляров своей брошюры «L'e russe» для раздачи общим знакомым,
несмотря на то, что ее содержание заведомо неприемлемо для Страхова, и
только потом спохватывается и просит передать брошюру Стасюлевичу.
А вскоре Соловьев из Загреба поясняет Стасюлевичу, почему он
намерен «изобличать восточные грехи» Страхова: «...я нашел в одном
журнале известие об ответе Страхова на мою «Россию и Европу». Это меня
очень интересует, а отчасти и Вас касается, ибо за невозможностью
писать прямо о грехах России, я мог бы написать у Вас о грехах Страхова,
что в сущности все равно, так как в Страхове я вижу миниатюру
современной России»2. Аргументация выступления против Страхова та же,
что и против Данилевского: «...в последнее время и в известных кругах
Страхов стал пользоваться чуть ли не авторитетом, и изобличить его
восточные грехи дело по-моему не бесполезное, хотя и очень скучное»3.
У Соловьева было своеобразное представление о дружбе и не менее
странное чувство юмора. 16 декабря 1888 года он высказывает брату
Михаилу, в присущем ему полушутливом тоне, странные и
самоуверенные предположения: «Например, Страхов, которого я люблю, но
которого всегда считал свиньей порядочной (?! — В.Ф.), нисколько меня
1 Письма B.C. Соловьева. Т. IV. С. 32.
2 Там же. Т. IV. С. 39.
3 Там же. С. 39-40.
165
не озадачил своей последней мазуркой, и хотя я в печати поругал его
как последнего мерзавца, но это нисколько не изменит наших интимно-
дружеских и даже нежных отношений»1.
Соловьев намеревался и дальше «дружить» со Страховым. И в это же
время писал брату Михаилу в 1888 году из Загреба: «...нашел между
прочим 1 ) известие о какой-то статье старого кота Страхова против меня»2.
Напомню, однако, что помимо угасающей дружбы, на продолжение
которой рассчитывает Соловьев, его критический пыл могло бы поумерить
хотя бы то обстоятельство, что «старому коту» было уже 60, а ему в январе
1888 г. исполнилось лишь 35, и он годился Страхову в сыновья. Розанов,
между прочим, высказал даже весьма правдоподобное предположение о
психологической первооснове такого поведения Соловьева: «Со
Страховым он разошелся жестко, неуклюже: едва ли не от того он и разошелся с
ним так неумело, что ранее состоял в застенчивом положении ученика»3.
В конце 1888 года Соловьев пишет Стасюлевичу из Загреба о
замысле статьи, которая станет известной под названием «Славянофильство и
его вырождение»: «...у меня есть в мысли еще другая статья — вполне
цензурная: о распадении славянофильства. На мой взгляд, старое
славянофильство было смешеньем нескольких разнородных элементов, и
главным образом трех: византизма, либерализма и брюшного патриотизма
<...> брюшной патриотизм, освобожденный от всякой идейной примеси,
широко разлился по всем нашим низинам, а из писателей
индивидуальных представителем его выступил мой друг Страхов, который головою
всецело принадлежит «гнилому Западу» и лишь живот свой возлагает на
алтарь отечества»'1. Таким образом, «приятель» или даже «друг» Страхов
становится постепенно для Соловьева главным и чуть ли не
единственным представителем враждебного ему «брюшного патриотизма».
Характерно, что не только Соловьев, но и Страхов, узнав об
очередном полемическом уколе оппонента, еще надеется на сохранение добрых
отношений: «Отвечать едва ли нужно, и думаю, что эта полемика нас не
поссорит навсегда»5.
Но когда-то такие странные отношения «дружбы-вражды» должны
были закончиться. В августе 1890 года, когда Страхов возвращался с
1 Там же. С. 118.
2 Там же. С. 117.
:) Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе. М., 1996. С. 476.
4 Письма B.C. Соловьева. Т. IV. С. 40-41.
Г) Л.Н. Толстой и С.А. Толстая. Переписка с H.H. Страховым. Оттава; Москва,
2000. С. 216.
166
юга через Москву, состоялась его вполне дружеская встреча с
Соловьевым и Цертелевым, и добродушный Страхов несколько даже «растаял»
от теплого общения с молодежью. В том же году Страхов выпустил
переиздание второго тома «Борьбы с Западом», включив в нее без купюр
свои первые полемические статьи, и Соловьев, восприняв это как вызов,
написал новую, крайне резкую статью «Мнимая борьба с Западом».
Испытав шок от неожиданного нападения «друга», Страхов, естественно,
посчитал статью коварным и неблаговидным поступком.
Оправдательное письмо Соловьева несколько запоздало: «Я хотел и не успел перед
Вашим отъездом сказать Вам о своей полемической статье, которая на
этих днях должна появиться (или уже появилась) в «Русской Мысли»,
если только не вмешалась цензура. Хотя мне пришлось многое у вас
одобрить, а за кое-что и горячо похвалить, но в общем, конечно, Вы будете
недовольны. Что ж делать?»1 По контрасту со смиренным началом
письма особенно бросаются в глаза наивно-дерзкие строки: «В этом споре из-
за «России и Европы» последнее слово во всяком случае должно
остаться за мной — так написано на звездах».
Далее Соловьев подробно и выразительно излагает свое полемическое
кредо: «Книга Данилевского всегда была для меня ungeniessbar2, и во
всяком случае ее прославление Вами и Бестужевым кажется мне
непомерным и намеренным преувеличением. Но это, конечно, не причина для
меня нападать на нее, и вы, может быть, помните, что в прежнее время и
из дружбы к Вам даже похваливал мимоходом эту книгу, — разумеется,
лишь в общих и неопределенных выражениях. Но вот эта невинная
книга, составлявшая прежде лишь предмет непонятной слабости Николая
Николаевича Страхова, а чрез то бывшая и мне до некоторой степени
любезною (курсив мой. — В. Ф), — вдруг становится специальным
кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить Россию и уготовить
путь грядущему антихристу. Когда в каком-нибудь лесу засел неприятель,
то вопрос не в том, хорош или дурен этот лес, а в том, как бы его получше
поджечь. <...> Вы смотрите на историю, как китаец-буддист, и для вас не
имеет никакого смысла мой еврейски-христианский вопрос: полезно или
вредно данное умственное явление для богочеловеческого дела на
земле в данную историческую минуту?» «Если это объяснение и не
удовлетворит Вас, то, надеюсь, Вы мне поверите на-слово, что поддерживать
свою позицию в этом споре есть для меня обязанность»3. Не удивительно,
1 Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 59.
2 неприемлемой, поганой (нем. ).
3 Там же. С. 59-60.
167
что после такой велеречивой декларации, возмущенный до глубины души
Страхов, не мог не принять на себя «обязанность» выступить на защиту
дорогих ему идей, хотя продолжения спора ему очень не хотелось.
С. Франк в статье «Письма Вл. Соловьева» восторгается его
«историческим чутьем»1, приводя эту же выразительную цитату,
напоминающую замысел какой-то полицейской карательной операции, и не замечает
очевидной пошлости этого типичного проявления нетерпимости
воинствующего либерализма. Доводы о «полезности» и тем более о «богоче-
ловеческом деле», приводимые Соловьевым, не слишком убедительны ни
в научном, ни в нравственном отношении. Вообще-то, стремление к
«выжиганию леса» из-за несогласий с «неприятелем» в духовной сфере во все
времена считалось занятием антикультурным. «Вопрос, как видите,
превосходный; Соловьев, как пророк, его решил, и, конечно, как инквизитор,
сжег бы меня и все экземпляры России и Европы» 2.
К началу века в России в среде символистов сложился своеобразный
культ «теурга» Владимира Соловьева. И тогда еще молодой Андрей Белый, с
придыханием прослеживая «мистический путь» Соловьева, «под знаком ему
светивших зорь», освященный явлением таинственной музы, вторит своему
«гуру», сохраняя «танатологическую» окраску его образности в полемике с
Страховым: «Этот голос ему шептал: «Будь в Египте». Но этот же голос
шептал ему: «Полемизируй со Страховым, ибо Страхов — эмблема смерти»»3.
Страхова во враждебной полемике возмутил даже не сам псевдо-
«боговдохновенный» тон объяснения Соловьевым своих
антипатриотических эскапад, а то коварство, с каким был нанесен этот новый удар.
«Хотел и не успел» — это, конечно, не оправдание: при личной встрече,
когда за беседой была выпита даже бутылка вина, у Соловьева не нашлось
времени (или силы духа) сообщить о печатающейся враждебной статье.
Это был момент окончательного разрыва. Но и тут мудрого Страхова, в
отличие от молодого категоричного оппонента, беспокоит не своя победа, но
нравственная репутация Соловьева: «Но дурень он, дурень. Что ж он
сделает плохими журнальными статейками! Только себя осрамит! А между
тем, он уже заранее торжествует в этом самом письме»'1.
Начался новый виток полемики. Статья Страхова «Новая выходка
против книги Данилевского» была резка. В октябре 1890 года Соловьев про-
1 Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб, 1996. С. 379-380.
- Л.П. Толстой — H.H. Страхов. Переписка. Т. 2. С. 836.
3 Белый Андрей. Владимир Соловьев. Из воспоминаний // Белый Андрей.
Арабески. М., 1911. С. 389-390.
1 Л.Н. Толстой — H.H. Страхов. Переписка. Т. 2. С. 836.
168
сит у Стасюлевича оставить место для своего ответа, «помешавшемуся
со злобы Страхову», и добавляет: «Вы меня очень обяжете, напечатавши
у себя, так как оставить кажущуюся победу за моим другом-скорпионом
было бы мне неудобно»1. Он всегда отличался экстравагантностью
выражений, но «друг-скорпион» — это, пожалуй, слишком. Эту ответную
статью, «Счастливые мысли H.H. Страхова»2, Соловьев назвал в одном
из писем в своем привычном стиле «зуботычиной Страхову»3.
* * *
Признанный эрудит Страхов мимоходом упомянул в одной из
полемических статей книгу Рюккерта как пример того, что и европейским ученым не
чужда идея, развернутая Данилевским. Это был, конечно, тактический
промах: в споре с таким «другом-скорпионом» ему следовало всё время быть
начеку. Не упомяни он о «зачатках мысли о типах» у Рюккерта — не
нажил бы себе новых проблем. И вот Соловьев в декабре 1890 года разразился
статьей-открытием, статьей-разоблачением: «Немецкий подлинник и
русский список». Оказывается, Данилевский ничего нового не придумал, а
просто переложил на свой лад заимствованную у немецкого ученого теорию.
Вообще-то в России, с обычным для нашей интеллигенции
преклонением перед Западом, всегда было наоборот — если уж есть аналог в Европе, то
это свидетельство философии самой высокой пробы. Но не таков наш
великий Соловьев — теперь он обвиняет Данилевского в отсутствии «научной
самобытности» и чуть не в плагиате. В споре все средства хороши.
Изворотливый ум Соловьева подсказал ему новый поворот темы: он
стал оспаривать оригинальность идей Данилевского. Ученые вечно
заимствуют что-то друг у друга, развивая и дополняя — таков естественный
ход науки. Но это не аргумент для Соловьева: ему во что бы то ни стало
надо победить в споре!
После нелепого обвинения Данилевского в заимствовании идей
Страхову, убежденному, что «эти две книги не имеют ничего общего», писать
подробное доказательство очевидного не хотелось, и он почел бы
«великой радостью», «если бы кто взял на себя определить отношение книги
Рюккерта к книге Данилевского»'1. Единственным человеком, который
мог бы написать такое опровержение, был Розанов, который, к сожале-
1 Письма B.C. Соловьева. Т. IV. С. 45-46.
2 Вестник Европы. 1890. Ноябрь.
3 Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 105.
1 Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 126.
169
нию, не знал немецкого языка. Так что Страхову пришлось погружаться
в книги и вести нудное доказательство на цитатах, что у Рюккерта были
только намечены самые общие контуры того грандиозного плана
истории, который развернул Данилевский.
Он стал оправдываться, что Данилевский, мол, и не читал вовсе
Рюккерта, да и сочетание слов «культурно-исторический тип» немецкий
ученый не употребляет. Соловьев накинулся коршуном: читал — не читал,
кто теперь разберет?! Взял в библиотеке книгу, о которой прежде, до
упоминания о ней Страхова, явно не ведал, и нашел-таки у Рюккерта не
только термин, но и «всё существенное содержание «России и Европы»»1.
Соловьев торжествовал: ясное дело — типичный плагиат! В пылу полемики он
мимоходом обвинил даже в этом грехе и самого автора «Борьбы с Западом»,
который будто бы все заимствовал у Гегеля и западной науки вообще.
Страхов, удивленный своим недосмотром термина у немецкого
философа, принялся сравнивать тексты и был поражен: «Подчеркнутых слов
<...> нет в тексте Рюккерта; слова эти вставлены переводчиком, как
будто бы для пояснения текста, но в сущности для того, чтобы придать ему
другой смысл »-'.Возмущению добродушного Страхова не было предела:«...
взять термин Данилевского и вставить его в самый текст Рюккерта — это
переходит всякие границы»3. Как ни удивительно, но на это разоблачение
«фокуса» почти никто не обратил внимание: Страхова мало кто и читал,
а о победах Соловьева гремели все либеральные издания. «Победителем»
же в злополучном споре Соловьев смог стать только при этой ловкости
престижидатора. Но кто же судьи?! Конечно, общественное мнение.
Розанов писал в 1913 году в примечаниях к письму Страхова: «Между тем до
сих пор многие верят Влад. Соловьеву, будто Данилевский «украл» у
Рюккерта его мысли, и «Россия и Европа» есть плагиат с немецкого. Соловьев
мог бы понять, что самый ум Данилевского был не компилятивный»'1.
У Розанова тогда, кстати, возникла крамольная мысль, что хврошо бы
«проверить со справочниками на руках» на предмет компиляции самого
Соловьева, но ему это, конечно, было не по силам. Собственное
творчество Соловьева соткано из тысячи разных источников, и если бы тот же
Страхов в качестве контрудара захотел уличить склонного к эклектизму
оппонента в заимствованиях, скажем, у Конта или Гегеля, он без труда
бы сделал это. Но благородному человеку это даже не пришло в голову.
1 Соловьев B.C. Сочинения. М., 1989. Т. 1. С. 588.
1 Страхов И. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб, 1896. Кн. 3. С. 212.
J Там же. С. 213.
4 Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 126-127.
170
В мире все-таки есть справедливость: нашелся исследователь, который
подтвердил мнение Страхова, что, сопоставляя тексты Рюккерта и
Данилевского, наше философское «всё» совершило не совсем нравственный
поступок. Много лет спустя тщательный разбор этой темы был сделан
американским ученым P.E. Мак-Мастером, и вывод его категоричен: ни
0 каком плагиате речи быть не может. Мак-Мастера, автора книги о
Данилевском, в сочувствии философу, которого он считал «тоталитарным»1,
никак не заподозришь. Он оказался, не в пример отечественным
исследователям, человеком дотошным и объективным. Сверив перевод с
немецкого цитат из Рюккерта со статьей Соловьева, Мак-Мастер обнаружил,
что философ «неожиданно повел себя легкомысленно и для
доказательства собственной правоты пошел даже при переводе на русский язык на
некоторое «редактирование» текстов Г. Рюккерта, что сильно меняло их
смысл»2. Проще говоря, Соловьев совершил подлог ради достижения
своих «высоких» целей в борьбе с теорией культурно-исторических типов, а в
более широком плане — с русским национальным самосознанием.
Полемика продолжалась еще некоторое время, но ход ее был уже
предопределен. Об ее итогах можно сказать словами Розанова: «...в
споре шум победы был на стороне Соловьева, а истина победы была на
стороне Страхова. Но Страхов писал в «Русском Вестнике», которого никто
не читал, а Соловьев — в «Вестнике Европы», который был у каждого
профессора и у каждого чиновника на столе»3.
Хотелось бы еще обратить внимание читателей на некоторые соло-
вьевские эпистолярные «перлы», относящиеся к Страхову. Так, по поводу
кончины консервативного философа П.Е. Астафьева (7 апреля 1893 г.),
при жизни резко критиковавшего Соловьева (как, впрочем, и Страхова) и
находившего в религиозно-мистических построениях оппонента
отчетливое влияние позитивизма, Соловьев написал Н.Я. Гроту кощунственные
слова: «Мир праху Астафьева! Теперь философия этого рода имеет только
двух представителей: Страхова и Розанова — мир и их праху!»4. Не
говоря о непочтительно-двусмысленном отзыве о покойном, здесь явно
проскользнуло недвусмысленное пожелание смерти живым людям]
Выражения Соловьева по поводу полемики со Страховым с
нравственной точки зрения не выдерживают никакой критики. Сообщения о сво-
1 MacMaster R.E. Danilevsky. A Russian Totalitarian Philosopher. Cambridge,
Mass., 1967.
2 MacMaster RE. The Question of Heinrich Rbckert's Influence on Danilevsky / /
American Slavic and East European Review. Feb. 1955. Pp. 59-66.
3 Розанов В.В. Литературные изгнанники. С. 14.
4 Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 72.
171
их «ударах» Страхову, написанные в каком-то шутливо-самодовольном
и одновременно панибратском тоне Соловьев, не стесняясь, рассылал по
самым разным адресам, в том числе, например, их «общему приятелю»
К.Н. Леонтьеву: «Посылаю Вам, дорогой Константин Николаевич, эти
палочные удары по спине (! — В.Ф.) нашего общего приятеля, дабы Вы
видели, что я в либерализме не педант <...> Брань моя со Страховым
кажется еще не закончилась, и я решил оставить последнее слово за собой»1.
А 30 июля 1893 года Соловьев пишет брату об очередной статье
«против»: «Завтра или послезавтра пошлю тебе обещанную статью из
«Вестника Европы» <...> Я возобновил дружеские отношения с
Кутузовым, которые были прерваны четыре года тому назад. Примирение же
со Страховым я видел только во сне. Когда увижу наяву, то подумаю, не
наступил ли мой смертный час»2.
Уже в 1895 году (если нет ошибки в датировке письма), Соловьев
посылает своему другу Э.Л. Радлову, будущему издателю его переписки, такое
«шутливое» послание: «Пишу некролог (курсив мой. — В.Ф.) H.H.
Страхова — воображаю — как он теперь удивлен и сконфужен. Вот бранить-
то его буду, когда увижу, не отхихикается»3. Не совсем ясно, о чем речь,
но «некролог» здесь — скорее, образ, шутка в прежнем роде, хотя такой
юмор на большого любителя. Любопытно, что одна из мемуаристок
считает, что некролог писался Соловьевым после кончины Страхова и
приводит эти слова как проявление веры Соловьева в миры иные4.
Как бы то ни было, но когда Соловьев вскоре после этого узнал о
неизлечимой болезни Страхова, то попросил Розанова организовать встречу
для примирения. Об этой встрече Розанов писал С.А. Рачинскому в
начале 1896 года: «В пятницу на той неделе, т. е. 5-го января, по убедительной
просьбе Соловьева Вл., я упросил Страхова помириться с ним: Соловьев
приехал прямо из Царского Села, в 10 ч. вечера ко мне, и Страхов тут
же приехал. Соловьев вошел к нему и протянул руку — поцеловал его
в голову; 2 часа просидели они, мирно разговаривая. — Страхов ужасно
не уважает Соловьева: «Нет ни настоящих мыслей у этого человека, ни
настоящих чувств», — сказал он; и «только для вас я это делаю и без
всякого ожидания какого-нибудь толка», — сказал он мне, когда, получив в
четверг телеграмму от Соловьева, я пошел приглашать его. Он убежден,
1 Там же. Т. IV. С. 265.
2 Там же. С. 127.
3 Там же. Т. I. С. 255.
4 Ельцова K.M. Сны нездешние//Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991.
С.139.
172
что Соловьев — весь фальшивый...»1. Итак, примирение произошло, как
ранее Соловьев и писал Толстому, «во имя евангельской заповеди и
личного чувства без всякой солидарности во взглядах и стремлениях»2.
14 февраля 1896 года Соловьев обещает Стасюлевичу прислать для
мартовского номера «Вестника Европы» «краткое поминание» о недавно
скончавшемся Страхове, называя его при этом в письме своим «врагодругом»3,
и собирается написать затем большой некролог. Что касается некролога,
то Соловьев действительно писал его, однако так и не закончил. Из
содержания некролога, который до недавнего времени оставался неизданным4,
становится понятным, почему он так и не появился тогда в печати.
Сконцентрировав в нем свое внимание на противоречии во взглядах Страхова,
отстаивавшего почти одновременно контрастные до непримиримости идеи
Данилевского и Толстого, Соловьев, по существу, продолжил полемику с
уже отошедшим в мир иной «врагодругом». Для некролога,
предполагающего посмертное примирение, такой подход был, конечно, неприемлем. Если же
упомянутое выше мистическое толкование соловьевского «некролога»
действительно относится к данному наброску (в чем есть большие сомнения), то
это не может не вызвать ничего, кроме чувства неловкости за автора.
Публикатор некролога Н.В. Котрелев упоминает о первоначальном, не
вошедшем в опубликованный текст, варианте предисловия к «Трем
разговорам» (1900), в котором Соловьев заявлял: «Хотя собеседник,
обозначенный буквой Z, более других приближается к моему образу мысли, но
вместе с тем некоторыми внутренними и внешними чертами он
напоминает покойного К.Н. Леонтьева, а другими — покойного H H. Страхова,
в целом они были мало похожи друг на друга, а я коренным образом
расходился с обоими этими писателями по самым важным вопросам»5. Этому
заключительному аккорду отношений двух мыслителей автор публикации
придает, на наш взгляд, чрезмерное значение, трактуя этот черновой
вариант предисловия так, будто Соловьев сознает Страхова носителем
образа мыслей, предельно близкого его собственному. Как следует из слов
самого Соловьева, они со Страховым представляли все же две
совершенно различные грани отечественной философской мысли, хотя
некоторыми сторонами их воззрения, несомненно, соприкасались.
1 ОР РНБ. Ф.631. Ед. хр. 85. № 20. Л. 50.
2 Письма B.C. Соловьева. Т. IV. Прил. С. 258.
3 Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 130.
4 Соловьев B.C. Некролог H.H. Страхова. Публ. Н.В. Котрелева//Соловьевские
исследования. Периодический сб. научных трудов. Вып. 11. Иваново, 2005. С. 158-167.
5 Там же. С. 163.
173
Беседа 7. H.H. Страхов и тема
«литературного изгнанничества»
в сочинениях В.В. Розанова
Термин «литературные изгнанники» был введен в употребление
Василием Васильевичем Розановым для названия несправедливо забытых
философов и литераторов, чье творчество, как и творчество Николая
Николаевича Страхова, было в свое время маловостребованным, хотя
обладало значительным потенциалом, немалым, нераскрытым ресурсом
влияния на отечественную культуру. Заслуга Розанова — в самой
постановке, еще в конце XIX века, темы «литературного изгнанничества»
в русской философии. В этом он оказался весьма проницательным,
поскольку раскрыл в известном смысле вечную характерную особенность
русской философии и даже культуры в целом, а именно то, что она во
многом состоит из потерь и последующих попыток вернуть утраченное.
Сама эта тема чрезвычайно широка и многозначна. Достаточно
сказать, что понимание того, почему вне магистрали философского
процесса оказывались значительные фигуры, становится одной из основных
задач историографии, источниковедения и методологии исследования
русской философии. Особенно это актуально для сегодняшних
исследований, вовлекающих в научный оборот целые пласты былого
«литературного изгнанничества». Процесс этого вовлечения или нового
освоения и усвоения разнокачественных философских идей не протекает
равномерно и систематически, поскольку находится под влиянием
определенных внефилософских обстоятельств, субъективных предпочтений,
социальных ожиданий, а, порой, и того, что можно назвать
«философской модой». Далеко не всегда «возвращение» символизирует
признание «абсолютной» или вневременной величины философа. Важно, что
в русской философии процесс установления такого признания
продолжается. В данном контексте H.H. Страхов и может быть рассмотрен как
такой «немодный» философ, поскольку он не имел никакого отношения
к «раскрученным» ныне темам Серебряного века и русского
философского зарубежья; не стремился к литературному успеху, тяготел в своих
писаниях к «трактатной» форме, связанной с традициями классического
и, по преимуществу, немецкого философствования, не слишком
популярного в его время в России, и уж никак не сравнимого, по своей из-
174
вестности, с философской публицистикой. Тем более, что философская
судьба Страхова формировалась в период «метафизического
безвременья», когда в моде были идеи материализма и позитивизма, а не
идеалистической метафизики.
Важные подходы к теме «литературного изгнанничества»
выявляются на примере розановского анализа философской личности H.H.
Страхова, первого в пантеоне «литературных изгнанников», созданном в
сочинениях В.В. Розанова. Живые литературно-философские и
личностные образы «изгнанников» наиболее ярко выявляются в розановских
письмах к своим корреспондентам и в комментариях к ним. Среди них
и K.M. Леонтьев, и П.А. Флоренский, которых Розанов одним из первых
распознал как первоклассных мыслителей.
H.H. Страхов, который сыграл исключительно важную роль в
жизненной судьбе В.В. Розанова и был высоко ценим им как философ,
причислен Розановым к «литературным изгнанникам» первой величины,
наряду с Леонтьевым и Флоренским. При этом известный «налет
непризнанное™» на сегодняшний день из всей этой троицы выдающихся
мыслителей сохраняет лишь творчество Страхова и переписка с ним.
Последующий комментарий к этой переписке Розанова во многом
помогают объяснить причины возникновения стереотипа «литературного
изгнанника».
Розанов разработал своего рода «технологию» воссоздания и
возобновления литературно-философской репутации «литературных
изгнанников» при помощи того, что сегодня называют «интерактивным
общением», а в девятнадцатом и начале двадцатого века было не только
в России, но и повсюду, органическим фактом культуры. В современной
культуре эпистолярный способ передачи идей, к сожалению, можно
считать практически утраченным, и вместе с ним уходит в прошлое то, что
можно назвать «рукописностью» культуры, предполагающей
существование подлинных ее артефактов в уникальных единичных экземплярах.
(В противоположность современным высокотехнологичным,
аудиовизуальным, «клиповым» и электронным способам интеллектуальной
коммуникации, которые реализуют высокую, даже синхронную скорость
общения, но не сохраняют его подлинную интимность и неповторимость).
Речь идет, разумеется, о письме и эпистолярной практике, как
чрезвычайно распространенной форме изложения философских идей и
особом жанре отечественного философствования. В силу ряда исторических
обстоятельств этот жанр приобрел в России и в русской философской
культуре даже более значительную популярность, чем в Европе.
Достаточно указать на цикл «Философических писем» П.Я. Чаадаева, поло-
175
живших начало современной русской историософской традиции. Весь
корпус «Философических писем» (всего восемь писем, написанных на
французском языке) стал известен в печатном виде лишь в XX столетии,
но их реальное содержание стало достоянием русской философии уже в
первой половине XIX столетия, при жизни Чаадаева. В том числе и
потому, что после «телескопской истории», то есть после опубликования
в 1836 году Н.И. Надеждиным в журнале «Телескоп» первого
«Философического письма» Чаадаева и последующего объявления его
сумасшедшим с запретом впредь ничего не публиковать, письма для последнего
стали единственным каналом распространения собственных
философских идей.
Другое примечательное обстоятельство. Письма входили в ткань
отечественной философской культуры настолько органически, что
содержавшиеся в них идеи как бы «подхватывались» последующими
поколениями «в списках», без непосредственного знакомства с оригиналами
— текстами писем, уже состоявшимися в качестве событий культуры
и воспринятыми без каких-либо специальных усилий со стороны их
авторов. B.C. Соловьев, например, не знал всего содержания
эпистолярного цикла Чаадаева, представлял его как бы «понаслышке», но
вполне точно реконструировал его в своей работе «Национальный вопрос в
России». Если бы не было письма A.C. Хомякова 1839 года,
адресованного И.В. Киреевскому (впоследствии как отдельная статья оно вышло
под названием «О старом и новом») и если бы не было ответа на него
И.В. Киреевского («В ответ A.C. Хомякову»), то не родилась бы
философия славянофилов как таковая. Об этом можно говорить совершенно
определённо, поскольку в первой половине XIX века преобладала
кружковая форма философствования. Наряду с изустной, «сократической»
формой существования философии в литературных салонах и кружках
главным «философским жанром» было письмо.
Розанов как тонкий знаток русской литературы и философии
прекрасно понимал роль и значение эпистолярного жанра для
отечественной культуры. Вступая в переписку с «литературными изгнанниками»,
предлагая себя в качестве корреспондента выдающимся русским
мыслителям, он как бы становился их учеником, что давало ему
возможность узнавать их мнения по разным, в том числе невозможным для
подцензурного изложения, мировоззренческим и жизненным
вопросам. Более того, со временем, любовь Розанова к эпистолярному
жанру, в котором он достиг высочайшего уровня совершенства, привела
его к убеждению, что написанное «почти на правах рукописи» имеет
огромные преимущества по сравнению с обычными печатными текста-
176
ми. Это выражено в главном литературно-философском шедевре
Розанова — «Уединенное». Более того, философ пошел дальше, признав
изобретение Гуттенбергом печатного станка невосполнимой утратой
для культуры, поскольку это привело к «усреднению»
индивидуальных, в том числе почерковых особенностей эпистолярного жанра.
Отсюда стремление Розанова зафиксировать момент рождения
философских мыслей, которые он называл «эмбрионами», при указании места,
обстоятельств их написания и даже конкретного их расположения на
листе бумаги. Но эти склонности и убеждения вырабатывались именно
в процессе его эпистолярной практики.
Важно также разъяснить особенности розановских приемов
«реабилитации» изгнанников и восстановления их истинной литературной
репутации. Розанов часто давал высочайшие характеристики
литераторам, прежде всего, своего ближайшего круга. Среди них: молодой
философ Ф.Э. Шперк (иначе, чем гением Розанов его не называл), критик
Ю.Н. Говоруха-Отрок, публицист И.Ф. Романов (Рцы), историк
литературы С.А. Цветков и др. В число непризнанных гениев Розанов их
включал не по причине их подлинной гениальности, а по причине
конгениальности, созвучия их сочинений своим собственным. Названные
литераторы составляли ближайший круг общения Розанова, на который
он стремился оказать свое влияние. В этой своей склонности он,
конечно, разительно отличался от Страхова.
Такая своеобразная розановская «реабилитация» входила в
программу созданного им особого жанра «литературных изгнанников», который
предполагал обильное комментирование самим Розановым
адресованных ему высказываний (в виде построчных примечаний, которые, порой,
значительно превышали объем этих высказываний). Этот изобретенный
им жанр был задуман для опубликования в целых шести томах, из
которых вышел свет лишь один (СПб, 1913).
Собственно философское содержание «литературных изгнанников»
как жанра весьма своеобразно и провокативно. Речь не идет здесь о
присутствии в образцах этого жанра каких-то формальных философских
достижений или глубокой философской аналитики. Новаторство
Розанова заключается в другом. Он блестяще анализирует не столько идеи,
сколько философские личности «литературных изгнанников», создает
интереснейшие психологические портреты, приближаясь тем самым к
тому, что можно назвать своего рода экзистенциальной историографией
русской философской мысли. По сути, он конструирует особый вариант
«живой историографии русской философии». Главный акцент здесь
делается на воссоздании живых философских личностей, когда учитыва-
1 Ч™ тля
177
ются многие, именно личностные, нюансы (характеры, темпераменты,
настроения, привычки и т.п.), обычно не берущиеся в расчет в так
называемых проблемных историях философии, разъясняющих суть
философских систем, но ничего не говорящих о личностях их создателей.
Для Розанова — наоборот: «Все-таки «человек» выше и подлиннее его
«сочинений»1. Эта мысль, кстати, высказана в противовес
академической манере философствования Страхова, деликатно обходившего
личностные качества оцениваемых мыслителей и оценивавшего, главным
образом, философские идеи как таковые.
Плодотворность идеи Розанова следующая: из того, что философ
оперирует абстракциями высокого уровня, вовсе не вытекает то, что
на его творения не влияют обстоятельства его жизни или собственные
психологические особенности, «душевный склад», по выражению
философа. Человек всегда зависит от обстоятельств, но он и сам их пытается
создать, поскольку формирует культурную среду своей деятельностью.
Другое дело, что эти попытки для философа оказываются зачастую
тщетными, поскольку он не в силах изменить господствующие
умонастроения. В этом трагедия философии, особенно метафизической и
религиозной, да еще в эпоху господства материализма и позитивизма.
Поэтому реконструкцию творчества Страхова Розанов рассматривал
как свидетельство о «метафизическом безвременье» и одновременно как
свидетельство о существовании и в эту эпоху значительных
философских идей, противостоявших «наследству 60-70-х годов». Другое дело,
что эти идеи не были в свое время должным образом оценены. Примерно
так же складывалась философская судьба П.Д. Юркевича в его
философском споре с Н.Г. Чернышевским. Статью «Антропологический принцип
в философии» Чернышевского знали и читали все, а статью «Из науки
0 человеческом духе», написанную в академическом духе, как и самого
Юркевича, не признавали в качестве равного Чернышевскому
философского оппонента.
Страхов также, как и Юркевич, «шел против течения», но не в его
силах было «переломить эпоху». Здесь корень его «изгнанничества». Нет
«философского безвременья», но есть невостребованные в свое время
философские личности. Их надо понять и оценить. Таково общее
убеждение Розанова.
Неслучайно такая позиция вырабатывалась у Розанова в ту эпоху,
когда в Россию впервые пришло осознание «существенной
оригинальности» русской философии (определение В.Ф. Эрна). Указывая на
1 Розанов В.В. Литературные изгнанники. H.H. Страхов. K.M. Леонтьев. М.,
2001. С.125.
178
монографию В.Ф. Эрна о Г.С. Сковороде, обогатившую представления
о философии и культуре России XVIII века, Розанов по аналогии
предлагает книгоиздательству «Путь», известному в начале прошлого века
своими публикациями работ русских философов, издать заново
сочинения Страхова. Называя эпоху начала XX века «вторым расцветом
славянофильства», философ замечает, что «теперь — Страхов совсем
поюнел бы. А «теперешние» должны чутко и благодарно прислушаться
и присмотреться, как он держал гаснущую свечу в старческих руках»1.
«Отчего нет его «Полного собрания сочинений»? Вот бы дело «Пути», да
и дело бы Академии наук»2.
Переписка Розанова и Страхова относится к периоду 1889-1896 гг.,
когда Розанов и сам был «литературным изгнанником». Как начинающий
философский автор, которому принадлежал трактат «О понимании» и
перевод «Метафизики» Аристотеля (в соавторстве), он не имел
никакого успеха, и его неуемная жажда творчества нуждалась в сочувствии,
поддержке и помощи. Такая помощь была необходима Розанову и в
связи с его жизненными обстоятельствами: женитьбой на Варваре
Дмитриевне Бутягиной, переменой места службы и места жительства, поиском
литературной работы и массой других вещей, идейных и практических,
включая и отыскание денег взаймы. Истинным счастьем стало то, что
на его жизненном пути встретился такой человек как Страхов, который
стал литературным «крестным отцом» Розанова, а затем и крестным
отцом его дочери.
Все, буквально все просьбы Розанова к его добрейшему
корреспонденту и «литературному духовнику» непременно выполнялись, и это
притом, что возможности Страхова были весьма ограниченны. Ведь он
был не каким-то всесильным вельможей, а скромным чиновником
Ученого комитета Министерства народного просвещения. (В некрологе,
посвященном Страхову, Розанов сообщает такой факт: когда он скончался
в своей петербургской квартире, то денег на похороны не оказалось. Эта
деталь, сообщенная Розановым, стоит многих подробных разъяснений
того, какую личность представлял покойный). В одном из писем Розанов
такими словами благодарит своего благодетеля: «Никогда не забуду я
Вашего участия к себе, которое удивительно. Жена также горячо
благодарит Вас; без Вашей помощи я бы совершенно растерялся и, наверное,
ни в чем бы не устроился»3.
1 Там же. С. 126.
2 Там же. С. 15.
3 Там же. С. 267.
179
В этой замечательной переписке столь различных людей мы видим
диалог непохожих представителей того, относительно единого, направления,
которое Розанов называет «славянофильско-религиозно-метафизическим
движением в нашей литературе»1. Страхов являет собой тип идеалиста-
романтика, продолжателя «классического духа» (слова Розанова) старого
кружкового славянофильства, основанного A.C. Хомяковым и И.В.
Киреевским. Он мало озабочен личной славой, пропагандой собственных
оригинальных философских построений. Основная его цель — не
философское самовыражение, не изложение своих идей с кафедры (куда его никто
и не приглашал), а абсолютно бескорыстная защита высших духовных
ценностей, религиозных и нравственных идеалов. Иное дело — Розанов,
который в этой переписке сам раскрыл свои особенности.
Розанов может быть впервые, хотя бы и в эпистолярной форме,
«вывернул себя наизнанку» другому человеку, изложил на бумаге свои
сокровенные мысли, что и стало впоследствии главным «коньком» его
творчества. Он откровенно стремится к литературному успеху, жалуется на
маленькие гонорары, за что его стыдит Страхов, проживший, по его
словам, всю литературную жизнь «на очень малые деньги»2. Он замечает, что
«умственный труд не такое дело, чтобы можно было точно перекладывать
его на деньги»3. Страхов — прямая противоположность Розанову,
профессиональному литератору, тонко улавливавшему предпочтения
читающей публики, предлагавшему ей самые «горячие» сюжеты, включая тему
метафизики пола и семейной жизни, религиозную проблематику,
вопросы просвещения и образования, национальный вопрос и, наконец, тему
судьбы России.
Розанов и Страхов, в сущности, две разные, можно сказать,
антиномические философские личности. На одном полюсе — солидный трактат «Мир
как целое» и неустанная и самозабвенная защита творчества других
мыслителей — Ап. Григорьева, Н.Я. Данилевского и Л.Н. Толстого: на другом
— «почти на правах рукописи» абсолютно «нетрактатный» текст
«Уединенного», где автор не защищает ничьих взглядов, кроме своих собственных,
вывернув, по словам одного из рецензентов, «сердцевину своей
глубочайшей интимности». В примечаниях к переписке 1913 года Розанов
заключает, что «Страхов и я... движутся в совершенно разных морях, что мы
думаем далеко не об одних предметах, и, словом, что тут — все разное»4.
1 Литературные изгнанники. С. 228.
- Там же. С. 113.
J Там же.
4 Там же. С. 19.
180
Нельзя сказать, однако, что взгляды своего «крестного отца» Розанов
не защищал и не пропагандировал. Страхов в течение всей литературной
жизни Розанова был одним из самых уважаемых им и часто
упоминавшихся философов: «Общение со Страховым доставляло мне величайшее
наслаждение. Вот старый седой дуб, корни которого, ноги которого так
хочется омыть...»1. Специально Страхову он посвятил четыре статьи.
Однако защита и пропаганда его идей в контексте жанра «литературных
изгнанников» отличается большим своеобразием. Вспоминая «дорогого
и неоцененного Николая Николаевича» и комментируя его письма, он
использует это больше для изложения собственных взглядов. Письма
Страхова становятся как бы частью собственно розановского текста,
выступая в нем в качестве своего рода «информационного повода».
Отметив уже в первом своем письме Розанову от 27 января 1888 г.
«расположение к философии» своего корреспондента, Страхов дает ему
теоретические советы, которым Розанов никогда не следовал. Совет
«учиться у Гегеля» вызывает у Розанова раздражение, в ответ он
замечает, что Страхов «не мог оторваться от «своего единственного Гегеля»2.
Другой совет Страхова — «примкнуть себя и свою мысль к чему-нибудь
конкретному»3 (имеется в виду конкретное философское направление
или конкретная тема). Этот совет вызывает резкое несогласие Розанова.
Он оценивает призыв «Не начинай своего\\ Со своим ты неинтересен и
никому не нужен»4 не иначе как литературное «убийство».
Вместе с тем, общий тон писем Розанова — это тон послушного
ученика и «человека поддающегося влияниям», как смиренно он сам себя
определял. Страхова, несомненно, подкупила совершенно необычная
искренность Розанова, во всех подробностях рассказавшего о своей
личной жизни. Искренне желая помочь Розанову в жизни, Страхов
также искренне высказывается о возможных для него путях
совершенствования в философии. Розанов, прежде всего, не принял то понимание
специфики философии и философского труда, которое разделял
Страхов, согласно которому «вся философия есть не что иное, как работа над
категориями, их точное определение и усвоение. Так учил Гегель»5.
Комментарий Розанова выглядит следующим образом: «Ну вот, у Страхова
1 Розанов В.В. Природа и история. Статьи и очерки 1904-1905 гг. М., 2008.
С. 7.
2 Розанов ВВ. Литературные изгнанники. С. 56.
3 Там же. С. 37.
4 Там же.
5 Там же. С. 8.
181
все «стройно и закончено», имеет «ясную тему и определенный конец»,
— но ничего не вышло, и успех лишь ему в конце жизни «побрезжился»,
а на самом деле... не было никакого»1.
Страховские письма прокомментированы Розановым постфактум,
когда он был уже известным философом и литератором Серебряного
века. В комментарии 1913 года он объясняет причину «изгнанничества»
Страхова тем, что он отстал от своего времени — «не в «своем Небе»
пролетал», тогда как для Розанова было ясно, что «настанет и уже
настает другое Небо»2. Разумеется, Розанов в 1913 г., ставший участником
знаменитых Религиозно-философских собраний в Петербурге 1902-1903 гг.,
и Розанов конца 80-середины 90-х гг. XIX века — во многом разные
мыслители. Но радость «встречи с живым славянофилом» (тогда
выглядевшим анахронизмом) с самого начала нисколько не снизила стремления
Розанова найти свое собственное место в философии. На совет Страхова
присоединиться к определенному философскому направлению и
оттачивать свой «философский метод», учась у Гегеля, следует комментарий:
«Темы и предмет совершенно мне чуждые тогда и теперь»3.
Розанов, как известно, был литератором до мозга костей и все
другие занятия, в том числе учительство и чиновничью службу, считал
совершенно неподходящими для себя. Службу Страхова в Министерстве
народного просвещения он считал унизительной для него, не
соответствующей большому философскому таланту своего корреспондента,
которому более пристало бы занять философскую кафедру, оказывая
«драгоценную помощь гражданскому развитию страны»4.
В «другое Небо» Розанова, образца 1913 года, органично
вписывалась тема совершенно чуждая Страхову, а именно — его метафизика
пола. Розанов никак не мог согласиться с осуждением «недостатка
душевной чистоты» в личности К.Н. Леонтьева (в письме Страхова от
20 февраля 1892 года). Подразумевались грехи Леонтьева по части
нарушения им VII-й заповеди, что нисколько не являлось для Розанова
доказательством ущербности его философской личности. Напротив,
он определяет Леонтьева как «именно душевно-чистого человека и
писателя, шедшего всегда прямо, никогда не лукавившего, никого не
обманывавшего»5. После написания книги «Люди лунного света», в ко-
1 Там же. С. 105.
2 Там же.
3 Там же. С. 37.
4 Там же. С. 120.
5 Там же. С. 105.
182
торой Розанов осмысливал различные типы сексуального поведения,
тема пола приобрела у него специфически-антихристианский оттенок,
так как именно христианству он приписал аскетическое и
асексуальное отношение к человеку, объявление греховным всего того, что
касается вопросов пола и половой любви.
Идейные расхождения между Страховым и Розановым проявляются
также в различной оценке ими философских личностей Достоевского и
Толстого. Страхов, хорошо знавший Достоевского лично, никак не мог
согласиться с богоборческими мотивами его творчества, особенно ярко
проявившимися в «Братьях Карамазовых». Розанов же в
интеллигентском споре «Ты за кого, за Толстого, или за Достоевского?»
решительно был на стороне Достоевского. Не надо забывать, что его «Легенда о
Великом инквизиторе» фактически положила начало серьезному
изучению наследия писателя в философии Серебряного века. У Страхова иное
мнение. В письме от 30 июня 1890 года он пишет: «Если Вы
Достоевского ставите выше Толстого, то это большая ошибка»1. Розанов, в свою
очередь, замечает, что новая «истинная религия» Толстого — создание
не гения, а «вовсе не умного человека». И добавляет: «Вот откуда
Страхов мог бы начать критику Толстого»2. (Но никакой критики никогда
не было). Розанову непонятно, как и почему этим литературным
гением созданы богословски «просто не умные вещи». «Как это происходит,
и почему, — трудно понять... сумбур, шум, возня, пена, — конница
стучит, артиллерия гремит. Час минул. И нет ничего.... Таковую роль
имеет бесспорно «богословие» Толстого, на которое он потратил
столько усилий»3.
Розанов замечает, что по сравнению с русским философским
гением — Владимиром Соловьевым — «Страхов гением не был. Но он как
«комендант Белогорской крепости» («Капитанская дочка») тоже стоял
верно и честно на страже той науки, философии и литературы, какую
знаем и какая была»4. Продолжая сравнение этих двух философских
личностей, Розанов замечает, что в полемике Соловьева со Страховым
вокруг «России и Европы» Данилевского правда и вся сила
аргументации была на стороне Страхова, но он писал «сухо, холодно,
рассудительно» (его слова), тогда как Соловьев показал себя более искусным
полемистом: «не опровергал или слегка опровергал аргументы, обжигал
1 Там же. С. 61.
2 Там же. С. 128.
3 Там же. С. 119.
4 Там же. С. 110.
183
противника смехом, остроумием и намеками на «ретроградность»1. И в
целом «в споре шум победы был на стороне Соловьева, а истина победы
была на стороне Страхова»2. Интересно, что Розанов считает, вместе с
тем, что «Страхов, конечно, гораздо умнее Соловьева» (С. 13).
Критерий ума здесь — не гениальное творчество, но «безупречная душа» и
«голубиная чистота» Страхова, превосходящая «блестящего, холодного,
стального... странного и многоодаренного Соловьева»3, жившего в мире
собственных мистико-поэтических грез и «ничего не понимавшего в
окружающих».
Переписка Страхова и Розанова и комментарии последнего к ней
рассмотрены здесь лишь в одном своеобразном измерении, которое
названо попыткой Розанова создать свой вариант экзистенциально
ориентированной истории русской философской мысли. Эта тема
рассмотрена нами в самом первом приближении и нуждается в дальнейшей
разработке. В заключение заметим, что «реставрация» страховского
наследия, о необходимости которой говорил Розанов в начале
прошлого века, актуальна по-прежнему и возможностей для ее осуществления
ныне неизмеримо больше. Однако философов, возвращенных из
«литературного изгнания», не следует превращать в «новых кумиров»,
которые должны затмить и даже вытеснить уже известные авторитетные
фигуры. Такие попытки (хотя весьма слабые и непрофессиональные)
имеют место, хотя очевидно, что для интегральной историографии
русской философии, основанной на принципе «единства в многообразии»,
противопоказано возвышение одних философских персоналий за счет
принижения значимости других. Процесс открытия и возрождения
новых замечательных имен и идей в русской философии продолжается
и будет продолжаться в будущем, проявляя богатство и разнообразие
«русских идей» в философии.
1 Там же. С. 20.
- Там же. С. 13.
3 Там же. С. 20.
184
Беседа 8. «Недостающее звено»:
философия Ап.А. Григорьева
(Предваряя гтение статьи H.H. Страхова)
«У него есть три кумира: Аполл. Григорьев, Данилевский и Лев
Толстой. Об них он писал давно, много и настойчиво, о двух первых
даже он один, и писал постоянно и весьма мужественно. <...> Их он
считает выше себя и честно исполняет против них свой литературный
долг»1.
В этих словах К.Н. Леонтьева о H.H. Страхове нетрудно уловить
неприязнь, еще более заметную в других фрагментах того же письма к
В.В. Розанову; рискну предположить, что именно неприязнь повлияла
(не в лучшую сторону) на обычно безукоризненный слог Леонтьева.
Тем не менее, он абсолютно правильно называет трех современников
Страхова, которых последний ценил особенно высоко. Причем речь идет
об оценке, самым тесным образом связанной с философией. Это верно
даже по отношению к Л.Н. Толстому, который, как отмечал Страхов,
«часто обнаруживает в своих писаниях истинно философские приемы
мышления»2. Конечно, в русской литературе всегда было немало
писателей, склонных пофилософствовать — как устами своих персонажей, так
и от собственного лица. Но Лев Толстой был одним из очень немногих,
кто серьезно относился к философской традиции как таковой, и
Страхов, в отличие от множества критиков (да и поклонников) религиозно-
философских воззрений Толстого, понимал принципиальное значение
такого отношения. Впрочем, сейчас нас интересует другой момент.
В «списке» Леонтьева первым стоит Аполлон Александрович
Григорьев. Рискну утверждать, что это не просто дань хронологическому
порядку (Страхов познакомился с Григорьевым в 1860 г. и вскоре стал
его «самым близким другом»)3. Несмотря на всю враждебность по от-
1 Письма К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову / / Корольков A.A. Пророчества
Константина Леонтьева. Изд. СПбГУ. 1991. С. 143 (приложение 1 ). Во всех цитатах,
если не оговорено особо, курсив первоисточника.
2 Страхов H.H. Философские очерки. Изд. второе. Киев, 1906. С. IV-V (из
предисловия к первому изданию1895 г. ).
' Григорьев Ап.А. Письма. М., Наука, 1999. С. 418 (примечание Б.Ф. Егорова к
первому из известных писем Григорьева, адресованных Страхову).
185
ношению к Страхову (и даже, может быть, благодаря той своеобразной
чуткости, которая порою присуща враждебности), Леонтьев угадал,
что именно Григорьев был в глазах Страхова русским философом par
excellence. Сегодня принято считать таковым Николая Яковлевича
Данилевского, но связано это, на мой взгляд, с элементарной
неосведомленностью: основные идеи, связанные с концепцией русской
цивилизации и с критикой дарвинизма, Страхов сформулировал еще в статьях
начала 1860-х годов, за несколько лет до выхода книги «Россия и
Европа» и знакомства с ее автором. Принципиальную роль в формировании
взглядов Страхова сыграл именно Аполлон Григорьев. Попытаюсь
кратко охарактеризовать эту роль.
По существу дела, можно с полным правом говорить о том значении,
которое имели труды Ап. А. Григорьева не только для философского
развития H.H. Страхова, но и для всей русской философии второй
половины XIX века. Однако, чтобы понять это значение, необходимо самым
решительным образом отбросить «легенду», которая сложилась вокруг
имени Григорьева еще при жизни и закрепилась посмертно, усилиями
авторов, как правило, не злонамеренных (хотя были и такие), но по тем
или иным причинам органически не способных верно оценить творца
«органической критики» как мыслителя.
Ядром этой легенды стало представление о Григорьеве как о
философе совершенно стихийном, иррациональном, яростном «жизнепоклон-
нике», который якобы исповедовал некий «культ непосредственности»,
«бессознательности» (как утверждает, например, В.В. Зеньковский1) и
даже, ни много ни мало, возводил «в особый принцип» свою
«бессистемность» и противоречивость2'. Короче, был «мыслителем», который, по
сути дела, не мыслил. На фоне этого потока «комплиментов», которые,
по сути, лишь варьируют известную эпиграмму Б.Н. Алмазова —
Мрачен лик, взор дико блещет, / / Ум от чтенья извращен, / / Речь
пар доксами хлещет...// Се Григорьев Аполлон] — диссонансом
звучат слова Василия Васильевича Розанова из статьи «Три момента
в развитии русской критики» о том, что «вчитываясь в сочинения Ап.
Григорьева <...>, испытывалось невольно, как, в конце концов, мысль
совершеннее всего остального в человеке»3.
Однако прав именно Розанов. Притом в данном случае ему не при-
1 Зеньковский ВВ. История русской философии. Л. ЭГО, 1991. Т. I. Ч. 2. С. 213-214.
2 Авдеева Л.Р. Русские мыслители: Ап. А. Григорьев, Н.Я. Данилевский,
H.H. Страхов. Издательство МГУ, 1992. С. 10.
3 Розанов ВВ. Мысли о литературе. М., Современник, 1989. С. 183.
186
шлось проявлять какую-то небывалую проницательность: всё
литературное наследие Ап. Григорьева буквально пронизано тем восхищением,
которое вызывала в нем «мысли ясной благодать», и свидетельствами
того, что эта благодать была с избытком дарована и ему самому.
Особенно важен следующий момент: с точки зрения Григорьева, те миры,
которые созданы великими художниками, нельзя адекватно
воспринимать без напряженной деятельности мышления, ибо «миры эти живут
и, как всё живое, озаряются мыслью»1. В этих замечательных словах из
статьи «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной
критики искусства» (1858) просто и совершенно ясно выражена
основная задача «органической критики» — разъяснять «таинственные
откровения художественной силы», «осмысливая анализом те же
органические начала жизни, которым синтетически сообщает плоть и кровь
искусство»2. Вот тайна An. Григорьева, так и не понятая апологетами
его абсолютно мнимой «иррациональности»: он ценил мысль и разум
столь же высоко, как плоть и кровь.
Только поняв это, можно верно понять нараставшее с годами
критическое отношение Григорьева к старшим славянофилам, И.В.
Киреевскому и A.C. Хомякову3. Продолжая до конца жизни ценить этих
мыслителей, он отмечал, тем не менее, что они сражались «с германским
рационализмом <...> оружием того же рационализма»'1. Смысл этого
упрека (нередко выдаваемого за «доказательство» враждебного
отношения Григорьева к рационализму) именно в том, что настоящий
философ должен пользоваться своим мышлением совершенно сознательно,
не питая иллюзии, что он свободен от ratio и его логических законов.
Такое совершенно сознательное мышление Григорьев называл
самомышлением и противопоставлял его тому, к чему испытывал, по
собственному признанию, «глубокую ненависть» — резонёрству. Согласно
Григорьеву, резонеры (или «теоретики») не мыслят, не анализируют, не
аргументируют по-настоящему, а только варьируют на разные лады ту
или иную наперед заданную мысль. Здесь Григорьев абсолютно
точно улавливает тот порок нашей публицистики (а в некоторых случаях
и вполне «профессиональной» философии), который приобрел сегодня
1 Григорьев An. Собрание сочинений под ред. В.Ф. Саводника. М., 1915.
Выпуск 2. С. 70.
2 Там же. С. 112.
3 Нельзя не отметить, что отношение Григорьева к братьям Аксаковым было
изначально критическим (а вернее сказать — ироническим).
4 Григорьев An. Собрание сочинений. Выпуск 3. С. 5.
187
поистине устрашающие масштабы1. Недоверие к «зловредному
процессу мышления» составляет, по мнению Григорьева, одну из самых
существенных черт нигилизма. При этом он отмечает, что «болезнь мыслебо-
язни» свойственна не только «левым», материалистически настроенным
нигилистам (у которых процесс мышления, по ироническому замечанию
Григорьева, заменен, вероятно, «процессом пищеварения»), но и
нигилистам «правого» толка; особенно резко отзывается он о том
мракобесии, которое, «стараясь мешать мысли в ее органической деятельности»,
само оказывается «виною того, что мысль ломает, сокрушает факты»2.
В силу сказанного совершенно очевидно, что стремление H.H.
Страхова к постижению природы и смысла человеческой рациональности
не могло не получить самой энергичной поддержки со стороны Ап.
А. Григорьева. Статья Страхова «Главная черта мышления»3,
составляющая важнейшую веху на пути этого постижения и написанная через
полтора года после смерти Григорьева, несет на себе несомненную
печать их творческого общения, их единодушного восхищения уникальной
способностью человеческой мысли освещать весь мир и себя самое.
Необходимо отметить, что значение Ап. А. Григорьева для
формирования национальной философской культуры отнюдь не ограничено
общими соображениями, приведенными выше. Разрабатывая и применяя
метод органической критики, Григорьев одновременно раскрыл тот
философский метод познания, который я называю органологическим,
или рационально-интуитивным. Детальное рассмотрение этого
метода дано в моей работе4, а сейчас ограничусь тем, что затрону только один
момент, в определенном смысле ключевой для понимания этого метода.
Суть его проста: работа мысли (это излюбленное выражение
Страхова неоднократно встречается у Григорьева) состоит в том, что она
раскрывает, проясняет и углубляет первичные интуиции (которые не
следует смешивать с аксиомами, постулатами и т.п., ибо последние суть
1 По сути дела, проявлением того же резонерства являются абсурдные
рассуждения о «противоречивости», «непосредственности», «бессознательности»,
«стихийности» самого Григорьева. Об этом прочитали когда-то, скажем, у
Достоевского или Блока, и уже не способны взглянуть на его тексты
самостоятельно*.
'2 Григорьев Ап. Собрание сочинений. Выпуск 7. С. 55.
3 См. ее публикацию в данном сборнике.
1 Подробнее все затронутые в данной статье вопросы рассмотрены мною во
второй части «Трагедии русской философии», в главах, посвященных Ап.А.
Григорьеву и H.H. Страхову/ /Ильин Н.П. «Трагедии русской философии». М.,
Айрис-пресс, 2008. 604 с.
188
уже результаты мышления, а не его исходные точки). Среди этих
интуиции Григорьев совершенно определенно и постоянно выделяет две
наиболее фундаментальных, базовых и для него лично, и для любой
подлинно национальной философии. Эти интуиции он называет верой в
душу и верой в народ (не только в своих статьях, но и в автобиографии
«Мои литературные и нравственные скитальчества»). В этой двуединой
вере нет никакого «двоеверия»: индивидуально-душевное и народное
суть начала, теснейшим образом взаимосвязанные. Здесь мы вплотную
подходим к тому, что составляет поистине гениальное — и до сих пор
совершенно не оцененное по достоинству — философское открытие
Григорьева1. Народность, или национальность2 переживается каждым
человеком как нечто глубоко внутреннее, как та стихия, которая живет в его
собственной душе. Это прозрение Григорьева мы находим уже в статье
«О правде и искренности в искусстве» (1856), где он пишет: «Художник
всегда выражает в творении внутреннее бытие свое, и вот почему у
самых даже многосторонних художников все представления составляют
только одну большую семью, и, связанные, как члены, плотью и кровью,
носят на себе родовую физиономию, печать общего происхождения»3.
Углубляя эту идею, Григорьев приходит к гениальной концепции,
согласно которой художник (а шире — любая творческая личность)
претворяет национальную стихию своей души в идеальные типы. И
философия знаменует завершающий этап такого просветления стихий.
Эта концепция (потенциал которой еще далеко не исчерпан) оказала
существенное влияние не только на H.H. Страхова, но и на ряд других
выдающихся русских мыслителей второй половины XIX века, таких, как
Н.Я. Данилевский, П.Е. Астафьев, Н.Г. Дебольский (пусть даже идеи
Григорьева вошли в их творчество не через сознательную
преемственность, а посредством веяний, значение которых в духовной жизни пер-
1 Предчувствие — но, по большому счету, только предчувствие — этого
открытия содержится, на мой взгляд, в работах И.В. Киреевского, написанных до
известных статей 1850-х годов. См. подробнее мое исследование «И.В.
Киреевский. От беспочвенности к существенности» в журнале «Философская
культура» (№ 1-3. 2005-2006).
2 Григорьев постоянно подчеркивает синонимичность этих понятий, тем
самым отвергая еще одно заблуждение старших славянофилов (особенно явное
у К.С. Аксакова), пытавшихся противопоставить «русскую народность» и
«европейские национальности». Григорьев был убежден в принципиальной
общности того, что Ф.М. Достоевский назвал позже (в знаменитой речи о Пушкине)
«великим арийским племенем».
3 Григорьев An. Собрание сочинений. Выпуск 2. С. 67.
189
вым понял тот же создатель «органической критики»). В этом влиянии
необходимо выделить два кардинальных (и взаимосвязанных) момента.
Во-первых, русская философия стала подлинно национальной в том
нетривиальном смысле, что народность, или национальность, получила в
ней статус онтологической категории, выражающей специфику
человеческой природы как таковой; после Григорьева и благодаря его
прозрениям эта категория и, тесно связанные с нею, категории — самосознания,
самобытия и самоопределения стали раскрываться не публицистически,
а именно метафизически. Во-вторых, задача создания философской
антропологии, то есть задача понимания человека, вполне органично
соединилась — на почве идей Григорьева — с процессом формирования
национальной идеологии, с целью понимания России и утверждения
«нашей нравственной и умственной самостоятельности»1. О
необходимости такого самоутверждения Григорьев писал Страхову из
Оренбурга в июне 1861 году, в этом он видел ту высшую цель, по отношению
к которой политические и экономические реформы являются только
средством.
Аполлон Александрович Григорьев прожил недолгую жизнь, в
которой он одною жил борьбой без мысли о победе (как пророчески сказал
он о себе в стихотворении 1845 г.). Тем поразительней совершенный им
философский прорыв, совершенный практически в одиночестве, ибо
соратника, способного понять его философский гений — творящий душу
дух иной — он обрел только в самом конце своей борьбы. Однако, глядя
из сегодняшнего дня, начинаешь понимать, что его борьба была, по сути
дела, победоносной. Из смутных догадок ранних славянофилов (густо
перемешанных с фикциями вроде злополучной «соборности») в
течение нескольких десятилетий после смерти Григорьева выросла русская
философия второй половины XIX века — философия национальная,
классическая, подлинно христианская. Потом, в маразме XX столетия,
ее пытались предать забвению, сделать бывшее — «небывшим». Но она,
эта философия, уже стала навечно богатейшим интеллектуальном
пластом русской культуры. «Чтобы не дойти до него, мы должны
совершенно насильственно <...> остановить работу нашего мышления»2.
1 Григорьев An.А. Письма. С. 253.
2 Григорьев An. Собрание сочинений. Выпуск 2. С. 137.
190
H. H. Страхов
Главная черта мышления1
I
Главная черта мышления заключается в его субъективности, то
есть в том, что оно само для себя же самого составляет объект.
Все другие предметы и явления не суть объекты для самих себя, а
составляют объекты для мысли. На первый взгляд может показаться, что,
следовательно, мысль относится к себе самой точно так же, как к другим
предметам; между тем, по самой природе дела, то есть мышления, здесь
заключается величайшее различие.
Как мысль относится к другим предметам? Она отличает их от себя,
ставит вне своих пределов, объективирует2. Таково самое простое и
привычное отношение мысли к своему содержанию. И это отношение
составляет существенное условие самого мышления. Цель мышления
есть познание, а познание только тогда составляет действительное
познание, когда относится к предметам совершенно отдельным от познаю-
1 Статья «Главная черта мышления» была напечатана в «Отечественных
Записках» (апрель, № 2, с. 768-782) — журнале А. А. Краевского, с которым
H. Н. Страхов активно сотрудничал в 1866-1867 гг. (с 1868 г. фактическим
издателем и редактором журнала стал Н. А. Некрасов). Написанная как отклик на
работу П. Д. Юркевича «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта»,
статья содержит в концентрированном виде ряд важнейших идей Страхова,
развернутых в его последующих произведениях.
Настоящая публикация выполнена по изданию: Страхов H. Н. Философские
очерки. Изд. 2-е. Киев. 1906. С. 78-95. Орфография текста приведена в
соответствие с нормами современного русского языка, с сохранением некоторых
особенностей авторской пунктуации и немногочисленных архаизмов («однакоже» и т.п.).
2 Анализ уникальной природы мышления был продолжен H. Н. Страховым в
работе «Об основных понятиях психологии» (Журнал Министерства Народного
Просвещения, 1878), которая вошла в книгу «Об основных понятиях
психологии и физиологии» (1886, переиздана в 1894 и 1904 гг.). В отличие от данной
статьи, Страхов сосредотачивает основное внимание уже не на учении Канта
(см. ниже), а на основополагающем для философии Нового времени принципе
cogito, ergo sum.
191
щего существа, совершенно для него внешним и чуждым. В том всё и
дело, чтобы поставить себя в соотношение с другими существами, чтобы
сделаться причастным другому, совершенно отличному от меня бытию.
Итак, самый акт познания предполагает ничем не сглаживаемое
различие между познающим и познаваемым, между мыслью и тем предметом,
к которому она относится.
Так точно, зрение только потому и зрение, что дает мне видеть
предметы, которые вне меня находятся; и чем дальше от меня эти предметы,
тем лучше мое зрение. В акте зрения тот, кто видит, отличает себя от
того, что он видит; видимые предметы являются перед видящим, то есть
отделены от него промежутком, который ничем не наполнен, который
никогда не может исчезнуть и образование которого составляет
необходимое условие зрения.
Итак, мысль о предмете и самый предмет, по сущности самого дела,
должны быть различны. Мысль не отожествляет себя с предметами,
составляющими её содержание, а напротив, она постоянно себя от них
отличает. Таким образом, являются две области: во-первых, царство
объективных вещей, всё то, что не есть мысль, а составляет предмет мысли;
и во-вторых, сама мысль, тот центр, из которого обозревается это
царство и который отделён от него всегдашним промежутком.
II
Между тем, если мысль обращается к себе самой, то такого
промежутка нет, да и не может быть, по самой сущности дела. Следовательно,
отношение здесь получается иное, так что мысль составляет сама себе
объект не в том смысле, в каком составляют объект для неё другие предметы.
Так как между мыслью и другими предметами лежит промежуток, то эти
предметы могут быт вовсе не таковы, как они являются в мысли; тогда как
мысль, являясь самой себе непосредственно, является именно такою,
какова она есть. В этом и заключается существенный характер мысли, то
есть, что она сама себя знает. Без этого не было бы и мышления.
Итак, процесс мышления таков, что оно необходимо отличает себя от
предметов, к которым относится, различает то, о чем мыслится, от того,
что мыслится, и это последнее, то есть свою мысль, мыслит уже
непосредственно, то есть не отличая от себя самого.
Вот это последнее отношение и составляет сущность дела; его нужно
строго отличать от первого отношения, то есть от отношения мысли к
другим предметам; нужно отличать столь же строго, как мы отличаем
свои мысли от предметов, к которым они относятся.
192
Самое простое и, так сказать, первобытное заблуждение
заключается в том, что люди принимают свои мысли за действительность,
принимают то, что они думают и воображают, за то, что действительно есть.
Второе, столь же грубое и столь обыкновенное и важное
заблуждение заключается в том, что о мышлении думают и рассуждают точно так,
как о других предметах и явлениях.
III
Поясню дело сравнением. Зрение совершается глазами. Оказывается,
что на задней стороне глаз, на сетчатой оболочке, образуется при этом
уменьшенное изображение видимых предметов. Чем яснее и точнее
выходит это изображение, тем лучше мы видим. И вот многим казалось, а многим
и до сих пор кажется, что будто бы этим изображением вполне объясняется
самый процесс зрения. Мы видим — говорят они, — не самые предметы, а
то изображение их, которое является в глазу, и по этому изображению уже
догадываемся об их действительном расположении, форме и т.д.
Ошибка здесь очевидная. Изображение ничего не объясняет.
Изображение может служить только для того, кто сам уже может видеть,
может совершать процесс зрения. Если бы сзади глаза сидел человек с
глазами же и видел фигуру на сетчатой оболочке, то тогда годилось бы
объяснение, для чего нужны эти фигуры. Но они нисколько бы не
объяснили, каким образом видит сам этот человек.
Совершенно ясно, однакоже, что при зрении видимо бывает именно
изображение на сетчатой оболочке, что только оно одно и может быть
видимо. Но кто же его видит? Единственный правильный ответ будет
тот, что изображение само себя видит. Только таким образом и может
быть понят процесс зрения.
Так точно и мысль сама себя мыслит. Все другие предметы являются
в ней не сами, а в виде изображений в умственном оке. Поэтому она
и различает самые предметы от их изображений. Но изображения или
мысли о предметах являются перед мышлением уже непосредственно,
то есть они сами себя видят, сами себя мыслят.
Еще сравнение. Мы видим посредством света. Из этого следует, что
самого света видеть нельзя. Чтобы быть яснее, приведу здесь
замечательную обмолвку знаменитого физика Био1. Он предполагал, что свет
1 Био (Biot) Жан Батист ( 1774-1862) — выдающийся французский физик, член
Парижской АН. Отстаивал (преемственно к Ньютону) корпускулярную теорию
света. Страхов цитирует его курс физики, получивший в свое время широкую
известность.
193
состоит из маленьких твердых частиц, с чрезвычайной быстротою
несущихся от тел. Зрение, по этой гипотезе, происходит оттого, что эти
частицы ударяются в нашу сетчатую оболочку. Рассуждая об этих
частицах, Био в одном месте говорит:
«Мы не знаем абсолютных размеров световых частиц, но легко
можем понять, что они должны быть чрезвычайно малы, так малы, что
наилучшие микроскопы никогда не будут в состоянии достаточно
увеличить их для восприятия нашим зрением; а иначе, каким
образом они могли бы проходить, как они это делают, через большие массы
воды, стекла и других прозрачных тел»1.
Рассуждение очень неправильное. Нельзя видеть ни движений, ни
форм световых частиц, потому что видеть — значит чувствовать
прикосновение световой частицы к нерву; следовательно, ее нельзя
рассматривать, когда она движется или лежит под микроскопом. Посредством
чего мы тогда ее будем видеть?
Итак, свет — невидим, по сущности дела2. Так в объективном мире;
но не то в мире субъективном. Мысль часто сравнивали со светом; но это
не простой свет, который служит для озарения предметов, а сам себя не
озаряет. Мысль есть свет, при помощи которого можно видеть не только
другие предметы, но и самый этот свет, самую мысль.
IV
Субъективность мышления в истинном ее смысл открыта Кантом.
Юм хотел объяснить и понять мышление механически, в том роде, как
объясняются явления в объективном мире. Таким образом, он говорил,
что мысль, например, связывает явление с его причиною только по
привычке видеть, что вслед за одним явлением следует всегда другое.
Объяснение чисто объективное. Юм понимал субъективность мышления
только внешним образом; он знал только, что мысль о предмет и самый
предмет — две вещи различные. Что и как происходит во внешнем мире,
мы не знаем, так как между ним и нами всегда находится промежуток.
Мы имеем только впечатления; но эти впечатления суть не более, как
оттиски или отражения одного предмета на другом и, будучи различны
от впечатлевающегося предмета, в то же время совершенно от него
зависят. Следовательно, они ничего не могут нам дать относительно дей-
1 Traité de Physique, par J.B. Biot. T. III, p. 190.
2 Распространенные (в учебниках физики и физиологии) указания на так
называемый «видимый свет» (в диапазоне длин волн приблизительно от 0,40 до 0,75
мкм) грешат двусмысленностью, отмеченной Страховым.
194
ствительной связи явлений. Во внешнем мире одно явление следует за
другим; так они следуют и в наших впечатлениях; мы помним эту
последовательность и невольно, машинально за одним явлением ждем
другого; вот весь смысл того, что мы считаем одно явление причиною
другого. Кант понял, что такой взгляд, совершенно логический с своей точки
зрения, очевидно, минует настоящую природу мышления. Он понял, что
мышление, связывая одно явление с другим, как с его причиною,
действует не невольно и механически, а совершенно сознательно, зная, что
оно делает, почему и для чего оно делает1. Оказалось, что мышление
ставит предметы в причинную связь между собою для того, чтобы была
возможность их мыслить. Причинная связь не навязывается мышлению
извне, оно само ее мыслит и только этим и можно объяснить все дело,
подобно тому, как зрение объясняется только тем, что изображение в
глазу само себя видит, а не бывает видимо кем-то другим, сидящим
позади глаза.
Таким образом, Кант открыл в человеке чистый разум или чистый
ум, то есть разум, в котором нет ничего ему чуждого и непрозрачного
для его собственного зрения. Это великое открытие он справедливо
сравнивает с открытием Коперника, нашедшего обращение земли около
солнца2. Мысль, не знающая своей субъективности, принимает видимое
движение за действительное; мысль, сознавшая свою субъективность,
знает, где истинный центр движения, и умеет различать действительное
движение от кажущегося.
V
Так как отношение мысли к себе самой коренным образом отличается
от ее отношения к другим предметам, то встречается большая трудность
для выражения этого отношения. Наш язык соответствует объективной
деятельности мышления, как самой простой и обыкновенной; поэтому,
хотя он имеет всяческие средства отрицания и противоположения, он
постоянно сбивает мысль с субъективной сферы в объективную3. Вы-
1 Ниже (в начале раздела VIII) Страхов уточняет, что речь идет о высших
формах мышления, когда оно «является в полной силе». С точки зрения Страхова,
именно философское мышление «стремится стать вполне чистым и свободным»
(см. предисловие к первому изданию «Философских очерков»).
2 См. предисловие Канта ко второму изданию «Критики чистого разума».
:* Тема «мышление и язык» затрагивается Страховым в ряде работ, начиная с его
первой книги «О методе естественных наук и значении их в обшем образовании»
(СПб 1865. С. 86-89). В то же время он был далек от гипертрофированного пред-
195
ражения, употребляемые субъективною мыслью — или кажутся
странными до нелепости, или же кажутся совпадающими с обыкновенными,
объективными выражениями. В первом случае, то есть когда нас
поражает отступление от объективных форм мысли, мы будем всего ближе к
пониманию дела. Так, например, выражения: мысль сама себя мыслит,
изображение само себя видит, свет сам себя озаряющий, — не
нужно понимать в таком простом смысле, как, например, выражения: я сам
себя вижу, сам себя слышу и т. п. Разница в том и другом случае
огромная. Если бы человек видел себя внутрь, так что зрение проникало бы во
все части его тела и различало бы его строение, то такое зрение более
походило бы на отношение мысли к себе самой. Канта не раз сравнивали
со школьником, который возымел странное намерение не прежде войти
в воду, как уже выучившись плавать1. Его же, кажется, сравнивали с
героем не любо не слушай, а лгать не мешай, который, завязши в болоте,
схватил себя рукою за чуб и вытащил сам себя на твердое место. Так
странны кажутся приемы субъективной мысли, выраженные в образах
объективного мира! Нельзя самого себя держать; нужно за что-нибудь
держаться и на что-нибудь опираться. Это так ясно! Кто этого не знает!
Точно также нельзя плавать в самом плавании, а можно плавать только
в воде; это так очевидно! Между тем, мысль делает именно эти
невозможные вещи, и в возможности их делать и заключается ее сущность.
Мысль сама себя держит и плавает не только в воде, но и в своем
плавании; потому что она не только мыслит о предметах, вне ее находящихся,
но и сама себя мыслит. Возражения против такой постановка дела так
же неосновательны, как то возражение против круглоты земли, что люди
на противоположной стороне должны стоять ногами кверху, а головою
книзу, следовательно, подвергаются опасности упасть с земного шара.
VI
Такова точка зрения, которую открыл Кант и на которой он стоял.
С нее и только с нее одной и можно производить анализ мышления. Мы
не будем здесь говорить о том анализе, который сделан самим Кантом.
Мы хотели только обозначить найденную им субъективность мышления
и заметить, что она установлена совершенно прочно и незыблемо. Кри-
ставления о роли языка «вообще*. Живой язык всегда является тем или иным
национальным языком, а потому и философия всегда имеет определенный
национальный характер.
1 Страхов имеет в виду известное замечание Гегеля в «Лекциях по истории
философии» (кн. третья, раздел о Канте).
196
тика Канта раз и навсегда положила конец прежнему, догматическому
направлению философии. Можно предположить, что от точки, до
которой достиг Кант, идут разные дороги в разные стороны; по крайней
мере немцы уверяют, что со времен Канта их философия разветвилась.
Но вернуться назад, за Канта — дело невозможное. Подобные попытки
имели бы столь же мало значения и смысла, как взгляд на мироздание,
отвергающий систему Коперника, или геологическая система,
предполагающая, что земной шар существует лишь семь-восемь тысяч лет.
Известно, что если отрицание системы Коперника встречается ныне
уже редко, то до сих пор очень обыкновенное явление — отрицание
долговечности Земли1. Что же мудреного, что кантовская точка зрения
многими упорно отвергается? Между тем, ничего не может быть печальнее в
умственном мире, как подобного рода явления, то есть отрицание вещей
очевидных и незыблемых. Как только есть истина, которой мысль
боится, — дело кончено; никакой дальнейший ход невозможен. Для того,
чтобы быть вполне прочною обладательницею своей области, мысль не
должна оставлять у себя в тылу ничего непокорного.
Отрицать гораздо опаснее, чем признавать; истина признанная —
значит истина покоренная и верноподданная; истина отрицаемая —
значит враг, всегда готовый оспаривать нашу власть.
VII
Въ Московских университетских известиях, 1866 г., № 5, есть
статья г. Юркевича под заглавием: Разум по учению Платона и опыт
по учению Канта. В этой статье автор прямо отвергает основную точку
зрения Канта, ту субъективность мышления, которую тот открыл. Вот
одно место из статьи, которое, кажется, яснее и прямее других мест
выражает это отрицание.
«Кант не выяснил себе, что законы деятельности познающего
субъекта так же не суть законы субъективные, как законы движения света
и масс не суть законы светлые и массивные; с этим вместе он положил
начало тому беспримерному в истории направлению метафизики, для
которого законы действий познающего субъекта [суть вместе
произведения этих действий познающего субъекта] и следствие есть основание
самого себя. В учении о безусловной основе мира это заблуждение
привело к неслыханному доселе мнению, что безусловное предпосылает себе
1 В наше «просвещенное» время возродилось и это отрицание — в работах
ученых-«креационистов». См., например: Хобринк Б. Эволюция. Яйцо без
курицы. М. Мартис. 1993 (глава «Свидетельства в пользу молодости Земли»).
197
самого себя и есть для самого себя абсолютное Prius. Союз метафизики
с скептицизмом перешел, таким образом, в союз ее с софистикой»1.
Читатели видят, что здесь отвергается именно та главная черта
мышления, которую нашел Кант. Законы мышления (то есть
деятельности познающего субъекта) не суть законы субъективные: вот
главное положение приведенного отрывка. Это значит, что мышление не
само собою управляет, не знает, что оно делает и для чего делает, а
повинуется законам, извне данным. Для доказательства автор приводит
следующее: Законы движения света и масс не суть законы светлые
и массивные. Таким образом, мы вышли из субъективности.
Мышление поставлено наряду с движением света и движением масс, то есть с
явлениями объективного мира. И затем указывается, в какую ошибку
мы бы впали, если бы судили о мышлении не так, как судим о
движении света и движении масс. Законы света сами не суть свет, и законы,
которым повинуются массы, сами не суть массы; так точно и законы,
которым повинуется мысль.
Все, что далее говорится о неслыханной метафизике, сводится так
же точно на смешение двух миров. Автор указывает, как на очевидную
нелепость, на понятия, взятые из субъективного мира; ему кажется,
что достаточно назвать их, чтобы обнаружить их несостоятельность.
Разве какие-нибудь законы, спрашивает он, могут быть произведением
тех явлений, которые им подчинены? Разве может что-нибудь
предпосылать себе самого себя? Разве следствие может быть основанием
самого себя?
На все это нужно отвечать отрицательно, как скоро дело идет об
объективном мире. В нем основание всегда отличается от следствия и ему
предшествует; в нем нет ничего, что предпосылало бы себе самого себя,
и законы управляют явлениями, а не явления законами.
Но совершенно иное дело в субъективном мире. Законы мысли суть
также мысли; тело, падающее по закону тяжести, не знает закона,
которому повинуется; но мысль знает закон, по которому действует, и только
потому ему и повинуется, что знает его. Может ли тело усомниться в
законе тяжести и отказаться от повиновения ему? Конечно, нет. Между
тем, в Юме мысль отвергла все свои законы; она отказалась связывать
явления какою бы то ни было связью. Таким образом, Канту пришлось
доказывать законность приемов мысли, объяснять права,
принадлежащие законам мышления.
1 Слова, взятые в квадратные скобки, пропущены в тексте «Философских
очерков». Ср. Юркевич П.Д. Философские произведения. М. Правда. 1990. С. 522.
Prius (лат.) — предшествующий, первичный.
198
Точно так же, мысль может предпосылать себе самую себя, может
быть следствием, служащим самому себе основанием. Если я увидел
издали какой-нибудь предмет и, желая его достигнуть, иду к нему, то могу
сказать, что цель моего движения есть его причина и что его следствие
служит ему основанием. Но то, что несовершенно изображается этим
сравнением, вполне совершенно происходит в мысли. Я могу быть
обманут зрением и найти в предмете не то, что влекло меня к нему. В мысли
такого обмана быть не может: мысль находит то, чего она ищет; ибо цель
ей является в непосредственном, не обманывающем свете1.
VIII
Во всех этих случаях, когда мы говорим о силе мышления,
вытекающей из его главной, существенной особенности, нужно иметь в виду,
что эта сила принадлежит мышлению в возможности, а никак не
проявляется в каждом мышлении, какое мы вздумаем взять. Деятельность
мышления в человеке может быть весьма различна. От высшей своей
ступени, на которой мысль является в полной силе, она может
проходить всевозможные степени до животного бессмыслия и совершенной
тупости. Сущность же мысли, как и сущность всяких других явлений,
открывается не в низших и посредственных формах, а в самых высших,
какие она может произвести.
Рассматривая мышление в высшем его проявлении, мы должны
сказать, что оно абсолютно свободно; точно так, как относительно
объективного мира должны сказать, что он подчинен абсолютной
необходимости. В самом деле, если бы мышление не было в возможности абсолютно
свободным, если бы оно было подчинено каким-нибудь законам, данным
1 Современный комментатор трудов П. Д. Юркевича выражает возмущение в
адрес H. Н. Страхова, «совершенно не понявшего идей Юркевича» и увидевшего
в них «лишь повод снова поговорить о Гегеле» (указ. изд., с. 658). Упреки
совершенно неосновательные. Во-первых, Страхов говорит о Канте, а не Гегеле
(очевидно, здесь сработал условный рефлекс — если Страхов, то непременно
и Гегель). Во-вторых, Страхов абсолютно верно выявил основное
гносеологическое убеждение Юркевича в существовании объективного «мира идей», о
познании которого последний пишет в той же работе так: «Если бы система идей была
вполне прозрачна для нашего разума, то тем не менее индивидуальное бытие
живых и разумных существ представлялось бы нам, как непонятная судьба, и
откровение, содержащееся в идеях о том, что есть, оставляло бы нас в полном
неведении относительно того, кто есть» (указ. изд., с. 489). Непознаваемость
«того, кто есть», то есть субъекта — вот плата за гносеологический
объективизм. Именно это и подчеркивает H. Н. Страхов.
199
ему извне, то для него было бы невозможно то, что составляет его
действительную жизнь, то есть познание истины. Повинуясь внешним
законам, оно было бы слепою силою, произведения которой не могли бы
иметь притязания на значение истины1.
Возьмем для примера зрение. Оно, как вещественное чувство,
подчинено известным условиям, совершается по известным законам. Что
же оказывается? Оно постоянно нас обманывает, постоянно дает нам
неверные образы. Если бы мы руководились в своих суждениях одним
зрением, то мы могли бы думать, что все предметы, когда к вам
приближаются, становятся больше, а когда удаляются, становятся меньше.
Вероятно, так это и существует для животных, которым нет дела до того,
как вещи существуют сами в себе, а важно только то, как они являются
в отношении к ним. Люди, однакоже, умеют исправить обман,
производимый зрением, и хотя уменьшение знакомых предметов всегда
возбуждает в нас какой-то след удивления, например, когда видим людей
с высокого здания, но мы твердо знаем, что никакого действительного
уменьшения не происходит.
Такие и подобные обманы исправляются мышлением. Но чем
мышление будет исправлять свои собственные обманы? Всякий знает, что
обманы мышления существуют, что они происходят по определенным
законам. Кто будет познавать эти законы и исправлять эти обманы?
Очевидно, само же мышление. Итак, если оно способно познавать истину,
то за ним нужно признать абсолютную способность исправлять самого
себя, следовательно, не подчиняться ни одному из своих законов, не
зная вполне, как он действует, где может дать истину и где ложь. Если
этого нет, если есть закон, которому мышление подчинено слепо и
беспрекословно, то мы не можем ручаться, чтобы когда-нибудь достигли
посредством него истины.
Наши глаза до сих пор нам показывают, что земля стоит, а солнце
ходит. Коперник сумел отличить истинное движение от кажущегося.
Так точно, Кант старался показать, что ум имеет силу отличать в своих
действиях истинное от ложного, следовательно, может быть сам себе
судьею и предписывать самому себе, что делать и чего не делать.
1 Здесь и ниже Страхов выявляет основную ошибку гносеологического
натурализма, который пытается представить мышление, как некий закономерный
процесс, аналогичный пространственно-временным процессам, изучаемым
естественными науками. С этим представлением тесно связаны фантазии (увы, по-
прежнему модные) о «мыслящих роботах», о «мышлении как обработке
нейронной информации» и т.п. См., например, весьма репрезентативный сборник «Глаз
разума» (Бахрах-М., 2003).
200
IX
Мысль освободилась в Канте. Он нашел, что она может вполне
владеть собою, сама собою управлять. Какое следствие отсюда? Во-первых,
то, что философские методы могут быть вполне уяснены и все задачи
относительно мышления вполне определены и решены. Методы суть
приемы мысли; следовательно, она за них и отвечает. Задачи — суть
вопросы; кто спрашивает, тот должен, как говорится, поставить вопрос, то
есть со всею точностью определить, чего он ищет и что ему нужно. Мысль
может вполне ясно знать, куда она идет. Это самое соображение Кант
указывает, как одну из своих руководящих мыслей. Если мы приписываем
вещам причинную связь, то мы должны же знать, что мы им приписываем;
а иначе кто же будет это знать? Если же причина — одно пустое слово, то
и это опять наше дело; кроме нас никто этого знать не может.
Таким образом, так или иначе мы должны получить субъективную
логику, то есть науку, в которой мысль опирается только на самую себя,
в которой она излагает все свои законы и движения и дает абсолютный
метод своего действия, заключающий в себе все другие методы как
частные случаи.
Мысль о такой науке, в которой мышление было бы озарено своим
собственным светом, лежит в основании Критики чистого разума.
Последующие философские системы представляют попытки построить эту
науку. Самая большая из этих попыток есть логика Гегеля. Если бы мы
и находили эту или другую попытку неудачною, то все-таки не имели бы
права отвергнуть того стремления, из которого они вытекают. Задача,
поставленная Кантом, остается неизменною, и нет сомнения, что в
разрешении ее многое сделано удачно и им самим, и другими.
То, что я назвал здесь субъективной логикой, есть так называемая
диалектика.
х
Для того, чтобы пояснить субъективность мысли и требования,
вытекающие из этой субъективности, я приведу здесь несколько
примеров отступления от этой основной точки зрения. Из них видно будет,
к каким заблуждениям ведут такого рода отступления. Принять свое
собственное создание за действительность — вот обыкновенная
ошибка мысли, не знающей своей собственной деятельности. Всем уже ныне
известно, что гномы и эльфы суть создания воображения; но тот, кто
уже настолько свободно мыслит, что не верит в леших и домовых, мо-
201
жет быть, еще далеко не чужд других суеверий. Есть научные суеверия,
столь же крепкие, как и суеверия фантазии. Мышление создает
призраки, которые считает за действительность. Так исследователи природы,
несмотря на руководство опыта, создали множество вещей, ни в каком
опыте не встречающихся: невесомые жидкости, эфир, атомы,
химическое сродс гно, жизненную силу и т. п. Споры об этих вещах были
бесконечны и иногда весьма жалки, как, например, спор о жизненной силе.
Собственно, это было одно пустое слово1.
Современные натуралисты все более и более изгоняют из науки
подобные фикции; начало этих фикций заключалось в догматическом
настроении ума, который стремился посредством их дать науке твердый
и определенный вид. В настоящее время эта уловка уже не обманывает
исследователей, и естественные науки получают все больше и больше
подвижности; вопросы, вместо того, чтобы приближаться к каким-
нибудь простым решениям, заранее придуманным для них, углубляются
и расширяются неопределенным образом. Таково следствие
усиливающейся научной строгости.
Видеть в вещах нечто неизменное, твердое, некоторую сущность, не
подлежащую никаким колебаниям, — вот постоянное стремление
мысли. Не находя на деле ничего подобного, мысль подкладывает под
наблюдаемые явления эту неизменную сущность, материю, атомы и т. п. В
этом заключается постоянный обман мысли, который можно сравнить с
обманом, по которому мы естественно стремимся считать землю
неподвижною для того, чтобы спокойно и уверенно двигаться на этой
неколеблющейся опоре. Так точно, для движений мысли как будто необходима
опора неизменной сущности.
И в том и в другом случае нас обманывает видимость. Оказывается,
что мы находимся в царстве вещей, где нет ничего неподвижного и
неизменного, где всё мягко и текуче, где вещи, по прекрасному
замечанию Гегеля, даже пожирают одна другую2. Неизменны только порядок
и связь явлений.
1 Критика «призраков» (или фикций), которые могут иметь эвристическое
значение для тех или иных частных наук, но которым недопустимо приписывать
онтологическое значение, была развита Страховым в книге «Мир как целое».
Заметим, что к числу этих фикций он причисляет эфир, который в то время еще
был вполне легитимным физическим понятием. Что касается атомизма, то
актуальность его критики в работах Страхова рассмотрена мною в предисловии к
современному изданию указанной книги (М., Айрис-Пресс. 2007. С. 54-60).
2 Страхов имеет в виду слова Гегеля из «Феноменологии духа» (в конце главы о
чувственной достоверности).
202
XI
Сила и вещество, дух и материя, атомы, монады и т. д., словом —
все подобные представления, в которых мы думаем воплощать для себя
сущность мира, уже по тому самому не годятся для этого воплощения,
что мыслятся объективно, следовательно, по самой сущности дела, по
самому способу, которым их образует мысль, не содержат в себе
никакого элемента для вывода из них субъективного мышления. Вообразив
себе дух, как нечто совершенно отличное от материи, можно, однакоже,
в сущности мыслить его совершенно так же, как мы мыслим материю,
можно, например, законы, по которым он действует, ставить наравне
с законами света или движения масс. Дух в таком случае оказывается
вещью между вещами, вещью только более тонкою, чем другие.
Невольно приходит здесь на память, как в давнее уже время профессор
философии в здешнем университете объяснял нам разницу между душою и
телом. С удивительной наивностью он сравнивал дух с вещественными
предметами и находил различия. Можно было подумать, что дело идет о
предметах совершенно однородных. Так, например, он говорил, что
всякое тело, побуждаемое двумя силами, идет по диагонали, образуемой их
направлениями и величинами1; между тем душа, в случае, если на нее
действуют в одно время два побуждения, всецело повинуется одному из
них. Что можно было заключить из подобных сопоставлений? Только то,
что законы движения бывают различны для различных предметов и что
дух подчинен одним механическим законам, а вещество другим. Такой
спиритуализм в сущности ничем не отличается от материализма2.
XII
Материалисты суть только самые наивные из объективаторов. Им, в
буквальном смысле, хотелось бы нарисовать сущность мира и всего, что
в нем совершается. Они думают, что все, что ни существует, и все. что
ни происходит, можно видеть; стоит только нарисовать это в
уменьшенных или увеличенных размерах, смотря по предметам. Сущность вещей
для них по самой природе видима, то есть пространственна и фигурна.
1 Речь идет о так называемом законе сложения сил по правилу
параллелограмма (на деле этот «закон» является определением, позволяющим рассматривать
силу как вектор).
2 Недопустимость рассуждений о душе и духе с помощью материальных
аналогий является основной темой статьи Страхова «Из споров о душе» (1870)
(см. «Философские очерки»).
203
То, что никогда не может быть видимо в этом смысле, чего нельзя
никаким образом изобразит на рисунке, для них не существует.
Мысль есть некоторое вещество, выходящее из мозга, как желчь из
печени, сказал один физиолог, пожелав выразить вполне свое
понимание сущности вещей1. Какой ясный образ! Таким образом, мы получим
вещества входящие и выходящие, частицы двигающиеся всевозможным
образом, дрожащие, вращающиеся, бегущие, и эта картина изобразит
нам мир в настоящем его виде.
Относительно этой картины можно бы заметить, что она представляет
мало красивого, или что она чересчур однообразна. Но главная беда не в
том. У этой картины есть более существенный недостаток, именно — ей
недостает зрителя. В самом деле, ведь картина объемлет всё
существующее; в нее вошел и зритель, то есть человек. На картине из его мозга
выходит вещество, называемое мыслью; на картине происходит дрожание,
вращение и беганье частиц, называемое зрением. Но кто же смотрит на
эту картину? Ведь, кроме нее ничего нет? Вот в чем заключается
коренная беда материализма. Он объективирует все вещи в пространственные
формы, находя, что эти формы всего яснее для субъекта; наконец, он
объективирует самый субъект, и тогда остается без субъекта, то есть без того,
для чего происходила вся эта работа.
Никакая картина сама себя видеть не может. Картина непременно
предполагает зрителя, который ее созерцает, который совершенно
отделен от картины, находится в известном расстоянии от нее. Итак, картина
мира, которую рисует материалист, никак не выходит полною, никак не
может заключить в себе всего, что происходит. Но материалист
ухищряется и думает, что он может избежать этой трудности. Чтобы покончить
дело, он рисует на картине и самого зрителя и думает, что этот
нарисованный зритель видит другие нарисованные вещи и что, таким образом,
дело обходится само собою и не нужно уже никакого зрителя, отдельного
от картины.
XIII
Человек есть зритель мира. Самая удивительная загадка
заключается не в том, что мир существует, а в том, что у него есть зритель.
Как бы чудесен ни казался нам мир, как бы поразительны ни были для
1 Имеется в виду Пьер Кабанис ( 1757-1808), французский философ-материалист и
врач. Уместно отметить, что современные исследования (проводимые, в частности,
под эгидой РАН) о «чтении мыслей» путем регистрации электромагнитных волн,
излучаемых мозгом, лежат в русле всё того же «вульгарного материализма».
204
нас его порядок, стройность, красота, могущество, разнообразие,
наиболее чудесное и наиболее поразительное явление состоит в том, что
мы можем это видеть и этому удивляться. Великолепен свет солнца;
«эти могучие лучи дышат вечностью», говорит один поэт1. Но этот свет
получает свое великолепие от нас; сам себя он не видит и ничего не
знает о своем великолепии. Картина мира сама себя не видит и сама
для себя не существует; но есть зритель, который видит эту картину,
для которого она существует и который сам для себя существует. Вот
самое большое чудо мира.
Если мы скажем, что человек сам породил этот мир, что его мысль
создала эту видимость, внесла в нее свет, красоту, порядок, то это может
показаться странным; но не будет ли казаться еще более странным, если
мы скажем, что мир породил человека, что мысль человеческая есть
произведение природы, и что, следовательно, слепая картина породила из
себя зрителя, для того, чтобы он ее видел и ею любовался?
Во всяком случае, только здесь, только в этой точке мы прикасаемся
к истинной загадке бытия и мышления2. Что бы ни существовало и как
бы ни существовало, бытие должно быть таково, чтобы возможно было
мышление. И обратно — нельзя ничего понять, если мы не понимаем
мышления.
XIV
Наука чистого мышления, диалектика, была обрабатываема
Фихте, Шеллингом и Гегелем. Вся трудность ее заключается в том,
чтобы твердо держаться основной точки зрения, то есть субъективности
мысли. Мысль должна отдать себе отчет во всех своих формах и
движениях, должна мыслить только одну себя. Так у Канта, в «Критике
чистого разума», все объективное бытие, весь действительный мир
полагался равным X, величине, о которой ничего не известно. Мысль
была совершенно внутри себя и работала над самой собою. При такой
работе нас может постоянно смущать призрак объективного мира,
к которому так привыкла обращаться наша мысль. Когда философ
утверждает, что бытие и ничто тожественны, нас это поражает, как
1 Слова из повести И.С. Тургенева «Дневник лишнего человека».
2 Вполне очевидно, что Страхов формулирует здесь именно ту «загадку», вокруг
которой вращаются современные дискуссии, связанные с так называемым «ан-
тропным принципом» в космологии. Взгляд на эту загадку, намеченный в статье
1866 г., Страхов развертывает затем, в книге «Мир как целое», в стройную
концепцию развития природы.
205
будто он хотел сказать, что все вещи, существующие в объективном
мире, не существуют. Между тем философ имел в виду лишь один
субъективный смысл, то есть хотел сказать, что пока мы
приписываем вещам только бытие вообще, такое бытие, которое
принадлежит всему, что ни существует, следовательно, и всякому созданию
воображения, до тех пор мы еще ничего не мыслим. Для того,
чтобы отличить свое бытие от небытия, от ничто, мысль должна еще
что-нибудь внести в свое определение. Другими словами, это значит:
вещи не могут просто быть и больше ничего; такое бытие не
мыслимо; такое бытие все равно что небытие.
Возражения, делаемые против диалектики, основываются большею
частью на подобном внесении объективного отношения в ее чисто
субъективный процесс. Так, например, Шеллинг не хотел признать,
что понятие бытия совершенно определяется и ограничивается своею
противоположностью: ничто, небытие, и утверждал, что
диалектический ход требует от бытия перейти к понятию предбытия ( orsein)1.
Очевидно, такой ход был бы возможен, если бы бытие было не мое
понятие, а нечто объективное. В моей мысли бытию прямо и чисто
противоположно ничто. Но если бытие положено в действительности, то
есть составляет нечто мне неизвестное и непроницаемое, то я не знаю,
что ему противоположно, и могу мысленно только сказать, что оно
отличается от некоторого предбытия. Но это значит только, что я из
субъективной области вступил в объективную.
Гораздо справедливее то замечание Шеллинга, что логика Гегеля
есть мысль, в которой ничего не мыслится. Нужно только прибавить к
этому: кроме мысли2.
1 См., в частности, «Мюнхенские лекции» Шеллинга, где в разделе,
посвященном Гегелю, он критикует положение «чисто бытие есть ничто».
2 С точки зрения Страхова, спор между Шеллингом и Гегелем был фактически
продолжением спора между Локком и Лейбницем; последний, как известно,
добавляет к утверждению Локка «нет ничего в уме, чего бы не было раньше в
ощущениях» принципиальную оговорку — «кроме самого ума». Таким образом,
в статье 1866 г. Страхов категорически отказывается ставить рационализм на
одну доску с эмпиризмом и решительно утверждает примат разума над опытом.
Дальнейшее развитие этого взгляда на ведущее значение человеческой
рациональности в «опытных» науках мы находим в работе «О вечных истинах. Мой
спор о спиритизме» (СПб, 1887).
206
XV
Эти замечания сделаны для того только, чтобы показать, как
сильна бывает склонность мысли к объективации, то есть к отступлению от
своей субъективности1. Главная же цель моя была указать на эту
субъективность, ясно поставить ее перед глазами читателя. Повторим в
кратких словах существенные положения статьи.
Мысль иначе относится к себе самой, чем к другим предметам, так
как мысль сама себя мыслит.
Мысль сама собою управляет, то есть свободно подчиняется своим
внутренним законам.
Невозможно рассматривать мысль наряду с объективными
предметами.
Невозможно рассматривать мир так, чтобы в это воззрение не
входил такой (то есть субъективный) взгляд на мысль.
Но из этого взгляда на мысль следует, что возможна логика как наука
чистой мысли.
Вот положение дела. Задача поставлена у Канта, и если бы пришлось
перевершить все ее решения2, то все-таки нам пришлось бы решать ту
же самую задачу, пришлось бы искать мысли, которая сама себя
мыслит. Только такая мысль может стать для нас твердою опорою.
1 Ввиду того, что исторически термин «субъективность» оказался слишком
тесно связанным с представлением об узко индивидуальных особенностях того или
иного человека, было бы целесообразнее говорить (полностью сохраняя смысл
всего сказанного H. Н. Страховым) о принципиальной субъектности мышления
(а шире — сознания). Именно отрицание этой субъектности в трудах П. Д. Юр-
кевича и В. С. Соловьева (а позже Г. Г. Шпета) делает этих мыслителей
особенно притягательными для нынешних российских энтузиастов «феноменологии»
раннегоЭ. Гуссерля.
2 Согласно Вл. Далю, глагол «перевершать» означает «переделывать»,
«перерешать» («Сенат перевершил решенье судебной палаты»).
207
H. H. Страхов в диалогах с современниками.
Философия как культура понимания
Коллективная монография
Задача коллективной монографии — «схватить пить судьбы»
H.H. Страхова, которого традиционно представляют как
философа -второго эшелона» и вспоминают только в связи
с Достоевским, Толстым. Данилевским. Ал. Григорьевым,
Вл. Соловьевым. Фетом, Розановым и др. Он зачастую
предстает как фоновая фигура, как философ-тень других -
великих. Авторы монографии — исследователи наследия
H.H. Страхова — пытаются, наоборот, посмотреть на многих
великих люден в связи с жизнью и творческими исканиями
»того философа, считая его не тенью, но «проявителем« ряда
интеллектуальных процессов, которые способствовали
рождению русской философии Серебряного века.
Философский традиционализм Страхова не помешал ему быть
другом π оппонентом тех. кто создавал культурную
диалогическую эпоху начала XX века. В монографии предпринята
попытка проникнуть в природу их уникальных диалогов,
которые состоялись между ними и по-своему прояснили
специфику философского (диалогического) мышления в целом.
Основой этого экзистенциально-культурного диалога стала
страховская концепция по иимайия, недооцененная
современниками. Именно понимающая философия, к которой
так близко подошел Страхов, становится базой дальнейшего
культурного развития России, «мостиком», предопределившим
мыслительное творчество последующих поколении. Искрение
понимать Другого и одновременного «возводить своп идеи до
общеинтересного, для всех законного н убедительного» —
такова основа философского творчества H.H. Страхова.