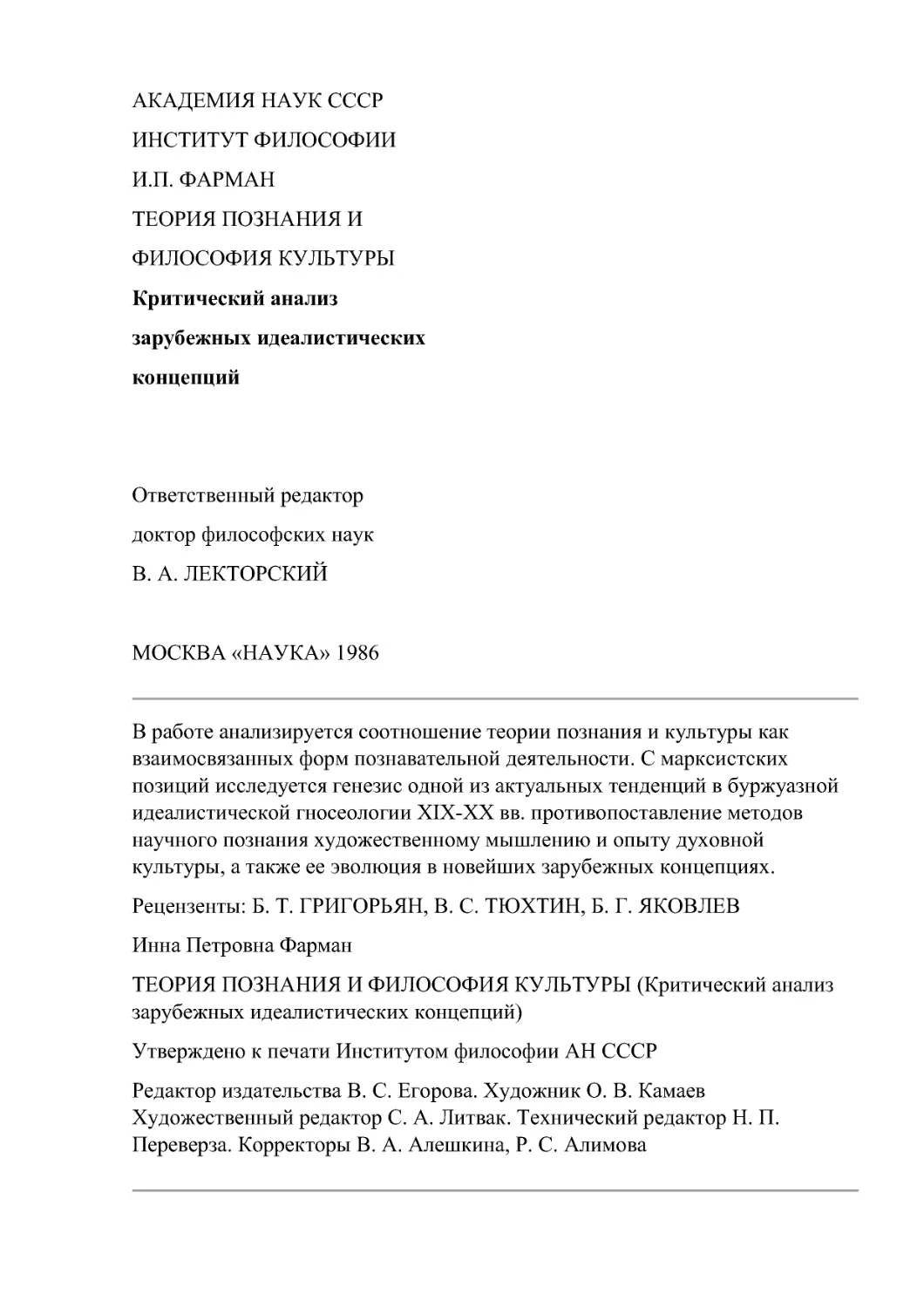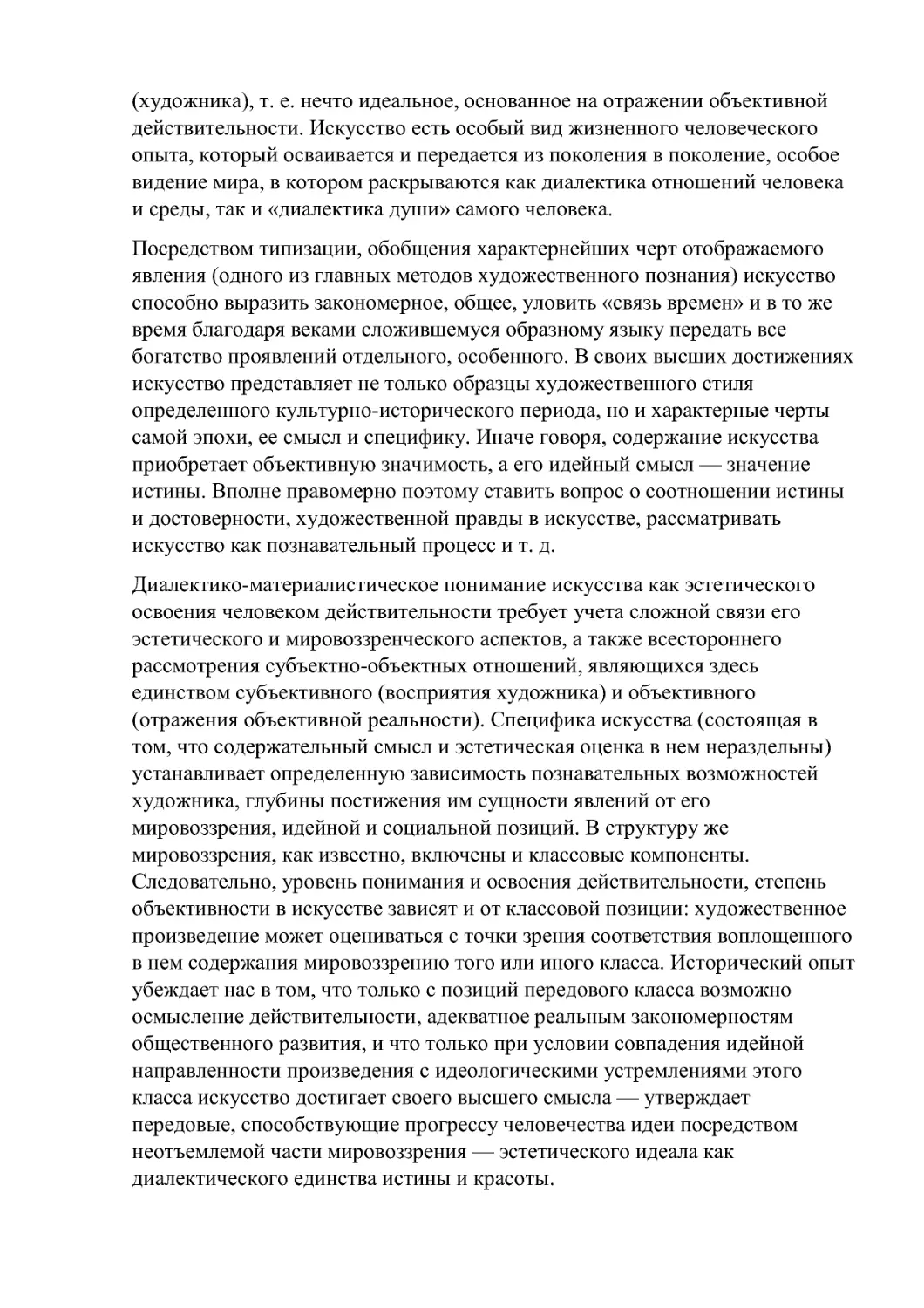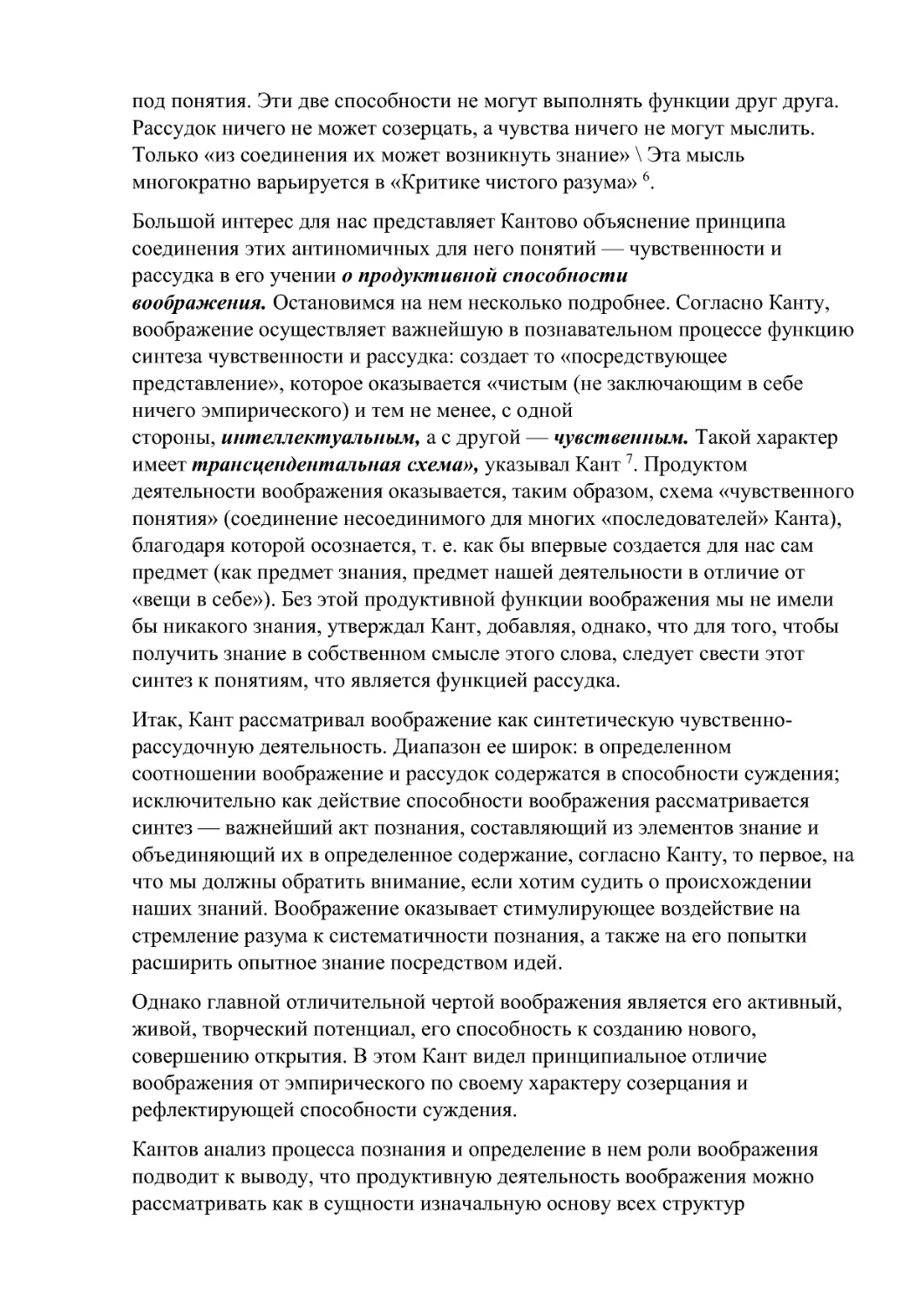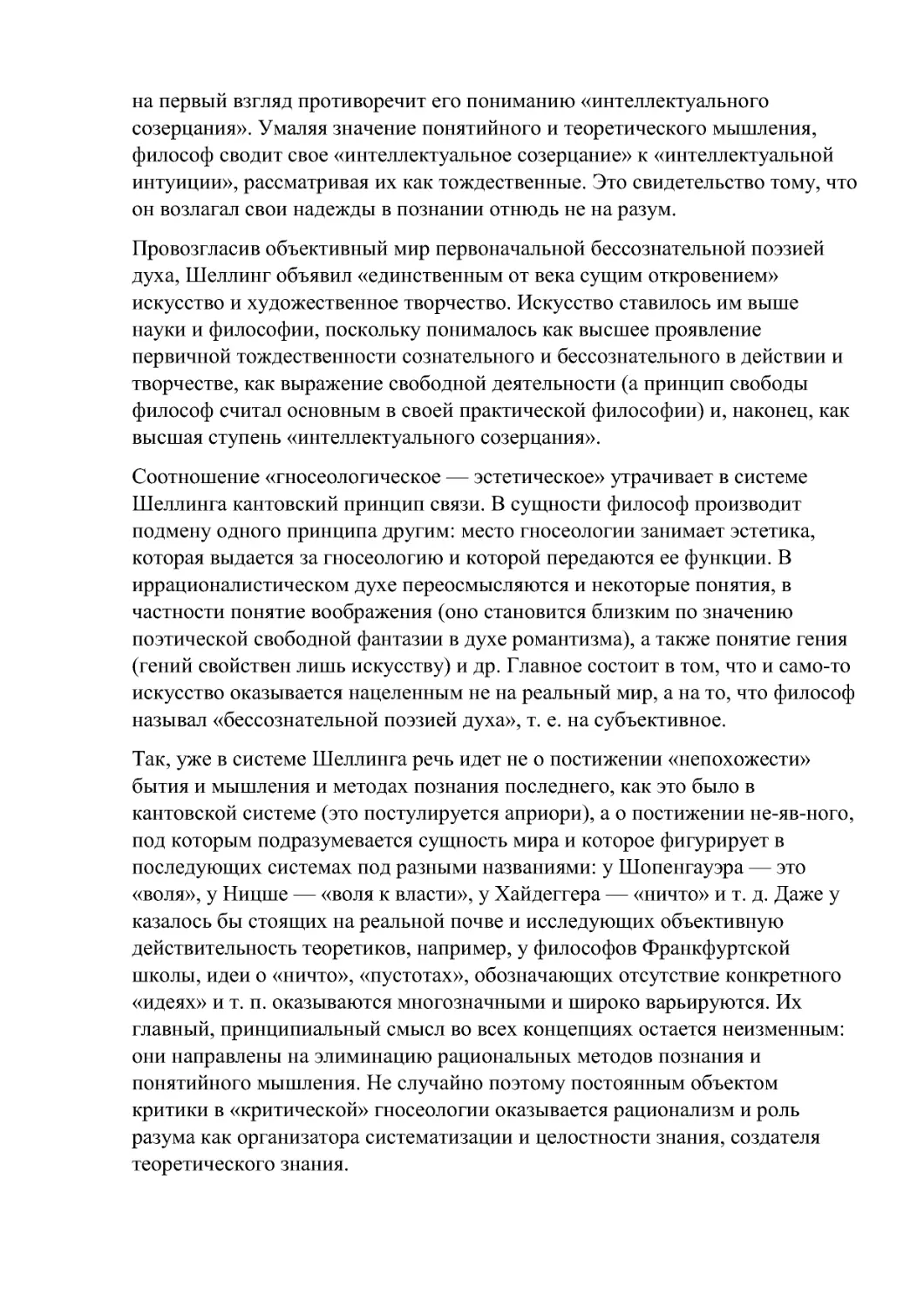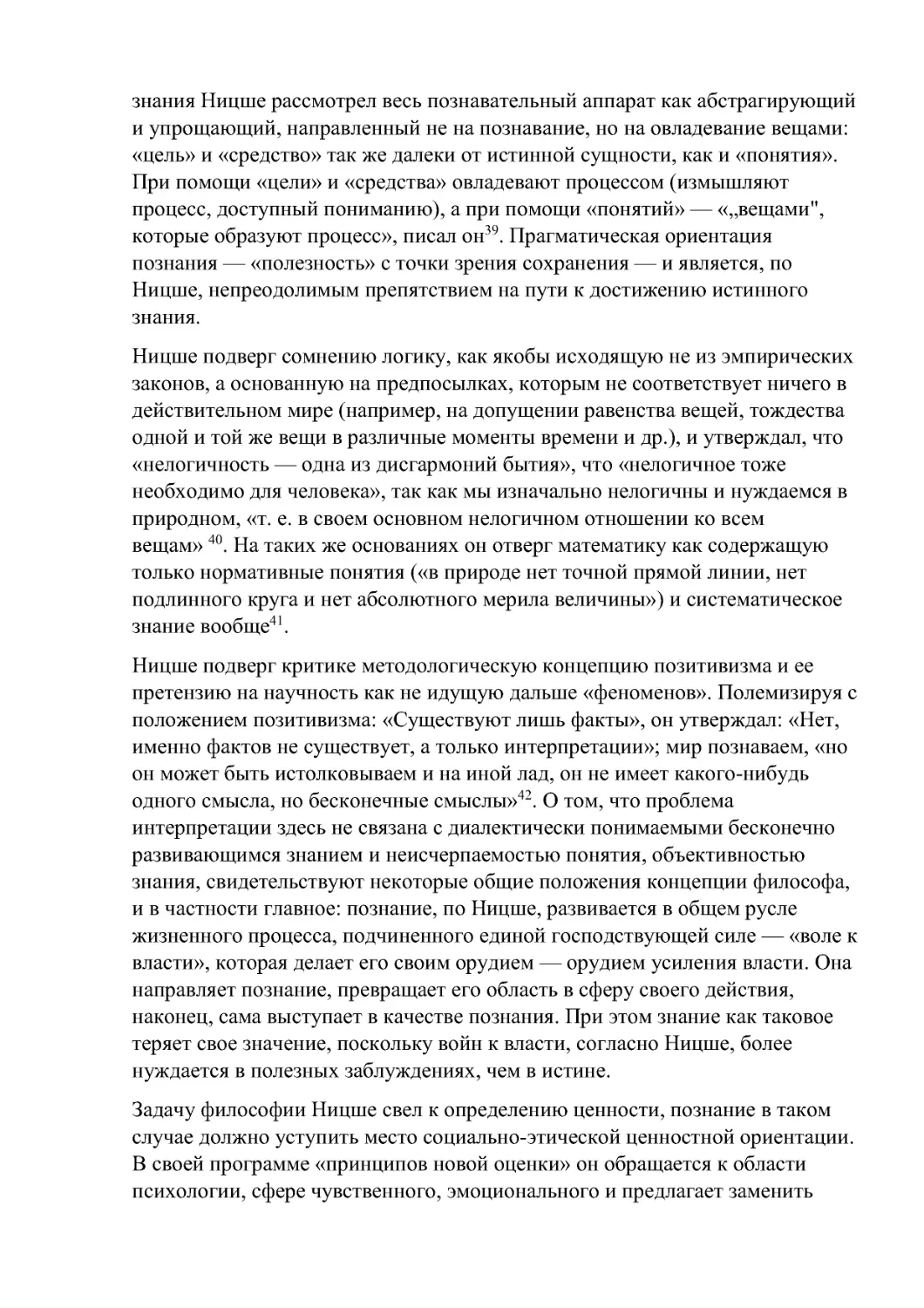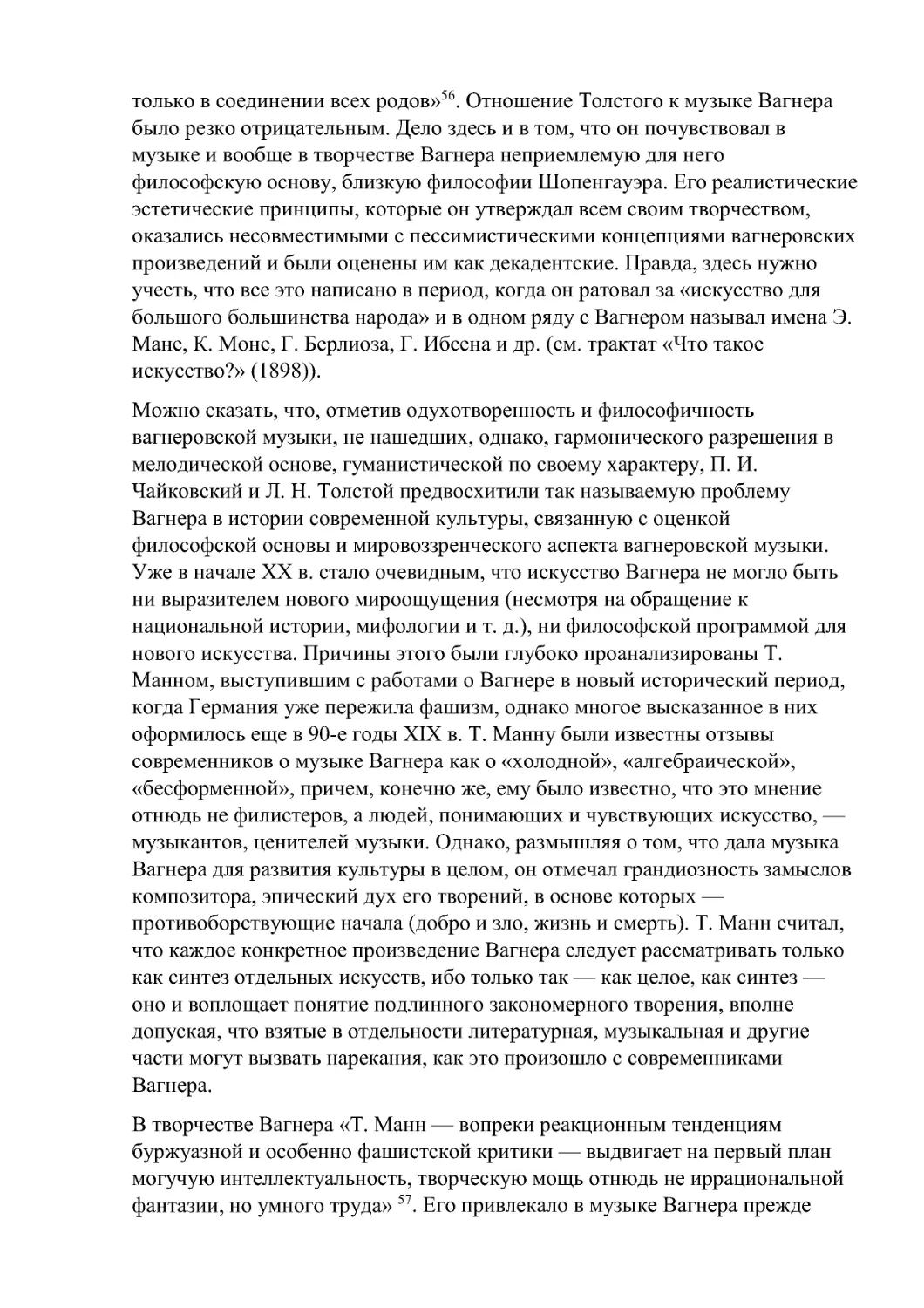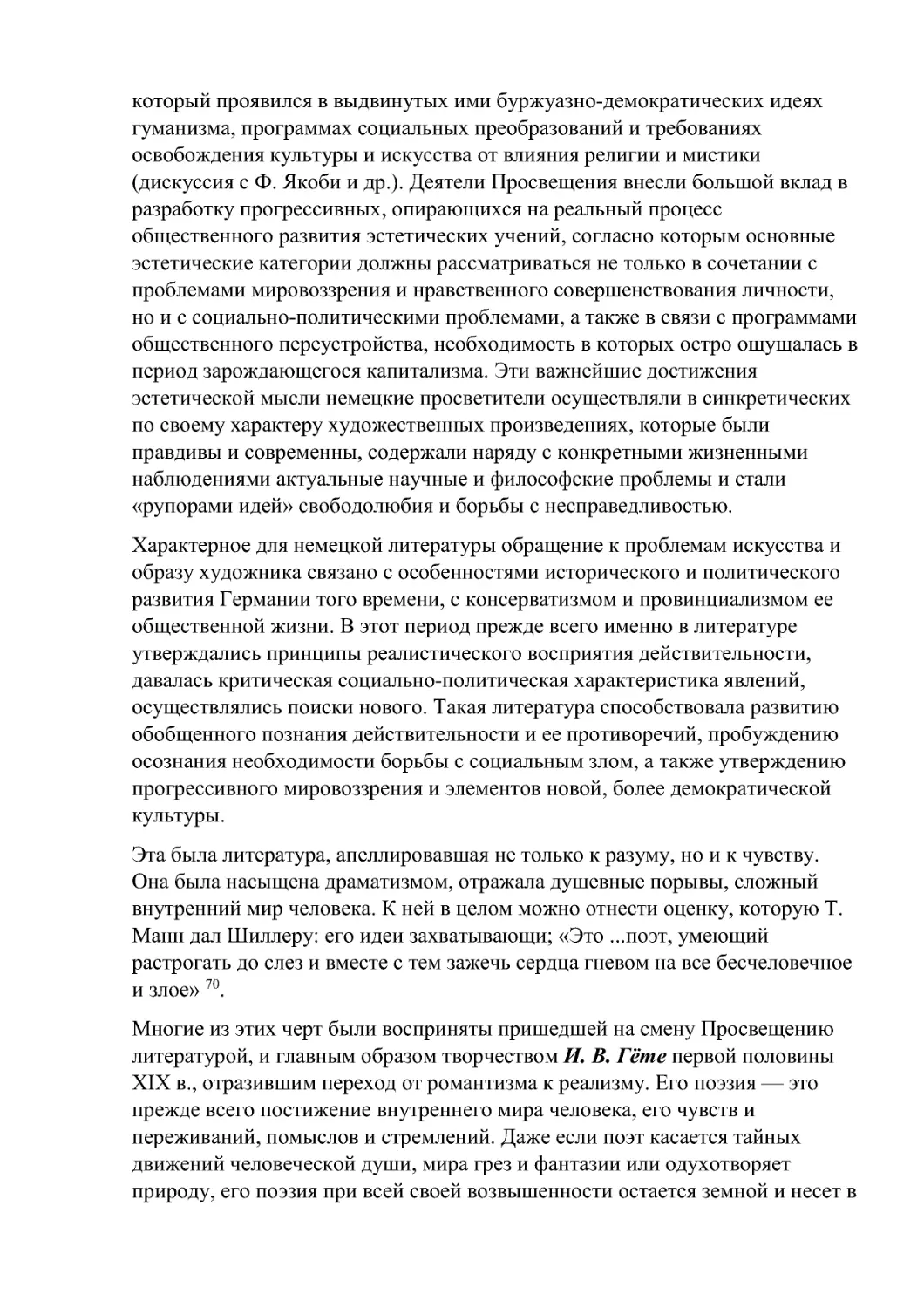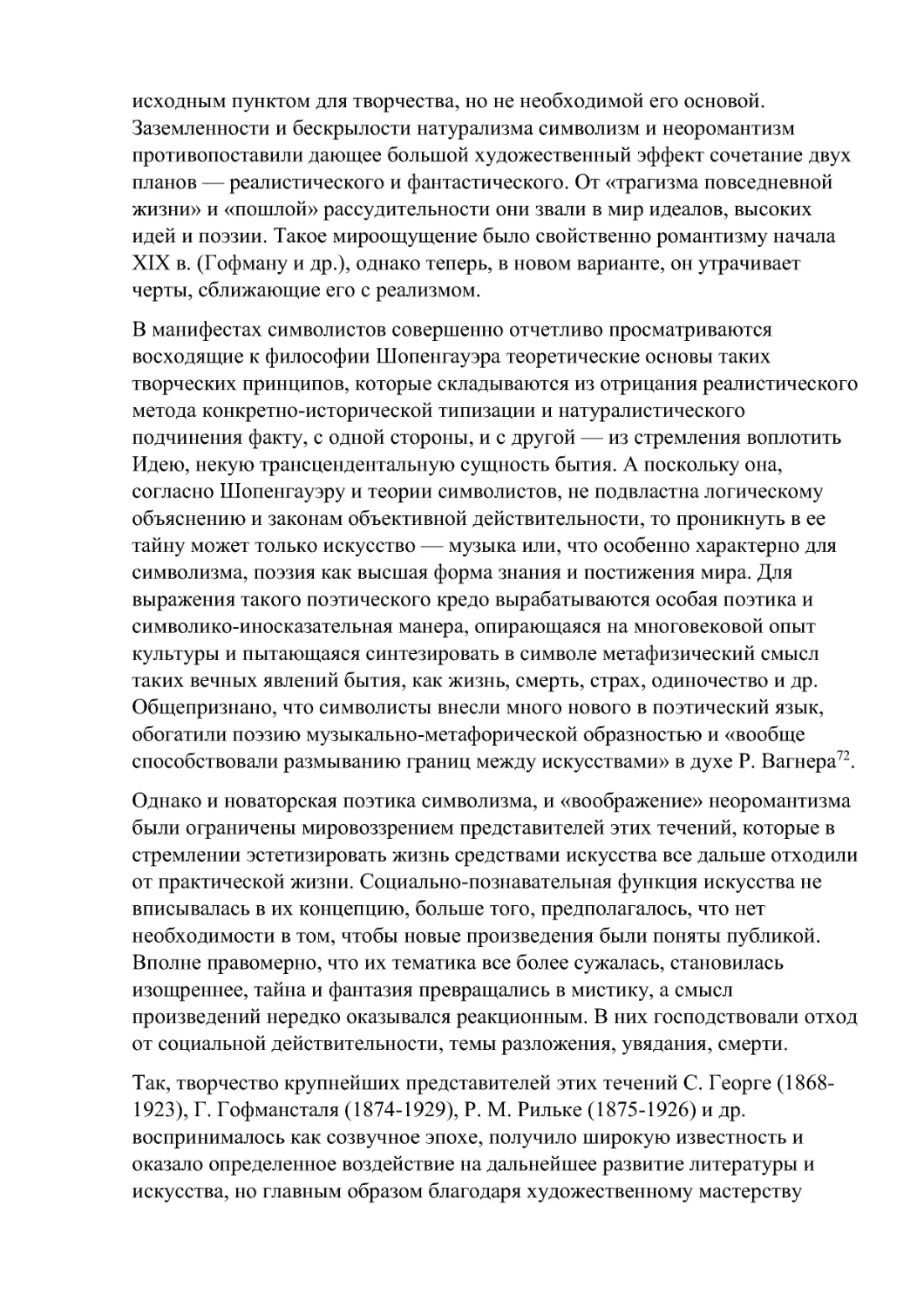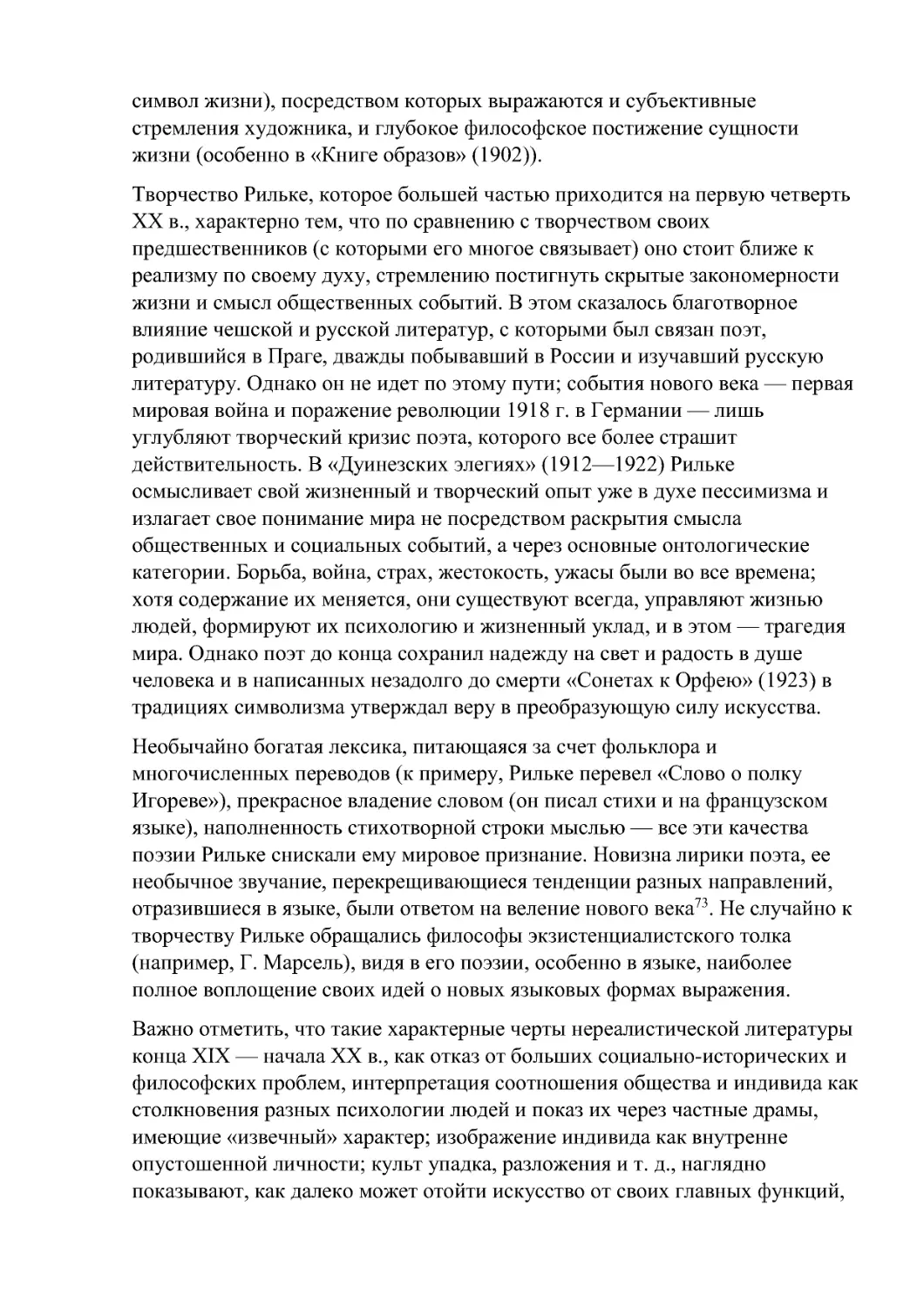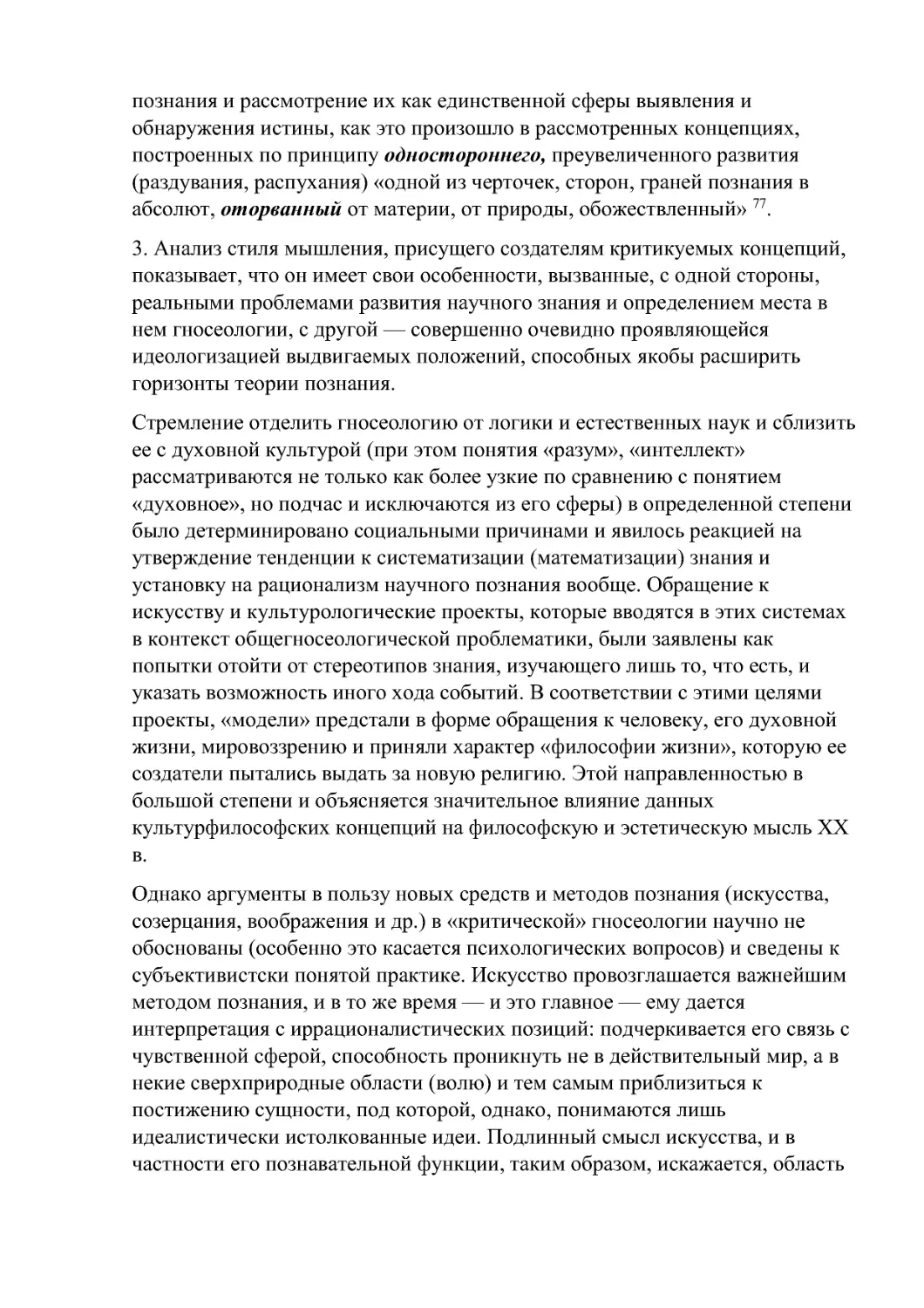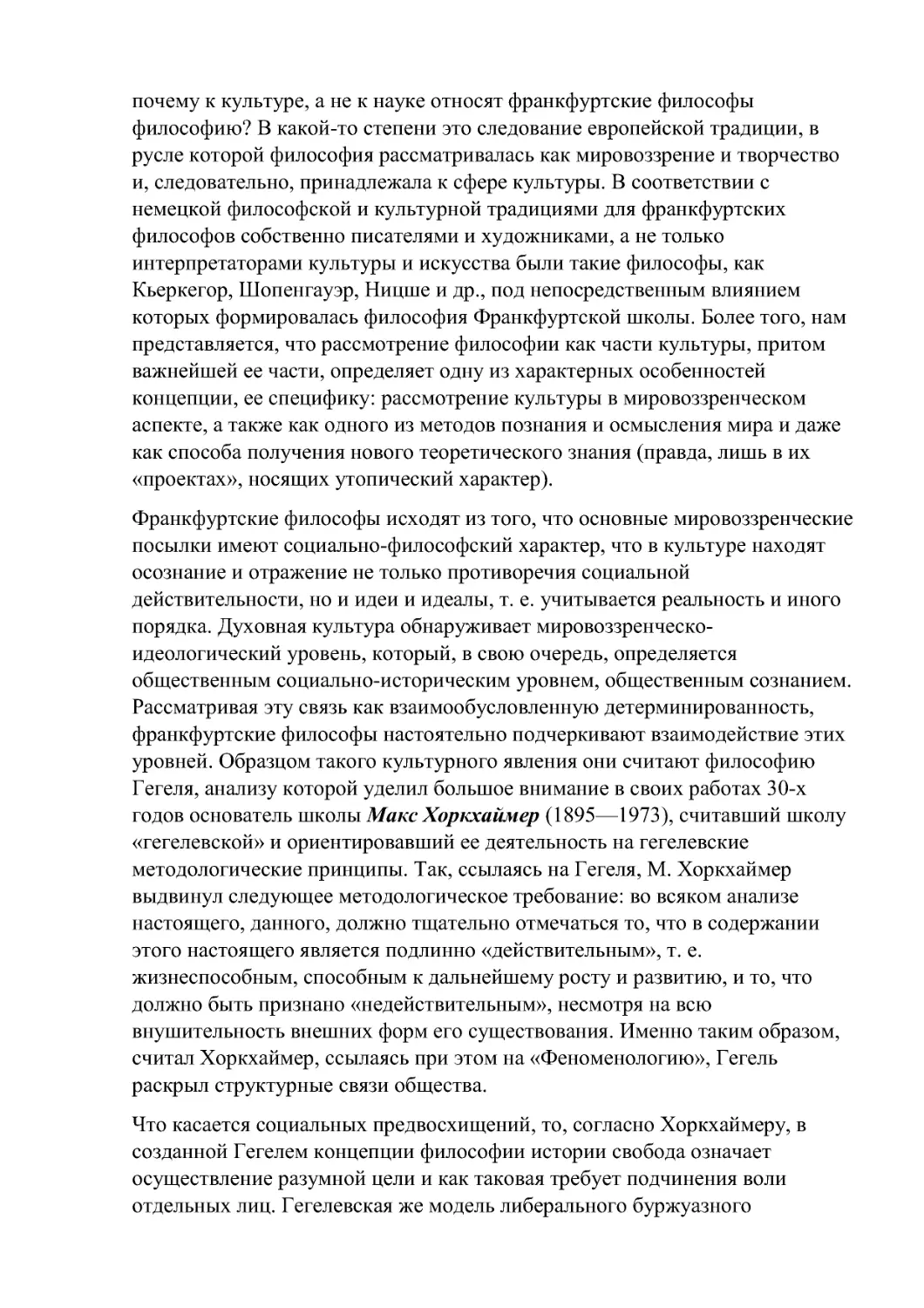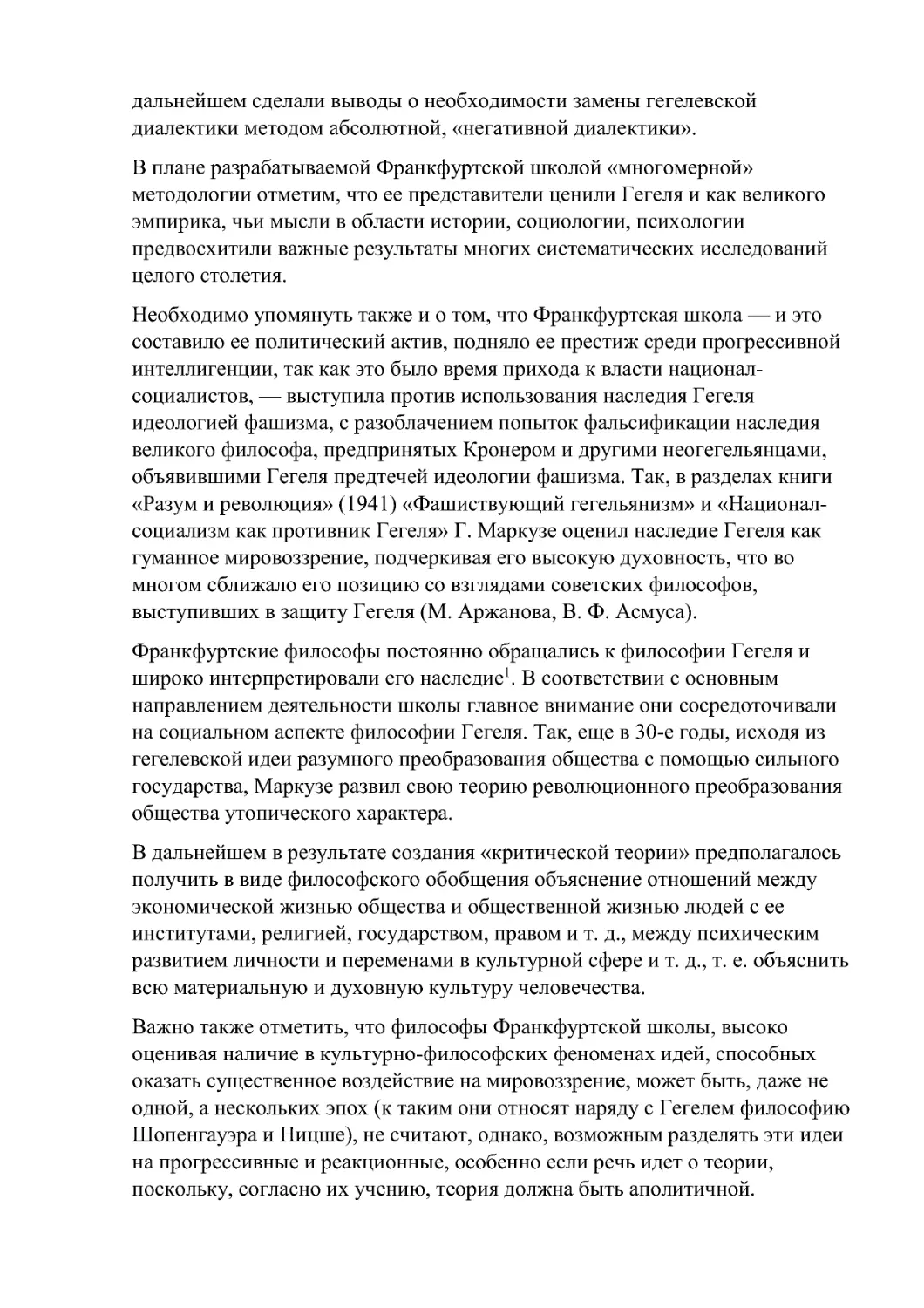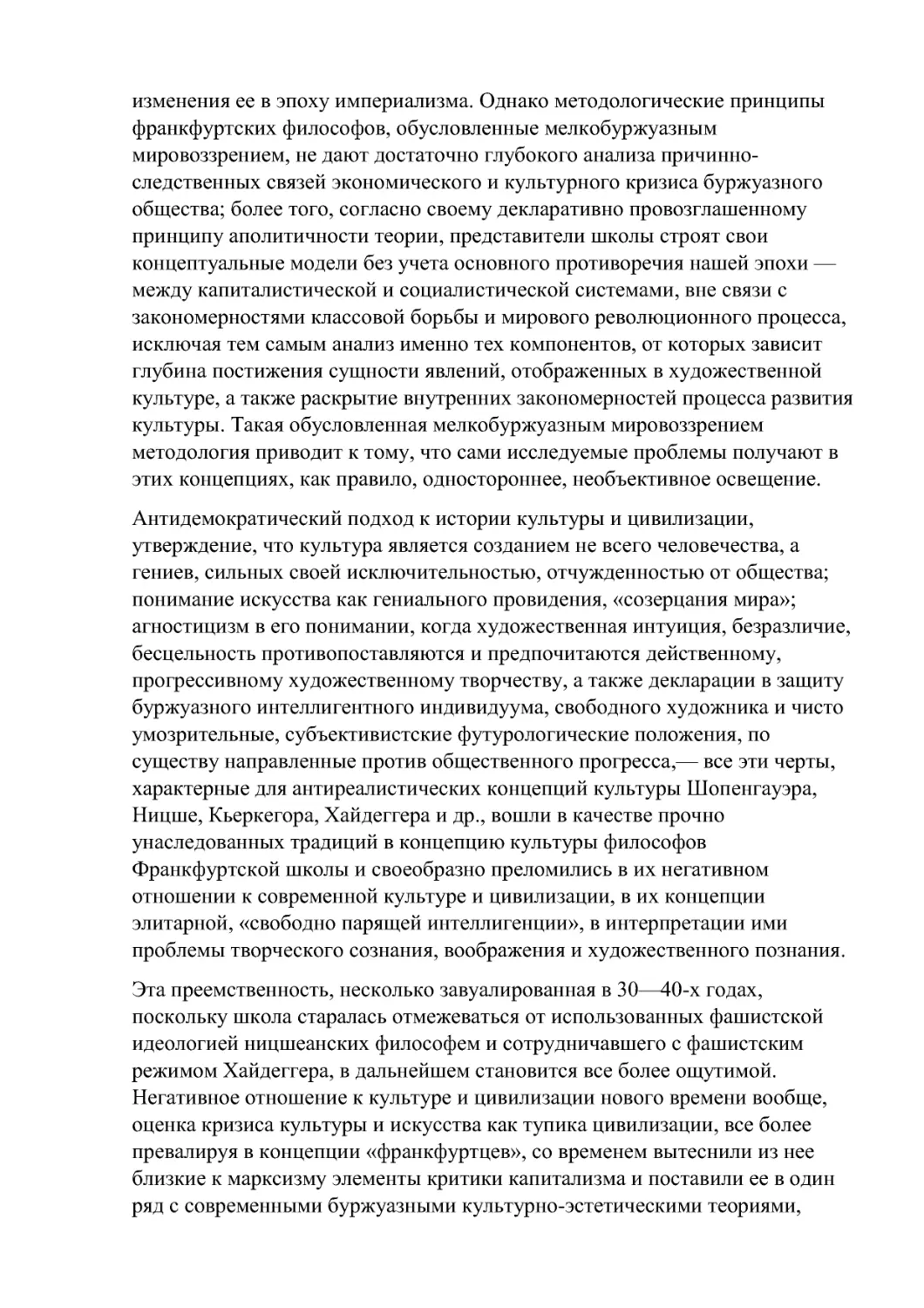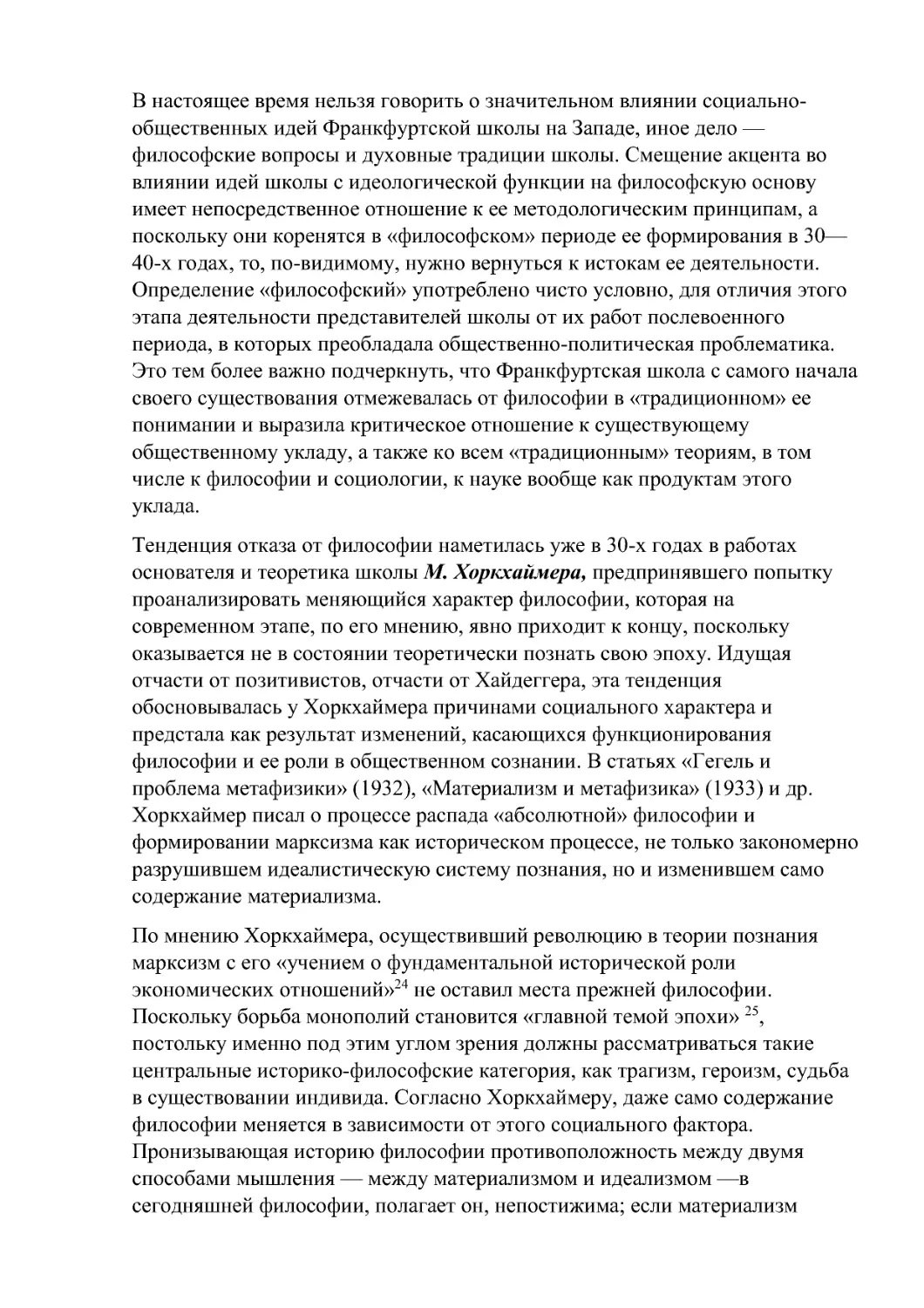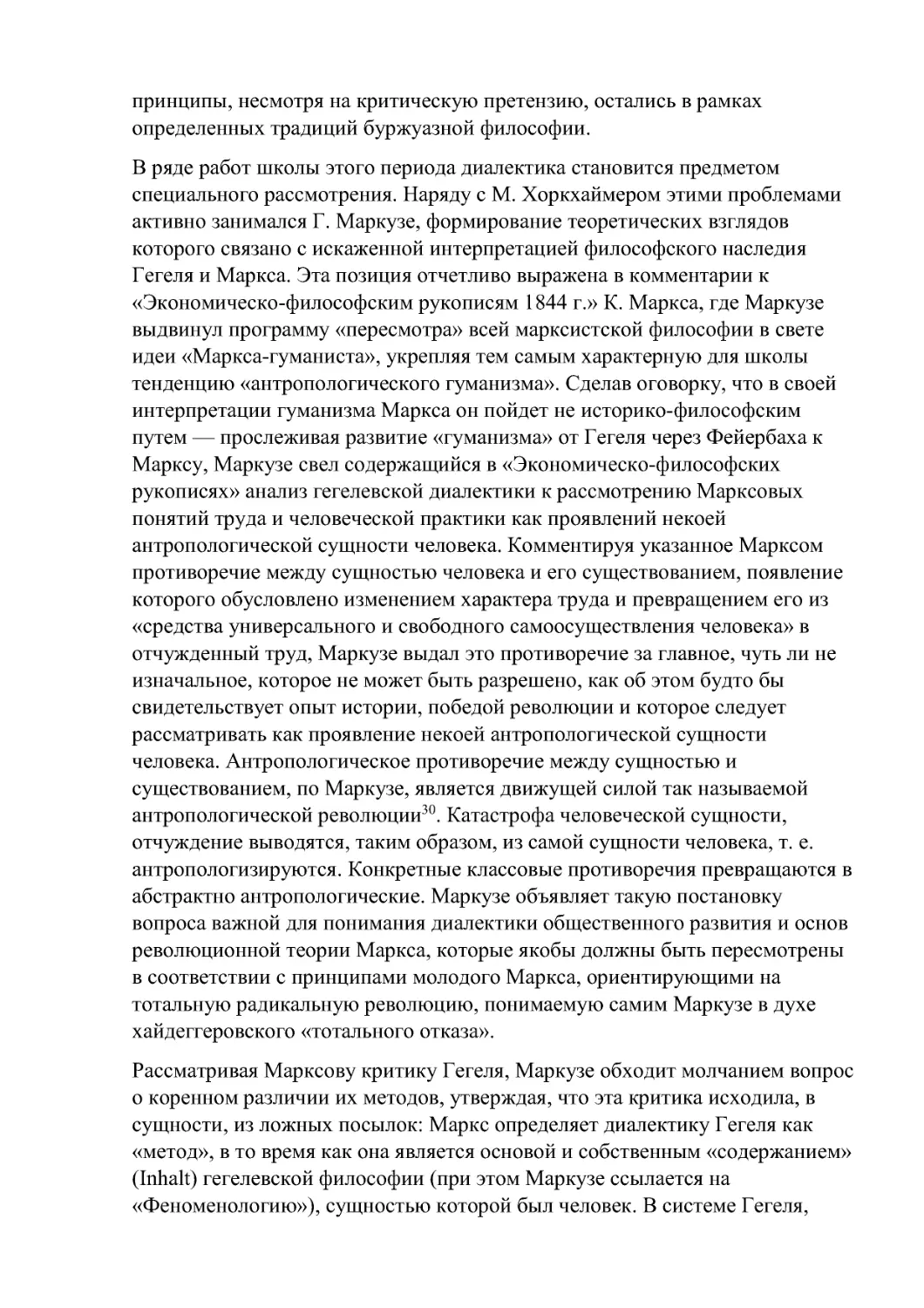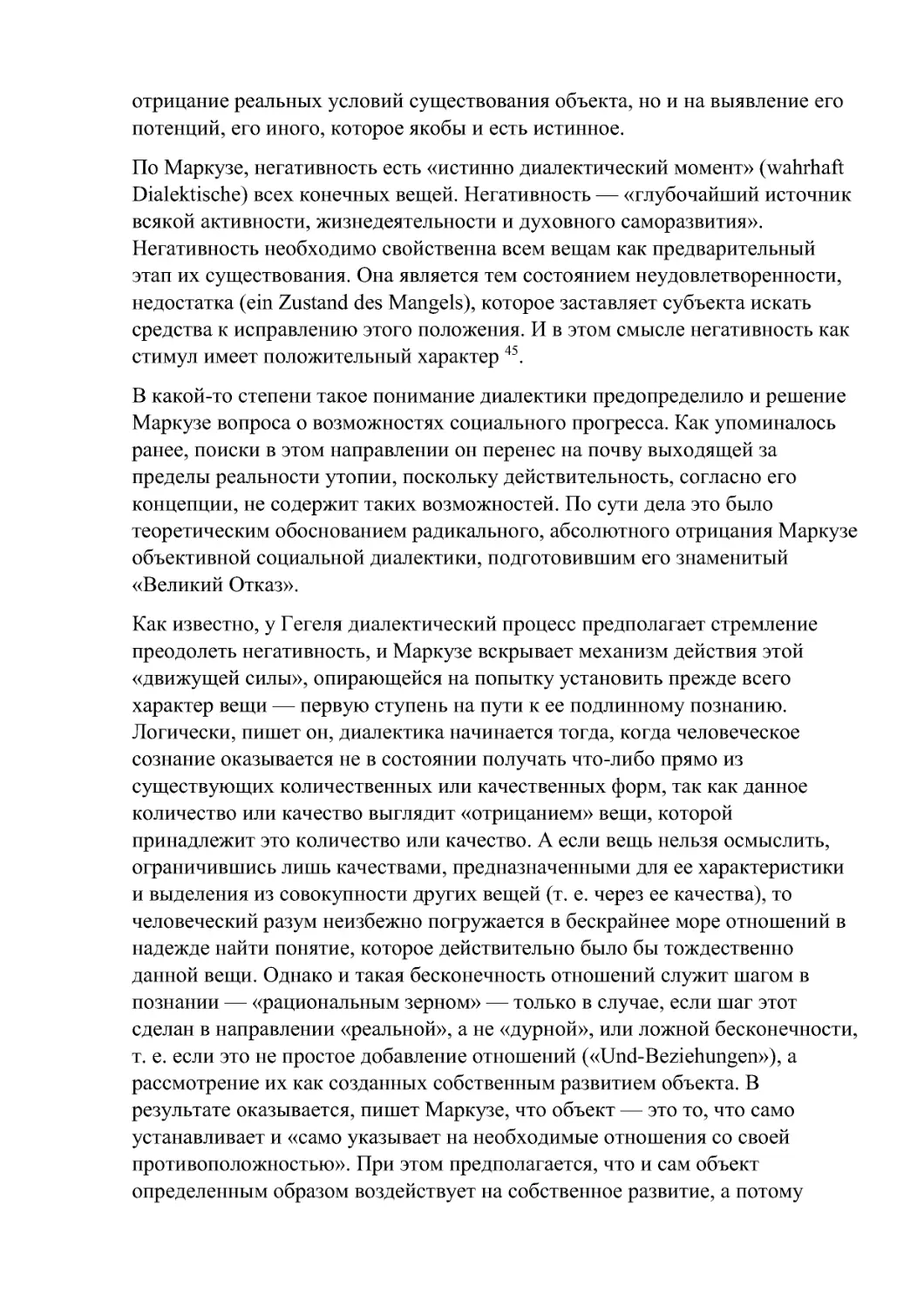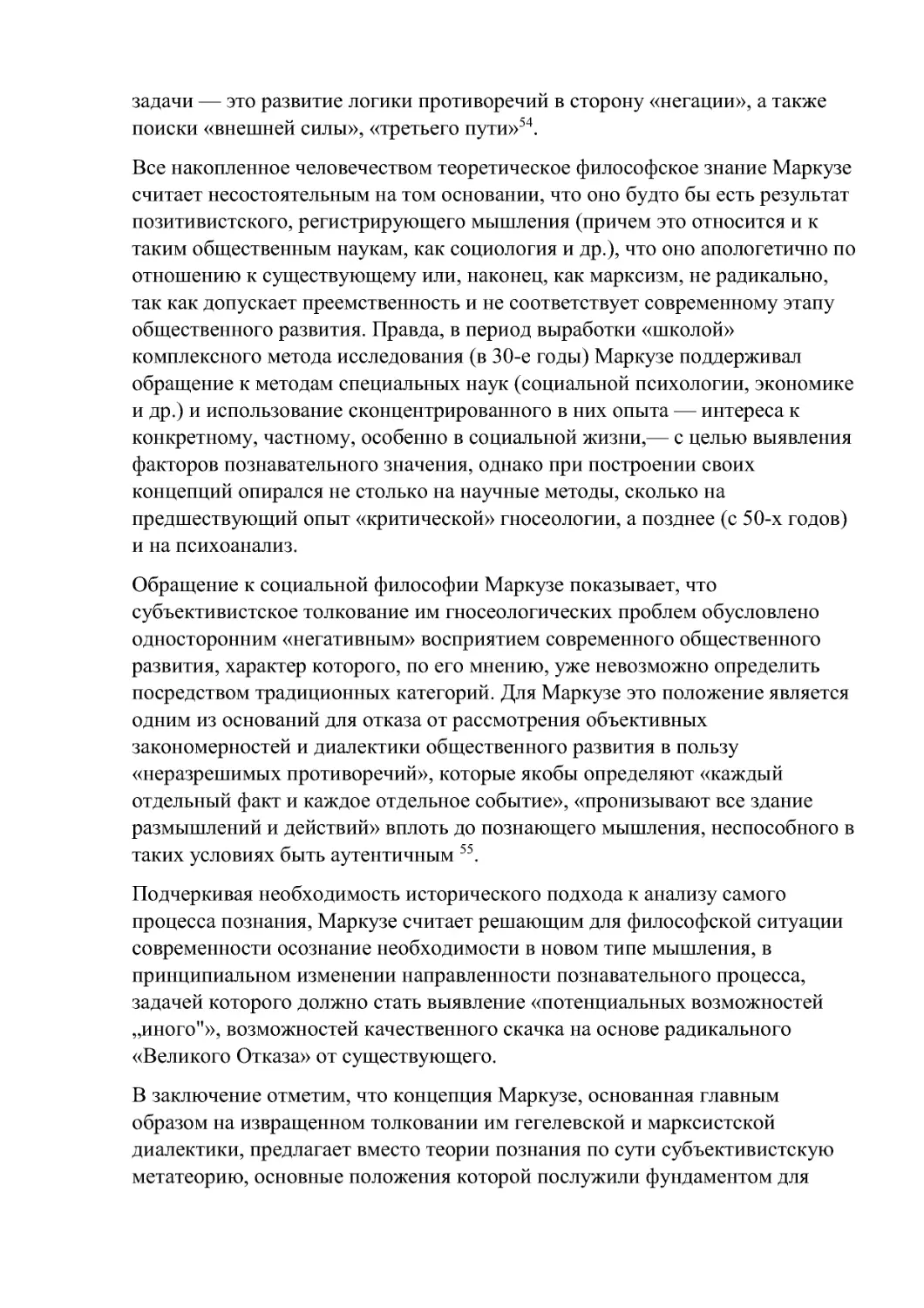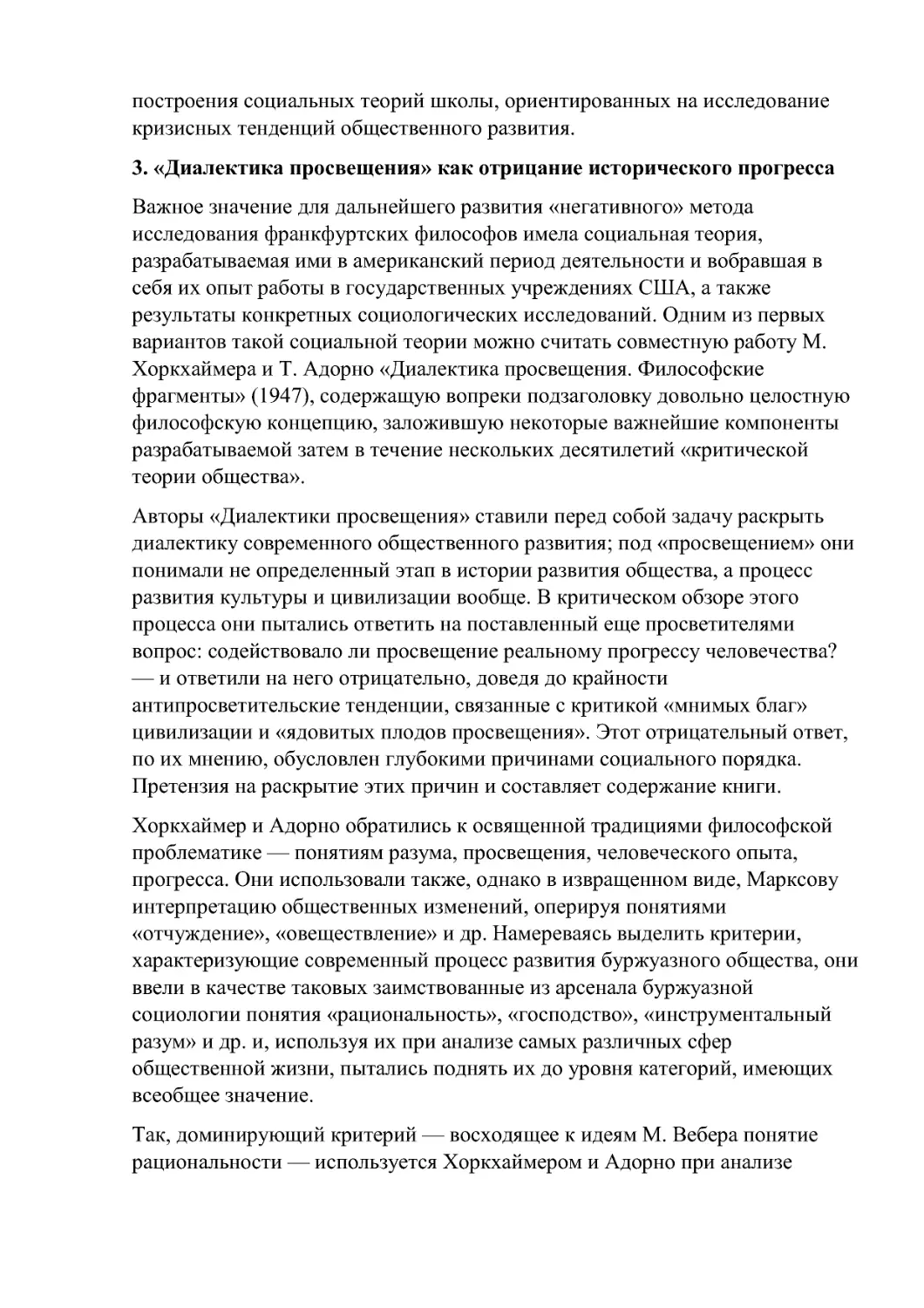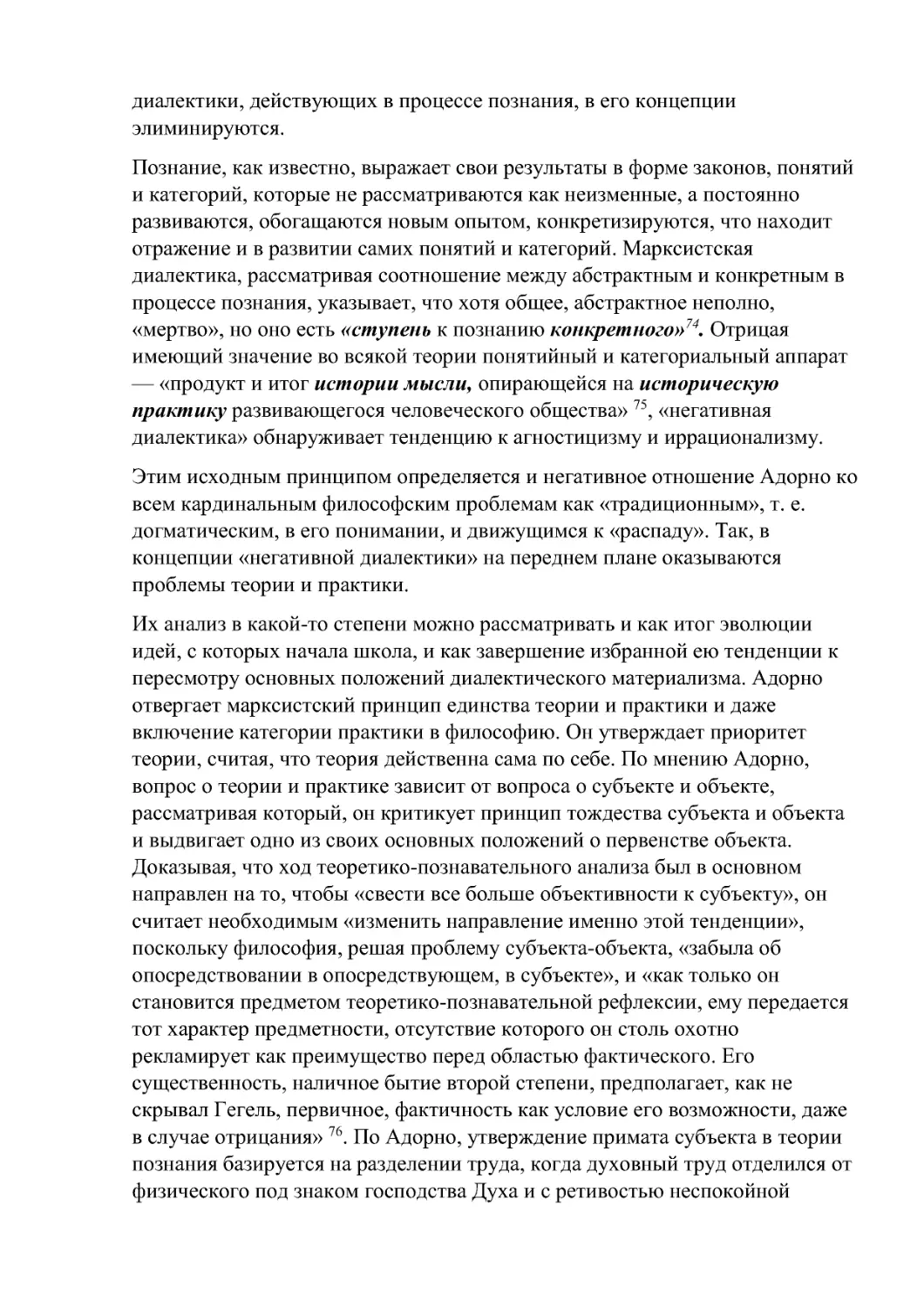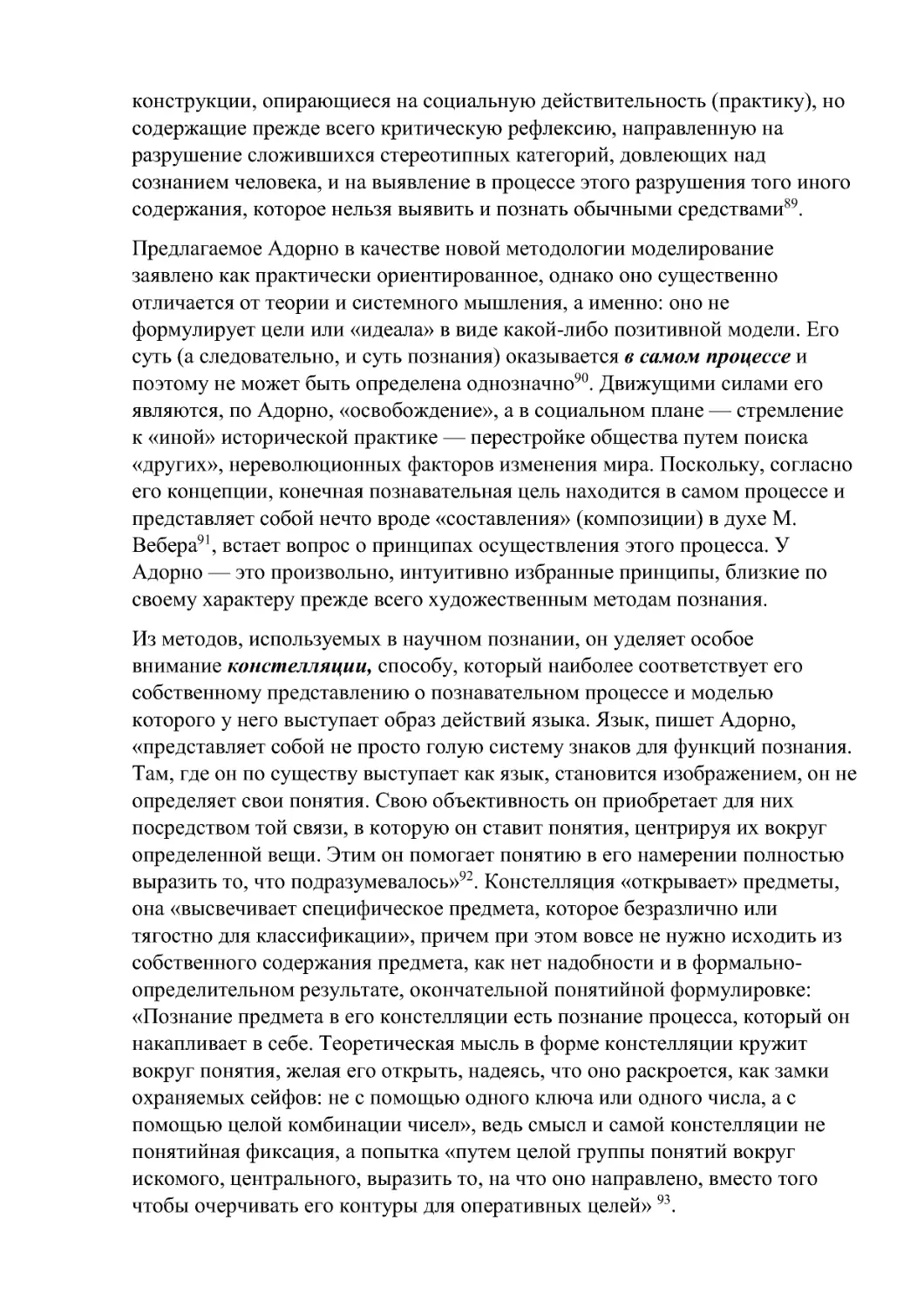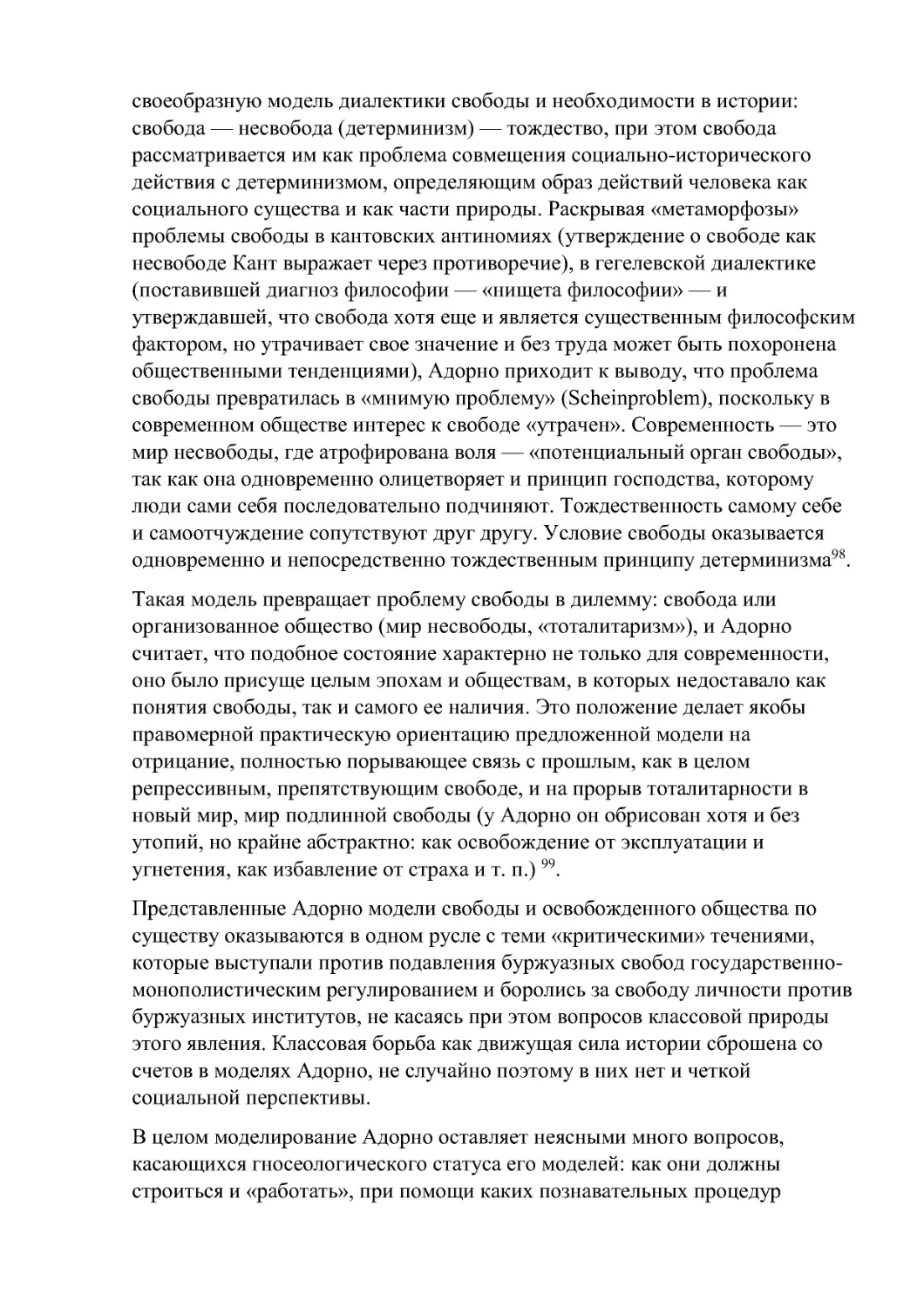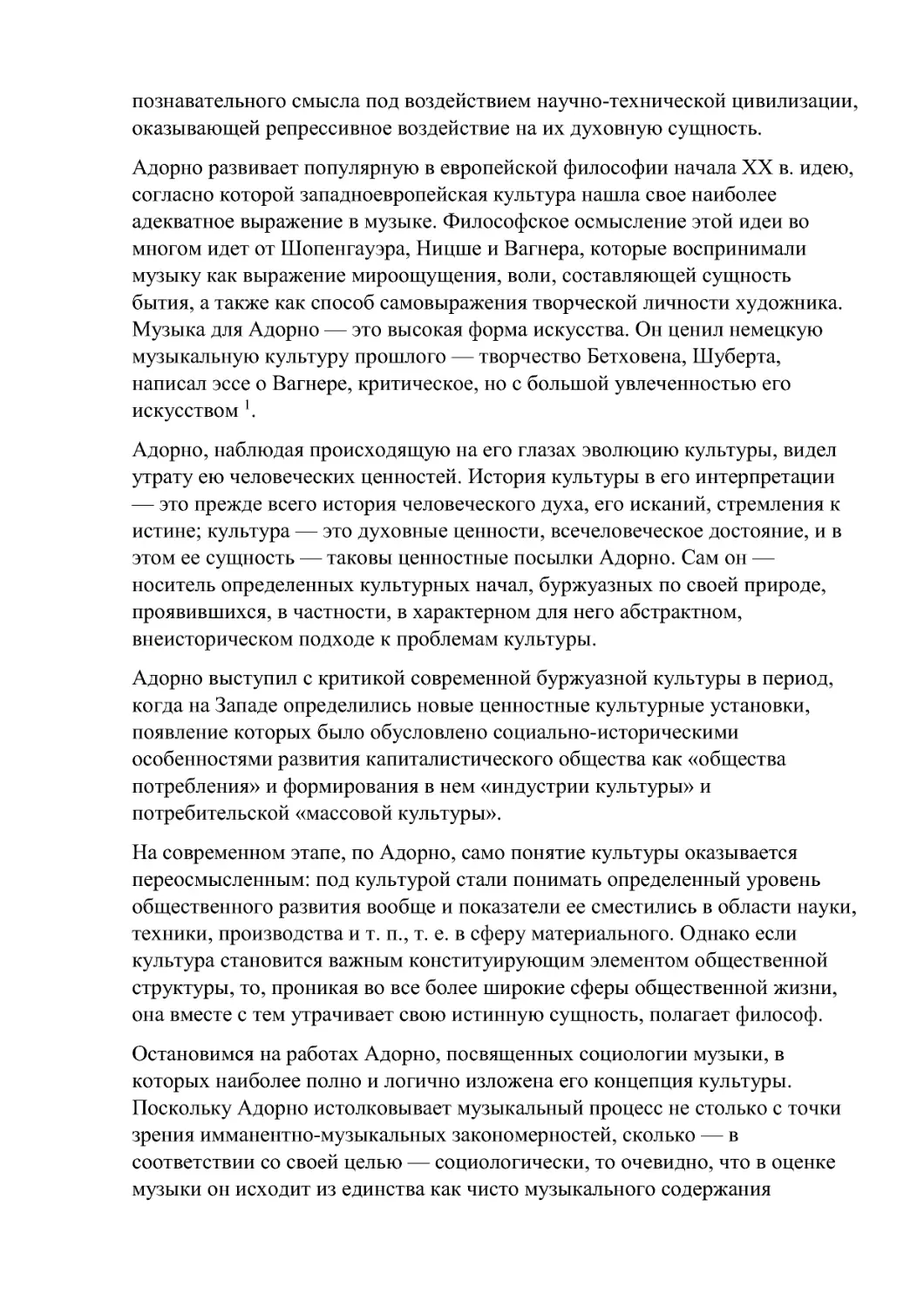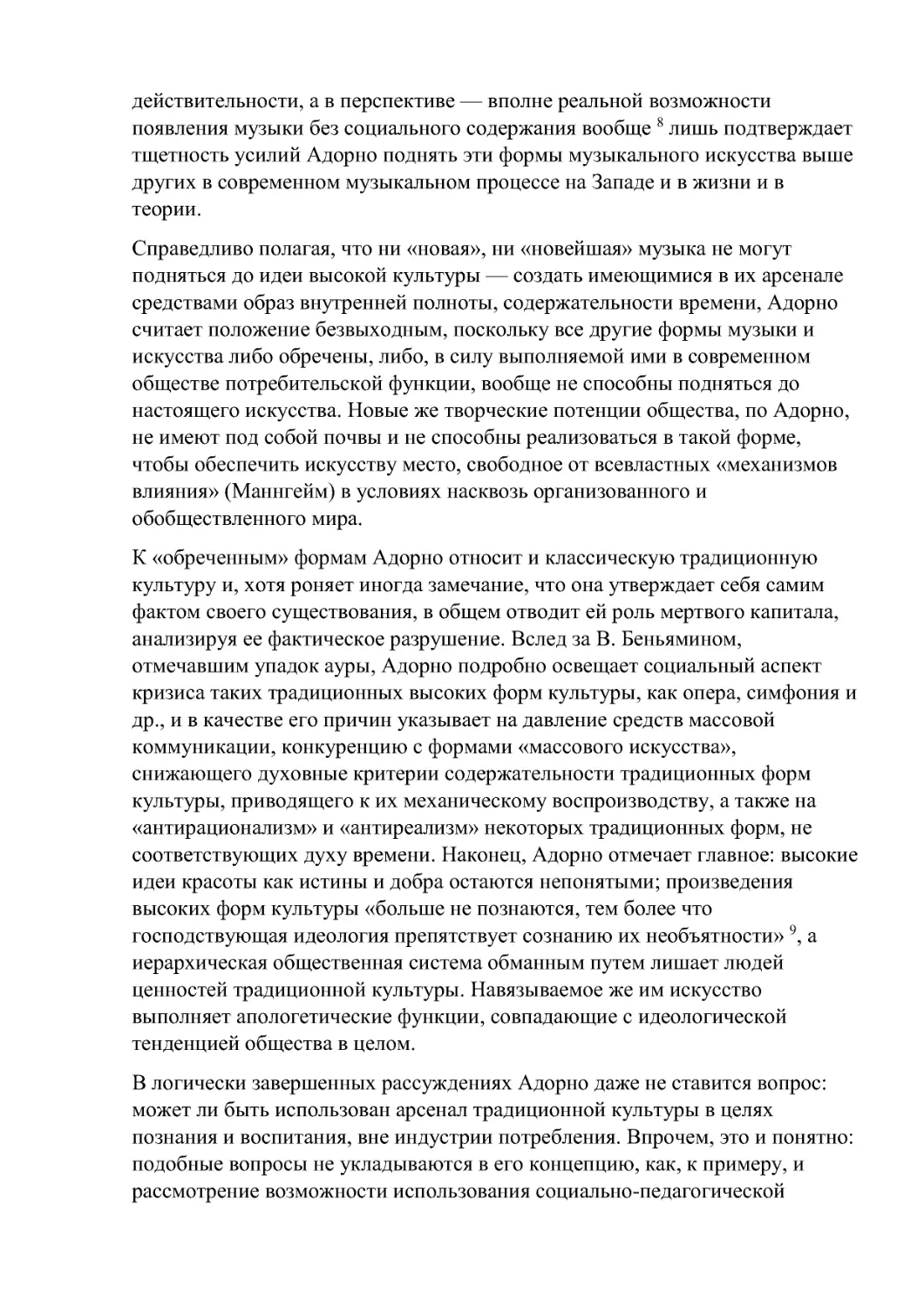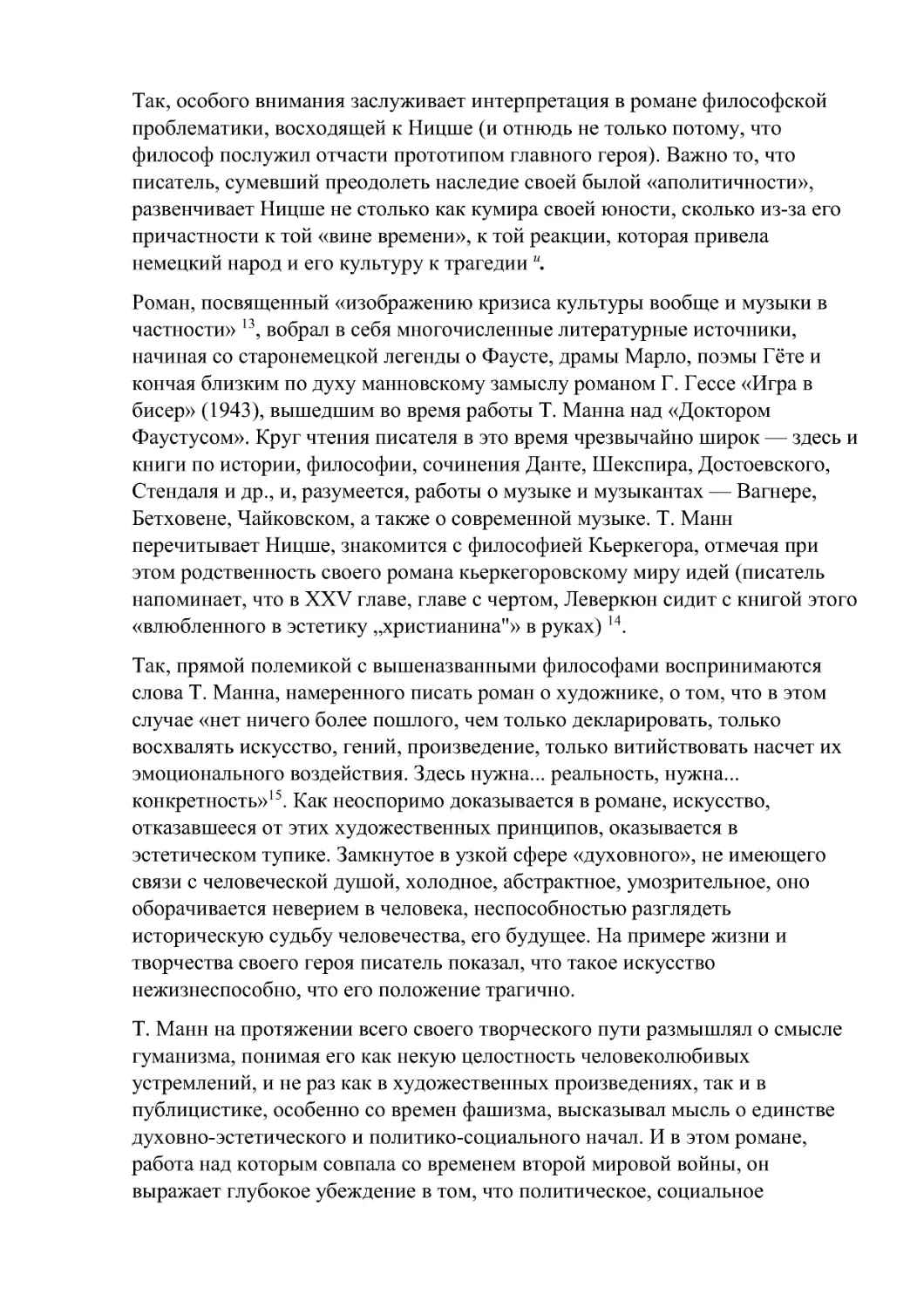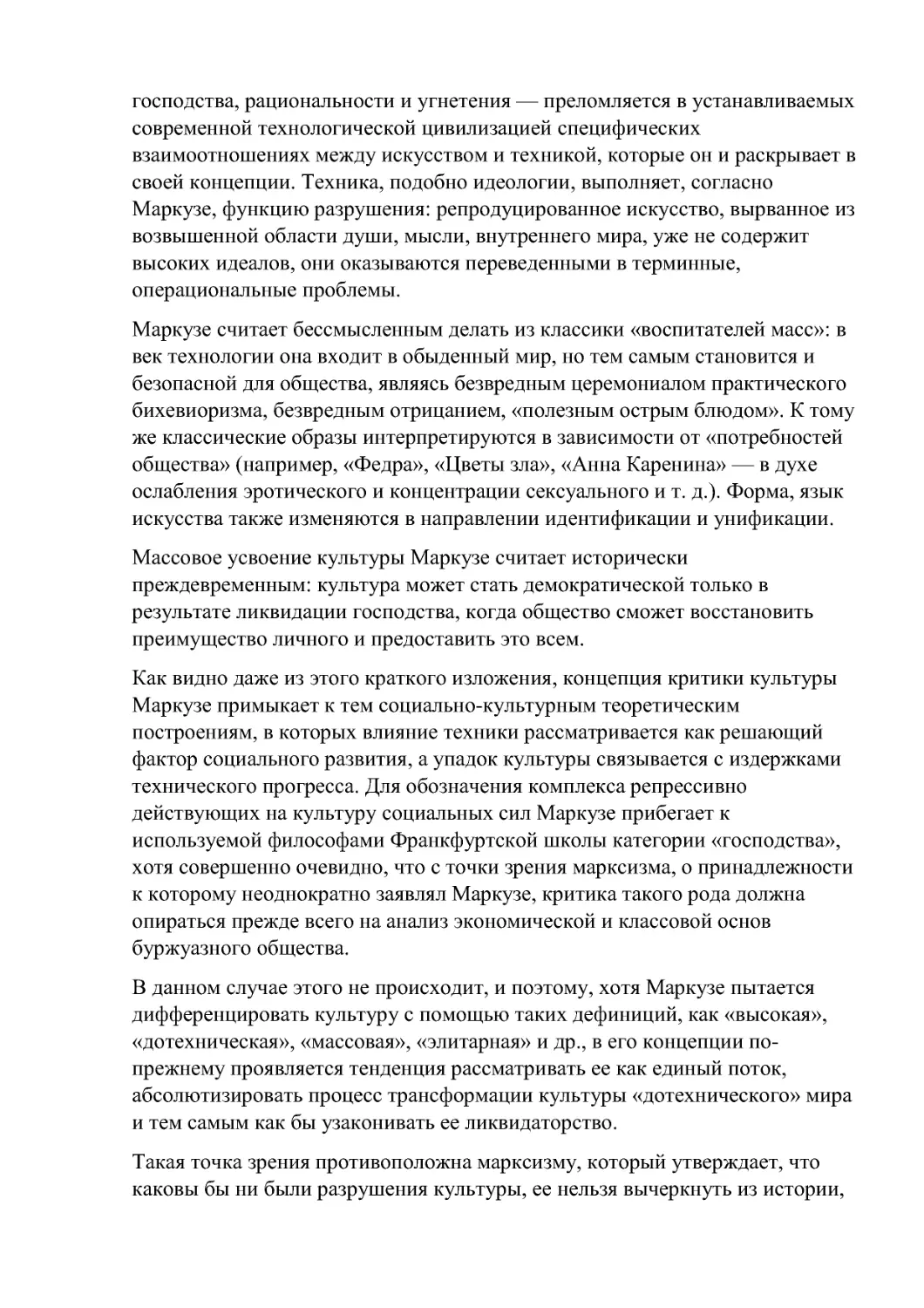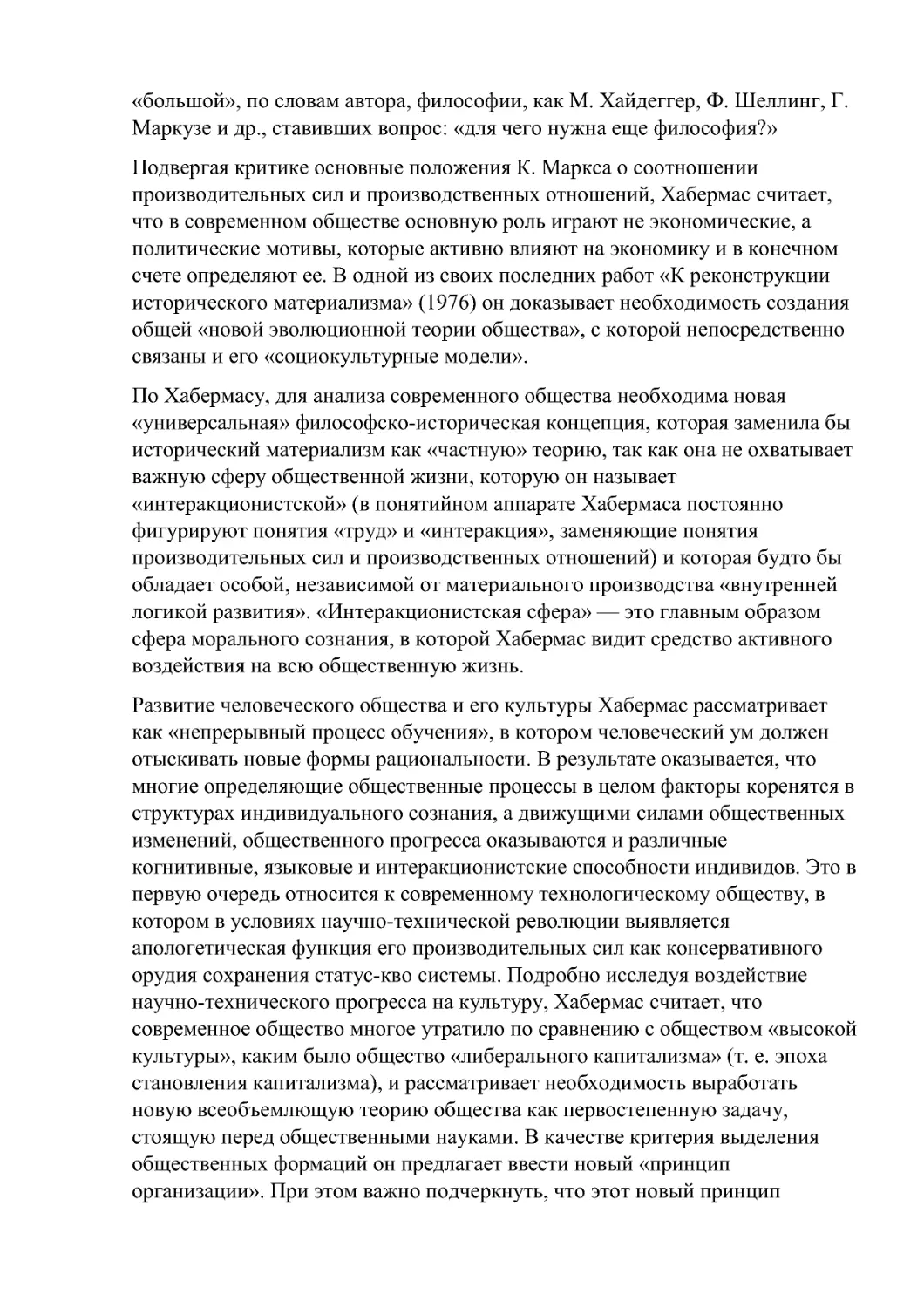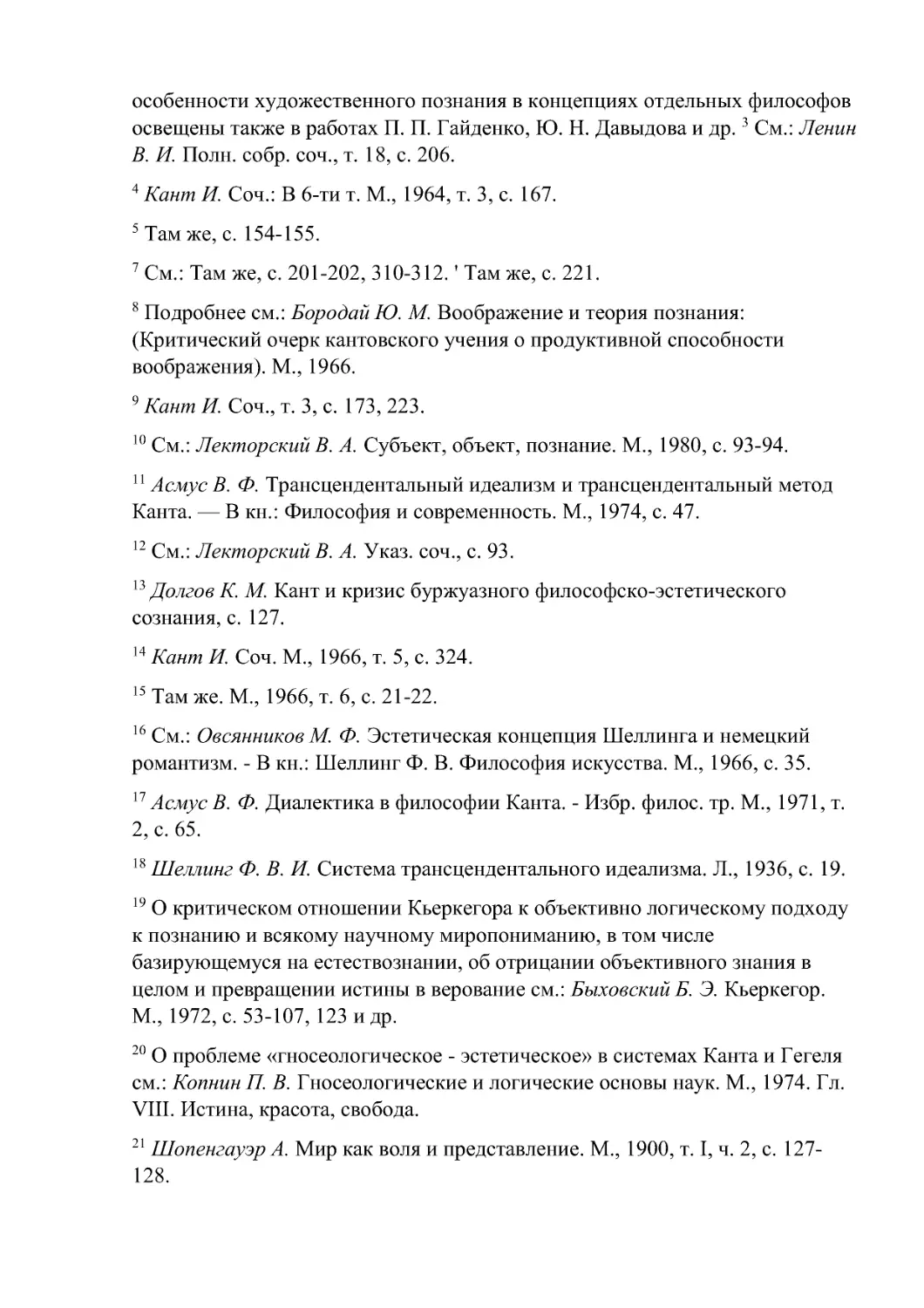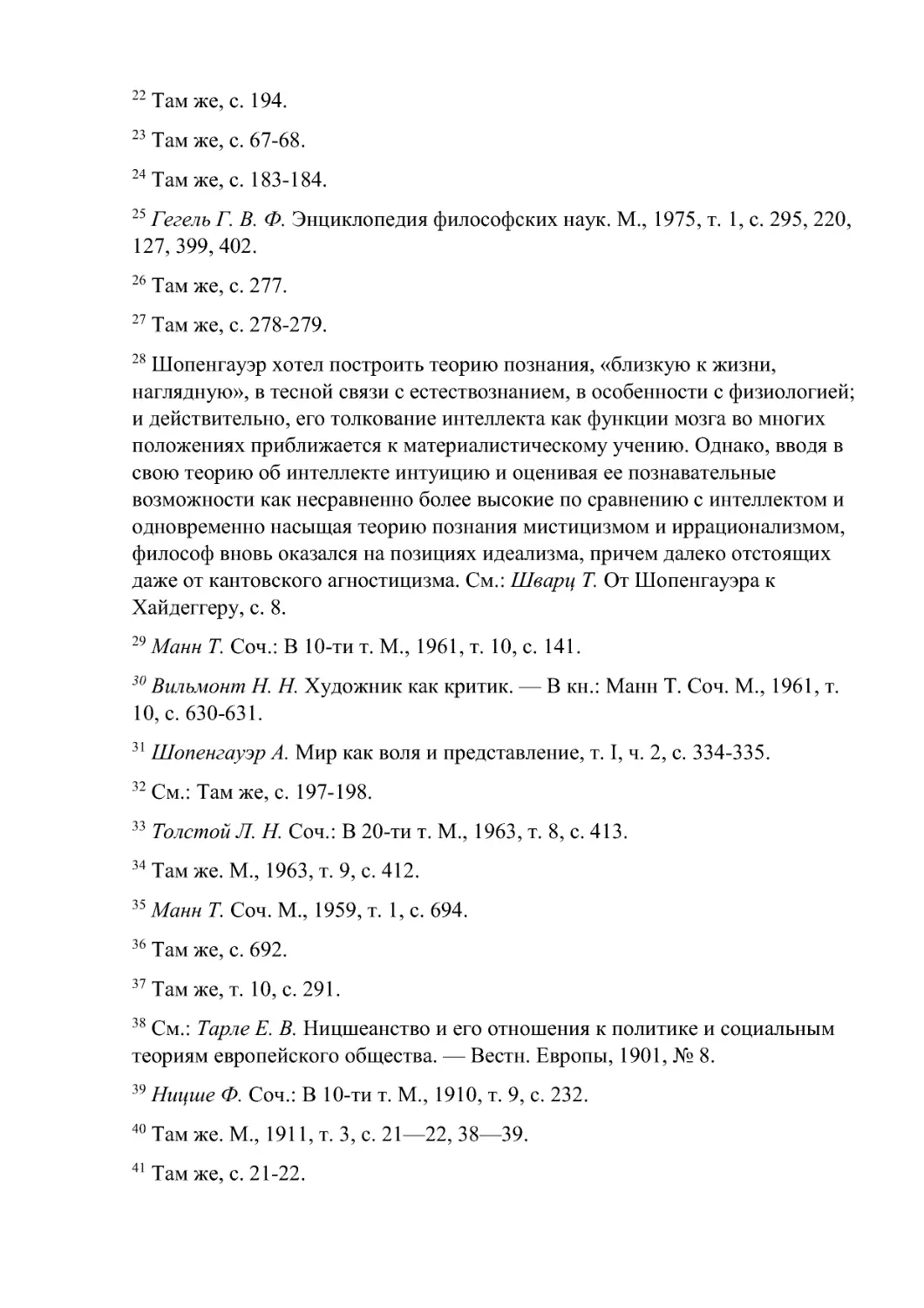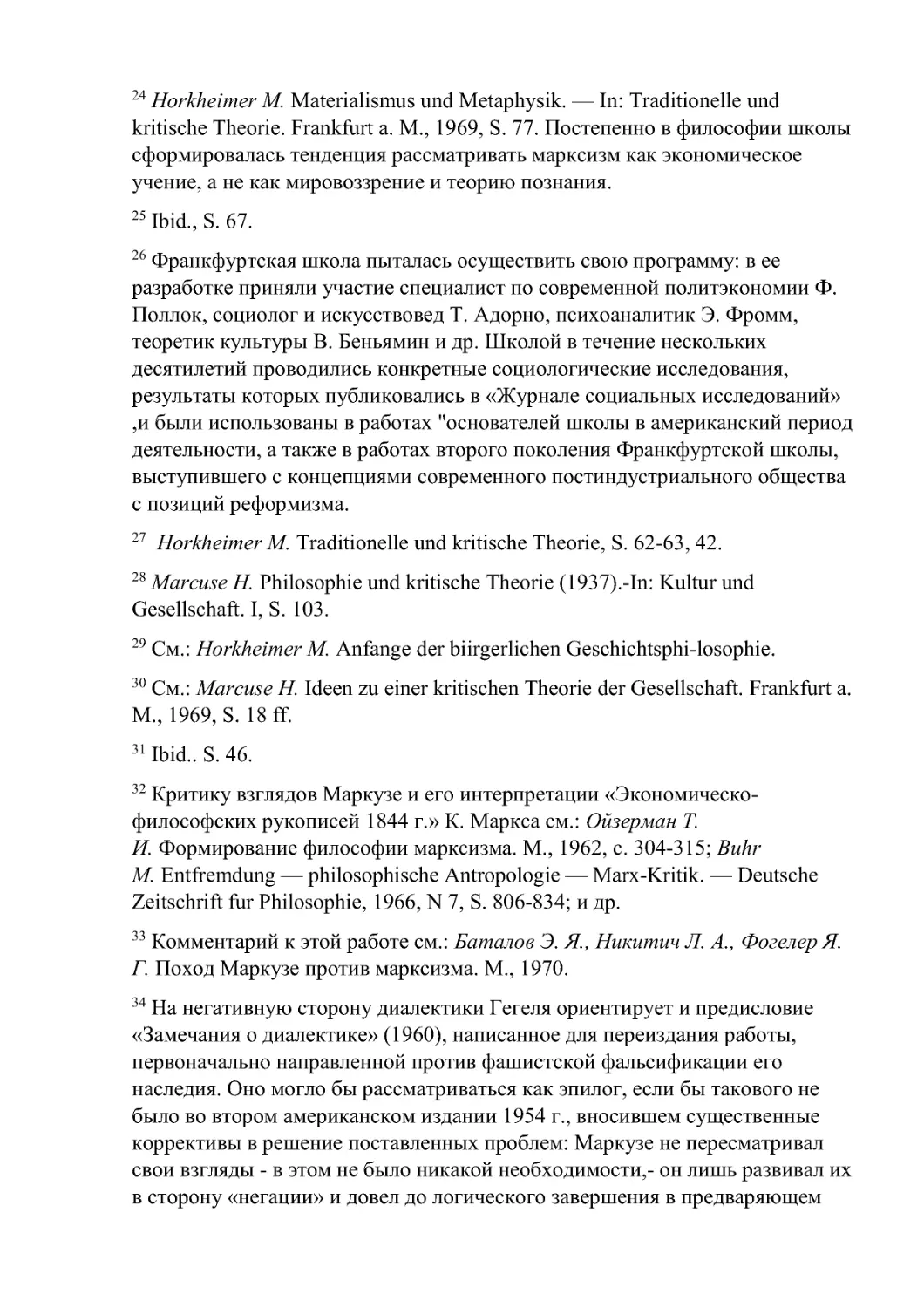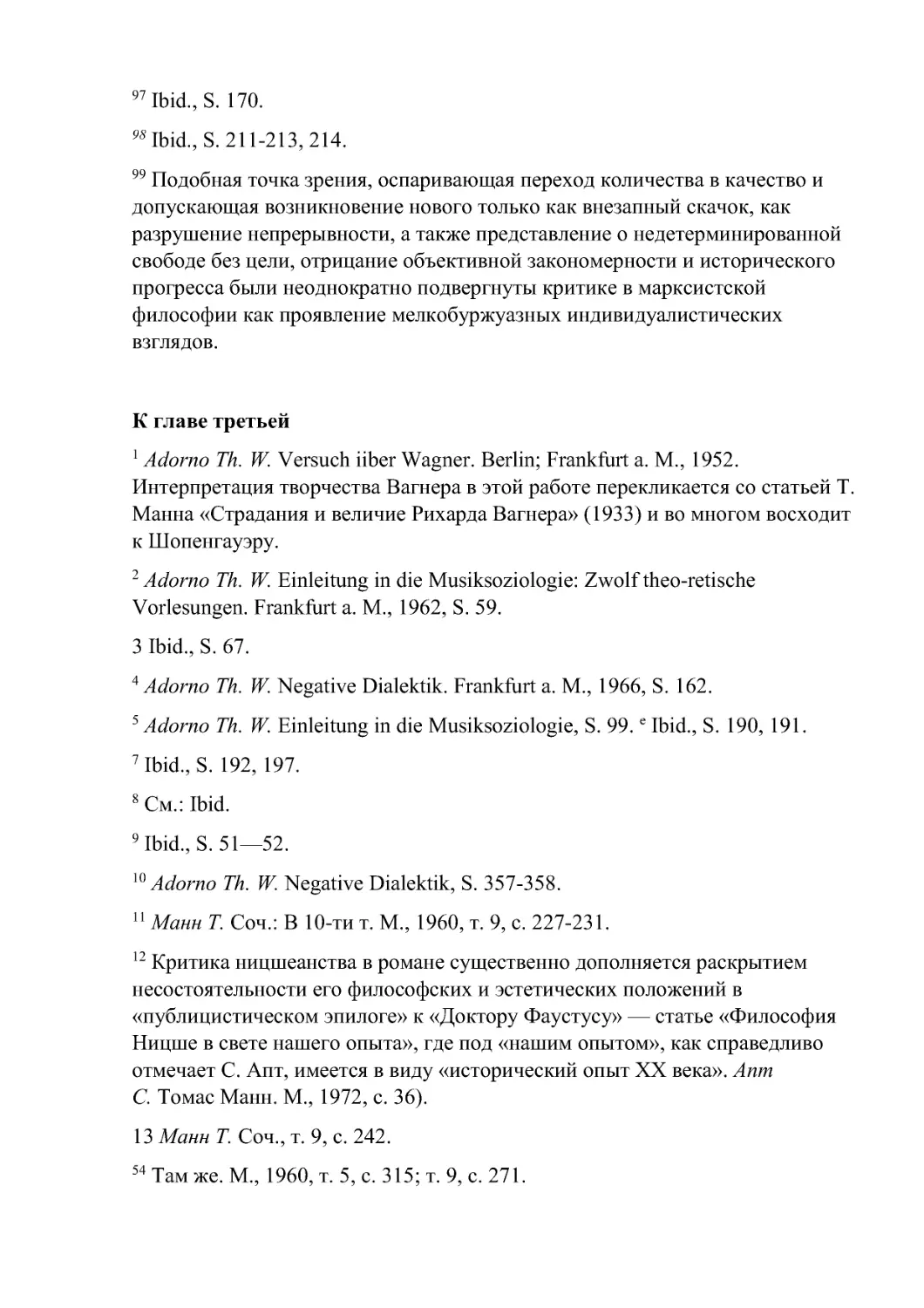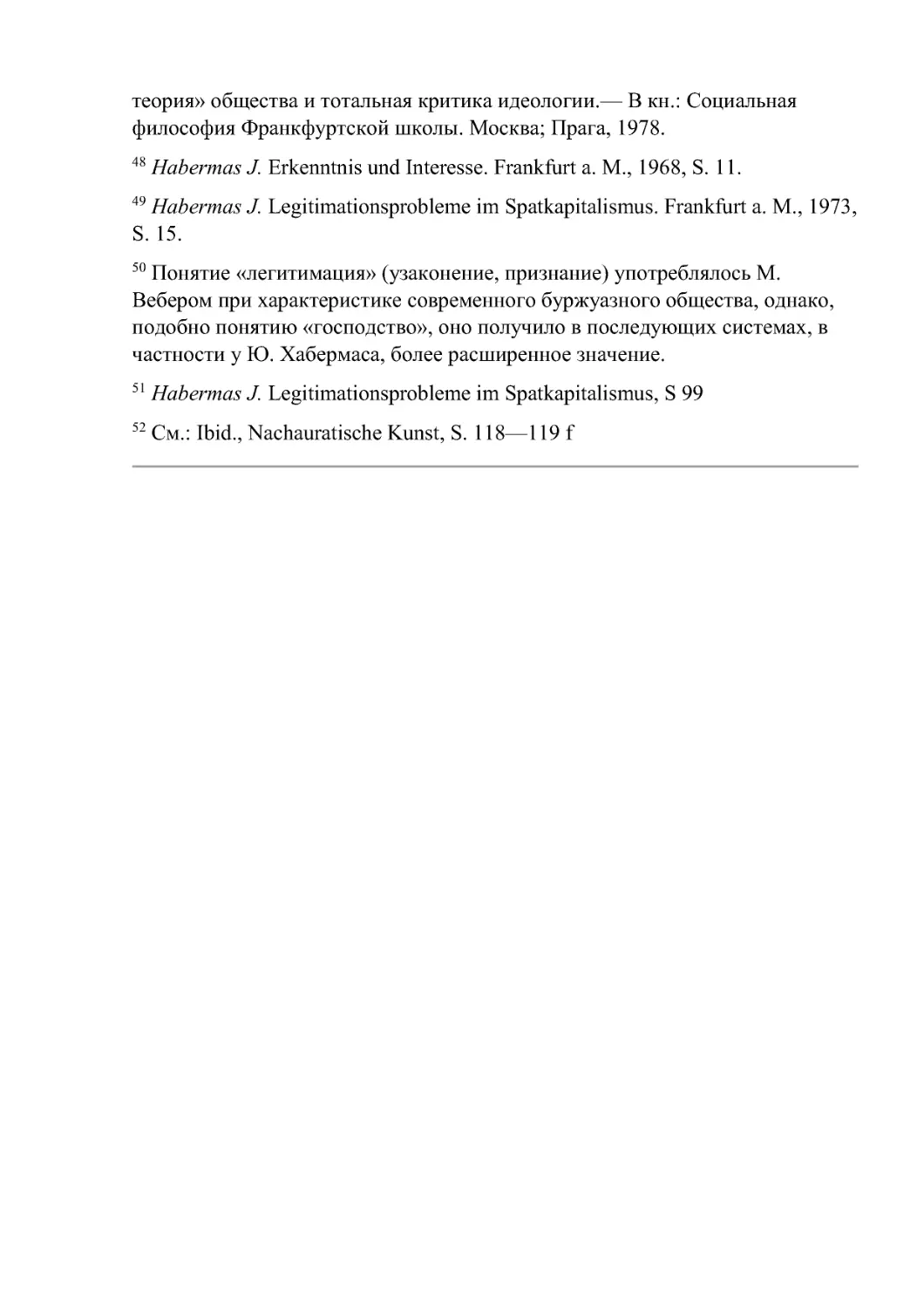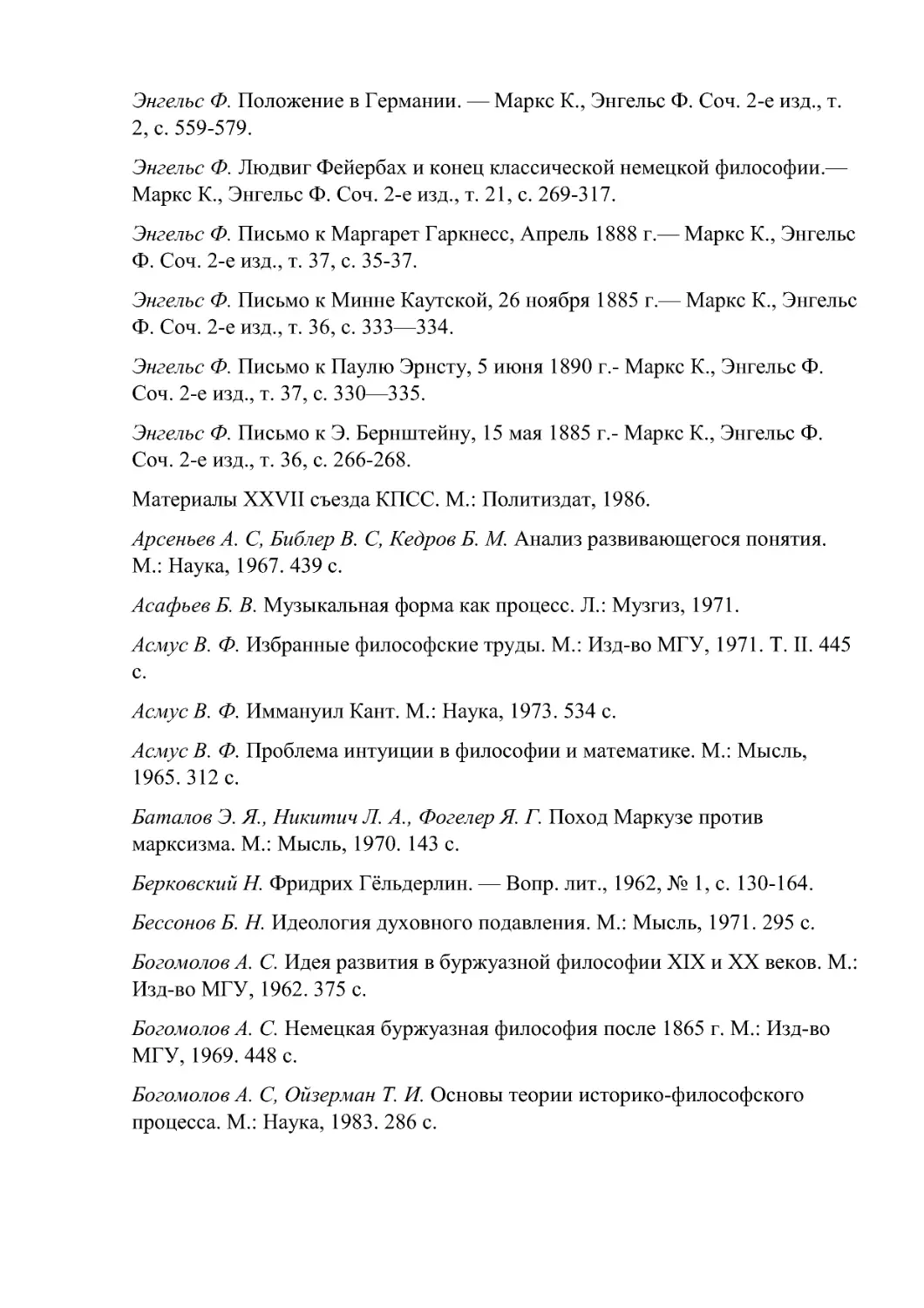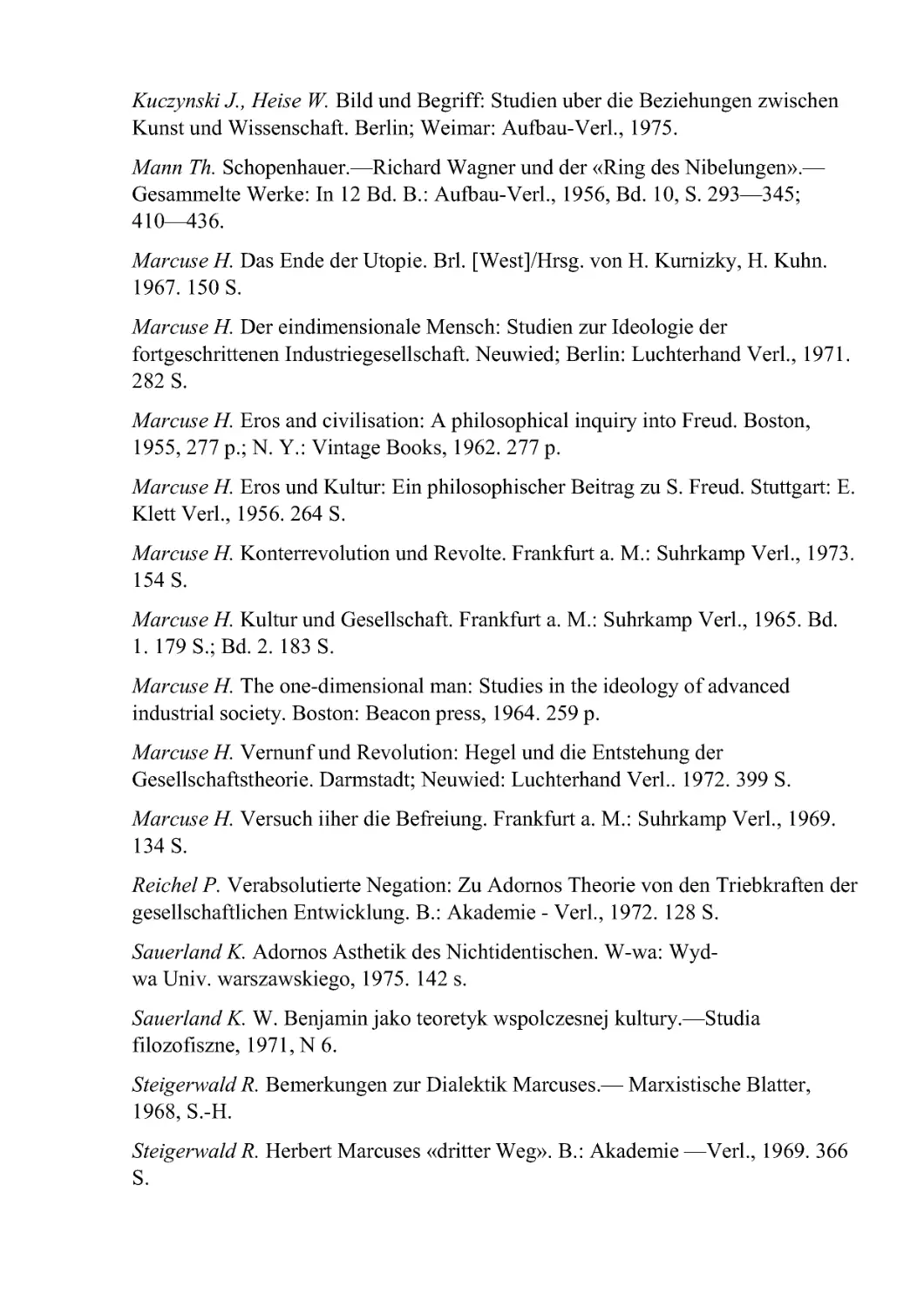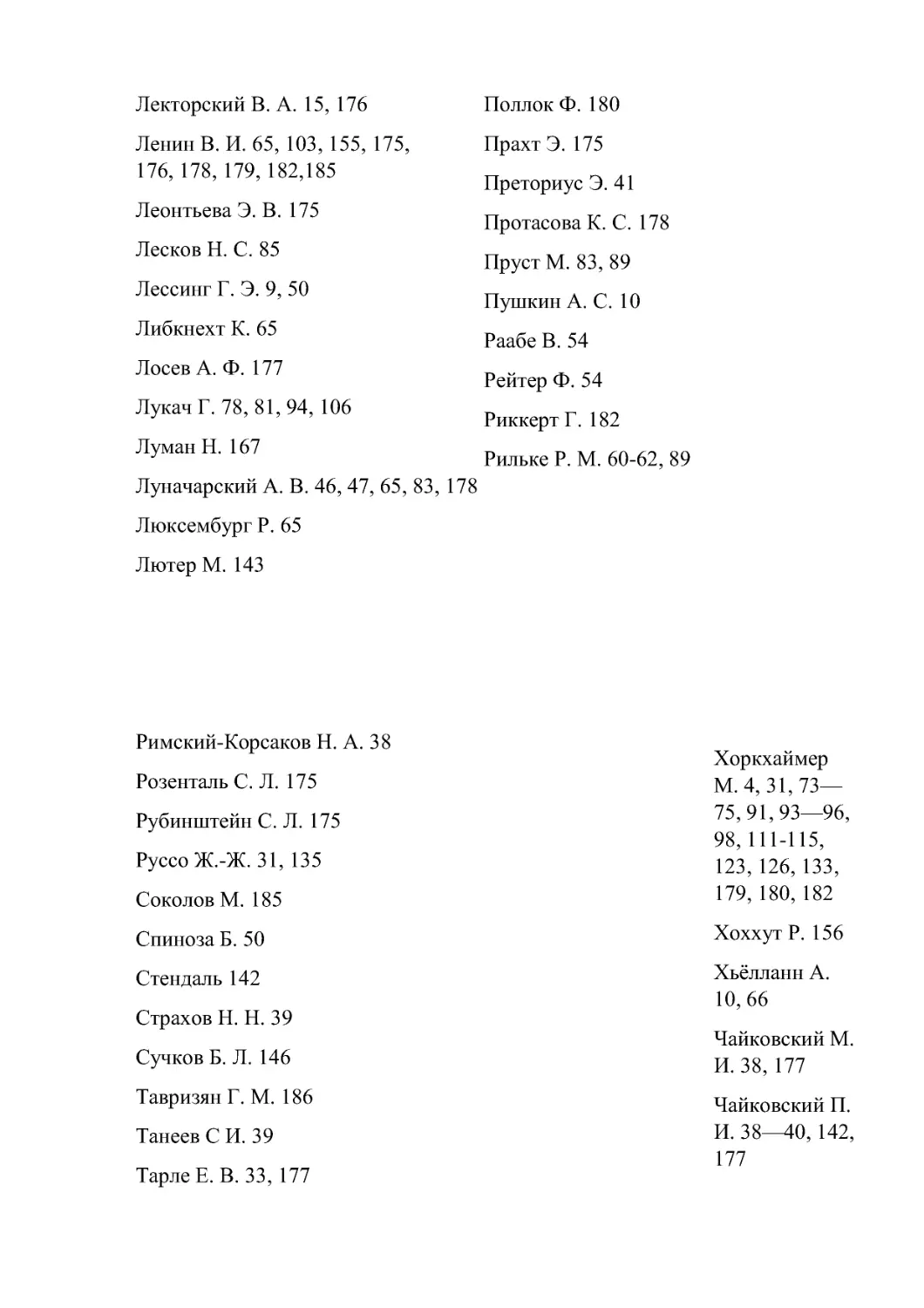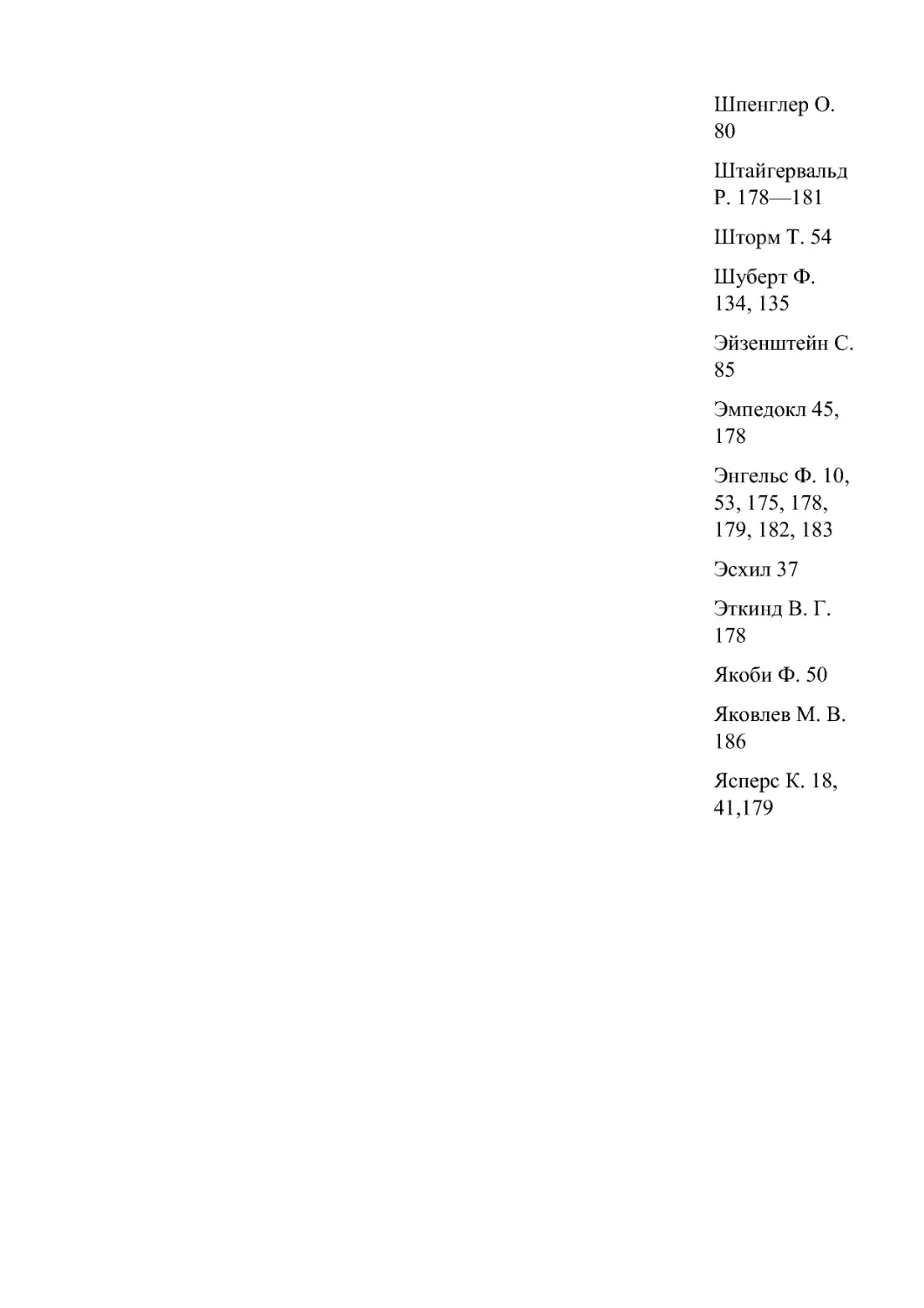Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
И.П. ФАРМАН
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И
ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
Критический анализ
зарубежных идеалистических
концепций
Ответственный редактор
доктор философских наук
В. А. ЛЕКТОРСКИЙ
МОСКВА «НАУКА» 1986
В работе анализируется соотношение теории познания и культуры как
взаимосвязанных форм познавательной деятельности. С марксистских
позиций исследуется генезис одной из актуальных тенденций в буржуазной
идеалистической гносеологии XIX-XX вв. противопоставление методов
научного познания художественному мышлению и опыту духовной
культуры, а также ее эволюция в новейших зарубежных концепциях.
Рецензенты: Б. Т. ГРИГОРЬЯН, В. С . ТЮХТИН, Б. Г. ЯКОВЛЕВ
Инна Петровна Фарман
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ (Критический анализ
зарубежных идеалистических концепций)
Утверждено к печати Институтом философии АН СССР
Редактор издательства В. С . Егорова. Художник О. В . Камаев
Художественный редактор С. А. Литвак. Технический редактор Н. П .
Переверза. Корректоры В. А. Алешкина, Р. С . Алимова
ПРЕДИСЛОВИЕ
В книге, предлагаемой вниманию читателей, освещаются некоторые
проблемы соотношения теории познания и философии культуры и искусства:
прежде всего выявляются общие связи и устанавливается взаимозависимость,
существующая между ними. Предпринята попытка рассмотреть это
соотношение по принципу парных философских категорий — общего
(теория познания) и отдельного (искусства как одного из методов
осмысления и познания действительности), что позволяет выявить общность
и правомерность различных форм познания, в частности научного и
художественного.
Разумеется, нами затрагиваются и другие вопросы, касающиеся
особенностей познавательной природы искусства, а также характера связей
между чувственным и рациональным, эстетическим и логическим и др.
Однако мы не ставим перед собой задачи выявить специфику искусства как
метода познания. Наша задача — критически проанализировать характерную
для современной западной философии тенденцию, выражающуюся как в
разрыве и противопоставлении научного и гуманитарного знания, так и в
абсолютизации некоторых отдельных способов познания (либо
естественнонаучных, либо гуманитарных), ведущую к разрушению
объективно существующих связей между ними и отрицанию всеобщих
закономерностей познавательных актов.
Указанная тенденция просматривается не только в многочисленных и
модных ныне на Западе концепциях «философии науки» и «философии
техники», интерпретирующих роль науки как важнейшей производительной
силы и главного фактора общественного прогресса, но в еще большей
степени в антисциентистских концепциях, в которых уже традиционное для
западной философии утверждение о том, что наука и техника способствуют
«дегуманизации» буржуазного общества, нередко сосуществует с
недооценкой культуры и искусства и негативным отношением к ценностям
гуманитарного знания вообще.
На примере критики концепций теории познания и философии культуры и
искусства представителей Франкфуртской школы (М. Хоркхаймера, Г.
Маркузе, Т. Адорно, Ю. Хабермаса и др.), в которых широко используются
—
подчас в искаженном и фальсифицированном виде — в качестве
гносеологических основ и эстетических положений идеи И. Канта, Г. В . Ф.
Гегеля, С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, М. Хайдеггера и др., мы
пытаемся показать формирование и эволюцию взглядов франкфуртцев на
некоторые теоретико-познавательные проблемы в тесной связи с
изменениями социальных и мировоззренческих факторов.
Мы считаем важным выделить реальную проблематику, вызвавшую к жизни
именно такую постановку теоретико-познавательных проблем, выявить
объективное содержание рассматриваемых концепций. Обращение к
познавательным схемам указанных философов позволяет также рассмотреть
важные и актуальные для современной теории познания вопросы,
касающиеся выяснения возможностей и перспектив культуры и искусства
как средств познания, попытаться понять и объяснить с точки зрения
гносеологии функционирование различных культурных образований в
общественной жизни, способы их связи и возможности взаимодействия
научного и художественного познания, а также указать пути марксистского
анализа этих способов познания.
Введение
ПОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО
В современном обществе, когда наука и техника приобретают все большее
значение в качестве определяющего фактора общественного развития,
постоянно возрастает роль научного знания: оно становится необходимостью
и не только открывает неограниченные перспективы развития цивилизации,
но и на основе рационального подхода решает проблему выбора пути, по
которому она может пойти, определяет ее возможности, конкретизирует
цели, разрабатывает средства и методы их достижения. Не случайно в наше
время широко распространено мнение о том, что роль научных методов стала
доминирующей в познании мира и человека.
Следует, однако, иметь в виду, что развитие науки в своих основных
тенденциях опирается и на то, что называется веками сложившейся
культурой, на ее гуманистические традиции и идеалы. Немалую роль в этом
сыграло и искусство. Начиная с древнейших времен человек и мир человека
были в центре внимания его творцов. Глубокое понимание того, что именно
человек, его потребности, стремления и чаяния должны быть главным
смыслом и целью всего общественного развития, утверждение высоких
нравственных и духовных ценностей составляют смысл истинно великих
произведений искусства, имеющих непреходящее значение для всего
человечества.
Марксистско-ленинская философия как мировоззрение и методология
познания рассматривает создаваемые наукой и техникой материальные
ценности не как исчерпывающую цель и конечный смысл бытия, а как
необходимое условие истинно человеческого существования. Коммунизм, т.
е. реальный гуманизм, по определению К. Маркса, предполагает «развитие
богатства человеческой природы как самоцель»1
. Этот идеал всего
прогрессивного человечества осуществляется в процессе борьбы и
общественно-практической деятельности, конечный смысл которой —
«возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е .
человечному» 2
.
По мере движения нашего общества вперед совершенно закономерно
повышается значение нравственных начал и эстетических потребностей
людей, а следовательно, и искусства. Это объективный процесс, и потому
современное научно-техническое развитие не только не умаляет значения
искусства, но, напротив, во многом способствует расширению и
действенности его функций — эстетической, гносеологической и
социальной. Это, в свою очередь, ставит новые задачи по освоению
художественной мысли и методов художественного познания.
Научно-теоретическое познание является, как известно, чрезвычайно важной
и существенной формой духовного освоения мира, однако не единственной
—
его не следует противопоставлять практически-духовным формам, к
которым принадлежит и искусство, поскольку научно-теоретическое
(понятийное) мышление и практически-духовное освоение мира (образное
мышление) отнюдь не относятся друг к другу в процессе познания как
полярные противоположности, а представляют собой взаимодополняющие
стороны единого процесса мышления3
.
Связь художественного мышления с научным, понятийным, логическим
была подчеркнута еще в гегелевском определении искусства как средства,
которое призвано заполнить разрыв между духом и чувственно осязаемой
материей. Развивая идею о качественном отличии искусства от других форм
общественного сознания, он рассматривает его как «мост», соединяющий
действительность с логикой и абстракцией, но не являющийся ни тем ни
другим. Такое понимание искусства основано на диалектическом
осмыслении прежде всего самого творческого процесса, в котором эта
специфика наглядно проявляется.
Марксистско-ленинская философия рассматривает искусство как особую
форму отражения действительности, а также как форму общественного
сознания, основным содержанием которой является отражение эстетического
отношения человека к миру. Ленинское положение: «Искусство не требует
признания его произведений за действительность» 4
—
означает, что
искусство, не подменяя реальность, строит свой мир, который, не являясь ни
механически-фотографическим, ни натуралистическим воспроизведением
жизни, представляет собой продукт творческого воображения субъекта
(художника), т. е . нечто идеальное, основанное на отражении объективной
действительности. Искусство есть особый вид жизненного человеческого
опыта, который осваивается и передается из поколения в поколение, особое
видение мира, в котором раскрываются как диалектика отношений человека
и среды, так и «диалектика души» самого человека.
Посредством типизации, обобщения характернейших черт отображаемого
явления (одного из главных методов художественного познания) искусство
способно выразить закономерное, общее, уловить «связь времен» и в то же
время благодаря веками сложившемуся образному языку передать все
богатство проявлений отдельного, особенного. В своих высших достижениях
искусство представляет не только образцы художественного стиля
определенного культурно-исторического периода, но и характерные черты
самой эпохи, ее смысл и специфику. Иначе говоря, содержание искусства
приобретает объективную значимость, а его идейный смысл — значение
истины. Вполне правомерно поэтому ставить вопрос о соотношении истины
и достоверности, художественной правды в искусстве, рассматривать
искусство как познавательный процесс и т. д .
Диалектико-материалистическое понимание искусства как эстетического
освоения человеком действительности требует учета сложной связи его
эстетического и мировоззренческого аспектов, а также всестороннего
рассмотрения субъектно-объектных отношений, являющихся здесь
единством субъективного (восприятия художника) и объективного
(отражения объективной реальности). Специфика искусства (состоящая в
том, что содержательный смысл и эстетическая оценка в нем нераздельны)
устанавливает определенную зависимость познавательных возможностей
художника, глубины постижения им сущности явлений от его
мировоззрения, идейной и социальной позиций. В структуру же
мировоззрения, как известно, включены и классовые компоненты.
Следовательно, уровень понимания и освоения действительности, степень
объективности в искусстве зависят и от классовой позиции: художественное
произведение может оцениваться с точки зрения соответствия воплощенного
в нем содержания мировоззрению того или иного класса. Исторический опыт
убеждает нас в том, что только с позиций передового класса возможно
осмысление действительности, адекватное реальным закономерностям
общественного развития, и что только при условии совпадения идейной
направленности произведения с идеологическими устремлениями этого
класса искусство достигает своего высшего смысла — утверждает
передовые, способствующие прогрессу человечества идеи посредством
неотъемлемой части мировоззрения — эстетического идеала как
диалектического единства истины и красоты.
Специфика искусства такова, что идея выступает в нем не в чистом виде, как,
скажем, в общественной теории, а в художественной форме: только
«образное содержание художественного произведения может быть носителем
его идейного содержания» 5
. Более того, образы, несущие идейно-
художественное содержание, неизбежно включают в себя и оценку этого
содержания субъектом (художником), причем его оценку именно как
неотъемлемого компонента отображения. Ценностный подход в искусстве
опирается на практику — основу процесса познания — и посредством
ценностных характеристик, представлений и т. п. служит раскрытию
соотношения эстетического идеала и действительности.
Диалектико-материалистический анализ учитывает сложную структуру
искусства и освещает важнейшие ее элементы во взаимосвязи, как
«взаимопроницаемые» сферы (выражение К. Маркса).
Сферы науки и искусства имеют свои качественные различия и границы. В
частности, исследование проблемы человека не является прерогативой
только искусства и рассредоточено по целому ряду специальных наук,
изучающих отдельные стороны его жизни: истории, психологии, социологии,
антропологии, этнографии и др. У всех у них разные цели и задачи, так что
каждая наука имеет дело со своим предметом, а потому и сопоставление
результатов, полученных в разных областях, с художественным познанием
не всегда возможно и целесообразно. Это относится и к научно-
философскому исследованию человека, которое хотя и дается в обобщенном
виде, но, безусловно, имеет свою специфику и представляет особую область
знания.
Разумеется, можно отметить немало различий между научным и
художественным познанием, однако неизбежно обнаруживаются и их
взаимосвязи, взаимозависимость. Так, в искусствоведческих,
литературоведческих и других специальных работах, исследующих историю
развития искусства, отмечается, что основная эстетическая категория —
прекрасное — лежит в самой сущности человеческой жизнедеятельности как
труда «по законам красоты», по определению Маркса. Понимаемая таким
образом категория прекрасного оказывается в одном ряду с такими
всеобщими категориями, как материя, сознание, практика, истина и т. д ., т. е .
выступает как одно из всеобщих определений сущности мира, природы,
общества. Главная историческая тенденция в развитии художественной
деятельности — переход от чувственно-практического формирования к
познанию и отражению бытия — обусловила ее превращение из формы
общественного труда в форму общественного сознания, в художественное
мышление. Если на ранних ступенях развития искусство и литература
воспринимались прежде всего как предметная деятельность, то в новое время
(XVIII—XIX вв.) они стали восприниматься по преимуществу как особый
способ познания. Соответственно и в эстетике главной проблемой стало
отношение искусства к действительности (Лессинг, Дидро, Гегель). В это же
время на смену категории стиля, отражающей деятельно-формирующую
природу искусства, роднящую его с областью материального производства,
приходит категория метода как принципа видения мира, отражающая
родство искусства с наукой, философией и другими областями духовного
производства. «Искусство — духовно-практическая деятельность. В этом
единстве стиль — та грань его, которая ближе к „практике". Метод — та
грань, которая ближе к „духовности"»
6
.
Высшие достижения художественной мысли связаны с методом реализма,
который оказался и наиболее близким к научным методам мышления.
Пришедший на смену литературе и искусству эпохи Просвещения (имевшим
синкретический, восходящий к античности характер единого целого с
философией, общественными теориями и научным знанием) критический
реализм, преодолевая наследие романтизма, развивался, опираясь на научное
знание. Крупнейшие реалисты XIX в. учились аналитическим методам
точных наук, воспринимали идеи современных естественнонаучных учений и
т. д . Известно, что Бальзак изучал политэкономию, право, философию и
естественные науки, и это, безусловно, способствовало достижению той
глубины социального анализа, которую отметили у него основоположники
марксизма. П. В . Палиевский обращает внимание на сообщение Маркса
Энгельсу: «У Бальзака в «Сельском священнике» написано следующее:
«Если бы промышленный продукт не ценился вдвое против
своей себестоимости, то торгово-промышленная деятельность не могла бы
существовать». Что ты скажешь на это?» 7 — и рассматривает этот случай
как пример частого проявления в искусстве рождения «наук»8
. Известно
также, что Н. Г . Чернышевский, экономические труды которого высоко
ценил Маркс, высказал в своем романе «Что делать?» немало идей, гипотез,
догадок, основанных на анализе общественно-экономического положения
России того времени.
Особое место здесь занимает литература, тяготеющая к эпическим полотнам
—
картинам жизни, социальным романам-хроникам, романам о «воспитании
чувств» и т. п . Идейно-философское осмысление жизни достигает в этих
художественных формах уровня, позволяющего рассматривать их как
отражение мировоззрения эпохи и диалектики общественного развития. Так,
русские романы-«энциклопедии» А. С . Пушкина, И. С . Тургенева, Л. Н.
Толстого, Н. Г . Чернышевского, социальные романы-циклы О. Бальзака и Э.
Золя, «семейные романы» А. Хьёлланна, Т. Манна, Д. Голсуорси, А. М .
Горького и др., будучи органическим единством многоплановых
аналитических исследований важнейших сторон общественной жизни и
анализа-«расщепления» чувств и мыслей отдельной человеческой личности,
наполнены поистине эпохальным сущностным содержанием. Не случайно во
все времена произведения такого уровня были не только «эстетическим
предметом, но и философской концепцией бытия и социологическим
трактатом, и учебником жизни, максимой морали и поведения» 9.
Надо подчеркнуть, что специфика искусства как особого способа осмысления
и познания действительности служит подчас основанием для
противопоставления научного и художественного познания. Такое
противопоставление широко распространено в современной буржуазной
философии и эстетике. Попытаемся в ходе дальнейшего изложения показать
несостоятельность этой позиции. Для этого обратимся прежде всего к
проблеме отражения объективной реальности в искусстве.
Глава первая
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО
И ЭСТЕТИЧЕСКОГО
В «КРИТИЧЕСКОЙ» ГНОСЕОЛОГИИ*
1. Гносеологические корни и эстетические основы некоторых
идеалистических концепций теории познания. И. Кант
Проблема отражения объективной реальности в искусстве, начиная с теории
подражания Аристотеля, была и остается главной философско-эстетической
проблемой. В современной буржуазной философии и эстетике преобладает
тенденция, узаконивающая отрыв искусства от реальности, «хотя и не все
буржуазные теоретики отрицают связь искусства с реальностью, однако эта
тенденция является главенствующей», причем, даже признавая наличие
такой связи, иные западные философы основываются «на идеалистическом
понимании самой реальности» 1
.
В современной буржуазной философии существуют самые различные
интерпретации искусства. Так, в одних искусство рассматривается как более
сущностное и более реальное, чем само бытие, т. е . как новый вид
реальности; в других выражается негативное отношение к ценностям
искусства и культуры (впрочем, они порой сосуществуют друг с другом).
Позитивистские концепции искусства умаляют его значение как творческого
метода, а непозитивистские, напротив, утверждают превосходство искусства
как средства интуитивного знания над наукой и выдают его за новую
религию. Прочные позиции занимает теологическая теория искусства, в
которой последнее рассматривается как способ нравственного
совершенствования и приравнивается к религии, и т. д . Большинство
подобных концепций эклектичны и построены на сочетании
формалистических, натуралистических, интуитивистских, мистических и
других элементов. Однако в одном пункте все они сходятся: в них, как
правило, противопоставляются теоретико-познавательные методы
(понятийное мышление) художественным методам освоения
действительности.
В этой связи представляется целесообразным выявление одной из заметных
тенденций эволюции идеалистической гносеологии, идущей от философии
Канта. Каков же критерий, которым мы будем руководствоваться, решая
поставленную нами задачу? Или, иначе, по какому признаку следует
рассматривать то или иное философское учение в русле именно данной
тенденции? Если тот или иной философ переносит поиски решения
познавательных проблем (как в чисто теоретическом плане, так и в
различных контекстах социальных учений) из сферы науки в другие,
ненаучные области, в частности в область искусства и эстетического
осмысления действительности, и этим последним придает особые теоретико-
познавательные функции — функции моделей знания, то его учение
вписывается в указанную нами тенденцию 2
.
Обратим особое внимание на этот исходный момент, связанный с
философией И. Канта. Вполне объяснимо, почему авторы многих
последующих философско-эстетических построений апеллировали к
кантовской системе. Известно, что в работах Канта «критического периода»
проблемы теории познания, этики, эстетики и вопросы о целесообразности в
природе были рассмотрены как взаимосвязанные и взаимообусловленные.
Это прежде всего относится к постановке теоретико-познавательных
проблем, нашедших свое завершение, согласно кантовской концепции, в
эстетике. Условно мы назовем это соотношение «гносеологическое —
эстетическое». Особенностью этого соотношения, на наш взгляд, является
то, что оно имеет определенный целостный смысл, который неизбежно
утрачивает свою глубину, если ту или другую его составную часть
рассматривать отдельно.
Разумеется, в связи с исследованием этого соотношения возникают
проблемы, требующие специального рассмотрения. Мы же остановимся
лишь на тех компонентах этого принципа связи, которые выражают его
основное смысловое содержание. Тем самым мы выделим и ту основу,
которая варьируется в последующих философских концепциях. При
обращении к ним направление нашего исследования будет состоять не в том,
чтобы выявить, насколько адекватно, по-кантовски, поставлены в них
исследуемые проблемы (отклонения, варианты, даже искажения неизбежны),
а в том, чтобы, прослеживая эволюцию подобной постановки вопроса,
выявить, насколько она оказалась плодотворной и что позитивного дала в
конечном результате.
Теоретико-познавательная концепция Канта построена на положении об
антиномичности разума, причина которой кроется в непреодолимом
дуализме «вещей в себе» и «явлений». Философ рассматривал антиномии как
вытекающие из самого существа организации нашего мышления и
познавательной деятельности, т. е . в теории познания он стоял на позиции
агностицизма. Вместе с тем кантовское исследование процесса познания
содержало ряд плодотворных моментов для дальнейшей разработки теории
познания. Основываясь на ленинском определении материалистических и
идеалистических черт философии Канта3 и исследуя ее как содержащую в
себе дуалистические тенденции, марксистские философы отмечали, в
частности, что рассмотрение тех же антиномий привело его к открытию
противоречий в природе нашего знания, что явилось одним из стимулов для
разработки положительной диалектики у Фихте, Шеллинга и Гегеля.
В анализе процесса познания Кант особо выделил понятийное
мышление («мышление есть познание через понятия» 4), указывая, что,
помимо созерцания, существует лишь один способ познания, а именно
познание через понятия, не интуитивное, а дискурсивное. В «Критике
чистого разума» на вопрос о том, что такое истина, Кант ответил следующим
образом: истина возможна лишь в форме предмета, т. е . как соответствие
рассудка (самой формы всеобщности и необходимости) и чувства
(эмпирического многообразия ощущений, возникающих в априорных формах
времени и пространства). Предметность понималась им как правило
расположений ощущений в пространстве и во времени, которое заключает в
себе применение чистого рассудка (категорий) и с помощью которого
субъективные соединения восприятий получают объективный и всеобщий
характер.
Кант различал и даже тщательно обособлял созерцание и рассудок, отводя
каждому определенную роль (долю участия) в познавательном процессе,
однако он постоянно подчеркивал их взаимосвязь и взаимозависимости «Без
чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один
нельзя было бы мыслить. Мысли без содержания пусты, созерцания без
понятий слепы. Поэтому в одинаковой мере необходимо свои понятия делать
чувственными (т. е . присоединять к ним в созерцании предмет), а свои
созерцания постигать рассудком (verstandlich zu machen), т. е . подводить их
под понятия. Эти две способности не могут выполнять функции друг друга.
Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить.
Только «из соединения их может возникнуть знание» \ Эта мысль
многократно варьируется в «Критике чистого разума» 6
.
Большой интерес для нас представляет Кантово объяснение принципа
соединения этих антиномичных для него понятий — чувственности и
рассудка в его учении о продуктивной способности
воображения. Остановимся на нем несколько подробнее. Согласно Канту,
воображение осуществляет важнейшую в познавательном процессе функцию
синтеза чувственности и рассудка: создает то «посредствующее
представление», которое оказывается «чистым (не заключающим в себе
ничего эмпирического) и тем не менее, с одной
стороны, интеллектуальным, а с другой — чувственным. Такой характер
имеет трансцендентальная схема», указывал Кант 7. Продуктом
деятельности воображения оказывается, таким образом, схема «чувственного
понятия» (соединение несоединимого для многих «последователей» Канта),
благодаря которой осознается, т. е . как бы впервые создается для нас сам
предмет (как предмет знания, предмет нашей деятельности в отличие от
«вещи в себе»). Без этой продуктивной функции воображения мы не имели
бы никакого знания, утверждал Кант, добавляя, однако, что для того, чтобы
получить знание в собственном смысле этого слова, следует свести этот
синтез к понятиям, что является функцией рассудка.
Итак, Кант рассматривал воображение как синтетическую чувственно-
рассудочную деятельность. Диапазон ее широк: в определенном
соотношении воображение и рассудок содержатся в способности суждения;
исключительно как действие способности воображения рассматривается
синтез — важнейший акт познания, составляющий из элементов знание и
объединяющий их в определенное содержание, согласно Канту, то первое, на
что мы должны обратить внимание, если хотим судить о происхождении
наших знаний. Воображение оказывает стимулирующее воздействие на
стремление разума к систематичности познания, а также на его попытки
расширить опытное знание посредством идей.
Однако главной отличительной чертой воображения является его активный,
живой, творческий потенциал, его способность к созданию нового,
совершению открытия. В этом Кант видел принципиальное отличие
воображения от эмпирического по своему характеру созерцания и
рефлектирующей способности суждения.
Кантов анализ процесса познания и определение в нем роли воображения
подводит к выводу, что продуктивную деятельность воображения можно
рассматривать как в сущности изначальную основу всех структур
человеческого сознания. Кант показал, что всякий смысл, а в конечном счете
всякое предметное понятие человеческого сознания вообще является лишь
продуктом деятельности воображения. Таков один из главных выводов
«Критики чистого разума» 8
.
Природа продуктивной способности воображения была недостаточно ясна
Канту. Он рассматривал ее не только как рационалистический акт, но и как
«слепую, хотя и необходимую функцию души», как «сокровенное в недрах
человеческой души искусство (курсив наш. — И. Ф.), настоящие приемы
которого нам едва ли удастся проследить и вывести наружу» 9. Кант отмечал
ее произвольный, субъективный характер, но и этот произвол в конце концов
оказывался у него ориентирующимся на реальную практическую
деятельность. Таким образом, становится очевидным, что кантовская
концепция воображения не была иррационалистической. Она коренным
образом отличается от концепций, построенных на противопоставлении
разума и рациональных способов познания (а также дискурсивности,
понятийности и т. д .) «созерцанию», «воображению» и др., истолкованным в
иррационалистическом духе.
Необходимо учесть, что такой подход к анализу познавательной
деятельности сочетался у Канта с глубоким интересом к научному знанию.
Известно, что в своей теории познания он опирался на достижения
современного ему естествознания — классическую механику, математику,
формально-логическое знание, психологию и др. Как отмечает В. А.
Лекторский, Кант считал, что знание не только возможно, но и
действительно, фактически существует, и в этом одна из принципиальных
предпосылок кантовской теории познания. В выяснении того, как возможны
чистая математика и чистое естествознание, т. е . как возможно знание
вообще, состоит основной вопрос его теории познания 10
.
Кант дал характеристику истории научного познания. Он отличал
философию от естественных наук и пытался раскрыть природу и специфику
научного (теоретического) знания. Он понимал его как синтетическое знание,
соединяющее в себе разум и эксперимент, и отмечал в качестве его
характерных черт осознание своей внутренней структуры и ярко
выраженную методологическую рефлексию (над знанием).
Предпринятый Кантом анализ современного ему научного знания, а также
обсуждение им актуальных научных проблем (к примеру, проблемы времени
и др.) дают основание рассматривать кантовскую концепцию научного
знания как первый опыт исследования философии науки и научных
революций. Философия Канта содержит много ценных и перспективных
идей, приобретших современное звучание, — это идеи творческой
активности познающего субъекта, примата практического разума над
теоретическим (несмотря на идеалистическое истолкование практического
разума как нравственного сознания), моменты диалектического подхода к
познанию и др.
Однако для самого Канта лежащий в основе его философии принцип
субъективного идеализма — «отнесение аподиктического — необходимого и
всеобщего — познания к деятельности трансцендентального субъекта, или
„Я"» — ограничивал действие этих идей: они имели значение лишь для мира
возможного опыта, под которым философ понимал только мир явлений11
.В
целом это была «критическая» трансцендентальная теория
познания12
.
Изложенные положения отчасти уже проясняют вопрос, чем обусловлено
обращение Канта к эстетике. Он сознавал, что в рамках его теории
познания принципиально не могли быть решены многие реальные проблемы
как методологического, так и мировоззренческого характера, и прежде всего
связанные с миром человека и созданной им культурой. Отсюда
обусловленная своего рода критической рефлексией экстраполяция чистого
разума на практическую сферу и обращение Канта к телеологии, а также к
художественно-эстетической области, с тем чтобы «черпать из искусства й
эстетики модели метафизических построений» 13
. Знаменитая кантовская
идея, согласно которой эстетическое объединяет теоретический разум с
практическим, получая свое воплощение в концептуальных моделях
реальности, ориентировала на необходимость сообразовать цели и задачи
познания с такими понятиями, как идеал, гармония, целесообразность, а
познавательные способности — с эстетическими способностями души. В
эстетике, развивая свое учение о прекрасном, Кант превыше всего ставил
поэзию, поскольку она способна возвыситься до изображения идеала.
Однако эстетическое учение Канта не содержало мысли о превосходстве
искусства над всеми другими областями человеческого знания. Делая
замечания по поводу теории эстетики как учения о категориях искусства А.
Баумгартена, он указывал на тщетность попытки автора самого термина
«эстетика» подвести содержание понятия прекрасного и его критерии под
принципы разума и возвысить эти критерии до степени науки. Согласно
Канту, изящные искусства должны рассматриваться как искусство гения,
однако «природа предписывает через гения правила не науке, а искусству, и
то лишь в том случае, если оно должно быть изящным искусством» 14
.
Искусство и наука рассматривались Кантом как равнозначные феномены
культуры,- понимаемой как создание «самодеятельного духа», разума
человека, а в широком смысле этого слова как просвещение. Представленная
в «Критике способности суждения» концепция культуры содержала
прогрессивные идеи о поступательном развитии просвещения,
преемственности в развитии культуры, науки и искусства. Несмотря на
отсутствие однолинейной направленности общественного развития,
«зигзаги» истории, регресс, всегда оставался «зародыш просвещения,
который, развиваясь все больше после каждого переворота, подготовлял
более высокую ступень совершенствования», считал Кант15
. Излагая взгляд
на историю человеческого рода в целом, он указывал на закономерный ход
улучшения государственности, хотя и отмечал трудность достижения
наилучшего общественного устройства. Философ выражал надежду, что в
результате такого поступательного движения будет найдена путеводная нить,
способная послужить совершенствованию человеческого рода и достижению
«вечного мира».
Подводя итоги, отметим, что заслуга Канта состояла не столько в разработке
собственно эстетических проблем или философии культуры, сколько в том
комплексном подходе к проблемам познания, который благодаря
установлению взаимосвязи между различными методами познания (в том
числе между научным и художественным) обеспечивает целостность знания,
его достоверность и истинность. Влияние такого осмысления
гносеологических проблем было так велико, что, как отметил М. Ф.
Овсянников, со времени Канта каждый немецкий философ конца XVIII—
начала XIX в. считал необходимым завершить свою систему анализом
эстетической проблематики16
.
И. Канта с его учением об антиномиях и противоречивой природе наших
понятий, знания вообще В. Ф. Асмус назвал основателем
направления «критической» гносеологии". Ассоциирующийся с
«критической философией» и антисциентизмом термин «критическая»
гносеология вполне употребим, на наш взгляд, по отношению к теоретико-
познавательному содержанию рассматриваемых ниже концепций,
варьирующих кантовские ключевые позиции: о «непохожести» бытия и
мышления, независимости мышления от действительности, возможности
познания не самих вещей, а только их явлений, противопоставлении
теоретического и практического разума и др.
Это имеющее глубокие корни в истории философии направление сложилось
в течение XIX—XX вв. в общем русле идеалистической
иррационалистической философии и философии культуры, в разного рода
«критических» концепциях от Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора
и Ф. Ницше, феноменологии и экзистенциализма Э. Гуссерля, М. Хайдеггера,
К. Ясперса и др., где доминирует философско-эстетическая проблематика, до
«негативной диалектики» представителей Франкфуртской школы, «новой
критики» и культурологической модели знания французских
структуралистов Р. Барта, М. Фуко и др., включая отчасти самые новейшие
варианты «критической теории» познания. Речь, таким образом, идет о
замене научных, рациональных методов познания методами, опирающимися
на ненаучные критерии истины, что, согласно утверждениям сторонников
этой тенденции, может привести к новым результатам, обогатить структуру
философского знания и определенным образом укрепить
общегносеологические позиции в социальном прогнозировании.
Не являясь в целом агностическими и в принципе не отрицая познаваемость
мира, эти концепции подвергают критике материалистическую теорию
познания, называя ее «традиционной», «догматической»,
«узкогносеологической», и якобы с целью преодоления этого догматизма
выдвигают в качестве нового познавательного ориентира одну из поистине
вечно возвращающихся идей: от гносеологии — к искусству, от
гносеологического — к эстетическому, что предполагает принципиальное
изменение направленности познавательного процесса и в итоге переход от
теории познания к эстетической теории.
Такая направленность обусловливает и соответствующий выбор методов
познания: превозносятся эстетические способы освоения действительности,
при этом возрождаются многие имеющие давние традиции приемы и методы
идеалистической гносеологии с целью установления между ними новых
соотношений, создания с их помощью новых теорий. Характерно, что в
состав ориентирующихся на искусство теоретико-познавательных схем в
качестве постоянно функционирующих основных положений входят и такие
многочисленные приемы, как критика познавательных способностей
интеллекта и науки; отказ от возможности теоретического познания мира;
противопоставление разума, рассматриваемого лишь как орудие
практического действия («инструментального разума»), интуиции
(«созерцанию», «откровению», «высветлению» и т. п .), как независимой от
бытия и практической деятельности; обращение к психоанализу, теологии и
антропологическим концепциям; внимание к областям гуманитарного знания
и культуре как особому смысловому измерению человеческой деятельности,
отражению индивидуального видения, которое не может быть выражено в
сфере науки и техники; преувеличение роли истолкования в процессе
познания, обращение в этой связи к герменевтике, лингвистике,
структурному анализу и т. д . и рассмотрение их как определенных моделей
знания; и др.
Особенно широко эти приемы варьируются в современных концепциях
буржуазной философии, где в разных сочетаниях — под видом выработки
«комплексной» программы знания, достижения «сущностного» знания и т. д .
—
они выдаются за качественно новые методы познания.
Анализ этих концепций показывает, что подобные новации затрагивают
самые основы теории познания и в действительности направлены не на
выработку положительной программы знания, а на вытеснение
традиционного философского теоретико-познавательного аппарата и его
основы основ — важнейших понятий и категорий, ассоциирующихся с
научным знанием. Практически это ведет к отказу от изучения объективных
закономерностей развития человека и общества.
Разумеется, формы, которые принимает «критическая» гносеология в этих
многочисленных философских построениях, различны, как различны и
мотивационные факторы, побуждающие буржуазных философов
преподносить все новые версии «критики» теории познания. Однако нас
будет интересовать прежде всего не их специфика, а выявление
определяющей уровень теоретизирования и единство развиваемых
концепций общей закономерности и методологической основы, которые
позволяют отнести эти разные концепции к одному направлению.
Соответственно и в обращении «критической» гносеологии к искусству,
также содержащем самые различные проблемные постановки, нам важно
прежде всего раскрыть обоснование предложенного изменения
направленности познавательного процесса в целом и показать принципы
включения художественного познания в контекст философской
общегносеологической проблематики.
«Критическая» гносеология исходит из общеметодологического принципа
«критицизма» по отношению к теории научного метода —
материалистической диалектике и теории познания. Этот «критицизм»
можно рассматривать как одну из форм проявления антисциентистского
мировоззрения, отражающего особенности общественного развития и
свидетельствующего о связях этой философии с социальной
действительностью: кризис социально-практической деятельности человека
побуждает философов к пересмотру не только содержания философских
рационалистических концепций действительности и социального
прогнозирования, но и методов их построения, т. е . подвергаются сомнению
сами принципы подхода к анализу действительности в процессе познания, а
рационалистическая формула: «все должно быть подвергнуто критике и
анализу с точки зрения начал разума» — перевертывается таким образом, что
предметом критики — а часто и отрицания — оказывается «все, созданное с
точки зрения начал разума», и в том числе философское теоретическое
знание и результаты духовной культуры, накопленные человечеством.
2. Концепции «созерцания» Ф. Шеллинга, С. Кьеркегора, А.
Шопенгауэра, Ф. Ницше.
Одной из первых философских систем, в которых ограничивается роль
разума, явилась система Ф. Шеллинга. На первом этапе своей деятельности,
в период занятия натурфилософией, Шеллинг широко использовал
естественнонаучные достижения своего времени, что и позволило ему
разработать одну из главных своих идей — идею диалектического развития
природы. Подвергая критике (с позиций идеализма) механистический
материализм, он разрабатывал также диалектику форм мышления, опираясь
на научное знание. Однако главный его труд «Система трансцендентального
идеализма» (1800) уже порывает с научными принципами и строится на
иррациональных началах. Сама основа мира объясняется в нём некоей
бессознательной и представляющей собой нечто невыразимое,
иррациональное идеей, которая может быть воспринята только с помощью
интуиции и которая определяется через заимствованное у Я. Бёме понятие
«ничто». С целью объяснения единства мира у Шеллинга одухотворяется
сама природа; дух рассматривается в качестве носителя принципа
жизненности, а история природы — как ряд последовательных ступеней
развития духа. Так намечается становящаяся в дальнейшем характерной для
«критической» гносеологии тенденция, когда сам объект познания —
реальное бытие, пусть даже в виде непознаваемых кантовых ноуменов,
подменяется противоположным по смыслу объектом, означающим нечто
неявное, для познания которого рациональные методы оказываются
неприемлемыми.
Поскольку для трансцендентальной философии субъективное — это
первичная и вместе с тем — единственная основа всякой реальности,
единственный принцип для объяснения всего остального, постольку смысл
трансцендентального рассмотрения состоит в том, что «при нем восходит до
сознания и объективируется абсолютно не подлежащее объективации при
всяком другом способе мышления, знания или действования, одним словом,
мы имеем здесь дело с самообъективацией субъективного», писал философ18
.
Тем особым способом, который оказывается пригодным для такого рода
рассмотрения, объявляется «интеллектуальное созерцание», которое
понимается как непосредственное созерцание разумом предмета. Шеллинг
особо указывал, что «созерцание» не следует понимать как чувственное
созерцание, и, рассматривая связь созерцания и понятийного мышления в
процессе познания, в отличие от Канта утверждал, что источником реального
знания может быть только непосредственное созерцание, на долю же
понятий остается быть только как бы тенями реальности. Большую роль в
процессе познания Шеллинг отводит интуиции, действию бессознательного,
«откровению» и другим актам, связанным с чувственной сферой, и это лишь
на первый взгляд противоречит его пониманию «интеллектуального
созерцания». Умаляя значение понятийного и теоретического мышления,
философ сводит свое «интеллектуальное созерцание» к «интеллектуальной
интуиции», рассматривая их как тождественные. Это свидетельство тому, что
он возлагал свои надежды в познании отнюдь не на разум.
Провозгласив объективный мир первоначальной бессознательной поэзией
духа, Шеллинг объявил «единственным от века сущим откровением»
искусство и художественное творчество. Искусство ставилось им выше
науки и философии, поскольку понималось как высшее проявление
первичной тождественности сознательного и бессознательного в действии и
творчестве, как выражение свободной деятельности (а принцип свободы
философ считал основным в своей практической философии) и, наконец, как
высшая ступень «интеллектуального созерцания».
Соотношение «гносеологическое — эстетическое» утрачивает в системе
Шеллинга кантовский принцип связи. В сущности философ производит
подмену одного принципа другим: место гносеологии занимает эстетика,
которая выдается за гносеологию и которой передаются ее функции. В
иррационалистическом духе переосмысляются и некоторые понятия, в
частности понятие воображения (оно становится близким по значению
поэтической свободной фантазии в духе романтизма), а также понятие гения
(гений свойствен лишь искусству) и др. Главное состоит в том, что и само-то
искусство оказывается нацеленным не на реальный мир, а на то, что философ
называл «бессознательной поэзией духа», т. е . на субъективное.
Так, уже в системе Шеллинга речь идет не о постижении «непохожести»
бытия и мышления и методах познания последнего, как это было в
кантовской системе (это постулируется априори), а о постижении не-яв -ного,
под которым подразумевается сущность мира и которое фигурирует в
последующих системах под разными названиями: у Шопенгауэра — это
«воля», у Ницше — «воля к власти», у Хайдеггера — «ничто» и т. д . Даже у
казалось бы стоящих на реальной почве и исследующих объективную
действительность теоретиков, например, у философов Франкфуртской
школы, идеи о «ничто», «пустотах», обозначающих отсутствие конкретного
«идеях» и т. п . оказываются многозначными и широко варьируются. Их
главный, принципиальный смысл во всех концепциях остается неизменным:
они направлены на элиминацию рациональных методов познания и
понятийного мышления. Не случайно поэтому постоянным объектом
критики в «критической» гносеологии оказывается рационализм и роль
разума как организатора систематизации и целостности знания, создателя
теоретического знания.
Составляющая основу «критической» гносеологии критика понятийного и
каузального логического мышления восходит к С. Кьеркегору, А.
Шопенгауэру и Ф. Ницше и широко развертывается современными
буржуазными философами — представителями экзистенциализма,
Франкфуртской школы и др. Выступивший против Гегеля Кьеркегор подверг
критике его главный теоретико-познавательный принцип — принцип
тождества бытия и мышления, настаивая на их «непохожести». Исходя из
«несоизмеримости реальности и познаваемости», Кьеркегор утверждал, что
мышлению присущ абстрактный, дискурсивный характер, в силу чего оно в
принципе не способно выразить многообразие и конкретность реальности во
всей ее особенности, индивидуальности, подвижности. Поскольку реальность
для Кьеркегора есть прежде всего реальность человеческого существования,
постольку его интерпретация понятия и системы категорий — субъективного
и объективного, абстрактного и конкретного, возможности и
действительности и др. — приобретает иной, чем в рационалистической
философии, смысл, экзистенциальный, а не теоретический характер: он
пытался доказать несостоятельность этих категорий для выражения проблем
существования индивида. Противопоставив объективность и субъективность
и объявив подлинной действительностью субъективность, понимаемую как
внутренний мир (In-nerlichkeit), особенный для каждого отдельного
индивида, Кьеркегор переосмысляет понятие истины с субъективно-
идеалистических позиций. Истина человеческого существования, т. е . Я -
существования, являясь порождением воли, не может быть объективной: она
у каждого своя (истина для меня), по своему характеру парадоксальна,
иррациональна и поэтому не подвластна рациональному мышлению. На
смену ему, согласно Кьеркегору, приходят теологические размышления, так
как формой постижения истины-парадокса может быть только вера,
исключающая понимание19
.
Схватить и выразить экзистенцию может, по Кьеркегору, лишь
художественное мышление, способное посредством художественных
образов, на материале художественных явлений приблизиться к истине.
Отчасти практическим выражением такой ориентации явился литературно-
художественный способ философствования самого Кьеркегора, излагавшего
основные положения своего учения посредством интерпретации творений
искусства (моцартовского «Дон Жуана», произведений романтиков,
библейских сюжетов и т. д .).
В дальнейшем развитии «критической» гносеологии в критике понятийного
мышления используются кьеркегоровские аргументы, допускающие
известное искажение гегелевского понимания процесса познания. Оно, как
известно, мыслилось Гегелем не как создание логических абстракций
предмета в виде понятия (по утверждению Кьеркегора), а как исследование
предмета с точки зрения его соответствия понятию, когда положение о
неидентичности преодолевается в процессе реализации понятия посредством
разных определений, которые оно получает при различных отношениях
объекта и субъекта на разных ступенях познания, так что в результате вся
конкретная действительность вполне укладывается в эти понятия. Не
случайно совпадение онтологического и гносеологического рационализма
рассматривается в марксистской литературе как вклад Гегеля в развитие
философии.
Что касается искусства, то в эстетическом учении Гегеля, одном из самых
разработанных и цельных, оно также оказывается причастным к «свету
разума», к той воплощенной в «духе» истине, которая, однако, в конечном
счете выступает все-таки в форме мысли, выражающей эту истину в более
совершенном виде. Гносеологический рационализм, таким образом,
выдержан у Гегеля и здесь20
.
Насколько обратившееся к иррационалистическому истолкованию мира
буржуазное мышление отходит от логико-гносеологических основ не только
гегелевского, но и кантовского понятийного мышления, показывает
антидиалектическая гносеология А. Шопенгауэра, основные положения
которой представляют собой наглядный пример распада классических форм
идеализма. Отказавшись от веры в разумность и смысл бытия и выдвинув
идею о господстве неразумной и бессмысленной мировой воли, этот
франкфуртский философ с целью объяснения реального мира обратился к
сверхприродной силе: воля в его трактовке представляет сущность мира, его
внутреннее содержание, в то время как жизнь, видимый мир, явления
оказываются только ее зеркалом. Происходит, таким образом, подмена
самого объекта познания: материя, пространство, время, причинно-
следственные связи, вещи, данные в опыте, оказываются не первореальными,
а считаются проявлением воли, которая и занимает их место в качестве
объекта познания. Исходным в таком познании оказывается не объект и
субъект, а первый акт познания — представление, распадающееся на объект
и субъект. И только воля — вещь в себе — не является представлением, она
есть то, явлением, видимостью, объектностью чего служит всякое
представление, всякий объект.
Воля как вещь в себе совершенно отлична от своего явления и всех его форм,
от своей объектности, однако она может быть постигнута только через ее
явление; будучи подчинена в своем явлении (т. е . в форме представления)
закону основания, она сама «в своем внутреннем существе этой
постижимостью нимало не уясняется», утверждал Шопенгауэр (в духе
Канта) 21
. Чем больше действительно объективного и истинно реального
содержания в таком познании, тем больше в нем необъяснимого, т. е .
несводимого далее ни к чему другому. Познанию (науке) доступна лишь
поверхностная характеристика вещей, так как оно воспринимает в объектах
только их отношения — взаимосвязи вещей, условия времени, пространства,
причины естественных изменений, сравнение формы, мотивы событий и т. д .;
с устранением этих отношений исчезнут и сами объекты, потому что оно
(познание) ничего другого в них не восприняло.
Место интеллекта в теории Шопенгауэра занимает проявляющаяся в
«правильном созерцании» интуиция. Разуму же отводится одна функция —
образование понятий, закрепление в понятиях того, что было познано иным
путем; к тому же роль самого понятия здесь также ограниченна: оно служит
только для характеристики отношений, оно «отвлеченно, дискурсивно,
внутри своей сферы совершенно неопределенно, определенно только в своих
границах»22 и, главное, не раскрывает содержания, полученного из
интуитивного, непосредственного, наглядного познания. Рефлексия,
отражение, познавательная способность рассматриваются как нечто
производное от интуиции — основы познания. Вполне закономерно поэтому,
что «не доказанные суждения и не их доказательства, а суждения,
непосредственно почерпнутые из интуиции и на ней вместо всякого
доказательства основанные»23
, объявляются главными в научном познании.
Поскольку интеллект в учении Шопенгауэра подчинен воле и оказывается
лишь ее органом и слепым орудием, то, разумеется, он не может служить
методом ее познания, а следовательно, и познания вообще, так как воля
лежит в основе всех вещей и образует их формы, их Идеи. Это восходящее к
античной философии понятие означает у Шопенгауэра существенное и
постоянное во всех явлениях мира. Идеи вечны, в них воплощено то, что
существует вне и независимо от всяких отношений, — это единственная
действительная сущность мира, истинное содержание его явлений, не
подверженное никакому изменению, и поэтому во все времена познаваемое с
одинаковой истинностью. Идеи представляют собой непосредственную и
адекватную объективность вещи в себе, воли.
Эти идеи-формы-тайны не исследуются, не познаются, а постигаются
посредством «правильного созерцания», интуитивного прозрения, которое
предполагает освобождение исследуемого объекта от всяких отношений и
«безмятежное созерцание» его «вне его связи с каким-либо другим» 24
.
Условием для такого созерцания является «внезапный переход» познающего
субъекта в такое состояние, когда он освобождается от служения воле — а
вследствие этого перестает быть только индивидуальным — и становится
уже чистым, безвольным субъектом познания. Такое состояние недоступно
обыкновенному человеку, оно доступно только гению.
Шопенгауэровская трактовка отношения идеальной субстанциальности и
действительности как не предполагающего реального проявления
противоречит учению Гегеля о конкретности понятия и идеи и, в частности,
его утверждениям о том, что «сущность должна являться», иначе в своей
абстрактности она есть ничто; что «идея налична и действительна в
явлениях, а не где-то за пределами и позади явлений», что идея — это
«абсолютное единство понятия и объективности» и может быть постигнута
«как разум... как единство идеального и реального» 25
.
Шопенгауэр сужает сферу действия методологии по сравнению с Гегелем,
который считал наиболее совершенным способом познание в чистой форме
мышления, однако допускал возможность постижения истинного
различными способами.
Что касается созерцания, то в трактовке Шопенгауэра это понятие по
сравнению с шеллинговским «интеллектуальным созерцанием» и
гегелевским «одухотворенным созерцанием» утратило свою духовность и
освободилось от необходимой связи с размышлением. Между тем, согласно
Гегелю, «лишенное духа, созерцание есть лишь чувственное сознание,
остающееся внешним по отношению к предмету»; только «одухотворенное,
истинное созерцание... схватывает субстанцию предмета во всей ее
полноте» 26
. Это положение легло в основу гегелевской эстетики, исходящей
из того, что настоящий художник в процессе творчества должен пользоваться
не только созерцанием, но «раздумывать и размышлять», ибо «только на
этом пути он может надеяться извлечь сердце или душу предмета из всех
затемняющих ее внешностей и именно благодаря этому органически развить
свое созерцание» 27
.
В шопенгауэровской же концепции искусству отведена особая роль: оно
способно улавливать Идеи сквозь реальность и приобщать к достижению
тайны. Как более связанное с чувственной сферой, оно служит прозрению,
способствует проникновению в недоступные для мышления глубины и тем
самым обеспечивает более высокий, чем познание с помощью логического
мышления, уровень понимания, постижения смысла. Если наука никогда не
может достичь конечной цели, если понятие отвлеченно, то идея наглядна и,
хотя заступает место бесконечного множества отдельных вещей, безусловно
определенна. Поэтому искусство, по Шопенгауэру, всегда находится у цели.
Особую роль он отводит музыке, поскольку она способна выразить
внутреннюю сущность мира и нашего Я. Действие музыки он считает
мощнее и глубже действия других искусств, так как «последние говорят
только о тени, она же —о существе»: между ней и идеями существует если не
непосредственное сходство, то все же параллелизм, аналогия. Музыка, в его
представлении, независима от внешнего мира явлений; она язык чувств и
страстей и выражает только квинтэссенцию жизни и ее событий, но вовсе не
сами события или явления. Музыка выражает сущность радости, печали,
муки, ужаса, ликования, веселья, душевного покоя вообще, и нет
необходимости искать ее причину, приспосабливать к словам и прилаживать
к событиям. Она, таким образом, не является для Шопенгауэра средством
отражения и познания действительности, а лишь дарит наслаждение,
позволяет художнику в его энтузиазме забыть жизненные тягости и найти
если не путь, ведущий из жизни, то хотя бы временное утешение в ней.
Специфику концепции музыки придают некоторые стилистические
особенности языка философа, связанные с попытками описать характер
музыки, само ее звучание (с использованием музыкальной терминологии и
соответствующих знаков), как это делали Гёте и Гофман, а затем Т. Манн.
Итак, в познавательной концепции Шопенгауэра речь идет не о
непознаваемости мира, а о «непонимаемости» его определенными
средствами мышления. Собственно, анализ этих средств и не входит в схему
рассмотрения философа; аргументация, доказательства их несостоятельности
отсутствуют. Вместо этого приводится характеристика познавательных
интенций искусства, также недоказанных и по сути недоказуемых. Весьма
характерно, что в современной буржуазной философии эта шопенгауэровская
мыслительная схема многократно повторяется28
.
«Критическая» гносеология Шопенгауэра во многом определила характер его
эстетической теории, философии истории и культуры. Эстетику
Шопенгауэра называют «эстетикой пессимизма», поскольку она
провозглашала отрицание ценности жизни самой по себе. Жизнь, видимый
мир, явления перестали быть объектом искусства в его концепции. Человек и
окружающий его внешний мир с его событиями и конфликтами уступили
место связанной с чувственной сферой воле. Между тем следует отметить,
что сама эстетическая теория Шопенгауэра основывается в целом на
реальности буржуазного общества с его, противоречиями и создает
критическую картину мира со всеми проблемами бытия, что в
мировоззренческом плане сближает ее с критическим реализмом XIX в.
(примечательно, что сам Шопенгауэр отрицал не только революционно-
демократическую, но и реалистическую литературу, признавая лишь за
натурализмом «ценность отрицания»). Резко критическое отношение
философа к буржуазному обществу было отражением мелкобуржуазных
настроений тех слоев, которые все более вытеснялись нарождающейся
крупной промышленностью и утрачивали свою роль на общественной арене.
Философия Шопенгауэра со всей очевидностью зафиксировала ставшую
характерной для буржуазного общества кризисную ситуацию, при которой
промышленный расцвет, опирающийся на научное знание, сопровождался
утратой духовных связей с гуманитарным культурным наследием, что
вызвало решительный сдвиг во всех областях общественной жизни и привело
к кризису мировоззренческих либерально-буржуазных представлений.
Пессимизм Шопенгауэра — свидетельство того, что с таких
мировоззренческих позиций история общественного развития предстает в
искаженном виде и предвидеть иной выход из кризиса, кроме трагедии,
невозможно.
В отличие от представителей критического реализма в концепции
Шопенгауэра главное внимание сосредоточено -на передаче «трагического
мироощущения, того чувства отчаяния и безнадежности, которое охватывает
человека в этом мире», — по словам Т. Манна, назвавшего главный труд
философа «мир критикующей книгой» 29
. Критика создавала один из мощных
факторов воздействия на общественное сознание и обусловила то огромное
влияние, которое сделало автора пессимистической философии «властителем
дум» образованной части немецкой мелкобуржуазной интеллигенции30
.
Однако пессимизм концепций Шопенгауэра был обусловлен не только
реальными социальными причинами. Известно, что философ отрицал
закономерность развития природы и общества, а следовательно, и
возможность научного логического познания. Он утверждал, что познание не
способствует прогрессу, что последний вообще невозможен. При этом он
исходил из отрицания представления об истории как о процессе, считая ее
наукой об индивидуумах. Истинная философия истории, согласно его
учению, заключается в сознании того, что ее сущность всегда одинакова и
неизменна, тождественна себе и состоит в основных свойствах человеческого
ума и сердца, в числе которых больше дурных, чем хороших.
Субъективистское истолкование истории общественного развития и
причинно-следственных связей основных онтологических представлений
привело Шопенгауэра к ложным теоретико-познавательным выводам, что, в
свою очередь, обусловило агностицизм таких его философских построений,
как концепция культуры и философия искусства.
Так, рассматривая историю культуры с антидиалектических, агностических
позиций, Шопенгауэр утверждает, что человеческая культура является
созданием не всего человечества, а гениев (отдаленных от толпы «пафосом
дистанции», добавит потом Ницше). В мире, этом царстве случайности и
заблуждения, глупости и злобы, по словам Шопенгауэра, действительное
господство захватывает нелепое и извращенное в сфере мысли, плоское и
безвкусное в сфере искусства. Окруженное чувствами зависти и ненависти,
все лучшее с трудом пролагает себе путь, благородное и мудрое редко
достигает проявления. Без руководства гениев человечество одичало бы,
между тем огромная масса ненавистно подавляет их, и если выдающемуся
удалось выразиться в долговечном творении, оно, «пережив ненависть своих
современников, стоит одиноко, и его берегут, как некий метеор, явившийся
из иного миропорядка, чем царящий здесь», писал философ31
.
Характерной чертой концепции искусства Шопенгауэра является то, что она
пронизана психологическими наблюдениями, которые, однако, по существу
не имеют ничего общего с научным знанием. В ней акцентируется внимание
на особой природе художника и вопросах психологического характера,
связанных с художественной интуицией, обосновывается связь гениальности
с болезнью и др. Так, ссылаясь на Руссо, Байрона, Альфьери и гётевского
«Торквато Тассо», Шопенгауэр утверждает «факт непосредственной
близости между гениальностью и безумием» и считает каждое возвышение
интеллекта над обычным уровнем располагающим уже, как аномалия, к
безумию32
. Мысль о связи художественной наклонности если не с безумием,
то с болезнью становится неотъемлемой частью его концепции искусства.
Свобода поэтического воображения, интуитивное прозрение, бесцельность
противопоставляются и предпочитаются действенному, прогрессивному и
идейному художественному творчеству, что приводит к отрицанию
социально-познавательной ценности искусства. Так, агностицизм
Шопенгауэра отразился в его эстетической концепции и на решении вопроса
о роли и назначении искусства и художника: вопрос о социально-
общественной детерминированности их функций по сути снимается,
познавательные возможности искусства ограничиваются, образ художника
искажается.
Последующие эстетические концепции, выдвинутые буржуазными
философами, восприняли многие эстетические представления Шопенгауэра,
в первую очередь его интерпретацию музыки и психологии художника.
Мысли об исключительности, особенности всякого художественного
дарования, особом взгляде художника на жизнь, вытекающем из его природы
как таковой, были подчас некритически восприняты и прогрессивными
деятелями искусства на Западе.
Однако прежде всего философия Шопенгауэра воспринималась в
мировоззренческом аспекте как своеобразная интерпретация некоторых
основных онтологических представлений предшествующей эпохи, которые
продолжали оставаться кардинальными проблемами человеческого бытия.
Влияние Шопенгауэра испытали на себе многие видные представители
философии и культуры — Л . Н. Толстой, Т. Манн, основатель
Франкфуртской школы М. Хоркхаймер и др.
Так, Л. Н. Толстой в романе «Анна Каренина» показал всю притягательность
этой философии, как бы приоткрывающей тайны бытия и смерти и в то же
время оказывающей губительное воздействие на человека, его
жизнеспособность. Герой романа Левин под влиянием этой философии
задумывается о смерти и обостренно осознает вопрос: кто он такой? для чего
живет на свете? Мысли о близкой смерти вызывают такое смятение в его
душе, что он, счастливый семьянин, здоровый человек, прячет шнурок,
чтобы не повеситься, и боится ходить на охоту, чтобы не застрелиться. Но
Левин продолжает жить, так как у него была «руководительная нить в
темноте» — его дело, за которое он «из последних сил ухватился и
держался» 33
. Герой Толстого отверг философию Шопенгауэра. Она лишь
временно утешала его, но, «когда он потом из жизни взглянул на нее», она
оказалась «кисейною, негреющей одеждой» 34
.
По-иному складывается судьба героя романа Т. Манна «Будденброки».
Томас Будденброк в кризисный для него период, соприкоснувшись с
философией Шопенгауэра, потрясен открывшимися ему истинами.
Неудовлетворенность миром. Неудовлетворенность ограниченностью
индивидуальности. Недовольство собой. Жизнь — властная, злая,
насмешливая — осуждалась, наш мир - худший из миров, как неоспоримо
доказывалось в этой книге. А человек? «Разве каждый человек не ошибка, не
плод недоразумения? Разве, едва родившись, он не попадает в узилище?
Тюрьма! Тюрьма! Везде оковы, стены! Сквозь зарешеченные окна своей
индивидуальности человек безнадежно смотрит на крепостные валы
внешних обстоятельств, покуда смерть не призовет его к возвращению на
родину, к свободе»35
. Философия Шопенгауэра дала Томасу «обоснованное
право страдать в этом мире» 36
, право на пессимизм. Герой Т. Манна
окончательно отходит от «дела», вера в которое у него утрачена, и вскоре
умирает.
На наш взгляд, эти и подобные им примеры представляют интерес в том
отношении, что в них отражены осмысление и оценка философских идей в
художественных произведениях, т. е . хотя и опосредованно, но с точки
зрения «жизни», практики, поскольку искусство — это практически-духовная
форма освоения мира. В данном случае при разных «жизненных» вариантах
был сделан один вывод: шопенгауэровские философские идеи признавались
непригодными для жизни.
В годы фашистской реакции Т. Манн, уже преодолевший влияние этой
философии, считал необходимым предостеречь общественность от
аполитичности и, вновь обращаясь к Шопенгауэру и характеризуя его как
одного из великих немецких мыслителей и отличного писателя, совершенно
четко определил его мировоззренческую позицию как реакционную. Он
подчеркивал, что Шопенгауэр ни в малейшей степени не принадлежит к тем,
кто со времени революции 1848 г. надеялся придать немецкой общественной
жизни направление, которое вплоть до наших дней определило бы иное,
более счастливое для человечества развитие общеевропейской истории и
отвечало бы интересам всех людей с духовными запросами, другими словами
—
направление демократическое. «До какой степени злосчастный характер
германской истории и ее путь к национал-социалистской катастрофе
культуры связан с аполитичностью бюргерского духа в Германии, с его
антидемократическим отношением к политической и социальной сфере... я
познал... перечитывая Шопенгауэра»,- писал он в статье «Культура и
политика» 37
.
Интерес к Шопенгауэру очень характерен для капиталистического мира,
особенно во времена упадка и реакции,— так писал, имея в виду конец XIX
в., Е. В. Тарле в работе о Ф. Ницше 38
, и это высказывание можно с полным
основанием распространить и на современный период, равно как и отнести
его к Ницше, тем более что в дальнейшем философия Шопенгауэра вообще
часто воспринималась как опосредованная идеями и высказываниями его
восприемника (см. главу «Шопенгауэр как воспитатель» в
«Несвоевременных размышлениях» и др.).
Переоценка теории познания, осуществленная Ф. Ницше, исходила из
социальной критики и была радикальной в том смысле, что ориентировала
познание на отрицание истинности мира: он — заблуждение, ложное
представление и должен быть познан прежде всего как таковое.
Следовательно, и теория познания должна стать «критической теорией»,
чтобы не просто познать мир, но понять его как заслуживающий отрицания.
Учение Шопенгауэра получило развитие у Ницше в целой серии негативных
характеристик социальной жизни, а также связанных с ними
«перспективных» для «критической» гносеологии идей (в частности, одна из
современных — Ю. Хабермаса и др.— о том, что радикальная критика
познания возможна только как социальная теория, имеет корни уже в этой
постановке вопроса).
Апеллируя к Шопенгауэру и Б. Паскалю, Ницше отрицал возможность
познания, поскольку оно «искажено» и «фальсифицировано» в этом ложном
мире; он отрицал религию и метафизику как несостоятельные формы знания,
выражал недоверие к. философии прошлого и научному знанию вообще.
В одном из разделов «Воли к власти» — «К критике теории познания» —
Ницше выразил скепсис по отношению к таким, по его словам, «теоретико-
познавательным догмам», как закон причинности (он якобы только
предварительное допущение), отверг практику пользования готовыми
понятиями (как наследием прошлых веков, когда мысль была
непритязательна), в том числе философскими, так как философы
руководствуются инстинктивными оценками, в которых отражаются эти
ранние состояния культуры. В духе кан-товской концепции регулятивного
знания Ницше рассмотрел весь познавательный аппарат как абстрагирующий
и упрощающий, направленный не на познавание, но на овладевание вещами:
«цель» и «средство» так же далеки от истинной сущности, как и «понятия».
При помощи «цели» и «средства» овладевают процессом (измышляют
процесс, доступный пониманию), а при помощи «понятий» — «„вещами",
которые образуют процесс», писал он39
. Прагматическая ориентация
познания — «полезность» с точки зрения сохранения — и является, по
Ницше, непреодолимым препятствием на пути к достижению истинного
знания.
Ницше подверг сомнению логику, как якобы исходящую не из эмпирических
законов, а основанную на предпосылках, которым не соответствует ничего в
действительном мире (например, на допущении равенства вещей, тождества
одной и той же вещи в различные моменты времени и др.), и утверждал, что
«нелогичность — одна из дисгармоний бытия», что «нелогичное тоже
необходимо для человека», так как мы изначально нелогичны и нуждаемся в
природном, «т. е . в своем основном нелогичном отношении ко всем
вещам» 40
. На таких же основаниях он отверг математику как содержащую
только нормативные понятия («в природе нет точной прямой линии, нет
подлинного круга и нет абсолютного мерила величины») и систематическое
знание вообще41
.
Ницше подверг критике методологическую концепцию позитивизма и ее
претензию на научность как не идущую дальше «феноменов». Полемизируя с
положением позитивизма: «Существуют лишь факты», он утверждал: «Нет,
именно фактов не существует, а только интерпретации»; мир познаваем, «но
он может быть истолковываем и на иной лад, он не имеет какого-нибудь
одного смысла, но бесконечные смыслы»42
. О том, что проблема
интерпретации здесь не связана с диалектически понимаемыми бесконечно
развивающимся знанием и неисчерпаемостью понятия, объективностью
знания, свидетельствуют некоторые общие положения концепции философа,
и в частности главное: познание, по Ницше, развивается в общем русле
жизненного процесса, подчиненного единой господствующей силе — «воле к
власти», которая делает его своим орудием — орудием усиления власти. Она
направляет познание, превращает его область в сферу своего действия,
наконец, сама выступает в качестве познания. При этом знание как таковое
теряет свое значение, поскольку войн к власти, согласно Ницше, более
нуждается в полезных заблуждениях, чем в истине.
Задачу философии Ницше свел к определению ценности, познание в таком
случае должно уступить место социально-этической ценностной ориентации.
В своей программе «принципов новой оценки» он обращается к области
психологии, сфере чувственного, эмоционального и предлагает заменить
теорию познания «перспективным учением об аффектах» 43
. Хотяони
подчеркивал, что его интересуют «преобразованные аффекты», «их
иерархия», их высший порядок, их «духовность», тем не менее очевидно, что
эта духовность не рационального происхождения44
, она эмоциональное
условие (в духе шопенгауэровского «чистого созерцания»), предпосылка того
«откровения», которое и является будто бы истинным познанием.
Перспективы такого познания он связывал с развитием физиологии и
истории происхождения мышления, т. е . с развитием научного знания, что по
существу противоречит его концепции в целом и является свидетельством
того, что с результатами естественнонаучного знания не могли не считаться
даже такие его противники, как Ницше.
Вместе с тем Ницше считал предметом своего «главного интереса»
исследование так называемого культурного комплекса. Известно, что
философ не занимался анализом объективных закономерностей
общественного развития. Составляющая основу его учения социально-
культурная проблематика рассматривалась им вне экономической эволюции
буржуазного общества, поэтому закономерно, что и перспективы познания
он соотносил главным образом со сферой культуры. Концепцией культуры
Ницше была задана та характерная и для современной буржуазной
философии система, в которой критика буржуазной «промышленной
культуры» как псевдокультуры, создающей человека «газетной» культуры,
направлена на отрицание существующей культуры в целом за ее
бездуховность, ведущую к упадку «высшего типа человека», и неспособность
к прогрессу. Уничтожение же старой культуры рассматривается как
необходимая предпосылка возникновения высшей. Ницше, как известно, не
допускал диалектического развития и преемственности: «Прогресс в духе
старой культуры и на ее пути даже не мыслим», он возможен только на
абсолютно новом пути 45
.
Ницше не объяснил, каким образом возможен этот скачок и что будет
представлять собой эта высшая культура. Однако он говорил о неизбежно
вытекающем из самого ее существа непонимании ее и низшей культурой, и
даже учеными, так как она «многострунна» и может быть постигнута лишь
«гением созерцания». За могущественное возрождение «гения созерцания» и
«усиление в очень большой степени созерцательного элемента» и ратует
Ницше, считая, что «необходимые корректуры, которым с этой целью нужно
подвергнуть характер человечества», обеспечит искусство46
.
Еще в раннем сочинении «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) Ницше
дал иррационалистическую трактовку античной истории и культуры. Здесь
же впервые была изложена его концепция искусства, антиреалистическая и
глубоко упадочная. Источник искусства Ницше видел не в окружающем
мире как таковом и действительной истории, а в страданиях человеческой
личности, вечно одинокой и чуждой другим индивидуальностям. Творческий
акт истолковывался им субъективистски в соответствии с его учением об
аффектах. Отсюда художник, по Ницше, — это гениальный безумец,
патологическое явление, сильный своей исключительностью,
отчужденностью от общества, отдаленный от толпы пафосом дистанции и
вместе с тем способный на подвижническую деятельность, характер которого
отождествим с понятием «познающего» 47
.
Исследование философом психологической стороны «художнического»
познания и нравственной позиции художника по отношению к познанию
истины, а также характеристика им творческого процесса как деятельности,
полной драматизма, мученичества и переживаний на грани «недуга»,
болезни, оказали большое влияние на философию искусства конца XIX—
начала XX в. Ее воздействие испытали на себе подчас даже прогрессивные
художники, хотя они и принимали ее не буквально, а критически.
Т. Манн, например, называл Ницше «лириком познания» и истолкователем
«глубинной психологии подсознания», исследования которого «теснейшим
образом связаны с интересом к мифическому, изначально-человеческому и
пракультурному». Ницше, по мнению писателя, явился «предтечей - в
огромном масштабе — в деле исследования глубин и тайников души» -
психоанализа Фрейда, близкого к романтизму и совершившего «глубокий
прорыв со стороны болезни в область званий о человеке» 48
.
Духовный прогресс, «возможность великой надежды на новое возрождение»
Ницше связывал с развитием эстетического миросозерцания,
предполагающего выявление не только духовного, а главным образом
эмоционального потенциала в духе романтизма. «Искания» философом
новой культуры как новой религии обнаруживают его стремление с
помощью искусства направить познание, в котором преобладают
«рационалистические элементы», к эмоционально-волевой деятельности
человека: искусство должно служить выражению «жизни». Эти «искания»
связаны главным образом с музыкой Р. Вагнера. Ницше был большим
знатоком его искусства и относил его самого к редким гениям, которые,
подобно Эсхилу, прокладывают путь грядущему искусству. Он разделял
выдвинутую Вагнером теорию искусств и предложенную реформу оперы
(принципы постановки ее как синтеза отдельных, но равноправных искусств:
поэтического слова, музыки, театра, симфонизма и пр.), представляя музыку
Вагнера в целом как образ, картину мира в том смысле, как его понимал
Эсхил: как гармонию, порожденную спором, как единство справедливости и
вражды. Музыку Вагнера Ницше находил «истинной», а в его поэзии
чувствовал наслаждение немецким языком, задушевность и искренность,
какие не чувствуются в такой степени ни в одном творении немецкой поэзии,
за исключением творчества Гёте. Ницше ценил сочинения Вагнера по
эстетике49
, из которых, по его мнению, «можно узнать все, что можно вообще
узнать о рождении художественного произведения» 50
.
И все-таки Ницше отошел от Вагнера и бежал из Байрейта, где надеялся
присутствовать при рождении новой культуры, новой религии. В работе
«Ницше против Вагнера» (1888) он уже резко критиковал искусство Вагнера
за его иллюзорность, социальную демагогию и лживость, имея в виду не в
последнюю очередь преобладание в нем «рационалистических элементов» и
рефлексивности, развивающейся в ущерб собственно музыке и ее
теургической силе, а также выступил против символического, все более
заступающего место чувственно-реального в искусстве. Так, подобно
романтизму, он «выше разума поднял эмоциональное начало» 51 и, исходя из
этого, говорил об умирании эмоционального искусства (см., например,
афоризм «Вечерняя заря искусства»), а значит, и искусства вообще в его
интерпретации и — как о взаимосвязанных процессах — об отуплении
наших чувств и зависимости их от разума. Он хотел бы повернуть эту
тенденцию вспять, поскольку, по его мнению, на этом пути мы так же верно
доходим до варварства, как и на каком-либо ином.
Как известно, творчество Вагнера и его теория синтеза искусств не стали тем
качественно новым этапом в развитии искусства, который придал бы ему
новое направление. Оно способствовало широкому интересу к искусству, но
не получило того подлинно общественного звучания, которое сделало бы его,
по выражению Ницше, «новой религией». Не породило оно и новой
культуры. И в этом Ницше был прав. Однако дело здесь не в
«рациональности», как он полагал, а в непоследовательности и
противоречивости философской и мировоззренческой позиции Вагнера, с
которой тот подходил к осмыслению исторического прошлого.
Многое для понимания философского смысла искусства Вагнера дают
свидетельства его современников, которые с интересом отнеслись к его
искусству, но почувствовали противоречивость, а подчас и сомнительность
его новаторства и его мировоззренческих позиций. Музыка Вагнера, его
реформа оперы были большим событием общественной жизни как в самой
Германии, так и за ее пределами. В 90-е годы XIX в. на страницах печати
многих стран велись ожесточенные споры о музыке Вагнера. Такие
виднейшие писатели и музыканты, как И. Брамс, Ж. Визе, Д. Верди, Н. А.
Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой и др., оставили о ней
интересные и разноречивые высказывания.
В плане рассматриваемых нами связей между чувственным и рациональным,
эстетическим и логическим в концепциях «критической» гносеологии
интересно проследить, как эти связи трактовались в то время такими
видными представителями передовой демократической интеллигенции, как
П. И. Чайковский и Л. Н. Толстой. П. И. Чайковский посвятил творчеству
Вагнера пять статей под общим заголовком «Байрейтское музыкальное
торжество» и статью «Вагнер и его музыка» 52
. Его высказывания о Вагнере
приведены также в книге, написанной его братом Модестом. Вагнер, по
мнению великого русского композитора, «гениальный талант», но «его
вдохновение парализуется теорию, которую он избрал и которую во что бы
то ни стало хочет приложить к практике.
Гоняясь за реальностью, правдивостью и рациональностью в опере, он
совершенно упускает из виду музыку, которая, по большей части, блистает
полным отсутствием мелодий в последних четырех операх... Ни одной
широкой законченной мелодии»53
. Чайковский отрицательно относился к
вагнеровской реформе оперы, оценивая ее как разрыв композитора с
лучшими традициями прошлого.
«Песнь о Нибелунгах» Чайковский считал непригодной для либретто. По его
мнению, ее «образы так нечеловечны, так трудно принимать в них живое
участие». Он признавал мастерство Вагнера-симфониста, однако считал, что
для оперы его оркестр слишком симфоничен и преобладает над вокальной
музыкой; «ни единого раза певцу не дается простора», вообще певцам
предоставляется роль говорящих манекенов. Отмечалась «запутанность»,
«изысканность» сочинений Вагнера 54
.
Однако Чайковский далек от полного непризнания музыки Вагнера: он дал
высокую оценку вступлению к «Лоэнгрину» и «Полету валькирий», отмечал,
что «Кольцо Нибелунга» составляет одно из знаменательных явлений
истории искусств, оценив его как поиск, новаторство, «гигантский труд»,
сосредоточивший на себе внимание всего мира.
Известно, что Л. Н. Толстой слушал «Валькирию» в исполнении С. И.
Танеева, оперу «Зигфрид», два акта «Лоэнгрина» (затем недовольный ушел
из театра), читал статью С. Кверина «Восемь дней в Байрейте», слушал
сюжет оперы Вагнера «Кольцо Нибелунга» в пересказе Н. Н. Страхова55
.
Полемика о Вагнере нашла отражение в романе Толстого «Анна Каренина»
(часть седьмая, глава V). Героя романа Левина интересуют две вещи, «новые
и в новом духе», которые давались в концерте, и он приходит туда с
намерением внимательно их послушать, однако не выносит оттуда ничего,
кроме большой усталости. Он - в недоумении. «Знатоки» же типа Песцова
утверждают, что это - «образно и скульптурно... и богато красками». Левин
полагает, что ошибка Вагнера и его последователей состоит в том, что у них
музыка переходит в область чужого искусства. Песцов же считает, что
«искусство одно и что оно может достигнуть высших своих проявлений
только в соединении всех родов»56
. Отношение Толстого к музыке Вагнера
было резко отрицательным. Дело здесь и в том, что он почувствовал в
музыке и вообще в творчестве Вагнера неприемлемую для него
философскую основу, близкую философии Шопенгауэра. Его реалистические
эстетические принципы, которые он утверждал всем своим творчеством,
оказались несовместимыми с пессимистическими концепциями вагнеровских
произведений и были оценены им как декадентские. Правда, здесь нужно
учесть, что все это написано в период, когда он ратовал за «искусство для
большого большинства народа» и в одном ряду с Вагнером называл имена Э.
Мане, К. Моне, Г. Берлиоза, Г. Ибсена и др. (см. трактат «Что такое
искусство?» (1898)).
Можно сказать, что, отметив одухотворенность и философичность
вагнеровской музыки, не нашедших, однако, гармонического разрешения в
мелодической основе, гуманистической по своему характеру, П. И.
Чайковский и Л. Н. Толстой предвосхитили так называемую проблему
Вагнера в истории современной культуры, связанную с оценкой
философской основы и мировоззренческого аспекта вагнеровской музыки.
Уже в начале XX в. стало очевидным, что искусство Вагнера не могло быть
ни выразителем нового мироощущения (несмотря на обращение к
национальной истории, мифологии и т. д .), ни философской программой для
нового искусства. Причины этого были глубоко проанализированы Т.
Манном, выступившим с работами о Вагнере в новый исторический период,
когда Германия уже пережила фашизм, однако многое высказанное в них
оформилось еще в 90-е годы XIX в. Т . Манну были известны отзывы
современников о музыке Вагнера как о «холодной», «алгебраической»,
«бесформенной», причем, конечно же, ему было известно, что это мнение
отнюдь не филистеров, а людей, понимающих и чувствующих искусство, —
музыкантов, ценителей музыки. Однако, размышляя о том, что дала музыка
Вагнера для развития культуры в целом, он отмечал грандиозность замыслов
композитора, эпический дух его творений, в основе которых —
противоборствующие начала (добро и зло, жизнь и смерть). Т. Манн считал,
что каждое конкретное произведение Вагнера следует рассматривать только
как синтез отдельных искусств, ибо только так — как целое, как синтез —
оно и воплощает понятие подлинного закономерного творения, вполне
допуская, что взятые в отдельности литературная, музыкальная и другие
части могут вызвать нарекания, как это произошло с современниками
Вагнера.
В творчестве Вагнера «Т. Манн — вопреки реакционным тенденциям
буржуазной и особенно фашистской критики — выдвигает на первый план
могучую интеллектуальность, творческую мощь отнюдь не иррациональной
фантазии, но умного труда» 57
. Его привлекало в музыке Вагнера прежде
всего то, что она «пронизана мыслью, рассчитана, — свидетельствует о
высокой интеллектуальности, изощренно умна, столь же продуманна
литературно, как музыкально продуманны ее тексты» 58
. Он привел слова
Вагнера о том, что в художественном творчестве «нельзя недооценивать
значение мысли; произведение, творимое бессознательно, принадлежит
периодам, весьма от нас отдаленным; произведение периода наивысшего
расцвета образованности не может быть создано иначе, как сознательно» 59
.
Вместе с тем Т. Манн (как и другие прогрессивные исследователи творчества
Вагнера) отмечал, что при обращении к национальным «корням»
композитору не удалось стать с веком наравне в их философской
интерпретации и способствовать уяснению общественно-нравственного
смысла исторических событий на уровне передовых идей своего времени.
Вагнер отдал дань культу мифа, напыщенной героике, символике и
шовинизму, ассоциировавшемуся с духом времени правления Бисмарка,
много внимания уделил эротике, патологии и т. д . Эти стороны его искусства
широко использовала реакция. Т. Манн в письме к Э. Преториусу «Вагнер и
несть конца» писал, что в творчестве Вагнера были уже предвосхищены
некоторые черты гитлеризма60
.
Искусство Вагнера занимает свое место в истории культуры как
своеобразный и самобытный художественный опыт освоения «связи
времен», привнесший много нового и значительного в музыку; однако, как
показывает исторический опыт, оно не могло выполнить те высокие
функции, вернее, «сверхзадачи», которыми наделяли искусство —
эстетическое — представители «критической» гносеологии, в частности
Шопенгауэр и Ницше.
В заключение следует отметить, что трактовка проблем познания
Кьеркегором, Шопенгауэром и Ницше с привлечением социального и
психологического материала, широким обращением к области искусства и
эстетики способствовала переориентации направления буржуазной
философской мысли на Западе от теоретико-познавательных проблем к
социальной истории, социальной обусловленности познания, «философии
жизни» и др. Поэтому вполне логично, что развитие этих тенденций в
современной «критической» гносеологии было продолжено В. Дильтеем, М.
Хайдеггером, К. Ясперсом и др.
3. «Непонятийная» истина М. Хайдеггера и философия искусства
В концепции экзистенциального мышления М. Хайдеггера познание в
соответствии с основным мировоззренческим принципом, идущим от
Кьеркегора (вместо способа осмысления мира —способ его «переживания»),
ориентировано на реальность, рассматриваемую как «жизненный опыт» и как
«существование». Интровертный поворот от объективных истин к
«чувствующему» сознанию изменил критерии познания и, отвергнув
понятийное мышление, обратился к принципам, исходящим из
«субъективности» мыслителя и эмоциональной сферы его сознания.
Прокламируется категориальная форма «непонятийности», невозможность
раскрытия экзистенциалистски понятой действительности с помощью
разума; сами экзистенциальные категории — «бытие» и «ничто» (вместо
«сущего»), «душа», «жизнь» и др. — выполняют функцию истолкования, в
котором методологические средства (созерцание, герменевтический метод и
др.) оказываются близки художественным. Речь, собственно, идет уже не о
способах познания, а скорее о способах выражения. Этот путь в теории
познания привел его создателя к онтологической эстетике, утверждающей,
что путь к красоте (истине) идет через чувственный мир и переживания, а
также обращение к искусству как наиболее адекватно отражающему их.
Во многом опираясь на философичную поэзию Ф. Гёльдерлина и опыт
Ницше, Хайдеггер ищет новые познавательные возможности посредством
таких приемов художественного мышления, как аналогия (причем
предпочтение отдается сравнению неблизких, непохожих явлений,
обнаруживающему их различие, их иное); метафорически-символический
способ выражения и символ как косвенный способ указания на предмет;
ассоциативное мышление, близкое к художественному образу, в котором
важны не только типические черты, а может быть, и не столько они, сколько
неявные, тайные ассоциации, недосказанность; переход от логического
взгляда к историческому61
, при котором контекст, «коллизия» (у Гёльдерлина
—
утопия) имеют не менее существенное значение, чем сам факт; и др.
Речь, слово, язык Хайдеггер рассматривает не как средства информации об
окружающем мире, а как связанные с миром «бытия», т. е . априорными
структурами человеческого существования, и, подобно В. Дильтею, считает
необходимым изучать языковые образования, инверсии слов, создавать
новые языковые формы; а также вслушиваться в звучание и музыку слова,
особенно имен собственных (ср. с «вслушивающимся созерцанием» у
Дильтея); использовать афористическую форму языка (как Ницше) и его
богатые синтаксические возможности, как это делал Гёльдерлин, у которого
смысл «рассыпан», так что мы сами ищем и воссоздаем его.
Поскольку для познания важно исследовать не столько имеющиеся
конкретные связи, сколько искать новые, утверждает Хайдеггер, необходимо
сохранение интереса к эскизному (иному) пути, помимо законченного,
закономерного, вплоть до приравнивания главного и привносящего
дополнительный смысл. Так, новые возможности познания Хайдеггер
связывает с идеей новой культуры, однако при этом обращает свой взор
исключительно назад и развивает известную ницшеанскую идею
«возвращения» в связи с анализом обращения Гёльдерлина к
доцивилизационной античности как прообразу такой культуры. Острейшие
проблемы современной культуры Хайдеггер пытается объяснить
посредством восходящего к Ницше истолкования изначально-человеческого,
пракультурного, мифического и говорит как о первостепенной задаче о
необходимости изучения культуры в дометафизическую эпоху, а также о
важности выявления изначальных, но так и не реализованных возможностей
европейской культуры.
Субъективистское понимание познания привело Хайдеггера к
противопоставлению культуры естественнонаучному подходу к миру,
отождествлению науки и техники с производством, осуществляющим свою
деятельность в несоответствующей, по его мнению, целям познания форме.
Мышлению в таком познании отводится роль создателя «умопостигаемой
схемы» действительности, «жизненность» же ей придается богатым
арсеналом языка, поэзии и культуры, приближенным к методам познания.
Согласно Хайдеггеру, искусство, создавая посредством нового языка свое
собственное видение мира, должно открывать новые — иные — ценностные
перспективы, связанные не с идеями социальных преобразований общества, а
с познанием истины как «истины бытия» 62
.
Примечателен тот факт, что Хайдеггер в своих исканиях и проектах
обратился к творчеству Ф. Гёльдерлина (1770—1843)63
, отдаленному от его
времени более чем на столетие. Известно, что этот поэт, творческая
деятельность которого почти в самом начале была прервана душевной
болезнью, не получил признания в свое время, хотя был известен и
учившимся вместе с ним Гегелю и Шеллингу, и великим поэтам, его
современникам Гёте и Шиллеру. Повышенный интерес к нему в XX в.
объясняется прежде всего особенностями его художественного мастерства.
Добиваясь выразительности поэтической речи, Гёльдерлин разработал новые
формы свободного стиха, придал поэтическое звучание лирической прозе,
много работал над переводами с греческого, изучая особенности античного
стихосложения, и затем использовал античные размеры в своей
художественной практике. Эта же сторона творчества поэта привлекает и
Хайдеггера, посвятившего ее анализу несколько работ и создавшего своего
рода «философию языка» Гёльдерлина. Вопрос о ее роли для философии
Хайдеггера должен быть предметом особого рассмотрения. Необходимо,
однако, отметить, что философ, сознательно ограничивая рамки своих
исследований, интерпретирует язык поэта главным образом в соответствии
со своей идеей об особом видении мира, создаваемом искусством, и
оставляет в стороне идейно-мировоззренческую направленность его поэзии в
целом, тем самым формализуя его творчество. Между тем Гёльдерлин,
деятельность которого относится к переходному периоду от Просвещения к
романтизму, был верен идеям Просвещения и французской революции 1789
г., и его художественные поиски были неразрывно связаны с его
свободолюбивыми устремлениями: уже в ранних его гимнах было «отражено
все богатство гуманистической мысли 18 в.»
64
. Находясь вне официальной
романтической школы и не разделяя эстетической программы
основоположников немецкого романтизма (братьев Шлегель, Л. Тика, В. Г .
Вакенродера, Новалиса), выразивших отрицательное отношение к
материализму и рационализму Просвещения, Гёльдерлин по своему
мировоззрению и методу был близок прогрессивному, революционному
романтизму Байрона, Шелли, Китса. Ему была свойственна глубина
философского осмысления действительности, проявившаяся прежде всего в
том, что такие характерные черты романтического мироощущения, как
трагический разлад человека с миром, одиночество, обреченность идеальных
устремлений, были истолкованы им не как фатально присущие человеку, а
как порожденные общественными причинами. Человек, не осознающий этой
причинной связи, воспринимает мир сквозь ощущаемые им разочарование и
трагизм, что не может не изменить реальное, конкретное содержание явлений
в его представлении и не окрашивать их в соответствующие тона. Так
возникает преобладание субъективного начала в осмыслении явлений и
процессов действительности, усугубляющее разрыв между его «Я» и миром,
считает поэт. Выход из этого положения Гёльдерлин видел в освобождении
от существующих исторических условий, в возвращении к истокам
общечеловеческих представлений, свободных от субъективизма.
Мировоззрению Гёльдерлина были присущи противоречия и иллюзии;
подобно другим романтикам, он основывал свое творчество «на абстрактной
идее, а не на реальных интересах» 65; отсюда его обращение к античности.
Мы знаем, что Хайдеггеру импонировали художественные искания поэта,
связанные с историей, к которой он сам обращался как к проявлению
извечных общечеловеческих начал — добра и зла, справедливости, истины и
т. д .; однако Гёльдерлин не ограничивался исследованием этих истин как
«истин бытия», а стремился наполнить их высоким духовным смыслом и
общественным содержанием. В лучших своих произведениях «Гиперион»
(1797—1799) и «Смерть Эмпедокла»66 (1798—1800) он выразил основные
положения своей пантеистической натурфилософии, используя некоторые
идеи Шеллинга о гармоничном развитии личности, которое представлялось
ему как согласие человека и природы, человека и космоса. Он искал
возможности социальной гармонии, утверждая идеал демократической
республики в стиле античности и идеи просвещения народа, открывающего
дорогу к подлинной свободе. Ограниченность его мировоззрения проявилась
в том, что новые формы общественной жизни он искал на ложном пути:
посредством осмысления христианства, обращения к утопии, к мифу и т. п .
Это обстоятельство было истолковано немецкими реакционными идеологами
как обращение поэта к иррационализму. К такой точке зрения близка и
позиция Хайдеггера, исследовавшего поэтический язык Гёльдерлина в
отрыве от прогрессивных политических тенденций его творчества. В
результате обеднялось не только творчество поэта, утрачивали
общественный смысл и построенные на его анализе теоретико-
познавательные конструкции самого философа.
Несмотря на утопичность многих нормативных положений, выдвинутых
Гёльдерлином, прогрессивными деятелями культуры он воспринимался как
поэт «высокой политической мировоззренческой устремленности» в7
,по
словам И. Бехера. Привлек внимание и его подход к античности,
рассматриваемой не как мир неподвижных эстетических ценностей, а как
органическое единство культурных достижений в самых разных областях
общественной жизни, в том числе и в политической, при приоритете
искусства. В плане исследуемого нами соотношения, условно названного
«гносеологическое — эстетическое», вопрос о возможности такого феномена
культуры представляется принципиальным. Для его выяснения обратимся к
Марксовой интерпретации назначения искусства, содержащейся во
«Введении» к труду «К критике политической экономии»,
прокомментированной А. В . Луначарским. Рассматривая трактовку К.
Марксом причин столь продолжительного эстетического влияния
древнегреческого искусства, Луначарский обращает внимание на то, что
объяснение этого влияния Маркс ищет в том понимании особенностей
греческой культуры, которое было распространено в начале XIX в., а именно
в своеобразном соединении всех культурных элементов в такую систему,
которая может возглавляться искусством. Такое понимание нашло отражение
в «Гиперионе» Гёльдерлина, а также в эстетической системе Гегеля, отмечает
Луначарский. Он подчеркивает, что Маркс писал именно о системе, имея в
виду и науку, и философию, и мораль. Безусловно, в организации этой
системы большую роль сыграло само искусство, его высокий уровень.
Однако дело не только в этом. Неменьшее значение имели и «счастливые для
искусства условия», по словам Маркса, и прежде всего «младенческий»
возраст науки. К примеру, античная философия (она же наука о природе)
необычайно глубоко для своего времени подходила к познанию природы, и
все же ее реалистические воззрения на мир были еще не устойчивы, так что
она, равно как и мораль и политика, легко выливалась в антропоморфное,
мифическое представление о природе, близкое к искусству.
А. В . Луначарский отмечал, что «было бы неправильно думать, будто Маркс
зарекается окончательно относительно будущего, будто он видит в Элладе
самую большую вершину искусства на все времена. Маркс говорит только о
прошлом. Он сравнивает только буржуазное искусство с искусством
античным», но в то же время он «даже как будто оставляет под сомнением,
понадобится ли еще когда-нибудь человечеству создать подобное же
искусство и сложатся ли когда-нибудь еще те же счастливые для искусства
условия» 68
. По мере развития науки и техники положение искусства
меняется, как изменяется и мировоззрение. Отмечая, что между подъемом
экономики и искусства нет совпадения, что научное и утилитарное
отношение к природе, свойственное в особенности капиталистической эпохе,
разрушает всякий антропоморфизм и «накладывает тяжелую руку» на
человеческую фантазию и искусство, Луначарский выражает надежду на то,
что диалектический материализм, в котором он видит «своеобразный синтез
греческого мышления, греческого представления о мире и „буржуазно-
инженерного", являющегося ему противоположностью... отнюдь не
возвращая нас ко временам антропоморфизма, тем не менее вдохнет какую-
то особенную жизнь в искусство, ибо великое „все" вокруг нас, под углом
зрения диалектического материализма, живет совсем иной жизнью и
отличается совсем иным могуществом, чем в мнимо научном отражении
механистики» (механического материализма. — И. Ф.)
69
.
Действительно, диалектический материализм как метод и мировоззрение
позволил преодолеть кризисное состояние буржуазной культуры путем
диалектического подхода к действительности и открыл для культуры и
искусства новые возможности и перспективы. Он осуществляется в
искусстве социалистического реализма, вобравшем в себя все лучшее в
мировой культуре и явившемся качественно новым этапом ее развития.
Реалистическая эстетика, разработанная этим методом, направлена на
познание объективных законов искусства, отражающих в конечном счете
объективные закономерности действительности. Такое познание невозможно
без историзма в подходе к мировой культуре, выявления содержания
накопленного ею знания, а также освоения ее методов осмысления и
познания действительности. И прогрессивная культура активно осваивает
этот опыт, подходя к нему с диалектических позиций, на основе новой
исторической практики.
У реализма накоплен огромный опыт в осмыслении самых разных областей
общественной жизни — от постижения окружающего мира в его социальных
процессах, оценки и выработки нравственных и моральных норм, которые
составляют основу нашего бытия, до познания внутренней сущности
человека, мира его чувств и разума, ищущего ответ на вечный вопрос: как
жить? Реалистическая эстетика отвергает как философию идеализма,
ориентирующую искусство на субъективизм, полную автономию и
постижение абстрактной Идеи, так и само искусство, лишенное жизненно
конкретного содержания, и утверждает активное отношение художника к
познанию реальной действительности как предмета творчества. Выдвигаемое
реализмом требование правдивости предполагает осознание истины,
рождающейся не из интуитивного, внезапного прозрения, а возникающей в
результате использования различных способов познания, как
художественных (типизация, образная система, критицизм, воображение),
так и свойственных эмпирической науке и практике.
В рассмотренных нами концепциях Шопенгауэра, Ницше и Хайдеггера
обнаруживается одна общая тенденция: богатый опыт реалистической
художественной культуры в них не только не анализируется, но
игнорируется вовсе. Длительный период становления и развития реализма
XIX—XX вв., уходящего своими корнями в многовековую историю
культуры и охватывающего самые различные ее области, показал, что это
направление наиболее адекватным образом отражает историю
общественного развития, способствует уяснению общественно-
нравственного смысла событий, отстаивая свои позиции в острой борьбе
против многочисленных течений, придерживающихся противоположных
идейных и художественных принципов и, как правило, связанных с
кризисными тенденциями развития буржуазного общества. В этом состоит
реальная диалектика развития художественной культуры, которая как раз и
осталась вне поля зрения авторов концепций, призывающих обратиться от
гносеологического к эстетическому. Характерно, что и декларирующие
антибуржуазную направленность своих концепций философы, и пытавшиеся
осуществить их программы на практике деятели художественной культуры,
выступившие с критикой буржуазной действительности, не смогли увидеть
рождающихся в этой борьбе основ новой культуры, нового искусства, вернее,
они «не признали» их, поскольку эти основы противоречили тому, к чему
они стремились и что пытались предсказать в своих программах.
4. Реализм против эстетизма
Небезынтересно сопоставить, хотя бы в самом общем виде, некоторые
положения рассмотренных идеалистических концепций культуры и
искусства с реальным процессом культурного развития в XIX — первой
трети XX в. и выяснить, насколько эти концепции были ему адекватны. Это
также даст возможность рассмотреть в позитивном плане соотношение
«гносеологическое — эстетическое» на примере осуществленной в процессе
развития реалистического художественного мышления связи этих двух
аспектов познания. Не претендуя на полноту охвата, мы остановимся на
некоторых важных для развития культуры Германии этапах, в которых
реализм благодаря освоенной им проблематике, способам осмысления
действительности и идейному содержанию играл значительную роль и,
преодолевая влияние упадочных течений конца века, развивался в общем
русле прогрессивной общественно-политической, философской и научной
мысли.
Так, в Германии первой половины XIX в. сохранялся феодально-
абсолютистский режим и политическая раздробленность; процесс
капиталистического развития задерживался по сравнению с передовыми
странами Европы. Торжество реакции в период Реставрации после победы
над Наполеоном и господство реакционных режимов во всей Европе были
тем непосредственным общественно-политическим опытом, на который
опирался Шопенгауэр. Недавние свободолюбивые надежды были утрачены,
мотивы разочарования в действительности были широко распространены..
Однако для концепции всеобъемлющего пессимизма, с которой выступил
молодой философ, не было достаточно
оснований.
Не была объективной и его концепция культуры, тем более что, не будучи
ограничена определенными временными рамками — периодом реакции, она
содержала претензию на обобщение в глобальных масштабах.
Между тем период со времени революции 1789 г. до середины XIX в.
(вернее, до поражения революции 1848 г.) не был периодом упадка в
культурном развитии Германии и других стран; напротив, это был один из
интересных и сложных периодов, характеризующихся борьбой
противоположных тенденций и направлений в науке, философии и культуре.
Достаточно сказать, что Шопенгауэр был современником Гегеля,
младогегельянцев и Л. Фейербаха, классиков утопического социализма, а из
художников — уже получившего мировое признание Гёте, и все они активно
утверждали противоположные шоненгауэровским как общефилософские, так
и эстетические принципы. Так, Гёте развивал традиции, заложенные
Гердером, Лессингом, Шиллером и другими деятелями немецкого
Просвещения. Близость к материализму (теории познания Спинозы и
Лейбница), обращение к научному знанию, широта культурных взглядов,
интерес к общечеловеческой и национальной истории и собственная научная
деятельность просветителей во многом определили их прогрессивные
мировоззренческие позиции и тот высокий уровень духовного развития,
который проявился в выдвинутых ими буржуазно-демократических идеях
гуманизма, программах социальных преобразований и требованиях
освобождения культуры и искусства от влияния религии и мистики
(дискуссия с Ф. Якоби и др.) . Деятели Просвещения внесли большой вклад в
разработку прогрессивных, опирающихся на реальный процесс
общественного развития эстетических учений, согласно которым основные
эстетические категории должны рассматриваться не только в сочетании с
проблемами мировоззрения и нравственного совершенствования личности,
но и с социально-политическими проблемами, а также в связи с программами
общественного переустройства, необходимость в которых остро ощущалась в
период зарождающегося капитализма. Эти важнейшие достижения
эстетической мысли немецкие просветители осуществляли в синкретических
по своему характеру художественных произведениях, которые были
правдивы и современны, содержали наряду с конкретными жизненными
наблюдениями актуальные научные и философские проблемы и стали
«рупорами идей» свободолюбия и борьбы с несправедливостью.
Характерное для немецкой литературы обращение к проблемам искусства и
образу художника связано с особенностями исторического и политического
развития Германии того времени, с консерватизмом и провинциализмом ее
общественной жизни. В этот период прежде всего именно в литературе
утверждались принципы реалистического восприятия действительности,
давалась критическая социально-политическая характеристика явлений,
осуществлялись поиски нового. Такая литература способствовала развитию
обобщенного познания действительности и ее противоречий, пробуждению
осознания необходимости борьбы с социальным злом, а также утверждению
прогрессивного мировоззрения и элементов новой, более демократической
культуры.
Эта была литература, апеллировавшая не только к разуму, но и к чувству.
Она была насыщена драматизмом, отражала душевные порывы, сложный
внутренний мир человека. К ней в целом можно отнести оценку, которую Т.
Манн дал Шиллеру: его идеи захватывающи; «Это ...поэт, умеющий
растрогать до слез и вместе с тем зажечь сердца гневом на все бесчеловечное
и злое» 70
.
Многие из этих черт были восприняты пришедшей на смену Просвещению
литературой, и главным образом творчеством И. В. Гёте первой половины
XIX в., отразившим переход от романтизма к реализму. Его поэзия — это
прежде всего постижение внутреннего мира человека, его чувств и
переживаний, помыслов и стремлений. Даже если поэт касается тайных
движений человеческой души, мира грез и фантазии или одухотворяет
природу, его поэзия при всей своей возвышенности остается земной и несет в
себе много общечеловеческого. Такая направленность резко противостояла
как шопенгауэровской трактовке искусства, так и во многом
перекликающейся с ней поэзии реакционного романтизма, определение
которой обычно связывают со словом «Innerlichkeit», означающим не просто
«задушевность», обращение к внутреннему миру человека, но понимание его
как" чего-то замкнутого, изолированного от жизни, камерного по духу, с
чертами болезненности, разочарованности и устремленностью в
потусторонний мир. Идеи свободолюбия сближали поэзию Гёте с
революционным романтизмом первой половины XIX в. (Байроном, Шелли и
др.), который, составил важный этап в развитии прогрессивной литературы.
Известно, что мировоззрению Гёте были присущи противоречия, которые
классики марксизма объясняли противоречиями общественной жизни
Германии того времени, что ему не была ясна «руководящая нить будущей
истории человечества», по выражению Г. Форстера, однако его глубокий
гуманизм, вера в возможности и силы человека, в его неукротимое
стремление к совершенствованию были главными чертами его
мировоззрения. Пафосом всей его деятельности был активный творческий
поиск, пытливая научная мысль, стремление к высоким нравственным и
общественным идеалам. Свидетельство тому — творчество Гёте первой
трети XIX в., в частности его философский просветительский роман «Годы
странствий Вильгельма Мейстера» (работа над 1-ой частью «Годы учения
Вильгельма Мейстера» заняла около 20 лет, над 2-й
—
более 20 лет, с 1807
по 1829 г.). Проблемы личности и среды, духовного формирования человека
и искусства как средства воспитания и нравственного совершенствования
людей рассматриваются писателем на большом жизненном материале и
обнаруживают его стремление через становление характера героя осмыслить
логику развития человеческого общества. Познание существенных сторон
действительности, глубокое, обобщенное знание, а также идея непрерывного
развития создают предпосылки для философских поисков нового: от идеи
нравственного совершенствования, типичной для классических романов
«воспитания», Гёте поднялся до постановки в этом романе проблемы
идеального общественного устройства и решил ее, правда, с
нереалистических позиций (он создал несколько социальных утопий).
Однако просветительские идеи о возможности гармонического развития
личности были плодотворными. Герой романа — художник — в конце
концов становится врачом. Его словами: «За вашими подсчетами и
балансами вы обыкновенно забываете настоящий итог жизни» — Гёте
предостерегал буржуазный мир против недооценки человеческого,
духовного, эстетического. Выраженная в художественной форме мысль о
взаимосвязанности и противоречивом единстве бытия, познания и искусства
была проявлением «стихийной диалектики» и сближала позицию Гёте с
концепцией искусства Гегеля. В плане же исследуемого нами соотношения
«гносеологическое — эстетическое» следует отметить, что идея о
необходимости связи эстетического идеала с практической деятельностью
была важным вкладом в исследование познавательных и эстетических
проблем с прогрессивных позиций.
Эта идея получает дальнейшее развитие и многостороннее обоснование в
«Фаусте». Фаустовская тема поисков смысла жизни, главная для творчества
Гёте, над которой он работал более 60 лет, разоблачает легенду о нем как о
великом «олимпийце», поэте-созерцателе и свидетельствует о его вере в
могущество разума. В «Фаусте» получает свое завершение проблема
ценности человеческой жизни, восходящая еще к роману о Вертере
(вспомним его известное размышление, начинающееся словами: «Что такое
человек, этот прославленный полубог?..»). Проблема разума и его
возможностей, критика схоластической средневековой науки и проблемы
современного научного знания, полемика с идеалистической философией и
некоторыми религиозными доктринами, противопоставление утверждениям
руссоистов о негативных последствиях цивилизации просветительской веры
в гуманный смысл человеческой деятельности — таков круг философских
проблем этого великого произведения Гёте (особенно большое внимание им
уделяется во 2-й части «Фауста»). Раскрывая их, он использовал различные
истолкования возникшей еще в XVI в. легенды об ученом-чернокнижнике и,
отвергая философию пассивной созерцательности, пессимизма и
мизантропии в духе Шопенгауэра, а также идею служения чистой красоте,
утверждал вобравшую в себя весь опыт его долгой творческой жизни,
выстраданную мысль о том, что смысл жизни — не в поисках прекрасного, а
в поисках истины, которая заключается в созидательном труде на благо
человечества, борьбе за лучшие идеалы.
Период между революциями 1830 и 1848 гг. отличался напряженной
социальной и политической борьбой, выходом на историческую арену
пролетариата, распространением идей Коммунистического манифеста К.
Маркса и Ф. Энгельса — все это не могло не отразиться на культурной жизни
Германии, в которой также происходило столкновение разных тенденций и
направлений. Так, разработанные Гёте эстетические принципы получили
дальнейшее развитие в революционно-демократической литературе,
пролагающей дорогу реализму: в поэзии и теоретических работах Г. Гейне
(«Людвиг Берне» 1840 и др.), творчестве материалиста Г. Бюхнера, а затем в
поэзии Г. Веерта, Ф. Фрейлиграта и Г. Гервега (выступившего с социал-
демократами), связанных с революцией 1848 г. В этот же период шла
полемика младогегельянцев и Л. Фейербаха с радикалами, отвергавшими
высшие достижения культуры в лице философии Гегеля и искусства Гёте.
После поражения революции 1848 г., с вступлением Германии на «прусский
путь развития капитализма» и проведением политики объединения страны
«железом и кровью», наступил длительный период реакции. Однако именно
в это время формировалась революционная партия. Не прекращалось и
развитие реалистического искусства (во второй половине XIX в. выступают
Ф. Геббель, Ф. Рейтер, Т. Шторм, В. Раабе, Г. Келлер и др.), и хотя оно
отошло от больших общественных проблем и широких выводов, но в целом
продолжало единую линию развития прогрессивной литературы.
Главное направление развития литературы XIX в. — реализм, а также
результаты реалистической эстетической мысли (Гёте, Гейне), достигнутые в
обстановке напряженной идейной борьбы, позволяют сделать вывод о том,
что концепции Шопенгауэра и Ницше, их оценки и прогнозы акцентировали
внимание на проявляющихся в области культуры и науки негативных
последствиях развития капитализма и критически освещали их, что и
создавало видимость их объективности. В целом же они давали искаженную,
одностороннюю картину культуры своего времени, которая, в свою очередь,
не могла служить объективной основой для проектов новой культуры. И
Шопенгауэр и Ницше игнорировали реальные перспективные тенденции
развития культуры, связанные как с революционно-демократическим и
марксистским мировоззрением, так и с реализмом, как противоречащие их
мировоззрению; выявление таковых в их собственных концепциях было
подменено субъективными проектами, произвольным футурологическим
конструированием, имеющим к тому же в отличие от подобных программ
социалистов-утопистов реакционный социальный смысл.
Широкую дискуссию в XX в. вызвала культура последней трети XIX —
начала XX в.: была ли она «упадочной», «декадентской», утратившей связь с
прогрессивной культурой прошлого, или, напротив, явилась принципиально
новым этапом в развитии культуры в целом? Речь шла о новых течениях в
европейском искусстве — натурализме, импрессионизме, символизме,
неоромантизме, экспрессионизме и др., пытавшихся осмыслить социально-
историческую действительность периода развитого капитализма (в том числе
в гогенцоллерновской Пруссии), с его классовыми противоречиями,
захватническими войнами, господством бюрократии и др., и такими
сопутствующими ему явлениями культурного порядка, как настроение
упадка, разочарование в буржуазной демократии, идеологии и философии,
неудовлетворенность буржуазной культурой, неспособной подняться над
уровнем господствующего во всех областях торгашеского духа и
превратившейся в нечто потребительское и т. д . Эти течения, первоначально
заявившие о себе как «бунтарские» и «критические», разрабатывали новые
темы и сюжеты, искали новые художественные средства для раскрытия
связанной с современным мироощущением тематики. В сатире, гротеске,
аллегорическом и символическом воплощении идей, языковом новаторстве
они видели новый художественный метод, эпатирующий буржуа. Однако
уже в 90-х годах эти направления утратили свой «бунтарский» настрой и
ограничились лишь случайной, поверхностной критикой немецкой
действительности, а к концу века вообще сошли со сцены (за исключением
экспрессионизма, возникшего в XX в.).
Причины такого явления отражают некоторые принципиальные проблемы
развития культуры, касающиеся взаимосвязи мировоззрения художника,
уровня художественного осмысления действительности и новаторства.
Рассмотрим эту связь подробнее на примере натурализма, как характерного
для Германии литературного направления, истоки которого восходят к
французскому натурализму и осмыслению его опыта.
Нас будут интересовать прежде всего новые принципы и формы
художественного изображения действительности, к которым прибегал
натурализм. Как известно, философской основой его являлись позитивизм О.
Конта и эстетическая теория И. Тэна, ориентирующие художника на простой
«анализ куска действительности такой, какова она есть», по словам
основоположника французского натурализма Э. Золя. Натурализм стремился
выработать четкие теоретические принципы, основываясь на методах
естественных наук, т. е . научных методах познания, и прежде всего таких
методов наук о природе (natura), как наблюдение и конкретный анализ. Он
претендовал на изучение и познание современной жизни.
В Германии натурализм начинал как боевое антибуржуазное направление
литературной и общественной мысли, в котором были сильны тенденции
социального критицизма. На страницах сатирического журнала левого
направления «Симплициссимус» (издавался с 1896 г.), а также мюнхенского
журнала «Общество» (1885— 1902), издававшегося М. Г . Конрадом (1846-
1927), и берлинского «Нового немецкого обозрения» (издается с 1890 г.)
выступили писатели и поэты натуралистического направления,
возглавляемые Г. Гауптманом (1862—1946). Они значительно обогатили
художественный опыт освоения действительности, обратившись в своих
произведениях к темам из жизни рабочего класса, реалистически изобразили
процесс труда в условиях «отчуждения» и разорение крестьянства под
ударами капитализма (роман В. Поленца «Крестьянин») и др. Широко
представленный также творчеством В. Белыпе, Б. Блейбтрея, А. Хольца,
критической деятельностью братьев Г. и Ю. Харт и др., натурализм оказывал
сильное влияние на развитие всей культуры конца века.
И все-таки натурализм не удержал своих позиций культурного авангарда,
поскольку ему не удалось подняться до уровня передового мировоззрения
своего времени, а следовательно, и осознания и выражения национальной
жизни в целом. Писатели-натуралисты оказались в стороне от получившего
широкое распространение социал-демократического движения, а между тем
в 80—90-х годах оно успешно боролось против политики «железа и крови»:
вынудило уйти в отставку Бисмарка и добилось отмены исключительного
закона против социалистов. Все это оказывало огромное влияние на
оппозиционно настроенную буржуазную интеллигенцию, которая выступала
против официальной политики правящих классов. Натуралисты, напротив,
постепенно отходили в своем творчестве от больших социально-
исторических проблем.
Так, теоретик немецкого натурализма А. Хольц в своих работах «Искусство,
его сущность и законы» (1891), «Революция в лирике» (1899) провозгласил,
что художественное произведение должно стать «природой»,
«действительностью» и, таким образом, только регистрировать впечатления.
Сущность новизны формы лирики — это ритм и субъективность восприятия.
Программные произведения натурализма «Папа Гамлет» (1889) и др.,
объединенные в сборник «Новые пути» (1891) и сборник стихов «Фантазус»
(1898), проводили лишь регистрацию противоречий современного
буржуазного общества и содержали его критику с мелкобуржуазных
позиций. Другой известный писатель — Ф. Ведекинд (1864—1918), автор
сатирических стихов и драматург, находившийся под большим влиянием
философии Ницше, посвятил свои драмы этого периода «Пробуждение
весны» (1891) и «Дух земли» (1895) проблемам брака, семьи и пола, и, хотя
его произведения отличала антибуржуазная направленность, главными
направляющими стимулами жизни его героев оказывались не социальные, а
биологические закономерности, на которых постоянно (односторонне)
акцентируется внимание. В этом отношении он выступил предшественником
экспрессионизма.
Абсолютизация биологических законов, элементы иррационализма,
пассивность героев, усложненная психология и индивидуализм
ницшеанского толка — все эти черты стали превалировать в немецком
натурализме и сделали его нежизнеспособным и бесперспективным как
литературное направление.
Весьма примечательно, что характерные черты времени в наиболее
адекватной форме выразил Г. Гауптман, выступивший с принесшими ему
мировую славу драмами «Перед восходом солнца» (1889) и «Ткачи» (1892).
Здесь он вышел за рамки «последовательного натурализма» и проявил себя
как драматург-реалист. Творчество Гауптмана этих лет показало, что
возможности реализма далеко не исчерпаны, что этот метод дает
возможность глубже проникнуть и в социальную проблематику, и в характер
человека, так что в результате раскрытые с реалистической силой и глубиной
социальные конфликты и проблемы не выглядят неразрешимыми и
бесперспективными, даже когда речь идет о кризисных явлениях, упадке.
Так, драма «Перед восходом солнца» показала распад буржуазной семьи не
только как характерное, но и неизбежное, закономерное, типичное явление
времени, однако при этом сохранялась вера автора в поступательный ход
истории, существование непреходящих человеческих ценностей,
нравственных и моральных норм, высоких искренних чувств. Эти темы
получили дальнейшее развитие в нескольких драмах 90-х годов («Бобровая
шуба» (1893) и др.), выявивших критическое отношение драматурга к
кайзеровской Германии, и завершились драмой «Ткачи», посвященной
восстанию силезских ткачей 1844 г. Это была подлинно новаторская драма,
не только по теме, но и по художественному методу, поскольку в центре ее
оказался коллективный герой: рабочая масса, классовое сознание и главный
процесс общественной жизни — борьба пролетариата во время революции. В
драматическом искусстве Гауптмана сочетались социальный анализ и
изучение психологических факторов, определяющих поведение людей, их
действия, сдвиги в сознании и пробуждение духовного начала. В дальнейшем
Гауптман обратился к темам из национальной истории и мифологии, однако
его мировоззрение меняется — он, отдавая дань символизму и
неоромантизму, все более тяготел к иррационализму (особенно во время
первой мировой войны) и в результате отошел от современности, оставаясь,
впрочем, на гуманистических позициях, о чем свидетельствует драма
позднего периода «Перед заходом солнца» (1932). По словам Т. Манна,
вступившего в литературу как раз в 90-е годы и называвшего Гауптмана в
числе своих учителей, творчество драматурга привлекало «этикой
социальной солидарности, столь много познавшей человечностью и... своим
словесным искусством, тайным и явным»; молодой писатель сумел увидеть
за некоторой усложненностью форм его драм — «сквозь модернистский
покров» — их «вневременную классическую сущность» 71
. Прослеживая в
своем первом романе «Будденброки» (1901) историю упадка буржуазной
семьи, Т. Манн продолжил реалистическую интерпретацию этой темы.
Аналогичную с натурализмом судьбу имели порожденные этой же
эпохой неоромантизм и символизм, также отразившие большие
противоречия немецкой буржуазной культуры, но еще теснее связанные с ее
кризисными тенденциями. Неоромантизм и символизм были своего рода
протестом против буржуазного позитивизма и опирающегося на него
натуралистического искусства и его методов, ограниченных наблюдением за
окружающим и утверждающих идею властвования материальной среды над
человеком. В новых течениях господствует вместо конкретного описания. —
абстрактный символ, многосмысленность которого противостоит
однозначности истолкования, которую натуралисты (не всегда, впрочем,
обоснованно) рассматривали как сходную с научным знанием; вместо
реальности — фантазия, отрыв от действительности, являющейся лишь
исходным пунктом для творчества, но не необходимой его основой.
Заземленности и бескрылости натурализма символизм и неоромантизм
противопоставили дающее большой художественный эффект сочетание двух
планов — реалистического и фантастического. От «трагизма повседневной
жизни» и «пошлой» рассудительности они звали в мир идеалов, высоких
идей и поэзии. Такое мироощущение было свойственно романтизму начала
XIX в. (Гофману и др.), однако теперь, в новом варианте, он утрачивает
черты, сближающие его с реализмом.
В манифестах символистов совершенно отчетливо просматриваются
восходящие к философии Шопенгауэра теоретические основы таких
творческих принципов, которые складываются из отрицания реалистического
метода конкретно-исторической типизации и натуралистического
подчинения факту, с одной стороны, и с другой — из стремления воплотить
Идею, некую трансцендентальную сущность бытия. А поскольку она,
согласно Шопенгауэру и теории символистов, не подвластна логическому
объяснению и законам объективной действительности, то проникнуть в ее
тайну может только искусство — музыка или, что особенно характерно для
символизма, поэзия как высшая форма знания и постижения мира. Для
выражения такого поэтического кредо вырабатываются особая поэтика и
символико-иносказательная манера, опирающаяся на многовековой опыт
культуры и пытающаяся синтезировать в символе метафизический смысл
таких вечных явлений бытия, как жизнь, смерть, страх, одиночество и др.
Общепризнано, что символисты внесли много нового в поэтический язык,
обогатили поэзию музыкально-метафорической образностью и «вообще
способствовали размыванию границ между искусствами» в духе Р. Вагнера72
.
Однако и новаторская поэтика символизма, и «воображение» неоромантизма
были ограничены мировоззрением представителей этих течений, которые в
стремлении эстетизировать жизнь средствами искусства все дальше отходили
от практической жизни. Социально-познавательная функция искусства не
вписывалась в их концепцию, больше того, предполагалось, что нет
необходимости в том, чтобы новые произведения были поняты публикой.
Вполне правомерно, что их тематика все более сужалась, становилась
изощреннее, тайна и фантазия превращались в мистику, а смысл
произведений нередко оказывался реакционным. В них господствовали отход
от социальной действительности, темы разложения, увядания, смерти.
Так, творчество крупнейших представителей этих течений С. Георге (1868-
1923), Г. Гофмансталя (1874-1929), P. M . Рильке (1875-1926) и др.
воспринималось как созвучное эпохе, получило широкую известность и
оказало определенное воздействие на дальнейшее развитие литературы и
искусства, но главным образом благодаря художественному мастерству
(вниманию к языку, звучанию и смыслу слова, ритму и музыкальности
прозы), а также благодаря поискам новых изобразительных средств и
возможностей создания образа (символ, аллегория, ассоциативные образы).
Что же касается проблематики, то она не столько отражала саму
действительность, сколько была реакцией на нее. Многие символисты и
неоромантики находились под сильным влиянием шопенгауэровского
мироощущения и ницшеанства и выступали с реакционно-идеалистических
позиций, осуществляя своеобразный опыт воплощения на практике идей
своих кумиров.
К примеру, в основанных видным представителем немецкого символизма С.
Георге «Листках об искусстве» (1899) сотрудничали писатели и художники,
провозгласившие своим поэтическим кредо аполитичность. В сборниках
стихов «Гимны» (1890) и «Год души» (1897) Георге характеризует свое
время как бесчеловечное и противопоставляет обыденной реальности
буржуазного общества мир искусства как мир красоты, пытаясь поднять
поэзию до уровня «пророческой» религии. Вместе с тем под влиянием
Ницше он уделяет много внимания тайнам природы, «естества», воспевает
исключительных, незаурядных героев, обращаясь к реакционным
националистическим традициям.
Искусство Г. Гофмансталя, крупнейшего представителя неоромантизма и
символизма, возглавлявшего «венскую группу» декадентов, сузило по
сравнению с реализмом тематические и сюжетные рамки художественных
произведений до обращения к «вечным проблемам» жизни и смерти, рока;
уводило в мир грез и фантазии. В стихотворных драмах 90-х годов «Вчера»
(1891), «Смерть Тициана» (1892), «Безумец и смерть» (1899) большое
внимание уделялось эстетизации, смерти и патологической чувственности.
Находясь под большим воздействием ницшеанской философии и его
концепции искусства, в соответствии с их логикой Гофмансталь в
программной для символизма работе «Поэт и наше время» (1907) сделал
следующий шаг и провозгласил в качестве основного принципа
художественного мышления уход в мир «чистого искусства».
Иной подход к осмыслению действительности был у Р. М. Рильке, лирику
которого за глубину выражения чувств и переживаний называют
проникновенной, тревожной, ищущей. Поэт, воспринимающий мир как
чуждый человеку, сосредоточивает внимание на стремлении преодолеть этот
разлад, пробудить у человека какую-то светлую надежду, освободить его от
чувства страха и одиночества. С этой целью он обращается к природе,
вызывающей, по мысли поэта, чистоту помыслов и душевных движений и
способствующей слиянию человека с миром. Явления природы выступают в
его поэзии в персонифицированном виде, становятся символами (дерево —
символ жизни), посредством которых выражаются и субъективные
стремления художника, и глубокое философское постижение сущности
жизни (особенно в «Книге образов» (1902)).
Творчество Рильке, которое большей частью приходится на первую четверть
XX в., характерно тем, что по сравнению с творчеством своих
предшественников (с которыми его многое связывает) оно стоит ближе к
реализму по своему духу, стремлению постигнуть скрытые закономерности
жизни и смысл общественных событий. В этом сказалось благотворное
влияние чешской и русской литератур, с которыми был связан поэт,
родившийся в Праге, дважды побывавший в России и изучавший русскую
литературу. Однако он не идет по этому пути; события нового века — первая
мировая война и поражение революции 1918 г. в Германии — лишь
углубляют творческий кризис поэта, которого все более страшит
действительность. В «Дуинезских элегиях» (1912—1922) Рильке
осмысливает свой жизненный и творческий опыт уже в духе пессимизма и
излагает свое понимание мира не посредством раскрытия смысла
общественных и социальных событий, а через основные онтологические
категории. Борьба, война, страх, жестокость, ужасы были во все времена;
хотя содержание их меняется, они существуют всегда, управляют жизнью
людей, формируют их психологию и жизненный уклад, и в этом — трагедия
мира. Однако поэт до конца сохранил надежду на свет и радость в душе
человека и в написанных незадолго до смерти «Сонетах к Орфею» (1923) в
традициях символизма утверждал веру в преобразующую силу искусства.
Необычайно богатая лексика, питающаяся за счет фольклора и
многочисленных переводов (к примеру, Рильке перевел «Слово о полку
Игореве»), прекрасное владение словом (он писал стихи и на французском
языке), наполненность стихотворной строки мыслью — все эти качества
поэзии Рильке снискали ему мировое признание. Новизна лирики поэта, ее
необычное звучание, перекрещивающиеся тенденции разных направлений,
отразившиеся в языке, были ответом на веление нового века73
. Не случайно к
творчеству Рильке обращались философы экзистенциалистского толка
(например, Г. Марсель), видя в его поэзии, особенно в языке, наиболее
полное воплощение своих идей о новых языковых формах выражения.
Важно отметить, что такие характерные черты нереалистической литературы
конца XIX — начала XX в., как отказ от больших социально-исторических и
философских проблем, интерпретация соотношения общества и индивида как
столкновения разных психологии людей и показ их через частные драмы,
имеющие «извечный» характер; изображение индивида как внутренне
опустошенной личности; культ упадка, разложения и т. д ., наглядно
показывают, как далеко может отойти искусство от своих главных функций,
в частности познавательной, если оно встанет на путь, указанный
шопенгауэровской и ницшеанской концепциями; а ведь, как мы помним, в
них на искусство и культуру возлагались особые задачи — быть
аккумуляторами истинного знания и создателями моделей нового.
С полным основанием прогрессивные исследователи культуры этого
периода, включившись в дискуссию о нереалистической литературе, как
будто бы содержащей качественно новое знание — «модерн», отмечали, что,
несмотря на некоторые достижения рассмотренных течений в области
тематики и художественных средств, в частности языковых, им оказалась не
под силу социальная оценка действительности в целом, которую можно было
дать только с демократических позиций. В трактовке человека, его судьбы,
его возможностей они отказались от принципа обобщения и пошли по пути
поиска не общего, а отдельного, особенного, лишенного социально-
типического содержания, в результате чего и в решении этой важной
проблемы не смогли сделать шага вперед по сравнению с предшествующей
им реалистической литературой.
Эстетическое миросозерцание не справилось с решением стоящих перед ним
сложных проблем. Как справедливо писал Т. Манн, конец века знаменовал
собой также и конец эпохи эстетизма, знаменовал «наступление новой эры,
эры идей нравственных и социальных»74
. В борьбе против эстетизма
набирала силу и накапливала опыт осмысления и познания действительности
реалистическая литература, критически осваивая подлинные, отбрасывая
мнимые достижения своих идейных противников в области художественных
средств и в результате приобретая подлинно новаторские черты не только по
форме, но и по содержанию.
Реалистическое направление в конце XIX в. было поддержано творчеством Т.
Фонтане (1819-1898), сохранившим идейную и художественную связь с
классической реалистической литературой. В начале 900-х годов в
обстановке сложной литературно-общественной борьбы выступил Г. Манн
(1871-1950), показавший в социальных романах «Земля обетованная» (1900)
и «Богини» (1902-1903) сатирическую картину художественной жизни
Германии и один из первых давший резко отрицательную оценку
декадентству. Реалистическое творчество Т. Манна (1875-1955), Г. Гессе
(1877-1962), Я. Вассермана (1873-1934), Б. Келлермана (1879-1951) - это не
только огромный диапазон актуальных проблем XX в., но и их решение, а
также осмысление с прогрессивных позиций таких общественных явлений,
порожденных капитализмом, как милитаризм, шовинизм, особенно жестокая
эксплуатация человека при современных экономических отношениях и
подавление ею духовной жизни.
Реализм XX в. ищет новые художественные способы, стремясь добиться
большей выразительности. Сатира, гротеск, намеренное снижение слога,
«прозаизмы», производственная и бытовая лексика смело вводятся в
искусство, приобретающее критическую, обличительную направленность.
Переосмысливаются традиционные для немецкой литературы формы романа
«воспитания» и «семейные» романы, в них усиливается социальный аспект;
при изображении процесса формирования человека акцент смещается в
сторону внешних факторов, жестоко подавляющих его как личность,
нарушающих его естественную человечность; воздействие буржуазных
моральных и нравственных норм трактуется как репрессивное, грубость
нравов — как угнетающая, калечащая нормальную психологию ребенка (Г.
Манн. «Учитель Гнус», 1905). Реалистической литературе удалось показать
сдвиги в психологии под воздействием этих факторов, особенно в
психологии молодого человека, ищущего себе путь во враждебном мире и
пытающегося прорваться к человечности (воспитательный роман Г. Гессе
«Демиан», 1919). Реализмом были освоены многие новые темы, отражающие
характер времени, но главное состояло в том, что ему удалось создать
реалистическое изображение типичного для многих стран исторического
процесса разрушения старых жизненных форм и зарождения в недрах
умирающего общества новых, которые развивались и завоевывали себе право
на жизнь на заре нового века. Диалектика общественного развития,
раскрытая художественными средствами, в форме семейных хроник,
социально-исторических романов и др., осознание противоречий
капитализма и изображение их как неразрешимых в рамках буржуазного
общества были большим вкладом реалистической литературы в изучение
характера капиталистических отношений и антигуманной природы
буржуазного общества.
Огромным стимулом для развития антибуржуазной литературы и искусства
явилась Великая Октябрьская социалистическая революция, а также
революция 1918 г. в Германии, всколыхнувшие все классы и вызвавшие
большие перемены в общественной жизни. Все эти события, все новое, что
было рождено ими, не прошло бесследно для общественной и
художественной мысли Германии. Возникли самые разные формы искусства,
в которых также с разных позиций выражается отношение к этому новому
миру, предпринимаются попытки понять его и оказать на него влияние.
В этой связи нельзя не упомянуть экспрессионизм, многосоставное течение,
объединявшее различные литературные группы «активистов», футуристов,
неопатетиков и др.
Возникший на немецкой почве в начале нового века и связанный с такими
общественными событиями, как первая мировая война, ясно обнаружившая
кризис капиталистической системы, и поражение революции 1918 г.,
экспрессионизм выразил резко негативное отношение ко всем областям
общественной жизни — политике, идеологии, философии, морали, в том
числе к литературе и искусству предшествующих направлений.
Сосредоточившись на отрицании, экспрессионизм искал средства выражения
этого отрицания и тем самым средства активного воздействия на
общественное сознание, прибегая к сатире, гротеску, к сопоставлению
контрастных явлений. Напряженность действия, критический пафос,
экзальтация служили усилению эффекта. Резкая критика правящих кругов,
связанные с ужасами войны апокалипсические видения, протест против
социальных уродств и превращения человека в орудие эксплуатации и
убийства оказывались не просто темами художественных произведений
экспрессионистов, они были криком души, и этот «крик» нужно было
выразить. В этом случае внимание сосредоточивается на идейном смысле,
образная же система отступает на второй план, утрачивает свое значении
последовательность сюжета (часто его нет совсем), равно как и подробное
развертывание событий. Главная идейная нагрузка падает на массовые
сцены, страстные авторские монологи-протесты и обобщенные образы-
явления: это, как правило, «ужас», «война», «город и человек», «мир вещей»
вместо мира природы, «род человеческий» вместо человека (например, серия
офортов «Война» О. Дикса, картина Л. Майднера «Я и город», скульптура
Барлаха). Экспрессионистский метод позволил выразить истину через
преувеличение, намеренное заострение ситуации. Он использовал принцип
абстрагирования для выражения сущности таких трудно поддающихся
описанию явлений, как переломный характер эпохи, борьба старого и нового,
смена поколений, ощущение человеком времени, его динамики, ожидание
приближения катастрофы либо, напротив, надежды на светлое будущее.
Такие общие понятия, как трагизм и пророчество, смятение и порыв,
раскрывались художниками-экспрессионистами не посредством
объективного изображения какого-либо конкретного явления, а воплощались
в разного рода дисгармониях, неестественных пропорциях, преднамеренных
смещениях и деформациях реального мира, так что при этом замысел
художника, субъективное начало усиливалось, а тенденция «кричала».
Подобный метод нередко приводил к ложному новаторству, к
формотворчеству в ущерб принципам познания. В результате, будучи сам
характерным явлением времени, отразившим некоторые существенные
стороны жизни, экспрессионизм не поднялся до уровня художественного
осознания действительности, способного дать правдивую картину жизни
эпохи, и, как отмечают исследователи этого направления, даже в лучших
своих проявлениях не имел большого познавательного значения.
Пестрый по своему составу экспрессионизм включал в себя разные по
мировоззренческому уровню группировки: одни проявляли интерес к
подлинно революционной марксистской мысли и эстетической теории (к
примеру, в журнале «Действие» (1911-1933) были напечатаны работы В. И.
Ленина, А. В . Луначарского, Р. Люксембург, К. Либкнехта, освещалась
культура дореволюционной России); другие были склонны к левацкому
умонастроению и демонстративному разрыву с традиционным искусством
(берлинский журнал «Буря» (1910— 1932) пропагандировал
авангардистскую живопись В. В . Кандинского, М. Шагала, П. Клее и др.) . С
этим направлением были связаны такие крупнейшие писатели, как И. Бехер,
Л. Франк, Г. Гессе, Ф. Кафка, Л. Деблин, однако характерно, что писатели и
художники прогрессивных взглядов уже к середине 20-х годов отошли от
экспрессионизма и эволюционировали в сторону реализма, хотя и сохранили
в своем творчестве такие экспрессионистские черты, как эмоциональная
напряженность, резкая заостренность образов и ситуаций и др. В это же
время экспрессионизм как направление перестал существовать.
Следует учесть, что в конце XIX—начале XX в. мировое признание получила
русская литература (И. С . Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М . Достоевский, А. П.
Чехов, М. Горький), а также реалистическая скандинавская литература (А.
Хьёлланн, Г. Ибсен и др.), которые способствовали развитию реалистической
литературы в Германии. Анализируя политическую и идеологическую
основы их всевозрастающей популярности, классики марксизма-ленинизма
связывали ее с ростом демократического, а в России и революционного
движения в конце XIX—начале XX в. и отмечали большую общественную
потребность в литературе такого рода75
. Резкие изменения в области
экономики, политики, морали буржуазного общества способствовали
осмыслению происходящей ломки общественных отношений, осознанию
всеобщих закономерностей через различные формы их проявления.
Огромное познавательное содержание, гуманизм, прогрессивная
направленность, современность и выдающийся талант лучших
представителей русской и скандинавской литератур завоевали всеобщее
признание и определили ту существенную роль, которую они сыграли в
развитии других европейских литератур, а также в формировании
прогрессивного общественного мировоззрения.
Сопоставление реального процесса развития культуры с идеалистическими
философскими концепциями, апеллирующими к культуре, позволяет сделать
следующие выводы.
1. Рассмотренные концепции показывают, что в «критической» гносеологии
характер теории познания существенно изменяется. В отличие от кантовской
и гегелевской систем в ней отсутствуют исследования форм мышления и
логических категорий; абстрактно-гносеологический анализ познания
сменяется критическим анализом процесса познания как социально
исторического явления. Отношения между познаваемым объектом и
познающим его субъектом, процесс углубления знания, его движение от
явления к сущности, диалектика движения от абстрактного к конкретному и
другие важные проблемы теории познания подменяются в ней выступающей
в гипертрофированной форме проблемой сущности познания. Поскольку
определение сущности дается с иррационалистических позиций, постольку и
проблема познаваемости мира вытесняется вопросами о том, какими
средствами возможно привести познание к выявлению таким образом
истолкованной сущности: речь идет, собственно, только о средствах ее
обнаружения, но не выражения, обозначения и т. п ., тем самым вопросы
теоретического знания, систематизации знания вообще элиминируются из
сферы познания.
2. В рассмотренных концепциях ясно обнаруживается соотношение
«гносеологическое—эстетическое», в трактовке которого проявляются такие
существенные особенности «критической» гносеологии, как
взаимопротивопоставление чувственного и рационального моментов в
познании и ориентация на такие методологические принципы, которые
вытесняют из гносеологии разум как источник познания и предоставляют
преимущественное право интуиции, художественным методам и др.
Марксистское понимание познания базируется, как известно, на
взаимодействии различных форм и методов познания. Не составляют
исключения и указанные методы. Напротив, исследование их с
материалистических, диалектических позиций лишь обогатило бы теорию
познания, ратующую за «живое, многостороннее (при вечно
увеличивающемся числе сторон) познание с бездной оттенков всякого
подхода, приближения к действительности (с философской системой,
растущей в целое из каждого оттенка)» 76
.
Можно допустить, что рассмотренные системы выросли как раз из таких
«оттенков», но в целом они оказались на ложном пути, потому что в них был
нарушен диалектический принцип подхода к познанию как синтезу
полученных знаний, содержание которых может существовать не только в
виде переживаний, ощущений, различных опытных, в том числе
чувственных, данных, но и в теоретической форме. Бесспорно, вызвать
негативную оценку может не только использование знаний в общественной
практике, сами полученные знания также могут оказаться неистинными.
Однако это еще не является доказательством несостоятельности знания, а
свидетельствует лишь о необходимости его углубления. Отсюда более
неправомерна абсолютизация ценности каких-то отдельных методов
познания и рассмотрение их как единственной сферы выявления и
обнаружения истины, как это произошло в рассмотренных концепциях,
построенных по принципу одностороннего, преувеличенного развития
(раздувания, распухания) «одной из черточек, сторон, граней познания в
абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный» 77.
3. Анализ стиля мышления, присущего создателям критикуемых концепций,
показывает, что он имеет свои особенности, вызванные, с одной стороны,
реальными проблемами развития научного знания и определением места в
нем гносеологии, с другой — совершенно очевидно проявляющейся
идеологизацией выдвигаемых положений, способных якобы расширить
горизонты теории познания.
Стремление отделить гносеологию от логики и естественных наук и сблизить
ее с духовной культурой (при этом понятия «разум», «интеллект»
рассматриваются не только как более узкие по сравнению с понятием
«духовное», но подчас и исключаются из его сферы) в определенной степени
было детерминировано социальными причинами и явилось реакцией на
утверждение тенденции к систематизации (математизации) знания и
установку на рационализм научного познания вообще. Обращение к
искусству и культурологические проекты, которые вводятся в этих системах
в контекст общегносеологической проблематики, были заявлены как
попытки отойти от стереотипов знания, изучающего лишь то, что есть, и
указать возможность иного хода событий. В соответствии с этими целями
проекты, «модели» предстали в форме обращения к человеку, его духовной
жизни, мировоззрению и приняли характер «философии жизни», которую ее
создатели пытались выдать за новую религию. Этой направленностью в
большой степени и объясняется значительное влияние данных
культурфилософских концепций на философскую и эстетическую мысль XX
в.
Однако аргументы в пользу новых средств и методов познания (искусства,
созерцания, воображения и др.) в «критической» гносеологии научно не
обоснованы (особенно это касается психологических вопросов) и сведены к
субъективистски понятой практике. Искусство провозглашается важнейшим
методом познания, и в то же время — и это главное — ему дается
интерпретация с иррационалистических позиций: подчеркивается его связь с
чувственной сферой, способность проникнуть не в действительный мир, а в
некие сверхприродные области (волю) и тем самым приблизиться к
постижению сущности, под которой, однако, понимаются лишь
идеалистически истолкованные идеи. Подлинный смысл искусства, и в
частности его познавательной функции, таким образом, искажается, область
его действия ограничивается, объективность его результатов выносится за
пределы каких-либо объективных оценок.
4. Несостоятельность «нововведений», выдвинутых «критической»
гносеологией, была обусловлена и тем, что они базировались на
мелкобуржуазной концепции культурно-исторического процесса, в которой
оценка социальной жизни и современной культуры дается с позиций
активного нигилизма; отношение духовной культуры к общественной
практике и материальной культуре, зависимость духовной культуры и
мировоззрения человека от классовой позиции и изменения экономического
положения (способа производства) понимаются субъективистски, как не
подлежащие рациональному объяснению. В результате проекты новой
культуры, которые должны были послужить «моделями» нового; знания, но
не были основаны на изучении действительных закономерностей
культурного и общественного развития, вылились в произвольное
конструирование. Соотношение «гносеологическое—эстетическое» в
рассмотренных концепциях приняло, таким образом, имеющую
антидемократическую идеологическую направленность абстрактную форму:
«эстетизм против рационализма».
5. Соотношение «гносеологическое—эстетическое» в рассмотренных
концепциях не соответствует реальному процессу культурного
общественного развития. Реализм как художественный метод познания и
магистральное направление развития художественной культуры с его
высокой степенью воспроизведения действительности, пронизанный
рефлектирующей мыслью и интеллектуализмом, с его богатством
художественно-изобразительных средств не получил отражения в
рассмотренных концепциях. Это положение является свидетельством тому,
что философов интересовало не столько познание действительного, сколько
построение моделей «возможного», отвлеченного от конкретного. Вполне
логично, что отвергавшие «традиционные» методы познания представители
«критической» гносеологии обратились и к антитрадиционным формам
искусства. В свою очередь, различные модернистские и декадентские
течения конца века, возникшие как антипод реализма, также активно
восприняли основные идеи концепций искусства «критической»
гносеологии. Это взаимовлияние имело основание и в общей
антикапиталистической позиции, принявшей характер нигилистического
отрицания, и в осознании кризиса буржуазной системы, и в
субъективистских, индивидуалистических по своему характеру поисках
выхода из этого кризиса, и др Однако родство философских и
художественных идей само по себе без опоры па подлинно прогрессивное
мировоззрение не дало качественно нового знания, а привело лишь к
эстетизму реакционного толка и к формотворчеству, иногда интересному,
обогащающему арсенал художественных средств, но в целом неспособному
подняться до высокого уровня осознания действительности в масштабах
всеобщего, цельного.
Отметим, что буржуазная критика вопреки фактам приписывает марксизму
полное отрицание всего того, что не есть реализм. Разумеется, это не верно.
Марксистская критика отделяет декадентское, упадочное и реакционное
искусство от модернизма, к которому тяготели многие крупные художники,
изучает прогрессивные, новаторские черты их творчества, но одновременно
выступает против субъективистских подходов и односторонности, против
примата формы и господства «голой» абстракции. И разумеется, она отделяет
модернизм от подлинно новаторского искусства, вызванного к жизни
новыми социальными условиями, — социалистического реализма,
опирающегося на классовый подход к явлениям и служащий надежным
ориентиром как в социальной теории и политической политике, так и в
искусстве.
В заключение следует отметить, что проблемы, поднятые «критической»
гносеологией, продолжают развиваться в других современных философских
концепциях, хотя и на иной социальной почве и в ином мировоззренческом
ключе. Одной из самых характерных концепций, рассматривающих
соотношение «гносеологическое—эстетическое» с широким обращением к
области культуры, является социальная философия Франкфуртской школы.
Глава вторая
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
ФРАНКФУРТСКОЙ ШКОЛЫ
*
1. Культура как мировоззрение.
Критический анализ концепций культуры В. Беньямина и Г. Маркузе
(30 —40-е годы)
Социальная философия Франкфуртской школы уже подвергалась
марксистскому анализу и критике в ряде работ советских и зарубежных
авторов. Однако возможности критического исследования здесь еще не
исчерпаны. Это касается, в частности, гносеологических проблем и
философии культуры Франкфуртской школы. Мы имеем в виду прежде всего
обращение франкфуртских философов к области гуманитарного знания, а
также к художественной культуре как одному из методов познания и
осмысления мира и их попытки использовать присущую этой области
специфику форм мышления и познания не только в качестве определенного
параметра критического рассмотрения современной буржуазной
действительности, но также и как объект для выявления нового
теоретического, философского знания, как средство для достижения
практических познавательных результатов. О том, что эти аспекты не
являются периферийными для социальной философии Франкфуртской
школы, свидетельствует тот факт, что ее концептуальные основы во многом
опираются на критический анализ духовной культуры современного
буржуазного общества, который не только составляет одну из важнейших
сторон «критической теории*, но и является «сквозным» и важнейшим
аспектом деятельности Франкфуртской школы вообще, придающим ей
характерную «культурфилософскую» направленность.
Концепция культуры многопланова. В данной работе она анализируется с
точки зрения того, как в ней ставятся, какое несут содержание и как
решаются проблемы теории познания. Дело не в оценке философами школы
тех или иных явлений культуры; исследуются не отдельные приемы и
методы, а сами концептуальные основы, выявляется их определенный
социально-мировоззренческий и гносеологический смысл. Отправляясь от
уже проделанного в литературе критического анализа социально-
философских основ школы, ее социально-классовых позиций и
мировоззренческих принципов, мы проведем исследование вопросов,
непосредственно связанных с критикой основного методологического
принципа школы — «негативной диалектики»; попытаемся критически
проанализировать проблемы мета-критики познания и духовной культуры в
концепциях Франкфуртской школы, выявить ограниченное
мелкобуржуазным мировоззрением противоречивое решение проблемы
гносеологического смысла и познавательной ценности духовного наследия
прошлого и духовной культуры вообще; осветить с позиций диалектического
материализма субъективистско-агностическое истолкование знания и
познания и доминирование в культур-философских концепциях школы
традиций иррационалистической и идеалистической культурфилософии.
Прежде всего необходимо сделать некоторые терминологические уточнения,
касающиеся употребления понятия «культуры». В исследованиях по
философии культуры как советскими (Э. С . Маркарян, В. М . Межуев и др.),
так и зарубежными учеными отмечается многозначность этого понятия.
Культура, о которой идет речь у франкфуртских философов, — это духовная
культура, важнейшими компонентами которой являются философия и -
художественная культура. Говоря о последней, они имеют в виду прежде
всего литературу и искусство, причем наиболее часты обращения к музыке,
как «наиболее немецкому из искусств». Заметим, что философия обычно
рассматривается как научное знание, поэтому может возникнуть вопрос:
почему к культуре, а не к науке относят франкфуртские философы
философию? В какой-то степени это следование европейской традиции, в
русле которой философия рассматривалась как мировоззрение и творчество
и, следовательно, принадлежала к сфере культуры. В соответствии с
немецкой философской и культурной традициями для франкфуртских
философов собственно писателями и художниками, а не только
интерпретаторами культуры и искусства были такие философы, как
Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше и др., под непосредственным влиянием
которых формировалась философия Франкфуртской школы. Более того, нам
представляется, что рассмотрение философии как части культуры, притом
важнейшей ее части, определяет одну из характерных особенностей
концепции, ее специфику: рассмотрение культуры в мировоззренческом
аспекте, а также как одного из методов познания и осмысления мира и даже
как способа получения нового теоретического знания (правда, лишь в их
«проектах», носящих утопический характер).
Франкфуртские философы исходят из того, что основные мировоззренческие
посылки имеют социально-философский характер, что в культуре находят
осознание и отражение не только противоречия социальной
действительности, но и идеи и идеалы, т. е . учитывается реальность и иного
порядка. Духовная культура обнаруживает мировоззренческо-
идеологический уровень, который, в свою очередь, определяется
общественным социально-историческим уровнем, общественным сознанием.
Рассматривая эту связь как взаимообусловленную детерминированность,
франкфуртские философы настоятельно подчеркивают взаимодействие этих
уровней. Образцом такого культурного явления они считают философию
Гегеля, анализу которой уделил большое внимание в своих работах 30-х
годов основатель школы Макс Хоркхаймер (1895—1973), считавший школу
«гегелевской» и ориентировавший ее деятельность на гегелевские
методологические принципы. Так, ссылаясь на Гегеля, М. Хоркхаймер
выдвинул следующее методологическое требование: во всяком анализе
настоящего, данного, должно тщательно отмечаться то, что в содержании
этого настоящего является подлинно «действительным», т. е .
жизнеспособным, способным к дальнейшему росту и развитию, и то, что
должно быть признано «недействительным», несмотря на всю
внушительность внешних форм его существования. Именно таким образом,
считал Хоркхаймер, ссылаясь при этом на «Феноменологию», Гегель
раскрыл структурные связи общества.
Что касается социальных предвосхищений, то, согласно Хоркхаймеру, в
созданной Гегелем концепции философии истории свобода означает
осуществление разумной цели и как таковая требует подчинения воли
отдельных лиц. Гегелевская же модель либерального буржуазного
государства, в рамках которого разрешаются конфликты между интересами
отдельных лиц и групп, рассматривалась М. Хоркхаймером как отражение
веры в возможную гармонию индивидуальных и общественных интересов.
Однако во второй половине XIX в., отмечал М. Хоркхаймер, когда
общественное развитие сделало проблематичным даже осуществление
смысла человеческой экзистенции, эта вера была утрачена. Диалектика
истории проявилась таким образом, что гегелевские предвосхищения не
могли быть осуществлены. Однако это, по мнению Хоркхаймера, не снимает
значение Гегеля. В своей речи по поводу вступления в должность директора
Института социальных исследований в 1931 г., ставшей программным
документом школы — «Современное положение социальной теории и задачи
Института социальных исследований» — и неоднократно переиздававшейся
в 60—70-е годы, Хоркхаймер объявил, что исследователи будут опираться на
учение Гегеля, ибо оно, по-прежнему оставаясь «школой», учит мыслить.
В работах 30-х годов, в частности в статье «Гегель и проблема метафизики»
(1932, переиздана в 1971 г.) и др., Хоркхаймер ставил вопрос о значении
гегелевской философии для философской ситуации современности.
Оценивая учение Гегеля как метафизическую и идеалистическую систему
познания, он отмечал, что метафизика Гегеля хотела быть познанием
действительности, обосновывающим научное исследование фактических
связей и в известной степени познанием, независимым от этого
исследования. Однако диалектика познавательного процесса оставила в
прошлом такую «абсолютную» философию, выявив ситуацию, в которой
нельзя не считаться с развитием естественнонаучного, математического и
прочего опытного знания.
Что же осталось от гегелевской системы после отказа от его основного
взгляда?
Именно с устранением формообразующего основоположения философии
Гегеля, по мнению Хоркхаймера, из ее догматической структуры
высвободились плодотворнейшие в методологическом отношении мысли, но
в то же время стала спорной сама метафизика как независимое от опытных
паук самостоятельное знание о действительности. Это положение относится
не только к метафизике Гегеля: современная теория познания не может
обойтись без данных опытных наук. Однако, считает Хоркхаймер, и само
значение диалектического метода не может так или иначе не измениться,
если его использовать в новом мыслительном контексте.
Эту мысль М. Хоркхаймера важно подчеркнуть здесь потому, что из этого
действительно диалектического положения франкфуртские философы в
дальнейшем сделали выводы о необходимости замены гегелевской
диалектики методом абсолютной, «негативной диалектики».
В плане разрабатываемой Франкфуртской школой «многомерной»
методологии отметим, что ее представители ценили Гегеля и как великого
эмпирика, чьи мысли в области истории, социологии, психологии
предвосхитили важные результаты многих систематических исследований
целого столетия.
Необходимо упомянуть также и о том, что Франкфуртская школа — и это
составило ее политический актив, подняло ее престиж среди прогрессивной
интеллигенции, так как это было время прихода к власти национал-
социалистов, — выступила против использования наследия Гегеля
идеологией фашизма, с разоблачением попыток фальсификации наследия
великого философа, предпринятых Кронером и другими неогегельянцами,
объявившими Гегеля предтечей идеологии фашизма. Так, в разделах книги
«Разум и революция» (1941) «Фашиствующий гегельянизм» и «Национал-
социализм как противник Гегеля» Г. Маркузе оценил наследие Гегеля как
гуманное мировоззрение, подчеркивая его высокую духовность, что во
многом сближало его позицию со взглядами советских философов,
выступивших в защиту Гегеля (М. Аржанова, В. Ф. Асмуса).
Франкфуртские философы постоянно обращались к философии Гегеля и
широко интерпретировали его наследие1
. В соответствии с основным
направлением деятельности школы главное внимание они сосредоточивали
на социальном аспекте философии Гегеля. Так, еще в 30-е годы, исходя из
гегелевской идеи разумного преобразования общества с помощью сильного
государства, Маркузе развил свою теорию революционного преобразования
общества утопического характера.
В дальнейшем в результате создания «критической теории» предполагалось
получить в виде философского обобщения объяснение отношений между
экономической жизнью общества и общественной жизнью людей с ее
институтами, религией, государством, правом и т. д ., между психическим
развитием личности и переменами в культурной сфере и т. д ., т. е . объяснить
всю материальную и духовную культуру человечества.
Важно также отметить, что философы Франкфуртской школы, высоко
оценивая наличие в культурно-философских феноменах идей, способных
оказать существенное воздействие на мировоззрение, может быть, даже не
одной, а нескольких эпох (к таким они относят наряду с Гегелем философию
Шопенгауэра и Ницше), не считают, однако, возможным разделять эти идеи
на прогрессивные и реакционные, особенно если речь идет о теории,
поскольку, согласно их учению, теория должна быть аполитичной.
Так закладывались идейные, мировоззренческие, философские основы
школы, которые уже в 30-х годах проявились в первых значительных работах
ее представителей, посвященных главным образом культурно-философской
проблематике.
Концепция культуры в работах философов Франкфуртской школы
представляет собой попытку определить состояние культуры и ее роль в так
называемом постиндустриальном обществе, раскрыть отношение культуры и
цивилизации, культуры и идеологии в условиях научно-технической
революции. В этой связи в ней затрагиваются многие другие стороны
общественной жизни, проблемы морального и нравственного порядка, т. е . в
конечном счете она становится средством для раскрытия более обширной
области, нежели культура и искусство, — буржуазного типа социальности
вообще.
Специфика концепции культуры, обусловленная свойственной
Франкфуртской школе двойственностью определяющих ее тенденций
вообще (претензией на продолжение и развитие культурных традиций и
одновременно отрицанием их), проявляется в том, что ее важнейшие
конструктивные положения развиваются в духе характерных национальных
традиций. Это — тяготение к осознанию своего происхождения, своих
«корней», устойчивая привязанность к немецкому духовному наследию,
апелляция к области гуманитарных знаний и формам духовной жизни,
восходящих к бюргерскому гуманизму, ярким воплощением которого
являются гуманизм Гёте и Бетховена (это особенно четко прослеживается у
В. Беньямина и Т. Адорно), и вместе с тем отказ от преемственности, якобы
чреватой репрессивностью по отношению к новому, и отрицание культуры
на основе ее функций в постиндустриальном обществе и цивилизации
вообще как антигуманного, иррационального создания человеческого разума.
Ссылаясь на Маркса и претендуя на творческое развитие той
фундаментальной критики, которой он подверг буржуазную цивилизацию и
ее технологическое воплощение, обусловленное капиталистическим
способом производства, философы Франкфуртской школы демонстрируют, в
сущности, антидиалектический подход к культурному общественному
развитию.
Важную роль в оформлении концепции культуры, в частности идеи
несостоятельности буржуазной культуры, сыграла марксистская теория
культуры и искусства. По существу неизвестная западной интеллигенции
30—40-х годов, она, даже представшая в идеях франкфуртских философов
культуры весьма ограниченной и существенно перефразированной в виде
некоей «реально новой» критики буржуазной культуры и искусства, была
воспринята как своего рода «откровение». Значительная часть интеллигенции
подпала под влияние этих идей и в послевоенное время, когда на Западе
резко усилился процесс дегуманизации культуры и искусства.
В этой связи представляется целесообразным проследить генезис идей
франкфуртских философов, а именно их отношение к культурному наследию
прошлого и характер критической оценки ими современной художественной
культуры.
Франкфуртская школа обратилась к культурфилософской проблематике
накануне прихода к власти национал-социалистов и последующего
варварского уничтожения культуры фашистским режимом, т. е . в период,
когда вопрос о сохранении культурных ценностей приобретал значение
определенного политического акта. Школа заняла место в оппозиции
благодаря активной деятельности таких видных ее представителей, как В.
Беньямин, Г. Маркузе, Э. Фромм и др., выступивших по
остродискуссионным, связанным с политическими событиями вопросам: о
судьбах европейских гуманистических традиций, отечественной культуры и
др. Их работы имели ярко выраженный антифашистский и
антимилитаристский характер и ставили своей целью противопоставить
гуманистическую культуру прошлого современному варварству,
человеконенавистнической идеологии фашизма и пропаганде агрессивного
«нового порядка».
Следует, однако, учитывать и занимаемую Франкфуртской школой позицию
в идеологической конфронтации, вызванной фашистской диктатурой. В
условиях глубокой дифференциации среди интеллигенции, охватившей в эти
годы не только Германию, но и другие страны, возникла необходимость
четкой классовой и политической ориентации, о чем свидетельствовали
широкие идейные движения в области культуры, в частности развернувшаяся
полемика относительно смысла подлинного гуманизма, роли культуры и
искусства и их воздействия на общество, в которой приняли участие Г.
Лукач, А. Зегерс, Б. Брехт и другие видные представители интеллигенции,
осветившие эти проблемы с прогрессивных, демократических позиций.
Борьбе за единство прогрессивных сил против фашизма были посвящены
международные конгрессы в защиту культуры (Париж, 1935; Мадрид, 1937),
выявившие солидарность многих лучших мастеров культуры, примкнувших
к единому антифашистскому фронту (в их числе были И. Бехер, Г. Манн, Л.
Фейхтвангер и др.) и выработавшие единую идеологическую платформу в
области культуры, которую можно свести к следующим основным
положениям: 1) при резко критическом отношении к современной
буржуазной культуре с ее идейной нищетой и духовной опустошенностью —
активная защита прогрессивного духовного наследства прошлых эпох; 2)
поддержка опыта, практики и культурных достижений СССР и принципа его
культуры — социалистического реализма; 3) признание того, что подлинным
гуманизмом может быть только гуманизм пролетариата2
. Исходя из
обобщенного в этих положениях опыта прогрессивной интеллигенции как
исторически сложившегося критерия отношения к культуре, позиция
Франкфуртской школы с ее борьбой за «свободу духа», неприсоединением к
«единому фронту» и отрицательным отношением к реально существующему
социализму не может быть оценена иначе, как позиция абстрактного,
«аполитичного» гуманизма, ставшая одной из устойчивых традиций школы.
Насколько важно и необходимо в то время было осознание политического
аспекта проблем культуры, показывает статья Т Манна «Культура п
политика» (1939), в которой автор «Размышлений аполитичного» (1918)
считал своим гражданским долгом предостеречь от аполитичности и ее
опасности для гуманизма, хотя бы на примере признания ошибочности своих
взглядов тех лет, когда он якобы «во имя культуры и даже свободы»
сопротивлялся «политизации духовной жизни» и оправдывал традицией
предпочтение, которое отдавала немецко-бюргерская культура внутреннему,
духовному перед социальным и политическим элементами. Когда
аполитичность обернулась трагедией, когда немецкая культура «со всей ее
духовностью, со всей ее музыкой не смогла уберечься от того, чтобы не
опуститься до подлейшего низкопоклонства перед насилием, до варварства,
угрожающего основам цивилизации», нельзя не признать, писал Т. Манн, что
«духовную жизнь нельзя начисто отделить от политики», что «мысль, будто
можно создавать культурные ценности, сохраняя аполитичность,
представляет собой заблуждение немецкой бюргерской идеологии»; что,
наконец, «аполитичность есть не что иное, как попросту антидемократизм»,
и немецкая культура, внимавшая мыслителям «чистой гениальности» типа
Шопенгауэра, должна сделать из этого необходимые выводы3
.
Учитывая, что выдвинутые франкфуртскими философами концепции далеко
не идентичны, отметим лишь некоторые из общих, но, на наш взгляд,
основополагающих методологических принципов, сближающих эти
концепции, обнаруживающих их идейное родство. Прежде всего основные
положения концепций и главное — идея кризиса буржуазной культуры (в
сущности, традиционная для буржуазной философии культуры)
раскрываются в связи с другими сторонами общественной жизни, так, что
кризисные тенденции развития современной культуры — в соответствии с
основным направлением исследований школы — предстают как социально
обусловленные.
Такой методологический подход восходит к марксистской теории культуры и
искусства, осветившей как общие тенденции развития культуры, так и
экономические и социально-классовые причины, обусловившие кризисные
изменения ее в эпоху империализма. Однако методологические принципы
франкфуртских философов, обусловленные мелкобуржуазным
мировоззрением, не дают достаточно глубокого анализа причинно-
следственных связей экономического и культурного кризиса буржуазного
общества; более того, согласно своему декларативно провозглашенному
принципу аполитичности теории, представители школы строят свои
концептуальные модели без учета основного противоречия нашей эпохи —
между капиталистической и социалистической системами, вне связи с
закономерностями классовой борьбы и мирового революционного процесса,
исключая тем самым анализ именно тех компонентов, от которых зависит
глубина постижения сущности явлений, отображенных в художественной
культуре, а также раскрытие внутренних закономерностей процесса развития
культуры. Такая обусловленная мелкобуржуазным мировоззрением
методология приводит к тому, что сами исследуемые проблемы получают в
этих концепциях, как правило, одностороннее, необъективное освещение.
Антидемократический подход к истории культуры и цивилизации,
утверждение, что культура является созданием не всего человечества, а
гениев, сильных своей исключительностью, отчужденностью от общества;
понимание искусства как гениального провидения, «созерцания мира»;
агностицизм в его понимании, когда художественная интуиция, безразличие,
бесцельность противопоставляются и предпочитаются действенному,
прогрессивному художественному творчеству, а также декларации в защиту
буржуазного интеллигентного индивидуума, свободного художника и чисто
умозрительные, субъективистские футурологические положения, по
существу направленные против общественного прогресса,— все эти черты,
характерные для антиреалистических концепций культуры Шопенгауэра,
Ницше, Кьеркегора, Хайдеггера и др., вошли в качестве прочно
унаследованных традиций в концепцию культуры философов
Франкфуртской школы и своеобразно преломились в их негативном
отношении к современной культуре и цивилизации, в их концепции
элитарной, «свободно парящей интеллигенции», в интерпретации ими
проблемы творческого сознания, воображения и художественного познания.
Эта преемственность, несколько завуалированная в 30—40-х годах,
поскольку школа старалась отмежеваться от использованных фашистской
идеологией ницшеанских философем и сотрудничавшего с фашистским
режимом Хайдеггера, в дальнейшем становится все более ощутимой.
Негативное отношение к культуре и цивилизации нового времени вообще,
оценка кризиса культуры и искусства как тупика цивилизации, все более
превалируя в концепции «франкфуртцев», со временем вытеснили из нее
близкие к марксизму элементы критики капитализма и поставили ее в один
ряд с современными буржуазными культурно-эстетическими теориями,
идущими от Ницше и Шпенглера и имеющими многочисленных
продолжателей среди западных теоретиков культуры, неспособных
определить объективные тенденции общественного развития и
представляющих развитие культуры как господство буржуазной «массовой
культуры» и культурной репрессии современного капитализма.
Разумеется, и указанные методологические принципы, и характер
преемственности проявлялись у франкфуртских философов по-разному, в
зависимости от присущих каждому из них особенностей мировоззрения,
приверженности к традиционным гуманистическим ценностям,
демократическим установлениям и т. д .
4
Остановимся на отдельных этапах
формирования концепций культуры В. Беньямина, Г. Маркузе и Т. Адорно,
что, на наш взгляд, позволит выявить специфику культур-философской
концепции Франкфуртской школы в целом.
Особое место занимает деятельность теоретика культуры Вальтера
Беньямина (1892—1940), близкого к марксизму гуманиста-антифашиста,
взгляды которого оцениваются философами-марксистами как более
прогрессивные по сравнению с другими представителями школы.
Сформировавшийся как философ и литературный критик под большим
влиянием Г. Лукача, В. Беньямин к середине 30-х годов, когда он стал
активно сотрудничать с Франкфуртской школой, был известен как автор
сборника литературных трудов «Deutsche Menschen» (1936) и большого
числа статей по остродискуссионным вопросам. Его работы, посвященные
проблемам «отечества», нации, национального самосознания, имели ярко
выраженный антифашистский и антимилитаристский характер, однако в них
отсутствовал анализ социальных корней фашизма и его классовой основы,
что было характерно и для других представителей школы — Г . Маркузе, Э.
Фромма, выступивших с антифашистскими статьями. Не утратило своей
актуальности разоблачение Беньямином профанации эстетического,
проявившейся в попытках фашизма эстетизировать проводимую ими
политику и пропагандировать империалистическую войну с ее ужасами в
качестве средства для получения преображенного техникой художественного
удовлетворения. Вступая в противоборство с фашиствующими
культурологами, Беньямин стремился вскрыть подлинную сущность третьего
рейха, его «страх и нищету», а также трагическое положение человека, при
котором самоотчуждение достигло такой степени, что он способен
переживать свое собственное уничтожение как высшее эстетическое
наслаждение.
Исследовательскую манеру Беньямина отличала склонность к социально-
исторической проблематике в соединении с глубоким интересом к
особенностям художественного осмысления действительности, что полнее
всего проявилось в работах, посвященных немецкому классическому
наследию5
. Написанные в годы разрушения немецкой культуры фашизмом,
они способствовали поддержанию интереса к художественному наследию
прошлого и познанию посредством его опыта новых возможностей духовной
жизни, а также противостояли усилению растлевающего влияния
буржуазных культурфилософских концепций о конце цивилизации,
подчеркивавших упадочнические тенденции как характерные для культуры в
целом.
Культура и ее традиции рассматривались Беньямином как важнейшие
стороны общественной жизни. В его статьях, построенных на богатом
историко-литературном материале, воспроизводится эволюция немецкой
общественной и художественной жизни более чем за вековой период;
немецкая классика — творчество Гёте6
, Шиллера, Келлера, Клопштока,
Гердера, Виланда, Гёльдерлина и др.— ин терпретируется как выражение
духовной жизни немецкой нации в лучшем, высоком смысле этого слова,
подчеркиваются гуманистические и демократические устремления
творчества художников, их вера в торжество разума и прогресса.
В противоположность культурной диалектике прошлой эпохи В. Беньямин
рассматривает процесс развития современной культуры как все более
субъективистский, отмечая в качестве характерных черт его нигилизм и
упадок опыта, понимаемые в самом широком смысле: как отказ от
гуманистических традиций прошлого, замену эпического искусства,
обобщающего объективный процесс общественного развития, искусством
«переживания» и как следствие всего этого невыполнение искусством своих
важнейших функций — познавательной и коммуникативной.
Противопоставление классического художественного опыта современной
культуре выражало стремление автора содействовать сохранению его
высоких идеалов. Об этом свидетельствуют, в частности, примечательные, на
наш взгляд, особенности методологии критического анализа Беньямина:
характеристика распада духовных ценностей, раскрытие взаимосвязанных
тенденций оскудения современной буржуазной культуры и опустошения
личности, анализ все более лишающегося внутренней содержательности
мироощущения человека — постоянно варьирующиеся компоненты его
концепции культуры — сопровождаются поисками возможностей
осуществления связи, преемственности с лучшими культурными традициями
прошлого и исследованием новых форм духовной культуры, вбирающих
новый исторический опыт.
Однако в духе общих методологических принципов школы Беньямин
отводит второстепенную роль политической общественной значимости и
характеру мировоззренческого аспекта исследуемых явлений, без учета
которых обоснование их прогрессивной направленности оказывается
неубедительным. В этом отношении небесспорны, на нага взгляд, и
полученные автором позитивные результаты в исследовании прогрессивных
тенденций и духовного потенциала современной культуры. Так, из арсенала
антибуржуазной культуры В. Беньямин (а вслед за ним Г. Маркузе и др.)
выбирает обычно такие сложные и противоречивые фигуры, как Ш. Бодлер,
М. Пруст, С. Георге, Ф. Кафка и др., в творчестве которых критика
буржуазного общества ведется с анархически-мелкобуржуазных позиций и
оказывается близкой оппозиционной платформе «критической теории»
франкфуртских философов.
К примеру, анализируя творчество Ш. Бодлера, В. Беньямин справедливо
отвергает односторонний взгляд на поэта как на предшественника декаданса
(что сближает его точку зрения с русской прогрессивной критикой — М .
Горьким, А. В . Луначарским), отмечает у автора «Цветов зла»
антибуржуазные тенденции, связь с революцией. Однако, придерживаясь
основной цели исследования — поиска черт «прогрессивного модернизма», в
число которых наряду с действительно большими достижениями поэта
(созданием образа художника, не примирившегося с действительностью,
«маяка человечества» и др.) попадает ряд особенностей, связанных с
влиянием реакционного романтизма, болезненных черт личности самого
поэта и т. д .— он оставляет критическую направленность творчества Бодлера
без социальной оценки7.
Особое внимание Беньямин уделял модернизму — таким новым явлениям
культуры и искусства начала XX в., как сюрреализм, дадаизм, футуризм и
др., которые рассматривал прежде всего как попытки выйти из кризиса
современной буржуазной культуры, найти новое измерение
действительности. В их оценке он исходил из неких абсолютных,
вневременных критериев, обращаясь главным образом к усложненным
формам произведений художников-модернистов, и в целом недостаточно
критично относился к их отстранению от большой общественной
проблематики и к отдельным реакционным чертам их творчества. В
частности, к поискам сюрреалистов, символистов и др. передать некое
трансцендентное, сверхчувственное, представить подсознательное как
главный фактор, определяющий отношение человека к окружающей среде;
или, например, к заявлениям объявивших себя материалистами сюрреалистов
о будто бы существующей возможности пойти дальше отрицания путем
приспособления марксизма и теорий Фрейда к своим поэтическим опытам8
.
Сюрреалисты, как известно, никогда не были последовательными
материалистами, и их опыты не дали обнадеживающих перспектив:
напротив, лучшие из них (Л. Арагон и др.) порвали с сюрреализмом,
приветствовали подлинно новаторское искусство, вызванное к жизни новыми
социальными условиями,— социалистический реализм творчества М.
Горького, В. Маяковского и др.— и перешли на позиции реализма.
В сущности, Беньямин оставил нерешенным вопрос о продолжателях
прогрессивных традиций в западной культуре, новой почве для их развития
—
и в этом особенно сказалось отсутствие у него четкой социальной
перспективы и классового подхода к проблемам культуры, в том числе
национальной. А ведь в то время в Германии уже существовала
антибуржуазная культура, отразившая глубокие общественные сдвиги своего
времени — рост классового самосознания, активный антифашизм,
формирование марксистского мировоззрения и др. Она была представлена
так называемой пролетарско-революционной литературой, а также
творчеством И. Бехера, В. Бределя, А. Зегерс, Г. Манна и др. и имела
тенденцию к дальнейшему развитию.
Изучение Беньямином советской культуры во время пребывания в 1926—
1927 гг. в СССР внесло существенные оптимистические прогнозы в его
концепцию. Используя свой опыт освоения русской классической
литературы (он писал о Достоевском, Бунине, Лескове и др.), Беньямин
рассматривал советскую культуру с точки зрения того, создает ли социализм
возможности для появления принципиально иной, чем буржуазная,
культуры, и ответил на этот вопрос положительно, отмечая большой
диапазон художественных поисков, новаторство, эстетическую широту,
многообразие формообразующих принципов и стилевых течений
социалистического реализма, его стремление освоить все подлинные
культурные ценности человечества. В таком плане он осветил творчество В.
Мейерхольда, М. Зощенко. В развернувшейся дискуссии о русском
киноискусстве и коллективном, массовом искусстве вообще он
положительно оценил новаторское искусство С. Эйзенштейна — социальный
характер его картин, новые принципы его реалистического искусства,
знаменитый «монтаж аттракционов» и др. — и опыт массового,
коллективного искусства вообще, его действенность, активность и
мобилизующую силу9.
Четко выраженная ориентация исследований Беньямина на поиски нового —
наиболее ценное качество его работ о советской культуре — не всегда
опиралась на обстоятельное рассмотрение обусловленности развития новых
форм искусства господством новой политики и революционных идей. Это
подчас приводило его к упрощенному, а то и вульгаризаторскому освещению
проходившего в обстановке сложной идеологической борьбы процесса
становления новой культуры, в частности вопросов, касающихся так
называемой политизации искусства10
, к непониманию того, что без
неизбежной в таких условиях внутрикультурной конфронтации и борьбы
большевистской партии за построение новой социалистической культуры
против разного рода ликвидаторов само существование новой культуры было
бы невозможным.
Беньямином были недооценены также публицистические произведения, в то
время как публицистичность присуща самому типу художественного
мышления советских писателей, особенно в то время, когда революционный
пафос был самой жизнью и разделялся широкими народными массами.
Публицистичность творчества В. Вишневского, В. Маяковского, активно
вторгавшихся в жизнь, не только развивала традиции гражданственности и
гуманизма, присущие русской литературе XIX в., но и способствовала
созданию подлинно новаторского искусства, которое, решая проблемы
коллективизма, решало и проблемы личности, способствовало
формированию коммунистического сознания народа, эффективно сочетая
эмоциональное начало с активным участием зрителя, «собственным
выводом» (Б. Брехт)11
. Именно по этому пути пошел и создатель
интеллектуального театра «эпохи науки», к опытам которого с таким
большим вниманием отнесся Беньямин, а вслед за ним и другие
«франкфуртцы».
В. Беньямин выступил зачинателем многих весьма характерных для
философии культуры Франкфуртской школы тем, посвященных положению
искусства и роли культурных традиций в век их технического
воспроизводства. Его интересовала не столько рефлексия в самих традициях,
сколько проблемы, связанные со способом их существования и усвоения,
которые философ считал важными для экспликации новой культурной
обстановки и ее социальной детерминации. При рассмотрении этих проблем
—
в соответствии с установкой школы — Беньямин раскрывал главным
образом кризисные последствия практики технического воспроизводства
произведений искусства, проявившиеся в различных областях, и прежде
всего в самой природе искусства и его просветительской функции. Согласно
Беньямину, стирание границ между оригиналом и копией привело к утрате
неповторимости, автономности произведения искусства, а значит, и его
художественной ценности. При техническом репродуцировании теряется
подлинность вещи, т. е . совокупность всего ее бытия: от ее возникновения
(«здесь» и «сейчас») до создания соответствующей традиции, от
материальной основы до ее функции исторического свидетельства, а тем
самым наносится непоправимый ущерб ее уникальности, высокой
духовности и эстетическому смыслу, всему тому, что может быть обобщено
в понятии «ауры»12
.
Ее упадок Беньямин мотивировал не только всевозрастающим применением
техники, но в неменьшей степени и общественной потребностью —
стремлением «масс» приобщиться к культурным ценностям и сделать их
более доступными. Он пытался рассмотреть этот процесс диалектически: в
целом как деструктивный (трансформированные в соответствии с запросами
«масс» культурные ценности и традиции разрушаются), но выполняющий и
функцию катарсиса, способствующий появлению новых видов искусств,
рассчитанных на массовость (например, кино), находящихся в тесной связи с
массовыми движениями современности и тем самым способствующих
обновлению человечества.
Однако этот процесс вызвал сдвиги и в других областях, которые, по
Беньямину, носили явно негативный характер. «Массовидность» искусства
способствовала ориентации восприятия и сознания на одинаковость,
некритическое отношение к общепринятому и, напротив, резко
отрицательное к подлинно новому. В таких условиях искусство лишь в очень
ограниченной степени может осуществлять одну из своих важнейших
функций — способствовать революционной критике общественных
отношений и отношений собственности. Оно идеологизируется, становится
частью политики. Его общественная значимость падает. Художественная
функция, которая доныне считалась главной, становится второстепенной по
отношению к потребительской. Весьма примечательно, что на эту модель
ориентируется и творческое сознание. Круг, таким образом, замыкается.
Нельзя не отметить, что Беньямину удалось выявить действительно
кризисные тенденции в развитии искусства на заре технического века и
осветить их в основном с прогрессивных позиций. Однако сделанные им
заключения нередко оказываются справедливыми лишь по отношению к
буржуазному искусству, в то время как он распространил их на все искусство
в целом. Так, он абсолютизировал положение о неприменимости критерия
подлинности к современному искусству; выразил явный скепсис по поводу
адекватного усвоения культурных ценностей народными массами (не
случайно он писал о «массах», поглотивших человека); интерпретировал и
некоторые другие менее важные вопросы с мелкобуржуазной
мировоззренческой платформы. Однако, нужно заметить, что и эти его
выводы не имели характера того категорического отрицания, который
проявится у восприемников его идей.
В целом эстетическая теория Беньямина, построенная на преемственности
культурного развития и истолковании проблем художественного познания с
реалистических позиций, знаменовала определенный рубеж в прогрессивной
направленности деятельности школы, поскольку другие ее представители —
при наличии значительного духовного влияния на них его взглядов —
занимали во многом противоположную позицию.
Одно из основных положений концепции культуры, вытекающее из
негативной направленности «критической теории» против культуры и
цивилизации вообще, состоит в утверждении репрессивного характера
культуры, так как она исторически формировалась как орудие господства и
тем самым оказывала губительное воздействие на развитие всего духовного и
интеллектуального потенциала человечества. Свидетельство тому Маркузе,
Адорно и др. усматривают, в частности, в современной художественной
культуре и, дискредитируя ее опыт как одного из методов познания и
осмысления мира, отрицая самостоятельную ценность художественных
идеалов, объявляют несостоятельными ее выводы философского характера,
ее способность удовлетворить духовные запросы современника. По сути, это
попытка отбросить художественные ценности, создаваемые человечеством.
Герберт Маркузе (1898—1979) в серии очерков 1934—1938 гг., собранных
впоследствии в книге «Культура и общество» (1964) 13
, поднял вопрос об
«аффирмативном характере» 14 современной буржуазной культуры. Этим
термином он определил утверждающие существующее положение тенденции
в развитии культуры, которые — в противоположность отрицанию —
превращают ее в орудие подавления масс и поддержания господства
буржуазии. Разоблачая приспособленческий и интеграционный характер
развития культуры и подвергая критике ее репрессивную функцию и
идеологический характер, Маркузе отрицает критицизм буржуазной
культуры и ее оппозиционность существующему порядку, так как она
выдвигает в качестве прогрессивных только абстрактные, «духовные
идеалы», которые каждый индивид может реализовать «внутренне», без
изменения существующего общественного положения 15
. Аффирмативная
культура предлагает различные программы формирования нового сознания,
выход в область религии, утопии и др., однако, по мнению Маркузе, все они
имеют тенденцию к затушевыванию действительных противоречий и
препятствуют развитию подлинно революционных преобразований
общества.
Маркузе абсолютизирует свой тезис об аффирмативном характере культуры,
распространяя его на всю культуру в целом. Однако это противоречит
реальному историческому процессу развития культуры, характеризующемуся
борьбой противоположных тенденций — буржуазных и антибуржуазных
(демократических и социалистических). Именно последние, казалось бы,
должны были привлечь внимание культурфилософа, обвинившего всю
культуру буржуазного общества в недостатке подлинной революционности,
но такие важнейшие направления развития антибуржуазной культуры, как
революционно-демократическая и пролетарская культура XIX—XX вв.,
которые еще со времен Парижской коммуны, чартистского движения,
революций 1830, 1848 гг. в Германии заявили о своем существовании и
успешно развивались, остались вне его концепции.
Маркузе делает исключение для некоторых видных явлений в истории
культуры (греческой скульптуры, музыки Моцарта, Бетховена; из
современных — философии Ницше, творчества некоторых писателей и
поэтов, в основном модернистского толка — Ш . Бодлера, Р. М . Рильке, П.
Валери, М. Пруста, сюрреалистов — имена варьируются), однако
аргументация подобного выбора отсутствует, ибо и в этих исключениях он
видит лишь отдельные яркие проблески, а отнюдь не основу и не какую-то
складывающуюся тенденцию, которые могли бы способствовать развитию
новой культуры. К тому же Маркузе допускает, что новое искусство может
развиваться и как беспредметное. Разумеется, при таком «проекте» опора на
классические традиции оказывается совершенно излишней.
Опираясь на восходящую к Ницше идею переоценки ценностей и «тотальное
отрицание» в духе Хайдеггера, Маркузе выдвинул тезис о репрессивности
традиций, не допуская возможности построения нового на базе имеющегося:
старое должно быть полностью уничтожено, отменено, «снято», иначе новое
воспримет его пороки и изъяны. Тем самым он ставил под сомнение
прогрессивный характер одной из наиболее общих объективных
закономерностей культурно-исторического процесса — преемственности —
и с антидиалектических позиций подверг пересмотру основные марксистские
принципы в отношении культурного наследия — важной категории
марксистско-ленинской теории культуры.
Новую, неаффирмативную культуру Маркузе определяет посредством
негативного отношения к идеям о «превращении культурных ценностей в
достояние всех», о «праве всех граждан на культурное богатство» и т. д .,
считая их фразерством и отгораживаясь глубокой иронией от этой
программы «превращения земли в огромный институт народного
образования»16
. Позитивная сторона «проекта» отличается теми же
недостатками, в которых Маркузе упрекал культуру буржуазного общества
—
абстрактными идеалами, не ориентирующими на радикальное изменение
функции культуры в процессе общественного развития: новая культура
должна быть нерепрессивной, гуманистической, отдаленной от
повседневности, способствовать «чистому наслаждению», выражая процессы
внутреннего мира человека. Построенный в отрыве от общественной и
социальной основы, без учета той истины, что нет и не может быть
гуманизма вообще, что это понятие классовое, социальное, исторически
конкретное, «проект» не дает ответа на вопрос, каким образом и при каких
условиях культура может выполнить хотя бы эту в самом общем виде
намеченную роль.
Концепция культуры Маркузе исключает анализ реальной диалектики
культурного общественного развития. Его футурологические рассуждения
идут вразрез с марксистско-ленинской теорией развития новой культуры,
разоблачающей беспочвенность попыток построения нового общества из
некоего совершенно «нового» материала и из «новых» людей, разведенных в
особых парниках17
, а также несостоятельность и реакционность идей о
создании новенькой, «с иголочки», культуры. Такие «проекты» глубоко
чужды практике строительства новой социалистической культуры, которая
не является ни «выскочившей неизвестно откуда», ни выдумкой новой
пролеткультуры, а представляет собой «развитие лучших образцов,
традиций, результатов существующей культуры с точки
зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в
эпоху его диктатуры»18
.
Однако в отличие от культурфилософии социального индифферентизма, в
которой нет ни отрицания существующего положения, ни попытки
выработать новую культурную и социальную программу, Беньямин и
Маркузе в своих концепциях устанавливают связи, важные для понимания
места культуры в жизни общества: определяют ее как продукт социальных
общественных отношений, выявляют ее мировоззренческий смысл и
социальную функцию и анализируют ее воздействие на социальную
действительность в целом19
.
Основное теоретическое ядро Франкфуртской школы — социальная
философия — еще только формировалось, и концепция культуры выступает
как одна из его составляющих. Выявление ее содержания, ее отношения к
общетеоретическим предпосылкам и постулатам школы позволяет осветить
форму выражения, которую приняла социальная философия
«франкфуртцев», а также реальный вклад философии культуры в их общую
теоретико-познавательную концепцию.
В сфере внимания основоположников школы были прежде всего история
философии и культуры, причем наряду с Гегелем активно осваивалось
наследие Кьеркегора, Ницше и Шопенгауэра20
. По-видимому, это следует
особо подчеркнуть, поскольку влияние этих философов сыграло большую
роль в эволюции школы от гегелевского направления к «философии жизни».
Приведем один пример. М . Хоркхаймер в статье «Традиционная и
критическая теория» (1937), описывая свое первое соприкосновение с
философией, вспоминает, что ему было 18 лет, когда он впервые прочел
«Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра (это было в 1913 г.,
накануне первой мировой войны), затем с жадностью стал читать другие
сочинения этого философа, чтобы «больше узнать о человеке» и о
мире ". Свое обращение к Шопенгауэру он рассматривает как важный этап
своего духовного развития и главное — осознания необходимости изменения
социальной реальности. Действительно, следы этого влияния
обнаруживаются на протяжении всего его творческого пути, хотя у нас и не
всегда имеются свидетельства того, что именно воспринималось им из этой
философии позже; возможно, «метафизический пессимизм», приведший
создателя школы в конце жизни к религии.
Франкфуртские философы занимались проблемами сознания, пытаясь
выявить различие между истинным и ложным сознанием, между интересом
подлинным и сиюминутным, и в связи с этим освещали проблемы идеологии,
идеологизации и их роли в общественной жизни. Уже на этом этапе в
работах М. Хоркхаймера и Э. Фромма выдвигался, правда, довольно
абстрактно выраженный проект радикализации критического самосознания
индивида, который возродится в различных программах преобразования
общества, выдвинутых школой 30—40 лет спустя.
В своей деятельности франкфуртские философы руководствовались одним из
важнейших методологических требований школы — теоретической
рефлексией, понимаемой как «трансцендирующий» анализ фактов, который
не принимает данное за окончательное, решающее. Так формировалась их
идейная и методологическая направленность, которая вылилась в основную
философскую концепцию, созданную школой, — концепцию «негативной
диалектики», к рассмотрению которой мы и переходим.
2. Формирование «негативной диалектики» как логики и методологии
отрицания
Диалектика в социальной философии Франкфуртской школы освещается в
ряде работ советских и зарубежных философов-марксистов как одна из
разновидностей идеалистической интерпретации диалектики
мелкобуржуазными идеологами, пытающимися либо совершенно отказаться
от диалектики, либо обратить ее против научного мышления22
. Освещались, в
частности, такие важные проблемы, как субъективистское толкование Т.
Адорно, Г. Маркузе и другими представителями школы категорий
марксистской диалектики, несостоятельность претензий «отрицательной
диалектики» на материализм, ее иррационалистический характер,
апологетическая социальная функция и др.
23
Опираясь на эти исследования,
мы рассмотрим некоторые из основных для концепции франкфуртских
философов проблем, касающихся диалектики как логики и теории познания,
а именно генезис методологических принципов как критики сложившейся
«традиционной» методологии и формирование принципа «негативной
диалектики».
В настоящее время нельзя говорить о значительном влиянии социально-
общественных идей Франкфуртской школы на Западе, иное дело —
философские вопросы и духовные традиции школы. Смещение акцента во
влиянии идей школы с идеологической функции на философскую основу
имеет непосредственное отношение к ее методологическим принципам, а
поскольку они коренятся в «философском» периоде ее формирования в 30—
40-х годах, то, по-видимому, нужно вернуться к истокам ее деятельности.
Определение «философский» употреблено чисто условно, для отличия этого
этапа деятельности представителей школы от их работ послевоенного
периода, в которых преобладала общественно-политическая проблематика.
Это тем более важно подчеркнуть, что Франкфуртская школа с самого начала
своего существования отмежевалась от философии в «традиционном» ее
понимании и выразила критическое отношение к существующему
общественному укладу, а также ко всем «традиционным» теориям, в том
числе к философии и социологии, к науке вообще как продуктам этого
уклада.
Тенденция отказа от философии наметилась уже в 30-х годах в работах
основателя и теоретика школы М. Хоркхаймера, предпринявшего попытку
проанализировать меняющийся характер философии, которая на
современном этапе, по его мнению, явно приходит к концу, поскольку
оказывается не в состоянии теоретически познать свою эпоху. Идущая
отчасти от позитивистов, отчасти от Хайдеггера, эта тенденция
обосновывалась у Хоркхаймера причинами социального характера и
предстала как результат изменений, касающихся функционирования
философии и ее роли в общественном сознании. В статьях «Гегель и
проблема метафизики» (1932), «Материализм и метафизика» (1933) и др.
Хоркхаймер писал о процессе распада «абсолютной» философии и
формировании марксизма как историческом процессе, не только закономерно
разрушившем идеалистическую систему познания, но и изменившем само
содержание материализма.
По мнению Хоркхаймера, осуществивший революцию в теории познания
марксизм с его «учением о фундаментальной исторической роли
экономических отношений»24 не оставил места прежней философии.
Поскольку борьба монополий становится «главной темой эпохи» 25
,
постольку именно под этим углом зрения должны рассматриваться такие
центральные историко-философские категория, как трагизм, героизм, судьба
в существовании индивида. Согласно Хоркхаймеру, даже само содержание
философии меняется в зависимости от этого социального фактора.
Пронизывающая историю философии противоположность между двумя
способами мышления — между материализмом и идеализмом —в
сегодняшней философии, полагает он, непостижима; если материализм
ранней буржуазии имел целью наращивание знаний и получение новых сил
для господства над природой и человеком, то насущная потребность
современности связана с общественной структурой, и поэтому содержанием
современного материализма становится социальная теория.
Характерно, что уже в этих работах выявляется мелкобуржуазная классовая
позиция школы, выразившаяся в фактическом отрицании классовой борьбы:
монополистическая стадия развития капитализма, с точки зрения
«франкфуртцев», отрицает дальнейшее развитие классовой борьбы.
Сам термин «критическая теория» стал употребляться по отношению к
деятельности школы по выходе в свет программной для нее, определяющей
ее цели и задачи статьи М. Хоркхаймера «Традиционная и критическая
теория» (1937). Вслед за своими предшественниками в интерпретации
марксизма Г. Лукачем и К. Коршем, М. Хоркхаймер и другие основатели
школы — Г . Маркузе, Т. Адорно — рассматривали марксизм прежде всего
как общественную критику, в дальнейшем подвергая все более серьезному
пересмотру важнейшие аспекты революционного содержания теории
Маркса. Заявляя о своей приверженности критическим традициям марксизма,
они истолковывали их в своем духе: марксизм оказывался у них не столько
философией, сколько критической теорией определенного и ограниченного,
исторически преходящего периода развития буржуазного общества, теорией,
которая на современной стадии развития государственно-
монополистического капитализма не может дать объективных методов
анализа и критериев оценки общественного развития. Такую задачу якобы
должна была выполнить разрабатываемая франкфуртскими философами
теория, суть которой состояла не только в методологии, но и в социальном
учении о современном обществе. Ее создатели рассматривали ее как
«социальную философию» в отличие от «традиционной», заявляя, что только
такая философия, опирающаяся на социальные исследования, и может иметь
место на современном этапе развития общества.
Постоянно подчеркивая необходимость исторического подхода к анализу
самого процесса познания, франкфуртские философы пытались объединить в
систему самые различные методы познания общественной действительности:
эмпирические, статистические и пр., связанные в первую очередь с задачами
текущего момента, а также анализ психологических структур познания и др.
По их утверждению, только в ходе таких комплексных исследований —
силами философов, социологов, экономистов, историков, психологов и др. —
и может возникнуть теория, способная дать объективный анализ сложного
современного общественного развития и указать его подлинные ценностные
ориентиры 26
.
Вместе с тем это не означало, что франкфуртские философы отказывались от
постановки и решения специфически философских задач — на основе
изучения всех сторон общественной жизни, всех ее связей исследовать
изменения в познании человеком мира, в его самопознании и т. п . Напротив,
отказываясь понимать философию как систему категорий, действительную
как для познавательного процесса, так и для развивающейся истории, они
заявляли, что философские вопросы в процессе комплексных исследований
будут ставиться более конкретно, что даст возможность не упустить и
важные общие моменты. Подчеркивая философский характер
разрабатываемой теории, М. Хоркхаймер указывал, в частности, что она
«исходит также из абстрактных определений»27 (общих понятий. — И. Ф.) и
руководствуется не регистрирующим, а диалектическим методом мышления.
«Критическая теория» мыслилась как социальная философия и как таковая
претендовала на практическую реализацию диалектического единства теории
и эмпирии в научно-исследовательском процессе.
«Критическая теория» намеревалась сосредоточить внимание на положении
человека в современном мире и ставила своею целью «заботу о счастье
людей»28
, и поскольку путь к нему создатели теории связывали с
осуществлением преобразований материальных условий жизни людей, на
первый план выдвигался анализ экономических и политических отношений,
а также — в качестве новой «спасительной истины» — создаваемый на
основе психоанализа проект радикализации критического самосознания
индивида. «Критическая теория» претендовала, таким образом, на роль новой
жизненной философии в отличие от «традиционной», которая была
объявлена апологетической. Одновременно основатели школы выступили
против методологии философии истории 29
, «традиционной» социологии и ее
эмпирических методов, которые будто бы приводили к односторонней и
искаженной картине действительности, «догматизму» при так называемом
строгом исследовании единичного, а также против других методологических
принципов.
Так, уже в первых программных работах школы обнаруживается
двойственность ее исходных теоретических позиций: как бы вопреки
объявленной программе в ее осуществлении начинает превалировать не
позитивная разработка собственного «комплексного» метода, посредством
которого якобы и должна создаваться «критическая теория» как новая
жизненная философия, а прежде всего негативная тенденция по отношению к
уже существующим и, разумеется, используемым школой методам.
Указанная тенденция со временем превращается в закономерность и
заслоняет первоначальные цели школы, в результате чего, как мы увидим
далее, разрабатываемые франкфуртскими философами методологические
принципы, несмотря на критическую претензию, остались в рамках
определенных традиций буржуазной философии.
В ряде работ школы этого периода диалектика становится предметом
специального рассмотрения. Наряду с М. Хоркхаймером этими проблемами
активно занимался Г. Маркузе, формирование теоретических взглядов
которого связано с искаженной интерпретацией философского наследия
Гегеля и Маркса. Эта позиция отчетливо выражена в комментарии к
«Экономическо-философским рукописям 1844 г.» К. Маркса, где Маркузе
выдвинул программу «пересмотра» всей марксистской философии в свете
идеи «Маркса-гуманиста», укрепляя тем самым характерную для школы
тенденцию «антропологического гуманизма». Сделав оговорку, что в своей
интерпретации гуманизма Маркса он пойдет не историко-философским
путем — прослеживая развитие «гуманизма» от Гегеля через Фейербаха к
Марксу, Маркузе свел содержащийся в «Экономическо-философских
рукописях» анализ гегелевской диалектики к рассмотрению Марксовых
понятий труда и человеческой практики как проявлений некоей
антропологической сущности человека. Комментируя указанное Марксом
противоречие между сущностью человека и его существованием, появление
которого обусловлено изменением характера труда и превращением его из
«средства универсального и свободного самоосуществления человека» в
отчужденный труд, Маркузе выдал это противоречие за главное, чуть ли не
изначальное, которое не может быть разрешено, как об этом будто бы
свидетельствует опыт истории, победой революции и которое следует
рассматривать как проявление некоей антропологической сущности
человека. Антропологическое противоречие между сущностью и
существованием, по Маркузе, является движущей силой так называемой
антропологической революции30
. Катастрофа человеческой сущности,
отчуждение выводятся, таким образом, из самой сущности человека, т. е .
антропологизируются. Конкретные классовые противоречия превращаются в
абстрактно антропологические. Маркузе объявляет такую постановку
вопроса важной для понимания диалектики общественного развития и основ
революционной теории Маркса, которые якобы должны быть пересмотрены
в соответствии с принципами молодого Маркса, ориентирующими на
тотальную радикальную революцию, понимаемую самим Маркузе в духе
хайдеггеровского «тотального отказа».
Рассматривая Марксову критику Гегеля, Маркузе обходит молчанием вопрос
о коренном различии их методов, утверждая, что эта критика исходила, в
сущности, из ложных посылок: Маркс определяет диалектику Гегеля как
«метод», в то время как она является основой и собственным «содержанием»
(Inhalt) гегелевской философии (при этом Маркузе ссылается на
«Феноменологию»), сущностью которой был человек. В системе Гегеля,
полагал он, человеческая история раскрывается в философских понятиях
«мышление», «дух» и т. д . Сам же Маркс действительно использовал
гегелевский принцип «отрицания отрицания» и его позитивный смысл,
способный послужить почвой для дальнейшего развития, в качестве
«метода»: он перенес, по мнению Маркузе, гегелевскую диалектику с «почвы
онтологии» на «почву истории» и ограничился в своей теории лишь
исследованием политической экономии и социально-политическими
вопросами. Теория Маркса оперирует общественно-исторической практикой,
и все ее философские понятия выражены посредством «социальных и
экономических» категорий, продолжает Маркузе, у Гегеля же «все
общественные категории являются философскими понятиями», в этом
смысле, по его мнению, неправомерна постановка вопроса о
преемственности марксизма по отношению к западноевропейской
философии, поскольку марксизм является прежде всего «социальной теорией
общества»: «Гегелевская система довела философию до порога ее отрицания
и образовала тем самым единственное звено между старой и новой формой
критической теории, между философией и общественной теорией, не
являющейся философской»,— утверждает Маркузе 31
.
Разумеется, подобная интерпретация продиктована не столько стремлением
защитить гегелевскую объективно-идеалистическую концепцию, сколько
попыткой сузить сферу действия марксизма. Несмотря на то что
«критическая теория общества», выдвинутая самими франкфуртскими
философами, признает экономический фактор и экономические отношения
решающими в процессе общественного развития, недооценка философской
основы марксизма и его мировоззренческой роли свидетельствует об
извращении Маркузе взглядов Маркса32
.
О том, что такая тенденция не была случайностью, свидетельствует, в
частности, докторская диссертация Маркузе «Гегелевская онтология и
основы теории историчности» (1932), написанная под большим влиянием
«онтологической школы» М. Хайдеггера, «философии жизни» В. Дильтея, а
также экзистенциалистских идей относительно природы человека. В ней
Маркузе сосредоточивает внимание не на диалектической стороне учения
Гегеля, идее о развитии, а на его идеалистической онтологии (представлении
о «духе», «идее», «боге» и т. д .) и истолковывает ее в духе экзистенциализма,
так что на первом плане у него оказываются категории жизни и
человеческого самосознания с присущей только ему историчностью33
.
Понятийно-рациональное мышление постоянно подвергалось критике в
социальной философии основателей Франкфуртской школы М. Хоркхаймера,
Г. Маркузе и Т. Адорно. Растущее благодаря концентрации и централизации
управление внешними условиями существования, при котором не остается
ничего не затронутого воздействием рационализма, рассматривается в их
концепциях в качестве социального фактора, детерминирующего искажение
естественного сознания и превращение его в технократическое — в
«инструментальный разум» с заданной ограниченной функцией:
способствовать все более тотальному господству овеществленных
взаимоотношений во всех возможных областях и формах, вплоть до
выработки стереотипных реакций и инструментализации формирования
мнений. Абсолютизируя положение о социальной обусловленности сознания,
Хоркхаймер и Адорно рассматривают науку и технократическое сознание
как вид идеологии, оправдывающей «господство», и на этом основании
заявляют об отрицании всей традиционной науки и культуры.
Само понятие разума у франкфуртских философов оказывается
переосмысленным: разум, традиционно ассоциировавшийся с познающим
мышлением, духовной жизнью и выступавший в различных философских
системах в качестве генератора новых социальных систем, рассматривается
ими как утративший способность к прогнозированию, превратившийся в
функциональное понятие и ставший инструментом для выполнения частных
задач и реализации заданных целей. Он, таким образом, оказывается уже
неспособным к пониманию «вечных», направленных на достижение высших
целей идей, с торжеством которых авторы концепции связывают начало
подлинной истории человечества. Такая мировоззренческая позиция
ориентирует их в теории познания на отход от методологических принципов,
связанных с разумом, рациональным и научным знанием (прежде всего это
относится к диалектике, таким способам получения объективного знания, как
понятийное мышление, диалектика синтеза, движение от абстрактного к
конкретному и т. д .), и обращение к эстетическим принципам, даже при
рассмотрении проблем социального прогнозирования.
Так, Г. Маркузе в книге «Разум и революция» (1941), посвященной
интерпретации гегелевской диалектики и сосредоточенной главным образом
на выявлении в ней отрицательных, «негативных» тенденций34
, выстраивает
гносеологический аспект исследования па следующем основании: диалектика
как метод познания не в состоянии дать теоретического обоснования
существующим непримиримым противоречиям современной
действительности и ее иррациональности, а тем более указать способ их
разрешения, однако она позволяет выявить потенции «иного»,
скрывающегося за внешней формой явлений, но на деле являющегося тем
истинным, сущностным содержанием, к обнаружению которого и стремится
познание. Именно так, к примеру, и освещает Маркузе раскрытое Гегелем
внутреннее отношение между понятием и определяемым им объектом.
Правильное понятие объясняет нам природу объекта и сообщает, что
представляет собой вещь-в-себе, пишет он, и как только истина становится
очевидной, обнаруживается также, что вещи «не существуют» в их
подлинности: им удается обрести свою подлинность, только лишь отрицая
детерминирующие их условия. Таким образом, понятие в гегелевском
смысле, утверждает Маркузе, является реальной формой объекта, потому что
оно сообщает нам истину о процессе, слепом и случайном в объективном
мире. Значительные же различия между объектами неорганического,
растительного и животного мира и их понятиями преодолеваются только
посредством мыслящего субъекта, который способен реализовать их понятия
в их экзистенцию 35
.
Останавливаясь на первой части «Логики», Маркузе утверждает, что, по
Гегелю, понятия, охватывающие реальность как множество объективных
вещей, как простое, наличное «бытие» («daseiend»), свободное от всякой
субъективности, качественно и количественно связаны друг с другом, а
анализ этих отношений показывает, что их больше нельзя интерпретировать
в терминах объективных качеств и количеств — они требуют принципов и
форм мышления, отрицающих традиционное понятие бытия и
раскрывающих субъект как самую сущность реальности36
.
Анализируя основную гегелевскую схему объект — понятие, Маркузе
подводит к выводу, что истинное объекта можно найти, только выявив
посредством негативной диалектики «третий путь», на который можно
выйти, лишь совершив качественный скачок. «Всякое особенное бытие, —
пишет Маркузе, — существенно отличается от того, каким оно могло бы
быть, если бы были реализованы все его потенциальные возможности. Эти
возможности заключены в его понятии. Существующее было бы подлинным
бытием, если бы осуществились его потенциальные возможности и если бы
таким образом создалась тождественность между его бытием и его понятием.
Это различие между действительностью и возможностью и является
исходным пунктом диалектического процесса, выступающего в каждой
ступени гегелевской «Логики». Конечные вещи «негативны» — и это их
определяющий признак (основная характеристика); они никогда не есть то,
что они могли бы или должны были бы быть. Они всегда существуют в том
виде, который выражает неполную реализацию их возможностей. Основная
суть конечной вещи состоит в «этом абсолютном непокое», в стремлении «не
быть тем, что она есть» 37
.
Такое толкование неидентично гегелевской схеме, однако для концепции
Маркузе важно представить гегелевскую диалектику как проникнутую
глубокой убежденностью в том, что «все имеющиеся формы существования
—
в природе и истории — „дурны", потому что они мешают вещам быть тем,
чем они могут быть», что «истинное бытие начинается тогда, когда
непосредственное состояние признается негативным, когда, стало быть,
сущность становится „субъектом" и стремится соединить свое внешнее
бытие со всеми потенциальными возможностями» 38
.
Нельзя не заметить, что раскрываемое главным образом с теоретико-
познавательной стороны гегелевское тождество субъекта и объекта, объекта
и понятия интерпретируется Маркузе таким образом, что акцент смещается в
сторону субъекта, иногда до такой степени, что объект оказывается
продуктом деятельности субъекта, а диалектика — только его практикой.
Одно из главных постоянно подчеркиваемых Маркузе положений состоит в
утверждении, что все, даже самые абстрактные и метафизические, элементы
концепции Гегеля построены на реальной основе, что в отличие от
игнорирующих противоречия и абстрагирующихся от самого процесса
реальности философских систем они насыщены опытом противоречивого
самого по себе мира. Маркузе исходит из того, что «отрицание» — это
центральная категория диалектики, и, опираясь на высказывание Гегеля о
том, что «мышление в действительности по сути своей есть отрицание того,
что лежит непосредственно перед нами», определяет диалектическое
мышление как обусловленное противоречиями действительности, поскольку
«человек и природа существуют в условиях отчуждения, существуют как
„иные", чем они есть». Любой образ мышления, исключающий это
противоречие из своей логики, является ошибочной, конформистской
логикой, считает Маркузе. Понять реальность — значит понять, что вещи
действительно существуют, а это означает отрицание их простой
фактичности, пишет он; отрицание — это процесс как мышления, так и
действия. Если научный метод идет от непосредственного опыта вещей к их
логико-математической структуре, то философская мысль — от опыта
экзистенции к ее исторической структуре: принципу свободы39
.
Негативность, силу негативного мышления Маркузе называет «ведущей
силой диалектического мышления, которая используется в качестве
инструмента для анализа мира фактов в терминах его внутренней
неадекватности» 40
. Свое, по его же словам, «ненаучное» определение
Маркузе соотносит с гегелевской диалектикой, в которой, по его мнению,
даже в абстрактных формулировках видны конкретные критические
импульсы, так как диалектика, по Гегелю,— это процесс, имеющий место в
мире, где способ бытия вещей и людей складывается из противоположных
отношений так, что любое частное содержание может развиваться только
через переход в свою противоположность, где последняя выступает как
составная часть предыдущей, а целое содержание есть полнота всех
противоречивых отношений, из которых оно состоит.
Маркузе, обращаясь к «Логике» Гегеля, рассматривает ее как общую форму
диалектики в приложении к общим формам бытия, а также к «Реальной
философии», в частности к социальной философии. Он исходит из того, что в
гегелевской системе логика, предполагающая тождество бытия и мышления,
и метафизика едины, и схематично очерчивает «Логику» как разъясняющую
структуру бытия-как-такового, т. е . структуру самых общих форм бытия,
выраженных посредством категорий субстанции, утверждения, отрицания,
количества, качества и т. д . Отвергающая идеализм Канта (на том основании,
что он допускал существование «вещей-в-себе» отдельно от «феномена»,
оставляя эти «вещи» вне человеческого мышления, а следовательно, и вне
разума и, таким образом, допуская разрыв между мышлением и бытием или
между субъектом и объектом) гегелевская философия рассматривается
Маркузе как попытка «перекинуть мост между ними», основой которого
должна была послужить универсальная структура всего бытия. При этом
бытие «должно было бы быть процессом, в котором вещь „охватывает"
(„begreift") или „схватывает" („erfaBt") различные состояния своего бытия и
сводит их в более или менее прочное единство своей „самости" („seines
Selbst"), таким образом активно проявляясь как „то же самое" („derselbe") во
всех своих вариантах. Другими словами, пишет Маркузе, «„все" существует в
той или иной степени как „субъект". Тождественная структура движения,
которая происходит при этом во всей области бытия, объединяет
объективный мир с субъективным миром» 41
.
Уже в так называемой «Малой логике», во многом предопределившей
конечную систему логики, ее зрелую форму в «Науке логики», Маркузе
видит «стремление прорваться сквозь ложную прочность наших понятий и
показать ведущую роль противоречий, скрывающихся во всех способах
экзистенции» 42
, и, опираясь на диалектический принцип мышления Гегеля и
его понимание закона отрицания отрицания, рассматривает возможность
отрицания какой-либо целостности как результат борьбы присущих ей самой
внутренних противоречий. Маркузе признает, что разрешение противоречий
у Гегеля имеет положительный смысл и что в этом плане можно говорить о
дальнейшем развитии его диалектики Марксом и В. И. Лениным43; в
предисловии он даже подчеркивает, что «диалектическое мышление не
помешало Гегелю превратить свою философию во всеобъемлющую систему,
в которой внимание в конечном счете гораздо больше акцентируется на
положительном»44
. Однако эти соображения остаются частными
замечаниями в рамках целого, не нарушая внутренней логики даваемой
Маркузе интерпретации гегелевской диалектики, пафос которой, по его
мнению, заключается именно в ее «негативности».
Уже в анализе «Логики» у Маркузе проявилась одна из основных
особенностей его трактовки диалектики, состоящая в том, что негативная
функция последней истолковывается как направленная не только на
отрицание реальных условий существования объекта, но и на выявление его
потенций, его иного, которое якобы и есть истинное.
По Маркузе, негативность есть «истинно диалектический момент» (wahrhaft
Dialektische) всех конечных вещей. Негативность — «глубочайший источник
всякой активности, жизнедеятельности и духовного саморазвития».
Негативность необходимо свойственна всем вещам как предварительный
этап их существования. Она является тем состоянием неудовлетворенности,
недостатка (ein Zustand des Mangels), которое заставляет субъекта искать
средства к исправлению этого положения. И в этом смысле негативность как
стимул имеет положительный характер 45
.
В какой-то степени такое понимание диалектики предопределило и решение
Маркузе вопроса о возможностях социального прогресса. Как упоминалось
ранее, поиски в этом направлении он перенес на почву выходящей за
пределы реальности утопии, поскольку действительность, согласно его
концепции, не содержит таких возможностей. По сути дела это было
теоретическим обоснованием радикального, абсолютного отрицания Маркузе
объективной социальной диалектики, подготовившим его знаменитый
«Великий Отказ».
Как известно, у Гегеля диалектический процесс предполагает стремление
преодолеть негативность, и Маркузе вскрывает механизм действия этой
«движущей силы», опирающейся на попытку установить прежде всего
характер вещи — первую ступень на пути к ее подлинному познанию.
Логически, пишет он, диалектика начинается тогда, когда человеческое
сознание оказывается не в состоянии получать что-либо прямо из
существующих количественных или качественных форм, так как данное
количество или качество выглядит «отрицанием» вещи, которой
принадлежит это количество или качество. А если вещь нельзя осмыслить,
ограничившись лишь качествами, предназначенными для ее характеристики
и выделения из совокупности других вещей (т. е . через ее качества), то
человеческий разум неизбежно погружается в бескрайнее море отношений в
надежде найти понятие, которое действительно было бы тождественно
данной вещи. Однако и такая бесконечность отношений служит шагом в
познании — «рациональным зерном» — только в случае, если шаг этот
сделан в направлении «реальной», а не «дурной», или ложной бесконечности,
т. е . если это не простое добавление отношений («Und-Beziehungen»), а
рассмотрение их как созданных собственным развитием объекта. В
результате оказывается, пишет Маркузе, что объект — это то, что само
устанавливает и «само указывает на необходимые отношения со своей
противоположностью». При этом предполагается, что и сам объект
определенным образом воздействует на собственное развитие, а потому
может оставаться самим собой вопреки тому, что каждый конкретный этап
его бытия есть его «отрицание», «иновариант», инобытие. Другими словами,
объект нужно понимать как «субъект», соотносящийся со своим
«иновариантом», инобытием («Anderssein») 46
.
Как онтологическая категория «субъект» есть способность целостности быть
в себе самой, в своем «иноварианте», своем инобытии («Bei-sich-selbst-sein
im Anderssein»). Только такой образ бытия может вносить отрицательное в
положительное. Отрицательное и положительное перестают быть
противоположностями, когда основная способность субъекта превращает
отринательное в часть своего собственного целого содержания. Гегель
говорит, что субъект «опосредует» (vermittelt) негативность и одновременно
«снимает» (aufhebt) ее. В этом процессе объект не распадается на свои
количественные и качественные детерминанты, а, вступая в отношения с
другими объектами, сохраняет в основе своей всю их совокупность. Такой
способ бытия или существования Гегель характеризует как «реальную
бесконечность». Бесконечность — это не то, что уходит за пределы конечных
вещей или опережает их, а это есть их подлинная реальность. Бесконечность
—
способ бытия, при котором реализуются все качества и при котором все
существующее достигает своей конечной формы 47
.
Так, резюмирует Маркузе, Гегель показал, насколько трудно определить
объект во всем многообразии его связей и как объект рассмотрения
изменяется определениями сознания. Гегель, говоря его собственными
словами, продолжает он, продемонстрировал, как различия объекта «можно
рассматривать в зависимости от развития сознания», охарактеризовав таким
образом связи субъекта, объекта, сознания и предмета как
взаимоопределяющие друг друга. Гегель раскрыл также, как мышление
схватывает реальные отношения объективного мира и дает нам знание того,
чем являются «вещи-в-себе». Эти реальные отношения, пишет Маркузе,
мышлению приходится раскрывать, отыскивать, потому что они спрятаны за
внешним видом вещей. Вот почему мысль «более реальна», чем ее объект.
Однако мысль — сверхсущностное качество бытия, «осмысляющего» все
объекты; она двояко сущностна, поскольку познает объекты и содержит их в
себе. Объективный мир находит свою истинную форму в мире свободного
субъекта, и объективная логика завершается в субъективной логике 48
.
Здесь можно подвести некоторые итоги: 1) диалектика Гегеля
рассматривается Маркузе как попытка снятия противопоставления
субъективной и объективной диалектик путем утверждения тождества
логического и реального, сведения всего процесса к диалектике понятия; 2)
тождество субъекта и объекта, как его понимал Гегель, раскрывается
главным образом с теоретико-познавательной стороны, однако нельзя не
заметить, что в интерпретации этого тождества Маркузе акцент смещается в
сторону субъекта. И это не случайно, поскольку, как известно,
Франкфуртская школа, широко использовав в качестве идейного источника
работу Г. Лукача «История и классовое сознание» (1923), разделяла
содержащееся в ней отрицание существования объективной диалектики (и
прежде всего диалектики природы), рассматривая диалектику только как
отношение между субъектом и объектом в процессе истории, как
историческое «бытие», т. е . как результат сознательной деятельности
субъектов в историческом процессе, при котором объект оказывается
продуктом деятельности субъекта. Такая позиция не только предопределила
неадекватность трактовки гегелевского наследия, но в еще большей степени
проявилась при создании Маркузе собственной негативной концепции.
Анализируя далее субъективную логику Гегеля в его «Йенской системе» (в
разделе «Метафизики», разъясняющем, по словам Маркузе, категории и
принципы, охватывающие всю объективность как сферу действия
развивающегося субъекта, т. е . сферу действия разума), а также применение
основных принципов диалектического метода в «Феноменологии духа»,
характеризуемой как своего рода теория познания, наука о знании, где Гегель
показывает становление тождества предмета и его понятия, Маркузе, во
многом опираясь на марксистское истолкование гегелевского тождества
субъекта и объекта, подводит итог, дает оценку гегелевской диалектике как
цельной философской системе, в которой тождество субъекта и объекта, как
его понимал Гегель, раскрывается (в методологическом плане) как
идеалистически понятое единство диалектики, логики и теории познания.
Этот вывод, являющийся признанием исторической заслуги Гегеля в
развитии диалектики, Маркузе не только «снижает», но самым настоящим
образом «развенчивает», переходя к рассмотрению проблем социальной
философии и доказывая, что характер исторического общественного
развития, и в частности современного прогресса, невозможно определить в
философских категориях субъекта — объекта — разума и др. Причем,
утверждает он, если это и удавалось сделать в гегелевской системе, то только
благодаря вере Гегеля в существование божественного разума, абсолютной
идеи. Именно абсолютная идея и определила, по Маркузе, цельность системы
и именно на нее и опирался Гегель как социальный философ в своей
программе преобразования общества с помощью сильного государства.
Однако «последующая история сделала такой опыт невозможным» 49
.
С открытием Марксом решающего влияния экономического фактора на
процесс общественного развития общественные теории должны опираться,
по мнению Маркузе, на действие экономических законов, детерминирующих
все общественные и социальные процессы. А это существенно изменяет
положение субъекта: происходит его децентрация, так как именно с
сознанием субъекта было непосредственно связано формирование
общественно-исторического процесса (теперь возможности разума и
человека переходят, по Маркузе, к политической экономии), и одновременно
такой рост степени его участия в общественных процессах, что законы
общественного развития оказываются существующими (действенными) лишь
постольку, поскольку они включены в волю субъекта. Признание же
объективного характера общественных законов, согласно Маркузе,
неизбежно оборачивается «отчуждением», «опредмечиванием»,
«овеществлением» человека50
.
Идя далее по пути отрицания существования объективной диалектики,
Маркузе подвергает сомнению действенность диалектики Маркса и его
революционной теории в целом, утверждая, что в действительности «ни
Гегелева, ни Марксова идея разума не приблизилась к осуществлению; ни
развитие духа, ни революция не приняли формы, предсказанной
диалектической теорией» 51
. Это положение, взятое из эпилога к уже
упоминавшейся нами книге «Разум и революция» (1954), и еще более
позднее предисловие к ней (1960) позволяют наглядно проследить эволюцию
взглядов ее автора. Так, в эпилоге присущий гегелевской диалектике
философский «разум» переосмыслен: он для Маркузе прежде всего «по
самой своей глубочайшей сущности есть противоречие («Wieder-Spruch»),
оппозиция, негация, пока разум еще не осуществился», он — отрицание
существующей действительности, и «если противоречащая, оппозиционная,
негативная сила разума сломлена, действительность движется по своему
собственному положительному закону и, не сдерживаемая духом, развивает
свою репрессивную силу» 52
.
В предисловии к работе подробно раскрывается известный тезис Маркузе —
техника и наука берут на себя функции господствующей власти, происходит
своего рода слияние техники и господства, рациональности и угнетения. Этот
тезис своеобразно преломляется в его анализе присущих, по его мнению,
технологической цивилизации специфических взаимоотношений между
рациональным и иррациональным: разум может выступать как
иррациональная сила (при этом Маркузе ссылается на многообразные
проявления антигуманного, античеловеческого «действия разума» —
фашизм, репрессивность технологии и др.), когда границы разума и безумия
в сущности стираются.
Единство рационального и иррационального Маркузе рассматривает как
порождение реальности, в которой не без участия человека создана такая
охранительная система, «которая достаточно энергична, чтобы отклонить
или поглотить все альтернативы»; мысль, разум «соответствуют» реальности
только в случае, если они преобразуют ее, понимая ее противоречивую
структуру. Но реальность, в сущности, утратила качественное развитие, так
как «динамичность статуса-кво функционирует бесконечно внутри одних и
тех же жизненных рамок, способствуя усовершенствованию, а не
уничтожению порабощения человека как человеком, так и продуктами его
труда». Прогресс, таким образом, считает Маркузе, становится
количественным и в нем развиваются тенденции откладывать на
неопределенное время переход от количества к качеству, т. е . возникновение
новых способов существования с новыми формами разума и свободы 53
.
В противоположность утверждениям марксистской диалектики, пишет
Маркузе, углубляющиеся основные противоречия разрешаются не путем
борьбы и революции, а путем примирения, сглаживания (противоречия
между пролетариатом и буржуазией, капитализмом и социализмом,
интеграция в капиталистическую систему рабочего класса и т. д .) или
оказываются фатальными, неразрешимыми (противоречие между индивидом
и целым, свободой и экзистенцией, человеком и репрессивным по
отношению к нему обществом независимо от господствующих в нем
производственных отношений и т. д .).
Маркузе считает, что на современной исторической стадии общественного
развития положение философии и всего познающего мышления существенно
изменилось: мышление, не проявляющее уверенности в радикальной
фальшивости установившихся форм жизни, есть лживое мышление. Отход от
понимания их фальши не просто аморален — он есть Лажный шаг.
Реальность стала технологической реальностью, а субъект теперь так тесно
соединен с объектом, что понятие объекта обязательно включает в себя
субъект. Абстрагирование от их взаимосвязи не ведет больше к открытию
более подлинных реальностей, а влечет за собой заблуждение, потому что
даже в этой сфере сам субъект явно выступает существенной частью объекта
в качестве его научного определения.
Маркузе как будто отдает себе отчет в том, что сила «негации» по сути
«бессильна», так как «мощь производственного аппарата... делает человека
порабощенным довлеющим положением вещей, и социальные группы,
отождествляющие диалектическую теорию с силами отрицания, терпят
поражение или примиряются с установленной системой», в результате чего
«сила негативного мышления оказывается несостоятельной перед лицом
силы существующих фактов». Вместе с тем, отмечая существующее в
настоящее время отторжение мысли от действия, теории от практики и
характеризуя это положение как господство несвободы, он утверждает, что
только теория может способствовать подготовке почвы для их союза, и
поэтому, несмотря ни на что, неотъемлемое условие для выполнения этой
задачи — это развитие логики противоречий в сторону «негации», а также
поиски «внешней силы», «третьего пути»54
.
Все накопленное человечеством теоретическое философское знание Маркузе
считает несостоятельным на том основании, что оно будто бы есть результат
позитивистского, регистрирующего мышления (причем это относится и к
таким общественным наукам, как социология и др.), что оно апологетично по
отношению к существующему или, наконец, как марксизм, не радикально,
так как допускает преемственность и не соответствует современному этапу
общественного развития. Правда, в период выработки «школой»
комплексного метода исследования (в 30-е годы) Маркузе поддерживал
обращение к методам специальных наук (социальной психологии, экономике
и др.) и использование сконцентрированного в них опыта — интереса к
конкретному, частному, особенно в социальной жизни,— с целью выявления
факторов познавательного значения, однако при построении своих
концепций опирался не столько на научные методы, сколько на
предшествующий опыт «критической» гносеологии, а позднее (с 50-х годов)
и на психоанализ.
Обращение к социальной философии Маркузе показывает, что
субъективистское толкование им гносеологических проблем обусловлено
односторонним «негативным» восприятием современного общественного
развития, характер которого, по его мнению, уже невозможно определить
посредством традиционных категорий. Для Маркузе это положение является
одним из оснований для отказа от рассмотрения объективных
закономерностей и диалектики общественного развития в пользу
«неразрешимых противоречий», которые якобы определяют «каждый
отдельный факт и каждое отдельное событие», «пронизывают все здание
размышлений и действий» вплоть до познающего мышления, неспособного в
таких условиях быть аутентичным 55
.
Подчеркивая необходимость исторического подхода к анализу самого
процесса познания, Маркузе считает решающим для философской ситуации
современности осознание необходимости в новом типе мышления, в
принципиальном изменении направленности познавательного процесса,
задачей которого должно стать выявление «потенциальных возможностей
„иного"», возможностей качественного скачка на основе радикального
«Великого Отказа» от существующего.
В заключение отметим, что концепция Маркузе, основанная главным
образом на извращенном толковании им гегелевской и марксистской
диалектики, предлагает вместо теории познания по сути субъективистскую
метатеорию, основные положения которой послужили фундаментом для
построения социальных теорий школы, ориентированных на исследование
кризисных тенденций общественного развития.
3. «Диалектика просвещения» как отрицание исторического прогресса
Важное значение для дальнейшего развития «негативного» метода
исследования франкфуртских философов имела социальная теория,
разрабатываемая ими в американский период деятельности и вобравшая в
себя их опыт работы в государственных учреждениях США, а также
результаты конкретных социологических исследований. Одним из первых
вариантов такой социальной теории можно считать совместную работу М.
Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика просвещения. Философские
фрагменты» (1947), содержащую вопреки подзаголовку довольно целостную
философскую концепцию, заложившую некоторые важнейшие компоненты
разрабатываемой затем в течение нескольких десятилетий «критической
теории общества».
Авторы «Диалектики просвещения» ставили перед собой задачу раскрыть
диалектику современного общественного развития; под «просвещением» они
понимали не определенный этап в истории развития общества, а процесс
развития культуры и цивилизации вообще. В критическом обзоре этого
процесса они пытались ответить на поставленный еще просветителями
вопрос: содействовало ли просвещение реальному прогрессу человечества?
—
и ответили на него отрицательно, доведя до крайности
антипросветительские тенденции, связанные с критикой «мнимых благ»
цивилизации и «ядовитых плодов просвещения». Этот отрицательный ответ,
по их мнению, обусловлен глубокими причинами социального порядка.
Претензия на раскрытие этих причин и составляет содержание книги.
Хоркхаймер и Адорно обратились к освященной традициями философской
проблематике — понятиям разума, просвещения, человеческого опыта,
прогресса. Они использовали также, однако в извращенном виде, Марксову
интерпретацию общественных изменений, оперируя понятиями
«отчуждение», «овеществление» и др. Намереваясь выделить критерии,
характеризующие современный процесс развития буржуазного общества, они
ввели в качестве таковых заимствованные из арсенала буржуазной
социологии понятия «рациональность», «господство», «инструментальный
разум» и др. и, используя их при анализе самых различных сфер
общественной жизни, пытались поднять их до уровня категорий, имеющих
всеобщее значение.
Так, доминирующий критерий — восходящее к идеям М. Вебера понятие
рациональности — используется Хоркхаймером и Адорно при анализе
процесса развития общества как ступеней его рационализации,
рационального регулирования.
Причем само веберовское понятие так называемой формальной
рациональности, употреблявшееся в контексте экономического учения
главным образом для обозначения форм капиталистической экономической
деятельности, буржуазных частноправовых отношений и господства
бюрократии, а также используемое в качестве показателя усиления роли
науки и техники как производительной силы в техническом развитии мира,
приобретает у его последователей из Франкфуртской школы дополнительные
смысловые значения, выступая неким синтезом способствующих прогрессу
целерациональных действий во всех областях общественного развития, в том
числе социальной, политической и др.
Хоркхаймер и Адорно критикуют сложившийся стереотип синонимичности
понятий просвещение = рациональность = прогресс, пытаясь вскрыть корни
репрессивных тенденций цивилизации в историческом прошлом. Согласно
их концепции, первоначально «рациональность» была направлена на
овладение природой и играла прогрессивную роль в общественном развитии,
поскольку общество обязано своим происхождением необходимости
коллективной борьбы за существование, главным образом борьбы с
природой. Однако взаимоотношения человека с природой, сложившиеся в
антагонистической форме, и успехи в овладении природой, явившиеся
результатом отхода (отделения) человека от нее, определили дальнейший
процесс развития материальной и духовной культуры. Следствие этого
процесса — возникновение отношения «господства», первоначально
распространявшегося только на природу, а затем ставшего характерной
чертой и общественного устройства,— направило развитие рациональности
по ложному пути: она стала служить не великим общественным целям в
союзе (единении) с природой, а — с возникновением собственности,
эксплуатации, авторитарной власти — превратилась в репрессивную силу
как по отношению к природе, так и к природному началу в человеке и
способствовала развитию функций государства, искажающих законы
общественного равенства 56
.
Заложенные, таким образом, в основу существования человеческого
общества противоречия. между природой и созданной по принципу
«господства» и оказавшейся привилегией господствующих классов
цивилизацией, а также противоречия между научно-техническим развитием
и общественно-моральной жизнью общества рассматриваются
Хоркхаймером и Адорно как неразрешимые даже с помощью современных
способов рационализации, поскольку достигнутый в результате способности
к дальнейшему развитию отдельного человека, совершенствования его
разума (особенно в области естественных, точных паук) кажущийся
«прогресс» на самом деле движется в направлении упадка человеческого
общества в целом, т. е . по сути оказывается регрессом 57
.
Эту антиномию авторы «Диалектики просвещения» конкретизируют в целом
ряде негативных характеристик развитых форм капиталистического
общества. Акцентируя внимание на превращении рациональности из
средства достижения целей главным образом экономического характера в
орудие усиления государственно-монополистического капитала, его власти
над человеком посредством технологии и развитого репрессивного аппарата,
они утверждают, что «рациональность» превращается в «иррациональность»,
способствуя тотальному управлению человеком, вопреки тем реальным
возможностям, которые должны были бы перед ним открыться.
Безвыходность ситуации объясняется тем, что историческая диалектика,
«диалектика просвещения», развивалась только как отчуждение, угнетение и
ложная эмансипация, и дальнейший «прогресс» угрожает лишь новыми
формами эксплуатации — «вот почему человечество снова и снова
охватывается варварством, вместо того чтобы вступить в подлинно
человеческое состояние» 58
.
«Диалектика просвещения» — пример негативной социальной диалектики в
анализе общественно-исторического процесса, когда вопросы о его характере
и движущих силах либо элиминируются вовсе, либо трансформируются в
негативные характеристики действительно кризисных и существенных, но не
главных для диалектики общественного развития тенденций; объективная
закономерность и логичность исторического развития подвергаются
сомнению; рассматриваемый только как «инструментальный» разум
объявляется причиной углубляющихся противоречий современного
общества, а сами эти противоречия, выступающие как абстрактная
противоположность индивида и авторитарного государства, подменяют
действительно определяющие диалектику общественного развития
классовые противоречия и социальные антагонизмы.
В разделе «Индустрия культуры» (с подзаголовком «Просвещение как
массовый обман») Хоркхаймер и Адорно рассматривают эволюцию культуры
как процесс утраты ею ценностей гуманитарного наследия, художественной
культуры. Сама культура выступает в концепции как одна из областей
индустрии, подчиненная монополии так же, как всякая другая область —
нефтяная, химическая и пр., но «находящаяся по сравнению с ними в худшем
и более зависимом положении» благодаря технической рациональности,
являющейся «рациональностью господства» 59
. Введенное Хоркхаймером и
Адорно понятие «индустрия культуры» означает не только технику
репродуцирования и распространения, но прежде всего стандартизацию
самого предмета, вызывающую нарушение принципа эстетической
автономии и внутрихудожественных законов. Индустрия культуры, согласно
концепции, не производит художественных ценностей. В обстановке
тотального общественного контроля ее продукт выверяется не собственной
мерой я формой, а принципом его реализации, обнаруживая свое родство с
процессом циркуляции капитала и с торговлей; духом же ее становится
идеология. Категорический императив индустрии культуры в отличие от
кантовского не имеет ничего общего со свободой и требует только
подчинения. Зависимость и послушание становятся центральными пунктами
всей индустрии культуры, пропагандирующей образцы конформистского
поведения и абсолютизирующей существующее положение вещей.
В противовес буржуазным социологам, считающим, что индустрия культуры
якобы подчиняется потребительскому спросу, что так называемая «массовая
культура» (коммерческая, низких жанров и пр.) существовала всегда,
Хоркхаймер и Адорно утверждают, что идеология индустрии культуры есть
преднамеренная интеграция ее потребителей сверху. Она способствует
деградации сознания людей. И чем больше они полагаются на индустрию
культуры, тем основательнее она разрушает их ценности. Эстетическое
воздействие классической художественной культуры также сводится к
минимуму, так как благодаря «современной аранжировке», развивающейся с
засильем эффекта, технических деталей, берущих верх над
содержательностью, значительность и строгость классических произведений,
их гармония и нравственный потенциал остаются нераскрытыми 60
.
Хоркхаймер и Адорно, исходя из реальных социальных проблем, раскрыли
тенденцию к экспансии происходящего в современном буржуазном обществе
процесса «рационализации» и «овеществления», который, захватывая
область культуры, осуществляет конформизм культурного производства.
Они вскрыли также репрессивную функцию буржуазной «массовой
культуры» как господствующей в обществе и охарактеризовали ее как одну
из форм современного порабощения индивида, подавления его духовной
свободы и творческих способностей. Однако в целом их концепция
оказывается в русле «мнимого критицизма» (К. Маркс), поскольку ее авторы
избегают анализа классовых противоречий буржуазного общества,
вызывающих эти последствия, оценивают ситуацию как неразрешимую,
фетишизируя бессилие человека перед существующим общественным
механизмом и институциализированными формами господства. «Массовая
культура», как известно, далеко не исчерпывает всей культуры, этого
сложного социокультурного организма, структуру которого можно
охарактеризовать лишь с помощью типологизирующих средств, а главное —
с учетом успешно развивающейся культуры принципиально другой
ориентации, выполняющей созидательные функции в формировании
мировоззрения современного человека. Такая культура не может исчезнуть,
как не может утратить ценность и то классическое наследие, на котором
паразитирует «лжекультура», его антипод, являющийся по сути
антикультурой. Классическое культурное наследие отнюдь не теряет своего
нравственного и гуманистического потенциала и не перестает быть, по
словам К. Маркса, «не только арсеналом, но и почвой» подлинной культуры.
Характеризуя «просвещение» как «массовый обман», а тип современной
культуры как «индустрию культуры», способную поставлять лишь
«массовую культуру», Хоркхаймер и Адорно предприняли попытку
подогнать под эту модель всю современную культуру и допустили тем
самым вульгаризацию процесса культурного развития общества. Тенденция к
абсолютизации роли «массовой культуры» не имеет опоры и в самом
объективном содержании их концепции.
К тому же и сама «массовая культура», вернее, то сложное и во многом
парадоксальное явление, которое обозначается этим понятием, не получило у
Хоркхаймера и Адорно исторической конкретизации. В их концепции нет
четкого разграничения прогрессивных изменений и тех особенностей,
которые характеризуют ту или иную исторически отжившую социальную
систему. Более того, наука и техника, вызывающие большие изменения в
сознании, мышлении и являющиеся одним из высших интеллектуальных
достижений человечества, трактуются только как детерминирующие
развитие манипулируемого человека. Рассмотрение же человека — творца
науки и техники — и репрессивной роли последних по отношению к своему
создателю не опирается на анализ материально-экономических предпосылок
использования достижений науки и техники в целях подлинного прогресса и
осуществления революционных преобразований, обусловливающих характер
и достижение общественных идеалов, — все это превращает критику этими
философами просвещения, науки и техники в критику социального прогресса
вообще, в его отрицание.
Здесь важно подчеркнуть как характерную черту школы, что и в дальнейшем
ее представители даже не пытаются дать философское осмысление того
вклада, который внесла наука в методологию и теорию познания, принижая
тем самым значение научного знания в целом.
4. «Негативная диалектика» как «логика распада»
Социально-классовая обусловленность «отрицательных» тенденций в
методологии Франкфуртской школы со всей очевидностью обнаруживается в
социальных теориях так называемого развитого индустриального общества,
выдвинутых ее представителями в 50—60-х годах. Как уже отмечалось, эти
теории, претендующие на анализ социальных изменений, связанных с
научно-техническим прогрессом, построены без учета основного
противоречия нашей эпохи — противоречия между социализмом и
капитализмом, вне связи с закономерностями классовой борьбы и мирового
революционного процесса; в них, таким образом, нарушен конкретно-
исторический подход к познанию общества, требующий конкретного анализа
всех его сторон, соотношений и связей, выделения главного звена,
определяющего сущность новых закономерностей развития. Игнорирование
социализма, расширения сферы его влияния и сужения сферы
экономического и политического господства капитализма, всевозрастающей
роли рабочего класса в современном мире и, напротив, преувеличение роли
факторов, влияющих на ход мировой истории, но не являющихся
решающими, в частности научно-технического прогресса, делает эти теории
эклектичными 61
, неспособными раскрыть объективные закономерности
современного общественного развития.
Заданные мелкобуржуазным мировоззрением, эти субъективистские теории
опирались на такие методологические принципы, как «пересмотр»
диалектики Гегеля и Маркса, рассмотрение объективных закономерностей
общественного развития с позиций отрицания и др. Своеобразным синтезом
и корреляцией этих принципов и явилась концепция «негативной
диалектики» Т. Адорно, изложенная в одноименном труде, программном для
Франкфуртской школы. Это не означало, что Адорно разработал новый
метод, тем более — систему: обращаясь к диалектической проблематике и
давая ей интерпретацию посредством традиционного теоретико-
познавательного категориального аппарата, он ставил своей задачей свести
ее к методу абсолютной негативности.
В предисловии Адорно так определяет цель своего сочинения: «Определение
„негативная диалектика" нарушает традиции... В этой книге мне хотелось бы
избавить диалектику от всякого рода утверждающей сущности, намерения
оставить что-либо после себя»62 В противоположность как гегелевскому, так
и марксистскому пониманию диалектики он пытается далее обосновать
необходимость «негативной диалектики» как «твердого», «непоколебимого»
(unbeirrte) отрицания, исходя главным образом из характера современного
буржуазного общества как «антагонистической целостности» с такими
признаками общего кризиса, как ложные условия общественного бытия,
примат общего над особенным, социальный кризис индивида, конфликты в
масштабе всей планеты, прогресс техники разрушения и др. Однако
философское осмысление этих противоречий сводится у него к их
констатации, а специфика логики их рассмотрения выражается только в том,
что вопрос о способах их разрешения либо не ставится вовсе, либо
оказывается вне связи с проблемой преобразования буржуазного общества, в
результате чего и социальная детерминированность пересмотра
традиционных теоретико-познавательных методов оказывается
неубедительной.
Духовным отцом «негативной», или «парадоксальной», диалектики Адорно
считает Кьеркегора, подвергшего критике диалектику Гегеля как
недостаточно отрицательную. Он не случайно выбирает из числа критиков
Гегеля именно Кьеркегора, а не Маркса, который, как известно, вскрыл
ошибочность гегелевской диалектики отрицательности, но вместе с тем со
всей силой подчеркивал положительный момент гегелевской диалектики,
усматривая величие гегелевской философии в диалектике «отрицательности
как движущего и порождающего принципа» 63
. Адорно же игнорирует этот
смысл гегелевского «отрицания отрицания» и приходит к критике
позитивного отрицания как санкционирующего существующее. По его
мнению, отрицание отрицания не опровергает это существующее, а лишь
показывает, что «оно недостаточно отрицаемо... Отрицаемое должно быть
отрицаемо до тех пор, пока оно не исчезнет окончательно»; такое толкование
отрицания отрицания «повреждает жизненно важный нерв гегелевской
логики и вообще исключает всякое диалектическое движение»; это —
«решающий момент», отделяющий «негативную диалектику» от диалектики
Гегеля 64
.
Что же тогда понимается им под диалектикой? Диалектика, по Адорно, это
не метод познания или вообще нечто реальное в обыденном понимании. Она
лишь один из способов мышления, противоречивый сам по себе и
направленный на выявление противоречия в реальности. Но в его концепции
«противоречие в реальности — это противоречие против таковой»,
свидетельствующее о неистинности понятий, выработанных нашим
мышлением, которое характеризуется как «идентифицирующее» 65
.
Обращаясь к гегелевскому соотношению объект-понятие, Адорно в духе уже
рассмотренной нами интерпретации этого соотношения Маркузе выражает
неудовлетворенность понятийным мышлением на том основании, что между
вещами и понятиями имеет место конфронтация. Особенно это касается
абстрактных, общих понятий, под которые подводятся вещи и явления якобы
для того, чтобы путем абстрагирования от их особенностей в пользу
всеобщего сделать их поддающимися управлению. Отождествляющее
мышление опредмечивает понятие через логическое тождество, поэтому
само понятие понятия представляется Адорно проблематичным, а
отождествление приравнивается к идеологии.
Именно в этом контексте и выявляется главная функция «негативной
диалектики», ее, так сказать, «гносеологическое» предназначение: она
должна служить «расколдовыванию» понятий и способствовать
обнаружению непонятийного, которое якобы стоит ближе к реальности и
обнаруживается с помощью «логики распада» (расщепления), т. е .
разрушения связей, отношений и прочих принципов единства и всеобщности
и замены их принципом отрицания тождественности 66
. Логика негативной
диалектики—«это логика распада: оснащенной и опредмеченной формы
понятий, с которой вначале сталкивается познающий субъект. Ее
тождественность с субъектом — это не-истина. С нею субъективная
преформация феномена смещается к нетождественному, к individuum
ineffabile (невыразимому индивидууму)», пишет Адорно67
. «То-что-есть
отвергает то-чего-нет и, поступая таким образом, отвергает свои собственные
реальные возможности», — рассуждает он; «следовательно, чтобы выразить
и определить то-что-есть своими собственными терминами, нужно
отвергнуть реальность. Существует реальность другая (иная) и гораздо
большая, чем та, которая зашифрована в логике и языке фактов», и
направленная на расшифровывание ее «негативная диалектика» выполняет в
этом смысле «освободительную» функцию, ибо ее задача — «объяснение
того-что-есть терминами того-чего-нет, конфронтация данных фактов тому,
что они отвергают» 68
. В этом значении Адорно, подобно Маркузе,
рассматривает свою «негативную диалектику» как положительный акт.
Адорно считает, что диалектика не должна доводить процесс мышления до
категорий, и высказывается против детерминированности, систематизации,
категориального мышления вообще. Приравнивая последнее к формально-
логическому и под видом такового критикуя его как «внедряющее
тождественность», он неоднократно впадает в пространные рассуждения в
ницшеанском духе о ложности систематического знания в целом,
независимости истинного значения от обобщающих (и не только
обобщающих, но доступных логическому мышлению вообще) методов
познания действительности.
В соответствии с основным направлением школы — социальной философией
и идеей о социальной обусловленности всех форм духовной жизни,
получившей выражение в категории «господство», — Адорно, как и другие
теоретики школы, придает двуплановость, социальный подтекст
интерпретации вопросов о логике движения мышления, закономерностях
развития познания (категорий абстрактное — конкретное, всеобщее —
отдельное, особенное и др.) . Так, он подвергает критике синтез «не как
отдельный мыслительный акт, устанавливающий связь между отдельными
моментами, а как руководящую и высшую идею» и предлагает «повернуть
тенденцию синтезирующих актов так, чтобы они помнили о том, что они
подчиняют многообразному», а «все более становящийся табу анализ»
направить в сторону отдельного, единичного, особенного, которые всегда
подчиняются репрессивному всеобщему69
. Адорно считает, что субъект
должен исправить «ошибку традиционного мышления»— «ту
несправедливость, которую он причинил нетождественному», — и
сосредоточить внимание не на выведении всеобщего, а на раскрытии
специфики единичного и особенного70
, ибо «действительно всеобщее, как
открыл Гуссерль, находится в центре индивидуальной вещи, а не
конституируется только при сравнении одного индивидуального с
другим» 71
.
Диалектика, по Адорно, должна направлять к некатегориальным формам
мышления, «несистемной мысли» и посредством серии анализов, состоящих
главным образом из отрицаний, способствовать выявлению
нетождественного. Момент тождественности в отождествляющем суждении
заключается, согласно его концепции, в том, что каждый отдельный,
причисленный к какому-то классу предмет имеет определения, не
содержащиеся в определении его класса. Для более точного понятия, которое
не является простым единством признаков отдельных предметов,
справедливо как раз обратное, пишет Адорно. Диалектическое познание
нетождественного он видит в том, что «именно оно отождествляет больше и
иначе, чем отождествляющее мышление. Оно хочет сказать, чем является
нечто, в то время как отождествляющее мышление говорит, от чего зависит
нечто, примером или представителем чего оно является, т. е . что не является
самим собой»72
.
Так как «нетождественное» нельзя получить непосредственно, как и
позитивное, а также путем отрицания отрицания, то негативное мышление
должно способствовать этому, разрывая тождественность, ибо именно в
«нетождественном» — истинное, сущностное содержание объекта. «„А"
должно быть тем, чем оно еще не является, рассуждает Адорно. Эта надежда
противоречиво связана с тем, в чем разрывается форма предикативной
тождественности. Для этого философская традиция имела слово „идеи". Они
—
и не χωρις (нечто внешнее), и не пустой звук, а негативные знаки.
Неистина всего достигнутого тождества есть перевернутый образ истины.
Идеи живут в пустотах между тем, чем хотят быть вещи, и тем, что они суть.
Утопия находится над тождеством и над противоречием — совместимость
различного». И далее: «Квалифицированно истины как негативного
отношения знания, пронизывающего объект, — т. е . устраняющего
видимость его непосредственного бытия как такового — звучит как
программа негативной диалектики, знания, „соответствующего объекту"»73
.
Такое определение познавательного процесса и его программы не дает ответа
на вопрос, какими средствами они могут быть осуществлены и каким
образом выразить это непонятийное, нетождественное. Адорно фактически
приходит к отрицанию способности мышления адекватно познавать
действительность. Диалектика познавательного процесса и изучение законов
диалектики, действующих в процессе познания, в его концепции
элиминируются.
Познание, как известно, выражает свои результаты в форме законов, понятий
и категорий, которые не рассматриваются как неизменные, а постоянно
развиваются, обогащаются новым опытом, конкретизируются, что находит
отражение и в развитии самих понятий и категорий. Марксистская
диалектика, рассматривая соотношение между абстрактным и конкретным в
процессе познания, указывает, что хотя общее, абстрактное неполно,
«мертво», но оно есть «ступень к познанию конкретного»74
. Отрицая
имеющий значение во всякой теории понятийный и категориальный аппарат
—
«продукт и итог истории мысли, опирающейся на историческую
практику развивающегося человеческого общества» 75
, «негативная
диалектика» обнаруживает тенденцию к агностицизму и иррационализму.
Этим исходным принципом определяется и негативное отношение Адорно ко
всем кардинальным философским проблемам как «традиционным», т. е .
догматическим, в его понимании, и движущимся к «распаду». Так, в
концепции «негативной диалектики» на переднем плане оказываются
проблемы теории и практики.
Их анализ в какой-то степени можно рассматривать и как итог эволюции
идей, с которых начала школа, и как завершение избранной ею тенденции к
пересмотру основных положений диалектического материализма. Адорно
отвергает марксистский принцип единства теории и практики и даже
включение категории практики в философию. Он утверждает приоритет
теории, считая, что теория действенна сама по себе. По мнению Адорно,
вопрос о теории и практике зависит от вопроса о субъекте и объекте,
рассматривая который, он критикует принцип тождества субъекта и объекта
и выдвигает одно из своих основных положений о первенстве объекта.
Доказывая, что ход теоретико-познавательного анализа был в основном
направлен на то, чтобы «свести все больше объективности к субъекту», он
считает необходимым «изменить направление именно этой тенденции»,
поскольку философия, решая проблему субъекта-объекта, «забыла об
опосредствовании в опосредствующем, в субъекте», и «как только он
становится предметом теоретико-познавательной рефлексии, ему передается
тот характер предметности, отсутствие которого он столь охотно
рекламирует как преимущество перед областью фактического. Его
существенность, наличное бытие второй степени, предполагает, как не
скрывал Гегель, первичное, фактичность как условие его возможности, даже
в случае отрицания» 76
. По Адорно, утверждение примата субъекта в теории
познания базируется на разделении труда, когда духовный труд отделился от
физического под знаком господства Духа и с ретивостью неспокойной
совести должен был утверждать свое право на господство, которое он
выводил из того положения, что он якобы первичное и изначальное, в
глубине души догадываясь, что «его прочное господство — совсем не
господство духа, а обладает своим ultima ratio (конечной причиной) в
физической силе, которой оно располагает» 77. Адорно считает, что в
разграничении субъекта и объекта нужно исходить из того, что «от субъекта
нельзя мысленно отделить объект даже как идею, но от объекта субъект —
можно. К смыслу субъективности относится быть объектом; а к смыслу
объективности не относится быть субъектом» 78
. В этом положении
марксистские исследователи, в частности В. А. Погосян, видят выражение
основной идеи теории познания Франкфуртской школы о «приоритете
объекта», приоритете «не в смысле первичности, а в смысле перевеса»,
считая, что это основоположение направлено против материалистической
теории познания и является «объективно-идеалистической разновидностью
феноменологии» 79.
Понятие субъекта, согласно Адорно, также существенно изменилось.
«Философский субъективизм», утвердившийся со времен Фихте, черпал
свою силу в том, что он служил идеологическим обоснованием эмансипации
буржуазного я. При этом под сущностью трансцендентального субъекта
понималась функциональность, чистая деятельность, которая осуществляется
в действиях индивидуальных субъектов и одновременно превосходит их.
Трансцендентный субъект «расшифровывался» как не осознающее себя
общество.
Подобно Хоркхаймеру, Адорно считает, что с сокрушением К. Марксом
метафизики предельная возможность, доступная философии, была
достигнута и что теперь основные философские категории (понятия) не
могут быть рассматриваемы вне связи с универсальным господством
меновой стоимости над людьми. Вводя категорию «господство», Адорно
вновь, как и в «Диалектике просвещения», очерчивает ее очень
неопределенно, включая в ее содержание, помимо «все ограничивающего и
нивелирующего» принципа обмена, также и все более отчуждающее
человеческую мысль от философии репрессивное воздействие
государственно-монополистического аппарата, созданного с помощью науки
и техники. Универсальное господство меновой стоимости над людьми,
согласно Адорно, «отказывает субъектам в праве быть субъектами, низводит
саму субъективность до простого обмена, превращает этот принцип
общности (субъекта и общества), утверждающий, что он создает господство
субъекта, в не-истину» 80
. На этом основании Адорно заявляет и об
ограниченности познавательных возможностей индивида, его творческих
способностей, подчеркивая, что «показателем первенства объекта служит
бессилие духа во всех его суждениях, вплоть до сегодняшнего дня, в
устройстве реальности» 81
.
Выводы Адорно противоположны марксистскому взгляду на соотношение
объекта и субъекта, исходящему, как известно, из того, что ход истории
определяется объективными, от воли людей не зависящими материальными
условиями, прежде всего «определенной суммой производительных сил»; но
в то же время люди суть лишь постольку, поскольку они находятся в
практическом отношении к природе, вследствие чего они своей
деятельностью изменяют объективные условия, творят эти условия и тем
самым выступают в качестве творцов истории82
. Эта диалектическая связь,
истинность которой подтверждена историей, остается справедливой и для
современности, несмотря на действительно имеющие место в буржуазном
обществе иррационалистические тенденции, на которые указывает Адорно.
Однако он их явно преувеличивает, абсолютизирует, и поэтому его
намерение исправить одно якобы искаженное представление о соотношении
объект — субъект только порождает другое83
. Его недиалектический подход
к субъекту выразился в утверждении, что реальные жизненные связи
последнего однозначно определены навязанной ему ролью подверженного
манипуляциям, бездуховного существа, в утверждении его «тотального
бессилия».
Адорно отрицает объективную диалектику и сводит объективные законы
общественного развития к практической деятельности субъекта, критикуя
вместе с тем первенство практики. Он утверждает, что «требование единства
практики и теории незамедлило унизить последнюю до положения служанки;
устранило в ней то, чего она должна была бы достичь в этом единстве...
Теории следует вновь отвоевать свою самостоятельность — это в интересах
самой практики», поскольку «без нее практика, которая все время хочет
изменять, не могла бы изменяться» 84
. Истинную связь теории и практики
Адорно видит в теоретической рефлексии. По его мнению, «то, что у Гегеля
и Маркса оставалось теоретически недостаточным, передалось исторической
практике; поэтому нужно снова теоретически рефлектировать, вместо того
чтобы мысль иррационально подчинялась примату практики; она сама была в
высшей степени теоретическим понятием» 85
. Попытки Адорно принизить
значение теоретического наследия Маркса, отрицание положения
марксистской диалектики о практике как критерии истины смыкаются с
программными заявлениями Франкфуртской школы об «устаревании»
марксизма и необходимости замены его новой социальной теорией.
Выдвигая свой вариант такой теории, автор «негативной диалектики»
апеллирует к «критически мыслящей», свободной личности, рассуждает о
философии «самосознания» (в духе младогегельянцев), выдвигает проекты,
восходящие к идеям о «свободно парящей интеллигенции» Э. Дюркгейма и
др., однако, согласно его же концепции, в условиях «насквозь
организованного общества» (выражение Маркузе) такой личности неоткуда
взяться.
Категория тотальности — одна из основных в социальной диалектике
Адорно; ее смысл социально окрашен и раскрывается посредством понятий
«тотальное отчуждение», «тотальная рациональность», «тотальный регресс»,
«тотальная интеграция», «тотальная катастрофа» и др., которые, по его
мысли, наиболее адекватно передают смысл образовавшихся новых форм
господства и угнетения, в условиях государственно-монополистического
капитализма и современной эпохи вообще. Введение подобных понятий и
категорий полемически заострено против марксистской диалектики и ее
категориального аппарата, который якобы фиксирует либо уже распавшиеся,
либо «нераскрытые» по существу связи и который поэтому должен быть
заменен новым. «Негативная диалектика» в этом плане заявлена как
качественно новая форма отрицания — радикальное отрицание всякого рода
«тоталитарности».
Между тем социальная теория Адорно свидетельствует о том, что
используемые им понятия возникли в результате исследования не диалектики
общественного развития в целом, а лишь некоторых отдельных социальных
явлений: он избегает конкретного научного анализа особенностей
капиталистического процесса производства на современном этапе, классовых
отношений, отношений собственности и эксплуатации и др. и в соответствии
с объявленной методологией отрицания прослеживает прежде всего «логику
распада» таких общественных структур, как буржуазное государство, партии,
институты и т. п ., подменяя тем самым реальную диалектику односторонней
интерпретацией отдельных социальных процессов.
Примером такого анализа может служить трактовка Адорно коренного
вопроса диалектики — вопроса о противоречиях, в которой он занимает в
сущности метафизическую позицию, рассматривая их как неразрешимые
антиномии. Обосновать их неразрешимость франкфуртские философы
пытались и ранее. В духе сложившейся традиции Адорно рассматривает
противоречия как неизбежно присущие самой общественной структуре,
являющейся антагонистической с самого начала формирования общества (ср.
с «Диалектикой просвещения»). Согласно его концепции, на современном
этапе речь должна идти не о классовых противоречиях, которые будто бы
изжили себя на монополистической стадии развития капитализма (такова же
точка зрения М. Хоркхаймера, Г. Маркузе и др.), а прежде всего о
противоречии между личностью и репрессивным по отношению к ней
обществом. Адорновская «тоталитарность» в этом плане означает
антагонистическую целостность «распадающегося индивидуума и
регрессивных коллективов» 86; общественные структуры характеризуются
как «тоталитарные», причем независимо от социального устройства,
поскольку, по Адорно, в любом случае личность оказывается одинаково
порабощенной производственным аппаратом. К этому противоречию
сведены и все другие, причем критическое освещение такого рода
противоречий, связанных с проблемой отчуждения, овеществления и др.,
приобретает в концепции Адорно все более абстрактную форму
нигилистического, «мнимого критицизма», так как действительные,
реальные способы разрешения противоречий, а также возможные в
перспективе, связанные с антибуржуазными и антиимпериалистическими
тенденциями и выходом за пределы капиталистической системы, в ней не
рассматриваются.
Неразрешимость противоречий, исключающая революционную критичность
и апеллирующая к абстрактной личности, а не к конкретной практической
деятельности трудящихся масс, являющихся главной силой прогресса
человеческой истории, неизбежно приводит Адорно к полной
безвыходности. И разумеется, не только его одного, ибо с таких же позиций
освещались проблемы социальной диалектики и в работах М. Хоркхаймера,
и в «Одномерном человеке» Г. Маркузе, появившихся незадолго перед
«Негативной диалектикой» и во многом перекликавшихся с ней. Адорно
подытожил программные положения этих философов об отрицании
всеобщей диалектики как метода, о признании «лишь в самой малой
степени» 87 распространения диалектики на природу, отрицании объективной
диалектики вообще. У Адорно диалектика сведена к социальной диалектике,
интерпретация же им таких категорий, как отрицание отрицания, всеобщее,
единичное, особенное, противоречие и др., разработанных в гегелевской и
марксистской системах, вылилась в искажение их сущности, а его
«негативная диалектика» с ее массой отрицаний вместо дефиниций, в том
числе отрицанием всеобщих связей и закономерностей, неизбежно
оказывается в русле антидиалектизма в духе Ницше и «качественной
диалектики» Кьеркегора, несостоятельных, как показал исторический опыт,
перед марксистской диалектикой, которая «по самому существу своему
критична и революционна» 88
.
Поскольку в «Негативной диалектике» не только ставились критические
задачи, но и предполагалась разработка новых теоретико-познавательных
методов, обратимся к этой «положительной» программе.
5. Модели как методы познания. Эстетическая теория вместо
гносеологии
Адорно предлагает мыслить с помощью неких «моделей» особого рода. Они
понимаются им как познавательные, исследовательские мыслительные
конструкции, опирающиеся на социальную действительность (практику), но
содержащие прежде всего критическую рефлексию, направленную на
разрушение сложившихся стереотипных категорий, довлеющих над
сознанием человека, и на выявление в процессе этого разрушения того иного
содержания, которое нельзя выявить и познать обычными средствами89
.
Предлагаемое Адорно в качестве новой методологии моделирование
заявлено как практически ориентированное, однако оно существенно
отличается от теории и системного мышления, а именно: оно не
формулирует цели или «идеала» в виде какой-либо позитивной модели. Его
суть (а следовательно, и суть познания) оказывается в самом процессе и
поэтому не может быть определена однозначно90
. Движущими силами его
являются, по Адорно, «освобождение», а в социальном плане — стремление
к «иной» исторической практике — перестройке общества путем поиска
«других», нереволюционных факторов изменения мира. Поскольку, согласно
его концепции, конечная познавательная цель находится в самом процессе и
представляет собой нечто вроде «составления» (композиции) в духе М.
Вебера91
, встает вопрос о принципах осуществления этого процесса. У
Адорно — это произвольно, интуитивно избранные принципы, близкие по
своему характеру прежде всего художественным методам познания.
Из методов, используемых в научном познании, он уделяет особое
внимание констелляции, способу, который наиболее соответствует его
собственному представлению о познавательном процессе и моделью
которого у него выступает образ действий языка. Язык, пишет Адорно,
«представляет собой не просто голую систему знаков для функций познания.
Там, где он по существу выступает как язык, становится изображением, он не
определяет свои понятия. Свою объективность он приобретает для них
посредством той связи, в которую он ставит понятия, центрируя их вокруг
определенной вещи. Этим он помогает понятию в его намерении полностью
выразить то, что подразумевалось»92
. Констелляция «открывает» предметы,
она «высвечивает специфическое предмета, которое безразлично или
тягостно для классификации», причем при этом вовсе не нужно исходить из
собственного содержания предмета, как нет надобности и в формально-
определительном результате, окончательной понятийной формулировке:
«Познание предмета в его констелляции есть познание процесса, который он
накапливает в себе. Теоретическая мысль в форме констелляции кружит
вокруг понятия, желая его открыть, надеясь, что оно раскроется, как замки
охраняемых сейфов: не с помощью одного ключа или одного числа, а с
помощью целой комбинации чисел», ведь смысл и самой констелляции не
понятийная фиксация, а попытка «путем целой группы понятий вокруг
искомого, центрального, выразить то, на что оно направлено, вместо того
чтобы очерчивать его контуры для оперативных целей» 93
.
Адорно выступает против системного мышления, как замкнутого,
ограниченного определенными рамками, и предлагает ввести открытые
определения отдельных моментов, предполагающие неконкретность, много-
смысленность, возможность постепенного составления их и т. п ., которые по
своему характеру близки констелляции. С целью активизации познания
Адорно рекомендует также широкое обращение к таким способам
художественного мышления, как аналогия, метафора и др., которые будят
воображение, создают напряженность восприятия и тем самым способствуют
активизации творческих возможностей мышления, создают предпосылки
«отрыва», якобы необходимого для создания нового — качественного скачка,
и др. Собственно, именно в подчеркивании (и разумеется, явном
преувеличении) возможности с помощью этих методов выйти за пределы
доступного обычными средствами и состоит предложенное им «обновление»,
поскольку сами методы вполне традиционны и каждый из них, даже в своей
области, лишь один, отнюдь не главный, из богатого арсенала специальных
методов, в чем Адорно, искусствовед и музыковед, не может не отдавать себе
отчета.
Преувеличение потенций нетрадиционно используемых художественных
методов обнаруживает характерную для всей философии Адорно тенденцию
«освобождения» теории познания от «традиционалистичности» путем
использования эстетической теории и ее категорий. Начиная с работы о
Кьеркегоре, в своих многочисленных трудах о музыке и вплоть до вышедшей
посмертно «Эстетической теории» (1970), Адорно развивает эту тенденцию,
продолжая тем самым устойчивую традицию буржуазной философии,
рассматривающей искусство как сферу выявления истины, как «модель»
познания94
. При этом он подвергает пересмотру такие важнейшие понятия и
категории, как типическое, символическое, отражение и др., а также общие
реалистические принципы оценки произведения искусства.
В трактовке соотношения научное знание — искусство Адорно, во многом
опираясь на Шопенгауэра и Ницше, утверждает, что прежде всего именно
искусству доступно само сущее, ибо оно схватывает жизнь в противоречиях
(а согласно «негативной диалектике», «только в противоречии сущего с тем,
чем оно хочет быть, и можно распознать сущность»95), в то время как
научное мировоззрение передоверяет решение вопроса о существенном и
несущественном тем дисциплинам, которые занимаются данным предметом
(но одной дисциплине может показаться несущественным то, что другая
считает существенным).
Моделью констелляции, передающей объективное духовное содержание, он
считает музыку. Ссылаясь на «Происхождение немецкой трагедии»
Беньямина, Адорно" указывает, что тот рассматривал даже понятие истины
как констелляцию. Такое понимание не противоречит веберовскому
пониманию констелляции как композиции, близкой по своему характеру
музыкальной композиции: «Созданная субъективно, она удачна только тогда,
когда субъективная продукция в ней погибает. Связь, которую она создает —
а именно «констелляция» — читается как знак объективности: духовного
содержания»96
. Исследование перехода субъективно мыслимого в
объективность и составляет один из основных принципов анализа музыки
Адорно в его многочисленных музыковедческих работах. Ниже мы
рассмотрим этот принцип подробнее. Здесь же, хотя бы в самом общем виде,
обрисуем предлагаемые Адорно модели, которые приводятся им в качестве
примеров (можно сказать, образцов) принципа моделирования.
Прежде всего речь пойдет о модели свободы. Чтобы это не казалось
«привязанным» к рассматриваемой нами проблематике, поясним, что
Адорно, как все другие «франкфуртцы», рассматривал свободу как
необходимую предпосылку возможности осуществления истинного,
неидеологизированного познания.
Философ утверждает, что в современном идеологизированном мире сознание
человека регрессивно, вследствие чего и познание остается неподвижным и
бесплодным, а познающие утрачивают способность отличать существенное
от несущественного и разбирать, где причина, а где следствие. Согласно
Адорно, регрессивное сознание предпочитает «следить за правильностью
несущественного, чем размышлять над существенным с опасностью впасть в
ошибку»; перекликаясь с Ницше, он считает, что в действительном
(истинном) познании никто не заинтересован и «современный невежда не
позволяет скрытому миру вывести себя из равновесия, он доволен фасадом
мира и принимает за чистую монету то, что мир всучит ему словесно и без
слов» 97. Повсеместно господствующее позитивистское мировоззрение
становится идеологией и исключает из поля зрения сначала объективную
категорию сущности, а затем, последовательно, и интерес к существенному,
пишет Адорно. Путь к преодолению этого положения, согласно его
концепции, лежит через свободу.
Как же выглядит эта модель и другие, аналогичные ей, которые выступают у
Адорно под названиями «освобожденное общество», «свободное общество»,
«интеллектуальная свобода» и пр.?
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что, явно противореча
провозглашенному принципу — исходить из социальной практики, модели
строятся чисто умозрительно, без учета конкретной истории и конкретной
исторической практики. Так, прослеживая эволюцию теоретического
обоснования свободы как одной из собственно философских проблем,
определяющих развитие буржуазной философии истории, Адорно предлагает
своеобразную модель диалектики свободы и необходимости в истории:
свобода — несвобода (детерминизм) — тождество, при этом свобода
рассматривается им как проблема совмещения социально-исторического
действия с детерминизмом, определяющим образ действий человека как
социального существа и как части природы. Раскрывая «метаморфозы»
проблемы свободы в кантовских антиномиях (утверждение о свободе как
несвободе Кант выражает через противоречие), в гегелевской диалектике
(поставившей диагноз философии — «нищета философии» — и
утверждавшей, что свобода хотя еще и является существенным философским
фактором, но утрачивает свое значение и без труда может быть похоронена
общественными тенденциями), Адорно приходит к выводу, что проблема
свободы превратилась в «мнимую проблему» (Scheinproblem), поскольку в
современном обществе интерес к свободе «утрачен». Современность — это
мир несвободы, где атрофирована воля — «потенциальный орган свободы»,
так как она одновременно олицетворяет и принцип господства, которому
люди сами себя последовательно подчиняют. Тождественность самому себе
и самоотчуждение сопутствуют друг другу. Условие свободы оказывается
одновременно и непосредственно тождественным принципу детерминизма98
.
Такая модель превращает проблему свободы в дилемму: свобода или
организованное общество (мир несвободы, «тоталитаризм»), и Адорно
считает, что подобное состояние характерно не только для современности,
оно было присуще целым эпохам и обществам, в которых недоставало как
понятия свободы, так и самого ее наличия. Это положение делает якобы
правомерной практическую ориентацию предложенной модели на
отрицание, полностью порывающее связь с прошлым, как в целом
репрессивным, препятствующим свободе, и на прорыв тоталитарности в
новый мир, мир подлинной свободы (у Адорно он обрисован хотя и без
утопий, но крайне абстрактно: как освобождение от эксплуатации и
угнетения, как избавление от страха и т. п .) 99.
Представленные Адорно модели свободы и освобожденного общества по
существу оказываются в одном русле с теми «критическими» течениями,
которые выступали против подавления буржуазных свобод государственно-
монополистическим регулированием и боролись за свободу личности против
буржуазных институтов, не касаясь при этом вопросов классовой природы
этого явления. Классовая борьба как движущая сила истории сброшена со
счетов в моделях Адорно, не случайно поэтому в них нет и четкой
социальной перспективы.
В целом моделирование Адорно оставляет неясными много вопросов,
касающихся гносеологического статуса его моделей: как они должны
строиться и «работать», при помощи каких познавательных процедур
предполагается обнаружить неявное «иное», возможно ли перевести его в
явное и каким образом зафиксировать, если философ не считает понятие
формой знания, критически относится к понятийному мышлению и отвергает
использование категориального аппарата. Очевидно, что «новации» Адорно в
отношении структуры познания эклектичны и восходят к гегелевскому
пониманию истины как процесса и к марксистскому учению об абсолютной и
относительной истинах, а также к основному методологическому
требованию — делать выводы не из голых фактов, а на основе изучения
процесса развития.
В заключение можно сделать вывод, что концепция «негативной
диалектики» Франкфуртской школы, отвергающая марксистский способ
критической переработки гегелевской диалектики, противоречащая, в
сущности, всем основным положениям марксистской материалистической
диалектики, оказывается неспособной стать методологией теорий,
адекватных реальной действительности и объективным законам ее развития,
и тем самым выводит себя за пределы науки.
Глава третья
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В СФЕРЕ ГОСПОДСТВА
ТЕХНОКРАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.
1. Концепция искусства Т. Адорно и ее антипод
В американский период деятельности, а также по возвращении школы в ФРГ
(Г. Маркузе и Э. Фромм остались в США) у франкфуртских философов
Хоркхаймера, Адорно и др. со всей очевидностью проявилось недоверие к
опыту и разуму как основе просвещения и рациональности. Отсюда резкая
критика в их концепциях теоретических основ научного, в первую очередь
технического, знания, скепсис и пессимизм по отношению к бурно
развивающейся технической рациональности во всех областях общественной
жизни, в том числе и в области культуры.
Значительное число работ, посвященных проблемам культуры,
принадлежит Т. Адорно; хотя он и обращался в них главным образом к
музыке, но в целом его творчество имеет широкий идейно-тематический
диапазон: связи искусства и общества, культуры и политики, кризис
творческой деятельности художника в условиях товарно-денежных
отношений, возможность синтеза уединения и общности и др. Остановимся
на одной из центральных идей его концепции искусства — постепенной
утрате культурой, и в частности художественным творчеством, объективного
познавательного смысла под воздействием научно-технической цивилизации,
оказывающей репрессивное воздействие на их духовную сущность.
Адорно развивает популярную в европейской философии начала XX в. идею,
согласно которой западноевропейская культура нашла свое наиболее
адекватное выражение в музыке. Философское осмысление этой идеи во
многом идет от Шопенгауэра, Ницше и Вагнера, которые воспринимали
музыку как выражение мироощущения, воли, составляющей сущность
бытия, а также как способ самовыражения творческой личности художника.
Музыка для Адорно — это высокая форма искусства. Он ценил немецкую
музыкальную культуру прошлого — творчество Бетховена, Шуберта,
написал эссе о Вагнере, критическое, но с большой увлеченностью его
искусством 1
.
Адорно, наблюдая происходящую на его глазах эволюцию культуры, видел
утрату ею человеческих ценностей. История культуры в его интерпретации
—
это прежде всего история человеческого духа, его исканий, стремления к
истине; культура — это духовные ценности, всечеловеческое достояние, и в
этом ее сущность — таковы ценностные посылки Адорно. Сам он —
носитель определенных культурных начал, буржуазных по своей природе,
проявившихся, в частности, в характерном для него абстрактном,
внеисторическом подходе к проблемам культуры.
Адорно выступил с критикой современной буржуазной культуры в период,
когда на Западе определились новые ценностные культурные установки,
появление которых было обусловлено социально-историческими
особенностями развития капиталистического общества как «общества
потребления» и формирования в нем «индустрии культуры» и
потребительской «массовой культуры».
На современном этапе, по Адорно, само понятие культуры оказывается
переосмысленным: под культурой стали понимать определенный уровень
общественного развития вообще и показатели ее сместились в области науки,
техники, производства и т. п., т. е . в сферу материального. Однако если
культура становится важным конституирующим элементом общественной
структуры, то, проникая во все более широкие сферы общественной жизни,
она вместе с тем утрачивает свою истинную сущность, полагает философ.
Остановимся на работах Адорно, посвященных социологии музыки, в
которых наиболее полно и логично изложена его концепция культуры.
Поскольку Адорно истолковывает музыкальный процесс не столько с точки
зрения имманентно-музыкальных закономерностей, сколько — в
соответствии со своей целью — социологически, то очевидно, что в оценке
музыки он исходит из единства как чисто музыкального содержания
сочинения, так и духовного, общественного смысла, вносимого в него
художником. Оценивая музыкальное культурное наследие прошлого как
высокую форму искусства, Адорно выделяет творчество Моцарта, Бетховена,
Шуберта, Вагнера и др., внесших в него каждый свое специфическое
содержание и вместе с тем служивших идее высокой музыки — «создать
посредством своей структуры образ внутренней полноты, содержательности
времени»2
.
Так, в творчестве Бетховена, по Адорно, отразилась атмосфера буржуазного
освободительного движения, а также чувствовалось влияние Руссо, Фихте,
Канта и Гегеля. Отсюда общечеловеческий смысл Девятой симфонии, считал
Адорно, полагая, что объективно симфонии Бетховена — это речи,
обращенные к человечеству. Философ утверждает, что творчество Бетховена
останется непонятым как теми, кто не чувствует в его музыке ни буржуазной
революционности, ни отголосков революционных лозунгов, ни тех мук, с
которыми они воплощались в его сочинениях, ни их тональности, в которой
содержится залог разума и свободы, так и теми, кто не способен следовать за
чисто музыкальным содержанием его сочинений. Музыку Вагнера Адорно
соотносит со временем, когда буржуазный пафос эмансипации претерпел
решительные внутренние сдвиги, и рассматривает ее как находящуюся
целиком и полностью под знаком пессимизма философии Шопенгауэра.
Отсутствием перспективы, «социальной тенденцией отречения от
собственных умственных усилий в пользу всесильной власти и отказа от
свободы в тоскливой монотонности естественного круговорота вещей
Адорно объясняет и такие особенности вагнеровской теории «синтеза
искусств», как «отказ лейтмотивной системы от тематического развития в
собственном смысле слова, торжество принципа повторения над творческим
воображением, развивающим и варьирующим материал» 3
.
Учитывая предупреждение Адорно о том, что опыты социального раскрытия
основного общественного содержания музыки должны производиться с
предельной осторожностью, отметим, что сам он придерживается
утверждаемого им принципа единства художественной и социальной
интерпретации только по отношению к музыкальному наследию прошлого.
Обращаясь к современности, он отмечает эволюцию музыки в направлении
возрастающей изолированности, замкнутости, внутренней опустошенности и
развивающуюся параллельно камерность, которая и оказывается
единственным прибежищем равновесия искусства и его восприятия,
усвоения. Однако при этом метод раскрытия, дешифровки конкретного
социального содержания музыки подменяется (вынужденно!) объяснением
социальной обусловленности отсутствия такового.
Призвание настоящей музыки, в первую очередь камерной, по Адорно,
состоит в том, чтобы защищать, «пусть очень робкую и хрупкую»,
субстанциальность, присущую сфере частного в мире тотальной
необходимости. То, что будто бы осуществляемое камерной музыкой
равновесие искусства и его восприятия происходит за счет отказа от
«момента гласности», общественного звучания, то, что композитор, создавая
эту музыку, не всегда вспоминает о слушателях, не мешает Адорно
утверждать, что камерная музыка никоим образом не ограничивается
выражением субъективности отчужденного индивида. Она, согласно его
концепции, соответствуя антагонистическому состоянию общества,
организованному по принципу individuations, не уподобляется ему, а,
напротив, следуя закону своей формы, выступает против машины рыночно-
музыкального хозяйства и против общества, которому оно всецело
подчинено.
С тенденциями камерной музыки, которые привели к отказу от
общественного признания ее, Адорно связывает и дальнейшую эволюцию
высоких форм искусства, проявившуюся, в частности, в так называемой
новой музыке, развившейся в лоне камерной музыки и связанной прежде
всего с именами композиторов новой «венской школы» А. Берга, М. Веберна
и А. Шенберга.
В статьях по социологии музыки и эстетике Адорно развивает свою
концепцию «новой музыки», ориентированную на учение и творчество
немецкого композитора А. Шенберга, автора основанной на критике
тональности, лежащей в основе классической музыки, додекафонической
системы, которая преподносится не как какой-то особый раздел музыки, а
как технический метод, плодотворная попытка «рационализации» и
систематизации процесса музыкального творчества.
«Новая музыка», по Адорно, не совершенно оторвана от традиции: ее идеал
связан с верой в авторитет и культуру; школа «новой музыки» также
вскормлена осознанием немецкой традиции и заняла в ней как бы «крайнюю
позицию» («конец», но в рамках традиции). В крайне
индивидуализированных, «отрекшихся от всех схем произведениях
искусства», именно в крайности их индивидуализации Адорно видит
«моменты общего, скрытое от них самих участие в типичности»4
.
Вкладываемый в этот критерий новизны смысл, разумеется, субъективен, что
ясно обнаруживается при попытках критика раскрыть содержание этой
музыки.
Известно, что в лоне искусства буржуазного общества существуют и
прогрессивные направления, придающие большое значение познавательной
функции искусства. Однако они не стали предметом анализа Адорно: он
рассматривает современный музыкальный процесс по апробированной
схеме, противопоставляя «элитарное» искусство «массовому». Критика
последнего, по его мнению, стала общим местом (хотя следует отметить, что
он достаточно подробно характеризует негативные последствия широкого
распространения «массового» искусства), поэтому главное внимание Адорно
уделяет музыке стиля «модерн». В этой музыке, считает он, качественно
«новое» создается не столько за счет техники, сколько посредством
последовательно критического содержания. Адорно отводит ей роль некой
внутренней оппозиции и наделяет способностью выразить основные
противоречия эпохи, в частности «отмеченное еще немецким идеализмом и
выявленное Фихте, а ранее Гёльдерлином и Гегелем, противоречие между
назначением человека, его «божественным разумом», по Гёльдерлину, и той
гетерономной ролью, которая ему суждена в условиях буржуазного
предпринимательства»5
.
Оценки Адорно часто противоречивы. Так, признавая, что социальный смысл
модернистской музыки трудно доступен, он тем не менее считает, что в ней
нашли выражение такие характерные черты времени, как «утрата субъектом
своей роли», «разгром и уничтожение субъективного смысла», особенно ярко
проявляющиеся в процессе художественного творчества, а также гнетущие
мысли «о конфликтах в масштабе всей земли и о прогрессе техники
разрушения»,, которые «противятся своему осознанию», поскольку якобы
уже не могут быть запечатлены с помощью традиционных технических
средств6
. К примеру, в шенбергском атонализме и акустических крайностях,
названных противниками его искусства «криком», Адорно усматривает
выражение «самой общественной тенденции» — страха, испуга,
растерянности, а также стремление выйти за пределы интимного мира. Крик
и ужас современной музыки суть не только выражение категорических
музыкально-технических потребностей времени, считает он, но и предельно
точная реакция на социальные условия, а также попытка достичь слуха тех,
кто уже не слушает.
Так, отнюдь не выходящей за рамки эстетизма новейшей музыке Адорно
отводит некую оппозиционную роль, наделяет ее последовательно
критическим содержанием, а также связывает с ней важнейшие технические
достижения в музыкальном искусстве. Однако все же подвергает ее критике
и в целом признает, что если прежде «субстанцией музыки, как бы глубоко
ни была она скрыта, было изменение общества», то теперь «чувство, что
ничего нельзя изменить, овладело всей музыкой», что «все реже и реже она
постигает себя как процесс, все больше застывает в своей статичности» и что
«многие значительные произведения новейшей музыки уже нельзя
воспринять как развитие — они кажутся замершими на месте кадансами»7.
Признание неотвратимого отхода модернистской музыки от социальной
действительности, а в перспективе — вполне реальной возможности
появления музыки без социального содержания вообще 8 лишь подтверждает
тщетность усилий Адорно поднять эти формы музыкального искусства выше
других в современном музыкальном процессе на Западе и в жизни и в
теории.
Справедливо полагая, что ни «новая», ни «новейшая» музыка не могут
подняться до идеи высокой культуры — создать имеющимися в их арсенале
средствами образ внутренней полноты, содержательности времени, Адорно
считает положение безвыходным, поскольку все другие формы музыки и
искусства либо обречены, либо, в силу выполняемой ими в современном
обществе потребительской функции, вообще не способны подняться до
настоящего искусства. Новые же творческие потенции общества, по Адорно,
не имеют под собой почвы и не способны реализоваться в такой форме,
чтобы обеспечить искусству место, свободное от всевластных «механизмов
влияния» (Маннгейм) в условиях насквозь организованного и
обобществленного мира.
К «обреченным» формам Адорно относит и классическую традиционную
культуру и, хотя роняет иногда замечание, что она утверждает себя самим
фактом своего существования, в общем отводит ей роль мертвого капитала,
анализируя ее фактическое разрушение. Вслед за В. Беньямином,
отмечавшим упадок ауры, Адорно подробно освещает социальный аспект
кризиса таких традиционных высоких форм культуры, как опера, симфония и
др., и в качестве его причин указывает на давление средств массовой
коммуникации, конкуренцию с формами «массового искусства»,
снижающего духовные критерии содержательности традиционных форм
культуры, приводящего к их механическому воспроизводству, а также на
«антирационализм» и «антиреализм» некоторых традиционных форм, не
соответствующих духу времени. Наконец, Адорно отмечает главное: высокие
идеи красоты как истины и добра остаются непонятыми; произведения
высоких форм культуры «больше не познаются, тем более что
господствующая идеология препятствует сознанию их необъятности» 9, а
иерархическая общественная система обманным путем лишает людей
ценностей традиционной культуры. Навязываемое же им искусство
выполняет апологетические функции, совпадающие с идеологической
тенденцией общества в целом.
В логически завершенных рассуждениях Адорно даже не ставится вопрос:
может ли быть использован арсенал традиционной культуры в целях
познания и воспитания, вне индустрии потребления. Впрочем, это и понятно:
подобные вопросы не укладываются в его концепцию, как, к примеру, и
рассмотрение возможности использования социально-педагогической
функции средств массовой коммуникации в ином направлении. Очевидно,
классическая немецкая традиция культуртрегерства оказалась несовместимой
с нигилизмом философа.
Признание социальной обусловленности тенденции к разрушению культуры
и искусства в современном буржуазном обществе отнюдь не делает
концепцию Адорно объективной в целом еще и потому, что для нее
характерен недиалектический подход к субъекту: его реальные жизненные
связи однозначно определяются навязанной ему ролью лишенного какого-
либо внутреннего содержания существа, утверждается «тотальное бессилие»
индивида и, наконец (что имеет особенно важное значение для
характеристики творческой личности), отрицаются не только необходимые
реальные предпосылки для выражения искусством человеческого
содержания, т. е . самой сущности эстетического, но и сознание
правомерности и необходимости творческого процесса.
По Адорно, внутренняя содержательность, понимаемая как «преображенная
форма познанной в опыте объективной действительности» (т. е . в духе Гёте и
Гегеля), уже не может служить критерием оценки субъекта. В современном
обществе характер труда лишает субъекта качественного отношения к сфере
объектов, в результате чего он неизбежно опустошается, лишается
содержания как личность. Поэтому индивид уже не способен воспринять как
действительно субстанциональное и важное все то, что он делает по своей
инициативе и что утверждает как свое личное. Подробно анализируя
«экспансию управления, доходящую до процесса творчества», и
усиливающийся «гнет официальной культурной жизни», проникающей не
только в сознание художника, но даже и в сферу его бессознательного, с
нарастающим fortissimo Адорно рисует мрачную перспективу культурной
катастрофы и близящейся эпохи «нового варварства». Однако его усилия
направлены отнюдь не на предостережение или призыв к действию, а,
напротив, на утверждение невозможности протестовать, как-то
предотвратить надвигающиеся события.
В сущности, для Адорно это закономерно, поскольку исследования в области
социологии музыки предприняты им в основном для доказательства
философских тезисов о социальной тенденции ко всеобщей стандартизации,
неразрешимости существующих противоречий и невозможности изменить
ложные условия общественного бытия, наконец, бессилии субъекта, его
творческой опустошенности. Поскольку происходит утрата ценностей
традиционной культуры, в частности художественной, с ее этическим и
гуманистическим зарядом, адресованным способности человека не только
воспринимать и анализировать, но и сопереживать, стать как бы
вовлеченным в процесс сотворчества, постольку в корне меняется
взаимосвязь творчества и восприятия, утверждает Адорно: содержание
художественного творчества определяется уже внехудожественными
моментами. Философский и эстетический смысл художественной культуры
объявляется им негативным, а отношение к пей индивида — сугубо
функциональным.
Такой вывод несомненно обусловлен: для Адорно как теоретика культуры
характерно отождествление судеб буржуазной культуры с судьбами
культуры вообще. Отсюда и крайне негативная оценка им современной
культуры, и полная безысходность. После Освенцима, пишет он в
«Негативной диалектике», буржуазная культура вообще не может
существовать: ее идеалы растоптаны, поруганы, они оказались
несостоятельными перед лицом жизни 10
.
Адорно осветил ряд насущных проблем философии культуры XX в., и
интерес западной интеллигенции к его идеям вполне понятен. К примеру, в
литературе часто отмечается влияние философии Адорно на Т. Манна, в
частности на его роман «Доктор Фаустус», в котором, как известно, немало
места отведено упадку современной музыки. Значение этого влияния не
отрицал и сам писатель11
. Не следует, однако, его преувеличивать и сближать
принципиально разные позиции культурфилософа, не склонного отделять
буржуазную культуру от антибуржуазной, и писателя, творчество которого
принадлежит этой последней. Игнорирование антибуржуазной и
социалистической культуры обнаруживает определенную
мировоззренческую позицию Адорно.
В этой связи сопоставим философскую концепцию Адорно с
художественным опытом Т. Манна, с тем чтобы выявить различия в их
подходе к сходным или даже идентичным проблемам, осветить вопрос о
соотношении мировоззрения и уровня художественного (и философского)
осмысления действительности философа и романиста.
«Доктор Фаустус» был задуман Т. Манном, по его словам, как роман о
культуре и целой эпохе. В нем был поднят и осмыслен огромный культурно-
исторический материал, который, будучи видоизменен и воспроизведен на
новой исторической основе, в свете опыта XX в., воспринимается как
сосредоточение важнейших проблем современной культуры. Главное,
однако, состоит в том, что писатель, прошедший сложный и противоречивый
творческий путь, в своем «итоговом» произведении, «романе своей
старости», дал ответ на целый комплекс проблем, которые поднимались как в
философии, так и в художественной культуре и которые он сам решал всей
своей жизнью и творчеством.
Так, особого внимания заслуживает интерпретация в романе философской
проблематики, восходящей к Ницше (и отнюдь не только потому, что
философ послужил отчасти прототипом главного героя). Важно то, что
писатель, сумевший преодолеть наследие своей былой «аполитичности»,
развенчивает Ницше не столько как кумира своей юности, сколько из-за его
причастности к той «вине времени», к той реакции, которая привела
немецкий народ и его культуру к трагедии и
.
Роман, посвященный «изображению кризиса культуры вообще и музыки в
частности» 13
, вобрал в себя многочисленные литературные источники,
начиная со старонемецкой легенды о Фаусте, драмы Марло, поэмы Гёте и
кончая близким по духу манновскому замыслу романом Г. Гессе «Игра в
бисер» (1943), вышедшим во время работы Т. Манна над «Доктором
Фаустусом». Круг чтения писателя в это время чрезвычайно широк — здесь и
книги по истории, философии, сочинения Данте, Шекспира, Достоевского,
Стендаля и др., и, разумеется, работы о музыке и музыкантах — Вагнере,
Бетховене, Чайковском, а также о современной музыке. Т . Манн
перечитывает Ницше, знакомится с философией Кьеркегора, отмечая при
этом родственность своего романа кьеркегоровскому миру идей (писатель
напоминает, что в XXV главе, главе с чертом, Леверкюн сидит с книгой этого
«влюбленного в эстетику „христианина"» в руках) 14
.
Так, прямой полемикой с вышеназванными философами воспринимаются
слова Т. Манна, намеренного писать роман о художнике, о том, что в этом
случае «нет ничего более пошлого, чем только декларировать, только
восхвалять искусство, гений, произведение, только витийствовать насчет их
эмоционального воздействия. Здесь нужна... реальность, нужна...
конкретность»15
. Как неоспоримо доказывается в романе, искусство,
отказавшееся от этих художественных принципов, оказывается в
эстетическом тупике. Замкнутое в узкой сфере «духовного», не имеющего
связи с человеческой душой, холодное, абстрактное, умозрительное, оно
оборачивается неверием в человека, неспособностью разглядеть
историческую судьбу человечества, его будущее. На примере жизни и
творчества своего героя писатель показал, что такое искусство
нежизнеспособно, что его положение трагично.
Т. Манн на протяжении всего своего творческого пути размышлял о смысле
гуманизма, понимая его как некую целостность человеколюбивых
устремлений, и не раз как в художественных произведениях, так и в
публицистике, особенно со времен фашизма, высказывал мысль о единстве
духовно-эстетического и политико-социального начал. И в этом романе,
работа над которым совпала со временем второй мировой войны, он
выражает глубокое убеждение в том, что политическое, социальное
составляет неотъемлемую часть человеческого и принадлежит к единой
проблеме гуманизма. В роман о художнике непосредственно введена
«летопись» этой войны, являющаяся отнюдь не фоном повествования, а
необходимым смысловым и временным коррективом к судьбе героя.
Леверкюн — выходец из народа — выступает как художник в период
кризиса культуры и искусства, когда высокие и гуманные идеалы, которым
он чувствовал себя способным служить, уже утратили свою ценность.
Именно поэтому он обращается к изучению богословия. Для писателя и в
этом случае такой поворот далеко не просто сюжетный ход. Это ответ
прогрессивного художника на «культ истории», а по сути ее фальсификацию,
на реакционные «почвеннические» настроения, насаждавшиеся фашистской
идеологией и оказавшие губительное воздействие на общественное сознание.
Писатель разоблачил рутину, косность и схоластику богословия, этой
«царицы наук», показал все ее убожество и провинциализм, раскрыл ее
реакционную роль как лженауки. Рассматривая такие исторические явления,
как лютеранство и немецкая Реформация, он прежде всего обращает
внимание на такие важные для современности проблемы, как свобода мысли
и свобода совести, и особо подчеркивает, что эти движения недооценивали
роль политических и гражданских свобод, и это в значительной степени
препятствовало распространению их влияния на развитие прогрессивной
общественной мысли.
В написанной в это же время статье «Германия и немцы» (1945) Т. Манн,
отдавая должное Лютеру, отмечает, что он «разбил оковы схоластики,
восстановил в правах свободу совести и тем самым дал мощный толчок
развитию свободной научной, критической и философской мысли». Однако
вместе с тем здесь же указывает на глубокое отвращение реформатора к
политической свободе и ненависть к Крестьянской войне, считая, что «на
Лютере, выходце из народа, лежит серьезная доля ответственности за
печальный исход первой попытки немцев совершить революцию», которая,
если бы она была успешной, могла бы «направить всю немецкую историю по
более счастливому пути — по пути к свободе» 16
. Напомним, что
аналогичное высказывание было сделано Т. Манном и по отношению к
Шопенгауэру в связи с его резко отрицательной реакцией на революцию
1848 г.
Разумеется, подчеркивая эти тенденции в интерпретации Т. Манном проблем
культуры, мы отнюдь не пытаемся представить его революционером. Смысл
этого слова в подобном контексте предполагает, как известно,
непосредственную связь с социальной революцией. Таким революционером
Т. Манн никогда не был. Более того, он даже недооценивал социальные
революции в своей стране — 1830, 1848 и 1918 гг., утверждая, что «в
Германии никогда не было революции»
17
. Писатель всегда оставался в
излюбленной им духовной сфере. Тем более представляется важным, что
национальную катастрофу Германии и упадок ее культуры, некогда давшей
миру философию Гегеля и художественные достижения романтизма, Т. Манн
связывает с отсутствием в своей стране революционных традиций, а также
слабостью демократической общественной мысли, оказавшейся неспособной
противостоять уходящему своими корнями в реакционный романтизм и
густо замешанному на пруссачестве немецкому национализму и
перерождению его в «истерическое варварство, в безумие расизма и жажду
убийства» 18
.
Объективное, историческое у Т. Манна непосредственно связано с
конкретным художественным образом, с личностью. В романе «Доктор
Фаустус» логика развития образа Леверкюна убеждает нас в том, что между
реакционным прошлым Германии и кризисом гуманистической культуры и
искусства существует прочная связь. В этом смысл исторических экскурсов
Т. Манна. Раскрывая трагедию современной гуманистической культуры и
искусства, писатель искал ее корни в антинародных тенденциях
общественного развития и непосредственно связывал ее с распространением
реакционной идеологии империализма. Т . Манн резко подчеркивал общность
новейшего кровавого политического варварства с эстетизмом современного
искусства, с его антинародностью и бесчеловечностью. В искусстве
Леверкюна, который ощущает себя антиподом гуманиста Бетховена,
писатель прежде всего видит разлад с миром, человеком, холодность и
амбициозность. Музыка Леверкюна — это максимально рассчитанные,
утонченные технические эксперименты, типичный пример
конструктивистских и предельно экспрессионистских приемов модернизма в
духе проанализированных Т. Адорно в его концепции «новой музыки».
В «Истории „Доктора Фаустуса"» Т. Манн подробно рассказал о том, что,
работая над романом, он прибегал к советам Т. Адорно, изучал его работы по
философии «новой музыки», книгу о Кьеркегоре, рукопись статьи о
Шенберге, а также сочинения самого А. Шенберга и использовал их идеи.
Однако, поскольку речь идет об искусстве, здесь важен не столько сам факт
использования конкретных идей, вплетенных в ткань повествования, сколько
характер их интерпретации, их смысловая нагрузка и роль в общем идейном
замысле с точки зрения той целостности, какой является художественное
произведение. Тут-то и обнаруживаются принципиальные различия
мировоззренческих позиций Т. Манна-художника и его музыкальных
консультантов. Главное отличие состоит в том, что для писателя как
представителя и продолжателя гуманистических традиций немецкой
культуры было чрезвычайно важно, повествуя о художнике, найти
возможность выхода, «прорыва». Хотя эта идея вынашивалась им долго и
даже в процессе работы все еще была недостаточно ясна, роман строился с ее
«учетом» 19
, и она была в конце концов недвусмысленно выражена в
заключительных главах романа, посвященных последнему сочинению
Леверкюна — «Плачу доктора Фаустуса».
Согласно замыслу своего творца, это весьма сложное произведение, в
котором как бы резюмированы все мыслимые выразительные средства
музыки. Оно построено как апокалипсическая оратория, некий антипод
Девятой симфонии Бетховена, причем антипод в самом трагическом
значении этого слова: это грандиозные вариации плача, «негативно
родственные» финалу бетховенской симфонии с ее вариациями ликования.
Это — апофеоз антигуманизма. Однако Т. Манн склонен рассматривать его
не как простое отрицание, а как диалектически понимаемое единство
противоположностей, субстанциональное тождество между беспримерно
блаженным и беспримерно ужасным, которое говорит о возможности
«надежды по ту сторону безнадежности, трансценденции отчаяния», о том,
что «отзвучавшая скорбь переосмысляется как „светоч в ночи"»
20
. Поскольку
речь идет о музыке, писатель прибегает к характерной для него своеобразной
художественной манере, которая помогает читателю «услышать» ее
звучание, так что он становится как бы участником этого диалектического
процесса перехода плача — «неисчерпаемо горького человеческого плача, о
мучительном ессе homo», «титанической этой жалобы» — в «песнь
освобождения» 21
.
Примечательно, что Т. Манн, всегда ссылавшийся на соучастие своего
«действительного тайного советника»", как он назвал Т. Адорно, на этот раз
счел нужным отметить, что заслуга философа в создании этой главы
относится не к области музыки, а к области языка. Манн пишет, что Адорно
был явно недоволен первым вариантом конца главы, где говорится о
надежде, милости, и что, находя справедливыми возражения своего критика,
он изменил конец, где как писатель оказался «слишком оптимистичен,
слишком благодушен... зажег слишком яркий свет», и в окончательном
варианте выразил свою идею в более осторожной форме23
. Однако смыслом
Т. Манн поступиться не мог, и в этом главное.
Роман «Доктор Фаустус» заканчивался писателем уже в послевоенные годы,
когда надежды на лучшее будущее имели под собой прочное основание.
Весьма симптоматично, что в своем дальнейшем публицистическом
творчестве он связывает эти надежды с социальными переменами и
установлением свободного, демократического порядка. Писатель раскрыл
«вину времени» перед людьми, культурой и искусством, однако он сумел
увидеть и перспективы, которые оно открывает. Эту направленность в
будущее, связь с ним подчеркивают как советские (Н. Н. Вильмонт, Т. Л.
Мотылева, Б. Сучков), так и прогрессивные зарубежные исследователи его
творчества (И. Дирзен и др.) .
Т. Манн писал, что по выходе романа в свет его итог — «светоч в ночи» —
упоминался чуть ли не в каждой рецензии. Это и понятно: ведь он, этот итог,
оказался на уровне передовых идей своего времени. «Высокая игра»
смыслами всей немецкой культуры в этом романе привела его автора к
положительному ответу на вопрос, который он решал всем своим
полувековым творчеством и который выразил в конце жизни чеховскими
словами: может ли писатель дать миру хоть каплю спасительной истины? В
затрагиваемых Т. Манном проблемах всегда обращает на себя внимание
субъективная сторона их рассмотрения — связь с его жизненным опытом,
проявляющаяся не только в многочисленных авторских прототипах, но и в
мыслительном контексте произведения в целом. Важнейшее значение при
этом имеют нравственные откровения писателя. Они, естественно, не всегда
оказывались истиной, но всегда содержали попытку внимательного,
честного, можно сказать, скрупулезного анализа непреложных фактов, и тем
самым помогали людям приблизиться к ней. Высокий интеллектуальный
уровень писателя никогда не был «бескровной интеллектуальностью», для
его искусства была необходима связь с жизнью, человеком. В этом состоит
отличие творческого метода писателя от теории искусства того же А.
Шенберга. Именно поэтому, признавая заслуги композитора в развитии
музыкальной техники, Т. Манн не счел возможным связать с его методом
перспективы развития искусства. В заключение своего романа он говорит о
необходимости «прорыва» от умозрительности к эмоциональности,
человеколюбивым чувствам, к духовно здоровому и «честному вживанию в
людской обиход» и связывает свои надежды с искусством, которое готово
прорвать изоляцию и «побрататься со всем человечеством» 24
. Без сомнения,
таким может быть только реалистическое искусство. Думается, что прежде
всего именно в этом принципиальном расхождении кроется смысл претензий
Шенберга к Т. Манну, якобы умалившему его значение, и упование на то, что
потомки разберутся, кто из них двоих был современником другого25
.
Творчество Т. Манна отличается своеобразной педагогической
целеустремленностью в духе лучших традиций немецкой культуры.
Проблемы духовного наследия исследовались им не только глубоко
аналитически, но также и с целью сохранить все ценное из прошлой
культуры, и главное — духовный опыт, опыт познания. Познание Т. Манн
рассматривал как стимул к движению, к совершенствованию, не раз приводя
слова Гёте: познавая себя (путем сравнения с другими), никто не остается
полностью тем, кем он был. Самой достойной целью познания является, по
его мнению, сам человек и его будущее. Вот почему, «чтобы быть в
состоянии подготовлять будущее, нужно не только „стоять на уровне
времени" в смысле актуального движения... Для этого нужно ощущать
современность во всей ее сложности и противоречивости внутри самого себя,
ибо не единым, а многообразным подготовляется будущее»26
.
Диалектический подход к проблеме человека и урокам истории, вопросу о
роли искусства и художника в формировании общества позволил Т. Манну
глубже постичь свою эпоху, выявить и отразить в своем творчестве
перспективные, прогрессивные тенденции культурного общественного
развития. По этому пути шли и другие прогрессивные деятели
художественной культуры, рассматривали проблему активизации роли
духовной культуры в буржуазном обществе как насущно необходимую и
жизненно важную. Так, Т. Манн с удовлетворением воспринял роман Г.
Гессе «Игра в бисер» и, отмечая его родство с замыслом «Доктора
Фаустуса», писал: «И здесь критика культуры и эпохи, хотя и с
преобладанием мечтательного культур-философского утопизма, дающего
критический выход страданию и констатирующего всю трагичность нашего
положения»; в целом «связь потрясающая»; однако писатель не мог не
отметить и различия: «У меня, правда, все острее, резче, трепетнее,
драматичнее (потому что диалектичнее), современнее и
непосредственнее» 27
. И это справедливо. Действительно, Г. Гессе,
посвятивший свой роман проблеме спасения духовного наследия и
решавший ее как бы с позиций будущего (действие романа отнесено к 2200
г.), изолирует своих касталийцев от жизни, ограничивая сферу их действий
«возвышенной игрой», на овладение которой ученые и художники, развивая
свой интеллект и художественное дарование, затрачивают всю жизнь.
Однако в результате их деятельность по овладению культурным наследием и
творчество выливаются лишь в новые комбинационные построения из уже
известных науке и культуре духовных достижений — в игру, которая не
преследует иной цели, как быть совершенной и отвечать требованиям
гармонии и красоты. Мысль о необходимости активного использования
культурных достижений в их связи с деятельностью людей, потребностями
общественной практики убедительно раскрыта в романе на примере судьбы
главного героя — музыканта Кнехта (а также магистра игры, прообразом
которого послужил Т. Манн).
Чтобы не отклоняться от нашей темы, мы ограничимся этими примерами и в
заключение отметим, что такой художественный опыт дает очень многое для
познания диалектики развития современной культуры и искусства,
исследования взаимодействия объективных и субъективных факторов,
определяющих этот процесс, а также выявления смысла и значения
этических, нравственных и других общественных и общечеловеческих
идеалов, которые находят отражение в художественном творчестве.
Становление и развитие прогрессивной художественной культуры наглядно
подтверждают положения марксистско-ленинской теории отражения и
эстетики о существовании непосредственной связи между мировоззрением и
уровнем художественного осмысления действительности, о том, что только с
прогрессивных мировоззренческих позиций можно дать содержащее
объективное знание целостное художественное отображение
действительности.
Характерно, что богатейший практический опыт реалистической
художественной культуры, в частности опыт Т. Манна как художника и
теоретика искусства, не получил освещения и не был учтен в философских
концепциях Т. Адорно и Г. Маркузе. Это дает основание сделать вывод:
художественная практика, на обобщение которой претендуют франкфуртские
философы культуры, оказывается значительно богаче их теорий, не говоря
уже об опыте социалистического реализма, который они сознательно
исключили из поля своего зрения. Если Т. Манн признавал величие не только
русской литературы XIX в.— «святой русской литературы», перед которой
преклонялся, но и (особенно после победы над фашизмом) величие России
социалистической, назвав ее «самой гуманной и миролюбивой страной» 28 и
приветствуя ее новую, социалистическую культуру 29
, то Адорно
ограничился критикой капиталистического общества и его культуры с
позиций абстрактного гуманизма.
Антисоветизм Адорно, представляющий собой одну из новых вариаций
антисоциалистических настроений в духе Ницше и его ненависти к «массе»,
«толпе», под которыми понималось теперь социалистическое общество и его
культура, особенно ясно обнаруживает классовые корни теоретических
построений культурфилософа и его позицию: его критика буржуазного
общества замкнута в рамках этого общества, она — критика
«охранительная», «щадящая» его основы. Не случайно поэтому в концепции
Адорно подробно анализируются лишь негативные функции художественной
культуры, реализуемые внутри данной социальной системы. Отрицательное
отношение к реально существующему социализму и его культуре, отсутствие
социальной перспективы привели Адорно к утрате перспектив и культурного
развития, пророчеству метаморфозы цивилизации в «новое варварство» 30
.
2. Культурологические проекты 60 — 70-х годов
Культурологические проекты Г. Маркузе, выдвинутые им в американский
период деятельности, имеют в отличие от Адорно иную социальную
направленность. Начав с критики теоретико-познавательного мышления,
философ создает негативные концепции развития науки и техники в
современном буржуазном обществе, подвергая резкой критике мир
технологической рациональности
31
. Нет сомнения в том, что Маркузе шел от
реально существующих кризисных проблем. В частности, прослеженный им
процесс формирования «одномерного» сознания в результате действия
аппарата репрессий, созданного с помощью науки и техники, стал ответом на
одну из главных проблем века — проблему человека и его власти над
условиями и обстоятельствами существования, проблему пути к свободе. В
этом направлении работала и вся школа, вообще значительно
эволюционировавшая в американский период деятельности, что выразилось в
широком обращении всех ее представителей к общественно-политической
проблематике, обобщении результатов социальных исследований
американского общественного устройства в «критической теории» общества
и — главное — в попытках выработки проектов преодоления выявленных
многочисленных негативных явлений общественной жизни. Тенденция к
«прорыву» была особенно характерна для Маркузе, однако показательно, что
и он в соответствии с мировоззренческой позицией школы, нацеленной на
реформизм, отвергая путь классовой борьбы и выявления прогрессивных
тенденций общественного развития, вновь обратился в своих «проектах» от
«практики» к теории.
На его мировоззрение в этот период оказал влияние психоанализ,
получивший широкое распространение в Америке и глубоко проникший в
области философии и художественной культуры, а также реформированный
фрейдизм, особенно в его экзистенциалистской интерпретации, что и
определило «психоаналитический» характер проектов Маркузе, в частности
связанных с культурой и искусством.
Начиная с работы «Эрос и цивилизация. Философское исследование Фрейда»
(1955) 32
, концепция культуры Г. Маркузе, которой еще со времени книги
очерков «Культура и общество» был присущ яркий аспект критики
современной культуры и цивилизации, обогащается разного рода
нововведениями. Так, в названной работе утверждается восходящая к Фрейду
идея о том, что буржуазная культура, развивавшаяся как продукт
сексуального подавления, должна отказаться от «рациональности» и,
ориентируясь на «новую чувственность», способствовать осуществлению
неиррационального прогресса, «нового гуманизма» и формированию
подлинно освобожденного человека. Маркузе разрабатывает
антиреалистическую эстетическую теорию, согласно которой искусство,
творческая деятельность, любовь и объединяющее их начало — эрос —
находятся по ту сторону общественных отношений, выражая первозданную,
биологическую сущность человека. Удовлетворение инстинкта эроса
объявляется источником цивилизации и «целью» человеческого
существования. Искусство выступает как асоциальное, инстинктивное, не
нуждающееся в реальности. За ним признается оппозиционность, иногда
даже революционность, так как оно находится в конфликте с историей,
однако это относится только к искусству прошлого.
Такой взгляд не является коренным пересмотром отношения Маркузе к
культурному наследию прошлого, и вместе с тем он отражает новый подход,
когда — в свете опыта почти двадцатилетнего пребывания в Америке и его
наблюдений над развитием современного индустриального общества и его
«массовой» культуры — культурные достижения прошлого стали
представляться ему уже как некая недосягаемая высота. В данной работе
проявился характерный для Маркузе принцип рассмотрения проблем
культурного общественного развития, который нельзя назвать объективным,
поскольку он не опирается на исследование причинно-следственных связей
общественных явлений, а социально-историческая обусловленность кризиса
современного буржуазного общества, его идеологии и культуры в его
концепции затушевывается заранее заданными идеями. Маркузе исходит из
противоречий между человеком и обществом, репрессивным по отношению
к человеку, независимо от характера господствующих в нем
производственных отношений, а поэтому и его критика культуры
приобретает вневременной, абстрактный характер. Приближаясь по своей
форме к художественному эссе, работа Маркузе меньше всего напоминает
философское исследование вопреки подзаголовку, поскольку в ней нет даже
попытки сопоставить сексуальную концепцию Фрейда с результатами
современных научных теорий в области психологии, социальной психологии
и др., доказывающих несостоятельность этого учения.
Опираясь на социальные исследования американского периода деятельности
школы, Г. Маркузе (позднее его идеи активно развивает Ю. Хабермас, хотя
подчас и полемизирует с ним) рассматривает процесс изменения
общекультурных представлений как детерминированный общественными
сдвигами, лежащими вне культуры, и прежде всего новыми возможностями
растущего господства науки и техники, которые в условиях научно-
технической революции приобретают новые функции — социально-
культурные и идеологические — и предоставляют «все большие полномочия
экспансивной политической власти, вбирающей в себя все области
культуры» 33
.
В настоящее время опубликовано огромное количество работ, посвященных
философии науки и даже философии техники Маркузе и других
франкфуртских философов. Разумеется, для этого есть основания. Однако
следует иметь в виду, что представители школы никогда специально не
занимались исследованием собственно науки, ее методологического аппарата
и гносеологических построений; вне поля их зрения остались факторы
положительного влияния науки и техники на творческие потенции человека
и др. Основная особенность их концепций науки и техники состоит в том,
что они исследовали лишь негативные последствия научно-технического
прогресса, в частности его репрессивное воздействие на культуру,
«социальный жизненный мир» в целом. Следует особо подчеркнуть, что
«франкфуртцы» сосредоточивают главное внимание на критическом анализе
личностного аспекта проблем духовной жизни: формировании так
называемого технократического, «рационалистического» образа мышления,
накладывающего глубокий отпечаток на сферу духовного — нравственные,
эстетические, познавательные и другие жизненно важные представления,
вплоть до определяющего сущность человека индивидуального способа
существования, мира его мыслей, эмоций. Утрата специфики личностного
как субъективного рассматривается как одно из негативных последствий
этого образа мышления и подробно раскрывается Г. Маркузе в самой
известной его работе — «Одномерный человек. Очерки идеологии
высокоразвитого индустриального общества» (1964).
Концепция культуры выступает в этой книге как социально обоснованная, и
это усиливает ее антибуржуазную направленность. Значительное изменение
претерпели в ней и некоторые ранние идеи Маркузе. И хотя по-прежнему
доминирующим остается традиционный для новейшей буржуазной
философии культуры критический аспект, в целом здесь наличествует и
некоторая положительная перспектива. Так, концепция построена на
противопоставлении «высокой» культуры прошлого, содержащей истинные
духовные ценности и оппозиционной по отношению к буржуазному
обществу, современной культуре, эволюционировавшей в
постиндустриальном обществе так, что она утратила свое подлинное
содержание, свою оппозиционность, свое «второе измерение» (eine andere
Dimension) в результате действия уже упоминавшегося нами аппарата
репрессий. Этот последний используется для воздействия на сознание людей
и создания такой «одномерной» формы общественной жизни, в которой
невозможна оппозиция. Ликвидация двух измерений культуры, согласно
автору, идет по линии ее слияния с существующим режимом, по пути ее
превращения в «массовую культуру», по пути ее стандартизации 34
.
«Высокая» культура становится составной частью материальной культуры,
пишет Маркузе, она репродуцируется и превращается в товар; ее сущность,
смысл и функции изменяются: она утрачивает свою «высшую» правду,
перестает быть «нечистой совестью» общества, сливается с ним и,
анализируя его психологически, украшает мир бизнеса. Если культура
прошлого содержала истину, — это была истина для немногих, но
подтверждавшая несправедливость, — то в современном искусстве истина
слаба и иллюзорна, трансцендирована реальностью и тенденцией к
интеграции.
Известный тезис Маркузе: техника и наука сегодня берут на себя функции
господствующей власти, происходит своеобразное слияние техники и
господства, рациональности и угнетения — преломляется в устанавливаемых
современной технологической цивилизацией специфических
взаимоотношениях между искусством и техникой, которые он и раскрывает в
своей концепции. Техника, подобно идеологии, выполняет, согласно
Маркузе, функцию разрушения: репродуцированное искусство, вырванное из
возвышенной области души, мысли, внутреннего мира, уже не содержит
высоких идеалов, они оказываются переведенными в терминные,
операциональные проблемы.
Маркузе считает бессмысленным делать из классики «воспитателей масс»: в
век технологии она входит в обыденный мир, но тем самым становится и
безопасной для общества, являясь безвредным церемониалом практического
бихевиоризма, безвредным отрицанием, «полезным острым блюдом». К тому
же классические образы интерпретируются в зависимости от «потребностей
общества» (например, «Федра», «Цветы зла», «Анна Каренина» — в духе
ослабления эротического и концентрации сексуального и т. д .). Форма, язык
искусства также изменяются в направлении идентификации и унификации.
Массовое усвоение культуры Маркузе считает исторически
преждевременным: культура может стать демократической только в
результате ликвидации господства, когда общество сможет восстановить
преимущество личного и предоставить это всем.
Как видно даже из этого краткого изложения, концепция критики культуры
Маркузе примыкает к тем социально-культурным теоретическим
построениям, в которых влияние техники рассматривается как решающий
фактор социального развития, а упадок культуры связывается с издержками
технического прогресса. Для обозначения комплекса репрессивно
действующих на культуру социальных сил Маркузе прибегает к
используемой философами Франкфуртской школы категории «господства»,
хотя совершенно очевидно, что с точки зрения марксизма, о принадлежности
к которому неоднократно заявлял Маркузе, критика такого рода должна
опираться прежде всего на анализ экономической и классовой основ
буржуазного общества.
В данном случае этого не происходит, и поэтому, хотя Маркузе пытается
дифференцировать культуру с помощью таких дефиниций, как «высокая»,
«дотехническая», «массовая», «элитарная» и др., в его концепции по-
прежнему проявляется тенденция рассматривать ее как единый поток,
абсолютизировать процесс трансформации культуры «дотехнического» мира
и тем самым как бы узаконивать ее ликвидаторство.
Такая точка зрения противоположна марксизму, который утверждает, что
каковы бы ни были разрушения культуры, ее нельзя вычеркнуть из истории,
ибо никакие разрушения не могут довести до того, чтобы эта Культура
исчезла совершенно. Культура неустранима. Она содержит и всегда будет
содержать в себе те ценности, которые сохраняют познавательный интерес,
нравственное и эстетическое значение в сознании ряда поколений. Известны
многочисленные высказывания по этому поводу классиков марксизма, в
частности В. И. Ленина, который отмечал, что новой социалистической
культуре в качестве необходимой предпосылки следует взять все то, что есть
в капитализме ценного, взять себе всю науку и культуру35
.
«Одномерный человек» Г. Маркузе написан ярко, динамично, насыщен
актуальными проблемами современной культурной жизни, так что его
критическая напряженность как бы диктует необходимость изыскания
освободительных тенденций. И он делает это, выдвигая свои «проекты», или
«гипотезы». Общественно-политическое содержание этих проектов уже
неоднократно освещалось и подвергалось критике в марксистской
литературе, особенно такие положения, как отрицание классовой борьбы,
надежда на «третий путь», ставка на аутсайдеров и т. д . Правда, известно, что
в последние годы жизни Маркузе неоднократно заявлял (в основном в
газетных интервью) об авангардной роли рабочего класса в современной
общественной борьбе, однако такие поправки не могут изменить концепций
его основных трудов, хотя, разумеется, и они должны учитываться при
характеристике мировоззрения философа.
Что же касается его эстетической программы, то она известна гораздо менее,
и мы намерены остановить на ней внимание читателей, поскольку у Маркузе
она непосредственно связана с гносеологической проблематикой. Нельзя,
однако, сказать, что в его эстетической программе осуществлена
теоретическая разработка соотношения «гносеологическое—эстетическое»;
речь пойдет об отдельных положениях и высказываниях в разных работах
60—70-х годов. Заметим, что они во многом связаны с основными идеями
его ранних философских работ («Разум и революция» и др.), которые в эти
годы широко переиздавались в ФРГ. В этих сочинениях раскрываются
важные концептуальные положения его теории познания, ориентированной
не на научные методы, а на «иные» способы осмысления действительности, и
подводится определенный итог его многолетних поисков этих новых
подходов.
В мире господства «материального» Маркузе ищет «духовное», критически
относясь не только к научному техническому знанию, но и к различным
современным философским направлениям, как якобы только фиксирующим
известные факты и выполняющим функцию своего рода регулирующего
механизма с заданной программой. Область истинной духовности всегда
была трудно доступной и мало связанной с материальными и
квантитативными (количественными) ценностями, но и ее основа и роль в
наш век претерпели значительные изменения, считает философ. Он
допускает как само собой разумеющееся, что наука и «интеллектуалы», став
на путь рационализма и определяя его «господство» как не имеющее ничего
общего с традиционными духовными истинами добра и справедливости,
выпадают из сферы подлинной духовности. Негативно оценивая воздействие
научно-технического прогресса на культуру, социальный «жизненный мир» в
целом, Маркузе в своих футурологических социальных «проектах» отводит
решающую роль не науке и научному знанию, а
области эстетического, единственно за ней оставляя право «называть вещи
своими именами и способствовать раскрытию истинного — „иного"»
36
.
В духе своих предшественников по «критической» гносеологии возможность
радикального изменения познавательного процесса он связывает с культурой
и искусством. Перекликаясь в интерпретации этих последних с Г. Гессе,
которого Т. Манн называл «служителем нового», Маркузе отмечает, что
современная эпоха научилась «играть» смыслами «высокой духовности» и
растворять их в повседневном. Поэтому, считает он, преподать истину, как
это делал реализм, в наше время невозможно: она должна быть «пережита» и
тем самым как бы открыта заново.
По мнению философа, такую задачу ставит перед собой искусство
модернизма, к которому он и обращается, во многом опираясь в его
интерпретации на В. Беньямина. В качестве характерного примера искусства,
отражающего подлинное лицо нашего времени, Маркузе называет романы С.
Беккета и драму Р. Хоххута «Наместник», в которых авторы раскрыли
бессилие человека перед лицом социальной несправедливости и усмотрели в
человеческой истории только регресс. Такое искусство действительно
является свидетельством глубокого духовного кризиса, охватившего
капиталистический мир. Однако представлять его в качестве «попытки
обуздать реальный абсурд», как это делает Маркузе, — значит выдавать свои
субъективные представления за объективные, поскольку в таком искусстве
жизнь искажена до предела, так, что его «абсурдность» и кризисные формы
становятся недоступными для понимания и не позволяют ему стать
художественной формой познания действительности и тем самым выполнять
свое основное назначение.
Г. Маркузе обращается также к авангардизму и некоторым другим
современным течениям искусства модернистского толка, рассматривая их
как «шанс для альтернативы». Он подчеркивает их бунтарство, анти-
традиционалистичность, гротесковую манеру изображения, способность
вызвать шоковую реакцию и даже наделяет особого рода
«интеллектуализмом» — апелляцией к воображению я сотворчеству
слушателей и зрителей. Как мы знаем, во многом новизна этих форм
искусства восходит к различным эстетическим течениям конца XIX— начала
XX в., о которых мы упоминали. Сходной оказалась и их судьба: новые
формы не могли восполнить отсутствие содержания в том случае, если оно
не соответствовало им, и утрачивали свой смысл. В конечном счете
«интеллектуальный абсурд», подобно экспериментам авангардистов,
битников и др., якобы имевших своей целью «не дать новому искусству
ассимилироваться», были признаны самим Маркузе безуспешными,
поскольку неизбежно оказывались в русле потребительской культуры.
Философы Франкфуртской школы всегда возлагали большие надежды на
модернизм. Маркузе также не интересует реалистическое, в том числе
социалистическое, искусство, связанное с общественной борьбой своего
времени, он не акцентирует внимания на нигилистическом отношении
модернизма к главной традиции реализма: искусство — широкая сфера
познания, основа — объективная реальность. А без этого, как показывает
исторический опыт, все экспериментирования реформаторов остаются
«только выражением буржуазно-интеллигентского индивидуализма» 37
,
«новыми свежими раздражителями», вызывающими «элементарное
любопытство», и неизбежно вливаются в русло потребительской культуры.
Маркузе, убедившись на опыте, что «элитарное» искусство сливается с
«массовым», в своих последних высказываниях признавал, что и модернизм
и авангардизм истощились, не дав обществу позитивных моральных
импульсов.
Именно в реалистические традиции уходят своими корнями подлинное
своеобразие и специфичность художественного способа освоения
современного мира, присущие новаторскому творчеству Б. Брехта, Т. Манна
и других прогрессивных художников, которые решали сложные
интеллектуальные проблемы, чтобы осознать смысл своей жизни и эпохи,
исходя из веры в добро и разум («Доктор Фаустус», «Жизнь Галилея»,
«Добрый человек из Сезуана» и др.) и отвергая возведенные в абсолют идеи
бессмысленности существования и ожидания в бездеятельности.
В марксистских исследованиях отмечается, что для современного процесса
культуры на Западе характерны «очевидная исчерпанность
неоавангардистских новаций и усиление социально-реалистических
тенденций» 38
.
Эстетическая концепция Маркузе ориентирована на «новую» культуру и
искусство, которые существуют еще только в «проекте». Автор концепции
ратует за их создание с помощью таких средств, как «новая чувственность»,
интуиция, воображение и фантазия. Он строит свои «гипотезы» на том, что
искусство как «художественное отчуждение» в принципе может осуществить
свою созидательную функцию, поскольку оно может «проектировать
экзистенцию», «определить еще не осуществившиеся возможности» 39
.
Прежде всего в искусстве, считает философ, доминирует чувство нового,
способствующее рождению новых форм жизни. Оно творит новый мир
мысли и практики, направленный на разрушение существующего. В мире
иррационального прогресса оно может стать моделью для новой
рациональности, укажет новые идеи и идеалы. Не случайно поэтому Маркузе
отводит искусству решающую роль в создании проекта иной исторической
практики. Разумеется, замечает он, создать такое искусство способен только
новый человек. Однако при существующей силе и эффективности
современной репрессивной системы, когда не только потребности, но даже
инстинкты индивида40 обусловлены этой системой, такому человеку
неоткуда появиться. Реальных путей создания нового искусства, таким
образом, нет.
Следовательно, истинное, иное, согласно Маркузе, оказывается недоступным
и искусству, и научному знанию (оно вне пределов их досягаемости), не
случайно поэтому, что отрыв от реальности, утопичность, становится
характерной для его футурологических проектов. Еще в программной для
Маркузе (и всей Франкфуртской школы) статье «Философия и критическая
теория» (1937) он писал, что утопия долгое время была в философии лишь
отдельным прогрессивным элементом и лишь в «критической теории»,
которая «не страшится утопии», она стала настоящим философским
принципом мышления: утопия «доносит» (denunziert) на новое, выдает его 41
.
В этом Маркузе видит ценность утопии и пытается представить ее одним из
основных методов социального предвидения (переосмысливая, таким
образом, предвидение — одну из важнейших функций познания: вместо
исследования причинно-следственных связей и предпосылок возникновения
нового философ обращается к утопии).
В таком же плане Маркузе рассматривает воображение и фантазию, считая
их принципами мышления, придающими философии «нечто существенное»,
вытекающее из их функции — «силы воображения» (Einbildungskraft),
которая, обладая высокой степенью независимости от данного материала
познания, является единственной в своем роде способностью создать нечто
Новое. Отмечая большое значение, которое им придавали, в частности в
теории познания, такие философы, как Аристотель и Кант, Маркузе,
переосмысляя их взгляды, рассматривает воображение и фантазию в качестве
единственной возможности выйти за пределы существующего, предупредить
(предугадать) будущее — свободу среди мира несвободы42
.
Маркузе не раз обращался к этим методам мышления, исследуя их
меняющийся в современных условиях характер, однако утопий так и не
создал (как, впрочем, и другие представители «критической теории»). Спустя
тридцать лет, уже менее оптимистически оценивая возможности этих
методов, он все же не отказывается от них. Так, в работе «Конец утопии»
(1967) он утверждает, что в современном обществе утопия и фантазия
деградировали: научно-технический прогресс задает воображению
направленность на реализацию и делает возможным осуществление любой
перспективы; утопии, следовательно, пришел конец; фантазия же утратила
привилегию принадлежать к области эстетического, так как вследствие
возможности реализации «воображаемого» оказался устраненным разрыв
между разумом и фантазией — воображение становится институтом
прогресса, «рациональной иррациональностью». К тому же, Маркузе считает,
что реальность затмевает возможности человеческой фантазии, и приводит в
качестве примера Освенцим и — как равное ему по трагедийности — начало
завоевания космоса 43
.
Подобные высказывания, как и вообще исследования Маркузе негативных (и
только негативных) последствий современного научно-технического
прогресса, далеки от объективности, а иногда и реакционны. И все же в
отличие от многочисленных современных утопий-ужасов и утопий-
катастроф его концепция является лишь концепцией-предостережением44
.Ее
утопизм заключается не в попытках создать негативные футурологические
картины, а в том, что, признавая марксистские положения о необходимости
революционного пути изменения мира, а в последние годы жизни — и о
революционной роли рабочего класса, Маркузе наряду с этими положениями
выдвинул на первый план принцип Эстетического и такие «ценностные
универсалии», как «свобода», «красота», «счастье», в качестве программы
социального действия. Однако он не мог предложить принципа ее
реализации, и в этом также проявился утопизм его концепции.
Все его «гипотезы» относительно «нового гуманизма» включают в качестве
важнейшего компонента наряду с идеей «новой чувственности»,
и Эстетическое. Маркузе осознает утопичность своих программ, однако не
отказывается от них. В частности, в одной из последних работ
«Контрреволюция и восстание» (1973) он вновь обращается к Эстетическому
и утверждает, что искусство по своей природе родственно революции, что
оно способно обеспечить качественный скачок, поскольку—и это главный
его аргумент — обществом руководят не материальные, а моральные и
эстетические потребности и стремление к свободе, коренящееся в этих
потребностях. Свобода и создание нового мира по законам красоты и явится
тем подлинным миром, к которому издавна стремится человечество 45
.В
сущности, возвращаясь к мысли Шопенгауэра — Ницше — Хайдеггера о
выявлении истинного через прекрасное, Маркузе пытается дополнить
марксизм эстетической программой (как ранее неофрейдизмом), разделяя тем
самым расхожую мелкобуржуазную версию о необходимости соединения
марксизма с гуманизмом.
Теоретико-познавательная концепция Маркузе в целом свидетельствует о его
неприятии проверенных историческим опытом марксистских положений о
том, что выбор ценностей детерминирован господствующими отношениями,
которые в конечном счете отражают объективную социальную структуру и
исторически обусловленный тип культуры данного общества, в результате
чего программы, не опирающиеся на анализ материальных и экономических
предпосылок революционных преобразований — реальных условий
качественного скачка (а именно такими и являются эстетические принципы
Маркузе и его «нововведения» в теорию познания), «повисают в воздухе».
3. Проблема «легитимации» культуры и проекты «новой духовной
эмансипации»
Несмотря на всевозрастающее число «негативных утопий», предвещающих
культурные катастрофы (О. Хаксли и др.)
46
, а также отсутствие
убедительной аргументации, показывающей, каким образом культура,
искусство, эстетическое вообще могут выступить в качестве конечной
теоретико-познавательной инстанции (представители «критической»
гносеологии) в современной западной философии наблюдается повышенный
интерес к проблемам культуры. Это объясняется некоторыми особенностями
развития буржуазного общества как «постиндустриального» в 60—70-х
годах, прежде всего резкими изменениями в социальной сфере, связанными с
научно-техническим прогрессом, усилением тенденции к технократизации
мышления, а также сдвигами в общественном сознании, вызванными
известными общественно-политическими событиями конца 60-х годов в
странах Европы. Возрождение интереса к проблемам культуры как
мировоззрения, системы демократии, морали, общественного мнения,
культурных традиций и обусловленные этими особенностями новые взгляды
и представления о задачах и возможностях современного просвещения
нашли отражение в работах представителя «второго поколения»
«франкфуртцев» Ю. Хабермаса (род. в 1929 г.), открывающих новый этап в
развитии философии культуры Франкфуртской школы. Подвергнув критике
ограниченность ряда теоретических установок школы, Хабермас
сосредоточил внимание на способности «критической теории»
переосмыслить свои функции и взять на себя новую, жизненно необходимую
социальную миссию — миссию рефлексивного выявления и сохранения
культурного достояния общества.
Такая постановка проблемы, свидетельствующая о значительной эволюции
Франкфуртской школы, должна быть предметом специального рассмотрения
и отчасти уже получила освещение в марксистской литературе в связи с
критикой концепции «эмансипационного интереса» как движущей силы
социального прогресса и социокультурных моделей Хабермаса 47
. Новая
постановка этой проблемы, опираясь на значительную идейно-тематическую
основу, раскрывается посредством понятийного аппарата, присущего
социологии и историческому материализму. Попытаемся выявить здесь
трансформацию уже рассмотренных нами идей, ту традиционную для школы
гносеологическую и эстетическую проблематику, которая функционирует и в
этом новом варианте «критической теории».
Прежде всего следует отметить, что Хабермас отрицает существование
теории познания на современном этапе, считая, что уже с середины XIX в.
она утратила свою самостоятельность под напором различных «теорий
наук», когда многие вопросы, в частности нравственного совершенствования
жизни, социально-правовых норм и др., почти полностью элиминировались
из философии. В работе «Познание и интерес» (1968), подробно прослеживая
процесс сведения теории познания к теории науки, Хабермас усматривает его
начало уже в философии Гегеля, который, по его словам, хотя и выдвигал на
передний план «опыт рефлексии», все же не сумел показать саморефлексию
познания как необходимую радикализацию его критики, в результате чего
«всеобъемлющая рациональность себя творящего разума сузилась до
совокупности методологических оснований» 48
.
Следуя традиции школы рассматривать марксизм главным образом как
экономическое учение, Хабермас считает, что критицизм К. Маркса также не
только не способствовал развитию теории познания, но, напротив, «увел»
философию в сторону социальной критики и социальной теории, что вполне
соответствовало историческому моменту, но ни в коем случае не
способствовало дальнейшему развитию материалистической теории
познания, которая имела бы «универсальный характер». Дальнейшее
развитие буржуазного общества, особенно на современном этапе, показало,
что процесс «упразднения философии» в смысле его практического
осуществления, о котором говорил еще Маркс, дошел до утраты ее
собственного предмета, считает Ю. Хабермас, мотивируя это положение тем,
что историческое движение перефразировало основной вопрос философии:
вместо ответа на вопрос о соотношении бытия и сознания требуется ответ на
вопрос, почему они таковы, а не иные. Это обстоятельство, считает он,
коренным образом меняет и назначение философии, и направление
познавательного процесса, которые должны стать критической социальной
теорией. Все эти положения восходят к работам школы 30-х годов, в которых
вырабатывалось одно из ее программных положений: «критическая теория»
вместо философии. К истокам этой тенденции обращается Хабермас и в
своей книге «Философско-политические профили» (1971), посвященной
памяти Т. Адорно и содержащей очерки о таких виднейших представителях
«большой», по словам автора, философии, как М. Хайдеггер, Ф. Шеллинг, Г.
Маркузе и др., ставивших вопрос: «для чего нужна еще философия?»
Подвергая критике основные положения К. Маркса о соотношении
производительных сил и производственных отношений, Хабермас считает,
что в современном обществе основную роль играют не экономические, а
политические мотивы, которые активно влияют на экономику и в конечном
счете определяют ее. В одной из своих последних работ «К реконструкции
исторического материализма» (1976) он доказывает необходимость создания
общей «новой эволюционной теории общества», с которой непосредственно
связаны и его «социокультурные модели».
По Хабермасу, для анализа современного общества необходима новая
«универсальная» философско-историческая концепция, которая заменила бы
исторический материализм как «частную» теорию, так как она не охватывает
важную сферу общественной жизни, которую он называет
«интеракционистской» (в понятийном аппарате Хабермаса постоянно
фигурируют понятия «труд» и «интеракция», заменяющие понятия
производительных сил и производственных отношений) и которая будто бы
обладает особой, независимой от материального производства «внутренней
логикой развития». «Интеракционистская сфера» — это главным образом
сфера морального сознания, в которой Хабермас видит средство активного
воздействия на всю общественную жизнь.
Развитие человеческого общества и его культуры Хабермас рассматривает
как «непрерывный процесс обучения», в котором человеческий ум должен
отыскивать новые формы рациональности. В результате оказывается, что
многие определяющие общественные процессы в целом факторы коренятся в
структурах индивидуального сознания, а движущими силами общественных
изменений, общественного прогресса оказываются и различные
когнитивные, языковые и интеракционистские способности индивидов. Это в
первую очередь относится к современному технологическому обществу, в
котором в условиях научно-технической революции выявляется
апологетическая функция его производительных сил как консервативного
орудия сохранения статус-кво системы. Подробно исследуя воздействие
научно-технического прогресса на культуру, Хабермас считает, что
современное общество многое утратило по сравнению с обществом «высокой
культуры», каким было общество «либерального капитализма» (т. е . эпоха
становления капитализма), и рассматривает необходимость выработать
новую всеобъемлющую теорию общества как первостепенную задачу,
стоящую перед общественными науками. В качестве критерия выделения
общественных формаций он предлагает ввести новый «принцип
организации». При этом важно подчеркнуть, что этот новый принцип
организации мыслится им как «внеэкономический критерий». В соответствии
с этим критерием он выделяет следующие общественные формации: 1)
неолитические общества, 2) ранние общества высокой культуры, 3) развитые
общества высокой культуры и 4) современные технологические общества.
При характеристике нового принципа организации Хабермас, как и его
предшественники по школе, исходит из критерия «рациональности»,
интерпретируя его в столь же негативном смысле и даже несколько острее
ставя вопрос о кризисе «рациональности» во всех возможных областях и
формах. Подробной характеристике неких специфических кризисных
изменений, происходящих в социокультурном «жизненном мире» сов-
временного Запада, была посвящена его ранняя работа «Изменение
структуры общественности» (1962), построенная на противопоставлении
прогрессивной и плодотворной роли структуры общественности (т. е .
общественных институтов, функций государства и др.) в эпоху
«либерального капитализма», упадку определяемого современной
социокультурной системой самосознания «жизненного мира».
Социокультурная система, по Хабермасу, — это «культурное наследие,
совокупность культурных ценностей, а также общественные институты,
посредством которых это наследие через процессы социализации и
профессионализации получает нормативную силу» 49
.
Прослеживая характер учащающихся симптомов иррациональности в
социокультурной системе в условиях позднего капитализма, а также такие
кризисные тенденции, как эрозия важнейших универсальных культурных
традиций, упадок различных форм буржуазной демократии (особенно
политической), возросшие в условиях позднего капитализма репрессивные
функции государственного аппарата, расширение административного
вмешательства в области культуры, морали и пр., Хабермас исследует связь
этих кризисных тенденций с идеологией господствующей системы,
разрабатывающей такие нормативные положения, которые означают отмену,
опровержение (Relokation) буржуазных идеалов. Сама теория буржуазной
демократии оказывается подверженной коррупции, когда узакониваются
противоречия между прямыми распоряжениями и принятыми нормами.
Подобное явление происходит и с моралью, являющейся составной частью
буржуазной идеологии. Проблема субъекта и системы, вопросы о
нормативных структурах упираются в мировоззренческие проблемы,
проблемы образования, затрагивающие эмансипационные интересы
человечества в целом. Тщательный анализ этих изменений приводит
Хабермаса к выводу о грозящем капиталистическому миру легитимационном
кризисе, который он, обнаруживая свой идеалистический подход к истории,
пытается выдать за главный кризисный симптом.
Причиной кризиса легитимации50 в социокультурной системе Хабермас
считает неправомерное распространение на нее инструментальных
критериев, прежде всего норм технически ориентированного
позитивистского мышления, осуществляющего функции контроля над
жизненными сферами, которые до сих пор регулировались совершенно
иными, не административными способами. Именно в этой системе все
критерии, позволяющие судить о рациональности в пределах компетенции
научных исследований, технологии, производства и управления, иначе, в
пределах принципиально другой системы — «субсистемы рационального
действия», отказывают, и то, что оценивалось веберовской социологией как
процесс рационализации, начинает обнаруживать признаки
иррациональности и дисфункции. Рациональность перестает совпадать со
стремлением общества к разумности. Так, в работе «Проблемы легитимации
в условиях позднего капитализма» (1973) Хабермас доказывает «теоремы»
существующих и возможных кризисных, иррациональных тенденций в
современной социокультурной системе, ставшей дисфункциональной, —
«теорему кризиса рациональности», «теорему кризиса легитимации»,
«теорему кризиса мотиваций» и др. — и рассматривает свои доказательства
как свидетельства необходимости радикальных социальных изменений.
Ввиду этого Хабермас выдвигает проект позитивной программы, или
социально-научную теорему «новых возможностей». Позитивная программа
Хабермаса есть попытка разработать на основе конкретных социальных
исследований, проводимых в настоящее время Институтом по исследованию
условий жизни научно-технического мира («Max-Planck-Institut», ФРГ),
концепцию «эмансипационного интереса» как движущей силы социального
прогресса. Во многом она восходит к основам «классического буржуазного
мировоззрения» периода «либерального капитализма», но дополнена
программой «гуманитарного реформирования» современного общества,
состоящей из рекомендаций, рассчитанных в конечном счете на способность
системы к саморегуляции.
Какова же роль в этой программе духовной культуры и искусства? Хабермас
связывает с ними реформацию мировоззрения и удовлетворение
повышенных духовных запросов, тех новых потребностей, которые будут
вызваны обновленной социокультурной системой. Духовная культура и
искусство играют большую роль в создании картины мира и ее восприятии.
Прослеживая развитие культурной жизни Хабермас (полемизируя с Н.
Луманом) отмечает, что прежде всего в культуре и искусстве запечатлен путь
познания — от мифа, через религию, к философии и идеологии. По мере
развития познания культура отражала его движение от картины мира
(космологии), через автономию наук, к системе морали, от своеобразного
партикуляризма к универсалистской и одновременно индивидуалистической
ориентации. Универсальная система ценностей, выработанная культурой,
развивается не только по своим внутренним законам, она тесно связана с
человеком, с направленностью его деятельности. В этом смысле Хабермас
делает интересное и несколько парадоксальное для своей концепции, но
совершенно справедливое замечание о том, что история науки и техники —
это в общем направляемый процесс, хотя и имеющий свои специфические
внутренние законы. Здесь он близко подходит к марксистской постановке
этого вопроса. Хабермас, посвятивший немало трудов проблемам научно-
технического прогресса, при исследовании соотношения науки,
технократического мышления и общества раньше делал акцент на
коммуникативной стороне. В последних работах он пытается поставить этот
вопрос по-новому и найти возможность человеческого измерения НТР. Он
связывает его с культурным комплексом и ищет своего рода синтез науки и
культуры (просвещения), который бы функционировал более успешно. С
этой целью он исследует вопрос, поставленный еще М. Вебером: откуда
берутся ценностные культурные установки? — и, отвечая на него,
диалектически подходит к соотношению культурных традиций и новых
потребностей. Культурная система, как и всякая другая, претерпевает
изменения и вынуждена ориентироваться на новые потребности, пишет он.
Культурные традиции в таком развитии являются носителями общественного
смысла, которые, как всякое знание, постоянно воспроизводятся. Они
остаются «живыми», содержание их усваивается, они сохраняют свою
императивную силу, если не разрушен «контекст», в котором они были
произведены, если обеспечивается «исторический континуитет»
(непрерывность), когда люди могут идентифицировать себя с историей и
друг с другом. В этом случае традиции способствуют повышению
герменевтического сознания, которое предполагает, как указывает Хабермас
со ссылкой на X. Г . Гадамера, понимание и использование, передачу и
удержание ценностного смысла культурных традиций на рефлексивном
уровне. Ю. Хабермас допускает рефлективное усвоение традиции, в котором
форма критики имеет двоякую функцию: она аналитически разлагает
традицию и вместе с тем признает ее претензии на ценность; в таком случае
традиция также сохраняет свою императивную силу, т. е . упрочивает,
обеспечивает преемственность. Если эти условия нарушены, традиция теряет
свою самобытность: восстановленная, но «объективистски использованная и
стратегически введенная в действие», она теряет свою силу
(выхолащивается) 51
.
Ю. Хабермас, много занимавшийся проблемами просвещения и воспитания
молодежи, придает большое значение традициям, особенно в
воспроизводстве культурного комплекса. Совершенно очевидно, что здесь
наметился существенный отход от нигилистически-разрушительных
тенденций школы в отношении к культурным ценностям и духовному
наследию. Продолжая критическую традицию школы, Хабермас в своей
«критической теории общества» подробно развивает положение о том, что
существующая индустриально-бюрократическая система с ее социальными и
культурными институтами, а также ничем не сдерживаемое господство
буржуазной идеологии в корне подорвали условия воспроизводства
культурного наследия и возможность его продуктивного функционирования
в качестве общественной ценности. Однако в отличие от своих
предшественников философ считает жизненно важным и необходимым
активно добиваться создания таких условий. Он пытается определить
возможную сферу влияния культурных ценностей на современное
буржуазное общество и мыслит ее как достаточно широкую. По его мнению,
воспроизводство культурного наследия может стать важнейшим способом
социализации и существенно оздоровить структуру общественности, явится
мощным противодействием и орудием критики буржуазной идеологии в
целях просвещения и гуманизации общества и, наконец, главное — оно будет
способствовать развитию «эмансипационного интереса», который, согласие
его концепции, должен выступить как решающая сила социального
прогресса.
Анализируя, а вернее, проектируя такие возможности, Хабермас справедливо
отмечает, что современный человек поставлен в сложную культурную
ситуацию. Ему не безразличен опыт прошлого, но, чтобы правильно понять и
оценить его, необходимо отделить то, что навсегда отошло в прошлое и ныне
воспринимается как история, и то, что связывает традиции с сегодняшним
днем. Есть вечные, но не неизменные ценности, замечает Хабермас, и в
духовном климате каждой эпохи они осуществляются по-разному. Отсюда и
непростая задача — освоение культурного наследия и просвещение масс.
Только для того, чтобы приобщить людей к элементарной нравственной
культуре, требуется немало усилий. С еще большими трудностями сопряжен
процесс усвоения веками выработанных культурных ценностей, немыслимый
без способности сделать выбор, высокого уровня рефлективности и
интеллектуальности. Отмечая «в духе своих учителей», что современный
конвейер культуры с помощью технических средств, как правило, лишь
профанирует достижения большой культуры, Хабермас считает
необходимым искать пути для более успешного выполнения поставленной
задачи.
С целью реализации своих проектов «новой духовной эмансипации»
Хабермас выступает с методологической программой, которая частично
перекликается с традиционной для школы интерпретацией гносеологической
проблематики, обнаруживая ее эволюцию, а частично представляет собой
попытку философского обобщения методологических исканий новейших
философских направлений, и в том числе герменевтики, с ее повышенным
интересом к личности и таким важнейшим ее характеристикам, как
когнитивные способности, духовные потребности, из которых особо
выделяется потребность в общении, и др.
С точки зрения Хабермаса, прежде всего следует выработать установку
сознания на освобождение от идеологических шор и «синдромов»
частнособственнических представлений. Необходимо также определить
исключающую манипуляции сознанием общую мировоззренческую
направленность (позицию), которая должна состоять в
выявлении и «адекватной интерпретации» человеческих интересов и
потребностей и др. Можно считать, что в своих основных положениях этот
проект восходит к более раннему, выдвинутому школой еще в 30-е годы так
называемому проекту радикализации критического самосознания индивида и
представляет его современный вариант.
Здесь важно отметить, что содержание этого проекта рассматривается
Хабермасом в качестве главной познавательной цели, для достижения
которой требуется тщательное изучение социокультурной ситуации (на базе
эмпирических социальных исследований). В перспективе философ считает
эффективной теоретическую разработку новой модели — иначе, создание
«единой социальной теории», обосновывающей новый тип отношений
людей, достигших свободы и высокого уровня культуры, но в рамках того же
социально-экономического строя (и это положение имеет принципиальное
значение для всех проектов Хабермаса).
Примечательно, что исследователь проблем научно-технического прогресса
строит свои проекты не на основе научно-технических предвосхищений (в
отличие от технократически ориентированных современных моделей других
буржуазных философов), а апеллирует к гуманитарной сфере: культуре,
психоанализу, а также к искусству, которое в отличие от многих видов
знания, выполняющих в современном обществе идеологическую функцию,
не утратило своего гуманистического характера. Хабермас критически
относится к современному научному знанию, выражает скепсис по
отношению к таким формам общественного сознания, как религия и
философия (считая последнюю сциентистской), а также к морали (считая ее
утилитаристской) и т. д . В искусстве же, с его преимущественным интересом
к человеку и уникальным проникновением в личностную сферу, мир
духовных потребностей и постоянно возникающих противоречий, Хабермас
видит область, близкую его футурологическим проектам. Он рассматривает
мир искусства как сосредоточение знания, доступ к которому раскрывают
язык и языковые формы общения. Отсюда, отводя искусству гораздо более
скромную роль по сравнению со своими «учителями», Хабермас все же
возлагает на него немалые надежды. Критически оценивая модернизм52
,он
ориентируется, по его словам, на высокое, прогрессивное искусство. Однако
эта оценка дается без учета его социально-классового характера и связи с
подлинно прогрессивными идеями социализма. То же можно сказать и о
социально-политической основе его проектов, в целом ориентированных
главным образом на осуществление норм буржуазной демократии,
историческая реализация которых оказалась утопией.
Нельзя не отметить, Что Хабермас поднимает ряд весьма актуальных
вопросов. С особой остротой стоит сейчас проблема сохранности
культурного наследия. Предметом философского рассмотрения как
советских, так и зарубежных ученых стали проблемы социокультурной
обусловленности знания и познания. В этом плане большой интерес
представляет попытка Хабермаса поставить в прямую зависимость от
социокультурной ситуации изменение содержания современной философии,
и в частности направленности познавательного процесса. Он обращает
внимание на тот факт, что в эпоху научно-технической революции и для
теоретических исследований, и для практики важно осознание радикальных
изменений всей совокупности общественных отношений. Первостепенное
значение приобретает сейчас исследование человеческих аспектов новых
социальных факторов, вызванных влиянием НТР. Это касается форм и
методов управления производственной и общественной деятельностью
людей, стремления к достижению согласованности общественных и личных
интересов, а также нравственных критериев и их меняющегося смысла,
морали и т. д.
Хабермас выступает за формирование нового типа познания и
познавательного интереса, все активнее обращающегося к человеку, его
личностному аспекту, и пытается раскрыть те социальные механизмы,
которые определяют его мировоззрение. Заявляя о необходимости ломки
сложившихся философских теоретико-познавательных концепций и
ориентируя их на социальную практику, Хабермас доказывает свои «теоремы
новых возможностей».
В заключение следует отметить, что теоретико-познавательные концепции
Ю. Хабермаса, вне сомнения, исходят из реальных проблем современного
буржуазного общества и преимущество их состоит в том, что философ
пытается рассмотреть их комплексно, доказывая, что социокультурная
обусловленность познания — это не «фон» и даже не «контекст», она связана
с его сущностью.
Между тем в его системе доказательств отсутствует анализ главных,
определяющих общественные процессы в целом материальных сил, и
поэтому его теоремы остаются в сущности недоказанными: вернее,
принимают либо реформистский, либо утопический характер. Это относится
и к его социально-научной «теореме» «новых возможностей»,
«эмансипационного интереса».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем некоторые итоги.
1. Традиционное для «критической» гносеологии соотношение
«гносеологическое — эстетическое» развивалось все в новых и новых
социокультурных контекстах, не утрачивая при этом своих основных
способов связи. Это свидетельство тому, что в нем нашла выражение одна из
основных тенденций развития «критической» гносеологии, отражающая
объективно существующую теоретико-познавательную и мировоззренческую
проблему: соотношение наших знаний (преимущественно гуманитарных) с
нашими целями и идеалами.
2. Рассмотрение «критической» гносеологией искусства и культуры как
мировоззрения, сферы познания, связанной с движением к новой
действительности, особенно в условиях современного буржуазного
общества, явилось своего рода попыткой противопоставить гуманитарное
знание засилью техницизма, абсолютизации методологии естественных наук
и математизации познания, создать «художественный» эквивалент научно-
технической картине мира. Философское осмысление этой последней
вылилось у представителей данного направления в исследования
исключительно негативных последствий научно-технического прогресса
(весьма характерно, что задача изучения новых возможностей знания в связи
с НТР ими даже не ставилась). Активно утверждая факт социокультурной
детерминации познания и вводя понятие культуры в теорию познания,
создатели «критической» гносеологии исходили из ложных
мировоззренческих посылок, касающихся как «философии науки», так и
философии культуры в целом.
Наука фактически исключается имя из сферы культуры: в ней они
усматривают лишь «корень цивилизации» (выражение X. Ортеги-и-Гассета),
подменяя в сущности «философию науки» «философией техники». Наука же,
приравненная к технике, выполняет, утверждают они, негативную функцию
по отношению к субстанции человеческой мысли: она идеологизируется и в
этом своем качестве уже не может выполнять культурно-просветительскую,
гуманистическую функцию.
Идеология же понимается представителями «критической» гносеологии
исключительно как форма превращенного сознания, как ложное и
отчужденное сознание, и в этом своем значении приравнивается к
пропаганде. Очевидно, что интерпретированные таким образом наука и
идеология не могут служить целям истинного познания.
3. Длительная история разработки «критической» гносеологией
соотношения «гносеологическое — эстетическое» свидетельствует о том, что
полученные ею теоретико-познавательные выводы содержат лишь
предложения распространить результаты, полученные в музыковедческих,
литературоведческих, лингвистических исследованиях, за пределы этих
специальных сфер и объявляют их средством для достижения нового
теоретического знания (иногда это не сформулировано явно, но наличествует
имплицитно).
И это не случайно. Суть дела в том, что предложенные нововведения
развивались в комплексе с «критицизмом» по отношению к понятийному
мышлению, являющимся формой отрицания диалектики научного знания, и,
следовательно, не имеющим отношения к теории научного познания вообще.
Этот «критицизм», детерминированный мировоззренческими и классовыми
позициями, смыкается с отвлечением от основных методов познания и
переустройства мира. Такая постановка вопроса сужает поле объективного
научного познания и приводит к ложным выводам, к неистине, что отчетливо
проявляется при обращении к эстетическому как одному из главных
способов социализации индивида. Все это свидетельствует: «критическая»
гносеология не может рассматриваться как теория познания в научном ее
понимании. По существу она является метатеорией, специфику которой
составляет критика научной теории познания и преимущественное внимание
к культуре, редуцированной и по сути приравненной к искусству (поэтому в
нашей работе мы употребляем выражение культура и искусство). Надо
отметить, что наряду с редукцией в современных концепциях
Франкфуртской школы, в частности Ю. Хабермаса, наблюдается некоторое
расширение предмета знания: обращение к культурным формам общения, т.
е. нравственным отношениям, проблемам образования, воспитания,
формирования мировоззрения.
4. Проведенный далеко не полный анализ проблемных постановок
«критической» гносеологии показывает, что, хотя они возникли в разных
концепциях и отошли от первоначальных основ, тем не менее имеют общие
гносеологические корни и опираются в своем развитии не на положительные
идеи (гегелевскую эстетику, учение Гёте, например), а на негативные
традиции классической немецкой философии. Основная проблема
философии искусства — отношение искусства к действительности —
переориентирована в современной «критической» гносеологии на
противопоставление искусства и научного знания и утверждение
недостаточности, «неистинности» последнего. В этом смысле рассмотренные
концепции являются характерным примером критически
проанализированной в нашей литературе тенденции «преодоления»
современной буржуазной философией классических структур философского
мышления, когда под видом отрицания традиций и создания новаций
преподносятся сложные инверсии классических способов мышления.
5. Искусство, как известно, рассматривается в марксистской гносеологии и
эстетике как средство познания, широко использующее на практике весь
богатый арсенал художественных методов, в том числе и в целях познания.
Не подменяя других средств познания, искусство успешно выполняет свои
функции — познавательную, социальную, эвристическую и другие во
взаимодействии с научным знанием. Известно, что если мы хотим получить
целостное представление об объекте, то обязаны учитывать все имеющиеся
виды знания в их синтезе. Такое знание может дать культура в целом,
которая рассматривается нами как система взаимодействия различных
форм познавательной, нравственной и эстетической деятельности,
детерминированной определенным социально-экономическим укладом.
Культура не сводима к способам деятельности, к ее сущности относится и
продуцирование идеальных смыслов, целей, и ценностей, выполняющих
ориентационную и прогностическую функции, которые не мыслимы без
четких мировоззренческих и классовых позиций. Поэтому важно отметить,
что при рассмотрении влияния культурных факторов на познавательный
процесс (вопрос этот действительно весьма актуален) объективных
положительных результатов можно добиться только
при комплексном исследовании их с понятиями истины, отражения,
практики.
ПРИМЕЧАНИЯ
К введению
1
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, ч. II, с. 123.
2
Там же, т. 42, с. 116.
3
См.: Прахт Э. О специфике искусства. - Вопр. философии, 1974, No 3, с.
155.
4
Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 53.
5
Рубинштейн С. Л, Основы общей психологии. М ., 1946, с. 364.
6
Гачев Г. Д. Развитие образного сознания в литературе. — В кн.: Теория
литературы. М ., 1962, с. 193.
7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 32, с. 186.
8
Палиевский П. В. Внутренняя структура образа. — В кн.: Теория
литературы, с. 94.
3
Гачев Г. Д. Указ. соч., с. 260.
К главе первой
1
Леонтьева Э. В. Искусство и реальность. М ., 1972, с. 58.
2
Это направление уже подвергалось критическому анализу в марксистской
литературе. Так, Т. Шварц осветил некоторые проблемы теории познания и
философии культуры в современной идеалистической философии
(см.: Шварц Т. От Шопенгауэра к Хайдеггеру. М ., 1964); В. Ф. Асмус
рассматривал соотношение между теорией познания, научным знанием и
художественным мышлением в философии И. Канта, Г. В . Ф. Гегеля, Ф.
Шеллинга, А. Шопенгауэра, А. Бергсона и др. (см.: Асмус В. Ф. Проблема
интуиции в философии и математике. М ., 1965); -К . М . Долгов исследовал
причины и истоки этой глобальной переориентации буржуазного
философского сознания на современном этапе (от науки к искусству, как ее
антиподу, и далее — к эстетизму), когда художественно-эстетическое
сознание, искусство превращаются в своего рода порождающую модель,
источник конститутивных идей «научной философии», гносеологии и
метафизики, становятся не только парадигмой реальности, но и принимаются
как последнее основание истины, разъясняющее суть и телеологию
человеческой деятельности, смысл жизни и человеческую сущность.
См.: Долгов К. М . Кант и кризис буржуазного философско-эстетического
сознания. — Вопр. философии, 1976, No 6, с. 115— 116; Он
же. Телеологическое истолкование общественного развития. - Там же, No 7,
с. 109-120. Различные интерпретации искусства как моделей познания и
особенности художественного познания в концепциях отдельных философов
освещены также в работах П. П. Гайденко, Ю. Н. Давыдова и др.
3
См.: Ленин
В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 206.
4
Кант И. Соч.: В 6-ти т. М., 1964, т. 3, с. 167.
5
Там же, с. 154-155.
7 См.: Там же, с. 201-202, 310-312. ' Там же, с. 221 .
8
Подробнее см.: Бородай Ю. М . Воображение и теория познания:
(Критический очерк кантовского учения о продуктивной способности
воображения). М ., 1966.
9 Кант И. Соч., т. 3, с. 173, 223.
10
См.: Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М ., 1980, с. 93-94.
11
Асмус В. Ф. Трансцендентальный идеализм и трансцендентальный метод
Канта. — В кн.: Философия и современность. М ., 1974, с. 47 .
12
См.: Лекторский В. А. Указ. соч., с. 93 .
13
Долгов К. М. Кант и кризис буржуазного философско-эстетического
сознания, с. 127.
14
Кант И. Соч. М ., 1966, т. 5, с. 324.
15
Там же. М., 1966, т. 6, с. 21-22.
16
См.: Овсянников М. Ф. Эстетическая концепция Шеллинга и немецкий
романтизм. - В кн.: Шеллинг Ф. В . Философия искусства. М ., 1966, с. 35.
17 Асмус В. Ф. Диалектика в философии Канта. - Избр. филос. тр. М ., 1971, т.
2, с. 65.
18
Шеллинг Ф. В . И. Система трансцендентального идеализма. Л ., 1936, с. 19.
19 О критическом отношении Кьеркегора к объективно логическому подходу
к познанию и всякому научному миропониманию, в том числе
базирующемуся на естествознании, об отрицании объективного знания в
целом и превращении истины в верование см.: Быховский Б. Э. Кьеркегор.
М., 1972, с. 53-107, 123 и др.
20
О проблеме «гносеологическое - эстетическое» в системах Канта и Гегеля
см.: Копнин П. В . Гносеологические и логические основы наук. М ., 1974. Гл.
VIII. Истина, красота, свобода.
21
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М ., 1900, т. I, ч. 2, с. 127-
128.
22
Там же, с. 194.
23
Там же, с. 67-68 .
24
Там же, с. 183-184.
25
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М ., 1975, т. 1, с. 295, 220,
127, 399, 402.
26
Там же, с. 277.
27 Там же, с. 278-279.
28
Шопенгауэр хотел построить теорию познания, «близкую к жизни,
наглядную», в тесной связи с естествознанием, в особенности с физиологией;
и действительно, его толкование интеллекта как функции мозга во многих
положениях приближается к материалистическому учению. Однако, вводя в
свою теорию об интеллекте интуицию и оценивая ее познавательные
возможности как несравненно более высокие по сравнению с интеллектом и
одновременно насыщая теорию познания мистицизмом и иррационализмом,
философ вновь оказался на позициях идеализма, причем далеко отстоящих
даже от кантовского агностицизма. См.: Шварц Т. От Шопенгауэра к
Хайдеггеру, с. 8.
29 Манн Т. Соч.: В 10-ти т. М., 1961, т. 10, с. 141.
30
Вильмонт Н. Н. Художник как критик. — В кн.: Манн Т. Соч. М ., 1961, т.
10, с. 630 -631.
31
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, т. I, ч. 2, с. 334-335.
32
См.: Там же, с. 197-198.
33
Толстой Л. Н. Соч.: В 20-ти т. М., 1963, т. 8, с. 413.
34
Там же. М., 1963, т. 9, с. 412.
35
Манн Т. Соч. М ., 1959, т. 1, с. 694.
36
Там же, с. 692.
37 Там же, т. 10, с. 291.
38
См.: Тарле Е. В. Ницшеанство и его отношения к политике и социальным
теориям европейского общества. — Вестн. Европы, 1901, No 8.
39 Ницше Ф. Соч.: В 10-ти т. М ., 1910, т. 9, с. 232.
40
Там же. М ., 1911, т. 3, с. 21—22, 38—39 .
41
Там же, с. 21-22 .
42
Там же, т. 9, с. 224.
43
Там же, с. 211.
44
Со времени эстетики Платона под аффектами понимается область
человеческих влечений и стремлений, которые «по существу своему лишены
всякой целесообразной направленности, являясь „алогической" стихией и
внеразумной способностью души» (Лосев А. Ф. История античной эстетики.
М., 1969, с. 603). В современной литературе психологический термин
«аффект» неоднозначен: он употребляется для обозначения возбуждения,
волнения и уводит в сферу чувственного, эмоционального, но, кроме того,
ему может быть придан и негативный оттенок, когда он выступает в
значении чего-то неестественно преувеличенного, патологически
аффектированного, болезненного. У Ницше термин выступает в этих двух
смыслах.
45
Ницше Ф. Соч., т. 3, с. 34.
46
Там же, с. 199-200.
47 См.: Манн Т. Соч., т. 9, с. 15.
48
Там же, т. 10, с. 110, 323. См. также: Манн Т. Философия Ницше в свете
нашего опыта. Там же, т. 10, с. 346—171; Он же. Страдания и величие
Рихарда Вагнера. — Там же, с. 102-173.
49 Имеются в виду сочинения Р. Вагнера «Искусство и народ» (1849) и
«Искусство и революция» (1849).
50
Ницше Ф. Соч. М ., 1909, т. 2, с. 395.
51
Манн Т. Соч., т. 10, с. 323.
53
См.: Чайковский Л. И. Полн. собр. соч. М ., 1953. Т. 2 .
53
См.: Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Москва;
Лейпциг, 1896, т. 2, с. 55, 54, 585.
54
См.: Там же.
55
См.: Ищук Г. Н. Проблемы эстетики позднего Л. Н. Толстого. Ростов н/Д,
1967, с. 81.
56
Толстой Л. Н. Соч., т. 9, с. 292-294
57 Асмус В. Т. Манн о ремесле писателя. - Знамя, 1939, No 5/6, с. 298.
5S Манн Т. Соч., т. 10, с. 122.
59 Там же, с. 152.
60
См.: Mann Th. Gesammelte Werke: In 12 Bd. В ., 1956, В. XI, S. 767.
61
См.: Heidegger M. Nietzsche. Pfullingen, 1961, Bd. 1, S. 35-37, 92, 168-169,
415.
62
См.: Гайденко П. П. Философия Мартина Хайдеггера. — Вопр. лит., 1969,
No7,с.99.
63
См.: Heidegger M. Erlauterungen zu Holderlins Dichtung. Frankfurt a. M .,
1951.
64
Протасова К. С . Ф. Гельдерлин, его время, жизнь и творчество. - Учен.
зап. МГПИ им. В . П. Потемкина, 1962, No 180, с. 120.
65
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 240.
66
Эмпедокл — греческий философ, поэт, ученый-естествоиспытатель, вождь
демократической партии, просветитель народа, жил в V в. до н. э. в
Агригенте (Сицилия).
67
Цит. по: Протасова К. С . Указ. соч., с. 123.
68
Луначарский А. В . О наследстве классиков. - В кн.: Статьи о литературе.
М., 1957, с. 95, 93.
69 Там же, с. 95, 96.
70 Манн Т. Соч., т. 10, с. 563.
71 Там же, с. 490, 491.
72 См.: Эткинд В. Г . Символизм. - В кн.: Крат. лит . энциклопедия. М ., 1971, т.
6, с. 834.
73 См.: Манн Т. Соч., т. 10, с. 490.
74 Там же, с. 389-390.
75 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 37, с. 350—353; т. 36, с. 333—
334; Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 25 .
76 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 321.
77 Там же, с. 322.
К главе второй
1
Однако, пытаясь «пересмотреть» его учение с новых социально-
исторических позиций, они допускали искажения взглядов Гегеля, его
диалектики и т. д . См., напр.: Погосян В. А . К критике концепции истории
Франкфуртской школы. - Вопр. философии, 1977, No 7, с. 161-165.
2
См.: Международный конгресс писателей в защиту культуры. М ., 1936, с. 8,
12-13, 40, 101 и др.
3
Манн Т. Соч.: В 10-ти т. М ., 1961, т. 10, с. 289, 291, 292.
4
Интерпретация концепций культуры франкфуртских философов с
марксистских позиций дана в работах Ю. Н. Давыдова, К. Зауерланда, Д.
Золтаи, Р. Штайгервальда и др.
5
Так, его работу «Происхождение немецкой трагедии» (1928) Т. Манн
оценил как на редкость остроумную и глубокую книгу, по сути целую
историю и философию аллегории. См.: Манн Т. Соч. М ., 1960, т. 9, с. 228.
6
Статья В. Беньямина о И. В . Гёте использована в Большой Советской
Энциклопедии (М., 1929, т. 16, с. 530-560).
7 См.: Benjamin W. Über einige Motive bei Baudelaire.— In: IUuminationen.
Frankfurta. M ., 1961.
8
См.: Benjamin W. Ober Literatur. Frankfurt a. M ., 1970, S. 72, 86, 87—103,
154—202.
9 См.: Benjamin W. Eine Diskussion fiber die russische Filmkunst und
kollektivistische Kunst iiberhaupt.— Die literarische Welt, 1927, Jg. 3, N 10, S. 7
ff.
10
См.: Benjamin W. Wladimir Iljitsch Lenin: Briefe an Maxim Gorki, 1908—
1913. Wien, 1924. — Die literarische Welt, 1927, Jg. 3, N 10, S. 6; Idem. Die
politische Gruppierung der russischen Schriftsteller. Die literarische Welt, 1927,
Jg.3,N10,S.1.
11
См.: Benjamin W. Versuche fiber Brecht. Frankfurt a. M ., 1967.
12
Aura буквально означает излучения предмета, воспринимаемые чувством;
это понятие стало широко употребляться франкфуртскими философами на
правах термина, означающего утрату искусством атмосферы возвышенного,
потерю исходящего от него обаяния; близко по значению к словам ореол,
сияние. Уточняя смысл понятия, В. Беньямин писал: «...то, что хиреет в
произведениях искусства в век его технического воспроизводства, и есть
аура» (Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit. — In: Drei Studien zur Kunstsoziologie. Frankfurt a. M ., 1963, S. 15).
13
Анализ очерков см. в кн.: Штейгервальд Р. «Третий путь» Герберта
Маркузе. М ., 1971, с. 73-108.
14
От affirmativ - утверждающий.
15
Marcase H. Kultur und Gesellschaft. I. Frankfurt a. M ., 1965, S. 63 .
16
Ibid., S. 122. Такое представление о новой культуре во многом сходно с
элитарными концепциями 20-30-х годов, выдвинутыми X. Ортегой-и-
Гассетом («Дегуманизация искусства» (1925), «Восстание масс» (1929-
1930)), Н. Бердяевым («Философия неравенства» (1918; 2-е изд., 1923)) и др.,
пророчившими почти по Ницше гибель культуры в результате революции,
подавление творчества и наступление эпохи торжества посредственности.
17 См.: Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 38, с. 54 .
18
Там же, т. 41, с. 304, 462. Исторический опыт подтвердил бесплодность
«проектов» построения культуры в отрыве от лучших традиций мировой
культуры как идеологами пролеткульта, так и современной практикой так
называемой великой пролетарской культурной революции в Китае. См.
также: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 18; Ленин В. И. Поли. собр.
соч., т. 41, с. 301, 303, 304; т. 23, с. 40-43.
19 В марксистской критике существует мнение, что чрезмерное
подчеркивание социальной обусловленности явлений в дальнейшем
приводит франкфуртских философов к отождествлению общественного
бытия и общественного сознания. На наш взгляд, такая оценка говорит о
некоторой абсолютизации того положения, которое анализируют эти
философы, но к которому с самого начала подходят с критических позиций,
подчеркивая, хотя чаще всего и декларативно, необходимость выхода из
него.
20
Как наиболее характерные для определения направления школы можно
назвать следующие работы ее основателей: Horkheimer M. Anfange der
burgerlichen Geschichtsphilosophie. Stuttgart, 1930; Idem. Bemerkungen fiber
Wissenschaft und Krise. — Zeitschrift fiir Sozialforschung. Leipzig, 1932, N 1, S.
1— 7; Idem. Bemerkungen zu Jaspers «Nietzsche» — Zeitschrift fur
Sozialforschung, Paris, 1937, S. 407—414; Adorno Tk. W. Kierkegaard:
Konstruktion des Asthetischen. Tubingen, 1933; Fromm E. Die Entwicklung der
Christusdogmas. Wien, 1931; etc.
21
Horkheimer M. Traditionelle und kritische Theorie. Frankfurt a. M ., 1970, S. 10.
22
См.: История марксистской диалектики: Ленинский этап. М ., 1973, с. 443,
467-468 и др.
23
См. работы Б. Н. Бессонова, А. С . Богомолова, А. Гедё, Ю. Н. Давыдова, И.
С. Нарского, В. А. Погосяна, И. Черны, Б. В . Шевича, Р. Штайгервальда и
др., а также: Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus: Zur Kritik der
Philosophie und Soziologie von Horkheimer, Adorno, Marcuse,
Habermas. Frankfurt a. M., 1970.
24
Horkheimer M. Materialismus und Metaphysik. — In: Traditionelle und
kritische Theorie. Frankfurt a. M ., 1969, S. 77. Постепенно в философии школы
сформировалась тенденция рассматривать марксизм как экономическое
учение, а не как мировоззрение и теорию познания.
25
Ibid., S. 67.
26
Франкфуртская школа пыталась осуществить свою программу: в ее
разработке приняли участие специалист по современной политэкономии Ф.
Поллок, социолог и искусствовед Т. Адорно, психоаналитик Э. Фромм,
теоретик культуры В. Беньямин и др. Школой в течение нескольких
десятилетий проводились конкретные социологические исследования,
результаты которых публиковались в «Журнале социальных исследований»
,и были использованы в работах "основателей школы в американский период
деятельности, а также в работах второго поколения Франкфуртской школы,
выступившего с концепциями современного постиндустриального общества
с позиций реформизма.
27 Horkheimer M. Traditionelle und kritische Theorie, S. 62-63, 42.
28
Marcuse H. Philosophie und kritische Theorie (1937).- In: Kultur und
Gesellschaft. I, S. 103.
29 См.: Horkheimer M. Anfange der biirgerlichen Geschichtsphi-losophie.
30
См.: Marcuse H. Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Frankfurt a.
M., 1969, S. 18 ff.
31
Ibid.. S. 46.
32
Критику взглядов Маркузе и его интерпретации «Экономическо-
философских рукописей 1844 г.» К. Маркса см.: Ойзерман Т.
И. Формирование философии марксизма. М ., 1962, с . 304-315; Buhr
M. Entfremdung — philosophische Antropologie — Marx-Kritik. — Deutsche
Zeitschrift fur Philosophie, 1966, N 7, S. 806-834; и др.
33
Комментарий к этой работе см.: Баталов Э. Я., Никитич Л. А., Фогелер Я.
Г. Поход Маркузе против марксизма. М ., 1970.
34
На негативную сторону диалектики Гегеля ориентирует и предисловие
«Замечания о диалектике» (1960), написанное для переиздания работы,
первоначально направленной против фашистской фальсификации его
наследия. Оно могло бы рассматриваться как эпилог, если бы такового не
было во втором американском издании 1954 г., вносившем существенные
коррективы в решение поставленных проблем: Маркузе не пересматривал
свои взгляды - в этом не было никакой необходимости,- он лишь развивал их
в сторону «негации» и довел до логического завершения в предваряющем
работу двадцатилетней давности предисловии, являющемся по сути
коррелятом концепции «Великого Отказа» и играющем роль своего рода
установки на восприятие ранней концепции. Ввиду этого мы особо говорим о
предисловии.
35
Marcuse H. Vernunf und Revolution: Hegel und die Entstehung der
Gesellschaftstheorie. Darmstadt: Neuwied, 1972, S. 67.
36
Ibid., S. 68.
37 Ibid.
38
Ibid.
39 Marcuse H. Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social
Theory. Boston, 1960; Idem. A Note on Dialektik, Boston, 1964, p. VII, IX.
40
Ibid., p. VIII.
41
Marcuse H. Vernunf und Revolution, S. 65-66.
42
Ibid., S. 74.
43
Некоторые философы-марксисты считают, что в этой книге Маркузе ближе
всего подходит к марксизму; см., например: Штейгервальд Р. «Третий путь»
Герберта Маркузе, с. 120.
44
Marcuse H. Reason and Revolution, p. XII .
45
Marcuse H. Vernunf und Revolution, S. 68 .
48
Ibid., S. 71 .
47 Ibid., S. 68-70.
48
Ibid., S. 73-74 .
49 Ibid., S. 369.
50
Эта сторона вопроса освещается в ст.: Бессонов Б. Н. К критике
маркузеанской трактовки диалектики Гегеля. -В кн.: Диалектика Гегеля и
марксизм. М ., 1974, с. 88.
51
Marcuse H. Vernunf und Revolution, S. 369 .
52
Ibid., S. 370.
53
Marcuse H. Reason and Revolution, p. VII—VIII, IX.
54
Ibid., p. XII. Эта мысль высказывалась Маркузе и в работах более позднего
времени, например в его докладе на Гегелевском конгрессе в Праге (1966) «К
понятию отрицания в диалектике» (послесловие к «Идеям к критической
теории общества», 1965) и др. Бесперспективность такого рода поисков
наглядно продемонстрировал сам Г. Маркузе в концепции «одномерного
человека», ограниченной позициями «Великого Отказа».
55
Ibid., p. XIV.
56
Веберовский термин «господство» теряет при этом свою конкретность и
приобретает внеисторический, абстрактный характер, обозначая некое
тотальное «господство».
57 Как справедливо отмечает В. А. Погосян, в «Диалектике просвещения»
история человечества сведена к истории «господства», которое объявлено
всеобщим принципом действительности и мышления, что в общих чертах
повторяет волюнтаристскую концепцию «воли к власти» Ф. Ницше,
приводит к отрицанию материалистического понимания истории и,
разумеется, коренным образом противоречит марксистско-ленинскому
учению об общественно-исторических формациях. См.: Погосян В. А. К
критике концепции истории Франкфуртской школы, с. 161-165.
58
Horkheimer M., Adorno Th. W. Dialektik der Aufklarung. Frankfurt a. M ., 1969,
S. 129-130.
59 Ibid, S. 130.
60
Развивая идеи В. Беньямина, Т. Адорно отмечал, что подлинная культура
не только стремилась к идее подлинной жизни, выражая ее через страдания и
противоречия, не только служила людям, но и всегда протестовала против
все более жестоких условий их существования. Если принять данное
Беньямином определение произведения традиционного искусства через
понятие ауры, т. е . близости далекого, то определением индустрии культуры
может служить то, что ей нечего противопоставить ауратическому принципу.
См.: Adorno Th. W. Resume liber Kulturindustrie. - In: Ohne Leitbild. Frankfurt a.
M, 1967, S. 62, 64.
61
См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 286.
62
Adorno Th. W. Negative Dialektik. Frankfurt a. M ., 1966, S. 6.
63
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 42, с. 158.
64
См.: Adorno Th. W. Negative Dialektik, S. 160.
01
См.: Ibid., S. 146.
65
Т. Адорно считает, что непонятийное импонировало А. Бергсону и ради
него французский философ «насильственным рывком создал другой тип
познания» (Ibid, S. 18). Тем самым он как бы перекидывает мостик от своего
метода к интуитивизму.
67 Ibid, S. 146.
68
Ibid, S. 34.
69
Ibid, S. 158, 175. «Всеобщее заботится о том, чтобы подчиненное ему
особенное не оказалось лучше, чем оно само. В этом суть существующего на
сегодняшний день отождествления», — пишет Адорно (Ibid, S. 304).
70 В духе Г. Риккерта, В. Виндельбанда и др., которые утверждали, что
существует только единичное, однократное, индивидуальное.
71 Adorno Th. W. Negative Dialektik, S. 162.
72 Ibid, S. 150.
73 Ibid, S. 151, 161.
74 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 252.
75 Розенталь М. М. Ленин и диалектика. М, 1963, с. 38 .
76 Adorno Th. W. Negative Dialektik, S. 176.
77 Ibid, S. 177 .
78 Ibid, S. 182.
79 Адорно, ссылаясь на Канта, отличавшего от конституируемого субъектом
предмета трансцендентальную вещь в себе, понимает под приоритетом
объекта то, что объекта как чего-то абстрактно противостоящего субъекту
нет, по что он с необходимостью кажется таковым, поскольку в основе
гипостазирования разделения субъекта и объекта в теории познания лежит
разделение субъекта и объекта в исторической действительности. Адорно
считает нужным устранить эту «кажимость» и стремится создать
феноменологический материализм: обращаясь к опыту Гуссерля,
«примирить» субъект и объект с помощью своего «коррелятивного»,
«субъективно-объективного» подхода к исследованию отношения субъект —
объект, а также посредством теории рефлексии. Согласно этой теории, он
пытается выделить, с одной стороны, субъект, лишенный своего
самовластного примата, а с другой — объект, также лишенный
«неумиротворенной» первичности, в результате чего приходит к объективно-
идеалистическому коррективу учения Гуссерля об эйдетической редукции.
Материалистическая претензия Адорно оказалась, однако, несостоятельной
потому, что он, как и Гуссерль, отправлялся от интенционального объекта, а
следовательно, от субъекта. См.: Погосян В. А . К критике теории познания
Франкфуртской школы. — В кн.: Марксистско-ленинский анализ
философских и общественных концепций Франкфуртской школы. М .,
1974, с. 100-106.
80
Adorno Th. W. Negative Dialektik, S. 178.
81
Ibid., S. 68.
82
См.: История марксистской диалектики. М ., 1971, с. 67.
83
Принцип мышления Адорно «с точки зрения объекта» неоднократно
подвергался критике в работах философов-марксистов.
84
Adorno Th. W. Negative Dialektik, S. 71 .
85
Ibid., S. 72.
86
Ibid., S. 190.
87 Ibid., S. 143.
88
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 23, с. 22 .
89 Понимание моделирования как метакритики практического разума и
остронегативный характер его смысловых моделей отмечал И. Черны,
подчеркивая, что и сама «негативная диалектика» является ансамблем таких
анализов. См.: Cernij J. Negativni dialektika ve frankfurtske skole. — In:
Filosofie a ideologie frankfurtske skoly. Pr., 1976, S. 148-151 .
90 Неконкретность, «открытость» моделей Адорно означает преднамеренный
отказа от рационального конструирования аналога действительности,
поскольку главной их целью является выявление критических аспектов.
«Открытость» по сути оборачивается ограниченностью, указывающей на то,
что с гносеологической точки зрения такие модели не могут быть
«представителями», «заместителями» оригинала в познании и практике.
Между тем сам Адорно называет свои критические очерки последних лет
(«Для чего еще философия?», «Телевидение как идеология» и
др.) «критическими моделями». См.: Adorno Th. W. Eingriffe. Neue kritische
Modelle. Frankfurt a. M ., 1971.
91 Имеется в виду использованный М. Вебером в работе «Экономика и
общество» принцип, согласно которому социологические понятия
составлялись постепенно из отдельных, взятых из исторической
действительности составных частей, поэтому окончательная формулировка
стоит не в начале, а в конце исследования.
92 Adorno Th. W. Negative Dialektik, S. 162.
93 Ibid., S. 164, 166.
94 См.: Давыдов Ю. Н. Эволюция социальной философии Франкфуртской
школы. - В кн.: Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М ., 1978, с.
238-243.
95 Adorno Th. W. Negative Dialektik, S. 167.
98 Ibid., S. 165.
97 Ibid., S. 170.
98
Ibid., S. 211-213, 214.
99 Подобная точка зрения, оспаривающая переход количества в качество и
допускающая возникновение нового только как внезапный скачок, как
разрушение непрерывности, а также представление о недетерминированной
свободе без цели, отрицание объективной закономерности и исторического
прогресса были неоднократно подвергнуты критике в марксистской
философии как проявление мелкобуржуазных индивидуалистических
взглядов.
К главе третьей
1
Adorno Th. W. Versuch iiber Wagner. Berlin; Frankfurt a. M ., 1952.
Интерпретация творчества Вагнера в этой работе перекликается со статьей Т.
Манна «Страдания и величие Рихарда Вагнера» (1933) и во многом восходит
к Шопенгауэру.
2
Adorno Th. W. Einleitung in die Musiksoziologie: Zwolf theo-retische
Vorlesungen. Frankfurt a. M ., 1962, S. 59.
3 Ibid., S. 67.
4
Adorno Th. W. Negative Dialektik. Frankfurt a. M ., 1966, S. 162.
5
Adorno Th. W. Einleitung in die Musiksoziologie, S. 99 .
e
Ibid., S. 190, 191.
7 Ibid., S. 192, 197.
8
См.: Ibid.
9 Ibid., S. 51—52 .
10
Adorno Th. W. Negative Dialektik, S. 357-358.
11
Манн Т. Соч.: В 10-ти т. М ., 1960, т. 9, с. 227-231.
12
Критика ницшеанства в романе существенно дополняется раскрытием
несостоятельности его философских и эстетических положений в
«публицистическом эпилоге» к «Доктору Фаустусу» — статье «Философия
Ницше в свете нашего опыта», где под «нашим опытом», как справедливо
отмечает С. Апт, имеется в виду «исторический опыт XX века». Апт
С. Томас Манн. М ., 1972, с. 36).
13 Манн Т. Соч., т. 9, с. 242.
54
Там же. М., 1960, т. 5, с. 315; т. 9, с. 271.
15
Там же, т. 9, с. 226.
16
Там же. М ., 1961, т. 10, с. 311, 312.
17 Там же, с. 315.
18
Там же, с. 324.
19Тамже,т.9,с.248.
20
Тамже,т.5,с.634;т.9,с.357.
21
Там же, т. 5, с. 625, 627.
22
Там же, т. 9, с. 356.
23
Там же.
24
Там же, т. 5, с. 644.
25
Пока что эти надежды не оправдались. К примеру, выдающиеся советские
музыканты выражают свое несогласие с высокой оценкой музыки А.
Шенберга в книге Л. Гаккеля «Фортепианная музыка XX века» (Л., 1977),
отмечая, что такая оценка определена не образной ценностью музыки, а лишь
новизной использованных в ней фактурных структурно-технических
приемов. Некоммуникабельность музыки А. Шенберга рассматривается
рецензентами как основание для определения ее положения как
периферийного по отношению к магистральной линии развития
музыкального искусства. См.: Малинин Е., Флиер Я., Соколов М. С точки
зрения пианистов. - Сов. культура, 1977, 17 мая.
26
Манн Т. Соч., т. 10, с. 215.
27 Там же, т. 9, с. 249, 250.
28
Манн Т. Мое время. - Новый мир, 1955, No 10, с. 234-236.
29 См.: Манн Т. Сказочный витязь героической саги: (О Ленине). —
Интернационал, лит., 1939, No 1, с. 15; Он же. Письмо к А. М . Горькому
(1928 г.). - В кн.: Переписка А. М . Горького с зарубежными литераторами М.,
1960, с. 189-190; Он же. Письмо к Алексею Толстому. - Литература и
искусство, 1943, 22 мая; и др.
30
О философии музыки Адорно подробнее см.: Золтаи Д. Музыкальная
культура современности в зеркале эстетики Т. Адорно. - Вопр. философии,
1968, No 3, с. 97-107; Он же. Т . Адорно и негативность философии музыки.
—
Вопр. философии, 1971, No 8, с. 73-84.
31
Франкфуртские философы, в частности Г. Маркузе, рассматривали
исторически сформировавшееся как рациональное научное и техническое
знание в качестве инструмента интенсивного идеологического' давления, а
его прикладное применение — как политико-идеологическое господство.
Так, в работе «Техника и наука в качестве „идеологии"» (1968) Хабермас
отвечает на дискуссионный тезис Маркузе: освобождающая сила технологии
-
инструментализация вещей -превращается в оковы освобождения, она
приводит к инструментализации человека; здесь Хабермас показывает, что
наука и техника приобретают в постиндустриальном обществе новые
функции: социальную, экономическую и политическую.
32
Фрейдистская концепция развития культуры и цивилизации требует
специального рассмотрения; здесь мы отметим лишь некоторые из
устойчивых положений, характерных для этого периода деятельности Г.
Маркузе.
33
Marcuse H. Der eindimensionale Mensch: Studien zur Ideologic der
fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Darmstadt; Berlin, 1971, S. 173.
34
Ibid., S. 76-78.
35
См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 55 .
36
Marcuse H. Der eindimensionale Mensch, S. 258.
37 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 101; См. также: Ленин и искусство.
М., 1969, с. 342.
38
Барабаш Ю. Выступление на VI съезде писателей СССР. - Лит. газ., 1976,
30 июня.
39 Marcuse H. Der eindimensionale Mensch, S. 79, 250.
40 Ibid., S. 263.
41
Marcuse H. Philosophie und kritische Theorie.—In: Kultur und Gesellschaft. I,
S. 111.
42
Ibid., S. 122.
43
Marcuse H. Der eindimensionale Mensch, S. 258; Idem. Das Ende der
Utopie. В ., 1967, S. 17.
44
Критический анализ современных утопических теорий см. в кн .: О
современной буржуазной эстетике. М ., 1976, вып. 4, с. 19 и далее.
45
См.: Marcuse H. Konterrevolution und Revolte. Frankfurt a. M ., 1973.
48
См.: О современной буржуазной эстетике, вып. 4
47 См.: Тавризян Г. М. «Актуальный» вариант «критической теории
общества»,- Вопр. философии, 1976, No 3; Яковлев М. В . «Критическая
теория» общества и тотальная критика идеологии. — В кн.: Социальная
философия Франкфуртской школы. Москва; Прага, 1978.
48
Habermas J. Erkenntnis und Interesse. Frankfurt a. M ., 1968, S. 11.
49 Habermas J. Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus. Frankfurt a. M ., 1973,
S. 15.
50
Понятие «легитимация» (узаконение, признание) употреблялось М.
Вебером при характеристике современного буржуазного общества, однако,
подобно понятию «господство», оно получило в последующих системах, в
частности у Ю. Хабермаса, более расширенное значение.
51
Habermas J. Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus, S 99
52
См.: Ibid., Nachauratische Kunst, S. 118—119 f
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ленин, В. И. Материализм и эмпириокритицизм. М .: Политиздат, 1976. 525 с.
(Полн. собр. соч.; Т. 18).
Ленин В. И. О значении воинствующего материализма, — Полн. собр. соч., т.
45, с. 23-33 .
Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература. - Полн. собр.
соч., т. 12, с. 99-105.
Ленин В. И. Философские тетради. М .: Политиздат, 1977, 782 с. (Полн. собр.
соч.; Т. 29).
Ленин В. И. Лев Толстой, как зеркало русской революции. - Полн. собр. соч.,
т. 17, с. 206-213.
Ленин В. И. Л . Н. Толстой и современное рабочее движение. -Полн. собр.
соч., т. 20, с. 38-41.
Ленин В. И. Л . Н. Толстой и его эпоха. — Полн. собр. соч., т. 20, с. 100-104.
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. — Маркс К., Энгельс
Ф. Соч. 2 -е изд., т. 42, с. 41-174.
Маркс К. Положение в Пруссии. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 12, с.
705.
Маркс К. Положение в Пруссии. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т. 12, с.
629—636 .
Маркс К. Политические события. Недостаток хлеба в Европе. - Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 9, с. 314-322.
Маркс К. Торгово-промышленный кризис— Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд., т. 10, с. 601-608 .
Маркс К. Денежный кризис в Европе. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.,
т. 12, с. 55-59.
Маркс К. Финансовый кризис в Европе. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.,
т. 12, с. 352-356.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд., т. 3, с. 7-544.
К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве: В 2-х т. М .: Искусство, 1983. Т. 1 . 605 с;
Т.2.701с.
Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии. - Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд., т. 8, с. 3-113.
Энгельс Ф. Положение в Германии. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 -е изд., т.
2, с. 559-579.
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.—
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 269-317.
Энгельс Ф. Письмо к Маргарет Гаркнесс, Апрель 1888 г. — Маркс К., Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 35-37.
Энгельс Ф. Письмо к Минне Каутской, 26 ноября 1885 г.— Маркс К., Энгельс
Ф. Соч. 2-е изд., т. 36, с. 333—334.
Энгельс Ф. Письмо к Паулю Эрнсту, 5 июня 1890 г.- Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд., т. 37, с. 330—335.
Энгельс Ф. Письмо к Э. Бернштейну, 15 мая 1885 г. - Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд., т. 36, с. 266-268.
Материалы XXVII съезда КПСС. М .: Политиздат, 1986.
Арсеньев А. С, Библер В. С, Кедров Б. М. Анализ развивающегося понятия.
М.: Наука, 1967. 439 с.
Асафьев Б. В . Музыкальная форма как процесс. Л.: Музгиз, 1971.
Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М .: Изд-во МГУ, 1971. Т . II . 445
с.
Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М .: Наука, 1973. 534 с.
Асмус В. Ф. Проблема интуиции в философии и математике. М .: Мысль,
1965. 312 с.
Баталов Э. Я., Никитич Л. А., Фогелер Я. Г . Поход Маркузе против
марксизма. М .: Мысль, 1970. 143 с.
Берковский Н. Фридрих Гёльдерлин. — Вопр. лит ., 1962, No 1, с. 130-164.
Бессонов Б. Н. Идеология духовного подавления. М .: Мысль, 1971. 295 с.
Богомолов А. С . Идея развития в буржуазной философии XIX и XX веков. М .:
Изд-во МГУ, 1962. 375 с.
Богомолов А. С . Немецкая буржуазная философия после 1865 г. М .: Изд-во
МГУ, 1969. 448 с.
Богомолов А. С, Ойзерман Т. И. Основы теории историко-философского
процесса. М .: Наука, 1983. 286 с.
Бородай Ю. Воображение и теория познания: (Крит, очерк кантовского
учения о продуктивной способности воображения). М .: Высш. шк ., 1966. 150
с.
Борьба идей в эстетике: V Гегелевской и V Междунар. конгр. по
эстетике/Отв. ред. М . Ф. Овсянников ж др. М .: Наука, 1966. 271 с.
Быховский Б. Э . Кьеркегор. — М .: Мысль, 1972. 238 с.
Быховский Б. Э . Философия отчаяния. - Филос. науки, 1973, No 3, с. 78-86 .
Быховский Б. Э. Шопенгауэр. — М .: Мысль, 1975. 206 с.
Ванслов В. В. Отражение действительности в музыке: Очерки. М .: Музгиз,
1953. 234 с.
Ванслов В. В. Модернизм. Анализ и критика основных направлений: Сб. ст.
М.: Искусство, 1980. 311 с.
Верцман И. Е. Ницше и его наследие. — Вопр. лит ., 1962, No 7, с. 49-73.
Взаимодействие науки и искусства в условиях НТР: (Круглый стол). - Вопр.
философии, 1976, No 10, с. 100-125; No12, с. 122 -143.
Вильмонт Н. Н. Великие спутники. М .: Сов. писатель, 1966. 592 с.
Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и
отдельными науками. СПб., 1913. Т. 2 . От Канта до Ницше. 392 с.
Габитова Р. М . Философия немецкого романтизма. М .: Наука, 1978. 288 с.
Гайденко П. П . Философия искусства Мартина Хайдеггера. - Вопр. лит.,
1969, No 7, с. 94-115 .
Гайденко П. П . Экзистенциализм и проблема культуры: (Критика философии
М. Хайдеггера). М .: Высш. шк ., 1963.121с.
Гайденко П. П . Герменевтика и кризис буржуазной культурно-исторической
традиции. - Вопр. лит., 1977, No 5, с. 130— 165.
Гайденко П. П . Хайдеггер и современная философская герменевтика.- В кн.:
Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М .: Наука, 1978, с. 27-81.
Гайденко П. П . Трагедия эстетизма: (Опыт характеристики миросозерцания
Серена Кьеркегора). М .: Искусство, 1970. 247 с.
Ганслик Э. О музыкально-прекрасном. М ., 1895. 181 с.
Гегель Г. В . Ф. Энциклопедия философских наук. Ч . 1. Логика. М .; Л.: Гос.
изд-во, 1929. 368 с. (Соч.; Т. 1).
Гегель Г. В . Ф. Эстетика: В 4-х т. М .: Искусство, 1968-1973.
Гёте И.- В. Статьи и мысли об искусстве. Л.; М.: Искусство, 1936. 410 с.
Горский Д. П. Вопросы абстракции и образование понятий. М .: Изд-во АН
СССР, 1961. 352 с.
Гулыга А. В . Шеллинг. М .: Мол. гвардия, 1982. 317 с.
Давыдов Ю. Н. Искусство и элита. М .: Искусство, 1966. 344 с.
Давыдов Ю. Н. Негативная диалектика «негативной диалектики» Адорно. -
Сов. музыка, 1969, No 7, 8.
Давыдов Ю. Н . Эстетика нигилизма: (Искусство и «новые левые»). М .:
Искусство, 1975. 271 с.
Давыдов Ю. Н . Критика социально-философских воззрений Франкфуртской
школы. М .: Наука, 1977. 319 с.
Давыдов Ю. Н. Эволюция социальной философии Франкфуртской школы. —
В кн.: Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М .: Наука, 1978, с.
212-265.
Долгов К. М. Кант и кризис буржуазного философско-эстетического
сознания. - Вопр. философии, 1976, No 6, с. 115— 127; No 7, с. 109-120.
Егоров А. Г . Проблемы эстетики. М .: Сов. писатель, 1977. 462 с.
Зись А. Я. Диалектика содержания и формы в искусстве. - Вопр. философии,
1966, No 8, с. 122-133.
Золтаи Д. Музыкальная культура современности в зеркале эстетики Т.
Адорно. - Вопр. философии, 1968, No 3, с. 97-107.
Золтаи Д. Т. Адорно и негативность философии музыки. — Вопр.
философии, 1971, No 8, с. 73-84.
Иванов В. П. Человеческая деятельность-опознание—искусство. Киев: Наук,
думка, 1977. 251 с.
История немецкой литературы: В 5-ти т . М .: Наука. Т. 4 . 1968. 614 с; Т. 5 .
1976. 696 с.
История философии и вопросы культуры. М .: Наука, 1975. 319 с.
Кант И. Сочинения: В 6-ти т ./Под общ. ред. В . Ф. Асмуса, А. В . Гулыги, Т.
И. Ойзермана. М .: Мысль. Т. 3 . 1964. 799- с; Т. 5. 1966. 564 с.
Кенигсберг А. Некоторые вопросы содержания тетралогии Вагнера «Кольцо
Нибелунга». М .: Музгиз, 1959.
Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. М .: 1974. Гл.
VIII. Истина, красота, свобода, с. 242-273.
Корф Г. Критика теорий культуры Макса Вебера и Герберта Маркузе. М .:
Прогресс, 1975. 64 с.
Кучинский Я. «Доктор Фаустус» и рубежи немецкого опыта. — Вопр.
философии, 1970, No 12, с. 53-68.
Лазарев В. В . Шеллинг. М .: Мысль, 1976. 199 с.
Литературная теория немецкого романтизма/Под ред. Н. Я . Берковского. М .:
Гос. акад. искусствознания. Ин-т лит ., 1934. 334 с.
Лекторский В. А . К проблеме диалектики субъекта и объекта в
познавательном процессе. — В кн.: Проблемы материалистической
диалектики как теории познания: Очерки теории и истории. М .: Наука, 1979,
с. 34-60 .
Лекторский В. А . Субъект, объект, познание. М .: Наука, 1980. 357 с.
Леонтьева Э. В . Искусство и реальность: Критика некоторых буржуазных
концепций художественной правды. Л .: Наука, 1972. 238 с.
Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М .: Искусство,
1976. 367 с.
Лукач Г. Ницше как предшественник фашистской эстетики. - Лит. критик,
1934, No 12, с. 27 -53.
Лукач Д. Своеобразие эстетического. М .: Прогресс, 1985. 335 с.
Луначарский А. В . Собрание сочинений: В 8-ми т . М .: Изд-во худ. лит., 1967.
Т.7.734с;Т.8.654с.
Манн Т. Собрание сочинений: В 10-ти т. М .: Гослитиздат. Т. 9 . 1960. 686 с; Т.
10. 1961. 696 с.
Мамардашвили М. К ., Соловьев Э. Ю ., Швырев В. С . Классическая и
современная буржуазная философия. — Вопр. философии, 1970, No 12, с. 23-
52; 1971, No 4, с. 59-73.
Маркарян Э. С . Теория культуры и современная наука: (Логико-методол.
анализ). М .: Мысль, 1983. 284 с.
Межуев В. М . Культура и история: (Пробл. культуры в филос-ист. теории
марксизма). М .: Политиздат, 1977. 199 с.
Менде Г. Очерки о философии экзистенциализма. М .: Изд-во иностр. лит .,
1958. 249 с.
Михайлов А. В . Концепция произведения искусства у Теодора В. Адорно. —
В кн.: О современной буржуазной эстетике. М .: Искусство, 1972, вып. 3, с.
156-259.
Михалев В. П., Федорук В. С, Яранцева Н. А . и др. Художественное
произведение в процессе социального функционирования. Киев: Наук, думка,
1979. 255 с.
Модернизм: Анализ и критика основных направлений. М.: Искусство, 1980.
311 с.
Мудрагей Н. С . Проблема человека в иррационалистическом учении Серена
Кьеркегора. - Вопр. философии, 1979, с. 76-86.
Нарский И. С . Проблема отрицания и «негативная» диалектика Т. Адорно. -
Филос. науки, 1973, No 3, с. 68-77 .
Нарский И. С . «Негативная диалектика» Адорно и ее социальный смысл. -
Вопр. философии, 1974, No 2. с . 139-146.
Ницше Ф. Полное собрание сочинений. М .: Моск. кн . изд-во. Т. 1 . 1912. 412
с;Т.2.1909.426с;Т.3.1911.349с;Т.9.1910.362с.
Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ/Отв. ред. Б. Т . Григорьян.
М.: Наука, 1978. 365.
Овсянников М. Ф. Философия Гегеля. М .: Соцэкгиз, 1959. 304 с.
Овсянников М. Ф. Т . Манн и судьбы искусства в капиталистическом мире. -
Вопр. философии, 1979, No 6, с. 141-151.
Овсянников М. Ф. Эстетическая концепция Шеллинга и немецкий романтизм.
-
В кн.: Шеллинг: Философия искусства. М .: Мысль, 1966, с. 19-43.
Овсянников М. Ф. Марксистско-ленинская философия - теоретическая основа
современной эстетической науки. — В кн.: Искусство и научно-технический
прогресс. М .: Искусство, 1973, с. 309-326.
Овсянников М. Ф. Искусство и капитализм. М .: Искусство, 1979. 343 с.
Одуев С. Ф. Реакционная сущность ницшеанства. М .: ВПШ и АОН при ЦК
КПСС, 1959. 262 с.
Одуев С. Ф. Тропами Заратустры: (Влияние ницшеанства на немецкую
буржуазную философию). М .: Мысль, 1976.431с.
Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма. М .: Мысль, 1974. 572
с.
Ойзерман Т. И. Главные философские направления: (Теорет. анализ ист.-
филос. процесса). М.: Мысль, 1984. 303 с.
Ойзерман Т. И. К критике хайдеггеровской концепции философии. - Филос.
науки, 1969, No 4, с. 115 -123.
Реализм и художественные искания XX века. М .: Наука, 1969. 306 с.
Роль мировоззрения в художественном творчестве. М .: Мысль, 1966. 424 с.
Современная идеалистическая гносеология: Крит. очерки/Под ред. Г . А.
Курсанова. М .: Мысль, 1968. 535 с.
Современная философия и социология в ФРГ: Некоторые направления и
проблемы/Под ред. Б . Т. Григорьяна. М .: Мысль, 1971. 259 с.
Современный экзистенциализм: Крит, очерки. М .: Мысль, 1966. 567 с.
Соловьев Э. Ю . Экзистенциализм и научное познание. М .: Высш. шк ., 1966,
156 с.
Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм и «Франкфуртская школа». — Вопр.
философии, 1975, No 4, с. 67-79.
Социальная философия Франкфуртской школы: (Крит, очерки). 2-е изд.,
доп./Редкол.: Б. Н. Бессонов и др. М .: Мысль; Прага: Свобода, 1978. 357 с.
Тарле Е. В . Ницшеанство и его отношение к политическим и социальным
теориям европейского общества. - Вестн. Европы, 1901, No 8, с. 705-750.
Фарман И. П . «Франкфуртская школа»: возникновение и основные вехи
деятельности: (Крит, очерк.). -Филос. науки, 1972, No 3, с. 98-109.
Фарман И. П. Советские философы о Франкфуртской школе. — Вестн.
обществ, наук, 1972, No 17/53.
Фарман И. П. Критика идеологических концепций «Франкфуртской школы».
-
Филос. науки, 1973, No 2, с. 148-152 .
Фарман И. П . К критике концепции культуры философов Франкфуртской
школы. - В кн.: Философия и идеология Франкфуртской школы. Прага: Изд-
во АН ЧССР, 1976, с. 291-319. На чеш. яз.
Фарман И. П . Теория познания и философия искусства: (Критико-теорет.
очерк). — В кн.: Гносеология в системе философского мировоззрения. М .:
Наука, 1983, с. 324—363 .
Философия Канта и современность/Под общ. ред. Т . И. Ойзермана. М .:
Мысль, 1974. 469 с.
Философия. Религия. Культура: Крит, анализ соврем. буржуаз.
философии/Отв. ред. Г . М . Тавризян. М .: Наука, 1982. 397 с.
Фишер К. История новой философии: В 8-ми т . СПб.: Изд. Д . Е. Жуковского.
Т. 7 . Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. 1905. 893 с; Т. 8. Гегель, его
жизнь, сочинения и учение. 1902. Ч. I. 760 с; 1903. Ч. II. 463 с.
Фишер К. Артур Шопенгауэр. М .: Моск. психол. о -во, 1896. 521 с.
Хайзе В. В плену иллюзий: Критика буржуаз. философии в Германии. М .:
Прогресс, 1968. 671 с.
Шварц Т. От Шопенгауэра к Хайдеггеру. М .: Прогресс, 1964. 359 с.
Шеллинг Ф. В . И. Система трансцендентального идеализма. Л .: Соцэкгиз,
1936. 479 с.
Шеллинг Ф. В . И. Философия искусства. М .: Мысль, 1966. 496 с.
Шешич В. В . «Негативная диалектика» Т. Адорно. - Филос. науки, 1972, No 5,
с. 126-131.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М . Т. 1, 1900, 506 с; Т. 2 . 1901.
676 с.
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. СПб., 1914.
Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. СПб.: Изд. Суворина. 506 с.
Штейгервальд Р. «Третий путь» Герберта Маркузе. М .: Изд-во Междунар.
отношений, 1971. 341 с.
Аdorпо Th. W. Asthetische Theorie. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1970. 544 S.
Adorno Th. W. Dialektik der Aufklarung: Philosophische Fragmente/Von... und M.
Horkheimer. 1 . Aufl. Amsterdam: Querido Verl., 1947. 347 S.; Frankfurt a. M .: S.
Fischer Verl., 1969. 275 S.
Adorno Th. W. Drei Studien zu Hegel.— Aspekte. Erfahrungsgehalt. Skoteinos
oder Wie zu lesen sei. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1963. 173 S.
Adorno Th. W. Einleitung in die Musiksoziologie: Zwolf theoretische
Vorlesungen. Frankfurt a. M:; Suhrkamp Verl., 1962. 241 S.
Adorno Th. W. Jargon der Eigentlichkeit: Zur deutschen Ideologie. Frankfurt a. M .:
Suhrkamp Verl., 1970. 139 S.
Adorno Th. W. Kierkegaard: Konstruktion des Asthetischen. 1. Aufl. Tubingen,
1933. 165 S.; Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1974. 294 S.
Adorno Th. W. Klangfiguren: Musikalische Schriften I. Frankfurt a. M .: Suhrkamp
Verl., 1959. 365 S.
Adorno Th. W. Minima moralia: Reflexionen aus dem beschadigten
Leben. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1964. 339 S .
Adorno Th. W. Negative Dialektik. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1966. 410 S.
Adorno Th. W. Noten zur Literatur: Bd. 1—3. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl.,
1966-1969. Bd. 1. 192 S.; Bd. 2. 235 S.; Bd. 3. 208 S.
Adorno Th. W. Ohne Leitbild: Parva aesthetica. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl..
1965. 183 S.
Adorno Th. W. Philosophie der neuen Musik. 1 . Aufl. Tubingen. 1949; Frankfurt a.
M.: Suhrkamp Verl.. 1965. 203 S.
Adorno Th. W. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Miinchen: Deutscher
Taschenbuch-Verl., 1963. 283 S.
Adorno Th. W. Stichworte. Kritische Modelle. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl.,
1969. 196 S.
Adorno Th. W. Quasi und fantasia. Musikalische Schriften II. Frankfurt a. M .:
Suhrkamp Verl., 1963. 437 S.
Adorno Th. W. Versuch uber Wagner. Berlin; Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl.,
1952. 204 S.
Adorno Th. W. Zur Metakritik der Erkenntnistheorie: Studien uber Husserl und die
phanomenologischen Antinomien. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1956. 251 S.
Bauermann R., Rotscher H.- J . Dialektik der Anpassung. Berlin, 1972.
Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Drei Studien zur Kunstsoziologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verl., 1963. 157 S.
Benjamin W. Der Regisseur Meyerhold — in Moskau erledigt? Em literarisches
Gericht wegen der Inszenierung von Go-gols «Revisor». —Die literarische Welt,
1927,Jg.3,N6,S.3.
Benjamin W. Michael ZosCenko. So lacht Russland!: Humores-ken. - Die
literarische Welt. 1928, Jg. 4, N 16, S. 6 .
Benjamin W. Uber Literatur. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1970. 205 S.
Benjamin W. Ursprung des deutschen Trauerspiels. В .: Rowohlt Verl., 1928. 258
S.; Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1963. 272 S.
Benjamin W. Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsatze/Mit einem Nachwort von
H. Marcuse. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1965. 109 S.
Benjamin W. Zur Lage der russischen Filmkunst.— Die literarische Welt, 1926, Jg.
2,N52,S.8.
Bohring G., Habermas J. Strukturwandel der Offentlichkeit.— Deutsche
Zeitschrift fur Philosophie, 1966, N 11, S. 1422-1427 .
Die «Frankfurter Schule» im Lichte des Marxismus: Zur Kritik der Philosophie
und Soziologie von Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas. Materialmen einer
wissenschaftlichen Tagung aus Anlass des 100. Geburtstages von W. I .
Lenin. Frankfurt a. M .: Verl. «Marxistische Blatter», 1970. 184 S.
Diersen I. Untersuchungen zu Thomas Mann: Die Bedeutung der
Kiinstlerdarstellung fur die Entwicklung des Realismus in seinem erzahlerischen
Werk. Berlin: Rutten — Loening, 1959. 368 S.
Dietzsch S. Friedrich Wilchelm Joseph Schelling. Leipzig, 1978.
Farmanovd I. P . Pojeti kultury v dilech filosofu Frankfurtske skoly.— Filosoficky
casopis, 1974, N 1, s. 90-106. См. также реферат на рус. яз. в кн .:
Франкфуртская школа в свете марксизма. М .; Изд-во ИНИ АН СССР, 1975.
Filosofie a ideologie frankfurtske skoly. Pr.: Academia, 1976. 447 S.
Frankfurtska skola: Vyberova bibliografie graci predstavitelu Frankfurtske skoly a
literatury о nich. Pr.: Academia, 1972. 189 S.
Gedd A. Dialektika negace nebo negace dialektiky? - Nova mysl, 1970, c. 9, s.
1236-1245.
Geisler U., Seidel H. Die romantische Kapitalismuskritik und der utopische
Sozialismusbegriff H. Marcuses.— Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, 1969, N
4.
Habermas J. Erkenutnis und Interesse. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1968. 364
S.
Habermas J. Hermeneutik und Ideologie-Kritik: Mit Beitragen von J. Habermas et
al. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1971. 317 S.
Habermas J. Legitimationsprobleme im Spatkapitalismus. Frankfurt a. M .:
Suhrkamp Verl.. 1973. 195 S.
Habermas J. Nachwort. — In: Friedrich Nietzsche: Erkenntnistheoretische
Schriften. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1968, S. 237-261.
Habermas J. Stichworte zur geistigen Situation der Zeit. Bd. 1, 2. Frankfurt a. M .:
Suhrkamp Verl., 1979. Bd. 1. Nation und Republik. 440 S.; Bd. 2 . Politik und
Kultur. 420 S.
Habermas J. Strukturwandel der Offentlichkeit: Untersuchungen zu einer
Kategorie der burgerliehen Gesellschaft. 5 . Aufl. Neuwied; Berlin: Luchterhand
Verl., 1971. 400 S.
Habermas J. Technik und Wissenschaft als «Ideologie». 3 . Aufl. Frankfurt a. M .:
Suhrkamp Verl., 1969. 169 S.
Habermas J. Theorie und Praxis: Sozialphilosophische Studien. Neuwied; Berlin:
Luchterhand Verl.. 1963. 378 S.
Habermas J. Zur Logik der Sozialwissenschaften. 2. Aufl. Frankfurt a. M .:
Suhrkamp Verl., 1970. 329 S.
Habermas J. Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. 2 .
Aufl. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1976. 346 S.
Hahn E. Die theoretischen Grundlagen der Soziologie von J. Habermas.—
Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, 1970, N 8, S. 915-930.
Hasse H. Schopenhauer's Erkenntnislehre. Leipzig, 1913. Heidegger
M. Erlauterungen zu Holderlins Dichtung. Frankfurta. M .: Klostermann, 1971. 192
S.
Heidegger M. Nietzsche. Stuttgart: Pfullingen; Neske. 1961. Bd. 1. 662 S.; Bd. 2.
493 S.
Horkheimer M., Adorno Th. W. Dialektik der Aufklarung: Philosophische
Fragmente. Amsterdam, 1947. 347 S.; Frankfurta. M .: S. Fischer Verl., 1969. 275
S.
Horkheimer M. Kritische Theorie: Eine Dokumentation/Hrsg. Von A.
Schmidt. Frankfurt a. M .: S. Fischer Verl., 1968. Bd. 1 . 376 S.; Bd. 2, 358 S.
Horkheimer M. Traditionelle und kritische Theorie. 4. Aufl. Frankfurt a. M .: S.
Fischer Verl., 1970. 231 S.
Horkheimer M. Zum Problem der Wahrheit. B . [West] etc. Caira Presse, 1969. 40
S.
Horkheimer M. Zur Kritik der instrumentellen Vernunft: Aus den Vortragen und
Aufzeichnungen seit Kriegsende/Hrsg. von A. Schmidt. Frankfurt a. M .: Fischer
Verl., 1967. 353 S.
Ist eine philosophische Asthetik moglich? Beitrage von G. Lukacs, R. Bubner, Th.
Baumeister, J. Kulenkampf et al. Gottingen: Vandenhoeck, Ruprecht, 1973. 138 S.
Kierkegaard S. Philosophische Brocken. Abschliessende unwissenschaftliche
Nachschrift. —Gesammelte Werke. Jena: Diederichs. 1925, Bd. 6 . 343 S.
Kuczynski J., Heise W. Bild und Begriff: Studien uber die Beziehungen zwischen
Kunst und Wissenschaft. Berlin; Weimar: Aufbau-Verl., 1975.
Mann Th. Schopenhauer. —Richard Wagner und der «Ring des Nibelungen».—
Gesammelte Werke: In 12 Bd. В .: Aufbau-Verl., 1956, Bd. 10, S. 293—345;
410—436.
Marcuse H. Das Ende der Utopie. Brl. [West]/Hrsg. von H. Kurnizky, H. Kuhn.
1967. 150 S.
Marcuse H. Der eindimensionale Mensch: Studien zur Ideologie der
fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Neuwied; Berlin: Luchterhand Verl., 1971.
282 S.
Marcuse H. Eros and civilisation: A philosophical inquiry into Freud. Boston,
1955, 277 p.; N. Y.: Vintage Books, 1962. 277 p .
Marcuse H. Eros und Kultur: Ein philosophischer Beitrag zu S. Freud. Stuttgart: E.
Klett Verl., 1956. 264 S.
Marcuse H. Konterrevolution und Revolte. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1973.
154 S.
Marcuse H. Kultur und Gesellschaft. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1965. Bd.
1.179S.;Bd.2.183S.
Marcuse H. The one-dimensional man: Studies in the ideology of advanced
industrial society. Boston: Beacon press, 1964. 259 p.
Marcuse H. Vernunf und Revolution: Hegel und die Entstehung der
Gesellschaftstheorie. Darmstadt; Neuwied: Luchterhand Verl.. 1972. 399 S .
Marcuse H. Versuch iiher die Befreiung. Frankfurt a. M .: Suhrkamp Verl., 1969.
134 S.
Reichel P. Verabsolutierte Negation: Zu Adornos Theorie von den Triebkraften der
gesellschaftlichen Entwicklung. В .: Akademie - Verl., 1972. 128 S.
Sauerland K. Adornos Asthetik des Nichtidentischen. W-wa: Wyd-
wa Univ. warszawskiego, 1975. 142 s.
Sauerland K. W. Benjamin jako teoretyk wspolczesnej kultury. —Studia
filozofiszne, 1971, N 6.
Steigerwald R. Bemerkungen zur Dialektik Marcuses.— Marxistische Blatter,
1968, S.- H.
Steigerwald R. Herbert Marcuses «dritter Weg». В .: Akademie —Verl., 1969. 366
S.
Tiedemann R. Studien zur Philosophie Walter Benjamins/Miteiner Vorrede von
Th. W. Adorno. Frankfurt a. M .: Europaische Verlagsanstalt, 1965. 222 S.
Uber Walter Benjamin. Mit Beitr. von Th. W. Adorno, E. Bloch, M. Rychner. et al.
Frankfurta. M ., 1970. 173 S.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Адорно Т. В. 4, 76, 81, 88, 92, 94,
98, 111—115, 117-131, 133-141, 144,
146, 149, 150, 163, 180, 182—185
Альфьери В. 31
Апт С. 184
Арагон Л. 84
Аржанов М. 75
Аристотель 11, 159
Асмус В. Ф. 18, 75, 175—177
Байрон Д. Н. Г. 31, 44, 51
Бальзак О. де 9, 10
Барабаш Ю. Я . 185
Барлах Э. 65
Барт Р. 18
Баталов Э. Я . 180
Баумгартен А. 17
Беккет С. 156
Бёме Я. 21
Беньямин В. 71, 76, 77, 81—87,
129, 138, 156, 178—180, 182
Берг А. 136
Бергсон А. 175, 182
Бердяев Н. 179
Вагнер Р. 37—41, 59, 133—135, 142,
177, 184
Вакенродер В. Г . 44
Валери П. 89
Вассерман Я. 63
Вебер М. 111, 127, 129, 167, 181, 183,
186
Веберн М. 136
Ведекинд Ф.57
Веерт Г. 53
Верди Д. 38
Виланд X. М. 82
Вильмонт Н. Н. 146, 177
Виндельбанд В. 182
Вишневский В. 85
Гадамер X. Г . 167
Гайденко П. П. 175, 178
Гаккель Л. 184
Гауптман Г. 56—58
Гачев Г. Д. 175
Геббель Ф. 54
Гегель Г. В . Ф. 4, 9, 13, 23-25, 27, 44, 46,
50, 52, 53, 73—76, 91, 93, 96, 97, 99—
Берлиоз Г. 39
Берне Л. 53
Бессонов Б. Н. 180, 181
Бетховен Л. 76, 89, 134, 135, 142,
145
Бехер И. 46, 66, 78, 84
Бизе Ж. 38
Блейбтрей Б. 56
Богомолов А. С . 180
Бодлер Ш. 83, 89, 178
Бородай Ю. М . 176
Брамс И. 38
Бредель В. 84
Брехт Б. 78, 86, 158, 179
Бунин И. А. 85
Бур М. 180
Быховский Б. Э . 176
Бюхнер Г. 53
107, 117, 118, 122, 124, 135, 137, 139,
144, 162, 176, 180, 181
Гедё А. 180
Гейне Г. 53, 54
Гёльдерлин И. X. Ф. 42 —46,
82, 137
Георге С. 59, 60, 83
Гервег Г. 53
Гердер И. Г. 50, 82
Гессе Г. 63, 66, 142, 148, 156
Гёте И.- В . 28, 31, 44, 50—54, 76, 82,
139, 142, 178
Голсуорси Д. 10
Горький А. М . 10, 66, 83, 84, 179, 185
Гофман Э. Т. А. 28, 59
Гофмансталь Г. 59, 60
Гуссерль Э. 18, 120, 182, 183
Давыдов Ю. Н. 175, 178, 180, 183
Данте А. 142
Деблин Л. 66
Дидро Д. 9
Дике О. 65
Дильтей В. 41, 43, 98
Дирзен И. 146
Майднер Л. 65
Малинин Е. 185
Мане Э. 39
Манн Г. 63, 78, 84
Манн Т. 10, 28, 29, 31, 32, 36, 40, 41, 51,
58, 62, 63, 78, 79, 141—149, 156, 158,
177, 178, 184, 185
Маннгейм К. 138
Долгов К. М . 175, 176
Достоевский Ф. М . 66, 85, 142
Дюркгейм Э. 125
Зауерланд К. 178
Зегерс А. 78, 84
Золтаи Д. 178, 185
Золя Э. 10, 55
Зощенко М. М . 85
Ибсен Г. 39, 66
Ищук Г. Н. 177
Кандинский В. В. 65
Кант И. 4, 11—18, 22, 25, 102, 131,
135, 159, 175, 176, 182
Кафка Ф. 66, 83
Кверин С. 39
Келлер Г. 54, 82
Келлерман Б. 63
Ките Д. 44
Клее П. 65
Клопшток Ф. Г . 82
Конрад М. Г. 56
Конт О. 55
Копнин П. В . 176
Корш К. 94
Кронер Р. 75
Кьеркегор С. 4, 18, 21, 23, 24, 41, 73,
91, 117, 118, 127, 129, 142, 145, 176,
180
Лейбниц Г. В . 50
Маркарян Э. С. 72
Маркс К. 5, 8-10, 46, 53, 77, 94, 96, 97,
103, 107, 111, 115, 117, 118, 123, 124,
162, 163, 175, 178-180, 182, 183
Маркузе Г. 4, 71, 75, 77, 81, 83, 88—90,
92, 94, 96—110, 118, 119, 125, 126, 133,
149, 150— 161, 163, 179-181, 185, 186
Марло К. 142
Марсель Г. 62
Маяковский В. В . 84, 85
Межуев В. М. 72
Мейерхольд В. 85
Моне К. 39
Мотылёва Т. Л . 146
Моцарт В. А. 24, 89, 135
Нарский И. С . 180
Никитич Л. А. 180
Ницше Ф. 4, 18, 21, 23, 30, 33— 38,
41—43, 48, 54, 57, 60, 73, 76, 80, 89, 91,
127, 129, 130, 133, 142, 160, 177, 179,
181, 184
Новалис 44
Овсянников М. Ф. 18, 176
Ойзерман Т. И. 180
Ортега-и-Гассет X. 172, 179
Палиевский П. В . 10, 175
Паскаль Б. 33
Платон 177
Погосян В. А. 122, 178, 180-183
Поленц В. 56
Лекторский В. А. 15, 176
Ленин В. И. 65, 103, 155, 175,
176, 178, 179, 182,185
Леонтьева Э. В . 175
Лесков Н. С. 85
Лессинг Г. Э. 9, 50
Либкнехт К. 65
Лосев А. Ф. 177
Лукач Г. 78, 81, 94, 106
Луман Н. 167
Луначарский А. В . 46, 47, 65, 83, 178
Люксембург Р. 65
Лютер М. 143
Поллок Ф. 180
Прахт Э. 175
Преториус Э. 41
Протасова К. С . 178
Пруст М. 83, 89
Пушкин А. С. 10
Раабе В. 54
Рейтер Ф. 54
Риккерт Г. 182
Рильке Р. М. 60-62, 89
Римский-Корсаков Н. А. 38
Розенталь С. Л . 175
Рубинштейн С. Л . 175
Руссо Ж. -Ж . 31, 135
Соколов М. 185
Спиноза Б. 50
Стендаль 142
Страхов Н. Н. 39
Сучков Б. Л . 146
Тавризян Г. М . 186
Танеев С И. 39
Тарле Е. В. 33, 177
Хоркхаймер
М. 4, 31, 73—
75, 91, 93—96,
98, 111-115,
123, 126, 133,
179, 180, 182
Хоххут Р. 156
Хьёлланн А.
10, 66
Чайковский М.
И. 38, 177
Чайковский П.
И. 38 —40, 142,
177
Тик Л. 44
Толстой А. Н. 185
Толстой Л. Н. 10, 31, 38—40, 66, 177
Тургенев И. С . 10, 66
Тэн И. 55
Фейербах Л. 50, 53, 96
Фейхтвангер Л. 78
Фихте И. -Г . 13, 123, 135, 137
Флиер Я. 185
Фогелер Я. Г . 180
Фонтане Т. 63
Форстер Г. 51
Франк Л. 66
Фрейд 3. 36, 150—152
Фрейлиграт Ф. 53
Фромм Э. 77, 81, 91, 133, 180
Фуко М. 18
Хабермас Ю. 4, 33, 152, 161—171,173,180, 185,186
Хайдеггер М. 4, 18, 23, 41—43, 45, 48, 98, 160, 163, 175, 177,
178
Хаксли О. 161
Харт Г., Харт Ю. 56
Хольц 56
Черны И.
180,183
Чернышевский
Н.Г.10
Чехов А. П. 66
Шагал М. 65
Шварц Т. 175,
177
Шекспир У.
142
Шелли П. Б
44, 51
Шеллинг Ф. В .
Й. 13, 18, 21—
23, 44, 163,
175, 176
Шешич Б. В.
180
Шёнберг А.
136, 145, 147,
184, 185
Шиллер И. К .
Ф. 44, 50, 51,
82
Шлегель А. В,
Шлегель Ф. 44
Шопенгауэр
А. 4, 18, 21, 23,
25—33, 41, 48-
50, 53, 54, 59,
73, 76, 79, 80,
91, 129, 133,
135, 143, 160,
175-177, 184
Шпенглер О.
80
Штайгервальд
Р. 178—181
Шторм Т. 54
Шуберт Ф.
134, 135
Эйзенштейн С.
85
Эмпедокл 45,
178
Энгельс Ф. 10,
53, 175, 178,
179, 182, 183
Эсхил 37
Эткинд В. Г .
178
Якоби Ф. 50
Яковлев М. В .
186
Ясперс К. 18,
41,179
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 3
Введение
ПОЗНАНИЕ И ИСКУССТВО 5
Глава первая
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО И
ЭСТЕТИЧЕСКОГО В «КРИТИЧЕСКОЙ» ГНОСЕОЛОГИИ
1. Гносеологические корни и эстетические основы некоторых
идеалистических концепций теории познания. И. Кант 11
2. Концепции «созерцания» Ф. Шеллинга, С. Кьеркегора, А.
Шопенгауэра, Ф. Ницше 21
3. «Непонятийная» истина М. Хайдеггера и философия искусства 41
4. Реализм против эстетизма 49
Глава вторая
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
ФРАНКФУРТСКОЙ ШКОЛЫ
1. Культура как мировоззрение. Критический анализ концепций
культуры В. Беньямина и Г. Маркузе (30—40-е годы) 71
2. Формирование «негативной диалектики» как логики и методологии
отрицания 92
3. «Диалектика просвещения» как отрицание исторического прогресса
110
4. «Негативная диалектика» как «логика распада» 116
5. Модели как методы познания.
Эстетическая теория вместо гносеологии 127
Глава третья
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В СФЕРЕ ГОСПОДСТВА
ТЕХНОКРАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
1. Концепция искусства Т. Адорно и ее антипод 133
2. Культурологические проекты 60—70-х годов 150
3. Проблема «легитимации» культуры и проекты «новой духовной
эмансипации» 161
Заключение 172
Примечания 175
Библиографический список литературы 187
Именной указатель 196
Фарман И.П. Теория познания и философия культуры (Критический
анализ зарубежных идеалистических концепций). М., 1986.
МОСКВА «НАУКА» 1986
В работе анализируется соотношение теории познания и культуры как
взаимосвязанных форм познавательной деятельности. С марксистских
позиций исследуется генезис одной из актуальных тенденций в
буржуазной идеалистической гносеологии XIX-XX вв.
противопоставление методов научного познания художественному
мышлению и опыту духовной культуры, а также ее эволюция в
новейших зарубежных концепциях.
Рецензенты: Б. Т. ГРИГОРЬЯН, В. С. ТЮХТИН, Б. Г. ЯКОВЛЕВ
Инна Петровна Фарман
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ (Критический
анализ зарубежных идеалистических концепций)
Утверждено к печати Институтом философии АН СССР
Редактор издательства В. С. Егорова. Художник О. В. Камаев
Художественный редактор С. А. Литвак. Технический редактор Н. П.
Переверза. Корректоры В. А. Алешкина, Р. С. Алимова