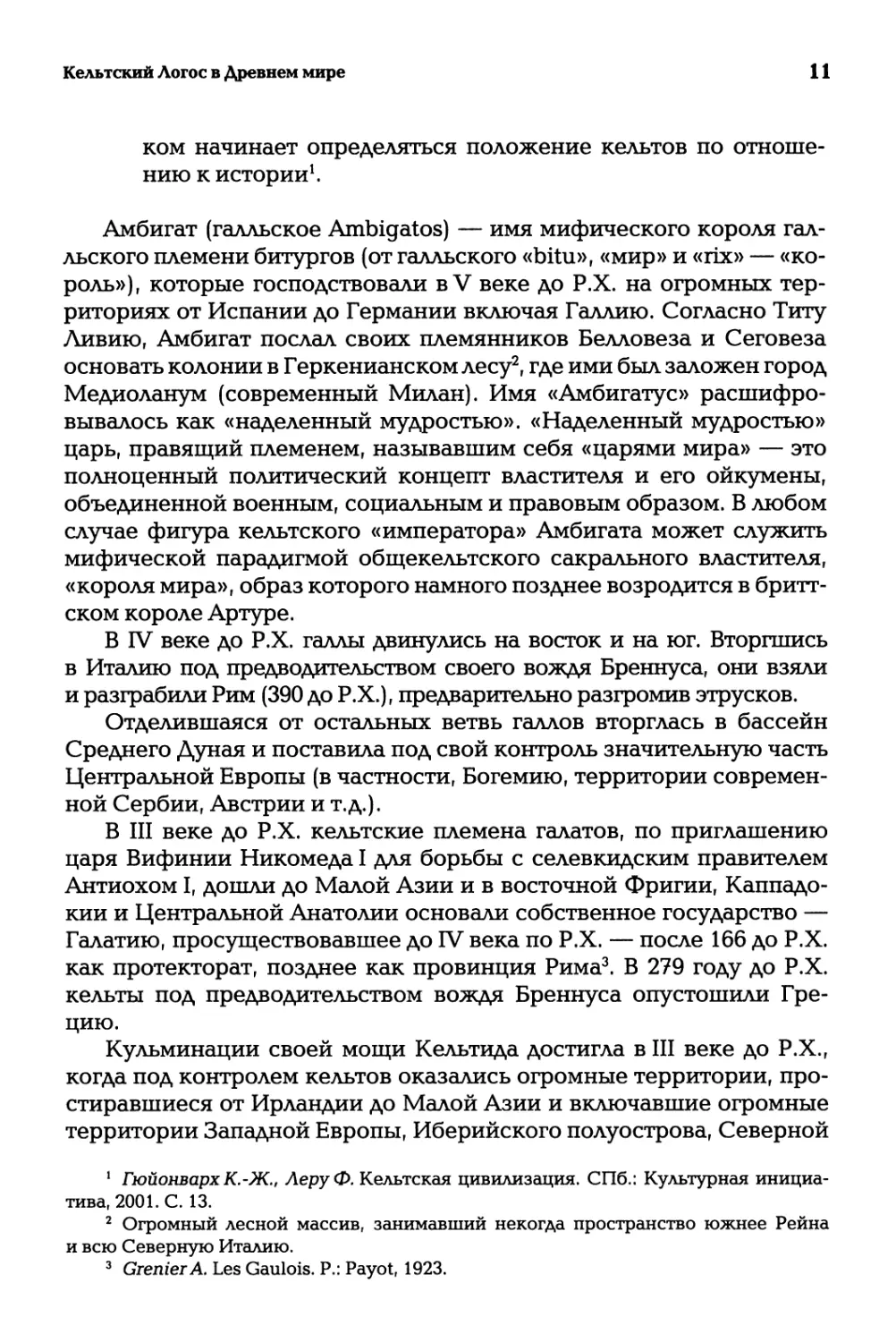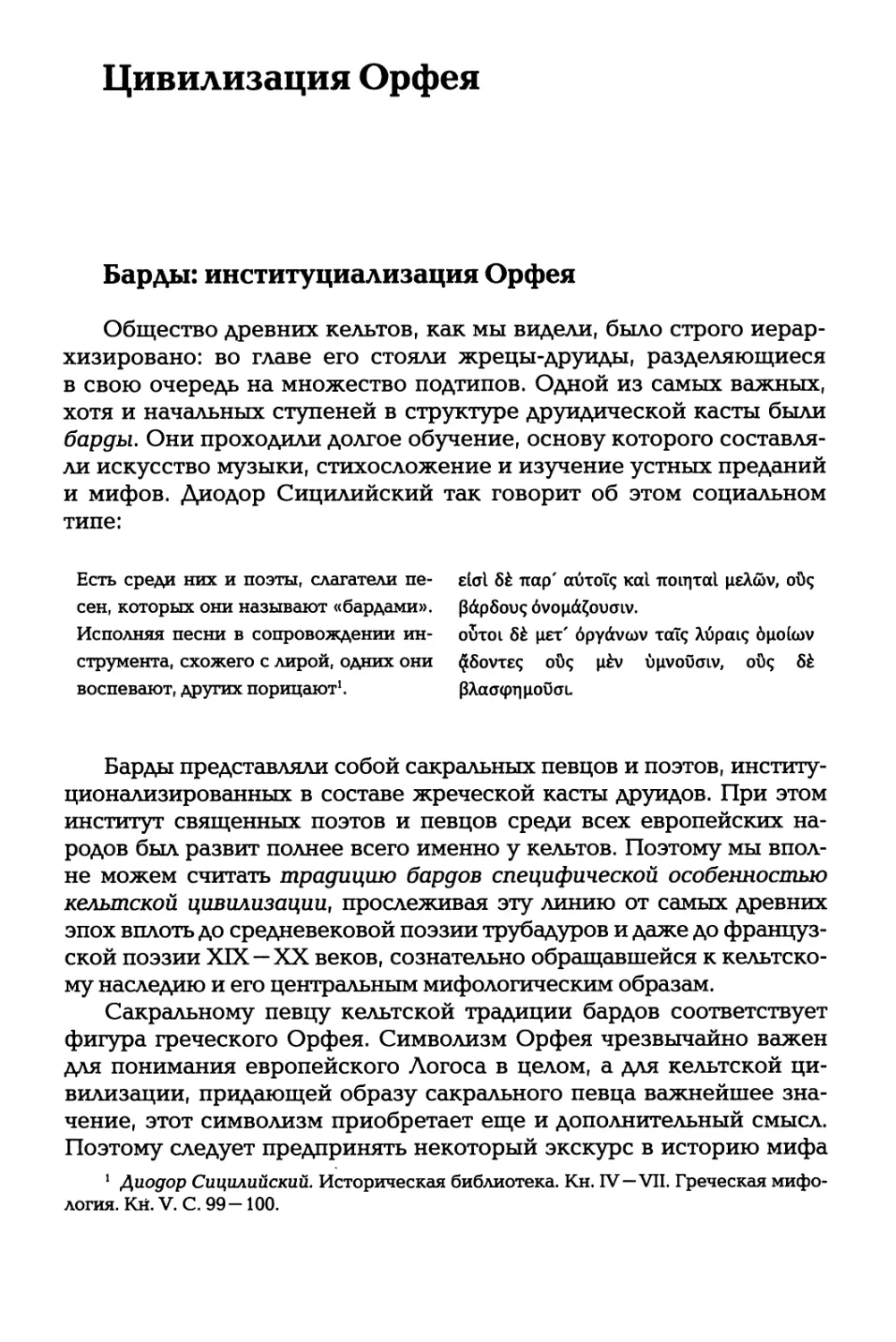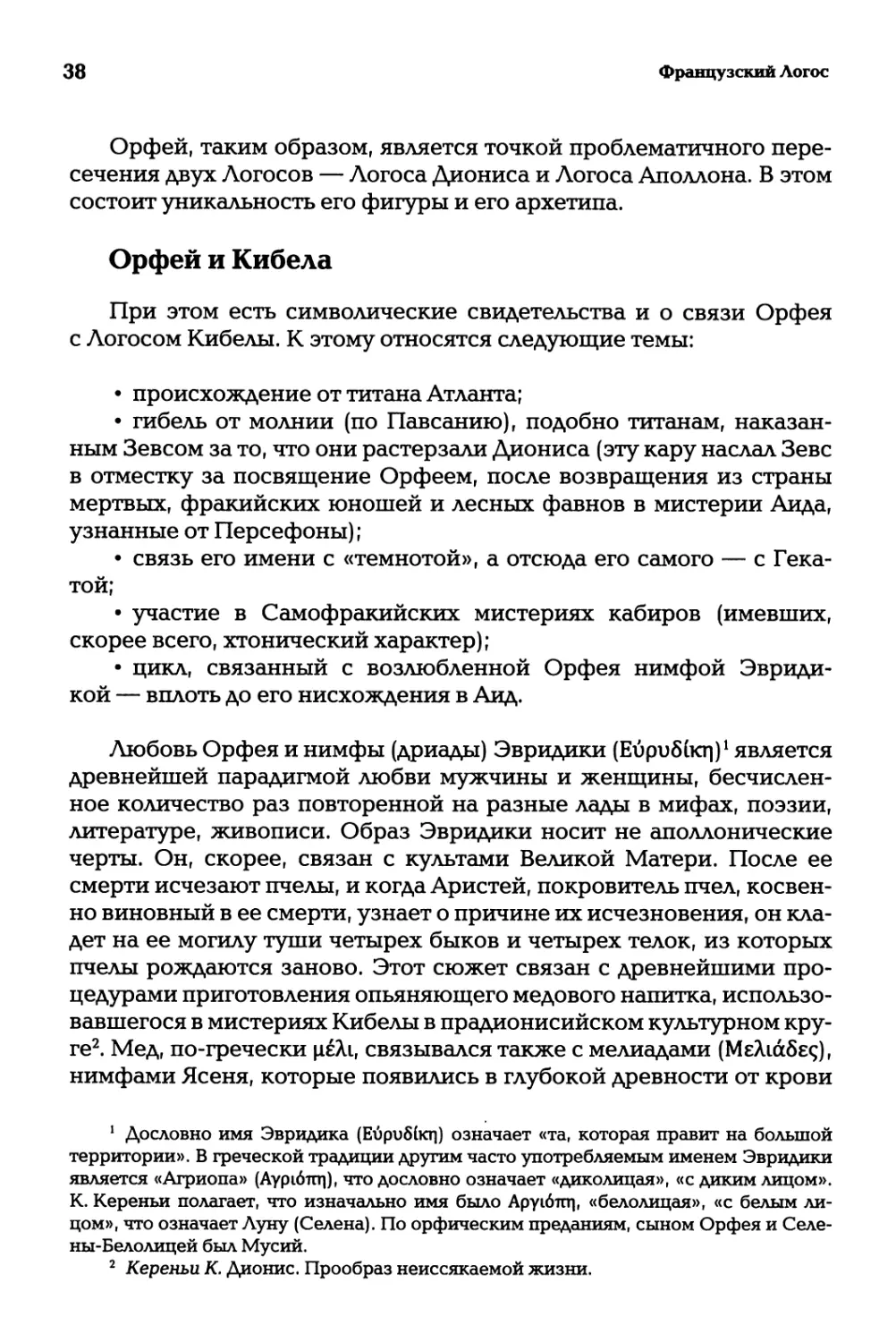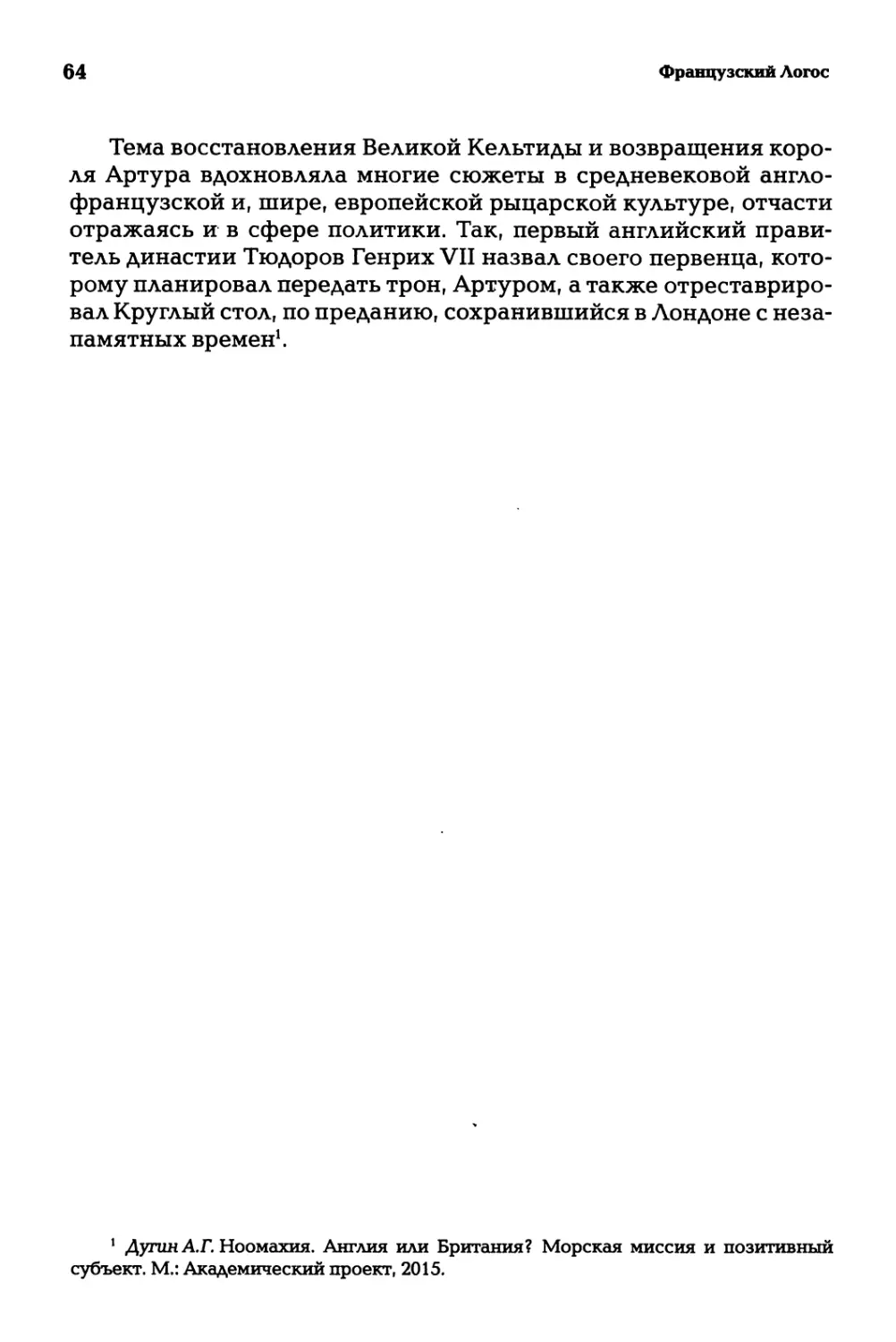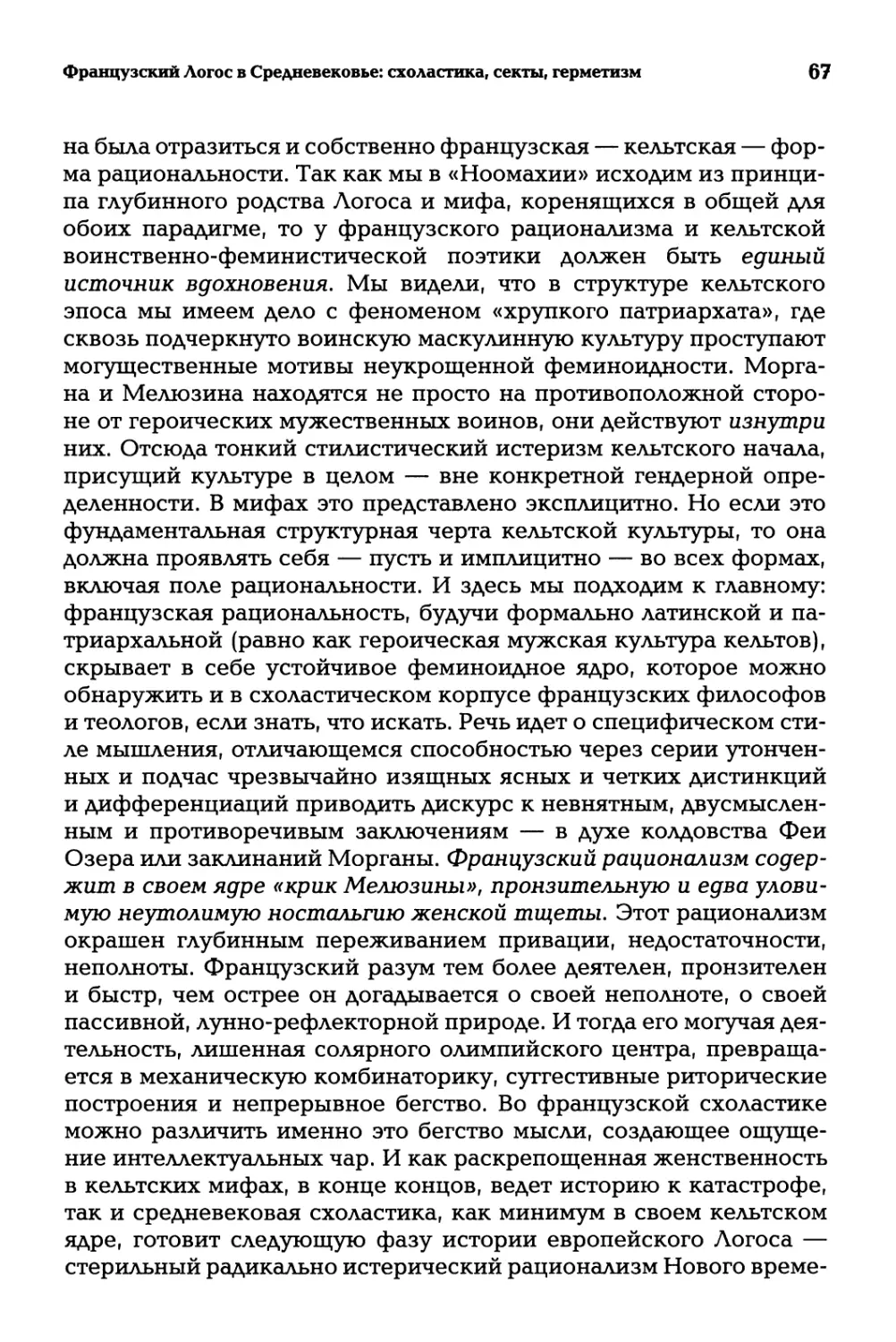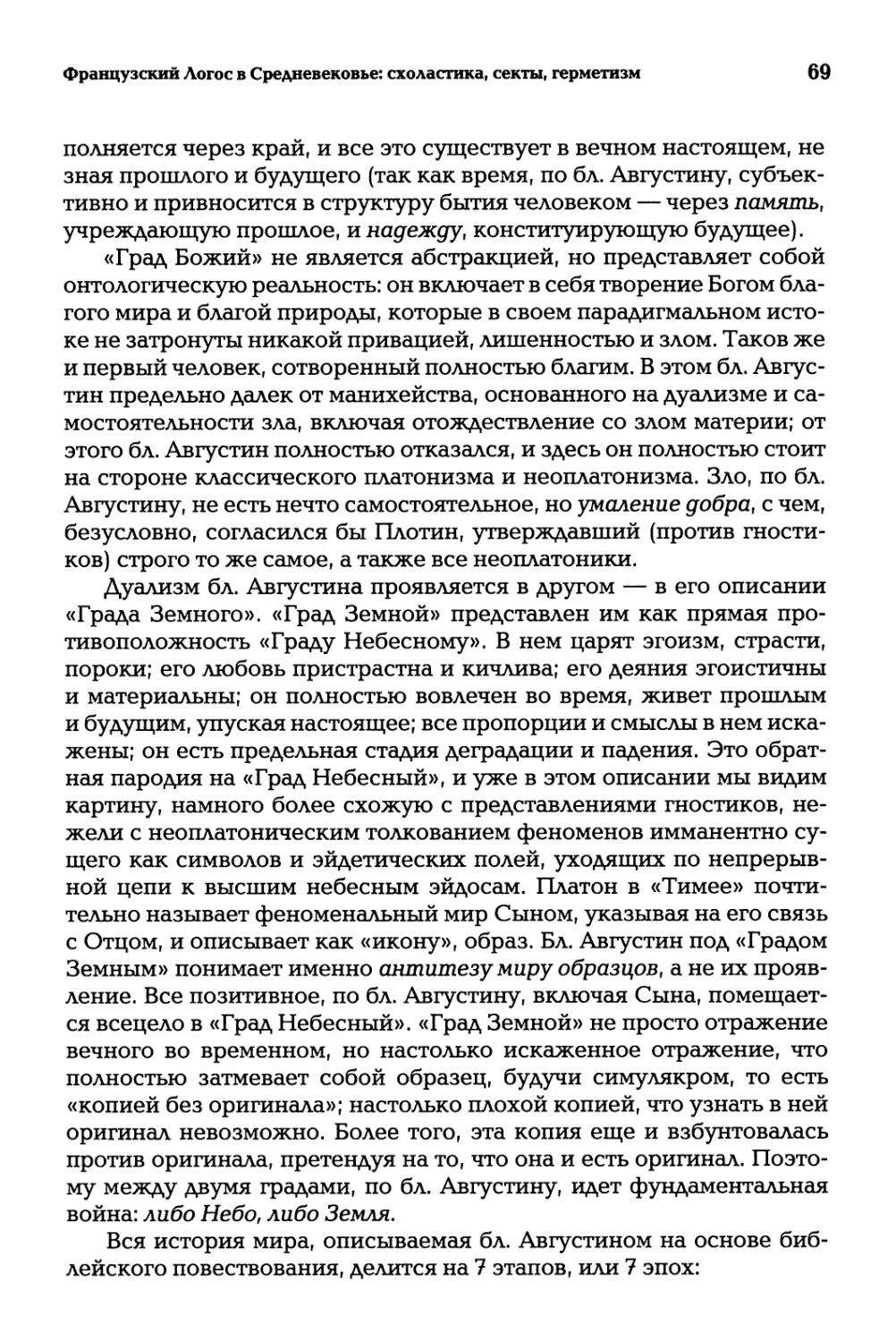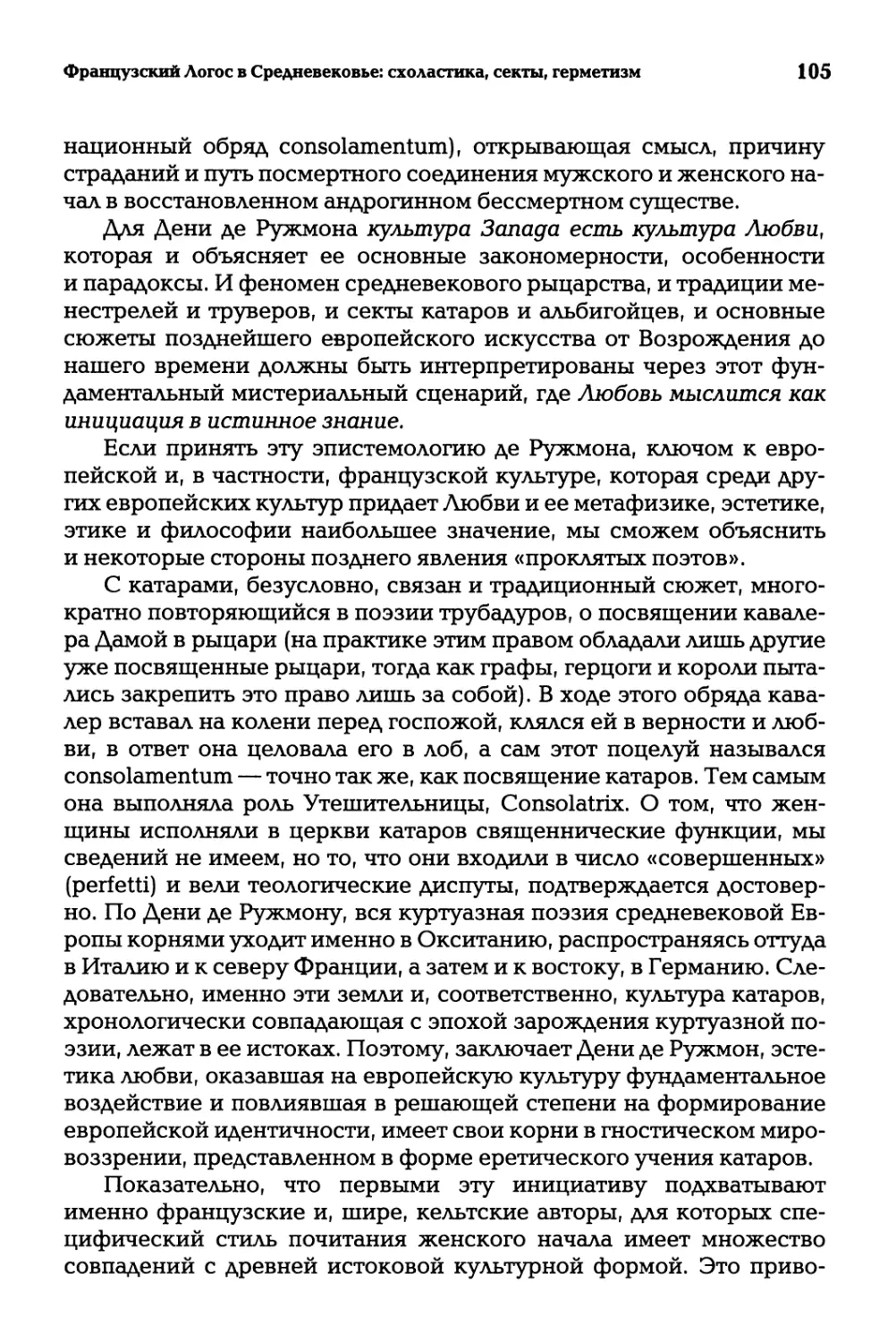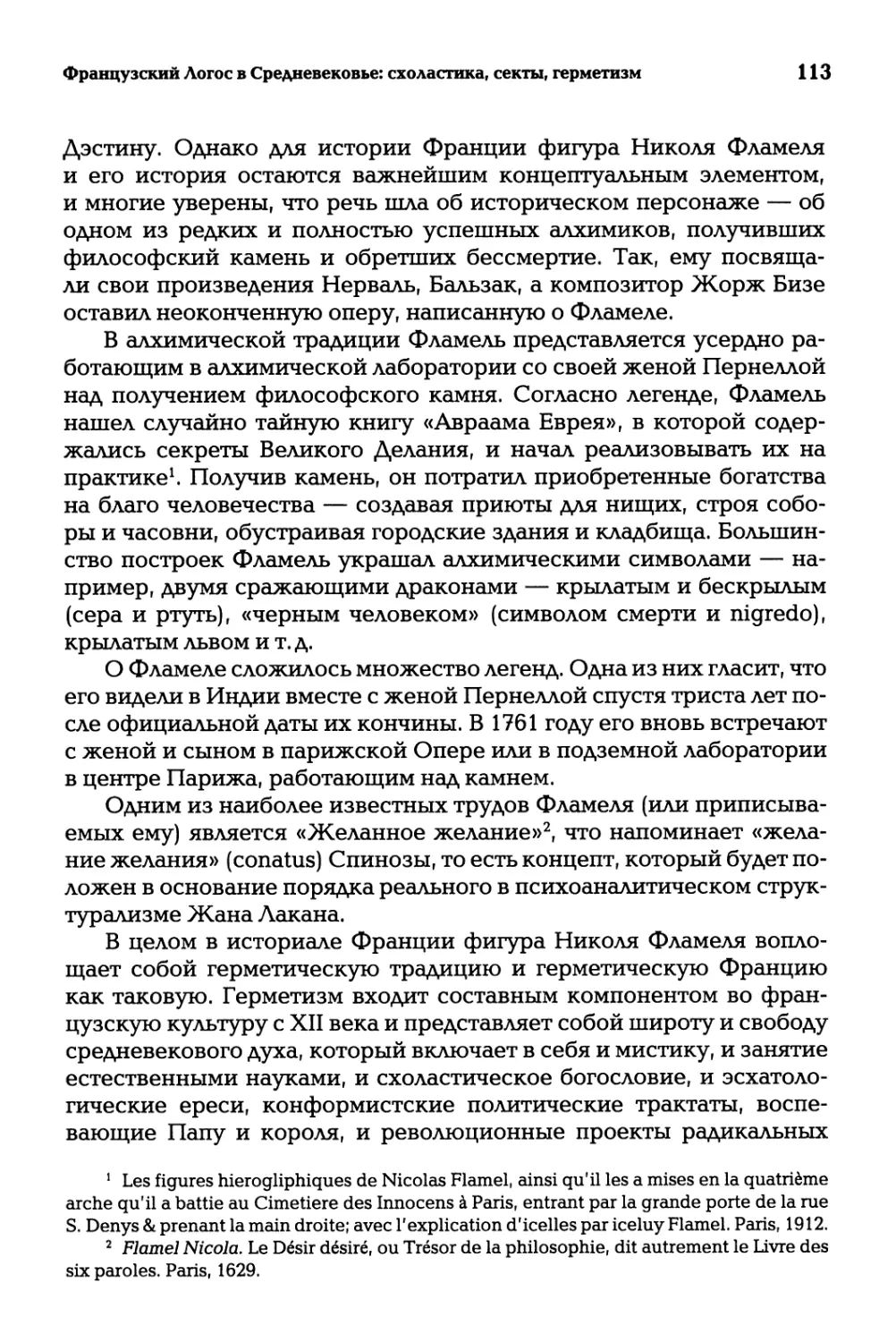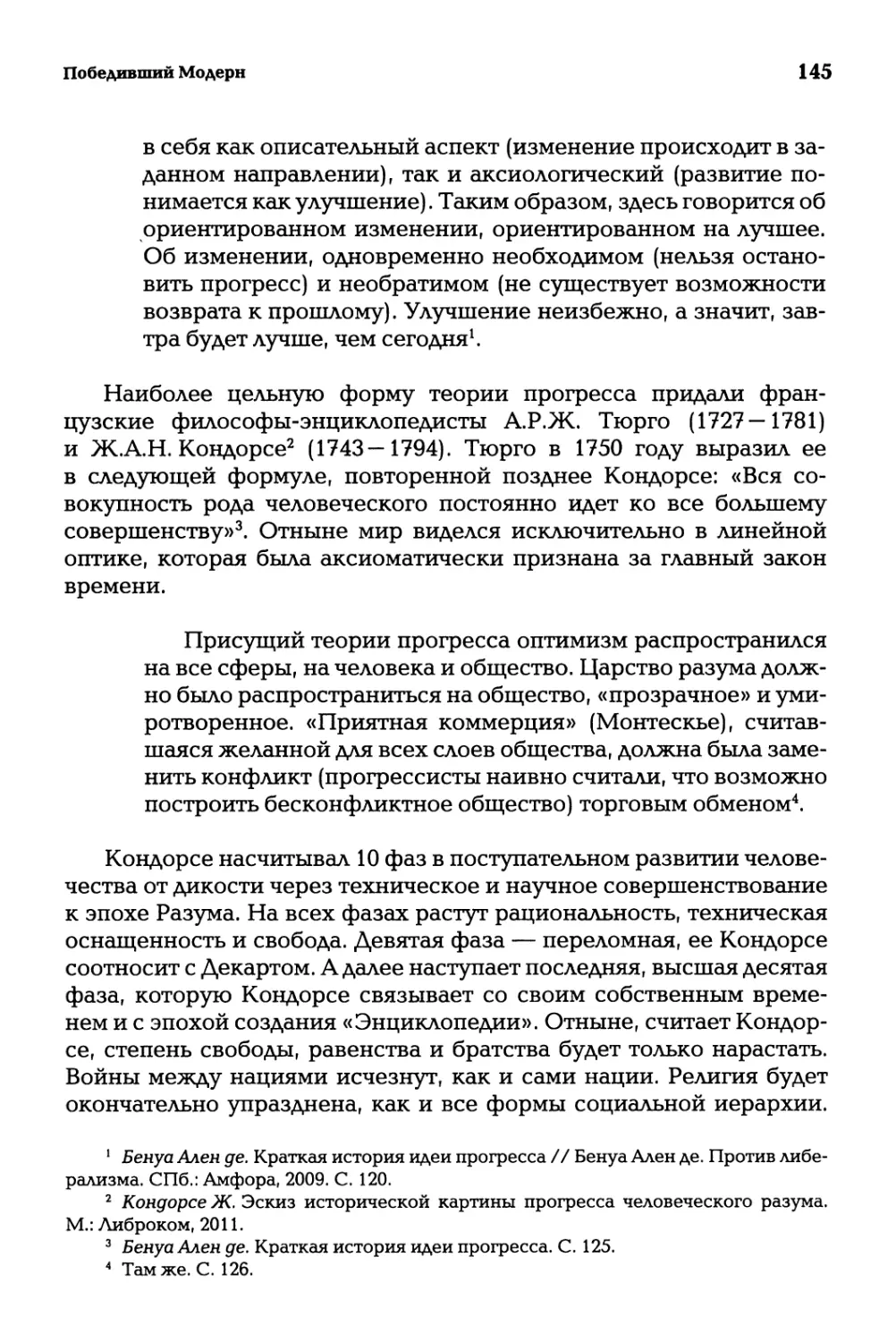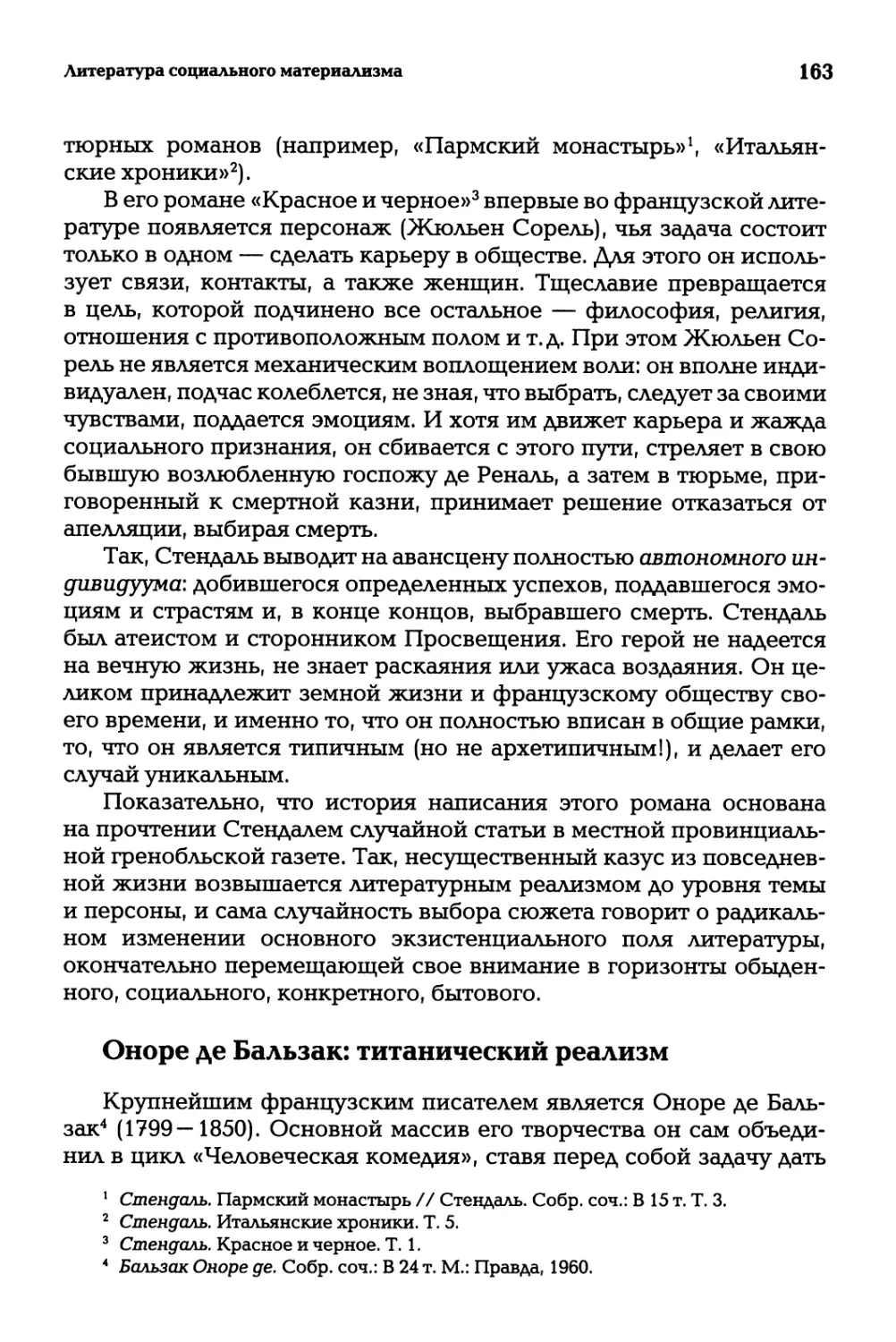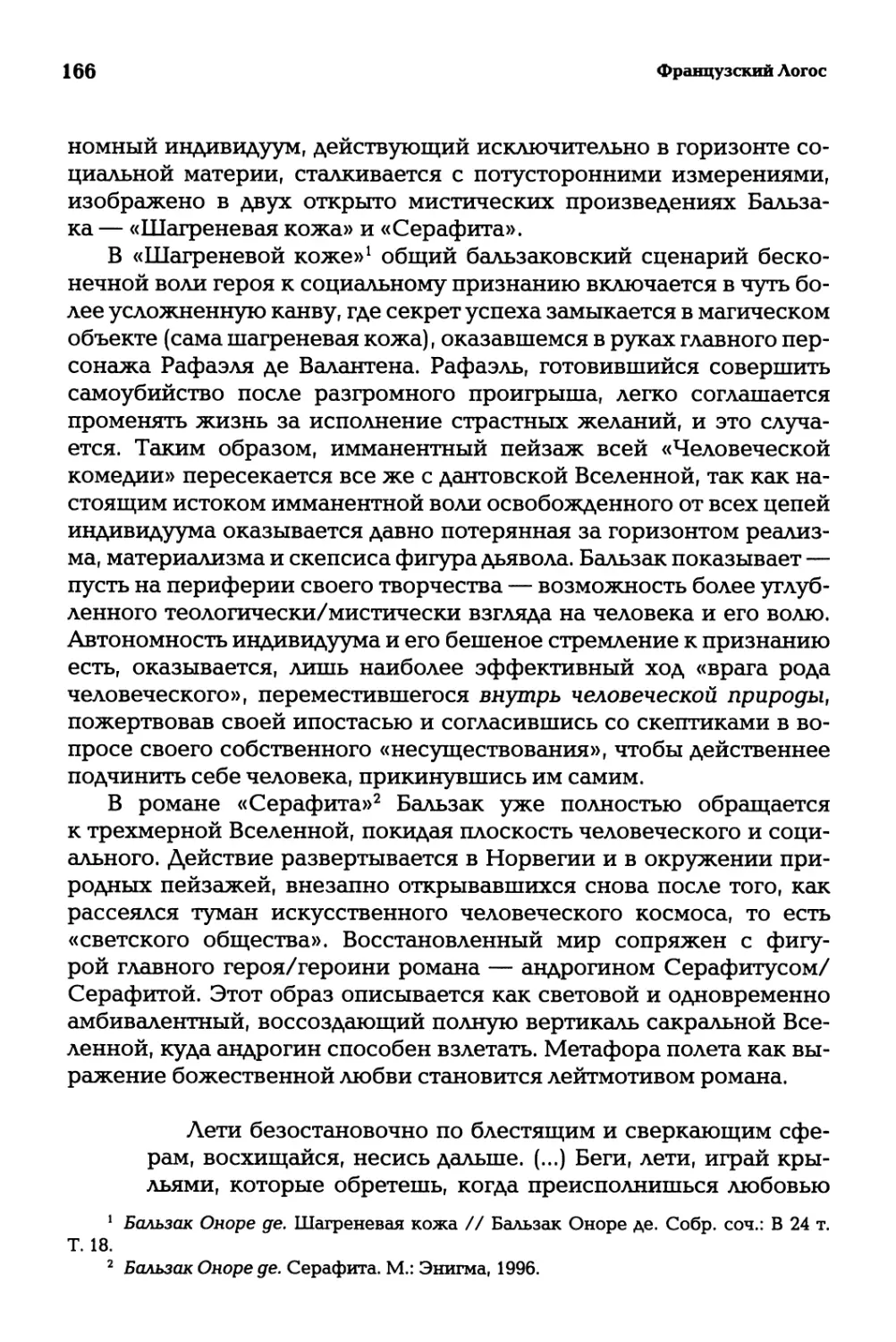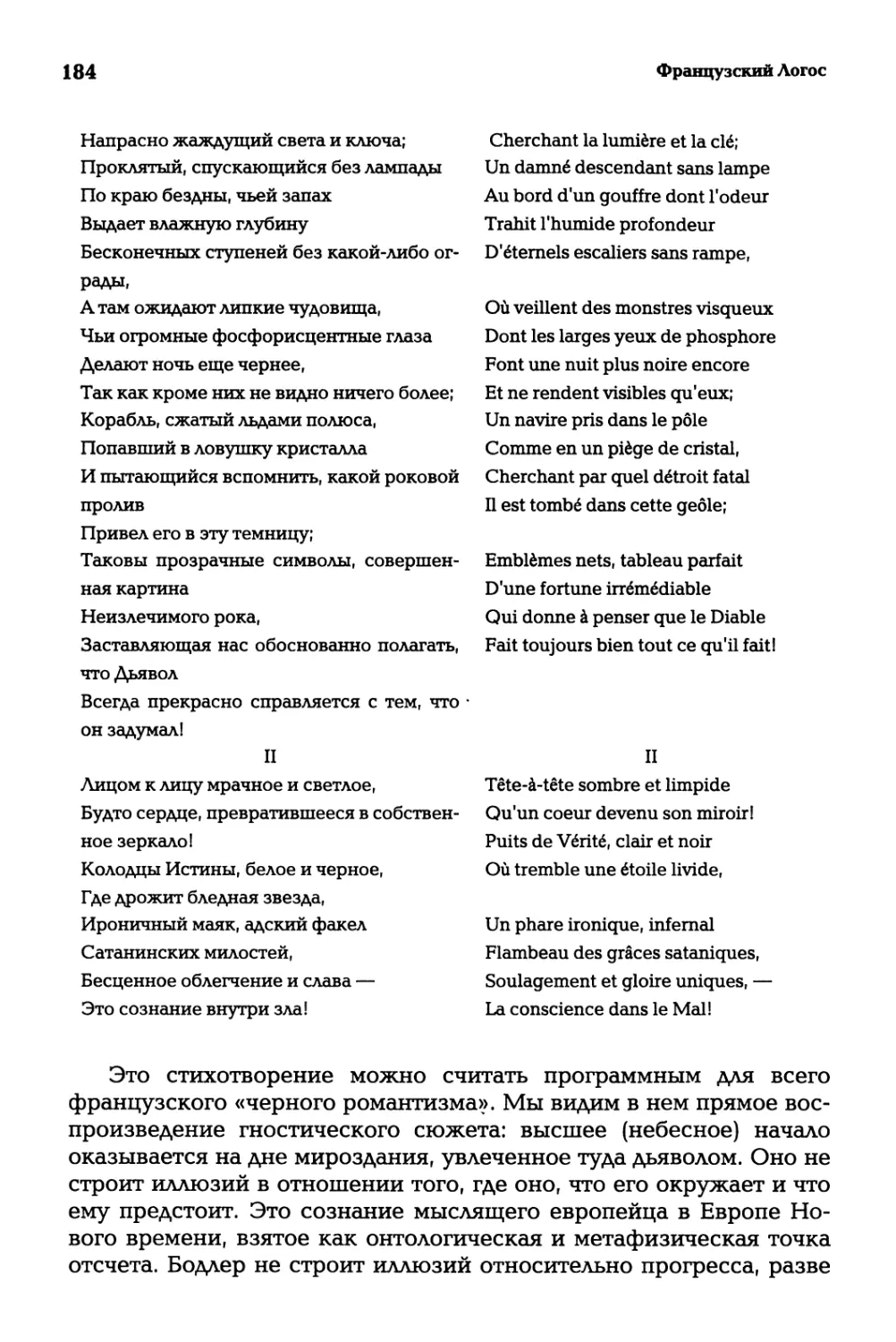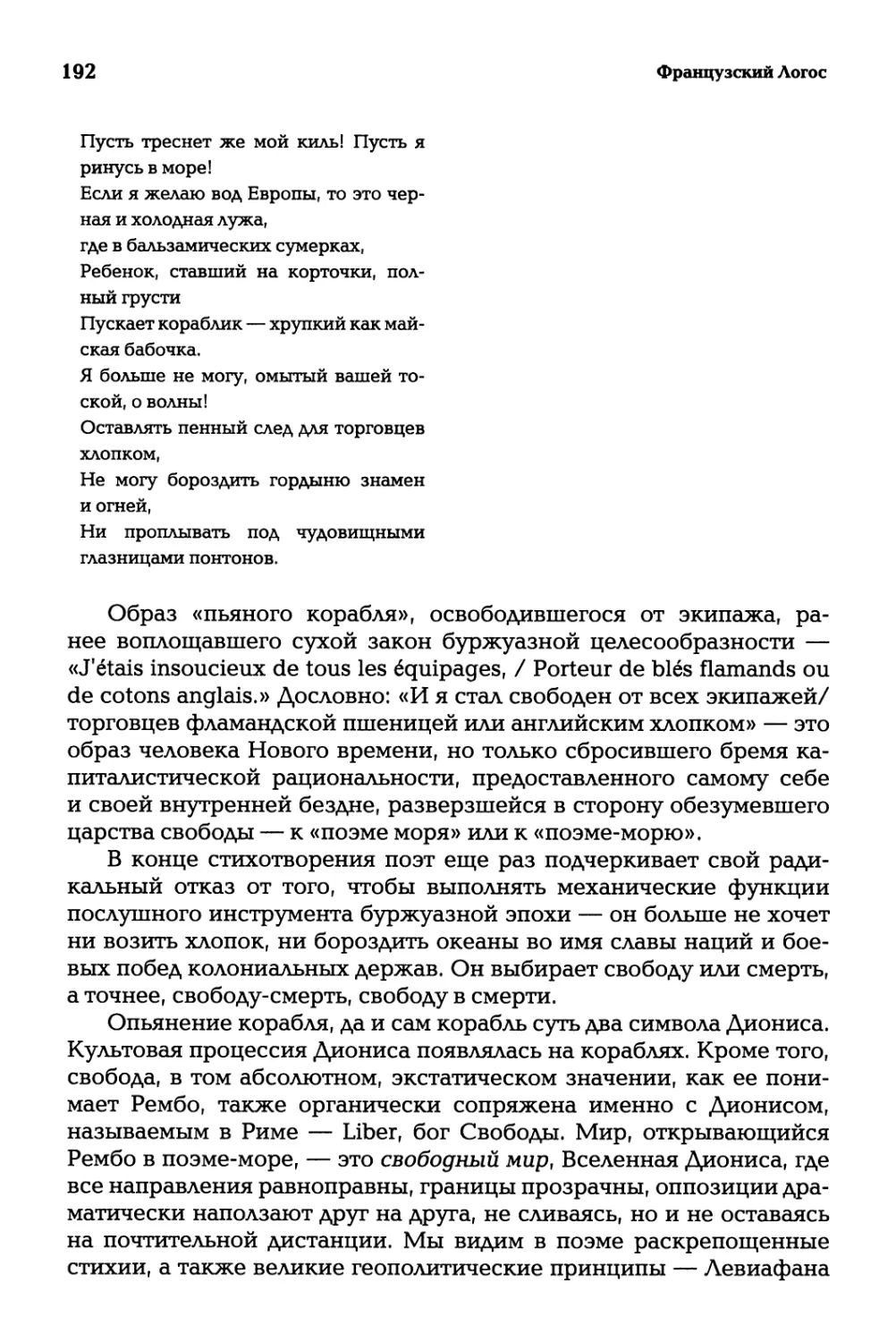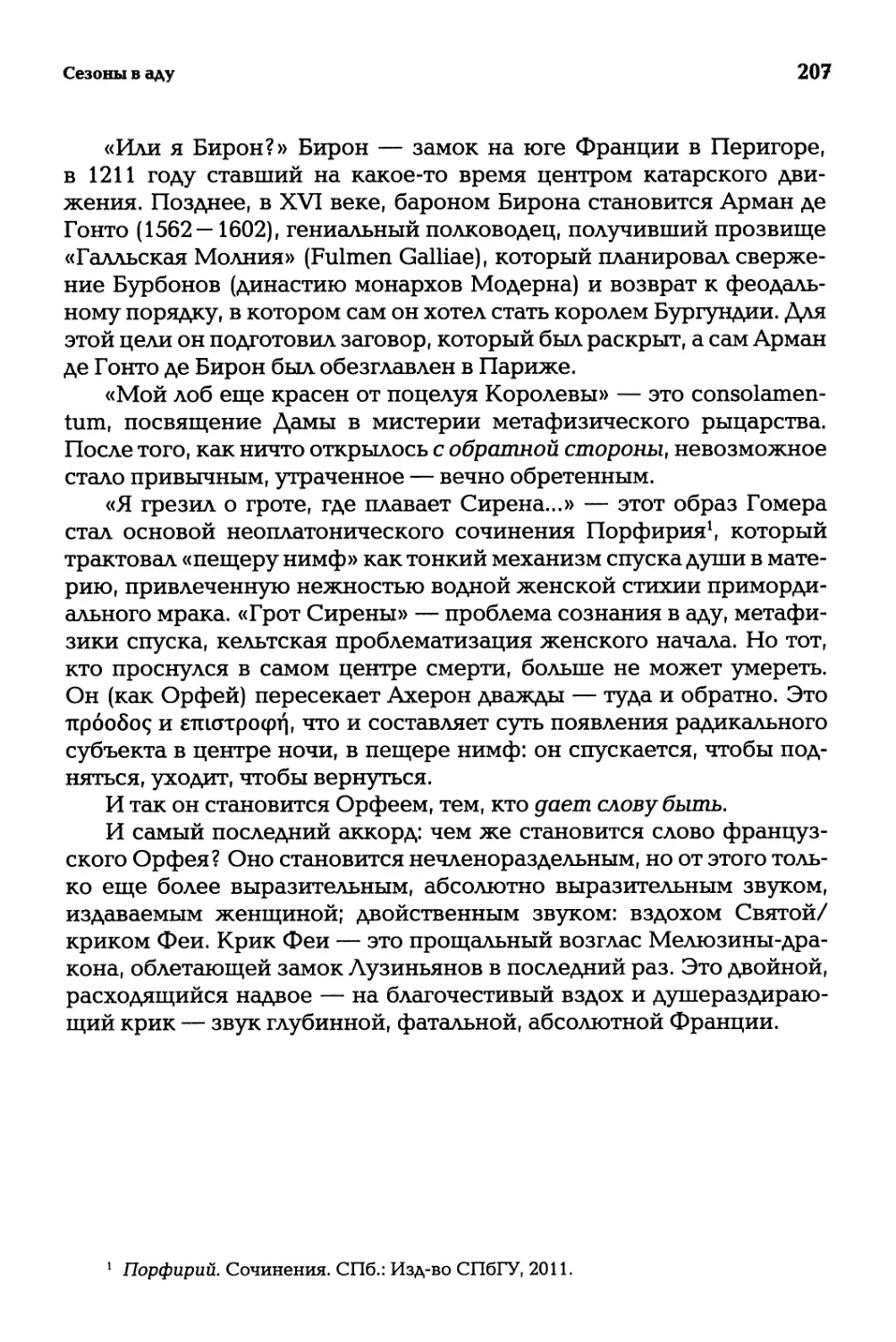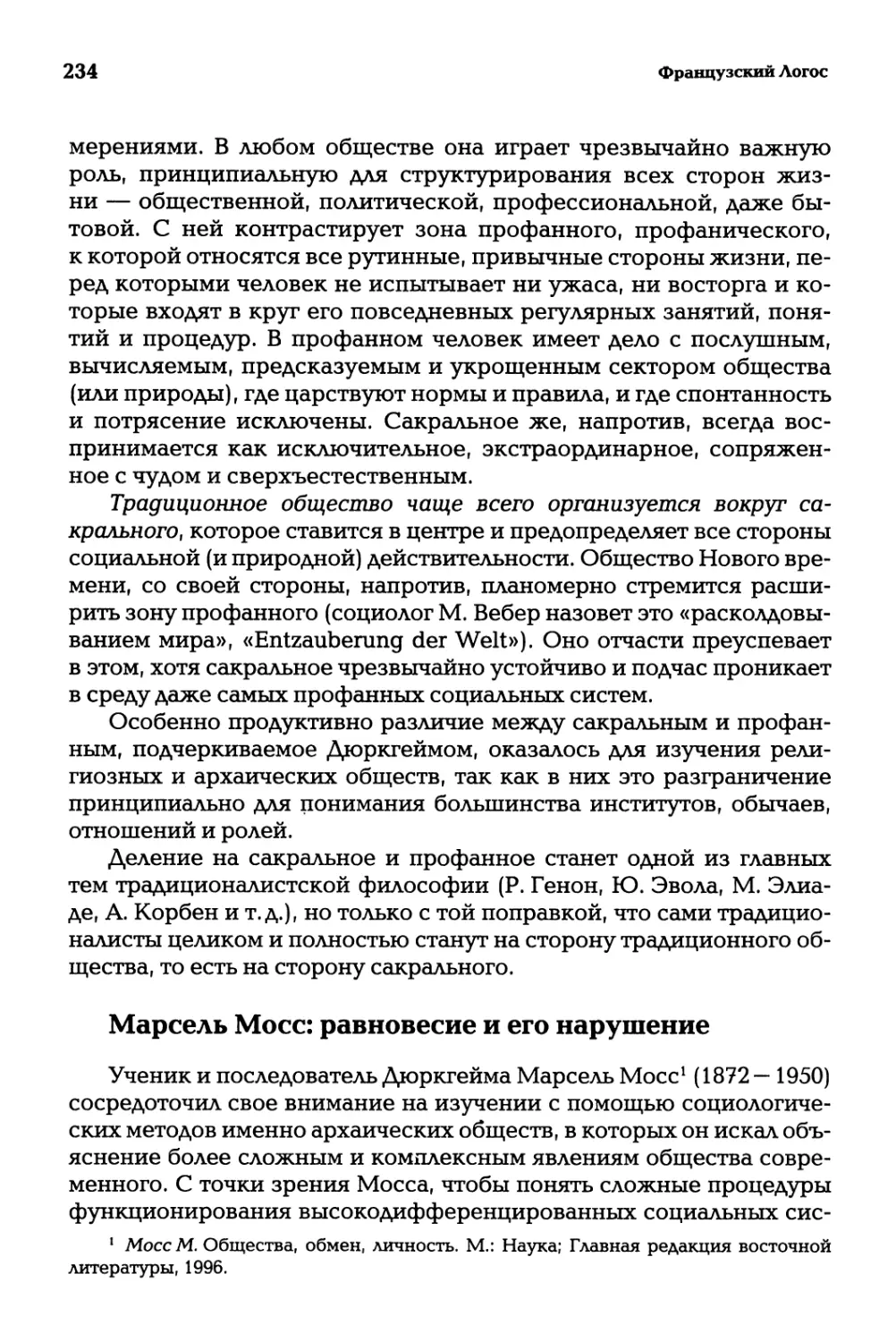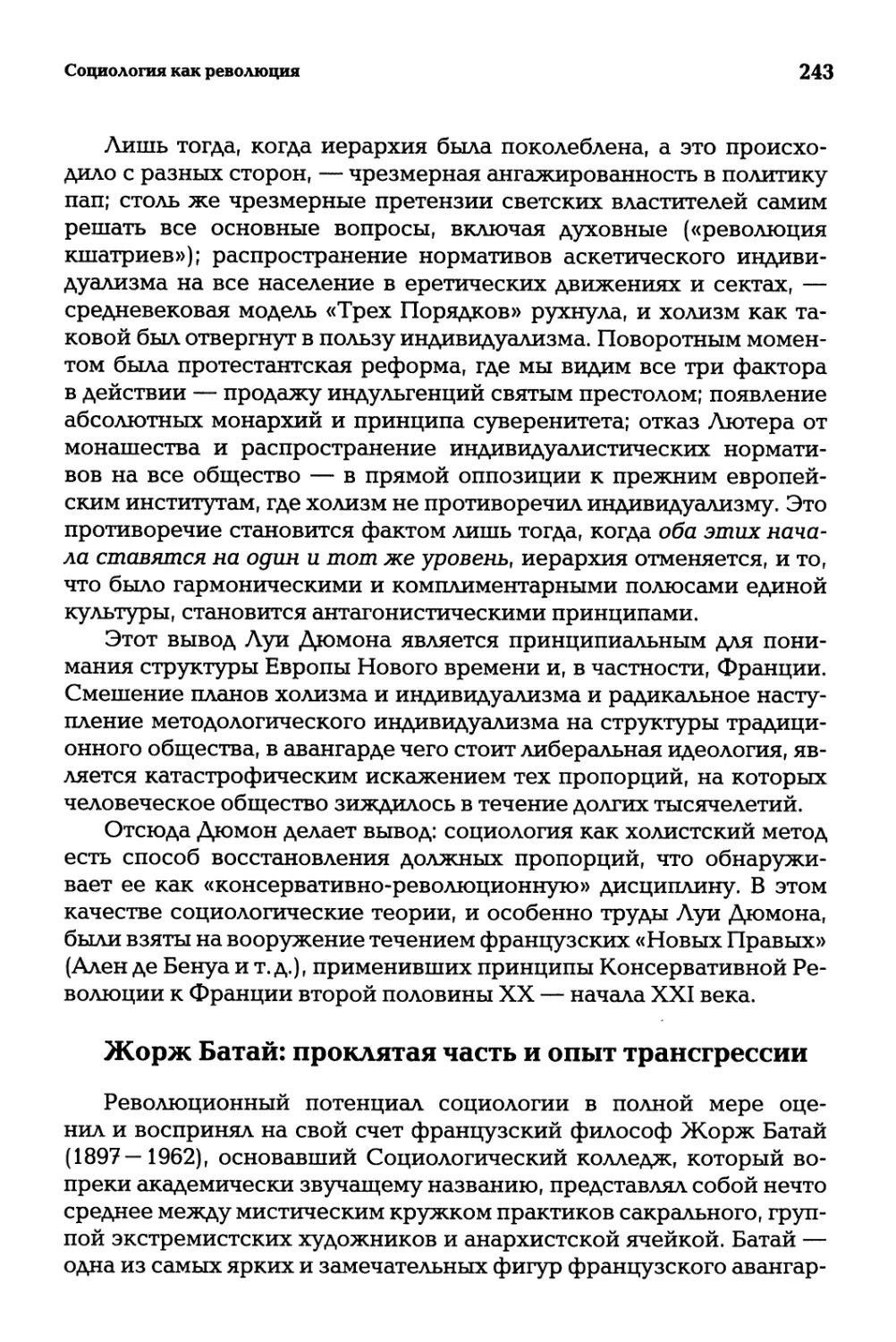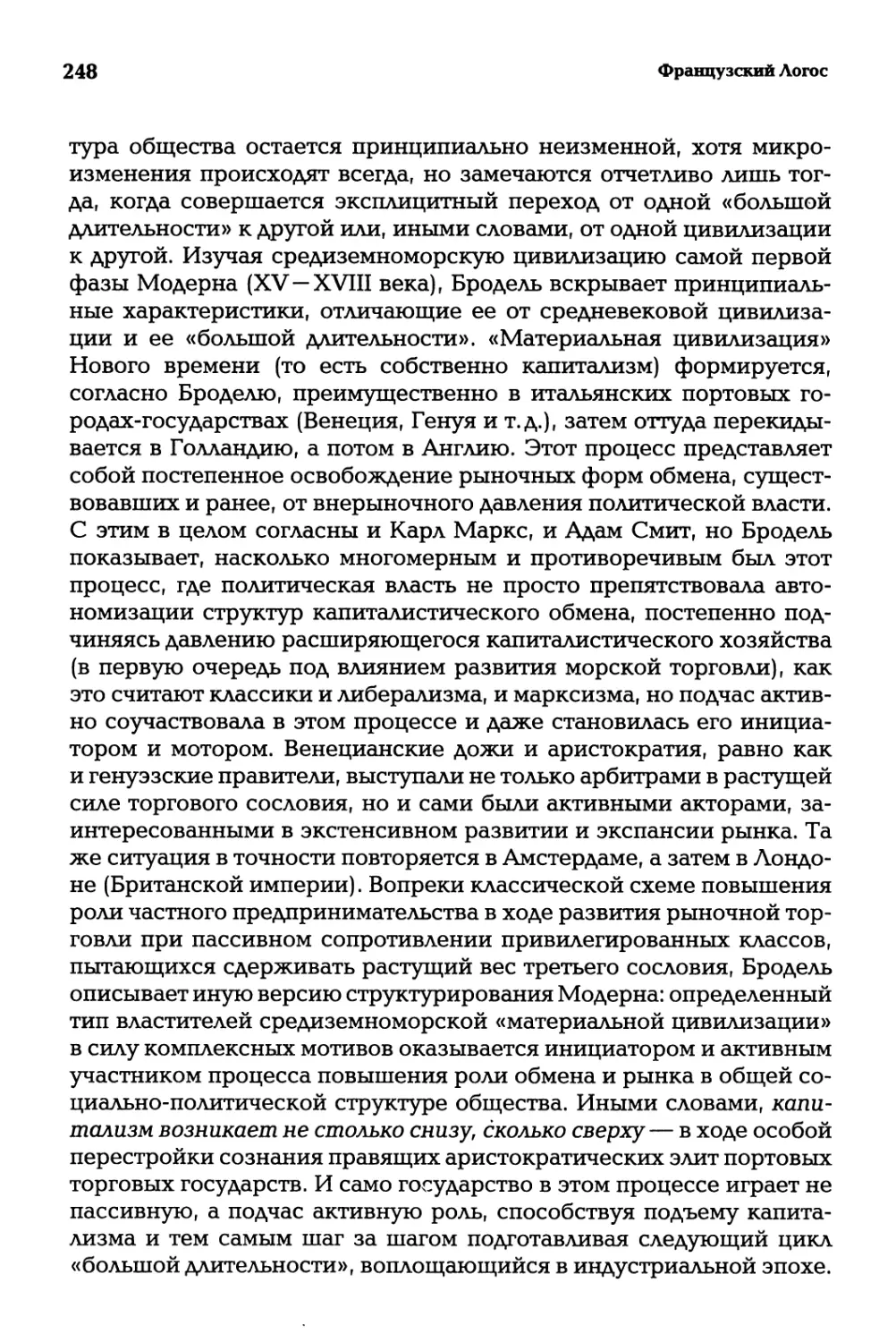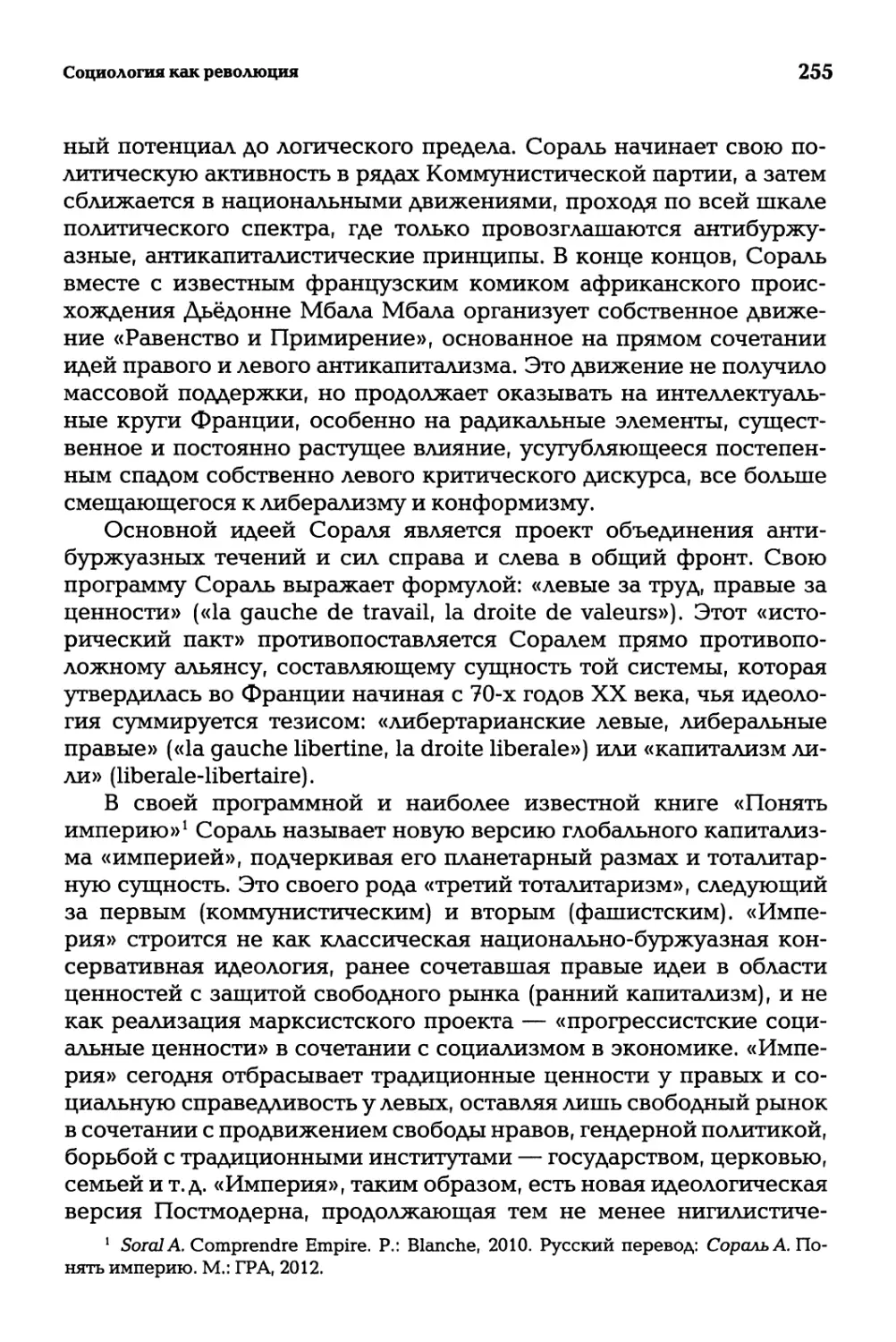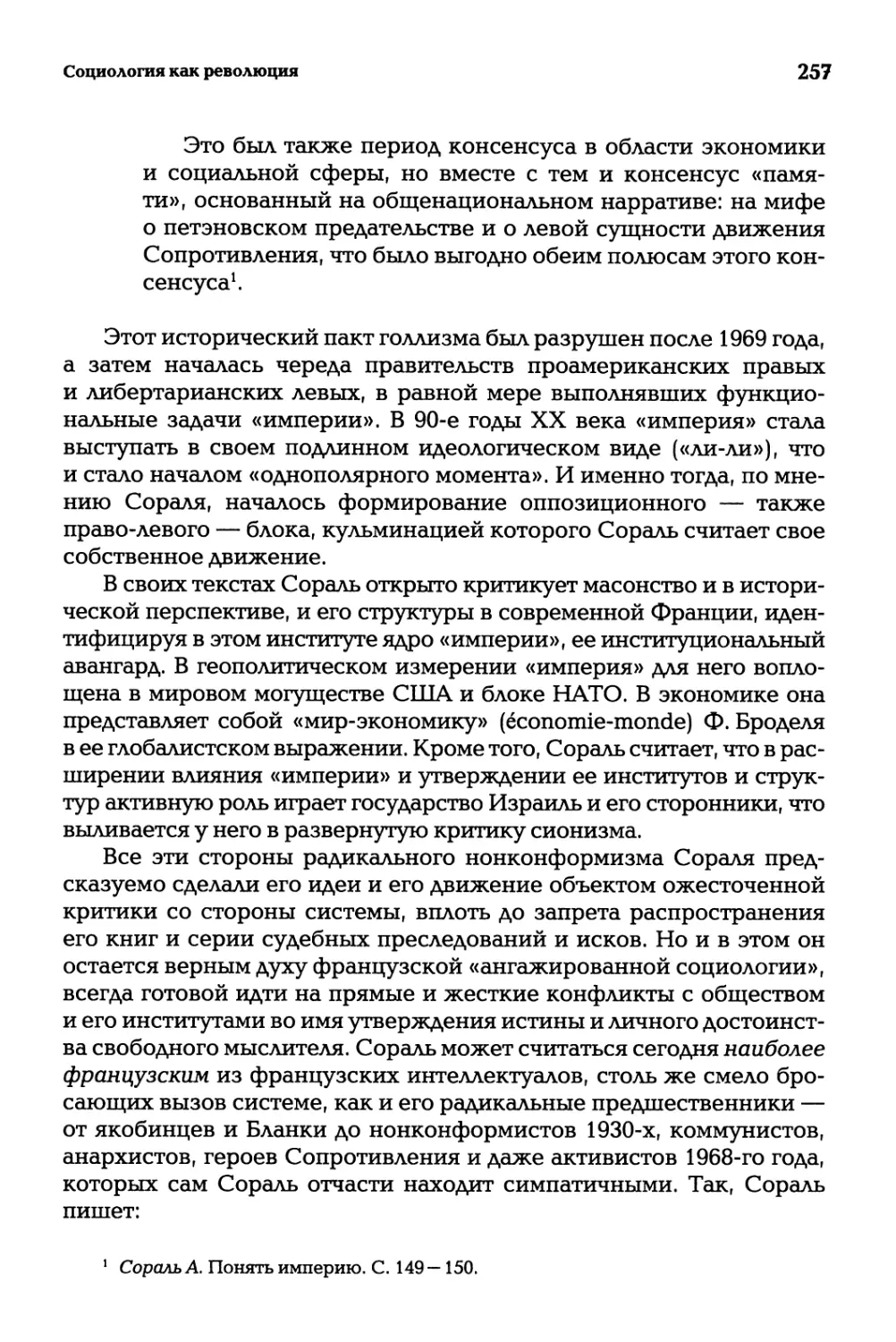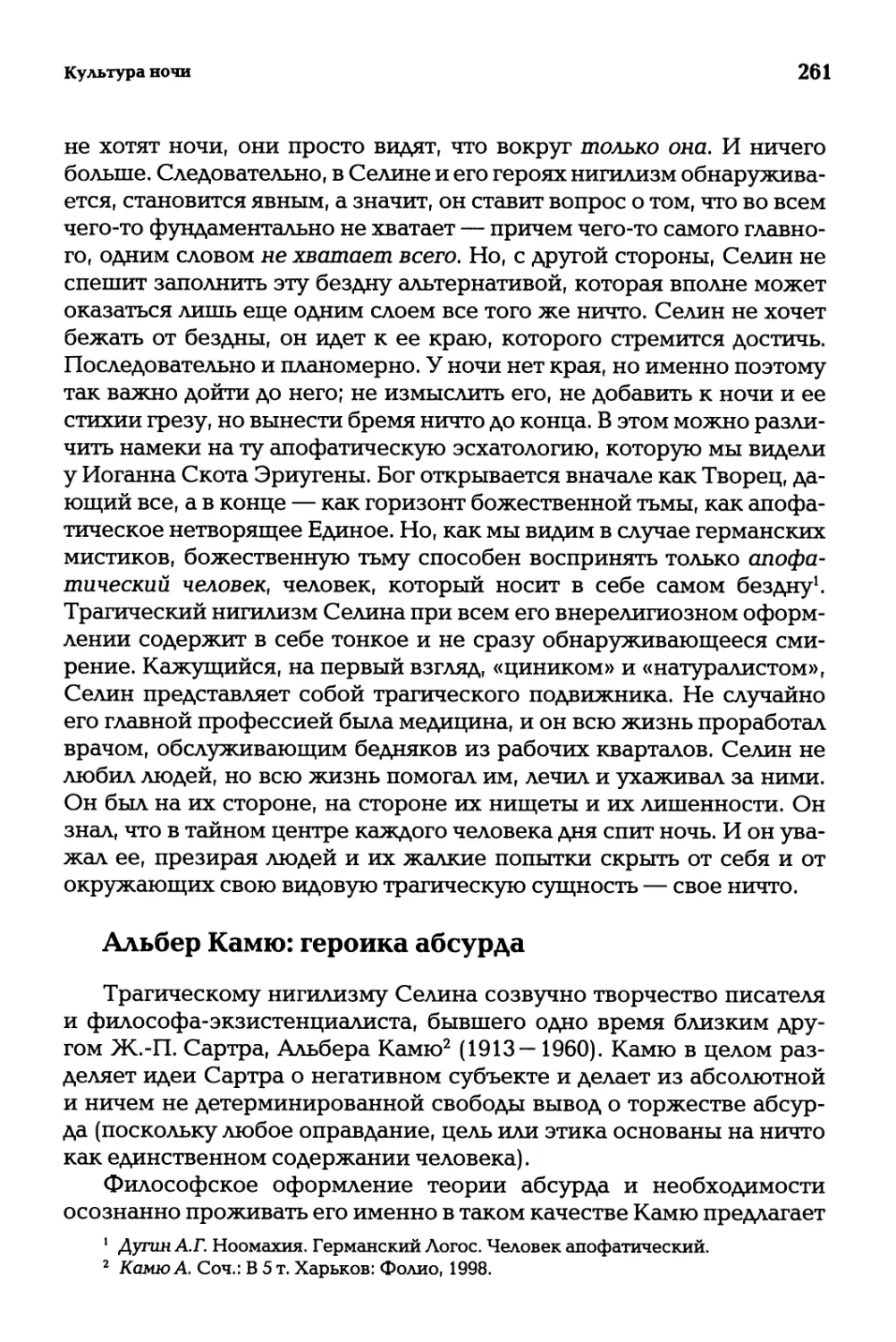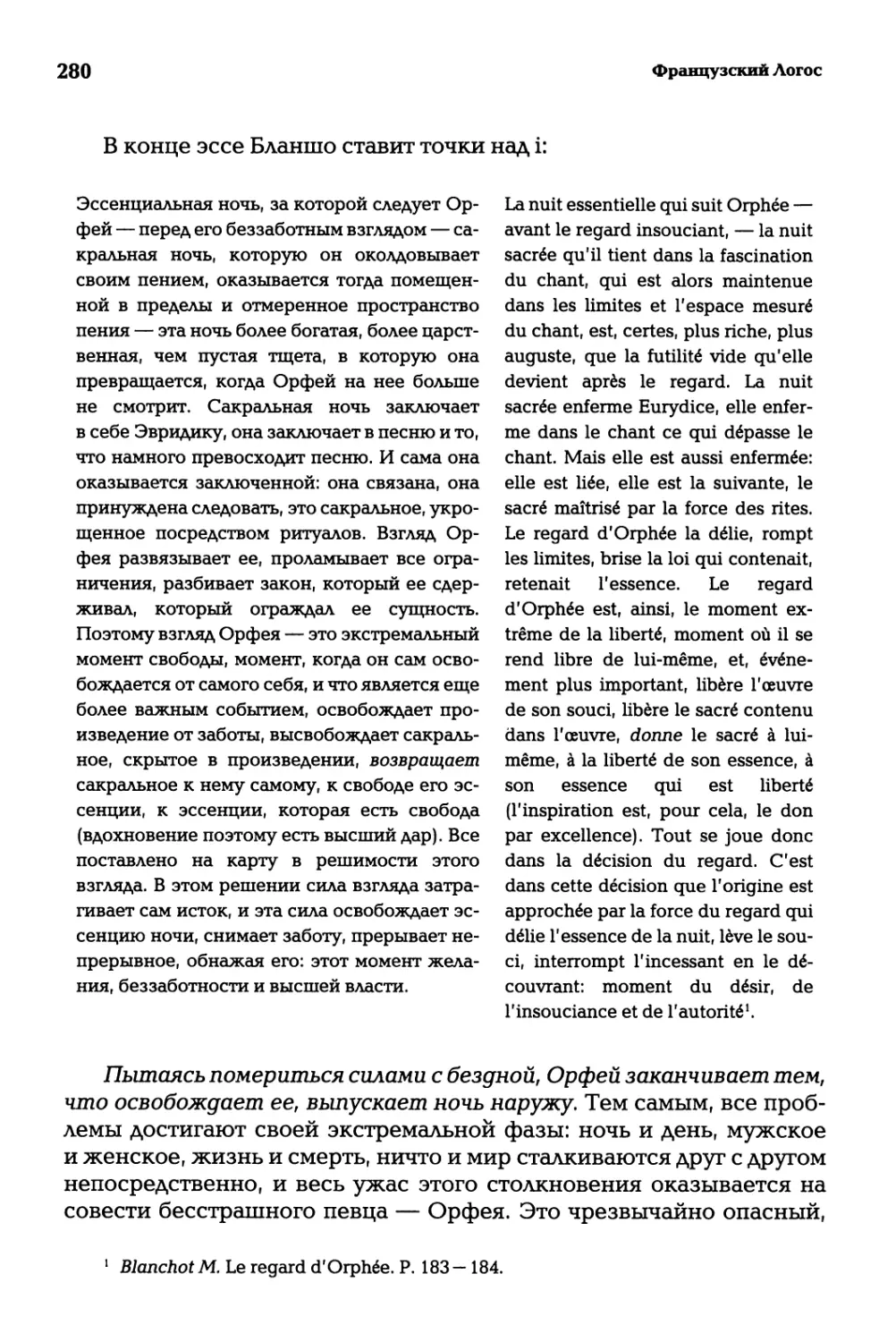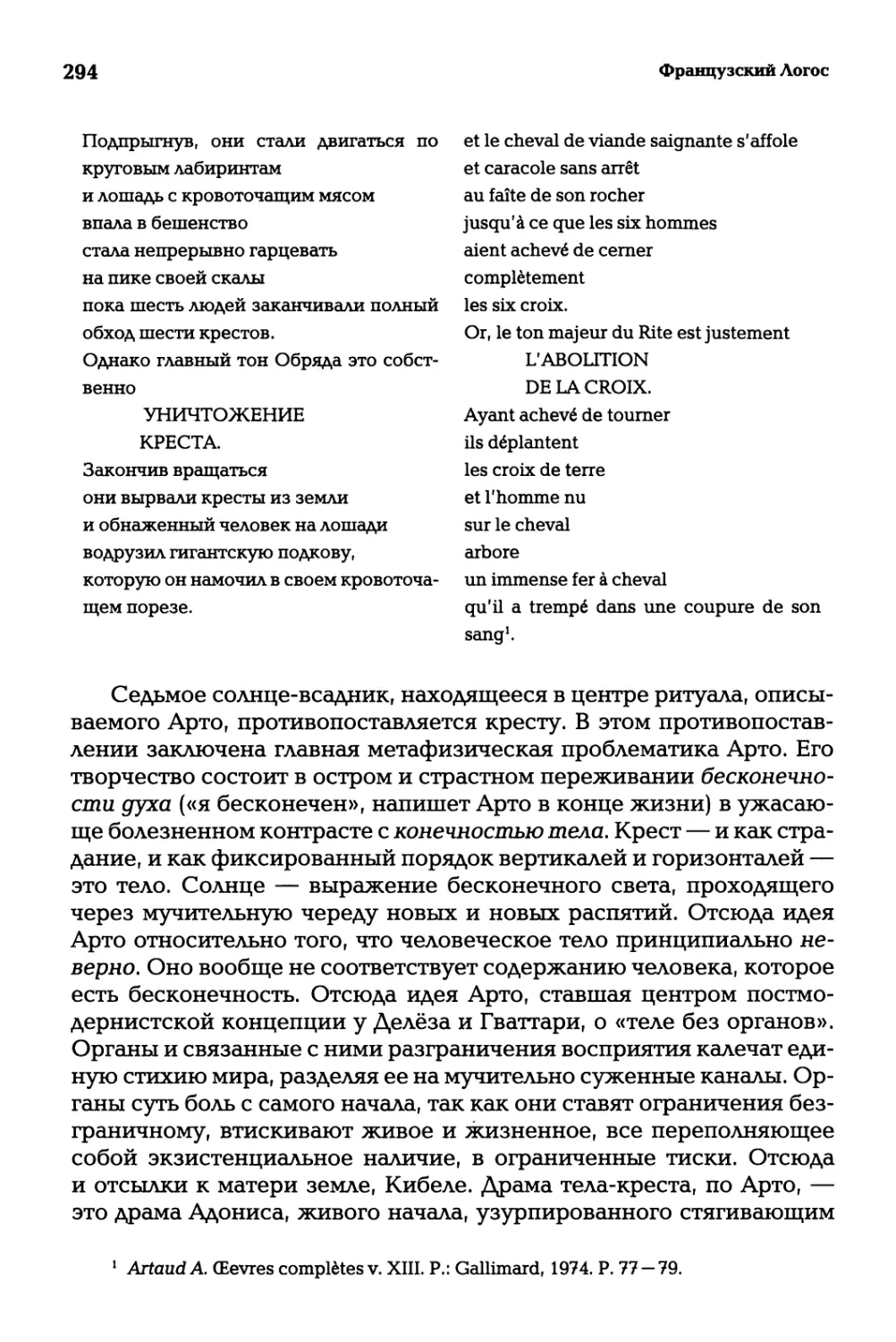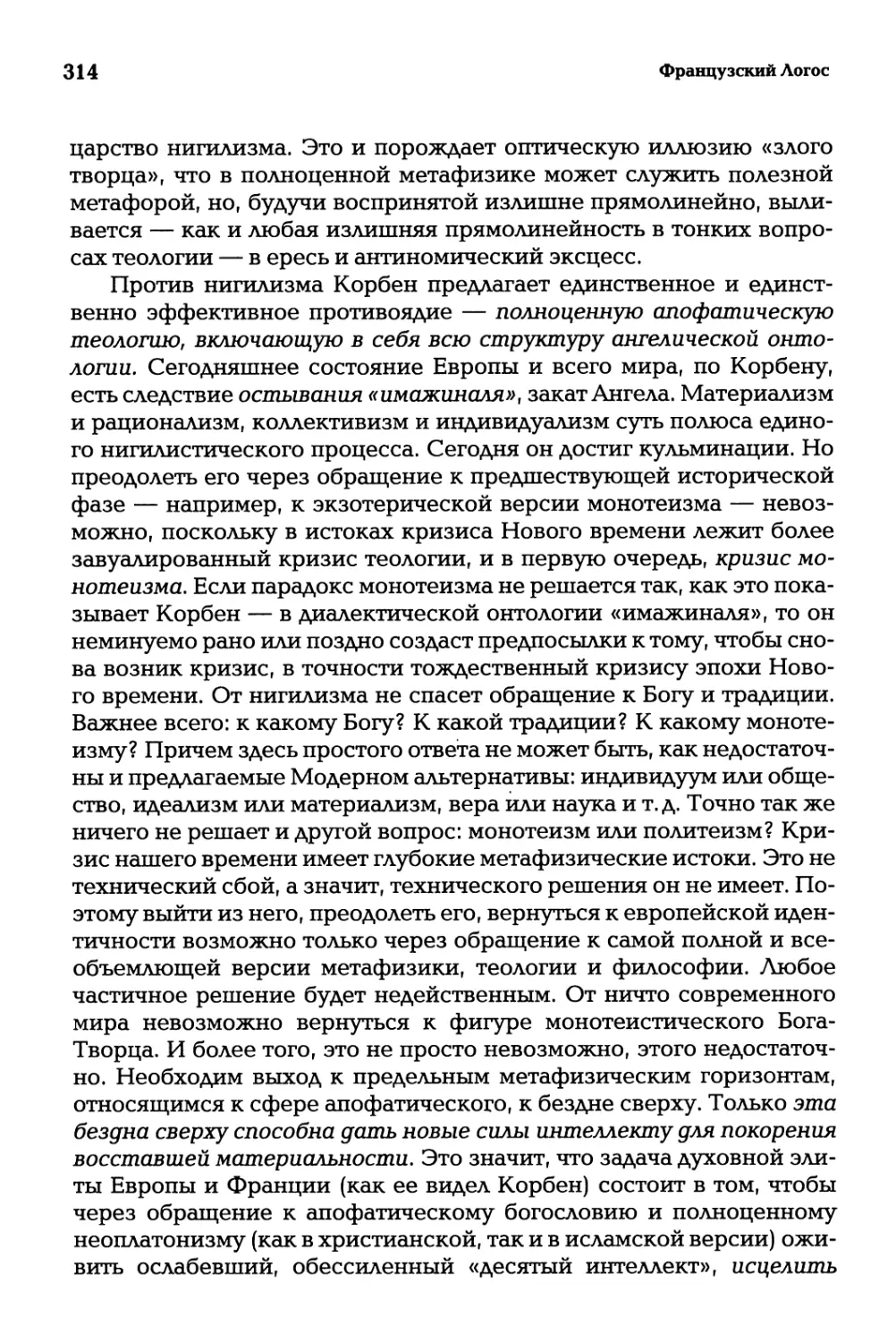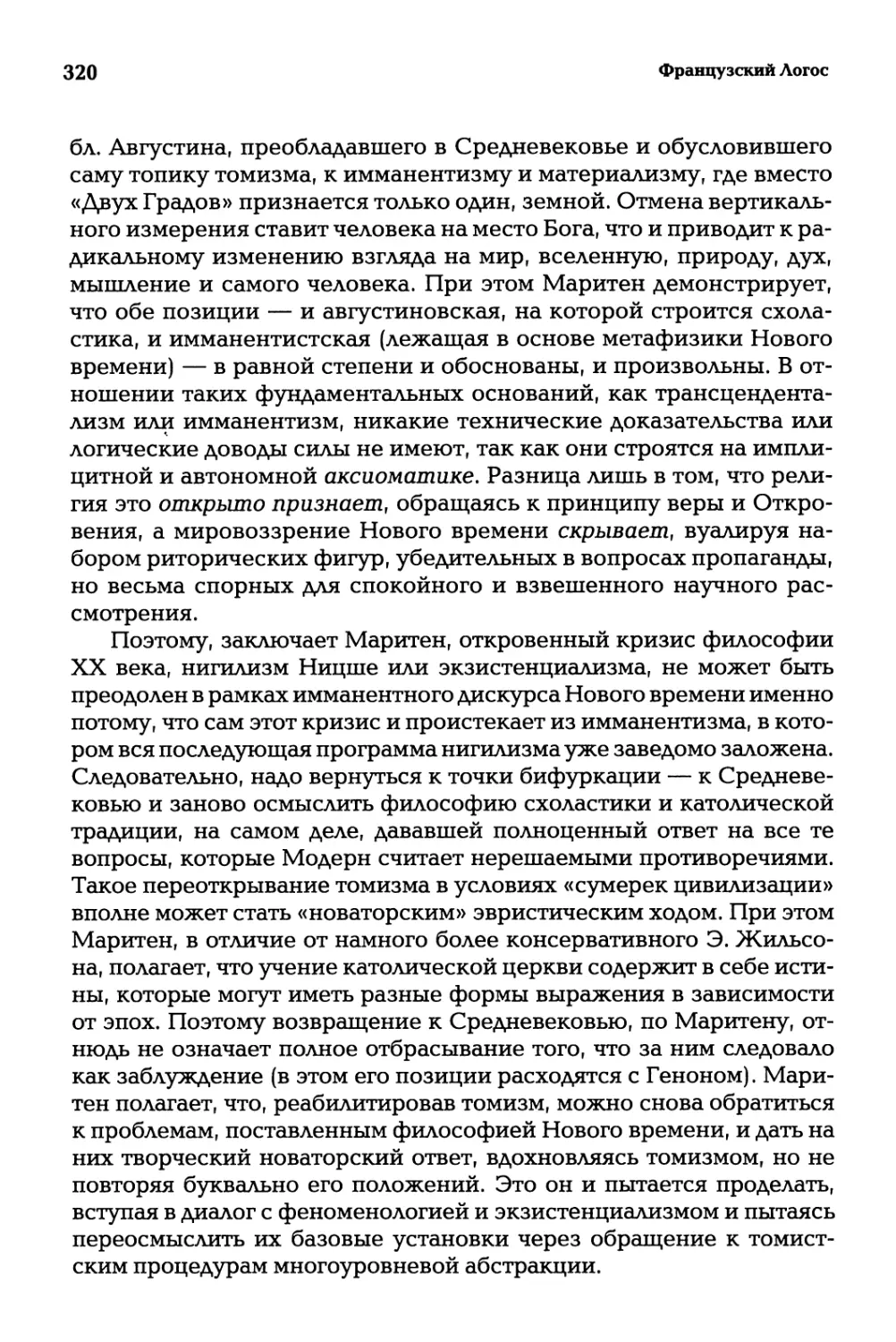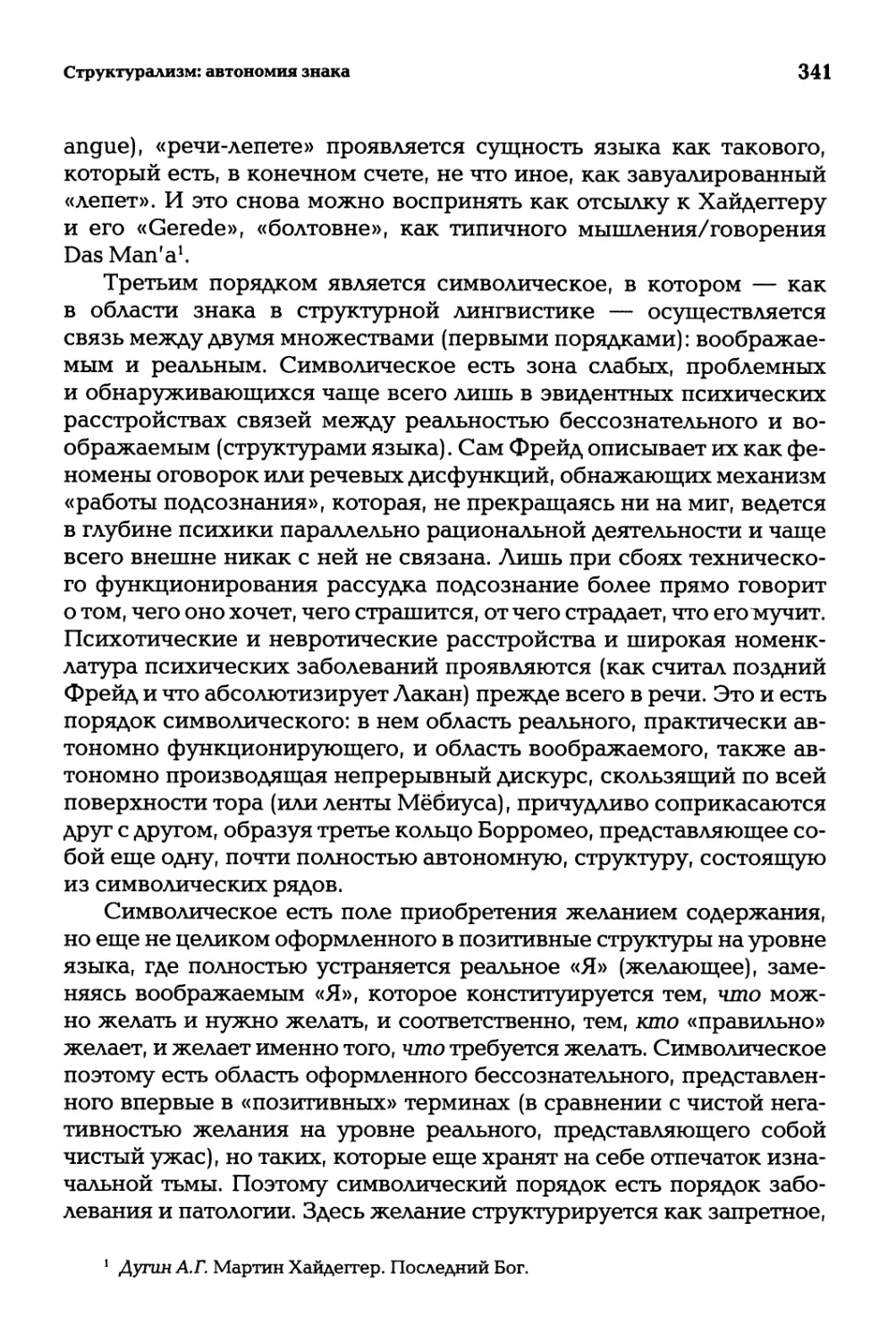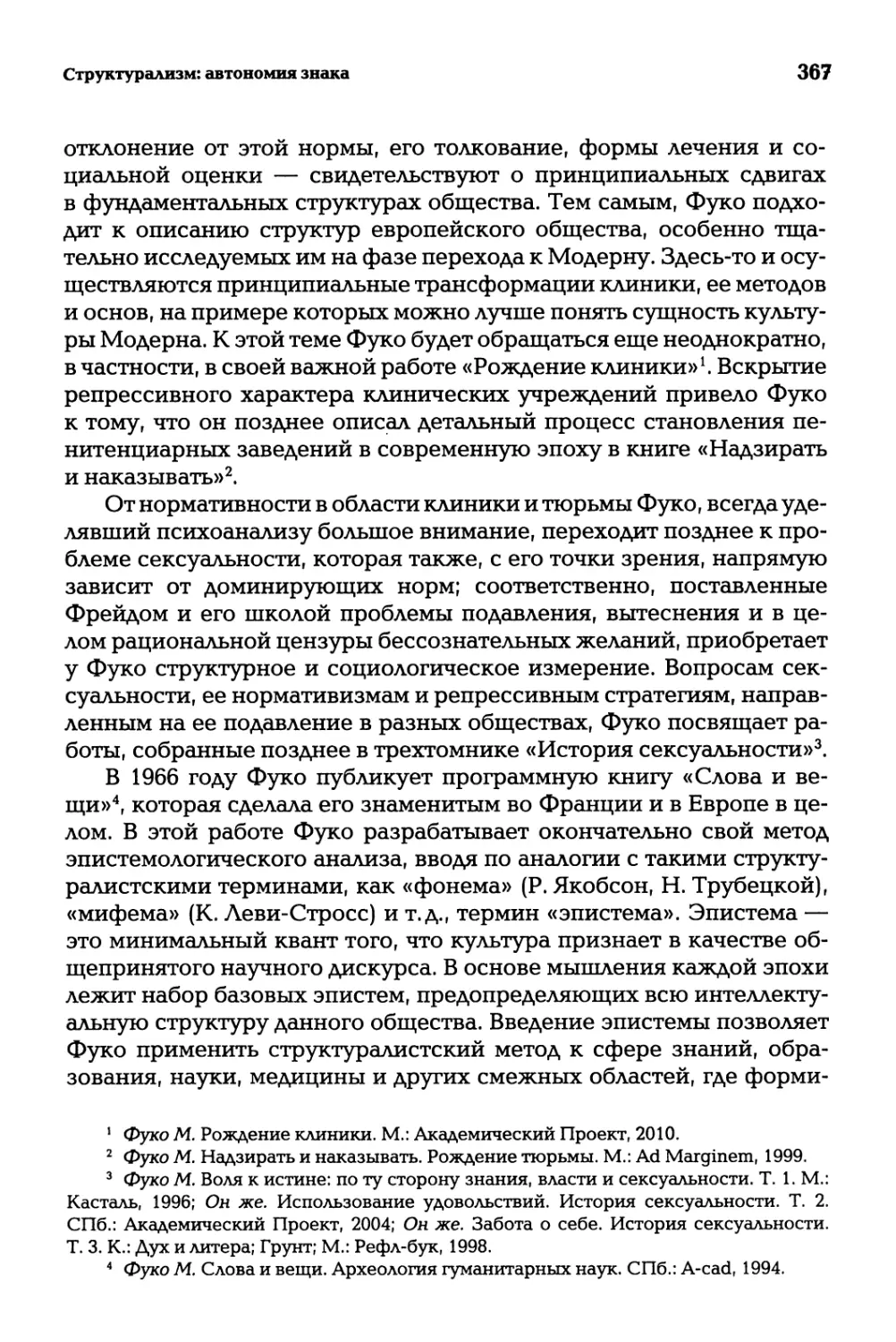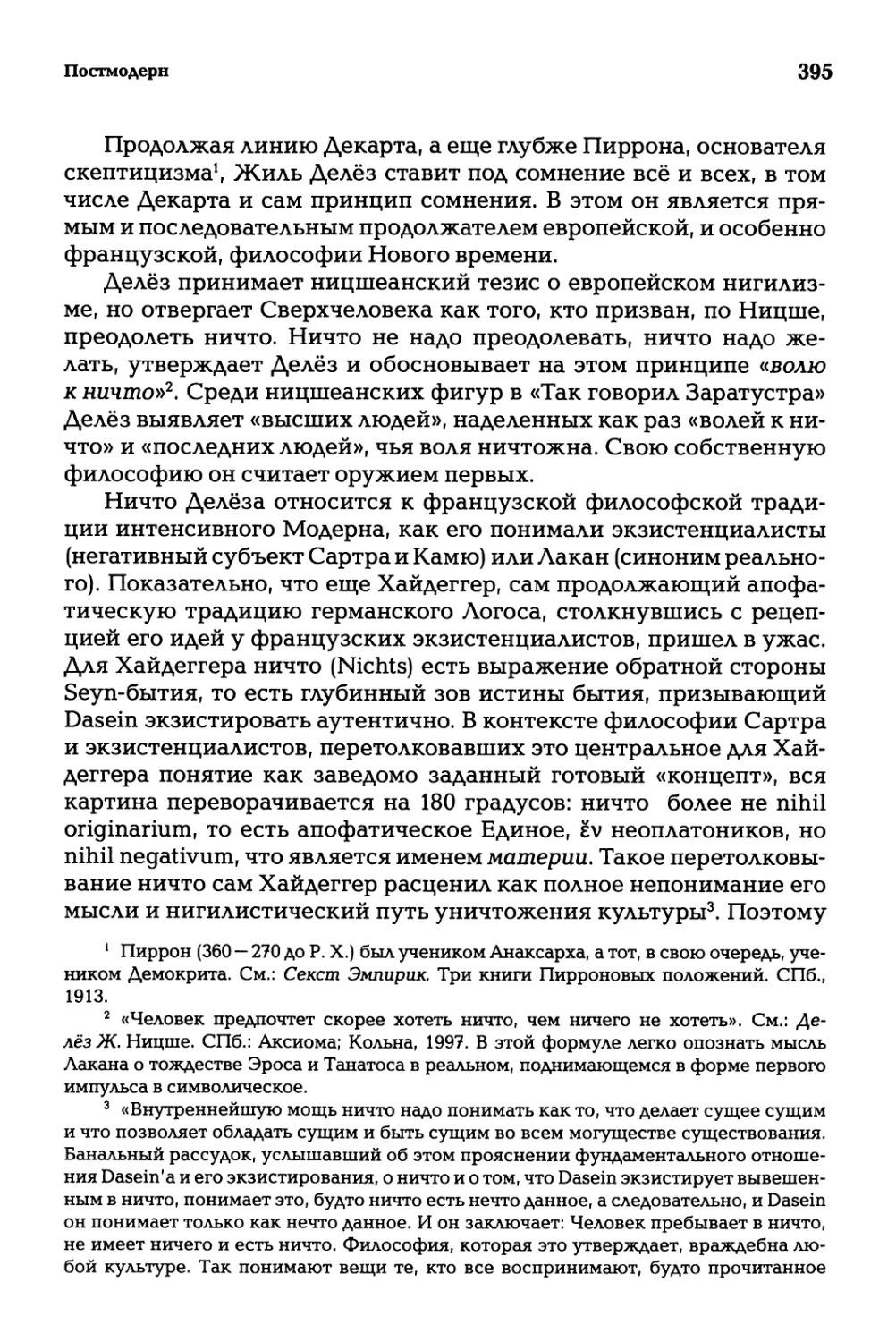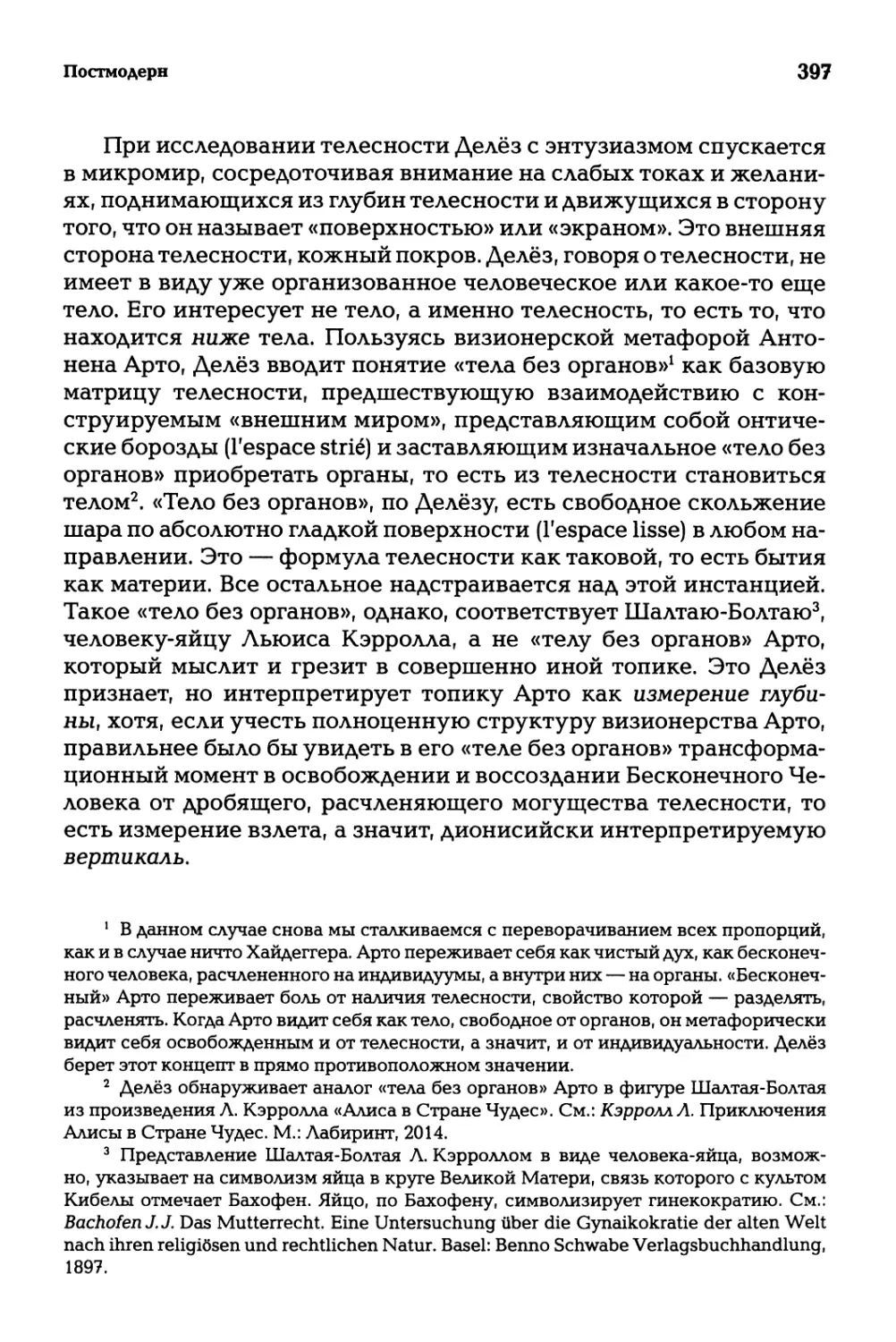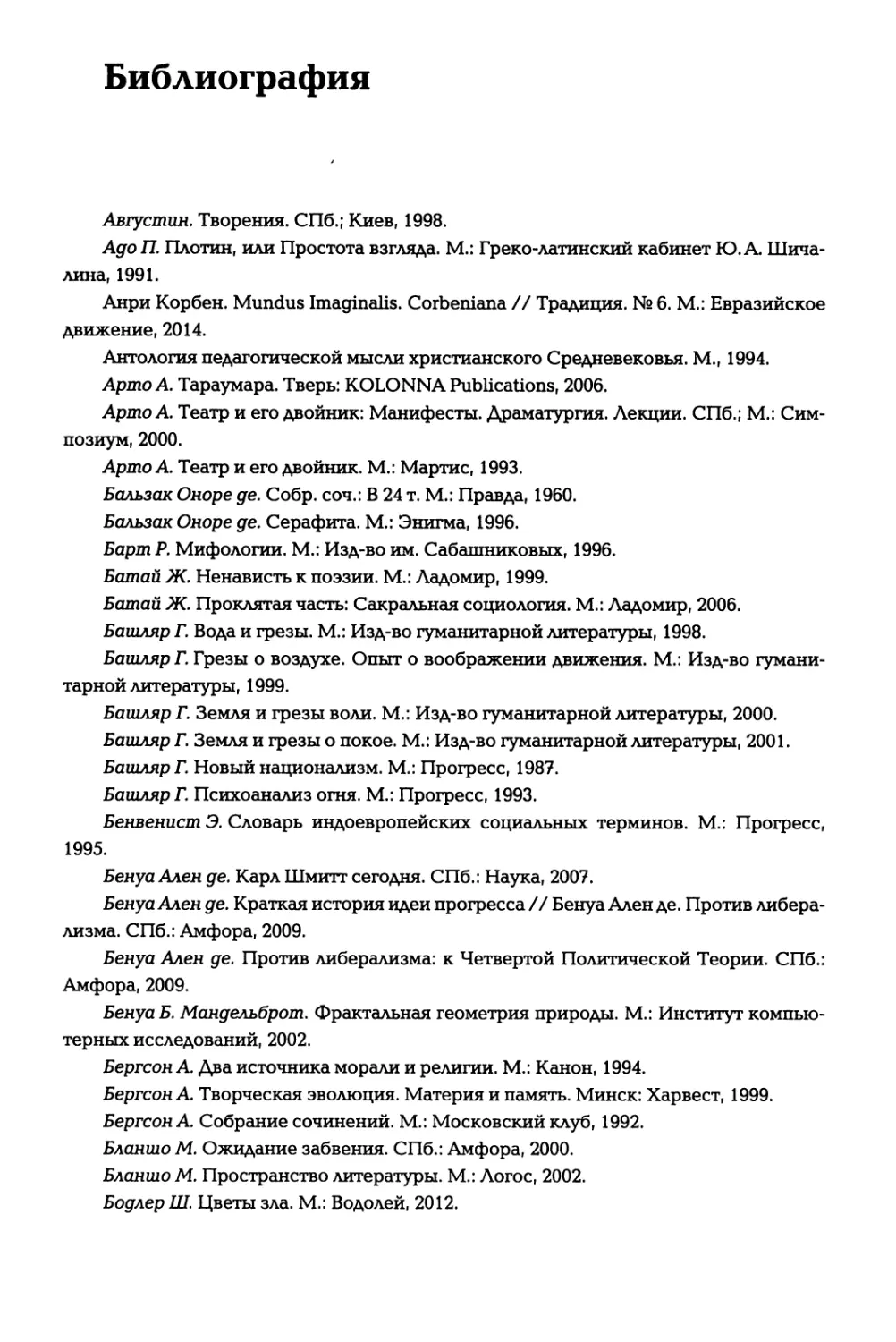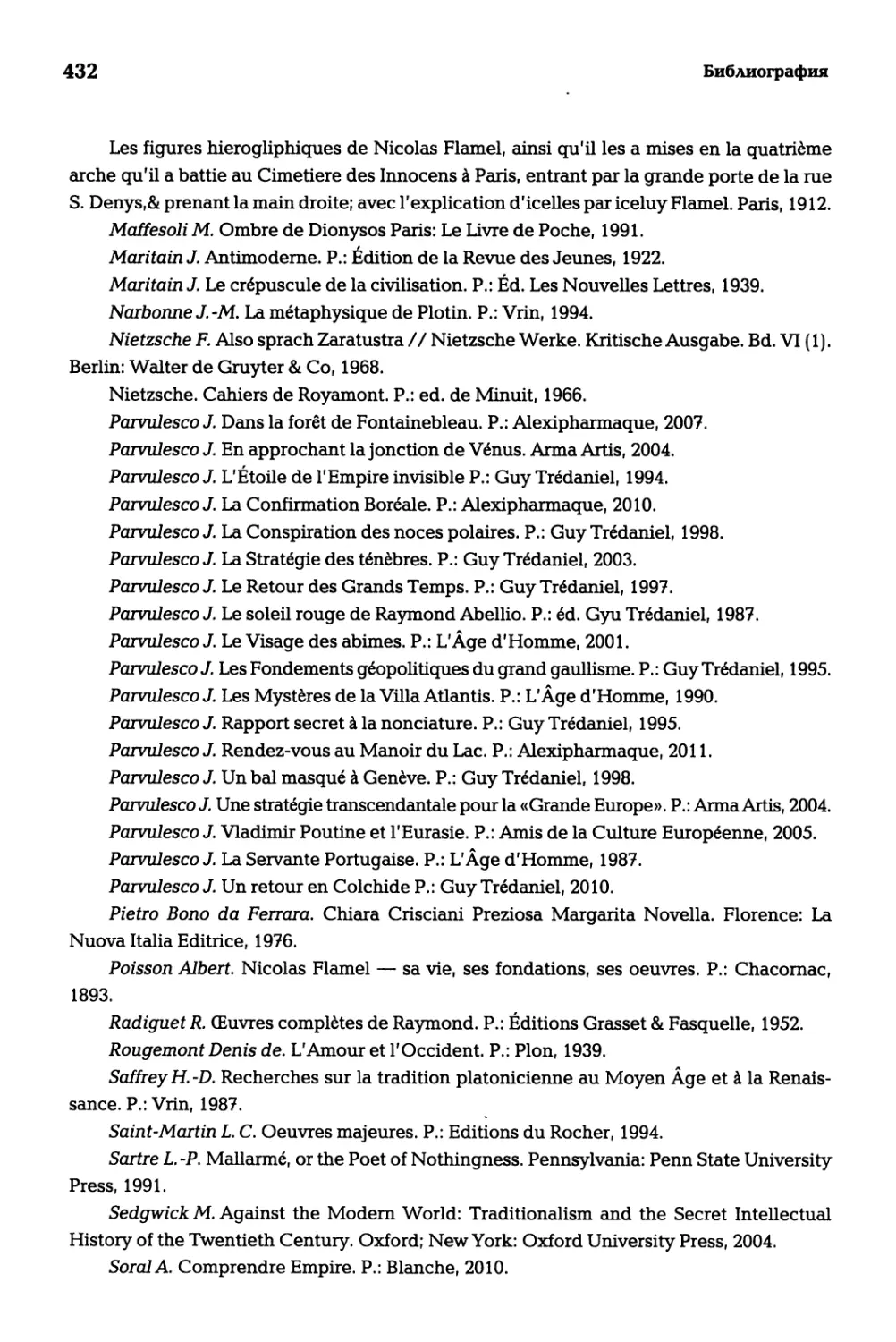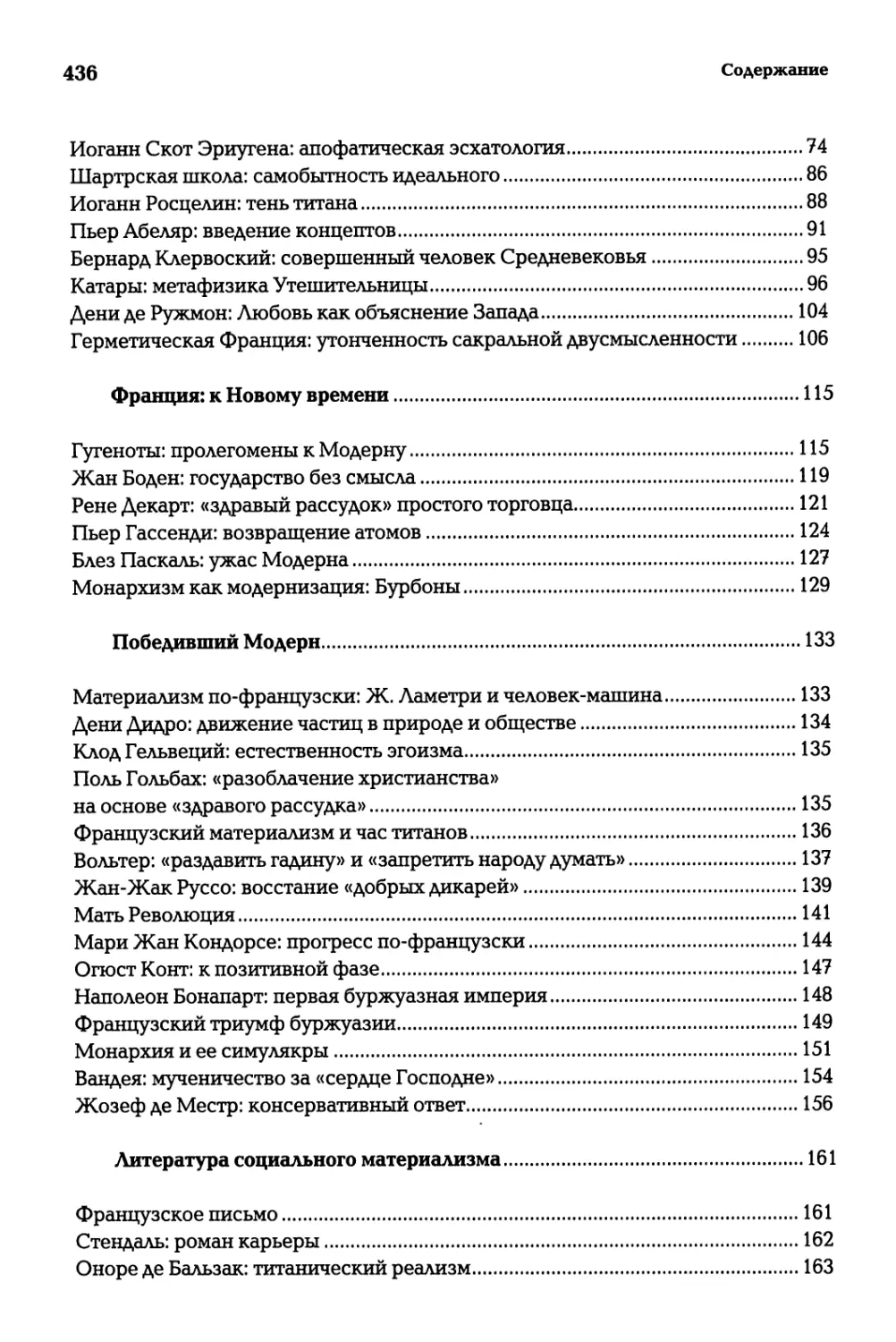Автор: Дугин А.Г.
Теги: философия психология философские науки культура культурное строительство французский логос войны ума
ISBN: 978-5-8291-1796-2
Год: 2015
Текст
f
А.Г. ДУГИН
НООМАХИЯ
ВОЙНЫ УМА
ЛОГОС ЕВРОПЫ
А. Г. Дугин
НООМАХИЯ
ВОЙНЫ УМА
ФРАНЦУЗСКИЙ ЛОГОС
ОРФЕЙ И МЕЛЮЗИНА
«Академический проект»
Москва, 2015
УДК 1/14;008
ББК 87;71
Д80
Печатается по решению кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Рецензенты:
В.Ю. Верещагин, доктор философских наук;
Э.А. Попов, доктор философских наук
Научный редактор:
Н.В. Мелентьева, кандидат философских наук
Автор выражает благодарность М.Г. Гаглоеву за поддержку в создании и публикации данной работы
Дугин А.Г.
Д 80 Ноомахия: войны ума. Французский Логос. Орфей и Мелюзина. — М.: Академический проект, 2015. — 439 с.
ISBN 978-5-8291-1796-2
Книга представляет собой описание французской идентичности, исследует различные стороны французского и, шире, кельтского Dasein'a, проявляющихся в мифологии, истории, философии, культуре и мистике.
Франция и Германия с эпохи Средневековья выступают как два главных полюса диалектического становления европейской цивилизации, предопределяя историческую, политическую и культурную семантику наиболее важных процессов в истории Западной Европы в течение последних полутора тысяч лет. В исследовании структуры французского Логоса автор приходит к выводу, что его главными составляющими являются две фундаментальные фигуры (гештальта) — Певца-посвященного Орфея и полуженщины-полудракона феи Мелюзины.
К гештальту Мелюзины сводится, согласно автору, парадигма Нового времени в ее мифологических и культурных корнях. Книга продолжает серию работ проекта «Ноомахия» по изучению трех Логосов (Аполлона, Диониса, Кибелы) и их проявлений в истории цивилизаций, развивая тематику «Логоса Европы».
УДК 1/14;008
ББК 87;71
© Дугин А.Г., 2015
© Оригинал-макет, оформление. ISBN 978-5-8291-1796-2 «Академический проект» ,2015
Предисловие. Французская пара гештальтов
В рамках проекта «Ноомахия» после выхода пяти томов — «Три Логоса»1, «Логос Европы»1 2, «Цивилизации границ»3, «По ту сторону Запада-1»4 и «По ту сторону Запада-П»5 — стала очевидной необходимость более тщательной, хотя все еще чрезвычайно обобщенной и схематичной проработки отдельных тем и направлений, лишь намеченных в первой версии. Так, в ходе уточнения структуры немецкой идентичности и немецкого историала сложилась самостоятельная работа «Германский Логос. Человек апофатический»6, которая представляет собой развитие одной главы из второй книги «Ноомахия. Логос Европы». Исследование, целиком посвященное именно Логосу Германии, было необходимо для более полного представления о судьбе Европы и ее цивилизации в целом, тем более что в первой версии «Логоса Европы» эта тема была рассмотрена весьма сжато и лаконично. Но как только труд «Германский Логос. Человек апофатический» был завершен, сразу же обнаружилась следующая лакуна: на фоне более тщательной проработки немецкого историала и немецкого Dasein'a, включающего в себя несколько бдлыпие горизонты, нежели одна — хотя и блистательная и резюмирующая историю западного Логоса, но все же не единственная — философия Мартина Хайдеггера, стало понятно, что тема французского Логоса также раскрыта недостаточно, что и вызвало появление работы «Французский Логос. Орфей и Мелюзина».
Данная книга представляет собой (как и «Германский Логос. Человек апофатический») одновременно и самостоятельное произведение, и структурный элемент проекта «Ноомахия», относящийся
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Три Логоса. Т. 1. М.: Академический проект, 2014.
2 Дугин А.Г. Ноомахия. Логос Европы. Т. 2. М.: Академический проект, 2014.
3 Дугин А.Г. Ноомахия. Цивилизации границ. Т. 3. М.: Академический проект, 2014.
4 ДугинА.Г. Ноомахия. По ту сторону Запада!. Т. 4 М.: Академический проект, 2014.
5 Дугин А.Г. Ноомахия. По ту сторону Запада II. Т. 5. М.: Академический проект, 2014.
6 Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический. М.: Академический проект, 2015.
4
Французский Логос
к разделу «Логос Европы»1. Ее цель — проследить на фоне истории Франции и наиболее ярких моментов французской мысли и культуры процесс становления цивилизации Нового времени, то есть эпохи Модерна. Франция, наряду с Англией, представляет собой ту страну, где в истории Европы Модерн и модернизация развивались изнутри, как нечто заложенное в самой историко-культурной идентичности французского общества, а значит, корни Модерна должны в этом случае уходить в Премодерн, в особую галльскую традицию и сакральность, какие-то парадоксальные и трудно уловимые повороты и изгибы которой и привели в конечном итоге Францию к Новому времени и ее парадигмам. Новое время — это французское (равно, впрочем, как и английское) явление', оно вызрело внутри кельтской цивилизации и кельтского мира. В этом фундаментальное отличие французов (и англичан) от немцев: Модерн и Просвещение пришли к германским народам со стороны — из Западной Европы, то есть собственно из Франции и Англии. Немцы внесли в Модерн огромный вклад, но факт остается фактом, породили его не немцы, хотя — особенно через Реформацию — они в нем довольно активно поучаствовали. Даже если согласиться с Хайдеггером в том, что немцы ответственны за «Закат Европы» как за свою собственную судьбу, объяснить генезис Модерна из немецкой культуры невозможно. Тогда как с Францией (и Англией) дело обстоит иначе. Кельтский мир (за исключением Ирландии) не просто вступил в Модерн, но выносил его в себе. И проследить, как это происходило и на какие семантические метафизические и мифологические моменты это опиралось, и есть цель данной работы.
По ходу работы над этой книгой становилось понятно, что в центре французской культуры находятся два гештальта (в смысле Э. Юн-гера), два образа, две парадигмальные фигуры — Орфей и Мелюзина, священный певец (бард), спускающийся в ад, движущийся на край ночи, и женская фея, полукрасавица-полудракон, как его прекрасная, притягательная и зловещая паредра — как его смерть. Их доминация в той или иной форме прослеживается на всех этапах французской истории. Отношения между этими гештальтами создают базовую топологию французской идентичности, прослеживаемую довольно ясно с древних кельтских преданий и легенд через все Средневековье вплоть до Нового времени, французского декаданса, сюрреализма и Постмодерна. Главным объяснением проблематичности отношений Орфей — Мелюзина, с этносоциологической точки зрения, скорее всего, является «хрупкий патриархат» древне-
1 В этом качестве она входит в серию работ «Большая Ноомахия», в которой, по замыслу, должно быть 12 томов.
Предисловие. Французская пара гештальтов
5
кельтского общества, обусловленный тем, что высшие — жреческо-воинские — слои индоевропейской элиты не смогли необратимо ассимилировать автохтонное докельтское население, относившееся к культурному кругу Великой Матери, превратив его в укрощенное и подчиненное солярной вертикали третье сословие (третью функцию, в большинстве индоевропейских обществ представленную крестьянами). В результате хтоническое начало было побеждено, но не укрощено и не приручено. Женская страна смерти, остров Авалон с его населением фей и женских духов, царство Мелюзины, сохранили свои мифологические позиции, продолжая оказывать влияние на галльское общество изнутри. Для финального познания этой женской тайны в «путешествие на край ночи» отправляется кельтский король Артур, ирландский бард, провансальский трувер, христианский мистик, поэт, писатель — одним словом, французский Орфей. Вместе с Орфеем в ад спускается и вся Европа, пока не достигает в этом нисхождении дна.
Это происходит в наши дни. Орфей дошел до центра преисподней. В ходе этого головокружительного спуска отчасти было забыто и кто он, и зачем он идет, и куда он направлялся. Но в этом и заключалась часть миссии: без частичного забвения правил бытия и даже относительной утраты рассудка невозможно проникнуть в сердце ночи. Это сделано. Свет дневного Логоса, Логоса Аполлона погас. Европа во мгле, причем эта мгла настолько темна, что никто более не воспринимает ее как мглу. «Что есть свет? » — спрашивают современные европейцы (современные французы) и моргают. — «Счастье найдено нами»1.
Но французская культура, философия, поэзия, история и даже политика существуют и остаются текстом послания от глубинной Франции, от истинной французской идентичности ей самой. Мы попытались восстановить по фрагментам структуру этого послания. Как нам это удалось, мы судить не можем. Возможно, по пути поиска французского Логоса предстоит пройти еще не раз и не два. Но это будет уже, видимо, на следующем витке проекта «Ноомахия», так как сейчас, после Франции и Германии на повестке дня иная цель — обзор англо-британской цивилизации1 2. Без нее генеалогия современного ада — ада по имени «Запад» — будет не полной и не совершенной.
Пока же мы стоим перед энигмой галльского Логоса.
1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: ИФ РАН, 2004. С. 14.
2 Дугин А.Г. Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект. М.: Академический проект, 2015.
Кельтский Логос в Древнем мире
Кельтские судьбы
Франция в современном понимании представляет собой часть более широкого кельтского мира, который в свое время простирался на огромные территории Европы и даже отчасти Малой Азии. Если брать кельтский мир в целом, — с учетом того, как он вошел в историю начиная с первого тысячелетия от Р.Х. и каким он стал в Новое время (вплоть до настоящего момента), — то в нем можно выделить три главные зоны — Францию, Англию и Ирландию, где кельтское влияние сохранилось прочнее и отчетливее всего. Франция (Галлия) стала ядром этого мира, его сердцем, хотя до определенного момента была частью общего пространства, внутри которого ни Ламанш, ни дистанция от берегов Англии и Франции до Ирландии не представляли собой социально-культурного разрыва, воспринимаясь не более, чем условные границы в рамках непрерывного пространства, поделенного внутриконтинентальными озерами и реками. Франция была сердцем кельтского мира, когда он сохранял свое культурное единство, и отчасти осталась таковой и на более поздних этапах, когда влияние других культур (латинской и германской) стало решающим. Поэтому мы начинаем обзор кельтского сегмента европейского Логоса именно с Франции.
В тройном кельтском мире — Франция, Англия, Ирландия — можно выделить два субэтнических ядра: п-кельтов и к-кельтов. П-кельты произносили индоевропейский звук «*kw» как «к (kw)», а к-кельты как «q». Эти две ветви разделились в древности, задолго до кельтского завоевания Британии. Галлы, бретонцы и бритты (население Логрии, Уэльса и Корнуолла в Англии) относились к п-кель-там, а ирландцы и шотландцы (гэлы) — к к-кельтам. Из этого можно сделать крайне важный вывод о большем сходстве галлов-французов с бриттами и валлийцами, как основным сохранившимся этнокультурным ядром британцев в целом, чем с ирландцами и шотландцами. В частности, архаические пласты галльской традиции можно изучать с опорой на валлийские источники, сохранившиеся лучше всего. Тогда как ирландские и шотландские мифологические линии, относящиеся к культурному кругу к-кельтов, представляют собой родственные, но все же параллельные ветви.
Кельтский Логос в Древнем мире
7
До конца Средневековья и даже отчасти в наше время Франция не была чем-то полностью отдельным от Англии. Несмотря на то, что во Франции в качестве языка возобладала «народная латынь», а в Англии — язык германцев-англосаксов, обе эти страны были теснейшим образом связаны, представляя собой два фокуса общего культурного круга, культурного эллипса. Судьбы Франции и Англии неразрывно переплетены друг с другом. Между ними существуют и оппозиция, и конкуренция, и соперничество, и симпатия, и отторжение, но это свойство любых культур, сплошь и рядом состоящих из враждующих и соперничающих подсистем. В самой Франции феодальные противоречия были подчас не менее, а то и более острыми, нежели конфликты французов и англичан. Франция и Англия объединены многими тонкими нитями, включая определенную общность истории. И самое важное при реконструкции их историалов состоит в том, что для обеих стран и соответствующих обществ Модерн, Новое время стали, начиная с определенного момента, внутренним призванием, предестинаци-ей, в которой воплотилась определенная сторона кельтской идентичности. В отличие от немцев и других народов Европы для французов и англичан переход от традиционного общества к обществу современному, от Средневековья к Новому времени был моментом органической внутренней эволюции, раскрытием определенного потенциала, заложенного внутри кельтской идентичности. И хотя в результате полного развертывания этой стороны европейская культура Нового времени пришла к парадигме, прямо противоположной средиземноморской цивилизации в ее многотысячелетнем индоевропейском олимпийском солнечном издании, став Анти-Европой, именно французы и англичане прожили это как собственную судьбу, взяв на себя полноту исторической ответственности, включая все привилегии, достижения и издержки. Новое время — это франко-английское (или англо-французское) явление. Конечно, оно затронуло и всю остальную Европу и весь мир (через колониальную практику и ее последнюю фазу — современную глобализацию), но везде, кроме Франции и Англии, Модерн имеет в своей структуре как внутренние предпосылки, так и внешние факторы; лишь в истории Франции и Англии мы имеем дело исключительно с внутренними мотивациями и импульсами, тогда как внешние влияния действуют чаще всего лишь как помехи модернизации, сдерживая или тормозя ее. Поэтому Франция и Англия стали в полном смысле родиной современного мира, создали его парадигму, утвердили, отвоевали и навязали всем остальным его принципы, идеи и аксиомы. Это явление мы называем кельто-Модерном и постара
8
Французский Логос
емся описать его в самых общих чертах применительно к историа-лу как Франции, так и Англии.
Перед лицом этих двух полюсов кельтского мира — с сердцем во Франции, а головным мозгом в Англии — третье кельтское пространство, Ирландия (шире, гэльский мир, включающий Шотландию) имела совершенно отличную судьбу. Будучи изначально интегральной частью Великой Кельтиды, сохраняя в себе основные параметры кельтской идентичности, причем в еще более чистом и нетронутом виде, нежели французы и англичане (только Ирландии удалось сохранить кельтский язык как общенациональный, тогда как во Франции он остался лишь в Бретани у бретонского, а в Англии — в Уэллсе у валлийского этнических меньшинств), ирландцы не встали, в отличие от французов и англичан, на путь необратимой и радикальной модернизации, не сделали ее своей собственной судьбой. Эта третья составляющая кельтского мира свернула с пути, на котором утвердились ее братские кельтские общества, твердо держась за свою традицию, сохраняя по возможности архаическую идентичность и корневую культуру. Тем самым Ирландия пошла по особому пути, уклонившись от траектории Нового времени. Но вместе с этим она утратила свое политическое и геополитическое значение и частично оказалась в положении зависимой англосаксонской колонии, вплоть до оккупации части острова Британией с параллельным насильственным насаждением англосаксонской культуры, языка и традиции. Так три кельтские сестры оказались по разные стороны баррикад, возведенных Новым временем: при всех своих принципиальных противоречиях Франция и Англия — по одну, а Ирландия — по другую. Позиция Ирландии (а также значительной части шотландцев, валлийцев, бретонцев) в этой топике может быть определена как келыпо-архаика.
Сделав эти вводные пояснения, мы можем приступать к самому обобщающему и схематичному описанию французского историала и выяснению параметров французского Логоса в первом приближении.
Великая Кельтида
Предками французов были кельтские племена, занимавшие в древности обширные земли Северной и Западной Европы, населявшие в пик своего могущества полностью территорию современной Англии, Ирландии, Франции, весь север Испании и Португалию — и так вплоть до земель современной Австрии и Балкан. Можно сказать, что в определенный период кельты представляли
Ареал максимальной экспансии кельтских народов: 500-е годы до Р. X. — первые века после Р. X.
10
Французский Логос
собой настоящую империю, простирающуюся на всю территорию Западной Европы, пересекая ее с северо-запада на юго-восток и достигая современной Турции. На всех этих огромных пространствах доминировали кельтский язык и кельтская культура.
О происхождении древних кельтов и галлов есть несколько гипотез. По одной версии, предки кельтов пришли в Западную Европу с территории Северного Кавказа и были носителями «культуры курганов» (М. Гимбутас), которой был присущ воинственный патриархальный уклад и скотоводство. Перейдя Днепр, который делил в древности два мира, — туранский и атлантический, то есть скотоводчески-патриархальный и агрокультурно-матриархальный, — предки галлов оказались в зоне распространения доиндо-европейских народов, относившихся к кругу культуры Великой Матери, Богини. Из их синтеза с формальным преобладанием патриархального начала, но с мощной, хотя и подспудной доминантой матриархального строя сложилась собственно кельтская культура, ядром которой стала территория исторической Галлии (современная Франция).
По другой версии, галлы сложились как этнокультурная общность в самой Европе — между Средним Рейном и Средним Дунаем около VII века до Р.Х. и оттуда стали распространяться на другие территории. В VI веке до Р.Х. галлы заселяют все атлантическое побережье Европы — от Британии до Испании, включая Францию. Именно в этот период римляне стали называть эти племена «галлами» (Galli, ед. ч. Gallus). Позднее, в III веке до Р.Х., они заселили Ирландию.
Великая Кельтида в определенный период времени, вероятно, представляла собой не только племенное и этнокультурное единство, но была и политически объединена. Крупные французские кельтологи Гюйонварх и Леру утверждают:
Кельтская империя, несомненно, существовала, но она была не политической, а языковой, религиозной и художественной общностью; не являлась она и историческим образованием, поскольку от событий, сопровождавших ее долгое существование, до нас дошли лишь незначительные обрывки, и в то же время это образование было весьма влиятельным. Мы обладаем достаточными доказательствами ее легендарной реальности: первое из этих доказательств — кельтский царь Амбигат, описанный Титом Ливием, сообщающим об основании в Цизальпинской Галлии Милана (Mediolanum); благодаря этой встрече кельтского мифа с римским истори
Кельтский Логос в Древнем мире
11
ком начинает определяться положение кельтов по отношению к истории1.
Амбигат (галльское Ambigatos) — имя мифического короля галльского племени битургов (от галльского «bitu», «мир» и «пх» — «король»), которые господствовали в V веке до Р.Х. на огромных территориях от Испании до Германии включая Галлию. Согласно Титу Ливию, Амбигат послал своих племянников Белловеза и Сеговеза основать колонии в Геркенианском лесу1 2, где ими был заложен город Медиоланум (современный Милан). Имя «Амбигатус» расшифровывалось как «наделенный мудростью». «Наделенный мудростью» царь, правящий племенем, называвшим себя «царями мира» — это полноценный политический концепт властителя и его ойкумены, объединенной военным, социальным и правовым образом. В любом случае фигура кельтского «императора» Амбигата может служить мифической парадигмой общекельтского сакрального властителя, «короля мира», образ которого намного позднее возродится в бритт-ском короле Артуре.
В IV веке до Р.Х. галлы двинулись на восток и на юг. Вторгшись в Италию под предводительством своего вождя Бреннуса, они взяли и разграбили Рим (390 до Р.Х.), предварительно разгромив этрусков.
Отделившаяся от остальных ветвь галлов вторглась в бассейн Среднего Дуная и поставила под свой контроль значительную часть Центральной Европы (в частности, Богемию, территории современной Сербии, Австрии и т.д.).
В III веке до Р.Х. кельтские племена галатов, по приглашению царя Вифинии Никомеда I для борьбы с селевкидским правителем Антиохом I, дошли до Малой Азии и в восточной Фригии, Каппадокии и Центральной Анатолии основали собственное государство — Галатию, просуществовавшее до IV века по Р.Х. — после 166 до Р.Х. как протекторат, позднее как провинция Рима3. В 279 году до Р.Х. кельты под предводительством вождя Бреннуса опустошили Грецию.
Кульминации своей мощи Кельтида достигла в III веке до Р.Х., когда под контролем кельтов оказались огромные территории, простиравшиеся от Ирландии до Малой Азии и включавшие огромные территории Западной Европы, Иберийского полуострова, Северной
1 Гюйонварх К.-Ж., ЛеруФ. Кельтская цивилизация. СПб.: Культурная инициатива, 2001. С. 13.
2 Огромный лесной массив, занимавший некогда пространство южнее Рейна и всю Северную Италию.
3 Grenier A. Les Gaulois. Р.: Payot, 1923.
12
Французский Логос
Италии, Балкан, Центральной Европы и части Анатолии вплоть до Галатии.
Согласно Юлию Цезарю, кельты состояли из трех этнолингвистических групп (народов): галлов, бельгов и аквитанцев. В каждую из групп входили другие более мелкие племена.
В Древней Галлии выделялись несколько областей, племена которых составляли племенные союзы.
В Нарбонне проживали вольки, алоброги, саллувийцы, кавары и т.д. Эта территория (Gallia bracata) была покорена римлянами с конца II века до Р.Х. и стала первыми землями за пределами собственно латинских территорий, где было применено римское право. Именно с Нарбонны начинается формирование галло-романского синтеза.
В Аквитании жили битурги, лемовики, арвернцы, веллавы, руте-ны, кадурки, габалы, пиктоны и т.д.
В Большой Аквитании (на юго-западе) — васаты, гаты, элусаты, нитиобриги, тарбелы, сатиаты, бигеррионы, ауски и т.д.
В регионе Леона/Лудуна, города бога Луга (Средняя Франция) — эдуи, карнуты, туроны, сегусиавы, сеноны, трикассы, венеты, редоны, диаблинты, велиокассы, осимы, кариосолиты, эбуровисы, унеллы и т.д.
В Бельгии, на северо-востоке — амбарасы, секуаны, лингоны, ремы, тревиры, белловаки, леуки, атребаты, морины.
На границе с немецкими племенами на западе — трибоки и эбу-роны.
Эти территории Северной Галлии (Gallia comata) присоединились к Риму последними.
Кельтологи Гюйонварх и Леру так описывают обобщающую картину расселения кельтов.
Во времена своего апогея кельтский регион включал в себя:
1. Почти весь Пиренейский полуостров за исключением юго-востока, находившегося под властью карфагенян, и северо-запада, где уцелели его древние завоеватели — иберы, лузитаны и предки басков;
2. Галлию, делившуюся на три крупные области:
• Аквитанию, где названия местностей, таких как Бурдига-ла (Бордо), а также пиренейские теонимы невозможно объяснить кельтским влиянием и где роль кельтов была если не решающая, то, по крайней мере, очень важная;
• собственно Кельтику, от Гаронны до теперешнего парижского региона и от Средиземноморья до Ла-Манша;
• Белгику, от Марны до Рейна, гораздо более обширную, чем современная Бельгия: она включала в себя также значительную часть рейнских территорий.
Кельтский Логос в Древнем мире
13
Из всех стран, бывших в древности кельтскими, в Галлии наиболее велика плотность топонимических следов: почти все города Франции, не говоря уже о тысячах менее значительных населенных пунктов, носят названия кельтского происхождения.
3. Обширные территории:
• Южной Германии: Вюртемберг, Баден, Бавария;
• Австрии: Каринтия, Штирия, Верхняя Австрия, Форарльберг.
Совершенно очевидно, что в труднодоступных альпийских районах с их нелегкими средствами сообщения романизация была медленной и поверхностной. В эпоху Великого переселения народов население этих регионов перешло непосредственно с кельтских языков на германские. Этим объясняется относительно высокое число кельтских топонимов с чертами германской фонетики, сохранившихся в Австрии, Швейцарии и Южной Германии.
Возможно также, что кельты, колонизировавшие Германию, те, чье присутствие засвидетельствовано в Польше, Венгрии и Румынии, а быть может, и те, что, перемещаясь вдоль Дуная, вторглись на Балканы и обосновались в Малой Азии, в Анатолии, — возможно, что эти кельты происходили из Центральной Европы. Чем более продвигаются вперед научные исследования, тем более возрастает значение кельтов в археологии Восточной Европы.
4. Британские острова, Великобританию и Ирландию: кельты полностью заняли их в самые отдаленные времена протоистории, занимали вплоть до раннего Средневековья, а отчасти занимают и сейчас. Только в V, VI и VII веках нашей эры англосаксонские завоеватели оттеснили их в гористые местности Шотландии и Уэльса. А Ирландия, несмотря на все превратности судьбы, в итоге сумела избежать политической аннексии и ассимиляции1.
Постепенно могущество галлов начало слабеть, их стали теснить римляне, даки и германцы, существенно сократив к середине I века до Р.Х. границы их владений, а в 59 —51 годах до Р.Х. в ходе знаменитой Галльской войны римский император Гай Юлий Цезарь завоевал всю территорию Галлии, постепенно превратив ее в римскую провинцию (хотя отдельные племена пользовались статусом «федератов», то есть союзников Рима). После эдикта императора Каракаллы в 212 году галльское население империи получило статус граждан. В ходе этого сложилось особое общество, состоящее из романизированных галлов (галло-романский круг). Когда власть
1 ГюйонвархК.-Ж., Леру Ф. Кельтская цивилизация. С. 90 — 92.
14
Французский Логос
Рима была крепкой, галлы были вынуждены терпеть его господство, но при любой удобной возможности отдельные племена (в частности, эдуи, тревиры, лингоны и т.д.) восставали под предводительством своих вождей (Виндекс, Марикка и т.д.). Самым удачным было восстание 258 года, когда галлы взбунтовались практически на всех территориях своего расселения и создали независимое галльское государство со столицей в Кёльне и Трире, включавшее в себя земли Галлии, Британии и Испании. Оно просуществовало недолго, всего 15 лет, после чего его король Тетрик был вынужден снова признать над собой власть Рима.
Кельтский Логос в Древнем мире
15
В первые века по Р.Х. кельты остаются важнейшей социокультурной стратой западно-римского мира, наряду с германцами составляя основное ядро населения Европы.
Культурное самосознание галлов, как политической и исторической общности, начиная с VII века, строится на легенде об Энее и его спутниках троянцах, прибывших в Западную Европу из разоренной греками Трои и заложивших основы кельтского народа. При этом многие роды галльской аристократии возводили свои генеалогии именно к спутникам Энея. Галльская версия в данном случае дублирует латинскую историю возникновения Рима, представляя оба народа — латинян и кельтов — братскими и имеющими общие корни. Так галло-романский культурный круг получал еще и ретроспективное мифологическое обоснование. Показательно, что миф об Энее и Трое стал устойчивой идеологией именно французской аристократии — клира и ноблей, сохраняя свое влияние с VII века по вторую половину XVI века. Троянское происхождение обосновало для элиты легитимность их правления над массами. Демократические же тенденции, ставшие все более явственными с Возрождения, напротив, обращались к автохтонно-галльскому прошлому — к идеалам друидов и военной демократии древних кельтов, боровшихся за свои устои против Рима и его жестких вертикальных политических иерархий. Троянский миф, со своей стороны, напротив, легитимизировал романскую составляющую1.
Позднее главным героем французских сторонников исключительно галльской идентичности стал вождь арвернов Версингето-рикс (ок. 80 — 46 до Р.Х.), сплотивший вокруг себя кельтских вождей, чтобы оказать сопротивление Юлию Цезарю. Он был побежден, пленен и казнен в Риме, но стал для французов таким же символом духа свободы и независимости, как Жанна д'Арк.
Галльские боги и режимы воображения
Галльская и, шире, кельтская культура относилась к семейству индоевропейских культур, и, следовательно, к ней полностью применима трехфункциональная модель Дюмезиля1 2.
Действительно, мы встречаем в кельтских обществах три главные касты:
1 Dubois Claude-Gilbert. Celtes et Gaulois au XVIe sidcle: Le ddveloppement littdraire d'un mythe nationaliste (de Pdtrarque a Descartes). P.: Vrin, 1972.
2 Dumezil G. Les Dieux indo-europeens. P.: Presses Universitaires de France, 1952; Idem. Le Troisieme Souverain — Essai sur le dieu indo-iranien Aryaman et sur la formation de 1'histoire mythique de 1'Irlande. Paris: G.P. Maisonneuve, 1949.
16
Французский Логос
• жрецы-друиды;
• профессиональные воины (предводители которых считались королями) и
• крестьяне1.
Им, по Дюмезилю, соответствуют три главных кельтских бога — Теутатес, Таранис и Эсус. Теутатес рассматривался как высший бог, бог неба. Его имя в кельтской этимологии происходит от t'e'uta или tota, что означает «народ», «племя». Отсюда его интерпретация как «бога народа», «бога галлов». Таранис считался богом молнии, войны, света и огня, а также покровителем воинов. Ему соответствует также другой кельтский бог войны — Огмиос. Эсус покровительствовал землепашцам, ремесленникам и (позднее) торговцам.
Кроме того, древние галлы почитали и других божеств:
• бога света Луга (имя которого многократно повторяется в топонимии — в частности, древнейший город Лудун или Лугдунум, современный Лион, был назван, видимо, в его честь);
• бога агрокультуры Сукеллоса, символами которого были молот — отсюда его связь со смертью и воскрешением — и бочонок (как символ богатства и достатка);
• подземного бога Цернунноса, изображавшегося с головой оленя и покровительствовавшего мертвым и домашнему скоту;
• главную богиню, покровительницу очага и огня Белесаму;
• бога могущества Мапоноса;
• богиню-лошадь Эпону;
• богиню-корову Дамону, олицетворяющую собой Мать-прародительницу ряда второстепенных божеств — Борво, Альбиуса, Мо-ритасгуса и т.д.;
• а также местночтимых богов — Беленоса, Граннуса, Огмиоса (бога войны) и т.д.
Более мелкие божества, возможно, доиндоевропейского происхождения, были связаны с локальными святынями — реками, лесами и т.д. Таковы богини леса Абноба и Ардуина (давшая название Арденскому лесу); божества источников — Дунисия, Нискаэ, Илик-со, Луговиус, Иваос, Немаусос, Моритасгус, Араусио, Васио; безымянные божества деревьев (бог-дуб, бог-яблоня и т.д.).
Формально в лице кельтов мы имеем дело с патриархальным воинственным обществом, построенным на принципе вертикальной
1 Guyonvarc'h Christian-J. Le Roux Fran^oise. La Civilisation celtique. Rennes: Ouest-France Universitd, 1990.
Кельтский Логос в Древнем мире
17
иерархии и доминации «режима диурна»1. Более того, в некоторых кельтских мифах, в частности в ирландском эпосе, кельты (представленные в виде «племен богини Дану») описываются как носители исключительно двух высших функций индоевропейского трехфункционального общества (к которому добавляются кузнецы — бог Го-ибниу), а божества аграрного цикла относятся к предшествующим этнокультурным пластам и соответствующим им мифологическим родам — таким, как Фоморы. В силу этих фактов, подчеркиваемых Ж. Дюмезилем1 2, можно было бы сделать вывод о сугубо патриархальной структуре кельтской культуры.
Однако есть целый ряд символических деталей, которые дают несколько иной взгляд на кельтскую цивилизацию, о которой сегодня осталось не так много исторических свидетельств.
Если мы обратимся к реконструкциям Лео Фробениуса3, то заметим, что распространение кельтской культуры в Европе и даже в Малой Азии строго соответствует модели мужское солнце/жен-ская луна, что Фробениус трактует как свойство пространственной и матриархальной (хтонической) цивилизации с доминацией числа 4. Показательно, что Фробениус именно по Рейну проводил границу между культурой числа 3 (германцы) и культурой числа 4 (кельты), указывая при этом на маятникообразное перемещение центра хтонической (талассо-океанической) цивилизации от Европы до Малой Азии и обратно.
В этом смысле зона распространения кельтизма вписывается, скорее, в «режим ноктюрна» и должна быть отнесена к женскому Логосу. Название сакральных евнухов культа фригийской Кибелы, «галлы», греческое y^AAoi, латинское galli, что было интерпретировано в духе латинской этимологии как «петухи» (откуда странные пассажи Лукиана Самосатского о священном петухе, связанном с культом сирийской богини4), созвучно самоназванию тех кель
1 Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический проект, 2015.
2 Dumezil G. Mythe et epopee. I, II, III. P.: Gallimard, 1995. P. 317.
3 Frobenius L. Von Kulturreich des Festlandes. Berlin: Wegweiserverlag, 1923. Подробнее см.: Дугин А. Г. Ноомахия. Логос Европы. M.: Академический проект, 2014 и том «Большой Ноомахии»; Он же. Морфология цивилизаций. М.: Академический проект, 2015.
4 «Все участники шествия несут сосуды с водою, запечатанные воском. Сами они их не открывают, а делает это священный петух, живущий у озера. Он принимает сосуды, осматривает печати и, взимая плату, развязывает веревки и снимает восковую печать. Петуху за эту работу достается много денег», — рассказывает Лукиан Самосатский в тексте «О сириискои богине». См.: Лукиан Самосатский. Соч.: В 2 т. СПб., 2001.
18
Французский Логос
тов, которые основали как раз во Фригии, откуда берет свое начало в Средиземноморье культ Кибелы, царство Галатию. Скорее всего, женский Логос имеет докельтские корни и вошел в кельтскую культуру под воздействием автохтонных доиндоевропейских традиций, сопряженных с могущественным женским началом, не просто связанным с третьей функцией крестьянства, но гипостазированным в особую фундаментальную категорию и выраженным в веренице двусмысленных и могущественных женских персонажей, — богинь, фей, волшебниц, королев и т.д., — захвативших кельтское сознание как фундаментальный гештальт, как Фасцинатор (Fascinator) или, точнее, Fascinatrix (по Л. Фробениусу, в его типологии фаз культур — фасцинация/одержимость, выражение, применение1). Тем самым мы имеем дело с явлением «хрупкого патриархата», аналог которого мы встретим в малайском культурном круге и других зонах Океании2, что, впрочем, прекрасно вписывается в общую карту Фробениуса, иллюстрирующую глобальную дистрибуцию пола солнца и луны в языках народов мира3.
С другой стороны, в реконструкциях О. Шпенглера4 ареал кельтской цивилизации совпадает с зоной мегалитических памятников и относится к протоцивилизации Атлантис. Вся структура кельтской мифологии, которая помещает священные острова блаженных и мир мертвых на географическом Западе, ориентирована именно на Атлантику, а также на потусторонний мир и культ мертвых, что, по Шпенглеру, является типичными чертами именно этой атлантической культуры, которую Шпенглер противопоставлял героической культуре Турана (равно как и фаталистской астрологической культуре Куша)5.
Ареал кельтского культурного крута полностью сочетается и с реконструкциями Германа Вирта о североатлантическом сакральном центре древнейшего матриархата6. Древние ирландские мифы о «племенах богини Дану» истолковываются Виртом как обоснование своей гипотезы о Mo-Уру, священном центре матриархальной цивилизации. В этом смысле истоки кельтской традиции должны были быть связаны с праиндоевропейскими культурами «народов моря». Но это может относиться только к пракельтскому
1 Frobenius L. Paideuma: Umrisse einer Kultur- and Seelenleher. Munchen: С. H. Beck, 1921. А также: Дугин А.Г. Ноомахия. Логос Европы; Он же. Морфология цивилизаций.
2 Дугин А.Г. Ноомахия. По ту сторону Запада-П. М.: Академический проект, 2014. 3 Дугин А.Г. Ноомахия. Логос Европы.
4 Conte D. Catene di civilta: Studi su Spengler. Napoli: Ed. Scientifiche Italiane, 1994. 5 Дугин А.Г. Ноомахия. Логос Европы; Он же. Морфология цивилизаций.
6 Wirth Н. Der Aufgang der Menschheit. Forschungen zur Geschichte der Religion, Symbolik und Schrift der atlantisch-nordischen Rasse. Jena: Diederichs, 1928.
Кельтский Логос в Древнем мире
19
пласту, так как сами кельты были индоевропейцами, а следовательно, подверглись воздействию туранского патриархата (Г. Вирт считал собственно индоевропейский патриархальный культурный код «азиатским»)1.
Кельты и германцы: два фокуса Европы
Сопоставление кельтской мифологии с германской на основании системы Жильбера Дюрана, осуществленное современным французским антропологом Паскалем Аше в его диссертации «Антропологические структуры имажинэра у кельтов и германцев»1 2, убедительно показывает, что в кельтской мифологии преобладают мотивы ноктюрна — драматического и мистического, тогда как в германских мифах однозначно доминирует солнечный диурн.
Различие индоевропейского диурнического патриархального типа культуры и более женственной и ноктюрнической культуры хтонического типа, возможно, определяет специфику двух полюсов внутри европейского Логоса: галльского и германского. В чистом виде, однако, жестко фиксировать их невозможно, поскольку обе культуры постоянно обменивались конститутивными элементами. Кроме того, галльский полюс, будучи индоевропейским, также нес в себе патриархальное начало, а некоторые германские племена (в первую очередь, фризы), по Вирту, сохранили генетические связи с древнейшими доиндоевропейскими культами круга Mo-Уру и, соответственно, с «нордическим матриархатом»3.
С другой стороны, огромное влияние на Францию и французскую идентичность оказали романские завоевания, в ходе которых сменился преобладающий язык (кельтский язык сохранился только на периферии Франции в Бретани) и в значительной мере интеллектуальная культура, вобравшая в себя основные моменты романского мышления. Это постепенно привело к келыпско-романскому синтезу, характерному для культуры Франции, а также — через покорение Англии норманнами под началом Вильгельма Завоевателя — отчасти и для кельто-германского населения Британии. Лишь Ирландия полнее остальных сохранила свои архаические традиции в изначальном чисто кельтском виде, хотя анклавы кель-
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Логос Европы; Он же. Морфология цивилизаций.
2 Hachet Pascale. Les structures anthropologiques de I'imaginaire chez les Celtes et les Germains, http://www.4pt.su/fr/content/les-structures-anthropologiques-de-limaginaire-chez-les-celtes-et-les-germains (дата обращения 01.07.2015).
3 См.: Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
20
Французский Логос
тоархаики сохранились и в Бретани, и в Уэльсе, и отчасти в Шотландии.
В контексте средиземноморской культуры кельты сохраняли существенную автономию и дистанцию, и более глубокая интеграция в эту культуру произошла только после серии галльских войн, в ходе которых древние кельтские земли были включены в зону влияния Рима, а друидическая религия и многие другие аспекты изначальной кельтской традиции были заменены римско-языческими, а позднее — христианскими формами. Так, Франция оказалась в составе романского сегмента европейской цивилизации, представляя собой второй полюс наряду с германским.
Большое влияние на структуру французского общества оказали и германские племена, подчинившие с III столетия до этого романизированных галлов. В V веке в Западной Европе возникло государство франков — вначале под династией Меровингов, затем Каролингов. В нем политической элитой были германцы, основой официальной культуры — латынь и христианство, а этническим субстратом — кельтские и германские этносы. Западная часть государства франков, расположенная на территории Древней Галлии, стала прообразом исторической Франции.
Отношение между германским и кельтским началами, которые обозначали два пространства Западной и Центральной Европы — кельтское (галло-романское) и германское, — не является одномерным: оба народа относятся к индоевропейской языковой семье (с патриархальной доминантой), но оба исторически распространились на территории Европы поверх более архаичного этнокультурного пласта, который большинство историков (в частности, Й. Бахофен, М. Гимбутас, Р. Грейвс и т.д.) относят к типу матриархальных культур («Старая Европа»). Различие между ноктюрном кельтов и диур-ном германцев является, таким образом, не абсолютным, но относительным и определяет лишь пропорции сочетания обоих элементов: в германском Логосе преобладает (но не является исключительной) патриархальность, а в галльском — матриархальность. Однако это проявляется именно при столкновении этих культур между собой, тогда как в отношении иных культурных кругов этот контраст не столь нагляден и очевиден.
Галло-германский дуализм, таким образом, следует рассматривать в контексте:
• праиндоевропейской матриархальной европейской традиции (более акцентированной у кельтов и менее у германцев);
• общего индоевропейского трехфункционального патриархата;
Кельтский Логос в Древнем мире
21
• романского (римского и позднее папского) влияния, у галлов достигшего уровня проникновения в язык, а у германцев нет.
Диодор Сицилийский о древних кельтах
Одно из самых первых описаний Кельтиды мы встречаем у древнегреческого писателя Диодора Сицилийского (ок. 90-х—30-е до Р.Х.) в V книге его монументального труда «Историческая библиотека»1.
Происхождение галлов, как и многих других народов (в частности, скифов), Диодор ведет от Геракла:
В древности в Кельтике царствовал, как говорят, выдающийся муж, у которого была дочь сверхъестественного роста, значительно превосходившая всех красотой. Возгордившись из-за своей телесной силы и восхитительной красоты, девушка отказывала всем, кто сватался к ней, полагая, что никто из [женихов] не достоин ее. Но когда во время похода против Гериона Геракл прибыл в Кельтику и основал там город Алезию, она увидела Геракла, пришла в восторг от его доблести и телесной силы и с величайшей охотой сочеталась с ним, на что согласились и ее родители. От связи с Гераклом она родила сына Галата, который значительно превосходил своих соплеменников и душевной доблестью, и телесной силой. Возмужав и унаследовав принадлежавшую его предкам власть, Галат овладел многими сопредельными землями и совершил великие военные подвиги. Прославившись своей доблестью, он назвал подданных от своего имени галлами, а от них и вся страна стала называться Галлией2.
тр<; КеЛт1КТ]<; toIwv тд naAai6v, &<; cpaoiv, ^SvvAotevoev £itupavf|<; dvpp, w Ovydrpp £y£v£TO тф ЦЕуё0£1 топ оФрато<; vnspcpvifc, Tfj 5' EiinpEndq noAv SiE/ouoa t&v dAAcov. айтр 5id те xf|v той асоратос; ^wppv ка1 Tf]v Oavpa^op^vpv Ei5np£nEiav TTE<ppovppa-Tiap^vp navr6<; той pvparEvovroc; t6v ytn.-pov dnppvEiTO, vopl^ovoa pp6£va tovtcov d^iov fcavTffc elven, катй 5£ t?|v 'НракЛёоис; £nl rppvdvpv orpaTEiav, катспгп'щаутос; еф tt)v КеАтис^ oojtov Kai ndAiv AApotav tv таитр KTlaavToc;, 0saoap£vp t6v 'НракАёа ка1 Oavpdoaoa t^v те dpErfiv айтой ка1 Tf]v той оФрато^ unspoxpv, ттроаеб^ато Tf|v £mnAoKpv psrd ттйарс; npo0vpla<;, аиуката-vevoAvtcov ка1 r&v yov^oiv. ptyEiaa 61 тф 'НракАеТ 6y£wpoEv vldv dvdpari ГаЛатру, noAv npo^xovra r&v 6poE0v<ov dperp те ipv-ХП*» кой ^Фрр оФратоф <5tv6pco0El<; Tf|v f|AiKlav Kai SiaSs^apEvoc; t?|v narpwav 0a-oiAsiav, noAAi’jv pfcv ттф прооорфоистрс; х<Ь-pa<; катектраато, psydAa^ 6i npd^Eit; поАе-piKccc; ovvet^Aeoe. пЕр106рто<; 6t ysvopEvoc; £n' avSpslcj tovc; v<p' avrdv TETOtyp^vovc; (bv6paoEV йф' ёаутой ГаАйтаф 6ф' wv f] ov-pnaoa ГаАат(а npoopyop£V0p.
1 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. IV—VII. Греческая мифо-
логия. СПб.: Алетейя, 2005.
2 Там же. Кн. V. С. 96.
22
французский Логос
Здесь следует обратить внимание на сверхъестественный рост (тф цгу£0Е1 тои осоцато^ vTcepcpuifc) невесты Геракла, прародительницы кельтов. Наличие сверхъестественных качеств подчеркивается и у прародительницы скифов, также сочетавшейся с Гераклом, представленной в виде женщины-змеи, живущей в реке. Змеевидные женские персонажи встречаются и в кельтском фольклоре (например, женщина-дракон Мелюзина, основательница рода Лузинья-нов).
О силе и росте кельтских женщин Диодор упоминает и еще в одном пассаже:
Женщины у галлов не только почти al 6ё yuvaiK£<; tcov ГаЛатшу ой p6vov той; равны мужчинам ростом, но и могут со- цЕуёОгш napanArjoioi тоТ<; tkvSpaoiv elalv, перничать с ними в силе1. аЛЛа ка1 тай; бЛкай; ^vdpiAAou
Диодор обращает внимание на то, что кельты весьма склонны к употреблению опьяняющих напитков, которые, однако, изготовляются не из винограда, а из ячменя и меда.
Из-за нарушенного смешения воздуха, вызванного чрезмерным холодом, здесь не изготовляют ни вина, ни масла. Поэтому те галлы, которые лишены этих плодов, изготовляют из ячменя напиток называемый «пиво», а также пьют жидкость, которая образуется после промывания медовых сот1 2.
5 id 6ё t?)v йпЕрРоЛ^у гои фйх°и<> 5ia<p0£i-роцёуг)<; тт|<; ката t6v Лёра крйогоос; out' olvov out' SAaiov фёрге 6i6nep tcov ГаЛа-TCOV Ol TOVTOOV TCOV KapnWV OTEplOKOpEVOl пбца KaTaoKEud^ouaiv ёк Tffc Kpi0rj<; тб npoaayopEvdpEvov ^u0o<;, ка1 та Kqp(a ттЛй-vovtec; тф tovtcov алопАйцатк xpwvrai.
Приготовление опьяняющих напитков из зерновых культур и меда является признаком древних цивилизаций Великой Матери и связано с матриархальными культами3.
Надстройкой над матриархальной культурой выступают высшие касты кельтского общества — жрецы-друиды и воины, которых Диодор называет «философами» и «теологами».
1 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. IV—VII. Греческая мифология. Кн. V. С. 100.
2 Там же. С. 97.
3 Кереньи К. Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни. М.: Ладомир, 2007.
Кельтский Логос в Древнем мире
23
Есть также [у галлов] и некие весьма почитаемые мудрецы и теологи, которых называют друидами. Пользуются галлы и услугами прорицателей, которые у них в большой чести. [Прорицатели] эти вещают будущее по полету птиц или по внутренностям жертвенных животных, и весь народ им послушен1.
<piA6oo<po( тё tiv£? slot ка1 0EoA6yoi irepix-тсб? xipcbpEvoi, ой? 6 рои (бас; ovopd^ovoi. xpiovrai бё ка1 pdvxEoiv, йпобохц? ЦЕубЛт)? d^touvrs? аитои?- o5toi бё б id те тт]? okovo-сткоп(а? ка1 5id Tfj? xwv Ispslcov Quota? rd p&Aovxa тгроЛ^уоиш, ка1 irav тб irAfjSo? ^Xouoiv inn'jKoov.
В военном деле галлы, по Диодору, демонстрируют все основные признаки туранских индоевропейских воинов — в первую очередь, использование боевых колесниц, что социологически указывает на наличие касты профессиональных воинов, выступающих как организаторы более крупных отрядов, включающих ополчение.
В путешествиях и сражениях галлы пользуются двуконными повозками, а на колесницах находятся возничий и боец. Приблизившись ко [вражеским] всадникам, они поражают противника копьями, а затем, сойдя с колесницы, продолжают сражаться мечами. Некоторые из них презирают смерть настолько, что устремляются навстречу опасностям обнаженными, в одном только поясе. На войну они ведут с собой и свободных слуг, которых набирают из бедняков и используют в сражениях как возничих или оруженосцев. Выстроившись к бою, галлы имеют обыкновение выходить перед строем и вызывать храбрейших из противников на поединок, потрясая оружием и устрашая врагов2.
tv St таТ? 66omop(ai? ка1 тай; pdxai? хра>-vrai ouvooplaiv, ^xovxo? той йрцато? f|v(o-Xov ка1 napapdTqv. dnavraivTE? бё той; i<prrntEvovffiv tv xoT? iroAipoi? aauvid^ouai той? £vavx(ou?, ка1 Kaxapdvxs? tts|v dnd той Цсрои? ouvloxavTat pdxr|v. fvioi 6' adxfiv ётг! tooouto той Oavdxov KaxacppovoOotv, coots уищюй? ка1 TtspiE^coop^vou? катара(-vsiv st? t6v k(v6uvov. ^irdyovrat 6ё ка10£pd-novxa? ёЛЕиОёрои? ёк r&v hevi'itcov катаЛё-yovxE?, ol? V]vi6xoi? ка1 napaoitiaxdi? хрЛ-vxai катй xd? pdxa?. Kaxd 6£ та? Kapaxd^si? El(b0aai npodyEiv xfj? napaxd^soo? ка1 npo-KaXsToOai xfiv dvxiTExayp^vtoV той? dpl-oxov? eI? povopaxlav, npoavaaslovrs? xd бтгЛа ка1 катапЛг)ттбцЕУО1 той? £vavx(ou?.
Показательно отношение галлов к головам своих жертв, считающимся вместилищем силы. Сюжет магической головы встречается в
1 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. IV—VII. Греческая мифо-
логия. Кн. V. С. 100.
2 Там же. С. 98.
24
Французский Логос
различных кельтских мифах, в частности, в истории о голове Брана1, и у германцев в сюжете о голове Мимира.
Убитым врагам они отрубают головы и вешают их на шеи своих коней, а окровавленные доспехи врагов передают слугам и увозят военную добычу, распевая боевые песни и победный гимн. Лучшую часть добычи они прибивают к стене своего дома, как бывает поступают с добычей охотники. Головы наиболее выдающихся из врагов они бальзамируют кедровым маслом и бережно хранят в ларцах (...)1 2.
т&у бё KEodvrwv поХец(шу тб<; К£<раЛ&<; cupaipovvTEc; itEpidmrovoi тоТ<; avx^oi x&v Kirntov- бё сткиЛа той; 0£pdnovai парабб-vtec; f]pay|i£va AacpupaycoyouCTiv, 6nnraiav(-^ovte<; Kai $6ovt£<; vpvov £ttiv(kiov, ка1 тб <5cKpo0(via тайта тай; oiKiaic; Trpoar]Xovoiv woTTEp ol 6v Kuvqylou; tioI KE/Eipcop^voi тб 0r|pla. t<ov 6' 6ni(pav£CTrdT&)v noXfiplcov ke-6pcbaavT£<; тб<; кЕ<раЛа<; 6п1цеА<о<; Trjpouoiv 6v AdpvaKi (...).
Приводимые Диодором данные в целом дают представление о кельтском обществе как о типично индоевропейской культуре с сильно развитым женским началом.
Более того, Гюйонварх и Леру отмечают, что в целом женщины в кельтском обществе, в отличие от большинства индоевропейских народов, были практически равноправными с мужчинами:
Отнюдь не будучи сокрыта в гинекее и не являясь прислугой, как в некоторых полигамных обществах, ирландская, бретонская или галльская женщина имела четко определенный статус, который был равен статусу мужчины: она могла завещать, наследовать, пользоваться своим имуществом и прислугой, иметь профессию. Она даже имела доступ к священству, обладая даром предвидения. С другой стороны и как следствие этих свобод, в Ирландии до VII века женщина-землевладелица была военнообязанной3.
Мабиногион: покорение женского
Подобно тому, как древнегерманские сказания были запечатлены в эпоху Средневековья в «Эдде», древние кельтские легенды и мифы в их валлийской версии стали основой произведения «Ма-
1 Мабиногион. М.: Арт-Флекс, 2000.
2 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. IV—VII. Греческая мифология. Кн. V. С. 98-99.
3 Гюйонварх К.-Ж., Леру Ф. Кельтская цивилизация. С. 113.
Кельтский Логос в Древнем мире
25
биногион» или «Четыре ветви Мабиноги»1, записанного в Среднем Уэльсе в XIV веке, и составленного, видимо, в XI —XII веках на основе архаической устной традиции. Важно, что «Мабиногион» относится к валлийскому культурному кругу, уходит корнями в мифы древних бриттов, которые, как и галлы, представляли собой ветвь п-келыпов (в отличие от ирландцев-гэлов, к-кельтов). Как и германская поэма «Муспилли», «Мабиногион» формально представляет собой христианское произведение, но его архаический древнекельтский субстрат не вызывает сомнений. «Мабиногион» состоит из четырех частей: «Пуйл, принц Дифеда», «Бранвен, дочь Ллира», «Манавидан, сын Ллира» и «Мат, сын Матонви». Сюжеты «Мабино-гиона» практически совпадают в двух редакциях — в «Белой книге Риддерка» и «Красной книге Хергеста».
В первой части (ветви) «Мабиногиона», где речь идет о властителе Дифеда1 2 Пуйле, представлен архетипический сюжет о магическом основании сакральной монархии, связанной, в представлении кельтов, с потусторонним миром (Аннуин) и женским началом. Именно женщина является залогом и основой сакральной королевской власти.
Главный герой принц Дифеда Пуйл (Pwyll) после сложной операции обмена идентичностями с владыкой подземного мира Анну-ина (Annwyn) Арауном (Arawn)3 подкрепляет свое королевское достоинство магическим браком с принцессой Рианноной, дочерью короля Эйведда Старого. Имя «Рианнона» (Rhiannon) происходит от кельтского имени Ригантона, то есть «Великая Королева», и многие историки убеждены, что речь идет о средневековом образе древней кельтской богини Бригиты или Бригантин (от кельтского «brigantija» или «brigantis», что означало «возвышенная», «великая»), покровительницы поэзии, целительства и кузнецов. В этой «ветви» она демонстрирует ряд характерных черт Великой Матери. Согласно М. Гимбутас, прообразом Рианноны-Бригиты является единое
1 Мабиногион.
2 Древнее королевство Дифед (Dufed или Dyuet) находилось на юго-западе Уэльса, на территории современного графства Пемброкшир в Англии. Оно известно с римского периода как область племен кельтов-диметов.
3 Пуйл встречает Арауна на охоте, где фигурируют «магические псы» подземной страны, белые с красными ушами, свора Аннуина (Own Annwyn), часто встречающаяся в валлийском и ирландском фольклоре как «дикая охота», сопровождающая злых духов. Пуйл соглашается поменяться с царем преисподней, описанным, однако, в положительных тонах, как мудрый и справедливый владыка, обличием, чтобы править в течение года его царством. Сам подземный князь в это время правит Дифедом. Таким образом, основой земной монархии является царство потустороннего. Земное царство растет из подземного града, являясь его эпихтоническим продолжением.
26
Французский Логос
доиндоевропейское женское божество коренной матриархальной культуры. Отзвуком древних матриархальных традиций может служить сюжет о том, что сына Рианноны и Пуйла похитил волшебный гриф, но шесть сиделок обвинили в том саму Рианнону, якобы убившую младенца. За это она должна была понести наказание, сидя у стойла и предлагая всякому отнести его во дворец на своей спине (тождество богини и лошади мы видим в образе галльской богини Эпоны). Убийство собственных детей было типичной чертой культов Великой Матери, отголоском чего и является мотив «покаяния».
Эта же тема могущества женского начала повторяется и в четвертой ветви «Мабиногиона» — «Мат сын Матонви». Мат представлен как сакральный владыка Острова Сильных, Страны Севера, то есть кельтской Британии. Мат выступает как брат Доны, которая тождественна ирландской «богине Дану», прародительнице богов, воплощающих в себе предпоследнее поколение завоевателей Ирландии и победивших в битве при Маг-Туреде Фоморов. В описании Мата характерна следующая деталь: чтобы оставаться в живых, ему необходимо держать ноги на коленях девственницы, в противном случае он умрет. Это заклятие снимается лишь тогда, когда он отправляется на битву, т. е. здесь он меняет исполнение первой функции, сакрально королевской, на вторую, чисто воинскую. Роль девственницы-хранительницы в этой ветви «Мабиногиона» выполняет дева Гоэвин. Ж. Дюмезиль1 связывает этот сюжет с целой вереницей аналогичных моделей от индийской истории про царя Яйятии и его дочь Мадхави, помогающей ему восстановить и укрепить пошатнувшееся царство, до рассказа Вергилия о превращении Опис2 (римской Кибелой) кораблей Энея3 в нимф, приветствующих его сакральной формулой: Vigilasne, deum gens Aenea? Vigila! («Бдишь ли ты, Эней, человек Божий или нет? Так, бди же!»), что является прямым аналогом классического для Рима приветствия царя девственными весталками — «Vigilasne rex? Vigila!» Женское божество в этих сюжетах считается основой сакральной монархии, на которой она покоится. Отсюда необычный образ Мата, вынужденного держать ноги на коленях девственницы. Царство олимпийских бо-
' Dumezil G. Mythe et epopee. I, II, III. P. 1021 — 1045.
2 Показательно, что богиня Опис (отождествлявшаяся с греческой Реей и мало-азийской Кибелой) была божеством сабинян, автохтонного населения аграрного типа, населявшего Лацию до прихода Энея и троянцев. Именно у сабинян Ромул и его люди похитили жен. Культ Опис (Кибелы) был установлен, по преданию, Титом Тати-ем, царем сабинян.
3 Эти корабли были сделаны из деревьев священной рощи Кибелы. Связь деревьев, Кибелы и материи — устойчивая семантическая цепочка. Само латинское слово materia означает «корабельный лес», равно как и греческое иЛц, «древесина».
Кельтский Логос в Древнем мире
27
гов основано на покорении титанов. Оно стоит на титанах, закованных олимпийским могуществом. Но если эту иерархию упразднить, титаны выйдут из-под контроля, и олимпийский порядок рухнет. Девственность, как подчеркивает Дюмезиль, означает не добродетель (совместимую с законным браком), не стерильность, но, напротив, — безграничную и цельную полноту творческих возможностей. Король должен постоянно быть бдительным — ведь матриархальные могущества в любой момент могут восстать и сбросить его власть. Об этом и напоминают римскому царю весталки, а Энею — корабли, превращенные в нимф.
В Ирландии аналогичные сюжеты представлены в истории о Медб и ее сестре Клотру, дочерях Эохайда, также спасающих монархию.
После того, как племянник Мата Гильваэтви (воплощающий вторую воинскую функцию) с помощью его брата друида и трикстера Гвидиона хитростью лишает Гоэвин девственности, Мат должен, спасая жизнь, найти ей замену. Так, в повести появляется еще одна дева Арианрод (дословно, «Серебряное Колесо»).
В образе Арианрод запечатлена древняя кельтская богиня. Прохождение ею магического испытания (под согнутым скипетром Мата) приводит к рождению близнецов. Первый из них становится обитателем моря (Дилан сын Волны), человеком-рыбой, а второй подвергается с ее стороны трем матриархальным табу — запретом иметь имя, носить оружие и жениться. Этот сюжет снова обращает нас к фигуре Кибелы и ее ритуальной кастрации сына-«любовника» (Алев Ллав Гюффес — эквивалент бога Луга). В «Мабиногионе» мужские герои — король Мат и друид Гвидион — хитростью заставляют магическую «девственницу-мать» Арианрод, дочь прародительницы Дон (богини Дану у кельтов), самой же отменить свои проклятия, расколдовав тем самым мужское начало Алев Ллав Гюффеса. Они вынуждают Арианрод дать сыну имя, опоясать оружием и создают из цветов самую прекрасную женщину на земле Блодеуведд, так как мать запрещает ему иметь жену человеческого рода.
Во второй ветви «Мабиногиона» «Бранвен дочьЛлира» (Branwen ferch Llyr) речь идет о мифической войне британских кельтов с Острова Сильных (Ynys у Kedym) с ирландцами (гэлами).
Все начинается с помолвки британской принцессы Бранвен, дочери короля Ллира1, с ирландским принцем Матолхом. Далее, как это часто бывает в кельтских легендах, следует серия аморальных
1 Король Ллир считается основателем династии британских королей кельтского периода. Его отождествляют с ирландским богом моря — Аиром. Пьеса Шекспира «Король Лир» — отголосок этих древнебританских легенд. В описания Ллира часто
28
Французский Логос
поступков (обезображивание коней Матолха Эвниссиэном, братом Бранвен в отместку за то, что при решении о браке не была учтена его воля), что в результате приводит к унижению Бранвен ирландцами. За этим следует поход ее братьев в Ирландию с целью отомстить обидчикам. В битве, полной магических чудес, оживления мертвых воинов с помощью волшебного котла и других сверхъестественных операций, гибнут все ирландцы и почти все британцы за исключением семи.
Одним из главных героев этой части «Мабиногиона» является гигант Бран Благословенный (Bendigeidfran), также сын Ллира и брат Бранвен, чье имя на кельтском означает «ворон», возглавляющий армию бриттов. Смертельно раненный отравленным копьем Бран завещает отрубить себе голову, которая и после этого продолжает разговаривать, и похоронить ее на месте «Белого Холма» в Лондоне, лицом к Франции, чтобы служить защитой острова от нашествия иноплеменников (там сейчас стоит Тауэр).
В этой версии кельтского мифа, имеющего древние корни, мы видим главную линию: борьбу мужского начала, укрощающего начало женское, которое оказывается чрезвычайно сильным и представляет собой фундаментальную инстанцию, во многом предопределяющую структуру судьбы героев, народов и королевств кельтской цивилизации. Женщина — это великая проблема кельтов1. В контексте патриархальной культуры она формально помещена в жесткие аполлонические рамки патриархата, но ее сила, мощь и жизненность в кельтской культуре таковы, что она постоянно грозит выйти из подчинения, сбросить установленные правила, раскрыть ворота потустороннего магического мира, растворяя структуры порядка и выпуская на волю томящуюся под спудом активную древнюю ночь. Женщина не становится главной темой кельтского мифа. Она присутствует в нем часто распыленно, будучи косвенно ответственной за целый ряд состояний, действий, мотиваций, волнений, напрямую с гендером не связанным. Кельты стоят одной ногой в потустороннем мире, который описывается преимущественно в стилистике ноктюрна. Кельтское потустороннее никогда не небо, но либо земля, либо море (остров), либо подземный мир.
Культ, дух, обряд или ритуал, и даже война и ремесло, оказываются вплетенными в тонкую работу богинь, фей, женских духов
преобладает момент «слабости», что отражено как в трагедии Шекспира, так и в сюжете о Короле-Рыбаке из цикла легенд о Святом Граале.
1 Возможно, это лежит в основании идеи Дени де Ружмона относительно того, что культура средневековой Европы основана на проблематизации и тематизации Любви. Rougemont Denis de. L'amour et 1'Occident. Paris: Pion, 1939.
Кельтский Логос в Древнем мире
29
и потусторонних дев, несущих соблазн, опьянение и смерть, но дающих вместе с тем силы, могущество и мудрость.
В «Мабиногионе» в сравнении с германским «Прорицанием Вёльвы» или «Муспелли» при некотором сходстве фатальных битв и насыщенного воинского этоса отсутствует ясная оппозиция боги/ великаны, небо/земля, верх/низ и т.д. Например, трудно понять, кого осуждает, а кого оправдывает рассказчик второй части «Мабиногиона» в истории с Бранвен, сестры Брана и жены Матолха, которая поневоле стала причиной взаимного истребления ирландцев и бриттов. Битва окрашена в эсхатологические тона, но обе армии являются близкими кельтскому сознанию — обе группы совершают серии преступлений и обманов, нарушая этику всех трех индоевропейских функций — жреческую, воинскую и ремесленно-крестьянскую. Кельтская эсхатология фиксирует трагизм и постепенную деградацию, измельчание героев, но в этом процессе нет и отдаленно той кристальной дуалистической ясности, как в сценарии «последней битвы» германцев. Женское начало, на котором основана сакральная иерархия, постоянно дает знать о своей хаотической матриархальной структуре.
Можно предположить, что истоком «хрупкости» кельтского патриархата является маргинализация аграрного элемента, занимающего в индоевропейском трехфункциональном обществе третью ступень, на что указывает Дюмезиль. Казалось бы, эксклюзия третьей функции — крестьянства — из важнейших версий традиционных мифов и сакральных нарративов, и принижение значения соответствующих ему аграрных хтонических божеств должны свидетельствовать, напротив, о героико-патриархальном характере кельтской цивилизации, тогда как на практике мы имеем дело с прямо противоположной ситуацией: не будучи жестко помещенной в структуры крестьянского культа, в порядок «цивилизации Деметры», последовательно и планомерно подчиняющий хтоническое начало олимпийскому небу, стихия женского начала оказывается в более свободном — водном — состоянии, нежели в цивилизациях со строгим аграрным порядком, а значит, кибелические мотивы способны активно вторгаться в мужское патриархальное общество, расшатывая и колебля его основы. Отсюда определенный истеризм кельтской мифологии, где доминируют не столько фигуры женщин, сколько женская психология, присущая подчас и вполне мужским и героическим типам.
Быть может, с этим связаны и замечания Д иодора Сицилийского о широком распространении среди древних кельтов гомосексуальных отношений. Диодор сообщает:
30
Французский Логос
Имея женщин прекрасной наружности, галлы уделяют им мало внимания, будучи сверх меры одержимы безумной страстью к мужским объятиям: в обыкновении у них спать прямо на земле на звериных шкурах, перекатываясь вместе с возлюбленными, которые находятся и с той и с другой стороны. Самое же удивительное из всего то, что, не заботясь о благопристойности, они легко отдают другим прелесть своего тела, отнюдь не считая это позорным, но более того: бесчестным считают того, кто, будучи желанным, не принимает предлагаемого дара1.
yuvaiKa? 6' &хрхпг<; eueiSev; т^кигта тайтам; npoo^xovcnv, аЛЛй прд<; т&<; t&v d(5(5£v&)v ётшгЛокйс; ёктбпах; Aurrcbaiv. sknQaoi 5' ini борам; 0T]pi(i)v х<хца1 Ka0£u6ovxE<; ilj dpcpo-xipcov tcov pepuv ттаракситои; стиукиЛк-a0ai. тб 6i ndcvxcov napa6o^6xaxov, xfj<; 161-a<; eO<jx’1110<™v1’1<> <i<PPovxicrrovvTE<; xf|v той ашцато<; wpav ixipoi^ evk6Aco<; npoiEvrai, ка1 toOto atoxpdv oux HyoOvrai, <5ЛЛй цаЛ-Aov dxav tu; auxcov xapi0p^v<ov ц?] простбё-^xai x?|v 6i6op£vr)v x&piv, fixipov fiyovvxai.
Возможно, отголосками этого является сюжет из четвертой ветви «Мабиногиона» о превращении королем Матом своих племянников Гильваэтви и Гвидиона в разнополых животных (козу и оленя, свинью и борова, волка и волчицу) на один год с приказанием сожительства.
Этот момент следует зафиксировать для дальнейшего построения французского историала: в основе кельтского мифа лежит проблематичность женского начала, осознанного как могущественная и самовластная стихия, на поверхностном уровне подчиненная патриархату, но несущая в себе колоссальный эсхатологический вызов.
1 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. IV—VII. Греческая мифо-
логия. Кн. V. С. 101.
Цивилизация Орфея
Барды: институциализация Орфея
Общество древних кельтов, как мы видели, было строго иерар-хизировано: во главе его стояли жрецы-друиды, разделяющиеся в свою очередь на множество подтипов. Одной из самых важных, хотя и начальных ступеней в структуре друидической касты были барды. Они проходили долгое обучение, основу которого составляли искусство музыки, стихосложение и изучение устных преданий и мифов. Диодор Сицилийский так говорит об этом социальном типе:
Есть среди них и поэты, слагатели песен, которых они называют «бардами». Исполняя песни в сопровождении инструмента, схожего с лирой, одних они воспевают, других порицают1.
eIctI 8ё пар' аитоТ? ка1 noiT|Tal jieAwv, о0<; P&pSou<; ovojid^ovaiv.
ovtoi S£ цех' opydvcov таи; Хираи; dpolwv $6ovte<; oik; ji£v ujivovoiv, oD<; 8ё рХаосртщоиои
Барды представляли собой сакральных певцов и поэтов, институционализированных в составе жреческой касты друидов. При этом институт священных поэтов и певцов среди всех европейских народов был развит полнее всего именно у кельтов. Поэтому мы вполне можем считать традицию бардов специфической особенностью кельтской цивилизации, прослеживая эту линию от самых древних эпох вплоть до средневековой поэзии трубадуров и даже до французской поэзии XIX—XX веков, сознательно обращавшейся к кельтскому наследию и его центральным мифологическим образам.
Сакральному певцу кельтской традиции бардов соответствует фигура греческого Орфея. Символизм Орфея чрезвычайно важен для понимания европейского Логоса в целом, а для кельтской цивилизации, придающей образу сакрального певца важнейшее значение, этот символизм приобретает еще и дополнительный смысл. Поэтому следует предпринять некоторый экскурс в историю мифа
1 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. IV—VII. Греческая мифология. Кн. V. С. 99—100.
32
Французский Логос
об Орфее, чтобы глубже понять определенные стороны кельтского Логоса.
Орфей как гештальт европейской инициации
Фигура Орфея ('ОрфЕид) в греческой мифологии играет фундаментальную роль. Он был не только архетипом певца и музыканта, но и основателем мистерий, полубогом, создателем особой орфической религии и специфической философии.
Для греков имя «Орфей» 'ОрфЕи^ было созвучным со словом брф¥Т| — темнота. Отсюда черные одежды Орфея и его связь с культом подземной Гекаты, которой он приносит жертвы в одном из эпизодов странствия аргонавтов. Главный сюжет о нисхождении Орфея в Аид также напрямую сопряжен с мраком.
Мифы об Орфее вдохновляли эллинскую культуру, будучи органической и, быть может, центральной частью религии мистерий. Сами мистерии — как Элевсинские, так и Дионисийские и Самоф-ракийские — основывались на постоянном сценарии, варьирующемся лишь в деталях:
• нисхождение посвящаемого в область смерти, в Аид, его символическое умерщвление;
• созерцание структуры божественного мира;
• возвращение к жизни в новом качестве, новорожденного (получившего второе рождение), неофита.
В Элевсинских мистериях канвой являлись поиски Деметрой дочери Персефоны, похищенной владыкой Аида Гадесом и ставшей его супругой, царицей мира смерти; ее обретение и ее возвращение на Олимп (хотя и временное), так как съеденный Персефоной плод граната обрек ее на то, чтобы всякий раз возвращаться в мир мертвых.
Мистерии Диониса строились на триетерическом цикле его смерти (Диониса-Загрея разорвали титаны1) и возвращения к жизни (зов Диониса).
Самофракийские мистерии предполагали также нисхождение посвящаемых в Аид, в царство кабиров, подземных существ и возвращение к жизни с новым знанием1 2.
1 «Второй» Дионис был спасен из чрева сожженной сиянием Зевса матери Семе-лы и выношен в бедре самого Зевса.
2 При посвящении в Самофракийские мистерии, по преданию, познакомились друг с другом отец и мать Александра Великого, Филипп Македонский и Олимпиада, тогда же и был зачат Александр.
Цивилизация Орфея
33
Легенда об Орфее повествует именно о таком нисхождении в царство мертвых и возвращении оттуда к новой жизни и поэтому может рассматриваться как обобщенное выражение общего мисте-риального сценария. Отсюда устойчивая связь фигуры Орфея и религии орфиков, его последователей, с дионисийством, Элевсински-ми культами, но также и с хтоническими культами подземных богов — кабиров, Персефоны, Гекаты и т. д.
Орфей представляет собой общую парадигму мистерии как таковой, обряда посвящения (теЛетш бруса). Этот обряд существовал практически во всех культурах — от самых развитых до самых примитивных и повсюду имел сходную структуру: смерть, воскресение, новое качество жизни, обретаемое после возвращения. Но в средиземноморской культуре, в европейском культурном круге наиболее концентрированным символом посвящения (инициации) выступает именно Орфей. В этом смысле все мистериальные аспекты европейской цивилизации сводятся к фигуре Орфея и имеют в нем свой фундаментальный образец, свой гештальт.
Относительно связи орфизма с другими мистериальными инициа-тическими культами существуют различные гипотезы. Так, венгерский историк религий Карл Кереньи полагает, что орфизм возник на основе дионисийских общин после того, как туда стали допускаться мужчины, тогда как на раннем этапе дионисийский фиас состоял исключительно из женщин1. В этом случае раннее символическое молчание (или нечленораздельная глоссолалия, издание животных звуков — как в дионисийских процессиях) посвященных женщин позднее в лице певца Орфея приобрело голос, (pcovri — свойство мужчины. Патриархат связан с указующей речью (а это и есть собственно Лбуод), переводящей молчаливое содержание сознания в эксклюзивный деятельный императив. Отсюда одна из проблем орфизма, отраженная в мифах: конфликт мужского и женского внутри поля дионисийских культов, где чрезмерное настаивание на той или иной гендерной герменевтике (излишняя скрытность, интуитивизм или, напротив, чрезмерно откровенное изложение таинств) порождает коллизию, отраженную в преданиях о «войне полов», относящихся к орфическому циклу.
Биография бога мистерий: фракийская родина
В разных версиях мифа приводятся разные версии происхождения Орфея.
1 Кереньи К. Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни. М.: Ладомир, 2007.
34
Французский Логос
Как правило, фигура Орфея1 устойчиво связывается с Фракией, территорией на севере Балканского полуострова, населенной индоевропейским воинственным народом фракийцев, предков даков. Сравнительно недалеко — в Фессалии — располагается гора Олимп. В мифах эта страна называется страной народа киконов (KiKOVEq), упомянутых еще у Гомера в «Одиссее». Родиной Орфея было селение Пимплеи. Рос Орфей в регионе Македонии — Пиерии.
Чаще всего он предстает как сын фракийского царя (вариант — речного бога) Эагра1 2 и одной из муз (чаще всего Каллиопы, иногда — Полигимнии, Клио или Мениппы). В других вариантах (в частности, у Пиндара) его отцом назван Аполлон. В любом случае он связан с Аполлоном самым тесным образом. Аполлон дарит ему солнечную лиру, полученную им самим от Гермеса, и покровительствует на протяжении всей жизни. Лира Орфея способна была очаровать богов, людей, животных (в том числе диких), растения и стихии мира. Восхищенные этой игрой за Орфеем следовали все живые существа Вселенной — в том числе деревья.
Миф повествует о необычно долгой жизни Орфея — 9 или 11 поколений (до Троянской войны).
Орфей был одним из участников похода Язона и аргонавтов за золотым руном, хотя, по мнению некоторых греческих авторов, это был второй Орфей, сын Мусия3, о чем имеется упоминание у Симонида и Пиндара. Он пел гребцам во время плавания. Его пение победило чары сирен.
Цикл Орфея и фигур, относящихся к его кругу, прочно связан с двумя территориями — Македонией и Фракией (Балканами), с одной стороны, и Сицилией и Южной Италией (Сардиния) — с другой. Между ними существует сакрально-географическая связь, подчеркиваемая в разных вариантах мифа и сюжетных линиях. Так, в Сицилию бежит жена Орфея Эвридика, спасаясь от преследования крылатого бога Аристея (АрютаТо^), сына Аполлона, где она и гибнет от укуса змеи4. Сам же Аристей, наоборот, приходит во Фракию, где и встречает Эвридику, из Сардинии и Сицилии, где до этого учит
1 Орфей впервые упомянут в текстах Алкея и Ивика. Древнейшее изображение Орфея представляет его на метопе сокровищницы сикионцев в Дельфах среди всадников, в которых обычно видят аргонавтов.
2 Эагр считается потомком титана Атланта и его дочери Алкионы. Его имя дословно означает «тот, кто охотится в одиночестве».
3 По другой версии, Мусий, напротив, был сыном Орфея.
4 Укус змеи в ногу дриады Эвридики может отражать древний сюжет о связи змей и корней деревьев, а также об их символическом тождестве. Эвридика была дриадой, а дриады подчас изображались с корнями деревьев вместо ног. Отсюда, вероятно, архаический уровень мифа: укус змеи есть напоминание Эвридике о ее хто-
Цивилизация Орфея
35
местное население культам. В VI веке до Р.Х. орфизм получил распространение главным образом именно в Южной Италии и на Сицилии.
Орфей представлен в эллинских преданиях как религиозный реформатор, посетивший Египет и вынесший оттуда древнюю сакральную мудрость и посвятительные обряды. В некоторых аспектах его фигура весьма напоминает иранского Зороастра. Как и Зороастр, Орфей был теологом и религиозным философом. У неоплатоников он фигурирует под именем «теолог». Также на это указывает связь Орфея с солнечным богом Аполлоном. По одному из преданий, Орфей каждое утро поднимался на Пангейскую гору для того, чтобы встречать солнце Аполлона.
Орфей аполлонический
Крайне противоречивы мифы в описании отношений Орфея к культу Диониса. Здесь мы видим две прямо противоположные точки зрения.
Одна из них состоит в том, что Орфей был противником культа Диониса. Он не почитал Диониса, упуская его имя из числа воспеваемых им богов. По другой версии, он разоблачил и сделал явными тайные обряды Диониса. При этом выбор Аполлона привел его (после смерти возлюбленной Эвридики) к культу эфебов и сакральному гомоэротизму (по Овидию). Еще один рассказ утверждает, что Орфей, не будучи посвященным в культ Диониса, подсмотрел оргии (как Пенфей в «Вакханках» Еврипида) и был за это убит (растерзан), а позднее превращен в созвездие Коленопреклоненного. Финалом этой версии аполлонического орфизма является сюжет о гибели Орфея, разорванного бассаридами-вак-ханками, любовные притязания которых он отклонил (также по Овидию) или иначе — бога которых он отказывался почитать1. Такой Орфей — фигура чисто аполлоническая. Лира (кифара), девятиструнный инструмент, связан именно с солнечным Аполлоном, тогда как символическим инструментом Диониса, заимствованным из круга прадионисийских мистерий Великой Матери, является флейта и другие духовые инструменты (трубы, горны и т.д.). Согласно одному из мифов, после смерти Орфей был превращен нической природе, о ее корнях, уходящих под землю, куда она и спускается после смерти.
1 Одна из легенд гласит, что Орфей был разорван фракийскими женщинами в городе Дие (Македония). У Эсхила в трагедии «Бассариды» этот сюжет также описан в связи с горой Пангеей.
36
Французский Логос
в чисто аполлоническое животное Лебедя и помещен на небо как созвездие Лебедя, недалеко от созвездия Лиры1.
В аполлоническом цикле растерзанное на куски тело Орфея собирают музы, похоронившие его в Либетрах2. Голова же Орфея, остававшаяся живой и способная говорить (как голова Иоанна Крестителя в христианских легендах или Брана в кельтском мифе), приплыла, продолжая петь, из реки Гебр (или из реки Мелес в Смирне3) на лире (или сама по себе) на остров Лесбос и пристала близ Ме-фимны. С тех пор на острове Лесбос было святилище, где голова Орфея пророчествовала (пока Аполлон не заставил ее замолчать). Оно было посвящено Дионису. В этот храм, как и в храм в Либетрах, где по преданию Орфей был жрецом, прежде чем его растерзали бас-сариды, женщинам был вход запрещен. Лиру же Орфея на Лесбосе поместили в другой храм, посвященный Аполлону.
Легенды утверждают, что на могиле Орфея (в Либетрах или Дионе, куда его останки были перенесены из Либетр, после того, как обрушились колонны храма) до сих пор соловьи поют прекраснее и нежнее, чем во всех остальных местах.
Орфей дионисийский
Альтернативная версия представляет Орфея почитателем Диониса, его жрецом. Отсюда упоминаемый Кононом сюжет, согласно которому фракийские и македонские женщины убили дионисийского жреца Орфея за то, что он не допустил их к мистериям (снова гендерная линия напряженных конфликтов мужского и женского начал в культе Диониса). По другой легенде, именно Орфей устанавливает отправление культа Диониса на горе Киферон (по имени его кифары). Его статуя обнаружена в храме Деметры Элевсинской (сопряженной с культом Диониса) в Лаконике. С Элевсином его связывает сюжет о построении им храма Девы Спасительницы, Коры Сотеры в Лакедемонии. В этом случае сюжет о том, что Орфей был растерзан вакханками, приобретает значение повторения дионисийского жеста — сам Дионис был разорван титанами. Показательно, что в одной
1 Чисто аполлоническим пояснением служит одно из древних мифологических толкований, относительно того, что после смерти своей возлюбленной он выбрал одиночество или компанию мужчин в силу «ненависти к женщинам».
2 Обнаруженное в Либетрах культовое сооружение для проведения посвящений было копией аналогичных зданий в Самофракии, которые использовались для посвящения в мистерии кабиров. Кабиры представляли собой хтонических божеств. У Аполлония Родосского три главных кабира (Аксиокерсос, Аксиокерса и Аксиерос) отождествляются с Аидом, Персефоной и Деметрой.
3 Позднее от бога этой реки родился Гомер.
Цивилизация Орфея
37
из версий мифа Дионис превратил вакханок, растерзавших Орфея, в дубы, священные деревья Великой Матери. От названия дуба (6рб<;) пошло выражение «дриады» (Арийбес;), нимфы деревьев, родившиеся из «Дерева Гесперид», связанного с Западом и атлантическим регионом. Дриадой была Эвридика — возлюбленная Орфея. Среди списка дриад фигурируют две из многочисленных жен мифического царя Египта Даная1 — Атлантия и Феба, а так как другие имена жен — в частности, Элефантида, Европа, Эфиопиея, Пиерия и т.д. имеют имена, тождественные странам и сторонам света в древнегреческой сакральной географии, то можно увидеть в дриадах прообразы мифических континентов. Отсюда, возможно, и значение имени «Эвридика» — дословно, «Правящая далеко», что может относиться как к правительнице мира мертвых, так и какой-то конкретной области (например, к Южной Италии — Сицилии и Сардинии).
Параллель между Дионисом и Орфеем можно увидеть и в сюжете о том, как Дионис выводит свою мать Семелу из Аида, а Орфей пытается сделать то же (но неудачно) со своей возлюбленной.
Именно орфизм сделал позднее основой своего сотериологиче-ского учения тему о растерзании Диониса-Загрея титанами, которых Зевс поразил за это молнией, а из пепла (или пара над пеплом) появились люди, несущие в себе оболочку титанов и семя Диониса. Этот сюжет является основой орфической антропологии, основанной на метафизической двойственности человеческой природы: как потомки титанов — люди тяготеют к материи, телесности, плоти и иРрк;, кардинальному греху титанов, состоящему в отсутствии меры, неукрощенной слепой и себялюбивой природной мощи, не признающей порядка; как носители искры Диониса, они родственны легким светлым богам, сопричастны вечности и бессмертию, полету и мысли. Вся этика орфизма состоит в том, чтобы раскрыть в человеке заложенное в нем дионисийское начало и подчинить титаническое. На это направлены обряды, практики, посвящения и орфическая культура в целом.
1 В мифе об убийстве дочерями Даная Данаидами своих мужей можно увидеть указание на цивилизацию Великой Матери, а единственная ослушавшаяся отца Данаида Гипермнестра, сохранившая жизнь мужу Линкею, выступает как провозвестница аполлонического индоевропейского патриархального строя, сменившего собой предшествующую матриархальную цивилизацию — цивилизацию Данаид. Сюжет с Данаидами предвосхищает сюжет с женами Лемноса, перебившими своих мужей (за связь с фракиянками после того, как обойденная жертвами Афродита наслала на них отвратительный рыбный — по другой версии козлиный — запах). И те и другие угрожают повеситься в священном храме. Сюжет повешения (шире, удушения) связан с культом деревьев из цикла обрядом Великой Матери. С Лемноса пошел хтони-ческий пеласгийский культ кабиров, ставший основой Самофракийских мистерий.
38
Французский Логос
Орфей, таким образом, является точкой проблематичного пересечения двух Логосов — Логоса Диониса и Логоса Аполлона. В этом состоит уникальность его фигуры и его архетипа.
Орфей и Кибела
При этом есть символические свидетельства и о связи Орфея с Логосом Кибелы. К этому относятся следующие темы:
• происхождение от титана Атланта;
• гибель от молнии (по Павсанию), подобно титанам, наказанным Зевсом за то, что они растерзали Диониса (эту кару наслал Зевс в отместку за посвящение Орфеем, после возвращения из страны мертвых, фракийских юношей и лесных фавнов в мистерии Аида, узнанные от Персефоны);
• связь его имени с «темнотой», а отсюда его самого — с Гекатой;
• участие в Самофракийских мистериях кабиров (имевших, скорее всего, хтонический характер);
• цикл, связанный с возлюбленной Орфея нимфой Эвриди-кой — вплоть до его нисхождения в Аид.
Любовь Орфея и нимфы (дриады) Эвридики (ЕирибСкт])1 является древнейшей парадигмой любви мужчины и женщины, бесчисленное количество раз повторенной на разные лады в мифах, поэзии, литературе, живописи. Образ Эвридики носит не аполлонические черты. Он, скорее, связан с культами Великой Матери. После ее смерти исчезают пчелы, и когда Аристей, покровитель пчел, косвенно виновный в ее смерти, узнает о причине их исчезновения, он кладет на ее могилу туши четырех быков и четырех телок, из которых пчелы рождаются заново. Этот сюжет связан с древнейшими процедурами приготовления опьяняющего медового напитка, использовавшегося в мистериях Кибелы в прадионисийском культурном круге1 2. Мед, по-гречески цеЛс, связывался также с мелиадами (МеЛшбес;), нимфами Ясеня, которые появились в глубокой древности от крови
1 Дословно имя Эвридика (Еири6(кт]) означает «та, которая правит на большой территории». В греческой традиции другим часто употребляемым именем Эвридики является «Агриопа» (АурФтп]), что дословно означает «диколицая», «с диким лицом». К. Кереньи полагает, что изначально имя было Арусбтп], «белолицая», «с белым лицом», что означает Луну (Селена). По орфическим преданиям, сыном Орфея и Селе-ны-Белолицей был Мусий.
2 Кереньи К. Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни.
Цивилизация Орфея
39
оскопленного Кроносом Урана вместе с эриниями и гигантами. От мелиад берет свое начало «человечество медного века»1. Мелиады были родственны дриадам, откуда вся цепочка смыслов в сюжете об Эвридике.
Тема того, что Орфей, почти вернувший Эвридику, не выполняет условия подземных богов Аида и Персефоны, покоренных его пением, и обращает на нее взгляд до выхода из Аида, также сопряжена с обнаружением бездонной (без-ббразной) сущности женщины и ее органической связи с мирами материи. Этот сюжет созвучен древнейшим семитским преданиям об Астарте и ее спуске в ад (а затем о ее возвращении). Удивительные параллели мы видим в японской традиции в мифах об Идзанами и Идзанаги, когда попытка мужского бога возвратить умершую супругу приводит к спуску в мир мертвых и встрече с ней, но после того, как истинный облик мертвой жены был открыт Идзанаги, тот ужаснулся и бросился бежать прочь, а та стала преследовать его. Идзанаги заложил выход из пещеры мертвых камнями, в результате чего между миром мертвых и миром живых (что в японском мифе истолковывается как мир женский и мир мужской) была возведена стена1 2.
Показательно, что игра Орфея на лире в Аиде дарит покой обитающим там темным фигурам — Данаидам, Танталу, Сизифу и иным титаническим существам: так, адский пес Керберос перестает лаять, а Ахерон оставляет свою работу перевозчика мертвых и зачарованный следует за Орфеем.
Орфей в христианстве
Раннехристианские авторы видели в Орфее языческую префигурацию Христа. Эту тему можно найти у христианских неоплатоников Климента Александрийского, Евсевия Кесарийского, Кирилла Александрийского и бл. Августина. В V веке участились представления об Орфее как о «пророке Христа», прообразе «Доброго Пастыря». Этот образ проникает в европейское Средневековье и становится одним из самых популярных сюжетов средневековой лирики3. С XVI века культура Просвещения заново обращается
1 Первая пара людей в древнегерманской мифологии Аск и Эмбла (Askr ok Embla) также была создана из деревьев, причем Аск означал именно «ясень» (а Эмбла — «ива»). В этой мифологии Мировое Древо также изображено в виде священного ясеня — Иггдрасиль.
2 Дугин А.Г. Ноомахия. По ту сторону Запада-П.
3 Средневековый испанский драматург Педро Кальдерон де ла Барка идентифицирует Орфея и Христа в своей драме «Божественный Орфей» (1663).
40
Французский Логос
к античному Орфею, лишенному на сей раз ставшего классическим христианского толкования.
В раннем христианстве мы' видим две линии в толковании дохристианского периода истории: иудео-христианскую и эллинохристианскую.
Первая, представленная ярче всего в Антиохийской школе богословия, выводит христианство исключительно из Ветхого Завета, игнорируя при этом неиудейский (языческий) мир целиком, продолжая тем самым пренебрежительное отношение к язычникам, преобладавшее в иудаизме. Она же отказывается от символического и аллегорического толкования Священного Писания, тяготея к своего рода «историческому реализму»: все, о чем говорится в Ветхом Завете, предлагается понимать буквально, а смысл повествования сводится к прослеживанию судьбы иудейского народа (Ветхозаветной Церкви) как избранного и его внутренних моральных и религиозных проблем. Вне иудеев для представителей этого толкования до Христа существовало только заблуждение и идолопоклонничество, достойное презрения.
Вторая интерпретация может быть названа эллино-христианской. Она ярче всего воплотилась в Александрийской школе и была тесно сопряжена с платонизмом и эллинской культурой в широком смысле. В ней преобладает аллегорическое толкование Священного Писания, а также стремление истолковать в христианском ключе не только ветхозаветный материал, но также и некоторые эллинские традиции, мифы, философские концепции и т. д. Христианство в этой второй версии является в полном смысле универсальным и включает в себя как прямые пророчества о Христе в религии Откровения (иудаизм), так и косвенные указания на него в эллинской религии и культуре. В частности, эллино-христиане обращают внимание на идеи Гераклита о Логосе, платоническую философию, говорящую о Небе и Отце, о творении и различиях между земными вещами и их идеальными образцами и т. д.
В этом ключе эллинская фигура Орфея и получает христианское толкование, так как более всего среди мифических богов и героев соответствует отдельным характеристикам Христа. Христос спускается в ад, чтобы вывести оттуда праведников. Орфей делает то же самое, чтобы вывести возлюбленную. Христос — «Пастырь Добрый». И Орфей изображается пастухом, не просто управляющим стадом, но и просвещающим зверей животворящим словом. Христос был казнен, но воскрес из мертвых. Орфей был расчленен, но его голова оставалась живой. Христианство было религией посвящения и мистерий (крещение, рукоположение для клира, причастие
Цивилизация Орфея
41
и т.д.), и Орфей считался установителем посвятительных обрядов. Христианство учило о внутреннем духовном человеке, которого надо освободить от влияния плоти, преобразив плоть. И орфизм утверждал сотериологическую модель освобождения искры Диониса от титанической телесности. Тем самым можно сказать, что эллино-христианское прочтение фигуры Орфея делало его прообразом Христа. Но, конечно, это никак не означало, что христианство было продолжением орфизма или копировало греческие мистерии. Речь шла о структурном сходстве, которое имело свои границы, так как религиозный и культурный контексты в обоих случаях принципиально различались. Впрочем, и сама эпоха закона, по представлениям св. апостола Павла, была лишь провозвестием эры благодати, наступившей вместе с Христом, а значит, Ветхий Завет также был лишь прообразом истины, открывшейся в Христе (откуда и вытекала необходимость его символического, а не буквального, как у иудеев, и отчасти и иудео-христиан, толкования).
Фигуру Орфея в таком христианском контексте можно рассматривать как обозначение мистериальной или мистической стороны христианской традиции.
Орфей и его двойник
Архетип Орфея имеет огромное значение для всего средиземноморского Логоса, так как представляет собой поэтическую карту всей этой цивилизации.
В Орфее виден зазор между Аполлоном и Дионисом, который, однако, не является прямым противостоянием, но, скорее, различием между толкованиями общей сакральной фигуры. Есть апол-лоническое и дионисийское прочтение Орфея, причем оба равновозможны и легитимны и описывают, тем самым, общее поле европейской цивилизации, которую в ее мистериальном срезе вполне можно назвать «цивилизацией Орфея».
Вместе с тем сюжет об Орфее важен еще и потому, что в нем наглядно показана проблематизация женского начала, более наглядная и акцентированная, нежели в строго аполлонических изданиях и сюжетах европейского Логоса. Значение Орфея возрастает в тех сегментах европейской культуры, где матриархальные энергии дают о себе знать с наибольшей силой. Черный Орфей (как и сам Дионис, которого он отчасти замещает в инфернальных сегментах инициа-тических циклов) по определению тесно связан с Великой Матерью и постоянно находится в зоне ее повышенного (подчас нежного, подчас агрессивного и зловещего) влияния. Его любовные отношения
42
Французский Логос
с дриадой Эвридикой, неудача ее возвращения и гибель самого Орфея от рук вакханок-бассарид представляют собой моменты мифа, свидетельствующие о вторжении в область патриархальной культуры могущественных феминоидных мотивов. И всякий раз, когда солярная власть олимпийского начала слабнет, эти ноктюрнические тенденции становятся все более различимыми и отчетливыми.
Сама структура европейского Логоса основана на осуществленной победе богов над титанами, патриархальной культуры над матриархальной. Но там, где аполлоно-дионисийские могущества начинают ослабевать, подоснова европейской идентичности дает о себе знать в полный голос. И особенно это характерно для тех зон Европы, где влияние Логоса Кибелы было сильнее, чем в других местах. Там создаются анклавы «хрупкого патриархата», когда торжество олимпийского светлого Логоса и даже его темного, но патриархального, мистериального союзника Диониса, начинает ставиться под вопрос со стороны черного Логоса Кибелы. И первым знаком такого движения европейских глубин является попытка перетолковать мистериальный сценарий цикла Орфея в кибелическом ключе, придав его связи с царством мертвых Аидом и женскими фигурами мифа «революционный» субверсивный, титанический, хтони-ческий характер. В первую очередь это касается именно кельтской цивилизации, что делает Орфея символической фигурой, олицетворяющей именно кельтский Логос.
Солнечный мужской и олимпийский Орфей в своем мифологическом выражении содержит в себе угрозу подмены. Об этом мы неоднократно говорили, упоминая «двойника Диониса», которым в некоторых предельных эсхатологических случаях выступает титан (Адонис, Аттис, Прометей или Люцифер в христианском контексте)1. Это в определенной мере относится и к Орфею, который в определенной оптике в самом себе содержит своего кибели-ческого двойника.
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Три Логоса.
Государство Франция. Средние века
Франция при Меровингах
До V века по Р.Х. галлы остаются в составе Римской империи, существенно ослабленной на западе постоянными вторжениями варваров. До этого момента они продолжают впитывать романскую культуру, подвергаются христианизации, народная латынь все больше вытесняет галльские наречия, распространяясь с Юга (от Нарбонны) к северу. При этом галльские вожди сохраняют определенную автономию и некоторую самостоятельность в соответствии с общим принципом империи: стратегическое единство сосредоточено в метрополии, а на региональном уровне существует широкая культурная и даже правовая автономия. Таким образом, в этот период мы имеем галло-романскую модель общества, где по мере движения с юга Франции на север римское влияние — в языке, культуре, нравах, праве и т.д. — сокращается, а кельтское, напротив, возрастает. Островком кельтского сопротивления романизации вплоть до XX века оставалась французская Бретань, северо-западные территории, где местное население сохранило бретонский язык и многие народные традиции.
В V веке начинается исторический процесс, который во многом изменил структуру галло-романского мира. В рейнской области постепенно усиливается могущество германского племени салических франков, чей король Хлодвиг (ок. 466 — 511) и его потомки начинают завоевывать территорию Галлии и создают на них новое довольно независимое Франкское королевство с правящей династией Меро-вингов, по имени вождя Меровея, правившего франками с 448 по 457 год по Р.Х., отца Хильдерика (ок. 457 — ок. 481) и деда Хлодви-га. По франкским преданиям, Меровей был рожден женой франкского короля Хлодиона (или Хлойо) от морского чудовища1. Короли династии Меровингов носили длинные волосы как знак священной
1 В VII веке франкский летописец Фредегар Схоластик записал: «Утверждают, что, когда Хлодион летней порой остановился на берегу моря, в полдень его супругой, отправившейся на море купаться, овладел зверь Нептун, похожий на квинотавра (кентавра). Впоследствии, забеременев то ли от зверя, то ли от человека, она родила сына по имени Меровей, и по нему затем франкские короли стали прозываться
44
Французский Логос
династии, и считалось, что в этих волосах заключено их духовное могущество, восходящее к царю асов Одину, также традиционно представляемого с длинными волосами. Отсюда их название «длинноволосые короли» (reges criniti). По одной из средневековых версий, династия Меровингов восходила к Энею, что совпадало с общей установкой средневековой французской аристократии и считалось сакральным основанием ее правления.
Франки пытались захватить Галлию и раньше, уже с III века. Так, в 242 году войско франков вторглось на территорию провинции Галлия Римской империи у Нижнего Рейна, но понесло поражение от будущего императора, а в тот момент трибуна VI легиона Аврелиана. В 261 году франки вновь повторяют попытку, но оказываются снова отброшенными. В 431 году первый упомянутый в хрониках князь салических франков Хлодион снова оказывается разбитым римлянами — полководцем Аэцием, но тем не менее ему удается захватить город Камбре и все побережье до реки Соммы. Франки не оставляют своих усилий, и в эпоху Хлодвига, правнука Хлодиона, одерживают ряд решающих побед.
Франкским королям удалось в V веке завоевать практически все территории римской провинции Галлия, создав тем самым государство Франция в его первоначальном виде в границах довольно близких к современным. Этнические франки на севере сохранили свою идентичность, став основой голландцев и фламандцев, а в других частях Галлии растворились в галльском населении и потеряли язык и культуру.
В этом государстве установилась следующая социологическая структура:
• германская династия и значительная часть элиты;
• этнически преимущественно галльское население;
• народная латынь в качестве койне и
• христианство как главенствующая религия.
Христианство принял в 496 году франкский король Хлодвиг I, и эта дата считается моментом крещения Франции. Правовой основой Франкского королевства стала Салическая правда, представляющая собой сочетание римского права с древними германскими юридическими нормативами. Королевство франков постоянно укреплялось и росло, пока не стало самостоятельной и могущественной силой во всей Западной Европе.
Меровингами». См.: The Fourth Book of the Cronicle of Fredegar with its continuations. London: Thomas Nelson and Sons Ltd, 1960.
Государство Франция. Средние века
45
В 511 году после смерти Хлодвига! королевство франков было разделено на две части — Нейстрию на юго-западе (столица Лютеция, современный Париж) и Австразию на северо-востоке (столица Мец, в другие периоды Реймс). Австразия досталась старшему сыну Хлодвига, Теодориху (485 — 533/534), Нейстрия — Хильперику I (ок. 537-584).
В VI—VII веках Австразия превратилась в самостоятельное королевство, где наряду с собственно правителями меровингской династии стали все большую власть приобретать майордомы, управители, которыми становились представители высшей германской аристократии.
Rix и ambactus
Хотя Гюйонварх и Леру обращают внимание на то, что германцы позаимствовали у кельтов такие фундаментальные политические понятия, как rix, откуда производное немецкое Reich, царство, империя, и ambactus, откуда немецкое Amt, служба, вассалитет, германцам на протяжении всего Средневековья удавалось создавать устойчивые государственные образования, а кельтам нет. И эта закономерность оставалась неизменной на всем протяжении европейской истории вплоть до Нового времени. При этом германские правители объединяли под своей властью и германские народы, и кельтов, и римлян, и славян. Этот вопрос встает тогда, когда мы начинаем всерьез задумываться о возникновении таких политий, как будущая Франция.
Гюйонварх и Леру предлагают такое объяснение:
Территориальная раздробленность была следствием кельтского понятия об обществе. В рассматриваемую нами эпоху, на заре своей истории, кельты уже перевели в мифический план понятие о едином царстве, и Амбигат, при равных условиях, стал для галлов тем, чем впоследствии Артур станет для бриттов. Мы даже не говорим об «империи» в римском или современном смысле этого слова. «Империя» была более всего чужда кельтскому менталитету, если не говорить о поздних заимствованиях. Лишь из-за того что островные бритты V века были перед лицом англосаксов лучшими и последними защитниками Римской империи, короля Артура иногда называют «императором». Подлинной ячейкой общества была ирландская fine, семейство в самом широком смысле слова, включающее в себя восходящие и нисходящие линии родства, его прямые и побочные ветви; таков
46
Французский Логос
же шотландский клан, включающий в себя подчас несколько тысяч человек. Вне этой неделимой ячейки признаются только личные связи зависимости, вассалитета или подданства по отношению к важному лицу. Не существовало никакого государственного права, регулирующего взаимоотношения государства с государством или государства с личностью, хотя, разумеется, имелись изощренные законы, установления, правосудие, словом все то, что зовется теперь «обычным правом». Кельтская концепция государства безгранично расширяет область частного права и, как следствие этого, почти сводит на нет право государственное. В гражданской или в уголовной области к суду обращается сам потерпевший, его семья или его представитель, и они же (с помощью юриста, помогающего избежать процедурных ошибок, сводящих на нет все дело) приводят в исполнение санкцию, предусмотренную законом или судебной практикой1.
Это вполне может быть объяснением стартовых социологических установок галльского общества в рассматриваемый нами период становления Франкского государства. Галлы погружены в стихию «обычного права», клановых отношений и ambactus, то есть вассалитет (немецкое Amt). Это определяет их основную ориентацию, где отсутствует трансцендентное измерение, необходимое для имперо-строительства. Галлы — храбрые и мужественные воины, они любят свободу и независимость, но у них отсутствует «имперский горизонт», который, напротив, отчетливо демонстрируют уже Меровин-ги, а позднее, в еще большей степени Каролинги.
Вместе с тем в дальнейшем эта развитая модель галльской юридически ориентированной рациональности станет, наоборот, преимуществом, обеспечивающим социальное единство Франции, что будет контрастировать с судьбой восточных территорий бывшей единой Франкской империи. Если германцы, действительно, переняли у кельтов понятие пх и построили Reich, то ambactus (Amt) остался в значительной степени сильной стороной именно галлов, что сделало в будущем возможным такое историческое явление, как Франция.
Франция при Каролингах
При Хлотаре II (584 — 629) Меровингам снова удалось объединить Нейстрию, Бургундию и Австразию, восстановив власть над
1 ГюйонвархК.-Ж., Леру Ф. Кельтская цивилизация. С. 105 —106.
Государство Франция. Средние века
47
всем королевством франков в одних руках. Но этого ему удалось добиться лишь при поддержке австразийской аристократии, традиционно выдвигавшей из своей среды майордомов, что усилило влияние этого института в контексте объединенного государства. Этот процесс усиления майордомов продолжался при сыне Хлотара Дагоберте! (628 — 638). В 687 году австразийский майордом Пипин Геристальский (635 — 714) разбил войска нейстрийского майордома Берхара, и после этого вся власть в Нейстрии и Бургундии перешла в его руки, а должность майордома стала наследственной. Сам же Пипин II принял титул Dux et princeps Francorum.
Важнейшей фигурой французской истории стал и другой майордом Карл Мартелл (686 или 688 — 741), победивший арабов Абд АрРахмана в битве при Пуатье и остановивший тем самым процесс исламизации Европы. Когда умер меровингский король Теодорих IV (712 — 737), сын Догоберта III, Карл Мартелл оставил королевский трон не занятым, хотя и сам не завладел королевским титулом.
Последним правителем династии Меровингов стал Хильдерик III (ок. 714 — ок. 755), которого майордом Пипин III Короткий (714 — 768) окончательно удалил от власти, заставив принять монашество и состричь длинные волосы, символ королевского могущества Меровингов. Сам же Пипин Короткий был официально в ноябре 751 года в Су-ассоне на общем собрании франков провозглашен королем франков и стал основателем династии Каролингов, второй после Меровингов в истории Франции. Так, с 751 года Франкским государством начинает править вторая франкская династия — Каролингов.
Пипину в его завоеваниях и реформах помогал его брат Кар-ломан (710 — 754), вошедший в историю как инициатор реформы франкской церкви, проведенной им в тесном взаимодействии с англосаксом Бонифацием (672/673 — 754), «епископом всех немцев». В апреле 743 года Карломан созвал в Шарлеруа собрание духовенства и знати, получившее название «Германского собора». Этот собор упорядочил церковную иерархию, с епископам в каждом городе, митрополитом в каждой провинции, и признал Бонифация, возведенного в сан архиепископа, легатом Святого Петра. Кроме того, были приняты другие административные положения, в целом резко укрепляющие позиции католической церкви во владениях франков. Позднее Карломан принял монашество, оставив всю власть брату.
Сыном Пипина Короткого был Карл Великий (742/747 или 748 — 814), при котором государство франков достигает своего исторического апогея. Карл Великий не только объединяет под своим владычеством территорию практически всей Западной Европы, но и вносит
48
Французский Логос
изменения в Символ веры (Filioque), а в 800 году принимает титул императора Римской империи, окончательно разрушая прежнее — пусть номинальное — единство христианской ойкумены, признававшей до этого только одного императора, византийского василевса и примат епископа Рима (папы). С этого момента Карлом Великим, императором Запада, вносится необратимый раскол в христианское общество Европы, который будет окончательно зафиксирован в период великой схизмы в 1054 году, когда католичество и православие взаимно анафематствуют друг друга. Именно при Карле Великом, втором властителе Каролингской династии франков, происходит необратимое разделение Европы на Запад и Восток (Византию).
С этого момента Франция оказывается в контексте особой исторической и экклезиологической структуры — католического Запада, ранее составлявшего единое культурное и религиозное поле со всем пространством средиземноморской цивилизации в ее христианской версии. После Карла Великого и до настоящего времени Франция представляет собой неотъемлемую часть Запада, оторванную от греко-византийской и восточно-христианской культуры. Собственно с Карлом Великим и образуется то, что можно назвать европейским Западом или Западной Европой. Для французского историала это ключевой и поворотный момент: латинство отныне жестко отделено от греческого начала, а германская узурпация императорских функций предопределяет судьбу латинизированных галлов под властью германской элиты.
Столицей Каролингов при Карле Великом был город Ахен (в современной Бельгии).
После смерти Карла Великого его преемником становится Людовик I Благочестивый (778 — 840), который уже в 817 году разделил свои владения между тремя сыновьями: Лотарем, Пипином и Людовиком. После смерти Людовика I в 843 году империя франков окончательно распадается на три части, будучи разделенной между тремя внуками Карла Великого. Согласно Верденскому договору, Карлу Лысому (823 — 877) достается Западно-Франкское королевство, включающее в себя территорию прежней Галлии от устья Рейна до устья Роны, что и стало будущей Францией. Это королевство включало Нейстрию, Аквитанию, Септиманию, Испанскую марку и Бургундию до швейцарских Альп.
К востоку, в области Центральной Европы, под властью Людовика II Немецкого создается Восточно-Франкское королевство (будущая Германия). А третий внук Карла Великого Лотарь I получает в наследство земли Нидерландов, Бургундии и Северной Италии, (Срединное королевство), а также титул императора.
Государство Франция. Средние века
49
Показательно, что описание «Страсбургских клятв», которые произносили в 842 году Карл Лысый, Людовик Немецкий и их войска, указывается, что воины Карла Лысого произносили клятву на старофранцузском языке (romana lingua), а воины Людовика — на франкском (teudisca lingua).
Верденский договор теперь уже на политическом уровне установил важнейшую для структуры Европы демаркационную линию по Рейну, которая ранее была условной границей, отделяющей кельтский мир от германского. Это разделение было политически стерто салийскими франками и их государством при Меровингах и первых Каролингах, когда германская аристократия объединила на несколько столетий почти всю Западную Европу под своей властью. Но этот германо-кельтский синтез при внуках Карла Великого снова распался, и уже никогда больше не был восстановлен — лишь в конце XX века объединение Европы в рамках Европейского Союза совсем в новых условиях поместило французов и немцев вместе с другими европейскими народами в общее политическое поле, хотя и в совсем новом культурном контексте. До этого же единство Западной Европы осуществлялось исключительно на уровне папской власти. Причем германский полюс (объединяющий значительную часть наследства Лотаря I и Людовика II Немецкого) склонялся к империи, что особенно наглядно проявилось при Оттоне и Гогенштауфенах, а галльский фокус изначально стал на сторону папского престола, что и воплотилось в расхожей формуле: «Франция — старшая дочь Церкви».
С 843 года в европейской истории мы имеем дело с Францией, где при сохранении ведущих позиций германской аристократии преобладает латинский язык и галло-римская культура при полной лояльности папскому престолу. Подчас эта ориентация на сверхнациональную власть римских пап выражается в оппозиции империи, к которой, напротив, на определенных этапах тяготели германские народы, оказавшиеся после Вердена в составе новых политических образований, где преобладало германоязычие и постепенно складывалась особая немецкая идентичность, Логос Германии. Базой этого Логоса были германские народы Центральной и Северной Европы. В противовес этому Франция стала развертывать свою особую версию европейского Логоса, с опорой на сочетание романских и кельтских элементов, то есть собственно французский Логос. В структуре этого Логоса можно различить как кельтскую (собственно галльскую) составляющую, так и мощное латинское влияние. А германские или греческие элементы наличествуют лишь спорадически.
50
Французский Логос
Между всеми франкскими королевствами первоначально сохранялись династические связи, так как считалось, что все они по-прежнему входят в состав франкской «Римской империи». Карл Лысый в 875 — 877 годах был ее императором. Позднее, в 884 году, французы пригласили править ими германского короля Карла III Толстого (839 — 888), который к тому времени тоже стал императором. Однако с 887 года западные франки полностью отказались от верховной власти императоров, окончательно став суверенным (в современном смысле этого слова) королевством, не признающим над собой — даже номинально — никакой легитимной политической инстанции, кроме духовной власти Папы Римского.
Постепенно власть французских королей каролингской династии ослабевала, а могущество феодалов усиливалось. Герцоги и графы подчинялись им лишь номинально, участвуя в выборе королей как «первых среди равных». Подчас избранные короли были не из династии Каролингов, но потом снова власть возвращалась к ним.
Французские короли называли себя официально «королями франков» (rex Francorum), полностью же титул звучал как «король Западных Франков» (rex Francorum Occidentalium).
СIX века с севера во Францию начались регулярные вторжения скандинавских норманнов. Они проникали в глубь Франции по рекам — Луаре и Сене, совершая походы даже на Париж. По договору 911 года между норманнским князем Роллоном и западно-франкским королем Карлом Простоватым (879 — 929) было образовано графство Нормандия, ставшее в скором времени герцогством. Постепенно норманны ассимилировались и переняли язык галло-романского населения.
При последних Каролингах — Людовике IV (936 — 954), Лотаре (954 — 986), Людовике Ленивом (986 — 987) — Франция начала все больше дробиться на феодальные владения, постепенно утрачивая политическое единство.
От Капетингов к Валуа
Следующей династией стала династия Капетингов. В 987 году, в котором умер последний король из династии Каролингов, новым королем был избран Гуго Капет (940 — 996), основатель династии Капетингов. Гуго Капет был сыном герцога Гуго Великого и Гедвиги Саксонской, из рода франкской знати Робертинов, внук Беатрисы де Вермандуа, королевы Франции из рода Каролингов. При Гуго Ка-пете столицей Франции снова стал Париж, в то время как как при
Государство Франция. Средние века
51
последних королях из династии Каролингов столица располагалась в городе Лан (Пикардия, на севере Франции).
При первом властителе династии Капетингов Западно-франкское королевство состояло из следующих земель:
• графство Фландрия,
• герцогство Нормандия,
• герцогство Франция,
• герцогство Бургундия,
• герцогство Аквитания,
• герцогство Гасконь,
• графство Тулузское,
• маркизат Готия,
• графство Барселонское (Испанская марка).
С течением времени дробление пошло еще дальше; из названных владений выделились новые графства: Бретань, Блуа, Анжу, Труа, Невер и Бурбон.
Вначале под властью Капетингов была узкая территория к северу и югу от Парижа, в то время как значительная часть Франции той эпохи находилась под властью английских королей, которые объединили семь крупных королевств (Гептархию), созданные германскими завоевателями англами, саксами и ютами, под единым началом с периода правления короля Уэссекса Альфреда Великого (около 871 — 899), после чего и появился титул «король Англии».
Отношения с Англией при Капетингах становятся важнейшим вектором французской политики. Территории и Франции, и Британии воспринимались как часть общего кельтского мира, и судьба этих исконно кельтских земель по обе стороны Ла-Манша была, с этносоциологической точки зрения, довольно схожей: и там, и там местное кельтское население подверглось завоеваниям со стороны германских народов. При этом в Англии, кроме территорий Уэльса и Шотландии, германским племенам удалось сделать свой язык преобладающим (как в случае Фландрии или Голландии), тогда как в Западно-франкском королевстве возобладало романоязычие. Отношения Франции и Англии, тем не менее, развертывались в контексте единого кельтского мира, остающегося культурно однородным, несмотря на различия в политической судьбе. При этом уже в Средневековье на этом фоне начинает выделяться Ирландия, где по контрасту с остальными кельтскими землями сохраняется преобладание кельтского языка, и, соответственно, многие аспекты традиционной идентичности не подвергаются ни германизации, ни латинизации,
52
Французский Логос
хотя и включаются в христианскую ойкумену Западной Европы. Но именно в Ирландии христианство отчетливо приобретает подчеркнуто кельтские черты, которые в латинизированной Франции и германизированной Англии намного более размыты. Это закладывает основы того, что мы называем «кельто-архаикой»1.
Отношения Франции и Англии представляют собой типичную для кельтского мира родственную усобицу, на которую на к лады -вается сугубо феодальная политика средневекового стиля, где одновременно существуют и империя, и королевства, и герцогства, и графства, и почти автономные свободные города, и другие формы социальной организации, подчас ожесточенно борющиеся друг с другом без того, чтобы эта борьба отражала какую-то глубинную идею или линию судьбы. И все же в правлении Капетингов можно увидеть волю к централизации Франции в масштабе Галлии, что выражалось в постепенном, но настойчивом отвоевании французских территорий у английской короны.
Пространство с двух сторон от пролива Ла-Манш относилось к общей историко-культурной зоне, и этнически, и религиозно, и с точки зрения феодального уклада, и перемешенных между аристократическими династиями владений. Поэтому границы континентальной Европы не имели существенного значения. Так, в 1066 году нормандский герцог Вильгельм (ок. 1027/1028— 1087) завоевывает Англию, вследствие чего Нормандия и Англия были объединены, образовав новую политическую конфигурацию. При этом на три века преобладающим языком английской знати стал французский, и культурное сближение между французами и англичанами развивалось самым интенсивным образом.
Спустя приблизительно сто лет (с 1154 года) королями Англии и герцогами Нормандии сделались графы Анжуйские (Плантагенеты). Основатель этой династии Генрих II Плантагенет(1133 — 1189) — через женитьбу на наследнице Аквитании, принцессе Элеоноре — распространил свою власть на весь юго-запад Франции. Таким образом, на сей раз английские правители снова получили власть над значительной частью территории Франции, что вошло в историю как Ангевинская империя.
Столетняя война, весталка из Орлеана
Централизация территорий под властью французского монарха вступает в активную фазу при Филиппе II Августе (1180— 1223).
1 В отличие от «кельто-Модерна» как явления, свойственного франко-английскому ареалу бывшей Великой Кельтиды на пороге Нового времени.
Государство Франция. Средние века
53
Эту линию продолжили и его потомки. Так, Филипп IV Красивый (1285 — 1314) приобрел Лион и распространил свое влияние на Шампань. Последним представителем старшей ветви династии Капетингов был КарлIV Красивый (1294—1328). Перед смертью он колебался, кому передать власть — двоюродному брату Филиппу Валуа (1293— 1350) или племяннику Эдварду III Английскому Плантагенету (1312— 1377)1. В результате того, что вскоре после смерти Карла у королевы родилась девочка, королем стал Филипп Валуа, основатель новой династии — Валуа. Эдвард III посчитал себя обойденным наследством, что и стало началом Столетней войны между Францией и Англией (с 1337 по 1453).
Столетняя война имела несколько периодов и проходила с перерывами: Эдвардианская война (1337—1360), Каролингская война (1369— 1396), Ланкастерская война (1415— 1428) и последний период в 1428—1453 годах. В результате Столетней войны чересполосица феодальных владений и династических вотчин, характерная для средневекового периода, была упорядочена, и к середине XV века на территории Франции и Англии сложились полноценные и автономные политические единицы, которые можно рассматривать как непосредственных предшественников суверенных национальных государств эпохи Нового времени, объединенных политически, культурно и юридически.
На третьем этапе войны почти половина Франции оказывается под властью английского короля Генриха V (1387 — 1422). После этого начинается последний заключительный этап, в ходе которого французам удалось полностью отвоевать всю территорию современной Франции.
В 1428 году во время осады англичанами Орлеана на политической арене появляется героиня Франции Орлеанская Девственница Жанна д'Арк (1412—1431), ставшая ее символом. Жанна д'Арк убеждает дофина дать ей войска для снятия осады. Встав во главе французского войска, она повела его на бой с англичанами, несмотря на численное превосходство противника. Под влиянием горячей патриотической проповеди Жанны французы двинулись в наступление и освободили ряд важных укрепленных пунктов в Луаре. Вскоре после этого армия Жанны разгромила английские войска при Пате, открыв дорогу на Реймс, где дофин короновался под именем Карла VIL В 1430 году Жанну д'Арк схватили бургундцы и выдали англичанам, казнившим ее на костре в 1431 году (по обвинению
1 Сам факт такого колебания показывает, до какой степени в этот период ан-гло-французское пространство считалось чем-то единым, относительно легко меняя центр власти от Франции к Англии и от Англии к Франции.
54
Французский Логос
в ереси). Снова, как и в кельтских мифах, женщина, наделенная почти сверхъестественными способностями, оказалась спасительницей королевства. И снова, как в мифе о короле Мате из «Мабиногиона», она была девственницей. В принципе слова римских весталок королю — Vigilasne rex? Vigila! — могли вполне принадлежать ей.
Но героическая гибель Орлеанской Девы не остановила французов. В 1449 году они отвоевали Руан, а в 1453 году английские войска потерпели сокрушительное поражение при Кастильоне, что стало последней битвой Столетней войны, завершившейся капитуляцией английского гарнизона в Бордо. Столетняя война закончилась при Карле VII Победителе (1403— 1461).
Эту дату можно считать окончанием французского Средневековья, хотя династия Валуа осталась у власти вплоть до 1589 года, когда ее сменила младшая ветвь капетингского дома, династия Бурбонов. Последним королем Валуа был Генрих III Валуа (1551 — 1589), а после него у власти утвердился лидер французских гугенотов-протестантов Генрих IV Наваррский (1553—1610), основатель дома Бурбонов. Вместе с Бурбонами Франция уверенно и необратимо вступает в период Нового времени.
Французское Средневековье как структура
Вся эпоха от возникновения Западно-франкского королевства до конца Столетней войны, а в самом широком понимании до конца династии Валуа, составляет единый — средний — период в структуре французского историала: его началом является кельтская древность, Галлия и Великая Кельтида, а концом — Новое время и Просвещение. То, что расположено между этим, составляет французское Средневековье. В это время происходят глубинные трансформации кельтской идентичности. Французский Dasein в своей сути остается неизменным, но формы выражения французского Логоса качественно меняются. Если в начале мы фиксируем глубинную языческую и мифологическую сакральную кельтскую идентичность, сопряженную с тонким балансом индоевропейских и праиндоев-ропейских элементов в рамках атлантической зоны европейского пространства (по О. Шпенглеру), то в Средние века она приобретает целый ряд дополнительных черт, проявляющихся:
• в глубокой ассимиляции романской культуры;
• христианизации;
• диалоге с германским началом — этнически и социологически (ассимиляция германской аристократии и династической элиты).
Государство Франция. Средние века
55
Франция эпохи Средневековья наряду с Германией и Англией представляет собой важнейшую составляющую Западной Европы, ее исторического становления, ее ответа на вызовы времени. Будучи частью кельтского мира, Франция во многом солидарна в этот период с Англией и между культурами обеих стран существует прямой параллелизм. С другой стороны, есть ряд общих черт и с Германией, что предполагает двустороннее влияние французов на немцев и немцев на французов. Позднее, на заре Нового времени, оба полюса Европы — ее кельтский Запад (Франция и Англия) и ее Центр (Германия) — постепенно кристаллизуются в два культурных ареала, которые, однако, займут в отношении Модерна и модернизации качественно разные позиции. Модерн будет концентрироваться на франко-английском фокусе, а консерватизм — на германском, что и составит диалектику европейской истории Нового времени — с эпохи Возрождения вплоть до XX века. В Средневековье эти тенденции трудно проследить отчетливо, так как сохраняется общий стиль культуры, со множеством своеобразных версий на локальном уровне, но в целом продолжающий линию историала индоевропейской культуры Средиземноморья в ее христианской форме с римской доминантой. Это означает, что французское (равно как и английское) Средневековье (как минимум вплоть до окончания Столетней войны) еще относится к аполлоно-дионисийской традиции олимпийского круга. Небо сохраняет контроль над хтоническими силами хаоса, и Франция в структуре Ноомахии твердо стоит на стороне светлого Логоса и «Небесного Града».
Основные линии развертывания французского Логоса Средневековья можно проследить на примере следующих явлений:
• французское рыцарство и круг легенд о короле Артуре;
• французская схоластика;
• монашеские ордена и их особые учения;
• французский неоплатонизм и мистика.
Французское рыцарство
Феномен рыцарства отчетливо проявляется в Средневековье, и его родиной становятся территории Франции, Италии и Англии. Оттуда оно распространяется на всю Европу, достигает наибольшего расцвета в XII — XIII веках, и особенно в эпоху Крестовых походов. Рыцарство делится на светское (социальное) и религиозное, а последнее институализируется в особых рыцарских орденах, представляющих собой структуры, где воинские, монашеские и аскети
56
Французский Логос
ческие практики неразрывно соединены в нечто целое и оформлены доктринально. Обе ветви рыцарства имеют общую культурную стилистику, общий этос и ряд общих формальных признаков. Рыцарь, от немецкого Ritter, всадник, французское «шевалье» (chevalier) — это представитель аристократического сословия, профессиональный воин, обязательно конный, тяжеловооруженный, прошедший особое посвящение (adoubement — касание мечом или рукой сеньора-сюзерена, прежде посвященного в рыцари, плеча посвящаемого), имеющий девиз, признающий правила поведения рыцаря и разделяющий рыцарские ценности — христианскую веру, честь, верность, любовь, служение, мужество и т.д.
Современный итальянский историк Франко Кардини возводит истоки рыцарства1 к скифо-сарматскому обществу, полагая, что в Европу основные элементы культуры вооруженных профессиональных конных воинов проникли вместе с сарматами и гуннами, от них перешли к франкам, а от них, собственно, к французам. Это вполне гармонирует с идеями О. Шпенглера о туранском типе культуры, который сложился в степях Евразии среди различных кочевых преимущественно индоевропейских народов и оттуда передавался в несколько заходов на запад континента — в Средиземноморье и Западную Европу. Другим прообразом европейского рыцарства являлись римские воины-всадники — equites.
Исторически переход от пешей армии, состоящей преимущественно из вооруженных крестьян (ополчения), к профессиональной конной дружине вассалов фиксируется в эпоху Карла Мартелла, столкнувшегося с арабскими завоеваниями и с необходимостью защитить Галлию от мусульман, и перешедших на их сторону иберийских комитов. Он раздавал знати имения как бенефиции (подчас отобранные у церкви) и требовал взамен несения конной службы. В результате сложился институт газиндов, вассов или вассалов. Ими становились свободные люди (чаще всего благородного происхождения) через процедуру коммендации и принесение сеньору торжественной присяги на верность. В битве при Пуатье конные войска продемонстрировали свою эффективность, и с этого времени пропорции конных вассалов в армии франков стали неуклонно расти. После Карла Великого, еще имевшего в своей армии пехоту, при Людовике I и Карле II франкские короли набирали почти исключительно конницу. Это стало началом рыцарства как института.
На первых этапах рыцарское сословие пополнялось за счет представителей разных слоев общества, готовых принести присягу
1 Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М.: Прогресс, 1987.
Государство Франция. Средние века
57
на верность и доказать делом свою храбрость и мужество. Но к середине XII века этот процесс приостанавливается, и в дальнейшем рыцарство становится полностью закрытой кастой: чтобы быть рыцарем, необходимо иметь рыцаря предка.
Средневековые рыцари представляли собой на новом этапе ин-ституциализацию второй функции индоевропейского общества, и вся система ценностей — включая презрение к материальным благам, часто обеты целибата или идеальной любви, славы и чести, преданности сюзерену и т.д. — представляет собой кристальную форму архетипа воина, уходящего корнями в глубины индоевропейской культуры. В Индии этому типу соответствовала варна кшатриев. С этносоциологической точки зрения рыцарь представлял собой рафинированный тип создателя классических иерархических политических конструкций, в основании которых находились крестьянские массы, объединяемые воинскими элитами в иерархические пирамиды, где вершиной были короли и император1. Соответственно, в государстве франков рыцари выступали как государствообразующий элемент, существенно отличающийся от племенных вождей и пеших армий, организуемых европейскими архаическими политиями (за исключением более упорядоченного Рима) на основе ополчения. Рыцарство создавало прообраз вертикальных линий управления, сходящихся к вершине общества, что, в конце концов, после долгих веков гармонизации сложной феодальной структуры, привело к появлению централизованных суверенных государств, образцом которых и стала Франция. При этом рыцарская культура сохраняла за рыцарями всех уровней достаточную степень автономии и независимости от высшей власти, что позволяло максимально полно реализовать тот героический индивидуализм и жажду славы, которые неотделимы от рыцарского этоса.
Эти соображения в большей степени относятся к светскому рыцарству, но почти с самого возникновения этого института существовало и духовное рыцарство, которое выразилось в образовании таких орденов, как орден тамплиеров или орден иоаннитов, возникших во время Крестовых походов. Духовное рыцарство выходило за рамки обычного архетипа образцового профессионального воина и было ориентировано на объединение в одной и той же личности двух начал — воинского и жреческого, монашеского, духовного. Мы можем увидеть в этом желание воссоздать социальный архетип, представляющий собой синтез первой (жреческой) функции индоевропейского общества со второй (воинской), примером чего
1 Дугин А.Г. Этносоциология. М.: Академический Проект, 2012.
58
Французский Логос
в Индии являлось предание о существовании в легендарную эпоху особой варны hamsa — касты Лебедя, в которой сочетались свойства брахманов-жрецов и воинов-кшатриев. Воины-монахи — тамплиеры и иоанниты — были примером именного такого синтеза: воинские доблести, культура и этос рыцарства служили символической опорой, на основании которой строилась глубинная мистическая и метафизическая экзегетика. Бедность рыцарей, их преданность сюзерену, их презрение к смерти толковались как призыв к осуществлению апофатического кенозиса, верности Христу и порыв к посмертному небесному бытию из мира материи и телесности. Такое духовное рыцарство объединяло в себе воинские и монашеские установки — вплоть до обета безбрачия и т. д. Поэтому рыцарские ордена оказывались под особым покровительством именно церкви, которая рассматривала их как воинство «Небесного Града», превосходящее по своему качеству даже земных владык, представлявших собой лишь «Град Земной». Так, устав ордена тамплиеров составил французский монах-цистерианец, вдохновитель второго Крестового похода 1147 года Бернар Клервоский (1091 — 1153). Первыми тамплиерам стали французские рыцари, а основателями ордена — французские аристократы Гюго де Пайэнс и Годфруа де Сент-Омер1 ит.д.
С точки зрения Ноомахии, рыцарство в целом, и особенно духовное рыцарство, представляло собой ярчайшее выражение олимпийского духа, являлось носителем аполлонического, а подчас апол-лоно-дионисийского2 Логоса. Поэтому в той мере, в какой феномен рыцарства был распространен в средневековой Франции, где получили развитие оба типа (светское и духовное), он представлял собой выражение солнечной, активной и патриархальной традиции.
Вместе с тем институт рыцарства заключал в себе ряд угроз как для королевской власти, так и для церкви. Светское рыцарство, основанное на этике вассальных отношений, предполагало личную верность сюзерену, что он мог при определенных обстоятельствах обратить против своих собственных сюзеренов — графов, герцогов и даже короля. Вассалы были обязаны следовать за своим непосредственным господином, кому поклялись в верности. Это существенно ограничивало власть монарха, который вынужден был опираться лишь на собственную энергию, волю, силу и хитрость, чтобы держать в повиновении могущественную и почти автономную феодальную знать.
1 Demurger A. Les Templiers, une chevalerie chr6tienne au Moyen Age. Paris: Seuil, 2008.
2 Во Франции надолго сохранилось расхожее выражение «пить как тамплиеры».
Государство Франция. Средние века
59
Еще большую опасность представляли для королей духовные рыцарские ордена, которые объединяли в себе воинские и жреческие функции, тем самым ставя себя не просто на один уровень со светскими властителями, но подчас и выше их: ведь власть короля, согласно католической доктрине, являлась исключительно светской и представляла «Град Земной», а рыцари-монахи воплощали в себе синтез двух начал («двух мечей»), что делало их положение более высоким.
Но и сама церковь, опираясь на рыцарские ордена (особенно на рыцарей-иоаннитов, давших начало Тевтонскому ордену и Мальтийскому ордену), в одних случаях испытывала в их отношении сложную гамму чувств, в других: автономная система самоуправления, аскетический монашеский идеал и воинский стиль делали их в некоторых ситуациях конкурентами церковной организации, определенные стороны которой они копировали в своей организации.
Все это привело к тому, что в период правления Филиппа IV Красивого при поддержке Папы Климента V в 1312 году орден тамплиеров был полностью разгромлен1, последний великий магистр Жак де Молэ сожжен в 1314 году, а все имущество конфисковано в пользу короля. По преданию, на костре Жак де Молэ проклял своих палачей, и по странному стечению обстоятельств ни король, ни Папа не прожили после этой казни и года. Относительно тамплиеров существует множество версий и легенд, от признающих обоснованность обвинения со стороны Филиппа Красивого и под пытками вызванные признания, до тех, кто считает это чистыми наветами и полностью их оправдывает.
Тем не менее рыцарство как институт пережило конец тамплиеров на многие столетия, став одним из классических средневековых институтов, и исчезло лишь в эпоху Возрождения и в Новое время.
Король Артур: кельтские феи и сакральная монархия
Рыцарская культура получила литературное выражение в цикле легенд и эпических произведений, посвященных фигуре короля Артура и рыцарям Круглого стола, а также Святому Граалю. Описания двора короля Артура стали идеалом для многих поколений европейских рыцарей. Истоки легенд о короле Артуре имеют безусловно
1 С точки зрения Р. Генона, это был поворотный момент в истории Средневековья, когда наступил поворот от традиционного общества к десакрализации и модернизации.
60
Французский Логос
кельтское происхождение, поэтому весь цикл этих легенд можно рассматривать как важнейшее семантическое ядро французского Логоса в его средневековом выражении.
Впервые упоминания о фигуре Артура как якобы о предводителе кельтов бриттов V—VI веков, героически противостоящем саксонским завоевателям, мы встречаем в валлийских источниках VIII века, но в исторических хрониках и анналах о такой личности упоминаний не сохранилось. В «Истории бриттов» (Historia Britonum) валлийского монаха Ненния рассказывается о 12 битвах короля Артура. В XII веке появляются работы Гальфрида Монмутского, Роберта Васа и Лайомона, где содержится уже более полная информация, сводящая воедино хроникальные и мифологические сюжеты. В XII веке французский поэт Кретьен де Труа и немецкий поэт Вольфрам фон Эшенбах посвящают Артуру и теме рыцарей Круглого стола свои знаменитые произведения, ставшие эталоном для бесчисленных подражателей. В XV веке англичанин Томас Мэ-лори сводит в прозаической версии «Смерть Артура»1 все сведения воедино.
В цикле текстов, посвященных королю Артуру, явно проглядывает древнее кельтское мировоззрение, основанное на наложении радикальной воинской этики, органически связывающий этос древних индоевропейских воинов с рыцарской культурой Средневековья, на внушительный остов матриархальной культуры, где женское начало предстает в своем зловещем, могущественном и достаточно раскрепощенном виде. Доминирующей сюжетной структурой являются войны, битвы и поединки, где описываются различные стороны мужества, силы и волевой энергии главных героев. Причем храбрость и дерзость одинаково присущи как тем персонажам, к которым рассказчик относится с пиететом, так и тем, кого он откровенно порицает. Злодеи, клятвопреступники и предатели оказываются в конечном счете весьма неплохими воинами, способными сражаться, выдерживать лишения и упорно достигать своей цели. Это воспевание воинского начала во всех его проявлениях составляет апофеоз рыцарской культуры Средневековья и представляет собой кульминацию воинственного патриархального кельтского духа, весьма созвучного в этой своей ипостаси духу германскому.
Но вместе с тем цикл деяний короля Артура демонстрирует наглядно и внушительно и зловещую сторону женского начала, проступающего в большинстве женских персонажей. Сам алгоритм
1 Мэлори Т. Смерть Артура. Роман-эпопея. М.: Художественная литература, 1991.
Государство Франция. Средние века
61
поведения главных героинь, включая супругу Артура королеву Гви-невру, отличается довольно высокой свободой — включая адюльтер, внебрачные связи, стратегии соблазнения с использованием магических средств и волшебных чар и т.д., что характерно для обществ с высокой степенью матриархата. При этом романтическая культура рыцарства, воспевающая Прекрасную Даму и внебрачную любовь (Minne), придает этим сюжетным линиям дополнительную смысловую насыщенность: женское начало не столько побуждается к подчинению и дисциплине, как в строго патриархальных обществах, сколько поощряется к своему относительно свободному развертыванию, составляя для куртуазного рыцаря почти военный вызов, приглашение на онтологическую дуэль, гальванизирующую его внутреннее состояние.
Снова, как и в других кельтских преданиях, мы видим, что легитимация королевской власти Артура связана с фигурой Владычицы Озера, феей Вивианой, Нинианой или Нинуэй, которая дает Артуру меч Эскалибур, очаровывает мага Мерлина, становясь причиной его гибели (вхождения в камень), а затем провожает вместе с остальными женскими духами смертельно раненного Артура на волшебный остров Авалон1. Этот остров описан как царство женщин, где господствует другой зловещий персонаж — сестра Артура фея Моргана, служащая причиной гибели Артура и падения его царства, так как именно она поддерживает Мордреда, продукта инцестуальной связи с братом, понуждая его к восстанию и узурпации трона. По одной версии, имя Морганы происходит от валлийского Morcant (тог море, a cant — круг), а по другой речь идет о древнекельтской богине смерти и войны Morrighan (от Mhor Rioghain — дословно, «Великая Королева»). В близкой к этому циклу легенде сестрой Артура называется еще одна фея — Прессина, ставшая женой короля Шотландии Элинаса. Она выступает как мать трех дочерей — Мелюзины, Мелиоры и Палатины, которых она воспитывала без отца на острове Авалон. Мелюзина, узнав, что причина отсутствия отца заключается в том, что он подсмотрел вопреки просьбе супруги процесс волшебного рождения ею трех дочерей и их купания, решает отомстить ему, похищает его и заключает в горе (как Озерная Фея Мерлина). Мелюзина изображается как женщина со змеиным хвостом или с хвостом рыбы (иногда двух рыб).
Мелюзина, племянница Артура и феи Морганы, стала супругой Раймондина, графа Пуатье, выступив основательницей рода Лузи-ньянов. Позднее она превратилась в дракона и покинула замок Лу-
1 Авалон дословно означает «Остров Яблок», что созвучно греческому мифу о Садах Гесперид и стране, расположенной на далеком Западе.
62
Французский Логос
зиньянов, облетев его в последний раз с криком, полным неизбывной тоски (откуда знаменитый «крик Мелюзины»). К Мелюзине возводили свое происхождение и представители династии Плантагенетов, графов Анжуйских, ставших в XII веке английскими королями1.
Феи Великой Кельтиды помогают героям основать царства, одержать победы, дают счастье и любовь, но они же их и отбирают, ввергая в пучину страданий, скорбей, лишений, потерь и разочарований. Этот настойчивый матриархальный мотив постоянно присутствует в самых разных изданиях легенд и преданий, связанных с королем Артуром, составляя постоянный и устойчивый лейтмотив всех версий и вариантов.
Другой аспект цикла короля Артура состоит в описании архетипа сакральной монархии, которая превосходит границы земного могущества. В фигуре самого короля Артура мы имеем образ не просто воина, первого среди равных, но носителя священной власти. С этим связаны сакральные аспекты его владычества и семантический узел всего цикла легенд, где речь идет о Круглом столе и о Святом Граале. Круглый стол, где собираются двенадцать самых верных рыцарей, представляет собой парадигму орденской организации, все участники которой объединены высшей метафизической целью — обретения Святого Грааля, представляющего собой чашу, куда Иосиф Аримафейский собрал, согласно апокрифическому преданию, кровь распятого Христа. Кроме того, Иосиф Аримафейский считался владельцем копья центуриона Лонгина, наконечник которого он передал другому персонажу цикла короля Артура — «Королю-Рыбаку», в котором некоторые авторы видят аналог кельтского Брана. Различные версии этой истории изложены в романе «Иосиф Аримафейский» французского поэта Роберта де Борона1 2 и в более позднем французском романе «Великий Святой Грааль»3. В других версиях легенды речь идет о священном камне. Святой Грааль, поиски которого составляют высшую цель рыцарства, в которой открывается духовное и эсхатологическое измерение самой этой инсти
1 Наиболее известной литературной версией легенд о Мелюзине стал роман французского писателя Жана из Арраса «Мелюзина» («Le livre de Mdlusine»), написанный в конце XIV века по указанию герцога Беррийского. См.: Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М.: Наука, 1976.
2 Boron R. de. Joseph d'Arimathie: A Critical Edition of the Verse and Prose Versions. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1995. См. также: Борон P. ge. Роман о Граале. СПб.: Евразия, 2005.
3 Le livre du Graal. 3 vol. Paris: Gallimard, Pleiade, 2001 — 2009.
Государство Франция. Средние века
63
туции, венчает собой земные подвиги и переносит все в неземные области, в сферу метафизики.
Сакральный аспект королевской власти ипостазирован в фигуре волшебника Мерлина (валлийское Myrddin Emrys), который представляет собой чисто жреческую функцию. Он выступает как друг, помощник и наставник короля Артура, преобразуя тем самым средневековую французскую и, шире, архаически кельтскую по своим истокам, версию симфонии властей, где духовное владычество гармонично сочетается с временным правлением1. Пара Мерлин и Артур представляет собой первую функцию индоевропейского общества (сакральная монархия, король-жрец) и парадигмальную основу духовного рыцарства.
Цикл легенд о короле Артуре имеет очевидную эсхатологическую ориентацию. Но в отличие от германской эсхатологии конец времен описывается здесь в смутных и ностальгических тонах. Когда придет последний час, король Артур, пребывающий на острове Авалон, проснется. Вернется и Мерлин, вошедший в скалу, колонну или дуб. Появится Святой Грааль и копье Лонгина. И тем самым будет восстановлено кельтское царство, империя короля Артура.
Валлийские источники полнее всего излагают версию эсхатологии, связанную с судьбой кельтских сакральных правителей. В ней фигурирует голова Брана, которую король Артур выкопал, провозгласив, что отныне Британию от саксов будет защищать только он и его рыцари. Там же упоминается «пророчество Мерлина», в котором он предсказывает победу Белого Дракона (символизирующего англосаксов) над Красным (символизирующим кельтов), что и происходит после английских завоеваний. При этом Мерлин проклинает Белого Дракона и пророчит его грядущее падение. В определенном смысле «проклятие Мерлина» сбылось во время битвы при Гастингсе, когда норманнский герцог Вильгельм Завоеватель убил последнего саксонского короля Гарольда. Однако норманнские правители позднее сами вобрали в свой род саксонскую кровь Матильды, что сделало и их подпадающими под это пророчество. Валлийская легенда гласит, что «проклятие Мерлина» перестало действовать лишь после конца династий Плантагенетов, Йорков и Ланкастеров, когда в XV веке королевский трон наконец снова оказался у валлийцев (то есть бриттов) из династии Тюдоров (1485— 1604), тем самым — на символическом уровне потомки кельтов вернули себе власть над Британией.
1 Guenon R. Autoritd spirituelle et pouvoir temporel. P.: Editions de la Maisnie, 1984.
64
Французский Логос
Тема восстановления Великой Кельтиды и возвращения короля Артура вдохновляла многие сюжеты в средневековой англофранцузской и, шире, европейской рыцарской культуре, отчасти отражаясь и в сфере политики. Так, первый английский правитель династии Тюдоров Генрих VII назвал своего первенца, которому планировал передать трон, Артуром, а также отреставрировал Круглый стол, по преданию, сохранившийся в Лондоне с незапамятных времен1.
1 Дуган А.Г. Ноомахия. Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект. М.: Академический проект, 2015.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
Схоластика и «крик Мелюзины»
Ярким проявлением французского духа стала средневековая схоластика, в становлении которой французы играли вместе с немцами и итальянцами ведущую роль. Схоластика в первую очередь пробле-матизировала отношения философии и теологии, соглашаясь в целом с необходимостью подчинения рационального человеческого мышления божественному Откровению и догматам веры, но в то же время пропорции соотношения веры и разума и определение самой природы разума у разных школ и течений, а также отдельных мыслителей, существенно варьировались. Этнически состав ученых-схоластов был весьма различен: среди них были французы, немцы, итальянцы, англичане, испанцы и т.д., но в целом это было течение, ограниченное пределами Западной Европы и зоной влияния католичества, так как в православной Византии преобладали совершенно иные традиции богословствования и философствования. Схоластов конфессионально объединяло католичество, а лингвистически — латынь. При этом важно подчеркнуть, что, если среди немцев уже с эпохи Карла Великого возникает практика проповедей на немецком языке, кульминацией чего становится рейнская мистика, давшая импульс свободному выражению германского духа, то схоласты и теологи других народов остаются строго в контексте латыни, что объясняется, кроме всего прочего, и латинизацией местного населения, утратившего в значительной мере свой родной язык — в случае французов галльский. Язык несет в себе не только синтаксические нормативы и лексические средства выражения, но и совершенно определенные семантические поля и связи, что не может не влиять на саму структуру дискурса. Схоластическая латынь во многом диктовала не только форму философствования и богословствования, но до определенной степени и смыслы и смысловые отношения. Так, само занятие схоластикой порождало особую форму ментальности, которая объединяла философов разных западноевропейских народов, постепенно формируя общую западноевропейскую идентичность, которую можно назвать латино-схоластической. Она стано-
66
французский Логос
вилась культурной и интеллектуальной основой распространения и укрепления папской власти, как сама философия в целом представлялась здесь «служанкой богословия». Объединенная не столько политически, сколько экклесиастически католическая Европа через схоластику обеспечивала свою обобщенную идентичность, свой западно-средневековый Логос.
В поле общего схоластического западноевропейского Логоса роли разных народов были не одинаковы. Политическая доминация германских династий и ряд других факторов привели к тому, что немецкое ядро с IX века получило определенную автономию, что дало возможность германскому Логосу развиваться параллельно общему схоластическому, отчасти в его поле, но отчасти и самостоятельно. В случае кельтского мира и особенно Франции симметричных процессов мы ясно различить не можем: самобытное кельтское мышление в Средневековье можно легко найти в сфере мифов, преданий, поэзии, литературы и искусства, а также в некоторых еретических течениях (особенно на юге Франции) — таких, как катары, но в области схоластики французские мыслители самостоятельной традиции не сформировали, поэтому особенности собственно французского Логоса в общем течении схоластов выделить не просто. Фактор языка здесь отсутствует, а этническая принадлежность не всегда свидетельствует о том, что мы имеем дело с ярким и концентрированным выражением конкретной этнокультурной идентичности, и каждый случай требует особого рассмотрения.
Однако, несмотря на это, с самого начала зная дальнейшую судьбу философского историала Франции в более поздние эпохи, мы можем попытаться апостериорно выявить уже в схоластическую эпоху некоторые характерные особенности именно французского стиля мышления, французской рациональности, которая проявит себя намного контрастнее в более поздние периоды и, в частности, в Новое время. Чтобы стать эксплицитной в Новое время, французская рациональность должна была имплицитно наличествовать и в предшествующие эпохи, в данном случае в средневековой схоластике.
Если мы сопоставим ярко выраженную кельтскую идентичность в средневековых легендах и эпосах (как в случае цикла «Короля Артура») с латинской схоластикой, может сложиться впечатление, что мы имеем дело с не пересекающимися множествами: красочный экзистенциальный стиль трагического и воинственного этнически окрашенного эпоса резко контрастирует с безличной сухостью универсалистских схоластических построений. Но в этом схоластическом западноевропейском универсализме долж
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
67
на была отразиться и собственно французская — кельтская — форма рациональности. Так как мы в «Ноомахии» исходим из принципа глубинного родства Логоса и мифа, коренящихся в общей для обоих парадигме, то у французского рационализма и кельтской воинственно-феминистической поэтики должен быть единый источник вдохновения. Мы видели, что в структуре кельтского эпоса мы имеем дело с феноменом «хрупкого патриархата», где сквозь подчеркнуто воинскую маскулинную культуру проступают могущественные мотивы неукрощенной феминоидности. Моргана и Мелюзина находятся не просто на противоположной стороне от героических мужественных воинов, они действуют изнутри них. Отсюда тонкий стилистический истеризм кельтского начала, присущий культуре в целом — вне конкретной гендерной определенности. В мифах это представлено эксплицитно. Но если это фундаментальная структурная черта кельтской культуры, то она должна проявлять себя — пусть и имплицитно — во всех формах, включая поле рациональности. И здесь мы подходим к главному: французская рациональность, будучи формально латинской и патриархальной (равно как героическая мужская культура кельтов), скрывает в себе устойчивое феминоидное ядро, которое можно обнаружить и в схоластическом корпусе французских философов и теологов, если знать, что искать. Речь идет о специфическом стиле мышления, отличающемся способностью через серии утонченных и подчас чрезвычайно изящных ясных и четких дистинкций и дифференциаций приводить дискурс к невнятным, двусмысленным и противоречивым заключениям — в духе колдовства Феи Озера или заклинаний Морганы. Французский рационализм содержит в своем ядре «крик Мелюзины», пронзительную и едва уловимую неутолимую ностальгию женской тщеты. Этот рационализм окрашен глубинным переживанием привации, недостаточности, неполноты. Французский разум тем более деятелен, пронзителен и быстр, чем острее он догадывается о своей неполноте, о своей пассивной, лунно-рефлекторной природе. И тогда его могучая деятельность, лишенная солярного олимпийского центра, превращается в механическую комбинаторику, суггестивные риторические построения и непрерывное бегство. Во французской схоластике можно различить именно это бегство мысли, создающее ощущение интеллектуальных чар. И как раскрепощенная женственность в кельтских мифах, в конце концов, ведет историю к катастрофе, так и средневековая схоластика, как минимум в своем кельтском ядре, готовит следующую фазу истории европейского Логоса — стерильный радикально истерический рационализм Нового време
68
Французский Логос
ни, выливающийся в пределе в необратимую духовную катастрофу Постмодерна.
Истоки западной схоластики: закрытый платонизм бл. Августина
На основополагающую структуру западноевропейской схоластики в первую очередь решающее воздействие оказали два латинских мыслителя: бл. Августин Аврелий1 (354 — 430) и Боэций (480 — 524). Оба не были платониками, но их платонизм представлял собой «закрытую» версию; неоплатоническая апофатика школы Плотина и сопряженная с ним хенология на них большого воздействия не оказала. Вероятно, бл. Августин в юности увлеченный манихейством, сохранил и позднее, после принятия христианства, влияния этого дуалистического учения. Блаженный Августин, родившийся в Нумидии, был римлянином, и строй его мышления отражал латинскую прямолинейность, качественно отличающуюся от утонченной диалектики греков. В определенном смысле он воплощает в себе дух латинства, и поэтому именно его подход стал доминирующим в западноевропейской схоластике, построенной именно на латинском Логосе. На французскую схоластику бл. Августин оказал решающее влияние еще и тем, что сам французский язык представлял собой развитие «народной латыни». Хотя Боэций также рассматривался в схоластике как непререкаемый авторитет, именно блаженный Августин являлся автором фундаментальной схоластической топики и выступал мерилом католической ортодоксии на протяжении всего Средневековья.
Творчество бл. Августина многообразно и содержит целый ряд философских направлений и подходов. Главным для схоластической культуры и для католичества в целом, включая его социально-политическую и правовую доктрину, стало учение о «двух Градах», где проводится последовательная оппозиция Неба и Земли как двух онтологически различных миров. «Град Божий» есть духовный мир, в котором все вещи существуют в своих идеальных образцах. По сути, это теологическое толкование мира идей Платона, представленного в «Тимее» как образцы, парадигмы и соотнесенного у самого Платона с фигурой Отца. «Град Земной» представляет собой искаженную пародию на «Град Божий», его обратное перевернутое отражение.
«Град Божий» есть свет, добро, порядок и вечность. В нем любовь бескорыстна и самозабвенна, действие направлено лишь на благо других, чистота не омрачена никакими страстями, блаженство пере
1 Августин. Творения. СПб.; Киев: Алетейя; УЦИММ-Пресс, 1998.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
69
полняется через край, и все это существует в вечном настоящем, не зная прошлого и будущего (так как время, по бл. Августину, субъективно и привносится в структуру бытия человеком — через память, учреждающую прошлое, и надежду, конституирующую будущее).
«Град Божий» не является абстракцией, но представляет собой онтологическую реальность: он включает в себя творение Богом благого мира и благой природы, которые в своем парадигмальном истоке не затронуты никакой привацией, лишенностью и злом. Таков же и первый человек, сотворенный полностью благим. В этом бл. Августин предельно далек от манихейства, основанного на дуализме и самостоятельности зла, включая отождествление со злом материи; от этого бл. Августин полностью отказался, и здесь он полностью стоит на стороне классического платонизма и неоплатонизма. Зло, по бл. Августину, не есть нечто самостоятельное, но умаление добра, с чем, безусловно, согласился бы Плотин, утверждавший (против гностиков) строго то же самое, а также все неоплатоники.
Дуализм бл. Августина проявляется в другом — в его описании «Града Земного». «Град Земной» представлен им как прямая противоположность «Граду Небесному». В нем царят эгоизм, страсти, пороки; его любовь пристрастна и кичлива; его деяния эгоистичны и материальны; он полностью вовлечен во время, живет прошлым и будущим, упуская настоящее; все пропорции и смыслы в нем искажены; он есть предельная стадия деградации и падения. Это обратная пародия на «Град Небесный», и уже в этом описании мы видим картину, намного более схожую с представлениями гностиков, нежели с неоплатоническим толкованием феноменов имманентно сущего как символов и эйдетических полей, уходящих по непрерывной цепи к высшим небесным эйдосам. Платон в «Тимее» почтительно называет феноменальный мир Сыном, указывая на его связь с Отцом, и описывает как «икону», образ. Бл. Августин под «Градом Земным» понимает именно антитезу миру образцов, а не их проявление. Все позитивное, по бл. Августину, включая Сына, помещается всецело в «Град Небесный». «Град Земной» не просто отражение вечного во временном, но настолько искаженное отражение, что полностью затмевает собой образец, будучи симулякром, то есть «копией без оригинала»; настолько плохой копией, что узнать в ней оригинал невозможно. Более того, эта копия еще и взбунтовалась против оригинала, претендуя на то, что она и есть оригинал. Поэтому между двумя градами, по бл. Августину, идет фундаментальная война: либо Небо, либо Земля.
Вся история мира, описываемая бл. Августином на основе библейского повествования, делится на 7 этапов, или 7 эпох:
70
Французский Логос
1) от Адама до Ноя,
2) от Ноя до Авраама,
3) от Авраама до пророка Давида,
4) от Давида до Вавилонского пленения,
5) от Вавилонского пленения до Рождества Христова,
6) от первого пришествия Христа до конца света,
7) вечность, которая откроется после Страшного суда, но которая была до творения мира и есть сейчас.
На всех этапах между «Градом Небесным» и «Градом Земным» существует антагонизм, но нарастает он постепенно, пока, наконец, в шестую эпоху не превращается в войну, которая закончится торжеством «Града Небесного» и погружением «Града Земного» в вечные муки.
«Град Небесный», по бл. Августину, в шестую эпоху представляет собой христианскую церковь, а «Град Земной» — область профаниче-ской земной политики, т. е. государство (для бл. Августина им был Рим) и всю сферу секулярных, бытовых, земных, социальных и телесных отношений. Общество как церковь противоположно обществу как мирскому объединению людей. Поэтому «небесное общество» по отношению к земному должно строиться на обратных началах’, в земном граде преобладают эгоизм и материальные устремления, в небесном — братская любовь и обращение к горнему миру, к вечности.
Именно эта парадигма становится основой церковной политики римских пап, а также отправной точкой западноевропейской схоластики. Но если папы делают из этого политический вывод, то схоласты — интеллектуальный: человеческое мышление должно быть ориентировано на «Град Божий», поэтому задача мышления состоит в созерцании его структур, данных в Откровении и церковной традиции.
Однако как сам бл. Августин (равно как и Боэций) опирался в своих построениях не только на Священное Писание, но и на дохристианских философов, в первую очередь, на Платона, так и схоласты строили свои теории с учетом греко-римской философской традиции — в первую очередь, аристотелевской и чаще всего в латинских переводах.
Боэций: Квадривиум, свобода и проблематизация универсалий
Другой латинский философ Боэций (480 — 524), происходивший из высокопоставленного римского рода (его отец был консулом), также сыграл существенную роль в подготовке идейного контекста
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
71
западноевропейской и, в частности, французской схоластики. Боэций сделал ряд переводов Аристотеля и Платона, а также оставил обширные комментарии к ним, в том числе и к текстам неоплатоника Порфирия («Исагог»), где тот давал свою трактовку «Категорий» Аристотеля.
Боэций систематизировал греческую ученость в т. н. Квадривиу-ме1, куда входили 4 дисциплины — арифметика, геометрия, астрономия и музыка, чье единство обосновалось пифагорейским учением о «мировой гармонии», и перевел на латынь ряд наиболее важных трактатов. Квадривиум для Средневековья был аналогом того, чем стала Энциклопедия для Нового времени. Тем самым Боэций заложил фундамент средневековой западноевропейской образовательной парадигмы, ставшей основой схоластического канона. Боэций, планировавший создать весь Квадривиум, успел составить только разделы арифметики и музыки. Остальные дисциплины — геометрию и астрономию — систематизировали позднее его последователи.
Боэций в своем наиболее известном произведении «Утешение философией»1 2, написанном им в тюрьме в ожидании смертной казни, поводом к которой стали придворные интриги и подложные обвинения, ставит проблему соотношения Божественного Провидения и свободы воли, что с тех пор стало одной из главных теологических проблем схоластики. С новой силой эта проблематика вспыхнула в Реформации, разделив кальвинистов, настаивавших на абсолютном предназначении, и остальных протестантов, признающих человеческую свободу. Именно Боэций заложил основы такого толкования этих двух фундаментальных идей, которое было принято католической ортодоксией: Божественный Промысел, согласно Боэцию, не отменяет человеческой свободы воли, которая, будучи сосредоточена на благе, способна изменить личную судьбу. Это изменение возможно, однако, только в том случае, если мы признаем антропологический плюрализм, дифференциальность внутри самой
1 Впервые систематизировать 7 свободных искусств предложил римский неоплатоник Марциан Капелла (ок. 410 — 420), который руководствовался неоплатонической идеей о связи всех видов знания с общей ноологической матрицей и платоновским идеалом пайдейи. 7 свободных искусств включали, кроме Квадривиума, две филологические дисциплины — грамматику и риторику, и одну философскую — диалектику. При этом у самого Капеллы все 7 свободных искусств описываются в образах служанок девы Филологии, ставшей женой ищущего знаний юноши Меркурия. Капелла добавляет к этим семи небесным искусствам два земных — архитектуру и медицину. См.: Brouwer Т., Teeuwen М. Carolingian Scholarship and Martianus Capella: The Oldest Commentary Tradition. Leiden: Huygens Instituut, 2008 и Martianus Capella and the Seven Liberal Arts. New York: Columbia University Press, 1971.
2 Боэций. Утешение философией и другие трактаты. М.: Наука, 1990.
72
Французский Логос
человеческой структуры. Промысел Бога о каждом существе всегда благ, и в той степени, в какой человек сам движется в сторону блага, он включает себя в Книгу Жизни и становится «несомым Промыслом» как ветром. И в этом он свободен. Но он также свободен уклониться от блага, избрать зло и грех. В этом случае он уклоняется от Промысла и подпадает под влияние рока. Обе возможности — и Провидения, и рока — сосуществуют и остаются открытыми. Пока человек живет, у него всегда сохраняется возможность выбора, свобода воли. Даже совершив тягчайшие преступления, он имеет возможность покаяться, то есть осуществить «метанойю» (цгтй-voia), дословно, «изменение сознания». Свобода воли состоит, таким образом, в том, что внутри человека есть два полюса (фокуса) или даже «два человека»1 — один человек является «избранным», другой «проклятым». Бог предуготовил каждому промыслительное спасение, однако «много званых, но мало избранных», и человек свободен услышать этот зов и последовать за ним (и «внутренний человек» его слышит и за ним следует), но может и проигнорировать (тогда он вступает в поле «внешнего человека», подвластного стихии греха и мирских страстей). Такая дуальная антропология вполне созвучна дуалистическому платонизму бл. Августина и была принята как антропологический норматив схоластикой. Лишь позднее, в эпоху Реформации, когда базовой антропологией стало единство человека на основе индивидуализма, проблема «свободы воли» и Провидения снова потребовала переосмысления и нового решения.
Другим важнейшим вкладом Боэция в схоластику стала проблема, идентифицированная им у Порфирия, относительно соотношения вещи и ее имени. Эта тема ставится Боэцием в центре внимания в его комментариях к Порфирию1 2, которые он же сам и перевел на латынь. Рассуждая о понятии общего, Боэций использует латинский термин universalia3, который в дальнейшем и стал камнем преткновения, породив длившийся в течение всего Средневековья спор об универсалиях, то есть об онтологическом статусе имени вещи, эйдо-
1 Немецкие средневековые мистики говорили даже о «трех людях», добавляя к «внутреннему человеку» еще и более тайного, «апофатического». Дугин А. Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический. М.: Академический проект, 2015.
2 Боэций. Комментарий к Порфирию // Боэций. Утешение философией и другие трактаты.
3 Боэций латинский термин universalia использует для перевода греческого термина каОбЛои, дословно, «под целым» (ката- и бЛод), что лежит в основании понятия «католический», а на русский в определении церкви передается — не слишком удачно — как «соборный». «Не слишком удачно» потому, что в греческом «целое» (бЛод) мыслится не как результат собирания частей, но как нечто первичное и превышающее сумму частей, отсюда «холизм».
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
73
се и идеи1. Собственно, этот спор и три фундаментальные позиции, которые он предполагал, стали интеллектуальной картой схоластики.
1. Идеалисты как строгие и последовательные платоники утверждали, что идеи существуют до, прежде вещей и обладают самостоятельным и автономным бытием (universalia ante rem).
2. Реалисты, с опорой на Аристотеля, настаивали, что эйдос существует и обладает бытием лишь тогда, когда он экзистирует сквозь вещь, внутри вещи, через вещь (universalia in re).
3. Номиналисты, подобно Демокриту, Эпикуру или Лукрецию, настаивали на том, что общее понятие есть лингвистическая конвенция и не наделено никаким бытием, представляя собой «пустой звук» (flatus voci); эта позиция определяется формулой universalia post rem.
Сам Боэций не выносит никакого определенного суждения и приводит лишь две позиции — Платона и Аристотеля.
Роды и виды существуют одним способом, а мыслятся — другим; они бестелесны, но, будучи связаны с чувственными [вещами], существуют [в области] чувственного. Мыслятся же они помимо тел, как существующие самостоятельно, а не как имеющие свое бытие в других. Однако Платон полагает, что роды, виды и прочие не только мыслятся как общие, но и суть таковые, и что они существуют помимо тел. Аристотель же считает, что мыслятся-то они как бестелесные и общие, но существуют в чувственных [вещах]. Разбирать здесь их мнения я не счел уместным, ибо это — дело более высокой философии2.
При этом Боэций обращает внимание, что сам Порфирий применяет к определению бытия вещей и бытия эйдосов (видов и родов, на латыни genera и species) разные глаголы — быть (греческое Eivai, латинское esse), иметься, наличествовать (греческое virapT]Eiv, латинское habitus), существовать (греческое E(piorao0ai — откуда итгбсттастк;, ипостась, латинское existere, existentia), что допускает гамму онтологических нюансов и различий, полной ясности у Порфирия не получивших. Но и Боэций не претендует на полное разъ-
1 Libera Alain de. La Querelle des universaux de Platon a la fin du Moyen Age. Paris: Le Seuil, 1996.
2 Боэций. Комментарий к Порфирию. С. 29.
74
Французский Логос
яснение этой сложной темы, оставляя ее последующим поколениям схоластов, хотя некоторые его пассажи, равно как и слова Порфирия в его переводах, можно истолковать в номиналистском духе, то есть как отказ от признания за ментальными обобщениями (universalia) автономного бытия.
В любом случае Боэций, как и бл. Августин, стал первым аккордом западноевропейской католической средневековой схоластики, отзвуки которого были слышны вплоть до Нового времени. В той мере, в какой интеллектуальная культура Франции была интегральной частью этого общеевропейского явления, идеи этих двух столпов латинской мысли аффектировали ее самым глубинным образом. А так как французский язык представлял собой производную от латыни, то латинская семантика текстов бл. Августина и Боэция фундаментально предопределила семантику и лексику философского и богословского схоластического дискурса. Латынь стала лингвистической и филологической судьбой французов; следовательно, ее базовые термины во многом повлияли на внутреннюю парадигму французской философии.
Иоганн Скот Эриугена: апофатическая эсхатология
В самом начале истории Франции, а конкретно в эпоху Западнофранкского королевства, король Карл Лысый ставит задачу активно способствовать просвещению своих подданных и распространять христианскую ученость в Галлии вслед за своим дедом Карлом Великим, занимавшимся христианизацией и просвещением самих франков и других германских народов.
В это время, спасаясь от норманнских набегов, во Францию приезжает ирландский монах Иоганн Скот Эриугена1 (ок. 810 — 877), ставший одним из самых ярких мыслителей Средневековья. Его ирландское (кельтское) происхождение и его пребывание в Западнофранкском королевстве (Франции) в начальный период его истории делает его первым полноценным французским мыслителем. Карл Лысый приглашает его к королевскому двору, и Иоганн Скот Эриугена получает статус ученого, возглавляющего придворную школу, повторяющую придворную школу (Академию) Карла Великого, созданную им в Ахене и возглавлявшуюся другим выходцем с Британских островов, но только англосаксом — Алкуином.
1 Глубокий философский анализ творчества Эриутены дается в работе современного немецкого специалиста по неоплатонизму Вернера Байервальтеса. См.: Beierwaltes W. Eriugena. Grunziige seines Denkens. Frankfurt am Main: Vittorio Kloster-mann, 1997.
французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
75
Собственным именем было Иоганн, а Скот и Эриугена указывали, как это было часто в средневековой Европе, на его происхождение — «Скот», поскольку так называли в то время всех гэлов Ирландии и Шотландии, а «Эриугена» (от Hibernia, «страна зимы» на латыни) — так как он был выходцем из Ирландии. Таким образом, «Скот» и «Эриугена», по сути, дублировали друг друга.
Иоганн Скот Эриугена составляет комментарий1 на главный труд философа Марциана Капеллы (ок. 410 — 420) «Брак девы Филологии и юноши Меркурия»2, где римский неоплатоник заложил основы деления образования на 7 свободных искусств — Тривиум и Квадривиум. Тем самым он продолжает начатую Боэцием систематизацию европейской пайдейи в ее платонической форме. Образование Эриугена считает путем духовного возвращения человека к Создателю, и следовательно, частью мистико-метафизического процесса.
По просьбе короля Карла Лысого Иоганн, блестяще владевший греческим, переводит на латынь тексты, приписываемые Дионисию Ареопагиту, «Ареопагитики»3. Это было чрезвычайно важным жестом с нескольких точек зрения.
Во-первых, тем самым в латинскую схоластику вводились классические тексты неоплатонической традиции, поскольку «Ареопагитики» представляли собой христианизированную версию метафизики Прокла и, следовательно, эллинского неоплатонизма в целом.
Во-вторых, Дионисий Ареопатит считался святым покровителем Франции. И показательно, что первый король Франции захотел иметь переводы текстов святого покровителя своей страны. Тот факт, что под именем этого святого циркулировал свод текстов апо-фатического христианского неоплатонизма и что этот свод был переведен на самом первом этапе собственно французского историала первым французским философом — имел колоссальное символическое значение.
Позднее перевод Иоганна Скота Эриугены и комментарии к нему стали классикой европейской схоластической культуры, и сам Эриугена именуется часто просто «Комментатором» (например, у Фомы Аквинского), что сделало его мысль частью магистральной традиции.
1 Johannis Scott. Annotationes in Marcianum. Cambridge: The Mediaeval Academy of America, 1939.
2 Capella Martianus. The marriage of Philology and Mercury. New York: Columbia University Press, 1977.
3 Первый перевод был сделан несколько раньше аббатом Хильдуином по просьбе Людовика Благочестивого, которому экземпляр «Ареопагитик» послал византийский император Михаил II Травл (ок. 770 — 2 октября 829), основатель аморийской династии.
76
французский Логос
Скот Эриугена переводит на латынь также комментарии к «Аре-опагитикам» св. Максима Исповедника1, труды Григория Нисского и другие тексты восточных отцов. Показательно, что это ревностное увлечение именно греческой аскетической и мистической традицией в богословии и философии в тот период было свойственно именно ирландцам — Седулиусу Скоту, Мартину Скоту и т. д.
Ареопагит оставил поэтические «Гомилии», представляющие собой комментарии на Евангелие от Иоанна1 2, а также другие мистикорелигиозные поэтические произведения.
Главным трудом Иоганна Скота Эриугены считается «О природах»3 (гр. nepitpuoeajv, лат. De divisione naturae), где он подробно и обстоятельно изложил основы своей философии, ставшей первым аккордом самостоятельного философского мышления средневековой Франции.
Эриугена, считающийся одним из первых схоластов и отцом этого течения, с самого начала закладывает в это направление идеи, вытеснение которых на периферию, искажение, опровержение и даже анафематствование станут магистральной линией позднейшей схоластики, хотя освободиться от этого фундаментального импульса схоластической традиции так до конца и не удастся4.
Прежде всего Эриугена настаивает на том, чтобы отказаться от доминации латыни в вопросах теологии и обратить основное внимание на греческие тексты, греческую философскую традицию (в первую очередь неоплатоническую), греческих святых отцов и восточное православное богословие, особенно на его мистическую и аскетическую составляющие. Это облегчалось тем, что в этот период формально европейский Запад сохранял ойкуменическое единство христианского мира, будучи частью греко-римского патриотического круга. Если Карл Великий приветствовал распространение при дворе латинской учености, призывая клириков и философов ис
1 Maximi Confessoris Ambigua ad lohannem iuxta Johannem Scottum Eriugenam latine interpretationem // Corpus Christianorum Series Graeca 18. 1988.
2 Иоганн Скот Эриугена. Гомилия на Пролог Евангелия от Иоанна. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1995.
3 Erigene Jean Scot. De la division de la nature. Periphyseon. Paris: Presses Universitaires de France, Epimdthde. Livres I—V. 1995 — 2009.
4 Главный труд Эриугены «О природах» был осужден в 1050 году папой Львом IX как ересь. Затемв 1210 году осуждение было подтверждено на поместном Парижском соборе. По указу Гонория III в 1225 году книги Эриугены были сожжены, а позднее, в 1684 году, инквизиция внесла их в Индекс запрещенных книг. По одной из версий, идеи Скота Эриугены повлияли на движение «Братьев Свободного Духа» и бегардов (бегинок), в частности, на Маргариту Порет (XIII), автора мистического текста «Зеркало простых душ», сожженной на костре в 1310 году.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
77
пользовать исключительно латынь, Эриугена при дворе внука Карла Великого настаивает на преобладании греческого языка и греческой философии. Если бы схоластика последовала по пути, указанному этим великим кельтом, судьба европейского Запада могла бы быть иной. В Эриугене мы видим кельтский аналог более поздних рейнских мистиков, заложивших основу германской философской идентичности с опорой на неоплатонизм и апофатическую хеноло-гию. За несколько столетий до Майстера Экхарта аналогичный путь предложил Эриугена при дворе Карла Лысого. Первый французский мыслитель, таким образом, был неоплатоником и грекофилом, продолжающим традиции восточно-христианской мистики.
В главном труде «О природах» Иоганн Скот Эриугена излагает основы своей версии неоплатонического толкования. Для этого он строит свою терминологическую модель, в которой базовые понятия христианской теологии — в частности, идея творения — соотносятся с топикой открытого платонизма (апофатической хенологии, развернутой у Плотина, Прокла и Дионисия Ареопагита). Особенностью метафизического языка Эриугены является то, что он толкует латинское слово natura как греческое <puou;, но понимает под этим не столько «природу» как вещественное сущее, не столько сущее как таковое, не столько даже бытие, esse, но начало, греческое архи, которое может мыслиться и оптически, и онтологически, и хеноло-гически. С учетом этой поправки теория Эриугены становится кристально ясной. Важно, что в латинской теологии, начиная с бл. Августина, при трактовке Троицы преимущественно использовались термины «одна природа» (una natura или una substantia) и «три Лица» (tres personae), тогда как у греков, после каппадокийцев, сложилась устойчивая традиция говорить об одной сущности, едином существе (ща ovoia) и трех ипостасях (тр(а (игботасщ), хотя подчас использовались и эквиваленты латинских понятий. Однако Эриугена предпочитает говорить о «природе» (на латыни natura), оставляя, тем не менее, греческий термин <ри<л<; и вынося его в название своего монументального труда, причем во множественном числе ((puoEicj). Тем самым строится тонкая теологическая игра греко-латинских терминов, с помощью которой Эриугена стремится передать сложнейшую гамму метафизических смыслов. На это обращает внимание В. Бай-ервальтес, подчеркивая у Эриугены метод «двойного созерцания» (duplex theoria), с помощью которого преодолевается схематическая ограниченность языка1. Греко-латинские пары представляют собой пример такого duplex.
1 Beierwaltes W. Eriugena. Grunziige seines Denkens.
78
Французский Логос
Эриугена выделяет четыре naturae, «природы», соответствующие четырем фундаментальным моментам его оригинальной метафизики:
• natura creans et non creata (творящее нетварное начало),
• natura creans et creata (творящее тварное начало),
• natura non creans et creata (нетворящее сотворенное начало),
• natura non creans et non creata (нетворящее несотворенное начало).
Эти инстанции можно соотнести с четырьмя причинами Аристотеля:
• творящее нетварное начало — causa efficiens,
• творящее тварное начало — causa formalis,
• нетворящее сотворенное начало — causa materialis,
• нетворящее несотворенное начало — causa finalis.
Каждое начало Скот Эриугена подробно истолковывает в отдельном разделе своего труда «О природах» (Пер! (pvoEcav) или «О разделении природ» (ПЕр( бипрёстЕох; тт]$ ФиоЕ(о<;, De Devisione Naturae). Всего в книге 5 разделов. Первый, второй и третий посвящены трем первым началам, между которыми постулируется диалектический переход (transitus), исход творящих импульсов от Бога телесному миру через уровень идей (форм). Четвертый и пятый разделы описывают процесс возврата (reditus, reversio, restitutio in integrum, recapitulatio, adunatio): телесный человек поэтапно возвращается к истоку, вбирая тело в душу (тело воскресения), душу в дух (или разум), и далее, в мир причин, а оттуда — в темную бездну апофати-ческого божества.
Вся схема четырех природ представляет собой не статическую картину, а диалектическую динамику метафизического процесса. Первой инстанцией выступает «творящее нетварное начало», то есть Бог. Здесь Бог есть преимущественно Творец, Он обращен Лицом к творению. И как таковой Он и воспринимается мышлением, когда оно задает самому себе и традиции вопрос о причине. Бог, таким образом, становится не только Богом Откровения, но и Богом философии, поскольку Он в одинаковой степени необходим человеку — ив религиозном, и в интеллектуальном смысле. Первая природа, соответственно, мыслится как апофатическое божество в теологии и церковном догмате, и как сверхбытийное Единое (2v) неоплатоников, первопричина сущего в чистой метафизике, как источник
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
79
бытия, предшествующий бытию. Религия, философия и онтология для Иоганна Скота Эриугены представляют собой, таким образом, три стороны единого процесса. Полноценное духовное существо, человек именно в силу своей разумности рано или поздно задает вопрос о причине происхождения самого себя и окружающего его мира. И мысль в поисках истока восходит к этому абсолютному началу. Откровение здесь не противоречит философии, метафизике и космологии. У того, что есть, должна быть причина. Ее необходимость вытекает из самого факта осмысленного наличия, а Откровение и религия полностью подтверждают это фундаментальное заключение разума. «Творящее нетварное начало» — Бог — необходимо со всех точек зрения, когда мы экзистенциально фиксируем себя самих внутри сотворенного (явленного) мира как мыслящее сущее.
Вторая инстанция «творящее тварное начало». Это — уже сугубо платоническая инстанция. Иоганн Скот Эриугена понимает под ней область ума, vovq, поэтический мир, состоящий из идей, парадигм. Это также — «Небесный Град» бл. Августина. Представление о нем мы получаем путем разделения нетварного начала, Бога-Творца и первых сотворенных им эйдосов-архетипов. К этому уровню относятся небесные иерархии «Ареопагитик», ангельские миры. В «творящем тварном начале» сосредоточена вся полнота твари в ее пара-дигмальном состоянии, включающая в себя все возможности последующего деления (divisio1) и все эйдетические цепочки сущего. Это область родов. По Эриугене, всеведение Бога состоит в созерцании этого плана бытия, где все вещи представлены в родовом идеальном виде. В этой второй инстанции апофатический Бог (катафатически) творит сам себя как бытие и мыслит себя, созерцая как в отражении, поскольку в чисто апофатическом состоянии есть только одна бездна пред-бытия, которая не может быть познана. Отсюда вытекает важнейшее для последующего спора об универсалиях заключение Эриугены и всего неоплатонического направления схоластики: Бог знает всё, но это всё заключено в родах, к которым дальнейшие членения — виды и индивидуумы (атомы, особи) не добавляют принципиально ничего нового. Тварность этого второго момента уже заключает в себе все то, что было, есть, будет и может быть. Это
1 Рассматривая структуру сознания, Иоганн Скот Эриугена выделяет две базовые операции мышления — разделение (divisio) и анализ (analysis). Divisio определяет движение с первого момента по третий, который является нижним пределом разделения. Анализ же, который Эриугена трактует как способность восстановления нарушенной разделением целостности, есть операция возврата от третьего момента к первому, но обнаруженному апофатически как четвертый — natura non creans et non creata.
80
Французский Логос
тварная (но еще и творящая) вечность, сходная с фигурой Святой Софии, Премудрости Божией. Тем не менее этот тварный момент не есть сам Бог, который сущностно един и предшествует проявлению. Все содержание здесь от Бога и ничего само по себе. Но все же это уже сфера множества, а не единого, что также точно соответствует единому-многому (ev тгоЛЛа) из второй гипотезы платоновского «Парменида».
Важно, что отношение natura creans et non creata к natura creans et creata представляет собой именно момент процесса, transitus, исход, переход. Мыслить ни первое, ни второе отдельно друг от друга нельзя. Нет чистого ничто, апофатического Бога, Единого, но нет и твари без Творца. Если вычесть из второй природы (творящей и тварной) первую, она перестанет быть чем бы то ни было, превратившись в ничто; но если лишить первую природу (нетварную и творящую) второй, то она будет неизвестной ни для себя самой, ни для другого. Поэтому обе природы суть моменты неразделимой диалектики, полностью совпадающей с диалектикой единого многого в неоплатонической философии. Это чрезвычайно важно, поскольку с самого начала придает метафизике Эриугены действенный динамический характер. Здесь снова можно вспомнить о двойном созерцании (duplex theoria). Попытка сделать объектом созерцания строго только одну из этих двух природ, то есть, применив в любой из них метод логического тождества и акривии1 (строгости, однозначности, жестко фиксированного тождества А=А и не равно не-А), приведет к абсурду и утрате объекта созерцания. Они должны мыслиться обязательно вместе, причем «икономически» или «риторически» — одно всегда подразумевает другое, хотя и не утверждает этого эксплицитно. Созерцая ангельские иерархии (тварные и творящие), мир идей, небо и рай, мы видим в них Творца, Который, однако, не есть то, что мы созерцаем. Но обращая взор к самому Творцу, мы не видим ничего («Бога не видел никто никогда» — Ин. 1:18), но из Его бездны изливается свет Софии, образуя «Небесный Град», где каждый луч, каждый элемент есть род и идея.
Третья инстанция «нетворящее сотворенное начало» — это мир и человек, как они экзистирутот на феноменологическом уровне. При этом внутри данного метафизического и онтологического сре
1 Святые Отцы в теологии и практике духовничества выделяли два метода: строгий, акривия (&кр[(ЗЕ1а), и нестрогий, икономия (oiKovopia). Чаще всего они применялись к определению характера эпитимии во время исповеди, но могут относиться и к толкованию богословских тезисов. Акривия тяготеет к строгому соблюдению логических законов, тогда как икономия основана на риторическом (не строгом) толковании.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
81
за дистинкции родов переходят к дистинкциям видов и индивиду-умов. Уровень разделения повышается, все более различая частности внутри цельности — вплоть, в пределе, до утраты цельности. Очень важно, что в таком понимании divisio как принципиальной функции сознания и, параллельно, онто- и космогенеза1 мы имеем всегда лишь открытый процесс индивидуации, а не вещь как нечто завершенное и данное1 2. Вещь, res и, соответственно, «реальность» есть не нечто индивидуальное, но нечто творимое, момент процесса (transitus). Creata надо понимать как созидаемую, создаваемую, творимую вещь, а не созданную, сотворенную. Индивидуального нет, есть индивидуация. И будучи открытым процессом, индивидуация не имеет остановки, она вполне может следовать в своем разделении divisio все дальше и дальше, всегда релятивизируя очередную инстанцию, выступая всякий раз снова как вид в отношении индивида. Эта структурная особенность лишает тварный мир его имманентного предела. Предоставленный самому себе, в отрыве от творящего идеального начала, мир никогда не станет фиксированной раз и навсегда действительностью, но будет продолжать рассеиваться и дробиться все дальше и дальше в процессе оптической энтропии, постепенно все больше и больше растрачивая могущество творящего импульса, который принадлежит не ему самому, а предыдущей инстанции — «творящему тварному началу», но и не ему собственно, а ему как промежуточному выражению «творящего нетварного начала», то есть апофатического Бога. В этом смысле идеи Эриугены можно сопоставить с позицией радикального идеализма в споре об универсалиях —universalia ante rem, но с той лишь оговоркой, что res, вещь здесь не мыслится как нечто раз и навсегда фиксируемое, а как структурный момент процесса онтологического и логического divisio. Поэтому universalia, т. е. идея, должна, в свою очередь, мыслиться не как «вещь» высшего порядка, а как непрерывный процесс теофании. Universalia и res здесь оказываются двумя условными (!) полюсами диалектического и теофанического акта divisio, в ходе которого universalia становится res (вещью), но всегда только становится и никогда не может стать до конца. Сама же вещь — онтологически и логиче
1 Для Скота Эриугены между двумя триадами классической греческой философии — гносеологической — vou<;, A6yo<j, Stavoia и онтологической — oua(a, Suvapu;, 6v6pEia — существует строгое тождество. Intellectus и essentia для него тождественны.
2 Это является фундаментальной чертой всей неоплатонической онтологии и в европейской схоластике полнее всего выражено у Дитриха Фрайбургского. См.: Дугин А. Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический. М.: Академический проект, 2015.
82
Французский Логос
ски — в свою очередь, никогда не только вещь, но всегда немного и universalia, в той мере, в какой она просто исходит из..., но и возвращается к... Именно поэтому платонизм Эриугены вполне может сочетаться с корректно истолкованным — то есть понятым как феноменология начала — аристотелизмом, и соответственно, с реализмом позднейших томистов. В более широком контексте неоплатонизм как открытый апофатический платонизм отнюдь не исключает Аристотеля, но включает его в себя как имманентную сторону своего тотального учения, возвращая ему изначальное феноменологическое значение. Таким образом, надо рассматривать «творящее тварное начало» (natura creans et creata) и «нетворящее сотворенное начало» (natura non creans et creata) не как строго различные сущности, но снова как структурные компоненты единого процесса. Кроме того, в этот процесс включается и первая инстанция «творящее нетварное начало» (natura creans et non creata), то есть Бог, что превращает онтологический и космологический процесс в сплошную теофанию. Бог не нисходит до мира и человека, но выступает как основание мира и человека, без которых их не было бы ни эйдетически, ни феноменологически; ведь чтобы divisio было действенным, оно должно иметь то, что будет этому различению подвергаться. Если использовать неоплатонические термины, то можно сказать, что на каждом из трех уровней, выделяемых Эриугеной, единство представлено следующим образом:
1) natura creans et non creata (творящее нетварное начало) генада (£va<;)
2) natura creans et creata (творящее тварное начало)
3) natura non creans et creata (нетворящее сотворенное на-
чало)
идея (iSs(a)
эйдос (Ei6o<j) и индивидуум, особь (йтоцос;, (6 юс;)
Эти три уровня представляют собой развернутый процесс исхождения (ярдобос;) космологии и онтологии. Выявление этих инстанций и их корректное соотнесение исчерпывает возможности divisio. Это исчерпание, а точнее, острое осознание того, что процесс divisio схвачен целиком — причём в своей имманентной открытости, так как он может технически продолжаться до бесконечности, поскольку у феномена нет феноменологического предела, он просто переходит в другой феномен (как шепот природы), пробуждает в человеке новую способность, которую Эриугена называет «анализом», analysis.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
83
Здесь мы подошли к принципиальному метафизическому вопросу: когда начинается возврат, то есть где конец третьего момента? Это фундаментально, поскольку имманентным образом природа сотворенная и нетворящая (natura non creans et creata) дробима до бесконечности, то есть не имеет нижнего предела. Этим пределом является ничто, которое недостижимо, поскольку любая раздробленность может быть раздроблена еще больше. Возврат (reversio) начинается не там, где достигается нижний предел исхода (tran-situs/ но, напротив, нижний предел достигается там, где начинается возврат. То, что человеческое сознание схватывает как предел удаления от Бога, и есть этот предел; а не наоборот1. Если двигаться за имманентной логикой развертывания серий дробления, никакого предела достичь невозможно; ожидание мессии будет длиться и длиться до бесконечности. Но он приходит внезапно, когда человек неожиданно и со всей абсолютностью схватывания всех трех моментов диалектики осознает, что настал момент великого возвращения. Таким образом, эсхатологический момент конца и апофатический рывок не содержатся в ткани третьей природы в строгом (логическом) ее толковании, не записаны в нее. Он вычисляется общим метафизическим созерцанием всей полноты трех природ, через «двойное созерцание» (duplex theoria), а еще точнее, через «тройное созерцание» (triplex theoria). Когда человек метафизически видит Бога как Творца идей, а идеи (ангельские иерархии) проступают сквозь дробные фрагментации феноменального мира, происходит «конец света», настает «момент возвращения».
Этот момент у неоплатоников (Прокл) назван £татро<рг|, и на нем восточные отцы, в частности, Максим Исповедник, ставят главный акцент при истолковании самой сути христианства. Христос, Его Вочеловечивание, Его Пришествие, Его Евангелие, Его Крестная смерть, Его Воскресение и Его Вознесение и есть «великое возвращение» твари к Творцу.
Проследив всю цепочку космо-, онто- и антропогенеза, христианский философ делает следующий — фундаментальный! — жест. Это — радикальный поворот онтогенетического процесса в обратную сторону, кёг немецкого мистика Генриха Сузо2. Но
1 Русский метафизик и поэт Евгений Головин (1938 — 2010) говорил по этому поводу: «Там, где мы, там центр ада». Это значит, что предел спуска в миры разделенности, конец индивидуации происходит не сам по себе, когда возможности дальнейшего падения объективно исчерпываются (они объективно не исчерпываются никогда, так как материя тоже бездонна, хотя и иначе, нежели Бог), а когда человек утверждает метафизически, — на основе измерения всех трех природ через «тройное созерцание», — что этот передел достигнут здесь и сейчас.
2 Дуган А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
84
Французский Логос
цель этого обращения, по Эриугене, не просто пройти всю цепочку в обратном направлении, — от «нетворящего тварного начала» к «творящему тварном началу» и к «творящему нетварному началу», Богу, — но совершить внезапный скачок по ту сторону всего этого процесса, чтобы зайти к Богу с другой стороны, со стороны Его апофатического измерения, где Он предстает не тем Лицом, которое обращено к творению (наблюдение его исчерпывает ката-фатические возможности divisio), но к Нему Самому, в Его апофа-тическом нетворящем самотождестве. Здесь мы подходим к радикальной апофатике, к апофатической эсхатологии Иоганна Скота Эриугены. Эриугена в четвертом и пятом разделах труда «О природах» подводит к тому, что возврат происходит не к Богу-Творцу, Который всегда творит, а следовательно, центробежно помещает в мир феноменов всё, что оказывается под могуществом и властью Его абсолютной силы, но к апофатической ночной тишине, к нетворящему вечно равному самому себе измерению Единого. Майстер Экхарт назовет это «глубиной Божества»1. Все творение в таком случае становится пропедевтикой обращения к нетварному и нетворящему, развернутым уроком апофатики, необходимым лишь для того, чтобы на пределе осмысления всех возможностей divisio, мышление человека перешло к «анализу» (в терминологии Эриугены), то есть к апофатическому рывку в божественную бездну. Бог, к Которому возвращаются, открывается с иной стороны, чем Бог, который творит, от Которого удаляются. И в метафизической эсхатологии Эриугены возвращение важнее нахождения, апофатика — выше катафатики, а четвертая инстанция представляет собой цель, тогда как первая — причину. В этом состоит апо-фатическая эсхатология Эриугены, венчающая собой традицию всего христианского неоплатонизма.
Из этого глобального философского видения вытекают и прикладные вопросы философского и богословского характера, рассматриваемые Эриугеной в отдельных тематических работах. Так, его представление о Провидении строится на том, что Бог абсолютно благ и в акте творения, и в акте спасения людей и мира, а грехи и наказания суть проекции человеческой неспособности или нежелания обратить свое сознание к основам мира, к Богу и постичь Его благость и идеальное устроение. Показательно, что в таком понимании всякий дуализм снимается, и через обращение к апофатической эсхатологии обосновывается оптимистический взгляд на мир, историю, человека и т. п. Ад, грех и наказание — это лишь человеческая
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
85
глупость, то есть добровольно выбранное человеком направление как антитеза своему естественному — то есть божественному! — предназначению. Этим Эриугена опровергает учение схоласта Гро-тескалька, учившего о существовании «двух предназначений» — одного для праведников, другого для грешников. Для Эриугены есть только одно предназначение — эсхатологическое движение мира в сторону божественной бездны.
Философия и теология Эриугены представляют собой чистейший образец аполлоно-дионисийского синтеза, воспроизводя в христианском контексте Средневековья базовые моменты средиземноморского европейского Логоса в его утонченной и возвышенной форме. Тот факт, что Эриугена при Карле Лысом занимал функционально те же позиции, что Алкуин при Карле Великом, а влияние его на самый ранний период становления исторической Франции было огромным, имеет фундаментальное значение для французской идентичности в целом: в самом первом аккорде существования того государства, которое позднее станет Францией, в том смысле, как мы понимаем ее сегодня, доминирующую философскую идею (как Гегель при прусском монархе) сформулировал апофатический неоплатоник кельт и грекофил Иоганн Скот Эриугена, заложив тем самым основы проекта построения полноценной философской традиции, где доминировало бы не исключительное дуалистическое толкование бл. Августина, не латинская юридически центрированная сугубо папская традиция, не феминоидный двусмысленный крипто-истерический галльский рационализм, но полноценная всеобъемлющая олимпийская индоевропейская метафизика, на новом этапе утверждающая изначальный солярный европейский Логос. При этом святой покровитель Франции Дионисий Ареопагит превращался в толкованиях и переводах «Арео-пагитик» Эриугены в святого покровителя французского Логоса, в его небесное ангелическое, божественное — диалектическое и эсхатологическое — сечение.
Франция Скота Эриугены и Карла Лысого — это заложенный фундамент возможной французской схоластики, ангелического историала сакральной Франции, которой она могла стать, но не стала, по мере того, как эта линия была позднее вытеснена на периферию или вообще причислена к ереси. Тем не менее мы вполне можем рассматривать это как французский историал в его альтернативной — олимпийской — версии, как параллельный историал. От Скота Эриугены пути ведут не к кельто-Модерну, Декарту и Новому времени, но к неоплатонической Европе, рейнской мистике и Рене Генону.
86
Французский Логос
Шартрская школа: самобытность идеального
Очагом французского неоплатонизма в последующий период становится Шартрская школа, основанная в X веке епископом фуль-ером (ок. 980— 1028). Платонические традиции стали с новой силой проявляться в начале XII века, когда ряд схоластов — в частности, Константин Африканский, Аделяр де Бат и т. д. — начинают новый цикл переводов платонических авторов, чаще всего через арабские источники. Таким образом, существенно расширяется знакомство с оригинальными текстами Платона и Аристотеля, бывшими на латинском Западе малодоступными.
Наиболее известным платоником Шартрской школы был Бернар Шартрский (1130—1160), который и придал ей собственно платоническое направление. Бернар Шартрский ставил своей целью не создание оригинальной системы, но изучение и комментарии эллинских классиков, а также согласование между собой идей Платона и Аристотеля, повторяя одну из основных экзегетических стратегий неоплатонизма. Показательно, что главным текстом, которому Бернар Шартрский уделял максимальное внимание, был платоновский диалог «Тимей».
Согласно Бернару Шартрскому, существуют три основных начала: Бог, идея и материя. Материю Бог творит из ничто, и позднее она становится пластической основой для восприятия идей. Идеи у Бернара Шартрского существуют вечно и вечно созерцаются божественным умом. Таким образом, как и второе начало Эриугены, они составляют совокупно фигуру Софии и отождествляются с Провидением. Будучи вечными, идеи все же не так вечны, как Бог, не со-вечны ему. Материя временна и конечна, поэтому конечны и вещи, представляющие собой воплощение идей в материи.
В этой схеме в отличие от «Тимея» феноменальный мир не выделяется в отдельное начало (Сын у Платона), но представляет собой воздействие идей на материю, что упорядочивает ее и выводит из изначального хаотического состояния, представленного в х<Ьра Платона.
Здесь мы видим версию классического платонизма, которая выглядит, однако, усеченной и статической в сравнении со сложной, диалектической и динамической апофатической эсхатологией Эриугены.
Другим ярким мыслителем этой школы был Тьерри Шартрский (? — ок. 1155), которого некоторые историки считали братом Бернара Шартрского. Тьерри Шартрский также комментировал «Тимея» Платона и на основании изложенной там космологии толковал шесть дней творения. В первый день, по Тьерри Шартрскому, Бог создал материю с ее четырьмя элементами (стихиями), а далее ор
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
87
ганизующую функцию в мироздании играл огонь, самый активный и подвижный элемент.
Тьерри Шартрский прикладывал аристотелевское учение о четырех причинах к метафизическому истолкованию Троицы в ее отношении к творению. Отец выступал как causa efficiens, начальная причина. Сын — как формальная причина, causa formalis. Святой Дух — как causa finalis, конечная причина. А материя, пребывающая вне Святой Троицы, как материальная причина, causa meterialis. Важно, что и в этом случае мы имеем дело со статической версией платонизма, тогда как causa finalis у Эриугены относится к апофати-ческой стороне Божества.
Еще одним ярким философом этой школы был Гильберт Порре-танский (1076— 1154), ученик Бернара Шартрского. Гильберт Порре-танский занимался уточнением учения Аристотеля о категориях, разделив их на две группы сущностных (сущность, качество, количество, отношение) и прикладных (остальные 6). Но важнее всего в его теории было обращение к апофатической теме в неоплатонизме, подробно развитой у Иоганна Скота Эриугены. Гильберт Порретанский акцентирует апофатику в комментариях к трактату Боэция «О Троице». Так, именно Гильберт Порретанский вводит в контексте этого витка развития средневекового христианского платонизма принципиальное различие между триединым Богом и собственно Божеством, к которому неприменимы никакие определения. Он различает Deus и Deitas (Divinitas), что, с одной стороны, возвращает нас к апофатической эсхатологии Иоганна Скота Эриугены, а с другой стороны, предвосхищает рейнских мистиков и принципиальное для всех них, начиная с Майстера Экхарта, различие между Gottheit и Gott1.
За эти идеи Гильберт Порретанский был подвергнут нападкам со стороны Петра Ломбардского (ок. 1100— 1160) и был вызван для выяснения его тринитарных взглядов к Бернарду Клервоскому (1090— 1153), считавшемуся в тот период главным борцом с ересями. При этом Бернард Клервоский, как выяснилось в ходе дознания, настолько уступал Гильберту в детальном знании Священного Писания и католического предания, что вынужден был отказаться от осуждения его взглядов. Тем не менее идеи Гильберта Порретанско-го все же были осуждены на Соборе в Реймсе в 1148 году.
К Шартрской школе принадлежали и другие выдающиеся французские схоласты-платоники — Иоанн Солсберийский (ок. 1120 — 1180), нормандец Гийом из Конша (Конхезий) (1080 —ок. 1154), Кла-рембальд Арраский (ок. 1110 — 1187) и т. д.
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
88
Французский Логос
Философы Шартрской школы составили лагерь сторонников «идеализма» в споре об универсалиях, однозначно настаивая на том, что идеи имеют самостоятельное полноценное бытие, предшествуя и логически, и онтологически появлению материальных вещей. Это и выразилось в формуле: universalia ante rem. В некоторых классификациях «идеализм» помещают в общее определение «реализма» в оппозиции номинализму, так как и «идеалисты-платоники» и «ре-алисты-аристотелианцы» (в первую очередь томисты), в отличие от номиналистов, признают онтологический статус категорий (универсалий) и их бытие.
В контексте средневековой французской философии мыслители Шартрской школы однозначно выступают как носители Логоса Аполлона.
Иоганн Росцелин: тень титана
Метафизическую теорию, прямо противоположную платоникам, разработал французский схоласт, родоначальник номинализма Иоганн Росцелин из Компьеня (ок. 1050 —ок. 1122). Основываясь на особом и довольно пристрастном прочтении Боэция, которого действительно при желании можно истолковать в том смысле, что, задаваясь вопросом о том, каково собственное бытие общих категорий, в частности, вида и рода, то есть универсалий, universalia, он приходит в выводу, что их бытие является строго вербальным. Росцелин выдвинул теорию того, что любые различия, существующие в языке и уме, не обладают собственным бытием, не существуют сами по себе и приписываются вещам извне, а единственное онтически достоверное различие — это различие между индивидуальными вещами. Все остальные формы категориального анализа — строго вербальны и привносятся в вещи извне, совершенно независимо от самих вещей. Поэтому, заключал Росцелин, «универсалий не существует, они лишь звук голоса (flatus voci)».
Эта идея, довольно новаторская для схоластики и средневековой философии в целом, имела свой прецедент в философии Древней Стой (Клеанф, Хрисипп и т.д.), основанной на материалистическом истолковании Аристотеля. С точки зрения ноологии, Стоя представляла собой ярко выраженный Логос Кибелы, основываясь на топике, имплицитно отождествлявшей бытие и материю, а Бога и Дух толкуя как судьбу, то есть закон. Стоики жестко отрицали идеи Платона и любые намеки на платонизм, а эйдос Аристотеля понимали телесно. Следовательно, для онтологического определения «имени» вещи они не могли обратиться ни к идее (аналогом чего были средневе
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
89
ковые универсалии), ни к эйдосу (который был для них синонимом оформленной материальности), но лишь к логосу (означавшему в их интерпретации закон или закономерность, судьбу). Поэтому они ввели особое понятие — «лектон» (Aektov), за которым не признавали никакой онтологии, кроме социальной конвенции. Росцелин обращается к аналогичной онтологии «имени», давая стоическим концепциям «лектона» новую жизнь.
Труды Росцелина не сохранились, и о его идеях мы можем составить представление лишь по фрагментам, приводимым его противниками, в частности, платоником Ансельмом Кентерберийским (1033— 1109) или концептуалистом Абеляром (1079— 1142). В Росцелине мы видим достаточно внезапное проявление особой философской традиции, которую мы идентифицировали как Логос Кибелы и которая в греческом мире была представлена в атомизме Демокрита и Эпикура, а в Риме — Лукрецием Каром, а также в философии стоиков.
Росцелин, судя по всему, проводил свои идеи последовательно, утверждая, что бытием может обладать только единичная конкретная вещь, которая и должна быть взята за точку отсчета. При этом он в качестве одной из реально существующих вещей признавал и душу. Это привело его к выводу о том, что если мы говорим о Трех Лицах Троицы, то каждое из них должно быть строго отличной индивидуальностью, и поэтому строгая теология может основываться лишь на признании не одного, а «трех богов» (тритеизм). Эту же идею намного раньше отстаивал александрийский платоник (дуалист) Иоанн Филопон (490/495 —ок. 568), оппонент Прокла и его идеи о «вечности мира», чьи предсталения об изначальном импульсе, данном Богом творению (после чего Бог никак не вмешивается в онтологические и космологические процессы), легли в основу «физики импетуса», так же, как и номинализм Росцелина, предвосхищающей позднейшую физику европейского Модерна. Иоанн Филопон объяснял природу движения только одним фактором, импетусом, импульсом, проникающим в вещи через воздействие на них другого тела, в отличие от двух факторов, введенных Аристотелем: стремлением вещи занять свое «естественное место» (энтелехия) и моментом воздействия одних тел на другие. Для Иоанна Филопона введение импетуса было необходимо для описания отношения Творца к творению, чтобы избежать неоплатонической идеи перманентного творения, лежащей в основании всей платонической мистики.
На Суассонском соборе 1092 года взгляды Росцелина были анафематствованы как ересь. Ансельм Кентерберийский комментиро
90
Французский Логос
вал их как «неспособность оторваться в умозрении от чувственного восприятия».
На самом деле в фигуре философа Росцелина мы имеем дело не просто со случаем дефективного персонажа, занявшегося богословием и схоластикой, не обладая для этого необходимым минимумом абстрактного мышления, но с выразителем глубинной и обоснованной философской программы, ждущей своего часа, чтобы появиться на сцене европейской истории и постепенно занять в ней ключевые позиции. Картина мира Росцелина, насколько ее можно реконструировать, представляла собой прямую противоположность метафизике Иоганна Скота Эриугены. Для Эриугены творение есть творение творящего, то есть поэтического мира идей. Ум как бытие есть сотворенное и творящее, поэтому конденсация ума в вещах всегда есть процесс, протекающий сверху вниз. Вещей, индивидуумов как таковых для Эриугены нет; они всегда суть энергии, в которых проявляется творящая мощь, а через нее — высшее бытие. Так и процесс различения (divisio) первичен по отношению к тому, что различается, более того, то, что различается, содержится в самом акте различения. Для Росцелина все обстоит ровно наоборот: действительно существуют лишь вещи, которые отнюдь не продукты различения, но онтологическая основа различения — нет вещей, нечего различать. Поэтому, заключает Росцелин, единственным онтологическим различием является различие вещей между собой (это транспозиция демокритовской мысли об атомах и пустоте), а все остальные различения суть «сотрясение воздуха» (flatus vocis).
Здесь мы видим фундаментальное утверждение онтологии, основой которой является фактичность наличия материальной вещи, служащей прообразом для понимания всех остальных форм наличия — включая душу или Бога. Нечто аналогичное мы видим у стоиков, считавших и душу, и Бога материальными явлениями (таким образом истолковывая теорию Аристотеля о форме и материи). Здесь в полной мере дает о себе знать Логос Кибелы, Великой Матери, активно вторгающийся в область французской и, шире, европейской схоластики, настойчиво предлагая титаническое прочтение христианской теологии — в духе иудео-христианских ересей, арианства, несторианства и отчасти всей Антиохийской школы, боровшейся с александрийской традицией христианского неоплатонизма. Как Эриугена переносит апофатическую традицию из греческого православного Востока в средневековую Францию, так следом — черной тенью — за ним движутся носители альтернативного Логоса, титанизма и материализма. Француз Иоганн Росцелин первым обозначает в рамках европейской схоластики тот полюс, который
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
91
станет ее концом, обрушит метафизику Средневековья и откроет ворота в Новое время.
Именно идеи Росцелина позднее будут подхвачены францисканцами и станут практически официальной философией этого монашеского ордена, чрезвычайно влиятельного во Франции. В частности, эту инициативу продолжит английский францисканец Вильгельм Оккам.
Ученик Оккама французский философ Жан Буридан (1292 — 1363) в XIV веке придаст номинализму новое дыхание, подвергнув критике доминировавший в то время в схоластике реализм томистов. Он же, продолжая идеи Иоанна Филопона, ввел в оборот во Франции теорию импетуса.
Пьер Абеляр: введение концептов
Противником Росцелина, наряду с Ансельмом Кентерберийским, был французский философ, бретонец Пьер Абеляр (1079 — 1142), один из ярчайших представителей схоластики, который ранее был учеником Росцелина, но потом яростно отрекся от него. Абеляр был многогранной личностью, а его отношения с возлюбленной Элоизой, их переписка и драматические события, которые были с этим связаны (дядя Элоизы каноник Фульбер был настолько взбешен иллегитимной связью своей племянницы с Абеляром и отказом узаконить их отношения должным образом, что приказал своим слугам его насильственно кастрировать), стали одной из самых знаменитых любовных историй европейского Средневековья. В целом Абеляр был сторонником эмансипации женщин, их образования и даже организовал женское бенедиктианское аббатство Параклет, где впервые были разработаны специальные литургические правила для женщин, предусматривающие то, что ранее было неизвестно европейской культуре — обучение женщин семи свободным искусствам, занятия философией и теологией и т. д.
Абеляр предложил своеобразное решение вопроса об онтологии универсалий, которое, как он полагал, окончательно ставило точку в этом споре. С одной стороны, он жестко противостоял Росцелину, утверждавшему, что универсалии суть «пустые звуки», «сотрясание воздуха» (flatus vocis). Абеляр вопреки этому утверждал, что они существуют и обладают определенной онтологией, будучи чем-то качественно большим, нежели простые слова. С другой стороны, Абеляр выступил и против позиции тех, кто считал универсалии полноценными онтологическими единицами, следуя в этом за Эриугеной, а через него за неоплатониками и Платоном (учение
92
Французский Логос
о первичности идей). В учении Фомы Аквинского, основанном на специфической интерпретации аристотелизма, универсалии тоже считаются существующими и действительными, но лишь вместе с вещами (universalia in re). Часто историки объединяют под названием «реализм» в споре об универсалиях две позиции — строго платоническую, universalia ante rem (у Эриугены мы видели, как следует понимать это предшествование — ante — в полноценной версии открытого апофатического платонизма) и томистскую, universalia in re. Это объединение, совершенно не очевидное само по себе, так как неправомочно сближает феноменологию Аристотеля (Логос Диониса) с радикальным платонизмом (Логос Аполлона), однако, может быть объяснено оппозицией к номинализму и к учению Абеляра, получившему название «концептуализма». Против платонического радикального решения universalia ante rem в редакции Гильома из Шампо (ок. 1068— 1121), с которым Абеляр ожесточенно спорил на схоластических диспутах, он утверждал, что, не будучи простыми словами (против Росцелина), универсалии не являются и вещами, то есть не обладают собственным бытием, которое было бы им присуще ни вместе с вещью (тогда бы в вещи были сущности — индивидуальная и видовая/родовая), как позднее будут считать томисты, ни до вещи, как полагали платоники. Вместо этого Абеляр вводит представление о ментальном концепте (понятии), которое не тождественно простому имени, слову, но и не обладает самостоятельным бытием, являясь лишь представлением человеческого сознания. Это представление вполне «реально» — но как «ментальный феномен», а не как вещь, автономно существующая. Введя концепт, Абеляр, конечно, не разрешил сложную проблему универсалий, которая стала тем полем, где в рамках схоластики давали о себе знать три Логоса, которые мы последовательно исследуем в «Ноомахии» и которые в эллинской философии выступали в форме учений Платона, Аристотеля и Демокрита, но качественно расширил позиции третьего Логоса, Логоса Кибелы, добавив к номинализму позицию чистого рационализма, предвосхитив тем самым структуру европейской философии Нового времени, и особенно ее картезианское воплощение. Если чистые номиналисты, вслед за Росцелином, помещали бытие в вещественный индивидуальный предмет (или в его производные и аналоги, к которым можно было причислить душу или Бога), закладывая основания позднейшему эмпиризму, материализму и позитивизму, то концептуализм Абеляра подготавливал философию Модерна со стороны субъекта, предвосхищая рационализм, представление Локка об идеях как о продукте человеческого мышления и cogito Декарта. Именно у Абеляра явственно различим субъ-
Средневековье Модерн
Гильберт Порретанский Гийом из Шампо Скот Эриугена
томисты
Фома Аквинский
universalia ante rem universalia in re
идеализм
реализм
I---- реализм ----
в широком смысле
Логос Аполлона
Логос Диониса
субъективный идеализм
Декарт
рационализм
Абеляр
материализм
Ньютон
эмпиризм
Оккам францисканцы
Росцелин
universalia qua conceptum universalia post rem flatus voci
концептуализм номинализм
Логос Кибелы
Спор об универсалиях и три Логоса
94
Французский Логос
ект, как его позднее воспримет, взяв из схоластического контекста, метафизика Нового времени.
Благодаря Абеляру общая картина позиций в споре об универсалиях может быть достроена до следующей структуры:
то, что идея (эйдос, универсалия) является субъективным ментальным конструктом, а в этом и заключается основная мысль Абеляра, на первый взгляд, нюансирует грубый материализм Росцелина, придающего, по словам Ансельма, чрезмерное внимание чувственному восприятию и нормативизирующего его. Но на самом деле, введение концепта и его специфической ментальной онтологии осуществляет конденсацию души, ее овеществление, дублируя на уровне мышления ту же операцию атомизации и индивидуализации, которую проделывают номиналисты. По сути, у номиналистов уже содержится представление о душе и даже Боге (в чем и обвинили Росцелина) как об индивидуальной вещи. Абеляр же закрепляет это представление об индивидуальном субъекте, приписывая ему свойство создавать концепты — не как вещи, но и не как «только слова», «имена». У концептов есть содержание, консистенция, но она является производной от субъекта. Концепты не столько суть (sunt), сколько субстистируют (subsistunt).
Это радикально меняет собственно аристотелевское понимание субъекта (unoK£i|i£VOv). У Аристотеля, а вслед за ним и у большинства схоластов, subjectum понимается как сущность вещи, как ее оио(а. Он может быть неодушевленным (как камень), а может быть и одушевленным: душа (фихп)> по Аристотелю, является «субъектом» (vnoK£i|i£vov) живого существа — растения, зверя и человека. Поэтому вопрос об универсалиях затрагивает все сущее — ведь у каждой вещи есть субъект (uttoke[|1evov), а раз так, то и вопрос о соотношении этого субъекта (оист(а) с видом (eiSojj, specie) представляет собой общую метафизическую проблему. Так она и была поставлена у Боэция, воспроизводящего вопрошание ученика Плотина Порфирия Тирского относительно онтологии категорий (универсалий). Абеляр же, вводя концепт для объяснения онтологии универсалий, переводит всю проблему в область человеческого сознания; субъектом становится отныне только «мыслящая душа», тем самым он закладывает основу для семантического сдвига в интерпретации субъекта от средневеково-схоластического толкования к толкованию в контексте метафизики Нового времени. В этом принципиальном жесте можно увидеть прямое предвосхищение Абеляром Декарта.
Здесь следует задать вопрос относительно того, связана ли философия Абеляра, отличающаяся ярко выраженными чертами Логоса Кибелы и предвосхищающая Модерн в его рационалистической
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
95
и индивидуалистической версии, дополняя тем самым номинализм, с его галльским происхождением, и проявляется ли в этом тот «хрупкий патриархат», который мы идентифицировали в средневековом кельтском эпосе? История с Элоизой, запечатленная в чрезвычайно откровенной и стилистически современной переписке, где отрицаются многие этические понятия, свойственные средневековой католической морали, стремление Абеляра к тому, чтобы способствовать эмансипации женщин, экзальтация куртуазных отношений, воплощенных на практике, и даже эпизод его насильственной кастрации — все это признаки повышенного воздействия на Абеляра женской стихии, в чем можно опознать типично кельтские мотивы Феи Морганы и ее чар. Субъект Нового времени, нащупываемый Абеляром в его концептуализме, действительно, можно рассмотреть как продукт воздействия феминоидных структур драматического и даже мистического ноктюрна, свойственных определенным аспектам кельтской идентичности уже в ее наиболее архаическом пласте.
Бернард Клервоский: совершенный человек Средневековья
Отдельный случай среди французских платоников, номиналистов и концептуалистов представляет собой Бернард Клервоский (1091 — 1153), богослов, мистик, цистерцианский монах и аббат монастыря Клерво. Он считался в его эпоху главным носителем католической ортодоксии и борцом с ересями. Бернард Клервоский составил устав ордена тамплиеров, принятый на Соборе в Труа в 1128 году; был активным поборником организации Второго Крестового похода (1147—1149 годов) и идейным вдохновителем Альбигойского крестового похода, направленного на подавление ереси катаров, распространившейся на юге Франции, который, однако, был осуществлен уже после его смерти.
Французский традиционалист Рене Генон считал Бернарда Клер-воского образцом средневекового человека, воплощающего в себе традицию, верность сакральному порядку, рыцарский дух, твердое следование священной доктрине1.
Бернард Клервоский представлял собой ярко выраженный апол-лонический тип, а в вопросах теологии стоял на позициях бл. Августина («закрытый платонизм» и доктрина «Двух Градов»). Однако апофатический платонизм Гильберта Порретанского был ему чужд, равно как и тонкие мотивы дуалистического учения катаров, выдви-
1 Guenon. R. Saint Bernard. Р.: Editions Traditionnelles, 1929.
96
Французский Логос
гавших тезисы «чисто духовного христианства». Вместе с тем Бернард Клервоский в целом позитивно воспринимал Платона и в споре об универсалиях склонялся к позициям идеалистов (реалистов). Его другом был радикальный платоник Гильом из Шампо, основатель еще одной платонический школы французской схоластики — Сен-Викторской, давшей таких философов, как Гуго Сен-Викторский1 (1096/97 — 1141), нового переводчика и комментатора Ареопагитик, и ирландец Ришар Сен-Викторский (? — 1173).
Для всей этой плеяды философов, следовавших за Бернардом Клервоским, было принципиально соединить мистически понятую религиозность со строгим философским мышлением, не подчиняя философию догматике и не ставя под сомнения Откровение с опорой на рациональность. В этом состоял традиционализм Бернарда Клервоского, восхищавший Рене Генона. Бернард Клервоский не искал власти и славы, но, исходя только из духовных принципов, оказался наиболее влиятельной (в том числе и политически, так как активно содействовал восстановлению позиций Папы Инокентия II против анти-Папы Анаклета II, а позднее Папой Евгением III был избран монах его монастыря) и наиболее знаменитой личностью своей эпохи. Он посвятил всю свою жизнь созерцанию, но оказал на политические процессы общеевропейского масштаба решающее воздействие. Он был тонким мистиком, особо почитавшим Пречистую Деву, которую он первым стал называть «Наша Госпожа», Notre Dame, что позднее стало ее традиционным обозначением. В этом Ге-нон видит следы его рыцарского происхождения и духовно интерпретированной им темы рыцарской любви. Но вместе с тем он жестко придерживался католической догматики, непреклонно выступал за твердое следование ортодоксии, демонстрируя тем самым, что ни одно из этих качеств и склонностей не исключает другие. Бернард Клервоский может быть взят за интегральный целостный тип совершенного человека Средневековья — одновременно европейского и французского, идеального «Рыцаря Веры». Недаром Данте в «Божественной комедии»2 делает Бернарда своим проводником по самому высшему кругу рая, где тот возглашает гимн Деве Марии.
Катары: метафизика Утешительницы
Движение катаров (иногда называемых альбигойцами по названию провинции в Южной Франции) распространилось на террито-
1 Гуго Сен-Викторский. Семь книг назидательного обучения, или Дидаскалион // Антология педагогической мысли христианского Средневековья. Т. 2. М., 1994.
2 Данте Алигьери. Божественная комедия. Пермь: Пермская книга, 1994.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
97
рии Франции, Италии и Южной Германии в XI —XIV веках. Более всего оно прижилось в областях Франции, граничащих с Пиренеями (Окситания) — в частности, в графстве Лангедок, где на сторону катаров перешла значительная часть местной знати, зажиточные горожане и определенная часть крестьянства.
Истоки движения катаров, вероятно, восходят к ереси павли-киан, появившейся в Малой Азии на территории Византии в конце VII века и по своим идеям близкой к дуалистическому раннехристианскому гностицизму, манихейству и отчасти к маздеистской иранской религии, утверждающей фундаментальное противоборство в мире двух начал — светлого бога Ахура-Мазда и темного бога Ан-гро-Манью.
Основателем секты павликиан считается армянин Константин Силас или Константин Мананалис.
Павликиане противопоставляли небесную церковь и духовного Христа — земной церкви, чьи догмы и обряды они отвергали, как и все материальное. В теологии они опирались на послания апостола Павла, которые они противопоставляли Петру, основателю, согласно их воззрениям, официальной «материальной» церкви. Вся материя, и особенно деньги, богатства и политическая власть, являются творениями дьявола, князя мира сего, утверждали павликиане. Поэтому истинные христиане должны строить свое общество на равенстве, справедливости и братской любви — вплоть до отрицания частной собственности.
ВIX веке павликиане настолько укрепились, что создали свое государство со столицей в Тефрике, на границе с Арменией, которое вело войну с Византией, объявившей официально павликиан еретиками, и подчас доставляли империи своими набегами серьезные неприятности. Павликианское государство пало лишь в 878 году после гибели его предводителя Хризохейра. Значительная часть павликиан после этого переместилась на территории Сирии, где встала на сторону Византии в борьбе с мусульманами. В это время по тактическим соображениям они были реабилитированы и включены в состав византийской армии при Никифоре Фоке I Старшем (ок. 912 — 969) и еще более массово при Иоанне! Цимисхии (924 — 976). В этот период отряды павликиан были переведены во Фракию, где расселились вокруг Филиппополиса (болгарский Пловдив).
В Болгарии во второй половине X века и в XI веке возникает движение богомилов, чьи основные принципы чрезвычайно напоминают гностицизм павликиан. Общины богомилов становятся широко распространенными на Балканах, а в Боснии в определенный период создают свое королевство (банство). Показательно, что на терри
98
Французский Логос
тории Балкан после турецких завоеваний среди славянских народов в ислам переходило, как правило, именно богомильское население (босняки, исламизированные болгары, гораны, а среди валахов — моглениты, также затронутые богомильством).
Оттуда дуалистические течения в X—XV веках распространяются в Западную Европу — в Богемию (где позднее, вероятно, повлияют на чешских гуситов и адамитов); во Фландрию (где станут ядром восстания ткачей, а в Реформацию сходные идеи станут идеологической основой крестьянских армий радикальных протестантов Мюнцера); в Северную Италию и Южную Германию, где проявятся как вальденсы (последователи Пьерра Вальдеса, проповедника радикальной бедности)1; и наконец, в Южную Францию — Лангедок и Арагон, где получат наименование катаров (от греческого слова KaOapoi — «чистые») или альбигойцев (от названия города Альби в Лангедоке).
Катары распространили свое влияние на значительном пространстве Окситании, которая до франкских завоеваний считалась «Диоцезом Семи Провинций» Рима и была зоной наиболее интенсивной и ранней романизации местного кельтского населения. При Карле Великом в 871 году было создано королевство Аквитания, отданное Карлом сыну Людовику Благочестивому. До начала XIII века в Тулузе, крупнейшем городе Окситании, находилась столица королевства визиготов. Визиготы были арианами, и, быть может, с этой эпохи у местного населения сформировалась определенная дистанция в отношении католичества.
Альбигойцы считали, что человеческая душа есть ангел, павший в тело как в темницу, созданную дьяволом, «злым демиургом». Ее задача — освободиться из плена и рабства, а также избежать заточения в новом теле. Ветхий Завет считался катарами (как и гностиком Маркионом) написанным служителями «злого демиурга», а Новый Завет — Откровением духовного Христа, истинного Бога. Единственным обрядом, признаваемым катарами, был consolamentum1 2, то
1 Идеи вальденсов позднее можно обнаружить у Франциска Ассизского и в основанном им монашеском ордене. Между территорией распространения общин вальденсов и областью проповеди Франциска (Северная Италия) существует явное пересечение.
2 Этот обряд был эквивалентом крещения и состоял в возложении рук на голову посвящаемого и Евангелия от Иоанна. Этот обряд был одновременно крещением и положением в чин Bon Homme или Bonne Dame, то есть полноценных членов церкви катаров. После этого обряда посвященные должны были вести чистую жизнь, воздерживаться от животной пищи, телесной близости, брани и убийства. Клир катаров назывался «совершенными». В некоторых случаях consolamentum практиковался перед смертью и мог распространяться на простых людей. Нечто подобное мы встреча-
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
99
есть «утешение», от греческого тгарйкЛт|<п<; и ларакЛт|тод, Утешитель, догматическое наименование Святого Духа, Третьего Лица Троицы. Скупая альбигойская теология ориентирована именно на фигуру Параклета в Троице, и поэтому имеет эсхатологическую направленность. Третье Лицо Троицы в мистической теологии почти всегда толковалось в соотнесении с будущим или с целью, с causa finalis, теЛос;, ой evekci. Сам греческий термин паракЛт]то<;, Утешитель, в христианской традиции прилагаемый к Святому Духу, этимологически построен парй-, «рядам» и кАцод «взывание», «зов», «провозглашение». В юридической практике он обозначал вынесение оправдательного приговора, а ларакЛт|тод — означал «легального адвоката», защитника. Основная идея этого сложного термина заключается в том, что некоторая фигура, отличная от самого действующего лица (подлежащего суду), но находящаяся рядом, близко, хотя и несколько в стороне (тгарй-), провозглашает нечто положительное, побуждает к чему-то благому или оглашает оправдательный приговор, но также и подталкивает человека к определенным мыслям или действиям, взывает к нему. Это значение проявляется в таинстве христианского крещения, которое мыслится как всаживание семян Святого Духа, Утешителя в человека как основы «новой личности». Святой Дух, таким образом, есть «фигура рядом», которая взывает к сердцу человека, побуждает его к благу и оправдывает его как род, спасенный Христом.
Еретики-катары, равно как и сторонники теологии «трех веков» калабрийского монаха Иоахима де Флора (1132— 1202), отчасти близкие структурно к катарам, заостряли внимание на этой обычно упускаемой из виду стороне христианского учения, но доводили оппозицию с телесным миром до крайних пределов. Если Утешитель «оправдывает» и «защищает» человека, то дьявол, 6idpoAo<;, осуждает, приговаривает; этимологически термин бихРоЛос; означает в юридическом смысле как раз обвинителя, прокурора, то есть фигуру, прямо противоположную адвокату. Человек осуждается дьяволом и оказывается в темнице плоти, рассуждали катары. Но он оправдан и защищен на другом уровне, Утешителем и Христом, а значит, должен отбросить материю и ее законы и устремиться к духовному миру — прочь от мира сего.
ем в практиках русских старообрядцев Страннического согласа, которым крещение давалось накануне смерти, так как соблюдать все требования этого крайнего течения в беспоповстве могли лишь избранные, а остальные члены общины (странноприимцы) были обязаны поддерживать и скрывать, а также кормить «крещенных», берущих на себя бремя соблюдения всех жестких норм. Перед смертью же к «избранным» могли присоединиться и остальные члены общины, считавшиеся до этого «оглашенными».
100
Французский Логос
Среди катаров выделялись два направления — «диархистов» и «монархистов». Первые считали, что дьявол, князь ничто, настолько силен, что способен силой захватить ангела души и бросить его в темницу тела. Тем самым они наделяли «злого демиурга» огромным могуществом. Вторые полагали, что власть доброго Бога и Его ангелов — сильнее и несопоставима с властью дьявола, а ангелы-души падают в плоть, будучи соблазненными дьяволом, то есть в силу собственного (фатального) выбора.
В этом мы видим доведение до еретических пределов августи-новской идеи «Двух Градов», и это сходство не случайно, так как в юности бл. Августин находился под влиянием манихейства, чрезвычайно созвучного идеям катаров и, вероятно, повлиявшего на павликиан и богомилов непосредственно.
Мы видели, что гностические идеи представляют собой травматическую версию Логоса Диониса, в основе которой лежит пробле-матизация женского начала, что выражается в центральном образе падения Софии и ее восстановления1. Та форма, в которой катары подавали свое учение, ортодоксальным католичеством не могла быть принята никак иначе, кроме как злостная ересь, и понятно, почему Бернард Клервоский, после неудачной попытки убедить альбигойцев словом, становится главным инициатором Альбигойского крестового похода, в ходе которого катары были подавлены с беспрецедентной жестокостью — вплоть до массового уничтожения широких слоев населения. Катары подверглись полноценному и масштабному геноциду. Но в основе катарского мировоззрения лежали духовные интуиции, дающие о себе знать на всем протяжении христианской истории — вплоть до Реформации, где они стали доминировать в одной из наиболее радикальных ее форм (анабаптисты). И не случайно в эпоху Реформации протестантов-гугенотов активно поддержали именно на юге Франции. Всякий раз, когда драматический дуализм и острое неприятие материального мира, страдательное теопати-ческое переживание действительности получали догматическое оформление, претендующее на альтернативность господствующей церкви, они превращались в ересь и приходили к противоречию с изначальными принципами христианства. Но если они оставались на уровне внутреннего сердечного опыта, аскетической практики, монашеского умного делания и мистического богословия, они могли найти свое место в христианском обществе и быть принятыми в качестве вполне корректной формы созерцания и личного пути спасения. Так же обстояло дело и с неоплатонической традицией:
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Три Логоса. М.: Академический проект, 2014.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
101
в случае Климента Александрийского, отцов-каппадокийцев, автора Ареопагитик и Максима Исповедника, позднее, Григория Паламы, а также всего течения православной монашеской аскетики она была интегрирована в христианскую культуру, принята как ее стержневой и авторитетный элемент, но будучи представленной как нечто самодостаточное и противопоставляемое официальному церковному учению, она чаще всего жестко отвергалась и подвергалась поруганию и анафематствованию. Это создавало картину более сложную, нежели упрощенная пара: «хорошая» ортодоксия — «плохая» ересь. Между ними существовал промежуточный термин, обычно называемый «мистикой» или «внутренним учением» (иногда мистическим богословием, аскетикой, умным деланием и т.д.), где религиозные начала веры проживаются максимально интенсивно и буквально (а это всегда влечет за собой огромный риск и может быть выбором лишь особого типа людей, имеющих к этому призвание), но этот внутренний опыт не противопоставляется внешнему учению, а лишь усиливает и подтверждает его. Однако баланс мистики довольно хрупок: если внутренний огонь внешней церкви угасает, она сама может превратиться в нечто формальное и отчужденное, когда ортодоксия, безупречная сама по себе, утрачивает жизненные силы и постепенно превращается в свою противоположность (это и произошло в последние периоды Средневековья со схоластикой), и в этом случае традиция становится лицемерием, формализмом и, в конце концов, пародией на саму себя; но есть и другая опасность (как в случае катаров, других типов гностиков и позднее протестантов) — выйти за рамки сакральной традиции, оборвать связь с таинствами и аутентичной экзегезой, разрушить то безусловно позитивное начало, которое содержится в ортодоксии.
Именно эта двойственность и воплотилась в истории с катарами и их трагическом уничтожении (впрочем, западное христианство так жестоко расправлялась не только со внутренними еретиками, но в этом же ключе был построен и IV Крестовый поход, приведший к захвату и разграблению Константинополя и массовым репрессиям против «восточных схизматиков», к которым после раскола церквей в 1054 году были приравнены папами православные).
Катары укрепляются в Лангедоке, видимо, уже в XI веке, а в XII веке это движение охватывает огромные территории Южной Франции. В середине этого столетия к 1167 году во Франции насчитывается более восьмисот катарских церквей и диоцезов. Члены церкви (Santa Gleyzia) катаров называются «совершенными» (perfect!) или «добрыми мужами» (Bon Homme) и «добрыми дамами» (Bon Dame), кроме того, были и простые верующие, не получившие
102
Французский Логос
consolamentum (credenti или imperfect!). Общины имеют дьяконов, а диоцезы возглавляются епископами. «Верные» полностью отказываются от животной пищи, от браков и отношений между полами, считают убийство животных (в частности, коров, кур, овец) страшным грехом (так как в них, по их представлениям, могут переселиться души людей). Позднее, во время гонений, отказ от «убийства» курицы был доказательством принадлежности к альбигойцам и достаточным основанием для того, чтобы отказавшегося сожгли на костре. Катары практиковали долгие и строгие посты, а подчас — в исключительных случаях — и пост до смерти, называемый endurra.
В течение всего XII века католические власти Франции издают соборные постановления, направленные против катаров и их учения. На первых порах речь идет о борьбе средствами давления и убеждения, для чего церковь использует монашеские ордена — в частности, доминиканцев. В 1208 году Папа Иннокентий III (ок. 1161 —1216) объявляет официально Крестовый поход против альбигойцев, идейно предвосхищенный и подготовленный еще в XII веке Барнардом Клервоским. Этот поход имел несколько семантических уровней, важных для общей структуры французского историала.
На первом уровне речь шла о последовательном утверждении латинской ортодоксии в духе общеевропейского католицизма и его философских и политических доктрин. Альбигойцы отвергали католическую иерархию, а значит, и власть Папы, что подрывало политическую философию Средневековья. Показательно, что катары стали переводить Евангелие (в первую очередь Евангелие от Иоанна и Послания св. апостола Павла) на родной язык — провансальский или окситанский, представлявший собой одну из версий «народной латыни». Тем самым они придавали собственной церкви характер этнокультурный и региональный, что было распространенной практикой в православии (где Священное Писание и литургия свободно переводились на языки тех народов, которые обращались в христианство), но в католическом мире папы настаивали только на исключительном использовании церковной латыни. Эти же этнокультурные черты мы видим и у вальденсов (основатель движения которых Пьер Вальдо перевел Евангелие на итальянский), и у боснийских богумилов, и у чешских гуситов. Таким образом, альбигойская Ок-ситания стала территорией, где дала о себе знать ярко выраженная региональная идентичность, настаивающая на автономии и оригинальном собственном Логосе перед лицом средневекового общеевропейского католического универсализма. С этого же жеста начнется и протестантская Реформация в Германии — с перевода Лютером Библии на немецкий. Так как позднее, уже в Новое время
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
103
и в преддверии его, вся Франция встанет на путь утверждения национального суверенитета, катарский Лангедок можно рассмотреть как прообраз этого будущего французского политического самоутверждения в качестве политической нации.
С другой стороны, в Альбигойском крестовом походе можно увидеть и противостояние двух полюсов средневековой Франции — Севера и Юга. С политической точки зрения, герцоги Бургундии, Неверы и Сен-Поля откликнулись на призыв папы Иннокентия III еще и с прагматичной целью разбить богатых герцогов Тулузы и Каркассоны. Во главе армий Севера встал Симон IV де Монфор (1160/1165—1218). В битвах против катаров принимали участие и рыцари ордена тамплиеров, продолжая линию своего вдохновителя — Бернарда Клервоского.
Первая фаза Крестового похода длилась двадцать лет (с 1209 по 1229 год), но катары продолжали сопротивляться и после этого вплоть до конца XIII века. Жители Окситании сплотились вокруг своих сюзеренов, как минимум симпатизировавших катарам, а часто и являвшихся членами их церкви, как, например, знаменитая Эскларомонда де Фуа (1250—1300), активная подвижница этого течения, проповедница и мистический философ, ставшая во главе последнего отряда катаров, отчаянно сопротивлявшегося северным князьям в замке Монсегюр в Пиренеях. Предание катаров гласит, что когда крепость была готова пасть, Эскларамонда де Фуа поднялась на ее стены и, превратившись в белого голубя, улетела в направлении духовных небес.
Пример Эскларомонды де Фуа, созывавшей на теологические диспуты знать юга Франции и активно способствовавшей распространению идей катаров, несмотря на жесткие репрессия севера и официальной церкви, показывает то значение, которое имели «Добрые Дамы» в этом движении. Отказ от браков и братское общежитие всех людей (хроники сообщают, что катары по монашескому обычаю обычно жили парами одного пола, так как считали, что вдвоем легче сопротивляться влечению плоти, чем в одиночку) делали женщин полноценными членами общества, что резко повышало их социальный статус в среде катаров. Это характерно для Логоса Диониса, уделявшего большее внимание женскому началу, чем Логос Аполлона, но эта же черта присуща и Логосу Кибелы. Поэтому в катарах, как и в гностицизме в целом, общая топика Логоса Диониса при определенных обстоятельствах могла легко соскользнуть в совершенно иную ноологическую структуру. Это собственно и составляет проблему «двойника Диониса» (Адониса, Аттиса), которая в полной мере даст о себе знать в декадентской культуре Нового вре
104
Французский Логос
мени. Но истоки ее можно опознать уже в альбигойцах и связанной с ними провансальской поэзии трубадуров.
Дени де Ружмон: Любовь как объяснение Запада
С точки зрения швейцарского философа Дени де Ружмона (1906 — 1985) \ европейская традиция куртуазной любви, составляющая ядро поэзии провансальских трубадуров (феномен «Дворов Любви»), берет свое начало именно в ереси катаров. Это можно также соотнести и с явлением «хрупкого патриархата», который мы отметили в кельтской традиции в целом и который вполне мог дать о себе знать на юге Франции, где горный рельеф Пиренеев облегчал сохранение архаических культурных черт гораздо больше, чем в случае жителей равнин, морских портов и открытой местности в целом.
Дени де Ружмон обращает внимание на то, что куртуазная поэзия возникает в XI и XII веках именно на юге Франции, и изначальным языком трубадуров (труверов) был провансальский язык (то есть собственно lanque d'oc). Провансальская поэзия появляется, на первый взгляд, внезапно и немедленно вводит в европейский контекст непривычную для католической культуры тему: страстная любовь кавалера к Даме (domnei), к которой он обращается со словами признания снова и снова, а она всякий раз отвечает ему «нет». Дама возвышается над кавалером, оказывается в положении сюзерена, недоступная и прекрасная, вечно живущая в сердце трувера, но никогда не становящаяся его телесной возлюбленной, а тем более супругой (fin'amor). Так, куртуазный поэт из Тулузы Гийом Монтанаголь восклицает: «d'amor mou castitaz», «любовь порождает непорочность». Дама недоступна либо потому, что она мертва (Беатриче у Данте, Лаура у Петрарки и т.д.), либо потому, что является женой другого кавалера, либо потому, что... ее не существует и никогда не существовало2. Это прославление Дамы превыше мужчины, ее идеализация и абсолютизация резко противоречат роли женщины в христианском католическом контексте, нормативно утверждающем патриархат.
Де Ружмон на примере мифа о Тристане и Изольде показывает, что речь не просто об экзальтации человеческой страсти, но о сакральном сценарии гностического толка, который предопределяет восприятие земного мира как темницы из плоти, ада, куда душа спускается для страданий и избавляется от них только через смерть. Но до смерти необходимо получить посвящение в таинство — и этим посвящением является «религия Любви» (и особенно ее кульми-
1 Rougemont Denis de. L'Amour et 1'Occident. P.: Pion, 1939.
2 ЭволаЮ. Метафизика пола. M.: Беловодье, 1996.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
105
национный обряд consolamentum), открывающая смысл, причину страданий и путь посмертного соединения мужского и женского начал в восстановленном андрогинном бессмертном существе.
Для Дени де Ружмона культура Запада есть культура Любви, которая и объясняет ее основные закономерности, особенности и парадоксы. И феномен средневекового рыцарства, и традиции менестрелей и труверов, и секты катаров и альбигойцев, и основные сюжеты позднейшего европейского искусства от Возрождения до нашего времени должны быть интерпретированы через этот фундаментальный мистериальный сценарий, где Любовь мыслится как инициация в истинное знание.
Если принять эту эпистемологию де Ружмона, ключом к европейской и, в частности, французской культуре, которая среди других европейских культур придает Любви и ее метафизике, эстетике, этике и философии наибольшее значение, мы сможем объяснить и некоторые стороны позднего явления «проклятых поэтов».
С катарами, безусловно, связан и традиционный сюжет, многократно повторяющийся в поэзии трубадуров, о посвящении кавалера Дамой в рыцари (на практике этим правом обладали лишь другие уже посвященные рыцари, тогда как графы, герцоги и короли пытались закрепить это право лишь за собой). В ходе этого обряда кавалер вставал на колени перед госпожой, клялся ей в верности и любви, в ответ она целовала его в лоб, а сам этот поцелуй назывался consolamentum — точно так же, как посвящение катаров. Тем самым она выполняла роль Утешительницы, Consolatrix. О том, что женщины исполняли в церкви катаров священнические функции, мы сведений не имеем, но то, что они входили в число «совершенных» (perfetti) и вели теологические диспуты, подтверждается достоверно. По Дени де Ружмону, вся куртуазная поэзия средневековой Европы корнями уходит именно в Окситанию, распространяясь оттуда в Италию и к северу Франции, а затем и к востоку, в Германию. Следовательно, именно эти земли и, соответственно, культура катаров, хронологически совпадающая с эпохой зарождения куртуазной поэзии, лежат в ее истоках. Поэтому, заключает Дени де Ружмон, эстетика любви, оказавшая на европейскую культуру фундаментальное воздействие и повлиявшая в решающей степени на формирование европейской идентичности, имеет свои корни в гностическом мировоззрении, представленном в форме еретического учения катаров.
Показательно, что первыми эту инициативу подхватывают именно французские и, шире, кельтские авторы, для которых специфический стиль почитания женского начала имеет множество совпадений с древней истоковой культурной формой. Это приво
106
Французский Логос
дит к синтезу между возрождением общекельтского (галльского, бретонского, валлийского и т.д.) архаического начала в легендах, эпосе и мифах (в частности, в цикле легенд о Рыцарях Круглого стола и Святом Граале) и влиянием гностического Логоса катаров, что и выливается в расцвет куртуазной рыцарской культуры, в истоках которой можно обнаружить структуры глубинного кельтского мировоззрения и отчасти созвучную с ним этику дуалистического гнозиса. Это же влияние можно различить и у рейнских мистиков (Майстер Экхарт, Генрих Сузо, Иоганн Таулер и т.д.), сочетавших в своих учениях апофатическую метафизику, мистику любви, рыцарскую этику и почитание женского начала (что особенно ярко выражено в культе Софии у Сузо). Влияние катаров на немецкую культуру, а также связь тематики Святого Грааля с альбигойцами исследовал в XX веке историк и археолог Отто Ран1.
При оценке феномена катаров в целом в структуре французского историала можно предположить, что это было проявлением глубинной галльской идентичности, давшей о себе знать одновременно в сфере религиозных идей и в этнорегиональной политике. И хотя ересь катаров была жестоко истреблена, а все попытки Окситании настоять на своей этнокультурной самобытности безжалостно подавлены со стороны католико-централизаторских сил, альбигойская линия не просто оставила свой след в истории Франции, но сделала эксплицитной некоторые аспекты собственно французского Логоса. Последняя предводительница войска «чистых» из Монсегюра Эскларамонда де Фуа в преданиях стала ассоциироваться с «феей Монмура», встав в один ряд с Госпожой Озера, Морганой и Мелюзиной в череде проблематичных и фасцинативных женских образов Великой Кельтидьт.
Герметическая Франция: утонченность сакральной двусмысленности
Увлечение алхимией было феноменом, характерным для всей Европы, начиная со среднего Средневековья (середина XII века) вплоть до Нового времени, а в определенном смысле эта линия не прерывалась и в XX веке (Фулканелли, Э. Канселье — и до какой-то степени сюрреалисты). Франция была частью этого процесса, но ее нельзя назвать ни авангардной, ни арьергардной страной, с точки зрения распространения и популярности герметической философии — в Италии, Испании, Англии, Германии, Австрии и Скандинавских странах герметическая традиция и братства алхимиков, а также отдельные
1 Ран О. Крестовый поход против Грааля. М.: ACT, 2004.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
107
искатели философского камня процветали почти в равной степени. Показательно, однако, что хотя истоком герметизма была поздняя эллинская культура и, вероятно, эллинизированный Египет (Болос из Мендеса, Зосима Панаполитанский, а также трактаты, приписывавшиеся Аполлонию Тианскому, а позднее, несколько ключевых фигур ранней алхимии (Олимпиодор Алхимик и Синезиус Киренский) в IV—V веках были греками), в самой Византии герметизм широкого распространения не получил и в православной цивилизации оставался не просто незначительным явлением, но практически отсутствовал. И несмотря на это, именно из Греции в Европу Возрождения Гемист Плифон привез максимально полный Corpus Hermeticum, собрание текстов, приписываемых Гермесу Трисмегисту или Асклепию, что существенно повлияло на алхимию Возрождения и позднейших эпох. В любом случае герметизм — это явление, принципиально присущее западному европейскому христианству.
Основные парадигмальные идеи алхимии можно обобщить следующим образом:
• мир природы представляет собой поле превращений, где стихии переходят друг в друга в цепи метаморфоз (идея «обращения стихий», «конверсия элементов» заимствована от пресократиков, особенно у Гераклита);
• природа есть процесс, ориентированный к совершенству, и задача человека — способствовать этому совершенству, ускорить его с помощью герметического искусства;
• в природе разлита особая сила (дух, ртуть, Меркурий), которая способствует всем превращениям и направлена на совершенствование мира, а поиск ее и работа с ней — главная задача алхимика;
• металлы в жилах представляют собой сгущенный («превращенный в землю», в «плотное») звездный свет, который тяготеет к тому, чтобы снова стать солнечным и ярким, и все металлы, вызревая в земле тысячелетиями, постепенно становятся золотом;
• все вещи состоят из двух начал — активного горючего, сера (Sulphur) и пассивного влажного, ртуть (Mercurius), позднее Парацельс добавит к ним еще соль, как продукт их взаимодействия;
• работая с металлами и другими веществами, включая растения, минералы и даже субстанции, извлекаемые из животных, алхимик постигает структуру мира и самого себя, а через это — Бога, так как и человек, и природа суть зеркала Бога;
• существует уникальная «единственная вещь», которая способна творить чудеса, лечить все болезни, превращать обычные металлы в золото, продлевать жизнь, возвращать молодость, обеспечи
108
Французский Логос
вать богатство и процветание, а также совершенствовать общество, она называется «философский камень», найти или создать который стремится всякий алхимик;
• с помощью «философского камня» можно превратить любые металлы в золото, начиная с самого грубого и плотского (титанического) — свинца, представляющего собой сгусток излучения планеты Сатурн (Кронос);
• получение «философского камня» составляет содержание Великого Делания (Opus Magnum);
• Великое Делание состоит из трех фаз: «работа в черном» (ni-gredo), «работав белом» (albedo), «работав красном» (rubedo);
• «работа в черном» (nigredo) есть режим Сатурна, спуск в ад и описывается в мрачных тонах, связанных со смертью, чудовищами, драконами, монстрами, гниением и полной доминацией хтони-ческого, раскрепощенно женского начала, царства Кибелы (режим мистического ноктюрна по Ж. Дюрану);
• «работа в белом» (albedo) представляет собой преображение хтонической женщины в просветленную и небесную, здесь происходит воскресение из мертвых субъекта Великого Делания, создание Андрогина (Rebis, дословно «двойной вещи»), вся символика этого режима явно соотносится с Логосом Диониса и режимом драматического ноктюрна по Ж. Дюрану;
• «работа в красном» (rubedo) — последняя стадия, она связана с обретением «философского камня», с огнем, Солнцем и полным превращением тела в дух, с вознесением и бессмертием, здесь вступает в действие небесный символизм и налицо все признаки Логоса Аполлона (диурн, по Ж. Дюрану).
Базовым текстом, на котором основывалась западная алхимическая традиция, была «Изумрудная скрижаль», впервые публикованная на латыни переводчиком и алхимиком Гуго де Санталла.
Изумрудная скрижаль
Истинно, без лжи, достоверно и истин-нейше:
То, что внизу, то и вверху, и то, что вверху, то что и внизу, чтобы осуществить чудо единственной вещи.
И так как все вещи были от единого, посредством единого, так и все рожденные (природные) вещи от той единственной вещи, посредством адаптаций.
Tabula Smaragdina
Verum, sine mendacio, certum et verissimum:
Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.
Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius, sic omnes res natae ab hac una re, adaptatione.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
109
Ее отец — Солнце. Ее Мать — Луна, Ветер носил ее в своем животе, ее кормилица — земля.
Отец совершенства всего мира он.
Достоинства ее целостны, когда она будет превращена в землю.
Отдели землю от огня, тонкое от плотного, мягко, с большой сноровкой.
Земля всходит на небо, а после нисходит на землю, и получает силы высших и низших.
Так имеешь Славу всего мира.
И также бежит от тебя всякая тьма.
Это сила, более сильная, чем все силы, побеждающая все тонкие вещи, и проникающее во все плотные.
Так был создан мир.
Таковы волшебные адаптации, модус которых таков. Поэтому я зовусь Гермесом Трисмегистом, имеющим три философии всего мира.
Совершенно то, что я сказал о работе Солнца.
Pater elus est Sol. Mater eius est Luna, portavit illud Ventus in ventre suo, nutrix eius terra est.
Pater omnis telesmi totius mundi est hie.
Virtus eius Integra est si versa fuerit in terram.
Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suaviter, magno cum ingenio.
Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum.
Sic habebis Gloriam totius mundi.
Ideo fugiet a te omnis obscuritas.
Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.
Sic mundus creatus est.
Hine erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hie. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi.
Completum est quod dixi de operatione Solis.
Мы видели в первом томе «Ноомахии»1, что герметизм попадает в целом в поле Логоса Диониса, откуда проистекает его двойственность и подчас нарочитая двусмысленность. С одной стороны, мы видим лейтмотив спуска под землю (что резонирует с мистери-альным гештальтом Орфея) и область Кибелы (nigredo), с другой — небесные миры духа и символизм Аполлона (rubedo). Между ними развертывается игра Логоса Диониса. Великое Делание начинается со спуска в глубь земли для обретения там «тайного камня». Это запечатлено в алхимической формуле: «Visita Interiora Теггае Rec-tificando Invenies Occultum Lapidem», «Посети Внутреннее Земли и Очищая Найдешь Тайный Камень», анаграмма чего дает VITRIOL, название «серной кислоты».
Однако поливалентность алхимии и ее символизма часто не позволяет строго определить ни то, о какой фазе идет речь, ни к чему прилагается герметическая методология. Мы говорили ранее1 2, и это подчеркивает также крупнейший специалист по герметизму фран
1 Дугин АГ. Ноомахия. Три Логоса.
2 Там же.
110
Французский Логос
цузский философ Андре-Жан Фестюжьер1, что в герметизме заложены две противоположные топики, «доктрины» (по Фестюжьеру):
• духовная доктрина спасения духа из оков материи, построенная на сотериологическом сценарии в неоплатоническом контексте представления о структуре космоса (тгр6о6о<; / Етотро<рт|) — это выражается в сближении алхимии с мистикой и подчас с тенденциями дуалистического гнозиса;
• материалистическая доктрина «живой материи», гилозоизм, обосновывающий метаморфозы в рамках замкнутого субстанционального строго природного имманентизма, что мы видим у Демокрита, Эпикура, Лукреция, отчасти у стоиков, с одной стороны, в Древней Греции, далее у творцов картины Нового времени (Галилей, Бройль, Ньютон) и ярче всего у Спинозы, чья философия строится на принципе самозамкнутой единой субстанции.
Сама алхимия — как Логос Диониса — есть промежуточная сфера между практической мистериальной сотериологией и хтони-ческим материализмом (Великой Матерью). В рамках нашего ноо-логического анализа французского Логоса мы можем предложить следующую метафору: в историале Франции герметизм в целом представляет собой зону интенсивного переплетения двух начал (двух змей) — гештальта Орфея и гештальта Мелюзины. При этом специфика герметического дискурса (герметического письма) представляет собой тонкую версию листа Мёбиуса, то есть полисемантическое поле символов и мифов, где нераздельно слиты, подчас до неразличимости, два противоположных пласта означаемых — духовная сотериология Антропоса и самозамкнутость хтонического начала. В этом можно опознать специфическое влияние алхимии на авангардную философию Франции XX века, причем не только у сюрреалистов, но и у структуралистов и постструктуралистов, хотя, кроме Жильбера Дюрана, из них почти никто эксплицитно к алхимической традиции не обращается.
Важно обратить внимание на то, что в Европу (и соответственно, во Францию) алхимия попадает не непосредственно из Греции, а из арабского мира, и еще точнее, из среды крайней шиитской мистики, представленной масштабной фигурой Джабира ибн Хайяна1 2, ученика шестого имама Джафара аль-Саддыка (702 — 765). В Евро
1 Festugiere A.-J. L'Hermetisme. Gleerup: Lund О. С. К., 1948. Р. 54.
2 Corbin Н. Le livre du Glorieux de Jabir ibn Hayyan // Eranos Jahrbuch XIX, 1950. См. также: Дугин А. Г. Ноомахия. По ту сторону Запада-1. Т. 4. М.: Академический проект, 2014.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
111
пе тексты Джабира ибн Хайяна стали известны под именем Geber, и практически все ранние труды по алхимии ссылаются на него. Особую популярность алхимии предали также долгое время ходившие в рукописных списках труды псевдо-Гебера (автора XIV века), подписывавшего свои произведения именем «Гебер» или «Гебер Арабский» (по одной из версий им был итальянский алхимик Павел Торентский). При этом сам Джабир ибн Хайян и его последователи в арабском мире традиционно ссылались на греческие источники и тексты, переводимые и трактуемые ими по-арабски. Первый переведенный в XII веке англичанином Робертом де Честером1 с арабского на латинский трактат «Liber de compositione alchimiae»1 2 описывал встречу арабского султана Халида (жившего в VIII веке) с египетским монахом Морьеном, что снова указывало на восточные корни алхимии. В конце XII века ряд алхимических трактатов перевел с арабского на итальянский монах Герард де Кремона. В этом же направлении работали в тот же период испанский клирик Гуго де Санталла, англичане Даниэль де Морли, Альфред де Сенешаль и др.
В XIII веке количество алхимических трактатов в Европе резко увеличилось, причем значительная часть из них была анонимной или циркулировала под именами Аристотеля, Сократа, Демокрита, Разеса и т.д. Алхимии посвящали свои труды знаменитые схоласты — англичанин Роджер Бэкон или немецкий доминиканец Альберт Великий.
В XIV веке алхимическая литература начинает все чаще обращаться к мистическим темам, в частности, к христианским сюжетам, и процесс получения философского камня трактуется как аллегория подвигов, испытаний, спасения, воскресения и преображения, что сближает ее с христианской мистикой и учениями различных монашеских и рыцарских орденов. Одним из первых тему христианской алхимии стал развивать Арнольд де Вилланова3 (1245— 1313), последователь Иоахима де Флоры и французского францисканца Иоанна Петруса Оливи (1248— 1298), провозгласивший приход Антихриста в 1288 году. Он родился в Валенсии, но часть жизни провел в Лангедоке и Провансе. К его советам прислушивались папы и короли, но вместе с тем его учение подверглось анафеме парижскими схоластами. Как и в случае с многими европейскими мистиками, идеи Арнольда де Виллановы находились на границе между ортодоксией
1 Показательно, что именно Роберт де Честер в 1143 году первым перевел на латынь Коран.
2 Полное название «Liber de compositione alchimiae quam edidit Morienus Romanus Calid regi Aegyptiorum quern Robertus Castrensis de arabico in latinum transtulit».
3 Arnaud de Villeneuve. Opera omnia. Lyon, 1504.
112
Французский Логос
и ересью, и эта грань была крайне тонкой. Популярность личности Арнольда де Виллановы вызвала множество подражаний, что нашло свое выражение в обширной алхимической литературе, известной как псевдо-Арнольд, написанной позднее.
Линию христианской алхимии активно развивал в XIV веке итальянский монах из Феррары Петрус Бонус1, который подчеркивает не только природный, но и сверхприродный уровень Великого Делания, сравнивает философский камень с Христом, рассуждает о таинствах Пресвятой Троицы и Страшного Суда. Сочетание поисков алхимического камня с мистическими и эсхатологическими тенденциями мы видим у французского доминиканца Иоанна Рупескисса (1310—1366), который также является последователем Иоахима де Флора и Оливи как и Арнольд де Вилланова и также предсказывает появление Антихриста, но на сей раз в 1366 году1 2.
Как мы видели, алхимический дискурс принципиально амбивалентен, и идеи Иоахима де Флоры и особенно раннего номиналиста Оливи, а также в целом францисканская линия алхимии довольно близки именно к атонической версии, хотя и облаченной в христианскую оболочку, что позднее, уже в XX веке, даст такие эксцессы, как «Христос эволюции» Тейяра де Шардена, и не менее еретическую по форме идею «четверицы» «Авиньонских Иллюминатов» (Дома Пернети), настаивающих на введение в Троицу четвертой — женской — ипостаси, эксплицитно называемой Великой Матерью. В то же самое время эти же алхимические тексты предполагают и иное — дионисийское и даже аполлоническое в пределе — прочтение, которое собственно и может быть названо «солнечным деланием» (operatic Solis).
Классической фигурой собственно французской алхимии считается Николя Фламель3 (1330 или 1340— 1418), которого некоторые историки считают мифологизированным персонажем, крупным буржуа, построившим в Париже множество зданий и соборов, а также кладбищенских памятников, не имевших никакого отношения к алхимии, а алхимические тексты, приписываемые ему, на самом деле принадлежат перу алхимика совершенно иной эпохи — Франсуа Бероальду де Вервилю (1558— 1612) или, наоборот, более ранним авторам Арнольду де Вилланова или английскому алхимику Джону
1 Pietro Bono da Ferrara. Chiara Crisciani Preziosa Margarita Novella. Florence: La Nuova Italia Editrice, 1976.
2 lohannes de Rupescissa. Liber secretorum eventuum. Fribourg: Editions universitaires, 1994.
3 Poisson Albert. Nicolas Flamel — sa vie, ses fondations, ses oeuvres. P.: Chacomac, 1893.
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм
113
Дэстину. Однако для истории Франции фигура Николя Фламеля и его история остаются важнейшим концептуальным элементом, и многие уверены, что речь шла об историческом персонаже — об одном из редких и полностью успешных алхимиков, получивших философский камень и обретших бессмертие. Так, ему посвящали свои произведения Нерваль, Бальзак, а композитор Жорж Бизе оставил неоконченную оперу, написанную о Фламеле.
В алхимической традиции Фламель представляется усердно работающим в алхимической лаборатории со своей женой Пернеллой над получением философского камня. Согласно легенде, Фламель нашел случайно тайную книгу «Авраама Еврея», в которой содержались секреты Великого Делания, и начал реализовывать их на практике1. Получив камень, он потратил приобретенные богатства на благо человечества — создавая приюты для нищих, строя соборы и часовни, обустраивая городские здания и кладбища. Большинство построек Фламель украшал алхимическими символами — например, двумя сражающими драконами — крылатым и бескрылым (сера и ртуть), «черным человеком» (символом смерти и nigredo), крылатым львом и т. д.
О Фламеле сложилось множество легенд. Одна из них гласит, что его видели в Индии вместе с женой Пернеллой спустя триста лет после официальной даты их кончины. В 1761 году его вновь встречают с женой и сыном в парижской Опере или в подземной лаборатории в центре Парижа, работающим над камнем.
Одним из наиболее известных трудов Фламеля (или приписываемых ему) является «Желанное желание»1 2, что напоминает «желание желания» (conatus) Спинозы, то есть концепт, который будет положен в основание порядка реального в психоаналитическом структурализме Жана Лакана.
В целом в историале Франции фигура Николя Фламеля воплощает собой герметическую традицию и герметическую Францию как таковую. Герметизм входит составным компонентом во французскую культуру с XII века и представляет собой широту и свободу средневекового духа, который включает в себя и мистику, и занятие естественными науками, и схоластическое богословие, и эсхатологические ереси, конформистские политические трактаты, воспевающие Папу и короля, и революционные проекты радикальных
1 Les figures hierogliphiques de Nicolas Flamel, ainsi qu'il les a mises en la quatridme arche qu'il a battie au Cimetiere des Innocens й Paris, entrant par la grande porte de la rue S. Denys & prenant la main droite; avec Г explication d'icelles par iceluy Flamel. Paris, 1912.
2 Flamel Nicola. Le Ddsir desire, ou Tresor de la philosophie, dit autrement le Livre des six paroles. Paris, 1629.
114 Французский Логос
демократических преобразовании. Алхимическая традиция составляет в этом контексте важнейший структурный компонент. Ее поливалентность и парадоксальность, а подчас и провокационность, как нельзя лучше соответствует французской рациональности — тонкой, но ироничной и двусмысленной, тянущейся к парадоксам и интеллектуальным шарадам, ребусам и контрастам. Алхимия имеет в себе нечто и от духа дохристианской греческой античности (отсюда изобилие отсылок к мифам и сакральным преданиям Греции и Рима), и от аристотелевской схоластики, и от неоплатонизма, и от дионисийско-орфической мистериальности, и от самого радикального революционного материализма (откуда постоянные отсылки алхимиков к Демокриту), во многом предвосхищающие Новое время. Будучи общеевропейским явлением, алхимия в высшей степени показательна именно для французской идентичности.
Франция: к Новому времени
Гугеноты: пролегомены к Модерну
Конец династии Валуа приходится на XVI век. При короле Франциске I (1494— 1547) появившееся в начале в Германии лютеранское движение Реформации проникает во Францию.
На первых порах Франциск I относится к протестантизму довольно терпимо, полагая, что имеет дело с интеллектуальным течением в духе Возрождения и гуманизма, к которым сам он относился весьма позитивно, видя в них идейные предпосылки национальной централизации и отхода от средневековой феодальной системы. Постепенно отношения между протестантами, называемыми во Франции «гугенотами» (искаженное немецкое Eidgenossen — «товарищи по клятве, присяге»), и католическим большинством обостряются, что приводит к взаимному и подчас силовому противостоянию. Последней каплей становится массовое распространение резких анти-католических листовок, после чего Франциск I уступает сторонникам радикальных мер и начинает массовые репрессии.
Одним из активных сторонников протестантизма стал философ Якоб Фабер, известный также как Жак Лефевр (ок. 1460—1536), который вполне в духе протестантской борьбы с Римом и латынью переводит Евангелие и Псалтырь на современный ему французский язык. В области философии он был последовательным номиналистом (терминистом) и построил теорию логики, основанную на этих принципах. Другим ярким деятелем первой волны протестантизма был Гийом Фарель (1489— 1565), ставший одним из первых организаторов протестантских общин в единое течение и основателем реформаторской церкви в Женеве (где он активно поддерживал Кальвина). Показательно, что Фарель прикладывал большие усилия для того, чтобы объединить с протестантами близких по вероучению к катарам гностиков-вальденсов, которых он считал попутчиками Реформации и духовными единомышленниками.
В период раннего распространения идей Реформации ими был увлечен французский теолог Жан Кальвин (1509 — 1564), который становится одним из главных идеологов гугенотов. Спасаясь от преследования католиков, Кальвин покидает Париж, вначале укрываясь при
116
Французский Логос
дворе Маргариты Наваррской, сестры Франциска!, благоволившей протестантизму, а затем окончательно эмигрирует в Швейцарию, где при поддержке Фареля становится предводителем протестантской общины и создателем особой политической и религиозно-церковной системы, полностью построенной на протестантских принципах. Эта система стала образцом для организации некоторых кантонов Швейцарии, Нидерландов и пресвитерианской Шотландии.
Кальвин резко расходится с лютеранами по ряду теологических вопросов и закладывает фундамент жесткой и бескомпромиссной версии протестантизма, основанной на вере в Предопределение, с одной стороны, и на принципе либерально-демократической организации общества снизу вверх — вопреки всем формам вертикальных иерархий — как средневековых (имперских и папских), так и национальных (в духе немецкого и скандинавского лютеранства или французского централистского этатизма), с другой. С 1535 года протестантизм стал официальной религией Женевы; собор Святого Петра был переделан в протестантский храм. Кальвин постепенно превращается в полновластного диктатора и теократического правителя Женевы; его даже называют «женевским Папой». В этот период он прославился жесткими гонениями на тех протестантов, которых он считал, в свою очередь, еретиками. В частности, в 1553 году был сожжен на костре испанский богослов (антитринитарист) Мигель Сервет.
ГенрихII, сын Франциска!, действовал против гугенотов более жестоко, чем его отец, издав постановление о сожжении еретиков. В этом его особенно поддерживали радикальные католики — герцоги Гизы. При Франциске II (1544— 1560) антипротестантская партия Гизов еще более усиливается, и среди французской аристократии происходит раскол: часть родов поддерживает Реформацию или, как минимум, веротерпимость, другая же часть выступает за твердое следование католичеству и за искоренение ереси огнем и мечом (в буквальном смысле — костров и резни). Семейства Бурбонов, дом Наварры и принц Конде встали на сторону протестантов, и по всей Франции вспыхнула религиозная гражданская война, в которой крайними полюсами были герцоги Гизы, с одной стороны (католическая партия) и род Конде, Бурбоны и короли Наваррские, с другой (протестантская партия). Короли как правило были на стороне католиков, но, тем не менее, стремились балансировать между противоборствующими лагерями, опасаясь чрезмерного усиления любой из сторон.
При КарлеIX (1550—1574), младшем брате ФранцискаII, была предпринята попытка примирить враждующие стороны: в 1561 году был издан эдикт, отменявший смертную казнь за принадлежность к гугенотам. Но в силу непримиримости позиций Гизов и ответных
Франция: к Новому времени
117
действий принца Конде началась серия кровопролитных войн. Важным эпизодом стала Варфоломеевская ночь (24 августа 1572 года), в ходе которой в Париже были уничтожены более 6000 человек, а захваченные вожди гугенотов — принцы крови Генрих Наваррский и Генрих де Конде — были силой принуждены вернуться в католичество.
Последним представителем династии Валуа был Генрих III (1551 — 1589). Он следовал традиционной для французских монархов тактике балансирования между двумя полюсами. При нем в 1576 году герцог Генрих Гиз основывает Католическую лигу для защиты католической веры, которую возглавил сам король с опорой на Генеральные штаты, объединяющие представителей всех сословий Франции. После этого религиозная война вспыхнула с новой силой и длилась вплоть до смерти Генриха III.
После его смерти (1589 год) старшим наследником по праву династической преемственности становится Генрих Наваррский (1553 — 1610), вождь протестантской партии, положивший начало династии Бурбонов, просуществовавшей во Франции вплоть до XIX века, то есть на протяжении большей части эпохи Нового времени. Однако, чтобы стать монархом, Генриху Наваррскому пришлось перейти в католицизм. И хотя позднее, в 1598 году, он издал Нантский эдикт, утверждающий веротерпимость, Франция осталась католической страной, а протестантизм был постепенно сведен на нет. Большинство гугенотов либо вернулись в католицизм, либо выехали за пределы Франции (в Швейцарию, Нидерланды, Германию, Шотландию и Англию). Позднее, в 1685 году, и Нантский эдикт был отменен, будучи замененным эдиктом Фонтенбло.
Тем не менее протестантизм оставил в истории Франции глубокий след. Как и в других странах Европы, Реформация нанесла сокрушительный удар по средневековому образу мысли, жизни и мировосприятию. Это затронуло все стороны культуры:
• теологию, где постепенно утверждалось критическое отношение к традиции и даже к Священному Писанию (критика текста);
• философию, смещающую внимание на человеческий разум вместо авторитета церкви, догм и собственно Откровения;
• науку, где позиции схоластики и томистское возведение идей Аристотеля в ранг высшего авторитета были полностью низверже-ны в пользу новых форм эмпирических и рациональных эпистемологий;
• искусство, где вместо религиозных сюжетов стал преобладать исторический классицизм, а позднее натурализм;
118
Французский Логос
• нравственность, где жесткость средневековой морали все больше уступала практически нормативному либертинажу;
• экономику, где начинается подъем городской буржуазии, а также ростовщичества, жестко запрещавшегося католицизмом, но вполне приемлемого в протестантизме и в подготовленном им секуляризме;
• политику, где стал преобладающим принцип национального суверенитета вместо средневекового представления об универсальной духовной власти Папы и священности империи и т. д.
XVI век, окрашенный в историале Франции в тона межрелигиозных войн, был принципиальной подготовкой Модерна. И совершенно не случайно основателем французской династии, правившей Францией в монархический период эпохи Нового времени, был гугенот.
Возврат к католичеству после эпохи религиозных войн Франции не был возвращением в Средневековье: это было, напротив, вступление в совершенно иную эпоху, фундаментальные основания которой заложила именно Реформация. Сущностью этой новой эпохи была радикальная смена европейского Логоса. Этот Логос на всех предыдущих этапах оставался в границах индоевропейского патриархата, представлял собой олимпийский союз Аполлона и Диониса. Однако мы видели, что специфика галльской культуры, состоящая в «хрупкости патриархата», оставляла открытыми пути для роста влияния феминоидных тенденций, укрощенных, хотя и пробужденных, в структурах дионисийской мистики (как религиозной, так и куртуазной), но грозящих — в силу внутреннего могущества, воплощенного в амбивалентной фигуре феи-дракона (Мелюзина) — перерасти в нечто более зловещее и хтоническое, то есть в Логос Кибелы.
Показательно, что гугеноты держались дольше всех на юге Франции, в землях катаров (например, Севеннские горы), а последним бастионом их яростного сопротивления был порт Ля-Рошель в графстве Пуату (Аквитания), где был расположен замок графов Лузиньян, возведенный, по преданию, как раз силой чар Мелюзины.
Гугеноты и привносимые ими во французскую культуру XVI века идейные тенденции, со всех точек зрения, были формами именно титанического начала и Логоса Кибелы, подготавливая переворот вертикального порядка, доминировавшего в Средневековье. Это было фундаментальным аккордом Модерна, и хотя истоки Реформации, безусловно, лежат в Германии, именно во французском (шире, кельтском, включая Британию) контексте — и особенно в учении Кальвина, кальвинизме (либеральная демократия,
Франция: к Новому времени
119
номинализм, железная механическая Предестинация и т.д.) — протестантизм приобрел наиболее радикальную и законченную форму анти-традиции, анти-Средневековья и, в конце концов, Анти-Европы, поскольку его структуры представляли собой нечто прямо противоположное классическим чертам средиземноморской культуры, олимпийского Логоса и полноценно европейской идентичности, в предшествующее тысячелетие и несколько дольше выступавших на Западе в форме западно-христианской католической цивилизации. Протестантизм эту цивилизацию обрушил. И несмотря на то, что во Франции он не победил, но, тем не менее, он стал стартом бурной модернизации.
Жан Боден: государство без смысла
В сфере политической мысли переломного для Франции и всей Европы в целом XVI века значительную роль играл французский политический философ Жан Боден (1529/1530 —1596). Жан Боден делает из религиозного противостояния гугенотов и католиков политический вывод, который, с одной стороны, доводит до логического предела кальвинистские теории противостояния Риму и его сверхгосударственному авторитету, а с другой, отчасти в духе католической партии (но вполне в духе лютеранства), выступает за абсолютизацию королевской власти. Этим путем он доходит до формулировки теории национального государства, в котором сочетаются монархизм и интересы буржуазного сословия, без определенной религиозной составляющей. Жан Боден становится таким образом главным теоретиком политического Модерна, утверждая в качестве норматива полностью секулярное светское государство, оторванное от какого бы то ни было религиозного (сакрального) содержания.
Главной идеей Жана Бодена является концепция суверенитета. С его точки зрения, государство основано на том, что над ним не стоит никакой высшей правовой или религиозной инстанции. У государства нет никаких трансцендентных целей; его задачи — чисто технические. Оно должно защищать граждан от внешних врагов и упорядочивать хозяйственную и социальную жизнь с опорой на максимальную эффективность и рациональность. Государство Бодена — чисто механическая конструкция, чья функция исчерпывается оптимальной материальной организацией.
Суверенитет государства, по Бодену, обосновывается именно тем, что у него нет никаких целей, которые выходили бы за пределы круга технических забот и вызовов. Если государство не служит никакой идее, миссии, то нет и инстанции, способной оценивать его
120
Французский Логос
деятельность, исходя из высших критериев. Государство может судить только оно само, в этом и состоит его суверенитет, отсутствие каких бы то ни было вышестоящих уровней. Этим современное государство, теоретизируемое Боденом, отличается от средневекового государства, у которого есть и смысл, и цель, и священная миссия. В католическом понимании государство есть «Град Земной», который должен быть подчинен «Граду Небесному», то есть церкви. В этом состоят смысл и легитимация Политического в его средневековой интерпретации. Религия, церковь как структуры Неба должны подчинить себе восстающее на Бога море материи. В этом содержание и обоснование христианской политики и, соответственно, христианского государства. У Бодена государство лишается всякого смысла. В этом и состоит главное значение суверенитета: если государство суверенно, то оно не имеет никакого смысла, кроме технического, а значит, внутреннего и относительного.
При этом Боден был сторонником централистской монархии, отличающейся от монархии Аристотеля тем, что ее задачей не является, по Бодену, обеспечение всеобщего блага (эта концепция блага, ayaOcbv имеет платоновское происхождение и у самого Платона тождественно высшему апофатическому Началу, в систематизации Плотина, совпадающему с Единым, ev) , но лишь поддержание порядка. Монархизм Бодена — полностью десакрализирован. Король в его понимании фигура строго имманентная и техническая, но будучи поставленным во главе государства, он становится его концентрированным выражением. Эта концепция монарха очень близка к идеям итальянца Николо Макиавелли (1469—1527), разработавшим несколько ранее столь же секулярную фигуру Князя (il Principe), и к позднейшим теориям англичанина Томаса Гоббса (1588— 1679), сформулировавшего еще одну версию чисто светского понимания государства в знаменитой теории Левиафана. Жан Боден, наряду с Макиавелли и Гоббсом, по праву считается одним из трех главных теоретиков политического понимания государства эпохи Модерна и провозвестником той политической системы, которая восторжествует в Европе в период Нового времени. На международном уровне идеи Бодена получат статус норматива европейского международного права в XVII веке, когда по окончании Тридцатилетней войны и заключении Вестфальского договора принцип суверенитета — строго в том понимании, которое предложил Жан Боден — будет взят за основу европейского политического устройства.
В Бодене мы видим важнейший для Европы переход от протестантизма к чистому секулярному Модерну.
Франция: к Новому времени
121
Этот переход в сфере философии напрямую ведет нас к ключевой фигуре Нового времени — французскому философу Рене Декарту.
Рене Декарт: «здравый рассудок» простого торговца
Франция была той страной, которая одной из первых, наряду с Англией, включилась в проект Нового времени и Просвещения. Европейский Модерн представлял собой ту историческую эпоху, когда аполлонические структуры средиземноморской цивилизации начали фундаментально остывать, постепенно вырождаясь до плоского рационализма, а черный Логос Великой Матери, в лице своих типичных философских форм, — атомизм, материализм, прогрессизм, натурализм, механицизм и т. д., — напротив, стал завоевывать все больше культурного пространства. Франция была в авангарде Модерна во всех смыслах. Именно во Франции мы видим появление одной из самых сухих и плоских форм рационализма, представлявшего собой предельную стадию вырождения вертикальных систем средневековой схоластики в лице философии Рене Декарта (1596— 1650). Философия Декарта1 представляет собой пародию на схоластическую систему, лишенную вертикального — теистического — измерения. Декарт признает Бога как причину мышления и обоснование существования мыслящего субъекта, но отказывает ему во всех прочих свойствах — прежде всего в жизни. Бог Декарта — все что угодно, только не Бог Живой, как концентрация священного, вызывающего ужас, любовь и восторг. Это Бог рационально утверждаемый как логическая необходимость. В этом различие между деизмом рационалистов Нового времени и теизмом Средневековья. Теизм признает Бога, как Творца мира и активного деятеля преображающих церковных таинств. Деизм оставляет для него только статус первопричины (в духе физики импетуса Иоанна Филопона), которая дает первотолчок мирозданию, конституируя res cogens, субъект, и res extensa, объект, а затем предоставляет им возможность самим взаимодействовать друг с другом по правилам рациональной философии.
Декарт утверждал, что мир состоит из материальных тел, главным свойством которых является протяженность (res extensa). Он творится Богом в начале мира, а далее существует сам по себе (по инерции). Декарт признавал два типа движения — инерциальное (в той или иной степени продолжающее изначально данный Творцом импульс) и вихревое (вихри, tourbillons, по Декарту, удержива-
’ Декарт Р. Соя.: В 2 т. М.: Мысль, 1989.
122
Французский Логос
ют планеты на своих орбитах). Материя состоит из частиц (корпускул), между которыми (в отличие от атомистской теории) нет вакуума. Постижение мира возможно на основании математических представлений (mathesis universalis), которые в силу своей строгости являются образцами для всех остальных наук. Поэтому природа (Natura, (puoiq) также должна пониматься в математическом контексте — откуда, собственно, и берут начало основные физико-математические методы, ставшие основой естественно-научных дисциплин Модерна. Как и у Фрэнсиса Бэкона (1561 — 1626), у Декарта целью науки является установление господства над природой через распознание ее законов и принуждение ее строго следовать человеческой воле.
Декарт обосновывает своей философией типичный рационализм Нового времени, основанный на постановке под сомнение всех (традиционных, конкретно церковно-догматических, христианских) представлений о мире и на проверке всех утверждений с опорой на то, что сам Декарт называл «здравым рассудком», «bonne raison», то есть вульгарным рассудочным опытом «обыденного сознания». «Субъект» Декарта и есть носитель именно такого «здравого рассудка», судящего на основании себя самого о действительности или иллюзорности окружающих вещей мира в целом. Этот мир отныне представляет собой объект, то есть то, что находится перед субъектом, вокруг него, в чем субъект движется и располагается как точка мыслящего рассудка.
Суть объекта и объективности как таковой в том, что она представляет собой антитезу субъекту, т.е. она не мыслит и является протяженной (res extensa, вещь протяженная), а следовательно, выступает тем, что познается, со стороны того, что познает (res cogens, вещь мыслящая). Это составляет философский дуализм, постулирующий несводимость и автономность двух «вещей» — мыслящей и пространственной или иначе рассудка и материи. Все объективные вещи материальны. Все, что имеет отношение к субъекту, рационально и относится к области «здравого рассудка». Больше ничего нет: материальный мир и рассудочный человек. Это основная философская топика Нового времени, которая стала предопределяющей для всего поля реальности в современной европейской западной цивилизации и которая была сформулирована и оформлена именно французским философом Рене Декартом.
В Декарте своего апогея достигает философская позиция, впервые отчетливо сформулированная еще в Средневековье Пьером Абеляром в его концептуализме. Уже Абеляр сводил идеи (рода, виды, категории) к субъективным ментальным конструкциям, де
Франция: к Новому времени
123
лая их продуктами рассудка. Декарт доводит эту линию до логического предела, помещая в центре своей новой онтологии — cogito, субъекта, понимаемого как исключительно человеческое рассудочное существо (что уже намечено у Абеляра).
Современный французский социолог Бруно Латур называет то, что сделал Декарт, принятием научным сообществом «Конституции Нового времени»1. Смысл этой «Конституции», предопределившей то, что впредь считалось «научным» и «ненаучным», состоял в том, что отныне номинально запрещалось производить «гибриды», то есть такие концепты, объекты или теории, где было бы нечто от субъекта и нечто от объекта. Все гибриды были отнесены к области мифа, предрассудков, невежества и «религиозного мракобесия», а достоверной научной истиной отныне считалось то, что со стороны субъекта подвергалось тщательной рассудочной саморефлексии (на основании все того же «здравого рассудка»), а на стороне объекта подтверждалось корректно проведенными опытными экспериментами, надежно зафиксированными и рационально объясненными. Правда, пишет Латур, на всем протяжении Нового времени наука только и делала, что постоянно нарушала свою же собственную «Конституцию», строя наиболее популярные и престижные теории как раз на обходе главного закона, как большинство американских монополий сложились в эпоху бутлегерства на основе нелегальной торговли алкоголем, когда в Штатах действовал жесткий сухой закон. Но тем не менее Декарт, совместно с другими основателями парадигмы Модерна (И. Ньютоном, Б. Спинозой и т. д.), обосновал и внедрил в Европе основные принципы этой «Конституции».
Важно, что «здравый рассудок», к которому обращается Декарт, представляет собой довольно строго фиксируемую сословную черту. В трехфункциональной системе индоевропейского общества, по Дюмезилю, ему соответствует типичное мышление «третьей функции» — крестьян, ремесленников, позднее торговцев и буржуазии. Рассудок воина строится на совершенно иной, пассионарной, структуре: ему свойственно действие, разрушение, атака на мир, который конституируется в ходе экспансии, агрессии, распространения внутреннего бытия воина (как правило, чрезмерного — отсюда теория пассионарности Л. Гумилева) на внешний мир. Это рассудок «не здравый», но исполненный особой воинственной (разрушительной) и эротической сакральности. Еще менее «здравым» является сознание жреца, представителя первой касты. Это
1 Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.
124
Французский Логос
сознание видит во всем символы из праха, которые легко возводит к эйдетическим архетипам. Такое созерцание изначально строится на опыте потустороннего, и лишь потом и в качестве чего-то необязательного и второстепенного, прикладного, обращается к телесному миру. При этом вся реальность полагается именно в эйдосах и божественном уме, vou^, что представляет собой полную антитезу «здравому рассудку». Греки «здравым рассудком» называли <pp6vr|oi<;, тогда как для формы мышления высшей касты, философов и жрецов соответствующим термином было слово oocpia, мудрость. У Иоганна Скота Эриугены существует следующая иерархия когнитивных функций: vouc;, Лбу ос;, Siavoia. Вполне можно соотнести синтетический интегральный vov^ со жрецами, экслюзивный строгий упорядочивающий Лбуос; — с воинами, а Sukvoia — со «здравым рассудком», свойственным крестьянам и ремесленникам.
Философия Декарта стала для Европы совершенно новым явлением; отныне под «философией» понималось нечто, что систематизировало ментальность «третьего сословия», то есть своего рода недо-философия. И поэтому закономерно мы встречаем здесь те формы Логоса Кибелы, которые известны нам уже с эпохи Демокрита, Эпикура, Пиррона и Лукреция.
То, что феномен Декарта появляется в той части Европы, которая в своей основе имеет основательный пласт матриархальной кельтской цивилизации («гештальт Мелюзины»), скорее всего, не является простым совпадением. Декарт как творец научной картины Европы Нового времени стал проводником хтонической горизонтальной философии, выражающей подавленный ранним средиземноморским аполлонизмом Логос Великой Матери. При этом мы видим в Декарте как подъем хтонического начала, воплощенного в материальности «объективного» мира, так и последнюю стадию угасания аполлонизма в форме секуляризированной, усушенной схоластики.
Пьер Гассенди: возвращение атомов
В истории философии и в истории французской философии сплошь и рядом сходные структурно ситуации повторяются спустя определенное число лет или веков. Так, гомологией спора Росцелина с Абеляром относительно универсалий можно считать отношения между механическим рационалистом Рене Декартом (аналог концептуализма Абеляра) и номиналистом и атомистом Пьером Гассенди (1592— 1655), который был одновременно его другом
Франция: к Новому времени
125
и оппонентом. У обоих был общий учитель и наставник — жесткий противник возрожденческого платонизма и «розенкрейцеровско-го Просвещения» — Марин Мерсенн (1588—1648), сочетавший радикальный католицизм с механицизмом и рационализмом. Кроме того, Мерсенн, Декарт и Гассенди поддерживали дружеские отношения с английским рационалистом и материалистом Томасом Гоббсом, одним из трех создателей политической философии Модерна наряду с Макиавелли и Боденом.
Гассенди жестко противостоит Аристотелю и возрождает в Европе интерес к Эпикуру и Лукрецию. Идеи Эпикура Гассенди изучал всю свою жизнь, посвятив им объемный труд1. Он снова ставит в центр научного внимания теории Демокрита об атомах и пустоте и отвергает теорию четырех элементов. При этом Гассенди, будучи клириком, настаивает на том, что атомистское мировоззрение, якобы, не противоречит христианству. При этом для Гассенди достоверным знанием является только чувственное и основанное на телесном восприятии внешних объектов. Он критикует Декарта, которого подозревает в том, что тот верит во «врожденные идеи» (аналог концептов Абеляра), тогда как, по мнению Гассенди, все знания человек черпает только из опыта объективного мира. Гассенди позитивно развивает также скептицизм школы древнегреческого софиста Пиррона Элидского (360 — 275 до Р.Х.), который колебался утверждать достоверно — существует ли вещь или нет.
Гассенди убежден, что только индивидуальные вещи и существа обладают достоверным существованием и что все общие идеи представляют собой абстракции, полностью лишенные бытия. В этом он развивает позиции радикального номинализма. Во многом он продолжает воззрения английского философа Фрэнсиса Бэкона, одного из основоположников материализма и философии Модерна.
Жизнь, по Гассенди, материальна, а животная душа — «цветок материи». Время и пространство представляют собой универсальные законы и являются объективно существующими даже в том случае, если в них нет атомов и движения. Тем самым Гассенди окончательно упраздняет учение о естественном месте Аристотеля и описывает структуру космоса, соответствующую научному мировоззрению Нового времени. Он также вводит понятие инертности, позднее развитое Ньютоном.
1 Gassendi Р. Vie et moeurs d'Epicure par Pierre Gassendi, version bilingue, notes, introduction et commentaires par S. Taussig. Paris: Les Belles Lettres, 2005.
126
французский Логос
Для Гассенди из четырех причин, выделяемых Аристотелем, только одна имеет принципиальное значение — causa efficiens (apxn тт]<; Ktvqoeco^)1, что является базовой предпосылкой наиболее последовательного номинализма, намеченной уже в физике импетуса (от Иоанна Филопона до Жана Бурадана). Тем не менее, в отличие от Демокрита, Гассенди считает, что число атомов не бесконечно, и поэтому Вселенная тоже конечна. Отсюда он делает вывод о том, что у нее должен быть создатель. Это — создатель, устанавливающий порядок среди атомов. Гассенди отрицает идею Лукреция о клинамене1 2 (clinamina от латинского clmare — «отклоняться», «уклоняться», «сворачивать с пути») — случайном завихрении в траектории движения атома, обосновывающем случайность и спонтанность межатомарных связей. Тем самым он ограничивает поле совершенного и радикально материалистического атомизма креационистскими пределами. Поэтому он вынужден добавить теорию «царского пути» как Провидения, вложенного Богом-механиком в структуру творения, что весьма напоминает идеи англичанина И. Ньютона. Как и Ньютон, Гассенди занимался алхимией в ее материалистической версии. Возможность трансмутации металлов он объяснял на основе атомистской теории, согласно которой при определенных способах воздействия на атомарные структуры возможно достичь их перестройки, что, в частности, позволит превратить неблагородные металлы в благородные. Финализм «царского пути» подводит Гассенди к алхимической мысли о том, что все металлы в принципе суть несозревшее золото, и работа над постижением сущности вещества сможет приблизить наступление «золотого века». Вместе с тем Гассенди критикует спиритуальную алхимию Роберта Фладда (1574— 1637) как «предрассудки» и в этом солидарен с механицистом и рационалистом Мерсенном.
Идеи Гассенди предвосхищают во многом теории Джона Локка, Дэвида Юма и энциклопедиста и сенсуалиста Этьена Бонно де Кондильяка (1715— 1780).
В целом философия Гассенди представляет собой уже законченный тип черной философии — Логоса Кибелы, дополняя вместе
1 Gassendi Р. Du principe efficient, c'est-^-dire des causes des choses, Syntagma philosophicum, Physique, section I, Livre 4, traduit du latin, prdsentd et annotd par Sylvie Taussig. Brepols: Turnhout, 2006.
2 Согласно Лукрецию, если бы не существовало феномена клинамена, спонтанного схождения атома во своей траектории, все атомы падали бы по прямому пути на дно бездны как капли росы, никогда не сталкиваясь друг с другом. И в этом случае мира не возникло бы. Отсюда необходимость клинамена. См.: Greenblatt S. Swerve: How the World Became Modem. New York; London: W. W. Norton & Company, 2011.
Франция: к Новому времени
127
с рационализмом Декарта поле научной картины мира, представляющей собой навязчивый суггестивный гештальт этого Логоса.
Блез Паскаль: ужас Модерна
Другой крупнейший французский философ этого периода истории Блез Паскаль1 (1623—1662) начинал занятия философией в общей механицистско-сциентистской атмосфере своего века — в частности, под влиянием идей Мерсенна. В первый период своего творчества он написал ряд работ по физической теории, которые внимательно изучал Гассенди, принимая ряд сторон, а другие подвергая критике. Так, в частности, изучая проблемы давления в жидкостях, Паскаль разработал теории гидравлики и гидростатики.
Однако под влиянием радикальных идей Корнелиуса Янсения (1585— 1638), предлагавшего возвратиться к воззрениям бл. Августина о «Двух Градах» и подвергшего яростной критике складывающееся на глазах научное мировоззрения, ставящее во главу угла земного человека и его «здравый рассудок», Паскаль стал пересматривать свое мировоззрение, обнаружив глубинное противоречие между религиозной Вселенной Средневековья и тем миром, который складывался на его глазах по мере наступления философского и научного Модерна. Янсений и его последователи янсенисты выступали против иезуитов, избравших своей стратегией защиту христианства не через последовательное отстаивание нормативов и представлений схоластического Средневековья, но через адаптацию к религиозным догмам, сводимым к редуцированному минимальному набору теологических пунктов и требованиям соблюдения ряда моральных правил, методов и теорий современной науки, исходящей из совершенно отличных от средневековых аристотелевских (и отчасти платонических) предпосылок. Янсенисты создали влиятельный интеллектуальный и духовный центр в цистерцианском монастыре Пор-Рояль, в котором Паскаль с определенного момента принял самое живейшее участие. Сестра Паскаля Жаклин вступила в этот монастырь как монахиня, а сам Паскаль поселился неподалеку.
Случай Паскаля чрезвычайно важен, так как мы имеем дело с мыслителем, прекрасно осознающим парадигму Модерна, в становлении которой он, исследуя законы физики (в частности, жидкости и «Торричеллиеву пустоту»), лично принимал самое живое участие, обмениваясь идеями и воззрениями с основателями научной
’ Паскаль Б. Мысли. М.: REFL-book, 1994.
128
французский Логос
картины природы. Паскаль прекрасно осознает структуры надвигающегося на Европу материального мира. Но при этом он является глубоко верующим христианином, под влиянием янсенистов остро осознающим оппозицию открывающейся перед его глазами вещественной и богооставленной Вселенной и духовного мира, о которых возвещает Священное Писание и которые были главным содержанием духовной культуры Средневековья. Пустота, вакуум, который он исследует, в его сознании превращается в зримую бездну, об истинной природе которой религия говорит как о «Граде Земном», царстве мира сего и его князе, дьяволе. Паскаль остро понимает, что, соучаствуя в науке, он переходит на сторону пустоты, которая окружает его со всех сторон — отсюда его знаменитая метафора человека, как «мыслящего тростника». Не всякий человек таков — хрупок и окружен безднами. Человек христианского мира движется в мире, сотканном из символов и духовных знаков, которые легко распознает его сердце. Но расколдовывая мир, человек утрачивает эти символические опоры, падает в бездну — как атомы материалистов. Это создает фундаментальную коллизию. Пережив близость смерти, когда лошади понесли его карету на мосту Нёйи и рухнули в реку, а сам экипаж чудом застыл над краем моста, Паскаль пишет в своем дневнике: «Огонь. Бог Авраама, Исаака и Иакова, но не ученых и философов...» Перед лицом смерти открывается только живой Бог — не причина и не рациональная гипотеза. Бог-Огонь. Этот Бог есть Бог традиции, полноценного всеобъемлющего христианства. «Бог» философов и ученых, деистов и механицистов — это мёртвый «бог», остывший, утративший свое огненное присутствие, поражающее человеческое сердце и возвышающее его. В Паскале скрещиваются два мировоззрения, два мира — Традиция и Модерн, Средневековье и Новое время. И эта проблема (пересечения миров) становится его личной экзистенциальной судьбой. Пары противоположностей оказываются в центре его философского внимания: бесконечность и ничто, вера и разум, душа и материя, жизнь и смерть. Он не старается примирить их, напротив, он обостряет противоречия, доводит их до экзальтации. И будучи развернутыми во всем своем онтологическом и феноменологическом объеме, они в смирении и внутреннем молчании предъявляются живому Богу, так как только Он способен внушить человеку своей милостью подлинный ответ, тогда как любая ставка на дерзкий человеческий разум породит лишь новую цепочку ментальных химер.
Тщетность человеческого индивидуума перед лицом отчужден-ной Вселенной Модерна Паскаль описывает в знаменитом пассаже из «Мыслей» 347.
франция: к Новому времени
129
Человек не более, чем тростник, самый слабый из природы; но это тростник мыслящий. Для того, чтобы раздавить его, не требуется, чтобы вся Вселенная ополчилась против него: достаточно пара, капли воды, чтобы его погубить. О, когда Вселенная раздавит его, человек становится еще более благородным, чем то, что его убило, потому что он знает, что он умирает, и знает о том, что Вселенная сильнее его; Вселенная же ни о чем этом не подозревает.
L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais c'est un roseau pensant. П ne faut pas que I'univers entier s'arme pour Г ёeraser: une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais, quand I'univers I'ecraserait, I'honune serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il salt qu'il meurt, et 1'avantage que I'univers a sur lui; I'univers n'en sait rien. Pensdes (347).
Соотнося между собой различные уровни постижения и интерпретации мира, Паскаль приходит к теории трех порядков:
• порядок тела (соответствующий материальным ощущениям и предметам);
• порядок духа или разума (соответствующий ментальной деятельности) ;
• порядок сердца или милосердия (соответствующий тайной стороне человеческой природы, обращенной к непостижимой стороне живого Бога).
Теоретически эти порядки должны пребывать в гармоническом соподчинении. Но в Новое время разум поднимает восстание против сердца, что нарушает гармонию и приводит к цивилизационной катастрофе, которой и является Модерн.
При этом Паскаль не оставляет научных занятий и опытов, проживая в полной мере тот разрыв, который является темой его философской судьбы. Он не бросает науку, он продолжает заниматься ей как чем-то фатальным и в сущности ужасающим, лишая ее тем самым того наивного оптимистического флера, под которым она обычно выступала в ту эпоху. Наука Модерна есть зло и дьявол, но само зло и сам дьявол наличествуют в творении для каких-то целей. Их присутствие — вызов и испытание человеку.
Монархизм как модернизация: Бурбоны
В XVII — XVIII веках во французской политике неуклонно нарастают тенденции абсолютизма. При этом французская монархия
130
Французский Логос
уже при первых Бурбонах практически утрачивает всякую связь с политической культурой Средневековья, выступая как национальное светское государство, построенное на принципах рационализма и «общественного договора». Носителем этого договора выступают Генеральные штаты, ассамблея, представляющая все сословия французского общества. Французские короли в этот период стремятся заигрывать с городской буржуазией и ремесленниками с тем, чтобы ослабить власть родовой аристократии. На этом этапе централизация французской монархии находится в оппозиции крупной аристократии с позиции построения буржуазного национального государства и ликвидации остатков средневекового порядка. Династия Бурбонов с самого начала движется именно по такому пути. Само понятие суверенитета монарха становится лозунгом Модерна, тогда как регионализм феодальной аристократии способствует сохранению традиции и священного уклада в культуре.
Показательно, что модернизация затрагивает и католическую церковь. Так, ряд крупных католических деятелей также включается в автономную европейскую политику, действуя не столько в интересах сверхгосударственной папской власти как священного института («Града Небесного»), сколько манипулируя политическими процессами, развертывающимися в сфере целиком светских династических и территориальных интересов как прообраз Лиги Наций или ООН, то есть «мирового правительства», претендующего на роль международного арбитра. В этом особенно активны иезуиты, погружающиеся в секулярность глубже других католических институтов и организаций. При этом католическая политика в этот период вступает в системное противостояние с протестантизмом, который отрицает арбитражную роль папского престола и настаивает на абсолютизации суверенитета национальных государств.
Все это наглядно проявляется уже в период правления Людовика XIII (1601 — 1643), правившего в тесном союзе с кардиналом Арманом Ришелье (1585— 1642), смененным позднее кардиналом Джулио Мазарини (1602 — 1661), продолжившим его политику. Политика Ришелье состояла в противопоставлении Франции Австрии, искоренении протестантизма и поддержании германских княжеств (часть которых была протестантской) в состоянии раздробленности, чтобы не допустить появления на востоке сильного и опасного консолидированного соседа. Эту политику Ришелье проводил умело и настойчиво, что, в частности, и задержало германское объединение на несколько столетий, хотя определенные предпосылки для создания централизованного немецкого государства возникли тогда же, когда этот процесс затронул и другие европейские народы.
Франция: к Новому времени
131
Политику суверенной монархии продолжил Людовик XIV (1661 — 1715), называемый «Король-солнце». Семидесятидвухлетнее правление Людовика XIV было самым продолжительным в истории Франции. Первую половину правления он опирался на кардинала Мазарини, но после его смерти в полной мере взял на себя лично функции абсолютно суверенного правителя, воплощая в полной мере архетип секулярной монархии, эффективной политически, процветающей, с точки зрения культуры, искусств и наук (французский классицизм), победившей всех внутренних врагов (протестантов, аристократию, народные бунты) и надежно укрепившей внешние границы.
В период правления Людовика XIV Франция становится образцом современного европейского государства. Ее архитектура, искусство и науки вызывают подражание и имитации во всех европейских странах. Париж становится «столицей мира», законодателем мод и нравов. В эту эпоху принцип абсолютизма достигает своей высшей точки и становится апогеем власти Бурбонов как идеи.
При этом полным ходом идет наступление секулярного начала на религиозное. Так, Людовик XIV поддерживает репрессии против янсенистов, настаивающих на августиновском понимании природы светской власти и необходимости ее подчинения «Граду Небесному» в лице церкви. Это же касается и тайных обществ радикальных католиков, вдохновленных идеями Контр-Реформации Собора в Тренте (1542), таких как «Товарищество Святых Таин» (La Compagnie du Saint-Sacrement). Людовик XIV запрещает все подобные инициативы, стремясь сделать суверенитет монарха абсолютным и независимым ни от какой иной инстанции — как оппозиционной, так и консервативной. К. Шмитт позднее назовет это принципом «суверенной диктатуры»1. Однако в отличие от диктатуры, предполагающей временную или постоянную приостановку некоторых правовых норм в пользу единоличной власти диктатора, Людовик XIV опирается на корпус законов, которые он сам и подстраивает под свои нужды, действуя по принципу: «Закон — это я». В конце концов ему удается установить полный контроль над всеми экклесиа-стическими инстанциями французской церкви, что является триумфом французского монархического национализма. Это явление реорганизации французской церкви в самостоятельный организм, относительно независимый от власти Ватикана, получил название «галликанской церкви» — по аналогии с «англиканской церковью» английских монархов, которые, однако, зашли дальше, отвергнув
1 Шмитт К. Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб.: Наука, 2006.
132
Французский Логос
статус Папы Римского вообще и подчинив всю церковь монарху не только de facto, но и de jure.
17 октября 1685 года Людовик XIV отменяет Нантский эдикт и запрещает протестантское исповедание на всей территории Франции. И снова это не консервативный шаг в сторону католического Средневековья, но модернизация французского католичества через превращение его в национальную религию, официальную религию государства — с соответствующей секуляризацией самого ее содержания.
Людовику XIV наследовал его правнук Людовик XV (1710 — 1774), чье правление было более слабым, чем его предшественника, что привело к ослаблению позиций Франции в Европе и содействовало вызреванию революционных настроений.
В этот период Франция, как и другие европейские государства, становится колониальной державой. Первые колонии она приобретает еще в XVI веке. Так, после экспедиций француза Жака Картье в 1535 году возникает колония Новая Франция, некогда занимавшая всю центральную часть североамериканского континента. Позднее Франция при Людовике XV уступает колониальную инициативу Британии, потеряв Новую Францию и колонии в Индии.
Дореволюционный период в истории Франции завершается на внуке Людовика XV Людовике XVI (1754 — 1793). Это был последний монарх, правивший в условиях абсолютной монархии. Подъем буржуазии и ее идеологической верхушки в лице масонских лож и иных революционных организаций привел, в конце концов, в свержению Людовика XVI и его казни на гильотине. Так завершилась история абсолютной монархии Бурбонов, закрывая страницу модернизации и секуляризации французского общества под началом королевской короны. Отныне политическую инициативу во Франции захватили совсем иные силы.
Победивший Модерн
Материализм по-французски: Ж. Ламетри и человек-машина
Французская философия Просвещения все чаще приобретает открыто материалистический характер. Французский материализм основывается на доведенном до логических пределов номинализме (от Росцелина до Гассенди), отрицающем бытие эйдетических рядов, и возводит принцип телесности в обобщающую инстанцию, которая и выступает как материя. Мир видится отныне как нечто исключительно имманентное, как нечто, в чем трансцендентного измерения вообще не существует. Обобщением этой имманентности и становится материя.
Если неоплатоники видели в материи небытие-снизу, чистое множество (поЛЛа), противоположное сверхбытийному апофати-ческому Единому, ev, видя в ней начало разделения и дифференциации, воздействующее на монадические цельности, что отчасти передалось и схоластике (особенно томистам), то материалисты считали материю самим бытием, ответственным за наличие всех чувственных форм и существ, а также за их изменение, движение и развитие.
Одним из первых наиболее последовательных материалистов был врач и философ Жюльен Офре де Ламетри1 (1709— 1751). Он, с одной стороны, развивал идеи Декарта, а с другой — критиковал их, стремясь преодолеть дуализм через обращение к единству материальной субстанции, которой он объяснял и саму человеческую мысль как вершину самоорганизации материи. Ламетри предвосхитил позднейшую теорию эволюции, выдвинув гипотезу о том, что все живые виды проходят через одни и те же стадии развития и что первые виды животных были «зоофитами», переходным типом по-луживотных-полурастений. Ламетри принимал идею Декарта о том, что животные представляют собой механизмы, автоматы, но доказывал, что и человек также является машиной. Этот тезис стал главным в его труде «Человек-машина»2. Человек, по Ламетри, есть те-
1 Ламетри Ж. О. Сочинения. М.: Мысль, 1976.
2 Ламетри Ж. О. Человек-машина // Ламетри Ж. О. Сочинения.
134
Французский Логос
лесный организм, наделенный максимальным (среди других видов) числом потребностей. Эта диверсификация телесных нужд и есть, по Ламетри, основа разума. Ламетри одним из первых выдвинул идею «зеркальной природы ума», лишь отражающего внешний мир, став родоначальником механицистского материализма, разделяемого впоследствии большинством коммунистов (в частности, В. И. Лениным) .
Наряду с книгой «Человек-машина», Ламетри является автором книг «Человек-растение» и «Человек больше, чем машина», где он выделяет в самостоятельные поля исследования, кроме механически аппаратной структуры человеческого организма, его «растительную» (вегетативную) систему, а также усложненную рефлекторную природу отражающего ума (выходящего за рамки упрощенных представлений о машине в концепциях науки XVIII века).
Ламетри активно интересовался философией Эпикура и посвятил ее изложению отдельную работу.
Дени Дидро: движение частиц в природе и обществе
Материалистом был активный участник создания «Энциклопедии», призванной стать основой систематизации всех научных теорий и методов, открытых Новым временем, философ и писатель Дени Дидро1 (1713 —1784). Его взгляды со временем менялись, но постепенно через деизм (допущение существования Бога как причины сущего) он пришел к полноценному атеизму, в контексте которого и предлагал давать научные объяснения всем наблюдаемым феноменам. Первичной, по Дидро, является лишь материя, которая может восприниматься лишь чувственно. Сама она состоит из мельчайших частиц, движение которых и порождает вещи и явления. Сознание лишь воспринимает чувственный мир, являясь его зеркальным отражением. Такое представление о человеке, как о существе, полностью формируемом внешней средой, отразилось на социально-политических воззрениях Дидро: согласно ему, человек полностью формируется обществом, воспитанием и образованием, следовательно, изменив общество, можно изменить человека, природа которого рефлективна, отражательна. Эти идеи Дидро о том, что природа человека социальна, продолжали теории англичанина Локка и предвосхищали дальнейшее развитие социологического максимализма у Маркса, и позднее, в социологии Э. Дюркгейма и его школы.
1 Дидро Д. Собр. соч.: В 10 т. М.; Л.: Academia; Гослитиздат, 1935 —1947.
Победивший Модерн
135
Литературные работы Дидро воспевали фигуру буржуа, противопоставленную аристократии и клиру, которых он в своих произведениях высмеивал и выставлял в нелепом виде. Ряд его книг носил фривольный характер с откровенной антиклерикальной направленностью: так, в повести «Монахиня» в сенсуалистском тоне излагаются переживания молодой монахини, показавшиеся цензуре откровенно антирелигиозными и антихристианскими, что привело к запрету этого и ряда других произведений Дидро во Франции при его жизни и даже позднее.
Клод Гельвеций: естественность эгоизма
Идею о влиянии окружающей среды на формирование личности и материалистическое толкование мира и природы с Дидро разделял другой философ-материалист Клод Адриан Г ельвеций1 (1715—1771). Гельвеций полагал, что сознание есть наиболее развитая и сложная форма материи, возникающая в результате ее движения.
В основе «естественной» личности Гельвеций полагал «разумный эгоизм», любовь человека к самому себе. Это, по Гельвецию, и должно быть основой общественной морали, так как, рассуждал он, если каждый будет любить себя и стремиться к достижению максимального наслаждения, то общество в целом будет счастливым и успокоенным.
Взгляды Гельвеция, весьма созвучные идеям английского писателя Бертрана де Мандевилля (1670—1733), также оправдывавшего и превозносившего эгоизм, послужили одним из теоретических источников английской философии либерализма и утилитаризма (И. Бентам, Дж.С. Милль).
Поль Гольбах: «разоблачение христианства»
на основе «здравого рассудка»
Еще одним ярким представителем материализма был другой участник проекта «Энциклопедии» философ Поль Анри Гольбах2 (1723—1789). В отличие от Дидро, который критиковал больше клириков, нежели собственно религию, Гольбах последовательно обосновывал теории радикального атеизма, высмеивая и критикуя христианство за все те его аспекты, которые не совпадали с рационалистическими принципами («здравым смыслом») и научными теориями его эпохи. Так, в 1776 году он выпустил книгу «Разоблачение
1 Гельвеций К.А. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1973.
2 Гольбах П.А. Избранные произведения: В 2 т. М.: Мысль, 1963.
136
Французский Логос
христианства» и продолжал эту тему в веренице последующих тру-дов. Для Гольбаха душа человека есть производная от его тела и умирает вместе с ним.
Последовательный атеизм и антихристианская критика, рассматривающая все содержание религии как «невежественные фантазии» темных эпох, которые необходимо полностью изжить в век Просвещения и прогресса, сопровождались у Гольбаха систематизацией материалистических представлений о мире, природе и физических процессах. Этот проект он осуществил в программном произведении «Система природы, или О законах мира физического и мира духовного»1, где дал описание подробной научной материалистической картины мира. Эту книгу его последователи окрестили «Библией материализма».
Гольбах был сторонником атомистской теории и развивал идеи римского эпикурейца Лукреция, труды которого он переводил на французский и активно пропагандировал. В отличие от Дидро или Вольтера, Гольбах не делал никаких уступок деизму, но развивал материализм и атеизм открыто и последовательно, закладывая тем самым новый канон научности Нового времени, постепенно ставший общепринятым сначала в Европе, а затем и во всем мире.
Французский материализм и час титанов
Французские материалисты Нового времени, как и материалисты других культур и эпох, наиболее наглядно представляли собой Логос Кибелы, хтоническую философию титанов. Сам факт неуклонного роста влияния подобных идей в эпоху Модерна — известных с древности, но чаще всего остававшихся на периферии аполлоно-дионисийского европейского общества — показывает, что речь шла не просто об удачной и убедительной формулировке материалистами своих взглядов, но о тонком изменении всей западноевропейской культуры в ее парадигмальном состоянии. Так, Ламетри популяризировал Эпикура, а Гольбах Лукреция, то есть античных и известных и ранее авторов, которые, однако, на сей раз воспринимались как «откровение» и «новое слово». Нельзя приписать личным заслугам энциклопедистов смену Логоса. Они были лишь выразителями глубинного масштабного процесса раскрепощения титанического начала, неуклонного движения Запада к своему закату, обнаружения нигилистической воли (воли к ничто, по Ницше), и именно поэтому их теории, труды и взгляды распространялись
1 Гольбах П.А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1963.
Победивший Модерн
137
с такой интенсивностью и встречали в образованных средах Европы восторженное одобрение. Дух времени, Zeitgeist, покровительствовал материализму, так как он лучше всего соответствовал метафизической сущности финальной стадии европейского историала.
Для понимания структуры французского Логоса следует обратить внимание на то, что в авангарде материалистической философии стояли преимущественно французы (наряду с англичанами, другими носителями кельто-Модерна), давшие наиболее общие и цельные версии этого мировоззрения.
Материализм не является для французского духа чем-то чуждым и привнесенным извне. Он вызрел внутри французской души, в контексте французской идентичности и должен быть осмыслен как элемент судьбы, как сегмент французского историала.
Вольтер: «раздавить гадину» и «запретить народу думать»
Спустя два столетия после Декарта во Франции произошло событие, оказавшее на Европу Нового времени огромное влияние — Великая Французская революция. В ней воплотился сам дух Модерна, его философская, научная, социальная, политическая, культурная и экономическая программа достигла апогея.
В имплицитной философии Французской революции было несколько идейных течений: от линии просвещенной аристократии, опирающейся на светский критицизм Вольтера, до радикальной революционной буржуазии, чьим идеологом был Жан-Жак Руссо. Оба они не дожили до самой Революции, но оказали на ее идейную подготовку огромное влияние.
Франсуа-Мари Аруэ Вольтер1 (1694—1778) был крупнейшим французским философом эпохи Просвещения. Он воплощал в себе сам дух Просвещения и в значительной степени подготовил в умах французской интеллектуальной элиты предпосылки к радикальным преобразованиям, воплотившимся в Великой Французской революции, разразившейся во Франции сразу после смерти Вольтера.
Философские взгляды Вольтера сформировались под преобладающим влиянием Джона Локка, что отличало его от убежденных материалистов (таких как Гольбах) и делало продолжателем картезианского дуализма, признававшего две параллельные онтологии — субъекта и протяженности, хотя в случае Локка само содержание
1 Вольтер. Собр. соч.: В 3 т. М.: ЗАО «РИК Русанова»; Сигма-Пресс, 1998.
138
Французский Логос
субъекта черпалось больше из воспитания и общества, нежели из присущих самой мыслящей вещи (res cogens)«врожденных идей».
Вольтер был последовательным противником теизма и жестко критиковал церковь как институт и теологию как систему догматов. Именно Вольтеру принадлежит одно из самых радикальных анти-церковных и антихристианских высказываний — «раздавите гадину» (ecrasez Г infame), ставшее лозунгом антиклерикальной борьбы в последующие столетия. Под «гадиной» просветитель подразумевал христианство. При этом Вольтер допускал существование Бога-Творца, создавшего мир и больше не вмешивающегося в его дела, признавая общую логику деизма.
В вопросах политики Вольтер выступал за просвещенный абсолютизм, полагая, что именно светский монарх, обратившийся к идеям Просвещения, способен обеспечить наилучшие социальные условия для расцвета в обществе наук и искусств и для развития системы образования (на что большое внимание обращал и Дж. Локк), ориентированной на социальный прогресс и развитие. Показательно, что Вольтер точно увидел историческую миссию французского абсолютизма, которая не была консервативной защитой Средневековья, но действенным инструментом перехода к Модерну, проект которого обретал зримые черты по мере создания «Энциклопедии», в чем сам Вольтер принимал живейшее участие.
Полнее всего мировоззрение Вольтера можно выразить в термине «скептицизм». Стратегией Вольтера было систематическое осмеяние всех ценностей, относящихся к традиционному обществу. Он не столько утверждал альтернативы, сколько подвергал Средневековье и его институты ироничному осмеянию. Так, рыцарские идеалы высмеиваются им в сатирической поэме «Орлеанская девственница»1. При этом в отличие от Руссо Вольтер скептически относится и к простому народу. В одном из писем он иронично замечает: «если народ начнет рассуждать, все погибло». Именно просвещенный аристократ-деист, скептический и с отвращением воспринимающий традицию, является для него идеалом. В этом смысле Вольтера можно считать провозвестником «правого либерализма» (довольно характерного для культуры английского Модерна), одинаково презирающего и традиции Средневековья (церковь, мистику, империю, феодальную этику и т.д.), и народную демократию. Ярче всего такая позиция была сформулирована английским философом Эдмундом Бёрком, который, как и Вольтер, был ярым энтузиастом Просвещения, но, наблюдая процесс Французской революции
1 Вольтер, Орлеанская девственница // Вольтер. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3.
Победивший Модерн
139
и подъем народных масс, в ужасе отшатнулся от демократии и «рус-соизма». Нечто подобное намечено в полемике Вольтера с Руссо, в которой можно увидеть диссонанс двух версий европейского Модерна: в форме элитистского либерализма (Вольтер) и народной демократии (Руссо).
Жан-Жак Руссо: восстание «добрых дикарей»
Если Вольтер развивал теории просвещенного монарха, не слишком отличающиеся от сложившейся практики монархической модернизации, свойственной целому ряду европейских правителей, в том числе и французским королям, то Руссо1 (1712—1778) предлагал серьезную программу радикальных преобразований. Поэтому к нему обращались самые крайние представители революционных кругов, настаивающие на учреждении во Франции режима прямой демократии.
Руссо описывает в своих философских трудах фигуру «идеального дикаря» (bon sauvage), живущего в гармонии с природой по законам равенства, добра и справедливости. Этот сконструированный образ отражает идеализированную версию «прачеловека», находящегося в лоне матери-земли и еще не столкнувшегося с драматическими мистериями и героическими культами, разрывающими невинность его благополучного сознания2. Можно сравнить этот идеал с мифической фигурой прачеловека-автохтона, рождающегося из земли без помощи мужского начала. Позднее, в XX веке, антропологи соотнесут это с «примитивным обществом», основанным на «мистическом соучастии» (Л. Леви-Брюль) или с этнической формой социальной организации3.
По Руссо, естественная организация общества представляет собой гармоничное сосуществование человека с окружающим миром и с другими людьми. Руссо воспевает «дикаря», наделяя его всяческими добродетелями. Зло приходит в общество тогда, когда в нем начинают распространяться эгоизм, жажда наживы, техника и культура. Руссо видит в цивилизации и техническом прогрессе негативные явления, приводящие к превращению «доброго дикаря» в «злого цивилизованного человека». Сложные общественные институты — церковь, монархия, государство и т. д. — для Руссо представляют собой отчуждающие надстройки над живой человеческой стихией.
1 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969.
2 Дугин А.Г. Этносоциология. М.: Академический проект, 2014.
3 Там же.
140
Французский Логос
Истоки общества Руссо видит в «коллективном договоре», о котором сильные мира сего постепенно забывают, узурпируя властные полномочия и закрепляя привилегии правителей за собой и своими родами. Поэтому Руссо выдвигает идею «прямой демократии», построенной на отрицании всякой вертикальной иерархии, опосредованного представительства и отчуждающих форм социальной организации. Это есть возврат к корням общества, к «общественному договору».
Идеалом Руссо является «сельский житель», «простой труженик», а высшие сословия — жрецы (клир) и воины (аристократия) — наделяются всевозможными пороками и обвиняются в нарушении изначальной чистоты и гармонии жизни, предшествовавшей приходу дифференцированной цивилизации.
Христианство Руссо считает вредным явлением, не совместимым с прямой демократией. Особенно он выступает против идеи первородного греха, которую считает инструментом подавления свободной воли, навязанной обществу политической верхушкой в эпоху расслоения цивилизации на узурпировавшее власть меньшинство и подавленное, лишенное естественных прав большинство.
В демократической философии Руссо мы видим противопоставление третьей касты традиционного индоевропейского общества двум первым, а природного естественного бытия — дифференцированным социальным конструкциям.
Идеи Руссо обращены к представителям третьей функции индоевропейского общества, для которых общинная равноправная организация была оптимальной социальной средой. В отвлеченной фигуре «доброго дикаря» представители буржуазии отчасти узнавали самих себя, свой социологический портрет, противопоставленный утонченной (и извращенной в их глазах) культуре клира и родовой аристократии. Поэтому идеи Руссо послужили удачной формой для мобилизации буржуазной идентичности, чье значение в обществе Модерна постоянно возрастало, и влияние которой становилось все более весомым в политике уже с начала централизаторской стратегии Бурбонов, направленной на ослабление родовой аристократии с опорой как раз на слои городской буржуазии.
Так формируется этический и антропологический идеал — свободы, равенства и братства, который становится лозунгом европейского (и в первую очередь, французского) масонства.
Великая Французская революция ставит своей целью воплотить учение Руссо в жизнь, ниспровергает старый «феодальный», церковно-аристократический, монархический порядок и утверждает
Победивший Модерн
141
в самой радикальной форме впервые в Европе политическую демократию, которая при якобинцах достигает своего пароксизма.
Мать Революция
Масонство накануне Революции становится мощной политической силой. Так, в масонскую ложу «Девять Сестер» был в старости посвящен Вольтер. Масоном был и Ж.-Ж. Руссо, а также крупные идеологи Просвещения: Кондорсе, Дидро, д'Аламбер, Монтескье, Гольбах ит. д.
Изначально масонство было формой средневековой цеховой инициатической организации строителей соборов и дворцов, то есть тайным обществом, приоритетно обращающимся также к третьей касте (ремесленников). В Средневековье масонские корпорации были «оперативными», то есть включали в свои цеха и ателье только представителей строительных профессий — собственно каменщиков, плотников и других ремесленников, связанных с процессом возведения соборов и дворцов. Достоверно проследить истоки масонства довольно трудно, но, тем не менее, очевидно, что ряд легенд, обрядов, символов и посвятительных сценариев имеет явно архаические корни1. В любом случае речь идет о посвятительных практиках, связанных с третьей функцией индоевропейского общества — ремесленников.
В масонском ритуале мы встречаем многие типичные черты более древних форм хтонических мистерий: так, основной масонский ритуал — убийство архитектора Адонирама/Хирама и его воскрешение — воспроизводит сценарий мистерий Адониса, воскрешаемого Великой Матерью Астартой.
В начале XVIII века в Англии масонские ложи были существенно реформированы и в них стали активно принимать, наряду с представителями классической буржуазии, третьего сословия, аристократию, а ремесленный символизм был перетолкован как моральная аллегория. Это принято называть «спекулятивным» масонством, которое, в отличие от «оперативного», не требует профессиональной практики каменщиков. У истоков этой реформы прежнего масонства были кальвинистский пастор Джон Теофил Дезагюлье (1683 — 1744), французского происхождения, чьи родители бежали в Англию из Ля-Рошели, бастиона французского протестантизма и Джеймс Андерсон (1679— 1739), священник шотландской пресвитерианской
1 Guenon R. Etudes sur la Franc-ma^onnerie et le Compagnonnage. T. 1 — 2. P.: Editions Traditionnelles, 1964— 1965.
142
Французский Логос
церкви1. Они разработали первые масонские конституции, определяющие основные формы организации лож, ритуалы, систему подчинения и т. д. Конституцию Андерсона позднее положил в основу Декларации независимости США один из создателей этого государства Бенджамин Франклин1 2 (1706— 1790). Важно отметить, что «спекулятивное» масонство, ставшее в дальнейшем широко распространенной организацией в мировом масштабе, было реформировано (а согласно некоторым историкам и создано заново) протестантами, носителями, как мы видели, духа европейского Модерна.
В Германии масон Адам Вайсхаупт (1748— 1830) придал масонству революционную направленность, превратив основанное им общество «Иллюминатов» в организационную структуру борьбы с монархическими режимами Европы. Во Франции масонство также приобрело радикально-демократические черты и стало организационным авангардом буржуазной революции.
Великая Французская революция, по сути, стала первым массовым политическим успехом революционного масонства, окончательно опрокинувшего остатки средневекового режима и установившего политический строй, строго соответствующий духу европейского Модерна. И снова тот факт, что это впервые случилось во Франции, стране «хрупкого патриархата» с основательным влиянием феминоидного режима ноктюрна (гештальта Мелюзины), имеет большое значение для исследования структур европейского Логоса. Для того чтобы Франция могла стать колыбелью демократической революции в структуре французского Dasein'a, должно было изначально наличествовать нечто, что до какого-то момента спало, но было пробуждено в момент радикальных переворотов.
Показательно, что символом Французской революции стали фригийские колпаки, которые служили в древности знаком восстания рабов в Риме, а еще раньше — ритуальным головным убором оскопленных жрецов культа Кибелы. Фригийский колпак олицетворял Аттиса, возлюбленного Кибелы, мужской половины женского андрогина (гинандры)3.
В эпоху Великой Французской революции между собой столкнулись две фракции якобинцев, «радикальная» (Шометт, Эбер и т.д.) и «умеренная» (Робеспьер); каждая предлагала свое видение того, какой тип «религии» должен сменить ниспровергнутое
1 Дугин А.Г. Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект. М.: Академический проект, 2015.
2 Франклин перепечатал текст Андерсона в 1734 году в Филадельфии.
3 Гинандрой (yvvav6po<;) иногда называют двуполое существо с преобладанием женской природы.
Победивший Модерн
143
христианство. Так, П.Г. Шометт (1763 — 1794) и Ж.Р. Эбер (1757 — 1794), отталкиваясь от атеистических идей просветителя Дидро, принялись активно пропагандировать и внедрять на практике революционный культ «богини Рассудка», или «Культ Рассудка». В честь «богини Рассудка» организовывались массовые шествия, в которых участвовали массы городской черни в карнавальных костюмах, циркачи, акробаты, маски. Во время таких процессий разорялись и осквернялись христианские церкви, уничтожались иконы, осмеивались и пародировались христианские таинства, обсценные действия и представления совершались на алтарях. Роль «богини Рассудка» в процессиях и пародийных антихристианских мессах исполняли актрисы и дамы легкого поведения. Так, в одном из главных соборов Франции в Нотр-Дам де Пари 7 ноября 1793 года по инициативе Шометта была отслужена месса в честь «богини Рассудка», которую представляла оперная актриса. Показательно, что «богиня Рассудка» появлялась из специально сооруженной на хорах декорации в виде горы (символ Кибелы и горы Агдитис), вокруг нее были расставлены портреты Вольтера, Руссо и Франклина, а на голове у нее красовался красный фригийский колпак. При этом собор Парижской Богоматери был «переименован» и заново «освящен» в честь «богини Рассудка». Затем Шометт и Эбер провели решение, по которому все церкви Парижа были посвящены ей же. Здесь мы видим все признаки культа Великой Матери — как с церемониальной, так и с метафизической точки зрения.
Позиции Робеспьера были в этом отношении более умеренны. Вместо культа «богини Рассудка», который основывался на радикальном и откровенном материализме и атеизме, он предложил ввести «деистский культ Высшего Существа», что соответствовало языку большинства масонских лож. «Высшее Существо», как неопределенная первопричина сущего, было формально «мужского пола» и несколько скрывало откровенный взрыв черного Логоса Кибелы, который даже на церемониальном уровне попытались ввести революционеры-радикалы. «Высшее Существо» стоит ближе к деист-ской фигуре «бога»-механика, и его образ резонирует с титаническим началом.
Символы, сопровождавшие колоссальные социальные трансформации, ритуальную казнь короля и представителей высшей знати, подавление народного христианского и монархического восстания Вандеи, кровопролитные репрессии нового режима, радикальная реорганизация всего общества на новых основах имеют для Франции и Европы Нового времени в целом большое значение. Все эти элементы представляют собой фрагменты хтонического культа,
144
французский Логос
уходящего в глубокую архаику, в те культурные пласты Старой Европы (по М. Гимбутас), которые предшествовали волнам индоевропейских завоеваний.
В период Великой Французской революции Франция бесповоротно и глубоко вошла в эпоху Модерна, причем на сей раз Модерна радикального, масонского и буржуазного, намного более хтониче-ского и кибелического, нежели монархические и секуляристские фазы предыдущей модернизации.
Следует заметить, что Логос, проявляющий себя в этой форме, и соответствующий ему режим французского Dasein'a имели мало общего с классическими формами средиземноморской аполлоно-дионисийской традиции. Это было нечто одновременно и пост-ев-ропейское и пред-европейское, в том смысле, в каком Европа существовала в течении нескольких тысячелетий до наступления эпохи Нового времени. Великая Французская революция знаменовала собой конец Европы и начало Анти-Европы.
Мари Жан Кондорсе: прогресс по-французски
Буржуазный либерально-демократический Модерн стал судьбой современной Франции и предопределил ее место в контексте последней эпохи западноевропейской цивилизации. Среди других народов континентальной Европы французы более всех поддались на идеи прогресса и развития, продолжая и доводя до логического предела как рационализм Декарта, так и натурализм Руссо, как атомизм Мальбранша, так и материализм Лапласа.
Современный французский философ Ален де Бенуа пишет об этом:
Идея прогресса является одной из теоретических предпосылок модерна. Не без причины ее часто называют «подлинной религией западной цивилизации». Исторически эта идея была сформулирована приблизительно в 1680 г. в ходе спора «ревнителей древности» и «модернистов», в котором участвовали Террасой, Перро, аббат де Сен-Пьер и Фонтенель. Она уточнялась по инициативе следующего поколения, к которому принадлежали Тюрго, Кондорсе и Луи-Себастьен Мерсье.
Прогресс можно определить как процесс, проходящий через этапы, последний из которых по времени рассматривается как наилучший и предпочтительный, т. е. качественно превосходящий предыдущие. Такое понимание включает
Победивший Модерн
145
в себя как описательный аспект (изменение происходит в заданном направлении), так и аксиологический (развитие понимается как улучшение). Таким образом, здесь говорится об ориентированном изменении, ориентированном на лучшее. Об изменении, одновременно необходимом (нельзя остановить прогресс) и необратимом (не существует возможности возврата к прошлому). Улучшение неизбежно, а значит, завтра будет лучше, чем сегодня1.
Наиболее цельную форму теории прогресса придали французские философы-энциклопедисты А.Р.Ж. Тюрго (1727 — 1781) и Ж.А.Н. Кондорсе1 2 (1743—1794). Тюрго в 1750 году выразил ее в следующей формуле, повторенной позднее Кондорсе: «Вся совокупность рода человеческого постоянно идет ко все большему совершенству»3. Отныне мир виделся исключительно в линейной оптике, которая была аксиоматически признана за главный закон времени.
Присущий теории прогресса оптимизм распространился на все сферы, на человека и общество. Царство разума должно было распространиться на общество, «прозрачное» и умиротворенное. «Приятная коммерция» (Монтескье), считавшаяся желанной для всех слоев общества, должна была заменить конфликт (прогрессисты наивно считали, что возможно построить бесконфликтное общество) торговым обменом4.
Кондорсе насчитывал 10 фаз в поступательном развитии человечества от дикости через техническое и научное совершенствование к эпохе Разума. На всех фазах растут рациональность, техническая оснащенность и свобода. Девятая фаза — переломная, ее Кондорсе соотносит с Декартом. А далее наступает последняя, высшая десятая фаза, которую Кондорсе связывает со своим собственным временем и с эпохой создания «Энциклопедии». Отныне, считает Кондорсе, степень свободы, равенства и братства будет только нарастать. Войны между нациями исчезнут, как и сами нации. Религия будет окончательно упразднена, как и все формы социальной иерархии.
1 Бенуа Ален де. Краткая история идеи прогресса // Бенуа Ален де. Против либерализма. СПб.: Амфора, 2009. С. 120.
2 Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: Либроком, 2011.
3 Бенуа Ален де. Краткая история идеи прогресса. С. 125.
4 Там же. С. 126.
146
Французский Логос
Человечество станет отныне поклоняться только одной богине — «богине Рассудка»1 (того самого «здравого рассудка», о котором учил Декарт). Так, идея линейного развития, свойственная уже древним материалистам — например, Лукрецию — получила новое дыхание и, самое главное, новый статус: отныне прогресс сталнаучной догмой современной западноевропейской цивилизации.
Кондорсе был одним из первых философов, который придал теории прогресса законченный вид. В средневековую эпоху и даже в период раннего европейского Модерна существовали различные представления о природе и структуре исторического процесса, среди которых идеи развертывания от меньшего к большему либо вообще отсутствовали, либо применялись к каким-то определенным сторонам жизни (христианское понимание мировой истории, как направленной ко второму пришествию Христа не представляется как прогресс, но как череда испытаний, причем все более и более страшных), либо имели статус маргинальных и еретических (как в случае с теориями Иоахима де Флоры о «Третьем Царстве»). Лишь Просвещение стало постепенно придавать им статус «само собой разумеющейся истины», а у Кондорсе это становится доктриной, хотя и слабо аргументированной и довольно произвольной. Тем не менее именно данная невыразительная в философском и метафизическом смысле теория, начиная с этого момента, берется в качестве абсолютного и неопровержимого закона развития, который далее некритически применяется ко всем явлениям и этапам истории, раз и навсегда выстроенным вдоль семантической оси прогресса.
Ален де Бенуа пишет по этому поводу:
Движение человечества к счастью было проинтерпретировано и как достижение морального совершенства. Люди Просвещения считали само собой разумеющимся, что в будущем разум усовершенствуется и человечество станет морально лучше. Прогресс уже не считался чем-то внешним по отношению к существованию. Он должен был изменить человека. Прогресс, достигнутый в одной области, неизбежно должен был перекинуться на остальные. Материальный прогресс должен был повлечь за собой прогресс моральный1 2.
1 Олар А. Культ Разума и культ Верховного Существа во время французской революции. М.: Сеятель, 1925.
2 Бенуа Ален де. Краткая история идеи прогресса. С. 126.
Победивший Модерн
147
И далее:
Теория прогресса достигает своего апогея на Западе в XIX веке. Она переформулируется в новую эпоху, отмеченную промышленной модернизацией, научным позитивизмом, эволюционизмом и большими историцистскими теориями.
Теперь акцент смещается более на науку, нежели на разум в философском понимании этого слова. Надежду теперь связывают с научной организацией общества. Наука является отныне матрицей всех феноменов. Это тема, к которой постоянно возвращаются Фурье со своими фаланстерами, Сен-Симон со своими технократическими принципами, Огюст Конт со своим «Катехизисом позитивизма» и «религией прогресса»1.
Огюст Конт: к позитивной фазе
Идеи прогресса получают дальнейшее развитие в XIX веке.
Так, французский философ, основатель позитивизма Огюст Конт (1798—1857) предложил обобщающую версию прогресса, состоящую всего из трех фаз:
• теологической (детство наивного человечества — с древности до 1300 года, где преобладал вымысел и свободная фантазия, не имеющая почти ничего общего с реальностью);
• метафизической (1300 — 1800, где появляется больше строгости в мышлении, но где на место мифов приходят столь же фиктивные и выдуманные философские концепты) и
• научной (XIX век, когда «повзрослевшее» человечество осознало истину о материальности природы и необходимость устанавливать и осмыслять позитивные соответствия между явлениями внешнего мира и человеческим рассудком).
Философские идеи Конта легли в основу европейского представления о том, что является научным, а что нет, и особенно повлияли на научный позитивизм, остающийся до сего времени одной из основных парадигм научного знания.
Идея прогресса^ таким образом, введенная в аксиоматику научного мировоззрения^ Нового времени, является в значительной мере
1 Бенуа Ален де. Краткая история идеи прогресса. С. 126.
148
французский Логос
французским изобретением, а точнее, новым открытием черной философии Кибелы с опорой на особый «кельтский» хтонический Dasein.
Наполеон Бонапарт: первая буржуазная империя
Исторически между Великой Французской революцией и XIX веком в рамках французского историала располагается совершенно особая Наполеоновская эпоха.
Наполеон! Бонапарт (1769—1821) был, с одной стороны, продолжателем тех буржуазных тенденций, которые в полной мере реализовались в Революции: он опирался на буржуазию, превратил Францию в мощнейшее в Европе национальное государство, добил окончательно любые поползновения консервативной аристократии настаивать на сохранении или тем более восстановлении своих сословных привилегий. В этом смысле Наполеон был буржуазным реформатором, сделавшим еще один радикальный шаг в сторону Модерна. С другой стороны, Наполеон 18 мая 1804 года был провозглашен Сенатом императором, несколько позднее — коронован при участии Папы Римского и попытался построить мощную европейскую континентальную империю, объединив под властью Франции все европейские народы и восстановив тем самым франкское государство Карла Великого. С третьей стороны, с геополитической точки зрения, Наполеон выступил радикальным противником морского могущества Великобритании, постаравшись придать мировой истории направление, альтернативное сложившемуся в результате подъема Англии и ее морской торговой империи (континентальная блокада, провозглашенная в 1806 году). Его планы заключить союз с русским императором Павлом Первым и даже с Александром Первым (Тильзитский мир) показывали, что Наполеон всерьез был намерен вытеснить Англию и ее геополитических вассалов из континентальной Европы, открыв новую страницу европейской истории.
Свою карьеру Наполеон начинал на стороне революционеров, и при Директории был дивизионным генералом. Став чрезвычайно популярным и влиятельным, он совершил в ноябре 1799 года государственный переворот и был провозглашен первым консулом, практически захватив в свои руки всю власть.
Империя Наполеона, однако, не имела никакого отношения к Священной Римской империи, несмотря на то, что при его коронации присутствовал Папа и, признавая свое могущество перед лицом наполеоновского нашествия, снял с себя корону император Священной Римской империи Франц II. В начале своего правления
Победивший Модерн
149
в 1801 году Наполеон заключил с Папой Римским союз (конкордат), условия которого предполагали, что Рим признает легитимность власти Наполеона, а тот, со своей стороны, вновь (как до Великой Французской революции) сделает католицизм официальной религией Франции. Однако для Наполеона отношения с Ватиканом имели исключительно политическое значение, и когда его могущество укрепилось, в феврале 1808 года французские войска заняли Рим, а сами владения Папы Наполеон в следующем году объявил присоединенными к Французской империи. Власть же самого Папы он вообще упразднил. За это Папа Пий VII отлучил Наполеона от церкви. Ответным шагом Наполеона стал арест Папы и заключение его под стражу, где тот и оставался до января 1814 года.
Понимая, что успехи Наполеона грозят навсегда подорвать могущество Британии, Лондон постарался противопоставить Наполеону Пруссию и Россию, что привело к вторжению французских армий в Российскую империю, захвату Москвы, а затем к бегству французов в Европу и падению Наполеона.
При Наполеоне масонство укрепляет свои позиции во Франции и по всей Европе, где по мере французских завоеваний открываются новые и новые ложи. После Египетского похода Наполеона в Европе начинается мода на Египет, что приводит к подъему египтологии, расшифровкам египетских иероглифов, а также к появлению особого направления иррегулярной масонерии, называемой «египетской» — обряда Мемфис и обряда Мицраим (Мицраим на иврите древнее название Египта), объединившихся позднее в общую систему.
Французский триумф буржуазии
В 1814 году французский Сенат провозгласил реставрацию Бурбонов, и к власти во Франции пришел Людовик XVIII (1755— 1824). После его смерти его сменил КарлХ (1757 — 1836). Политические ошибки правительства вызвали широкий протест, а затем и восстания, после чего в 1830 году КарлХ вынужден был отречься и эмигрировать в Англию. А трон захватил последний правитель Франции, носивший официально титул короля, Луи-ФилиппI (1773—1850), называвшийся «Королем-буржуа» или «Королем-гражданином». Это был период интенсивных буржуазных реформ, когда третье сословие окончательно захватывает все политические позиции в государстве. В этот период происходит расцвет масонства (особенно наиболее радикального либерального атеистического масонства «Великого Востока»). Масонские ложи разрабатывают проект окончательного перехода от монархии к республике, что и происходит
150
Французский Логос
24 февраля 1848 года, когда Луи-Филипп после некоторых колебаний подписывает отречение от престола. После этого французская буржуазия провозглашает Вторую республику. Луи-Филипп, как и КарлХ, бежал в Великобританию (где и умер). Президентом республики был избран племянник Наполеона Луи Наполеон Бонапарт (1808—1873), который в ходе государственного переворота в 1852 году, по образцу своего дяди, снова объявляет себя «императором» (Наполеоном III) — в том же самом национал-буржуазном смысле, что и Наполеон I. Наполеон III провозглашает Вторую империю. Правя с помощью лавирования между различными влиятельными политическим группировками (что дало ставший нарицательным термин «бонапартизм»), Наполеон III некоторое время справлялся с вызовами, стоящими перед Францией, но в 1870 году необдуманно начал войну с Пруссией и сам попал в плен к врагу. В 1871 году в Париже вспыхнуло восстание коммунаров, когда наиболее радикальные «левые» революционеры попытались повторить опыт якобинцев. Однако им не удалось поднять всю Францию, и в конце концов победу одержали более умеренные буржуазные либералы во главе с Адольфом Тьером (1797—1877), ставшим первым президентом Третьей республики.
Третья республика просуществовала как политический организм до 1940 года (т.е. до оккупации Франции войсками Гитлера), хотя во главе ее сменялись как правые, так и левые политики, сохранявшие, тем не менее, незыблемыми основные либерально-демократические принципы.
Вместе с тем с середины XIX века во Франции формируется устойчивая традиция левых и крайне левых революционеров, чьи корни уходят к якобинцам, ориентированных на свержение капиталистического строя в пользу коммунистических, социалистических и анархистских проектов общественного переустройства. Эти тенденции находят свое выражение как в марксизме, так и в оригинальных французских феноменах — таких как радикальный социализм Огюста Бланки1 (1805— 1881) или общинный анархизм Пьера-Жозефа Прудона1 2 (1809—1865). Практически все крупные политические деятели буржуазной Франции — как либеральные, так и левые (и даже значительная часть консерваторов) состояли в масонских ложах. Наиболее левые революционные элементы чаще всего при-
1 Blanqui A. Ecrits sur la Revolution, (Euvres completes Г, textes politiques et lettres de prison. P.: Galilee, 1977.
2 Прудон П. -Ж. Что такое собственность, или Исследование о принципе права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины в настоящее время. М.: Республика, 1998.
Победивший Модерн
151
подлежали к «Великому Востоку», тогда как умеренные и консервативные политики — к альтернативной «Великой Национальной Ложе».
Монархия и ее симулякры
Если мы суммируем период правления последней династии Бурбонов, включая драматические события Великой Французской революции, эпоху Наполеона, затем Реставрации и Наполеона III, то мы видим основную закономерность: постоянное нарастание буржуазного элемента и прогрессирующую модернизацию всей структуры Политического.
Династия Бурбонов восходит на французский престол с Генрихом IV Наваррским, который изначально был сторонником гугенотов, а следовательно, уже ориентировался на светские формы политики. Он продолжает продвигать их и после своего перехода в католичество. В дальнейшем Бурбоны также действовали в парадигме Модерна. Абсолютная монархия, которую они строили, характеризовалась постепенным ослаблением и упразднением основных политико-социальных институтов европейского Средневековья:
• закатом власти феодалов, которым абсолютизм Бурбонов противостоял с опорой как раз на третье сословие (буржуазию);
• ориентацией на построение суверенного национального государства (идеи Ж. Бодена) в ущерб власти Папы и против Австрийской империи;
• движением в сторону модернизации христианства и определенными шагами к реорганизации католичества на национальной основе («галликанская церковь» как копия англиканской);
• секуляризацией культуры и образования при определенной поддержке умеренных деятелей просвещения.
Тем самым абсолютная монархия Бурбонов была сама по себе лишь отчасти традиционным и сакральным политическим институтом, но по своему содержанию становилась все более и более светской, то есть проходила последовательно этапы секуляризации и модернизации — хотя и сохраняя внешнюю форму христианского общества. Поэтому ряд умеренных просветителей — Вольтер или Гольбах — выступали в поддержку абсолютной монархии, видя в ней оптимальный инструмент для внедрения идей Просвещения в общество. В этом жесте закреплялся на определенном этапе «контракт» идеологов буржуазии>с «просвещенными монархами».
152
французский Логос
Если взглянуть на историю Франции более внимательно, то тенденции к абсолютизму можно заметить и в эпоху Валуа, при сословной монархии; и даже еще раньше — при Капетингах, начиная с Филиппа IV (который, согласно Р. Генону, и был первым королем Франции, сделавшим решительный шаг к отходу от традиции и сакральных основ Логоса Средневековья). Но начиная с Бурбонов эта тенденция становится доминирующей и позволяет говорить о том, что сама по себе династия Бурбонов уже была монархическим симулякром.
Великая Французская революция резко ускоряет процесс модернизации французского общества и отбрасывает монархию как помеху для дальнейшего этапа буржуазных преобразований. В этом двойственность истории Бурбонов: с одной стороны, они сами способствуют модернизации Франции, а с другой, в глазах более радиальных представителей буржуазии препятствуют ускоренным реформам и сдерживают преобразования в соответствии с демократическими идеалами Просвещения. В эпоху Великой Французской революции, особенно в период якобинства и террора, сущность Модерна обнажается с предельной ясностью, и, забегая вперед, буржуазия обнажает свои исторические планы, которым суждено будет полностью осуществиться лишь в следующем столетии, когда монархия будет упразднена окончательно.
Однако после казни Людовика XVI и периода Первой республики власть захватывает Наполеон I Бонапарт. Наполеон представляет собой еще один тип симулякра монархии, так как он объявляет себя «императором» в полном отрыве от духовного теологического христианского содержания этого термина. Как показывает история его отношений с Папой и его роль в упразднении Австрийской империи, для Наполеона не существует никаких сакральных институтов, а все измеряется чисто материальным могуществом: количеством войск, техническим обеспечением армий, успешным ведением военных операций и т. д. Империя Наполеона была не только империей в сакральном смысле индоевропейского Логоса, но и монархией. В социальной сфере она сохранила и укрепила основные преобразования Революции, и наполеоновская диктатура их сделала необратимыми. Это был не возврат на шаг назад, и тем более не консервативный рывок в Средневековье, но разновидность буржуазной диктатуры, исторически способствовавшей модернизации Франции и Европы в целом. Единственное, в чем Наполеон мог рассматриваться как носитель консервативной миссии, это геополитика европейского кон-тинентализма, выразившаяся в его противостоянии с торговой та-лассократической Британской империей. Британия была в XIX веке
Победивший Модерн
153
еще более продвинутой на пути модернизации и капиталистических преобразований, чем Франция, и в этом отношении антибританская ориентация Наполеона была важной составляющей при измерении степени модернизации между двумя европейскими державами, стоявшими в авангарде этого процесса.
После конца правления Наполеона реставрация Бурбонов Людовика XVIII и Карла X, а также царствование Луи-Филиппа из Орлеанского дома были следующим уровнем симулякров, так как теперь абсолютизм ранних Бурбонов был ограничен буржуазной Конституцией, но при этом был снят с повестки дня и антибританский вектор политики Наполеона I, что делало этот заключительный период французской монархии уже самой настоящей пародией — на сей раз не только на монархию как таковую, но даже на абсолютизм дореволюционных Бурбонов.
Революция 1848 года, в ходе которой французская монархия вообще прекратила свое существование как институт, с точки зрения укрепления республиканских основ, была вторым этапом Великой Французской революции. Последующая за этим эпоха Наполеона III была пародией на пародию, так как не обладала не только династической легитимностью, но еще и — в отличие от Наполеона I — не была антибританской. Эта «империя» была симулякром n-ого порядка даже в отношении всех предшествующих фаз и служила прозрачным прикрытием буржуазной олигархии. От этого симулякра n-ого порядка в 1870 году Франция освободилась вообще без каких-либо серьезных потрясений (если не считать Парижской коммуны, члены которой хотели ускорить исторический процесс и осуществить рывок к еще более продвинутой — социалистической — фазе радикальной демократии).
Вторая республика, установленная после того, как все инструментальные симулякры буржуазного строя были сметены в силу исчерпанности их исторической функции, стала наиболее полным и совершенным выражением тех тенденций Нового времени, которые были главным содержанием французской политики, начиная с Бурбонов. Это принципиальный момент, довольно справедливо отмеченный Марксом: становление капиталистической системы началось намного раньше, чем ее полноценное оформление в виде институтов буржуазной демократии — республики, парламента, учредительного собрания и т. д. Логос Модерна действовал во Франции не только тогда, когда он вышел на поверхность и обнаружил в полной мере свою структуру, но и на несколько этапов раньше, когда происходил процесс постепенной денатурации традиции, формально не порывающей ни с христианством, ни с монархией, ни
154
Французский Логос
с сословными институтами, но наделяющей их новым — современным, буржуазным, титаническим и кибелическим (в терминах ноо-логии) смыслом.
Вандея: мученичество за «сердце Господне»
Великая Французская революция не была принята единодушно всем населением Франции. В провинции — и особенно в некоторых регионах — возникли очаги яростного сопротивления со стороны тех, кто сохранял верность старым порядкам — христианству, монархии, средневековой традиции изначальной Франции.
Ярким примером реакции сторонников традиционного французского Логоса на приход радикального Модерна может служить история крестьянского восстания в Вандее. В Вандее (регион Пуату), как и в ряде других французских провинций (в частности, восстание шуанов на правом берегу Луары), местное население — в основном крестьяне, ремесленники и сельские священники — отвергло декреты революционного правительства, отказалось посылать рекрутов в республиканскую армию и присягать Конвенту. Вместе с остатками верной королю знати они образовали отряды вооруженного сопротивления, формировавшиеся под лозунгом «За короля и веру». Показательно, что важнейшим символом мобилизации сторонников традиционного общества в Вандее было «сердце Господне», Sacre-Coeur, что указывало на наличие в этом движении мистико-эсхатологического начала1. Это был не только социально-политический протест против «новых порядков», но и осознанная битва за христианский Логос и европейскую сакральность.
Население Вандеи (как и в соседней Бретани) состояло преимущественно из прямых потомков кельтов с традиционалистским католицизмом.
Восставшие Вандеи отчетливо понимали, что Французская революция является ярчайшим выражением апостасии, порывает с тем обществом, которое считалось для них с эпохи Средневековья нормативным. Они поднялись отстаивать «короля и веру», а после казни Людовика XVI, только «веру», с оружием в руках. Восстание вспыхнуло в 1793 году и длилось по 1796 год. Превосходящие силы республиканцев, наконец, подавили восстание, но оно поднялось с новой и новой силой в Вандее и длилось вплоть до эпохи Наполеона, а последний раз дало о себе знать в 1832 году, когда консерваторы поднялись в поддержку законного монарха.
1 Guenon. R. Ecrits pour Regnabit, revue universelie du Sacre-Coeur. Milano: Arche, 1999.
Победивший Модерн
155
Современный историк так описывает карательную экспедицию республиканцев против Вандеи.
В начале 1794 года командующий Западной армией генерал Тюрро приступил к исполнению страшного декрета от 1 августа, решив покарать мирное население, поддерживавшее повстанцев. «Вандея должна стать национальным кладбищем», — угрожающе заявил он. Тюрро разделил свои войска на две армии, по двенадцать колонн в каждой, которые должны были двигаться навстречу друг другу с запада и с востока. «Адские колонны», как их тут же окрестили, с января до мая жгли дома и посевы, грабили, насиловали, убивали — и все это «во имя республики». Счет жертвам шел уже на многие тысячи. Но особенно чудовищными были экзекуции в Нанте, где свирепствовал член Конвента Каррье. Около десяти тысяч человек, многие из которых никогда не держали оружия в руках, а просто сочувствовали повстанцам, были казнены. Одни погибли под ножом гильотины, другие в Луаре: людей усаживали в большие лодки и пускали на дно посередине реки. С супругов срывали одежду и топили попарно. Беременных женщин обнаженными связывали лицом к лицу с дряхлыми стариками, священников — с юными девушками. Каррье называл такие казни «республиканскими свадьбами». Он любил наблюдать за ними с изящного суденышка, плавая по Луаре со своими подручными и куртизанками. Так за свою непокорность Вандея была потоплена в крови1.
Подобные сцены живо напоминают казни первых христиан, с той лишь разницей, что в катакомбный период мученики утверждали веру перед лицом язычников, представителей имперской власти, которой в будущем предстояло стать вместилищем церкви. И многие из палачей, как свидетельствует агиографическая и мартирологическая литература, в самый разгар пыток обращались и присоединялись к казнимым. Мученики благословляли палачей, желая им обращения. В истории Вандеи мы имеем дело с христианским обществом, с людьми, выросшими на христианских ценностях (и палачи, и жертвы). Но едва ли можно себе представить, как куртизанки из свиты «маньяков Просвещения» Тюрро или Каррье принимают сторону гибнущих провинциальных простолюдинов.
1 Плавинская Н. Ю. Вандея // Исторический лексикон. XVIII век. М.: Знание, 1996.
156
Французский Логос
В ходе подавления восстания, а также последующих карательных операций против контрреволюционно настроенного населения Вандеи были без суда убиты более 10000 человек обоих полов, в том числе родственники и члены семей участников восстания, священнослужители, монахи и монахини. Из фактов геноцида населения Бретани карательными колоннами наиболее известны «Нантские утопления», заменившие собой за счет большей скорости и массовости казни на гильотине. Так, якобинский генерал Франсуа-Жозеф Вестерман, приспешник Дантона, позднее сам окончивший жизнь на эшафоте, воодушевленно писал в Париж:
Граждане республиканцы, Вандея более не существует! Благодаря нашей свободной сабле она умерла вместе со своими бабами и их отродьем. Используя данные мне права, я растоптал детей конями, вырезал женщин. Я не пожалел ни одного заключенного. Я уничтожил всех.
В целом же, по оценкам английского историка Доминика Ливена, в ходе войны в Вандее погибло 250 тысяч человек (республиканцев, их противников и некомбатантов)1.
С точки зрения христианского взгляда на историю, начало Модерна совпадает с наступлением периода апостасии, а модернизация и секуляризация общества суть знаки «прихода антихриста».
Жозеф де Местр: консервативный ответ
Подобно тому, как не все население Франции безропотно приняло нормы Революции, не все направления французской культуры Нового времени были построены по строгим лекалам Логоса Великой Матери. Сильны и активны были французские философы-консерваторы, отстаивавшие против материализма, прогрессизма и титанизма (прометеизма) подходы и ценности, связанные с латинской классикой, средневековой схоластикой и, в конце концов, с индоевропейскими (сословными) социальными структурами. Франция знала и Вандею, и консервативную философию Жозефа де Местра (1753—1821), Луи де Бональда (1754—1840), Франсуа Рене де Шатоб-риана (1768— 1848) и т.д.
Ярчайшим представителем радикального французского консерватизма был Жозеф де Местр. Де Местр увлекался с юности католической мистикой и стал членом масонских организаций консерва-
1 Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Европа, 2007.
Победивший Модерн
157
тивного толка (Шотландский обряд под эгидой «Великой Ложи Англии») . Особенно ему близки были идеи французского философа Луи Клод де Сен-Мартена1 (1743—1803). Сен-Мартен продолжал линию испанского мистика и теурга Мартинеса де Паскуалиса( 1727—1774), активно изучал и интерпретировал работы немецкого мистика Якоба Бёме, труды которого он впервые перевел на французский и издал во Франции, а также шведского визионера Эммануила Сведенборга. Все эти авторы и их теории стали важными метафизическими ориентирами и для Жозефа де Местра.
Жозеф де Местр становится мартинистом и рассматривает это учение как духовную платформу фундаментально христианского видения мира, противостоящего секуляризации и наступлению научного мировоззрения. Сен-Мартен исходил из того, что человек есть существо духовное, постоянно сопровождаемое ангелом, который добровольно уходит вместе с ним в телесное изгнание, чтобы помочь вернуться. Духовный мир составляет область Софии, которая просвещает природу. Задача человека, по Сен-Мартену, уйти от механического понимания истории, природы, общества и перейти к софиологическому духовному их истолкованию. Во время Великой французской революции Сен-Мартен как аристократ был арестован, но позднее отпущен. Само это событие и конец монархии он воспринимал как свершающийся на его глазах Апокалипсис.
Жозеф де Местр рассматривает Революции в точно таком же свете, полагая, что это было прямым наказанием Божиим за тепло-хладность духовенства, слабость и развращенность аристократии и пассивность народа, поддавшихся веяниям Нового времени, представляющим собой, по де Местру, чистое зло. С его точки зрения, нормативным обществом является только христианская монархия, основанная на полноценном и тотальном принятии всех догм католического учения в его средневековой форме. Любые компромиссы с духом времени недопустимы, как недопустим договор с дьяволом.
После аннексии революционной Францией герцогства Савойя, бывшего до этого независимым, Жозеф де Местр, как сенатор этого государства, единственный среди всего Сената оказывает сопротивление и переходит в лагерь савойских патриотов-консерваторов, вставших на путь радикального сопротивления якобинской оккупации. Позднее он оказывается в эмиграции, но продолжает бороться с Революцией, публикуя серию контрреволюционных памфлетов, воззваний и книг. Перед наступлением французских войск он вынужден эмигрировать в Швейцарию и Италию, а затем становится послом
1 Saint-Martin L.C. Oeuvres majeures. Р.: Editions du Rocher, 1994.
158
Французский Логос
Сардинского королевства в Российской империи, где поддерживает тесные контакты с русской знатью, сближается в качестве советника с императором Александром I и пишет ряд программных работ, в том числе и «Санкт-Петербургские вечера»1. Его идеи повлияли на русских консерваторов (Л. Тихомиров, К. Победоносцев), славянофилов (особенно на К. Леонтьева), Ф. Достоевского и т.д.
В своих работах Жозеф де Местр выступает против галликанской церкви и французского национализма в целом, не только в якобинской форме, но и в версии Наполеона, призывая Европу вернуться к традиционному обществу с доминацией средневекового сословного порядка, надгосударственной властью пап и последовательно христианской и антисовременной культурой.
Философия де Местра строится строго вертикально — сверху вниз. С его точки зрения, основное заблуждение Модерна и его теоретиков (начиная с Руссо) состоит в том, что они полагают индивидуума создателем политической системы (теория «общественного договора»). По де Местру, индивидуум не может быть создателем политической системы, так как он всегда является производной от социально-политического целого, которое и наделяет его содержанием. В XX веке французский социолог Луи Дюмон2 назовет этот принцип «холистским»; он состоит в принятии аристотелевского тезиса относительно того, что в организме целое всегда больше суммы частей. Государство — это целое, поэтому оно дается сразу и спонтанно, как божественное наитие. Отсюда его сакральная природа, отражающаяся как в церкви, призванной обеспечивать духовную устремленность земных институтов, так и в освящении монарха во время коронации кардиналами или самим Папой, что является выражением божественной воли, проецируемой на земную власть. Жозеф де Местр указывал на то, что «Человека», как его понимало Новое время, не существует. Де Местр писал: «Я никогда не встречал Человека». Под этим он имел в виду, что субъект Модерна есть не что иное, как концепт, то есть абстрактное понятие, не имеющее никакого эмпирического подтверждения. Реальный человек всегда есть часть общины, общества, конкретной культуры; именно эта органическая коллективная принадлежность наполняет его содержанием, смыслом и бытием. Изолированный от социальных и культурных связей человек есть чистое ничто. Предоставленные сами себе люди способны только уничтожить общество, но не создать его. Но и на это они, строго говоря, не способны, уточняет Жозеф де Местр, так как божественное Про-
1 Местр Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. СПб.: Алетейя, 1998.
2 Дюмон Л. Эссе об индивидуализме. Дубна: Феникс, 1997.
Победивший Модерн
159
видение не позволит им осуществить историческое самоубийство и выведет их даже помимо их воли на крут спасения. Подтверждение этому он видел в окружающем его мире: после полного нигилизма Великой французской революции, оппортунистических авантюр Наполеона, потери своей родины, Савойского королевства, разделенного между Францией, Швейцарией и королевством Пьемонт-Сардиния по результатам первого Парижского трактата (1814 года), монархия во Франции была восстановлена, Наполеон пал, а в силу второго Парижского трактата, подтвержденного решениями Венского конгресса, Савойя была восстановлена. В этом локальном успехе контрреволюционных идей, одним из главных сторонников которых он был в течение всей своей жизни, Жозеф де Местр распознал провиденциализм истории. Западу суждено пройти через фазу полного упадка, чтобы выйти на новый виток истории, который станет возвратом от патологии к норме, то есть от демократии, либерализма и индивидуализма — к монархии, теократии и социально-политическому холизму. Политическая история есть не что иное, как теофания, считал де Местр. Эту точку зрения с ним разделял и Александр I, воплотивший ряд идей де Ме-стра о возвращении Европы к традиции и духовному сакральному порядку в Священном союзе.
Для де Местра существует два наиболее откровенных выражения зла: протестантизм в религии и республика в политике. Обе формы строятся на индивидуализме и ориентированы на расчленение духовного и историко-культурного единства. Так как религия, по де Местру, всегда социальна, то индивидуалистический протестантизм есть антирелигия. То же самое верно и в отношении республики: государство есть нечто общее, целостное. Претензия создать его, отталкиваясь от индивидуума, приведет к полному разрушению государства (что мы и видим в дальнейшем развитии либеральных идей — особенно ярко в XX веке).
Проведение играет в философии де Местра решающую роль. Революция — тоже форма реализации Провидения. Когда священные устои общества расшатываются, наступает кризис, люди выходят из-под священной власти порядка. Но получив долгожданную свободу, они не способны ею воспользоваться (потому что их изначальный импульс порочен по существу) и начинают истреблять друг друга (пример этому эпоха террора во Франции). Тем самым они своими руками, думая, что поступают свободно, исполняют волю Провидения, которое очищает общество от наиболее разрушительных, вредоносных и беспорядочных элементов. Этому, по де Местру, служат и войны, являющиеся формой оздоровления культуры.
160
Французский Логос
Радикальный и бескомпромиссный консерватизм и традиционализм Жозефа де Местра значительно повлиял на Рене Генона, также в юности увлеченного мартинизмом, и на немецкого консервативного мыслителя Карла Шмитта. Под впечатлением его идей находились такие разные личности, как философ Леон Блуа, писатель Оноре де Бальзак, поэт Шарль Бодлер, теоретик дендизма Барбе д'Оревильи и т.д.
С точки зрении ноологии, Жозеф де Местр был ярчайшим представителем Логоса Аполлона и выражал в себе глубинную индоевропейскую идентичность европейской цивилизации в ее нормативном и изначальном состоянии — до того, как она была глубинно аффектирована Логосом Кибелы, проявлявшимся одновременно на всех уровнях — от политики и религии до философии, науки и культуры. Для Жозефа де Местра неприемлема не только Великая французская революция, но в равной мере и буржуазный «император» Наполеон, конформистский «галликанский» клир и даже десакрализированные просвещенные монархи-абсолютисты предыдущей эпохи. Он признает легитимным только установление полной теократической священной монархии. И в этом он оставался непреклонным в течение всей жизни.
Литература социального материализма
Французское письмо
Французская классическая литература XIX века является вершиной культуры Модерна. Она послужила образцом практически для всей европейской традиции, будучи наиболее полным и убедительным выражением духа эпохи. Очень важно, что французская классическая литература, иногда прямо отождествляемая с европейской литературой XIX века в целом, в отличие от современной ей немецкой, где полностью доминирует романтизм, и русской, где ярче всего проявились психологизм и народность (Достоевский и Толстой), отличается реализмом и даже своего рода материализмом, выбирая в качестве приоритетного объекта максимально точное описание человека и окружающего его социального мира. Во французском литературном реализме мы видим кульминацию идей Декарта: субъект и природа, причем для человека природой все больше выступает общество, т. е. вторая природа, сотворенная самим субъектом как суррогат первой. В литературе XIX века во Франции материя приобретает социальное измерение, становится социальной материей, в среде которой действуют субъекты, «мыслящие вещи», описываемые классиками с постоянно возрастающим числом подробностей.
Выдающими фигурами французской классической литературы реализма являются Стендаль, Оноре де Бальзак, Густав Флобер, Эмиль Золя и замыкающий эту цепь великих писателей Марсель Пруст, чья проза отчасти относится уже к следующей эпохе радикального нигилизма, сменяющей классический стиль реализма и социального материализма.
Реализм в целом характеризовался тем, что описывал совершенно новую фигуру человека, не известную более ранним этапам литературы Нового времени. Главным его героем становится индивидуум. Этой фигуры не было и не могло быть в Средневековье, где внимание культуры останавливалось на архетипах и образцах, а все остальное считалось малозначимыми деталями. Лишь великие люди — святые, подвижники, герои, короли и папы привлекали несколько большее внимание к их личностям, но и то лишь в той степени, в которой детали оттеняли масштабность исторических и духовных деяний и подвигов. Все остальное отбрасывалось, и в зону
162
Французский Логос
хроники или романа могло попасть лишь то, что было созвучно с «великими фигурами» — религии, мифа, легенды.
Позднее, в эпоху Возрождения и раннего гуманизма, номенклатура героев пополнилась образами великих людей, куда включались художники, политики, мыслители. Их образы были уже более четкими и менее схематичными, но за то, чтобы оказаться в центре внимания, они платили сверхчеловеческими деяниями, покорявшими воображение свершениями или творениями. На этом этапе не столько воспевался просто человек, сколько великий человек, сверхчеловек, своего рода homo maximus (отсюда «максимальный гуманизм»1).
Эта тенденция продолжалась и позднее в эпоху Просвещения и в период романтизма, где акцент при описании великих людей («максимальный гуманизм») ставился на их противоречивости, парадоксальности, наличии проблематичных, а то и откровенно демонических сторон. Герои продолжали быть великими, но уже в более широком смысле.
И лишь в литературе XIX века, причем именно во французской литературе, Модерн достигает такого сосредоточения на человеке, что в зону литературного внимания попадает просто человек, индивидуум, не отличающийся ни героизмом, ни сверхчеловеческим темпераментом, ни демонической глубиной. Это порождает совершенно новую среду, открытую реализмом: поле социальной материи, где действуют автономные индивидуумы, которые и становятся отныне главными действующими лицами. И если даже речь заходит о крупных исторических персонажах, они предстают с индивидуальной стороны, как предельный случай человеческого, наделенные всеми чертами, свойственными до определенной степени и всем остальным, герои среди других.
Стендаль: роман карьеры
Одним из первых свое внимание сосредоточил на фигуре индивидуума французский писатель-реалист Мари-Анри Бейль (1783 — 1842), который свои литературные произведения обычно подписывал псевдонимом «Стендаль»1 2.
Стендаль написал много исторических произведений, в основном посвященных Италии, в которой он много лет прожил. Некоторые из них приобрели значительную популярность в жанре аван
1 Дугин А.Г. Максимальный гуманизм // Дугин А. Г. Русская вещь: В 2 т. Т. 2. М.: Арктогея-центр, 2001.
2 Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М.: Правда, 1959.
Литература социального материализма
163
тюрных романов (например, «Пармский монастырь»1, «Итальянские хроники»1 2).
В его романе «Красное и черное»3 впервые во французской литературе появляется персонаж (Жюльен Сорель), чья задача состоит только в одном — сделать карьеру в обществе. Для этого он использует связи, контакты, а также женщин. Тщеславие превращается в цель, которой подчинено все остальное — философия, религия, отношения с противоположным полом и т.д. При этом Жюльен Сорель не является механическим воплощением воли: он вполне индивидуален, подчас колеблется, не зная, что выбрать, следует за своими чувствами, поддается эмоциям. И хотя им движет карьера и жажда социального признания, он сбивается с этого пути, стреляет в свою бывшую возлюбленную госпожу де Реналь, а затем в тюрьме, приговоренный к смертной казни, принимает решение отказаться от апелляции, выбирая смерть.
Так, Стендаль выводит на авансцену полностью автономного индивидуума: добившегося определенных успехов, поддавшегося эмоциям и страстям и, в конце концов, выбравшего смерть. Стендаль был атеистом и сторонником Просвещения. Его герой не надеется на вечную жизнь, не знает раскаяния или ужаса воздаяния. Он целиком принадлежит земной жизни и французскому обществу своего времени, и именно то, что он полностью вписан в общие рамки, то, что он является типичным (но не архетипичным!), и делает его случай уникальным.
Показательно, что история написания этого романа основана на прочтении Стендалем случайной статьи в местной провинциальной гренобльской газете. Так, несущественный казус из повседневной жизни возвышается литературным реализмом до уровня темы и персоны, и сама случайность выбора сюжета говорит о радикальном изменении основного экзистенциального поля литературы, окончательно перемещающей свое внимание в горизонты обыденного, социального, конкретного, бытового.
Оноре де Бальзак: титанический реализм
Крупнейшим французским писателем является Оноре де Бальзак4 (1799—1850). Основной массив его творчества он сам объединил в цикл «Человеческая комедия», ставя перед собой задачу дать
1 Стендаль. Пармский монастырь // Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. Т. 3.
2 Стендаль. Итальянские хроники. Т. 5.
3 Стендаль. Красное и черное. Т. 1.
4 Бальзак Оноре де. Собр. соч.: В 24 т. М.: Правда, 1960.
164
Французский Логос
масштабный ответ вертикальной топологии Данте с его «Божественной комедией», чье действие развертывается в трех мирах — аду, чистилище и раю, в горизонтальной топологии буржуазной постнаполеоновской Франции, куда космическая онтология средневекового человека перешла в парадигме Модерна. В мире Бальзака — по крайней мере, в рамках «Человеческой комедии» — нет места ни потустороннему, ни Богу, ни природе, ни героизму, ни романтизму; мы оказываемся в сплошном человеческом мире, где действуют автономные индивидуумы, мыслящие эго, движимые желанием преуспеть, занять позицию в обществе, реализовать свои желания в том горизонте, который отныне является для них и естественным, и единственным. Это — горизонт социальной материи, мир как общество, за пределом которого не существует вообще ничего.
Бальзак ставит перед собой амбициозную цель дать углубленный портрет всех основных типов современной Франции, как голограммы всей Европы, которая так или иначе стремится подражать Франции, законодательнице «человеческих» мод. Так, героями Бальзака становятся предприниматели («Гобсек», «Банкирский дом Нусин-гена»), клирики («Отец Горио», «Турский священник»), парижский свет («Утраченные иллюзии», «Блеск и нищета куртизанок»), провинциальное дворянство («Евгения Гранде», «Утраченные иллюзии»), военные («Шуаны», «Полковник Шабер») ит.д.
Действие всех романов Бальзака развертывается в реалистическом антураже, в мире, полностью лишенном сакрального. То, что было в Средневековье несущественной деталью, а в романтизме возводилось до уровня архетипа, человеческое «я», становится главной темой монументальных эпопей. Так, картезианский субъект приобретает развернутость, насыщаясь все большей психологической и дескриптивной достоверностью. «Человеческая комедия» Бальзака представляет собой продолжения инициативы «Энциклопедии» просветителей. Но в отличие от набора научных и социальных концептов, описанных в «Энциклопедии», Бальзак дает панораму эротического многообразия, расширяющего представление об имманентном, телесно-психологическом человеке Нового времени до грандиозных масштабов. Бальзак создает настоящий человеческий космос, в котором различает ранее ускользавшие от внимания детали, закономерности, дифференциалы, оппозиции, мотивации и вихри. Новый масштаб превращает то, что было ранее смутно обобщенным, в нечто контрастное и выпуклое. Повышенное внимание к деталям человеческого заставляет это человеческое вырастать до гигантских пропорций. Страдания, страсти, желания, аппетиты и переживания среднего индивидуума, на которые в Средневековье или в схоластической куль
Литература социального материализма
165
туре никто вообще не обращал ни малейшего внимания, если только они не пересекались с горизонтами мистического сакрального опыта, у Бальзака оказываются в центре внимания. Их пропорции качественно возрастают, и, соответственно, их геометрия искажается. Попадая в микромир с обрезанными измерениями вертикали, писатель-реалист обнаруживает совершенно новые пейзажи, горизонты и населяющие их существа — теперь это страсти, ощущения, подозрения, влечения, зависть, конкуренция, построенные вокруг общего вектора, вскрытого еще Паскалем — жаждой признания. Современный индивидуум гоним волей к тому, чтобы быть «признанным», и неважно в качестве кого именно — отсюда произвольность и постоянная смена масок героев Бальзака. Быть признанным как «некто значимый», важнее, нежели конкретизация — какой именно «значимый»? Комедийным является то, это почти не имеет значения. Выбор поля индивидуальной реализации диктуется массой случайных деталей. Герои Бальзака готовы часто пойти на все, даже радикально сменить поприще, которому отдали все силы, лишь бы признание пришло именно к ним. В этом обнаруживается метафизическая подоплека Модерна, к осмыслению которой Бальзак подходит в наиболее философском своем произведении «Луи Ламбер»1. Там он формулирует сущность своего открытия: секретом человека является воля, коренящаяся в самом его организме. Все остальное — второстепенно. И условия современной Франции, все полнее обнажающей гуманистические основания Модерна, позволяют вплотную подойти к этому секрету антропологии: в человеке все состоит из воли, и неважно, на что она направлена, чего человек жаждет и как реализует свои внутренние силы. Ничто не имеет значения, кроме воли. Мораль, ценности, принципы, идеалы — все это вторично, показывает Бальзак, перед лицом волевого импульса как сущности человеческой стихии. Таким образом, Бальзак подходит вплотную к обнаружению титанической природы человека Модерна.
Этот титанический реализм Бальзака отчасти дополняется его персональным интересом к совершенно иному регистру философских увлечений. Так, Бальзак в определенный момент живо заинтересовался идеями Иммануила Сведенборга и его ангелологией, а также фундаментальным христианским мистицизмом Сен-Мартена, повлиявшим и на Жозефа де Местра. Вычеркнутое в плане «Человеческой комедии» вертикальное измерение возвращалось к Бальзаку, с его амбициозным стремлением понять до конца антропологический секрет, в форме радикальной мистики. То, как авто
1 Бальзак Оноре де. Луи Ламбер // Бальзак Оноре де. Собр. соч.: В 24 т. Т. 19.
166
Французский Логос
номный индивидуум, действующий исключительно в горизонте социальной материи, сталкивается с потусторонними измерениями, изображено в двух открыто мистических произведениях Бальзака — «Шагреневая кожа» и «Серафита».
В «Шагреневой коже»1 общий бальзаковский сценарий бесконечной воли героя к социальному признанию включается в чуть более усложненную канву, где секрет успеха замыкается в магическом объекте (сама шагреневая кожа), оказавшемся в руках главного персонажа Рафаэля де Валантена. Рафаэль, готовившийся совершить самоубийство после разгромного проигрыша, легко соглашается променять жизнь за исполнение страстных желаний, и это случается. Таким образом, имманентный пейзаж всей «Человеческой комедии» пересекается все же с дантовской Вселенной, так как настоящим истоком имманентной воли освобожденного от всех цепей индивидуума оказывается давно потерянная за горизонтом реализма, материализма и скепсиса фигура дьявола. Бальзак показывает — пусть на периферии своего творчества — возможность более углубленного теологически/мистически взгляда на человека и его волю. Автономность индивидуума и его бешеное стремление к признанию есть, оказывается, лишь наиболее эффективный ход «врага рода человеческого», переместившегося внутрь человеческой природы, пожертвовав своей ипостасью и согласившись со скептиками в вопросе своего собственного «несуществования», чтобы действеннее подчинить себе человека, прикинувшись им самим.
В романе «Серафита»2 Бальзак уже полностью обращается к трехмерной Вселенной, покидая плоскость человеческого и социального. Действие развертывается в Норвегии и в окружении природных пейзажей, внезапно открывавшихся снова после того, как рассеялся туман искусственного человеческого космоса, то есть «светского общества». Восстановленный мир сопряжен с фигурой главного героя/героини романа — андрогином Серафитусом/ Серафитой. Этот образ описывается как световой и одновременно амбивалентный, воссоздающий полную вертикаль сакральной Вселенной, куда андрогин способен взлетать. Метафора полета как выражение божественной любви становится лейтмотивом романа.
Лети безостановочно по блестящим и сверкающим сферам, восхищайся, несись дальше. (...) Беги, лети, играй крыльями, которые обретешь, когда преисполнишься любовью
1 Бальзак Оноре де. Шагреневая кожа // Бальзак Оноре де. Собр. соч.: В 24 т. Т. 18.
2 Бальзак Оноре де. Серафита. М.: Энигма, 1996.
Литература социального материализма
167
настолько, что уже ничего больше чувствовать не будешь, станешь воплощением согласия и любви1.
Серафита — это образ человека в системе координат, резко отличной от координат «человеческой Франции». Поэтому Бальзак помещает действие этого романа в Скандинавию, на периферию Европы, поближе к родине Сведенборга, Швеции, в старинный (средневековый!) замок. Бальзак пишет о Серафите:
Она редко покидает замок. (...) Ее способности, ощущения, все — внутреннее, большую часть времени она погружена в мистическое созерцание2.
Жизнь в мистическом созерцании, во внутреннем мире, это нечто прямо противоположное образу жизни практически всех героев «Человеческой комедии», целиком погруженных во внешний мир и в стихию действия. Любовь Серафиты холодна и бесстрастна. Она вертикальна и полностью удалена от каких бы то ни было человеческих коннотаций — счастье, наслаждение, чувственность. Андрогин, «световой человек» полностью свободен от жажды признания. Напротив, его единственная цель — оставаться неузнанным, сокрытым, чтобы социальная материя не запятнала и не затронула его кристально-духовных структур. Серафита/Серафитус пребывает вне напряженного поля воли. Это существо не относится к сфере влияния титанического Логоса, и даже его тень, уходящая в онтологическую бездну, свободна от спазмов материальности, светскости, гуманистичности. В этом Бальзак, певец титанического реализма, свидетельствует о своем знакомстве со структурой совсем другого Логоса — Логоса Диониса. Тем самым в творчестве Бальзака под плотной пеленой материальной Франции XIX века тонко проглядывает иной, более глубинный и более европейский, более корневой божественный Логос.
Гюстав Флобер: натурализация женского Логоса
Крупнейшим писателем-реалистом был Густав Флобер3 (1821 — 1880), автор романов, ставших классикой мировой литературы, «Мадам Бовари», «Воспитание чувств» и т. д. Флобер, так же как и Бальзак, описывает современное ему французское общество, акцентируя
1 Бальзак Оноре де. Серафита. С. 88.
2 Там же. С. 148.
3 Флобер Г. Собр. соч.: В 5 т. М.: Правда, 1956.
168
Французский Логос
внимание на индивидуальной идентичности своих героев. При этом особенностью прозы Флобера является вычурная изысканность его стиля, подчеркивающая малейшие детали в чувственном мире, поведении, одежде персонажей, а также повышенное внимание к натуралистической стороне отношений между полами, которые в тот период во Франции в области литературы цензурировались нормативами буржуазной морали. Это стоило Флоберу судебного разбирательства после публикации глав романа «Госпожа Бовари», которые официальные инстанции посчитали «оскорбляющими общественную нравственность». Однако в конце концов цензоры смягчились, и роман был напечатан. Тем самым в области литературно допустимого были расширены определенные рамки, отмечая общий сдвиг французского общества в сторону признания социального реализма, включающего в себя описания натуралистических подробностей. Внимание смещалось из области психологических отношений в структуре общества в зону телесного, что постепенно утверждает себя в качестве особого поля внимания. Социальная материальность Бальзака у Флобера постепенно сдвигается в физиологическую материальность, натуралистически описываемую, что открывает для культуры еще один план «человеческого», связанный с физиологией и анатомией, особенно высвечиваемым при описании плотских сторон отношений между полами или даже в однополых связей, что станет — на первых порах осторожной и прикровенной — тематиза-цией произведений М. Пруста.
В творчестве Флобера видно также изменение самого представления о стиле реализма. Если у Бальзака акцент ставится на убедительности образа всего персонажа, на индивидуалистическом и социальном реализме и контрастности описания его волевых стратегий, то у Флобера мы видим еще более пристальное внимание к деталям, переходящим от описания волевой персоны к более минорному и камерному измерению, акцентирующего уже части того, что у Бальзака еще предстает как нечто цельное. Особенно выразительны женские образы Флобера, которые описаны с незнакомой ранее эмпатией и повышенным вниманием. Психологический и даже отчасти психофизиологический мир женщины, ранее представленный схематично или назидательно, начинает проникать в литературу Нового времени и завоевывать там особые позиции.
Флобер вполне может быть рассмотрен в целом как литературный выразитель Логоса Великой Матери, черты которой проглядывают как в «Госпоже Бовари», так и в «Саламбо» или в повести «Иродиада».
Литература социального материализма
169
Эмиль Золя: конец мещанского света
Творчество Эмиля Золя1 (1840—1902) является логическим завершением французского реализма, где плотность социальной материи достигает максимума. Романы Золя это уже не индивидуумы, движущиеся в обществе, но само общество в его натуралистической и массовой стихии. Золя описывает социальный мир, где герои снова типичны и даже архетипичны, но только не в смысле отражения духовных идеалов или метафизических горизонтов, а в смысле выражения материальных энергий, импульсов и стремлений мелкобуржуазных масс, никогда ранее не проникавших в литературу и тем более не становившихся ее главными героями.
Золя сам описал свой метод как создание «экспериментального романа»1 2, переносящего на область литературного творчества принципы научной организации лаборатории или индустриального предприятия. Золя ставит эксперименты над своими героями и одновременно документирует их поведение и условия опыта в мельчайших деталях. Литературный материализм, намеченный во всей традиции французского реализма, у Золя приобретает тотальный характер.
В романах Золя, объединенных разветвленной семьей Ругон-Мак-каров, представители которой проникают на все уровни французского общества — от его вершин до его низов, прослеживается несколько пластов, описанных с чрезвычайной тщательностью и выразительностью. Первый пласт — это мир мелкой буржуазии, осколок раннего Модерна, представители которого остаются носителями мещанской культуры с сентиментальными ценностями, определенной этикой, своеобразной романтичностью малого человека. Этот слой еще на порядок ниже героев Бальзака или Флобера. И поэтому их быт, их портреты и их проблематика сами по себе суть необычное смещение ракурса в еще более глубокие пласты социальности, почти на самое ее дно. Таковы ранние романы Золя — «Завоевание Плассана»3, «Радость жизни»4, «Страница любви»5, «Мечта»6 и т.д. Но этот мещанский мир живет на пороге катастрофы, которая субъективно переживается им как «конец света». Неспешный цикл сменяющих друг друга поколений, продолжающих вести однообразную стереотипную жизнь мелких лавочников, не лишенную определенного сентиментального шарма, рушится на глазах по мере того, как индустриальный
1 Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. М.: Художественная литература, 1960 —1967.
2 Золя Э. Экспериментальный роман // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 24.
3 Золя Э. Завоевание Плассана // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 4.
4 Золя Э. Радость жизни // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 9.
5 Золя Э. Страница любви // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 7.
6 Золя Э. Мечта // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 13.
170
Французский Логос
капитализм начинает диктовать новый стиль отношений, новую динамику и новую этику, несовместимые с прежними психологическими и моральными установками. Мещане не справляются с вызовом эпохи и разоряются перед лицом агрессивного финансового капитализма и наступления крупных монополий.
На место старой экономики приходит новая, описанная в романах «Деньги»1, где показан тотальный механизм биржи; «Человек-зверь»1 2, где речь идет о железнодорожной компании, уничтожающей все на своем пути; «Дамское счастье»3, где в центре внимания огромный современный универсальный магазин, напоминающий индустриальное предприятие или фабрику; «Чрево Парижа»4, где реалистично представлен современный разветвленный рынок. Эти реалии приобретают совершенно новую размерность; среди мелкомещанского пейзажа постепенно появляются фигуры большего масштаба, но этот масштаб связан со стихией тотальной алчности, полного цинизма, непомерного эгоизма и предельной жестокости. На смену маленьким людям приходят титанические фигуры крупного бизнеса, сметающие все, что представляет собой преграду их бесконечным и бесконечно материальным планам.
Параллельно эсхатологии старого мещанства и появлению нового человека биржи, большой индустрии или торговой монополии, на глазах писателя-реалиста складывается еще один уровень социальной материи — пролетариат, описанный в романах «Западня»5 или «Жерминаль»6, как следствие обнищания мелкой буржуазии и появления в городской среде разорившегося крестьянства. В городском пролетариате сама социальная материя достигает своего дна: мы видим героев, полностью лишенных свойств, этических качеств и семейных традиций, представляющих собой голый социальный факт, мускульную телесно-психологическую массу, лишенную идентичности. Так, французский реализм достигает предела своего «эксперимента», обнаруживая зону антропологического нигилизма, которому в будущем предстоит стать основой массового общества.
Миры Золя могут служить точной иллюстрацией к развертыванию Модерна во французской культуре, при переходе от его экстенсивной фазы к интенсивной, когда позитивистские иллюзии
1 Золя Э. Деньги // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 14.
2 Золя Э. Человек-зверь // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 13.
3 Золя Э. Дамское счастье // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 9.
4 Золя Э. Чрево Парижа // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 4.
5 Золя Э. Западня // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 6.
6 Золя Э. Жерминаль // Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. Т. 10.
Литература социального материализма
171
прогресса начинают развеиваться и уступать место критическим теориям и литературе катастроф (декадентство, экзистенциализм, сюрреализм и т. д.).
Марсель Пруст: в поисках исчезающего эго
Писателем-реалистом, завершающим секвенцию французской прозы XIX века, был крупнейший мастер письма Марсель Пруст1 (1871 — 1922), считающийся одним из лучших мировых писателей и стилистов.
Пруст является продолжателем традиции социальных материалистов, но в отличие от Золя не следует документально за трансформациями французского общества в его социологических фазах, сменяющих один тип капитализма на другой, но сосредотачивается на мыслящем субъекте, на эго, которое в ходе социальных потрясений постепенно истончается, становится все более прозрачным и призрачным. По сравнению с сочными образами Бальзака или Стендаля герои Пруста лишь намечены, напоминают смутное облако, где на месте сгустков воли или жажды признания чуть теплится утонченная изнеженная смутная, очарованная патиной порока и субтильного извращения жизнь. Герои Пруста не революционеры, не реформаторы, не титаны, не страдальцы, но тени, вампирические фигуры с утонченным восприятием мира, различающие многомерные нюансы пейзажей, психологических отношений и эмоциональных настроений. Они переживают не катастрофу и не конец света, а мягкое стирание, полусонное исчезновение, где воспоминание о поцелуе матери, кустарник на дороге, ведущей в соседнее поместье, или детали костюма приглашенных на ужин вытесняют большие социальные или даже индивидуальные горизонты.
Герой Пруста — это индивидуум, описанный еще реалистично и убедительно, но стремительно теряющий плоть, заболевший, засыпающий, на глазах утрачивающий способность и к добродетели, и к греху, и к труду, и к развлечению.
В первых трех томах шеститомной эпопеи «В поисках утраченного времени» Пруста — «По направлению к Свану»1 2, «Под сенью девушек в цвету»3 и «У Германтов»4 — главный герой Марсель восстанавливает в памяти переживания детства и юности, пытаясь осмыслить семантическую структуру собственной жизни, понять ее
1 Пруст М. Собр. соч.: В 6 т. СПб.: Амфора, 2001.
2 Пруст М. По направлению к Свану // Пруст М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1.
3 Пруст М. Под сенью девушек в цвету // Пруст М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2.
4 Пруст М. У Германтов // Пруст М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3.
172
Французский Логос
основные полюса притяжения, противоречия и вызовы, чтобы справиться с постоянным чувством энтропии, с ощущением того, что вместе с жизнью исчезает реальность как таковая. Память, включая восстановление мельчайших подробностей, деталей и нюансов, выписанных у Пруста с исключительным мастерством и точностью, в этом случае становится инструментом спасения от ужаса бессмысленности. Простая репрезентация прошлого, без всякой попытки его интерпретации, превращается в магическую операцию по преодолению растущего осознания тщеты.
Сама практика борьбы с «утраченным временем» через доскональное повторение в воспоминании является классической иллюстрацией того, что Ж. Дюран называл режимом «драматического ноктюрна», и его классического инструментария — ритуального повторения уже происходившего, создающего эффект «вечного возвращения», цикла, а значит, убеждающего в неслучайности и непреходящей ценности того, что было. В этом, по Дюрану, смысл любого повторения — от танцевального жеста до пересказанной (неважно, осмысленной или полностью бессмысленной) истории и вообще любого повторного циркулярного действия, парадигмой чего являются циклические фазы сокрытия и возвращения Диониса1.
В четвертом томе «Содома и Гоморры»2 в центре внимания ставится тема гомоэротической любви («Содом» у Пруста означает мужеложство, «Гоморра» — лесбийские связи). Тематизация гомосексуализма, к которому Пруст проявлял повышенный интерес, становится интерпретационным ключом к дешифровке сложного переплетения сюжетных линий и эмоциональных образов и состояний героев романа. Помимо классической гендерной схемы, влюбленностей, расставаний, измен и ревности, определяющих структуру отношений между индивидуумами, классами и подклассами строго стратифицированного французского провинциального общества, возникает новая сеть маршрутов и сюжетных узлов, открывающихся через констелляции отчасти накладывающихся на обычные гетеросексуальные связи моделей — отношений между собой героев эпопеи одного и того же пола. Новая герменевтика наделяет стратегию поиска утраченного времени дополнительным измерением: кодом к интерпретации отныне становится хитросплетение сетей «Содома» и сетей «Гоморры».
Пятый и шестой тома вышли уже после смерти Пруста. В последней заключительной части «Обретенного времени»3 Пруст от-
1 Durand G. Les structures anthropologiques de l'imaginaire. P.: Dunod, 1992.
2 Пруст M. Содом и Гоморра // Пруст М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4.
3 Пруст М. Обретенное время // Пруст М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6.
Литература социального материализма
173
крывает читателю свой изначальный замысел всего произведения, чья семантическая неопределенность, этическая расплывчатость и изящная недосказанность не могли не оставлять напряженных вопросов: с каким произведением мы познакомились и для каких целей эти наборы изысканных, но ни к чему не ведущих впечатлений, образов и ситуаций были описаны? Здесь Пруст объясняет, что роман пишется исключительно для спасения эго автора от неминуемой энтропии, которой оно подвергается в мире, где больше нет никаких ориентиров и ценностей, направлений и маршрутов, и где мягкое разложение социальных структур, скользящих в ничто, является единственным содержанием. В духе стратегии прямого повторения (редондантности) повторенная некоторое количество раз бессмысленность приобретает ритуальный статус «смысла», а исчезающее индивидуальное эго, не способное закрепиться ни в потустороннем (атеизм), ни в посюстороннем (размывание социальных структур), фиксируется в призрачной пленке романа.
Колоссальный успех эпопеи Пруста, ставшего одним из самых читаемых писателей XX века, подтвердил действенность этой стратегии: соучастниками изящной и утонченно-первертной бессмысленности стали миллионы внимательных читателей, сквозь сознание которых бледный вампир Марсель Пруст искусственно продлил и обогатил свое призрачное существование.
Сезоны в аду
«Проклятые поэты»: в болотах Запада
По мере укрепления позиций либерального и прогрессистского строя и наступления Модерна во французской культуре складыва-лось специфическое направление того круга, который окрестили «проклятыми поэтами»1 или декадентами. К ним обычно относят Шарля Бодлера (1821 —1867), Жерара де Нерваля (1808—1855), Артюра Рембо (1854—1891), Стефана Малларме (1842—1898), Поля Верлена (1844—1896), Тристана Корбьера (1845—1875), Огюста Вилье де Лиль-Адана (1838—1889), Жориса-Карла Гюисманса (1848 — 1907), Теофиля Готье (1811 — 1872), Изидора Дюкасса (Лотреамон) (1846— 1870) и т.д. Они стали основателями влиятельного художественного и интеллектуального течения, которое повлияло на всю культуру и искусство XX века — от сюрреалистов, экзистенциалистов, структуралистов до постмодернистов1 2.
Особенность декадентского направления в том, что его представители описывали трансформации европейского общества эпохи Модерна (чаще всего собственно Франции) в терминах, существенно отличающихся от оптимистического пафоса, с которым их воспринимали типовые сторонники прогресса, свободы, демократии и научно-технического развития. Здесь те же самые явления осмыслялись в иных стилистических контекстах. То, что для оптимистов прогресса было развитием, декаденты видели как упадок; где атеисты прослеживали повышение уровня рациональности, декаденты обнаруживали сатанизм; в чем позитивисты видели ниспровержение мифа, декаденты замечали выдвижение нового мифа, но только альтернативного и чаще всего вырожденческого.
При этом «проклятые поэты» не выступали против современности так, как это делали консерваторы. Напротив, юный Артюр Рембо однозначно выдвигал программный тезис: «надо быть абсолютно
1 Термин «проклятые поэты» ввел в оборот Поль Верлен в 1888 году, выпустив под таким названием книгу, посвященную трем поэтам, его современникам: Тристану Корбьеру, Артюру Рембо и Стефану Малларме. Во втором издании Верлен добавил к списку самого себя (под анаграммой Повр Лелиан), Огюста Вилье де Лиль-Адана и поэтессу и драматурга Марселину Дебор-Вальмор. VerlainP. Les podtes maudits. P.: LeonVannier, 1888.
2 Anthologie des podtes maudits du XXe sidcle. P.: Belfond, 1985.
Сезоны в аду
175
современным» («II faut etre absolument modem»). Однако понимание «современности» было совершенно различным. Для прогрессистов речь шла о планомерном, восходящем, рациональном, позитивном, целиком и полностью «благом» развитии и подъеме, а для «проклятых поэтов» — о резком и головокружительном падении в бездну. При этом декаденты, в отличие от консерваторов, не возражали против самого этого падения, сатанизма, перверсий и погружения в архаику, они лишь настаивали на том, чтобы вещи назывались своими именами.
В этом смысле в высшей степени ревелятивны строки Артюра Рембо из «Сезонов в аду»:
Я вижу, что все мои несчастья от того, что я слишком поздно заметил, что мы — на Западе. Вот, эти болота Запада! Не то чтобы я верил, что свет изменился, форма потускнела, движения сбились... Отлично! Мой дух абсолютным образом настаивает на том, чтобы исполниться всеми жесточайшими поворотами развития, которые дух только испытывал после конца Востока!.. Он хочет именно этого, мой дух!
Je vois que mes malaises viennent de ne m' etre pas figure assez tot que nous sommes a 1'Occident. Les marais occidentaux! Non que je croie la lumiere altdrde, la forme extenuee, le mouvement ёдагё... Bon! voici que mon esprit veut absolument se charger de tous les dёveloppements cruels qu'a subis Г esprit depuis la fin de 1'Orient... Il en veut, mon esprit!1
Дух «проклятого поэта» «хочет именно этого» — Запада, Запада как судьбы. «Болота Запада» — онтологический пейзаж конца средиземноморской индоевропейской цивилизации. «Конец Востока» означает конец традиции. Когда Восток уходит с Запада, Запад остается наедине с самим собой. И в «черном романтизме» это выражается ярче, чем в официальной философии. В том же фрагменте из «Сезонов в аду» Рембо замечает: «Философы, вы на своем (философском) Западе» (Philosophes, vous etes de votre Occident2).
Культура, созданная этим кругом и теми, кто следовали за ним, представляла собой уникальное явление: бездна представала здесь как бездна, ложь материи как ложь, а ее бытие как небытие.
В этом была предельная честность «проклятых поэтов»; они смотрели на современный им Запад как на судьбу, темная, чудовищная сторона которой ими переживалась трагически и крайне болезненно;
1 Рембо А. Пора в аду // Рембо А. Произведения. М.: Радуга, 1988. С. 334, 336.
2 Там же. С. 336.
176
Французский Логос
но ни менять, ни подвергать эвфемизации ее они не собирались, решившись пройти страшный путь до его последней финальной точки.
Мифоанализ Ж. Дюрана: гештальт Прометея и его изношенность
Так как понятие «миф» было полностью дискредитировано на заре Нового времени, где вся ставка была сделана на рассудок, а «Конституция»1 Модерна запрещала «гибриды», область искусства, поэзии, живописи и культуры в целом стала той зоной, куда — по логике контрабанды — переместилось мифологическое сознание, «филомифия». И здесь, в сфере «декаданса», миф обрел свои легитимные права в современности. Но это был особый миф — парадоксальный миф Модерна, построенного на полном отрицании мифа.
В этой области искусства его зафиксировал, обнаружил и описал следовавший за психоанализом К. Г. Юнга и философией воображения Г. Башляра французский социолог и философ Жильбер Дюран, основатель «мифоанализа»1 2, на основании которого он предложил систематические решетки интерпретаций современной европейской культуры и искусства.
То, что область искусства есть область сакрального (Heilige), показал Хайдеггер, полагая, что философия и искусство следуют двумя параллельными и не пересекающимися путями, но при этом постоянно имеют дело с одними и теми же вызовами бытия. В эпоху десакрализации («расколдовывания мира», по М. Веберу) сакральное уходит из религии, политики, философии, науки, и последним прибежищем его остается поэзия. О миссии поэта в «скудные времена» Хайдеггер, вслед за Гёльдерлином, задается вопросом в одноименном эссе3.
Дюран, однако, следует не столько экзистенциальному, фунда-менталь-онтологическому анализу современной культуры (как Хайдеггер) , сколько обнаруживает, фиксирует и вскрывает мифы, заложенные в ней.
По Дюрану, главным мифом эпохи Модерна был миф о Прометее. Он воплощал в себе все, связанное с прогрессом, развитием, освобождением человека от различных сдерживавших его ранее
1 В том смысле, в каком этот термин употреблял Бруно Латур. См.: Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.
2 Durand G. Introduction & la mythodologie. Mythes et societies. Paris: Albin Michel, 1996.
3 Хайдеггер M. К чему поэты? // Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Философия Другого Начала. М.: Академический Проект, 2010.
Сезоны в аду
177
правил и условностей, с раскрепощенным разумом и с техническим совершенствованием, с подчинением материи и с историческим рывком в новое, совершенно не похожее на все предыдущее, будущее. Эта фигура воплощала в себе синтез титанизма, триумфально и апологетически вводимого в европейскую культуру1. Прометей мог быть взят в качестве символа и для либеральных теорий свободной торговли; и для коммунистических учений о всеобщем равенстве и справедливом обществе; и для европейского национализма, воспевающего волю наций и их историческое самоутверждение. Тем самым он выступал общей матрицей для всех трех политических теорий Модерна, представляя собой их общий знаменатель1 2.
Ярким примером прометеизма во французском искусстве может служить Виктор Гюго (1802—1885). Гюго видит в Прометее радикальную неукротимую волю человека, возведенную к ее архетипу3. Гюго так воспевает Прометея:
Этот горный хребет, выступающий из мрачной тени;
Его пики терялись в неведомой бездне;
На этом откосе лежал дикий, ужасный, обнаженный,
Гигант, чье тело содрогалось на камне;
Из него текла кровь вперемешку со светом;
Его лицо было устремлено к черному небу, его ступни, Его локти, его колени, его кулаки Были связаны;
Безжалостной живой медной цепью;
И я видел, как чудовищно сокращается и снова вздувается его живот, который пожирает стервятник, эта преступная птица.
Страждущий был колоссален; можно было бы сказать, что это две горы — одна на другой, в агонии.
Се faite monstrueux sortait de 1'ombre obscure;
Ses pentes se perdaient dans le gouffre inconnu;
Sur ce plateau gisait, fauve, terrible, nu, Un gdant, dont le corps se tordait sin la pierre;
II en coulait du sang avec de la lumidre; Sa face regardait le ciel sombre, et ses pieds, Ses coudes, ses genoux, ses poings, etaient lids
D’une chaine d’airain vivante, impitoy-able;
Et je voyais ddcroitre et renaitre effroyable
Son ventre qu’un vautour rongeait, oiseau bandit.
Le patient dtait colossal; on eflt dit Deux montagnes, dont 1’une agonisait sur Г autre.
1 Cerny Vaclav. Essai sur le Titanisme dans la podsie romantique occidentale entre 1815 et 1850. Prague: Editions Orbis, 1935.
2 Дугин А.Г. Четвертый Путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию. М.: Академический проект, 2014.
3 Trousson Raymond. Quelques aspects du mythe de Promdthde dans 1'oeuvre podtique de Victor Hugo // Bulletin de 1'Association Guillaume Budd, n°l, mars 1963. P. 86 — 98.
178
Французский Логос
— Чья это кровь, что хлещет из него? — спросил я. — Ваша, —
ответил стервятник. Эти горы, которые ты видишь,
это Кавказ. — Когда ты оставишь его? —
Никогда. —
И мученик выкрикнул мне: «Я — Человек».
— Quel est, dis-je, le sang qui coule ainsi? — Le votre, Dit le vautour. Ce mont dont tu vois les sommets, C'est le Caucase. — Et quand t'en iras-tu? —Jamais. —
Et le supplied me cria: « Je suis 1'Homme»1.
Прометей1 есть человек гуманизма, страдающий, но способный преодолеть боль, восстать и построить новый прекрасный свободный мир. Этот образ характерен не только для Гюго, но и для всей культуры Нового времени, где он становится общим знаменателем трудного, но открывающего безграничные горизонты процесса освобождения имманентного от ограничений и сдержек старого порядка, под которым понимается именно олимпийский, классический средиземноморский Логос.
По Ж. Дюрану, фигуру титана характеризуют следующие признаки:
• имманентность, укорененность в хтоническом, в земле, связь с телесностью и материей, отсюда
• тяжесть и серьезность прометеизма, его страдательность;
• порыв в будущее через преодоление прошлого;
• замена бытия становлением;
• агрессивная неприязнь к вертикальным иерархиям — к Богу в религии, царям и аристократам в обществе (демократия);
• постановка в центре внимания человеческого «я» как меры вещей.
Дюран считает, что в каждую эпоху доминирует какой-то один миф или мифологический персонаж, выполняя функцию «Фасцина-тора» (Л. Фробениус). Можно соотнести эту концепцию с гештальтом в смысле Э. Юнгера1 2. По Фробениусу, идея (гештальт) вначале выступает как Фасцинатор, действуя изнутри, восхищая и ужасая как нечто неопределенное и еще не получившее четкой формы («одержимость»); потом она воплощается в образ, «приобретает имя» (выражение»); и наконец, становится утилитарным приклад
1 Цит. по: Trousson Raymond. Quelques aspects du mythe de Promethee dans 1'oeuvre podtique de Victor Hugo. P. 88.
2 Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
Сезоны в аду
179
ным банальным моментом, само собой разумеющимся, taken for granted («применение»)1.
Новое время проходит под знаком титанизма и прометеизма. Вначале титаническое начало захватывает сознание человека, стоящего в авангарде Модерна, а это значит — прежде всего французского и английского человека, которые и выполняют в европейской истории роль «агентов модернизации» (кельто-Модерн). Затем воплощается в ясно различимый образ. Этой фазе и соответствует культ Прометея в искусстве и политике Нового времени. И наконец, он постепенно сходит на нет, становится банальным, привычным и не вызывающим особенно ярких эмоций (этому соответствует «бытовой титанизм» технической культуры — индустриализация, механизация, автоматизация и, наконец, информатизация XX века). При этом на последней фазе фигура Прометея перестает внушать почтение и пиетет, становится смешной. Дюран называет это «изношенностью мифа» (usure du mythe1 2). В случае Прометея явным признаком девальвации образа Дюран считает появление повести французского писателя Андре Жида (1869 — 1951)« Плохо скованный Прометей»3, изданной в 1899 году, на рубеже века, где фиксируется исчерпанность прометеического пафоса, открывается его банализа-ция, и тем самым обозначается конец эпохи доминации одного гештальта и, соответственно, наступление власти другого.
От Прометея к тени Диониса
В этом контексте смены гештальта направление «проклятых поэтов», декаданс, уходящий корнями в «черный романтизм» XIX века и позднее в XX веке проявляющий себя в сюрреализме, дадаизме и постмодернизме, по Дюрану, несет в себе ядро новой мифологии, которая призвана постепенно вытеснить титанические мифы Модерна — прогресс, труд, развитие, техника, демократия, свобода, справедливость и т. д.
На смену этому, по Дюрану, дистанцировавшиеся от Модерна декаденты готовили «тайную операцию» по «возвращению Диониса». Сам Дюран предпочитал, чтобы этому процессу по демонтажу титанизма был придан иной характер, и поэтому он использовал выражение «заговор Гермеса», считая гештальт Гермеса оптимальным
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Логос Европы.
2 Durand G. Pdrennite, derivations et usure du mythe // Durand G. Probldmes du mythe et de son interpolation. Paris: Les Belles Lettres, 1978.
3 Жид А. Плохо скованный Прометей // ЖидА. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. М.: Терра; Книжный клуб, 2002. С. 283 — 334.
180
Французский Логос
для решения мифо-стилистических проблем Нового времени в его декадентской фазе, но общая линия оставалась приблизительно той же: на смену радикальному ноктюрну материализма, черному Логосу, французский декаданс, впервые адекватно и трезво оценивающий мифологическую сущность Модерна как возвышение Великой Матери, постепенно готовил проект Диониса, который требовал для начала точно оценить положение вещей. Именно это Хайдеггер ставил в своей работе «Die Grundbegriffe der Metaphysik»1 как ответ на вопрос о «фундаментальном настрое» (Gnmdbestimmung) современности2. Поэты и писатели «черного романтизма» описали бездну как бездну, ад как ад, а падение как падение. Это резко контрастировало с официальной версией саморефлексии Модерна, но тем не менее на уровне искусства и культуры принималось им как тень, которую Модерн предпочитал иметь в экстериоризированной и делимитированной области «всего лишь искусства», чтобы, быть может, лишить ее революционного и деструктивного потенциала, сумей она проникнуть на уровень собственно философии, политики и науки.
«Возвращение Диониса», по Дюрану, так же как и в случае с другими гештальтами, происходит в трех фазах:
• фасцинация (пока образ еще не назван), и это соответствует «прбклятым поэтам»;
• пробуждение интереса собственно к Дионису и дионисийству, что мы видим у Ницше (в России у Вячеслава Иванова), как ответ «на скуку Модерна»;
• банализация дионисийства в форме расслабленной гедонистической массовой культуры 60-х годов XX века.
В этой модели, по Дюрану, можно проследить процесс убывания Прометея (позитивизм, материализм, оптимистический гуманизм — экстенсивный Модерн) и подъем Диониса (декаданс, новая сакральность — у Ж. Батайя или Р. Кайуа, интерес к архаическому, опыт трансгрессии и т. д.). Однако, если принять эту версию, мы действительно можем найти имена и проследить динамику трансформации накалывающихся друг на друга гештальтов, но при этом будет упущена из виду принципиальная оппозиция олимпийского божественного Диониса и хтонического титанизма Прометея. Это особенно заметно, стоит нам задуматься о зазоре между Логосом Диониса и Логосом Кибелы, не столь явном, как в случае Логоса Аполлона,
1 Heidegger Martin. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Eisamkeit. GA 29/30. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2004.
2 Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
Сезоны в аду
181
но тем не менее отчетливом и фундаментальном для всей ноологии Европы и европейской цивилизации. По Дюрану, начинающийся и крепнущий декаданс плавно накладывается на убывающий про-метеизм, постепенно вытесняя его. Но такой процесс, протекающий без жесткой оппозиции Логосов, без резкого и эксплицитного всплеска Ноомахии невозможен в силу глубинной полярности Логосов. Тем более, что европейская идентичность основана на покорении Кибелы или даже ее эксклюзии (в покорении и преображении титанического Дионис солидарен с Аполлоном, но не выступает на первый план; в эксклюзии доминирует Аполлон). Следовательно, если бы речь шла о смене гештальтов с именами, предложенными Дюраном, мы имели бы эсхатологическую и мифологическую революцию, Ereignis, новый цикл, в котором господство освобождающейся в Новое время Кибелы и ее хтонических могуществ, подъем нигилизма были бы радикально остановлены и сброшены в бездну. Истинное «возвращение Диониса» могло бы означать только духовную революцию и резкую смену всего вектора западной цивилизации — Другое Начало философии, радикальный поворот, Kehre, возврат (елютрофц). Но этого не произошло, а все революции XX века проходили под знаком техники, механичности, количества, то есть были разновидностями прометеизма. Прометея мы видим в размахе мирового капитализма (Первая Политическая Теория, либерализм); в социалистических революциях (Вторая Политическая Теория — марксизм); в фашизме и национал-социализме (Третья Политическая Теория — Третий Путь и ее ось гештальт рабочего Э. Юнгера1). Французский декаданс стилистически не совпадает с этим титаническим пафосом, и в этом Дюран совершенно прав. Но он недостаточно могуществен — в своей божественной составляющей — для того, чтобы по-настоящему укротить титаническое, обратить наступление хтонических сил на Логос Европы вспять.
Поэтому было бы намного точнее рассмотреть феномен европейского декаданса и его продолжений в XX веке как «дубль Диониса», то есть как гештальт Адониса, Аттиса, «черного двойника Диониса». Именно это уточнение по сути и делает ученик Ж. Дюрана современный социолог М. Маффесоли, когда говорит о «тени Диониса» в своей книге2 с таким же названием. Транзиция гештальтов точнее могла бы быть описана как переход от фигуры Прометея к фигуре Адониса или «дубля Диониса». Но так как отношения между Дионисом и Адонисом даже для классических авторов представляли собой проблему, — что подчас приводило не просто к сближению этих двух фигур, но и к их
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
2 Maffesoli М. Ombre de Dionysos Paris: Le Livre de Poche, 1991.
182
Французский Логос
отождествлению (что, впрочем, полностью противоречит базовой структуре ноологии, но находит определенные подтверждения в общих мифологических сюжетах и символических деталях), — в поле декадентской культуры и среди «проклятых поэтов» мы вполне можем распознать перекрещивающиеся следы обоих гештальтов — тонкие следы Диониса пересекают кровавые следы несчастного нежного титана, возлюбленного и жертвы Великой Матери. Это и составляет мифоаналитический ключ к герменевтике «проклятых поэтов». В их поэзии соприсутствуют сразу два Логоса: Адонис и Дионис в тонком, но внутренне драматическом смешении. Адонис, стилистически не совпадая с Прометеем, тем не менее, вполне может рассматриваться как другая грань хтонического и титанического начала. Это гештальт тонкого хтонического люкса, мужской мираж, учрежденный активным воображением гинандры, галлюцинация Мелюзины. Он вполне может выступать в фигуре Орфея, где, впрочем, возможны и два других Логоса. Именно Адонис сочетается с убывающим прометеизмом при переходе от Модерна к Постмодерну, где достигает своего максимального выражения. Дионис же присутствует не в ядре этой ме-таформфозы, а мерцающе проступает сквозь нее, что заставляет нас при рассмотрении массива «проклятых поэтов» проводить довольно тонкую ноологическую дистинкцию.
Так как проблема двойника Диониса есть сущность нашей собственной эпохи, включающей в себя поздний Модерн (интенсивная фаза) и ранний Постмодерн, то корректная интерпретация декадентской поэзии и декадентского искусства в целом представляет собой фундаментальную для Ноомахии задачу. И снова здесь, как и во всех феноменах, сопряженных с наиболее авангардными процессами модернизации и постмодернизации, на первый план выходит французская культура и ее уникальный противоречивый трагический Логос, Логос Орфея.
Шарль Бодлер: гностический миф
Ярким представителем «проклятых поэтов» был Шарль Бодлер1, которого многие считают основоположником течения культурного декаданса. Бодлер интересуется темными сторонами окружающей его действительности, погружается в миры распада сознания и инфернального визионерства. Бодлер представляет собой прямого антипода Гюго, с точки зрения стиля оценки современности. Если Гюго восторгается Новым временем и открывшимися ему прометеи-
1 Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Водолей, 2012.
Сезоны в аду
183
ческими горизонтами, Бодлер воспринимает это с ужасом. Современность, по Бодлеру, это упадок, декаданс, вырождение и извращение. И если Бодлер интересуется современностью, то лишь в рамках демонологии; так интересуются адом — ужасаясь и восхищаясь его уродством одновременно. Одно из своих стихотворений в прозе он называет по-английски: «Anywhere out of the world», то есть «Куда угодно, только прочь от этого мира».
Если Гюго воспевает титанизм и приветствует его, то Бодлер его констатирует. В этом и состоит тот переход от гештальта Прометея к гештальту Диониса, о котором говорит Дюран. И если в отношении французской культуры в целом, особенно в XX веке, Логос Диониса стоит под вопросом (будучи осложненным проблемой его черного двойника, «тени Диониса»), то у наиболее ярких представителей «проклятых поэтов» первого поколения Логос Диониса вполне различим.
Мы видели, что гностическое мировоззрение относится к зоне этого Логоса, и гностицизм Бодлера, со всех точек зрения, может быть вписан в эту традицию, уходящую корнями к альбигойцам и той линии провансальской поэзии трубадуров, которую Дени де Ружмон считает ключом к культуре Запад в широком смысле. Бодлер воспринимает мир в гностических тонах. Мир сей для него есть темница.
Показательно его программное стихотворение «Не поддающееся излечению»:
Не поддающееся излечению I
Идея, Форма, Бытие, Исшедшие из лазури небес и упавшие
В грязно-свинцовый Стикс, Которого не достигают лучи Небес; Ангел, неосторожный странник, Соблазненный любовью к безобразному, Отчаянно бьющийся подобно пловцу В пучине нескончаемого кошмара Сражаясь, о темный ужас!
С гигантским водоворотом, Который орет песню безумца И совершает пируэты мрака; Завороженный несчастливец, Тщетно ищущий наощупь выход Из дыры, полной рептилий,
L'Irr£m6diable
I
Une Idee, une Forme, un Etre Parti de Tazur et tombe Dans un Styx bourbeux et plombd Ой nul oeil du Ciel ne pdndtre; Un Ange, imprudent voyageur Qu’a tentd 1'amour du difforme, Au fond d'un cauchemar dnorme Se debattant comme un nageur, Et luttant, angoisses fundbres! Centre un gigantesque remous Qui va chantant comme les fous Et pirouettant dans les tendbres; Un malheureux ensorceld Dans ses tatonnements futiles Pour fuir d'un lieu plein de reptiles,
184
Французский Логос
Напрасно жаждущий света и ключа;
Проклятый, спускающийся без лампады По краю бездны, чьей запах Выдает влажную глубину
Бесконечных ступеней без какой-либо ог-
рады,
А там ожидают липкие чудовища, Чьи огромные фосфорисцентные глаза Делают ночь еще чернее, Так как кроме них не видно ничего более; Корабль, сжатый льдами полюса, Попавший в ловушку кристалла
И пытающийся вспомнить, какой роковой пролив
Привел его в эту темницу;
Таковы прозрачные символы, совершенная картина
Неизлечимого рока,
Заставляющая нас обоснованно полагать, что Дьявол
Всегда прекрасно справляется с тем, что • он задумал!
II
Лицом к лицу мрачное и светлое, Будто сердце, превратившееся в собственное зеркало!
Колодцы Истины, белое и черное, Где дрожит бледная звезда, Ироничный маяк, адский факел Сатанинских милостей, Бесценное облегчение и слава — Это сознание внутри зла!
Cherchant la lumiere et la с1ё;
Un damnd descendant sans lampe Au bord d'un gouffre dont 1'odeur Trahit I'humide profondeur D'6temels escaliers sans rampe,
Ой veillent des monstres visqueux Dont les larges yeux de phosphore Font une nuit plus noire encore Et ne rendent visibles qu'eux;
Un navire pris dans le pole Coniine en un pi^ge de cristal, Cherchant par quel ddtroit fatal П est tombe dans cette gedle;
Embldmes nets, tableau parfait D'une fortune irrdmddiable Qui donne й penser que le Diable Fait toujours bien tout ce qu'il fait!
II
Tete-a-tete sombre et limpide Qu'un coeur devenu son miroir! Puits de Vdritd, clair et noir Ой tremble une dtoile livide,
Un phare ironique, infernal Flambeau des graces sataniques, Soulagement et gloire uniques, — La conscience dans le Mai!
Это стихотворение можно считать программным для всего французского «черного романтизма». Мы видим в нем прямое воспроизведение гностического сюжета: высшее (небесное) начало оказывается на дне мироздания, увлеченное туда дьяволом. Оно не строит иллюзий в отношении того, где оно, что его окружает и что ему предстоит. Это сознание мыслящего европейца в Европе Нового времени, взятое как онтологическая и метафизическая точка отсчета. Бодлер не строит иллюзий относительно прогресса, разве
Сезоны в аду
185
что предполагая, что он один из тех «проливов», который ведет корабль к гибели. Небесное сброшено в инфернальное. Ангел оказался в плену у дьявола. Это констатация того историко-географического момента, в котором находится пробужденный француз. Он на территории Великой Матери (Бодлер описывает ее как гигантессу в одноименном стихотворении La G6ante) и не строит на этот счет никаких иллюзий.
Но он испытывает от этого боль.
Метафизика боли становится ядром особого мировосприятия: ад воспринимается как ад, бездна как бездна, дьявол как дьявол, душа констатирует ужас произошедшего, не смиряется с этим, но и не бежит от этого. Душа осмысляет то, что произошло и где она находится. Она строит особый трагичный и отчаянный мир вокруг точки пробуждения в аду («Сезоны в аду» Рембо). Этой точкой является «сознание внутри зла», которым заканчивается это стихотворение Бодлера.
«Сознание внутри зла» и есть то, что не поддается излечению. Зло не может погасить сознания. Но сознание не может рассеять мрак зла, свинцового хаоса, вырваться из-под гипноза материалистических эйдолонов подтелесного титанизма. Это предельно трагичная топика Логоса Диониса: в своих путешествиях по мирам он достигает дна ада, оказываясь в Европе Нового времени. Это его сознание пробуждено во зле. Это — французская точка Диониса.
Артюр Рембо: будущее могущество вечности
Самым ярким поэтом, причисляемым к «проклятым» и, по мнению некоторых литературоведов, вообще самым великим поэтом Франции был Артюр Рембо (1854—1891). Рембо был затронут зовом поэзии с ранней юности и воплотил свой солнечный гений в течение 5 лет — с 1870 (когда ему было 16) по 1875 (когда ему был 21 год), после чего он полностью бросил писать и занялся серией неудачных авантюр по продаже оружия в возрасте 37 лет. Но за 5 лет он создал произведения, которым нет равных в истории мировой литературы.
Рембо не был консерватором, и скорее, напротив, мыслил себя как радикального революционера. Но революция была для него, в первую очередь, вопросом прямого и неопосредованного визионерства, направленного на чистое бытие по ту сторону всех социальных и особенно буржуазных конвенций. Рембо ненавидел буржуазную Францию гностической ненавистью — как катары ненавидели телесный мир. Этой реальности Рембо противопоставлял
186
Французский Логос
альтернативную реальность, построенную по совершенно иной геометрии, которую он схватывал через предельные экзистенциальные опыты — гомоэротическую страсть (к Верлену), бродяжничество, алкоголь, агрессивные поединки и поножовщину. Рембо не признавал никаких конвенций и запретов, принося свою жизнь и свой разум на алтарь чистой поэзии. Он добровольно спускался в ад, погружаясь в его самые темные и зловещие складки, чтобы вынести оттуда искры солнечной вечности. Теоретически, сходную цель ставили перед собой и многие другие поэты, но неразгаданный секрет Рембо состоит в том, что это ему каким-то образом удалось. Сквозь оболочки распадающейся жизни Рембо искал только одного — вечности. И он ее обрел в мае 1872 года.
Стихотворение Артюра Рембо «Вечность» считается вершиной визионерского опыта, когда бы то ни было запечатленного в слове.
Вечность
Она нашлась.
Что? — Вечность.
Это море, идущее Вместе с солнцем.
Душа-стражница, Прошепчем же клятву Ночи такой никакой И дня в огне.
От человеческих ободрений, От общих порывов, Ты освобождаешься здесь, И такой летишь.
Потому что из вас, Сатиновые угли, испаряется Долг, без того, чтобы мы сказали: наконец-то. Там никакой надежды.
Никакого «воссияет во тьме свет Твой».
L'£temit6
Elie est retrouv6e. Quoi? — L'Etemitd. C'est la mer all£e Avec le soleil Arne sentinelie, Murmurons 1'aveu De la nuit si nulle Et du join en feu.
Des humains suffrages, Des communs Alans LA tu te degages Et voles selon.
Puisque de vous seules, Braises de satin, Le Devoir s'exhale Sans qu'on dise: enfin. LA pas d'esperance,
Только терпеливая наука.
Пытка неминуема.
Она нашлась.
Что? — Вечность. Это море, идущее Вместе с солнцем.
Nul orietur.
Science avec patience, Le supplice est sdr.
Elie est retrouvee.
Quoi? — L'EtemitA.
C'est la mer allee
Avec le soleil.
Сезоны в аду
187
В этих простых, но абсолютно достоверных строках, звучащих по-французски на языке оригинала невероятно гипнотически, Рембо выражает сущность своего солярного аполлоно-дионисий-ского мировоззрения. За пределом сферы Долга, когда полностью растворены все человеческие критерии (мораль, страстные порывы, кодексы поведения), поэту-визионеру открывается невозможная для бытового сознания картина созерцания брака противоположностей: влажное море закипает от солнечного света, ничто ночи сливается с жаром дня. Душа, названная «стражницей», что прямо указывает на Афину и на стражей-философов Платона, приносит клятву альянсу ночи и дня, вечного (солнце) и преходящего, становящегося (море). Вновь обретенная вечность Рембо не просто аполлоническая неизменность. Это проникновение всегда тождественного в толщи всегда меняющегося, всегда иного; это их брачное скрепление, преображение ночи в лучах сакрального дня и открытие вместе с тем другой — ночной стороны солнца. Этот опыт инклюзивной вечности не имеет ничего общего с избавлением или достижением финального покоя. То солнце, о котором идет речь, не восходит («никакого воссияет...», orietur из стиха пророка Исайи — 58.10), но и не заходит. Оно есть всегда, но для того, чтобы вскрыть его, необходимо бесконечное усилие и финальная жертва, пытка, разрывание на части, растерзание жизни на алтаре бытия. Рембо говорит о «науке терпения», science de patience, как обычно называли алхимию. Алхимия духа предполагает, что в философском море одинокий адепт ныряет на последнюю глубину, чтобы, оттолкнувшись ото дна, извлечь оттуда солнечную искру.
Это — философская программа солярного дионисийства «проклятых поэтов». Достичь дна бездны, чтобы познать там двойную тайну — тайну исхождения (прбобо^) и тайну возвращения (smoTpotpri). Рембо в юности жадно изучал тексты по алхимии и неоплатонизму, и аллюзии на эту философию часто встречаются в его стихах1. Однако его поэзия — не обрывочные реминисценции герметической литературы, но выразительная фиксация прямого опыта — опыта сакрального, переданного на языке поэзии, специально созданного как раз для этих целей.
Самым знаменитым стихотворением Рембо является «Пьяный корабль» (1871). Если Рембо в целом вершина французской поэзии, то «Пьяный корабль» — вершина самого Рембо.
1 Головин Е.В. Артюр Рембо и неоплатоническая традиция // Головин Е. В. Приближение к Снежной Королеве. М.: Арктогея-Центр, 2003.
188
Французский Логос
Пьяный корабль
Как я плыл по бесстрастным Потокам, Я почувствовал, что меня больше не тянут бурлаки:
Краснокожие крикуны сделали из них мишень,
Пригвоздив обнаженными к цветным столбам.
И я стал свободен от всех экипажей торговцев фламандской пшеницей или английским хлопком, когда возня с моими бурлаками затихла,
Потоки позволили плыть мне туда, куда я захочу.
В бешеном плеске волн,
Я, прошлой зимой, более глухой, чем мозги ребенка,
Я бежал! И оторвавшиеся Полуострова
Не испытывали на себе более триумфального хаоса.
Буря благословляла мои морские пробуждения.
Более легкий, чем пробка, я танцевал на волнах,
Которых называют вечными жертвенными вертелами,
Десять ночей, не сожалея о глупом глазе фонарей!
Более нежный, чем плоть спелых яблок для ребенка,
Зеленая влага проникала сквозь мои еловые борта,
Отмывая синие пятна вина и рвоты, Расчленяя штурвал и дреки.
И с тех пор я купался в Поэме
Моря, пропитанного звездами, подобного молоку,
Пожирающего зеленую лазурь; где как бледный очарованный бакен,
Le Bateau ivre
Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentis plus guidd par les haleurs: Des Peaux-rouges criards les avaient pris pour cibles,
Les ayant clouds nus aux poteaux de couleurs.
J'dtais insoucieux de tous les dquipages, Porteur de blds flamands ou de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,
Les Fleuves m'ont laissd descendre ой je voulais.
Dans les clapotements furieux des mardes, Moi, 1'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants,
Je courus! Et les Pdninsules ddmarrdes N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. La tempete a bdni mes dveils maritimes.
Plus Idger qu’un bouchon j'ai dansd sur les flots
Qu'on appelle rouleurs dtemels de victimes, Dix nuits, sans regretter 1’ceil niais des falots!
Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sures, L’eau verte pdndtra ma coque de sapin Et des taches de vins bleus et des vomissures Me lava, dispersant gouvemail et grappin. Et dds lors, je me suis baignd dans le Podme De la Mer, infusd d'astres, et lactescent, Ddvorant les azurs verts; ой, flottaison bleme Et ravie, un noyd pensif parfois descend; Ой, teignant tout a coup les bleuitds, ddlires Et rythmes lents sous les rutilements du join, Plus fortes que 1’alcool, plus vastes que nos lyres, Fermentent les rousseurs amdres de Г amour!
Je sais les cieux crevant en dclairs, et les trombes
Сезоны в аду
189
Время от времени спускался задумчивый утопленник; Где, окрашивая одновременно голубизну, бред и медленный ритм Дневное сияние, Более сильное, чем алкоголь, более пространное, нежели наши лиры, Бродят горькие красноты любви! Я знаю небеса, гибнущие в молниях, и смерчи, и прибои, и течения: Et les ressacs et les courants: je sais le soir, L'Aube exaltde ainsi qu'un peuple de colombes, Et j'ai vu quelquefois ce que I'homme a cru voir! J'ai vu le soleil bas, tache d'horreurs mystiques, Illuminant de longs figements violets, Pareils a des acteurs de drames trds antiques Les flots roulant au loin leurs frissons de
я знаю вечер, экзальтированную Зарю, и голубиный народ, и я (в действительности) видел несколько раз, что людям могло только казаться! Я видел низкое солнце, затронутое мистическим ужасом, Освещающее длинные фиолетовые сгустки, Застывшие подобно актерам очень древних драм Когда волны уносили вдаль их дрожащие створки! Я грезил о зеленой ночи в ослепительном снеге, О медленно восстающем в глазах моря поцелуе, О водоворотах неслыханных соков И о желто-голубом пробуждении фосфоресцирующих певцов! Я следил, целыми месяцами, как подобно истеричным коровам зыбь атакует рифы, Не грезя о том, чтобы светлые стопы Марий Смогли бы окоротить морду настырным Океанам! Я натыкался, знайте, на немыслимые Флориды, Примешивающие к цветам глаза пантер в человечьей шкуре! volets! J’ai rev6 la nuit verte aux neiges eblouies, Balser montant aux yeux des mers avec lenteurs, La circulation des sdves inouies, Et I'dveil jaune et bleu des phosphores chanteurs! J'ai suivi, des mois pleins, pareille aux vacheries Hystdriques, la houle a 1'assaut des rdcifs, Sans songer que les pieds lumineux des Maries Pussent forcer le mufle aux Oceans poussifs! J'ai heurtd, savez-vous, d'incroyables Florides Melant aux fleurs des yeux de panthdres й peaux D'hommes! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides Sous Г horizon des mers, & de glauques troupeaux! J'ai vu fermenter les marais 6normes, nasses Ой pourrit dans les joncs tout un Leviathan! Des 6croulements d'eaux au milieu des bonaces, Et des lointains vers les gouffres cataractant! Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises! Echouages hideux au fond des golfes bruns
190
Французский Логос
Радуги, натянутые как вожжи
Под горизонтом морей, на сине-зеленых стадах!
Я видел как заквашиваются гигантские болота, сети, Где в тростнике гнил Левиафан!
Водовороты воды посреди мертвого штиля,
И предельные дали, обрушивающиеся в бездны водопадов!
Ледники, серебряные солнца, янтарные волны, раскаленные небеса!
Омерзительные мели в глубине коричневых заливов,
Где гигантские змеи, разгрызаемые вшами,
Нежились будто торчащие деревья черными ароматами!
Я хотел бы показать детям, этих рыб дорад из голубой волны, этих золотых рыб, рыб, которые поют.
— Пена цветов укачивала мои отправления от берега,
невыразимые ветра окрыляли меня мгновениями.
Подчас, я, мученик, брошенный полюсами и зонами,
И море, чьи рыдания делали бортовую качку сладостной,
Протягивало мне свои цветы мрака с желтыми присосками,
И я оставался на коленях — подобно женщине...
Целый остров, качающий на своих бортах ссоры и помет вздорных птиц с белыми глазами.
И я плыл, когда сквозь мои рассевшиеся сети
Утопленники опускались спать, задом наперед!
Однако я, корабль, потерянный под шевелюрой заливов,
Ой les serpents grants ddvords des punaises Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums!
J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.
— Des dcumes de fleurs ont bercd mes ddrades
Et d'ineffables vents m'ont aild par instants. Parfois, martyr lassd des poles et des zones, La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux
Montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes
Et je restais, ainsi qu'une femme a genoux... Presque lie, ballottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d’oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds.
Et je voguais, lorsqu'a travers mes liens freles
Des noyds descendaient dormir, й reculons! Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jetd par 1'ouragan dans 1'dther sans oiseau, Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N'auraient pas repechd la carcasse ivre d'eau;
Libre, fumant, montd de brumes Violettes, Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme unmur
Qui porte, confiture exquise aux bons podtes,
Des lichens de soleil et des morves d'azur;
Qui courais, tachd de lunules dlectriques, Plahche folle, escortd des hippocampes noirs,
Quand les juillets faisaient crouler & coups de triques
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs;
Сезоны в аду
191
Брошенный ураганом в эфир без птиц, Я, чей остов, опьяненный водами, Никогда не выловить приборам поиска и ганзейским парусникам;
Свободный, дымящийся, воздвигнутый из фиолетовой пены,
Я пробивал красноватое небо как стену.
На которой — о изысканный конфитюр добрых поэтов — Солярный лишай и сопли лазури;
Я, кто бежал, запятнанный электрическими лунами,
Безумная доска с эскортом черных гиппопотамов,
Когда июли рушили как тростинку Ультрамариновые небеса в яростные воронки;
Я, кто дрожал, чувствуя за пятьдесят лье жалобные стоны
Бегемотов в состоянии течки и плотных Мальстрёмов,
Вечный наблюдатель голубой неподвижности
Я грустил о Европе с ее древними парапетами!
Я видел звездные архипелаги! И острова,
Чьи безумные небеса были отверсты путнику:
— В этих ли бездонных ночах, ты спишь и ты скрываешься, миллионами золотых птиц, о будущее Могущество?
Но, не правда ли, я рыдал слишком много!
Зори — раздирают душу.
Всякая луна жестоко, а всякое солнце — горько:
Едкая любовь накачала меня опьяняющими мерзостями.
Moi qui tremblais, sentant geindre й cinquante lieues
Le rut des Behdmots et les Maelstroms epais, Fileur etemel des immobilites bleues, Je regrette 1'Europe aux anciens parapets! J'ai vu des archipels sideraux! et des lies Dont les cieux delirants sont ouverts au vogueur:
— Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t'exiles, Million d'oiseaux d'or, d future Vigueur?
Mais, vrai, j'ai trop р1еигё! Les Aubes sont navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer: L'acre amour m'a gonfld de torpeurs enivr antes.
О que ma quille delate! О que j’aille A la met!
Si je desire une eau d'Europe, e'est la flache Noire et froide ой vers le crepuscule embaumd
Un enfant accroupi plein de tristesse, ISche Un bateau frele comme un papillon de mai. Je ne puis plus, baigne de vos langueurs, d lames,
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons, Ni traverser 1'orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.
192
Французский Логос
Пусть треснет же мой киль! Пусть я ринусь в море!
Если я желаю вод Европы, то это черная и холодная лужа, где в бальзамических сумерках, Ребенок, ставший на корточки, полный грусти
Пускает кораблик — хрупкий как майская бабочка.
Я больше не могу, омытый вашей тоской, о волны!
Оставлять пенный след для торговцев хлопком,
Не могу бороздить гордыню знамен и огней,
Ни проплывать под чудовищными глазницами понтонов.
Образ «пьяного корабля», освободившегося от экипажа, ранее воплощавшего сухой закон буржуазной целесообразности — «J'etais insoucieux de tons les 6quipages, / Porteur de bles flamands ou de cotons anglais.» Дословно: «И я стал свободен от всех экипажей/ торговцев фламандской пшеницей или английским хлопком» — это образ человека Нового времени, но только сбросившего бремя капиталистической рациональности, предоставленного самому себе и своей внутренней бездне, разверзшейся в сторону обезумевшего царства свободы — к «поэме моря» или к «поэме-морю».
В конце стихотворения поэт еще раз подчеркивает свой радикальный отказ от того, чтобы выполнять механические функции послушного инструмента буржуазной эпохи — он больше не хочет ни возить хлопок, ни бороздить океаны во имя славы наций и боевых побед колониальных держав. Он выбирает свободу или смерть, а точнее, свободу-смерть, свободу в смерти.
Опьянение корабля, да и сам корабль суть два символа Диониса. Культовая процессия Д иониса появлялась на кораблях. Кроме того, свобода, в том абсолютном, экстатическом значении, как ее понимает Рембо, также органически сопряжена именно с Дионисом, называемым в Риме — Liber, бог Свободы. Мир, открывающийся Рембо в поэме-море, — это свободный мир, Вселенная Диониса, где все направления равноправны, границы прозрачны, оппозиции драматически наползают друг на друга, не сливаясь, но и не оставаясь на почтительной дистанции. Мы видим в поэме раскрепощенные стихии, а также великие геополитические принципы — Левиафана
Сезоны в аду
193
и Бегемота, но эти стихии не только не техничны, они и не природ-ны, в том смысле, в котором понимает природу наука Нового времени. Это открывшееся пространство того, что А. Корбен называет «имажиналь»1, а исламская традиция — «алам-аль митхаль»; открывшееся спонтанно и без подготовки, вопреки рационализму и механицизму эпохи, вопреки утилитарному натурализму и стремлению покорить природу.
Это мир, спонтанно прорвавшийся сквозь Новое время.
Рембо говорит об онтологической особенности этого видения:
Я (в действительности) видел несколько раз, что людям могло только казаться!
Et j'ai vu quelquefois ce que I'homme a cru voir!
Это чрезвычайно важно: Рембо хочет сказать, что есть два типа фантазии — объективная (активная) и субъективная (пассивная). То, что грезится людям (то что «человек думает, что видит» — се que I'homme croit voir), это смутное отражение действительного, полустертая и нечеткая копия. Визионерский опыт поэта разрывает эту условность и достигает качественно иного видения. Поэтому Рембо наделяет пьяный корабль особым зрением: «Я видел несколько раз...» Это «видел» имеет центральное значение для «имажиналя». Тот, кто достигает полноты пробуждения в «имажинале», получает опыт особой онтологии, опыт прямого зрения, созерцания бытия в мире эйдо-сов и эйдетических цепей, которые являются не ментальными фан-тазмами, пассивно отпечатывающимися в сознании под влиянием внешней чувственной вещи (как в гносеологической схеме познания томистов), но действенными сгустками силы, квантами активного воображения, создающими свои вполне телесные оболочки заключенным в них самих бытием. Это эйдетическое видение, в котором телесность полностью подчинена творящему воображению, есть главное свойство «имажиналя», «алам-аль митхаль».
В прямом акте онтологического визионерства Рембо видит в структуре солярно-водного, активного дионисийского мира (имажиналя) тайный центр, описанный им как «будущее Могущество».
В этих ли бездонных ночах, ты спишь и ты скрываешься, миллионами золотых птиц, о будущее Могущество?
Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t'exiles, Million d'oiseaux d'or, d future Vigueur?
1 Corbin H. Imagination crdatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabi. P.: Entrelac, 2012.
194
Французский Логос
Это совсем не могущества Труженика Э. Юнгера, не грубый техно-органический потенциал Прометея. Важно, что Рембо, написав стихотворение от имени корабля, стремится уйти от привычного субъекта. Пьяный корабль не очеловечен, не гуманизирован тем, что он представлен вещающим, грезящим, ужасающимся, чувствующим. Напротив, человек через прямую речь корабля сам становится кем-то иным, более не человеком, отрываясь от привычных ролей, форм и жестов. Человек превращен в корабль, а не корабль в человека, и это открывает особое понимание того «будущего Могущества», которое пока сокрыто в апофатической ночи (бездне), но которое «миллионами золотых птиц» готово рассыпаться по новому горизонту культуры, вышедшей за свои узкие рамки, совершившей бросок в «небо без птиц», экстатический — пьяный — переход. Будущее Могущество — это Могущество вновь обретенной вечности, и сходство образов и стихий — солнце и море в обоих стихотворениях — «Вечность» и «Пьяный корабль» — подсказывает нам о тонком единстве глубинных смыслов.
Будущее Могущество — это раскрытие «имажиналя» во всей его силе, «событие» (Ereignis), полное подчинение титанического мира плоти свободной стихии раскрепощенной души. В этом — горизонт поэтической эсхатологии, триумф активного воображения, раз и навсегда побеждающего инерциальную тяжесть материальности. Это — линия дионисийской революции.
Так, солнечный Рембо вводит в культуру европейского декаданса гештальт Диониса. Но он делает это не в рамках консервативной альтернативы, а как прорыв из последней точки падения, как предание себя стихии абсолютного риска, приняв Модерн как судьбу, но стремясь дойти в ней до конца, до предела, и сделать потом — на самом пределе — еще один шаг. За предел.
Стефан Малларме: небо мертво
Проблематизация Модерна, с принятием фактичности глубинного и необратимого кризиса, но вместе с тем с пронзительным осознанием катастрофичности происходящего, окрашивает все творчество «проклятых поэтов». Они говорят об этом и только об этом на разные лады. Ничего не предлагая взамен, но привлекая внимание к ужасу происходящего, приглашая всех сосредоточиться.
Один из крупнейших поэтов этого направления Стефан Малларме с предельной ясностью расставляет акценты в своем стихотворении «Лазурь». В нем мы видим остроту неснимаемого болезненного дуализма между небом, оставшимся без Бога, мертвым небом, и вое-
Сезоны в аду
195
ставшей пробудившейся землей, материей. Но небо, ставшее безжизненным и холодным, убийственным, никуда не уходит, отчужденно и безжалостно рассматривая копошащуюся под ним жизнь. А бурные вихри земного мира, предоставленные сами себе, порождают лишь бездонное чувство тщеты. Об этой тщете Малларме говорит постоянно, и в частности в другом стихотворении — «Морской бриз».
Плоть печальна, увы, и я уже прочел все книги.
Бежать! Бежать туда! Я чувствую, как птицы пьяны тем, Что (висят) между неизвестной пеной и небесами!
La chair est triste, hdlas! et j'ai lu tons les livres.
Fuir! la-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'etre parmi I'ecume inconnue et les cieux!
«Плоть печальна», «1а chair est triste», но «все книги прочитаны». Бежать — но куда? Лишь зависание пьяных птиц в пустоте между небом и морем дает мгновенную передышку, когда дух исчерпан, а плоть остыла.
В стихотворении «Лазурь» оппозиция между мертвым небом и «печальной плотью» дана еще более пронзительно.
Лазурь
Спокойная ирония вечной лазури, Апатично прекрасной как цветы, удручает
Бессильного поэта, проклинающего свой собственный гений
Сквозь стерильную пустыню Боли.
В бегстве, с закрытыми глазами, я все еще чувствую ее, смотрящую напряженно с унизительным раскаянием, в мою пустую душу. Куда бежать?
Какую бешеную ночь швырнуть, разодрав на куски, на это гнетущее презрение?
Поднимитесь, туманы! Метните свой монотонный пепел
С длинными лохмотьями пены в небеса,
Чтобы смыть бледные приливы осени И постройте огромный молчаливый купол!
L'azur
De I'etemel Azur la sereine ironie Accable, belle indolemment comine les fleurs,
Le poete impuissant qui maudit son дёше A travers un ddsert stdrile de Douleurs.
Fuyant, les yeux ferm6s, je le sens qui regarde
Avec I'intensite d'un remords atterrant, Mon ame vide. Ой fuir? Et quelle nuit hagarde
Jeter, lambeaux, jeter sur ce mepris navrant?
Brouillards, montez! versez vos cendres monotones
Avec de longs haillons de brume dans les cieux
Que noiera le marais livide des automnes, Et batissez un grand plafond silencieux!
Et toi, sors des etangs l£th6ens et ramasse En t'en venant la vase et les pales roseaux,
196
Французский Логос
И ты, выйди из озер забвения и собери, выходя, Вазы и бледные тростники, Моя дорогая Скука, чтобы заделать ими никогда не устающей рукой Гигантские голубые дыры, которые оставляют (в воздухе) злобные птицы. Еще! Пусть печальные камины без конца исторгают Дым и пусть бродячая тюрьма пепла Погасит в ужасе своих черных сетей Умирающее желтоватое солнце на горизонте!
— Небо мертво. — К тебе я прибегаю! Дай же, о материя, забвение жестокого Идеала и Греха этому мученику, который пришел разделить носилки где лежит счастливое стадо людей, потому что я так хочу, потому что наконец-то мой мозг, опустошенный как пудреница, выброшенная под стену дома, утратил искусство гримировать рыдающую идею и
мрачно предал себя темной гибели... Тщетно! Лазурь побеждает, и я слышу, как она поет в колоколах. Моя душа! Она обрела голос, чтобы внушить нам ужас своей злой победой, И выйти голубым ангелом из живого метала!
Лазурь вращается в древней пене и прорезает
Твою врожденную агонию подобно разящему мечу;
Куда бежать в бесполезном и извращенном восстании?
Я одержим. Лазурь! Лазурь! Лазурь! Лазурь!
Cher Ennui, pour boucher d'une main jamais lasse
Les grands trous bleus que font mechamment les oiseaux.
Encor! que sans rdpit les tristes chemindes Fument, et que de suie une errante prison Eteigne dans 1'horreur de ses noires traindes
Le soleil se mourant jaunatre й 1’horizon! — Le Ciel est mort. — Vers toi, j'accours! Donne, d matidre, L'oubli de I'lddal cruel et du РёсЬё A ce martyr qui vient partager la litiere Ой le b£tail heureux des hommes est соисЬё, Car j'y veux, puisque enfin ma cervelle, ^ёе
Comme le pot de fard gisant au pied d'un mur,
N'a plus 1'art d'attifer la sanglotante idёe, Lugubrement bailler vers un tr6pas obscur...
En vain! 1'Azur triomphe, et je 1'entends qui chante
Dans les cloches. Mon ame, il se fait voix pour plus
Nous faire peur avec sa victoire тёсЬаЩе, Et du тё1а1 vivant sort en bleus angelus! П roule par la brume, ancien et traverse Ta native agonie ainsi qu'un glaive stir; Ой fuir dans la revolte inutile et perverse? Je suis hante. L'Azur! 1’Azur! 1’Azur!
1’Azur!
В этом стихотворении есть отголосок титанического восстания против Лазури, стремление погасить солнце и закрыть небо пеленой искусственной технической жизни, но на сей раз эта попытка
Сезоны в аду
197
обречена. «Человеческий тростник» сломлен, повержен, подавлен и сокрушен. Это не месть вернувшегося Бога, это логическое железное следствие освобожденного ничто. Поэт пытается бежать от того мира, который открылся ему в десакрализации, но это только усиливает десакрализацию и не способно снять вызов трансцендентного, ставшего мукой и холодным ужасом. Поэта преследует уже не Бог, а смерть Бога, «мертвое небо», ставшее приговором человечеству.
Мы видим наглядно, как резко меняется пафос романтизма — от светлого к темному и черному. Поэт декаданса не открывает путь другим, он закрывает путь самому себе. Он не призывает никуда идти, ему даже не удается сбежать. Хтонические чары материи не действенны перед разверзавшейся бездной отчаяния. Позднее, в XX веке, эта тема, предельно емко обозначенная Малларме, станет в центре внимания французских экзистенциалистов (Ж.-П. Сартр, А. Камю), которые построят на этом опыте примордиального одиночества и отчаяния развернутые философские системы (отчасти перекликающиеся с фрагментарно понятым Хайдеггером).
Так, Сартр видит в Малларме поэта, открывшего французской культуре фундаментальность категории ничто. Он называет его «героем, пророком, волшебником и трагиком»1. Особое внимание Сартр обращает на следующее стихотворение:
Salut
Rien, cette ecume, vierge vers A ne designer que la coupe; Telle loin se noie une troupe De sirenes mainte & 1'envers.
Nous naviguons, 6 mes divers Amis, moi d£j& sur la poupe ко- Vous 1'avant fastueux qui coupe
Le flot de foudres et d'hivers;
Une ivresse belle m'engage на Sans craindre meme son tangage
De porter debout ce salut, Solitude, rdcif, etoile A n'importe ce qui valut Le blanc souci de notre toile.
Спасение
Ничто, эта пена, девственные стихи, Призванные обозначить лишь чашу Так далеко тонет группа
Сирен, большинство снизу-вверх
Мы плывем, мои различные
Друзья, я уже на палубе
Вы торжественный бросок вперед, торый прерывает
Поток молний и зим;
Прекрасное опьянение нападает меня
Не бояться его качки
Выстоять вертикальноэто спасение
Одиночество, риф, звезду Не важно что бы ни стоило Белую заботу нашего паруса.
1 Sartre J. -P. МаПагшё, or the Poet of Nothingness. Pennsylvania: Penn State University Press, 1991.
Сезоны в аду
199
Он обратился к тем, кто ждал его внизу, Грезя, будто они короли, мудрецы и пророки...
они отяжелели, потерянные в зверином сне,
И Он начал кричать: «Нет, Бога не существует!»
Они спали. «Мои друзья, вы знаете новую весть?
Я коснулся своим лбом вечного свода, Я рыдаю, я разбит, я страдаю столько дней!
Братья, я вас обманул. Бездна! Бездна! Бездна!
У алтаря, на котором я жертва, нет Бога...
Бога нет! Бога больше нет!» Но они по-прежнему спали!..
II
И он продолжил снова: «Все мертво!
Я обошел миры;
Я потерялся в своем полете сквозь их млечные пути, Так далеко как жизнь в ее плодородных венах
Рассеивает золотой песок и серебряные волны:
Повсюду почвы пустынь соприкасаются с волнами, со смешивающими вихрями волнующихся океанов...
Смутное дыхание испускает бродячие шары,
Но в этих бесконечностях ни малейшего следа духа.
И ища око Бога, я видел лишь глазни-ЧУ-
огромную, черную и бездонную, из которой обитающая в ней ночь испускает на мир лучи, становящиеся все более и более плотными;
Revant d’etre des rois, des sages, des prophetes...
Mais engourdis, perdus dans le sommeil des betes,
Et se prit A crier: «Non, Dieu n'existe pas!» Ils donnaient. «Mes amis, savez-vous la nouvelle?
J'ai touche de mon front & la votite eter-nelle;
Je suis sangiant, brise, souffrant pour bien des jours!
Freres, je vous trompais. Abime! abime! abime!
Le dieu manque й 1’autel ой je suis la victime...
Dieu n’est pas! Dieu n’est plus!» Mais ils dormaient toujours!..
II
Il reprit: «Tout est mort! J'ai parcouru les mondes;
Et j’ai perdu mon vol dans leurs chemins lactes,
Aussi loin que la vie, en ses veines fecondes, Rdpand des sables d’or et des flots argentds:
Partout le sol desert cotoyd par des ondes, Des tourbillons confus d’ocdans agites...
Un souffle vague dmeut les spheres vagabondes, Mais nul esprit n'existe en ces immensitds. En cherchant 1'oeil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite
Vaste, noire et sans fond, d'oil la nuit qui 1’habite
Rayonne sur le monde et s'dpaissit toujours;
Un arc-en-ciel dtrange entoure ce puits sombre,
Seuil de 1'ancien chaos dont le ndant est 1’ombre,
198
французский Логос
Здесь мы видим, как Малларме, оставаясь глубинным образом вовлеченным в стихию радикального нигилизма, обретает дионисийский выход, во многом созвучный путешествию Рембо в миры «имажиналя». Особый жест навигации в океане ничто составляет искусство метафизического декаданса. Выстоять, выдержать спасение чаши экстатического безумия становится новой программой, формируемой по ту сторону всякого отчаяния. Это уже не бегство вовне, но рывок внутрь, в сферу апофатической человечности, пробужденной фронтальной агрессией ничто.
Жерар де Нерваль: метафизика скорби
К «проклятым поэтам» относят величайшего поэта Франции XIX века Жерара де Нерваля (1808—1855), который был одним из самых проницательных выразителей французского историала. Нерваль видел Логос Франции как единую непрерывную структуру, где сквозь века от поколения к поколению передавались нерешенные бездонные мистерии, секреты кровавой и подчас откровенно преступной метафизики, в которой бушевала напряженная титано-махия, Ноомахия, битва глубинных европейских Логосов. В архаических сюжетах, исторических свершениях и войнах, переворотах и восстаниях, отравлениях и взлетах творческого гения, вплоть до Французской революции и европейского Модерна, Нерваль видел повторение одних и тех же экзистенциальных узоров — трагичных, темных, зловещих, нерешенных и прекрасных.
Нерваль интерпретирует Логос Франции как предельно трагичную версию дионисийства: причем такого, которое грозит вот-вот низвергнуться в бездну радикального и полного отчаяния. Но в чем это отчаяние? В чем бездна трагедии, переживаемой и передаваемой Нервалем?
Христос на Масличной горе I
Когда Господь, воздев к небесам свои худые руки
Под священными деревьями, как поступают поэты,
Долго оставался потерянным в своих немых страданиях
И чувствовал себя преданным неблагодарными друзьями,
Le Christ aux Oliviers I Quand le Seigneur, levant au ciel ses maigres bras Sous les arbres sacres, comme font les p'odtes, Se fut longtemps perdu dans ses douleurs muettes, Et se jugea trahi par des amis ingrats;
П se touma vers ceux qui 1’attendaient en bas
200
Французский Логос
странная радуга окружает этот колодец тьмы, этот порог древнего хаоса, тень которого — ничто,
спираль, поглощающая Миры и дни!
III
Неподвижная Судьба, немая стражница,
Холодная Необходимость! Случай, который, подталкивая тебя в толпу мертвых миров под вечными снегами, охлаждает градус за градусом бледнеющую вселенную,
Знаешь ли ты, что делать, изначальная мощь,
С твоими погасшими солнцами, трущимися одно о другое...
Ты уверена, что следует передавать бессмертное дыхание
От мира, который умирает, к другому, который возрождается ?..
О мой отец! Тебя ли я чувствую в самом себе?
Есть ли у тебя сила жить и побеждать смерть?
Или ты поддашься последней попытке Этого ангела ночей, который испускает проклятие?..
Потому что я себя чувствую единственным, кто плачет и страждет,
Увы! и если я умру, то ведь и все умрет!»
IV
Никто не слышал рыдания вечной жертвы,
Тщетно изливающей миру свое открытое сердце,
Но будучи готовым сдаться и склоненный без сил
Он призвал единственного бодрствующего в Салиме:
Spirale engloutissant les Mondes et les joins!
Ill Immobile Destin, muette sentinelle, Froide Ndcessitd!.. Hasard qui, t'avangant Parmi les mondes morts sous la neige eter-nelle, Refroidis, par degrds, I’univers palissant, Sais-tu ce que tu fais, puissance originelle, De tes soleils dteints, 1’un Г autre se froissant...
Es-tu stir de transmettre une haleine immortelle, Entre un monde qui meurt et 1’autre renaissant?..
О mon рёге! est-ce toi que je sens en moi-meme?
As-tu pouvoir de vivre et de vaincre la mort?
Aurais-tu succombd sous un dernier effort De cet ange des nuits que frappa I'anathdme?..
Car je me sens tout seul a pleurer et souffrir, Helas! et, si je meurs, c'est que tout va mourir!»
IV
Nul n'entendait gdmir I’dtemelle victime, Livrant au monde en vain tout son coeur epanche;
Mais pret A ddfaillir et sans force penchd, П appela le seul — 6veill6 dans Solyme: «Judas! lui cria-t-il, tu sais ce qu'on m'estime,
Hate-toi de me vendre, et finis ce marchd:
Сезоны в аду
201
«Иуда! — вскричал Он, — ты знаешь, во сколько ценят меня, поспеши же продать меня, заверши сделку:
Я стражду, друг! Лежа на земле...
Иди! Ты хотя бы обладаешь силой преступления!»
Но Иуда удалялся, недовольный и задумчивый, Понявший, что ему заплатили недостаточно, насколько полный живого сожаления,
Что он читал свою внутреннюю тьму написанной на каждой стене...
И лишь Пилат, страж Цезаря, Чувствуя некоторую жалость, обратился в произвольную сторону: «Найдите этого безумца!» — сказал он слугам.
V
Это именно он, этот безумный, этот неразумный глупец,
Этот забытый Икар, поднимавшийся к небесам
Этот Фаэтон, погубленный молнией богов,
Этот прекрасный убитый Аттис, оживляемый Кибелой!
Авгур гадал по вскрытому ребру жертвы
Земля опьянялась этой драгоценной кровью
Отяжелевшая Вселенная осела на своих осях
Олимп на мгновение наклонился над бездной.
«Отвечай, — возопил Цезарь к Аммону Юпитеру, —
Кто этот новый бог, который утвердился на земле?
Или если это не бог, то по меньшей мере он наверное даймон?..»
Je suis souffrant, ami! sur la terre соисЬё... Viens! 6 toi qui, du moins, as la force du crime!»
Mais Judas s'en allait, mecontent et pensif, Se trouvant mal рауё, plein d'un remords sivif
Qu'il lisait ses noirceurs sur tous les murs dcrites...
Enfin Pilate seul, qui veillait pour Cesar, Sentant quelque piti6, se touma par hasard: «Allez chercher ce fou!» — dit-il aux satellites.
V
C'etait bien lui, ce fou, cet insensd sublime...
Cet Icare оиЬИё qui remontait les cieux, Ce Phaeton perdu sous la foudre des dieux, Ce bel Atys meurtri que Cybele ranime! L'augure interrogeait le flanc de la victime, La terre s'enivrait de ce sang prdcieux... L'univers dtourdi penchait sur ses essieux, Et I’Olympe un instant chancela vers 1'abime.
«Rdponds! criait Cesar a Jupiter Ammon, Quel est ce nouveau dieu qu'on impose й la terre?
Et si ce n'est un dieu, c'est au moins un ddmon...»
Mais Г oracle invoqud pour jamais dut se taire;
Un seul pouvait au monde expliquer ce mystere:
— Celui qui donna 1'ame aux enfants du limon.
202
Французский Логос
Но спрошенный оракул был вынужден
замолчать навечно;
Только один-единственный во всем мире мог объяснить эту тайну:
— Тот, кто снабдил душой детей примордиальной грязи.
Нерваль описывает здесь теологию отчаяния. Научная картина мира превращает Вселенную в механическую холодную бездну, вся роскошь которой редуцируема к ледяной пустоте математики. И Христос Нерваля — это Христос, помещенный в Европу XIX века — чистый дух, несущий на себе всю тяжесть открывшегося снежного безумия движения отчужденных стихий, пустых грез или иудиного расчета, воплощенного в капитализме. Истина в этом мире будет истиной об этом мире, о его абсолютности и абсолютной опустошенности. Это истина о ничто и о том, тенью чего является это ничто — то есть о хаосе. И перед лицом этой мертвой галлюцинативной Вселенной-машины1 Бог как Начало может быть провозглашен лишь как отсутствующий, как орбита без глаза, тьма, испускающая черный свет гравитации. Христос Нерваля не говорит успокаивающую ложь, не прельщает несбыточной надеждой: Он благовествует ужас и мрак, честно открывая то, что Он узнал, увидел, прожил, что было Ему явлено в глуби Него самого.
Церковь для Нерваля — это грезы спящих апостолов, не слышащих истинного зова своего учителя. На этом фоне холодное зло Иуды оказывается куда более созвучным действительности мира, в котором упование будет обманом.
Эта картина богооставленной религии, пытающейся представить самого Христа аналогом титана, чей взлет обречен, жалкого Аттиса, бессмысленно и инструментально оживляемого снова и снова Логосом Кибелы, развертывается на всем пространстве этого пронзительного стихотворения и до самых последних строк картина отчаяния предстает завершенной и совершенной, совершенно безысходной. Оракул замолкает, воцаряется неотменяемое молчание богов. Кажется, что на земле есть только один бог — уже не бог, даже не даймон, на что еще тщетно надеется Цезарь... Человек. В этом — предельный диагноз, поставленный гуманизму во всем его тотальном объеме. Христос Нерваля — человек. И как таковой он сам трагичен, величественен, прекрасен, но... безысходен.
1 Следует обратить внимание в описании Нервалем мертвого мира на вихри Декарта — les tourbillons confus.
Сезоны в аду
203
Однако Нерваль добавляет две последние строчки — добавляет не случайно, не официально, не по принуждению. Это — Франция XIX века, когда никакой религиозной цензуры не существует: если бы он посчитал нужным, он закончил бы и без них. Но...
Но в этих двух строках помимо бездны, с которой все начинается и которой все заканчивается, открывается еще нечто, Некто:
Тот, кто снабдил душой детей примордиальной грязи.
И вот эта душа никак не вписывается в механическое вращение безумных сфер. Она ниоткуда не берется и ни во что не вписывается. Она не способна сказать утвердительно о том, что она есть и откуда она пришла. Она не может ни отыскать своей Родины, ни понять своей цели в мире железной необходимости, к которой, как она пронзительно чувствует, не имеет никакого отношения. Но все же ее страдание, ее боль, ее ностальгия, — причем без какого бы то ни было подозрения и воспоминания о том, что является ее причиной и ее истоком, — ее тайна, ее внутреннее измерение, ее обратная сторона, ее собственная тьма, ее ничто, ее бездна не стерильны. Они несут в себе невидимую искру неведомого Бога, того, Кто ту душу и сделал тем, что она есть — то есть бесконечной, абсолютной болью.
Быть может, в этом стихотворении Нерваля, созданном на грани мучительного богоборчества, больше подлинно христианского содержания, чем в обстоятельных и связных моральных проповедях или убедительных построениях схоластов. Это свидетельство о ночи. Но свидетельство того, кто несет в своей глубине свет.
В другом знаменитом стихотворении, названном поэтом по-испански «Е1 Desdichado», «Несчастный», «Безутешный», Нерваль в предельно краткой форме описывает метафизическую структуру всего историала Франции как мистерию скорби.
El Desdichado
Я — Темен, я — Вдовец, я Безутешен.
Я — принц Аквитании у разрушенной башни:
Моя единственная Звезда мертва — и моя покрытая созвездиями лютня Несет на себе черное Солнце Меланхолии.
В ночи Могилы, Ты, которая меня утешила,
El Desdichado
Je suis le ТёпёЬгеих, — le Veuf, — I'lnconsold,
Le Prince d'Aquitaine 4 la Tour abolie:
Ma seule Etoile est morte, — et mon luth constelle
Porte le Soleil noir de la Mdlancolie.
Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'as consold,
204
Французский Логос
Верни же мне Позиллипо и море Италии,
Тот цветок, который был таким наслаждением для моего отчаявшегося сердца,
И ту беседку, где виноградная Лоза переплетена с Розой.
Я Амур или Феб? Лузиньян или Бирон? Мой лоб еще красен от поцелуя Королевы,
Я грезил о гроте, где плавает Сирена...
Я дважды пересек Ахерон, Извлекая по очереди из лиры Орфея То вздохи Святой, то крики Феи.
Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie, La fleur qui plaisait tant a mon coeur d£sole, Et la treille ой le Pampre й la Rose s'allie. Suis-je Amour ou Phoebus?.. Lusignan ou Biron?
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine;
J'ai гёуё dans la Grotte ou nage la Sirene... Et j'ai deux fois vainqueur traverse Г Acheron:
Modulant tour й tour sur la lyre d'Orphee Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fee.
В этом стихотворении каждый образ и каждая деталь имеют фундаментальное значение. Субъект повествования, которого можно определить как «радикального субъекта» французского Dasein'a, является центральной темой. Главный вопрос, который он задает самому себе — кто Это вопрос не Нерваля и даже не его поэтического двойника, это вопрос из последних апофатических глубин, из той непостижимой точки внутри человека, которая стоит прежде его души и его сознания. Это — индивидуатор, который примеряет к себе — всякий раз предельно веско и с ужасающим риском — разные вектора индивидуации, составляющие лучи французской идентичности в ее абсолютном метафизическом измерении.
Кто — я? Этот вопрос задается сквозь Нерваля тем, кто стоит у него за спиной, кто иногда смотрит его глазами и слышит его ушами, кто любит его телом и ненавидит его дыханием. Тем, чьим сном, чей онейремой является сам Нерваль.
Радикальный субъект фиксирует свое трагическое положение в последних глубинах бездны. Отсюда его первое самоназвание — Темный, 1е ТёпёЬгеих. «Я — Темный», называет себя тот, кто вещает Нервалем. Он темен, потому, что он апофатичен, хенологичен и божественен. Он не может быть увиден, так как это он есть тот, кто смотрит. Его нельзя почувствовать, так как он есть тот, кто чувствует. Вместе с тем имя «Темный» есть прямое указание на фигуру Орфея, так как греки традиционно сближали 'Opcpcvc; со словом брфут], «тьма». Чуть дальше Нерваль напрямую упомянет Орфея, говоря о его лире. Но с первых слов «Е1 Desdichado» следует помнить, что речь идет именно об Орфее, главном персонаже проблематичной и амбивалентной галльской идентичности.
Сезоны в аду
205
«Я — Вдовец». Это значит, что у радикального субъекта в условиях предельной нищеты (смерти всех миров из стихотворения «Христос на Масличной горе») изъято поле его саморазвертывания, то зеркало, в котором его тьма становится светом, его паредрой. Если бы она была, он не был бы темен, но растворен в ней как в стихии, как в соленой воде растворена соль. Но он — вдов, как вдов Данте и Петрарка, как ритуально обрядово вдов трубадур, провансальский куртуазный поэт, Дама которого обязательно отвечает: «нет!» Вдов и Орфей, потерявший Эвридику и отправляющийся за ней в ад.
«Я — Безутешен». Впервые в этом тексте мы видим отсылку к катарам и consolamentum, то есть к тематике Святого Духа, Утешителя в сложной структуре эсхатологического гнозиса. Утешения нет. Так как ничто не отражается в бездне отсутствующей Дамы.
«Я — Принц Аквитании у разрушенной башни». Аквитания и особенно ее часть Пуату была тем местом, откуда пошел род Лузиньянов и чей замок был построен феей Мелюзиной. К этому Нерваль вернется через несколько строк. Волшебный замок Аквитании разрушен, от башни остались одни руины. Миф глубинной Франции находится в развалинах. Это трагический пейзаж кельтских сумерек.
«Моя единственная Звезда мертва» — это снова рефрен ностальгии: ночь без звезд, ночь, в которой, по словам Л.-Ф. Селина, сделавшего эпиграфом своего романа «Путешествие на край ночи»1 слова песни швейцарской гвардии, «ничего не светит».
Наша жизнь — это путешествие Notre vie est un voyage.
В зиме и в ночи Dans 1’hiver et dans la nuit.
Мы ищем наш путь Nous cherchons notre passage.
В небе, где ничего не светит. Dans le ciel ой rien ne luit.
Эта ночь отражается в лютне поэта, который здесь отождествляется с Орфеем, конституируется как французский Орфей, спускающийся в ад полуночи. Черное солнце — солнце полуночи, солнце Диониса. Мы явно находимся в его священной близости. Но пока это царство Сатурна.
«В ночи Могилы» — это горизонт ничто, которое на наших глазах будет сейчас претерпевать — как у Малларме — немыслимые преображения. И действительно: «Ты, которая меня утешила» («Toi qui m'as consol£») — это радикальный переворот оптики, подобный спуску Данте в центре ада по телу Люцифера вниз и появлению его с обратной стороны — в чистилище. «Я — Безутешен», — говорит
1 Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. М.: АО «ТИПК-7», 1994.
206
Французский Логос
радикальный субъект. «Моя Звезда мертва». Ничего нет. Ничего. Франции нет. Башня Аквитании — груда руин. Это — полночь. Но та, которой нет, та, которая мертва, вдруг, внезапно (платоническое £2ja(<pvr|<;) есть. Она есть, потому что была, а раз так, то не может не быть. И безутешный, не имеющий рядом того, кого мог бы воскликнуть, призвать, огласить оправдательный приговор (ларакЛг|тос;), оказывается утешенным — это consolamentum катаров. Радикальный субъект обращается к той, кто явила себя из бездны ничто. «Дай же мне Позиллипо». Ясно, что речь не может идти просто о неаполитанском морском виде на Тирренское море, каким бы он ни был потрясающим. Позиллипо, по местным преданиям, точка, где был захоронен Вергилий, путеводитель Данте по аду (возможно, и Орфея в поисках Эвридики — еще одной мертвой Посвятитель-ницы, Initiatrix-Consolatrix). Позиллипо известен одной из самых величественных статуй Диониса. Но главное снова в словах: Posillipo образовано греческими основателями Нового Города, Неаполиса, от iiauoiAu'irov — «прекращение страданий, скорбей, боли». Это тот момент, когда невыносимая боль берет паузу. Прекращение боли — момент Розы. Обретение сквозь потерю той полноты, которая открывается в центре абсолютной нищеты, на краю ночи. И вот здесь мы встречаем Диониса. Беседка, «где виноградная Лоза переплетена с Розой». Дионис открывает себя в точке полночи.
И здесь полностью пробудившийся и овладевший своим собственным могуществом радикальный субъект снова, но теперь по-имперски утвердительно, в полную мощь утверждает: «Я — Амур»? «Я — Феб»? То есть я — Дионис? Я — Аполлон? В этом миге, когда безграничная боль взяла паузу, открывается вся структура европейского Логоса — которая и здесь говорит напрямую, полностью сняв Нерваля как преграду, сделав его абсолютно прозрачным для истинного слова. Кто может поставить вопрос именно таким образом: «Я — Амур»? «Я — Феб»? Ведь поэт полностью отдает себе отчет в том, что, как он скажет, так и будет, так и есть, так и было. У него вообще нет права на неточность. И этот вопрос предельно точен. Его задает тот, кто имеет все основания его задавать...
«Амур или Феб»? — вопрос на уровне фундаментального атем-порального Логоса. Но в следующей строке он метафизически врывается в живую и конкретную ткань французского историала, французского мифа, французской иероистории — Лузиньян или Бирон? Лузиньян — род аквитанских принцев, берущий начало от брака принца Раймондина и Мелюзины, из этого дома вышли герои Крестовых походов, Ричард Львиное Сердце, король Иерусалима Ги де Лузиньян, короли Кипра и Киликийской Армении.
Сезоны в аду
207
«Или я Бирон?» Бирон — замок на юге Франции в Перигоре, в 1211 году ставший на какое-то время центром катарского движения. Позднее, в XVI веке, бароном Бирона становится Арман де Гонто (1562— 1602), гениальный полководец, получивший прозвище «Галльская Молния» (Fulmen Galliae), который планировал свержение Бурбонов (династию монархов Модерна) и возврат к феодальному порядку, в котором сам он хотел стать королем Бургундии. Для этой цели он подготовил заговор, который был раскрыт, а сам Арман де Гонто де Бирон был обезглавлен в Париже.
«Мой лоб еще красен от поцелуя Королевы» — это consolamentum, посвящение Дамы в мистерии метафизического рыцарства. После того, как ничто открылось с обратной стороны, невозможное стало привычным, утраченное — вечно обретенным.
«Я грезил о гроте, где плавает Сирена...» — этот образ Гомера стал основой неоплатонического сочинения Порфирия1, который трактовал «пещеру нимф» как тонкий механизм спуска души в материю, привлеченную нежностью водной женской стихии примордиального мрака. «Грот Сирены» — проблема сознания в аду, метафизики спуска, кельтская проблематизация женского начала. Но тот, кто проснулся в самом центре смерти, больше не может умереть. Он (как Орфей) пересекает Ахерон дважды — туда и обратно. Это upooSoq и Етпатрофг), что и составляет суть появления радикального субъекта в центре ночи, в пещере нимф: он спускается, чтобы подняться, уходит, чтобы вернуться.
И так он становится Орфеем, тем, кто дает слову быть.
И самый последний аккорд: чем же становится слово французского Орфея? Оно становится нечленораздельным, но от этого только еще более выразительным, абсолютно выразительным звуком, издаваемым женщиной; двойственным звуком: вздохом Святой/ криком Феи. Крик Феи — это прощальный возглас Мелюзины-дра-кона, облетающей замок Лузиньянов в последний раз. Это двойной, расходящийся надвое — на благочестивый вздох и душераздирающий крик — звук глубинной, фатальной, абсолютной Франции.
1 Порфирий. Сочинения. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011.
Франция XX века: в направлении тьмы
Третья республика: к Народному фронту
Третья республика во Франции существовала с 1870 по 1940 год. В этот период буржуазные реформы и модернизация французского общества продолжались, и общий вектор французского историала эпохи Модерна оставался неизменным.
Уже в XIX веке, после конца эпохи Наполеона, Франция по основным европейским геополитическим вопросам прочно встала на сторону Великобритании в оппозиции набирающей силы Германии. Таким образом, сложился атлантистский франко-английский блок, противостоящий европейско-континентальному германскому. Этому геополитическому дуализму внутри европейского пространства соответствовал и цивилизационный дуализм: Франция и Англия выступали в авангарде прогрессивного буржуазного либерально-демократического общества, тогда как Германия (и отчасти Австро-Венгрия) развивалась в «догоняющем» режиме, проводя модернизацию в оборонном ключе — в первую очередь, для того, чтобы ответить на вызов своих западных соседей. Еще более отложенной и фрагментарной была в этот период модернизация царской России, стоявшей против всей Европы, начиная с трагических событий Крымской войны, когда против нее строем выступила англо-французская коалиция, поддержавшая Турцию при нейтралитете Австрии, которая, теоретически, должна была бы оказаться на стороне России. Таким образом, Франция и при Наполеоне III и в период Третьей республики прочно укрепилась в структуре атлантистского буржуазного лагеря, выступая наряду с Англией вторым ее важнейшим полюсом.
Накануне Первой мировой войны Франция и Англия заключают между собой союз (Антанту, Entente) против Германии, куда удается вовлечь и Россию Николая II, имеющую с Германией свои локальные геополитические трения.
Конфликты между странами Антанты (к которой в решающий момент примкнули США) и Германией в союзе с Австро-Венгрией перерастают в Первую мировую войну (1914—1918), ставшую одной из самых кровавых и масштабных войн человеческой исто-
Франция XX века: в направлении тьмы
209
рии. Формально она представляла собой столкновение нескольких крупных европейских национальных государств, каждое из которых стремилось укрепить свои территориальные позиции, отстоять свои интересы как в Европе, так и в колониях, усилить себя и ослабить противника. Однако мы видим, что, с цивилизационной точки зрения, два противоборствующих лагеря представляли собой три различных цивилизационных сегмента:
• Англия, Франция и США (с этого момента уверенно усиливающие свои позиции в мировом масштабе и выходящие в авангард атлантической цивилизации) представляли полюс Модерна, где буржуазные реформы и модернизация были целиком и полностью внутренним явлением (при том, что Британская империя была в тот момент впереди остальных).
• Германия и Австро-Венгрия, представлявшие Среднюю Европу, сохраняли намного больше характерных черт традиционного общества, и их модернизация была отчасти ответом на вызов стран Западной Европы. Это был полюс континентальной консервативной Европы.
• Российская империя была еще более традиционной, хотя также затронутой модернизацией и европеизацией. Но характер этих процессов был еще более внешним, нежели в случае Германии и Австро-Венгрии, а само общество еще более консервативным.
То, что в такой ситуации Франции удалось склонить российского царя Николая II к союзу с Антантой, было серьезным успехом атлантистской дипломатии и признаком эффективной деятельности масонских структур в России, которые почти полностью контролировали Государственную думу. Именно поэтому после падения монархии Временное правительство, состоящее из масонов и возглавляемое масоном А. Ф. Керенским, несмотря на тяжелое политическое положение, сохранило верность союзникам по Антанте, а в период Гражданской войны Антанта, в свою очередь, поддерживала белое движение, чьи руководители продолжали политику Временного правительства. Таким образом, масонская буржуазная сеть в царской России начала XX века оказалась важнейшим политическим инструментом в организации Западом широкой антигерманской и антиавстрийской коалиции, причем включение в эту войну России на стороне Антанты привело к падению монархии и резкому ослаблению государства в целом, и одновременно к спасению Франции от успешного на
210
Французский Логос
первых порах немецкого наступления. После того, как в России к власти пришли прогермански настроенные большевики, они поспешили заключить с Германией сепаратный мир, но это уже не спасло Второй рейх от поражения. Окончательно победу Антанты предопределило вступление в войну США.
Для Франции Первая мировая война окончилась победой, и не случайно капитуляция Германии была подписана под Парижем в Версальском дворце, что ставило Францию символически не просто в ряд победителей, но делало среди них главным. С точки зрения французского историала, в контексте французского Модерна победа в Первой мировой войне была осмыслена как триумф авангарда буржуазно-демократических сил над консервативной Европой. Показательно, что в числе проигравших была германская монархия Гогенцоллернов, австрийская монархия Габсбургов, а кроме того, по результатам Первой мировой войны исчезли и еще две империи — Османская и Российская. Тем самым, с идеологической точки зрения, Модерн окончательно победил остатки традиционного общества, воплощенные в консервативном обществе Германии (Второй рейх) и в последних мировых империях — Османской и Российской. С геополитической точки зрения, Версаль был фиксацией триумфа талассократии, морского могущества (Sea Power), что предопределило баланс сил в Европе и на следующем межвоенном периоде.
После окончания Первой мировой войны в Европе начинается подъем крайнего национализма. В Италии к власти приходят фашисты Муссолини, а в Германии зреют реваншистские тенденции, идейно воплотившиеся в Консервативной Революции, а политически — в успехах национал-социалистического движения Гитлера. Эта же волна захватывает и другие страны — в первую очередь Испанию и Португалию, где традиционно были сильны консервативные силы и настроения. Но параллельно этому повсюду в Европе набирают обороты и крайне левые — коммунистические и социалистические тенденции (в определенной мере вдохновленные успехами русских большевиков). Кроме того, активно продолжаются и буржуазно-демократические реформы в политике, экономике и идеологии. Тогда же одновременно в Австрии и Англии начинается формулировка либеральной идеологии на новом историческом витке. Это течение принято называть неолиберализмом (Ф. фон Хайек, К. Поппер и т.д.). Так, в межвоенный период в Европе складываются три ясно выраженных идеологических лагеря, вооруженные тремя политическими теориями:
Франция XX века: в направлении тьмы
211
• Либеральный лагерь (Первая Политическая Теория) преобладает в Англии, Франции, Австрии (в Германии Веймарского периода), США.
• Социалистический лагерь (Вторая Политическая Теория) приходит к власти в России, но он достаточно силен в Германии, Франции, Испании (где становится важным фактором гражданской войны 1936—1939 годов).
• Националистический лагерь (Третья Политическая Теория) в лице фашизма Муссолини приходит власти в Италии в 1922 году, а в 1933 году НС ДАЛ Гитлера выигрывает выборы в парламент (рейхстаг), с чего начинается нацистская диктатура. Кроме того, аналогичные режимы устанавливаются и в других европейских странах — в Испании Франко, Португалии Салазара и т. д.1
В этот период во Франции также присутствуют все три идеологических лагеря:
• с доминацией буржуазного либерального центра, но
• при достаточно сильном и влиятельном левом фланге (социалисты и коммунисты, традиционно активные во Франции еще со времен якобинцев и Великой французской революции),
• и националистическом движении, включавшем в себя:
• консерваторов-монархистов (таких, как теоретик национализма Морис Баррес (1862— 1923) или основатель «Французского Действия» Ш. Моррас (1868—1952),
• собственно французских фашистов из французской Народной партии Жака Дорьо (1898— 1945), ставшей главной политической силой в эпоху коллаборационизма,
• республиканскую синдикалистскую партию Жоржа Валуа (1878—1945), французского националиста, выступавшего позднее против Гитлера, бывшего активным деятелем Сопротивления и погибшего, в конце концов, в концлагере Берген-Бельзен.
Теоретически альянсы могли быть в этот период заключены по разным схемам:
• левые 4- либеральный центр (против националистов);
• правые + либеральный центр (против коммунистов);
• правые + левые (против либералов).
Дугин А.Г. Четвертый Путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию.
212
Французский Логос
Все три политические теории были продуктами Модерна, поэтому у любого альянса был теоретически общий знаменатель1. На практике в 1936 году социалист Леон Блюм (1872— 1950) создал Народный фронт, где объединил все левые силы — от коммунистов до умеренных социалистов под эгидой противостояния националистам. Либералы разделились, но большинство поддержало Блюма и его политику.
Таким образом, к концу существования Третьей республики Франция получила полностью левое правительство, снова придя 200 лет спустя к тому же радикальному рывку влево, который был совершен в первые еще при якобинцах в ходе Великой французской революции.
Феномен де Голля: против течения в бездну
В 1940 году северная часть Франции оказывается под прямой нацистской оккупацией, а в южной, в Виши (провинция Овернь), создается коллаборационистское прогерманское правительство во главе с маршалом Анри Петеном (1856— 1951). При оккупации, естественно, политически преобладает Третья Политическая Теория (доминировавшая в национал-социализме), но некоторые французские националисты (как, например, Жорж Валуа) выступают против оккупации и оказываются в рядах Сопротивления. Так, возглавивший Сопротивление из-за границы генерал Шарль де Голль (1890 — 1970), будущий Президент Франции в период Пятой республики, в частности, принадлежал идеологически к умеренным правым силам.
Среди коллаборационистов оказываются и отдельные французские интеллектуалы — Луи-Фердинанд Селин (1894—1961), Пьер Дриё Ля Рошель (1893—1945) и т.д. В 1930-е годы к крайне правому течению Франции был близок знаменитый писатель и литературный критик Морис Бланшо (1907 — 2003), в период оккупации и режима Виши вставший (как и Ж. Валуа) на сторону Сопротивления.
В это время во Франции складывается движение Сопротивления, в котором участвуют практически все политические силы, но тем не менее, выделяются два полюса:
• левый, продолжающий линию довоенной Франции, и
• правый, формируемый из националистов, выступивших против гитлеровской оккупации и национал-социализма.
' Дугин А.Г. Четвертый Путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию.
Франция XX века: в направлении тьмы
213
Либералы же вели себя крайне непоследовательно, часто выбирая компромисс и идя на сотрудничество с немцами, поэтому в Сопротивлении самостоятельной силы не представляли.
После падения режима Гитлера и торжественного освобождения Парижа в 1944 году оба эти полюса — левые и националисты — становятся во главе освобожденной Франции, провозгласившей Четвертую республику, полностью продолжавшую идеологическую линию Третьей. Как и в последние годы в Третьей республике, в Четвертой доминируют левые и крайне левые силы; значительное влияние имеют коммунисты. В то же время влияние левых не отменяет принципиально капиталистического характера французской экономики, преобладания буржуазно-демократических ценностей и в целом либерального понимания человека и истории. Другой полюс воплощен в личности генерала де Голля, воспринимаемого французами как национальный герой и освободитель Франции. Де Голль становится на определенный срок премьер-министром, затем уходит в оппозицию, и наконец, вообще удаляется от дел, посвящая все время написанию военных мемуаров.
Когда в 1957—1958 годах Франция сталкивается с принципиальными проблемами в своих колониальных владениях, и особенно в Алжире, сохраняемых несмотря на преобладание левых и в конце Третьей республики и на всем протяжении Четвертой, де Голль триумфально приходит к власти как национальный лидер, и в 1958 году французы принимают новую Конституцию с расширенными полномочиями президента, что кладет начало Пятой республике. Де Голль строит свою политику, которую он стремится положить в основание новой Франции (Пятой республики), на следующих принципах:
• полный суверенитет Франции в контексте европейской и мировой политики;
• утверждение Франции как свободной великой мировой державы (это предполагает дистанцирование от Англии и особенно от США, сбалансированное отношение с СССР — вплоть до выхода из НАТО, что и происходит в 1965 году и отказа в это же время от доллара в международной торговле);
• политический союз между двумя главными силами Сопротивления: антикапиталистическими левыми и национально-ориентированными консерваторами (с минимализацией влияния либерального космополитически-атлантистского центра);
• частичное возвращение в обществе католической культуры и национальных французских ценностей;
214
Французский Логос
• ставка на промышленное развитие и реальную экономику против непомерного роста финансового спекулятивного сектора;
• постепенный переход от французской колониальной буржуазной империи к франкофонному содружеству постколониальных наций (с переориентацией их на самостоятельный, относительно независимый и от США, и от СССР путь развития)1.
С геополитической точки зрения, Шарль де Голль опирается на линию европейского континентализма и активно поддерживает союз с Германией, несмотря на кровавое противостояние во Второй мировой войне. Кроме того, он стремится максимально дистанцироваться от англосаксонского полюса и для этого идет на некоторое сближение с СССР, в поиске противовеса атлантизму. Вместе с тем де Голль приступает к демонтажу французской колониальной системы, в чем расходится с представителями крайне правых колониалистских кругов (которые в борьбе с де Голлем не останавливаются перед многочисленными покушениями на его жизнь).
Идеологически Пятая республика, по замыслу де Голля, должна сочетать социализм в национальном контексте с консерватизмом на уровне ценностей, что обосновывает структуру отношений и с англо-американским полюсом, и с советским полюсом, в отношении каждого из которых Пятая республика должна быть равноудалена. По мере отчетливого проявления контуров двухполярного мира, де Голль все яснее понимает необходимость создания новой объединенной Европы как самостоятельного третьего полюса, что на долгие годы предопределит официальную политику Франции и ее особое положение в структуре западного капиталистического лагеря.
Де Голля во Франции обычно сравнивают с Наполеоном I. Их сближает авторитаризм (абсолютный у Наполеона и умеренный уде Голля), а также геополитическая ориентация на евроконтинен-тализм, направленная жестко против атлантизма (в лице Великобритании у Наполеона, США — у де Голля) и стремление объединить Европу в единое суверенное самостоятельное пространство, превратить в субъект истории. Однако масштаб их достижений был несоразмерен: Наполеон завоевал почти всю Европу и дошел до Москвы, тогда как де Голль вывел Францию из колоний. Но при этом Наполеон I, с точки зрения развития буржуазной системы, был ее протектором и гарантом, а генерал де Голль, напротив, стремился к укрощению капитализма, его ограничению национальными границами, учетом интересов рабочих и приоритетом реального секто
1 SoralA. Comprendre Empire. Р.: Blanche, 2010.
Франция XX века: в направлении тьмы
215
ра в ущерб автономным финансам. В этом де Голль был уникальным правителем Франции за всю ее историю, начиная с XVIII века, так как только при нем власть во Франции впервые открыто встала против доминирующих в Западной Европе тенденций, пытаясь сдержать их или направить в иное, альтернативное русло. В этом загадка де Голля в общем контексте истории современной Франции.
Де Голль, таким образом, предлагает довольно необычный историал Франции, который может быть расшифрован в метафизических терминах, как это предложил французский писатель румынского происхождения Жан Парвулеско1 (1929 — 2010). Это прочтение представляет наличие во Франции параллельной традиции, изначально противопоставленной тенденции к Модерну и Логосу Великой Матери, преобладавшей в официальной истории. Эта параллельная традиция, называемая Ж. Парвулеско «великим голлизмом», сопряжена с неоплатонической метафизикой и гностической мистикой в сочетании с католическим традиционалистским консерватизмом в духе Жозефа де Местра. Теоретически наличие подобной линии вполне вероятно, тем более что следы корневой индоевропейской идентичности — как кельтской, так и общеевропейской — мы, действительно, встречаем на всем протяжении истории Франции, и ее отличительными чертами являются отвержение модернизации, протестантизма, английского влияния и секулярной масонерии. Целый ряд политических жестов и идеологических предпочтений де Голля вполне сочетаются именно с такой интерпретацией.
Май 1968 года и Пятая республика
В мае 1968 года во Франции начинается серьезный политический и социальный кризис, вылившийся в студенческие восстания и получивший название «Революция 1968 года». В этот период левые, и особенно крайне левые силы, жестко выступают против де Голля, который отчаянно пытался сохранить жесткую вертикаль национальной власти, сдерживая как либерально-буржуазные круги от углубленной интеграции в англосаксонский капитализм, так и анархо-коммунистические группы, требовавшие модернизации образования, культуры и политики в секулярном, антирелигиозном и уль-трагуманистическом ключе. И хотя восстание крайне левых удалось локализовать, в результате де Голль был вынужден уйти в отставку, уступив своему главному оппоненту, лидеру левых Франсуа Миттерану (1916 — 1996), а во французской культуре утвердилось новое до-
1 ParvulescoJ. Les Fondements geopolitiques du grand gaullisme. P.: Guy Trddaniel, 1995.
216
Французский Логос
минирующее направление, достигшее кульминации и финального оформления в постмодернизме.
С этого момента Пятая республика свернула с пути, намеченного генералом де Голлем, хотя основанная им партия и ее различные версии продолжают оставаться одной из двух главных сил наряду с левыми, претерпевая вместе с тем существенные идеологические трансформации и все дальше удаляясь (особенно в последнее время) от «великого голлизма».
Показательно, что именно на де Голле резко меняется вектор французской идеологии, где до 1968 года преобладала ярко выраженная критика либерализма и антикапиталистическая этика, преимущественно в левом оформлении (марксизм, фрейдо-марксизм, анархизм), но с элементами и консервативного антикапитализма (традиционализм, новые правые), а также в научных типах дискурса (социология, структурализм, феноменология, антропология, история цивилизаций, сравнительное религиоведение) и в искусстве (сюрреализм). Все двигалось к тому, чтобы под эгидой голлизма построить версию «второго гуманизма», в котором полностью демонтировался бы субъект Модерна и утверждалась бы альтернативная версия антропологии, основанная на органическом холизме, к которому французская мысль последней фазы интенсивного Модерна подходила и слева, и справа, а также в широком русле менее четко идеологизированных научных дисциплин, противостоящих, тем не менее, методологическому индивидуализму. Уход де Голля от власти знаменовал собой резкий сбой в этом процессе и начало фундаментальной девиации французского Логоса, пребывающего в поисках Диониса, в сторону либерализма и индивидуализма, в постепенном сближении с англосаксонской культурой и геополитическим атлантизмом. Поэтому события 1968 года, в результате которых голлизм потерял лидирующие позиции, а сам де Голль в 1969 году удален от власти и вскоре умер, имели огромное значение для ноологической структуры Франции и Европы в целом, так как в их ходе сложились предпосылки для перехода к Постмодерну, что и отразилось, в частности, в постструктурализме и сопутствующих ему интеллектуальных феноменах, подвергших критической ревизии предшествующую жестко антибуржуазную, континентальную тенденцию французской культуры.
После де Голля Пятая республика все больше сближается по основному вектору с Четвертой республикой и с последними годами Третьей, с тем лишь различием, что намеченные там тенденции к радикальной модернизации и углублению в Логос Кибелы достигли к настоящему времени крайних пределов, когда сама идентич
Франция XX века: в направлении тьмы 217
ность Франции поставлена под вопрос, а нигилистические тенденции стали настолько могущественными, что складывается впечатление готовности современного французского общества полностью разорвать всякую преемственность с французским историалом, растворив его в общеевропейском сетевом ультралиберальном глобалистском сообществе, основанном на парадигме Постмодерна.
Современная Франция все больше превращается в анти-Францию, если принимать за основу ее постоянной идентичности сложный и противоречивый, но в целом олимпийски ориентированный, кельтский Dasein с сильным фактором «раскрепощенной женственности» («хрупкий патриархат») или, с другой точки зрения, окончательно меняет свою ноологическую природу с Логоса Аполлона и Диониса на Логос Кибелы, завершая тем самым процесс, начавшийся много веков назад.
Французская философия XX века порыв и одиночество
Анри Бергсон: мистика «открытого общества» и критика буржуазной материальности
Значительным французским философом, писавшим в конце XIX — начале XX века — при Третьей республике, — был Анри Бергсон1 (1859— 1941). Бергсон был увлечен неоплатонизмом и критически воспринимал европейскую метафизику Нового времени. В своей философской системе он ставил задачей преодоление картезианского дуализма (дух/материя) и всех построенных на нем производных философских систем — как идеалистических (сводящих реальность к духу), так и материалистических (сводящих реальность к материи). Бергсон полагал, что все три версии — дуализм, идеализм и материализм — являются ошибочными, и что необходимо строить философию от некоего цельного начала, включающего в себя сразу оба полюса вместе — и духовный, и материальный, но в снятом виде. Этим началом он считал «жизнь» и «жизненный порыв», elan vital.
По Бергсону, все три типа философии Нового времени основаны на рациональном подходе, оперирующем с концептами. Такое концептуальное знание является с необходимостью опосредованным (интеллектом) и тем самым конституирует особые абстрактные сущности за пределом жизни: и материя, и субъект (дух), и их отношения в равной мере оказываются концептуальными построениями, а значит, чем-то мертвым. Жизнь должна постигаться иным способом, в качестве которого Бергсон предлагает интуицию (греческое ЕпфоЛц). В схоластике интуиция как непосредственное восприятие относилось к низшим чувственным типам познания, но Бергсон предлагает выйти за границы иерархизирования этих типов по старым классическим схемам, проникшим и в метафизику Нового времени, и строить философию в неразрывной связи с самой стихией жизни. Это должно быть «живой философией» или «открытой фи-
1 Бергсон А. Собр. соч. М.: Московский клуб, 1992.
Французская философия XX века: порыв и одиночество
219
лософией», так как движение жизни вариативно, многомерно и не детерминировано жесткими механицистскими правилами. Такое толкование интуиции Бергсон называет «философской интуицией». Непосредственное проникновение в сущность жизни должно быть возведено — не теряя связи с витальной стихией — в статус особого типа мышления, отличного от концептуального. Такое мышление ближе к сфере психологии, связям которой с философией Бергсон уделял повышенное внимание.
В систематизированном виде Бергсон излагает свою философию в программном труде «Творческая эволюция»1, ставшем в кратчайшие сроки чрезвычайно популярным. В нем Бергсон описывает процесс эволюции как развертывание жизненной полноты, ее цельности под воздействием того, что он называет «жизненным порывом». В «жизненном порыве», то есть в динамической активности, выражается сама сущность жизни как могущества становления. Человек есть пик этой жизненной активности, движущейся по нарастающей (собственно эволюция) от неодушевленных предметов к растениям, животным и человеку. В каждом следующем виде интенсивность жизни повышается, а вместе с тем возрастает уровень открытости, непредсказуемости, свободы. Изначально, по Бергсону, «жизненный порыв» является цельным, еще не разделенным на дух и материю. Но в ходе эволюции он расщепляется на эти составляющие, а дух, в свою очередь, делится у животных на инстинкт и интеллект. В животных видах они сосуществуют друг с другом, хотя инстинкт доминирует, и лишь в человеке интеллект (дух) начинает преобладать над могуществом инстинкта. Поэтому человек есть венец эволюции, высший аккорд потока жизненного становления, достигшего сущности самой жизни. Высшим типом свободного человека Бергсон считает мистика, то есть того, кто полностью освобождает свой дух от всяких сдерживающих границ материальности и инстинктивности. При этом Бергсон показывает, что человеческое общество далеко не всегда и не во всем строится на интеллекте как абсолютно свободной и ничем не детерминированной способности произвольно направлять жизненный поток в любую сторону, и тем более на мистическом интеллекте как его высшей форме. Чаще всего в обществе доминируют упрощенные типы личности, в которых интеллект существенно сдерживается инстинктивными структурами, что резко ограничивает поле его применения.
Эту проблему Бергсон тематизирует в работе «Два источника морали и религии»2, где подробно разбирает два типа общества —
1 Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999.
2 Бергсон А. Два источника морали и религии. М.: Канон, 1994.
220
Французский Логос
«открытое» и «закрытое». В «закрытом обществе», построенном на «закрытой морали» и «закрытой религии», преобладает принцип встраивания интеллекта и плодов его свободного порыва в механические циклы, ориентированные — как и инстинкт — на серийное воспроизводство. Фигура мистика в этом обществе либо маргинализируется и даже уничтожается вообще, либо эксплуатируется через бесконечную череду оптимизаций и рециклирования. Здесь инстинкт низших людей захватывает интеллект в заложники.
Ему противостоит «открытое общество», где интеллект освобождается от механических траекторий, воспроизводящих одно и то же, а фигура мистика становится нормативом. В таком обществе бурно расцветают науки, искусства, философия, жизненный порыв усиливается и происходит рывок в эволюции. Но в таком обществе нарастают риски, увеличивается неопределенность, жизнь становится непредсказуемой и опасной. Растет и вероятность войны, которую Бергсон считал трагическим явлением, так как в ней смерть зримо торжествует над жизнью.
История человечества, по Бергсону, движется неравномерными рывками: за периодом «закрытого общества» следует фаза «открытого», затем — из-за опасности перегрева — общество снова «закрывается». В «открытые» эпохи торжествуют мистики, визионеры, философы, создатели новых научных систем, увлекающие за собой всех остальных. В «закрытые» — бюрократы, чиновники, посредственности, механические исполнители. Но в каждом обществе живут как импульсы мистического, так и процессы остывания. Они и формируют содержание длительности как главного модуса жизненного времени.
Новое время, по Бергсону, было связано с всплеском жизненного порыва в его открытой форме, что и привело к научным открытиям, созданию новых идей и теорий. Но при этом изобретения и открытия капитализма стали двигателем повышенной жажды комфорта и удовольствий. Эта материальная сторона была своего рода компенсацией за рывок духа к свободе. Когда капитализм и техника стали сами производить потребности, а не только удовлетворять их, обозначилось противоречие между открытым характером моральной эволюции и закрытостью и материальностью прикладных сторон капитализма. Свобода усилила свои позиции, но жажда комфорта и угроза индустриальной войны как фабрики массового уничтожения жизни также возросли в качестве противоположного сдерживающего полюса. Так были созданы предпосылки катастрофы, в котором Новое время имеет все шансы низвергнуться в бездну, если не сделать своевременную коррекцию курса развития и не
Французская философия XX века: порыв и одиночество
221
отказаться от материальной стороны эволюции, сосредоточившись на духовной и мистической составляющей.
Анализ Бергсона, с одной стороны, приветствует эволюцию и развитие, строится на вере в прогресс и на своеобразном «вита-листском материализме», «гилозоизме» и субстанциализме в духе Спинозы, так как никакого трансцендентного принципа Бергсон не признает. Отсюда вытекает и позитивная оценка Модерна и апология «открытого общества», частично опознанного Бергсоном в капитализме и буржуазном строе, хотя идеи Бергсона были подхвачены и французскими левыми, социалистами, увидевшими в них путь преодоления буржуазного строя и, соответственно, обоснование социалистических горизонтов. В этом мы видим классическое проявление Логоса Кибелы, черную философию материализма, правда, не концептуального и механицистского (как у Гельвеция, Гольбаха и Ламетри), а виталистского и «герметического».
С другой стороны, критика Бергсоном буржуазного мира, техники, концептуальной философии (как в версии субъективного идеализма, так и в версии догматического материализма), прогнозирование катастрофы индустриальной цивилизации, а также жесткое разоблачение одержимости роскошью, комфортом и негативной социальной функции женщины в обществе, поощряющей излишества, конкуренцию и зависть (в этом Бергсон удивительно созвучен идеям В. Зомбарта), а также реабилитация мистического мышления в противовес рационализму, резко отличает Бергсона от классических прогрессистов и привлекает к его философии внимание критиков Модерна, включая традиционалистов и консерваторов — таких как Р. Генон и М. Хайдеггер. Эта сторона философии Бергсона ближе к Логосу Диониса и философии жизни в духе Дильтея и Ницше.
Складывая воедино оба аспекта, мы получаем в витализме Бергсона наложение двух ноологических пластов — Логоса Диониса и Логоса Кибелы, что отсылает нас к вопросу о «двойнике Диониса», который, как мы видели, является центральным во всей фазе интенсивного Модерна, когда гештальт Прометея утрачивает свое эксклюзивное положение в европейской (и особенно во французской) культуре и начинает уступать место мерцающей паре — Дионису и его черному двойнику (Адонису). Это, как мы видели, составляет главную тему «проклятых поэтов», чему в значительной степени учение Бергсона и служит аналогом в сфере академической философии. По времени оба эти течения почти совпадают.
Бергсон повлиял особенно на левые круги Франции и Европы, которые строили свои теории на критике капитализма и на утверж
222
Французский Логос
дении посткапиталистических альтернатив, где своеобразно понятая имманентная духовность играла роль, аналогичную бергсонов-скому «мистицизму». Показательно, однако, что в то же время теорию «открытого общества» Бергсона подняли на щит представители самой радикальной апологетики либерального капитализма — австрийские философы Фридрих фон Хайек и его последователь Карл Поппер, придавшие ей агрессивно-полемический характер, направленный против Второй и Третьей Политических Теорий (коммунизма и европейского национализма, в частности, фашизма), в которых они идентифицировали образцы «закрытого общества». Для самого Бергсона промышленный капитализм, ориентированный на удовлетворение эгоистических материальных нужд и рост комфорта жизни, также представлял собой «закрытое общество», что полностью дисквалифицирует либеральную инструментализацию его идей в нуждах Первой Политической Теории. Однако своеобразный «виталистский материализм» Бергсона (он, например, открыто говорит о нем в одной из работ о «духовной энергии») и эволюционизм, отрицающий любую трансцендентность, не позволяют включить его в число авторов, релевантных для разработки Четвертой Политической Теории1, что оставляет его за рамками всех идеологических конструкций в позиции одинокого, самобытного и в целом крайне интересного философа, не поддающегося однозначной классификации.
Гастон Башляр: новая рациональность грезы
Ярким представителем французской философии XX века, во многом продолжающим подход Бергсона, был оригинальный философ науки Гастон Башляр (1884— 1962). Башляр стремится разработать и обосновать такой метод научного познания, который, по заветам Бергсона, был бы максимально близок к стихии жизни и схватывал ее сущность, не отчуждаясь в абстрактных мертвых концептах. Тем самым Башляр стремился придать систематическое значение «философской интуиции» Бергсона, возводя ее в научный метод. Этот подход Башляр называет «новым рационализмом» и публикует его философскую программу в работе 1934 года «Новый научный дух»2. Здесь Башляр обращает внимание на то, что сами ученые, занятые прикладными дисциплинами, часто упускают из виду философский и онтологический контекст, в котором развертывается их деятельность, основывая свои утонченные, методологически безупречные
1 Дугин А.Г. Четвертый Путь. Введение в Четвертую Политическую Теорию.
2 Башляр Г. Новый национализм. М.: Прогресс, 1987.
Французская философия XX века: порыв и одиночество
223
и многократно критически осмысленные построения сплошь и рядом на наивной онтологии, чьи принципы уходят в образы и метафоры из совершенно иной, ненаучной области. Исследование этой сферы,«наивной онтологии», и составляет основное направление философов науки, которые призваны критически осмыслить те структуры воображения — относительно материи, вещества, частиц, фигур, времени и пространства, с которыми оперируют ученые в естественных дисциплинах. И в этой сфере философ науки обнаруживает неожиданно то, что, казалось бы, должно полностью отсутствовать в холодном, научном, чисто рациональном исследовании, — а именно психологию, поэтические ассоциации, галереи образов и видений. Для того чтобы наука была «научной» в строгом смысле этого слова, к «преднаучной» области (в частности, к воображению) Башляр считает необходимым применить строгие методы исследования, но взятые из области, параллельной собственно естественно-научным дисциплинам — из поэтики, риторики и психоанализа.
Ученый (физик) имеет дело с материей и веществом. Он берет эти категории в качестве самоочевидной априорной аксиомы и далее обращается с ними, как с чем-то заведомо данным (taken for granted). Но Башляр обращает внимание на то, что концепт материи или вещества далеко не так прост и очевиден, как это может показаться. Он основан на целом ряде ассоциаций и образов, которые дают о себе знать в ходе научных исследований, когда речь заходит о состояниях вещества, о частицах, волнах, магнитных явлениях или фазовых переходах. В этом случае в дело вступает «научное воображение», коренящееся, в свою очередь, в психологии и поэтическом воображении. Оно-то подчас и играет ведущую роль в научных открытиях, способствуя одним и препятствуя другим — в зависимости от того, какой регистр воображения задействован в том или ином случае. Эту тему Башляр выносит в отдельный объект исследования и называет «грезой о веществе». Смысл этого определения состоит в том, что прежде, чем иметь дело с материей, ученый воображает ее в том или ином контексте и далее оперирует уже с этой производной инстанцией, полностью забывая или изначально не обращая внимания на ее психоаналитическое или имагинативное происхождение.
Здесь нетрудно увидеть влияние Бергсона: Башляр стремится восстановить связь концепта с жизненным порывом, вернув дух и материю к первоначальному синтезу, то есть сделать науку жизненной, витальной. Для этой цели Башляр предпринимает ряд углубленных трудов, посвященных четырем стихиям, каждая из которых подроб-
224
Французский Логос
но и многосторонне анализируется в поэтических, мифологических и психологических контекстах. Это приводит его к написанию пяти важнейших книг, ставших классикой «нового рационализма»: «Психоанализ огня»1, «Вода и грезы»1 2, «Грезы о воздухе»3 и две книги о стихии земли — «Земля и грезы о покое»4 и «Земля и грезы воли»5. В этих работах на обширном материале поэтических текстов, литературных произведений и психоаналитических ассоциаций Башляр создает широкую палитру тех представлений о материи и веществе, а также связанных с ними первичных представлений о движении, покое, инерции, тяжести, силе, пространстве и времени, на которых строятся производные более отвлеченные научные концепции. Инвентаризация основ научного воображения, его базовых компонентов позволяет глубже взглянуть на структуру современной науки, проследить траекторию тех или иных открытий, предвосхитить дальнейшее развитие научных дисциплин и междисциплинарных соответствий и, в целом, установить общую связь между разумом и материей в единстве того, что Башляр называет «грезой» (la reverie или la reve). «Греза» — это структурированное воображение. Оно-то более всего и соответствует «философской интуиции» Бергсона. И в этом Башляр вплотную смыкается с психоанализом и особенно с «психологией глубин» К. Г. Юнга, у которого аналогичную функцию играет коллективное бессознательное и образующие его психические архетипы.
В философии науки Башляра осуществляется смычка собственно научной рациональности, обращенной в сторону углубленной са-морефлексии в эпоху интенсивного Модерна, с психологией, культурологией и другими формами исследования воображения. Тем самым создаются предпосылки для того, чтобы выстроить полноценную научную модель, включающую в себя как методы рационального познания, так и рационально осмысленные и методически изученные пласты бессознательного. Это направление, начатое Башляром, было подхвачено его учениками и последователями в разных областях — от создателя «антропологии воображения» Жильбера Дюрана до социологии Пьера Бурдье.
1 Башляр Г. Психоанализ огня. М.: Прогресс, 1993.
2 Башляр Г. Вода и грезы. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998.
3 Башляр Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.
4 Башляр Г. Земля и грезы о покое. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2001.
5 Башляр Г. Земля и грезы воли. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2000.
Французская философия XX века: порыв и одиночество
225
Общая направленность идей Башляра отмечена той же двусмысленностью, что и философия Бергсона: сама структура его вита-листского метода явно указывает на стремление обосновать Логос Диониса, но, как и у Бергсона, материализм, эволюционизм и прогрессизм свидетельствуют о сильном — если не решающем — влиянии Логоса Кибелы (черной философии). Эта двусмысленность в целом характерна для французской философии XX века, отчасти выходящей за рамки Модерна, но отчасти продолжающей оставаться под воздействием его черного Логоса и более того, тяготеющей к самым радикальным его формам, достигаемым в Постмодерне.
Пьер Тейяр де Шарден: эволюция
и псевдохристианство
Гораздо яснее и однозначнее Логос Кибелы представлен в философии французского католического философа-иезуита и сторонника объединения эволюционистской теории с христианской традицией Пьера Тейяра де Шардена1 (1881 — 1955). Тейяр де Шарден представляет собой логический этап завершения христианского прогрессизма, корни которого уходят в средневековые идеи Иоахима де Флоры о последовательной смене трех веков (Отца, Сына и Святого Духа), а в XVIII — XIX веках проявившегося в трудах социалиста-утописта Анри Сен-Симона (1760—1825). Тейяр де Шарден принимает происхождение жизни из неодушевленной материи, но сам этот процесс приписывает действию божественного Провидения. Таким образом, Бог становится законом эволюции, направленной на последовательное совершенствование видов — вплоть до появления человека как венца эволюции. Шарден берет за основу идеи русского ученого В.И. Вернадского (1863—1945), рассматривавшего пласты эволюции от минерального мира до появления разумной среды (ноосферы), но дополняет эту материалистическую картину обращением к Промыслу.
Предлагая рассматривать Библию и Евангелие как метафорические повествования, Тейяр де Шарден полностью принимает теорию эволюции видов и продолжающие ее на социальном уровне теории прогресса, доводя эту линию до фигуры «эволюционного Христа», то есть человека, становящегося Богом2.
В теории Тейяра де Шардена мы видим, как христианская доктрина полностью отказывается от своей изначальной структуры,
1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: Наука, 1987.
2 Тейяр де Шарден П. Христос Эволюции, или Логическое развитие понятия искупления // Тейяр де Шарден П. Божественная среда. М.: Renaissanse, 1992.
226
французский Логос
содержащейся в ней имплицитно онтологии, космологии и идеи креации, и принимает материалистическую топику Модерна, лишь добавляя к ней концепт Бога, который берется в качестве истока и вершины эволюции, пиком чего становится достижение человечеством уровня ноосферы. В этом можно увидеть нечто созвучное гегельянству и его диалектике, хотя Гегель подробно рассматривает структуру субъективного духа, предшествующего акту его самораскрытия (и самосокрытия) в природе, полагая его действующим внутри природы диалектическим и одновременно трансцендентным началом. Гегель — пограничный случай между мистической теологией истории, основанной на апофатике рейнских мистиков и мистериософии Якоба Бёме, и собственно, теориями прогресса из арсенала Просвещения. Философия Тейяра де Шардена уже находится целиком и полностью на стороне доктрины Просвещения и современной материалистической науки, прикладывая к ней извне и совершенно неорганично «христианскую» по форме, но не по сути, то есть адогматическую надстройку. Здесь мы видим, как симулякр проникает в само христианство, откровенно подменяя его солнечный дионисийский Логос кибелическим двойником, фигурой Адониса, поднимающегося к небесам из глубины материи.
Философию Тейяра де Шардена можно рассмотреть как аналог понимания эволюции Бергсоном, но только описанный с использованием христианских терминов. Однако если в случае Бергсона дух Модерна ищет выхода за свои пределы, то в случае Тейяра де Шардена дух традиции, напротив, под предлогом обретения большей гибкости и жизненности соскальзывает в имманентизм и пантеистический гилозоизм.
На примере Тейяра де Шардена мы видим, как Модерн проникает в церковь и трансформирует ее догматические основы. Хотя взгляды Тейяра де Шардена не были приняты в качестве нормативных даже в современном католичестве (хотя его авторитет в иезуитских кругах остается достаточно высоким), сам факт терпимости к подобным извращениям христианского вероучения является чрезвычайно показательным для характеристики положения католичества в Европе XX века и, конкретно, во Франции.
Жан-Поль Сартр: негативный субъект
Крупнейшим философом Франции XX века является Жан-Поль Сартр (1905— 1980), чье имя принято связывать с философским направлением экзистенциализма. Сартр относится к совершено иному направлению, нежели Бергсон, так как продолжает традиции
французская философия XX века: порыв и одиночество
227
субъективного идеализма и придерживается картезианской концепции субъекта. При этом на Сартра огромное влияние оказал труд Хайдеггера «Sein und Zeit»1, основной посыл которого — построение философии, отталкиваясь от экзистенции, а не от эссенции — Сартр взял за основание собственного философского направления. Однако и сам Хайдеггер, и большинство исследователей, сравнивавших философию Хайдеггера с философией Сартра, констатировали глубокие расхождения между философами в самых принципиальных вещах, вплоть до того, что Хайдеггер отказывался признавать что-то общее с взглядами Сартра, полагая, что тот не понял даже самых начальных моментов его философии. В частности, это касается концепта субъекта: по Хайдеггеру, Dasein ни в коей мере не является субъектом, и на этом основании он критикует «трансцендентальное эго» Гуссерля, считая это уходом от магистрального пути феноменологии, который проходит строго в области, расположенной между субъектом и объектом, где и следует локализовать Dasein1 2. Коль скоро Сартр с самого начала отклоняется от этого базового принципа, можно представить, насколько далеко от Хайдеггера уходят его дальнейшие построения, сохраняющие с тематикой и терминологией Хайдеггера лишь самое поверхностное и обманчивое сходство (на что Хайдеггер неоднократно сетовал3).
Программными философскими произведениями Сартра являются его объемная работа «Бытие и ничто»4 и текст конференции «Экзистенциализм — это гуманизм»5. В них он формулирует свои основные идеи относительно сущности человека. Сартр отталкивается от «ничто», играющего важнейшую роль в философии Хайдеггера, но трактует его в своем собственном ключе. Сартр выделяет три формы бытия:
• бытие-в-себе, как оптическое наличие как таковое (неважно — вещи или мыслящего существа), аналог сущего, Seiende у Хайдеггера;
• бытие-для-себя, интерпретируемое им как вторжение в сферу наличия ничто, черной дыры, потока абсолютной и ничем не огра
1 Heidegger М. Sein und Zeit (1927). Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
2 Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер. Последний Бог. М.: Академический проект, 2014.
3 Heidegger М. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt — Endlichkeit — Einsamkeit (Wintersemester 1929/30). Frankfurt am Main.: Vittorio Klostermann, 1983.
4 Сартр Ж. -П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000.
5 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм. М.: Изд-во иностранной литературы, 1953.
228
Французский Логос
ниченной свободы — это есть свойство человеческого субъекта, мыслящего присутствия;
• бытие-для-другого, где проявленное в самосознании (всегда трагичном) бытие-для-себя становится представленным вовне, за пределами индивидуальности.
Самым главным для Сартра становится бытие-для-себя, в котором проявляется природа человека. Это природа есть свобода. Человек — это свобода, то есть наличие в мире, наделенное самосознанием и ничем не детерминированное. В этом Сартр следует за тезисом персонажа Кириллова из «Бесов» Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». По Сартру, Бога нет, а значит, все позволено. Тезис «все позволено» конституирует, по Сартру, субъекта. Свобода это сущность субъекта и сам субъект. При этом свободу Сартр понимает как нечто негативное: это свобода от каких бы то ни было ограничений. Негативность — сущность свободы. Поэтому и субъект, постулируемый Сартром, есть негативный субъект. Ницше говорил: «Пустыня растет, горе тем, кто несет в себе пустыню!»1 Субъект Сартра — это абсолютная пустыня, полностью интериоризированное ничто европейского нигилизма, ставшее единственным содержанием человека.
Для Декарта субъект был «мыслящей вещью» вплоть до того, что субъект и мысль просто отождествлялись. Это тождество (ego = res cogens — ego ergo cogens, и обратно cogens ergo ego!) аксиоматически усвоено всей рационалистической философией Нового времени вплоть до Гуссерля. Лишь у Хайдеггера возникает вопрос о «кто? Dasein'a», что строго проведено в экзистенциальной аналитике через разделение мыслящего присутствия и собственно субъекта (по Хайдеггеру — метафизического дериватива). Сартр, знакомый с «Sein und Zeit», обратил на эту дизъюнкцию внимание, но вывел из нее негативность субъекта.
Будучи ничто (абсолютной свободой), человек является в мире как ничем не ограниченное мышление и сам по собственной воле выбирает — как проект — серии детерминаций всякого рода: психологических, этических, политических, социальных и т. д. Иными словами, процесс мышления конституирует (всегда относительное) позитивное содержание субъекта как нечто вторичное и добавленное, тогда как сам субъект (= свобода) остается абсолютным и чистым ничто.
Следует обратить внимание на то, что негативный субъект Сартра, с одной стороны, резонирует с чисто либеральной концепцией свободы (liberty) как «свободы от» у Дж. С. Милля, а с другой —
1 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: ИФ РАН, 2004. С. 305.
французская философия XX века: порыв и одиночество
229
с апофатической антропологией рейнских мистиков («третий человек» Таулера). При всей гетерогенности этих ассоциаций они бросают свет на «мистерию Модерна», которую мы опознали в доктрине Лютера, основателя протестантизма (являющегося, в свою очередь, теологическими пролегоменами к Модерну — и соответственно, к субъекту Модерна, превращающемуся в либерализме в индивидуума), в его интересе к «Немецкой теологии» и заложенной в ней апофатической антропологии1. У Сартра негативный субъект дает о себе знать с новой силой, возвращая напрямую к этой «мистерии». Но немецкое ничто Майстера Экхарта или Генриха Сузо — это Божество и апофатическое Единое, ev, неоплатоников. Тогда как ничто материалиста и марксиста Сартра, это ничто снизу, материя и чистая привация.
Ничто Сартр трактует как сущность свободы, составляющей природу человека. Человек детерминирован только ничто, а следовательно, он ничем не детерминирован. Любая детерминация является следствием его проективной воли. Но вместе с тем человек, несущий в себе ничто как свое истинное Я, ничтожит (уничтожает) все окружающие его вещи (бытие-для-себя). Он включает их в свой проект, который есть не что иное, как бегство от разрывающего и переполняющего его ничто, от неопределенности и бессодержательности своей субъектности. Это создает трагическую ситуацию «тюрьмы без стен», на которую человек обречен как вид. Он всегда остается рабом своей бесконечной свободы, которую невозможно вынести. «Мы обречены быть свободными», — формулирует экзистенциальный Сартр свой главный парадокс в тексте «Экзистенциализм — это гуманизм».
Экзистенциализм Сартра исходит из нигилистического толкования им природы субъекта. Если субъект есть не сущность (эссенция), но ничто, то он постулирует себя лишь в акте, а базовым актом является акт экзистирования, существования. Лишь существуя, человек открывает горизонт бытия, но этот горизонт является производным от проекта, который он набрасывает на мир вещей, отталкиваясь от внутренней бездны. Тем самым всякая онтология есть функция от экзистирования и носит характер человеческого проектирования. В мире нет ничего, кроме человека, как главного носителя ничто. Бытие-в-себе остается недоказуемым, так как приобретает значение только в горизонте проектирования, но это подразумевает вместе с тем аннигиляцию этого бытия-в-себе и превращение его в бытие-для-другого, через включение в цикл, где главную роль играет ничто.
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
230
Французский Логос
Сартр считал себя последовательным марксистом, коммунистом, атеистом и материалистом и методично выступал против всех форм консерватизма и вертикальных иерархий. Он принимал активное участие в событиях 1968 года. (После того, как он был задержан за участие в беспорядках, генерал де Голль лично приказал освободить его, произнеся знаменательную формулу: «Франция Вольтеров не сажает».) В этом он выступает как последовательный сторонник Модерна, духа Просвещения и носитель полноценного и законченного нигилизма.
Тема человеческой свободы, ее парадоксов и лабиринтов, включая свободно избираемые проблемы глубинных психоаналитических аффектов и травм, составляет основу литературного творчества Сартра, представленного по большей части в его драматургии1.
Структура философии Сартра дает пример практически образцового титанизма, взятого не столько с точки зрения техники и масштабности материальных свершений, сколько с позиции радикального богоборчества и обнаружения бремени ничто как единственного (но негативного) содержания субъекта. Это проходит основной темой сквозь все его творчество. Однако даже в этом предельном титанизме можно увидеть самые отдаленные отзвуки апофатиче-ской антропологии и радикального субъекта Фихте, который всегда в любых версиях составляет невидимую подоплеку индивидуума. И в определенные моменты героического напряжения — например, в чисто аполлоническом жесте Ореста в пьесе Сартра «Мухи»1 2, убивающего свою мать, виновную в измене и убийстве отца Ореста Агамемнона, — эта солярная сторона приоткрывается, демонстрируя амбивалентность фигуры ницшеанского Сверхчеловека. Чаще всего титанический Сверхчеловек Модерна не способен преодолеть ничто, разверзшееся после смерти Бога, в результате смерти Бога: максимум, на что он способен, это впустить ничто внутрь себя. Но в те редкие моменты, когда впущенное ничто достигает предельной концентрации, а у титанического человека все еще хватает сил стоять вертикально в темные времена, на него падает солнечный луч Аполлона и виноградная лоза Диониса милосердно касается его иссохших губ.
1 Сартр Ж.-П. Пьесы. М.: Флюид, 2008.
2 Сартр Ж.-П. Мухи // Сартр Ж.-П. Пьесы.
Социология как революция
Эмиль Дюркгейм: тотальность общества
Оригинальным явлением в интеллектуальном пейзаже Франции на рубеже XIX—XX веков было появление социологии как новой дисциплины. Первым термин «социология» ввел философ-прогрессист и теоретик позитивизма Огюст Конт, полагая, что социология как наука, изучающая общества, должна заменить собой религию при переходе к позитивистской фазе развития Европы, а социологи призваны стать кастой жрецов Нового времени. Эта функция социологов как жрецов Модерна связана с масонским движением, так как масонство претендовало именно на эту функцию — стать «жречеством» секулярных обществ. Отсюда устойчивая связь социологии и масонства, что проявилось, в частности, в том, что все русские социологии в царской России (М.М. Ковалевский, П. А. Сорокин, Е.В. Де Роберти и т.д.) были активными масонами.
Полноценным основателем французской социологии стал Эмиль Дюркгейм (1858—1917), превративший это направление в законченную и цельную гуманитарную дисциплину1. Главная идея Дюркгейма состояла в том, что общество является основной и определяющей инстанцией, формирующей все содержание человека — как духовное, так и материальное. Человек, по Дюрк-гейму, есть продукт общества, а не наоборот, поскольку в чистом виде — без общества — человек не имеет никакого позитивного содержания, а следовательно, является пустой абстракцией. Все представления о «чисто индивидуальном человеке» мы сами черпаем из общества: в Средневековье под ним понималось одно, в Новое время — другое, в архаических или азиатских обществах и культурах — третье. По Дюркгейму, в истоках религиозных представлений людей следует искать осмысление ими природы и онтологического статуса общества: именно общество — как то, что создает содержание человека, историю, организует и размечает пространство, развертывает систему символических обозначений и культивирует язык — и было названо в древности «богом» или
1 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.
232
французский Логос
«сакральным» за неимением более подходящего термина, а затем гипостазировано и масштабировано на разные лады.
Дюркгейм применил этот принцип тотальности и первичности общества к различным явлениям — таким, как самоубийство1, разделение труда1 2 и, позднее, религиозные верования архаических племен (в частности, аборигенов Австралии3). В результате он продемонстрировал, что индивидуальное поведение, мышление, выбор и мировоззрение полностью формируются обществом и его структурами, имеющими строго функциональную природу. Отталкиваясь от этого принципа, социологи (в частности, американец Роберт Мертон) разработали теорию социальных статусов и ролей, составляющих содержание личности в системах социальных взаимоотношений. Статусы и роли определяются целиком и полностью обществом, а индивидуум вынужден лишь принимать и осваивать их, чтобы играть в соответствии с установленными нормами. Таким образом, социология строила представление о человеке, исходя из первичности общества, абсолютизируя социальную природу и, соответственно, функциональность личности.
Дюркгейм полагал, что в обществе могут доминировать два типа солидарности — механическая (свойственная примитивным племенам и культурам) и органическая (соответствующая обществам Модерна, основанным на разделении труда и осознанном согласовании функций). В целом же идеи Дюркгейма полностью разрушали представление о субъекте Нового времени — особенно в его индивидуалистической либеральной интерпретации. Субъект вторичен в сравнении с социальной матрицей, его содержание функционально и производно, утверждал Дюркгейм, предлагая тем самым свою версию «интенсивного Модерна», основанную на критике базовой метафизики Нового времени. Субъект не может быть взят в качестве безусловной инстанции бытия и истины (как у Декарта) именно потому, что его не существует вне общества и без общества; поэто-му-то в одних обществах картезианство принимается, в других отбрасывается или отсутствует вовсе. Все зависит не от Декарта и эго, а от общества, в том числе и от того, в котором Декарт формулирует свои философские теории: в других обществах его не было и не могло быть именно в силу того, что эти общества были основаны
1 Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб.: Издание Н.П. Кар-басникова, 1912.
2 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.
3 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Дюркгейм Э. Классики мирового религиоведения. Антология. М.: Канон +, 1998.
Социология как революция
233
на иных принципах и социальных установках. Поэтому Дюркгейм предлагает взять за тему любого корректного, с научной точки зрения, изучения именно общество, и лишь после этого переходить к человеку, науке, религии, быту, экономике, проблеме пола и т. д. Общество формирует, по Дюркгейму, «коллективное сознание», которое — в пределе — тождественно ему самому.
Это было настоящим переворотом в топике Нового времени, так как релятивизировало (а то и упраздняло) главную инстанцию, на которой строились рационалистические и эмпирические теории Модерна — как в науке, так и в политике и культуре. Полем социологии отныне становилось все вообще, — социология науки, социология политики, социология языка, социология производства, социология детства, социология времени, социология труда, социология войны, социология международных отношений и т.д., — что давало новой дисциплине неограниченный размах.
Открытую Дюркгеймом социологию можно сопоставить с берг-соновским принципом жизни: в обоих случаях главным началом анализа берется не субъект и не объект, и даже не их отношения, но нечто, что предшествует обоим; витализм Бергсона функционально соотносится в этом случае с социологизмом Дюркгейма. Сам Дюркгейм, как и Бергсон, симпатизировал левым, но в то же время был далек от классического марксизма, с которым, однако, разделял ряд общих подходов, за исключением классового антагонизма, детерминизма исторического процесса и механицистского материализма, свойственных Марксу.
Последователями Дюркгейма были крупнейшие французские социологи, антропологи и этнологи — Марсель Мосс (1872— 1950), племянник Дюркгейма и исследователь архаических культур; Морис Хальбвакс (1877—1945); Анри Юбер (1872—1927), Люсьен Леви-Брюль (1857—1939), Луи Дюмон (1911 — 1998) и до некоторой степени философ-структуралист Клод Леви-Стросс (1908 — 2009), признанный самым крупным антропологом XX века. Под влиянием социологических концепций Дюркгейма находились основатель «Социологического колледжа», философ и теоретик крайне левого анархизма Жорж Батай (1897— 1962), его коллега и единомышленник, основатель «социологиисакрального» Роже Кайуа (1913— 1978), а также многие сюрреалисты.
Дюркгейм вводит в обиход принципиальное различие между сакральным и профанным, выявляя через эту пару базовую особенность любого общества. Сфера сакрального внушает одновременно ужас и восхищение, связывается с потусторонним, чудом, смертью, запретом и нечеловеческими (сверхчеловеческими) из
234
Французский Логос
мерениями. В любом обществе она играет чрезвычайно важную роль, принципиальную для структурирования всех сторон жизни — общественной, политической, профессиональной, даже бытовой. С ней контрастирует зона профанного, профанического, к которой относятся все рутинные, привычные стороны жизни, перед которыми человек не испытывает ни ужаса, ни восторга и которые входят в крут его повседневных регулярных занятий, понятий и процедур. В профанном человек имеет дело с послушным, вычисляемым, предсказуемым и укрощенным сектором общества (или природы), где царствуют нормы и правила, и где спонтанность и потрясение исключены. Сакральное же, напротив, всегда воспринимается как исключительное, экстраординарное, сопряженное с чудом и сверхъестественным.
Традиционное общество чаще всего организуется вокруг сакрального, которое ставится в центре и предопределяет все стороны социальной (и природной) действительности. Общество Нового времени, со своей стороны, напротив, планомерно стремится расширить зону профанного (социолог М. Вебер назовет это «расколдовыванием мира», «Entzauberung der Welt»). Оно отчасти преуспевает в этом, хотя сакральное чрезвычайно устойчиво и подчас проникает в среду даже самых профанных социальных систем.
Особенно продуктивно различие между сакральным и профанным, подчеркиваемое Дюркгеймом, оказалось для изучения религиозных и архаических обществ, так как в них это разграничение принципиально для понимания большинства институтов, обычаев, отношений и ролей.
Деление на сакральное и профанное станет одной из главных тем традиционалистской философии (Р. Генон, Ю. Эвола, М. Элиа-де, А. Корбен и т. д.), но только с той поправкой, что сами традиционалисты целиком и полностью станут на сторону традиционного общества, то есть на сторону сакрального.
Марсель Мосс: равновесие и его нарушение
Ученик и последователь Дюркгейма Марсель Мосс1 (1872 — 1950) сосредоточил свое внимание на изучении с помощью социологических методов именно архаических обществ, в которых он искал объяснение более сложным и комплексным явлениям общества современного. С точки зрения Мосса, чтобы понять сложные процедуры функционирования высокодифференцированных социальных сис-
1 Мосс М. Общества, обмен, личность. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1996.
Социология как революция
235
тем, необходимо обратиться к корням и проследить, как базовые социальные институты, практики, представления и ритуалы складываются на начальном этапе у примитивных народов и племен. И лишь выяснив и тщательно описав это, можно переходить к интерпретации усложненных социальных производных.
Архаические общества строятся на принципе абсолютного равновесия, которое воспринимается не просто как констатация статус-кво, но как норматив и идеал1. Равновесие, баланс — это главный закон жизни и общества. Отсюда направленность практически всех социальных институтов и практик в примитивных обществах — от структур власти до правил брака, регламентации гендерных отношений, священных обрядов, норм ведения войны и осуществления хозяйственной деятельности. Властные институты призваны обеспечить порядок, как сохранение того, что есть. Кроме того, архаическое общество не знает социального расслоения или разделения труда, так как формализованная стратификация и иерархия нарушили бы целостность и общественный баланс. Брак необходим для воспроизводства общества в тех же пропорциях (фратрии, эндогамные и экзогамные группы), что и раньше. Война есть перераспределение магической силы (отсюда практики сакрального каннибализма). Архаическая религия и магия служат также поддержанию равновесия и коммуникаций между потусторонним миром богов и мертвых и посюсторонним миром живых. Хозяйственная практика воссоздает то, что убывает естественным образом — продукты питания, инструменты, предметы одежды и быта, жертвы богам и духам и т. д.
Исследуя архаические общества, Мосс особое внимание уделяет именно хозяйственным практикам и процессу обмена. Открытием Мосса является построение концептуальной системы обмена у примитивных народов, которую Мосс назвал «экономикой дара». Основой экономики дара является принцип эквивалентного обмена, в ходе которого через циклы (подчас довольно масштабные — как в случае океанских обменов полинезийских племен, охватывающих огромные пространственные маршруты) циркуляции предметов всякий раз общество (и его отдельные члены) приходит к тому же состоянию, что и до начала обмена. Всякий дар, по Моссу, требует отдаривания, и так в периоде. Это означает, что в отличие от современного понимания экономики, направленной на извлечение максимальной прибыли, то есть на постоянное приращение имеющегося, экономика архаических обществ строится таким образом, чтобы
1 Дугин А.Г. Этносоциология. М.: Академический проект, 2014.
236
Французский Логос
исключить не только убыток, но и прибыль. Любое отклонение от равновесия — как в сторону нехватки, так и в сторону прибытка — видится примитивным обществам как катастрофа, требующая исправления. Поэтому накопленные излишки уничтожаются в ходе особых сакральных практик, связанных с жертвоприношением. Жертва — это отдаривание людей, получивших в свою очередь дары от мира, приписываемые чаще всего потусторонним силам, которые ответственны за удачную охоту, рыбную ловлю, урожай и благоприятные погодные условия.
Архаическое общество не знает прогресса, утверждает Мосс, потому что считает его злом и активно борется с самой предпосылкой нарушения равновесия, а прогресс — это и есть нарушение равновесия в сторону приращения (материального, гносеологического, социального и т. д.). Тем самым архаические общества живут в условиях циклического времени и, по сути, вечности, так как любое одноразовое и неповторяющееся событие, что и составляет ткань линейного времени, событие, в их глазах есть не что иное, как катастрофа. Поэтому эти общества чрезвычайно устойчивы, и предпосылки к социальным изменениям, аналогичным процессам европейской истории, начиная с периода построения дифференцированных комплексных обществ еще в древности, среди них крайне редки или вообще отсутствуют.
По контрасту с архаическими обществами общества современные строятся на прямо противоположном принципе, заключает Мосс. Здесь доминирует дисбаланс, раскол, расщепление, болезненная асимметрия, которая и составляет собственно историю, как серию катастроф. Такова священная история Библии, где впервые ясно просматривается линейное время; эта история начинается с катастрофы грехопадения и развертывается через дальнейшие катастрофы большего или меньшего масштаба, заканчивая Апокалипсисом.
Этносоциологический анализ Мосса чрезвычайно важен для построения общей схемы любого историала1. Историал любого народа, вступившего в структуру линейного времени, определяется особенностью катастрофического сценария, лежащего в его основании. Это значит, что катастрофичность есть основа любого исторического мифа, так как истории без катастрофы — без памяти о ней и без ее ожидания в будущем — просто неЪюжет быть, это будет «вечным возвращением». И вместе с тем в каждом народе существует архаическое измерение, которое противится истории и тяготеет к восстановлению изначального равновесия, представления о котором пере
1 Дугин А.Г. Этносоциология.
Социология как революция
237
даются через сказки, легенды, а также на социально-политическом и психологическом уровне. Само общество устроено так, чтобы укротить историческое время, отложить катастрофу или уклониться от нее. Наложение этих двух структур — архаического равновесия и кинетической линейной асимметрии катастроф — дает объемное представление об истории в ее социологическом измерении.
В определенном смысле Мосс продолжает развивать линию «доброго дикаря» Ж.-Ж. Руссо, придавая его фигуре эксплицитное социологическое содержание.
Показательно, что и Дюркгейм, и Мосс симпатизировали левым движениям, социалистам и даже коммунистам, так как видели в их учении попытку возвращения на новом витке к сбалансированному архаическому порядку. В целом социология и антропология оказали большое влияние на левую французскую мысль, и отсылки к архаическим обществам и практикам стали общим местом гошистского дискурса в XX веке.
Выявление архаического измерения в современном человеке и, шире, архаических основ Модерна стало основной темой в работах французского социолога Роже Кайуа1, предложившего разработку «сакральной социологии», и философа и писателя Жоржа Батая, который, развивая мысль М. Мосса о необходимости уничтожения излишков у примитивных народов (что происходит, как правило, в виде сакральной оргии), сформулировал свою теорию «проклятой части»2, положенную в основу критики капитализма, построенного как раз на планомерной валоризации того, что в архаических культурах считалось максимальным злом. Еще более развернутую систему толкования принципа равновесия предложил крупнейший антрополог Леви-Стросс, идеи которого мы рассмотрим в разделе, посвященном структурализму.
В целом же влияние идей Дюркгейма и Мосса на всю панораму французской мысли XX века было огромным и во многом решающим. Без соответствующего социологического анализа контекста позднее ни одна трактовка социального, политического или культурного явления не могла считаться достоверной и полной.
Луи Дюмон: индивидуализм и иерархия
Последователем Мосса был крупнейший французский социолог и философ Луи Дюмон (1911 — 1998). Дюмон специализировался на исследовании индийского общества, долго работал в Индии и фак-
1 Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003.
2 Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006.
238
Французский Логос
тически создал школу индийской социологии, построенной преиму-щественно на его идеях и трудах. Применяя социологические методы школы Дюркгейма к Индии и ее кастовому устройству, Дюмон не только создал фундаментальную теоретическую модель иерархической системы Индии, но и пришел к обобщающим выводам относительно структуры общества как таковой и ее принципиальных типов.
Свои идеи Дюмон изложил в трех программных трудах «Ното hierarchicus»1, «Ното aequalis»1 2 и «Эссе об индивидуализме»3. Дюмон отталкивается от двух противоположных подходов к человеку, которые он определяет как «индивидуализм» и «холизм». При этом социологию (особенно в традиции Дюркгейма и Мосса) он всецело относит к холизму. «Социологический подход полностью противоречит индивидуалистическому взгляду на человека»4, — пишет Дюмон.
Эти два взгляда по-разному трактуют сущность человека и, соответственно, строятся на взаимоисключающих версиях антропологии. Индивидуализм видит в индивидууме самостоятельную и универсальную единицу, а также высшую ценность и меру вещей. То есть человек либо уже есть индивидуум, либо должен им стать. Отсюда вытекает аггломеративное представление об обществе, как о чем-то вторичном, искусственном, механически составленном и теоретически необязательном. Индивидуумы в той или иной ситуации могут создать общество, могут перестроить его, а могут и вообще упразднить. Бытием обладает лишь индивидуум, а социальность черпает свою онтологию как проекция, производная индивидуального бытия. Такая антропология порождает индивидуализм как принцип, как метод, как философию и как метафизику. Предельного идеологического выражения такой подход достигает в либерализме (Первая Политическая Теория) как в полемически заостренной версии индивидуализма.
Этому подходу противостоит собственно социология или холизм (от греческого оЛос;). Здесь мы имеем дело с совершенно иной онтологией: изначально бытием обладает общество, то есть нечто цельное и органичное, всегда данное априорно. При этом есть общества, которые постулируют индивидуума в качестве своей структурной единицы, а есть общества, которые не постулируют, вообще не знают индивидуума как концепт. Общество для холизма первично, а индивидуум есть его второстепенная производная. Поэтому общественные
1 Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. М.: Евразия, 2001.
2 Дюмон Л. Homo aequalis, I. Генезис и расцвет экономической идеологии. М.: Nota Bene, 2000.
3 Дюмон Л. Эссе об индивидуализме. Дубна: Феникс, 1997.
4 Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. С. 32.
Социология как революция
239
процессы имеют автономный характер, собственную логику, циклы, ориентации и т. д. И изучение общества должно начинаться с него самого, с того, что Дюркгейм называет «коллективными представлениями» или «коллективным сознанием». Дюмон пишет:
Две подобные конфигурации, характеризирующие, соответственно, традиционное и современное общества, находятся в прямом противостоянии. В первых, как в Государстве Платона, акцент делается на обществе в целом, как коллективном Человеке; идеал определяется организацией общества ради достижения его целей (а не индивидуального счастья); речь идет прежде всего о порядке, иерархии. Каждый отдельный человек должен на своем месте внести вклад в глобальный порядок, и справедливость состоит в том, чтобы пропорционально распределять социальные обязанности в отношении сообщества.
Для современного общества, напротив, человеческое Существо есть неделимый «элементарный» человек в форме биологического существа и, в то же время думающего субъекта. Каждый человек в некотором смысле является воплощением всего человечества. Он является мерой всех вещей (в совсем новом смысле). Цели правителей совпадают с законными целями каждого человека, и, таким образом, ценности выстраиваются в обратном порядке. То, что еще называется «обществом», становится средством, а жизнь каждого человека — целью. Онтологически общество есть не более чем неустранимая данность, которая нисколько не должна противоречить требованиям свободы и равенства1.
Таким образом, традиционное общество основано на холизме, целостности, а современное — на индивидуализме. При этом особенность социологии состоит, по Дюмону, в том, что она изучает современное индивидуалистическое общество с помощью холист-ских методов, то есть отказывается принимать на веру либеральную пропаганду и предпочитает исследовать истину по ту сторону навязываемых догматов. Поэтому социологию часто причисляют к направлению «философии подозрения» (как и марксизм, с которым у социологии есть нечто общее — в частности, признание домина-ции общественного над индивидуальным2).
1 Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. С. 33.
2 Однако в книге «Homo aequalis» Дюмон показывает, что Маркс остается в плену буржуазного индивидуализма, с которым сам призывает бороться. Таким образом
240
Французский Логос
Из этого принципиального утверждения Дюмон делает практический вывод: изучая традиционное общество, то есть общество иерархическое, холистское, необходимо внимательно исследовать, как оно само понимает себя и каким его видят его члены. Иными словами, методологический индивидуализм как проекция западноевропейского Модерна, укорененного, в свою очередь, в индивидуалистической антропологии и онтологии, непригоден для корректного изучения неевропейских или несовременных обществ — в частности, общества индийского. Поэтому необходима иная форма исследования, которую сам Дюмон и предлагает в книге «Homo hierarchicus: опыт описания системы каст»1, так как иерархия есть отличительная черта традиционного общества (за вычетом наиболее архаических и примитивных форм), а следовательно, именно иерархическая антропология должна быть применена в качестве исследовательского методологического стандарта.
Изучая «человека иерархического» в Индии на основе прямых наблюдений и анализа текстов, правил, традиций и законов, Дюмон приходит к выводу о том, что «иерархия» как явление принципиально отличается от привычного для западных обществ принципа властной пирамиды, где чем выше положение человека на социальной лестнице, тем больше у него властных полномочий. В Индии и ее кастовой системе мы видим совершенно отличную ситуацию. Иерархия кодифицирует не политическую пирамиду, но структуру онтологической дифференциации различных типов. В этом значение корня 1Еро- (священное) в греческом термине lEpapxia, «священноначалие». Эта форма вертикали относительно автономна от административной лестницы, и высшее положение в иерархии каст совсем не обязательно воплощено в максимальном объеме властных полномочий. Каста не градус политико-административного механизма. Это, скорее, распределение жизненных органов в системе единого организма, который в Индии мыслится не как государство, но как общество, культура, цивилизация — мандала, священная схема. Иерархия конституирует именно цивилизацию-мандалу, а не государство, которое является лишь частным и ограниченным случаем, моментом цивилизации. Кастовая система создает Индию, а не то или иное историческое государство, властные полномочия в котором могут распределяться довольно различными способами.
он упрекает Маркса в недостаточной социологической апперцепции, то есть в не полной рефлексии защищаемых им самим принципов. См.: Дюмон Л. Homo aequalis, I. Генезис и расцвет экономической идеологии.
1 Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст.
Социология как революция
241
Так, брахманы, высшая каста Индии, чаще всего вообще не пересекаются с выполнением административных функций, а их властные полномочия достаточно ограничены. Нормативно политическая власть должна быть сосредоточена в руках второй касты — кшатриев, воинов. Но будучи вершиной политической системы, кшатрии рассматриваются не как первые, а как вторые. Над ними безусловно признается духовный авторитет брахманов. Основная масса населения Индии состоит из третьей касты, свободных домохозяев — вайшьев, а также наемных неквалифицированных рабочих шудр и стоящих вне кастовой системы — неприкасаемых, чандал (в современной Индии их называют эвфемистически «хариджанами», «божьими людьми» или «далитами»); при этом вайшьев в третьей группе подавляющее меньшинство.
Все вместе касты представляют Большого Человека, который и есть Homo hierarchicus.
Далее, углубляясь в структуры индийского общества и кастовую этику, Дюмон выясняет очень важное обстоятельство, принципиальное для понимания структуры европейского Модерна. В Индии сосуществуют два полярных этических идеала: полная интеграция в общество на основе холистского принципа, воплощенная в кастовой иерархии и жестком соблюдении всех правил иерархического порядка, с одной стороны, а с другой — радикальная ценность тотального освобождения (moksha на санскрите) не только от общества, но и от всех связей с миром и даже с бытием, что воплощено в идеале отшельника, саньясина, удалившегося в лес или иное труднодоступное место, оборвав все социальные связи. Этике отшельника соответствует самый радикальный индивидуализм, который только можно себе представить, воплощенный в сакральной формуле — «атман есть брахман», то есть «Я есть Абсолют». Таким образом, Дюмон вскрывает в индийской культуре, причем в ее центре, не только холизм, но и индивидуализм. Тогда он задается вопросом, почему столь четко акцентированный индивидуализм, возведенный в метафизический принцип и поставленный в центре религиозной системы индуизма (а этот идеал не секта, а чистая ортодоксия Упанишад и Веданты), не приводит к конфликту с холизмом и не влечет за собой последствия, аналогичные модернизации европейских обществ в Новое время, которые встали на путь методологического индивидуализма? Ответ он видит как раз в принципе иерархии, то есть в наложении в индийской цивилизации друг на друга двух вертикальных топик: духовные оси пересекаются с социально-политическими осями лишь секторально, принципиально не совпадая, а следовательно, позволяя свободно сосуществовать плюральным
242
Французский Логос
этическим системам, вплоть до полярных. Норматив аскета не лежит в той же плоскости, что и норматив члена кастового общества, они относятся к разным множествам, которые прекрасно сочетаются друг с другом в метафизическом плюрализме индийской культуры.
Примеры этого Дюмон находит и в христианской истории, где в эпоху Византии или в империи Запада монашеский идеал радикальной аскезы, удаления от мира и разрыва всех социальных связей нисколько не противоречил требованию сохранения, укрепления и защиты христианской политейи, где социальное служение мирян было встроено в общую структуру домостроительства христианского общества, предполагающего строгую и четкую властную вертикаль. В европейском Средневековье также в определенные периоды существовала гармония между духовной властью Папы и светским земным могуществом королей, когда экклесиастическая этика «Града Небесного» (аскетический идеал клира и европейского монашества) коэкзистировала с секулярной этикой «Града Земного». Аналогом иерархии Индии была разработанная в Средневековье на севере Франции епископом Адальбероном де Лаоном и Жераром де Камбрэ (X —XI века) теория «Трех Порядков» (Tres Ordines) как политико-юридическая основа средневековой системы:
• oratores (клир, молитвенники, монахи),
• beliatores или pugnatores (воины, сражающиеся),
• laboratores (труженики, крестьяне).
Одна из гипотез (Жорж Дюби1) возводит истоки этой идеи «Трех Порядков» к трудам Иоганна Скота Эриутены и его тринитарным структурам, развивающим аналогичные ряды Ареопагитик и неоплатонических триад Прокла — как в небесной иерархии, так и в земной.
Пока система была именно иерархической, этические горизонты различного уровня могли гармонично сосуществовать друг с другом: аскетический идеал монашества, вплоть до крайнего индивидуализма (слово «монах» происходит от греческого слова jiova<j, «один», «уединенный»), относится к иному уровню, нежели политическое могущество воинов-bellatores, которая интегрирует общество на ином уровне, создавая систему вертикали иного качества — в данном случае холистского, так как именно каста воинов традиционно ответственна за политико-правовую цельность (государство) .
1 Duby G. Trois Ordres ou L'imaginaire du feodalisme. P.: Gallimard, 1978.
Социология как революция
243
Лишь тогда, когда иерархия была поколеблена, а это происходило с разных сторон, — чрезмерная ангажированность в политику пап; столь же чрезмерные претензии светских властителей самим решать все основные вопросы, включая духовные («революция кшатриев»); распространение нормативов аскетического индивидуализма на все население в еретических движениях и сектах, — средневековая модель «Трех Порядков» рухнула, и холизм как таковой был отвергнут в пользу индивидуализма. Поворотным моментом была протестантская реформа, где мы видим все три фактора в действии — продажу индульгенций святым престолом; появление абсолютных монархий и принципа суверенитета; отказ Лютера от монашества и распространение индивидуалистических нормативов на все общество — в прямой оппозиции к прежним европейским институтам, где холизм не противоречил индивидуализму. Это противоречие становится фактом лишь тогда, когда оба этих начала ставятся на один и тот же уровень, иерархия отменяется, и то, что было гармоническими и комплиментарными полюсами единой культуры, становится антагонистическими принципами.
Этот вывод Луи Дюмона является принципиальным для понимания структуры Европы Нового времени и, в частности, Франции. Смешение планов холизма и индивидуализма и радикальное наступление методологического индивидуализма на структуры традиционного общества, в авангарде чего стоит либеральная идеология, является катастрофическим искажением тех пропорций, на которых человеческое общество зиждилось в течение долгих тысячелетий.
Отсюда Дюмон делает вывод: социология как холистский метод есть способ восстановления должных пропорций, что обнаруживает ее как «консервативно-революционную» дисциплину. В этом качестве социологические теории, и особенно труды Луи Дюмона, были взяты на вооружение течением французских «Новых Правых» (Ален де Бенуа и т.д.), применивших принципы Консервативной Революции к Франции второй половины XX — начала XXI века.
Жорж Батай: проклятая часть и опыт трансгрессии
Революционный потенциал социологии в полной мере оценил и воспринял на свой счет французский философ Жорж Батай (1897—1962), основавший Социологический колледж, который вопреки академически звучащему названию, представлял собой нечто среднее между мистическим кружком практиков сакрального, группой экстремистских художников и анархистской ячейкой. Батай — одна из самых ярких и замечательных фигур французского авангар
244
Французский Логос
да XX века, в котором пересекаются различные стороны французской идентичности интенсивного Модерна.
Батай исходит из базового принципа: тотального неприятия капиталистической системы и буржуазных ценностей. Мир буржуа Батай требует преодолеть во всех направлениях — в прошлом (вплоть до реставрации архаического «внутреннего опыта»), в будущем (через построение альтернативного анархо-коммунистического порядка), в этике и психологии (осуществляя преодоление всех нравственных и этических границ, что Батай определил как «трансгрессию»). Батай, следуя за Моссом и его теорией экономики дара, обращает внимание на «проклятую часть» (la part maudite)1, которую архаическое общество подвергало ритуальному уничтожению в жертвенной практике сакрального расточительства (часто в ходе оргиастических ритуалов, трансгрессивных даже в контексте архаических общин), препятствуя тем самым возникновению предпосылок д ля социальной стратификации и имущественного неравенства. Капитализм, по Батаю, воплощает в себе нечто противоположное «экономике дара». Это система, где «проклятая часть» не уничтожается, но напротив, культивируется, аккумулируется и ложится в основу всей социально-политической и экономической модели. Тем самым капитализм аккумулирует «проклятие», «зло», «неравновесие» и строит на этом свою историческую динамику, движущуюся от кризиса к кризису. Капитализм есть проклятие в чистом виде, которое более не сдерживается никакими запретами и ограничениями, ранее накладывавшимися традиционным обществом. Традиционное общество само по себе уже не столь бдительно к «проклятой части», как архаическое, но все же намного более бдительно, чем капитализм, полностью открытый ко злу, воплощенному в постоянно растущем избытке и, по аналогии, несущему в себе постоянно расширяющееся пятно привации. Для марксизма несколько параграфов из «Философии права»2 Гегеля имели решающее значение.
§ 243. Когда гражданское общество не встречает препятствий в своей деятельности, его народонаселение и промышленность растут. Благодаря тому, что связь людей, создаваемая их потребностями, и способы изготовлять и доставлять средства для их удовлетворения получают всеобщий характер, увеличивается накопление богатства, ибо из этой двойной всеобщности извлекается величайшая выгода — это с одной стороны; с другой — эта же двойная всеобщность ведет
1 Батай Ж. Проклятая доля. Сакральная социология.
2 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
Социология как революция
245
к разрозненности и ограниченности особенного труда и тем самым к зависимости и нужде связанного с этим трудом класса, а отсюда и к неспособности чувствовать и наслаждаться всей свободой, и особенно духовными преимуществами гражданского общества.
§ 244. В тех случаях, когда жизнь большой массы людей оказывается ниже известного уровня существования, который сам собой устанавливается как необходимый для члена общества, а это ведет к потере чувства права, правомерности и чести обеспечивать свое существование собственной деятельностью и собственным трудом, возникает чернь, что в свою очередь способствует концентрации несметных богатств в немногих руках.
(...) Важный вопрос, как устранить бедность, волнует и мучит преимущественно современное общество1.
Маркс обратил внимание на то, что рост промышленности ведет к росту нужды. Это полностью вписывается в логику «проклятой части». Увеличение богатств влечет за собой с необходимостью пропорциональное увеличение объема нищеты (воплощенной в том, что Гегель называет «чернью»). И капиталисты, и чернь находятся вне экономики дара, по обе стороны от нее: первые ничего не собираются дарить, вторым — дарить просто нечего. Тем самым капитализм есть не просто зло, но постоянно растущее зло, и именно в этом росте «количества зла» и состоит прогресс — технический, экономический, социальный. При этом капитализм создает для себя систему правил и норм, соблюдения которых он требует от всех членов системы Модерна.
Проект Батая состоит в том, чтобы полностью взорвать эту систему, осуществив в отношении нее акт абсолютной трансгрессии. Необходимо сломать всю логику накопления и прогресса, уничтожив «проклятую часть» через тотальную расточительную оргию. Для этого Батай считает необходимым создать революционные ячейки — «трагическое сообщество», сама экзистенция которого будет строиться на восстановлении сакрального измерения жизни и опыте тотального преодоления всех (буржуазных) запретов — вплоть до ниспровержения эротических и правовых табу (включая все виды перверсий и убийства). Капитализм есть нечто, что следует преодолеть, мог бы сказать Батай, перефразируя максиму Ницше о человеке. Но сделать это возможно лишь вначале выявив, а затем и упразд
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. С. 270.
246
Французский Логос
нив в ходе экстатического разрушительного опыта накопленную им «проклятую часть» — в форме финансов, промышленности, знаний и эпистемологических систем.
Для этой цели Батай создает «трагическое сообщество» «Аце-фал», объединяющее философов, художников, поэтов, писателей и интеллектуалов, разделяющих основные идеи Батая. Символ Аце-фала представляет собой безголового человека, держащего в одной руке собственное пылающее сердце, а в другой — нож (автор изображения — художник-сюрреалист Массон). Он призван был подчеркнуть обращение от рациональной расчетливости рассудка к прямому постижению мира посредством сердца (сакральная интуиция). Ацефал для Батая был своего рода гештальтом революции как радикального возврата к архаическим нормам сакрального через практику тотальной трансгрессии общества Модерна. Рассудок оперирует концептами, убежден Батай, которые не способны схватить стихию жизни, открывающуюся через суверенный момент.
Разные стороны опыта трансгрессии Батай описывает в своих художественных произведениях, которые — если не учитывать их метафизическую подоплеку — могут показаться порнографическими и первертными. Таковы «История глаза», «Небесная синь», «Юлия», «Невозможное», «Аббат С.», «Divinus Deus» ит.д.1 Эти произведения часто относят к сюрреалистическому направлению, к которому Батай был близок и доктринально, и эстетически.
В целом Батай парадигмально продолжает линию французских «проклятых поэтов» XIX века, включая в нее своим примером еще и «проклятых философов», которые поднимаются на радикальное восстание против отчужденного бытия во имя «суверенного человека»2.
Фернан Бродель: мыслить цивилизациями
Совсем другой тип представляет собой крупнейший французский историк Фернан Бродель (1902 —1985), один из представителей «школы анналов», основанной Люсьеном Февром (1878 — 1956). Бродель разработал особый метод исторического исследования эпохи, сопряженный с использованием социологических концепций и методов, а также с повышенным вниманием к деталям и мельчайшим фактам, часто ускользающим от взгляда классической исторической науки, ставящей акцент на великих личностях и масштабных событиях, но пренебрегающей «структурами повседневности». Бродель обращает
1 Батай Ж. Ненависть к поэзии. М.: Ладомир, 1999.
2 Батай Ж. Суверенность // Батай Ж. Проклятая доля. Сакральная социология.
Социология как революция 247
свой преимущественный интерес именно к ним, и затем на основании огромного числа мелких деталей и частных свидетельств строит обобщенный образ исторической эпохи, приоритетно им изучаемой. В подходе Броделя сочетаются социология и феноменология, что делает его показательной фигурой интенсивной фазы Модерна, во многом пересматривающей свои ранние «наивные» формы и аксиомы, свойственные начальной, экстенсивной фазе.
Для Броделя основным объектом исторических исследований становится самый ранний период возникновения и становления эпохи европейского Модерна, чему посвящен главный объемный (трехтомный) труд «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.»1. Тома носят тематические названия: том 1 — «Структуры повседневности: возможное и невозможное», том 2 — «Игры обмена», том 3 — «Время мира». В результате реконструкции Броделем процесс становления европейского капитализма открывается в совершенно новом свете, нежели принято было считать в предшествующие эпохи.
В первую очередь Бродель обращает внимание на то, что он называет «цивилизацией». В книге «Грамматика цивилизаций»1 2 он дает такое определение:
Говорить о цивилизациях — значит говорить о пространствах, землях, рельефах, разнообразии климата, растительности, животного мира, об унаследованных или приобретенных преимуществах3.
В другом месте он несколько видоизменяет определение.
Цивилизация — это в первую очередь пространство, культурный образ, с которым сопряжены (материальные и нематериальные) вещи (les biens), когерентно связанные между собой в течение достаточно длительного времени (longue duree)4.
Термин Броделя «большая длительность» (longue durde) сам по себе стал важнейшим историческим и социологическим концептом, так как он очерчивает тот исторический сегмент, в котором струк
1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.: В 3 т. М.: Весь мир, 2006.
2 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М.: Весь мир, 2014.
3 Там же. С. 39.
4 Braudel F. Ecrits sur i'histoire. tome II. P.: Arthaud, 1990. P. 292.
248
Французский Логос
тура общества остается принципиально неизменной, хотя микроизменения происходят всегда, но замечаются отчетливо лишь тогда, когда совершается эксплицитный переход от одной «большой длительности» к другой или, иными словами, от одной цивилизации к другой. Изучая средиземноморскую цивилизацию самой первой фазы Модерна (XV—XVIII века), Бродель вскрывает принципиальные характеристики, отличающие ее от средневековой цивилизации и ее «большой длительности». «Материальная цивилизация» Нового времени (то есть собственно капитализм) формируется, согласно Броделю, преимущественно в итальянских портовых городах-государствах (Венеция, Генуя и т.д.), затем оттуда перекидывается в Голландию, а потом в Англию. Этот процесс представляет собой постепенное освобождение рыночных форм обмена, существовавших и ранее, от внерыночного давления политической власти. С этим в целом согласны и Карл Маркс, и Адам Смит, но Бродель показывает, насколько многомерным и противоречивым был этот процесс, где политическая власть не просто препятствовала автономизации структур капиталистического обмена, постепенно подчиняясь давлению расширяющегося капиталистического хозяйства (в первую очередь под влиянием развития морской торговли), как это считают классики и либерализма, и марксизма, но подчас активно соучаствовала в этом процессе и даже становилась его инициатором и мотором. Венецианские дожи и аристократия, равно как и генуэзские правители, выступали не только арбитрами в растущей силе торгового сословия, но и сами были активными акторами, заинтересованными в экстенсивном развитии и экспансии рынка. Та же ситуация в точности повторяется в Амстердаме, а затем в Лондоне (Британской империи). Вопреки классической схеме повышения роли частного предпринимательства в ходе развития рыночной торговли при пассивном сопротивлении привилегированных классов, пытающихся сдерживать растущий вес третьего сословия, Бродель описывает иную версию структурирования Модерна: определенный тип властителей средиземноморской «материальной цивилизации» в силу комплексных мотивов оказывается инициатором и активным участником процесса повышения роли обмена и рынка в общей социально-политической структуре общества. Иными словами, капитализм возникает не столько снизу, сколько сверху— в ходе особой перестройки сознания правящих аристократических элит портовых торговых государств. И само государство в этом процессе играет не пассивную, а подчас активную роль, способствуя подъему капитализма и тем самым шаг за шагом подготавливая следующий цикл «большой длительности», воплощающийся в индустриальной эпохе.
Социология как революция
249
Бродель подчеркивает роль моря в становлении капиталистической системы, а также ключевое значение морских колоний в деле формирования буржуазных торговых империй.
Нечто аналогичное можно увидеть в истории Франции, где Модерн вызревал не без тактической поддержки французскими монархами-централистами третьего сословия, на которое они опирались в своем противостоянии крупной земельной аристократии. Тем самым аналитика капитализма при повышении уровня внимания к деталям и учете многомерных факторов, а не только редукционистских идеологических схем (как либеральных, так и марксистских), принципиально меняет понимание структуры Логоса Модерна. В свою очередь, введение принципа «большой длительности» (longue duree), то есть установление исторического масштаба цивилизации, необходимого для того, чтобы анализ был контекстуально конкретен и в то же время достаточно устойчив, позволяет строить историко-социологические системы без излишних обобщений до «всечеловеческого» уровня, но и без поглощения хаосом деталей. Введение в область внимания «структур повседневности», то есть «историческая феноменология», открывает поле экзистенциального исследования, учитывающего специфику конкретного Dasein'a.
Пьер Бурдье: habitus — новый «субъект»
Ярким представителем французской социологии на ее позднем этапе был социолог и философ Пьер Бурдье1 (1930 — 2002), продолжатель школы Дюркгейма и создатель собственного направления в социологии. Бурдье ставит перед собой задачу релятивизировать жесткий функционализм классической французской социологии, основанный на признании за обществом особой автономной онтологии, строго предшествующей онтологии индивидуумов. В этом проявляется тот холизм, который подчеркивается Луи Дюмоном как основная черта социологии. Однако Бурдье не согласен и с методологическим индивидуализмом, согласно которому социальное конструируется индивидуумом, единственным, кто обладает достоверно фиксируемым бытием (как в либеральной версии социологии — например, у Макса Вебера). Бурдье пытается выстроить сводную систему, что перекликается с аналогичными инициативами
1 Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993; Он же. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Але-тейя, 2007; Он же. Начала. Choses dites. М.: Socio-Logos, 1994.
250
Французский Логос
американского социолога Толкотта Парсонса и английского социолога Энтони Гидденса.
Бурдье утверждает, что общество конструируется индивидуумами, но на втором этапе само, в свою очередь, конструирует индивидуумов, определяя их содержание. В таком подходе следует заметить одну важную тенденцию: явственную попытку французских левых (антибуржуазных) интеллектуалов смягчить холизм своих социоцентрических построений и снизить градус радикальной критики капитализма, продолжая саму эту критику. Бурдье жестко выступает против неолиберальной идеологии и в целом раскрывает механизмы насилия, дезинформации и подмены, на которых строится капиталистическое общество. Но в отличие от классиков французской социологии мы видим в нем стремление утвердить индивидуума как важного и относительно самостоятельного актора, который, хотя и не является таким в большинстве реальных случаев, но может (и должен) стать субъектом свободы и носителем рационально-волевого поведения, что отрицали марксисты и социологи-холисты, настаивавшие на решающем могуществе социальных структур. Тем самым, несмотря на всю критику либерализма, в его пользу совершается фундаментально важная онтологически уступка (на грани допуска левого или даже крайне левого либерализма — гибрида Первой и Второй Политических Теорий), а холизм дюркгеймовской социологии денонсируется как «поспешное» обобщение. В этом жесте Бурдье проявляется общая тенденция французского интеллектуального сообщества после 1968 года, когда синхронно, у многих авторов и во многих научных и философских областях, происходит отход от функционального и структурного, холистского подхода, свойственного предшествующей фазе становления левой и социологически ориентированной мысли в пользу частичной (хотя и весьма критической) реабилитации индивидуума. В этом проявляется сущность тонкого перехода от завершившегося интенсивного Модерна (последней фазы Модерна как такового) к Постмодерну. Это ярко видно на примере перехода от структурализма (полностью созвучного и гомологически крайне близкого к холизму социологов) к постструктурализму. В области социологии этот переход явственно и убедительно воплощен в фигуре Пьера Бурдье и его школы.
Существенная онтологическая поправка отношений между всеобщим и индивидуальным приводит Бурдье к выработке особой оригинальной методологии социологического анализа. В ходе разработки этой методологии он вводит ряд понятий, принципиальных для его школы:
Социология как революция
251
• социальное поле и сила;
• капитал (материальный и культурный);
• социальное пространство;
• символическое насилие;
• habitus (ё^и;).
«Социальное поле» Бурдье понимает как определенный сегмент общества, обладающий самостоятельной (независимой от других сегментов) внутренней структурой, где действует общий набор сил, ценностей, базовых практик, ценностных установок и социальных статусов. Подобно электромагнитному полю физики, социальное поле представляет собой связную систему, где каждый элемент дифференцирован от другого, но находится под влиянием, общим для всех элементов. Такими социальными полями являются религия, экономика, бюрократия, культура, искусство, быт, наука и т.д. Набор признаков каждого из полей всякий раз отличен, но функционирование их структуры в целом построено по одинаковому принципу: индивидуум стремится занять в социальном поле максимально высокую позицию, что, однако, зависит не только от его усилий, но также и от особых стратегий самого поля, ставящих на этом пути разнообразные преграды, в каждом случае различные. Общество в целом представляет собой наложение друг на друга сразу многих социальных полей — отчасти перекрывающих друг друга, отчасти самостоятельных.
В социальном поле Бурдье выделяет основной ресурс позиционирования, который он называет «капиталом». В это понятие Бурдье вкладывает как материальный капитал, так и культурный, что совокупно образует «символический капитал» или «социальный капитал». Материальный капитал выражается в классическом для политэкономии критерии денег. Культурный капитал исчисляется в более тонких единицах и определяется по уровню предпочтений и вкусов в области культуры, искусства, философии, досуга, интересов и т.д. Зоны культурного и материального капитала могут накладываться друг на друга синхронно, а могут, напротив, составлять оппозиции. Так, культурно богатый человек может быть материально бедным, а материально богатый — культурно ограниченным. В некоторых случаях культурно ограниченные люди еще и бедны, а богатые — культурно развиты.
Нюансируя эти понятия капитала, Бурдье вводит представление о «социальном пространстве», где распределение символического капитала по разных секторам «социального пространства»1
1 Бурдье П. Социология социального пространства.
252
французский Логос
порождает комплексные явления более сложного порядка, нежели традиционная стратификация общества по осям — деньги, власть, престиж, образование, с которыми оперирует классическая социология, предполагая рост всех позиций в строгой взаимосвязи. Бурдье показывает — в частности, на примере капитала, — что эти области относительно автономны и что высокое положение на одной оси стратификации не обязательно влечет за собой соответствующее положение на другой. Так, карта социального пространства, всегда организованного по принципу оппозиции клуб (эксклюзия)/ гетто (инклюзия), представляет собой многомерную дистрибуцию капитала по разным осям, что усложняет в том числе и карту политических предпочтений. Бурдье замечает, что на такой карте существуют определенные закономерности: за левые партии обычно голосуют бедные и культурно развитые (в том числе и богатые), а за правые — богатые и неразвитые (в том числе и бедные). В результате социальное пространство становится объемным и должно исследоваться сразу по нескольким осям. Построение карт социального пространства и стало одной из главных задач социологии Бурдье и его последователей.
Усложнение структуры социального поля, по Бурдье, есть свойство развитой капиталистической системы, научившейся, подобно умной машине, скрывать и вуалировать свои внутренние противоречия и оппозиции, дифференцировать и смягчать структуры насилия и прятать его механизмы1. Насилие, по Бурдье, есть особенность силы, действующей в социальном поле. Поднявшиеся в верхние слои социального поля акторы ассимилируют силовой потенциал этого поля (в единицах символического капитала), тем самым становятся сильными (в них реализуется «жажда индивидуума к признанию») и осуществляют в отношении других стратегию символического насилия, защищая свои главенствующие позиции. Но так как Бурдье считает, продолжая в этом холистскую линию, что содержание индивидуума берется из социума (habitus), то и насилие есть не индивидуальный акт, а функциональное свойство самого социального поля. Необходимость в осуществлении насилия проистекает из ассимиляцйи капитала, и те, кто приобретает капитал, вместе с ним приобретает диспозитив насилия, который не может всегда оставаться лишь потенциальным. Поскольку Бурдье строит объемную модель общества, с многими осями и секторами, то и насилие становится многомерным, включающим в себя прямое политическое подавление, власть денег, а кроме того — влияние на сознание, эпис-
1 BourdieuP., Boltanski L. La production de I'iddologie dominante. P.: Demopolis, 2008.
Социология как революция
253
темологическую диктатуру, управление с помощью «общественного мнения» (которое Бурдье считает «иллюзией» и прямым инструментом подавления свободы индивидуума), что совокупно представляет собой явление «символического насилия». Согласно Бурдье, практика тотального символического насилия присуща либеральному буржуазно-демократическому обществу не в меньшей степени, чем открыто авторитарному или тоталитарному. Это не свойство того или иного режима или идеологии, это основа общества.
Термин habitus Аристотеля, актуализированный в Средневековье схоластами, Бурдье применяет для того, чтобы ввести свое представление об индивидууме и его статусе в социальной действительности. Сторонники индивидуализма и свободы субъекта (как либералы, так и левые экзистенциалисты, такие как Сартр, Камю и т.д.) понимали индивидуума как абсолютную действительность, тогда как холисты видели в нем пассивного онтологически «реализатора структур». Бурдье предлагает промежуточную версию: его субъект относительно свободен (индивидуален), но относительно предопределен обществом (социален). Зоной пересечения является habitus. Это — ближний горизонт индивидуума, в котором он, с одной стороны, воспринимает социальные установки, идентичности, смыслы, диспозитивы, формирующие его содержание, а с другой, способен осуществлять их комбинации, трансформации, устанавливать между ними приоритеты и секвенции, настаивая тем самым на том, что Бурдье, вслед за Паскалем, считает смыслом человека — на воле к достоинству1. Эта воля сама по себе совмещает в- себе индивидуальное (собственно воля, и более того, воля к утверждению индивидуального, то есть воля к самому себе, conatus Спинозы) и социальное, так как направлена она на признание со стороны других, то есть критерием является позиционирование в структуре социального поля и степень обладания социальными силами, измеряемыми в объеме капитала (символического и материального). Понятие habitus'а вводит критически осмысленный концепт социологического субъекта, не являющегося лишь производной от общества (как в холизме), но и не совсем автономного, поскольку все его содержание черпается из общества и структурируется благодаря усвоению его правил, составляющих основы и маршруты личного диспозитива. Таким образом, Бурдье выделяет в человеке уровень программирования, предопределяющего его сознательные и часто бессознательные стратегии, на котором он заостряет свое внимание, так как именно на этом уровне общество осуществляет
1 Bourdieu. Р. Mdditations pascaliennes. Р.: Seuil, 1997.
254
Французский Логос
над человеком «символическое насилие», то есть навязывает ему позицию (чаще всего, противоположную той, к которой влечет его собственная воля к достоинству и признанию). В habitus'е следует искать основные стратегии манипуляции и порабощения индивидуума, так как именно здесь закладываются основы подложных кодов и «лжезнания» (meconnaissance). Человек, не знающий о habitus'e и не подвергающий его корректному анализу, склонен принимать свою запрограммированность за спонтанность, а социальное содержание — за свою субъектность. Тем самым общество и высшие слои социального поля (обладатели максимума социальных сил и сопряженного с ними социального капитала) подавляют через обман и «лжезнание» способность к освобождению и осознанному использованию диспозитивов habitus'а для свободной реализации воли к достоинству. В буржуазном обществе основной стратегией «лжезнания» является внедряемая капиталистической верхушкой видимость отсутствия иерархии, которая впитывается на уровне habitus'а, а затем становится инструментом управления через систему организованной лжи и насилия, которой, по Бурдье, являются буржуазные СМИ, образование и, собственно, политика.
В целом Бурдье сохраняет связь с критической традицией французской социологии и следует в ее русле. Многое в интерпретации идей Бурдье зависит от позиции интерпретатора: в англосаксонском мире (в частности, Э. Гидденсом) его идеи воспринимались как шаг в сторону от холистского дискурса в социологии (воля к достоинству и признанию), в сторону либерализма; в рамках антибуржуазного прочтения его идеи могут быть восприняты как уточнение революционной миссии социологии, тем более что сам Бурдье считал научную деятельность частью идеологической борьбы, признавая себя «ангажированным социологом» (хотя бы потому, что неангажиро-ванного социолога — как и интеллектуала вообще — просто не может быть, и это напрямую вытекает из корректно проведенной операции социологической апперцепции, которая в нормальном случае должна предшествовать любому достоверному социологическому анализу).
Ален Сораль: «ангажированная социология» во имя Четвертой республики
Ярким представителем «ангажированной социологии» является современный французский социолог Ален Сораль. Сораль продолжает традиции левой критической социологии, преобладающей во французской культуре, но в отличие от Бурдье доводит ее протест
Социология как революция
255
ный потенциал до логического предела. Сораль начинает свою политическую активность в рядах Коммунистической партии, а затем сближается в национальными движениями, проходя по всей шкале политического спектра, где только провозглашаются антибуржуазные, антикапиталистические принципы. В конце концов, Сораль вместе с известным французским комиком африканского происхождения Дьёдонне Мбала Мбала организует собственное движение «Равенство и Примирение», основанное на прямом сочетании идей правого и левого антикапитализма. Это движение не получило массовой поддержки, но продолжает оказывать на интеллектуальные круги Франции, особенно на радикальные элементы, существенное и постоянно растущее влияние, усугубляющееся постепенным спадом собственно левого критического дискурса, все больше смещающегося к либерализму и конформизму.
Основной идеей Сораля является проект объединения антибуржуазных течений и сил справа и слева в общий фронт. Свою программу Сораль выражает формулой: «левые за труд, правые за ценности» («1а gauche de travail, la droite de valeurs»). Этот «исторический пакт» противопоставляется Соралем прямо противоположному альянсу, составляющему сущность той системы, которая утвердилась во Франции начиная с 70-х годов XX века, чья идеология суммируется тезисом: «либертарианские левые, либеральные правые» («1а gauche libertine, la droite liberate») или «капитализм лили» (liberale-libertaire).
В своей программной и наиболее известной книге «Понять империю»1 Сораль называет новую версию глобального капитализма «империей», подчеркивая его планетарный размах и тоталитарную сущность. Это своего рода «третий тоталитаризм», следующий за первым (коммунистическим) и вторым (фашистским). «Империя» строится не как классическая национально-буржуазная консервативная идеология, ранее сочетавшая правые идеи в области ценностей с защитой свободного рынка (ранний капитализм), и не как реализация марксистского проекта — «прогрессистские социальные ценности» в сочетании с социализмом в экономике. «Империя» сегодня отбрасывает традиционные ценности у правых и социальную справедливость у левых, оставляя лишь свободный рынок в сочетании с продвижением свободы нравов, гендерной политикой, борьбой с традиционными институтами — государством, церковью, семьей и т. д. «Империя», таким образом, есть новая идеологическая версия Постмодерна, продолжающая тем не менее нигилистиче-
1 SoralA. Comprendre Empire. Р.: Blanche, 2010. Русский перевод: Сораль А. Понять империю. М.: ГРА, 2012.
256
Французский Логос
ский пафос самого Модерна, но доводящая его до самой рафинированной и очищенной от всех следов традиции формы. В «империи», воплощающей в себе тоталитарную диктатуру «ли-ли», левая идеология вбирает в себя индивидуализм и отказывается от социальной справедливости, сохраняя лишь борьбу за права всякого рода меньшинств (гомосексуалистов, мигрантов, калек, людей без документов, представителей сект и экзотических маргинальных групп и т. д.), а правая идеология, сохраняя святую веру в невидимую руку рынка и магию финансов, отбрасывает консервативные традиции, отказываясь от государства, религии, нации и этики. Тем самым нигилизм Модерна достигает своей кульминации, что и проявляется в его глобальном характере.
Сораль предлагает выступить радикально против самой «империи» в ее базовой матрице, создав прямо противоположный, ей мировоззренческий полюс. В нем социологическая критика власти, дискурса и структур подавления сопрягается с утверждением национального суверенитета, защитой традиционных ценностей и консервативных этических принципов. Таким образом, именно Сораль продолжает ту линию, которая преобладала во Франции с разными отклонениями на протяжении XX века, в поисках своего особого пути сквозь нигилистические лабиринты и тупики Модерна.
Сам Сораль обращается к политическому наследию генерала де Голля, основавшего после Второй мировой войны политический пакт Сопротивления на базе двух главных действующих сил, последовательно боровшихся за освобождение и возрождение Франции. Сораль пишет:
Мы можем обобщенно оценить период послевоенного времени 1945— 1973 годов, названный «славным тридцатилетием», как период благополучия и социального согласия.
Экономическое благополучие было вызвано общей послевоенной экономической динамикой, направляемой в либеральном ключе планом Маршалла.
Социальный консенсус предполагал национализацию энергетики, заводов Рено, сферы социального страхования и банков, и создания системы социального обеспечения.
Это был режим многоукладного хозяйства, либерального и социалистического, возникший в результате реализации программы Национального Совета Сопротивления, где голлистские и коммунистические патриоты сохраняли боевое братство, стараясь не повторить асимметрии 1930-х годов, которые и привели к войне.
Социология как революция
257
Это был также период консенсуса в области экономики и социальной сферы, но вместе с тем и консенсус «памяти», основанный на общенациональном нарративе: на мифе о петэновском предательстве и о левой сущности движения Сопротивления, что было выгодно обеим полюсам этого консенсуса1.
Этот исторический пакт голлизма был разрушен после 1969 года, а затем началась череда правительств проамериканских правых и либертарианских левых, в равной мере выполнявших функциональные задачи «империи». В 90-е годы XX века «империя» стала выступать в своем подлинном идеологическом виде («ли-ли»), что и стало началом «однополярного момента». И именно тогда, по мнению Сораля, началось формирование оппозиционного — также право-левого — блока, кульминацией которого Сораль считает свое собственное движение.
В своих текстах Сораль открыто критикует масонство и в исторической перспективе, и его структуры в современной Франции, идентифицируя в этом институте ядро «империи», ее институциональный авангард. В геополитическом измерении «империя» для него воплощена в мировом могуществе США и блоке НАТО. В экономике она представляет собой «мир-экономику» (economie-monde) Ф. Броделя в ее глобалистском выражении. Кроме того, Сораль считает, что в расширении влияния «империи» и утверждении ее институтов и структур активную роль играет государство Израиль и его сторонники, что выливается у него в развернутую критику сионизма.
Все эти стороны радикального нонконформизма Сораля предсказуемо сделали его идеи и его движение объектом ожесточенной критики со стороны системы, вплоть до запрета распространения его книг и серии судебных преследований и исков. Но и в этом он остается верным духу французской «ангажированной социологии», всегда готовой идти на прямые и жесткие конфликты с обществом и его институтами во имя утверждения истины и личного достоинства свободного мыслителя. Сораль может считаться сегодня наиболее французским из французских интеллектуалов, столь же смело бросающих вызов системе, как и его радикальные предшественники — от якобинцев и Бланки до нонконформистов 1930-х, коммунистов, анархистов, героев Сопротивления и даже активистов 1968-го года, которых сам Сораль отчасти находит симпатичными. Так, Сораль пишет:
1 Сораль А. Понять империю. С. 149—150.
258
Французский Логос
Спустя долгие годы мы можем сказать, чем были три разных мая 1968 года, а не один:
• анархистский, скорее, симпатичный и спонтанный май 1968 года;
• профсоюзный май 1968 года, который привел к генеральному соглашению (об увеличении зарплат) и к ставке, сделанной на Жака Ширака;
• и наконец, политический май 1968 года, цель которого состояла в том, чтобы дестабилизировать режим де Голля и отстранить его от власти, способствуя тем самым серии решений, идущих вразрез со стратегическим выбором и повесткой дня Четвертой республики1.
Очевидно, что сам он считает себя продолжателем первой версии мая 1968-го, нейтрально относится ко второй и жестко выступает против третьей. Поэтому Сораль может считаться последним и самым ортодоксальным защитником идеи Четвертой республики, то есть продолжателем французского интенсивного структура-листски-социологического Модерна, но противником его девиации в Постмодерн.
1 Сораль А. Понять империю. С. 151.
Культура ночи
Луи-Фердинанд Селин: люди ночи
Манифестом французского трагического нигилизма XX века можно считать самый знаменитый роман писателя Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи»1. Селин по своим взглядам был радикальным противником буржуазии и капиталистического строя, но ненависть к Модерну подчас доходила у него до крайних форм мизантропии, распространяющейся не только на буржуазное человечество, но на человека вообще. Селин повсюду видел тщету бытия, в которой вспышки сознания или возвышенных эмоций обречены на неминуемую энтропию бессмысленной материальности, грубых ощущений, слепых инстинктов. При этом Селин политически вначале был солидарен с крайне левыми кругами, а затем стал симпатизировать крайне правым, что и привело его в ряды коллаборационистов. После освобождения Франции Селина за его экстремальные высказывания коллаборационистского периода пытались судить, но его экстравагантное поведение на суде и откровенная гипертрофированность и поэтому двусмысленность его наиболее скандальных высказываний, в конечном итоге, были расценены как проявление сюрреализма и эстетическая провокация, в основе которой лежала не близость к нацистской идеологии, но трагическая и чисто нигилистическая мизантропия.
Основной характеристикой большинства героев Селина является их потерянность. Они обнаруживают себя вовлеченными в ситуации, — экстремальные (такие как война, путешествия) или вполне обыденные, — смысла и цели которых они принципиально не понимают. Они делают то же самое, что и все окружающие, но только с особой внутренней дистанцией, которая субтильно обесценивает все вокруг, обрушивает в бессмысленность. При этом герои Селина не ищут смысла, они трагически и одновременно героически признают, что его просто нет. Был ли он когда-то, может ли быть — этими вопросами они не задаются, они слишком абстрактны. Смысла нет ни в чем, никакого. И от этого становится невыносимо горько.
1 Селин Л.Ф. Путешествие на край ночи. М.: Прогресс, 1994.
260
Французский Логос
Окружающие их обычные люди интуитивно догадываются о том, что с этими персонажами что-то не так, и начинают их методично и холодно ненавидеть и травить. Они видят в их внутреннем и чаще всего никак не проявляющемся внешне отчаянии угрозу для своей психологической безопасности. Герои Селина несут в себе ночь, они суть «люди ночи». Догадываясь об этом, все остальные («люди дня») подвергают их остракизму, стремятся поскорее избавиться от них и забыть об неприятном эпизоде контакта.
Эта линия повторяется во всех романах Селина, как ранних, так и поздних, каждый из которых имеет биографические черты, не оставляющие сомнений: человек ночи — это сам Селин. Но ярче всего, как своего рода философская программа, это описано в «Путешествии на край ночи».
В одном из фрагментов Селин говорит об этом в ясных и выразительных словах:
Незачем даже таращить глаза в темноте в этих случаях. Это от страха потеряться совсем, ни от чего больше. Она все взяла себе, ночь, и наши взгляды тоже. Мы опустошены ей. Даже если вас возьмут за руку, вы все равно упадете. Люди дня больше вас не понимают. Вы отделены от них всем этим ужасом, и ужас давит и давит вас вплоть до того момента, когда все кончится, так или иначе, и лишь тогда наконец-то можно будет объединиться с этими ублюдками, с этими «всеми остальными», в жизни или в смерти1.
Qa ne sert pas meme d’6carquiller les yeux dans le noir dans ces cas-la. C'est de I'horreur de perdue et puis voila tout. Elie a tout pris la nuit et les regards eux-memes. On est vid6 par elle. Faut se tenir quand meme par la main, on tomberait. Les gens du jour ne vous comprennent plus. On est separe d'eux par toute la peur et on en reste ecrase jusqu'au moment ou ?a finit d'une fa?on ou d'une autre et alors on peut enfin les rejoindre ces salauds de tout un monde dans la mort ou dans la vie.
Нигилизм Селина весьма показателен в том смысле, что он, с одной стороны, переживается чрезвычайно болезненно, а значит, это не просто нигилизм факта, это свидетельство трагического осмысления нигилистичности настоящего; в этом смысле он намного менее нигилистичен, чем «люди дня», нигилизм которых тем больше, чем меньше они о нем догадываются и отдают себе отчет. Люди ночи
1
См.: Селин Л.Ф. Путешествие на край ночи.
Культура ночи
261
не хотят ночи, они просто видят, что вокруг только она. И ничего больше. Следовательно, в Селине и его героях нигилизм обнаруживается, становится явным, а значит, он ставит вопрос о том, что во всем чего-то фундаментально не хватает — причем чего-то самого главного, одним словом не хватает всего. Но, с другой стороны, Селин не спешит заполнить эту бездну альтернативой, которая вполне может оказаться лишь еще одним слоем все того же ничто. Селин не хочет бежать от бездны, он идет к ее краю, которого стремится достичь. Последовательно и планомерно. У ночи нет края, но именно поэтому так важно дойти до него; не измыслить его, не добавить к ночи и ее стихии грезу, но вынести бремя ничто до конца. В этом можно различить намеки на ту апофатическую эсхатологию, которую мы видели у Иоганна Скота Эриугены. Бог открывается вначале как Творец, дающий все, а в конце — как горизонт божественной тьмы, как апофа-тическое нетворящее Единое. Но, как мы видим в случае германских мистиков, божественную тьму способен воспринять только апофатический человек, человек, который носит в себе самом бездну1. Трагический нигилизм Селина при всем его внерелигиозном оформлении содержит в себе тонкое и не сразу обнаруживающееся смирение. Кажущийся, на первый взгляд, «циником» и «натуралистом», Селин представляет собой трагического подвижника. Не случайно его главной профессией была медицина, и он всю жизнь проработал врачом, обслуживающим бедняков из рабочих кварталов. Селин не любил людей, но всю жизнь помогал им, лечил и ухаживал за ними. Он был на их стороне, на стороне их нищеты и их лишенности. Он знал, что в тайном центре каждого человека дня спит ночь. И он уважал ее, презирая людей и их жалкие попытки скрыть от себя и от окружающих свою видовую трагическую сущность — свое ничто.
Альбер Камю: героика абсурда
Трагическому нигилизму Селина созвучно творчество писателя и философа-экзистенциалиста, бывшего одно время близким другом Ж.-П. Сартра, Альбера Камю2 (1913— 1960). Камю в целом разделяет идеи Сартра о негативном субъекте и делает из абсолютной и ничем не детерминированной свободы вывод о торжестве абсурда (поскольку любое оправдание, цель или этика основаны на ничто как единственном содержании человека).
Философское оформление теории абсурда и необходимости осознанно проживать его именно в таком качестве Камю предлагает
1 Дупш А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
2 Камю А. Соч.: В 5 т. Харьков: Фолио, 1998.
262
Французский Логос
в эссе «Миф о Сизифе»1. Этот типично титанический образ выбран им для того, чтобы проиллюстрировать принципиальную и неизбывную тщету человеческой экзистенции, которая по глубинным метафизическим основаниям не может иметь смысла и цели, а следовательно, человеку не остается ничего другого, кроме как принять судьбу Сизифа: стоически выполнять бессмысленные действия как реализацию полноты своей негативной свободы. В образе Сизифа у Камю мы видим иной регистр гештальта рабочего Э. Юнгера: более пессимистичный и менее героический, но столь же массивный и масштабный. По Камю, вся современность, общество, промышленность, наука, культура, производство, экономика, политика суть Сизиф, катящий камень на гору снова и снова. И снова и снова камень срывается вниз. Но в отличие от людей прежних эпох, современный человек осознает абсурдность абсурдного и не пытается скрыть ее ни от себя, ни от других. В ходе рассуждений о Сизифе Камю приходит к заключению о том, что в конечном счете Сизиф должен быть «трагически счастлив».
В другом программном философском эссе «Человек бунтующий»1 2 Камю анализирует фигуры тех мыслителей, которые ближе всего, с его точки зрения, подошли к разгадке абсурдности существования. Показательно, что в древности он выделяет носителей черной философии, то есть Логоса Кибелы — Эпикура и Лукреция. Бунт, как он его понимает, это принятие на себя полноты негативной субъектности, ассимиляция нигилизма.
Наиболее знаменитым произведением Камю является роман «Посторонний»3, герой которого — средний невыразительный человек Мерсо — совершает бессмысленное и беспричинное убийство араба и приговаривается к смертной казни. Мерсо описан как образцовый негативный субъект: все его переживания, чувства, мысли, заботы и попечения настолько поверхностны, что вообще не затрагивают его самого ни в малейшей степени. Все, что он делает, не имеет к нему самому никакого отношения. При этом и внутреннего мира у него тоже нет, лишь радикальная пустота, холодно механически регистрирующая события и процессы вокруг него. Убийство также не имеет для Мерсо никакого значения, поскольку ни жизнь, ни смерть не наделены для него существенной метафизической или этической нагрузкой. Они произвольны и свободны.
1 Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990.
2 Камю А. Человек бунтующий // Камю А. Соч.: В 5 т. Т. 3.
3 Камю А. Посторонний // Камю А. Соч.: В 5 т. Т. 1.
Культура ночи
263
В тюрьме, когда судьи и священник пытаются достучаться до его внутреннего мира, Мерсо начинает, под давлением, формулировать свою жизненную программу, резко отказываясь как от моральной оценки совершенного убийства, так и от утешений священника, побуждающего его лишь к внутреннему покаянию. Мерсо не просто аморален или нерелигиозен, он слишком ясно осознает природу человеческого, чтобы верить в мораль или религию. Его ангажированность в глубину нигилизма демонстрирует ему отчетливо абсурдность оценки действий и надежд на «хороший исход». Причем эта абсурдность еще и труслива: гораздо честнее и мужественнее, считает Мерсо, принять бессмысленность как она есть. Отвергнув диалог, Мерсо гибнет — без сожаления, без покаяния, без вступления в коммуникацию с миром, остающимся таким же пустым и отчужденным, как и во время его в нем нахождения.
Для самого Камю «Посторонний» был философским манифестом, а его героя он считал тем изданием «атеистического мессии», который соответствует нормативам и вызовам современной эпохи, «мессией Модерна». Такой «мессия» никого не спасает, но открывает людям истину об их собственной свободе и одновременно о вытекающей из абсолютности этой негативной свободы тотальной абсурдности экзистирования.
В принципе ночь героя Селина — Фердинанда Бардамю — и пустота героя «Постороннего» Мерсо метафизически относятся к одной и той же инстанции.
Андре Бретон: мумия ибиса
К типу «человека бунтующего» Альбер Камю причисляет и основоположника течения сюрреализма поэта Андре Бретона (1896 — 1966). Сюрреализм стал одним из самых известных и влиятельных течений в искусстве XX века. К этому направлению принадлежали во Франции (и Бельгии) поэты Луи Арагон (1897 — 1982), Поль Элюар (1895—1952), Гийом Аполлинер1 (1880—1918), поэт и художник Филипп Супо (1897—1990), Пьер Реверди (1889—1960), писатель, поэт и режиссер Жан Кокто (1889—1963), художники Рене Магритт (1898-1967), Макс Эрнст2 (1891-1976), Марсель Дюшан (1887 — 1968) и т.д. В Испании оно было представлено такими крупнейшими личностями в искусстве XX века, как художник Сальвадор Дали (1904— 1989) и кинорежиссер Луи Бунюэль (1900— 1983). Сюрреали-
1 Настоящее имя Аполлинера было Вильгельм Вонж-Костровицкий, он был поляком, писавшим по-французски.
2 Этнический немец, значительную часть своей жизни проведший в Париже.
264
Французский Логос
сты оказали огромное влияние на все остальные направления культурного авангарда — от дадаистов (Тристан Цара и т.д.) до кружка «Ацефал» (Батай, Кайуа и т.д.), группы «Большая Игра» (Р. Домаль и т.д.) или Сен-Жон Перса.
Бретон был его инициатором, вдохновителем и автором принципиальных программных манифестов1. Основной идеей Бретона является принципиальный дефолт классической рациональности эпохи Модерна, выраженный в необратимом и фатальном кризисе буржуазного общества. Рассудок и картезианский субъект, по Бретону и его сподвижникам по сюрреалистическому движению, не способен адекватно воспринимать реальность, которая со всех сторон переходит за его границы, нарушает его порядок, отвергает его логические секвенции. Подтверждением этой констатации для сюрреалистов были психоаналитические теории Фрейда, обнаружившие, что разум занят лишь постоянной непрекращающейся борьбой с импульсами, поднимающимися из области подсознания, которые он цензурирует, вытесняет, подавляет, проецирует, фильтрует и отбрасывает. Тем самым он оказывается не активной и самостоятельной формой существования, но лишь обороняющейся вторичной инстанцией, болезненно атакуемой темными желаниями и извращенными побуждениями, исходящими от «Оно», Id, Es.
Бретон для освобождения «Оно» предложил метод «автоматического письма», когда человеческое сознание вообще не контролирует то, что пишет рука, позволяя подсознанию самому изливать во вне свое содержание без всякой рациональной цензуры. Первым опытом такого письма стал сборник стихов Бретона и его соавтора-сюрреалиста поэта и художника Филиппа Супо «Магнитные поля»1 2.
Программа Бретона состояла в том, чтобы встать на сторону «Оно» и атаковать рассудок вместе с поднимающимися из области подсознания силами, образами и желаниями, давая им свободно и бесцензурно выразиться, проявиться и воплотиться в произведения искусства, которые, по мысли Бретона, и станут выражением подлинной реальности, превышающей, однако, границы рассудка, а следовательно, для рассудка предстающей как сверх-реальность, отсюда и название всего течения — «sur-realisme». В самом названии мы видим полемическую связь с основополагающим направлением французской культуры XIX века, представленным реализмом и опи
1 Бретон А. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М.: Прогресс, 1986.
2 Бретон А., Супо Ф. Магнитные поля // Антология французского сюрреализма 20-х годов. М.: ГИТИС, 1994.
Культура ночи
265
рающимся как раз на вполне рационального картезианского субъекта. Лишь течение «проклятых поэтов» и декадентов с их увлечением «черным романтизмом» оттеняло своими глубинными интуициями эту доминировавшую тенденцию. Сюрреалисты осмысляют себя как прямые продолжатели декадентской культуры, и ряд авторов этого направления был открыт и популяризирован именно сюрреалистами. Так, к примеру, совершенно не известный при жизни Изи-дор Дюкасс (1846—1870), опубликовавший крайне парадоксальное, атипичное и абсурдистское произведение «Песни Мальдорора»1 под псевдонимом Граф Лотреамон, был открыт (через Ф. Супо) именно Бретоном, опознавшим в нем «первого сюрреалиста».
Политически Бретон примкнул к коммунистам, был знаком с Троцким и до конца жизни принимал участие в крайне левых троцкистских и анархистских движениях.
Позицию сюрреализма и, в частности, вождя этого движения Андре Бретона точнее всего можно охарактеризовать через понятие «автономного герметизма» или «.поэтического герметизма». На это обращали внимание практически все исследователи сюрреализма. Так, специалист по творчеству сюрреалистов Мишель Карруж писал:
По мере того, как мы все более глубоко проникаем в сюрреализм, мы все больше отдаем себе отчет в том, что герме-тизм — это краеугольный камень, которым вдохновлены все его основные концепты2.
С философской точки зрения, матрицей этого мировоззрения может служить субстанциализм Спинозы (представляющий собой кибелическую и строго имманентную версию герметизма) и динамический витализм Анри Бергсона. Мир воспринимался как неразрывное поле имманентности (Бретон назвал его метафорически «Магнитным полем»), где дух и материя, субъект и объект, разум и иррациональное (проявляющееся во снах, опьянении или безумии), жизнь и смерть разделены весьма условно, будучи превращенными в трансцендентные друг другу пары лишь насильственным жестом отчуждающей механической культуры — как религиозной (в традиционном обществе), так и секулярной (в Модерне). Сюрреалисты восстали против этого разделения, которое они призвали преодолеть, открыв свободный путь для проявления сюрреальных концептов, где обыденное и чудесное, научное и шизофреническое, рациональное
1 Лотреамон. Песни Мальдорора. М.: Изд-во МГУ, 1993.
2 Carrouges М. Andre Breton et les Donnees Fondamentales du Surrealisme. P.: Gallimard, 1950. P. 20.
266
Французский Логос
и сновиденческое представали бы одновременно и сразу, объединенные импульсом к свободе и цельности жизни. При этом сам Бретон, уделявший огромное внимание дешифровке сюрреалистических произведений, самому методу своего творчества, идентифицировал главную процедуру сюрреализма как герметическое делание (Grand (Euvre), которое тождественно поэтическому деланию (CEuvre), синтетической формулой чего, по Бретону, выступал тезис Артюра Рембо об «алхимии слова» (Alchimie du Verbe). «Автономным» герметизм сюрреалистов является потому, что он не примыкает ни к какой конкретной метафизической или религиозной модели, которая могла бы встроить герметические процедуры в более полный теологический контекст (как это было с ранним герметизмом гностического толка, исламской алхимией шиита Джабира аль-Хайяна1, христианской алхимией или использованием алхимического символизма в еврейской каббале). Бретон категорически настаивает на строго имманентном характере алхимии сюрреалистов, которая обращена только к человеку и к окружающему его миру, но этот человек и этот мир, по Бретону, должны быть взяты одновременно в двух срезах: рациональном и иррациональном, homo sapiens (человек разумный) должен быть, таким образом, не противопоставлен homo demens (человеку безумному1 2), но интегрирован с ним в нечто общее, в сюрреальный синтез новой антропологии и вытекающей из нее новой космологии и новой онтологии. При этом не должно быть никакого следа трансцендентности: в этом главное условие сюрреального акта, в чем отражается его глубинная связь с Модерном и его имманентной топикой.
С другой стороны, приоритетным действием, в котором этот сюрреальный акт реализуется, по Бретону, является поэзия, поэтому главное поле развертывания герметического преображения мира — это область языка и его визуальных или звуковых аналогов (живопись, музыка), а также синтеза всех форм в «тотальном искусстве». Поэзия, по Бретону, есть способ освобождения герметического потенциала. Цель алхимии — превратить грубые металлы в ценные. Но, согласно алхимику Яну Баптисту ван Гельмонту, ее цель определяется: «дух сделать телом, а тело — духом». Само золото (алхимическое золото) есть не что иное, как метафора духовного совершенства. Поэзия служит, таким образом, для того, чтобы осуществить трансмутацию материального в духовное; материальное и духовное встречаются друг с другом в онтологии образа. М. Карруж пишет:
1 Lory Р. Alchimie et mystique en terre d'Islam. P.: Verdier, 1989; Idem. Dix traites d'alchimie de Jabir ibn Hayyan — Les dix premiers Traites du Livre des Soixante-dix. Paris: Sindbad, 1983.
2 Morin E. L'Unite de 1'Homme. P.: Le Seuil, 1974.
Культура ночи
267
Итак, алхимия есть поэзия в самом сильном значении этого слова, а сюрреализм следует понимать как алхимическую трансмутацию1.
Задача Бретона обнаружить в земном небесное, подобно тому как алхимики считали металлы застывшим в недрах земли звездным светом. В стихотворении «Револьвер со светлыми волосами» Бретон пишет:
Но земля была полна отблесками более Mais la terre etait pleine de reflets plus глубокими, чем воды неба, profonds que ceux
Как если бы металл наконец-то освобо- de Геаи дился от своей скорлупы. Comme si le mdtal eut enfin second sa
coque1 2.
Металл, освобожденный от скорлупы, снова становится светом. Слово, освобожденное от своего привычного, рационального значения, становится сюрреальным образом, концептом, мистериальной энергией жизни.
Бретон уделяет особое внимание понятию «мистерия», которое он противопоставляет понятию «чудесное»3. Классические поэты, по его мнению, искали «чудесного», отталкиваясь от обычного, оставаясь, тем самым, в плену дихотомий. Сюрреалист же ищет «мистерию», которая предшествует разделению на «обычное» и «чудесное», находясь глубже, чем любые пары противоположностей. «Мистерия» лежит не вдали от обычного, но в корнях обычного. Она взрывает обычное, превращая его в необычное, обнаруживая ми-стериальную подоплеку привычных и якобы знакомых нам вещей. Поэтому в поэмах Бретона экзотические образы (например, мумия ибиса) постоянно соседствуют с привычными деталями окружающего быта — телефонными аппаратами, пачками от сигарет, железнодорожными вокзалами. Все это — и экзотическое, и обычное — не что иное, как «Фата Моргана»4, что означает «мираж» и имя кельтской феи, сестры короля Артура. Задача сюрреалиста не развеять грезу, не выяснить рациональное содержание, растворенное в ней, но, напротив, вступить в грезу, поселиться в ней, сделать ее плотной
1 Carrouges М. Andrd Breton et les Donndes Fondamentales du Surrdalisme. P. 76.
2 Breton A. Poemes: Le Revolver a Cheveux Blancs. P.: Gallimard, 1948. P. 37.
3 Breton A. Le Merveilleux contre le Mystdre // Breton A. La Cid des Champs. P.: Sagittaire, 1953.
4 Breton A. Fata Morgana // Breton A. Poemes: Le Revolver d Cheveux Blancs.
268
Французский Логос
и сочной, единственным содержанием жизни. Истоки «Фата Морганы», секрет бытия феи — в той области, которая предшествует жизни и смерти, где скрывается ключ к единству. Бретон пишет:
Со всем тем, чего уже нет и что только Avec tout се qui n’est plus ou attend d'etre еще ждет, чтобы появиться je retrouve I'unite perdue momie d’ibis1.
Я нахожу потерянное единство мумия ибиса.
Загадочное выражение «мумия ибиса» становится квинтэссенцией Фата Морганы, поэтическим «философским камнем», соединяющим противоположности.
Мумия ибиса отсутствия выбора сквозь все, что со мной случается
Мумия ибиса, которая хочет, чтобы все, что я могу познать, Было придано мне без различений Мумия ибиса, которая делает меня в равной мере поставщиком зла и добра Мумия ибиса судьбы капля за каплей, Где гомеопатия говорит свое веское слово
Мумия ибиса количества, превращающегося во мраке в качество
Мумия ибиса горения, которое оставляет нам в каждой песчинке пепла красную точку
Мумия ибиса совершенства, Вызывающего нескончаемое сплавление несовершенных существ
Руда статуй отнимет у меня лишь то, Что не является столь ценным продуктом, как семя виселицы Мумия ибиса Ницше начиная понимать, что он одновременно
Виктор-Иммануил и два убийцы из журнала
Momie d'ibis du non-choix & travers ce qui me parvient
Momie d'ibis qui veut que tout ce que je puis savoir contribue a moi sans distinction
Momie d'ibis qui me fait Гёда1 tributaire du mal et du bien
Momie d'ibis du sort goutte A goutte ou 1'homeopathie dit son grand mot
Momie d'ibis de la quantity se muant dans 1'ombre en quality
Momie d'ibis de la combustion qui laisse en toute cendre un point rouge
Momie d'ibis de la perfection qui appelle la fusion incessante des creatures imparfaites La gangue des statues ne me ddrobe de moi-meme que ce qui n’est pas le produit aussi precieux de la semence des gibets momie d'ibis Je suis
Nietzsche commenfant a comprendre qu'il
1 Breton A. Fata Morgana.
Культура ночи
269
Асту1 мумия ибиса.
est A la fois
Victor-Emmanuel et deux assassins des joumaux
Astu momie d'ibis1 2.
Если принять гипотезу, что «мумия ибиса» означает «философский камень», объединяющий противоположности, то вся поэма может быть осмыслена как стадии изготовления философского золота — начиная с символизма женщины и любви вначале текста и заканчивая последними строками:
Прекрасные двусмысленные черты Камня Луны верхом на коне Олицетворяющей второе светило Закончив на эмблеме плачущей королевы Заботы Больше мне ничего, ничего мне больше beaux traits ambigus de Pierre de Lune a cheval Personnifiant le second luminaire Finir sur ГешЫёте de la reine en pleurs Un souci Plus ne m'est rien rien ne m'est plus
Да без тебя Солнце. Oui sans toi Le soleil3.
Ночь, в глубине которой приготовляется Камень, завершается. И последний выкрик поэмы уже явно указывает на то, что золото изготовлено — Солнце (le Soleil). Ночь превращена в день. Поэтическое золото изготовлено.
В первом томе «Ноомахии»4 мы говорили о соотношении алхимии с Логосом Диониса. Вместе с тем мы обращали внимание на поливалентность алхимического языка, который может относиться к двум ноологическим зонам — дуалистическому гностическому вертикальному мистериальному проекту спасения Антропоса из сетей материи (собственно Логос Диониса) и к имманентному представлению о «волшебной материи», предвосхищающему гилозоизм и магический материализм философии Модерна (Спиноза, теория эволюции,
1 Речь идет о письмах Ницше, впавшего в безумие. Называя себя разными именами, Ницше употребляет среди прочего загадочное слово «Асту». Этому был посвящен материал в сюрреалистском журнале «Сюрреализм на службе революции», издаваемом Бретоном. Le Surrealisme au service de la revolution. Numero Octobre 1930.
2 Breton A. Fata Morgana.
3 Ibid.
4 Дугин А. Г. Ноомахия. Три Логоса.
270
Французский Логос
Бергсон), и продолжающему линию материалистов древности — Демокрита, Эпикура и Лукреция. В алхимии одному пласту означающих соответствует два — причем качественно разнородных, с точки зрения ноологической структуры — пласта означаемых. Эта амбивалентность составляет игровую основу алхимии как «веселой науки». На эту двойственность указывает крупнейший французский специалист по герметизму А.-Ж. Фестюжьер1, отмечая, что под обличием герме-тизма скрываются по сути две резко отличные доктрины: имманентно-монистическая и гностико-дуалистическая.
В поэзии Бретона и в сюрреализме в целом эта амбивалентность в полной мере сохраняется, но приобретает еще и социально-политические измерения. В той мере, в какой сюрреалисты солидарны с Модерном и его философской топикой, мы имеем дело с черной алхимией, обращенной к Логосу Великой Матери. В той мере, в какой сюрреализм радикально революционен и жестко противостоит Модерну — индивидуализму, рационализму и капитализму в целом, можно говорить о намеке на дуалистический сотериологической импульс, сближающийся скорее с Логосом Диониса. Иными словами, мы оказываемся в самом центре той проблематики, которую мы идентифицировали у «проклятых поэтов», когда вопрос встал о том, что приходит на смену фигуре Прометея в процессе укрепления позиций культуры декаданса: это дилемма Диониса и его двойника, его «черного дубля». Для сюрреализма это главная проблема, не поставленная, не осознанная и не выявленная четко, а поэтому по-настоящему центральная.
Андре Бретон, тем не менее, ясно понимал значение сюрреализма для всей структуры французского историала. Поэтому он обращает — в духе своего сюрреального метода — повышенное внимание на мифологические узлы французской истории, и в частности, на образ феи Мелюзины, которую мы уже неоднократно встречали в самой основе французской идентичности как фундаментальную черту типично кельтского «хрупкого патриархата», готового при определенных обстоятельствах соскользнуть в зону хтонического восстания женского начала. Эта тема центральна в тексте Бретона «17 аркан»2, написанном в 1944 году. Он посвящен 17 аркану карт Марсельского таро, где изображена обнаженная женщина в окружении звезд, цветов, бабочек и птиц, с двумя кувшинами, из которых она льет воду в поток или пруд. Аркан носит имя «Звезда» (L'Etoile). Бретон отождествляет ее с Мелюзиной и дает ее макросмическую интерпретацию:
1 Festu.giereA.-J. L’Hermdtisme. Gleerup: Lund О. С. К., 1948. Р. 54.
2 Breton A. Arcane 17 // Breton A. (EUvres completes. 3 v. V. 3. P.: Gallimard, 1999.
Культура ночи
271
Мелюзина в момент второго крика: Она изливается из своих бедер без округлостей, ее чрево — весь урожай августа, ее торс извергается феервер-ком из ее изогнутой талии, принимая форму крыльев ласточки, ее груди — горностаи, схваченные своим собственным воплем, ослепляющие так, что освещают раскаленным углем их кричащего рта. И ее руки душа ручьев, которые поют и благоухают. И под локонами ее озолоченых волос собираются все черты «женщины-ребенка», того особого типа, который всегда фас-цинировал поэтов, так как время над ними не властно.
Mdlusine А Г instant du second cri: elle a jailli de ses hanches sans globe, son ventre est toute la moisson d'aoflt, son torse s'dlance en feu d'artifice de sa taille cam-Ьгёе, moulde sur deux ailes d'hirondelle, ses seins sont des hermines prises dans leur propre cri, aveuglantes & force de s'dclairer du charbon ardent de leur bouche hurlante. Et ses bras sont 1'ame des ruisseaux qui chantent et parfument. Et sous I'dcroulement de ses cheveux d£dords se composent a jamais tous les traits dis-tinctifs de la «fenune-enfant», de cette vari6td si particultere qui a toujours sub-jugu6 les podtes, parce que le temps sur elle n'a pas de prise1.
«Второй крик» Мелюзина испускает в тот момент, когда навсегда покидает родной замок и облетает его, превратившись в драконес-су, то есть приняв свой собственный облик, в мучительном прощании. Бретон ясно осознает, что магический историал Франции — от кельтских мифов через катаров, тамплиеров и проклятых поэтов — ведет к нему самому, что делает сюрреализм важнейшим элементом золотой цепи, которую сам Бретон идентифицирует как непрерывность галльской богини, женщины-дракона, обнаруживающей себя и в XX веке — посреди индустриального, технического и рационального пейзажа, казалось бы не имеющего ничего общего с загадкой космической и амбивалентной (как сама алхимия) женственности. Так, Бретон пишет в «17 аркане»:
(...) я проходил вместе с Нервалем по золотой цепи. Мелюзина, Эскларамонда де Фуа, царица Савская, Утренняя Дама с кувшинами, прекрасные в их порядке и в их единстве служат мне в этом самой надежным доказательством. (...) Моя единственная звезда жива...
(...) j'avais chemind avec Nerval le long du sillon dord. Mdlusine, Esclarmonde de Foix, la reine de Saba, Isis, la Verseuse du Matin, les trds belles dans leur ordre et leur unit6 m'en resteront les plus sflres garan-tes.(...)
Ma seule dtoile vit...1 2
1 Breton A. Arcane 17.
2 Ibid.
272
Французский Логос
Фраза «моя единственная звезда жива...» (Ma seule etoile vit) — прямой парафраз Нерваля «моя единственная звезда мертва» (Ma seule etoile est morte).
Благодаря метафизической и методологической рефлексии Бретона все течение сюрреализма открывается с новой стороны — как сложное и амбивалентное продолжение традиции французского герметизма, уходящего корнями в глубины именно французской идентичности, и далее — еще глубже — в мистериальную субстанцию кельтского Dasein' а.
Морис Бланшо: эссенциальная ночь Орфея
Французский писатель-мыслитель и эссеист Морис Бланшо (1907 — 2003) показателен тем, что подобно Камю и Бретону, создавая оригинальные и чрезвычайно убедительные литературные произведения, он внимательно размышляет над их философскими аспектами, над методом и в целом над метафизическим полем означаемого — как на примере собственных текстов, так и анализируя произведения других авторов. В творчестве Бланшо оригинальные тексты (романы «Темный Фома», «Аминадав», повести «Последний человек», «При смерти» и т.д.) занимают такое же место, как и литературоведческие1 и культурологические эссе, посвященные Лотреа-мону, де Саду, Кафке, Арто и т.д.
В качестве иллюстрации к теме французского Логоса возьмем у Бланшо его небольшое эссе «Взгляд Орфея»1 2, где он трактует метафизику этого образа, имея в виду средостение тех споров, которые велись среди представителей французского авангарда о роли творчества, философии искусства и связи мифов и гештальтов с культурой и историей.
Бланшо на примере фигуры Орфея рассматривает, по сути, центральную версию французского историала.
Так, он пишет:
Когда Орфей спускается к Эвридике, искусство есть могущество, с помощью которого вскрывается ночь. В силу искусства ночь и принимает Орфея, становится для него интимным приятием,
Quand Orphee descend vers Eurydice, 1'art est la puissance par laquelle s'ouvre la nuit. Lanuit, par la force de 1'art, 1'accueille, devient I'intimitd accueillante, Г entente et Г accord de la premiere nuit. Mais c'est vers
1 Бланшо M. Пространство литературы. M.: Логос, 2002.
2 BlanchotM. Le regard d'Orphde // Blanchot M. Espace littdraire. P.: Gallimard, 1955. P. 179 —184. Русский перевод: Бланшо M. Взгляд Орфея // Бланшо М. Ожидание забвения. СПб.: Амфора, 2000.
Культура ночи
273
взаимопониманием и согласием первой ночи. Но Орфей сошел к Эвридике: для него Эвридика — самый предельный момент, который только и может быть достигнут искусством; Эвридика, спрятанная под своим именем и прикрытая скрывающей вуалью, есть глубинно черная точка, к которой тянутся искусство, желание, смерть и ночь. Она есть мгновение, когда сущность ночи приближается как другая ночь.
Eurydice qu'Orphee est descendu: Eu-rydice est, pour lui, I'extreme que 1'art puisse atteindre, elle est, sous un nom qui la dissimule et sous un voile qui la couvre, le point profonddment obscur vers lequel 1'art, le ddsir, la mort, la nuit semblent ten-dre. Elle est 1'instant ой 1'essence de la nuit s'approche comine Vautre nuit1.
Этот пассаж описывает структуру произведения искусства, как ее понимает Бланшо. Орфей — творческое мужское активное начало. Он обладает могуществом слова, но это могущество не содержит в себе жизненного содержания, вещественного наличия — немого, невнятного, неопределенного (определение возникает в слове), но, тем не менее, наличествующего, тогда как слово способно лишь указывать на наличие, а не заменять собой его. Ночь здесь открывается как означаемое, но еще не означенное, не дифференцированное, не получившее границ. Эвридика — это то, из чего состоит произведение искусства, то, что находится в его основании. Эвридика под землей, потому что она и есть земля.
Эта «точка», творение Орфея состоит не только в том, чтобы обеспечить к ней приближение через погружение в глубину. Его творение состоит в выведении к дневному свету, чтобы придать ей там при свете дня форму, фигуру и реальность. Орфей может все, кроме одного — смотреть прямо на эту «точку» лицом к лицу, в ночи ему запрещено созерцать ее центр. Он может спуститься к ней, он может — ив этом проявляется еще большее могущество — привлечь ее к себе, с собой и к верху, но только при условии, что он будет смотреть в другую сторону. Отвернуться от нее — его единственный способ к ней приблизиться: таков смысл дисси-
Се «point», V oeuvre d’Orphde ne con-siste pas seulement & en assurer 1'approche en descendant vers la pro-fondeur. Son oeuvre, c'est de le ra-mener au jour et de lui donner, dans le jour, forme, figure et reality. Orphde peut tout, sauf regarder ce «point» en face, sauf regarder le centre de la nuit dans la nuit. Il peut descendre vers lui, il peut, pouvoir encore plus fort, 1'attirer й soi, et, avec soi, 1'attirer vers le haut, mais en s’en detoumant. Ce ddtour est le seul moyen de s’en ap-procher: tel est le sens de la dissimulation qui se revele dans la nuit. Mais
1 Blanchot M. Le regard d'Orphee. P. 179.
274
Французский Логос
муляции, обнаруживающийся в ночи. Но Орфей в движении своей миграции забывает о произведении, которое должен совершить, и он забывает с необходимостью, поскольку главное требование его движения не в том, чтобы получилось произведение, но чтобы был кто-то, кто встал лицом к лицу с этой «точкой», схватил ее сущность там, где эта сущность обнаруживается, где она эссенциальна и эссенциально явлена: в сердце ночи.
Orphee, dans le mouvement de sa migration, oublie Г oeuvre qu'il doit ac-complir, et il 1'oublie ndcessairement, parce que 1'exigence ultime de son mouvement, ce n'est pas qu'il у ait oeuvre, mais que quelqu'un se tienne en face de ce « point », en saisisse 1'essence, Ы ou cette essence apparait, ой elle est essentielle et essentielle-ment apparence: au coeur de la nuit1.
Здесь Бланшо подходит к принципиальной теме: к различию между произведением искусства и мистериальной философией. Произведение искусства касается стихии ночи, нижней ее точки (Эвридики), чтобы этот импульс безграничного (dirEipov) стал подосновой того, что он выразит в слове (песне, картине). Художник, спустившись в центр ночи, немедленно спешит наверх, оттолкнувшись от ее дна. Но Орфей не только художник, хочет сказать нам Бланшо. Он кто-то еще. Он есть субъект трансмиграции по мирам, ищущий не мгновенного вдохновения бездны, но окончательного решения ее метафизической проблематики. Он ищет в бездне то, что под ней (за ней) скрыто. То есть саму бездну. И он настаивает на том, чтобы они предстали друг другу лицом к лицу. Это принципиально. Здесь заканчивается область искусства и начинается область философии, мистериальной философии, философии ночи.
Бланшо продолжает:
Греческий миф утверждает: невозможно создать произведение, если ничем не ограниченный опыт глубины, опыт, который греки считали необходимым для творческого акта, опыт, в котором произведение проходит испытания, не пройден во имя его самого. Глубина при этом не позволяет столкнуться с ней лицом клицу, она раскрывается, лишь пряча саму себя в произведении. Таков фундаментальный, неумолимый ответ.
Le mythe grec dit: Гоп ne peut faire oeuvre que si Гехрёпепсе dёmesurёe de la profondeur — ехрёпепсе que les Grecs reconnaissent ndcessaire a I’oeuvre, ехрёпепсе ой cette oeuvre est а Гёргешге de sa ddmesure — n'est pas poursuivie pour elle-meme. La profondeur ne se livre pas en face, elle ne se гёуё1е qu'en se dissimulant dans 1'oeuvre. Reponse capitale, inexorable.
1 Blanchot M. Le regard d,Orphёe. P. 179.
Культура ночи
275
Но миф показывает, тем не менее, что судьба Орфея в том, чтобы не подчиниться этому последнему закону, — и оборачиваясь к Эвридике, Орфей, безусловно, разрушает произведение, которое тут же распадается и Эвридика опять превращается в тень; эссенция ночи, под взглядом Орфея, открывается как нечто неэссенциальное, не имеющее сущности. Так Орфей предает и произведение, и Эвридику, и ночь. Но и не обернуться к Эвридике, это все равно не избежать предательства, но только на сей раз предательства своей безмерной и неосторожной силы своего движения, которая взыскует не Эвридики в ее дневной истине и повседневном обаянии, но в ночном мраке, в удаленности, с замкнутым телом и опечатанным лицом; Орфей хочет видеть Эвридику, не когда она видима, но когда невидима, не в интимности семейной жизни, но в предельной удаленности от нее, исключающей всякую интимность, не оживить ее, но воспринимать в ней полноту жизни ее собственной смерти.
Mais le mythe ne montre pas moins que le destin d'Orphee est aussi de ne pas se soumettre a cette loi der-niere, — et, certes, en se toumant vers Eurydice, Orphee ruine I'ceuvre, Г oeuvre immddiatement se ddfait, et Eurydice se retoume en 1'ombre; 1’es-sence de la nuit, sous son regard, se rdvdle comme 1’inessentiel. Ainsi tra-hit-il I'ceuvre et Eurydice et la nuit. Mais ne pas se toumer vers Eurydice, ce ne serait pas moins trahir, etre infiddle a la force sans mesure et sans prudence de son mouvement, qui ne veut pas Eurydice dans sa vdrite diume et dans son agrement quotidien, qui la veut dans son obscuritd nocturne, dans son eloignement, avec son corps fermd et son visage scelld, qui veut la voir, non quand elle est visible, mais quand elle est invisible, et non comme I'intimitd d'une vie familidre, mais comme I'dtrangete de ce qui exclut toute intimitd, non pas la faire vivre, mais avoir vivante en elle la pldnitude de samort1.
Это довольно неожиданный поворот мысли Бланшо показывает уникальность фигуры и миссии Орфея в контексте греческой культуры. Грек сталкивается с ночью только для того, чтобы приблизить наступление дня. Грек — человек дня, диурна, поэтому он возводит взгляд к небу и солнцу, чтобы лицезреть олимпийских богов, а к Гадесу и богам смерти всегда поворачивается спиной. Таковы и ритуальные позы во время осуществления обрядов, предназначенных для подземных божеств смерти и забвения. Грек уважает ночь, но не зачарован ей. Он всегда обращен
1 Blanchot М. Le regard d’Orphde. Р. 180.
276
Французский Логос
к ней спиной, и в этом двойственность его вежливого и несколько отстраненного отношения к земле. Но Орфей, в таком случае, не грек или не совсем грек (недаром миф настаивает на его фракийском происхождении — как и на фракийском происхождении Диониса). Поэтому Орфей хочет чего-то большего, нежели грек — он хочет познать ночь, пройти опыт ее до конца и заглянуть за ее последний предел. Ему нужна не живая Эвридика, но мертвая. Не произведение искусств, урвавшее субстанциальную опору у хтонической стихии, но разгадка философской тайны материи, ее мистерии.
Бланшо говорит об этом предельно четко:
Для того, чтобы найти лишь это, Орфей и спустился в преисподнюю. Вся слава его произведения, все могущество его искусства и само желание счастливой жизни в милой ясности дня принесены в жертву одной-единственной заботе: разглядеть в ночи то, что скрыто за ней, другую ночь, сделать акт сокрытия актом явления.
C'est cela seulement qu'il est venu chercher aux Enters. Toute la gloire de son oeuvre, toute la puissance de son art et le ddsir тёте d'une vie heureuse sous la belle clartd du jour sont sacrifids a cet unique souci: regarder dans la nuit ce que dissimule la nuit, Г autre nuit, la dissimulation qui apparait1.
Орфея интересует тайна женского начала, которым он фасци-нирован несколько больше, чем греки. И соответственно, его сила несколько больше, чем их сила, а его произведение несколько масштабнее, чем их произведения.
Бесконечно проблематичное движение, которое день осуждает как неоправданное безумие либо как чрезмерное искупление. Для дня нисхождение в преисподнюю, движение к тщетной глубине — есть нечто чрезмерное. И Орфей с неизбежностью преступает закон, воспрещающий ему «оборачиваться», поскольку он уже преступил его с первых шагов во тьму. Это замечание позволяет нам предположить, что, на самом деле, Орфей был все время обращен к Эвридике: он видел ее невидимой;
Mouvement infiniment probldma-tique, que le jour condamne comme une folie sans justification ou comme 1'expiation de la demesure. Pour le jour, la descente aux Enters, le mouvement vers la vaine profondeur, est deja demesure. И est inevitable qu'Orphee passe outre a la loi qui lui interdit de «se retoumer», car il la violde dds ses premiers pas vers les ombres. Cette remarque nous fait pressentir que, en rd
1 Blanchot M. Le regard d'Orphee. P. 180.
Культура ночи
277
он трогал ее в ее нетронутости, в ее теневом отсутствии, в этом прикровенном присутствии, которое могло быть сокрыто ее отсутствием, которое было присутствием ее бесконечного отсутствия. Если бы он не посмотрел на нее, он не привлек бы ее к себе, и она и не была бы там, но и он в своем взгляде становится отсутствующим, не менее мертвым, чем она сама, мертвым не этой спокойной смертью мира, которая есть покой, тишина и конец, но другой смертью, которая есть бесконечная смерть, испытание отсутствием конца.
alite, Orphee n'apas сеээё d’etre toume vers Eurydice: il Га vue invisible, il Га touch6e intacte, dans son absence d'ombre, dans cette presence voilee qui ne dissimulait pas son absence, qui £tait prdsence de son absence infinie. S'il ne 1'avait pas re gardde, il ne I'eAt pas attirde, et sans doute elle n’est pas la, mais lui-meme, en ce regard, est absent, il n’est pas moins mort qu'elle, non pas mort de cette tranquille mort du monde qui est repos, silence et fin, mais de cette autre mort qui est mort sans fin, £preuve de 1’absence de fin1.
Здесь Бланшо подходит к главному: Орфей воспринимает ночь и смерть радикально иначе, чем все остальные. Все остальные (греки) принадлежат к половине дня и жизни, наличия и света. Когда свет гаснет, наступает ночь. Эта ночь — привативна, поэтому она есть покой. В ней все застывает, засыпает, успокаивается. Тень есть рассеянная вещь, утекающая энтропически в бесконечные складки материи. Отсутствие измеряется по присутствию, наличию, и если наличие заканчивается, начинается другое наличие, а прежнее исчезает. Это световой день и его порядок. Индоевропейский мир, построенный на отрицании онтологии ночи. Женщина — посланница ночи — в нем покорена и приручена; она согласна найти себе место в структурах дня — во внутренних покоях, на ложе, в норе. Там она уместна, но не более того. Прирученное ничто твердо определено и размечено. Оно не составляет тайны, ни таинства. Оно опасно, но в гомеопатических дозах способствует повышению тонуса.
Орфей же считает иначе. Он сам принадлежит ночи, является ее родственником — отсюда его имя «темный» ('Орфсгэс; — 6p<pvr|, мрак, тьма). Поэтому его отношения с Эвридикой в преисподней продолжают какую-то более развернутую нить спора с мирами Аполлона (его отца, по одной из версий мифа), которую мы не знаем в деталях. Бланшо пытается достроить ее, исходя из известных нам элементов:
1 Blanchot М. Le regard d’Orphde. Р. 180—181.
278
Французский Логос
День, оценивая предприятие Орфея, упрекает его в проявлении нетерпения. Ошибка Орфея состоит в этом случае в том, что он дает увлечь себя страстному желанию увидеть Эвридику и овладеть ею, хотя единственной его миссией было ее воспеть. Орфей лишь в песне может иметь отношения с Эвридикой, лишь в гимне его жизнь и его истина находятся в поэме и даются поэмой, а Эвридика представляет собой не что иное, как магическую зависимость, которая вне песни превращает его самого лишь в тень, предоставляя ему возможность свободы, жизни и суверенности только в пределах орфической меры. Да, это так: только в пении Орфей обладает властью над Эвридикой, но верно и то, что в песне Эвридика уже потеряна, а сам Орфей расчленен, ведь сила его же песни и делает его отныне «бесконечно мертвым». Он теряет Эвридику, поскольку желает ее по ту сторону положенных песне пределов, и он теряет самого себя, но и это желание, и потерянная Эвридика, и расчлененный Орфей необходимы для песни, как для произведения необходимо испытание вечным недеянием.
Le jour, jugeant Г entreprise d'Orphde, lui reproche aussi d'avoir fait preuve d’impatience. L'erreur d'Orphde semble etre alors dans le ddsir qui le porte й voir et A pos-sdder Eurydice, lui dont le seul destin est de la chanter. Il n’est Orphde que dans le chant, il ne peut avoir de rapport avec Eurydice qu'au sein de 1'hymne, il n’a de vie et de vdritd qu'aprds le podme et par lui, et Eurydice ne reprdsente rien d'autre que cette ddpendance magique qui hors du chant fait de lui une ombre et ne le rend libre, vivant et souverain que dans 1'espace de la mesure orphique. Oui, cela est vrai: dans le chant seule-ment, Orphde a pouvoir sur Eurydice, mais, dans le chant aussi, Eurydice est ddjd perdue et Orphde lui-meme est disperse, r«infiniment mort» que la force du chant fait dds maintenant de lui. Il perd Eurydice, parce qu’il la ddsire par-dela les limites mesurdes du chant, et il se perd lui-meme, mais ce ddsir et Eurydice perdu et Orphde dispersd sont ndcessaires au chant, comme est ndcessaire d I'ceuvre 1'dpreuve du ddsoeuvrement dternel1.
День судит Орфея. Он упрекает его в нетерпении, в чрезмерности. Для олимпийского порядка греков «чрезмерность», 60pt<;, была худшим из преступлений, поскольку представляла собой парадигму и исток всех преступлений. Это была отличительная черта титанов. Титаны не знают стиля, не знают меры. Они — порождения безмерности, anEipov, и слишком укоренены в ее стихии. Орфею полагается лишь отмеренная порция ночй, необходимая для содержания его песни. И если он выходит за рамки, хочет чего-то большего, то переходит на сторону врагов олимпийского порядка. Он становится на сторону титанов.
1 Blanchot М. Le regard d'Orphde. P. 181.
Культура ночи
279
Бланшо развивает эту мысль:
Орфей виноват в нетерпении. Его ошибка состоит в том, что он хочет исчерпать бесконечность, положить предел беспредельному, отказывается бесконечно выносить движение своей собственной ошибки. Нетерпеливость — это ошибка того, кто хочет ускользнуть от отсутствия времени, терпение же — хитрость, заключающаяся в том, чтобы укротить это отсутствие, превращая его в иное время, время измеряемое иначе. Но истинное терпение не исключает нетерпеливости, с которой оно интимно связано; терпение есть выстраданная и бесконечно длящаяся нетерпеливость. Нетерпение же Орфея, оказывается, в целом есть справедливое движение: в нем начинается то, что позднее определит его страсть, его высшее терпение, его бесконечное пребывание в смерти.
ОгрЬёе est coupable d1 impatience. Son erreur est de vouloir epuiser I'infini, de mettre un terme a Tinterminable, de ne pas soutenir sans fin le mouvement meme de son erreur. L'impatience est la faute de qui veut se soustraire а Г absence de temps, la patience est la ruse qui cherche a mai-triser cette absence de temps en fai-sant d'elle un autre temps, autrement mesure. Mais lavraie patience n'exclut pas I'impatience, elle en est I'intimitd, elle est I'impatience soufferte et endu-rde sans fin. L'impatience d'Orphee est done aussi un mouvement juste: en elle commence ce qui va devenir sa propre passion, sa plus haute patience, son sdjour infini dans la mort1.
Бланшо пытается здесь снять противоречие между виновностью Орфея, о которой ясно говорит миф, и его оправданием, к которому он ведет. Но на самом деле, эта оппозиция, решаемая Бланшо в духе французской культуры по модели ленты Мёбиуса (речь начинается с одного тезиса, чтобы плавно и незаметно перейти к прямо противоположному), связана со структурами Логосов. Для Логоса Аполлона Орфей совершает грех титанов — иРрк;. Он форсирует границы пре-дестинации, восставая против декрета мойр. Этот декрет, который больше всего волновал в последние годы Мартина Хайдеггера (как об этом свидетельствовал его ученик — профессор фон Херманн), требует терпения и, как точно говорит Бланшо, «укрощения времени». Ночь и женщина нужны всегда, чтобы всегда быть снятыми могуществом мужского слова. И для аполлонического космоса другого ответа нет. Это — закон дня, диурна; солярный закон вечной войны со смертью, где вечны и смерть, и война. Орфей же соскальзывает к другому Логосу, где смерть приобретает объем, параметры, сущность, жизнь. Это — оживающая смерть, и именно ее Орфей стремится сделать содержанием пения. Это совсем иное произведение — произведение из регистра Диониса. Поэтому и ночь здесь другая. Это — сакральная ночь, «Heilige Nacht» Гёльдерлина, эссенциальная ночь (la nuit essentielle).
1 BlanchotM. Le regard d'Orphde. P. 181.
280
Французский Логос
В конце эссе Бланшо ставит точки над i:
Эссенциальная ночь, за которой следует Орфей — перед его беззаботным взглядом — сакральная ночь, которую он околдовывает своим пением, оказывается тогда помещенной в пределы и отмеренное пространство пения — эта ночь более богатая, более царственная, чем пустая тщета, в которую она превращается, когда Орфей на нее больше не смотрит. Сакральная ночь заключает в себе Эвридику, она заключает в песню и то, что намного превосходит песню. И сама она оказывается заключенной: она связана, она принуждена следовать, это сакральное, укрощенное посредством ритуалов. Взгляд Орфея развязывает ее, проламывает все ограничения, разбивает закон, который ее сдерживал, который ограждал ее сущность. Поэтому взгляд Орфея — это экстремальный момент свободы, момент, когда он сам освобождается от самого себя, и что является еще более важным событием, освобождает произведение от заботы, высвобождает сакральное, скрытое в произведении, возвращает сакральное к нему самому, к свободе его эссенции, к эссенции, которая есть свобода (вдохновение поэтому есть высший дар). Все поставлено на карту в решимости этого взгляда. В этом решении сила взгляда затрагивает сам исток, и эта сила освобождает эссенцию ночи, снимает заботу, прерывает непрерывное, обнажая его: этот момент желания, беззаботности и высшей власти.
La nuit essentielle qui suit Orphee — avant le regard insouciant, — la nuit sacrde qu'il tient dans la fascination du chant, qui est alors maintenue dans les limites et 1'espace mesurd du chant, est, certes, plus riche, plus auguste, que la futilitd vide qu'elle devient aprds le regard. La nuit sacrde enfenne Eurydice, elle enfer-me dans le chant ce qui ddpasse le chant. Mais elle est aussi enfermde: elle est lide, elle est la suivante, le sacrd maltrisd par la force des rites. Le regard d'Orphde la delie, rompt les limites, brise la loi qui contenait, retenait 1'essence. Le regard d'Orphde est, ainsi, le moment extreme de la libertd, moment oti il se rend libre de lui-meme, et, dvdne-ment plus important, libdre Г oeuvre de son souci, libdre le sacrd contenu dans 1'oeuvre, donne le sacrd a lui-meme, a la libertd de son essence, a son essence qui est libertd (I'inspiration est, pour cela, le don par excellence). Tout se joue done dans la ddcision du regard. Cest dans cette decision que 1'origine est approchde par la force du regard qui ddlie 1'essence de la nuit, Idve le souci, interrompt Г incessant en le dd-couvrant: moment du ddsir, de 1'insouciance et de 1'autoritd1.
Пытаясь помериться силами с бездной, Орфей заканчивает тем, что освобождает ее, выпускает ночь наружу. Тем самым, все проблемы достигают своей экстремальной фазы: ночь и день, мужское и женское, жизнь и смерть, ничто и мир сталкиваются друг с другом непосредственно, и весь ужас этого столкновения оказывается на совести бесстрашного певца — Орфея. Это чрезвычайно опасный,
1 Blanchot М. Le regard d'Orphde. Р. 183— 184.
Культура ночи
281
невероятно дерзкий опыт, в котором мы видим нерешенный и от этого еще более ужасающий баланс между Логосом Диониса и Логосом Кибелы. Орфей своим взглядом, своей «нетерпеливостью» освобождает эссенциальную ночь. Это — Фата Моргана, дракон Мелюзина, бездонная кельтская мистерия. В оптике той традиции, к которой относится сам Бланшо, культурная принадлежность Орфея не вызывает сомнений: Орфей — келып, пробудивший ужас ничто, чтобы созерцать секреты сакральной ночи.
В этом Бланшо суммирует парадоксальный историал мистери-альной Франции — от трубадуров Прованса до сюрреалистов. Орфей открывается здесь как абсолютный гештальт Франции.
Жан Кокто: ангел Эртебиз
Тема Орфея также является осевой для другого крупнейшего французского писателя, драматурга и кинорежиссера Жана Кокто1 (1889— 1963), знавшего М. Пруста, А. Жида и в определенный период времени тесно пересекавшегося с сюрреалистами и дадаистами.
Творчество Кокто разнообразно: он сотрудничает с композиторами авангарда (в частности, с Эриком Сати), принимает участие в постановке «Русских балетов» Сергея Дягилева, ставит совместно с Пикассо и тем же Сати сюрреалистический балет «Парад». Активно продвигает художников, писателей, актеров и поэтов. Так, он поддерживал тесные дружеские отношения с певицей и актрисой Эдит Пиаф, написав специально для нее пьесу «Безразличный красавец», и со знаменитым актером Жаном Маре.
Кокто является автором многочисленных картин, фресок, мозаик и других артефактов, посвященных преимущественно сюжетам греческой мифологии. Так, Кокто полностью расписал виллу богатого нефтяного магната Алекса Весвеллера «Санто Соспир» сюжетами из эллинской религии и Библии, причем первым он в порыве творческого вдохновения изобразил над камином фигуру Аполлона, а затем принялся покрывать картинами и фресками остальные помещения (поддерживаемый в этой инициативе Анри Матиссом).
Несмотря на множество творческих занятий, самого себя Кокто всегда определял как поэта.
В юности на него огромное впечатление произвели стихи и личность молодого поэта Раймона Радигэ2 (1903 — 1923), чья безвременная кончина была для Кокто ударом и, возможно, стала причиной
1 Кокто Ж. Соч.: В Зт. М.: Аграф, 2001 -2005.
2 Radiguet R. (Euvres completes de Raymond. P.: Editions Grasset & Fasquelle, 1952.
282
Французский Логос
его пристрастия к опиуму, с которым он боролся всю жизнь. Фигура Раймона Радигэ стала конститутивной частью творчества Кокто в персоне «ангела Эртебиза», который выступает проводником между миром живых и миром мертвых. Кокто посвятил ему свою энигматическую поэму, расшифровкой и обыгрыванием которой многие критики считают все остальное его творчество.
Иногда сам Кокто превращается в Эртебиза, сливаясь с ним в одно. А иногда Эртебиз выступает как его двойник, тень, враг или, напротив, тайная сущность.
Ангел Эртебиз
Ангел Эртебиз на муаровых ступенях бьет меня своим крылом, освежает мою память, Мерзавец совсем один, неподвижен, Со мной в агатовых тонах, разбивая, осел, твою сверхъестественную поклажу.
Ангел Эртебиз, немыслимо жестокий, прыгает на меня. К счастью, его прыжок не слишком тяжел.
Юноша-зверь, цветок
Высшей Пробы.
Я следую за ним, прикованный к постели.
Это только так происходит.
У меня туз; зафиксируй это.
А у тебя?
Ангел Эртебиз отталкивает меня.
И Вы, царь Исус, милосердный, Подтяните меня, привлеките меня до прямого угла Ваших острых коленей.
Это наслаждение без примеси. Чур меня!
Развяжи же веревку, я умираю.
Ангел Эртебиз и Ангел
Сежест, убитый на войне —
Какое неслыханное имя — играют роль чудовищ,
Чьи жесты не пугают
Вишни небесного вишневого дерева
Под створками церкви, Привыкшей к жесту да!
Ангел Эртебиз, мой ангел-хранитель, Я тебя сам охраню, я делаю тебе больно,
L'ange Heurtebise
L'ange Heurtebise, sur les gradins En moire de son aile
Me bat, me rafraichit la mdmoire,
Le gredin, seul, immobile
Avec moi dans 1'agate, Que brise, ane, ton bat Sumaturel.
L'ange Heurtebise, d’une brutality Incroyable, saute sur moi. De grace Ne saute pas si fort
Garmon bestial, fleur de haute Stature.
Je m'en suis alitd. En voila
Des famous. J’ai 1'as; constate.
L'as-tu?
L'ange Heurtebise me pousse.
Et vous roi Jdsus, misdricorde, Me hissez, m'attirez jusqu 'A I'angle Droit de vos genoux pointus.
Plaisir sans mdlange. Pouce! Ddnoue La corde, je meurs.
L'ange Heurtebise et l'ange
Cdgeste tud a la guerre — quel nom
Inoui' — jouent
Le r61e des dpouvantails
Dont le geste non effraye
Les cerises du cerisier cdleste
Sous le vantail de 1’dglise
Habitud au geste oui.
Ange Heurtebise, mon ange gardien,
Культура ночи
283
Я разбиваю тебя, я тебя меняю Вокзалами, часами.
Защищайся! Я вызываю тебя на бой, ты же мужчина. Признайся, мой ангел в свинцовых белилах, твоя красота захвачена фотографией вспышкой магнезии.
Ангел Эртебиз в одежде из воды, Мой возлюбленный ангел, милосердие Делает мне больно. Мне больно От Бога, он мучит меня.
Во мне демон стал черепахой,
Когда-то это животное было мелодичным.
Приходи же, вылезай из агата, из плотного дыма, о скорость, которая убивает.
На твоей бриллиантовой патине начерчено зеркало заболеваний. Стены
Стен (ы)
Имеют уши,
И зеркала,
Глаза возлюбленного.
Ангел Эртебиз изобилует, мозги самолета в бузине и на алебастровой ткани.
Время пришло. Нужно еще спуститься мне на помощь, голова вначале, через стакан, без недостаток глаз, пустота, остро, где поет другой. Доставай же свою шпагу, подходи замедленно, безумная звезда. Не твое ли тело мое? Ах!
Если бы у нас были твои бедра, Одетые в камень, злой Зверь благому Богу. Ангел Эртебиз, со звериными конечностями, Голубизна небес явилась. Я один, полностью обнаженный и без Евы, без усов, без карты.
Пчелы Соломона уклоняются, поскольку я слишком плохо ел свой мед
Je te garde, je te heurte, Je te brise, je te change De gare, d’heure.
En garde 6td! Je te defie, Si tu es un homme. Avoue, Mon ange de сёгиве, ta beauts Prise en photographie par une Explosion de magnesium.
Ange Heurtebise, en robe d'eau, Mon ange аппё, la grace Me fait mal. J'ai mal
A Dieu, il me torture.
En moi le demon est tortue, animal Jadis melodieux. Arrive, Sors de 1'agate
Dure fumde, 6 vitesse qui tue. Sur tes patins de diamant raye Le miroir des malades.
Les murs
Les mur
Ont des oreilles, Et les miroirs Des yeux d’amant. Ange Heurtebise abonde, moelle D'avion en sureau et en toile d'albitre. C'est 1'heure. П faut encore Descendre a mon secours, la tfete La premiere, a travers le verre Sans defaut des yeux, le vide, 1'ile Ой chante 1'atre. Sors ton ёрёе, Viens au ralenti, folle ёЬэПе.
Que n'ai-je ton corps? Ah! Si nous avions tes hanches Огарёве de pierre, mechante Bete й bon Dieu.
L’ange Heurtebise, aux pieds d’animal Bleu de ciel est venu. Je suis seul, Tout nu sans Eve, sans moustaches, Sans carte.
284
Французский Логос
Из горького чабреца, свой мед из Анд. Внизу море сегодня утром повторяет Сто раз глагол любить. Ватные ангелы, непристойные, грязные, по траве тащат гигантское вымя географических коров. Ангел Эртебиз, я побеждаю: Ненависть, число 13 Смешивают против шерсти Твой белый муар, Надувают твои паруса Совершенно новым способом.
Мне никогда не нравились уроки: Я запомнил, чего бы то мне это ни стоило, притоки Уазы, ветви деревьев, заросли месяца май.
Птицелов, ты потерял свою кроху; Оприходуй лучше Статуи.
Птицы — это друзья. Мрамор весьма влиятелен. Ангел Эртебиз, называемый Ave, Одна нога на черепахе, другая на крыле, это значит жонглировать пером и пушечным ядром.
Я ошибался, я теперь в этом уверен: мы нравились друг другу после поста. Ангел Эртебиз земля Полусолнце-полутень имеет все от Пантеры из джунглей. Не так ли? Ну да! Я уверен и приказываю вам Молчать. У Вас весь клюв в крови, мой юный друг.
Ангел Эртебиз, улица Анжу, Воскресенье играет ложными шагами на крыше в классики
На одной ноге, порхая как сорока или Дрозд, С пылающими щеками.
Внимание, ты мне говоришь.
Эртебиз, мой милый, искалеченный поджидает нас справа.
Les abeilles de Salomon S'dcartent, car je mange trds mal mon miel
De thyrn amer, mon miel des Andes. En bas la mer ce matin recopie Cent fois le verbe aimer. Des anges d’ouate, Les inddcents, les sales,
Sur 1'herbe traient les pis des grandes Vaches gdographiques.
Ange Heurtebise, je triomphe: La coldre, le chiffre 13 Mdlangent A rebrousse-poil Tes moires blanches, Gonflent tes voiles d'une Fa$on toute neuve.
Jamais lemons ne me plutes: j'appris Coiite que coute Les affluents de 1’Oise, le nom
Des branches d'arbres, la brousse Du mois de Mai.
Oiseleurs, tu perds ta mie; apprivoise Plutot les Statues.
Des oiseaux ce sont les amies. Le marbre est trds influent.
Ange Heurtebise, dites 1'Ave. Un pied sur la tortue, 1’autre sur L'aile, c'estjongler avec Plume et boulet de canon.
J'eus des torts, j'en conviens: nous nous plumes
Apres le jeune. Ange Heurtebise, la terre
Mi-soleil mi-ombre a tout d'une Panthdre de la jungle. Non?
Eh bien! j’en suis sur et vous ordonne De vous taire. Vous avez Du sang au bee, mon jeune ami. L'ange Heurtebise, rue d'Anjou Le dimanche joue aux faux pas Sur le toit boite marelle
Культура ночи
285
Спрячь свой жемчуг, твои ножницы: Не надо допускать, чтобы тебя убили, Потому что каждый месяц, когда тебя убивают, убивают меня, а не тебя.
Ангел или огонь? Слишком поздно. Огонь вступил!
Он упал, расстрелянный солдатами Бога1. Смерть ангела Эртебиза Была смертью ангела, смерть Эртебиза была смертью ангела, Смерть ангела Эртебиза, Мистерия перемены, туз, Которого недоставало в игре, преступление, Которое обвивает беседку, серп Луны, песня лебедя, Который кусается. Другой ангел заменит его, Имя которого я не знал до вчерашнего дня; До последнего часа: Сежест1 2.
Эртебиз, о мой лебедь, открой твой ненадёжный тайник. Лист
Винограда, наложенный на бесстыдную Душу, я покупаю тебя именем Лувра, хочет ли этого Америка или нет.
Эртебиз, не уклоняйся больше от моей души, я принимаю.
Делай, что должен, красавец.
Пусть будет он уродливым от счастья, раз хочет
Пусть будет он прекрасным от несчастья, раз его имеет
Волосы ангела Эртебиза, глухой Мужской призрак, опасность воды, Молока.
Чемодан няни с вокзала
A cloche-pied, voletant comme pie Ou merle, ses joues en feu.
Attention, dites-moi tu.
Heurtebise, mon bel
Estropid, on nous dpie a droite.
Cache tes perles, tes ciseaux;
Il ne faut pas qu'on te tue, Car en te tuant chaque mois On me tue moi et pas toi. Ange ou feu? Trop tard. En joue Feu!
Il tombe fusilld par les soldats de Dieu. La mort de l'ange Heurtebise Fut la mort de l'ange, la mort Heurtebise fut une mort d'ange, Une mort d'ange Heurtebise, Un mystdre du change, un as Qui manque au jeu, un crime Que le pampre enlace, un cep De lune, un chant de cygne qui mord. Un autre ange le remplace dont je Ne savais pas le nom hier;
En demidre heure: Cdgeste.
Heurtebise, 6 mon cygne, ouvre Ta cachette peu sure. Une feuille De vigne mise sur Гате Impudique, je t'achdte
Au nom du Louvre, que 1'Amdrique Le veuille ou non.
Heurtebise, ne t'ecarte
Plus de mon ame, j'accepte.
Fais ce que dois, beautd.
Qu'il est laid le bonheur qu'on veut Qu’il est beau le malheur qu'on a Cheveux d'ange Heurtebise, lourd Sceptre male, danger de 1'eau,
1 По словам врача, ухаживавшего за Радигэ, умиравшим от тифа, в бреду незадолго до смерти он произносил слова: «Я боюсь, через три дня меня расстреляют солдаты Бога» («J'ai peur, dans trois jours je serai fusilld par les soldats de Dieu»).
2 Сежест — имя убитого ангелами смерти (мотоциклистами) поэта в фильме «Орфей» (актер Эдуар Дермит).
286
Французский Логос
Со взглядом этого элегантного животного На подвижной карте: моя могила Острова с растопыренными пальцами. Несчастье — это когда у перчатки семь пальцев.
Ангел Эртебиз, бабочки слабо бьются ладонями несмотря на облако, Клапаны и предсердия сердца Цветы аорты, антрацит, Ураган координат, Такелажи ночи.
Луна слушает у порога.
У розы нет возраста
У нее есть ее клюв, ее перчатки, И ее цитируют журналы Вместе с акробатами, Которыми ночь и день Обмениваются без любви.
ПРОТОКОЛ
В ночи... Набережной... Ангелы: Эртебиз, Эльзивир, Воскресенье и Сежест,
После того, как... они... имели... женский пол...
Кажется... несмотря на время...
Они (в женском облике) увидели... рассеянный свет...
Осел
Сделал мину... крыла... Рукавом...
Из железа... по губам... жестокость Жеста.
Приведенные на пост, они
Отказались давать объяснения, само собой разумеется.
Du lait. Malle de bonne en дате Au regard de cet dldgant animal Sur la carte qui bouge: mon tombeau De 1'ile aux doigts dcartds.
Le malheur gante du sept.
Ange Heurtebise, les papillons battent Mollement des mains malgrd la nue, Les soupapes et les oreillettes du coeur, Fleur de 1'aorte, anthracite, Ouragan des point cardinaux.
Cordages de la nuit
La lune dcoute aux portes.
La rose n'a pas d'age,
Elle a ses bees, ses gants, Et les joumaux la citent Avec les acrobates Que la nuit et le jour Echangent sans amour. PROCES-VERBAL
Dans la nuit du... Quai... Les anges: Heurtebise, Elzdvir, Dimanche et Cdgeste, Aprds avoir... ont... du sexe fdminin... Il paraitrait... malgrd 1’heure...
Elies virent... lumidre diffuse... Гапе
Fit mine de... une aile... par le manche En fer... sur la bouche... 1 'atrocitd Du geste.
Mends au poste, ils refusdrent De s’expliquer, bien entendu.
Кокто посвятил Орфею пьесу «Орфей» (1926), в 1950 году снял ее (существенно видоизмененную) экранизацию (с Жаном Маре в главной роли), а в 1959 году продолжил автобиографической картиной «Завещание Орфея». Кокто считал три картины — совсем раннюю «Кровь поэта» (1932), «Орфей» и «Завещание Орфея» — тремя частями одного произведения.
Культура ночи
287
В первом фильме, принесшем ему славу, Кокто дает модернистскую трактовку мифа, которая является своеобразной интерпретацией, важной не столько для структуры мифа, сколько для структуры Модерна, особенно в его французской версии. Сюжет фильма таков. Поэт Орфей становится случайно свидетелем гибели другого поэта Сежеста (позднее он будет слышать стихи Сежеста, транслируемые в приемнике автомобиля). На месте происшествия он знакомится с Черной Принцессой (Смертью). Вместе с Черной Принцессой в жизни Орфея, живущего в браке с супругой Эвриди-кой, появляется шофер Эртебиз, который влюбляется в Эвридику. Он — оживший мертвец (или «мертвый жилец»). Черная Принцесса хочет убить Орфея, но по ошибке гибнет Эвридика. Орфей при помощи Эртебиза отправляется в зеркало, чтобы формально найти Эвридику, а по сути — Смерть. Там он становится свидетелем абсурдной сцены, когда Смерть осуждается подземным трибуналом за своеволие (несвоевременную попытку убить Орфея). Эвридика возвращена Орфею (ошибка исправлена), но Орфей не должен на нее смотреть под страхом потерять ее на сей раз навсегда. Жизнь Орфея и Эвридики превращается в ад. Наконец, Орфей бросает все же случайно взгляд на Эвридику в зеркало заднего вида в машине, и та исчезает. Орфей же гибнет от пули друзей исчезнувшего поэта Сежеста, штурмующих дом Орфея. Так, Орфей снова оказывается в аду и признается Черной Принцессе в вечной любви. Но та жертвует собой и возвращает Орфея на начальную стадию всей сюрреальной истории; Орфей оказывается снова на земле вместе с Эвриди-кой — потеряв память обо всем произошедшем. Эвридика беременна. Концовка оптимистична (но только на первый взгляд).
Кокто смещает внимание с отношений Орфей (которого играет Жан Маре) — Эвридика (актриса Мари Дэа) на отношения Орфей — Смерть (представленная как Черная Принцесса, актриса Мария Казарес) . Смерть интересуется Орфеем, а Орфей — Смертью. И этот взаимный интерес имеет метафизическую природу как фундаментальная связь человека с его собственным концом. Сквозь все перипетии отношения Орфея и Смерти становятся главным содержанием фильма.
Именно этим и обусловливается его путешествие в ад, представленное как-то как проход сквозь зеркало (в зеркале человек воочию может убедиться, как время трансформирует его черты, работая внутри человека, постепенно разрушая его телесность).
Версия Кокто объединяет в себе целый спектр нигилистических линий французской культуры — от негативного субъекта Сартра до прямой фасцинации смертью, ночью, небытием, свойственной всей культуре декаданса и, шире, французскому историалу.
288
Французский Логос
Антонен Арто: к человеку нетварному
Крупнейшим деятелем французского авангарда, наряду с Бретоном и Кокто, был театральный драматург, писатель, режиссер и теоретик искусства Антонен Арто (1896 — 1948), близкий к сюрреалистам. По приглашению Бретона Арто стал членом группы сюрреалистов в период публикации журнала «Сюрреалистическая революция», но покинул ее в 1926 году после коллективного решения группы вступить в коммунистическую партию. Арто полагал, что настоящая революция должна быть прежде всего духовной.
С юности Арто страдал рядом физических заболеваний, поэтому боль была естественной стихией всей его жизни. Постоянные приступы острейшей боли и стремление успокоить ее сделали Арто зависимым от психотропных веществ (опиум). Хрупкое здоровье и повышенное нервное напряжение, сопровождавшие поэта с ранней юности, привели к психическому заболеванию, от которого он лечился вплоть до последних дней, проведя в психиатрических клиниках, где он и умер, в целом более девяти лет жизни.
В 1924 году Арто знакомится с трудами французского традиционалиста Рене Генона, идеи которого, направленные на жесткую, принципиальную критику Модерна, он в целом разделяет. Арто прямо упоминает Генона в своей главной работе «Театр и его двойник»:
Вот уже второй или третий раз, как я возвращаюсь здесь к метафизике. Я только что говорил, в связи с психологией, о мертвых идеях и чувствую, как многие борются с искушением сказать мне, что в мире есть одна нечеловеческая идея, идея бесполезная и мертвая, которая мало что говорит даже духу, — это идея метафизики.
Все это зависит, как говорит Рене Генон, «от нашего чисто западного, антипоэтического и непродуманного отношения к основам (вне связи с тем энергическим и твердым состоянием духа, которое им соответствует)»1.
Он следует за Геноном вплоть до 1937 года, когда переживает необратимый психический кризис1 2.
В 1927 году Арто основывает театр «Альфред Жарри», который, по его замыслу, должен стать совершенно новой площадкой для во
1 Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. СПб.; М.: Симпозиум, 2000. С. 134.
2 Bonardel F. Podsie et Tradition. Artaud lecteur de Guenon // Moderates d'Antonin Artaud I. Paris-Caen: Lettres modemes Minard, 2000. P. 119—148.
Культура ночи
289
площения тотального произведения искусства, что Арто понимал как средство, «чтобы сделать явным все то, что есть темного в духе, глубоко закопанного, непроявленного в виде материальной проекции» («pour arriver а се que tout се qu'il у a d'obscur dans I'esprit, d'enfoui, d'irrevel6 se manifesto en une sorte de projection materielle»). Он разрабатывает для этого специальный театральный язык, в котором помимо слов и диалогов должны участвовать все остальные выразительные средства — экспрессивные жесты, телесные движения, спонтанные проявления бессознательного. При этом главное для Арто — упразднение индивидуальности и прямое обнаружение психических и даже метафизических структур. Против сентиментального театра он провозглашает театр объективный и полностью дезиндивидуализированный.
Арто, как и большинство художников французского авангарда, находит окружающий его буржуазный мир эпохи позднего Модерна неприемлемым, капитализм — худшим из политических устройств, а современные системы ценностей — лживыми и убивающими дух. Но антикапитализм Арто больше основан на традиционализме Ге-нона, чем на коммунизме левых сюрреалистов. Это не столько радикальная критика капитала слева (Маркс), сколько принципиальная критика его справа, а точнее, сверху (Генон). Параллельно с увлечением традицией и традиционализмом у Арто растет интерес к области сакрального, инициатического и магического.
Поворотным моментом становится для Арто посещение в 1931 году представления труппы театра с острова Бали. В этой постановке, основанной на традиционных практиках восточного театра, Арто видит идеал проявления дезиндивидуализированного сакрального начала, которое выступает самостоятельно и наглядно — через сложную систему тотального символизма — включающего позы, жесты, выражения лиц, движения, тембр голоса и лишь в последнюю очередь слова и формальные сюжеты. В этом сакральном театре Арто увидел реализацию своих собственных представлений о прямой передаче бессознательных сторон бытия наиболее прямым и убедительным образом.
Под впечатлением от азиатского ритуального театра Арто создает проект «театр жестокости». Термин «жестокость» (cruaute) он понимает как антитезу «сентиментальности» и «индивидуальности». «Единственное, что реально воздействует на человека, — это жестокость»1, — утверждает Арто. Бытие является жестоким в той мере, в какой оно является безличным, всеобщим и абсолютным.
1 Арто А. Театр и его двойник. М.: Мартис, 1993. С. 92.
290
Французский Логос
Задача «театра жестокости» отныне — представить на сцене само бытие.
В своем тексте «Театр и жестокость» (май 1933 года), вошедшем в программную и главную книгу Антонена Арто «Театр и его двойник», он пишет:
Если театр действительно хочет снова стать необходимым, он должен дать нам все то, что можно найти в любви, в преступлении, в войне или в безумии.
Обычная любовь, личные устремления, суета поденщиков сами по себе не имеют никакой ценности, коль скоро они не соединяются с неким пугающим лиризмом, который содержится в Мифах, получивших одобрение огромных людских масс1.
Тем самым именно в мифе, в сакральном Арто находит наиболее адекватное выражение для того, чем, с его точки зрения, должен быть театр и само искусство. То есть он предлагает завершить цикл истории европейского театра, который в Древней Элладе был частью мистериальной культуры, вариацией на тему мифологических повествований и посвятительных обрядов, а затем стал все более профаническим, достигнув максимума своего вырождения в либерально-буржуазной культуре. Отныне ему предстоит сделать еще один шаг вперед, где авангардный «театр жестокости» снова соединится с изначальным театром как пространством сакрального и мистерии.
Театр снова должен стать метафизическим явлением, вывести на первый план идеи и космологические стихии начала.
Стало быть, речь идет о том, чтобы создать для театра некую метафизику речи, жестов и выражений и в конечном итоге вырвать театр из психологического и гуманитарного прозябания. Но все это окажется бесполезным, если за такими усилиями не будет ощущаться попытка создать реальную метафизику, не будут слышны призывы к необычным идеям, предназначение которых как раз и состоит в том, что их нельзя не только ограничить, но даже формально очертить. Эти идеи касаются понятий Творения, Становления, Хаоса и относятся к космическому порядку; они дают первое представление о той области, от которой театр совершенно отвык.
1 Арто А. Театр и его двойник. С. 92.
Культура ночи
291
Только они могли бы обеспечить напряженное и страстное слияние между Человеком, Обществом, Природой и Вещами1.
Чтобы вернуть метафизику театра, Арто приглашает использовать набор технических средств, который предлагает современный мир, осуществляя тем самым операцию, которую итальянский традиционалист Юлиус Эвола, сам бывший в юности участником дадаистского движения1 2, назовет «превращением яда в лекарство» или «оседланием тигра»3.
Спускаясь в глубины бессознательного, освобождая в практиках спонтанности и трансгрессии спящие архетипы, художник эсхатологического эона должен осуществить великую задачу — объединить конец с началом. Методом этого является пробуждение сновидений и открытие стихии абсолютного ужаса. Арто поясняет:
Мы хотели бы создать из театра реальность, в которую действительно можно было бы поверить, — реальность, которая вторгалась бы в сердце и чувства тем правдивым и болезненным ожогом, который несет с собою всякое истинное ощущение. Ведь наши сны действуют на нас, а реальность действует на наши сны, — и потому мы полагаем, что можно отождествить образы поэзии со сновидением, которое тем действеннее, чем более осознанно и яростно отталкивает его человек. Но публика поверит в сновидения театра только при условии, что они будут представлены именно как сны, а не как сколки с реальности, — при условии, что они дадут публике возможность освободить в себе магическую силу сновидения, — а ведь публика узнает эту силу лишь тогда, когда та несет в себе отпечаток ужаса и жестокости.
Отсюда — этот призыв к жестокости и к ужасу, которые берутся в самом широком плане, причем всеохватность такой жестокости служит мерой нашей собственной витальности, поворачивая нас лицом ко всем нашим возможностям4.
Для этого театр должен снова стать инициатической площадкой, убрать дистанцию условности и безопасности метафор. Зрители «театра жестокости» должны быть атакованы вскрывающейся ре
1 Арто А. Театр и его двойник. С. 97.
2 Эвола Ю. Абстрактное искусство. М.; Евразийское движение, 2012.
3 Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб.: Владимир Даль, 2005.
4 Арто А. Театр и его двойник. С. 93.
292
Французский Логос
альностью глубин напрямую, не имея возможности уклониться от нее через интерпретации и метафорику.
В поисках прямого опыта сакрального Арто путешествует в Мексику, где участвует в обрядах автохтонных индейских племен тараумара (Сьерра Мадре), включающих ритуальное употребление галлюциногенного пейотля. В результате радикальных психоделических опытов Арто создает серию поэтических произведений, напоминающих «автоматическое письмо» сюрреалистов, объединенных вместе с различными эссе в книге «Тараумара»1. В одном из стихотворений этого цикла, которое сам Арто считал тотальным перформансом, метафизическим обрядом, описывается ритуал «Тутугури»1 2, сопряженный с переходом солнца через точку подземного эклипса. Этот индейский ритуал соответствовал, по мысли Арто, сакральным пьесам азиатского театра и горизонту будущего искусства европейского авангарда. Солнечное затмение, пребывание солнца в точке полуночи, максимально далекой как от свершившегося давным-давно заката, так и от надолго отложенного рассвета, выступает у Арто радикальным диагнозом состояния момента Запада в истории сакральных циклов. Это Арто и описывает с помощью методов спонтанного поэтического безумия.
Тутугури
Ритуал Черного Солнца
И внизу, как низшей точке горького откоса, жестоко разочаровавшись сердцем, открывается круг шести крестов, в самом самом низу, плотно врезанный в мать землю, выхваченный из гнусных объятий матери, которая плюется.
Земля черного угля единственное влажное место
Tutuguri
Le Rite du Soleil Noir
Et en bas, comme au bas de la pente amere, cruellement d£sesp£r£e du coeur, s'ouvre le cercle des six croix, trds en bas,
comme encastrd dans la terre mere, ddsencastrd de 1'etreinte immonde de la
mere
qui bave.
La terre de charbon noir
est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher.
Le Rite est que le nouveau soleil passe par
1 АртоА. Тараумара. Тверь: KOLONNA Publications, 2006.
2 Этот текст Арто включил в скандальную радиопостановку «Покончить с Божиим Судом», запрещенную во Франции, где он попытался создать тотальное произведение, включающее поэзию, музыку, диалоги, нечленораздельные крики, полное бессмысленных фраз, богохульств, обсценной лексики и чистого безумия. Символично, что в постановке принимала участие Мария Казарес, актриса, сыгравшая роль Смерти (Черной Принцессы) в «Орфее» Кокто.
Культура ночи
293
в этой расселине скалы.
Обряд состоит в том, что новое солнце проходит по семи точкам
прежде чем расколоться в отверстии земли.
И вот шесть человек, под одному на каждое солнце, и есть седьмое солнце, которое есть солнце в совсем сыром виде, одетое в черное и с красным телом. Однако седьмой человек — это лошадь, лошадь вместе с человеком, который ее ведет.
Но это — лошадь и есть солнце, а не человек.
Под разрывами барабана и горна, долгим, странным, шесть человек, которые лежали, валяясь в самом низу земли, воспряли последовательно как подсолнухи, не солнца, но вращающаяся почва, водный лотос, и каждому всплеску соответствовал удар гонга все более и более мрачный и сдавленный гул барабана пока внезапно мы не увидели как стремительным галопом с головокружительной скоростью приходит последнее солнце, черная лошадь с обнаженным человеком, абсолютно обнаженным и девственным верхом на ней.
sept points
avant d'eclater A Г orifice de la terre. Et il у a six homines, un pour chaque soleil, et un septteme homme qui est le soleil tout cru
habilte de noir et de chair rouge.
Or, ce septteme homme est un cheval, un cheval avec un homme qui le тёпе. Mais c’est le cheval qui est le soleil et non Thomme.
Sur le ddchirement d'un tambour et d'une trompette longue,
Atrange, les six hommes qui Ataient couches, routes A ras de terre, jaillissent successivement comme des toumesols, non pas soleils mais sols toumants, des lotus d'eau, et A chaque jaillissement
correspond le gong de plus en plus sombre et rentr£ du tambour
jusqu'A ce que tout A coup on voie arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nu, absolument nu et vierge sur lui.
Ayant bondi, ils avancent suivant des mdandres circulaires
294
Французский Логос
Подпрыгнув, они стали двигаться по круговым лабиринтам и лошадь с кровоточащим мясом впала в бешенство
стала непрерывно гарцевать на пике своей скалы пока шесть людей заканчивали полный обход шести крестов.
Однако главный тон Обряда это собственно
УНИЧТОЖЕНИЕ КРЕСТА.
Закончив вращаться они вырвали кресты из земли и обнаженный человек на лошади водрузил гигантскую подкову, которую он намочил в своем кровоточащем порезе.
et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arret au faite de son rocher jusqu'A ce que les six homines aient achevd de cemer completement les six croix.
Or, le ton majeur du Rite est justement L'ABOLITION DELACROIX.
Ayant achev£ de toumer ils ddplantent les croix de terre et I'homme nu sur le cheval arbore un immense fer a cheval qu'il a trempd dans une coupure de son sang1.
Седьмое солнце-всадник, находящееся в центре ритуала, описываемого Арто, противопоставляется кресту. В этом противопоставлении заключена главная метафизическая проблематика Арто. Его творчество состоит в остром и страстном переживании бесконечности духа («я бесконечен», напишет Арто в конце жизни) в ужасающе болезненном контрасте с конечностью тела. Крест — и как страдание, и как фиксированный порядок вертикалей и горизонталей — это тело. Солнце — выражение бесконечного света, проходящего через мучительную череду новых и новых распятий. Отсюда идея Арто относительно того, что человеческое тело принципиально неверно. Оно вообще не соответствует содержанию человека, которое есть бесконечность. Отсюда идея Арто, ставшая центром постмодернистской концепции у Делёза и Гваттари, о «теле без органов». Органы и связанные с ними разграничения восприятия калечат единую стихию мира, разделяя ее на мучительно суженные каналы. Органы суть боль с самого начала, так как они ставят ограничения безграничному, втискивают живое и жизненное, все переполняющее собой экзистенциальное наличие, в ограниченные тиски. Отсюда и отсылки к матери земле, Кибеле. Драма тела-креста, по Арто, — это драма Адониса, живого начала, узурпированного стягивающим
1 Artaud A. (Eevres completes v. XIII. Р.: Gallimard, 1974. Р. 77 — 79.
Культура ночи
295
могуществом органической, организованной плоти. Уничтожение креста не несет в себе ничего антихристианского; этот жест имеет иной парадигмальный характер: это призыв к рождению чистого солнца как объективного утверждения действительной бесконечности. Арто говорил о «нетварном человеке», то есть о человеке-солнце, предшествующем унизительной спецификации и индивидуализации, последним этапом которой является как раз дифференциал органов в самом человеческом теле. Но наличие индивидуума уже есть боль и расчленение тотальности. Поэтому воссоздание «тела без органов» и «жестокий театр», разбивающий химеры субъекта, представляют собой единую метафизическую и эсхатологическую траекторию — «восстановления Человека Нетварного».
Идея «бесконечного человека», как он переживал ее, изложена Арто в одном из стихотворений:
Кто я?
Что я?
Откуда я взялся?
Я — Антонен Арто,
И когда я говорю так,
Как только я умею это говорить, Немедленно
Вы увидите, как мое нынешнее тело Разлетается вдребезги и снова собирается в десяти тысячах знаменитых формах как новое тело,
и в нем вы уже никогда не сможете меня забыть.
Qui suis-je?
Qui suis-je? D’oujeviens? Je suis Antonin Artaud et que je le dise comme je sais le dire immediatement vous verrez mon corps actuel voler en dclats et se ramasser sous dix mille aspects notoires un corps neuf ou vous ne pourrez plus jamais m'oublier.
Судьба Арто трагична. Большинство его замыслов не получило воплощения, а само существование было нескончаемой, непрерывной пыткой, окрашенной в зловещие тона неравной борьбы с безумием. При этом можно сделать предположение, что многие его идеи, бросающие вызов телу, не были продиктованы физической болью, но, напротив, физическая боль была выражением интенсивного переживания действенной бесконечности.
Незадолго до смерти, пройдя пытки электрошоком, которым его пытался лечить доктор Гастон Фердьер, Арто оставляет свидетельство о современном мире, где угадываются отголоски идей Генона
296
Французский Логос
о том, что последний темный век в истории человечества имеет долгую историю и начался за 4000 лет до Р.Х. Текст «Сумасшествие и черная магия» может служить чудовищным обвинением, написанным мучеником Модерна.
Сумасшествие и черная магия
Психиатрические клиники суть осознанные и намеренные вместилища черной магии, а врачи не просто провоцируют магию своими неуместными курсами лечений, но и занимаются ей.
Если бы не было врачей, не было бы и больных, не было бы и больных скелетов мертвецов, которые можно было бы кромсать и с которых сдирать кожу, поэтому общество начинается именно с врачей, а не с больных.
Те, кто живут, живут за счет мертвых.
Надо, чтобы смерть жила; и психиатрические клиники — наилучшее место, чтобы высиживать смерть, чтобы высиживать мертвецов.
Это началось за 4000 лет до Исуса Христа, эта терапия медленной смерти, и современная медицина, сообщница самой жуткой и отвратительной магии, передает своих мертвых электрошоку или инсули-нотерапии, чтобы ежедневно опустошать свои табуны людей от их я и поставлять их, освобожденных таким образом, столь фантастических податливых и пустых, непристойным анатомическим и атомическим услугам состояния, называемого Бардо, поставки барахла, необходимого для того чтобы жить за счет не-я.
Бардо это ужас смерти, где я падает в лужу, и электрошок — это состояние лужи, через которое проходит каждый больной, и которое дает ему знать, не в этот момент, а чудовищно и отчаянно не-знать, когда он был собой, чем-то, законом, мной, королем, тобой, черт возьми, и ЭТИМ.
Alienation et magie noire
Les asiles d'alidn6s sont des receptacles de magie noire conscients et pr6m£dit£s, et ce n'est pas seulement que les mddecins favorisent la magie par leurs thdrapeutiques intempestives et hy-brides, c'est qu'ils en font.
S'il n'y avait pas eu de mddecins il n'y aurait jamais eu de malades, pas de squelettes de morts malades a charcuter et ddpiauter, car c'est par les mddecins et non par les malades que la soci6t£ a соштепсё.
Ceux qui vivent, vivent des morts.
Et il faut aussi que la mort vive; et il n'y a rien comme un asile d'alien6s pour couver doucement la mort, et tenir en couveuse des morts.
Cela a соштепсё 4000 ans avant J£sus-Christ cette therapeutique de la mort lente, et la mddecine modeme, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts & I'dlectro-choc ou & l'insulinoth6rapie afin de bien chaque jour vider ses haras d'hommes de leur moi, et de les presenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides, aux obscdnes sollicitations anatomiques et atomiques de l'6tat appel£ Bardo, livraison du barda de vivre aux exigences de non-moi.
Le Bardo est 1'affre de mort dans lequel le moi tombe en flaque, et il у a dans l'£lectrochoc un 6tat flaque par lequel passe tout traumatis6, et qui lui donne, non plus & cet instant de connaitre, mais d'affreusement et d6sespdr6ment тё-connaitre ce qu’il fut, quand il etait
Культура ночи
297
Я это прошел и я это не забуду.
Магия электрошока вытягивает хрип, она бросает контуженного в этот хрип, с которым уходит жизнь (...)
Однако, я повторяю, Бардо — это смерть, но смерть — это не что иное, как состояние черной магии, которой не существовало еще совсем недавно.
Создавать смерть искусственно, как это делает современная медицина — значит потворствовать потоку ничто, которое еще никому не шло на пользу, но которым некоторые особенно избранные пользователи пробавляются очень давно.
И на самом деле, начиная с определенного момента.
С какого?
С того, как встал выбор: отказаться быть человеком или стать откровенно сумасшедшим.
Но какова гарантия, что откровенных сумасшедших мира сего будут лечить настоящие живые существа?
Фрафади
Та азор
Туаэла
Ауэла
А
Тара
Ила
КОНЕЦ
Белая страница, чтобы отделить текст книги, которая закончилась, от кишения Бардо, которое являет себя в аду электрошока. И в этом аду применяется специальная типография, существующая чтобы оскорблять бога, задерживать словесные выражения, которым следовало бы приписать особое значение.
Антонен Арто
12 января 1948 года.
soi, quoi, loi, moi, roi, toi, zut et QA.
J'y suis passA et ne 1'oublierai pas.
La magie de I'Alectrochoc draine un rale, elle plonge le commotionnA dans ce rale par lequel on quitte la vie (...) Or, je le rApAte, le Bardo c'est la mort, et la mort n'est qu'un etat de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps.
Сгёег ainsi artificiellement la mort comme la mAdecine actuelle 1'entre-prend c'est favoriser un reflux du nAant qui n'a jamais profitA A personne, mais dont certains profiteurs prAdestro^s de ГЬотте se repaissent depuis long-temps.
En fait, depuis un certain point du temps.
Lequel?
Celui ой il fallut choisir entre renoncer A etre homme ou devenir un аИёпё Avi-dent.
Mais quelle garantie les aliAnAs Avidents de ce monde ont-ils d'etre soig^s par d'authentiques vivants?
Farfadi
Taazor Tau ela Auela A Tara Ila FIN
Une page blanche pour эёрагег le texte du livre qui est fini de tout le grouillement du Bardo qui apparait dans les limbes de l^lectrochoc.
Et dans ces limbes une typographic spAciale, laquelle est 1A pour abjecter dieu, mettre en retrait les paroles verbales auxquelles une valeur зрёс!а1е a voulu etre аАпЬиёе.
Antonin Artaud
12 janvier 1948.
298
Французский Логос
В этом пронзительном и болезненном тексте Арто ссылается на Бардо, которое в тибетской традиции описывает посмертное существование души. Смерть Арто связывает с состоянием космической среды, с определенным циклом, совпадающим с длительностью «темного века», кали-юги, в интерпретации Генона. Модерн и его представители — врачи, носители рационального материалистического анатомо-патологического подхода к здоровью и самому человеку, — видятся Арто представителями цивилизации смерти, черной магии, которая является не естественным состоянием мира, но искусственно созданным и поддерживаемым наваждением. Цивилизация смерти ставит людей перед выбором: принять ее законы (что значит, утратить человеческую природу) или взять на себя мученическое бремя безумия (которое стало уделом Гёльдерлина, Нерваля, Ницше и других восставших против современного мира, которыми Арто всегда восхищался и к числу которых сам принадлежал). Так, из-под внешне иррационального текста проступает довольно ясное послание Антонена Арто: проклятие безумным мучеником культуры черной магии и смерти, воплощенной в Модерне.
Как свидетель достижения культурой Запада точки абсолютной полуночи и как трагический провидец грядущей сакральной революции (возврата к сакральному) Арто является фундаментальной фигурой: в нем французский Логос, следующий путем Орфея к центру ада, достигает своей цели и с ужасающей достоверностью об этом свидетельствует.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
Рене Генон: принципиальная критика
Большинство французских философов и интеллектуалов XX века безоговорочно принимало аксиомы Модерна. Тем не менее в этом ряду были и исключения. И именно во Франции, на родине Модерна и революции, появился мыслитель, который с опорой на классическую романскую рациональность сформулировал в отношении официальной идеологии французского Просвещения самую фундаментальную и исчерпывающую критику.
Это был Рене Генон1 (1887—1953), основоположник идейного течения традиционализма, чьи труды являются вершиной критической французской мысли, направленной на сей раз против самого Нового времени, тогда как остальные критики чаще всего обращали свою критику на традиционное общество и его пережитки.
Генон представляет собой уникальную фигуру для всей современной западной цивилизации, так как он оказался единственным., кто будучи ее типичным представителем, смог занять в отношении ее максимально возможную дистанцию. На основании различных и почерпнутых из разных источников религиозных и философских теорий Генон составил цельное мировоззрение, в котором дал уничтожающую и бескомпромиссно негативную оценку культуре и цивилизации Европы Нового времени и составил в общих чертах проект радикальной альтернативы. В отличие от других критиков западной цивилизации — Бергсона, Шпенглера, Маркса, Ницше и т.д. — Генон не сделал ни малейшей уступки современному За-
1 Основные труды Генона на русском языке: Генон Р. Человек и его осуществление согласно Веданте. Восточная метафизика. М.: Беловодье, 2004; Он же. Символы священной науки. М.: Беловодье, 2004; Он же. Восток и Запад. М.: Беловодье, 2005; Он же. Символика креста. М.: Прогресс-Традиция, 2008; Он же. Кризис современного мира. М.: Эксмо, 2008; Он же. Царь мира. Очерки о христианском эзотеризме. М.: Беловодье, 2008; Он же. Великая Триада. М.: Беловодье, 2010; Он же. Царство количества и знамения времени. М.: Беловодье, 2011; Он же. Духовное владычество и мирская власть. М.: Беловодье, 2012; Он же. Множественные состояния бытия. М.: Волшебная Гора, 2007.
300
Французский Логос
паду, поставив своей целью выстроить теорию, тотально и во всем противоположную самой парадигме Модерна1.
Генон выстроил следующую структуру принципиальных дихотомий:
Позитивное
Бог
Традиция Сакральность Восток
Трансцендентность Иерархия Дух Качество Религия Древность Бытие Вечность Знание/созерцание Империя
Негативное
Эго, индивидуум Современность Профанность
Запад
Имманентность
Равенство
Материя Количество Светскость Современность Становление
Время
Действие
Демократия
Все то, что относится к левой колонке, он признал целиком и полностью благим и истинным, нормальным и должным. То, что к правой — абсолютно негативным, ложным, патологичным (девиантным) и подлежащим исправлению, а в случае невозможности последнего — уничтожению. Нетрудно заметить, что в правой колонке собраны все признаки европейской цивилизации Нового времени и те качества, которые, в соответствии со структурами Ноомахии, относятся к черному Логосу Кибелы. Генон возвел эти два комплекса идей и принципов в статус двух парадигм, полностью противоположных друг другу и однозначно высказал свое отношение к обоим:
• Традиция — благо, современность — зло;
• Восток (Азия) — норма, Запад (Европа) — извращение;
• религия и сакральность — истина, профаническая наука и философия — ложь;
1 Дугин А. Г. Философия традиционализма. М.: Арктогея-Центр, 2002; Он же. Постфилософия. М.: Евразийское движение, 2009; Он же. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское движение, 2009.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
301
• иерархия (теократия, монархия, империя) — правильное социально-политическое устройство, демократия, либерализм, индивидуализм — неправильное и подлежащее низвержению;
• человечество деградирует и этому надо противостоять, а прогресс — это прямо противоположное истине потворство деградации ит.д.
Таким образом, будучи французом и получив современное образование и воспитание, Генон осознанно и последовательно встал на сторону того, что было полностью противоположным его собственной социологической и исторической идентичности: он выбрал экзистенциальную позицию, обратную той, которая была бы для него естественной и напрямую вытекала из доминирующего культурного кода. Это было настоящей метафизической и экзистенциальной революцией, полным разрывом отношений с миром, в котором сам Генон проявился как человеческое существо. И не случайно в 1930 году Генон навсегда покидает Европу, принимает ислам и обосновывается в Каире, где проводит всю оставшуюся жизнь вплоть до смерти в качестве уважаемого суфийского шейха.
Однако философские работы Генона отмечены его конфессиональным выбором (ислам) в довольно незначительной степени. Намного чаще он обращается к индуистской традиции, считая ее наиболее полным выражением той Примордиальной Традиции, которую он рассматривал как образец для всех последующих религиозных и сакральных форм. Индуизму Генон посвящает свою первую книгу, задуманную как диссертация, но так и не защищенную в этом качестве — «Введение в изучение индуистских доктрин»1, а также многие другие труды1 2. В любом случае, именно индуизм в его адвай-та-ведантистской версии на всех этапах оставался для Генона последней референциальной базой. Другие традиции и религии он так или иначе сравнивал и сопоставлял с индуистской.
С другой стороны, современный исследователь традиционализма Марк Седжвик в документированной работе «Против современного мира»3 довольно убедительно показал, что скорее всего в основе мировоззрения Генона лежали идеи о Philosophia Perennis или, иначе, Prisca Theologia, которые стали главным учением ряда
1 Guenon R. Introduction дёпёга!е а ГёШде des doctrines hindoues. Paris: Marcel Rividre, 1921.
2 Генон P. Человек и его осуществление согласно Веданте. Восточная метафизика; Guenon R. Etudes sur 1'Hindouisme. P.: Editionnes Traditionnelles, 2011.
3 Sedgwick M. Against the Modem World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. Oxford; New York: Oxford University Press, 2004.
302
Французский Логос
европейских мистических организаций, уходящих корнями в итальянский неоплатонизм эпохи Возрождения1 (М. Фичино, Дж. Пико делла Мирандола и т.д.). В оптике Ноомахии это можно истолковать как факт принятия Геноном радикальной версии платонизма и неоплатонизма, и через это поиск им корней и истоков, откуда сама эта платоническая традиция происходила исторически. Ренессансный платонизм был звеном в цепи неоплатонической и платонической традиции, уходящей не только к Платону, но и к пифагорейцам, ор-фикам, религии мистерий и далее, к самой Примордиальной Традиции, чьим изданием все эти формы сакрального знания в той или иной степени и являлись.
Базовым остается следующий факт: Генон как человек Европы Нового времени и гражданин Франции — страны, зашедшей дальше других по путям Модерна, — радикально меняет экзистенциальный и метафизический режим, разрывает оковы культурной суггестии, жестко отвергает черный Логос и материалистическую философию современности во всех ее изданиях, и прорывается напрямую к аполлонической сфере — к тому, что лежало в основе средиземноморской цивилизации. Генон при этом подчеркнуто апеллирует к романской ментальности как к инструменту, с помощью которого он стремится обосновать интеллектуально вертикальную аполлоническую сакральность, но в его мышлении не в меньшей степени очевидны платонические и пифагорейские черты, уходящие корнями в эллинизм. При этом греко-римский платонизм прекрасно и органично сочетается у Генона с глубоким знанием Веданты и индийской метафизики, что позволяет ему самому напрямую обращаться к сакральным парадигмам индоевропейской цивилизации, являющейся общим истоком и для ведической Индии, и для греко-римского культурного круга в пространстве Средиземноморья .
Генон являет собой парадокс: европейцем, наиболее верным духу Европы в XX веке, оказывается тот, кто самым радикальным и абсолютным образом отверг Европу, Запад и современность. Но отвергая — тотально! — современный Запад, не оставляя ему ни малейших шансов, Генон поступает как самый последовательный, адекватный и полноценный представитель именно западноевропейской цивилизации в ее изначальных, олимпийских, солнечных, аполло-нических основаниях. Через Генона сам Запад как триумфальный аккорд гиперборейского индоевропейского духа (то есть Запад в его изначальном состоянии, вечный Запад) судит самого себя — в сво-
1 Heiser James D. Prisci Theologi and the Hermetic Reformation in the Fifteenth Century. L.: Repristination Press, 2011.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
303
ем финальном состоянии, в моменте максимального отхода от своей собственной сущности. Генон не просто пришел с Востока и не нашел в Западе ничего ценного. Он появился на Западе, во Франции как западной конечности Европы, на родине самой «современности», чтобы осудить Европу. Так возвращающийся Аполлон мечет солнечные стрелы в голову хтонического чудовища.
В такой ситуации становится понятным обращение Генона именно к индуизму, который он считал традицией, самой близкой к изначальной индоевропейской и которую до определенной степени с ней отождествлял. Ведический Восток, индоарийская цивилизация были для Генона образцом, праматрицей того платонизма, который он — скорее всего в латентном, виртуальном состоянии — обнаружил и отчасти реставрировал, вдохнув в него новую жизнь, в самой Европе. Но чтобы найти нечто, необходимо, во-первых, испытывать в этом нужду, а во-вторых, требуется, чтобы это нечто наличествовало, пусть и скрыто, там, где поиски велись. И успешные поиски Генона можно считать триумфальным ответом всех выдающихся людей Франции (в первую очередь, как раз «проклятых поэтов» — таких, как Рембо, Бодлер, Нерваль или Малларме), которые также искали ключ к постижению темной тайны современного Запада и к солярному выходу за пределы его актуального вырождения, но пали жертвами смешения Логосов на этом сложном и рискованном пути.
Отсюда и то влияние, которое Генон оказал на серию ярких фигур французского авангарда XX века — А. Арто, Ж. Батая, А. Жида, А. Бретона, Р. Домаля и т. д.
Рене Генон был человеком Запада, но подлинного, аполлони-ческого, гиперборейского, платонического Запада, отвергнутого и ниспровергнутого тем, что последние несколько столетий выступает в истории под именем «европейской цивилизации», которая является таковой все в меньшей и меньшей степени, вплоть до потери всякого сходства с оригиналом, то есть становления чистым симулякром, «копией без оригинала».
Взгляд Генона на последний аккорд западной цивилизации был следующим.
Вслед за эпохой Модерна, материализма, следует эпоха «великой пародии». Генон связывал это с неоспиритуализмом и появлением «анти-сакральности». В традиции этот периодописан как вторжение в человеческий мир орд гогов и магогов, инфракорпоральных существ, пребывающих под нижней границей «яйца мира»1. При внимательном сосредоточении на сечении Кибелы, на том, что Прокл
Генон Р. Царство количества и знамения времени.
304
Французский Логос
называл «демиургией Адониса»1, то, что самим платоникам казалось тонкой пленкой (хспра), приобретает объем, и чем ближе к материи, к чистому количеству, тем больше растут в масштабе смутные и плотные массы: так открывают себя миры титанов. «Великая пародия» заканчивает эру материализма и начинает (краткую, по Тенону) эпоху «спиритуализма наоборот», «черной сакральности». Здесь рационализм, эмпиризм, субъект-объектная топика философии Нового времени, научность, классический индивидуализм, сенсуализм и телесность, составляющие основу классического Модерна, отходят на задний план, уступая место более гротескным и иррациональным формам, отдаленно напоминающим то, что было осмеяно и с негодованием отброшено как «предрассудки» и «сказки» на заре Просвещения. Традиция возвращается как пародия на саму себя, как перевернутый дубль, как карикатура. Вместо сверхтелесного утверждается подтелесное, вместо вертикали, направленной вверх, вертикаль, ведущая в бездну. Так Генон трактовал психологию глубин К. Г. Юнга, видя в его психических архетипах дубли архетипов духовных, то есть систему черных двойников высших небесных принципов.
В традиции есть Бог и дьявол, и Бог держит дьявола в узде. Для средиземноморского Логоса это строго соответствует доминации Аполлона над пифийским оракулом, то есть над Кибелой и царством Великой Матери. Это — традиция в индоевропейском и собственно европейском понимании.
В Модерне Бог ставится под сомнение, а так как дьявол является его нижним теологическим дублем и онтологически конституируется теологией, а теология отвергается, то и дьявол осмеивается и пропадает из виду. «Смерть Бога» как формула Модерна имплицитно подразумевает «упразднение дьявола». Профанизм не признает никакой сакральности — ни божественной, ни демонической.
«Великая пародия» может быть рассмотрена как «возвращение дьявола». Низшая подтелесная сакральность теперь снова признается и начинает выдаваться за всю сакральность. Сакральное, действительно, возвращается, а профанный рационализм подвергается демонтажу, но это обратное сакральное, «черное сакральное»2.
Генон был убежден, что «знаки времени» безошибочно указывают на то, что «великая пародия» уже в действии и что современная западная цивилизация находится в переходном состоянии от классического Модерна к финальной стадии диссолюции и падения
1 Proclus. Commentaires sur la Rdpublique. T. 2. Livres 4 — 9. Paris: J. Vrin-CNRS, 1970. P. 112-113.
2 Дуган А. Г. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское движение, 2008.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
305
в бездну. После этого, утверждал Генон, настоящий цикл завершится и старое человечество будет уничтожено. На смену ему придет новое человечество. И лишь отдельные избранные, способные пробудиться в темные времена и найти путь к Sophia Perennis, спасутся и смогут пройти сквозь узкие врата неотвратимой катастрофы. Генон называл это «интеллектуальной элитой» и полагал, что его собственная миссия состояла в том, чтобы способствовать пробуждению этой элиты и ее самоорганизации в эсхатологической фазе цикла. Для этого он предлагал один-единственный путь: радикальный возврат к традиции и полное отрицание современности и Запада. Кто способен на это, тот имеет шанс. Но речь идет о меньшинстве, большинство же обречено.
Анри Корбен: парадокс монотеизма и гештальт Ангела
Рене Генон стал основателем целой интеллектуальной школы французских и европейских традиционалистов, которые продолжили развитие его основных тем и идей — изучение священной традиции, критику Запада, метафизические исследования и т.д. Идеями Генона был в юности затронут и крупнейший ориенталист, специалист по Ирану и исламской традиции философ Анри Корбен1 (1903—1978), который развил настолько самобытный подход к изучению сакральной традиции, что едва ли может быть отнесен к ортодоксальным традиционалистам, для которых Генон был непререкаемым и абсолютным авторитетом. Путь Корбена, хотя и направленный к тем же горизонтам, что и традиционализм Генона, был независимым и довольно автономным. В частности, Корбен сосредоточил свое основное внимание на исследовании иранского шиизма, который Генон в своих работах почти полностью обошел. Особое значение Корбен придавал также исламским платоникам — аль-Фараби, Авиценне1 2, Сохраварди3, Мулле Садра и крупнейшему авторитету суфизма Мухуддину Ибн ‘Араби4.
1 Корбен А. История исламской философии. М.: Прогресс-Традиция, 2010; Он же. Световой человек в иранском суфизме. М.: Фонд исследований исламской культуры, Волшебная Гора, Дизайн. Информация. Картография, 2009. См. также: Корбен A. Mundus Imaginalis. Corbeniana // Традиция. №6. М.: Евразийское движение, 2014.
2 Corbin Н. Avicenne et le rdcit visionnaire. P.: Verdier, 1999.
3 Corbin H. L'archange empourpre, quinze traitds et rdcits mystiques de Yahya ibn Habas Sihab al-Din al- Suhrawardi. P.: Fayard, 1976.
4 Corbin H. L'lmagination creatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabi. P.: Flammarion, 1977.
306
Французский Логос
Но самое главное заключается в другом: Корбен, признанный как безусловный авторитет в ориентализме, представляет собой самобытного и самостоятельного философа, в котором сочетаются радикальный неоплатонизм и хайдеггерианская фундаменталь-онтоло-гия, экзистенциальная феноменология, Dasein-философия (Корбен был знаком с Хайдеггером и был первым автором, осуществившим перевод некоторых глав из «Sein und Zeit» на французский язык). Кроме того, Корбен, будучи протестантом, уделял большое внимание рейнской мистике (Экхарт, Сузо, Таулер), а также трудам Бёме и Сведенборга. В последние годы жизни Корбен основал Университет Святого Иоанна Иерусалимского, который считал возрождением инициативы средневекового мистического общества «Друзей Бога», основанного немцем Ульманом Мерсвином. Поэтому исламские исследования, создавшие славу Корбену в широкой аудитории, не исчерпывают философию этого самобытного мыслителя, которому глубинное постижение иранской, шиитской и суфийской метафизики служило подспорьем в осуществлении несколько иной задачи: восстановления полноценной структуры аутентичного европейского Логоса. Будет правильнее рассматривать Анри Корбена как выдающегося и самостоятельного французского философа, нежели только как комментатора и переводчика исламских философских и мистических текстов.
Поздняя книга Анри Корбена «Парадокс монотеизма»1, объединяющая три его программные работы «Парадокс монотеизма», «Необходимость ангелологии» и «Апофатическая теология как противоядие нигилизму» можно рассматривать как квинтэссенцию его философского творчества, подводящую итог огромной жизненной работе.
Парадокс монотеизма, по Корбену, состоит из трех моментов:
• трансцендентность Бога, как его понимает внешняя религия, отрицает саму возможность какой бы то ни было Его связи с наличным существованием, что, по мнению Корбена, подталкивает эту версию монотеизма к превращению Бога в «абстрактный фетиш», постепенно превращаясь в худшую форму идолопоклонничества;
• мистическое понимание Бога в мире как самого бытия в мире, делает его имманентным, но нарушает принцип единственности;
• отсюда вытекает необходимость диалектического согласования экзотерического и мистического понимания монотеизма в общей системе метафизического плюрализма.
1 Corbin Н. Le paradoxe du monothdisme. P.: Editions de L'Heme, 2003.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
307
Иными словами, если Бога представлять как чистое единство, Он перестанет быть. Это и есть вывод Платона в «Пармениде» о небытии (предбытии) Единого. Когда религиозная теология эксклюзивно настаивает на радикализации единственности Бога, она отрывает Его от бытия, и рано или поздно такой абстрактный Бог, Deus Otiosus, «Праздный Бог», не может не скрыться за горизонтом, не «умереть». Отсюда логическая секвенция: «жестко трансцендентный теизм — деизм — атеизм (нигилизм)». Это риск экзотерической трактовки монотеизма. Ницше иронично называл это «монотоноте-измом», противопоставляя экзистенциальному богатству политеизма (взятого в философском смысле). Отсюда знаменитое высказывание Ницше в «Так говорил Заратустра»:
«Есть только один Бог! Вы не должны иметь никакого другого бога, кроме меня. (...)»
И все Боги рассмеялись, откинувшись на своих тронах, и воскликнули: «Разве не в том Божественность, что есть боги, а не бог? »
«Es ist Ein Gott! Du sollst keinen andem Gott haben neben mir!» (...)
Und alle Gotter lachten damals und wackelten auf ihren Stiih-len und riefen: «1st das nicht eben G6ttlichkeit, dass es Gotter, aber keinen Gott giebt? »‘
Это первый уровень парадокса монотеизма по Корбену. В нем видно, что экзотерическая трактовка теологии принципиально недостаточна и ведет к противоречию. Под предлогом борьбы с идолопоклонничеством она сама приводит к поклонению абстрактному и безжизненному идолу.
Второй уровень полагает Бога в мире. Но мир есть множественность, следовательно, Бог, вступивший во множественность (мир), рискует утратить свою монистичность, свою единственность. Если Бог есть в мире, и более того, если Он только и есть в мире, то Он входит в множественность. Мистическое чувство открытия Бога в имманентном через опыт сакрального оживляет веру, делает ее огненной и активной. По Корбену, это соответствует эзотерической стороне традиции. Но и здесь есть опасность: до какой степени единство Бога совместимо с множественностью мира? Если мы не проделаем различие между бытием (Sein) и сущим (Seiende), то есть не осуществим онтологический Differenz (по Хайдеггеру), мы риску-
1 Nietzsche F. Also sprach Zaratustra // Nietzsche. Werke. Kritische Ausgabe. Bd. VI (1). Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1968. S. 226.
308
Французский Логос
ем отождествить Бога с вещами мира, и тем самым впадем в пантеизм и черную философию Кибелы (в духе Спинозы или магического материализма Бергсона). Это риск мистики: утрата единства вообще и онтологический фетишизм — сами «боги» в этом случае утрачивают в эксцессе такого подхода свою божественность и превращаются в идолов. Это тоже нигилизм, но нигилизм материалистический, когда постоянно дробящаяся множественность медленно соскальзывает к чистому количеству, которое в пределе и есть ничто1.
Поэтому, считает Корбен, необходимо построить сложную плюральную метафизику, в которой обосновывалась бы позиция, расположенная между двумя крайностями — трансценденталистской и имманентистской. Ответом на парадокс монотеизма у Корбена является фигура Ангела.
Ангел выступает как основной центр внимания всей философии Корбена. Корбен исследует ангелологию и ее метафизическую подоплеку в основном на материале шиитской и суфийской традиции, но лишь для того, чтобы полнее понять статус Ангела в метафизике. И по аналогии с развернутой и фундаментально осмысляемой исламской ангелологией Корбен расшифровывает похожие темы у европейских мистиков — особенно у Бёме и Сведенборга. Важно, что фигура Ангела у Корбена приобретает фундаментальное философское значение; она отчасти изымается из религиозно-культового контекста и берется в качестве парадигмы, в качестве гештальта (в смысле Э. Юнгера). Гештальт Ангела выступает как решение парадокса монотеизма и становится понятным только после того, как мы осмыслим, в чем этот парадокс заключается. Ангел, ayyEAoq, на греческом означает посланник. По одной из версий, это слово имеет иранское происхождение (от др.-персидского «angaros» — «конный курьер»), что вполне вероятно, если учесть сколь важное значение фигура Ангела (fravahar, fravarti — *-ijjej) играет в иранской традиции, что, собственно, и исследовал Корбен. Быть посланником — это значит быть между Пославшим и тем, кому послание предназначено. Однако это значит иметь отношение к Пославшему и отчасти к получателю. Если мы поместим фигуру Ангела между двумя слоями парадокса монотеизма — то есть между трансцендентным (Богом) и имманентным (миром), мы получим нечто, что не есть полностью и строго ни Бог, ни мир, но что связывает их между собой и одновременно разделяет. Корбен, соотнося Ангела с онтологическим Differenz (зазором между бытием и сущим) Хайдеггера, сближает его именно с бытием (Sein). Но апофатичность трансцендент
1 Генон Р. Царство количества и знаки времени.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
309
ного Бога не позволяет принять Ангела за самого Бога и тем самым чрезмерно имманентизировать Его. Ангел есть тот, кто стоит между апофатическим небытием (над-бытием, сверхсущим), и феноменологически, эмпирически сущим, множественным, то есть миром. Но эту же онтологическую позицию в силу наделенности логосом (умом, сознанием) занимает человек. Таким образом, гештальт Ангела соотносится с проблемой человека. Разбирая эту проблему, Корбен приходит к представлению о «световом человеке», который, в свою очередь, сближается с Ангелом, становится его метафизическим синонимом. Человек есть сущее, и в этом смысле он относится к миру, к множественному как его часть. В этом смысле он находится на противоположном конце от Бога. Но в отличие от всего остального сущего, у человека есть Логос, который, по Гераклиту, сбирает все в одно. Тем самым человеческий ум в каком-то смысле родственен божественному началу, апофатическому Единому, ev. Эта родственность в антропологии может быть осмыслена и выражена по-разному. В рейнской мистике у Майстера Экхарта и Таулера это воплощено в фигуре «третьего человека», «тварной бездны» или «апофатического человека». У Корбена эта же фигура приобретает метафизическую ипостась Ангела. Ангел есть Логос как момент сопряжения апофатического Единого с явленным множественным. Но Ангел не Бог, так как Бог един, и следовательно, превышает онтологический предикат «есть». Но ангел и не сущее, не мир, не вещь, не реальность, и в этом смысле он не есть человек, поскольку в человеке, кроме духа (сознания, мышления, Логоса), есть еще и нечто иное — его эмпирическое, феноменологическое присутствие (грубее всего выражающееся как тело, но не только — человек есть сущее не только через телесность, а через все формы своей навязчивости — Verdringlichkeit1, в том числе и достаточно субтильные). Ангел ненавязчив ни в какой степени, и в этом смысле его тоже нет, как нет Бога, но нет иначе. Ангел со-общает. Он при-общает. Соединяет частное с общим, но он не является ни частным (имманентным, многим), ни общим (истоком всего, Богом, 0е6^ как началом, архп). Ангел ближе всего к бытию, которое делает сущее сущим, но одновременно само никогда не становится сущим. Поэтому бытие выступает и как исток сущего, и как его смерть. Отсюда традиционный образ Ангела Смерти, или Грозного Ангела, а также участие Ангелов и Архангелов в описаниях Страшного Суда.
Онтология Ангела может быть описана через грамматическую категорию глагола, и Корбен предлагает рассматривать само бытие
1 Телесность объясняют через «навязчивость» Плотин и Хайдеггер.
310
Французский Логос
не как существительное, а как глагол (Verbum) — отсюда его выражение acte de I'etre, действие бытия, вместо I'etre, бытия. Действие, акт означает кинетичность онтологии. Поэтому вместо essentia, сущности, Корбен обращает внимание на повелительное наклонение глагола быть — Esto! (да будет!). Бытие не есть нечто вещественное, но представляет собой акт, всегда открытый с обоих концов — и со стороны Действующего (всегда апофатического, то есть сверх-сущего) и со стороны результата действия (всегда слишком материального, и плотского, чтобы по-настоящему быть). Быть‘в чистом виде — это значит быть в акте, в действии, быть в смысле действия.
Это можно наглядно представить на примере грамматического понятия вида — совершенного/несовершенного, категория которого во многих языках (в частности, в семитских, а также в старославянских) заменяет более механистические и поздние инструментальные категории времени действия (прошлое, будущее и настоящее). Некоторые языки (иврит, арабский) не знают будущего времени вообще, а вместо него оперируют только видами — совершенным и несовершенным. Совершенный вид чаще всего относится к прошлому, а несовершенный к настоящему, тем самым всякое действие мыслится в двух измерениях — как длящееся (несовершенный вид) и как не длящееся (совершенный вид). Из не длящегося времени (через причастия) и развиваются существительные — например, слово ovoia, сущее, от глагола Eivai. В платонической топике, которой приоритетно придерживается сам Корбен (утверждавший, имея в виду в первую очередь самого себя, что «платонизм — это нечто врожденное»), можно представить себе совершенный вид как первотворе-ние Божие, представляющее собой мир идей или Софию — Премудрость Божию. Здесь все совершенно, так как всё совершено, уже свершилось. Бог не знает несовершенства, поэтому его творение не может иметь изъяна или неполноты. Это идеальный или эйдетический мир. Только к нему и можно, строго говоря, прикладывать понятие совершенного вида. Совершено только то, что Бог совершил, и что поэтому оно совершенно. То, что не совершено, никогда совершенным быть не сможет, поэтому все несовершенное находится не на одной плоскости с совершенным, а принципиально ниже его. Там, где есть нечто несовершенное, там оно еще не совершено. По «Тимею» — это мир феноменов, где вечность превращается во время, а образцы (парадигмы) — в копии (иконы). Там действует принцип несовершенства, то есть преобладает несовершенный вид действия. Там (в зоне генесиургии, как говорили неоплатоники) все длится, не есть, но становится (рождается и исчезает). Но длится не просто хаотически, а вертикально: совершенство переливается через край
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
311
и переходит в несовершенство (настоящее время), чтобы вернуться к совершенству (смерть). Поэтому Ангел как идея есть то, что уже совершено, что совершенно, но что передает, сообщает (как посланец) это совершенство несовершенному, тем самым вызывая несовершенство к жизни и направляя его к его концу (тёЛод) как к совершенству. Это и есть процесс совершения, действия, становления. Бытие совершает сущее, оно есть не столько esse или essentia, сколько essentor, актор, вызывающий наличие к существованию через действие, и вместе с тем само это действие, так как Ангел неотличим от той функции, которую он выполняет: он есть вестник по преимуществу, он есть Весть.
В мире феноменов нет совершенного вида. Поэтому вещь есть условность, момент овеществления, сечение процесса. А значит, материальности, телесности как таковой нет; это условность, откладываемая от действительности и действенности действия, его диссипативный и недостижимый эмпирически горизонт. Поэтому неоплатоники и отождествляли материю с ничто, говоря о ее «апофа-тической» природе, имманентно воспроизводящей апофатичность Единого. Чистое множество, поЛЛа из пятой гипотезы «Парменида» трактуется как небытие. Материя прямо противоположна совершенству, она есть абсолютное несовершенство, которое настолько далеко от совершенства, что просто не может быть ни в какой степени, даже в относительной. Материя не способна совершаться — ив этом ее отличие от вещей (даже материальных). Вещи совершаются и могут совершиться, когда в финальной ангелической эсхатологической реинтеграции упадут в собственную сущность, достигнув «естественного места».
Ангел есть решение парадокса монотеизма, поскольку решает самим собой обе задачи: соблюдение трансцендентности Бога как апо-фатического Единого, и восприятие прямого священного присутствия Божественного в мире, действенно снимающего множественность, единящего множественное. Но поскольку множественное в рамках Логоса Аполлона и Логоса Диониса не существует само по себе, не имеет собственной ипостаси, то Ангел становится не только объединяющим, но и разделяющим то, что он же потом и соединяет. Таким образом, Ангел есть генада Прокла и одновременно separator Якоба Бёме. Он же есть individuator, активный интеллект (vouq iroiTjTLKoq) в трактовке Дитриха Фрайбергского. Ангел назван «световым человеком» потому, что он представляет собой только духовную ипостась человека, а не его всего. Человек в таком случае есть процесс, но не строго имманентный, а ангелический: человек в каждый миг конституируется ангелическим началом (световым человеком внутри него),
312
Французский Логос
но застывая, фиксируясь, становясь «навязчивым», он тут же отпадает от гештальта Ангела, то есть от самого себя. И тогда послание Ангела тут же меняет направленность: та же сила, приводящая к наличию разумного человека, начинает его растворять и демонтировать, подвергать ангелической деструкции, чтобы возвратить к самому себе. Именно Ангел есть синоним «перманентного творения», которое осциллирует между нетварным и вечным образцом, всегда совершенным, и незаконченным моментом максимально возможного удаления от этого образца — в сторону ничто (материи). Когда световой луч достигает нижнего горизонта, он гаснет, и зажигается новый, из того же источника. Человек, настроенный на вибрации Ангела (Ангела-Логоса), постоянно обновляется (как феникс), будучи индивидуируемым всякий раз заново, но никогда не становясь индивидуумом, а лишь подходом к нему, чтобы, оттолкнувшись от дна, снова обратиться к своему истоку — гештальту Ангела.
Это Корбен называет Персоной, жестко отличной и от архетипа, и от индивидуума. Персона есть процесс персонализации, в которой индивидуум совершенно неважен. Но Персона не есть и сама вечная идея, так как Персона выступает имманентно и вполне осязаемо, а архетип находится за горизонтом круга рождений и становления. Персона есть актор, приводящий к существованию и организующий вокруг себя порядок мира.
Ключевым моментом в философии Корбена является «имажи-наль» (l'imaginal). Само представление об «имажинале» Корбен формирует на основании арабского выражения «alam-al-mithal» или иначе «малакут», от еврейского maleak и арабского melek — дословно, Ангел, но также и от слова царство — melech на иврите и malik по-арабски. Мир воображения (имажиналь) есть онтологическая зона ангелического, ангельское царство. Для Корбена важен философский статус этого среза действительности, который достоверен и вне всякого религиозного и мистического контекста — как исламского, так и любого другого. Ангел и мир Ангелов (малакут — имажиналь) есть срез существования. И в этом качестве он равно также относится к исламскому и иранскому контекстам, как и к европейскому. Отсюда необходимость во введении термина «имажиналь», от Imago, образ. При этом Корбен трактует имажиналь как активное воображение, то есть не как пассивный слепок с чувственного предмета восприятия, чем был фантазм в когнитивной картине акта познания у Фомы Аквинского, но как творящее воображение (1'imagination creatrice1). Здесь снова можно вспомнить Дитриха фон
1 Corbin. Н. L'lmagination crdatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabi.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
313
Фрайберга и его толкование Imago (образ) как божественной части, «тайного отделения» души, abditum mentis, тогда как similitude (подобие) рассматривается им, напротив, как то, что отличает человека от Творца, то есть его тварность, воплощенная в пассивном интеллекте (vou<; тга0г|Т1.к6<;) и далее — в чувстве и теле. «Имажиналь» Корбена — это зона присутствия светового человека и Ангела, родина активного интеллекта, и поэтому для мира земного этот царственный ангелический мир является сокрытым. Все сущее, по Корбену, воображаемо, но воображение есть процесс, исток его — в мире джабарут, мире могуществ, где пребывают Божественные Имена. Они суть истоки воображения, идеи. Они — образы (Imago) самого Бога, всегда совершенные. В мирах «малакут» и «мольк» все является воображаемым, но с разной степенью силы: активное воображение, которое, воображая нечто, делает это нечто действительным (как во сне), относится к сфере «имажиналя», оно и есть ангелический срез бытия. Здесь творящая совершающая природа ангеличе-ского и того в человеке, что ангелическому родственно, развертывается в свободном режиме. Здесь перманентность творения очевидна. В мире телесном (мольк) сила воображения слабеет, поэтому он наполняется материальными сгустками воображенного (чаще всего неудачно), тяжелеет, приобретает вес и инерцию. В этом земном мире медленно распадаются, подтачиваемые нигилизмом материи, останки чьего-то воображения, ставшие вещами как раз потому, что в них достигает предела слабости структура воображающего акта. Отсюда легко понять, что стоит за самим базовым представлением о «злом демиурге» или какова структура «князя мира сего». Эта фигура из гностического арсенала указывает на ослабевшего Ангела, не способного воображать в полной мере, интенсивно и лучезарно, активно и спасительно — ведь ангелизм и сводится к тому, чтобы не только конституировать несовершенное в процессе деяния, но и снимать его, возвращая к совершенству идеи. Телесный мир представляет собой своего рода ловушку, где процесс возвращения вещи или существа к самим себе по каким-то причинам (или без всяких причин) затягивается: нечто, один раз воображенное, приобретает гравитационную значимость, становится тяжелым и все более теряющим смысл по мере приобретения все большей плотности. «Злой демиург» — это Ангел, теряющий силу воображения, тогда его воображение становится все более и более лишенным образа (Imago), то есть без-образным. Застывшее окаменелое воображение тяготеет к тому, чтобы стать только similitude, и в конце концов, simulacrum. В пределе этой нарастающей тяжести, полностью лишенное смысла, но разросшееся до гигантских пределов наличие выступает как
314
Французский Логос
царство нигилизма. Это и порождает оптическую иллюзию «злого творца», что в полноценной метафизике может служить полезной метафорой, но, будучи воспринятой излишне прямолинейно, выливается — как и любая излишняя прямолинейность в тонких вопросах теологии — в ересь и антиномический эксцесс.
Против нигилизма Корбен предлагает единственное и единственно эффективное противоядие — полноценную апофатическую теологию, включающую в себя всю структуру ангелической онтологии. Сегодняшнее состояние Европы и всего мира, по Корбену, есть следствие остывания «имажиналя», закат Ангела. Материализм и рационализм, коллективизм и индивидуализм суть полюса единого нигилистического процесса. Сегодня он достиг кульминации. Но преодолеть его через обращение к предшествующей исторической фазе — например, к экзотерической версии монотеизма — невозможно, поскольку в истоках кризиса Нового времени лежит более завуалированный кризис теологии, и в первую очередь, кризис монотеизма. Если парадокс монотеизма не решается так, как это показывает Корбен — в диалектической онтологии «имажиналя», то он неминуемо рано или поздно создаст предпосылки к тому, чтобы снова возник кризис, в точности тождественный кризису эпохи Нового времени. От нигилизма не спасет обращение к Богу и традиции. Важнее всего: к какому Богу? К какой традиции? К какому монотеизму? Причем здесь простого ответа не может быть, как недостаточны и предлагаемые Модерном альтернативы: индивидуум или общество, идеализм или материализм, вера или наука и т.д. Точно так же ничего не решает и другой вопрос: монотеизм или политеизм? Кризис нашего времени имеет глубокие метафизические истоки. Это не технический сбой, а значит, технического решения он не имеет. Поэтому выйти из него, преодолеть его, вернуться к европейской идентичности возможно только через обращение к самой полной и всеобъемлющей версии метафизики, теологии и философии. Любое частичное решение будет недейственным. От ничто современного мира невозможно вернуться к фигуре монотеистического Бога-Творца. И более того, это не просто невозможно, этого недостаточно. Необходим выход к предельным метафизическим горизонтам, относящимся к сфере апофатического, к бездне сверху. Только эта бездна сверху способна дать новые силы интеллекту для покорения восставшей материальности. Это значит, что задача духовной элиты Европы и Франции (как ее видел Корбен) состоит в том, чтобы через обращение к апофатическому богословию и полноценному неоплатонизму (как в христианской, так и в исламской версии) оживить ослабевший, обессиленный «десятый интеллект», исцелить
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
315
заболевшего Ангела, восстановить из пепла светового человека, почти полностью погребенного человеком современным, телесным, навязчивым и бессмысленным. Этот образ в кельтской традиции из цикла короля Артура представлен в виде фигуры Короля-Рыбака, хранителя Святого Грааля. Он является носителем ключевой святыни, но вместе с тем болен и не способен выполнять своих функций. Это — ослабевший интеллект светового человека, энтропическое запустение «имажиналя». Задача европейской (французской) элиты — оживить и исцелить Короля-Рыбака, но сделать это возможно лишь через обращение к полноте метафизического учения, через разрешение парадокса монотеизма.
В сценарии, предлагаемом Корбеном перед лицом европейского нигилизма, можно увидеть прямую аналогию с мыслителем, с которого начинается оформление французского Логоса в эпоху Средневековья — с Иоганном Скотом Эриугеной. В учении Эриугены, как мы видели, четвертый и последний уровень понимания Божества есть Его открытие как несотворенного и не творящего (natura non creata et non creans). И этот уровень Эриугена помещает в будущем — как предел возвращения, Етиотрофц. Если для преодоления нигилизма Модерна требуется обращение к апофатическому Началу, то не есть ли это тайная линия Провидения, через ночь, страдания и болезнь, дающего намек потерявшемуся, впавшему в ловушки материи, умственно ослабевшему человечеству на то, что по-настоящему важно и к чему следует обратить свой взгляд по ту сторону всяких идолов — как имманентистских (обоготворение мира и сущего), так и трансценденталистских (лишение Бога связей с конкретной стихией жизни) ?
Жильбер Дюран: к герметической революции
Учеником и последователем Анри Корбена был французский социолог Жильбер Дюран1 (1921 — 2012), на теории которого мы неоднократно ссылаемся в «Ноомахии», так как его модель трех режимов бессознательного довольно часто может служить иллюстрацией к трем Логосам. Дюран руководил Университетом св. Иоанна Иерусалимского после смерти Корбена, стараясь развивать и продолжать его дело. Главная концепция всей теории Дюрана — «имажинэр» — прямая калька с «имажиналя» Анри Корбена, хотя Корбен и считал необходимым использовать только термин «имажиналь» для обозначения активного воображения, относя «имажинэр», который пред
1 Durand G. Les structures anthropologiques de rimaginaire. P.: Dunod, 1992.
316
Французский Логос
почитал употреблять Дюран, к пассивному воображению (фантазм Фомы Аквинского) I
Дюран представляет собой уникальное явление, поскольку в его обобщающих теориях «имажинэра» воедино сводятся основные идеи Генона и традиционализма, мистические и апофатические открытия Анри Корбена, но вместе с тем ему также близки концепции К. Г. Юнга и психология глубин, «новая научная рациональность» философа Гастона Башляра, много работ посвятившего проблемам психоанализа и «грезам о веществе», а также классической социологии — от Дюркгейма до Мосса, Сорокина, Вебера и т. д. и антропологии (Ф. Боас, К. Леви-Стросс, В. Пропп, Ж. Дюмезиль и т.д.). В лице Дюрана мы видим одновременно философа, психолога, социолога, культуролога, историка и традиционалиста. Он выражает собой синтетическую сторону французского — шире, кельтского — духа, где утонченный рационализм и блистательная способность к концептуальному мышлению соседствует с глубоким мистическим восприятием, готовностью проникать в тончайшие слои эмоций, сновидений, образов и форм. Этот счастливый синтез французской идентичности, французского Dasein'a был предметом прогрессирующей энтропии в течение долгих веков, лишь спорадически вспыхивая в том или ином самобытном и спонтанном французском гении. Жильберу Дюрану удалось собрать эти стороны, взаимоисключающие в доминирующей строго секулярной культуре и науке Франции, воедино, превратив в научную программу, которую он сам считал внешней оболочкой для реализации «заговора Гермеса» в эпистемологической сфере. Жильбер Дюран полагал, что инициатива К. Г. Юнга по объединению европейских мыслителей такого же склада, сочетающих научный рационализм и духовные приоритеты, в рамках группы ежегодных симпозиумов в швейцарской Асконе (группа «Эранос»1 2) является фундаментальной в рамках всего Запада: на кризис современного нигилизма необходимо было ответить подготовкой интеллектуальной элиты, способной освоить одновременно два дискурса — 1) строго рациональный, академический и 2) визионерский, мистический. Эта элита, по замыслу Юнга и Дюрана, должна постепенно нейтрализовать скольжение материалистической цивилизации в бездну и направить ее по пути к Новому Средневековью. Отсюда повышенное внимание к герметизму и алхимии: в герметической культуре, оперирующей одновремен
1 Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2011.
2 Анри Корбен регулярно принимал участие в этих встречах и выступал там с программными текстами, позднее расширенными до полноценных монографий.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
317
но и технологическими, и научными концепциями, и утонченными и развитыми мифологическими образами, содержится алгоритм выхода из профанического такта европейской истории.
Дюран убежден, что миф представляет собой основу Логоса1, и сам Логос, вопреки всем его претензиям на исключительность и полное преодоление мифа, освобождение от него (этот пафос стал особенно очевидным в Новое время, но его аналоги мы можем обнаружить и в классической Античности — даже у Платона), строится на мифе, куда тянутся его корни. Если эти корни оборвать, то падет и сам Логос, что, собственно, мы и видим в Модерне. Отсюда — идея мифоанализа, предложенная Жильбером Дюраном. Он предлагает интерпретировать с помощью выявления главенствующих мифов не только эпохи традиционного общества, где мифы существуют и циркулируют эксплицитно и открыто, но и те исторические периоды, где доминирует антимифологический и чисто рационалистический стиль. Для Дюрана в этом и состоит «заговор Гермеса» или подготовка «герметической революции»: предложить мифологическую интерпретацию общества, поставившего своей целью изгнание мифа, «расколдовывание реальности» (по М. Веберу).
Дюран начинает подготовку «герметической революции», основные методологические моменты которой системно изложены в его главном труде «Антропологические структуры имажинэра»2, а также в работах «Мифические фигуры и лики творчества»3, «Има-жинэр. Эссе о науке и философии образа»4 и «Введение в мифодо-логию. Мифы и общества»5, с расшифровки мифологической структуры самого Логоса. Этой структурой, с его точки зрения, является аполлонический миф небесной чистоты и мужской исключительности, воплощенный в психологическом комплексе диурна. Этот режим воображения, называемый Дюраном диурном, становясь преобладающим и даже единственным, постепенно вытесняет другие режимы на периферию и противостоит им как исключенному другому, хотя, на самом деле, с точки зрения принципа единства имажинэра, это есть он сам, но только в своеобразных наклонениях6. В этом легко узнать идею Юнга об архетипе тени, которую сознание
1 Дугин А.Г. Логос и Мифос. М.: Академический Проект, 2011.
2 Durand G. Les structures anthropologiques de 1’imaginaire.
3 Durand G. Figures mythiques et visages de 1'oeuvre. De la mythocritique a la mythanalyse. P.: Berg International, 1979.
4 Durand G. L’imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophic de 1'image. P.: Hatier, 1994.
5 Durand G. Introduction b la mythodologie. Mythes et socidtds. Paris: Albin Michel, 1996.
6 Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию.
318
Французский Логос
постоянно выталкивает, стараясь отправить назад в бессознательное, откуда она и появилась, но которая постепенно кристаллизуется в образе «абсолютного врага», проецируемого вовне, на «другого», хотя его корни уходят внутрь того же массива бессознательного, что и само индивидуализирующее сознание. Ученик Дюрана Паскаль Аше1, которого мы также неоднократно упоминали, соотносит с этим эксклюзивным типом диурна германскую идентичность. А другие — более нюансированные и смягченные — версии отношения к сложным процессам в бессознательном, частично или полностью принимающие даже то, что отвергает сознание, относятся к режиму ноктюрна, а у Паскаля Аше характеризуют кельтскую (в частности, французскую) идентичность. Отсюда повышенная чувствительность французской культуры к мифу, которая сохраняется, несмотря на преобладание утрированного рационализма в Новое время.
Герметическая революция (Дюран называет ее иногда «этическим плюрализмом»1 2) предлагает принять как норму все три режима бессознательного:
• диурн, свойственный эксклюзивному солярному Логосу (представленному ярче всего среди европейских народов у германцев и римлян);
• драматический ноктюрн (более всего свойственный кельтам и их Dasein'y) и
• мистический ноктюрн, характерный для обществ и социальных секторов, вообще избегающих каких бы то ни было акцентированных оппозиций и жестких полюсов (некоторые архаические племена и культуры, тщательно изученные и систематизированные К. Леви-Строссом и антропологией в целом, или представления современных материалистов, коммунистов и экологов).
Если бы это удалось осуществить, то интерпретационная решетка культуры (а соответственно, науки и образования) была бы достаточно гибкой, чтобы включить в себя самые разнообразные проявления европейского духа — как традиционного, так и современного. Это позволило бы Европе мягко преодолеть кризис существующего состояния, которое характеризуется сочетанием эксцессивной сухой рациональности (параноидального типа) с несбалансированным
1 Hachet Pascale. Les structures anthropologiques de 1’imaginaire chez les Celtes et les Germains.
2 Durand G. L’dthique du pluralisme et le probldme de la coherence // Durand G. Structures, liranos I. P.: La Table Ronde, 2003.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
319
гедонистическим материализмом. И в этом новом синтезе французы как приоритетные носители драматического ноктюрна (по П. Аше) могли бы выполнить центральную роль балансировки полярных режимов в герметическом гибком пространстве, относительно открытом как диурну, так и мистическому ноктюрну.
План Дюрана характерен тем, что в отличие от других традиционалистских сценариев или интуиций «проклятых поэтов» не предполагает радикального эсхатологического взрыва, переворачивания полюсов, как неизбежного итога Просвещения, подвергшего традиционные ценности и мифы радикальному демонтажу и упразднению. Герметическая революция может произойти, по Дюрану, эволюционным путем, через осторожный и дискретный диалог интеллектуальных, научных и творческих элит для выработки общей герметической парадигмы, которую можно было бы постепенно внедрять в европейское общество через академические сферы (сам Дюран был профессором кафедры социологии и антропологии в Университете Гренобль-П), культурные течения и искусство. Поэтому Дюран продолжил инициативы Анри Корбена (Университет св. Иоанна Иерусалимского) и Карла Густава Юнга (семинар «Эранос»), пытаясь развивать эти инициативы и после ухода этих ключевых фигур.
Жак Маритен: неотомизм и его границы
Совершенно иная версия традиционализма присуща французскому философу Жаку Маритену1 (1882— 1973). Маритен разделяет с Геноном критику современности — секуляризма, гуманизма, демократии и т. д. Самого себя он однозначно определяет как последовательного противника Модерна1 2, а одну из своих работ озаглавливает «Сумерки цивилизации»3, что вполне созвучно традиционалистской позиции. Однако Маритен считает, что альтернативой является возврат к средневековому мировоззрению Фомы Аквинского. Поэтому идеи Маритена, близкому к нему философа Этьена Жильсона4 (1884— 1978) и их школы принято называть «неотомизмом». По Маритену, критика схоластической философии Фомы Аквинского в Возрождении и в Новое время представляла собой не действительное обнаружение слабых сторон его философии, но смену метафизической парадигмы — от дуального платонического представления
1 Маритен Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики. М.: РОССПЭН, 2004.
2 MaritainJ. Antimodeme. Р.: Edition de la Revue des Jeunes, 1922.
3 MaritainJ. Le crdpuscule de la civilisation. P.: fed. Les Nouvelles Lettres, 1939.
4 Жильсон Э. Философ и теология. М.: Гнозис, 1995.
320
Французский Логос
бл. Августина, преобладавшего в Средневековье и обусловившего саму топику томизма, к имманентизму и материализму, где вместо «Двух Градов» признается только один, земной. Отмена вертикального измерения ставит человека на место Бога, что и приводит к радикальному изменению взгляда на мир, вселенную, природу, дух, мышление и самого человека. При этом Маритен демонстрирует, что обе позиции — и августиновская, на которой строится схоластика, и имманентистская (лежащая в основе метафизики Нового времени) — в равной степени и обоснованы, и произвольны. В отношении таких фундаментальных оснований, как трансцендентализм или имманентизм, никакие технические доказательства или логические доводы силы не имеют, так как они строятся на имплицитной и автономной аксиоматике. Разница лишь в том, что религия это открыто признает, обращаясь к принципу веры и Откровения, а мировоззрение Нового времени скрывает, вуалируя набором риторических фигур, убедительных в вопросах пропаганды, но весьма спорных для спокойного и взвешенного научного рассмотрения.
Поэтому, заключает Маритен, откровенный кризис философии XX века, нигилизм Ницше или экзистенциализма, не может быть преодолен в рамках имманентного дискурса Нового времени именно потому, что сам этот кризис и проистекает из имманентизма, в котором вся последующая программа нигилизма уже заведомо заложена. Следовательно, надо вернуться к точки бифуркации — к Средневековью и заново осмыслить философию схоластики и католической традиции, на самом деле, дававшей полноценный ответ на все те вопросы, которые Модерн считает нерешаемыми противоречиями. Такое переоткрывание томизма в условиях «сумерек цивилизации» вполне может стать «новаторским» эвристическим ходом. При этом Маритен, в отличие от намного более консервативного Э. Жильсона, полагает, что учение католической церкви содержит в себе истины, которые могут иметь разные формы выражения в зависимости от эпох. Поэтому возвращение к Средневековью, по Маритену, отнюдь не означает полное отбрасывание того, что за ним следовало как заблуждение (в этом его позиции расходятся с Геноном). Маритен полагает, что, реабилитировав томизм, можно снова обратиться к проблемам, поставленным философией Нового времени, и дать на них творческий новаторский ответ, вдохновляясь томизмом, но не повторяя буквально его положений. Это он и пытается проделать, вступая в диалог с феноменологией и экзистенциализмом и пытаясь переосмыслить их базовые установки через обращение к томистским процедурам многоуровневой абстракции.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
321
Неотомисты и, в частности, Маритен сделали огромную работу по пересмотру отношения к схоластике в западноевропейской философии XX века, так как переосмысление учения Фомы Аквинского и других схоластов показало, насколько объемной была эта традиция, поспешно отброшенная на заре Нового времени, и как велико ее влияние даже на те философские и метафизические доктрины и теории, которые принято считать типичными продуктами Модерна. Введение неотомизма в философский арсенал XX века (довольно примирительное в случае Маритена) до определенной степени сгладило принципиальную оппозицию парадигм, породив, в свою очередь, компромисс между двумя жестко противоположными Логосами — аполлоническим Логосом Средневековья и материалистическим хтоническим Логосом Кибелы. Поэтому в отличие от идей Генона неотомизм встретил намного более мягкое восприятие в философской среде, отчасти став методологическим дополнением к тенденции совершенно иной направленности и утратив свое критическое качество в общем контексте недифференцированного дискурса Постмодерна. Если использовать терминологию Генона, то такая — традиционалистская по своим мотивациям — инициатива могла быть легко включена в контекст «великой пародии».
Андре-Жан Фестюжьер: реставрация неоплатонизма
Параллельно неотомистам возрождением и реабилитацией католического и отчасти средневекового мировоззрения занялась альтернативная группа католических мыслителей, ярче всего представленных фигурой доминиканского монаха Андре-Жана Фестюжьера1 (1898—1982). Эти мыслители пошли по иному пути, связанному с восстановлением полноты платонической, неоплатонической и герметической мысли как мистической основы христианского и французского Средневековья, предопределившей, по их мнению, наиболее существенные стороны европейской метафизики в эпоху традиционного общества. Фестюжьер был инициатором огромной научной работы по переосмыслению и параллельно комментированному переизданию обширного неоплатонического наследия. В частности, Фестюжьер перевел и опубликовал со множеством ценнейших замечаний и толкований фундаментальные труды
1 Фестюжьер А. -Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. СПб.: Наука, 2009.
322
Французский Логос
Прокла «Комментарии на Государство»1, «Комментарии на Тимея»1 2, а также «Герметический корпус» (Corpus Hermeticum)3 и множество других неоплатонических и герметических произведений и авторов.
К этому же направлению возрожденных неоплатонических исследований относятся видный философ, ученик А. Бергсона Эмиль Брейе4 (1876—1952); комментатор и издатель Плотина Пьер Адо5 (1922 — 2010); священник и исследователь Плотина и Прокла Жан Труйар6 (1907 — 1984); его ученик философ Жозеф Комбес7 (1920 — 2002); крупный философ, священник и теолог Станислас Бретон8 (1912 — 2005); крупнейший специалист по неоплатонизму и также католический священник Анри-Доминик Саффре9; канадский философ Жан-Марк Нарбонн10 и т. д.
Если Маритен или Жильсон делали акцент на идеях Фомы Аквинского и томистского схоластического аристотелизма, то Фестю-жьер и вдохновленные им и близкие к нему переводчики, исследователи и мыслители обратились к Платону и всему, что было связано с наиболее эксплицитными и радикальными формами платонизма и неоплатонизма.
Основная идея Фестюжьера состоит в том, что европейская цивилизация в своих корнях полностью основана на эллинском куль
1 Proclus. Commentaires sur la Rdpublique. T. 1. Livres 1 — 3; tr. Andrd-Jean Festugidre. Paris: J. Vrin-CNRS, 1970; idem. Commentaires sur la Rdpublique. T. 2. Livres 4 — 9; tr. Andre-Jean Festugiere. Paris: J. Vrin-CNRS, 1970; Idem. Commentaires sur la Rdpublique. T. 3. Livre 10; tr. Andre-Jean Festugiere. Paris: J. Vrin-CNRS, 1970.
2 Proclus. Commentaires sur le Timde. T. 1. Livre I; tr. Andre-Jean Festugiere. Paris: J. Vrin-CNRS, 1966; Idem. Commentaires sur le Timde. T. 2. Livre II; tr. Andre-Jean Festugidre. Paris: J. Vrin-CNRS, 1967; Idem. Commentaires sur le Timde. T. 3. Livre III; tr. Andrd-Jean Festugidre. Paris: J. Vrin-CNRS, 1967; Idem. Commentaires sur le Timde. T. 4. Livre IV; tr. Andrd-Jean Festugidre. Paris: J. Vrin-CNRS, 1968; Idem. Commentaires sur le Timde. T. 5. Livre V; tr. Andrd-Jean Festugidre. Paris: J. Vrin-CNRS, 1969.
3 Hermes Trismegiste. Corpus hermeticum. T. 1. Poimandrds. Traitds II — XII; tr. Andrd-Jean Festugidre. Paris: les Belles Lettres, 1946; Idem. Corpus hermeticum. T. 2. Traitds XIII — XVIII. Ascldpius; tr. Andrd-Jean Festugidre. Paris, Les Belles Lettres, 1946; Idem. Corpus hermeticum. T. 3. Fragments extraits de Stobdel —XXII. Paris: les Belles Lettres, 1954; Idem. Corpus hermeticum. T. 4. Fragments extraits de Stobde XXIII —XXIX. Fragments divers, tr. Andrd-Jean Festugidre. Paris: les Belles Lettres, 1954.
4 Брейе Э. Философия Плотина. СПб.: Владимир Даль, 2012.
5 Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Ши-чалина, 1991.
6 Trouillard J. L'Un et ГАте selon Proclos. P.: Les Belles lettres, 1972.
7 Combes J. Etudes ndoplatoniciennes. Grenoble: Jdrome Millon, 1989.
8 Breton S. Philosophie et mathdmatique chez Proclus. P.: Beauchesne, 1969.
9 Saffrey H.-D. Recherches sur la tradition platonicienne au Moyen Age et a la Renaissance. P.: Vrin, 1987.
10 Narbonne J.-M. La mdtaphysique de Plotin. P.: Vrin, 1994.
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
323
турном и религиозном наследии, и в основах христианской религии и теологии также заложены базовые представления, свойственные именно греческому обществу. Воплощенные в платонизме и особенно в неоплатоническом синтезе и параллельном ему герметизме, эти эллинские парадигмы были усвоены христианством, предопределив силовые линии средневековой европейской мысли. Поэтому, если искать истоки кризиса современной Европы (с чем Фестюжьер и близкие к нему мыслители были полностью согласны), то их надо идентифицировать в разрыве Запада с платонической традицией. Чтобы этот кризис преодолеть, в свою очередь, необходимо вернуться к грекам, к их органическим религиозным представлениям, а также тем синтетическим философским системам, где эти представления нашли свое наиболее полное выражение. С этой целью Фестюжьер посвящает свои принципиальные исследования Платону1 и религиозным представлениям греков2, а параллельно сосредоточивается на переводах и комментариях к обширному массиву неоплатонических и герметических трудов.
Эти платонические исследования с академической стороны подтверждают позиции традиционалистов относительно принципиального разрыва между западной традицией (сущностно платонической) и эпохой европейского Модерна, основанной на жестко противоположных традиции основаниях. Полноценная платоническая модель, включающая в себя апофатическую хенологию, вообще не могла бы привести к застыванию вертикального аполлони-ческого Логоса как предпосылки иссушения религиозной и метафизической традиции, в том числе и христианской. Полноценный неоплатонизм Прокла и Плотина, как напрямую, так и при посредстве христианизированных версий (а это в целом и составляет основной массив христианского богословия за вычетом семитской иудео-христианской линии Антиохийской школы), несовместим с отчуждением Бога за пределами творения, а следовательно, не может создать предпосылок к деизму и, далее, к имманентизму, материализму и гуманизму. А герметизм, взятый как космологическое учение, дополняющее открытый платонизм, гармонично вписывает виталистский элемент «Мировой Души» и даже эйдетически понятой природы в полноценную систему вполне транс-ценденталистских взглядов, резервирующих при этом ортодоксальную возможностью для мистиков и наиболее радикальных мыслителей двигаться путями апофатического богословия. Таким образом, неоплатонизм и герметизм, являющиеся синтезом грече-
1 Фестюжьер А.-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону.
2 Фестюжьер А.-Ж. Личная религия греков. СПб.: Алетейя, 2000.
324
Французский Логос
ской культуры, вдохновили христианское Средневековье, и если бы они оставались в центре внимания, то Модерна и всех сопряженных с ним эпифеноменов просто не произошло бы, так как для этого отсутствовали бы необходимые концептуальные предпосылки. Поэтому ортодоксию Средневековья следует искать в Иоганне Скоте Эриугене и Дитрихе фон Фрайберге, а не в Фоме Аквинском или Бернарде Клервоском, представляющих собой уже редуцированную версию этого же эллинского Логоса. Точно также аутентичный герметизм не давал оснований для вырождения в материалистический пантеизм (в духе Спинозы), если бы он оставался в контексте полноценной апофатической топики.
Возобладавшая парадигма Модерна, таким образом, смогла утвердиться лишь после того, как уже в эпоху Средневековья неоплатоническая философия была смещена на периферию, редуцирована и подвергнута сомнениям. И именно это опущение неоплатонизма и позволило состояться урезанной схоластике, приведшей, в свою очередь, к дуализму (содержащему в себе в свернутом виде возможность рационализма и деизма), с одной стороны, и номинализму (содержащему в себе в свернутом виде возможность эмпиризма, пантеизма и материализма) — с другой.
В отличие от неотомизма Маритена эта версия католического возрождения вызвала интерес только в узкоспециальной среде исследователей Античности, а на широкие круги европейских интеллектуалов большого влияния не оказала. Более всего восприимчивым к этим идеям оказался Анри Корбен, вслед за Э. Брейе страстно изучавший платонические теории, а также группа «Эранос», группировавшаяся вокруг К. Г. Юнга.
Для построения основной модели Ноомахии эта линия была во многом решающей, так как полноценная ревизия неоплатонизма с опорой на развитый и детальный исторический аппарат комментариев позволяла в сочетании с традиционализмом построить когерентную систему всей ноологии (учения о Трех Логосах) и перейти к ее практическому применению для исследования конкретных цивилизаций (построения теософии).
Фулканелли: алхимическая публикация, отложенная до «конца света»
Алхимическая традиция оказалась во Франции непрерывной вплоть до XX века, несмотря на доминацию материалистической научной картины мира, еще на стадии становления высмеявшей как «несостоятельные» претензии алхимиков на изготовление «фило
Традиционализм: французская альтернатива Модерну
325
софского камня», обретение бессмертия и т.д. Однако герметизм, в силу его амбивалентности, о которой мы уже говорили, во многом способствовал формированию этого самого научного мировоззрения Модерна, жертвой которого он позднее и стал. Новое время восприняло алхимию как предшественницу современной химии, отбросив всю мистическую и космологическую ее подоплеку. А метафорический уровень алхимического дискурса перешел в мистические и масонские организации, где полностью оторвался от работы в лаборатории. Таким образом, алхимия как сакральная наука, хотя и оперирующая с двойной топикой, была постепенно рассеяна, отчасти став достоянием масонства и оккультизма, а отчасти превратившись в современную и строго профаническую химию. Однако в период «розенкрейцерского Просвещения» у Бойля, Ньютона, Кеплера и Спинозы алхимические формулы и термины встречаются сплошь и рядом, а в архивах Ньютона найдено множество алхимических трактатов, испещренных теоретическими и практическими замечаниями творца современной картины мира.
Тем не менее даже в XX веке в общем контексте традиционалистского движения появляется энигматическая фигура, ни настоящего имени которой, ни даты рождения, ни каких-либо еще биографических подробностей достоверно никому не известно. Загадочный персонаж под псевдонимом «Фулканелли» (явный намек на Вулкана, символ философского огня в алхимии) появляется во Франции, публикует два алхимических труда «Тайны соборов»1 и «Философские обители»1 2, по свидетельству некоторых очевидцев (в частности, по словам его ученика Эжена Канселье) осуществляет трансмутации свинца в золото и снова исчезает (в 1926 году), периодически появляясь на людях время от времени в духе легенд о Николя Фламеле. Канселье (1899 — 1982), сам автор ряда трудов по алхимии3, строго воспроизводящих стилистику Фулканелли, знакомится с Фулканелли в 1915 году и становится его единственным учеником. Тем не менее в 1937 году писатель, интересующийся вопросами оккультных феноменов, Жак Бержье, по его словам, встречает Фулканелли в Париже, где тот якобы предупреждает его об опасности «атомного оружия». После очередного исчезновения Фулканелли Канселье утверждает, что снова встречает его в Испании, «значительно помолодевшим», в 1956 году. Фулканелли, по словам Канселье, написал еще и третью книгу «Конец славы мира» (Finis Gloriae
1 Фулканелли. Тайна соборов и эзотерическое толкование герметических символов Великого Делания. М.: Энигма, 2008.
2 Фулканелли. Философские обители. М.: Энигма, 2003.
3 Канселье Э. Алхимия. М.: Энигма, 2002.
326
французский Логос
Mundi), но, подумав, забрал ее рукопись у Канселье назад, запретив публиковать, пока не наступит преддверие «конца света».
Фулканелли в своих обстоятельных трудах демонстрирует знакомство с алхимической традицией, полное доверие к ее принципам, методам и горизонтам, но в то же время откликается на различные культурные, исторические и философские вызовы XX века, обосновывая позицию человека традиционной Франции, сохранившего свою глубинную идентичность в плотном поле наступившего Модерна. Сама легенда Фулканелли (в сочетании с ноншалантным стилем его алхимических произведений), как бы не замечающего Нового времени, продолжающего жить, творить и мыслить в традиции и ее парадигмах, демонстрирует идею алхимической вечности: адепт, избежавший черной магии времени и смерти, живет сквозь эпохи и своим бытием объединяет их в единое структурное целое. С этим была связана и фигура Николя Фламеля, которую Фулканелли оживляет своим обновленным, освеженным мифом непреходящей глубинной Франции.
Фулканелли в своих работах подробно рассматривает символизм собора Парижской Богоматери, а также ряда других величественных строений, в которых запечатлена герметическая символика. Он трактует различные пассажи из алхимических трактатов, полемизирует с определенными герметическими авторами, критикует и высмеивает одних, воспевает и превозносит других. В определенном смысле это является классическим примером образцового алхимического произведения, энигматичным, полным парадоксов, неожиданных семантических и стилистических сдвигов, интерпретаций, ребусов и событий культуры и политики, поданных таким образом, которого менее всего ожидает читатель.
Фулканелли представляет собой не столько личность, сколько функцию французского историала в его герметическом оформлении. Как Генон предлагает радикально изменить социологический ракурс и расценивать традицию (да и сам Модерн) не с позиции Нового времени, а с позиции самой традиции, как она видит Модерн и надвигающийся Постмодерн («царство количества», «великая пародия», глобальная перверсия и т.д.), а не как они видят ее. Так, Фулканелли и цикл новых легенд, сложившихся вокруг его имени, демонстрируют взгляд средневекового французского алхимика, упавший на пейзажи Франции XX века. Тем самым мы имеем дело с герметической версией традиционализма, не столь строгой и философской, как у Генона и Корбена, но весьма обаятельной и неожиданной.
Рациональное сознание XX века потребовало выяснения этой «мистификации», и относительно личности, скрывавшейся за име
Традиционализм: французская альтернатива Модерну 327
нем «Фулканелли», стали выдвигаться разнообразные гипотезы — от самого Э. Канселье до художника Жюльена Шампаня, физика Жюля Вьолля, герметистов Жюля Буше, Пьера Дюжоля, Рене Шваллера де Любича и т. д. Однако ни одна из этих гипотез не нашла своего документального подтверждения. Сама структура французского историала требовала, чтобы такой персонаж появился, и он появился — точно таким, каким и должен был быть. А кто скрывался под его маской, вообще не имело и не имеет ни малейшего значения. Персона важнее индивидуума.
Тем не менее, поскольку все «тайное когда-нибудь станет явным», чтобы узнать тайну Фулканелли и прочитать его книгу «Конец славы мира», нам остается только одно — дождаться этого конца, о котором Фулканелли много писал и думал, призывая точно так же поступать и своих читателей.
Структурализм: автономия знака
Фердинанд де Соссюр: онтология знака
Жильбер Дюран часто обращался к термину «структура», который играл в его теориях важную роль. Его программный труд посвящен именно «антропологическим структурам имажинэра». На этом основании его часто относят наряду с антропологом К. Леви-Строссом к течению структурализма.
Это направление в философии оказало огромное влияние на интеллектуальный пейзаж Франции XX века и содержало в себе ряд черт, имеющих большое значение для ноологии.
Основы структурализма заложили лекционные курсы швейцарского лингвиста (франкофона) Фердинанда де Соссюра (1857 — 1913), изданные в 1916 году его учениками, и содержавшие принципиальные тезисы структурной лингвистики1. Принципы лингвистики, сформулированные Соссюром, выходили далеко за рамки только этой прикладной дисциплины и затрагивали ключевые философские проблемы — в частности, отношение знака и значения (семиотика), онтологию смысла, соотношение между собой индивидуального и социального (социология) и т. д. Сам Соссюр не ставил перед собой масштабных задач, полагая, что лингвистический анализ есть направление более широкой дисциплины — семиологии, которую он понимал как социальную науку, изучающую знаки в структуре общества. В этом он пересекался с исследованиями основателя прагматизма американца Чарльза Сандерса Пирса, феноменологией Брентано и Гуссерля, социологией Дюркгейма и Мосса и психоанализом Фрейда. Сам Соссюр не называл свой метод «структурной лингвистикой» и говорил о языке как о «системе». Но основные открытые им методы позднее получили настолько масштабное развитие, что сложилось представление о нем как об основателе философского направления, во многом предопределившего методологии научного знания во второй половине XX века.
Наибольшую ценность представляют собой идеи Соссюра о соотношении знака (le signe) и значимости или ценности (la valeur),
1 Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики. М.: Едиториал УРСС, 2004.
Структурализм: автономия знака
329
а также о структуре взаимосвязей означающего (le signifiant) и означаемого (le signifie). Соссюр показывает, что язык представляет собой тотальную реальность, которая способна функционировать вообще без всякой корреляции с внеязыковыми инстанциями, что подрывало позитивистские представления Модерна о том, что язык есть система конвенциональных соответствий между субъективной сферой и объективно существующими предметами внешнего мира, основанная на произвольном общественном соглашении (номинализм). Соссюр в своих лекциях показывает, что неязыковый объект вообще можно исключить — как вещь-в-себе Канта — из лингвистического анализа, так как вся смысловая и функциональная структура языка полностью описывается через внутриязыковые отношения и не требует гипотезы «внешнего мира». Тем самым язык превращается из инструмента субъекта в нечто иное, в особую онтологическую модальность, расположенную «между» индивидуумом и внешним миром, как Dasein Хайдеггера, общество («коллективное сознание») Дюркгейма или подсознание Фрейда.
В языке Соссюр различает два уровня: концептуальный и речевой. Первый уровень представляет собой сплошную ткань концептов; второй — столь же сплошную ткань звуков. Поле концептов составляет область означаемого, поле звуков — область означающего. Оба поля дифференцируются внутри себя всякий раз, когда между ними устанавливается корреляция, центром которой является знак.
Знак (языковая единица) есть то, что соотносит означающее с означаемым и тем самым выделяет особую дифференцированную область в обоих полях. Причем это выделение само по себе не несет ничего позитивного или креативного, но есть лишь акт дифференциации, различия. Благодаря знаку звук отделяется от других звуков, а концепт, с которым звук соотносится, от других концептов. Но параллельная дифференциация звуков и концептов проходит в единой синхронической системе языка, включающей оба поля, и эта система — вся вместе, а не какие-то ее атомы — и ответственна за наделение выделенного момента смыслом. Смысл проникает в знак, накладывая на семиотику семантическую сетку, только в силу соотношений, действующих внутри всего концептуального поля. Слово «солнце» получает смысл через установления связи между звуками (или их письменным эквивалентом) и концептом, понятием, соответствующим солнцу, которое выделяется из понятийного поля, где существуют другие концептуальные дифференциалы, связанные со светом, днем, кругом, теплом, небом, движением, яркостью, светилами, лучами и т.д. На их пересечении возникает концепт солнца, играющий роль означаемого. Так, слово «солнце» сопрягается с кон-
330
Французский Логос
центом «солнце», образуя содержание знака. Однако в другом языке слово «sun», «soleil», «Sonne», «tjAloc;» ит.д. вполне может складьтвать-ся из пересечения другого набора концептуальных дифференциалов, так, например, выражение из дионисийских мистерий «солнце полуночи» исключает ассоциации с днем и привычным пониманием света, что меняет структуру концепта, а кроме того, обозначено иной звуковой секвенцией, что меняет структуру обозначающего и соответствующие дифференциалы в области звука. Эти идеи позднее были развиты Пражским лингвистическим кружком последователей Сос-сюра (Н.С. Трубецкой, P.O.Якобсон и т.д.), предложившим термин «фонема» для обозначения минимального набора звуков, наделенных смыслом, Фонема есть собственно знак, так как в ней устанавливается соотношение между моментом поля звукового (фонетического) и поля концептуального (семантического).
Если знак возникает между обозначающим и обозначаемым, то значимость/ценность (valeur) описывает отношения между знаками или рядами знаков, то есть это дифференциация иного системного уровня — не в рамках моментов двух полей одного и того же языка, а между языками или сложными речевыми построениями в пределах одного и того же языка.
Далее Соссюр проводит различие между речью (la parole) и языком (le langage), соотнося первое с индивидуальным рефлекторным и волевым актом, а второе — с коллективным и пассивным наличием, которое активируется речью. Язык сам по себе содержит в себе лишь дифференциалы, которые составляют системы, обнаруживающие свою структурированность в момент речевого акта, семиотику, синтаксис и семантику которого они, тем не менее, полностью предопределяют. Активный, гибкий и волевой индивидуум, произносящий речь, оказывается, на самым деле, ретранслятором жесткой пассивной всеобъемлющей структуры, которая полостью предопределяет и фонетические, и семантические параметры речи. Тем самым индивидуум становится функцией от языка, который, несмотря на свою призрачность (он не пребывает нигде — ни во внешнем мире, ни во внутреннем, то есть не является собственностью субъекта), полностью диктует ему и то, что он говорит и то, о чем он говорит. Здесь Соссюр подходит к особой онтологии, которая качественно меняет представления о субъект-объектной картезианской топике и позволяет исключить внеязыковые множества из исследования возникновения и изменения смыслов.
Это стало матрицей д ля широкого спектра междисциплинарных теорий, где модели Соссюра применялись в общем контексте семиологии, фундаментальные основы которой заложил именно он.
Структурализм: автономия знака
331
Соссюр не употреблял понятие «структура» для описания того сложного и многоуровневого явления, которое он понимал под языком. Но впоследствии этот термин прочно сочетался с его идеями и методами, и поэтому все течение было названо структурализмом. Смысл структурализма в самом общем виде состоит в том, что он начинает анализ любого явления с определения его базовой структуры, которая представляет собой нечто аналогичное тому, что Соссюр понимал под языком (la lange) в оппозиции к речи (la parole, le discours) с учетом соответствий между негативными дифференциациями и процессом установки знака между означающим и означаемым синхронно в обоих полях — звуковом и концептуальном. Но в каждой конкретной дисциплине — в антропологии, психоанализе, истории, социологии, этнологии, политологии, экономике и т.д. — структура была особой и всякий раз вполне конкретной, что делало теории самого Соссюра парадигмальной матрицей с неограниченно широкой зоной применения.
Влияние Соссюра простирается вплоть до конца XX века, пока в последние десятилетия постмодернисты не принялись последовательно переходить к иной, постструктуралистской модели анализа. До этого структурализм выглядел как фундаментальное грандиозное явление, по сути, включавшее в себя наиболее оригинальные и убедительные формы европейского интеллектуализма XX века. Показательно, что основатель его был франкоязычный швейцарец, а наиболее яркими представителями — французы (Лакан, Леви-Стросс, Дюмезиль, Бенвенист, Барт, Рикер, Фуко, Деррида и т.д.), хотя значительное влияние на структурализм оказали русские — лингвисты (Трубецкой, Якобсон и т.д.), историк архаических обществ В. Пропп, а также литовец ученик Проппа А. Греймас и датский лингвист, основатель глоссолингвистики Луи Ельмслев.
Клод Леви-Стросс: общество как структура родства
К области этнологии принципы структурной лингвистики впервые применил французский этнолог и антрополог Клод Леви-Стросс (1908—2009). С идеями Соссюра он познакомился через русского лингвиста Романа Якобсона (1896—1982), создателя вместе с другим русским лингвистом Николаем Трубецким (1890 — 1938) Пражского кружка и активным участником евразийского течения1. Во Франции он учился у Марселя Мосса, а в США, куда был вынужден иммигрировать, кроме Якобсона вошел в контакт
1 Основы евразийства. М.: Партия Евразия, 2002.
332
Французский Логос
с Францем Боасом и его учениками, разрабатывавшими теории «культурной антропологии». Структурная лингвистика, социология школы Дюркгейма—Мосса и культурная антропология Ф. Боаса стали основой оригинальной методологии Клода Леви-Стросса, которая получила название «структурная антропология»1 и стала важнейшим элементом широкого философского течения — структурализма.
Метафора языка, как ее понимал Соссюр, для Леви-Стросса стала синонимом общества (в трактовке Дюркгейма) и применена преимущественно к изучению архаических бесписьменных культур, в первую очередь к племенам Южной и Северной Америки2. В результате Леви-Стросс выработал емкую методологию для понимания человека и человеческого общества как структуры, обладающей рядом постоянных и неизменных характеристик, прослеживающихся практически во всех культурах и цивилизациях. При анализе структуры общества Леви-Стросс основное внимание уделял мифу, который, с его точки зрения, представляет собой матрицу языка и предопределяет практически все содержание человека и человеческой жизни — от идентичности до действий, социальных структур, базового понимания пространства, бытовых и ритуальных практик, времени, движения, пищи, жизни, брака, возраста и т. д. При этом миф Леви-Стросс интерпретирует как тотальное явление, применяя к нему свойства языка, выявленные Соссюром. Как Соссюр полагает, что смысл слова следует искать в контексте и в концепте, а не в его указании на внеязыковую реальность (вещь, объект), Леви-Стросс понимает миф как систему знаков, то есть семиологиче-скую структуру, организующую концептуальные дифференциалы через процесс называния. Миф есть семиологическое поле, в котором проявляются концептуальные соответствия. Минимальный элемент мифа, своего рода «атом мифологии», Леви-Стросс называет «мифемой», по аналогии с фонемой. Термин «фонема» ввел Н.С. Трубецкой в рамках Пражской школы, понимая под этим минимальное звукосочетание, наделенное смыслом (в отличие от бессмысленных звуков, которые могут выражать лишь эмоции или состояния — например, междометия). Для Леви-Стросса миф раскладывается на мифемы, как речь на фонемы, а семиологическая ткань на семы, смысловые атомы. Мифемы, складываясь в миф, образуют повествование (нарратив), каждый элемент которого представляет процесс означения и характеризуется парой означающее/означае-
1 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
2 Леви-Стросс К. Печальные тропики. М.: ACT, 1999; Он же. Путь масок. М.: Республика, 2001.
Структурализм: автономия знака
333
мое. Корректная дешифровка мифа, включающая в себя идентификацию фонем, семиологические эквиваленции, периоды повествования и особый синтаксис, позволяет воссоздать практически всю полноту культуры, а также осуществить перевод в рамках нескольких мифологических систем, по видимости, оперирующих с различными фонемическими комплексами, рядами и последовательностями.
Леви-Стросс попытался придать своей модели математическое выражение, построив систему социальных и мифологических уравнений. В первую очередь, это касалось структуры родства и свойства, на дуальном коде которой, по Леви-Строссу, основывается весь язык общества и которая составляет лейтмотив практически всех мифов в их наиболее архаическом и изначальном виде.
Общество, по Леви-Строссу, в самом общем виде есть эндогамная группа, состоящая из двух половин (фратрий), представляющих собой экзогамные группы1. Люди одной фратрии представляют собой род и являются друг другу родичами, родственниками, родными. Люди другой фратрии — другой род. Рода между собой связываются системой свойства, но на сей раз — опосредованно, через заключаемые между их членами браки. Система родства по линии рода и свойства по линии межродовых связей совокупно составляет племя как начальную матрицу любого общества. Описание этой структуры образует ядро человеческого языка и изначального мифа. Речь есть поле обмена, парадигмой которого является обмен невестами (если посмотреть с другой стороны — женихами) между родами. Базовая цель обмена (и в этом Леви-Стросс прямо следует за М. Моссом) — сохранение абсолютного равновесия; количество отданных замуж за представителей другого рода невест должно быть строго тождественно количеству взятых невест в сам род. Соответственно, количество сказанных слов должно быть тождественно количеству услышанных. Это же касается обрядов, произведенных продуктов, законов войны и мира, культуры и социальных институтов и т.д. Убыток должен восполняться, избыток — ритуально уничтожаться.
Любой миф, по Леви-Строссу, в конечном счете повествует только об одном — о правильном браке: в том числе и через описание неправильного брака — слишком близкого, инцестуального, или слишком далекого, брака с духом, чудовищем, чужеземцем и т.д., заканчивающегося катастрофой. Но изоморфизм равновесия может выражаться и в иных сферах: обмен словами, вещами, смена
1 Дугин А.Г. Этносоциология. М.: Академический Проект, 2012.
334
Французский Логос
сезонов, приход или уход посторонних фигур — все это подчиняется той же логике, полнее всего отраженной в двухчастной структуре фратрий. Любые дуальные оппозиции, в том числе и фонетические — пары звуков, гласных, согласных, звонких, глухих и т.д., пары ориентаций, пары цветов (белое/черное и нюансы), а также номенклатуры животных, растений, явлений природы и мифологических существ — отражают единую структуру базового синтеза. Ключевую роль здесь играет запрет на инцест, который является главным социальным законом и, соответственно, предопределяет доминантную семантику осевого мифического нарратива. Запрет на инцест и есть правило, образующее дуальную структуру общества и учреждающее обе половины и их соотношение. Это соотношение есть сценарий «правильного брака», то есть выбор невесты (жениха) из другого (а не своего) рода, но внутри племени (а не за его пределом). Запрет на инцест и конституирует род как социальный и культурный институт и составляет главную отличительную черту всех человеческих обществ — от самых примитивных до самых комплексных. Этот запрет есть мифема по преимуществу, та матрица, которая производит весь алфавит мифологии.
Леви-Стросс проследил действие выявленных им дуальных структур на огромном мифологическом и этнологическом материале индейцев Южной и Северной Америки, результатом чего стала серия работ, систематизирующих структуралистский метод как универсальный инструмент дешифровки человеческой культуры во всех ее нюансах1. Леви-Стросс при этом ограничился только «примитивными» обществами, теоретически допуская, что тот же метод, только математически намного более усложненный, можно применить и к более дифференцированным обществам, в основании которых всякий раз обнаруживаются одинаковые мифологические коды и соотношения. При этом Леви-Стросс полемизировал с другим социальным антропологом, также последователем Дюрк-гейма и Мосса, Люсьеном Леви-Брюлем (1857 — 1939), утверждавшим, что «примитивные» общества строятся на «мистическом соучастии» (participation mystique)1 2, не зная Логоса, тогда как высокодифференцированные общества опираются на рациональную рефлексию и логику3. Леви-Стросс возражает, настаивая на том,
1 Леви-Стросс К. Мифологики. Сырое и приготовленное. М.: Флюид, 2006; Он же. Мифологики. Происхождение застольных обычаев. М.: Флюид, 2007; Он же. Мифологики. Человек голый. М.: Флюид, 2007.
2 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994.
3 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М.: Изд-во МГУ, 1980.
Структурализм: автономия знака
335
что «примитивные общества» имеют свой особый тип Логоса, который надо рассматривать не как пралогическую, но как алыперло-гическую форму мышления, альтернативную рациональность, наделенную и рефлексией, и дифференциацией, и всеми свойствами интеллекта в его современном европейском понимании, но только организованными в соответствии с иным паттерном. На идеях Леви-Стросса, продолжающего в этом контексте основную линию американской культурной антропологии Франца Боаса, строится в настоящее время большинство этнологических методологий, требующих эмпатического погружения в культуру изучаемых племен и народов с априорным признанием их «полноценной» автономности и запретом на проекции на них европейских эпистемологических клише.
Леви-Стросс представляет собой то направление во французской культуре XX века, в котором воплощена глубинная имплицитная критика Модерна. Структурализм в целом и структурализм Леви-Стросса в частности демонстрируют полную несостоятельность картезианского субъекта, поскольку содержание субъект черпает исключительно из социальных и мифологических структур, которыми он абсолютно жестко детерминирован. Кроме того, Леви-Стросс показывает, что все претензии западноевропейской цивилизации Нового времени на универсальность основаны на глубоком невежестве в отношении действительной культуры самых разных народов, в том числе и считающихся «примитивными», и на прямой и грубой агрессии против них, состоящей не только в непосредственном физическом подавлении и экономической эксплуатации, но и в культурном геноциде, основанном на вере в прогресс и фатальность западного пути развития. По Леви-Строссу, западноевропейская культура современного городского человека в одних вопросах оказывается богаче, полнее и дифференцированнее, чем жизнь рядового члена архаического племени, но в других вопросах (отношений с животными, растениями, культурной и сакральной полноты бытия) все обстоит прямо противоположным образом, и архаический человек — тоньше, сложнее, глубже, мудрее и человечнее западного. Тем самым структуралистская антропология активно способствовала созданию контрмодернистской эпистемологии, в чем-то созвучной традиционализму и радикально-консервативной философии. Примером эксплицитного объединения тем структурной антропологии, социологии и традиционализма в единое целое являются труды румынского историка религии Мирчи Элиаде (1907—1986), большую часть своих книг издавшего по-французски.
336
Французский Логос
Структурализм и ноология: параллели
Метод Леви-Стросса, основанный на исследовании структур архаических обществ и их мифологий, позволяет проанализировать базовую для Ноомахии модель трех Логосов в их архаических корнях. В этом случае мы получаем следующую картину.
В центре мифологического баланса стоит миф о Дионисе, который показывает границы «правильного брака» и катастрофические последствия их нарушения. Брак Зевса и Персефоны, в результате которого появляется на свет Дионис-Загрей, является инцестуаль-ным, так как Персефона, мать Диониса, — это дочь Зевса от Деметры. Это — вариант «слишком близкого брака». Архаичность этого сюжета дополняется и тем, что Персефона предстает царицей мира мертвых и что Зевс вступает с ней в связь в образе хтонического змея. Результат: гибель Диониса-Загрея, разорванного титанами. Трагическая развязка мифа указывает на необходимость соблюдения «правильного брака», и Диониса спасает Афина, сохранившая его сердце.
Вторая версия рождения Диониса — снова от Зевса и от земной женщины Семелы, которая гибнет в огне, после того, как Зевс предстает перед ней в образе огненного дождя. Это «слишком далекий брак» (земной женщины и сверхъестественного существа), и снова он ведет к катастрофе. На сей раз Дионис вновь спасен, но выношен теперь в бедре Зевса.
Дионис — подвижный бог, и поэтому он заключен между двумя горизонтами — «слишком близкий брак» и «слишком далекий брак», тогда как нормативным и парадигмальным браком становится его сочетание с Ариадной на острове Наксос. При этом во многих греческих гимнах Дионис призывается как «Жених», что делает его парадигмальной фигурой, и в этом качестве он выступает в обряде иерогамии, связанном с браком жены афинского архонта, проходившей символическое венчание с Вакхом (в образе быка).
Такая интерпретация соответствует режиму «драматического ноктюрна» по Ж. Дюрану.
В чистом виде «слишком близкий брак», то есть инцест, соответствует Логосу Кибелы. Все порождения Великой Матери, которые становились ее мужьями в мифах, оказывались жертвой ее ненависти и часто оскоплялись ею. В истории с самой Кибелой в этой роли выступает Аттис, ее сын и возлюбленный. Отголоски инцесту-ального брака в рамках рода составляют существенный массив мифов, часто сопряженный с матрилинейным определением родства, матрилокальным расположением новой семьи и структурами оргиастических ритуалов, возможно, воспроизводящих особенности
Структурализм: автономия знака
337
матриархальных обществ. Мифы кибелического цикла отличаются инцестуальной связью именно сына с Великой Матерью и заканчиваются смертью сына и его кастрацией. Это режим мистического ноктюрна, по Ж. Дюрану, и в классификации Леви-Стросса эта ми-фема описывает брак внутри рода (что являлось аномалией в подавляющем большинстве человеческих обществ).
Логос Аполлона воплощает в себе «слишком далекий брак», поэтому отношения Аполлона или его мифологических аналогов с женским полом часто заканчиваются трагически. Под его эгидой оказываются гомоэротические отношения между мужчинами или диспропорциональные браки между разнородными существами, часто приводящие к катастрофе. Аполлон — бог дистанции и воплощение «другого». С режимом диурна связаны также разнообразные аскетические практики, основанные на полном воздержании от отношений с другим (или своим) полом. Диурн сопряжен с очищением, чистотой, девственностью, воздержанием и другими формами максимальной дистанции человека или рода от брачных стратегий. Поэтому под покровительством Аполлона находились сакральные общины монашеского типа, в том числе и братства эллинских философов.
Жак Лакан: ужас реального
Яркой фигурой структурализма, применившей его методологические принципы к психоанализу Фрейда, был французский психиатр Жак Лакан (1901 — 1981). Лакан в юности был тесно связан с французским авангардом, в частности, с сюрреализмом, в определенный период увлекался идеями Гегеля в версии русского философа А. Кожева (1901 — 1968). Серьезное влияние оказали на Лакана также теории Гуссерля и Хайдеггера. Но более всего он следовал за линией Фрейда, которого старался очистить от последующих интерпретаций его учеников, и за структурной лингвистикой Соссюра (с большим вниманием к трудам Р. Якобсона и Н. Трубецкого). Применение структурализма Соссюра к системам родства Леви-Строссом, которого он часто цитирует, навело Лакана на построение своей собственной версии психоанализа, основанной на отождествлении бессознательного с языком. С этого постулата — «бессознательное структурировано как язык» — начинается его теория, и тождество языка с бессознательным выражает ее сущность.
Лакан оставил довольно мало письменных трудов, и основной массив его текстов известен через конспекты его учеников и последователей, которые годами участвовали в его практических семина-
338
французский Логос
pax. Это не случайно: для самого Лакана «быть» значило «говорить», откуда его неологизм — parletre, состоящий из соединения двух слов parler, говорить, и etre, быть. Parletre — это «бытие-в-говорении». По Лакану, язык есть бытие, не его средство и не один из его аспектов, но само бытие как возможный максимум экзистенции, отпущенной человеку. В языке человек формулирует свои желания и их же в языке реализует; в языке он болеет, сообщает симптомы и одновременно лечится. Поэтому бытие-в-разговоре для Лакана представляло собой не только образовательную или терапевтическую практику, но и сам процесс экзистирования.
Для пояснения своих взглядов Лакан часто использовал математические формулы и примеры из топологии. Его излюбленным геометрическим объектом была лента Мёбиуса, которую он подолгу не выпускал из рук во время семинаров. Этот объект может служить емким символом французского рационализма, структурированного, начиная с французской схоластики, а быть может, и еще глубже в истории, с нарративов древних кельтских преданий, таким образом, что плавная, вполне связанная и суггестивная (на первый взгляд) речь мягко и незаметно с высочайшей искусностью гениальной софистики переходит с одного тезиса на прямо противоположный, блестяще используя весь арсенал риторических фигур. Сам Лакан владел искусством галльской риторики в совершенстве, что стало основанием культового поклонения со стороны учеников и последователей, но также вызвало зависть и яростную ненависть оппонентов. Сам Лакан сравнивал соотношение бессознательного и сознания с фигурой тора, где кольцо соответствует сознанию, а пустое пространство в центре — бессознательному. Как бы точка мышления ни двигалась по поверхности этого тора, она всегда остается на одной и той же стороне, хотя в разные моменты оказывается «объективно» на разных и даже прямо противоположных. Референтной базой остается лишь пустота в середине, но она внушает сознанию ужас и поэтому выступает как чисто негативный ориентир, который, будучи негативным, ориентиром как раз являться и не может.
Другой излюбленной фигурой Лакана являлись кольца Борро-мео, родовой герб итальянского рода Борромео, представляющий собой три кольца, переплетенных друг с другом таким образом, что разделить их невозможно, не разорвав хотя бы одного из них. В христианском символизме Средневековья они иногда служили эмблемой Святой Троицы, а в цикле рыцарей короля Артура символизировали неделимость рыцарей Круглого стола (иногда этот символ заменялся трискелем или трехлепестковой свастикой). Аналог колец Борромео в форме трех переплетенных треугольников в дохри
Структурализм: автономия знака
339
стианской скандинавской культуре назывался valnknut, связывался с богом Одином и означал смерть и корни мирового древа Иггдра-зиль. У Лакана кольца Борромео служат метафорой неразрывного переплетения трех порядков, на которых строится его теория:
• порядок реального (1е Кёе1),
• порядок воображаемого (1'Imaginaire),
• порядок символического (le Symbolique).
Термин «реальное» Лакан заимствует у Батая, понимая под ним то, что для конкретного индивидуального существа в самом последнем и самом чистом опыте есть его переживание себя как самого себя. У Батая реальное тождественно смерти. При этом Лакан отождествляет «реальное» с Es (Оно) Фрейда, видя в нем корневую структуру бессознательного, откуда проистекают основные, базовые желания.
Лакан следует за Спинозой, признавая три базовых аффекта — желание, удовольствие и неудовольствие, причем само бессознательное у Лакана активно, то есть способно не только хранить представления, образы и переживания, но и порождать базовые импульсы. Реальное в обычном случае плотно скрыто от человеческого сознания, с которым находится в привативном отношении: сознание есть систематическое отрицание реального, его ложная интерпретация, его подавление, бегство от него, война с ним. В этом Лакан строго следует за Фрейдом. Называя дно бессознательного «реальным», Лакан подчеркивает эпистемологическое значение психоанализа как метода, обращенного к тому, что есть в высшем и последнем смысле, давая своеобразное толкование онтологии. В реальном, по Лакану, Эрос и Танатос Фрейда совпадают.
Важно обратить внимание на то, что реальное у Лакана одновременно активно, действенно и целиком негативно. Оно не имеет собственной структуры кроме той, которая конституируется двумя другими порядками — по принципу диалектики дифференциалов и привативных оппозиций. В этом можно усмотреть влияние Гегеля и феномена негативности, тематизированного в лекциях А. Кожева, которые Лакан посещал. Реальное в чистом виде как чистое бессознательное есть могущество негатива, которое не является набором бессознательных архетипов (как у Юнга), но лишь полем активной привации, распространяющим свою недостаточность в виде желания, которое (как у Спинозы) является в первую очередь желанием желания (conatus), волей к воле, а следовательно, не хочет (чего-то), но только хочет хотеть, а значит, в последнем счете, ничего не хочет
340
Французский Логос
или, точнее, хочет ничто. Желание становится желанием чего-то только на стадии порядка символического, где формируются стыд и раскаяние и где оно приобретает форму и выражает свою негативность как желание запретного, выражаясь в ингибиции и комплексе, то есть в патологии. Само же желание есть желание ничего, ничтожность воли. Здесь мы видим созвучие негативности субъекта у Сартра и Камю.
Второй порядок — порядок воображаемого. Это — сфера языка как структуры. Язык представляет собой жесткие системы пара-дигмальных отношений, в которые человек вынужден помещать все свои действия, желания, себя самого. Язык представляет матрицу человека до его рождения и начинает активно возделывать человека сразу после появления на свет: младенец слышит речь взрослых, и это поле сопровождает его вплоть до смерти. Лакан уподобляет язык гамаку, в котором человек и отдыхает, укачиваясь итерациями его привычных конструкций, и является пленником, так как строгие границы его дифференциалов (означаемого по Соссюру), отмеченные знаками, жестко детерминируют в человеке все его проявления, включая содержание его самого. Язык, по Лакану, абсолютно социален, а общество, в свою очередь, он трактует в духе Леви-Стросса как жесткую бинарную структуру родства. Тем самым язык есть тот порядок, где бессознательное (реальное) подвергается жесткому структурированию и систематической тотальной репрессии. При этом на уровне воображаемого бессознательное не становится осознанным — в этом и заключается вся тонкость психоанализа: напротив, в языке реальное вообще исчезает, подменяясь воображаемым, причем воображаемым не индивидуумом, а самим языком. Хитрость мышления в том, что в его процессе мыслит не человек, а само мышление. Точно так же не человек говорит на языке, но язык говорит сквозь человека и даже помимо него. В этом можно узнать отдаленный отблеск хайдеггеровской фигуры «Das Man». Структуры воображения воображают сами себя, навязывая страдательному реальному отчужденную социолингвистическую (семиологическую, по Соссюру) повестку дня, имеющую к реальному далекое и чаще всего конфликтное отношение, а строго говоря, вообще не имеющую никакого отношения.
Язык принципиально бессмыслёнен, так как самореферентен. Чтобы подчеркнуть это свойство порядка воображаемого, Лакан вводит неологизм «lalangue», представляющий собой контаминацию французского слова «1а lange», «язык» и «laller», дословно «лепетать», «произносить бессмысленные звуки», как делает ребенок с трех месяцев до начала овладения речью. В этом пред-языке (lai-
Структурализм: автономия знака
341
angue), «речи-лепете» проявляется сущность языка как такового, который есть, в конечном счете, не что иное, как завуалированный «лепет». И это снова можно воспринять как отсылку к Хайдеггеру и его «Gerede», «болтовне», как типичного мышления/говорения Das Man'а1.
Третьим порядком является символическое, в котором — как в области знака в структурной лингвистике — осуществляется связь между двумя множествами (первыми порядками): воображаемым и реальным. Символическое есть зона слабых, проблемных и обнаруживающихся чаще всего лишь в эвидентных психических расстройствах связей между реальностью бессознательного и воображаемым (структурами языка). Сам Фрейд описывает их как феномены оговорок или речевых дисфункций, обнажающих механизм «работы подсознания», которая, не прекращаясь ни на миг, ведется в глубине психики параллельно рациональной деятельности и чаще всего внешне никак с ней не связана. Лишь при сбоях технического функционирования рассудка подсознание более прямо говорит о том, чего оно хочет, чего страшится, отчего страдает, что еготиучит. Психотические и невротические расстройства и широкая номенклатура психических заболеваний проявляются (как считал поздний Фрейд и что абсолютизирует Лакан) прежде всего в речи. Это и есть порядок символического: в нем область реального, практически автономно функционирующего, и область воображаемого, также автономно производящая непрерывный дискурс, скользящий по всей поверхности тора (или ленты Мёбиуса), причудливо соприкасаются друг с другом, образуя третье кольцо Борромео, представляющее собой еще одну, почти полностью автономную, структуру, состоящую из символических рядов.
Символическое есть поле приобретения желанием содержания, но еще не целиком оформленного в позитивные структуры на уровне языка, где полностью устраняется реальное «Я» (желающее), заменяясь воображаемым «Я», которое конституируется тем, что можно желать и нужно желать, и соответственно, тем, кто «правильно» желает, и желает именно того, что требуется желать. Символическое поэтому есть область оформленного бессознательного, представленного впервые в «позитивных» терминах (в сравнении с чистой негативностью желания на уровне реального, представляющего собой чистый ужас), но таких, которые еще хранят на себе отпечаток изначальной тьмы. Поэтому символический порядок есть порядок заболевания и патологии. Здесь желание структурируется как запретное,
1 Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер. Последний Бог.
342
французский Логос
предосудительное, порочное, мучительное, требующее наказания, порицания, осуждения, раскаяния и подавления. Не имеющее никаких качеств, то есть никакое (бездонное, сверхужасное) желание на уровне реального, становится плохим, порочным, греховным желанием на уровне символического, чтобы на уровне воображаемого превратиться в тщательное отцензурированное и приемлемое легитимное желание — принять пищу, выйти замуж, дождаться авиарейса или победить в конкурентной борьбе. Самое сильное желание — это самое пустое желание, то есть желание настолько желающее, что оно — от ощущения своей тотальной и бесконечной пустоты — не может канализироваться ни во что конкретное. Оно ослабевает на уровне символического порядка, проходя по фильтрационным лабиринтам патологии. И наконец, окончательно рассеивается — вместе с полной утратой субъекта — в зоне воображаемого, где желаемое и желающий становятся полностью автономными автоматическими моментами единой тотально отчужденной структуры.
Фигура тора в топологии Лакана играет принципиальную роль.
Следует обратить внимание на то, что эта фигура синонимична образу змеи, кусающей свой хвост, уроборосу (по-гречески ойро06ро<; бери; — змея, кусающая свой хвост). А эта фигура, в свою очередь, символизирует хаос, материю и служит приоритетным символом Великой Матери.
Структурализм: автономия знака
343
В торе (уроборосе):
• внутренняя пустота относится к порядку реального (сущность реального в том, что оно есть чистое ничто);
• внешняя сторона, обращенная вовне, есть порядок воображаемого;
• а внутренняя — порядок символического.
Каждый из порядков напрямую сопряжен с соседними, но при переходе от одного к другому любой элемент (квант сознания) приобретает природу именно того порядка, в котором он находится.
Так, в порядке реального, где, по Лакану, и наличествует «Я» (строго негативный субъект), желание есть желание желания, то есть чистая смерть; оно не есть желание чего-то, так как любой объект желания, реальное, будучи самой смертью и чистой негативностью (активной пустотой), немедленно уничтожило бы.
В порядке символического желание есть уже желание чего-то, но всегда не того, что можно и нужно, т.е. оно всегда болезненное желание запретного, постыдное и предосудительное желание. Важ
344
Французский Логос
но, что оно является таковым не из-за цензуры рассудка (как у Фрейда) , а в силу самой структуры порядка символического: желание на уровне символического не может себе признаться в своей подлинной природе — как абсолютный негатив желания смерти — в обоих смыслах, и как желания чего (смерти) и как желания кого (смерти). Это знание невыносимо, и поэтому символическое драпирует ужас желания (поднимающегося из реального) в ложные формы желания запретного, болезненного, постыдного, то есть в симптом. Символизм для психоанализа, начиная с Фрейда, заключается в том, что ничто из наличествующего в качестве символа не означает само себя (в отличие от автореферентной семантики воображаемого), а всего лишь указывает на нечто еще, чего не содержится в самом символе. В этом и состоит смысл символа — обозначать нечто иное, нежели он сам. При этом для Лакана болезненность желания вытекает из самого порядка символического, в котором оно оказывается, поднявшись из реального. Здорового желания не существует, как не существует того желаемого, которое утверждается как таковое: это всегда символ другого желания, всегда болезненного, паталогичного и предосудительного, в котором стыдно признаться. И не потому, что его объект запретен, а потому, что чувство стыда и патологии есть свойство регистра символического как такового. Здесь всякое явно желаемое есть символ сокрытого желаемого, и эта диалектика воплощена в религиозной культуре в остром чувстве греха и греховности, а в секулярных обществах — в стыде и болезненности.
Когда желание переходит на уровень воображаемого (оказываясь в Зазеркалье), оно перестает быть «своим» желанием (которым оно в полной мере является на уровне реального и отчасти на уровне символического) и становится желанием «кого-то еще». В порядке воображаемого желающий и желаемый конституируются семантическими полями языка как общества. Желаемое как легитимное на уровне воображаемого конституируется вместе с желающим как легитимным, то есть вместе с воображаемым (нормативным)«Я». Того, чего можно и нужно хотеть, как раз совершенно не хочется. Здесь вступает в дело совершенно иная структура: если в порядке символического желание (негативного субъекта) заведомо снимало (убивало) любой объект, в порядке воображаемого, напротив, любой объект убивает желание, утверждая на его место долг, порядок, необходимость, соответствие и т. д.
Лишь в порядке символического, где «Я» хочет не того, чего хочет, и от этого страдает, сохраняется определенный баланс между реальным и воображаемым, составляя бесконечное содержание психической жизни, как тотальной и развернутой, пройденной мил
Структурализм: автономия знака
345
лионы раз по тем же или несколько отклоняющимся маршрутам, истории болезни.
Все три порядка впервые приходят друг с другом в активное и чаще всего чреватое завязями психозов, неврозов и перверсий отношение на стадии зеркала, которая у ребенка наступает в период 6— 18 месяцев, когда он переживает опыт знакомства со своим зеркальным отражением, понимая, что имеет дело с дублем самого себя1. Тогда в процессе опыта расщепления формируется его воображаемое «Я» (порядок воображаемого), олицетворяемое в отражении; параллельно — как тайная и невидимая оппозиция — фиксируется реальное «Я» как негативное невидимое нечто (на самом деле, ничто), а также закладывается структура их соотношения в форме символических проекций, ракурсов, углов зрения, дополнительных фигур (мать, стоящая рядом и отражающаяся в зеркале — говорящая «смотри, это ты») и т.д. Игра трех порядков, каждый из которых почти полностью автономен, но дифференцируется лишь посредством символического, составляет индивидуальное содержание психоаналитической биографии индивидуума.
По Фрейду, голос бессознательного, раздающийся напрямую в области сознания (как института цензуры и подавления), выражается в симптоме, бывающем трех видов — невротическим, психотическим и первертным. Слушая речь пациента, Фрейд предлагает аналитику классифицировать симптом и на этом основании проводить расширенный поиск коннотаций — т. е. выяснять, какое желание, какая травма или какая парадигмальная ситуация детства настойчиво проигрывается бессознательным, стремясь вырваться наружу. Тем самым Фрейд исходит из двух предпосылок: нормативная структура сознания, которую необходимо поддержать, сняв, исправив или, как минимум, подправив патологию, и позитивная структура желания (Оно), которую стоит осмыслить или даже освободить. Отсюда знаменитое выражение Фрейда, «наша задача поставить Я там, где стояло Оно». Лакан же существенно более нюансирован в своем подходе: для него сознание гипердетерминировано языком (является структурой), а значит, полностью отчуждено; при этом реальное, выступающее как негативное, целиком отрицательно, хотя и активно, поэтому его освобождение невозможно, так как и оно детерминировано полностью структурами (только привативным обра
1 Интересно отметить, что в символическом комплексе древнейших изображений ближневосточной богини Кибелы именно зеркало является ее наиболее устойчивым и архаичным атрибутом. Тема зеркала обыгрывается в «Орфее» Ж. Кокто и в «Логике смысла» Делёза. См.: Bossert Н. Th. Die Welt des Orients. G6ttingen: Vanden-hoeck & Ruprech, 1947. P. 349 ff.
346
Французский Логос
зом). Желание не хочет того, что делает, оно хочет лишь сказать, что ему недостает того, чего недостает и что в этом недостатке состоит оно само. Поэтому вместо наивной концепции о подавлении желаний, предполагающей, однако, возможность их реализации, Лакан оперирует с понятием негативных желаний, которые реализовать вообще невозможно и не нужно, так как в этом и состоит их активность и их спонтанная жизненность. На уровне порядка символического человек хочет только того, что не может получить, и он хочет именно этого и именно потому что не может, и прекрасно это в тайне от самого себя «осознает». На уровне воображаемого этому соответствует совершенно отчужденная «идеализация», где язык говорит о чем-то совершенно ином, не имеющем к принципиально нереализуемому желанию вообще никакого отношения, но именно из того, что оно вообще нереализуемо, дискурс воображаемого и черпает свою силу и свою устойчивость.
Такая существенная поправка к Фрейду приводит Лакана к новому концепту, который он называет экзотическим термином «sin-thome» в отличие от симптома ((гйцптоца по-гречески — случай, совпадение, признак), уверяя, что так это слово писалось в средневековой латыни. «Синтом» есть четвертая форма выражения реального в символическом в отличие от трех фрейдистских — психотической, невротической и первертной. Как иллюстрацию Лакан берет роман «Улисс»1 ирландского писателя Джеймса Джойса, где, по Лакану, мы имеем дело с активным проявлением раскрепощенного символического в письме, но при этом спонтанность и автореферентность не носит откровенно патологического характера и не сводится ни к одному из фрейдовских симптомов (поэтому слово «симптом» в классическом понимании здесь и не уместно). Поток сознания автора «Улисса» свободно циркулирует ровно в сфере символического, почти не касаясь ни реального (с его ужасом), ни воображаемого (с его отчужденностью). Язык Джойса — это бессознательный язык, проговаривающий символическое в изящном равноудалении от двух других колец Борромео. В этом он не симптоматичен, но синтоматичен, поскольку не волнуется несбыточностью своей символичности, а значит, и не выливается в болезнь. «Улисс» идеальный образец lalangue, практика которого наделена колоссальным и действенным терапевтическим эффектом.
Обобщая, Лакан выдвигает следующую гипотезу: нормой соотношения всех трех порядков — реального, символического и воображаемого — является не прямое вскрытие реального, не изле
1 Джойс Д. Улисс. М.: Республика, 1993.
Структурализм: автономия знака
347
чение структуры от болезненного присутствия бессознательного (хрупкого страдающего реального символического «Я») и не их примирение в символическом, но всегда индивидуальная работа всех трех порядков, развертывающаяся по спонтанной логике, не требующей никакого жесткого нормативного вмешательства. Если Фрейд намекал, что полное излечение от психических расстройств невозможно, и задача психоаналитика лишь облегчить страдания пациента, то Лакан идет дальше и предлагает рассматривать «норму» или относительное психическое здоровье как частный случай безумия, что радикально меняет цели, задачи и саму врачебную этику психоаналитика, делая его не референтной инстанцией, но простым соучастником принципиально бессмысленной и бесцельной работы всегда индивидуального вращения кругов Борромео.
Весьма характерны политические взгляды Лакана. Представителями левой интеллигенции 60-х годов XX века он воспринимался как революционная фигура, подрывающая основы доминирующей буржуазной идеологии (разоблачая ее как навязчивый и репрессивный лепет). Вместе с тем Лакан голосовал за де Голля, а сторонникам перманентной революции, выступающим против отчуждения социализма в бюрократической системе, возражал, что любой рывок бессознательного, низвергающий структуры, как всплеск патологии в психотическом, невротическом или перверсивном кризисе (а именно этим, с его точки зрения, и является революция), всегда заканчивается установлением нового типа рациональности (с необходимостью репрессивной и «лепечущей» — lalangue), с чем Лакан призывал смиряться как с неизбежным — в системе колец Борромео — кольцом порядка воображаемого.
Топика Лакана полностью вписывается в контекст последовательного структурализма. Хотя сам Лакан предпочитает говорить о равнозначности колец Борромео, его топика вполне может быть прочитана вертикально.
Эта схема поясняет позицию Лакана в отношении Политического, которое Лакан относит полностью к порядку воображаемого. Три порядка синхронны и принципиально неизменны. Но в то же самое время они суть непрерывный процесс. В ходе этого процесса, протекающего сразу на трех уровнях, всё всё время меняется и всё остается тем же самым. Причем между порядками также существуют коммуникации, фазовые переходы (как в веществе). Но после того, как переход произошел, мы имеем дело уже со структурой другого слоя. Поэтому изменение конфигурации структур (в первую очередь воображаемого, но и символического также, а в структуре реального ничего изменить нельзя, так как она есть чистое ничто) будет заве-
348
французский Логос
воображаемое
символическое
реальное
домо вписано в сами эти структуры. Если желание на уровне символического потребует своей легитимации в режиме воображаемого (чтобы сделать легальным то, чтобы было запретным), это же желание мгновенно перестанет быть желанием символическим и желанием символического (запретным желанием) и перестанет быть желанием вообще, именно потому, что вся его жизненность и вся его «желанность» состоит в его болезненности (запретности). Как только свобода становится законом, она перестает быть свободой и превращается в необходимость. Как только желание перестает быть постыдным и запретным, оно теряет свою связь с негативным
Структурализм: автономия знака
349
субъектом (с порядком реального) и превращается в отчуждение — когда тот, кому разрешили хотеть чего-то, больше этого не хочет, а хочет либо того, чего ему еще не разрешили, либо не хочет вообще ничего. Но тогда перестроенный порядок воображаемого начинает давить на личность: то, что тебе разрешено, тебе следовало бы осуществлять. В конце концов, свобода (в режиме воображаемого) становится полем принуждения к свободе — как в либерализме, особенно в его последней тоталитарной глобалистской стадии. Лакан не против и этого, так как порядок воображаемого не может не быть тоталитарным и одновременно не может не быть вообще. Какое бы содержание ни вбрасывало в него символическое, воображаемое всегда трансформирует его природу: так, замерзшая вода есть лед, и глупо требовать от нее текучести, равно как трудно требовать текучести от пара.
Это замечание помогает понять принципиальное отличие структурализма (к которому относится Лакан) от постструктурализма (представленного такими яркими мыслителям Постмодерна, как Деррида и Делёз): для структуралистов изменение (как принципиальное изменение) невозможно, равно как и прогресс и революция, которые суть не более, чем эпизоды коллапса в устойчивой, но всегда динамичной и всегда болезненной системе одного и того же. Постструктуралисты, отталкиваясь от такой модели, ставили своей целью преодолеть статичную вертикальную топику, и забегая вперед, вполне можно догадаться, что главной зоной внимания для них станет порядок символического, который и будет перетолковываться в отличном от лакановского ключе. Не подвергнув демонтажу топику Лакана, не свернув три порядка в один (или два?), перейти к постструктурализму и новой динамике (а значит, сохранить этику революции, принципиальную для левых) невозможно. В этом и состоит философская стратегия Постмодерна.
Поль Рикёр: сводная топика структуры
Еще одним представителем структурализма, на сей раз в области чистой философии, является французский философ Поль Рикёр (1913 — 2005). Рикёр занимался феноменологией (в частности, делал переводы работ Гуссерля), герменевтикой1 и психоанализом2. Рикёр был протестантом и большое внимание уделял теологическим вопросам: среди прочего — инициативе немецкого теолога Рудольфа
1 Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М.: АО «KAMI»; Изд. центр «Academia», 1995.
2 Рикёр П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М.: Наука, 1997.
350
французский Логос
Бультмана (1884—1976) по освобождению христианства от мифологического пласта, примешавшегося, по его мнению, из архаических истоков иудаизма и других религий. Так, Бультман выдвинул тезис, что сутью христианства является строго рациональный дискурс, относящийся исключительно к морали и проблематике спасения, что он назвал «керигмой» (от греческого кцриуца — дословно, «провозглашение», «объявление», «герольдическое возвещение»), но исторически он был помещен в контекст сопутствующих мифов, грубо искажающих его смысл. Задача критической теологии, по Бультману, состоит в освобождении керигмы от мифа, с наличием которого, по его мнению, и связан кризис христианской (и особенно католической) культуры Запада в Новое время.
Рикёр принял эту концепцию Бультмана, соотнеся ее с контекстом структуралистских исследований во французской культуре — в областилинвистики (сам Ф. де Соссюр), этнологии (К. Леви-Стросс) и психоанализа (Ж. Лакан), предложив обобщить все в единой схеме. Эта схема положила начало структурализму в области философии, так как до Рикёра структуралисты приоритетно применяли свой метод к более узким научным областям. Так, Рикёр в своем программном труде «Конфликт интерпретаций»1 предлагает сводную топику философского структурализма, состоящую из двух параллельных пластов, которую можно обобщить в следующей схеме (см. с. 351).
Человек состоит принципиально из двух этих уровней, каждый из которых имеет свою собственную организацию, содержание и упорядоченность, представляя обширную и многогранную Вселенную. Каждый уровень интерпретирует существование и сущее, себя и окружающее в соответствии со своими установками и своими геометриями, образующими решетку толкования, модель интерпретации. В человеке оба этих пласта — структура и керигма — объединяются, и, соответственно, две парадигмальные системы интерпретаций входят в соприкосновение. Это соприкосновение порождает то, что Рикёр определяет как «конфликт». Конфликт интерпретаций не является случайной дисфункцией, но судьбой человека, его идентичностью. Культура, религия и история воплощают в себе этот конфликт и являются сплошной тканью его развертывания. Для герменевтики важно не излечить этот конфликт, что представляется недостижимой утопией, но понять его, корректно описав его структуры, тем самым глубже осмыслить человека в его принципиальной структурной противоречивости. Ни одна из интерпретаций — ни на уровне структуры, ни на уровне керигмы — по Рикёру, не является
1 Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 1995.
структура —I—керигма
созна ние рацио* нальность общее тво дискурс : (речь) диа1 НОЙЯ история (событие)
бессоз психос нательное 1нализ IV эти 1иф юлогия индиви социо; дуум югия яз лингв ык истика ноэ феном( •зис ?нология вечное воз ист (вращение юрия
Сводная схема структуралистской герменевтики по П. Рикёру
структура <—|—> керигма
ЛОГОС АПОЛЛОНА
диурн
ЛОГОС КИБЕЛЫ
мистический ноктюрн
Структуралистская топика П. Рикёра, ноология и режимы имажинэра по Ж. Дюрану
Структурализм: автономия знака
353
более или менее истиной, чем другая; они соотносятся друг с другом как хаос и порядок — создавая своим соприкосновением порядок, основанный на хаосе, или хаос, организующийся как порядок.
Схема Рикёра чрезвычайно важна для понимания возможных пересечений различных дисциплин, развивающих структуралистский метод, что позволяет сделать его парадигмальным и основать на нем систему междисциплинарных эквивалентностей, что качественно обогащает арсенал структуралистских исследований. Общая топика дроби «структура (знаменатель)/керигма (числитель)» представляет собой формулу, которая может быть с успехом приложена и к обозначенным на схеме дисциплинам, и к отдельным сегментам внутри них, и к другим направлениям науки, оставшимся за кадром этой предварительной модели1.
Значение Рикёра для французского структурализма состоит именно в этом финальном обобщении, которое подводит итог существующим разработкам и открывает дополнительные горизонты для серии новых структуралистских полей. У Рикёра структурализм обнаруживает максимальный формат своего применения, что и делает его собственно философским.
Применительно к Ноомахии мы можем также приложить топику Рикёра, в результате чего получим следующую схему.
В этой схеме мы видим, как между числителем и знаменателем структуралистской дроби появляется особая отдельная область, соответствующая Логосу Диониса, которая в рамках структурализма в лингвистике будет соответствовать знаку и семиологии в целом, а в контексте модели Лакана — порядку символического.
Жорж Дюмезиль: индоевропейская социализация
Мы неоднократно ссылались в «Ноомахии» на труды и идеи Жоржа Дюмезиля1 2 (1898—1986), который был одним из ведущих французских структуралистов в области филологии и истории религий. Главная идея Дюмезиля о трехфункциональной структуре индоевропейских обществ стала основной гипотезой при исследовании социальных структур цивилизаций Европы и Азии, ядром которых были народы индоевропейской языковой группы, и эта гипо
1 Мы применяли эту топику к социологии воображения, исследованию русского общества и феномену археомодерна. См. соответственно: Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2010; Он же. Социология русского общества. Россия между Логосом и хаосом. М.: Академический Проект, 2010; Он же. Археомодерн. М.: Евразийское движение, 2011.
2 Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М.: Наука, 1986.
354
Французский Логос
теза нашла свое подтверждение практически во всех культурах — от хеттской, индийской и персидской в Азии через кочевые империи Турана (юэчжи, скифы, сарматы и т.д.) до греческой, римской, германской, кельтской и славянской в Европе. Повсюду, где мы встречаемся с индоевропейскими культурами, мифы, обряды, религии, социально-политические структуры, легенды и даже исторические хроники, неизменно демонстрируют на разные лады одну и ту же базовую парадигму трех функций: 1) жрецов, 2) воинов и 3) крестьян-земледельцев вместе с ремесленниками, диалектика отношений между которыми и образует подавляющее большинство сюжетов, текстов, тем и коллизий.
Идеи Дюмезиля подхватил близкий к нему французский филолог и лингвист Эмиль Бенвенист (1902—1976), на основе применения трехфункциональной системы разработавший ряд лингвистических теорий, связывающих семантику и синтаксис с социальными функциями1. Труды Бенвениста подкрепили выводы Дюмезиля основательной лингвистической базой. Бенвенист преимущественно строил свои теории на структурной лингвистике и был близок по основным позициям и выводам к Роману Якобсону и Пражскому кружку в целом.
Дюмезиль считается ярчайшим представителем структурализма. В основе его метода лежит принцип неизменности тотальных структур, которые реорганизуют из века в век и из тысячелетия в тысячелетие базовую интерпретацию действительности, основанную на триадическом принципе, выраженном в вертикальной иерархии, каждый элемент которой представляет собой, в свою очередь, развернутый структурный комплекс. Три функции для индоевропейских культур предопределяют:
• антропологический норматив (трихотомическое устройство человека: например, дух, душа, тело);
• социально-политическую структуру (три касты: жрецы, воины, труженики);
• космогоническую модель (небесный мир, земной, подземный);
• интерпретацию времени (прошлое, настоящее, будущее) и т.д.
Какое бы индоевропейское общество ни рассматривать, мы с необходимостью обнаружим в нем в полном или редуцированном виде трехчастную модель, объединяющую собой все индоевропейские народы Евразии — от Индии до Ирландии и Исландии, включая Сре-
1 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс, 1995.
Структурализм: автономия знака
355
диземноморский регион и степи Турана. Трехфункциональность представляет собой основополагающую индоевропейскую структуру по преимуществу, в которой заложены (в свернутом, развернутом или частичном виде) все возможные вариации мифов, религиозных представлений, ритуалов, культурных стилей и социальных систем. По Дюмезилю, выявление индоевропейской структуры есть ключ к пониманию и дешифровке не только мифов и религий индоевропейцев, но и их исторических хроник, также представляющих собой продукты интерпретационных решеток, классифицирующих события по семантической оси, основанной на трехфункциональности. История, таким образом, есть не что иное, как один из способов трехфункционального нарратива, на тысячи ладов воспроизводящего в разных вариациях базовый триадический код. В хроники индоевропейских народов имеет шанс попасть только то, что соответствует трехфункциональной парадигме, а в спорных случаях необходимые элементы либо достраиваются имагинативно, либо не находящие себе место в этой структуре персонаж или событие просто остаются за рамками сообщения. Именно этим объясняются, по Дюмезилю, структурные совпадения разных версий преданий об истоках римской цивилизации: история про Энея и про Рема и Ромула, а также про их отношения с окружающими народами Лации основана на общей схеме1, которая воспроизводится снова и снова как в самой римской истории, так и в других европейских и азиатских обществах. Д ля Дюмезиля это объясняется тем, что трехфункциональность служит для индоевропейцев их базовым языком, их главным массивом обозначаемых (по Соссюру), структурированных однотипными рядами знаков. Если фонемы каждой функции могут различаться в зависимости от конкретного индоевропейского языка, знаки и означаемые семантически совпадают. Это объясняется не заимствованием, а генерическим единством, составляющим основу индоевропейской идентичности.
Дюмезиль впервые сформулировал трехфункциональную теорию на основании исследования в Турции и на русском Кавказе осетинского эпоса нартов1 2, который он считал частью скифско-сарматской культуры, являвшейся матрицей как для европейских, так и для индо-иранских обществ. Весь эпос нартов строится на строгом различении и диалектическом взаимодействии трех родов — мудрых жрецов алагатов (Alaegatae), храбрых воинов ашартагка-тов (2Exsaertaegkatae) и богатых тружеников боратов (Boratae). Далее
1 Dumezil G. Jupiter Mars Quirinus. 4 v. P.: Gallimard, 1941 —1948.
2 Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. М.: Наука, 1990.
356
Французский Логос
Дюмезиль проследил эту же структуру в мифах Индии1, германских народов1 2, в религии и хрониках Рима3, в легендах народов Кавказа4. Сводные версии относительно индоевропейского мира в целом даны в обобщающих трудах «Миф и эпопея»5, «Трехчастная идеология индоевропейцев»6, «Суверенные боги индоевропейцев»7. В этих фундаментальных работах прослеживаются основные сюжетные и символические круги каждой функции в конкретном контексте разных культур, что позволяет историкам религии, социологам и культурологам выявить базовый герменевтический узор в каждом из индоевропейских обществ. Это принципиально для понимания цивилизаций и их идентичностей, которые строятся вокруг трехфункциональной оси.
В поздней работе «Забвение человека и слава богов»8 Дюмезиль излагает философские основания своего метода. В отличие от пессимистического и механического толкования структуры у Лакана (механицизм порядка воображаемого), Дюмезиль видит в устойчивом постоянстве индоевропейской трехфункциональной структуры «славу богов», то есть преемственность специфической для индоевропейских народов картины мира, «идеологии», которая упорядочивает мир, организует его, делает наделенным высшим сакральным смыслом. Там, где Лакан видит отчужденный автоматизм, Дюмезиль распознает священную олимпийскую небесную божественность, а «забвение человека» как носителя индивидуального эго в тени сакральных небес не представляет для него трагедии и не требует восстания, не содержит травмы и не является истоком патологий и фрустраций. Ассимиляция индивидуумом вертикальных иерархий и трехфункционального языка индоевропейских обществ есть процесс его культурного созидания, образования и насыщения смыслом, а все проблемы и сбои, возникающие в ходе этого процесса индоевропейской социализации, суть не что иное, как резидуальные погрешности, формирующие теневые эксцессы, которые можно соотнести с гипохтоническими и титаническими издержками. Струк
1 Dumezil G. Mitra-Varuna — Essai sur deux reprdsentations indo-europeennes de la Souverainete. P.: Presses universitaires de France, 1940.
2 Dumezil G. Les Dieux des Germains, essai sur la formation de la religion scandinave. P.: Presses universitaires de France, 1959; Idem. Loki. P.: G.P. Maisonneuve, 1948.
3 Dumezil G. Jupiter Mars Quirinus.
4 Dumdzil G. Documents anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase. P.: A. Maisonneuve, 1960— 1967.
5 Dumezil G. Mythe et Epopee. 3 v. P.: Gallimard, 1968—1973.
6 Dumezil G. L'Ideologic tripartite des Indo-Europeens.P.: Latomus, 1958.
7 Dumezil G. Les Dieux souverains des Indo-Europdens. P.: Gallimard, 1977.
8 Dumezil G. L'Oubli de 1'homme et 1’honneur des dieux. P.: Gallimard, 1985.
Структурализм: автономия знака
357
турализм Дюмезиля стоит полностью на стороне олимпийского Логоса, тогда как структурализм Лакана (хотя сам Лакан и допускает воображаемое, отчасти смиряясь с ним — в отличие от радикальных и революционных нигилистов, типа Ж.-П. Сартра, сторонников полного освобождения титанического и материального негативного субъекта), приписывает порядку реального (пусть относительно) высшую ценность, что и предопределяет его иронично-критическое толкование воображаемого и двусмысленное — символического. Структурализм Дюмезиля можно назвать солнечным, тогда как структурализм Лакана — лунным.
Структурализм Дюмезиля, заново утверждающего «славу богов», можно было бы отнести к традиционализму, так как в его работах однозначно прослеживается прямая апология олимпийского начала и в том числе утверждение непреходящей структурной значимости именно солярно-индоевропейского измерения французского Логоса, начиная с его кельтских корней и вплоть до христианского Средневековья.
Трехфункциональность, ноологии и режимы имажинэра
Трехфункциональность Дюмезиля создателем социологии воображения Ж. Дюраном соотносилась с его режимами имажинэра. Можно предложить соотнести ее и с ноологической моделью трех Логосов. В результате мы получим следующую сводную схему (см. с. 358).
На схеме мы видим соответствия индоевропейской структуры модели Ноомахии. Подробный анализ сводной топологической карты может привести к чрезвычайно важным выводам касательно всего нашего исследования, а симметрические соответствия с теорией Дюмезиля показывают параллели между Логосами и цивилизационными формами. Следует обратить внимание, что вся модель индоевропейского общества основана в соответствии с вертикальной небесной ориентацией (здесь можно вспомнить одержимость небесной лазурью Малларме, которого она продолжает преследовать даже тогда, когда структуры этой индоевропейской вертикали рухнули в эпоху Модерна). По мере спуска к зоне хтонического — к линии земли — индоевропейское сознание понижает интенсивность небесных вертикалей, свет Аполлона гаснет, сакральное жречество уступает свои позиции. Соответственно, изменяются ценностные системы и искажаются метафизические горизонты. Нижним пределом индоевропейской цивилизации является верхняя граница земли,
Зевс
Логос Аполлона
Афина
Гера
Артемида V
Арес
Логос Диониса
Посейдон
Деметра
олимпийские боги
эпихтоническое
гипохтоническое
первая функция: жрецы (брахманы, фламины) сакральный царь мудрость
вторая функция: воины
власть, сила, мужество
третья функция: крестьяне, труженики богатство, опьяняющие напитки, женщины, плодородие
Логос Кибелы
Гефест Геката
Гадес Персефона
титаны
ХАОС
Кронос
Ноологическая модель трех Логосов, боги греческой мифологии, три функции индоевропейской структуры Ж. Дюмезиля
Структурализм: автономия знака
359
сечение Деметры, богини плодородия, обращенной к небу и покорной небесным божествам. Деметра олицетворяет землю и ее материнское начало, но в отличие от Великой Матери Кибелы (Реи) она целиком и полностью принадлежит к поверхности земли, к эпихто-ническому ее уровню. Третья функция за счет своей хтоничности подозрительна и наименее ценна для жестких индоевропейских систем, но все же включена в общий олимпийский порядок, просветлена и сакрализована.
Чистая эксклюзия начинается ниже линии земли, в сфере ги-похтонического измерения — в области Гадеса и преисподней. Там простирается область, исключенная из индоевропейского порядка, мир инфернальных сущностей — титанов, гигантов, чудовищ и темных духов. Индоевропейская культура основана именно на отторжении этого гипохтонического измерения, а следовательно, сопряжена с отказом от признания за Кибелой самой возможности обладать Логосом. Ей соответствует не Логос, но Хаос, не мышление, но чистая привация, бешеный голод, ничтожность и ужасающая пустота. На Логосе Диониса индоевропейская структура заканчивается, и даже его культы, в той части, где они предполагают нисхождение ниже линии земли, вызывают определенную настороженность, хотя структура мифа о Дионисе однозначно причисляет его именно к олимпийским богам и, более того, наделяет его признаками бога будущего, олимпийского правителя, которому высшей судьбой суждено сменить Зевса.
Неоплатоническая схема Прокла располагает точно в такой же триадической вертикали три демиургии — демиургию Зевса, демиургию Диониса и демиургию Адониса1. Но признавая наличие зоны материальных тел, неоплатоники — как и все классические носители индоевропейской трехфункциональности — не допускают Логоса Адониса. Его демиургия не более, чем нижние этажи Логоса Диониса. То же самое можно сказать и о признаваемом трехфункциональной системой хтоническом начале. Деметра есть, и цивилизация Деметры есть и представляет собой закономерную, хотя и низшую, форму сакрального индоевропейского общества. Но она не образует зону особого Логоса, так как это требовало бы признания за сферой материального самостоятельной онтологии, а именно это индоевропейская аполлоно-дионисийская, олимпийская культура и отрицает категорически. Поэтому подземный мир мыслится не сам по себе, а исходя их маршрута Диониса, спускающегося туда и самим спуском конституирующего нижний предел. Но область гипохтонического оценивается
1 Proclus. Commentaires sur la Rdpublique. T. 2. Livres 4 — 9. Paris: J. Vrin-CNRS, 1970. P. 112-113.
360
Французский Логос
лишь на основании свидетельства Диониса, через его Логос. Великая Мать в трехфункциональной системе не имеет права обладать Логосом. Сама такая претензия уже есть титаническое восстание. Это чрезвычайно важно для корректного понимания процесса Ноомахии. Логос Кибелы — это то, что существует только для самой Кибелы, для титанов, гигантов, служителей культа Великой Матери и всех тех, кто переходит на сторону материи.
Альгирдас Греймас: семантический квадрат
Структуралистские идеи Дюмезиля и Леви-Стросса получили развитие в трудах литовского лингвиста и филолога Альгирдаса Грей-маса (1917—1992), большую часть жизни работавшего во Франции и основавшего Парижскую семиотическую школу. Греймас, родившийся в России, открыл исследования архаических обществ русского историка Владимира Проппа (1895—1970), чей метод анализа волшебных сказок и других фольклорных произведений позволил систематизировать и интерпретировать данные о древнейших обрядах и социологических особенностях на основании весьма близкого к структуралистам подхода. Греймас объединил актантную модель интерпретации сказок и других архаических текстов, построенную Проппом, с другими структуралистскими методами интерпретации, и на этом основании создал свою семиотическую теорию. Греймас был убежден, что структурализм Соссюра может и должен стать основой для построения общей модели социальных наук, которые в контексте развернутого семиологического подхода приобретут должные когерентность и строгость1. В результате, по его мнению, должна быть создана обобщающая система «структурной семантики», позволяющая интерпретировать практически любые знаковые секвенции — от архаических легенд до современных произведений искусства и даже научных и философских текстов. Принципы такого подхода Греймас изложил в книге «Структурная семантика — поиск метода»1 2.
Греймас стремился придать структурализму предельную степень формализации методов, что, со своей стороны, Леви-Стросс пытался сделать, используя математические формулы для описания версий моделей родства, а Лакан для соотношения элементов трех порядков. Греймас, продолжая эту инициативу, предлагает взять в качестве базового инструмента, устанавливающего все основные
1 Greimas Al.-J. L' actuality du saussurisme // Le franfais modeme. 1956. №24. P. 191-203.
2 Греймас А. Структурная семантика — поиск метода. М.: Академический Проект, 2004.
Структурализм: автономия знака
361
соотношения и дифференсационные варианты, возникающие при фиксации атомарного концепта в семантическом поле означаемого, семантический квадрат, отчасти воспроизводящий логический квадрат Аристотеля1.
Моменты St и S2 соответствуют появлению в поле означаемого (концепта) позитивных (эквиполентных) пар, выделенных в рамках первичного противопоставления. Как только означающее (фонема или секвенция фонем) возникает, оно становится знаком, который вызывает означаемое, также выделяемое из поля концептов, как фонема выделяется из поля фонетики, то есть звуков. Знак фиксирует в поле концептов момент S, который в силу семантического закона никогда не бывает просто отдельным атомом, но обязательно образует структуру отношений, то есть становится St наряду с противопоставленным, но позитивно содержательным S2, а также с дополнительными привативными (отрицательными) концептами ~ St и ~ S2, что, по мысли Греймаса, исчерпывает минимальный семиотический квант логико-семантической структуры в ее базовом состоянии, предшествующем включению в какие бы то ни либо нарративные синтагмы.
1 Greimas Al.-J., RastierF. The interaction of semiotic constraints // Yale French Studies. 1968. № 41.
362
Французский Логос
Пример Греймаса, иллюстрирующий применимость «семантического квадрата», таков. Рассмотрим знак «мужчина». Это будет наш S,. Позитивной оппозицией к S, будет «женщина», наше S2. Дейктическая (то есть ситуативно зависимая от главного термина) пара будет состоять из приватных терминов «не мужчина» (~ SJ и «не женщина» (~ S2). «Не мужчина» может истолковываться и как женщина и как что-то еще, что негативно обретается в окрестностях женщины как позитивного концепта, но может и удаляться от него на неопределенно большое расстояние. В отличие от формальной логики семантическое отрицание не может быть чистой приваци-ей, но всегда, будучи привацией этого, указывает на нечто утвердительное, но иное. Кульминацией неопределенной утвердительности является оппонентный коррелят: ~ Sp (наш «не мужчина») может означать и ребенка, и старика, и даже широкую номенклатуру предметов, все дальше отдаляющихся от мужчины — но по закону семантического квадрата, остающихся дейктически (ситуативно) коррелированными с «женщиной» (S2), как с их позитивным полюсом. Складывание позитивных терминов (оппоненткой пары) дает нам синтез — в случае «мужчины» и «женщины» фигуру андрогина. Суммирование привативных свойств — «ни мужчина», «ни женщина» — дает бесполое существо.
Важно, что смыслом начинает обладать только в том случае, когда ему подыскивается корректная эквиполентная пара S2, но это никак не вытекает из самого Su поскольку и его концептуальное содержание, и широкий набор его оппонентных коррелятов не способны сами по себе однозначно решить, что же должно быть поставлено на место S2. В нашем примере это была женщина, но теоретически эквиполентной парой мог быть и ребенок, и старик, и зверь, то есть любой элемент множества ~ SP Выбор S2He может быть произведен без дополнительных знаний, которые в речи черпаются из контекста. Это значит, что вне «языковой игры», где формируется семантический контекст тех концептов, с которыми оперирует речь, ее смысл остается не просто неточным, но и вообще отсутствует. S, становится осмысленным только тогда, когда ему приписывается (из контекста) эквиполентный элемент S2, но это возможно только в поле языка, и даже более конкретно — дискурса. Ссылки на внеязыковую «вещь» никакой семантической нагрузкой не обладают, поскольку выступают лишь новым языковым элементом, знаком и моментом дискурса.
По Греймасу, семантический квадрат является базовым смысловым элементом любого семиотического явления, и как только обнаруживается знак и означающее, автоматически складывается такой квадрат, сразу же в нем вспыхивают все заложенные и синхрониче
Структурализм: автономия знака
363
ски открывающиеся возможности. В реальной речи никогда слово и даже отдельный семантический момент, соответствующий фонеме, не выступает как атомарный концепт. В этом и состоит основная идея Соссюра. Вместо этого складывается коннотативное множество, поляризованная оппонентно, контрадикторно, импликатив-но, дейктически и нейтрально система, парадигмально описанная в квадрате Греймаса. Не концепт, а совокупность концептов образует минимальный квант смысла.
В основе семантического квадрата находится дуальная оппозиция, положенная в основу структурного анализа в моделях Р. Якобсона и К. Леви-Стросса, но расширенная Греймасом для второй — негативной — пары контрадиктивных терминов. Это расширение позволяет Греймасу рассмотреть структурно семантику не только парадигмального слоя нарратива, но и его диахроническую секвенцию. Так, Греймас полагает, что временное предшествование («до») можно соотнести с инверсивным контрадиктивным моментом ~ Slr а временное последование («после») собственно с базовым позитивным моментом Sr Рассказ, таким образом, становится переходом от правого нижнего угла семантического квадрата к левому верхнему, что предопределяет и остальные оси — корреляции с S2, с тем, что могло произойти, но не произошло, и с ~ S2, что не могло произойти и не произошло. Так, фраза «я сидел дома один» (~ SJ есть инверсия практически необходимого следующего момента (SJ, который со стопроцентной неизбежностью будет по смыслу таким: «вдруг появился другой». Другой (SJ определяется в этом случае в новой — уже синхронической системе координат, с тремя осями. Но в ткани нарратива следующий эпизод снова оказывается в положении инверсии (~ SJ в отношении последующего — и так в периоде. Таким образом, семантический квадрат позволяет интерпретировать диахронические последовательности (синтагмы и нарративы) как частный случай синхронических структур, открывая возможность строгой интерпретации семантики времени.
Развивая тему приложения семантического квадрата к герменевтике нарратива, Греймас несколько видоизменяет модель В. Проппа, построенную на основе морфологического анализа волшебной сказки1, и предлагает актантную модель на основе трех пар:
• отправитель—получатель,
• помощник — противник,
• субъект — объект.
1 Пропп В. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001.
364
Французский Логос
Три пары актантов исчерпывают всю номенклатуру повествования, предопределяя базовый синтаксис, который одновременно есть и семантические координаты. В этом и состоит семантика времени, воплощенная в рассказе. Наше представление о времени, по Греймасу, построено на метафоре повествования, и без его семантико-синтаксического контура человек не способен понять время. Нарратив, рассказ, повесть и есть значение греческого слова «миф» (|iu0o<j), образованного от глагола цибёо), дословно, «говорю», «рассказываю», «повествую». Поэтому миф фундаментален для базовой структуры интерпретации существования, утверждает Греймас, полностью подтверждая основной подход других структуралистов — в первую очередь, Леви-Стросса и Дюмезиля, которые уделяют мифу приоритетное внимание. Греймас же, со своей стороны, показывает, что семантика и есть базовая структура мифа, которая отнюдь не противоречит логике, но является ее семиотической основой.
Рикёр, изначально ориентированный на фиксацию конфликта интерпретаций, критически воспринял сведение Греймасом диахронической стороны нарратива к синхронической семиологиче-ской структуре, так как это снимало напряжение между керигмой и структурой, объясняя керигму структурой, то есть обнаруживая мифологическую структуру Логоса и осуществляя нечто прямо противоположное тому, к чему стремился Бультман и вместе с ним вся протестантская традиция критики текста. Но если мы снова обратимся к сопоставлению общей топики Рикёра с ноологией, мы легко заметим, что именно Греймас вплотную подходит к тому, чтобы в контексте структурализма выработать методологию, ближе всего расположенную к Логосу Диониса.
Ролан Барт: структурализм и революция
Ярким представителем структурализма был литературный критик и эссеист Ролан Барт (1915 —1980), испытавший на себе большое влияние Альгердиса Греймаса и применивший элементы структурной лингвистики Соссюра к жесткой антибуржуазной теории, которой он посвятил серию своих работ. Барт придал структуралистским идеям характер популярных и несколько провокационных тезисов — например, «смерти автора»1 или идеи, что «язык не является ни консервативным, ни прогрессистским, а фашистским»2 и т.д. По-
1 Barthes R. La mort de 1'auteur. P.: Mantdia, 1968.
2 Barthes R. Le^on inaugurale au College de France // Barthes R. Le?on P.: Editions du Seuil, 1978.
Структурализм: автономия знака
365
добные формулы отражали общие идеи структурализма относительно автономной семантики языка, в которой текст представляет собой объективную структуру, принципиально не зависящую от того, кто его произносит (пишет). «Смерть автора» в этом случае означает, что дешифровка текста зависит от читателя, а в конечном счете от самих семиотических структур текста, практически сводящих на нет субъективность его «творца». «Фашизм» языка состоит в том же самом: в автореферентной структуре самого текста, которую можно представить как нечто «тоталитарное» — такой подход вполне соответствует порядку воображаемого у Лакана, хотя и не в столь категоричной форме.
Барт обращает внимание также на сдвиг структурной лингвистики от денотата (как внеязыкового объекта) и процедуры денотации (указания знака на такой внеязыковый объект) как классической операции позитивистской логики и классической лингвистики, к коннотату и коннотации (то есть к выявлению смысла знака из его помещения в семантическую структуру отношений с рядоположенными концептами — что и описывает семантический квадрат Греймаса) Ч Барт применяет этот метод к литературной критике (в частности, к анализу текстов Бальзака1 2, Сада, Фурье3 и т.д.) и демонстрирует возможность нового прочтения всем известных текстов, обнаруживая в них дополнительные смысловые и структурные слои и соответствия.
Барт применяет структуралистский метод к такому явлению, как мода, идентифицируя костюм как структуру (социальную институцию), а процесс выбора, покупки и ношения одежды как индивидуальный речевой акт. Тем самым мода становится «тоталитарным» явлением, диктующим людям свою автореферентную семантику через множество концептуальных отношений — марка, фасон, цвет, стиль, ткань, узоры, крой и т. д.
Как и большинство структуралистов, Барт обращает внимание на область мифа, но снова предпочитает популяризировать позитивную переоценку мифа у Дюмезиля или Греймаса, обращая внимание на «мифологию» обыденного сознания обывателя, фасцини-рованного гаджетами и типовыми ценностями «жизненного мира»4. Современная ментальность построена, по Барту, на идеологическом использовании мифа, служащего интересам буржуазного класса. Поэтому в наше время фигурами мифа становятся не боги и герои,
1 Barthes R. L'Empire des signes. P.: Skira, 1970.
2 Barthes R. S/Z essai sur Sarrasine d'Honore de Balzac. P.: Editions du Seuil, 1970.
3 Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P.: Editions du Seuil, 1971.
4 Барт P. Мифологии. M.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.
366
Французский Логос
но актеры, светские львицы, марки машин, разновидности вина, сигарет или многократно повторенные газетами сюжеты колониального толка, убеждающие в превосходстве просвещенных европейцев над туземцами. Эта прикладная мифология, по Барту, столь же произвольна, как и архаические мифы.
В целом творчество Барта способствовало популяризации структурализма в его журналистском и антибуржуазном варианте, в то время как серьезных и глубоких открытий в этой сфере Барт не совершил.
Мишель Фуко: критика нормативных эпистем
Другим представителем «революционного структурализма» наряду с Р. Бартом был крупный французский философ и социолог Мишель Фуко (1926—1984). Сам Фуко свои воззрения как «структуралистские» характеризовать отказывался. Тем не менее его методология полностью вписывается в поле структуралистской философии. Революционным же его структурализм является в том смысле, что Фуко последовательно и настойчиво критикует претензии любых нормативных систем на универсальность и абсолютизацию. Поэтому, утверждает он, к любой доминирующей идеологии следует относиться критически, как к чему-то принципиально релятивному и основанному на условности, что и открывает возможность революции (как пересмотра нормативных структур) и предваряющей ее критики статус-кво.
Фуко получил разностороннее образование, детально изучал Канта, Ницше, Бергсона, углубленно интересовался психоанализом. Большое, если не решающее, влияние на него оказали работы Жоржа Дюмезиля, под началом которого он учился и работал в Университете Уппсалы (Швеция). В 1960-е годы Фуко сближается с Роланом Бартом и другими представителями левого структурализма.
Первым самостоятельным и зрелым произведением Фуко является «История безумия в классическую эпоху»1, где он подходит к важнейшей для всего его творчества теме нормативной рациональности, ее критериев, параметров, свойств и способов внедрения и защиты. В свете этого, квалификация и дефиниция безумия, отношение к нему на разных исторических этапах демонстрирует, по Фуко, изменение самой парадигмы нормальности и, соответственно, антропологического и онтологического толкования того, что такое разум и каким должен быть «человек разумный». Безумие как
1 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. М.: ACT МОСКВА, 2010.
Структурализм: автономия знака
367
отклонение от этой нормы, его толкование, формы лечения и социальной оценки — свидетельствуют о принципиальных сдвигах в фундаментальных структурах общества. Тем самым, Фуко подходит к описанию структур европейского общества, особенно тщательно исследуемых им на фазе перехода к Модерну. Здесь-то и осуществляются принципиальные трансформации клиники, ее методов и основ, на примере которых можно лучше понять сущность культуры Модерна. К этой теме Фуко будет обращаться еще неоднократно, в частности, в своей важной работе «Рождение клиники»1. Вскрытие репрессивного характера клинических учреждений привело Фуко к тому, что он позднее описал детальный процесс становления пенитенциарных заведений в современную эпоху в книге «Надзирать и наказывать»1 2.
От нормативности в области клиники и тюрьмы Фуко, всегда уделявший психоанализу большое внимание, переходит позднее к проблеме сексуальности, которая также, с его точки зрения, напрямую зависит от доминирующих норм; соответственно, поставленные Фрейдом и его школой проблемы подавления, вытеснения и в целом рациональной цензуры бессознательных желаний, приобретает у Фуко структурное и социологическое измерение. Вопросам сексуальности, ее нормативизмам и репрессивным стратегиям, направленным на ее подавление в разных обществах, Фуко посвящает работы, собранные позднее в трехтомнике «История сексуальности»3.
В 1966 году Фуко публикует программную книгу «Слова и вещи»4, которая сделала его знаменитым во Франции и в Европе в целом. В этой работе Фуко разрабатывает окончательно свой метод эпистемологического анализа, вводя по аналогии с такими структуралистскими терминами, как «фонема» (Р. Якобсон, Н. Трубецкой), «мифема» (К. Леви-Стросс) и т.д., термин «эпистема». Эпистема — это минимальный квант того, что культура признает в качестве общепринятого научного дискурса. В основе мышления каждой эпохи лежит набор базовых эпистем, предопределяющих всю интеллектуальную структуру данного общества. Введение эпистемы позволяет Фуко применить структуралистский метод к сфере знаний, образования, науки, медицины и других смежных областей, где форми
1 Фуко М. Рождение клиники. М.: Академический Проект, 2010.
2 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
3 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Т. 1. М.: Касталь, 1996; Он же. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. СПб.: Академический Проект, 2004; Он же. Забота о себе. История сексуальности. Т. 3. К.: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998.
4 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994.
368
Французский Логос
руются доминирующие представления о норме иг соответственно, о патологии социально-антропологического поля. Эпистемы формулируют структуру нормативного знания, которое, в свою очередь, становится главным диспозитивом власти и основой властного дискурса. Любая власть, по Фуко, опирается на эпистемы, которые утверждаются в качестве безусловных и доминирующих, и поэтому воля к власти Ницше на практике реализуется через волю к знанию, а конкретно, волю как закрепление нормативного статуса за рядом связных между собой эпистем. Знание структурировано таким образом, чтобы укреплять и защищать одни эпистемологические структуры и маргинализировать, отрицать, осмеивать или вообще подавлять другие.
Фуко прослеживает три фазы европейской истории, где можно ясно увидеть переход от одной эпистемы к другой на основе принципиального сдвига семиотических и семантических полей:
• Возрождение (XVIвек),
• ранний Модерн (XVII — XVIII века),
• поздний Модерн (XIX—XX века).
Средневековье и более ранние периоды основывались на других эпистемах, остающихся в целом вне поля зрения Фуко. Но и данного отрезка достаточно для того, чтобы убедительно показать главный структуралистский тезис: содержание человека, его нормативный статус, его идентичность и его онтологию полностью определяет доминирующая парадигма эпистемологии. Следовательно, о человеке можно говорить не как об универсальном явлении или об индивидууме, но как о социологической форме, определяемой доминантной эпистемой, и следовательно, производной от нее. Поэтому история не может быть построена вокруг оси человека, взятой как нечто постоянное в ядре и развивающееся в частностях. История есть смена эпистемологий и доминантных эпистем, неразрывно сращенных с диспозитивом власти. Поэтому единственная достоверная ось истории есть ось эпистемологическая, которая, в свою очередь, предопределяет и саму историю как функциональный нарратив. В эпоху Модерна (классический период) было введено нормативное представление о человеческом (индивидуальном) субъекте как о полюсе бытия, мира, жизни и общества. Но само такое введение есть свойство вполне конкретной исторической эпохи и правящей в ней эпистемы, которой не было раньше, и вполне возможно, и даже наверняка, не будет в будущем. Следовательно, в иных эпистемологических контекста субъекта не было и в будущем не будет, заклю
Структурализм: автономия знака
369
чает Фуко1. Задача же историка, культуролога и философа состоит в том, чтобы корректно описать эпистемологические структуры, а не пытаться найти под ними какую-то последнюю «реальность», которая была бы эпистемологически нейтральной и первичной по отношению к парадигмам. Такой «реальности» нет. Данные темы Фуко развивает в другой работе, тесно примыкающей к книге «Слова и вещи», «Археология знания»2.
Метод эпистем существенно расширил поле структуралистских исследований. Применительно к политической сфере анализ Фуко о знании как о главном диспозитиве власти и о центральном значении властного дискурса в общей практике господства стал классическим тезисом социально-политических дисциплин Европы с 60-х годов XX века.
Логос Орфея и Логос Мелюзины
Структурализм является фундаментальным явлением для понимания сущности французского Логоса, причем не только в фазе Модерна, но и в целом, в пределах всего французского историала. Структуралистский метод, примененный к разным областям, позволяет восстановить многие принципиальные отношения в синхроническом и диахроническом аспектах этого историала, с опорой на мифологию, рациональную философию и гендерные особенности. При этом разнообразие позиций самих структуралистов, объединенных методом, но сплошь и рядом обосновывающих полярные, противоположные оценки тех или иных явлений, связей и закономерностей, и дающие им подчас прямо противоположные интерпретации, порождает не хаос, но, напротив, обрисовывает контуры принципиальных закономерностей. Эти закономерности становятся прозрачными, если мы соотносим структуралистские топики с ноологией. В этом случае специфика французской идентичности, рассмотренной через призму структурализма как явления и как метода, станет для нас более наглядной и эксплицитной.
Начать это сопоставление можно с модели Лакана и его трех порядков — реального, символического и воображаемого, соотнеся их с тремя Логосами. Здесь мы видим почти совершенную корреляцию, отраженную на схеме (см. с. 370).
Зона Логоса Кибелы соотносится с порядком реального у Лакана, и это чрезвычайно важное соответствие, значение которого трудно
1 В этом Фуко полностью согласен с тезисом Р. Барта «о смерти автора».
2 Фуко М. Археология знания. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004.
Логос Аполлона
идеи образы-иконы (знаки)
Логос Диониса
эйдос (форма+материя) синтема
ф о
2) ф н си I СО
Логос Кибелы 8
ф иэ
хаос мрак материя
порядок воображаемого
язык, лепет (lalangue)
порядок символического
симптоматика "синтом"
невроз психоз перверсия
порядок реального
желание желания (негативная воля)
единство Эроса-Танатоса до их разделения
бытие-в-говорении - parletre
чистая лишенность, привация
Ноология и топология Лакана
Структурализм: автономия знака
371
переоценить. Логос Кибелы есть Логос чистой женственности, воплощенной в абсолютизации материнства как вынашивания плода, чьи структуры, истоки и эйдетические свойства не имеют значения. Отсюда любовь Матери-Земли ко всем произведенным ею существам, и особенно к монстрам, чудовищам, гигантам, офитоморфам, диспропорциональным великанам, карликам и т.д. Порождающее материнство тем самым демонстрирует безразличие к форме; ей важен материальный срез наличия, который роднит все сущее по общности субстанциального знаменателя. Привация (отсутствие сущности) — это сущность Земли и Логоса Кибелы. Это ничто и как ничто порядка — хаос.
Мы видели, что, начиная с Платона в «Кратиле» и кончая Хайдеггером (с его «Ег-eignis» с отсылкой к «eigene») или Лаканом (с его «lalangue» и «parletre»), философская этимология (отличная как от научной, так и от народной) прочно отвоевала свое право на статус эпистемологического инструмента. Игра слов и фонетических ассоциаций, составляющая во многом источник обаяния поэзии и риторики, может быть с определенной осторожностью применена и к области философии. В этом смысле сравнение ноологии и топологии Лакана обнаруживает одно чисто формальное фонетическое соответствие: Рея fPsa) и реальность. Греческое имя богини Реи ('Реи), титаниды и супруги Кроноса — это прямой эллинский эквивалент фригийской Кибелы, во многих текстах называемой Реей-Кибелой. Поэтому Логос Реи и Логос Кибелы по своим функциональным качествам строго одно и то же. Латинский термин «ге», «res», «вещь», от которого происходит слово «реальность» («realitas» через латинское прилагательное «realis») не имеет, по всей видимости, никакого отношения к греческому ‘Реос, этимология которого, впрочем, не до конца выяснена. По одной версии, это имя происходит от ёра, «почва», «основание», по другой (как раз философская этимология у Платона в «Кратиле») — от глагола рЕсо, течь, меняться, быть влажным, откуда приписываемое Гераклиту выражение «та паута pet», «все течет»1. Но концепт «реального», «вещного», «вещественного», появившийся в средневековой схоластике и ставший фундаментальным в метафизике Нового времени, отсылает нас к онтологической и космологической области, полностью совпадающей с зоной Логоса Великой Матери Реи-Кибелы. И в психоаналитическом структурализме Лакана это соответствие проявлено в полную силу. Порядок реального у Лакана есть порядок Реи в ноологии, область
1 Еще одна версия сближает это имя с рба или £>oid, означавшим «плод граната», считающийся символом преисподней, что и отражено в истории про Персефону, похищенную Гадесом.
372
Французский Логос
нижнего слоя царства матерей, гипохтонический вектор преиспод-ней. Отсюда связь порядка реального у Лакана с чистой негативностью, лишенностью, привацией и смертью. Сюда же следовало бы поместить и негативного субъекта Сартра и Камю, что мы довольно отчетливо видим в революционном структурализме Барта и Фуко. Реа-льное Лакана — это то, что относится к Pee. Rhealitas, rhdalite. А значит, реальное есть фундаментально негативное, привативное и парадигмально феминоидное (отсюда можно продолжить ассоциации вплоть до режима «мистического ноктюрна» Ж. Дюрана).
После такого отождествления вся структура концептуальных лабиринтов Лакана и вся топика структурализма в целом, включая и другие его версии, становится предельно ясной.
Сам Лакан уклончиво и не столько прямолинейно, как «революционные структуралисты»-гошисты, полагает порядок реального главным и основополагающим, в котором следует искать корень субъективного, а значит, собственно человеческого. При всей ироничной градуальности его подхода, постоянно апеллирующего к риторическим фигурам в духе ленты Мёбиуса, Лакан все же стоит принципиально на стороне реального, и именно этим определяется стилистика его толкования других режимов, и в целом — характер его непосредственной психоаналитической и клинически-терапев-тической практики. Корень всех проблем — в реальном. Эти проблемы неустранимы, так как реальное и есть проблема. Следовательно, заключает Лакан, аналитику не остается ничего другого, кроме как смягчить эту проблематику, перетолковав симптом как «синтом», то есть избежать невротического, психотического или перверсивного коллапса путем пропедевтики через культуру — тонко модерируемый и относительно безвредный и безболезненный (иронично соте-риологический) бред в духе «Улисса» Джойса. Отсюда главный метод рекомендуемой Лаканом терапии: «Пишите, говорите, творите, так боль реального станет хотя бы относительно выносимой». Это не так далеко ушло и от самого Фрейда, который полагал, что сфера искусства — самый оптимальный и здоровый путь для экспликации и манифестации «работы сновидений», предупреждающий, по меньшей мере, самые крайние формы патологии, развивающиеся именно в тех случаях, когда комплексы загоняются и подавляются со стороны «слишком» здорового рассудка, ведь если рассудок считает себя «здоровым», а тем более «полностью здоровым», это уже само по себе в высшей степени тревожный симптом, свидетельствующий о глубокой патологии, тем более опасной, чем менее она фиксируется самим субъектом. Больной имеет больше шансов выздороветь, чем так называемый «здоровый», так как у него есть хотя
Структурализм: автономия знака
373
бы осознание своей болезни, а значит, некоторая воля к излечению. Здоровый — это больной, не подозревающий о своей болезни, а значит, безнадежный.
Область символического у Лакана вполне соответствует Логосу Диониса. Если мы посмотрим на него со стороны реального (а именно так предлагает смотреть Лакан), то символическое предстанет перед нами как менадическое, то есть взгляд на вакхизм не со стороны Вакха, а со стороны вакханок. Если реальное есть rhealis, то символическое есть менадическое. Состояние менад, разрывающих зверей, носящихся по горам, пожирающих сырое мясо, убивающих встречающихся на пути мужчин, бросающих свои домашние очаги и собирающихся на ночные процессии и оргии, это типичное состояние женщины в пароксизме нервного срыва, вышедшей из-под жесткого контроля патриархального порядка и пробудившей свою хтоническую — в том числе гипохтоническую, кибелическую сущность. В этом смысле порядок символического — это область симптоматики, то есть проявления реального как патологического. Но патологичность символического состоит не в том, что речь идет о проявлении иллицитных желаний, но в том, что делание само по себе чисто негативно и проистекает из привации. Желание и есть патология, потому что проистекает из реального, а реальное (как rhealis) есть патология по преимуществу и исток всех патологий, поскольку оно есть ничто, ужас, мрак и смерть. Однако патологичность реального становится эксплицитной не в самом реальном, а только в символическом, где она приобретает форму (симптом). Осуществляя запретное, менады дают свободу реальному как патологичному. Однако особенность дионисийского культа состоит в том, что патологическая воля к заведомо невозможному и недоступному, так как несуществующему и не могущему существовать, внезапно получает разрешение в явлении (эпифании) Диониса. Дионисийские мистерии и празднества не загоняют проблему назад в преисподнюю, не отсылают мертвых к смерти, и значит саму смерть к ее небытию, но смешивают тьму со светом, невозможное с возможным, недоступное со случившимся. Так, появляется Дионис, божественный муж — ребенок, возлюбленный и отец одновременно, как мгновенное успокоение женского безумия в кульминации сверхконцентрированной нехватки. Со стороны менад — и об этом свидетельствует само состояния их фиаса — даже при эпифании Диониса еще не происходит насильственного включения в область порядка, патриархальности и языка. Поэтому речь менад нечленораздельна, они подражают мычанию коров и щебету птиц. Это их lalangue, протоязык, в котором, однако, уже угадываются
374
Французский Логос
отдаленные отблески порядка (а порядок всегда есть порядок мужских небесных богов). Пространство оргии позволяет сосуществовать в нем хтоническим могуществам — сатирам, силенам, фавнам и вполне оформившимся гражданам греческого полиса, носителям статусов и позиций. Это уже не хаос, но еще не порядок. Это не излечение, но и не болезнь. И вот здесь важным становится различение Лаканом симптома и синтома. Область и метод синтома — это дионисийский момент, в котором явно видна истерика, патология и структуры бреда, ужаса и смерти, но они и не подавлены, и не прорываются как необратимо революционный коллапс (за которым всегда следует новая диктатура, с чем Лакан призывает смириться как с неизбежностью — и с революцией, и с железно следующими за ней террором и тиранией); они проявлены, то есть помещены в пространство эпифании, явления, осью которого становится сам Дионис — первое по-настоящему мужское присутствие, с которым сталкивается реальное в порядке символического.
Соответственно, воображаемое Лакана соотносится с Логосом Аполлона. Здесь максимум порядка, ритуала, социальности, строгих семантических автореферентных структур и довольно жесткого синтаксиса. Аполлон — это сам язык, Логос, ум и вся область означаемого, беспредельное поле концептов. Но в толковании порядка воображаемого у Лакана снова сказывается его приверженность реальному. Воображаемое в его системе отчуждено, оно есть другое, и как таковое представляет собой негативную антитезу реальному, которое, само по себе, в свою очередь (причем эта очередь — первая очередь!) есть чистая негативность. Воображаемое есть двойной негатив, но так дело обстоит только в том случае, если мы встаем на точку зрения Реи-Кибелы. Во французском контексте это значит принять позицию Мелюзины. Фигура Мелюзины объединяет все три порядка Лакана — ее драконий хвост относится к реальному, ее чары — к символическому, а ее пребывание в статусе земной женщины и основательницы рода Лузиньянов — к воображаемому. Крик ее есть также lalangue, прорыв женской глоссолалии, возглас вакханок и одновременно баюкающее бормотание засыпающей над колыбелью матери. Трагизм Мелюзины есть лейтмотив женской стороны французского Логоса. Он проникает на уровень Аполлона, прорывается к языку, идеально выполняет все функции и обряды рационального, честно отдает долг порядку означаемого и его строгим семантическим квадратам, но лишь чтобы в одно мгновение сорваться в менадизм (символическое) и далее — в зону реального (Реи-Кибелы). Здесь Мелюзина снова есть змей, рычащий от мук пустоты улетающий — исключенный — дракон.
Структурализм: автономия знака
375
Таким образом, Лакан описывает нам ноологическую структуру французского Логоса в измерении Мелюзины и с ее позиций. Поэтому он близок активным нигилистам 1968 года и, позднее, ультралибералам и феминисткам, которые видят в нем радикальную критику языка (порядка воображаемого) как «фашизма» (по Р. Барту).
Но в структурализме есть и другая версия толкования природы базовой топологии, ярче всего представленная у Ж. Дюмезиля. Дюмезиль формулирует ее в названии своей книги «Забвение человека и слава богов». Для Дюмезиля индоевропейская структура (что для Лакана было бы порядком воображаемого) вообще не представляет собой этической и психологической проблемы и не воспринимается как автоматический механицизм. Да, констатирует Дюмезиль, структура подвергает человека (субъекта) забвению. Реальное в ней не представлено и подлежит эксклюзии. Но это и есть индоевропейский — в том числе и европейский — Логос: победа мужских олимпийских богов над хтоническими могуществами, с укрощением эпихтонического сечения (через мистерии Деметры и Диониса, Элевсин) и трудно давшейся победой над титанами и гигантами, то есть над зоной гипохтонического. Структурализм Дюмезиля — это мужской аполлонический взгляд, для которого структуры языка составляют «славу богов», явленные образы вечных идей. Поэтому порядок, воплощенный в структурах воображаемого, есть здесь нечто живое, солнечное и прекрасное, нечто божественное. А если и спускаться на уровень символического и даже ниже, к реальному (что, впрочем, сам Дюмезиль не делает, но что предпринимают французские поэты — от трубадуров Прованса до сюрреалистов, Кокто и Арто), то именно с миссией Орфея, как обряд аполлоно-дио-нисийского комплекса, с целью преобразить и трансформировать материю в статую, в печать божественного порядка. Таким образом, в структурализме мы находим и выражение Логоса Аполлона, который подчеркивает патриархальную структуру французского Логоса, уходящего в трехфункциональный олимпийский мужской порядок. В работах Дюмезиля и его последователей (в частности, в контексте интеллектуального течения «Новых правых», GRECE Алена де Бенуа) этот аспект наличествует эксплицитно.
Постмодерн
Постмодерн: «венец прогресса» или «великая пародия»?
Социологи, культурологи и философы ввели понятие «Постмодерн» для того, чтобы описать фундаментальный сдвиг, произошедший в западной (евро-американской) цивилизации во второй половине XX века и заключающийся в глубинном пересмотре основных аксиом, на которых строилось базовое мировоззрение Нового времени1. Сущность Постмодерна как проекта состоит в том, чтобы выйти за пределы Модерна, подвергнув сомнению практически все его основополагающие установки, но чтобы при этом продолжить его «освободительный» пафос и ни в коем случае не вернуться к Премодерну, то есть к традиции. Постмодерн — это шаг вперед по пути линейного времени, прогресса и развития, а не назад, хотя классическое представление о линейном времени, свойственное Модерну, здесь также подлежит пересмотру. Выйти за границы Модерна, но не обратиться к традиции — в этом и состоит, по Гено-ну, «великая пародия», открытие «яйца мира» снизу. Ее реализация и есть миссия Постмодерна. Поэтому в ней есть нечто узнаваемое от обоих парадигм: и от Модерна (продолжение борьбы с традицией — иерархией, религией, вертикальной топикой), и от Премодерна (обращение к темному сакральному, к дьяволу, к иррациональному — к мифу, экстатике и архаике). Важно, что именно Франция, находившаяся в авангарде культуры Модерна, стала родиной и для Постмодерна: подавляющее большинство ярких философов-постмодернистов были французами — начиная от провозвестников этого течения сюрреалистов А. Бретона, Ж. Батая, А. Арто до Ж. Лакана, М. Фуко, Р. Барта, Ф. Соллерса, Ж. Ф. Лиотара, Ж. Бодрийяра, Ж. Деррида, Б. Латура и самого яркого и последовательного из всей этой плеяды философа Ж. Делёза (и его соавтора Ф. Гваттари).
Постмодерн осмысляет себя как финальную фазу западноевропейской культуры, завершающую собой эпоху Модерна. Модерн ликвидировал традицию, создал совершенно уникальную философскую и социологическую конструкцию, ставшую в Новое время
1 Дугин А.Г. Постфилософия. М.: Евразийское движение, 2009.
Постмодерн
377
универсальной нормой для всего человечества. Но эта конструкция при более тщательном рассмотрении оказалась воспроизведением в новом контексте тех же самых структур, которые она взялась уничтожить. На место Бога встали сознание и человек; на место сословной иерархии — иерархия классовая, основанная на отношении к частной собственности; на место богословской догматики в образовании — совокупность безусловных истин, подкрепленных авторитетом науки; на место мифов религиозных — мифы массовой культуры, потребления и «звезд». Так, борьба против одних идолов, по мнению постмодернистов, завершилась победой других. Такое замечание требовало переформулировки задачи: теперь уже не традиция, и так опрокинутая Модерном, становилась главной целью атаки, а сам Модерн, не выполнивший и не способный выполнить поставленные им же самим задачи.
Представление о Постмодерне стало резюме интенсивной фазы Модерна, когда сами основы парадигмы Модерна стали те-матизироваться и проблематизироваться, что постепенно привело к уверенности в его неспособности полностью ответить на «освободительный» импульс к чистой имманентности, который стал его формальной и эксплицитной задачей с эпохи Просвещения. При этом постмодернисты разделились на тех, кто пришел к выводу, что несостоятельность Модерна означает вообще неспособность человека выйти за пределы абсолютных структур, предопределяющих его неизбежное отчуждение в семиологическом поле (к числу таковых следует отнести Ж. Лакана, М. Фуко, Ж. Бодрийяра и т.д.), и на тех, кто полагал, что неудача связана именно с конкретной историчностью европейского Модерна, вобравшего в себя целый ряд генетических пороков до-современного Запада (универсализм, этноцентризм, патриархальность и т.д.), а значит, дело имманентиза-ции и демократизации следует продолжить с учетом основательной критики европейского Модерна как локального и исторического, а не глобального и универсального феномена (к этому склонялись Р. Барт, Ж. Деррида и Ж. Делёз). Это второе направление в рамках Постмодерна получило название постструктурализм, так как в нем основной целью стало эффективное преодоление неизменности и статичности, заложенных в самом явлении структур.
Постмодерн представляет собой заключительную фазу французского Логоса, так как в этом явлении нигилизм, свойственный Модерну, достигает своей кульминации и либо фиксируется как нечто абсолютное и тотальное, либо делает бросок к своему финалу, окончательно рассеивая в метафизической энтропии остатки европейской и французской идентичности.
378
Французский Логос
Важно, что мы фиксировали Модерн и его Логос как внутреннее явление для французского общества. Идентифицируя его как восхождение Логоса Великой Матери, уходящего корнями в «хрупкий патриархат» (тема Мелюзины) кельтского общества, мы проследили, в какой мере органичным, явлением Модерн был для французской культуры и истории и насколько он резонировал с французским Dasein'oM. Обзор различных философских теорий и культурных течений, особенно в эпоху интенсивного Модерна (Бергсон, структурализм, экзистенциализм, сюрреализм и т.д.), показал, что Логос Кибелы пронзительно осмыслялся французскими философами как фундаментальное влечение к материи, ночи, гипохтони-ческой области онтологии. Причем, если носители Логоса Орфея спускались в бездну, то носители Логоса Мелюзины — поднимались из нее. Их пересечение, переплетение и диалектика в XX веке приобрели эксплицитный характер, когда мифология, структурализм, психоанализ, сюрреализм и философия жизни позволили описать этот тончайший процесс в стереоскопической топологии. В истоках французской философии у Иоганна Скота Эриугены и даже у французских традиционалистов XX века Генона и Корбена мы видим обращение к верхней бездне, к трансцендентной апофатике, что созвучно магистральной линии немецкого Логоса, который мы соотнесли с фигурой «человека апофатического»1. Но для Франции этот вектор не стал преобладающим, хотя и оставался чрезвычайно важным и даже определяющим для носителей гештальта Орфея, в то время как преобладающим Логосом — что особенно ясно проявилось в Модерне — стал именно Логос Кибелы (Мелюзины), в XX веке нашедший совершенное выражение в негативном субъекте Сартра и в порядке реального (как абсолютной смерти) у Лакана, завершая материализм постановкой ничто в центр самого человека, эксплицитно провозглашая скопческую антропологию Великой Матери последним словом «прогрессивного гуманизма». Причем этот гуманизм, основанный на радикальной имманентности (доводящей до логического конца философскую линию Б. Спинозы), особенно могуществен и активен не у тех мыслителей, которые ясно отдавали себе в нем отчет, но у тех философов, деятелей культуры и политики Франции, которые довольствовались поверхностными прогрессистскими, демократическими и эволюционистскими доктринами, полагая, что базовый вектор Нового времени является безальтернативным, целиком положительным и требующим максимальной экспансии. Так, тревожные по своим выводам разработки мыслителей
’ Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический.
Постмодерн
379
интенсивного Модерна у сторонников наивного Модерна брались на вооружение как технические моменты или конструктивная критика, приглашающая лишь скорректировать и несколько отладить модернизационные стратегии. Показательно, что при этом наиболее известными и влиятельными философами и артистами становились отнюдь не те, кто воплощал в себе французский mainstream, но, напротив, недооцененные или вообще полностью маргинализированные их современниками философы и поэты (этим бурно возмущался Антонен Арто, приводя в пример как случай Нерваля, так и самого себя). Поэтому среди великих имен французской культуры, как ни странно, большинство представляют собой атипичные случаи, хотя и глубже всего описывающие сущность французского Логоса и его диалектику. Вместе с тем анонимная масса интеллектуалов, полностью и жестко вписанных в социальные системы французского общества, была, как правило, носительницей «наивного» оптимистического и материалистического Модерна, соответствующего его экстенсивной фазе (XVIII —XIX века), будучи лишь поверхностно задетой острием нонконформистской мысли своих гениальных и честных соотечественников. Модерн во Франции сильнее всего действовал там, где он менее всего был осмыслен, а если и был осмыслен, то самым поверхностным и «наивным» образом, выступая, скорее, в качестве инстинкта модернизации. Самые верные носители Логоса Мелюзины не подозревают ни об этом факте, ни о существовании такого Логоса и самой Мелюзины (как посетители сети современных кафе «Starbucks» чаще всего не задумываются, что за фигура изображена на его эмблеме).
Так как Модерн был явлением в значительной мере французским (если добавить к этому второй полюс ингерентной, органической модернизации — Англию, то мы можем говорить о «кель-то-Модерне»), то его финальная стадия — Постмодерн также яснее всего была осознана французскими философами, культурологами и социологами. При этом двусмысленность Постмодерна, обнаружение в нем отдельных откровенно инфернальных черт, скрытых в Модерне, соответствуют именно пронзительной и проницательной галльской рациональности, всегда — по логике ленты Мёбиуса — подозревавшей об обратной стороне вещей и об опасной диалектике Просвещения. Поэтому наряду с фигурами энциклопедистов и просветителей для французских интеллектуалов не менее, если не более яркой и репрезентативной личностью является автор жестоких порнографических романов того времени Донасьен Альфонс Франсуа де Сад (1740— 1814), идеям и фантазмам которого посвящали серьезные и углубленные исследования ведущие француз
380
Французский Логос
ские мыслители XX века — Ж. Батай, М. Бланшо, Р. Барт, П. Клос-совски, А Камю и т.д. Следовательно, если Модерн был общим для французов и англичан, то Постмодерн, его открытие и исследование, является почти исключительно достоянием французских философов, оказавшихся наделенными достаточным и адекватным концептуальным аппаратом, чтобы осмыслить этот фазовый переход к «великой пародии» (Р. Генон), корректно описать его, вскрыть его основные семантические структуры и набросать (в случае «оптимистических» постмодернистов) его проективные силовые линии д ля будущего. Поэтому, если Модерн — французское явление, будучи одновременно и явлением английским, и даже в целом в чем-то общеевропейским, то Постмодерн обнаружен и открыт, зафиксирован и осмыслен впервые именно французами, то есть представляет собой исключительно французское явление. Это обстоятельство может быть, впрочем, расценено д вояко: либо французы оказались впереди других европейцев (включая наиболее развитую страну, европейскую по своему происхождению — США), либо они сумели опознать зловещие и темные стороны того, к чему неизбежно пришла современность, и тем самым, резонируя с эсхатологически настроенными германцами первой половины XX века (Консервативная Революция), проблематизировали и сам Модерн, и его предельную фазу, превращающую его в нечто иное, еще более ужасное (по мнению пессимистов и консерваторов), чем он был ранее, поставив таким образом вопрос о необходимости радикальной альтернативы. Вторая гипотеза объяснила бы столь высокую проницательность и откровенность французских авангард ных мыслителей и, в частности, влияние на французскую философию идей Мартина Хайдеггера, в учении которого философские идеи Консервативной Революции достигают своей кульминации. Кроме того, в высшей степени показателен тот факт, что наиболее радикальный критик Модерна, предвосхитивший, разоблачивший и заведомо отвергший Постмодерн, Рене Генон был также французом.
Жан Бодрийяр: Постмодерн как гиперреальность
Одним из ярких представителей Постмодерна, глубже и трагичнее других проникшим в его сущность, был французский философ, социолог и эссеист Жан Бодрийяр (1929 — 2007). Бодрийяр в юности был близок к французским левым, марксистам и ситуационистам1, но позднее критически отнесся к основным догмам классического марксизма, идеи которого он постарался поместить в более общий со-
1 Ситуационизм — крайне левое течение во Франции 60—70-х годов, основанное французским социологом и философом Ги Дебором (1931 —1994).
Постмодерн
381
циологический контекст, используя для этого семиологию, структурализм, социологию (М. Мосса, Ж. Батайя, С. Кайуа и т.д.) и антропологию (К. Леви-Стросса). Так, он полагал, что исследуемый Марксом процесс обмена, на котором строится все функционирование капиталистической системы, интерпретируемый Марксом в дуальных категориях товар/деньги, надо понимать как частный случай обмена символами, и этот «символический обмен» предшествовал капитализму, существовал параллельно с ним (в период его индустриальной фазы) и особенно ярко проявляет свою сущность сегодня, когда капиталистическое общество вступило в новую эпоху. Эту эпоху и принято называть Постмодерном, хотя сам Бодрийяр, во многом повлиявший на основные теории и подходы постмодернистов, несколько дистанцировался от этого движения, полагая, что его идеи не подпадают под какую-либо одну школу или учение. Эти идеи Бодрийяр системно изложил в фундаментальной работе «Символический обмен и смерть»1.
Бодрийяр в этой работе строит сводную топику марксизма и фрейдизма, отождествляя по своим функциям производство Маркса и бессознательное Фрейда, с одной стороны, и надстройку Маркса и порядок символических рядов объектов желания у Фрейда — с другой. Бодрийяр указывает, что во фрейдистской картине человека идет постоянная «работа сновидений», непрерывно порождающая фантазмы и желания, остающиеся в большинстве случаев под порогом сознания, но составляющие основу психической экономики индивидуума. Эту «работу сновидений» Бодрийяр отождествляет со сферой производства. Сновидения (грезы, желания, libido) становятся в социологическом масштабе всего общества тем, что Маркс определяет как Труд.
Наложение двух топик — марксистской и фрейдистской — приводит Бодрийяра к следующему выводу: по мере развития капитализма значение надстройки по сравнению с базисом (то есть бессознательным) постоянно возрастает, что выражается в автоматизации производства и росте среднего класса. Строго параллельно происходит нормативизация ранее запретных и цензурируемых сюжетов, символов и практик, все активнее и плотнее включающихся в область культуры, и даже массовой культуры. Тем самым базис становится все более зависимым от надстройки, и функцией пролетариата и всего трудового процесса отныне является не производство товаров, но тотальное (хотя и пассивное) соучастие в социализации масс, включении их в область надстройки. Отношения «надстройка/базис» и «со-знание/бессознательное» переворачиваются через их осмотическое
1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
382
Французский Логос
взаимопроникновение; классовый антагонизм через имманентиза-цию иерархии, превращающейся из вертикальной в «горизонтальную», становится взаимообратимым и двусмысленным. Так, «восстание масс» (подъем социального и политического значения производящего класса, о котором писал испанец Оргета-и-Гассет1) купируется «восстанием элит», которое американский социолог К. Лэш1 2 описал как «вульгаризацию» правящего класса, все более по своей культуре, нравам и ценностям начинающего напоминать среднестатистического человека толпы. Это приводит, по Бодрийяру, к тому, что вместо прежней надстройки и базиса формируется сплошная, хотя и асимметричная, содержащая противоречия внутри себя, но уже не в классовой, а в метаклассовой форме, гиперреальность.
Гиперреальность — важнейший концепт Ж. Бодрийяра, в котором он видит сущность новой эпохи, сменяющей собой Модерн. Гиперреализм отличен, по Бодрийяру, и от реализма, и от сюрреализма. Он пишет:
Сюрреализм был все еще солидарен с реализмом, критикуя его и порывая с ним, но и дублируя его в сфере воображаемого. Гиперреальность представляет собой гораздо более высокую стадию, поскольку в ней стирается уже и само противоречие реального и воображаемого. Нереальность здесь — уже не нереальность сновидения или фантазма, чего-то до- или сверхреального; это нереальность галлюцинаторного самоподобия реальности. Чтобы выйти из кризиса репрезентации, нужно замкнуть реальность в чистом самоповторении3.
Надстройка в таких условиях больше вообще не отражает (даже искаженно, через идеологию, как в марксизме) базис, но просто игровым образом учреждает его (точнее, его симулякр). Так, современные средства массовой информации рассказывают не о событиях, а об их интерпретациях, подчас не просто скрывая под интерпретациями события, но и вообще не обращая на них внимания, то есть попросту придумывая их. Современная демократия, призванная функционально представлять кого-то, не представляет больше никого, и тем самым имеет полную свободу представлять всех. Действительность товара исчезает за модной маркой, фирмой, лейблом, что приводит к производству и потреблению не вещей, но знаков (Бодрийяр называл это
1 Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. М.: Весь мир, 2001.
2 Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М.: Логос; Прогресс, 2002.
3 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. С. 149.
Постмодерн
383
«семиургией» — производством знаков). Но знаки относятся к сфере бессознательных желаний: мы обращаем внимание преимущественно на те знаки, которые резонируют с теми символами, которые формируются или выбираются бессознательным. Так, экономика постепенно неразрывно сращивается с полем психоанализа, а сам обмен, на котором основано общество, становится обменом исключительно символами, как квантами желаний.
Символизм обмена, как показывает Мосс, доминировал и в архаических докапиталистических системах, где он выступал эксплицитно (что до сих пор можно увидеть в обмене как циркуляции магических сил, заложенных в объектах, например, в полинезийской цивилизации). В капитализме на место знака пришла вещь, конкретный товар в его материальной наглядности и функциональности. Но за товаром был скрыт все тот же сакральный знак, символ, освобожденный от логики священного баланса (необходимости уничтожения «проклятой части», что подробно описано у Ж. Батая) и поэтому подвергшийся асимметричному накоплению. Постепенно вещь, с которой оперировал ранний капитализм, вырвавшийся из-под запрета на ссудный капитал и подчинения третьего сословия аристократии и клиру, снова стала обнаруживать свою природу знака, но уже как нечто, добавляемое к вещи, а не предшествующее ей, как в архаическом обмене, где вещь мыслилась как выражение магической силы «хау», предваряющей ее1. Эту поствещную функцию Бодрийяр называет термином «симулякр», ставшим благодаря его трудам важнейшим постмодернистским концептом, используемым даже в бытовой лексике. Чтобы лучше понять мысль Бодрийяра, можно предложить следующую таблицу:
Премодерн (архаика) хау (магическая сила вещи, сакральная вещь) сакральный обмен уничтожение «проклятой части»
Модерн
реальная вещь
капиталистический обмен
(товар—деньги—товар) накопление «проклятой части»
Постмодерн симулякр
символический обмен порядок симулякров обмен знак/знак гиперреальность всеобщее потребление «проклятой части» в культуре массовой галлюцинации
1 Мосс М. Очерк о даре // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература; РАН, 1996.
384
Французский Логос
Бодрийяр выделяет три порядка симулякров на протяжении ограниченного отрезка европейской истории — от эпохи Возрождения (предкапитализм) через собственно индустриальный капитализм вплоть до настоящего периода, постиндустриального капитализма. Он описывает все три этапа таким образом:
• Подделка составляет господствующий тип «классической» эпохи, от Возрождения до промышленной революции.
• Производство составляет господствующий тип промышленной эпохи.
• Симуляция составляет господствующий тип нынешней фазы, регулируемой кодом1.
В такой версии симулякр появляется, по Бодрийяру, не после конца Модерна, но на его заре и в первичной форме выступает в виде жилета, типичного изобретении буржуа, стремящегося походить на аристократа, но не имеющего достаточно средств для того, чтобы сшить всю поддевку целиком из дорогого материала — откуда и грубая ткань на зад ней стороне жилета. Пред капитализм уже нес в себе зарод ыш симуляции, так как был эпохой подделок (в том числе и театра, представляющего собой апофеоз поддельной жизни), и поэтому первую фазу Бодрийяр называет «первым порядкам симулякров».
«Второй порядок симулякров» соответствует промышленному капитализму, где симуляционная матрица скрыта под личиной концепта «реального» производства.
«Третий порядок симулякров» наступает в эпоху 60-х годов XX века и становится собственно Постмодерном. В этот период концепт «реальности» уступает место концепту «гиперреальности», все ценностные системы прошлого (как Премодерна, так и Модерна — Бог, человек, сакральное, автор, прогресс и т.д.) рушатся, и на их место вступают тоталитарные поля фантазмов, в которых свобода воображения становится основой репрессивности, превращая желание в нечто обязательное и воплощенное в массовой доминантной культуре. Бодрийяр так описывает сущность гиперреализма:
Само определение реальности гласит: это то, что можно эквивалентно воспроизвести. Такое определение возникло одновременно с наукой, постулирующей, что любой процесс можно точно воспроизвести в заданных условиях, и с промышленной рациональностью, постулирующей уни
1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. С. 113.
Постмодерн
385
версальную систему эквивалентностей (классическая репрезентация — это не эквивалентность, а транскрипция, интерпретация, комментарий). В итоге этого воспроизводительного процесса оказывается, что реальность — не просто то, что можно воспроизвести, а то, что всегда уже воспроизведено. Г иперреальность.
(...) гиперреализм есть высшая форма искусства и реальности в силу обмена, происходящего между ними на уровне симулякра, — обмена привилегиями и предрассудками, на которых зиждется каждое из них. Гиперреальность лишь постольку оставляет позади репрезентацию (...), поскольку она всецело заключается в симуляции. Коловращение репрезентации приобретает в ней безумную скорость, но это имплозивное безумие, которое вовсе не эксцентрично, а склоняется к центру, к самоповторению и самоотражению. Это аналогично эффекту десантирования от собственного сновидения, когда мы говорим себе, что видим сон, но это всего лишь игра цензурирования и продления сна; так и гиперреализм является составной частью кодированной реальности, которую он продлевает и в которой ничего не меняет.
На самом деле гиперреализм следует толковать в противоположном смысле: сегодня сама реальность гиперреалистична. Уже и секрет сюрреализма состоял в том, что наибанальнейшая реальность может стать сверхреальной, но только в особые, привилегированные моменты, еще связанные с художеством и с воображаемым. Сегодня же вся бытовая, политическая, социальная, историческая, экономическая и т. п. реальность изначально включает в себя симулятивный аспект гиперреализма: мы повсюду уже живем в «эстетической» галлюцинации реальности. Старый лозунг «Реальность превосходит вымысел», соответствовавший еще сюрреалистической стадии эстетизации жизни, ныне сам превзойден: нет больше вымысла, с которым могла бы сравняться жизнь, хотя бы даже побеждая его, — вся реальность сделалась игрой в реальность: радикальное разочарование, кибернетическая стадия cool сменяет фантазматическую стадию hot1.
Симулякр и гиперреальность, по Бодрийяру, есть подделка. Но не по отношению к реальности, поскольку сама реальность, в конце концов, это не что иное, как буржуазный концепт. Освобож
1 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. С. 151 —152.
386
Французский Логос
денная от эйдетической нагрузки вещь становится ничто и обнаруживает себя как смерть. В сакральном обществе это прекрасно осознавалось, поэтому смерть наделялась позитивной онтологией, институционализировалась, помещалась в центре социального внимания — через обряды, ритуалы, мифы, религиозные институты и т.д. Реальность и была первым симулякром сакральности, поскольку подвергала смерть негации, наделяя ее всецело негативной онтологией. Вещь, лишенная своего «хау», есть, на самом деле, чистое хау — как смертоносная сторона сакральности. Сущность вещи, лишенной сложной дифференцированной интеграции в онтологию священного, есть смерть. Смерть и реальность — одно и то же. Это ясно видно в системе Лакана, где порядок реального описывается как синтез смерти и желания, Эроса и Танатоса, объединенных в единую и нераздельную инстанцию. Не в силах принять нигилизм вещи и призванный репрезентировать вещность денег как еще более нигилистическую инстанцию, чем вещь, а точнее, материальную (смертельную) сущность вещи, капитал (капитализм) придал самому себе «серьезный», «деловой» характер, превратив фантазм накопительства в глобальную, тоталитарно захватывающую все человечество институцию. Тем самым он пытался скрыть подделку Возрождения, которая, в свою очередь, была симулякром именно в силу десакрализации предмета. Симулякр — это заболевший символ, вступивший в противоречие с самим собой и открывающий свою смертоносную природу. По Батаю, это объясняется забвением о необходимости уничтожить «проклятую часть». Как только это происходит, накопление излишков есть накопление количества смерти и ничто, которые превращают вещи в свои онтологические противоположности, а мир, наполненный бытийным содержанием — в мир, лишенный его. Но обнаруживается это только в третьем порядке симулякров, то есть в гиперреальности, когда наступает диктатура кода, воплощенная в моде, общественном мнении, чистых финансах (оторванных от производственной базы реального сектора экономики). Это и есть, по Бодрийяру, Постмодерн: закономерный результат движения европейской культуры в сторону своего заката, который свершается в настоящее время. Но вместо того, чтобы исчезнуть, западная цивилизация, напротив, пухнет, раздувается от постоянно нарастающего в ней объема смерти, в бегстве от которой создаются все новые и новые этажи, процедуры и увеселительные практики гиперреальности.
Отношение самого Бодрийяра к Постмодерну нейтрально и пессимистично в силу его общей оценки Модерна. Его антикапи
Постмодерн
387
тализм и частичный марксизм полностью свободны от энтузиазма прогресса и веры в успехи социальных преобразований в будущем. Он солидарен с критикой капитализма, и особенно с разоблачением присущих ему идеологических стратегий по сокрытию истины о своей природе. Но вместе с тем Бодрийяр явно не разделяет надежд левых на революцию и создание более совершенной и справедливой социальной системы. Капитализм есть зло и ложь, и единственная траектория его развития состоит в том, чтобы зло и эта ложь становились все более и более масштабными и глобальными, кульминацией чего и является Постмодерн, гиперреализм, третий порядок симулякров и сопутствующая ему американоцентричная глобализация. Америку Бодрийяр считает обществом пост-истории, где все ориентиры, которые Европа ставит перед собой как цели в будущем, уже заведомо достигнуты с момента основания этого парадоксального общества. В США, по Бодрийяру, гиперреализм победил изначально1. Поэтому будущее, по Бодрийяру, уже наступило, и оно ужасно — каким, впрочем, и должно было бы логически стать, поскольку никаким иным оно быть и не могло.
Это критическое отношение к Западу, Модерну и современной Европе сделало Бодрийяра одной из авторитетных фигур для французских «Новых Правых», которые восприняли его гипер-критику Запада и имплицитную апологию сакрального и архаического как своеобразную (хотя и атипичную) версию традиционализма и радикального консерватизма. Сам же он старался избегать любой квалификации своих взглядов, подчеркивая, что его цель — сделать мир своим философским творчеством не проще того, каким он его нашел в начале своего пути, но несколько сложнее. При этом основной вопрос философии, в отличие от Лейбница, спросившего: «Почему существует нечто, а не ничто?», Бодрийяр переформулировал так: «Почему ничего нет, вместо того, чтобы хоть что-то было?»2
Жак Деррида: грамматология как философия хоры
Если Бодрийяр принадлежит к скептикам, оценивающим Постмодерн как закономерный коллапс или поток рециклирования обессмысленных симулякров в замкнутом кольце постистории, то другой известный французский философ Жак Деррида (1930 — 2004) настроен к Постмодерну скорее оптимистично, полагая, что
1 Бодрийяр Ж. Америка. СПб.: Владимир Даль, 2000.
2 Baudrillard J. Le crime parfait. P.: Galilee, 1995.
388
Французский Логос
эта фаза вбирает в себя наиболее авангардные течения философской мысли (особенно структурализм и философию Хайдеггера, которыми Деррида приоритетно интересовался) и открывает новые горизонты свободного познания на основе критических коррекций, добавленных в XX веке к стратегиям Модерна. Деррида разделяет критику субъекта, свойственную структурализму в целом и его скепсис к диахроническим подходам к истории, но вместе с тем он полагает, что это проведено в структурализме недостаточно и требует еще большего развития. Поэтому он переходит к постструктурализму.
В конце жизни он сосредоточил свои усилия на развитии этической теории, основанной на позитивном осмыслении фигуры Другого, вслед за Э. Левинасом, и на критике «либеральной демократии»1. Французский философ Эммануель Левинас (1906— 1995), пытаясь найти обоснование негативному субъекту, пришел к идее Другого как единственной возможности придать субъекту содержание. При этом Другой может быть и человеком, и миром, и Богом. Совершенно неважно, как Другой относится к «Я» — с любовью, ненавистью, агрессией, нежностью или безразличием. Важно, что как-то, да относится, а следовательно, (любым) своим отношением конституирует позитивное содержание субъекта. Этот подход Деррида разделяет, развивая представление о «даре» и о «гостеприимстве» как ближневосточном обычае принимать гостей, даже если они являются совершенно неизвестными. Представляя собой чистый случай Другого, неизвестный гость воплощает в себе высшее «Я» человека, так как все содержание «Я» дается Другим и в отношениях с Другим. Это не снимает негативности «Я», но придает ему особую релятивную онтологию.
Исходя из критики «демократии как настоящего» («или демократии присутствия»), Деррида полагает, что Постмодерн и его стратегии могут стать основой для прогрессивной философской и социально-политической модели, призванной преодолеть капитализм и заложенные в нем «евроцентризм» и «универсализм», которые Деррида последовательно критиковал. Позитивный образ он определяет как «грядущую демократию», полагая, что в измерении будущего состоит суть ее онтологического содержания: то, что есть, не может быть демократией, это просто некорректное название, демократия может быть только тем, что будет, поэтому подлинная демократия всегда отложена, и «отложенность», «отсро-ченность», «подвешенность», «еще не» составляют саму структуру
1 Derrida J. Politique et amitid. P.: Galilee, 2011.
Постмодерн
389
демократии как процесса1 (в этом можно увидеть некоторую аналогию с идеей Хайдеггера об аутентичном экзистированиии Dasein'a, расположенном в горизонте будущего и с его же представлениями об Er-eignis'e).
Топика Лакана, однако, не давала надежды на принципиальное изменение ситуации, поскольку любое изменение в порядке воображаемого — включая революции и прогресс — не аффектировало бы его структуры, остающейся всегда строго одной и той же. Поэтому Деррида для того, чтобы обосновать возможность изменения, должен был фундаментально изменить схему колец Борромео Лакана, трансформировав саму топику трех порядков. Это, собственно, он и проделал, перейдя от структурализма к постструктурализму, то есть предложив вместо трех уровней только один, уровень текста, в котором два остальных были неразличимо синтезированы. Естественно, что основой для такого общего порядка было выбрано символическое, через которое реальное у Лакана коммуницировало с воображаемым.
Деррида существенно трансформировал структуралистский дискурс, построив на его развитии и существенной критике свою собственную философскую модель, которую принято называть «грамматологией». Из классического структурализма Деррида берет идею языка как структуры, состоящей из семантических полей обозначаемого, обладающих автореферентностью. Но он отказывается и от тройственной модели Соссюра, предполагающей соотношение означающего (фонему) к означаемому (семантическому концепту) через знак. Текст — это не столько семантическое, сколько семиотическое поле, где фигурируют не авторефе-рентные смыслы (как в воображаемом Лакана), а парадоксальные «автореферентные символы», знаки. Смысл знака в том, что он есть указание на что-то, чем он сам не является. Автореферент-ный знак — нонсенс. Именно поэтому он становится основой новой — на сей раз — строго одномерной топологии Деррида. Одномерность такой топологии не исключает развертывания текста по трем осям, но эта трехмерность была бы действительной, если бы мы имели фиксированные и трансцендентные к самому тексту устойчивые пункты онтологии (например, фонетическое и семантическое поля, существующие автономно, или воображаемое и реальное у Лакана). Деррида исключает любую «трансцендентность» по отношению к тексту, поэтому его трехмерность не может быть удостоверена и является всегда плоскостью — точно как в фигуре
1 Derrida J. Force de loi. P.: Galilde, 1994.
390
Французский Логос
ленты Мёбиуса, еще более подходящей к грамматологии Деррида, чем к топике Лакана.
При этом язык Деррида истолковывает не через речь (слово, дискурс), как обычно поступают структурные лингвисты, но через письмо (dcriture), полагая, что практика письма представляет собой нечто более близкое к природе языка, чем ее «трансцендентно» опосредованный и требующий автономии фонетической онтологии феномен речи1. Письмо же является автоматическим не только у сюрреалистов (Бретон, Супо и т.д.), но и вообще у всех остальных, так как в письме авторство становится еще более относительным и второстепенным, конъектуральным, чем в процессе речи, где говорящий как индивидуальный или коллективный субъект все же присутствует. Поэтому Деррида практически отождествляет текст и язык, рассматривает их как эквиваленты. Речь есть имплицитный текст, а не наоборот. Отсюда принципиальное значение текста в его философии: все есть только текст, а значит, текст есть повествование о самом себе, в которое может включиться как писатель, так и читатель, а также философ-грамматолог, но может и не включиться — автореферентность текста такова, что допускает отсутствие у него не только автора, но и читателя. Мы имеем дело не только со смертью автора (как у Барта и Фуко), но и со смертью читателя.
Грамматология строится на ряде базовых методологических операций. Деррида выделяет:
• дар (le don),
• диссеминацию (la dissdmination),
• differEnce/differAnce,
• след (la trace),
• деконструкцию (ladeconstrucion).
Текст дается как дар. Дар Деррида интерпретирует как процесс, у которого нет ни отправителя, ни получателя, и все значение его состоит в нем самом. Это значит, что, означая нечто, текст в конечном счете означает, кроме того, еще и нечто иное, нечто намного большее или совсем другое, чем то, что он означает. Текст никогда не бывает законченным и полным, он противится всякой тема-тизации и тотализации, так как он принципиально открыт. Этот характер открытости Деррида подчеркивает термином «диссеми-нация» — разнонаправленного осеменения текстовыми соотноше
1 Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический Проект, 2007.
Постмодерн
391
ниями неограниченного семантического поля. Диссеминация есть несводимая к чему-то одному (начальному или конечному) всепо-рождающая множественность1.
Одним из самых известных концептов, которые ввел Деррида, является пара diff6rEnce/diffdrAnce1 2, которая обосновывает его идеи превосходства текста и письма (грамматологии) над живым языком, что является для него лишь версией текста, пребывающего в речи в свернутом имплицитном состоянии. Во французской фонетике различие между словами differEnce и differAnce на слух вообще отсутствует, так как обе гласные произносятся строго одинаково. Но на письме их грамматические формы позволяют увидеть разный смысл: в первом случае речь идет о различении, как о существительном, образованном от прилагательного «.различный», а во втором — о процессе различения, где существительное образовано от причастия действительного залога «различающий». Таким образом, diffdrEnce на письме указывает на определенную страдательность (то есть уже различенность), тогда как differAnce, по контрасту, акцентирует активное действие. В паре differEnce/ differAnce состоит глубина всего процесса возникновения смысла. Соссюр показывал, что семантический концепт (означаемое) образуется как дифференциал, то есть продукт различения, вместе со знаком и, соответственно, с означающим как осмысленным звуком (фонема по Якобсону/Трубецкому). Следовательно, определение смысла сопряжено со структурированием семантического поля вокруг означенного концепта (оттуда строится семантический квадрат Греймаса). Само же означение сопряжено с моментом речи. Деррида ставит этот процесс под сомнение, полагая, что дифференциация, лежащая в основе генезиса смысла, заложена в тексте и не зависит от речи. Но в этом случае семантика оказывается внутренне присущей сложному сочетанию обоих значений пары differEnce/differAnce, продолжающих наклонения и деривации глагола differer, смысл которого включает как «различать», так и «откладывать», хотя для смысла, построенного на основании значения «откладывать», французский язык специального существительно
1 Derrida J. Positions. Р.: Les Editions de Minuit, 1972.
2 В выборе этого концепта на Деррида повлиял Хайдеггер, который ввел понятие «онтологический Differenz» с использованием именно латинского корня, хотя в большинстве случаев он предпочитал употреблять немецкие слова и даже составлял многочисленные неологизмы, на основе немецких корней, важнейшим моментом в изложении фундаменталь-онтологии в «Sein und Zeit», где речь шла о различении (Differenz) между бытием (Sein) и сущим (Seiende). См.: Heidegger М. Sein und Zeit (1927). Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
392
Французский Логос
го не знает. Тем не менее differEnce/diff£rAnce, взятое в контексте грамматологии, включает в себя все эти измерения:
• активное различение семантического поля, данное вместе с текстом;
• построение семантических связей между различенными в ходе различения (различными) элементами;
• откладывание семантических цепочек по центробежному принципу (диссеминация).
Вся эта семантическая процедура не требует голоса и осуществляется в самом тексте. Дифференцирует не голос и не автор, но сам текст, который содержит в себе несколько (неопределенно много) уровней интерпретации. Для их герменевтического вскрытия Деррида предлагает использовать психоаналитические методики письма, которые у Фрейда и Лакана выступают как наилучшие способы выявления патологических симптомов. Деррида утверждает, что текст всегда является еще и дескрипцией симптоматики, то есть несет в себе не то содержание, которое в нем наличествует с формальной точки зрения. Текст открывает, но одновременно скрывает, как речь пациента на психоаналитическом сеансе.
Из такого толкования различения как многоуровнего открытого процесса вытекает отсутствие в тексте раз и навсегда установленного концепта, атома текста. Текст обладает скорее волновой структурой, поэтому любой семантический концепт всегда является указанием не на себя, но на всю волну, и даже на несколько осей движения волны. Каждый смысловой узел текста есть сам по себе пустота, намекающая на что-то отличное от себя, а смысловым он становится лишь будучи продленным по ряду осей — в частности, в прошлое и будущее. Поэтому, заключает Деррида, квант смысла, сема есть «след» чего-то уже ушедшего или того, что только грядет. Применительно к политике Деррида на этом основании строит свою модель «грядущей демократии» (la d6mocratie A venir), так как демократия как таковая есть не более чем след (будущего).
И наконец, венцом грамматологии становится «деконструкция» как основной метод предлагающегося грамматологией философского анализа. Снова, как и в ряде других случаев, Деррида сознательно берет термин из арсенала Мартина Хайдеггера — «феноменологическая деструкция» (phenomenologische Destruction1), означающий у Хайдеггера необходимость поместить любой термин, любую кон-
1 Это еще один редчайший случай, когда Хайдеггер использует латинский термин для обозначения ключевого для его философии понятия.
Постмодерн
393
цепцию и любую теорию того или иного философа, в контекст того историко-философского процесса, к которому он принадлежит, притом что сам этот процесс осмысляется для западноевропейской философии как движение по пути все большего забвения бытия (Seinsvergessenheit). Хайдеггер настаивает, что без такой локализации позиции философского термина, теории или автора практически невозможна их корректная семантическая интерпретация. Деррида в целом сохраняет это значение термина «деструкция», несколько видоизменяя его форму до «деконструкция». Для него это тоже означает помещение текста в контекст, прояснение этимологий, терминологических связей, аллюзий, понятных современникам, но скрытых от читателей иных эпох и иной географии. Однако, если Хайдеггер основывает «феноменологическую деструкцию» вдоль оси «забвения бытия», то есть интересуется, в первую очередь, тем, как и до какой степени бытие забыто в том или ном тексте, у того или иного автора, то Деррида пытается, выявив общие семантические узлы (открытые как конвенциональному, так и опытному и подготовленному читателю), пойти дальше в сам текст, вскрыв его внутренние семантические иерархии (то, что Фуко называл диспо-зитивом воли к власти), его логические нестыковки и натяжки, позволяющие проникнуть в другие, подразумеваемые слои, восстановить по фрагментам био-графию1 и возможную симптоматику, что приведет не просто к реинтерпретации текста, но откроет его для неограниченного освоения на основе волновых семантических колебаний, следов и рядов диссеминации.
Грамматология представляет собой чистый Постмодерн потому, что в ней начинает забываться, стираться и рассеиваться уже не просто субъект, реальность, объект, но и сам смысл, который еще у структуралистов представлял собой довольно прочную основу и служил надежной референтной базой для интерпретации и верификации. Грамматология, претендуя на статус философии и научного метода, делает решительный шаг в сторону финального нигилизма: ведь в ней тонкому рассеиванию подвергается последнее, что осталось после века интенсивного Модерна во французской философии — смысл. Деррида фактически заканчивает и с ним. Таким образом, автореферентный, полностью подменяющий собой действительность, субъекта, читателя текст может выступать как базовая карта той гиперреальности, о которой говорил Бодрийяр. Фактически текст Деррида есть прямой синоним виртуальности, ее структурный аналог. В ноль-мерном поле текста рас-
1 Био-графия означает здесь не биография автора, а жизненное письмо, где сам автор и его жизнь оказываются лишь частью — и не обязательно главной — текста.
394
Французский Логос
творяется всякая иерархия — даже трехуровневая модель Лакана, с его строго негативным субъектом (реальное), промежуточным символическим и семантической надстройкой воображаемого. Негативность (смерть) у Деррида составляет уже не дополнительное измерение текста, но входит внутрь текста; она более не только не оппозиция жизни, но и не оппозиция смыслу1. Тем самым грамматология снимает всякую иерархичность Логоса. Показательно, что сам Деррида ясно осознавал основную цель своей философии как критику логоцентризма, а также строго параллельную ей критику фоноцентризма (классический структурализм) и фаллоцентриз-ма (европейский патриархат). Все то, против чего жестко выступает Деррида, он сам же формулировал в одном сводном понятии — фонологофаллоцентризм. Ясно осознавая необходимость перехода к другому Логосу, радикально отличному от классического европейского, остатки которого он видит даже в Модерне, Деррида эксплицитно обращается к платоновскому понятию х<Ьра (пространство, местность) из диалога «Тимей», где она описана как Мать и Кормилица1 2. На гештальт «хоры» особое внимание обратила также французский философ и феминистка Юлия Кристева3, жена писателя Филиппа Соллерса, близкого к Р. Барту. Платон говорит, что х<Ьра постигается только особым логосом, который он называет «бастардным логосом», «незаконнорожденным логосом» (Л6уо<; vo06<;)4. В эссе «Хора» Деррида намекает, что этот «бастрадный логос» и есть грамматология и ее философские методы. Тем самым он открыто и программно обозначает Постмодерн как зону Великой Матери, Логоса Кибелы. Если учесть то, что Деррида — философ французский и принадлежит французской философской традиции, то мы вполне можем заключить на этом основании, что он трактует Постмодерн в оптике Мелюзины, непокоренного и восстающего на финальной стадии французского историала древнекельтского неукрощенного женского начала.
Жиль Делёз: воля к ничто
Ярче всего философия Постмодерна представлена в творчестве французского философа Жиля Делёза (1925—1995) и его постоянного соавтора психоаналитика Феликса Гваттари (1930—1992).
1 Derrida J. Memoires — Pour Paul de Man. P.: Galilee, 1988.
2 Derrida J. Khora. P.: Galilee, 1993. Рус. пер. см.: Деррида Ж. Эссе об имени. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998.
3 KristevaJ. Le revolution du langage po6tique. P.: Seuil, 1974.
4 Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер. Последний Бог.
Постмодерн
395
Продолжая линию Декарта, а еще глубже Пиррона, основателя скептицизма1, Жиль Делёз ставит под сомнение всё и всех, в том числе Декарта и сам принцип сомнения. В этом он является прямым и последовательным продолжателем европейской, и особенно французской, философии Нового времени.
Делёз принимает ницшеанский тезис о европейском нигилизме, но отвергает Сверхчеловека как того, кто призван, по Ницше, преодолеть ничто. Ничто не надо преодолевать, ничто надо желать, утверждает Делёз и обосновывает на этом принципе «волю к ничто»2. Среди ницшеанских фигур в «Так говорил Заратустра» Делёз выявляет «высших людей», наделенных как раз «волей к ничто» и «последних людей», чья воля ничтожна. Свою собственную философию он считает оружием первых.
Ничто Делёза относится к французской философской традиции интенсивного Модерна, как его понимали экзистенциалисты (негативный субъект Сартра и Камю) или Лакан (синоним реального). Показательно, что еще Хайдеггер, сам продолжающий апофа-тическую традицию германского Логоса, столкнувшись с рецепцией его идей у французских экзистенциалистов, пришел в ужас. Для Хайдеггера ничто (Nichts) есть выражение обратной стороны Seyn-бытия, то есть глубинный зов истины бытия, призывающий Dasein экзистировать аутентично. В контексте философии Сартра и экзистенциалистов, перетолковавших это центральное для Хайдеггера понятие как заведомо заданный готовый «концепт», вся картина переворачивается на 180 градусов: ничто более не nihil originarium, то есть апофатическое Единое, £v неоплатоников, но nihil negativum, что является именем материи. Такое перетолковы-вание ничто сам Хайдеггер расценил как полное непонимание его мысли и нигилистический путь уничтожения культуры3. Поэтому
1 Пиррон (360 — 270 до Р. X.) был учеником Анаксарха, а тот, в свою очередь, учеником Демокрита. См.: Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений. СПб., 1913.
2 «Человек предпочтет скорее хотеть ничто, чем ничего не хотеть». См.: Делёз Ж. Ницше. СПб.: Аксиома; Кольна, 1997. В этой формуле легко опознать мысль Лакана о тождестве Эроса и Танатоса в реальном, поднимающемся в форме первого импульса в символическое.
3 «Внутреннейшую мощь ничто надо понимать как то, что делает сущее сущим и что позволяет обладать сущим и быть сущим во всем могуществе существования. Банальный рассудок, услышавший об этом прояснении фундаментального отношения Dasein'a и его экзистирования, о ничто и о том, что Dasein экзистирует вывешенным в ничто, понимает это, будто ничто есть нечто данное, а следовательно, и Dasein он понимает только как нечто данное. И он заключает: Человек пребывает в ничто, не имеет ничего и есть ничто. Философия, которая это утверждает, враждебна любой культуре. Так понимают вещи те, кто все воспринимают, будто прочитанное
396
Французский Логос
Хайдеггер отказывался причислять себя к экзистенциалистам, то есть применять к себе самоназвание его французских последователей, которых сам он, как явствует из его критики, воспринимал как карикатуру. Делёз продолжает эту линию карикатурного прочтения Хайдеггера, развивая искажения и перверсии хайдеггеров-ской мысли еще полнее и шире. Ничто для Делёза — это готовый и данный заведомо «меонтологический брикет», отталкиваясь от которого, он выстраивает свои философские нигилистические игры. В этом противопоставлении двух толкований ничто можно усмотреть фундаментальную оппозицию германского и французского Логосов: немецкая идентичность имплицитно отталкивается от подразумевания неоплатонического Единого (включая Nichts Хайдеггера), тогда как французская идентичность, в ее важнейшем измерении, ориентирована на ничто материи, чистую прива-цию и лишенность.
Особенность трактовки ничто Делёзом состоит в том, что он, как и Деррида, выводит его из измерения реального или из позиции негативного субъекта, и помещает в зону косвенного, но напряженного внимания. Ничто более не скрывается, но выступает в форме данности, в форме феномена.
Вслед за ничто, которое волит, по Делёзу, философская мысль Постмодерна, в поле его зрения попадает материя, которую он интерпретирует как телесность1. Для него — как и для всех материалистов и имманентистов (в частности, продолжающих линию субстанциализма Спинозы, которого Делёз считал для себя, наряду с эпикурейцами и стоиками, философским маяком) — материя тождественна бытию, понятому, однако, негативно. Есть только материя (которой нет), а все остальное — ее складки2. Телесность занимает здесь место порядка реального Лакана.
в газете». Heidegger М. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1983. S. 433. Этот пассаж направлен против интерпретации идей Хайдеггера французскими экзистенциалистами, которая ужаснула Хайдеггера. Понимание германской, эсхатологической для всей средиземноморской культуры, мысли Хайдеггера о Dasein'е французами сам Хайдеггер (до определенной степени справедливо) расценил как восприятие банальным сознанием сознания небанального, как «газетную» версию философии. К Сартру и другим экзистенциалистам это подходит в полной мере. И именно их Хайдеггер называет «носителями философии, враждебной любой культуре», имея в виду культуру средиземноморскую и европейскую в ее глубинных основаниях. Прочтение Делёзом Хайдеггера полностью вписывается в этот нигилистический, французский стиль, начало которому положил Сартр.
1 Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академический Проект, 2010.
2 Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1997.
Постмодерн
397
При исследовании телесности Делёз с энтузиазмом спускается в микромир, сосредоточивая внимание на слабых токах и желаниях, поднимающихся из глубин телесности и движущихся в сторону того, что он называет «поверхностью» или «экраном». Это внешняя сторона телесности, кожный покров. Делёз, говоря о телесности, не имеет в виду уже организованное человеческое или какое-то еще тело. Его интересует не тело, а именно телесность, то есть то, что находится ниже тела. Пользуясь визионерской метафорой Антонена Арто, Делёз вводит понятие «тела без органов»1 как базовую матрицу телесности, предшествующую взаимодействию с конструируемым «внешним миром», представляющим собой оптические борозды (1'espace strid) и заставляющим изначальное «тело без органов» приобретать органы, то есть из телесности становиться телом1 2. «Тело без органов», по Делёзу, есть свободное скольжение шара по абсолютно гладкой поверхности (1’espace lisse) в любом направлении. Это — формула телесности как таковой, то есть бытия как материи. Все остальное надстраивается над этой инстанцией. Такое «тело без органов», однако, соответствует Шалтаю-Болтаю3, человеку-яйцу Льюиса Кэрролла, а не «телу без органов» Арто, который мыслит и грезит в совершенно иной топике. Это Делёз признает, но интерпретирует топику Арто как измерение глубины, хотя, если учесть полноценную структуру визионерства Арто, правильнее было бы увидеть в его «теле без органов» трансформационный момент в освобождении и воссоздании Бесконечного Человека от дробящего, расчленяющего могущества телесности, то есть измерение взлета, а значит, дионисийски интерпретируемую вертикаль.
1 В данном случае снова мы сталкиваемся с переворачиванием всех пропорций, как и в случае ничто Хайдеггера. Арто переживает себя как чистый дух, как бесконечного человека, расчлененного на индивидуумы, а внутри них — на органы. «Бесконечный» Арто переживает боль от наличия телесности, свойство которой — разделять, расчленять. Когда Арто видит себя как тело, свободное от органов, он метафорически видит себя освобожденным и от телесности, а значит, и от индивидуальности. Делёз берет этот концепт в прямо противоположном значении.
2 Делёз обнаруживает аналог «тела без органов» Арто в фигуре Шалтая-Болтая из произведения Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». См.: Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. М.: Лабиринт, 2014.
3 Представление Шалтая-Болтая Л. Кэрроллом в виде человека-яйца, возможно, указывает на символизм яйца в круге Великой Матери, связь которого с культом Кибелы отмечает Бахофен. Яйцо, по Бахофену, символизирует гинекократию. См.: BachofenJ.J. Das Mutterrecht. Eine Untersuchung tiber die Gynaikokratie der alten Welt nach ihren religiSsen und rechtlichen Natur. Basel: Benno Schwabe Verlagsbuchhandlung, 1897.
398
Французский Логос
«Тело без органов» (Шалтай-Болтай поверхности) как основной полюс новой концептуальности Постмодерна есть историческая кульминация в оформлении лексики черного Логоса Кибелы, выражение ее чистой сущности. Это — онтологическое визионерское погружение во внутреннее измерение платоновской хоры, на которую обратили внимание Ю. Кристева и Ж. Деррида. Делёз, продолжая линию философии материализма, достигает ее последнего глубинного среза: он строит философию от лица материи, развертывает мышление от Великой Матери как ее «абсолютный жрец». Философия постмодернизма в версии Делёза — законченная и полноценная философия Аттиса, воспроизводство на новом — финальном — историческом витке метафизики скопческого жреца Мегабюзе из эфесского Артемисиона. «Тело без органов» (гинекократический Шалтай-Болтай) — чистое порождение Земли без участия неба, Urmensch, змееногий автохтон, матрица всех хто-нических созданий Кибелы — от Пифона, титанов, гигантов, гор-гон до дактилей, куретов, корибантов, сатиров и людей.
Мир, который развертывается от нигилистического центра Кибелы, не может быть космосом, то есть красивой и благой, ло-госно организованной гармонией. На его место Делёз утверждает кибелический дубль мира, который он, вслед за Д. Джойсом1 называет «хаосмосом». Термин «хаосмос» образован от греческих слов хаос, х&0<>| и осмос, бощн;. Хаос указывает на состояние, предшествующее эйдетическому оформлению материи, а осмос обозначает химический процесс «односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону большей концентрации растворенного вещества». Осмос придает материнскому хаосу направление, ориентированное всегда в сторону, противоположную импульсу или возмущению, что порождает вихри, вортексы, всякий раз тяготеющие к рассеянию и покою. Возмущение и покой, волнующие массу чистой телесности, сопоставляются Делёзом с Эросом и Танатосом психоанализа, что позволяет объединить философию, психологию и физику в общую постмодернистскую модель, являющуюся аналогом космоса в прежних философских системах. По Делёзу, Бог дает миру значение. И тогда смысл становится проявлением первопорядка, что и выстраивает вертикальные иерархии и организует собственно космос. Но потеря смысла (le sens) в чисто имманентной топике поверхности или, точнее, помещение на место смысла момента событийной бессмысленности, квант нонсенса (le non-sens), порождает совершенно
1 Джойс Дж. Поминки по Финнегану // Джойс Дж. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: ЗнаК, 1994.
Постмодерн
399
иную постструктуру, где вертикальное (трансцендентное) измерение Бога отпадает (а если не исчезает сразу, то, оторванное от акта сигнификации, быстро забывается как Deus Otiosus). Делёз, отталкиваясь от тезисов П. Клоссовского1 о Ницше, пишет об «осмосе» в следующих терминах:
Если я — это принцип манифестации по отношению к пропозиции, мир — это принцип десигнации, Бог — принцип сигнификации. Но смысл, выраженный как событие, есть нечто совершенно иной природы: он — истечение бессмыслицы (нонсенса), как всегда перемещающейся парадоксальной инстанции; вечно нецентрированный экс-циничный центр; чистый знак, когерентность которого исключает единственно — но зато абсолютным образом — связность между я, миром и Богом. Эта квази-причина, это поверхностный квант бессмысленности, который проходит по сети расходящихся траекторий, эта алеаторная точка, испускающая сингулярности и циркулирующая по ним, сама же их и эмитируя, как пред-индивидуальные и имперсональные единицы, не допускает наличия, более того, исключает наличие и Бога как изначальной индивидуальности, и я как Личности, и мира как стихии я и производного Бога. Дивер-гентность утвержденных серий образует «хаосмос», а не мир; пробегающая по этим сериям алеаторная точка образует контр-Я, и больше не Я; дизъюнкция, понятая как синтез, полностью меняет свое начало: из богословского на дьявольский.
Si le moi est le principe de manifestation par rapport a la proposition, le monde est celui de la designation, Dieu, celui de la signification. Mais le sens exprime comme evenement est d'une tout autre nature, lui qui emane du non-sens comme de 1'instance paradoxale toujours deplacee, du centre excentrique etemellement decentrd, pur signe dont la coherence exclut seulemenr, mais supremement, la coherence du moi, celle du monde et celle de Dieu. Cette quasi-cause, ce non-sens de surface qui parcourt le divergent comme tel, ce point alea-toire qui circule a travers les singula-ritds, qui les dmet comme ргё-indivi-duelles et impersonnelles, ne laisse pas subsister, ne supporte pas que subsiste Dieu comme individualite originaire, ni le moi comme Per-sonne, ni le monde comme diement du moi et produit de Dieu. La divergence des sdries affirmees forme un «chaosmos», et non plus un monde; le point aleatoire qui les parcourt forme un contre-moi, et non plus un moi; la disjonction posde comme syn-thdse troque son principe: thdolo-gique contre un principe diabolique2.
Дьявольская сущность хаосмоса представлена здесь вполне эксплицитно.
Если хаосмос есть постмодернистская замена упраздненного космоса, то еще более неприемлем для постмодернистов и клас-
1 Klossovski Р. Oubli et anamnese dans Гехрёпепсе vdcue de 1'Etemel retour du meme // Nietzsche. Cahiers de Royamont. P.: Ed. de Minuit, 1966.
2 Deleuze G. La logique du sens. P.: Editions de Minuit, 1969. P. 206.
400
Французский Логос
сический субъект. «Мир утратил свой стержень, субъект не может больше создавать дихотомию, но он достигает более высокого единства — единства амбивалентности и сверхдетерминации — в измерении, всегда дополнительном к измерению собственного объекта»1, — считают Делёз и Гваттари. И вместо субъекта предлагают другой концепт — «ризому», корневище.
Этот концепт заимствован из ботаники и описывает особый вид растений и грибов, который распространяется горизонтально, параллельно поверхности земли, пуская корни и стебли в отдельных узлах разветвленной сетевой системы. Ризома отличается тем, что, в отличие от других растений, вырывание корня и ствола не приводит к гибели всего организма, который продолжает существовать как целое независимо от утраты отдельных элементов. Вырывая с корнем растение, мы уничтожаем только одну из форм, но не наносим ущерба целому, всей ризоме, которая невидимо распространяется горизонтально под землей все дальше и дальше.
Делёз вводит понятие «ризомы» в своей программной работе «Капитализм и шизофрения. Тысяча плато», написанной вместе с Ф. Гваттари:
(...) в отличие от деревьев и их корней, ризома соединяет какую-либо одну точку с любой другой точкой, и каждая из ее черт не отсылает с необходимостью к чертам той же природы, она вводит в игру крайне разные режимы знаков и даже состояния не-знаков. Ризома не позволяет себе вернуться ни к Одному, ни к многому. Она не Одно, которое становится двумя, ни даже которое прямо становилось бы тремя, четырьмя, пятью и т.д. Она не многое, выводимое из Одного, или к которому добавляется Одно (п + 7). Она сделана не из единиц, а из измерений, или, скорее, из подвижных направлений. У нее нет ни начала, ни конца, но всегда — середина, из которой она растет и переливается через край. Она конституирует линейные множества с ц-измерениями, без субъекта и объекта, — множества, которые могут быть выложены на плане консистенции и из которых всегда вычитается единица (п— 1). Такое множество меняет свои измерения, только меняя собственную природу и подвергая себя метаморфозам. В противоположность структуре, определяемой совокупностью точек и позиций, бинарными отношениями между этими точками и дву-однозначными отноше-
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 11.
Постмодерн
401
ниями между позициями, ризома сделана только из линий — из линий сегментарности, стратификации как измерений, а также линий ускользания или детерриторизации как ее максимального измерения, согласно которому и следуя ему, множественность подвергается метаморфозам, меняя природу. Мы не будем смешивать такие линии, или очертания, с потомствами древовидного типа, являющимися лишь локализируемыми связями между точками и позициями. В противоположность дереву, ризома — не объект воспроизводства: ни внешнего воспроизводства в качестве дерева-образа, ни внутреннего воспроизводства в качестве структуры-дерева. Ризома — это антигенеалогия. Это кратковременная память или анти-память. Ризома действует благодаря вариации, экспансии, завоеванию, захвату, уколу. В противоположность графическому изображению, рисунку или фотографии, в противоположность калькам, ризома имеет дело с картой, которая должна быть произведена, сконструирована, всегда демонтируема, связуема, пересматриваема, модифицируема — в множественных входах и выходах со своими линиями ускользания. Именно кальки нужно переносить на карты, а не наоборот. В противоположность центрированным (даже полицентрированным) системам с иерархической коммуникацией и предустановленными связями, ризома является ацентрированной, неиерархической и неозначающей системой — без Генерала, без организаторской памяти или центрального автомата, уникально определяемых лишь циркуляцией состояний. Что подлежит обсуждению в ризоме, так это ее отношение с сексуальностью, а также с животным, растением, миром, политикой, книгой, с естественными и искусственными вещами, — отношение, полностью отличное от древовидного отношения: любые виды «становлений».
Плато всегда посреди — ни в начале, ни в конце. Ризома состоит из плато1.
Ризома есть поверхность великой телесности, инстанция, в которой формируется принципиальная топика сознания. В обычном случае структура человека организована вертикально: ствол (стебель), ветви и крона суть верхние этажи мыслящего присутствия, корни — обратные проекции в область бессознательного. При этом сознание и бессознательное конституируются одновременно в одном из мо
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. С. 37 — 38.
402
Французский Логос
ментов телесности, формируя конкретное тело с его эйдосом, «формой» (крона) и «материей» (корни).
Ризома постоянно находится «между» или, как формулируют Делёз и Гваттари: «Плато всегда посреди — нив начале, ни в конце». Можно сказать, что ризома Делёза есть постмодернистская карикатура на Dasein Хайдеггера. Так же как Dasein, ризома предшествует субъекту и объекту и является тем, что расположено в промежутке.
Поверхность, которой и в которой живет ризома, является экраном желаний, куда их проецирует машина желаний. Эти желания не артикулированы и не рациональны. Делёз вместе с Гваттари выступают против реконструкций желания в психоанализе Фрейда, которого они обвиняют в «патриархальности» и «фаллоцентрической» интерпретации эроса. Вместо этого они предлагают женский взгляд на эрос как на желание в его рассеянной, неконцентрированной и нефинализированной форме. Рассеянный панэротизм, не знающий никаких запретов, противопоставляется патриархальности классического фрейдизма. Так, углубление в миры телесности приводит Делёза и Гваттари к тезису о необходимости снятия табу на инцест, так как, с их точки зрения, это культурное требование отражает механизмы подавления и является основой авторитаризма и диктатуры.
В «Логике смысла», говоря о киниках и стоиках (двух древнегреческих направлениях Логоса Кибелы), осмеивающих аполлони-ческий Логос Платона, Делёз с большой симпатией описывает их обращение к «черной глубине»:
Налицо переориентация всей мысли и того, что подразумевается под способностью мыслить: больше нет ни глубины, ни высоты. Не счесть насмешек в адрес Платона со стороны киников и стоиков. И всегда речь идет о том, чтобы низвергнуть Идеи, показать, что бестелесное пребывает не в вышине, а на поверхности и что оно — не верховная причина, а лишь поверхностный эффект, не Сущность, а событие. А в отношении глубины доказывали, что она — пищеварительная иллюзия, дополняющая идеальную оптическую иллюзию. Что же на самом деле означает такая прожорливость, апология инцеста и каннибализма? Последняя тема присутствует как у Хрисиппа, так и у Диогена Киника. И хотя Диоген Лаэртский не разъясняет взглядов Хрисиппа, он дает весьма подробное пояснение относительно Диогена: «Нет ничего дурного в том, чтобы отведать мяса любого животного: даже питаться человеческим мясом не будет преступно,
Постмодерн
403
как явствует из обычаев других народов. В самом деле, ведь все существует во всем и через все: в хлебе содержится мясо, в овощах — хлеб, и вообще все тела как бы прообразно проникают друг в друга мельчайшими частицами через незримые поры. Так разъясняет он в своем «Фиесте», если только трагедия написана им...» Данное высказывание, применимое в том числе и к инцесту, утверждает, что в глубине тел все является смесью. Однако нет таких правил, по которым одну смесь можно было бы признать хуже другой. Вопреки тому, во что верил Платон, не существует никакой внешней высшей меры для таких смесей и комбинации Идей, которая позволяла бы определить хорошие и плохие смеси. И так же, вопреки досократикам, нет никакой имманентной меры, способной фиксировать порядок и последовательность смешения в глубине Природы: любая смесь не лучше и не хуже пронизывающих друг друга тел и сосуществующих частей. Как же при этом миру смесей не быть миром черной глубины, где все дозволено?1
«Мир черной глубины» — это ризоматическое пространство негативной свободы: на уровне человека — свободы от разума, на уровне политики — от власти. Диктатуру в политике Делёз и Гват-тари трактуют как продолжение в общественной сфере репрессий рациональности (стебель и крона) против телесности (корней и самой ризомы). По-настоящему свободное общество, согласно Делёзу и Гваттари, возможно только тогда, когда женская сексуальность — нетабуированный панэротизм Великой Матери — будет полностью раскрепощена и юридически возведена в норму, вопреки репрессивным моделям фаллоцентрических иерархических социополитических систем. Исходя из этой идеи, Делёз и Гваттари предложили реформу психоанализа, призывая поставить во главе угла не жесткий дуализм полов (отражающий, по их мнению, вертикальную топику кроны/корни), а неартикулированную ризоматическую сексуальность (которую, параллельно Делёзу и Гваттари, концептуализировал другой философ-постмодернист Мишель Фуко2).
Делёз полагает, что ризоматическое бытие свойственно людям, страдающим шизофренией, то есть такими формами психических отклонений, которые представляют собой расщепление сознания и перенос сознания от субъекта на внешние предметы или внутрен-
1 Делёз Ж. Логика смысла. С. 176— 177.
2 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.
404
Французский Логос
ние неконтролируемые разумом полюса сознания и воли (откуда — голоса, галлюцинации и т.д.). По Делёзу, массы, взятые в целом, ближе к модели шизофрении, чем отдельные личности, структурированные патриархальной культурой по оси крона/корни. Поэтому Делёз встает на сторону того, что он называет «шизомассами»1, предлагая не рассматривать шизофрению как ненормальность, но возвести ее в норму, расширив представление о том, что такое здоровое и больное применительно к человеческой психике. В патриархальной культуре, считает Делёз, за норму взята метафора дерева1 2, и поэтому все, отклоняющееся от нее, рассматривается как патология и болезнь. Но стоит поставить во главу угла ризому, поверхность и хаосмос, то есть дать матриархально-центрический взгляд на вещи, болезнь станет признаком здоровья, а разумность — частным случаем безумия. Реабилитации безумия и разоблачению самого этого пейоративного концепта как результата патриархальной и репрессивной воли к власти3 посвящены работы постмодерниста Фуко, развивавшего, параллельно Делёзу, сходные матриархальные философские направления.
Делёз на основании своей ризоматической метафоры предлагает постмодернистское прочтение времени. Он пересматривает модернистскую идею прогресса и линейного времени в пользу еще более экстравагантной теории темпоральности. Делёз рекомендует рассмотреть два сечения времени, которые он называет респектив-но «хронос» и «эон». Он вводит их, соотнося с метафорой дерева. Корни и кроны образуют прошлое и будущее (эон), которые имеют смысл, но не имеют бытия, а точка пересечения дерева (растения) с земной поверхностью есть настоящее (хронос), которое есть, но полностью бессмысленно.
Эон — это вертикальная модель, связанная с осознанием времени мыслящим присутствием. Он состоит из прошлого и будущего, которые соответствуют корням и кроне, но лишен настоящего. Прошлое и будущее суть рациональные концепты и обладают содержанием (отражающим структуры сознания и бессознательного, а также всю гамму их соотношений, что и составляет предметное наполнение истории). Вертикальные оси эона осмыслены (как логический нарратив), но никогда не есть4.
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. С. 21.
3 ФукоМ. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997.
4 Из совокупности корней и кроны складывается личность, я и личная история субъекта, его биография.
Постмодерн
405
Хронос есть, напротив, настоящее. Это — момент поверхности, сечение, отделяющее корни от кроны. Настоящее есть то, что объединяет растение с ризоматической системой в условиях синхроничности. Хронос есть телесность и бытие. Но хронос невозможно схватить. Он есть фактичность телесности, лишенная смысла и значения. Это — чистая поверхность, которая представляет собой бесконечно малую точку и для системы корней, и для системы ветвей.
Из пересечения осмысленного, но лишенного бытия эона с бессмысленным, но дающим бытие хроносом создается постмодернистская темпоральность. При этом акцент, поставленный на ризоме, позволяет отнестись к эонической стреле времени игровым образом: у одной и той же сущности (ризома) может быть много корней и много стеблей, то есть плюральный набор прошлого и будущего. История есть лишь представление, она не имеет бытия, а следовательно, это не более чем игра бликов на воде. Все обратимо и все, в конечном счете, бессмысленно. Точнее, все, что есть, бессмысленно, а все, что осмыслено, того нет. Логос есть не более чем игра складок телесности.
Задача ризоматического постчеловека — собрать эон (крону и корни) к точке пересечения вертикали и горизонтали и начать распространение вдоль поверхности. Тем самым, распространяясь под поверхностью, ризома может пускать всходы и давать ростки в разных точках, формируя тем самым квазидискретные личности с относительной (игровой) историей и неискоренимостью: вырвав корни и срубив ствол такого дерева, оно не уничтожается — исчезает лишь его игровая эманация (ник в чате, аватар в социальной сети). Тем самым ризоматический постчеловек достигает своего рода «имманентного бессмертия».
Поверхность — главное открытие постструктуралистской топики Делёза. Она выполняет у него функцию, аналогичную тексту (письму) у Жака Деррида. Как и у Деррида, поверхность есть имманентное поле символов, первичных по отношению и к воображаемому (ствол и крона), и к реальному (корни, глубина). Поверхность является не моментом вертикальной конфигурации, но неограниченным полем чистой горизонтальности, соединенной с глубиной не «корнями», как обратной инвертированной проекцией «кроны» сознания, но сплошным образом. При этом поверхность так же, как и текст у Деррида, становится трехмерной, коль скоро ни надземного (эпихтонического), ни, строго говоря, подземного (гипохтонического) — самого по себе для Делёза не существует. Поэтому мы имеем дело с трехмерной плоскостью как полем нонсенсных символов. Аналоги этому сам Делёз находил в теориях современных фи-
406
Французский Логос
Ризома
зиков — в частности, у Бенуа Мандельброта с его знаменитой «теорией фракталов» и «геометрией природы»1, построенной на том, что в природе нет прямых линий, а всякая прямая на практике есть обязательно кривая; точно так же нет чистых плоскостей, которые в природе обязательно объемны, ни трехмерных объемов, так как каждое трехмерное тело (природы, а не математических абстракций сознания) четырехмерно.
Делёз, вслед за Роланом Бартом, обращается к «бесовской текстуре», то есть к такому толкованию текста, которое представляется свободной игрой инфернальных демонических сил. Барт ввел это понятие для иллюстрации своего тезиса о «смерти автора».
Ницше в «Так говорил Заратустра», размышляя о евангельской притче относительно исцеления одержимого легионом бесов в Гар-даринской стране, иронично замечал: «Многие желавшие изгнать своего дьявола сами вошли при этом в свиней»1 2. Вселившиеся в стадо свиней бесы, бросились с обрыва. Последний жест Делёза, певца
1 Бенуа Б. Мандельброт. Фрактальная геометрия природы. М.: Институт компьютерных исследований, 2002.
2 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 24.
Постмодерн
407
«бесовской текстуры», удивительно напоминает тот же сюжет: философ выбросился из окна своей квартиры 4 ноября 1995 года.
Делёз попытался на своем специально созданном для этого языке описать черный Логос Великой Матери таким образом, чтобы максимально приблизиться к его внутренней, скрытой структуре, часто ускользающей от прямого взгляда исследователя за многослойными проекциями более тонких эйдосов или эйдолонов.
Постмодернизм, таким образом, можно рассматривать как кульминацию современной европейской философии, представляющей собой, с точки зрении Ноомахии, реставрацию в новом триумфальном облачении, древнейшей формы доаполлонического, доиндо-европейского мышления. Новейшее оказывается, в таком случае, древнейшим. Так, и сам Демокрит, и Эпикур представляются лишь звеньями в цепи древнейшей философии титанов, которая начинается задолго до прихода индоевропейских племен в бассейн Средиземноморья и которая заново во весь голос заявляет о себе во французском постмодернизме конца XX века; так же как Платон и неоплатоники суть не более, чем аккорд рационализации светлого Логоса в альтернативной титанам линии индоевропейского и гиперборейского гнозиса — от древнейших жрецов и брахманов до нашего современника, также француза, Рене Генона.
Новые правые
GRECE: Европа, взгляд справа
Параллельно нигилистическому течению во французском интеллектуализме второй половины XX века, связанному чаще всего с левыми политическими течениями (от сюрреалистов до Сартра и части структуралистов и постструктуралистов — Фуко, Барт, Деррида, Делёз и т.д.), на периферии французской культуры постепенно сложилось направление, которое, принимая многие методы современной философии и социологии, интерпретировало их в контексте совершенно противоположной — контрнигилистической — системы координат. Отталкиваясь от тех же авторов и научных дисциплин (Ницше, Хайдеггер, феноменология, структурализм, антропология и т. д.), что и «новые левые», это альтернативное политически, и довольно схожее методологически, направление, получившее условное название «новые правые» (Nouvelle Droite), создало свою собственную культурную среду. Эпицентром этой среды стала «Группа Исследования и Изучения Европейской Культуры» (аббревиатура GRECE), созданная французским философом и историком идей Аленом де Бенуа. GRECE, начиная с 1970-х годов, регулярно издает журналы (E16ments, Nouvelle Ecole, Krisis), сборники, монографии, что постепенно сделало это направление самостоятельным философским полюсом, оказавшим на французский культурный и интеллектуальный пейзаж значительное влияние.
Основная идея «новых правых» состояла в том, чтобы, беря за основу последовательный консерватизм (Ж. Де Местр, Л. де Бо-нальд, Ш. Моррас, М. Баррес и т.д.) и традиционализм (особенно итальянский традиционализм в версии Ю. Эволы), построить на их основании с использованием новейших исследований в социальных и естественных науках и с активным привлечением методологий структурализма и даже отчасти Постмодерна, самостоятельную философскую платформу, которая по своей сущностной линии продолжала бы традиции радикального консерватизма, но по форме и используемым стратегиям свободно черпала бы концепты, идеи, теории и термины из широкого спектра современной мысли. При этом обращение к левым (к которым принадлежало большинство французских интеллектуалов второй половины XX века) было не просто тактическим ходом, но и результатом идеологического само
Новые правые
409
анализа, в ходе которого главные теоретики «новых правых» пришли к радикальному отвержению всех форм буржуазного общества, последовательному и бескомпромиссному антикапитализму, что логически сближало «новых правых» с «новыми левыми». Одновременно «новые правые» проводили строгую разграничительную черту и со «старыми правыми», которые часто — и особенно перед лицом коммунизма и левачества — становились на сторону буржуазной демократии и либерализма.
«Новые правые» категорически отвергли либерализм как высшее проявление Модерна, от которого они отказались по принципиальным соображениям и тотально (в духе Р. Генона), видя в нем кульминацию десакрализации, индивидуализма и вырождения традиционного общества. Но при этом прагматически они были готовы на тактический альянс с левыми антикапиталистическими течениями на основе общего отторжения либеральной парадигмы. Этому альянсу способствовало и то, что часть авторитетов и у тех и у других была общей. Так одни «новые левые» оказались под сильным влиянием идей Генона (Ж. Батай, А. Арто, Р. Домаль и т.д.), другие (в частности, философы К. Жамбе, Ф. Немо и т.д.) стали последователями традиционалиста Анри Корбена, большинство же находилось под влиянием Ницше и Хайдеггера (П. Клоссовски, Ж. Деррида, Р. Барт, Ж. Делёз), а крупнейшими фигурами структурализма были вполне консервативный Ж. Дюмезиль (друг и покровитель М. Фуко) или русские лингвисты — правые евразийцы Р. Якобсон и Н. Трубецкой. Для «новых правых» все эти фигуры были еще более естественны и органичны, составляя их интеллектуальную основу и выступая в качестве фундаментальной идейной платформы принципиальной критики современности. Некоторые общепризнанные классики современной науки вошли в редакционный комитет главного теоретического издания «новых правых» Nouvelle Ecole (в частности, Ж. Дюмезиль и ряд его прямых учеников, например, Жан Одри и Жан Варенн, а также историк религий с мировым именем Мирча Элиаде, экономист Жюльен Фройнд, писатель Артур Кестлер, физик Стефан Лупаско, эпистемолог Луи Ружье, антрополог М. Гимбутас и т. д.).
Раймон Абеллио: абсолютная структура и гештальт Люцифера
У истоков движения «новых правых» стоял французский писатель и философ Жорж Сулее (1907—1986), писавший свои труды под псевдонимом «Раймон Абеллио». В юности Абеллио был близок
410
Французский Логос
к сюрреалистам, участвовал в коммунистическом движении, позднее был членом социалистической партии, а затем социал-револю-ционного движения. На следующем этапе он увлекся философией и традиционализмом. В результате он разработал свою оригинальную философскую модель, которая основывалась на феноменологии Гуссерля, которого Абеллио считал высшим достижением европейской философии, фундаменталь-онтологии Хайдеггера и мистических теориях христианства, а также восточных традиций. Абеллио жестко отвергал нигилизм Сартра, полагая, что его негативный субъект является обратной пародией на «внутреннего человека», чья апофатичность является не пустой и бессодержательной «абсолютной свободой» (nihil negativus), но «абсолютной структурой»1, проистекающей из творящей бездны (nihil originarium). Тем самым, по Абеллио, для спасения Запада необходимо восстановить связь субъекта и объекта, сакрального и профанного, мистического и научного, небесного и земного, традиционного и современного в философской практике «нового профетизма»2.
Абеллио подробно описывает эту «абсолютную структуру». В ее основе лежит «вселенская взаимозависимость». Этот принцип напоминает базовое представление структурализма о семантическом поле обозначаемого. Эта взаимозависимость организована вокруг осей, собственно, и составляющих «абсолютную структуру». Этих осей в любой семантической точке всегда две. Абеллио называет их «двойным пересекающимся противоречием» и строит на них соответствующую логику («логику двойного пересекающегося противоречия»), с помощью которой разъясняет самые разные явления — начиная с физических процессов и заканчивая областью духа и сознания. Выстраивание «абсолютной структуры» идет по оси «интеграции» или «интенсификации»; термин «интенсификация», «интенсивность» Абеллио выводит из интенциональности Гуссерля. А общая цель всех процессов — «трансфигурация», преображение мира.
Исторические, философские и политические эпизоды для Абеллио суть моменты развертывания и постижения «абсолютной структуры».
Судьба Европы и Запада, которые Абеллио различает концептуально, представляет собой эсхатологический парадокс. Запад для Абеллио есть метафизический горизонт, в котором дух достигает своей финальной победы и полной власти над материей. Поэтому это понятие не географическое, но сакральное. Европа же есть исто-
1 Abellio R. La Structure absolue. P.: Gallimard, 1965.
2 Abellio R. Vers un nouveau prophetisme. Essai sur le r61e politique du sacrd et la situation de Lucifer dans le monde modeme. P.: Gallimard, 1950.
Новые правые
411
рически-географическая реальность, где только еще готовится рождение Запада. Это рождение Запада, по Абеллио, станет смертью (успением) Европы1. «Когда все в Европе будет потеряно, ее воины станут жрецами, и откроют настоящее богатство», — пророчествует Абеллио. Тем самым он становится на сторону Хайдеггера, полагавшего, что у самого процесса «упадка Запада», «заката» есть высшая тайная цель — подготовить момент События (Ereignis). В таком понимании «миссии Запада», понятой как проявление «абсолютной структуры» и обнаружение «внутреннего человека» из бездны нигилизма (Модерн), можно увидеть следование Абеллио по траектории Логоса Орфея — спуститься в ад, чтобы понять его последнюю тайну, навсегда освободиться от невежества, зла и смерти.
Друг и последователь Абеллио, писатель и один из представителей «новых правых» Жан Парвулеско в своей работе «Красное солнце Раймона Абеллио» описывал эту тончайшую тему следующим образом:
В посвящении, которое Раймон Абеллио написал для меня на обложке своего романа «Неподвижные лица», он представил свой «последний роман» как провокационное свидетельство предназначенной для «последних времен» встречи «бездны небес» с «бездной земли», и эта встреча должна иметь место как брак в «бездне человека». И он также уверял меня в том же самом посвящении, что через роман «Неподвижные лица» он пытался найти «новые пути», которые должны были бы нас привести к тотальному «превращению» «последних времен». Однако эту апокалиптическую трансформацию времен, это таинственное «превращение последних времен», смог ли Раймон Абеллио обосновать хотя бы начально — и это и могло было быть лишь начальным жестом — как то, что готово воплотиться в жизнь?1 2
Абеллио описывает свою философию как в теоретических произведениях, так и в романах, которые пользуются во Франции определенным успехом. Его трилогия, состоящая из книг «Блаженны миротворцы»3, «Глаза Иезекииля открыты»4 и «Вавилонская яма»5 представляют собой развернутое литературное описание его идей,
1 Abellio R. Assomption de ГЕигоре. Р.: Flammarion, 1978.
2 Parvulesco J. Le soleil rouge de Raymond Abellio. P.: ed. Gyu Tredaniel, 1987.
3 Abellio R. Heureux les pacifiques. P.: Flammarion, 1947.
4 Abellio R. Les yeux d'Ezechiel sont ouverts. P.: Gallimard, 1950.
5 Abellio R. La Fosse de Babel. P.: Gallimard, 1962.
412
Французский Логос
прозрений, политических проектов и эсхатологических предска-заний относительно конца Европы и восхода Запада, причем этот процесс описан в той же самой парадоксальной манере, как и его философские теории: судьба Европы, по Абеллио, находится под знаком гештальта Люцифера (аналог мысли Освальда Шпенглера о «фаустовской» природе Запада или идеи Эрнста Юнгера о фигуре «Рабочего»), но смысл ее исторического пути в том, чтобы, пройдя до конца путь падения в бездну, восстать оттуда с новым знанием и новым достоинством.
В этом состоит ключ к инициативе «новых правых» в их обращении к Модерну и Постмодерну. Следуя за Абеллио (а также за поздними идеями Ю. Эволы, предлагавшего «оседлать тигра»1), «новые правые» обращаются к инструментам и стратегиям современности, к левым, научным и философским идеям, отмеченным безусловным нигилизмом, ясно осознанным, как «сатанизм» и «анти-традиция», с тем, чтобы пройти испытание концом мира и открыть новые духовные и на сей раз абсолютные горизонты. В этом мы видим сущность ноологической проблемы Франции: в «новых правых» ясно видна — сама по себе парадоксальная и многозначная — линия Логоса Орфея, который тонко переплетен с обратным гипохтоническим Логосом Мелюзины, поднимающимся из бездны в тактах французской истории, финальным моментом чего становится оптимистический нигилизм Постмодерна в лице его наиболее ярких и последовательных выразителей — таких, как Деррида и Делёз.
Ален де Бенуа: грамшизм справа и метаполитика
Главной фигурой в движении «новых правых» был и остается вплоть до сегодняшнего дня философ Ален де Бенуа, продолживший инициативу Раймона Абеллио по реализации великого «превращения последних времен» в нечто, прямо противоположное фактическому состоянию дел в Европе — торжеству нигилизма и триумфу «бездны земли».
«Новыми правыми» движение де Бенуа назвали довольно условно, так как сами его представители отказывались относить себя как к левым, так и к правым. Более того, среди трех классических идеологий Модерна — 1) либерализм, 2) коммунизм и 3) фашизм — ни одна не соответствовала тому направлению, которое лежало в основе этого идейного течения. В этом смысле к Алену де Бенуа в полной мере относятся слова Абеллио из книги «Глаза Иезекииля открыты»:
1 Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб.: Владимир Даль, 2005.
Новые правые
413
Сегодня я это знаю. Никакой человек, движимый стремлением к Абсолюту, не может быть более — схватиться ни за что. Демократия — это сентиментальное бесстыдство, фашизм — бесстыдство страстное, коммунизм — бесстыдство интеллектуальное. Никакой лагерь не может больше выиграть. Больше вообще нет возможной победы1.
«Новые правые» поэтому в 2000-е годы стали квалифицировать себя все чаще как представители «Четвертой Политической Теории»1 2, что, как мы видели в другом месте3, является единственным объяснением для классификации идеологической позиции и Консервативной Революции в Германии. Это сходство не случайно, поскольку именно Ален де Бенуа открыл для Франции явление Консервативной Революции и предпринял колоссальные усилия для сближения между французами и немцами на духовном, культурном и мировоззренческом уровнях. Именно де Бенуа переводил, публиковал в своих журналах и отдельными книгами Эрнста Юнгера, Фридриха Георга Юнгера, Карла Шмитта, Артура Мёллера ван ден Брука, Эрнста Никита, Вернера Зомбарта, Отмара Шпанна и других основателей Консервативной Революции, которые до этого были малоизвестны во Франции. Более того, для большинства французских «старых правых» была характерна определенная германофобия, националистическая неприязнь к немцам, опасным и непонятным конкурентам и соперникам во многих войнах. Де Бенуа поставил своей целью изменить это отношение, и для этого сделал очень многое. Но самое важное состоит в том, что именно «новые правые» во французском интеллектуальном и философском контексте ближе всего стоят к постижению собственно германского Логоса как одного из ярчайших выражений индоевропейского начала. Группа GRECE стремилась к восстановлению изначального Логоса Европы, вплоть до возрождения его индоевропейских основ, и в этом фундаментальном начинании германская культура представлялась важнейшим, если не ключевым, компонентом. Более того, прервавшаяся после 1945 года собственно германская духовная традиция была отчасти восполнена именно французскими «новыми правыми», которые спасли многих немецких авторов от забвения и открыли их фундаментальное значение для европейской культуры (так про
1 Цит. по: Parvulesco J. Le soleil rouge de Raymond Abellio. P. 76.
2 Бенуа Ален де. Против либерализма: к Четвертой Политической Теории. СПб.: Амфора, 2009.
3 Дугин А.Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический. М.: Академический проект, 2015.
414
Французский Логос
изошло, в частности, с идеями Карла Шмитта, которые получили общеевропейское распространение во многом благодаря усилиям Алена де Бенуа).
Ален де Бенуа самого себя характеризует как «историка идей». Для него главной задачей является не создание новых оригинальных концепций и систем, но воссоздание общей структуры коренного индоевропейского наследия, возрождение и сохранение традиций и идентичности глубинной Европы. Именно де Бенуа в полемике со «старыми правыми» призвал переступить рамки французского национализма как явления Модерна и начать мыслить в категориях Европы — Европы как цивилизации, Европы как геополитической и исторической суверенной сущности, порожденной средиземноморской культурой и эллинским наследием. На это прямо указывает и аббревиатура всего движения — GRECE, то есть Греция. Французский Dasein для де Бенуа есть один из полюсов индоевропейского Dasein'a и должен быть восстановлен в общем индоевропейском контексте.
Чтобы достичь поставленных целей, связанных с превращением европейского (и французского) нигилизма в свою противоположность, в «бездну небес», де Бенуа предложил сделать ставку не на политику, но на метаполитику. Политические партии Европы XX века прочно поделены между тремя классическими политическими теориями, и для Четвертой Политической Теории пространства в такой ситуации не остается. Но вместо того, чтобы идти на компромиссы и отказ от своих убеждений, «новые правые» решают сделать ставку именно на метаполитику, то есть разработку самостоятельной и когерентной политической философии по ту сторону существующих партий и движений. В этом проявился принцип «грамшизма справа», предложенный Аленом де Бенуа еще на первом этапе становления движения1.
Итальянский философ-коммунист Антонио Грамши, подвергая ревизии классический марксизм, обратил внимание на то, что в некоторых случаях политические процессы внутри надстройки (например, наличие хорошо организованной и сплоченной коммунистической партии, как в случае большевиков В. Ленина) могут стать настолько мощными, что осуществят в обществе серьезные преобразования (революции, построение социализма и т.д.) даже в том случае, если экономическая структура (базис) будет недостаточно развита. К этому заключению Грамши подтолкнули наблюдения за советским опытом, когда в стране с капиталистическим хозяйством,
1 Benoist Alain de. Vu de droite. P.: ed Copemic, 1977.
Новые правые
415
находившимся в зачаточной стадии, большевики сумели прийти к власти и ускоренным (насильственным) образом спешно продвинуть модернизацию и индустриализацию (опровергнув тем самым предвидения Маркса о том, что социалистические революции возможны только в развитых капиталистических странах, к которым царская Россия явно не относилась ни по одному из параметров). Грамши пошел еще дальше и обратил внимание на то, что в самой надстройке существует не только политическое, но и культурное измерение, и что, если интеллектуалы и люди культуры заключат «исторический пакт» с пролетариатом, то смогут изменить общество в коммунистическом ключе, даже если в нем для этого не созрели ни экономические, ни политические предпосылки. Грамшизм стал главной стратегией французских «новых левых» в 1960-е годы, когда благодаря этому левому повороту коммунистам и анархистам удалось захватить ключевые позиции в образовании, культуре и гуманитарных науках Франции (результатом чего стали студенческие выступления 1968 года, а несколько позднее — приход к власти левого правительства Ф. Миттерана).
Ален де Бенуа предложил повторить эту практику в интересах «новых правых», которые, несмотря на отсутствие политического представительства и материальной базы, должны были начать битву за умы европейцев. Эта стратегия оказалась довольно эффективной, и за несколько десятилетий активной работы GRECE способствовало распространению «новых правых» идей как на всей территории Франции, так и в большинстве европейских стран, где стали складываться аналогичные, хотя и структурно независимые группы и тенденции.
Де Бенуа идентифицирует главный полюс Модерна именно в либерализме (Первая Политическая Теория)1 и на этом основании жестко отметает как англосаксонский капитализм, так и мировую гегемонию США и НАТО. В этом он следует по стопам генерала де Голля.
Де Бенуа одним из первых открывает во Франции такую дисциплину, как геополитика1 2, позднее подхваченную левыми политологами и географами из журнала «Нёго<1оЬ> (Ив Лакост3) и специалистами по международным отношениям неореалистской школы (Франсуа Тюаль, Эмрик Шопрад4 и т. д.). Геополитика рассматривает
1 Бенуа Ален де. Против либерализма: к Четвертой Политической Теории.
2 Дугин А.Г. Геополитика. М.: Академический проект, 2015.
3 Lacoste Y. Geopolitique. La longue histoire d'aujourd'hui. P.: Armand Colin, 2006.
4 Chauprade A., Thual F. Dictionnaire de geopolitique. Etats, concepts, auteurs. Paris: Ellipses, 1999.
416
Французский Логос
историю и мировую стратегию как противостояние двух полюсов — «морского могущества» (талассократии) и «сухопутного могущества» (теллурократии), которым соответствуют две цивилизационные доминанты — торговая для «цивилизации Моря» и героическая для «цивилизации Суши». Цивилизация Моря, полнее всего представленная в Британской империи1 и со второй половины XX века в США, является бастионом капитализма и, соответственно, буржуазной либерально-демократической идеологии. При определении геополитической идентичности Франции Ален де Бенуа однозначно делает выбор в пользу «цивилизации Суши», континентализма и на этом основывает проект франко-германского сближения и дружественного отношения к России, представляющей собой ядро Heartland'a. Показательно, что, не будучи коммунистом и даже левым, Ален де Бенуа не колеблется в самый разгар «холодной войны» заявить, что, будучи поставленным перед выбором, надеть ли фуражку с советской звездой или американскую пилотку, он выбирает фуражку со звездой. Это объясняется отнюдь не просоветскими симпатиями, но строгим геополитическим анализом, основанным, в частности, на глубоком изучении трудов Карла Шмитта, который является одним из главных интеллектуальных ориентиров «новых правых»1 2, и, кроме того, на идее «континентального блока» между Францией, Германией и Россией, «оси Париж —Берлин —Москва». Эту ось как исполнение эсхатологической Европы отстаивал предтеча «новых правых» Раймон Абеллио, о чем он прямо пишет в своих мемуарах «Активисты»3.
Не будучи ни левым, ни правым, де Бенуа в своих публикациях и книгах открыт для избирательного диалога и с теми, и с другими: так, он активно способствует возрождению консервативной традиции и особенно традиционализма и вместе с тем ведет конструктивное сотрудничество с теми представителями антикапиталистического левого лагеря4, которые готовы переступить через партийные догмы и свободно обмениваться идеями и концепциями (частности, И. Рамоне, С. Латуш, Ж.-К. Мишеа и т.д.). При этом Ален де Бенуа отмечает, что Европа, оказавшаяся в период «холодной войны» между двумя полюсами, — американским и советским, — имеет много общего со странами Третьего мира5, к которым «новые правые» испытывают ис
1 Дугин А.Г. Ноомахия. Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект. М.: Академический проект, 2015.
2 Бенуа Ален де. Карл Шмитт сегодня. СПб.: Наука, 2007.
3 Abellios R. Ma demifere mdmoire II. Les militants (1927 —1939). P.: Gallimard, 1975.
4 Платформой такого обмена с левыми служит журнал «Krisis».
5 Benoist Alain de. Europe-Tiers-monde, тёте combat. P.: Robert Laffont, 1986.
Новые правые
417
креннюю симпатию, что также отличает их от «старых правых», традиционно поддерживающих французский колониализм.
Показательно отношение «новых правых» к религиозной проблематике. Это движение не конфессиональное, но сам Ален де Бенуа настроен критично к западному христианству (в симпатиях к православию, однако, он признавался неоднократно), так как именно в нем он видит предпосылки к возникновению Модерна, расцениваемого им, в свою очередь, как чистый нигилизм. Такое отношение характерно для Ницше, Хайдеггера и ряда других мыслителей Консервативной Революции. Ален де Бенуа предлагает вернуться к индоевропейским корням, к сакральному обществу и солярно-аполлонической парадигме традиции, что иногда интерпретируется как «язычество», хотя речь идет не о фантазийных религиозных практиках, но о греческом прочтении космологии, этики, эстетики и метафизики, которое было общим и для дохристианского эллинизма (вплоть до неоплатоников), и для основных философских течений раннего христианства.
В целом «новые правые» и персонально Ален де Бенуа являются представителями той Франции, которая ясно осознает свой индоевропейский и кельтский Dasein, тонко осмысляет трагический путь Орфея и стремится довести его парадоксальную и невероятно трудную и опасную миссию до эсхатологического конца.
Жан Парвулеско: Постмодерн, взгляд справа
Самым ярким и практически неклассифицируемым представителем течения «новых правых» является французский писатель и философ румынского происхождения Жан Парвулеско (1929 — 2010). Парвулеско бежал из Румынии после войны и всю жизнь прожил в Париже, где принимал участие в разнообразных интеллектуальных и культурных инициативах, связанных, с одной стороны, с традиционалистами (Ю. Эвола, Р. Абеллио, М. Элиаде, Ж. Даньелу и т.д.), ас другой — с литераторами (он был близким другом великого американского поэта Эзры Паунда) и кинематографистами (Парвулеско поддерживал тесные контакты с кинорежиссерами «новой волны», такими как Ж.-Л. Годар, Э. Рёмер, Б. Шрёдер, и появлялся как актер или персонаж в некоторых их фильмах).
Парвулеско известен во Франции как писатель, традиционалист и геополитик. Но все эти три идентичности сливаются в нем воедино, так как его романы полны геополитическими трактатами, его политические статьи наполнены метафорами и литературными аллюзиями, а работы, посвященные традиции и сакральным учениям, перемежаются с вымышленными персонажами и политическими
418
Французский Логос
комментариями. Соглашаясь в некоторых случаях с тем, чтобы его творчество квалифицировали как «постмодернизм справа», Парвуле-ско создал своеобразный жанр тотального письма, который отличается от постструктуралистов тем, что практически исключает спонтанность и, скорее, старается проявить аполлоническую, солнечную, «абсолютную структуру» Раймона Абеллио, нежели дать свободный выход нигилизму «реального» (Лакан) или «бесовской текстуре» (Барт, Делёз). Если «автор» умирает у Парвулеско, то только в пользу рождающегося в этом процессе «сверхавтора», в пользу того, кого древние называли genius и кому приписывали — в буквальном смысле — источник сакрального вдохновения. В отличие от материалистов Модерна у традиционалиста Парвулеско не было необходимости объяснять инспирацию работой бессознательного или порядком символического: боги, ангелы и даймоны, открывающиеся в ходе письма, представляли для него вполне действительных и наделенных конкретным экзистирующим присутствием персонажей. Поэтому сам Парвулеско был убежден, что его тотальное традиционалистское письмо есть практическое воплощение того метода, который Раймон Абеллио называл «новым профетизмом». Такой «новый профетизм» не отвергает ни эстетики, ни методологии современного искусства, он лишь деконструирует его модернистскую семантику (или «а-се-мантику», заведомую бессмысленность их произведений), чтобы восстановить всю картину сакрального текста; и даже там, где сакрального не оказывается, отсутствие сакрального воспринимается как нечто антисакралыюе — не просто профанное, но дьявольское. Так, Парвулеско интерпретирует Модерн и Постмодерн как коллапс европейского Логоса, но при этом он убежден, что этот коллапс эсхатологически необходим для свершения финальной мистерии мира, как «очищение пустотой» (le nettoyage par le vide). Современный Запад Парвулеско, вслед за Теноном и Эволой, понимает как предел падения, как антицивилизацию, но при этом он убежден, что именно на Западе и, конкретно, во Франции должно произойти чудо обращения, «успения Европы», когда песочные часы космического цикла будут перевернуты, и «бездна земли» будет преображена в «бездну небес».
В серии своих больших романов Парвулеско дает обширную картину его представления о самых разных сторонах Европы «последних времен»1. Их персонажи — агенты спецслужб, аристократы,
1 Parvulesco J. Les Mysteres de la Villa Atlantis. P.: L'Age d'Homme, 1990; Idem. L'Etoile de 1'Empire invisible P.: Guy Trddaniel, 1994; Idem. Le Retour des Grands Temps. P.: Guy Trddaniel, 1997; Idem. Un bal masque a Geneve. P.: Guy Tredaniel, 1998; Idem. La Conspiration des noces polaires. P.: Guy Tredaniel, 1998; Idem. Rendez-vous au Manoir du Lac. P.: Alexiphannaque, 2011; Idem. Le Visage des abimes. P.: L'Age d'Homme, 2001;
Новые правые
419
интеллектуалы, дипломаты, художники, дамы высшего и среднего света, мафиози, оккультисты, мертвецы, воскресшие герои древней истории, королевские семьи XVIII века, каким-то чудом оказавшиеся в XX веке, бесы и ангелы. Все они переплетены сложной тканью политических интриг, любовных отношений, магических обрядов, тайных обществ, дипломатических миссий, шпионских преследований и жестоких убийств. Время от времени действие незаметно перемещается в другую эпоху или другое измерение. Так, периодически герои то оказываются на нижнем этаже реальности, например, в подземном Париже, который покоится на плоту, плавающем на поверхности инфернального черного моря1, или просто в аду, то теряют вес и легко взлетают, паря над курортными городами и виллами богатых обывателей. Заснув в сундуке, один из героев просыпается в преисподней, где вступает в беспорядочные связи с прекрасными обитательницами инферно. В другой ситуации среди группы радикальных монархистов обнаруживается сама Мария-Антуанетта вместе с дофином, которые, как выясняется, не умерли (она — на гильотине, а он чуть ранее — от туберкулеза), но остались чудесным образом живы и сейчас возвращаются, чтобы участвовать в финальном преображении Священной Франции.
Все герои Парвулеско участвуют в подготовке финальной мистерии «последних времен»; их любовные отношения, политические заговоры и оккультные ритуалы направлены к одной цели — явлению Великого Монарха Франции и участию в финальной битве с дьяволом европейского Модерна, поднимающимся из бездн современного нигилизма как его последнее слово, дорогу чему расчистили агенты многовековой модернизации, демократии и либерализма.
Балы, маскарады, убийства, перевороты, криминальные схемы, изнасилования, преступные сети, интеллектуальные салоны, дипломатические миссии — вся ткань экзистенции людей, которые хоть что-то значат в современном европейском обществе, представлена в романах Парвулеско как единая семантическая структура, но не
Idem. La Stratdgie des tdnebres. P.: Guy Tredaniel, 2003; Idem. En approchant la jonction de "Venus. Arma Artis, 2004; Idem. Dans la foret de Fontainebleau. P.: Alexipharmaque, 2007; Idem. La Confirmation Boreale. P.: Alexipharmaque, 2010; Idem. Un retour en Colchide P.: Guy Tredaniel, 2010; Idem. La Servante Portugaise. P.: L'Age d'Homme, 1987. См. на рус. яз.: Парвулеско Ж. Португальская служанка. СПб.: Амфора, 2009.
1 Подземный Париж Парвулеско населяет разными существами, в частности, «черными филадельфами», коммунистами-участниками Парижской коммуны, спустившимися, спасаясь от наказаний за совершенные злодеяния, в подземные лабиринты под знанием парижской Оперы, где, смешиваясь друг с другом и иными существами из подземного Парижского Моря, основали особую масонскую апокалиптическую цивилизацию. ParvulescoJ. L'Etoile de 1'Empire invisible.
420
Французский Логос
бессмысленная, а совершенно осмысленная, смысловым ключом к которой является битва двух «тайных обществ» — Ордена Традиции и Ордена Модерна. Таким образом, социологическая проблематика сакральное/профанное или антагонистический дуализм Рене Генона, противопоставлявшего традицию и царство количества, у Парвулеско приобретают характер литературного нарратива, не имеющего ни четкого начала, ни конца, но перетекающего из книги в книгу вместе с персонажами, ситуациями, текстами, ассоциациями и символическими комплексами, составляя тем самым единый традиционалистский текст или эсхатологический роман, который развертывается во Франции, для Франции и во имя Франции, и главным героем которого является сама тайная Франция, трансцендентная Франция, воплощенная в преданных и верных носителях ее глубинного Логоса. Но эти носители у Парвулеско — как и у Абеллио и «новых правых» — все же остаются несколько двусмысленными: это не назидательное и плоское повествование о битве добра и зла, это — парадоксальное, многомерное, вполне французское (лента Мёбиуса) плетение магической ткани, где развертывается многомерная игра зеркал и теней, дублей и инверсий, женских и мужских персонажей, соединяющихся, разделяющихся, превращающихся, гибнущих, страдающих, воскресающих, падающих и взлетающих, совершающих преступления и серии непросительных грехов, чтобы в следующий момент осуществить метанойю, героический подвиг или пройти через освящающее страдание.
Серия политических работ Парвулеско посвящена:
• геополитике континентального блока1, общей для всех «новых правых» — от Абеллио до Алена де Бенуа;
• де Голлю2, которого он превозносит как фигуру, воплотившую в себе глубинный французский Логос в политике;
• возрождению традиционалистского течения в католичестве3 (сам Парвулеско был католиком) и
• евразийству4, в котором он видит начало процесса великоконтинентальной Консервативной Революции против современного мира и которое он соотносит с миссией Великой России.
1 Parvulesco J. Une strat£gie transcendantale pour la «Grande Europe». P.: Arma Artis, 2004. См. также на рус. яз.: Парвулеско Ж. Геополитика третьего тысячелетия //Дугин А. Г. Основы геополитки. М.: Аркгогея-центр, 2000.
2 Parvulesco J. Les Fondements geopolitiques du grand gaullisme. P.: Guy Trldaniel, 1995.
3 Parvulesco J. Rapport secret a la nonciature. P.: Guy Tredaniel, 1995.
4 Parvulesco J. Vladimir Poutine et 1'Eurasie. P.: Amis de la Culture Europeenne, 2005. См. на рус. яз.: Парвулеско Ж. Путин и Евразийская империя. СПб.: Амфора, 2006.
Новые правые
421
В творчестве Парвулеско мы видим все типичные черты, с одной стороны, «ангажированного интеллектуала», ставшего с эпохи Сартра нормой, с другой — последовательного традиционалиста и борца с Модерном, а с третьей — писателя, поэта и визионера, продолжающего традицию французской литературы от «проклятых поэтов» до сюрреалистов и структуралистов. Работы Жана Парвулеско представляют собой яркий образец метаполитики «новых правых», проникающих в самые разнообразные европейские среды и распространяющих различными способами идеи финального эсхатологического переворота.
Именно «новые правые» более всего осознают гештальт Орфея как концентрированное выражение французского Dasein'a и полностью отождествляют себя с его миссией.
Французский Dasein
Французский Dasein, французское etre-la (или как предлагал переводить Dasein на французский etre-le-la, что в нашем случае означает, «быть-Францией», «etre-la-France») является одним из важнейших экзистенциальных полюсов Европы. На его основании развертывался исторически особый французский Логос, несущий в себе как общие черты Логоса европейского и средиземноморского, так и нечто уникальное и самобытное. Пропорции греческого, римского, индоевропейского, кельтского, германского во французской культуре совершенно оригинальны и дали духовный плод, существенно отличающийся во всех смыслах от истории других европейских народов. Мы видим во Франции уникальное и столь же самобытное развитие трех вертикальных сечений Ноомахии; от начала до конца историала Франции мы различаем:
• аполлоническую линию (от индоевропейской традиции жрецов-друидов и героических воинов, через Дионисия Ареопагита, первого епископа Парижа, к которому возводят — пусть символически — платонический корпус Ареопагитик и франкских королей с центральной ролью апофатического неоплатоника Иоганна Скота Эриугены, придворного философа Карла Лысого, до собственно французского платонизма и солярной эсхатологической кульминации в традиционализме Рене Генона);
• дионисийскую линию и ближе всего к ней стоящий гештальт Орфея (от кельтских бардов и воинов через схоластический реализм, средневековый и возрожденческий герметизм, катаров, рыцарство и «религию Любви» до «проклятых поэтов» и сюрреалистов);
422
Французский Логос
• линию Кибелы или, во французском контексте, гештальт Мелюзины (от ноктюрнических культов древних галлов, через традиции средневековых номиналистов и низшей материальной алхимии — к рационализму, атомизму, сенсуализму, материализму, буржуазии и прогрессизму Нового времени, к энциклопедистам и Просвещению, к Французской революции и революционно-демократическому масонству и, наконец, к постмодернизму).
Все эти три линии наличествуют во французском Логосе и уходят корнями в сложную структуру французского Dasein'a, составляя его уникальность, его парадокс, его энигматику и пространство его выбора.
Между Орфеем и Мелюзиной во французском историале существует сложнейшая диалектическая связь. Попытка расставить в этом тончайшем драматическом и трагическом процессе точки над i выглядела бы бесцеремонным насилием над мистерией Франции, которую, может быть, удастся приоткрыть, но навязчивое проникновение в которую грозит разрушить воздушный образ французской ноологии. То, что Мелюзины в современной Франции становится все больше и больше, а Орфея все меньше и меньше, вплоть до его исчезновения, в принципе соответствует правилам игры, заложенным в самом ее начале. Если мистериальный Логос ставит своей целью достичь дна бездны, стоит ли удивляться тому, что он оказался в определенный момент глубоко в аду. Если идти на край ночи целенаправленно, то рано или поздно дело примет по-настоящему серьезный оборот.
Поэтому для ноологии важнее всего приблизиться к постижению внутренней структуры французской Ноомахии, а не выносить суждения или тем более давать советы или делать прогнозы. В конце концов, отношения между Орфеем и Мелюзиной — это глубоко интимное дело самих французов. К чему они придут на этом пути, что им суждено вынести, чем все это закончится — зависит только от них и касается только их. Другое дело, что в рамках построения полицентричной версии поля цивилизаций, европейской теософии, мы должны выяснить структуры ноологических соотношений, выявить приблизительные рамки и границы, проследить по возможности этапы и фазы становления, определить поворотные точки. Это необходимо, чтобы, с одной стороны, быть свободными от всех форм универсалистского гипноза — французская история является исключительно французским делом (а все параллели с другими культурами и историалами требуют чрезвычайно деликатного и внимательного исследования), а с другой, чтобы даже самым отдаленным
Новые правые
423
образом составить представление о том богатстве, величии, глубине и блистательной поверхностности французской культуры, способной увлечь в свой водоворот тех, кому близки гештальты Орфея и Мелюзины и кто хотел бы стать посвященным в культурный ми-стериал вечной Франции.
Библиография
Августин. Творения. СПб.; Киев, 1998.
Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шича-лина, 1991.
Анри Корбен. Mundus Imaginalis. Corbeniana // Традиция. № 6. М.: Евразийское движение, 2014.
Антология педагогической мысли христианского Средневековья. М., 1994.
Арто А. Тараумара. Тверь: KOLONNA Publications, 2006.
Арто А. Театр и его двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. СПб.; М.: Симпозиум, 2000.
Арто А. Театр и его двойник. М.: Мартис, 1993.
Бальзак Оноре де. Собр. соч.: В 24 т. М.: Правда, 1960.
Бальзак Оноре де. Серафита. М.: Энигма, 1996.
БартР. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.
Батай Ж. Ненависть к поэзии. М.: Ладомир, 1999.
Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006.
Башляр Г. Вода и грезы. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998.
Башляр Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1999.
Башляр Г. Земля и грезы воли. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2000.
Башляр Г. Земля и грезы о покое. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2001.
Башляр Г. Новый национализм. М.: Прогресс, 1987.
Башляр Г. Психоанализ огня. М.: Прогресс, 1993.
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс, 1995.
Бенуа Ален де. Карл Шмитт сегодня. СПб.: Наука, 2007.
Бенуа Ален де. Краткая история идеи прогресса // Бенуа Ален де. Против либерализма. СПб.: Амфора, 2009.
Бенуа Ален де. Против либерализма: к Четвертой Политической Теории. СПб.: Амфора, 2009.
Бенуа Б. Мандельброт. Фрактальная геометрия природы. М.: Институт компьютерных исследований, 2002.
Бергсон А. Два источника морали и религии. М.: Канон, 1994.
Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999.
Бергсон А. Собрание сочинений. М.: Московский клуб, 1992.
Бланшо М. Ожидание забвения. СПб.: Амфора, 2000.
Бланшо М. Пространство литературы. М.: Логос, 2002.
Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Водолей, 2012.
Библиография
425
Бодрийяр Ж. Америка. СПб.: Владимир Даль, 2000.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
Борон Р. де. Роман о Граале. СПб.: Евразия, 2005.
Брейе Э. Философия Плотина. СПб.: Владимир Даль, 2012.
Бретон А. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М.: Прогресс, 1986.
Бретон А., Супо Ф. Магнитные поля // Антология французского сюрреализма 20-х годов. М.: ГИТИС, 1994.
Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. М.: Весь мир, 2014.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.: В 3 т. М.: Весь мир, 2006.
Бурдье П. Начала. Choses dites. М.: Socio-Logos, 1994.
Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.
Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.
Вольтер. Собр. соч.: В 3 т. М.: ЗАО «РИК Русанова»; Сигма-Пресс, 1998.
Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
Гельвеций К.А. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1973.
Генон Р. Великая Триада. М.: Беловодье, 2010.
Генон Р. Духовное владычество и мирская власть. М.: Беловодье, 2012.
Генон Р. Кризис современного мира. М.: Эксмо, 2008.
Генон Р. Множественные состояния бытия. М.: Волшебная Гора, 2007.
Генон Р. Восток и Запад. М.: Беловодье, 2005.
Генон Р. Символика креста. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
Генон Р. Символы священной науки. М.: Беловодье, 2004.
Генон Р. Царство количества и знамения времени. М.: Беловодье, 2011.
Генон Р. Царь мира. Очерки о христианском эзотеризме. М.: Беловодье, 2008.
Генон Р. Человек и его осуществление согласно Веданте. Восточная метафизика. М.: Беловодье, 2004.
Головин Е.В. Приближение к Снежной Королеве. М.: Арктогея-Центр, 2003.
Гольбах П. А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1963.
Греймас А. Структурная семантика. Поиск метода. М.: Академический Проект, 2004.
Данте Алигьери. Божественная комедия. Пермь: Пермская книга, 1994.
Декарт Р. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1989.
Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академический Проект, 2010.
Делёз Ж. Ницше. СПб.: Аксиома; Кольна, 1997.
Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1997.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010.
426
Библиография
Деррида Ж. Эссе об имени. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998.
Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический Проект, 2007.
Джойс Д. Улисс. М.: Республика, 1993.
Джойс Дж. Собр. соч.: В 3 т. М.: ЗнаК, 1994.
ДидроД. Собр. соч.: В 10 т. М.: Academia; Л.: Гослитиздат, 1935—1947.
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Кн. IV—VII. Греческая мифология. СПб.: Алетейя, 2005.
Дугин А. Г. Постфилософия. М.: Евразийское движение, 2009.
Дугин А. Г. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское движение, 2009.
Дугин А. Г. Философия традиционализма. М.: Аркгогея-Центр, 2002.
Дугин А. Г. Этносоциология. М.: Академический проект, 2014.
Дугин А. Г. Археомодерн. М.: Евразийское движение, 2011.
Дугин А. Г. Геополитика. М.: Академический проект, 2015.
Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер. Философия Другого Начала. М.: Академический Проект, 2010.
Дугин А. Г. Ноомахия. Германский Логос. Человек апофатический. М.: Академический проект, 2015.
Дугин А. Г. Ноомахия. Логос Европы. Т. 2. М.: Академический проект, 2014.
Дугин А. Г. Ноомахия. По ту сторону Запада-1. Т. 4. М.: Академический проект, 2014.
Дугин А. Г. Ноомахия. По ту сторону Запада-П. Т. 5. М.: Академический проект, 2014.
Дугин А. Г. Ноомахия. Три Логоса. Т. 1. М.: Академический проект, 2014.
Дугин А. Г. Ноомахия. Цивилизации границ. Т. 3. М.: Академический проект, 2014.
Дугин А. Г. Основы геополитики. М.: Арктогея-центр, 2000.
Дугин А. Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический Проект, 2010.
Дугин А. Г. Социология русского общества. Россия между Логосом и хаосом. М.: Академический Проект, 2010.
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М.: Наука, 1986.
Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. М.: Наука, 1990.
Дюмон Л. Homo aequalis, I. Генезис и расцвет экономической идеологии. М.: Nota Bene, 2000
Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. М.: Евразия, 2001.
Дюмон Л. Эссе об индивидуализме. Дубна: Феникс, 1997.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.
Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб.: Издание Н. П. Кар-басникова, 1912.
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Э. Дюркгейм. Классики мирового религиоведения: Антология. М.: Канон 4-, 1998.
Жид А. Собр. соч.: В 7 т. М.: Терра; Книжный клуб, 2002.
Библиография
427
Жильсон Э. Философ и теология. М.: Гнозис, 1995.
Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. М., 1960-1967.
Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003.
Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990.
Камю А. Соч.: В 5 т. Харьков: Фолио, 1998.
Канселье Э. Алхимия. М.: Энигма, 2002.
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М.: Прогресс, 1987.
Кереньи К. Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни. М.: Ладомир, 2007.
Кокто Ж. Соч.: В 3 т. М.: Аграф, 2001 — 2005.
Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: Либроком, 2011.
Корбен А. История исламской философии. М.: Прогресс-Традиция, 2010.
Корбен А. Световой человек в иранском суфизме. М.: Фонд исследований исламской культуры, Волшебная Гора. Дизайн. Информация. Картография, 2009.
Кэрролл А. Приключения Алисы в Стране Чудес. М.: Лабиринт, 2014.
Ламетри Ж.О. Сочинения. М.: Мысль, 1976.
Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.
Леви-Стросс К. Мифологики. Происхождение застольных обычаев. М.: Флюид, 2007.
Леви-Стросс К. Мифологики. Сырое и приготовленное. М.: Флюид, 2006.
Леви-Стросс К. Мифологики. Человек голый. М.: Флюид, 2007.
Леви-Стросс К. Печальные тропики. М.: ACT, 1999.
Леви-Стросс К. Путь масок. М.: Республика, 2001.
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М.: Европа, 2007.
Лотреамон. Песни Мальдорора. М.: Изд-во МГУ, 1993.
Лукиан Самосатский. Соч.: В 2 т. СПб., 2001.
Мабиногион. М.: Арт-Флекс, 2000.
Маритен Ж. Избранное: Величие и нищета метафизики. М.: РОССПЭН, 2004.
Местр Ж. де. Санкт-Петербургские вечера. СПб.: Алетейя, 1998.
Мосс М. Общества, обмен, личность. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1996.
Мэлори Т. Смерть Артура: Роман-эпопея. М.: Художественная литература, 1991.
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990.
Олар А. Культ Разума и культ Верховного Существа во время французской революции. М.: Сеятель, 1925.
Основы евразийства. М.: Партия Евразия, 2002.
Парвулеско Ж. Португальская служанка. СПб.: Амфора, 2009.
Парвулеско Ж. Путин и Евразийская империя. СПб.: Амфора, 2006.
428
Библиография
Паскаль Б. Мысли. М.: REFL-book, 1994.
Плавинская Н. Ю. Вандея // Исторический лексикон. XVIII век. М.: Знание, 1996.
Порфирий. Сочинения. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011.
Пропп В. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001.
Прудон П. Ж. Что такое собственность, или Исследование о принципе права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины в настоящее время. М.: Республика, 1998.
Пруст М. Собр. соч.: В 6 т. СПб.: Амфора, 2001.
Ран О. Крестовый поход против Грааля. М.: ACT, 2004.
Рембо А. Произведения. М.: Радуга, 1988.
Рикёр П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М.: Наука, 1997.
Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М.: АО «KAMI»; Изд. центр «Academia», 1995.
Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 1995.
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969.
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000.
СартрЖ.-П. Пьесы. М.: Флюид, 2008.
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм. М.: Изд-во иностр, лит., 1953.
Селин Л. Ф. Путешествие на край ночи. М.: Прогресс, 1994.
Сораль А. Понять Империю. М.: ГРА, 2012.
Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики. М.: Едиториал УРСС, 2004.
Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М.: Правда, 1959.
Тейяр де Шарден П. Божественная среда. М.: Renaissanse, 1992.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: Наука, 1987.
Фестюжьер А. Ж. Личная религия греков. СПб.: Алетейя, 2000.
Фестюжьер А. Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. СПб.: Наука, 2009.
Флобер Г. Собр. соч.: В 5 т. М.: Правда, 1956.
Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. СПб.: Академический Проект, 2004.
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
ФукоМ. Забота о себе. История сексуальности. Т. 3. К.: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998.
ФукоМ Археология знания. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004.
Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. М.: ACT МОСКВА, 2010.
Фуко М. Рождение клиники. М.: Академический Проект, 2010.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994.
Библиография
429
Фулканелли. Тайна соборов и эзотерическое толкование герметических символов Великого Делания. М.: Энигма, 2008.
Фулканелли. Философские обители. М.: Энигма, 2003.
Эвола Ю. Абстрактное искусство. М.: Евразийское движение, 2012.
Эвола Ю. Метафизика пола. М.: Беловодье, 1996.
Эвола Ю. Оседлать тигра. СПб.: Владимир Даль, 2005.
Abellio R. Assomption de ГЕигоре. P.: Flannnarion, 1978.
Abellio R. Heureux les pacifiques. P.: Flannnarion, 1947.
Abellio R. La Fosse de Babel. P.: Gallimard, 1962.
Abellio R. La Structure absolue. P.: Gallimard, 1965.
Abellio R. Les yeux d'Ez£chiel sont ouverts. P.: Gallimard, 1950.
Abellio R. Ma demtere mdmoire II. Les militants (1927 —1939). P.: Gallimard, 1975.
Abellio R. Vers un nouveau proph6tisme. Essai sur le r61e politique du эасгё et la situation de Lucifer dans le monde modeme. P.: Gallimard, 1950.
Anthologie des poetes maudits du XXe siecle. P.: Belfond, 1985.
Arnaud de Villeneuve. Opera omnia. Lyon, 1504.
Artaud A. (Euevres competes.: Gallimard, 1974.
BachofenJ.J. Das Mutterrecht. Eine Untersuchung fiber die Gynaikokratie der alten Welt nach ihren religiosen und rechtlichen Natur. Basel: Benno Schwabe Verlagsbuchhan-dlung, 1897.
Barthes R. L'Empire des signes. P.: Skira, 1970.
Barthes R. La mort de 1'auteur. P.: Mant£ia, 1968.
Barthes R. Le$on inaugurale au СоПёде de France // Barthes R. Le$on P.: Editions du Seuil, 1978.
Barthes R. S/Z essai sur Sarrasine d'Honor£ de Balzac. P.: Editions du Seuil, 1970.
Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P.: Editions du Seuil, 1971.
Baudrillard J. Le crime parfait. P.: Galilee, 1995.
Benoist Alain de. Europe-Tiers-monde, meme combat. P.: Robert Laffont, 1986.
Benoist Alain de. Vu de droite. P.: ed Copemic, 1977.
BlanchotM. Espace litteraire. P.: Gallimard, 1955.
Blanqui A. Ecrits sur la Rdvolution, (Euvres completes I, textes politiques et lettres de prison. P.: Galike, 1977.
Bonardel F. Poesie et Tradition. Artaud lecteur de Gudnon // Modemitds d'Antonin Artaud I, Paris-Caen, Lettres modemes Minard, 2000.
Boron R. de. Joseph d'Arimathie: A Critical Edition of the Verse and Prose Versions. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1995.
Bossert H. Th. Die Welt des Orients. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprech, 1947.
Bourdieu P. M6ditations pascaliennes. P.: Seuil, 1997.
BourdieuP., Boltanski L. La production de Г ideologic dominante. P.: Demopolis, 2008.
Braudel F. Ecrits sur 1'histoire. Tome II. P.: Arthaud, 1990.
430
Библиография
Breton A. Le Merveilleux contre le Mystere // Breton A. La Cid des Champs. P.: Sagit-taire, 1953.
Breton A. (Euvres completes. 3 v. P.: Gallimard, 1999.
Breton A. Poemes: Le Revolver A Cheveux Blancs. P.: Gallimard, 1948.
Breton S. Philosophic et mathdmatique chez Proclus. P.: Beauchesne, 1969.
Carrouges M. Andrd Breton et les Donndes Fondamentales du Surrdalisme. P.: Gallimard, 1950.
Cerny Vaclav. Essai sur le Titanisme dans la podsie romantique occidentale entre 1815 et 1850. Prague: Editions Orbis, 1935.
Combes J. Iitudes ndoplatoniciennes. Grenoble: Jdrome Millon, 1989.
Corbin H. Avicenne et le rdcit visionnaire. P.: Verdier, 1999.
Corbin H. Imagination crdatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabi. P.: Entrelac, 2012.
Corbin H. L'archange empourprd, quinze traitds et rdcits mystiques de Yahya ibn Habas Sihab al-Din al- Suhrawardi. P.: Fayard, 1976.
Corbin H. L'lmagination crdatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabi. P.: Flammarion, 1977.
Corbin H. Le livre du Glorieux de Jabir ibn Hayyan // Eranos Jahrbuch XIX, 1950.
Corbin H. Le paradoxe du monothdisme. P.: Editions de L’Heme, 2003.
Deleuze G. La logique du sens. P.: Editions de Minuit, 1969.
Demurger A. Les Templiers, une chevalerie chrdtienne au Moyen Age. Paris: Seuil, 2008.
Derrida J. Force de loi. P.: Galilde, 1994.
Derrida J. Khora. P.: Galilde, 1993.
Derrida J. Mdmoires — Pour Paul de Man. P.: Galilde, 1988.
Derrida J. Politique et amitid. P.: Galilde, 2011.
Derrida J. Positions. P.: Les Editions de Minuit, 1972.
Dubois Claude-Gilbert. Celtes et Gaulois au XVIe sidcle: Le ddveloppement littdraire d’un mythe nationaliste (de Pdtrarque a Descartes). P.: Vrin, 1972.
Duby G. Trois Ordres ou L'imaginaire du fdodalisme. P.: Gallimard, 1978.
Dumezil G. Le Troisidme Souverain — Essai sur le dieu indo-iranien Aryaman et sur la formation de 1'histoire mythique de 1'Irlande. Paris: G. P. Maisonneuve, 1949.
Dumezil G. Documents anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase. P.: A. Maisonneuve, 1960—1967.
Dumezil G. Jupiter Mars Quirinus. 4 v. P.: Gallimard, 1941 —1948.
Dumezil G. L'Iddologie tripartite des Indo-Europdens. P.: Latomus, 1958.
Dumezil G. L'Oubli de 1’homme et 1'honneur des dieux. P.: Gallimard, 1985.
Dumezil G. Les Dieux des Germains, essai sur la formation de la religion scandinave. P.: Presses universitaires de France, 1959.
Dumezil G. Loki. P.: G.P. Maisonneuve, 1948.
Dumezil G. Les Dieux souverains des Indo-Europdens. P.: Gallimard, 1977.
ОитёгИ G. Mitra-Varuna — Essai sur deux reprdsentations indo-europdennes de la Souverainetd. P.: Presses universitaires de France, 1940.
Dumezil G. Mythe et epopee. I, II, III. P.: Gallimard, 1995.
Библиография
431
Durand G. Figures mythiques et visages de 1'ceuvre. De la mythocritique a la mythana-lyse. P.: Berg International, 1979.
Durand G. Introduction a la mythodologie. Mythes et soci6tds. Paris: Albin Michel, 1996.
Durand G. L'imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophic de 1'image. P.: Hatier, 1994.
Durand G. Les structures anthropologiques de rimaginaire. P.: Dunod, 1992.
Durand G. Structures, liranos I. P.: La Table Ronde, 2003.
Erigene Jean Scot. De la division de la nature. Periphyseon. Paris: Presses Universi-taires de France, ЁрппёШёе. Livres I—V. 1995 — 2009.
Festugiere A. J. L'Hern^tisme. Gleerup: Lund O.C. K., 1948.
Flamel Nicola. Le Desir dёsirё, ou Тгёэог de la philosophic, dit autrement le Livre des six paroles. Paris, 1629.
Gassendi P. Du principe efficient, c'est-a-dire des causes des choses, Syntagma philo-sophicum, Physique, section I, Livre 4, traduit du latin, ргёэеЩё et аппо1ё par Sylvie Taussig. Brepols: Turnhout, 2006.
Gassendi P. Vie et mceurs d’£picure par Pierre Gassendi, version bilingue, notes, introduction et commentaires par S. Taussig. Paris: Les Belles Lettres, 2005.
Greenblatt S. Swerve: How the World Became Modem. New York; London: W. W. Norton & Company, 2011.
Greimas Al.-J., RastierF. The interaction of semiotic constraints // Yale French Studies. 1968. № 41.
Greimas Al.-Julien. L’ actuals du saussurisme // Le franpais modeme. 1956. № 24.
Grenier A. Les Gaulois. P.: Payot, 1923.
Guenon R. Etudes sur la Franc-ma^onnerie et le Compagnonnage. T. 1 — 2. P.: Editions Traditionnelles, 1964—1965.
Guenon R. АЩогйё spirituelle et pouvoir temporel. P.: Editions de la Maisnie, 1984.
Guenon R. Introduction дёпёга!е й l^tude des doctrines hindoues. Paris: Marcel Ri-viere, 1921.
Guenon R. Saint Bernard. P.: Editions Traditionnelles, 1929.
Guyonvarc'h Christian-J., Le Roux Franqoise. La Civilisation celtique. Rennes: Ouest-France Universe, 1990.
Hachet Pascale. Les structures anthropologiques de l’imaginaire chez les Celtes et les Germains, http://www.4pt.su/fr/content/les-structures-anthropologiques-de-limaginaire-chez-les-celtes-et-les-germains (дата обращения 01.07.2013).
Heidegger M. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Frankfurt am Main: Vittorio Klos-termann, 1983.
Heidegger M. Sein und Zeit (1927). Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
Heiser James D. Prisci Theologi and the Hermetic Reformation in the Fifteenth Century. L.: Repristination Press, 2011.
Johannes de Rupescissa. Liber secretorum eventuum. Fribourg: Editions universitaires, 1994.
KristevaJ. Le Evolution du langage роёНдие. P.: Seuil, 1974.
432
Библиография
Les figures hierogliphiques de Nicolas Flamel, ainsi qu'il les a mises en la quatridme arche qu’il a battie au Cimetiere des Innocens A Paris, entrant par la grande porte de la rue S. Denys, &prenant la main droite; avec 1’explication d'icelles par iceluy Flamel. Paris, 1912.
Maffesoli M. Ombre de Dionysos Paris: Le Livre de Poche, 1991.
Maritain J. Antimodeme. P.: Edition de la Revue des Jeunes, 1922.
MaritainJ. Le crdpuscule de la civilisation. P.: Ed. Les Nouvelles Lettres, 1939.
Narbonne J.-M. La metaphysique de Plotin. P.: Vrin, 1994.
Nietzsche F. Also sprach Zaratustra // Nietzsche Werke. Kritische Ausgabe. Bd. VI (1). Berlin: Walter de Gruyter & Co, 1968.
Nietzsche. Cahiers de Royamont. P.: ed. de Minuit, 1966.
Parvulesco J. Dans la foret de Fontainebleau. P.: Alexipharmaque, 2007.
Parvulesco J. En approchant la jonction de Venus. Arma Artis, 2004.
Parvulesco J. L'Etoile de 1'Empire invisible P.: Guy Tredaniel, 1994.
Parvulesco J. La Confirmation Boreale. P.: Alexipharmaque, 2010.
Parvulesco J. La Conspiration des noces polaires. P.: Guy Tredaniel, 1998.
Parvulesco J. La Strategic des tenebres. P.: Guy Tredaniel, 2003.
Parvulesco J. Le Retour des Grands Temps. P.: Guy Tredaniel, 1997.
Parvulesco J. Le soleil rouge de Raymond Abellio. P.: ed. Gyu Tredaniel, 1987.
Parvulesco J. Le Visage des abimes. P.: L'Age d'Homme, 2001.
Parvulesco J. Les Fondements g6opolitiques du grand gaullisme. P.: Guy Tredaniel, 1995.
Parvulesco J. Les Mysteres de la Villa Atlantis. P.: L'Age d'Homme, 1990.
Parvulesco J. Rapport secret A la nonciature. P.: Guy Tredaniel, 1995.
Parvulesco J. Rendez-vous au Manoir du Lac. P.: Alexipharmaque, 2011.
Parvulesco J. Un bal masque a Geneve. P.: Guy Tredaniel, 1998.
Parvulesco J. Une strategie transcendantale pour la «Grande Europe». P.: Arma Artis, 2004.
Parvulesco J. Vladimir Routine et 1'Eurasie. P.: Amis de la Culture Еигорёеппе, 2005.
Parvulesco J. La Servante Portugaise. P.: L'Age d'Homme, 1987.
Parvulesco J. Un retour en Colchide P.: Guy Tredaniel, 2010.
Pietro Bono da Ferrara. Chiara Crisciani Preziosa Margarita Novella. Florence: La Nuova Italia Editrice, 1976.
Poisson Albert. Nicolas Flamel — sa vie, ses fondations, ses oeuvres. P.: Chacomac, 1893.
RadiguetR. CEuvres completes de Raymond. P.: Editions Grasset & Fasquelle, 1952.
Rougemont Denis de. L'Amour et 1'Occident. P.: Pion, 1939.
SaffreyH.-D. Recherches sur la tradition platonicienne au Moyen Age et A la Renaissance. P.: Vrin, 1987.
Saint-Martin L. C. Oeuvres majeures. P.: Editions du Rocher, 1994.
Sartre L.-P. Mallarme, or the Poet of Nothingness. Pennsylvania: Penn State University Press, 1991.
Sedgwick M. Against the Modem World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. Oxford; New York: Oxford University Press, 2004.
SoralA. Comprendre Empire. P.: Blanche, 2010.
Библиография
433
The Fourth Book of the Cronicle of Fredegar with its continuations. London: Thomas Nelson and Sons Ltd, 1960.
Trouillard J. L'Un et 1'Ame selon Proclos. P.: les Belles lettres, 1972.
Trousson Raymond. Quelques aspects du mythe de Promethee dans Г oeuvre poetique de Victor Hugo// Bulletin de Г Association Guillaume Budd, n°l, mars 1963.
Verlain P. Les poetes maudits. P.: Ldon Vannier, 1888.
Summary
The book is a description of the French identity. It explores different aspects of French and, more broadly, Celtic Dasein'a, manifested in mythology, history, philosophy, culture and mysticism.
France and Germany from the Middle Ages appeared to be two main poles of the dialectical becoming of European civilization, predetermining historical, political and cultural semantics of the most important processes in the history of Western Europe over the past one and a half thousand years. Studing the structure of French logos the author concludes that its main components are two basic figures (gestalt) — Singer-initiate Orpheus and semi-women semi-dragon fairy Melusine.
By gestalt of Melusine, according to the author, a paradigm of Modernity is totally described in its mythological and cultural roots. The book continues the series of works of the project «Noomahiya», studing the three Logoi (Apollo, Dionysus, Cybele) and their manifestations in the history of civilizations. This book developes themes of «Logos of Europe».
Содержание
Предисловие. Французская пара гештальтов......................3
Кельтский Логос в Древнем мире................................6
Кельтские судьбы.................................................6
Великая Кельтида.................................................8
Галльские боги и режимы воображения.............................15
Кельты и германцы: два фокуса Европы............................19
Диодор Сицилийский о древних кельтах............................21
Мабиногион: покорение женского..................................24
Цивилизация Орфея............................................31
Барды: институциализация Орфея..................................31
Орфей как гештальт европейской инициации........................32
Биография бога мистерий: фракийская родина......................33
Орфей аполлонический............................................35
Орфей дионисийский..............................................36
Орфей и Кибела..................................................38
Орфей в христианстве............................................39
Орфей и его двойник.............................................41
Государство Франция. Средние века............................43
Франция при Меровингах..........................................43
Rix и ambactus..................................................45
Франция при Каролингах..........................................46
От Капетингов к Валуа...........................................50
Столетняя война, весталка из Орлеана............................52
Французское Средневековье как структура.........................54
Французское рыцарство.....................;.....................55
Король Артур: кельтские феи и сакральная монархия...............59
Французский Логос в Средневековье: схоластика, секты, герметизм.65
Схоластика и «крик Мелюзины»....................................65
Истоки западной схоластики: закрытый платонизм бл. Августина....68
Боэций: Квадривиум, свобода и проблематизация универсалий.......70
436
Содержание
Иоганн Скот Эриугена: апофатическая эсхатология..................74
Шартрская школа: самобытность идеального.........................86
Иоганн Росцелин: тень титана.....................................88
Пьер Абеляр: введение концептов..................................91
Бернард Клервоский: совершенный человек Средневековья............95
Катары: метафизика Утешительницы.................................96
Дени де Ружмон: Любовь как объяснение Запада....................104
Герметическая Франция: утонченность сакральной двусмысленности..106
Франция: к Новому времени...................................115
Гугеноты: пролегомены к Модерну.................................115
Жан Боден: государство без смысла...............................119
Рене Декарт: «здравый рассудок» простого торговца...............121
Пьер Гассенди: возвращение атомов...............................124
Блез Паскаль: ужас Модерна......................................127
Монархизм как модернизация: Бурбоны.............................129
Победивший Модерн...........................................133
Материализм по-французски: Ж. Ламетри и человек-машина..........133
Дени Дидро: движение частиц в природе и обществе................134
Клод Гельвеций: естественность эгоизма..........................135
Поль Гольбах: «разоблачение христианства» на основе «здравого рассудка»...................................135
Французский материализм и час титанов...........................136
Вольтер: «раздавить гадину» и «запретить народу думать».........137
Жан-Жак Руссо: восстание «добрых дикарей».......................139
Мать Революция..................................................141
Мари Жан Кондорсе: прогресс по-французски.......................144
Огюст Конт: к позитивной фазе...................................147
Наполеон Бонапарт: первая буржуазная империя....................148
Французский триумф буржуазии....................................149
Монархия и ее симулякры.........................................151
Вандея: мученичество за «сердце Господне».......................154
Жозеф де Местр: консервативный ответ............................156
Литература социального материализма.........................161
Французское письмо..............................................161
Стендаль: роман карьеры.........................................162
Оноре де Бальзак: титанический реализм..........................163
Содержание
437
Гюстав Флобер: натурализация женского Логоса....................167
Эмиль Золя: конец мещанского света.............................169
Марсель Пруст: в поисках исчезающего эго........................171
Сезоны в аду................................................174
«Проклятые поэты»: в болотах Запада............................174
Мифоанализ Ж. Дюрана: гештальт Прометея и его изношенность.....176
От Прометея к тени Диониса......................................179
Шарль Бодлер: гностический миф.................................182
Артюр Рембо: будущее могущество вечности........................185
Стефан Малларме: небо мертво....................................194
Жерар де Нерваль: метафизика скорби.............................198
Франция XX века: в направлении тьмы........................208
Третья республика: к Народному фронту..........................208
Феномен де Голля: против течения в бездну......................212
Май 1968 года и Пятая республика...............................215
Французская философия XX века: порыв и одиночество.........218
Анри Бергсон: мистика «открытого общества» и критика буржуазной материальности.................................................218
Гастон Башляр: новая рациональность грезы......................222
Пьер Тейяр де Шарден: эволюция и псевдохристианство............225
Жан-Поль Сартр: негативный субъект.............................226
Социология как революция...................................231
Эмиль Дюркгейм: тотальность общества...........................231
Марсель Мосс: равновесие и его нарушение.......................234
Луи Дюмон: индивидуализм и иерархия............................237
Жорж Батай: проклятая часть и опыт трансгрессии................243
Фернан Бродель: мыслить цивилизациями..........................246
Пьер Бурдье: habitus — новый «субъект».........................249
Ален Сораль: «ангажированная социология» во имя Четвертой республики....................................254
Культура ночи..............................................259
Луи-Фердинанд Селин: люди ночи.................................259
438
Содержание
Альбер Камю: героика абсурда....................................261
Андре Бретон: мумия ибиса.......................................263
Морис Бланшо: эссенциальная ночь Орфея...........................272
Жан Кокто: ангел Эртебиз........................................281
Антонен Арто: к человеку нетварному.............................288
Традиционализм: французская альтернатива Модерну.............299
Рене Генон: принципиальная критика..............................299
Анри Корбен: парадокс монотеизма и гештальт Ангела...............305
Жильбер Дюран: к герметической революции........................315
Жак Маритен: неотомизм и его границы............................319
Андре-Жан Фестюжьер: реставрация неоплатонизма..................321
Фулканелли: алхимическая публикация, отложенная до «конца света»................................................324
Структурализм: автономия знака..............................328
Фердинанд де Соссюр: онтология знака............................328
Клод Леви-Стросс: общество как структура родства.................331
Структурализм и ноология: параллели.............................336
Жак Лакан: ужас реального.......................................337
Поль Рикёр: сводная топика структуры............................349
Жорж Дюмезиль: индоевропейская социализация.....................353
Трехфункциональность, ноологии и режимы имажинэра...............357
Альгирдас Греймас: семантический квадрат........................360
Ролан Барт: структурализм и революция...........................364
Мишель Фуко: критика нормативных эпистем........................366
Логос Орфея и Логос Мелюзины....................................369
Постмодерн..................................................376
Постмодерн: «венец прогресса» или «великая пародия»?............376
Жан Бодрийяр: Постмодерн как гиперреальность....................380
Жак Деррида: грамматология как философия хоры...................387
Жиль Делёз: воля к ничто........................................394
Новые правые................................................408
GRECE: Европа, взгляд справа....................................408
Раймон Абеллио: абсолютная структура и гештальт Люцифера........409
Ален де Бенуа: грамшизм справа и метаполитика...................412
Содержание 439
Жан Парвулеско: Постмодерн, взгляд справа......................417
французский Dasein.............................................421
Библиография...............................................424
Summary....................................................434
Научное издание
Дугин Александр Гельевич
НООМАХИЯ: войны ума. Французский Логос.
Орфей и Мелюзина
Корректор: Башлай И.М., группа допечатной подготовки изданий: Амитон Е.Л., Исакова Т.В., Коновалова Т.Ю., Крылов К.А.
Подписано в печать 17.06.2015. Формат 60 X 90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 519.
Издательство «Академический проект» (общество с ограниченной ответственностью), адрес: 111399, г. Москва, ул. Мартеновская, 3;
сертификат соответствия
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012;
орган по сертификации РОСС RU.0001.11АЕ51
ООО «Профи-сертификат».
Отпечатано в ОАО «Областная типография «Печатный двор» адрес: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27.
По вопросам приобретения книги просим обращаться в издательство:
телефоны: 4- 7 495 305 3702, 4- 7 495 305 6092, факс: +7 495 305 6088, e-mail: info@aprogect.ru, zakaz@aprogect.ru, интернет-магазин: www.academ-pro.ru.
ISBN 978-5-8291-1796-2
Александр Дугин. Ноомахия: войны ума
Три Логоса: Аполлон, Дионис, Кибела
Логос Европы: средиземноморская цивилизация во времени и пространстве
• Германский Логос: Человек апофатический
• Французский Логос: Орфей и Мелюзина
• Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект
• Латинский Логос: Солнце Империи
Цивилизации границ: Россия, американская цивилизация, семиты и их цивилизация, арабский Логос, туранский Логос. По ту сторону Запада. Индоевропейские цивилизации: Иран, Индия. По ту сторону Запада. Китай, Япония, Африка, Океания
НООМаХИЯ — сражение в сфере идеального. Автор представляет человечество как ансамбль цивилизационных парадигм, ведущих между собой непрерывный диалог (борьба, понимание, солидарность, оппозиционность, война) на протяжении всей мировой истории. Панорама современного человечества предстает во всем многообразии философских Логосов, типов рациональностей и мифологических матриц.
Книга представляет собой описание французской идентичности, исследует различные стороны французского и, шире, кельтского Dasein’a, проявляющихся в мифологии, истории, философии, культуре и мистике. Франция и Германия с эпохи Средневековья выступают как два главных полюса диалектического становления европейской цивилизации, предопределяя историческую, политическую и культурную семантику наиболее важных процессов в истории Западной Европы в течение последних полутора тысяч лет. В исследовании структуры французского Логоса автор приходит к выводу, что его главными составляющими являются две фундаментальные фигуры (гештальта) — Певца-посвященного Орфея и полуженщины-полудракона феи Мелюзины. К гештальту Мелюзины сводится, согласно автору, парадигма Нового времени в ее мифологических и культурных корнях. Книга продолжает серию работ проекта «Ноомахия» по изучению трех Логосов (Аполлона, Диониса, Кибелы) и их проявлений в истории цивилизаций, развивая тематику «Логоса Европы».