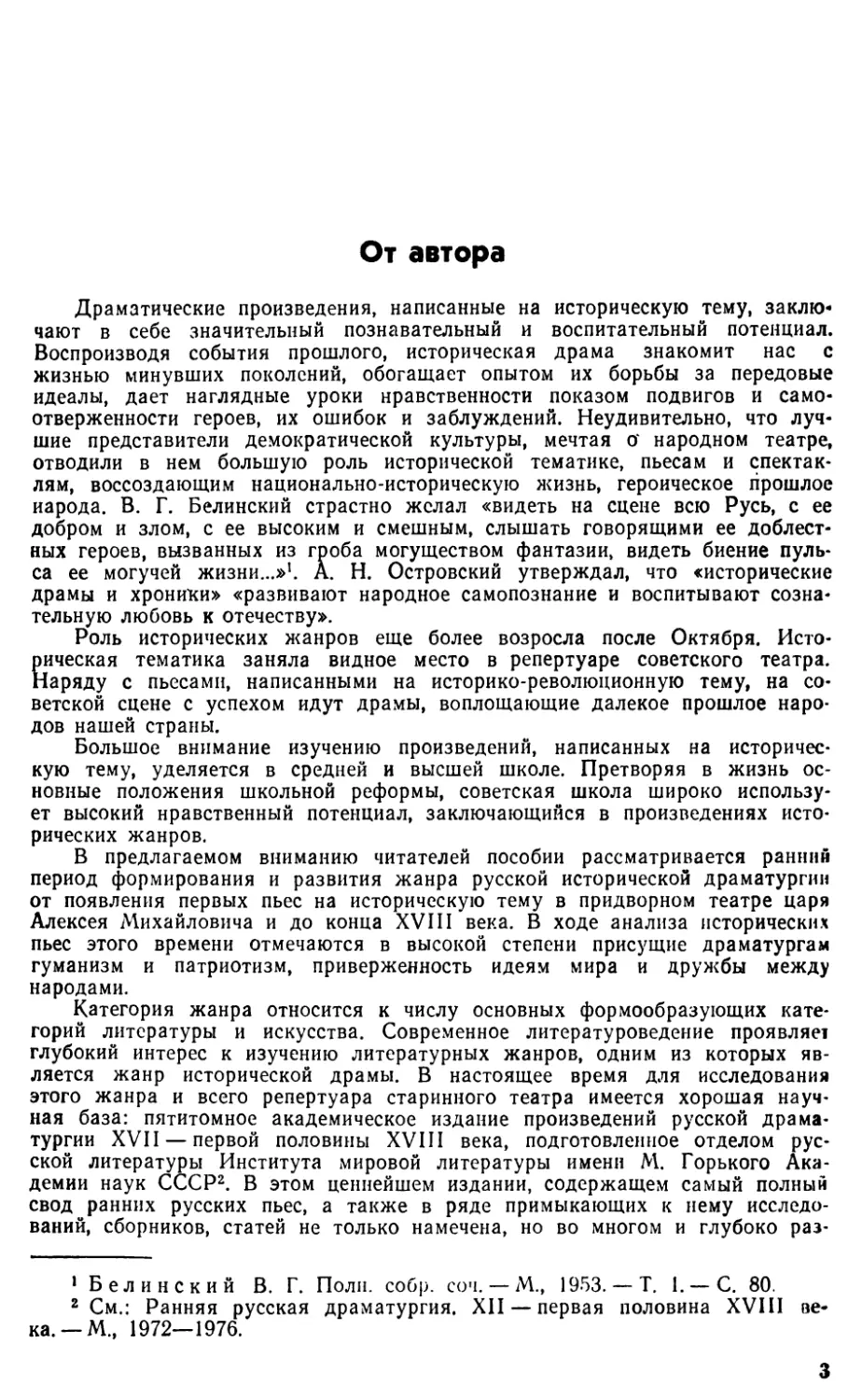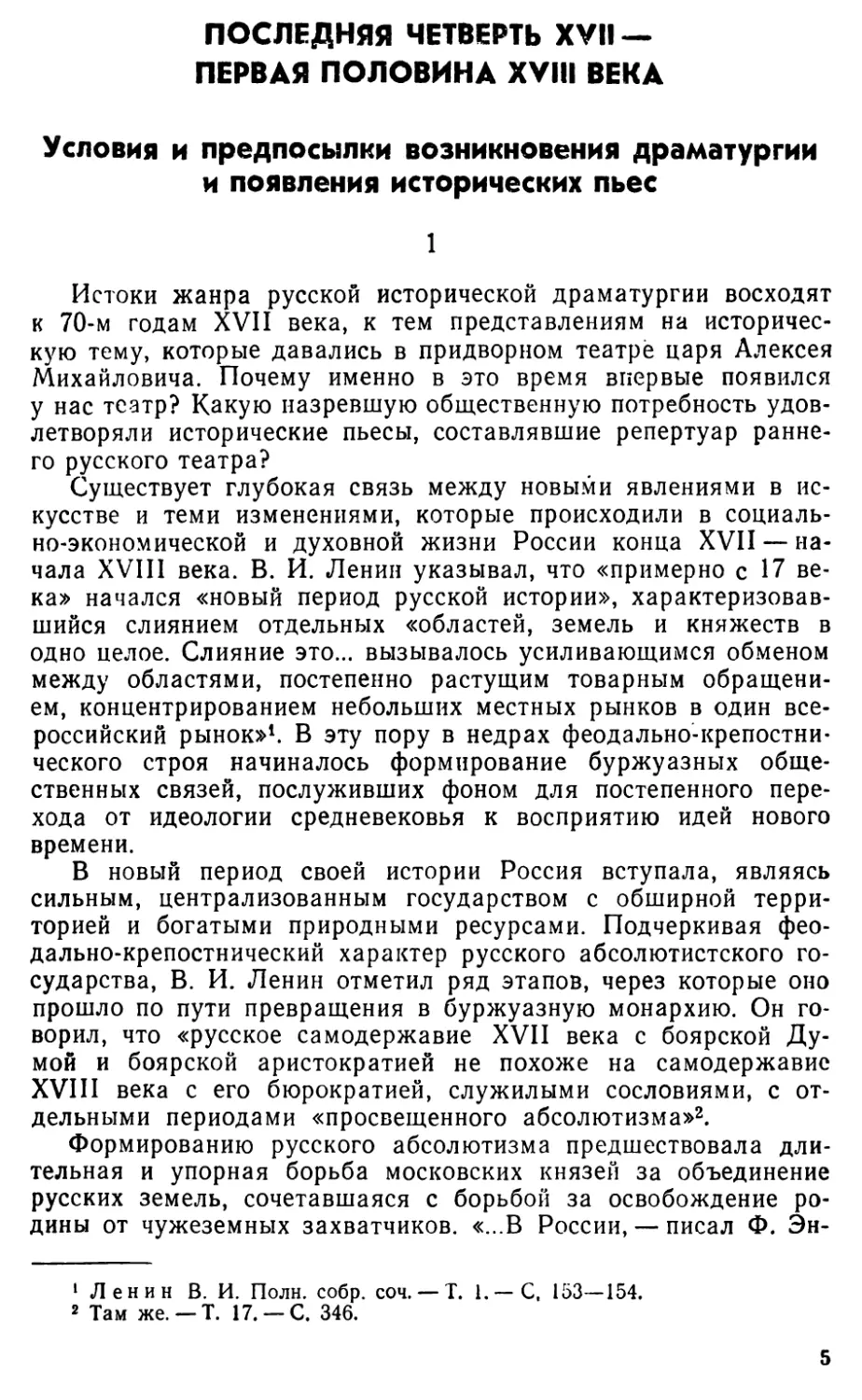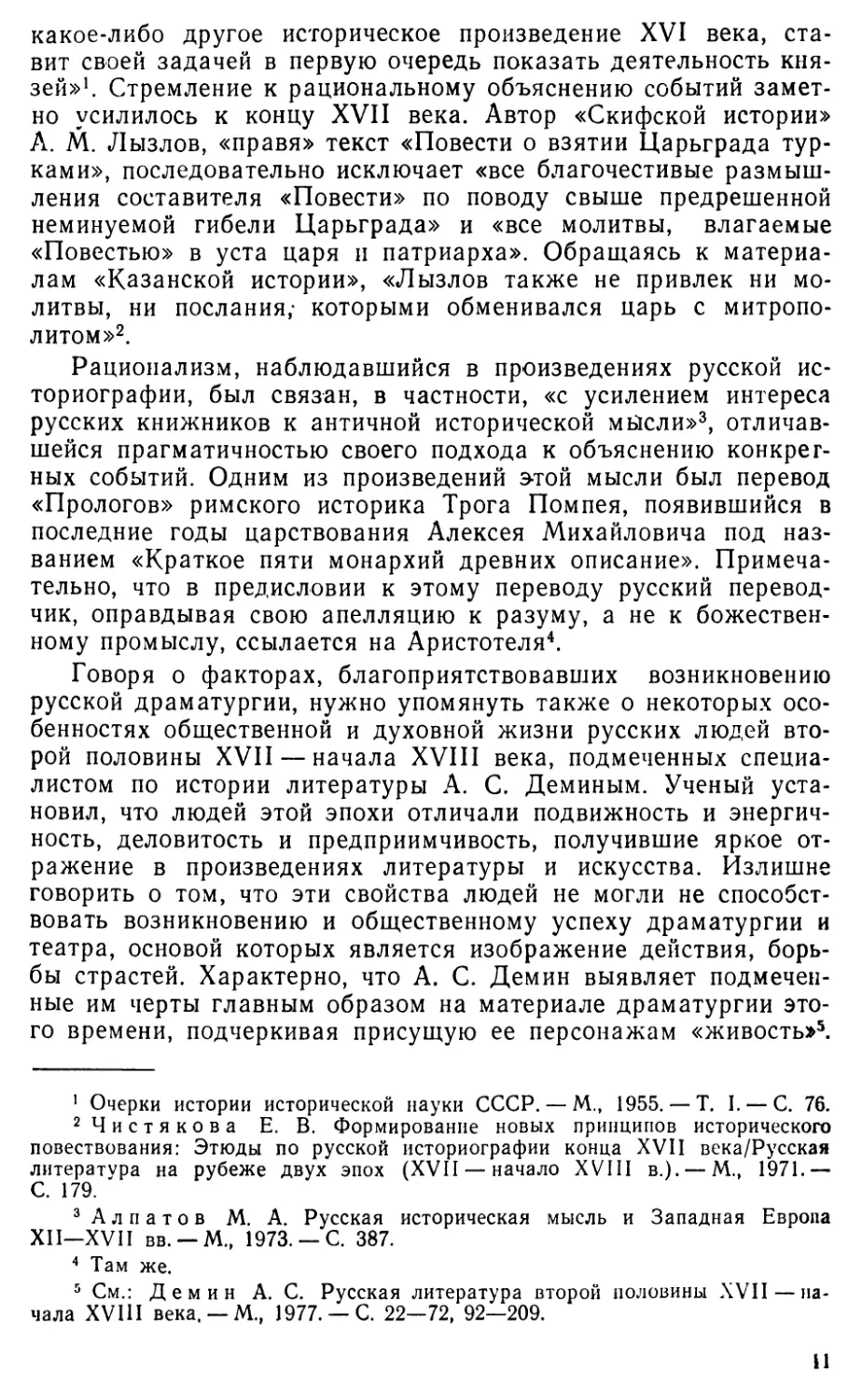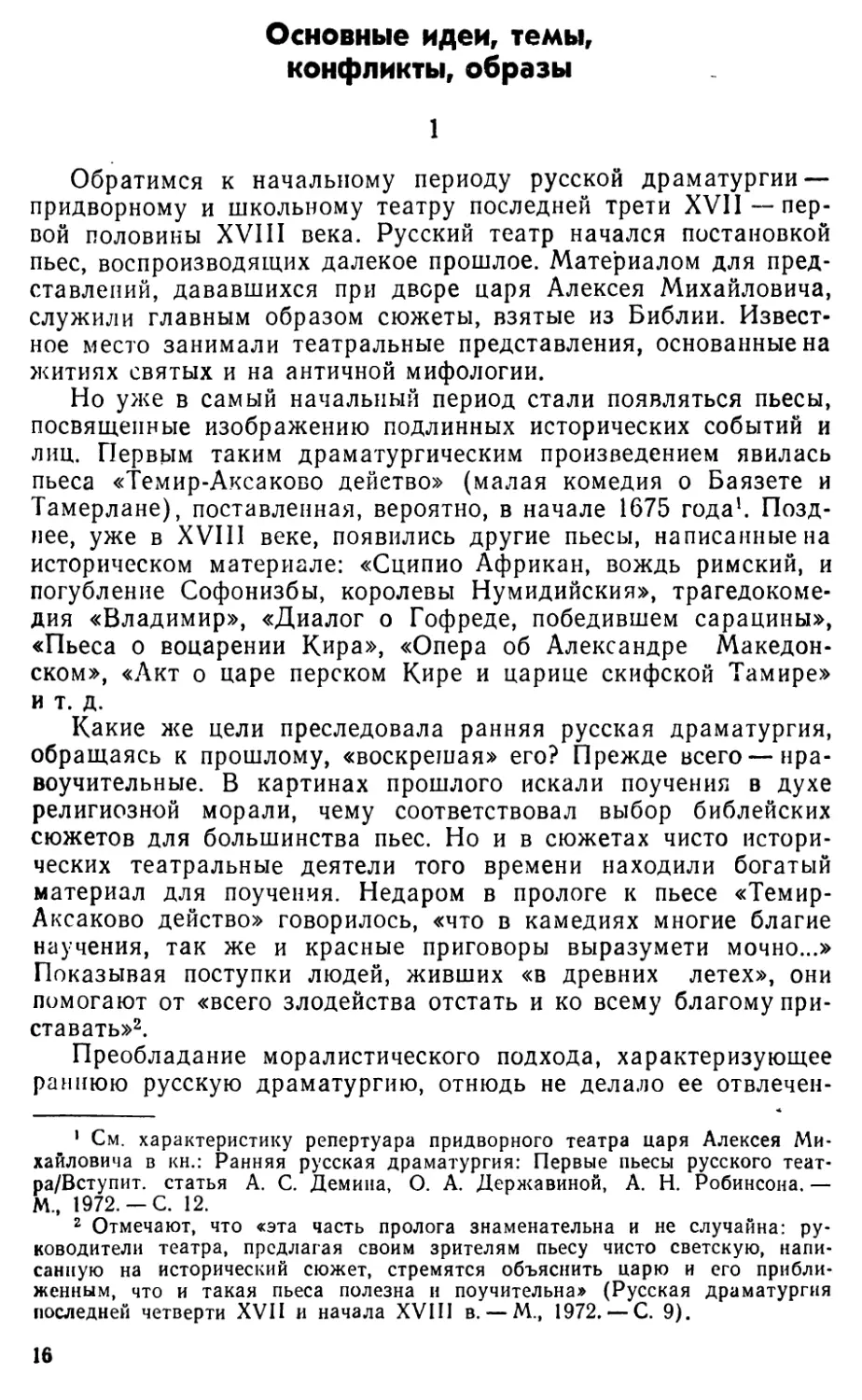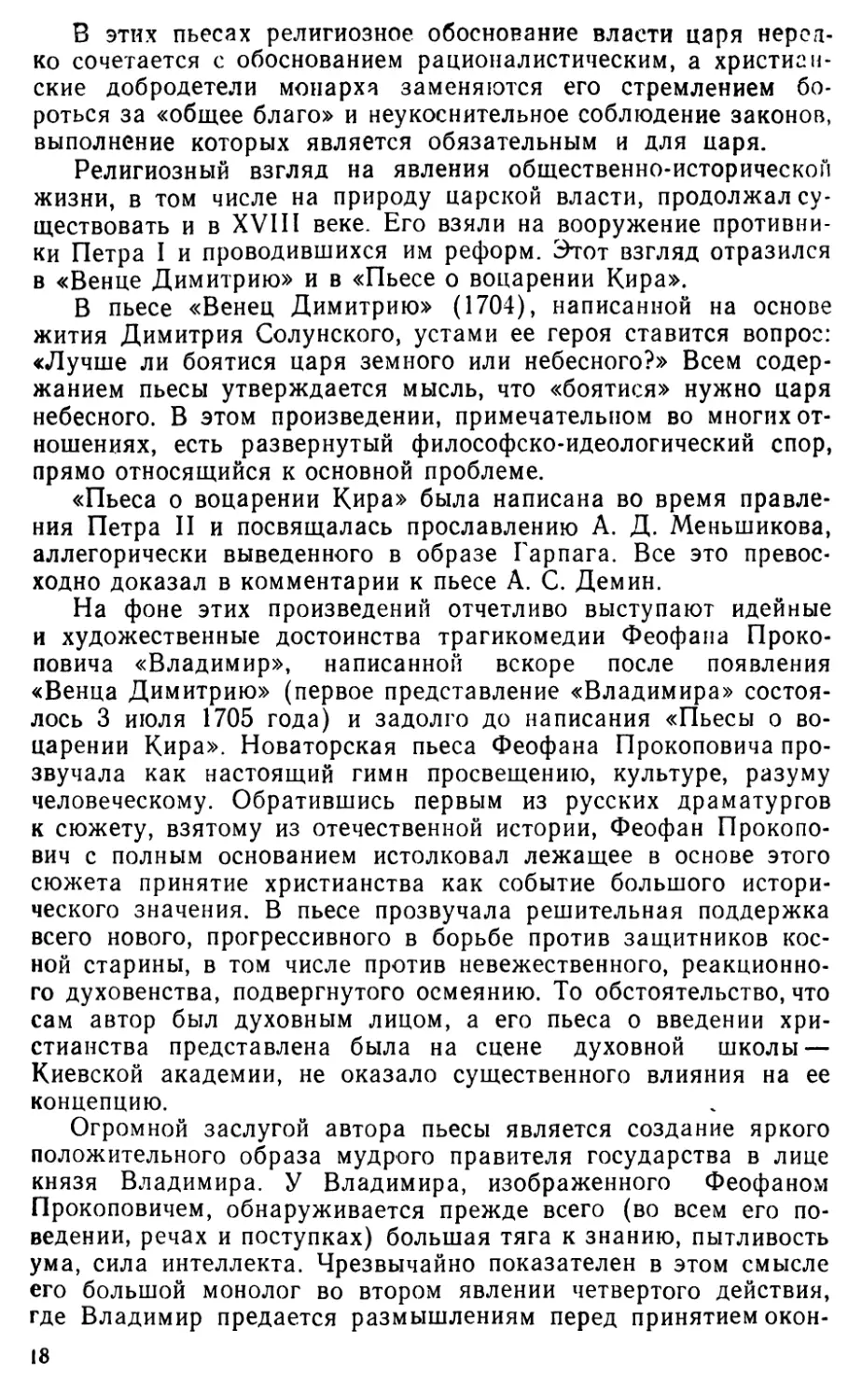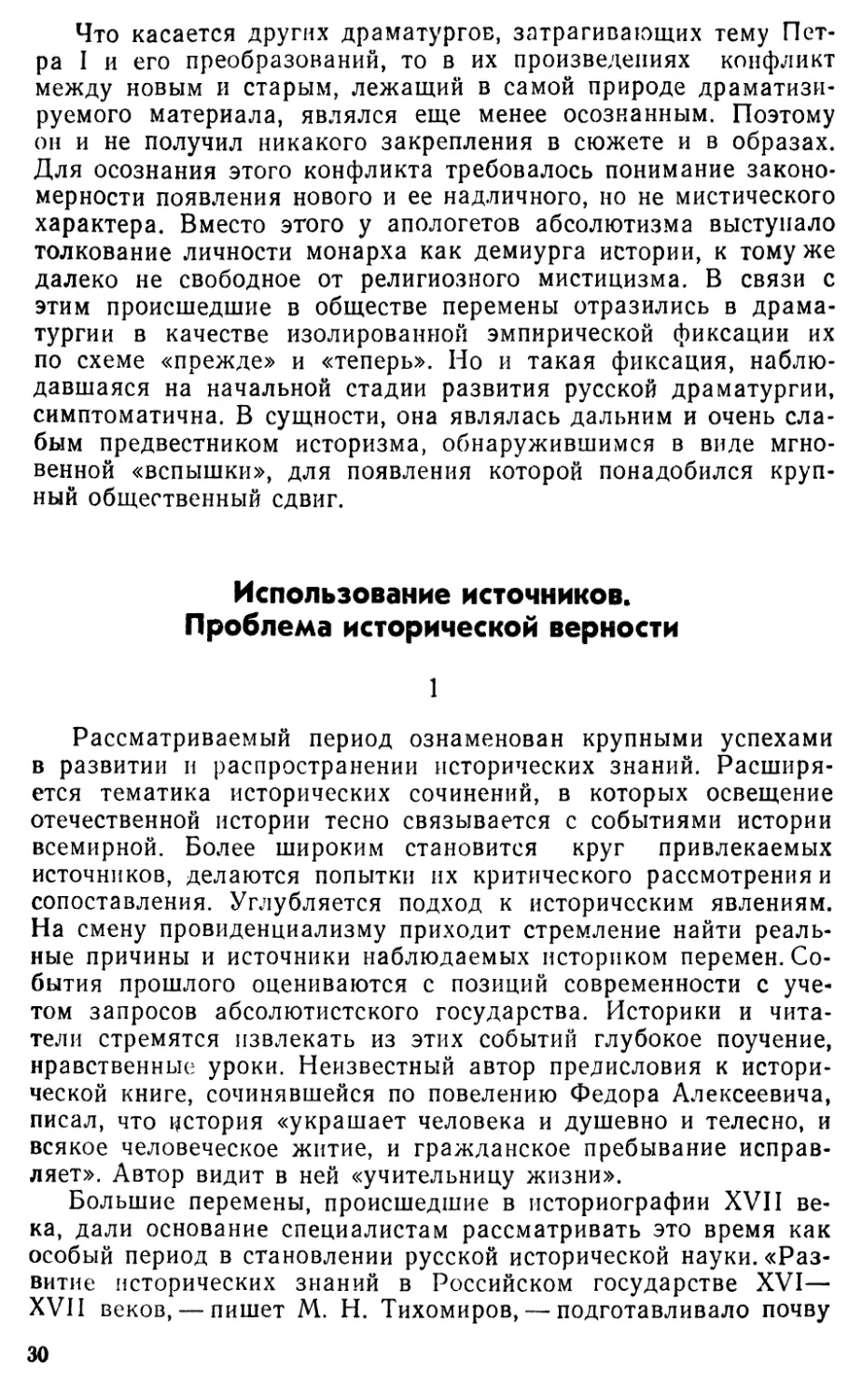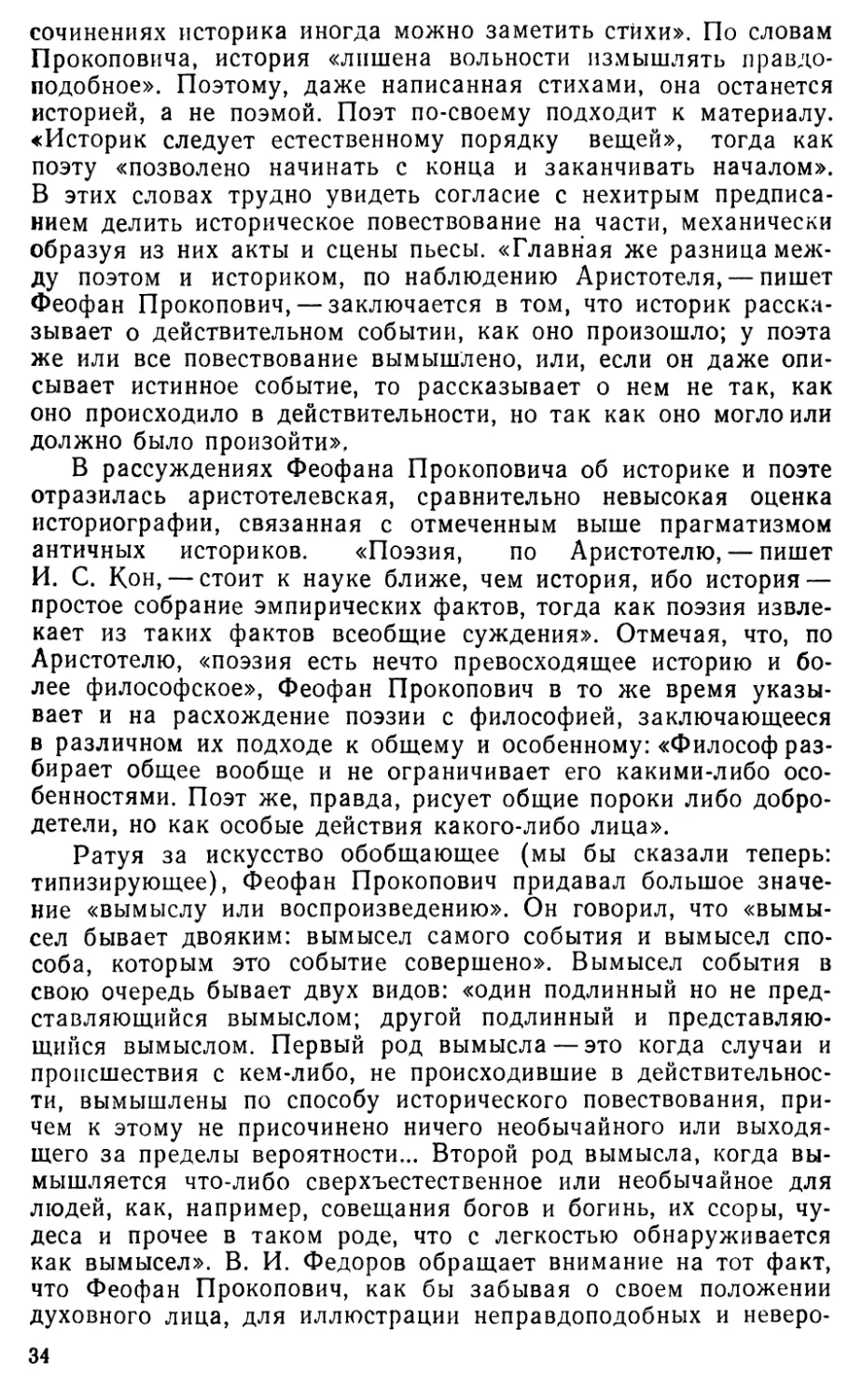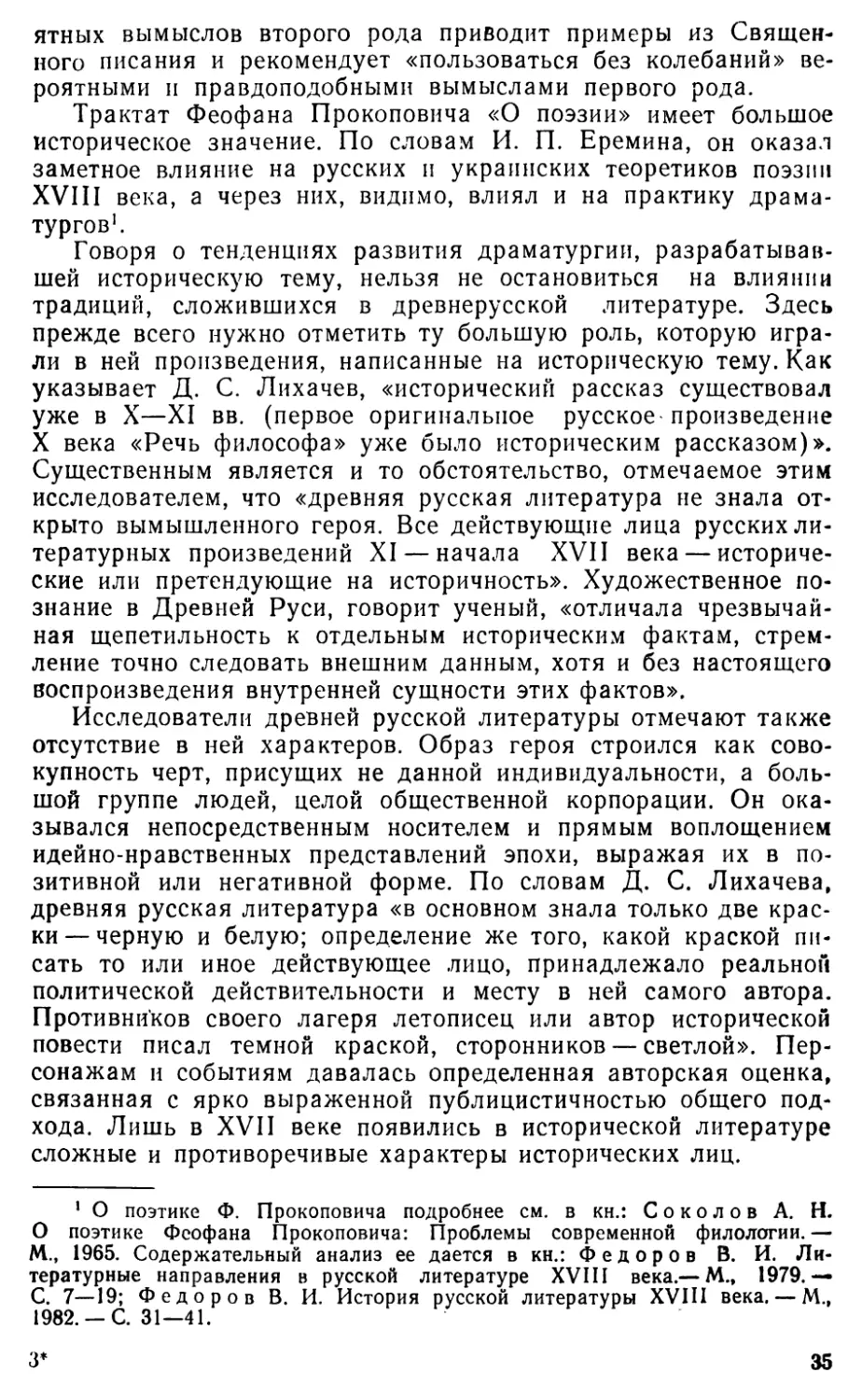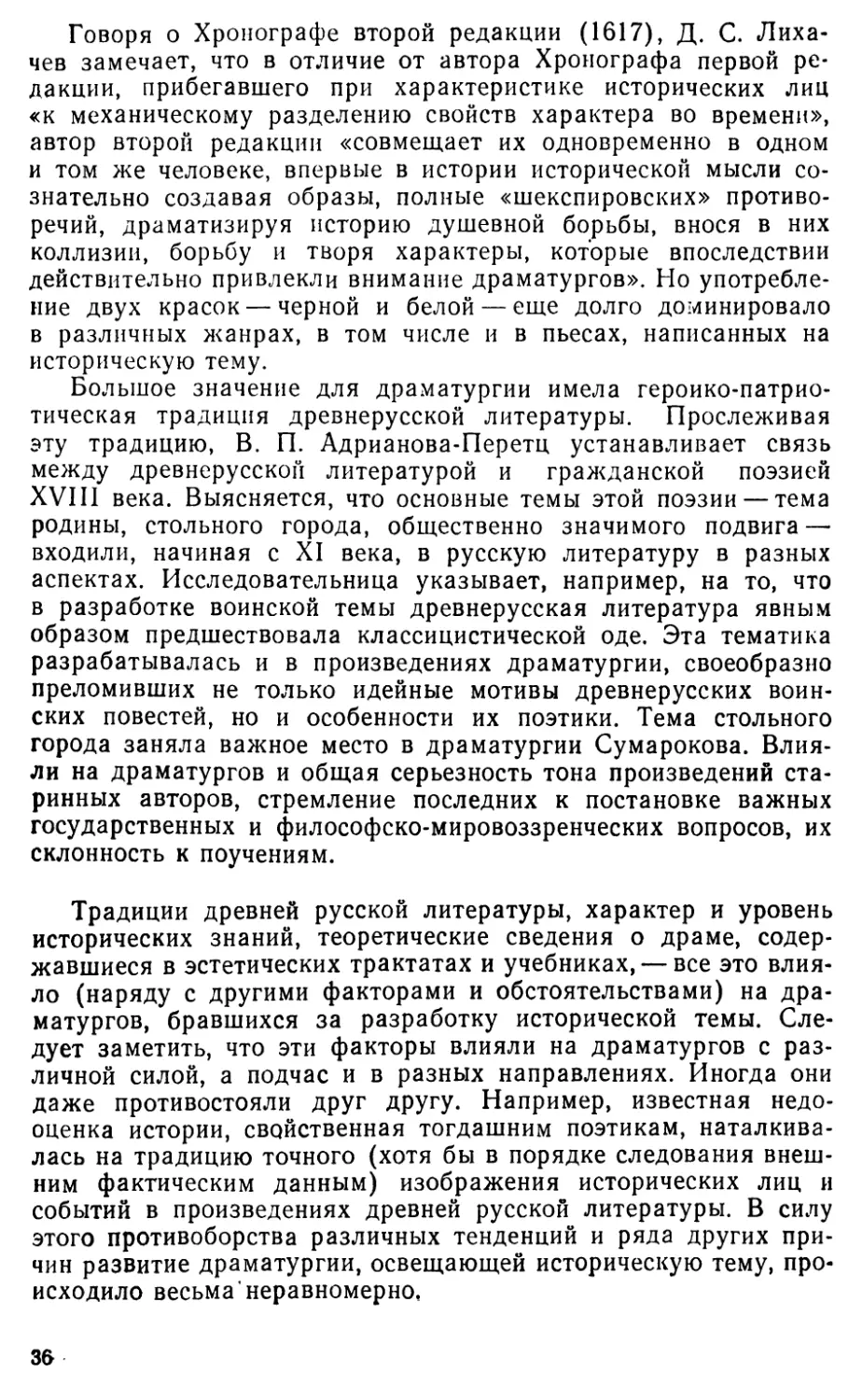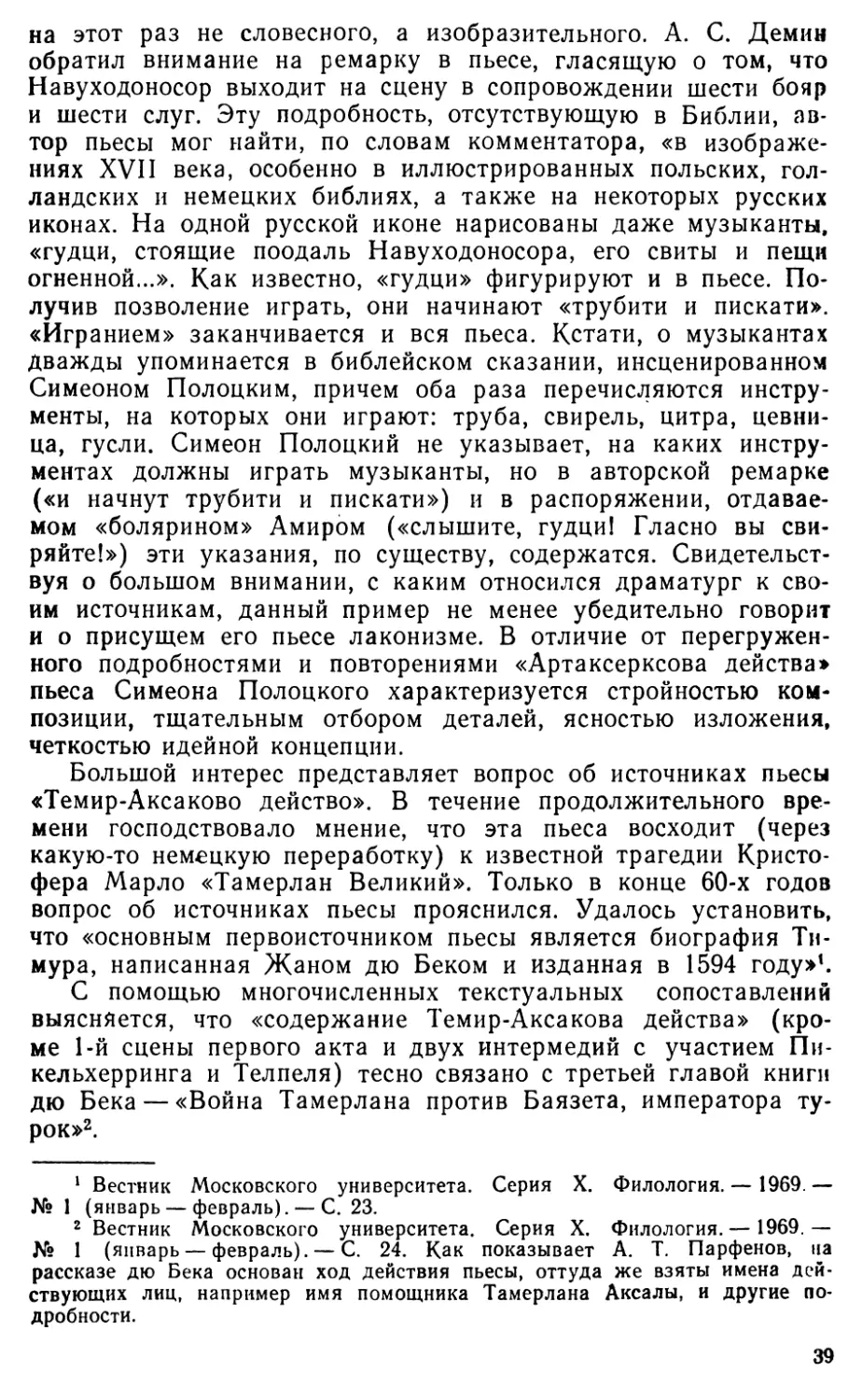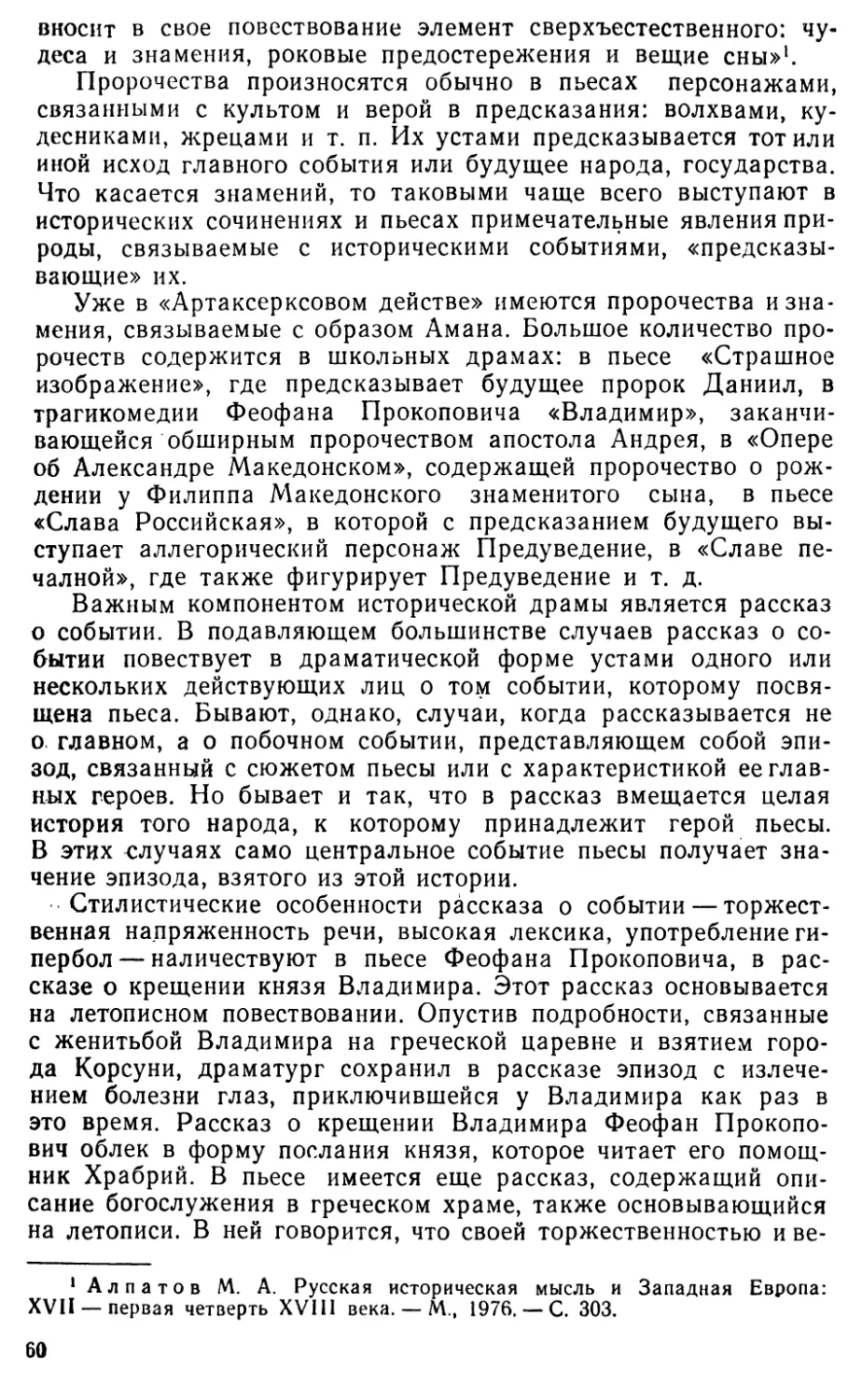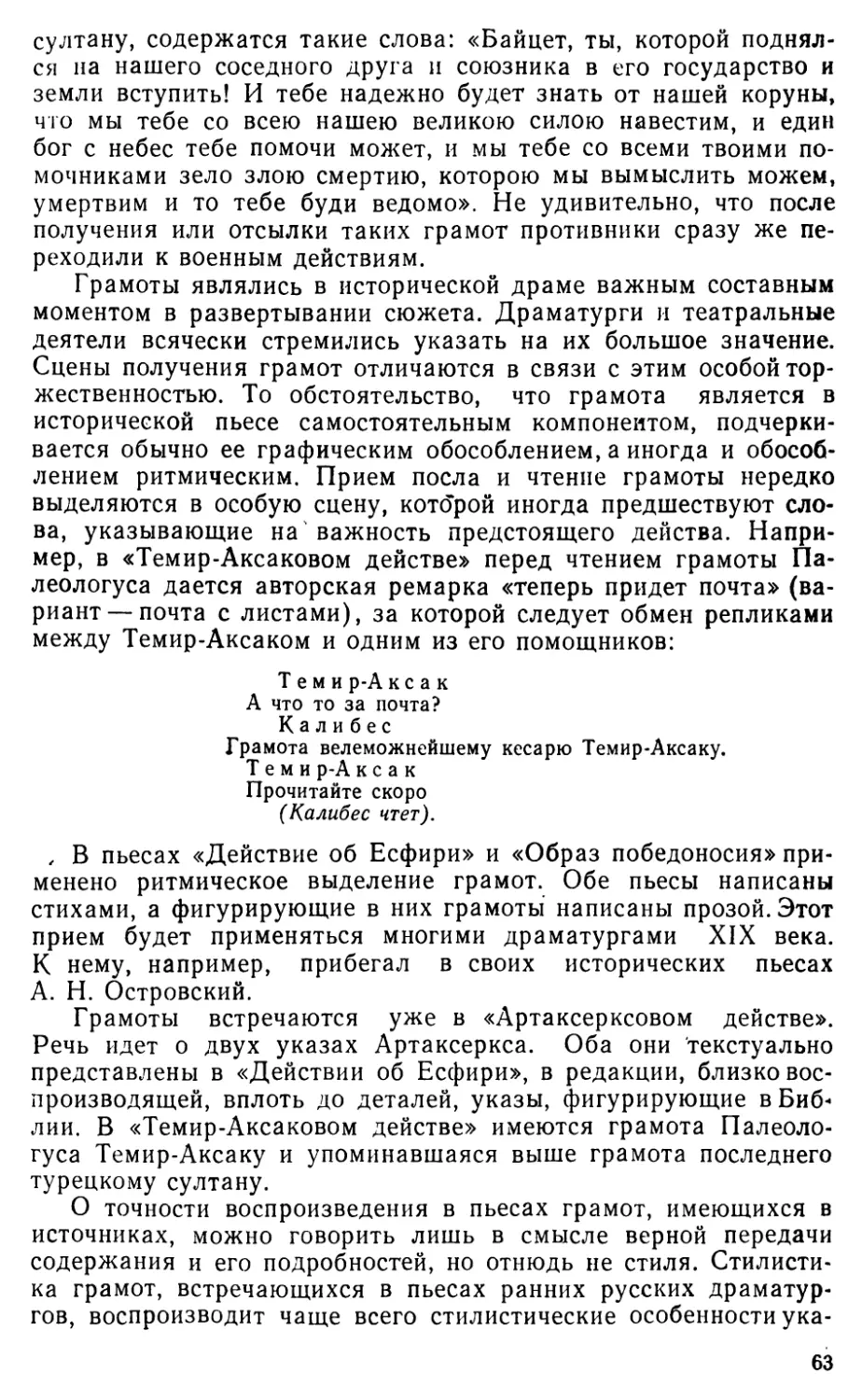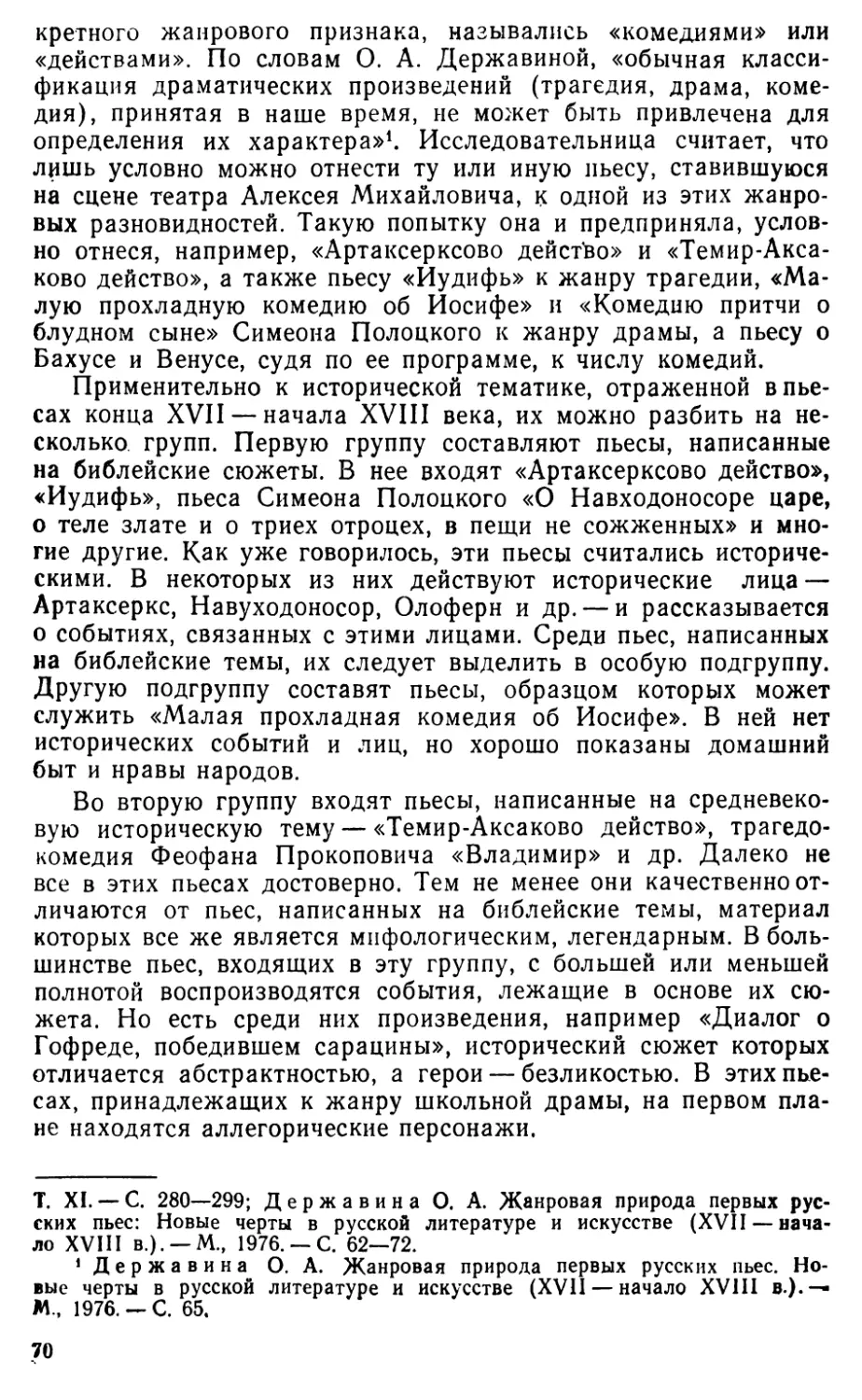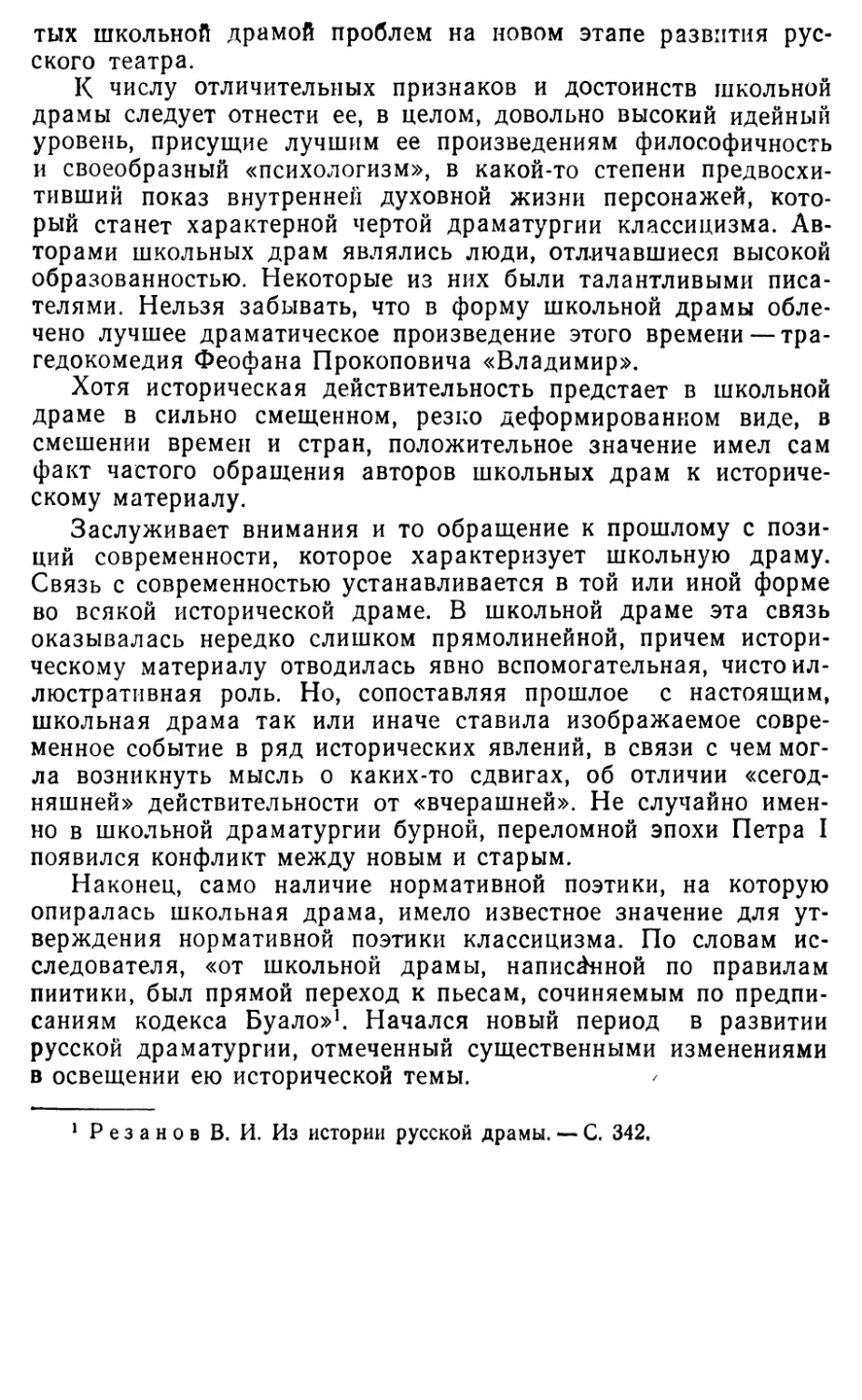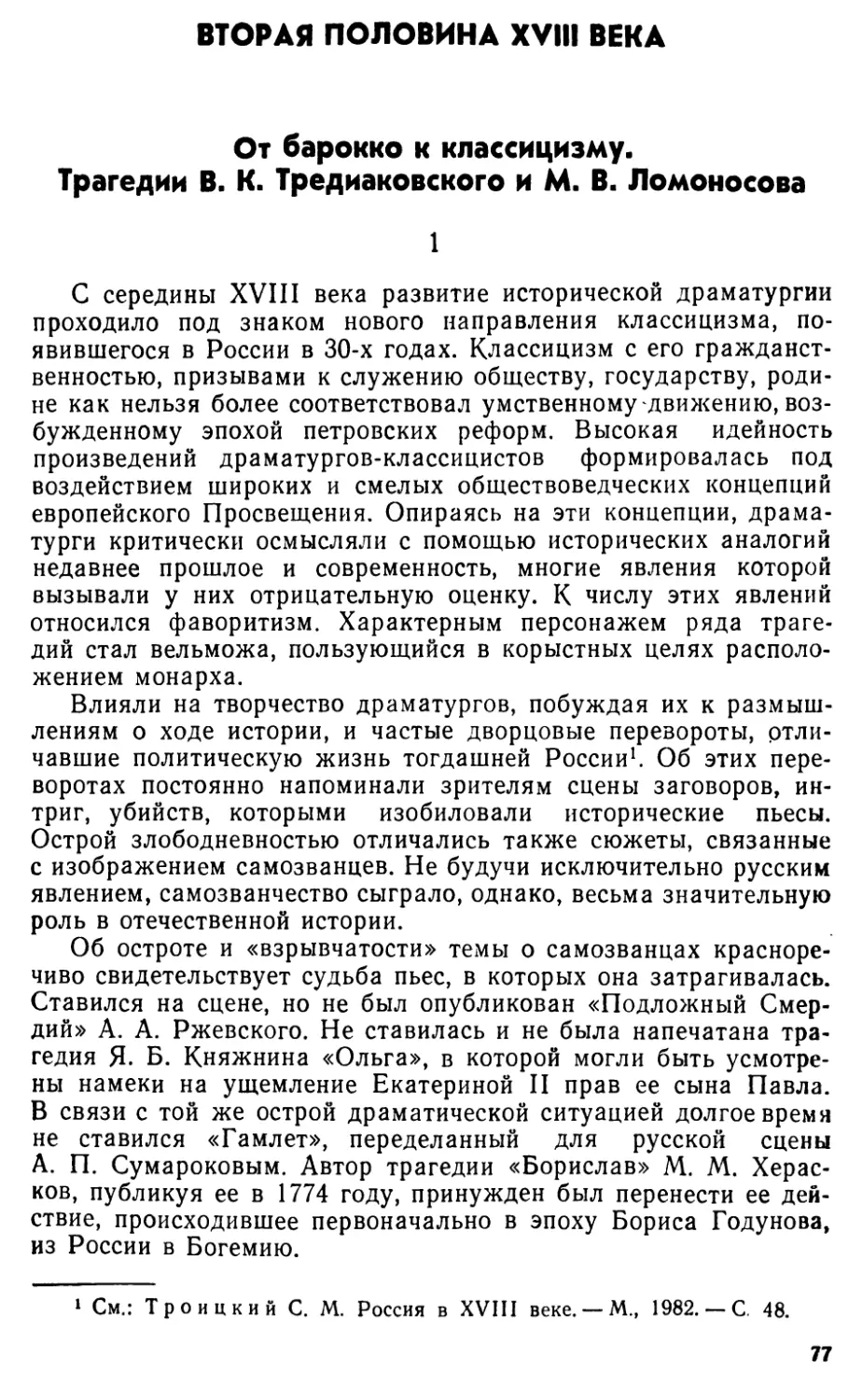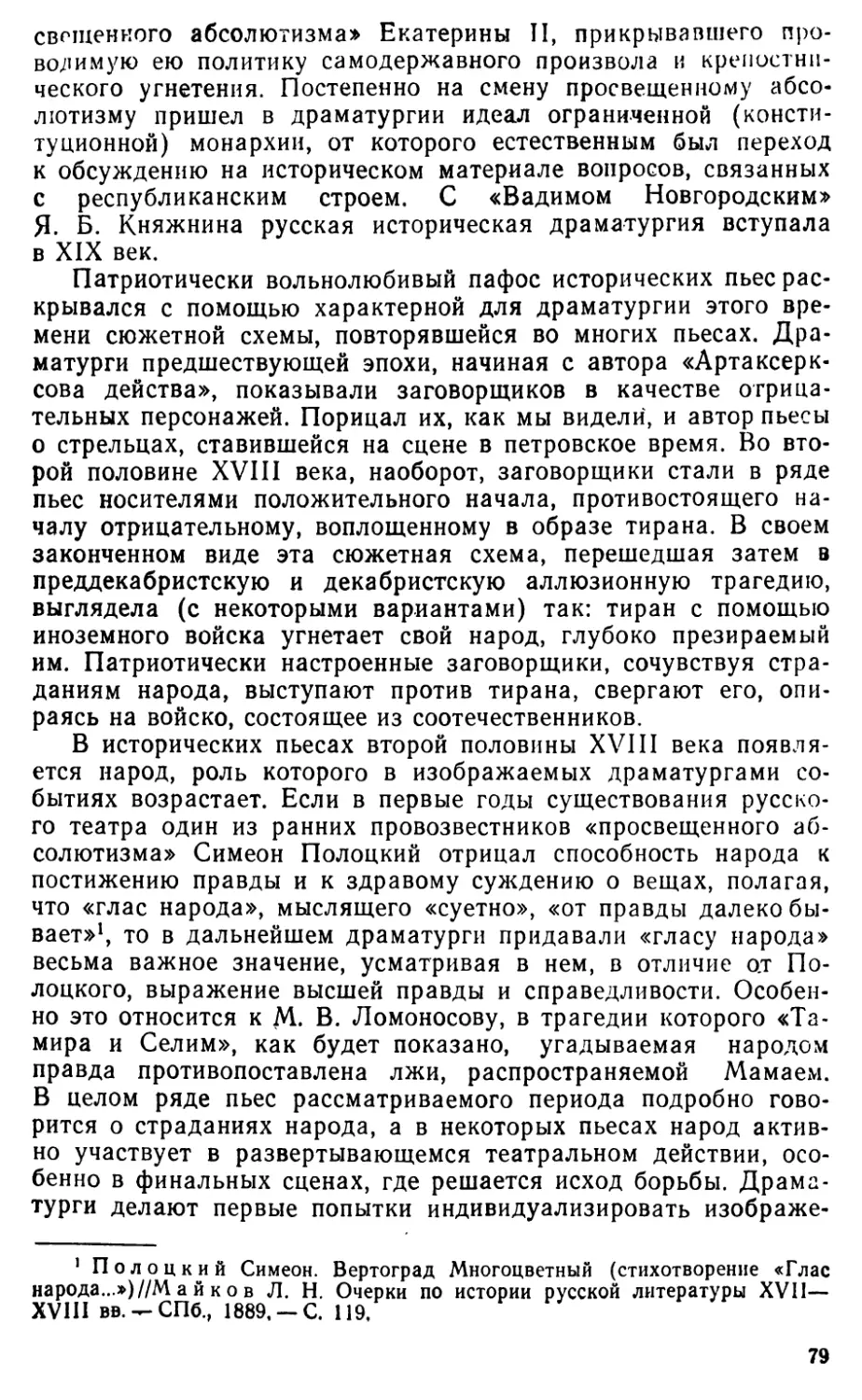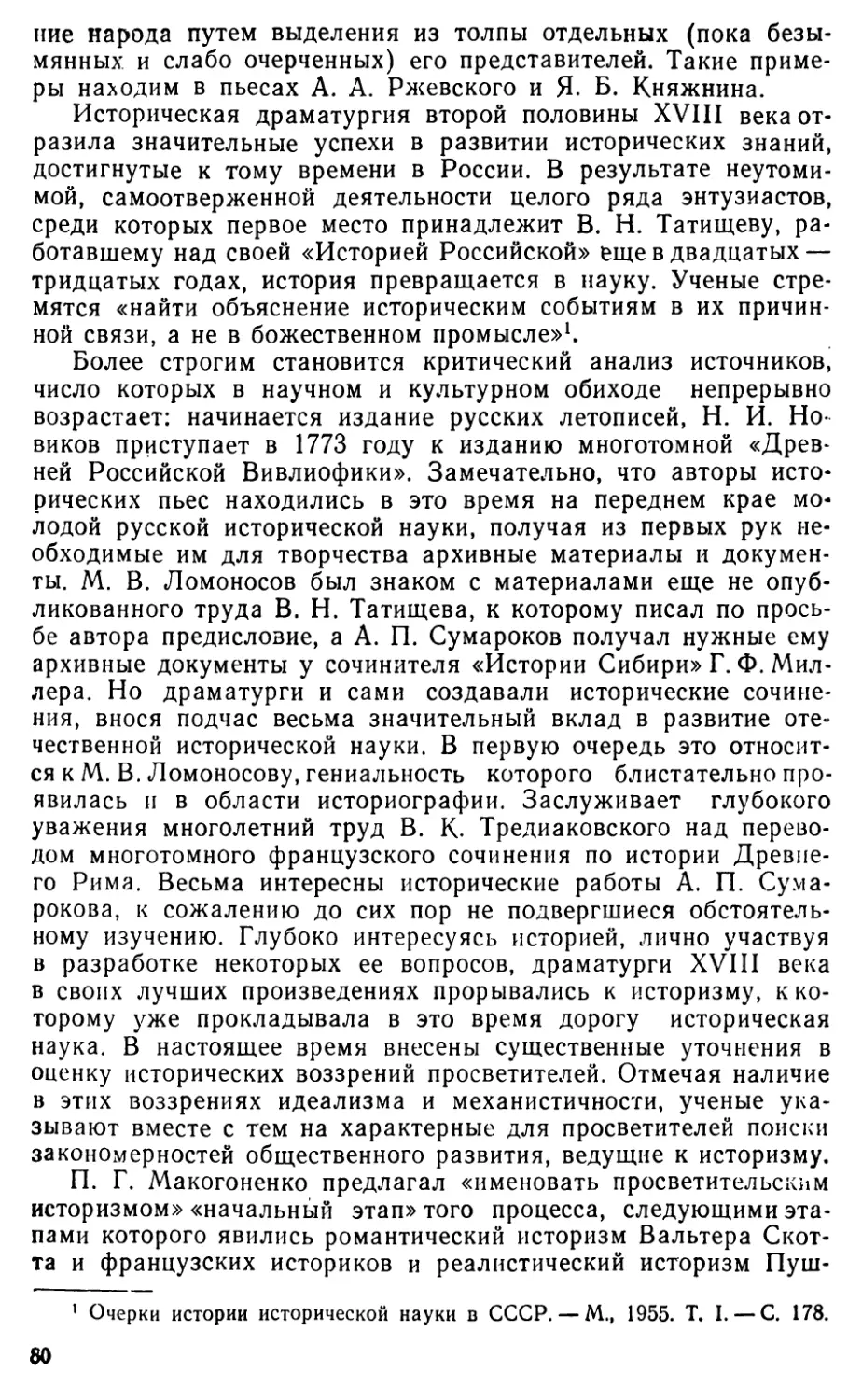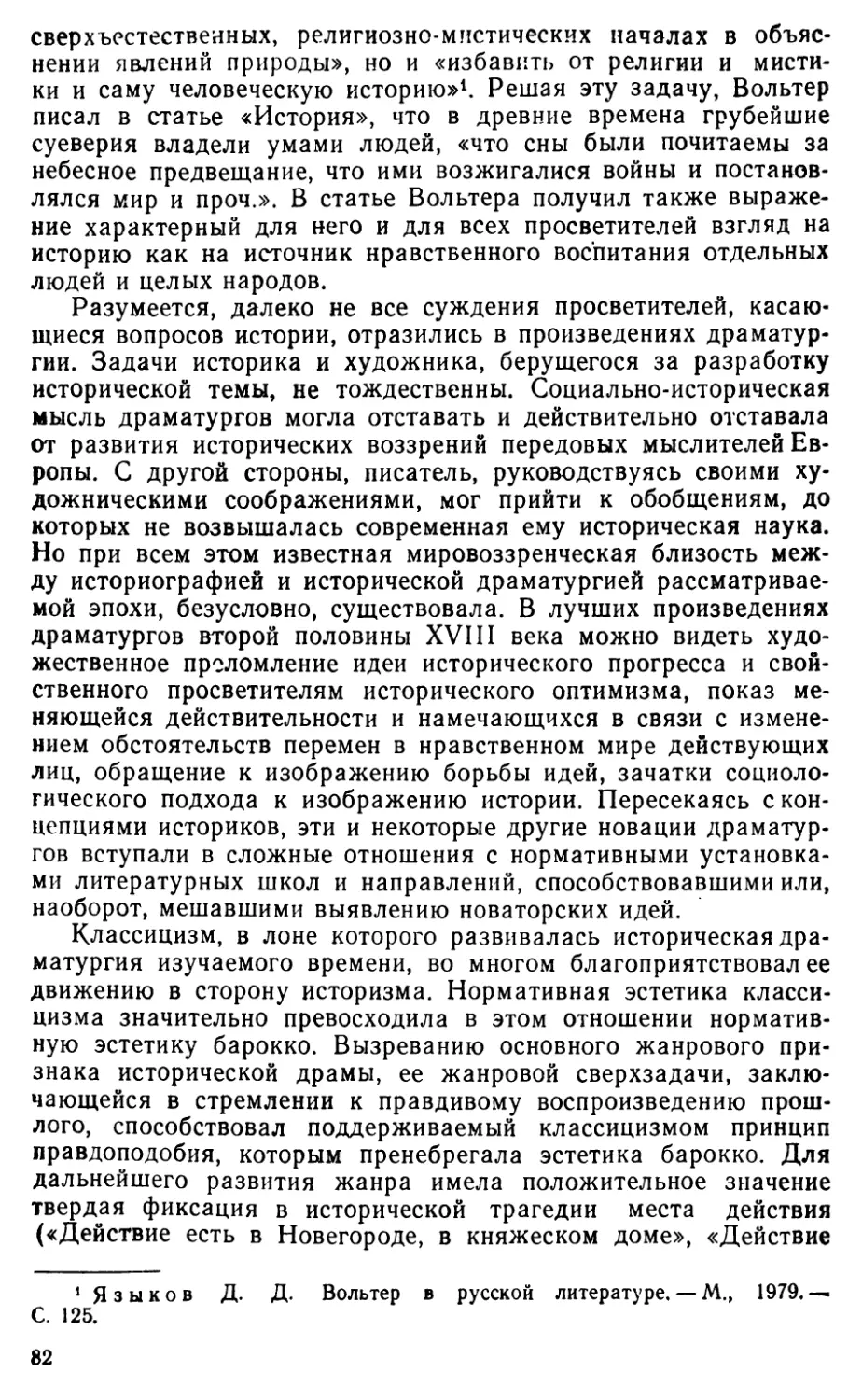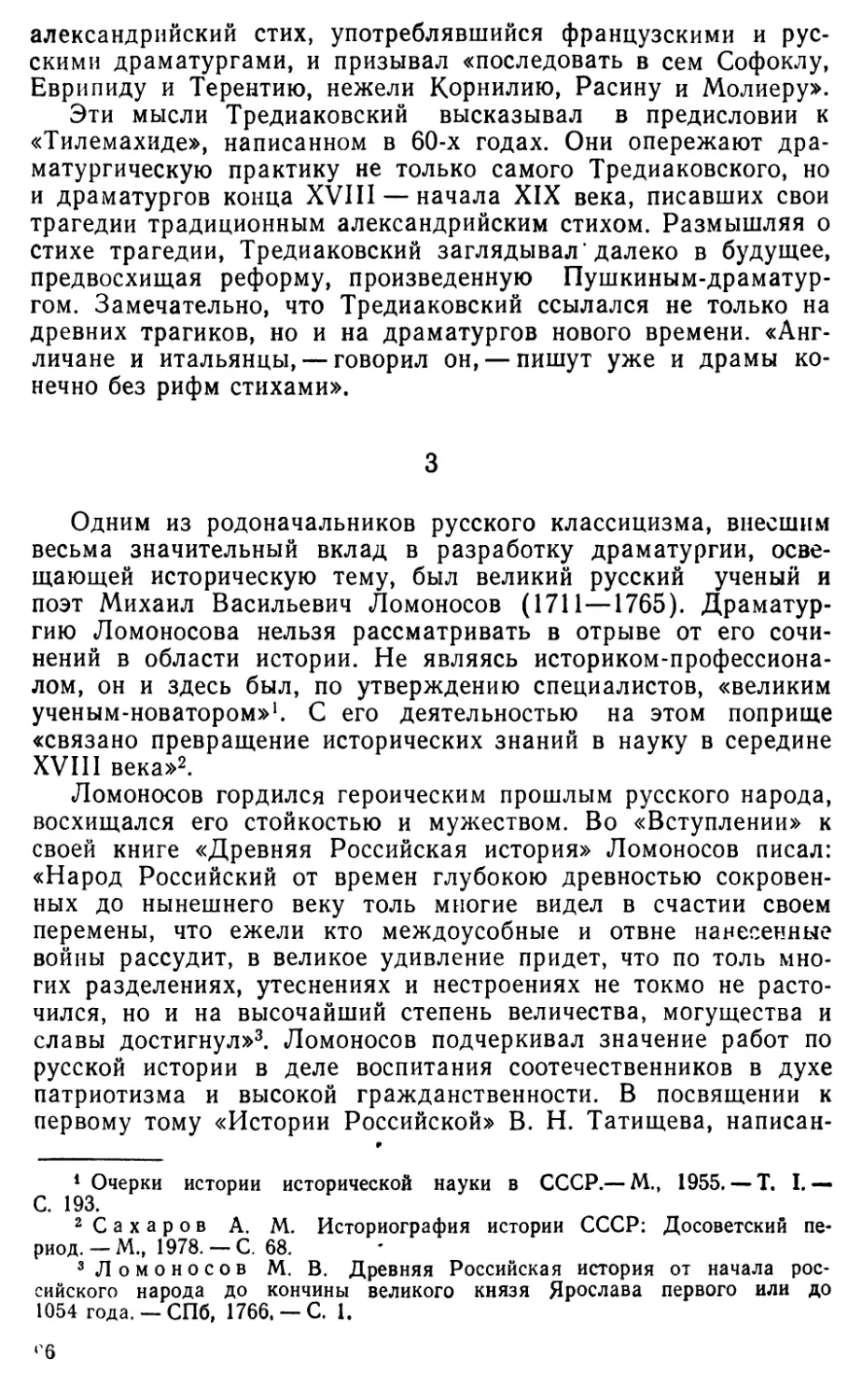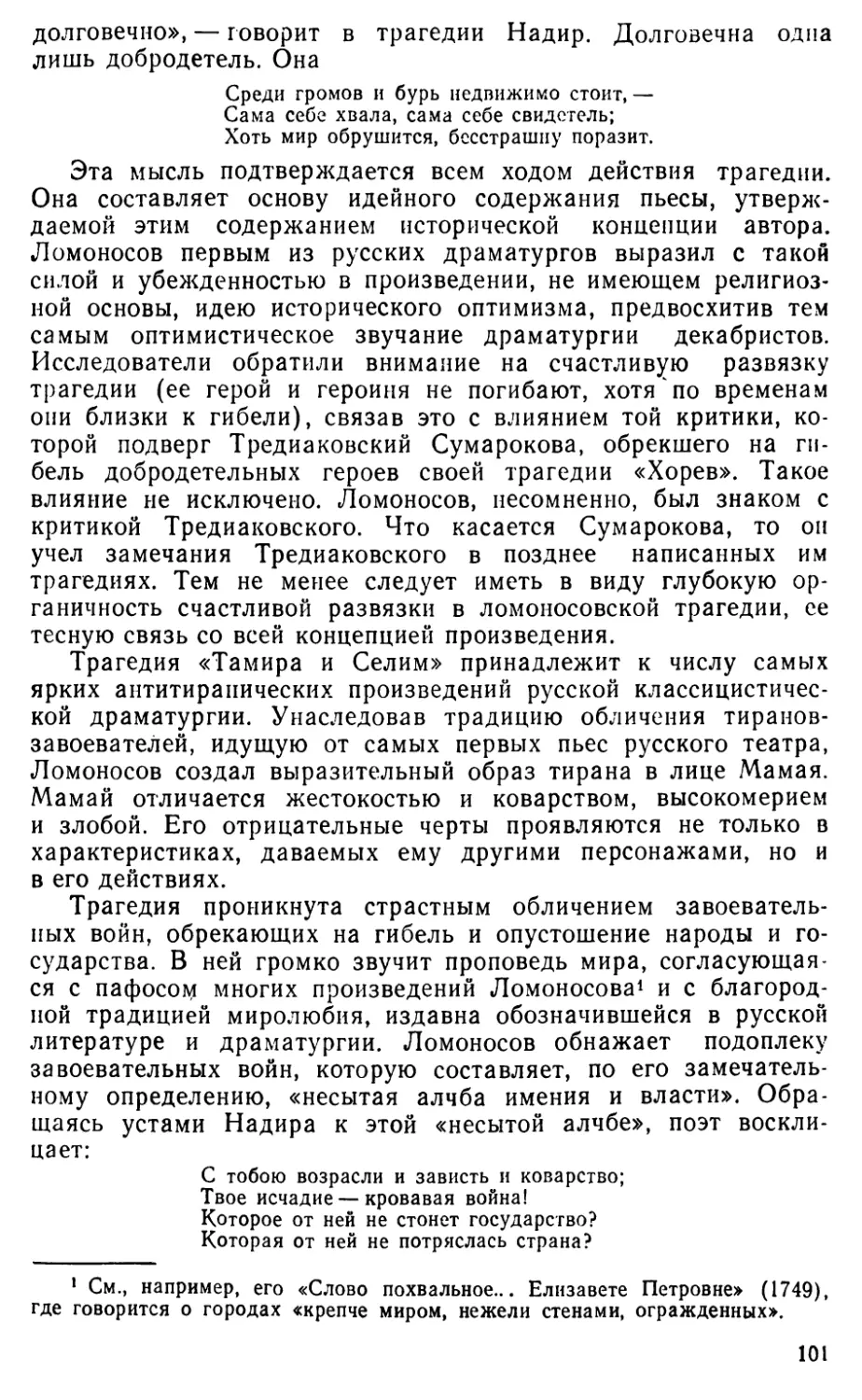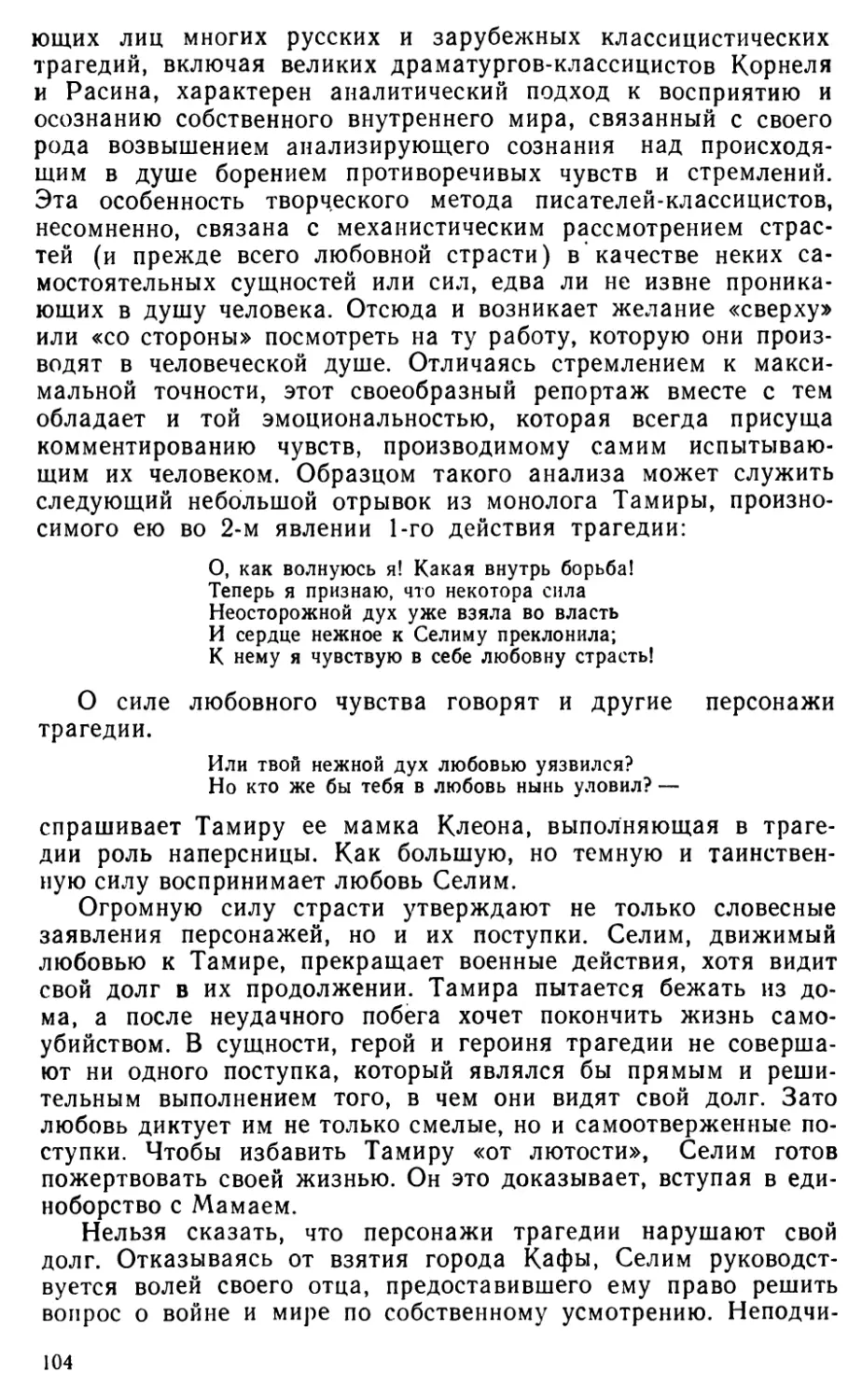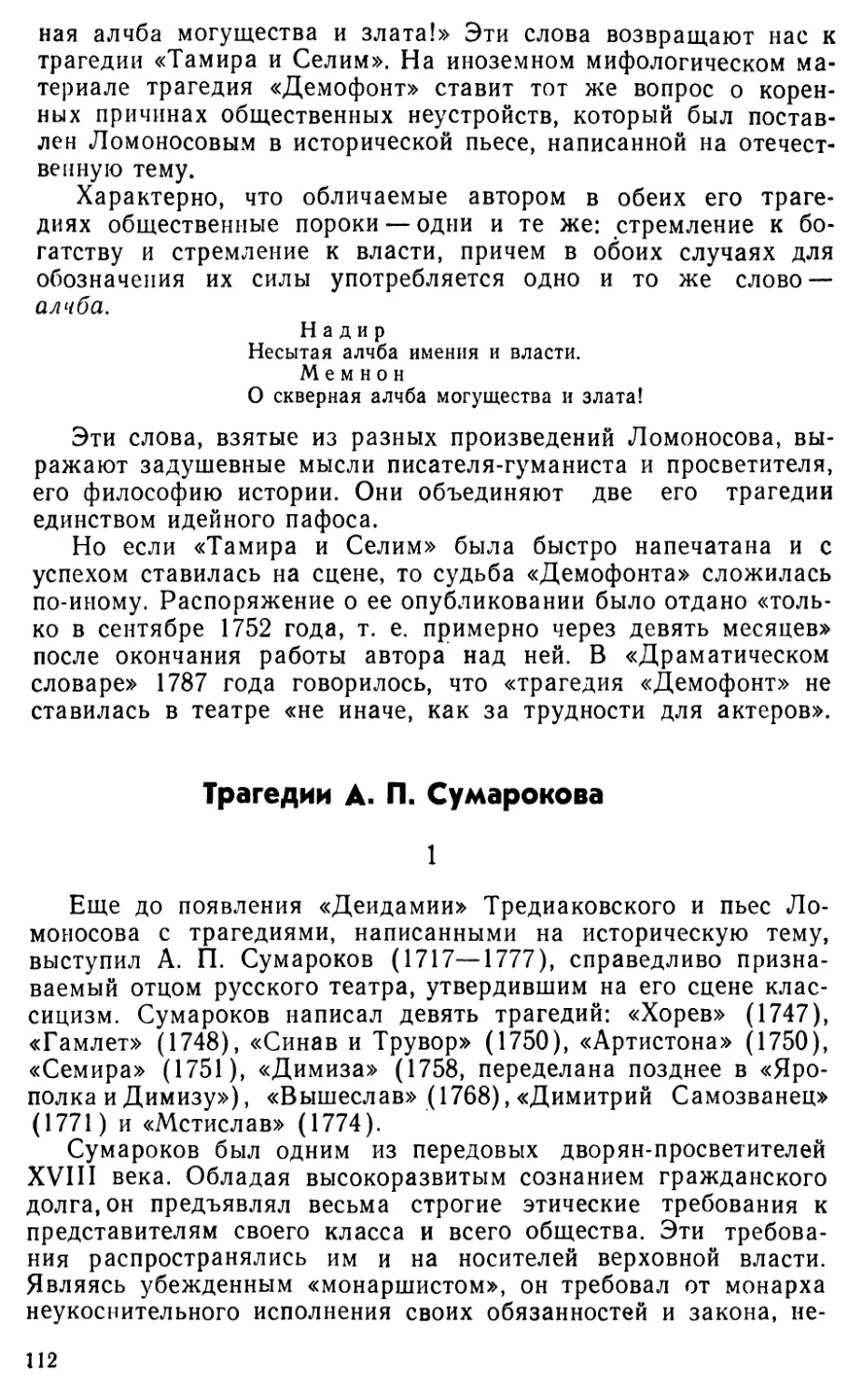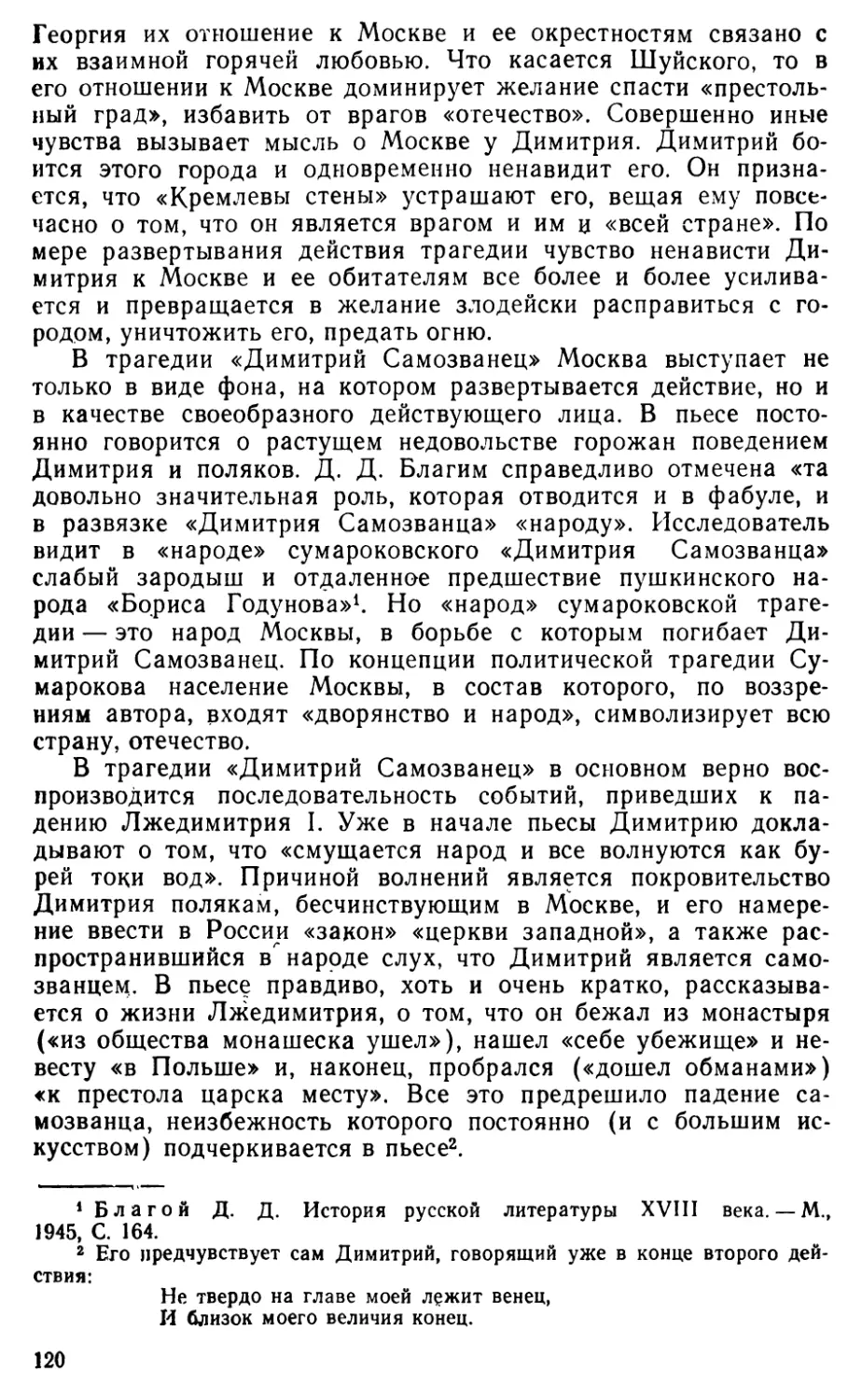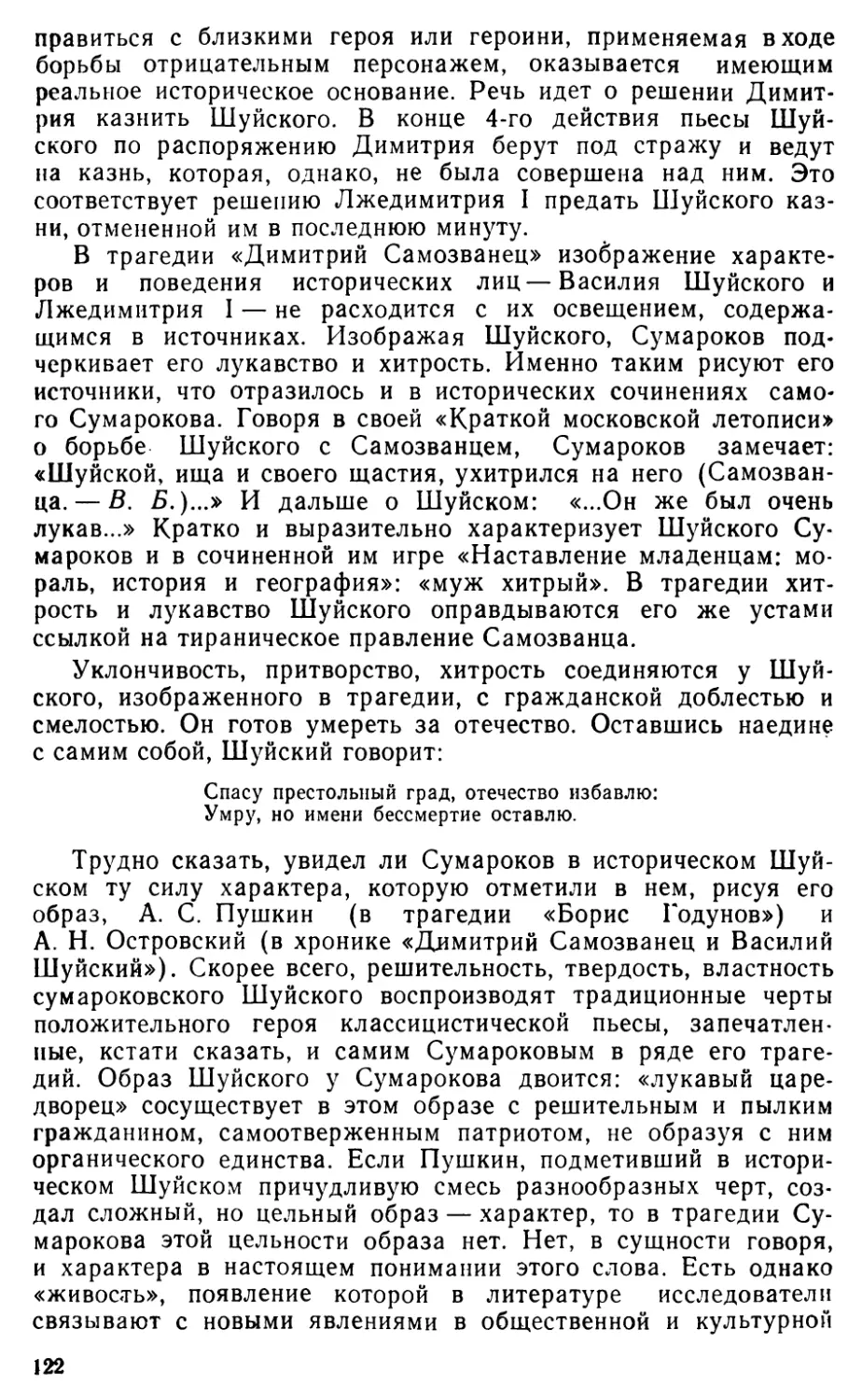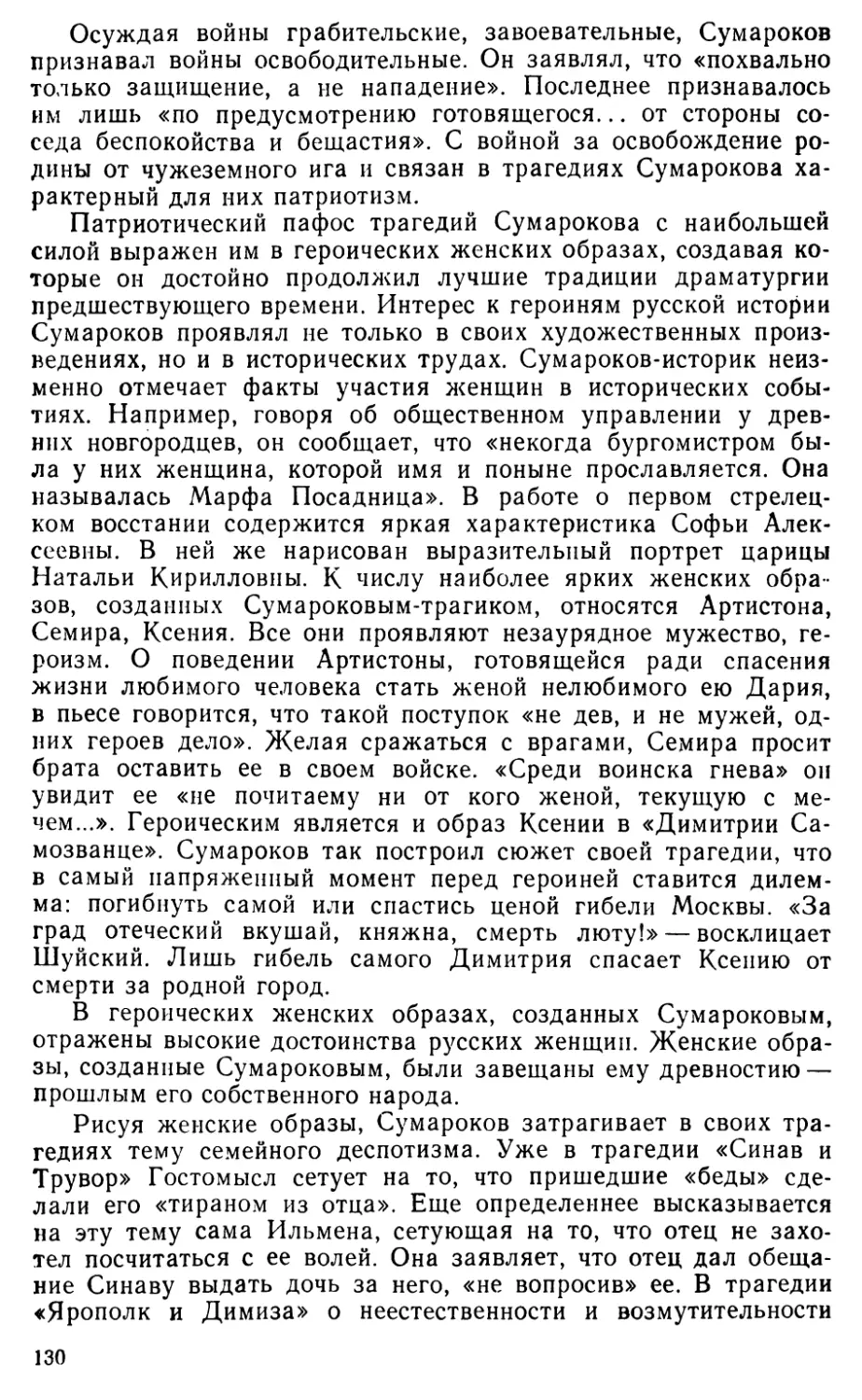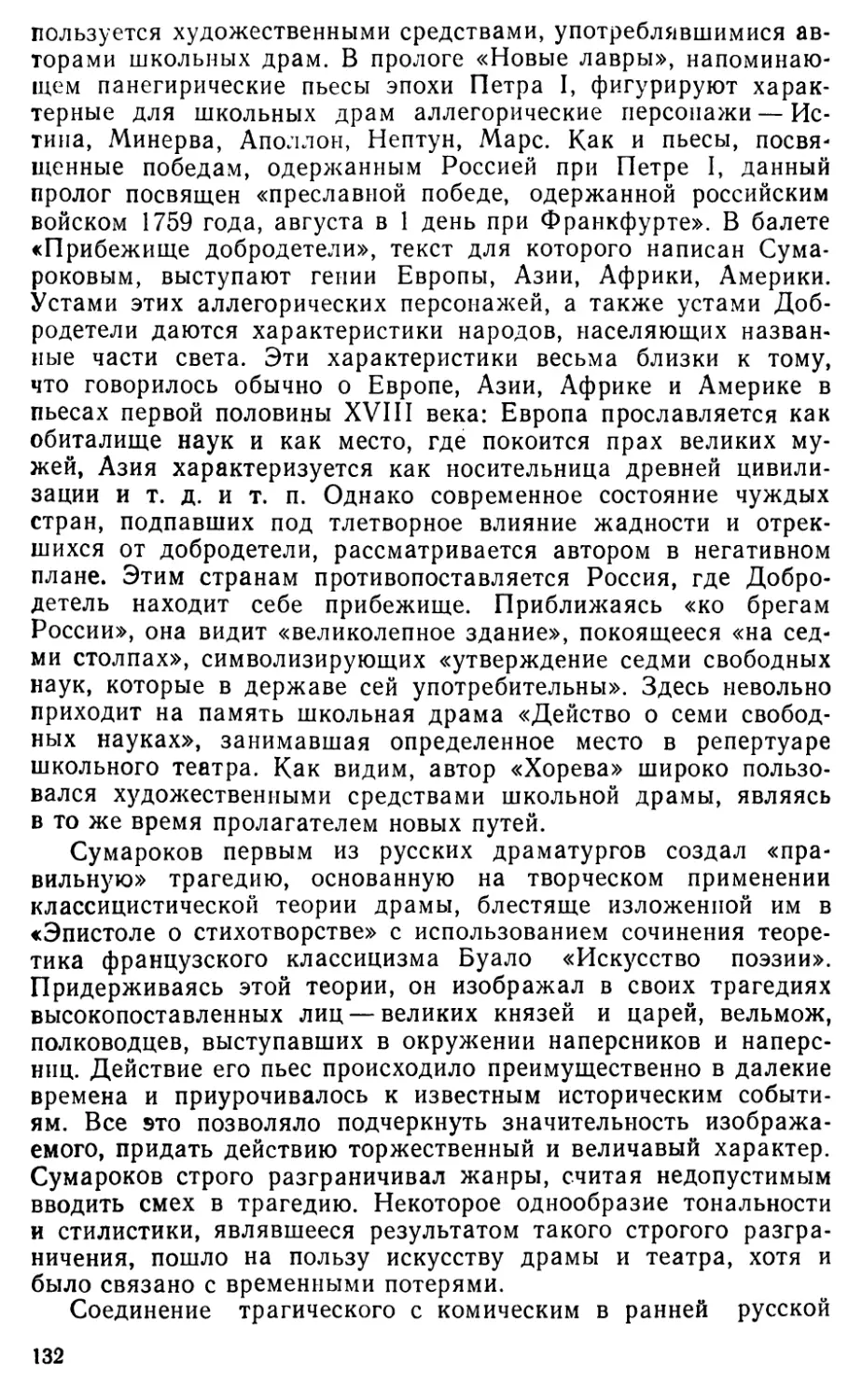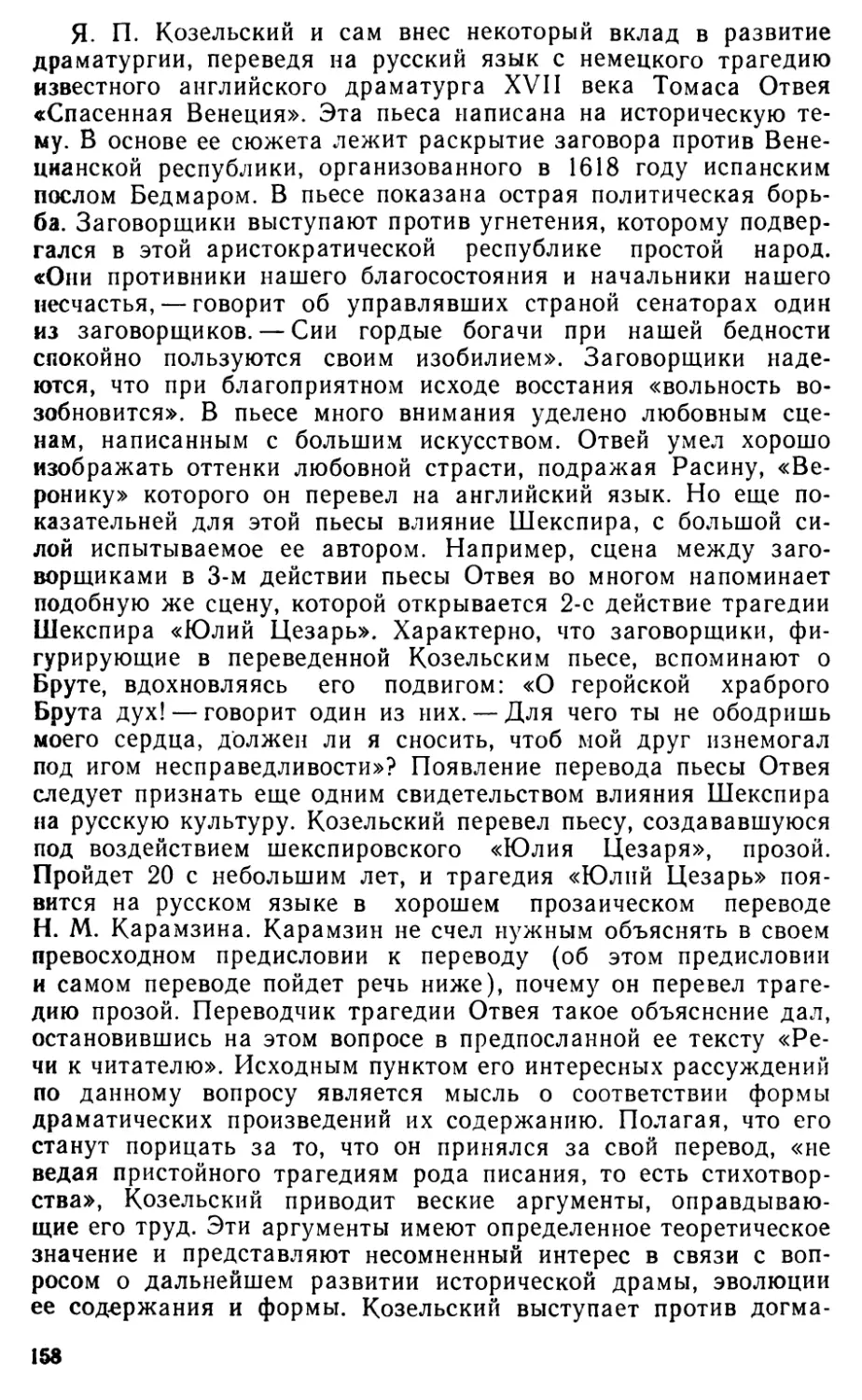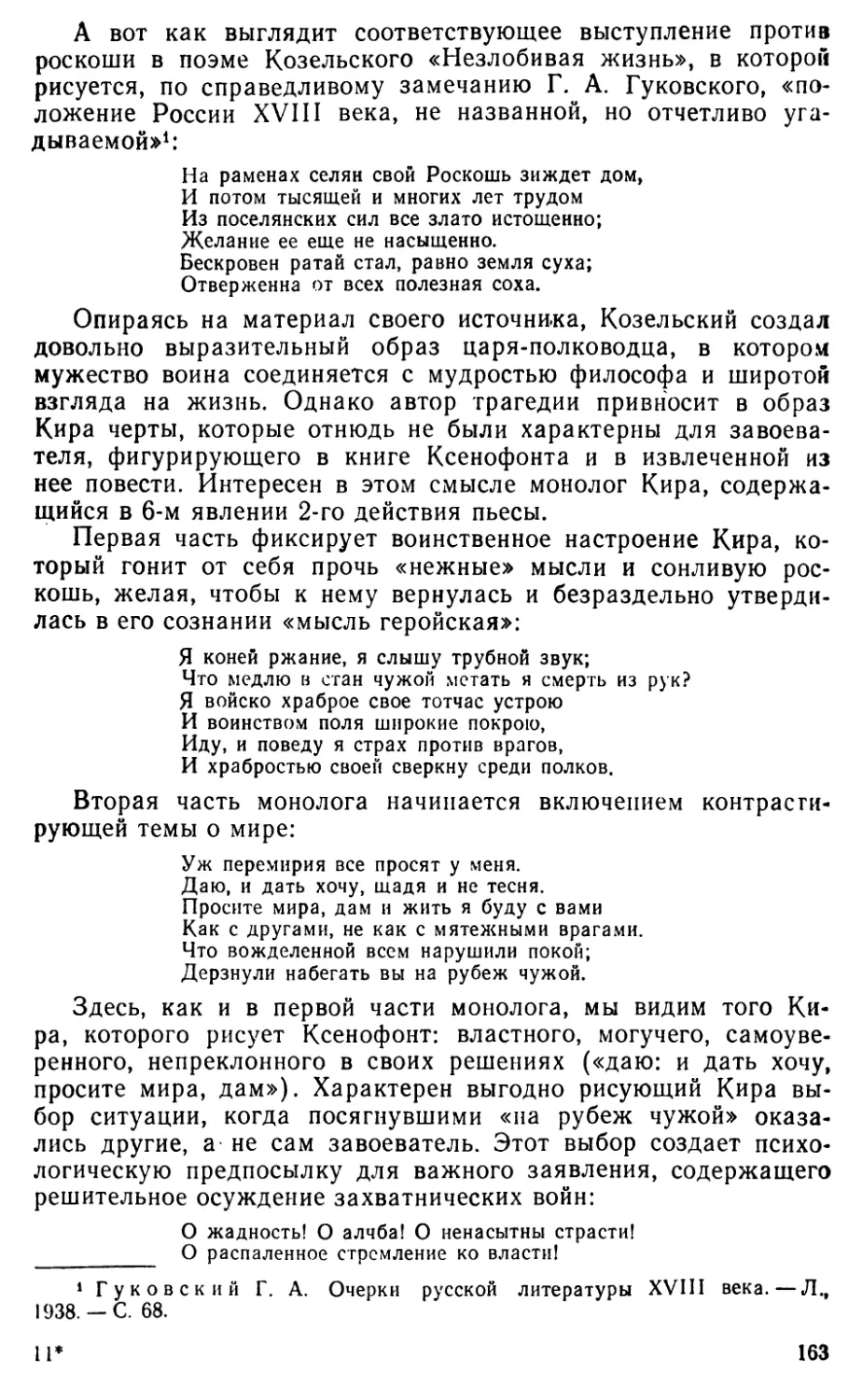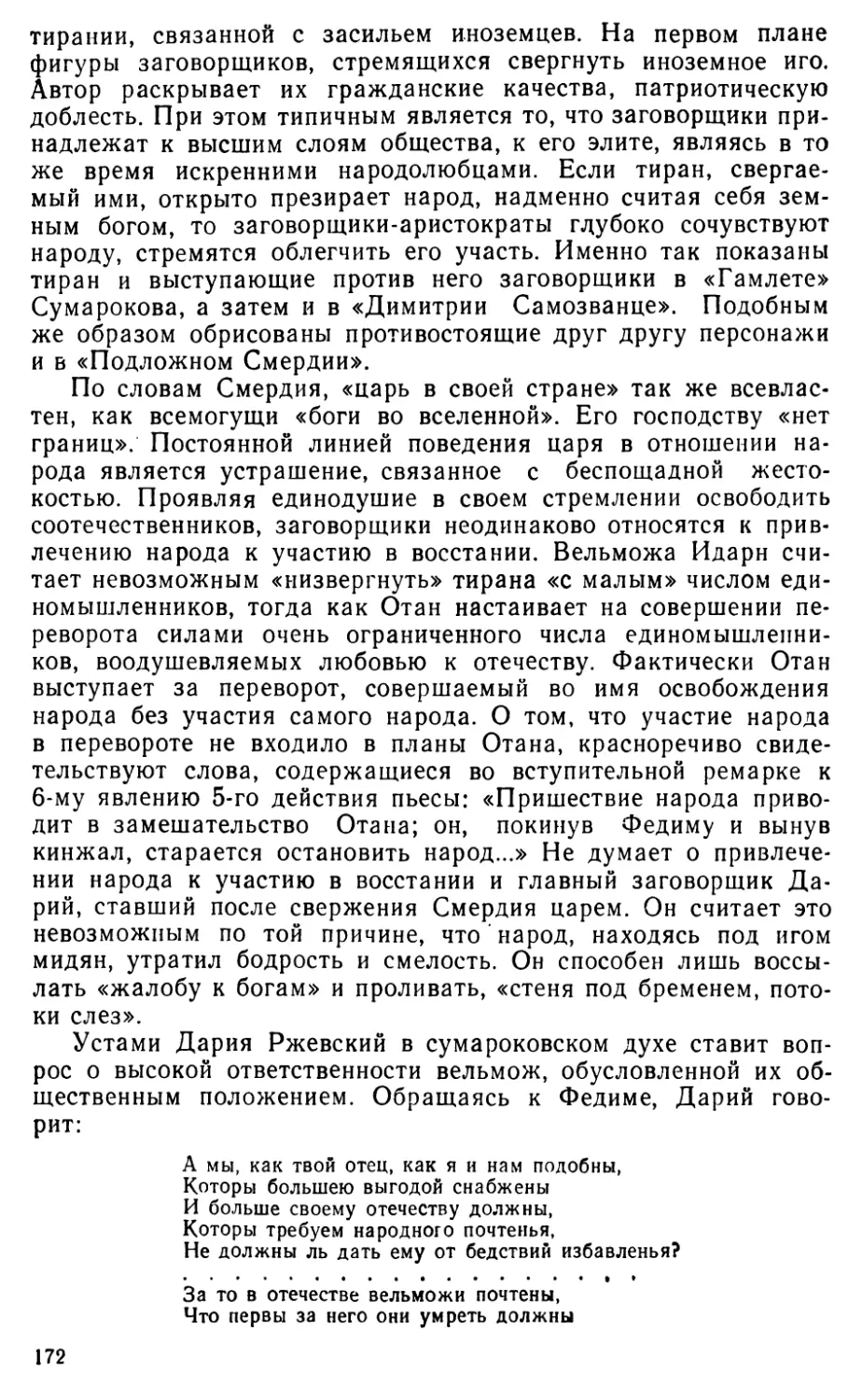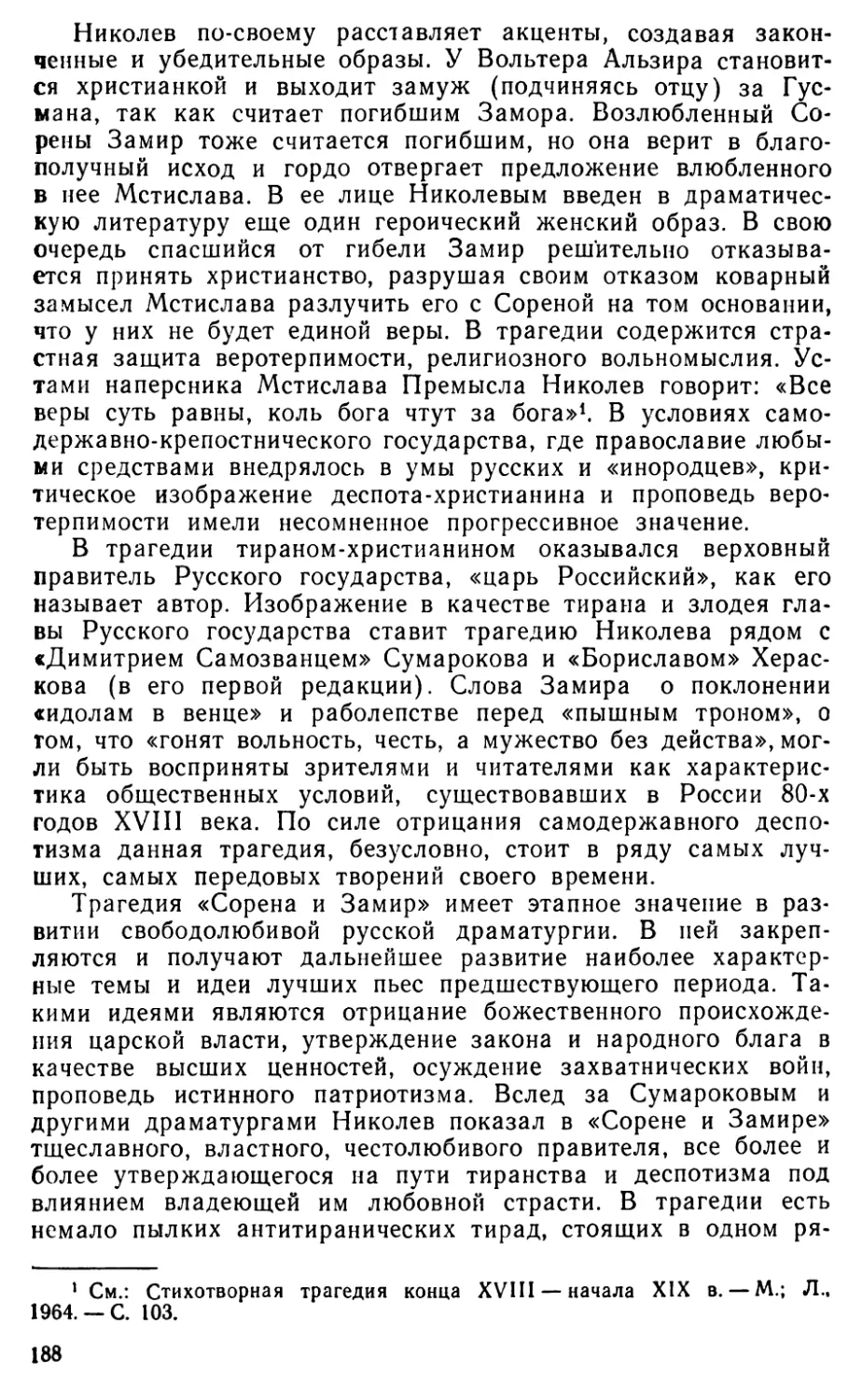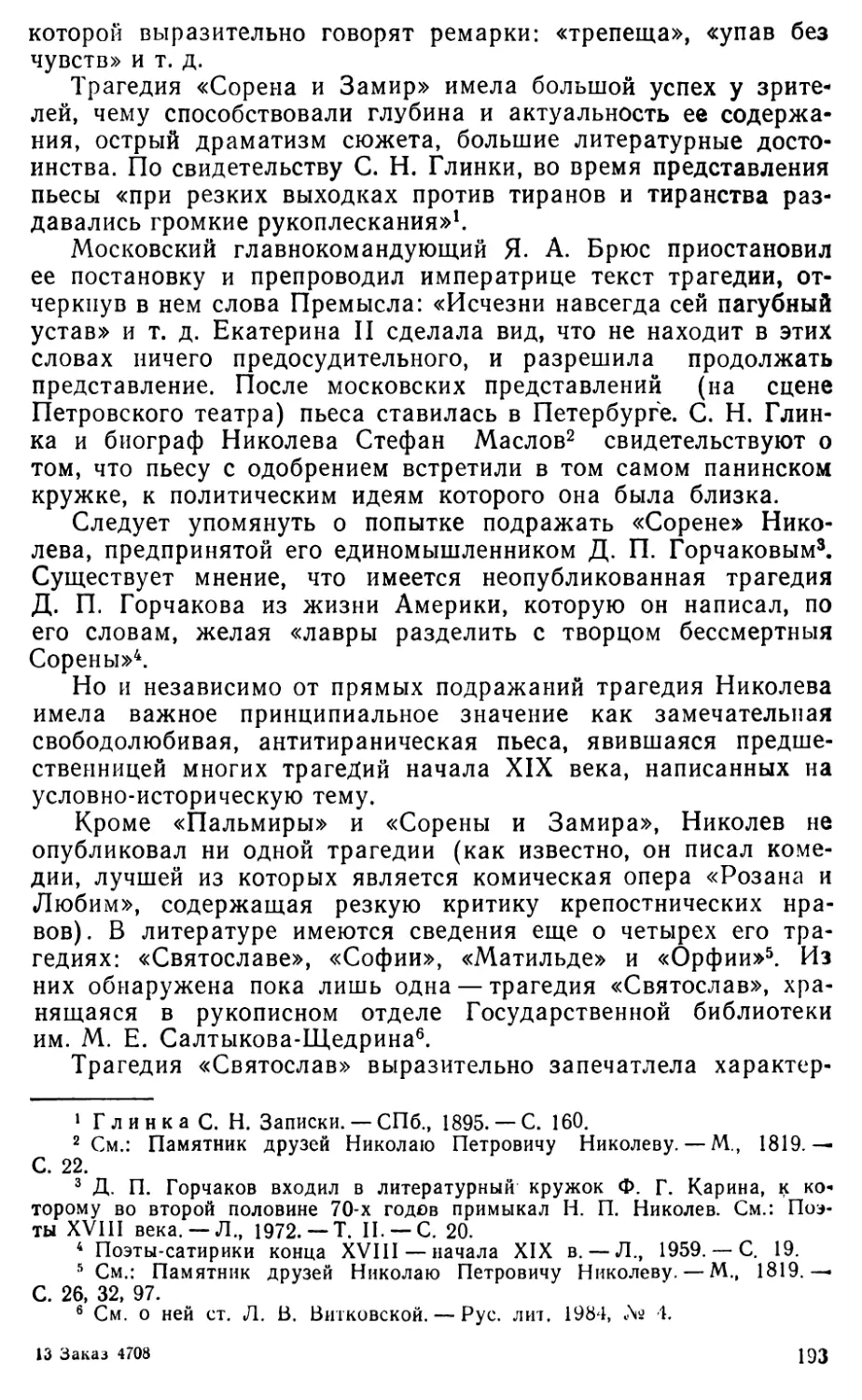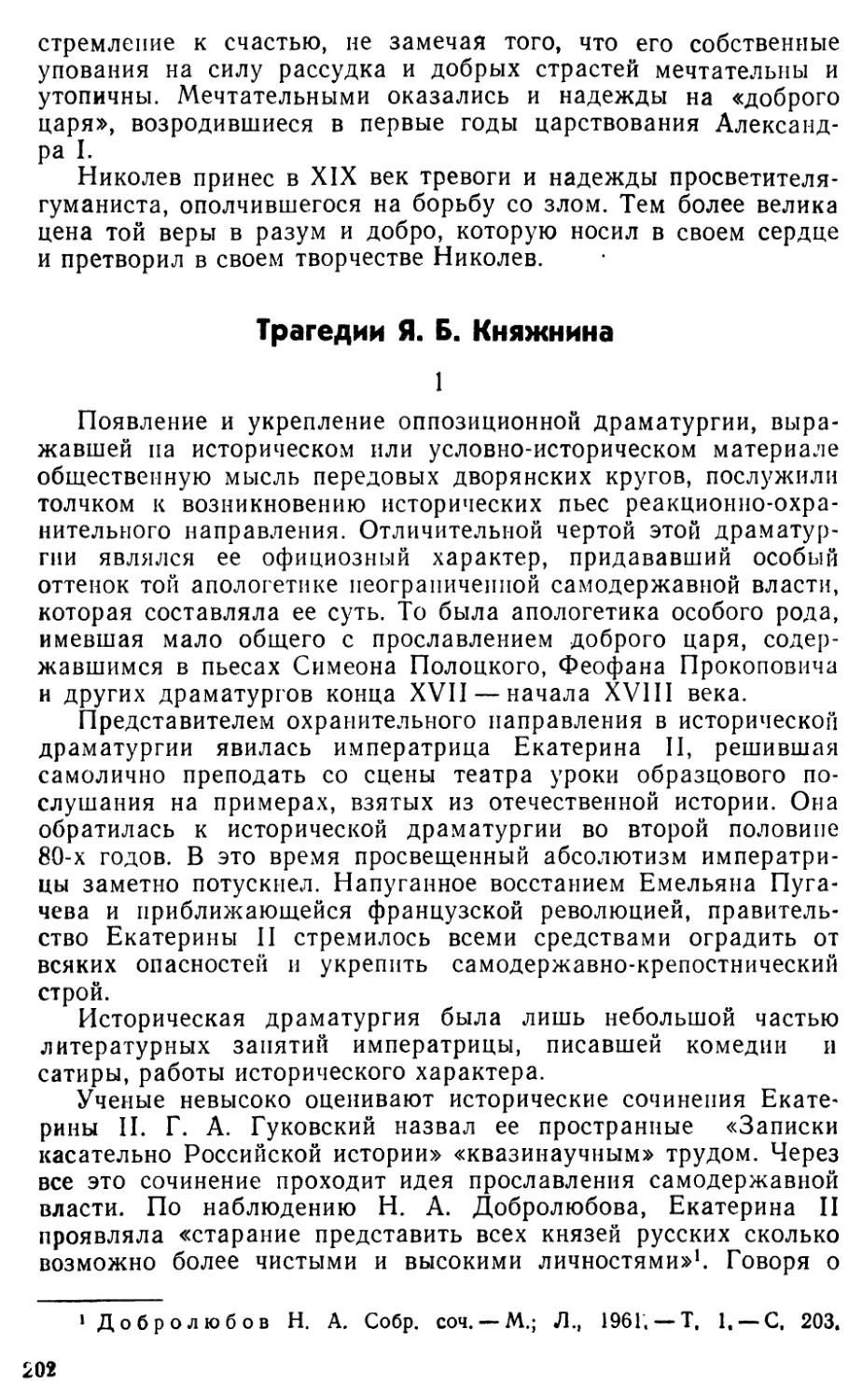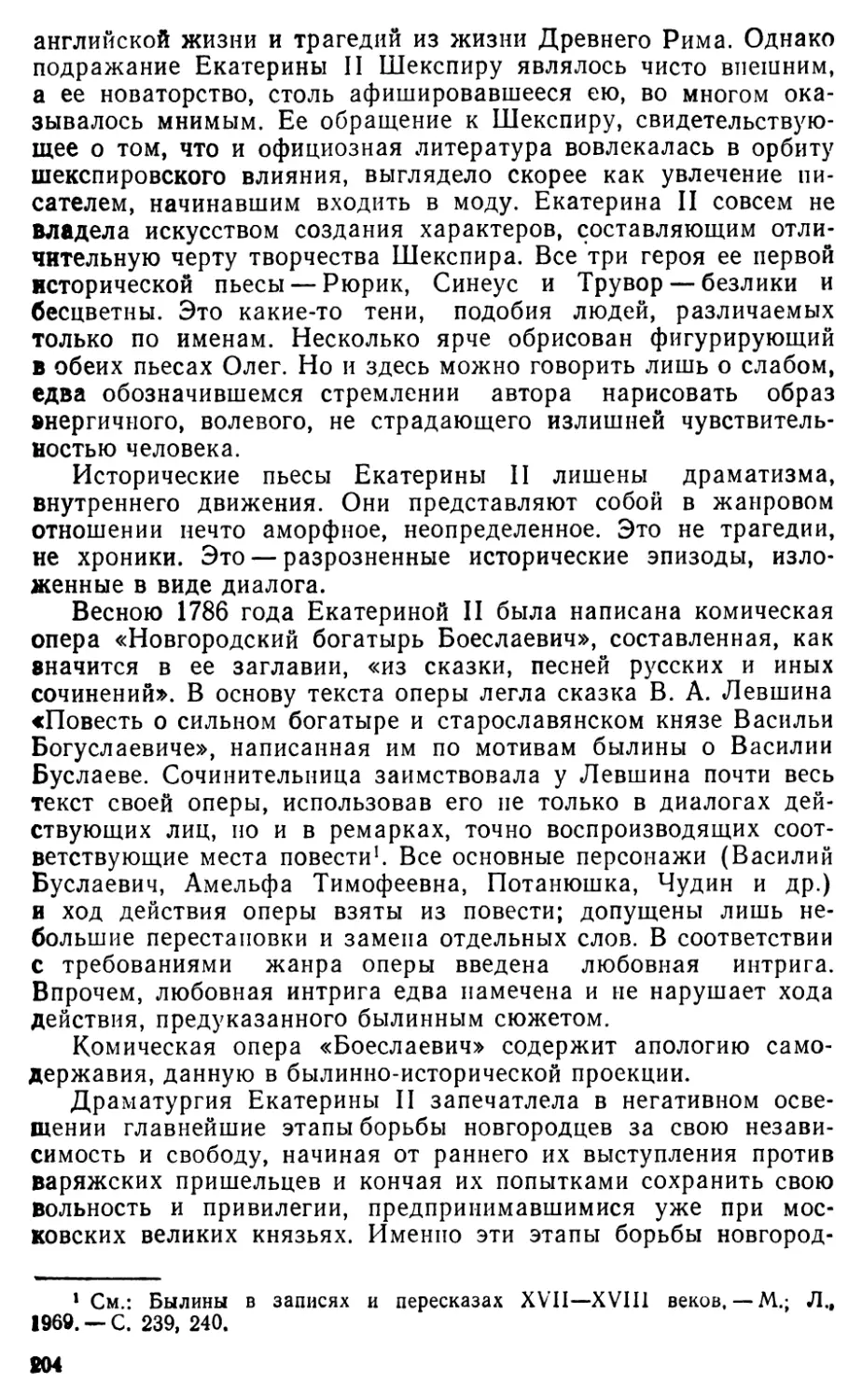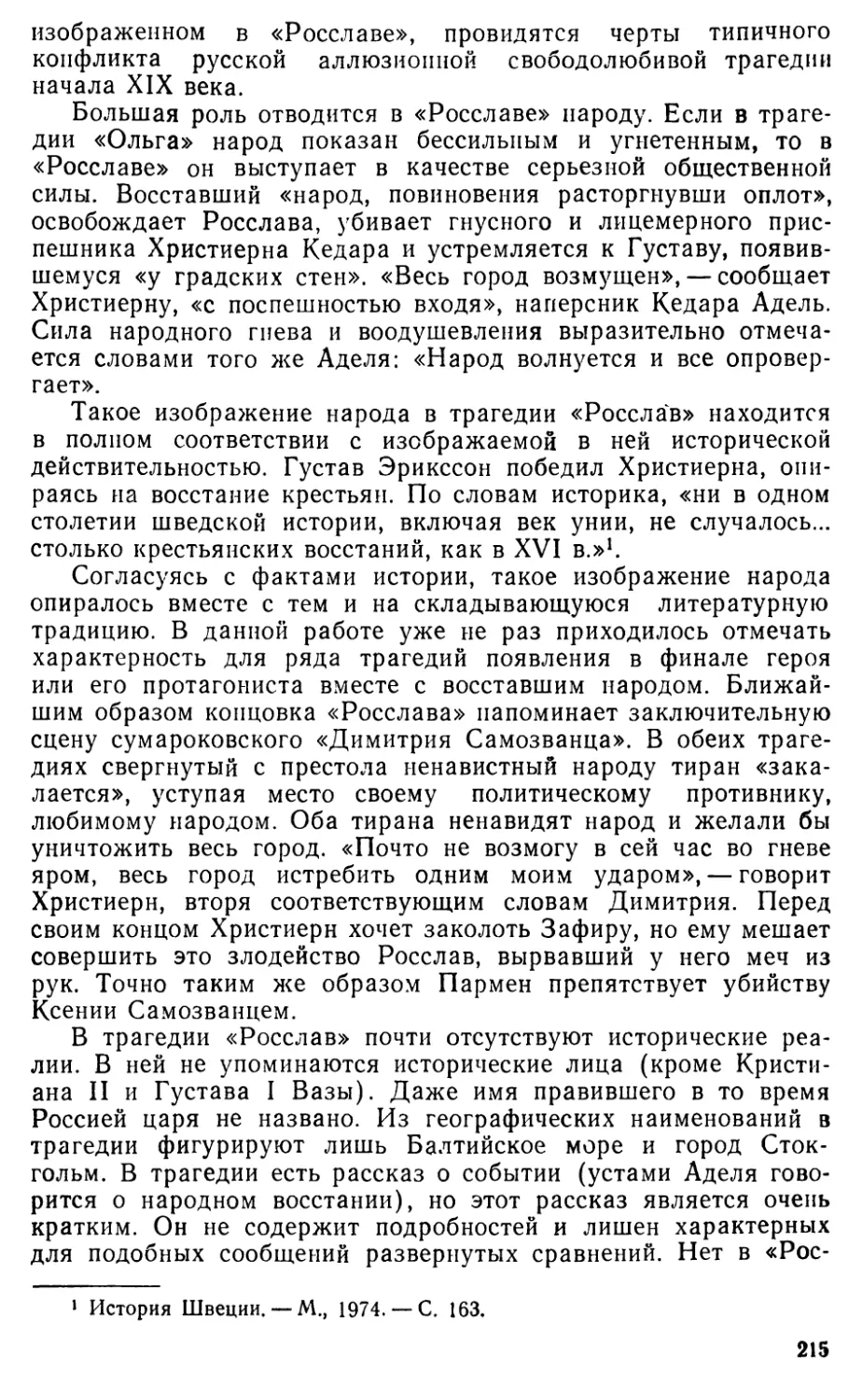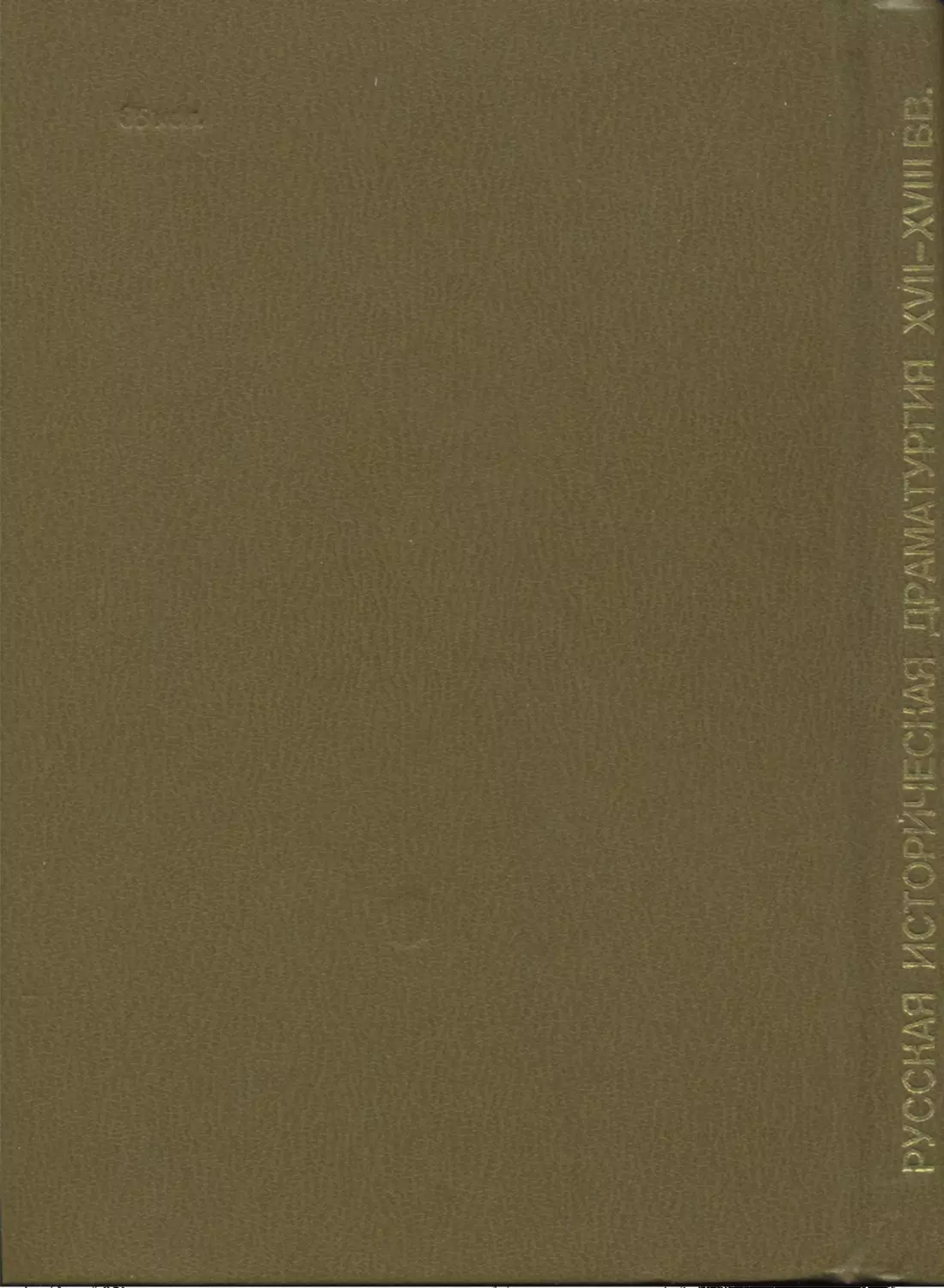Автор: Бочкарев В.А.
Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран драматургия художественная литература
ISBN: 5-09-000540-0
Год: 1988
Текст
В.А.Бочкарев
РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ XVII-XVIII вв.
Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для студентов педагогических институтов по специальности № 2101 €Русский язык и литература»
£<?одоч
Москва
«Просвещение:
1988
ББК“8*ЗР1
Б86
Рецензенты: кандидат филологических наук В. И. Федоров;
доктор филологических наук О. А. Державина
Бочкарев В. А.
Б86 Русская историческая драматургия XVII—XVIII веков: Учеб, пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» — М.: Просвещение, 1988. — 224 с.
ISBN 5-09-000540-0
В пособии прослеживается развитие русской исторической драматургии. Рассматривается драматургия крупнейшего писателя XVII века Симеона Полоцкого, школьные драмы XVIII века, исторические драмы В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, Н. П. Николева, Ф. Я. Козельского, А. А. Ржевского, В. И. Майкова, Я. Б. Княжнина.
Автор анализирует историческую драматургию с учетом развития исторической науки, тенденций литературного процесса, воспитательных задач.
Б
4309000000—473
14—88
103(03)—88
ББК 83.3Р1
ISBN 5-09-000540-0
© Издательство «Просвещение», 1988
От автора
Драматические произведения, написанные на историческую тему, заключают в себе значительный познавательный и воспитательный потенциал. Воспроизводя события прошлого, историческая драма знакомит нас с жизнью минувших поколений, обогащает опытом их борьбы за передовые идеалы, дает наглядные уроки нравственности показом подвигов и самоотверженности героев, их ошибок и заблуждений. Неудивительно, что лучшие представители демократической культуры, мечтая о' народном театре, отводили в нем большую роль исторической тематике, пьесам и спектаклям, воссоздающим национально-историческую жизнь, героическое прошлое народа. В. Г. Белинский страстно желал «видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным, слышать говорящими ее доблестных героев, вызванных из гроба могуществом фантазии, видеть биение пульса ее могучей жизни...»1. А. Н. Островский утверждал, что «исторические драмы и хроники» «развивают народное самопознание и воспитывают сознательную любовь к отечеству».
Роль исторических жанров еще более возросла после Октября. Историческая тематика заняла видное место в репертуаре советского театра. Наряду с пьесами, написанными на историко-революционную тему, на советской сцене с успехом идут драмы, воплощающие далекое прошлое народов нашей страны.
Большое внимание изучению произведений, написанных на историческую тему, уделяется в средней и высшей школе. Претворяя в жизнь основные положения школьной реформы, советская школа широко использует высокий нравственный потенциал, заключающийся в произведениях исторических жанров.
В предлагаемом вниманию читателей пособии рассматривается ранний период формирования и развития жанра русской исторической драматургии от появления первых пьес на историческую тему в придворном театре царя Алексея Михайловича и до конца XVIII века. В ходе анализа исторических пьес этого времени отмечаются в высокой степени присущие драматургам гуманизм и патриотизм, приверженность идеям мира и дружбы между народами.
Категория жанра относится к числу основных формообразующих категорий литературы и искусства. Современное литературоведение проявляв! глубокий интерес к изучению литературных жанров, одним из которых является жанр исторической драмы. В настоящее время для исследования этого жанра и всего репертуара старинного театра имеется хорошая научная база: пятитомное академическое издание произведений русской драматургии XVII — первой половины XVIII века, подготовленное отделом русской литературы Института мировой литературы имени М. Горького Академии наук СССР2. В этом ценнейшем издании, содержащем самый полный свод ранних русских пьес, а также в ряде примыкающих к нему исследований, сборников, статей не только намечена, но во многом и глубоко раз¬
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. — М., 1953. — Т. I. — С. 80.
2 См.: Ранняя русская драматургия. XII —первая половина XVIII века.—М., 1972—1976.
3
работана проблематика, связанная с изучением русской драматургии и театра1. Очень важные положения, относящиеся к рассматриваемой в данном пособии проблематике, содержатся в книгах Д. С. Лихачева2, а также в первом томе новой академической «Истории русской литературы» (1980) и в «Истории русской драматургии, XVII — первая половина XIX века» (1982), выпущенных Институтом русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Во всех названных трудах имеется немало ценных наблюдений и выводов, касающихся в той или иной степени вопросов, связанных с трактовкой исторической темы и спецификой обработки исторических материалов в произведениях ранней русской драматургии.
Автор настоящего пособия ставил перед собой задачу рассмотреть, опираясь на имеющиеся материалы и исследования, русскую историческую драматургию XVII—XVIII веков. Он стремился выявить особенности идейнотематического содержания произведений этого жанра, отметить основные черты его поэтики, четко обозначившиеся уже в первых исторических пьесах, показать зарождение историзма в русской драматургии.
Пособие состоит из двух частей. В первой части рассматривается историческая драматургия последней четверти XVII — первой половины XVIII века, во второй — драматургия второй половины XVIII века. Части отличаются одна от другой способом изложения, связанным с особенностями интерпретируемого в них материала. В первой части, где рассматривается большое число пьес, многие из которых не имеют установленного автора и дошли до нас лишь в виде фрагментов и программ, изложение ведется в обзорном порядке с выделением аспектов и проблем, позволяющих выявить специфику драматической обработки истории на самом раннем этапе развития русской драматургии. Более подробно рассматриваются в этой части соответствующие черты и компоненты произведений лучших драматургов этого времени Симеона Полоцкого и Феофана Прокоповича. Во второй части анализируются исторические пьесы крупнейших драматургов данной эпохи — М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, Н. П. Николаева, Я. Б. Княжнина и других. Автор стремился прочертить в самом процессе монографического изложения основные линии развития изучаемого жанра.
В пособии делается попытка хотя бы в самых общих чертах обозначить преломление в ранней русской исторической драматургии национальных традиций русской литературы.
1 См., например, кн.: Бадалич И. М., Кузьмина В. Д. Памятники русской школьной драмы XVIII века (по Загребским спискам). — М., 1968; Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. — М., 1974; Демин А. С. Русская литература второй половины XVII — начала XVIII века. — М., 1977; Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII — первой половины XVIII в.: Польша, Украина, Россия. — М., 1981; XVII век в мировом литературном развитии. — М., 1969, Русская литература на рубеже двух эпох (XVII —начало XVIII в.). —М., 1974; Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII —начало XVIII в.). —М., 1976.
2 См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе древней Руси. — 2-е изд. — М., 1970; Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X— XVII вв. — Л., 1973; Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. — М., 1979.
ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XVII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА
Условия и предпосылки возникновения драматургии и появления исторических пьес
1
Истоки жанра русской исторической драматургии восходят к 70-м годам XVII века, к тем представлениям на историческую тему, которые давались в придворном театре царя Алексея Михайловича. Почему именно в это время впервые появился у нас театр? Какую назревшую общественную потребность удовлетворяли исторические пьесы, составлявшие репертуар раннего русского театра?
Существует глубокая связь между новыми явлениями в искусстве и теми изменениями, которые происходили в социально-экономической и духовной жизни России конца XVII — начала XVIII века. В. И. Ленин указывал, что «примерно с 17 века» начался «новый период русской истории», характеризовавшийся слиянием отдельных «областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это... вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок»1. В эту пору в недрах феодально-крепостнического строя начиналось формирование буржуазных общественных связей, послуживших фоном для постепенного перехода от идеологии средневековья к восприятию идей нового времени.
В новый период своей истории Россия вступала, являясь сильным, централизованным государством с обширной территорией и богатыми природными ресурсами. Подчеркивая феодально-крепостнический характер русского абсолютистского государства, В. И. Ленин отметил ряд этапов, через которые оно прошло по пути превращения в буржуазную монархию. Он говорил, что «русское самодержавие XVII века с боярской Думой и боярской аристократией не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрократией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма»2.
Формированию русского абсолютизма предшествовала длительная и упорная борьба московских князей за объединение русских земель, сочетавшаяся с борьбой за освобождение родины от чужеземных захватчиков. «...В России, — писал Ф. Эн¬
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. — Т. 1.—С, 153—154.
2 Там же. —Т. 17. —С. 346.
5
гельс>_ покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига, что было окончательно закреплено Иваном III»1. То обстоятельство, что создание централизованного государства происходило в ходе борьбы за независимость, налагало печать на самосознание русских людей. Оно способствовало повышению авторитета великокняжеской и царской власти, что повлияло на формирование идеологии абсолютизма.
Обстоятельства, при которых складывалось русское самодержавие, объясняют ту высокую оценку царской власти и ее носителей, которая давалась им с разными оттенками в официальной и неофициальной литературе — в летописях, воинских повестях, публицистике, исторических народных песнях. В соответствии с господствующими религиозными представлениями царь или великий князь выступал в качестве стоящей высоко над всеми людьми богоизбранной, священной особы, наделенной огромной мощью и влиянием. Феодальный владыка оказывался национальным героем в стране, которой суждено было, по убеждению идеологов самодержавия, сыграть выдающуюся роль во всемирной истории, в связи с чем национально-патриотическая задача становилась задачей всемирной, общечеловеческой.
0 популярности в тогдашнем мире Киевской Руси говорится в начальной летописи и в замечательном памятнике древнерусской литературы — «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона (XI век).
Мысль о всемирном значении русского государства с еще большей настойчивостью и определенностью высказывалась в XV—XVI веках, когда рушилось монголо-татарское иго и завершался процесс объединения русских земель вокруг Московского княжества. В это время происходило формирование религиозно-политической концепции единодержавной, признаваемой всем миром власти московских князей. Необходимо было исторически обосновать закономерность появления этой власти. Московские князья и царь объявлялись продолжателями великих исторических традиций, снабжались пышными генеалогиями.
Борьба с внешними врагами, в условиях которой происходило становление русского абсолютизма, сопровождалась острейшей классовой борьбой, развернувшейся внутри страны. Недаром современники называли середину и вторую половину XVII века «бунташным» временем. Московское восстание 1648 года, восстания, вспыхнувшие в том же году в Устюге Великом, Соли Вычегодской, Козлове, Воронеже, Курске, Псковское и Новгородское восстания 1650 года, Московское восстание 1662 года («Медный бунт») носили весьма грозный харак¬
1 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч.— 2-е изд.—М., 1961.— Т. 21.—С. 416.
6
тер и требовали от правительства для их подавления, отличавшегося необычайной жестокостью, значительных усилий. Вот как описывает современник один из эпизодов этой борьбы, относящийся к 1662 году и имевший местом действия село Коломенское: «И те люди говорили царю и держали его за платье за пугвицы...» «И они учали царю говорить сердито и невежливо з грозами: «будет он добром им тех бояр не отдаст, и они у него учнут имать сами, по своему обычаю». «Царь, видя их злой умысл, что пришли не по добро и говорят невежливо, за грозами, и проведав, что стрелцы к нему на помочь в село пришли, закричал и велел столником, и стряпчим, и дворяном, и жилцом, и стрелцом, и людем боярским, которые при нем были, тех людей бити и рубати до смерти и живых ловити»1.
Достигнув наибольшего размаха в крестьянской войне 1770— 1771 годов, антифеодальная борьба не затихала' и в конце XVII —начале XVIII века, чему свидетельством являются стрелецкие восстания 1782 и 1798 годов и восстание Булавина. Отсутствие застоя не могло не сказаться на самосознании общества и развитии культуры. Крупные общественные перемены, бурные события времени приковывали внимание людей к вопросам социальной истории, способствовали пробуждению творческой энергии, выявлению различных социальных тенденций в искусстве и литературе. Не случайно именно в это время, по словам ученого, исследовавшего идейную борьбу в литературе XVII века, под влиянием социальной действительности происходило «постепенное образование двух течений в общественной идеологии: феодально-охранительного и народно-обличительного»2. Наличие двух течений — придворного и демократического— отразилось и на драматургии. Возникнув в придворной среде, наложившей печать на ее проблематику и стиль, ранняя русская драматургия запечатлела и некоторые черты демократического театра, особенно в интермедиях3.
2
Говоря о времени появления первых русских пьес, написанных на историческую тему, необходимо отметить, что это время характеризовалось довольно широким распространением исторических сочинений в различных общественных кругах. Это обстоятельство имеет первостепенное значение для возникнове¬
1 Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. 4-е изд.— СПб., 1906. —С. 102, 103.
2Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века — М., 1974. —С. 5—6.
3 Об идейно-стилистической связи интермедий с демократическим театром см.: Левин Паулина. Сценическая структура восточнославянских ин- термедий//Русская литература на рубеже двух эпох (XVII — начало XVIII в.). —М., 1971. —С. 126.
7
ния и развития исторической драматургии. Та первоначально узкая зрительская аудитория, к которой обращались авторы исторических пьес, была превосходно знакома по Библии и разного рода переводным и оригинальным историческим сочинениям с сюжетами этих пьес и легко понимала содержащиеся в них намеки и аллегории.
Особый интерес русские люди проявляли к вопросам всемирной истории. Как свидетельствуют современники, сведения по всеобщей истории входили в содержание-школьного обучения. В XVII веке сильно увеличилось число исторических произведений, переведенных с иностранных языков. Повышенный интерес русских людей к мировой истории был связан с осознанием значения своей родины, запечатленным еще в памятниках Киевской Руси. Время выдвинуло перед историографией задачу дать очерк всемирной истории, подчеркнув при этом мировое значение Руси, ее главенство в мире. Эту задачу выполнил так называемый хронограф 1512 года, в котором история России органически включена во всемирную историю.
То обстоятельство, что история Руси издавна рассматривалась в летописях в аспекте ее мирового значения, а затем даже стала синхронно включаться составителями в историю мировую, имело очень важное значение для возникновения и всего дальнейшего развития русской исторической драматургии. Авторы ранних русских пьес брали свои сюжеты главным образом из Библии, материалы которой широко использовались составителями летописей и хронографов для построения рассказа о всемирной истории. Под знаком этой всемирности, ориентируясь на современное состояние и значение русского государства, показывали историческое прошлое первые пьесы русского театра.
Характерно, что уже в самом начале существования этого театра на его сцене появилась пьеса «Темир-Аксаково действо», материал которой соприкоснулся с недавним прошлым России. Пройдет время, и появится трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир», посвященная изображению древнерусской жизни, а еще через полвека отечественная историческая тематика прочно утвердится в русской классицистической драматургии, определив ее национальное своеобразие.
В русских летописях и хронографах, а также в исторических повестях широко использовались исторические аналогии, к которым охотно прибегали и драматурги. Метод сравнений, аналогий вообще был характерен для средневекового исторического и художественного мышления, обращавшегося к ним при попытках познать и описать тот или иной предмет. Не случайно столь широкое применение получило символико-аллегорическое изображение исторической и современной действительности, невозможное без сравнения, или, как тогда говорили, «прообразования». Уже в произведениях древнейшего времени встреча¬
8
ются яркие примеры сопоставлений прошлого и настоящего. Так, митрополит Иларион делает необыкновенно живым образ князя Владимира Ярославина, сопоставляя его с образом его сына Ярослава. Обращаясь к Владимиру как к живому, автор «Слова» призывает его встать из гроба («встани, о честьная главо, от гроба твоего»), посмотреть на сына своего, на «благоверную сноху твою Ерину», на внуков и правнуков. Обращение к Владимиру как к живому мотивируется христианским воззрением, согласно которому смерть является чем-то временным, подобным сну («встани, — говорится в «Слове» Иларио- на, — отряси сон, неси бо умерл, но спиши до общего всем встания»).
Сопоставление эпох, событий, лиц приобрело особую актуальность в условиях обостряющейся борьбы против монголотатарского ига. Мысль русских людей невольно обращалась в этих условиях «к эпохе национальной независимости», «повышенный интерес» к которой Д. С. Лихачев связывает «с появлением исторического сознания»1. В произведениях этой эпохи (конца XIV—XV вв.) монголо-татары отождествляются с половцами, призывы Киевской летописи к объединению Руси воспринимаются как призывы к борьбе с монголо-татарским игом, в перекличке со «Словом о полку Игореве» сочиняется «Задон- щина»2. Речь шла о сознательном подражании национальной старине, наблюдавшемся в различных областях искусства: литературе, живописи, зодчестве. О том, какие ценности были созданы с установкой на развитие этой культурной традиции, красноречиво свидетельствуют такие явления, как творчество Андрея Рублева и русские былины киевского цикла, образовавшегося в XV веке. По утверждению Д. С. Лихачева, «обращение поднимающихся Москвы, Твери, Новгорода к киевской, владимирской и новгородской древности соответствовало обращению Запада к классическим источникам». Ученый назвал его обращением «к своей античности»3. Но подобным же обращением к «своей античности», продиктованным опытом и задачами иных времен, явились «Владимир» Феофана Прокоповича, а позже трагедии Сумарокова. Если Расин брал сюжеты своих трагедий преимущественно из античной мифологии, то Сумароков черпал их главным образом из истории Древней Руси.
Важные новации, появившиеся в историографии XVI— XVII веков, не ограничивались расширением подхода, повлекшим за собой хронографическое включение отечественной истории в историю всемирную. Историография данного периода в большей степени, чем это наблюдалось раньше, стала интересовать¬
1 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII вв. — Л., 1973. —С. 114.
2 Там же.— С. 116.
* Там же.—С. ИЗ, 118.
9
ся исторической личностью, мотивами ее поведения. Этот интерес наблюдается в Никоновской летописи и в «Степенной книге». Возникает стремление не только описать явление, но и вскрыть его причины, объяснить поступки исторических лиц. Такую задачу поставил перед собой, по наблюдению Д. С. Лихачева, Андрей Курбский в своей «Истории о великом князе московском», в которой он объяснял в духе времени жестокость Ивана Грозного влиянием злых советников1. Интерес к личности еще более обострился в XVII веке, к-которому относятся первые попытки очертить сложные и противоречивые характеры исторических деятелей. Анализируя исторические повести и сказания, посвященные эпохе так называемого «смутного времени», исследователь этого периода О. А. Державина пишет: «В сложном образе Годунова древнерусский писатель впервые столкнулся с нелегкой задачей — дать характеристику живого человека, в которой перемешаны и хорошие, и дурные качества, которого, как выдающуюся личность с ярко выраженной индивидуальностью, нельзя уложить в привычную схему. И надо сказать, что лучшие из писателей XVII века справились со своей задачей неплохо»2. Это положение, выдвинутое О. А. Державиной и развитое Д. С. Лихачевым3, имеет важное значение при выяснении условий появления русской драматургии и исторической темы в ней. Драматургия имеет дело с самобытно действующими персонажами, поступки которых долж-, ны быть понятны зрителю. Фиксация противоречивых свойств'6 человеческого характера, безусловно, имела положительное значение. Она прокладывала путь драматургам, побуждая их искать рациональные причины человеческих поступков, составляющих основное зерно драматического произведения.
В ходе исторического развития религиозные постулаты постепенно утрачивали в глазах наиболее просвещенных людей свою непререкаемую истинность и значение, что отразилось в некоторых произведениях русских историографов и публицистов, все чаще и чаще пытавшихся объяснить факты реальной истории мыслями и поступками самих людей, а не действием потусторонней силы. Уже Иван Пересветов, по наблюдению Д. С. Лихачева, «почти не пользуется» в своих «писаниях богословскими аргументами»4 *. Характерен и тот факт, что «даже Степенная книга, проникнутая церковной идеологией более, чем
‘Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII вв. — Л., 1973.—С. 128—129.
2 Ученые записки Московского горпединститута им. В. П. Потемкина. Кафедра русской литературы.— Вып. I.—Т. VII.— М., 1946.—С. 30.
3 См.: Лихачев Д. С. Проблема характера в исторических произведениях начала XVII века//Труды отдела древнерусской литературы. — М.; Л., 1951. —Т. VIII. —С. 222—226.
4 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII вв. — Л.,
1973. —С. 130.
10
какое-либо другое историческое произведение XVI века, ставит своей задачей в первую очередь показать деятельность князей»1. Стремление к рациональному объяснению событий заметно усилилось к концу XVII века. Автор «Скифской истории» А. М. Лызлов, «правя» текст «Повести о взятии Царьграда турками», последовательно исключает «все благочестивые размышления составителя «Повести» по поводу свыше предрешенной неминуемой гибели Царьграда» и «все молитвы, влагаемые «Повестью» в уста царя и патриарха». Обращаясь к материалам «Казанской истории», «Лызлов также не привлек ни молитвы, ни послания; которыми обменивался царь с митрополитом»2.
Рационализм, наблюдавшийся в произведениях русской историографии, был связан, в частности, «с усилением интереса русских книжников к античной исторической мысли»3, отличавшейся прагматичностью своего подхода к объяснению конкретных событий. Одним из произведений этой мысли был перевод «Прологов» римского историка Трога Помпея, появившийся в последние годы царствования Алексея Михайловича под названием «Краткое пяти монархий древних описание». Примечательно, что в предисловии к этому переводу русский переводчик, оправдывая свою апелляцию к разуму, а не к божественному промыслу, ссылается на Аристотеля4.
Говоря о факторах, благоприятствовавших возникновению русской драматургии, нужно упомянуть также о некоторых особенностях общественной и духовной жизни русских людей второй половины XVII — начала XVIII века, подмеченных специалистом по истории литературы А. С. Деминым. Ученый установил, что людей этой эпохи отличали подвижность и энергичность, деловитость и предприимчивость, получившие яркое отражение в произведениях литературы и искусства. Излишне говорить о том, что эти свойства людей не могли не способствовать возникновению и общественному успеху драматургии и театра, основой которых является изображение действия, борьбы страстей. Характерно, что А. С. Демин выявляет подмеченные им черты главным образом на материале драматургии этого времени, подчеркивая присущую ее персонажам «живость»5.
1 Очерки истории исторической науки СССР. — М., 1955. — Т. I. — С. 76.
2 Чистякова Е. В. Формирование новых принципов исторического повествования: Этюды по русской историографии конца XVII века/Русская литература на рубеже двух эпох (XVII — начало XVIII в.). — М., 1971.— С. 179.
3 А л п а т о в М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII—XVII вв.— М., 1973. —С. 387.
4 Там же.
5 См.: Демин А. С. Русская литература второй половины XVII — начала XVIII века, —М., 1977. —С. 22—72, 92—209.
И
Наконец, важным обстоятельством, способствовавшим возникновению русского театра и успешному представлению на его сцене исторических пьес, являлось распространенное тогда мнение, уподоблявшее историю человечества театру. «В XVII веке эти представления о жизни-театре казались настолько убедительными, что они сделались предметом провиденциально-историографических разработок, т. е. служили задачам исторической науки своего времени: История человечества казалась единым огромным театром»1.
3
Русская историография второй половины XVII — начала XVIII века причудливо совмещала в своем подходе к явлениям истории старое с новым. Свойственное ей стремление объяснить исторические факты с позиций рационализма связывало ее с будущим и предсказывало превращение ее в историческую науку. Упорно удерживавшийся в ней провиденциализм тянул ее назад. О живучести истолкования истории в духе провиденциализма свидетельствует неоконченный труд ученого-переводчика Посольского приказа Николая Спафария «Хрисмологион», в котором всемирная история традиционно рассматривается под знаком библейского пророчества о четырех мировых монархиях2. Совмещение в «Хрисмологионе» провиденциализма с некоторыми новыми идеями делало его типичным явлением переходного времени.
Таким же переходным явлением была и вся русская литература рассматриваемой эпохи, с большим трудом освобождавшаяся от господства религиозных воззрений. По словам Д. С. Лихачева, «освобождение различных сторон культуры от религии начало проявляться в России только с конца XVII века»3. Но Лихачев назвал XVII век эпохой своеобразного русского Возрождения, характеризующейся борьбой двух литературных систем, старой и новой, и необычайной пестротой жанров4. Наряду с постепенным отмиранием и трансформацией старых жанров происходит образование новых жанров, выражающих рост самосознания личности, ее освобождение от корпоративных связей. Возникают новые, неизвестные Древней Руси виды литературы и искусства: лирика, драматургия, театр.
Появление русского театра было подготовлено всем ходом
1 Робинсон М., 1974.-С. ПО.
А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века.—
2 См. характеристику исторических взглядов Спафария и его «Хрисмо- логиона» в кн.: Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII—XVII ВВ.— М., 1973.—С. 393—395.
3 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. — Л.,
1973. —С. 120.
4 Там же.—С. 151, 163.
12
развития отечественной культуры. Об этом свидетельствуют большой успех, выпавший на долю первых же русских спектаклей, то значительное место, которое заняли театр и драматургия в литературе и искусстве XVII—XVIII веков. Но театр вместе с тем и поражал своей новизной первых русских зрителей. Приведя выдержки из рассказа русского посланника о театральном представлении. А. Н. Робинсон заключает: «Описания эти показывают, что непривычные к театру русские зрители совершенно не замечали театральной условности и были всецело захвачены чувством иллюзии действительности. Несомненно, такое восприятие спектакля было характерным и для первого русского театра в Москве»1.
Весьма примечателен тот факт, что попытка познакомить непривычных к театру зрителей с театральной условностью была предпринята при написании и постановке пьесы, изображающей далекое прошлое. По словам Д. С. Лихачева, этим зрителям на первом этапе была «необходима полная иллюзия» подлинности происходящего перед ними действия. С целью создания такой иллюзии автор первой пьесы, представленной в театре Алексея Михайловича — «Артаксерксово действо», заставил, как говорит исследователь, главного героя царя Артаксеркса, умершего более двух тысяч лет назад, ощутить себя воскресшим, предстать перед русским царем, восхищаться его царством. Этот наивный, но характерный прием, названный Д. С. Лихачевым «преувеличением иллюзии»2, автор «Артак- серксова действа» употребил, введя специальный персонаж — «оратора царева» Мамурзу, который и представляет Алексею Михайловичу, предварительно подготовив его к подобной «встрече», «воскресшего» Артаксеркса.
Д. С. Лихачев связывает способность зрителей воспринимать театральную иллюзию, а следовательно, и само появление русского театра с наличием «развитого ощущения художественного настоящего времени. Театр более любого другою художественного творчества переносит прошлое в настоящее. Для художественной иллюзии действительности необходимо было появление в художественном сознании такого настоящего времени, которое полностью отключало бы читателя, зрителя или слушателя от реальной действительности автора и исполнителя и создавало бы впечатление «второй» художественной действительности, полностью погружало бы зрителя и слушателя в свой особый мир — мир художественного произведения»3.
1 Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. —• М., 1974. —С. 108.
2 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. — 3-е изд.— М., 1979. —С. 287.
'3 Там же.— С. 285, 286.
13
Способность к восприятию этой «второй» действительности явилась, по мнению ученого, прямым результатом роста изобразительного начала в русской литературе. Характерно, что этот рост ученый показывает преимущественно на произведениях исторического жанра — летописях и хронографах, прослеживая постепенный переход их составителей от перечисления событий к рассказу о событиях, а затем и к изображению их.
Но не только переходом к изображению событий историография помогала рождению драматургии. Историки издавна прибегали к диалогической форме, включая в свое повествование пространные речи исторических героев и разговоры между ними. Такие речи содержатся в древнерусской летописи и, особенно, в сочинениях античных историков. Ранние русские драматурги не могли также пройти мимо ярких речей, которыми изобилуют книги Геродота, Фукидида, Полибия и др.
Но главным и решающим обстоятельством было появление нового взгляда на историю. «Если прежде, — пишет современный литературовед А. М. Панченко, — история определяла судьбу человека, то в канун петровских реформ человек предъявил свои права на историю, попытался овладеть ею»1.
Являясь одним из характернейших новых видов литературы переходного периода, ранняя русская драматургия отразила в процессе своего становления некоторые черты барокко2. Этими чертами отмечены в большей или меньшей степени пьесы крупнейших русских драматургов последней трети XVII — начала XVIII века: Симеона Полоцкого, Димитрия Ростовского (Д. С. Туптало), Феофана Прокоповича. Типичным выражением его являются многочисленные школьные драмы.
Зародившись на Западе, преимущественно в католических странах, барокко проникло во второй половине XVII века из Польши через Украину в Россию, где получило в связи с особенностями развития русской культуры своеобразный характер.
В России барокко приняло на себя функции Ренессанса, одновременно продолжив (а не восстановив, как это было на Западе) в барочном осмыслении средневековые культурные традиции, с которыми оно не порывало3. Среди идей, облюбован¬
1 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — Л., 1984. —С. 51.
2 О русском барокко см.: Морозов А. А. Проблема барокко в рус¬
ской литературе XVII — начала XVIII века//Русская литература.— 1962. — № 3. — С. 3—38; Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X —XVII вв.—Л., 1973.—С. 202—214; Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. — М., 1974.—С. 7—16; Федоров В. И. Литературные направления в русской литературе XVIII в. — М., 1979.—
С. 3—7; История русской литературы. — Л., 1980. — Т. I. — С. 398—407; Федоров В. И. История русской литературы XVIII века. — М., 1982.— С. 9—41.
3 См. об этом в кн.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII вв. —Л., 1973. —С. 204 и др.
14
ных представителями барокко, была идея о суетности всего земного, коренящаяся в христианском мистицизме. А рядом с ней проповедовалась идея гражданской активности, связываемая с «принципом «общественной пользы» и идеализацией абсолютного монарха»1.
Мировоззрение художников барокко отличается глубокой противоречивостью, своеобразно отразившей противоречия переходной эпохи. Автор барочного произведения не только не стремится устранить противоречия, добиться их разрешения, но, напротив, заостряет, абсолютизирует их, придает им характер чего-то вечного, неустранимого. На его произведениях лежит печать трагизма, обычно смягчаемого в творениях русских представителей этого направления.
В произведениях художников барокко все строится на контрастах, составляющих эстетическую основу их поэтики. По словам современного исследователя, один из важнейших принципов их творчества «состоял в стяжении противоборствующих начал в единое целое, в сочетании несоединимого»2. Для барокко характерно сочетание трагического с комическим, а также соединение христианской мифологии с мифологией античной. Полный противоречий и контрастов мир изображался художниками барокко с помощью широко и многосторонне разработанной системы аллегорических образов и эмблем, специфическое применение которых выражало своеобразие их подхода к воспроизведению действительности. Это своеобразие заключалось в стремлении художника барокко к замене одного предмета или явления другим, имеющим с ним сходство, к аллегорическому выражению первого явления через второе. Говоря о творчестве драматурга Степана Чижинского и других «ла- тинствующих», во главе которых стоял Симеон Полоцкий, М. Я. Поляков замечает, что в их барочной системе «господствовали противоречивые тенденции. Мир представал перед ними как некое собрание символов, знаков, иероглифов и эмблем. Понятие аналогии и сходства было самым явным и универсальным представлением об окружающем мире»3.
Совершенствуя средства символико-эмблематической изобразительности, представители искусства барокко оставляли в пренебрежении изобразительность, совершенствование которой является необходимым при создании произведений, основывающихся на соблюдении правдоподобия.
‘Поляков М. В мире идей и образов.— М., 1983.— С. 329.
2Софронова Л. А. Миф и драма барокко в Польше и России//Миф — фольклор — литература. — Л., 1978. — С. 67.
3 Поляков М. В мире идей и образов.— М., 1983.— С. 331.
15
Основные идеи, темы, конфликты, образы
1
Обратимся к начальному периоду русской драматургии — придворному и школьному театру последней трети XVII — первой половины XVIII века. Русский театр начался постановкой пьес, воспроизводящих далекое прошлое. Материалом для представлений, дававшихся при дворе царя Алексея Михайловича, служили главным образом сюжеты, взятые из Библии. Известное место занимали театральные представления, основанные на житиях святых и на античной мифологии.
Но уже в самый начальный период стали появляться пьесы, посвященные изображению подлинных исторических событий и лиц. Первым таким драматургическим произведением явилась пьеса «Темир-Аксаково дейетво» (малая комедия о Баязете и Тамерлане), поставленная, вероятно, в начале 1675 года1. Позднее, уже в XVIII веке, появились другие пьесы, написанные на историческом материале: «Сципио Африкан, вождь римский, и погубление Софонизбы, королевы Нумидийския», трагедокоме- дия «Владимир», «Диалог о Гофреде, победившем сарацины», «Пьеса о воцарении Кира», «Опера об Александре Македонском», «Акт о царе перском Кире и царице скифской Тамире» и т. д.
Какие же цели преследовала ранняя русская драматургия, обращаясь к прошлому, «воскрешая» его? Прежде всего — нравоучительные. В картинах прошлого искали поучения в духе религиозной морали, чему соответствовал выбор библейских сюжетов для большинства пьес. Но и в сюжетах чисто исторических театральные деятели того времени находили богатый материал для поучения. Недаром в прологе к пьесе «Темир- Аксаково действо» говорилось, «что в камедиях многие благие научения, так же и красные приговоры выразумети мочно...» Показывая поступки людей, живших «в древних летех», они помогают от «всего злодейства отстать и ко всему благому приставать»2.
Преобладание моралистического подхода, характеризующее раннюю русскую драматургию, отнюдь не делало ее отвлечен¬
1 См. характеристику репертуара придворного театра царя Алексея Михайловича в кн.: Ранняя русская драматургия: Первые пьесы русского теат- ра/Вступит. статья А. С. Демина, О. А. Державиной, А. Н. Робинсона. — М., 1972. — С. 12.
2 Отмечают, что «эта часть пролога знаменательна и не случайна: руководители театра, предлагая своим зрителям пьесу чисто светскую, написанную на исторический сюжет, стремятся объяснить царю и его приближенным, что и такая пьеса полезна и поучительна» (Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. — М., 1972. — С. 9).
16
ной, оторванной от современности. Все исследователи, занимавшиеся ею, отмечают ее связь с современными политическими событиями, осуществляемую обычно с помощью исторических аналогий, прямых намеков на современность. Нося придворный характер, ограничивавший ее кругозор, она тем не менее ставила и обсуждала большие нравственные, политические, философские вопросы, в постановке которых в той или иной мере отражалось насыщенное богатым историческим содержанием и бурными событиями время.
В обстановке ожесточенной классовой борьбы происходило становление и оформление абсолютизма, которому предстояло преодолеть последствия разорения страны, вызванного польско- шведской интервенцией, развивать в этих условиях экономику и культуру русского государства.
Неудивительно, что ранняя русская драматургия, родившаяся при дворе, ярко отразила идеологию абсолютизма. Те нравоучения, которые составляли ее существенное содержание, неизменно давались в ее произведениях с позиций утверждения «боговдохновенной» единодержавной власти. Царь признавался единственным источником процветания народа и государства, создателем его спокойствия и благополучия. С помощью исторических аналогий и примеров в пьесах всемерно подчеркивались его разум, благотворность его власти. Для прославления монарха употреблялся риторический стиль, характеризовавшийся гиперболизмом, наличием «высоких» эпитетов. Царь сравнивается в пьесах с солнцем, в подчинении его «скифетру» оказываются чуть ли не все страны мира, своим могуществом он вызывает страх и трепет, готовность служить ему и покоряться. Его называют земным богом.
По представлению драматургов, он отличается добротой и справедливостью, желает блага своим подданным, заботится о них. Будучи глубоко верующим человеком, является носителем идеи христианства и защитником христиан в других странах. Ему чужды гордость и жестокость. Во всем его облике и поведении подчеркиваются христианское смирение и миролюбие, сочетаемые с твердостью в отстаивании своих принципов.
Рисуя идеального царя, драматурги считали, что его власть угодна богу. В этом выражалась характерная черта идеологии абсолютизма, нуждавшейся в религиозном обосновании. Но это обоснование производилось в то время, когда самодержавие вело борьбу с претензиями церковников на участие в государственных делах, происходившую в обстановке все более усиливающегося освобождения культуры от религиозной опеки. В такой обстановке произошло изменение образа идеального царя. В пьесах он представал как «отец отечества». Таким «отцом отечества» выступал прежде всего Петр I, аллегорически изображавшийся в многочисленных панегирических пьесах и декламациях, посвященных ему и его преемникам на троне.
!'' - ■ ■-
2 Заказ 4708 ;г ^ 'г-' -r I
17
В этих пьесах религиозное обоснование власти царя нередко сочетается с обоснованием рационалистическим, а христианские добродетели монарха заменяются его стремлением бороться за «общее благо» и неукоснительное соблюдение законов, выполнение которых является обязательным и для царя.
Религиозный взгляд на явления общественно-исторической жизни, в том числе на природу царской власти, продолжал существовать и в XVIII веке. Его взяли на вооружение противники Петра I и проводившихся им реформ. Этот взгляд отразился в «Венце Димитрию» и в «Пьесе о воцарении Кира».
В пьесе «Венец Димитрию» (1704), написанной на основе жития Димитрия Солунского, устами ее героя ставится вопрос: «Лучше ли боятися царя земного или небесного?» Всем содержанием пьесы утверждается мысль, что «боятися» нужно царя небесного. В этом произведении, примечательном во многих отношениях, есть развернутый философско-идеологический спор, прямо относящийся к основной проблеме.
«Пьеса о воцарении Кира» была написана во время правления Петра II и посвящалась прославлению А. Д. Меньшикова, аллегорически выведенного в образе Гарпага. Все это превосходно доказал в комментарии к пьесе А. С. Демин.
На фоне этих произведений отчетливо выступают идейные и художественные достоинства трагикомедии Феофана Прокоповича «Владимир», написанной вскоре после появления «Венца Димитрию» (первое представление «Владимира» состоялось 3 июля 1705 года) и задолго до написания «Пьесы о воцарении Кира». Новаторская пьеса Феофана Прокоповича прозвучала как настоящий гимн просвещению, культуре, разуму человеческому. Обратившись первым из русских драматургов к сюжету, взятому из отечественной истории, Феофан Прокопович с полным основанием истолковал лежащее в основе этого сюжета принятие христианства как событие большого исторического значения. В пьесе прозвучала решительная поддержка всего нового, прогрессивного в борьбе против защитников косной старины, в том числе против невежественного, реакционного духовенства, подвергнутого осмеянию. То обстоятельство, что сам автор был духовным лицом, а его пьеса о введении христианства представлена была на сцене духовной школы — Киевской академии, не оказало существенного влияния на ее концепцию.
Огромной заслугой автора пьесы является создание яркого положительного образа мудрого правителя государства в лице князя Владимира. У Владимира, изображенного Феофаном Прокоповичем, обнаруживается прежде всего (во всем его поведении, речах и поступках) большая тяга к знанию, пытливость ума, сила интеллекта. Чрезвычайно показателен в этом смысле его большой монолог во втором явлении четвертого действия, где Владимир предается размышлениям перед принятием окон-
18
чателыюго решения о переходе в христианство. Он тщательно взвешивает все обстоятельства, проявляя государственную мудрость, сочетаемую с глубокой человечностью. «Не повергну ли греческим под нозе царем венца моего?» — спрашивает он, понимая необычность предстоящего шага. Ведь обычно «закона побежденний просит от победника», здесь же, наоборот, одержав победу над Византией (взятие Корсуни), Владимир решает принять веру побежденных.
Волнуют его и вопросы этические и философские. Его смущает аскетизм христианской религии, столь стеснительный для языческого жизнелюбия и страстной натуры князя. «Аще он ест создатель мира вещественна, — размышляет Владимир о христианском боге, — то почто созданию своему противний закон вносит?» Владимир окружен в пьесе атмосферой духовности, созданию которой способствует образ Философа, прибывшего к нему из Византии в качестве посла.
По контрасту с Владимиром и Философом в пьесе рисуются жрецы, воплощающие животное начало в человеке: грубость, чревоугодие и т. п. Высокий интеллектуализм пьесы, наличие в ней выразительного спора по религиозно-философским вопросам делают ее явлением примечательным и в то же время типичным.
Создавая образы идеальных правителей, приумножающих славу отечества, борющихся за просвещение, лучшие из русских драматургов конца XVII — начала первой половины XVIII века предвосхищали появление образа просвещенного монарха в драматургии эпохи классицизма.
2
Однако далеко не всякий царь получал у драматургов положительную оценку и являлся для них предметом искреннего восхваления. В ранней русской драматургии отчетливо наметилось противопоставление «идеального» царя царю-тирану, также нашедшее развитие у позднейших драматургов. Дурные правители, изображавшиеся в ранних русских пьесах, выступали обычно носителями таких качеств, как гордость, властолюбие, жестокость, хвастливость, надменность, постоянное стремление прибегать к насилию и угнетению. В зависимости оттого, являлся ли изображаемый правитель положительным или отрицательным персонажем, употребляемые для его характеристики сравнения и эпитеты (сравнение царя с богом, с солнцем и т. д.) осмысливались по-разному, получали неодинаковое наполнение.
Противопоставление «идеального» царя дурному правителю содержится уже в первой пьесе русского театра — «Артаксерк- совом действе». Здесь могущественным и добрым государем
2*
19
является «царь перский» Артаксеркс, сближаемый (в «Предисловии») с Алексеем Михайловичем. Носителем же гордости и властолюбия выступает в пьесе «воевода царев и княг,ь» Аман, которому противопоставляется носитель смирения Мардохей— дядя второй жены Артаксеркса Есфири. Эта последняя также показана как носительница смирения, оттеняющего гордость первой жены царя Астини. Как и во многих пьесах раннего русского театра, в «Артаксерксовом действе» проповедуется библейская формула, говорящая о наказании гордых и награждении смиренных. В «Предисловии» к пьесе сказано, что в ней речь пойдет о том, «како гордость сокрушается и смирение венец приемлет».
В пьесе Артаксеркс не только «можнейший монарх», «ски- фетр» которого «достизает даже до Аравии и муринов обладает», но и благодетель своих подданных. Сравнение его с солнцем дается здесь в том плане, что, подобно солнцу, дарующему всем свои лучи, он должен «всех подданных своих в щедротах призирати».
Содержащееся уже в этой пьесе наименование царя земным богом дано в контексте, исключающем противопоставление земного бога небесному. Тоскующий по любимой жене Артаксеркс, повторяя слова «думного царева» Харсены, назвавшего его земным богом, с недоумением отвечает:
Бог земный? Како же в веселии печаль аз обретаю,
Во всех бо скорбех себе быти признаваю?
Не таков гордый и жестокий Аман, считающий себя «по царе царем», видящий в одном себе причину того, что «Персия славится и меды процветают». За свою жестокость и коварстго он получает заслуженное наказание, подвергаясь позорной казни.
Образы тиранов даны и в пьесе «Иудифь» (1673), в которой мы впервые встречаемся с вавилонским царем Навуходоносором (605—562 гг. до н. э.), фигурирующим во многих пьесах. Не являясь в этом произведении главным действующим лицом, Навуходоносор все же получает в нем отрицательную характеристику. Он выступает царем-деспотом, угнетателем народов. В пьесе царь тоже сравнивается с солнцем, но здесь это сравнение долженствует подчеркнуть его непомерную гордость. «Самое солнце», по утверждению Навуходоносора, смущается тем, что «сицевый вельможа перед оным усмиряется». Формула «земной бог» связывается здесь с угнетением народов, с безудержной агрессией. «Дерзай, наступай, непобедимый Навуходоносор!— восклицает слуга царя Лапидоф. — Не остави ни единое же место всея вселенныя, иже либо скифетр твой не лобзает, или меча твоего не осязает. Принуждай всемародие, да исповедуют, яко ты един еси бог земный». Тема «меча Навуходоносо¬
20
ра» проходит через всю пьесу, занимая особое место в ее сюжете. Царь вручает свой меч полководцу Олоферну, который в конце концов от этого меча и погибает. Мрачным и отталкивающим образом Олоферна выразительно дополняется образ царя- завоевателя. Свирепого полководца ярко характеризуют слова, которые он произносит, принимая меч Навуходоносора. «Токмо опасаюсь, — говорит он, — дабы рука моя чрезъизлишно дерзостна не была».
Законченным тираном и жестоким завоевателем выступает в пьесе «Темир—Аксаково действо» турецкий султан Баязет (Баязид I, 1360—1403), добивающийся господства над всем миром. «Присягаю на то, — говорит он, — что я кроворазлитием и забойством (заниматься. — В. Б.) не престану, покамест весь человеческий народ скажут, что Байцет бог земленой». Как видим, здесь снова появляются слова о земном боге, вложенные на этот раз в уста тирана, похваляющегося своей силой и жестокостью. На вопрос о том, какое повеление он отдаст войскам, когда они возьмут Константинополь, Баязет отвечает: «Что за повеление? Что воину подобает грабить, убивать, такоже и младенца во чреве матери жива не оставлять... да и пес во всей греческой земле не останется».
В наиболее отчетливом виде противопоставление «доброго» царя царю «злому» дано в пьесе лучшего поэта и драматурга второй половины XVII века Симеона Полоцкого «О Навходоно- соре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи на сожженных», написанной в 1673 — начале 1674 года. Добрым царем выступает Алексей Михайлович, характеристика которого содержится в предисловии («Предисловце») к пьесе, заменяющем пролог. Ему противопоставляется Навуходоносор, являющийся носителем совершенно иных качеств («Навходоносор не тако живяще», — говорится в «Предисловце»). Он помрачен «тмою неверства», исполнен «гордости». Считая себя «богом богов», он приказывает отлить из золота его «образ», которому все должны поклоняться как богу. Свойственные Навуходоносору свирепость и жестокость проявляются в его решении заживо сжечь трех отроков, отказавшихся поклоняться его изображению. Эти же свойства отмечены и в ремарках. Царь «с гневом глаголет отрокам» и кричит, «разярився».
Рисуя образы дурных правителей, царей-тиранов, драматурги отмечали в них обычно черты завоевателей, наглых агрессоров, грабящих и разоряющих города, опустошающих целые государства. Этим самым уже на раннем этапе существования русской драматургии была создана очень характерная для всего ее последующего развития гуманистическая традиция, связанная с осуждением организаторов несправедливых, захватнических войн.
Царей-завоевателей драматурги показывали обычно занимающимися «забойством» и «кроворазлитием» профессиональ¬
21
но, с полным убеждением в своем неотъемлемом праве производить разбой и опустошение. Характерно, что в ряде пьес образы завоевателей предстают в окружении своих ближайших помощников, солдат, наемников, разделяющих циничную мораль своих повелителей. В этом отношении особенно показательны во многом сходные между собой пьесы «Иудифь» и «Те- мир-Аксаково действо», содержащие колоритные солдатские сцены, участниками которых являются шут Сусаким («Иудифь»), Сибла («Темир-Аксаково действо») и другие.
В драматургии первой половины XVIII века наряду с аллегорическими образами завоевателей, один из которых выразительно назван Неправедным Хищением, выступали также завоеватели, прототипами которых были библейские и исторические лица. Так, в пьесе «Действо о князе Иефае Галаатском, како принесл дщерь свою единородную на жертву богу», написанной на библейский сюжет, изображен завоеватель «царь Аммонский», выступивший против вождя израильтян «князя Иефая». В «Диалоге о Гофреде, победившем сарацины», дошедшем до нас в неоконченном виде, противником Гофреда (участника первого крестового похода Готфрида Бульонского) выступает представитель сарацин Гигас, произносящий хвастливую речь, в которой он заявляет, что жестоко накажет тех, кто посягнет на его завоевания в Азии.
Интересно, что в пьесах 40-х годов XVIII века без всякой идеализации рисуется образ Александра Македонского. В «Декламации ко дню рождения Елизаветы Петровны» (1745) устами Славы (аллегорический персонаж) утверждается, что ничего нет достойного в прославлении деятельности человека, утвердившего свою власть над многими государствами ценою крови и насилия. Отвечая другому аллегорическому персонажу (Древности), восхищающемуся тем, что Александр Македонский поверг к своим ногам «вселенну», прославив себя храбрыми делами, Слава говорит:
Се ли диво, что противо ему не могл стати всецелой свет? На то ответ, что все его рати Крове полны были склонны, чтобы вся наветы прошед дружно всеокружно всем светом владети.
В другой пьесе, «Опере об Александре Македонском», автором которой, по предположению исследователей, мог быть создатель замечательной «Декламации» 1745 года Михаил Тихор- ский, оспаривается право Александра Македонского на бессмертие. В пьесе сам Александр, произносивший гордые речи, под действием аргументов, выставленных его оппонентом Меркурием, признает свою славу мнимой.
Завоевателем представлен и Кир в пьесе «Акт о Кире иТа- мире», дошедшей до нас в двух редакциях. В пьесе ему противостоит Тамира. В первой редакции пьесы она говорит, обра¬
22
щаясь к Киру: «Но ты, проливая крови, искал моего трона». Такое же противопоставление находим во второй редакции, в предисловии к которой говорится, что «Кир царь перски зело распалися завистию и охотою владения, зелне победивши мно- гия страны и всю Азию, абие разжигается и умышляет победи- ти премудрую и ирехрабрую скифскую царицу Тамиру».
Порицая завоевателей, драматурги прославляли мир между народами и государствами. Тема прославления мира, являющаяся одной из характерных тем русской исторической драматургии, начинает звучать уже в первых пьесах русского театра, посвященных легендарному или историческому прошлому.
О мире мечтают персонажи «Артаксерксова действа». Один из них — Садок — говорит:
И паки да поживем в тишине и мире!
К миру стремится и сам Артаксеркс, отнюдь не отличающийся агрессивностью. Он весьма ценит усердие своего полководца Амана, но не за подвиги, связанные с завоеваниями, а за то, что тот «от крови и войны спасл есть мои пределы».
Проявлению идеи миролюбия в литературе и искусстве благоприятствовало то обстоятельство, что правительственные круги, учитывавшие сложное внутриполитическое положение, стремились решать вопросы внешней политики прежде всего мирным путем, предпочитая дипломатические переговоры военным действиям. Россия не в£ла тогда завоевательных войн, добиваясь лишь возвращения территорий, отторжение которых препятствовало ее дальнейшему развитию. Известное значение имело также знакомство передовых людей России с идеями поборников мира и просвещения западноевропейских стран. В 1710 году был осуществлен первый русский перевод трехтомного труда голландского юриста и социолога Гуго Гроция «О праве войны и мира», призывавшего решать вопросы международной политики мирным путем1.
Неудивительно, что не только при Алексее Михайловиче, но и в годы царствования Петра I и его преемников тема мира неоднократно освещалась в драматических произведениях. Характерно, что эта тема затрагивается в таком замечательном произведении прогрессивной русской литературы, как трагедоко- медия «Владимир», где она связывается с основным его содержанием. Владимир говорит о греческом после (упоминавшемся выше Философе), что «завещанний мир с намы крепчае хощет сей посланний утвердити». Принятие Россией христианства в этом политическом контексте, в согласии с летописными данными, рассматривается как вклад «в крепост мира».
1 Гуго Гроций делил войны на справедливые и несправедливые. С подобным делением мы встречаемся и в русской драматургии.
23
В «Опере об Александре Македонском», посвященной прославлению Петра I и его преемников, устами воинственной богини Афины Паллады (этот аллегорический персонаж фигурирует в пьесе под именем Палляды) говорится, что в соответствии с ее волей утверждается в России мир («мною алианс мирны состоит по брани»). И даже сам бог войны Марс, также выступающий в этой пьесе в качестве аллегорического персонажа, возвещает, обращаясь к России, что наступили «дни благие мира и торжеств», о чем «прежде лет Петровых и слышалось мало». В пьесе «Стефанотокос» проповедь мира ведется персонажем, символизирующим Европу. Характерно, что эта проповедь соединяется здесь с осуждением тирании. Европа говорит, что в интересах развития просвещения, торговли, градостроительства научит «со всеми имети мир и согласие»:
Мирохранители аз питаю избранна;
Всякаго гнушаюся лютаго тиранна...
Следует, однако, отметить, что драматургия рассматриваемого времени, стоявшая на официальной точке зрения, проповедовала не только мир между народами и государствами, но и мир гражданский, мир между классами и сословиями. В тех редких случаях, когда драматурги и писатели все же касались темы о бунтах и восстаниях, они неизменно давали им отрицательную оценку. По свидетельству И. П. Еремина, в произведениях Симеона Полоцкого царь выступает не только как щедрый покровитель просвещения, неустрашимый «оборонца» своих подданных от турецкого султана, крымского хана и «ляхов пре- гордых», но и как укротитель народных «мятежей», расшатывающих государственное единство складывающейся абсолютной монархии. Наоборот, Мир, фигурирующий в пьесе «Страшное изображение второго пришествия», не только прославляет грабительские войны, но и призывает к «самоволию», к отказу «покорятися властем», что также выражает авторскую позицию осуждения мятежей. По свидетельству иностранца Ф. X. Вебера, в театре царевны Натальи Алексеевны в 1716 году была показана аллегорическая пьеса, написанная на библейскую тему, в конце представления которой «вышел оратор, объяснивший историю представленного действия и обрисовавший в заключение гнусность возмущения и бедственный всегда исход оного». По предположению Ю. К. Бегунова, в пьесе были аллегорически представлены «бунт четырех стрелецких полков летом 1698 года и попытка царевны Софьи захватить власть»1.
Почти полное отсутствие в произведениях ранней русской драматургии показа картин острой социальной борьбы не приводило, однако, к идиллически спокойному и благодушному
1 История русской драматургии: XVII — первая половина XIX века.— Л., 1982. —С. 41.
24
изображению жизни. Избегая, как правило, изображения борьбы межсословной, классовой, драматурги показывали напряженную внутрисословную борьбу, происходившую в высших сферах. Наличие ее в русском обществе XVII—XVIII веков обусловливало интерес драматургов к соответствующим историческим сюжетам и коллизиям, воспроизводившимся ими весьма отчетливо и с большим эмоциональным накалом. С такой же повышенной заинтересованностью воспринимались эти коллизии зрителями. А. Н. Робинсон, указав на наличие в «Артак- серксовом действе» темы «возвышения» и «падения» близких к трону людей через изображение плачевной судьбы «гордых» Амана и Астини, замечает: «Внимание придворной драматургии и поэзии к этой теме объяснялось реальными причинами: наступала эпоха «временщиков» и было уже не так далеко до расцвета фаворитизма в XVIII веке»1. Исследователь отмечает наличие в этой пьесе и другой «столь же характерной для мироощущения абсолютизма» темы дворцового заговора («измены»), связанной с изображением двух заговорщиков, пытавшихся произвести переворот в пользу отвергнутой Артаксерксом Астини2.
Интересно, что в первых же пьесах русского театра появилась и тема самозванчества, неразрывно связанного с судьбами русского самодержавия.
Следует заметить, что известное снижение драматизма в раннем русском театре, связанное с избирательностью тематики3, не привело к бесконфликтности, к резкому ослаблению социального пафоса, который ярко проявлялся, как мы видели, в симпатиях к миру, в осуждении тиранов, в гуманистической направленности, почтительных (чаще всего иносказательных) рекомендаций, адресуемых правителям.
3
Значительность социального содержания ранней русской драматургии сказывается прежде всего в том, что во многих ее произведениях речь идет о судьбе целых народов. Таковы пьесы «Артаксерксово действо» и «Иудифь», где говорится о судьбе евреев в царстве Артаксеркса и в осажденном Олофер- ном городе Вефулия, таково же «Темир-Аксаково действо», в котором Темир-Аксак приходит на помощь византийскому императору Палеологусу, защищая христиан от турецкого султа¬
1 Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века.— М., 1974. —С. 165.
2 Там же.—С. 166.
3 О связи ранней драматургии с церемониалом см. в кн.: Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. — М., 1974. — С. 161.
25
на Баязега. Ранний русский театр подхватывает и развивает традиционную в древнерусской литературе героико-патриотическую тему. Характерно, что в одном из произведений, трактующих эту тему, — в драме «Стефанотокос» — фигурирует персонаж, носящий имя Отечество, в уста которого автор вложил горячие патриотические призывы.
Героико-патриотическая направленность ранней русской драматургии получила закрепление в созданных ею женских образах. Эти образы были связаны нитями идейной и стилистической преемственности с немногочисленными, но яркими образами женщин, встречающимися в произведениях древней русской литературы. Д. С. Лихачев, говоря о сочувственном изображении в ней женщин, отметил, что оно было связано «с нарушением узкоклассового феодального литературного стереотипа в изображении людей», поскольку «женщина не занимала обычно своего места в иерархической лестнице феодальных отношений»1. Он указывает на наличие в древней русской литературе трогательных и привлекательных образов юных женщин, а также женских образов героических. Эти же черты предстают, совмещаясь нередко в одном персонаже, в женских образах, созданных русскими драматургами.
Интересен образ царицы Астини («Артаксерксово действо»), в котором женская привлекательность соединяется с твердостью характера, проявляющейся в том, что царица до конца отстаивает свое достоинство. Она отказывается явиться к царю, пирующему с князьями, полагая, что ее призывают туда «в посмеяние». Поступок Астини рассматривается в пьесе как проявление ее гордости. Этот образ должен был заинтересовать зрителя своей новизной и необычностью.
Гордой Астини в пьесе противопоставлена Есфирь, религиозное смирение которой сочетается с героическим самоотвержением: она совершает подвиг, спасая единоплеменников от поголовного истребления. Есфирь не менее привлекательна и женственна, чем Астинь. Отвергнув гордую Астинь, Артаксеркс, покоренный красотой Есфири, страстно привязывается к ней. Исследователи указывают на проявившуюся здесь новизну взгляда. «Перед боярами, — пишет А. Н. Робинсон, — появилась удивительная сцена: повелитель «вселенной» смирился перед юной женщиной, — этим «сосудом дьявольским», — как с детства внушали им всем «отцы духовные». Исследователь справедливо усматривает в монологе Артаксеркса, проникнутом любовью к женщине, черты «такой «высокой» драмы, в которой уже зарождались элементы классицизма»2. Знаменательно,
1 Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. — М., 1970.— С 68.
2 Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII — начало XVIII в.). —М., 1976. — С. 19.
25
что представлением пьесы «Есфирь» начал свое существование Ярославский театр Федора Волкова.
Героический женский образ стоит в центре пьесы «Иудифь». Обладая красотой, которую в пьесе называют «небесной», Иудифь отличается также большим умом, чувствительностью, сметливостью, огромной силой характера, высокоразвитым чувством долга. Приняв близко к сердцу страдания жителей родного города, осажденного полководцем Олоферном, Иудифь вынашивает смелый замысел спасения единоплеменников. Своего наивысшего напряжения действие пьесы достигает в сцене, в -которой Иудифь остается наедине с Олоферном и отсекает ему голову его собственным мечом.
Этот же сюжет разработан в пьесе «О премудрой Июдифе, како Олоферну главу отсече Июдив», написанной, по предположению А. С. Демина, в первой половине 1730-х годов. В пьесе особо подчеркиваются сметливость и острый ум героини, выражающийся в ее многозначных, загадочно звучащих высказываниях.
Фигурирующий в пьесе «Акт о Кире и Тамире» образ царицы Тамиры также принадлежит к числу героических женских образов. В основу сюжета этой пьесы положен рассказ историка Юстина, отметившего необычайное мужество Тамиры. «В то время, — пишет Юстин, — владычествовала над скифами царица Тамира, которая вопреки женскому характеру не устрашилась нашествия неприятелей...» Эта же черта отмечена и в пьесе, особенно в «Предисловии» к ее второй редакции. Сказав о гибели сына Тамиры и части ее войска, автор пишет: «Но что же премудрая Тамирис содевает, что умышляет? впадается ли в скорбь, и якоже и протчие жены, им же свойственно есть от естества соболезновати о чадех своих любезных, никако жеубо в серцы своем печаль и скорбь сокрывати? Отлагает она женское естество и аки мужественное приемлет, ополчается Марсовым оружием, и аки императрица непобедимая Беллоны на- пившися храбростию и мужеством исполняется: се грядет, се воюет, се абие побеждает».
Образ Тамиры представлен в пьесе односторонне, в идеализированном виде. В рассказе Юстина говорится, например, о том, что не только Кир, но и Тамира проявляет военную хитрость. Отвечая на коварные действия Кира, прибегнувшего к обману, Тамира, по словам историка, вовлекла его «в такую же сеть обмана. Ибо, притворись, что с отчаяния, по причине по- терпенного ею поражения, ищет спасения в бегстве, завела Кира в ущелины гор». В пьесе (в обеих ее редакциях) о хитрости Тамиры лишь глухо упоминается. Некоторое выпрямление образа Тамиры связано, как полагает А. С. Демин, с моралистической установкой автора пьесы, решительно противопоставившего абсолютно честную Тамиру коварному обманщику Киру. Следует признать, что в этих рамках образ Тамиры показан довольно
27
ярко. Автору пьесы удалось создать идеализированный образ мужественной матери-патриотки, женщины-воительницы, беспощадно мстящей жестокому и коварному врагу-захватчику* 1.
Наличие ярких положительных женских образов в произведениях ранней русской драматургии имеет большое значение в истории русской литературы и театра. Ими было положено начало созданию целой галереи трогательных и героических женских персонажей, украсивших русскую сцену. Подавляющее большинство этих образов создавалось на историческом материале.
Говоря о положительных образах, созданных русскими драматургами, следует упомянуть о том, что уже тогда в драматургии появился Петр I, которому были посвящены многие панегирические пьесы и декламации, прославляющие одержанные им военные победы, его реформаторскую деятельность. Стремясь осмыслить это колоссальное явление, авторы пьес прибегали к историческим аналогиям, сравнивая царя-преобразова- теля с великими историческими героями. Драматурги сопоставляли прошлое с настоящим, отмечая большие позитивные изменения, связанные с деятельностью Петра I. Так, в пьесе «Слава Российская» (1724) устами Славы (аллегорический персонаж) говорится:
Прежде злые пагубы Россию сретали, ныне на ню вся блага себе излияли; вси, иже прежде на ню роги возносиша, ныне ся ей покорне под позе смириша.
Это сопоставление прежнего времени с теперешним развернуто в пьесе «Слава печалная», написанной по поводу смерти Петра I. «Россия, — говорится здесь, — бех прежде посмеваема, поругаема, озлобляема, бесчестна, неславна, ныне обогащаема, почитаема, покланяема, страшна врагом и преславна»2.
О больших изменениях, происшедших в России, говорится путем сопоставления ее настоящего с прошлым и в «Опере об Александре Македонском»:
Была бедна, всепоследня чрез лета немалы,
В бранех урон, со всех сторон терпела печали.
Но вдруг ожил и ощутил храбрость Марс Петрову,
Где ни звенел, всегда имел победу готову.
v
1 По наблюдению А. С. Демина, в изображении драматургами участия женщины в государственных делах и военных действиях сказался новый взгляд на женщину, появившийся во второй половине XVII века. См.: Демин А. С. Русская литература второй половины XVII — начала XVIII века.— М., 1977. —С. 81.
2 Эти слова произносит Россия, выведенная в качестве аллегорического персонажа. А. С. Демин отмечает, что в этой пьесе впервые появляется «образ громадной России, ставший обычным затем в одах* (Демин А. С. Русская литература второй половины XVII — начала XVIII века. — М., 1977. —С. 250).
28
Особенно большие перемены отмечаются в области науки, искусства, промышленности:
До Петра дни были странны в России науки.
В Петра годы искусств роды всяк имат без скуки.
Были дики там фабрики и заводов мало,
Чисто злато, столь богато, цену потеряло.
Авторы пьес, говоря о Петре I, указывают обычно на новизну его деятельности, вызывающей удивление. В той же «Опере об Александре Македонском» говорится:
Но России монархии щастие столь ново.
Еже сказать, в тонкость понять недоволно слово.
Тем болш ново, бо Петрово имя отродило
Вдруг нетайно, чрезвычайно цел свет удивило.
Новизна всех дел Петра I отмечена и в «Декламации» 1745 года, где говорится, что «труд Петров, России нов, плод принес пречудны, егда в диво» монарх ввел в России заводы, «науки драгие».
В пьесах о Петре I фигурируют и сторонники старых порядков, показываемые обычно в интермедиях в виде комических фигур. Это невежественный поп или раскольник. Так, в одной из интермедий, включенных в «Оперу об Александре Македонском», устами Попа говорится:
Куды какая беда! Чево мы дождали,
Чево наши праотцы и отцы не знали.
Везде проклята ересь латынь размножилас;
которая прежде сего нам, светом, не мнилас.
Как видно из этих слов, Поп не является серьезным противником новизны. Он — глупый и невежественный бражник. «На что много бога знать, — говорит он, — только помолитца можно везде, где пойдеш допьяна упитца». С более серьезными претензиями и обидами выступает в другом «интерлюдиуме» Раскольник, ратующий «за веру старую», ссылающийся на протопопа Аввакума и Мартина Лютера. Но и его образ комически снижается как в самом его монологе, так и в следующей за ним сценке с Чертом, который весьма непочтительно обходится с Раскольником.
Новизна прогрессивных начинаний и невежество осмеиваемых поборников старины подчеркиваются в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир», прославляющей первые петровские преобразования на материале, взятом из отечественной истории. Пьеса Феофана Прокоповича явилась первым в нашей драматургии произведением, в основе которого лежит конфликт нового со старым, развертывающийся не только между ее персонажами, но и в сознании ее главного героя. Следует, однако, заметить, что и у Феофана Прокоповича этот конфликт только намечен..
29
Что касается других драматургов, затрагивающих тему Петра I и его преобразований, то в их произведениях конфликт между новым и старым, лежащий в самой природе драматизируемого материала, являлся еще менее осознанным. Поэтому он и не получил никакого закрепления в сюжете и в образах. Для осознания этого конфликта требовалось понимание закономерности появления нового и ее надличного, но не мистического характера. Вместо этого у апологетов абсолютизма выступало толкование личности монарха как демиурга истории, к тому же далеко не свободное от религиозного мистицизма. В связи с этим происшедшие в обществе перемены отразились в драматургии в качестве изолированной эмпирической фиксации их по схеме «прежде» и «теперь». Но и такая фиксация, наблюдавшаяся на начальной стадии развития русской драматургии, симптоматична. В сущности, она являлась дальним и очень слабым предвестником историзма, обнаружившимся в виде мгновенной «вспышки», для появления которой понадобился крупный общественный сдвиг.
Использование источников.
Проблема исторической верности
1
Рассматриваемый период ознаменован крупными успехами в развитии и распространении исторических знаний. Расширяется тематика исторических сочинений, в которых освещение отечественной истории тесно связывается с событиями истории всемирной. Более широким становится круг привлекаемых источников, делаются попытки их критического рассмотрения и сопоставления. Углубляется подход к историческим явлениям. На смену провиденциализму приходит стремление найти реальные причины и источники наблюдаемых историком перемен. События прошлого оцениваются с позиций современности с учетом запросов абсолютистского государства. Историки и читатели стремятся извлекать из этих событий глубокое поучение, нравственные уроки. Неизвестный автор предисловия к исторической книге, сочинявшейся по повелению Федора Алексеевича, писал, что цстория «украшает человека и душевно и телесно, и всякое человеческое житие, и гражданское пребывание исправляет». Автор видит в ней «учительницу жизни».
Большие перемены, происшедшие в историографии XVII века, дали основание специалистам рассматривать это время как особый период в становлении русской исторической науки. «Развитие исторических знаний в Российском государстве XVI— XVII веков, — пишет М. Н. Тихомиров, — подготавливало почву
30
для появления первых русских исторических трудов, основанных на критическом изучении источников, на прагматическом понимании исторических событий»1.
Самым крупным из этих трудов явилась «История Российская» В. Н. Татищева, представленная им в Академию в 1739 году, но изданная значительно позднее. Другой выдающийся, хотя и гораздо менее совершенный, исторический труд — «Ядро Российской истории» А. И. Манкиева — появился в печати с большим опозданием: он был закончен в 1715 году, а издан посмертно лишь в 1770 году. В связи с этим читателям долгое время приходилось довольствоваться устаревшим «Синопсисом» Иннокентия Гизеля — первой печатной книгой по русской истории, вышедшей в 1674 году.
Успехи в развитии исторических знаний, достигнутые в России конца XVII — начала XVIII века, не могли, конечно, привести к восполнению всех пробелов, имевшихся в этой области. Представление об историческом процессе у ряда авторов оставалось еще примитивным. Высказывались догадки и предположения, отличавшиеся большой наивностью. Критическое отношение к историческим источникам, особенно у авторов, писавших в XVII веке, было развито еще слабо.
Не менее заметной является идейная, мировоззренческая ограниченность многих авторов исторических сочинений, связанная с их классовой позицией. Интересы демократических слоев общества отражались в немногих произведениях исторического содержания — в Псковской летописи, в «Повести о взятии Азова», в песнях о Степане Разине, в записях былин. В других же произведениях, в том числе и трудах крупных историков и общественных деятелей, нередко встречалась резко выраженная неприязнь к простому народу, к его попыткам отстоять свои интересы2. Рассказывая о прошлом, авторы останавливались по преимуществу на событиях политической жизни, не касаясь экономических и социальных вопросов. «Интересы историка все время ограничиваются областью политической истории. Только в отдельных случаях, говоря о народных бедствиях, Татищев отступает от своих гем»3.
Сильные и слабые стороны русской историографии конца XVII — начала XVIII века отразились в драматических произведениях, написанных на историческую тему.
На творчество драматургов, особенно на создателей школьных драм, оказали влияние школьные поэтики, писавшиеся на
1 Очерки истории исторической науки в СССР. — М., 1955. — Т. 1.— С. 104.
2 См.: там же.— С. 102, 104, 189 и др.
3 Там же. — С. 189. Ср.: Сахаров А. М. Историография истории СССР: Досоветский период. — М., 1973.— С. 64.
31
латинском языке. Это влияние было в достаточной степени противоречивым.
С одной стороны, эти пособия играли положительную роль, поскольку они популяризировали эстетические идеи великих мыслителей древности, в первую очередь Аристотеля. Исходя из теории драмы Аристотеля, авторы школьных поэтик отдавали предпочтение сюжетам, взятым из истории.
Авторы лучших русских и иностранных пособий, не довольствуясь простым изложением учения античных мыслителей о драме, пытались развивать это учение в духе гуманизма.
Недаром некоторые из них, в том числе Феофан Прокопович, ссылались в трактатах на французского филолога-гуманиста, комментатора античных текстов Скалигера, вызвавшего своей деятельностью злобу религиозных противников, особенно иезуитов.
С другой стороны, школьные поэтики, в которых излагалось учение о драме, носили нередко схоластический характер, обнаруживая традиционность мышления их составителей. Сказывалась и тенденциозность этого рода сочинений, написанных уче- ными-теологами для учащихся духовной школы. Исторические сюжеты понимались авторами пособий прежде всего как сюжеты библейские, в которых их интересовало не историческое зерно библейских мифов, а лишь одно поучение. С религиознонравоучительным подходом авторов учебников связано и оправдание ими включения в драму аллегорических персонажей, бывших характерной принадлежностью школьной драматургии. Аллегорический способ изображения препятствовал подготовке условий для появления подлинно исторического подхода к изображению действительности в драматических произведениях. Не меньшим препятствием являлся и другой предрассудок. Сочинители русских и иностранных руководств по поэтике давали подробные указания к разбивке на акты и сцены тех или иных библейских сюжетов, полагая, что это и может составить основу будущей пьесы.
От этих крайностей — проповеди схоластического аллегоризма и символизма, смещающего реальную историческую действительность, превращающего ее в фикцию, и буквалистского следования за источником, перечеркивающего творческую фантазию, вымысел художника, в основном сумел уберечься Феофан Прокопович в своем курсе лекций «О поэтическом искусстве», прочитанном им в Киево-Могилянской академии в 1705 году.
Феофан Прокопович не схоластически, а творчески воспринял труд Аристотеля1, обнаружив глубокое понимание термина «подражание», имеющего у мыслителя древности универсальное
1 «Феофан чуждался иезуитского схоластицизма», — пишет Н. С. Тихо- нравов. (Журнал министерства народного просвещения. — 1879. — Май. — С. 62).
32
значение1. По верному замечанию А. Н. Соколова, «Ф. Прокопович употребляет термин «подражание», как и Аристотель, в смысле «воспроизведение, отражение предмета». Ученый отмечает, что автор поэтики «обычно употребляет рядом два понятия: вымысел или подражание, сближая, «уравнивая» их2. С этих позиций Ф. Прокопович трактует вопрос об использовании фантастики.
Среди различных способов «подражания» он называет, говоря об эпических произведениях, фантастические образы и эпизоды. Смело вводит фантастику Феофан Прокопович и в трагедокомедию «Владимир». Достаточно напомнить о появлении в начале пьесы тени убитого Владимиром Ярополка. Имеются в ней и аллегорические персонажи: «Бес мира», «Бес хули», «Бес тела», «Прелесть». Однако в трактате «О поэтическом искусстве» Феофан Прокопович ничего не говорит об аллегорических персонажах применительно к драме, в других же частях курса он с неудовольствием упоминает о встречающихся у современных поэтов обращениях к античным богам. Такие обращения он считает неуместными в произведении христианского поэта. Последний должен ограничиваться образностью и символикой, связанными с христианской мифологией, не примешивая к ней античных богов. Подобное смешение двух мифологий— христианской и языческой — было широко распространено в иезуитской школьной драме, под влиянием которой оно проникло в пьесы украинских и русских драматургов.
Феофан Прокопович с неодобрением отзывается в своем курсе о драматургии иезуитов, в которой он находит отсутствие вкуса, нарушение правдоподобия3, стилистические излишества. Он говорит, что «никакой другой закон искусства не нарушается так часто, как пристойное, в особенности некоторыми трагическими стихоплетами; они заставляют царей на сцене давать нелепые повеления, вздорные советы, вопить по-бабьи, ребячески сердиться, буянить, словно пьяницы, выступать как хвастливые женихи, разговаривать подобно ремесленникам в мастерских или мужикам в кабаках». В качестве образчика он приводит действительно нелепо звучащие речи из школьной драмы иезуита Канона.
Много внимания уделил Феофан Прокопович в своем трактате вопросу о том, как соотносятся между собой историк и поэт. Развивая мысли, высказанные по данному вопросу Аристотелем, он писал: «Я удивляюсь, что иезуит Понтано — впрочем, ученый муж — сближает историка с поэтом, потому что в
1 См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. — М., 1975.— С. 415.
2 Соколов А. Н. О поэтике Феофана Прокоповича//Проблемы современной филологии: Сб. ст. — М., 1965. — С. 446.
5 Отстаивание Феофаном Прокоповичем правдоподобия отдаляло его от барокко и приближало к эстетике классицизма.
3 Заказ 4708
33
сочинениях историка иногда можно заметить стихи». По словам Прокоповича, история «лишена вольности измышлять правдоподобное». Поэтому, даже написанная стихами, она останется историей, а не поэмой. Поэт по-своему подходит к материалу. «Историк следует естественному порядку вещей», тогда как поэту «позволено начинать с конца и заканчивать началом». В этих словах трудно увидеть согласие с нехитрым предписанием делить историческое повествование на части, механически образуя из них акты и сцены пьесы. «Главная же разница между поэтом и историком, по наблюдению Аристотеля, — пишет Феофан Прокопович, — заключается в том, что историк рассказывает о действительном событии, как оно произошло; у поэта же или все повествование вымышлено, или, если он даже описывает истинное событие, то рассказывает о нем не так, как оно происходило в действительности, но так как оно могло или должно было произойти».
В рассуждениях Феофана Прокоповича об историке и поэте отразилась аристотелевская, сравнительно невысокая оценка историографии, связанная с отмеченным выше прагматизмом античных историков. «Поэзия, по Аристотелю, — пишет И. С. Кон, — стоит к науке ближе, чем история, ибо история — простое собрание эмпирических фактов, тогда как поэзия извлекает из таких фактов всеобщие суждения». Отмечая, что, по Аристотелю, «поэзия есть нечто превосходящее историю и более философское», Феофан Прокопович в то же время указывает и на расхождение поэзии с философией, заключающееся в различном их подходе к общему и особенному: «Философ разбирает общее вообще и не ограничивает его какими-либо особенностями. Поэт же, правда, рисует общие пороки либо добродетели, но как особые действия какого-либо лица».
Ратуя за искусство обобщающее (мы бы сказали теперь: типизирующее), Феофан Прокопович придавал большое значение «вымыслу или воспроизведению». Он говорил, что «вымысел бывает двояким: вымысел самого события и вымысел способа, которым это событие совершено». Вымысел события в свою очередь бывает двух видов: «один подлинный но не представляющийся вымыслом; другой подлинный и представляющийся вымыслом. Первый род вымысла — это когда случаи и происшествия с кем-либо, не происходившие в действительности, вымышлены по способу исторического повествования, причем к этому не присочинено ничего необычайного или выходящего за пределы вероятности... Второй род вымысла, когда вымышляется что-либо сверхъестественное или необычайное для людей, как, например, совещания богов и богинь, их ссоры, чудеса и прочее в таком роде, что с легкостью обнаруживается как вымысел». В. И. Федоров обращает внимание на тот факт, что Феофан Прокопович, как бы забывая о своем положении духовного лица, для иллюстрации неправдоподобных и неверо-
34
ятных вымыслов второго рода приводит примеры из Священного писания и рекомендует «пользоваться без колебаний» вероятными и правдоподобными вымыслами первого рода.
Трактат Феофана Прокоповича «О поэзии» имеет большое историческое значение. По словам И. П. Еремина, он оказал заметное влияние на русских и украинских теоретиков поэзии XVIII века, а через них, видимо, влиял и на практику драматургов1.
Говоря о тенденциях развития драматургии, разрабатывавшей историческую тему, нельзя не остановиться на влиянии традиций, сложившихся в древнерусской литературе. Здесь прежде всего нужно отметить ту большую роль, которую играли в ней произведения, написанные на историческую тему. Как указывает Д. С. Лихачев, «исторический рассказ существовал уже в X—XI вв. (первое оригинальное русское произведение X века «Речь философа» уже было историческим рассказом)». Существенным является и то обстоятельство, отмечаемое этим исследователем, что «древняя русская литература не знала открыто вымышленного героя. Все действующие лица русских литературных произведений XI — начала XVII века — исторические или претендующие на историчность». Художественное познание в Древней Руси, говорит ученый, «отличала чрезвычайная щепетильность к отдельным историческим фактам, стремление точно следовать внешним данным, хотя и без настоящего воспроизведения внутренней сущности этих фактов».
Исследователи древней русской литературы отмечают также отсутствие в ней характеров. Образ героя строился как совокупность черт, присущих не данной индивидуальности, а большой группе людей, целой общественной корпорации. Он оказывался непосредственным носителем и прямым воплощением идейно-нравственных представлений эпохи, выражая их в позитивной или негативной форме. По словам Д. С. Лихачева, древняя русская литература «в основном знала только две краски—черную и белую; определение же того, какой краской писать то или иное действующее лицо, принадлежало реальной политической действительности и месту в ней самого автора. Противников своего лагеря летописец или автор исторической повести писал темной краской, сторонников — светлой». Персонажам и событиям давалась определенная авторская оценка, связанная с ярко выраженной публицистичностью общего подхода. Лишь в XVII веке появились в исторической литературе сложные и противоречивые характеры исторических лиц.
1 О поэтике Ф. Прокоповича подробнее см. в кн.: Соколов А. Н. О поэтике Феофана Прокоповича: Проблемы современной филологии.— М., 1965. Содержательный анализ ее дается в кн.: Федоров В. И. Литературные направления в русской литературе XVIII века.— М., 1979. — С. 7—19; Федоров В. И. История русской литературы XVIII века. — М., 1982. —С. 31—41.
3*
35
Говоря о Хронографе второй редакции (1617), Д. С. Лихачев замечает, что в отличие от автора Хронографа первой редакции, прибегавшего при характеристике исторических лиц «к механическому разделению свойств характера во времени», автор второй редакции «совмещает их одновременно в одном и том же человеке, впервые в истории исторической мысли сознательно создавая образы, полные «шекспировских» противоречий, драматизируя историю душевной борьбы, внося в них коллизии, борьбу и творя характеры, которые впоследствии действительно привлекли внимание драматургов». Но употребление двух красок — черной и белой — еще долго доминировало в различных жанрах, в том числе и в пьесах, написанных на историческую тему.
Большое значение для драматургии имела героико-патриотическая традиция древнерусской литературы. Прослеживая эту традицию, В. П. Адрианова-Перетц устанавливает связь между древнерусской литературой и гражданской поэзией XVIII века. Выясняется, что основные темы этой поэзии — тема родины, стольного города, общественно значимого подвига — входили, начиная с XI века, в русскую литературу в разных аспектах. Исследовательница указывает, например, на то, что в разработке воинской темы древнерусская литература явным образом предшествовала классицистической оде. Эта тематика разрабатывалась и в произведениях драматургии, своеобразно преломивших не только идейные мотивы древнерусских воинских повестей, но и особенности их поэтики. Тема стольного города заняла важное место в драматургии Сумарокова. Влияли на драматургов и общая серьезность тона произведений старинных авторов, стремление последних к постановке важных государственных и философско-мировоззренческих вопросов, их склонность к поучениям.
Традиции древней русской литературы, характер и уровень исторических знаний, теоретические сведения о драме, содержавшиеся в эстетических трактатах и учебниках, — все это влияло (наряду с другими факторами и обстоятельствами) на драматургов, бравшихся за разработку исторической темы. Следует заметить, что эти факторы влияли на драматургов с различной силой, а подчас и в разных направлениях. Иногда они даже противостояли друг другу. Например, известная недооценка истории, свойственная тогдашним поэтикам, наталкивалась на традицию точного (хотя бы в порядке следования внешним фактическим данным) изображения исторических лиц и событий в произведениях древней русской литературы. В силу этого противоборства различных тенденций и ряда других причин развитие драматургии, освещающей историческую тему, происходило весьма’неравномерно,
36
2
Первые пьесы русского театра неизменно основывались на источнике, воспроизводившемся в них с довольно большой точностью. Таким источником для большинства пьес была Библия, инсценировками сюжетов которой и являлись эти пьесы. Исследователи отмечают, что библейские сюжеты воспринимались авторами пьес и зрителями как подлинно исторические. Сошлемся на высказывания по этому поводу О. А. Державиной, которая обращает внимание на то, что в некоторых из пьес, написанных на библейские темы, «использованы те главы Библии, где рассказывается об исторических событиях: эпизоды из царствования Артаксеркса и Навуходоносора, осада полководцем Навуходоносора Олофреном еврейского, города Ве- фулии («Иудифь»), борьба юноши Давида с Голиафом, все это в понимании и авторов пьес, и зрителей того времени являлось историческими сюжетами»1.
Старательно переводя на язык драмы сказания, считавшиеся священными, авторы пьес связывали поучения с современностью. «Перед театром, — пишет А. Н. Робинсон, — возникла труднейшая задача самоутверждения в общественной жизни, для решения которой понадобились общеевропейские сюжеты, отвечавшие государственным требованиям растущей Российской империи. Поэтому авторитарная библейская «вечность» и московская современность должны были объединиться на сцене»2.
Именно такой была первая пьеса русского театра — «Артак- серксово действо». Кроме источников исторических, автор «Ар- таксерксова действа» использовал источники литературные: басни Эзопа а латинском и греческом изданиях XVI—XVII веков — одну из них — басню «Земледелец и змея» он вложил в уста Артаксеркса, очень удачно связав ее содержание с судом царя над двумя евнухами-заговорщиками, «Комедию о царице Есфири и гордом Амане», изданную на немецком языке в 1620 году, немецкие песни духовного содержания.
Привлечение разнообразных источников наблюдается и у других драматургов. Например, Симеон Полоцкий, исторические знания которого были огромны, пользовался при написании пьесы «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех от- роцех, в пещи не сожженных» не только библейским рассказом, но и историческим сочинением, остающимся пока неизвестным. Из этого сочинения Полоцкий, видимо, взял для своей пьесы имена вельмож Зардана, Навусара и Амира, отсутствующие в других источниках.
1 См. в кн.: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII — на чало XVIII в.).— М., 1976.—С. 66.
2 Там же. — С. П.
37
Интересным и плодотворным является проводимое А. С. Деминым сопоставление пьесы Симеона Полоцкого с современным ей историческим сочинением — «Хрисмологионом» Николая Спафария и подьячего Петра Долгова, написанным «почти на ту же тему и с тем же ходом мысли». Пьеса и труд Спафария написаны на материале одной и той же библейской «Книги пророка Даниила». А. С. Демин отмечает, что «оба сочинения как бы дополняют друг друга: Спафарий создает трактат— толкование глав книги Даниила, крбме третьей; Полоцкий пишет драму на сюжет именно третьей главы. Возможно, Полоцкий знал, какой труд готовил Спафарий». Это предположение комментатора представляется обоснованным. Спафарий, являясь переводчиком посольского приказа, встречался с Симеоном Полоцким, беседовал с ним. Сохранилась запись беседы, состоявшейся в 1671 году, в которой оба они принимали участие. Хотя беседа носила в основном богословский характер, в ней затрагивались и другие вопросы, например вопрос о соотношении между «историей» и «притчей». В ответ на просьбу Симеона Полоцкого дать исторический комментарий к евангельскому рассказу о Лазаре и его братьях Спафарий сказал: «Се несть историа, но притча». Полоцкий же возразил: «Аще и притча есть, но имать правды образ». Спафарий продолжал стоять на своем1. Запись беседы убедительно показывает, что уже в начале знакомства Полоцкого и Спафария между ними, несмотря на расхождения по отдельным вопросам, существовала духовная близость. О. А. Белоброва справедливо замечает, что их объединяла и общность интересов и тематики. «Например, — пишет она, — в сочинениях Симеона Полоцкого мы находим широкое обращение к античной мифологии, к авторитетам средневековья; его, как и Спафария, как и Юрия Крижанича, как и протопопа Аввакума, занимает образ правителя-монарха, хотя одни авторы толковали его как наместника бога на земле, а другие — как злодея-тирана»2. По наблюдению И. П. Еремина, слово «тиран» «ввел в русскую поэзию впервые Симеон Полоцкий»3. В «Хрисмологионе» Спафария слова «царь» и «тиран» тоже иногда стоят рядом. Характерно, что как раз в связи с оценкой действий Навуходоносора в «Хрисмологионе» говорится о том, «како бог наказует нечестивых царей и тиранов».
^Подобно автору «Артаксерксова действа», Симеон Полоцкий использовал в процессе создания пьесы не только исторические и легендарные материалы, но и произведения искусства,
1 Труды отдела древнерусской литературы АН СССР/Статья и публикация Голубева И. Ф. — 1971. — Т. XXVI. —С. 299.
2 Спафарий Николай. Эстетические трактаты/Подготовка текстов и вступит, статья О. А. Белобровой. — Л., 1978. — С. 16.
3 Полоцкий Симеон. Соч.— М.; Л., 1961.— С. 234.
38
на этот раз не словесного, а изобразительного. А. С. Демин обратил внимание на ремарку в пьесе, гласящую о том, что Навуходоносор выходит на сцену в сопровождении шести бояр и шести слуг. Эту подробность, отсутствующую в Библии, автор пьесы мог найти, по словам комментатора, «в изображениях XVII века, особенно в иллюстрированных польских, голландских и немецких библиях, а также на некоторых русских иконах. На одной русской иконе нарисованы даже музыканты, «гудци, стоящие поодаль Навуходоносора, его свиты и пещи огненной...». Как известно, «гудци» фигурируют и в пьесе. Получив позволение играть, они начинают «трубити и пискати». «Игранием» заканчивается и вся пьеса. Кстати, о музыкантах дважды упоминается в библейском сказании, инсценированном Симеоном Полоцким, причем оба раза перечисляются инструменты, на которых они играют: труба, свирель, цитра, цевница, гусли. Симеон Полоцкий не указывает, на каких инструментах должны играть музыканты, но в авторской ремарке («и начнут трубити и пискати») и в распоряжении, отдаваемом «болярином» Амиром («слышите, гудци! Гласно вы сви- ряйте!») эти указания, по существу, содержатся. Свидетельствуя о большом внимании, с каким относился драматург к своим источникам, данный пример не менее убедительно говорит и о присущем его пьесе лаконизме. В отличие от перегруженного подробностями и повторениями «Артаксерксова действа» пьеса Симеона Полоцкого характеризуется стройностью композиции, тщательным отбором деталей, ясностью изложения, четкостью идейной концепции.
Большой интерес представляет вопрос об источниках пьесы «Темир-Аксаково действо». В течение продолжительного времени господствовало мнение, что эта пьеса восходит (через какую-то немецкую переработку) к известной трагедии Кристофера Марло «Тамерлан Великий». Только в конце 60-х годов вопрос об источниках пьесы прояснился. Удалось установить, что «основным первоисточником пьесы является биография Тимура, написанная Жаном дю Беком и изданная в 1594 году»1.
С помощью многочисленных текстуальных сопоставлений выясняется, что «содержание Темир-Аксакова действа» (кроме 1-й сцены первого акта и двух интермедий с участием Пи- кельхерринга и Телпеля) тесно связано с третьей главой книги дю Бека — «Война Тамерлана против Баязета, императора турок»2.
1 Вестник Московского университета. Серия X. Филология. — 1969. — № 1 (январь — февраль). — С. 23.
2 Вестник Московского университета. Серия X. Филология. — 1969 — № 1 (январь — февраль). — С. 24. Как показывает А. Т. Парфенов, на рассказе дю Бека основан ход действия пьесы, оттуда же взяты имена действующих лиц, например имя помощника Тамерлана Аксалы, и другие подробности.
39
С обращением автора пьесы «Темир-Аксаково действо» к западноевропейскому источнику связано идеализированное изображение в ней завоевателя Тамерлана. Разгромив в 1402 году в битве при Анкаре войско Баязида 1, нанесшего незадолго перед этим (в 1396 году) поражение армии крестоносцев, Тамерлан спас Европу и Византию от грозного турецкого завоевателя. С этим и связано прославление Тамерлана европейцами, считавшими его спасителем и защитником христиан. Таким же защитником христиан представлен Тамерлан в пьесе «Темир-Аксаково действо», где он вступается за своего союзника императора Византии Палеологуса (Мануила Палеолога).
Как полагают исследователи, содержание пьесы перекликалось с политическими событиями. Россия находилась тогда в состоянии войны с Турцией. Защиту Тамерланом Палеологуса зрители могли сопоставить с готовностью русского царя защитить польского короля от вторгшихся в его государство войск турецкого султана и крымского хана. Противопоставляя Тамерлана тирану-завоевателю Баязету, автор пьесы наделяет своего героя чертами доброго правителя. Тамерлан в пьесе печалится не только «о своем брате и союзнике Палеологусе», но и простых людях в царстве этого последнего, ставших жертвою «того варварского Байцета».
Но эпитет «варварский» не в меньшей мере приложим и к самому Тамерлану, каким его знает история. Жестоким завоевателем рисуется он в русских источниках, запечатлевших вторжение его на русскую землю в 1395 году и разорение им города Ельца. Неожиданный уход полчищ Тамерлана на юг был приписан чудотворному действию Владимирской иконы богоматери, якобы спасшей русскую землю. В «Повести на стретение чюдотворного образа пречистыя Владычица нашея Богородица и приснодевы Мария» о Тамерлане говорится, что он «многи грады разори, и сущая в них люди погуби, и многы страны и земли повоева, и многы языкы и многы княжениа и многы царства покори под себе»1.
Автор «Темир-Аксакова действа» не упоминает о выступлении Тамерлана против русских и татар, но целый ряд подробностей, имеющихся в пьесе, свидетельствует о том, что он обращался и к отечественным материалам. В первом действии пьесы, в согласии с русскими источниками, Тамерлан называется Темир-Аксаком, а Баязет — Байцетом. Западноевропейские источники приписывали Тамерлану аристократическое происхождение, в русских же источниках (и в пьесе — недаром в ней Баязет презрительно третирует низкородного Тимура) он является человеком незнатного происхождения. «Сам же Темирь, — говорится о нем в названной повести, — исперва не царь бяше, ни от роду, ни от племени царска, ни княжеска, ни
1 Поли. собр. русских летописей. — М., 1965. — Т. XI. — С. 246.
40
боярска». Рассказывая о его первоначальных занятиях и характере, повесть сообщает: «...ремеством же бе кузнец железный; нравом же и обычаем немилостив и злодействен, и хищник, и ябедник, и тать»1. Из русского источника автор «Темир- Аксакова действа» заимствовал отсутствующее в западноевропейских источниках сведение о хромоте Тимура, полученной им в результате сурового наказания за воровство. Оттуда же взяты подробности об изготовлении по приказанию Тамерлана железной клетки для пленного Баязета и вещий сон Темир- Аксака.
Таким образом, в первой же русской пьесе, написанной не на легендарной, а на действительно исторической основе, мы встречаемся с обращением автора к русским источникам. В этой первой исторической пьесе главным персонажем является лицо, имевшее, пусть и в негативном плане, отношение к отечественной истории. Прошло немного времени (всего тридцать с небольшим лет) — и появилась пьеса, целиком написанная на отечественную историческую тему на основе отечественных материалов — трагикомедия Феофана Прокоповича «Владимир».
Обращение Феофана Прокоповича к отечественной исторической теме отнюдь не являлось случайностью. Автор «Владимира» придавал большое значение разработке материалов истории России и популяризации исторических знаний. По свидетельству Н. Петрова, из всех составителей риторик только Прокопович включил в свой курс риторики «Отдел о способе писания истории». Прокопович сетовал на ее малую разработанность применительно к России. «Столько славных дел нашего отечества забыто совершенно, — писал он, — и что оно совершило до сих пор, — едва что передано памяти потомства». Автор «Владимира» обладал обширными знаниями в области всемирной и отечественной истории. Этими знаниями он широко пользовался в своих сочинениях, среди которых были и труды по истории. Ему приписывают сочинение «книжицы» с доказательствами того, что древние славяне были известны греческим авторам под разными именами2. Он участвовал в составлений «Родословной росписи великих князей и царей российских до государя Петра I»3.
Трагикомедия «Владимир» правдиво воспроизводит в драматической форме важное историческое событие — введение в Древней Руси в конце X века христианства как государствен¬
1 Поли. собр. русских летописей.— М, 1965.— Т. XI.— С. 246.
2 Очерки истории исторической науки в СССР. — М., 1955. — Т. 1.— С. 175.
3 Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века.— М., 1946.— С. 59. Ср. в кн.: Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века.— Л., 1980.— С. 30—32.
41
ной религии. Основываясь на летописном рассказе и на первой печатной книге по истории России «Синопсисе», Феофан Прокопович раскрывает в исполненном драматизма действии основной смысл изображаемого события, убедительно показывая, что введение христианства способствовало укреплению внутреннего и внешнеполитического положения России, ее сближению с Византией, ее культурному и духовному развитию.
В пьесе фигурируют люди, взятые из истории: князь Владимир Святославич, его брат Ярополк (тень Ярополка), сыновья Владимира Борис и Глеб, греческий посол. Автор правдиво, вплоть до деталей, воспроизводит по летописи картину убийства Владимиром Ярополка, которого подняли «на мечы» два воина, когда он переступил порог дома своего брата. В пьесе отражены черты характера князя Владимира — его воинственность, любовь к просвещению. В соответствии с источниками отмечена его первоначальная приверженность язычеству, которую сменила истовая христианская религиозность. В высказываниях Владимира, в его поведении угадываются страстность его натуры, необузданность нрава, подчеркнутые введением аллегорических персонажей.
Взявшись за разработку исторического сюжета, Прокопович отказался от последовательного драматического переложения летописного повествования о крещении Руси. В его пьесе пропущены некоторые важные эпизоды и обстоятельства, тесно связанные в летописном рассказе с основным событием. Ничего не говорится об «испытании вер», связанном с прибытием послов из разных стран, с рассказом об исповедуемых в них религиях, 6 совещаниях по этому поводу с «болярами» и «старцами градскими» о взятии Владимиром Корсуни (Херсонеса). Автор оставил без внимания немногочисленные имена, которые встречаются в соответствующем месте летописного повествования. Не воспользовавшись упоминанием о лицах исторических, Феофан Прокопович ввел в свою пьесу лиц вымышленных. Таковы Мечислав и Храбрий — помощники Владимира, энергично участвующие в утверждении новой веры и сокрушении языческих идолов.
Следует отметить, что летопись подсказала Феофану Прокоповичу не только основное содержание беседы Владимира с Философом (греческим послом в пьесе), но и. ее диалогическую форму (см. разговор Владимира с боярами и старцами, разговор греческого царя со старцами, новый разговор Владимира с боярами, выступление бояр, побывавших в Византии, с восторженным рассказом о греческой вере).
Трагикомедия «Владимир» перекликается по своему содержанию, идейной направленности, а также и в стилистическом отношении с историко-публицистическим произведением Феофана Прокоповича — с его «Словом в день святаго равноапостол- наго князя Владимира»,
42
Автор «Слова» восхваляет Владимира за победы над «телесными» и «духовными» врагами. Под «телесными» врагами он подразумевает внешних врагов — радимичей, вятичей, угров, греков, печенегов, которых победил Владимир. Но еще больше Владимир достоин прославления за победы над «духовными» врагами человека, каковыми являются «три неукротимии и зело лютии супостата мир, плоть и диавол». Мир выступает в качестве носителя гордости и тщеславия («гордый и славолюбивый мир»), «плоть сластолюбная» одолевает человека «по- хотми плотскими», дьявол ополчается на веру в бога, подрывая основы веры в единого бога во имя служения идолам. Глубокая связь «Слова» с трагикомедией обнаруживается прежде всего в том, что автор последней выводит названных трех «супостатов» в аллегорических образах Беса мира,' Беса тела, Беса хулы и раскрывает в замечательном монологе Владимира (действие 4, явление 2) внутреннюю борьбу героя пьесы, стремящегося побороть в себе гордость и высокомерие, «огнь страстей», сомнения в христианской вере. В этом монологе (и в других местах пьесы) наблюдается подчас текстуальная близость к «Слову» о Владимире.
Показательно, что уже первый русский драматург, обратившийся к созданию пьесы на отечественную историческую тему, создавал на этой основе не только художественные, но и специальные исторические сочинения, подвергая подчас параллельной художественной и историко-публицистической обработке одни и те же исторические факты и материалы. Во всем этом Феофан Прокопович был предшественником ряда писателей и драматургов, бравшихся за разработку исторической темы.
Своеобразием взглядов Феофана Прокоповича на историю и поэзию в значительной степени объясняются структурные особенности его драматургии, ее новаторский характер. Создавая «Владимира», Феофан Прокопович отходил от эпичности в пьесах раннего русского театра, являвшихся, по существу, инсценировками библейских сказаний1. Он создал во многом оригинальный образец политически тенденциозной, сатирически заостренной пьесы, предвосхищающей драматургию эпохи классицизма.
Принадлежа по своему типу к произведениям школьной драматургии, с которыми ее роднят жанр, религиозная тема, наличие аллегорических персонажей, особенности стиля, трагикомедия «Владимир» в то же время сильно отличается от школьных драм. Популяризация идей христианства соединяется в ней с острой критикой духовенства, комическое становится органической частью действия и средством выражения основной идеи. (Феофан Прокопович понял, что с упорно сопро¬
1 См. об этом в кн.: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII —начало XVIII в.). —М., 1976. —С. 5, 66, 98.
43
тивляющейся всему новому стариной следует бороться оружием смеха.) Аллегорические персонажи подчеркивают борьбу героя с самим собой. Творческое отношение к историческому источнику позволило Феофану Прокоповичу правдиво нарисовать образ героя и художественно претворить диалогическую форму летописного повествования.
Обращаясь к историческим источникам, авторы ряда пьес не только стремились использовать и воспроизвести их без сколько-нибудь значительных искажений, но воспринимали в известной мере и культуру исторического труда, которая постепенно становилась более высокой. Одним из показателей этой культуры являлись ссылки на используемые источники. Такие ссылки начинают появляться, по словам М. Н. Тихомирова, уже в XVII веке «на полях хронографов и степенных книг»1. Большое число ссылок и исторических параллелей содержалось в «Синопсисе». Автор «Скифской истории» А. И. Лызлов, делая ссылки на источники, сопровождал их критическими замечаниями: «но несть тако...», «зде может быть читателю усум- нение...», «зде сумнительно...» и т. д. Рано начали ссылаться на источники и драматурги. Иногда эти ссылки носили довольно оригинальный характер. Так, Симеон Полоцкий, приведя в своей пьесе «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи несожженных» начало молитвы, обрывает ее и пишет: «...и прочая, яко же есть у Даниила в главе 3». Автор «Ревности православия», знакомя в «Синопсисе действия» с содержанием пьесы, здесь же ссылается на источник: «...о чесом чтем в книгах Иисуса Навина, наипаче в главе III и VII вкратце». Подобную же ссылку находим в программе пьесы «Свобождение Ливонии и Ингерманляндии». В предисловии ко второй редакции пьесы о Кире и Тамире («Гистория о Кире царе перском и о царице Тамире скифской») автор также ссылается на «гисториков». Одним из них был, как уже отмечалось, Юстин.
3
В пьесах раннего русского театра, написанных на историческую тему, встречаются реалии, с помощью которых можно представить себе историческое время. К числу таких реалий относятся упоминания о героях и событиях других эпох. Эти упоминания как бы подтверждали реальность происходящего в далеком прошлом действия, сопоставляемого с событиями и лицами, относящимися к еще более отдаленным временам.
^ ^Очерки истории исторической науки в СССР, — М., 1955. — Т. 1.— 44
Делая такие сопоставления, драматурги, несомненно, учитывали наличие множества исторических параллелей, содержащихся в древних и новых сочинениях по истории. В этом отношении особенно показателен опыт новейших (для того времени) историков, стремившихся к возможно большему расширению во времени и в пространстве круга охватываемых историческим повествованием явлений. Так, в «Казанском сказании» события крестьянской войны начала XVII века «сравниваются с иудейской войной, описанной Иосифом Флавием»1, Во второй псковской повести, называющейся «О бедах и скор- бех и напастех, иже бысть в велицей России», рассказ начинается «сравнением запустения Русской земли после шведско- польской интервенции с другими событиями всемирной истории, в частности с запустением Иерусалима, Александрии, Антиохии, Константинополя...»2. В «Хрисмологионе» Николая Спа- фария — книге, универсальный характер которой как нельзя лучше отвечал запросам времени, царь Навуходоносор понадобился автору, по замечанию А. С. Демина, «для множества аналогий и примеров из жизни других царей, а все это вместе— для сопоставления с царством Алексея Михайловича»3.
Большое число упоминаний о героях и событиях других эпох содержится уже в первой русской пьесе — «Артаксерксо- вом действе». По свидетельству И. М. Кудрявцева, автор пьесы заимствовал материал для нее не только из «Книги Есфирь», но «и из других частей Библии», взяв оттуда имена тех действующих лиц, которые не значатся в «Книге Есфирь»4. Вся пьеса заполнена историческими воспоминаниями, нередко выходящими за пределы библейской истории.
Исторические воспоминания и параллели имеются и в тра- гедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир», где они органически связаны с идейной направленностью пьесы и отражают своеобразие ее стилистики. Очень интересным является высказывание «Беса хули», называемого в пьесе бесом «противства божия». Этот аллегорический персонаж выступает, по сути дела, в качестве главного антагониста. В отличие от примитивно мыслящих жрецов Жеривола, Пиара, Курояда, Бес хули наделяется большой интеллектуальной силой, а также познаниями в богословских вопросах, располагая которыми он надеется вложить в сознание («в мисл») Владимира «христоненавистны помысли», чтобы из него получился «Иулиян вторий». Исто¬
1 См.: Очерки истории исторической науки в СССР. — М, 1955. — Т. 1. — С. 92.
2 Там же. — С. 94.
3 Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в.— М„ 1972.—С. 326.
4 «Артаксерксово действо»: Первая пьеса русского театра.—М.; Л., 1957. — С. 51.
45
рическая параллель с римским императором Юлианом (331 — 363), который был воспитан в духе христианства, а затем превратился в его убежденного противника, имеет определенный смысл. Она связана с основным конфликтом пьесы, с борьбой, происходящей в душе ее героя. Не меньшую идейную нагрузку несет упоминание о другом римском императоре — Константине Великом (285—337), который покровительствовал христианам и закончил свою жизнь христианином.
Исполнены глубокого смысла и другие параллели, встречающиеся в пьесе. Бес тела решает воздействовать не на мысль Владимира, а на его чувство. Силу этого воздействия демонстрирует исторический пример с Еленой, вражда из-за которой явилась причиной Троянской войны. Любопытно, что о Юлиа- не-отступнике, Константине Великом, Елене в пьесе говорят аллегорические персонажи. Драматург явно руководствовался здесь принципом правдоподобия.
Большое число исторических параллелей имеется в школьных драмах первой половины XVIII века. Ими изобилуют, например, панегирические пьесы, посвященные победам Петра I и его преемников. Но в этих пьесах, носящих аллегорический характер, исторические имена и параллели отнюдь не содействуют созданию реального исторического фона.
Другим средством некоторой исторической конкретизации действия являются географические наименования — названия государств, городов, морей, рек и т. п. Если исторические имена и события прошлых веков поддерживали в сознании зрителей иллюзию исторического времени, то географические наименования создавали иллюзию исторического пространства. Такие наименования в большом количестве встречаются в пьесах конца XVII — начала XVIII века. Их обилие является свидетельством непрерывно нараставшего интереса русских людей к географии, закрепленного и в сочинениях историков. Разумеется, не все географические сведения, содержащиеся в работах тогдашних русских и иностранных историков, отличались достоверностью. Автор «Синопсиса» поместил в начале своей книги «О трех частях света, именуемых Азия, Африка и Европа, вкратце извещение», не назвав открытую почти двести лет назад четвертую часть света Америку1. Противоречия и путаница при пользовании географическими наименованиями встречаются и в пьесах, например в «Темир-Аксаковом действе», основывающемся на книге дю Бека. И все же частое употребление драматургами этих наименований является фактом примечательным и характерным.
Целый ряд таких наименований содержится в открывающем пьесу «Иудифь» темпераментном монологе Навуходоносора.
1 См. об этой ошибке в кн.: Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII—XVII вв. — М, 1973. — С. 397.
46
Тут и быстрая река Тигр, и Евфрат, который «возбуряет гордый своя волны... даже до облак самых», «Адосон река, богатством исполненная, в ней же черныя индиане купаются». В припадке восторженного самообожания Навуходоносор перечисляет города и реки, народы и страны, покорившиеся ему. Впадая в гиперболизм, Навуходоносор уверяет, что толстые стены «Еквафаниса града» от дыхания его «двизажася и воз- дражаша». В монологе говорится о людях, которые в «Киликии, в Дамасце, в Ливане, в Кармелии и в Кидаре обитают», а также о народе, живущем «в Галилеи, в Самарии и во Июдеи, окрест Иерусалима».
Буквально пестрит географическими наименованиями «Те- мир-Аксаково действо». Вот разгневанный грамотой Темир-Ак- сака Байцет приказывает «из Иуздмеи (вариант — Иудомеи) и из Вавилонии людей приготовить скоро, чтоб вся вселенная от моей силы прикрыта была. И велите тое войну во всем нашем королевстве и землях трубами явно объявить». А вот уже сам Темир-Аксак повелевает своему верному советнику Акса- ле: «Поскорей напиши во весь Сахейтай, чтобы все до последнего вышли и скоро к смотру приехали под Очера». Во втором «действе» тот же персонаж, именуемый теперь Тамерланом, выражает «удовольство» тем, что «ратные люди из Ша- хатая к смотру по Царь град (вариант—Царьгород) приити имеют», а Калиб сообщает о получении вести «из Хинейского государства» о том, что «царевичь Наутеф с 20000 человек изрядных конниц» спешит на помощь Тамерлану.
В «Малой прохладной комедии об Иосифе», поставленной, по-видимому, в ноябре 1675 года, географические наименования связаны с самим ее причудливым сюжетом, с приключениями ее героя. Действие начинается в долине Хевронской («в удоле Хевронстей»), где Иосиф живет с отцом. Затем он отправляется (по просьбе отца) в Сихем, к братьям, пасущим там скот. Заблудившись, он встретил некоего Елифаса, сообщившего ему, что братья отправились из Сихема в Фаим, где он и находит их. Здесь ненавидящие Иосифа братья решают сначала столкнуть его в ров, а потом, с появлением купцов- измаильтян, идущих караваном из Галаада в Египет («есмя Исмаилтане, идем от Галаду... во Египет»), извлекают его из рва и продают купцам. Дальнейшие приключения Иосифа связаны с его пребыванием в Египте.
В школьных драмах первой половины XVIII века историкогеографическая информация и связанные с ней средства художественной изобразительности существенно меняют свой характер. Здесь страны света и государства непосредственно выступают в качестве аллегорических персонажей с речами, заключающими самохарактеристики стран и континентов и оценку (обычно весьма положительную) события (или лица), которому посвящена пьеса. В ряде пьес в качестве аллегоричес¬
47
ких персонажей выступают части света: Европа, Азия, Африка и пропущенная автором «Синопсиса» Америка. Таковы пьесы «Царство мира», «Диалог о Гофреде» (здесь фигурируют Азия и Европа), «Стефанотокос». Во многих пьесах имеется аллегорический персонаж «Россия» (в «Ревности православия», где Россия появляется на торжественной колеснице, в «Славе Российской», в «Славе печалной», в «Образе победоносия»). В «Стефанотокосе» и некоторых других драмах Россию заменяет «Отечество». В виде аллегорических персонажей выступают также Персия (в «Славе Российской» и «Славе печалной»), Турция, (в «Славе Российской»), фигурирующая под именем «Полонии» Польша (в «Славе Российской» и «Славе печалной»), Швеция (в пьесе «Божие уничижителей гордых... уничижение», в «Славе печалной»).
Каждый аллегорический персонаж, олицетворяющий ту или иную страну, стремится в немногих словах сказать и о ее прошлом и настоящем, ее достопримечательностях, достоинствах населяющего ее народа. Например, Турция гордится обширностью своих владений. «Тремя частми аз света едина вла- даю», — говорит она. Персия сообщает, что «изобильна» многими богатствами. «Полония» говорит, что ее знают все как «высокоумну» и «зело быстроумну» в различных художествах, гордится храбростью своих сынов. Подобным же образом говорят о себе и персонажи, олицетворяющие части света. Азия указывает с гордостью на древность своего происхождения: «...аз мати всех стран земли; аз перва от века», — говорит она. Европа указывает на то, что в ней «учения славные сияют». Америка заявляет, что хотя ее «предел» весьма удален от других частей света и сравнительно недавно возвещен миру, все же она успешно подражает «изрядному нраву». Если сравнить речи аллегорических персонажей, олицетворяющих части света в «Стефанотокосе», с речами подобных же персонажей, фигурирующих в более ранней школьной драме «Диалог о Гофреде, победившем сарацины», то придется признать, что в первой из названных пьес эти речи являются более содержательными и заключают в себе более богатую информацию. В «Диалоге о Гофреде, победившем сарацины» круг суждений Азии и Европы весьма узок. Он полностью подчинен авторскому лирико-публицистическому заданию, наложившему печать однообразия на высказывания обоих персонажей. В сущности, все дело сводится к тому, что Азия сетует на насилие, творящееся в ней над истинной верой, а Европа высказывает ей по этому поводу свое сочувствие. В суждениях аллегорических персонажей нет ничего такого, что характеризовало бы олицетворяемые ими части света.
Следует, однако, заметить, что более удачная разработка в позднейшем «Стефанотокосе» персонажей, олицетворяющих части света, отнюдь не свидетельствовала о перспективности
48 V
аллегорического способа изображения. Наоборот, она лишь' подчеркнула его ограниченность. Аллегоризм явно изживал себя. Отчетливо выступала абстрактность подобного рода изображений. Положение не могли спасти попытки оживления аллегорических персонажей (в «Божием уничижителей гордых... уничижении» выступает «Свеция хрома»), использование богатой, хорошо разработанной эмблематики. Не помогало делу, а лишь вносило путаницу и использование двойных аллегорических персонажей. Так, в «Диалоге о Гофреде, победившем сарацины» наряду с Европой фигурирует аллегорический персонаж— Герой Европы, а в «Славе Российской» рядом с Россией выступает Добродетель Российская.
Созданию «исторической атмосферы» в пьесах, написанных на историческую тему, способствуют также содержащиеся в них упоминания об особенностях жизни изображаемых народов: их нравах, обычаях, одежде, религии, законах, употребляемых ими предметах домашнего обихода, оружии, орудиях труда и т. д. Изучение ранней русской драматургии показывает, что многие авторы пьес проявляли несомненный интерес к этим подробностям, старательно фиксируя их в своих произведениях. Большинство подробностей заимствовалось из основного источника вместе с историческим сюжетом, иногда же автор пользовался сведениями, полученными им из каких-то других источников. Наличие этих подробностей с несомненностью свидетельствует о большой любознательности наших предков, их интересе к истории, к жизни других народов, о важной просветительной роли раннего русского театра.
Говоря о законах и обычаях разных стран и народов, авторы некоторых пьес связывали с ними отдельные сюжетные перипетии, мотивировку отношений, устанавливающихся между персонажами. Например, в «Артаксерксовом действе» суровое наказание, которому подверглась царица Астинь, объяснено законами, существующими у «персов» и «мидов». В «Малой прохладной комедии об Иосифе» заботливое отношение вельможи Пентефрии к Иосифу мотивируется ссылкой на обычай египтян «приберегать» странников, оказавшихся на чужбине. В той же пьесе в забавной сценке отмечено различие в обычаях и нравах двух народов. В ответ на слова Нагата о том, что Иосиф «постится всегда три дни, вкушая четвертого дни токмо единожды», Пентефрия искренно удивляется: ведь «пость человека изснедает», тогда как «Иосиф ежедневно во плоти удобряется». С религиозными представлениями славян-язычни- ков и христиан обстоятельно знакомит трагикомедия Феофана Прокоповича «Владимир».
Большое внимание уделяли драматурги вещам, которыми пользуются персонажи, особенно драгоценностям и вооружению, В «Артаксерксовом действе» Зефар, докладывая Артаксерксу о дарах, выделенных индийскому послу, говорит, что
4 Заказ 4708
49
ему переданы «двести перских коней со збруими» и такое же количество сабель «со многим камением и з драгоценными вещ- ми», а также «драги лук со стрелами».
Иногда вещи, в том числе предметы вооружения и одежда, начинают играть сюжетную роль. Такова роль меча Навуходоносора в пьесе «Иудифь». Такую же важную роль в «Прохладной комедии об Иосифе» играет одежда ее главного героя. Красивая риза, подаренная любимому сыну отцом, неоднократно фигурирует потом в пьесе, появляясь в наиболее драматических моментах: братья Иосифа совлекают ее с него, решив бросить его в ров, затем мажут ее кровью зарезанного козла и показывают ее отцу. «Мотив одежды» продолжает развиваться и в последующем действии пьесы. Пентефрия приказывает дать Иосифу «новое одеяние». После борьбы Иосифа с женой Пентефрия Вилгой его одежда остается в ее руках и служит основанием для подтверждения клеветы, воздвигнутой на него этой женщиной, результатом чего явилось заключение Иосифа в темницу. Впрочем, в дошедшем до нас списке действие пьесы обрывается в момент, когда Вилга сообщает слугам о якобы предпринятой Иосифом попытке совершить над ней насилие. О дальнейших событиях мы узнаем из апокрифа «Заветы двенадцати патриархов», использованного драматургом. Интерес автора пьесы к быту, вещам проявился и в том, что, основываясь на Библии, он упомянул о товарах, с которыми прибыли в Египет купцы-измаильтяне. — Они явились с «фимиамом, смолою, стактами». Кстати, из разговора Пентефрии с купцами о товарах мы узнаем о распоряжении фараона строго наказывать тех, кто привезет «запрещенный товар».
Характерной особенностью ранней русской драматургии является стремление некоторых авторов воспроизвести особенности языка и поэзии изображаемого народа. Замечательные образцы подражания библейской поэзии содержатся в «Артаксерк- совом действе» пастора Грегори и в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского. Вплоть до XIX века, до опытов А. А. Шаховского и П. А. Катенина, в русской драматической литературе не встретится ничего подобного.
Авторы первых пьес русского театра стремились передать изобразительными средствами языка основную черту своих персонажей. Такой чертой чаще всего являлась гордость, соединяемая с хвастливостью. Оттеняя ее, авторы заставляли персонажей повышать голос, произносить грубые, бранные слова, прибегать к гиперболам. Разумеется, это не была настоящая индивидуализация языка, подчеркивающая особенности характеров. До этого было еще далеко. Были схематически намеченные, резко и грубо обозначенные характеристики, которым соответствовал чаще всего довольно примитивный набор языковых средств. С наибольшей яркостью этот примитивизм выражался в интермедиях, где выступали комические персонажи с
50
их утрированной речью, построенной на использовании национальных особенностей языка и диалектизмов. Например, в «Опере об Александре Македонском» фигурирует цыган, цыган же выступает в «Декламации» 1745 года, ставившейся в Тверской семинарии. Заметим, что использование диалектизмов и национальных особенностей речи в некоторых случаях производилось на высоком уровне. Так, в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского с их помощью большому поэту удалось создать выразительные образы пастухов Бориса, Аврама и Афони, говорящих на южнорусском диалекте. Здесь же фи- гурирует «посланник от триех царей», говорящий с татарским акцентом.
Языковой стиль ранней русской драматургии отличался чрезвычайной пестротой лексики и наличием большого числа анахронизмов. В пьесах, в которых действовали библейские персонажи, например в «Есфири», встречаются такие слова, как «ефимок»1, «ротмистр», «велеможный гетьмане», «рейтары», «ковалер», «генералной воевода» и др. Во многих пьесах можно в изобилии встретить украинизмы, полонизмы, германизмы, наличие которых объясняется причастностью к их созданию, переводу или переписке лиц различных национальностей. Нужно заметить, что в целом язык ранней русской драматургии отличается яркостью и колоритностью. Он прекрасно запечатлел особенности языка той эпохи, когда появилась наша драматургия. Однако он не мог (за редким исключением, к тому же касающимся не всей пьесы, а отдельных ее слов) способствовать воссозданию тех отдаленных времен, с которыми была связана тематика пьес.
4
Если язык исторических персонажей и их духовный мир почти никак еще не воспроизводились в ранней русской драматургии, то этого нельзя сказать о внешней, вещественнобытовой обстановке действия, развертывавшегося в исторических пьесах. В раннем русском театре уделялось огромное внимание декорации, костюмам, предметам бутафории. На изготовление всего этого не жалели средств. Из казны отпускали деньги на покупку атласа, кисеи, горностаевых мантий, жемчуга, перстней, тафты, сукна, шелка; приобреталось листовое золото и серебро на позолоту щитов и сабель, большое количество красок и различных материалов для изготовления рам «перспективного письма». Например, для постановки «Темир- Аксакова действа» было приобретено «52 киндяка разных цветов», «30 аршин крашенины яринного цвету», «310 аршин кружив мишурных», «200 листов золота» и т. п. Постановщики
1 Ефимками в России называли западноевропейскую монету — талер.
4*
51
пьес весьма внимательно относились ко всем подробностям текста,, касавшимся обстановки, необходимых по ходу действия предметов, костюмов. Проявлялось стремление изготовить требуемую вещь или костюм с учетом того, как эта вещь или подробность костюмировки выглядели, разумеется, в представлении людей конца XVII — начала XVIII века. Для своеобразного постановочного натурализма раннего русского театра было характерно при этом тяготение к изготовлению вещи в ее подлинном виде. Эту особенность подметила Л. А. Софронова, говоря, что в старинном русском театре «медленное движение сюжета, длинные речи героев оживляются сменой костюмов, переменой мест действия, живописными аксессуарами. Современного зрителя они поразили бы своим стремлением к подлинности»1. К сожалению, дошедшие до нас материалы о постановке пьес в русском театре конца XVII —начала XVIII века являются довольно скудными. Но и то, чем мы располагаем, позволяет сделать вывод, что театральное оформление пьес, написанных на историческую тему, находилось в этот период на относительно высоком уровне.
О внимательном отношении постановщиков к тексту пьесы, к претворению в сценическом действии и в оформлении спектакля подчас, казалось бы, мелких и случайных замечаний персонажей свидетельствует, например, взятый ими на учет в указанном плане разговор солдат из войска Тамерлана, содержащийся в «Темир-Аксаковом действе». Здесь солдат Сиб- ла, мечтающий о военной добыче, говорит: «Преславнейшее аравицкое злато веть лутшее, идеже преизлишно обретается жемчюг, всяк селянин изобилно и во величии имеют, яко и вси пугвицы у своих одеяниях в большой обретаются величины». В перечне предметов, закупленных для этого спектакля, читаем: «дутова жемчугу на рубль на 6 алтын на 4 денги», «200 листов золота, серебра, то-жь...», «100 пуговиц больших ловянных, дано 30 алтын...». Тамерлан упоминает о своем знамени, под которым он будет стоять, ожидая противника. Победив Баязета, он сажает его в железную клетку. Все это отражено в описи предметов, приобретенных в связи с постановкой пьесы: «за клетку, за саблю, за 2 знамя дано от дела 40 алтын».
Постановщики проявляли определенную заботу о выполнении требований к костюму, гриму, обстановке, предъявляемых инсценируемыми текстами. Например, при постановке «Артак- серксова действа» специально изготовлялись бороды для стариков. Учитывался и цвет одежды, соответствующий, по мнению постановщиков, национальным традициям. В одной из записей говорится, что при постановке «Иудифи» было прика¬
1 Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII — начало XVIII века). —М, 1976. —С. 115.
52
зано дать «магистру Ягану Годфриду... 5 человеком воином на лехкое одеяние 20 аршин сукна зеленого полского да 2 человеком на одежду ж, которым быть гражденом Вефулским, 8 аршин сукна ж вишневого полского». При постановке «Малой прохладной комедии об Иосифе» было куплено «на мешки, во что у Иосифа хлеб сыпать, 25 аршин холсту».
Разумеется, изготовляемые для исторических пьес костюмы лишь в самом общем виде напоминали подлинную историческую одежду изображаемых персонажей. «2 аднарятки са- тыни мишурной» с мишурными же кружевами, изготовленные «на Темир-Аксака да, на Боезета», вероятно, не очень походили на действительную одежду этих двух завоевателей. Не очень соответствовали требованиям исторической костюмировки купленные для их воинов «15 пар чюлков немецких розных же цветов киндячных». Но при тех знаниях й возможностях, которыми располагали постановщики, все же в этой области делалось многое. Важным является уже само стремление добиться сходства в костюмах, употребляемых на сцене предметах и обстановке с воображаемыми одеждой и условиями жизни людей отдаленной эпохи, наличие которого у постановщиков, с несомненностью, зафиксировано в дошедших до нас материалах. Например, в «Росписи театральным принадлежностям» для придворного спектакля 1732 года, содержащей подробные указания, как «платье делать» для актеров, выступающих в «Действе об Иосифе», между прочим, говорится, что надлежит сделать «десяти братьям пастушье платье всем равное» «из светлой дымчатой крашенины; в руки иному кнут, а иному палка. Отдать Аволию сделать, чтоб похоже было на старинный манер, как было тогда». Вот это стремление сделать «на старинный манер, как было тогда» и является характерным для постановки исторических пьес на сцене русского театра конца XVII — первой половины XVIII века.
Гораздо сложнее обстояло дело с костюмами для аллегорических персонажей. По словам В. П. Адриановой-Перетц, «одной из больших трудностей для режиссера школьного театра было так изобразить аллегорических действующих лиц, чтобы зритель понял смысл этих фигур по их наружному виду». Иезуиты до тонкости разработали этот вопрос, но их представления о театральном костюме отличаются явным схематизмом. По справедливому замечанию В. П. Адриановой-Перетц, в их суждениях об этом предмете «первое место занимает не костюм в собственном смысле слова, как одежда, а всевозможные атрибуты, которые уясняют внутренний смысл данной фигуры». Такими атрибутами они наделяли не только аллегорических, но и реальных персонажей. Так, «солдаты узнаются по копьям и мечам, ремесленники по молоткам и прочим инструментам, земледельцы по плугам, адвокаты по тоге, священ^ ники по повязкам, музыканты по кифарам, художники по кис¬
53
тям и палитрам, моряки по веслам». Специальными символами, «с которыми они всегда выступают на сцену», наделялись мифические существа: Юпитер сидит на орле и держит в руке перуны, Юнону везут павлины, Венеру — голуби. Флора опоясана цветами, Церера несет колосья, Помона — плоды. Нептун держит трезубец, Плутон — жезл или ключи, Марс — щит и копье, Аполлон — кифару и т. д.
Определенными атрибутами и символами наделялись также аллегорические персонажи, воплощающие отвлеченные понятия. Мир должно представлять с оливковой ветвью, Умеренность с весами, Изобилие с рогом; Добродетель должна быть одета в львиную шкуру, Обман в волчью и т. д.
Наличие в пьесах школьного театра аллегорических персонажей, выступающих в условных доспехах и одеяниях, снабженных символическими, не имеющими реального значения предметами, не могло способствовать приближению драматургии, затрагивающей историческую тему, к правдивому изображению прошлого. В этом отношении аллегоризм школьной драмы являлся бесперспективным.
Драматургия рассматриваемого времени не создавала характеров, ограничиваясь в основном схематичными противопоставлениями добродетельных персонажей порочным сначала в рамках традиционной религиозной, а затем и светской морали феодально-абсолютистского государства. Но как соотносились эти герои с их реальными прототипами? Допускались ли драматургами существенные отступления от намеченных в источнике характеристик, приводившие к искаженному изображению соответствующих исторических лиц? Серьезных отступлений от источника драматурги в этом отношении, за редкими исключениями, не допускали. Они не только воспроизводили фабулу исторического повествования, но и стремились передать обозначенные в источнике черты его героев. Скажем, Астинь в пьесе Грегори является такой же гордой, а Есфирь такой же кроткой, какими они выступают и в библейском рассказе. В некоторых случаях переживания персонажей показываются с большой выразительностью.
В замечательной пьесе Феофана Прокоповича «Владимир» намечены в соответствии с источником черты сложного и противоречивого характера Владимира, хотя, в связи с манерой автора, этот образ получился несколько умозрительным, недостаточно пластичным.
Были и отступления от источников, вносившие искажения в трактовку исторических лиц. В образе Тамерлана со всей ясностью выступает тот авторский диктат, о характерности которого для древней русской литературы говорил Д. С. Лихачев. В пьесе последовательно проведено противопоставление благородного и набожного рыцаря-христианина, защитника обиженных, восстановителя справедливости Тамерлана зверовид-
54
ному разбойнику, зачинщику несправедливых войн Баязету. Создавая эту контрастную параллель, автор пьесы исходил из западного источника, идеализирующего Тамерлана, а также из общего моралистического, восходящего к Библии, задания о наказании гордых, подкрепленного в данном случае антиту- рецкой политикой тогдашнего русского государства («гордым» оказался турецкий султан — далекий предок тех турок, с которыми воевала Россия). Этому заданию подчинены все детали изображения взаимоотношений двух антагонистов, все поведение Тамерлана. Скажем, решение Тамерлана посадить побежденного Баязета в железную клетку подсказывается самим Баязетом, что специально оговаривается в пьесе устами главного героя. «Ныне ты сам себя осудил», — говорит Тамерлан. Таким же образом подсказывается и унизительный способ кормления царственного пленника объедками со стола. Однако не Тамерлан, а Баязет подвергается в пьесе этим унижениям. Зритель видит их, видит страшную смерть Баязета, видит страдания его жены, на глазах которой все это происходит. Вот как рассказывает об этом русская летопись. «В сие лето Темир Кутлуй, си ест Тамерлан, цар Татарский, собрав- ся пойде на Баязета царя Турецкого, имея и з собою войска дванадцять крот сто тысячей, и порази Баязета и всю силу Турецкую, а самого поймав окова веригами златыми, и всади в клетку железную, и вожаше на позор миру през три лета, дондеже умре; и егда на конь седаше, вступоваше по плещию Баязетову аки по подножию»,
Несмотря на идеализирующий подход автора к изображению Тамерлана, в пьесе все же выражены некоторые черты Тамерлана-завоевателя. Это можно видеть, например, в сцене разговора Тамерлана с пленным турецким Пашой — братом Баязета. Общее авторское освещение разговора дается в духе идеализации Тамерлана. Тамерлан, чувствуя за собой силу и право, отпускает пленника, с тем чтобы тот рассказал Баязету обо всем виденном. Но в этом разговоре есть одна деталь, проливающая свет на завоевательную политику Тамерлана. Паша выражает удивление («...но удивляюся безумию твоему», — говорит он), что Тамерлан «так от далеких мест пришел еси господарю моему помешку чинити во благополучие его, еже самое небо ему не возбраняет». Не только Сибла мечтает о военной добыче. Сам Тамерлан считает ее законной наградой воинам за их труды, исходя все из той же мысли о наказании гордых и восстановлении справедливости. Впадая в противоречие со своими же словами, что заботой о снабжении войска продовольствием надо сберечь чужие народы от притеснения и грабежа, Тамерлан рисует перед своими воинами соблазнительную картину беспечального жития в завоеванной стране: «Тако вы храбрые воины! — говорит он. — Ныне аще вас вижу еще в поле нужных, в дыму пребывающих, но во месяц время
55
узрю вас: яко бози живут в турской земле, в преизрядных по- латах ходящих, идеже на золоты тканными толковыми ковры учнете ходити: ибо рожден есмь тоея ради вины, да на сим свете честь и счастие про меня самого, мирского же добра наказанием гордых мучителей взыщу». Как видим, здесь снова речь идет о наказании гордых мучителей — основной посылке, которая все оправдывает, все освящает. Но это высказывание героя пьесы и некоторые другие ее места можно воспринять и совсем по-иному. Наличие противоречий в пьесе о Темир-Ак- саке свидетельствует о знакомстве ее автора не только с иностранными, но и с русскими источниками, рисующими личность Тамерлана в другом освещении. Пьеса «Темир-Аксаково действо», правдиво передающая факты, содержит некоторые материалы, позволяющие взглянуть на изображенные в ней события более широко.
Поэтика.
Специфические компоненты и персонажи. Жанровые особенности
1
Уже в первых пьесах русского театра, задолго до появления исторической драмы в собственном смысле слова, обозначились некоторые черты ее поэтики, закрепившиеся в этом жанре в качестве его характерных компонентов. Такое опережение объясняется тем, что эти компоненты, при всей их специфичности для исторической драмы, издавна присутствовали в том или ином виде в произведениях литературы, в том числе драматических, а также в исторических сочинениях. Отдельные из них выступали даже в роли самостоятельных жанровых образований. Это позволило исторической драме ассимилировать их, закрепив в своем составе. Подобная ассимиляция произошла легко и быстро, в связи с тем что по своему характеру эти компоненты и жанровые образования были в той или иной степени связаны с исторической тематикой, с жизнью народов и государств, присутствовали в летописях и преданиях. Естественно, что они появились в первых же пьесах русского театра, написанных на историческую тему.
К числу компонентов исторической драмы, появившихся у самых истоков жанра, относятся: вещий сон, знамение, пророчество, рассказ о событии, грамота, молитва, плач. Характерно, что в подавляющем большинстве случаев появление этих компонентов в пьесе подсказывалось непосредственно источником— летописью, исторической повестью или житием, а также библейскими сказаниями. В этом смысле данные компоненты
66
носили в возникающем жанре первичный характер, были собственной принадлежностью исторического сюжета, положенного драматургом в основу его произведения. Это позволяет утверждать, что поэтика жанра конструировалась на собственной основе, из своих собственных материалов, каковыми являлись материалы исторического предания или рассказа. То обстоятельство, что подобные же компоненты использовались в произведениях других распространенных жанров литературы, лишь облегчало их фиксацию драматургом, впрочем нередко весьма четкую и в самом источнике. Дело в том, что в других жанрах аналогичные компоненты возникали, как правило, под непосредственным воздействием своего источника. Таким образом, речь идет о конструировании поэтики жанра под прямым влиянием истории, закрепленных в ней преданий и мифов, а говоря* шире, — всей народной и государственной жизни.
Названные компоненты играют обычно определенную роль в сюжете драмы, в связи с чем и несут большую эмоциональную нагрузку. Кроме того, они принадлежат к числу наиболее идеологически значимых частей драмы. Особенно это относится к таким компонентам, как вещий сон, знамение и пророчество. В связи с переходным характером эпохи, выразившимся в постепенном отходе от провиденциализма и замене его рационалистическим подходом к вопросам общественно-исторической жизни существенно изменились, как увидим, их наполнение и осмысление, их роль в сюжете.
Вещие сны, сбывающиеся и восходящие, как и сам сюжет пьесы, к библейскому источнику, имеются в «Малой прохладной комедии об Иосифе», где они играют важную сюжетно-композиционную роль. Иосиф увидел во сне себя и братьев своих вяжущими снопы в поле, причем сноп Иосифа стоял прямо, а снопы братьев поклонились ему («кланяхуся моему снопу»). В другом сне, увиденном Иосифом, Иосифу поклонились солнце, месяц и звезды. Узнав о снах Иосифа, братья, не любившие его, еще больше его возненавидели. Волнующее и увлекательное драматическое повествование о кознях братьев, возводимых против Иосифа, и конечном его торжестве и посрамлении его братьев ведется при постоянных упоминаниях о его снах.
Вещий сон Тамерлана, которым начинается «Темир-Аксако- во действо», также основывается на источнике. Характерно, что это был русский источник — «Повесть на стретение чюдотвор- ного образа пречистыя Владычица нашея Богородица и присно- девы Мариа»1. В повести Темир-Аксак увидел во сне сначала святителей, держащих в руках золотые жезлы «и претяху ему зело», а потом ему явилась окруженная сиянием «жена некая»
1 На этот источник сна Темир-Аксака указал А. Т. Парфенов. См.: Вестник Московского университета. Серия X, Филология. — 1969. — № 2 (март — апрель). — С. 19.
57
богородица, убоявшись которой он вместе со своим воинством обратился в бегство. Поскольку в драме Темир-Аксак выступает как защитник христиан, а не «гордый мучитель», пришедший разорять христианскую страну, рассказ о его сне подвергся в пьесе некоторому изменению и переосмыслению. Святителей заменили враги Темир-Аксака, которых он уже победил, а «жену некую» заменил его теперешний враг — Баязет. Хотя этот враг грозен («муж силной во всем оружию»), он все же «не одолеет» Темир-Аксака, потому что последний всегда имеет в своем сердце «любительство и смирение, также праведность и побеж- дения» (вариант: побеждение). Таким образом, и в этой пьесе трактовка вещего сна (как и вся концепция пьесы) связывается с религиозной моралью, с библейской мыслью о победе смиренных над гордыми. Не следует, однако, преувеличивать значение ее в первых пьесах русского театра. Показательно, что в самих сюжетах этих пьес отсутствует обычно элемент чудесного и фантастического.
Вещие сны часто встречаются и в школьных драмах. Уже в одной из первых драм, представленных на сцене славяно-гре- ко-латинской академии — в «Страшном изображении второго пришествия» (1702), имеются два таких сна — Навуходоносора и пророка Даниила, — опирающихся на библейский материал. Весьма интересное переосмысление этого ставшего уже традиционным компонента находим в трагикомедии Феофана Прокоповича «Владимир». В ней приводится сон Жеривола, сопровожденный насмешливым комментарием Философа. Жеривол уверяет, будто перед ним предстал во сне бог Купало, угрожавший всякими бедствиями охладевшим к богам людям. «Сонния то сени», — говорит Философ. Сон Жеривола не только не сбылся, но его вообще не существовало. Он выдуман жрецом для устрашения людей. В пьесе, правда, есть еще сон Владимира, сильно его смутивший. «Неким черним мужем» Владимир был «ввержен в дол темний», но потом вышел «ко ину месту, светлу и злачну». Лишенный фантастического содержания, сон Владимира имеет чисто психологическое значение и только в этом плане соотносится с образом князя и сюжетом пьесы. Любопытно, что этот сон воспринимается действующими лицами как бесовское наваждение. Выслушав рассказ Владимира, Глеб говорит:
Бесовской же силе
Веема поругаемся: во сне страх наводят.
Почто, аще силны сут, яве не исходят на брань? Аки татие, покровенны тмою,
Дерзают на спящего и сень со собою Ведут на помощ...
Сам Владимир признает первым советчиком человека «трез- вий разуму без. которого воля, думая сотворить «вещь добру, избирает злую». Рационалистическое осмысление снов в пьесе
58
Феофана Прокоповича, вполне согласуясь с основной идеей этого произведения, вместе с тем характерно выражает общую тенденцию развития русской культуры и литературы по пути отказа от провиденциализма и мистики.
Подобное же рационалистическое толкование мотива вещих снов содержится в пьесе «Слава печалная», где аллегорический персонаж, олицетворяющий Россию, презрительно называет «бабьей» загадку, задаваемую Предуведением, а Марс прямо заявляет, что «снам, загадкам никогда» не следует «верити». Скептические замечания по поводу вещих снов имеются и в «Действии об Есф*ири», где сам Мардохей, сон которого снова здесь фигурирует, говорит: «...не уверяю во сны, но сей необычны». Еще интереснее высказывается о снах аллегорический персонаж Гениуш, пытающийся объяснить природу сновидений. «Что мыслил на яве и во сне видел то же», — говорит он. Обращаясь к Мардохею, Гениуш замечает:
Кто долго спит, то видит не мало,
От излишнего бо сна сие тебе стало.
Вещие сны встречаются и в инсценировках рыцарских романов. Например, в «Действии о короле Гишпанском» к герою пьесы являются во сне Марс и Слава и предсказывают ему будущее. Хотя предсказание и сбывается — Мальтийский кавалер становится королем, однако в пьесе его устами выражено скептическое отношение к вещим снам. Кавалер говорит: «Но вся сия в забвение вменяю и ночных привидений ни во что поставляю».
Наряду с вещими снами постоянными компонентами исторической драмы являются пророчества и знамения. Те и другие обычно относятся к главному событию драмы. Этим и объясняется их характерность для данного жанра. Наличествуя и в произведениях других жанров, названные компоненты особенно характерны для жанров исторических, посвященных изображению важных событий народно-государственной жизни. Не случайно упоминания о знамениях и пророчествах нередко встречаются в исторических сочинениях — летописях, хронографах и т. п. Особенно частыми упоминания о чудесах и знамениях стали в XVI веке в связи с наблюдавшимся тогда в исторической литературе усилением провиденциализма1. Нередко встречались упоминания этого рода и в исторических сочинениях XVII века. М. А. Алпатов пишет, что автор «Скифской истории» А. И. Лыз- лов, находясь под влиянием традиционных представлений, «еще
1 С а х а р о в А. М. Историография истории СССР: Досоветский период. — М., 1978.— С. 33.
Говоря о русском хронографе, Д. С. Лихачев замечает, что, «в отличие от русской летописи, хронографические статьи полны баснословного и анекдотического материала, чудес, видений, вещих снов и т. д.».
59
вносит в свое повествование элемент сверхъестественного: чудеса и знамения, роковые предостережения и вещие сны»1.
Пророчества произносятся обычно в пьесах персонажами, связанными с культом и верой в предсказания: волхвами, кудесниками, жрецами и т. п. Их устами предсказывается тот или иной исход главного события или будущее народа, государства. Что касается знамений, то таковыми чаще всего выступают в исторических сочинениях и пьесах примечательные явления природы, связываемые с историческими событиями, «предсказывающие» их.
Уже в «Артаксерксовом действе» имеются пророчества и знамения, связываемые с образом Амана. Большое количество пророчеств содержится в школьных драмах: в пьесе «Страшное изображение», где предсказывает будущее пророк Даниил, в трагикомедии Феофана Прокоповича «Владимир», заканчивающейся обширным пророчеством апостола Андрея, в «Опере об Александре Македонском», содержащей пророчество о рождении у Филиппа Македонского знаменитого сына, в пьесе «Слава Российская», в которой с предсказанием будущего выступает аллегорический персонаж Предуведение, в «Славе пе- чалной», где также фигурирует Предуведение и т. д.
Важным компонентом исторической драмы является рассказ о событии. В подавляющем большинстве случаев рассказ о событии повествует в драматической форме устами одного или нескольких действующих лиц о том событии, которому посвящена пьеса. Бывают, однако, случаи, когда рассказывается не о главном, а о побочном событии, представляющем собой эпизод, связанный с сюжетом пьесы или с характеристикой ее главных героев. Но бывает и так, что в рассказ вмещается целая история того народа, к которому принадлежит герой пьесы. В этих случаях само центральное событие пьесы получает значение эпизода, взятого из этой истории.
Стилистические особенности рассказа о событии — торжественная напряженность речи, высокая лексика, употребление гипербол— наличествуют в пьесе Феофана Прокоповича, в рассказе о крещении князя Владимира. Этот рассказ основывается на летописном повествовании. Опустив подробности, связанные с женитьбой Владимира на греческой царевне и взятием города Корсуни, драматург сохранил в рассказе эпизод с излечением болезни глаз, приключившейся у Владимира как раз в это время. Рассказ о крещении Владимира Феофан Прокопович облек в форму послания князя, которое читает его помощник Храбрий. В пьесе имеется еще рассказ, содержащий описание богослужения в греческом храме, также основывающийся на летописи. В ней говорится, что своей торжественностью и ве¬
1 Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа: XVII — первая четверть XVIII века. — М., 1976. — С. 303.
60
ликолепием обстановки богослужение произвело сильное впечатление на посланцев Владимира, рассказавших по возвращении домой о том, какую они видели «тамо неизглаголанную красоту церкве, и пения, и одежды иерейския...».
Следует заметить, что во многих пьесах рассказ о событиях заменялся их сценическим показом. Этим объясняется сравнительно небольшое число рассказов о событиях, имеющихся в произведениях старинных драматургов. То, что позднейшие драматурги сообщали зрителям в рассказах действующих лиц, представало в раннем русском театре в виде живого действия. Это относится прежде всего к изображению сражений на сцене, принадлежавшему к числу любимых зрелищ у тогдашней публики. В «Рассуждении о сценической игре» Ланга говорится, что «для развлечения зрителей и воздействия на них» было принято показывать на сцене «бойцов, сражающихся на мечах, строить войска в ряды, изображать их упражнения, стоянки и схватки»1. Ланг даже предостерегал против злоупотребления сценическими эффектами, к числу которых он относил и сражения, изображаемые на сцене2. Подобную же роль выполнил сценический показ сражений и в раннем русском театре. Говоря о сценических эффектах, употреблявшихся в Киевском и Московском школьном театре XVII и начала XVIII века, В. Н. Пе- ретц называет среди них и сражения3.
Характерно, что сценический показ сражения мы находим в первой же русской пьесе, написанной на историческую тему,— в «Темир-Аксаковом действе». В этой пьесе, все содержание которой состоит в изображении военного противоборства двух завоевателей, изображаемого с поистине эпической обстоятельностью, кульминацией и одновременно переходом к развязке является 2-я сень последнего 3-го действа, заключающая в себе картину сражения. В этой картине характерно отразились особенности поэтики ранней русской драматургии с ее устремленностью к подчеркиванию энергии внешних физических действий и наивной беспомощностью в изображении средствами языка богатства и разнообразия душевных движений.
Сцена начинается молитвой Тамерлана (перед боем), после которой сразу же создается тревожная боевая обстановка.
Обводной караул
Хто идет? Хто идет?
Тамерлан
Всполох! Всполох! Поставте людей в ополчении.
Караул
Неприятель! Неприятель!
(Промежь их)
На них! На них! На них! На них! На тых псов! Сполох!
1 Старинный спектакль в России. — Л., 1928.— С. 14, 179.
2 Там же. — С. 68.
3 Там же.
61
Сполох! На них! На них! Пощадите господа! Пощадите! И на них! На тых псов! На них! Пощади! Пощади! Даруй ми живот! Имайте тых псов в полон! Убейте весело! Весело! На них! На них!
Можно утверждать, что ранняя русская драматургия не так уж плохо начала изображение военных действий в исторической пьесе. Показав сражение, драматург сразу же показывает и его результат. Аксала приводит к Тамерлану взятого в плен Бая- зета.
В пьесе «Освобождение Ливонии и Ингерманляндии» сражение на сцене показано аллегорическими средствами. Здесь, собственно, рисуются два сражения. Сначала на сцену выходят Хищение неправедное и Ревность росска «и зачинают между собою брань творити». Хищение выступает «на гидре седмо- главной». Ревность отсекает главы гидрам, и Хищение удаляется. После этого Начинается общее сражение, в котором, судя по программе, участвует большое число воинов (Ревность и Хищение выступают со своими «полками»). Воины берут приступом город, где находится, обороняя неправедно им приобретенное, Хищение (все это символизирует взятие русскими войсками крепости Нарва в 1704 году). Судя по описанию, картина сражения представляла собой эффектное зрелище. Появляются лестницы, по которым воины начинают «лести во град». Сражение происходит ночью («в нощи»). Поэтому Ревность появляется «на стене градской», имея «свещу запалену» (вариант— запаленну). Раздается звук трубы. И т. д. В пьесах «Диалог о Гофреде» и «Опера об Александре Македонском» также изображаются сражения, обозначаемые короткой ремаркой: «Брань»".
Во многих исторических пьесах фигурируют сцены приема послов и вручения грамот. Грамота составляет четко выделенную конструктивную единицу в исторической пьесе и является одним из ее специфических компонентов. Характерность этого компонента для произведений данного жанра определяется тем, что историческая драма изображает внутригосударственные, а еще чаще — межгосударственные отношения, в установлении, поддержании и развитии (а в критических ситуациях — прекращении и разрыве) которых немаловажную роль играют указы и грамоты.
Если сражения, изображавшиеся на сцене, представляли собой попытку решать изображаемые в пьесе противоречия и конфликты военным путем, то грамоты и указы были связаны с попытками решать эти противоречия путем дипломатическим. Следует, впрочем, заметить, что мирный характер такого решения далеко не всегда отражался в содержании самих грамот, особенно же в манере его преподнесения, часто далеко не дипломатической.
Например, в грамоте, посланной Темир-Аксаком турецкому
62
султану, содержатся такие слова: «Байцет, ты, которой поднялся на нашего соседного друга и союзника в его государство и земли вступить! И тебе надежно будет знать от нашей коруны, что мы тебе со всею нашею великою силою навестим, и един бог с небес тебе помочи может, и мы тебе со всеми твоими по- мочниками зело злою смертию, которою мы вымыслить можем, умертвим и то тебе буди ведомо». Не удивительно, что после получения или отсылки таких грамот противники сразу же переходили к военным действиям.
Грамоты являлись в исторической драме важным составным моментом в развертывании сюжета. Драматурги и театральные деятели всячески стремились указать на их большое значение. Сцены получения грамот отличаются в связи с этим особой торжественностью. То обстоятельство, что грамота является в исторической пьесе самостоятельным компонентом, подчеркивается обычно ее графическим обособлением, а иногда и обособлением ритмическим. Прием посла и чтение грамоты нередко выделяются в особую сцену, которой иногда предшествуют слова, указывающие на важность предстоящего действа. Например, в «Темир-Аксаковом действе» перед чтением грамоты Па- леологуса дается авторская ремарка «теперь придет почта» (вариант— почта с листами), за которой следует обмен репликами между Темир-Аксаком и одним из его помощников:
Теми р-А кс а к А что то за почта?
К а л и б е с
Грамота велеможнейшему кесарю Темир-Аксаку.
Теми р-А к с а к Прочитайте скоро
(Калибес чтет).
, В пьесах «Действие об Есфири» и «Образ победоносия» применено ритмическое выделение грамот. Обе пьесы написаны стихами, а фигурирующие в них грамоты написаны прозой. Этот прием будет применяться многими драматургами XIX века. К нему, например, прибегал в своих исторических пьесах А. Н. Островский.
Грамоты встречаются уже в «Артаксерксовом действе». Речь идет о двух указах Артаксеркса. Оба они текстуально представлены в «Действии об Есфири», в редакции, близко воспроизводящей, вплоть до деталей, указы, фигурирующие в Библии. В «Темир-Аксаковом действе» имеются грамота Палеоло- гуса Темир-Аксаку и упоминавшаяся выше грамота последнего турецкому султану.
О точности воспроизведения в пьесах грамот, имеющихся в источниках, можно говорить лишь в смысле верной передачи содержания и его подробностей, но отнюдь не стиля. Стилистика грамот, встречающихся в пьесах ранних русских драматургов, воспроизводит чаще всего стилистические особенности ука¬
63
зов и грамот, писавшихся в России в XVII—XVIII веках. В духе этих последних производится титулование царственных особ, в соответствии с принятыми в этих грамотах правилами строятся предложения, употребляется характерная для них лексика. Вот как, например, звучит начало указа Артаксеркса в пьесе «Действие об Есфири»: «Мы, Артаксеркс велики, царь и самодержец всея Персидския и Мидския империи, от Индии до Ефиопии, сто двадесят странам повелевающе всем князем и воеводам и протчиим нашим верным подданным объявляем настоящим пунктом, понеже мнози под именем добраго зло устрояют, и аки верный монархом являющийся невинных клевещут, да тем в болшую честь производятся и фортуну свою злым советом укрепят, того и во дворе в малых днех случися». Здесь многое соответствует библейскому источнику,, вплоть до упоминания об Индии и Эфиопии, но лексика и весь стиль указа, разумеется, с ним расходятся. Выражения типа «настоящим пунктом», слова «монарх», «фортуна» и др. красноречиво говорят о времени Петра I. Если в «Действии об Есфири» стилистикой грамот и указов XVIII века подменяется стиль распоряжений библейских правителей, то в «Акте о Калеандре и Неонилде», написанном по материалам рыцарского романа, ею подменяется стиль изображаемой в пьесе античности. В пьесе фигурирует грамота, начинающаяся следующими словами: «Мы, Атигрин, цесар трапезонский и многих королевств монарх и повелитель, цесарю греческому Полиартесу объявляю: лист твой получил, по которому ответъствую; посмеялся ты нашему цесарству, величеству, и монаршеству нашему и дщери нашей великой цесаревне Тигрине учинил укоризну, и на правде своей, которою по- ролем заключил пояти ея себе в супругу, не устоял и женился на иной...» и т. д.
Одним из компонентов исторической драмы следует считать также молитву. Дело не только в том, что молитвами изобилуют источники, которыми пользовались авторы исторических пьес, хотя само по себе наличие их в источниках является фактом немаловажным. Молитва, как правило, и в источнике, и в основывающейся на нем исторической пьесе оказывается связанной с кульминацией драматического действия. К богу люди обращались при особенно тяжелых обстоятельствах. По ничтожным поводам о нем вспоминали ханжи и святоши. Не случайно молитвы приурочиваются в пьесах к моментам наивысшего напряжения действия, к ситуациям, требующим от персонажей ответственных решений.
Кульминация есть в любой драме, но, сколько бы ни появлялось в ней молитв, они не станут ее специфическим компонентом. В исторической драме каждый из ее компонентов связан с особым характером развивающегося в ней конфликта, а следовательно, и с особой ролью ее центральных персонажей. Герой исторической драмы не может быть частным лицом. Даже
64
в тех случаях, когда он переживает личную, казалось бы, только его одного касающуюся драму, он не является частным лицом. И молится он тоже не о себе. В исторической драме молитва героя связана с историческим событием, приурочена к нему. Со всей ясностью это видно в «Артаксерксовом действе», о наличии в котором молитв, ориентированных на источник нс только по содержанию, но и стилистически, говорилось выше. В «Действии об Есфири», написанном гораздо позднее, но на тот же сюжет, также имеются молитва Мардохея и молитва Есфири. Молится и героиня пьесы «Иудифь» перед совершением своего подвига: «Да совершу сие, яже умыслих, уповающе на тя». В пьесе «Темир-Аксаково действо» также содержится молитва Тамерлана, которую он произносит перед решающей битвой.
Молитвы трех отроков с прямыми ссылками на Библию включены в текст пьесы Симеона Полоцкого «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных». Молитва Езекии, взятая из Библии' имеется в пьесе Исакия Хмарного «Образ победоносия». Молитвой заканчивается монолог Владимира в одноименной пьесе Феофана Прокоповича. Эта молитва знаменует прекращение внутренней борьбы, происходящей в душе героя перед принятием им важного решения, неразрывно связанного с основным событием пьесы. То обстоятельство, что молитва Владимира не выделена текстуально, вероятно, объясняется моментом ее произнесения. Владимир произносит слова молитвы, обращенной к Христу, еще не будучи христианином. После принятия христианства Владимир больше не появляется в пьесе.
Говоря о компонентах исторической драмы, следует, наконец, упомянуть о встречающихся в произведениях этого жанра планах. Н. И. Прокофьев в статье о жанрах древней русской литературы характеризует плач как «лирическое произведение, предназначенное для выражения личного или общественного бедствия, горестного состояния в связи с различного рода несчастия- ми и скорбными потрясениями»1. По словам исследователя, «плачи бытовали как самостоятельная литературная форма в литературе и устной народной поэзии и как вставной мотив в произведениях других жанров»2. Именно в качестве вставного мотива плачи фигурируют в исторических пьесах. Их характерность для данного жанра опять-таки определяется разрабатываемой в исторических пьесах тематикой. В этих пьесах плачи обычно бывают связаны с историческим событием, лежащим в основе их содержания: оплакивается смерть исторического ге¬
1 Литература Древней Руси//Сборник трудов МГПИ им, В. И. Ленина. Кафедра русской литературы, — 1975. — Вып. I. — С. 34.
2 Там же.
6 Заказ 4708
65
роя или его близких, горестная судьба народа, угнетаемого завоевателями. Таков, например, плач Есфири и дев в «Артаксерк- совом действе». Поэтика плачей, встречающихся в исторических пьесах, несет на себе печать фольклорного стиля, придающего всему произведению оттенок народности. Черты этого стиля имеются, например, в пьесе «Действие о короле Гишпанском», где Королевна, оплакивая умершего отца, употребляет слова и обороты, характерные для фольклорных причитаний: «государь мой, батюшка», «на кого ты оставляешь мя сирую» и т. д. Подобные же обращения к умершему и его близким, к стихиям природы содержатся в многочисленных плачах, украшающих пьесу «Действо о князе Иефае Галаатском, како принесл дщерь свою единородную на жертву богу»: «о госпоже наша, почто нас оставляешь», «о солнце, о луна, и вся звезды, рыдайте со мною днес» и т. д. Иногда плач сливается с молитвой. Таков «кант Есфири царицы» в пьесе «Действие об Есфири», начинающийся словами «Како восплачу, како возрыдаю». Плачи содержатся также в пьесах, написанных на основе житий святых, например в «Действе о святей мученице Евдокии», где царь Авле- риан плачет над умершим сыном. Плачи являлись «эффектом, которым сильно злоупотребляла школьная драма и на Украине и в Москве»1.
Наряду с компонентами исторической драмы, подчеркивающими ее жанровую специфику, следует назвать также и характерных для нее персонажей. К числу последних относятся, например, вестники. При слове «вестник» в нашем сознании возникает представление о некоем условном, лишенном индивидуальности персонаже, имеющем чисто литературное происхождение. Именно так объясняется это слово в «Словаре литературоведческих терминов», где сказано, что это «один из наиболее распространенных персонажей античной драмы, перешедший потом в драматургию классицизма»2. Между тем, прежде чем попасть в античную, а затем и в классицистическую драматургию, вестники существовали в самой действительности, исполняя определенные функции, которые ныне чаще всего выполняют почта и телефон. Геродот, рассказывая об истории Кира, говорит, что Гарпаг «послал вестника к одному пастуху-воло- пасу Астиага»3. О том, что вестник у Геродота является лицом, находящимся в услужении и выполняющим функции посыльного, свидетельствуют слова историка о мальчике, который во время игры «вел себя совершенно так, как настоящие цари, окружив себя телохранителями, привратниками, вестниками и прочими слугами, как и подобает царю»4.
1 См.: Старинный спектакль в России. — Л., 1928. — С. 89.
2 Словарь литературоведческих терминов. — М., 1974. — С. 38,
3 Геродот. История в девяти книгах, — Л., 1972. — С. 46.
4 Там же.—С. 50.
66
Характерно, что среди пьес, где фигурируют Вестники, мы находим обе пьесы о царе Кире. В «Пьесе о воцарении Кира» Вестник выступает скорее в качестве условного персонажа, чем- то напоминая имеющихся в этой пьесе аллегорических персонажей. Он возвещает пророчески о рождении Кира — великого царя, который примет «царство мидское» «и всею Азиею будет обладати». В обеих редакциях пьесы о Кире и Тамире Вестник, выполняя свою прямую функцию, сообщает в свой первый приход царице Тамире, что на ее царство «грядет с войною» Кир, а во второй приход рассказывает ей, как, попавшись в ловушку, расставленную Киром, погиб ее сын. Это повествование является (при всей своей краткости) типичным, передаваемым устами одного из его участников (в первой редакции пьесы Вестник говорит, что из всего воинства сына Тамиры только один он остался в живых) рассказом о событии.
Поскольку данное событие, занимающее важное место в сюжете о Кире и Тамире, непосредственно в пьесе не показывается, рассказ о нем является уместным и необходимым. Заметим, что в последующей драматургии, особенна в классицистических трагедиях, написанных на историческую тему, устами вестников будут передаваться чаще всего изложения о сражениях.
Образы Вестников можно встретить в пьесах, написанных на материале рыцарских романов. Неоднократно появляются Вестники, например, в обширном и очень сложном по сюжету «Акте о Калеандре и Неонилде», где без этих персонажей невозможно было обойтись. Вестники сообщают действующим лицам о смерти их близких, рождении детей и т. п. Иногда устами Вестника рассказывается о целом ряде приключений, случившихся с персонажами пьесы за определенный отрезок времени. Таков, например, во втором действии «Акта о Калеандре и Неонилде» обстоятельный рассказ «щитоносца Калеандрова» Руилло, выступающего в роли Вестника. В «Комедии об Индри- ке и Меленде» Вестник сообщает королю о том, что «неприятел подступает», а также о том, что сын короля возвратился «из государств далных», где изучал различные науки.
Если грамота является характерным компонентом исторической драмы, то посол, вручающий грамоту, принадлежит к числу ее характерных персонажей. Все драматурги, рисуя сцены приема послов, стремились придать им особую торжественность и весомость. В пьесах обычно обдумываются и оговариваются все детали, связанные с приемом послов. Их появлению предшествуют ремарки и реплики, подчеркивающие важность происходящего. Интересно показаны послы Темир-Аксака Фуеро и Гиргас в пьесе «Темир-Аксаково действо». Сначала они появляются с упомянутой выше гневной грамотой своего владыки в логове самого Байцета. Драматизм сцены оттеняется репликами Байцета, который в непомерной гордыне своей полагает, что пред ним предстанет греческий царь Палеологус,
5*
67
чтобы лобызать его «скифетр». Поддерживая амбицию своего владыки, Добас говорит Байцету, что «не токмо Палеологус», но и сам Темир-Аксак хочет припасть к его ногам. Байцет приказывает приготовить послам «довольные кормы и подарки». Оказавшись в такой обстановке, послы держатся с большим достоинством. «И для чево вы так гордо стоите прикрытыми главами и до моих ног не припадаете?» — спрашивает послов Байцет. Послы просят прочитать грамоту — тогда «все явно будет». Но этим же послам, которым пришлось выслушать ответ пришедшего в ярость Байцета, надлежало в следующей сцене передать этот ответ Темир-Аксаку. Автор замечает их смущение и замешательство. «Нам нельзя, — говорит один из них, — дерзнуть тую гордую и бесчестную отповедь Байцетову и объявите преж твоим величеством из уст наших».
Сцены приема послов содержатся также и в пьесах «Акт о царе Перском Кире и царице Скифской Тамире», «Акт о Ка- леандре и Неонилде», «Акт Ливерийский», «Акт о преславной палестинских стран царице», «Комедия об Индрике и Меленде», в «Действии о короле Гишпанском». В последней пьесе беседа с послом происходит с участием переводчика.
К числу персонажей, часто встречающихся в исторической пьесе, относятся также волхвы, жрецы, кудесники, звездочеты. Нередко им отводится в пьесе довольно заметная, но все же служебная роль. В связи с развертывающейся в пьесе коллизией они предсказывают ее героям будущее, занимаются истолкованием знамений, вещих снов и пророчеств. Скептическое отношение к этим последним, характерное для ряда пьес, распространяется в таких пьесах и на волхвов и жрецов. Показательно в этом смысле изображение в пьесе Феофана Прокоповича жрецов как невежд и шарлатанов. Весьма непочтительно обходятся с волхвами в «Акте о Калеандре и Неонилде», где не верят их предсказаниям и попросту изгоняют их. Однако аллегорический персонаж Предуведение подтверждает их пророчества. В школьных драмах пророчествами занимается персонаж Провидение («Провиденция») или же какой-либо из античных персонажей. В пьесах, написанных на библейские темы, предсказаниями будущего занимаются библейские пророки. Несмотря на то что волхвы, кудесники, звездочеты связаны с религиозными представлениями и суевериями, они все же оказались весьма живучими. В XIX веке их чаще всего заменяли в пьесах юродивые1.
Характерными персонажами исторической драмы можно счи¬
1 Следует отметить, что образы юродивых (юродивых дев) едва ли не впервые в русской драматургии появились в пьесе «Действо о десяти девах, о пяти мудрых и о пяти юродивых». Юродивые девы связаны здесь с пророчествами, с небесными знамениями. Однако пьеса эта, основывающаяся на евангельской притче, целиком связана с развиваемым в ней нравоучением и к образам юродивых, которые появились позднее, прямого отношения не имеет.
68
тать и солдат, колоритные образы которых имеются уже в первых русских пьесах (в «Иудифи», в «Темир-Аксаковом действе»). Они выступают в качестве рьяных выполнителей приказов своих кровожадных начальников. Это типичные профессионалы войны, наемники1, издавна существовавшие в войсках завоевателей,— предшественники ландскнехтов, показанных Шиллером в «Лагере Валленштейна», и пушкинского ландскнехта высшего ранга — Маржерета.
Характерным для исторической драмы персонажем является также шут. Фигурой шута, «этого неизбежного, по словам П. О. Морозова, действующего лица «английских» комедий, в которых шут и король, герой и его карикатура, трагический пафос и кабацкое остроумие идут рука об руку»2, русские драматурги пользовались прежде всего, чтобы оттенить достоинства центрального героя и порочность отрицательных персонажей, заслуженно подвергающихся наказанию. Комические реплики и замечания шута помогали также уменьшить напряженность действия в наиболее трагических местах.
Шут по имени Мопс фигурирует *уже в «Артаксерксовом действе». Характерно, что он здесь выступает и в качестве палача (спекулатора). Прежде чем совершить казнь над Аманом— повесить его на дереве, спекулатор казнит его словесно, издевательски комментируя предсмертные слова злодея, проникнутые поздним раскаянием. В пьесе «Иудифь» роль шута выполняет служанка героини Абра, заурядностью натуры и обычными человеческими слабостями которой оттеняются бесстрашие и самоотверженность Юдифи. Но шутки «многоречивой» Абры перестают быть просто забавными, когда дело касается Олоферна. Если спекулатор издевается над Аманом перед казнью последнего, то Абра издевается над Олоферномуже после его смерти.
2
Рассмотрев вопрос о компонентах и характерных персонажах исторической драмы, обозначившихся уже в ранней русской драматургии, обратимся к ее жанровой характеристике.
Ранняя русская драматургия отличалась жанровым своеобразием, отразившимся в театральной терминологии того времени3. Все драматические произведения, независимо от их кон¬
1 То обстоятельство, что в войске Тамерлана находятся Сибла и ему подобные, бросает свет и на него самого как на завоевателя. Но автор не видит этого. Для него окружение Тамерлана составляет Аксала, а не Сибла и его товарищи.
2 Морозов П. О. История русского театра до половины XVIII столетия.—СПб., 1889.— С. 223.
3 См.: Берков П. Н. Из истории русской театральной терминологии XVII—XVIII веков//Труды Отдела древнерусской литературы. — 1955 —
69
кретного жанрового признака, назывались «комедиями» или «действами». По словам О. А. Державиной, «обычная классификация драматических произведений (трагедия, драма, комедия), принятая в наше время, не может быть привлечена для определения их характера»1. Исследовательница считает, что лишь условно можно отнести ту или иную пьесу, ставившуюся на сцене театра Алексея Михайловича, к одной из этих жанровых разновидностей. Такую попытку она и предприняла, условно отнеся, например, «Артаксерксово действо» и «Темир-Акса- ково действо», а также пьесу «Иудифь» к жанру трагедии, «Малую прохладную комедию об Иосифе» и «Комедию притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого к жанру драмы, а пьесу о Бахусе и Венусе, судя по ее программе, к числу комедий.
Применительно к исторической тематике, отраженной в пьесах конца XVII— начала XVIII века, их можно разбить на несколько групп. Первую группу составляют пьесы, написанные на библейские сюжеты. В нее входят «Артаксерксово действо», «Иудифь», пьеса Симеона Полоцкого «О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожженных» и многие другие. Как уже говорилось, эти пьесы считались историческими. В некоторых из них действуют исторические лица — Артаксеркс, Навуходоносор, Олоферн и др. — и рассказывается о событиях, связанных с этими лицами. Среди пьес, написанных на библейские темы, их следует выделить в особую подгруппу. Другую подгруппу составят пьесы, образцом которых может служить «Малая прохладная комедия об Иосифе». В ней нет исторических событий и лиц, но хорошо показаны домашний быт и нравы народов.
Во вторую группу входят пьесы, написанные на средневековую историческую тему — «Темир-Аксаково действо», трагедо- комедия Феофана Прокоповича «Владимир» и др. Далеко не все в этих пьесах достоверно. Тем не менее они качественно отличаются от пьес, написанных на библейские темы, материал которых все же является мифологическим, легендарным. В большинстве пьес, входящих в эту группу, с большей или меньшей полнотой воспроизводятся события, лежащие в основе их сюжета. Но есть среди них произведения, например «Диалог о Гофреде, победившем сарацины», исторический сюжет которых отличается абстрактностью, а герои — безликостью. В этих пьесах, принадлежащих к жанру школьной драмы, на первом плане находятся аллегорические персонажи.
Т. XI. — С. 280—299; Державина О. А. Жанровая природа первых русских пьес: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII — начало XVIII в.). — М., 1976. —С. 62—72.
1 Державина О. А. Жанровая природа первых русских пьес. Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII — начало XVIII в.).— М., 1976. —С. 65.
70
Третью группу составляют пьесы, написанные на материале житий святых. Действие некоторых из этих пьес относилось к определенным историческим эпохам, а их герои были связаны с известными историческими лицами и даже сами подвизались на государственном и военном поприще. Таков герой пьесы «Венец Димитрию» поборник христианства Дмитрий Солунский, рядом с которым в пьесе выступает гонитель христиан римский император Максимиан (240—310). Связь с исторической эпохой отчетливо показана и в пьесе «Действо о страдании святыя мученицы Праскевии», начинающейся монологом римского императора Диоклетиана (284—305). Однако наличием чудес, участием ангелов и других мифологических персонажей в значительной мере подрывается историческая основа этого рода пьес, число которых сравнительно невелико. Говоря о .цикле русских драм, написанных на агиографические сюжеты, В. И. Резанов справедливо замечает, что «в противоположность театру иезуитов, эти сюжеты отнюдь не привлекали к себе особого внимания наших драматургов»1.
В четвертую группу пьес включаются произведения, написанные на античном материале. Таких пьес в конце XVII — начале XVIII века было мало, но если учесть, что во многих школьных драмах фигурировали аллегорические персонажи, символизирующие богов и героев Греции и Рима, то придется сделать вывод, что мир античности был довольно широко представлен на сцене тогдашнего русского театра. Ориентироваться в этом мире зрителям помогали труды Николая Спафария («Арифмология», «Книга иероглифийская», «Книга о сивиллах»), глубокой основательно знакомившие с античной мифологией* 2.
Пятую группу пьес составляют инсценировки рыцарских романов. Основываясь чаще всего на вымышленном приключенческом сюжете, в котором на первый план выдвинута любовнороманическая линия, эти пьесы содержат подчас изображение внутригосударственных и межгосударственных отношений, существовавших, по представлению авторов романов и пьес, в изображаемых странах. Разумеется, показ быта и нравов обитателей стран отличается в этих пьесах большой условностью.
Шестую группу пьес образуют произведения, в которых исторические материалы привлекаются лишь для сравнения с современными событиями («прообразования токмо ради»). Сюда относятся почти все школьные драмы. Как уже отмечалось, изображение прошлого сильно ослаблено в этих пьесах господствующим в них аллегоризмом.
‘Резанов В. Н. Из истории русской драмы. Школьные действа XVII—XVIII вв. и театр иезуитов. — М., 1910.— С. 340.
2 См.: Спафарий Николай. Эстетические трактаты/Подготовка текстов и вступ. ст. Белобровой О. А.—Л., 1978.
7!
Говоря о структурно-жанровых особенностях ранней русской драматургии, необходимо остановиться на характерном для нее соединении трагического с комическим.
Трагическое выступало в ее составе нередко в своих самых крайних проявлениях. Вопреки предупреждению, делавшемуся в школьных поэтиках, избегать изображения ужасных и кровавых сцен1 драматурги часто изображали убийства, казни, картины ужасных физических страданий. Иудифь на сцене отрубает голову Олоферну. Баязет, заключенный в железную клетку, на глазах у зрителей кончает самоубийством: «голову всю сокрушил и мозг видеть». В тех же пьесах рядом с этими сценами фигурируют сцены, имеющие подчеркнуто комический характер: отпускает свои шутки Абра, совершает свои проделкц Пикельгеринг. Интересно, что в раннем русском театре не было пьес, которые назывались бы трагедиями2. Зато существовали пьесы, носившие название трагикомедий. Феофан Прокопович определял их в своей поэтике как «смешанный род» произведений, в котором «остроумное и смешное смешивалось с серьезным и грустным и ничтожные действующие лица — с выдающимися».
Д. С. Лихачев, говоря о развитии стиля древней русской литературы, указал на отсутствие в ней быта, бытовых подробностей3, появившихся лишь в произведениях XVII века: в сатире, в автобиографическом сочинении Аввакума, умевшего, по словам А. С. Демина, «обрусить» даже библейских персонажей. У Аввакума, пишет А. С. Демин, библейский пророк «Мельхиседек оказывается среди русских людей и среди русских вещей»4. Тот же исследователь замечает, что «в первых пьесах русского театра 1670-х годов реалии, взятые из русского быта, встречаются очень редко, лишь случайно «проскальзывая» в пьесы»5. Но этих реалий, скажем заранее, в ранней русской драматургии было гораздо больше, чем, например, в классицистической трагедии второй половины XVIII века. Национальный колорит ранним русским пьесам в значительной мере придают те бытовые сценки, которые содержатся в интермедиях. Национальную окраску имеет и сам язык ранней русской драматур¬
1 Феофан Прокопович, например, решительно возражал против изображения на сцене чудовищного и гнусного. См.: Прокопович Феофан. Соч. — М.; Л., 1961. —С. 437.
2 А. Н. Робинсон объясняет слабое развитие трагедийного начада в первых пьесах русского театра их связью с придворным церемониалом, не допускавшим неразрешимых конфликтных ситуаций. См.: Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. — М., 1974. — С. 161.
3 «...Надо помнить, — писал он, — что в древнерусских литературных произведениях нет быта, нет детальных описаний, — действие в них происходит как бы в сукнах».
4 Демин А. С. Русская литература второй половины XVII —начала XVIII века. —М., 1977. —С. 151.
г* Там же. — С. 156.
72
гии, заключающий в себе немалое количество «реалий». Можно утверждать, что ранняя русская драматургия накладывала русскую национальную печать на иноземный материал, тогда как у драматургов эпохи классицизма, усердно подражавших западноевропейским образцам, и русский материал выглядел иноземным.
Ранняя русская драматургия, особенно школьная, руководствовалась подробно разработанными правилами, носившими подчас схоластический характер. Однако она не была скована правилом о трех единствах — места, времени и действия, неукоснительного соблюдения которого требовала от драматургов классицистическая эстетика. Любопытно, что в данном случае теоретики и практики школьной драмы обнаружили большую приверженность к духу и букве учения Аристотеля, Между тем Аристотель, как отмечает А. Ф. Лосев, говорит вовсе не об единстве места, очень мало говорит об единстве времени1 и настойчиво говорит только об единстве действия. По словам исследователя, теории классицизма, «приписывавшие Аристотелю учение о трех единствах, были основаны на недоразумении»2. Не требовали соблюдения трех единств и авторы школьных учебников поэтики. С авторами иезуитских курсов поэтики в данном случае был солидарен и Феофан Прокопович, в трактате которого ничего не говорится о трех единствах. Характерно, что и в его трагедокомедии «Владимир» единство места не соблюдено. Первое, второе и пятое действия происходят у холма, где стоят изображения языческих богов, третье и четвертое — в палатах Владимира. В начале пьесы тень Ярополка «изходит от бездн адових», в конце ее апостол Андрей пророчествует, находясь в окружении ангелов. По словам Ю. К. Бегунова, «герои пьесы действуют в аду, на земле (в Киеве) и на небесах»3.
Характерной особенностью ряда произведений ранней русской драматургии является сочетание в них стихов с прозой. Большинство пьес раннего русского театра облечено в стихотворную форму с применением употреблявшегося тогда силлабического стихосложения. Однако уже рано в стихотворный текст начала вторгаться проза. Анализируя в этом плане пьесу «Ар- таксерксово действо», И. М. Кудрявцев замечает, что ее текст «написан частью виршами и силлабическими стихами, частью прозой, которая во многих местах может быть отмечена как проза ритмическая»4. Прозой написана пьеса «Иудифь». Но в
1 «Трагедия, — говорит Аристотель, — старается, насколько возможно, вместить свое действие в круг одного дня или лишь немного выйти из этих границ» (Аристотель. Об искусстве поэзии. — М., 1957. — С. 54).
2 Лосев А. Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика.— М., 1975. — С. 437. (Курсив А. Ф. Лосева.)
3 История русской драматупгии: XVII — первая половина XIX века.— Л., 1982. —С. 40.
4 См.: «Артаксерксово действо»; Первая пьеса русского театра. — М.; Л., 1957. —С. 75.
73
ней есть и стихи, облеченные в форму песен. Прозаическим является также текст «Темир-Аксакова действа», однако и в него включены стихи в виде короткой песни. Автор «Малой прохладной комедии об Иосифе» тоже избрал форму прозаического драматического повествования. В дошедшей до нас части пьесы стихов нет. Не исключено, что они имелись в утраченном продолжении и конце. Своеобразный вариант сочетания стихов с прозой представляет «Пьеса о воцарении Кира». Ее текст является в основном стихотворным. Но в одном месте, там, где четвертый Вельможа дает царю Астиагу толкование вещего сна, автор облекает ответ царя в прозаическую форму. Переход от стихов к прозе связан здесь с желанием драматурга подчеркнуть ту крайнюю степень волнения, которую вызвало у царя это толкование1.
Заканчивая рассмотрение русской драматургии последней четверти XVII —первой половины XVIII века в аспекте отражения в ней исторической темы, остановимся на одном обозначившемся в некоторых пьесах характерном конфликте. Исследователи обратили внимание на тот любопытный факт, что уже в первой половине XVIII века в отдельных драматических произведениях наметился конфликт между долгом и чувством, ставший основным конфликтом в эпоху классицизма.
Так, в «Действе о князе Иефае» показывается борьба между долгом и чувством, происходящая в душе героя. Князь Иефай дал обещание принести в жертву богу в благодарность за помощь в одолении врагов, угнетавших его народ, первого человека, который встретится ему по выходе из дома. Таким человеком оказалась его дочь. Горько сетуют отец и дочь на свою участь. Но в выполнении долга они непреклонны.
Русская драматургия конца XVII — начала XVIII века характерно выразила сложный комплекс мыслей, чувств, ощущений людей переходной эпохи, освобождавшихся от мертвящего влияния религии и сознававших в то же время безусловную ценность государственно-гражданских интересов и стремлений. Освобождение от диктата религии выразилось в повышении интереса к личности, к ее переживаниям, в частности переживаниям любовным. Появление темы любви в «Артаксерксовом действе» было, по сути дела, предвозвещением классицизма2. Но классицизм не в меньшей мере предвозвещался идеей долга, утверждавшей господство разума над чувством, примат общественного и государственного над личным. Ранние русские просветители, исходя из рационалистического (механистического) представления о человеке, рассматривали его чувства и страсти, прежде всего страсть любовную, как некую самостоя¬
1 См.: Резанов В. И. Из истории русской драмы. — С. 323.
2 См.: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII — начало XVIII в.). — М., 1976. — С. 19.
74
тельную силу, обладающую огромным, но разрушительным потенциалом. Такое же воззрение отразила и русская драматургия 20—30-х годов XVIII века. А. С. Демин полагает, что эта черта творчества русских драматургов связывала их с искусством барокко, а не с нормами классицизма, с которыми, по его мнению, она имела лишь внешнее сходство. У классицистов, говорит А. С. Демин, «на человека действуют страсти чисто интеллектуального характера», тогда как в искусстве барокко и у наших драматургов они выступают в качестве стихийной силы, не поддающейся анализу. Впрочем, А. С. Демин здесь же указывает на отсутствие четких границ, отделяющих русское барокко от русского классицизма. Думается, что в целом концепция разума и страстей, наметившаяся в русской драматургии первой половины XVIII века, предвосхищала основную коллизию классицистических трагедий: борьбу между долгом и чувством, происходящую в душе героя. Конечно, чувства и страсти, владеющие душой героев и героинь классицистических трагедий, не отличаются той мрачной силой и агрессивностью, какой они наделяются в пьесах ранних русских драматургов. Они даже рассматриваются иногда, как это имеет место у Расина, не в негативном плане, а как некое благо. Но вся классицистическая литература, русская и западноевропейская, заполнена сетованиями героев на прельстительную силу и сладкий плен любовной страсти, с которой трудно, но необходимо бороться, когда она вступает в противоречие с выполнением долга, велениями разума.
Появление конфликта между долгом и чувством в русской драматургии свидетельствовало о росте ее общественной активности. Этот рост определила насыщенность пьес политическим содержанием.
Характерно, что этими произведениями явились пьесы, написанные на историческую или условно-историческую тему, само содержание которых давало возможность обсуждать на историческом материале актуальные вопросы современной общественно-политической жизни.
В данном пособии неоднократно затрагивался вопрос о школьной драме первой половины XVIII века. В связи с различными аспектами избранной темы приходилось отмечать преимущественно отрицательное влияние различных особенностей этой драмы и лежащей в ее основе теории на решение тех или иных художественных задач, связанных с изображением прошлого. Но следует сказать и о положительных сторонах школьной драмы. При всей пестроте и эклектичности ее образного мира она обладала большими достоинствами, широко раздвигая границы эстетических представлений тогдашних зрителей, вводя в практику театра новые темы, образы, идеи. Это расширение кругозора зрителей, несомненно, послужило предпосылкой к более углубленной художественной трактовке выдвину¬
75
тых школьной драмой проблем на новом этапе развития русского театра.
К числу отличительных признаков и достоинств школьной драмы следует отнести ее, в целом, довольно высокий идейный уровень, присущие лучшим ее произведениям философичность и своеобразный «психологизм», в какой-то степени предвосхитивший показ внутренней духовной жизни персонажей, который станет характерной чертой драматургии классицизма. Авторами школьных драм являлись люди, отличавшиеся высокой образованностью. Некоторые из них были талантливыми писателями. Нельзя забывать, что в форму школьной драмы облечено лучшее драматическое произведение этого времени — тра- гедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир».
Хотя историческая действительность предстает в школьной драме в сильно смещенном, резко деформированном виде, в смешении времен и стран, положительное значение имел сам факт частого обращения авторов школьных драм к историческому материалу.
Заслуживает внимания и то обращение к прошлому с позиций современности, которое характеризует школьную драму. Связь с современностью устанавливается в той или иной форме во всякой исторической драме. В школьной драме эта связь оказывалась нередко слишком прямолинейной, причем историческому материалу отводилась явно вспомогательная, чисто иллюстративная роль. Но, сопоставляя прошлое с настоящим, школьная драма так или иначе ставила изображаемое современное событие в ряд исторических явлений, в связи с чем могла возникнуть мысль о каких-то сдвигах, об отличии «сегодняшней» действительности от «вчерашней». Не случайно именно в школьной драматургии бурной, переломной эпохи Петра I появился конфликт между новым и старым.
Наконец, само наличие нормативной поэтики, на которую опиралась школьная драма, имело известное значение для утверждения нормативной поэтики классицизма. По словам исследователя, «от школьной драмы, написанной по правилам пиитики, был прямой переход к пьесам, сочиняемым по предписаниям кодекса Буало»1. Начался новый период в развитии русской драматургии, отмеченный существенными изменениями в освещении ею исторической темы.
1 Резанов В. И. Из истории русской драмы. — С, 342,
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА
От барокко к классицизму.
Трагедии В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова
1
С середины XVIII века развитие исторической драматургии проходило под знаком нового направления классицизма, появившегося в России в 30-х годах. Классицизм с его гражданственностью, призывами к служению обществу, государству, родине как нельзя более соответствовал умственному движению, возбужденному эпохой петровских реформ. Высокая идейность произведений драматургов-классицистов формировалась под воздействием широких и смелых обществоведческих концепций европейского Просвещения. Опираясь на эти концепции, драматурги критически осмысляли с помощью исторических аналогий недавнее прошлое и современность, многие явления которой вызывали у них отрицательную оценку. К числу этих явлений относился фаворитизм. Характерным персонажем ряда трагедий стал вельможа, пользующийся в корыстных целях расположением монарха.
Влияли на творчество драматургов, побуждая их к размышлениям о ходе истории, и частые дворцовые перевороты, отличавшие политическую жизнь тогдашней России1. Об этих переворотах постоянно напоминали зрителям сцены заговоров, интриг, убийств, которыми изобиловали исторические пьесы. Острой злободневностью отличались также сюжеты, связанные с изображением самозванцев. Не будучи исключительно русским явлением, самозванчество сыграло, однако, весьма значительную роль в отечественной истории.
Об остроте и «взрывчатости» темы о самозванцах красноречиво свидетельствует судьба пьес, в которых она затрагивалась. Ставился на сцене, но не был опубликован «Подложный Смер- дий» А. А. Ржевского. Не ставилась и не была напечатана трагедия Я. Б. Княжнина «Ольга», в которой могли быть усмотрены намеки на ущемление Екатериной II прав ее сына Павла. В связи с той же острой драматической ситуацией долгое время не ставился «Гамлет», переделанный для русской сцены
А. П. Сумароковым. Автор трагедии «Борислав» М. М. Херасков, публикуя ее в 1774 году, принужден был перенести ее действие, происходившее первоначально в эпоху Бориса Годунова, из России в Богемию.
1 См.: Троицкий С. М. Россия в XVIII веке. — М., 1982. — С. 48.
77
Историческая драматургия второй половины XVIII века запечатлела появление оппозиционных настроений среди передового дворянства. Эти настроения проявились прежде всего в усилении антитиранической направленности пьес. Новой чертой драматургии этого периода явилось осуждение правителей-тира- нов, угнетающих не только народы завоеванных ими стран, но п свой собственный народ. Появилась отсутствовавшая прежде мысль о правомерности насильственного устранения царя-тира- на. Эта мысль, находившаяся в резком противоречии с представлением о божественном происхождении царской власти, обозначилась, видимо, под воздействием западноевропейской драматургии — пьес Шекспира и Вольтера. Во многих пьесах этой поры содержатся суждения, идущие вразрез с практикой самодержавия, пробуждающие дух критики и недовольства деспотическим правлением. Лучшие из этих свободолюбивых произведений были своего рода идеологическим предвестием драматургии декабристов1.
В некоторых исторических пьесах второй половины XVIII века появилась новая трактовка идеи патриотизма. Разрабатывая традиционную, в высшей степени характерную для всей русской литературы тему патриотизма, драматурги этой поры впервые перестали отождествлять мысль об истинном патриоте с личностью царя. Стали появляться случаи, когда ошибочному, одностороннему толкованию пользы отечества лицами, облеченными высшей властью, противопоставлялось верное, глубокое понимание этой пользы людьми, не имеющими высших полномочий. Они-то и оказывались истинными патриотами. С «демократизацией» понятия патриотизма было тесно связано повышение нравственных требований, предъявляемых к настоящему патриоту. Понятие патриотизма впервые наполнялось гражданским содержанием, а поведение патриота приравнивалось к гражданскому подвигу. Лучшие драматурги (например, Я. Б. Княжнин) приближались к тому пониманию патриотизма, которое было выдвинуто А. Н. Радищевым и пропагандировалось декабристами.
В исторической драматургии второй половины XVIII века наблюдался рост свободолюбивых настроений, проявлявшийся в смене политических идеалов, выдвигаемых драматургами. Наибольшим распространением пользовались концепции просвещенного абсолютизма, под знаком которых развертывалось творчество крупнейшего драматурга эпохи А. П. Сумарокова. Просвещенный абсолютизм Сумарокова и драматургов его школы выражал настроения передового дворянства и носил оппозиционный характер. Он отличался от поверхностного «про¬
1 См.: В с е в о л о д с к и й-Г с р н г р о с с В. Н. Политические идеи русской классицистической трагедии XVIII века: О театре. — Л.; М., 1940.— С. 106—133.
78
свешенного абсолютизма» Екатерины II, прикрывавшего проводимую ею политику самодержавного произвола и крепостнического угнетения. Постепенно на смену просвещенному абсолютизму пришел в драматургии идеал ограниченной (конституционной) монархии, от которого естественным был переход к обсуждению на историческом материале вопросов, связанных с республиканским строем. С «Вадимом Новгородским» Я. Б. Княжнина русская историческая драматургия вступала в XIX век.
Патриотически вольнолюбивый пафос исторических пьес раскрывался с помощью характерной для драматургии этого времени сюжетной схемы, повторявшейся во многих пьесах. Драматурги предшествующей эпохи, начиная с автора «Артаксерк- сова действа», показывали заговорщиков в качестве отрицательных персонажей. Порицал их, как мы видели, и автор пьесы о стрельцах, ставившейся на сцене в петровское время. Во второй половине XVIII века, наоборот, заговорщики стали в ряде пьес носителями положительного начала, противостоящего началу отрицательному, воплощенному в образе тирана. В своем законченном виде эта сюжетная схема, перешедшая затем в преддекабристскую и декабристскую аллюзионную трагедию, выглядела (с некоторыми вариантами) так: тиран с помощью иноземного войска угнетает свой народ, глубоко презираемый им. Патриотически настроенные заговорщики, сочувствуя страданиям народа, выступают против тирана, свергают его, опираясь на войско, состоящее из соотечественников.
В исторических пьесах второй половины XVIII века появляется народ, роль которого в изображаемых драматургами событиях возрастает. Если в первые годы существования русского театра один из ранних провозвестников «просвещенного абсолютизма» Симеон Полоцкий отрицал способность народа к постижению правды и к здравому суждению о вещах, полагая, что «глас народа», мыслящего «суетно», «от правды далеко бывает»1, то в дальнейшем драматурги придавали «гласу народа» весьма важное значение, усматривая в нем, в отличие о.т Полоцкого, выражение высшей правды и справедливости. Особенно это относится к М. В. Ломоносову, в трагедии которого «Та- мира и Селим», как будет показано, угадываемая народом правда противопоставлена лжи, распространяемой Мамаем. В целом ряде пьес рассматриваемого периода подробно говорится о страданиях народа, а в некоторых пьесах народ активно участвует в развертывающемся театральном действии, особенно в финальных сценах, где решается исход борьбы. Драматурги делают первые попытки индивидуализировать изображе¬
1 Полоцкий Симеон. Вертоград Многоцветный (стихотворение «Глас народа...»)//М а й к о в Л. Н. Очерки по истории русской литературы XVII— XVIII вв. — СПб., 1889,— С. 119,
79
ние народа путем выделения из толпы отдельных (пока безымянных и слабо очерченных) его представителей. Такие примеры находим в пьесах А. А. Ржевского и Я. Б. Княжнина.
Историческая драматургия второй половины XVIII века отразила значительные успехи в развитии исторических знаний, достигнутые к тому времени в России. В результате неутомимой, самоотверженной деятельности целого ряда энтузиастов, среди которых первое место принадлежит В. Н. Татищеву, работавшему над своей «Историей Российской» еще в двадцатых — тридцатых годах, история превращается в науку. Ученые стремятся «найти объяснение историческим событиям в их причинной связи, а не в божественном промысле»1.
Более строгим становится критический анализ источников, число которых в научном и культурном обиходе непрерывно возрастает: начинается издание русских летописей, Н. И. Новиков приступает в 1773 году к изданию многотомной «Древ- ней Российской Вивлиофики». Замечательно, что авторы исторических пьес находились в это время на переднем крае молодой русской исторической науки, получая из первых рук необходимые им для творчества архивные материалы и документы. М. В. Ломоносов был знаком с материалами еще не опубликованного труда В. Н. Татищева, к которому писал по просьбе автора предисловие, а А. П. Сумароков получал нужные ему архивные документы у сочинителя «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера. Но драматурги и сами создавали исторические сочинения, внося подчас весьма значительный вклад в развитие отечественной исторической науки. В первую очередь это относится к М. В. Ломоносову, гениальность которого блистательно проявилась и в области историографии. Заслуживает глубокого уважения многолетний труд В. К. Тредиаковского над переводом многотомного французского сочинения по истории Древнего Рима. Весьма интересны исторические работы А. П. Сумарокова, к сожалению до сих пор не подвергшиеся обстоятельному изучению. Глубоко интересуясь историей, лично участвуя в разработке некоторых ее вопросов, драматурги XVIII века в своих лучших произведениях прорывались к историзму, к которому уже прокладывала в это время дорогу историческая наука. В настоящее время внесены существенные уточнения в оценку исторических воззрений просветителей. Отмечая наличие в этих воззрениях идеализма и механистичности, ученые указывают вместе с тем на характерные для просветителей поиски закономерностей общественного развития, ведущие к историзму.
П. Г. Макогоненко предлагал «именовать просветительским историзмом» «начальный этап» того процесса, следующими этапами которого явились романтический историзм Вальтера Скотта и французских историков и реалистический историзм Пуш¬
1 Очерки истории исторической науки в СССР. — М., 1955. Т. I. — С. 178.
80
кина1. Настойчивое стремление найти законы исторического развития запечатлено в исторических трудах Вольтера, оказавшего наиболее сильное влияние на передовых общественных деятелей и художников России. Большое значение имело появление идеи исторического прогресса. Отбросив идею средневекового провиденциализма, просветители заменили ее понятием «естественного закона истории». «Естественный закон» призван был теоретически обосновать идею прогресса, перевести ее из области оптимистических надежд в область реально существующих явлений.
Необходимо отметить, что передовое русское общество второй половины XVIII века было достаточно хорошо знакомо с историческими воззрениями просветителей. Знаменитая «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера, содержавшая большое количество статей по вопросам истории, усердно читалась в оригинале и в переводах* 2.
Характерно, что перевод статьи «История», написанной Вольтером, был сделан драматургом А. А. Ржевским, автором трагедии «Подложный Смердий» — одной из самых содержательных исторических трагедий эпохи классицизма. В этой статье характерно выражены социально-философские и исторические взгляды Вольтера. Он отвергает чисто описательную, узкопрагматическую манеру исторического повествования. Историк должен сосредоточиться на главных событиях, «держаться цепи одних великих приключений», отбрасывая все второстепенное. Вольтер требует от историка критического анализа источников, «точнейших ссылок и доказательств». Историк не должен ограничиваться рассказом о политических и военных событиях. Его задача состоит в широком показе быта и нравов изучаемых им народов, их культурной жизни, торговли и т. п. Вольтер требует от историка большего внимания «к узаконениям, поведениям, обычаям». Статья Вольтера отразила и его свободолюбие, его ненависть к деспотизму и угнетению. Говоря об историческом повествовании Геродота, он пишет, что «в%сей исторической тме» издавна были пространные государства», в которых правили «тираны, утверждающие власть свою на бедствиях народных, коих мучительство простиралось до бесчеловечия...»
Получили отражение в статье и антиклерикальные настроения Вольтера, его яростная борьба с религиозными предрассудками и суевериями. Современный исследователь отмечает, что перед Вольтером стояла задача не только «изгнать мысль о
J Макогоненко П. Г. Из истории формирования историзма в русской литературе. XVIII век. Сборник 13, Проблемы историзма в русской литературе: Конец XVIII —начало XIX в.— Л., 1981. —С. 6.
2 См.: Коробочко А. И. «Энциклопедия» Дидро и Россия//Тру- ды Государственного Эрмитажа.—Л., 1975.—Т, XVI. — С. 75—76.
6 Заказ 4708
81
сверхъестественных, религиозно-мистических началах в объяснении явлений природы», но и «избавить от религии и мистики и саму человеческую историю»1. Решая эту задачу, Вольтер писал в статье «История», что в древние времена грубейшие суеверия владели умами людей, «что сны были почитаемы за небесное предвещание, что ими возжигалися войны и постановлялся мир и проч.». В статье Вольтера получил также выражение характерный для него и для всех просветителей взгляд на историю как на источник нравственного воспитания отдельных людей и целых народов.
Разумеется, далеко не все суждения просветителей, касающиеся вопросов истории, отразились в произведениях драматургии. Задачи историка и художника, берущегося за разработку исторической темы, не тождественны. Социально-историческая мысль драматургов могла отставать и действительно отставала от развития исторических воззрений передовых мыслителей Европы. С другой стороны, писатель, руководствуясь своими художническими соображениями, мог прийти к обобщениям, до которых не возвышалась современная ему историческая наука. Но при всем этом известная мировоззренческая близость между историографией и исторической драматургией рассматриваемой эпохи, безусловно, существовала. В лучших произведениях драматургов второй половины XVIII века можно видеть художественное преломление идеи исторического прогресса и свойственного просветителям исторического оптимизма, показ меняющейся действительности и намечающихся в связи с изменением обстоятельств перемен в нравственном мире действующих лиц, обращение к изображению борьбы идей, зачатки социологического подхода к изображению истории. Пересекаясь с концепциями историков, эти и некоторые другие новации драматургов вступали в сложные отношения с нормативными установками литературных школ и направлений, способствовавшими или, наоборот, мешавшими выявлению новаторских идей.
Классицизм, в лоне которого развивалась историческая драматургия изучаемого времени, во многом благоприятствовал ее движению в сторону историзма. Нормативная эстетика классицизма значительно превосходила в этом отношении нормативную эстетику барокко. Вызреванию основного жанрового признака исторической драмы, ее жанровой сверхзадачи, заключающейся в стремлении к правдивому воспроизведению прошлого, способствовал поддерживаемый классицизмом принцип правдоподобия, которым пренебрегала эстетика барокко. Для дальнейшего развития жанра имела положительное значение твердая фиксация в исторической трагедии места действия («Действие есть в Новегороде, в княжеском доме», «Действие
1 Языков Д. Д. Вольтер в русской литературе, — М., 1979. —
С. 125.
82
в Карфагене, в Дидониных чертогах», «Действие в Стокгольме в Христиерновых чертогах») и его протекания во времени. В этом отношении эстетика классицизма также противостояла эстетике барокко.
Но классицизм в то же время и затруднял развитие исторической драмы. Ее развитию в рамках классицизма препятствовала присущая ему абстрактность в раскрытии человеческих страстей. Фиксируя место и время действия, классицизм давал отвлеченно-психологический анализ страстей, не поднимаясь до фиксации и раскрытия их национально-исторического своеобразия. Этот недостаток классицизма роднит его с просветительской историософией, которой он тоже был присущ. Хотя Вольтер и провозглашал необходимость изучения нравов народов, фактически он игнорировал в своих построениях^ все частное, национально-специфическое, оставаясь в сфере общих, наднациональных характеристик. Например, в своем замечательном «Опыте о нравах и духе народов» Вольтер дает глубокую для своего времени характеристику феодализма, рассматривая его как общеевропейское явление без указания на те специфические особенности, которыми феодализм отличался в различных странах.
Русские драматурги учитывали в своем творчестве опыт всего западноевропейского классицизма, начиная с его теоретического обоснования в знаменитой поэме-трактате Буало «Поэтическое искусство» и кончая блистательным творческим раскрытием его принципов в трагедиях Корнеля, Расина и Вольтера. Однако наиболее близким и актуальным для них оказался позднейший вольтеровский просветительский классицизм, обогащенный опытом Шекспира и сентиментализма. Особо следует отметить важность обращения к Шекспиру, наблюдающегося в творчестве почти всех драматургов второй половины XVIII века: А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, А. А. Ржевского, Н. П. Николева, Я. Б. Княжнина. «Сквозное» влияние Шекспира отразилось на судьбах всей русской драматургии второй половины XVIII — начала XIX века, наложив особую печать и на русский классицизм. То, что недоступно было ортодоксальному классицизму, оказалось (хотя бы частично) доступным драматургам-классицистам, испытавшим на себе влияние Шекспира, которое испытывал и их кумир Вольтер.
Таковы общественно-исторические и философско-эстетические предпосылки, обусловившие деятельность драматургов, писавших свои исторические пьесы в условиях бурной эпохи, отмеченной крестьянским восстанием под предводительством Емельяна Пугачева и Французской революцией 1789—1794 годов. Разработка исторической тематики осуществлялась ими в рамках жанра классицистической трагедии, имевшей содержательную историю. С развитием этого жанра связаны пьесы
6*
83
крупнейших русских писателей: В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, Н. Г1. Николаева, Я. Б. Княжнина.
2
Рассмотрение русской классицистической трагедии, ее теории и истории в аспекте исторической темы удобней всего начать с творчества В. К. Тредиаковского (1703—1769).
Василий Кириллович Тредиаковский, крупнейший русский поэт и ученый-филолог, был типичным мыслителем и писателем переходной эпохи. Он усвоил и страстно пропагандировал передовые социально-политические и философские идеи своего времени— теорию естественного права и общественного договора, идеи просвещенного абсолютизма. Являясь горячим сторонником преобразований, произведенных Петром I, он прославлял царя-реформатора в своем творчестве. Показательна в этом отношении написанная им элегия на смерть Петра I, которую Тредиаковский называл плачем. Тредиаковский заявлял, что, «по мнению чужестранных народов», Петр I «был герой всем больше Людовика XIV».
Печатью яркой литературной новизны отмечена первая книга Тредиаковского — появившийся в 1730 году его перевод галантного романа французского писателя Тальмана «Езда в остров любви». В предисловии Тредиаковский писал, что не придерживался «глубокословныя славенщизны», которой прежде и сам отдавал дань, но перевел книгу «почти простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим». Эти слова переводчика и само содержание романа, повествующего в стихах и в прозе о тонкостях любовного чувства, были восприняты как вызов защитникам старины, каковыми прежде всего оказались представители духовенства. «Что вы, сударь, думаете о ссоре, которую затевают со мною эти ханжи?» — писал Тредиаковский в письме секретарю Академии И. Д. Шумахеру.
Но мировоззрение Тредиаковского отличалось противоречивостью. К подлинно научным взглядам писателя примешивались теологические предрассудки, влиявшие на его творческую деятельность и поведение. Тредиаковский тщетно пытался «примирить научные взгляды с богословскими»1. Говоря, например, о естественном праве, Тредиаковский пытается истолковать его как «право естественное, от создателя естества вкорененное в естество». Соответственно и для морали он находит двойное обоснование — человеческое и божественное, усматривая в ней «человеческие законоположения на божиих утвержденные». Он обвиняет в атеизме Спинозу и Гоббса, с неодобрением отзывается о материалистической философии Эпикура.
1 См.: Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. —Л., 1968. —С. 29.
84
Переходный характер эпохи проявился и з драматургии Тре- диакезского, эволюционировавшей от школьной драмы к классицистической трагедии.
С теорией и практикой школьного театра Тредиаковский познакомился в бытность студентом Славяно-греко-латинской академии, в которую традиции этого театра перешли из Киевской академии. В статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» Тредиаковский упоминает о сочиненных им «еще в студенстве» «двух драмах» — «Язоне» и «Тите, Веспасианове сыне». По словам Тредиаковского, обе эти пьесы тогда же, до его «отбытия в чужие край», были представлены «в Заиконо- спасском монастыре», но во время путешествия его пропали «безвозвратно». Тредиаковский не сообщает никаких подробностей об этих пьесах, кроме указания на то, что они написаны были обычным для того времени силлабическим стихом («сим польским составом стихосложения»). П. О. Морозов полагает, что обе драмы были «сочинены им, по всей вероятности, в 1724 году, еще при жизни Петра Великого, которого он мог иметь в виду, прославляя Язона и Тита, и замечательны, как первые академические пьесы, содержание которых взято не из св. писания, а из мифологии и светской истории»1. Предположение, что драмы Тредиаковского могли принадлежать к числу панегирических пьес, прославляющих Петра I, обладает большой степенью вероятности* 2. Будущий автор элегии, оплакивающей кончину Петра I, вполне мог посвятить ему пьесы, аллегорически изображающие его в образах известных героев. Образ героя сказания об аргонавтах Язона, убившего могучего дракона и овладевшего золотым руном, и образ мужественного полководца Тита, взявшего Иерусалим, вполне подходили для этой цели. Тит мог символизировать не только победы Петра I над внешними врагами, но и его государственную деятельность, поскольку голос народа назвал Тита «любовью и утешением человеческого рода».
Весьма характерным является вынесение в заголовок пьесы («Тит, Веспасианов сын») имени римского императора Веспа- сиана, фигурировавшего в качестве мудрого правителя уже в произведениях русских поэтов, драматургов и историков XVII века. Не намеревался ли автор пьесы напомнить также и об Алексее Михайловиче, которого, кстати сказать, его современники сопоставляли с Веспасианом? Подобные двойные аналогии не представляли чего-либо исключительного в поэтике школьной драмы, аллегоризм которой допускал самые сложные и прихотливые сопоставления.
‘Морозов П. О. История русского театра до половины XVIII столетия. — СПб., 1889.— С. 340.
2 Подобную же мысль высказывал акад. Л. Н. Майков в статье «Молодость В. К. Тредиаковского до его поездки за границу» (Журнал министерства народного просвещения. — 1897. — Июль. — С. 11—12).
85
Интересно, что аллегорические образы, столь специфичные для школьной драмы, фигурируют и в элегии, написанной Тре- диаковским по поводу кончины Петра I. О. А. Державина, сопоставив это стихотворение со школьной драмой «Слава печал- ная», также посвященной, как уже говорилось, смерти Петра Великого, установила наличие в обоих этих произведениях одних и тех же аллегорических образов — Славы, Марса, Нептуна, Паллады, а также упоминаний о Балтийском и Каспийском морях. Та же исследовательница обратила внимание на сходство архитектоники стихотворения Тредиаковкого с архитектоникой драматического произведения. «Элегия Тредиаковского,— пишет О. А. Державина, — по своему построению напоминает небольшую пьесу, где выступают те же действующие лица, что и в школьной драме Журавского. Характерно, что автор не только передает их речи, но и описывает их поведение, сопутствующие словам движения. Так, Марс падает, встает, возводит к небу взоры, потом, «в большую пришед ярость», кидает на землю шлем и саблю... Все это очень похоже на ремарки в пьесе». Любопытно, что аллегоризм присущ и поэтике переведенного молодым Тредиаковским романа «Езда в остров любви», в котором фигурируют Земля, называемая Роскошью, озеро Отчаяния, пещера Жестокости, особа, постоянно «в горести пребывающая» и называющаяся Разлукой, и т. д.
Тредиаковский принимал участие в постановке еще одной школьной драмы, шедшей на сцене придворного театра в 1732 году. Содержание спектакля было взято из Библии. Его составили приключения Иосифа, лежащие в основе пьесы, представленной еще в театре Алексея Михайловича. Сохранился документ, из которого видно, что за участие в постановке пьесы об Иосифе (императрица Анна Иоанновна назвала ее комедией) Тредиаковскому было уплачено 100 рублей. Полагают, что Тредиаковский участвовал «в постановке или в сочинении» этой пьесы1. Судя по приложенной к книге «Росписи театральным принадлежностям для придворного спектакля 1732 года», содержащей перечень действующих лиц, это была именно школьная драма, о чем свидетельствует наличие в пьесе аллегорических персонажей — Чистоты, Благолепия, Смирения, Мерзости, Злости, Зависти, характерных для произведений данного рода. Типична для школьного театра и библейская тематика, пришедшаяся по вкусу императрице. Обстоятельно составленная «Роспись» позволяет заключить, что постановка была осуществлена с большой тщательностью.
Таким образом, Тредиаковский, написав в середине 20-х годов две школьные драмы, из которых одна была посвящена
1 Об участии Тредиаковского «в постановке, а может быть, и в сочинении пьесы» говорит П. О. Морозов. См.: Морозов П. О. История русского театра до половины XVIII столетия. — СПб., 1889, —С. 345.
86
исторической теме («Тит, Веспасианов сын»), а другая — теме мифологической («Язон»), участвовал в начале следующего десятилетия в постановке, а быть может, и в создании еще одной школьной драмы, основывающейся на библейской тематике1.
В 1750 году Тредиаковский написал пятиактную классицистическую трагедию на мифологическую тему — «Деидамия»2. То обстоятельство, что он продолжил в новой пьесе разработку мифологической тематики, начатую им в «Язоне», вряд ли явилось случайным. Обращение автора «Деидамии» к мифологической теме согласовывалось с его теоретическими воззрениями, сформулированными им позднее в предисловии к «Тилемахи- де». Высказав мысль, что «история, служащая основанием эпической пииме, долженствует быть или истинная^ или уже за истинную издревле преданная», Тредиаковский решительно отверг сюжеты, относящиеся к древним, средним, тем более к новым векам истории, а также заимствованные из священной истории, противопоставив им сюжеты из «времен баснословных или героических», которые, по его мнению, единственно пригодны для героической поэмы. Мифологический герой, по суждению Тредиаковского, является выражением древнего народного миросозерцания, отлившегося в эпические формы. Применение этих форм было бы неуместным в поэме о герое, взятом из позднейших времен. Более того, они могли бы прямо его дискредитировать и унизить. По словам Тредиаковского, «крайнее было б бесславие французскому народу и нестерпимая обида, когда б толикому государю его (в предыдущем изложении речь шла о французском короле Генрихе IV) быть некоторым родом Бовы королевича в эпической пииме, ибо и величавности и славе его противно находить баснословную чудесность в простоте летописей своих».
Противопоставляя «баснословную чудесность» эпической поэзии «простоте летописей», Тредиаковский как бы закрывал поэту дорогу к материалам подлинной истории. В этом отношении он уступал Феофану Прокоповичу, который признавал ценность эпических произведений, имеющих историческую основу. Характерен факт расхождения Тредиаковского с Феофаном Прокоповичем в оценке творчества древнеримского поэта Лукана, написавшего на материалах подлинной истории эпическую поэму «Фарсалия». Напомнив слова Скалигера, что «некоторые не считали Лукана поэтом за то, что он изображал действитель¬
1 Не исключено, что эта пьеса представляла собой перевод или переделку одной из многочисленных иезуитских драм, посвященных данной теме.
2 Пьеса была написана по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны, повелевшей профессорам Тредиаковскому и Ломоносову «написать по трагедии». См.: Пекарский П. П. История императ. Академии наук в Петербурге. — СПб., 1873, Т. 1. — С. 157.
87
ные события», Феофан Прокопович решительно не согласился с их мнением1. Совершенно иначе оценил Лукана Тредиаков- ский, полагавший (вслед за одним безымянным писателем),что Лукан не является ни историком, ни поэтом, но представляет собой «некоторый утешный род ермафродита». «Пиима эпическая,— заявляет Тредиаковский, — есть не история, как «Фар- салия» Луканова...» Рассуждения Тредиаковского, относящиеся к поэме, имеют прямое отношение и к драме. .
Тредиаковский часто сопоставлял драму с эпосом, поэму о трагедией, устанавливая между ними сходство и различие. Он говорил, что трагедия и эпопея различаются «разностью взаимного их нравственного состояния»; «та (трагедия) страстию пц- лает, а сия (эпопея) дышет и красуется добродетелию». Поэтому «эпическая пиима долговременнее продолжается, нежели трагедия. В сей страсти господствуют2: ничто ж наглое не может быть долговременно». Но Тредиаковский нигде не противопоставляет трагедию эпопее по линии тематики, героев, сюжетов. Если он считал, как мы видели, что в основе героической поэмы лежит истинная или принимаемая за истинную история, то и драма, по его словам, заимствует свое содержание «изпря- мыя или баснословный истории». Сам Тредиаковский явно предпочитал сюжеты, взятые из истории баснословной, т. е. из мифологии. Следует при этом отметить, что герои трех его произведений— драмы «Язон», трагедии «Деидамия» и поэмы «Тилемахида» — так или иначе связаны с героями гомеровских поэм. Герой возникшего еще в догомеровскую эпоху сказания об аргонавтах Язон был воспитан, как и Ахиллес, кентавром Хироном (Хейроном), обучившим их обоих искусству врачевания. Герой поэмы Фенелона и написанной на ее основе «Тйле- махиды» Телемак, о котором повествуется в сложившемся в послегомеровскую эпоху сказании, является сыном Одиссея. Ахиллес и Улисс фигурируют в трагедии «Деидамия», причем Ахиллес выступает в ней в качестве главного персонажа. Имеется здесь и воспитатель героя («учитель и приставник Ахиллесов»), носящий имя Хирона. Он выступает не в виде сказочного кентавра, а в качестве обыкновенного человека,
В трагедии «Деидамия» драматизирован сюжет, основанный на послегомеровской легенде о пребывании Ахиллеса на остро* ве Скиросе, где он воспитывался, одетый в женское платье, вместе с дочерьми царя Ликодема. К Ликодему мальчик AxhjiV лес был отправлен его матерью Фетидой, не желавшей, чтобы сбылось предсказаний прорицателя Калханта о том, что греку смогут овладеть Троей лишь при участии Ахиллеса, который
1 Феофан Прокопович. Соч. — М.; Л., 1961.—С. 348. Ср. ъ кн.: Литературные манифесты западноевропейских классицистов. — М., 1980,— С. 52.
2 Ср. у Пушкина: о драме, которая «стала заведовать страстями и душою человеческою» (XI, 178).
88
при этом должен погибнуть. Основав действие трагедии на любовной интриге, разрабатывающейся обычно в классицистических трагедиях, Тредиаковский поставил в центре своего драматического повествования образ одной из дочерей Ликодема Деидамии, фигурирующий и в легенде. В предисловии к трагедии Тредиаковский говорит, что этот легендарный сюжет, или, как он выражается, «сей грунт», «приличен больше героической комедии, нежели трагической штуке». Поэтому он решил «вымыслить от себя много нового», чтобы его «поэме быть траге- диею». Характерно, что для оправдания вымысла Тредиаковский ссылается на Аристотеля и на «великого французского трагика Петра Корнелия», из которых первый обосновал допустимость вымысла теоретически, а второй подтвердил ее «как словами» (имеется в виду одно из рассуждений Корнеля о драме), так и «прямым делом».
Чтобы развить любовную интригу и придать действию пьесы трагический характер, Тредиаковский ввел образ влюбленной в Ахиллеса Навплии, а также осложнил сюжет обещанием царя Ликодема посвятить Деидамию богине Диане, обрекавшим его дочь на безбрачие.
Трагедию Тредиаковского характеризует сочетание любовно-романической интриги с элементами героики и патетики. В монологи Ахиллеса и Деидамии, в речи стремящейся разрушить их счастье Навплии Тредиаковский вложил то умение изображать некоторые проявления любовных переживаний, которое он приобрел еще во время работы над переводом «Езды в остров любви». Весьма выразителен, например, монолог Деидамии, содержащий ее сетования на мнимую измену Ахиллеса. Прибегая к приемам лирической поэзии, автор трагедии умело пользуется здесь рефреном. В монологе через каждые шесть строк повторяются слова: «когда любезный мой возмог так изменить». Но нежные чувства соединяются у героя и героини пьесы с сознанием своего долга. Тредиаковский разделял взгляд ранних русских просветителей Феофана Прокоповича, В. Н. Татищева и других, рассматривавших страсти как природную, но разрушительную и весьма агрессивную силу, находящуюся в разладе с разумом. Недаром в приведенных словах из его предисловия к «Тилемахиде» страсти названы наглыми. Характерно, что этот же эпитет в применении к любовной страсти Тредиаковский употреблял и в «Деидамии». Жрица Иерофанта говорит Ликодему о Деидамии и ее любви к Ахиллесу:
Порока в ней не мни, что юношу взлюбила:
Природная сия и наглая есть сила...
Как и другие классицистические трагедии, «Деидамия» Тредиаковского отчетливо выявляет мотив борьбы между долгом и чувством, разумом и страстью. С появлением Улисса, прибывшего на остров Скирос с поручением найти Ахиллеса и при¬
влечь его к участию в войне против Трои, Ахиллес проникается пониманием того, что ему «надобно» «быть там», что «долг» велит ему «оставить» «любезну». В свою очередь о Деидамии устами ее отца Ликодема, давшего обещание посвятить ее богине Диане, говорится, «что долг ей провожать жизнь в девственной святыне». Деидамия не сопротивляется тому, что она будет принесена в жертву в знак искупления вины ее отца, утаившего от дочери факт посвящения ее богине. Здесь образ Деидамии становится героическим. Дело в том, что в случае непринесения этой искупительной жертвы по воле богини Дианы будут поражены моровой язвой все жители города. В этих условиях готовность Деидамии принять смерть выступает как поступок героический, как смерть за отечество. Именно так осознает его сама Деидамия, которая говорит:
За отчество мое себя я предаю,
Сердечной к вам любви, мой князь, хоть не таю,
Однако умереть невинна предприемлю,
Приближитесь ко мне, простите, вас объемлю.
Как видим, в пьесе Тредиаковского содержится еще один героический женский образ, созданный нашей ранней драматургией. На этот раз его основой явилась не Библия и не история скифов, а греческая мифология.
Как известно, одной из замечательных особенностей древнегреческой трагедии является то, что с решениями, принимаемыми ее героями, оказывается связанной не только, их собственная судьба, но и судьба целого народа. В этом духе и домыслил Тредиаковский ситуацию, найденную им в послегомеровском эпосе, объединив традиции античной драматургии с традициями, обозначившимися в самой ранней русской драматургии.
Трагедия «Деидамия» проникнута пафосом гуманности. Идея гуманизма отчетливо выступает в ней при обсуждении ее персонажами вопроса о войне и мире. Обсуждение было вызвано рассказом Улисса о ссоре, послужившей причиной Троянской войны. Этой причиной явилась месть — «родная злобы дщерь». Все же Улисс считает, что данная война «в своих причинах справедлива». В этом первоначально сильно сомневается Лико- дем, считающий нелепым и несправедливым то, что из-за проступка одного человека (Париса, увезшего жену Менелая красавицу Елену) должен страдать целый народ. Впоследствии он меняет свое отношение к этой войне. «На вашей стороне всю правду видеть можно», — говорит он Улиссу. Но в момент первоначального обсуждения вопроса он произносит страстный монолог, в котором осуждается война и прославляется мир. В монологе идет речь о войнах вообще. Не подлежит никакому сомнению, что он выражает заветные убеждения самого Тредиаковского и призывает к миролюбию современных автору трагедий правителей. С глубокой скорбью и гневом Ликодем говорит
до
о том, что в губительном пламени войн «падает» много «градов» и «погибает сел». Люди родятся на свет вовсе не для того
Чтоб на полях в крови лежать своей нелепо,
Чтоб мыслию мечтать убийство и пожар;
Чтоб славу, честь забыть, а помнить только свар.
Нелепой жестокости войн в трагедии противопоставляются бесценные блага мира. Сказав об этих благах, Ликодем заявляет:
О лучше, чтоб молчал оружий старых звон;
А токмо воружен был правоты закон1.
Представление о процветающем в мире и тишине государстве Тредиаковский связывал с надеждой на мудрость и справедливость просвещенного монарха. В трагедии жрица Иерофанта говорит царю Ликодему: «Мир, правду вознося, всем милостив державствуй!» Политическую идею трагедии вполне выражают содержащиеся в ней слова: «Царь добр и справедлив власть вышию образует».
Создавая свою трагедию на основе поэтики классицизма, Тредиаковский придерживался правила о трех единствах. В рассуждении об одах, трагедиях и эпистолах А. П. Сумарокова он писал, «что в составе трагедии... находятся так называемые три единства; а именно: единство действия, единство времени и единство места».
Из замечаний, которые делает Тредиаковский по поводу трагедии А. П. Сумарокова «Хорев», явствует, что единство действия он связывал с единством героя. По мнению автора рассуждения, трагедия А. П. Сумарокова «Хорев» должна бы называться «Оснельда и Хорев», поскольку в действии трагедии первенствующая роль отведена Оснельде: «...ею началась трагедия, ею продолжалась, ею завязалась, смертью ее и развязалась». Следует признать, что Тредиаковскому-драматургу удалось избежать этого нежелательного, с его точки зрения, раздвоения. В его трагедии главным лицом действительно является Деида- мия, которой принадлежит основная роль в осуществлении завязки и развязки действия, а также в его развитии и продолжении.
Соблюдены в трагедии и единства времени и места. Действие «Деидамии» начинается утром и заканчивается вечером. Других измерений времени в трагедии нет, откуда можно заключить, что оно ограничено пределами одних суток2. Что каса-
1 Свою приверженность идее мира Тредиаковский выразил и в предисловии к «Тилемахиде», где он писал, что «царь, вооруженный мудростию, ищет токмо мира и находит изобильные пособия на все зло браней в народе, наученном и трудолюбном, коего разум и тело равно приобучены к трудоположению».
2 Характерно, что Тредиаковский подверг весьма суровому разбору трагедию Сумарокова «Хорев» с позиций строгого соблюдения единства времени,
91
ется места действия, то относительно его в трагедии сказано, что оно происходит «в большой палате Ликодемовой».
В духе требований классицизма и традиций старой русской драматургии Тредизковский проявлял особую заботу о нравственно-учительном эффекте драматического действия. С этих позиций он рассматривал известное положение о том, что трагедия должна показывать торжество добродетели над пороком. Это торжество он понимал буквально, считая недопустимой гибель добродетельных героев. В своей трагедии Тредиаковский распорядился судьбами персонажей в полном соответствии с этим убеждением. Его Деидамия, являясь лицом добродетельным, в конце концов избавляется от ожидавшей ее участи, а Навплия несет за все свои интриги и наветы заслуженную ею кару.
В трагедии Тредиаковского некоторая роль отводится народу. Узнав о том, что Деидамия готова погибнуть, чтобы избавить его от моровой язвы, народ обращается к богине Диане с просьбой помиловать Деидамию. В результате этого обращения Диана меняет свое решение. Она дарует жизнь Деидамии, одновременно снимая угрозу поразить жителей города моровой язвой. Народ не выводится в трагедии на сцену. О его заступничестве за Деидамию рассказывается устами жрицы Иерофан- ты. Но этот рассказ довольно выразителен:
Стекается народ в премножестве числом;
Все плачут, все ревут, терзаясь грозным злом.
Вдруг на коленях все к богине вопиют:
Помилуй царску дщерь, и горьки слезы льют.
Еще раньше о поведении и настроении народа рассказывает в трагедии Вулевполем:
Бежит мал и велик, женск, мужеск пол на гору,
Где жертвенник стоит, толпятся без разбору,
Всяк с ветвию в руке, всяк из цветов в венце;
У каждого видна болезнь на всем лице.
Тот в грудь себя разит, тот горестно вздыхает,
Та волосы дерет, та слезы проливает:
Являют разно все одну свою печаль,
Согласно вопиют: царевны крайко жаль!
В этом описании чувствуется беспомощность писателя XVIII века при изображении массовой сцены, но видна уже попытка показать в рассказе различные внешние проявления одного чувства, владеющего толпой.
В трагедии Тредиаковского отсутствуют четко разработанные характеры героев. Однако в пределах, установленных поэтикой классицизма, Тредиаковский правдоподобно наметил черты, закрепленные за его персонажами преданием, эпической традицией. Его Ахиллес горяч и вспыльчив, мужествен и отважен. С появлением Улисса в нем пробуждается воинственный
92
пыл. Узнав о решении богини, он впадает в «буйность», неистово выступает против жрицы и ее прорицаний, намеревается спасти Деидамию с помощью воинов. В свою очередь хитроумие Улисса проявляется в том, что он заставляет скрывающегося под женским платьем Ахилла обнаружить свой пол, привлекая его внимание выложенным на стол оружием. В уста этого же персонажа, отличающегося не только хитростью, но и мудростью, автор вкладывает произносимые «особно» слова, в которых содержится размышление о человеческой жизни. К этому месту трагедии Тредиаковский сделал примечание, где указал, что данное размышление Улисса он внес в свою «Феоп- тию»1 — философскую поэму, в которой попытка доказать существование бога и опровергнуть взгляды атеистов причудливо сочетается с характерными для ранних русских просветителей вульгарно-материалистическими воззрениями. Наличие в трагедии Тредиаковского философского размышления о смысле человеческой жизни еще раз доказывает, что ранней русской драматургией затрагивались не только социальные, но и философские проблемы.
В трагедии «Деидамия» довольно сильно представлен эпический элемент. В пьесе имеется целая серия рассказов о событиях, так или иначе связанных с легендой, составляющей мифологическую основу ее сюжета: о выходе Елены замуж за Ме- нелая и встрече ее с Парисом, о предсказании Калханта, касающемся роли Ахиллеса в предстоящем взятии Трои, об отправлении Фетидой сына на остров Скирос. Как своего рода событие преподносится и описывается приезд на остров Скирос Улисса.
Эпический элемент присутствует в пьесе также в виде подробных, красочных, изобилующих эпитетами и сравнениями описаний. Таково, например, великолепное описание входящего в порт корабля, содержащееся в рассказе Хирона. Корабль этот, возвышающийся как гора над водными горами, тяжелый своей громадой, но легкий и скорый ходом, украшенный хоругвями и знаменами с резным львом на носу, кажущимся живым, только что не рыкающим, с парусами, которые «приемлют ветр дугою», изображен необыкновенно живо и пластично. Как видим, Тредиаковский восстанавливал ослабленную в трагедоко- медии Феофана Прокоповича эпичность драмы, что, безусловно, было связано с тем, что сюжет «Деидамии» основывался на древних эпических сказаниях.
Трагедия «Деидамия» включает в себя различные, подчас противоречиво входящие в нее жанрово-стилистические элементы. Она свободна от педантической строгости, абстрактности и подчеркнутой целеустремленности в развертывании сюжетного
1 См.: Тредиаковский В. К. Избр. произв.— М.; Л., 1963. —
С. 279.
93
действия и показе страстей, какими отличаются многие трагедии классицизма. В ее стиле есть что-то от вздыбленности и неуспокоенности, свойственных искусству барокко1. Тяготение автора пьесы к контрастам, к соединению высокого с низким, трагического с комическим проявляется, например, во вторжении в размеренную речь монологов чисто бытовых интонаций и сатирически окрашенных подробностей. Вот образчик таких интонаций, заимствуемый из речи Ликодема:
О! Боги, что за день? Мне вести по вестям;
А убивают те не вдруг, но по частям.
Чисто бытовой характер имеет речь вельможи Вулевполема, советующего царю в беседе с послом пользоваться «словом обоюдным, как делается то обычаем повсюдным» и «подавать послу» надежду неопределенными обещаниями: «чтоб не был в том ни мрак ни не был бы и свет». Бытовые, нередко комедийные интонации, появляющиеся в пьесе, вероятно, связаны с тем, что Тредиаковский выступал в качестве переводчика многочисленных итальянских комедий, ставившихся на сцене придворного театра императрицы Анны Иоанновны. Известное влияние здесь могло оказать и то обстоятельство, что в самом легендарном сюжете, избранном Тредиаковским для драматизации, заключались комедийные элементы.
Язык пьесы является гораздо менее архаизированным, чем язык многих современных ей и даже позднее написанных трагедий. Церковнославянизмы — «паки», '«десница», «се», «дщерь» и др. довольно редко встречаются в «Деидамии».
В трагедии имеются почти все характерные компоненты и персонажи исторической драмы. Из компонентов, кроме упомянутых рассказов о событии, нужно отметить пророчества, главным среди которых является пророчество Калханта, предсказавшего судьбу Ахиллеса. Пьеса заканчивается обращением Ликодема к богине Диане, носящим характер молитвы. Монолог, произносимый Ликодемом в 3-м явлении 5-го действия, может быть отнесен к разряду плачей. Но характерно, что в пьесе нет вещих снов. Автор трагедии принципиально отвергает вещие сны, сходясь в этом с целым рядом драматургов XVIII века, отрицавших, как мы видели, вещие сны с просветительских позиций. С тех же рационалистических позиций отвергаются они и в трагедии Тредиаковского, в которой устами Деидамии говорится:
Но верить снам нощным, которые все то ж,
Что пустошь, суета, что суеверность: ложь,
* По словам Л. И. Кулаковой, «понимание «вероятности сходства», «правдоподобия» у Тредиаковского в 50-е годы расходится с типичным для классицизма требованием ясности образа и употребления слов в их прямом значении. Соответственно он менее сурово относится к «украшениям» поэтического слова». См.: Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века.— Л., 1968.— С. 32,
94
Не вашего, княжна, рассудка, мнится, дело?
Мысль заблуждает в нас, покоится как тело...
В трагедии фигурируют такие специфические персонажи исторической драмы, как вестники, послы и прорицатели. В качестве вестников, рассказывающих о событиях, в ней выступают Хирон, Вулевполем, Улисс, Иерофанта. Последняя выполняет роль прорицательницы, предсказывающей судьбу. Особо подчеркнута в трагедии роль посла, приготовлениями к встрече которого занята значительная часть второго действия пьесы, а самой встрече посла, обставленной весьма торжественно, и беседам с ним, по существу, посвящено все третье действие. Все, включая царя, придают этой встрече важное значение. Медленное и величественное приближение посла и его свиты к покоям царя столь зрелищно занимательно, что царь решил смотреть на всю картину, находясь в укрытии, «из верьхних теремов». Всемерное обыгрывание встречи посла в пьесе Тредиаковского опять-таки сближает ее с другими пьесами того времени, написанными на историческую или легендарно-мифологическую тему.
Получив поручение написать трагедию, Тредиаковский энергично приступил к его выполнению. Судя по всему, поэт придавал большое значение этому своему сочинению. Готовя его к печати, он написал «прожект грыдорованного листочка». Характерно, что на гравюре, предназначенной для титульного листа, предполагалось изобразить массовую сцену, участниками которой являются представители народа, плачущие женщины и мужчины, одетые в траурную одежду. Некоторым из мужчин «надлежит держать факелы с огнем». В центре гравюры, которую академическая канцелярия поручала изготовить живописцу Гриммелю, должны были находиться в соответствующих позах Ликодем, Деидамия, Ахиллес, «жрица Дианина». Но трагедия не была напечатана при жизни Тредиаковского. Ее впервые опубликовали в Москве в 1775 году с посвящением А. П. Сумарокову, сделанным «по завещанию сочинителя».
Тредиаковский полагал, что эпические и драматические сочинения не должны писаться рифмованными стихами. «Сие достоверно,,— говорил он, — что усильствие к непрестанной рифме умаляет беспредельно жар и рвение пиимы драматический». Он ссылался при этом на древнегреческих и древнеримских драматургов, которые «помещали свои слова так, как хотели (а сие свойство и господствует свободно в нашем языке), и рифм к драматическим своим пиимам не допустили». Употребление рифмованных стихов в драматическом произведении он считал неестественным, противоречащим самой природе драмы. «Что есть драма» — спрашивал он. — Разговор. Но при- родно ль есть то собеседование, кое непрестанно оканчивается женскою рифмою, как на горе море, а мужскою как на увы вдовы, сочетаясь попеременно?» С этих позиций он критиковал
95
александрийский стих, употреблявшийся французскими и русскими драматургами, и призывал «последовать в сем Софоклу, Еврипиду и Терентию, нежели Корнилию, Расину и Молиеру».
Эти мысли Тредиаковский высказывал в предисловии к «Тилемахиде», написанном в 60-х годах. Они опережают драматургическую практику не только самого Тредиаковского, но и драматургов конца XVIII —начала XIX века, писавших свои трагедии традиционным александрийским стихом. Размышляя о стихе трагедии, Тредиаковский заглядывал * далеко в будущее, предвосхищая реформу, произведенную Пушкиным-драматур- гом. Замечательно, что Тредиаковский ссылался не только на древних трагиков, но и на драматургов нового времени. «Англичане и итальянцы, — говорил он, — пишут уже и драмы конечно без рифм стихами».
3
Одним из родоначальников русского классицизма, внесшим весьма значительный вклад в разработку драматургии, освещающей историческую тему, был великий русский ученый и поэт Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765). Драматургию Ломоносова нельзя рассматривать в отрыве от его сочинений в области истории. Не являясь историком-профессиона- лом, он и здесь был, по утверждению специалистов, «великим ученым-новатором»1. С его деятельностью на этом поприще «связано превращение исторических знаний в науку в середине XVIII века»2.
Ломоносов гордился героическим прошлым русского народа, восхищался его стойкостью и мужеством. Во «Вступлении» к своей книге «Древняя Российская история» Ломоносов писал: «Народ Российский от времен глубокою древностью сокровенных до нынешнего веку толь многие видел в счастии своем перемены, что ежели кто междоусобные и отвне нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул»3. Ломоносов подчеркивал значение работ по русской истории в деле воспитания соотечественников в духе патриотизма и высокой гражданственности. В посвящении к первому тому «Истории Российской» В. Н. Татищева, написан¬
1 Очерки истории исторической науки в СССР.— М., 1955. — Т. I. — С. 193.
2Сахаров А. М. Историография истории СССР: Досоветский период.— М., 1978. — С. 68.
3 Ломоносов М. В. Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава первого или до 1054 года. —СПб, 1766, — С. 1.
Гб
ном им по просьбе автора, Ломоносов указывал, что достоверное описание «деяний российских» открывает перед читателями «добрые примеры мужественных поступков и премудрых поведений», прославивших имя «древнего российского народа»1.
Великий ученый и поэт придавал большое значение правдивому и яркому отображению эпизодов, взятых из русской истории, в произведениях искусства и литературы. Выполняя поручение, переданное ему И. И. Бецким, он составил описание сюжетов «для живописных картин из российской истории», в котором сосредоточил внимание на таких важных, пробуждающих чувство патриотической гордости событиях, как битва на Чудском озере при Александре Невском, Куликовская битва 1380 года, борьба с польской интервенцией при участии Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского и др. В разработке исторической темы Ломоносов отводил большое место и поэзии, ставя ее рядом с историей. В «Слове похвальном» императрице Елизавете Петровне, произнесенном в 1749 году, касаясь темы просвещения и роли различных наук, Ломоносов говорил: «Чем военные сердца вящще к мужественному против врагов действию и к храброму защищению отечества побуждаются, как славными примерами великих героев? Сии приводит на память история и стихотворство, которое, прошедшие деяния живо описуя, как настоящим представляет: обоими прехваль- ныя дела великих государей из мрачных челюстей едкия древности исторгаются»2.
Придавая столь важное значение разработке исторических тем, Ломоносов посвятил ей две свои трагедии, из которых первая («Тамира и Селим») связана с отечественной историей и является исторической трагедией в прямом смысле слова, а вторая («Демофонт») драматизирует античный мифологический сюжет. Ломоносов как бы повторил опыт юного Тредиаков- ского, выступившего в годы своего пребывания в Славяно-греко-латинской академии с двумя пьесами — исторической и ми фологической («Язон» и «Тит, Веспасианов сын»), но резко разошелся как автор «Тамиры и Селима» с Тредиаковским поздним, осуждавшим обращение поэтов к тематике, заимствованной из отечественной истории. Здесь Ломоносов сблизился не с Тредиаковским, а с Сумароковым, выступившим в 1747 году с первой своей трагедией на отечественную историческую тему — «Хорев».
Трагедия Ломоносова «Тамира и Селим» была написана в 1750 году. Тогда же она вышла отдельным изданием и дважды (в декабре 1750 и январе 1751 года) была поставлена при
1 Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. — М.; Л., 1952. — Т. 6.—
С. 15.
2 Там же.— Т. 8.— С. 252.
7 Заказ 4708
97
дворе. Разыгрывали ее кадеты сухопутного шляхетского корпуса.
Действие трагедии происходит в 1380 году во время Куликовской битвы в доме крымского царя Мумета в городе Кафе (Феодосия). Оно развертывается, по принятому в классицистической драматургии обычаю, с помощью вымышленной любовной истории. Мамай, пользуясь словом, данным ему Муметом, добивается брака с его дочерью Тамирой, любящей багдадского царевича Селима и любимой им. Но’ трагедия имеет прочную историческую основу. В центре ее находится важное историческое событие — Куликовская битва, от исхода которой зависит развязка действия. Явившись в Кафу, Мамай выдает свое поражение за победу. Он настаивает на скорейшем заключении брака, надеясь на военную поддержку Мумета. С получением достоверных известий о битве козни Мамая разоблачаются, а сам он погибает (от руки брата героини пьесы Нарсима).
Ломоносов дает исторически верное, вплоть до отдельных деталей, описание Куликовской битвы. Опираясь на древнерусские летописи, на текст «Сказания о Мамаевом побоище», обстоятельно и красочно описывающего' битву, автор трагедии правдиво показывает ход сражения. При создании произведения Ломоносов, помимо «Синопсиса», использовал «Сказание о Мамаевом побоище» в так называемой киприановской редакции. Именно в этой редакции «Сказание о Мамаевом побоище» излагается В. Н. Татищевым, труд которого «История Российская с самых древнейших времен» был известен автору «Тамиры и Селима» в рукописи1. Таким образом, Ломоносов опирался при написании своей исторической трагедии на разнообразные источники, в том числе и на неопубликованный еще тогда труд Татищева.
К сожалению, мы не располагаем сведениями о том, насколько соблюдалась историческая верность в костюмах и обстановке при сценическом воплощении трагедии «Тамира и Селим». Авторские ремарки в пьесе не касаются данного вопроса. Ничего не говорится по этой части и в предпосланном трагедии «Кратком изъяснении». Некоторым материалом для суждений о предполагаемом оформлении спектакля, отличавшемся обычными для тогдашних придворных представлений пышностью и великолепием2, видимо, может служить фронтиспис пер¬
1 См.: Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература. — Л., 1971.— С. 10—12.
2 В письме к И. И. Шувалову Ломоносов шутливо писал о роскошном оформлении спектакля: «Я чаю, что когда Тамира в конце третьего действия от отца своего бежать намерится, то Заисаном будет поймана не в самом бегстве, но когда засмотрится на красоту великолепного здания и в изумлении остановится, забыв о Селиме; и Мамай от Нарсима тогда будет про-
98
вого издания трагедии, где в условном стиле изображены крепостная стена с выступающими башнями, находящиеся на одной из них женщины и мужчины в стилизованной «восточной» одежде, одетые в такую же одежду всадники перед крепостной стеной, виднеющиеся вдали (за крепостной стеной) мечети, а также (на левом плане) корабли с развевающимися на них флагами1. Неизвестно, выполнялся ли этот рисунок при участии автора или же художник сделал его совершенно самостоятельно.
Отсутствие сведений о постановке «Тамиры и Селима» в какой-то степени может компенсироваться учетом и анализом замечаний, делаемых Ломоносовым в его пояснениях к «Идеям для живописных картин из российской истории». Эти замечания свидетельствуют о том, что Ломоносов требовал соблюдения исторической верности в костюмах и обстановке2. Давая пояснения к картине «Мономахово венчание на царство», где на Владимира Мономаха налагают корону греческих императоров, Ломоносов пишет: «...при сем должно наблюдать, чтобы все было со здешним и с греческим сходно». В пояснениях к картине «Мономахово единоборство» он советует нарисовать золотую цепь и прочие признаки чина генуэзского дожа, побеждаемого Владимиром Мономахом на поединке, взяв за образец уборы венецианских или генуэзских дожей. Ломоносов изъявлял даже готовность снабдить художника, который пожелал бы нарисовать картину «Основание христианства в России», описаниями и изображениями языческих идолов. Требуя верного изображения исторического прошлого живописцами, Ломоносов, видимо, желал такой же точности и при воспроизведении его на сцене. Подобно постановщикам пьесы об Иосифе, шедшей на сцене придворного театра императрицы Анны Иоанновны, он желал, надо думать, чтобы все было, как «тогда»3.
Менее точным является изображение в трагедии нравов, обычаев и верований народа, к которому принадлежат ее герои. Автор скуп здесь на подробности, а то немногое, что он по этой части сообщает, является иногда спорным. Вряд ли, например, дочь средневекового крымского царя могла говорить (хотя бы и в переносном смысле) о греческом боге северного
колот, когда он в поле на позлащенные верхи оглянется» (Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. — М.; Л., 1952. — Т. 10.— С. 469).
1 Там же.— Т. 8.— С. 309.
2 Это отмечает Л. И. Кулакова. См.: Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века.— Л., 1968.— С. 63.
3 Следует, однако, иметь в виду, что в тогдашнем театре костюмы и декорации были типовыми. В спектаклях, поставленных по трагедиям Сумарокова «Хорев» и «Синав и Трувор», судя по рисункам, сделанным им самим, фигурировали те же чалмы с султанами, что и в «Тамире и Селиме» Ломоносова. См.: С ы р к и н а Ф. Костина Е. М. Русское театрально-декоративное искусство. — М., 1982.— С. 37.
7*
99
ветра Борее («Уже нам и борей способной начал дуть») или упоминать о другом мифологическом персонаже — Медее, сравнивая себя с ним. Видимо, точность в таких вещах не казалась автору пьесы обязательной.
В трагедии «Тамира и Селим» содержится немало реалий, закрепляющих связь ее героев и действия с прошлым, с историческим временем и пространством. В ней фигурируют имена исторических лиц (Димитрия Донского, Олега Рязанского, Че- лубея, литовского князя Ольгерда). Устами Надира говорится о князьях Владимире Святославиче и Владимире Монома- хе, устами Мамая называются имена завоевателей «Чингиса и Хозроя», его собственного прадеда Батыя. В трагедии встречаются названия стран (Индия, Анатолия), рек (Дон, Днепр, Тигр, Нил, Непрядва), городов (Москва, Кафа) и др.
Правдивое воспроизведение прошлого достигается в трагедии не только верным показом событий и включением в ее состав различных реалий. Ломоносов раскрывает, и это является неизмеримо более важным, глубокий смысл изображаемого. Борьбу России с Мамаем он рассматривает в исторической перспективе, связывая ее с деяниями русских, умевших в прошлом, объединяя свои усилия, отстоять родину и уничтожить захватчиков. Вдохновляющим примером того, «какою силою» могут облечься русские люди, находясь «в единстве», в трагедии являются князья Владимир Святославич и Владимир Мономах. Показывая борьбу русских с противником, Ломоносов выражает уверенность в победе над монголо-татарским игом, сама бесчеловечная жестокость которого способствовала, по мысли автора, объединению Руси. В пьесе говорится о борьбе с Мамаем:
Россию варварство его бесчеловечно Из многих областей в одну совокупит.
Трагедия «Тамира и Селим», как и все творчество Ломоносова, проникнута пафосом высокой гражданственности. Она утверждает активность человека в борьбе за его права и справедливость. Устами героя трагедии Селима говорится:
Какая польза тем, что в старости глубокой И в тме бесславия кончают долгой век!
Добротами всходить на верьх хвалы высокой И славно умереть родился человек.
Эти слова Селима не являются простой декларацией. Селим произносит их, изъявляя готовность избавить Тамиру, хотя бы ценой собственной жизни, «от лютости» отца.
Гуманизм Ломоносова проявился в трагедии в виде неискоренимой веры в конечное торжество справедливости, в победу добра над злом. Добродетель сильнее порока. Гнет и тирания обречены на гибель. «Насильна власть стоять не может
100
долговечно», — говорит в трагедии Надир. Долговечна одна лишь добродетель. Она
Среди громов и бурь недвижимо стоит, —
Сама себе хвала, сама себе свидетель;
Хоть мир обрушится, бссстрашиу поразит.
Эта мысль подтверждается всем ходом действия трагедии. Она составляет основу идейного содержания пьесы, утверждаемой этим содержанием исторической концепции автора. Ломоносов первым из русских драматургов выразил с такой силой и убежденностью в произведении, не имеющем религиозной основы, идею исторического оптимизма, предвосхитив тем самым оптимистическое звучание драматургии декабристов. Исследователи обратили внимание на счастливую развязку трагедии (ее герой и героиня не погибают, хотя'по временам они близки к гибели), связав это с влиянием той критики, которой подверг Тредиаковский Сумарокова, обрекшего на гибель добродетельных героев своей трагедии «Хорев». Такое влияние не исключено. Ломоносов, несомненно, был знаком с критикой Тредиаковского. Что касается Сумарокова, то он учел замечания Тредиаковского в позднее написанных им трагедиях. Тем не менее следует иметь в виду глубокую органичность счастливой развязки в ломоносовской трагедии, ее тесную связь со всей концепцией произведения.
Трагедия «Тамира и Селим» принадлежит к числу самых ярких антитиранических произведений русской классицистической драматургии. Унаследовав традицию обличения тиранов- завоевателей, идущую от самых первых пьес русского театра, Ломоносов создал выразительный образ тирана в лице Мамая. Мамай отличается жестокостью и коварством, высокомерием и злобой. Его отрицательные черты проявляются не только в характеристиках, даваемых ему другими персонажами, но и в его действиях.
Трагедия проникнута страстным обличением завоевательных войн, обрекающих на гибель и опустошение народы и государства. В ней громко звучит проповедь мира, согласующаяся с пафосом многих произведений Ломоносова1 и с благородной традицией миролюбия, издавна обозначившейся в русской литературе и драматургии. Ломоносов обнажает подоплеку завоевательных войн, которую составляет, по его замечательному определению, «несытая алчба имения и власти». Обращаясь устами Надира к этой «несытой алчбе», поэт восклицает:
С тобою возрасли и зависть и коварство;
Твое исчадие — кровавая война!
Которое от ней не стонет государство?
Которая от ней не потряслась страна?
1 См., например, его «Слово похвальное... Елизавете Петровне» (1749), где говорится о городах «крепче миром, нежели стенами, огражденных».
101
Где были созданы всходящи к небу храмы И стены — труд веков и многих тысяч пот,
Там видны лишь одне развалины и ямы,
При коих тучную имеет паству скот.
О, коль мучительна родителям разлука,
Когда дают детей, чтобы пролить их кровь!
О, коль разительна и нестерпима мука,
Когда военный шум смущает двух любовь!
В трагедии Ломоносова протест против гнета, тяготеющего над народами, сочетается с протестом против угнетения отдельной человеческой личности, обличение тирании, приводящей к закабалению народов, — с обличением тирании семейной, домашней. Дело в том, что, по Ломоносову, оба вида тирании имеют один и тот же источник — жадность, корысть, все ту же «несытую алчбу имения и власти». Поэтому в монологе Надира, не случайно произносимом им в самый напряженный момент действия, когда Тамира совершает, чтобы избежать насильственного брака, побег из дома, заканчивающийся неудачей, вполне естественным является переход от обличения одного вида тирании, проявляющегося в отношениях между государствами, к обличению другого его вида, проявляющегося в отношениях семейных:
Когда родители обманчивой корысти На жертву отдают и совесть и детей,
О небо, преклонись, вселенную очисти От пагубы такой, от скверной язвы сей!
Опутанный лестью и ложью Мамая, Мумет деспотически применяет свою родительскую власть. Не удивительно, что Тамира называет его в своем монологе мучителем, объединяя его имя с именем Мамая («единым именем с Мамаем возгордись!»), а Надир с горькой иронией говорит, что он бессилен помочь царевне, поскольку «против ней» «воюют» «великие цари».
Ломоносов был противником насильственных браков и требовал их запрещения1. В трагедии это его убеждение обернулось защитой героини, пытающейся отстаивать (доступными ей средствами) свое право на счастье. В 3-м явлении 3-го действия, обращаясь к отцу, Тамира говорит:
Как спорить я могу, коль не дана свобода По воле избирать пристойну в жизни часть?
В следующем явлении того же действия царевна обращается к Мамаю:
Когда ты многие привел под власть народы, То славы, государь, голикой не теряй И, слабый женский пол лишив драгой свободы, Великих дел своих чрез го не помрачай.
1 См.: Ломоносов М. В. Поли, собр, соч. —-М.; Л., 1952. — Т. 6.— С. 384—386.
102
Таким образом, Ломоносов обратился в трагедии и к теме о женских правах (вернее, о женском бесправии).
Если в «Артаксерксовом действе» попытка Астини отстаивать эти права представлена в духе библейской морали как проявление гордости, то в пьесе Ломоносова она увязана с историко-героической темой произведения, с глубоко прогрессивным мировоззрением великого поэта-ученого XVIII века. В лице Тамиры, имя которой с полным основанием стоит в заглавии пьесы, Ломоносов создал яркий положительный женский образ, пополнив им галерею женских образов, созданных драматургами предшествующего времени. Ломоносовской Та- мире присущи энергия и ясность цели, стремление к которой оправдано лучшими сторонами человеческой натуры, хотя ее образу недостает лиризма, о чем справедливо писали исследователи.
Руководствуясь требованиями эстетики классицизма, Ломоносов запечатлел в своей трагедии коллизию между долгом и чувством, разумом и страстью. Тамира признается в том, что не чувствует ненависти к Селиму, которого она должна была ненавидеть как «врага отечества». В свою очередь Селим говорит Надиру, что утратил способность порабощать «уму» свой «нрав» с момента встречи с Тамирой:
С того часа война в крови моей восстала;
Я, вам спокойство дав, с собою брань имел:
Любовь — поставить мир, честь к бою побуждала.
Внутреннюю борьбу испытывает и Мумет. Ломоносов исходил из материалистического (в духе XVIII века) понимания страстей. «Страстию называется, — писал он в «Риторике», — сильная чувственная охота или неохота, соединенная с необыкновенным движением крови и жизненных духов, при чем всегда бывает услаждение или скука»1. Из всех человеческих страстей он выделял страсть любовную, подчеркивая ее силу и значение в человеческой жизни. «Любовь, — говорил он в том же сочинении, — есть склонность духа к другому кому, чтобы из его благополучия иметь услаждение... Любовь сильна, как молния, но без грому проницает, и самые сильные ее удары приятны»2.
В полном соответствии с таким пониманием любовной страсти, не идущим вразрез с ее толкованием другими писателями XVII—XVIII веков, находятся суждения о ней, высказываемые персонажами трагедии. Любовь они воспринимают как необычайно сильное чувство, способное «уязвить» душу человека. Для персонажей ломоносовской трагедии, как и для действу¬
1 Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. — М.; Л., 1952. — Т, 7.—
С. 167.
2 Там же. — С. 176.
103
ющих лиц многих русских и зарубежных классицистических трагедий, включая великих драматургов-классицистов Корнеля и Расина, характерен аналитический подход к восприятию и осознанию собственного внутреннего мира, связанный с своего рода возвышением анализирующего сознания над происходящим в душе борением противоречивых чувств и стремлений. Эта особенность творческого метода писателей-классицистов, несомненно, связана с механистическим рассмотрением страстей (и прежде всего любовной страсти) в качестве неких самостоятельных сущностей или сил, едва ли не извне проникающих в душу человека. Отсюда и возникает желание «сверху» или «со стороны» посмотреть на ту работу, которую они производят в человеческой душе. Отличаясь стремлением к максимальной точности, этот своеобразный репортаж вместе с тем обладает и той эмоциональностью, которая всегда присуща комментированию чувств, производимому самим испытывающим их человеком. Образцом такого анализа может служить следующий небольшой отрывок из монолога Тамиры, произносимого ею во 2-м явлении 1-го действия трагедии:
О, как волнуюсь я! Какая внутрь борьба!
Теперь я признаю, что некотора снла
Неосторожной дух уже взяла во власть
И сердце нежное к Селиму преклонила;
К нему я чувствую в себе любовну страсть!
О силе любовного чувства говорят и другие персонажи трагедии.
Или твой нежной дух любовью уязвился?
Но кто же бы тебя в любовь нынь уловил? —
спрашивает Тамиру ее мамка Клеона, выполняющая в трагедии роль наперсницы. Как большую, но темную и таинственную силу воспринимает любовь Селим.
Огромную силу страсти утверждают не только словесные заявления персонажей, но и их поступки. Селим, движимый любовью к Тамире, прекращает военные действия, хотя видит свой долг в их продолжении. Тамира пытается бежать из дома, а после неудачного побега хочет покончить жизнь самоубийством. В сущности, герой и героиня трагедии не совершают ни одного поступка, который являлся бы прямым и решительным выполнением того, в чем они видят свой долг. Зато любовь диктует им не только смелые, но и самоотверженные поступки. Чтобы избавить Тамиру «от лютости», Селим готов пожертвовать своей жизнью. Он это доказывает, вступая в единоборство с Мамаем.
Нельзя сказать, что персонажи трагедии нарушают свой долг. Отказываясь от взятия города Кафы, Селим руководствуется волей своего отца, предоставившего ему право решить вопрос о войне и мире по собственному усмотрению. Неподчи¬
104
нение Тамиры воле отца оправдывается вероломством Мамая и тем фактом, что в конце пьесы отец благословляет ее на брак с Селимом. Благополучное разрешение коллизии, в которой оказались герой и героиня пьесы, обусловливается в данном случае тем, что за нравственными обязательствами, связанными с обещанием, данным Муметом Мамаю, не стояло никакого реального содержания. Разоблачение козней Мамая поставило все на свои места. Оно не только развязало руки герою и героине трагедии, но и подтвердило ту высокую нравственную ценность, которая заключается в самоотверженном и бескомпромиссном стремлении человека к мирной, счастливой и свободной жизни. Здесь любовная интрига, благополучно завершившаяся для положительных персонажей пьесы, как бы возвращает нас к героико-патриотической линии сюжета пьесы, также завершившейся (в полном соответствии с историей) победой, которая явилась предвестницей освобождения целого народа от тяготевшего над ним ига. И здесь — на соединении двух линий единого сюжета пьесы — возникает тема народа.
В трагедии нет народных сцен. Лишь в 1-м явлении 5-го действия на сцене присутствуют воины, понадобившиеся, видимо, только для того, чтобы оправдать обращенную к ним реплику Мумета. Но в пьесе есть многозначительный разговор о народе, непосредственно связанный с историко-героической линией ее сюжета и с оценкой образа Мамая. В 3-м явлении 4-го действия трагедии Надир делится с Клеоной подозрениями, вызванными появлением в городе прибывшего без войска Мамая и его желанием поскорее заключить брачный союз с Тамирой. Клеона сообщает, что народ, наделяемый в трагедии инстинктивным чувством правды, объясняет поспешный приход Мамая его поражением в битве с русскими. «Слух в городе прошел, — говорит она, — что он совсем побит!» На слова мамки Надир отвечает знаменательной фразой:
Всегда есть божий глас — глас целого народа;
Устами оного всевышний говорит.
В продолжение разговора снова говорится о народе и его мнении. Клеона сообщает:
Народную молву приумножают знаки;
Везде уж говорят, что близ дверей беда!
Ломоносов, видимо, не случайно вложил сообщение о народе в уста мамки, единственного персонажа пьесы, имеющего доступ к народу, как не случайно заставил беседовать с ней на эти темы именно Надира, занимающего ясно выраженную антитираническую позицию. Весь этот эпизод представляет собой (в историко-литературной перспективе) отдаленное и слабое, но все же, думается, несомненное предвестие пушкинского изображения народа в качестве лица, имеющего свою
105
нравственную позицию, свой собственный взгляд на происходящие события, на поведение и судьбу властителей-тиранов.
В связи с характерным упоминанием о народе, содержащимся в трагедии, следует сказать об использовании ее автором устного народного творчества, редко встречающемся в произведениях трагедийного жанра. Показательно, что Ломоносов воспользовался выразительной фольклорной поэтической деталью в очень важном месте своего драматического повествования — в рассказе о Куликовской битве, заимствовав ее из былин, отразивших борьбу русского народа с монголо-татарским игом. Устами Нарсима в трагедии говорится:
Уже чрез пять часов горела брань сурова,
Сквозь пыль, сквозь пар едва давало солнце луч.
Упоминания о паре, исходящем от лошадей, содержатся и в былинах. Так, в былине «Мамаево побоище» говорится, что во время битвы «в конном топище красного солнца не видно было, а светлый месяц от пару конского померкнул весь»1. Ломоносов, видимо, с детства знал былину и воспользовался содержащейся в ней деталью одновременно как художественным средством и как своего рода документальным свидетельством. В этом последнем смысле его обращение к фольклору в произведении, написанном на историческую тему, совпадало с отношением к устному народному творчеству историка В. Н. Татищева. «Песни древних, — писал Татищев, — хотя они не таким порядком складываны, чтоб за историю принять было можно, однако ж много можно в недостатке истории из оных нечто к изъяснению и в дополнку употребить». По признанию историка, он почерпнул из былин некоторые сведения о князе Владимире Святославиче и людях его эпохи, отсутствующие в источниках. Что касается поэтического использования той же детали, то с ним мы встречаемся в предпринятом Ломоносовым переводе оды Жана Батиста Руссо «На счастие», где выражение «в пару кровавой пены» фигурирует в качестве детали, разоблачающей тирана-завоевателя2.
Как известно, Ломоносов является создателем стилистической теории, сыгравшей огромную положительную роль в развитии русского литературного языка. Разработанное им учение о трех «штилях» — высоком, среднем и низком — способствовало быстрому развитию молодой русской художественной литературы, внося организующее начало в процесс его формиро¬
1 См. Былины.— М, 1958.— С. 174. Ср. в былине «Илья Муромец и Кудреванко», где сказано, что солнце и луна померкли «от духу человечьего», «все от пару от лошадиного». См.: Астахова А. М. Былины Севера.— М.; Л., 1938. — С. 309; Илья Муромец. — М.; Л., 1958. — С. 143. Факт использования фольклора в трагедии Ломоносова отмечен в примечаниях к ней. См.: Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. — М.; Л., 1952.— Т. 8.— С. 975.
2 См.: Ломоносов М. В. Поли. собр. соч.— Т. 8.— С. 663.
106
вания. Ограничив употребление церковнославянизмов, теория Ломоносова в то же время утверждала в качестве основы исконный русский общенациональный литературный язык, засорявшийся дотоле в литературных произведениях, в том числе драматургических, множеством неоправданно вводимых варваризмов и диалектизмов. Положительное значение имело и отнесение к каждому из трех «штилей» определенных литературных жанров, произведенное Ломоносовым с учетом жанровой специфики и внутренних тематических подразделений1.
Стилистический строй трагедии Ломоносова «Тамира и Селим» находится в полном соответствии с его учением о «трех штилях»,, сформулированным после ее написания. Обращает на себя внимание весьма умеренное употребление автором трагедии церковнославянизмов и полное отсутствие в ней слов, которые он называл «обветшалыми». В монологах Тамиры и Селима встречаются лишь такие церковнославянизмы, как «сей», «град» и т. п. Интересно, что в монологах представителей старшего поколения (Мумет, Надир), а также в рассказах Вестника и Нарсима о Куликовской битве церковнославянизмы также встречаются в умеренном количестве. Видимо, на стилистический строй трагедии оказало влияние преобладание в ней любовных сцен, при изображении которых, по словам Ломоносова, следует избегать «высокого штиля». По суждению В. В. Виноградова, «в писательской практике Ломоносова, кроме разграничений жанровых, выступают и тематические, а также экспрессивные разграничения даже внутри одного итого же произведения», отражающиеся «в изменениях структурностилистических свойств произведений. Таким образом, пишет ученый, Ломоносов указал пути и к преодолению теории трех стилей, к образованию той новой стилистической системы русского литературного языка, утверждение которой связывается с именем Пушкина»2. Можно добавить, что пути к преодолению теории «трех штилей» намечались не только в художественных произведениях Ломоносова, но и в самом трактате, содержащем ее интерпретацию, поскольку определенность жанровых разграничений до известной степени размывалась в нем указанием на возможность и даже необходимость варьирования «штилей» в связи с изменением тематики3. Все это говорит о подвижности и гибкости теории и практики русского классицизма. Сохраняя свой нормативный характер, эстетика русского
1 О значении трудов Ломоносова в области стилистики русского языка см. в кн.: Виноградов В. В. Стилистика: Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963.— С. 211—234.
2 Виноградов В. В. Стилистика: Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. —С. 230.
3 О смешении стилей в пределах одного жанра в творчестве Ломоносова в зависимости от «предмета описания», обусловливающего выбор «речений», говорится в кн.: История русской литературы. — Л., 1980. — Т. 1.— С. 536.
107
классицизма отличалась, по крайней мере в лучшую пору его исторического существования, гораздо меньшей косностью и догматизмом, чем эстетика западно-европейского классицизма, например французского.
В трагедии «Тамира и Селим» соблюдены единства места, времени и действия. Действие «происходит в Кафе, знатнейшем приморском городе Крымском, в царском доме» «в первый день» после перемирия Мумета с Селимом. Оно начинается рано утром («Настал ужасной день и солнце на восходе», — говорит Тамира в открывающем трагедию монологе) и заканчивается на его исходе («Коль всем нам был сей день печален и ужасен»,— заключает Мумет в завершающем монологе). Все лица трагедии участвуют в развертывании единого действия, связанного с борьбой русского народа против войск Мамая.
В трагедии имеются характерные для исторических пьес компоненты и персонажи. В качестве весьма важного компонента выступает рассказ о событии. В трагедии отсутствует сценический показ Куликовской битвы. Воздержавшись от изображения ее на сцене, Ломоносов последовал не за драматургами конца XVII — начала XVIII века, охотно изображавшими, как мы видели, сражения в качестве эффектного сценического зрелища, а за драматургами-классицистами, заменяющими изображение битв рассказами о них. Особенностью трагедии Ломоносова является то, что в ней имеется не один, а три рассказа о Куликовской битве, из которых первые два (устами Мумета и устами Вестника) повествуют о начальном этапе ее, а третий — о заключительном. Взятые вместе, сообщения о Куликовской битве представляют яркий рассказ о ней, повествующий в сжатом виде о важнейших эпизодах: изменнических действиях князей Олега Рязанского и Ольгерда Литовского, ранении московского князя Димитрия, гибели Челубея, выступлении засадного полка и т. п. Ломоносов умело сочетал историческую точность и документальность, яркий поэтический вымысел и художественную изобразительность.
Примером текстуальной близости трагедии к источнику может служить содержащийся в рассказе Вестника эпизод с ранением московского князя Димитрия, вынудившим его выйти из боя. Вестник говорит:
И, ранами покрыт, от бою уклонился Димитрий...
Этому месту соответствуют слова, содержащиеся в «летописной» редакции «Сказания о Мамаевом побоище»: «Самого же великого князя уязвиша, он жй уклонився от войска и сниде с коня и с побоища, яко не мощно ему битися»1. В трагедии встре¬
1 См.: Повести о Куликовской битве. — М.; Л., 1959. — С. 102. Подробней об этом см. в кн.: Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература. — Л., 1971, —С. 260—262.
108
чаем яркие распространенные сравнения. В первом сообщении о Куликовской битве битва сравнивается с бурей, поднявшейся «после зною», дующей «с свирепой яростью» в зажженный лес, влекущей за собой и возносящей «до небес» завитые ею «в вихрь крутый» «дым, пепел, пламень, жар», поедающей «на полях окрестных» нивы, «и села, и круг них растущие плоды». Это сравнение несет большую нагрузку. С его помощью не только рисуется картина битвы, показываемой в данной части повествования, но и дается символ всего монголо-татарского ига, принесшего неисчислимые бедствия русскому народу. Недаром в этом сравнении упоминается о лишившемся надежды спасти свое достояние селянине, который «оставляет ревущему огню вселетные труды».
Упоминание о селянине отнюдь не является случайным у Ломоносова. В 1759 году Ломоносов перевел отрывок из трагедии Сенеки «Троянки», где устами хора говорится о бедствиях, причиняемых поселянину войной: «десятью (т. е. в течение десяти лет Троянской войны) в робости хлеб сеял сельский житель». В «Слове о пользе химии», говоря о том, что на картинах живописцев мы «видим бывших прежде нас великих государей и храбрых героев и других великих людей, славу у потомков заслуживающих», Ломоносов упоминает о картинах, услаждающих нас «видением зеленеющих лесов, текущих источников, пасущихся стад и труждающихся земледельцев». Слова Ломоносова «о труждающихся земледельцах», сказанные им в 1751 году (через год после написания «Тамиры и Селима»), «могли бы совершить переворот в искусстве, если бы их захотели услышать те, кто возглавлял художественное образование в России. Пусть не рассказал Ломоносов, — пишет исследовательница, — о тяжести жизни русских земледельцев, но указание, что объектом искусства могут быть крестьяне, их труд, было значительным шагом вперед в развитии русской эстетической мысли. И сделать этот шаг он сумел благодаря своему глубокому уважению к труду и внутренней органической связи с народом»1.
С бурей, но уже иной — не знойной и испепеляющей, а грозной и очистительной, сравнивается битва в заключительном рассказе Нарсима, повествующем о действиях решившего исход боя засадного полка.
Сравнение сражения с бурей и другими грозными* явлениями природы часто встречается в так называемых победных одах. Оно есть также в былинах и в древнерусских воинских повестях, из которых, видимо, и проникло в высокую книжную поэзию. Что касается трагедий, то, начиная с Ломоносова, наличие таких сравнений будет характеризовать почти каждую
‘Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. —Л., 1968, —С. 57.
109
историческую трагедию, вплоть до «Димитрия Донского»
В. А. Озерова. Но яркое, красочное описание битвы, содержащееся в «Тамире и Селиме», надолго сохранит силу своего эстетического воздействия. Недаром им восхищался современник Озерова К. Н. Батюшков1.
В 1751 году Ломоносов написал свою вторую трагедию «Де- мофонт». В 1752 году трагедия была напечатана. О постановке ее на сцене сведений нет.
Трагедия «Демофонт» создана на античном мифологическом материале. Тема, разработанная Ломоносовым в «Демо- фонте», одновременно лирическая и эпическая. Ее можно было бы определить как тему неустроенности жизни. Нет покоя, порядка и благочиния ни во внутреннем мире человека, ни во внешнем, людей окружающем. Отсюда, от этой основной мысли, исходит драматизм произведения, более сильный, чем драматизм «Тамиры и Селима». Недаром, в отличие от первой пьесы Ломоносова, исход действия которой является счастливым, «Демофонт» имеет трагическую развязку, заканчивается гибелью большинства действующих лиц. Но драматизм пьесы все же лишен настоящей трагедийной основы, так как в ней нет непримиримых противоречий, четко противостоящих друг другу лагерей, борьбы ясных в своей определенности и непримиримости страстей и интересов. Действующие лица мучительно выясняют свои отношения, достаточно сложные и запутанные.
Фракийская царевна Филлида любит сына афинского царя Тезея Демофонта. Но Демофонт уже не любит Филлиду. Он полюбил Илиону, дочь троянского царя Приама, являющуюся невестой царского наместника во Фракии Полимнестора. Но По- лимнестор разлюбил Илиону и влюбился в Филлиду. К любовным отношениям персонажей примешиваются, еще более их усложняя, отношения материального характера, а также некоторые политические соображения и обстоятельства. Полимнес- тор, являясь временным правителем, мечтает о стабильности своей власти во Фракии. Греки, опасаясь возможной мести со стороны побежденных ими троянцев, стараются выкрасть сына Приама Полидора и т. д. Проникшись мстительным чувством к Демофонту, Филлида отдает распоряжение о поджоге афинского флота, с которым он должен отплыть на родину. После этого происходит ее примирение с любимым. Однако отмена приказания о поджоге флота запаздывает, и отданное ранее распоряжение выполняется. Вслед за Демофонтом погибает Филлида, кончающая жизнь самоубийством. Погибает и сын Полимнестора Деифил, которым был подменен Полидор, спасенный его сестрой Илионой, и т. д.
В трагеДии «Демофонт», как и в «Тамире и Селиме», обозначена коллизия между долгом и чувством, наличие которой в
1 См.: Батюшков К- Н. Соч. — СПб., 1885. — Т. II. — С. 155—156.
110
обеих пьесах свидетельствует о воздействии на Ломоносова эстетики классицизма. Например, долг велит Демофонту спешить вместе с Филлидой и с захваченным Полидором в Грецию, но любовь к Илионе удерживает его на фракийских берегах. Наличие данной коллизии подчеркивается в трагедии фигурой «полководца Демофонтова», а фактически его наперсника Дра- мета, являющегося представителем чести героя и противником его страсти. Но коллизия между долгом и чувством не играет определяющей роли в развертывании сюжетного действия пьесы, как не играет она этой роли и в «Тамире и Селиме». Если в «Та.мире и Селиме» трагическое действие развязывается известием о благоприятном для противников Мамая исходе Куликовской битвы, разрушающим его козни, то в «Демофонте» оно разрешается трагической случайностью.
Лиризм трагедии «Демофонт» своеобразно объединяется с ее эпичностью. Остановившись на мифологическом материале, Ломоносов не случайно для русской драматургии выбрал эпический в своей основе сюжет, связанный с войной греков против Трои. Если в «Деидамии» Тредиаковского действие развертывается в самом начале этой войны, воспетой Гомером, то в трагедии Ломоносова, как позднее в «Поликсене» Озерова и «Андромахе» Катенина, оно происходит после ее окончания. На всем действии трагедии Ломоносова, как и на трагедиях позднейших драматургов, лежит печать недавнего разгрома Трон. Содержащиеся в трагедии постоянные упоминания об этом разгроме и обусловливают в значительной мере то впечатление неустроенности личных и общих судеб, которое она оставляет.
В трагедии «Демофонт», как и в других своих произведениях, Ломоносов выступает поборником мира между народами и государствами, противником опустошительных войн. Что касается Троянской войны, то ее виновниками персонажи трагедии склонны считать не людей, а богов, проявивших горячность, односторонность, не сумевших сохранить приличествующую богам объективность и мудрость. Вообще, в трагедии Ломоносова нет веры (и в этом ее отличие от «Деидамии» Тредиаковского) в безусловную справедливость судеб, определяемых высшими, божественными силами.
Ломоносов ставил в своей трагедии вопрос об ответственности людей за совершаемые ими поступки. Так, у Полимнес- тора автором отмечаются явные черты тирана, нарушителя законов. В этом смысле показательны слова Полимнестора о фракийцах, «свободу» которых он удерживает «в узде». По словам Мемнона, Полимнестор сам «свои законы преступает». Тираном называет Полимнестора Илиона. В конце трагедии сам Полимнестор говорит, что его мерзостью «гнушается природа» и что его «терпеть не может естество». Горькие слова Ил ионы о неверности, предательстве, жестокости людей передает Драмет, а Мемнон делает из них логический вывод, восклицая: «О сквер¬
111
ная алчба могущества и злата!» Эти слова возвращают нас к трагедии «Тамира и Селим». На иноземном мифологическом материале трагедия «Демофонт» ставит тот же вопрос о коренных причинах общественных неустройств, который был поставлен Ломоносовым в исторической пьесе, написанной на отечественную тему.
Характерно, что обличаемые автором в обеих его трагедиях общественные пороки — одни и те же: стремление к богатству и стремление к власти, причем в обоих случаях для обозначения их силы употребляется одно и то же слово — алчба.
Надир
Несытая алчба имения и власти.
М е м н о н
О скверная алчба могущества и злата!
Эти слова, взятые из разных произведений Ломоносова, выражают задушевные мысли писателя-гуманиста и просветителя, его философию истории. Они объединяют две его трагедии единством идейного пафоса.
Но если «Тамира и Селим» была быстро напечатана и с успехом ставилась на сцене, то судьба «Демофонта» сложилась по-иному. Распоряжение о ее опубликовании было отдано «только в сентябре 1752 года, т. е. примерно через девять месяцев» после окончания работы автора над ней. В «Драматическом словаре» 1787 года говорилось, что «трагедия «Демофонт» не ставилась в театре «не иначе, как за трудности для актеров».
Трагедии ▲. П. Сумарокова
1
Еще до появления «Деидамии» Тредиаковского и пьес Ломоносова с трагедиями, написанными на историческую тему, выступил А. П. Сумароков (1717—1777), справедливо признаваемый отцом русского театра, утвердившим на его сцене классицизм. Сумароков написал девять трагедий: «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1750), «Артистона» (1750), «Семира» (1751), «Димиза» (1758, переделана позднее в «Яро- полка и Димизу»), «Вышеслав» (1768), «Димитрий Самозванец» (1771) и «Мстислав» (1774).
Сумароков был одним из передовых дворян-просветителей XVIII века. Обладая высокоразвитым сознанием гражданского долга, он предъявлял весьма строгие этические требования к представителям своего класса и всего общества. Эти требования распространялись им и на носителей верховной власти. Являясь убежденным «монаршистом», он требовал от монарха неукоснительного исполнения своих обязанностей и закона, не¬
112
устанной заботы о благе всего общества. Идеи просвещенного абсолютизма он соединял с теорией естественного права. Он был горячим патриотом, ставившим интересы государства, благоденствие родины превыше всего.
Любя свой народ, Сумароков глубоко интересовался его историей. С увлечением изучал он ее источники. В письме к историку Г. Ф. Миллеру он писал 2 апреля 1769 года: «Сейчас я завален домашними делами; но это не может погасить жара к древностям моего отечества»1. Этот интерес запечатлен в исторических сочинениях писателя: в работах о первом и втором стрелецких бунтах, «Краткой московской летописи», «Краткой истории Петра Великого», «Сокращенной повести о Степане Разине» и др.
Сумароков обращался не только к печатным источникам, но и к архивным документам, которые ему доставлял историк Г. Ф. Миллер2. Таким образом, Сумароков был еще одним драматургом, сочетавшим создание исторических пьес с писанием трудов по истории и с обращением к рукописным источникам.
Как и Ломоносов, Сумароков придавал большое значение художественному воссозданию отечественной истории. В особом приложении к письму Екатерине II от 23 сентября 1770 года, названном «Что героям потребно ради потомства», Сумароков писал: «Реляции и газеты суть слабые записки славных дел; ибо в них не ощущаются те действия, но только некоторое делают понятию уведомление. История искусного писателя, а особливо когда дела сами собою велики, изображает ясно прошедшее»3. С этим убеждением писателя была связана его деятельность в качестве автора исторических трагедий.
Какова же степень соответствия материала его трагедий историческим данным?
В трагедиях Сумарокова фигурируют не только исторические имена, но и подлинные события, в ряде случаев органично связываемые с вымышленной любовной интригой; в них встречаются, пусть и весьма скудные, исторические реалии, прикрепляющие действие к определенному месту и времени; иногда в них правдиво изображаются обычаи наших предков, хотя нередко в том же произведении этого рода правдоподобие резко нарушается.
В трагедии «Хорев» драматизирован легендарный материал, связанный с основанием Киева. Автор трагедии взял из легенды имена трех братьев: Кия, Хорива (Хорева) и Щека, из которых первые два выступают в качестве действующих лиц. В соответствии с источником Кий назван старшим из братьев, Щек — средним и Хорев — младшим. Вымышленным является
1 Письма русских писателей XVIII века. — Л., 1980. — С. 119.
J Там же. —С. 108, 119, 120.
■ Там же.— С. 144.
8 Заказ 4708
ИЗ
рассказ о том, что Кий сверг с престола Завлоха, отца Оснель- ды, которого история не знает (как не знает она и Оснельды). Все это придумано автором для построения любовной интриги. Придуман и рассказ о смерти Щека при обороне Киева, осажденного Завлохом. Из легенды известно лишь, что все три брата и их сестра Лыбедь умерли в Киеве.
В трагедии упоминается о войне со скифами, сообщается о почитании славянами-язычниками солнца, луны и звезд. Но без всяких оснований говорится о боге любви и’боге брани, об увенчании победителя лавром, о колеснице триумфатора, за которой влекут пленников. Здесь мы видим смешение обычаев древних славян и древних римлян.
Более тесную связь с историческим преданием имеет сюжет трагедии «Синав и Трувор». Героями пьесы являются двое из трех варяжских князей, которых «призвали», согласно летописному рассказу, новгородцы «княжить и володеть» ими. Фигурирует в источниках и имя Гостомысла, являющегося в трагедии отцом героини.
Любовная интрига, которая и здесь является вымышленной, увязывается с невымышленным событием — прекращением междоусобия в результате «призвания» варяжских князей. Излагая в своем «Приступлении к истории Петра Великого» этот эпизод, Сумароков пишет, что Гостомысл, не видя иного способа «утолить мятеж народный», предложил новгородцам «избрать себе государей из князей варяжских». Для того чтобы привязать к этому событию любовную интригу, Сумарокову пришлось по-своему решить вопрос о старшинстве среди князей- братьев. Летопись называет Рюрика старшим среди них, тогда как в трагедии он оказывается младшим. В ней старшим среди братьев является Синав. Ему приписывается основная заслуга в деле прекращения междоусобия, в связи с чем Гостомысл и обещает ему руку своей дочери.
В трагедии есть несколько географических наименований, закрепляющих в сознании зрителя место действия. Кроме Новгорода, в ней названы река Волхов и озеро Ильмень. Говорится о климате этого края, о том, что земля здесь отдана «на жертву хладу». Автор производит имя героини (Ильмена) от названия озера, недалеко от которого она живет. В трагедии специально указывается на эту связь.
Рассказывается в трагедии и о религиозных верованиях ее персонажей. Однако внешняя обрядовая сторона жизни предков представлена искаженно. Грубым нарушением исторического правдоподобия является включение в число действующих лиц трагедии пажа, который приглашает Ильмену «ийти ко алтарю».
Сложный сплав невымышленных фактов с вымышленной любовной интригой представляет трагедия «Семира». В ней действуют исторические лица: «правитель российского престола»
114
Олег, прозванный вещим, и «князь киевский» Оскольд. Сюжет пьесы основывается на летописном рассказе о свержении Олегом обосновавшихся в Киеве князьков Оскольда и Дира, бывших дружинников Рюрика. Взяв из предания основную конфликтную ситуацию, Сумароков дополнил ее вымышленными подробностями. Он сделал вымышленную героиню пьесы Семиру сестрой Оскольда и заставил ее влюбиться в вымышленного сына Олега Ростислава. Чтобы обострить борьбу между долгом и чувством, Сумароков измышляет образ умершего еще до начала действия трагедии отца Семиры (а следовательно, и Оскольда и Дира), которого и свергает с престола Ростислав.
Что касается обычаев и религии предков, то эта сторона их жизни освещается в «Семире», как и в предшествующих ей пьесах, бледно и противоречиво.
Слабее всего ощущается связь драматического действия с исторической действительностью в трагедии «Ярополк и Дими- за». Автор приурочивает его к древнейшему периоду русской истории, но это приурочение является здесь слишком гипотетическим. В трагедии выступает «князь Российский» Владисан, принявший власть непосредственно от Кия. Но такого князя история не знает. Действие этой трагедии лишено исторической основы. Отсутствуют в ней и те реалии, которые имеются (пусть в небольшом числе) в «Хореве», «Синаве и Труворе», «Семире». В ней нет исторических имен (кроме имени Кия), географических наименований, подробностей старинного быта, указаний на верования и нравы. Все в этой пьесе как-то уж слишком абстрагировано. Даже имена вымышленных лиц не вызывают здесь никаких ясных ассоциаций. Но, абстрагируя действие, обрывая связи с историей, автор явно не может отрешиться от мысли об окружающей действительности. В пьесе чувствуется атмосфера придворных интриг, вызывавшая настроение тревоги и неуверенности. Примечательны в этом смысле слова Ярополка: «Превратно все теперь в печальной сей стране».
В трагедии «Вышеслав» опорный исторический материал является настолько скудным и неопределенным, что автор ее имел полнейшую возможность не только строить «на свободе» вымышленную любовную интригу, не прикрепляя ее ни к какому конкретному историческому событию, но и приписывать любые мысли и поступки действующим лицам, взятым из истории. Таким лицом в трагедии является «великий князь Новгородский» Вышеслав, один из двенадцати сыновей Владимира Святославича. Действие пьесы происходит в двух верстах от Искореста, недавно разгромленного Вышеславом во время похода на древлян. Его рассказ об этом нападении, сопровождающемся разрушением города и грабежами, а также о княжеской потехе — охоте, является, пожалуй, единственным в трагедии местом, повествующим о суровой жизни предков. Но и
8*
115
здесь черты реального древнерусского князя заслоняются образом героя классицистической трагедии, страдающего от любви. Стрелы, пускаемые в диких зверей, оказываются в странном соседстве с мифологическими любовными стрелами, поражающими сердце влюбленного:
Скрывался от любви я темными лесами,
И диких у древлян зверей гоняя псами:
Во всех местах любовь со мною там была:
Когда зверей я гнал, любовь меня гнала:
Метал я стрелы в них, она в меня метала,
И стрелы, вздохами моими, исчитала.
Несколько теснее связана с историей последняя трагедия Сумарокова «Мстислав», действие которой происходит в начале XI века. Перелагая слова из «Повести временных лет», Сумароков говорит устами «первого боярина Мстиславова» Бурно- вея:
Владимир разделил Российскую державу,
Дал сей Мстиславу град, дал Киев Ярославу,
А протчи области другим своим сынам.
В трагедии говорится о жестокой междоусобной борьбе удельных князей, на фоне которой рисуются вражда и соперничество Мстислава и Ярослава. Тот же Бурновей рассказывает об убийстве Святополком, прозванным Окаянным, его братьев:
Бориса, Глеба смерть незапная брала,
Убийцу их земля живова пожрала,
Другие князи зря бессильны обороны,
Сложили волею с себя свои короны,
Дабы народы их под сильною рукой,
Имели прежднее блаженство и покой.
Говоря о земле, пожравшей живым Святополка, драматург имеет в виду рассказ летописца об ужасной кончине князя- злодея, явившейся как бы воздаянием за его преступления. Вражда между Мстиславом и Ярославом и их последующее примирение также имеют историческую основу. Заключив мир в 1026 году, братья совершили в 1031 году совместный поход на Польшу. Кроме имен Владимира, Мстислава, Ярослава, подразумеваемого Святополка, в трагедии упоминается имя Рогнеды, сыном которой был Мстислав. В трагедии названы реки Днепр, Ока, города Киев, Тмутаракань.
Авторская идейно-моральная оценка исторических лиц, в общем, не противоречит характеристикам, даваемым им в источниках. Например, стремление автора идеализировать Мстислава до известной степени основывается на том, что, по свидетельству летописцев, он был милостив к народу, любил дружину, отличался религиозностью. Разумеется, драматург не включил в трагедию материалы, говорящие о грубости и жестокости нравов того времени. Ему не понадобился эпизод единоборства Мстислава, прозванного храбрым, с касожским кня¬
116
зем Редедею. По условиям этого поединка победитель (им оказался Мстислав) становился обладателем всего достояния побежденного, включая жену и детей. В летописи имеется яркий рассказ об этом сражении. Помолившись богородице и пообещав ей соорудить в ее честь храм, Мстислав ринулся в бой с Редедей. «И се рек удари имь о землю, и вынзе нож, и зареза Редедю, и шед в землю его, взя все именье его, и жену его и дети его, и дань възложи на касогы».
Невключение этого эпизода в трагедию «Мстислав» является закономерным не только потому, что своими реалистическими деталями рассказ о нем противоречил бы условному образу князя и всему стилю пьесы, но и потому, что он не нужен был для любовной интриги. В угоду этой последней Сумароков отступил, как и в «Синаве и Труворе», от летописного свидетельства. Летопись приводит слова Мстислава, в которых отмечается старшинство Ярослава. «Сяди на своем столе Киеве,— говорит в ней Мстислав Ярославу, — ты еси старейший брат». В трагедии же, наоборот, говорится, что Мстислав «вшел поранее во свет». «Не брата зрю в тебе, — говорит ему Ярослав,— я зрю в тебе отца». Сделав Мстислава старшим братом, Сумароков подчеркнул его благородство, выразившееся в том, что в конце трагедии он добровольно отказывается, пренебрегая правом старшего, от притязаний на руку и сердце Ольги в пользу младшего брата.
Из всех трагедий Сумарокова наиболее близкой к истории является трагедия «Димитрий Самозванец». Эта относительная близость, безусловно, объясняется тем, что в ней изображались события сравнительно недавнего прошлого, о которых рассказывалось во многих печатных и рукописных исторических сочинениях. Сумароков, несомненно, был знаком с некоторыми из них.
В трагедии Сумарокова на первый план выдвинуты изменнические действия Самозванца, вступившего в сговор с римским папой и с поляками. Недаром трагедия начинается религиозно-философским спором об истинной православной вере и «лжесвятости» папы, который ведут Димитрий и его наперсник Пармен, выражающий точку зрения автора. Эта тема развивается в трагедии и дальше, приобретая по мере развертывания действия все больший и больший драматизм. Ее подхватывают во втором акте в своих монологах Георгий, обращающийся к богу с мольбой отвести «от россов» «ужас сей», и Ксения, которая говорит:
О небо, удали свирепство папской власти,
А с ним и Ксении несносные напасти;
Дабы свою главу Россия подняла...
Борьба с папизмом показывается и прослеживается в пьесе различными средствами, одним из которых являются упоминания' о патриархе Игнатии, греке по происхождению, бывав¬
117
шем прежде в Риме, тайно сочувствовавшем римскому папе, а после и явно принявшем унию. Будучи при вступлении Самозванца в Россию архиепископом в Рязани, Игнатий первым из представителей высшего духовенства признал Самозванца, за что и был возведен в патриарший сан. Сей патриарх, «пап- ствуя», занимался распространением «ересей». Однако устами Георгия в трагедии говорится, что эта деятельность Игнатия находила отпор со стороны представителей духовенства, сохранявших верность православию («Еще Игнатию противоста- ти смеют»). Иное соотношение сил отмечается в 4-м действии. Положение Самозванца стало совсем шатким, что вызвало своеобразную реакцию со стороны патриарха:
Игнатий патриярх во ересях дрожал:
И се лукавый муж из града убежал.
Борьба за недопущение господства римского папы в России связывается в трагедии с европейскими делами. Устами Пармена отмечается ослабление влияния папы в Европе:
Сложила Англия, Голландия то бремя И полгермании: наступит скоро время,
Что и Европа вся откинет прежний страх.
И с трона свержется прегордый сей монах...
Здесь все соответствует фактам. В результате разрыва английского короля Генриха VIII с папой в Англии установилась полукатолическая, полупротестантская церковь, представлявшая собой особую форму протестантизма. Успешная борьба против испанского владычества и господства католической церкви велась в Голландии в эпоху Нидерландской революции. Наконец, в Германии Аугсбургский религиозный мир 1555 года поделил страну на протестантские и католические княжества на основе принципа: «Чья страна, того и вера», отсюда и слова о «полгермании», освободившейся от бремени католицизма.
Не довольствуясь оценкой положения в Европе, Сумароков обращается в связи с интересующим его вопросом к странам Нового света. Говоря устами Георгия о том, что «страждет Новый свет», Сумароков имеет в виду Мексику, завоеванную и разоренную представителями католической Испании. С горестью и возмущением рассказывает Георгий о том, как «паписты», обагрили кровью всю землю Мексики. Такая же участь ждет, по словам Георгия, и Россию, если она не пресечет изменническую деятельность Самозванца.
Таким образом, политическая тема, художественно трактуемая в трагедии Сумарокова, разрабатывается им с привлечением материала из истории ряда государств, расположенных на территории двух континентов. Рассматривая события национальной истории на фоне истории всемирной, Сумароков продолжал традицию, установившуюся в русской историографии и драматургии еще в конце XVII века. Сопоставляя оте¬
118
чественную историю с историей европейской и всемирной, автор преимущественное внимание уделяет вопросам религии, нравственности и политики.
В трагедии «Димитрий Самозванец» имеется ряд исторических реалий, до известной степени ориентирующих ее действие в историческом времени и пространстве. К числу таких реалий относятся упоминаемые в ней имена исторических лиц: Бориса Годунова, Ивана IV, папы Климента VIII, патриарха Игнатия и др. Некоторые из этих лиц снабжены краткими характеристиками, в общем не расходящимися с той оценкой, которую давали им историки и сам Сумароков в своих исторических трудах. Например, «злонравный Годунов» назван в трагедии «тираном», а об Иване IV сказано (устами лукавого Шуйского), что он хоть и «грозен», но «праведен».
Одно из имен, называемых в трагедии, обращает нас к давним временам уделов. О князе Георгии Галицком в трагедии сказано, что он являл собою «отрасль Константина». Упоминание о Константине включает в орбиту действия пьесы еще одну страну — Византию. Разумеется, в трагедии много говорится о Польше и поляках.
Из городов России в трагедии фигурируют Углич и Москва. Упоминание об Угличе в произведении, посвященном Лже- димитрию I, является естественным и закономерным. Часты упоминания о Москве: действие происходит «в Кремле, в царском доме». Но совершенно необычными являются для классицистической трагедии та относительная конкретность описаний Москвы и тот глубокий лиризм ее восприятия и освещения в пьесе, за которыми стоит совершенно незаурядное знание прошлого и настоящего Москвы и исключительная по своей силе и глубине авторская любовь к ней. Читая «Димитрия Самозванца», постоянно вспоминаешь уникальную по своему замыслу сумароковскую «Краткую московскую летопись», в которой сделана попытка представить историю целого государства через историю его столичного города1.
В пьесе место действия не только обозначено, но и образно закреплено. В трагедии рисуется необычайно конкретный для классицистического произведения образ Москвы, с ее Кремлем, храмами, улицами и площадями. Деталями общей картины являются «стены градские и башни», «верьхи златые храмов», «торжественный» «во граде звон», ведущие «во град дороги «и протекающи меж гор потоки...». Не менее ярко рисуется в трагедии образ Подмосковья, «села близкия» «и рощи», «чистые луга».
Чувства, вызываемые мыслью о Москве, отнюдь не являются одинаковыми для всех персонажей пьесы. У Ксении и
1 О глубоком интересе Сумарокова к истории Москвы свидетельствуют также его сочинения: «О первоначалии и созидании Москвы», «Слово на заложение Кремлевского дворца», «О пребывании в Москве Монброна».
119
Георгия их отношение к Москве и ее окрестностям связано с их взаимной горячей любовью. Что касается Шуйского, то в его отношении к Москве доминирует желание спасти «престольный град», избавить от врагов «отечество». Совершенно иные чувства вызывает мысль о Москве у Димитрия. Димитрий боится этого города и одновременно ненавидит его. Он признается, что «Кремлевы стены» устрашают его, вещая ему повсечасно о том, что он является врагом и им и «всей стране». По мере развертывания действия трагедии чувство ненависти Димитрия к Москве и ее обитателям все более и более усиливается и превращается в желание злодейски расправиться с городом, уничтожить его, предать огню.
В трагедии «Димитрий Самозванец» Москва выступает не только в виде фона, на котором развертывается действие, но и в качестве своеобразного действующего лица. В пьесе постоянно говорится о растущем недовольстве горожан поведением Димитрия и поляков. Д. Д. Благим справедливо отмечена «та довольно значительная роль, которая отводится и в фабуле, и в развязке «Димитрия Самозванца» «народу». Исследователь видит в «народе» сумароковского «Димитрия Самозванца» слабый зародыш и отдаленное предшествие пушкинского народа «Бориса Годунова»1. Но «народ» сумароковской трагедии — это народ Москвы, в борьбе с которым погибает Димитрий Самозванец. По концепции политической трагедии Сумарокова население Москвы, в состав которого, по воззрениям автора, входят «дворянство и народ», символизирует всю страну, отечество.
В трагедии «Димитрий Самозванец» в основном верно воспроизводится последовательность событий, приведших к падению Лжедимитрия I. Уже в начале пьесы Димитрию докладывают о том, что «смущается народ и все волнуются как бурей токи вод». Причиной волнений является покровительство Димитрия полякам, бесчинствующим в Москве, и его намерение ввести в России «закон» «церкви западной», а также распространившийся в народе слух, что Димитрий является самозванцем. В пьесе правдиво, хоть и очень кратко, рассказывается о жизни Лжедимитрия, о том, что он бежал из монастыря («из общества монашеска ушел»), нашел «себе убежище» и невесту «в Польше» и, наконец, пробрался («дошел обманами») «к престола царска месту». Все это предрешило падение самозванца, неизбежность которого постоянно (и с большим искусством) подчеркивается в пьесе2.
1 Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. — М., 1945, С. 164.
2 Его предчувствует сам Димитрий, говорящий уже в конце второго действия:
Не твердо на главе моей лежит венец,
И близок моего величия конец.
120
В трагедии показано нарастание драматизма, связанного с ростом негодования восставшего народа, причем автор искусно использует выразительные подробности, фугурирующие в источниках. Одной из них является сообщение о набате, возвещающем о восстании. Звон набатного колокола повергает Димитрия в смятение:
В набат биют! Сему биенью что причина?
(Востает.)
В сей час, в сей страшный час, пришла моя кончина.
Действие в конце пьесы развивается стремительно. Вошедший начальник стражи сообщает о том, что уже «весь Кремль народом полн, дом царский окружен... Вся стража сорвана...». В последнем явлении народ, в лице воинов, оказывается на сцене. Как и в действительности, Димитрий погибает. В «Краткой московской летописи» Сумароков говорит о бесславном конце Лжедимитрия I: «Вся Россия на пришедшего из Польши злочестивца возволновалася и под предводительством Шуйского свергла его с престола; а Шуйский застрелил его из пистолеты своею рукою». Разумеется, домысел об убийстве Лжедимитрия Шуйским «из пистолеты» не соответствует действительности. Известно, что самозванец был убит Валуевым. Но Сумароков не мог воспользоваться ужасными подробностями гибели Самозванца, которые, видимо, были ему известны, так как их воспроизведение находилось бы в явном противоречии с условиями классицистической сцены. В его трагедии Димитрий, являющийся злодеем, кончает жизнь самоубийством. Он «ударяет себя во грудь кинжалом». Конечно, этот традиционный для классицистической трагедии способ наказания героя-злодея лишь условно (с учетом законов жанра) соответствует финалу жизненной драмы Отрепьева, но важно, что драматург не погрешил против истины, закончив все же трагедию смертью Самозванца.
Характерно, что в трагедии «Димитрий Самозванец» даже вымышленная любовная интрига согласуется с лежащими в основе ее содержания историческими событиями, причем это согласование является в данном произведении более полным, чем в других пьесах драматурга. Обращает на себя внимание зависимость любовной интриги пьесы от исторической судьбы Димитрия Самозванца. Как и в трагедии Ломоносова «Тамира и Селим», в «Димитрии Самозванце» благополучный для положительных персонажей пьесы финал предопределяется гибелью тирана, закономерно завершающей развитие исторического сюжета. Можно сказать, что в обеих пьесах сама история покровительствует положительным героям, личное счастье которых оказывается простым результатом гибели героев-злодеев, оскорблявших и угнетавших целые народы.
В трагедии «Димитрий Самозванец» даже такой условный, переходящий из пьесы в пьесу сюжетный ход, каЯ" угроза рас¬
121
правиться с близкими героя или героини, применяемая входе борьбы отрицательным персонажем, оказывается имеющим реальное историческое основание. Речь идет о решении Димитрия казнить Шуйского. В конце 4-го действия пьесы Шуйского по распоряжению Димитрия берут под стражу и ведут на казнь, которая, однако, не была совершена над ним. Это соответствует решению Лжедимитрия I предать Шуйского казни, отмененной им в последнюю минуту.
В трагедии «Димитрий Самозванец» изображение характеров и поведения исторических лиц—Василия Шуйского и Лжедимитрия I — не расходится с их освещением, содержащимся в источниках. Изображая Шуйского, Сумароков подчеркивает его лукавство и хитрость. Именно таким рисуют его источники, что отразилось и в исторических сочинениях самого Сумарокова. Говоря в своей «Краткой московской летописи» о борьбе Шуйского с Самозванцем, Сумароков замечает: «Шуйской, ища и своего щастия, ухитрился на него (Самозванца.— В. Б.)...» И дальше о Шуйском: «...Он же был очень лукав...» Кратко и выразительно характеризует Шуйского Сумароков и в сочиненной им игре «Наставление младенцам: мораль, история и география»: «муж хитрый». В трагедии хитрость и лукавство Шуйского оправдываются его же устами ссылкой на тираническое правление Самозванца.
Уклончивость, притворство, хитрость соединяются у Шуйского, изображенного в трагедии, с гражданской доблестью и смелостью. Он готов умереть за отечество. Оставшись наедине с самим собой, Шуйский говорит:
Спасу престольный град, отечество избавлю:
Умру, но имени бессмертие оставлю.
Трудно сказать, увидел ли Сумароков в историческом Шуйском ту силу характера, которую отметили в нем, рисуя его образ, А. С. Пушкин (в трагедии «Борис Годунов») и А. Н. Островский (в хронике «Димитрий Самозванец и Василий Шуйский»). Скорее всего, решительность, твердость, властность сумароковского Шуйского воспроизводят традиционные черты положительного героя классицистической пьесы, запечатленные, кстати сказать, и самим Сумароковым в ряде его трагедий. Образ Шуйского у Сумарокова двоится: «лукавый царедворец» сосуществует в этом образе с решительным и пылким гражданином, самоотверженным патриотом, не образуя с ним органического единства. Если Пушкин, подметивший в историческом Шуйском причудливую смесь разнообразных черт, создал сложный, но цельный образ — характер, то в трагедии Сумарокова этой цельности образа нет. Нет, в сущности говоря, и характера в настоящем понимании этого слова. Есть однако «живость», появление которой в литературе исследователи связывают с новыми явлениями в общественной и культурной
122
жизни страны, обозначившимися во второй половине XVII века.
Показательно, что эта «живость» идет в данном случае от исторического прототипа, фигурирующего в повестях и сказаниях первой половины XVII века о «смутном времени», впервые запечатлевших, по утверждению О. А. Державиной и Д. С. Лихачева, характеры исторических лиц. В предыдущем изложении не раз отмечалось наличие подобной «живости», например в пьесах, создававшихся на основе библейских сказаний. У Сумарокова она основывается на материалах исторических, знаменуя вторжение истории в такой абстрактный и условный жанр, каким является классицистическая трагедия. Соответствуя историческим данным, сумароковский Шуйский не разошелся и с наиболее авторитетными позднейшими воплощениями данного исторического лица в произведениях драматургии1.
Характерно, что сумароковская трактовка образа Шуйского в одном важном отношении очевидным образом была продолжена Островским. В трагедии Сумарокова Шуйский стремится усыпить бдительность Самозванца, уверяя его в том, что «черни шум» всего лишь «звук пустой», что престол его тверд, что против него поднимают «роптанье» лишь «тати, пияницы, а протчия все любят» своего царя. Одновременно Шуйский побуждает Самозванца к действиям, способным лишь усилить недовольство народа. Он говорит, что гнев Самозванца «праведен», а лютость его вызвана обстоятельствами: «по нужде днесь ты лют, но будешь милосерд». Такого же Шуйского, во всем поддакивающего Самозванцу в целях его быстрейшей дискредитации, покажет потом А. Н. Островский. Интересно, что у обоих драматургов оружием Шуйского в его борьбе с Самозванцем является не только правда, но и заведомая ложь. «Не мни, чтоб истинну злодею я открыл», — говорит в трагедии Сумарокова Шуйский своей дочери: — Обманывай его, притворствуй сколько льзя». Он убежден в том, что «истина должна до времени молчать». Придет время, и она послужит общему делу. О таком же использовании правды и лжи в качестве сильнейшего оружия в политической борьбе говорит и Шуйский А. Н. Островского.
«Живости», присущей сумароковскому Шуйскому, недостает сумароковскому Димитрию, в основном являющему собой тип злодея классицистической трагедии. Те отступления от традиционной схемы, которые имеются в обрисовке этого персонажа, имеют своей основой не реальные черты исторического
1 «Большой удачей» считает образ Шуйского, созданный Сумароковым, Б. Н. Асеев. Исследователь полагает, что этот образ является как бы предвестием образа «лукавого царедворца» из «Бориса Годунова» Пушкина (Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. — М, 1977. —С. 209).
123
прототипа, придающие образу «живость», а воздействия совершенно иного порядка. Сумароковский Димитрий, постоянно называющий себя злодеем, ненавидит московский народ, Россию, все человечество, «вселенну». («Ах, есть ли бы со мной погибла вся вселенна!» — восклицает он в конце пьесы.) Такое сгущение отрицательных черт в образе Самозванца в целом соответствует той оценке, которую дают русские источники деятельности «пришедшего из Польши злочестивца». Не расходится с этой оценкой и та характеристика Лжедимитрия I, которая содержится в сумароковской «Краткой московской летописи».
Б. Н. Асеев отмечает довольно большое приближение к истории в трагедии Сумарокова «Димитрий Самозванец», в которой он усматривает «элементы историзма»1. Подобную же мысль высказывает Г. Н. Моисеева. Говоря об относительно полном соответствии материала трагедии Сумарокова «Димитрий Самозванец» историческим данным, исследовательница справедливо замечает, что «это был один из первых «прорывов» элементов «историзма» в драматургии XVIII века, «прорыв», который приведет к подлинному историзму Пушкина...»2.
2
Рассмотрев вопрос об отношении трагедий Сумарокова к истории, обратимся к анализу их идейной проблематики и стиля. В идейном содержании трагедий Сумарокова и во всем их стилистическом строе с одинаковой силой отразилось своеобразное сочетание традиций и новаторства, присущее его драматургии. Развивая лучшие традиции отечественной литературы и театра, Сумароков обогатил их политическими, философскими, этическими идеями и представлениями своего времени, которые он выразил в новой для тогдашней России эстетической форме.
Сумароков продолжил и углубил начатую еще драматургами конца XVII века разработку образов идеального царя и ца- ря-тирана с позиций просвещенного абсолютизма. Вслед за своими предшественниками он выдвигал мысль о необходимости неукоснительного соблюдения законов самими монархами («те люди, коими законы сотворены, закону своему и сами покоренны», — говорится в трагедии «Хорев»).
Подобно драматургам конца XVII —начала XVIII века, он утверждал, что царь должен быть отцом своих подданных, заступаться за слабых, защищать вдов и сирот («...покровом будь сирот, прибежищем вдовицы, яви ты истинну под именем
1 Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. —М., 1977. —С. 209.
2 Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. — Л., 1980. — С. 171.
124
царицы», — наставляет Гостомысл Ильмену в трагедии «Синав и Трувор»). Как и лучшие драматурги предшествующих лет, Сумароков решительно выступает против обожествления личности царя. В его трагедиях земными богами признают царей одни лишь отрицательные персонажи (Полоний в «Гамлете», Димитрий в «Димитрии Самозванце»). «Он бог, не человек..., — говорит о царе Полоний, — и нет ему закона». Наоборот, Гертруда утверждает, «что он в величестве такой же человек».
Подчеркивая земное происхождение власти монарха, являющегося простым смертным, Сумароков не придавал никакого значения царской «породе», высокому царскому «сану», принципу «законного» наследования престола, основывающемуся на принадлежности претендента к царствующей династии. Это убеждение драматурга очень ясно выражено в трагедии «Димитрий Самозванец», где неоднократно подчеркивается, что зло царствования Димитрия заключалось не в том, что он был самозванцем, а в его дурном правлении.
Когда б не царствовал в России ты злонравно,
Димитрий ты, иль нет, сие народу равно, —
говорится в трагедии устами наперсника Димитрия Пармена. В другом месте тот же Пармен говорит:
Пускай Отрепьев он; но и среди обмана,
Коль он достойной царь, достоин царска сана.
Но пользует ли нам высокий сан един?
Пускай Димитрий сей монарха росска сын;
Да есть ли качества в нем оного не видим,
Так мы монаршу кровь достойно ненавидим.
Весьма выразительны эти слова о достойно ненавидимой крови дурного мойарха, много раз звучавшие со сцены и неоднократно предававшиеся типографскому тиснению в самодержавном деспотическом государстве, где «хороших» царей были считанные единицы.
В трагедиях Сумарокова представлена целая галерея пра- вителей-тиранов, гневно осуждаемых автором. Ее открывает датский король — узурпатор престола Клавдий, фигурирующий в сумароковском «Гамлете». Черты тирана явственно запечатлены в образе Синава, выведенного в трагедии «Синав и Трувор». Недаром французский критик, разбирая эту пьесу, замечает в связи с осуждением тиранических поступков Синава его братом Трувором, что ее автор «при сем случае» «храбро ополчается против неправды и свирепости, пороков ненавистных, в которых многие часто обвиняли самодержавное правление...». Не лишен замашек тирана и Владисан, изображенный в трагедии «Ярополк и Димиза». Самое сильное разоблачение правителя-тирана, проявляющего свой свирепый нрав как в делах любви, так и в обращении с боярами и народом, дано в трагедии «Димитрий Самозванец».
125
Царям-тиранам Сумароков противопоставляет государей, преисполненных сознанием своих высоких обязанностей. Таким является Вышеслав, герой одноименной трагедии, которого характеризуют строгое выполнение своего долга и необычайная требовательность к себе. Выполняя данное им обещание, Вышеслав, любящий Зениду, настаивает на ее браке с Любо- чсстом. Даже совершенный Любочестом поступок (он организовал восстание, закончившееся поражением «бунтующих полков») не приводит к пересмотру решения*, принятого Выше- славом. Только добровольный отказ раскаявшегося Любочеста от притязаний на руку Зениды, любящей Вышеслава, меняет положение дела. Такое изображение правителя, умеющего смирять свои страсти, являлось, в сущности, укором современным царям, все поведение которых находилось в разительном противоречии с нравственными убеждениями и поступками Вышеслава.
Сумароков с особой силой выдвигал встречавшуюся и у прежних драматургов мысль о том, что, поддаваясь влиянию страстей, монарх становится тираном. С наибольшей отчетливостью эта мысль прозвучала в переработанном в 1768 году монологе Кия из трагедии «Хорев»:
Во всей подсолнечной гремит монарша страсть И превращается в тиранство строга власть.
Впоследствии, на новом этапе развития драматургии, эта сумароковская мысль о превращении строгой власти монарха, подверженного влиянию страсти, в «тиранство» разовьется в отрицание и критику самодержавного правления. Сумароков был еще далек от такого отрицания, о чем красноречиво свидетельствует хотя бы тот факт, что даже в наиболее критической в отношении показа самодержавного произвола («тиранства») трагедии «Димитрий Самозванец» монархический способ правления утверждается им как наиболее подходящий для России. Но если Сумароков, выражая такую убежденность, в принципе не расходился со своими предшественниками, то, безусловно, новым является высказываемое им в том же «Димитрии Самозванце» (впервые оно было высказано им в «Гамлете») суждение о закономерности и необходимости свержения тирана с престола:
Народ, сорви венец с главы творца злых мук;
Спеши, исторгни скиптр из варваровых рук:
Избавь от ярости себя непобедимой,
И мужа украси достойна диадимой!
Гневно обличая царей-тиранов, прославляя монархов идеальных, Сумароков проявлял независимость от официозной точки зрения. В этом отношении он отличался даже от лучших драматургов последней трети XVII — первой половины XVIII века, не выходивших в своих пьесах за пределы официальной идеологии.
126
Характерно, например, что Симеон Полоцкий считал недопустимым открыто поучать царя Алексея Михайловича, ограничиваясь лишь поучениями, которые он давал своему юному воспитаннику — будущему царю Федору Алексеевичу. Подобным же образом и Феофан Прокопович оставался как писатель и драматург в рамках тех задач, которые были выдвинуты реформами Петра I. Поскольку эти задачи были весьма широкими и носили прогрессивный характер, постольку участие в борьбе за их осуществление открывало Феофану Прокоповичу широкие возможности для раскрытия его яркого и многостороннего дарования.
Положение изменилось в середине и особенно во второй половине XVIII века, когда в очень сложной внутренней и международной обстановке происходило формирование общественного мнения, не совпадающего с точкой зрения официальных кругов.
В формировании этого мнения видную роль сыграли трагедии Сумарокова.
В отличие от Симеона Полоцкого и Феофана Прокоповича, в основном прославлявших царей, Сумароков поучал их и подвергал критике.
С годами эта критика, звучавшая в его трагедиях, усиливалась, а поучения становились более развернутыми и публицистически заостренными. Трагедия Сумарокова приобретали отчетливо оппозиционную идейную направленность и ярко выраженный политический характер.
Уже в ранних трагедиях Сумарокова появляется тема народа. Рисуя царей-тиранов и противопоставляя им царей добрых, Сумароков указывает, что тираны не любят и презирают народ и пользуются таким же нерасположением с его стороны, тогда как правители добрые заботятся о народе и пользуются его поддержкой и симпатией. Так, тиран Клавдий выступает в качестве правителя, которого не любит народ. «Ты в ненависти»,— говорит Клавдию Гертруда, характеризуя отношение к нему народа. Сам Клавдий говорит: «Рабы не чувствуют любви ко мне, лишь страх». Наоборот, Гамлет «любим в народе», он — «надежда всех граждан». Подобные же характеристики дает Клавдию и Гамлету в связи с темой народа Офелия. О Клавдии она говорит, что, с тех пор как этот «тиран» «на дацкий трон вступил», он не проводил ни одного дня «без казни». Его горделивое сердце ни к кому не склонялось жалостью, а его гнев никогда не был справедливым гневом. В связи с такой характеристикой Клавдия в трагедии получают глубокую мотивированность многократно повторяющиеся в ней слова о необходимости избавить народ от «бремени», наложенного на нега тираном.
127
В трагедии речь идет не только о наказании узурпатора, добившегося престола путем убийства законного царя, но и об освобождении народа от власти тирана. Именно такая двуединая задача выдвинута перед Гамлетом устами явившегося ему во сне покойного отца: «Отмсти, отмсти тирану и свободи граждан». Что касается Гамлета, то его Офелия характеризует как человека, «любима царством всем». Постоянно думает о народе и Гамлет. Характерно, что он отвергает мысль о самоубийстве, вспомнив о народе, который, оставшись’ под «тяжким бременем», осудит своего заступника за малодушие. В монологе Офелии, в котором говорится об отношении народа к Гамлету, содержатся выразительные слова «глас народа», уже не в первый раз звучащие в произведениях русской драматургии.
В трагедиях Сумарокова часто идет речь о народных восстаниях, что, по верному наблюдению П. Н. Беркова, связано «с его пристальным интересом к революционным моментам русской истории XVII века», запечатленным в его исторических сочинениях. О победоносном восстании, происходящем, правда, за сценой, говорится в трагедии «Гамлет». «Уже народный низпали бремена», — возвещает Гамлет, появляясь на сцене вместе со своим наперсником Армансом «и с воинами». Еще более яркий рассказ о народном восстании, также закончившемся победой восставших, содержится в финале трагедии «Димитрий Самозванец».
В некоторых трагедиях Сумарокова разрабатывается тематика заговора, организуемого с целью подготовки восстания и свержения тирана. Так, в «Гамлете» Армане говорит «мамке Офелииной» Ратуде, что «все предприятия» Гамлета, направленные на то, чтобы «свой скипетр взять» «и из под бремени народ свой извести», будут «тщетны», «доколь с ним истинна народ не съединит». По сути дела, наперсник Гамлета выступает в качестве опытного заговорщика, понимающего, что на пути к осуществлению цели заговора стоят «препятствия без- сметны», и проявляющего должные выдержку и терпение. Он сообщает, что уже открыл «множеству народа» столь страшную врагам Гамлета «истину» и велел под присягой хранить ее в тайне («и силою присяг в них тайну заключил»). Арманса тревожит лишь то, что «разгневанный» Гамлет «терпение теряет».
По мнению наперсника, Гамлет своей нетерпеливостью может повредить делу тайно подготовленного восстания. Эта нетерпеливость героя показана в пьесе. В 3-м явлении 3-го действия трагедии Гамлет появляется «с обнаженною шпагою». Он ищет «мучителей», чтобы умертвить их. Об этом рассказывает (в следующем явлении) Армане Ратуде, говоря, что, по счастью, для самого Гамлета и для его противников («несчастье их еще от них бежало»), «мучители» не встретились ему. Из разговора видно, что такой исход выходки Гамлета собеседники счи¬
128
тают благоприятным и для подготовляемого восстания. Вклю- чив в трагедию сцены, содержащие эти действия и разговоры, Сумароков тем самым отчетливо показал, что успешное восстание народа явилось результатом тщательно подготовленного тайного заговора.
Тема заговора разрабатывается Сумароковым и в «Димитрии Самозванце». Примечательно, что и здесь в качестве главного оружия заговорщиков выступает истина, которую нужно соединить с народом. Уже в первом действии трагедии Шуйский восклицает: «Возникни истинна к народной обороне!» В этой пьесе тема заговора развертывается подспудно, заслоняемая любовной интригой. Но и сама любовная интрига оказывается здесь неразрывно связанной с подготовляемым заговором. Советы, даваемые Шуйским Георгию и Ксении, воспринимаются как часть его заговорщицкой тактики.
В трагедии «Димитрий Самозванец» разрабатывается сюжетная схема, основу которой составляет выступление патриотически настроенных заговорщиков из среды дворян-аристокра- тов против царя-тирана, угнетающего собственный народ с помощью иноземцев. Глубоко сочувствуя народу и пользуясь его поддержкой, заговорщики освобождают страну от власти тирана и засилья иноземцев. Подобная схема станет весьма популярной в драматургии начала XIX века, в которой она будет выражать преддекабристские и декабристские настроения.
Говоря о продолжении и развитии Сумароковым лучших традиций прогрессивной русской драматургии, необходимо остановиться на осуждении и разоблачении им грабительских и захватнических войн. Характерно, что Сумароков отнюдь не восхищался деятельностью великого полководца Александра Македонского. Критически относясь к деятельности Александра Македонского, Сумароков перекликался с негативной оценкой этого исторического героя, встречающейся в произведениях школьной драматургии первой половины XVIII века.
Подобно Ломоносову и другим передовым писателям, Сумароков выступал в своих пьесах страстным поборником мира между народами и государствами. Одновременно с Ломоносовым, прославлявшим мир и тишину в знаменитой оде 1747 года «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны», Сумароков горячо ратовал в трагедии «Хорев» за сохранение мира, рисуя устами главного героя ужасы войныз
Колико в снедь зверям отцов, супругов, чад,
Повержено мечем? Колико душ взял ад?
Когда на жертву нас злой смерти долг приносит,
Помрем, но жертвы сей теперь она не просит.
Выступая против поэтизации захватнических войн, Сумароков указывал на извращение понятий, в результате которого месть отождествляется с защитой, а грабеж и убийство выдаются за геройство.
9 Зак:м 4703
129
Осуждая войны грабительские, завоевательные, Сумароков признавал войны освободительные. Он заявлял, что «похвально только защищение, а не нападение». Последнее признавалось им лишь «по предусмотрению готовящегося... от стороны соседа беспокойства и бещастия». С войной за освобождение родины от чужеземного ига и связан в трагедиях Сумарокова характерный для них патриотизм.
Патриотический пафос трагедий Сумарокова с наибольшей силой выражен им в героических женских образах, создавая которые он достойно продолжил лучшие традиции драматургии предшествующего времени. Интерес к героиням русской истории Сумароков проявлял не только в своих художественных произведениях, но и в исторических трудах. Сумароков-историк неизменно отмечает факты участия женщин в исторических событиях. Например, говоря об общественном управлении у древних новгородцев, он сообщает, что «некогда бургомистром была у них женщина, которой имя и поныне прославляется. Она называлась Марфа Посадница». В работе о первом стрелецком восстании содержится яркая характеристика Софьи Алексеевны. В ней же нарисован выразительный портрет царицы Натальи Кирилловны. К числу наиболее ярких женских образов, созданных Сумароковым-трагиком, относятся Артистона, Семира, Ксения. Все они проявляют незаурядное мужество, героизм. О поведении Артистоны, готовящейся ради спасения жизни любимого человека стать женой нелюбимого ею Дария, в пьесе говорится, что такой поступок «не дев, и не мужей, одних героев дело». Желая сражаться с врагами, Семира просит брата оставить ее в своем войске. «Среди воинска гнева» он увидит ее «не почитаему ни от кого женой, текущую с мечем...». Героическим является и образ Ксении в «Димитрии Самозванце». Сумароков так построил сюжет своей трагедии, что в самый напряженный момент перед героиней ставится дилемма: погибнуть самой или спастись ценой гибели Москвы. «За град отеческий вкушай, княжна, смерть люту!» — восклицает Шуйский. Лишь гибель самого Димитрия спасает Ксению от смерти за родной город.
В героических женских образах, созданных Сумароковым, отражены высокие достоинства русских женщин. Женские образы, созданные Сумароковым, были завещаны ему древностию — прошлым его собственного народа.
Рисуя женские образы, Сумароков затрагивает в своих трагедиях тему семейного деспотизма. Уже в трагедии «Синав и Трувор» Гостомысл сетует на то, что пришедшие «беды» сделали его «тираном из отца». Еще определеннее высказывается на эту тему сама Ильмена, сетующая на то, что отец не захотел посчитаться с ее волей. Она заявляет, что отец дал обещание Синаву выдать дочь за него, «не вопросив» ее. В трагедии «Ярополк и Димиза» о неестественности и возмутительности
130
насильственного брака говорится устами Димизы. Характерно, что сам Силотел не согласен быть спасенным ценой насильственного замужества дочери. В отстаивании женских прав, в осуждении насильственных браков и семейного деспотизма Сумароков сближался с Ломоносовым.
Таковы основные черты передовой идейности трагедий Сумарокова, сложившейся на основе творческого развития традиций, сочетаемых с новаторством. Подобное же сочетание традиционного и новаторского наблюдается и в самой художественной структуре его исторических пьес.
Сумароков первым ввел жанр классицистической трагедии в русскую литературу, явившись в этом смысле несомненным новатором. Новизна жанра, к которому обратился драматург, заслонила от современников и представителей последующих поколений преемственную связь его пьес с русской драматургией и театром конца XVII — начала XVIII века. Известный актер И. А. Дмитревский, с успехом выступавший в трагедиях Сумарокова, отмечал отсутствие у драматурга «хороших предшественников», опытом которых он мог бы воспользоваться. По словам Дмитревского, «наш Сумароков имел путеводителем одного себя и свое сердце»1. Тем не менее советские ученые указывали на связь трагедий Сумарокова с предшествовавшей русской драматургией. Отметив смелое новаторство Сумарокова- драматурга, Г. А. Гуковский в то же время констатировал наличие в первом драматическом произведении Сумарокова «Хорев» «элементов внешней сюжетности, пришедших в него, может быть, из авантюрной повести, через драму школьного типа». «Иначе говоря, — заключает исследователь, — «Хорев» имеет еще следы доклассической русской драматургии, являясь как бы переходным произведением от традиции петровского театра к новому искусству»2. О некоторых чертах сходства трагедий Сумарокова, их содержания и формы, с произведениями старинной русской драматургии говорит и Б. Н. Асеев* 3. Рассказывая об известной близости трагедий Сумарокова к драматургии первой половины XVIII века, исследователи исходят из того, что будущий автор «Димитрия Самозванца» с ранних лет был знаком с репертуаром русского театра. Сам драматург замечает, что еще в детстве «бывал на комедиях, смотрел Александра и Людовика, Париж и Вену и другие комедии...».
Не только в «Хореве» и других ранних трагедиях, но и в драматических произведениях, написанных в конце 50-х годов («Новые лавры», «Прибежище добродетели»), Сумароков
* Дмитревский И. А. Слово похвальное А. П. Сумарокову. — СПб., 1807.— С. 14, 15.
С У к 0 в с к 1111 П А. Русская литература XVIII века. — М, 1939.—
3 См.: Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. —М., 1977. —С. 187.
9*
131
пользуется художественными средствами, употреблявшимися авторами школьных драм. В прологе «Новые лавры», напоминающем панегирические пьесы эпохи Петра I, фигурируют характерные для школьных драм аллегорические персонажи — Истина, Минерва, Аполлон, Нептун, Марс. Как и пьесы, посвященные победам, одержанным Россией при Петре I, данный пролог посвящен «преславной победе, одержанной российским войском 1759 года, августа в 1 день при Франкфурте». В балете «Прибежище добродетели», текст для которого написан Сумароковым, выступают гении Европы, Азии, Африки, Америки. Устами этих аллегорических персонажей, а также устами Добродетели даются характеристики народов, населяющих названные части света. Эти характеристики весьма близки к тому, что говорилось обычно о Европе, Азии, Африке и Америке в пьесах первой половины XVIII века: Европа прославляется как обиталище наук и как место, где покоится прах великих мужей, Азия характеризуется как носительница древней цивилизации и т. д. и т. п. Однако современное состояние чуждых стран, подпавших под тлетворное влияние жадности и отрекшихся от добродетели, рассматривается автором в негативном плане. Этим странам противопоставляется Россия, где Добродетель находит себе прибежище. Приближаясь «ко брегам России», она видит «великолепное здание», покоящееся «на сед- ми столпах», символизирующих «утверждение седми свободных наук, которые в державе сей употребительны». Здесь невольно приходит на память школьная драма «Действо о семи свободных науках», занимавшая определенное место в репертуаре школьного театра. Как видим, автор «Хорева» широко пользовался художественными средствами школьной драмы, являясь в то же время пролагателем новых путей.
Сумароков первым из русских драматургов создал «правильную» трагедию, основанную на творческом применении классицистической теории драмы, блестяще изложенной им в «Эпистоле о стихотворстве» с использованием сочинения теоретика французского классицизма Буало «Искусство поэзии». Придерживаясь этой теории, он изображал в своих трагедиях высокопоставленных лиц — великих князей и царей, вельмож, полководцев, выступавших в окружении наперсников и наперсниц. Действие его пьес происходило преимущественно в далекие времена и приурочивалось к известным историческим событиям. Все это позволяло подчеркнуть значительность изображаемого, придать действию торжественный и величавый характер. Сумароков строго разграничивал жанры, считая недопустимым вводить смех в трагедию. Некоторое однообразие тональности и стилистики, являвшееся результатом такого строгого разграничения, пошло на пользу искусству драмы и театра, хотя и было связано с временными потерями.
Соединение трагического с комическим в ранней русской
132
драматургии носило эстетически неупорядоченный, стихийный характер, а способы выявления комизма и трагизма оказывались нередко весьма примитивными. Необходимо было отделить на время комическое от трагического, эстетически обрабатывая каждую из этих сфер порознь, чтобы создать предпосылки для их соединения в искусстве на новой высшей основе. Это и сделал классицизм, художественно запечатлевший великую эпоху, отмеченную огромными успехами человеческой мысли преимущественно в области глубокого аналитического рассмотрения изолированных друг от друга явлений.
В трагедиях Сумарокова довольно строго соблюдается классицистическое правило трех единств. Действие всех его трагедий происходит в одном месте и ограничивается пределами одних суток. Установление строгих границ для протекания действия во времени и пространстве, обусловленное мыслью о соблюдении правдоподобия, нередко приводило драматургов-клас- сицистов к натяжкам, к попыткам «вместить» «в три часа» «бытие трех лет». И все же требование соблюдать единство времени и единство места имело положительное значение, поскольку оно препятствовало хаотическому смешению времени и стран в одном и том же драматическом произведении. Классицистическая драматургия знаменовала собой окончательное торжество эстетических представлений, согласующихся с требованиями разума и науки, над схоластической, полурелигиозной эстетикой старинной русской драмы. По справедливому замечанию Б. Н. Асеева, «классицизм способствовал расширению и углублению идейного содержания театра. Тезис о необходимости подражания природе, стремление к правдоподобию, требование ясности и простоты художественной формы — все это помогало преодолению тех черт, которые отмирали, являлись для середины XVIII века анахронизмом и мешали дальнейшему развитию русского театра: соблюдение «классических» правил было несовместимо с использованием приемов религиозной символики, аллегорических олицетворений, применявшихся в школьной драме и пьесах из репертуара театра «охочих комедиантов»1.
В трагедиях Сумарокова существенная роль отводится борьбе между долгом и чувством, лежащей также в основе конфликтов, разрабатывавшихся представителями западноевропейского классицизма. Показывая торжество долга над чувством, разума над страстью, Сумароков воспитывал зрителей в духе приверженности к выполнению своего гражданского, патриотического долга, учил их подчинять свои личные интересы интересам общества и государства. С другой стороны, он приковывал внимание к внутренней психической жизни человека,
1 А с е е в Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. — М., 1977. —С. 182.
133
внушая зрителям уважение к человеческой личности. В ряде случаев драматург показывал правоту своих героев и героинь, пытавшихся отстаивать свое право на счастье в борьбе против деспотической воли старших.
Суровый конфликт обозначен уже в самом начале первой трагедии Сумарокова «Хорев», героиня которой Оснельда, являясь пленницей заклятого врага ее отца и ненавидимого ею самою Кия, испытывает чувство глубочайшей любви и симпатии к брату этого последнего — Хореву. В свою очередь и Хорев, подчиняясь воле своего старшего брата и сознаваемому им самим долгу, оказывается перед необходимостью противостоять на поле боя отцу любимой им девушки — Завлоху. Коллизия между долгом и чувством имеется и во второй трагедии Сумарокова, в которой сюжет шекспировского «Гамлета» разработан в духе классицизма. В трагедии «Синав и Трувор» соединению любящих друг друга Трувора и Ильмены препятствует воля ее отца Гостомысла, обещавшего руку своей дочери брату Трувора Синаву в качестве награды за усмирение мятежа в Новгороде. В мучительной для героя и героини пьесы внутренней борьбе долг берет верх над чувством. Борьба между долгом и чувством, разумом и любовной страстью показана и в других пьесах Сумарокова: «Артистоне», «Семире», «Ярополке и Димизе».
Этой борьбой обусловливаются мучительные переживания персонажей, напряженный драматизм действия, несколько ослабляемый тем, что почти все трагедии Сумарокова имеют благополучную развязку.
Важным отличием трагедий Сумарокова от драматургии западноевропейского классицизма является наличие в них материалов, взятых из отечественной истории. Французские и немецкие драматурги эпохи классицизма разрабатывали по преимуществу сюжеты, заимствованные из античной истории и мифологии, игнорируя историю собственных стран. Сумароков первым обратился к широкой обработке в драматургии материалов отечественной истории, посвятив ей семь трагедий («Хорев», «Синав и Трувор», «Семира», «Ярополк и Димиза», «Вы- шеслав», «Димитрий Самозванец», «Мстислав»). При этом в «Димитрии Самозванце» он показал на сцене события недавнего прошлого, дерзновенно нарушив требование изображать лишь одни далекие времена. Тематическое новаторство Сумаро- кова-драматурга было замечено и по достоинству оценено его современниками и последующей критикой. В статье-рецензии на французский перевод трагедии Сумарокова «Синав и Трувор» глава немецкого классицизма Готтшед писал о ее авторе: «Мы должны поставить этого русского поэта в пример нашим вечным перелагателям иностранных творений. Почему немецкие поэты не могут найти трагических героев в нашей соб¬
134
ственной истории и вывести их на сцену, тогда как русский нашел таковых в своей истории?»1
О том, что отечественная историческая тематика трагедий Сумарокова отличала их от трагедий французских классицистов, говорил и П. Сумароков (племянник драматурга): «Корнелий заимствовал чуждые содержания, Сумароков брал свои собственные»2. «Собственные содержания», к которым традиционно было приковано внимание русских писателей, вывели Сумарокова на путь новаторства. Развивая традиции отечественной литературы, он создал новый вариант классицистической трагедии — европейской по форме и национальной по содержанию.
Своеобразной идейно-художественной трансформации подверглись в трагедиях Сумарокова специфические компоненты исторической драмы. Характерно, что рассказ о вещем сне фигурирует в трагедии «Гамлет», заменяя сцену с тенью отца Гамлета, которую Сумароков, воспитанный на рационалистической философии XVIII века, счел невозможным включить в свою пьесу. Чтобы не смущать зрителей появлением перед ними тени отца Гамлета, Сумароков облек этот эпизод в форму рассказа Гамлета о тени отца, представшей перед ним во сне. Как и в пьесе Шекспира, тень отца призывает Гамлета отмстить за убийство. Любопытно, что Гамлет несколько позднее говорит Армансу, что видит «тень на облаках в воздушном мраке», снова призывающую к мщению, однако ни Армане, к которому обращены здесь слова Гамлета, ни Гертруда, участвующая в этой сцене, ни зрители этой тени не видят. В свой просвещенный век Сумароков не решился материализовать этот образ, столь поэтично показанный в пьесе Шекспира. Весьма показателен тот факт, что в других трагедиях Сумарокова нет даже и вещих снов. Трагедии Сумарокова закономерно включаются в число историко-драматических произведений, авторы которых с явным скептицизмом относятся к фантастическим эпизодам, основывающимся на мистицизме и суевериях.
У Сумарокова можно встретить в его трагедиях рассказы о событиях, преимущественно о сражениях, вкладываемые им в уста наперсников или других второстепенных персонажей. Так, в трагедии «Хорев» устами наперсника Велькара подробно и красочно рассказывается о вымышленной битве Хорева с войском Завлоха, осаждавшего город. Как и другие подобные рассказы о битвах, данный рассказ характеризуется эпичностью, соединяемой с установкой на драматизм. В центре повествования стоит личность героя (Хорева), сила и храбрость которого
1 XVIII век. — М.; Л., 1958. —С. 388.
2 Сумароков Павел. Некоторые рассуждения об Александре Петровиче Сумарокове и начале российского театра. — СПб., 1806 —С. 14.
135
представлены гиперболически. Автор трагедии прибегает к распространенным сравнениям, наличие которых характерно для поэтики таких рассказов о битвах. Иногда рассказ о происходящем за сценой событии вкладывается Сумароковым з уста Вестника или лица, выступающего в его роли.
В трагедиях Сумарокова встречаются элементы народных плачей, используемых в качестве характерных компонентов и другими авторами исторических пьес. Они .есть, например, в трагедии «Синав и Трувор», кончающейся смертью героя и героини. Характерные для народных плачей формулы содержатся в трагедии «Семира», в словах ее героини, оплакивающей Оскол ьда:
О мой любезный брат, оставил ты меня,
И тщетно вопию, терзаясь и стеня...
Что касается языка трагедий Сумарокова, то в нем можно обнаружить следы различных стилевых пластов. В «Хореве» встречается, хотя и весьма редко, бытовая речь, согласуемая с фольклорными источниками. Однако господствующим языковым стилем в трагедиях Сумарокова является стиль высокий. Его трагедии предстают в языковом отношении гораздо более архаизированными, чем трагедии Ломоносова и Тредиаковско- го. Выступив со своими первыми трагедиями раньше авторов «Деидамии» и «Тамиры и Селима», он закрепил в своих последующих произведениях трагедийного жанра тот торжественный, напевно-однообразный, отличающийся тщательно отобранной лексикой язык, которым воспользовались в качестве образца другие авторы исторических трагедий1. Его особенностью являлось обилие церковнославянизмов. Уже в «Хореве» их весьма много: «пришед ко граду днесь», «сей огнь», «зреть», «во градских уж вратах», «отверзи», «текли» (в смысле: шли, устремлялись), «по блатам и водам», «гладно», «к течению из града» и др. Встречаются они в большом количестве и в других трагедиях: «Гамлете» — «днесь», «глас», «дщерь», «сию», «зляе», «притекает»; «Артистоне» — «доколе буду зреть», «вещая»; «Ярополке и Димизе» — «град», «зрак», «сей» и др.
Весьма часто в трагедиях Сумарокова заменяется местоимение «меня» церковнославянизмом «мя», также придающим речи архаический характер: «мя обманет», «пошлите казни все на мя», «мя хочешь отдалить», «не сетуйте на мя» и др. Реже встречается форма «тя», заменяющая форму местоимения «ты» — тебя.
1 Одним из этих авторов был Я. Б. Княжнин. Сравнивая трагедии Сумарокова с трагедиями Княжнина, Н. Г. Чернышевский тонко заметил: «...а язык у Княжнина едва ли не больше еще напыщен, нежели у Сумарокова» (Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. — М., 1949. — Т. II.— С. 817).
136
3
Заканчивая рассмотрение пьес Сумарокова, коснемся (в связи с вопросом о традициях и новаторстве) темы об отношении Сумарокова к Шекспиру.
Сумароков был первым русским драматургом, обратившимся к творчеству Шекспира. Ему же принадлежит, по-видимому, и первое упоминание имени Шекспира в русской печати. Выпуская в 1748 году отдельным изданием «Две эпистолы», Сумароков назвал имя Шекспира в «Эпистоле о стихотворстве», а в «Примечаниях» дал краткую характеристику его творчества: «Шекспир, английский трагик и комик, в котором и очень худова и чрезвычайно хорошева очень много».
В литературе о Сумарокове долгое время держалось мнение о преимущественно отрицательном отношении автора «Се- миры» к творчеству Шекспира, которое связывалось с якобы столь же отрицательным отношением к великому английскому драматургу Вольтера. Это мнение подверглось пересмотру, произведенному как в работах о Сумарокове, так и в работах о Вольтере1. Приверженность обоих драматургов к классицистической поэтике драмы делала неприемлемыми для них те стороны творчества Шекспира, которые противоречили догмам классицизма. Но оба они находились под обаянием его могучего таланта и испытали на себе влияние его произведений. Для правильной всесторонней оценки трагедий Сумарокова и судеб русской драматургии представляется важным то обстоятельство, что, возникнув почти в самом начале его драматургического творчества, интерес писателя к Шекспиру сохранился и в дальнейшем. По верному наблюдению М. П. Алексеева, «к концу жизни Сумарокова» этот интерес «не только не ослабел, но и, несомненно, даже усилился»2.
Сумароков обратился к Шекспиру уже во второй своей трагедии «Гамлет». Познакомившись с шекспировским «Гамлетом», вероятно, по французскому сокращенному переводу Лапласа, опубликованному в 1746 году во втором томе его «Английского театра»3, Сумароков, создал самостоятельное драматическое произведение, в котором шекспировский материал переосмыслен в духе классицизма. В сумароковском «Гамлете» выступают традиционные наперсники и наперсницы, злодеи и добродетельные лица. Основав действие трагедии на борьбе между долгом и чувством, Сумароков заостряет коллизию, в которую попадает ее герой. У Сумарокова отца Гамлета уВи-
1 Обстоятельный обзор литературы по данному вопросу и глубокое освещение самой проблемы см.: Алексеев М. П. Первое знакомство с Шекспиром в России//Шекспир и русская культура. — М.; Л., 1965. — С. 18—84.
2 Алексеев М. П. Первое знакомство с Шекспиром в Росси1//Шекспир и русская культура. — М.; Л., 1965.— С. 32.
3 Там же. —- С. 24.
137
вает Полоний, выполняя волю Клавдия, являющегося здесь не братом короля, а простым вельможей. Таким образом, долг велит Гамлету избегать встреч с любимой им Офелией и даже ненавидеть ее, поскольку она является дочерью убийцы его отца. Переосмыслен в русском «Гамлете» образ слабой сердцем королевы Гертруды. Она представлена под знаком владеющего ею раскаяния, которое делает ее чуждой королю.
Сумароков имел основание возражать против обвинения в несамостоятельности, в простом переложении прозаического перевода шекспировской трагедии русскими стихами, выдвинутого против него Тредиаковским. «Гамлет» мой, — писал Сумароков,— кроме монолога в окончании третьего действия и Клавдиева на колени падения, на Шекспирову трагедию едва, едва походит».
И все же между «Гамлетом» Сумарокова и «Гамлетом» Шекспира имеется определенное созвучие. Сумароков сохранил основу сюжета шекспировской трагедии, состоящую в изображении кровавой борьбы за власть подлых узурпаторов и тиранов, которым противостоит благородный герой, стремящийся отомстить насильникам. Острейший критицизм шекспировской трагедии, отразивший противоречия социально-политической жизни Англии и Европы конца XVI века, пришелся по духу Сумарокову, проникавшемуся подобным же критицизмом под влиянием современной ему русской действительности.
Типичность коллизии, изображенной в сумароковском «Гамлете», подтвердила и последующая практика русских самодержцев. При этом совпадение событий, показанных в пьесе, с событиями, происходившими в политической жизни страны, оказалось столь разительным, что дальнейшие постановки «Гамлета» сделались совершенно невозможными, и пьеса исчезла со сцены. «Дело заключалось, — пишет М. П. Алексеев,— в своеобразной династической ситуации в России, сложившейся после убийства Петра III и восшествия на престол Екатерины II»1.
Представляется весьма важным и характерным то обстоятельство, что на материале из древней датской истории, взятом из трагедии Шекспира, Сумароков написал пьесу, насыщенную актуальным политическим содержанием. С особой резкостью отмечены в трагедии черты деспотического правления, обожествление личности монарха, признание его воли и прихотей единственным законом для подданных. Впервые в драматургической практике Сумарокова были подчеркнуты неприязнь тирана к народу и любовь народа к положительному герою, о которой говорится и в «Гамлете» Шекспира. Все эти мотивы и темы, включая тему народа и народного восстания (мятеж Лаэртг), имеются и в пьесе Шекспира, но они с гораздо боль¬
1 Шекспир и русская культура. — М.; Л., 1965. — С. 30.
138
шей отчетливостью предстали в политической трагедии Сумарокова.
Остановимся на двух сценах трагедии, близость которых к шекспировскому «Гамлету» отмечена самим Сумароковым. Характерно, что эти сцены связаны с обрисовкой главных антагонистов— короля Клавдия и Гамлета. Рисуя сцену «Клавдиева на колени падения», Сумароков следует за Шекспиром, но еще более усиливает отрицательную характеристику короля-тира- на. У Шекспира Клавдий все же заставляет себя молиться, хотя и сознает всю нелогичность своего поступка и сомнительность ожидаемого результата:
Раскаянье? Оно так много может.
Но что оно тому, кто нераскаян?
Гнись, жесткое колено! Жилы сердца!
Смягчитесь, как у малого младенца!
Все может быть еще и хорошо.
Став на колени, он молится. Мы не знаем, о чем он думает, стоя на молитве. Лишь после молитвы из слов, которые Клавдий произносит, вставая с колен, выясняется, что она, как и ожидал молившийся, оказалась бесплодной:
Слова летят, мысль остается тут;
Слова без мысли к небу не дойдут.
У Сумарокова Клавдий, «сей мерзкий человек», «бесстыдных дел рачитель», решительно не находит в себе сил, чтобы молиться. Стоя на коленях, он самого же бога просит вселить в него желание покаяться: «Принудь меня, принудь прощения просить!» Поняв всю невозможность покаяния и молитвы, Клавдий поднимается с колен со словами, которые у Шекспира этот персонаж произносит, помолившись. (Во время его молитвы входит Гамлет, говорит свой монолог и уходит.)
Получается, что в трагедии Сумарокова молитва Клавдия как бы не состоялась, хотя он и стоял на коленях. В связи с этим уместно напомнить слова Сумарокова о том, что в его сочинениях положительные герои никогда не выступают с критикой божественных' установлений. Зато персонажи отрицательные у него нередко богохульствуют, в резкой форме выражая свое недовольство существующим миропорядком. То обстоятельство, что сумароковский Клавдий «противных божеству исполнен всех страстей», играет немаловажную роль в его отрицательной характеристике. Эта характеристика еще более усиливается словами, с которыми злодей и циник Полоний обращается к Клавдию сразу после его «молитвы»: «Забудь и светские и божески уставы».
В сцене «молитвы» Клавдия критика самодержавного деспотизма соединяется с обсуждением вопросов, связанных с религией и философией. С еще большей отчетливостью это сочетание политики с философией выступает в монологе Гамлета
139
(действие 3, явление 7), вдохновленном знаменитым шекспировским монологом «Быть или не быть».
Вслед за Гамлетом Шекспира Гамлет Сумарокова мучительно размышляет над вопросами бытия, пытаясь разрешить загадку жизни и смерти. Словами, близко напоминающими соответствующее место шекспировского монолога, герой сумароковской трагедии вопрошает:
Отверсть ли гроба дверь, и бедствы окончати?
Или во свете сем еще претерпевати?
Когда умру; засну... засну и буду спать?
Но что за сны сия ночь будет представлять!
Умреть... и внити в гроб... спокойствие прелестно;
Но что последует сну сладку?.. неизвестно1.
Философские размышления имеются и в трагедии «Синав и Трувор», написанной Сумароковым вслед за «Гамлетом». Весьма показательно, что и они навеяны Шекспиром. Узнав от Вестника о смерти Трувора, Ильмена говорит своему отцу Гостомыслу:
Не льстися больше тем, чтоб долго я жила:
Преходит время то, в котором я была.
Отверста вечность мне: иду — куда? — не знаю. —
Страшусь — дрожу — на что дорогу препинаю!
Пускай разрушится и жизнь и существо:
Мя в нову изведет природу божество...
Характерно, что влияние Шекспира на трагедию «Синав и Трувор» подметил уже современный Сумарокову французский критик. Приведя слова Ильмены, он указал, что в них, «может быть, сыщется некоторое подобие с славным гамлетовым монологом», вызвавшим, кстати сказать, особый интерес у Вольтера, который перевел его на французский язык. Возвращаясь к вопросу о шекспировском влиянии, критик замечает, что драматург «может быть, не столь сильно, не столь с правдою сходственно изобразил бы... любовь и ревность, есть ли бы никогда не читал Расина и Шекспира».
Новое обращение русского драматурга к Шекспиру, засвидетельствованное им самим, было связано с написанием трагедии «Димитрий Самозванец». В письме Г. В. Козицкому Сумароков писал 25 февраля 1770 года о своем «Димитрии Самозванце», что «эта трагедия покажет России Шекспира»2.
1 Ср. у Шекспира в переводе М. Лозинского:
Умереть, уснуть. — Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бренный шум, —
Вот что сбивает нас; вот где причина Того, что бедствия так долговечны...
2 Письма русских писателей XVIII века. — Л., 1980. — С. 133*
140
Рисуя наглого захватчика престола, кровавого злодея, насильника, Сумароков прибегает к художественным средствам, употребляемым Шекспиром при изображении подобного же персонажа в хронике «Ричард III». Прерывистая речь злодея, обилие вопросов, задаваемых им самому себе, ответы, полные горечи, смешанной с цинизмом, характеризуют большую степень деморализации персонажа, принужденного расплачиваться за все свои гнусные злодеяния. Являясь необычными в классицистической трагедии, нарушая ее торжественный слог, сохраняющийся нередко даже и там, где показывается крайнее смятение духа, распадение личности, эти художественные средства, несомненно, делают более рельефной рисуемую драматургом личность, укрупняют ее изображение, становящееся более «сходственным» «с правдою». Говоря о герое этой сумаро- ковской трагедии, исследователи обычно подчеркивают классицистическую схематичность его образа, закрывая путь к обнаружению особенностей, не сводимых полностью к классицизму.
Суть дела в том, что образ Димитрия является более сложным, чем другие образы злодеев, фигурирующие в трагедиях Сумарокова. Он ярче, крупнее всех остальных персонажей пьесы. Это еще не многосторонне очерченный характер, но уже определенная личность. Его поступки и суждения отличаются согласованностью и тесно связаны с развивающимися обстоятельствами. Оставаясь до конца злодеем, он, однако, меняется внутренне, деградирует. Димитрий показан под знаком нарастающего в нем смятения, обозначенного уже в первых его словах:
Зла фурия во мне смятенно сердце гложет;
Злодейская душа спокойна быть не может.
Говоря о герое шекспировской трагедии, А. Смирнов отмечает, что «в его душе происходит какой-то странный, не то чтобы перелом, а скорее «надлом»... По словам ученого, герой хроники Шекспира «заходит в тупик и как бы раздваивается».
У Сумарокова деградация его героя обозначена сильнее. Не случайно слова, свидетельствующие о раздвоении его личности, Димитрий произносит не в пятом, а во втором действии. В четвертом действии раздвоение продолжается. То, что происходит в душе Димитрия к концу пьесы, недостаточно назвать «надломом». Скорее это можно определить как моральный крах, злобное отчаяние нераскаявшегося, но вполне осознавшего свое моральное поражение злодея.
По справедливому замечанию М. П. Алексеева, Сумароков «воспринял многое от английского драматурга», изобразив «властолюбивого и жестокого узурпатора», показанного «на широком историческом фоне, со все время предполагаемыми зрителями бурными народными сценами, оттеняющими цент¬
141
ральный образ злодея и придающий всей пьесе быстрое движение и естественную развязку»1.
Представляется важным то обстоятельство, что расширяя и углубляя свои творческие контакты с Шекспиром, Сумароков перешел от знаменитой его трагедии, написанной на материале древней датской истории, к собственно исторической его пьесе — хронике «Ричард III». Сумароков мог познакомиться с этой пьесой, как полагает М. Н. Алексеев, прочитав ее во французском переводе Лапласа, помещенном в том же втором томе его «Английского театра», в котором напечатан его перевод «Гамлета»2.
Однако побудительным толчком к знакомству Сумарокова с произведениями Шекспира могла быть и Германия.
Таким образом, в середине и в третьей четверти XVIII века русская драматургия близко соприкоснулась в лице своего несомненно самого авторитетного в то время представителя с творческим опытом Шекспира, получив, вероятно, толчок к усвоению этого опыта из Германии. Произошла новая встреча русского театра с драматургом, отзвуки искусства которого, пусть и в очень ослабленной и искаженной передаче, воспринимала Русь в последней трети XVII — начале XVIII века через разносчиков репертуара и техники «английских комедиантов» немецких актеров. Эти традиции в какой-то степени были восприняты и юным Сумароковым, поскольку они сохранялись в тех произведениях русского школьного театра, с которыми он знакомился. Пусть драматургия Шекспира появилась у нас первоначально в классицистическом осмыслении. Даже и в таком виде ее усвоение явилось важным этапом на пути к неизмеримо более полному и глубокому творческому постижению ее с пушкинских позиций «истинного романтизма».
От классицизма к сентиментализму.
Трагедии М. М. Хераскова, Ф. Я. Козельского,
А. А. Ржевского, В. И. Майкова, Н. П. Николева
1
Значительный вклад в драматургическую разработку исторической темы внес крупнейший русский поэт, прозаик и драматург XVIII века М. М. Херасков (1733—1807).
Херасков был воспитанником Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, в котором до него учился Сумароков.
Хераскова-драматурга связывает с Сумароковым и его школой прежде всего четко выраженная в его пьесах привержен¬
1 Шекспир и русская культура. — М.; Л., 1965. — С. 33—34.
2 См.: Шекспир и русская культура. — М.; Л., 1965.— С. 33.
142
ность к отечественной исторической тематике, закреплявшая своеобразие драматургии русского классицизма. Из девяти трагедий Хераскова пять трагедий — «Пламена», «Борислав», «Идолопоклонники, или Горислава», «Освобожденная Москва», «Разделенная Россия, или Зареида и Ростислав» — написаны на материале, взятом из русской истории, причем одна из них (первая редакция «Борислава») драматизировала по примеру сумароковского «Димитрия Самозванца» события сравнительно недавнего прошлого. На связь с традицией Сумарокова указывает и наличие в некоторых из пьес Хераскова критического изображения событий и лиц, связанных с отечественной историей. Сближало Хераскова с' Сумароковым также стремление опираться на источники, в том числе новые, неопубликованные. Наконец, Херасков воспринял от Сумарокова обращение к отдельным эпизодам пьес Шекспира. Вслед за Сумароковым он пытался использовать крупицы богатого творческого опыта великого драматурга.
Творчество Хераскова отличалось противоречивостью. В произведениях этого писателя причудливо соединялись противоположные идейные начала. Антиклерикальные настроения, роднившие его с Вольтером, соседствовали с наличием религиозных мотивов; критика самодержавной тирании уживалась с нотками верноподданничества. Отличаясь с самого начала гораздо меньшей, чем Сумароков, социально-политической активностью, Херасков все более отходил от социальной критики на позиции религиозного морализаторства в духе масонских идей, одним из активных распространителей которых он являлся.
Подобным же совмещением противоположных тенденций отличались и эстетические воззрения Хераскова, эволюция которых ярко отразилась в его драматургии. Начав свое поприще драматурга созданием пьесы, заключавшей в себе черты мещанской драмы, решительно порицавшейся Сумароковым, Херасков закончил его написанием трагедий, более или менее строго выдержанных в духе классицизма. Но при всей своей противоречивости творчество Хераскова обозначило путь прогрессивного развития от классицизма к сентиментализму, характерно выразив при этом некоторые тенденции, присущие процессу становления историко-драматического жанра.
Поворот к сентиментализму отчетливо виден уже в первой пьесе Хераскова «Венецианская монахиня» (1758), отразившей свойственные его творчеству противоречия. С одной стороны, эта пьеса заключает в себе все наиболее характерные признаки классицистической трагедии (она и названа автором трагедией). С другой стороны, в ней содержится настоящая апология человеческого чувства, ведущая к сентиментализму. Примечательно, что противоречивой в пьесе оказывается сама трактовка лежащего в ее основе конфликта. Херасков положил в основу
143
пьесы традиционный для классицизма конфликт между долгом и чувством, трактованный в том суровом духе, который был присущ и трагедиям Сумарокова. Херасков даже усиливает драматизм, завершая действие своей пьесы трагической развязкой, от которой отказывался Сумароков. Считая свою страсть к Коран- су греховной, Занета ослепляет себя и вскоре умирает. Узнав об участи любимой, Коране налагает на себя руки. По ходу действия пьесы и отец Коранса Мирози, руководствуясь долгом, выносит смертный приговор сыну, смягченный потом сенатом, за нарушение принятых в государстве установлений. В пьесе утверждается правомерность поведения Занеты, стойкость которой Мирози ставит в образец своему сыну:
Она монашеску поддерживает честь,
А ты, Коране, и слаб и неумерен есть;
Стыдися сам себя, стыдися предо мною,
Что духом меньше ты пред слабою женою.
Как видим, в трагедии фигурирует еще один героический женский образ, значение которого подчеркивается ее названием. Но в пьесе утверждается также моральная правота Коранса, упорно отстаивающего свое право на любовь. При этом характерно, что этический пафос, выраженный образом Коранса, поддерживается силой любви Занеты, заплатившей за свою любовь слишком дорогую цену. В связи с этим трагедия Хераскова примыкает к числу антиклерикальных произведений, вдохновлявшихся творчеством Вольтера. Ее герой протестует против жестоких монастырских уставов, безжалостно калечивших человеческое чувство. Считая безнравственной лицемерную монастырскую мораль, он призывает любимую покинуть монастырь. Ее ссылки на бога представляются ему неубедительными, так как бог, по понятиям Коранса, не является противником любви. Не только устами Коранса, но и устами Занеты в трагедии славится любовь, которую несчастная монахиня лелеет в своем сердце вопреки собственному пиетизму.
Одним из отступлений автора «Венецианской монахини» от требований классицизма, указывающим на связь этой трагедии с мещанской драмой, явилось его обращение к изображению в ней частной жизни частных людей. В трагедии действуют не высокопоставленные лица, участвующие в решении государственных, общенациональных вопросов, а люди, занимающие сравнительно скромное общественное положение, ввергнутые в коллизию в связи с попытками решить вопросы, касающиеся их личных взаимоотношений, чувств и судеб. Но решение этих вопросов оказывается невозможным в силу существующих в обществе постоянных и временных установлений. Говоря об этих установлениях, изображая людей, охраняющих законы, автор выводит трагедию на широкий простор истории.
Действие пьесы относится к минувшим, хотя и не очень да¬
Н4
леким (от момента написания трагедии), временам1. В основе сюжета пьесы лежит действительная история реально существовавшего лица — молодого венецианского патриция Антонио Фоскарини, которого Херасков вывел под вымышленным именем Коранса. Его история, довольно точно воспроизведенная в пьесе, оказалась связанной с известным историческим событием— заговором, организованным испанским посланником в Венеции в 1618 году. Участие в заговоре 1618 года иностранного посла побудило венецианских правителей издать после раскрытия заговора строгий указ, запрещающий всякие сношения с иностранцами. Было строжайше (под страхом смертной казни)] запрещено появляться на территории иностранного посольства. Оказавшись на ней в связи с тайным посещением монастыря (посольский дом находился рядом с монастырем), Фоскарини скрыл, чтобы спасти честь возлюбленной, истинную причину своего нахождения в этих местах и был казнен. О горестной истории молодого венецианца рассказали в своих сочинениях итальянские историки Баттиста Наннк, Пьетро Каприата и другие. Позднее ее пересказали Э. Лависс и А. Рамбо. Херасков, несомненно, знал историю жизни Фоскарини. Он снабдил свою трагедию очень интересным «Изъяснением», в котором подробно изложил ее, без указания подлинного имени героя и времени действия.
Данное «Изъяснение» представляет собой любопытный образец сочинения, содержащего размышления о соблюдении исторической истины в драме. Херасков является сторонником довольно строгого соблюдения исторической истины, понимаемой им в смысле точного воспроизведения событий и фактов. Он считал допустимыми лишь некоторые отступления «от подлинности», вызванные поэтическими и сценическими условиями, необходимостью наблюдать «театральную экономию», а также добавления, которые, по его мнению, имеет право делать драматург. Херасков приводит «подлинную историю» лица, послужившего прототипом его героя, не только потому, что она представляет интерес «для любопытных читателей», но «также и для показания, что перемена», которую он допустил в своей трагедии, «невесьма велика»2.
Чрезвычайно важным является содержащееся в «Изъяснении» признание драматурга, что желание («старание») «не отступать далеко от подлинности» «принудило» его отступить от
1 См.: Проблемы изучения русской литературы XVIII века: От классицизма к романтизму.— Л., 1974. — Вып. 1. — С. 19.
2 О необходимости соблюдать историческую истину Херасков говорит и в «Историческом предисловии» к своей поэме «Россияда»: «Повествовательное сие творение, — утверждает автор «Россияды»,— расположил я на исторической истине; сколько мог сыскать печатных и письменных известий, к моему намерению принадлежащих...» Однако Херасков указывает, что, сочиняя поэму, он «многое отметал», «переносил из одного времени в другое, изобретал, украшал...».
10 Заказ 4708
145
традиционного деления пьесы на пять актов и всего лишь «в трех действиях сочинить оную». Здесь впервые заявлено устами драматурга о необходимости идти в творчестве от материала, подчинять ему абстрактные, применяемые лишь к идеальной модели формальные требования и даже отказываться от налагаемых ими ограничений. Херасков в малых размерах, в применении к скромному, до известной степени камерному, хотя и связанному с реальной историей, материалу решал уже, по сути дела, ту новаторскую в своем существе задачу перестройки архитектоники пьесы, которую в несравненно больших масштабах, с несравнимо большей исторической осознанностью и смелостью истинного гения решил в своем «Борисе Годунове» Пушкин.
«Изъяснение», предпосланное Херасковым «Венецианской монахине», показало, однако, и его историческую ограниченность, проявившуюся в суждениях о законах, издававшихся в Венеции. Херасков, в сущности, выступает здесь в качестве противника республиканского строя. Он пишет: «Строгие Венецианские законы всему свету известны; сия республика, наблюдая свою вольность, в такую неволю себя заключила, что часто печальнейшие приключения от того происходят». Херасков не был одинок среди драматургов, критиковавших республиканскую вольность. Негативное отношение к республиканскому строю или даже к парламенту было характерно для всей ранней драматургии, в которой оно проявлялось чаще всего в виде порицания «шляхетских вольностей». Любопытно, что к этому же порицанию их вернулся, перекликаясь с драматургами Петровской эпохи, поздний Херасков, когда ему пришлось в трагедии «Освобожденная Москва» коснуться вопроса об отношениях России и Польши в связи с разработкой темы о нижегородском ополчении. Время позитивного освещения республиканской темы еще не наступило в эпоху создания Херасковым «Венецианской монахини». Не наступило оно и позднее, в 60— 70-х годах. Оно пришло лишь в 80-е годы, в преддверии Великой французской революции. Но и тогда сочувствие к республиканскому строю наблюдалось лишь среди отдельных прогрессивных писателей. Следует, однако, заметить, что в самой трагедии тема осуждения республиканских порядков не получила никакого освещения. Зато довольно часто в ней говорится (правда, в порядке простой констатации) о той большой роли, которая придавалась (хотя бы словесно) народу и его представителям в Венецианской республике. Например, Мирози говорит сыну: «И сам тебе судьей перед народом сяду». Он же заявляет в другом месте: «Теперь пойду просить народное прав- ленье». Наконец, его же устами говорится: «Зачем перед народ она хотела течь».
В целом трагедия «Венецианская монахиня» является, безусловно, прогрессивным и во многом новаторским произведением. Херасков отступил от требований ортодоксального класси¬
146
цизма не только в том, что разделил свою трагедию на три действия, но и в том, что «окровавил» сцену, выведя на нее ослепившую себя героиню и заставив героя заколоться на глазах у зрителей1. В этом Херасков сближался с драматургами последней трети XVII — первой половины XVIII века и предвосхищал сентиментально-романтическую драматургию. Предвестием романтического театра является и перемена, произведенная автором «Венецианской монахини» в выборе места и обстановки действия. Действие трагедии происходит не в «чертогах» царя или князя, а у стен реально существовавшего монастыря святой Иустины, причем начинается оно «в полночный час», что указывает на романтическую таинственность обстановки.
В трагедии «Мартезия и Фалестра», опубликованной в 1767 году, Херасков разрабатывает сюжет, связанный с греческой мифологией. Он как бы возвращается в ней к тематике, которой отдали дань Ломоносов в «Демофонте» и Тредиаков- ский в «Деидамии». Характерно, что сюжет «Мартезии и Фа- лестры» приурочен к событиям воспетой Гомером Троянской войны, с которой связаны и сюжеты «Деидамии» и «Демофон- та». Если действие «Деидамии» происходит в самом начале этой войны, а действие «Демофонта» вскоре после ее окончания, то действие «Мартезии и Фалестры» также приурочивается к самому ее концу. Вообще, эта трагедия имеет немало точек соприкосновения с ломоносовским «Демофонтом». Героиня пьесы Хераскова Мартезия любит Аиякса, который уже разлюбил ее и полюбил ее сестру Фалестру. Это напоминает отношения между героем и героиней трагедии Ломоносова, где Филлида продолжает любить Демофонта, разлюбившего ее и полюбившего Илиону. В обеих трагедиях напряженный драматизм, связанный с весьма сложными отношениями между персонажами, сочетается с лиризмом. Обе пьесы кончаются смертью главных героев.
Как и в «Демофонте» Ломоносова, в «Мартезии и Фалест- ре» действующие лица с ужасом и состраданием говорят о недавнем разгроме Трои. Аиякс видел «oMbiTbi кровию Троянские луга, в невольничьих цепях Приамов род с'Гекйщий, великолепный град со всех сторон горящий».
Примечательно, что победители троянцев представлены в трагедии захватчиками, поведение которых не одобряется даже ими самими. Аиякс рассказывает о том, как разгромив и разграбив город троянцев, победители,—
Сокровищами их наполня корабли,
С весельем во свое отечество текли;
Не златом корабли мы язвой нагружали,
Нас гордостью сии добычи заражали.
1 См.: Проблемы изучения русской литературы XVIII века: От классицизма к романтизму — Л., 1974.— Вып. I. — С. 23.
10*
147
Поднявшаяся буря и кораблекрушение показаны в трагедии как месть богов, подсказавших этой местью победителям иную точку зрения на их веселое возвращение из Трои:
Тогда из облаков нам громы возвестили,
Что морем боги нам и молниями мстили.
В мифологии Аякс, сын царя локров Оилея, послуживший прототипом героя трагедии Хераскова, тоже был наказан богами. Но Афина Паллада потопила его корабль, когда он возвращался из Трои, за вину его собственную. Он пытался насильно увести из храма Паллады дочь троянского царя Приама Кассандру, нашедшую в этом храме приют. Заменив вину индивидуальную виной общей, Херасков укрупнил проблему, в результате чего усилился трагический фон пьесы.
Связав разрабатываемую в трагедии коллизию с большими событиями, в ходе которых решалась судьба народов, Херасков, как и его предшественники Ломоносов и Тредиаковский, увеличивал масштаб изображаемого, героизировал характеры, подчеркивая тем самым общественную значимость решаемых в трагедии морально-психологических проблем.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что почти все персонажи трагедии, включая и женщин, являются участниками Троянской войны. Автор трагедии вполне правомерно сделал своих героинь — сестер-соперниц Мартезию и Фа- лестру — амазонками. Из мифологии известно, что амазонки под предводительством Пентесилеи участвовали в этой войне, решив оказать помощь троянцам. Среди амазонок в позднейших сказаниях фигурирует царица Фалёстра, являвшаяся современницей Александра Македонского. Херасков, возможно, использовал это имя, дав его амазонке, жившей в другую эпоху. По преданию, амазонки жили на побережье Черного моря при реке Фермодоне, упоминаемой в трагедии Хераскова. Героини пьесы являются знатными амазонками не только по имени. Они соразмеряют свои поступки со своим высоким положением, с принадлежностью к государству героических женщин-воитель- ниц.
Призывая Мартезию подчинить свое чувство долгу, Фалест- ра говорит:
Что скажет Азия, что скажет вся вселенна,
Услыша о тебе, что ты страстна и пленна.
В трагедии «Мартезия и Фалестра» Херасков сделал еще один шаг по пути к преобразованию классицистической коллизии между долгом и чувством в духе сентиментализма. Если в «Венецианской монахине» предваряя В. А. Озерова, он подчеркнул законность и основательность велений чувства, перед которыми должны отступить тиранический закон и предрассудки, то в «Мартезии и Фалестре» ставится вопрос о возможности сов¬
148
местить верность долгу, героическим делам с отстаиванием своих прав на сохранение верности своему избраннику. На вопрос Фалестры о том, «что скажет Азия» и «вся вселенна», узнав, что царица амазонок находится в плену у собственной страсти, Мартезия отвечает, что за любовь к такому герою, каким является Аиякс, ее никто не осудит. Эта любовь не помешает одерживать победы над врагами:
Удачный выбор сей вреда не приключит,
Узнав мою любовь, свет целой замолчит.
Я с ним бы слух граждан и мысли насыщала И брань троянскую спокойнее вещала.
Подобным же образом будет ставиться вопрос в трагедии Озерова «Димитрий Донской», где Димитрий заявляет, что любовь к Ксении произвела в нем «доблественныи жар», с которым он стремится избавить отечество от полчищ Мамая. Мысль о праве на любовь, упорно проводимая Озеровым в «Димитрии Донском» даже в некоторый ущерб развитию патриотической темы трагедии, звучит и в пьесе Хераскова. Наличие в обеих трагедиях героических образов и мотивов обусловливает поиски путей к сочетанию велений долга с велениями чувства.
Но в трагедии «Мартезия и Фалестра» героика только что закончившейся Троянской войны является лишь фоном, на котором развертывается любовная интрига. Рисуя любовные перипетии, автор высказывает свои гуманные взгляды на любовь и брак, с большой силой и убедительностью проявленные им еще в «Венецианской монахине». Подобно своим предшественникам, Херасков является противником насильственных браков. Обращаясь к Фалестре, Аиякс говорит:
Когда спрягаются навек сердца несклонны,
Противна та любовь, те браки незаконны.
Такого же взгляда на любовь и брак придерживается и Славен. Но последний под влиянием своего чувства к Мартезии прибегает, вопреки своим убеждениям, к насилию, ускоряющему трагический финал пьесы. Он посылает воинов следить за Аияк- сом и Фалестрой, приказывая им в случае необходимости вмешаться в ход событий. В этом состоит трагическая вина Сла- вена, называемого в конце трагедии тираном. Обращаясь к Славену, Мартезия говорит:
Поди из глаз, тиран, храни для тех свой меч,
Которым век чужой нежалостно пресечь!
Пускай он кровь в твоей державе проливает,
Несчастливых казнит, невинных убивает!
Такова эта пьеса, проникнутая гуманными идеями и настроениями. Ее автор выступает против насилия, проявляющегося в захватнических войнах и угнетении человеческого чувства. Звучит в ней и антитиранический мотив.
Трагедия написана сравнительно простым языком. Иногда
149
в ней встречаются славянизмы: «злато», «сии», «днесь», но их не так уж много. Развертывая любовные эпизоды, в которых персонажи выступают в качестве частных лиц и говорят о своих личных чувствах, Херасков прибегает к тому среднему «штилю», к которому рекомендовал обращаться в этих случаях Ломоносов.
Неизвестно, ставилась ли эта трагедия в XVIII веке. Имеются лишь сведения о том, что она игралась в Москве осенью 1802 года. Постановка ее на сцене в начале XIX века вряд ли является случайностью, поскольку она предвосхитила веяния господствовавшего тогда сентиментализма. Трагедия изобилует чувствительными и трогательными сценами. Глаза ее персонажей нередко увлажняются слезами. Появление Вестника с рассказом о событии свидетельствует о том, что и в этой пьесе, написанной на условно-историческую, мифологическую тему, Херасков воспользовался специфическими компонентами исторической драмы.
Среди пьес, написанных Херасковым на историческую тему, особый интерес представляет трагедия «Борислав» (написана и поставлена на сцене в 1772 году, напечатана в 1774 году). Эта трагедия, создававшаяся вскоре после сумароковского «Димитрия Самозванца», многими своими чертами напоминает его, как бы подтверждая принадлежность Хераскова к сумароков- ской школе. Вслед за Сумароковым Херасков обратился к изображению в драматическом произведении событий, взятых из русской исторической жизни сравнительно недавнего прошлого — конца XVI — начала XVII века. Если Сумароков вывел в качестве главного лица Лжедимитрия I, то героем трагедии Хераскова был первоначально Борис Годунов. Основным зерном пьесы являлось, по-видимому, отношение Годунова к жениху дочери, в смерти которого народная молва считала виновным самого царя1.
Печатая трагедию во время восстания, происходившего под предводительством Емельяна Пугачева, Херасков переменил имена действующих лиц, переделал конец пьесы и перенес ее действие в Богемию. В предисловии к первому изданию пьесы он писал: «Вся трагедия была сочинена под другими именами; некоторые обстоятельства принудили переменить оные и поставить вымышленные, причем должно упомянуть, что пятый акт совсем переменен и при выборе других имен сочинен новый».
Фигурирующий в трагедии богемский царь Борислав является законченным тираном и злодеем. Своей жестокостью, ци¬
1 Ср. у Пушкина, в «Борисе Годунове»: И тут молва лукаво нарекает Виновником дочернего вдовства Меня, меня, несчастного отца!
150
низмом, бесчеловечностью он напоминает сумароковского Самозванца. На его совести множество невинно погубленных людей, смертью которых, по его собственному признанию, «приобретен» его трон. Рожденный «в низком состоянье», «во мраке», где его «скрывала нищета», он узурпировал власть, воспользовавшись слабостью предшественника («исторг державу я из слабых оных рук»), народной смутой.
Ненавидя и презирая людей, Борислав презирает и закон. Подобно сумароковскому Димитрию, он полагает, что соблюдение законов является обязательным лишь для подданных, но отнюдь не для царя:
Мне ль должно трепетать закона и уставов,
Предписанных рабам для обузданья нравов?
Роднит Борислава с героем трагедии Сумарокова и постоянно испытываемый им страх. Он ждет неминуемого возмездия. «Нет сердцу моему покоя ни на час», — признается Борислав в монологе, открывающем пьесу. «Всем ужас навожу, и сам я трепещу!» — восклицает он. Страх перед неизбежной расплатой за злодеяния, отягченная преступлениями совесть приводят его к мысли о локаянии. Интересно, что, показывая эти переживания героя-злодея, Херасков, как и Сумароков, обращается к творческому опыту Шекспира. Его Борислав тоже пытается молиться, снова разыгрывая знаменитую шекспировскую сцену прерванной молитвы короля Клавдия. Вот как это звучит у Хераскова в устах Борислава:
О боже! если ты в сердца злодеев зришь,
(Встает на колени)
Почто ты мешкаешь, почто не возгремишь?
Брось молнию с небес! Яви на мне отмщенье!
Иль совести моей подай успокоенье.
(Подумав, восстает)
Но днесь влечет меня к раскаянию страх;
Сверкнула истина не в сердце, но в устах.
Упоминание об истине, «сверкнувшей» «не в сердце, но в устах», несомненно, соотносится с признанием шекспировского Клавдия (оно воспроизведено и у Сумарокова) в том, что к небу возносятся лишь слова его мочитвы, а мысли его остаются здесь, на земле. Через Сумарокова Херасков обратился к Шекспиру. Характерно, что он это сделал в пьесе, являющейся, как и «Гамлет» Сумарокова, антитираничг ;кой политической трагедией.
Как и в политических трагедиях Сумарокова, в «Бориславе» Хераскова нелюбимому народом тирану противостоит любимец народа («...народом он любим», — говорит о Пренесте Борислав), приходящий к власти в результате заговора вельмож и народного восстания. В трагедии рисуются вельможи- заговорщики, выступающие против царя-тирана:
Один из вельможей
Едина смерть спасет богемцев от тирана.
151
Другой вельможа (исторгнув меч)
Да гибнет он!
Все вельможи (исторгая мечи)
Пришел его конец!
Устами дочери Борислава Флавии в начале 5-го действия говорится: «Везде смятение, пылает весь дворец». По словам В. Н. Всеволодского-Гернгросса, «мастерски дано в этой пьесе нарастание мятежа»1.
Но если у Сумарокова действия заговорщиков и восстающего народа рисуются как правомерные и полностью оправдываются автором, то у Хераскова они, по сути дела, порицаются. Характерно, что с осуждением их выступает тот самый Пре- нест, гибели которого так упорно добивался Борислав. Обращаясь к вельможам, Пренест призывает их оставить свои «лютые намеренья», «отринуть» мечи.
В трагедии явственно звучат нотки верноподданничества. Отвергая путь восстания, Херасков противопоставляет ему путь морализаторства, нравственного исправления злодеев. Оказавшись бессильным последовательно развивать антитираниче- скую тему с позиций сумароковской оппозиционности, Херасков неизбежно возвращался к драматургии, проповедовавшей классовый мир. В этом отношении достойными продолжателями Сумарокова явились драматурги иного закала в лице Николева и Княжнина.
Уступая сумароковскому «Димитрию Самозванцу» в своем идейном содержании, «Борислав» Хераскова уступал ему и со стороны воспроизведения исторических реалий. В трагедии почти полностью отсутствуют подробности, указывающие на связь ее содержания с какой-либо национально-исторической действительностью. В ней имеется всего лишь одно географическое наименование — назван престольный город Прага. Этим и ограничивается связь пьесы с Богемией, в которую перенесено ее действие.
Отсутствуют в ней и указания на первоначальное место действия— Россию. Возможно, они были в первой («русской») редакции пьесы. Вряд ли, однако, их было много. Судя по словам автора, переделке подвергся лишь пятый акт. В остальных же актах дело свелось, видимо, главным образом к замене имен и перенесению места действия из одной страны в другую, спасшему неудобную для печати пьесу. Сравнительная легкость, с которой произведено было это перенесение, свидетельствует о том, что до создания подлинно исторических произведений драматургии тогда еще было далеко. Тем большую ценность имели те немногие трагедии, в которых, как, например, в «Димитрии Самозванце» Сумарокова, закреплялись довольно многочислен¬
1 В « е в о л о д с к и й-Г е р н г р о с с В. Н. Русский театр второй половины XVIII века. — М., I960. — С. 149.
152
ные и разнообразные национально-исторические подробности.
Более тесную связь с исторической действительностью имеют другие трагедии Хераскова, написанные на темы, взятые из отечественной истории. Херасков выводит в них, как правило, сразу несколько исторических лиц, ориентируясь на реальные исторические факты. То и другое он берет из летописей1. Большой интерес проявлял Херасков к фигуре князя Владимира Святославича и происшедшему при нем принятию христианства. Эта тематика запечатлена в двух его пьесах, а также в поэме «Владимир».
Создавая трагедию «Идолопоклонники, или Горислава» (1782), Херасков отступил от принятого у классицистов обыкновения вводить в историческую пьесу вымышленную любовную интригу. Это отступление объяснялось в данном случае тем, что положенный Херасковым в основу его трагедии рассказ летописцев об отношениях Владимира с его женой Рогнедой, прозванной Гориславой, легко мог соперничать по своему драматизму с любой вымышленной любовной историей. Недаром Н. М. Карамзин рекомендовал художникам изобразить на полотне рядом с Владимиром Рогнеду, тщетно пытавшуюся отомстить ему за смерть ее отца, за насильственный брак. В данной трагедии в лице Гориславы выступает еще один героический женский образ, взятый из отечественной истории.
Любовную интригу Херасков соединил с событиями, имеющими эпохальное значение, прибегнув при этом к явному анахронизму. В пьесе Хераскова Гориславу язычники подговаривают убить мужа. Они обеспокоены решением Владимира принять христианство. В действительной истории драма с Рогнедой разыгралась до принятия Владимиром христианства.
Кроме Владимира и Гориславы в трагедии выступают другие исторические лица: дядя Владимира Добрыня, сыновья Владимира Изяслав, Святополк. Такое число исторических лиц, включаемых в пьесу, является необычным для классицистической трагедии. В целом трагедия имеет довольно прочную историческую основу.
В трагедии «Пламена», опубликованной в 1765 году, действующими лицами являются сыновья Владимира Мстислав и Позвезд (Позвизд). В этой трагедии Херасков прибегает к вымышленной любовной интриге, с помощью которой драматизируются события, связанные с борьбой за утверждение христианства на Руси. Пламена любит принявшего христианство По- звезда и сама склоняется к этой вере. Но ее отец — пленный
1 По словам Г. Н. Моисеевой, «после выхода из печати в 1766 году «Древнией Российской истории» Ломоносова, а также публикации в 1767 году Кенигсбергской (Радзивиловской) и Никоновской летописей ознакомление с древнерусскими памятниками значительно облегчилось» (Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. — Л., 1980. — С. 131).
153
князь Превзыд —упорно придерживается языческих верований. Он организует восстание, заканчивающееся неудачей. Проникшийся христианской жалостью к побежденному противнику, Позвезд отдает Превзыду меч, которым тот поражает Позвезда, а потом себя.
Тема борьбы христианства с язычеством затрагивается также в трагедии Хераскова «Юлиян Отступник». Действие пьесы происходит в IV веке н. э. в одном из городов восточноримской империи во время правления императора Юлиана (331—363), прозванного христианами Отступником за открытое выступление против христианства и попытку восстановить язычество. Время написания трагедии остается неизвестным. (Она печаталась в «Творениях» Хераскова без даты. Отсутствуют и сведения о ее постановке на сцене.)
В трагедии отчетливо звучит антитиранический мотив. Юлиян представлен в ней тираном, гонителем христиан. Он запрещает им исполнять религиозные обряды, отдает распоряжение запечатать храмы. К народу он относится с презрением, заявляя, что для него «не страшен» «безумной черни суд». Одновременно он выступает в качестве жестокого завоевателя, намеревающегося покорить «всю вселенну».
Опасаясь, что в условиях мирной жизни у его воинов «мечи заржавеют, сердца оледенеют», он задумывает поход против Персии. Любопытно, что для него является идеалом «великий Александр», который «за Индом славен стал». Заставив отрицательного героя преклоняться перед Александром Македонским, Херасков сошелся с Сумароковым, отнюдь не считавшим, как мы видели, этого полководца и государственного деятеля великим человеком. Но если Сумароков считал правомерными действия народа, свергающего царя-тирана, то у Хераскова его положительные персонажи — христиане твердят о необходимости «почитать» «монарха» даже и в том случае, если он жестоко притесняет народ. Они отказываются воспользоваться недовольством, растущим не только среди христиан, но и среди язычников. «Не мы судьи царям, господь им судия»,— говорит «градоначальник» Никандр, тайно перешедший на сторону христиан. Не мирской, а «божий» суд вершится в конце пьесы над их притеснителем.
Для трагедии «Юлиян Отступник» характерно переключение драматического действия из сферы социально-политической в сферу этически-религиозную. Спецификой этого переключения является здесь рассмотрение жизненных конфликтов под сугубо теологическим углом зрения.
На протяжении всей пьесы ведется напряженный спор между сторонниками двух религий, не прекращающийся даже в сценах любовных объяснений. Наличие в трагедии философско- религиозной проблематики сближает ее со многими пьесами драматургов XVII—XVIII веков. Но Херасков вносит в худо-
154
жествеиную трактовку морально-религиозных проблем немалую долю мистицизма. Христианин Никандр говорит, например, что слышит некий «глас» и видит «вдали блестящий свет».
Мистическим является и конец пьесы: в «безоблачный» день вдруг «восшумела» «природа» и слетевшая с высоты пламенная стрела поразила вероотступника Юлияна.
Трагедия «Юлиян Отступник» написана по всем правилам классицизма. В ней развертывается конфликт между долгом и чувством. Христианка Меланта, любя язычника Юлияна, сохраняет верность своему долгу. В трагедии есть наперсник (им назван Леон) и наперсницы, каковыми являются девушки, окружающие героиню пьесы.
Она написана традиционным для этого жанра александрийским стихом. Язык трагедии достаточно архаизирован. В ней часто встречаются церковнославянизмы: «вещают», «зрится», «дщерь», «днесь» и др. Но есть в трагедии и новшества. К ним принадлежит хор наперсниц, написанный четырехстопным ямбом с перекрестной рифмовкой.
В трагедии «Юлиян отступник» имеются некоторые из специфических компонентов исторической драмы. В ней есть знамение, молитва, рассказ о событии. Характерно, что все они даны с тем их наполнением, которое было присуще старой религиозной драматургии. Знамение и рассказ о событии связаны здесь с финалом пьесы. Гром возвещает наступившее возмездие, о котором и сообщается в рассказе Леона, оказывающемся рассказом о чуде. Что касается молитвы, то она не связывается в этой.пьесе ни с какими событиями и носит, так сказать, интимный характер. Обращаясь к богу, Меланта просит: «...когда любить начну, ты пламень потуши».
В своих последних пьесах Херасков вернулся к отечественной тематике. В трагедии «Освобожденная Москва» (1798) он обращается к событиям начала XVII века, близко примыкающим к эпохе, изображенной в сумароковском «Димитрии Самозванце» и в первом варианте его собственной трагедии «Борислав». В центре трагедии находится освобождение Москвы от поляков ополчением, возглавлявшимся Мининым и Пожарским. Рисуя эпоху, несравненно лучше, чем эпоха князя Владимира, освещенную в историографии, Херасков довольно верно воспроизводит в трагедии ряд исторических фактов. В пьесе говорится об уходе из-под Москвы Заруцкого, о приближении к Москве польского войска, шедшего на выручку соотечественников, осажденных в Московском Кремле, о выжидательной позиции, которую занял князь Д. Трубецкой, ревниво и недоверчиво отнесшийся к пришедшему из Ярославля ополчению, о решении Минина и Пожарского не воссоединяться с казаками и действовать самостоятельно.
Однако в пьесе имеются явные анахронизмы и вымысел, противоречащий истории. Херасков представил, например, гет¬
155
мана Жолкевского, покинувшего Москву вскоре после низложения Василия Ивановича Шуйского, участником боя русских с поляками, происходившего в августе 1612 года. Целиком вымышленной является любовная интрига трагедии, основывающаяся на любви сестры Пожарского Софии к сыну Жолкевского Вьянко. Полностью игнорируются в пьесе нравы и обычаи русских людей изображаемой эпохи.
Трагедия «Освобожденная Москва» напис.ана в патриотическом духе. Недаром она была вновь поставлена на сцене в период войны с Наполеоном и имела большой успех. Но патриотизм Хераскова соединяется в пьесе с его монархическими убеждениями, порицанием вольности1.
В трагедии в основном соблюдаются требования классицизма. Она написана александрийским стихом и разделена на пять действий. В ней фигурируют наперсница героини Парфения и почти обязательный в классицистических трагедиях Вестник.
Но есть в ней и новшества, связанные с весьма рано обнаружившимся у Хераскова тяготением к жанрам и стилям, чуждым классицизму. Их подметила Л. И. Кулакова, которая указала на придающее особый интерес трагедии стремление автора «показать нча первом плане не страсть, не приключение героя, а историческое событие»2. В пьесе имеется много действующих лиц, среди которых трудно выделить главного героя. Любовная интрига имеет в этой трагедии подчиненное значение. Недаром ее участники София и Вьянко появляются лишь во втором действии, а третий ее участник, влюбленный в Софию сын князя Дмитрия Трубецкого Леон только в конце первого действия, оставшись один, открывает свои чувства. В пьесе отсутствует конфликт, утверждающий безусловное превосходство долга над чувством. Осуждая устами Пожарского изменническое, по существу, поведение Софии, автор трагедии не отказывает в своем сочувствии ей и ее возлюбленному, до конца сохранившему верность своему чувству и погибшему от мстительной руки своего соперника (Леона). В этом авторском сочувствии персонажам, действующим по побуждению личного чувства, а не долга, сказалось влияние эстетики сентиментализма, столь четко обозначившееся еще в «Венецианской монахине».
В пьесе отсутствует строгое соблюдение единства места. Не нарушая его решительно, автор переносит действие с одного места на другое у стен Москвы. Как и в «Венецианской моиа-
1 Через два года после написания «Освобожденной Москвы» (в 1800 году) Херасков опубликовал стихотворную повесть «Царь, или Спасенный Новгород», в которой безоговорочно осуждается герой новогородцев Вадим, выведенный под именем буйного и развратного Ратмира. См. об этом в кн.: Херасков М. М. Йзбр. произв. — Л., 1961. — С. 42.
2 История русской литературы. — Часть вторая. — М., Л., 1947. — Т. IV.— С. 238.
156
хине», одно из действий трагедии (второе) происходит ночью. Учитывая имеющиеся в трагедии новации, Л. И. Кулакова не без некоторого основания усматривала в данном произведении попытку «создания трагедии нового типа». По ее мнению, «Херасков сознательно создавал новый тип трагедии, развитый впоследствии Озеровым»1, Следует, однако, иметь в виду явную незавершенность этой попытки, связанную с эклектизмом Хераскова, наблюдающимся, кстати сказать, даже у Озерова, в трагедиях которого сентиментализм сочетался с классицизмом.
О том, что Херасков до конца сохранил приверженность к классицизму в области трагедии, красноречиво свидетельствует его последняя пьеса «Зареида и Ростислав», изданная посмертно в 1809 году. В этой пьесе соблюдаются все основные требования классицизма: правило трех единств, деление на пять действий и т. д. Имеется в ней и наперсница героини За- реиды. Порок (в лице его носителя Вельзора) наказывается.
Об известной традиционности последней пьесы Хераскова свидетельствует и то, что ее сюжет взят из древнего периода отечественной истории. Ее действие может быть отнесено к 1159 году, когда смоленский князь Ростислав Мстиславич, являющийся героем трагедии, был приглашен на великокняжеский стол вместо изгнанного киевлянами Изяслава Давидовича. Оно традиционно основывается на любовной интриге. Киевская княжна Зареида любит Ростислава, но ее любви добивается черниговский князь Изяслав. Трагедия имеет счастливую развязку: в конце пьесы Зареида соединяется с возлюбленным.
2
Кроме Хераскова, крупнейшего представителя сумароков- ской школы в драматургии, традиции автора «Синава и Трувора» развивали в своих трагедиях также Ф. Я. Козельский, А. А. Ржевский и В. И. Майков. Все они переходили от горячей поддержки Екатерины II к большей или меньшей оппозиционности, выражавшейся в росте антитиранических настроений.
Одним из активных литераторов этой группы является Ф. Я. Козельский (1734 — ум. после 1791 года). Он был сыном известного русского просветителя, философа-материа- листа Я. П. Козельского, идеи которого, по мнению Г. А. Гуковского, оказали влияние на творчество его сына2. Ф. Я. Козельский служил протоколистом в Сенате. Он участвовал в подготовке материалов для Уложенной комиссии, на заседаниях которой выступал в качестве депутата с критикой крепостного права Я. П. Козельский.
1 История русской литературы. Часть вторая. — М., Л., 1947. — Т. IV. — С. 326.
2 См.: Гуковский Г. А. Очерки русской литературы XVIII века.— Л., 1938. —С. 61.
1Б7
Я. П. Козельский и сам внес некоторый вклад в развитие драматургии, переведя на русский язык с немецкого трагедию известного английского драматурга XVII века Томаса Отвея «Спасенная Венеция». Эта пьеса написана на историческую тему. В основе ее сюжета лежит раскрытие заговора против Венецианской республики, организованного в 1618 году испанским послом Бедмаром. В пьесе показана острая политическая борьба. Заговорщики выступают против угнетения, которому подвергался в этой аристократической республике простой народ. «Они противники нашего благосостояния и начальники нашего несчастья, — говорит об управлявших страной сенаторах один из заговорщиков. — Сии гордые богачи при нашей бедности спокойно пользуются своим изобилием». Заговорщики надеются, что при благоприятном исходе восстания «вольность возобновится». В пьесе много внимания уделено любовным сценам, написанным с большим искусством. Отвей умел хорошо изображать оттенки любовной страсти, подражая Расину, «Веронику» которого он перевел на английский язык. Но еще показательней для этой пьесы влияние Шекспира, с большой силой испытываемое ее автором. Например, сцена между заговорщиками в 3-м действии пьесы Отвея во многом напоминает подобную же сцену, которой открывается 2-е действие трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Характерно, что заговорщики, фи- гурирующие в переведенной Козельским пьесе, вспоминают о Бруте, вдохновляясь его подвигом: «О геройской храброго Брута дух! — говорит один из них. — Для чего ты не ободришь моего сердца, должен ли я сносить, чтоб мой друг изнемогал под игом несправедливости»? Появление перевода пьесы Отвея следует признать еще одним свидетельством влияния Шекспира на русскую культуру. Козельский перевел пьесу, создававшуюся под воздействием шекспировского «Юлия Цезаря», прозой. Пройдет 20 с небольшим лет, и трагедия «Юлий Цезарь» появится на русском языке в хорошем прозаическом переводе Н. М. Карамзина. Карамзин не счел нужным объяснять в своем превосходном предисловии к переводу (об этом предисловии и самом переводе пойдет речь ниже), почему он перевел трагедию прозой. Переводчик трагедии Отвея такое объяснение дал, остановившись на этом вопросе в предпосланной ее тексту «Речи к читателю». Исходным пунктом его интересных рассуждений по данному вопросу является мысль о соответствии формы драматических произведений их содержанию. Полагая, что его станут порицать за то, что он принялся за свой перевод, «не ведая пристойного трагедиям рода писания, то есть стихотворства», Козельский приводит веские аргументы, оправдывающие его труд. Эти аргументы имеют определенное теоретическое значение и представляют несомненный интерес в связи с вопросом о дальнейшем развитии исторической драмы, эволюции ее содержания и формы. Козельский выступает против догма¬
158
тизма, против установления канонов и правил, пригодных для употребления во всех случаях. Связь между формой и содержанием в трагедии он понимает как связь конкретную, обусловливаемую особенностями данного содержания. С изменением «материи» должен изменяться и «род писания». Следовательно, «стихотворство» вовсе не является единственно пригодным «родом писания». Таков вывод, к которому приходит Я. П. Козельский в связи с оценкой переведенной им трагедии, ее формы и содержания.
«Что же касается до содержания книги, — пишет он, — то оно мне весьма понравилось. Автор сей трагедии положил во многих ее местах весьма хорошие мысли, которые примечания охотного читателя стоят, а хорошая материя хотя стихами или прозою, только б ясно написанная любопытному читателю всегда приятна быть может; да сверх того мне кажется, что в иных случаях лучше изобразить можно свои мысли прозою, нежели стихами, как трудным или принужденным родом писания...» В доказательство справедливости этого своего суждения Козельский ссылается на автора переведенной им трагедии, который «также написал ее прозою, однако так хорошо, что я не думаю, чтоб сыскался какой человек, который бы мог читать ее без особливого удовольствия».
Трудно переоценить новизну и смелость приведенных мыслей Козельского, опровергавших теорию классицизма, которая требовала, чтобы трагедии писались в стихотворной форме александрийским стихом. Эти мысли были высказаны Козельским в такое время, когда Сумароковым еще не была создана лучшая из его стихотворных трагедий, а Княжнин еще только готовился вступить на поприще создателя стихотворных трагедий. Мысль Козельского о том, что трагедии можно писать прозой, сопоставимы по своей новизне и плодотворности с приведенным выше суждением Тредиаковского о желательности употребления в трагедии стиха без рифм. Таким стихом напишет свою трагедию Пушкин, перемежая его со сценами и кусками сцеп, написанными прозой, за введение которой в драматургию ратовал Козельский.
Неизвестно, была ли поставлена на сцене пьеса Отвея, переведенная Я. П. Козельским. В «Драматическом словаре» о ней не упоминается. Скорее всего она была признана неудобной к представлению по той причине, что в ней рассказывалось в драматической форме о заговорщиках, выступавших против власти «гордых богачей».
Прогрессивные идеи нашли себе выражение и в творчестве Ф. Я. Козельского. Федор Козельский с сочувствием называл имена Гельвеция, Вольтера, Монтескье, советуя читать их произведения. С возмущением и горестью писал он об угнетенном положении крепостных крестьян, о жестокости царских чиновников, подлости и своекорыстии вельмож. О царях-тиранах и
159
льстивых вельможах говорится и в его стихотворном обращении («Письме») к Н. И. Панину, содержащем весьма лестную характеристику этого государственного деятеля. Но, как справедливо замечает Г. А. Гуковский, «Ф. Козельский, видимо, придерживался иной, более демократической ориентации», отличавшей его, выходца из среды бедных украинских помещиков, от «дворянских либералов»1.
Ф. Я. Козельским написаны две трагедии: «Пантея» и «Ве- лесана». Трагедия «Пантея» была опубликована в 1769 году. Действие этой пьесы происходит в середине VI века до н. э., во времена Кира Великого, уже не раз фигурировавшего в произведениях русской драматургии.
Героиней пьесы является супруга сузского царя Абрабата Пантея, взятая в плен воинами Кира в отсутствие ее мужа, находившегося в отъезде. Кир поручил охранять пленницу, отличавшуюся необычной красотой, своему приближенному Арас- пу, влюбившемуся в нее. Опасаясь насилия, Пантея дала знать о домогательствах Араспа Киру, который удалил его из лагеря. Полагая, что Кир из-за нее лишился храброго воина, каким был Арасп, Пантея вызывает своего мужа. Абрабат является к Киру и предлагает ему военный союз в благодарность за гуманное обращение с Пантеей. Преследуя отступающего неприятеля, Абрабат принимает геройскую смерть. Пантея, оплакав горячо любимого ею мужа, кончает жизнь самоубийством.
В основе сюжета трагедии лежит рассказ о судьбе Пантеи, содержащийся в «Киропедии» Ксенофонта. У Ксенофонта он не составляет единого целого, хотя и отличается внутренней завершенностью. Отдельные части этого рассказа находятся в разных книгах (5-й и 7-й) «Киропедии». В виде связного повествования несколько сокращенный пересказ соответствующих мест «Киропедии» был опубликован в академическом научно- популярном журнале, выходившем в Петербурге. Повесть появилась в двух номерах ежемесячника и состояла из двух частей, имеющих свои названия («Арасп» и «Пантея»). По справедливому замечанию исследователя, «сюжет трагедии Козельского почти полностью совпадает с содержанием повести»2, что дает основание считать ее источником «Пантеи». Но Козельский обращался и к самой «Киропедии», с которой он мог познакомиться в переводе с латинского, появившемся в конце 50-х годов XVIII века. Автор «Пантеи» заимствует из других книг «Киропедии» характеристики, касающиеся главным образом Кира и проводимой им политики. В сложной перекличке с идейным содержанием сочинения Ксенофонта находятся политические и философские идеи, высказываемые в «Пантее». * 8Чуковский Г. А. Очерки русской литературы XVIII века. — Л.# 1938. — С. 63.
8 См.: Стен ни к Ю. В. Жанр трагедии в русской литературе: Эпоха жлассицизма. — Л., 1981. —С. 77.
160
Образному строю трагедии «Пантея» присуща философичность. Ее герои постоянно размышляют и рассуждают, анализируя свои чувства и поступки. За их размышлениями и судьбами неизменно чувствуется беспокойная мысль автора, ищущего ответов на вопросы человеческого бытия. Философичность трагедии обусловлена личными склонностями ее создателя, а также характером использованного им источника и театрально-литературной традицией. Будучи сыном философа, Федор Козельский и сам тяготел в своем творчестве к постановке философских проблем. Ему принадлежит философическая поэма «Незлобивая жизнь», которую высоко оценил Н. И. Новиков, сказав, что она «от многих и похвалу заслужила». Эта оценка тем более показательна, что элегии Ф. Козельского и сама его «Пантея» оценивались Новиковым невысоко1.
В трагедии «Пантея» страсти не только анализируются и сопоставляются одна с другой, но и олицетворяются. Такими олицетворенными страстями и свойствами человеческой натуры являются в пьесе труд, праздность, роскошь, властолюбие. Они живут, борются, страдают, радуются, плачут. Олицетворяется и сама человеческая натура. Олицетворение страстей и склонностей человеческих является в «Пантее» настолько частым и последовательным, что невольно приходят на память школьные драмы конца XVII — первой половины XVIII века, где те же труд, роскошь, человеческая натура выступали в качестве самостоятельных персонажей. Как и в «Пантее», олицетворения страстей появились в этих драмах в связи с постановкой определенных морально-философских проблем, с той однако разницей, что в школьных драмах эти проблемы чаще всего решались на религиозной основе, тогда как в «Пантее», писавшейся в иное время, такой основой были идеи философов-прос- ветителей.
Трагедия «Пантея» являет собой любопытный образчик историко-драматического произведения, в котором утопия, созданная по отношению к изображаемой эпохе античным писателем, во многом подвергается корректировке в свете новейших утопий, воспринятых под углом зрения критически оцениваемой современности.
В трагедии дается во многом идеализированное изображение Кира и его империи в духе утопии Ксенофонта, переносившего на почву «идеального протогосударства персов» нравы любезной его сердцу Спарты2. Персия рисуется Ксенофонтом в качестве идеальной страны, где царят умеренность и добро-
1 См.: Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. — СПб., 1772.— С. 101.
2 См.: Фролов Э. Д. Ксенофонт и его «Киропедия»//Ксенофонт. Киропедия. — М., 1976. — С. 260, 258.
И Заказ 4709
161
иравие, где люди с малых лет приучаются к труду и выносливости, где государство берет на себя заботу о воспитании детей, обучая их не столько наукам, сколько справедливости. По контрасту с персидскими законами и порядками, «которые наипаче состоят в том, чтобы об общей пользе вящщее иметь попечение», изображаются в «Киропедии» порядки мидийские. Знатные мидяне живут в роскоши и праздности, неумеренны в еде. Главное же отличие состоит в несходстве государственного строя мидян с общественным строем Персии.
Характерно, что нравами и порядками древней Персии интересовался Ж. Ж. Руссо, с произведениями которого был знаком Ф. Я. Козельский1. Говоря о народах, создавших «собственное свое счастье» и явивших «собою пример для других народов», Руссо пишет: «Таковы были древние персы — удивительная нация, где изучали добродетель, как у нас изучают науку, которая с такою легкостью покорила Азию и которая, единственная, прославилась тем, что история ее установлений стала восприниматься как философский роман»2.
В трагедии «Пантея» патриархальные нравы древних персов характеризуются в полном соответствии с той их оценкой, которая дана в сочинениях Ксенофонта и Руссо. Прославляя эти нравы, Кир говорит в «Пантее»:
Полезной дневной труд! Любезна простота!
Умеренная жизнь. Приятна чистота.
Вы ободряете все чувства удрученны,
Вы оживляете и силы умерщвленны.
Во имя труда, простоты быта, умеренности, чистоты нравов ополчается Кир против роскоши и праздности. Ополчается против них и автор пьесы, сходясь в этом с Ксенофонтом и Руссо3.
На Козельского воздействовала сама действительность, негативные явления которой вызывали с его стороны протест. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два отрывка.
Вот как звучат слова о труде и роскоши в «Пантее»:
На рамена труда взлагает праздность бремя,
Не может что носить ни век, ни долго время;
На коего плечах уж роскошь зиждет дом,
Что тягота едва носимая трудом:
И тяжкой пышностью, на нем себя что славит,
Едва-едва она труд бедной не задавит,
Которой вопиет, прежалостно стеня,
И, помощи прося, взирает на меня.
4«Он хорошо усвоил Руссо», — пишет Г. А. Гуковский (Гуковский Г. А. Очерки русской литературы XVIII века. — Л., 1938. — С. 67.)
2 Руссо Жан-Жак. Трактаты. — М., 1969. — С. 15. Философским романом Руссо называет «Киропедию» Ксенофонта.
3 Не все просветители выступали против роскоши. С нею мирились и даже в какой-то степени защищали ее Вольтер и Монтескье. Решительным противником роскоши был Я. П. Козельский. Об этом см.: Гуковский Г. А. Очерки русской литературы XVIII века. — Л., 1938, — С. 40—41, 44—45.
162
А вот как выглядит соответствующее выступление против роскоши в поэме Козельского «Незлобивая жизнь», в которой рисуется, по справедливому замечанию Г. А. Гуковского, «положение России XVIII века, не названной, но отчетливо угадываемой»1:
На раменах селян свой Роскошь зиждет дом,
И потом тысящей и многих лет трудом Из поселянских сил все злато истощенно;
Желание ее еще не насыщенно.
Бескровен ратай стал, равно земля суха;
Отверженна от всех полезная соха.
Опираясь на материал своего источника, Козельский создал довольно выразительный образ царя-полководца, в котором мужество воина соединяется с мудростью философа и широтой взгляда на жизнь. Однако автор трагедии привносит в образ Кира черты, которые отнюдь не были характерны для завоевателя, фигурирующего в книге Ксенофонта и в извлеченной из нее повести. Интересен в этом смысле монолог Кира, содержащийся в 6-м явлении 2-го действия пьесы.
Первая часть фиксирует воинственное настроение Кира, который гонит от себя прочь «нежные» мысли и сонливую роскошь, желая, чтобы к нему вернулась и безраздельно утвердилась в его сознании «мысль геройская»:
Я коней ржание, я слышу трубной звук;
Что медлю в стан чужой метать я смерть из рук?
Я войско храброе свое тотчас устрою И воинством поля широкие покрою,
Иду, и поведу я страх против врагов,
И храбростью своей сверкну среди полков.
Вторая часть монолога начинается включением контрастирующей темы о мире:
Уж перемирия все просят у меня.
Даю, и дать хочу, щадя и не тесня.
Просите мира, дам и жить я буду с вами Как с другами, не как с мятежными врагами.
Что вожделенной всем нарушили покой;
Дерзнули набегать вы на рубеж чужой.
Здесь, как и в первой части монолога, мы видим того Кира, которого рисует Ксенофонт: властного, могучего, самоуверенного, непреклонного в своих решениях («даю: и дать хочу, просите мира, дам»). Характерен выгодно рисующий Кира выбор ситуации, когда посягнувшими «на рубеж чужой» оказались другие, а не сам завоеватель. Этот выбор создает психологическую предпосылку для важного заявления, содержащего решительное осуждение захватнических войн:
О жадность! О алчба! О ненасытны страсти!
О распаленное стремление ко власти!
1 Гуковский Г. А. Очерки русской литературы XVIII века. — Л., 1938.— С. 68.
11*
163
Колики бедствия наводишь смертным ты И коль волнуешь нас для тщетной суеты;
Лишаешь навсегда любезного покою;
Утешить хочешь власть кровавою войною.
В третьей части монолога тема мира осложняется. Выясняется, что мир «противен» самому Киру, что пагубные «страсти» подчинили его себе, как подчинили и других людей:
Столь глубоко уже мы погруженны в страсти;
Так тонем сами мы в пучине сей напасти.
Следует заметить, что в этом монологе лишь первая его часть и начало второй части полностью соответствуют образу Кира, нарисованному Ксенофонтом. Весь последующий текст не только не согласуется с этим образом, но и прямо ему противоречит.
Будучи поклонником Руссо, Козельский сочувствовал патриархальной утопии, связанной с идеализацией древней Персии, сходясь в этом с автором «Киропедии». Но он не сочувствовал и не мог сочувствовать имперской идее, оправдывающей порабощение народов. Поэтому он заставил Кира тосковать о мире и проклинать войну.
Ф. Я. Козельский не только решительно осудил в своей трагедий захватнические войны, но и указал на их причину, побуждающую «набегать» на «рубеж чужой». Замечательно, что этой причиной оказалась все та же ломоносовская «несытая алчба имения и власти»1, указание на которую проходит, как мы видели, через ряд трагедий, затрагивающих тему войны и мира.
Закрепляя одну из лучших гуманистических традиций русской литературы и драматургии, выступление автора «Пантеи» против завоевательных войн вместе с тем характерно выразило его собственное неприятие войны, содержащееся и в других его произведениях.
Так, в «Письме его сиятельству гр. П. А. Румянцеву-Заду- найскому» (1774) Козельский писал:
Не знаешь ты меня, что может быть обижу,
Я тот, кггорый всех тиранов ненавижу,
Отъемлюших в бою у ближнего живот,
Невозвратимый в век ни от каких щедрот...
Проклят тот человек, кто первый на раздор Понудил, в свет родясь, толпу народа в сбор...
С осуждением войн и угнетения народов в трагедии Козельского связан образ ее главной героини Пантеи, в котором нежнейшая супружеская любовь и верность соединены с благородством и героическим самоотвержением (по словам ее мамки Лизоры, Пантея «имела бодрой дух, пристойной героине»).
1 Ср. у Козельского:
О жадность! О алчба! О ненасытны страсти! О распаленное стремление ко власти!
164
В связи с показом образа Пантеи в трагедии повторена ситуация, много раз встречающаяся в классицистических трагедиях,— героиня попадает в плен, оказываясь в положении рабыни. В отличие от ряда пьес, где эта ситуация используется главным образом в качестве средства для создания острых сюжетных положений, связанных с развитием любовной интриги, в «Пантее» тема рабства героини разрабатывается серьезно и обстоятельно. Героиня пьесы чрезвычайно тяжело переживает рабское положение. Объясняя мамке свое угнетенное состояние, Пантея говорит, что на нее обрушились два несчастья: первое несчастье состоит в том, что она — рабыня, второе в том, что она разлучена с мужем, который не знает о ее пленении. Неудивительно, что Пантея называет Кира тираном и проклинает войны, видя в них причину несчастья и порабощения людей. «О кровожадных войн несыто произвольство», ---■ говорит она. Лишь впоследствии, убедившись в том, что с ней, рабыней, обошлись по-человечески, Пантея меняет свое отношение к Киру. Своим благородством, душевной стойкостью, самоотверженностью, героизмом Пантея и Абрабат оказывают глубокое влияние на душу Кира. В последнем действии пьесы Кир произносит монолог, в котором даются его итоговые размышления о войне и мире:
Я победил войной; что ж нажил; что достал?
Я злато получил, а другов потерял.
Война признается в этом монологе чем-то чудовищным, противоестественным, противоречащим природе. Возникает одно из олицетворений, встречающихся в трагедии, — образ природы или натуры, включенный в монолог героя. Кир видит, «как из рощ» «нежная природа» горестно наблюдает картину войны, картину «гибели невинного народа»: кто-то утопает «в собственной крови», иной, «катаясь», стонет «под тяготой ста ран», другой «мучится», лишаясь «членов собственных», тот «борется со смертью», «болезнию терзаясь». Он «кричит» «товарищам своим», чтобы они добили его, прекратив его страдания.
Натура вызванна там воплем таковым,
Со вздохом несколько из глаз слез испустила,
И чуть мне слышными словами говорила:
Такую ль, человек, утеху ты нашел!
Когда уж от меня навеки отошел!
Такую ли теперь имеешь ты выгоду!
Жалеющу тебя отвергнувши природу!
О, мысли детские, о смысл, о слабой ум;
Нашел в полях покой, лесной оставив шум,
Сказала так себе и слезы утирала,
И паки внутрь лесов ход тихой обращала.
Я далеко ее глазами проводил,
И в след дражайшей след лишь вздох я испустил.
Читая строки монолога, содержащие одно из самых сильных выступлений против войны в русской драматической литера¬
165
туре, невольно вспоминаешь о Руссо, осуждавшем войны с позиций разума и человеческой природы. Влияние Руссо сказалось не только на общем пафосе этого монолога, проникнутого глубокой гуманностью, но и на отдельных деталях, вплоть до упоминания о лесах и полях. Эта близость особенно заметна при сопоставлении монолога Кира с суждениями Руссо о войнах, являющихся главной темой монолога. Прибегая к олицетворению, Козельский словно бы задался целью показать ту самую природу, пришедшую «в содрогание» при виде ужасов войны, о которой пишет Руссо.
Неизвестно, ставилась ли «Пантея» на сцене. Скорее всего она, как и переведенная Я. П. Козельским трагедия Отвея, не была допущена к постановке. Содержащееся в ней «руссоистское» обличение роскоши и рабства, ее антивоенный пафос (во время ее появления в свет шла война с Турцией), видимо, делали ее неудобной к представлению.
Вторая трагедия Ф. Козельского «Велесана» была напечатана в 1778 году. Используя античный мифологический сюжет «Меропы», Козельский удачно соединил его с материалом, взятым из древнерусской истории. В трагедии драматизирован легендарный эпизод, связанный с местью княгини Ольги древлянам за убийство ими ее мужа Игоря.
В трагедии точно обозначено место действия, происходящего «в стану близ Искореста» — главного города древлян Искоро- стеня (ныне г. Коростень). Кроме этого города в трагедии названы города Киев и Полоцк, а также реки Днепр, Волга, Вол^ хов, Сула, Сейм. Устами героини пьесы делается попытка охарактеризовать нравы древлян, связываемые с местностью, в которой они живут, и с родом их занятий.
Говорится в трагедии и о религии восточных славян. В полном соответствии с летописными данными в трагедии говорится об энергичном сборе Игорем дани с древлян, о месте захоронения Игоря, похороненного в Искоростене, о тризне, которую совершала Ольга по убитом муже.
Соответствуют летописным данным и характеристики действующих лиц. Психологически правдиво древлянский князь Из- рад, прототипом которого, видимо, является Мал, выражает резкое недовольство только что упомянутой деятельностью Игоря по сбору дани с древлян, оценивая ее как агрессию и ограбление. Интересно, что в трагедии «Велесана» снова появляется ломоносовская формула «несытая алчба», применяемая на этот раз к князю Игорю, о котором Израд говорит:
Он был ненасыщен всегдашнею войною,
Корысти одержим несытою алчбою,
Поныне угнетал под тяжким игом нас,
И был жаления ему невнятен глас Под бременем его владычества стенящих И со слезами дань несносну приносящих.
166
Соответствует летописной легенде и довольно ярко нарисованный Козельским образ Велесаны, прототипом которого является княгиня Ольга. В лице Велесаны Козельский показывает сильную, властную правительницу. Велесана — Ольга не может смириться с «бунтом» древлян и стремится отомстить им за убийство мужа. Ее воодушевляют чувства самоотверженной материнской любви и любви к родине, побуждающие ее к свершению героических поступков. Недаром воевода Све- нельд, человек мужественный и храбрый, называет ее замыслы дерзновенными, а наперсница Велесаны Ратуда обмирает от страха, внимая ее «ужасным» словам.
Обладая неукротимой волей, Велесана бросает вызов судьбе и самим богам, упрекая их в том, что они не оберегли ее мужа от страшной кончины. «Пойду против людей, пойду против богов», — заявляет она. Но Велесане не чужды вместе с тем хитрость и коварство. Находясь в зависимости от лицемерного и жестокого Израда, прельщенного красотой княгини, но замышляющего коварное убийство ее сына, Велесана и сама прибегает к лукавству и хитрости. Этой стороной своего поведения Велесана тоже напоминает Ольгу, изображенную летописцем. Конечно, она не губит обманным образом, как это сделала Ольга, древлянских послов, зарытых в землю вместе с ладьей, в которой их торжественно несли, и не предает огню, прибегая к еще более жестокому коварству, древлянский город.
Подчиняясь классицистическому канону, Козельский не выходит в показе своей героини за пределы традиционной поэти: ки. И все же в изображении ее тактики есть интересные нюансы. Отвечая на приведенные выше слова Израда (о несытой алчбе, жертвой которой оказался сам Игорь), Велесана говорит:
Я точно, государь, вину напасти знаю,
И праведных твоих я слов не отрицаю...
Озлобленный народ избыточно отмщен,
И Игорь за дела свои уже казнен.
Не означает ли это заявление, что Велесана пришла хотя бы к частичному признанию, что ее покойный муж «избыточно отмщен» за проявленное им избыточное усердие со сбором дани с древлян? Но конечно же (и это видно из всего контекста), «соглашаясь» с Израдом, Велесана старается усыпить бдительность своего смертельного врага, чтобы с помощью лукавства нанести ему сокрушительный удар.
Лукавство, к которому прибегает героиня пьесы Козельского, напоминает тактику Василия Шуйского, выступающего в трагедии Сумарокова, как и Велесана, в качестве носителя гражданских и семейных добродетелей. Характерно, что в обоих случаях драматурги воспроизводили в образах рисуемых ими персонажей реальные, сохранившиеся в народной памяти черты
167
характера и поступки исторических лиц, одно из которых названо прямо по имени, а другое угадывается без всякого труда.
Наличие у трагедии Козельского точек схождения с «Димитрием Самозванцем» Сумарокова, обозначившим, по мнению исследователей, «прорыв к историзму», думается, не было случайным. Довольно большое число исторических реалий, имеющихся в «Велесане», попытки ее автора охарактеризовать нравы и религию изображаемых народов и племен, гуманный, антитиранический пафос пьесы, правдивое* воспроизведение в ней характеров исторических лиц и событий — все это, вместе взятое, свидетельствует о том, что Козельский в известной мере усвоил уроки своих учителей и предшественников Ломоносова и Сумарокова в деле художественного воссоздания прошлого.
Характерно, что Ф. Козельский уловил и «шекспировский» мотив трагедий Сумарокова, продолжив вслед за другими драматургами начатое Сумароковым использование некоторых шекспировских ситуаций и творческих приемов, своеобразно засвидетельствовавшее неуклонное повышение интереса к творчеству Шекспира в русском обществе. В трагедии «Велесана» перед ее юным героем Святославом возникает тень его убитого отца. Этот эпизод, безусловно, навеян Сумароковым, начавшим своего «Гамлета» рассказом героя о смутившем его дух ночном видении.
Будучи сыном своего рационалистического века, Сумароков не решился вывести на сцену призрак отца Гамлета. В его пьесе старый король предстал перед Гамлетом во время сна. Козельский опирался в этом случае прежде всего на Сумарокова. Об этом свидетельствует та, что призыв к отмщению, с которым обращается тень короля к Гамлету, дан у Козельского в сумароковской редакции. Выше уже приводились слова из «Гамлета» Сумарокова, содержащие этот призыв. Эти же самые слова «отмсти, отмсти тирану» с повторением, как и у Сумарокова, слова «отмсти» звучат и в «Велесане» Козельского.
Козельский словно бы цитирует Сумарокова, подчеркивая этим эпизодом связь своей пьесы с сумароковским «Гамлетом». Имеется сходство и в описании внешнего вида и внутреннего душевного состояния явившегося герою пьесы видения, а также в описании состояния самого героя. Перед Святославом предстает «окровавленна тень» отца, поражающая его скорбный дух «смертным ужасом». Слова, произносимые тенью, глубоко волнуют героя:
Что слышу я! се глас видения сего Волнует глубину спокойства моего!
Подобное же впечатление производит ночное видение и на сумароковского Гамлета, лишая его душевного спокойствия («Он совести моей покоя не дает»). Если у Козельского тень говорит «плачевным голосом», плачет и мучится, то у Сумароко¬
ве
ва она «вопиет». Знаменательно, что у обоих драматургов имеется указание на рану, от которой умер отец героя. Вряд ли можно сомневаться в сознательном подражании Козельского Сумарокову после сопоставления следующих цитат, где фигурируют не только одни и те же детали и сходные или прямо совпадающие слова и рифмы, но и соблюдается одинаковый порядок в развертывании волнующего героя повествования: Сумароков
Я слышу глас его, и в ребрах вижу рану:
О сын мой! вопиет, отмсти, отмсти тирану И свободи граждан.
Козельский
Плачевным голосом твердит: воззри на рану,
Любезный Святослав, отмсти, отмсти тирану!
Родившего тебя внемли плачевный стон!
Но Козельский, видимо, был знаком и с шекспировским «Гамлетом». В его трагедии тень отца является Святославу не во сне, а наяву. Козельский как бы воспроизводит то появление призрака, которое приурочено у Шекспира к моменту беседы Гамлета с матерью (у Шекспира это объяснение происходит в 4-й сцене 3-го действия, а у Козельского — во 2-м явлении 3-го действия). В обоих случаях слышит голос отца и видит его тень только сын, мать же ничего не видит и не слышит. Есть, однако, и существенное различие в трактовке этой сцены. У Шекспира Призрак говорит сам, обмениваясь речами с Гамлетом, тогда как у Козельского слова видения звучат лишь в передаче Святослава, воспроизводящего и свои обращения к призраку. Как видим, у Козельского дело свелось к рассказу о видении, оживляемому средствами характерного для творчества автора «Велесаны» олицетворения. Если в «Пантее» олицетворялись страсти и идеи, то в «Велесане» теми же средствами произведено «оживление» умершего. Эти приемы в целом не противоречили эстетике классицизма, не допускавшей участия в сценическом действии фантастических образов. Оставаясь достоянием эпоса, эти последние включались в трагедию лишь в качестве ее «эпического» элемента, входившего обычно в рассказ о событии. Прибегнув под влиянием Шекспира к частичной материализации фантастического образа, Козельский не решился полностью его персонифицировать. Это и означало, что автор «Велесаны» сохранял в основном верность канонам классицизма. Он стоял ближе к Сумарокову, чем к Шекспиру.
Обращение Козельского к образному миру шекспировского «Гамлета», классицистически переосмысленного в одноименной трагедии Сумарокова, подсказывалось, видимо, авторским толкованием ситуации, изображенной в «Велесане». В трагедии «Велесана» просматривается та самая династическая ситуация, присутствие которой в сюжете переделанного Сумароковым «Гамлета» обусловило исчезновение со сцены театров его шекспировской пьесы. За образом Ольги-Велесаны проступало
169
лицо Екатерины II, а в образе ее сына Святослава легко можно было угадать будущего царя Павла I.
Трагедия «Велесана» была создана в годы, когда по замыслам сторонников Павла Петровича должна была совершиться передача ему престола в связи с достижением им совершеннолетия. В числе этих сторонников находился воспитатель Павла Н. И. Панин, к которому близко стоял Ф. Я. Козельский. Заговорщики опирались на обещание Екатерины II передать престол сыну. Все это получило своеобразное отражение в «Веле- сане». Автор трагедии, всемерно подчеркивая любовь героини пьесы к сыну, указывает и на то, что в нем она видит будущего царя, надежду отечества. Лишившись сына, она лишится всего:
Не надобно тогда мне в свете ничего:
Не нужны будут мне старанья никакие,
Опасностью его колеблется Россия.
Обращаясь к сыну, она говорит:
Все строю, путь тебе к престолу очищая,
И, что я ни творю, творю, тебя спасая.
В этом контексте полнее выясняется значение образа Святослава, играющего важную роль в развитии сюжетного действия пьесы. Неизвестна сценическая судьба «Велесаны». Сведений о ее постановке не сохранилось.
3
Одним из видных драматургов сумароковской школы, обращавшихся к исторической теме, был А. А. Ржевский (1737— 1804)Ржевский участвовал в журналах, издававшихся Сумароковым и Херасковым, в которых помещал лирические стихотворения и басни. Он перевел несколько статей из «Энциклопедии», в том числе статью «История», написанную Вольтером. По своему происхождению Ржевский принадлежал к числу старинных дворян. В качестве депутата города Воротынска он участвовал в Комиссии по сочинению нового Уложения. В молодые годы, на которые падает его литературная деятельность, настроение Ржевского отличалось оппозиционностью. Впоследствии он стал крупным чиновником.
Ржевский написал две трагедии. Первая из них — «Прелес- та» — до нас не дошла. О ней известно лишь, что ее содержание «взято из истории Киева». Она была поставлена на сцене в 1765 году. Другая его трагедия — «Подложный Смердий», по словам Н. И. Новикова, с успехом «представлена была на при- 11 Об отношении Ржевского к Сумарокову свидетельствуют слова его письма, отправленного автору «Семиры» в 1769 году: «Я Вас начал почитать почти с ребячества, я видел Ваши ласки ко мне с тех же пор». Отрывки из переписки А. П. Сумарокова//Отечественные записки.— 1858.— Т 116. — № 2.— С. 597.
170
дворном Российском театре в 1769 году». Новиков дал этой пьесе весьма высокую оценку. «Сия трагедия, — писал он, — сочинителю своему делает честь: она сочинена в правилах театра, завязка и продолжение расположены очень хорошо, характеры выдержаны сильно, игры театральной много, стихотворство в ней чисто, слог приятен, мысли велики, изображения сильны, а нравоучение у места, хорошо и приятно, и наконец, трагедия сия почитается в числе лучших в российском театре...»1.
Трагедия «Подложный Смердий» является одной из значительных исторических трагедий историко-драматического жанра XVIII века. Ее высоко оценили советские исследователи. «Со стороны композиции, развития действия, решения конфликта, обрисовки характеров, а также со стороны языка трагедия Ржевского нисколько не уступает аналогичным произведениям Хераскова и даже Сумарокова»1 2. Ржевским «была написана одна из наиболее политически острых пьес 1760-х гг.»3.
Трагедия «Подложный Смердий»4 закономерно входит в число драматургических произведений, посвященных обличению тирании. По этой линии она связана с творчеством Сумарокова. Острую для того времени тему о самозванцах Ржевский разрабатывает на материале древнеперсидской истории.
В центре весьма напряженного драматического действия пьесы находится борьба патриотически настроенных персов против незаконной власти двух мидян из племени магов, один из которых объявил себя царем. Звали его Смердием. Он выдал себя за брата царя Камбиса Смердия, на которого был очень похож. Ложный Смердий воспользовался тем, что о смерти настоящего Смердия, убитого по приказанию Камбиса, знали лишь немногие. Переворот был совершен (11 марта 522 г. до н. э.) в отсутствие Камбиса, находившегося в это время в Египте.
Ржевский развернул в своей трагедии на иноземном историческом материале типичную для русской драматургии сюжетную схему, разработанную Сумароковым в «Димитрии Самозванце» на материале отечественной истории. В трагедиях этого типа тирану, опирающемуся на иностранцев, противостоят патриоты — заговорщики, освобождающие свою страну от
1 Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. — СПб., 1772. —С. 189—190.
2 См.: Берков П. Н. Трагедия А. А. Ржевского «Подложный Смер-
дий»//Театральное наследство: Сообщения. Публикации. — М., 1956 —
С. 143.
3 См.: Стенник Ю. В. Жанр трагедии в русской литературе: Эпоха классицизма. — Л., 1981. —С. 81.
4 Текст трагедии в кн.: Театральное наследство: Сообщения. Публикации.— М., 1956. — С. 139—188.
171
тирании, связанной с засильем иноземцев. На первом плане фигуры заговорщиков, стремящихся свергнуть иноземное иго. Автор раскрывает их гражданские качества, патриотическую доблесть. При этом типичным является то, что заговорщики принадлежат к высшим слоям общества, к его элите, являясь в то же время искренними народолюбцами. Если тиран, свергаемый ими, открыто презирает народ, надменно считая себя земным богом, то заговорщики-аристократы глубоко сочувствуют народу, стремятся облегчить его участь. Именно так показаны тиран и выступающие против него заговорщики в «Гамлете» Сумарокова, а затем и в «Димитрии Самозванце». Подобным же образом обрисованы противостоящие друг другу персонажи и в «Подложном Смердии».
По словам Смердия, «царь в своей стране» так же всевластен, как всемогущи «боги во вселенной». Его господству «нет границ». Постоянной линией поведения царя в отношении народа является устрашение, связанное с беспощадной жестокостью. Проявляя единодушие в своем стремлении освободить соотечественников, заговорщики неодинаково относятся к привлечению народа к участию в восстании. Вельможа Идарн считает невозможным «низвергнуть» тирана «с малым» числом единомышленников, тогда как Отан настаивает на совершении переворота силами очень ограниченного числа единомышленников, воодушевляемых любовью к отечеству. Фактически Отан выступает за переворот, совершаемый во имя освобождения народа без участия самого народа. О том, что участие народа в перевороте не входило в планы Отана, красноречиво свидетельствуют слова, содержащиеся во вступительной ремарке к 6-му явлению 5-го действия пьесы: «Пришествие народа приводит в замешательство Отана; он, покинув Федиму и вынув кинжал, старается остановить народ...» Не думает о привлечении народа к участию в восстании и главный заговорщик Дарий, ставший после свержения Смердия царем. Он считает это невозможным по той причине, что народ, находясь под игом мидян, утратил бодрость и смелость. Он способен лишь воссылать «жалобу к богам» и проливать, «стеня под бременем, потоки слез».
Устами Дария Ржевский в сумароковском духе ставит вопрос о высокой ответственности вельмож, обусловленной их общественным положением. Обращаясь к Федиме, Дарий говорит:
А мы, как твой отец, как я и нам подобны,
Которы большею выгодой снабжены И больше своему отечеству должны,
Которы требуем народного почтенья,
Не должны ль дать ему от бедствий избавленья?
За то в отечестве вельможи почтены,
Что первы за него они умреть должны
172
В трагедии переворот совершают шестеро заговорщиков. Седьмым был Дарий. Но в пьесе фигурирует народ, проявляющий, вопреки мнению Дария, ту самую активность, которая привела в замешательство Отана. «Подложный Смердий» является, пожалуй, самой «народной» из всех трагедий того времени, включая и сумароковского «Димитрия Самозванца». О народе, его способности к протесту, к активным действиям постоянно говорят, по-разному оценивая эту способность, персонажи трагедии. Уже в первом действии Патизив, призывая Смердия к более гибкой тактике, заявляет:
В народные сердца коль злоба вкоренится,
От искры сей пожар всегда воспламенится.
Этого пожара не боится Идарн, мотивирующий свое предложение об увеличении числа сообщников тем, что заговорщики, «возмутя народ, удобняе» низложат самозванца. Дочь заговорщика Отана Федима заявляет, обращаясь к Дарию, что гнев народа, низвергающего тирана, а не мстительное чувство («дух злобный») негодующего против деспотического правления одиночки является истинным подтверждением дурных качеств свергаемого с престола правителя и справедливости постигающей его участи:
Хотя б он был таков, как ты изображаешь,
Так должен возроптать народ против его И отлучити прочь от трона своего.
Народ ли на него восстал и негодует?
Нет. Дарий лишь один против его бунтует.
Ржевский поставил в трагедии тему участия негодующего народа в низвержении тирана. В этой пьесе народ активно выступает против Смердия. Это участие отмечается в авторских ремарках и в прямых действиях народа. Так, в ремарке, предпосланной 5-му явлению 5-го действия, говорится: «Народ поспешно выбегает на театр с обнаженными кинжалами, предшествуют ему начальники». Именно это энергичное появление народа на сцене и привелб в замешательство Отана. В последующем народ остается на сцене (его присутствие обозначено в ремарках), проявляя нарастающую энергию и инициативу. Он участвует в главном событии — в убиении братьев-волхвов. Участвует народ и в освобождении героини пьесы от грозящей смертельной опасности. В ремарке по этому поводу сказано: «А между тем, народ отнимает из рук Смердия Федиму...» Не обходится без участия народа и избрание законного царя. Устами представителей народа выражается положительное отношение его к избранию царем Дария: «Великий Дарий муж! Он персов одолжил», «Его кинжал теперь почтенье заслужил», «Да будет Дарий царь!», «Вручаем скиптр ему». Правда, первым на Дария указывает не народ, а один из заговорщиков — Огам. По его предложению на совещании заговорщиков было решено
173
не предоставлять выбор царя «буйности народной» и, предупреждая могущие возникнуть «мятежи и напасти», назвать царем того из заговорщиков, который убьет Смердия. Разумеется, все это выражало либерально-дворянскую идеологию автора, проявившуюся и в других его произведениях, например в баснях и стансах, где поэтизируется простота нравов «незлобивых» селян1. Но даже и эти негативного характера упоминания о «народной буйности», «мятежах и напастях», безусловно отражавшие грозные крестьянские восстания 50-х — начала 60-х годов, о которых не мог не знать Ржевский2, косвенным образом подтверждали значительность изображения народа в трагедии, являясь для него своеобразным фоном.
Большая роль, отводимая народу в трагедии Ржевского, особенно в ее финале, проявилась в одной любопытной новации, связанной с изображением народа. В трагедии «Подложный Смердий» впервые произведена попытка персонифицировать показ народа, введя наряду с изображением его в качестве коллективного действующего лица выступления отдельных его представителей, обозначенных пока не именами собственными, а порядковыми числительными — первый, второй и т. д. Подобная персонификация, применявшаяся Шекспиром, но отсутствовавшая в русских классицистических трагедиях, наблюдается в трагедии Я. Б. Княжнина «Владисан», что было отмечено в свое время Л. И. Кулаковой, справедливо указавшей на новаторский характер этого употребленного Княжниным приема. В настоящее время, когда мы знаем текст трагедии Ржевского, имеются все основания утверждать, что ранее Княжнина этот новаторский прием применил автор «Подложного Смердия».
В этой трагедии прием персонификации применяется довольно широко. В ней фигурируют Один из евнухов, Другий, Третий, Один из начальников, Другий начальник, Один из народа, Другий, наряду с которыми действует и говорит коллективное действующее лицо — Народ. В уста персонифицированных представителей народа Ржевский вложил весьма эмоциональные восклицания, выражающие всю силу негодования и народного протеста против тиранического правления Смердия. Например, Один из народа в разных случаях восклицает: «Разите их», «Пора намеренье свое нам окончать!», «Разите», «Умри! Ваш рок пришел!» С последними словами он поражает кинжалом Патизива.
Сосредоточившись на изображении совершаемого заговор¬
1 См.: Русская басня XVIII и XIX века.— Л., 1949.— С. 87—90; Лиры и трубы: Русская поэзия XVIII века. — М., 1961. — С. 86—87.
2 На усмирение восставших посылались целые полки, происходили на¬
стоящие сражения, заканчивающиеся иногда полным разгромом карателей. См.: История СССР G древнейших времен до наших дней. — М., 1967.—
Т III. —С. 455—466.
174
щиками переворота, Ржевский соприкоснулся с авторами многих антитиранических трагедий, затрагивавшими подобную же проблематику. К числу вопросов, обсуждаемых заговорщиками в «Подложном Смердии» и в этих трагедиях, относится, например, вопрос о том, нужно ли спешить с организацией восстания или же его следует тщательно и долго готовить. Обсуждается также вопрос о том, допустимо ли прибегать в борьбе с тираном к обману и лжи.
Ржевского глубоко интересовал вопрос о взаимоотношениях между деспотией и просвещенной монархией, к размышлениям над которым побуждала политическая современность. Он воспевал в стихах Петра III главным образом за манифест «О даровании вольности и свободы всему Российскому Дворянству». Но антинациональная политика царя, его деспотизм и пруссачество вызвали у Ржевского резко отрицательную реакцию. Ю. В. Стенник’ справедливо усматривает гневную оценку положения дел при Петре III в следующих словах Приксаспа, обличающих угнетателя персов мидянина Смердия:
...Наш царь, вошед на здешний трон,
Нарушил древний весь порядок и закон,
В судах господствует одно произволенье,
Прибыток и корысть и правды удаленье,
Лицеприятие, богатство и родство,
И права лишено вдовство и сиротство.
Все наше воинство ослабло в расхищеньи,
Законы древние воински в упущеньи,
Вельможи мест своих и власти лишены И пред лице его совсем не впущены.
ЭДидяна все Места правленья разделяют,
И царством лишь они персидским управляют,
В презреньи верные отечества сыны,
И только лишь одни мидяна почтены.
В «Подложном Смердии» Отан (он у Ржевского не является сторонником демократии) дивится перемене, происшедшей со Смердием, который из человека, горячо любящего отечество и добродетель, имеющего «кроткое» сердце, превратился в надменного, удалившегося «от дел и от людей» правителя. Недоумение Отана вскоре разрешилось: человек, выдававший себя за сына Кира, не был им в действительности. Но вопрос о превращениях, происходящих с человеком при достижении им высшей власти, этим не снимается. Идарн, выслушав речь Отана, извлекает из нее общий смысл. От частного случая он переходит к обобщению:
Нередко, кто явит под властью добродетель,
На первой степени тот будет бед содетель.
Хоть чувствие она одних честных людей,
Но ею кроется притворно и злодей. 11 См.: Стенник Ю. В. Жанр трагедии в русской литературе: Эпо- ха классицизма. — Л., 1981. — С. 82.
175
Рассматриваемое в контексте развития русской трагедии это, пусть единичное и неразвитое, суждение заговорщика, выступающего против тирании, имеет принципиальное значение. Если Сумароков, чья драматургия являлась для того времени высшим образцом идейности и художественности, писал о превращении строгой власти «в тиранство» под влиянием монаршей страсти, не выходя, таким образом, за пределы этико-психологической постановки вопроса, то в приведенных словах из трагедии Ржевского явственно намечается выход в другую сферу. Не страсть монарха, а само его положение человека, находящегося «на первой (высшей. — В. Б.) степени» власти, производит удивительную метаморфозу, превращая его из носителя добродетели, каким он был, когда сам находился «под властью», — в тирана, в «содетеля» бед. Мысль, высказанная устами Идарна, представляет собой зародыш той концепции, которую разовьет позднее Я. Б. Княжнин в трагедии «Вадим Новгородский»:
Самодержавие повсюду бед содетель Вредит и самую чистейшу добродетель И, невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям1.
То обстоятельство, что резкие суждения о носителях самодержавной власти, а иногда и о самой этой власти появлялись всякий раз в пьесах русских драматургов под влиянием иностранных— древних и новых — исторических и художественных сочинений (в данном случае—Геродота) как бы в виде своеобразных цитат, являлось совершенно закономерным. Наша драматургия не могла противостоять тому восхвалению «богоизбранной» царской власти, которое на протяжении веков давалось во множестве произведений отечественной литературы и публицистики. Только к концу века наша драматургия стала выходить к открытой постановке острейших социально-политических проблем. Но если некоторые важные идеи осваивались русской свободолюбивой драматургией лишь при посредстве опыта мировой литературы, то само развитие этих идей происходило на русской почве естественно и закономерно. Этому развитию в немалой степени способствовала все более утверждавшаяся в общественном сознании мысль об исконности древнего русского «народоправства», художественное освоение которой все ближе и ближе подводило наших писателей и драматургов к идее историзма.
Важно отметить, что автор «Подложного Смердия», сочиняя свою трагедию, опирался и на достижения современной историографии, идеи которой через века и тысячелетия своеобразно перекликались с мыслями «отца истории» Геродота. Прагматизм, стремление рационалистически объяснить отдельные фак¬
' Княжнин Я. Б. Избр. произв. — Л., 1961. — С. 271.
176
ты и события характерами и поведением исторических лиц, интерес к нравам, обычаям, религии народов, частое обращение к историческим примерам и аналогиям — все эти черты, присущие повествованию Геродота, в той или иной степени входили в систему исторических воззрений Вольтера — автора переведенной Ржевским из «Энциклопедии» статьи «История».
В этой статье, в которой первый историк Геродот сравнивается с первым эпическим поэтом Гомером, говорится, что «историк должен держаться цепи одних великих приключений», проявляя максимум внимания «к узаконениям, поведениям, обычаям, купечеству, государственным доходам, хлебопашеству и к умножению народа». В трагедии Ржевского Патизиф призывает Смердия «узнать народны нравы», чтобы, опираясь на это знание, принять меры «ко обузданью» персов. По его мнению, персов отличают дерзость, упорство и неустрашимость. Они нетерпеливы и мстительны. Их характеризует также отвращение ко лжи и притворству1.
Затрагиваются в пьесе и религиозные верования древних персов. Дарий, Федима, персидский вельможа Аспафин поклоняются солнцу, считая его своим божеством. Его именем клянутся, призывают его в свидетели. Но иногда положительные персонажи пьесы восстают против богов, потворствующих злу. Например, Дарий говорит, что если Персия не найдет «в богах защиты», то она найдет защитника в самом Дарии, который «восстанет» за нее «на рок и на богов». В этом случае сумароко- вец Ржевский шел не за своим учителем, а за Вольтером, в трагедиях которого часто встречаются богоборческие тирады.
В трагедии «Подложный Смердий» имеются специфические компоненты исторической драмы, каковыми здесь являются вещий сон и рассказ о событии. Устами Аспафина рассказывается о вещем сне Камвцза и о смерти этого последнего.
Обращаясь к любовной интриге пьесы и к разработанному в ней конфликту между долгом и чувством, отметим, что и в этой области традиционное соединялось у Ржевского с новаторским. Федима, насильственно выданная замуж за Смердия, от начала и до конца сохраняет верность своему супружескому долгу, хотя чувство влечет ее к Дарию, являющемуся, по пьесе, ее женихом. Эта безукоризненная верность героини своему долгу связывает пьесу Ржевского с тем суровым корнелевским конфликтом, наличие которого характерно для трагедий Сумарокова. Но положение сильно осложняется неясностью ситуации, связанной с самозванством Смердия, мидянина, выдавшего
1 По словам Геродота, с детских лет их обучали «трем вещам: верховой езде, стрельбе из лука и правдивости» (Г е р о д о т. История в девяти книгах. — Л., 1972.— С. 55).
Ср. в пьесе слова Отана:
Не должно говорить неправды и врагу,
Я сделать никогда притворства не могу.
12 Заказ 4703
177
себя за сына царя персов. В силу этой неясности, определившейся к концу третьего действия пьесы, Федима, при всей ее готовности до конца выполнить свой долг, по временам затрудняется решить, что же ей надлежит для этого делать. Обращаясь к наперснице, она говорит:
Пармия! Весь мой ум теперь изнемогает
И прямо должности моей не постигает.
Этой стороной разрабатываемой в «Подложном Смердии» коллизии пьеса примыкает уже не к сумароковской традиции, а к тем новациям, которые вводил в драматургию Херасков, предвосхищая преобразование конфликта между долгом и чувством, произведенное позднее Озеровым.
К драматургии Озерова, при посредстве трагедий Я. Б. Княжнина, вела и тщательная разработка авторских ремарок, характеризующая пьесу Ржевского. Проявляя повышенный интерес к внешнему сценическому действию, автор «Подложного Смер- дия» не скупится на подробные указания, касающиеся обстановки, состояния и поведения персонажей в каждый момент действия. Так, не ограничиваясь указанием на то, что действие происходит «в персидском городе Сузах, во Смердиевом доме», автор делает оговорку, что оно развертывается «в проходной зале, между покоев царевых и царицыных». Этим указанием мотивируется появление на сцене персонажей, занимающих различное положение в обществе. В ремарке к 1-му явлению 1-го действия указывается, что «театр представляет убранную храмину, на правой стороне видна несколько вдавшаяся вовнутрь софа, на коей сидит Федима». Упоминания об этой софе несколько раз встречаются потом в ремарках. Тщательно фиксируются в пьесе позы и жесты действующих лиц, отмечается их душевное состояние в тот или иной момент действия. О Федиме, например, говорится, что в начале пьесы она сидит «в глубоком унынии и задумчивости». Затем она распечатывает и читает письмо, «прочтя письмо, встает», «бросается на софу» и т. д. Несколько раз она падает в обморок.
Яркое отражение получает в ремарках напряженная борьба за власть, происходящая в последнем действии. Приведем на выборку несколько таких ремарок: «все соумышленники поспешно выбегают на театр с обнаженными кинжалами», Смердий и Патизиф «вбегают на театр с обнаженными кинжалами», «Дарий выбегает на театр сзади Смердия и бросается к нему с кинжалом» и т. д.
Любопытно, что Ржевский, пренебрегая строгими правилами классицизма, не боялся «окровавить» сцену. Упомянув о евнухах, участвовавших в борьбе, автор трагедии пишет: «Можно прибавить, ежели актерам рассудится, что из них некоторые изранены и окровавлены». Особо следует отметить неоднократно оговариваемые в ремарках паузы. Уже в начале пьесы ука¬
178
зывается, что Пармия «по некотором молчании перерывает безмолвие». Во втором действии Отан, «рассуждая, ходит по театру. Задумчивость его прерывает речи, а речи перерывают задумчивость». В начале третьего действия, открываемого небольшим монологом Федимы, автор пишет в ремарке, что героиня, произнеся его, «в отчаянии садится на софу, и некоторое время на театре молчание». Можно предположить, что большому сценическому успеху пьесы, засвидетельствованному в отзыве Н. И. Новикова, в немалой степени могли способствовать эти выразительные паузы, если они соблюдались актерами. Во всяком случае, для русского театра 60-х годов XVIII века они были несомненным эстетическим новшеством.
Пьеса Ржевского ставилась на сцене, но не попала в печать. «Пантея» Козельского, наоборот, была опубликована, но не ставилась на сцене. Любопытно, что обе пьесы, обнародованные в одном и том же 1769 году, имеют скептическую концовку. В «Пантее» Кир и Пантея приходят к выводу о суетности жизни. К такому же выводу приходит в конце пьесы Ржевского Дарий. При виде горюющей Федимы, только что лишившейся мужа, Дарий говорит:
Не чувствую утех и я, коль плачешь ты,
Коль много смертных век наполнен суеты!
Не подлежит сомнению, что высказываемый обоими драматургами скептицизм вольтеровского типа в какой-то мере был навеян окружавшей их социально-политической действительностью.
Антитиранические мотивы звучат и в трагедиях известного поэта, автора прославленной ирои-комической поэмы «Елисей, или Раздраженный Вакх» В. И. Майкова (1728—1778). Ему принадлежат две трагедии: «Агриопа», представленная впервые в 1769 году, и «Фемист» и Иеронима», опубликованная в 1775 году. Подобно другим драматургам эпохи, Майков принадлежал к сумароковской школе. Но первая его трагедия «Агриопа» явственно несет на себе печать влияния ломоносовского «Демо- фонта», являясь одним из многих свидетельств того, что непродолжительная драматургическая деятельность великого русского ученого и поэта оставила яркий след в истории данного жанра. Вслед за автором «Демофонта» (и за Тредиаковским, автором «Деидамии») Майков избрал, сочиняя «Агриопу», мифологический сюжет, связанный с событиями Троянской войны. В его трагедии в известной мере воспроизводится сюжетная схема «Демофонта». В обеих трагедиях герой наносит глубокую душевную травму героине, полюбив другую женщину, и мучит- ся сам1.
1 Типологическое сходство «Агриопы» и «Демофонта» отмечает Ю. В. Стенник. См.: С т е и и и к Ю. В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха классицизма. — Л., 1981. —С. 78. Ломоносову Майков подражал
12*
179
Сюжет трагедии связан с мифом о сыне Геракла и дочери аркадского царя Алея Авги Телефе. Действие происходит в доме мизийской царевны Агриопы, горячо полюбившей Телефа, который спас жизнь ее отцу. В присутствии Ахилла Телеф обещает жениться на Агриопе и править вместе с ней. Но вскоре он меняет свое решение и отказывается от брака с Агриопой, ссылаясь на гнев богов, повелевающих ему, взяв на себя верховную власть в Мизии, спешить к Трое1. В действительности никакого божественного голоса не было. Все это подстроил коварный и честолюбивый вельможа Азор, в дочь которого По- лидору влюбился Телеф.
В трагедии есть некоторые реалии, указывающие на связь ее содержания с античностью. В ней упоминается, например, имя мизийского (мисийского) царя Теуфрана (Тевфранта), дочерью которого является в трагедии Агриопа. Фигурирует в ней также имя бога морей Нептуна (Посейдона). Неоднократно говорится в пьесе о Трое и герое Троянской войны Ахилле. Однако дух античности, нравы и обычаи древних народов в «Агриопе», как и в других классицистических трагедиях, посвященных этой тематике, почти не затрагиваются и художественно не воспроизводятся. Разрабатывая на античном материале коллизию борьбы между долгом и чувством, Майков рисует переживания современных ему людей, раскрываемые в связи с развертыванием традиционной любовной интриги. Изображение любовной страсти, владеющей героями, соединяется в «Агриопе» с высказыванием устами ее персонажей политических сентенций, выражающих взгляды автора. В этом отношении пьеса Майкова примыкает к поздним трагедиям Сумарокова, отличающимся ярко выраженной политической направленностью.
Подобно Сумарокову, Майков дает советы царям, руководствуясь мыслью о строгом соблюдении законов не только подданными, но и самими носителями высшей власти. Обращаясь к Те- лефу, его наперсник Аристон говорит:
Ты должен сам свои законы наблюдать,
И должен сам своим ты сердцем обладать.
Где правосудие меж смертных водворится,
Когда оно в самих владыках истребится?
В сюжете трагедии, в развитии ее действия многое напоминало о политической жизни России — с ее тревогами и борьбой, дворцовыми переворотами и интригами. Под покровом ночи сторонники Агриопы стараются оградить права своей царевны, собираясь напасть на спящих неприятелей. В свою очередь Те-
н в своих одах. См. об этом в кн.: Майков Василий. Избр. произ. — М., Л., 1966. —С. 15—19.
1 Согласно мифу, Телеф, давший грекам совет, как достичь Трои, сам отказался участвовать в походе, ссылаясь на родственные отношения с Приамом. См.: Мифологический словарь. — Л., 1961, — С. 232. Ср.: Мифы народов мира. — М., 1982. — Т. 2. — С. 498.
180
леф приказывает Аристону готовить полки «к отпору». Азор сообщает Телефу, что им отдан приказ с наступлением ночи, «царевну взяв, вести под стражу отдаленну». Всем своим обликом и поведением Азор напоминал льстивых и хитрых вольмож, окружавших русских царей.
Трагедия кончается, как того и требовали правила классицизма, победой добра над злом. Кончает жизнь самоубийством, изрыгая хулы, Азор. Умирает пораженная пущенной кем-то стрелой Полидора. Перед смертью она просит передать царевне, что чувствует себя виновной во всем происшедшем (о смерти Полидоры и ее отца сообщается устами Вестника, печальное повествование которого является типичным рассказом о событии). «Закалается» Телеф, предварительно возвратив Агриопе неправильно отнятый у нее венец. Задолго до конца трагедии этот движимый страстью правитель начинает понимать, что самоуправными действиями он лишает мисийцев «покоя», принося «бедствия» городу, жители которого будут считать его «своим тираном».
Патриотическая и антитираническая направленность драматургии Майкова отчетливо видна и во второй его трагедии «Фе- мист и Иеронима», действие которой происходит в Константинополе вскоре после его падения. Поводом для написания пьесы послужила повесть «История о княжне Иерониме», переведенная с французского. Автор трагедии проявил по отношению к этому чисто беллетристическому повествованию полную самостоятельность, взяв из него лишь то, что соответствовало его намерениям.
На материале типичной любовно-приключенческой повести он создал трагедию, проникнутую духом героики и патриотизма. Майков круто повернул сюжет. Все стало значительным, исполненным истинного драматизма. В ином свете выступила и горячая взаимная любовь Иеронимы и Фемиста (он же Соли- ман), погибающих в конце трагедии: Иерониму убивает Магомет, Фемист кончает жизнь самоубийством (во французской повести Магомет дает согласие на брак Иеронимы и Солима- на).
То обстоятельство, что героиня трагедии является дочерью Димитрия Палеолога — брата последнего византийского императора Константина XI (так она аттестуется и в повести), а герой ее принадлежит к династии Комниных (в трагедии он именуется сыном Феодора Комнина), свидетельствует не столько о традиционном для жанра высокой трагедии подборе «именитых», знатных персонажей, сколько о желании автора теснее связать содержание своей пьесы с историей.
Трагедия «Фемист и Иеронима» изобилует всякого рода историческими реалиями, типологически сближаясь в этом отношении с сумароковским «Димитрием Самозванцем», в котором драматизированы на отечественном материале события эпохи,
1Я1
еще ближе стоящей к XVIII веку. В трагедии фигурируют имена исторических лиц: императора Константина, Феодора Комнина, Димитрия Палеолога, национального героя Албании Скан- дербека, отважного генуэзца Зустунея, о подвигах которого рассказывается в «Повести о взятии Царьграда», турецких султанов Магомета I, Баязета, Селима (Сулеймана?) и др. Устами действующих лиц названы страны и государства — Венеция, Албания, Венгрия, Караман, говорится о частях света Европе и Азии. Не раз упоминается о Греции и острове Родос, об усмирении жителей которого говорит Магомет.
Большое место занимают в трагедии исторические примеры и воспоминания. Через всю пьесу проходит образ героически обороняющегося Константинополя, падение которого является своеобразным трагическим фоном для развертывающегося в ней действия. Содержание трагедии «Фемист и Иеронима» столь же близко примыкает к этому важному событию эпохи позднего средневековья, талантливо изображенного Нестором Искандером, как примыкают «Демофонт» Ломоносова и «Деида- мия» Тредиаковского к Троянской войне, воспетой Гомером.
Уже в первом явлении первого действия трагедии Фемист, обращаясь к своему другу и единомышленнику Клиту, выступающему под именем начальника серальских садов Мурата (в повести Мурат, как и Солиман, является турком), вспоминает о дне падения Константинополя, называя ужасным этот грозный день. Он рассказывает (в полном соответствии с историческим преданием) о смерти императора Константина, который «скончался во вратах» города, «прехрабро защищаясь». О падении Константинополя, подвигах Зустунея и снова о смерти Константина говорится и в первом явлении третьего действия трагедии. В конце этого действия Фемист, обращаясь мысленно к героям, сражавшимся «за здешние места», призывает их воспламенить своим пламенем его дух, чтобы он мог отомстить поработителям своей родины.
Содержание трагедии «Фемист и Иеронима» было связано не только с прошлым, но и с настоящим. Трагедия писалась во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов, в ходе которой в сложной международной обстановке решалась важная задача приобретения нашим отечеством выхода в Черное море. Уже в начале войны, по словам историка, «была снаряжена морская экспедиция в Средиземное море, с тем чтобы нанести удар туркам с тыла и поднять народы Балкан (греков, албанцев, черногорцев и др.) на борьбу против турецкого ига»1. В свете этих событий получали особый смысл подчеркивание автором пьесы жестокости Магомета и героизма его противников— греков, упоминание имени Скандербека и многое дру-
1 История СССР с древнейших времен до наших дней — М., 1967.— T. III. —С. 520.
182
гое1. Проявленные Майковым готовность и умение связать содержание своей трагедии с современностью, с актуальными задачами родины еще раз подтвердили наличие животворной патриотической традиции, неуклонно развивавшейся в произведениях русской драматургии. Красноречивым свидетельством этого является перекличка майковской трагедии с одной из первых пьес русского театра— с «Темир-Аксаковым действом», где Тамерлан выступает против турецкого султана Бая- зета, печалясь «о своем брате и союзнике Палеологусе». Все это соответствовало обстоятельствам того времени, когда создавалась пьеса, отражавшая защиту царем Алексеем Михайловичем от турецкой агрессии союзника России Польши и собственных интересов Русского государства.
Актуальное значение имели и те политические и нравственные проблемы, которые затрагивались в трагедии «Фемист и Иеронима». В образе Магомета Майков представил типичного царя-тирана, надменного деспота, считающего себя царем вселенной, готового покорить весь мир силой оружия. По яркости изображения душевных свойств злодея этот образ напоминает сумароковского Димитрия. Изображая Магомета в качестве тирана, жестоко угнетающего подданных, целые народы, Майков вносил свою лепту в разработку антитиранической темы2.
В связи с этой темой в трагедии обсуждается вопрос о случаях и обстоятельствах, при которых, по мнению ее героя, допустимо прибегать к хитрости и лукавству. Фемист побуждает Иерониму притворно согласиться на брак с Магометом, заявляя, что это необходимо для свержения тирана, в день бракосочетания которого должно произойти восстание. Моральным оправданием такого поведения по отношению к тирану являются ложь, хитрость и лукавство, примененные последним в качестве средства порабощения народов. Это же средство может быть употреблено, как думает Фемист, и для их освобождения. Обращаясь к Иерониме, Фемист говорит:
Не должно ль, чтоб тому я лестию отмщал,
Кто лестию своей других владык прельщал И клятвой Греции падение составил?
Чрез хитрости его нас целый свет оставил;
Он пропасть нам сию лукавством ископал,
Так должно, чтоб в сию он пропасть сам ниспал.
Подобная постановка вопроса напоминает тактику, применяемую Шуйским в трагедии Сумарокова «Димитрий Самозванец». Разница лишь в способе оправдания хитрости и лу¬
1 На связь содержания трагедии Майкова с событиями русско-турецкой войны указывает А. В. Западов. См.: Майков Василий. Избр. произв. — М.; Л., 1966. —С. 50.
2 О наличии в пьесе темпераментных выступлений против тирании говорит А. В. Западов. См.: там же. — С. 50—51.
183
кавства, используемых в борьбе против тирании. Это оправдание заключается для Шуйского в самом существовании тиранической власти, исключающем или затрудняющем открытую и честную борьбу.
Несомненную актуальность имел в самодержавной России XVIII века и затрагиваемый в трагедии вопрос о праве монарха на престол. Чем обеспечивается это право? Чем оно подтверждается? В трагедии нет сколько-нибудь развернутых суждений действующих лиц по данному вопросу. Единственное высказывание на эту тему принадлежит персонажу, не внушающему особого доверия. К тому же в монологе (он принадлежит наперснику Магомета Осману) излагается позиция не данного лица, а янычар, которым тут же дается весьма отрицательная характеристика. И все же это высказывание представляет интерес постановкой вопроса о «породе» и «достоинстве» монарха. Обращаясь к Магомету, Осман говорит:
У страшного сего и гордого народа Достоинство на трон восходит, не порода;
Они, достоинство единое любя,
Взвели на сей престол монархом и тебя.
Если в трагедии Майкова вопрос о «породе» и «достоинстве» монарха ставится вскользь и весьма дискуссионно, то в «Димитрии Самозванце» Сумарокова он звучит серьезно и получает позитивное решение, отражающее весьма принципиальную позицию автора — дворянского либерала, для которого заведомо неприемлемы ссылки на «породу». Устами рассудительного Пармена, нередко высказывающего, хотя он и является наперсником злодея Димитрия, точку зрения автора, в трагедии говорится о ее отрицательном герое:
Когда владети нет достоинства его,
Во случаи таком порода ничего.
Дальше идут слова, приведенные выше:
Пускай Отрепьев он; но и среди обмана,
Коль он достойной царь, достоин царска сана.
Сближение Майкова с его учителем в драматургии по этому (и не только по этому) вопросу знаменательно.
Внимание современников не могла не привлечь та весьма своеобразная роль, которую играли в истории Турции янычары, составлявшие привилегированное и своевольное войско, не раз изменявшее своим вмешательством политическую ситуацию в стране. Буйное и своенравное поведение янычар оттенено самим сюжетом трагедии. Недовольные любовным увлечением султана, отвлекающим его внимание от военных авантюр, они устраивают бунт. Осман говорит о янычарах:
Их наглость может все сие располагать,
На троны возводить и с тронов низвергать,
184
Кто был вчера монарх на их высоком троне,
Сегодня в узах тот и жизнь влачит во стоне.
Подобные характеристики янычар и их заметная роль в сюжете пьесы невольно побуждали читателей вспоминать о многочисленных дворцовых переворотах, совершившихся при активном участии гвардии.
Наконец, внимание читателей, соотносивших материалы пьесы с современностью, привлекали династические вопросы, возникавшие в связи с развитием ее сюжетного действия. Проявляя недовольство султаном, янычары решили возвести на престол его сына:
Явися, государь, смущенному народу,
Явися и прерви ужасну непогоду,
Грозящая толпа янычар вопиет:
Да взыйдет на престол младый наш Баязет. *
Исследователи справедливо указывают, что современники могли связывать эту ситуацию с обещанием Екатерины II уступить трон ее сыну Павлу. Об этом же напоминала трагедия Вольтера «Меропа», обращение к которой свидетельствовало о вольномыслии русского писателя. В начале этой трагедии, переведенной Майковым стихами на основе прозаического перевода, Меропа заявляет о своей готовности передать власть сыну Эгисту:
Эгисту троном сим довлеет обладать,
Погибни сердце то, которо алчет власти,
Та мать, котору льстят сыновния напасти.
Не услаждение, но самый лютый яд,
Кто мнит после своих наследовати чад.
4
Выдающимся драматургом сумароковской школы, автором вольнолюбивой трагедии, обозначившей один из этапов в развитии идейного содержания русской классицистической драматургии, был Н. П. Николев (1758—1815).
Николев воспитывался в доме княгини Е. Р. Дашковой, приходившейся ему дальней родственницей. Получил хорошее образование. Владел, по словам его биографа Стефана Маслова, французским и итальянским языками, на которых мог «не токмо свободно изъясняться, но и писать...»1.
Рано начав свою творческую деятельность, Николев обнаружил уже в юношеских своих произведениях критическое отношение к окружавшей его действительности, поддерживавшееся в нем его близкими отношениями с оппозиционно настроенными Никитой и Петром Паниными.
Николев был убежденным противником деспотизма. В «Примечаниях» к «Лиро-дидактическому посланию Е. Р. Даш-
1 Памятник друзей Николаю Петровичу Николеву. — М., 1819. — С. 15.
185
новой» (1791) он говорит, что ему понятен смысл слов «монархия», или «республика». Но в словах «самоначалие», «самовластие», «деспотизма» (так он писал слово «деспотизм») совсем нет, по его признанию, «существа»1. Эти слова, как ему представляется, лишены смысла и свидетельствуют об извращении человеческой природы. Хотя Николев утверждал в этих же «Примечаниях», что существовавшее в «российской империи правление есть монархическое, а не деспотическое», его произведения говорили о другом. Порицая самодержавный деспотизм, Николев подвергал критике и религиозный фанатизм, являвшийся идеологическим оплотом тирании.
Критике деспотизма посвящены написанные Н. П. Николе- р.ым трагедии: «Пальмира» (1781) и «Сорена и Замир» (1784).
Трагедия «Пальмира» написана на условно-историческую тему. Действие ее происходит в глубокой древности в Финикии. Ее персонажи принадлежат к двум соперничающим городам- государствам— Тиру, в котором происходит действие трагедии, и Сидону. «Оба города, — пишет древнегреческий историк и географ Страбон, — были знамениты и славны как в древности, так еще и в наше время»2. В трагедии отсутствуют упоминания о каких-либо исторических событиях. Ничего не проясняют и имена действующих лиц. Героиня пьесы — дочь тирского царя Ироксерса, полюбившая сына сидонского царя князя Омара, названа автором Пальмирой. Но это имя, видимо, никак не связано с названием древнего сирийского города и перешло в пьесу Николева из трагедии Вольтера «Магомет», откуда взято, по всей вероятности, и имя ее возлюбленного, которое у Вольтера носит военачальник Магомета.
Не проясняется время действия пьесы и ее сюжетной коллизией, лишенной исторической характерности. Конфликт пьесы обусловлен войной между Тиром и Сидоном, поставившей в сложные отношения ее персонажей. Ироксерс хочет расправиться с добровольно отдавшимся в плен (из-за любви к Пальмире) Омаром, желая отомстить за смерть своего сына Клеар- ха, который находился в плену у сидонского царя и погиб при попытке увезти в Тир сидонскую царевну. Всю эту вымышленную ситуацию, литературная условность которой подчеркивается симметричным расположением фигур (оба юноши, Клеарх и Омар, — пленники, каждый из них влюбляется в дочь правителя вражеской державы), весьма трудно соотнести с каким-то определенным моментом в многовековой истории Тира и Сидона.
В трагедии «Пальмира» отчетливо выступает характерная для прогрессивной драматургии тема обличения тиранов. Чертами тирана в ней наделен Ироксерс, грозящий жестоко рас¬
1 Николев Н. П. Творения. — М., 1796. — Ч. III. — С. 296.
2 Страбон. География (в 17 книгах). — Л., 1964.— С. 700—701.
186
правиться с Омаром (сжечь его на костре), заносящий руку с кинжалом (в первом варианте 5-го действия) на собственную дочь. Недаром Омар называет его «тираном». Однако ан- титираническая тема, роднящая Николева с Сумароковым и Вольтером, не получила развития в этой трагедии. Связь с Вольтером проявляется в ней не столько по линии обличения тирании, сколько по линии также свойственной Вольтеру склонности к чувствительности, к подчеркнутому драматизму и сценическим эффектам.
Установка на чувствительность, сопровождаемая нагнетанием драматизма, проявляется прежде всего в изображении нежной и трогательной любви Пальмиры и Омара. Поглощенность этим чувством в особенности характерна для последнего. Более мужественно ведет себя героиня, именем которой вполне оправданно названа пьеса. При всей своей пылкой любви к Омару она без колебаний решает спасти «отечество» в момент, когда Омар с оружием в руках выступает против ее отца. Образ Пальмиры, безусловно, может быть отнесен к числу героических женских образов.
Драматизм, связанный с изображением любовной страсти, подчеркивается ремарками, напоминающими те авторские указания на необычайно сильные переживания героев, которые имелись в пьесах ранних русских драматургов.
Характерной чертой стилистики этой пьесы является повышенное внимание ее автора к театральным эффектам. Действие происходит не только днем, но и в ночное время. Эта эффектная и чувствительная трагедия ставилась на сцене. Впервые «Пальмира» была представлена на сцене Московского театра 22 апреля 1783 года.
Более значительным произведением Николева является его трагедия «Сорена и Замир», написанная, как и «Пальмира», на условно-историческую тему.
Пренебрегая историческими реалиями, Николев сосредоточился в «Сорене и Замире» на анализе страстей, который он связал с постановкой острых современных социально-политических и религиозно-философских проблем.
Трагедия принадлежит к числу пьес, в которых герой-христианин подвергается суровой критике, а противостоящие ему язычники рисуются в положительном свете. Обычно добродетельные монархи-христиане противопоставлялись в драмах язычникам, выступающим в качестве жестоких тиранов или смешных невежд. В подобной же роли идеальных персонажей, противопоставляемых «безбожным» язычникам, выступали у драматургов и библейские герои, поскольку они являлись сторонниками единобожия. При всей сюжетной и идейной близости к «Альзире» Вольтера «Сорена и Замир» является совершенно самостоятельным произведением, имеющим собственную идейно-художественную концепцию.
187
Николев по-своему расставляет акценты, создавая законченные и убедительные образы. У Вольтера Альзира становится христианкой и выходит замуж (подчиняясь отцу) за Гус- ыана, так как считает погибшим Замора. Возлюбленный Со- рены Замир тоже считается погибшим, но она верит в благополучный исход и гордо отвергает предложение влюбленного в нее Мстислава. В ее лице Николевым введен в драматическую литературу еще один героический женский образ. В свою очередь спасшийся от гибели Замир решительно отказывается принять христианство, разрушая своим отказом коварный замысел Мстислава разлучить его с Сореной на том основании, что у них не будет единой веры. В трагедии содержится страстная защита веротерпимости, религиозного вольномыслия. Устами наперсника Мстислава Премысла Николев говорит: «Все веры суть равны, коль бога чтут за бога»1. В условиях самодержавно-крепостнического государства, где православие любыми средствами внедрялось в умы русских и «инородцев», критическое изображение деспота-христианина и проповедь веротерпимости имели несомненное прогрессивное значение.
В трагедии тираном-христианином оказывался верховный правитель Русского государства, «царь Российский», как его называет автор. Изображение в качестве тирана и злодея главы Русского государства ставит трагедию Николева рядом с «Димитрием Самозванцем» Сумарокова и «Бориславом» Хераскова (в его первой редакции). Слова Замира о поклонении «идолам в венце» и раболепстве перед «пышным троном», о том, что «гонят вольность, честь, а мужество без действа», могли быть восприняты зрителями и читателями как характеристика общественных условий, существовавших в России 80-х годов XVIII века. По силе отрицания самодержавного деспотизма данная трагедия, безусловно, стоит в ряду самых лучших, самых передовых творений своего времени.
Трагедия «Сорена и Замир» имеет этапное значение в развитии свободолюбивой русской драматургии. В ней закрепляются и получают дальнейшее развитие наиболее характерные темы и идеи лучших пьес предшествующего периода. Такими идеями являются отрицание божественного происхождения царской власти, утверждение закона и народного блага в качестве высших ценностей, осуждение захватнических войн, проповедь истинного патриотизма. Вслед за Сумароковым и другими драматургами Николев показал в «Сорене и Замире» тщеславного, властного, честолюбивого правителя, все более и более утверждающегося на пути тиранства и деспотизма под влиянием владеющей им любовной страсти. В трагедии есть немало пылких антитиранических тирад, стоящих в одном ря¬
1 См.: Стихотворная трагедия конца XVIII —начала XIX в. — М.; Л.. 1964. —С. ЮЗ.
188
ду с подобными выступлениями Сумарокова. К их числу относятся, например, слова Замира, обличающие Мстислава в том, что он, «тиранство возлюбя», дышит «народным стоном» и пишет «кровию людей свои злодейства». Такими словами, подкрепляемыми всем ходом действия пьесы, Николев подводил к высказанной уже Сумароковым (в «Гамлете», «Димитрии Самозванце») мысли о правомерности восстания против тирана. «Тирана истребить есть долг, не злодеянье», — говорит Николев устами своей героини, утверждая законность, нравственную правомерность деяний, казавшихся беззаконными еще Пушкину в период создания им оды «Вольность».
В трагедии «Сорена и Замир» тирану Мстиславу противостоит (в этом Николев тоже следует традиции лучших драматургов предшествующего времени) образ идеального правителя — князя Замира, являвшегося другом своих соплеменников («на троне был их друг, и были все счастливы!»). Но в пьесе нет торжества добра над злом, победы «доброго» царя над царем-тираном. Пьеса заканчивается трагично. Замир погибает от руки Сорены, по ошибке поразившей его кинжалом вместо Мстислава, а затем убившей себя, Мстислав же остается в живых, испытывая позднее раскаяние. Мысль о возмездии повисает в воздухе.
Если в «Гамлете» и «Димитрии Самозванце», а также в «Бориславе» (правда, с иным, «соглашательским» исходом) рисуется победоносное восстание вельмож, поддержанных народом, то в «Сорене и Замире» никакого восстания не происходит, а попытка Сорены в одиночку расправиться с Мстиславом заканчивается трагической неудачей1 * з. Несчастными и бессильными выглядят у Николева «воины Замировы», появляющиеся в качестве пленных в двух явлениях пьесы (в 4-м явлении 3-го действия и в 7-м явлении 4-го действия). Неудивительно, что Замир, обращаясь «к воинам своим», призывает их не бороться с врагами, а умереть вместе с ним. Как разительно отличаются по своему положению, по своей роли в развитии действия, в образном раскрытии идеи «воины Замировы» от «воинов», появляющихся в конце сумароковского «Димитрия Самозванца», чтобы вершить суд над тираном!
Написанная после восстания Пугачева, трагедия «Сорена и Замир» отразила горькие раздумья, разочарования, опасения, мечты ее автора, обобщившего, разумеется в субъективном преломлении, опыт последних лет. Но при всем различии в своей тональности пьесы Сумарокова и Николева являлись порождением одной и той же дворянской свободолюбивой оп-
1 Бессильным оказываются представители народа («американцы») и в
трагедии Вольтера, где у поборников свободы «несчастие всю храбрость превышает». См.: Альзира, или Американцы/Пер. Д. И. Фонвизина//Ф о н в и-
з и н Д. И. Первое полн. собр. соч. — СПб., 1883. — С. 17.
189
позиционной мысли, основным пафосом которой был протест против самовластия.
Развивая идеи своего предшественника, Николев в некоторых отношениях пошел дальше его. Сумароков, поучая царей, обращался к их правосознанию и совести, призывал их бороться со своими страстями, уважать закон, любить своих подданных. Если порочный царь оказывался неисправимым, его свергали, заменяя «добрым» царем, причем принцип самодержавия оставался незыблемым. Даже в «Димитрии Самозванце» Сумароков заявляет устами Георгия: «Самодержавие России лучша доля». В трагедии Николева, что само по себе характерно, нет таких решительных высказываний в пользу самодержавия, хотя, судя по всему ходу действия пьесы, расстановке персонажей (образ идеального князя Замира), монархический образ мыслей не был ему чужд. Однако Николев, и это ясно высказано в его пьесе, выступал за ограничение монархии, видимо в духе Н. И. Панина и членов панинской партии, в чем, собственно, и состояло новшество, введенное им в состав идей прогрессивной русской трагедии. Именно ограничение власти самодержца может, по мысли Николева, противостоять влиянию дурных страстей, присущих монарху. В трагедии по этому поводу говорится:
Но если и цари покорствуют страстям,
Так должно ль полну власть присвоивать царям?
Еще яснее эту же мысль высказывает в трагедии Премысл, который говорит:
Несчастнейший монарх! Россия пренесчастна!
Вот следствия, когда в царе душа пристрастна!
И вот каков тогда закон венчанных глав!
Исчезни навсегда, сей пагубный устав,
Который заключен в одной монаршей воле!
Льзя ль ждать блаженства там, где гордость на престоле?
Где властью одного все скованы сердца,
В монархе не всегда находим мы отца!
В трагедии «Сорена и Замир» трактуются не только политические, но и религиозно-философские проблемы. Развивая в этом направлении традиции, давно существовавшие в русской драматургии, Николев разрабатывал их на новой идейно-художественной основе, используя опыт Шекспира, воспринятый им через Сумарокова и Вольтера. Персонажи трагедии тяготеют к решению философских вопросов. Их мучат сомнения, они хотят понять смысл человеческого бытия, причину возникновения добра и зла. Видя несовершенство мира, они высказывают сомнение во всесилии божественного промысла, обращаются к богу или богам со словами укора, протеста. В этом отношении Николев тоже был традиционен, поскольку подобные упреки в адрес божественных сил встречались и в пьесах прежних драматургов. Но у Николева имеется здесь отличие от его
190
ближайшего предшественника — Сумарокова. С высокой похвалой отзываясь о пьесе Вольтера «Меропа», Сумароков замечает: «Жаль только того, что отчаянная Меропа, будучи добродетельна, сердится на богов». О себе самом Сумароков в этой связи говорит: «Я добродетельных людей никогда против богов говорити не заставляю». У Николева «против богов» «говорят» и «добродетельные люди», например Сорена, которая в минуту отчаяния, впадая в пафос «вольтеровского» отрицания, восклицает:
О боги!., но уж вы престали быть богами;
Бессильны вы теперь, бессильны пред врагами!
О бессилии богов говорит и Замир:
О боги! сколько вы против меня ни злобны,
И вы того, и вы соделать неудобны.
Наличие в трагедии подобных выступлений усиливает общую свободолюбивую направленность пьесы, способствуя вместе с тем созданию атмосферы напряженных поисков ответа на волнующие вопросы человеческого бытия.
В этом отношении показателен образ Мстислава, представленного не просто тираном, но мыслящим человеком, стремящимся разобраться в себе и в окружающем мире. Уже много раз авторы классицистических трагедий подвергали устами самих героев тщательному, по временам весьма тонкому анализу их внутренний душевный мир, фиксируя внимание на том разладе между чувством и разумом (долгом), который составлял основу конфликта. Николевский Мстислав не ограничивается констатацией этого разлада. Он хочет узнать причину его, обращаясь за ответом к «творцу»:
Творец! Открой мне то, чего не постигаю.
Отколе сей раздор и чувствий смесь ужасна,
Которой наша жизнь счастлива и несчастна!
Мстислава волнуют не только эти вопросы. Обращаясь к богу, он говорит:
Ты царь, вознесшийся над нашею судьбой;
Ты все для нас: живем и правимся тобой!
Все действа наши суть твое соизволенье!
Ты праведен: почто ж мы знаем преступленье?
Ждем казней от тебя? Зло в свете есть почто?
(став на колени)
Открой, всеведущий, открой, творец, мне то;
Ты создал все, всему довлеет быть причина.
(восстав)
Куда я мысль простер... о таинства пучина,
В котору смертному пронйкнути нельзя,
К которой вечно нам неведома стезя!
Тебя лишь знает тот, кто правит небесами;
А если б знали мы, мы боги были б сами.
191
Этот монолог Мстислава, составляющий 3-е явление 4-го действия трагедии, является еще одним («философским») вариантом молитвы Клавдия в сумароковском «Гамлете», приобщившем нашу публику и наших драматургов к Шекспиру. Вся фактура монолога — обращение к богу, обозначенное теми же, что и у предшественников, ремарками, — свидетельствует о том, что этот монолог соотносится со знаменитой сценой из «Гамлета».
Этим еще более подчеркивается значение в истории русской драматургии первой антитиранической трагедии Сумарокова «Гамлет», ее программный характер.
Вместе с тем наличие сквозного шекспировского мотива, проходящего через трагедии целого ряда русских драматургов, неоспоримо свидетельствует о том, что творческое освоение шекспировского наследства происходило на протяжении всего обозреваемого периода. Оно шло рядом с интенсивным использованием произведений Вольтера, относительно которого Н. М. Карамзин, говоря о вольтеровской «Смерти Цезаря», заметил, что всем лучшим в своем творчестве автор «Меропы» обязан Шекспиру.
Насыщая свои пьесы, особенно «Сорену», глубоким социально-философским содержанием, Николев одновременно усложнял и «укрупнял» характеры, делая их более емкими, отходя от однолинейности и схематизма и приближаясь в какой-то мере к живым, многомерным характерам пьес Шекспира. Вместе с тем он упрощал язык трагедии, который является у него менее архаизированным, чем, например, у Сумарокова.
Подобно Хераскову (и Княжнину, а позднее Озерову), Николев и во второй своей трагедии уделяет большое внимание зрелищно-сценической стороне, сценическим эффектам. Он и здесь более подробно, чем Сумароков, разрабатывает вступительную ремарку. Не ограничиваясь словами «действие в Полоцке, в царских чертогах» (на этом остановился бы Сумароков), Николев продолжает: «Театр представляет царские чертоги. Вдали виден храм божий, отдаленный от места представления большими сеньми». В пятом акте действие происходит (как у Хераскова в «Венецианской монахине» и у самого Николева в одном из действий «Пальмиры») ночью («Театр представляет ночь», — гласит ремарка). Действующие .лица выходят на сцену «со свечами». Нагнетая атмосферу таинственности («Везде ужасна тьма! Объемлет душу страх!» — говорит наперсница Зенида), Николев вместе с тем усиливает драматизм. В ночной темноте Сорена принимает Замира за Мстислава и поражает его кинжалом. В ремарках и репликах отмечается сила переживаний героев. Мстислав дважды «упадает в креслы», обращается к Сорене, «взглянув на нее с великим чувством», плачет, произнося один из монологов. Столь же остро реагирует на происходящее и Сорена, о переживаниях
192
которой выразительно говорят ремарки: «трепеща», «упав без чувств» и т. д.
Трагедия «Сорена и Замир» имела большой успех у зрителей, чему способствовали глубина и актуальность ее содержания, острый драматизм сюжета, большие литературные достоинства. По свидетельству С. Н. Глинки, во время представления пьесы «при резких выходках против тиранов и тиранства раздавались громкие рукоплескания»1.
Московский главнокомандующий Я. А. Брюс приостановил ее постановку и препроводил императрице текст трагедии, отчеркнув в нем слова Премысла: «Исчезни навсегда сей пагубный устав» и т. д. Екатерина II сделала вид, что не находит в этих словах ничего предосудительного, и разрешила продолжать представление. После московских представлений (на сцене Петровского театра) пьеса ставилась в Петербурге. С. Н. Глинка и биограф Николева Стефан Маслов2 свидетельствуют о том, что пьесу с одобрением встретили в том самом панинском кружке, к политическим идеям которого она была близка.
Следует упомянуть о попытке подражать «Сорене» Николева, предпринятой его единомышленником Д. П. Горчаковым3. Существует мнение, что имеется неопубликованная трагедия Д. П. Горчакова из жизни Америки, которую он написал, по его словам, желая «лавры разделить с творцом бессмертный Сорены»4.
Но и независимо от прямых подражаний трагедия Николева имела важное принципиальное значение как замечательная свободолюбивая, антитираническая пьеса, явившаяся предшественницей многих трагедий начала XIX века, написанных на условно-историческую тему.
Кроме «Пальмиры» и «Сорены и Замира», Николев не опубликовал ни одной трагедии (как известно, он писал комедии, лучшей из которых является комическая опера «Розана и Любим», содержащая резкую критику крепостнических нравов). В литературе имеются сведения еще о четырех его трагедиях: «Святославе», «Софии», «Матильде» и «Орфии»5. Из них обнаружена пока лишь одна — трагедия «Святослав», хранящаяся в рукописном отделе Государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина6.
Трагедия «Святослав» выразительно запечатлела характер¬
блинка С. Н. Записки. — СПб., 1895.— С. 160.
2 См.: Памятник друзей Николаю Петровичу Николеву. — М., 1819. —■ С. 22.
3 Д. П. Горчаков входил в литературный кружок Ф. Г. Карина, к которому во второй половине 70-х годов примыкал Н. П. Николев. См.: Поэты XVIII века.— Л., 1972. —Т. II. —С. 20.
4 Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. — Л., 1959. — С. 19.
5 См.: Памятник друзей Николаю Петровичу Николеву. — М., 1819.— С. 26, 32, 97.
6 См. о ней ст. Л. В. Витковской. — Рус. лит, 1984, Л* 4.
13 Заказ 4708
193
ные идейные мотивы русской передовой драматургии, закрепленные и в «Сорене и Замире». В «Святославе» на материале, заимствованном из древнерусской истории, ставятся и решаются актуальные вопросы современности. Николев создает политическую и философскую трагедию, проникнутую глубокой гуманностью. Через всю трагедию проходит мысль о человеке и человечности, о высоком назначении и обязанностях человека, призванного смирять дурные страсти. Трагедия призывает уважать права человека, видеть людей даже ’во врагах. Но гуманизм Николева имел и свою слабую сторону, оставаясь гуманизмом отвлеченно-моралистическим1. Все свои упования Николев возлагал в эту пору на внутреннюю перестройку человека.
Трагедия «Святослав» ярко отразила надежды дворянских либералов на правительство Александра I в первые годы его царствования. В посвящении к трагедии Николев приветствует либеральные мероприятия нового царя.
В трагедии «Святослав» Николев развивает мысль о монархе— отце отечества. Таким отцом отечества в пьесе является Святослав. Выражая убеждения автора трагедии, Святослав говорит:
Монархи справедливы
Лишь счастьем подданных велики и счастливы.
В трагедии много говорится о дворянах,
Которых правило, отечество любя,
Для пользы оного позабывать себя.
Вслед за Сумароковым Николев утверждает, что титулы и грамоты дворянам «дает заслуга их, не знатная порода»:
Все люди на земле рождением равны,
Всем людям имена по роду их даны.
Гуманистическая настроенность автора «Святослава» ярче всего проявилась в трактовке им проблем войны и мира. Николев резко порицает захватнические, грабительские войны, причину которых он видит в дурных страстях людей, жаждущих сокровищ и славы. Он отказывается считать истинным героем завоевателя, поработителя народов. Завоеватель, превративший «в ничто труды нещетных лет», лишь по имени является монархом, «по действию» же он — «злодей».
В трагедии явственно выступает просветительская концепция истории, согласно которой конечной причиной социальных неустройств, разорительных войн, господства зла в мире объявляется невежество, слепота страстей, бунт «злых дум», подавляющих силу рассудка.
1 Отвлеченно-моралистический характер убеждений Николева отметил Г. П. Макогоненко. См. его вступительную статью в кн.: Поэты XVIII в. — Л., 1972. — Т. I. —С. 53.
194
Что в мире было, есть и что сулит он вечно?
Страстей людских раздор; сражение сердечно;
Желанье все иметь, и все имев, скучать;
Всему завидовать, друг друга огорчать И к огорченному не чувствовать жаленья,
Алкать сокровищей, величеств, поклоненья;
Стремиться вознести себя на высоту И, счастьем наконец назвав одну мечту,
Злых дум единый бунт, рассудка неустройства,
Друг друга в слепоте лишать чрез то спокойства.
Вот путь, которым мир едва ль не весь идет,
Бог сердца позабыт... и все друг друга жрет.
Но автор трагедии все же верит в благополучный исход. Силам зла противостоят силы добра, на победу которых надеется Николев. Эти силы являются естественными, природными силами и потому они не могут быть искоренены. Неистребимые эти силы заключаются в любви, в поклонении человека красоте. Отвечая на слова верховного военачальника и своего наперсника Завлоха, удивленного сообщением о том, что суровый Святослав переживает любовные мучения («Что слышу! От любви вздыхает Святослав?»), герой трагедии заявляет:
Вздыхает: и таков судьбы моей устав,
Природы всей...
Подчиняясь этому уставу всей природы, Святослав видит в нем живительную силу, спасающую мир от разрушения:
Ах! Если б злых сердец не правила любовь,
Давно бы лона вод преобратились в кровь!
Давно бы смертные, друг другом изъязвленны,
Во собственной крови все были потопленны!..
Любовь, мой друг! одна спасает естество:
И сердце днесь мое в ней видит божество!
Если Святослав называет любовь своим божеством, так сказать, метафорически, то его возлюбленная Азира поклоняется этому божеству буквально, молится ему. В трагедии фигурирует традиционный компонент—молитва, обращенная в данном случае к необычному божеству — богу любви, являющемуся одновременно богом мира и богом согласия. Судя по наличию в трагедии данной молитвы, автор «Святослава» несколько отступил от того религиозного свободомыслия, которое так ярко проявилось в «Сорене и Замире». Обращаясь к богу, «о котором мы толь гордо говорим», «чьи судим промыслы толико дерзновенно», Азира заявляет, что его «бытие» заключено «в премудрых действах», что им «все дышит, все живет». Но стоило героине назвать своего бога, как сразу же выяснилось, что в нем, по сути дела, нет ничего мистического, что этим богом является «сама любовь».
О милой, милой бог! Иль ты сама любовь,
Владычица сердец, чувствительных отрада,
Будь сердцу моему в сии часы ограда!
13*
195
Азира просит бога прекратить вражду между ее отцом и
возлюбленным:
Смири их! Мир твой плод... Согласия ты бог!
Гуманистический пафос трагедии «Святослав» заключался прежде всего в прославлении мира и дружбы («согласия») между народами и в решительном осуждении жестокости и кровопролития. Стремясь возвеличить эти гуманные идеи, связанные с многовековыми благородными традициями русской литературы, Николев пытался найти для них религиозную санкцию, выразившуюся в обожествлении любви.
Трагедия «Святослав» создана по всем правилам классицизма, убежденным сторонником которого являлся Николев. Она написана александрийским стихом и разделена на пять актов. В ней есть наперсник и наперсница. Ее коллизия основана на борьбе между долгом и чувством: дочь хазарского князя Азира любит российского князя Святослава, которого она должна ненавидеть. В трагедии добродетель торжествует над пороком: закалывается коварный вельможа Злодар, само имя которого недвусмысленно говорит о его моральной низости. В трагедии соблюдены единства времени, места и действия. Она написана «высоким» стилем. Ее персонажи принадлежат к высшему, избранному кругу, а ее сюжет взят из древней истории, к которой рекомендовала обращаться за материалом для драматических произведений теория классицизма.
Но в «Святославе», при всей несомненности его классицистического происхождения, имеются и явные признаки сентиментализма, теоретическим противником которого был Николев. Характерно, что Николев выступал против сентименталистов, борясь за высокую гражданственность литературы. Он обвинял сентименталистов за мелочность тематики их сочинений, за склонность их «пустое сочинять».
Однако в своем художественном творчестве Николев все же отдал дань сентиментализму, что отразилось на его сочинениях разных жанров. Интересно, что автор «Лиро-дидактического послания»1 не только обращался к жанрам, облюбованным сентименталистами, но и пользовался подчас теми самыми специфическими для поэтов-сентименталистов художественными средствами, за обращение к которым ои сам же высмеивал этих поэтов. В критической литературе не раз приводились слова Николева из «Предисловия» к его «Лиро-дидактическому посланию» о творцах «голубков, из коих есть чистенькие, а есть и
1 См.: Альтшуллер М. Г. «Лиро-дидактическое послание» Н. П. Николева.— Ученые записки Ленингр. гос. ун-та. Русская литература. Серия филологич. наук. — 1968. — Вып. 72. — С. 208—214; Арзуманова М. А. Из истории литературно-общественной борьбы 90-х годов XVIII века. (Н. П. Николев и Н. М. Карамзин)//Вестник Ленингр. гос. ун-та/Серия истории, языка и литературы. — 1965. — Вып. 4. — С. 73—83,
196
сизые, и совсем смурые», явно намекающие на автора известной песни «Стонет сизый голубочек» поэта-сентименталиста
И. И. Дмитриева, с которым создатель «Сорены и Замира» постоянно полемизировал. Но сам Николев, разрабатывая вслед за Сумароковым лирический жанр песни, написал стихи!
Полно, сизенький, кружиться,
Голубочек, надо мной!1
Элементы сентиментализма исследователи обнаруживают и в драматургических произведениях Николева2*
В трагедии «Святослав» намечено новее понимание любовной страсти, гармонирующее с ее идейной концепцией. Это понимание соседствует в ней с традиционной классицистической трактовкой борьбы между долгом и чувством, выраженной в словах и в поведении Азиры. Азира считает свою любовь к Святославу преступной. Она называет себя жертвой «лютой страсти»:
Несчастная! Кого виновным ты щитаешь?
Винишь отца, а страсть к врагу питаешь?
Скрепись и должности все чувства повинуй!
Однако, наряду с долгом, понимаемым в смысле «должности», решительно противостоящей чувству, любовной страсти, в трагедии фигурирует и долг самого этого чувства, долг, о котором не раз говорится в ней устами разных действующих лиц. Размышляя о поступках Азиры, Гиркан говорит: «Ужель на долг любви долг крови пременит?» Сама Азира, пытаясь осмыслить трагизм своего положения, восклицает: «Долг права! Долг любви!»
Нетрудно заметить, что слова героини о долге любви вполне согласуются с ее молитвой, обращенной к богу любви, отраде «чувствительных». Этому же богу поклоняется, как мы видели, и Святослав, обращаясь к которому Завлох говорит: «Любовь в таких, как ты, и страсть и добродетель». В прямой перекличке с этими словами находятся слова Святослава, которыми заканчивается пьеса. На вопрос Гиркана, желающего знать, кто научил его платить врагу добром, Святослав отвечает: «Любовь и добродетель». В трагедии сама любовная интрига выполняет определенную идейную функцию, непосредственно выражая философскую концепцию пьесы.
Трагедия «Святослав» относится к числу пьес, действие которых определенным образом соотнесено с реальными историческими событиями. В этом отношении она существенно отли¬
1 Стихотворение снабжено подзаголовком: «На голос «Выйду ль я на реченьку».
2 См.: Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России, от истоков до Глинки. — Л., 1959. — С. 131; Ученые записки Ленинградского гос. ун-та, Русская литература. Серия филологии, наук.— 1968. — Вып. 72. — С. 209; Русская литература. — 1984. — № 4. — с. 109.
197
чается от условно-исторической трагедии «Сорена и Замир». Если в последней представлен вымышленный герой, действующий в вымышленном городе, то в «Святославе» и герой и место действия являются вполне историческими. Сюжет трагедии основывается на летописном рассказе об избавлении Киева от нашествия печенегов, напавших на город и осадивших его в то время, когда князь Святослав находился со своим войском в Болгарии. Этим рассказом предопределено не только место действия трагедии — Киев, но и время его развертывания — печенеги напали на Киев в 968 году. В трагедии упоминается на основе той же летописи и о событиях, предшествовавших избранному автором для непосредственной драматизации эпизоду, поскольку эти события поясняют расстановку действующих лиц и конфликт пьесы. В трагедии главным антагонистом Святослава выступает не печенежский, а хазарский князь Гиркан, находящийся в плену у русских в результате разгрома Святославом Хазарского каганата. Об этом разгроме в летописи говорится: «Иде Святослав на козары; слышавше же козари, изидоша противу с князем своим Каганом... И бывши брани, одолГ Святослав козаром и град их и БГлу Вежю взя. И ясы победи и касогы»1. Далее летопись повествует: «Иде Святослав на Дунай на болгары. И бившемься обоим, одол7 Святослав болгаром, и взя городъ 80 по Дунаеви, и сТде княже ту в Пе- реяславци, емля дань на гр~цех»2 3.
Очень близко к летописному тексту рассказывает и Николев о том,
что храбрый Святослав,
Всю Волгу покоря и Белу Вежу взяв,
Оружие свое понес на брег Дуная.
В подданство привести Болгарию желая,
И что уже вступил в ГТереяславец он,
Поработил граждан, поверг царя их трон..,
И к удивлению Европы и Ассии Он осмьдесят градов присообщил к России.
В трагедии имеется немало разного рода реалий, наличием которых подтверждается ее связь с историей. Кроме Белой Вежи (так назывался хазарский город Саркел) и Переяславца — болгарского города, местонахождение которого до сих пор не установлено, в трагедии названы Киев и Херсон, а также реки Волга и Дунай. Из стран света в трагедии фигурируют Европа и Азия, а из государств —Болгария, Греция, Россия. В «Святославе» названы многие народы и племена: хазары, ясы (осетины), касоги (черкесы), вятичи, древляне, печенеги, болгары, греки. В связи с конкретными случаями и событиями названы имена известных исторических лиц — князей Олега и Игоря,
1 Повесть временных лет//Памятпнки литературы древней Руси XI —
начало XII века. — М,, 1978.—С. 78.
3 Там же.
198
княгини Ольги. Сложнее дело обстоит с именами персонажей пьесы. Среди имен хазарских царей, упоминаемых историками, нам не встретилось имя Гиркан. Отсутствуют в известных нам источниках и имена Урмен, Керсон, Орсим, которыми наделены в трагедии «главы козарских войск».
В трагедии дается исторически верная характеристика участвующих в изображаемой борьбе племен и народов. Примечательно, что автором трагедии учитываются при этом те особые оценки, которые даются каждому из них представителями других племен и народов с учетом сложившихся взаимоотношений. В трагедии говорится о коварстве печенегов, их склонности к грабительству и разбою. В самом начале трагедии наперсник Гиркана Отар сообщает ему о том, что
печенеги люты,
Служащи против нас у русского царя,
Все грабить, похищать желанием горя,
Против союзников внезапу взбунтовались,
Алкая добычи, той кровью упивались.
Здесь исторически верно отмечено, что печенеги изменили своим союзникам, напав на Киев в отсутствие Святослава, вместе с которым они участвовали в Дунайском походе. Если Отар отмечает свирепость печенегов («печенеги люты»), то Святослав относится к ним с явным презрением и пренебрежением. Он считает унизительным для себя лично выступить против них и поручает Возведу разгромить противника:
Злу челядь прогони из области моей!
Не нужна помочь там героев и царей,
Где гнусная корысть свой яд на смертных мещет.
Такое отношение правителя России к печенегам соответствует историческим данным1.
В образе Святослава Николев стремился показать «истинного героя», «отца отечества», воплощающего представления автора о герое и царе. Не исключено, что, работая над пьесой, поэт мысленно соотносил своего героя с Александром I, к которому обращался в посвящении к трагедии, подобно тому как В. А. Озеров в почти одновременно написанной трагедии «Эдип в Афинах» связывал с этим же царем образ афинского царя Тезея. Но, выражая авторский идеал просвещенного монарха и в этом смысле никак не соприкасаясь с реальным историческим Святославом, жившим во времена суровые и непросвещенные, герой николевской трагедии вместе с тем во многом и сходствовал со своим прототипом. Николеву удалось воспроизвести такие черты исторического Святослава, засвидетельствованные не только русской летописью, но и иностранными историками, как храбрость и воинственность. При первом же своем появлении на сцене николевский Святослав говорит
1 См.: Греков Б. Д. Киевская Русь. — Л., 1953. — С. 469, 470.
199
о своих походах и завоеваниях. Обращаясь к собравшимся киевлянам, он рассказывает о своих сподвижниках, которые, «все преодолев, и глад и непогоды», «поработили» ему «бесчисленны народы».
Соседов дерзостных, бунтующих козар,
Страну Херсонскую, косогов, ясс, болгар,
Вселенной потрясли.
Воинственные заявления Святослава не противоречат в трагедии его миролюбию. Причиной войны с хазарами, закончившейся разгромом Хазарского царства, являлось, по мнению автора трагедии, вероломное поведение самих хазар, нарушивших «к^ят&ы». Полностью оправдывая Святослава, Азира говорит:
Нет, боги, знать, за то его покрыли славой,
Что был источником не он войны кровавой;
Не он подвигнулся противу нас на брань;
Не им положена на нашу область дань;
Олегу, Игорю козаре дань платили,
Мы, клятвы преступя, брань миру предпочтили.
В таком же духе высказывается сам Святослав, говоря, что не им была «соделана измена», не он «рушитель клятв», не он «желал всем бед». Характерно, что Николев и в этом случае ссылается на исторические факты. Не так уж важно, верно ли указана драматургом причина войны. Важно, что николевская оценка разгрома Святославом Хазарского каганата не противоречит объективному смыслу этого события. Примитивное государство кочевников-хазар причиняло большие беспокойства соседним государствам и препятствовало развертыванию торговли между ними: оно паразитировало за их счет, взимая плату за транзитные товары, провозимые через его территорию. Разгром Хазарского царства был исторически закономерным явлением. Еще более очевидной была необходимость действий, предпринятых Святославом для защиты Киева, осажденного печенегами. Рассказав о поспешном возвращении князя, летописец сообщает: «И собра вой, и прогна печенГги в поли, и бысть мирьно»1. В духе этих последних слов, целиком согласующихся с идейной концепцией пьесы, и раскрывается ее действие: Святослав прощает Гиркана и получает от него согласие на брак с его дочерью.
Сравнивая образ Святослава, показанного Николевым, с образом этого действительно великого человека, встающим со страниц летописи, невольно приходишь к выводу, что в трагедии он является несколько выпрямленным. Слишком уж благостен этот Святослав, слишком он христианин. А ведь известно, что Святослав, отказавшись последовать примеру своей матери,
1 Повесть временных лет//Памятники литературы древней Руси XI — начало XII века. — М., 1978. — С. 80.
200
не стал христианином. «Выпрямление» характеров исторических лиц было обычным и неизбежным явлением в классицистической трагедии. Важно, однако, отметить, что в трагедии фигурируют другие характеристики, противоречащие этому христианскому облику. Они даны в утрированном виде с ярко выраженной негативной оценкой. Так, в противоположность Свято- славу-миротворцу устами его антагониста Гиркаиа рисуется Святослав-завоеватель, губящий народы, разрушающий престолы, приводящий в трепет Грецию и «целый свет». Такая характеристика, несправедливость которой очевидна для автора, мотивируется тем, что она принадлежит врагу Святослава, считающему Святослава своим «тираном». В другом случае сам Святослав, обращаясь к Азире, говорит ей, что он должен казаться ей свирепым, каковым, однако, он отнюдь не является:
Ты мыслишь, может быть, что свойством Святослав
Быть должен горд, свиреп, иметь жестокий нрав?
Что кроме лютости ничто ему не лестно.
В целом трагедия дает нам исторически верный образ храброго, отважного, мужественного князя-патриота, отличающегося широтой взгляда, действующего не только в интересах своей родины, но и других народов.
Трагедия «Святослав» сочинялась автором на основе тщательного изучения источников. Он опирался не только на летопись. Судя по всему, драматургу были известны и другие исторические сочинения. Как свидетельствует биограф Николева
С. Маслов, «чтение исторических и нравоучительных сочинений было самым приятным его занятием в часы свободные»1. Кроме «Истории Российской с самых древнейших времен» В. Н. Татищева, к которой обращался автор «Святослава», им были, видимо, использованы исторические труды М. В. Ломоносова и М. М. Щербатова.
Трагедию «Святослав» с полным правом можно считать исторической пьесой. Ее действие развертывается по ходу событий, имевших место в действительной истории. Эти события находятся в центре драматического повествования. А^ор трагедии умело связывает с ними любовную интригу и вымышленных лиц, не допуская произвола в обращении с историческими фактами В трагедии дана исторически верная характеристика ее главного героя, прототипом которого является известный исторический деятель. Можно "утверждать, что в отношении соблюдения фактической верности трагедия «Святослав» стоит на уровне поздних трагедий Хераскова, а также трагедий В. А. Озерова и Г. Р. Державина.
Но автору «Святослава» явно недостает глубины исторического созерцания. Его исторические воззрения во многом иллюзорны и утопичны. Он называет «мечтой» эгоистическое 44 Памятник друзей Николаю Петровичу Николеву. — М., 1919, — С. 18.
201
стремление к счастью, не замечая того, что его собственные упования на силу рассудка и добрых страстей мечтательны и утопичны. Мечтательными оказались и надежды на «доброго царя», возродившиеся в первые годы царствования Александра I.
Николев принес в XIX век тревоги и надежды просветителя- гуманиста, ополчившегося на борьбу со злом. Тем более велика цена той веры в разум и добро, которую носил в своем сердце и претворил в своем творчестве Николев.
Трагедии Я. Б. Княжнина
1
Появление и укрепление оппозиционной драматургии, выражавшей на историческом или условно-историческом материале общественную мысль передовых дворянских кругов, послужили толчком к возникновению исторических пьес реакционно-охранительного направления. Отличительной чертой этой драматургии являлся ее официозный характер, придававший особый оттенок той апологетике неограниченной самодержавной власти, которая составляла ее суть. То была апологетика особого рода, имевшая мало общего с прославлением доброго царя, содержавшимся в пьесах Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича и других драматургов конца XVII — начала XVIII века.
Представителем охранительного направления в исторической драматургии явилась императрица Екатерина II, решившая самолично преподать со сцены театра уроки образцового послушания на примерах, взятых из отечественной истории. Она обратилась к исторической драматургии во второй половине 80-х годов. В это время просвещенный абсолютизм императрицы заметно потускнел. Напуганное восстанием Емельяна Пугачева и приближающейся французской революцией, правительство Екатерины II стремилось всеми средствами оградить от всяких опасностей и укрепить самодержавно-крепостнический строй.
Историческая драматургия была лишь небольшой частью литературных занятий императрицы, писавшей комедии и сатиры, работы исторического характера.
Ученые невысоко оценивают исторические сочинения Екатерины II. Г. А. Гуковский назвал ее пространные «Записки касательно Российской истории» «квазинаучным» трудом. Через все это сочинение проходит идея прославления самодержавной власти. По наблюдению Н. А. Добролюбова, Екатерина II проявляла «старание представить всех князей русских сколько возможно более чистыми и высокими личностями»1. Говоря о
1 Добролюбов Н. А. Собр. соч. — М.; Л., 1961, — Т. 1. — С. 203.
202
«Записках касательно Российской истории», Добролюбов на многочисленных примерах показал, что их автор систематически обходил темные стороны в жизни князей, затушевывал, смягчал их злые деяния, а чаще просто умалчивал о преступлениях, подчас совершавшихся ими. Подобным же образом поступала Екатерина II и при сочинении своих драм.
Екатерине II принадлежат исторические пьесы о первых русских князьях Рюрике и Олеге — «Историческое представление... из жизни Рюрика» и «Начальное управление Олега», написанные в 1786 году. Третья пьеса — «Игорь» — осталась незаконченной.
В своих исторических пьесах Екатерина II исходила из того, что самодержавие является исконной формой правления на Руси. Не случайно материал для первой пьесы она взяла иа эпохи правления Рюрика. В пьесе драматизируётся легендарный исторический материал, связанный с так называемым признанием варягов, якобы положившим начало Русскому государству.
В исторических пьесах Екатерины II огромное значение придается старшинству в роде, подчинению одних князей другим князьям, а всех прочих — князьям вообще. Принцип строжайшей субординации проведен через обе пьесы. Этот принцип касается не только государственных отношений, но и отношений внутрисемейных. Им определяются также и намечающиеся конфликты. Достаточно напомнить о старшинстве, чтобы обнаружилась вся неосновательность претензий и преступность поведения лиц, нарушающих принцип субординации.
В пьесах Екатерины II весьма приглушенно звучит мотив миролюбия, который так сильно звучал в трагедиях Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова.
Нет у Екатерины и героических женских образов. Женщины в ее пьесах полностью подчиняются своим мужьям, изъявляя по ходу действия, неизменно связанного с поступками и судьбой мужских персонажей, то радость, то печаль.
Сложно и запутанно трактуется в пьесе об Олеге вопрос о борьбе нового со старым, христианства с язычеством.
Пьесы Екатерины II, включая неоконченного «Игоря», были написаны ею «без сохранения феатральных обыкновенных правил». В заголовках пьес о Рюрике и Олеге указывалось, что они представляют собой подражание Шекспиру. Следуя за Шекспиром, Екатерина II отказалась от соблюдения трех единств и других правил классицизма. Во всех трех пьесах имеется большое число действующих лиц, среди которых встречаются столь характерные для произведений Шекспира демократические персонажи, например «двое мещан киевских» в пьесе об Олеге. Само желание Екатерины II написать что-то вроде трилогии о первых русских князьях свидетельствовало о ее подражании Шекспиру — автору исторических хроник из
203
английской жизни и трагедий из жизни Древнего Рима. Однако подражание Екатерины II Шекспиру являлось чисто внешним, а ее новаторство, столь афишировавшееся ею, во многом оказывалось мнимым. Ее обращение к Шекспиру, свидетельствующее о том, что и официозная литература вовлекалась в орбиту шекспировского влияния, выглядело скорее как увлечение писателем, начинавшим входить в моду. Екатерина II совсем не владела искусством создания характеров, составляющим отличительную черту творчества Шекспира. Все три героя ее первой исторической пьесы — Рюрик, Синеус и Трувор — безлики и бесцветны. Это какие-то тени, подобия людей, различаемых только по именам. Несколько ярче обрисован фигурирующий в обеих пьесах Олег. Но и здесь можно говорить лишь о слабом, едва обозначившемся стремлении автора нарисовать образ энергичного, волевого, не страдающего излишней чувствительностью человека.
Исторические пьесы Екатерины II лишены драматизма, внутреннего движения. Они представляют собой в жанровом отношении нечто аморфное, неопределенное. Это не трагедии, не хроники. Это — разрозненные исторические эпизоды, изложенные в виде диалога.
Весною 1786 года Екатериной II была написана комическая опера «Новгородский богатырь Боеслаевич», составленная, как вначится в ее заглавии, «из сказки, песней русских и иных сочинений». В основу текста оперы легла сказка В. А. Левшина «Повесть о сильном богатыре и старославянском князе Васильи Богуслаевиче», написанная им по мотивам былины о Василии Буслаеве. Сочинительница заимствовала у Левшина почти весь текст своей оперы, использовав его не только в диалогах действующих лиц, но и в ремарках, точно воспроизводящих соответствующие места повести1. Все основные персонажи (Василий Буслаевич, Амельфа Тимофеевна, Потанюшка, Чудин и др.) и ход действия оперы взяты из повести; допущены лишь небольшие перестановки и замена отдельных слов. В соответствии с требованиями жанра оперы введена любовная интрига. Впрочем, любовная интрига едва намечена и не нарушает хода действия, предуказанного былинным сюжетом.
Комическая опера «Боеслаевич» содержит апологию самодержавия, данную в былинно-исторической проекции.
Драматургия Екатерины II запечатлела в негативном освещении главнейшие этапы борьбы новгородцев за свою независимость и свободу, начиная от раннего их выступления против варяжских пришельцев и кончая их попытками сохранить свою вольность и привилегии, предпринимавшимися уже при московских великих князьях. Именно эти этапы борьбы новгород-
1 См.: Былины в записях и пересказах XVII—XVIII веков. — М.; Л., 1969. — С. 239, 240.
£04
пев оказались в центре внимания прогрессивных драматургов. Первым из них к изображению этой борьбы обратился Я. Б. Княжнин.
Я. Б. Княжнин (1742—1791) достойно продолжил и завершил лучшие традиции русской классицистической трагедии, подняв ее на новую, более высокую ступень.- Его трагедии явились как в идейном, так и в художественном отношении высшим достижением отечественной драматургии XVIII века. Они во многом предвосхитили идейный и образный состав исторических пьес, написанных прогрессивными драматургами первой четверти XIX века. Можно утверждать, что первые признаки окончательного формирования жанра исторической драмы стали появляться уже в творчестве Сумарокова и Княжнина.
Я. Б. Княжнин принадлежал к кругу свободомыслящих образованных дворян, к которому относился и Сумароков. Начав свое поприще писателя-драматурга в 60-х годах XVIII века, он как бы повторил путь, пройденный русской классицистической драматургией. В своей первой трагедии «Дидона» (1769) он обратился вслед за Тредиаковским к характерной для классицизма античной тематике, с тем, чтобы в последующих трагедиях (за исключением «Титова милосердия» и «Софонисбы») сосредоточиться на отечественной тематике, утвержденной в русском классицистическом театре Сумароковым Как и Сумароков, он в начале своего драматургического творчества разрабатывал преимущественно психологические коллизии, связанные с изображением любовной страсти, и только в дальнейшем обратился к тираноборческой тематике.
Типичным для раннего творчества Княжнина произведением является трагедия «Дидона», отмеченная преобладанием любовно-романического элемента. Но трагедия эта далеко не лишена социально-исторического содержания. Показательно, что «Дидона» представляет собой драматизацию мифов, так или иначе примыкающих к гомеровскому эпосу. В этом отношении первая пьеса Княжнина сближается с «Деидамией» Тредиаков- ского и «Демофонтом» Ломоносова. Если в «Деидамии» действие происходит в начале Троянской войны, воспетой в «Илиаде» Гомера, то в «Дидоне» (и в «Демофонте») оно развертывается после ее окончания. Ее дыхание, ее трагические последствия, ее героизм еще ощущаются в «Дидоне». Недаром одним из главных действующих лиц трагедии является Эней, сражавшийся с самим Ахиллесом.
Сюжет трагедии взят из «Энеиды» Вергилия, вдохновлявшегося при ее создании «Илиадой». Однако Княжнин опирался не на поэму Вергилия, в четвертой книге которой рассказана история Энея и Дидоны, а на позднейшие драматические обработки преданий о Дидоне. Следуя правилам классицизма, Княжнин построил сюжет своей пьесы на борьбе между долгом и чувством. Эней у драматурга менее строг и ригористичен, чем
205
в поэме Вергилия, где герой без всяких колебаний покидает любимую женщину, памятуя о своем долге. Но и в «Дидоне» Княжнина Эней после разговора со своим наперсником Апте- нором принимает окончательное решение об отъезде. «Любовь оставил я и славе подвергаюсь», — говорит он Антенору, хотя и понимает, что, расставшись с Дидоной, будет «вечно лить» слезы.
Цельным, ярким, вполне завершенным является в трагедии образ царицы Дидоны. Княжнину удалось изобразить владеющую Дидоной любовную страсть и вызвать сочувствие к героине трагедии. Автор «Дидоны» раскрывает глубокую человечность этого чувства, его облагораживающее воздействие на человека.
Положительно относясь, судя по стихотворному обращению, предпосланному «Дидоне», к деятельности сочинительницы «Наказа», автор трагедии ни в коем случае не подменял точку зрения независимого свободомыслящего писателя ролью литератора, ограничивающегося пропагандой и поддержкой мероприятий самодержавного государства. Он решительно выступает против тиранической власти, типичным представителем которой в трагедии является Ярб. В «Дидоне» можно встретить мысли, не раз встречавшиеся в трагедиях Сумарокова. К их числу относится, например, убеждение, высказанное Дидоной:
Тиранам лишь одним рабов своих страшиться.
Порицаются в «Дидоне» и наглые завоеватели, организаторы несправедливых войн. Дидона говорит, что хотела бы иметь союзника в борьбе «против того, кто рушити дерзает спокойст- во Африки неправедной войной». Не случайно выведен в трагедии и «вельможа Дидонин» Тимар, изменивший своей царице. Способствуя обострению драматического действия, изображение мятежа, активным участником которого был перешедший на сторону Ярба Тимар, являлось вместе с тем своеобразным уроком царям, чрезмерно доверявшим коварным и льстивым вельможам.
«Дидона» написана в строгой классицистической манере. Основав ее действие на борьбе между долгом и чувством, Княжнин воспроизвел в ней и другие характерные черты классицистической трагедии: традиционные пять актов, александрийский стих, приподнятую речь с наличием церковнославянизмов («се», «узришь», «днесь»), фигуры наперсников и наперсниц (у Дидоны даже две наперсницы — Елиза и Арсина) и т. д.
Но есть в ней и новшества, идущие от поэтики оперных представлений. В последнем действии трагедии на сцене появляются «воины Ярбовы с горящими свечами и с обнаженными мечами», что, безусловно, должно было представлять собой эффектное зрелище. В конце пьесы действие происходит на фоне горящего города («...и твой плачевный град, о страшно зрелище! весь
206
пламенем объят», — говорит Ярб Дидоне). Произнеся свои последние слова, Дидона прямо на сцене «бросается в огонь».
«Дидона» была поставлена на сцене сначала в Москве, а потом в Петербурге. В качестве исполнителей Ярба выступали И. А. Дмитревский, затем Я. Е. Шушерин1.
От античной тематики Княжнин перешел к исторической отечественной тематике, утверждаясь на стезе, проложенной Сумароковым. В 1772 году он написал трагедию «Владимир и Ярополк». Избрав для изображения эпоху княжеских междоусобиц, Княжнин взглянул на нее глазами независимого писа- теля-патриота, сурово осуждающего княжеские распри, которые приносили бедствия и разорение народу. Сюжет трагедии связан с междоусобной борьбой князей — братьев Владимира и Ярополка, закончившейся убийством последнего. Свою точку зрения на изображаемые события автор выражает преимущественно устами Сваделя. Являясь вельможей Ярополка, Сва- дель отнюдь не ограничивает свою роль отстаиванием интересов своего князя. Он стоит выше этих интересов. Его волнуют судьбы всего отечества, борясь за благо которого он обращается к обоим враждующим князьям с призывами жить в мире и дружбе. Идея мира, народного спокойствия и является главной патриотической идеей трагедии.
Утверждая ее, автор говорит устами Сваделя об особой роли вельмож в государстве, призванных удерживать народ от проявлений «буйности» и приводить «в пределы» царя, который «исступит из границ своих священных прав». В трагедии сохраняется монархическая точка зрения, но она лишена здесь малейшего оттенка холопского верноподданичества.
Образом благородного, отважного и смелого Сваделя утверждается гражданская нравственность, диаметрально противоположная реакционному воззрению на русский национальный характер, выдвигавшемуся самодержавием2. Отвечая на гневный окрик Ярополка, измеряющего, по его словахМ, «раба усердье» «послушанием», но отнюдь «не умствованьем», Сва- дель говорит:
Пусть гнусный льстец, бесславье князя множа,
Предатель общества робеет злой, вельможа,
Коль очи гневные властитель обратит;
Меня лишь честь твоя и польза Россов льстит.
Вот грудь моя, рази! Я жити не хощу,
Коль жертвой сей граждан напасти прекращу.
Использовав сюжетную схему расиновской трагедии «Андро¬
1 О постановке пьесы см.: В с е в о л о д с к и й-Г е р н г р о с с В. Н. Русский театр второй половины XVIII века.— М., 1960. — С. 86.
2 Л. И. Кулакова замечает, что Екатерине II вряд ли мог понравиться «выдвинутый на первый план образ вельможи, более преданного отчизне, чем князьям». См.: Княжнин Я. Б. Избр. произв. — Л., 1961. — С 42.
207
маха», Княжнин сумел создать оригинальное произведение, обладающее собственным идейно-нравственным пафосом, и, что всего удивительней, историческую трагедию, довольно полно и в основном верно воспроизводящую борьбу Владимира с Ярополком и даже их личную жизнь.
Трагедия «Владимир и Ярополк» принадлежит к числу тех немногих классицистических пьес, все основные персонажи которых взяты из истории или же навеяны образами исторических лиц. Кроме Владимира и Ярополка, к-числу таких лиц принадлежат дочь полоцкого князя Рогволода Рогнеда, ставшая женой Владимира, и гречанка, привезенная Святославом в жены его сыну Ярополку. Навеян историей и образ Сваделя. Его прототипом является сподвижник Святослава, а потом Ярополка Свенальд.
В трагедии не искажено и главное историческое событие — убийство Ярополка Владимиром, хотя мотивы этого убийства и сопровождавшие его обстоятельства представлены в измененном виде.
Знаменательно, что и любовная интрига опирается у Княжнина на материалы, содержащиеся в летописях. В трагедии верно, хотя и кратко, говорится о том, что Владимир, пойдя войной против Рогволода, одержал над ним победу, убил его и двух его сыновей («Лишилась братьев я, родителя лишилась»,— говорит в трагедии Рогнеда) и насильно взял в жены его дочь. Подтверждается историческими материалами и любовь Рогнеды к Ярополку. Известен летописный рассказ об ответе Рогнеды на переданное ей устами ее отца предложение пойти замуж за Владимира: «не хочю розути робичича (сына рабыни. — В. Б.) у но Ярополка хочю».
Изображая междоусобную войну древнерусских князей, Княжнин отвлекся от ее истинных причин, заключавшихся в стремлении князей к расширению собственных владений. Следуя по пути, проложенному другими драматургами, он свел все к влиянию любовной страсти.
И все же трагедия «Владимир и Ярополк» является одним из выдающихся произведений драматургии, написанных на историческую тему. В ней не только дается, в общем, верное изображение исторического события — убийства Ярополка по распоряжению Владимира, но и довольно правдиво рисуется образ этого последнего. Недаром высказывалось мнение, что Екатерине II не мог понравиться показанный Княжниным без всякой идеализации образ князя Владимира, считавшегося святым. Характерен и отзыв театрального цензора X. Чеботарева, усмотревшего «в самой первой» сцене трагедии «мысли и выражения, не соответствующие должному к государственной власти почтению и уважению...»1.
1 Записки отдела рукописен гос, библиотеки СССР им, В, И. Ленина,— Вып. 24. — М., 1961. — С. 273.
208
Как свидетельствует историк театра, «в конце XVIII столетия именно эти строки (о царе, преступающем границы своих прав) не пропускала цензура»1. Княжнин создал произведение сильного гражданского пафоса. Пожалуй, не много найдется драматических произведений, в которых с таким постоянством и с таким глубоким волнением говорится о судьбе и страданиях народа.
Если во «Владимире и Ярополке» драматизирован исторический сюжет, связанный с борьбой, происходившей между сыновьями князя Святослава, то в трагедии «Ольга» фигурирует сам Святослав и его мать Ольга, мстящая древлянам и их князю Малу за убийство ее мужа Игоря.
«Ольга» является переводом-переделкой трагедии Вольтера «Меропа», в сюжет которой Княжнин искусно вместил один из эпизодов отечественной истории.
Следует, однако, отметить, что Княжнин, придерживаясь иноземного источника (французской трагедии, посвященной изображению античного мира), отдалялся от национально-исторического материала, а нередко и вступал в противоречие с ним.
Воспроизводя ситуации, содержавшиеся еще в мифах, Княжнин в ряде случаев ограничивался лишь заменой имен и географических названий. Так, взятого на Олимп Геракла он заменил Перуном, сохранив при этом слова о боге-мстителе, относившиеся к Гераклу2. В трагедии имеется очень мало реалий, связанных с событиями изображаемой эпохи. Упомянуты Рюрик и византийский император Константин, названо Черное море. Автор «Ольги» прошел мимо ярчайших фактов, поясняющих события и поступки исторических лиц. Не сказано, например, о том, что причиной убийства Игоря древлянами послужило его чрезмерное усердие в сборе с них дани. Не получили отражения эпизоды, связанные с местью Ольги, по распоряжению которой были закопаны живыми в землю послы древлян, другие были сожжены в бане, а весь город Искоростень был подожжен. Прием, с помощью которого Княжнин воспроизвел в «Ольге» (и «Владимире и Ярополке») древнерусскую жизнь, напоминает тот аллегорический способ изображения, которым широко пользовалась школьная драма. И там и тут производилось накладывание готовой сюжетной схемы на события, относящиеся к отечественной истории или к современности, при котором неизбежно происходила утрата чего-то важного и специфического.
Создавая «Ольгу», Княжнин обратился к политической трагедии вольтеровского типа, вдохновлявшей и Сумарокова. Структурные особенности этой последней отчетливо проступают
1 См.: Всеволодски й-Г ернгросс В. Н. Русский театр второй половины XVIII века.—М., 1960.—С. 151.
2 См.: Княжнин Я. Б, Избр. произв.—Л., 1961. — С. 137.
14 Заказ 4708
209
в вольтеровской «Меропе» и княжпинской «Ольге», поскольку га и другая являются трагедиями без любви. Мал у Княжнина и Полифонт у Вольтера, желая вступить в брак, руководствуются не сентиментальными, а чисто политическими соображениями. Что касается героинь — Меропы и Ольги, то они, естественно, не могли испытывать к убийцам своих мужей никаких иных чувств, кроме ненависти и презрения.
Изображение самоотверженной материнской любви стоит в центре княжнинской «Ольги». Княжнин создал еще один героический женский образ в русской драматургии. Но этот образ имеет мало общего с властительницей Ольгой, черты которой отчетливо выступают в летописном рассказе.
В образе древлянского князя Мала представлен типичный тиран, жестокости и злодеяниям которого противостоят добродетели Ольги и Святослава. Традиционное для русской драматургии противопоставление доброго царя царю-тирану облечено в «Ольге» в форму просветительской политической трагедии, в которой протест против деспотизма и тирании объединяется с религиозным вольномыслием в духе Вольтера. На протяжении всей трагедии устами разных персонажей, в том числе и положительных, дается весьма скептическая оценка богов.
Впрочем, политическое и религиозное свободомыслие выступает в «Ольге» не очень отчетливо. В трагедии утверждается авторитет законного монарха, противопоставляемого тиранической власти узурпатора. Народ не играет в этой пьесе сколько- нибудь значительной роли. На протяжении почти всего действия он остается покорным деспотическому правлению древлянского князя («в узах дремлет», по словам Святослава1). Перелом в ходе действия создается героическими усилиями Святослава, низвергающего тирана.
При всей умеренности своего идейного содержания пьеса оказалась произведением, имеющим острый обличительный смысл. В трагедии Ольга настойчиво говорит о том, что у нее нет никаких личных властолюбивых притязаний. Она желает, чтобы власть перешла в руки ее сына. Уже в начале пьесы она, по существу, отказывается от престола в пользу Святослава:
Что в троне мне? Не мне престолом обладать,
Но сыну моему. Погибни, злая мать,
То сердце, варварско, душа та, алчна власти Котора, веселясь сыновния напасти,
Чтоб в пышности провесть дни века своего,
Приемлет за себя наследие его!
Эти слова могли прозвучать как прямой намек на отношения между Екатериной II и Павлом: Екатерина II обещала уступить трон сыну по достижении им совершеннолетия, но не спешила с выполнением этого обещания. Павел Петрович начал
1 Княжнин Я. Б. Избр. произв. —-Л., 1961, — С. 176,
210
царствовать лишь после ее смерти. Между тем оппозиционно настроенные дворяне, группировавшиеся вокруг Паниных, связывали осуществление своих политических надежд с воцарением Павла, которого они ожидали в начале 70-х годов. Эта политическая ситуация получила отражение в литературе того времени. Выражением надежд оппозиционеров явилось, например, опубликованное Н. И. Новиковым в 1770 году (в издававшемся им журнале «Пустомеля») «Завещание Юнджена, китайского хана, к его сыну». Отказываясь от престола в пользу сына, китайский хан полагает, что его наследник сумеет «утвердить блаженство меж подданными», «даровать им покой»1. Характерно, что эти же надежды отразились, как мы видели, и в драматургии, например в трагедии В. И. Майкова «Фемист и Иеронима», где янычары требуют от турецкого султана отречения от престола в пользу его сына.
В трагедии Княжнина должны были восприниматься как намек на современные события не только слова Ольги об отказе ее от права на престол в пользу сына, но и другие характерные подробности сюжета пьесы. Известно, что Павел был взят императрицей Елизаветой Петровной от матери и передан на попечение нянек. Сетования Ольги на вынужденную разлуку с сыном могли напоминать о положении Екатерины, редко имевшей возможность видеться с сыном. В свою очередь, образ доброго и справедливого воспитателя Святослава Волода мог ассоциироваться с Никитой Паниным, который с 1760 года был воспитателем Павла.
Трагедия «Ольга» не ставилась на сцене и долго не появлялась в печати. Впервые она опубликована (эта публикация остается пока единственной) в 1961 году в «Избранных произведениях» Княжнина («Библиотека поэта»). Относительно времени написания пьесы (рукопись ее, хранящаяся в Библиотеке СССР им. В. И. Ленина, не датирована) среди исследователей нет единой точки зрения. Пьесой нового типа, в которой любовь уже не занимает главенствующего места, является и трагедия Княжнина «Росслав» (1784). Посвящая «Росслава» Е. Р. Дашковой, Княжнин писал, что в его новой пьесе «не обыкновенная страсть любви, которая на российских театрах только одна была представляема, но страсть великих душ, любовь к отечеству, изображена».
Строго говоря, любовная страсть занимает известное место и в этой пьесе. Ее влиянию подвержен и русский полководец Росслав. Рисуя борьбу между долгом и чувством, происходящую в душе героя пьесы, автор показывает испытываемые им колебания. «Ослабеваю», — говорит Росслав, растрогавшись слезами любимой. Но он находит в себе силы для одержания
1 Сатирические журналы Н. И. Новикова. — М.; Л., 1951. — С, 270.
14*
211
победы над чувством. Недаром он говорит: «Тиранка слабых душ, любовь раба героя».
Если в «Ольге» любовная интрига заменена любовью героини к сыну, то в «Росславе» выше любви к женщине поставлена любовь к отечеству. Обращаясь к Зафире, Росслав говорит: «Ты, по отечестве, мне в мыслях первый вид». Героический патриотизм «Росслава», продолжая традиции высокого патриотизма русской и зарубежной литературы (вспомним Сумарокова и, например, трагедию П. Корнеля «Гораций», переведенную Княжниным на русский язык), предвосхищал в какой-то степени отчизнолюбие декабристов.
Патриотизм «Росслава» совершенно свободен от той официозной направленности, какую он приобрел потом у верноподданически настроенных драматургов. Не имеет он и религиозной окраски. Если «Ольга» проникнута религиозным скептицизмом вольтеровского типа, то в «Росславе» вопросы религии совсем не затрагиваются. В этой трагедии почти совсем нет указаний на высшую религиозную санкцию. Два-три раза звучат в «Росславе» трафаретные слова о небе, произносимые Зафирой: «Небо! Зря ужасну толь вину...», «Владей, тиран, владей, коль небу то угодно». Что касается Росслава, то для него патриотизм, Сознание своего долга стоят превыше всего. Для него богом является отечество, родина. «О долг! Отечество! О боги вы мои!» — восклицает он.
Представление об отечестве, родине отнюдь не связано у Росслава с личностью князя, правителя государства. Родина и царь—понятия далеко не тождественные. Монарх, подвергаясь действию страстей, может совершать непатриотические поступки. Узнав о том, что русский князь решил выкупить его из плена, возвращая шведам завоеванные у них города, герой трагедии отвергает это решение:
О стыд отечества! Монарх, свой долг забыв И сан величиф пристрастьем помрачив,
Блаженству общества меня предпочитает И вред России всей в очах вельмож свершает.
По своему гражданскому звучанию патриотический энтузиазм, пронизывающий «Росслава», приближается к чувствам и мыслям, выраженным Радищевым в его «Беседе о том, что есть сын отечества», опубликованной в журнале «Беседующий гражданин» в 1789 году. Недаром среди людей, которые, безусловно, не заслуживают звания сына отечества, у Радищева значится тиран, «попирающий ногами своими всех, кои находятся перед ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством...»1.
1 Радищев А. Н. Избранные философские и общественно-политические произведения. — М., 1952. — С. 280.
212
Характерно, что в трагедии Княжнина, а позднее в работе Радищева неотъемлемым качеством истинного патриота объявляется в высокой степени присущее ему чувство чести. «Нет человека, — пишет Радищев, — который бы не чувствовал прискорбия, видя себя унижаема, поносима, порабощаема насилием, лишаема всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием и не обретая нигде утешения своего. Не доказывает ли сие, что он любит честь, без которой он, как без души... Доказано уже, что истинный человек и сын отечества есть одно и то же, следовательно, будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом честолюбив»1. Что касается Княжнина, то в его трагедии мотив чести проходит в качестве сквозного мотива от самого ее начала и до конца. Примечательно, что о чести и ее носителях уважительно говорят в трагедии даже враги Росслава, третируя в то же время своих бесчестных приверженцев. Так, Христиерн презрительно отзывается о людях, «чести отчужденных», «которым бог сребро».
Трагедия «Росслав» принадлежит к числу наиболее ярких тираноборческих произведений русской драматургии. Мотив обличения тирании, звучащий, как мы видели, во многих пьесах, особенно в сумароковском «Димитрии Самозванце», с новой силой зазвучал в трагедии ученика и последователя Сумарокова Княжнина. Носителем тиранической власти является в «Росславе» Христиерн, наделенный всеми чертами злодея. В его лице выступает типичный представитель единодержавия, надменно попирающего все человеческие законы и саму мораль. Как правильно замечает Б. Н. Асеев, «борьба русского патриота против шведского тирана носит в трагедии не столько национальный, сколько социально-политический смысл: это столкновение гражданина и монарха-деспота»2. Грозным предупреждением царям-тиранам звучат в трагедии слова Росслава, напоминающего им о суде потомков:
Цари! Вас смерть зовет пред суд необходимый;
Свидетель вам ваш век, судья неумолимый Вам время будуще, в которо на весах Вы правды будете суднтися в делах.
Действие пьесы имеет историческую основу, хотя ее автор вовсе не стремился точно воспроизвести реальные исторические события. Оно происходит в Швеции, в Стокгольме, в начале
1 Радищев А. Н. Избранные философские и общественно-политические произведения. — М., 1952. — С. 281, 284. О том, что «Княжнин вкладывает в понятие «патриотизм» новое для своего времени содержание, перекликаясь в этом с Радищевым», говорит В. Н. Всеволодский-Гернгросс. См.: Всеволодски й-Г ернгросс В. Н. Русский театр второй половины XVIII века.—М., 1960.—С. 235.
2 Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века.-2-е изд. — М., 1977.— С. 404.
213
XVI века. В образе Христиерна выведен датский король Кристиан II, насильственно восстановивший в 1520 году на непродолжительное время Кальмарскую унию (1397), на основе которой объединились в одно политическое целое Дания, Швеция и Норвегия под владычеством датских королей. В истории Кристиан известен как устроитель погромов, получивших название «стокгольмской кровавой бани». Их организатор был назван «тираном»1.
Против тирании датского короля в Швеции возникло народное движение, возглавленное шведским дворянином Густавом Эрикссоном, провозглашенным после свержения с шведского престола Кристиана II королем Швеции под именем Густава I Ваза, который яьнлся прототипом многократно упоминаемого в трагедии Густава. Сведения о Густаве, передаваемые устами разных действующих лиц, частично пересекаются с фактами из биографии исторического Густава Эрикссона, взятого в плен датчанами и бежавшего из плена на родину. Он скрывался от сторонников датчан в горных долинах2.
В трагедии Княжнина все это представлено в измененном виде. Густав находится в плену не у датчан, а у русских, с которыми, по авторской версии, воевал Христиерн. (В действительности Россия тогда не воевала со Швецией и Данией: войну с Россией вел позднее — в 1555—1557 годах — уже сам Густав I Ваза.) Местонахождение Густава, готовившегося к свержению тирании Христиерна, держалось в глубокой тайне. Эту тайну знал лишь стойкий и мужественный Росслав, у которого Христиерн тщетно пытался вырвать ее с помощью обещаний и угроз.
В основном верно охарактеризовав ситуацию, сложившуюся в Швеции, Княжнин правдиво изобразил в трагедии и положение тогдашней России. Оно обрисовано устами Росслава, в монологе которого Россия предстает как страна, «в единовластие недавно съединеина», «из праха чуждых рабств подъемлю- ша чело». В этих немногих словах отчетливо показана энергичная борьба за централизацию Русского государства, а также отмечен факт большого исторического значения — свержение монголо-татарского ига.
В трагедии «Росслав» ярко проявились характерные особенности, отличающие русскую прогрессивную драматургию. Поставив в центре фигуру героя-патриота и свободолюбца, противостоящего деспотически правящему монарху, Княжнин провозгласил в ней идеи миролюбия и гуманизма. Росслав мужественно участвует в борьбе за национальное освобождение Швеции. Идеи миролюбия выражаются в трагедии устами русского посла, не случайно носящего имя Любомир. В конфликте,
1 См.: История Швеции. — М., 1974, — С. 147,
2 См. там же. — С. 150.
214
изображенном в «Росславе», провидятся черты типичного конфликта русской аллюзионной свободолюбивой трагедии начала XIX века.
Большая роль отводится в «Росславе» народу. Если в трагедии «Ольга» народ показан бессильным и угнетенным, то в «Росславе» он выступает в качестве серьезной общественной силы. Восставший «народ, повиновения расторгнувши оплот», освобождает Росслава, убивает гнусного и лицемерного приспешника Христиерна Кедара и устремляется к Густаву, появившемуся «у градских стен». «Весь город возмущен», — сообщает Христиерну, «с поспешностью входя», наперсник Кедара Адель. Сила народного гнева и воодушевления выразительно отмечается словами того же Аделя: «Народ волнуется и все опровергает».
Такое изображение народа в трагедии «Росслав» находится в полном соответствии с изображаемой в ней исторической действительностью. Густав Эрикссон победил Христиерна, опираясь на восстание крестьян. По словам историка, «ни в одном столетии шведской истории, включая век унии, не случалось... столько крестьянских восстаний, как в XVI в.»1.
Согласуясь с фактами истории, такое изображение народа опиралось вместе с тем и на складывающуюся литературную традицию. В данной работе уже не раз приходилось отмечать характерность для ряда трагедий появления в финале героя или его протагониста вместе с восставшим народом. Ближайшим образом концовка «Росслава» напоминает заключительную сцену сумароковского «Димитрия Самозванца». В обеих трагедиях свергнутый с престола ненавистный народу тиран «зака- лается», уступая место своему политическому противнику, любимому народом. Оба тирана ненавидят народ и желали бы уничтожить весь город. «Почто не возмогу в сей час во гневе яром, весь город истребить одним моим ударом», — говорит Христиерн, вторя соответствующим словам Димитрия. Перед своим концом Христиерн хочет заколоть Зафиру, но ему мешает совершить это злодейство Росслав, вырвавший у него меч из рук. Точно таким же образом Пармен препятствует убийству Ксении Самозванцем.
В трагедии «Росслав» почти отсутствуют исторические реалии. В ней не упоминаются исторические лица (кроме Кристиана II и Густава I Вазы). Даже имя правившего в то время Россией царя не названо. Из географических наименований в трагедии фигурируют лишь Балтийское море и город Стокгольм. В трагедии есть рассказ о событии (устами Аделя говорится о народном восстании), но этот рассказ является очень кратким. Он не содержит подробностей и лишен характерных для подобных сообщений развернутых сравнений. Нет в «Рос-
1 История Швеции.— М., 1974.— С. 163.
215
славе» ни вещих снов, ни кудесников, ни пророчеств. Их отсутствие в данном произведении, вероятно, объясняется тем, что Княжнин, сочиняя трагедию, не опирался на современное изображаемым событиям или близкое к ним по времени историческое повествование, содержащее этого рода компоненты.
Трагедия «Титово милосердие» была написана по заказу Екатерины И.
В трагедии «Титово милосердие» прокламируются те же идеи просвещенного абсолютизма, которыми вдохновлялись Сумароков и сам Княжнин в других его пьесах, включая и «Рос- слава». В образе Тита представлен идеальный монарх, заботящийся исключительно о народном благе. «Не Тит здесь царствует, здесь царствует закон», — говорится в трагедии устами Секста. Тит отвергает воздаваемые ему почести, решительно выступая против обожествления его личности. Подобно Екатерине II, отказавшейся принять титул матери отечества, отвергает звание «отечества отца» и Тит. «Не смею титлом толь священным украшаться», — говорит он. То обстоятельство, что пьеса содержала явные намеки на Екатерину, прославляемую в образе Тита, не мешало автору и порицать некоторые ее поступки и распоряжения.
С трагедией «Титово милосердие» тесно связана трагедия «Владисан» (1786), объединяющаяся с ней в идейном плане — проповедью просвещенного абсолютизма и критикой тиранов, а в стилистическом плане — тяготением к оперпо-зрелищной поэтике.
Трагедия «Владисан» является одним из тех произведений классицистической драматургии, в которых народу отводится значительная роль. О народе говорят действующие лица, беседуя между собою. К нему обращаются положительные персонажи пьесы. Он присутствует на сцене почти во всех действиях (за исключением третьего), причем роль его от действия к действию возрастает. Характерно, что именно в этой трагедии Княжнин дает персонифицированное изображение народа, распределяя реплики и речи между первым, вторым и третьим его представителями. В последнем действии, напоминающем по силе выявления активности народа заключительный акт «Димитрия Самозванца», Велькар вбегает «с толпою народа», поведением которого предрешается судьба Витозара.
Уступая другим трагедиям Княжнина в отношении художественной обработки (ритмики, эвфонии, богатства словесноизобразительных средств), «романтическая» по своему колориту трагедия «Владисан» впечатляет единством настроения, выдержанностью мрачного, таинственного тона, созданию которого в немалой степени содействовали декорации и световые эффекты.
Значительным драматургическим произведением Княжнина является его трагедия «Софонисба», написанная около 1787 года.
216
Исторический сюжет, разработанный в «Софонисбе», неоднократно привлекал к себе внимание драматургов. К нему обращались в своих трагедиях Мере (1629), Корнель (1669), Вольтер (1770). Известен он был и в России. Еще в начале XVIII века на сцене театра Кунста шла «комедия» Лоэнштейна «Сципио Африкан, вождь римский и погубление Софонизбы, королевы Нумидийския».
Трагедия «Софонисба» запечатлела ряд характерных особенностей формирующегося жанра исторической драматургии. Следует отметить глубину ее содержания, связанного с событиями всемирно-исторического значения. Действие трагедии происходит в конце второй Пунической войны, явившейся поворотным пунктом в борьбе Карфагена и Рима за господство в районе Средиземного моря. Оно развертывается в реальном городе. Весьма определенным является и время действия трагедии, приуроченное к битве при Цирте, закончившейся победой римлян. Все персонажи пьесы, за исключением наперсников и придворного Филона, взяты из истории. Таковы Сифакс, Масинис- са, Софонисба, Сципион, Лелий.
Образ Сципиона играет важную роль в развитии сюжета пьесы. В душе Сципиона его искренней дружеской приязни к Масиниссе противостоит долг перед отечеством, который и побеждает. Полагая, что дочь врага Рима не может находиться на престоле дружественного Риму, но зависимого от него Масиниссы, Сципион без колебаний приказывает отправить ее в качестве рабыни в Рим. Этим предопределяется трагедийный финал пьесы.
Рядом с образом Сципиона стоит образ его наместника Ле- лия, который является еще более суровым и непреклонным. Важно отметить, что Сципион и Лелий выступают в качестве представителей республиканского Рима, идеи которого противопоставляются в трагедии идеям абсолютной монархии. Обращаясь к Масиниссе, Лелий говорит:
В нелицемерии ты оскорбленье видишь.
Едва в венце, а ты уж правду ненавидишь.
Се титла царского все право и вся честь,
Чтоб строгу истину от глаз скрывала лесть.
От римских уст сия удалена отрава.
Их жертва мужество, а боги вольность, слава.
Приведя эти слова, исследовательница замечает, что в данной трагедии «впервые зазвучали обвинения в адрес не царя- тирана, а монархии вообще и славословие республике»1. Знаменательность этого факта заключается в том, что в следующей (и последней) трагедии Княжнина — «Вадиме Новгородском» — обвинение в адрес монархии и славословие республике зазвучат с неизмеримо большей силой. То, что является в «Софонисбе»
1 Княжнин Я. Б. Избр. произв. — Л., 1961. — С. 47.
217
высказыванием одного персонажа, составит в «Вадиме Новгородском» проблематику всей пьесы, решаемую с напряженным драматизмом.
2
Последняя трагедия Княжнина «Вадим Новгородский» является не только лучшим, наиболее зрелым его произведением, но и лучшим образцом русской классицистической трагедии XVIII века.
В «Вадиме Новгородском» подверглись глубокой переработке передовые идеи драматургии предшествующих лет, ставшие в этом переработанном виде достоянием XIX столетия. Княжнин заменил конфликт между идеальным монархом и царем- тираном столкновением идеального монарха с идеальным республиканцем. Чисто психологическое наполнение и волюнтаристское разрешение конфликта он заменил сшибкой идей, заканчивающейся победой тех общественных установлений, которые должны были восторжествовать в данной исторической обстановке.
Во всем этом сказался прорыв к историзму, совершенный автором трагедии. Начиная с поздних трагедий Княжнина русская драматургия развивалась под знаком формирующегося историзма, утверждение которого связывалось с преодолением концепции просвещенного абсолютизма. Призывая «внимательно изучать факты преодоления философами или писателями надежд на просвещенного монарха», ученый полагает, что «несомненно в таких случаях мы обнаружим и преодоление метафизического мышления и прорыв к историзму»1. Г. П. Ма- когоненко связывает то и другое с разработкой темы республиканского Новгорода в прогрессивной русской литературе и называет в качестве участника данного процесса автора трагедии «Вадим Новгородский»2.
В этой трагедии Княжнин обратился к разработке исторического сюжета, уже подвергшегося до него тенденциозно-охранительной трактовке под пером Екатерины II. Летописное предание о новгородце Вадиме, выступившем против Рюрика, получило у Княжнина новое истолкование, неизмеримо ближе стоящее к источнику, чем монархический домысел императрицы. Екатерина II увидела в выступлении Вадима не самоотверженную борьбу свободолюбца-патриота против поработителей-чуже- земцев, а неправомерные династические притязания, продиктованные низкими честолюбивыми побуждениями. Показывая
1 Макогоненко Г. П. Из истории формирования историзма в русской литературе//ХУШ век: Сборник 13 (Проблемы историзма в русской литературе: Конец XVIII — начало XIX в.). — Л., 1981. — С. 19.
2 Там же. — С. 40.
218
победу Рюрика над Вадимом, превращающимся волею автора из бунтаря в верноподданного, царственная сочинительница утверждала идею единодержавия, исконно существовавшего, по ее мнению, на Руси.
Основу трагедии Княжнина составляла мысль об исконности свободы, которую и защищал от ее похитителя Рюрика Вадим. По словам сподвижника Вадима Вигора, «новградский народ», «свободой возвышенный», не знал над собой никаких властителей, «подвластен только быв законам и богам»1. Такое же убеждение высказывается устами другого сподвижника героя Пренеста, обвиняющего Рюрика в том, что он «остатки вольности и наших прав отъемлет».
Мысль о том, что наличие единодержавных правителей отнюдь не было характерно для общественного быта наших предков в древнейший период, фигурирует в летописи й в некоторых исторических сочинениях. Именно с таким представлением согласуется заявление княжнинского Вадима о неправомерности действий Гостомысла, отдавшего по своему произволу свободу новгородцев Рюрику. «Иль вольность сограждан была его наследство?»— спрашивает разгневанный Вадим. Полностью гармонируя с ломоносовской характеристикой Гостомысла как последнего республиканского владетеля, эти слова решительно расходятся с концепцией Екатерины И, видевшей в Рюрике и его братьях законных преемников уже существовавшего единодержавия.
Представление об исконном существовании на Руси свободы, столь выразительно закрепленное в «Вадиме Новгородском», составило характеристическую черту русской передовой общественной мысли и прогрессивной художественной литературы. Не подлежит сомнению, что популярность княжнинского «Вадима» в передовых кругах русского общества конца XVIII— первой трети XIX века была связана прежде всего с лежащей в основе этой трагедии мыслью о древней русской свободе.
В трагедии Княжнина драматизирован самый ранний этап борьбы новгородцев за свободу и независимость, закончившийся их поражением. Трагический финал этой борьбы накладывает мрачную печать на все действие пьесы. Вадим и его сторонники предстают в качестве героических одиночек, лишенных народной поддержки. На протяжении всей трагедии ее герой жалуется на изменническое поведение вельмож, «во подлой робости согбенных пред царем», и на пассивность народа, покорившегося власти Рюрика2.
Создавая пьесу о герое-республиканце, Княжнин вдохнов- . лялся «римскими» трагедиями Вольтера, особенно «Смертью Цезаря».
1 Княжнин Я. Б. Избр. произв. — Л., 1961. — С. 251.
2 Подробный анализ трагедии см. в кн.: Бочкарев В. А. Русская историческая драматургия последней трети XVIII века. Куйбышев. 1985.
219
Влияние Шекспира, воспринятое в преломлении через творческую призму Вольтера, своеобразно сочеталось у русских драматургов с воздействием пьес самого Шекспира, с которыми они знакомились во французских переводах, а также в переводах на русский язык.
Очень важным событием было появление в 1787 году трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» в прозаическом переводе Н. М. Карамзина. Книга вышла с предисловием переводчика, содержащим глубокую характеристику творчества Шекспира. Карамзину удалось выделить те черты могучего дарования английского драматурга, которые называла как особо ценные и перспективные позднейшая русская критика, включая Белинского. Карамзин отметил умение Шекспира глубоко проникать в «человеческое естество», раскрыть «все тайнейшие человека пружины, сокровеннейшие его побуждения...».
Критик-переводчик справедливо указал на реалистическую тенденцию в творчестве Шекспира («все великолепные картины его непосредственно природе подражают»), на его умение рисовать характеры и находить для каждого характера особые краски, особый язык («каждая степень людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит у него собственным своим языком»). Не прошел Карамзин и мимо умения Шекспира, отмечавшегося позднее В. Г. Белинским, с одинаковой силой изображать добрых и злых людей, «сияние добродетели» и «жестокое волнование души», «героя и шута, умного и безумца».
Есть основания полагать, что при создании своего «Вадима» Княжнин опирался не только на «римские» трагедии Вольтера, вдохновленные гением Шекспира, но и на самого великого английского драматурга. Сказав об использовании Княжниным «римских» трагедий Вольтера, Д. Д. Благой делает очень важное добавление: «Но вместе с тем в рамках классицистической трагедии Княжнин сумел достигнуть почти шекспировской широты в самой постановке проблемы трагического»1. Эту почти шекспировскую широту можно видеть как в трактовке образов главных героев-антагонистов, напоминающих Брута и Юлия Цезаря из трагедии Шекспира2, так и в художественном осмыслении их столкновения.
У Шекспира Брут и его товарищи борются не с отдельным тираном, а с единодержавной властью, порождающей тиранию. У шекспировского Брута нет никаких личных пристрастий, никакого лицеприятия. Он пошел против друга, почуяв в нем тирана. Такая художественная трактовка образа Брута и всей
1 Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. — М.,— 1945. —С. 332.
2 Это сходство было подмечено А. Ф. Воейковым, который писал:
С какою силою начертан Княжниным Новогородский Брут и Цезарь величавый!
См.: Княжнин Я. Б. Избр. произв. — Л., 1961. — С. 734,
220
темы трагедии вполне согласуется со словами Плутарха, содержащимися в его повествовании о Бруте: «Цицерон, побуждаемый чувством ненависти к Антонию, перешел на сторону молодого Цезаря, за что и подвергся суровому осуждению со стороны Брута, утверждавшего в одном из своих писем, что Цицерон враждебен не тирании вообще, а боится тирана, его ненавидящего и, поддерживая идею гуманного рабства, устно и письменно повторяет, что «Цезарь добр». «Предки же наши,— говорил Брут, — не терпели и кротких тиранов»1.
В трагедии Княжнина Вадим и его сторонники, ненавидя «тиранию вообще», выступают против «кроткого тирана» Ру- рика, насаждающего «гуманное рабство». Можно предполагать, что художественная методология Княжнина, позволившая ему по-новому подойти к теме обличения тирании ш тем самым поднять русскую свободолюбивую драматургию на более высокую ступень, сложилась под воздействием Шекспира.
В главном монологе шекспировского Брута (действие второе, сцена первая) содержатся мысли, весьма сходные с высказываниями княжнинского Вадима и его соратников. В монологе глубоко раскрывается связь процесса возникновения зла, творимого честолюбцем, с возможностями, предоставляемыми для этого ничем не ограничиваемой личной властью. «Короновать его — ему дать жало, чтоб зло по прихоти он причинял», — говорит Брут о Цезаре, который «ждет короны». Ср. у Княжнина: «Какой герой в венце с пути не совратился?» Брут «не замечал, Чтоб в Цезаре его пристрастья были сильнее разума». Но он убежден, «что, как и все», «возвеличась», Цезарь «впадет» «в такие ж крайности». Ср. у Княжнина о Рурике: «Великодушен днесь он, кроток, справедлив, но укрепя свой трон... законы после все и нас попрет ногами».
Умение Княжнина увидеть связь зарождающегося зла с определенными общественными институтами, было шагом вперед для драматурга, воспитавшегося в духе классицизма. Объективно оно подрывало позиции просвещенного абсолютизма, наиболее талантливым поборником которого выступил в своих трагедиях Сумароков.
Слова шекспировского Брута «я не замечал, чтоб в Цезаре его пристрастья были сильнее разума» точно обозначают тот рубеж, где кончается «сфера деятельности» трагедии сумаро- ковской и начинаются «владения» трагедии шекспировско-княж- нинской. Любовные по преимуществу коллизии сумароковской трагедии развертываются в той обширной, по мнению автора «Димитрия Самозванца», области, где «гремит монарша страсть», превращающая строгую власть «в тиранство».
Если тиран перестает тиранствовать, подчиняя свою страсть разуму, или побеждается другим лицом, изначально руководствующимся велениями разума и долга, то исчезает и почва
1 Плутарх. Избранные биографии. — М.; Л., 1941. — С. 303.
221
для трагического конфликта. Не так обстоит дело в трагедии Княжнина, где превращение в тирана зависит не от личных качеств героя, а от характера самой единодержавной власти, носителем которой он является. Эта власть превращает в тирана и вполне добродетельного человека. Если в прежних трагедиях тирану противопоставлялся идеальный монарх, то в трагедии Княжнина идеальный республиканец противостоит идеальному монарху, замещающему в этом более глуботам конфликте царя- тирана в качестве тирана потенциального.
Конфликт перестает быть чисто психологическим. Из области отвлеченных страстей он перемещается в сферу общественно-историческую, в сферу борьбы идей. Важно отметить, что плодотворному развитию русской трагедии в этом направлении способствовало знакомство наших драматургов с творческими достижениями Шекспира.
Время создания Княжниным его трагедии о Вадиме отмечено усилением интереса передовой общественности России к творчеству Шекспира, воспринимаемому через переводы его произведений, а также в вольтеровском преломлении. Характерно, что в том же 1787 году, когда появился карамзинский перевод «Юлия Цезаря», был напечатан в Петербурге анонимный прозаический перевод трагедии Шекспира «Ричард III», оказавшей сильное влияние на Сумарокова. Тогда же была переиздана (Н. И. Новиковым) «Смерть Цезаря» Вольтера.
После французской революции трагедии «Смерть Цезаря» и «Юлий Цезарь» были запрещены. О первой из них московский главнокомандующий А. А. Прозоровский писал, что она «весьма недостойна существовать». Обе трагедии предписывалось «отложить в число вредных книг». Гонению подверглась и пьеса Княжнина, отразившая бурную эпоху, отмеченную событиями исключительной важности. Из этих событий наибольшее значение имели восстание под предводительством Емельяна Пугачева и общественная борьба, завершением которой явилась вскоре Французская революция.
Трагедия «Вадим Новгородский» была закончена в начале 1789 года. Намечалась ее постановка на сцене. В роли Вадима должен был выступать известный актер и писатель П. А. Плавильщиков, роль Рурика поручалась актеру Я. Е. Шушерину. Однако в связи с начавшейся Французской революцией Княжнин отказался от постановки пьесы. Трагедия была напечатана после смерти ее автора в 1793 году. Екатерина II отнеслась к трагедии, напомнившей ей книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», в высшей степени отрицательно. По ее именному секретному указу и решению сената трагедия была публично сожжена. Уцелевшие экземпляры жадно прочитывались и усердно переписывались1.
1 О судьбе трагедии см. в кн.: Княжнин Я. Б. Избр. произв. — Л., 1961. —С. 729—733.
Вместо «Вадима Новгородского» была поставлена на петербургской сцене в 1791 году трагедия П. А. Плавильщикова «Всеслав», позднее опубликованная в его сочинениях под названием «Рюрик». Сохранив в основном сюжетную схему княж- нипского «Вадима Новгородского», Плавильщиков переосмыслил его концепцию. Как и Екатерина II, он изобразил Вадима честолюбцем и заставил его капитулировать перед Рюриком. Республиканская идея в трагедии Плавильщикова не прозвучала1.
Судьба трагедии «Вадим Новгородский» является в известном смысле символичной. Она показывает, какие тяжкие испытания ждали прогрессивно настроенных авторов, бравшихся за разработку в драматической форме «взрывоопасной» исторической тематики. Проявляя гражданское мужество, они внесли своими произведениями значительный вклад в нравственно-эстетическое развитие общества, в поступательное движение литературы.
1 Подробней о трагедии П. А. Плавильщикова «Рюрик» см. в кн.: К у- л а ко в а Л. И. П. А. Плавильщиков. — М.; Л., 1952.— С. 60—63.
Оглавление
От автора , “ ‘ : 3
Последняя четверть XVII«— первая половина XVIII века . . . . % 5
Условия и предпосылки возникновения драматургии и появления
исторических пьес в русской литературе —
Основные идеи, темы, конфликты, образы 16
Использование источников. Вопрос об исторической верности . , 30
Поэтика. Специфические компоненты и персонажи. Жанровые особенности 36
Вторая половина XVIII века 77
От барокко к классицизму. Трагедии В, К. Тредиаковского
и М. В. Ломоносова —
Трагедии А. П. Сумарокова 112
От классицизма к сентиментализму. Трагедии М. М. Хераскова,
Ф. Я. Козельского, А. А. Ржевского, В. И. Майкова, Н. П. Николеза 142 Трагедии Я, Б. Княжнина . . . ............ 202
Учебное издание
Бочкарев Виктор Алексеевич
РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ XVII—XVIII ВЕКОВ
Зав. редакцией В. П. Журавлев Редактор Т. П. Казымова Младший редактор Е. Е. Ивасюк Художественный редактор Н. М. Ременникова Технический редактор Т. В. Семенова Корректор И. Н. Панкова
ИБ № 11095
Сдано в набор 19.05.87. Подписано к печати 06.01.88. А05673. Формат 60x90!/ie. Бум. кн.-журн. отеч. Гарнит. литерат. Печать высокая. Уел. печ. л. 14+0,25 форз. Уел. кр.*отт. 14,5. Уч.-изд. л. 15,36+0,42 форз. Тираж 32 000 экз. Заказ 4708. Цена 85 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Облаетная типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Ивановского облисполкома, 153628, г. Иваново, ул. Типографская, 6,